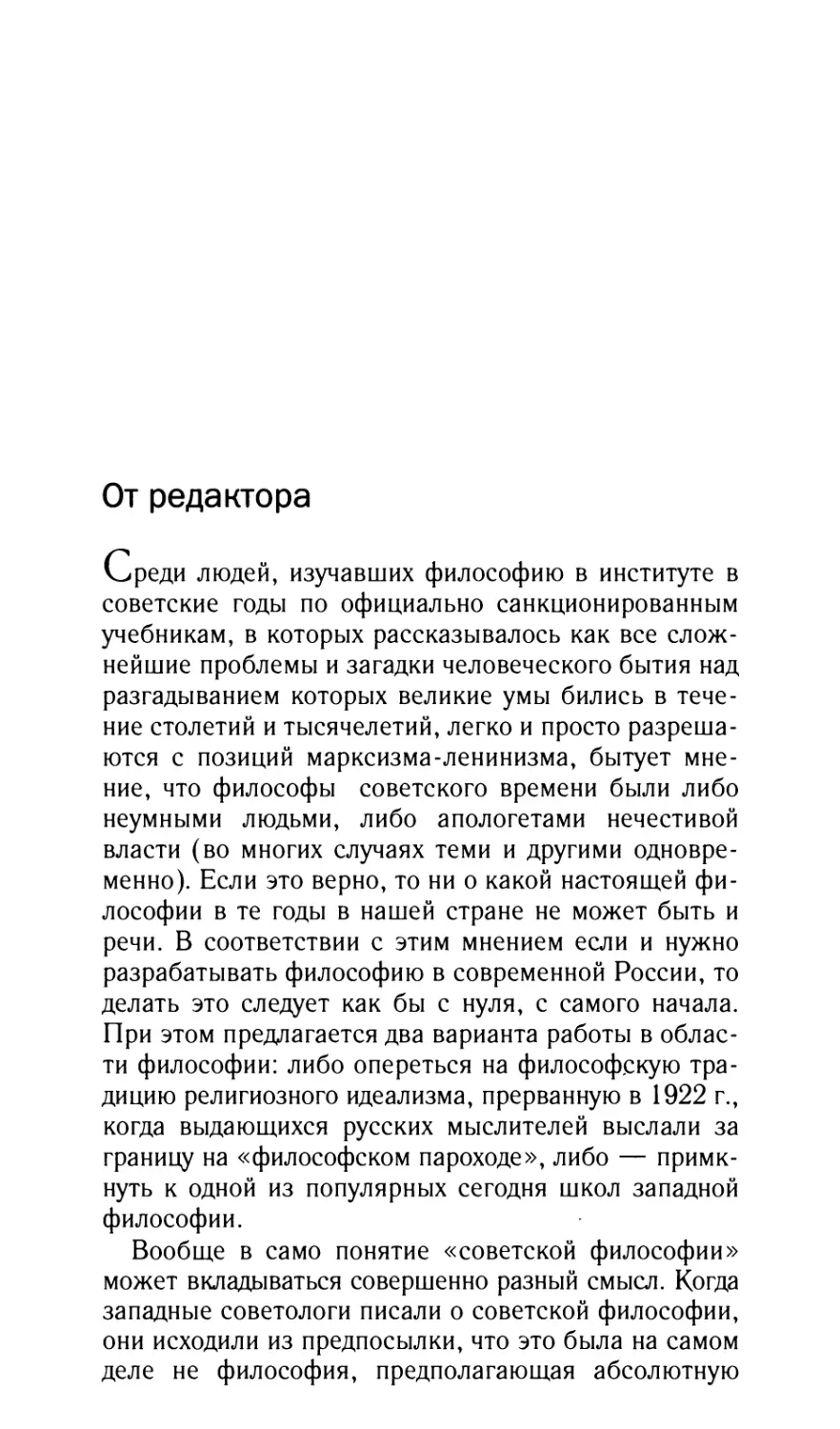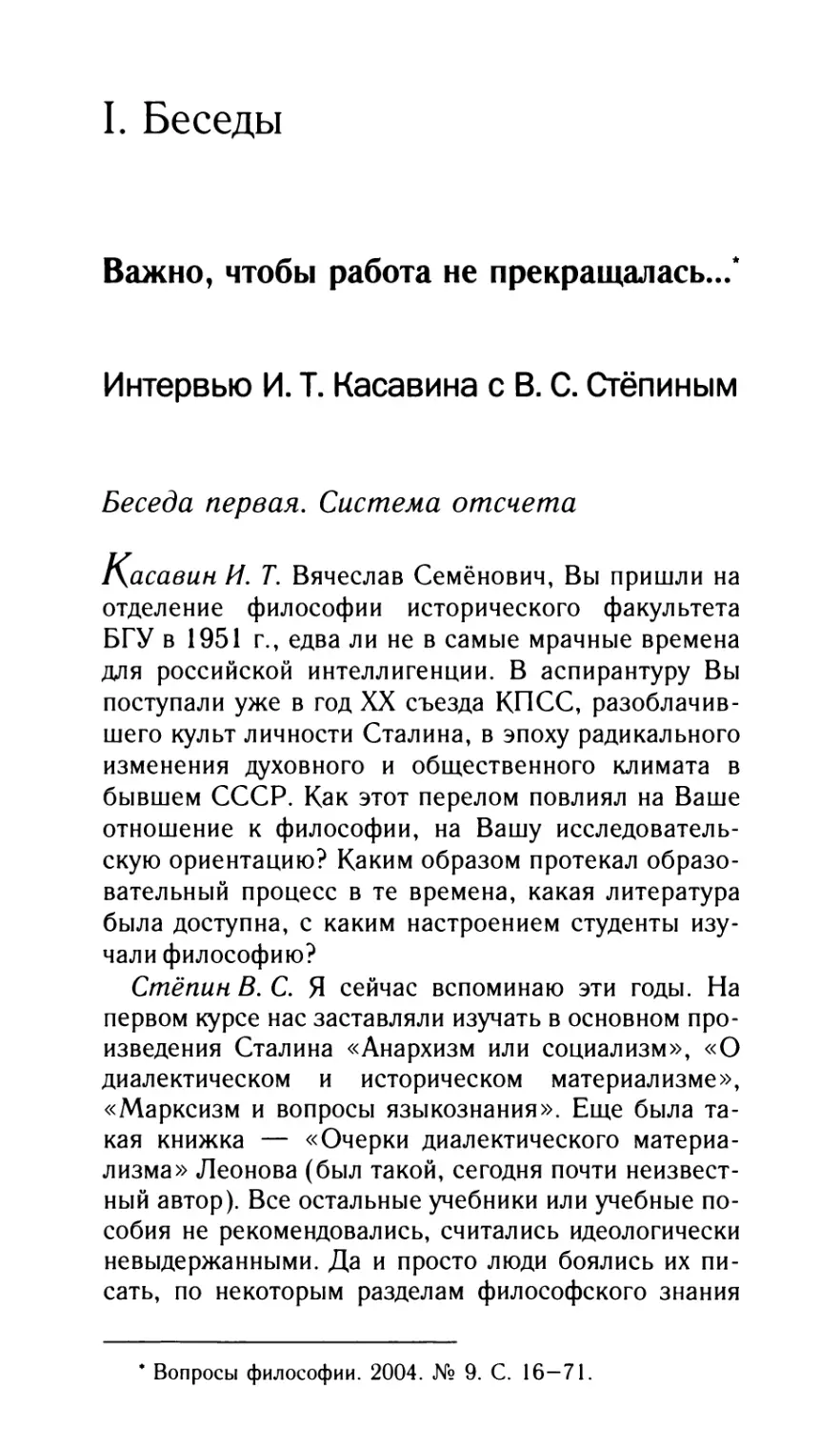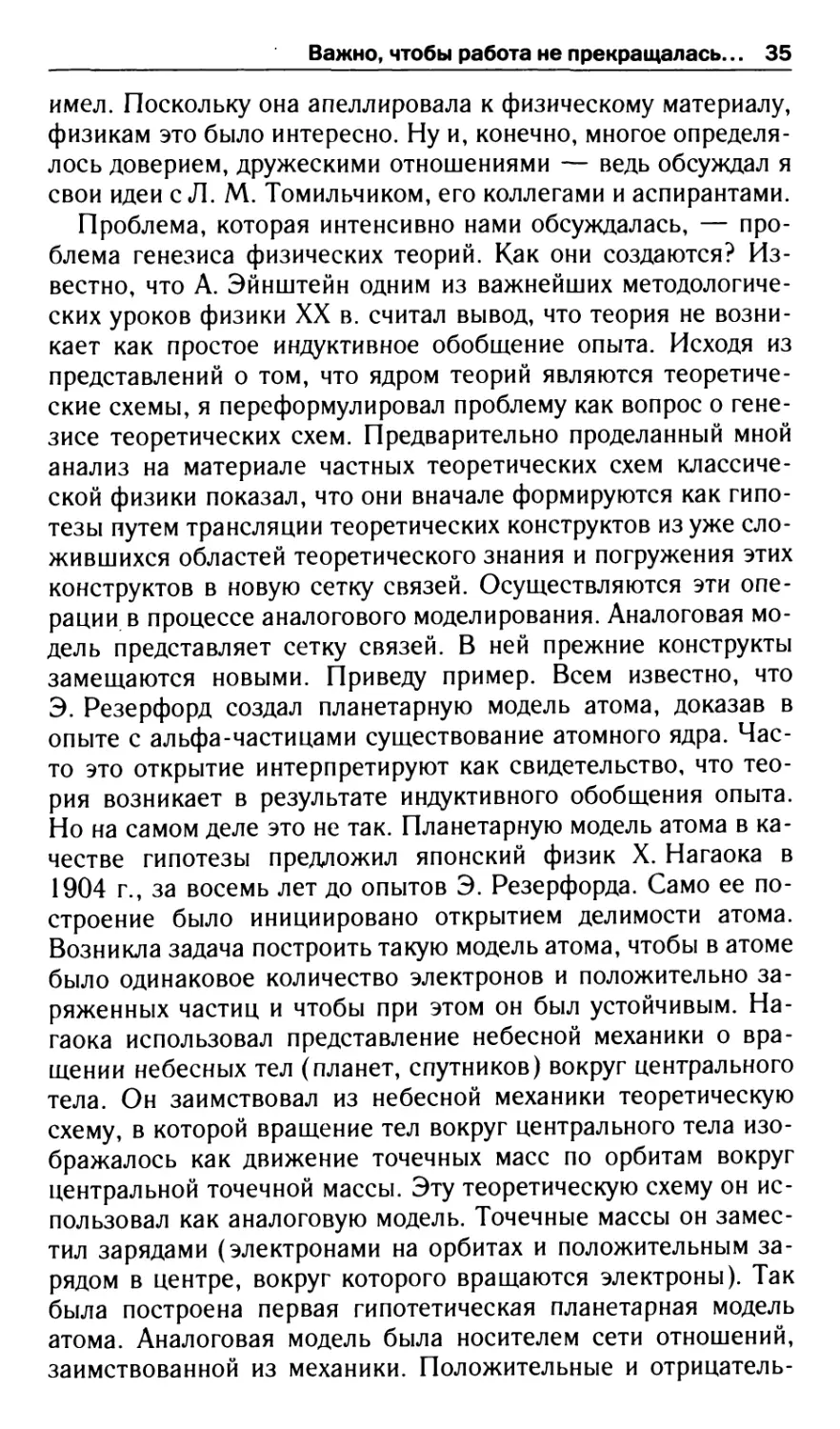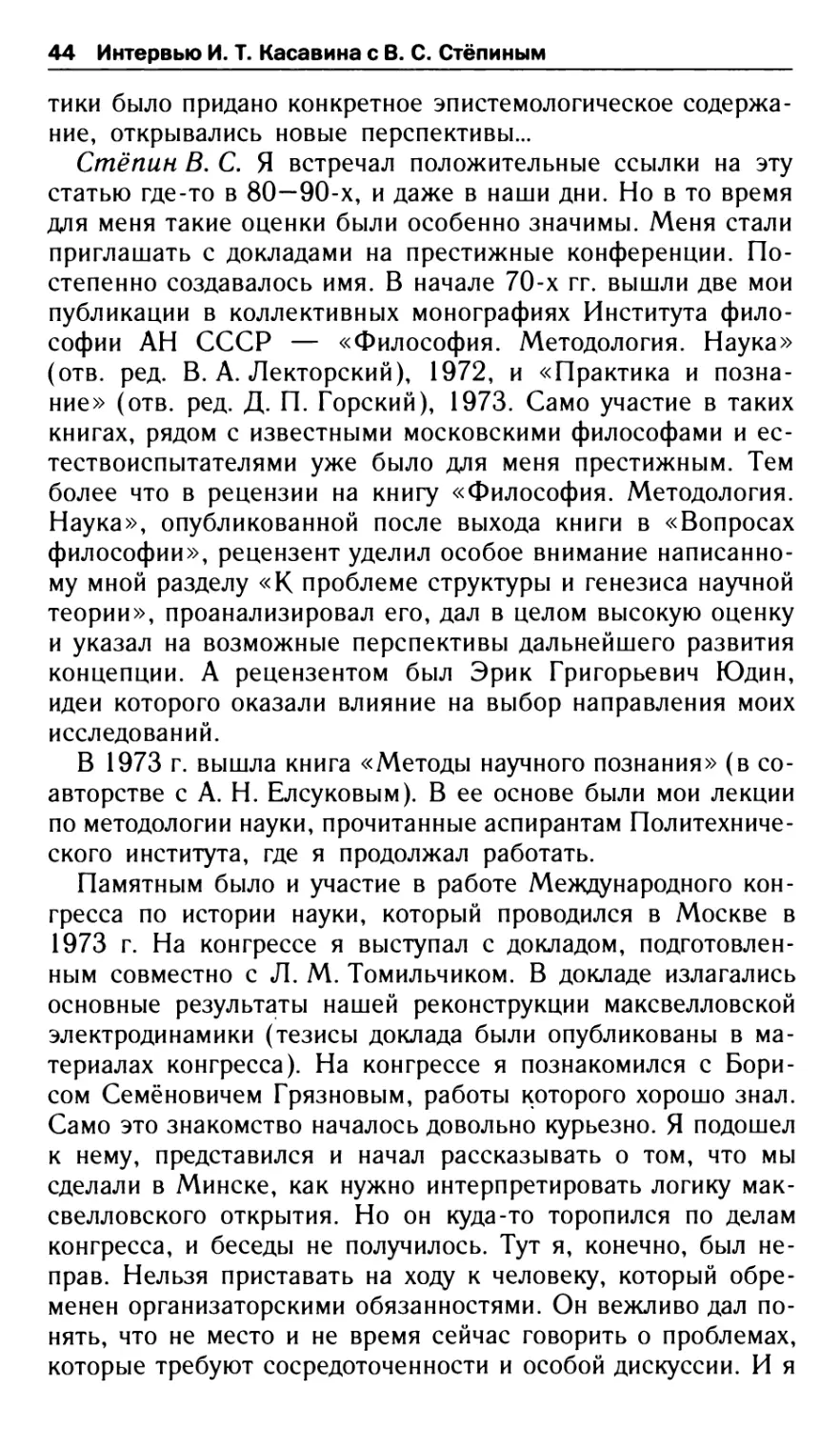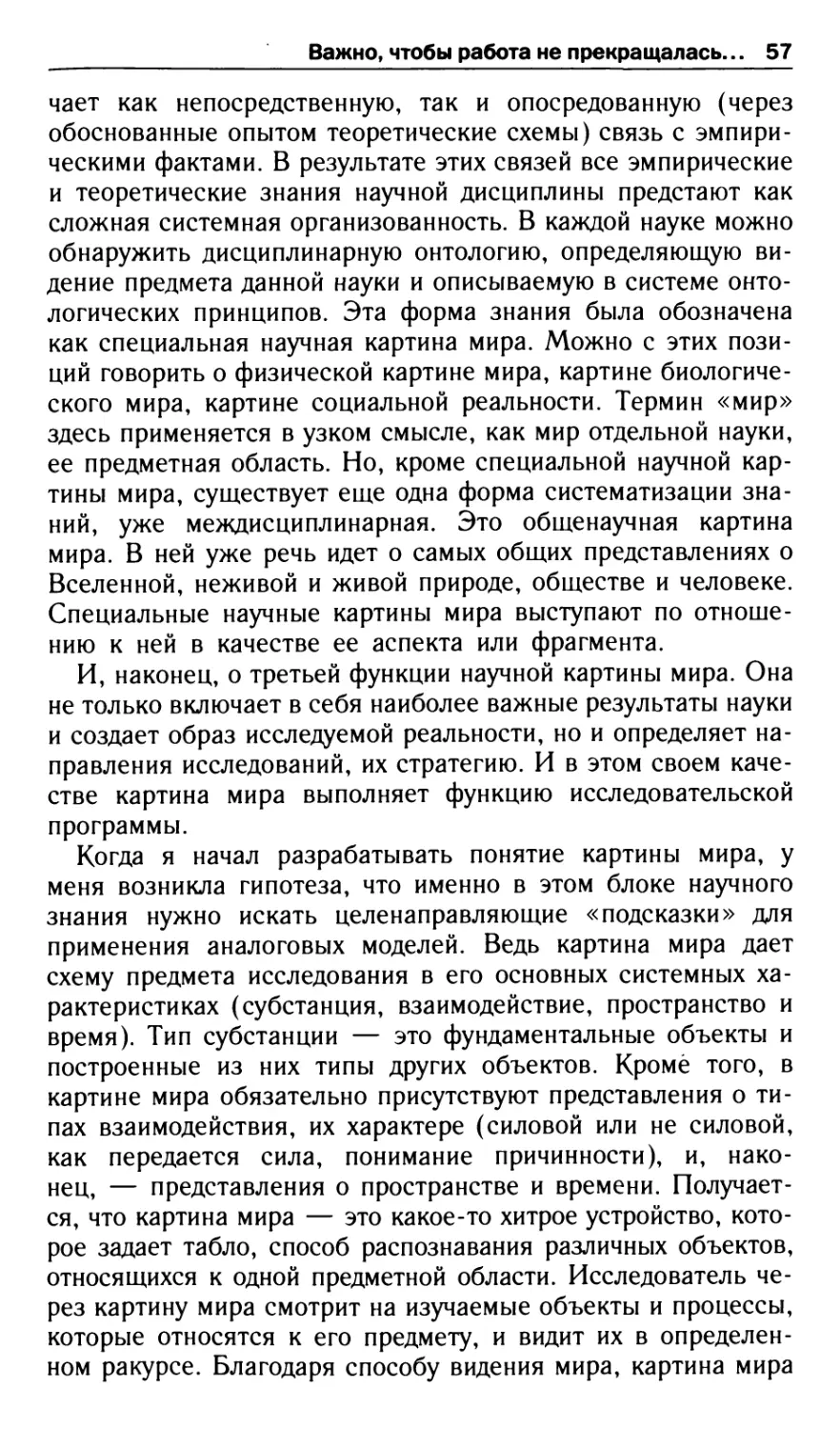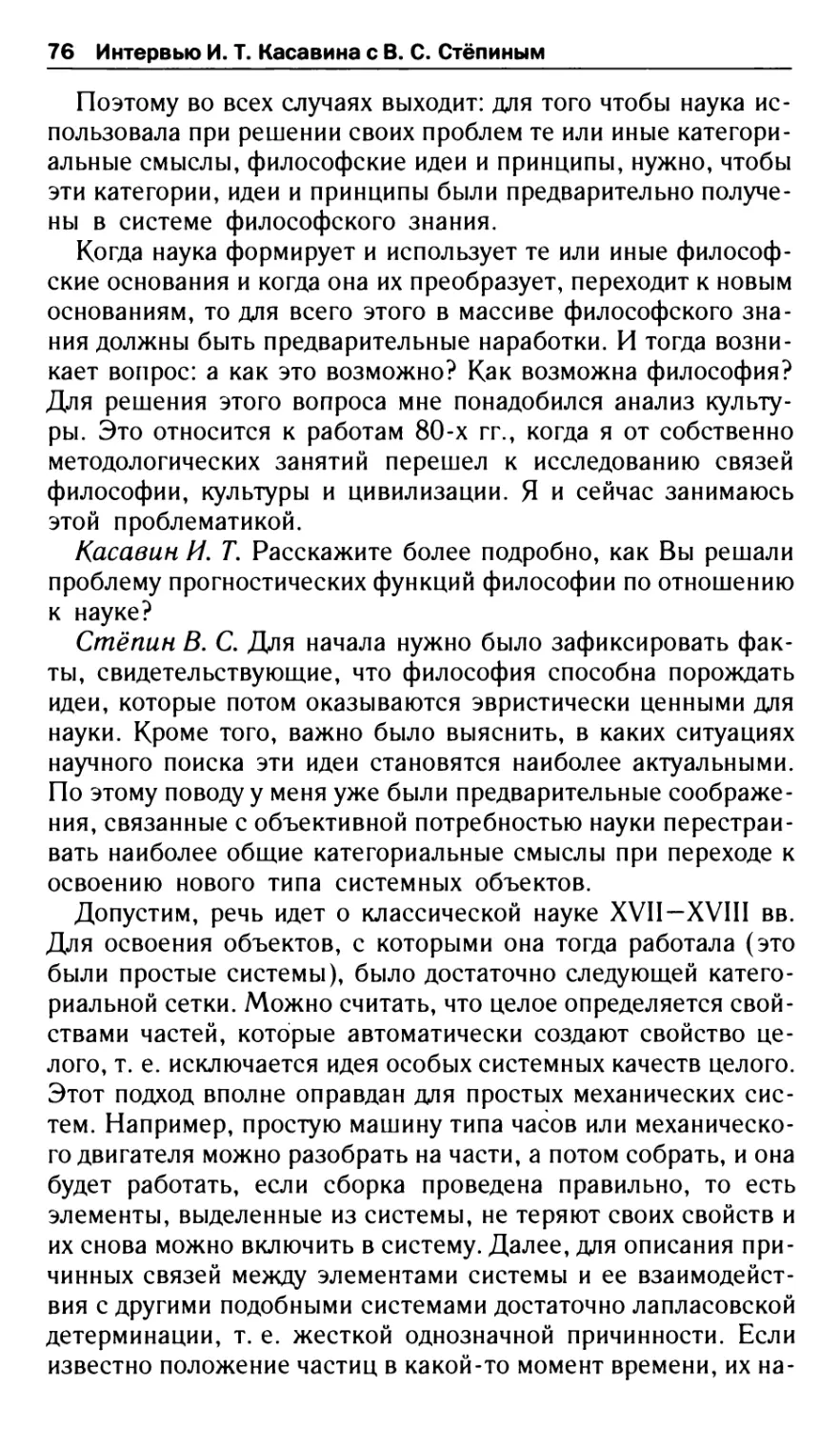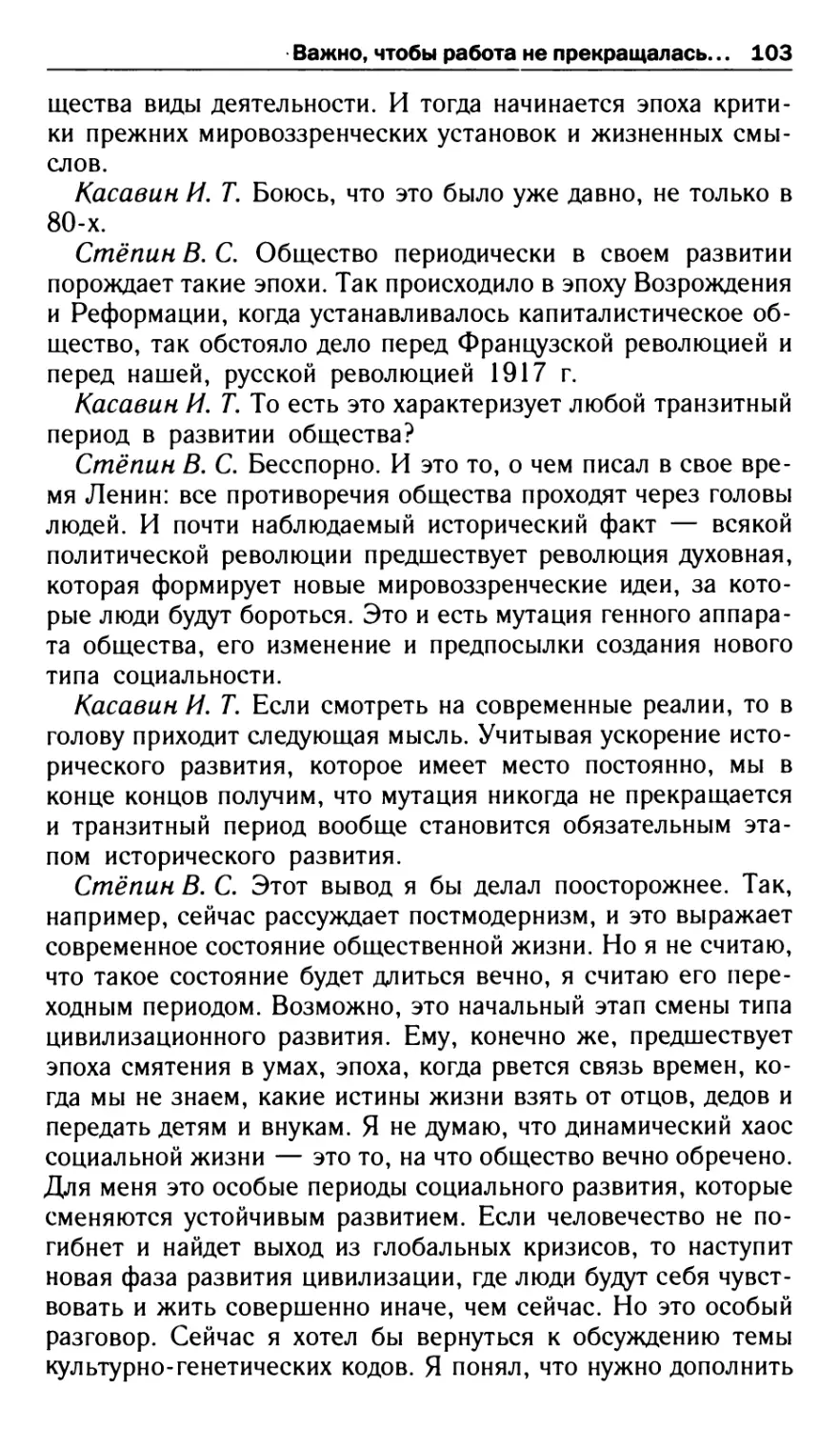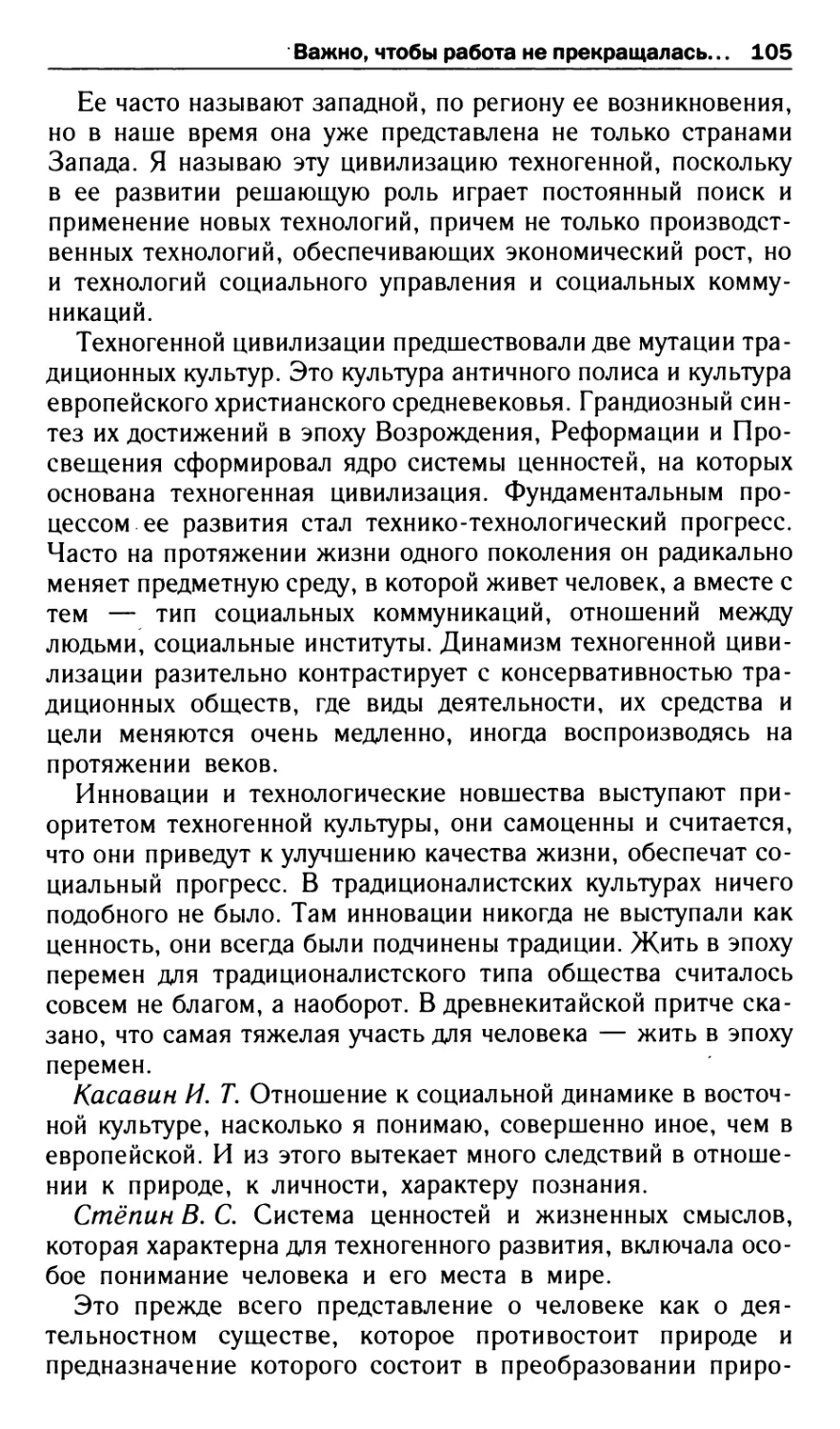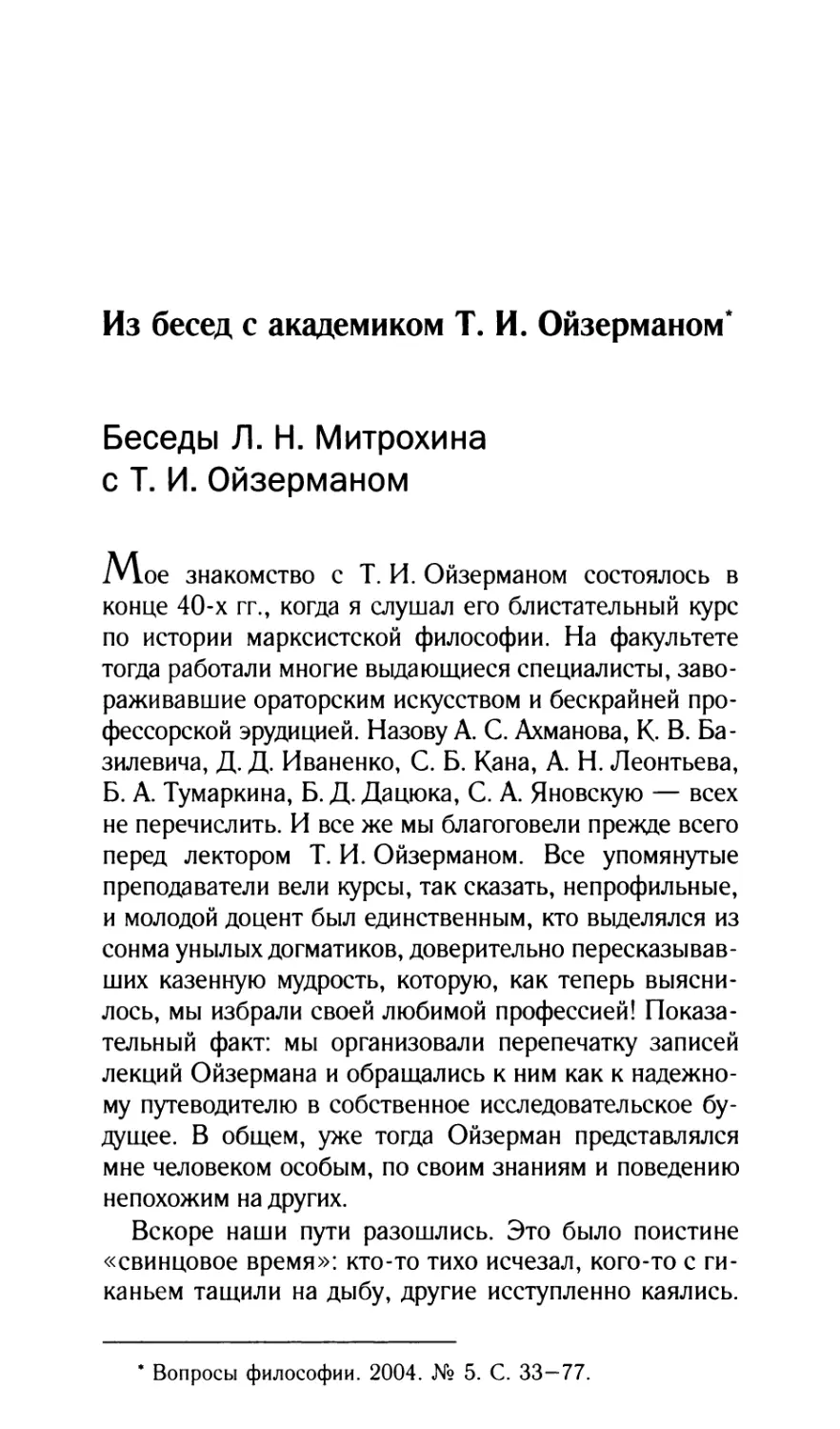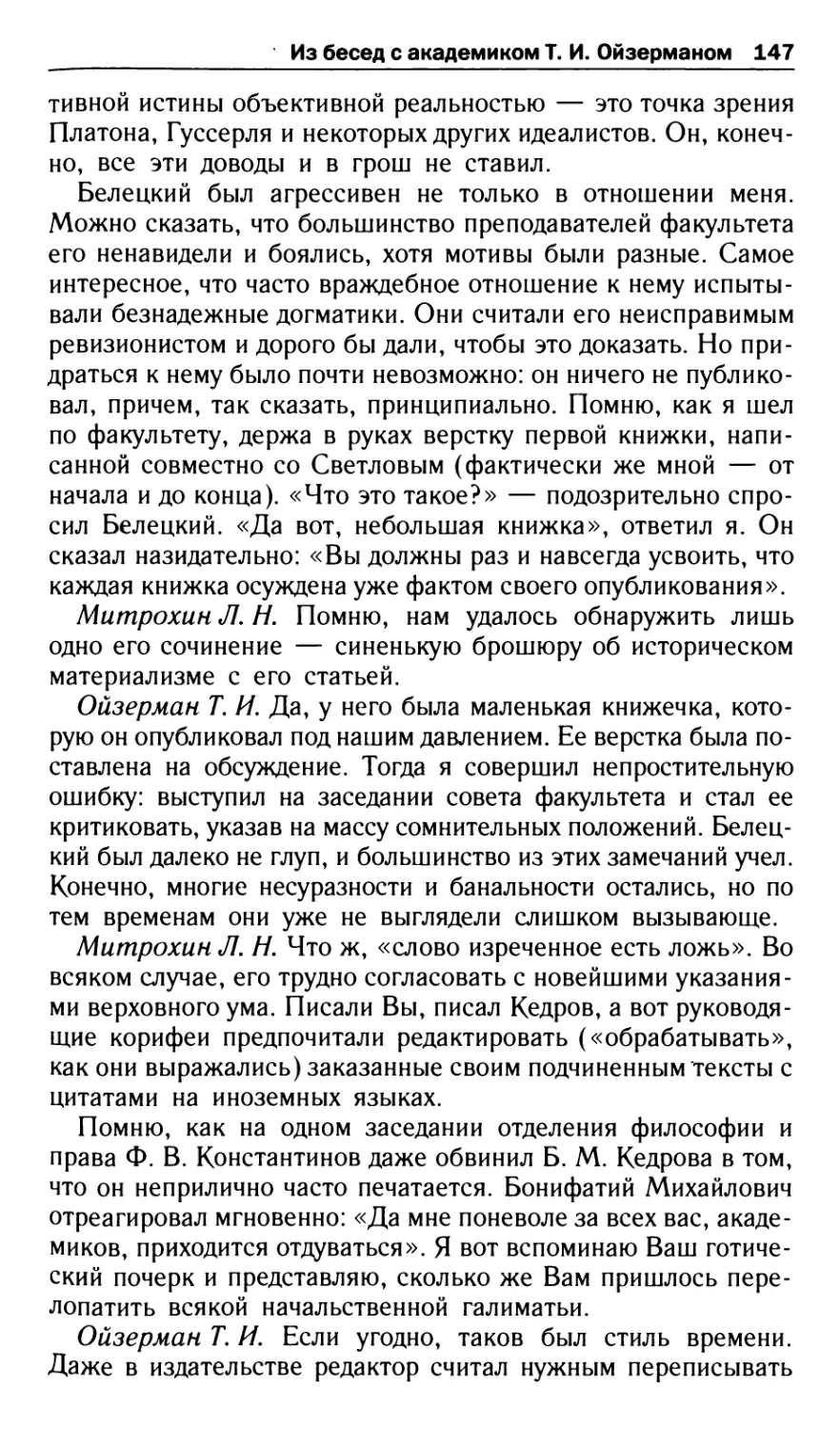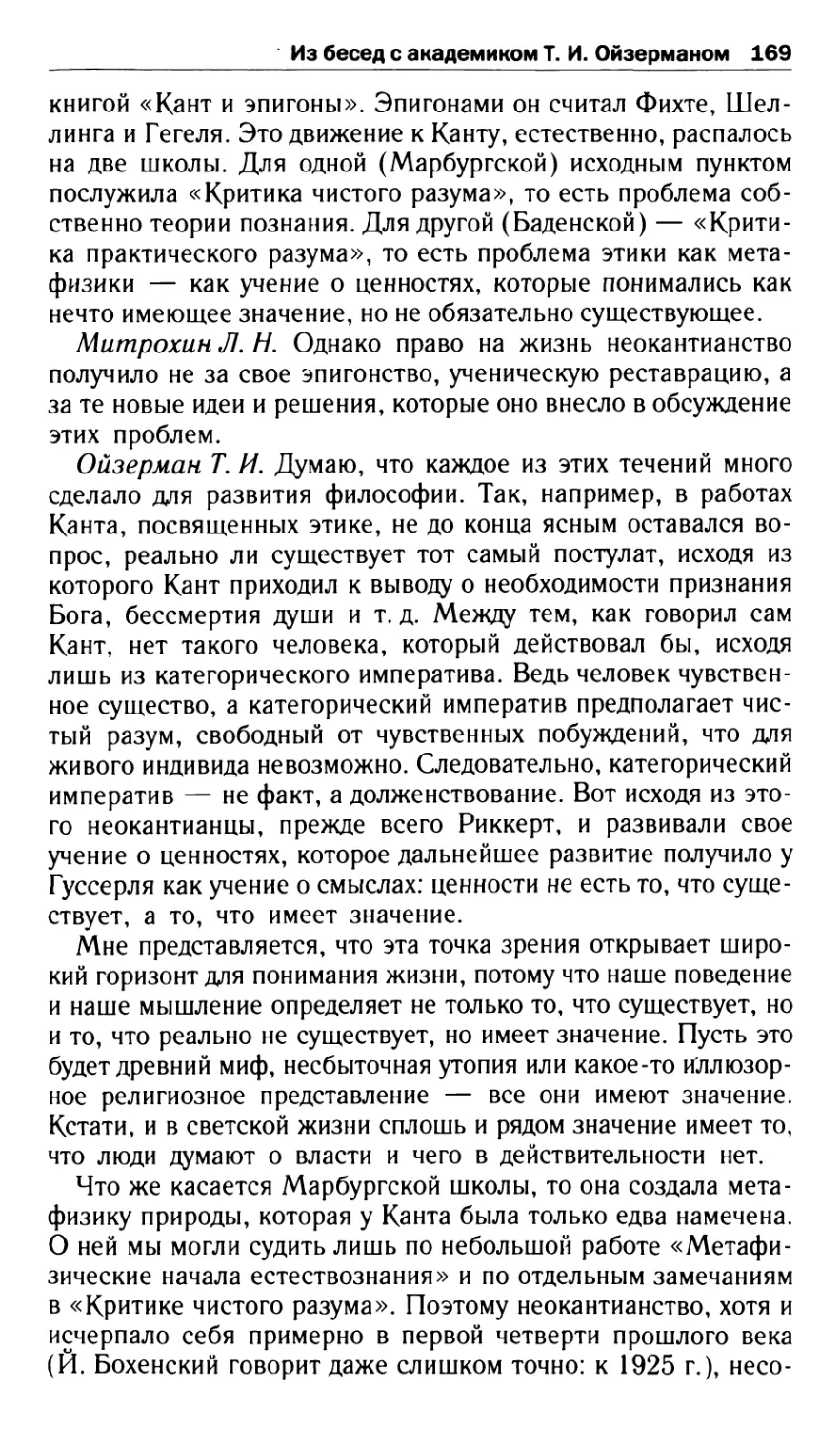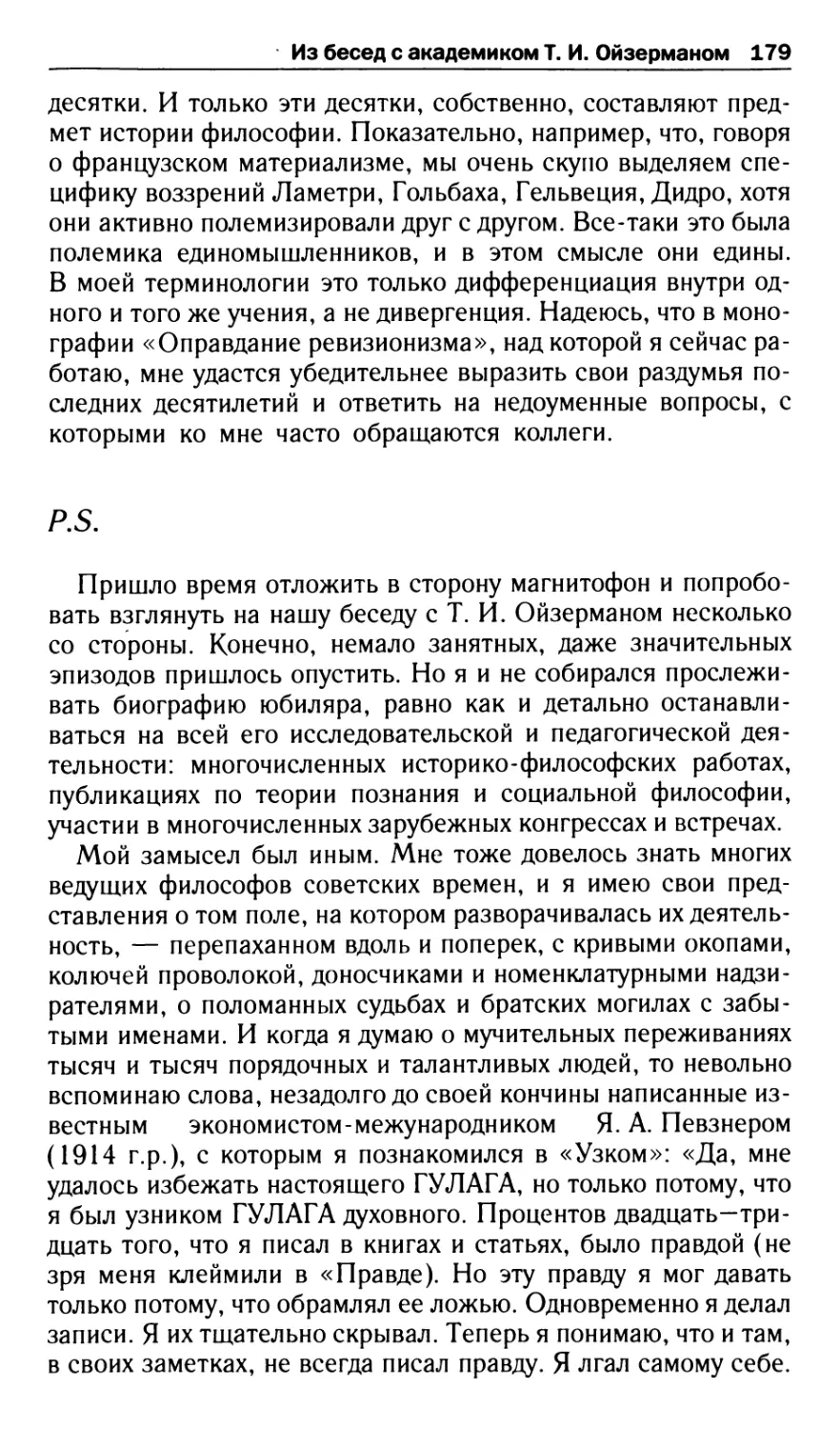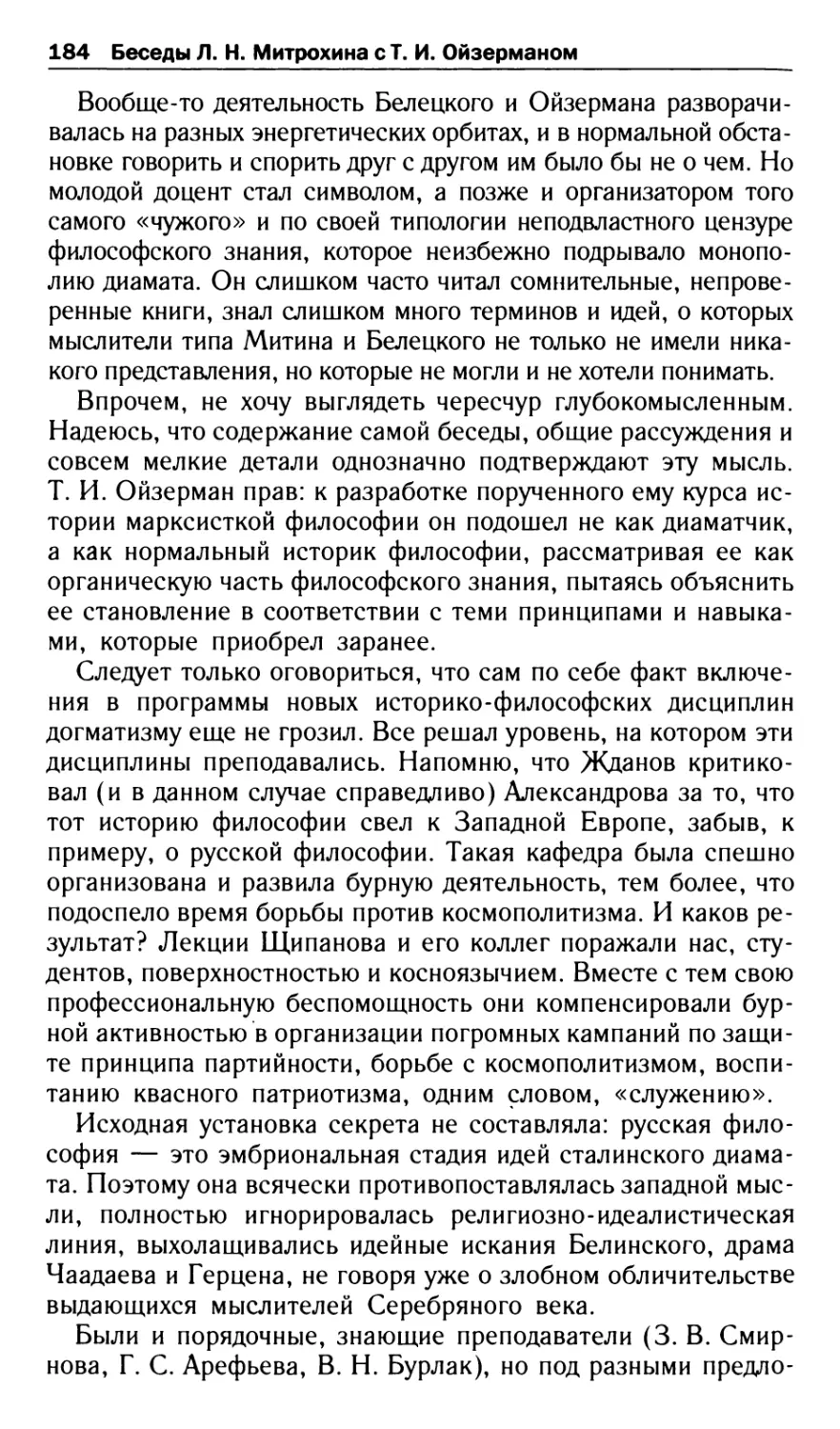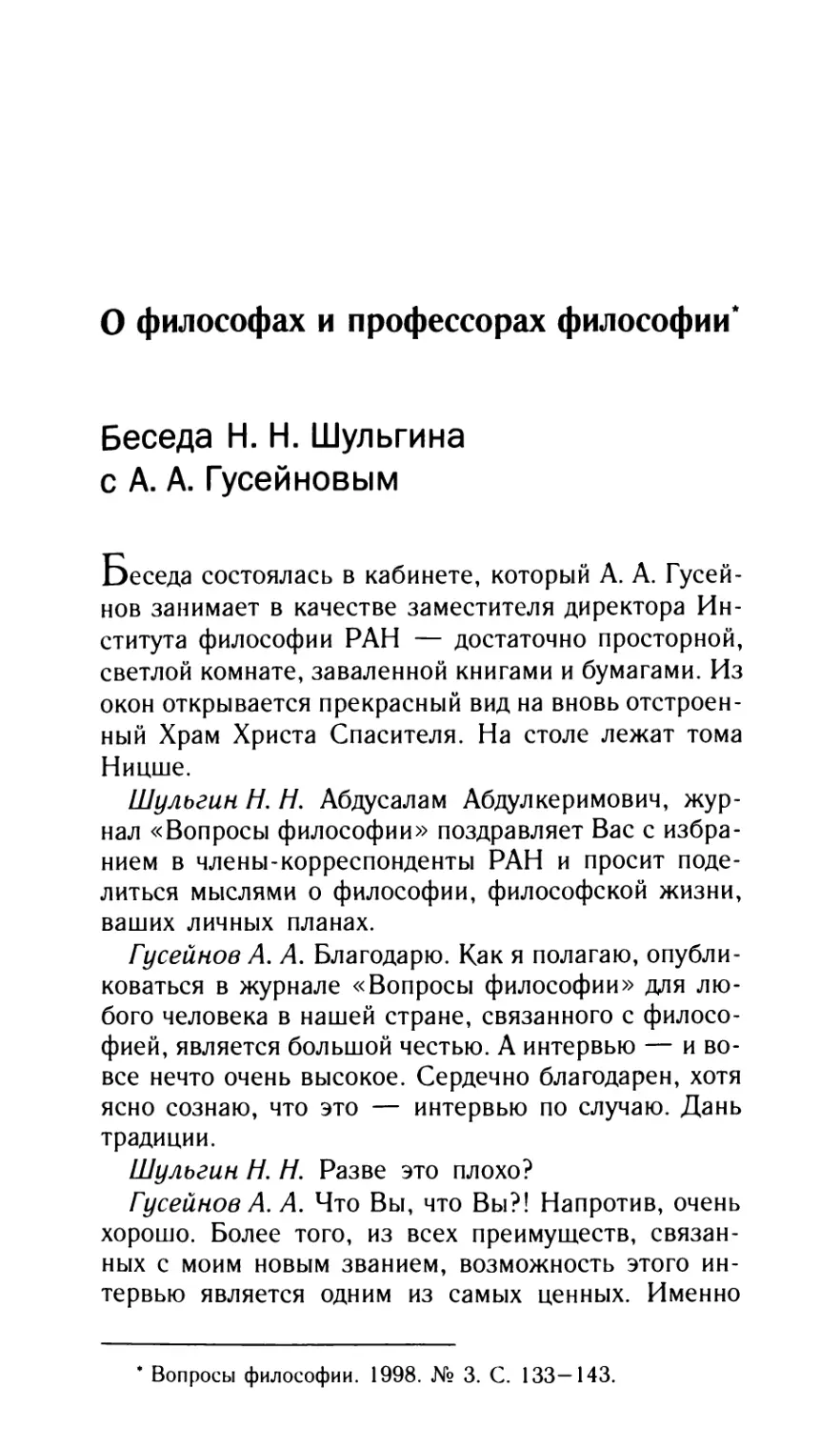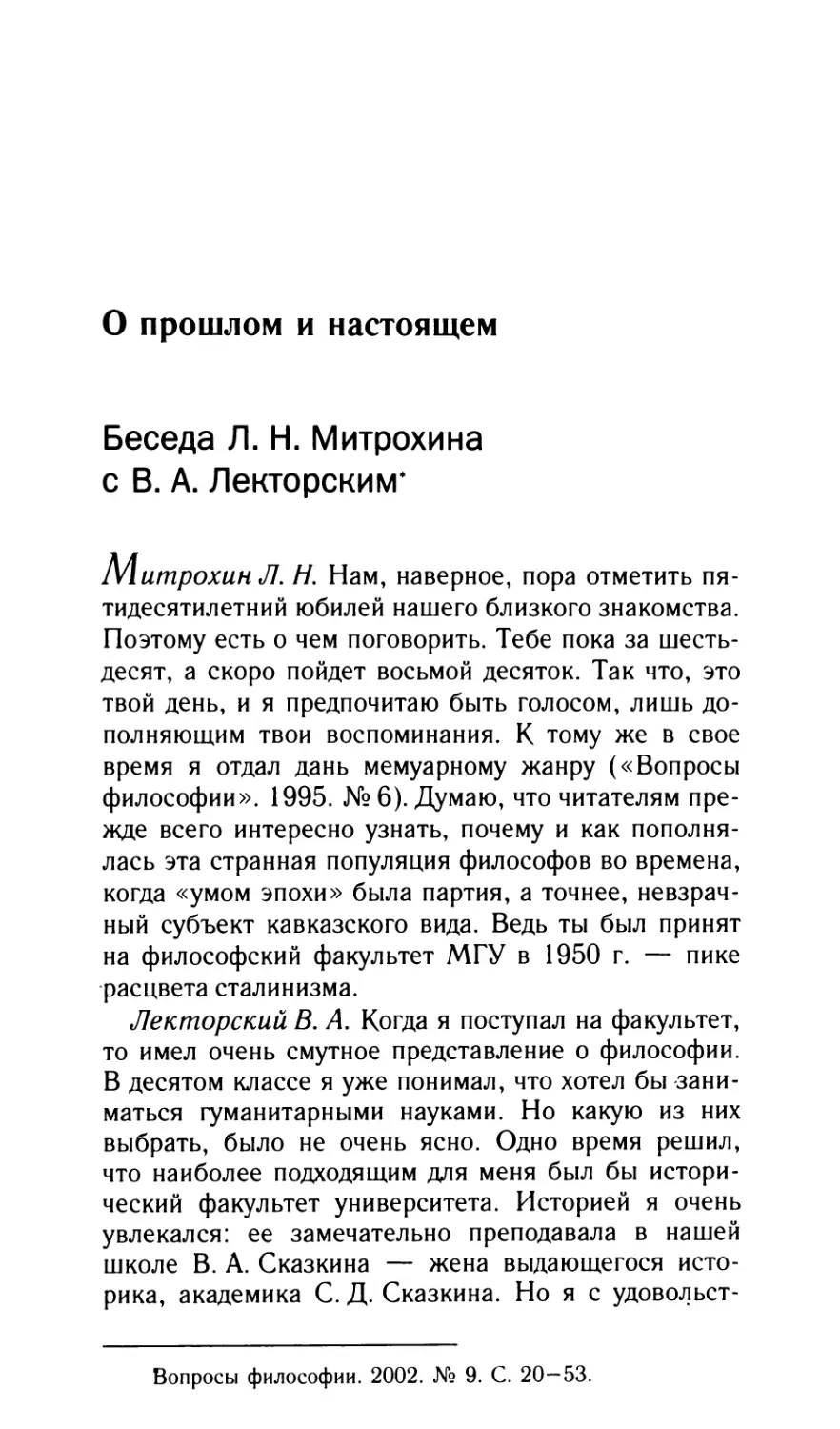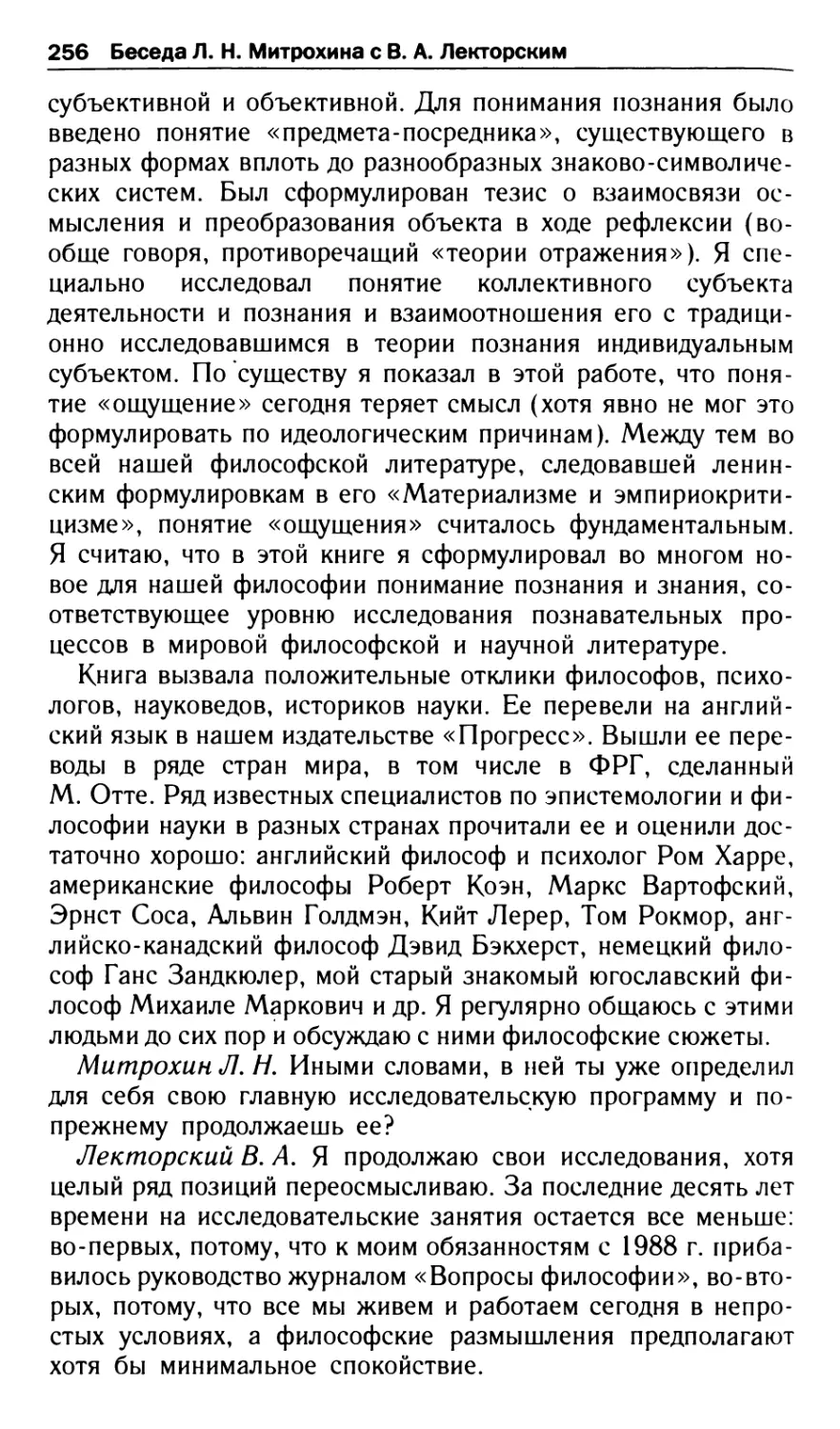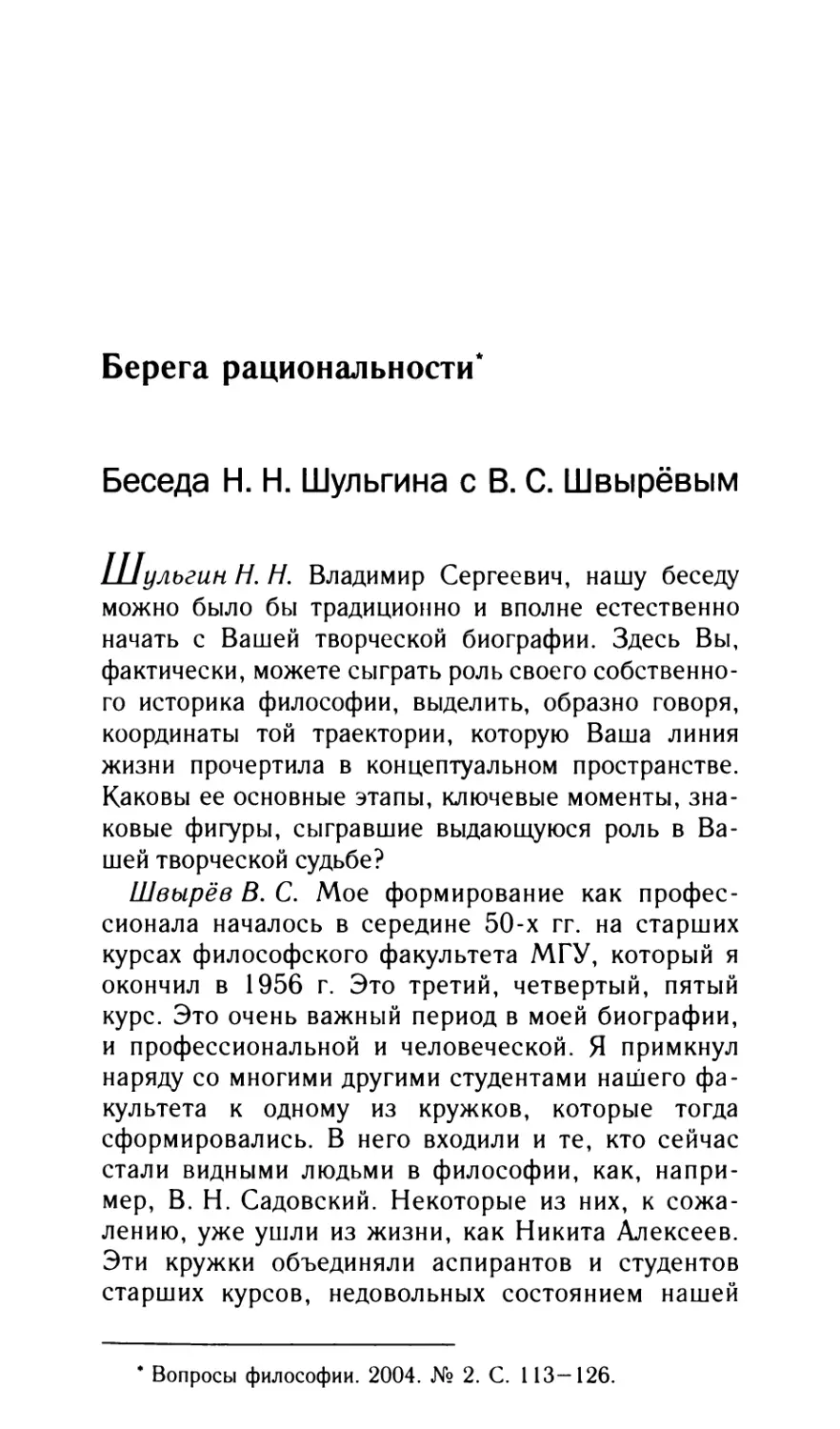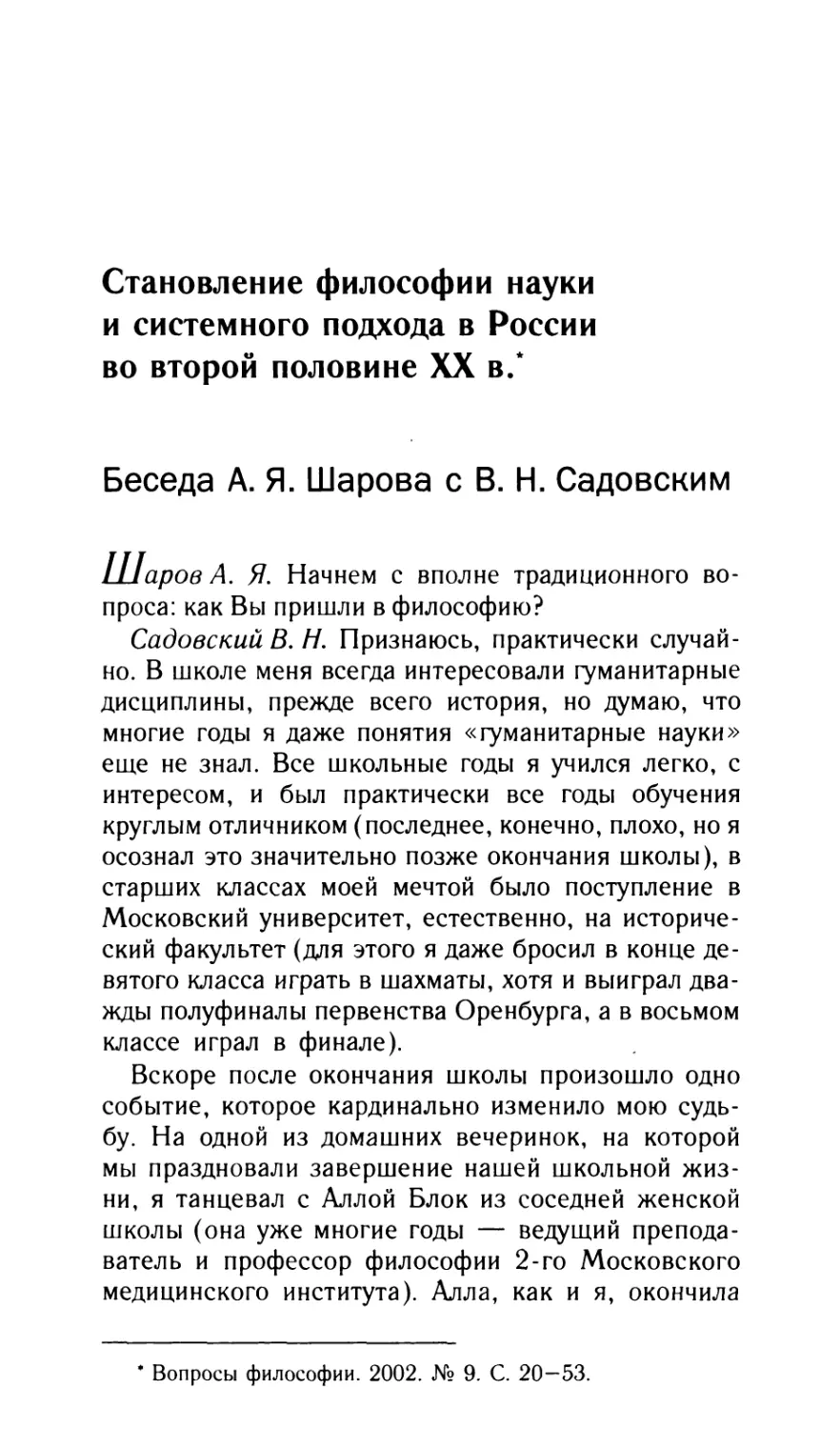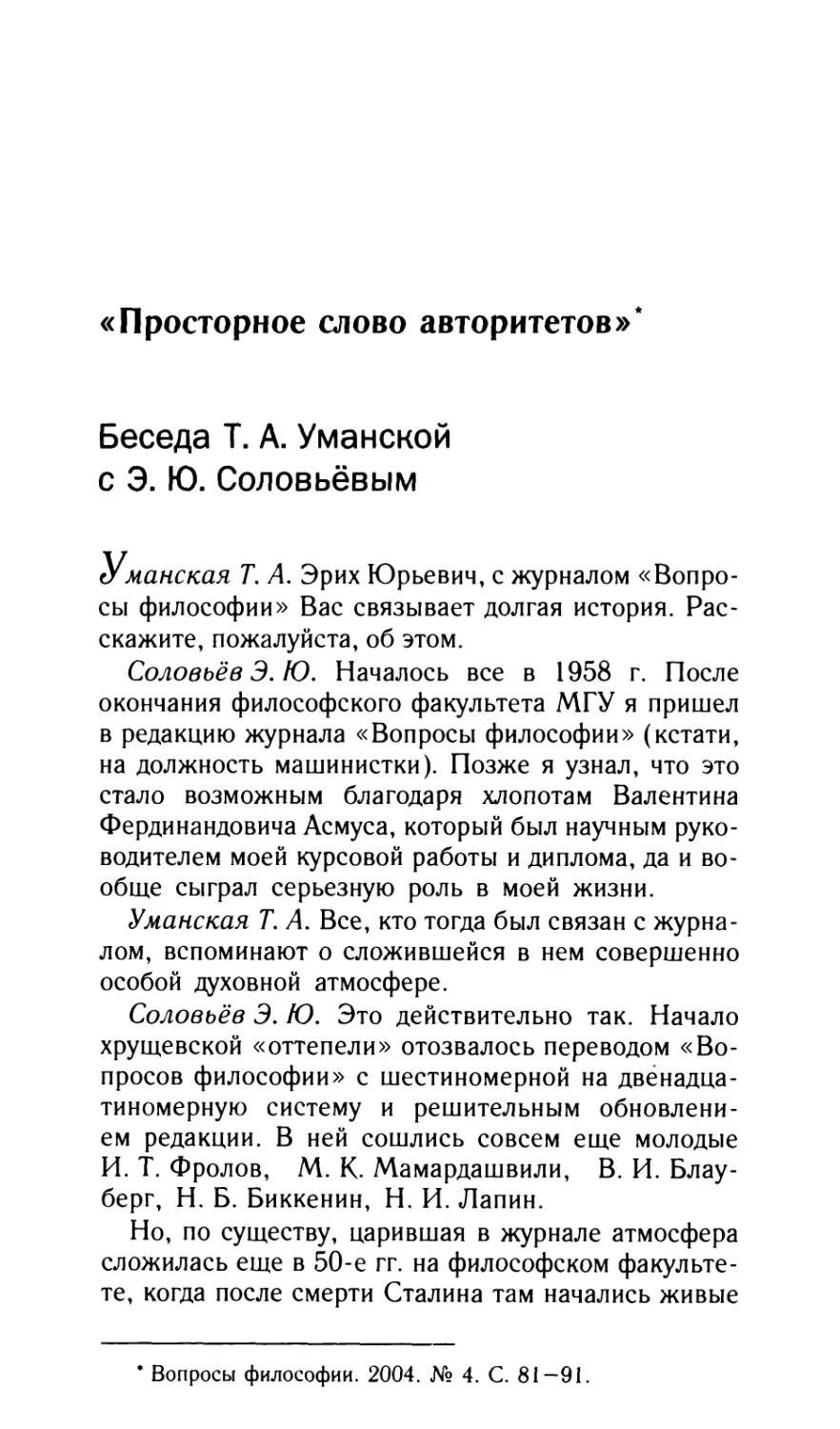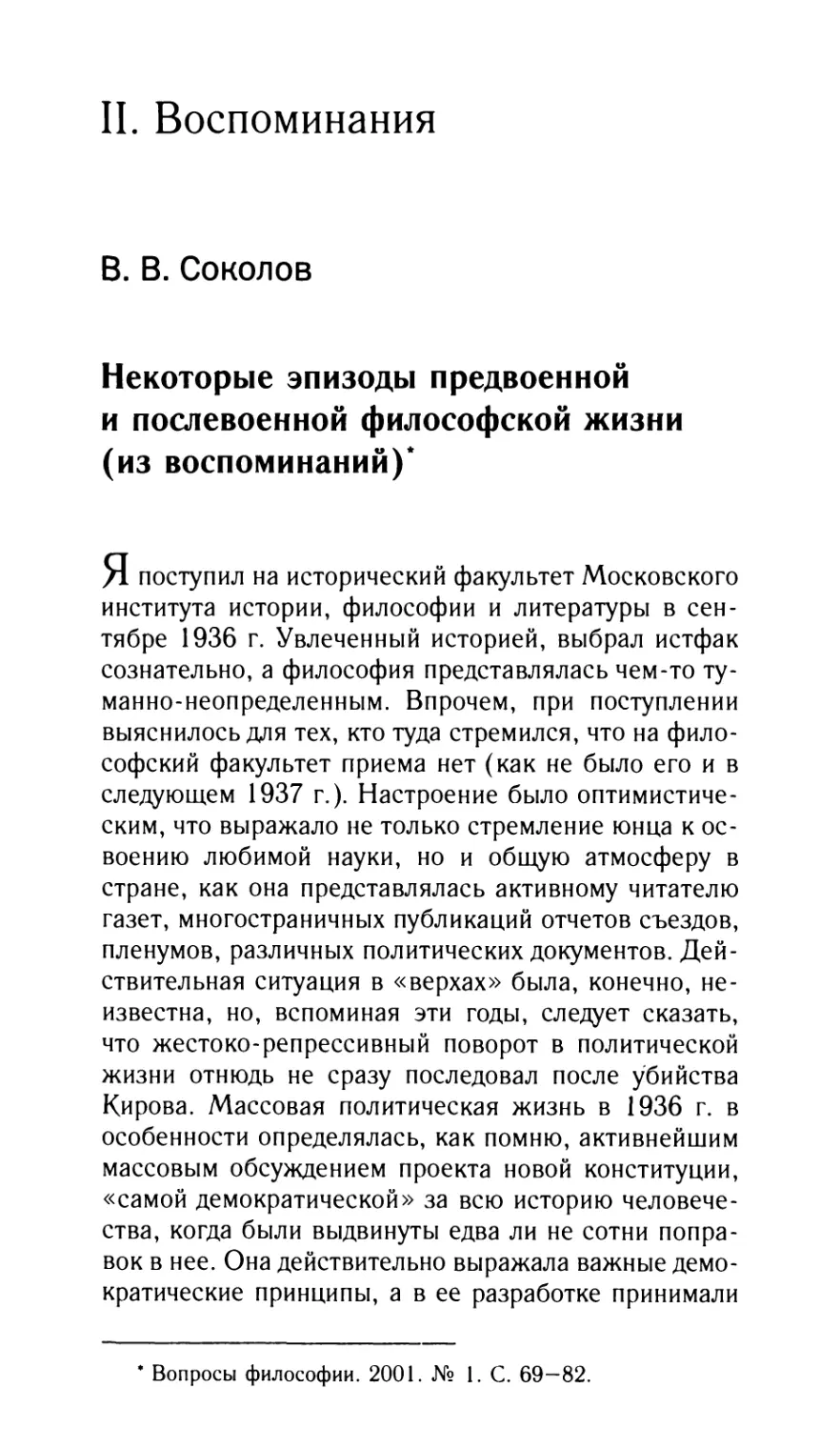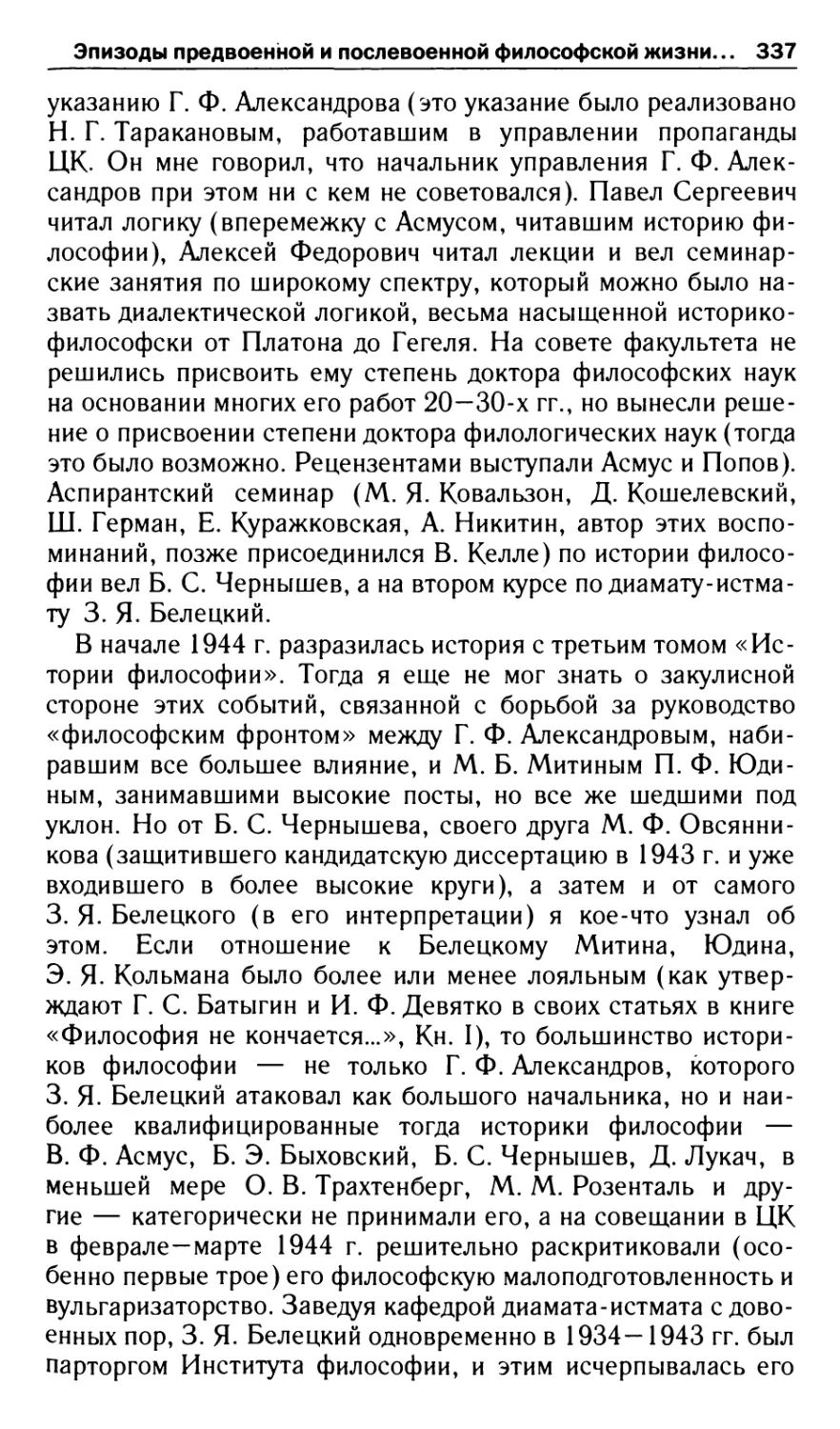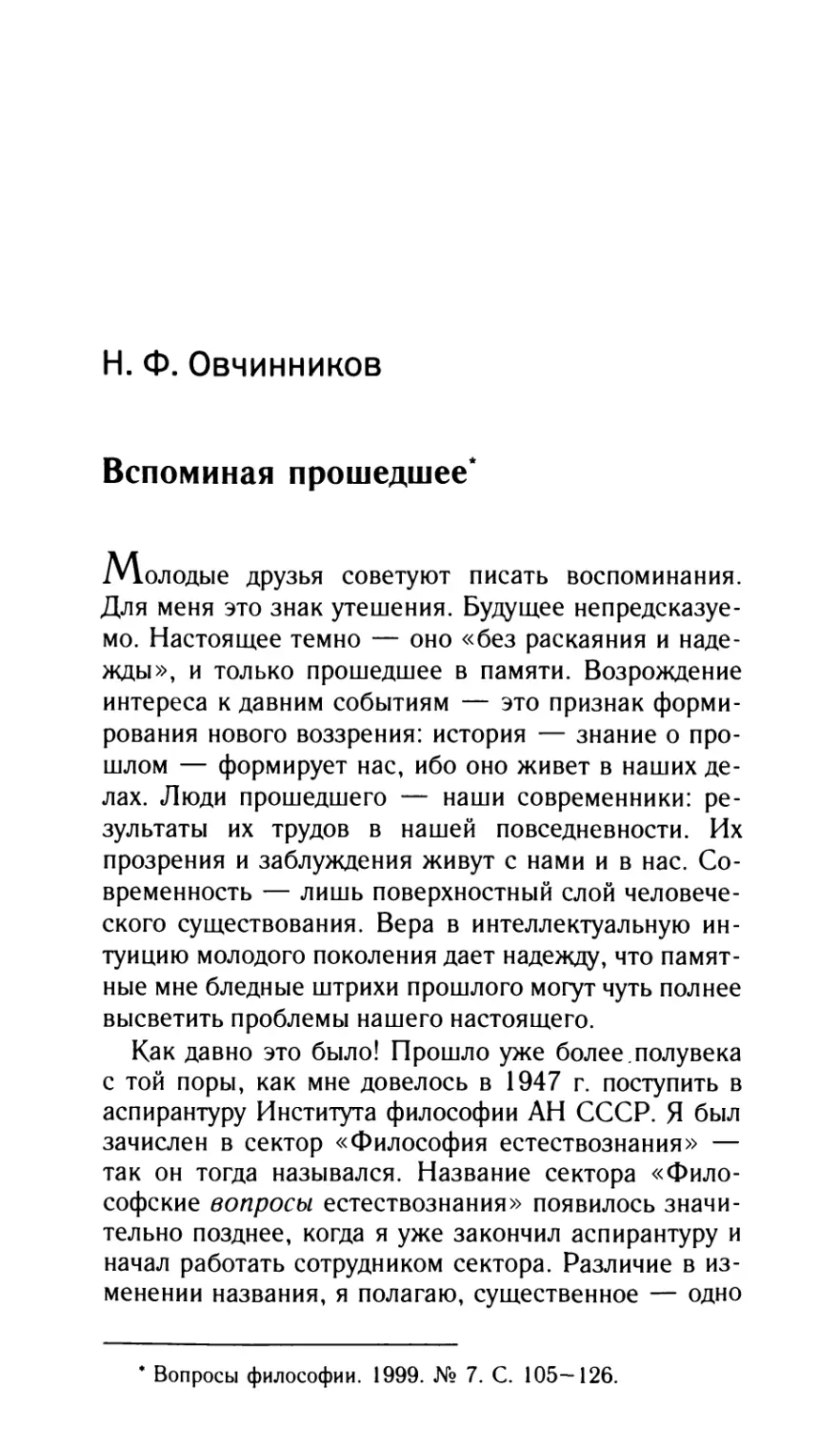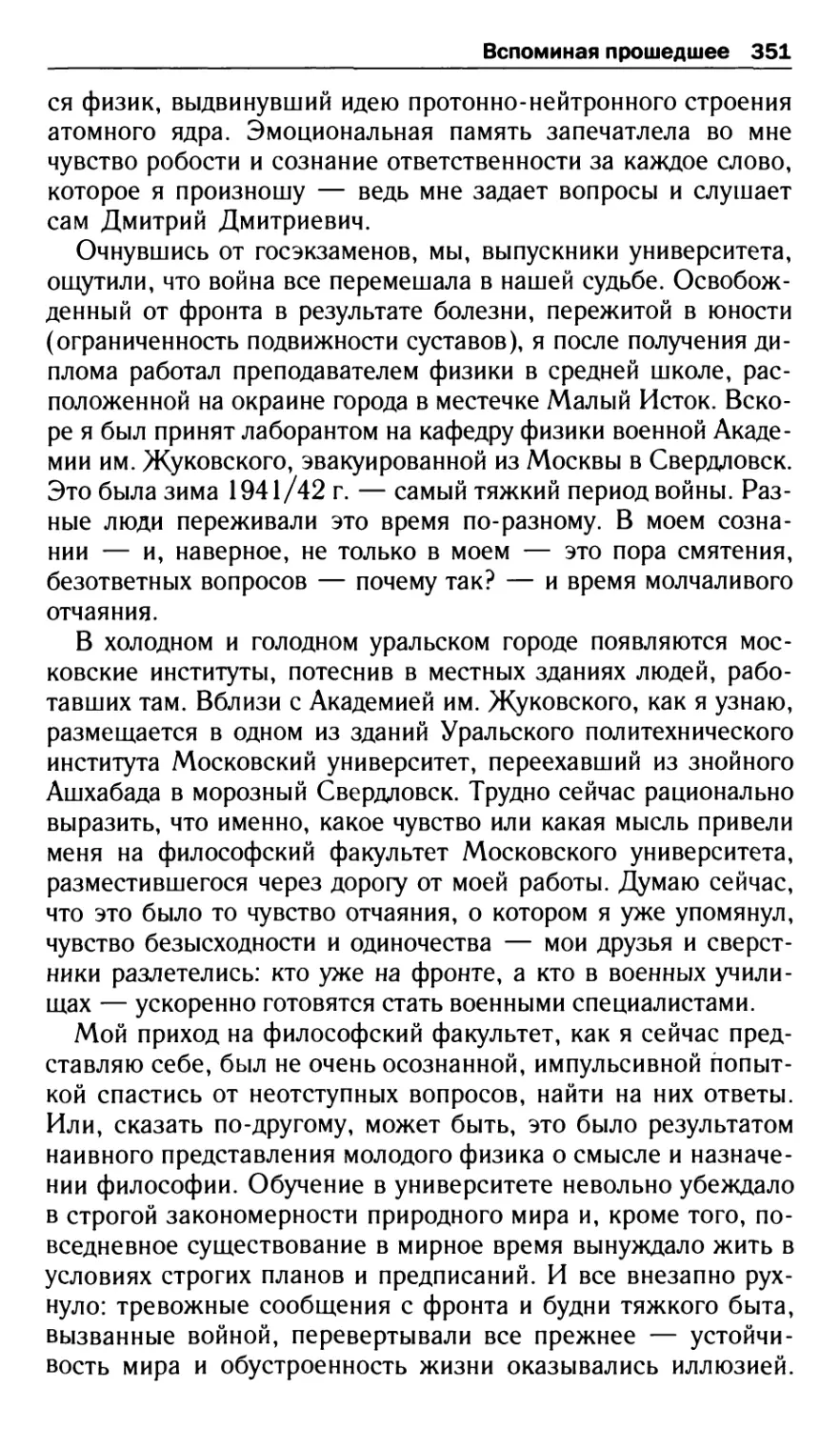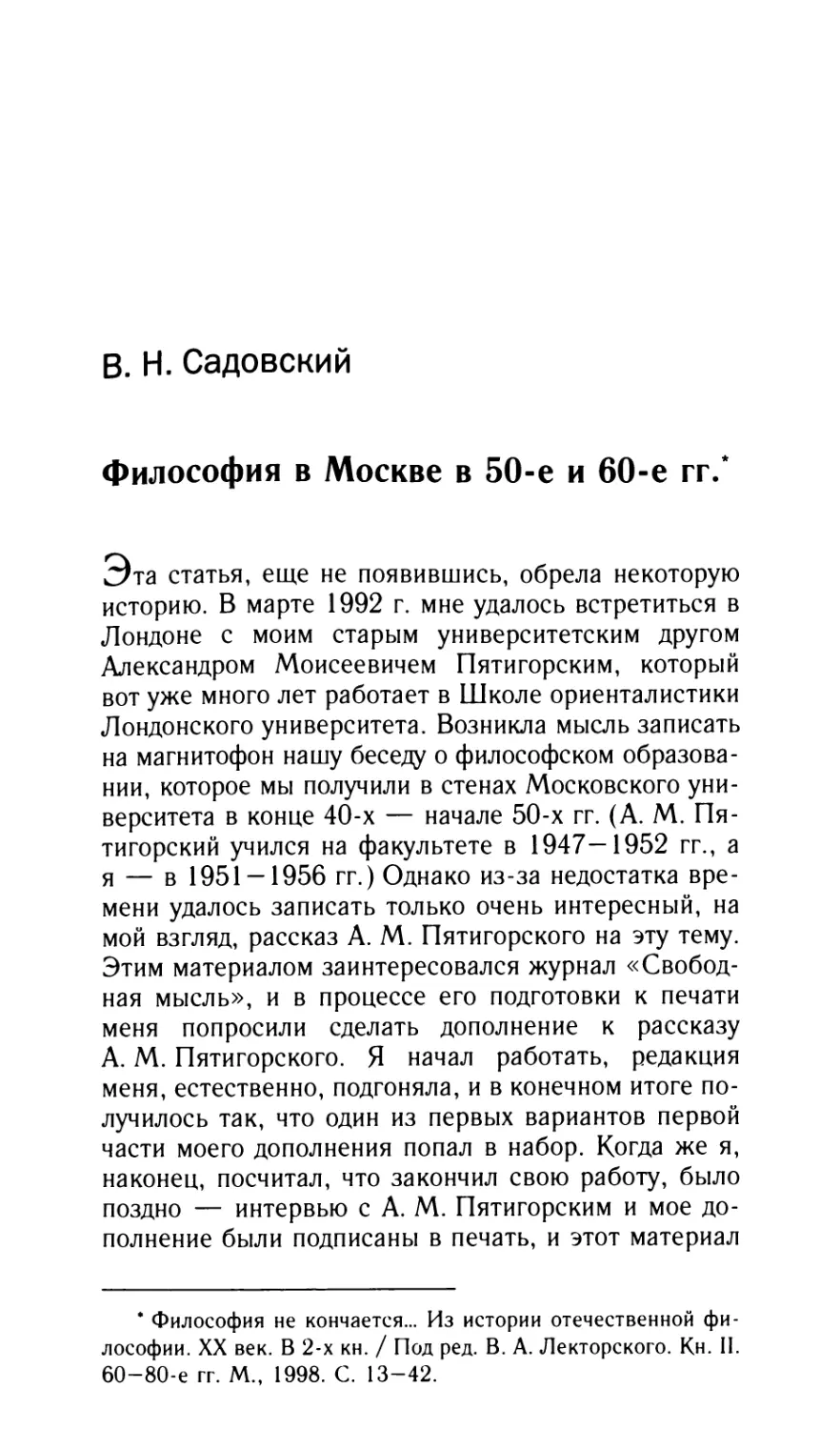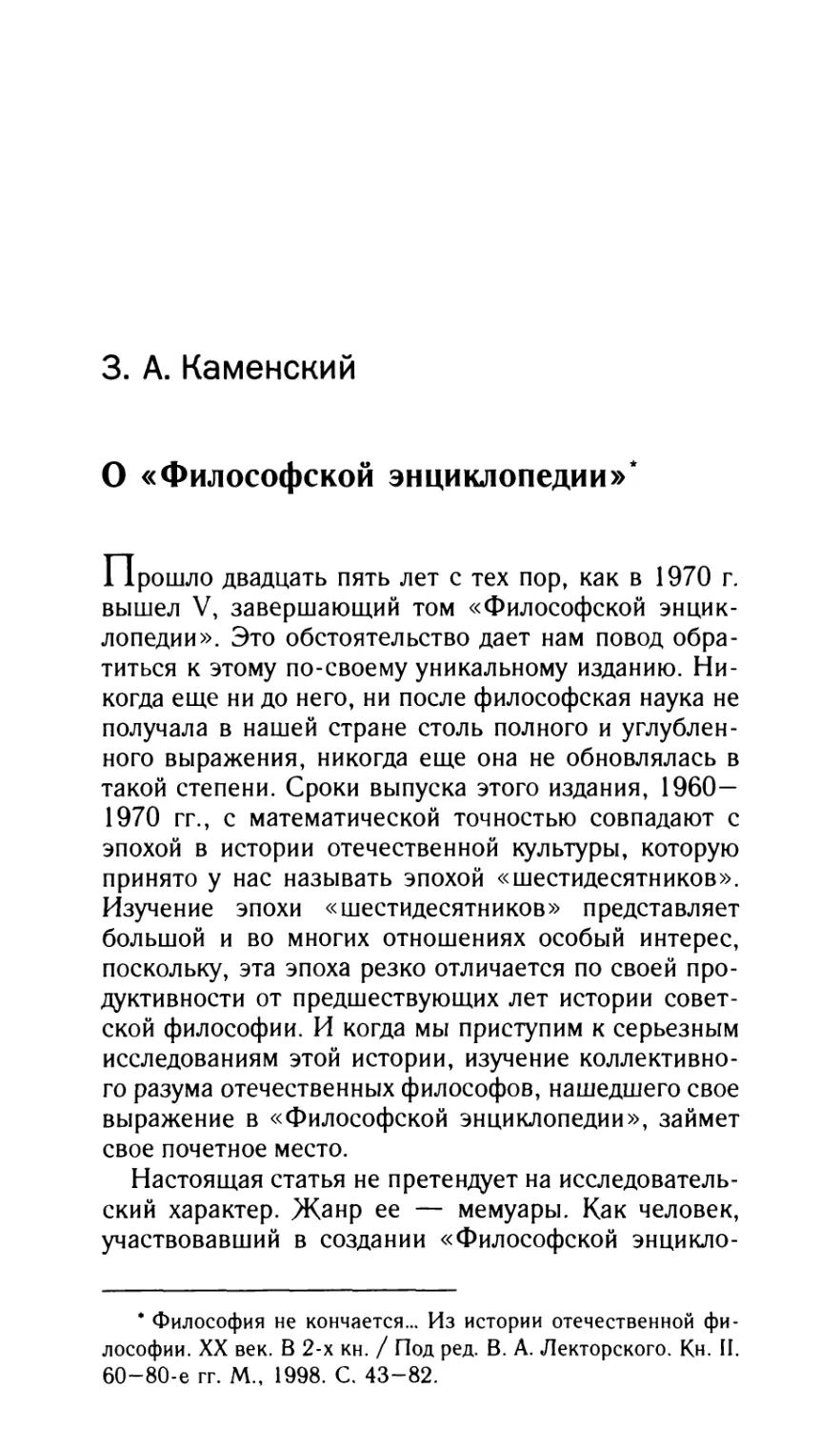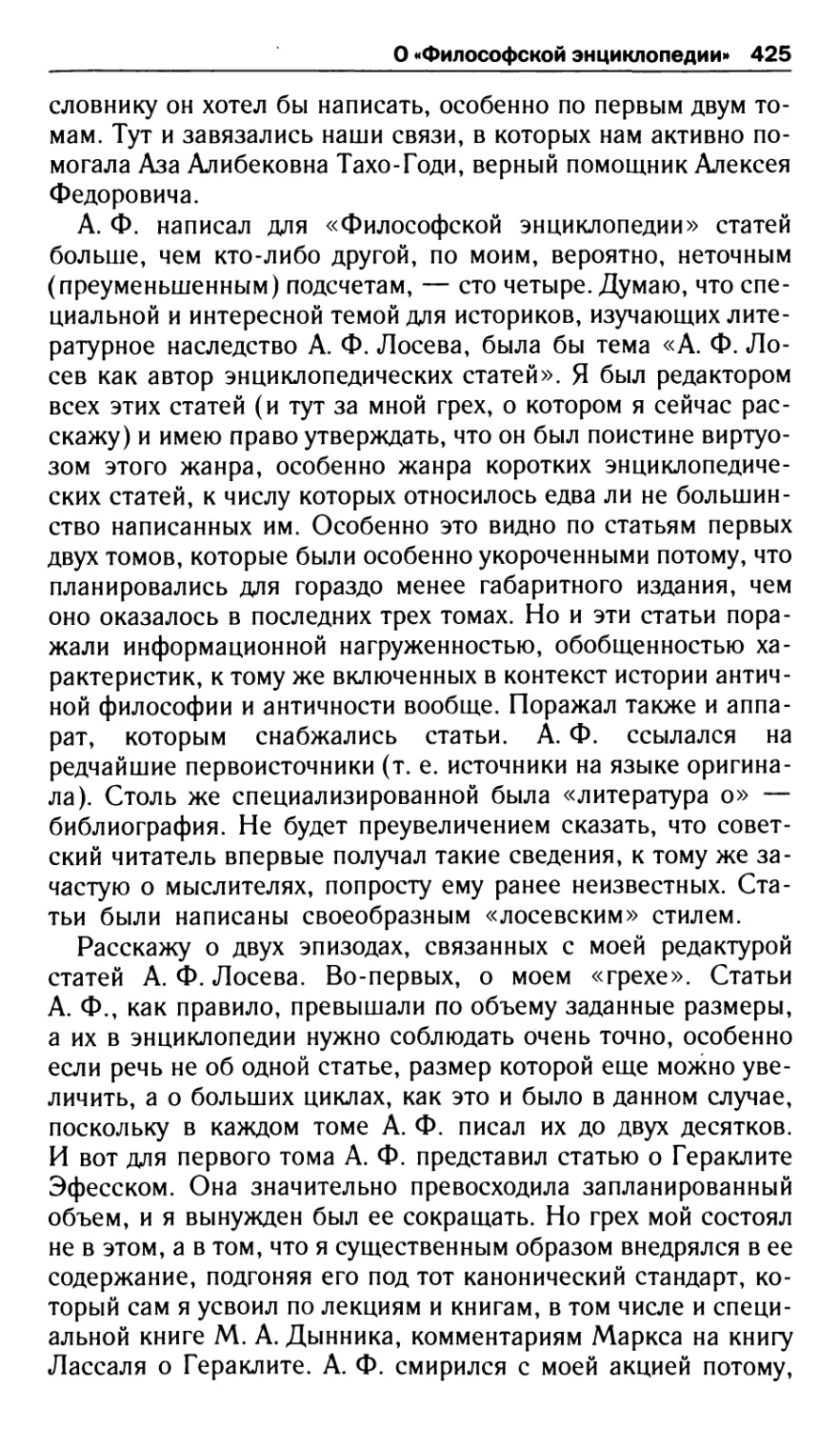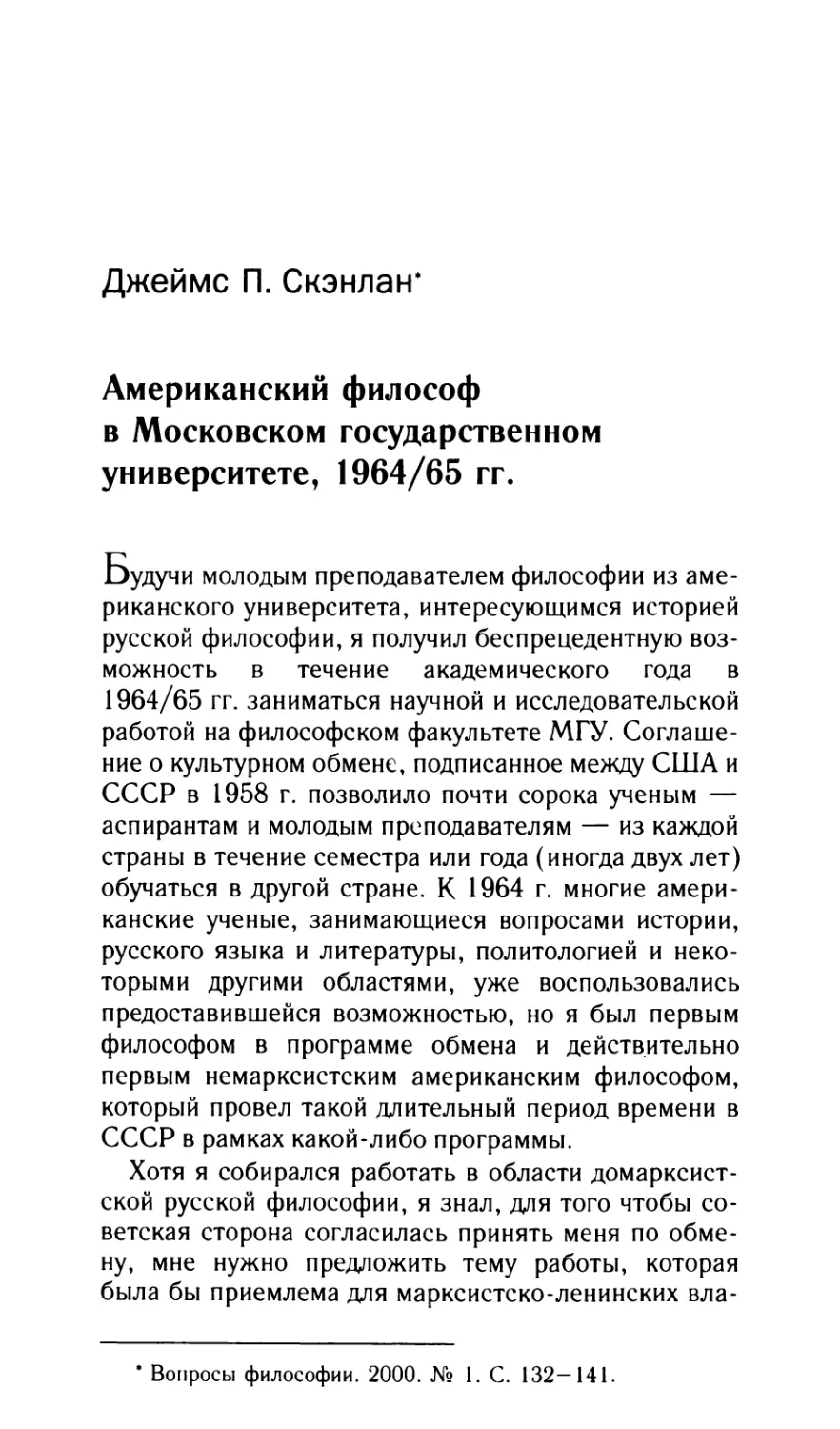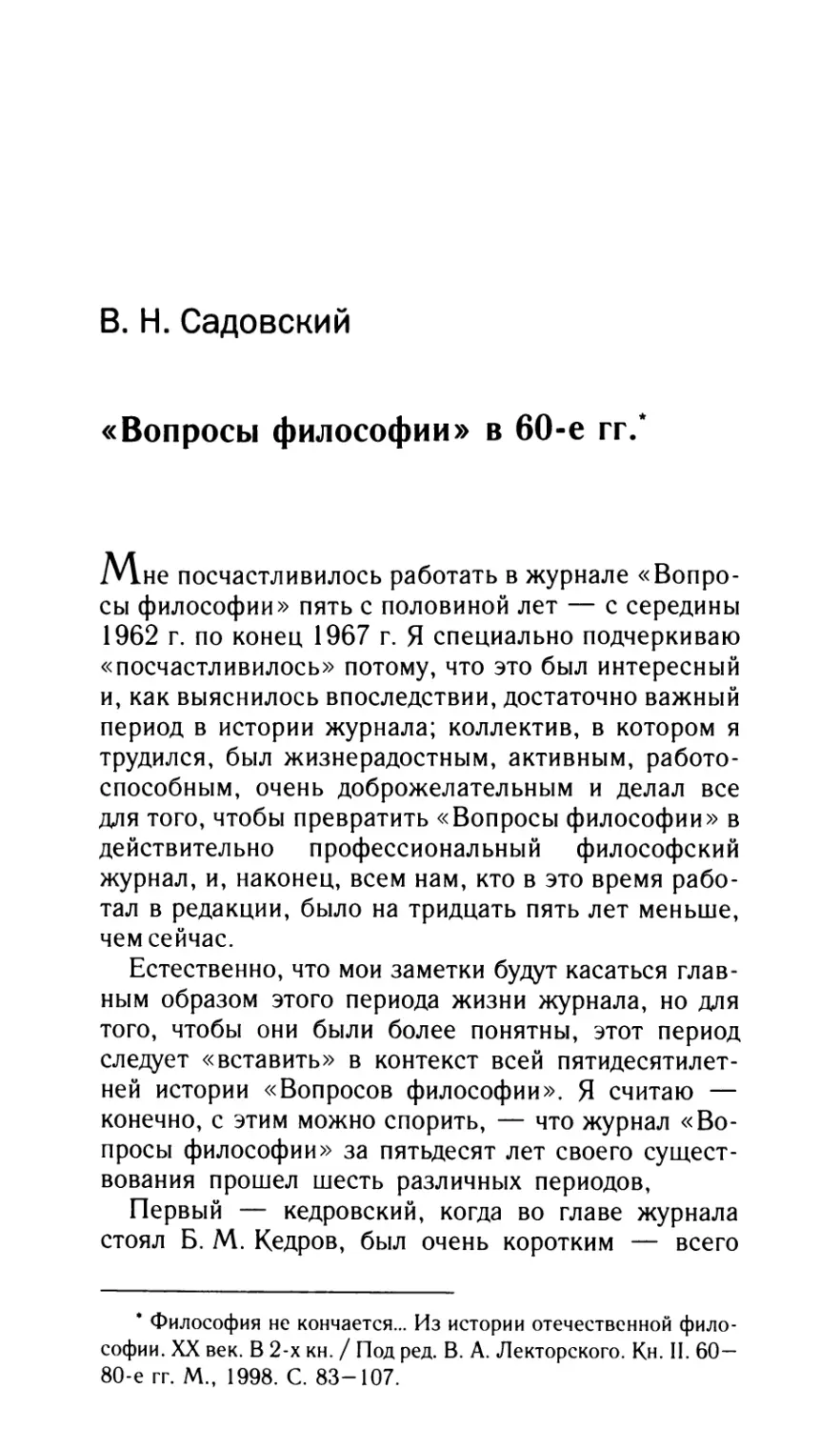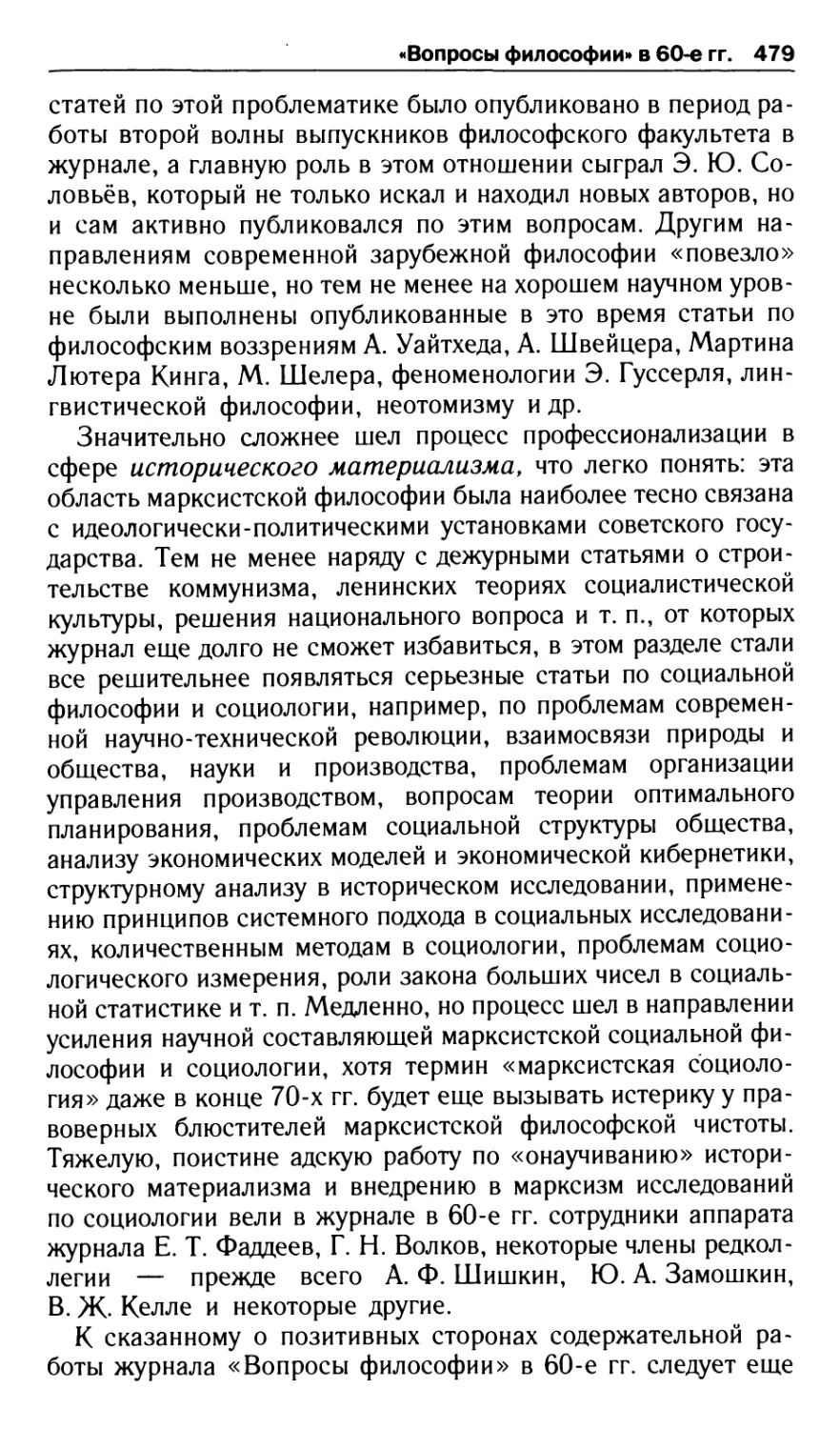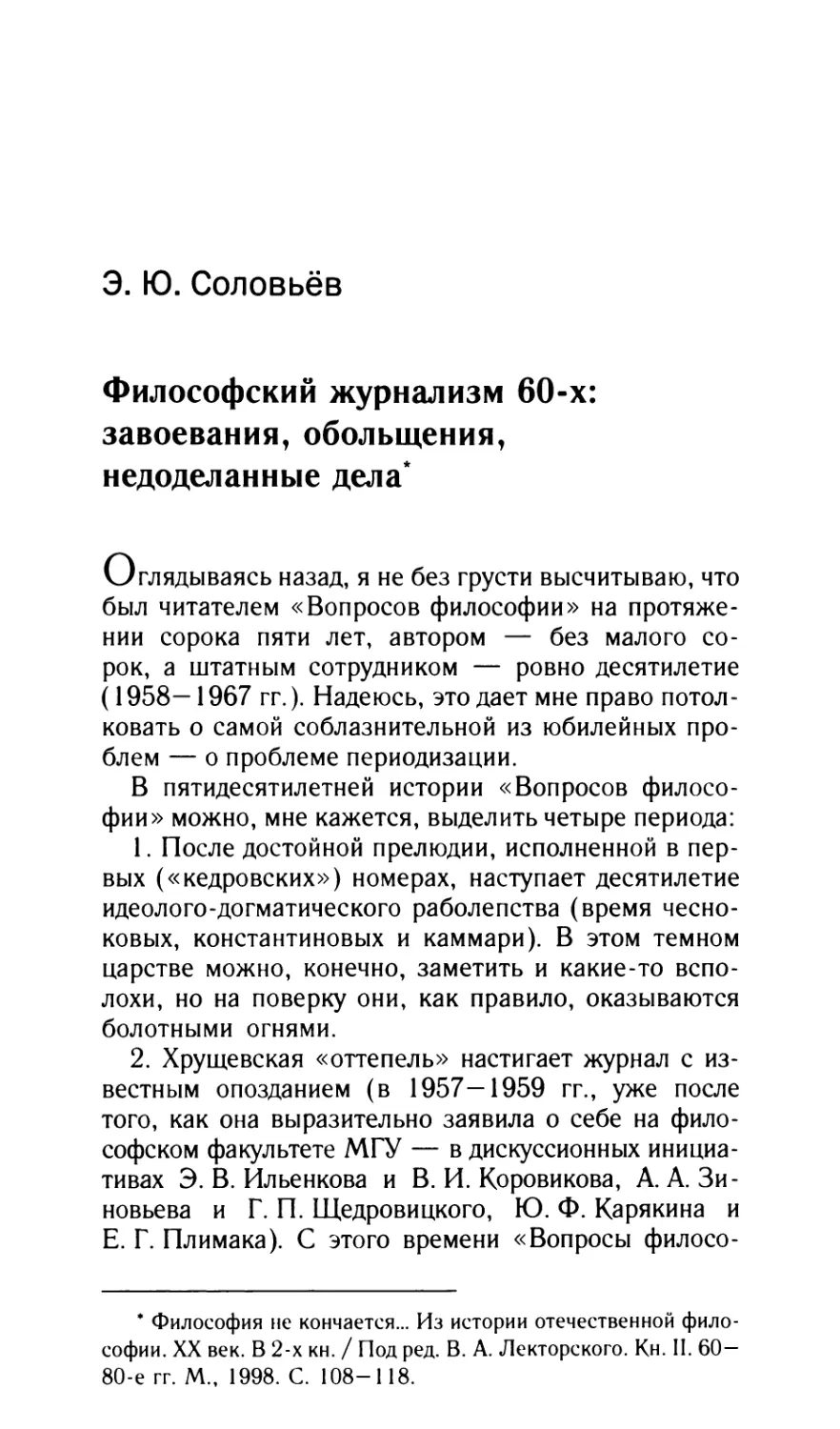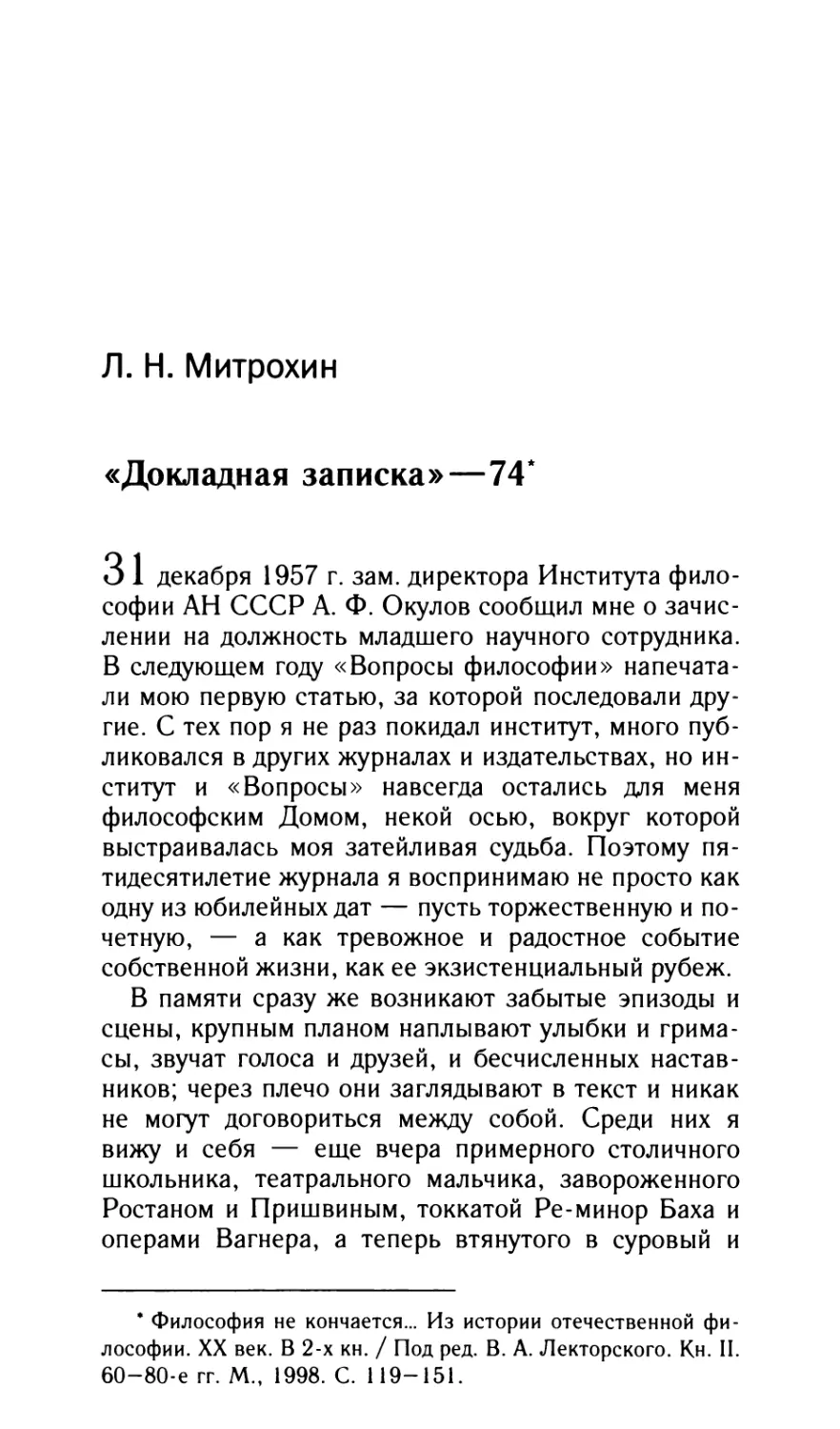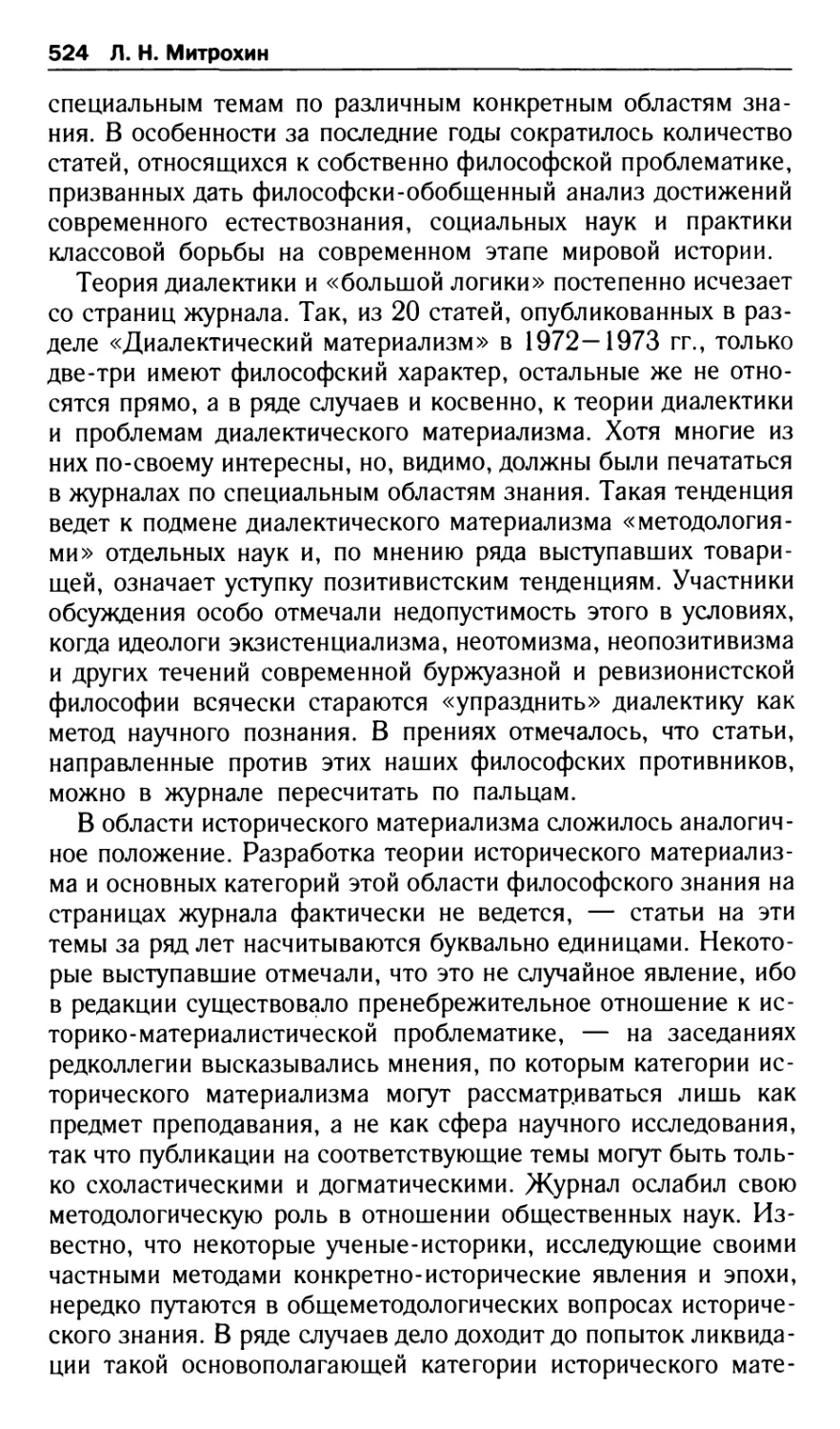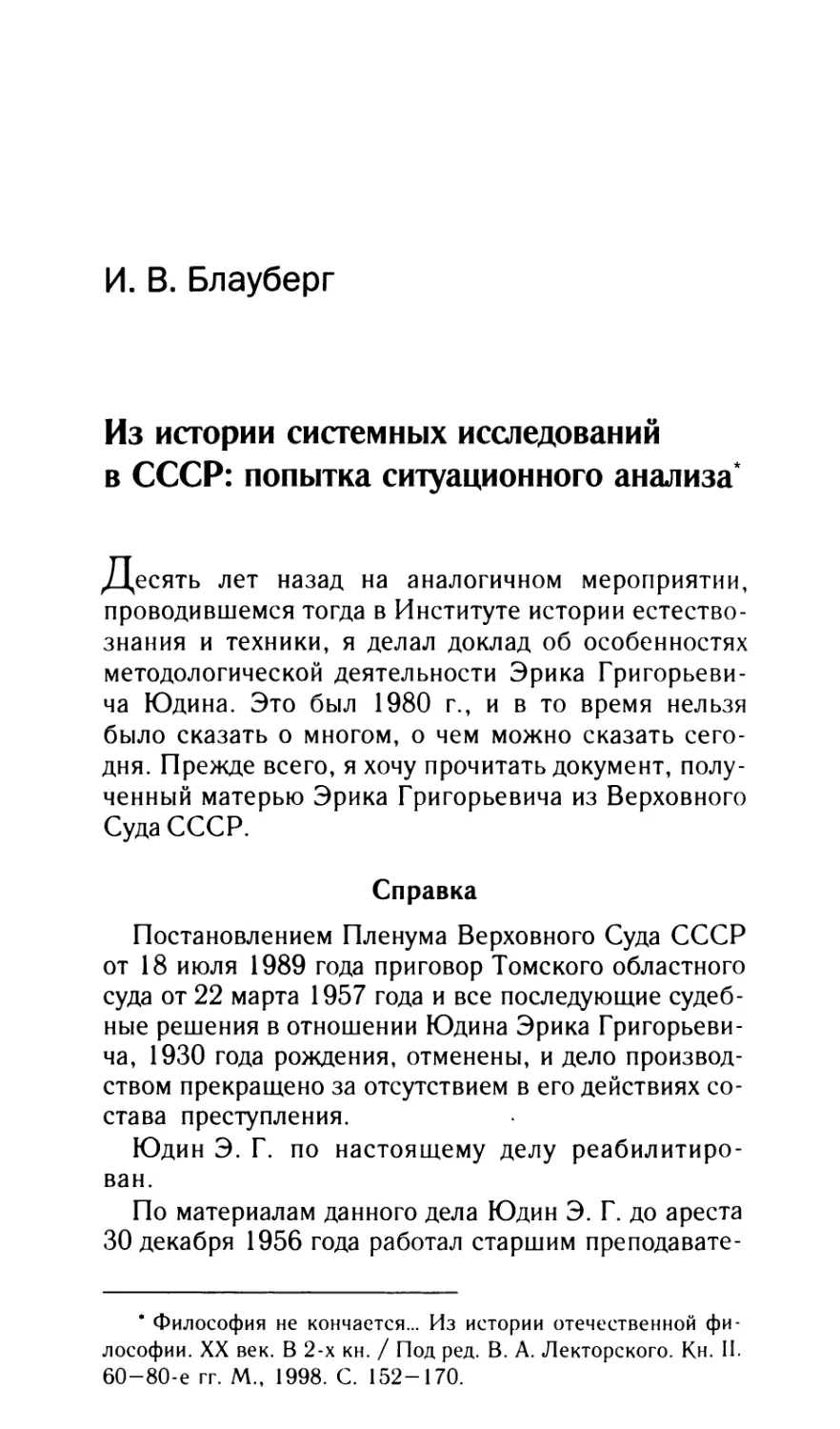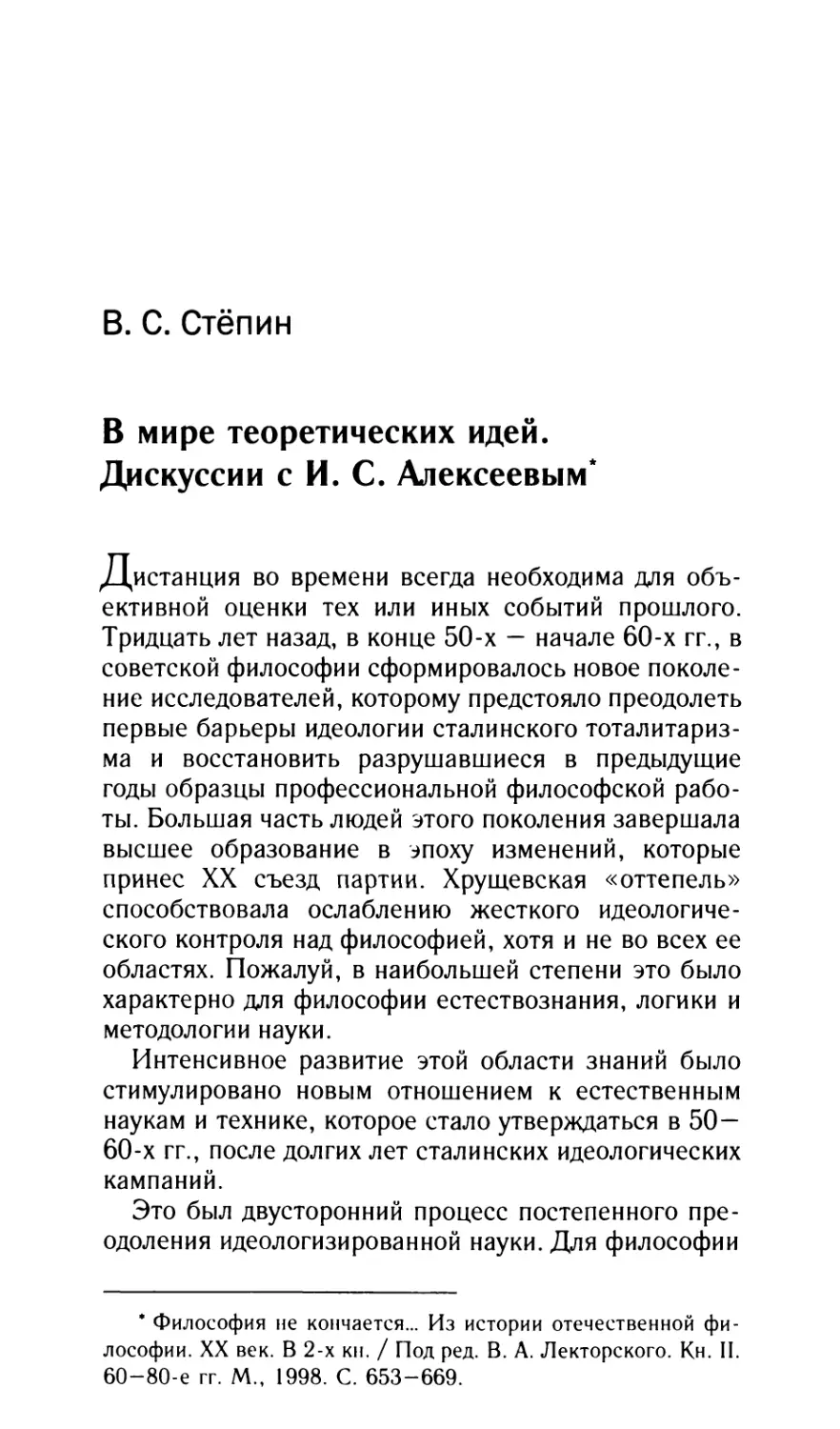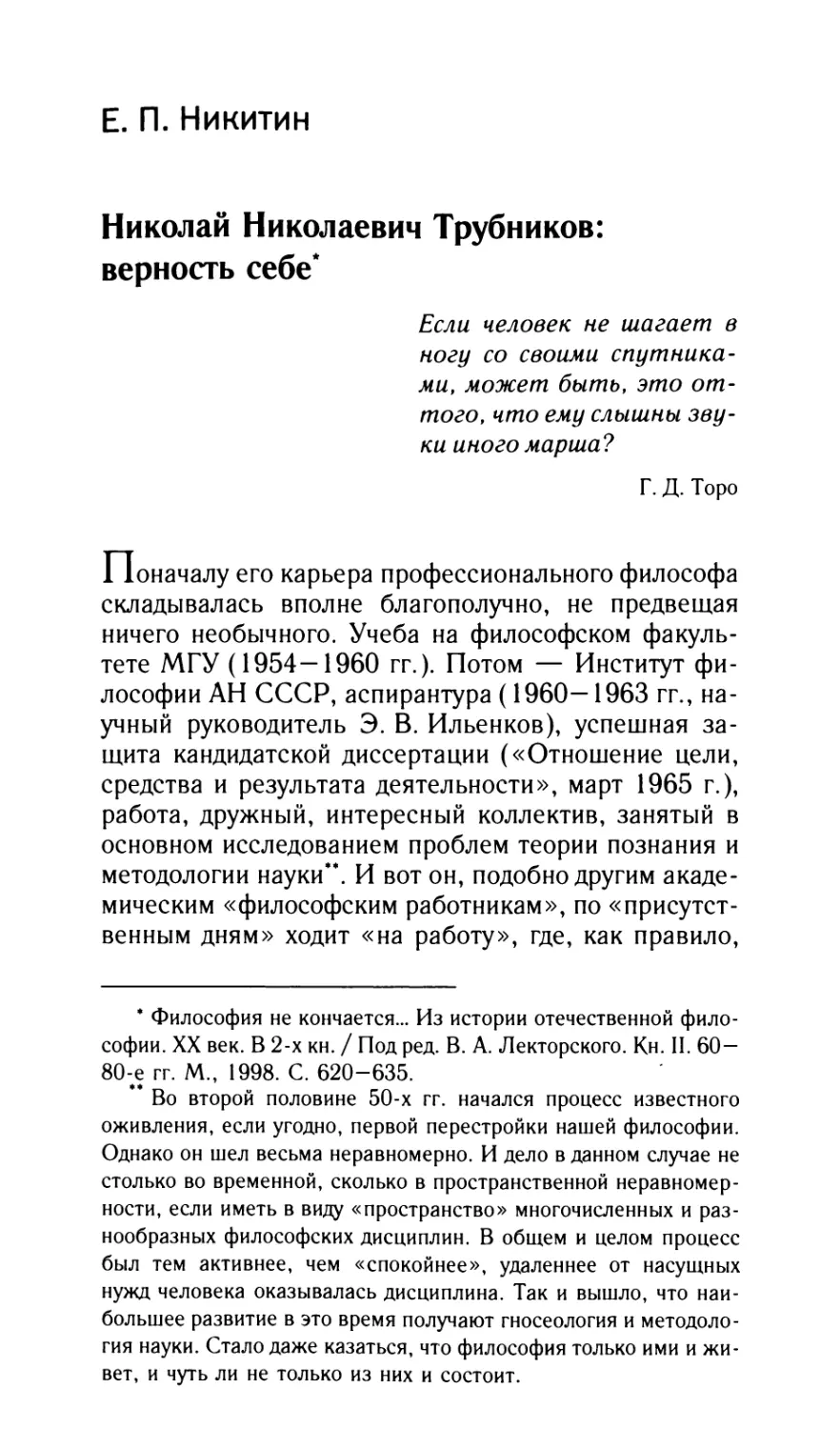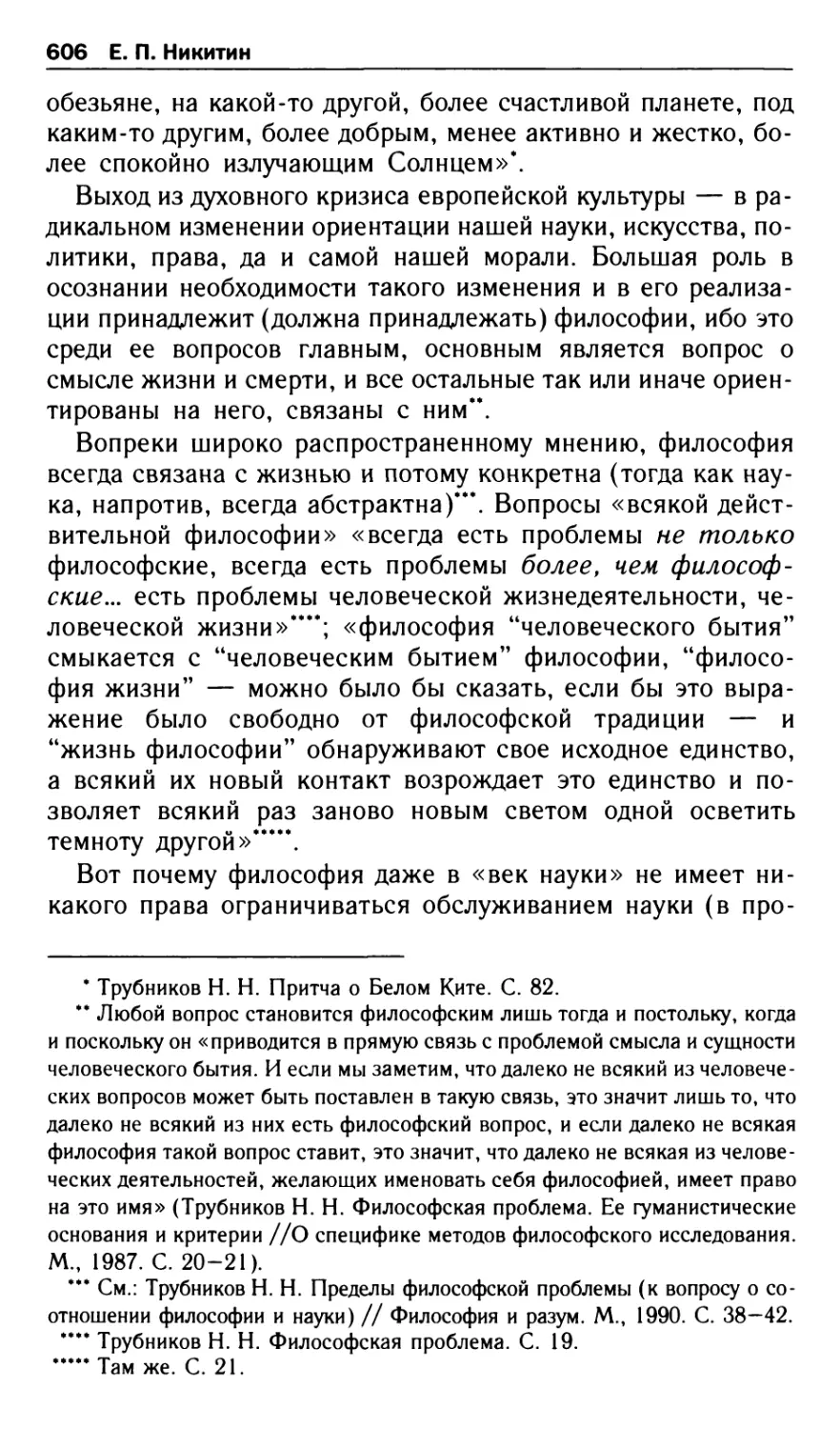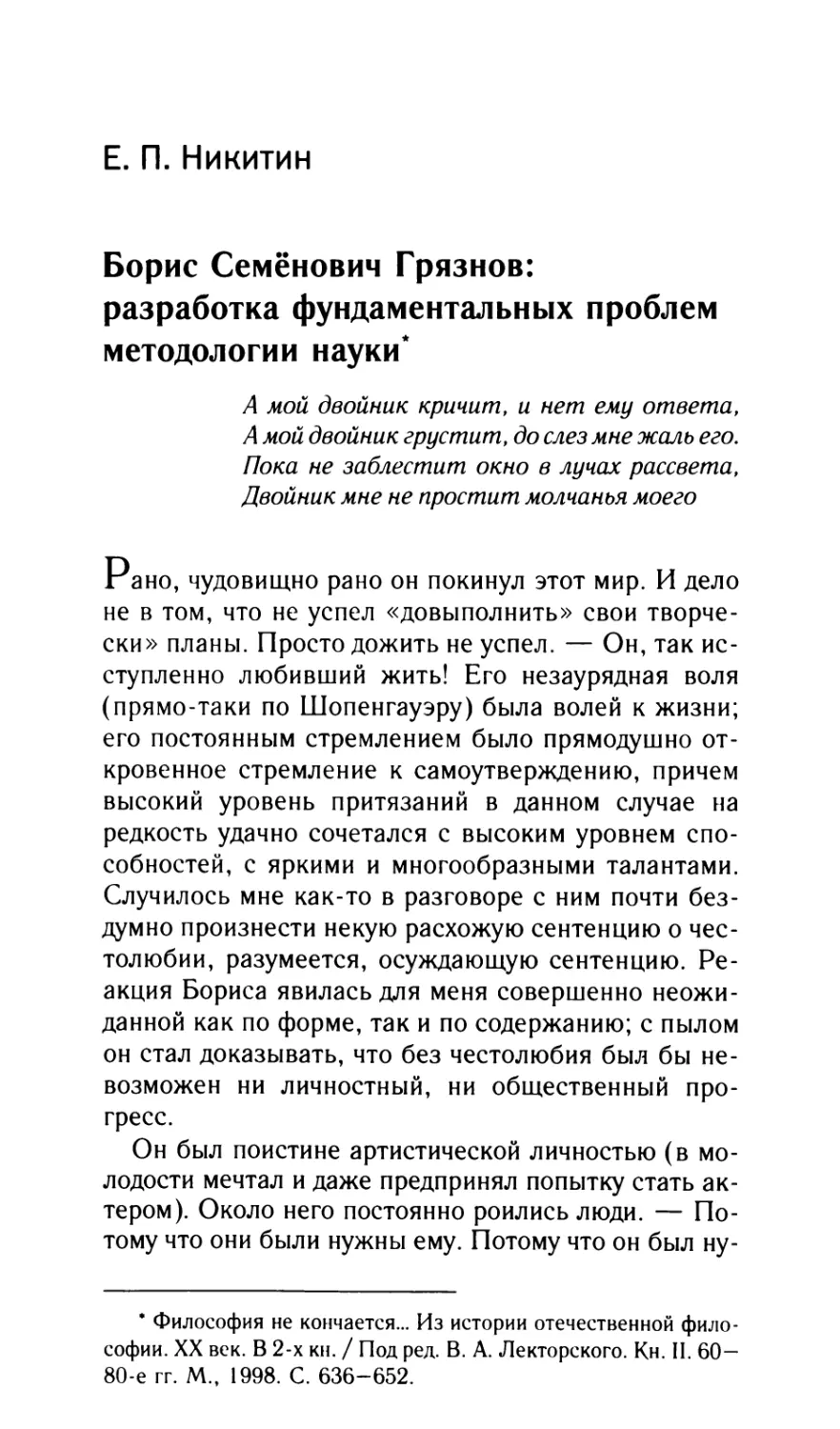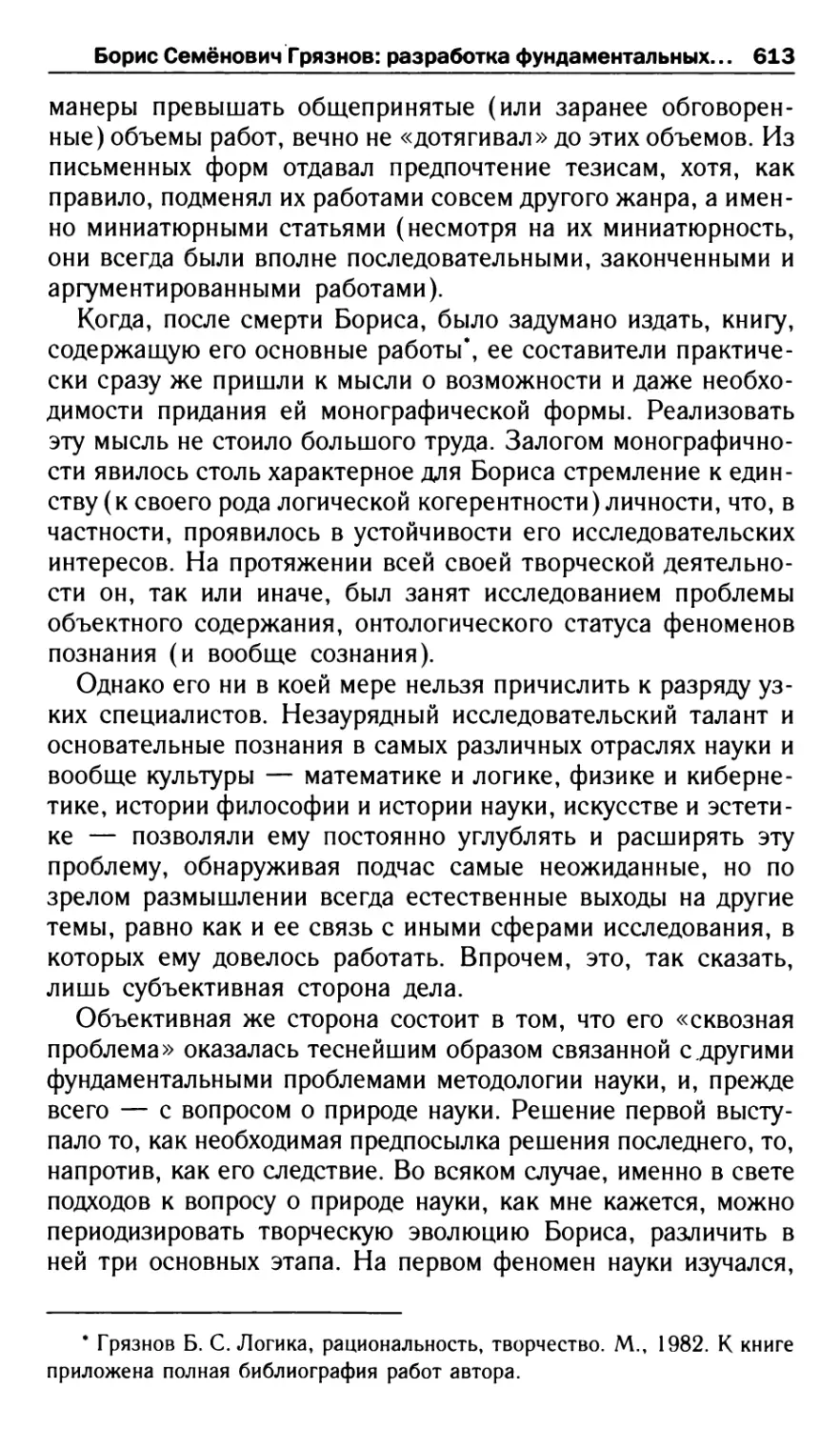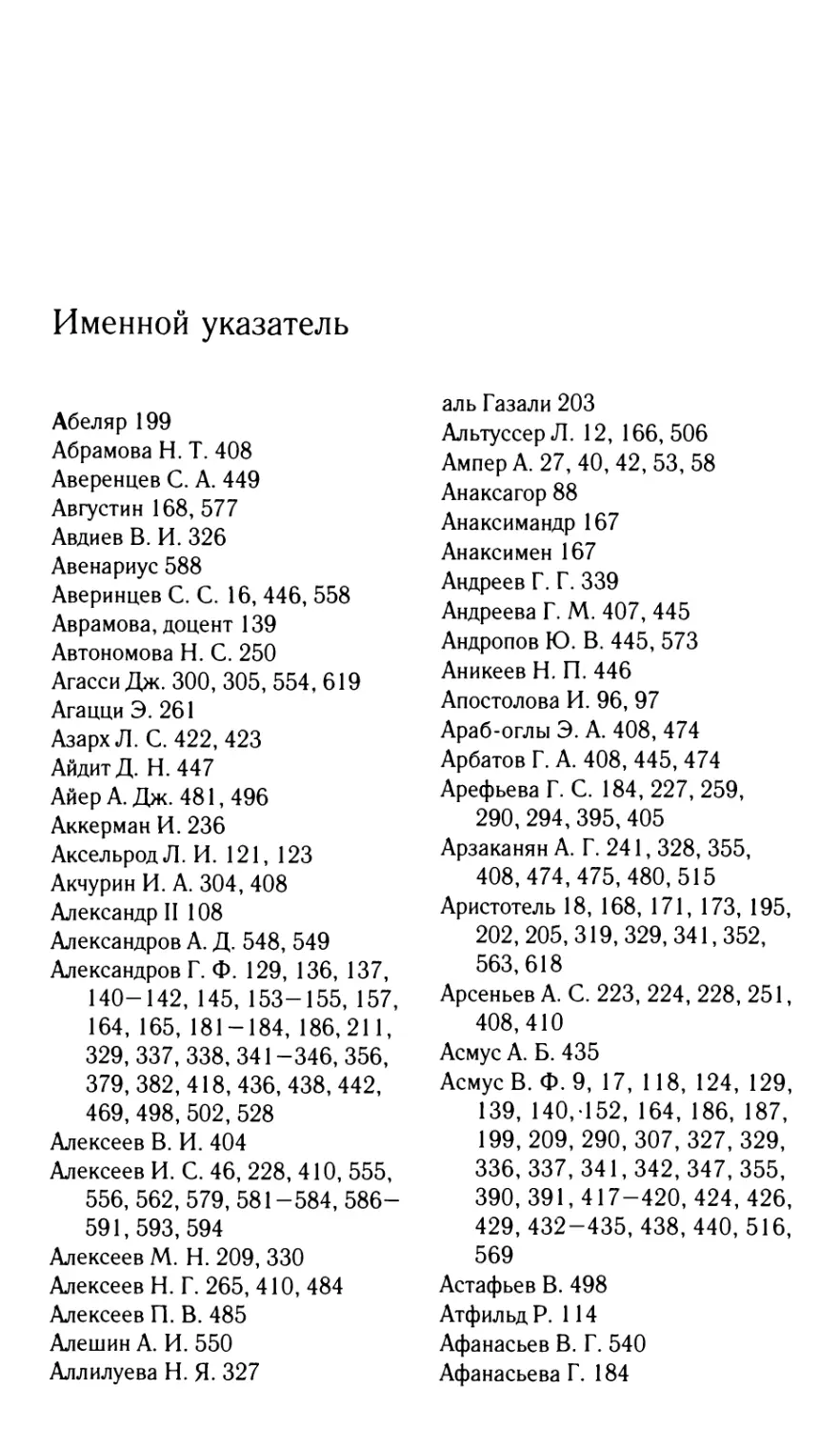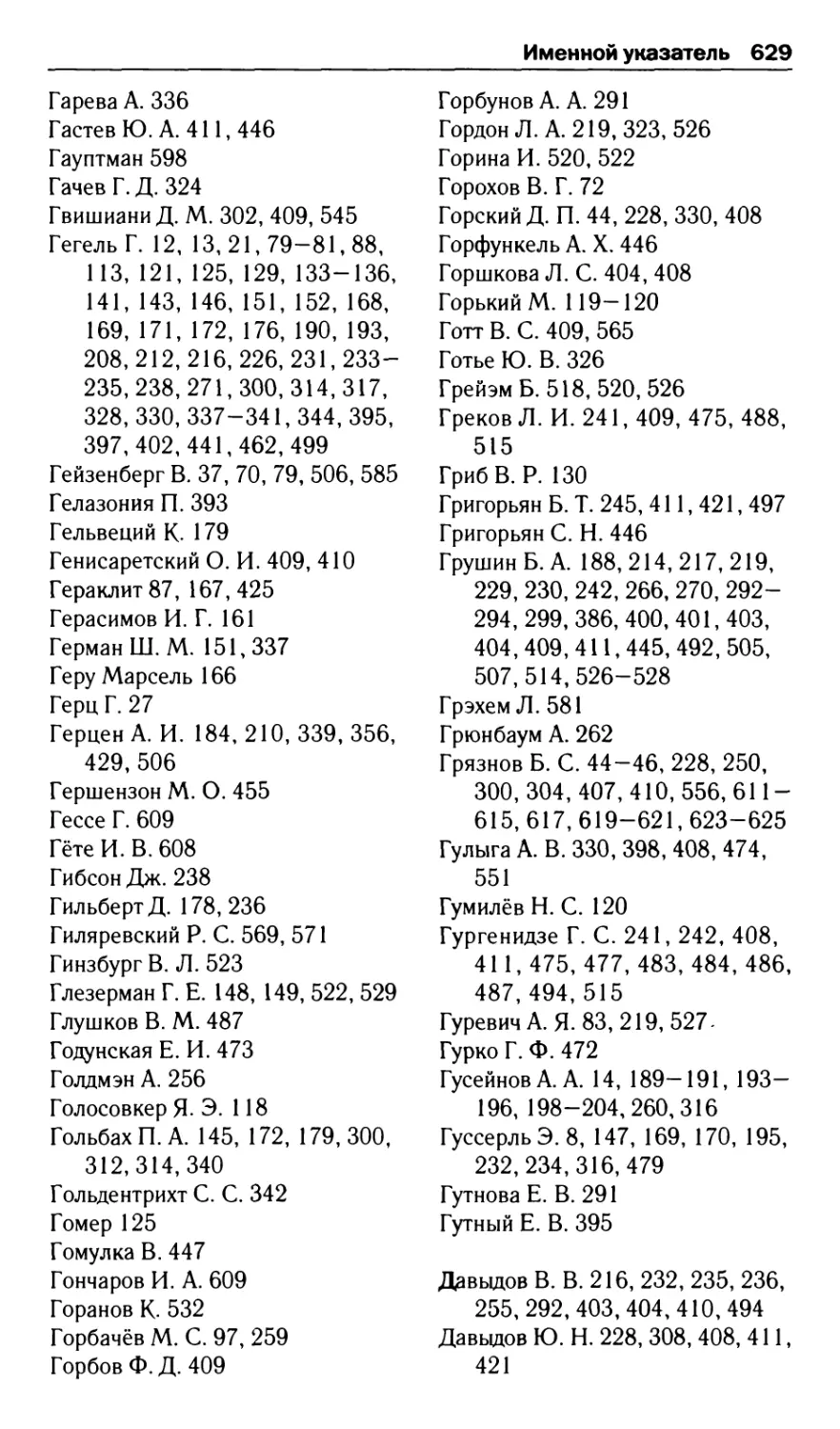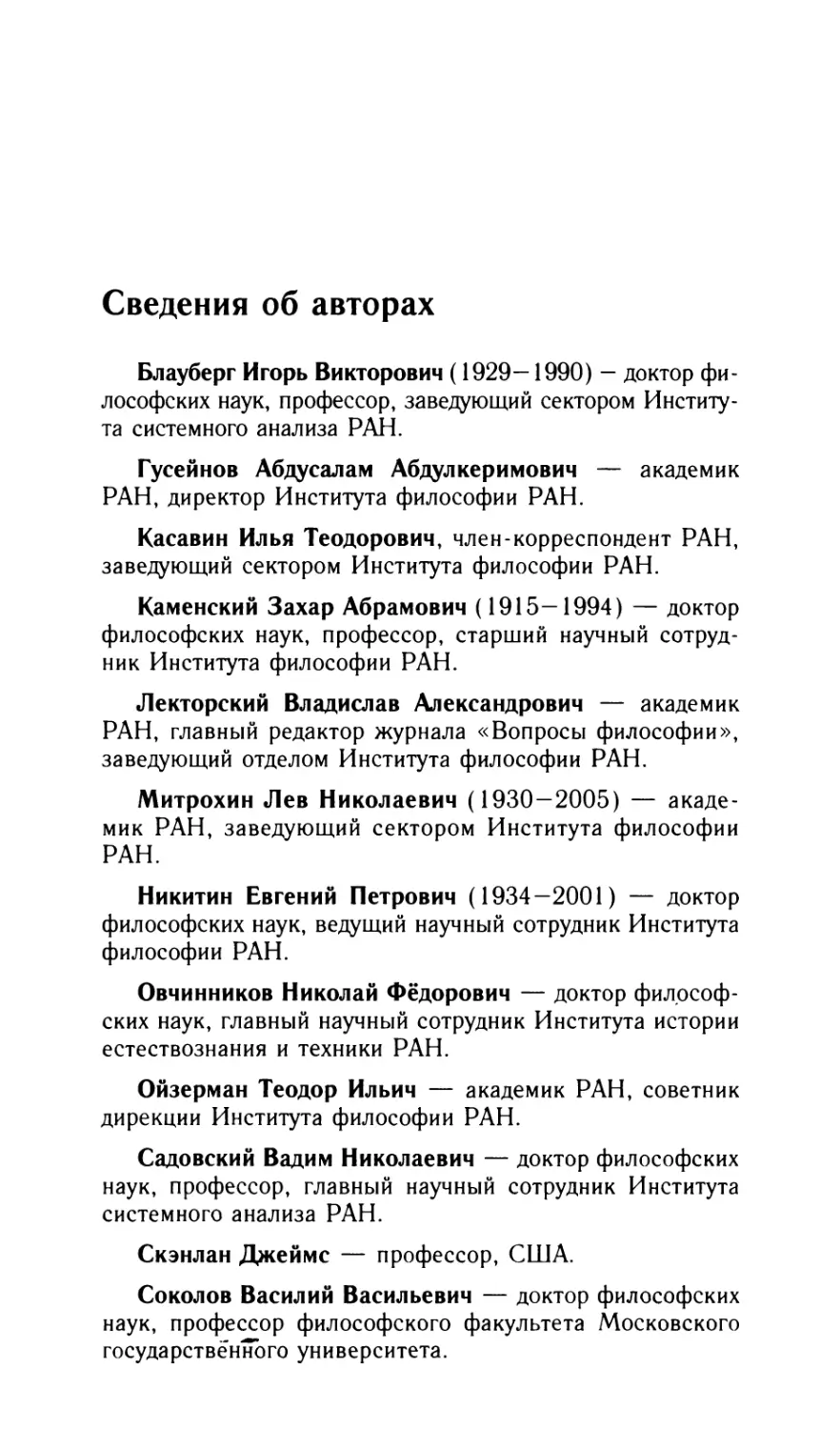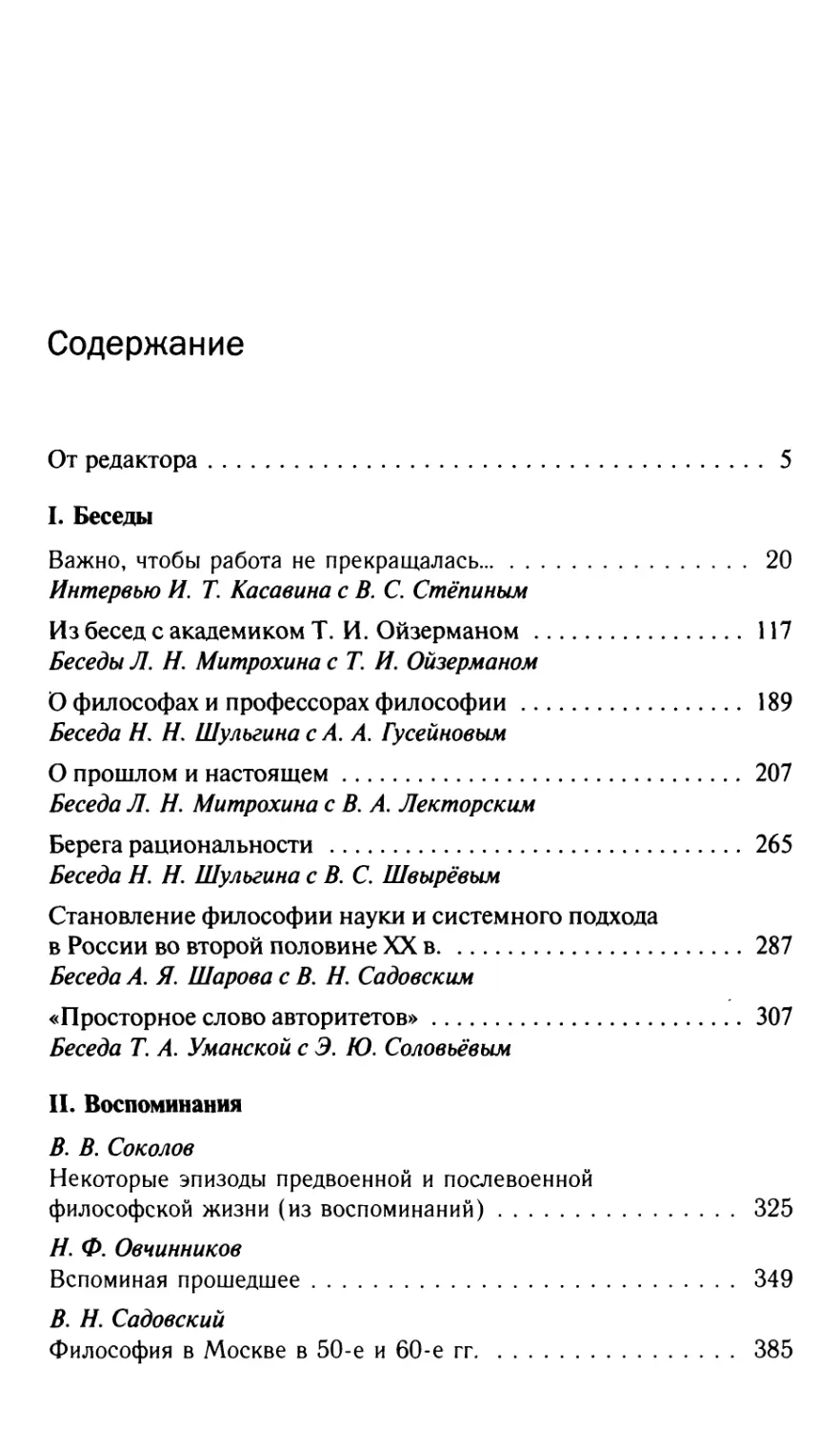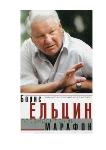Author: Лекторский В.А.
Tags: философия россии второй половины xx века философы россии философские события стиль жизни образ поведения
ISBN: 978-5-8243-1316-1
Year: 2010
Text
Как это было
Воспоминания и размышления
Институт философии РАН
Некоммерческий научный фонд
«Институт развития им. Г.П. Щедровицкого»
ФИЛОСОФИЯ РОССИИ
второй половины XX века
Как это было
Воспоминания
и размышления
Под редакцией В. А. Лекторского
Москва
РОССПЭН
2010
Как это было: воспоминания и размышления / [под ред.
В. А. Лекторского]. — М.: Российская политическая
энциклопедия (РОССПЭН), 2010. — 646 с: ил. — (Философия
России второй половины XX в.).
ISBN 978-5-8243-1316-1
В книге делается попытка воссоздания
социально-культурного контекста, в котором формулировались, развивались и
обсуждались идеи выдающихся философов России второй
половины XX в. В данном томе собраны рассказы очевидцев и
участников философских событий в нашей стране в это время.
Авторы не только вспоминают былое, но и пытаются
анализировать события в свете сегодняшнего опыта. Такого рода
тексты являются уникальными. Подобные свидетельства говорят
о том, что философия — это не только идеи на высшем
уровне абстракции, но и стиль жизни, образ поведения в
неповторимых и нередко — труднейших обстоятельствах.
ISBN 978-5-8243-1316-1 ©Лекторский В. А., общая редакция серии,
редакция тома, 2010
© Коллектив авторов, 2010
© Институт философии РАН, 2010
© Некоммерческий научный фонд «Институт
развития им. Г П. Щедро в и цко го», 2010
© Оформление. Издательство «Российская
политическая энциклопедия», 2010
От редактора
Сбреди людей, изучавших философию в институте в
советские годы по официально санкционированным
учебникам, в которых рассказывалось как все
сложнейшие проблемы и загадки человеческого бытия над
разгадыванием которых великие умы бились в
течение столетий и тысячелетий, легко и просто
разрешаются с позиций марксизма-ленинизма, бытует
мнение, что философы советского времени были либо
неумными людьми, либо апологетами нечестивой
власти (во многих случаях теми и другими
одновременно). Если это верно, то ни о какой настоящей
философии в те годы в нашей стране не может быть и
речи. В соответствии с этим мнением если и нужно
разрабатывать философию в современной России, то
делать это следует как бы с нуля, с самого начала.
При этом предлагается два варианта работы в
области философии: либо опереться на философскую
традицию религиозного идеализма, прерванную в 1922 г.,
когда выдающихся русских мыслителей выслали за
границу на «философском пароходе», либо —
примкнуть к одной из популярных сегодня школ западной
философии.
Вообще в само понятие «советской философии»
может вкладываться совершенно разный смысл. Когда
западные советологи писали о советской философии,
они исходили из предпосылки, что это была на самом
деле не философия, предполагающая абсолютную
6 В. А. Лекторский
критичность, обсуждение того, что обычно принимается на
веру (как в жизни, так и в науке), а идеология, способ мнимого
теоретического оправдания политики коммунистической
партии, метод индоктринации интеллигенции. Такая философия
могла только отучать от всякого самостоятельного мышления
и вызывать чувство отвращения. Сегодня некоторые наши
журналисты и даже философы в подобном же духе пишут о
всей отечественной философии советского периода. Примеры,
подтверждающие это мнение, находятся легко. В самом деле,
именно таковы были в огромном большинстве учебники, по
которым преподавали в те годы философию, должным
образом были написаны многие книги по философии, прежде всего
по проблемам исторического материализма и теории
«научного коммунизма». Были официальные представители этой
философии: М. Б. Митин, П. Ф. Юдин, Ф. В. Константинов и др.
Иными словами, реально существовал феномен,
соответствующий именно так понимаемой «советской философии».
Но было и другое — то, чему, казалось бы, не следовало
быть в идеологизированном обществе.
Картина философской жизни России в советский период
была гораздо сложней и интересней. В нашей философии в
эти годы наряду с догматиками и приспособленцами творили
выдающиеся умы, яркие личности, связанные с культурой
России и культурой мировой, с гуманитарным и
естественнонаучным знанием. Мы только сейчас начинаем понимать и
ценить то, что было сделано тогда и что и по сей день
оказывается актуальным. В философии России в это время были
заложены такие традиции, которые сегодня весьма
перспективны и могут плодотворно взаимодействовать с мировой
философией. В истории философии России в советские годы
можно выделить два периода взлета. Это — 20-е гг. и вторая
половина XX в. Между ними лежит время почти
безраздельного господства догматизма, насаждавшегося сталинским
режимом.
В 20-е гг. прошлого столетия в отечественной философии и
философски фундированной гуманитарной науке были
разработаны идеи, означавшие возможность нового построения
знания — особенно знания в области наук о человеке.
Продолжатель философии Серебряного века А. Ф. Лосев
выпускает ряд книг, в которых он не только дает новую
интерпретацию античной философии, но и оригинально
разрабатывает философию мифологии, языка, музыки, математики. Та-
От редактора 7
кого рода глобального подхода в исследовании символических
форм ранее не было в русской философии.
Неортодоксальный марксист и эмпириомонист А. А.
Богданов создает «всеобщую организационную науку» — тектоло-
гию, в качестве методологии системного понимания,
противостоящего элементаризму и атомизму классической науки.
Тектологические построения Богданова не были признаны
при жизни автора и получили развитие только во второй
половине XX столетия, когда в разных науках началось
«системное движение». В эти же годы в нашей стране
разрабатываются структурный метод в лингвистике (Р. С. Якобсон
и др.) и формальный метод в литературоведении (Б.
Эйхенбаум, В. Шкловский, В. Пропп и др.), ставший одним из
источников структурализма в философии и науках о человеке во
второй половине XX столетия.
В 20-е гг. в России появилось философское движение,
имевшее две особенности — это не было школой или даже
направлением, так как мыслители, которых можно отнести к
этому движению, существенно отличались друг от друга.
Первая такая особенность связана с противостоянием как
религиозному философствованию, доминировавшему в России до
революции, так и догматическому марксизму. Это
противостояние выразилось, в частности, в том, что в центре внимания
философов, которых можно отнести к этому движению,
оказалась сфера периферийная и для религиозной философии, и
для примитивно истолкованного марксистского материализма.
Это была область культуры: язык, литература, искусство,
разные знаково-символические системы. Между тем, в рамках
движения, о котором идет речь, именно культура была понята
как ключевая для решения и антропологических, и
онтологических проблем. Вторая особенность этого философского
движения — тесная связь философских разработок с новыми
идеями в науках о человеке. Философы зачастую оказывались
создателями новых концепций в гуманитарных дисциплинах, в
свою очередь ученые не только ассимилировали новые
философские концепции, но и нередко использовали их в качестве
обоснования новых подходов.
В связи с этим следует в первую очередь сказать о
М. М. Бахтине, который не только применил свою
философскую концепцию при анализе литературы и языка (в
частности, при исследовании романов Ф.М.Достоевского), но и
существенно развил ее в этом контексте. Идеи М. М. Бахтина
о взаимоотношении Я и Другого в процессе диалога, о слож-
8 В. А. Лекторский
ной диалектике «сознания для себя» и «сознания для
Другого», о диалогическом и полифоническом строении сознания и
культуры, о методологии гуманитарного знания существенно
опередили свое время и стали по-настоящему изучаться и
пониматься в нашей стране только начиная с 70-х гг. XX
столетия, а в странах Запада еще позже. Смысл их не только в
разработке новой методологии наук о человеке, но прежде всего в
создании новой философской антропологии, которая, с одной
стороны, развивает характерную для России традицию
философского антииндивидуализма, а с другой, обосновывает
уникальность и особую роль личности. Сегодня в странах Запада
существует целая «индустрия Бахтина».
Это выдающийся психолог Л. С. Выготский, идеи которого
отдельные современные западные исследователи считают
поворотным пунктом в развитии мировой психологии. Исходя из
ряда идей Маркса, он развил оригинальное понимание
сознания как коммуникативного процесса и результата развития
межсубъектных отношений, как некоторой социальной
конструкции, включенной в культурно-исторический контекст. Эти
философские идеи были положены в основу психологической
теории, во многом определившей развитие теоретических и
экспериментальных психологических исследований в нашей
стране и пользующейся сегодня большим влиянием в мире.
Наконец, это Г. Г. Шпет, учившийся феноменологии у
Э. Гуссерля, а затем развивший собственную концепцию, в
которой он впервые попытался соединить феноменологию с
герменевтикой. Идеи Шпета повлияли на отечественную
психологию (он обосновал проект разработки этнической
психологии), лингвистику (в частности, на многих сторонников
лингвистического структурализма), литературоведов. Шпет был
одним из пионеров разработки семиотики как общей науки о
знаковых системах.
В середине 50-х гг. в советской философии происходит
качественный перелом, явившийся важной составной частью
сложного процесса десталинизации общества. Суть этого
перелома, положившего начало новому этапу развития
отечественной философии, кратко можно обозначить как
возвращение философии к творческой разработке собственной
проблематики. Следует, наверное, говорить даже о своеобразном
ренессансе философской мысли.
Это утверждение может показаться преувеличенным. Ведь
идеологическая цензура продолжала существовать. Многие
От редактора 9
вопросы — в том числе и в философии — просто нельзя было
обсуждать. Обучение философии во всех высших учебных
заведениях проходило по учебникам, которые были предельно
догматичны и прививали стойкое отвращение не только к
марксистской философии, но ко всякой философии вообще.
Западные специалисты по изучению философии советского
периода нередко строят свои заключения именно на основании
анализа учебников и других идеологически
санкционированных текстов. В действительности же между подобными
текстами и живой философской мыслью того времени существовал
огромный разрыв, прекрасно сознававшийся теми, кто
участвовал в новом философском движении.
Первыми лидерами этого движения были Э. В. Ильенков и
А. А. Зиновьев — молодые выпускники философского
факультета Московского государственного университета, затем в
орбиту их влияния втянулись другие, некоторые из них
основали собственные философские школы.
Переживают творческий подъем ряд философов поколения
20-х гг. А. Ф. Лосев выпускает за этот период больше работ,
чем за все предшествующее время. Он развивает во многом
по-новому те идеи, которые сформулировал еще в 20-е гг.
Именно в эти годы происходит как бы второе открытие идей
А. А. Богданова, М. М. Бахтина, Л. С. Выготского. Их книги
переиздаются, их идеи обсуждаются. Выходят те работы этих
мыслителей, которые не печатались при жизни. Именно в 60-е
и 70-е гг. их идеи начинают по-настоящему жить, участвовать
в формировании новых концепций, находить сторонников,
оппонентов и т. д. Продолжает активную творческую
деятельность и развивает ряд новых идей М. М. Бахтин.
Оригинальные работы выпускает Б. М. Кедров. Он одним
из первых в мире соединяет философию и историю науки.
Новый этап начинается в деятельности С. Л. Рубинштейна,
который переосмысливает свои старые философские позиции и
создает интересную философско-антропологическую
концепцию. Расцветает деятельность В. Ф. Асмуса. Т. И. Ойзерман
выпускает основательные работы по методологии истории
философии. М. А. Лифшиц развивает своеобразную концепцию
«онтогносеологии».
В философии России второй половины XX в. появляется то,
чего в ней не было на протяжении нескольких
предшествующих десятилетий. Возникают стабильно существующие и
развивающиеся философские школы, исходящие из разных
концептуальных позиций, спорящие друг с другом. Примечатель-
10 В. А. Лекторский
но, что такие школы появляются не только в Москве (школы
Э. В. Ильенкова, А. А. Зиновьева, В. С. Библера, Г. С. Бати-
щева, Г. П. Щедровицкого, системное движение И. В. Блау-
берга, Э.Г.Юдина, В.Н.Садовского и др.). Они
действуют и в других городах и регионах страны, в частности,
киевская школа под руководством П. В. Копнина, минская школа,
основанная В. С. Стёпиным и др. Участники этих школ имеют
возможность публиковаться, хотя и не без серьезных
трудностей.
Особенность философского ренессанса в Советском Союзе
в 60—80-е гг. в том, что он был первоначально связан с
ориентацией на философский анализ познания, мышления, науки.
Это было не случайно. Во-первых, области философии,
изучающие познание, науку (теория познания, логика,
философские проблемы естественных наук) в отличие от социальной
философии имеют лишь опосредствованное отношение к
идеологии и политике, поэтому возможности для
самостоятельного творчества были в этой сфере гораздо больше. Во-
вторых, к концу 50-х гг. партийные инстанции осознали
невозможность и вредность идеологического вмешательства в дела
науки (по крайней мере, в естественные). В 60-е гг. развитие
социализма начинает вообще связываться с развертыванием
научно-технической революции. Философам — лидерам
нового движения вовсе не были безразличны проблемы человека.
Они были настроены критически в отношении
существовавшей социальной реальности — не против социализма, а
против того его бюрократического воплощения, которое тогда
укоренилось в Советском Союзе. Но они считали, что именно
опора на научное знание, на теоретическое мышление и на
философию, как на рефлексивную и методологическую основу
этого мышления, может быть единственно вероятным
способом изменения социальной реальности. Исследование
мышления, разработка теории научного познания выступает с этой
точки зрения как жизненная миссия философии, как
своеобразный способ социальной критики и гуманизации
действительности. Анализ логики и методологии научного познания
был начат с исследования логической структуры «Капитала».
Затем, на основе этих методологических изысканий и с их
существенной модификацией, были сделаны попытки
понимания структуры теоретического знания в других научных
дисциплинах.
Этот «когнитивный поворот» в новой философии совпал с
интенсивным развертыванием исследования познавательных
От редактора 11
процессов в психологии (цикл работ по изучению мышления в
школах С. Л. Рубинштейна и А. Н. Леонтьева), символической
логике (В.А.Смирнов), математическом моделировании
мыслительных процессов, когнитивной лингвистике (В. В.
Иванов), семиотике (Ю. М. Лотман и его школа, непосредственно
выходившие в философскую проблематику), исследований в
области кибернетики (А. Н. Колмогоров), методологии
системного анализа (И. В. Блауберг, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин),
истории естествознания. Эти работы осуществлялись на
мировом уровне и получали международное признание. Ряд
теоретиков в области математики и естественных наук
(математик А. А. Марков, физик П. Л. Капица, биологи И. И. Шмаль-
гаузен и В. А. Энгельгард и др.) начинают проявлять интерес к
философии и включаться в обсуждение философской
тематики, связанной с их исследованиями. Устанавливается
интенсивное взаимодействие философов, естествоиспытателей и
ряда представителей наук о человеке. Регулярно проводятся
конференции по методологии науки.
Начиная с 70-х гг. в новом философском движении
происходят существенные изменения. В политическом плане на эти
сдвиги повлиял ввод советских танков в Чехословакию в
1968 г., положивший конец не только Пражской весне, но и
надеждам на обновление социализма в России. Многие
участники философского движения разочаровались в наивном
сциентизме, воодушевлявшем их в конце 50-х и в 60-е гг., и
постепенно стали выдвигать на первое место
антропологическую проблематику в качестве самостоятельной, а не
производной от эпистемологических и методологических
исследований. Ряд философов антропологической ориентации отходят
от марксизма, усваивают феноменологические и
экзистенциальные идеи западной и русской философии, а в некоторых
случаях дают экзистенциально-антропологическую трактовку
идей Маркса.
Если говорить о том, какие же оригинальные идеи были
выдвинуты в новом философском движении России второй
половины XX в., то кратко их суть можно резюмировать
следующим образом.
В это время интенсивно исследовалась проблематика
логики и методологии науки. Анализ логической структуры
«Капитала» позволил сформулировать общие особенности метода
восхождения от абстрактного к конкретному как он был
применен К. Марксом — гораздо раньше, чем соответствующие
исследования были проведены в западной философии (в част-
12 В. А. Лекторский
ности, в работах Л. Альтуссера). Э. В. Ильенков
анализировал метод Маркса с опорой на классическую философскую
традицию, прежде всего на Гегеля. А. А. Зиновьев выявлял
различные логические приемы и мыслительные техники,
использованные в «Капитале». Было выявлено значение
методологических идей Маркса относительно исходной
идеализированной модели как ядра развития теории для понимания
теоретического знания в других науках, в частности, в
современной физике (В. И. Кузнецов). Особенность
логико-методологических исследований научного знания, осуществленных
в этот период в отечественной философии, состоит в акценте
на изучение генезиса научной теории и логики ее
исторического развертывания. В связи с этим было разработано
понимание научной теории как многоуровневой открытой системы,
включающей в себя ряд относительно самостоятельных
подсистем, отношения между которыми не строятся по принципу
линейной зависимости. Такое понимание резко
контрастировало с господствовавшей в это время в западной философии
науки стандартной гипотетико-дедуктивной моделью научной
теории и опередило западные исследования в данной области.
В этом контексте было сформулировано положение об
исторически меняющихся основаниях научной теории, одним их
которых выступает научная картина мира, обеспечивающая
связи теории с боле широкой сферой культуры (В. С. Стёпин).
Возникает разветвленное исследование проблематики
философии естествознания: проблема причинности в
современной науке, принцип соответствия, принцип дополнительности,
принцип наблюдаемости, принцип редукции, проблема
глобального эволюционизма и др. (Б. М. Кедров, М. Э. Омелья-
новский, Н. Ф. Овчинников).
Новый характер получило исследование диалектики. Она
была понята не просто как онтологическая схема, а как логика
развития теоретической мысли, как способ анализа и
разрешения противоречий мышления в традициях Гегеля и Маркса.
А. Ф. Лосевым было предложено истолкование диалектики в
духе синтеза неоплатонизма и Гегеля. В. С. Библер в рамках
исследования творческого мышления трансформировал
понимание диалектики в концепцию диалогики как диалогической
коммуникации разных теоретических систем и даже систем
культуры — эта концепция была обоснована анализом
материала истории науки и культуры. В связи с этим он попытался
дать новую интерпретацию идеям М. М. Бахтина о
диалогическом характере культуры и сознания.
От редактора 13
Э. В. Ильенков сформулировал оригинальное понимание
идеального как существующего в формах человеческой
деятельности, исходно в формах коллективной деятельности,
т. е. тем самым как своеобразной объективной реальности по
отношению к индивидуальной психике. Это понимание
противостояло философской традиции, связывавшей идеальное с
индивидуальным сознанием. Оно было еретическим и по
отношению к официальному толкованию материализма в
советской философии. Такое понимание имеет чачтичное сходство
с выдвинутой позже К. Поппером концепцией идеального как
«третьего мира» с той, правда, существенной разницей, что с
точки зрения Ильенкова идеальное может существовать
только в рамках человеческой деятельности.
Эта концепция имела большое влияние как в философии,
так и в некоторых науках о человеке (в частности, в
психологии, особенно среди психологов, продолжавших традиции
культурно-исторической школы Л. С. Выготского). Вместе с
тем она критиковалась не только сторонниками официальной
интерпретации марксизма. С нею спорили и отдельные
философы, входившие в новое философское движение. Так,
например, М. А. Лифшиц предложил понимание идеального как
существующего объективно в самой природе. Д. И.Дубровский
критиковал ильенковское понимание, опираясь на
философское осмысление данных нейрофизиологии, теории
информации, кибернетики.
Интенсивно разрабатывался деятельностный подход в двух
планах: во-первых, как способ понимания человека, его
творческой природы и выхода за пределы любой наличной
ситуации, во-вторых, как важный методологический принцип
в науках о человеке, позволяющий разрушить непроходимую
стену между внешним и «внутренним», субъективным миром.
При разработке этой проблематики философы опирались на
ранние работы Маркса, а также на традицию немецкой
философии от Фихте до Гегеля, на некоторые идеи мировой
философии XX в. (В. А. Лекторский, В. С. Швырёв). На основе
философского понимания была разработана психологическая
теория деятельности (А. Н. Леонтьев), связанная с традицией
Л. С. Выготского и ставшая программой теоретических и
экспериментальных исследований. Г. П. Щедровицкий создал
«Общую теорию деятельности», в рамках которой он и его
школа анализировали не только познающее мышление как
особый вид деятельности, но и методологию проектирования
и создания разных организационных структур. Успешно раз-
14 В. А. Лекторский
вивается до настоящего времени возникшее на основе этой
теории движение, включающее философов, методологов,
психологов, системотехников и других специалистов,
обсуждающих теоретические проблемы и решающих практические
задачи.
Начиная с 70-х гг. прошлого столетия особое внимание
стало уделяться проблемам философской антропологии. Если
первоначально ключом к пониманию человека служил
принцип деятельности, то затем ряд философов стал усматривать
специфику человеческого бытия в общении, подчеркивая его
несводимость к деятельности (Г. С. Батищев). Интерес
привлекали такие экзистенциальные состояния, как вера,
надежда, любовь (В. И. Шинкарук). И. Т. Фролов анализировал
проблему смысла жизни и смысла смерти в контексте
взаимоотношения философии и естествознания. М. К. Мамардашви-
ли разработал антропологическую концепцию, в центре
которой феномен индивидуального сознания. При этом он
ассимилировал ряд идей феноменологии и экзистенциализма и
попытался совместить это понимание с идеей о существовании
объективированных идеальных форм и марксовым понятием
превращенных форм деятельности. С. Л. Рубинштейн создал
своеобразную онтологическую антропологию, согласно
которой сознание не противостоит бытию, а через человека
включено в него и меняет его структуры и содержание — такое
понимание было несовместимо с принятым тогда пониманием
философского материализма. В контексте интереса к
проблеме человека стали интересно разрабатываться проблемы
этики (О. Г. Дробницкий, А.А.Гусейнов). Начал оригинальные
исследования философии религии Л. Н. Митрохин.
Уникальной была разработка А. А. Зиновьевым проблем
социальной философии. Уникальность выражалась не только
в оригинальности выдвинутых им идей, но и в том, что в тех
условиях такие разработки нельзя было публиковать ни в каком
виде. В форме так называемой «логической социологии»
А. А. Зиновьев создал философско-научную систему, в рамках
которой анализировались основные социально-культурные и
антропологические проблемы, исследовались системы
«коммунизма» и «западнизма». То, что писал высланный из страны
в 1978 г. А. А. Зиновьев, публиковалось на Западе, было
запрещено в нашем отечестве не только для обсуждения, но и
даже для чтения, хотя тайно читалось, горячо обсуждалось и
оказывало большое влияние и на нашу философию, и на нашу
культуру в целом.
От редактора 15
Важным философским событием стало появление
капитального восьмитомного труда А. Ф. Лосева «История
античной эстетики» (М., 1963—1994). В нем автор исходит из
убеждения, что древнегреческая и эллинистически-римская
культура характеризуется в своей основе
эстетико-космологической направленностью, дает оригинальную и целостную
панораму философии античности, которую по праву можно
считать ее русской версией.
Начавшаяся в 60—70-е гг. активизация философской
жизни и возрождение философии в стране затронули и другие
области философского знания, правда значительно слабее, чем
теорию познания, логику и методологию науки. Прежде всего
следует отметить подъем в изучении истории философии.
Методологические проблемы историко-философских
исследований разрабатывались Т. И. Ойзерманом, А. С. Богомоловым.
Историко-философская наука обогатилась трудами по
античной, средневековой философии, философии эпохи
Возрождения, Нового и Новейшего времени (В. В. Соколов).
Исследовались различные направления современной западной
философии — феноменология, экзистенциализм, неотомизм,
философская антропология, критический рационализм,
прагматизм, неопозитивизм, герменевтика, структурализм и др.
(П. П. Гайденко, Э. Ю. Соловьёв, Н. В. Мотрошилова).
Исключительную роль в философской жизни этого времени
играл журнал «Вопросы философии», который (особенно в
60-е и 70-е гг., когда главным редактором журнала был
И. Т. Фролов, а его заместителем М. К. Мамардашвили)
сделался центром притяжения для многих наших интеллектуалов,
при этом не только для философов. В журнале обсуждались
вопросы, касающиеся как взаимоотношений философии и
естествознания, так и проблем экологии, культуры,
образования, истории — все они были связаны с главными
мировоззренческими исканиями времени.
Важным событием не только в философской, но и в
культурной жизни страны стало издание в 60-е и 70-е гг.
пятитомной «Философской энциклопедии». Это была по тем
временам необычная попытка дать более или менее объективное
изложение как марксистского понимания философских проблем,
так и их немарксистской интерпретации. «Философская
энциклопедия» ввела огромный массив историко-философского
знания, в ней впервые за многие годы было рассказано о
русских религиозных философах, идеи которых в те годы нельзя
было обсуждать на академическом уровне. В «Философской
16 В. А. Лекторский
энциклопедии» был опубликован ряд принципиальных
теоретических статей Э. В. Ильенкова, А. А. Зиновьева, М. К. Ма-
мардашвили, Г. С. Батищева, С. С. Аверинцева, Ю. А.
Левады и др., имевших большой резонанс. Несколько сот статей
написал в ней А. Ф. Лосев. Осуществление такого рода
проекта даже в это время, более либеральное по сравнению с тем,
которое ему предшествовало, было исключительно трудно.
И все же это удалось сделать. Велика заслуга в этом
A. Г. Спиркина, бывшего заместителем главного редактора
этого грандиозного издания.
Некоторые из выдающихся философов России этого времени
изначально не принимали марксизм. К ним относится А. Ф.
Лосев. Это же можно утверждать относительно М. М. Бахтина.
Рано отошел от марксизма и стал яростным критиком
советской системы А. А. Зиновьев. Но все же большинство
философов, определивших ренессанс второй половины XX в.,
первоначально (при всем их резком неприятии официального
марксизма-ленинизма) были исполнены веры в то, что у Маркса
есть такие идеи, которые нужно всерьез принимать и
разрабатывать. Только во второй половине 70-х и 80-е гг. ряд из них
стал выходить за пределы марксизма. Это относится,
например, к Г. С. Батищеву, который сначала был одним из самых
интересных интерпретаторов ранних гуманистических идей
Маркса, к М. К. Мамардашвили, который свою известную
концепцию «превращенных форм» создал в связи с изучением
«Капитала». Это же можно сказать о С.Л.Рубинштейне,
B. С. Библере, М. К. Петрове. Остались убежденными
марксистами Э. В. Ильенков, М. А. Лифшиц, Б. М. Кедров,
И. Т. Фролов, П. В. Копнин, но марксизм этих людей был
глубоко подозрителен для власть имущих.
Впрочем, нужно заметить, что идеологической критике,
при этом очень жестокой, по сути дела — травле,
подвергались все наши выдающиеся философы того времени
независимо от того, считали ли они себя сами марксистами. Ибо за
еретическую, «ревизионистскую» принималась любая
оригинальная философская концепция. Идеологические
бюрократы не без основания усматривали в такого рода
произведениях скрытую критику власти и порядка. А. Ф. Лосев провел
несколько лет в лагере, в течение долгого периода не имел
права публикации философских текстов. А в 70-е гг. его
большой труд о философии В. С. Соловьёва был запрещен к
изданию. М. М. Бахтин много времени провел в ссылке и
только в 70-е гг. начал получать признание. С. Л. Рубин-
От редактора 17
штейна подвергали травле. Б. К. Кедрова несколько раз
снимали с занимаемых им постов, объявляли взыскания по
партийной линии. А. А. Зиновьев был исключен из партии,
изгнан с работы и выслан из страны. П. В. Копнин, директор
Института философии АН СССР, умер в сорок девять лет от
болезни, спровоцированной разнузданной идеологической
травлей. И. Т. Фролов противостоял шквалу критики и как автор
«еретических» с официальной точки зрения текстов, и как
главный редактор журнала «Вопросы философии»,
считавшегося «ревизионистским». Э. В. Ильенков всю жизнь имел
разнообразные партийные взыскания, был в свое время
изгнан из МГУ. На его раннюю смерть также повлияла
идеологическая травля. М. К. Мамардашвили сначала сняли с поста
заместителя главного редактора журнала «Вопросы
философии», а затем изгнали из Института истории естествознания
и техники, после чего он переехал в Тбилиси. Г. П. Щедро-
вицкий и М. К. Петров были исключены из партии и имели
большие проблемы с трудоустройством. Э. Г. Юдин несколько
лет провел в лагере. В. С. Библер постоянно находился под
подозрением, неоднократно был вынужден менять место работы.
М. А. Лифшиц подвергался разного рода нападкам в течение
всей жизни. Вопрос об увольнении Г. С. Батищева из
Института философии АН СССР возникал неоднократно. В. Ф.
Асмус всю жизнь был подозреваемым в разного рода
идеологических прегрешениях и на основании его текстов, и в связи с
дружбой с опальным Б. Л. Пастернаком. Непростой была
жизнь и В. А. Смирнова. Всегда настороженным оставалось
отношение официальных инстанций к тартусско-московской
семиотической школе, возглавляемой Ю. М. Лотманом.
Практически все философы, которым посвящены тома
данной серии, испытывали серьезные трудности с печатанием
своих произведений. У многих осталось большое рукописное
наследие, которое явилось источником публикаций после
смерти и, как правило, уже в другое время. Что-то из
неопубликованного читалось близкими, друзьями, учениками,
обсуждалось на семинарах, передавалось из рук в руки. Что-то
существовало в виде магнитофонных записей докладов,
выступлений.
Важно однако подчеркнуть, что и в тяжелейшей
идеологической обстановке настоящая (а не официальная) философская
жизнь была весьма интенсивной. Я вспоминаю эти годы как
время появления новых идей, дискуссий, как время
заинтересованного и критического чтения работ друг друга, участия в
18 В. А. Лекторский
совместных семинарах и конференциях, как время
интенсивных контактов с учеными, деятелями культуры.
Я хочу отметить одну важную особенность философской
жизни того периода.
Философы, книги о которых вошли в серию «Философия
России второй половины XX века», чувствовали свою
принадлежность к единому движению, противостоящему официальной
философии советского времени (представленной такими
именами, как М. Б. Митин, П. Н. Юдин, Ф. В. Константинов и др.).
С другой стороны, они остро полемизировали друг с другом:
Э. В. Ильенков с А. А. Зиновьеым, Г. П. Щедровицкий с
обоими, Г. С. Батищев с В. С. Библером, М. К. Мамардашвили с
Э. В. Ильенковым и Г. С. Батищевым, М. А. Лифшиц с
М. К. Мамардашвили и Э. В. Ильенковым и т. д. Иногда на
этом основании спрашивают: как же вы могли работы о столь
разных и даже взаимоотрицающих философах объединить в
одну серию? Но суть истории философии заключается в не-
скончаемыом споре, вечной полемике по важнейшим вопросам
человеческого бытия. В философии нет и не может быть
единственно правильной концепции, одного возможного решения.
Вся история философии — это обсуждение одних и тех же
проблем, которые в каждой культуре и в определенное время
получают конкретизацию. В споре Платона и Аристотеля в каком-то
смысле победили оба, ибо из этой полемики родилась вся
западная философия. Дело не в правоте или неправоте того или
иного подхода, а в том, насколько он может повлиять на
существующую практику в познании и культуре, насколько он
отвечает имеющимся интеллектуальным запросам и способен быть
включен в ту или иную исследовательскую и жизненную
программу. Конечно, это судьба не всех философских концепций.
Но про философов, книги о которых входят в серию, нужно
сказать, что каждый из них оказал серьезное влияние на разные
области науки и культуры: теорию естествознания, психологию,
культурологию, историю науки, теорию и практику
образования. Они имели множество сторонников (и не только среди
философов). Они основали философские школы, ряд из них
развивается и в настоящее время. Их идеи используются в
обсуждении проблем современной философии. В книгах серии эта
взаимная полемика представлена, и читатель может сравнивать
разные подходы, размышлять о достоинствах и недостатках того
или иного предлагаемого решения.
В истории русской литературы были Л. Н. Толстой,
Ф.М.Достоевский, И.С.Тургенев, не любившие и не при-
От редактора 19
знававшие друг друга. Между тем, каждый их них — это
классик, без которого русская культура не была бы тем, чем она
стала. Примерно то же можно сказать о выдающихся
философах России второй половины XX столетия.
Я еще раз хочу подчеркнуть, что идеи, выдвинутые тогда в
нашей философии, разработанные в ней концепции, не только
не остались в породившем их времени, как утверждают те, кто
не знает подлинной истории нашей философии. По моему
глубокому убеждению, многие из этих идей очень современны и
могут плодотворно взаимодействовать с теми подходами,
которые выдвигаются сегодня в мировой философии.
Каждый том серии посвящен исследованию идей того или
иного философа. Но понимание этих идей предполагает
знание конкретного социально-культурного контекста
возникновения и восприятия. Книга, которую вы держите в руках, как
раз и является попыткой воссоздания этого контекста. В ней
собраны рассказы очевидцев и участников философских
событий в нашей стране во второй половине XX столетия. Авторы
не только вспоминают былое, но и пытаются анализировать
события в свете сегодняшнего опыта. Такого рода тексты мне
представляются уникальными. Конечно, важно и нужно
истолковывать идеи ушедших от нас выдающихся людей. Но это
будут делать и наши потомки — не исключено, иногда даже
лучше, чем мы. А вот рассказать о событиях, в которых мы
участвовали, кроме нас некому. Между тем, эти свидетельства
говорят о том, что философия — это не только идеи на
высшем уровне абстракции, но и стиль жизни, образ поведения в
неповторимых, нередко труднейших обстоятельствах.
В. А. Лекторский
I. Беседы
Важно, чтобы работа не прекращалась../
Интервью И. Т. Касавина с В. С. Стёпиным
Беседа первая. Система отсчета
[\асавин И. Т. Вячеслав Семёнович, Вы пришли на
отделение философии исторического факультета
БГУ в 1951 г., едва ли не в самые мрачные времена
для российской интеллигенции. В аспирантуру Вы
поступали уже в год XX съезда КПСС,
разоблачившего культ личности Сталина, в эпоху радикального
изменения духовного и общественного климата в
бывшем СССР. Как этот перелом повлиял на Ваше
отношение к философии, на Вашу
исследовательскую ориентацию? Каким образом протекал
образовательный процесс в те времена, какая литература
была доступна, с каким настроением студенты
изучали философию?
Степан В. С. Я сейчас вспоминаю эти годы. На
первом курсе нас заставляли изучать в основном
произведения Сталина «Анархизм или социализм», «О
диалектическом и историческом материализме»,
«Марксизм и вопросы языкознания». Еще была
такая книжка — «Очерки диалектического
материализма» Леонова (был такой, сегодня почти
неизвестный автор). Все остальные учебники или учебные
пособия не рекомендовались, считались идеологически
невыдержанными. Да и просто люди боялись их
писать, по некоторым разделам философского знания
* Вопросы философии. 2004. № 9. С. 16—71.
Важно, чтобы работа не прекращалась... 21
их вообще не было. В начале второго курса я понял одно:
чтобы получить философское образование, надо прочитать всех
классиков философии, хотя бы по одной основной книге. И я
поставил себе такую цель — прочитать главные труды всех
великих философов.
Касавин И. Т. Вы имеете в виду еще издания 30-х гг.?
Степан В. С. Да, были в библиотеках и дореволюционные
издания, и переизданные в 20-х, 30-х гг. Была «Наука логики»
Гегеля, был Кант в переводе Н. О. Лосского. В 50-е гг. или
немного позже появились произведения Декарта, но они были
перепечатаны с каких-то уже изданных работ. И по ним я
изучал философию. Чтение было основным источником
образования, и я бы сказал даже во многом самообразования,
причем тут и там возникали забавные коллизии. Например, когда
я изучал Канта в начале третьего курса и стал читать
«Критику чистого разума» в переводе Н. О. Лосского, то взял книгу в
библиотеке Дома правительства. Надо сказать, что в Минске
тогда были две больших библиотеки. Одна из них —
Ленинская библиотека, публичка, но там трудно было достать
нужные книги, они вечно были на руках. И вот я по специальной
договоренности пошел в библиотеку Дома правительства и, к
своему изумлению, увидел, что книга Канта даже не
разрезана, т. е. до меня ее никто не читал.
Касавин Я. Т. Наверное, не такая она была простая для
чтения тогдашней студенческой молодежью?
Стёпин В, С. Непростая, верно, но самое интересное, что
когда я делал доклад по «Критике чистого разума», то
выяснилось, что и наш преподаватель не читал ее, а Канта знал по
«Пролегоменам», поэтому он понятия не имел, что такое
трансцендентальное единство апперцепции, а это одно из
ключевых понятий в гносеологии Канта. Так что
самообразованием приходилось заниматься достаточно серьезно. Нельзя
сказать, что все преподаватели были плохие, среди них
попадались очень толковые люди. В общем, не скажу, что уж совсем
все было плохо, просто годы были такие. Когда я спрашиваю,
как было в МГУ в те же годы, то слышу, что примерно то же,
только, может быть, чуть побольше вольнодумия было здесь, в
столице.
Касавин И. Т. Известный немецкий философ Курт Хюбнер,
кстати Ваш добрый знакомый, часто рассказывал мне, как он
в 60-е гг. прошлого века, будучи уже профессором
Технического университета Берлина, специально взялся за изучение
физики, чтобы иметь возможность квалифицированно рабо-
22 Интервью И. Т. Касавина с В. С. Стёпиным
тать в философии науки. Примерно в то же время Вы
критически анализировали ту же самую неопозитивистскую
философию науки, о которой говорит Хюбнер. Как складывались
Ваши отношения с естествознанием и какие уроки из этого
могут вынести молодые философы наших дней?
Стёпин В, С. На втором курсе философского факультета
был обязательный предмет — естествознание, включавший
основы математики, физики и биологии. И нам очень повезло,
что физику философам читал замечательный человек —
доцент И. 3. Фишер. Он прекрасно знал теоретическую физику,
но нам читал общую физику — доступно и ясно. У меня еще со
школьных лет остался интерес к точным наукам, и потом я
понял: чтобы заниматься философией, надо кроме нее знать еще
и точные науки. Мое тяготение к философии науки было,
вероятно, связано и с тем, что в то время социальная философия
была очень сильно идеологизирована. Сплошная
догматическая, лозунговая система преподавания не привлекала меня не
потому, что я не разделял эти идеи; наоборот, я воспитывался
вполне в коммунистическом духе — так нас выпускали из
школы. Кстати, школа тогда давала фундаментальные и очень
хорошие знания по математике и естественным наукам, но
вместе с тем она формировала человека иллюзорного мира.
Будет счастливое общество, все люди будут счастливы, будет
коммунизм — самое счастливое общество на Земле. В это
верили. Правда, когда мы вышли из школы в жизнь, то
постоянно сталкивались с тем, что все эти идеалы имеют к жизни мало
отношения и даже противоречат тому, что в жизни
происходило, но все это было уже потом. Поэтому я не скажу, что у меня
было отторжение коммунистических идей. Но преподавали
марксистскую теорию общества, социализма и коммунизма
скучно и догматически. Да это и понятно: люди читали по
конспектам, очень боялись сказать свое слово, потому что тогда
легко было нарваться на политическое обвинение. Например,
студент мог написать в парторганизацию, что преподаватель
прививает ему не те взгляды. Тогда началось бы
расследование, преподавателя могли уволить, а то еще и посадить. В
общем — это была сталинская эпоха во всем разгаре, во всей
прелести. В те времена был у нас замечательный
преподаватель доцент В. И. Степанов, читавший диалектический
материализм. Как-то у него на семинаре мы изучали работы
Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» и «О
диалектическом и историческом материализме» — знаменитую
четвертую главу Краткого курса истории ВКП(б). В этих рабо-
Важно, чтобы работа не прекращалась... 23
тах приводился такой тезис, что с преобразованием базиса
исчезает и его надстройка, поскольку надстройка обслуживает
базис. А я уже перед этим почитал Ленина и заметил
противоречие. У Ленина есть такая мысль: когда буржуазия приходит
к власти, то она не разрушает государственный аппарат,
сложившийся в эпоху феодализма, а использует его как главный
инструмент для укрепления своей власти. Однако, по всем
канонам марксистской схематики, государственный аппарат —
это надстройка, значит, получается, что элементы старой
феодальной надстройки обслуживают новый буржуазный базис.
Вот с этим я и выступил на семинаре, и помню ужас на лице
доброго Василия Ивановича, когда он закричал: «Что ты тут
Сталину приписываешь всякие нелепые вещи, садись». Потом
я подошел к нему после занятия и говорю: «Как же так,
Василий Иванович, это же у Ленина написано». А он мне:
«Выброси это из головы». Потом, увидев меня в коридоре, подумал,
что я к нему еще раз хочу подойти, закрылся в кабинете, чтобы
не продолжать этой скользкой темы. Такие были времена, что
же делать. До многого доходили своим умом.
Для меня то, что относилось к философии науки, было
особенно интересно. В общем, я понял, что кроме истории
философии надо изучить еще и естествознание. И начал изучать
физику. Мой энтузиазм усилился после экзамена, когда
Иосиф Залманович Фишер не только похвалил меня за мои
ответы, но и посоветовал перейти учиться на физфак. Я остался на
философском, но спросил И. 3. Фишера, нельзя ли мне ходить
на его лекции. Он разрешил. Оформив в деканате право на
посещение лекций и обучение на физфаке, я начал постигать
основы современной физики. В этом мне помогал мой друг —
у меня там было много друзей из физиков, но наиболее
близким был и остается Лев Митрофанович Томильчик, Лева То-
мильчик. Сейчас он член-корреспондент, заведующий
лабораторией теоретической физики Института физики Белорусской
академии наук. Тогда он учился на пятом курсе, я был на
третьем, потом он стал аспирантом — я перешел на
четвертый курс. Помню, он мне помогал разобраться в квантовой
механике, а затем в квантовой электродинамике и теории
квантовых полей. Иногда мы ужинали в ресторане (был на
вокзале дешевый ресторан, где можно было поужинать за
студенческие деньги), и часто на бумажных салфетках писали
формулы, чем вызывали большое уважение у официантов.
Диплом я писал на философском, но его основное содержание
было посвящено анализу копенгагенской интерпретации кван-
24 Интервью И. Т. Касавина с В. С. Стёпиным
товой механики. Тогда его хвалили, говорили, что это уже
готовая кандидатская диссертация. Поступив в аспирантуру, я
продолжил работу над этой тематикой и стремился выделить
то физическое содержание современных теорий, которое
получают различные философские интерпретации и обсудить,
как физика и математика влияют на развитие философии.
В качестве темы диссертации я выбрал критический анализ
позитивизма Венского кружка и начал писать работу с целью
доказать, что, поскольку Венский кружок — это продолжение
позитивистских идей Маха, а Маха критиковал Ленин, значит,
ничего положительного для науки там быть не должно. Так и
руководитель меня настраивал. Я прочитал Р. Мизеса, Л. фон
Крафта, М. Шлика, В. Карнапа, К. Поппера. Прочитал
практически все основные труды Венского кружка, сам переводил
Ф. Франка; до сих пор у меня лежат тетради с этими
переводами. Начал писать диссертацию, исходя из принятой в то время
установки, что позитивизм — разновидность идеалистической
философии, связанной с целым рядом неправильных
принципов, а потому — с искажением самой науки, научного метода.
Но, по мере того как вникал в суть дела, я обнаружил, что
исходная установка не находила у меня аргументированного
подкрепления. В общем, я написал какой-то текст, где первая
половина была в духе критики того времени (сходной с работами
И. С. Нарского), а во второй части я пытался показать, что
некоторые идеи позитивизма (например, различение
эмпирического и теоретического языка) имели рациональный смысл и
их можно сохранить в новой интерпретации, но у меня это не
очень получилось. Так или иначе, но мне надо было отчитаться
о проделанной работе за три года аспирантуры. К моему
удивлению, кафедра в целом одобрила представленный текст
(были сделаны замечания частного характера) и
рекомендовала его к защите с учетом высказанных замечаний. С самого
начала у меня не было желания защищаться по этому тексту,
он мне не нравился, это был, в лучшем-случае, начальный
вариант, да еще и не совсем качественный, и я его дорабатывать
не стал. Как начать заново писать и как аргументировано
критиковать позитивизм, мне было тогда не понятно. Я физику
XX в. уже знал и видел, что у позитивистов были идеи,
которые положительно воспринимались естествоиспытателями.
Известно, что А. Эйнштейн, прочитав «Механику» Э. Маха,
дал довольно высокую оценку этой книге.
В нашей философии в 50-х гг. были публикации, которые
объявляли теорию относительности махистской и несовмести-
Важно, чтобы работа не прекращалась... 25
мой с диалектическим материализмом. К началу 60-х гг. эти
примитивные оценки фундаментальных физических теорий
уже преодолевались. Но проблема аргументированного
критического анализа позитивизма оставалась и обретала все
большую актуальность. Поскольку у меня еще не было в
распоряжении достаточно эффективных средств решения этой задачи,
я забросил эту тему и ушел на преподавательскую работу в
Политехнический институт.
Касавин И. Т. И чем Вы там занялись?
Стёпин В. С. Там потребовалось читать много разных
курсов. Я читал курс математической логики на факультете
радиофизики, что для меня особого труда не составило;
диалектический материализм я тоже преподавал, но этого было мало
для учебной нагрузки. Тогда меня обязали читать курс
эстетики на огромных потоках, я увлекся этим. На следующий год
мне предложили читать теорию искусства на архитектурном
факультете. Внутри курса была теория архитектурной
композиции, в чем я вообще плохо разбирался. Поэтому я попросил,
чтобы меня послали в Ленинград на стажировку. Я прошел
первоначальный курс теории архитектурной композиции в
ЛВПХУ им. В. Мухиной, понял, как организуется
архитектурное пространство. После стажировки я вернулся и с
удовольствием читал курс теории искусства на архитектурном
факультете пятнадцать лет. Этот курс включал два больших блока:
исторические закономерности развития искусства и язык
видов искусства. Язык живописи я читал на экспозиции
белорусского музея; кстати, там замечательная экспозиция, по ней
очень хорошо видно, как исторически развивались
выразительные средства живописи. Язык кино я читал, используя
кинофильм режиссера Ричарда Викторова «Третья ракета». Он
тогда работал на киностудии «Беларусьфильм», и мы с ним
были дружны. Позднее он перешел на «Мосфильм» и более
известен по своему фильму «Москва—Кассиопея». Но фильм
«Третья ракета» был замечательный, хотя его, как часто было
в те времена, раскритиковали за пацифизм. Р. Викторов
подарил мне узкопленочный вариант этого фильма, две бобины, и
когда я читал лекции по языку кино, то на этом материале
показывал, как строится кадр, что такое внутрикадровый
монтаж, каковы выразительные возможности крупного плана,
причем мне в голову не приходило, что там многие фрагменты,
которые я обсуждал со студентами, не допущены цензурой.
Касавин И. Т. Так что же стало с Вашей диссертацией в
конце концов?
26 Интервью И. Т. Касавина с В. С. Стёпиным
Стёпин В. С. Работать со студентами было интересно, и
про диссертацию свою я как-то не вспоминал. Но через
четыре года я столкнулся с таким мнением: вот, мол, смотрите,
умник какой — и физикой занимался, и философией, его в три
аспирантуры сразу рекомендовали, по трем кафедрам, и он
выбирал, в какую идти, а диссертацию до сих пор не защитил.
Меня это уязвило, да и на кафедре все советовали
защититься, а потом заниматься, чем хочу. И я снова сел за
диссертацию уже где-то в 1963 г., через четыре года после окончания
аспирантуры. И написал ее новый вариант. Расширение поля
моих занятий позволило преодолеть узость прежних
представлений о познании. Возникло понимание того, что гносеология
должна учитывать особенности не только науки, но и других
форм познания — художественного, философского,
обыденного. Идея взаимодействия всех этих форм в историческом
развитии культуры сегодня воспринимается почти как
постулат. А в тот период она была совсем нетривиальна. В процессе
чтения курса по теории искусства я обратил внимание на
своеобразные переклички и взаимное влияние мировоззренческих
образов, возникающих в науке и в искусстве. Что же касается
взаимодействия науки и философии, то важно было
проанализировать под этим углом зрения реальную историю науки.
В нашей литературе к этому времени появились исследования,
нацеленные на решение этой задачи. Для аргументированной
критики позитивизма они давали определенный материал.
Но, пожалуй, главным для меня было понимание активно-
деятельностной природы познавательного процесса.
Традиционно критика позитивизма в советской философской
литературе была ориентирована теми представлениями о познании,
которые содержались в ленинской книге «Материализм и
эмпириокритицизм»: Но там акцентировалась трактовка
познания как копирования, зеркального отражения внешних
объектов. По существу это был вариант наивно реалистической
концепции познания. Лишь в более поздних работах В. И.
Ленин видоизменяет эту трактовку. Он пишет о практической
природе познавательного процесса, включенности практики в
этот процесс, восстанавливая в правах идею Маркса, что
объект дан познающему субъекту не в форме созерцания, а в
форме практики. Для критики позитивизма продуктивнее была
именно вторая, деятельностная версия теории познания.
Второй и третий этапы развития позитивизма
(эмпириокритицизм и неопозитивизм) возникали в эпоху, когда научные
революции во второй половине XIX — первой половине
Важно, чтобы работа не прекращалась... 27
XX вв. остро поставили проблему разработки новых
методологических оснований науки. Классический идеал теории как
абсолютно правильного и наглядного «портрета» реальности
ставился под сомнение.
Выяснилось, что одни и те же законы природы могут быть
выражены с помощью разных теоретических понятий.
Например, длительное соперничество альтернативных
исследовательских программ электродинамики Ампера—Вебера, с одной
стороны, и Фарадея—Максвелла, — с другой, показало, что
возможны разные формулировки законов электромагнетизма.
Победа полевой концепции Фарадея—Максвелла вовсе не
означала, что законы, сформулированные Ампером и Вебером,
неправильны и им ничего не соответствует в физическом
мире. Из физической картины мира были исключены
представления о теплороде, электрическом и магнитном флюидах
как об особых субстанциях — носителях сил. Но законы
феноменологической термодинамики и первых вариантов теории
электричества и магнетизма остались, хотя они возникали в
рамках неадекватных онтологических представлений. После
того как механическую картину мира сменила
электродинамическая (последняя четверть XIX в.), были предложены новые
формулировки механики. Г. Кирхгоф предложил исключить
понятие силы из числа фундаментальных понятий механики,
оставив его только как производное, вспомогательное
понятие. Г. Герц предложил новую формулировку механики, исходя
из представлений о мировом эфире и физических полях как о
состояниях эфира. Сила и энергия в его концепции выступали
не как основные, а как вспомогательные понятия,
выражающие изменения конфигурации масс.
Короче, остро возникла проблема онтологического статуса
понятий и представлений научной картины мира. Э. Мах
критиковал представления об абсолютном пространстве и
времени, которые перешли из механической в электродинамическую
картину мира. Как позднее выяснилось, они действительно
были идеализациями, которые имели ограниченную область
применимости. Установление этих границ и отказ от
представлений об абсолютном пространстве и абсолютном времени
были связаны с формированием теории относительности.
Кстати, можно показать, что даже в маховской критике
атомистики, при всей ее неприемлемости в целом, было
рациональное содержание. Атомистические концепции в физике XVII—
XIX вв. базировались на представлении о неделимости атома
как «первокирпичика» материи. Но Мах справедливо указы-
28 Интервью И. Т. Касавина с В. С. Стёпиным
вал на то, что это всего лишь теоретический конструкт, но не
сама реальность, и что он может разделить судьбу теплорода.
Правда на этом основании он заявлял, что атомы — это
«шабаш ведьм», и отбрасывал саму идею атомистики, за что,
конечно, Маха следовало критиковать.
Тем не менее проблему онтологизации позитивизм выделил
правомерно, она стала действительно актуальной в условиях
интенсивного развития науки. Натурфилософские концепции
классического этапа естествознания, обосновывавшие те или
иные его онтологические постулаты, утратили свою ценность.
Наука нуждалась в новой методологии. Отсюда и вырастала
позитивистская программа «реконструкции философии». Она
полагала, что разработка методологических проблем науки
должна осуществляться средствами самой науки без
обращения к метафизике (методология как позитивная философия).
От метафизики же науку нужно очистить.
Уже тогда я понял, что именно в такой постановке
проблемы была скрыта логика дальнейшей эволюции позитивизма.
Сегодня эту логику я охарактеризовал бы следующим
образом. Подход позитивизма вводил особую и весьма
ограниченную идеализацию науки. Во-первых, наука рассматривалась
как абсолютно автономное образование, не связанное с
философией и, более широко, не связанное с другими сферами
культуры. Она рассматривалась вне культуры и культурной
традиции. Во-вторых, она рассматривалась вне связи с
деятельностью. В-третьих, наука рассматривалась вне ее
исторического развития. Кстати, неисторический подход нашел
выражение в том, что позитивизм искал последнюю и абсолютно
правильную научную методологию, которая на все времена
обеспечила бы прогресс науки.
Возникает вопрос, что же можно было получить в рамках
такой идеализации науки? Можно было выявить структуру
ставшего знания, выделить его эмпирический и теоретический
уровень, проанализировать особенности теоретических и
эмпирических терминов, провести различие между наблюдением
и фактом (факт как конструкт, который образуется при особой
обработке, интерпретации данных наблюдений).
Все это позитивизм сделал. И за это его критиковать не
следует. Но в рамках исходной идеализации, принятой
позитивизмом, невозможно было выявить механизмы развития
знаний, формирования новых теорий, изменения
фундаментальных понятий и принципов науки, взаимодействия наук и
включения в культуру результатов научных исследований. Короче,
Важно, чтобы работа не прекращалась... 29
философско-методологическая проблематика резко сужалась,
в рамках позитивистской парадигмы нельзя было понять, как
развивается и функционирует в культуре научное знание.
Нельзя сказать, что в то время, приступая к написанию
диссертации, я четко эксплицировал все изложенные выше
принципы критики позитивизма. Но основу я нащупал и с этих
позиций сначала опубликовал небольшую книжку
«Современный позитивизм и частные науки» (Минск, 1963), а затем в
следующем году довольно быстро написал текст диссертации.
По тогдашним нормам кандидатская была объемом равна
нынешней докторской — примерно триста страниц. Я ее
успешно защитил. Это было моим возвратом в сферу философии
науки, и после защиты я начал всерьез работать над
методологической проблематикой.
Касавин И, Т. В 70—80-е гг. прошлого века Вы
разрабатывали концепцию структуры и генезиса научной теории, в
дальнейшем нашедшую широкий круг приложений в методологии
естественных и технических наук. Одновременно
складывалась и Ваша первая научная школа, получившая название
минской методологической школы. На ландшафте
марксистской философии все это были весьма значимые события.
Какие обстоятельства тому предшествовали, сопутствовали?
Откуда Вы черпали идеи и вдохновение? Какие идейные и
мировоззренческие мотивы двигали Вами тогда?
Степан В. С. Для этого надо вернуться к середине 60-х.
Работать над концепцией структуры и генезиса теории я начал
практически сразу же после защиты диссертации. К этому
времени я понял: чтобы серьезно заниматься анализом
научного знания, процедур его порождения, его истории, нужно
брать в качестве основы оригинальные тексты истории науки.
Эти тексты и являются эмпирическим материалом для
философа науки. В них запечатлена своеобразная лаборатория
научного мышления той или иной исторической эпохи, способы
и операции познания, которые стали культурной традицией.
Целью было выяснить, как устроено и как развивается
научное знание, как формируются новые научные теории. Над этой
проблемой работали как зарубежные, так и отечественные
методологи. Это была ключевая проблема философии науки
60—80-х гг. Она и сегодня остается фундаментальной
проблемой этой области философского знания. Но чтобы решить ее,
только изучения текстов истории науки было недостаточно.
Необходимо было выработать методологические гипотезы,
которые определили бы особое видение текстов. Проверяя мето-
30 Интервью И. Т. Касавина с В. С. Стёпиным
дологические идеи путем анализа этих текстов, философ науки
осуществляет исторические реконструкции тех или иных
фрагментов эмпирической истории науки. Между
методологическими идеями и их эмпирической проверкой всегда лежат
исторические реконструкции. Проверяя ту или иную
методологическую идею на материале текста, мы видим текст в
определенном ракурсе, с определенных позиций и
одновременно реконструируем его.
К концу 60-х гг. у меня возникла исходная идея анализа,
на формирование которой оказали влияние исследования
Г. П. Щедровицкого и Э. Г. Юдина. Рассматривая знание с
позиций деятельностного подхода, я особо акцентировал
внимание на операциях с идеальными объектами, которые могут
репрезентировать в познании реальные объекты, их свойства
и отношения. Я для себя сформулировал следующую гипотезу.
Аналогично тому, как в практической деятельности мы
оперируем реальными объектами, переносим их из одной системы
практических действий в другую, подобно этому мы действуем
в познании с идеальными объектами. Отсюда вытекал ряд
задач. Прежде всего нужно было выявить типы идеальных
объектов и их связей в системе научного знания, выявить их
системную организацию. Далее нужно было рассмотреть, как
формируются новые идеальные объекты в процессе
оперирования с ними, каковы механизмы их трансляции из одной
системы знания в другую, как в этом процессе порождается новое
теоретическое содержание и как осуществляется его
эмпирическое обоснование.
В методологической литературе уже было принято выделять
два типа идеальных объектов соответственно двум уровням
языка науки — эмпирические и теоретические. Важная идея
была высказана В. А. Смирновым, который показал, что
эмпирические объекты — это особые абстракции, применяемые
в эмпирических описаниях (например, «Земля», «Луна»,
«расстояние между Землей и Луной»), Их признакам всегда
можно сопоставлять признаки (свойства и отношения)
реальных объектов. В отличие от них теоретические объекты,
например, «материальная точка», «абсолютно твердое тело»,
являются идеализациями, теоретическими реконструкциями
действительности. Они наделяются признаками, не
существующими у реальных объектов опыта (материальная точка —
тело, лишенное размеров).
Далее, при анализе теоретических конструктов было
установлено, что в языке каждой теории они образуют особую
Важно, чтобы работа не прекращалась... 31
целостную сеть. Г. Маргенау подчеркивал, что лишь
отдельные элементы этой сети связаны с опытом посредством
операциональных определений. Остальные оправданы только в
рамках сети. Но тогда возникал вопрос о структуре сети. То,
как ее изобразил Г. Маргенау, было лишь первым и, в общем-
то, неадекватным представлением.
Мне удалось показать, что сама эта сеть имеет уровневую
организацию. Каждый уровень имеет особое ядро,
небольшой набор теоретических конструктов, которые в своих
связях образуют теоретическую модель исследуемой реальности.
Например, в ньютоновской механике (если взять ее эйлерову
формулировку) фундаментальными конструктами является
«материальная точка», «сила», «инерциальная
пространственно-временная система отсчета». В своих связях они
образуют обобщенную модель механического движения. Чтобы
отличить такого рода модели от аналоговых, применяемых в
качестве средства построения теорий, я назвал их
теоретическими схемами. В отличие от аналоговых моделей
теоретические схемы включаются в состав теории и обеспечивают
особое системное видение изучаемой реальности. Высказывания
теории, формулировки теоретических законов
непосредственно относятся к теоретическим схемам, и лишь в той мере, в
какой эти схемы могут быть обоснованы опытом,
теоретические высказывания могут применяться для объяснения
опытных фактов.
Соответственно двум уровням теоретических законов —
фундаментальным (типа трех законов Ньютона в механике) и
частным (типа закона малых механических колебаний,
вращения тел, движения тел в поле центральных сил, и т. д.) — я
выделил фундаментальную и частную теоретические схемы.
В результате теоретический уровень знаний предстал как
система, включающая два подуровня.
Теории нижнего уровня (частные теоретические х:хемы и
законы) могут существовать относительно самостоятельно.
Но они могут включаться в развитую теорию в качестве ее
разделов. Тогда частные теоретические схемы
модифицируются и предстают как производные от фундаментальной,
становятся ее «дочерними» образованиями. Соответственно и
частные теоретические законы предстают как следствие
фундаментальных.
Позднее, примерно лет через пять—семь после того, как я
получил все эти результаты, появились публикации И. Д. Сни-
да и В. Штегмюллера, где высказывались некоторые похожие
32 Интервью И. Т. Касавина с В. С. Сталиным
идеи относительно организации теоретического знания. Но,
честно говоря, меня это особо не беспокоило, хотя, конечно, было
бы хорошо, если бы полученные мной результаты были
известны на Западе. Но к этому времени я уже видел, что
продвинулся дальше и получил, как мне кажется, более аналитичные и
детализированные представления о структуре теоретического
знания.
Когда выяснилось, что организация этого знания
определена иерархией теоретических схем, возникла проблема, как
относиться к стандартным идеям о дедуктивном развертывании
теории. Известная схема Р. Брайтвайда о том, что из
высказываний верхних ярусов теории можно дедуктивно получить как
следствие высказывания нижних ярусов и затем сопоставить
их с результатами опыта, — эта схема требовала пересмотра.
Анализ реальных ситуаций вывода, применительно к
физической теории обнаруживал, что выведение частных
теоретических законов в качестве следствия из фундаментальных
законов предполагает сложную работу по модификации
фундаментальной теоретической схемы и построению частных. И здесь
уже нет одностороннего движения «сверху» от теории к
опыту, а возникает «челночное» движение между теоретическими
представлениями и опытом, где взаимодействуют дедуктивные
и индуктивные методы.
Новый взгляд на развертывание теории в процессе ее
функционирования противоречил стандартной концепции.
Подкрепление правильности своего анализа я обнаружил в идеях
генетически-конструктивного метода построения теории. Эти
идеи развивал В. А. Смирнов. Он различил гипотетико-дедук-
тивный и генетически-конструктивный метод и
проиллюстрировал особенности последнего на примере вывода в
эвклидовой геометрии. Я истолковал полученные мною результаты о
развертывании физической теории как вариант генетически-
конструктивного метода и показал, что этот метод доминирует
в опытных науках. Как всегда, решение одной задачи
перетекало в постановку другой. Потребовалось выяснить более
детально, как теоретические схемы соотносятся с опытом, каковы
механизмы такого соотнесения.
При решении этой задачи пришлось еще раз обратиться к
анализу структуры эмпирического знания. Я выявил
наличие в нем двух важных подструктур. Первая из них
представлена реальными экспериментами и ситуациями
наблюдения, к которым относятся данные наблюдения
(фиксируемые в протокольных высказываниях). Вторая — особыми
Важно, чтобы работа не прекращалась... 33
схемами экспериментально-измерительной деятельности,
которые построены из эмпирических идеальных объектов и
их связей. Такие схемы часто фиксируются в текстах в
форме чертежей и эмпирических описаний. Это схемы опыта и
схемы ситуаций наблюдения. Я назвал их эмпирическими
схемами и показал, что с ними непосредственно соотносятся
такие формы знания, как эмпирические зависимости и
опытные факты.
Здесь возникала еще одна проблема: как унифицировать
ситуации наблюдения вне эксперимента и наблюдения в системе
эксперимента, как выработать единое представление о дея-
тельностной природе эмпирического уровня знаний?
Решение было найдено на путях истолкования ситуаций
наблюдения в качестве квазиэкспериментальной деятельности.
На примерах систематического наблюдения в астрономии
было показано, что ранее изученные объекты природы могут
использоваться в функции квазиприборов. Например, в
наблюдениях за характером излучения Крабовидной туманности
использовалось ее покрытие Луной. Луна здесь
функционировала в качестве своего рода экрана, а ситуация наблюдения
выступала как осуществление своеобразного
квазиэксперимента, в котором наблюдаемый объект (излучение
Крабовидной туманности) взаимодействовал с рабочей частью квази-
экспериментального устройства (Луна) и затем результаты
взаимодействия фиксировались в регистрирующей подсистеме
этого «устройства» (приборами на Земле). Такого типа
наблюдения я обозначил как приборные ситуации. И по
признаку наличия приборной ситуации отделил систематические
наблюдения от случайных.
Эксперимент и приборные ситуации предстали в качестве
особого типа взаимодействия реальных объектов, у которых
активностью субъекта функционально выделены некоторые
наборы признаков. Каждый реальный объект обладает
бесконечным числом признаков, но его включение в эксперимент и
приборную ситуацию превращает его в объект с
функционально выделенными признаками. Такой объект можно
рассматривать в двух аспектах: и как реальный материальный объект, и
как своего рода квазиабстракцию нулевого уровня.
В результате всех этих напряженных размышлений над
проблемами структуры научного знания у меня возникло
представление о его многоуровневой иерархической организации,
где уровни связаны прямыми и обратными связями.
Изучаемая реальность на каждом из этих уровней представлена осо-
34 Интервью И. Т. Касавина с В. С. Сталиным
быми схемами изучаемого объекта и схемами деятельности
(реальными и мысленными экспериментами), а также
соответствующими формами их описания.
Касавин И. Т. Вы, по сути дела, говорите об истоках
минской методологической школы, которая складывалась в то
время и потом, в 70-е гг., стала известным объединением
единомышленников в рамках философии науки. Меня всегда
интересовало: была ли необходимость ее возникновения в
Минске или это чисто случайное событие?
Стёпин В. С. Я думаю, что есть несколько
взаимосвязанных факторов, в том числе и психологических. Все школы
возникают тогда, когда появляется человек с повышенным
энергетическим зарядом, который, активно занимаясь
исследованиями, вырабатывая новые идеи, заражает этим других. Есть
разные психологические типы личности. Есть люди, которые
работают преимущественно в одиночку, коммуникации с
другими осуществляют преимущественно через текст, книги. Они
редко обсуждают только зародившиеся идеи, пока не доводят
их до кондиции. Конечно, это не означает полной изоляции
таких исследований от живых обсуждений и общения. Они тоже
ориентированы на сообщество, участвуют в семинарах,
конференциях, предлагают свои результаты для обсуждения. Речь
идет о дом и наци и личной сосредоточенности и индивидуальной
работы.
Я же принадлежал к людям иного психологического склада,
которым нужна живая коммуникация именно в процессе
генерации новых идей. Им хочется поделиться тем, что они
открыли, но еще не написали. Когда я что-то открывал, это
приводило меня в состояние творческого возбуждения, и я делился
со своими друзьями — рассказывал им, обсуждал ту или иную
тему.
Разумеется, что такого рода активность — это
необходимое, но недостаточное условие возникновения школы. Нужно,
чтобы тот, кто претендует на лидирующее положение в
создающейся школе, генерировал новые идеи, чтобы эти идеи
были интересны тем, кому он их адресует. Нужна
содержательная работа. Я думаю, что ядро минской методологической
школы складывалось не тогда, когда у меня появились
аспиранты и неформальные ученики. Началом минской
методологической школы, если угодно — ее зародышем, были мои
дискуссии с физиками Белорусской академии наук, а затем и
совместная работа. Методологическую концепцию структуры
научного знания и его динамики в первом приближении я уже
Важно, чтобы работа не прекращалась... 35
имел. Поскольку она апеллировала к физическому материалу,
физикам это было интересно. Ну и, конечно, многое
определялось доверием, дружескими отношениями — ведь обсуждал я
свои идеи с Л. М. Томильчиком, его коллегами и аспирантами.
Проблема, которая интенсивно нами обсуждалась, —
проблема генезиса физических теорий. Как они создаются?
Известно, что А. Эйнштейн одним из важнейших
методологических уроков физики XX в. считал вывод, что теория не
возникает как простое индуктивное обобщение опыта. Исходя из
представлений о том, что ядром теорий являются
теоретические схемы, я переформулировал проблему как вопрос о
генезисе теоретических схем. Предварительно проделанный мной
анализ на материале частных теоретических схем
классической физики показал, что они вначале формируются как
гипотезы путем трансляции теоретических конструктов из уже
сложившихся областей теоретического знания и погружения этих
конструктов в новую сетку связей. Осуществляются эти
операции в процессе аналогового моделирования. Аналоговая
модель представляет сетку связей. В ней прежние конструкты
замещаются новыми. Приведу пример. Всем известно, что
Э. Резерфорд создал планетарную модель атома, доказав в
опыте с альфа-частицами существование атомного ядра.
Часто это открытие интерпретируют как свидетельство, что
теория возникает в результате индуктивного обобщения опыта.
Но на самом деле это не так. Планетарную модель атома в
качестве гипотезы предложил японский физик X. Нагаока в
1904 г., за восемь лет до опытов Э. Резерфорда. Само ее
построение было инициировано открытием делимости атома.
Возникла задача построить такую модель атома, чтобы в атоме
было одинаковое количество электронов и положительно
заряженных частиц и чтобы при этом он был устойчивым.
Нагаока использовал представление небесной механики о
вращении небесных тел (планет, спутников) вокруг центрального
тела. Он заимствовал из небесной механики теоретическую
схему, в которой вращение тел вокруг центрального тела
изображалось как движение точечных масс по орбитам вокруг
центральной точечной массы. Эту теоретическую схему он
использовал как аналоговую модель. Точечные массы он
заместил зарядами (электронами на орбитах и положительным
зарядом в центре, вокруг которого вращаются электроны). Так
была построена первая гипотетическая планетарная модель
атома. Аналоговая модель была носителем сети отношений,
заимствованной из механики. Положительные и отрицатель-
36 Интервью И. Т. Касавина с В. С. Сталиным
ные заряды заимствовались совсем из другой области
физического знания — из электродинамики. Соединение
теоретических конструктов из одной области с новой сеткой связей
привело к формированию новой теоретической схемы, на первых
порах гипотетической. И нужно было доказать правомерность
гипотетической модели, обосновать ее, апеллируя к
эмпирическим знаниям именной той области, на объяснение которой
претендовала новая модель.
В этом пункте возникал чрезвычайно важный сдвиг
проблем. Получалось, что новые теоретические конструкты
возникают не путем обобщения опыта, а путем преобразования
прежних конструктов за счет переносов их из одной области
знания в другую и погружения в новую сеть отношений. Но
ведь теоретические идеализации всегда рассматривались как
конечный результат мысленных экспериментов,
аккумулирующих реальные возможности опыта. В учебниках физики, в
физических и философских словарях, в книгах по теории
познания можно найти тому многочисленные и уже ставшие
стандартными примеры.
Допустим, речь идет об идеализации абсолютно твердого
тела. Опыт показывает, что под влиянием внешней силы тела
деформируются. Чем тверже тело, тем меньше деформация
при фиксированной силе. А дальше можно осуществить
предельный переход. Предполагается, что сила неограниченно
возрастает, а тело деформируется все меньше. Так возникает
идеализация абсолютно твердого тела.
Итак, следовало отвечать на вопрос: как формируются
теоретические идеализации? «Сверху», без обращения к опыту,
за счет операций с ранее построенными идеальными
объектами, или «снизу», как обобщение опыта?
В рамках разрабатываемой мною концепции ответ был
довольно простой: на стадии гипотезы — «сверху», а затем, при
обосновании гипотезы, — «снизу». Иначе говоря,
построенные за счет внутритеоретических операций новые конструкты,
образующие гипотетический вариант теоретических схем,
должны быть затем обоснованы как идеализации,
опирающиеся на особенности нового опыта. В случае с планетарной
моделью атома такое обоснование получил теоретический
конструкт — атомное ядро. Введенный в гипотетической модели
Нагаока, этот конструкт после опытов Резерфорда по
рассеиванию бета-частиц, был определен по признаку: «ядро — это
центр потенциальных отталкивающих сил, способный
рассеивать положительно заряженные тяжелые частицы на большие
Важно, чтобы работа не прекращалась... 37
углы». Нетрудно видеть, что это определение по существу
представляет собой описание мысленного эксперимента,
который выражал существенные черты проведенных Резерфор-
дом опытов по рассеиванию бета-частиц.
Вторичное конструирование абстрактного объекта теории
как идеализации, опирающейся на новую область опыта, —
это одно из условий придания теоретическим конструктам
онтологического статуса. Теоретические схемы, введенные на
стадии гипотезы «сверху» по отношению к опыту, затем в
процессе обоснования предстают как обобщение опыта.
Я обсудил все эти результаты с моими
друзьями-физиками, и мы сразу же зафиксировали, что подобный способ
обоснования гипотетических абстрактных объектов теории
лежал в основе формирования квантовой механики и
квантовой электродинамики. В квантовой механике соотношение
неопределенности Ap-Ax>h в принципе можно получить из
математического аппарата, из перестановочных
соотношений, но физический смысл оно обретает благодаря
мысленному эксперименту В. Гейзенберга по рассеиванию фотона
на электроне. А сам этот мысленный эксперимент был
выражением сущности тех экспериментов в атомной физике,
которые основаны на рассеянии одних частиц на других.
Аналогичным образом фундаментальные теоретические
конструкты квантовой электродинамики, созданные в процессе
построения ее математического аппарата, затем были
проверены на их обоснованность опытом в системе мысленных
экспериментально-измерительных процедур. В этих
процедурах были выражены основные особенности реальных
экспериментов и измерений в квантово-релятивистской
области (процедуры Бора—Розенфельда).
После всех этих обсуждений у меня не оставалось
сомнения, что обнаружена не описанная ранее в методологии науки
принципиально важная операция построения теорий. Я
предложил ее назвать процедурой конструктивного обоснования
теоретических объектов и теоретических схем. В своей
последующей работе я не раз возвращался к уточнению деталей
этой процедуры. В частности, описал порождение на стадии
гипотезы новых признаков теоретических конструктов в языке
логики как результат погружения абстрактного объекта в
новые отношения. Известно, что в новой системе отношений
абстрактные объекты всегда приобретают новые признаки.
А поскольку теоретические конструкты заданы как носители
строго определенных признаков, то это эквивалентно построе-
38 Интервью И. Т. Касавина с В. С. Стёпиным
нию новых конструктов из ранее созданных. Здесь прежние
признаки конструктов дополняются новыми. Но тогда
возникает новая задача: выяснить, совместимы ли новые и старые
признаки, нет ли между ними противоречия. Несовместимость
признаков может обнаруживаться в форме теоретических
парадоксов. В примере с планетарной моделью атома такого
рода парадокс был обнаружен применительно к
представлениям об электронных орбитах. В модели Нагаока—Резерфорда
электрон был наделен признаком устойчиво двигаться по
орбите вокруг ядра. Но поскольку электрон несет электрический
заряд, то по законам классической электродинамики при
вращении вокруг ядра он должен излучать, а вследствие этого
терять энергию и в конце концов падать на ядро. Атом в
планетарной модели становится неустойчивым. Признак электрона
«устойчиво вращаться вокруг ядра» и признак «нести
электрический заряд» оказывались несовместимыми.
Этот парадокс был обнаружен известным физиком В.
Вином. Он был устранен только благодаря развитию квантовой
теории, разработку которой, в числе других факторов, этот
парадокс тоже стимулировал. В квантовомеханических
представлениях об атоме орбиты были элиминированы (они —
неконструктивный объект).
Таким образом выявлялся новый аспект конструктивного
обоснования теоретических схем. Процедура уточнялась и
включила уже две взаимосвязанные операции:
1) проверка взаимной непротиворечивости признаков
теоретических конструктов;
2) выстраивание новых признаков как идеализации,
учитывающих особенности нового опыта, того на объяснение
которого претендует создаваемая теория.
Все эти уточнения процедуры конструктивного обоснования
были получены мной уже в работе над докторской
диссертацией, в начале 70-х гг. Но в первом приближении эта процедура
была обнаружена еще в 1967 г.
Выработанные методологические средства оказались
эффективными при исследовании генезиса частных
теоретических схем. Я проанализировал под этим углом зрения не
только первичные модели строения атома, но и процесс
построения частных теоретических схем домаксвелловскои
электродинамики (создание фарадеевской модели
электромагнитной индукции, построение моделей и законов силового
действия тока в электродинамике Ампера). Нужно было
сделать следующий шаг — проследить, как создаются фунда-
Важно, чтобы работа не прекращалась... 39
ментальные развитые теории. Вначале целесообразно было
исследовать процедуры их построения в классической
физике. К исследованию особенностей становления теорий в
квантово-релятивистской физике я намеревался приступить
позднее, на следующем этапе, после того как будут
проанализированы операции построения классических теорий.
Естественным было начать с исторически первой развитой
физической теории — механики Ньютона. Я надеялся на этом
историческом материале проследить, как были синтезированы
и обобщены предшествующие этой теории частные
теоретические схема и законы доньютоновской механики — такие, как,
например, закон идеального маятника Гюйгенса, законы
Кеплера, законы вращения тел, соударения упругих тел и
соответствующие им модели.
Касавин И. Г. А также комплекс законов Галилея?
Стёпин В. С. Безусловно. Все эти теоретические модели и
законы описывали отдельные виды механического движения и
опирались на соответствующий эмпирический материал.
У меня возникла первичная гипотеза о том, что развитая
теория не нуждается для своего построения в новом
эмпирическом материале, который не был уже ассимилирован
предшествующими частными теоретическими схемами. Она должна
прежде всего работать с ними, она должна их обобщать. Но
когда в 1967 г. я обратился к материалу ньютоновской
механики, то в «Математических началах натуральной
философии» И. Ньютона не нашел последовательных этапов такого
обобщения. В «Математических началах» Ньютон изложил
конечный результат своей работы над обобщающей теорией
механического движения. А чтобы проследить логику
построения теории, нужно было иметь в распоряжении тексты,
фиксирующие промежуточные стадии ее создания. Однако такие
тексты, судя по всему, не сохранились. Поскольку я работал
на материале истории физики, то для варианта классической
фундаментальной теории оставались две возможные области:
либо термодинамика, либо электродинамика.
Всеми этими поисками я занимался в первой половине
1967 г. Я в это время находился на стажировке в Москве, в
МГУ. Часто встречался и спорил с Г. П. Щедровицким,
познакомился с В. А. Смирновым и В. А. Лекторским, Л. Б.
Баженовым, которые с одобрением отнеслись к моим результатам.
В. А. Смирнов особо выделял мои идеи относительно
генетически-конструктивного развертывания физической теории. Он
посоветовал не затягивать с их публикацией. Но меня мучил
40 Интервью И. Т. Касавина с В. С. Сталиным
вопрос, как проследить генезис развитой научной теории.
Выявляя закономерности построения частных теоретических схем,
я часто обращался к материалу истории электродинамики
(использовав тексты Фарадея и Ампера). И мне показалось
естественным попытаться выяснить, как создавалась классическая
теория электромагнитного поля. Сразу после стажировки в
Москве я стал обсуждать эту проблему со Львом Томильчиком.
Я нашел в моем старом друге очень хорошего союзника,
которому также были интересны эти сюжеты. Его давно
интересовало, как Максвелл открыл уравнения электромагнитного
поля, и мы занялись анализом максвелловских текстов. К
счастью, получилось так, что выбор материала оказался
исключительно удачным. У Максвелла было несколько промежуточных
публикаций до того, как он изложил уже в окончательном
варианте свою теорию электромагнитного поля (у него были, по
крайней мере, две крупные промежуточные публикации). И мы
начали анализировать в исторической последовательности эти
публикации, пытаясь восстановить ход максвелловской мысли.
Определенная трудность состояла в том, что математический
язык, которым пользовался Максвелл, был отличен от
современного. Лева (Лев Митрофанович) объяснял мне, как
перевести максвелловские формулировки в принятую сегодня
форму векторного анализа. После этого мы приступили к
выяснению внутренней логики максвелловского открытия. Работа
была чрезвычайно интересной. Мы почти каждый день
собирались с моим другом в кабинете его шефа —
академика-секретаря отделения физико-математических наук АН БССР Федора
Ивановича Федорова. Федор Иванович был известным
физиком-теоретиком, автором книг, получивших международное
признание. Он был учителем Левы (Льва Митрофановича То-
мильчика), его научным руководителем. В период учебы в
университете я посещал его некоторые лекции на физфаке. К
нашим философским и историко-научным занятиям он относился
благосклонно, разрешил заниматься в его кабинете после того,
как заканчивалась официальная работа в отделении.
Единственным его неудовольствием было то, что я в энтузиазме наших
поисков иногда брал его карандаши и машинально ломал их.
Он весьма тактично попросил Льва Митрофановича сохранять
в кабинете порядок, и я стал контролировать свои манипуляции
с карандашами.
Работа наша продвигалась, мы находили факты, не
замеченные историками науки, и давали им объяснение. Идея
конструктивного обоснования позволяла проследить логически
Важно, чтобы работа не прекращалась... 41
необходимые шаги предпринятого Максвеллом грандиозного
синтеза знаний об электричестве и магнетизме. Причем то,
что во многих книгах по истории физики оценивалось как
нелогичные натяжки, в нашем анализе выстраивалось
совершенно по-другому.
К середине 1968 г. мы завершили свою реконструкцию.
Выяснилось, что знаменитое уравнение с током смещения и вся
система максвелловских уравнений электромагнитного поля
были получены как закономерный логический итог
последовательных обобщений ранее созданного в электродинамике
набора частных теоретических схем и законов. Мы испытывали
чувство удовлетворения и духовного подъема.
Но именно в этот период судьба преподнесла мне
испытание. 1968 г. — время так называемых чешских событий.
Я продолжал преподавать философию и эстетику в
Политехническом институте. В лекциях со студентами и в частных
беседах со своими коллегами я обсуждал проблему сталинизма
и маоизма. На эту тему у меня была целостная концепция,
объясняющая почему в странах с недостаточно развитым
капитализмом, после того как в них осуществляется
социалистическая революция и начинаются социалистические
преобразования, наиболее вероятен авторитарный и тоталитарный
тип правления. Появление таких личностей, как Сталин и
Мао Цзэдун, я объяснял с позиций марксизма не как чисто
случайное историческое событие, а как выражение тенденций
общественного развития. Я высказывал и такую мысль, что в
XX в. социализм должен демократизироваться, чтобы
обеспечить новый научно-технологический прорыв и более
высокую, чем при капитализме, производительность труда. С этих
позиций я считал идею «социализма с человеческим лицом»
чрезвычайно важной и осуждал ее подавление силовыми
методами. Многие из моих тогдашних рассуждений стали через
двадцать лет во времена горбачевской перестройки почти
публичными мнениями. Но в то время они были социально
опасны, а уж оправдание «чешских ревизионистов» — тем
более. На пленуме ЦК Белорусской компартии в докладе ее
первого секретаря П. М. Машерова я был упомянут в числе
негативных примеров как человек, чьи оценки чешских
событий и истории социализма несовместимы с коммунистической
идеологией. Меня исключили из партии, и после этого
заведующий кафедрой, на которой я работал, потребовал, чтобы
я написал заявление об увольнении. Речь шла об утрате
профессии.
42 Интервью И. Т. Касавина с В. С. Сталиным
Но в принципе мне повезло. П. М. Машеров выступал на
партактиве в Политехническом институте. В перерыве он
общался со студентами, и там зашел разговор обо мне. Студенты
сказали какие-то хорошие слова, но главное — меня
поддержали парторг архитектурно-строительного факультета Э.
Овчинников и ректор института П. Ящерицын. Как мне потом
передали, ими было сказано примерно следующее: «Он молодой,
теоретик, фантазер, его занесло, но он не вредный. Вы
разрешите его оставить в коллективе, мы его перевоспитаем».
Машеров был весьма незаурядным человеком, он не был до
конца циничен, как многие руководители в брежневское время, и
поэтому его в партийных верхах не очень любили. Он позже
всех получил звание Героя Социалистического Труда, хотя в
Белоруссии показатели были самые лучшие из всех республик
СССР. Машеров ответил: «Ну что, товарищи, я думаю, что из
него получится и хороший ученый, и хороший коммунист, а за
это стоит побороться». И эту же фразу он произнес публично
в заключительном слове на активе. Мне посоветовали
написать апелляцию, и затем в горкоме меня восстановили в
партии, но со строгим выговором. С этим выговором я проходил
еще три года, пока его не сняли. На работе я остался в
прежней должности доцента. В общем, все обошлось. Но говорить,
что эта история в то время сильно способствовала моему
научному творчеству я бы не стал. Хотя психологически я пережил
несколько таких состояний, когда научные занятия
оказывались своеобразным антистрессовым фактором.
Вспоминаю, что после партсобраний и парткомиссий, на
которых приходилось выслушивать обличительные речи, я шел в
библиотеку. Анализировал тексты Ампера и Максвелла,
обнаруживал связи теоретических конструктов и их деятельност-
ные основания, за теоретическими высказываниями видел
схемы деятельности. И как-то мир обретал порядок, мне
начинало казаться, что все, происходящее за стенами
библиотеки, — это какая-то ненужная и глупая мелочь по сравнению с
тем, чем я сейчас занимаюсь. Позднее я нашел у Эйнштейна
интересные мысли о психологических состояниях
исследователя, систематически работающего в науке. В речи памяти
Макса Планка Эйнштейн сказал примерно следующее. Если
из храма науки выгнать торговцев и менял, то там мало кто
останется. Людей, которые пришли за чинами, деньгами,
званиями, с честолюбивыми стремлениями в науке большинство,
но есть люди, для которых наш мир суетных страстей
психологически невыносим. И они строят для себя идеализированный
Важно, чтобы работа не прекращалась... 43
мир чистых сущностей, логически упорядоченный мир разума,
в котором им хорошо жить. Как считал Эйнштейн, к таким
людям относился и Макс Планк. Когда я это прочитал, то
подумал, что я, наверное, в какой-то маленький отрезок своей
жизни переживал похожие состояния, и что они сохраняли
мои нервы и здоровье в период стресса.
Касавин И. Т. Это что-то вроде психоаналитической
компенсаторной трактовки науки?
Степан В. С. Нечто вроде этого, хотя я не сказал бы, что
именно в поисках таких состояний был основной стимул моих
занятий наукой. В каждом из нас в той или иной степени
переплетаются и честолюбивые замыслы, и понимание
самоценности научных результатов, и любопытство к тому, как устроен
тот или иной изучаемый нами объект. Стимулы для научных
занятий многообразны, как многообразны человеческие
интересы и мотивации.
После того как у меня все более менее утряслось в смысле
социального положения, моя работа продолжилась с
прежней интенсивностью, хотя и появились дополнительные
препятствия.
В 1969 г. мы с Л. М. Томильчиком написали книгу, в
которой были изложены представления о деятельностной природе
научного познания и проведен анализ квантовой теории под
углом зрения деятельностного подхода. Книга планировалась
выйти в издательстве Белорусской академии по философской
редакции. Но, судя по всему, редакторы не очень хотели
участвовать в публикациях диссидентствующего автора. И тогда
Фёдор Иванович Фёдоров перевел ее в
физико-математическую редакцию и согласился быть ее научным редактором.
Книга «Практическая природа познания и методологические
проблемы современной физики» вышла в 1970 г. и получила
очень хорошие отзывы. В этом же году вышли две мои
публикации в «Вопросах философии» (1970 №1 и №10).
Особенно важной для меня была первая из них — статья
«Проблема субъекта и объекта в опытной науке», где я изложил
разработанные мной представления о структуре научного
знания и о приборных ситуациях как основании
систематических наблюдений. Основная идея этой статьи состояла в
доказательстве того, что онтологический статус теоретических
схем возникает как своеобразная «свертка» схематизмов
деятельности.
Касавин И. Т. Много позже эту статью все еще продолжали
интенсивно обсуждать. Дело в том, что тем самым идее прак-
44 Интервью И. Т. Касавина с В. С. Стёпиным
тики было придано конкретное эпистемологическое
содержание, открывались новые перспективы...
Стёпин В. С. Я встречал положительные ссылки на эту
статью где-то в 80—90-х, и даже в наши дни. Но в то время
для меня такие оценки были особенно значимы. Меня стали
приглашать с докладами на престижные конференции.
Постепенно создавалось имя. В начале 70-х гг. вышли две мои
публикации в коллективных монографиях Института
философии АН СССР — «Философия. Методология. Наука»
(отв. ред. В. А. Лекторский), 1972, и «Практика и
познание» (отв. ред. Д. П. Горский), 1973. Само участие в таких
книгах, рядом с известными московскими философами и
естествоиспытателями уже было для меня престижным. Тем
более что в рецензии на книгу «Философия. Методология.
Наука», опубликованной после выхода книги в «Вопросах
философии», рецензент уделил особое внимание
написанному мной разделу «К проблеме структуры и генезиса научной
теории», проанализировал его, дал в целом высокую оценку
и указал на возможные перспективы дальнейшего развития
концепции. А рецензентом был Эрик Григорьевич Юдин,
идеи которого оказали влияние на выбор направления моих
исследований.
В 1973 г. вышла книга «Методы научного познания» (в
соавторстве с А. Н. Елсуковым). В ее основе были мои лекции
по методологии науки, прочитанные аспирантам
Политехнического института, где я продолжал работать.
Памятным было и участие в работе Международного
конгресса по истории науки, который проводился в Москве в
1973 г. На конгрессе я выступал с докладом,
подготовленным совместно с Л. М. Томильчиком. В докладе излагались
основные результаты нашей реконструкции максвелловскои
электродинамики (тезисы доклада были опубликованы в
материалах конгресса). На конгрессе я познакомился с
Борисом Семёновичем Грязновым, работы которого хорошо знал.
Само это знакомство началось довольно курьезно. Я подошел
к нему, представился и начал рассказывать о том, что мы
сделали в Минске, как нужно интерпретировать логику мак-
свелловского открытия. Но он куда-то торопился по делам
конгресса, и беседы не получилось. Тут я, конечно, был
неправ. Нельзя приставать на ходу к человеку, который
обременен организаторскими обязанностями. Он вежливо дал
понять, что не место и не время сейчас говорить о проблемах,
которые требуют сосредоточенности и особой дискуссии. И я
Важно, чтобы работа не прекращалась... 45
не обиделся, понял, что занят человек. После того как я
сделал свой доклад, на котором Борис Семёнович не только
присутствовал, но и руководил заседанием, он подошел ко
мне и сказал: «Снимаю шляпу, это блестяще». С этого
времени началась наша дружба, я с ним обсуждал многие
проблемы философии науки.
Касавин И. Т. На теоретические дистинкции и структуры
надстраивались, таким образом, и связи между людьми.
Стёпин В. С. Да. Мы всегда работаем в коммуникациях с
другими, в прямых и косвенных. В 70-е гг. сложилось
довольно многочисленное сообщество философов и методологов
науки. Мы читали работы друг друга, обсуждали доклады,
дискутировали, обменивались книгами, статьями и даже
рукописями. Были коммуникации, было настоящее сообщество. И туда
входили разные люди: логики, методологи, историки науки.
Наиболее известные из них приглашались на семинары
Института философии АН СССР и звенигородские симпозиумы,
которые проводил Институт истории естествознания и техники
АН СССР. Выступать с докладами на этих семинарах было
честью. Туда не всех допускали. Я гордился тем, что меня
приглашали в качестве докладчика. Дискуссии были весьма
жесткими. Помню, на семинаре в Институте философии АН СССР
я выступил с докладом об операциях построения
теоретических моделей. Рассуждения я сопровождал диаграммами, на
которых показывал, как осуществляется «челночное
движение» от теории к эмпирии в процессе конструктивного
обоснования моделей. С критическими замечаниями выступил
Э. М. Чудинов, тогда уже доктор наук, заведующий кафедрой
философии знаменитого Физтеха. Его замечания сводились
примерно к следующему. В философии науки мы привыкли
использовать язык математической логики. Как этот язык
применить к Вашим картинкам и как применить логический
аппарат к Вашим рассуждениям — неясно. На мою защиту
встал В. А. Смирнов, уже тогда, пожалуй, самый
авторитетный из наших логиков. Он высказался довольно резко: за
картинками, которыми Стёпин иллюстрировал процессы
конструирования абстрактных теоретических объектов, скрыта
особая логика, которая для формального выражения требует
разработки новых средств. Здесь доминирует не гипотетико-
дедуктивный подход, основанный на оперировании
высказываниями, а генетически-конструктивный, основанный на
мысленных экспериментах с абстрактными объектами «как
конкретно-наличными».
46 Интервью И. Т. Касавина с В. С. Стёпиным
После окончания семинара мы втроем еще долго
беседовали на все эти темы. Надо отдать должное Э. Чудинову: он не
только довольно быстро разобрался в сути предлагаемой
мною концепции, но и тут же посоветовал соотнести ее с
недавно вышедшими работами Штегмюллера. В дальнейшем мы
не раз встречались с ним в неформальной обстановке,
обсуждали излюбленную Чудиновым тему эквивалентных описаний.
Он был потом оппонентом моей докторской и дал ей весьма
лестную оценку.
Особо хочу отметить знаменитые «звенигородские вербал-
ки» — семинары по методологии и истории науки. Их
организатором и мотором был Борис Семёнович Грязнов. Мои
доклады на этих семинарах активно обсуждались, и эти
обсуждения часто стимулировали новую постановку задач. Но не
менее впечатляющими были заключительные вечера после
окончания семинаров, с ночными бдениями, шутками, с
поэтическими комментариями Вадима Рабиновича, известного
своими работами по истории алхимии, обладавшего немалым
поэтическим даром (он сейчас не только известный философ и
историк науки, но и не менее известный поэт). Сочиненные им
шутливые поэмы на тему «звенигородских вербалок» и
стенгазета с иллюстрирующими его стихи карикатурами были
своеобразной изюминкой звенигородских вечеров. Кончалось
все чтением стихов Пастернака, Цветаевой, Бродского,
песнями под гитару. Хорошие были времена!
А дискуссии мы вели, как сейчас сказали бы, почти в
режиме «нон-стоп». Помню, как после одного из семинаров в
Ленинграде я летел в Минск, а Михаил Александрович Розов —
в Новосибирск. В аэропорту мы затеяли дискуссию по
проблеме механизмов трансляции абстрактных объектов из одной
области знания в другую. Мы так увлеклись, что я забыл о
предстоящей «трансляции» меня в Минск и чуть не опоздал на
самолет.
В Новосибирске была интересная школа методологов —
М. А. Розов и И. С. Алексеев были ее лидерами. Игорь
Алексеев переехал потом в Москву. Он рано ушел из жизни, а
сделал много, развивая деятельностную парадигму.
Хотел бы специально отметить, что в рамках сообщества
философов науки 70—80-х гг. функционировало несколько
оригинальных школ и сообществ, которые тесно
взаимодействовали. Была школа ленинградских
(санкт-петербургских) философов (В. П. Бранский, А. С. Кармин, М. С.
Козлова), сообщество киевских философов (М. В. Попович,
Важно, чтобы работа не прекращалась... 47
С. Б. Крымский, П. С. Дышлевый и др.), несколько
московских школ (философы и логики Института философии;
философы и историки науки Института истории
естествознания и техники АН СССР, школа Г. П. Щедровицкого). Была
и минская методологическая школа.
1972—1973 гг. стали для меня годами признания моих работ
сообществом. Было много встреч, дискуссий. В
Ленинградском университете мы с В. П. Бранским в 1973 г. устроили
большую публичную дискуссию по проблеме генезиса теории.
Она шла, наверное, часов пять, в большом зале, и к ее концу
народу не только не убавилось, но, как мне помнится,
прибавилось.
Все эти поездки, дискуссии, участие в семинарах и
конференциях были для меня не только демонстрацией ранее
полученных результатов. Я продолжал развивать свою концепцию.
После того как мы с Л. М. Томильчиком осуществили
реконструкцию истории максвелловской электродинамики, мне
нужно было решить следующую задачу: выяснить, как
создаются теории в неклассической науке, что изменяется в методах
их построения?
В 1969 г. перед написанием совместно с Л. М.
Томильчиком книги «Практическая природа познания и
методологические проблемы современной физики» мы по творческой
инерции после реконструкции максвелловского открытия провели
анализ того, как П.Дирак создавал релятивистскую теорию
электрона. Это был своеобразный пролог к исследованию
процессов формирования неклассических физических теорий.
Я понимал, что наиболее продуктивным и интересным было
бы сопоставить построение классической теории
электромагнитного поля и создание квантовой электродинамики как
неклассического образца развитой физической теории. Но эту
задачу мне нужно было решать уже самостоятельно.
Мой друг Лев Томильчик с начала 70-х стал активно
работать над проблемами монополя Дирака. Эта его работа
завершилась через несколько лет успешной защитой докторской
диссертации и написанием солидной монографии. Я также
начал работать над докторской, и решение проблемы
построения теорий в неклассической квантово-релятивистской
физике было, пожалуй, главным звеном для необходимой полноты
концепции. Без решения этой проблемы невозможно было
показать, как исторически меняются методы и методологические
принципы формирования теорий. А в том, что эти методы и
принципы исторически развиваются у меня сомнений не было.
48 Интервью И. Т. Касавина с В. С. Стёпиным
Короче, я приступил к новой реконструкции, как потом
выяснилось, довольно сложного фрагмента истории физики.
И здесь мне пришлось разрабатывать новые
методологические средства, поскольку речь шла о новых основаниях и
новых стратегиях неклассического этапа развития науки.
Беседа вторая.
От структуры теории — к основаниям науки
Касавин И. Т. Логика Вашей работы была во многом чужда
обычной марксистской методологии науки тех лет, исходившей
из некоторых общих понятий и принципов и стремившейся
обосновать заранее известные выводы ссылками на «данные
науки». Вам тогда удалось нащупать иное взаимоотношение
между теорией и историей науки как между равноправными
партнерами междисциплинарного диалога.
Стёпин В. С. Я хотел бы особо подчеркнуть, что работа в
области современной философии науки и методологии науки
не может ограничиваться набором отдельных выводов,
примеров, которые выхвачены из истории разных эпох. Часто в
нашей и западной литературе методологические идеи
излагаются следующим образом: как пример берется некий
эмпирический материал, скажем, классическая теория излучения
или теория излучения атома, и они иллюстрируют
рассуждения логико-методологического характера. У нас была другая
задача — проследить, как по шагам строится теория, т. е.,
какова логика ее построения. Конечно, эта логика всегда
предварительно предполагалась в качестве методологической
гипотезы, но потом мы ее проверяли на историческом
материале, и материал часто сопротивлялся первичным
гипотетическим схемам, заставлял их переделывать, перестраивать,
уточнять. Здесь возникает, как я люблю выражаться,
челночное движение от методологической идеи к материалу и от
материала к идее. Сами тексты научных теорий, которые
оставили их творцы, — это и есть тот эмпирический материал,
который подлежит осмыслению и исторической
реконструкции. Реконструкции — это особый тип знания, который, как
я думаю, вообще необходим для исследования исторически
развивающихся систем, это особый тип теоретического
знания, который присутствует и в методологии науки, и не
только в методологии, но везде, где речь идет об исторических
объектах. Исторические реконструкции позволяют выяснить,
Важно, чтобы работа не прекращалась... 49
как такие объекты возникают и развиваются. Например,
чтобы понять, как возникла наша Вселенная, нужна
реконструкция ее истории (от первого взрыва до современного
состояния), т. е. сначала вводятся предварительные модели
развивающейся Вселенной, проверяются их следствия, и если
возникает их несоответствие фактам, модели уточняются и
конкретизируются. По существу — это попытка
реконструировать события от Большого взрыва до наших дней, выявить,
как шла эволюция Вселенной. Если вы хотите построить
теорию возникновения жизни на Земле, то вы должны тоже
провести соответствующую реконструкцию. Любая
теоретическая концепция, которая воспроизводит основные вехи
зарождения жизни, выступает как своеобразный тип
теоретического знания, как историческая реконструкция. В социальных
и гуманитарных науках там, где речь идет об историческом
развитии социальных процессов, при их теоретическом
осмыслении также используются исторические реконструкции.
Причем один и тот же исторический процесс может быть
осмыслен и теоретически описан в различных реконструкциях.
Например, когда М. Вебер исследовал эпоху становления
капитализма, он осуществил реконструкцию посредством
которой выяснил, как возникла протестантская этика и все то,
что он называл духом капитализма. К. Маркс эту же эпоху
описывал с другой точки зрения. Он тоже предложил
реконструкцию истории первоначального накопления: исследовал,
как происходит превращение денег в капитал и как рабочая
сила становится товаром. Каждая из этих реконструкций
эпохи становления капитализма осуществлялась под
определенную систему теоретических идей. У Маркса это была идея
материалистического понимания истории, когда главным в
становлении нового типа общества полагалось изменение
способа производства. У Вебера же главным фактором
такого становления было изменение фундаментальных ценностей
культуры.
Подобным образом работает и современный философ и
методолог науки, апеллируя к истории науки. Он предлагает
историческую реконструкцию определенного материала, и те
или иные методологические идеи выполняются и
демонстрируются в этом материале. Я люблю приводить такой пример:
скульптор, который замыслил создать скульптуру, может
бесконечно рассказывать словами, что он хочет, но у вас не
будет образа этой скульптуры или будут иные образы до тех
пор, пока скульптор не создаст свое произведение, и если
50 Интервью И. Т. Касавина с В. С. Стёпиным
оно соответствует его замыслу, то, по существу, он
представит свои идеи воплощенными в материале. Похожим образом
реконструкция того или иного фрагмента реальной истории
науки представляет собой выполнение некоторых
методологических идей в историческом материале. Исторические
факты — это отдельные события реального исторического
процесса. В исторической реконструкции по отдельным
историческим точкам-событиям выстраивается логика исторического
развития. Философ и методолог науки имеет дело с особым
объектом. Научное знание — это исторически развивающаяся
система, и он не должен выхватывать из разных областей
знания наугад взятые примеры, чтобы обосновать свои идеи.
В этом случае он чаще всего создает только иллюзию
обоснования своих идей историческими фактами. Если речь идет
о генезисе развитой теории, то наилучший способ
обоснования методологических моделей становления теории — это
продемонстрировать модель в материале исторической
реконструкции.
Касавин И, Т. Но в таком случае историк науки и методолог
науки фактически должен повторить тот реальный процесс,
который имел место. Это ведь невозможно в силу того, что
много звеньев пропущено, у нас ограниченный исторический
материал. Даже большая часть пропущена, и потому мы
сталкиваемся так или иначе с проблемой полноты исторической
реконструкции. И критерием ее оказывается набор
методологических конвенций, принятых историками и методологами, а
не сама «объективная» история...
Степан В. С. Конечно, реконструкция — это не сама
история. Я еще раз подчеркну — это теоретическая модель
реальной истории. И есть соперничество между теоретическими
моделями, какая из них лучше объяснит имеющиеся
исторические факты. Но есть еще и предсказательные возможности
модели. Если с ее позиций открываются новые факты, то это
сигнал продуктивности модели. Так, реконструируя историю
максвелловскои электродинамики, мы обнаруживали такого
рода факты, не описанные историками науки. Возможно,
исследователи их и видели, но просто полагали их
незначительными, а в нашей реконструкции они были чрезвычайно
значимыми. Например, тот факт, что на одном из этапов своей
работы Максвелл, по существу, имел в руках уравнения поля, да
еще в современной лагранжевой формулировке. Но он
оставил этот перспективный математический аппарат и начал
свою работу заново. В нашем подходе этот факт легко находил
Важно, чтобы работа не прекращалась... 51
объяснение, поскольку Максвелл не смог конструктивно
обосновать основные величины построенного
математического аппарата. Но тому методологу и историку, который не знал
о существовании операции конструктивного обоснования,
этот факт мог представляться либо аномалией, алогичным
событием, либо его просто не замечали.
Я могу еще указать и на такое обстоятельство. Во многих
учебниках физики и в трудах по истории науки
распространены неадекватные представления и псевдофакты об открытии
Максвеллом уравнения с током смещения. Считается, что
Максвелл ввел это уравнение из соображений симметрии.
Историк физики А. М. Борк внимательно проанализировал
тексты Максвелла и отметил, что в них нет таких свидетельств.
Но из нашей реконструкции следовало еще более сильное
утверждение, что такого рода прием и не мог быть использован
Максвеллом, т. к. он не соответствовал логике его
познавательного движения. Такие приемы построения теории стали
типичными для физики XX в., но в XIX в. в физике
господствовали иные методологические установки.
Что же касается тезиса о принципиальной неполноте
реконструкции, то любая теоретическая модель не имеет в своем
распоряжении всей полноты возможных эмпирических фактов
объясняемой ею предметной области. Конечно, важно, чтобы
была определенная эмпирическая база для исторической
реконструкции. Я уже отмечал, что моя попытка обратиться к
творчеству Ньютона, приведшему к построению первой
фундаментальной теории механического движения, успехом не
увенчалась. Потому что эмпирическая база для анализа была
недостаточна. Но важно и другое. Важно, что между
методологическими идеями и осуществляемыми на их основе
реконструкциями истории науки всегда были не только прямые, но и
обратные связи. В процессе реконструкции часто происходит
уточнение и развитие исходных методологических
представлений о структуре и генезисе теории. Развитие же этих
представлений может заставить по-новому отнестись к
результатам, уже полученным в реконструкции, уточнить и даже
переписать эту реконструкцию заново.
В моих исследованиях так было не раз. Моя работа в
70—80-х гг. была связана с углублением первоначальных
представлений о структуре и развитии научных знаний. В этот
период центральное место в моих исследованиях заняла
разработка проблематики оснований науки. Она потребовала
переосмыслить и ранее проделанные реконструкции. В них не учи-
52 Интервью И. Т. Касавина с В. С. Стёпиным
тывались такие важные аспекты динамики науки, как целена-
правляющая роль научной картины мира в выдвижении
гипотез, обратное воздействие конструктивно обоснованных
теоретических схем на картину мира, процедуры онтологиза-
ции, изменение типа рациональности, механизмы включения
научных знаний в поток культурной трансляции. Под этим
углом зрения я внес коррективы в уже осуществленные
реконструкции, в том числе и в первоначальный вариант
реконструкции истории максвелловской электродинамики, который мы
проделали совместно с Л. М. Томильчиком. Но при этом ядро
данной реконструкции, связанное с применением идей
конструктивного обоснования, естественно сохранилось. Этот
переосмысленный и углубленный вариант был опубликован в моей
книге «Становление научной теории» (1976).
Касавин И. Т. Так постепенно наращивался
концептуальный аппарат. С каждым разом возникал другой уровень
понимания научной теории, новый тип методологической
интерпретации...
Стёпин В. С. Концепция развивалась по мере решения
проблем. Я описал основные вехи этого развития в
предисловии к книге «Теоретическое знание» (2000. 2-е изд. 2003 г.).
Сегодня многие из полученных результатов уже вошли в
учебники, эти результаты знают не только наши, но и западные
философы, и достаточно высоко их оценивают.
Касавин Я. Т. С этим нельзя не согласиться. Ваши работы
содержат ставшую классической детализацию структуры
оснований науки. Сегодня, говоря о воздействии
социокультурных факторов на формирование стратегий научного
исследования, исследователи как нечто само собой разумеющееся
используют Ваши понятия «научная картина мира», «идеалы и
нормы исследования», «философские основания науки». Что
побудило Вас предпринять движение в данном направлении?
Есть ли внутренняя необходимая связь между Вашей
концепцией конструктивного введения теоретических объектов и
пониманием науки в социокультурном контексте?
Стёпин В. С. Прежде всего это было связано со
стремлением выяснить механизмы выдвижения научных гипотез.
Конструктивное обоснование обеспечивало превращение
гипотетических схем в ядро создаваемой теории, привязку
этого ядра к опыту. Но как выдвигается научная гипотеза, что
ориентирует исследователя в этом процессе — эта проблема
требовала своего решения. Я не был согласен с
позитивистской установкой, что описание процесса выдвижения гипотезы
Важно, чтобы работа не прекращалась... 53
может быть дано лишь языком психологии, но не логики
открытия. Кстати, эта установка сохранилась и у многих
представителей постпозитивизма. Проведенный мной ранее
анализ аналогового моделирования как погружения
теоретических конструктов в новую сеть связей был первым шагом в
исследовании методологическими средствами процесса
выдвижения гипотез. Следующий шаг состоял в ответе на
вопрос: что ориентирует исследователя в выборе аналоговых
моделей, почему он обращается к некоторой области, чтобы
использовать те или иные теоретические схемы в качестве
аналоговых моделей для новой области? Ведь чтобы
предложить работающую аналогию, нужно заранее увидеть
некоторое сходство изучаемых предметных областей. Что выступает
в роли такого «табло распознавания»?
Ответ на эти вопросы приводил к анализу особой формы
теоретического знания — научной картины мира.
Это был первый из компонентов оснований науки, который
я выделил и проанализировал. Еще на этапе начального
анализа структуры знания я обнаружил конструкты, которым
приписывается статус реальности. Но первоначально я их
полагал элементами теоретических схем. Позднее я понял, что
их система дает особые целостные системы видения предмета
исследования данной науки. К этому времени в нашей
литературе уже было введено понятие научной картины мира. Это
понятие можно было обнаружить и у классиков современного
естествознания М. Планка, А. Эйнштейна, В. И. Вернадского
и др. В работах М. В. Мостепаненко была высказана идея, что
научная картина мира выступает посредником между
философией и научными теориями. Я проанализировал внутреннюю
структуру картины мира и ее функции в познании. В этом
вопросе наша философия науки ушла намного вперед по
сравнению с западной. Анализ научной картины мира как особой
формы теоретического знания породил целый ряд новых
проблем: как связана научная картина мира с теориями, которые
возникают на ее основе, как она связана с опытом, как
изменяются картины мира? На одну и ту же картину мира может
опираться несколько теорий. Например, на основе
механической картины мира развивалась механика, электродинамика
Ампера—Вебера, термодинамика.
Касавин И. Г. В западной философии науки,
пользовавшейся понятиями «парадигма», «тема», «исследовательская
программа», часто не делали различия между теоретической
схемой и картиной мира.
54 Интервью И. Т. Касавина с В. С. Сталиным
Стёпин В. С. Да, они теоретические модели от картины
мира не отличали. Там вообще это все называлось одним
словом — теория. А это — разные типы теоретического
знания. Есть частные и фундаментальные теоретические схемы,
и есть научная картина мира. Она может быть
интерпретирована как предельно обобщенная модель исследуемой
реальности. Эта модель репрезентирует предмет уже не отдельной
теории, а предмет соответствующей науки в его главных
системно-структурных характеристиках. Только через
соотношение с этой картиной теоретические схемы получают
онтологический статус.
Касавин И. Г. В чем же специфика объектов картины мира
по сравнению с объектами теоретической схемы?
Стёпин В. С. Это разные типы объектов. Как я уже
отмечал, элементами фундаментальной теоретической схемы
ньютоновской механики (если рассматривать ее в формулировке
Эйлера) выступают такие объекты, как «материальная
точка», «сила» и «инерциальная система отсчета». А в
механической картине мира процессы природы характеризуются в
терминах неделимых корпускул и построенных из них тел,
которые меняют состояние своего движения под влиянием
силового воздействия других тел, и все эти процессы
разыгрываются в абсолютном пространстве с течением абсолютного
времени. Конструкты, из которых построена картина мира, он-
тологизируются, отождествляются с реальностью. Каждый
физик понимает, что материальной точки как тела, лишенного
размеров, в мире нет. Но ньютонианец свято верил, что
существуют неделимые корпускулы (атомы).
«Бог создал мир из неделимых корпускул», — так Ньютон
писал в своей «Оптике». И это характеристика механической
картины мира.
Хотя конструкты теоретических схем и картины мира
являются различными абстракциями между ними существуют
связи. Материальные точки сопоставляются неделимым
корпускулам или телам; сила — воздействию тел на другие тела,
передающемуся мгновенно по прямой и меняющему
состояния их движения; инерциальная пространственно-временная
система отсчета абсолютному пространству и времени. В
результате такого соотнесения теоретическая схема
отображается на картину мира и обретает онтологический статус.
Она начинает восприниматься как выражение сущности
исследуемых процессов. Связи признаков конструктов
теоретической схемы и конструктов картины мира фиксируются в
Важно, чтобы работа не прекращалась... 55
соответствующих определениях фундаментальных
теоретических понятий. Например, определение массы как
количества материи в ньютоновской механике было связано с
представлениями о неделимом атоме как «первокирпичике»
материи (поскольку атом неделим, количество материи в
нем постоянно, а значит — и масса постоянная). В свою
очередь, с такой трактовкой связывался в механике принцип
неизменности массы материальной точки в процессе ее
движения. Аналогичным образом инвариантность отдельно
пространственных и отдельно временных интервалов при
переходе от одной инерциальнои системы отсчета к другой
(фундаментальный признак инерциальнои системы отсчета в
механике) связывался с представлениями об абсолютном
пространстве и времени.
Теоретические законы непосредственно соотносятся с
соответствующей теоретической схемой и описывают связи
признаков ее конструктов. А связи абстрактных объектов,
образующих картину мира, характеризуют принципы
(онтологические постулаты). Примерами здесь могут служить принцип
мгновенной передачи силы, принцип неделимости атома
и т. п., принятые в физике в эпоху доминирования
механической картины мира.
Вообще-то, отличие теории и картины мира как различных
форм знания долгое время было своеобразным камнем
преткновения в нашей философско-методологической
литературе. По традиции теоретическое знание рассматривалось в
аспекте высказываний и понятий. Но при таком подходе
различие между теорией и картиной мира провести трудно,
поскольку в содержание теоретических понятий включаются
определения, выражающие связь ядра теории с научной
картиной мира, а в систему высказываний теории всегда
включались ее онтологические принципы. Я решил эту проблему
потому, что переформулировал ее, поставив вопрос о
различии теоретических схем как ядра теории и картины мира. Но
для такой постановки вопроса нужно было вначале выявить
иерархическую организацию теоретических конструктов и
зафиксировать наличие внутри их сети особых структурных
единиц — теоретических схем как моделей, включаемых в
состав теории.
Тогда по типу конструктов можно различить ядро теории и
картину мира, а также установить, что с одной и той же
картиной мира соотносятся теоретические схемы, принадлежащие
самым различным теориям.
56 Интервью И. Т. Касавина с В. С. Стёпиным
После этого уже можно было решать проблему функций
научной картины мира. Первая из них — это функция онтологи-
зации, связанная с онтологическим статусом картины мира и
ее способностью переносить этот статус на соотносимые с ней
теоретические схемы.
Конечно, онтологизация конструктов картины мира имеет
свои границы. Эти конструкты тоже являются идеализациями,
но можно обнаружить такие условия опыта, в которых эти
идеализации допустимы и работают. Например, абсолютное
пространство и время можно полагать для описания
процессов, которые протекают со скоростями намного меньшими,
чем скорость света.
Механические процессы обладают именно такими
характеристиками. А как выяснилось после построения теории
относительности, при малых скоростях по отношению к
скорости света изменения пространственных и временных
интервалов при переходе от одной системы отсчета к другой
пренебрежимо малы. Поэтому идеализация, согласно
которой они неизменны и не зависят от относительной скорости
систем отсчета, была допустима при описании механических
процессов. В свою очередь, эта идеализация соответствует
представлениям об абсолютном пространстве и абсолютном
времени. Такие представления легко согласовывались с тем
обыденным опытом, в котором человек имел дело с
механическими процессами.
Примерно так же обстоит дело и с идеализацией неделимого
атома. Пока исследуются диапазоны механических энергий, в
которых атом действительно неделим, эта идеализация
работает. Отождествляя конструкт «неделимый атом» с
реальностью, исследователь обеспечивает возможность эффективного
изучения процессов в соответствующем энергетическом
диапазоне. Он заранее не знает, где границы его картины мира.
Он может лишь, опираясь на философское осмысление
истории науки, полагать, что такие границы есть. Но
обнаруживают их чаще всего тогда, когда наука сталкивается с новым
типом объектов и процессов, сущностные системно-структурные
характеристики которых не учтены в картине мира. Тогда
наступает эпоха научных революций, связанная с радикальной
трансформацией прежней картины мира и построением новой.
Второй функцией научной картины мира является функция
систематизации знаний. Картина мира связана, с одной
стороны, с теоретическими схемами как ядром фундаментальных и
частных теорий, а с другой — с ситуациями опыта. Она полу-
Важно, чтобы работа не прекращалась... 57
чает как непосредственную, так и опосредованную (через
обоснованные опытом теоретические схемы) связь с
эмпирическими фактами. В результате этих связей все эмпирические
и теоретические знания научной дисциплины предстают как
сложная системная организованность. В каждой науке можно
обнаружить дисциплинарную онтологию, определяющую
видение предмета данной науки и описываемую в системе
онтологических принципов. Эта форма знания была обозначена
как специальная научная картина мира. Можно с этих
позиций говорить о физической картине мира, картине
биологического мира, картине социальной реальности. Термин «мир»
здесь применяется в узком смысле, как мир отдельной науки,
ее предметная область. Но, кроме специальной научной
картины мира, существует еще одна форма систематизации
знаний, уже междисциплинарная. Это общенаучная картина
мира. В ней уже речь идет о самых общих представлениях о
Вселенной, неживой и живой природе, обществе и человеке.
Специальные научные картины мира выступают по
отношению к ней в качестве ее аспекта или фрагмента.
И, наконец, о третьей функции научной картины мира. Она
не только включает в себя наиболее важные результаты науки
и создает образ исследуемой реальности, но и определяет
направления исследований, их стратегию. И в этом своем
качестве картина мира выполняет функцию исследовательской
программы.
Когда я начал разрабатывать понятие картины мира, у
меня возникла гипотеза, что именно в этом блоке научного
знания нужно искать целенаправляющие «подсказки» для
применения аналоговых моделей. Ведь картина мира дает
схему предмета исследования в его основных системных
характеристиках (субстанция, взаимодействие, пространство и
время). Тип субстанции — это фундаментальные объекты и
построенные из них типы других объектов. Кроме того, в
картине мира обязательно присутствуют представления о
типах взаимодействия, их характере (силовой или не силовой,
как передается сила, понимание причинности), и,
наконец, — представления о пространстве и времени.
Получается, что картина мира — это какое-то хитрое устройство,
которое задает табло, способ распознавания различных объектов,
относящихся к одной предметной области. Исследователь
через картину мира смотрит на изучаемые объекты и процессы,
которые относятся к его предмету, и видит их в
определенном ракурсе. Благодаря способу видения мира, картина мира
58 Интервью И. Т. Касавина с В. С. Стёпиным
определяет допустимые формулировки исследовательских
задач и выбор средств их решения. Например, в ньютоновской
(механической) картине мира ставить вопрос о скорости
передачи сил от точки к точке — бессмысленно (там по
определению сила передается мгновенно и по прямой), а в фарадеев-
ско-максвелловской (электродинамической) картине мира —
это главный, осмысленный вопрос, поскольку там вводится
представление о близкодействии и передаче сил от точки к
точке. Что же касается выбора средств решения задач, то их
также подсказывает картина мира.
В начале 70-х я с этих позиций проанализировал уже
осуществленные мной ранее реконструкции генезиса частных
теоретических схем, а также нашу с Л. М. Томильчиком
реконструкцию максвелловской электродинамики. Проявились
механизмы использования аналогий как важного аспекта
процесса выдвижения гипотезы. Еще в период первой
реконструкции истории становления планетарной модели
атома у меня возникали вопросы, почему X. Нагаока обратился
к небесной механике и искал там аналогии со строением
атома? В чем он усмотрел сходство этих, в общем-то,
принципиально далеких областей? Теперь я мог ответить на эти
вопросы. Ответ нужно было искать в особенностях
физической картины мира начала XX в. В эту историческую эпоху
утвердилась электродинамическая картина мира. В ней силы
тяготения и электромагнитные силы рассматривались как
состояние одной и той же субстанции — мирового эфира.
Известный физик того времени В. Томсон (Кельвин) писал,
что принципом физики должен стать тезис: «Один эфир —
для света, электричества, теплоты и тяготения». При таком
рассмотрении аналогия между действием сил тяготения в
небесной механике и электромагнитных сил, определяющих
взаимодействие зарядов в атоме, становилась вполне
оправданной.
Подобным образом можно было объяснить выбор
Максвеллом аналоговых моделей и математических средств при
построении теории электромагнитного поля. Его
исследовательская программа была ориентирована первоначальным
вариантом электродинамической картины мира, которая была
предложена М. Фарадеем. Она вводила представления о
полях сил, и наиболее естественным для их описания было
обратиться к аналогиям и математическим средствам механики
сплошных сред. Показательно, что альтернативная
максвелловской программа Ампера—Вебера ориентировалась на тра-
Важно, чтобы работа не прекращалась... 59
диционную механическую картину мира и поэтому
использовала аналогии и математические средства, заимствованные из
механики точек.
После того как «подсказанные» картиной мира
гипотетические варианты теоретических схем получают конструктивное
обоснование, они вновь отображаются на картину мира.
Благодаря этому картина мира может уточняться,
корректироваться, а значит, развиваться.
Так у меня возникло представление об элементарном
познавательном цикле, который, многократно повторяясь,
обеспечивал построение теорий в классической науке. От картины
мира — к гипотезе — к конструктивно обоснованной
теоретической схеме — и вновь к картине мира.
Под этим углом зрения я внес коррективы в
первоначальный вариант реконструкции максвелловского открытия и
написал соответствующий текст, который вошел в мою книгу
«Становление научной теории» (1976).
Затем были проанализированы те видоизменения, которые
возникли в элементарном познавательном цикле классической
науки при переходе к неклассическим вариантам
теоретического поиска. В квантово-релятивистской физике это было
связано с применением метода математической гипотезы.
Я проанализировал особенности построения развитой
теории неклассического типа на материале истории квантовой
электродинамики. Осуществление реконструкции этого
фрагмента истории физики XX в. было довольно трудоемким
занятием. Но к концу 1973 г. я завершил эту работу, а через
полгода, уже в 1974 г., закончил докторскую диссертацию
«Проблема структуры и генезиса физической теории».
Диссертацию я писал как соискатель-стажер в Институте
философии АН СССР, поскольку на кафедре в минском
Политехническом институте не было специалистов в этой области.
Обсуждали ее на совместном заседании трех секторов:
философских проблем физики, теории познания и логики. Отзыв
был очень хорошим, заключение на диссертацию по итогам
обсуждения завершилось фразой «диссертация заслуживает
самой высокой оценки». Если учесть, что в обсуждении
приняли участие такие известные философы, как Ю. В. Сачков,
Л. Б. Баженов, Е. А. Мамчур, В. А. Лекторский, В. А.
Смирнов, то нетрудно понять, что в Минск я вернулся в самом
хорошем настроении. Правда, мои ожидания на скорую защиту
не оправдались. По тогдашнему положению, ВАКа для
защиты я должен был еще получить рекомендацию с места работы.
60 Интервью И. Т. Касавина с В. С. Сталиным
Но заведующий кафедрой философии Политехнического
института (профессор Протасеня П. Ф.) всячески тянул с
отзывом, ссылаясь на мои прошлые «политические грехи», хотя
партийный выговор к этому времени с меня уже сняли.
Разборки дошли до отдела науки ЦК Белоруссии и секретаря ЦК
А. Т. Кузмина. Там дали понять, что ко мне претензий нет и
нет поводов тормозить мою защиту.
В это же время меня пригласили на работу в Белорусский
государственный университет, на кафедру философии
гуманитарных факультетов, которая была основной и выпускающей
на факультете философии. Хотя мне было жалко расставаться
с любимыми ребятами-архитекторами, но философский
факультет перевесил. Да и проблемы отношений с прежним
заведующим кафедрой решались. На новой кафедре я без
особых трудностей получил рекомендацию для защиты; и в
1975 г. успешно защитил докторскую на университетском
совете. Этот же текст с небольшой редакцией был опубликован
в следующем году в этапной для меня книге «Становление
научной теории».
Касавин И. Г. Она была этапной и для нашей философской
науки.
Стёпин В. С. В ней я продемонстрировал подход, отличный
от того, который был в то время распространен в нашей и
западной философии. Я рассматривал в качестве единицы
анализа не отдельно взятую теорию, а весь массив теоретического
знания научной дисциплины. У меня теории взаимодействуют
между собой. Аналоговое моделирование, трансляция уже
сформированных идеальных объектов в другие области
знания, использование теоретических схем уже сложившихся
теорий в качестве аналоговых моделей — все это уже
свидетельствовало о системной целостности знаний научной
дисциплины. Но после того, как были описаны и проанализированы
научная картина мира и другие компоненты оснований науки,
выявился системообразующий ее блок.
Стало ясно, что исходной единицей теоретического знания
является не отдельно взятая теория, а системы теорий
научной дисциплины в их взаимосвязи с опытом. И только так
можно понять развитие теоретического знания. Единицей
анализа является дисциплина, а не отдельно взятая теория и
ее отношение к опыту. Тогда все иначе видится, тогда
проявляется системная целостность, но в отличие от
современных синергетических походов, которые я, в общем-то, ценю,
тут дается не феноменологическое описание, а структурное.
_____ Важно, чтобы работа не прекращалась... 61
Я считаю, что эти два описания обязательно надо
совмещать и дополнять одно другим и в методологии, и в
философии науки. Аналогично тому, как, например, в
биологической науке можно феноменологически описывать свойства
жизни, наследственность и изменчивость, эволюцию, как
это, в частности, делал Дарвин, и можно потом найти
структурные единицы наследственности — гены, которые
объяснят наследственность и изменчивость, и включить в
описание эволюции генетические мутации.
Касавин И. Т. Различие феноменологического и
структурного описания, как мне кажется, формировалось в контексте
двух типов естествознания — математизированного и
натуралистического, которые в дальнейшем заимствовали друг у
друга элементы картины мира.
СтёпинВ. С. Возможно. Но в данном контексте,
применительно к анализу науки, соединение идей целостности и
структурного подхода формировало представление о научном
знании как о сложной, исторически развивающейся системе.
В таких системах формируется уровневая организация
элементов, они способны порождать в ходе исторического
развития новые уровни, причем каждый такой вновь возникший
уровень организации воздействует на ранее сложившиеся,
видоизменяет их, в результате возникает новый тип
целостности системы. По мере развития система
дифференцируется, увеличивает свое разнообразие, в ней возникают
относительно автономные подсистемы, и между ними
устанавливаются все новые связи. Системы такого типа являются
открытыми и в процессе развития всегда проходят через
состояния неустойчивости, фазовых переходов, связанных с
изменением качества системы, типа системной целостности.
Применительно к научному знанию открытость — это
погруженность его в культуру и взаимодействие с широким полем
социокультурных факторов, а фазовые переходы — это
эпохи научных революций.
Анализом научных революций я занялся позднее. А в тот
период, в первой половине 70-х, основное внимание было
сосредоточено на исследовании структуры и функций оснований
науки. Они по отношению к массиву знаний научной
дисциплины выступают системообразующим фактором.
Одновременно возникала проблема междисциплинарных
взаимодействий. Выделение общенаучной картины мира
наряду с дисциплинарными онтологиями (специальными научными
картинами мира) вводило представление еще об одном, более
62 Интервью И. Т. Касавина с В. С. Стёпиным
высоком уровне систематизации знаний. В нем уже вся наука
предстает как развивающееся системное целое. Отдельные
науки (дисциплины) выступают ее подсистемами, между
которыми осуществляется взаимодействие.
Рассматривая картину мира как обобщенный образ
предмета исследования, я столкнулся с новой важной
проблемой. Она была сформулирована применяемыми мной
установками деятельностного подхода. Любая схема объекта
исследования неявно предполагает схему метода деятельности,
вводится коррелятивно этой схеме. Возникал вопрос: как
фиксируется эта схема метода, в чем она выражается? Это
был первый шаг к пониманию идеалов и норм науки —
идеалов и норм объяснения и описания, обоснования и
доказательности строения и построения знаний, я их
интерпретировал как обобщенную схему метода научной
деятельности. Потом показал, как они исторически меняются, какова
их структура. И дальше возникла новая проблема: как
научная картина мира, идеалы и нормы науки включаются в
культуру? И вот тут выявился третий компонент оснований
науки, в новом ракурсе возникла традиционная для нас
тематика, согласно которой философия включена в процессы
развития фундаментальных научных знаний. Появилось
понятие «философские основания науки». Через них
происходит включение всего массива специализированного научного
знания в культуру, и они же работают одновременно как
эвристика научного поиска. Частично этот анализ оснований
науки был намечен в книге «Становление научной теории».
Но главная аналитическая работа была проделана уже
после ее выхода в свет, во второй половине 70-х, и
результаты этой работы были представлены в моих публикациях
конца 70-х — начала 80-х гг., прежде всего в книгах
«Природа научного познания» (1979) и «Идеалы и нормы
научного исследования» (1981).
Касавин И. Т. Когда я изучал Вашу книгу «Становление
научной теории», меня как раз и привлекала эта логика,
позволявшая отойти от позитивистских схем и при этом выгодно
отличавшаяся своей простотой и продуманностью от построений
постпозитивистской философии науки.
Стёпин ß. С. Когда я стал академиком, то у меня брали
интервью для журнала «Вопросы философии». И там был
вопрос: что нового я сделал в тех областях философии, в
которых работал? Я сказал, что, вообще-то, трудно заниматься
самооценкой, оценку дает научное сообщество. Но, подводя
Важно, чтобы работа не прекращалась... 63
определенные итоги и используя оценки как наших, так и
зарубежных философов, я могу рискнуть сказать, что сделал
нового. Первое — это детальный анализ структуры научного
знания, не просто фиксация его отдельных элементов, а
прежде всего их системных связей, например, связей между
картиной мира, теоретическими схемами и эмпирическим уровнем
научных знаний. Этого до меня не было сделано. Второе —
открытие процедуры конструктивного обоснования. Третье —
анализ структуры и функций оснований науки. Я представил
их и как аспект внутренней структуры научного знания, и как
своеобразное опосредующее звено между научными знаниями
и культурной традицией. Различные области культуры влияют
на процессы генерации новых научных идей. Но это влияние
опосредуется системой оснований науки. В свою очередь, эти
основания развиваются, с одной стороны, под влиянием
возникающих в науке эмпирических и теоретических знаний, а с
другой, адаптируясь к культурной традиции своей эпохи.
Причем эта адаптация протекает не только как воздействие на
науку различных областей культуры, но и как обратное
влияние науки на эти области. Я под этим углом зрения выделил во
всех компонентах оснований науки особые пласты смыслов,
которые выражают их социокультурную обусловленность.
Такого рода структурная детализация оснований науки привела к
ряду следствий, которые мои рецензенты оценивали как новые
идеи и новые подходы в философско-методологическом
анализе научного знания.
В конце 70-х — начале 80-х на материале истории
классической и квантовой электродинамики, а также
сопоставляя квантово-механическое описание и принципы анализа
сложных систем, я предложил идею о нелинейности
исторического развития науки; о потенциально возможных путях
истории науки, которые не реализовались, но в принципе
могли бы реализоваться в других ситуациях, в других
поворотах культуры. Сегодня можно, используя язык
синергетики, говорить о точках бифуркации и нескольких сценариях
развития в определенные периоды науки. Но вначале я о
синергетике и не думал, а получил этот вывод из своего
анализа динамики знания, из постановки проблемы: как
научное знание включается в культуру. Было показано, каким
образом основания науки вписываются в культурную
традицию, и как эта традиция отбирает из нескольких возможных
путей исторического развития знаний те направления,
которые лучше всего согласуются с доминирующими в культуре
64 Интервью И. Т. Касавина с В. С. Сталиным
мировоззренческими смыслами, с тем типом
рациональности, который лучше всего вписывается в культуру
определенной исторической эпохи. Конечно, влияние культуры на
научный поиск можно описывать, ссылаясь на
психологические факторы и особенности личности ученого. Но это —
другой аспект. Я не отрицаю важности анализа психологии
творчества, но, на мой взгляд, такой анализ должен
опираться на логико-методологические разработки, а в логико-
методологическом плане главным звеном в этой
проблематике выступают механизмы включения достижений науки в
культуру и ее воздействие на научный поиск через
основания науки. Еще раз подчеркну, что основания науки — это
посредник между наукой и остальной культурой,
включающей и вненаучные формы знания.
Касавин И. Г. Здесь в особенности важно, как мне кажется,
вспомнить о той функции оснований науки, которая
выполняется в отношении научного знания, когда еще не
сформирована теоретическая схема.
Степан В. С. Согласен. Я думаю, что это тоже был новый
аспект методологического анализа науки. Я сначала изучал,
как возникает научная теория и как в этом процессе
функционируют основания науки. Это первое, что меня интересовало.
Но потом я натолкнулся на следующую проблему: когда есть
научная картина мира, идеалы и нормы, философские
основания, но еще нет теорий, наука накапливает факты и способна
открывать новые явления. Что целенаправляет исследования
в этих ситуациях? Я предположил, что основания науки и
прежде всего картина мира в этих ситуациях напрямую
взаимодействует с опытом. Вначале я думал, что так происходит
только в начальных стадиях становления науки. Но потом
обнаружил, что когда наука сталкивается с новыми объектами, для
которых еще не построены теории, даже в условиях
достаточно высокого уровня теоретизации, то она изучает эти объекты
эмпирическими методами. Эмпирическое исследование здесь
целенаправлено картиной мира, которая определяет
стратегию исследований и сама может развиваться под влиянием его
результатов.
Касавин И. Т. Эту идею и сегодня еще не все усвоили и по
достоинству оценили, а в то время это была очень свежая
мысль.
Степан В. С. Я подробно описал эту ситуацию в
книге «Природа научного познания» и ряде других работ конца
70-х — начала 80-х гг. Не могу в этой связи не вспомнить
Важно, чтобы работа не прекращалась... 65
один курьезный случай. Через десять лет после того, как
вышли мои работы на эту тему, я как-то встретил книгу:
В. Н. Михайловский и Г. Н. Хон «Диалектика формирования
современной научной картины мира» (Л., 1989). В ней авторы
пишут, что В. С. Стёпин анализировал картину мира и у него
показано, как она работает при построении теорий; но он не
проанализировал, как картина мира может взаимодействовать
с опытом напрямую, и мы предлагаем это новое дополнение к
проведенному им анализу. Я только внутренне засмеялся, но
был вынужден в одной из своих книг отреагировать на это в
виде ремарки, сославшись на соответствующие свои
публикации прошлых лет.
Касавин И. Т. Надо понимать, что авторы читали, но не
дочитали эти ваши работы?
Стёпин В. С. Не дочитали, а может быть прочитали, да
забыли. Это, знаете, напоминает шутки И. Ильфа и Е. Петрова:
... утром встал, сочинил стихи «Я помню чудное мгновенье», а
потом обнаружил, что все это у Пушкина уже есть, — какая
подлость со стороны классика... Я себя классиком не считаю,
но, согласитесь, вариант похожий.
Вначале я анализировал ситуацию «картина мира — опыт»
на материале естествознания, преимущественно физики. Но
потом обратился к социально-гуманитарным наукам. Здесь
такие ситуации встречаются значительно чаще. Но
осмысливаются неадекватно. Принципы картины мира называют
теорией, а поскольку это отлично от образцов развитых теорий
естествознания и его конкретных теоретических моделей, то
усматривают в этом специфику социальных и гуманитарных
наук. Но в этих науках тоже существуют теоретические
модели, в том числе и математизированные.
Касавин И. Т. Уже К. Маркс пытался, видимо, сделать это в
экономике, в первом томе «Капитала».
Стёпин В, С. Я в своей книге «Теоретическое знание»
обращал внимание на то, что в экономической науке есть
достаточно образцов конкретных теоретических схем,
использующих идеализации так же, как то делается в естествознании.
Например, когда К. Маркс писал о законе стоимости, он
формулировал его для идеализированной ситуации.
Предполагается, что товар обменивается на товар в соответствии с
общественно необходимым трудом, вложенным в него. Но такого
никогда не бывает, поскольку в реальности есть колебание
рыночных цен. Закон формулируется относительно
теоретической схемы, в которой фигурируют стоимости, идеализирован-
66 Интервью И. Т. Касавина с В. С. Стёпиным
ные товары и идеализированный товарный обмен. В
современных макроэкономических теориях важную роль играет
математическая формулировка законов спроса и предложения
товаров, которая получена относительно модели,
предложенной известным швейцарским экономистом XIX в. Л. Вальра-
сом. Эта модель предполагает, что сумма избыточного спроса
и предложения всех товаров на рынках равна нулю. Я отмечал
в своей книге «Теоретическое знание» (2000), что закон
Вальраса с методологической точки зрения формулируется так
же, как закон идеального газа в физике, который применим
только к ситуациям с небольшими давлениями, когда
взаимодействие молекул можно интерпретировать как упругое
соударение материальных точек. Но при больших давлениях закон
Бойля—Мариотта не выполняется. Он обобщается в законе
Ван дер Ваальса, учитывающем силы молекулярного
взаимодействия, от которых абстрагируется модель идеального газа.
Так же обстоит дело и в законе Вальраса, в макроэкономике.
Этот закон требует корректировки при описании
неравновесных рынков, и тогда создаются новые модели и новая система
идеализации (модель Кейнса—Викселя, усовершенствованная
Дж. Стейном и Г. Роузом, модель неравновесных рынков,
предложенная американскими экономистами Д. Патинкиным,
О. Левхари и Г. Джонсоном). Относительно этих моделей
вводятся более сложные математизированные формулировки
законов товарно-денежного обращения. Впрочем, большая
часть исследований в социально-гуманитарных науках может
быть описана как ситуации взаимодействия картины
социальной реальности и опыта. И нужно еще принять во внимание то
обстоятельство, что теоретический уровень исследования
может быть представлен историческими реконструкциями,
которые применительно к исторически развивающимся объектам
выполняют функцию теоретических моделей исследуемой
реальности.
Кстати, если уж мы затронули тему новых результатов,
полученных в моих исследованиях, то я бы выделил особо еще
два следствия, которые вытекали из анализа оснований науки
и идей конструктивного введения абстрактных объектов в
теоретические модели. Речь идет о поставленной Т. Куном
проблеме образцов решения задач и об обобщении принципа
наблюдаемости.
Касавин И. Т. В 70-е гг. прошлого века едва ли не все
эпистемологи, историки и методологи науки увлекались
постпозитивистской философией науки, в частности концеп-
Важно, чтобы работа не прекращалась... 67
цией Томаса Куна, а его книга «Структура научных
революций» стала чуть ли не Библией целого поколения. Мне
известно, что Вам удалось справиться с важной проблемой
генезиса образцов, которая уже была намечена, но не решена
Куном.
Стёпин В. С. Т. Кун справедливо указал на то
обстоятельство, что в состав теории включаются образцы решения задач.
В механике в качестве таких образцов выступают задачи
колебания и вращения тел, соударения упругих тел, движения тела
в поле центральных сил и т. п. В классической
электродинамике — кулоновская задача, задачи электромагнитной и
электростатической индукции, магнитного и силового действия
токов, постоянного тока и т. п. Идея Т. Куна выражала
понимание того, что теория развертывается как решение задач в
соответствии с некоторыми образцами. К тому времени, как
познакомился с книгой Т. Куна, а это произошло где-то к
концу 60-х, у меня уже были разработаны идеи
генетически-конструктивного развертывания физической теории.
Это позволило не просто зафиксировать наличие
образцов, по аналогии с которыми решаются другие теоретические
задачи, но и поставить вопрос об их структуре. В моем
анализе образцы выступали как демонстрация способов
редукции фундаментальной теоретической схемы к частным,
способов порождения «дочерних» (по отношению к
фундаментальной) частных теоретических схем и соответствующих
законов. Эти способы в самой теории, как правило, не
описываются в форме методологических инструкций, они
демонстрируются. И усвоение теории, ее понимание не сводятся
только к усвоению ее принципов и пониманию сути ее
законов. Это необходимо, но этого недостаточно. Нужно еще
усвоить, как решаются теоретические задачи на образцах
(например, как выводятся из уравнений Максвелла законы
Кулона, Био—Савара, законы Фарадея для электромагнитной
индукции и т. п.). Только благодаря этому приходит
понимание теории, и тогда можно решать новые задачи по образцу и
подобию уже решенных, включенных в качестве образцов в
состав теории. Заслуга Т. Куна была как раз в том, что он
сфокусировал внимание на образцах как особых компонентах
научной теории.
Но тогда возникает проблема генезиса образцов. Как они
формируются и как включаются в состав теории? Нельзя
сказать, что Т. Кун не видел той проблемы. Напротив, он пытался
найти ее решение, апеллируя к психологии творчества. Он пы-
68 Интервью И. Т. Касавина с В. С. Стёпиным
тался объяснить генезис образцов в терминах применения
аналогий и «гештальт-переключения». Но решить проблему
на этих путях не удавалось. В лучшем случае возникали лишь
некоторые предварительные ассоциации, которые могли
стимулировать новые подходы.
К проблеме генезиса образцов я обратился уже после того,
когда была проработана тематика генезиса частных и
фундаментальных теорий классической и неклассической науки.
Решающим звеном было открытие процедур конструктивного
обоснования, а осуществленная мною с Л. М. Томильчиком
реконструкция максвелловской электродинамики послужила
материалом для нового уровня методологической
рефлексии — анализа проблемы образцов.
Суть дела была в следующем. Важно предварительно
зафиксировать, что построение развитой теории
осуществляется путем последовательного обобщения частных
теоретических схем. Процесс обобщения протекает поэтапно. Он
основан на применении аналоговых моделей, построении
промежуточных гипотетических схем и их конструктивного
обоснования. При включении в процесс обобщения нового
материала промежуточная схема перестраивается,
превращается в новую гипотезу и ее нужно вновь конструктивно
обосновывать. И здесь самое главное! Необходимо, но
недостаточно осуществить «конструктивную привязку»
обобщающей теоретической схемы к новому материалу, доказать,
что в нее включается конструктивное содержание нового
блока частных теоретических схем. Важно еще и проверить,
сохранилось ли в модифицированной промежуточной схеме
прежнее конструктивное содержание. Не разрушилось ли
оно в процессе ее модификации, ведь составляющие ее
абстрактные объекты наделялись новыми признаками.
Проверка этого типа проводится путем конструирования на
основе обобщаемой схемы всех ассимилированных ей ранее
частных теоретических схем. Теперь они предстают как
«дочерние» образования по отношению к обобщаемой схеме.
И на этой основе осуществляется вывод из обобщающих
законов ранее автономно существовавших частных
теоретических законов.
В нашей реконструкции максвелловской электродинамики
все эти процедуры прослеживались достаточно отчетливо.
Когда Максвелл получал на каждом этапе предпринятого им
синтеза очередное обобщающее уравнение и
соответствующую конструктивно обоснованную теоретическую схему, он
Важно, чтобы работа не прекращалась... 69
проверял, насколько сохраняется в них предшествующий
физический смысл, относящийся к уже ассимилированному
материалу.
А на завершающем этапе, когда были получены его
знаменитые уравнения, выражающие законы электромагнитного
поля, Максвелл показал, что из этих законов можно получить
все частные теоретические законы, на которые он опирался.
На этой стадии обоснования и возникала демонстрация
решения задач, возникали образцы такого решения.
Касавин И, Т. Когда в последний раз исследователь выводит
частные законы, опираясь на новую теорию, можно ли этот
последний шаг рассматривать просто как дедуктивный вывод
следствий?
Стёпин В. С. Вывод следствий осуществляется
генетически-конструктивным путем. Максвелл показывает, как из его
обобщающей теоретической схемы можно получить в качестве
дочерних образований частные теоретические схемы кулонов-
ского взаимодействия зарядов, электромагнитной и
электростатической индукции, постоянного тока и т. п. И
соответственно вводит новые формулировки законов Кулона, Био—Ca -
вара, Ампера, Фарадея и т. п. Причем многие из этих законов
ранее были сформулированы в контексте идеи дальнодействия
и имели другую математическую форму. Он их переписывает в
полевой форме. Это было изложение новой теории и
одновременно ее обоснование. Можно сказать, что теория как
исторически развивающаяся система несет в себе следы своего
генезиса. То, что было основными этапами генезиса, становится
структурой теории, то, что было обоснованием, становится
образцами решения задач.
Как бы потом ни видоизменялась теория (а она после своего
становления может не раз переформулироваться, выражаться
в новой математической форме), первичные образцы решения
задач в ней сохраняются. В современных изложениях теории
электромагнитного поля обязательно будет вывод из
уравнений Максвелла, законов Кулона, Био—Савара,
электромагнитной и электростатической индукции, постоянного тока.
А это именно те законы и теоретические схемы, которые
выступали исходным материалом для построения максвеллов-
ской электродинамики, и которые в видоизмененном виде
были включены в нее.
У меня был случай обсудить эти результаты с Т. Куном.
Я встречался и дискутировал с ним дважды — в самом
начале 90-х в Москве и затем в Бостоне. Вначале он скептически
70 Интервью И. Т. Касавина с В. С. Стёпиным
воспринял мое утверждение о том, что поставленная им
проблема образцов мною решена логико-методологическими
средствами. Но затем, по мере углубления дискуссии, он
убедился в справедливости сказанного. Я довольно твердо
объяснил, почему проблема не могла быть решена в рамках
западной традиции и выработанных ею методологических средств.
Для решения принципиально важно было обнаружить
процедуру конструктивного обоснования. Т. Кун сказал, что ему
требуется все это обдумать и просил переслать ему все мои
работы на английском по данной тематике. Я передал ему две
статьи, а затем выслал еще несколько оттисков. Мы
договорились продолжить дискуссию через год на одной из
конференций. К сожалению, эта встреча не состоялась. Томас Кун
тяжело заболел, а затем пришла печальная информация о
его смерти. Как и рано ушедший из жизни И. Лакатос,
Т. Кун, бесспорно, был одной из самых ярких фигур в
постпозитивистской философии науки.
Касавин И, Т. А как соотносились Ваши идеи
конструктивности с принципом наблюдаемости, ограниченность которого
стала ясна довольно быстро в результате критики индукции
К. Поппером?
Стёпин ß. С. Я обобщил принцип наблюдаемости,
истолковав его как первую попытку подойти к идеям
конструктивности. Принцип наблюдаемости создает иллюзию, что теория
рождается как индуктивное обобщение опыта. А принцип
конструктивности утверждает, что теория рождается вначале как
гипотетическая схема сверху по отношению к опыту и только
потом адаптируется к опыту. Конструктивное введение
объекта — это адаптация гипотетического варианта теории к опыту,
которая автоматически создает правила соответствия,
связывающие теоретические термины с опытом.
Кстати, не только К. Поппер предъявлял претензии к ин-
дуктивистской трактовке принципа наблюдаемости. Сходные
идеи я нашел у А. Эйнштейна. В беседе с В. Гейзенбергом
Эйнштейн подчеркивал, что сама по себе наблюдаемость без
теории мало что значит. Только теория может определить, что
наблюдать и как наблюдать. Принцип наблюдаемости, если
его применять в его жесткой версии, требовал использовать
при построении теории только принципиально наблюдаемые
величины. Но жесткое требование исключать из теории
ненаблюдаемые величины никогда не применялось в науке. Без
этого нельзя построить большинство гипотез и теорий. Но в
своей мягкой формулировке принцип наблюдаемости перестает
Важно, чтобы работа не прекращалась... 71
работать в качестве методологического регулятива. Он не
содержит конкретных указаний, где и когда его следует
применять, на каком этапе построения теории следует устранить
ненаблюдаемые объекты. Применение принципа
наблюдаемости становится делом интуиции исследователя, который
должен сам решить, какие величины и какие теоретические
конструкты устранить как ненаблюдаемые.
Принцип конструктивности преодолевает эти трудности.
Он предполагает, что на стадии гипотезы конструкты могут
приобрести новые признаки, указывает, что это должны быть
конструкты гипотетической теоретической схемы. Их
признаки нужно проверить на непротиворечивость и выстроить
заново в качестве идеализации, опирающейся на новую
область опыта.
Все эти результаты были получены мной в период, когда
философия науки акцентировала логико-методологическую
проблематику, сосредоточиваясь на анализе операций
построения нового знания.
Концепция динамики науки была разработана мною на
материале физики. Естественно возникал вопрос, насколько
можно переносить эту концепцию на другие области знания.
Я не сомневался в возможности такого применения,
поскольку концепция была сформулирована в общей форме, в
логико-методологическом языке, выходящем за рамки философии
физики.
После перехода в Белорусский госуниверситет, где я после
защиты докторской стал и профессором, у меня появились
ученики — аспиранты, а затем и докторанты. Большинство из
них принимали мою концепцию структуры и развития научных
знаний. Они применяли ее в своих исследованиях. Появились
работы, в которых анализировался под этим углом зрения
материал биологии и социальных наук. Проблемным, например,
было выявление в составе биологического знания такой
формы этого знания, как специальная научная картина мира.
В этом плане интересны были работы Л. Ф. Кузнецовой.
Я был научным руководителем ее кандидатской и
консультантом докторской диссертации. Сегодня она профессор,
работает на той же университетской кафедре. В ее работах было
прослежено, как создается и развивается картина
биологической реальности на разных этапах истории биологии и как эта
картина выполняет роль исследовательской программы в
теоретических и эмпирических исследованиях биологии. Но не
только мои прямые ученики демонстрировали возможности
72 Интервью И. Т. Касавина с В. С. Стёпиным
концепции. Мне, например, было чрезвычайно интересно
обсуждать под этим углом зрения методологические проблемы
астрономии с В. В. Казютинским — известным специалистом
в этой области. Он затем применил представления об
изменениях картины мира и идеалов и норм исследования при
анализе революций в астрономии.
Помню, пришло письмо из Томска от В. В. Чешева,
который использовал некоторые идеи моей концепции при анализе
технического знания. Впоследствии мы не раз встречались с
ним и вели интересные дискуссии на темы специфики
технического знания.
В начале 80-х я познакомился с В. Г. Гороховым. Он
хорошо знал мои работы и применил мою концепцию к
анализу структуры и генезиса технических наук. Результаты,
которые он получил, на мой взгляд, были из числа
интереснейших в этой области. В. Горохов показал, что в технических
науках, которые традиционно полагались прикладными, есть
слой фундаментальных теорий и частных теоретических схем
и законов, выявил специфику теоретических схем в
технических науках, выделил их классические и неклассические
образцы.
Расширение поля приложения концепции
свидетельствовало о ее потенциале и возможностях дальнейшего развития.
В конце 70-х — первой половине 80-х гг. на передний
план в философии науки стали выходить проблемы
социокультурной детерминации научного познания. В моих
исследованиях они возникли как естественное следствие анализа
оснований науки.
После выяснения роли социокультурных факторов в
развитии научных картин мира, в развитии идеалов и норм науки
главное мое внимание было направлено на анализ
философских оснований науки и их связи с культурной традицией.
Беседа третья. Культура и типы рациональности
Касавин И. Т. Каким образом Ваши исследования
философских оснований науки привели к исследованию оснований
культуры, как изменялось Ваше понимание роли философии в
культуре?
Стёпин В. С. К новому сдвигу проблем приводило, с одной
стороны, выявление специфики научного познания, а с
другой — процесса формирования и развития философских осно-
Важно, чтобы работа не прекращалась... 73
ваний науки. Проблема специфики науки и ее отличие от
других форм познания особенно актуализировалась в связи с
анализом социокультурной детерминации науки. Ведь для того
чтобы исследовать, как взаимодействует наука с философией,
искусством, религиозно-мифологическим сознанием,
обыденным сознанием — для этого нужно вначале их различить.
Интуитивного различения здесь недостаточно, нужен был особый
анализ.
Существует несколько признаков, характеризующих
специфику науки. Я выделил два главных, а остальные
представил как зависящие от них, скоррелированные с ними. Первая
основная характеристика науки состоит в том, что она дает
предметное объективное знание о мире. Все, на что
направлено научное познание, — объект. Наука может изучать и
субъекта, состояние его сознания, но изучает их как
объекты, подчиненные естественным законам. Она может изучать
все в человеке и окружающем его мире, но в особом
ракурсе, с особой точки зрения. Наука — как царь Мидас из
известной легенды. К чему бы Мидас ни прикоснулся, все
обращалось в золото. К чему бы ни прикоснулась наука — все
для нее объект, подлежащий изучению. А там, где наука не
может сконструировать предмет и представить его
«естественную жизнь», определяемую его сущностными связями,
там кончаются ее притязания. Этот ракурс предметности
выражает одновременно и безграничность и ограниченность
науки, поскольку человек как самодеятельное сознательное
существо обладает свободой воли, его бытие не только
объектное, но и субъектное. И не все состояния его субъектного
бытия могут быть исчерпаны наукой, даже если
предположить, что такое всеобъемлющее знание о человеке, его
жизнедеятельности может быть получено. В этом утверждении о
границах науки нет ничего антисциентистского. Просто это
констатация того, в общем-то, очевидного факта, что наука
не может заменить все формы познания мира, всю культуру.
И то, что ускользает из ее поля зрения, компенсируется
другими формами духовного постижения мира — искусством,
религией, нравственностью, философией и даже, в
определенной мере, обыденным познанием.
Касавин И. Т. Это уже был ход далеко за переделы
методологии науки как таковой, в область общефилософских
проблем мировоззрения, культуры...
Стёпин В. С. Возможно и так. Важно, что в рамках этого
понимания возникли новые подходы. Наука не просто ориен-
74 Интервью И. Т. Касавина с В. С. Стёпиным
тирована на получение предметного, объективно-истинного
знания. Она должна постепенно наращивать это знание,
обеспечить его рост, открытие нового. В этом вторая
отличительная характеристика науки. Рост знания она обеспечивает за
счет появления теоретических исследований, имманентного
движения в системе идеализированных конструктов теории и
проверки теоретических гипотез опытом. И в этом развитии
она открывает предметные структуры будущей практики. То,
что делает наука, не обязательно сейчас же должно быть
употреблено в массовой практике сегодняшнего дня. Оно может
быть освоено в практике далекого будущего, а возможно, что
это вообще вспомогательные идеи, непосредственно не
имеющие выхода в практику, но без них не были бы выработаны
теории, открывающие пути к новым технологиям. Наука —
это деятельность, которая открывает человечеству новые
предметные миры.
Я показал, что из этих главных признаков науки можно
получить и ряд других: особенности средств научной
деятельности (языка науки и ее инструментария), методов науки, ее
результатов (того типа знаний, которые наука генерирует) и,
наконец, особенности субъекта научной деятельности, в том
числе и этических установок, которые регулируют эту
деятельность. Из базисных характеристик науки вытекают два
базисных принципа научного этоса: ищи истину («Платон
мне друг, но истина дороже») и наращивай истинные знания,
не повторяя уже пройденного, того, что было сделано до
тебя. Отсюда и два важных этических ограничения в
науке — запрет на умышленное искажение истины и запрет на
плагиат.
Постоянные прорывы науки к новым предметным мирам
связаны с открытием и освоением его новых типов
системных объектов. От простых механических систем наука
переходит к освоению сложных, саморегулирующихся систем, а
затем и сложных саморазвивающихся систем. Каждая из
таких систем требует особого понимания категорий части и
целого, причинности, пространства и времени. Чтобы
изучать объекты, относящиеся к разному системному типу,
нужны особые «категориальные сетки», обеспечивающие
понимание и познание таких объектов. И тогда вставал
вопрос: откуда они берутся, как они возникают в науке и
культуре? И здесь возникла идея философии как генератора
новых категориальных смыслов, которые заранее
формируются, включаются в культуру, транслируются в ней, ждут
Важно, чтобы работа не прекращалась... 75
своего часа, и когда необходимо, ученый к ним обращается,
начинает с ними работать. Эта же идея в несколько другом
варианте возникала в процессе анализа философских
оснований науки. Если рассмотреть, допустим, физику с XVII
до конца XIX в., то там в качестве ее философских
оснований выступал механицизм. Совершенно очевидно, что эти
принципы и способы видения мира не исчерпывали всего
массива философского знания, потому что в это время в
философии было множество различных концепций, идей,
теорий, была борьба между ними. Но для того чтобы
включить в культуру те знания, которые были добыты физикой
XVII—XVIII вв., достаточно было механистического
мировоззрения.
Философские основания науки играют двоякую роль: с
одной стороны, они обеспечивают включение добытых знаний в
культуру, а с другой — служат эвристикой научного поиска,
обеспечивают поиск новых подходов к изменению картины
мира и изменению идеалов и норм науки. Тогда возникла
первая проблема: как соотнести философские основания науки с
остальным массивом философского знания? Очевидно, что
они не совпадают, что философские основания селективно
заимствуются наукой из развивающегося массива философского
знания. Они располагаются между философией и наукой и
разрабатываются уже не только философами, но и учеными-
специалистами вместе с философами, т. е. такими людьми,
которые могут совместить в себе и философию, и специальные
научные знания, — такими, как Галилей, Декарт, Лейбниц,
Бор, Эйнштейн. Но есть еще развивающийся массив
философского знания, из которого наука черпает отдельные идеи,
для того чтобы обеспечить производство своего знания в
какую-то историческую эпоху. Получается, что в философии
заранее нарабатываются идеи, представления, категориальные
смыслы, которые может использовать наука. Если ученые не
находят в готовом виде такие идеи, то они должны выработать
их самостоятельно. Но при этом, во-первых, они уже выходят
за рамки своей специальной науки и входят в область
философских исследований, перестают быть только физиками,
математиками, биологами, а становятся философами (такое
совмещение как раз и характеризует великие умы от Галилея,
Ньютона, Декарта и Лейбница до Эйнштейна и Бора).
Во-вторых, в своих философских поисках они опираются на
предшествующие философские работы, на развитый в философии
концептуальный аппарат и методологический инструментарий.
76 Интервью И. Т. Касавина с В. С. Стёпиным
Поэтому во всех случаях выходит: для того чтобы наука
использовала при решении своих проблем те или иные
категориальные смыслы, философские идеи и принципы, нужно, чтобы
эти категории, идеи и принципы были предварительно
получены в системе философского знания.
Когда наука формирует и использует те или иные
философские основания и когда она их преобразует, переходит к новым
основаниям, то для всего этого в массиве философского
знания должны быть предварительные наработки. И тогда
возникает вопрос: а как это возможно? Как возможна философия?
Для решения этого вопроса мне понадобился анализ
культуры. Это относится к работам 80-х гг., когда я от собственно
методологических занятий перешел к исследованию связей
философии, культуры и цивилизации. Я и сейчас занимаюсь
этой проблематикой.
Касавин И. Т. Расскажите более подробно, как Вы решали
проблему прогностических функций философии по отношению
к науке?
Степан В. С. Для начала нужно было зафиксировать
факты, свидетельствующие, что философия способна порождать
идеи, которые потом оказываются эвристически ценными для
науки. Кроме того, важно было выяснить, в каких ситуациях
научного поиска эти идеи становятся наиболее актуальными.
По этому поводу у меня уже были предварительные
соображения, связанные с объективной потребностью науки
перестраивать наиболее общие категориальные смыслы при переходе к
освоению нового типа системных объектов.
Допустим, речь идет о классической науке XVII—XVIII вв.
Для освоения объектов, с которыми она тогда работала (это
были простые системы), было достаточно следующей
категориальной сетки. Можно считать, что целое определяется
свойствами частей, которые автоматически создают свойство
целого, т. е. исключается идея особых системных качеств целого.
Этот подход вполне оправдан для простых механических
систем. Например, простую машину типа часов или
механического двигателя можно разобрать на части, а потом собрать, и она
будет работать, если сборка проведена правильно, то есть
элементы, выделенные из системы, не теряют своих свойств и
их снова можно включить в систему. Далее, для описания
причинных связей между элементами системы и ее
взаимодействия с другими подобными системами достаточно лапласовской
детерминации, т. е. жесткой однозначной причинности. Если
известно положение частиц в какой-то момент времени, их на-
Важно, чтобы работа не прекращалась... 77
чальные импульсы и координаты, а также известны
действующие на них силы, то можно предсказать их поведение на сколь
угодно большое время. Пространство и время при этом можно
считать абсолютными, как в ньютоновской, механической
картине мира. Они безразличны к протеканию в них тех или иных
процессов. Эти процессы не влияют на свойства
пространства — времени, это как бы арена, на которой разыгрываются
процессы, но их особенности не влияют на свойство самой
арены. Вот примерно такая категориальная сетка применима
для освоения простых систем. Она и составляла ту базу
философских оснований естествознания, которая доминировала в
науке этого исторического периода. Но при переходе к
освоению больших систем, сложных систем с обратными связями, с
блоком управления, с передачей информации, уже прежних
категориальных смыслов недостаточно. Придется по-новому
вводить соотношение частей и целого. В понимание целого
нужно ввести представление об особых системных качествах,
т. е. свойства целого полностью не исчерпываются свойствами
частей, часть внутри целого и вне целого может обладать
разными свойствами. Более того, часть может существовать
только внутри целого, а будучи выделенной из целого, теряет
свои качества. Например, если вы разберете живой организм
на клетки, то клетки могут погибнуть, и вы назад его уже не
соберете, в отличие от часов, которые вы можете разобрать и
собрать по винтикам, если умеете это делать. В сложных
системах лапласовская причинность уже действует с
ограничениями. Она может присутствовать в виде жестких команд,
идущих от блока управления к подсистемам, но одновременно
подсистемы характеризуются стахостическими
взаимодействиями, и там проявляется вероятностная причинность. В
понимании пространственных и временных характеристик
приходится вносить коррективы, потому что в больших системах
типа биологических объектов возникает особое внутреннее
пространство и внутреннее время (пространство ареала,
биологические часы), которые не сводимы к внешнему
пространству и времени. Для понимания и исследования сложных
систем нужна другая категориальная сетка, а не та, которая
работала в познании малых систем. А если перейти к системам
третьего типа, к системам с саморазвитием, исторически
развивающимся объектам, то здесь опять требуется новая
категориальная структура. Например, придется связывать понятие
детерминации с понятием о возможности и действительности,
с превращением возможности в действительность, потому что
78 Интервью И. Т. Касавина с В. С. Стёпиным
появляется несколько сценариев развития, относительно
которых невозможно жестко детерминированно предсказывать
будущее поведение системы. Она, проходя через точки
бифуркации, может менять стратегию своего развития; возникает
несколько возможных линий развития системы. Появление
нового уровня организации элементов будет воздействовать на
ранее сложившийся уровень и менять их связи, а значит,
менять законы функционирования. Для сложных развивающихся
систем можно ввести идею изменения законов во времени.
К примеру, было время, когда во Вселенной не было живых
систем и не было законов биологии, они появились
исторически. Если вы рассматриваете такую систему, как
развивающуюся Метагалактику, то можно констатировать появление
здесь законов биологического и социального развития на
определенных стадиях эволюции этой системы. С этих позиций
проблема формулируется следующим образом: сложившаяся
в науке и применяемая ею категориальная сетка обеспечивает
освоение определенных типов объектов, но развивающаяся
наука рано или поздно наталкивается на новые объекты более
сложной системной организации, чем те, которые она изучала
ранее. Значит, наука должна иметь ресурсы, чтобы ввести
новую категориальную сетку, иначе она будет рассматривать
новый объект в старых категориях и все время сталкиваться с
противоречиями. Хороший тому пример — история квантовой
механики. В начале ее создания в умах исследователей,
которые строили новую теорию, витала старая категориальная
структура, сформулировавшаяся в классической физике, и они
были вынуждены мучительно преодолевать ее и все время
решать философские проблемы: как часть относится к целому,
нужно ли расширить понятие детерминизма. Этому во многом
были посвящены знаменитые споры А. Эйнштейна и Н. Бора
на Сольвеевских конгрессах. По существу, само движение
науки к освоению новых типов объектов, в частности объектов
микромира, и новых типов взаимодействия потребовало
решать философские проблемы, формировать новую
категориальную систему, обеспечивавшую понимание и познание
новой реальности.
Касавин /У. Т. И такое случается достаточно часто, если мы
имеем дело с активно прогрессирующей наукой, с
«перманентной революцией», как К. Поппер это называл? Видимо, и
сам Поппер по-другому стал относиться к философии,
поскольку понял невозможность без обращения к ней объяснить
динамику науки...
Важно, чтобы работа не прекращалась... 79
Стёпин В. С. Когда наука переходит к освоению объектов
нового типа, это, как правило, требует переосмысления
категорий. И в эти периоды наука просто заставляет ученого
заниматься философской работой, он обращается к массиву
философского знания и находит в нем необходимые ресурсы. К
примеру, есть свидетельство Гейзенберга и Бора о том, что на
ранних этапах квантовой теории они очень активно обсуждали
проблемы теории познания, вопросы, связанные с
пониманием причинности, и многие другие философские проблемы.
Есть свидетельство о том, что на формирование принципа
дополнительности Н. Бора оказали влияние идеи С. Кьеркегора,
который критиковал Гегеля и выдвигал идеи
дополнительности противоречий. Здесь возникает очень интересная
проблема: как в философии еще до того, когда наука начинает
осваивать те или иные типы объектов, вырабатываются
категориальные структуры, которые обеспечивают освоение этих
объектов? Это кардинальный вопрос: как возможна
философия в качестве эвристики науки?
И отвечая на него, я вынужден был заняться проблемой
природы философского знания. Мне пришлось при этом
внутренне преодолевать установки, которые в той или иной мере
были в сознании каждого из нас, получивших образование в
советскую эпоху. «Философия — наука о наиболее общих
законах природы, общества и мышления». Я верил в эту
знаменитую энгельсовскую фразу, но потом я вынужден был все это
переосмыслить. Во-первых, я сам для себя сделал такой
вывод, что эта энгельсовская формула верна, но ограничена. Она
подходит только для некоторых систем философского знания.
Под нее очень трудно подвести, например, средневековую
философию, которую мы изначально не можем определять как
науку. Согласно стандартам, по которым нас обучали, — это
религиозные доктрины или религиозная философия, и она
представляет собой особый случай, отличающийся от научной
философии. Потом я подумал о том, что Толстой, Достоевский
создали оригинальные философские идеи. Но они
вырабатывались в рамках совсем иной, не научной, а художественной
традиции и отражены в созданными этими великими
писателями произведениях. В романе «Война и мир» Толстого есть и
своя философия. Потом я вспомнил о том, что есть философия
Камю, Сартра, которые в драматургических произведениях
выражали свои философские идеи. И тогда я пришел к
выводу, что энгельсово определение философии не подходит для
философии в целом.
80 Интервью И. Т. Касавина с В. С. Сталиным
Касавин И. Т. То есть оно, может быть, отчасти
подходит для французского Просвещения, для Гегеля или для
самого марксизма, но не для всего многообразия
философских учений?
Степан В. С. Совершенно верно. Она подходит для
философии, которая ориентирована на сциентистскую традицию.
Есть разные типы философствования. Есть в философии тип,
связанный со строго логическими построениями, когда одно
положение строго логически выводится из другого, а есть
философия, которая больше работает на смысловых образах и в
ней преобладает художественное начало. Это меня заставило
по-иному осмыслить то, чем занимается философия, но
поставленная ранее проблема сохранялась. Как возможно в
философии продуцировать категориальные сетки, которые потом
пригодятся для науки?
То, что философия это умеет делать, об этом
свидетельствует история науки. Я с этой точки зрения посмотрел,
например, на то, как физика XX в. относилась к Канту, и
вспомнил о том, что в своей автобиографии Эйнштейн с
сожалением отмечал, что он поздно прочитал Канта, т. к.
иначе ему легче было бы создавать теорию относительности.
Эйнштейн исходил из того, что теория может быть навеяна
опытом, но она не может быть индуктивно выведена из
опыта. На деле же она вводится сверху по отношению к опыту,
в каком-то смысле вводится априорно на первых этапах, а
потом адаптируется к опыту. Дальше я установил, что ряд
идей, которые наука начинала разрабатывать относительно
исторически развивающихся систем только со второй
половины XX в., были высказаны еще Гегелем. Идеи возможных
сценариев развития системы были отработаны у Гегеля в
виде категорий реальной и абстрактной возможности и
превращения возможности в действительность. Всегда есть
поле возможностей, из которых не все превращаются в
действительность. Затем я вспомнил о том, что у Гегеля есть
замечательная идея погружения в основание. Нечто
рождает свое иное, вступая с ним в рефлексивную связь и меняет
само основание. Это было явно похоже на наращивание
уровней иерархии в развивающейся системе, когда верхний
уровень заставляет перестраивать связи элементов нижнего
уровня и меняет свойства этих элементов. Я даже подумал
об этой идее Гегеля по поводу необходимости иначе
определить понятие времени для процессов развития. Он не
находил развития в природе, а только в сфере духа, в сфере соз-
Важно, чтобы работа не прекращалась... 81
нания, поэтому у него природа развивается в пространстве,
но не во времени.
КасавинИ. Т. Похоже, что идея времени особо
чувствительна к концептуальным перестройкам в науке и философии.
Как раз этой теме посвящена статья П. П. Гайденко, которую
она подготовила для данного издания. Применительно же к
Гегелю получается едва ли не так, что разрабатываемые им
идеи историко-культурного времени в дальнейшем оказались
небесполезными для естественной истории, для современной
постнеклассической науки?
Стёпин В. С. Гегель, по крайней мере, привлек внимание
к тому, что применительно к естественной истории надо
как-то иначе задавать время, т. е. каждый тип развития
может иметь свои пространственно-временные характеристики.
Проводя анализ далее, я заметил, например, определенную
связь между идеями Лейбница и идеями, которые развивал
Дж. Чью в знаменитой модели бутстрапа (зашнуровки).
Там есть нечто похожее на монады, где каждая частица
содержит потенциально все остальные, когда они как бы
зашнурованы друг на друга. Они все представляют собой
систему, постоянно обменивающуюся веществом, энергией и
информацией, и каждая из них вроде бы сама по себе, как
лейбницева монада без окон, и в то же время все остальные
частицы в ней светятся. Потом я вспомнил апории Зенона,
когда он говорит, что нельзя перейти мост, и Ахиллес не
догонит черепаху. Если вы берете отрезок, он ведь —
бесконечное число точек, если вы берете маленький кусочек
отрезка, то он — тоже бесконечное число точек, и сколь бы
малый кусочек отрезка вы ни брали — это бесконечное
число точек.
Касавин И. Т. Отсюда напрашивается ход к теории
множеств, к проблемам обоснования математики.
Стёпин В. С. Да. Эта проблема потом возникла у Г.
Кантора и Г. Фреге — как сравнивать бесконечные множества.
Таким образом, старая проблема всплывает через две тысячи лет
на высших этапах развития математики. Значит, философия
может формулировать проблемы, которые намного
опережают свой век, и создавать категориальные смыслы, которые в
ее эпоху избыточны, но которые могут понадобиться в
будущем. И тогда встал вопрос: каковы механизмы такого
порождения этих новых категориальных структур?
Переосмысливая понятие философии, я натолкнулся в
конце 70-х гг. на довольно расплывчатые определения, кото-
82 Интервью И. Т. Касавина с В. С. Стёпиным
рые были у М. Мамардашвили. Он определял философию
как рефлексию над предельными основаниями культуры. Но
что такое предельные основания — этого определения у него
не было. Возможно, таков был стиль его философствования,
многое было построено на догадках, на контекстных
недомолвках, на образах. Были у него и интересные довольно
строгие логические рассуждения, но были и плывущие
структуры. Он мне сам часто говорил, что еще не может найти
адекватного языка для выражения каких-то образов и идей.
Поэтому его идея о предельных основаниях культуры для
меня была непрояснена, но постановку проблемы она
инициировала. В то время я уже начал анализировать роль
культуры в формировании человеческой социальности,
сконструировал определенную схему (модель) социума, где он
рассматривался как система, в которой было выделено три
взаимодействующих подсистемы. Первую можно обозначить,
как неорганическое тело цивилизации, — это искусственные
органы человеческой деятельности, созданная им вторая
природа, система техники и способ развития двухкомпонентной
телесности человека: его органического, биологического тела
и системы искусственных органов, предметных структур
второй природы, которые функционально выступают как
продолжение и дополнение естественных органов человека.
Такое понимание человека было основным принципом
марксистской философской антропологии. Оно явилось одной из
стимулирующих идей, которые привели к
материалистическому пониманию истории, разработке представления о
решающей роли способа производства, которое Маркс
рассматривал как способ воспроизводства и развития неорганического
тела цивилизации. Вторая подсистема — это многообразие
человеческих отношений: бытие человека в социальных
коллективах, больших и малых социальных группах, образующих
макро- и микроструктуру общества. И третья подсистема —
это культура, наличие в обществе как целостном социальном
организме сложно организованной совокупности
информационных кодов, хранящих и транслирующих надбиологические
программы человеческой жизнедеятельности.
Воспроизводство и развитие общества предполагает воспроизводство и
развитие многообразия видов деятельности, поведения и
общения. Воспроизводство любого вида деятельности нуждается в
соответствующих программах, потому что деятельность
дискретна. Осуществление любого акта деятельности и его
повторение, необходимое для получения определенного резуль-
Важно, чтобы работа не прекращалась... 83
тата (продукта), предполагает, что субъект деятельности
имеет цели, ценности знания и навыки, обеспечивающие его
целесообразные действия с орудиями, их соединения с
исходным материалом, который преобразуется в продукт как в оп-
редмеченную цель. Эти цели, ценности, знания, навыки и
выступают как особая программа деятельности, которая должна
стать достоянием субъекта. Такого рода программы могут
транслироваться, передаваться в виде образцов, знаний,
предписаний, верований, норм, мировоззренческих установок
и т. п. Они составляют массив накопленного человеческого
опыта — гибкий, исторически изменчивый, который
составляет то, что мы называем культурой. В рамках этой модели
социума я и начал анализировать основания культуры.
Касавин //. Т. Мне кажется, это вообще было время, когда
в марксистской философии обратились к понятию культуры и
пытались как-то скорректировать всю концепцию, спасти ее,
впрочем, безрезультатно. Однако при этом возникает общая
культурологическая тенденция, которая и сегодня весьма
влиятельна, в том числе и в теории познания. Впрочем,
основания культуры по-прежнему остаются недостаточно
проясненным феноменом, что, видимо, вообще характеризует
всякие основания...
Стёпин В. С. Пытаясь выяснить, что нужно понимать под
основаниями культуры, я много перечитал, пересмотрел
Шпенглера, Хайдеггера. В 70-е гг. появилась очень хорошая
книжка А. Я. Гуревича «Категории средневековой культуры»,
где он показывает, как категориальные смыслы в культуре
определяют человеческую социальность. И тогда возникла
идея: надо то, что Гуревич назвал категориями культуры, то,
что Шпенглер называл эпифеноменами культуры, выделить и
отличить от философских категорий. И я провел такое
различение. Прежде всего зафиксировал, что философские
категории выступают как рефлексия над категориями культуры.
И чтобы дважды не употреблять слово «категория», я
применил как синоним категорий культуры термин
«мировоззренческие универсалии», имея в виду, что они и составляют
основание культуры той или иной исторической эпохи. Я
размышлял примерно так: культура — очень гибкая,
изменчивая система, это огромный массив постоянно меняющихся
программ деятельности, поведения и общения людей. Тем не
менее Шпенглер пишет правильно, что культура
представляет собой всегда некое целое, единый целостный организм,
что есть какая-то связь между, допустим, греческой архитек-
84 Интервью И. Т. Касавина с В. С. Стёпиным
турой, греческой наукой и способом решения дел на
народном собрании, политической организацией полисной жизни.
Но что обеспечивает эту целостность? Как приверженец
системного подхода я искал системообразующие факторы.
В системе культуры такими факторами могли быть смыслы
мировоззренческих универсалий. У меня тогда возникла идея,
что категориальные структуры культуры можно обозначить
как то, что обеспечивает селекцию человеческого
жизненного опыта и включение его в поток культурной трансляции.
Ведь опыт многообразен, каждый человек постоянно что-то
изобретает в своей жизни, но не все попадает в культуру.
Культура обладает средствами селекции: этот поступок
справедливый, а вот этот не справедливый, люди знают, что такое
справедливость, хотя часто не могут выразить это
рефлексивно. Если спросить у человека на улице, как понимать
справедливость, он вам продемонстрирует свое понимание на
жизненных примерах. Но категорию справедливости он,
чаще всего, не определит. Это был для меня очень важный
момент, когда я понял, что есть скрытые и часто не
осознаваемые жизненные смыслы, которыми руководствуется
человек в своей деятельности. Эти осознанные и неосознанные
смыслы составляют содержание мировоззренческих
универсалий культуры. Они фиксируют шкалу ценностей,
обеспечивают понимание мира, его осмысление и переживание. Для
человека вопрос о справедливости или несправедливости
всегда эмоционально переживается — это оценка, а значит,
предполагает ценность. Эти универсалии задают, во-первых,
способы селекции человеческого опыта, они как бы
отбирают, что попадет в поток культурной трансляции. Во-вторых,
они образуют категориальный строй сознания людей той или
иной исторической эпохи. И, наконец, в-третьих, в своем
сцеплении и взаимодействии они задают обобщенный
целостный образ человеческого жизненного мира. Этот образ
выражает отношение человека к природе, обществу и духу
(сознанию). Он определяет миропонимание, мироосмысление и
миропереживание (мироощущение) людей той или иной
культуры в определенную историческую эпоху. И тогда
появляется наш любимый философский термин —
мировоззрение. Универсалии культуры — это мировоззренческие
категории. С этих позиций я выделил в универсалиях культуры
три уровня смыслов: 1) общечеловеческий — весьма
абстрактный, но в нем фиксируется отличие человека от
остального мира, 2) исторически особенное содержание, выражаю-
Важно, чтобы работа не прекращалась... 85
щее специфику культуры определенной эпохи, и 3) групповое
и личностное содержание, соответствующее индивидуальному
опыту человека и опыту той или иной социальной группы, в
которую он включен. Все три уровня связаны между собой, и
ни один из них не существует в изоляции от других.
Наиболее интересным представлялся мне анализ второго уровня,
поскольку именно здесь выражались особенности разных
типов и видов культуры, взятых в их историческом развитии.
Известно, что помимо классовых, групповых сходств и
различий есть глубинные структуры сознания, которые отличают
людей одной эпохи от людей другой эпохи, например,
древнего грека от человека эпохи средневековья. Они отличают
людей, принадлежащих к разным культурам, например, людей
традиционного общества Китая III в. до н.э. от древних
греков III в. до н.э. Тут я уже стал смотреть конкретный
материал. Я, например, сравнивал, как древние греки и китайцы
представляли себе бытие и небытие — а это смыслы
ключевых мировоззренческих универсалий. Для грека, для его
обыденного сознания бытие — это предметный мир, а
небытие — это исчезновение бытия. А для древнего китайца
бытие — это не только предметный мир, но и потенциальная
возможность этого мира, скрытая где-то в глубинах бытия
как резервуара, из которого выплывают и в котором
пропадают воспринимаемые нами вещи, события, явления. И тогда
у него небытие — это не отсутствие бытия, а вся полнота
бытия!! Вот такая получилась неожиданная конструкция.
С этими смыслами были связаны смыслы других,
конкретизирующих их категорий. Небытие ассоциировалось с
пустотой. Для древних греков понимание пустоты — это
отсутствие предметов, исчезновение вещей, а для китайцев — это
формообразующее начало вещей. Я в «Книге перемен»
вычитал такие фрагменты: строят дом, прорубают окна и двери;
что делает дом годным к потреблению? Пустота в нем.
Делают кувшин, лепят глину, обжигают ее. Что делает кувшин
годным к потреблению? Пустота в нем. У древних китайцев
пустота — формообразующее начало и, одновременно,
пустота — это отсутствие страданий, особое состояние, которое
обеспечивает самосохранение духа.
Касавин И. Т. А разве это не напоминает кое-какие
греческие идеи — элеатов, Платона?
Стёпин В. С. Здесь очень важно выяснить, что
доминировало в культуре, в обыденном сознании, в языке, в
понимании искусства. Философия частично тоже воспроизводит до-
86 Интервью И. Т. Касавина с В. С. Стёпиным
минирующие смыслы культуры, но ее особенность в том, что
она может выйти за рамки своей культурной традиции и
сконструировать такие смыслы категорий, которые
адресованы не к настоящему, а к будущему. И чем больше развита
эта эвристическая функция в философии (а в античной
философии она — почти доминанта), тем чаще в ней возникают
идеи, противоречащие здравому смыслу эпохи. Поэтому
философские категории могут не совпадать с универсалиями
культуры. И когда речь идет об укорененных в культуре
жизненных смыслах, представленных универсалиями культуры,
нужно с большой долей осторожности апеллировать к
философии. По существу, Ваш вопрос заставил меня
эксплицировать второе отличие категорий философии от
мировоззренческих универсалий.
Но я все-таки продолжу разговор о первом отличии, а потом
вернусь еще раз (более конкретно) ко второму.
Итак, основание культуры представлено системой
мировоззренческих универсалий, а кроме них есть философские
категории, которые возникают как рефлексия над
универсалиями культуры. И те и другие могут обозначаться одним
термином — «бытие», «мир», «природа», «пространство»,
«время», «причинность», «человек», «общество», «добро»,
«зло», «истина», «красота», «справедливость», «совесть»,
«труд» и т. д. Но смыслы этих терминов, в зависимости от
того, обозначают ли они мировоззренческую универсалию
или соответствующую философскую категорию, могут
различаться. В процессе рефлексии над мировоззренческими
универсалиями философия схематизирует и упрощает их,
превращает их в особые идеализированные объекты (в
содержание своих категорий). И с ними она начинает оперировать
как с особыми предметами (примерно так же, как математик
превращает числа в особые сущности, свойства которых он
начинает изучать). Философ превращает универсалии
культуры в абстрактные объекты, в понятия, тде часто исчезает вся
полнота эмоциональных переживаний мира, а упор делается,
скорее, на структуру понимания и осмысления мира.
Поскольку философские категории схематизируют универсалии
культуры, они никогда не передадут всю полноту смыслов,
связанных с переживаниями людей. Они — понятия,
теоретические конструкты, и философия начинает оперировать с
ними как с особыми объектами, изучать их свойства, связи,
отношения. В этом процессе она открывает такие новые
смыслы, которых в культуре данной эпохи нет. Философия
Важно, чтобы работа не прекращалась... 87
может сочинить такое, что является чуждым обыденному
сознанию данной исторической эпохи, она выходит за рамки
этого обыденного сознания. Философия организует такое
движение: первое — от мировоззренческих универсалий к своим
категориальным смыслам; а затем — теоретическое
движение в поле этих смыслов. Вот так же, как наука движется в
системе идеализированных объектов, философия начинает
двигаться в системе этих идеализированных смыслов, причем
она проводит эту работу постоянно. С одной стороны, она
подписывается рефлексией над основаниями культуры, она
должна улавливать изменения, которые возникают в
культуре своей эпохи, а с другой стороны, она изобретает иные
миры, возможные миры человеческой жизнедеятельности.
Вот тогда я вспомнил лейбницеву идею о том, что
математика — это наука о возможных мирах, и определил философию
как науку о возможных мирах человеческой
жизнедеятельности; не тех, которые уже реализованы, а тех, которые могут
возникнуть в возможном будущем. Здесь усматривается
теоретическая деятельность, очень похожая на науку. Тогда в
философии обнаруживаются два аспекта: с одной стороны,
она работает как наука, а с другой, когда начинает искать
жизненные смыслы, предлагать мировоззренческие
ориентиры, она может их оправдывать и оправдывать тот или иной
образ жизни. Тогда она выполняет идеологические функции.
Философские категории не сразу оформляются как научные
понятия, они выступают сначала как некие, если угодно,
синтетические образы, выступают не как понятия, а как смысло-
образы. Таким смыслообразом является, например, геракли-
товский Логос, огонь. В рассуждениях, оперируя смыслоооб-
разом, Гераклит часто следует логике метафоры. К примеру,
он объясняет, почему пьяный человек глуп: это, по его
мнению, происходит потому, что разумная душа — огненная,
сухая, а вино увлажняет душу, и поэтому человек утрачивает
разум во время опьянения. Такие как будто наивные
размышления вызваны доминантой в соответствующей
категории ее образного содержания. Но есть в философии и
достаточно строгие рассуждения; когда она работает с категориями
как с понятиями, дает им строгие определения, прослеживает
их связи и начинает выдвигать теоретические проблемы.
Смыслообразы переплавляются в понятия, и это
подготавливает логическое развертывание выдвигаемых в философии ее
внутренних теоретических проблем. Например, возникает
проблема соотношения категорий части и целого. И просле-
88 Интервью И. Т. Касавина с В. С. Сталиным
живаются все ее возможные решения. Целое делится на
части до предела — это атомистика Демокрита и Эпикура.
Целое делится на части беспредельно — это Анаксагор. И,
наконец, сумасшедшая идея и решение — целое вообще не
делится на части. Бытие едино и неделимо (элеаты). И вот
тут-то возникает эта необычная постановка проблемы,
которая уже выходит за рамки здравого смысла эпохи. Но именно
в этих чисто теоретических построениях философия
открывает новое — идеи атомистики, проблемы сопоставления
бесконечных множеств (апории Зенона), которые затем
многократно побуждают к новым открытиям научную мысль
последующих эпох. Философия открывает такие категориальные
смыслы, которые она затем как дрейфующие гены включает
в культуру, они транслируются в ней, пока не находят свою
аппликацию в науке или в других формах культурного
творчества. Философия нужна не только для того, чтобы жить в
культуре своей эпохи. Она готовит нас к переменам в
культуре и активно в них участвует. Выработанные в ней новые
категориальные смыслы транслируются в культуре, и наступает
время, когда эти смыслы перерастают в новые идеи
публицистики, журналистики, литературной критики, выражаются в
художественных произведениях, новых религиозных
верованиях, правовых и политических учениях. Они наполняются
эмоциональным содержанием и начинают внедряться в
культуру. Философский смысл вновь возвращается к основаниям
культуры с высот абстрактного знания, переплавляется в
конкретные мировоззренческие универсалии и становится
базисом новой культуры.
Если бы культура и общество не менялись, а лишь
воспроизводили одни и те же состояния социальной жизни, тогда и
философия была бы не нужна. В состояниях социальной
стагнации власть всегда стремится контролировать философскую
мысль, превратить философию в идеологию, до предела сузив
ее творческий научный потенциал. Но. даже в этих
неблагоприятных для философии состояниях несвободы она находит
возможности заниматься своим основным делом. В своих
абстрактных построениях, казалось бы далеких от жизни, она
генерирует новые категориальные смыслы, часто защищая их
обрамлениями принятой политической риторики. Если
вспомнить яркие слова Гегеля и Маркса о философии, то она
действительно «живая душа культуры», «эпоха, высказанная в
мысли». Можно добавить, что это и квинтэссенция
возможных будущих эпох, высказанная в мысли.
Важно, чтобы работа не прекращалась... 89
Вот, собственно, такие идеи у меня возникли при анализе
природы и функций в культуре философского знания. Я
разработал и зафиксировал их в ряде публикаций, в том числе и в
статье в «Вопросах философии», которая вышла в 1984 г. —
«Прогностические функции философского знания». Освоение
новой проблематики создало возможности новых
исследований. Я выяснил роль универсалий культуры в социальной
жизни, и для меня открылись новые возможности для анализа
социума, культуры, типов цивилизации, но это уже были другие
идеи и другие времена.
КасавинИ. Т. В своей известной статье 1972 г. М. К. Ма-
мардашвили, Э. Ю. Соловьёв и В. С. Швырёв
сформулировали концепцию классической и неклассической
рациональности. Вам принадлежит идея постнеклассической
рациональности, при этом понятие рациональности не ограничивается
философией, но относится к культуре в целом. Что побудило
Вас к размышлению о новой форме рациональности? Только
ли новейшие подходы в естествознании, направленные на
изучение сложных самоорганизующихся систем, или к тому
привели Вас и какие-то обстоятельства внешнего,
социально-мировоззренческого характера?
Стёпин В. С. Как только круг моих интересов стал
расширяться за пределы философии науки, я каждый раз,
возвращаясь к методологической проблематике, обнаруживал новые
проблемы и возможности новых решений. Последние
результаты такого рода — анализ постнеклассического типа науки,
этот термин я предложил в конце 80-х гг., и он сейчас
достаточно широко используется. У меня возникли четкие критерии
различения типов научной рациональности: тип системных
объектов, метод, особенности субъекта научной деятельности.
Эти критерии скоррелированы между собой. Пришел я к
этому следующим путем.
Разрабатывая идеи внутренней структуры и динамики науки
и выделяя блок оснований науки, я определил научные
революции как перестройку оснований науки. В этом анализе я
вначале детализировал уже предложенную Т. Куном трактовку
революции как смены парадигм, возникающую в результате
накопления аномалий и кризисов. Структуру оснований науки
можно было интерпретировать как структуру парадигмы.
В моем подходе аномалии и кризисы не просто
фиксировались, но находили свое объяснение. До тех пор пока наука
осваивает объекты, главные системно-структурные
характеристики которых выражает сложившаяся картина мира, а пре-
90 Интервью И. Т. Касавина с В. С. Стёпиным
дельно обобщенные особенности метода их освоения
выражены в системе идеалов и норм исследования, никаких
кризисов наука не переживает. Это эпохи ее устойчивого
развития. Но, расширяя сферу своего применения, наука может
втянуть в орбиту исследования принципиально новые типы
объектов, не соответствующие представлениям старой
картины мира и требующие новых идеалов и норм
исследовательской деятельности.
В этих ситуациях накапливаются факты, не находящие
своего теоретического объяснения (аномалии). А попытки
построить теоретические модели, объясняющие новые факты,
при сопоставлении их с картиной мира порождают парадоксы
(кризисы).
Типичным примером тому являются парадоксы, возникшие
после введения в электродинамику преобразований Лоренца.
Из этих преобразований следовало, что пространственные и
временные интервалы меняются при переходе от одной инер-
циальной системы к другой. Но при сопоставлении этого
следствия с электродинамической картиной мира возникало
противоречие. Картина мира постулировала существование
абсолютного пространства и времени, а оно по определению
означало независимость пространственных и временных
интервалов от относительной скорости движения систем
отсчета. Разрешение парадоксов предполагает коренную
трансформацию картины мира. В рассматриваемом случае это
было связано с построением теории относительности и с
введением в картину мира представлений о пространственно-
временном континууме как едином пространстве-времени
физического мира.
Я проследил механизмы построения новых теорий и новых
картин мира на этапе научных революций, показал, что в этом
процессе активно участвуют философские идеи, которые
после построения новой картины мира включаются в систему
философских оснований науки и перестраивают их.
Конкретной демонстрацией всех этих процессов была осуществленная
мной реконструкция становления специальной теории
относительности. Все эти результаты были опубликованы в книгах
«Идеалы и нормы научного исследования» (1981) и «Научные
революции в динамике культуры» (1987). Позднее, как это
всегда бывает, я уточнил ряд моментов в проделанной
реконструкции становления теории относительности. Этот более
полный и более конкретный вариант был изложен в моей
книге «Теоретическое знание» (2000).
Важно, чтобы работа не прекращалась... 91
Рассматривая механизмы внутридисциплинарных научных
революций, я затем обратил внимание на особый тип
революций в науке, связанных с междисциплинарными
взаимодействиями. Этот вариант не был проанализирован Т. Куном.
Он осуществляется за счет «парадигмальных трансплантаций»,
когда основания одной науки начинают изменять основания
другой. В этих случаях научные революции не обязательно
начинаются с аномалий и кризисов. Так развертывалась
великая революция, приведшая к возникновению
дисциплинарно организованной науки. Так возникли революционные
изменения в химии под влиянием квантовой физики, в
современной биологии под влиянием идей кибернетики и теории
информации.
Анализируя оба типа научных революций, я выделил
ситуации, когда происходит радикальная перестройка всех
компонентов оснований науки: ее картины мира, идеалов и
норм, ее философских оснований. Обозначив такие случаи
как глобальные научные революции, я связал их с
изменением типа научной рациональности. Так были введены в
методологический обиход представления о трех типах
рациональности — классической, неклассической и постнеклас-
сической.
Первый из них (классика) характеризуется особым
пониманием идеалов объяснения и описания. Предполагается, что
объективность объяснения и описания достигается только
тогда, когда в цепочке деятельности «субъект — средства
(операции) — изучаемый объект» объяснение сосредотачивается
только на объекте и будет исключено все, что относится к
субъекту, средствам и операциям деятельности.
Второй (неклассика) эксплицирует связи между знаниями
об объекте и характером средств и операций деятельности.
Объяснение и описание включает принцип относительности
объекта к средствам наблюдения (квантово-релятивистская
физика).
Третий (постнеклассика) расширяет поле рефлексии над
деятельностью, учитывает соотнесенность получаемых знаний
об объекте не только с особенностью средств и операций
деятельности, но и с ее ценностно-целевыми структурами. В
явном виде учитывается связь между внутринаучными и вненауч-
ными социальными целями и ценностями.
Соответственно этим изменениям структур метода
деятельности, представленных идеалами и нормами науки,
расширяется поле типов системных объектов, которые можно
92 Интервью И. Т. Касавина с В. С. Стёпиным
освоить в соответствующих структурах деятельности.
Классическая рациональность позволяет осваивать в познании
простые (малые) системы, неклассическая — сложные
системы с саморегуляцией и обратными связями, постнеклас-
сическая — исторически развивающиеся системы, в том
числе и такой их вариант, как человеко-размерные системы
(исторически развивающиеся системы с включенным в них
человеком).
Соответственно каждый их трех типов рациональности
вводит особую категориальную сетку, обеспечивающую
освоение изучаемых объектов (понимание вещи и процесса,
части и целого, причинности, случайности и необходимости,
возможности и действительности, пространства и времени),
а также категориальную сетку, характеризующую наиболее
общую схему метода деятельности (понимание объяснения и
описания, доказательности и обоснования, строения знания,
понимание теории, наблюдения, факта). Изменения
смыслов этих категорий меняют онтологическую и
методологическую составляющую философских оснований науки.
Поэтому каждый тип рациональности предполагает свою
систему философских оснований, которая меняется при смене
типа рациональности.
Под этим углом зрения я выделил и три этапа развития
философско-методологической рефлексии над наукой:
центрированной на онтологической проблематике (классика),
переносящей акцент на анализ процедур и операций
построения знания (неклассика) и акцентирующей проблематику
социокультурной детерминации науки (постнеклассика).
В развернутом виде эти идеи были опубликованы в моей
статье в журнале «Вопросы философии» № 10, 1984. Но в
эскизном, первоначальном варианте они уже были в моих
предыдущих публикациях — в частности, в книге «Научные
революции в динамике культуры» (1987). Затем я уточнял и
развивал их в книге «Философская антропология и философия
науки» (1992).
Анализ постнеклассической рациональности выводил меня к
проблематике особенностей культуры на современной стадии
развития цивилизации. Исследование природы и тенденций
развития современной цивилизации я начал уже на новом этапе
моей биографии и моих научных занятий, в Москве, работая
директором одного из престижнейших научных философских
центров — Института философии АН СССР (а с 1992 г. —
Российской академии наук).
Важно, чтобы работа не прекращалась... 93
Беседа четвертая. Философия и цивилизация
Касавин Я. Т. В прошлый раз Вы говорили о природе
философии. Сформулировав свою концепцию, Вы, если
я не ошибаюсь, совершили очередное «челночное
движение» и посмотрели на науку по-новому, в более широком
контексте, поскольку стало ясно, какие конкретные
функции могут выполнять, к примеру, философские основания
науки.
СтёпинВ. С. Мы говорили о том, что философия
обладает по своей природе прогностическими функциями по
отношению к будущим состояниям общества и культуры и не
только по отношению к науке, но и по отношению к разным
сферам жизни культуры. Она как бы прогнозирует
возможные миры человеческой деятельности. В этом смысле я еще
раз повторю лейбницевскую идею о математике как науке о
возможных мирах, которая хорошо подходит и к философии.
Это наука о возможных мирах человеческой
жизнедеятельности, а поскольку она затрагивает фундаментальные
мировоззренческие основания этой жизнедеятельности, она
соединяет в себе научные и вненаучные, или околонаучные способы
познания мира. Прояснив, как относятся философские
основания науки к массиву философского знания, я получил
более или менее завершенную конструкцию. Структура науки
включает блок оснований как своеобразного посредника
между наукой и культурой. Как основание науки он, с одной
стороны, обеспечивает внутреннюю логику развития науки, а
с другой стороны, является способом включения научных
знаний в культуру и способом перевода в язык науки
некоторых идей и представлений, которые возникают в разных
сферах культурной жизни и которые рационально
осмысливаются через основания науки. Тем самым я снял не
нравившуюся мне альтернативу экстернализма — интернализма, т. е.
внутренняя логика истории науки в моей концепции
изначально включала то, что идет от оснований науки, а значит,
то, что затем попадает в культуру. Наука — это
действительно специфическая область познания мира, которая включает
в себя особые процедуры, особые способы деятельности по
производству знаний. Но она не изолирована от культурной
традиции, она всегда в нее включена, взаимодействует с ней.
В этом смысле основания науки — это своеобразный
транзитный уровень, объединяющий интерналистские и экстерна-
листские факторы.
94 Интервью И. Т. Касавина с В. С. Стёпиным
Касавин И. Т. Можно сказать, это механизм интернализа-
ции культурного содержания в науку.
Стёпин В. С. Да, и одновременно — инкорпорации в
культуру научного знания. Оно влияет на культуру и вместе
с тем постоянно идут воздействия от культуры к науке,
возникают исходные образы и представления, которые потом
ложатся в основу картины мира и могут воздействовать
на внутреннюю логику построения науки и логику
экспериментального исследования. Этот этап моей работы в более
или менее завершенном виде относится ко второй половине
80-х гг. Это был интересный период в моей жизни. С 1981 г.
я стал заведующим кафедрой философии в Белорусском
университете. В середине 80-х гг. кафедра работала очень
продуктивно. Наша работа вызывала в то время не то что
зависть, хотя это тоже было, но подозрение. За мной тянулся
шлейф старых историй, что, мол, Стёпин — скрытый
диссидент. Но на кафедре возникло дружное сообщество,
коллектив, который состоял во многом из друзей и моих учеников
первого поколения; им сейчас где-то по пятьдесят, а в то
время было по тридцать—тридцать пять лет. Эти люди,
успешно защитив кандидатские, очень толково работали со
студентами. На базе кафедры мы проводили «круглые
столы» «Вопросов философии», которые печатались в этом
журнале. В то время было совершенно нетривиально, чтобы
в таком престижном журнале печатались люди из провинции.
Издавали коллективные монографии, в которых участвовали
известные философы страны и куда попадали лучшие работы
сотрудников кафедры. Эти книги известны — «Идеалы и
нормы научного исследования» (1981), «Научные революции
в динамике культуры» (1987) и др. Работали много, но
атмосфера была дружеская, в чем-то даже веселая. Мы вместе
отдыхали, ходили на тропу здоровья, выезжали в дома
отдыха, снимали кино, ходили на байдарках. Были и бесконечные
проверки. Нужно было отдельно отчитываться о
воспитательной работе со студентами, отдельно с иностранными
студентами, отдельно о том, как у тебя поставлена гражданская
оборона. Каждая проверка выискивала, за что можно было бы
зацепиться, но не получалось, потому что у меня были очень
хорошие лаборантки, многие из них потом стали кандидатами
наук. Все бумажки у них были в порядке. Потом у нас
сложился хороший состав кафедры. Моими заместителями были
Е. В. Петушкова, А. А. Михайлов, А. Н. Елсуков, позже —
А. И. Зеленков. Со всеми были дружеские отношения.
Важно, чтобы работа не прекращалась... 95
Касавин //. Т. С А. Н. Елсуковым вы даже книжку
опубликовали?
Стёпин В. С. Да. С ним я пришел на кафедру практически
одновременно. Мы вместе работали на кафедре в
Политехническом институте, а потом перешли в университет. А. А.
Михайлова я знал еще со студенческих лет, хотя я был старше
его. Сейчас он академик Белорусской академии, ректор
Европейского гуманитарного университета в Минске, человек
очень известный. Одно время он работал в ООН, в
совершенстве владеет немецким и английским. Потом перешел на
работу к нам на кафедру, написал и защитил докторскую по
герменевтике. В общем, все трудились, была атмосфера и
дружеских общений, и вместе с тем жесткая, требовательная, когда
это касалось дела. Диссертации у нас проходили строго:
проводились первичные обсуждения на секциях и были очень
высокие требования. Несмотря на это, за пять лет с 1981 по
1986 г. у нас на кафедре были защищены сорок две
кандидатские (все аспиранты защищались стопроцентно) и шесть
докторских диссертаций.
Касавин И, Т. Считай, ежемесячно по защите.
Стёпин В, С, Да. Я был научным руководителем половины
кандидатских и почти у всех докторантов был научным
консультантом. И это при том, что мы издавали и книги, и
ежегодно несколько десятков крупных статей, в том числе и в
престижных журналах «Вопросы философии», «Философские
науки». Вспоминаю такую историю. Подводили итоги
соцсоревнований за пятилетку и вышло, что наша кафедра на
первом месте по всем показателям, мне тогда с большим
скрипом, с консультациями в ЦК все-таки решили дать орден
«Дружбы народов» за показатели кафедры и во многом за мои
личные тоже.
Касавин И. Т. Тем самым Вас как бы уже простили на
самом высоком уровне.
Стёпин В. С. Да, реабилитировали, а перед этим в 1983 г.
меня впервые выпустили в Зальцбург на конгресс по логике,
методологии и философии науки. До этого я был
«невыездной» — была в те годы такая категория лиц, которых не
выпускали за границу. Помню, организаторы философского
конгресса в Дюссельдорфе меня пригласили выступить с
докладом на пленарном заседании, но меня не только не выпустили,
даже не дали ответить им. Все мои письма в Германию не
дошли, а конверты с приглашениями, которые ко мне приходили,
были нагло вскрыты и разорванными лежали в почтовом ящи-
96 Интервью И. Т. Касавина с В. С. Стёпиным
ке. Госбезопасность мне сигналила, что я рано решил выйти
из категории «невыездных».
Касавин И. Т. Значит, Вас перед этим довольно долго
держали под колпаком.
СтёпинВ. С. Можно и так сказать. И мое участие в
конгрессе в Зальцбурге (а это была поездка сразу в капстрану, я
до этого и в социалистические страны не ездил), было
воспринято как моя реабилитация, хотя я в это время уже
заведовал кафедрой. Кафедра постепенно завоевала передовые
позиции в университете, хотя и не всем это нравилось. О ней
знали не только в Минске, но и в Москве, и в Министерстве
высшего образования, и в отделе науки ЦК, который
курировал науку и образование. Была одна очень забавная история.
Где-то в 1984-м или в 1985 г. пришла к нам такая бумага,
чтобы на кафедрах создали учебно-методический комплекс, в
который должны входить, кроме программы, еще и масса
всяких планов и других документов. Когда все посмотрели,
сколько там надо готовить бумаг, то первое желание
было — нет, этого делать мы не будем. Я просмотрел
внимательно, что там требовалось, и выяснилось, что все это на
кафедре есть, только в разных папках. Нужно было все это
просто перепечатать еще раз на машинке и сложить вместе.
Как сказал однажды В. С. Черномырдин, премьер России в
середине 90-х, «собрать документы и послать в одно место».
Мы собрали имеющиеся у нас материалы, переплели,
написали заголовок «Учебно-методический комплекс кафедры
философии» и поставили в шкаф. Там он и пылился, этот
комплекс. И вот приезжает комиссия из ЦК КПСС. Они
проверили наши лекции, им понравилось, похвалили нашу
научную работу. Потом председатель комиссии мне говорит:
«А учебно-методического комплекса у вас, конечно, нет?».
А я ему: «Почему же нет? Есть он у нас». Оказалось, что ни
на одной кафедре не выполнили это распоряжение. Я ему
подаю этот гроссбух с надписью. Он открыл, полистал, очень
бережно закрыл и, посмотрев куда-то в потолок, сказал:
«Да, это лучшая кафедра в СССР». Оказывается он был
идейным вдохновителем этого пресловутого комплекса.
Естественно, после доклада комиссии о результатах проверки в
Минвузе республики и республиканском ЦК наши акции
возросли. Но зависти от этого, конечно, не убавилось.
Помню, примерно в 1986 г. было заседание Белорусского
философского общества, и к нам приехала из Болгарии зав.
кафедрой Софийского университета И. Апостолова. У нас были
Важно, чтобы работа не прекращалась... 97
с их кафедрой добрые отношения, в Болгарии в это время
уже хорошо знали мои работы, на них было много ссылок.
Апостолова пошла на заседание Белорусского философского
общества, где подводились итоги работы за год, и с
удивлением отметила, что в длинном докладе председателя Д. И. Ши-
роканова (тогда уже академика АН БССР) не было сказано
про нашу кафедру вообще, как будто ее и не было в
Белоруссии. Она мне тогда сказала: «Это зависть, но это значит,
что вы первые». Так что было всякое. Но в целом жизнь шла
достаточно хорошо, и когда я вспоминаю этот период, то,
несмотря на мелкие булавочные уколы, мне он представляется
одним из самых счастливых в моей жизни. Я тогда много
сделал сам, успешно работали мои ученики, был хороший
коллектив, была дружба, была хорошая работа. Для меня стал
переломным 1987 г. В это время тяжело заболела моя мама,
у нее был рак, и она от этого заболевания умерла в том же
году. В это же время мне стали предлагать переехать в
Москву. Звонил И. Т. Фролов, тогда он был редактором
журнала «Коммунист», а затем стал помощником генерального
секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева. С Иваном
Тимофеевичем Фроловым я познакомился еще в начале 80-х. Он был
тогда в относительной опале, ушел с поста заместителя
директора Института системных исследований АН СССР и
возглавлял Совет по философским и социальным проблемам
науки и техники при Президиуме Академии. Судя по всему,
он с одобрением относился к моим работам, хотя я в
основном опирался на материалы истории и философии физики, а
он был известным специалистом по философии биологии и
глобальным проблемам (о которых он первым из наших
философов стал серьезно писать). Перестройка изменила его
статус, как, впрочем, впоследствии и мой. И. Т. Фролов, а
затем и вице-президент АН СССР П. Н. Федосеев,
предложили перейти на работу в Академию наук директором
института — Институту истории естествознания и техники нужен
был директор.
Касавин И. Т. А в чем там было дело? С. Р. Микулинский
ведь умер позже, если не ошибаюсь?
Степан В. С. Он уже работал в то время в Архиве
истории науки и ушел из института. Там была довольно
напряженная атмосфера, Бауманский райком сильно вмешивался в
их деятельность. В это время, в 1987 г., в Москве начался
процесс демократизации, который всколыхнул многие
оппозиционные слои, и, естественно, проник и в академические
98 Интервью И. Т. Касавина с В. С. Стёпиным
институты. На должность директора ИИЕТа решили
пригласить меня. Я долго отказывался, прежде всего по той
причине, что умирала мама, и я не хотел уезжать; кроме того, я
просто не хотел покидать Минск, оставлять работу на
кафедре в университете. В 1986 г. я баллотировался второй раз в
члены-корреспонденты Белорусской академии наук. В
первый раз, в 1980 г., хотя моя кандидатура была одобрена в
ЦК, вытащили мою историю с диссидентством, заявили, что
меня нельзя выбирать, и я не добрал один голос. Во второй
раз у меня уже был орден, и в два раза больше работ —
шесть монографий в том числе. И я не добрал уже шесть
голосов. Помню последний разговор с мамой, когда она еще
могла сидеть; мы вышли в коридор больницы, сели и долго
говорили о жизни, и она мне сказала: «Езжай-ка ты в
Москву, они тебе все равно здесь ходу не дадут и в
члены-корреспонденты не выберут». А я ей говорю: «Ну и ладно, мам, я
профессор». Она возразила: «Дело не в том, я же тебя знаю,
ты же эти булавочные уколы переживать будешь, а они здесь
не кончатся». На мои слова, что в Москве будут свои
проблемы, она мне ответила: «Не скажи, в Москве таких
мелких уколов будет намного меньше, там ты не будешь белой
вороной, там у тебя есть и друзья, и коллеги — известные
ученые». После ее смерти мне снова позвонили И. Т. Фролов
и П. Н. Федосеев и сказали, что коль скоро несчастье
произошло, то меня ничего не должно удерживать от приезда в
Москву. Я приехал 15 апреля сюда на переговоры, и вдруг
неожиданно П. Н. Федосеев отвел меня к А. Г. Егорову,
который тогда руководил отделением философии и права, а
Егоров отвел меня сразу в ИИЕТ. Оказалось, что они уже
провели общее собрание и избрали меня директором заочно.
Когда я вошел в зал Ученого совета, меня встретили
аплодисментами. Я там тоже очень многих знал: я же участвовал
в звенигородских семинарах и во многих их конференциях.
Оказалось, что ко времени моего приезда уже состоялось
решение Президиума о том, чтобы удовлетворить просьбу,
идущую снизу, и меня рекомендовать директором. Мне дали два
дня на поездку в Минск, чтобы я сдал кафедральные дела.
Сказали, что сначала я поживу в гостинице, а потом будет
решаться вопрос о служебной квартире. Вот таким образом я
попал в ИИЕТ и стал директором. С этого момента и
начинается моя московская жизнь. Я еще продолжал свою работу
по философии науки, но меня уже больше тянуло к анализу
культуры, к социальной философии.
Важно, чтобы работа не прекращалась... 99
В 1988 г. состоялось решение о переводе меня в Институт
философии, которое было принято, как мы понимаем, не
только Президиумом Академии, но и секретариатом ЦК. Два
или три месяца я был директором двух институтов. Мне
говорили, что я пошел по стопам Б. М. Кедрова, который в свое
время тоже был директором двух институтов. Потом я
беседовал в секретариате ЦК с Александром Николаевичем
Яковлевым и попросил, чтобы мне разрешили перейти не
только самому, а вместе с группой сотрудников, выходцев из
Института философии. Это были П. П. Гайденко, А. П.
Огурцов, Б. Г. Юдин и другие. А. Н. Яковлев спросил у меня,
сколько всего таких людей будет. Я ответил, что человек
двенадцать. И он мне сказал: «Ну, тогда и берите их в Институт
философии, ему это совсем не помешает». Вот так и
осуществился этот переход. Со мной перешел сектор П. П.
Гайденко. Потом в Институте философии был организован центр
наук о человеке, который со временем превратился в
Институт человека. Вот так началась моя институтская жизнь.
Прошло уже пятнадцать лет, а прошли они так быстро, что я
их даже не заметил. Здесь очень интересная работа, хороший
коллектив. Хотя я тоже долго не хотел переходить из ИИЕТа
в ИФАН. Я только наладил дела в ИИЕТе, вдобавок была и
такая установка, что Институт философии все-таки
идеологический, он будет вечно под контролем ЦК, а история
естествознания и техники — это специальность на все времена.
Так зачем мне менять хорошее на непонятное? Но в
Президиуме Академии мне напрямую сказали, что вопрос решен и
тут даже разговаривать не о чем — переводим Вас на новую
работу. Я потом подумал, чего я упираюсь? Я же работал с
этим институтом, у меня здесь восемнадцать статей в
коллективных сборниках вышло. Я подготовил здесь докторскую.
У меня были дружеские отношения с очень многими
сотрудниками. Когда в 1984 г. отмечали мой юбилей по случаю
пятидесятилетия, то приехали из Института философии В. А.
Лекторский, Д. И. Дубровский, Р. С. Карпинская. Они привезли
поздравления, грамоты, участвовали в банкете, веселый
банкет был. И я подумал: зачем мне сопротивляться переходу,
там же почти все свои. Я перешел в Институт философии и,
конечно же, не жалею, работа здесь интересная.
Касавин И. Т. В связи с кризисом марксистской философии
был практически отброшен формационный подход в
социальной философии, в философии истории. Сегодня в этой области
царит хаос: теории А. Тойнби, О. Шпенглера, Н. Данилевско-
100 Интервью И. Т. Касавина с В. С. Стёпиным
го сосуществуют с учениями Л. Февра, Ф. Броделя и М.
Блока, с одной стороны, и с концепциями Ж. Батая, В. Райха,
Ж. Делеза — с другой; идеи Г. Риккерта, Р. Д. Коллингвуда,
Фукуямы, П. Бурдье произвольно объединяются с
представлениями, восходящими к И. Киреевскому, К. Леонтьеву, А.
Хомякову, В. Соловьёву, Н. Бердяеву, С. Л. Франку. Какое
место в данном контексте Вы отводите Вашему цивилизационно-
му подходу, какие задачи он призван решать?
Степан В. С. Именно в Институте философии я и начал
развивать эту идею. Это было связано с определенным
социальным заказом, потому что с 1989—1990 гг. начиналась
критика марксизма и возникла идея, что формационному подходу
надо противопоставить цивилизационный подход, который
разрабатывался в основном на Западе. Критиковали
марксистский формационный подход, говорили, что он ограничен и
нужно перейти к анализу цивилизационного подхода и тогда,
может быть, мы поймем многое в современной мировой
истории. Мне, честно говоря, не очень нравилось такое жесткое
разграничение, я согласен был, скорее, с их соединением по
принципу дополнительности в смысле Н. Бора.
Касавин И, Т. Поскольку он представлял собой
феноменологическую фиксацию ситуации, Вы полагали, что надо искать
какие-то внутренние причины, не так ли?
Стёпин В. С. Я видел рациональное и в формационном, и
в цивилизационном подходах. Постепенно у меня стала
вырисовываться идея типов цивилизационного развития. К этому
меня вел предшествующий анализ универсалий культуры.
В своих функциях в социальной жизни система универсалий
культуры предстает предельно обобщенной программой,
обеспечивающей воспроизводство определенного типа
общества, своего рода, геном социальной жизни. Все сложные
саморазвивающиеся системы (биологические объекты,
социальные объекты) должны содержать внутри себя особые
структуры, которые кодируют опыт предшествующего
взаимодействия системы со средой и управляют реакциями
системы на новые воздействия. В биологии опыт приспособления
организмов к среде и фиксируется в их наследственном коде.
Совокупность таких кодов — это генофонд жизни в разных
ее вариантах. В общественной жизни аналогом такого
генофонда является культура, причем основания культуры,
представленные мировоззренческими универсалиями, выступают
как своеобразные базисные гены того или иного типа
социальности. Подобно тому как порождение новых видов орга-
Важно, чтобы работа не прекращалась... 101
низмов невозможно, если не происходят генетические
мутации, изменяющие геном организма, так и возникновение
новых видов общества, новых типов социальности предполагает
изменение фундаментальных жизненных смыслов,
представленных универсалиями культуры, их мутацию. Я понял, в чем
была ограниченность марксова подхода. Маркс прошел мимо
идеи программирующей роли культуры в жизни
человечества. Упрекать его за это — бессмысленно. Проблематика
культуры под этим углом зрения стала разрабатываться уже
после смерти Маркса. Решающая роль здесь принадлежала
XX в. — синтезу знаний истории, антропологии, психологии,
лингвистики с возникшими в XX в. генетикой, теорией
информации, теорией систем и семиотикой. Только в этом
синтезе и возникает продуктивная аналогия между биокодами,
закрепляющими наследственную информацию организмов, и
социокодами, закрепляющими накопленный
социально-исторический опыт. Кроме биологических, генетических программ,
представленных геномом человека, у него есть еще над
биологические, социальные программы, и эти два типа программ
сложным образом взаимодействуют. Второй тип
программы — это система нравов, традиций, привычек, образцов
деятельности, предписаний, которые хранит культура. Весь
этот сложно организованный набор программ существует
благодаря особой структуре, которая и выступает, и
функционирует как своего рода геном социальной жизни. Эта
структура представлена мировоззренческими универсалиями,
пониманием того, что есть человек, общество, личность,
природа, пространство и время, что есть свобода,
справедливость, совесть, честь, труд и т. д.
Касавин И. Т. Но это, вообще-то, не противоречит
марксизму. В общем виде эти идеи там намечены, особенно когда
идет речь об обратном влиянии надстройки на базис, сознания
на обусловливающее его бытие.
Стёпин В. С. В принципе не противоречит. Но у Маркса
эти идеи только в эскизном варианте намечались в последние
годы его творчества. Энгельс писал об обратном влиянии
сознания на бытие. И это открывало новую проблематику для
марксистов. Но культуру нельзя свести только к сознанию,
она включает и социально подсознательное, часто не
поясненное, неотрефлексированное знание. Такое знание носит
характер интерсубъективного, внеличностного знания.
Касавин И. Т. В этой связи часто вспоминают кантову идею
схематизма и истолковывают ее достаточно широко.
102 Интервью И. Т. Касавина с В. С. Стёпиным
Стёпин В. С. Да, универсалии культуры в определенном
смысле — это схематизмы человеческого понимания,
переживания мира и установок его деятельности. Исторически
они меняются, и эти изменения означают изменение
способов воспроизводства социальной жизни, а если такие
изменения носят радикальный характер, то они приводят к
появлению новых типов общества. С этих позиций я еще раз
критически проанализировал классические идеи исторического
материализма. У Маркса была идея о том, что общественное
развитие определяет смена способов производства
материальных благ. Способ производства выступал здесь
своеобразной формой отбора жизнеспособных обществ. То
общество выживает в конкуренции с другими обществами и с
природой, у которого способ производства открывает большие
перспективы развития производительных сил, создает лучшие
возможности для овладения природой, развивает более
высокие технологии. Это можно рассматривать как аналог
дарвиновской идеи естественного отбора. И если учесть, что
Маркс и Ленин неоднократно проводили параллели между
дарвиновской концепцией эволюции и материалистическим
пониманием истории, то эта аналогия вполне допустима. Но
в классическом дарвинизме не было представления о
носителях наследственности. Там наследственностью обладает весь
организм, что приводило к парадоксам при объяснении
сохранения наследственных признаков. Парадоксы были сняты
после возникновения генетики. Генетика возникла уже в
начале XX в. Маркс не застал ее, а если бы застал, то,
бесспорно, сообразил бы, что необходимо внести
соответствующие коррективы в понимание общества. В XX в. возникло
представление о биологической эволюции под влиянием двух
факторов — мутации генного аппарата и последующего
естественного отбора. Если под этим углом зрения рассмотреть
развитие общества, то функции естественного отбора здесь
выполняет развитие производства, экономики, а мутации
генного аппарата социальных организмов — это изменение
мировоззренческих универсалий культуры. Оно происходит
благодаря появлению новых видов деятельности, которые
до поры до времени укладываются в старую структуру
жизненных смыслов, но по мере развития могут выходить за эти
рамки и порождать противоречия. В такие эпохи прежние
универсалии культуры как программы воспроизводства
социальной жизни уже не обеспечивают ее воспроизводство
во всех необходимых вариациях, подавляют нужные для об-
Важно, чтобы работа не прекращалась... 103
щества виды деятельности. И тогда начинается эпоха
критики прежних мировоззренческих установок и жизненных
смыслов.
Касавин И. Т. Боюсь, что это было уже давно, не только в
80-х.
Стёпин В. С. Общество периодически в своем развитии
порождает такие эпохи. Так происходило в эпоху Возрождения
и Реформации, когда устанавливалось капиталистическое
общество, так обстояло дело перед Французской революцией и
перед нашей, русской революцией 1917 г.
Касавин И. Т. То есть это характеризует любой транзитный
период в развитии общества?
Стёпин В, С. Бесспорно. И это то, о чем писал в свое
время Ленин: все противоречия общества проходят через головы
людей. И почти наблюдаемый исторический факт — всякой
политической революции предшествует революция духовная,
которая формирует новые мировоззренческие идеи, за
которые люди будут бороться. Это и есть мутация генного
аппарата общества, его изменение и предпосылки создания нового
типа социальности.
Касавин Я. Г. Если смотреть на современные реалии, то в
голову приходит следующая мысль. Учитывая ускорение
исторического развития, которое имеет место постоянно, мы в
конце концов получим, что мутация никогда не прекращается
и транзитный период вообще становится обязательным
этапом исторического развития.
Стёпин В. С. Этот вывод я бы делал поосторожнее. Так,
например, сейчас рассуждает постмодернизм, и это выражает
современное состояние общественной жизни. Но я не считаю,
что такое состояние будет длиться вечно, я считаю его
переходным периодом. Возможно, это начальный этап смены типа
цивилизационного развития. Ему, конечно же, предшествует
эпоха смятения в умах, эпоха, когда рвется связь времен,
когда мы не знаем, какие истины жизни взять от отцов, дедов и
передать детям и внукам. Я не думаю, что динамический хаос
социальной жизни — это то, на что общество вечно обречено.
Для меня это особые периоды социального развития, которые
сменяются устойчивым развитием. Если человечество не
погибнет и найдет выход из глобальных кризисов, то наступит
новая фаза развития цивилизации, где люди будут себя
чувствовать и жить совершенно иначе, чем сейчас. Но это особый
разговор. Сейчас я хотел бы вернуться к обсуждению темы
культурно-генетических кодов. Я понял, что нужно дополнить
104 Интервью И. Т. Касавина с В. С. Сталиным
марксизм, материалистическое понимание истории идеей
культурно-генетического кода как особой подструктуры
социального организма. Исчезает ли при этом основная установка
Маркса — рассматривать общество как
естественно-исторический процесс? Вовсе нет. Мы же не считаем, будто тот, кто
говорит, что гены определяют воспроизводство организма,
перестает научно подходить к анализу своего объекта — живого
организма или популяции. Просто у него особый объект,
включающий в свою структуру информационные коды.
Касавин И. Т. В то время как в современном обществе на
первый план выходят информационные связи, ограниченность
старых подходов становится все более очевидной.
Стёпин В. С. Не нужно воспроизводить старый спор о
том, что первично — курица или яйцо. Мы имеем дело с
социальным организмом, который живет особой жизнью как
материальный объект, только этот объект очень сложно
устроен. В нем действуют активные индивиды, есть культурно-
генетический код, который фиксирует программы социальной
жизни, и эти программы динамичны, развиваются и
изменяются. Есть способ производства и сложная система
отношений людей, видов и типов их поведения и деятельности,
которые регулируются культурой. С этих позиций у меня возникла
идея, что можно выявить типы цивилизационного развития,
различая их в зависимости от особенностей генетических
кодов. Иначе говоря, для выделения типовых черт цивилизаций
следует проанализировать фундаментальные универсалии их
культур, выявить их общее и различное в понимании
человека, деятельности, природы, пространства и времени,
традиций и новаций, личности и власти. Идея, что существует
традиционалистское общество и современная цивилизация,
была выдвинута достаточно давно. В скрытом виде здесь
содержалась мысль о том, что все многообразие традиционных
цивилизаций можно объединить одним понятием. Я провел
анализ и объединил все традиционные общества в один тип,
выделив в системе их универсалий культуры общие смыслы,
которые отличают их от цивилизации проекта «модерн». Эту
цивилизацию я называю техногенной. Тогда выявляются
традиционалистский и техногенный типы развития. Из двадцати
одной цивилизации, выделенных известным историком и
философом Арнольдом Тойнби, большинство принадлежали к
традиционалистскому типу. Техногенная цивилизация
возникла намного позже, в европейском регионе, в эпоху
становления капитализма.
Важно, чтобы работа не прекращалась... 105
Ее часто называют западной, по региону ее возникновения,
но в наше время она уже представлена не только странами
Запада. Я называю эту цивилизацию техногенной, поскольку
в ее развитии решающую роль играет постоянный поиск и
применение новых технологий, причем не только
производственных технологий, обеспечивающих экономический рост, но
и технологий социального управления и социальных
коммуникаций.
Техногенной цивилизации предшествовали две мутации
традиционных культур. Это культура античного полиса и культура
европейского христианского средневековья. Грандиозный
синтез их достижений в эпоху Возрождения, Реформации и
Просвещения сформировал ядро системы ценностей, на которых
основана техногенная цивилизация. Фундаментальным
процессом ее развития стал технико-технологический прогресс.
Часто на протяжении жизни одного поколения он радикально
меняет предметную среду, в которой живет человек, а вместе с
тем — тип социальных коммуникаций, отношений между
людьми, социальные институты. Динамизм техногенной
цивилизации разительно контрастирует с консервативностью
традиционных обществ, где виды деятельности, их средства и
цели меняются очень медленно, иногда воспроизводясь на
протяжении веков.
Инновации и технологические новшества выступают
приоритетом техногенной культуры, они самоценны и считается,
что они приведут к улучшению качества жизни, обеспечат
социальный прогресс. В традиционалистских культурах ничего
подобного не было. Там инновации никогда не выступали как
ценность, они всегда были подчинены традиции. Жить в эпоху
перемен для традиционалистского типа общества считалось
совсем не благом, а наоборот. В древнекитайской притче
сказано, что самая тяжелая участь для человека — жить в эпоху
перемен.
Касавин И. Т. Отношение к социальной динамике в
восточной культуре, насколько я понимаю, совершенно иное, чем в
европейской. И из этого вытекает много следствий в
отношении к природе, к личности, характеру познания.
Стёпин В. С. Система ценностей и жизненных смыслов,
которая характерна для техногенного развития, включала
особое понимание человека и его места в мире.
Это прежде всего представление о человеке как о дея-
тельностном существе, которое противостоит природе и
предназначение которого состоит в преобразовании приро-
106 Интервью И. Т. Касавина с В. С. Стёпиным
ды и подчинении ее своей власти. С этим пониманием
человека органично связано понимание деятельности как
процесса, направленного на преобразование объектов и их
подчинение человеку. И опять-таки можно констатировать, что
ценность преобразующей, креативной деятельности
присуща только техногенной цивилизации, и ее не было в
традиционных культурах. Им было присуще иное понимание,
выраженное в знаменитом принципе древнекитайской
культуры «у-вэй», который провозглашал идеал минимального
действия, основанного на чувстве резонанса ритмов мира.
Древнекитайская притча о «мудреце», который, пытаясь
ускорить рост злаков, стал тянуть их за верхушки и вытянул
их из земли, наглядно иллюстрировала, к чему может
привести нарушение принципа «у-вэй».
Традиционные культуры никогда не ставили своей целью
преобразование мира, обеспечение власти человека над
природой. В техногенных же культурах такое понимание
доминирует. Оно распространяется не только на природные, но и на
социальные объекты, которые становятся предметами
социальных технологий.
В рамках базисных ценностей техногенных культур природа
понимается как противостоящий человеку неорганический
мир, который представляет особое закономерно
упорядоченное поле объектов, выступающих материалами и ресурсами
для человеческой деятельности. Вспомним изречение героя
романа Тургенева «Отцы и дети»: «Природа не храм, а
мастерская, и человек в ней работник». Противоположностью
этим установкам было традиционалистское понимание
природы как живого организма, малой частичкой которого является
человек.
В техногенной культуре доминирует ценность автономной и
суверенной личности. Кстати, идея прав человека
развивалась с опорой именно на эту ценность. Но человек
традиционалистских обществ не принял бы такого понимания
личности. В этих обществах личность формируется в системе
жестких, веками воспроизводившихся корпоративных связей,
как принадлежащая к строго определенной касте, клану,
сословию.
Человек уже с рождения был закреплен за определенным
местом в кастово-сословной системе, ему предстояло
усвоить определенный тип профессиональных и иных навыков,
чтобы продолжить передачу эстафеты традиций. В
современной же техногенной цивилизации человек становится
Важно, чтобы работа не прекращалась... 107
личностью именно благодаря тому, что он не привязан
жестко к некоторой одной корпоративной структуре, не
сращен с ней, а может гибко строить свои отношения с
другими людьми, включаясь в разные социальные общности и в
разные традиции.
Успех преобразующей деятельности, приводящей к
позитивным для человека результатам и социальному прогрессу,
рассматривается в техногенной культуре как обусловленный
знанием законов изменения объектов. Такое понимание
органично увязывается с приоритетной ценностью науки, которая
дает знание об этих законах. Научная рациональность в этом
типе культуры выступает доминантой в системе человеческого
знания, оказывает активное воздействие на все другие его
формы. Но в традиционалистских культурах этого нет. Там
наука подчинена религиозномифологическим или философ-
ско-идеологическим формам знания, которые доминируют в
мировоззренческих ориентациях людей.
Наконец, среди ценностных приоритетов техногенной
культуры можно выделить особое понимание власти и силы.
Власть здесь рассматривается не только как власть человека
над человеком (это есть и в традиционных обществах), но
прежде всего — как власть над объектами. Причем объектами,
на которые направлены силовые воздействия с целью
господствовать над ними, выступают не только природные, но и
социальные объекты. Они тоже становятся объектами
технологического манипулирования.
Из этой системы ценностей вырастают многие другие
особенности техногенной культуры. Эти ценности выступают
своеобразным геномом техногенной цивилизации, ее
культурно-генетическим кодом, в соответствии с которым она
воспроизводится и развивается.
Техногенный тип развития в значительно большей степени,
чем традиционалистский, унифицирует общественную жизнь.
Наука, образование, технологический прогресс и
расширяющийся рынок порождают новый образ мышления и жизни,
преобразуя традиционные культуры.
Техногенные общества сразу после своего возникновения
начинают воздействовать на традиционные цивилизации,
заставляя их видоизменяться. Иногда эти изменения
становятся результатом военного захвата, колонизации, но чаще —
итогом процессов догоняющей модернизации, которую
вынуждены осуществлять традиционные общества под
давлением техногенной цивилизации. Таков был и путь России,
108 Интервью И. Т. Касавина с В. С. Сталиным
которая прошла через несколько модернизационных эпох,
основанных на трансплантации западного опыта,
заимствования технологий и пластов техногенной культуры
(реформы Петра I, Александра II, большевистская революция и
ускоренная индустриализация советской России в первой
половине XX в.).
В конце XX столетия модернизационные процессы
перерастают в глобализацию. Техногенная культура внедряется
практически во все регионы мира, прежде всего через
технико-технологическую экспансию и мировой рынок.
Техногенная цивилизация дала человечеству множество
достижений. Научно-технологический прогресс и
экономический рост привели к новому качеству жизни, обеспечили
возрастающий уровень потребления, медицинского
обслуживания, увеличили среднюю продолжительность жизни.
Большинство людей связывало с прогрессом этой цивилизации
надежды на лучшее будущее. Еще полвека назад мало кто
полагал, что именно техногенная цивилизация приведет
человечество к глобальным кризисам, когда оно окажется буквально
на пороге своего самоуничтожения. Экологический кризис,
антропологический кризис, растущие процессы отчуждения,
изобретение все новых средств массового уничтожения,
грозящих гибелью всему человечеству, все это побочные продукты
техногенного развития. И поэтому сейчас стоит вопрос: можно
ли выйти из этих кризисов, не меняя базисной системы
ценностей техногенной культуры?
Я исхожу из того, что эту систему ценностей придется
менять. Очевидно, что придется изменить наше отношение к
природе, выработать иное понимание целей человеческой
деятельности, чем то, которое представлено фундаментальными
мировоззренческими установками техногенной культуры.
Не исключено, что человечеству предстоит духовная
революция, сопоставимая с той, которая была в эпоху
Возрождения и Реформации.
Касавин И. Т. Вероятно, что техногенный тип развития
должен измениться и человечество должно отыскать новые
стратегии развития?
Степан В, С. Да это был бы один из наиболее
благоприятных для человечества сценариев. Не возврат к
традиционалистским обществам и не продолжение техногенного развития с
обострением глобальных кризисов, а переход к новому,
третьему типу развития, который обеспечил бы выход из этих
кризисов.
Важно, чтобы работа не прекращалась... 109
Особо отмечу, что когда речь идет о типах цивилизацион-
ного развития, то это не совпадает с формационным
подходом, акцентирующим противопоставление социализма
капитализму как более высокой и более низкой стадий
общественного прогресса. Хотя советский социализм и капитализм
в XX в. жестко противостояли друг другу, их можно
рассматривать как два альтернативных варианта техногенного
развития. Их соперничество не исключало общих черт в
базисных ценностях, характерных для техногенной
цивилизации: признание ценности креативной деятельности,
нацеленной на преобразование мира, пафоса подчинения
природы человеку, идеала творческой личности, особой ценности
научной рациональности, инноваций и прогресса. Нельзя
забывать, что марксизм, который стал идеологией
советского социализма, возник в рамках техногенной культуры, был
ее детищем и не ставил под сомнение большинство ее
базисных ценностей, а лишь придавал им специфическую
интерпретацию и обоснование.
Идеалы потребительского общества, которые западный
капитализм XX в. активно воплощал в жизнь, в какой-то мере
разделялись и социализмом. Вспомним лозунги относительно
недавнего прошлого: «догнать и перегнать Америку по
потреблению молока и мяса на душу населения», построить
коммунизм, где «блага польются полным потоком» и ими
будут пользоваться по потребностям. Соперничество с
социализмом сказалось и на облике капитализма. Оно во многом
стимулировало становление западных вариантов социального
государства.
В конце XX в. социализм проиграл капитализму на почве
борьбы за рост потребления. Однако отсюда не следует, что
сами идеалы потребительского общества будут определять на
долгосрочную перспективу путь развития человечества.
Между тем именно на западные образцы потребительского
общества сегодня ориентированы наши реформы. Многие
убеждены, что если делать все, «как у них», мы будем и жить, «как
они». Но все дело в том, что сегодня рост
вещественно-энергетического потребления уже подошел к критическим
границам, резко обостряющим экологический кризис.
Касавин И, Т. В чем Вы видите наиболее благоприятный
сценарий развития цивилизации?
Стёпин В. С. Важно зафиксировать, что возможны, по
меньшей мере, два понимания постиндустриального
общества. Они соответствуют двум разным тенденциям и двум раз-
110 Интервью И. Т. Касавина с В. С. Стёпиным
ным сценариям этого развития. Первое понимание, наиболее
распространенное, рассматривает постиндустриальное
общество как особый этап по отношению к индустриальному, но
не меняющий радикально базисных ценностей техногенной
цивилизации, которые сохраняются и пролонгируются на
новом этапе. Второе понимание расценивает
постиндустриальный этап как переходный период от техногенного к новому
типу цивилизационного развития и связывает его с
пересмотром ценностей предшествующей техногенной культуры.
Соответственно, в первом подходе не ставятся под сомнение
идеалы потребительского общества. И тогда наиболее
вероятный путь развития человечества — сценарий золотого
миллиарда. Во втором подходе ценности потребительского
общества проблематизируются и ставится вопрос о новых
стратегиях развития. Конечно, нужно отдавать себе отчет,
что отказ от идеалов потребительского общества
предполагает много радикальных перемен, затрагивающих
существенные особенности современного мирового рынка и массовой
культуры, т. е. многое из того, что определяет облик
нынешней западной цивилизации. Но если учесть возможности
взрывного обострения глобальных кризисов в ближайшие
пятнадцать — двадцать лет, то выбор у человечества невелик.
Ему мало времени осталось для размышлений.
Нужно откровенно сказать, что философия, да и в целом
культура, оказались недостаточно готовы к тем быстрым
переменам, которые произошли за последние десятилетия в
современном мире. Жизнь слишком быстро меняется, а
осмысление изменений идет с запозданием.
Важно осмыслить перемены, происходящие в различных
сферах современной культуры, и выяснить, не возникают ли
здесь новые жизненные смыслы и ценности, которые потом
станут зародышевыми формами нового
культурно-генетического кода, обеспечивающего новый тип цивилизационного
развития.
Я анализировал с этих позиций современные изменения
научной рациональности и тенденции научно-технического
прогресса, который является сердцевиной техногенной
цивилизации. Сегодня наука и высокие технологии все чаще имеют
дело со сложными, исторически развивающимися системами,
в которые включен человек.
Образцами таких систем выступают: биосфера как
глобальная экосистема, биогеоценозы, объекты современных
биотехнологий, социальные объекты, системы «человек — компью-
Важно, чтобы работа не прекращалась... 111
тер», «компьютерные сети». Сегодня в социальных и
производственных технологиях все чаще проектируются не просто
технические устройства и даже не система «техническое
устройство — человек», а целостный комплекс, выступающий
как сложная развивающаяся система: «техническое
устройство — человек» плюс особенности природной среды, в
которую будет внедряться соответствующая технология, плюс
особенности социокультурной среды, принимающей данную
технологию.
Стратегия деятельности с саморазвивающимися системами
неожиданным образом порождает перекличку между
культурой западной цивилизации и древними восточными
культурами. И это очень важно, если иметь в виду проблемы диалога
культур как фактора выработки новых ценностей и новых
стратегий цивилизационного развития. Долгое время наука и
технология в новоевропейской культурной традиции
развивались так, что они согласовывались только с западной системой
ценностей. Теперь выясняется, что современный тип научно-
технологического развития можно согласовать и с
альтернативными, и, казалось бы, чуждыми западным ценностям
мировоззренческими идеями восточных культур. Здесь я выделил
бы три основных момента.
Во-первых, восточные культуры всегда исходили из того,
что природный мир, в котором живет человек, — это живой
организм, а не обезличенное неорганическое поле, которое
можно перепахивать и переделывать. Долгое время
новоевропейская наука относилась к этим идеям как к пережиткам
мифа и мистики. Но после развития современных
представлений о биосфере как о глобальной экосистеме выяснилось, что
непосредственно окружающая нас среда действительно
представляет собой целостный организм, в который включен
человек. Эти представления уже начинают в определенном смысле
резонировать с организмическими образами природы,
свойственными и древним культурам.
Во-вторых, объекты, которые представляют собой
развивающиеся человекоразмерные системы, требуют особых
стратегий деятельности. Этим системам свойственны синер-
гетические характеристики, и в них существенную роль
начинают играть несиловые взаимодействия, основанные на
кооперативных эффектах. В точках бифуркации незначительное
воздействие может радикально изменить состояние системы,
порождая новые возможные траектории ее развития.
Установка на активное силовое преобразование объектов уже не
112 Интервью И. Т. Касавина с В. С. Стёпиным
является эффективной при действии с такими системами.
При простом увеличении внешнего силового давления
система может не порождать ничего нового, а только
воспроизводить один и тот же набор структур. Но в состоянии
неустойчивости, в точках бифуркации часто небольшое
воздействие — укол в определенном пространственно-временном
локусе — способно порождать (в силу кооперативных
эффектов) новые структуры и уровни организации. Этот способ
воздействия напоминает стратегии ненасилия, которые были
развиты в индийской культурной традиции, а также действия
в соответствии с принципом «у-вэй».
В-третьих, в стратегиях деятельности со сложными, челове-
коразмерными системами возникает новый тип интеграции
истины и нравственности, целерационального и ценностнора-
ционального действия. Научное познание и технологическая
деятельность с такими системами предполагает учет целого
спектра возможных траекторий развития системы в точках
бифуркации. Реальное воздействие на нее с целью познания или
технологического изменения всегда сталкивается с проблемой
выбора определенного сценария развития из множества
возможных сценариев. И ориентирами в этом выборе служат не
только знания, но и нравственные принципы, налагающие
запреты на опасные для человека способы
экспериментирования с системой и ее преобразования.
Сегодня все чаще комплексные исследовательские
программы и технологические проекты проходят социальную
экспертизу, включающую этические компоненты. Эта практика
соответствует новым идеалам рационального действия,
видоизменяющим прежние представления о связи истины и
нравственности.
В западной культурной традиции долгое время доминировал
идеал истинного знания как самоценности, не нуждающейся в
дополнительных этических обоснованиях. Более того,
рациональное обоснование полагалось основой этики. Когда
Сократа спрашивали, как жить добродетельно, он отвечал, что
сначала надо понять, что такое добродетель. Иначе говоря,
истинное знание о добродетели задает ориентиры нравственному
поведению.
Принципиально иной подход характерен для восточной
культурной традиции. Там истина не отделялась от
нравственности, и нравственное совершенствование полагалось
условием и основанием для постижения истины. Один и тот
же иероглиф «дао» обозначал в древнекитайской культуре
Важно, чтобы работа не прекращалась... 113
закон, истину и нравственный жизненный путь. Когда
ученики Конфуция спрашивали у него, как понимать «дао», то
он каждому давал разные ответы, поскольку каждый из его
учеников прошел разный путь нравственного
совершенствования.
Новый тип рациональности, который сегодня утверждается
в науке и технологической деятельности со сложными
развивающимися, человекоразмерными системами, резонирует с
древневосточными представлениями о связи истины и
нравственности. Сегодня во многом теряет смысл жесткое
противопоставление западного идеала рациональности многим идеям
традиционных культур. Новые точки роста создают иную, чем
ранее, основу для диалога западной культуры с другими
культурами.
Касавин И. Г. И последний вопрос. Россия переживает
сегодня не самые легкие времена. Позиции философии как
науки с не совсем понятным статусом, утратившей ко всему
прочему и идеологическую власть, сильно поколеблены как
экономическими, политическими, так и идейными турбуленциями
рубежа XX—XXI вв. Раньше российские философы
развенчивали «буржуазный миф» о смерти философии, а сегодня,
похоже, склонны с ним согласиться. Ведь философия как форма
интеллектуальной роскоши пока мало востребована и
политическими элитами, и широкими общественными кругами.
Впрочем, Ницше говорил: «Оставьте мне роскошь, а от всего
прочего я могу отказаться». Каковы, на Ваш взгляд,
перспективы философии и как они соотносятся с социальным
оптимизмом вообще?
Степан В. С. Будущее философии — в ее способности
увидеть будущее цивилизации. Сегодня как раз такая эпоха, когда
требуются новые мировоззренческие идеи. В такие эпохи
философия становится практически востребованной. Важно
проследить, где в современной культуре формируются, пусть в
зародышевой форме, новые ценностные, новые
мировоззренческие ориентиры. Эти точки роста выступают материалом для
философского анализа и одновременно теми объективными
состояниями, которые могут обеспечить внедрение в культуру
новых мировоззренческих идей, если их сумеет выработать
философия. Я считаю, что мы вступили в эпоху поиска новых
ценностей, но они не будут заимствованы откуда-то извне и в
готовом виде современной цивилизацией. Они должны
вырастать внутри нее. Как у Гегеля, нечто в развитии порождает
свое иное.
114 Интервью И. Т. Касавина с В. С. Сталиным
Часто приводят такую аналогию: мол, Древний Рим пал под
воздействием варваров и сейчас развитые техногенные
цивилизации — Америка, Европа, «семерка» — это что-то вроде
Древнего Рима. В конечном счете они надорвутся и рухнут под
напором терроризма и внутренних противоречий. Этот
сценарий можно обсуждать. Но здесь важно учесть (продолжая
аналогию), что после падения Рима была тысячелетняя
христианская цивилизация. А где она начиналась? Она начиналась не у
варваров. Ее духовной предпосылкой было развитие
христианства. Возникла же эта религия в римских провинциях, а потом
пришла в Рим, была легализована. Христианская традиция
зарождалась в лоне цивилизации Рима. Надо искать точки роста
новых ценностей внутри самой техногенной цивилизации.
Я думаю, что именно это на сегодня одна из главных задач
философии. То, что я уже говорил об изменениях
мировоззренческих смыслов в современном научно-техническом развитии, о
перекличках, резонансе их с некоторыми идеями
традиционных восточных культур, подобное может обнаруживаться и в
других сферах современной культуры: в области этической
мысли и поиска новых форм нравственного поведения, в
литературе и искусстве, в политическом и правовом сознании, в
религиозном сознании и т. п. Можно указать на идеи
экологической этики, в рамках которой наиболее радикальные
направления провозглашают отказ от идеала господства
человека над природой. Выдвигается альтернативный идеал,
согласно которому мы не должны относиться с чувством
превосходства к животным и растениям, видеть в них только
средство нашего жизнеобеспечения (работы Б. Калликотта,
Р. Атфильда, Ф. Метьюз, Б. Дивола и Д. Сеженс).
Предпринимаются попытки расширить понимание категорического
императива, применяя его не только в сфере нравственных
отношений людей, но и в отношениях человека к живой природе.
Одновременно можно констатировать появление множества
практик экологического поведения. В начале 90-х мне выпал
случай встретиться с представителями американских общин,
которые создали поселение, основное занятие жителей
которого — выращивание экологически чистых овощей. Все они
выходцы из крупных городов, окончили престижные
университеты. Исповедуют религию, которая является странной
смесью христианства и буддизма. Глава этой общины и его жена
ранее были преподавателями физики в университете. Они с
увлечением рассказывали о своем мировоззрении, согласно
которому в каждом живом существе есть свет добра, и он уси-
Важно, чтобы работа не прекращалась... 115
ливается при соприкосновении с другим таким же светом, а
больше всего этого начала в человеке, только он не умеет им
пользоваться.
Конечно, было бы опрометчиво утверждать, что такого типа
экстравагантные, а возможно, и наивные верования пролага-
ют путь к новому типу цивилизационного развития. Но
наличие множества подобных идей, находящихся пока на
периферии современной культуры, свидетельствует о своеобразных
пробных попытках отыскать новые мировоззренческие
смыслы и строить по-новому свою жизнедеятельность.
Не так давно я познакомился с современными западными
работами по философии религии. Я обратил внимание на то,
что в сфере протестантской теологии неожиданно возникают
какие-то еретические идеи. Например, теологи Пиккок и Рол-
стон развивают идею, что эволюция не закончилась, что Бог
продолжает творить мир, он — участник процесса эволюции.
На периферии религиозной жизни возникают идеи, что сумма
зла, творимого на Земле, может оказывать влияние на
эволюцию Вселенной, и Бог вынужден будет потом исправлять
неблагоприятные сценарии развития. Возникает идея, что
человек ответствен за космическую эволюцию, влияет на нее
добром или злом, которые он творит. Это новые идеи, и они могут
сформулировать по-новому принципы человеческой
ответственности перед природой, перед собой, перед будущими
поколениями.
В политике сейчас возникают очень интересные вопросы.
В свое время У. Черчилль высказывался в том смысле, что
демократия обременена множеством недостатков, но ничего
лучшего человечество пока не придумало. Демократия,
действительно, наилучшим образом соответствует управлению
сложными социальными системами, поскольку она
предполагает многообразные обратные связи, корректирующие
управленческие решения. При монархическом и авторитарном
способе правления эти связи резко ослабевают. Но в условиях
быстрых перемен социальной жизни начинают обостряться
изъяны демократии. В частности, развитие современной
демократии настраивает власть меньше уделять внимания
сверхдальним стратегическим программам, а больше
ориентироваться на тактические. Президент избирается на четыре года,
максимум на восемь лет (два срока). И он, естественно, думает
о том, что он за это время сделает и какие реальные
результаты может получить. Он тактически ориентирован. А тут нужна
какая-то иная стратегия, потому что речь идет о глобальной
116 Интервью И. Т. Касавина с В. С. Сталиным
цивилизации, о глобализирующемся мире, радикально
меняющем сегодняшнее его состояние. Должна быть
ответственность перед природой, перед будущими поколениями, а не
просто сиюминутная борьба за голоса избирателей.
Касавин И, Т. С другой же стороны, общественное мнение
все больше демонстрирует свою силу, свою эффективность.
Это означает, что нравственные критерии вторгаются уже
непосредственно в регулирование общества.
Стёпин В. С. Я считаю, да. Хотя и здесь есть проблемы.
Общественное мнение активно управляется современными
СМИ, и чем дальше идет развитие информационного
общества, тем больше появляется возможностей манипуляций
общественным мнением.
Проблем для анализа много. Жалко только, что жить
осталось не очень много. Уже не скажешь, как поется в песне:
«Вся жизнь впереди, надейся и жди». Жизнь идет к закату,
увы. Что-то мы сделали, что-то сделают другие. Важно, чтобы
работа не прекращалась...
Из бесед с академиком Т. И. Ойзерманом*
Беседы Л. Н. Митрохина
с Т. И. Ойзерманом
iVioe знакомство с Т. И. Ойзерманом состоялось в
конце 40-х гг., когда я слушал его блистательный курс
по истории марксистской философии. На факультете
тогда работали многие выдающиеся специалисты,
завораживавшие ораторским искусством и бескрайней
профессорской эрудицией. Назову А. С. Ахманова, К. В. Ба-
зилевича, Д. Д. Иваненко, С. Б. Кана, А. Н. Леонтьева,
Б. А. Тумаркина, Б. Д. Дацюка, С. А. Яновскую — всех
не перечислить. И все же мы благоговели прежде всего
перед лектором Т. И. Ойзерманом. Все упомянутые
преподаватели вели курсы, так сказать, непрофильные,
и молодой доцент был единственным, кто выделялся из
сонма унылых догматиков, доверительно
пересказывавших казенную мудрость, которую, как теперь
выяснилось, мы избрали своей любимой профессией!
Показательный факт: мы организовали перепечатку записей
лекций Ойзермана и обращались к ним как к
надежному путеводителю в собственное исследовательское
будущее. В общем, уже тогда Ойзерман представлялся
мне человеком особым, по своим знаниям и поведению
непохожим на других.
Вскоре наши пути разошлись. Это было поистине
«свинцовое время»: кто-то тихо исчезал, кого-то с
гиканьем тащили на дыбу, другие исступленно каялись.
* Вопросы философии. 2004. № 5. С. 33—77.
118 Беседы Л. Н. Митрохина с Т. И. Ойзерманом
Со всех сторон нас обступали обличительные кампании. Да и у
меня не все складывалось безмятежно. По причине
недоброкачественной биографии я был вынужден заниматься
относительно «беспартийной» логикой. Защитил диссертацию по
прагматизму, работал в «Литературной газете», потом в Институте
философии, где стал заведующим сектором, заместителем
директора. Здесь я вновь встретился с Т. И. Ойзерманом, в
1968 г. перешедшим работать в институт. А когда он стал
заведовать сектором истории философии, то наши деловые
отношения стали регулярными. Были многочисленные совместные
командировки (в Берлин, Вену, Зальцбург, не говоря уже о
республиках СССР), длительные дружеские беседы, постоянное
сотрудничество в редколлегии «Вопросов философии».
Несмотря на разницу лет и во многом несхожие жизненные пути, у
нас сложились теплые дружеские отношения, располагавшие к
веселому застолью и доверительным беседам.
Так получилось, что мне довольно рано пришлось быть
непосредственным свидетелем, а порой и невольным участником тех
зловещих — открытых и подковерных — столкновений и дрязг,
которые именовались борьбой за партийность в философии.
Я видел, как травили честных специалистов, как преуспевали
невежды и карьеристы, как призывами к истине и патриотизму
прикрывалось бесчестие и цинизм. И это были не просто
иллюстрации к истории советской философии, а сама история.
Реальная история — это деятельность многих
неповторимых личностей, и именно они создали то, что называется
советской философией. На первый взгляд, это прежде всего
«диамат» и «истмат» в «краткой» сталинской редакции, то
есть «охранительная» идеологическая доктрина. Можно
привести длинный перечень деятелей, не просто прилепившихся к
этой бесплодной псевдотеоретической конструкции, но
ревностно и рьяно защищавших ее от порывов свободомыслия.
А вместе с тем нашими современниками были
замечательные мыслители — А. Ф. Лосев, М. М. Бахтин, Я. Э. Голосов-
кер, С. Л. Рубинштейн, Л. С. Выготский, В. И. Вернадский,
А. А. Ухтомский, В. Ф. Асмус, Э. В. Ильенков, М. К. Петров,
М. К. Мамардашвили, В. А. Смирнов, которые — каждый по-
своему — прорывали мертвящую оболочку официального
догматизма, утверждали положения, знаменовавшие шаг вперед
в развитии философской науки. Разумеется, они не смогли до
конца реализовать свой творческий потенциал, но то, что им
удалось сделать, составило неотъемлемый компонент,
источник энергетики творческих поисков, без которых само сущест-
Из бесед с академиком Т. И. Ойзерманом 119
вование философской мысли было бы невозможным. И
память о них — священна.
Близкое знакомство с Теодором Ильичем я воспринял как
подарок судьбы. Он обладает блестящей памятью и редким
даром рассказчика. И часто слушая его воспоминания о временах
минувших, я с горечью думал: неужели все эти точные
характеристики, портреты, неожиданные, порой парадоксальные
комментарии могут быть безвозвратно утрачены? Не забудем и
другого. В течение полувека Т. И. Ойзерман был в самой гуще
философских событий и отнюдь не оставался их бесстрастным
хроникером. Все это позволило ему сыграть громадную,
пожалуй, уникальную роль в философской жизни страны. А не она
ли прежде всего волнует нас в юбилейные даты?
И вот знаменательный момент — академику Т. И. Ойзер-
ману исполняется девяносто лет! Что мне сказать
многоуважаемому старшему коллеге? Комментировать его работы,
искать какие-то особо фанфарные выражения? Едва ли это
интересно читателям, да и, пожалуй, самому академику. Поэтому
я постараюсь взглянуть на философское прошлое, опираясь, в
первую очередь, на его же собственные воспоминания*. Тогда,
возможно, и портрет юбиляра предстанет в его реальном
масштабе, во всем личностном своеобразии.
Когда Т. И. Ойзерман вступил на философское поприще,
отечественная мысль уже была плотно втиснута в узкие
ножны сталинизма, окруженного, по выражению Черчилля,
плотным кольцом вольных и невольных «телохранителей лжи».
Поэтому для начала полезно взглянуть на духовную
обстановку, которую молодой философ застал в Москве. Ее
принципиальные контуры были определены тогда недавней
конфронтацией «механистов» и «меныиевистствующих идеалистов».
«Меныиевиствующие идеалисты» против
«механистов»
Едва ли стоит специально останавливаться на том, как
проблема «интеллигенция и власть» решалась в первые
послеоктябрьские годы. Пришлось бы вспоминать о судьбе М. Горько-
* У меня имеются магнитофонные записи бесед с Т. И. Ойзерманом (общая
длительность примерно 10 часов), сделанные в санатории «Узкое» в 1997,
2001 и 2003 гг. Они и составили основу диалоговых разделов данного очерка.
120 Беседы Л. Н. Митрохина с Т. И. Ойзерманом
го, Н. Гумилева, И. Бунина, В. Короленко, о репрессивной
политике большевиков в отношении церкви и, конечно, о
«философском пароходе». Достаточно сказать, что была
налажена постоянная охота на людей свободомыслящих, не
вписывающихся в рамки партийно-государственного тоталитаризма.
Шло массовое воспроизводство новой интеллигенции, так
называемых «красных профессоров». «Отличие красного
профессора от белого и синего, — цинично разъяснял Н.
Бухарин, — следующее: мы его обрабатываем, превращаем в
определенную машину, которая заправлена определенным
материалом и будет функционировать в определенном ... духе»*.
Ясна и главная — политическая — подоплека. К началу
30-х гг. Сталин уже подчинил себе партийную номенклатуру и
вел яростную борьбу за создание духовного ГУЛАГа. В сфере
философии она вылилась в ликвидацию «ревизионистов
марксизма» — так называемых механистов и последователей Де-
борина. Об этих событиях немало писали** , но мне хотелось
знать о них по возможности из первых рук, и я попросил
Т. И. Ойзермана рассказать об этом периоде.
Ойзерман Т. И. История эта одновременно и запутанная,
даже фарсовая, если взглянуть на нее с точки зрения
содержательности философских проблем, вокруг которых ломались
копья, и кристально прозрачная по своей политической
подоплеке. Метафизические соображения здесь были ни причем,
движущей пружиной была борьба Сталина за единоличную
власть и стремление везде расставить рабски преданных ему
опричников.
О том, как все это происходило, мне подробно рассказывал
М. Б. Митин. Вместе с П. Ф. Юдиным он учился в Институте
красной профессуры у А. М. Деборина, который в ту пору
считался лидером отечественной философии. Причем П. Ф. Юдин
был секретарем партийного бюро института — фигурой по
тем временам серьезной и ответственной. Вскоре, однако, они
пришли к выводу, что маститый профессор слишком
академично понимает свои обязанности. По какой-то, не иначе как
старорежимной интеллигентской привычке, он, например, на-
* Бухарин И. Дискуссия о постановке культурной проблемы // Спутник
коммуниста. 1923. № 19. С. 119.
** О предыстории, деталях и сути этой борьбы см. статью А. П. Огурцова
«Подавление философии» // Философия не кончается... Из истории
отечественной философии. XX век. В 2-х кн. Кн. I. 20—50-е гг. М., 1998.
Из бесед с академиком Т. И. Ойзерманом 121
стаивал, чтобы студенты детально проштудировали, скажем,
«Логику» Гегеля, причем так, чтобы знать содержание
отдельных параграфов и формулировок. По скромности Марк
Борисович не разъяснял, что это вообще было выше их
умственных способностей, но охотно вспоминал, как их возмущало
такое требование: вместо того чтобы обсуждать злободневные
философские проблемы, связанные с практикой
социалистического строительства, они должны были тратить время на
изучение каких-то абстрактных систем, явственно отдающих
схоластикой.
Тогда они, сначала между собой, а потом и на партийных
собраниях стали критиковать Деборина, причем главную роль
играл Юдин как партийный вожак. Павел Фёдорович, однако,
не был, как бы это сказать помягче, человеком философски
подготовленным. Впрочем, в этом и Митин от него мало чем
отличался. Но он был побойчее, я бы сказал, понахальнее и
впоследствии выдвинулся на первые роли. В основу своей
критики они положили обвинение в формализме.
Откуда они взяли этот термин, судить не берусь. Но дело,
полагаю, в том, что в это время сам Деборин вел довольно
успешно борьбу против формализма так называемых механистов
(А. К. Тимирязев, Л. И. Аксельрод, И. И. Степанов, В. Н. Са-
рабьянов и др.), борьбу, которая, по-видимому, была
поддержана сверху. Одним словом, складывалась своеобразная
ситуация. Первоначально группа Деборина развернула шумную
борьбу против «механистов» и постепенно брала верх. Затем,
казалось бы, победивших деборинцев атаковали их же
студенты, которым тогда еще не было тридцати лет. Но они не
повторяли аргументов «механистов». То ли в силу
профессиональной малограмотности, то ли уловив растущее недоверие к
старым специалистам, они все настойчивее стремились
перевести дискуссию в иную, им более понятную и по тем
временам выигрышную политическую плоскость, где философская
эрудиция, знание классиков, апелляция к текстам
существенной роли уже не играли.
По-видимому, многоопытный A.M.Деборин почувствовал
надвигающуюся опасность и уязвимость своих позиций в
складывающейся обстановке. Во всяком случае, он признавал за
собой отдельные упущения и ошибки, был готов пойти на
некоторые компромиссы, в частности, внести уточнения в
учебную программу, изменить требования к учащимся и т. д. Как я
говорил, сначала дальше критики на партийных собраниях
дело не шло. Но вскоре эта конфронтация вышла за рамки ря-
122 Беседы Л. Н. Митрохина с Т. И. Ойзерманом
дового академического спора и перешла на привычный для
коммунистов язык: о принципе партийности, о связи с
актуальными государственными проблемами, с нуждами народа в
конечном счете. Теперь никакие полумеры уже не устраивали
бойких и необразованных борцов за истинный марксизм. Не
философские тексты и профессорская ученость, а лишь
высшие инстанции, решили они, могли их рассудить. И они пошли
на решительный шаг: написали возмущенное письмо самому
Сталину о том, что в Институте красной профессуры вместо
разработки актуальных политических проблем и проведения
принципа партийности занимаются изучением старых
философов, взгляды которых давно преодолены марксизмом.
Письмо было воспринято как исключительно своевременный
сигнал, и в декабре 1930 г. произошло чрезвычайное событие:
Сталин принял партийную группу ИКП в составе П. Ф. Юдина,
М. Б. Митина, В. Н. Ральцевича и некоторых партийных
активистов. Вождь одобрил письмо, но одновременно разъяснил,
что это не просто уклон в формализм и безжизненные
абстракции. Да, все это, конечно, означает отрыв философии от
актуальных задач партийного строительства, но такая позиция
имеет более глубокие корни и нуждается в принципиальной
политической оценке. Следует понять, что Деборин вовсе не
случайно проповедует эти вещи; он ученик Плеханова, сам был
членом меньшевистской партии. Так что это не просто
формализм, а не что иное, как меньшевиствующий идеализм.
Именно эту жесткую и (если вспомнить те времена), в
сущности, погромную формулировку предложил Сталин.
Встреча сразу же изменила философскую ситуацию в
стране. Окрыленные сталинской поддержкой, молодые икаписты
объявили решительный бой Деборину и его
единомышленникам. А это была довольно влиятельная группа, куда входили
известные представители старой философской гвардии:
Н. А. Карев, И. К. Луппол, Гр. Баммель и др. Завязалась
настоящая схватка, вскоре вынесенная на страницы
общесоюзной партийной печати.
Митрохин Л. Н. Насколько помню, было даже принято
соответствующее решение ЦК, а позже инициаторы этой
борьбы увенчаны академическими званиями.
Ойзерман Г. И. Да, в январе 1931 г. вышло постановление
ЦК ВКП(б) «О журнале "Под знаменем марксизма"». Оно
как бы подытоживало развернувшуюся дискуссию и
сопровождалось существенными кадровыми перестановками. Митин
был назначен главным редактором журнала «Под знаменем
Из бесед с академиком Т. И. Ойзерманом 123
марксизма». Был значительно обновлен и состав редколлегии;
Деборина, правда, в нем оставили, но всякое влияние на
позиции журнала он утратил. Всеми делами стала заправлять
группа Митина, Юдина и Ральцевича. Они подбирали и
расставляли кадры, организовывали систему пропаганды философии
марксизма, бдительно надзирали за соблюдением принципа
партийности.
Заметно сместился и акцент в их, с позволения сказать,
творческой деятельности. До этого они обвиняли Деборина в
том, что он игнорирует роль Ленина в философии. Теперь же
они сосредоточили свои силы на обосновании выдающихся
заслуг Сталина в разработке философии. Это утверждение стало
лейтмотивом учебника по диалектическому и историческому
материализму под редакцией М. Б. Митина и И. П.
Разумовского (1932). Короче говоря, складывающийся культ Сталина
в политике был дополнен его культом как великого философа.
Одновременно продолжали добивать представителей
старшего философского поколения. В 1933 г., как студент ИФЛИ
я присутствовал на заседании Института философии (тогда он
назывался Комакадемией), на котором под председательством
Митина торжественно отмечалось двадцатипятилетие
«Материализма и эмпириокритицизма». Это был первый год моей
учебы, и я с любопытством разглядывал цвет философской
мысли, до этого знакомый лишь по печати. Царила нервная,
напряженная обстановка. В своем вступительном докладе
Митин резко и грубо отзывался о А. М. Деборине, Л. И. Ак-
сельрод, И. К. Лупполе, Георге Лукаче (который в это время
был в Москве), вызывая одобрительную реакцию зала.
Фактически их обвиняли в том, что, будучи подголосками
буржуазных философов, они игнорируют принцип партийности в
философии, отрывают философию от задач социалистического
строительства.
Больше всего меня поразило то, что все эти почтенные
люди единодушно признавали свои ошибки, с готовностью
каялись, хотя предъявленные им обвинения, даже на мой слух,
казались голословными и недостаточно убедительными. В
заключительном слове Митин грозно предупредил, что одного
признания ошибок недостаточно — их надо исправлять
делами, и его горячо поддерживали другие ораторы, которые мало
чем мне запомнились. Что ж, Митин оказался пророком:
прошло несколько лет, и многих «меньшевиствующих
идеалистов» арестовали, обвинив в том, что они разрабатывают
философскую основу контрреволюционного троцкизма. Надо ли
124 Беседы Л. Н. Митрохина с Т. И. Ойзерманом
напоминать, что доклад Митина вскоре был напечатан в
качестве едва ли не директивного документа. Кстати сказать, ни
Митин, ни Юдин, никто из этих людей, которые вышли на
поверхность и стали у руководства, в ИФЛИ ни разу не
появлялись и преподавателями никогда не работали.
Митрохин Л. Н. Из Вашего рассказа как-то выпал
В.Ф.Асмус, у которого мне довелось учиться. В те годы он уже был
заметной фигурой, автором ряда крупных работ по
философии и литературоведению. Вспоминаю его книги
«Диалектика Канта» (1929), «Очерки по истории диалектики Нового
времени» (1930) и особенно «Маркс и буржуазный
историзм» (1933). Он как-то участвовал во всех этих
философских перипетиях?
Ойзерман Т. И. Валентин Фердинандович занимался
историей философии серьезно, стараясь держаться подальше от
придворной суеты. Вы удивитесь, но за ним закрепилась
репутация человека крайне консервативного, если не правого.
Даже Деборин критиковал Асмуса как представителя
буржуазной интеллигенции. Считалось, что дискуссия идет среди
марксистов, каковым Асмус себя не объявлял. И когда стали
нападать на деборинцев, Асмуса даже не тронули, потому что
он не был деборинцем, он был хуже.
Но после выхода обстоятельной книги В. Ф. Асмуса
«Маркс и буржуазный историзм» бдительный Митин
спешно отозвался резкой, как и следовало ожидать, бестолковой
рецензией: якобы автор книги отбросил основной вопрос
философии, подменив его вопросом об отношении свободы
и необходимости. На самом деле Асмуса прежде всего
интересовала другая проблема, для его монографии основная.
А именно: суть исторического процесса, где крайне
существенно именно отношение между субъективной
деятельностью людей и объективной необходимостью. Впрочем у нас,
студентов, каких-то иллюзий относительно
профессиональной компетентности Митина не возникало, а поэтому
потребности просить его разъяснить нам свою позицию мы
никогда не ощущали.
Что же касается академического звания, то М. Б. Митин
стал академиком (ни кандидатской, ни докторской диссертации
он, естественно, не защищал) в 1939 г., уже будучи директором
Института марксизма-ленинизма. На этот счет рассказывают
такую историю. Во время одной встречи Сталин предложил это
звание Митину и Юдину, но последний как-то замялся, сказав,
что он не совсем уверен, что достоин столь высокой чести. Ста-
Из бесед с академиком Т. И. Ойзерманом 125
лин сказал: «Ну что ж, тогда будьте членом-корреспондентом».
Митина, конечно, подобное сомнение не осенило. Кстати
сказать, к этому времени в академии еще находился Деборин,
избранный еще в 1928 г. По каким-то причинам Сталин его не
тронул, в то время как большинство обществоведов, в том
числе и в ИФЛИ, пересажали — не только философов, но и
политэкономов, историков, литературоведов. Многие из них так и
ушли в неизвестность.
«Писатель не философ — попросту ремесленник»
Митрохин Л. //. Итак, в Москве бурно формировалась
новая пролетарская философия, утрясались ее акценты и
приоритеты, натягивалась колючая проволока, обозначающая
дозволенные соображения, нахрапистые и плутоватые
выдвиженцы бесцеремонно расселялись по номенклатурным
кабинетам. Насколько я понимаю, для многих партийных деятелей
путь к вершинам власти через философию тогда казался
наиболее бесхлопотным и коротким: «у нас философом
становится любой». А как в это время чувствовал себя школьник Ой-
зерман в далекой Днепропетровской (тогда Екатеринослав-
ской) области? Грезился ли ему философский Олимп,
который предстояло покорить, или будущее представлялось в
более легкомысленном виде?
Ойзерман Т. И, Что касается моего прихода в философию,
то он представляется мне необходимым, хотя дело не
обошлось и без случайностей. Правда, еще школьником я прочитал
«Теорию исторического материализма» Бухарина, «Логику»
Гегеля, в особенности раздел об отношении мысли к
объективности. Но не помню, чтобы метафизические премудрости
меня особенно заинтересовали. Другое дело классики
литературы, которыми я действительно увлекался: Гомер, Шекспир.
Но вскоре жизнь моя развернулась совсем не в гуманитарном
направлении.
После окончания семилетки (1930 г.) я поступил не в
техникум, как большинство моих товарищей, а стал
учеником-котельщиком на местном паровозоремонтном заводе. Почему?
Думаю, что сказалось господствовавшее тогда представление
о профессии рабочего как деле почетном. Так, по карточкам
рабочему полагалось восемьсот граммов хлеба в день, а,
например, моей матери, учительнице, — лишь пятьсот. Но
главное все же было не в этом. Уже тогда мною стала овладевать
126 Беседы Л. Н. Митрохина с Т. И. Ойзерманом
граничащая с одержимостью уверенность, что мое
единственное призвание — стать писателем.
Уже в школьные годы я более или менее регулярно печатал
стихи и заметки в днепропетровской комсомольской газете
«Будущая смена» на украинском языке. Ничего из этого
сочинительства у меня, правда, не сохранилось. Мысль о том, что
рабочая профессия и есть та школа жизни, которую я должен
непременно пройти, чтобы стать настоящим писателем,
крепко сидела у меня в голове. И когда мы переехали в г. Кольчу-
гино Ивановской (ныне Владимирской) области, я поступил
учеником-электриком на местный металлообрабатывающий
завод. Зарабатывал я по тем временам неплохо (около ста
рублей в месяц), своей профессией был доволен и мысль о
подготовке и последующем поступлении в вуз у меня не
возникала. Все свободное время я отдавал «изучению жизни» и
неистовому сочинительству.
В Кольчугине я написал свой первый большой рассказ. Он
назывался «Котельщики» и был посвящен моему ученичеству
на паровозоремонтном заводе. Этот рассказ прямо в
рукописном виде я послал в рапповский журнал «Пролетарский
авангард», который редактировал писатель Бахметьев. К моему
удивлению, его вскоре напечатали (1932. № 3). Недавно я
перечитал его и убедился, что для автора, которому не было и
восемнадцати лет, он не так уж плох. На полученный гонорар
в шестисот рублей я отправился в Крым и весь его исходил,
ночуя где придется. Под впечатлением увиденного я быстро
написал несколько очерков. Все они оказались неудачными,
ни один из них не был опубликован.
Но я не унывал, и в 1932 г. написал рассказ
«Дружелюбие». В нем, действительно, речь шла о дружеских
отношениях людей, как сейчас сказали бы, в экстремальной
ситуации — во время страшного ливня, затопившего город. Все
плывет, одни радуются, другие спасаются, страдают и т. д.
На сей раз я решился обратиться в московский журнал
«Красная Новь», который в то время редактировал В. В.
Ермилов (его вскоре сменил А. А. Фадеев). Журнал считался
весьма престижным, в нем печатались известные писатели.
Фадееву рассказ понравился, и в 1935 г. он был
опубликован (№ 10). Еще раньше я послал в «Красную Новь»
рассказ «У синего моря». Название весьма условное. Речь в
нем шла о заводском быте, о ваннах с раствором медного
купороса синего цвета, в которых протравливали медные
листы. Говорилось о необыкновенной любви между парнем
Из бесед с академиком Т. И. Ойзерманом 127
и девушкой, которых я изображал почти как Гектора и
Андромаху. Рассказ был напечатан в 1936 г. в той же
«Красной Нови» (№4). Потом был какой-то конкурс, и мне дали
вторую премию. Первую получил некто Пастушный,
который остался неизвестным, а третью получил Первенцев,
позже ставший известным писателем. Одним словом, я
постепенно ошущал себя едва ли не профессиональным
знатоком человеческих душ.
Но вскоре моим литературным увлечениям был нанесен
серьезный удар. Воодушевленный удачным началом, я
собрал свои рассказы в сборник, который назвал «На Пек-
ше». Пекша — река в Кольчугине, в которой мы купались
и ловили рыбу. Этот сборник я передал в крупнейшее
издательство ГИХЛ, директором которого был И. К. Луппол.
Поначалу все шло хорошо. Но в сборнике были ранее не
публиковавшиеся рассказы, в которых в довольно мрачных
тонах описывались повседневные заводские будни:
воровство, хищения, травмы, житейские неурядицы, хотя никаким
социальным критиком я себя не мнил. Как и полагается,
верстка попала в Главлит и оттуда пришло категорическое
решение: печатать нельзя. Я тяжело переживал это
событие. Тем более, что постепенно мною все больше
овладевало сомнение, сможет ли из меня получиться более или
менее серьезный писатель.
Решение бросить литературные опыты давалось мне трудно.
Но сказались жизненные обстоятельства. Моя мать была
вынуждена уехать из Кольчугина и поступить на работу в
деревенскую школу. Я остался один; меня даже предупредили, что
я должен освободить прежнюю квартиру и перебраться в
общежитие. Я подумал, что в Кольчугине мне больше делать
нечего, и уехал в Москву, где поступил монтером на
строительный комбинат. Условия работы ужасные: в громадной комнате
человек семьдесят, грязь, вши, пьянки, драки. Я понял, что
мое писательское будущее оборачивается крахом. Что-то надо
было срочно предпринимать.
И тут я случайно узнаю о существовании ИФЛИ. Кстати
или некстати вспомнил ранее прочитанную фразу Лафарга:
«Писатель не философ — попросту ремесленник». Вот,
подумал я, где причина моих прежних неудач на литературном
поприще. А выход казался единственным: получить
философское образование, чтобы не просто цепляться за
отдельные факты, а мудро, на высоком художественном уровне их
обобщать.
128 Беседы Л. Н. Митрохина с Т. И. Ойзерманом
Альма-матер: ИФЛИ
Ойзерман Т. И. Подал документы на философский
факультет. Выдержал конкурсные экзамены, впрочем, не очень
строгие. К тому же я поступал как рабочий, а была установка
относиться к нам повнимательнее. Но в этом была и неприятная
сторона: хотя я сдал экзамены на пятерки (была лишь одна
четверка), в стипендии мне отказали. Дело в том, что в
основном поступали люди в годах (например, знакомый Вам
И. Я. Щипанов), нередко семейные, с опытом партийной
работы. Я же был едва ли не самый молодой, необстрелянный.
А на что жить? Даже возникла мысль — а не вернуться ли к
пролетариям?
Помогла, как это у меня нередко бывало, случайность. Кто-
то сказал, что в общежитии, где нас поселили, требуется
электрик. Основная работа приходилась на темное время суток,
когда включали свет. Я сидел в дежурке, звонили, я шел,
ремонтировал; обычные дела: то пробки перегорят, то плитка
испортится. Свободного времени было достаточно. Платили
сто пятьдесят рублей — выше стипендии. Через некоторое
время узнаю, что в МСПО (Московский союз
потребительских обществ) преподают особую дисциплину, которая
называется «Хозполит-установки». Поинтересовался, что это
такое? А это, говорят, изложение основных постановлений по
организации хозяйства, прежде всего потребительской
кооперации, соответствующие высказывания Ленина и т. п. Пошел
туда, представился и меня зачислили преподавателем. Мне
платили четыре рубля за час, что позволило отказаться от
должности электромонтера. Кстати сказать, я все более
убеждался, что из меня получается неплохой лектор, хотя эти
самые «Хозполит-установки» были сплошной мутью. Но такое
было время: каждый был готов говорить все, что было уже
написано в каких-то документах.
После окончания первого семестра наступило время
экзаменов. Сдавал успешно. Правда, не обошлось без казуса.
Отвечал профессору Преображенскому, прекрасному
специалисту по античности. После пяти минут он сказал: «Материал
Вы знаете, поставлю вам четверку». «Нет, — говорю, — это
мне не подходит». — «Как это не подходит?» — «А Вы
посмотрите, у меня все пятерки. Я учил Ваш предмет и хочу
получать стипендию». Он гонял меня минут сорок и поставил
отлично. Это был честный человек — не зря же его раз пять
сажали и каждый раз выпускали. Так я получил стипендию и
Из бесед с академиком Т. И. Ойзерманом 129
какое-то время продолжал читать лекции. Учтите, что тогда
была карточная система, да и все другое можно было купить
только по талонам, так что нужды я не испытывал и был в
высшей мере доволен жизнью.
Митрохин Л. Н. А что представлял собой ИФЛИ, кто в нем
преподавал, насколько квалифицированно?
Ойзерман Т. И. Что касается исторического и
диалектического материализма, то преподавание велось на примитивном
уровне: пересказ отдельных цитат классиков, директивных
постановлений, статей новоиспеченных философских
авторитетов. Смутно вспоминаются некоторые имена: профессора
Дмитриев и Богачев, доцент Занд — но его вскоре посадили.
Лучше обстояло дело с историей философии. Очень хорошо
читал лекции Г. Ф. Александров, хотя глубоким
исследователем он не был. Но на кафедре он увлекался сам и увлекал нас.
Он также вел семинары, и таким образом у нас состоялось
знакомство, которое возобновилось после войны. Запомнился
профессор М. А. Дынник, читавший античную философию,
был профессор Сапожников, он тоже читал античную
философию и средние века. Вскоре его посадили как бывшего
меньшевика. Несколько блестящих лекций прочитал Б. Э. Быхов-
ский. Некоторое время преподавал В. Ф. Асмус, но его вскоре
уволили. Запомнился Я. Э. Стэн. Это был рослый красивый
мужчина, умевший говорить на языке философии, но ему
доверяли вести только семинары по французскому
Просвещению и материализму.
Митрохин Л, Н. Говорили, что Сталин приглашал его для
того, чтобы он разъяснял ему диалектику Гегеля.
Ойзерман Т. И. Да, разговоры такие были, как и то, что по
заданию Сталина он участвовал в написании философского
раздела «Краткого курса истории ВКП(б)». Я в этом сильно
сомневаюсь. Эти разговоры появились лишь после смерти
Сталина. Между тем уже до войны утвердилось мнение, что
книга в целом написана Ем. Ярославским и окончательно
отредактирована самим вождем. По-видимому, это верно,
потому что многие формулировки отличаются характерным для
Сталина лаконизмом и пренебрежением к аргументации. Так,
говорится насчет разгрома в 1937 г. врагов народа, но не
объясняется: какие враги, откуда враги. Думаю, что и в
философском разделе Сталину принадлежало большинство
формулировок, если не весь текст. Здесь доминирует уже знакомый
лаконизм, бездоказательность и вместе с тем категоричность,
игнорирование ряда принятых в марксизме тезисов, скажем,
130 Беседы Л. Н. Митрохина с Т. И. Ойзерманом
закона отрицания отрицания. Понятие закона заменено
понятием «черта диалектики», утверждается, что специфика
идеализма не только в признании первичности духовного начала,
но и в отрицание познаваемости мира. Следовательно, автор
смешивает идеализм и агностицизм. Едва ли кто-либо, кроме
Сталина, решился бы на такие вольности. Попутно отмечу,
что ни Митин, ни Юдин никакого отношения к «Краткому
курсу» не имели. По-видимому, Сталин достаточно трезво
оценивал их интеллектуальные потенции.
Особо следует сказать о филологическом факультете, на
котором работали блестящие преподаватели, хотя они не
были профессорами: М. А. Лифшиц, Л. Е. Пинский и
В. Р. Гриб, молодой человек, умерший, кажется, в возрасте
тридцати двух лет и оставивший лишь маленькую книжечку.
Это были удивительно талантливые люди, и мы часто ходили к
ним на лекции. Их главная заслуга была в том, что они повели
решительную борьбу против господствовавшего тогда
вульгарного социологизма, возглавляемого влиятельнейшим
академиком В. М. Фриче, то есть представления о том, что
писатель — это непременно представитель, выразитель идеологии
того или иного класса, скажем, Пушкин — русского
дворянства и аристократии. Они же доказывали, что большой
писатель — это выразитель народных чаяний, духа времени.
В этом смысле это были новаторы, каких на философском
факультете не было, и во многом они стимулировали творческое
мышление своих слушателей, если те были к этому склонны и
способны.
Митрохин Л, Н. Кроме загубленных жизней и группы
неисправимых догматиков ИФЛИ, кажется, немного дал
философской мысли. Но давайте забудем обо всех этих темных
душах, доносчиках и циниках — пусть пожирает их «геенна
огненная»! — и обратимся к чему-то гарантированно светлому,
наверняка бодрящему. Хотя бы к тому далекому времени,
когда преуспевающий студент Ойзерман окончательно
определил свое призвание, часто и охотно печатался, но теперь уже
на метафизические сюжеты, стал единственным в стране
Сталинским стипендиатом по философии и его будущее ни у кого
сомнения не вызывало: кандидат, а затем и доктор
философских наук, уважаемый профессор и прочая и прочая.
Ойзерман Т. И. Да, наверное, так и должно было быть, но
не со мной. Сегодня, когда я оглядываюсь на свою жизнь, то
постоянно наталкиваюсь на одну малопонятную вещь. Как
только у меня что-то налаживалось и я позволял себе рассла-
Из бесед с академиком Т. И. Ойзерманом 131
биться, поддаться необременительному благодушию, как
сразу что-то случалось, неожиданно вторгалась какая-то сила,
начисто перечеркивающая ближайшие планы. Иногда я даже
думаю: может быть, тему кандидатской диссертации о
соотношении свободы и необходимости я и выбрал для того, чтобы
наконец-то разобраться в собственных житейских загадках.
Поскольку в нашей группе были почти исключительно
москвичи и я воспринимался как провинциал, то в первые два
года у меня близких товарищей не было. Я относился к этому
спокойно, читал, писал, никому не мешал. Но я не мог знать,
что судьба подготовила для меня испытание, одновременно
смахивающее и на фатальную трагедию, и на забавную
оперетку.
В 1937 г. по институту пополз зловещий слух: в нашей
группе посадили четырех студентов. С тремя из них у меня не было
никаких отношений, а вот с В. В. Бродовым, которого Вы,
вероятно, помните, у меня сложились если не дружеские, то
приятельские отношения. И однажды я, как выяснилось,
недостаточно тихо высказал недоумение: «Не понимаю, за что
Бродова-то могли арестовать». Быстро донесли, куда надо.
Срочно было созвано комсомольское собрание. Криминал был
очевиден и неопровержим: «Вы, комсомолец, будущий
идеологический работник, сомневаетесь в деятельности органов
госбезопасности, заявляете, что они могут принимать
ошибочные решения и т.д.». Постановление, разумеется, было
единогласным: исключить из комсомола. Соответствующие
документы пошли в райком ВЛКСМ на утверждение. Проходит
неделя, вторая. Меня как бы не замечают, все ждут, о своих
переживаниях говорить не хочется. Вдруг через месяц
появляется Бродов и даже как-то игриво сообщает: «А меня
освободили». Мне же приходит вызов на бюро райкома. После
обличительного сообщения о моем антипартийном поступке
мрачный вопрос: «Вы не раскаиваетесь в своем поступке?».
«Раскаиваюсь, — чистосердечно отвечаю я, — но вот только
прошу учесть, что Бродова уже освободили». «Как
освободили?» — дружный громовой смех. И почти ласково: «Тогда у
нас к Вам претензий нет, Вы свободны».
Позже Бродов рассказал, в чем было дело. До ИФЛИ он
учился в техникуме и увлекся изучением английского языка.
Причем у него в привычку вошли дурацкие, но, как он считал,
вполне невинные шалости. Он одевался как бы
«по-заграничному» и любил в людном месте громко обратиться к
незнакомому человеку по-английски, выдавая себя за ино-
132 Беседы Л. Н. Митрохина с Т. И. Ойзерманом
странца. Такие шутки сразу же привлекли внимание органов,
и его арестовали. Но слава Богу, дело попало к разумному
следователю, который увидел надуманность обвинения и
распорядился возвратить его в ИФЛИ. (В 1951 г., в разгар
кампании против так называемых космополитов, некий Каирян
безапелляционно объявил меня их идеологом, добавив, что
ошибки мои не случайны и еще в 1937 г. я был за них
исключен из комсомола.)
Жизнь снова вошла в спокойное русло, я приободрился,
вгрызаюсь в замысловатые фолианты. Но не тут-то было. На
четвертом курсе ИФЛИ меня неожиданно вызывают в
Наркомат образования и сообщают, что хотят направить
преподавателем в Саратовский педагогический институт. Я говорю: «Но
я же еще студент». Чиновник замялся: «Знаете, там остался
только один преподаватель по философии, некто Гапон». «А
где же другие?». «Как где, — отвечает, — всех других
посадили. Вы отличник, о Вас хорошо отзываются, уверен, что
справитесь. А для сдачи экзаменов будете на время сессий
приезжать в Москву». Что оставалось делать? Поехал, начал читать
лекции по диамату и истмату. Читал, конечно, с увлечением.
Причем приходилось выстаивать на кафедре по шесть—восемь
часов в день. А дальше по плану: приехал в Москву, сдал
выпускные экзамены.
С директором Саратовского института Мухановым я
раньше договорился, что после окончания ИФЛИ окончательно
вернусь в Саратов. Тем более что квартиры у меня в Москве
не было, жил я в общежитии, а моя невеста Генриетта была из
Омска и тоже жила в общежитии — в Останкино. И я помню,
как ночью шагал оттуда через весь город к себе на Усачевку.
Она тоже была готова перевестись в Саратов. И после
окончания ИФЛИ я сообщил декану (им тогда был А. П. Гагарин),
что хочу работать в Саратове. Он стал меня отговаривать,
предлагая поступить в аспирантуру. Это означало, что я буду
получать стипендию в четыреста рублей.,Но я сказал, что как-
нибудь и без аспирантуры напишу диссертацию.
Однако вскоре после возвращения в Саратов я неожиданно
получаю письмо от А. П. Гагарина (возлюбил он меня, надо
сказать!), в котором он опять убеждает поступить в
аспирантуру. Я показал письмо Муханову, и он мне говорит: «Ты у нас
в Саратове будешь первым человеком. А кто ты в Москве?
Один из многих, так сказать, в ряде. Может быть, в конце
его». Я ответил примерно так: и одним из многих быть
неплохо, если есть у кого поучиться, а здесь учиться не у кого.
Из бесед с академиком Т. И. Ойзерманом 133
В конце концов, он согласился. И решили мы с Геней, что
надо возвращаться, и поселились на Усачевке в комнате 205.
Что же касается аспирантуры, то все получилось как нельзя
лучше. В 1940 г. Сталин назначил сто стипендий для
аспирантов, из них одну — по философии. По тем временам они были
колоссальные — тысяча рублей, тогда как зарплата
профессора составляла девятьсот рублей. К этому времени я уже
опубликовал тринадцать статей в разных журналах. По совету
А. П. Гагарина я подал заявку на эту стипендию и вскоре мне
ее присудили. Я сразу стал богатым человеком, что позволило
мне больше не думать о деньгах, а всерьез заняться своей
диссертацией.
Митрохин Л. Н. Насколько я помню, она звучала так:
«Марксистско-ленинское учение о превращении
необходимости в свободу». Согласитесь, проявить самостоятельность
в этой теме было не столь уж просто. Что же в ней
привлекло Вас?
Ойзерман Т. И. Признаюсь, что сегодня я внятно объяснить
это не могу. Видимо, сработала какая-то интуиция. Это теперь
я убежден и способен это обосновать, что понятие
«свободы» — центральное в философии, особенно если оно касается
человека и общества. А тогда я шел к этой теме ощупью. На
саму проблему меня натолкнул Плеханов, у которого со
ссылкой на Шеллинга говорится, что свобода — не только
познанная необходимость, но также ее предпосылка. Это одна из
основных идей Шеллинга: сущность необходимости — в
свободе. Поскольку понятие свободы применимо только к
человеческому обществу, только к человеку, то в
общественной человеческой жизни необходимость творится лишь
людьми. Ну что такое необходимость: развитие производительных
сил, производственных отношений, то есть овеществление
самой человеческой деятельности. Следовательно, отношение
между необходимостью и свободой коррелятивное: свобода
превращается в необходимость, необходимость превращается
в свободу. Вот я и подумал, что смогу объяснить все эти
многообразные связи с марксистской точки зрения. Сделать это
мне, конечно, не удалось.
В марксизме общепринята точка зрения, что свобода есть
познанная необходимость. Прямо отвергать ее я не мог,
потому что она однозначно сформулирована Энгельсом со ссылкой
на Гегеля, ссылкой, кстати сказать, неправомерной, потому
что у Гегеля как раз и доказывается, что необходимость в себе
и есть свобода. Так что мне оставалось пытаться как-то согла-
134 Беседы Л. Н. Митрохина с Т. И. Ойзерманом
совать с марксистским пониманием опыт многовековых
исследований этой темы. Намерение было сомнительным, да и
знаний у меня явно не хватало. Диссертацию я написал в двух
томах объемом более тысячи двухсот страниц. Первый том был
историко-философский, второй — так сказать, диаматовский
и истматовский. Они сохранились, и недавно я их просмотрел.
Конечно, работа насквозь проникнута догматизмом, а
историко-философское изложение сплошь и рядом компилятивно.
Единственное, что меня порадовало, это то, что уже тогда я
умел складно писать. Но опыт не пропал зря. Теперь я
рассматриваю марксистскую трактовку как достаточно
примитивную, поскольку тезис о том, что свобода — познанная
необходимость, исключает свободу выбора. Поэтому так важно
посмотреть, как эта тема обсуждалась выдающимися философами.
В последние годы я написал серию статей по проблеме
свободы в учении Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля. Так что
получается целая монография.
16 мая 1941 г. я торжественно защитил диссертацию и
продолжал преподавать на философском факультете. Поскольку я
был Сталинским стипендиатом, то и оппоненты у меня были
особые: П. Ф. Юдин, М. Т. Иовчук — все большие
начальники. Юдин по простоте душевной даже предложил присудить
мне докторскую степень, а Соцэкгизу — издать диссертацию.
Когда я вернулся из армии, то я увидел, что в таком виде она
для печати не годится, и ограничился публикацией нескольких
статей на эту тему.
Потом началась война. Вместе с аспирантом Ш. Ф. Маме-
довым, который тоже защитился, мы пошли к секретарю
Сокольнического райкома партии Леонтьевой, которая до этого
была доцентом ИФЛИ, и заявили, что хотим пойти на фронт
добровольцами. Она ответила приветливо: «Ребята, вы
только что защитились, нам нужны молодые ученые, а война
кончится через три месяца». Если бы она кончилась через три
месяца, то только нашим поражением. Победили мы потому, что
она длилась более четырех лет и, конечно, потому, что у нас
другого выбора не было.
Война
Т. И. Ойзерман был мобилизован 8 июля 1941 г. Окончил
офицерские курсы, служил в противовоздушных войсках в
Саратове, в политотделе дивизии на Воронежском фронте, потом
Из бесед с академиком Т. И. Ойзерманом 135
на 3-м, 2-м, и 1-м Украинских фронтах, в 6-й армии,
участвовал в боях на Днестре, Висле, Одере и закончил войну в Брес-
лау. Позже был направлен в Центральную группу войск в
Вене, где в июне 1946 г. в звании майора был демобилизован
по состоянию здоровья. Награжден шестью орденами и
десятью медалями. Четыре года войны — особая тема. Надеюсь,
что сам Т. И. Ойзерман еще расскажет о ней. А сейчас нам
важнее посмотреть, что в это время творилось на фронте
философском.
Советская философия возникала и формировалась как одна
из форм партийно-государственной идеологии. Поэтому
переломные этапы ее истории, когда появлялись новые лозунги,
акценты, размежевывались триумфаторы и мученики,
определялись директивными постановлениями ЦК. Такой вехой в
начале 30-х гг. стало постановление «О журнале "Под знаменем
марксизма"», фактически санкционировавшее массовые
репрессии против всякого свободомыслия, в том числе и
философского. Сходная обстановка сложилась в начале 40-х гг.,
когда критике подверглось толкование немецкой классической
философии, прежде всего, Гегеля в только что вышедшем 3-м
томе «Истории философии». Правда, происходило это во
многом закулисно и сегодня на сей счет существуют различные
версии. Т. И. Ойзермана тогда в Москве не было, но основных
персонажей этой истории он хорошо знал. Послушаем его
рассказ.
Ойзерман Т. И. Как только началась война, возник вопрос
об отношении к классической немецкой философии.
Случилось, например, так, что именно 22 июня 1941 г. я должен был
читать заочникам лекцию о Фихте. Мое смятение понятно,
если вспомнить хотя бы его пронизанную шовинизмом речь о
немецкой нации. С грехом пополам я изложил его наукоучение
и вернулся домой как оплеванный. Вскоре меня
мобилизовали, и когда я вернулся в Москву, то вскоре убедился* что
философская обстановка основательно изменилась. Решающую
роль в этом сыграл 3. Я. Белецкий, впоследствии ставший
моим злым гением, основательно отравлявшим жизнь.
По своему образованию Зиновий Яковлевич, как и его
жена, был медик. Позже он учился в Институте красной
профессуры и как его выпускник получил звание профессора без
защиты диссертации. По рассказам коллег, одно время он был
секретарем партийного бюро института, вел себя спокойно,
особых инициатив не проявлял. Однако в складывающейся
обстановке сориентировался довольно быстро. В силу то ли
136 Беседы Л. Н. Митрохина с Т. И. Ойзерманом
идейных соображений, то ли проснувшихся амбиций 27
января 1944 г. он написал пространное письмо Сталину о том, что
в обстановке кровопролитной войны с Германией у нас
преподают немецкую классическую философию, считая ее
источником марксизма, выпустили третий том «Истории философии»,
где восхваляют эту самую философию, в особенности Гегеля,
между тем как фашистские идеологи рассматривают его в
качестве одного из источников нацизма*. Очевидно, резкий тон
письма подействовал на Сталина, и он поручил Г. Ф.
Александрову основательно в нем разобраться. Александров пытался
убедить его, что Белецкий — человек малограмотный, в
немецкой философии разбирается плохо, а она, как писал
Ленин, является теоретическим источником марксизма, что,
собственно, и утверждается в третьем томе. По словам
Александрова, Сталин ответил: «Я вполне допускаю, что Белецкий —
человек небольших знаний, но чутье у него есть».
Кончилось тем, что раздраженный Сталин вызвал
работников Агитпропа ЦК, редколлегию третьего тома, а также
Белецкого и прямо задал вопрос: как вы оцениваете философию
Гегеля, какие социальные силы она выражала? Наступило
тягостное молчание. «Вы молчите, — заметил вождь. —
Значит, определенное мнение у вас отсутствует. А между тем
философия Гегеля — это аристократическая реакция на
французскую революцию и французский материализм».
Беседа не была опубликована, но эта формула с
непременной ссылкой на Сталина стала директивной. Она была
заведомо упрощенной, и нам приходилось основательно
выкручиваться, чтобы как-то согласовать ее с фактами истории, с
высказываниями Маркса и Ленина в конце концов. Поскольку
аристократическая реакция на французскую революцию
действительно существовала (Жозеф де Местр, Эдмунд Бёрк), то
я, например, сначала рассказывал о ней, а потом делал такой
хитрый ход: если взять взгляды Гегеля на войну, на монархию,
то они, действительно, представляют собой
аристократическую реакцию. Что же касается диалектики Гегеля, то о ней
этого сказать нельзя, на что неоднократно указывали классики
марксизма. Это была несколько рискованная интерпретация,
но она, к счастью, серьезных возражений обычно не вызыва-
* Письмо было найдено в архивах и опубликовано А. Д. Косичевым в
книге «Философия, время, люди. Воспоминания и размышления декана».
М., 2003. С. 55-79.
Из бесед с академиком Т. И. Ойзерманом 137
ла, тем более что в печати я решился изложить ее лишь после
смерти Сталина.
Митрохин Л. Н. Но о происхождении марксизма Вы же с
В. И. Светловым написали целую брошюру.
Ойзерман Т. И. Да, и там высказывалась именно эта весьма
двойственная позиция. Однако верстка брошюры, как мне
рассказывали, долго мурыжилась в ЦК, поскольку в ней все-
таки усматривали некий подкоп под сакральную формулу.
Думаю, что напрасно: брошюра была явно компромиссной и
вполне могла быть истолкована в духе сталинской оценки.
Задним числом была отменена и Сталинская премия по
третьему тому. Поскольку она была присуждена за все три тома, то
авторам первых двух ее сохранили. На этот счет в 1944 г.
было принято Постановление ЦК ВКП(б), которое было
опубликовано (после смерти Сталина его быстро отменили).
Это постановления означало триумф Белецкого, начало его
восхождения. Оно делало его как бы главным цензором
советской философии, монополизировавшим право
непосредственно обращаться к Сталину в уверенности, что получит
поддержку. Так он поступил относительно книги Александрова
«История западноевропейской философии», а также в связи с моей
докторской диссертацией, имея, правда, в виду не столько ее
защиту, сколько якобы существующую и возглавляемую
Александровым группу, по его определению, «новых меньше-
виствующих идеалистов», наследников троцкизма. Но это
будет позже.
Митрохин Л. Н. А пока после демобилизации из армии
(1946 г.) Вам пришлось устраиваться на работу в Москве.
Ойзерман Т. И. Это оказалось не так просто, как я думал.
Прежде всего я, естественно, обратился к декану
философского факультета Д. А. Кутасову. Я объяснил, что до войны
преподавал на факультете и по закону имею полное право
восстановиться в этой должности. «В сложившейся
обстановке, — решительно ответил он, — я сделать этого не могу». Я,
конечно, поинтересовался, в чем эта обстановка состоит. Без
тени смущения, как бы по-отечески, он разъяснил, что у него
и так слишком много евреев. «Конечно, — добавил он, — Вы
можете восстановиться через суд. Но поймите, с каким
отношением Вы тогда столкнетесь».
Мы еще немного поговорили, и я понял, что его не
переубедишь. Позвонил Ивану Хренову, который, будучи секретарем
парткома ИФЛИ, рекомендовал меня в партию, а тогда
заведовал сектором в ЦК ВКП(б), и рассказал ему эту историю.
138 Беседы Л. Н. Митрохина с Т. И. Ойзерманом
Ладно, говорит, пойдем к Галкину, ректору МГУ. Пошли. Он
попросил меня подождать в приемной, а сам вошел в кабинет.
Но вскоре появился, явно смущенный: «Увы, уговорить его
мне не удалось». «Как же, — удивился я, — вы же приятели,
оба с исторического факультета». — «Понимаешь, все дело в
этом пятом пункте. На философском факультете евреев,
действительно, перебор. Будем думать, куда тебе еще стоит
обратиться».
Я посоветовался еще с некоторыми работниками ЦК,
знакомым по ИФЛИ, и стал ждать. Наконец, звонок: «Обратись
в Государственный экономический институт им. Г. В.
Плеханова. Там объявлен конкурс на должность доцента. Можешь
прямо идти к ректору И. К. Верещагину. Ему звонили, и тебя
возьмут». Ректор принял меня по-дружески, и вскоре я начал
читать лекции. Студенты ко мне относились хорошо, меня
выбрали заместителем секретаря парткома института, а с
ректором мы стали добрыми друзьями и собутыльниками. Жизнь
опять стала прекрасной. Но, оказывается, главные события
были впереди.
Примерно через год, в конце второго семестра 1947 г. мне
сообщают: Вас вызывает заместитель министра высшего
образования В. И. Светлов. С ним я не был знаком и никакого
представления о причине такого внимания не имел. Он принял
меня подчеркнуто неофициально: «У меня трудное положение.
Я люблю философию, заведую кафедрой истории
западноевропейской философии в МГУ, но из-за нехватки времени
заниматься ею всерьез не могу. Поэтому ищу надежного,
грамотного помощника. Многие рекомендовали Вас. Я был бы
Вам признателен, если бы Вы согласились стать доцентом
кафедры, а фактически моим заместителем, хотя такой
должности официально не существует». После всех моих мытарств и
унижений его слова пролились елеем на мою душу.
Но одно обстоятельство все же смущало: «Год с лишним
тому назад я, как бывший фронтовик, уже пытался
возвратиться на факультет, однако декан Кутасов мне отказал. С
такой же просьбой мой друг, авторитетный работник ЦК,
обращался к ректору МГУ. Результат тот же». «Для меня прошлое
не имеет значения, — возразил Светлов. — Заместителю
министра они отказать не решатся». «Это, конечно, так, —
ответил я. — Но для меня, к сожалению, оно имеет решающее
значение, поскольку я сразу же окажусь во враждебной
обстановке. Этого можно избежать, если бы Вы убедили Галкина
направить мне официальное приглашение работать на фа-
Из бесед с академиком Т. И. Ойзерманом 139
культете. С ним декан непременно посчитается». Светлов
очень внимательно посмотрел на меня: «Да, друзья были
правы: Вы человек бывалый. Думаю, что я смогу это сделать».
Скоро я получил такое письмо от Галкина и снова пришел на
факультет. Нужно ли говорить, что на этот раз сияющий
Кутасов принял меня с распростертыми объятьями и тут же
доверительно сообщил, что положение на факультете тяжелое:
Белецкий мутит воду, сталкивает преподавателей друг с
другом, одним словом, сразу же попытался перетянуть меня на
свою сторону в какой-то, мне пока неведомой борьбе. Мне
оставалось лишь с готовностью заверить его, что буду
внимательно все учитывать, а декана по возможности поддерживать.
О своем решении не без смущения я рассказал И. К.
Верещагину. Тот попытался меня переубедить: «Вы же видите, как
Вам здесь хорошо, мы все Вас любим. Зачем Вам туда, где Вас
не хотят». Я ему отвечаю: «Иван Кузьмич, для меня очень
важна среда, где есть люди, у которых я могу чему-то
научиться, с которыми я могу дискутировать. Здесь же специалистов
по философии нет». В общем, я его уговорил и стал
присматриваться к кафедре.
Тогда она состояла из профессоров О. В. Трахтенберга,
М. А. Дынника и М. П. Баскина (все на полставке), доцента
Авраамовой — на полной и аспирантов Мельвиля, Шарапова,
Вейсмана. Я решил оставить на кафедре Мельвиля, а насчет
Вейсмана засомневался: знакомый пятый пункт. Попробовал
заручиться поддержкой в министерстве. Заведующий отделом
университетов Жигач был недоволен: «Вы ставите вопрос о
двух людях с иностранными фамилиями: Мельвиль и Вейс-
ман». Отвечаю: «Мельвиль — русский». — «Ну тогда,
пожалуй, его оставляйте». Обратился к В. Ф. Асмусу: не желает ли
он перейти к нам. Он ответил, что с удовольствием стал бы
читать курс истории философии.
Митрохин Л. Я. Я хорошо помню этот момент. Асмуса мы
очень почитали, и я с сожалением спросил, почему он ушел с
кафедры логики. «Надоело вести разъяснительную
работу», — ответил он.
Ойзерман Т. Я. Но не все было так просто. Пугливый
Кутасов настоял, чтобы обсудить этот переход на партийном бюро.
Здесь произошла забавная сцена. Заведующий кафедрой
логики В. И. Черкесов заявил: «Вы берете человека
беспартийного, которого, кстати, партком не утвердил правофланговым
на демонстрации». К счастью, я нашелся: «Партком, —
сказал я, — принял гуманное и совершенно правильное решение.
140 Беседы Л. Н. Митрохина с Т. И. Ойзерманом
Асмус — пожилой профессор. А правофланговым должен
быть человек помоложе и физически покрепче. Не думаю, что
здесь были какие-то политические мотивы. А вот к лектору
требования другие». В конце концов со мной согласились, и
кафедра стала помощнее. Через год меня сделали временно
исполняющим обязанности заведующего кафедрой, через два
года — исполняющим эти обязанности, а после защиты
докторской диссертации — уже заведующим. Казалось, все
решилось, можно спокойно работать. Но в начале 1947 г.
разразилась философская дискуссия по книге Г. Ф. Александрова.
Философская дискуссия 1947 г.
Митрохин Л. Н. В 1948 г. я поступил в МГУ и сразу же
оказался в атмосфере обличительных кампаний, частью
которых и была эта дискуссия. Если не ошибаюсь, все начиналось
раньше — с хамских выпадов против О. Ф. Берггольц,
К. Г. Паустовского, писателей с неподкупной репутацией, а
затем покатился вал злобных обличений лучших
представителей отечественной интеллигенции: Шостаковича и
Прокофьева, Ахматовой и Зощенко, кибернетиков,
менделистов-морганистов, космополитов, наконец. Зачем Сталину было нужно
ставить под удар всю интеллигенцию, когда его власть и как
партийного вождя, и как генералиссимуса была непререкаема,
когда, напротив, стоял вопрос о консолидации советского
общества?
Ойзерман Т. И. Думаю, что это объяснить несложно.
Спецорганы наверняка докладывали ему, что миллионы воинов,
вернувшихся с фронта, взахлеб рассказывают о
благополучной жизни в европейских странах, даже в таких, как Польша
или Румыния, тем более что наши войска были выведены из
них не сразу. Я, например, целый год оставался в Вене. Было
немало случаев, когда солдаты и офицеры хотели жениться
на иностранных подданных, ввергая в замешательство наше
командование. Во всех этих прозападнических настроениях и
разговорах явно проявлялось недовольство нашей жизнью,
недоверие к официальным лозунгам и призывам. К тому же
все больше людей осознавали вопиющую несправедливость
репрессивных 30-х гг. и были уверены, что своими подвигами
и жертвами заслужили более справедливых демократических
порядков. Так что Сталин почувствовал угрозу со стороны,
как тогда говорили, низкопоклонства перед Западом и решил
Из бесед с академиком Т. И. Ойзерманом 141
навсегда с ним покончить. Естественно, что основной удар
пришелся по наиболее талантливым, свободомыслящим
представителям культуры, по людям неподкупной совести и
профессионального достоинства. Да и исполнитель нашелся
подходящий — велеречивый А. А. Жданов, готовый,
казалось, на все.
Несколько иначе обстояло дело с философией. Конечно,
отнести Г. Ф. Александрова к светочам культуры было бы
несправедливо. Но он писал о философии, которую Маркс вслед
за Гегелем характеризовал как «квинтэссенцию культуры»,
а кремлевские кураторы именовали «теорией
мировоззрения». Тем более, что расхожие обвинения против
отечественных любомудров уже были проверены в деле. Ведь и в 30-е, и
в 40-е гг. их обличали именно за преклонение перед
буржуазными учениями и игнорирование заслуг Маркса, Ленина и
великого Сталина. Так что все пыточные инструменты были под
рукой. Да и фигура Г. Ф. Александрова выглядела довольно
подходящей на роль мальчика для битья.
Г. Ф. Александров все больше раздражал Сталина. Как-то в
порыве откровенности Г. Ф. рассказывал мне, что свое
избрание в академики (ноябрь 1946 г.), а Иовчука, Федосеева,
Кружкова и Еголина (это были его заместители) — в члены-
корреспонденты, он провел, не испросив высшего
разрешения, надеясь, что такой поступок сойдет ему с рук. Но, как
оказалось, ошибся. По его словам, генералиссимус якобы
даже советовался с президентом Академии наук СССР о
возможности отменить выборы, но тот ответил, что по уставу это
сделать невозможно. Тогда Сталин просто убрал
новоиспеченного академика из ЦК и назначил директором Института
философии, одновременно поручив А. А. Жданову продолжить
обсуждение книги Александрова и самому выступить с
основным докладом.
А всю кашу заварил опять-таки 3. Я. Белецкий! 8 ноября
1946 г. он написал очередное письмо Сталину, в котором в
резких тонах информировал, что только что вышедшее второе
издание учебника Александрова игнорирует критические
замечания ЦК по третьему тому «Истории философии» и
повторяет его ошибки. Тогда опытный царедворец и перестраховщик
Александров организовал в Институте философии почти
келейное обсуждение своей книги, состоявшееся 14, 16 и 18
января 1947 г. Поскольку автор занимал высокий партийный
пост и к тому же получил Сталинскую премию, то,
естественно, серьезной критики на нем не прозвучало. Теперь же, ко-
142 Беседы Л. Н. Митрохина с Т. И. Ойзерманом
гда, по словам А. А. Жданова, «потребовалось вмешательство
Центрального Комитета и лично товарища Сталина, чтобы
вскрыть недостатки книги», даже самые тупоголовые коллеги
поняли, как это обсуждение нужно было проводить, и быстро
сделали правильные выводы. Как вы помните, на втором
обсуждении книги 16—25 июня 1947 г. Жданов и большинство
выступающих критиковали книгу довольно резко (я, кстати, в
этой дискуссии не участвовал, но в материалах дискуссии есть
выступление Белецкого, где он изложил свои нигилистические
идеи в отношении философии).
Митрохин Л. Н. Но Александрову присудили Сталинскую
премию, что едва ли было сделано без высшей санкции.
Ойзерман Т. И. Обычно Сталин просматривал списки
кандидатов, вносил свои исправления, но едва ли заранее
указывал конкретные имена. Думаю, что на этот раз он вовремя не
обратил внимания, а потом решил последовать своей
излюбленной манере — оставить человека при себе в
полупридушенном состоянии. Александрову было даже поручено
возглавить комиссию для написания новой книги по истории
философии.
Митрохин Л. Н. Мы все читали учебник Александрова.
Даже нам, первокурсникам, он казался слабым, даже
примитивным. Может быть, сегодня это нехорошо говорить, но во
многом Жданов был прав. Книга школярская, анемичная,
лишенная профессионального подхода.
Ойзерман Т. И. Я уже говорил, что Александров был
слабым ученым, хотя его лекции и семинары в ИФЛИ нас
восхищали. Наверное, если бы мы были более подготовленными,
впечатление было бы другим. Что же касается учебника, то
первое издание представляло собой стенограмму его лекций,
читанных в ИФЛИ. Позже он довольно основательно ее
переработал, думаю, не без посторонней помощи. Но на ее
качестве это особенно не сказалось. Иное дело, что тогда сколько-
нибудь серьезные учебники по философии вообще
отсутствовали. Так, наиболее популярной была пухлая и беспомощная
книга М. А. Леонова «Очерк диалектического материализма»,
к тому же в ней был обнаружен плагиат. Но, как я пытался
показать, дискуссия была продиктована конкретными политико-
идеологическими соображениями, а вовсе не заботой о
качестве философии.
Формально она открыла новые перспективы. Была создана
кафедра истории русской философии, по моему предложению
нашу кафедру переименовали в «кафедру истории зарубежной
Из бесед с академиком Т. И. Ойзерманом 143
философии», был введен курс истории марксистской
философии. Но главное направление — европейская философия —
было принижено. Да, была создана кафедра истории русской
философии во главе с И. Я. Щипановым. Но он был весьма
слабым, догматичным специалистом, хотя вел себя очень
агрессивно в защите «принципа партийности». Еще хуже было
другое: он и сотрудников подбирал по своему уровню, а
лучше — еще ниже, если это вообще было возможно.
Постепенно на кафедре обосновалась группа людей, которые не имели
серьезного представления о русской философии и были
способны лишь дискредитировать этот курс: П. С. Шкуринов,
Ш. Ф. Мамедов и др. Так что в итоге дискуссия еще более
подчинила разработку философии официальным стереотипам,
тем самым исковеркав ее суть — свободного размышления о
вечных проблемах человеческого бытия.
Дискуссия прошла, а моя жизнь на факультете становилась
все более тяжелой. И, конечно, главным раздражителем
выступал 3. Я. Белецкий.
Феномен профессора 3. Я. Белецкого
Ойзерман Т. И. Еще Светлов, когда уговаривал меня стать
его заместителем, предостерегал: «Остерегайтесь Белецкого.
Он опасный человек». Да и позже, уже проникшись ко мне
доверием, он повторял: «Не связывайтесь с Белецким, я сам
его боюсь, потому что он пишет Сталину, запросто звонит
Маленкову. Он может вообще стереть Вас в порошок». В ответ я
мог только жалобно сетовать, что это он постоянно давит на
меня, я же только защищаюсь.
О предыстории я уже рассказывал. Конечно, в памяти
партийного и философского начальства прочно отпечатался
тот факт, что в 1944 г. Сталин решительно поддержал точку
зрения Белецкого на немецкую классическую философию, в
первую очередь, философию Гегеля. Разумеется, дело
решила вовсе не убедительность его доводов (скажем,
убежденный пацифист Кант такой оценки никак не заслуживал).
Но в обстановке кровопролитной войны, схватки не на
жизнь а на смерть, Белецкий сумел уловить гражданские,
глубоко патриотические чувства миллионов, и Сталин не
мог игнорировать этого факта. Но часть святости
Белецкому перепала, что определило его звездный час и неуемную
активность.
144 Беседы Л. Н. Митрохина с Т. И. Ойзерманом
Так, все резче подчеркивая реакционную суть немецкой
классической философии, Белецкий объявил, что и
утопический социализм является буржуазным течением, а поэтому
ошибочно рассматривать его как предшественника марксизма.
Отсюда следовало (и Белецкий отрыто выдвинул такое
требование), что работа Ленина «Три источника и три составных
части марксизма» должна быть вообще вычеркнута из списка
рекомендованной литературы. Дальше — больше. Намекая
на какое-то место из «Краткого курса истории ВКП(б)», он
начинает доказывать, что вопрос об источниках учения
Маркса вообще лишен смысла, поскольку марксизма возник не из
каких-либо теорий, а в результате обобщения опыта рабочего
движения.
Его любимой была фраза из «Немецкой идеологии», что
философия так же относится к положительному
исследованию, как онанизм к половой любви, а поэтому из нее надо
«выпрыгнуть». Требование «упразднения философии»,
действительно, высказывалось Марксом и Энгельсом в ранних
работах. Сюда же можно отнести и весьма сомнительное
определение философии у Энгельса: от философии остается одна
диалектика как теория мышления. Я много раз говорил
Белецкому, что «Немецкая идеология» относится к периоду
становления марксизма, что первые зрелые произведения
марксизма — это «Нищета философии» и «Коммунистический
манифест» (сегодня я уверен, что и они еще не совсем зрелые), и
никакого внятного разъяснения этой мысли Энгельс не дает.
Нет, возражал Белецкий, надо всерьез задуматься над тем,
чем вообще должна заниматься марксистская философия, и
является ли марксистской та, которую мы преподаем.
Белецкий, конечно, не имел ясного представления о
реальном историко-философском процессе, а именно о том, что
всякая большая философия начиналась с отрицания
философии прежней, что всякое отрицание философии, если оно
носит профессиональный характер, является философией. Разве
Декарт, например, не занимался отрицанием философии,
когда он говорил, что не было таких глупостей, которых не
наговорили бы философы? Отрицанием прежней философии
занимались и Юм, и Кант, и Фихте, и Фейербах. Поэтому
Белецкий трактовал эти, сами по себе невнятные положения
классиков в предельно вульгарной форме.
Так, ссылаясь на высказывание Ленина о том, что
идеализм — утонченная поповщина, он делает сногсшибательный
вывод: развитие идеализма нужно изучать в курсе не истории
_ Из бесед с академиком Т. И. Ойзерманом 145
философии, а истории религии. При этом постоянно кивает на
категорическое определение А. А. Жданова: история
философии — это прежде всего история формирования
материализма в борьбе с всякими идеалистическими измышлениями. Тем
самым в глазах своих учеников он не просто высказывал
конъюнктурные идеи, подсказанные временем, но выступал как
смелый мыслитель, решившийся на творческий пересмотр
устаревших или неправильно понятых положений марксизма.
И это несмотря на то, что он не читал лекций на факультете и
все свои знаменитые изречения произносил на семинаре —
единственной форме занятий, которую он вел, да и то не со
студентами, а только с аспирантами.
Пока Александров был в силе, он как-то пытался
парализовать влияние Белецкого, но к тому времени Белецкий уже
чувствовал себя уверенно, если не сказать безнаказанно. И вот
на факультет «со стороны» приходит новый доцент, который
не только берет на себя фактическое руководство кафедрой,
детально занимающейся этим самым идеализмом, но и
указывает, как формировалась и к чему пришла философия
марксизма. Белецкий, так сказать, кожей чувствует во мне
идейного противника и начинает прощупывать меня на предмет
скрытых симпатий к буржуазному идеализму, требуя
безоговорочного признания собственных новаций, признания
публичного — как заместителя заведующего кафедрой.
Митрохин Л. Н. Ну и как Вы на все это реагировали?
Ойзерман Т. И. Как Вы понимаете, особого выбора у меня
не было. Я старался уходить от прямых столкновений, пытался
найти какие-то компромиссные выводы, ссылался на
бесспорные тексты, хотя в глубине души понимал, что против лома нет
приема. Например, он меня спрашивает, согласны ли Вы с
тем, что идеализм есть поповщина. Я отвечаю, что вообще
средневековая философия, даже схоластическая, не была
теологией, хотя служила ей. Однако уже начиная с Декарта,
Спинозы, Юма, она начинает отмежевываться от позиции церкви.
«А вот моя точка зрения, — отвечает Белецкий, —
заключается в том, что идеализм вообще надо перенести в курс по
истории религий. Показал же товарищ Жданов, что история
философии есть история возникновения и развития
материалистического мировоззрения». Я достаточно робко возражаю,
что, даже излагая историю материализма, нельзя обходить
идеализм, хотя бы потому, что они выступают как
антагонисты, анализируют доводы друг друга, возьмите хотя бы Беркли
или Гольбаха. Но такие детали Белецкого не волновали.
146 Беседы Л. Н. Митрохина с Т. И. Ойзерманом
Интересуясь моим курсом по истории марксистской
философии, он любил спрашивать: «А как Вы рассматриваете
утопический социализм?» Я отвечаю, что существовали его
разные течения: мелкобуржуазное, предпролетарское или, как
говорил Маркс, «критически-утопическое», не говоря уже о
раннем утопическом социализме, возникшем еще в
феодальные времена. Нет, возражает Белецкий, во всяком случае, тот
утопический социализм, на который ссылаются классики
марксизма, следует считать буржуазным учением. Нужно
подумать, отбиваюсь я, но я больше полагаюсь на характеристики
утопизма, которые даны в «Манифесте коммунистической
партии».
Вот так и дискутировали. Вместе с тем он, конечно, был
догматиком. Так, он вычитал у Сталина, что марксизм «возник
из науки» и безапелляционно заявлял: значит, на утопический
социализм ссылаться незачем. Из какой науки, он не уточнял.
Митрохин Л. Н. Кое-что все же остается неясным. С одной
стороны, объявляя философию Гегеля предшественницей
фашизма, Белецкий чутко улавливал конъюнктуру и вписывался
в официальную идеологию как ее верный оруженосец. С
другой, отвергая или произвольно трактуя положения Ленина, он
выступал как чуть ли не оппозиционер или диссидент.
Получается странная картина. Если ревизией занимается даже
догматик, то он неизбежно ставит себя под удар. Я понимаю, когда
под удар ставит себя талантливый свободомыслящий
профессионал. Но Вы же настаиваете на том, что Белецкий был
человеком, философски малограмотным.
Ойзерман Т. И. Он вполне сочетал верность догматам и
некое теоретическое своеволие. Первое проявлялось, например,
когда Белецкий приводил упомянутые слова Маркса о
философии. Мы все их знали. Но нам в голову не приходило
принимать их всерьез. Это смахивало на утверждения механистов о
том, что наука сама по себе философия. К тому же надо
учесть, что у него не было стройной системы взглядов, даже не
было лекционного курса, где бы он систематически излагал
свои взгляды. Поэтому многое у него выглядело случайно.
Так, Белецкий вычитал в «Материализме и
эмпириокритицизме» Ленина фразу о том, что объективная истина — это и
есть сама объективная реальность. Он воспринял ее
буквально и стал настойчиво доказывать, что объективная истина
существует не в познании, а независимо от познающего
субъекта. Я осторожно, ссылаясь на другие высказывания Ленина,
возражал Белецкому, указывая на то, что признание объек-
Из бесед с академиком Т. И. Ойзерманом 147
тивной истины объективной реальностью — это точка зрения
Платона, Гуссерля и некоторых других идеалистов. Он,
конечно, все эти доводы и в грош не ставил.
Белецкий был агрессивен не только в отношении меня.
Можно сказать, что большинство преподавателей факультета
его ненавидели и боялись, хотя мотивы были разные. Самое
интересное, что часто враждебное отношение к нему
испытывали безнадежные догматики. Они считали его неисправимым
ревизионистом и дорого бы дали, чтобы это доказать. Но
придраться к нему было почти невозможно: он ничего не
публиковал, причем, так сказать, принципиально. Помню, как я шел
по факультету, держа в руках верстку первой книжки,
написанной совместно со Светловым (фактически же мной — от
начала и до конца). «Что это такое?» — подозрительно
спросил Белецкий. «Да вот, небольшая книжка», ответил я. Он
сказал назидательно: «Вы должны раз и навсегда усвоить, что
каждая книжка осуждена уже фактом своего опубликования».
Митрохин Л. Н. Помню, нам удалось обнаружить лишь
одно его сочинение — синенькую брошюру об историческом
материализме с его статьей.
Ойзерман Т. И. Да, у него была маленькая книжечка,
которую он опубликовал под нашим давлением. Ее верстка была
поставлена на обсуждение. Тогда я совершил непростительную
ошибку: выступил на заседании совета факультета и стал ее
критиковать, указав на массу сомнительных положений.
Белецкий был далеко не глуп, и большинство из этих замечаний учел.
Конечно, многие несуразности и банальности остались, но по
тем временам они уже не выглядели слишком вызывающе.
Митрохин Л. Н. Что ж, «слово изреченное есть ложь». Во
всяком случае, его трудно согласовать с новейшими
указаниями верховного ума. Писали Вы, писал Кедров, а вот
руководящие корифеи предпочитали редактировать («обрабатывать»,
как они выражались) заказанные своим подчиненным тексты с
цитатами на иноземных языках.
Помню, как на одном заседании отделения философии и
права Ф. В. Константинов даже обвинил Б. М. Кедрова в том,
что он неприлично часто печатается. Бонифатий Михайлович
отреагировал мгновенно: «Да мне поневоле за всех вас,
академиков, приходится отдуваться». Я вот вспоминаю Ваш
готический почерк и представляю, сколько же Вам пришлось
перелопатить всякой начальственной галиматьи.
Ойзерман Т. И. Если угодно, таков был стиль времени.
Даже в издательстве редактор считал нужным переписывать
148 Беседы Л. Н. Митрохина с Т. И. Ойзерманом
текст. Вспоминаю забавный эпизод. Какое-то время я
работал консультантом в «Большевике», и ответственный
секретарь Л. Ф. Ильичев часто поручал мне вести статьи
ответственных работников. Однажды пришла статья «Необходимость
и случайность». Ильичев дал мне дружеское напутствие:
«Все это, конечно, мура, но ты уж постарайся. Как-никак, он
заведующий сектором ЦК». Я, естественно, целиком ее
переписал и сдал в набор. Через некоторое время входит автор,
держа в руках верстку. Я похолодел: начнутся упреки в
непростительном искажении самых заветных мыслей. А он так
радостно говорит: «Товарищ Ойзерман! Я слышал, что Вы
были редактором моей статьи. И я хотел Вам сказать: когда
читаешь свою работу в верстке, она всегда выглядит на
порядок выше».
Митрохин Л. Н. Еще лучше выглядели раскавыченные
цитаты из классиков. Помню, как один философ публично
обвинил Г. Е. Глезермана в том, что он грубо искажает марксизм.
В ответ тот, ничуть не смутившись, вооружился кипой томов и
показал, что все эти положения — не что иное, как
раскавыченные цитаты из классиков. Ученая аудитория была
удовлетворена, а злопыхатель посрамлен.
Ойзерман Т. И. Кстати, я помню одно Ваше мудрое
рассуждение, на которое люблю ссылаться. Догматизм, писали Вы,
не в том, чтобы слепо относиться к текстам классиков.
Догматизм — это четкое знание, что из классиков можно
цитировать, а что — нет.
Митрохин Л. Н. Проблема возникала тогда, когда вопрос
ставился конкретно: как отличить «новаторский» дух от греха
«ревизионизма», доколе позволительно мыслить
самостоятельно, чтобы не получить по шапке? Ссылки на классиков
дела не решали, потому что наверху сами знали, что нужно
цитировать, а что нет и как соответствующие цитаты
истолковывать. Здесь, как и в любой священнической системе, граница
между «творческим» (дозволенным) и «еретическим»
(наказуемым) определялась не самими авторами и даже не смыслом
высказываний, а партийными авгурами, данную систему
создающими и охраняющими. Невольно думаешь — умница был
Л. Фейербах: «Каждая эпоха вычитывает из Библии лишь
себя самое; каждая эпоха имеет свою собственную,
самодельную Библию»*.
* Фейербах Л. Избр. философские произв. М., 1955. Т. 1. С. 264.
Из бесед с академиком Т. И. Ойзерманом 149
Ойзерман Т. И. Да, Г. Е. Глезерман был большим знатоком
всех тонкостей жреческого языка. Часто в спорах я упрекал
его: «Вы постоянно уверяете, что у нас построен развитой
социализм, совершенно игнорируя ленинское положение о том,
что для этого необходимо превзойти капитализм по
производительности труда». На это он без тени растерянности
отвечал: «Да, мы пока отстаем по производительности труда, но
наше производство более эффективно: нет безработицы, все
развивается по плану, целесообразно».
Митрохин Л. Н. Итак, после дискуссии 1947 г. власть
Белецкого стала все же слабеть?
Ойзерман Т. И, Нет, это был не линейный процесс, здесь
постоянно возникали свои непредсказуемые повороты и
зигзаги. Действительно, Белецкий многих раздражал, в том
числе и работников отдела науки ЦК. Но они — люди
служилые, перед начальством беззащитные. Однажды вызывают
меня в этот отдел, правда, не к Ю. А. Жданову, а к Хлябичу
(позже проректор МГУ): «Вот Белецкий пишет, что Вы
постоянно расхаживаете по факультетскому коридору и
открыто проповедуете идеализм». Я возмутился — что за чепуха,
ничего такого нет. «Да я сам знаю, что это чепуха. Тем
более, что мы специально запрашивали ваш партком, и он
подобных фактов не подтвердил. Но поймите, если он второй,
третий, четвертый раз нам напишет об этом, мы вынуждены
будем разбираться».
Синдром Белецкого ощущался постоянно. Однажды
«Большевик» предложил мне совместно с В. И. Светловым
опубликовать статью «Немецкая классическая философия как
источник марксизма» (писал ее, как нетрудно догадаться, я).
В ней мы осторожно, по возможности убедительно указывали
на немецкую классическую философию как один из
источников марксизма. И позже заведующий отделом философии
А. Г. Егоров, человек в партийных кругах весьма
влиятельный (впоследствии зам. зав. отделом ЦК, академик),
рассказывал, как трудно эту заказанную (!) статью было пробить в
печать. То ли не хотели лишний раз связываться с Белецким,
то ли откровенно его боялись.
Как бы то ни было, к началу 1948 г. мы, как мне казалось,
его расколотили по всем направлениям. В итоге на Ученом
совете было принято неординарное решение: отправить
Белецкого в творческий отпуск для написания докторской
диссертации. Для него это был страшный удар. Но долго ликовать нам
не пришлось. Грянула сессия ВАСХНИЛ, по докладу Т. Д. Лы-
150 Беседы Л. Н. Митрохина с Т. И. Ойзерманом
сенко громившая вейсманистов и менделистов. Из философов
его активно поддержали Митин и Белецкий, который сразу же
появился на факультете. Деканом биологического факультета
МГУ был назначен подручный Лысенко И. И. Презент — то
ли юрист, то ли философствующий биолог. На какое-то время
Лысенко стал символом передовой советской науки и в этом
амплуа позволял себе самые грубые высказывания в адрес
несогласных с ним. С Белецким они были близнецы-братья.
Лысенко часто приходил к нам на факультет и выступал.
Выступал, конечно, нелепо. Он был способен, например, говорить
такие вещи: живое может возникать из неживого, это видно
хотя бы из того, что на грязной голове заводятся вши. Очень
сомневался насчет витаминов: надо еще изучить, существуют
ли они, или это выдумка, такая же как гены.
Сессия круто изменила обстановку: мы моментально были
зачислены в лагерь противников партийного подхода.
Белецкий так и заявлял: Ойзерман и его сотрудники занимаются
филиацией идей, это проявления антинаучного вейсманизма-
морганизма в области философии. Спешно была созвана
коллегия Министерства высшего образования с отчетом нашего
факультета. На нем нас крыли почем зря: Белецкий отстаивал
правильную линию, а вы пытались от него избавиться,
отправили его писать диссертацию и т. д. Всех заставили выступить.
Оставалось только каяться. Помню свою речь, достаточно
позорную, поскольку признавал ошибки, которых не было.
Впрочем, так же выступал Д. И. Чесноков и, конечно, декан
Кутасов. Решение было суровое: Кутасова снять. Меня,
думаю, спас Светлов, к тому же я формально не был
заведующим кафедрой. Деканом стал А. П. Гагарин, кстати, также не
переносивший Белецкого.
Митрохин Л. Н. И на фоне этих шумных событий как-то
незаметно сошел с философской сцены Д. А. Кутасов. Он
хорошо запомнился нам. Во-первых, был деканом, а во-вторых,
читал нам, первокурсникам, курс по диалектическому
материализму. Читал примитивно. Но был краснобай, говорун,
постоянно шутил, пересыпал речь смешными примерами. И я
вспоминаю о нем с какой-то добротой. Он был поверхностен,
но и не выдавал себя за глубокого мыслителя, был доцентом,
но не порывался получить докторскую степень, ничего не
печатал, никого не обличал. А в те времена уже это было
заслугой. На его место пришел А. П. Гагарин — человек
отзывчивый и добродушный, но удивительно темный. Почему же и он
ввязался в борьбу с Белецким?
Из бесед с академиком Т. И. Ойзерманом 151
Ойзерман Т. И. В этом-то и состоит объяснение. Гагарин,
равно как Щипанов и другие названные и неназванные Вами
профессора, будучи человеком малограмотным, усвоил
некоторые азы философии, которые считал незыблемыми. Почему,
спрашивается, они были против Белецкого? Да потому, что у
Ленина написано иначе, а Белецкий искажает эти азы, давит
своим авторитетом, мешает спокойно руководить.
Митрохин Л. Н. Тогда объясните, пожалуйста, другую
загадку. У меня осталось впечатление, что талантливые,
способные, люди: В. Ж. Келле, М. Я. Ковальзон, Ш. М. Герман,
А. И. Вербин, А. Е. Куражковская и др. едва ли не молились
на Белецкого, во всяком случае, видели в нем человека
творческого, смелого новатора, который никак не довольствуется
повторением общеизвестных формул, принципиально борется
против догматиков, которые цепляются за обветшалые,
отжившие формулы.
Ойзерман Т. И, Большой загадки я здесь не вижу. Именно
Белецкий всех их взял на кафедру, во многом обновив ее.
Германа, например, не хотели оставлять — тот же пятый пункт.
Белецкий позвонил Маленкову, и тот его поддержал. Он же
был их научным руководителем. И ребята эти многим были
лично ему обязаны, возможно, чувствовали, что с Белецким не
пропадешь. Келле он дал тему «Философия Гегеля как
аристократическая реакция на Французскую революцию», хотя
Гегелем тот специально никогда не занимался. Диссертация
М. Я. Ковальзона тоже была по истории философии. Одним
словом, Белецкий был для них как бы крестным отцом, и
такое отношение они сохранили даже тогда, когда его уволили.
3. Я. Белецкий и «гносеологи»
Ойзерман Г. И. Вскоре мой конфликт с Белецким принял
открытый характер. Повод был просто нелепый. Белецким
овладела новая идея: философия является не мировоззрением, а
представляет собой теорию мышления. И бдительные головы
сразу же просигнализировали, что аналогичные идеи
отстаивают мои аспиранты Э. Ильенков и В. Коровиков. Это была
явная натяжка. Они, конечно, терпеть не могли Белецкого и
всю его команду, считая их неисправимыми невеждами, и свои
суждения формировали независимо от них. Думаю, что
определенную роль сыграл Тодор Павлов, утверждавший в
«Теории отражения» (разумеется, со ссылками на Энгельса), что
152 Беседы Л. Н. Митрохина с Т. И. Ойзерманом
философия должна быть понята как теория мышления.
Ильенков, я полагаю, пришел к этой мысли в результате
стремления материалистически истолковать учение Гегеля. По
Гегелю, философия действительно является теорией мышления,
поскольку все развитие есть развитие понятия, которое
представляет собой самодостаточную субстанциальную
реальность. Эвальд Васильевич, конечно, так не думал. Он просто
считал, что философия есть теория мышления в смысле
теории познания. Поэтому она не является мировоззрением,
которое охватывает всё и вся, тогда как философия имеет
определенный предмет, а именно мышление.
Митрохин Л. Н. Зная творческие наклонности Ильенкова
и Коровикова, можно предположить, что это была реакция на
идеологизирование философии?
Ойзерман Т. И. Да, пожалуй, Вы правы; плюс, возможно,
попытка отмежеваться от онтологического толкования
философии. Как раз тогда по инициативе Б. М. Кедрова остро
обсуждалось конспективное замечание Ленина о том, что «не
надо трех слов»: диалектики, логики, теории познания. Позже
это перешло в пресловутую дискуссию о соотношении
диалектической и формальной логики, на которой громили В. Ф.
Асмуса и М. С. Строговича.
Митрохин Л. Н. Вы помните дискуссию Д. И. Дубровского
с Ильенковым об идеальном. Как Вы ее оценивали?
Ойзерман Т. И. Думаю, что прав был Ильенков. Его заслуга,
возможно, главная, состояла в том, что он понял из Маркса:
идеальное есть не просто мыслимое, воображаемое, духовное;
оно существует как материальное явление, как материализация
человеческих замыслов, деятельности и т. д. Иное дело, что в
процессе обсуждения этого вопроса он иногда соскальзывал на
точку зрения Гегеля относительно объективности самого
мышления, не в смысле его объективного содержания, а в смысле
того, что оно само является онтологической реальностью.
С этим я был не согласен. Да и он сам позже пересмотрел
такую точку зрения. Так что наши немногие расхождения
постепенно стерлись. Пока Ильенков и Коровиков высказывали свои
идеи на кафедре, иногда на семинарах со студентами, у нас шла
спокойная, благожелательная дискуссия, не вызывавшая
никаких осложнений. Раздувать шумные битвы никто не хотел.
Вскоре, однако, произошло неприятное событие.
Белецкий организовал у себя на кафедре симпозиум «Что
такое философия?», в котором Ильенков и Коровиков,
конечно, не участвовали. Основной доклад сделал Кочетков, кото-
Из бесед с академиком Т. И. Ойзерманом 153
рый в крайне упрощенной, но категорической форме заявил,
что неправильно считать философию мировоззрением,
поскольку она есть теория мышления. Выяснилось, что декан
Молодцов подослал стенографистку, которая записала как
доклад Кочеткова, так и выступление Белецкого и его
единомышленников, которые развивали эту точку зрения.
Стенограмму Молодцов не показал авторам, поскольку понимал,
что они обязательно сгладят наиболее острые формулировки,
а быстро переправил ее в отдел науки ЦК ВКП(б).
Если секретари ЦК относились к Белецкому более или менее
благожелательно, то в отделе науки его терпеть не могли за
постоянные жалобы на состояние философии, в том числе и на
сам отдел, который, по его мнению, потворствовал
ревизионистам. Поэтому стенограмма вскоре оказалась на столе
секретаря ЦК П. Н. Поспелова. Он пришел в ярость: на факультете
отрицают мировоззренческое значение марксистской
философии, и распорядился созвать партактив всего МГУ, на котором
самолично в пух и прах разделал эту концепцию. Тем самым
звездная карьера Белецкого закончилась: его перевели в
Инженерно-экономический институт, где он тихо дожил до конца
своих дней. Основательно «почистили» и его кафедру: кого-то
уволили, Кочеткова, Келле и Ковальзона перевели на кафедру
философии естественных факультетов. Место Белецкого занял
сам В. С. Молодцов, хотя в диамате он был совсем не силен.
Неожиданно для себя я также оказался единомышленником
Белецкого. На очередном Ученом совете Щипанов и Черкесов
яростно набросились на меня за то, что я покрываю «гносео-
логов» Ильенкова и Коровикова, которые проповедуют те же
идеи, что и «известный вульгаризатор» Белецкий. Строго
говоря, это было неверно. Но, к сожалению, Молодцов не
возразил, а они стали требовать, чтобы аспирантов с кафедры
уволили, а мне вынесли взыскание, до которого, правда, дело
не дошло. Что делать? Позвонил Александрову: «У меня есть
серьезный специалист Ильенков. Возьмете его?» «А он
действительно хороший?». «Да, удивительно талантливый». —
«Тогда возьму». И Эвальд Васильевич с радостью согласился.
А о Коровикове я не беспокоился: он увлекался географией и
подумывал перейти на журналистскую работу. Так что, не
дожидаясь увольнения, он стал собственным корреспондентом
«Правды».
Митрохин Л. Н. И как я знаю по встречам в США, одним
из самых уважаемых журналистов-международников,
признанным знатоком африканских дел.
154 Беседы Л. Н. Митрохина с Т. И. Ойзерманом
Ойзерман Т. И, Я позже несколько раз встречал его, и он
признавался, как хорошо получилось, что он попал в эту
якобы беду. Так завершилось триумфальное философское
шествие 3. Я. Белецкого и, по иронии судьбы, взбудоражившая
весь факультет борьба с «гносеологами».
Защита докторской диссертации
Много докторских защит мне довелось видеть на своем
веку, но защита Т. И. Ойзермана (октябрь 1951 г.) врезалась
в память как прямо-таки эпохальное событие на философском
факультете. Поразила особая, одновременно торжественная и
нервная обстановка, в которой она происходила. Помню
Круглый зал, до отказа набитый студентами, преподавателями,
людьми незнакомыми. Величественный президиум, бледный,
измученный Ойзерман, любопытствующие лица, ожидающие
чего-то совсем неординарного. Как выяснилось позже, все это
было не случайно. Красочнее и точнее всего рассказал сам
соискатель.
Ойзерман Т. И. Это была настоящая пытка. Дня за два до
защиты декан факультета А. П. Гагарин растерянно сообщил:
только что позвонил Г. Ф. Александров и категорически
отказался участвовать в защите в качестве официального
оппонента. Он заболел, с дачи приехать не в состоянии и просит
всяческих извинений. Стали думать, что делать. Тут же уговорили
М. А. Дынника быть оппонентом, но, зная нависшую над
защитой угрозу, я решил, что этого недостаточно. Срочно взял такси
и покатил на дачу академика. Приехал, вижу, он гуляет по
участку с двумя собаками. Спрашиваю, в чем дело? Он смущенно
промолчал, пригласил в дом, поставил бутылку «Гурджаани».
Выпили. Я говорю: «Как-то нехорошо получается. Вы же
обещали». «Действительно, нехорошо, — отвечает он. — Из ЦК
меня попросили, теперь я директор Института философии.
А вчера ко мне заявился 3. Я. Белецкий и предупредил, если я
выступлю в качестве оппонента, то он немедленно напишет
разоблачительное письмо в ЦК, в котором покажет, что я
поддерживаю диссертацию, написанную с меньшевистских позиций,
которых сам давно придерживаюсь. Понимаешь, в этой
обстановке я не могу рисковать. Я всегда поддерживал тебя и готов
поддерживать дальше, но, прости, не в этот раз».
Вижу, академик перепуган основательно и пытаться
настаивать на своем бесполезно. Но все же говорю: «Ваше положе-
Из бесед с академиком Т. И. Ойзерманом 155
ние я понимаю, но поймите и мое. Защита почти наверняка
срывается, многолетний труд идет насмарку. Белецкий
торжествует. Я уже не говорю о моей репутации, но подумайте о
своей. Представляете, какие пересуды и слухи это вызовет.
Давайте искать выход». И тут меня словно осенило: «Важно,
чтобы не создалось впечатления, что Вы поддались шантажу
Белецкого и отвернулись от меня. Согласимся, что со
здоровьем у Вас, действительно, неважно. Поэтому пошлите записку
декану, что в связи с болезнью не успели прочитать всю
работу, но та часть, с которой Вы ознакомились, не вызывает
никаких возражений и вполне соответствует требованиям,
которые предъявляются к докторской диссертации».
То ли Александров был порядком навеселе, то ли
почувствовал угрызения совести, что с ним иногда случалось, но он
взял бумагу и на двух страничках набросал такое послание.
Надо было видеть радость Гагарина! И в начале защиты он
торжественно, словно с амвона, зачитал это письмо, что
выглядело как одобрение диссертации, хотя и неполное.
Присутствующий Белецкий сразу же изменился в лице, посидел
минут пять и ушел. Все вздохнули с облегчением, и защита
пошла своим ходом. Кстати, официальные оппоненты (например,
профессор С. Б. Кан, член-корреспондент М. Д. Каммари)
высказали немало серьезных критических замечаний, я подробно
на них отвечал. Но голосование удивило, кажется, всех:
единогласно «за».
Примерно через год я уехал с женой на Рижское взморье, и
там вскоре получил от Александрова телеграмму,
поздравляющую меня с утверждением в ВАКе. С ней связан один
забавный момент. Оказывается, Александров, узнав, что на защите
присутствовало много народа, Белецкий ушел, голосование
было единогласным и все вышло по-праздничному,
воодушевился и написал в ВАК, что поскольку он по болезни не мог
присутствовать на защите, то считает нужным сообщить, что
сейчас, полностью ознакомившись с диссертацией, он
присоединяется к ее самой высокой оценке. Как видите, он все-таки
переживал свою нерешительность, тем более что Белецкого
ненавидел, как только мог.
Кстати, Белецкий свою угрозу исполнил. Он написал
письмо Сталину о том, что имеется группа новых меньшевиствую-
щих идеалистов или, попросту говоря, меньшевиков,
возглавляемая Александровым, в которую входят профессор Г. Гак,
профессор М. Розенталь, доцент Коган и доцент Ойзерман.
Фамилии, как видите, подобрал подходящие. Я об этом долго
156 Беседы Л. Н. Митрохина с Т. И. Ойзерманом
ничего не знал. А в 1957 г. меня пригласили на фестиваль
молодежи в качестве руководителя одного из симпозиумов. В
заключение был торжественный прием для именитых гостей. Он
был подготовлен крайне бестолково, и почти никто из
иностранцев не пришел. И мы, советские организаторы, сидели и
томительно ждали. Наконец, наш руководитель, министр
высшего образования В. П. Столетов, распорядился: «Закуски
полно, выпить тоже кое-что имеется. Начинаем!». Когда мы
немного захмелели, он с заговорщическим видом сказал:
«Давайте я расскажу историю, как Вас хотели зарубить».
Оказывается, письмо до Сталина все же дошло, но он на этот раз
никакой резолюции не наложил, а просто переслал его М. А.
Суслову. А Суслов особых симпатий к Белецкому, по-видимому,
не питал и поручил разобраться в нем Столетову, добавив, что
особо торопиться не следует.
И Столетов разбирался года два. За это время меня не
только утвердили в докторской степени, но и присвоили
звание профессора.
Обращение к Марксу
Митрохин Л. Н. Многие из моего поколения понимали, что
проблематика диамата, истмата, научного коммунизма
неизбежно загоняла нас на утоптанное поле догматизма, а поэтому
предпочитали историю философии, логику, новейшую
философию Запада, социологию и другие дисциплины, позволявшие
хотя бы некоторую свободу суждений и оценок. Вы же
кандидатскую диссертацию посвятили проблеме свободы и
необходимости — достаточно тривиальной и притом пронизанной
марксистскими штампами. Больше того, в своей докторской
диссертации Вы обратились к предельно политизированной
тематике, связанной с революцией 1848 г.
Причем у нас создавалось впечатление, что наибольшее
внимание Вы уделяли ранним, так сказать, «незрелым» работам
Марса — примерно до «Немецкой идеологии». Что же
касается последующих работ Маркса, даже «Капитала», а особенно
Энгельса, то они характеризовались бегло, без особого
увлечения. Чем все это объяснялось: желанием уйти в «раннего»
Маркса, столь непохожего на «позднего», или скрытым
(открытое грозило опасностью) неприятием того примитивного
уровня, на котором преподавался не только диамат, как
вершина философской мысли, но и сам «зрелый» марксизм? А может
Из бесед с академиком Т. И. Ойзерманом 157
быть, Вы уже тогда видели просчеты развиваемого Марксом
учения и стремились критически осмыслить их в более
широком контексте западной философской мысли?
Эти вопросы не случайны. Ваши лекции действительно
были необычны, в них явственно ощущался некий подтекст
(или надтекст), некая установка на метафилософский подход.
Кстати, это точно уловил В. А. Лекторский: «Большую роль в
развитии нашего поколения сыграли лекции Т. И. Ойзермана
по истории марксистской философии. Именно от Теодора
Ильича мы узнали об идеях раннего Маркса, которые в то
время не популяризировались. В 1954 г. Теодор Ильич
прочитал нам спецкурс по «Критике чистого разума» Канта,
который я считаю революционным. Т. И. Ойзерман тщательно,
параграф за параграфом, разбирал знаменитую кантовскую
«Критику», комментировал ее и сопоставлял с ходячими
представлениями о познании, которые преподносились нам до
этого в курсе диалектического материализма. Это, конечно, не
было критикой марксизма. Наоборот, лектор пытался
показать, что марксистская философия понимается у нас
поверхностно и даже искаженно, ибо она не может быть по своему
уровню ниже того, что сделано Кантом. Но это была
сильнейшая критика ходячего диамата и формулировка тех серьезных
проблем, которые есть в области теории познания и которые
во многом еще предстоит разрабатывать. А мы, слушатели
спецкурса, начали обстоятельно штудировать Канта»*.
Ойзерман Т. И. После дискуссии по книге Александрова я
был обязан максимально учесть ее итоги и прежде всего
директивное выступление Жданова. Одним из таких нововведений,
как я уже говорил, стал курс истории марксистской философии.
Еще до войны меня крайне заинтересовало то немногое, что
было опубликовано из раннего Маркса. Я также был в курсе
тех дискуссий о молодом Марксе, которые велись на Западе
(Маркузе и др.) и не были переведены на русский язык.
В этом я видел некоторый противовес тому догматическому
пониманию марксистской философии, которое сводилось к
изложению основных черт диалектики и материализма, что уже
тогда мне представлялось поверхностным, хотя до этого я
историю марксистской философии специально не изучал. Если
* Митрохин Л. Н., Лекторский В. А. «О прошлом и настоящем
(беседа)» // Субъект. Познание, деятельность. К 70-летию В. А. Лекторского.
М., 2002. С. 15-16.
158 Беседы Л. Н. Митрохина с Т. И. Ойзерманом
бы обстоятельства не заставили меня взяться за общий курс
по истории марксистской философии, то, возможно, я
продолжал бы заниматься преимущественно молодым Марксом.
Однако когда я внимательно проштудировал более поздние
работы, то быстро увлекся ими, прежде всего самим
процессом стремительного формирования взглядов Маркса, и
старался подробно показать его механизм на примере ранних
работ. Курс был небольшой — всего один семестр, поэтому на
остальные работы, скажем на «Капитал», «Анти-Дюринг»
и т.д., оставалось не более трех-четырех лекций. Мне было
интересно показывать, как Маркс и Энгельс переходили от
одного воззрения к другому, заблуждались, преодолевали эти
заблуждения, а иногда им это не удавалось. Так, например, в
«Немецкой идеологии» мы находим положение, что частная
собственность и разделение труда — это тождественные
выражения; в «Нищете философии» утверждается, что
существование обособленных профессий есть профессиональный
идиотизм, а в «Манифесте коммунистической партии»
говорится об «идиотизме деревенской жизни».
Так что чтение курса истории марксистской философии,
особенно ее раннего периода, означало погружение в марксизм,
который еще не стал системой раз и навсегда установленных
истин, и подвигало к недогматическому его усвоению. Конечно,
никаким «диссидентом» я себя не считал. Единственное, что я
понимал: ко мне могут придраться. Но в силу заложенного во
мне оптимизма и, может быть, излишней самоуверенности я
полагал, что придираться будут не слишком и всегда найдутся
порядочные и справедливые люди, которые поймут, что я
излагаю Маркса честно, с правильных позиций, а критически
высказываясь о раннем Марксе, следую его собственному
примеру, не говоря уже том, что даже у Ленина на этот счет имеется
немало критических замечаний, которые я старался всемерно
учесть. Для студентов это выглядело необычно и ново главным
образом потому, что преподавание диалектического
материализма вращалось в основном вокруг основных черт диалектики
и материализма, причем эти черты излагались весьма
примитивно. В этом смысле я пытался предложить, в сущности,
некоторое введение в диалектический материализм.
У меня не было желания провоцировать конфликт, и я
осознавал опасность такого способа преподавания. Возможно, я
был излишне наивен. Вообще эта наивность для меня весьма
характерна. Я уже рассказывал о случае, когда прямо заявил,
что Бродова арестовали скорее всего по ошибке, но мне и в
Из бесед с академиком Т. И. Ойзерманом 159
голову не приходило, что то же самое может случиться и со
мной. У меня всегда сохранялась оптимистическая вера, что
все рано или поздно образуется, а отсюда и необъяснимая
решительность и необдуманные поступки, которым я сам
каждый раз удивлялся. Точно так же я вел себя на войне, когда
появлялся там, где мне, как инструктору политотдела,
находиться было совсем не обязательно.
Постепенно я все чаще наталкивался на положения,
которые вызывали сомнение. Например, в «Анти-Дюринге»
Энгельс говорит, что при социализме исчезнет такое положение,
когда один человек по профессии, скажем, архитектор, а
другой — тачечник. А будет так, что архитектор сначала работает
как архитектор, а потом толкает тачку, хотя он, конечно, не
говорит, что тачечник будет работать в качестве архитектора.
В этом смысле известное критическое отношение к некоторым
положениям марксизма у меня возникало уже тогда, хотя я
боялся себе признаться в этом. Но это так или иначе нашло
отражение даже в моей докторской диссертации.
Многие ключевые положения, скажем, идея диктатуры
пролетариата, слома государственной машины, непрерывной
революции, как известно, были высказаны Марксом и
Энгельсом на основе опыта революции 1848 г. К сожалению, однако,
обычно забывают, что впоследствии они их в известной мере
пересмотрели. Как признавал Энгельс, идею непрерывной
революции высказывал уже Марат, а Маркс в 1850 г. в споре с
Виллихом и Шаппером фактически отказался от этой идеи,
заявив, что пролетариату понадобится еще десять, двадцать,
пятьдесят лет борьбы, пока он будет способен взять власть.
Значит, непосредственного перехода от буржуазной
революции к революции пролетарской Маркс уже не признавал, хотя
и полагал, что революции XIX в. — это уже не просто
буржуазные революции, а, как он их называет в «18 Брюмера Луи
Бонапарта», «пролетарские революции XIX века». Так что тут
остается неясность, которую Маркс и Энгельс до конца не
преодолели. Одним словом, для меня это была некая
подготовительная школа к тому критическому переосмыслению
марксизма, которое я предпринял в последние годы.
Помню, и тогда меня очень смущала формула Ленина:
«Учение Маркса всесильно, потому что оно верно». Как ее,
недоумевал я, можно сочетать с материалистическим
пониманием истории, которое видит в сознании, в теории отнюдь не
всесильное начало. Прямо отрицать ее я, понятно, не мог и
старался найти приемлемый выход. И нашел, как его рано или
160 Беседы Л. Н. Митрохина с Т. И. Ойзерманом
поздно находили все схоласты: это учение превращается в
материальную силу тогда, когда овладевает массами и тем самым
становится, так сказать, всесильным, хотя ничего
всесильного, всемогущего вроде бы и не существует.
Институт философии АН СССР
Митрохин Л. Н. В начале 60-х гг. Вы были едва ли не
самым уважаемым заведующим едва ли не самой уважаемой
кафедры; начальство к Вам благоволило, студенты платили
любовью — это уже я могу засвидетельствовать. Почему же Вы
покинули МГУ?
Ойзерман Т. И. Как Вы знаете, на фронте я получил
тяжелую контузию, но постепенно ее последствия стали проходить,
я остался в армии до конца войны и домой вернулся вполне
работоспособным. Но начиная с 1957 г. стал чувствовать себя
все хуже и хуже, особенно во время чтения лекций: сжималось
сердце, в голове появлялась тяжесть, рассеивалось внимание.
Врачи давали какие-то лекарства, однако они помогали мало,
и я был вынужден постепенно сокращать свои лекционные
часы. К тому же как-то разладилась обстановка на кафедре,
например, ухудшились мои отношения с Ю. К. Мельвилем,
В. В. Соколовым, М. Ф. Овсянниковым. И я почувствовал,
что определенный круг жизни завершился и пора
сосредоточиться исключительно на исследовательской работе. Поэтому,
когда в 1966 г. меня избрали членом-корреспондентом АН
СССР, я принял решение целиком перейти на работу в
Институт философии, что мне неоднократно предлагал сделать
Ф. В. Константинов. Сначала я был старшим научным
сотрудником в Вашем секторе, если Вы, конечно, не запамятовали.
Митрохин Л. И. Как же! Для начала мы выпустили почти
диссидентскую книгу «Философия и наука». Я написал к
ней предисловие (довольно ученическое, как понимаю
сегодня), но с радостью включил в нее нашумевшую «статью
трех» (Мамардашвили, Соловьёва и Швырёва), работы
тогда опальных А. П. Огурцова, Э. Г. Юдина, Н. С. Юлиной,
статью Б. М. Кедрова и Вашу, помню, «Философия и
идеология».
Ойзерман Т. И. Ну, статья эта представляла собой резюме
к моей только что написанной книге и не думаю, что она
предлагала много новых идей. Позже, когда умер М. А. Дынник,
П. В. Копнин предложил мне заведовать сектором. Я увидел,
Из бесед с академиком Т. И. Ойзерманом 161
что там довольно скудно с людьми, и пригласил Н. В. Мотро-
шилову и Э. Ю. Соловьёва. У меня было ощущение, что я
пришел в коллектив, где можно было спокойно работать, и в
первые же годы выпустил две монографии «Проблемы
историко-философской науки» (1969) и «Главные философские
направления» (1971). Правда, отношения с новым
директором Б. С. Украинцевым как-то сразу не сложились.
Однажды он пригласил меня к себе в кабинет. «Я хочу с
Вами поговорить по-товарищески. Вы, наверное, хорошо
знаете Келле, потому что работали с ним в университете.
Сейчас возникла такая обстановка, что ему лучше всего самому
уйти из института. Я просил бы Вас по-товарищески
посоветовать ему сделать это, в ином случае мы заведем на него
персональное дело». Я ответил, что о В. Ж. Келле самого
хорошего мнения, и так или иначе догадываюсь об «особой
обстановке», но такую просьбу выполнить не могу. Вадиму
Жановичу об этом разговоре все же рассказал. Не знаю, как
конкретно развивались дальнейшие события, но Келле вскоре
перешел в Институт истории естествознания и техники.
А тут отчет Института философии в ЦК с докладом Украин-
цева. На нем присутствовали руководящие работники
института и отдела науки ЦК, в том числе и вице-президент
Академии наук П. Н. Федосеев. Председательствовал зав. отделом
С. П. Трапезников. До сих пор помню свое выступление (черт
меня дернул!), кажется, ошеломившее всех. Когда Украинцев
закончил, я спросил председателя, можно ли задавать
вопросы. Тот разрешил. «У меня, говорю, такой вопрос: был ли
Украинцев как директор института в каком-либо Институте
философии союзных республик?». Он ответил, нет, не был.
Задаю второй вопрос: «Был ли товарищ Украинцев как директор
института в каком-либо из Институтов философии и
университетов стран народной демократии?» Он снова говорит:
«Нет, не был».
А затем, когда началось обсуждение, я выступил и, рассказав
про историю с Келле, произнес прямо-таки обличительную
речь: Украинцев очень слабый директор, вся власть в институте
принадлежит МГБ (сформулировал нехорошо, в чем меня
потом справедливо упрекали), то есть, Мишину, Герасимову и
Быкову, которые создали нетерпимую обстановку. Причина
ясна: каждый из них в научном отношении весьма слаб, чтобы
не сказать хуже, но почему-то именно они стали ближайшими
советниками Украинцева. Поэтому я полагаю, что нужно
принять решение об укреплении института новым директором.
162 Беседы Л. Н. Митрохина с Т. И. Ойзерманом
После меня выступил Федосеев. Отношение к Келле,
сказал он, было ошибкой, а вот насчет самого Украинцева
предпочел промолчать, Трапезников тоже занял сдержанную
позицию, хотя именно он назначил Украинцева. Он сказал:
«Товарищ Украинцев, может быть, Вы разъясните, почему член-
корреспондент Ойзерман так резко выступает против Вас.
Может быть, и Вы что-то предпринимали против него и здесь
взыграли эмоции?». Украинцев ответил: «Нет, я никогда
против него не выступал и считаю, что это его собственное
мнение, которое я считаю ошибочным».
После этого, естественно, мы с Украинцевым долго даже не
здоровались. Может быть, это мелочи, но обстановку,
сложившуюся в институте, они, по-моему, характеризуют
довольно наглядно.
Митрохин Л. Н. Мне ли этого не понимать? Я был
активным участником тогдашних событий. В 1971 г. фактически
затравили П. В. Копнина, и началась ожесточенная схватка за
директорское кресло. В 1973 г. директором назначили
академика Б. М. Кедрова, но он продержался всего лишь около
года. Наступало время, удобное для погромов. 17—18 июня
1974 г. состоялось обсуждение «Вопросов философии» в
АОН при ЦК КПСС, которое поставило точку в недолгом
философском ренессансе.
Что значило быть философом в СССР?
Я сказал так: «Теодор Ильич, у Вас за плечами и
радостный, и тернистый путь. И, наверное, никто другой не сможет
так осмысленно разобраться в проблеме, которая всех
волнует: «Что значило быть философом в СССР». Он заметно
оживился.
Ойзерман Т. И. Очень хорошо. Только поставим эту
проблему в вопросительной форме, потому что мне сразу
хочется ответить: «В советские времена не было и не могло быть
философов. Были только пропагандисты философии
марксизма, при этом, начиная с 1938 г. ее изучение
превратилось в пропаганду философского параграфа «Краткого курса
истории ВКП(б)», написанного Сталиным. Если бы
появились настоящие философы, то есть, люди, которые излагают
свои оригинальные воззрения, свои собственные взгляды,
то, вероятно, они моментально исчезли бы с общественной
арены».
Из бесед с академиком Т. И. Ойзерманом 163
Митрохин Л. Н. С этим трудно спорить. Ленин
практически и надолго решил эту проблему, организовав в 1922 г. два
«философских парохода» и несколько поездов. А конкретные
судьбы мы уже упоминали. Вспомните Яна Стэна. Знал я и
другого яркого философа, которого Вы называли — Бернарда
Эммануиловича Быховского. В нем меня поразили
удивительная эрудиция и интеллигентность, блестящий литературный
стиль и в то же время готовность к «служению», едва ли не
площадные выражения в адрес «буржуазных мракобесов» и
«идеалистов всех мастей».
Ойзерман Т. И. Судьба этого, безусловно, незаурядного
человека трагична. Он был троцкистом, но вовремя раскаялся.
Один раз его, правда, исключили из партии, но вскоре
восстановили, поскольку было известно, что он помог разоблачению
троцкистов. Но спокойно заниматься наукой (он писал
диссертацию о Декарте, потом занялся новейшей философией) ему
не давали. То он работал в «Советской энциклопедии», раза
два его привлекали в ИФЛИ, но вскоре увольняли. Вот он и
был вынужден завоевывать «доверие». Помните, как громили
кибернетику. Одним автором был философствующий психолог
В. Н. Колбановский, опубликовавший в «Вопросах
философии» разносную статью под псевдонимом «Материалист».
Для него это прошло незаметно. Быховский же шельмовал
кибернетику в «Литературной газете» под собственным именем,
угробив тем самым свою репутацию. Могу лишь представить
себе переживания этого порядочного человека. Нечто
похожее случилось с М. М. Розенталем и П. Ф. Юдиным,
включившими разносную статью о кибернетике в свой «Краткий
философский словарь». Розенталь даже не мог
баллотироваться в Академию наук, хотя по своему положению и знаниям
мог вполне рассчитывать, по меньшей мере, на
члена-корреспондента.
Никогда не забуду последнюю встречу с Э. В. Ильенковым.
Он был крайне встревожен и сказал, что нужно что-то делать,
иначе всем нам конец, поскольку Украинцев оказался близким
другом Брежнева. Я пытался как можно успокоить его,
уверял, что это чепуха: в таком случае Украинцев был бы не
директором академического института, а секретарем ЦК. Другое
дело, что его поддерживает С. П. Трапезников. Но он меня не
слушал и продолжал пить виски. Я положил его на диван, он
проспал часа полтора и вскоре ушел. А на следующий день я
узнал, что он покончил с собой. А смерть М. К. Мамардашви-
ли в «накопителе» Внуковского аэропорта!
164 Беседы Л. Н. Митрохина с Т. И. Ойзерманом
Правда, помимо пропаганды философии марксизма,
существовала одна область, где можно было так или иначе
высказывать собственные взгляды. Это история философии, и
наряду с пропагандистами диалектического материализма были
преподаватели, которые занимались историей философии.
Даже Г. Ф. Александров, который стремился быть партийным,
государственным деятелем, занимался историей философии,
преимущественно античной, хотя его знания на этот счет были
довольно скудными. Поэтому самые заметные люди в
философии того времени — это историки философии. Наиболее
выдающимся среди них был, конечно, В. Ф. Асмус. Но Вы
знаете, как его травили люди типа В. И. Черкесова и П. И.
Никитина. Я бы еще упомянул О. В. Трахтенберга, а из молодых —
А. С. Богомолова.
Митрохин Л. Н. Но эта автономия была весьма условной.
История философии, как гласила формула Жданова — это
история развития материализма и его борьбы с идеализмом.
Так что ядром, стержнем философии провозглашался диамат в
«краткой» сталинской редакции, а все другие дисциплины
должны были лишь конкретно иллюстрировать его
формулировки, соотносить с ними свои оценки всех явлений культуры.
Это как у Оруэлла: «Кто владеет настоящим, тот владеет и
прошлым».
Ойзерман Т. //. Да, так и было. Причем некоторые
формулировки я не мог толком объяснить. Почему, спрашивал я,
первая черта материализма — первичность материи, а вторая
черта, в противоположность идеализму — познаваемость
мира. То есть, идеализм прямо отождествлялся с
агностицизмом, что граничило с невежеством. Открыто критиковать это
я не мог, а лишь старался найти более гибкое толкование:
первая черта противопоставляет материализм идеализму в
целом, а вторая — противопоставляет материализм
агностической форме идеализма, а не идеализму вообще. Однако многие
ведущие историки философии отказывались принимать и эту
вполне безобидную интерпретацию и продолжали твердить:
все идеалисты — агностики.
Однажды дело дошло до публичной полемики. В АОН при
ЦК КПСС, где Александров заведовал кафедрой, защищалась
диссертация «Критика идеализма как агностицизма». Я был
официальным оппонентом и, не желая проваливать
соискателя, в общем положительно оценил работу, но сказал, что
агностицизм можно рассматривать лишь как разновидность
идеализма, или, следуя Энгельсу, как некоторый примитивный
Из бесед с академиком Т. И. Ойзерманом 165
материализм. Тотчас же члены ученого совета О. В. Трахтен-
берг и М. А. Дынник сочли необходимым выступить с
решительным опровержением, а председательствующий Г. Ф.
Александров — демонстративно их поддержать. Уже после защиты
Александров, с которым мы были в добрых отношениях,
пригласил меня в ресторан и разоткровенничался: «Я хотел Вас
взять к себе на кафедру, но теперь вижу, что Вы несколько
загибаете и недостаточно принципиальны. Знаете ли Вы, что у
нас за такие вещи сразу бы привлекли к партийной
ответственности? А тут мы по-товарищески Вас поправили и этим
дело завершено».
Митрохин Л. /У. Что ж, согласен признать, что помимо
злого ангела 3. Я. Белецкого у Вас был и добрый —
Г. Ф. Александров, который в меру отведенной ему
профессиональной принципиальности и на этот раз отвел беду.
Напрашивается следующий вопрос. Позади у Вас несметное
число книг, статей, выступлений. Каков был тот мотив, пафос,
который заставлял Вас так лихорадочно работать, и что
сегодня, оглядываясь назад, представляется наиболее ценным,
новаторским, сделанным именно Вами?
Ойзерман Т. И. Лихорадочно работать заставляло прежде
всего желание писать. Возможно, это была почти
графоманская страсть. Я мог писать, как минимум, четверть листа в
день, а то и половину. Это доставляло мне неизъяснимое
наслаждение, может быть, потому, что у меня не было других
пристрастий, кроме, пожалуй, некоторого увлечения
прекрасным полом да хорошей выпивкой. А желание писать я
испытывал с самых ранних лет. Еще в четвертом классе меня потряс
ледоход на Днепре, и я написал на эту тему сочинение. И
учитель русского языка и литературы прочел его перед классом и
похвалил как очень хороший очерк. А еще раньше я сочинил
роман «Путешествие капитана Ганея» — детское подражание
Майн Риду и Жюлю Верну — и послал в издательство,
кажется, Мериманова, откуда пришел вежливый, но, конечно,
отрицательный ответ. Думаю, они и не подозревали, что автор —
двенадцатилетний школьник. О своих последующих
литературных усилиях я уже рассказывал.
Что же касается философии, то вначале это было желание
осмыслить Маркса, что и выразилось в том курсе, который
был мне поручен. Однако, вжившись в него, я почувствовал,
что начинаю ясно понимать, как и из чего возник марксизм, и
даже вижу отдельные заблуждения Маркса и Энгельса и
некоторые взгляды, от которых они отказались. Это осмысление
166 Беседы Л. Н. Митрохина с Т. И. Ойзерманом
марксизма, начиная с ранних работ, представлялось мне
крайне важным, тем более, что никто у нас, за редким
исключением, этим не занимался. Например, была статья старого
большевика Познера, в которой он утверждал, что в докторской
диссертации Маркса проступают основные черты
материализма. Конечно, это явная натяжка. Да не он один. Даже такой
выдающийся философ-марксист, как Луи Альтуссер, писал,
что уже в «Экономическо-философских рукописях 1844 года»
пунктиром намечены основные проблемы «Капитала». Между
тем, никакой речи в них о прибавочной стоимости, конечно, не
шло. Так что я определенно чувствовал себя новатором.
Позже меня увлек более амбициозный замысел: создать
цельную теорию историко-философского процесса,
попытавшись объяснить и оценить факт, который меня давно удивлял:
почему всегда существовало и существует поныне множество
философских учений. Такой, по выражению Дильтея,
«анархии систем» в истории науки не наблюдается. Если там
существуют разные теории, то в ходе развития они постепенно
сближаются или поглощаются и становятся элементом более
обоснованной и общей теории.
У нас этой темой никто не занимался. Только во Франции
существует «Философия истории философии», которую я
внимательно изучал и часто цитировал. Кстати, ее главный
представитель Марсель Геру выступал на конгрессе в Вене
(1968 г.), где я с ним и познакомился. Он, конечно, был
убежденный идеалист, как он говорил, «радикальный идеалист», и
рассматривал каждую систему философии как вечный
самодостаточный памятник, не подлежащий никакой доработке и
развитию. Я же стремился осмыслить историко-философский
процесс с позиций диалектического материализма.
Эту тему я начал разрабатывать в монографиях
«Проблемы историко-философской науки» (1969) и «Главные
философские направления» (1971), затем в плановой работе
«Основы теории историко-философского процесса», к которой
привлек А. С. Богомолова, работавшего в Институте
философии на полставке. Ему принадлежит историко-философская
часть, а мне теоретическая, составившая две трети книги. И,
наконец, завершением стала книга «Философия как история
философии» (1999), в которой я сформулировал позицию,
которой придерживаюсь и сейчас. Я шел к ней трудным
путем, потому что предстояло шаг за шагом не только
преодолеть прежние взгляды, но и предложить цельную
«позитивную» систему.
Из бесед с академиком Т. И. Ойзерманом 167
В первой монографии я стремился как можно более
достоверно представить мозаичную и постоянно меняющуюся
картину мировой философской мысли. Однако, еще находясь в
плену расхожих марксистских штампов, я старался доказать,
что такое множество носит преходящий характер и в конечном
развитии увенчивается научной философской системой,
каковой является диалектический материализм.
Во второй книге я попытался с исторической точки зрения
проанализировать различные типы взаимоотношений,
полемики и связей отдельных философских течений, начиная с
античности. Поэтому я считал необходимым уделить особое
внимание основному вопросу философии, что, как я сейчас
понимаю, испортило книгу, обеднило содержание и пафос многих
оригинальных идеалистических учений и идей. Что в ней
сделано неплохо, так это картина драматического становления
философского знания.
Я рассматривал историко-философский процесс как процесс
дифференциации (например, Фалес, Анаксимен, Анаксимандр),
далее, дивергенции (Гераклит, элеаты), поляризации
(Демокрит и Платон), радикальной поляризации — это уже четкое
выступление противоположности главных направлений (скажем,
материализма и идеализма, рационализма и иррационализма,
рационализма и эмпиризма и т.д.). Наконец, последний —
этап синтеза идей. Эту последовательность я и пытался
проследить на примере немецкой классической философии. Такова
была ключевая мысль, идея фикс моей философии философии.
Однако с годами она претерпела существенные изменения,
что четко выражено в монографии «Философия как история
философии», на которую, как помню, Вы откликнулись весьма
благожелательной рецензией*. Это прежде всего
категорический отказ от прежнего убеждения в том, что многообразие
философских школ — это исторически временное,
преходящее состояние, свидетельство незрелости и слабости
философской мысли. Напротив, показываю я, каждая философская
концепция содержательна, в ней обычно имеются знания,
которые по тем или иным причинам отсутствуют в марксизме.
Следовательно, последний нужно рассматривать не как
вершину философии, а лишь как одну (хотя и весьма
влиятельную) из систем философии. Что же касается неопределенного
* Митрохин Л. Н. Новый труд академика Т. И. Ойзермана // Вестник
Российской академии наук. Т. 70. 2000. № 6.
168 Беседы Л. Н. Митрохина с Т. И. Ойзерманом
множества учений, то это достоинство философии, ее modus
essendi, а вовсе не недостаток и слабость, как думали мы, в
том числе и все великие философы прошлого, которые
пытались преодолеть плюрализм философских течений и, наконец,
создать учение, которое останется на века и которое нужно
будет только развивать, дополнять, но никак не изменять. Таким
образом, каждое новое учение лишь обогащает проблематику
философии и тем самым делает ее более содержательной.
Митрохин Л. Н. Мне близки Ваши рассуждения, может
быть потому, что я знаком с проблематикой теологии. Как
известно, многие поколения людей бились над решением
«проклятых», «вечных», так называемых экзистенциальных
вопросов: о смысле жизни, о предназначении человека и т. д.
«Вечными» их именуют потому, что они не поддаются
окончательному, годному на все времена решению. Однако часто
забывают другую существенную сторону: каждое поколение
обречено на их «положительное» решение именно в
окончательной форме, на что и претендует религия.
Если мы посмотрим на историю теологии, то увидим, что ее
нерв составляют одни и те же проблемы: соотношение
божественного предопределения и человеческой свободы, природа
греха, теодицея и т. д. Проследите, например, полемику
Августина против Пелагия (V в.), Эразма против Лютера (XVI в.),
Нибура против Раушенбуша (XX в.), и вы увидите
поразительное сходство не только принципиальных позиций, но и
основных аргументов. Но это не эпигонство, не механическое
повторение. Каждый раз учитывается специфика духовной жизни
времени, его язык, состояние общества в целом. Тем самым
достигается непрерывное обогащение теологической мысли,
все более глубокое проникновение в тайны человеческого
бытия. Примером могут служить хотя бы воззрения К. Барта,
Р. Бультмана, П. Тиллиха, Р. Нибура, Д. Бонхёффера и т.д.
Принципиально сходный процесс наблюдается и в истории
философии. Воспроизводятся не только ключевые проблемы,
но и наиболее авторитетные их решения. Например, учения
Платона, Аристотеля, Канта, Гегеля, даже Маркса
(различные варианты неомарксизма), но уже в иной, в обогащенной
временем форме. И, конечно, историк философии не может
пройти мимо вопроса: почему, например, неокантианство уже
в наше время стало весьма влиятельной школой?
Ойзерман Т. И. Неокантианство возникло прежде всего под
лозунгом «Назад к Канту!», поскольку Кант в какой-то мере
оказался забытым. И тогда в 1865 г. О. Либман выступил с
Из бесед с академиком Т. И. Ойзерманом 169
книгой «Кант и эпигоны». Эпигонами он считал Фихте,
Шеллинга и Гегеля. Это движение к Канту, естественно, распалось
на две школы. Для одной (Марбургской) исходным пунктом
послужила «Критика чистого разума», то есть проблема
собственно теории познания. Для другой (Баденской) —
«Критика практического разума», то есть проблема этики как
метафизики — как учение о ценностях, которые понимались как
нечто имеющее значение, но не обязательно существующее.
Митрохин Л. Н. Однако право на жизнь неокантианство
получило не за свое эпигонство, ученическую реставрацию, а
за те новые идеи и решения, которые оно внесло в обсуждение
этих проблем.
Ойзерман Т. И. Думаю, что каждое из этих течений много
сделало для развития философии. Так, например, в работах
Канта, посвященных этике, не до конца ясным оставался
вопрос, реально ли существует тот самый постулат, исходя из
которого Кант приходил к выводу о необходимости признания
Бога, бессмертия души и т. д. Между тем, как говорил сам
Кант, нет такого человека, который действовал бы, исходя
лишь из категорического императива. Ведь человек
чувственное существо, а категорический императив предполагает
чистый разум, свободный от чувственных побуждений, что для
живого индивида невозможно. Следовательно, категорический
императив — не факт, а долженствование. Вот исходя из
этого неокантианцы, прежде всего Риккерт, и развивали свое
учение о ценностях, которое дальнейшее развитие получило у
Гуссерля как учение о смыслах: ценности не есть то, что
существует, а то, что имеет значение.
Мне представляется, что эта точка зрения открывает
широкий горизонт для понимания жизни, потому что наше поведение
и наше мышление определяет не только то, что существует, но
и то, что реально не существует, но имеет значение. Пусть это
будет древний миф, несбыточная утопия или какое-то
иллюзорное религиозное представление — все они имеют значение.
Кстати, и в светской жизни сплошь и рядом значение имеет то,
что люди думают о власти и чего в действительности нет.
Что же касается Марбургской школы, то она создала
метафизику природы, которая у Канта была только едва намечена.
О ней мы могли судить лишь по небольшой работе
«Метафизические начала естествознания» и по отдельным замечаниям
в «Критике чистого разума». Поэтому неокантианство, хотя и
исчерпало себя примерно в первой четверти прошлого века
(Й. Бохенский говорит даже слишком точно: к 1925 г.), несо-
170 Беседы Л. Н. Митрохина с Т. И. Ойзерманом
мненно, оказало большое влияние и на Гуссерля, и на Шеле-
ра, и на Хайдеггера. Кстати, учителем последнего был не кто
иной, как Генрих Риккерт. Вот так, путем очень сложной
преемственности и осуществляется прогресс в философии.
Митрохин Л. Н. Каков тогда на Ваш взгляд общий уровень
современной философии, скажем, в сопоставлении с
прежними влиятельными школами и мыслителями? Не возникает ли
ощущения, что классическая проблематика постепенно
растворяется? По пальцам можно пересчитать и имена
властителей философских дум калибра Дьюи, Рассела, Хайдеггера,
Сартра. Господствует модернизм, неомодернизм, такие
философы, как М. Фуко, Ж. Деррида, Р. Барт, которые все же
работают в стороне от традиционного главного потока.
Ойзерман Т. И. Мне представляется, что перечисленные
Вами философы, как и вся структуралистская школа,
родились не в лоне философии и не в связи с философией. Это
скорее был метод анализа художественных произведений, а также
антропологии, что наиболее ярко выражено у К. Леви-Строса
и Р. Барта. Здесь я собственно классической проблематики не
вижу. Она сохранилась сегодня в критическом рационализме,
например, у К. Поппера и его продолжателей. Причем
последние — вполне самостоятельные мыслители, которые
критикуют Поппера, прежде всего — его принцип фальсификации.
Я бы сказал, что то, что называется постмодернизмом, надо
скорее связывать с ними, с П. Рикером, с Ю. Хабермасом, а
не с Ж. Дерридой и Р. Бартом, которые пытаются найти
философскую проблематику за околицей собственно философии.
А если такие проблемы вас не волнуют, то и их философское
толкование оказывается неинтересным. Напомню, кстати, что
основоположниками того, что позже стало называться
структуралистским методом, были Б. Эйхенбаум, Р. Якобсон,
позже Ю. Лотман. Но все-таки это не философия, для которой, я
убежден, главная проблема — это проблема свободы. А ею, к
сожалению, всерьез мало кто занимается.
Если же говорить о современном состоянии
историко-философских исследований, то оно внушает оптимизм. Я
приветствую, например, переход от классической гносеологии к
постклассической эпистемологии. То есть к пониманию процесса
познания как культурно-исторического феномена. В этой
связи возникло очень много вопросов, которые неплохо описаны
у В. С. Стёпина, В. С. Швырёва, В. А. Лекторского, да и у
других авторов. Возникла, например, проблема отношения
научного и вненаучного знания, причем вненаучное знание пони-
Из бесед с академиком Т. И. Ойзерманом 171
мается не как антинаучное, а, напротив, как широкая сфера
знания, которое по своему объему даже превосходит сферу
научного знания, ибо включает все то, что человек знает из
собственного повседневного опыта: что вы знаете о своих
близких, о том, что видите, слышите, как воспринимаете мир, что,
наконец, знает ребенок, овладевая живой человеческой
речью. Художественная литература — богатейшее,
многогранное знание жизни, но это, конечно, не научное знание.
В то же время этот культурно-исторический контекст
познания дает возможность глубже понять относительность
каждой ступени достигнутого познания и подводит к мысли,
которой нет у Канта, но может быть из него выведена: мир в
равной мере и познаваем и непознаваем. Это вытекает уже из
того, что мы всегда познаем только какую-то часть целого,
следовательно, не можем исчерпывающе судить о ней,
поскольку не знаем целого. Следовательно, наши суждения об
этой части неизбежно оказываются фрагментарными,
отрывочными, какой бы законченный характер ни приобретала та
или иная теория. Это направление в теории познания мне
представляется наиболее сильным аргументом против
сциентизма, против превращения науки в икону, что ли.
В отличие от недавних лет нам стал доступен весь
современный мировой философский аквизит, и мы можем свободно
писать о наших современниках, причем не в стиле Б. Э. Быхов-
ского, который был вынужден воинственно размахивать
саблей, а признавая в них коллег, у которых есть чему поучиться,
с которыми можно как спорить, так и соглашаться, будет ли
это У. Куайн или Р. Рорти, тот же К. Поппер или И. Лакатос,
даже экзистенциалисты, которые открыто противопоставляют
свои учения науке. Одним словом, в осмыслении новейших
этапов развития философии в минувшие десять—двадцать лет
сделано немало.
Если говорить об изучении классической философии; тога же
Канта, Гегеля и т. д., то здесь опубликован ряд добросовестных
трудов о ее связи с отечественной философией. Так, следует
отметить издание ряда основных работ Канта на двух языках,
осуществляемое Н. В. Мотрошиловой вместе с немецким
профессором Тушлингом. Но это лишь начало, и еще многое предстоит
сделать для нового прочтения классиков философии, в том
числе и Платона, и Аристотеля, ибо то, что писал о них, например
А. Ф. Лосев, было проникнуто его собственной концепцией, и
его рассуждения, например, о материализме Платона мне
представляются не самой удачной попыткой приблизить Платона к
172 Беседы Л. Н. Митрохина с Т. И. Ойзерманом
нашему времени. Ценность Платона именно в его идеализме, к
которому надо относиться — и это уже делается — с большим
почтением, как к достаточно серьезной и аргументированной
теории, у которой многому можно поучиться.
Митрохин Л. Н. Что же тогда составляет основной вопрос
философии? Может быть, отношение к его прежнему
советскому пониманию?
Ойзерман Т. И. То, что сказал Энгельс об отношении
материи и сознания, можно считать одним из основных вопросов
философии, но вовсе не единственным. Я не могу применить
это, скажем, к Шеллингу, который прямо пишет, что высший
и основной философский вопрос — это вопрос об отношении
свободы и необходимости. И смысл его философии, как и
философии Фихте и во многом Гегеля, состоит в решении именно
проблемы свободы и необходимости. Вопрос об отношении
мышления и материи был основным скорее для
материалистов, которые особо подчеркивали, что наши чувства, наше
мышление — продукт физиологической организации
человека. Вспомните Ламетри, Гольбаха, да и более ранние учения.
Для идеалиста, который всегда рассматривает материю как
внешнюю оболочку чего-то другого, как акциденцию, это
взаимоотношение не представлялось столь важным.
Митрохин Л. Н. Но все-таки Гегель, например, четко
выделял «линию материалистов».
Ойзерман Т. И. Да, он неоднократно употребляет термин
«материалист», как, впрочем, и Кант, и Христиан Вольф. Но
когда он говорит о материалистах, то скорее ради конкретных
замечаний, а не с целью обсуждения вопроса о том, что
первично, а что вторично. Так, он даже с похвалой отзывается о
французских материалистах, поскольку находит у них протест
против разложившегося феодального строя и критику
ложного, по его мнению, католицизма, Возьмите того же Платона.
Разве у него есть постановка вопроса о том, что материя
вторична? Этот вывод можно сделать, читая Платона, но его
интересуют совсем другие проблемы. Да и Энгельс, надо отдать
ему должное, говорит об «основном вопросе, в особенности
философии Нового времени». То есть он не прямо относит его
к античной и средневековой философии. Причем в достаточно
осторожной формулировке: «вопрос отношения материи и
сознания, или бытия и мышления». Но «бытие и
мышление» — это не обязательно «материя и сознание». Скажем,
для упомянутого Шеллинга бытие, конечно, первично, но оно
для него духовно.
Из бесед с академиком Т. И. Ойзерманом 173
Поэтому сама идея «основного вопроса философии» — это
несомненное сужение поля метафизического дискурса.
Вероятно, то, как понимает философию Аристотель, есть прежде всего
его понимание собственной философии, То, как понимает
философию Платон, есть платонистское понимание философии.
Короче говоря, философы не согласны между собой не только в
вопросе о том или другом предмете, но и в том, что такое
философия. Поэтому нет оснований полагать, будто имеется
непременный пункт, «основной вопрос философии», в котором они
расходятся. Тем более, когда наши коллеги, к примеру,
П. В. Копнин, человек, несомненно, талантливый, писали, что
основной вопрос философии есть предмет философии, они явно
обедняли содержание философии. Предмет философии
фактически разный. Для Сартра или Хайдеггера, например, — это
внутренняя жизнь человека, экзистенция. Так что марксистская
концепция основного вопроса философии весьма догматична и,
конечно, подлежит ревизии. А мы даже еще усугубили то, что
Энгельс сказал в более или менее осторожной форме.
Митрохин Л. Н. Только что вышла Ваша новая
монография «Марксизм и утопизм», которая едва ли не шокировала
многих коллег. Об этом позже. А пока объясните, пожалуйста,
почему Вы избрали именно такую тему?
Ойзерман Т. И. Это закономерный и, по-моему,
естественный результат переосмысления традиционных представлений
не только о марксизме, но и о предмете философии, о ее месте
в системе культуры, в частности, взаимоотношении с наукой,
что предполагало и пересмотр значения ненаучных форм
знания, в том числе и утопии. В новой книге я рассматриваю
утопическое как перманентное содержание мышления,
перманентное и в оценке прошлого и тем более в попытке
предвидеть будущее. С моей точки зрения, предвидение более или
менее отдаленного будущего человечества принципиально
невозможно. Оно невозможно потому, что в любом
рациональном действии имеются такие элементы, которые оказываются
незапланируемыми, непредвидимыми, стихийными. Эти
непредвиденные последствия сознательных действий, в свою
очередь, порождают еще более непредвиденные последствия.
И так идет дальше и дальше, в конечном итоге мы получаем
цепь непредвиденного, которая порождает непредвиденное.
Поэтому фактически любое предвидение, которое имеет
какую-то познавательную ценность, основано на экстраполяции
того, что уже имеется, на ближайшее будущее. Если речь идет
о ближайшем будущем, это в большей или меньшей мере оп-
174 Беседы Л. Н. Митрохина с Т. И. Ойзерманом
равдывается. Если о далеком, то здесь избавиться от утопизма
уже невозможно. Кстати, это признавал и Энгельс. Поэтому я
рассматриваю утопизм в марксизме не просто как сугубо
отрицательную черту, а как неизбежную и в этом смысле
поучительную. И когда Ленин говорит, что утопизм — это сказка,
это небыль, это неверно, потому что в утопизме содержится
даже нечто великое. Если бы не было утопии, говорил Ана-
толь Франс в одной из своих лекций, то люди по-прежнему
жили бы в пещерах.
Но Маркс и Энгельс не только не смогли преодолеть утопий
своих предшественников, например, идеи бестоварного,
безденежного общества, но еще добавили новые, например,
диктатуру пролетариата, не задумываясь о том, что никогда в
истории диктатура не была диктатурой целого класса. Одна из
причин этого в том, что они не до конца разграничивали
понятия «политическое господство» и «диктатура». Политическое
господство класса — понятие очень широкое. Можно сказать,
что капитализм — это политическое господство буржуазии,
но это не обязательно диктатура, И когда Ленин говорил, что
самая демократическая буржуазная республика в конечном
счете является диктатурой, он, конечно, заблуждался,
стремясь оправдать тот тип власти, который стремился создать.
Ошибался он и тогда, когда заявлял, что государство
немыслимо без диктатуры. По Ленину, диктатура есть власть,
опирающаяся не на закон, а на насилие. Но после Октябрьской
революции он настойчиво требовал соблюдать
государственные законы: не может быть законности Калужской,
Казанской, есть только одна всероссийская законность, за
малейшее отступление от которой нужно наказывать. Но имелись в
виду опять-таки диктаторские законы.
Митрохин Л. Н. В связи с Вашей последней книгой я
нередко слышу: Ойзерман отрекается, едва ли не предает
Маркса. Вы действительно не раз говорили об его отдельных
просчетах, неточных, а то и ошибочных высказываниях. Но
Маркс — слишком крупная фигура, чтобы они определили его
место в истории. Поэтому хотелось бы услышать Вашу
общую, так сказать, итоговую оценку теории марксизма, в том
числе и философии Маркса.
Ойзерман Т. И. Я всегда полагал, что Маркс —
величайший социальный мыслитель, можно сказать, всех времен и
народов. Мне неизвестен никто другой, кого можно было бы
поставить на один с ним уровень. В то же время, на мой взгляд,
он совершил немало ошибок, и многие из них были неизбеж-
Из бесед с академиком Т. И. Ойзерманом 175
ны. Дело в том, что он стал социалистом задолго до того, как
разработал свое экономическое и вообще социальное учение.
Так что его убеждение о неизбежности смены капитализма
социализмом было желательным убеждением, в сущности,
верой, которую он разделял вместе с другими социалистами.
Позже он попытался эту веру обосновать. Но строго говоря,
экономического обоснования социализма Маркс не дал и дать
не мог. Он и сам писал, что цель «Капитала» — исследовать
законы современного, то есть капиталистического общества, и
он это сделал блестяще. О социализме же в первом томе
имеются лишь беглые упоминания. Поэтому утверждение Ленина,
будто Маркс экономически доказал неизбежность социализма,
не соответствует действительности. Ни Маркс, ни Энгельс и
никто другой не могли доказать, что социализм есть
единственно возможная альтернатива капитализму. Вообще
альтернатива не существует в единственном числе.
И до Маркса социалисты были убеждены, что
капитализм — преходящий общественный строй. С некоторыми
оговорками можно сказать, что Маркс сумел это обосновать
научно. А вот то, что капитализм сменится именно социализмом
(причем в той форме, о которой у него, а чаще у Энгельса,
высказаны лишь отдельные замечания), у него нигде не доказано.
Единственная тенденция, которая, как ему казалось,
подтверждала такую убежденность, был процесс обобществления
средств производства, которое происходит при капитализме,
то есть концентрация и централизация капитала. Но
последующее развитие показало, что средние слои отнюдь не
исчезают, что мелкое и среднее производство способно
возрождаться даже в интересах крупного капитала. И это нормальное
развитие капитализма, чего Маркс, конечно, предвидеть не
мог. Это главное заблуждение неизбежно сказывалось и на
его более детальных соображениях о будущем обществе.
Теперь относительно моей общей оценки марксистской
философии. Я по-прежнему стою на позиции
материалистического понимания истории, за исключением концепции базиса
и надстройки, которую я отвергаю, поскольку она
противоречит положению о том, что общественное сознание отражает
общественное бытие. В самом деле, из разделения «базиса» и
«надстройки» неизбежно следует, что художественные,
философские, моральные и прочие взгляды отражают не
общественное бытие, а лишь экономические отношения. Здесь я
усматриваю явное внутреннее несогласие. Что же касается
диалектического материализма, то я вполне принимаю его как
176 Беседы Л. Н. Митрохина с Т. И. Ойзерманом
учение о диалектическом процессе, правда, очень
неразработанное. Но самым решительным образом отвергаю и раньше
отвергал существование одних и тех же общих законов для
природы, общества и мышления — а к этому сводилась
диалектика Гегеля, и это осталось у Энгельса.
Уже в 1948 г. я писал, что законы диалектики — не что иное,
как обобщенные представления о тех законах, которые
открывают физика, химия и другие науки, о законах, которые неполно
отражают действительность и далеко не всегда являются
законами развития. Там я, конечно, не говорю, что нет законов
диалектики. А в 1982 г. на совещании по диамату, организованном
журналом «Вопросы философии», я совершенно четко
сформулировал свою точку зрения: Мне представляется в высшей
степени важным правильное понимание статуса «законов
диалектики». Некоторые исследователи склонны их трактовать как
особый, верховный класс законов, которым подчиняются
«простые», открываемые специальными науками законы. Такой
иерархии законов в действительности не существует. Допущение
такого рода субординации означало бы возрождение
традиционного противопоставления философии нефилософскому
исследованию, столь характерного для идеалистического
философствования». Но на меня все равно ополчился Н. В. Пили-
пенко из ЦК, и я вынужден был даже написать статью «О
всеобщности законов диалектики», где фактически проводил ту
же мысль, но, так сказать, в завуалированной форме.
Я не специалист по политэкономии и хотел бы воздержаться
от однозначной оценки экономического учения Маркса. Но я
думаю, что здесь много неверного, и не только в смысле
политических выводов, скажем, относительно прогрессирующего
обнищания пролетариата, но и, к примеру, закона — тенденции
нормы прибыли к снижению. Меня также смущает
утверждение Маркса о том, что стоимость товара определяется
количеством общественно-необходимого рабочего времени. Значит,
стоимость товара должна постоянно уменьшаться. Почему же
цена его увеличивается? Кроме того, у Маркса в его
подготовительных работах к «Капиталу» имеются положения, явно
противоречащие этому тезису. Так, он заявляет, что благодаря
развитию науки и превращению ее в непосредственную
производительную силу производимое богатство становится независимым
от количества затраченных рабочих часов.
Митрохин Л. Н. Теперь заключительный вопрос. За
минувшие годы Вы основательно пересмотрели свои прежние
представления о марксизме как высшей форме философского
Из бесед с академиком Т. И. Ойзерманом 177
учения. Специфика философии, ее богатство заключается в
наличии и необходимости различных течений — таков
лейтмотив Ваших последних работ, да и сегодняшней беседы. Вот
меня и интересует, каковы исходные причины такой
эволюции. То ли это выявление каких-то проблем, которые не
решались философией марксизма, либо решались неглубоко,
поверхностно, то ли непосредственное знакомство с учениями,
содержавшими неожиданные, но здравые соображения, то ли,
наконец, быстрый крах тоталитарного строя, находившего
псевдонаучное оправдание в монолите диаматовской схемы.
Ведь Вы не могли не видеть, что многие философские течения,
претендовавшие на беспристрастные поиски истины, в
конечном счете отражали различные идеологические интересы.
Может быть, Вам каким-то образом удалось перескочить на
некую мета-философскую орбиту?
Ойзерман Т. И. Я бы сказал, что в своих предположениях
Вы верно указали на основные причины. Но я постараюсь
ответить более конкретно, поскольку это факт моей биографии.
Думаю, что к переоценке марксизма меня в первую очередь
привело то обстоятельство, что я прежде всего историк
философии. И как таковой я не мог просто изучать
экзистенциализм или структурализм, даже классические учения, как
чуждый, враждебный им человек. И именно восприятие этих
далеких от марксизма, а чаще ему противостоящих учений шаг за
шагом приводило меня к мысли, что если марксизм не может
ничего почерпнуть из этих учений, отвергая их с порога, то он
тем самым закрывает путь к собственному развитию, обрекает
себя на превращение в систему утопических догм. Но я не хочу
преувеличивать значение моего внутреннего развития.
Мощным ферментом стал крутой перелом, который недавно
совершился в отечественной истории. Так постепенно я и пришел к
убеждению, что не существует никакого общеобязательного
определения понятия философии, не существует закрытого
фонда общепринятых философских истин.
Как я уже говорил, для меня бесспорна плодотворность
такого типа развития, которое можно назвать плюрализацией
философских идей, плюрализацией, которая не исключает
также их синтеза; и этот синтез есть механизм возникновения
новой системы взглядов. Лишь наш язык ограничивает
возможность возникновения новых философских систем. Но
поскольку язык сам находится в процессе развития и
обогащения, то всегда сохраняется возможность появления новых
философских учений.
178 Беседы Л. Н. Митрохина с Т. И. Ойзерманом
Взяв любое новое философское учение, нетрудно
проследить его предшественников и то, что оно взяло от них. Так,
учение того же Поппера возникло из позитивизма, но это
возникновение из противоположности, которую сами
позитивисты не заметили. Рудольф Карнап написал вполне
положительную рецензию на книгу Поппера, вышедшую, кажется, в
1934 г., не заметив, что он отвергает как раз то, что доказывал
сам Карнап.
Кстати сказать, я даже думаю, что идея плюрализма
философских систем в какой-то мере может быть применена, но,
конечно, в ограниченном, частичном варианте и к развитию
научного знания, в котором тоже существует скрытая,
латентная конфронтация, которая кажется преодоленной, а потом,
на следующем этапе оказывается, что прежняя теория
сменяется новой, более полной и иногда отрицающей свою
предшественницу.
Митрохин Л. Н. Здесь, однако, напрашивается одно, если
не возражение, то замечание. Согласимся: у каждого человека
своя философия, зависящая от него, от эпохи и т. д. Но не
стирается ли тогда грань между профессиональным и, так
сказать, обывательским философствованием, между
профессиональным философом и просто мыслящим человеком,
имеющим какой-то взгляд на мир и решающим для себя сугубо
личные, экзистенциальные проблемы?
Ойзерман Т. И. Согласен, мировоззрение свойственно не
только философам, но и ученым, и мыслящим людям. Скажем,
М. Планк, чистый естествоиспытатель, замечает, что
мировоззрение участвует в определении программы исследования;
Гильберт говорит о математическом мировоззрении и он по-
своему прав: математика — особый тип мышления и
понимания мира. В конце концов, религия — тоже своеобразная
философия мира, которую, правда, люди обычно воспринимают
не как результат собственного постижения, а по традиции, в
результате воспитания и т. д. Так что каждый мыслящий
человек — по-своему философ. Но в том-то и дело, что история
философии — это история не философских идей или простых
высказываний, а история, все-таки, больших систем. И когда
мы берем даже самый обстоятельный учебник философии,
скажем, четырнадцатитомный учебник И. Юбервега, то мы
видим, что из необозримого множества философов он
выделяет только тех, которые создали значительные системы. И
таких насчитывается, увы, не так уж много. В этом смысле
философов было тысячи, но людей, создавших системы — лишь
Из бесед с академиком Т. И. Ойзерманом 179
десятки. И только эти десятки, собственно, составляют
предмет истории философии. Показательно, например, что, говоря
о французском материализме, мы очень скупо выделяем
специфику воззрений Ламетри, Гольбаха, Гельвеция, Дидро, хотя
они активно полемизировали друг с другом. Все-таки это была
полемика единомышленников, и в этом смысле они едины.
В моей терминологии это только дифференциация внутри
одного и того же учения, а не дивергенция. Надеюсь, что в
монографии «Оправдание ревизионизма», над которой я сейчас
работаю, мне удастся убедительнее выразить свои раздумья
последних десятилетий и ответить на недоуменные вопросы, с
которыми ко мне часто обращаются коллеги.
P.S.
Пришло время отложить в сторону магнитофон и
попробовать взглянуть на нашу беседу с Т. И. Ойзерманом несколько
со стороны. Конечно, немало занятных, даже значительных
эпизодов пришлось опустить. Но я и не собирался
прослеживать биографию юбиляра, равно как и детально
останавливаться на всей его исследовательской и педагогической
деятельности: многочисленных историко-философских работах,
публикациях по теории познания и социальной философии,
участии в многочисленных зарубежных конгрессах и встречах.
Мой замысел был иным. Мне тоже довелось знать многих
ведущих философов советских времен, и я имею свои
представления о том поле, на котором разворачивалась их
деятельность, — перепаханном вдоль и поперек, с кривыми окопами,
колючей проволокой, доносчиками и номенклатурными
надзирателями, о поломанных судьбах и братских могилах с
забытыми именами. И когда я думаю о мучительных переживаниях
тысяч и тысяч порядочных и талантливых людей, то невольно
вспоминаю слова, незадолго до своей кончины написанные
известным экономистом-межународником Я. А. Певзнером
(1914 г.р.), с которым я познакомился в «Узком»: «Да, мне
удалось избежать настоящего ГУЛАГА, но только потому, что
я был узником ГУЛАГА духовного. Процентов
двадцать—тридцать того, что я писал в книгах и статьях, было правдой (не
зря меня клеймили в «Правде). Но эту правду я мог давать
только потому, что обрамлял ее ложью. Одновременно я делал
записи. Я их тщательно скрывал. Теперь я понимаю, что и там,
в своих заметках, не всегда писал правду. Я лгал самому себе.
180 Беседы Л. Н. Митрохина с Т. И. Ойзерманом
Были диссиденты, были умственные рабы, и были люди,
державшие кукиш в кармане. Я, вероятно, отношусь к
последним. Но ведь мы были... И, вероятно, нас было большинство.
И если кто-то захочет заглянуть в нашу эпоху — не может
забыть и о нас»*. Но при всех потерях, арестах, репрессиях
ростки творческого знания все же пробивались через
асфальтовый пресс, и отечественная философская мысль оставалась
живой, добивалась выдающихся результатов, без которых
сегодня она выглядела бы жалкой**.
Существовали разные пути, на которых свободолюбивые
мыслители пытались вырваться из мертвящих объятий
партийного догматизма. Одни уходили в далекую античность или
средние века, куда еще не добрались идеологические
соглядатаи, другие прорывались чужими огородами, «критически»
оценивая западные доктрины, третьи пытались реализовать
свои творческие потенции вне лона философии: в
структурализме, лингвистике, литературоведении, культурологии.
Были, наконец, и такие, кто, отчаявшись, искал спасения
внутри церковной ограды.
Т. И. Ойзерман был одним из немногих, кто пытался
отстоять профессиональное достоинство в русле философии в ее
классической, веками складывавшейся тематике. И уверен,
что ему это во многом удалось. Я не настолько наивен, чтобы
впасть в морализирование о «смелости» и
«принципиальности», или, напротив, «трусости» и «коварстве» отдельных
персонажей, хотя бездарных прохвостов и мрачных лицемеров
в нашем сюжете встретилось достаточно. Я предпочитаю
исходить из реальности. А она такова, что Т. И. Ойзерману
(конечно, не без досадных потерь) во многом удалось добиться своих
целей. Тогда вынужден признаться: торжественный юбилей
Т. И. Ойзермана я воспринял как стимул к тому, чтобы
постараться разобраться, как это могло получиться, и тем самым,
сказав о действительных, а не просто календарных заслугах
нашего патриарха, достойно отметитьи его девяностолетие.
Перед нами промелькнули многие события — одни
всесоюзного масштаба, другие — сугубо личного, не только
трагические, но и комические. Но самое удивительное в том, что ка-
* Певзнер Я. А. От великой экономической контрреволюции к
прагматическому социализму // Наша школа. 2002. № 5. С. 26.
** Об этом убедительно рассказано в упомянутом двухтомном сборнике
«Философия не кончается...». М., 1998.
Из бесед с академиком Т. И. Ойзерманом 181
ждый раз на кону стоял главный принципиальный вопрос:
какой быть отечественной философии. Суть деятельности
звездной пары Митин—Белецкий сводилась к тому, чтобы на
основе не только расслышанных, но и заранее угаданных
подсказок усатого суфлера доказать, что советской философии
не только не нужны, но и враждебны мысли, положения,
нюансы, которые отсутствуют в речах кремлевского хозяина.
Об этом речь шла и во времена разгона деборинцев, арестов в
30-е гг., обсуждения книги Александрова, защиты докторской
диссертации Ойзермана и так далее — вплоть до последних
конвульсий горбачевского правления.
Стратегия кремлевских кураторов была четкой: должна
быть создана монолитная партийно-государственная
идеология, поставившая под неусыпный контроль все формы
культуры, вне зависимости от того, в каком виде они существовали
до Октября и поныне существуют за кордоном.
Самодостаточное ядро такой идеологии составляет диамат в «кратком»
сталинском изложении, и задача философов и деятелей культуры
заключается в конкретизации его непререкаемых догм
применительно к отдельным сферам человеческой деятельности.
Напомню, как яростно выступали номенклатурные идеологи
против концепции бессубъектной природы моральных заповедей:
они должны формулироваться партией, и в третью Программу
КПСС был вставлен «моральный кодекс строителя
коммунизма». Та же тенденция проявилась в яростном сопротивлении
созданию социологии как автономной науки, независимой от
стереотипов истмата. Поэтому мы вправе рассматривать Белецкого
и Ойзермана не просто как индивидов, по-разному толкующих
метафизические проблемы, но как исторически закономерные
персонажи, конфронтация которых была неизбежной.
Признаюсь, что во время бесед с Т. И. Ойзерманом у меня
нередко возникала мысль, а не преувеличивает ли он значение
фигуры 3. Я. Белецкого, придавая ему облик некоей
демонической силы, определявшей главные философские баталии
того времени. Однако недавно А. Д. Косичев,
непосредственный участник событий, о которых у нас шла речь, презентовал
мне свою книгу воспоминаний*. Естественно, автор оценивает
поступки своих коллег с иных позиций, чем Т. И. Ойзерман, а
тем более я — тогдашний студент и аспирант. Но он совершил
* Косичев А. Д. Философия, время, люди. Воспоминания и размышления
декана. М., 2003.
182 Беседы Л. Н. Митрохина с Т. И. Ойзерманом
едва ли не научный подвиг, разыскав в архивах многие
ключевые документы, которые и служили поводом для постоянных
коллизий и взаимных обвинений.
Выясняется любопытная вещь: большинство
высокопоставленных деятелей, имевших даже косвенное отношение к
философии, было вовлечено в решение коллизий, которые
создавал именно 3. Я. Белецкий. В книге приводятся его первое
послание И. В. Сталину от 27 января 1944 г. и подробный
пересказ ответа на это послание Г. Ф. Александрова
секретарям ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкову и А. С. Щербакову от 29
февраля 1944 г., письма Белецкого Сталину от 18 ноября
1946 г. и 9 апреля 1949 г., его же послания Маленкову от 22
марта и 3 сентября 1949 г., заключение комиссии во главе с
А. М. Румянцевым, отчет о шестидневном факультетском
собрании (март 1949), на котором кафедру Белецкого обличали в
антимарксизме и космополитизме, послание руководства МГУ
Маленкову с требованием ускорить отстранение Белецкого от
кафедры и преподавания в университете, ответное письмо
тому же Маленкову министра высшего образования СССР
С. В. Кафтанова, категорически несогласного с таким
требованием, письмо отдела науки ЦК ВКП(б) М. А. Суслову о
неблагополучии в философской науке от 30 сентября 1949 г.,
поразительное по своему мракобесию послание Г. М.
Маленкову «О мерах ликвидации космополитизма в философии»,
подписанное Г. Александровым, Д. Чесноковым, Ф.
Константиновым с припиской: «Послано товарищу Сталину И. В. 21.
3. 49», а также многие факты резких выступлений против
Белецкого руководящих философских деятелей.
Многие из этих документов составлены в жанре доносов с
прямыми обвинениями в утрате политической бдительности и
извращении основ марксизма-ленинизма. Не чурались
идейные мыслители и кухонной лексики: «чепуха», «абсурдность»,
«несуразность», «невежественное мнение», «т. Белецкий
пошел на жульничество», «это подлог .и обман Белецким
товарища Сталина». Впрочем, Белецкий также в карман за словом
не лез. В общем, это неисчерпаемый кладезь злонамеренного
лукавства, подтасовок и подсиживаний. Может быть, когда-
нибудь найдется добровольный разгребатель этой
номенклатурной грязи. Меня же поразило другое.
В ЦК поступает очередное послание 3. Я. Белецкого,
обличающее толкование Г. Ф. Александровым или его
последователями идеализма, объективной истины, сути диалектического
метода, то есть сугубо профессиональных философских про-
Из бесед с академиком Т. И. Ойзерманом 183
блем. И высокий получатель (Маленков или Суслов)
накладывает одну и ту же резолюцию: «1) Ознакомить секретарей ЦК.
2) Рассмотреть на очередном секретариате ЦК». И дальше
указывается список секретарей ЦК и высоких
государственных деятелей «на ознакомление вкруговую». И
рассматривали. Так, по письму Белецкого Сталину (18.10.46) Секретариат
ЦК ВКП(б) принял решение «в связи с серьезными ошибками
провести обсуждение книги Александрова».
Только что кончилась война. Страна лежала в руинах.
Неужели не было более важных проблем, чем ломать голову над
тем, как понимать объективную истину? Да и чем
номенклатурные мыслители, в метафизике заведомо серые, могли
обогатить философию?
Но в свете всей этой суеты яснее вырисовывается
угрожающая и по-своему трагическая фигура Белецкого. Еще вчера
мало кому известный, заштатный профессор точнее всех
кремлевских мыслителей несколько раз угадывает потаенные
симпатии и глубину мысли земного бога. Значит, наступил его
звездный час. Но амплуа новатора в сакральной системе,
каковой был диамат, весьма опасно. Дело в том, что в советской
философии закрепилось хотя и догматическое, но по-своему
цельное понимание источников и составных частей марксизма.
И изменение одного блока требовало перетолкования других,
что могло выглядеть как ревизия постулатов, которые
почитались как фундаментальные.
Не могу точно судить о причинах, но Белецкий решительно
вступил на этот путь и тем самым оказался в двусмысленной
ситуации. Его яростная защита официального догматизма
сопровождалась покушением на его же краеугольные устои, что,
в конце концов, оттолкнуло от него многочисленных казенных
идеологов и политических деятелей, которые прикидывались
философами. Тем более, что он бросал открытый вызов
сложившейся группе государственных любомудров, которые (и в
этом он был прав) «не знают никаких наук» и рассматривают
область философии как свою «частную собственность».
Отсюда и вся запутанность отношения к его
непредсказуемому теоретическому своеволию. С одной стороны, оно в
штыки принималось неисправимыми и малограмотными
догматиками, в принципе отвергавшими свободу мысли, с
другой — его идеи так или иначе могли разделяться творчески
мыслящими специалистами, например, «гносеологами». Так
что, полагаю, Теодор Ильич верно охарактеризовал и феномен
Белецкого, и причины их взаимной вражды.
184 Беседы Л. Н. Митрохина с Т. И. Ойзерманом
Вообще-то деятельность Белецкого и Ойзермана
разворачивалась на разных энергетических орбитах, и в нормальной
обстановке говорить и спорить друг с другом им было бы не о чем. Но
молодой доцент стал символом, а позже и организатором того
самого «чужого» и по своей типологии неподвластного цензуре
философского знания, которое неизбежно подрывало
монополию диамата. Он слишком часто читал сомнительные,
непроверенные книги, знал слишком много терминов и идей, о которых
мыслители типа Митина и Белецкого не только не имели
никакого представления, но которые не могли и не хотели понимать.
Впрочем, не хочу выглядеть чересчур глубокомысленным.
Надеюсь, что содержание самой беседы, общие рассуждения и
совсем мелкие детали однозначно подтверждают эту мысль.
Т. И. Ойзерман прав: к разработке порученного ему курса
истории марксисткой философии он подошел не как диаматчик,
а как нормальный историк философии, рассматривая ее как
органическую часть философского знания, пытаясь объяснить
ее становление в соответствии с теми принципами и
навыками, которые приобрел заранее.
Следует только оговориться, что сам по себе факт
включения в программы новых историко-философских дисциплин
догматизму еще не грозил. Все решал уровень, на котором эти
дисциплины преподавались. Напомню, что Жданов
критиковал (и в данном случае справедливо) Александрова за то, что
тот историю философии свел к Западной Европе, забыв, к
примеру, о русской философии. Такая кафедра была спешно
организована и развила бурную деятельность, тем более, что
подоспело время борьбы против космополитизма. И каков
результат? Лекции Щипанова и его коллег поражали нас,
студентов, поверхностностью и косноязычием. Вместе с тем свою
профессиональную беспомощность они компенсировали
бурной активностью в организации погромных кампаний по
защите принципа партийности, борьбе с космополитизмом,
воспитанию квасного патриотизма, одним словом, «служению».
Исходная установка секрета не составляла: русская
философия — это эмбриональная стадия идей сталинского
диамата. Поэтому она всячески противопоставлялась западной
мысли, полностью игнорировалась религиозно-идеалистическая
линия, выхолащивались идейные искания Белинского, драма
Чаадаева и Герцена, не говоря уже о злобном обличительстве
выдающихся мыслителей Серебряного века.
Были и порядочные, знающие преподаватели (3. В.
Смирнова, Г. С. Арефьева, В. Н. Бурлак), но под разными предло-
Из бесед с академиком Т. И. Ойзерманом 185
гами их старалось выжить или дискредитировать. Одним
словом, кафедра прививала не любовь и уважение к русской
философии, а фактически дискредитировала и оглупляла ее.
В результате событие, беспрецедентное и позорное для
знаменитого университета. Группа студентов (Е. Г. Плимак, Ю. Ф.
Корякин, Л.А.Филиппов, И. К. Пантин) устроила настоящий
бунт против примитивизма и искажений в освещении истории
русской философии.
И все же авторитета и влияния Т. И. Ойзермана как
заслуженного фронтовика, талантливого исследователя
западноевропейской, прежде всего немецкой классической философии
было бы явно недостаточно для того, чтобы противостоять
влиянию огнеупорных талмудистов. Здесь судьба проявила
изощренную хитрость: молодой доцент довольно рано завоевал и с
годами укреплял репутацию ведущего знатока деталей и
тонкостей становления учения Маркса и Энгельса, причем во всем
контексте развития мировой общественно-теоретической
мысли, и неустанно публиковал результаты своей работы. Иными
словами, предмет и логика его исследований совпадали с тем,
что (пусть лишь на словах) официально признавалось «Осуда-
ревой» дорогой победоносной партийной науки, и не считаться
с этим даже номенклатурная камарилья не могла. Так что на
него открытые фронтальные атаки исключались, приходилось
искать окольные пути, довольствоваться мелкими уколами и
демагогическими выпадами, не всегда эффективными.
Теодор Ильич, наверное, порой упрекает себя за
нерешительность в отстаивании собственных взглядов, за
неоднократные попытки переубедить догматиков, ссылаясь на тексты
классиков, хотя бесперспективность этой затеи была ясна
заранее, за нередкие компромиссы. Бог ему судья. Я-то не думаю,
что для этого имеются серьезные основания: он виртуозно
прошел тот путь, который был ему (и только ему) предназначен
свыше. А путь замысловатый: все время идти по тонкому
прогибающемуся льду и как минимум не провалиться, а главное —
оставаться на свободе. Для этого он и был награжден богатым
арсеналом: природным талантом, нечеловеческой
работоспособностью, неистовой страстью к сочинительству, и наивной,
почти ребячьей верой в то, что все как-нибудь образуется, а
если уж станет совсем плохо, то спасет обыкновенное чудо.
Все так и происходило, что выяснилось уже в школьные
годы. «Незадолго до окончания школы, — вспоминал Теодор
Ильич, — со мной случился казус. В те годы все только и
говорили о Днепрогэсе. И вот я с несколькими товарищами ре-
186 Беседы Л. Н. Митрохина с Т. И. Ойзерманом
шил пойти и посмотреть на это чудо света (он был примерно в
девяноста км. от нас). Шли больше суток. В школе это
вызвало настоящий переполох. Нас стали таскать по начальству.
Я был лучшим учеником школы. Успеваемость у меня
оценивалась в девяносто восемь процентов, тогда как уже девяносто
процентов приравнивались к отличной. Разумеется, прямо
приписать нам какие-то диверсионные намерения было
невозможно, но из пионеров меня на всякий случай исключили. А в
те годы всем выпускникам выдавалась характеристика, в
которую обязательно включалась оценка отношения к советской
власти: «хорошо», «безразлично», «враждебно». Мне
написали последнюю. Но, к счастью, органы такой аттестацией не
заинтересовались. У них были свои источники информации и
там знали, что я постоянно писал в школьную стенгазету, даже
в областную газету «Будущая смена».
А эпизод с Бродовым? На минуту представьте себе, что
стало бы с Ойзерманом, если бы на месте вменяемого кэгебеш-
ника, который разбирал это дело, сидел бы полуграмотный
фанатик или даже компетентный товарищ, у которого горел
план своевременной посадки? И уж совсем страшно подумать,
как развернулись бы события, если бы на письме Белецкого о
защите Ойзерманом докторской диссертации вождь начертал
бы обычное: «разобраться».
Мне могут возразить, что наш герой не был совсем уж
пассивным, он добивался справедливости, никого не подсиживал,
доносов не писал, нередко шел на компромиссы. Конечно,
скажем, предложение о письме ректора МГУ с предложением
Т. И. Ойзерману вернуться на философский факультет, набег
на дачу Г. Ф. Александрова, идея сугубо предварительного
отзыва сказавшегося больным академика и даже своевременная
реплика в связи с переходом на кафедру В. Ф. Асмуса — это
неповторимые шедевры житейской смекалки, доступные лишь
бывалому советскому человеку.
А к чему он затеял шумиху по поводу идеализма и
агностицизма в самой АОН при ЦК КПСС, где (он это знал
наверняка) никому до таких тонкостей дела не было? И уж с обликом
конформиста совсем не вяжется резкое выступление против
Б. С. Украинцева с предложением лишить его директорства.
Причем на директивном совещании в ЦК под
председательством самого заведующего отделом науки С. П. Трапезникова,
который его и назначал! Я неплохо знал этого всемогущего
царедворца: привычкой подставлять другую щеку он не
грешил. Речь, правда, шла о защите В. Ж. Келле, одного из поря-
Из бесед с академиком Т. И. Ойзерманом 187
дочных и честнейших коллег, и это было по совести. Но
выступил только кроткий Ойзерман. А почему? Наверное потому,
что чувствовал свою правоту и верил в поддержку, как он
любил говорить, «порядочных и справедливых людей».
И здесь открывается еще одна особенность жизненного пути
нашего юбиляра. Можно заметить, что в критические для него
минуты действительно находились люди, спешившие его
поддержать. Среди них было немало коллег, связанных с ним
давними дружескими чувствами. Но нередко (некоторые случаи
мною упоминались выше) к нему обращались как к
признанному надежному профессионалу. Редакторы журналов — чтобы
обеспечить качественное редактирование статей, особенно если
речь шла об исходной «муре» номенклатурных авторов,
желавших выглядеть мыслителями, озабоченными метафизическими
сюжетами, заведующие отделами журналов — чтобы
обеспечить доходчивые разъяснения не всегда осмысленных
философских положений, директора институтов — чтобы обеспечить
высокое качество курсов по философии. По той же причине
Т. И. Ойзерману часто поручали ответственные доклады на
всемирных философских конгрессах. Такого отношения можно
было добиться только лихорадочным, самозабвенным трудом.
Одним словом, Т. И. Ойзерман безошибочно прошел по
отведенной ему трассе жизни — так опытный фигурист
проходит «школу». А если бы он увлекся своевольным
«произвольным катанием», то система наверняка сломала бы его, и
отечественная философия заметно приблизилась бы к
инструкции с разделами, ненавязчиво смахивающими на
статьи уголовного кодекса. Поэтому не будем стесняться слов
благодарности Т. И. Ойзерману за то, что он, в силу то ли
своей неистребимой оптимистической наивности, то ли в силу
законов высшего разума оказался в нужном месте в нужный час
именно таким, каким мы его знаем и любим.
В заключение поддамся искушению еще раз мысленно
представить себе картину пятидесятилетней давности, когда мы,
вчерашние школьники, спешили в Круглый зал философского
факультета на лекции молодого доцента Т. И. Ойзермана. Это
было прекрасное и яростное время, поэтому еще раз
поблагодарим тех преподавателей, которые сумели привить студентам
навыки творческого мышления; не случайно выпускники тех
лет занимают ведущее положение в нашей философии.
Вспомним лекции П. С. Попова, А. Н. Леонтьева, О. В. Трах-
тенберга, С. А. Яновской, В. Ж. Келле, спецкурс В. Ф.
Асмуса, семинары М. Я. Ковальзона, П. Я. Гальперина. И все же
188 Беседы Л. Н. Митрохина с Т. И. Ойзерманом
наиболее яркое впечатление оставили лекции Т. И. Ойзерма-
на по истории марксистской философии.
Вероятно, такая оценка выглядит неожиданной: сегодня
считается, что именно марксизм составлял оплот догматизма и
умственной окостенелости. Однако сказывалась не только тема.
В самой манере, ритмике, акцентах лекций Т. И. Ойзермана
чувствовалось особое теоретическое обаяние, некий педагогический
подтекст, второй план, который привлекал наше внимание
гораздо больше, чем отдельные факты и детали. Т. И. Ойзерман не
ограничивался пересказом и даже комментированием отдельных
работ Маркса и Энгельса, а стремился выявить содержательную
логику развития их взглядов, сделать наглядными побудительные
мотивы, сомнения, которые лежали в основе этого процесса.
И здесь перед ним открывались самые широкие возможности.
Марксизм явился результатом длительного процесса
радикальных изменений во взглядах самих его создателей, итогом
напряженной научно-критической деятельности,
безжалостной переработки, переплавки прежних доктрин. У Маркса и
Энгельса постоянно сохранялось чувство внутренней
неудовлетворенности, без которого поиски новых решений были бы
невозможны. Вспомните работы того периода: яркие,
афористические высказывания, подлинный фейерверк блестящих
образов и метафор, свидетельствующих о творческой
увлеченности, готовности все подвергать сомнению. На наших глазах
совершалась не смена сухих теорий, а движение самосознания
выдающихся и полных страсти умов, и эта энергетика мысли
заряжала слушателей и действовала уже в тех конкретных
исследованиях, которые каждый для себя избирал.
И, конечно, мастерство самого лектора. Т. И. Ойзерман —
натура художественная, он умел так срежиссировать свои
выступления, что мы слушали его как зачарованные. Не случаен тот
факт, что Ильенков подарил Ойзерману свою книгу с надписью
«Теодору Ильичу, научившему меня читать Маркса», а многие
философы, которых мы почитаем как лучших — Э. В. Ильенков,
А. А. Зиновьев, М. К. Мамардашвили, Б. А. Грушин Г. С. Бати-
щев, Ф. Т. Михайлов и др. — свои дипломы и диссертации
посвятили анализу воззрений Маркса, прежде всего, логики
«Капитала».
И сегодня, когда академику Теодору Ильичу Ойзерману
исполнилось девяносто лет, я хотел бы выразить искреннее
восхищение поразительным трудолюбием, юношеской
страстностью и чувством профессиональной ответственности
нестареющего ученого.
О философах и профессорах философии*
Беседа Н. Н. Шульгина
с А. А. Гусейновым
Ъеседа состоялась в кабинете, который А. А.
Гусейнов занимает в качестве заместителя директора
Института философии РАН — достаточно просторной,
светлой комнате, заваленной книгами и бумагами. Из
окон открывается прекрасный вид на вновь
отстроенный Храм Христа Спасителя. На столе лежат тома
Ницше.
Шульгин Н. Н. Абдусалам Абдулкеримович,
журнал «Вопросы философии» поздравляет Вас с
избранием в члены-корреспонденты РАН и просит
поделиться мыслями о философии, философской жизни,
ваших личных планах.
Гусейнов А Л. Благодарю. Как я полагаю,
опубликоваться в журнале «Вопросы философии» для
любого человека в нашей стране, связанного с
философией, является большой честью. А интервью — и
вовсе нечто очень высокое. Сердечно благодарен, хотя
ясно сознаю, что это — интервью по случаю. Дань
традиции.
Шульгин Н. Н, Разве это плохо?
Гусейнов А. А, Что Вы, что Вы?! Напротив, очень
хорошо. Более того, из всех преимуществ,
связанных с моим новым званием, возможность этого
интервью является одним из самых ценных. Именно
* Вопросы философии. 1998. № 3. С. 133-143.
190 Беседа Н. Н. Шульгина с А. А. Гусейновым
традиционный характер данного действа повышает его
значимость. По мне лучше затеряться, сгладиться в традиции, чем
вытарчиваться шипом. Просто хочется в самом начале точно
обозначить диспозицию: Вы мной заинтересовались,
поскольку я попал в ряд людей, у которых Вы традиционно
один раз — именно тогда, когда они попадают в этот ряд, —
берете интервью. И будь на моем месте любой другой, Вы
бы обратились к нему.
Шульгин Н. Н. Верно. Но ведь сама традиция сложилась не
случайно. Предполагается, что в этот ряд, в Российскую
академию наук, попадают именно достойные. Ваш случай это
подтверждает Вы — известный философ.
Гусейнов А, А. Простите, что перебиваю. Давайте
задержимся на этом «известный философ». Слово «известный»
отбросим, так как оно является очень неопределенным в
фактическом содержании и двусмысленным в
аксиологическом плане, оно скорее годится доя тостов. Возьмем просто:
«философ». Кого вообще можно назвать философом, чтобы
это не было искажением имени — интересный и не такой,
между прочим, простой вопрос. В нем много разных
аспектов, но один из них на сегодняшний день является
исключительно важным
Необходимо четко различать философов и философоведов
(преподавателей философии, научных работников в этой
области.) По аналогии с тем, как мы различаем писателей и
литературоведов. Есть, скажем, М. Ю. Лермонтов и
произведения (тексты, как сейчас принято выражаться), которые
он создал. А есть тысячи, десятки, сотни тысяч критиков,
преподавателей, исследователей и т. д., которые
занимаются Лермонтовым, есть Лермонтовская энциклопедия и
прочие труды о творчестве великого поэта, по объему
многократно (в тысячи раз) превышающие само его творчество.
Схожая картина и в философии. Есть, если взять первый
всплывающий в памяти пример, Гегель и его труды «Наука
логики». «Феноменология духа» и др. А есть сотни докторов
наук, доцентов, профессоров, которые пишут о Гегеле,
проводят семинары, читают спецкурсы о нем и т.д.
Совершенно очевидно, что здесь речь идет о различных, качественно
различных, явлениях культуры их надо и обозначать
по-разному. Однако эта очевидность не зафиксирована в языке, не
признана общественным сознанием, по крайней мере,
российским общественным сознанием в своем существенном и
обязывающем значении.
О философах и профессорах философии 191
Насколько мне известно, одним из первых данное различие
обозначил Фридрих Ницше. Об этом, в частности, шестой
раздел «Мы, ученые» его труда «По ту сторону добра и зла».
Шульгин Н. Н. У Вас на столе тома Ницше. Вы являетесь
его поклонником?
Гусейнов А, А. Знаете, если пользоваться такой лирической
лексикой — поклонник, не поклонник, я бы сказал, что он
является моим последним увлечением. Просто я только что
закончил очерк об этике Ницше.
Возвращаюсь к своей мысли. Ницше решительно возражал
против того, чтобы смешивать философских работников
(philosophische Arbeiter) и философов. И он же блестяще
провел разделительную линию между ними. Философия
производит, рождает. Философы раздвигают духовные горизонты
человека, они всегда говорят что-то новое и очень важное. Они
творят, создают ценности. Философские работники имеют
дело с произведениями первых, они исследуют эти
произведения (выявляют их источники, последующие воздействия,
препарируют их по идеям, темам, сравнивают с другими
произведениями, высчитывают в них количество тех или иных
терминов, перелагают в более популярной форме, создают их
сокращенные форматы, анализируют их сквозь призму
биографии философа, в контексте эпохи и под разными иными
точками зрения, переводят на разные языки, комментируют
и т. д. и т. п.). Послушаем Ницше: «Этим исследователям
надлежит сделать ясным, доступным обсуждению,
удобопонятным, сподручным все случившееся и оцененное, надлежит
сократить все длинное, даже само «время», и одолеть все
происшедшее: это колоссальная и в высшей степени удивительная
задача, служение которой может удовлетворить всякую
уточненную гордость, всякую упорную волю. Подлинные же
философы суть повелители и законодатели, они говорят
«так должно быть», они-то и определяют «куда?» и
«зачем»? человека...» («По ту сторону добра и зла», § 211).
Шульгин Н. Н. Хотя Ницше ставит философских
работников и ниже рангом, чем философов, тем не менее, оценивает
их высоко.
Гусейнов А. А. С Ницше, на мой взгляд, надо быть
осторожным. Ему нельзя верить на слово. Его нельзя брать в
союзники. С ним нельзя согласиться, ибо неясно, с чем
соглашаться. В Ницше важны пафос, иерархизированная
объемность мысли. Что же касается конкретных суждений, то вряд
ли есть хоть один вопрос из всей массы вопросов, рассматри-
192 Беседа Н. Н. Шульгина с А. А. Гусейновым
ваемых Ницше, по которому он не сделал бы прямо
противоположных утверждений. И о философских работниках он
говорит не всегда столь благостно. Буквально несколькими
параграфами раньше, характеризуя их этос, он находит такие
обидные слова, что вряд ли кто-либо из заинтересованных лиц
согласится с ними, а согласившись вряд ли пожелает считать
себя философским работником. Он сравнивает их со старыми
девами, которым незнакомы «два самых ценных отправления
человека».
В отличие от философа — гордого, постоянно рискующего
собой аристократа духа — философского работника, или
человека науки, Ницше характеризует как человека незнатной
породы: «Он трудолюбив, умеет терпеливо стоять в строю, его
способности и потребности равномерны и умеренны, у него
есть инстинкт чуять себе подобных и то, что потребно ему
подобным, — например, та частица независимости и клочок
зеленого пастбища, без которых не может быть спокойной
работы, то притязание на почет и признание (которое
предполагает, прежде всего и главным образом, что его можно узнать,
что он заметен), тот ореол доброго имени, то постоянное
скрепление печатью своей ценности и полезности, которому
непрерывно приходится побеждать внутреннее недоверие,
составляющее коренную черту зависимого человека и стадного
животного». («По ту сторону добра и зла». § 206). И это —
не все, там есть еще много злых и точных наблюдений. Я взял
только место, которое прямо относится к нашему случаю (я
имею в виду избрание в члены-корреспонденты) и говорит о
притязаниях на почет, стремлении скрепить печатью
собственную ценность.
Трудно сказать, насколько исчерпывающим является
данная Ницше характеристика типов философа и философского
работника в их отличии друг от друга. Но сам факт
качественного различия между ними несомненен. Его можно считать
доказанным.
Разумеется, не Ницше придумал это различие. Оно
существовало с философской древности. Достаточно сослаться на
двух Диогенов — Диогена Синопского, который благодаря
бочке стал даже своего рода символом философии, и Диогена
Лаэртского, от которого дошло систематизированное
изложение жизни и учений философов, в том числе и того, первого,
Диогена. Однако именно во времена Ницше, когда общество
демократизируется, поднимается на уровень всеобщей
образованности и в связи с этим изучение, преподавание филосо-
О философах и профессорах философии 193
фии становится профессией, хотя и не массовой, тем не менее
социологически измеримой, когда специальные занятия
философией перестают быть штучным занятием, когда они из дела
доброй воли превращаются в момент институционально
оформленного духовного производства, различие между
философами и философскими работниками приобретает
исключительную важность. Дело в том, что теперь общество
постоянно и гарантированно нуждается в философских работниках.
Вместо термина философских работников я бы предпочел
другой — профессора философии. Производство профессоров
философии не является, конечно, конвейерным. Оно имеет
свою специфику. Тем не менее оно является производством в
том смысле, что профессора философии должны обязательно
и непрерывно воспроизводиться в количестве, которое
различно в разных странах, но тем не менее в развитых странах
достаточно велико (например, национальные философские
конгрессы Германии, России собирают специалистов в
количестве более тысячи человек).
Шульгин Н. Н. То, о чем Вы говорите со ссылкой на Ницше,
очень похоже на точку зрения В. И. Вернадского,
высказанную им в связи с вопросом об избрании в Академию наук
СССР А. М.Деборина.
Гусейнов А. А. Совершенно верно. В. И. Вернадский
предлагает различать научную философию и философию школы.
Первая есть профессорская, исследовательская,
академическая философия, имеющая строгие критерии
профессиональности. А вторая — философия системы, доктринальная
позиция, претендующая на то, чтобы считаться единственно
истинной философией; она замкнута на саму себя и принята в своих
абсолютистских претензиях только в пределах собственной
школы. Данное различие в персонифицированном виде как
раз и предстает в виде различия между профессором
(академиком, исследователем, преподавателем) философии и
философом («носителем» истины, автором системы, приверженцем
доктрины и т. п.).
Шульгин Н. Н. Принимая предлагаемое Вами различие
между философами и преподавателями (профессорами)
философии, следует заметить, что здесь есть такая
взаимообусловленность, которая не позволяет их профессионально (а
соответственно, и поиндивидно) развести. Именно поэтому эти
различные культурные роли выполняли одни и те же люди.
Кант, Гегель, Соловьёв, тот же Ницше и много других
выдающихся философов были одновременно замечательными про-
194 Беседа Н. Н. Шульгина с А. А. Гусейновым
фессорами, которыми гордятся соответствующие
университеты, где они трудились.
Гусейнов А А Здесь два вопроса: о
взаимообусловленности функций и их профессиональной оформленности. Давайте
рассмотрим их раздельно. По первому вопросу можно сказать
следующее.
Ясно: профессора (преподаватели, исследователи)
философии невозможны без философов и их философий, в таком
случае было бы неясно, профессорами чего они являются. Не
будь Диогена Синопского, не было бы и Диогена Лаэртского,
ибо тогда последнему не о ком и не о чем было бы писать. Но и
философы, начиная, по крайней мере, с определенного
исторического отрезка, когда философское знание достигает
объема, превышающего возможности его непосредственного
усвоения отдельным индивидом, когда, например, элементарно
философских текстов становится намного больше, чем может
прочитать даже быстро читающий человек, не могут обойтись
без огромной аналитической, систематизирующей работы,
которую проводят профессора философии. Без такой работы они
бы не смогли освоить все, наработанное их
предшественниками. В существовании философии профессора философии
выполняют незаменимую роль. Они опосредуют
преемственность в развитии философии. К примеру, современные
содержательные курсы философии ничего не говорят о самом
Диогене Лаэртском. Но без Диогена Лаэртского эти курсы
были бы невозможны, так как только благодаря ему мы знаем
о ряде философов, которые являются в высшей степени
показательными для европейской философии.
Я решусь даже на одно слишком резкое утверждение:
философов в известном смысле делают профессора философии.
Профессора философии помогают обществу
идентифицировать философов, распознавать их. Никто не знает, как, по
каким законам, схемам, по какому капризу появляются
философы. Бессмысленно даже пытаться узнать, как это происходит.
Есть, однако, другой более доступный рациональному
препарированию вопрос: как распознать уже появившегося
философа? К примеру, Шопенгауэру пришлось дожидаться почти
полвека, пока поняли, что он — не только неудачливый
приват-доцент, а еще и философ, первоклассный мыслитель. Да и
с Ницше, как мы знаем, не все было просто, его учение долгие
годы воспринималось едва ли не как бред сумасшедшего.
Между прочим, я с ужасом думаю: а нет ли еще в культуре таких
же Шопенгауэров и Ницше, про существование которых мы
О философах и профессорах философии 195
не знаем? Не затерялся ли где-нибудь другой Спиноза?
Белинский, правда, говорил, что гении не теряются. Таланты
могут затеряться, а гении нет. У меня нет такой уверенности.
Задаваясь вопросом, каким образом Зенон становится Зеноном,
Декарт — Декартом, Шеллинг — Шеллингом, приходится
констатировать, что большую (скорее всего определяюшую)
роль здесь играют профессора философии. Чаще всего
ученики самого философа, его школа.
Другой вопрос, как персонифицируются роли философа и
профессора философии. Видимо, исторически это
складывалось по-разному. В древнем и раннесредневековом прошлом
эти две роли чаще всего совпадали. Философ учительствовал,
преподавал, выходил на площадь, сам доносил свое учение до
тех, кто хотел его услышать. В наше время эти роли
расходятся. Философ, как правило, является также профессором
философии. Он, несомненно, должен быть глубоко
образованным в области истории философии, знать все важнейшие и
новейшие исследовательские результаты, достигнутые
профессорами философии. Я не верю в то, что сегодня возможен
философ, творящий из самого себя, вне основного массива
философского знания, этакий Мичурин философии (этот
момент очень важен для понимания философской ситуации в
сегодняшней России и к нему можно позже вернуться). Нет ни
одного опыта, ни одного случая философа, который бы
опровергал данное утверждение.
Шульгин Н. И. А Л. Н. Толстой? А Альберт Швейцер? Их
разве нельзя назвать философами со стороны,
сформировавшимися вне основной философско-академической традиции?
Гусейнов А. А. И да, и нет. Во-первых, они специально
изучали и хорошо знали философские учения. Л. Н. Толстой
основательно изучал и хорошо знал Конфуция, Сенеку,
Шопенгауэра, Канта. Альберт Швейцер глубоко проработал и в
«Культуре и этике» дал свою, исключительно оригинальную
версию европейской этики в ее историческом развитии. Во-
вторых (и это самое главное), они не были философами в
том строгом и специальном смысле слова, в каком мы
называем философами Аристотеля или Гуссерля. Они создали
свои учения, но это были жизнеучения. Их следует скорее
помещать не в философский ряд, а в ряд духовных
реформаторов, в ряд Иисуса Христа, Мухаммеда, Лютера, в ряд
учителей жизни.
Шульгин Н. Н. Что Вы скажете относительно Н. Ф.
Фёдорова?
196 Беседа Н. Н. Шульгина с А. А. Гусейновым
Гусейнов А А И Н. Ф. Фёдоров (он даже в большей
степени) должен быть отнесен в этот второй ряд.
Вернемся к прерванной мысли. Философ сегодня —
профессор философии и очень многое сверх того. Но что касается
профессоров философии (преподавателей, исследователей),
то они не всегда и не обязательно являются философами, они,
как правило, и чаще всего не являются ими. Как
литературоведа, блестяще знающего и глубоко анализирующего
творчество Шекспира или Пушкина, делающего это, быть может,
даже много лучше, чем делали бы сами Шекспир и Пушкин,
мы не называем поэтом, так и человека, прекрасно
преподающего философию, замечательно исследующего творчество
Эпикура, Сартра, иных каких-то философов или даже их всех
вместе, мы не должны называть философом.
Шульгин Н. Н. Согласитесь, аналогия здесь не полная.
Поэту, для того чтобы стать поэтом, необязательно осваивать
результаты литературоведческой работы. Может быть, даже
необязательно знакомиться с творчеством предшествующих
поэтов. Поэт может петь из себя, говорить как бы
божественным голосом (помните: «Но коль божественный глагол до
слуха чуткого коснется...»). С философом, согласно Вашей
интерпретации, дела обстоят иначе. Он необходимо осваивает
результаты исследовательской деятельности в области
философии. Он сам должен прежде стать профессором философии.
Пусть он не ограничивается этим, пусть идет намного дальше,
от земных ступеней профессора философии поднимается до
небесных высот философа. Тем не менее, в начальной фазе
философ — есть в то же время — профессор философии.
Уже из-за этого обстоятельства оказывается трудным, быть
может, невозможным развести эти фигуры. Получается, что,
даже принимая логику Ваших рассуждений, мы не можем
сказать: этот является философом, а этот — профессором
философии.
Гусейнов А А А точку Вы можете эмпирически
обнаружить? Вы можете сказать: это является точкой, а это уже —
линия? Даже в письме Вы не всегда разберете, точка ли
стоит в предложении, или запятая, или тире. Монтень говорил,
что каким бы тонким ни был кончик циркуля, он слишком
груб для того, чтобы поставить точку. И любая эмпирическая
точка, обладай она самосознанием, могла бы сказать о себе,
что она является линией. Точка в конце предложения, точка
как мера длины, точка в математике — разные вещи. Но все
это не значит, что такая сугубо идеальная конструкция как
О философах и профессорах философии 197
математическое понятие точки является досужей выдумкой и
не ориентирует нас в геометрии реального мира. Также
обстоит дело и с нашими понятиями философа и профессора
философии.
Они, конечно, представляют собой идеализацию. Даже
можно согласиться с Вами: в чистом виде они не существуют.
Уже хотя бы потому не существуют, что едва ли не каждый
профессор философии имеет субъективную претензию быть
философом. Тем не менее, эти понятия организуют реальный
опыт философского знания, помогают ориентироваться в этом
опыте. Мы с Вами знаем сотни людей, занятых философией.
Это — наши коллеги, друзья. Провести среди них
ранжирование по предлагаемому критерию действительно трудно. В
нашем цехе, конечно, тоже есть свой гамбургский счет, и мы не
ставим всех в один ряд. Но даже если взять высшую, так
называемую элитную группу среди них (отобрав ее по какому-то
репрезентативному социологическому признаку — ну,
допустим, активных авторов Вашего журнала, или, скажем, людей,
имеющих всероссийскую известность и печатающихся на
европейских языках, или наиболее цитируемых и т.д.), то все
равно это будут десятки людей. Никто не может сказать, кто
из них станет Бахтиным, а кто останется в анналах философии
только в качестве библиографической карточки. Здесь Вы
правы: предлагаемое разграничение оказывается досужим,
неоперациональным. Но это лишь постольку, поскольку речь
идет о современниках. Однако как только мы оказываемся на
исторической дистанции в одно-два поколения, картина
меняется: сплошная гряда философских исследований и
философствований нарушается выпуклостями, наметившимися
вершинами. Чем дальше мы отходим, тем очевидней становится
различие между сплошным горным массивом и отдельными
вершинами, пока мы не оказываемся на таком отдалении,
когда видны лишь одни вершины. К примеру, из греческой
античности — самого философского времени в истории
Европы — до нас дошло несколько десятков имен. А тот же Диоген
Лаэртский упоминает более тысячи имен. Он пишет, что было
пять Диогенов, а мы знаем, изучаем только одного Диогена
Синопского. Словом, разграничительные линии между
философами и профессорами философии, которые трудно провести
среди современников, являются вполне четкими, когда речь
идет о прошлом. Время вычерчивает их очень легко. Как
говорится, большое видится на расстоянии. А на большом
расстоянии только оно и видится.
198 Беседа Н. Н. Шульгина с А. А. Гусейновым
Но время не создает различий между большим и малым,
между философами и профессорами философии. Оно только
выявляет их. Они, эти различия, надо думать, есть и сегодня
среди живых обитателей философского дома, хотя нам и трудно
их обнаружить.
Еще одно замечание. Разграничение философов и
профессоров философии — это не просто разграничение лиц. Оно
представляет собой прежде всего разграничение форм
деятельности. Философствовать и исследовать философию — это
разные жизненные установки, разные способы существования
в культуре. Как эти способы существования
персонифицированы, могут ли они сочетаться в одном индивиде или нет —
это другой вопрос, по своему важный, но другой. К тому же
надо учесть, что между идеальными типами философа и
профессора философии существуют промежуточные, переходные
типы. А в реальности, чисто эмпирически только они — эти
переходные типы — и существуют. Одни являются больше
профессорами философии и меньше философами. Другие —
больше философами и меньше профессорами философии.
Третьи — идеологами, скрывающимися за маской
профессоров философии. Четвертые — философами, существующими
в обличье писателей, и т. д. Социология философской жизни,
ее эмпирическая картина является весьма пестрой и она,
насколько я знаю, не привлекла еще, к сожалению, внимания
соответствующих специалистов; а между тем здесь есть
интересные вещи.
Шульгин Н. Н. Если вернуться к тому, чем было
спровоцировано все Ваше рассуждение (это была фраза, что Вы —
известный философ), то получается следующий результат: Вы не
желаете идентифицировать себя в качестве философа, а
скромно ограничиваете свою деятельность рамками
профессора философии. Вы — профессор философии. Правильно?
Гусейнов А. А. Это — просто факт, заверенный всеми
печатями. По диплому я — преподаватель .философии, по
научному званию профессор по кафедре этики.
Только и в этом случае я хочу оговориться. Даже точнее,
сделать две оговорки.
Первое: скромность здесь ни при чем. Я говорю простую
вещь: философ и преподаватель философии — разные виды
деятельности, разные общественные функции. Здесь речь
вовсе не идет об оценке. Известно, что бывают выдающиеся
профессора философии, как, например, знаменитый
исследователь античной философии Эдуард Целлер или на памяти на-
О философах и профессорах философии 199
шего поколения В. Ф. Асмус. И в то же время мы знаем
профессоров философии, которые говорят «антимонии» вместо
«антиномий» и спрашивают, а кто такой Абеляр. Точно так же
и философы могут быть и бывают разные — великие и
ничтожные. Правда, мы узнаем философов только тогда, когда
их отсеивает время. Но отбираются они из огромной кучи, в
которой, конечно же, как и в любой куче бывает полно мусора.
Да и среди отобранных, как известно, не все равны: на
философском небосклоне, как и на астрономическом, светят звезды
разной величины.
Второе. Еще не известно, чего больше — скромности или
гордыни заключено в желании именоваться профессором
философии, а не философом. Ведь в каком-то смысле
философом может объявить себя каждый. Здесь нет строгих
критериев и судей. Критерии нам вообще неизвестны, а судьей, как
уже говорилось, выступает время. К примеру, ко мне как к
заместителю директора Института философии ежегодно
поступает до десятка различных рукописей и сочинений,
претендующих (часто: настойчиво и агрессивно) на самостоятельные
философские системы. Эти претензии, всего вероятней,
являются пустыми, уже хотя бы по тому житейскому
критерию, что они ишут поддержки в официальной инстанции. Но
спрашивается: кем считать их авторов?
Шульгин Н. Н. Сумасшедшими, графоманами?
Гусейнов А. А. Не с медицинской или психологической
точки зрения (нельзя забывать, что были выдающиеся
мыслители, которые в медицинском плане считались сумасшедшими и
по психологии, несомненно, являлись графоманами), а кем
они являются с точки зрения того дела, которое они делают, с
точки зрения содержательной квалификации их деятельности?
Я думаю, ответ может быть только один: они — философы.
Раньше, в рамках строгостей советских порядков, на пути
таких самодеятельных философов стояли какие-то барьеры.
А сейчас для них наступила вольготная жизнь. Они печатают
за собственные деньги собственные открытия новых
диалектик и единых законов, даже запускают свои учения в
Интернет. В России сейчас очень много таких философов. К этому
можно относиться скептически. Даже нужно так относиться.
Нельзя, однако, отрицать, что эти люди делают то же самое
дело, какое делали Сократ или Кьеркегор. И их следует
называть философами. Правда, они делают свое дело плохо,
занимаются, можно сказать, не своим делом. Но это уже другой
вопрос. Здесь уместно еще раз обратиться к аналогии с писа-
200 Беседа Н. Н. Шульгина с А. А. Гусейновым
телями. В российских союзах писателей состоят тысячи
писателей; они пишут стихи, поэмы, романы. Они делают то же
самое, что делали Пушкин и Толстой, и их, конечно же, следует
именовать (в смысле социального именования) также как мы
именуем Пушкина и Толстого — поэтами и писателями.
Я бы не стал говорить о скромности. Называя себя
профессором философии я, по крайней мере, страхую себя от того,
чтобы слыть человеком, выступающим не в своей роли
(графоманом, самозванцем и т. п.). Быть профессором философии
хорошо. Достойно, потому что занимаешься философией.
И честно, потому что знаешь, за что платят деньги. К тому же
профессор философии может стать философом. Но не всякий
философ может стать профессором философии.
Шульгин Н. Н. Аналогия с литературой обладает
убедительностью. Она помогает лучше понять Вашу позицию. И
все-таки остается одно недоумение. Принято считать, что для
занятий литературой, как и искусством в целом, нужен
соответствующий талант, который, как говорится, дается свыше.
Можно ли что-либо подобное сказать про философию?
Гусейнов А. А. Вне всякого сомнения. Философское
дарование — особого рода дарование. Оно или есть, или его нет.
Трудом оно не создается. Трудом оно реализуется. Декарт или
Кант — такое же чудо, как Пушкин или Толстой.
Кстати заметить, это еще один аргумент в пользу того, что
предпочтительней называться профессором философии.
Профессором философии человек делает сам себя, в то время как
философом надо родиться. К тому же профессор
философии — это все-таки какой-то уровень образованности и
дисциплины мысли.
Шульгин Н. Н. Интересный получается разговор. Не
является ли он досужим?
Гусейнов А. А. Вообще философия — досужее дело.
Шульгин Н. Н. Вот и возникает вопрос: не является ли этот
разговор досужим даже по отношению кдосужей философии?
В роль журналиста, как известно, входит такая черта: он
призван представлять интересы читателей и говорить от имени
практики. Журналист обязан проецировать любой научный
дискурс на повседневность, практически и публицистически
заострять его. И в данном случае, смысл вопроса состоит в
том, чтобы выяснить, что дает предлагаемое расчленение для
практики философской жизни? В особенности, что нас
естественным образом интересует в первую очередь, для
философской жизни в сегодняшней России.
О философах и профессорах философии 201
Гусейнов А. А. Много дает. Вещь, которая не имеет
названия, вообще не существует как факт культуры, предмет
ответственного суждения и отношения. Вещь, которая называется
не своим именем, входит в культуру, но в качестве
свидетельства ее болезни. Она очень опасна. Выправление имени
(спасибо Конфуцию) — само по себе и всегда дело благотворное.
С этого начинается разумно осмысленное, индивидуально
ответственное, вменяемое освоение действительности.
Применительно к нашему случаю разведение понятий
философа и профессора философии — первый шаг к тому, чтобы
более адекватно осмыслить эти общественные фигуры и более
адекватно к ним отнестись.
Относительно философов. Здесь надо ясно понять, что
философов мы не можем прогнозировать, готовить,
стимулировать и т. д. Это не может быть предметом целенаправленно-
ориентированных усилий. Отсюда следует важное заключение:
быть философом — личное дело человека. Не в том смысле,
что это не важно для общества. А в том смысле, что мысль,
как и любовь, как и поэтическое вдохновение — интимнейшая
структура личности, подчиненная только своему собственному
капризу. Нельзя так подстроить обстоятельства, чтобы
человек мог любить; нельзя помочь любить. Точно так же нельзя
помочь мыслить. Это — сугубо индивидуальное, личностное
дело. Его нельзя ни заимствовать от другого, ни передать
другому. Нельзя сказать: «подумай за меня».
Шульгин Н. Н. Общество может по-разному относиться к
мысли. Оно может преследовать за мысль, даже убивать:
Сократ, Бруно, Флоренский. Оно может поддерживать
обстановку свободы мысли, охранять право на мысль. Разве в этом
втором случае общество не создает условия для мысли, не
помогает философии?
Гусейнов А А Я бы предпочел выражаться иначе: не
общество создает обстановку, благоприятствующую
философии, а философия создала в обществе такую обстановку.
Признание ценности мысли, право на мысль, само
отождествление личности со способностью мыслить — важнейшие
завоевания философии. Должны были пройти тысячелетия
рискованной, самоотверженной, своевольной, тяжелейшей
работы, приводившей в движение жернова философской
мыслильни, прежде чем общество увидело в мысли свою
выгоду, признало и институционально оформило право на ее
свободу. Не философы должны благодарить общество
(правительство, бизнесменов, рабочих и крестьян и т.д.), а об-
202 Беседа Н. Н. Шульгина с А. А. Гусейновым
щество должно благодарить философов за ситуацию
духовной свободы. Аристотелево: «Платон — мне друг, но истина
дороже», Декартово: «Мыслю, следовательно,
существую» — не только вехи философии. Это одновременно —
вехи развития человека и общества.
Общественная ситуация свободы мысли, закрепляющая
опыт свободного философствования в том, собственно, и
состоит, что она, с одной стороны, открывает перед личностью
перспективу мысли и, с другой стороны, рассматривает
(возводит, низводит — кому как нравится) мысль как сугубо
личностный акт.
Словом, спланировать, внешне, организационными
мероприятиями, финансовыми влияниями, академическими
званиями или каким-либо иным способом воздействовать на
процесс рождения философов и философии невозможно. Иное
дело — профессора философии, уровень философского
образования, философских исследований. Это поддается
организационному воздействию, стимулированию, контролю и т. д.
Здесь общественно организованные усилия вполне уместны и
крайне необходимы.
Если рассмотреть под этим углом зрения российскую
ситуацию, то она состоит в следующем. У нас нет недостатка в
«философах», я имею в виду людей, которые считают себя
философами, создают системы, строят глобальные
мыслительные конструкции, знают, что делать с Россией, с миром,
открывают новые законы, в особенности любят открывать
основной закон бытия и т. п. Из людей, занятых в сфере
философии, таковыми являются едва ли не каждый третий или
каждый второй...
Шульгин Н. Н. Каждый первый.
Гусейнов А. А, Может быть. В любом случае с
«философами» у нас полный порядок. Хуже обстоит дело с
профессорами философии. И не в количественном отношении (по
количеству профессоров философии мы.в мире выглядим
совсем неплохо, даже очень хорошо), а в качественном. Нам
нужно повышать сам стандарт профессора философии,
уровень его образованности, профессионального самосознания,
цеховой гордости. Кропотливое, грамотное, систематическое
и ответственное исследование реального опыта
философии — вот чего нам не хватает. К примеру, у нас нет
полного собрания сочинений даже таких гигантов философии, как
Аристотель, Кант. Нет или почти нет серьезных,
академических, хорошо откомментированных изданий даже отдельных
О философах и профессорах философии 203
выдающихся произведений. Существуют досадные провалы в
переводах философской классики (нет, к примеру, переводов
Фомы Аквинского, аль Газали).
Шульгин Н. Н. Что Вы более конкретно понимаете под
стандартом профессора философии?
Гусейнов А. А. Что такое профессор философии и
преподавание философии в отличие от философа и философии —
отдельная и специальная тема. В нашем сегодняшнем разговоре
я бы хотел ограничиться только обозначением разницы между
ними. И, тем не менее, есть некоторые очевидные вещи. Для
профессора философии, например, необходимо обязательное
и хорошее знание одного из европейских (как минимум)
языков. Обязательное знание древнегреческого или латыни (а
лучше — и того и другого). Основательное изучение истории
философии и знакомство с современными философскими
дискуссиями. У нас есть, разумеется, немало профессоров,
удовлетворяющих такому уровню. Но весь огромный, измеряемый
тысячами массив профессоров философии далек от него.
Сразу, конечно, положение не выправишь, но при умной
целенаправленной постановке дела можно добиться того, чтобы
новые поколения философских работников были более
образованными.
Мы сейчас много говорим о Западе, западном опыте,
ориентируемся на него. В этом ничего страшного нет. Надо, однако,
понимать, что Запад — тоже очень разный. Тут нужен более
конкретный подход. Мне кажется, в том, что касается уровня
и характера преподавания и исследования философии нас
больше должен интересовать немецкий опыт. Он нам ближе.
К тому же, что бы ни говорили, но немцы — самая
философская из современных наций. Впрочем, может быть я тут
субъективен, просто плохо знаю опыт Франции, Англии, США.
Шульгин Н. Н. Вы идентифицируете себя как
преподаватель и исследователь. Но значит ли это, что Вы не хотели бы
стать философом, и у Вас нет философских опытов, что Вы,
если воспользоваться так помогавшей Вам в разговоре
аналогией, сами не пишете стихи?
Гусейнов А. А. Свои отношения с философией я бы
определил как неразделенную любовь. Я очень люблю философию, а
она остается равнодушной. Во всяком случае, я ее люблю
неизмеримо больше, чем она меня. Правда, во время работы над
последней книгой «Великие моралисты» мне показалось, что
есть какой-то намек на ответное чувство. Но видимо, я
желаемое принял за действительное.
204 Беседа Н. Н. Шульгина с А. А. Гусейновым
Шульгин Н. Н. Это же тягостно — неразделенная любовь!
Не жизнь, а страдание.
Гусейнов А. А. Что Вы?! Не лишенная, конечно, грусти,
ситуация неразделенной любви может быть эмоционально и
духовно насыщенной, прекрасной, вдохновляющей. Разумеется,
если он не является грубым мужланом, а она —
самовлюбленной дурой. Философию Вы такой, наверняка, не считаете,
хотел бы надеяться, что и обо мне не думаете так плохо.
Шульгин И. Н. Чувствую: Вы опять уходите от разговора о
себе. Пусть так, хотя само это нежелание симптоматично, и
нам остается только гадать, что за ним скрыто. Тогда, может
быть, Вы бы поделились мыслями о положении в этике,
которой Вы занимались всю жизнь, об этических исследованиях,
этическом образовании в сегодняшней России.
Гусейнов А. А. Здесь надо различать два вопроса: а) общий
интерес к этике в общественном сознании, в философии в
целом; б) состояние дела в этике как особом профессиональном
цехе философской науки.
Общий интерес к этике несомненно возрос —
свидетельством тому является необычайная насыщенность моральными
терминами общей и собственно философской лексики
постсоветской России. Как это более конкретно выглядит, что
означает, как оценивать и т. д. — отдельная тема, компетентное
обсуждение которой требует специальной подготовки.
Что касается положения в этическом цехе, то здесь, если
отвлечься от смены внешнего декора, связанного со сменой
общественной и идеологической ситуации в стране, по сути
дела ничего не изменилось. В некотором роде даже
ухудшилось: этику преподают в вузах меньше, чем раньше, меньше
стало выпускаться книг, меньше стало кафедр. Этическое
сообщество разладилось. Нет накала дискуссий. Все протекает
как-то вяло. Можно было подумать, что в рамках общих
изменений в стране в трудном положении окажутся преподаватели
и исследователи в областях научного коммунизма, научного
атеизма, а этики и этика выиграют. Все произошло наоборот.
Первые процветают в новом качестве политологов, вторые —
религиоведов и теологов, а третьи, этики, увядают. Все это
нельзя объяснить случайными, ситуативными, субъективными
или иными не относящимися к существу дела причинами. Что-
то не то в самой этике. И не просто в отечественной этике, а в
этике вообще, имея в виду ее исторически сложившийся
дисциплинарный статус, место в системе философского знания.
Воздерживаясь от претензий на анализ данного вопроса, даже
О философах и профессорах философии 205
на его аргументированную постановку, рассуждая пока еще в
рамках впечатлений (тем более, что жанр интервью это
допускает), я бы хотел указать на один момент.
В европейской философии было два понятия этики — узкое
и широкое. Назовем условно первое малой этикой, а
второе — большой этикой. Это деление берет начало у
Аристотеля. У него этика была учением о добродетелях и
добродетельной личности. Одновременно с этим она была важнейшей
полисной (политической) наукой, куда наряду с этикой в первом
смысле входят еще политика и экономика. Другой
исключительно важный и плохо нами осмысленный философский опыт
в этом вопросе предлагает Спиноза. Я имею в виду его
основное сочинение «Этика», представляющее собой изложение
большой этики, внутри которой и как ее часть мы находим
малую этику — учение о господстве над аффектами. И у Канта
мы находим это различие: этика как учение о причинности из
свободы, развернутая в «Основоположениях к метафизике
нравов» и так называемая моральная антропология. То, что
сегодня называется этикой внутри философии, есть малая
этика, учение о моральных добродетелях и обязанностях. А куда
делась большая этика? И самое главное: может ли
существовать малая этика вне большой, сохраняет ли она философский
характер?
Можно этот вопрос еще сформулировать по-другому.
В платоновской академии сложилось, и стоиками было
окончательно сформулировано: деление философии на логику,
физику и этику. Под логикой понималось учение о разуме,
физикой — учение о природе (необходимости), этикой — учение о
свободе. Это — наиболее общее и полное, исчерпывающее
членение предмета философии. Все последующие членения
будут его конкретизацией. Куда же делось и как сейчас
называется то, что в стоическом реестре философских наук
именовалось этикой?
Этика, точнее, большая этика как-то исчезла в горячке
философских споров последних столетий. Пропала. Осознание
того, что данная потеря значит для философии в целом, еще
впереди. На пути к такому осознанию, быть может,
философия пройдет через многие поствыверты. Но уже сейчас
очевидно, что на судьбе малой этики — этики как учения о
моральной жизни в ее особых измерениях даваемых
соответствующими нормами, добродетелями и т. д. — это сказалось
самым печальным образом. Малая этика, когда она выступает
как продолжение и конкретизация большой этики, явно обна-
206 Беседа Н. Н. Шульгина с А. А. Гусейновым
руживая свою философскую природу, связывая добро в
человеческом поведении с благостью бытия, поднимается на
высоту философской аналитики реального морального опыта,
становится критикой морального сознания. Без этого она
неизбежно деградирует до морализирования, становится
апологией морального сознания в его застывших формах. Малая
же этика сама по себе, в особенности тогда, когда она
заявляет постоянно возобновляющиеся претензии на то, чтобы быть
самостоятельной наукой, в принципе не может подойти к
морали как к проблеме, поставить под вопрос, проблематизиро-
вать саму мораль. Она, скажем, описывает моральные
чувства, составляет их каталог, с чем-то соотносит и т. п. Но она
никогда не может поставить вопрос о том, являются ли
моральными моральные чувства. Другой пример, малая этика
много ломала дров по вопросу о том, можно ли к моральным
высказываниям прилагать гносеологический критерий
истины. Однако она не способна задуматься над аксиологической
природой самого понятия истины. Ведь испытывая моральные
суждения на истинность, мы придаем самой истине моральный
статус. Когда мы одну гносеологическую диспозицию
называем истиной, а другую — заблуждением, и когда первую
возвышаем над второй, мы уже производим оценку, мы вгоняем
гносеологию в моральное пространство.
Мы точнее и глубже всего подходим к морали тогда, когда
подходим к ней как к симптоматике. Видимо, и к этике следует
так подходить.
Все это, конечно, не ответ на Ваш вопрос, но, по крайней
мере, одно из направлений поиска такого ответа.
О прошлом и настоящем
Беседа Л. Н. Митрохина
с В. А. Лекторским*
Митрохин Л. Н. Нам, наверное, пора отметить
пятидесятилетний юбилей нашего близкого знакомства.
Поэтому есть о чем поговорить. Тебе пока за
шестьдесят, а скоро пойдет восьмой десяток. Так что, это
твой день, и я предпочитаю быть голосом, лишь
дополняющим твои воспоминания. К тому же в свое
время я отдал дань мемуарному жанру («Вопросы
философии». 1995. № 6). Думаю, что читателям
прежде всего интересно узнать, почему и как
пополнялась эта странная популяция философов во времена,
когда «умом эпохи» была партия, а точнее,
невзрачный субъект кавказского вида. Ведь ты был принят
на философский факультет МГУ в 1950 г. — пике
расцвета сталинизма.
Лекторский В. А. Когда я поступал на факультет,
то имел очень смутное представление о философии.
В десятом классе я уже понимал, что хотел бы
заниматься гуманитарными науками. Но какую из них
выбрать, было не очень ясно. Одно время решил,
что наиболее подходящим для меня был бы
исторический факультет университета. Историей я очень
увлекался: ее замечательно преподавала в нашей
школе В. А. Сказкина — жена выдающегося
историка, академика С. Д. Сказкина. Но я с удовольст-
Вопросы философии. 2002. № 9. С. 20-53.
208 Беседа Л. Н. Митрохина с В. А. Лекторским
вием занимался также математикой, физикой. Я до сих пор с
признательностью вспоминаю своих преподавателей в
московской школе № 59, думаю, что и сейчас таких учителей
очень мало — а ведь я учился в школе в 1940—1950-х гг.!
Как мне кажется, три обстоятельства повлияли на мой выбор
факультета. В 1948 г. я прочитал только что вышедшую в
русском переводе книгу А. Эйнштейна и Л. Инфельда
«Эволюция физики», которая произвела на меня сильнейшее
впечатление. Прежде всего тем, что в ней обсуждались
философские вопросы: возможности и трудности научного
познания, изменение образов мира и знания в процессе эволюции
физики. Второе обстоятельство — это мир русской
классики: Толстой, Достоевский с их глубочайшими философскими
проблемами (Достоевского тогда в школе не изучали, но наш
преподаватель и рассказывал о нем, и рекомендовал нам его
читать). Это Белинский и Писарев, которыми я увлекался в
восьмом и девятом классах, читал не то, что было
рекомендовано по программе, а все подряд (Писарева, мне кажется,
вообще не рекомендовали нам читать). Наконец, третье —
это дружба с Генрихом Батищевым, с которым мы не только
вместе учились, начиная с четвертого класса, но и дружили.
У Генриха не было никаких сомнений относительно того,
куда поступать после окончания школы — только на
философский факультет! Его отец был философом, работал одно
время в отделе агитации и пропаганды ЦК ВКП(б), но затем
был оттуда уволен (как я узнал впоследствии, по личному
указанию И. В. Сталина за то, что С. П. Батищев
опубликовал в 1946 г. в журнале «Большевик» не слишком
критическую статью о Плеханове). Генрих в это время уже читал
философскую литературу, однажды дал мне посмотреть что-то
из Гегеля. Я, конечно, мало что понял, но решил, что это
интересно и как раз то, что мне нужно: совмещает все то, что
меня интересовало: и в сфере понимания оснований научного
знания, и в области смысложизненных проблем. Так в 1950 г.
я оказался на философском факультете МГУ, довольно плохо
представляя, что меня ждет.
Митрохин Л, Н. Ну и как — нашел свою «зеленую
калитку», трепетно воспетую Г. Уэллсом?
Лекторский В. А. Я быстро убедился в том, что попал не
туда, куда стремился, или, точнее, не совсем туда. Как раз в
это время вышла «гениальная работа» Сталина «Марксизм и
вопросы языкознания», и преподавание всех предметов на
первом и втором курсах было привязано к разъяснению идей
О прошлом и настоящем 209
этого опуса. Когда я учился на третьем курсе, появился еще
один «шедевр» того же автора «Экономические проблемы
социализма в СССР», и на этот раз нужно было всю философию
каким-то образом связывать уже с этой работой. Я вспоминаю
предельно схоластические дискуссии на факультете тех лет:
относится ли искусство к надстройке или в нем есть что-то
вненадстроечное (по аналогии с языком, который Сталин в
1950 г., как известно, вывел за пределы надстройки), как
соотносятся базис и способ производства и т. д. Меня подобные
споры не увлекали. Лекции по формальной логике на первом
и втором курсах нам читал В. И. Черкесов. Каждый раз он
сначала излагал нечто из формальной логики, а затем
противопоставлял всему этому идеи диалектической логики,
разумеется, в своем понимании. При этом лекция почему-то
заканчивалась обязательной критикой ошибочных взглядов В. Ф.
Асмуса («а Валентин Фердинандович и здесь не прав», — как
любил повторять Черкесов). Асмус не читал нам, но на
факультете преподавал. Помню, как однажды Валентин
Фердинандович появился на одной из лекций Черкесова, скромно
сел в последнем ряду, послушал то, что о нем говорится, и
молча ушел.
Митрохин Л. Н. Да, времена были суровые. Я
специализировался по кафедре логики и хорошо знал и Виталия
Ивановича, который ею заведовал, и Валентина Фердинандовича.
Правда, вскоре В. Ф. Асмус перешел на кафедру зарубежной
философии Т. И. Ойзермана и стал читать курс зарубежной
философии. Помню, я спросил, почему он нас покидает.
Ответ был выразительным: «А мне надоело вести
разъяснительную работу». Что же касается В. И. Черкесова, то в
лексике Рейгана он фигурировал бы как «логик зла».
Проявления этого были многообразны, но, пожалуй, главным стала
имитация создания диалектической логики из неподатливых
деталей логики формальной. Его верный последователь
М. Н. Алексеев даже изобрел «диалектические силлогизмы».
Впрочем, на кафедре были и порядочные специалисты. Я,
например, многим обязан профессору П. С. Попову. Кстати,
с В. А. Смирновым мы все собирались написать о нем
статью, чтобы с благодарностью вспомнить об этом могиканине
прежних университетских профессоров, да вот не успели.
Уже тогда выделялись профессиональной дотошностью и
здравым смыслом Е. К. Войшвилло и безвременно ушедший
А. А. Ветров. И все-таки наиболее значительной фигурой
был А. С. Ахманов — блестящий знаток античности. Но, ко-
210 Беседа Л. Н. Митрохина с В. А. Лекторским
нечно, всех их подавляла когорта диаматчиков, которые, как
сказал бы Воланд у М. А. Булгакова, выглядывали из окна
каждой дисциплины.
Лекторский В. Л. На втором курсе основы дарвинизма
читал Дворянкин, один из ближайших сподвижников Лысенко.
Дворянкин разоблачал классическую генетику и превозносил
мичуринское учение в лысенковском понимании. Не могу
сказать, что я в те годы критически относился к сталинским идеям
и к сталинской версии марксистской философии (изложенной,
как известно, в соответствующей главе «Краткого курса
истории ВКП(б)». Но кое-что уже тогда мне было неясно. Дело в
том, что я смог прочитать еще в средней школе вузовский
учебник по биологии, изданный примерно в 1945 г. Там были
обстоятельно изложены работы Менделя и Моргана. Когда я
впоследствии читал работы Лысенко или слушал лекции Дво-
рянкина, критика классической генетики не казалась мне
убедительной.
Самое же главное было то, что философия оказалась не
похожей на то, как я себе ее представлял до поступления на
факультет. Мне казалось, что философия — это
исследование, а не разъяснение готовых истин. Я думал, что философия
допускает выдвижение гипотез, выявление истины в
процессе дискуссии. На факультете же я узнал, что не может быть
ни малейших отступлений от основоположений марксизма-
ленинизма, при этом не очень ясно, что именно должно
рассматриваться как такое отступление. Преподаватели
приводили нам примеры «ужасных ошибок»: статья М. А. Маркова
«О природе физического знания» в журнале «Вопросы
философии» в 1948 г., многочисленные ошибки первого
главного редактора этого журнала Б. М. Кедрова, защита
С.А.Яновской «реакционной символической логики» и т.д.
Одним из самых больших разочарований для меня в эти годы
были лекции по истории русской философии. Как я уже
сказал, чтение русской литературной классики, работ
Белинского и Писарева было одним из факторов, определивших мой
выбор философского факультета (уже на первом курсе я
прочитал Герцена, включая «Былое и думы», и испытал
настоящий восторг). Однако в лекциях по истории русской
философии, которые нам читались, и Белинский, и Герцен, и
Чернышевский, и Писарев оказались скучнейшими людьми,
к тому же совершенно не отличимыми друг от друга: все они
«вплотную подошли к диалектическому материализму и
остановились перед историческим». (Лекцию о Писареве один из
О прошлом и настоящем 211
преподавателей начал так: «Писарев погиб в комсомольском
возрасте»). О тех русских философах, которые популярны
сегодня — В. С. Соловьёв, Н. А. Бердяев, П. А. Флоренский
и др. — мы в те годы вообще ничего не слышали. После
таких лекций русскую философию можно было только
презирать.
Митрохин Л. Н. Тебе, я вижу, еще повезло. Мы же
застали отравленную склоками и доносами атмосферу недавней
дискуссии по книге Г. Ф. Александрова, пережили разгром
«безродных космополитов» и прочие догматические новации
A. А. Жданова. Первую лекцию нам читал (сегодня сказали
бы, «народный») академик Презент, в дарвинизм нас
посвящал тот же Дворянкин, нам усиленно вбивали в голову
«великое открытие» О. Б. Лепешинской и Башляр, камня на камне
не оставившее от учения менделистов и морганистов, а
первое, что мы увидели в здании философского факультета, было
«Открытое письмо Б. М. Кедрову», обличавшее его в ревизии
марксизма-ленинизма.
Лекторский В. Л. К счастью, на факультете было и другое,
даже в 1950—1953 гг. Были замечательные семинары по
историческому материализму, которые вели у нас сначала
B. Ж. Келле, а затем В. П. Калацкий — оба учили умению
критически анализировать тексты, аргументировать свою
позицию, хотя, казалось бы, это было трудно делать на
материале той весьма идеологизированной дисциплины, которую они
преподавали. Замечательно читал лекции по политической
экономии капитализма Р. Мансилья — уже тогда меня
восхитила логика марксова «Капитала».
Митрохин Л. Н. Вообще говоря, у меня от учебы на
факультете осталось двоякое впечатление: провальные,
предельно догматические лекции по диамату, с одной стороны, и
блестящие по, так сказать, непрофильным предметам. У нас читали
Д. Д. Иваненко (теоретическая физика). А. Я. Тумаркйн
(высшая математика), К. В. Базилевич, В. К. Пикус, С. Б. Кан,
Б. Д. Дацюк (история) и др. Особо запомнился годовой курс
по психологии А. Н. Леонтьева и семинарские занятия
П. Я. Гальперина.
Лекторский В. А. У нас П. Я. Гальперин не только вел
семинары, но и читал лекционный курс. Читал удивительно. Это
были годы, когда после известной «павловской сессии»
Академии медицинских наук СССР психологию пытались свести к
физиологии высшей нервной деятельности. Петр Яковлевич
ухитрялся читать нам в те годы настоящую психологию, увле-
212 Беседа Л. Н. Митрохина с В. А. Лекторским
кал нас интереснейшей и мало исследованной проблематикой
и даже, как я понял впоследствии, излагал нам кое-что из идей
Л. С. Выготского (который в те годы был практически под
запретом) и те собственные идеи, которые он несколько лет
спустя развернул в известную теорию поэтапного
формирования умственных действий.
Много мне дало изучение истории западной философии.
Помню основательные лекции О. В. Трахтенберга, семинары,
которые у нас вел Ю. К. Мельвиль. Юрий Константинович
заставлял изучать тексты философской классики. Поэтому уже в
эти годы я получил первое знакомство с Кантом и Гегелем,
достаточное для того, чтобы понять всю серьезность
проблематики, обсуждавшейся в истории философии — на этом
фоне преподававшийся нам курс диамата сильно проигрывал.
В 1954 г. Ю. К. Мельвиль читал нам лекции по новейшей
западной философии и вел семинары. И тут уже нужно было
читать Виндельбанда, Риккерта, даже Маха. Помню мое
удивление, когда я впервые открыл Маха. До этого я знал о Махе и
его идеях только на основании «Материализма и
эмпириокритицизма», который мы изучали на первом курсе. После чтения
ленинской работы (которая тогда, правда, не вызвала у меня
критического отторжения, но показалась довольно скучной) у
меня сложилось представление о Махе как отчасти о дураке,
отчасти просто сумасшедшем. Тем сильнее было мое
изумление, когда я понял, что Мах — интересный и по-своему
глубокий мыслитель, пытающийся осмысливать современные ему
проблемы физики и психологии, выдвигающий аргументы в
защиту своей философской позиции.
Вообще учеба на философском факультете позволяла
знакомиться с классическими философскими текстами — были
ли это тексты Маркса, Канта или Гегеля. Это было
обязательным даже в сталинские годы. И если к тому же попадался
думающий преподаватель, то, по крайней мере, по некоторым
дисциплинам можно было получить неплохую подготовку.
Большую роль в развитии нашего поколения сыграли
лекции Т. И. Ойзермана по истории марксистской философии.
Именно от Теодора Ильича мы узнали об идеях раннего
Маркса, которые в то время не популяризировались. В 1954 г.
Теодор Ильич прочитал нам спецкурс по «Критике чистого
разума» Канта, который я считаю революционным. Т. И. Ойзер-
ман тщательно, параграф за параграфом, разбирал
знаменитую кантовскую «Критику», комментировал ее и сопоставлял
с ходячими представлениями о познании, которые преподноси-
О прошлом и настоящем 213
лись нам до этого в курсе диалектического материализма. Это,
конечно, не было критикой марксизма. Наоборот, лектор
пытался показать, что марксистская философия понимается у
нас поверхностно и даже искаженно, ибо она не может быть
по своему уровню ниже того, что сделано Кантом. Но это была
сильнейшая критика ходячего диамата и формулировка тех
серьезных проблем, которые есть в области теории познания и
которые во многом еще предстоит разрабатывать. А мы,
слушатели спецкурса, начали обстоятельно штудировать Канта.
Митрохин Л. Н. Насчет Т. И. Ойзермана — разговор
особый. Я вообще считаю его нашим патриархом, центральной
фигурой в преодолении прежнего догматизма. Вспомни,
сколько работ, отмеченных незаурядным талантом и чувством
профессионального достоинства, он написал. А его
удивительная работоспособность и эрудиция! Скоро его
девяностолетний юбилей, и нам еще представится возможность обо всем
этом сказать, а сейчас в памяти всплывают события более чем
полувековой давности, когда мы спешили в Круглый зал
философского факультета на лекции доцента Т. И. Ойзермана. Нет
нужды напоминать, что это были годы жестокого подавления
всякого свободомыслия, а поэтому с благодарностью
вспоминает тех преподавателей, которые стремились и во многом
сумели привить студентам навыки творческого мышления. И,
конечно, наиболее яркое впечатление оставил курс Т. И.
Ойзермана по истории марксистской философии. Наверное,
такая оценка выглядит неожиданной: сегодня марксизм почти
единодушно объявлен оплотом догматизма и умственной
окостенелости. Но Т. И. Ойзерман не ограничивался
механическим пересказом и даже комментированием отдельных работ
Маркса и Энгельса, он стремился выявить содержательную
логику развития их взглядов. И здесь перед ним открывались
широкие возможности. Учение, которое вошло в мировую
культуру как марксизм, сформировалось в результате
безжалостной переработки, переплавки прежних учений. Речь
должна идти не о последовательной смене различных, как бы
завершенных доктрин, а о стремительном становлении
личного миросозерцания. Вспомни работы Маркса и Энгельса
раннего периода: яркие, афористические высказывания,
подлинный фейерверк блестящих метафор, свидетельствующих о
предельной самокритичности, творческой увлеченности,
готовности все подвергать сомнению. И, конечно, мастерство
самого лектора. Т. И. Ойзерман — натура художественная, он
сумел так, я бы сказал, срежиссировать свои выступления, что
214 Беседа Л. Н. Митрохина с В. А. Лекторским
мы слушали его как зачарованные. Многозначительный факт.
Когда заходит речь о наиболее творческих философах, то
обычно называют имена А. А. Зиновьева, Э. В. Ильенкова,
М. К. Мамардашвили, Б. А. Грушина, Г. С. Батищева. А ведь
все они свои дипломы или кандидатские диссертации
посвятили анализу логики «Капитала» Маркса, как бы впитав
динамичность и энергетику его мышления, мастерски переданную
доцентом Т. И. Ойзерманом.
Лекторский В. А. Совершенно согласен. Теодор Ильич
читал нам свой спецкурс уже в 1954 г., когда на факультете
происходили большие, поистине революционные изменения,
и исключительная заслуга в этом принадлежит Теодору
Ильичу. На мой взгляд, та проблематика, которая наиболее
интересно разрабатывалась в нашей философии в последующие
60—80-е гг., была сформулирована именно на философском
факультете МГУ в 1954—1955 гг. Факультет в это время
стал центром развития философии в нашей стране.
Митрохин Л. Н. Что конкретно ты имеешь в виду?
Лекторский В. А. Прежде всего появление двух молодых
преподавателей, которые стали возмутителями философского
спокойствия и повели за собою молодежь. В 1953 г., через
несколько месяцев после смерти Сталина, аспирант кафедры
истории зарубежной философии Э. В. Ильенков защитил
кандидатскую диссертацию, посвященную исследованию логики
марксова «Капитала». Год спустя состоялась защита
диссертации на близкую тему аспирантом кафедры логики А. А.
Зиновьевым. Тематика обеих диссертаций может показаться
весьма специальной. В действительности же речь шла о
формулировании новой философской проблематики и об
оппозиции целому ряду догм официального диамата и истмата. Обе
диссертации, отталкиваясь от интерпретации марксова метода
в «Капитале» (знаменитое «восхождение от абстрактного к
конкретному»), открыли для нашей философии совершенно
новое по тем временам исследовательское поле: логика
построения и развития научной теории, методы этого развития,
взаимоотношение теоретического и эмпирического знания,
логики исследования и логики изложения и т. д. Иными
словами, речь шла о теории научного познания.
Понимание Ильенковым и Зиновьевым формирования и
развития теоретического знания на пути «восхождения от
абстрактного и конкретному» (следуя Марксу) вступало, по сути
дела, в противоречие с известным ленинским положением о
развитии познания (которое было неприкасаемой идеологиче-
О прошлом и настоящем 215
ской догмой) как о движении «от живого созерцания к
абстрактному мышлению и от него к практике». Но до некоторых
пор это противоречие было как бы неявным, прямо не
формулировалось. В обстановке воцарившейся в нашем обществе в
1954 — первой половине 1955 гг. относительной «оттепели»
Ильенкову и Зиновьеву было разрешено преподавать. У них
сразу же появилось множество восторженных последователей
среди студентов. Одним из них был и я, тогда студент
четвертого курса.
Митрохин Л. Н. Я бы сказал даже категоричнее: уже к
началу 1951 г. на факультете сложилось представление, что
изучение логики «Капитала» Маркса — наиболее перспективное
направление развития философии. Да я и сам на третьем
курсе делал доклад на кафедре Т. И. Ойзермана «Логическое и
историческое в «Капитале» Маркса», полагаю, достаточно
дилетантский.
Лекторский В. А. Должен сказать, что сам я в 1951 г. не
связывал с логикой «Капитала» наиболее перспективное
направление развития нашей философии. Диамат, который нам
в эти годы преподавали, был предельно догматичным. Для
меня (как и для многих других философов нашего поколения)
вся эта проблематика стала явной лишь в 1953—1954 гг.,
после защиты кандидатских диссертаций Ильенковым и
Зиновьевым. Конечно, я понимаю, что и та, и другая диссертации
готовились еще в 1951 — 1952 гг. Но все же ясно, что появление
и распространение принципиально новой философской
тематики стало возможным только после смерти Сталина.
Оглядываясь назад, я особенно ясно представляю себе
революционизирующую роль для нашей философии того, что Ильенков и
Зиновьев сделали в середине и второй половине 50-х гг. Дело
не только в том, что они были родоначальниками интересных
школ в определенной области философии. Я считаю, что их
идеи и программы означали принципиальный рубеж' в
развитии нашей философии в целом. Это было как бы открытием
нового мира. И новых, по-настоящему философских методов
исследования. Те, кто работал в нашей философии после них,
сколь далеко бы ни расходились их идеи между собой, и сколь
сильно бы они ни отходили в некоторых пунктах от идей своих
учителей, были бы невозможны без Ильенкова и Зиновьева.
Митрохин Л. Н. Конечно, именно они сыграли роль
главных молотобойцев, пробивших брешь в монолите «диамата».
Круг профессиональных интересов каждого из них был
необычайно широк. Но, как мне представляется, довольно рано про-
216 Беседа Л. Н. Митрохина с В. А. Лекторским
явилось и различие их подходов к исследованию диалектики и
методологии. Зиновьев, прежде всего, занимался разработкой
собственной концепции многозначной неклассической логики,
а впоследствии и социологии. Ильенкова же интересовало
построение общей теории мышления и личностного развития
человека.
Лекторский В. А. Да. Я как раз собирался подчеркнуть, что
с самого начала в философско-методологической
интерпретации «Капитала» (а поэтому и в понимании характера и задач
философии) между Ильенковым и Зиновьевым обнаружились
существенные расхождения.
Ильенков понимал науку и научность в духе высокого
классического рационализма, прежде всего в духе немецкой
философской классики: Кант, Фихте, Гегель (поэтому участники
его семинара — а я стал в 1954 г. не только его участником,
но и старостой — должны были основательно штудировать
как Маркса, так и названных классиков). С этой философской
традицией он связывал и методологические уроки
«Капитала». При таком понимании проблематика научного познания и
знания оказывается не противопоставленной гуманистическим
проблемам, а непосредственно с ними связанной. Поэтому не
случайно философское развитие Ильенкова вело его
впоследствии к таким вопросам, как природа идеального, проблемы
личности, творчества, деятельности, воображения, фантазии,
как проблематика ранних философских работ К. Маркса. Не
случаен его интерес к вопросам психологии, педагогики, этики
и эстетики. Среди его учеников и сподвижников оказалось
немало выдающихся деятелей в этих областях (назову только
В. В.Давыдова, В. П. Зинченко, А. И. Мещерякова). Он был
в близких отношениях с нашими выдающимися
психологами А. Н. Леонтьевым и П. Я. Гальпериным. Значительная
часть наших известных философов последующего времени
(В. С. Библер, Г. С. Батищев, Ф. Т. Михайлов, В. М. Межу-
ев, М.К.Петров и др.) были либо его непосредственными
учениками, либо испытали серьезнейшее влияние его идей,
которое не прекращалось и тогда, когда они разрабатывали
собственные концепции и по каким-то вопросам вступали с
ним в полемику. Как сказал впоследствии один из них: «Все
мы вышли из ильенковской шинели».
От Зиновьева шла другая интерпретация философской
методологии. Упор здесь делался на выявление некоторых
способов познавательной деятельности («приемов») и их увязанно-
сти в определенные структуры. Впоследствии ряд представи-
О прошлом и настоящем 217
телей этой школы ушел в область математической логики
(в частности, сам Зиновьев), другие стали заниматься
системно-структурными исследованиями (предвосхитив некоторые
идеи французского структурализма — это ранние работы
Б. А. Грушина и М. К. Мамардашвили), третьи (Г. П. Щедро-
вицкий и его школа) стали заниматься системно-деятельност-
ной методологией, четвертые, описав сложный путь развития,
отошли от исходной сциентистской установки и
ассимилировали идеи феноменологии и экзистенциализма (М. К.
Мамардашвили). Между этими двумя линиями в философском
движении 50—70-х гг. в нашей стране существовали непростые
отношения. С одной стороны, всех представителей движения
объединяло неприятие официальной идеологии и
официального истолкования марксизма. С другой стороны, полемика
между ними была довольно острой. Вместе с тем, как мне сегодня
представляется, имело место и взаимное обогащение (не
сознававшееся в то время большинством из них).
Митрохин Л. Н. Что ж, я вижу, что ты сохранил
восторженность тех лет. А как сегодня, спустя сорок пять лет, ты
оцениваешь идеи Ильенкова, которые в те годы обсуждались
на его философском семинаре?
Лекторский В. А. Дело не в восторженности. Я как раз и
пытаюсь трезво оценить то, что было в нашей философии, с
моей сегодняшней точки зрения. Конечно, сегодня я
воспринимаю эти идеи уже в ином контексте. Многое изменилось и в
жизни, и в моем понимании философии. Теперь особенно
явственным становится смысл идей Ильенкова в «большом
времени», как сказал бы М. М. Бахтин. Сейчас для меня ясно,
что вся та методологическая проблематика, с которой начинал
Эвальд Васильевич и которой он так увлек философскую
молодежь, а главное предлагавшиеся им решения, были по
существу предвосхищением той проблематики, которой
западные специалисты по логике и методологии науки стали
заниматься полтора десятка лет спустя (интересно было бы
сравнить ильенковское толкование диалектики абстрактного и
конкретного с знаменитым лакатосовским методом научных
исследовательских программ, а его критику философского
эмпиризма с тем, что позднее стало обсуждаться как проблема
теоретической нагруженности эмпирического факта).
Особенно интересно, что та проблематика, которая сегодня кажется
чем-то вполне привычным, тогда воспринималась
большинством наших философов (кстати сказать, и большинством
западных) как что-то еретическое. Примерно то же произошло с
218 Беседа Л. Н. Митрохина с В. А. Лекторским
сделавшей целую эпоху в нашем философском развитии
статьей Ильенкова о природе идеального. Первоначально она
была опубликована во II томе «Философской энциклопедии»
в 1962 г. Ильенковское понимание идеального, которое, по
сути дела, было изящной попыткой решения старого спора
психологистов и анти-психологистов, было сразу же
встречено в штыки огромным большинством нашей философской
публики. На автора посыпались обвинения во всех смертных
грехах: в объективном идеализме (Как же! Ведь Эвальд
Васильевич считает, что идеальное может существовать вне
индивидуального сознания!), в отходе от истин
марксизма-ленинизма и т. д. Принятый в нашей философии того времени
наивный психологизм не мог переварить необычные идеи
Ильенкова, хотя эти идеи продолжали славную традицию.
Сейчас, когда мы прочитали Поппера, а некоторые даже
ознакомились с поздним Витгенштейном, мысль о том, что
содержание идей не обязательно искать в недрах индивидуального
сознания или под черепной коробкой, уже не воспринимается
как что-то кощунственное.
Митрохин Л. Н. Раз уж ты упомянул Витгенштейна, то
мне хотелось бы сказать несколько слов о том громадном
значении, которое имело знакомство с современной
философией для преодоления инерции «диаматовского» мышления.
Вспомним те времена. В начале 60-х гг. «снизу» постепенно
нарастало давление на косные, ритуальные формы
официального догматизма. Оно охватило все разделы
философского знания, но шансы на успех в каждом из них были разные.
Разумеется, никакие серьезные новации не могли
совершиться на столбовой «Осударевой дороге» — в диамате,
истмате и научном коммунизме. Здесь партийные идеологи
стояли насмерть, обличая малейшие проявления
ревизионистской крамолы.
Скажем, дисциплина, известная под названием «научный
коммунизм», научной на деле не являлась. Это была
схоластически тематизированная система номенклатурных
представлений о путях «построения» нового общества и
требований, которым послушные граждане должны были
удовлетворять. Какой-либо модернизации вся эта конструкция,
разумеется, не поддавалась. Поэтому профессиональное
социальное знание могло быть получено лишь вопреки уже
существующим официальным догмам, и, следовательно, по
самому определению оказывалось диссидентским, социально
неблагонадежным.
О прошлом и настоящем 219
Это и произошло, когда обществоведам удалось добиться
признания социологии в качестве самостоятельной научной
дисциплины со своим понятийным аппаратом и методами
конкретных исследований. Ее первые шаги в Институте
философии были связаны с созданием сектора труда и быта во
главе с Г. В. Осиповым. Я помню, как яростно
сопротивлялись «истматчики» любым нововведениям, ограничивающим
их монопольное право «открывать» главные
закономерности, по которым якобы развивается советское общество.
Имеется серьезный документ, подтверждающий
официальную позицию на этот счет. Я имею в виду официальную
«Записку», информирующую ЦК КПСС об обсуждении
журнала «Вопросы философии» в Академии общественных наук
17—18 июня 1974 г., которое грубо оборвало надежды на
возможность возрождения творческого начала в
официальной философии. В этом документе злобным обличениям в
забвении партийного подхода и некритическом восприятии
«буржуазных идей» подверглись многие известные
обществоведы: Ю. А. Левада, Б. А. Грушин, К. М. Кантор, О. И. Шка -
ратан, Л. А. Гордон, Э. В. Клопов, М. К. Петров, А. Я. Гуре-
вич, Н.Ф.Наумова и др.
Безнадежно обстояло дело с философией религии, которая
была подменена «воинствующим атеизмом», обреченным на
примитивизм. Напомню, что большевики планировали к
1936 г. ликвидировать все церкви, молитвенные дома и
священнослужителей, а к 1937 г. изгнать религию «из самых
укромных уголков». Планы провалились. Но когда в 1961 г.
было торжественно провозглашено спешное построение
коммунизма, с которым, как полагали кремлевские теоретики,
религия несовместима, «либеральный» Хрущев развязал
антирелигиозную кампанию, по своим масштабам и цинизму
сопоставимую со сталинскими временами. Так что
«воинствующий атеизм» формировался не как научная
исследовательская дисциплина, а как способ «теоретического»
оправдания практики изживания веры в Бога, в конечном счете —
верующих. Этой задачей определялись его стержневые
категории, аргументы, факты, исходные посылки и конечные
выводы.
С аналогичными трудностями сталкивались
профессиональные исследователи этики. Это не случайно. Главным
препятствием на пути создания тоталитарного строя было именно
личностное, нравственное (то есть автономное, идущее
«изнутри») сознание и поведение индивидов, неподвластное кон-
220 Беседа Л. Н. Митрохина с В. А. Лекторским
тролю «сверху»; поэтому шел общесоюзный отстрел людей
талантливых, с независимым мышлением и чувством личного
достоинства.
Отсюда стремление партократов свести этику к
восхвалению и оправданию от имени науки насильственной
деятельности по выведению homo soveticus. Я хорошо знал «главного
этика» А. Ф. Шишкина, глубоко порядочного, эрудированного
специалиста. Суровая личная судьба сделала его предельно
осторожным, но и ему крепко доставалось за учебник
«Основы марксистской этики», о научных достоинствах которого
говорить как-то неудобно. Для разработки этики как
философской дисциплины много сделал О. Г. Дробницкий. Он работал
в моем секторе, и я помню, каким свирепым нападкам он
подвергался со стороны казенных идеологов, особенно за его
идею о бессубъектности моральных предписаний. Таким
«субъектом» могло быть лишь Политбюро.
Как видим, излюбленным методом шельмования
вольнодумных авторов было обвинение в некритическом заимствовании
«реакционных буржуазных концепций», о которых
бдительные корифеи серьезного представления не имели. Однако они
все чаще участвовали в зарубежных конгрессах и
симпозиумах, и хотя в основном были нацелены на то, чтобы «дать
отпор», это предполагало хоть какое-то знание иностранных
доктрин и имен. (Помнишь, как после гибели в авиационной
катастрофе 3 марта 1973 г. О. Г. Дробницкого и Д. Д.
Среднего нас вместе с Г. М. Тавризян тем же рейсом срочно
отправили в Варну, чтобы готовить критические «ориентировки» на
доклады западных участников предстоящего конгресса.)
Поэтому всячески поощрялось изучение (правда, непременно «с
разоблачением») современной западной философии.
Но вы, эпистемологи, полагаю, были довольны: знакомство
с новейшими западными работами вводило в курс живой
философской мысли и позволяло под видом критики творчески
развивать нетривиальные, «еретические» идеи. Росло число
способных аспирантов, всерьез занимающихся современной
западной мыслью, где они были относительно свободны в
своих интерпретациях и могли отделываться формальными
критическими оговорками. Стали появляться вполне приличные
работы (прежде всего по неопозитивизму и
экзистенциализму), которые постепенно отвоевывали какие-то островки
здравой критической мысли. В результате уточнялись старые
понятия («деятельность», «рефлексия») и вводились новые
(«неявное знание», «неклассическая рациональность», «ме-
О прошлом и настоящем 221
та-эпистемологическое исследование»), обогащались
эвристические схемы, сам язык теории познания. Иными словами,
в сфере эпистемологии осуществлялся прорыв на новый
теоретический уровень философствования, особенно если
напомнить, как выглядела эта проблематика лет двадцать назад.
Лекторский В. А Да, та теория познания, которую нам
преподавали в начале 50-х гг. и которая была изложена в
известных тогда книгах М.А.Леонова, Ф. И. Хасхачиха и др.,
была в действительности наивной, догматизированной и
идеологизированной разновидностью сенсуализма, хотя на словах
от сенсуализма открещивалась. В принципе — то же
относится к книге Т. Павлова «Теория отражения», хотя в ряде
вопросов автор книги позволял себе некоторые вольности и
поэтому критиковался за «идейные ошибки». Преподававшаяся
нам теория познания исходила из идеи В. И. Ленина о
«данности материи в ощущениях», из его же идеи о движении
познания от «живого созерцания к абстрактному мышлению». При
этом «живое созерцание» понималось психологически, а
поскольку психология в те годы в соответствии с официальными
указаниями сводилась к физиологии высшей нервной
деятельности, то нам и пересказывали учение об условных рефлексах.
Что же касается «абстрактного мышления», то оно
трактовалось в духе элементарной формальной логики (понятие,
суждение, умозаключение) с некоторыми добавлениями
«диалектической логики», которую каждый преподаватель понимал
по-своему и рассказ о которой в большинстве случаев не
добавлял ничего принципиально нового к тому, что можно было
узнать уже из логики формальной. Излагавшаяся нам теория
познания такого рода не вызывала энтузиазма и тем более
желания работать в этой области: не очень понятно было, что
серьезно можно здесь исследовать. Я и не собирался
заниматься проблемами теории познания до тех пор, пока не
встретил Ильенкова и не начал работать в его семинаре, т. е. в
конце 1953 г.
Эвальд Васильевич рассказывал нам о совершенно иной
проблематике. Теория познания была истолкована как теория
научного познания. В этом понимании она совпадала с тем,
что потом стали называть методологией научного познания и с
тем, что сам Ильенков называл диалектической логикой.
Подобная версия теории познания противостоит сенсуализму и
продолжает гегельянскую (и, как я впоследствии узнал,
неокантианскую) традицию. При таком понимании теории
познания она действительно становится философской дисциплиной,
222 Беседа Л. Н. Митрохина с В. А. Лекторским
отличной от психологии (тем более от физиологии высшей
нервной деятельности) и от формальной логики. Ильенков
неоднократно говорил нам, участникам его семинара, что
философия не занимается так называемым чувственным
познанием — это дело психологии. (Сегодня для меня ясно, что
философия не может не анализировать чувственный опыт, так
называемое «данное», своими собственными средствами — в
этом убеждает развитие в XX в. как феноменологии, так и
аналитической философии.) Ясно, что такая позиция вступала в
серьезный конфликт с официальной установкой советской
философии. И этот конфликт должен был раньше или позже
обнаружиться. Он выявился тогда, когда Ильенков вместе с
В. И. Коровиковым выступили с знаменитыми тезисами о
предмете философии. Это произошло, если я не ошибаюсь, в
конце 1954 г.
Митрохин Л. Н. В 1950 г. по вздорному обвинению в
антисоветской деятельности арестовали моего отца, генерала
КГБ. Следствие длилось более двух лет. Сейчас вспоминать
об этом не хочется. Последствия очевидны: мне, студенту
«идеологического» факультета, пришлось перейти на
«нейтральную» проблематику формальной логики. Диплом я
писал о законе достаточного основания под руководством
П. С. Попова, а позже кандидатскую диссертацию — о
логической концепции Фердинанда К. С. Шиллера. Ну а ты,
насколько помню, принимал самое активное участие в
обсуждении «тезисов гносеологов» на заседаниях Ученого совета
философского факультета.
Лекторский В, А. Дело было так. Ильенков и другой
молодой преподаватель кафедры истории зарубежной философии
Валентин Иванович Коровиков написали тезисы о том, в чем
состоит предмет философии. Валентина Ивановича я тоже
хорошо знал, так как он вел у нас семинары по истории
зарубежной философии и пользовался большой популярностью.
Тезисы эти были по тем временам еретическими (в полной
мере я осознал это гораздо позже). В них Ильенков и
Коровиков доказывали, что теперь, когда философия уже не может
играть роль натурфилософии и решать конкретные научные
проблемы за специальные науки, ей остается только стать
теорией научного знания, т. е. решать вопросы о характере и
природе научности, изучая реальный процесс развития науки.
В контексте нашей философии середины 50-х гг., когда еще
были живы воспоминания о том, как философы поучали
биологов и физиков, эти тезисы были восприняты молодежью по-
О прошлом и настоящем 223
истине в качестве откровения, как путеводитель в новую
страну, в которой философы-профессионалы занимаются не
простым «обобщением» данных других дисциплин и тем более не
решают проблемы за другие науки, а имеют дело с
собственными, очень интересными вопросами, важными не только для
них самих, но и для представителей частных наук, для
культуры в целом. Но защищавшаяся в тезисах позиция вступала в
прямое противоречие с официальными установками.
Во-первых, она была несовместима с пониманием марксистской
философии как «науки о наиболее общих законах развития
природы, общества и мышления». Нужно сказать, что это
официальное понимание, хотя в прямой форме и не было выражено
в считавшихся священными работах классиков
марксизма-ленинизма, тем не менее, довольно хорошо соответствовало ряду
высказываний Энгельса и Ленина. Если считать, что
философия — это теория познания, то непонятно, что делать с
«диалектической теорией бытия» или «диалектической теорией
развития» (онтологией). Во-вторых, куда деть исторический
материализм, который всегда считался неотъемлемой (а для
партийных идеологов даже самой важной) частью
марксистско-ленинской философии? Разве может марксистская
философия в ее официальном понимании обойтись без учения о
классовой борьбе и о развитии общественно-экономических
формаций? В-третьих, вызывало сомнение само понимание
теории познания как теории научного познания, ибо, что тогда
делать с «ленинским учением» об ощущении, о чувственном
познании и т. д.?
Когда началось обсуждение этих тезисов на заседании
Ученого совета философского факультета (а таких заседаний
было несколько), на Ильенкова и Коровикова буквально
обрушились многочисленные критики, которые не пользовались
какими-либо рациональными аргументами, а в основном
ссылались на высказывания классиков марксизма-ленинизма и
указывали на опасность того пути развития философии,
который предлагается в тезисах («вы зовете нас в душную сферу
мышления, — заявил один из них, — но мы туда не пойдем»).
Выступали и сторонники. Насколько я помню, позицию
авторов тезисов защищали П. В. Копнин (я тогда впервые увидел
его), А. А. Зиновьев, Г. П. Щедровицкий, А. С. Арсеньев.
Сторонники тезисов (и сами авторы) пытались ответить на
критические высказывания. По вопросу об онтологии
Ильенков и Коровиков заявили, что ее нет и не может быть в составе
марксистской философии. «Наиболее общие (или, точнее,
224 Беседа Л. Н. Митрохина с В. А. Лекторским
всеобщие) законы развития бытия» и законы мышления
совпадают и выявляются именно на основе анализа мышления.
(«А как быть с теорией отражения?» — воскликнул один из
критиков. «Отражение» является неудачным словом, —
парировал А. С. Арсеньев. «И вообще ленинский «Материализм
и эмпириокритицизм» — это незрелая работа в отличие от
«Философских тетрадей» того же автора», — продолжил он.
Я хочу напомнить, что все это говорилось в 1954 г.!). По
вопросу о философском характере исторического материализма
авторам тезисов сказать по существу было нечего, и это,
конечно, делало их позицию уязвимой перед идеологической и
демагогической критикой. То же относилось и к третьему
пункту возражений (ленинское учение об ощущении и т. д.).
Позднее в некоторых отечественных работах по истории
советской философии я прочитал, что полемика Ильенкова и его
сторонников с теми, кто нападал на них (а эти споры в менее
ожесточенной форме продолжались и впоследствии), была
дискуссией «гносеологов» и «онтологов». Я хочу подчеркнуть,
что в действительности речь шла не о полемике разных
философских концепций, по крайней мере, в те годы. Так
называемые «гносеологи» пытались заниматься реальной
философской тематикой, дать новый импульс нашей философии (и, как
теперь очевидно, им удалось сделать это). Главная цель их
противников — защитить существующее положение дел в
советской философии и свои собственные позиции. В качестве
средства «онтологи» использовали демагогические и
идеологические аргументы. Ведь та «онтология», которая в те годы
противостояла позициям «гносеологов», была либо
повторением общих естественнонаучных сведений (теории физики о
пространстве и времени, так называемое «учение» Лысенко о
видообразовании, теория Павлова о высшей нервной
деятельности и т. д.), либо же — изложением законов диалектики как
законов развития (их понимание сначала черпалось из
«Краткого курса истории ВКП(б)», а потом из некоторых работ
Энгельса). Единственным способом «обоснования» такого рода
«онтологии» были ссылки либо на факты естествознания,
либо на священные тексты классиков марксизма-ленинизма.
Сегодня мне ясно, что онтология в принципе может быть
действительно философской дисциплиной, и притом вполне
критической. Но в этом случае она не может обосновываться и
разрабатываться без анализа познания и сознания. Однако, я
еще раз повторяю, в те годы в нашей философии
«гносеологи» и «онтологи» противостояли друг другу не как представи-
О прошлом и настоящем 225
тели разных теоретических концепций, а как те, кто пытался
заниматься реальными философскими проблемами, и те, кто
не мог и не хотел этого делать, а был озабочен лишь
демонстрацией своей «идеологической выдержанности».
Митрохин Л. Н. А все-таки не кажется ли тебе, что
предложенное Ильенковым и Коровиковым понимание философии
было слишком узким, уводящим философов от решения
важных социальных и экзистенциальных проблем? Возможно, оно
было вызвано прежде всего желанием обрести такую сферу
философствования, где идеологический надзор был, по
крайней мере, менее ощутим. Это понятно в условиях того
времени, но вряд ли сегодня приемлемо как теоретически
безупречное решение.
Лекторский В. А. Я думаю, что, в самом деле,
определенное желание найти такую область, в которой философия
может быть самою собой, а не служанкой меняющейся
партийной идеологии, было. Но это не было просто желание
«хорошо спрятаться». Понимание того, что не все в нашей жизни
обстоит хорошо, начало расти у многих из нас вскоре после
смерти Сталина, а особенно после известного XX съезда
партии. Ильенков из учителя вскоре превратился в моего
старшего друга, я часто навещал его дома и хорошо представлял его
настроения. Это была, конечно, критическая социальная
настроенность, близкая тому, что впоследствии реализовалось в
Пражской весне 1968 г. (недаром Эвальд Васильевич
сочувствовал ее лидерам). Речь шла вовсе не об отказе от
социализма, а о его демократическом реформировании в соответствии с
идеалами подлинного Маркса (а не того
марксизма-ленинизма, который стал у нас официальной идеологией). «Связь
философии с жизнью», в отсутствии которой тогда и много раз
впоследствии демагогически обвиняли Ильенкова и других
близких ему философов, понималась официальными
инстанциями вполне определенно: «философское обоснование»
очередных решений ЦК КПСС (а во второй половине 50-х гг. и
первой половине 60-х гг. XX в. эти решения менялись
катастрофически быстро). Ильенков и Коровиков предлагали другое:
опору на научное знание, на теоретическое мышление и на
философию как на рефлексивную и методологическую основу
этого мышления в качестве единственно возможного способа
изменения социальной реальности. Ибо, как уже стало ясно к
середине 50-х гг., с наукой идеология не может ничего
сделать. В этом случае исследование мышления, разработка
теории научного познания выступает как жизненная миссия фи-
226 Беседа Л. Н. Митрохина с В. А. Лекторским
лософии, как своеобразный способ социальной критики.
Философия толковалась как критическая и самокритическая
деятельность, подчиненная своим собственным требованиям.
Этическая и эстетическая тематика (которой Эвальд
Васильевич посвятил немало работ) не противопоставлялась
философской теории мышления, а связывалась с нею — в духе
Гегеля, неокантианцев (сегодня я сказал бы, что также и в духе
Поппера). Идеология же понималась в смысле Маркса: как
ложное сознание. Идеология пытается нечто внушить без
обоснования, притупить остроту критического понимания.
Философия же (как и наука) нацелена на поиск истины.
Поэтому термин «идеолог» был в те годы одним из самых
бранных в нашей среде. Интересно, что сказал бы Эвальд
Васильевич, доживи он до наших дней, по поводу современной
постмодернистской моды, стирающей грани между идеологией и
наукой, исследованием и риторикой, истиной и ложью, по
поводу широко распространившегося пиара и «политтехноло-
гии» как его разновидности, т. е. способов манипулирования
сознанием. Сегодня такого рода занятия не только не
считаются предосудительными в некоторых кругах, но даже и весьма
модны — наверное, потому, что очень прибыльны. Между
прочим, интересный сюжет для размышлений о том, что
произошло с нашей интеллигенцией за последнее десятилетие.
Митрохин Л. Н. Сильно подозреваю, что твои симпатии не
прошли мимо номенклатурных «кураторов»?
Лекторский В, А. Симпатиями дело не ограничилось. Я,
тогда студент четвертого курса, тоже выступил в этой
дискуссии (насколько я помню, единственным из студентов). И,
конечно, как горячий защитник Ильенкова и Коровикова. В силу
своей наивности я не предполагал, что мне это дорого
обойдется. А между тем наказание «отступников» не заставило
себя долго ждать. В начале 1955 г. кто-то из преподавателей
написал в ЦК КПСС о том, что на философском факультете
завелись опасные ревизионисты, которые своими идеями
заражают молодежь. Идеологический отдел ЦК КПСС назначил
специальную комиссию по проверке факультета. В результате
появилась соответствующая бумага, в которой разоблачались
Ильенков, Коровиков и их сторонники, а в качестве того
студента, который попал под их вредное идейное влияние,
назывался как раз я. О том, что моя фамилия попала в решение
идеологического отдела ЦК КПСС, я тогда не знал, однако
быстро догадался, что произошло нечто нехорошее,
касающееся, в том числе, непосредственно меня. Ильенков и Коро-
О прошлом и настоящем 227
виков были уволены с факультета. То же вскоре произошло с
Зиновьевым. Ильенкова и Зиновьева взяли в Институт
философии АН СССР: им все-таки разрешили заниматься
исследованиями, но запретили преподавать. Коровиков вообще
изменил сферу своей деятельности и занялся международной
журналистикой. В течение нескольких десятков лет он работал
спецкором «Правды» — сначала в Индии, а затем в разных
африканских странах. С факультета были также уволены
молодые популярные преподаватели, поддержавшие в той или
иной форме идеи «гносеологов»: Г. С. Арефьева, В. Н.
Бурлак. В это же время несколько аспирантов кафедры истории
русской философии начали борьбу с методами изучения
истории русской философии, которые практиковались на этой
кафедре. Этими смутьянами были Е. Г. Плимак, Ю. Ф. Карякин,
И. К. Пантин. Вскоре последовало изгнание и этих
«отщепенцев». Весной 1955 г. на партийном собрании факультета (я не
был тогда членом партии, и о том, что было на собрании,
узнал от своих товарищей) несколько человек выступили с
вопросами по поводу снятия Г. М. Маленкова с поста
Председателя Совета Министров СССР. Все они были немедленно
исключены из партии, в том числе наш сокурсник, фронтовик,
парторг нашего курса А. И. Могилев (некоторых из
исключенных потом восстановили, но наказали в другой форме). Весной
1955 г. в руководящих партийных инстанциях сложилось
мнение о философском факультете МГУ как о рассаднике идейной
заразы. Особенно зараженным был объявлен наш курс.
В итоге со всего курса в аспирантуру было взято всего два
человека. Хотя я имел рекомендацию в аспирантуру в начале
1955 г., сразу же после работы комиссии ЦК КПСС мне
отказали в этой рекомендации. На четвертом и пятом курсах
научным руководителем моих курсовой и дипломной работ был
Ильенков. В апреле 1955 г., после увольнения с факультета,
Эвальд Васильевич для того, чтобы не ставить под удар
защиту моего диплома, отказался от научного руководства и
попросил быть моим руководителем М. Ф. Овсянникова (он только
что вернулся на факультет после многолетнего перерыва).
С помощью Михаила Федотовича я защитился (и даже
получил красный диплом). Правда, на работу я смог устроиться с
большим трудом и только через полгода после окончания
факультета. Это была кафедра философии Московского
государственного экономического института (впоследствии он был
слит с Институтом народного хозяйства имени Плеханова),
куда меня взяли лаборантом: преподавать мне не доверили.
228 Беседа Л. Н. Митрохина с В. А. Лекторским
Там я проработал два года. Кличка «гносеолог», которую
прилепили и мне, была в те годы свидетельством идеологической
неблагонадежности.
Что же касается философского факультета МГУ, то его
разгром весной 1955 г. привел к тому, что он перестал на
многие годы быть центром развития нашей философии. Этот
центр переместился в другие места. Это был прежде всего
Институт философии АН СССР, где начали работать
Ильенков, Зиновьев, где работали в те годы Копнин, С. Л.
Рубинштейн, Н. Ф. Овчинников, И. В. Кузнецов, М. Э. Омелья-
новский, П. В. Таванец, Д. П. Горский. В начале 60-х гг. в
институт пришли В. Ж. Келле, Т. И. Ойзерман, О. Г. Дроб-
ницкий, В. А. Смирнов, Г. С. Батищев, Е. П. Никитин.
Я помню, что ты тоже пришел в институт в эти годы. В
аспирантуру института поступили М. К. Петров, Н. В. Мотроши-
лова, В. С. Швырёв, Н. Н. Трубников, В. М. Межуев.
Четверо последних потом остались работать в институте. Это
был журнал «Вопросы философии», куда с философского
факультета МГУ во второй половине 50-х гг. перешли
И. Т. Фролов, М. К. Мамардашвили, И. В. Блауберг, к
которым вскоре присоединились Э. Ю. Соловьёв, В. Н.
Садовский. Это была «Философская энциклопедия», работа над
которой началась в конце 50-х гг. коллективом, включавшим
А. Г. Спиркина, 3. А. Каменского, Ю. Н.Давыдова, П. П. Гай -
денко, М. Б. Туровского, Э. Г. Юдина и др. В начале 60-х гг.
в число этих центров вошел также Институт истории
естествознания и техники АН СССР, в котором его тогдашний
директор Б. М. Кедров собрал немало ходивших под
идеологическими подозрениями философов: В. С. Библера, А. С. Ар-
сеньева, Б. С. Грязнова, А. Ф. Зотова, В. Л. Рабиновича,
И. С. Алексеева, а впоследствии изгнанных или
полуизгнанных из партии А. П. Огурцова, П. П. Гайденко и др.
Митрохин Л. И. Помимо искоренения «гносеологов»,
напряженная обстановка на факультете существовала в связи с
дискуссией конца 50-х — начала 60-х гг. о соотношении
диалектической и формальной логики. Кстати, она была вызвана
статьей Б. М. Кедрова, в которой он дал недогматическую
интерпретацию известной мысли Ленина о том, что «не надо
трех слов». Не кажется ли тебе, что дискуссия эта была во
многом схоластичной, если оценивать ее теоретическое, а не
сугубо идеологическое содержание? И не оказались ли, в
конечном счете, несостоятельными все попытки разработки
диалектической логики как противостоящей логике формальной?
О прошлом и настоящем 229
Лекторский В. А. Я уже говорил о том, что как Ильенков,
так и Зиновьев понимали первоначально диалектическую
логику как методологию науки, совпадающую с теорией научного
знания. При таком толковании не возникает конфронтации
между нею и логикой формальной. Если последняя имеет дело
с правилами формального вывода, то первая с требованиями и
нормами неформального мышления. Поэтому в конце 50-х гг.
не только сторонники Ильенкова, ориентировавшиеся на
гегелевскую традицию, но и сторонники Зиновьева (в частности,
Грушин, Мамардашвили) выступали как представители
диалектической логики. Г. П. Щедровицкий, бывший сначала
сторонником Зиновьева, с конца 50-х гг. начал разрабатывать
собственную теорию «содержательно-генетической» логики,
которую он, правда, не называл диалектической, но в рамках
которой пытался разрабатывать те самые вопросы, которые
как раз и считались прерогативой диалектической логики, в
частности, проблемы формирования и развития научных
понятий. Вокруг этой концепции он сумел создать собственную
оригинальную школу (ей было дано название «Московского
методологического кружка»). Я считаю, что обе программы —
как Ильенкова, так и Зиновьева — породили немало
интересных исследований (на материале «Капитала» и ряда наук),
осуществлявшихся в рамках нового понимания философии и
методов работы в ней, о чем я уже говорил. Однако общая
дискуссия конца 50-х — начала 60-х гг. о соотношении
диалектической и формальной логики сегодня мне кажется
неудовлетворительной. Во-первых, по причине недостаточного
понимания возможностей формальной логики не только
сторонниками диалектической логики, но и сторонниками логики
формальной. Сегодня ясно, что правила формальной логики
являются достаточно гибкими, что они могут меняться вплоть
до отказа в некоторых случаях от закона запрета
противоречия — во всяком случае, на уровне объектного языка (сегодня
за рубежом некоторые формальные системы, допускающие
противоречие, преподносятся как системы диалектической
логики). Во-вторых, потому, что нормы неформального
мышления понимались тогда в более узком смысле, чем это в
принципе возможно. Сегодня в мире исследования неформальной
логической грамматики языка сторонниками Витгенштейна,
неформальной логики группой американских исследователей,
повлиявшей на программу «философии для детей», логики
развития научного знания, развивавшейся Поппером (то, что
Поппер называл «объективным мышлением») и его сторонни-
230 Беседа Л. Н. Митрохина с В. А. Лекторским
ками, демонстрируют важность проблематики неформального
мышления и возможность успешной работы в этой области.
Другой вопрос: нужно ли считать эти исследования
диалектической логикой и обязательно ли они должны быть связаны с
диалектикой в ее традиционном понимании?
К тому же к этой дискуссии подключились философы с
весьма странным пониманием диалектической логики, в
которой они находили особые «диалектические» суждения и
силлогизмы (В. И. Черкесов и др.). Дискуссия в начале 60-х гг.
все больше становилась схоластической, а понятие
диалектической логики в результате этого в значительной степени было
скомпрометировано.
Нечто похожее произошло с исследованием категорий. Для
Ильенкова, Зиновьева, Грушина, Мамардашвили, Щедровиц-
кого и др. (при всех различиях между ними) категории были
выражением способов мышления, а каждая категориальная
пара задавала проблему, которую предстоит исследовать.
Между тем в начале 60-х гг. появилось немало философов,
которые подхватили идею о разработке диалектической логики, но
поняли ее как создание системы категорий. При этом
содержание каждой категории предполагалось данным, уже
известным, задача состояла только в том, чтобы правильно
расположить категории. И начались бессмысленные дискуссии о том,
с чего начать систему категорий и в каком порядке категории
должны следовать одна за другой.
Я хочу обратить внимание на некоторые особенности нашей
жизни того времени, которые мешали развитию
исследовательской программы Ильенкова. Во-первых, постоянная
идеологическая критика (я бы даже сказал — травля), которая
преследовала его до конца его дней. Ему то и дело указывали
на то, что его идеи противоречат высказываниям классиков
марксистско-ленинской философии (если не самого Маркса,
то уж во всяком случае Ленина). Ильенков вынужден был
защищаться и доказывать, что никакого противоречия в
действительности нет — в тех условиях это было единственным
способом отстоять право на продолжение философской
работы. Но это неизбежно втягивало его в споры о толковании тех
или иных цитат (вроде известной ленинской фразы о
совпадении диалектики, логики и теории познания). Убедить своих
идеологических критиков Ильенков все равно не мог, а вот
тратить время и силы на в целом бессмысленные споры о
толковании священных текстов приходилось. Во-вторых,
сформулированные им идеи, когда они стали популярными в начале
О прошлом и настоящем 231
60-х гг., были подхвачены некоторыми философами, которые
давали им свое, иногда весьма странное толкование.
В-третьих, у него появились такие сторонники, для которых уже его
идеи стали новым священным писанием, от которого не может
быть ни малейшего отступления. То, что было выражением
творческого философского поиска, способом исследования,
превращалось у некоторых сторонников Ильенкова в новый
метод разоблачения инакомыслия. Эти философы не
признавали никаких философских идей, кроме тех, которые были
связаны с именами Ильенкова, Гегеля и Маркса.
С таким пониманием программы исследований в области
теории познания я не мог согласиться уже в начале 60-х гг.
Митрохин Л. И. В своем «в-третьих» ты описал одну
удивительную закономерность. Я знаю много случаев, когда
прежде гонимые убежденные борцы за творческое развитие науки
становились начальниками. И происходило поразительное
превращение. Они сразу же возводили свое толкование в ранг
непогрешимой истины и начинали предельно нетерпимо
относиться к любому свободомыслию. Причем это было нечто
другое, чем агрессивность догматиков. Так, из одной долгой
беседы в Вене с Ф. В. Константиновым я понял, что он отдает себе
ясный отчет в том, кто талантлив и способен сказать что-то
новое в философии, а кто нет. Первых он внутренне
ненавидел, громогласно обличал. Вторых же — публично
поддерживал. Однако, когда нужно было написать справку «наверх», он
заказывал ее Ойзерману, Келле, Митрохину, Лекторскому
и т. д. Это своеобразное двоемыслие нужно всегда учитывать,
описывая те времена. Но пора сменить акцент. До сих пор ты
преимущественно говорил об общей обстановке, о людях,
тебя вдохновивших. А как все это воздействовало на тебя
самого, на твои собственные исследовательские планы? Само по
себе отрицание, даже предельно решительное, как ты знаешь,
позитивного знания еще не обеспечивает.
Лекторский В. А. Прежде чем отвечать на твой вопрос, я
все же хочу сделать маленькую ремарку относительно
превращения борьбы за истину в новую разновидность
догматизма. В принципе это бывает нередко. Но вот что касается
Ильенкова, там была иная ситуация. В этом случае проблема
была не в догматизации идей самим автором, а в их
догматическом восприятии другими. Это тоже интересная тема для
размышлений.
А теперь о моих исследовательских занятиях того времени.
Во второй половине 50-х гг. круг философских текстов, кото-
232 Беседа Л. Н. Митрохина с В. А. Лекторским
рые я изучал, серьезно расширился. Уже в 1955 г., еще до
официального партийного осуждения Сталина на XX съезде
КПСС, в букинистических магазинах внезапно появилось
множество книг, которые до этого купить было нельзя. Я
приобрел в это время целый ряд дореволюционных философских
изданий: книги Э. Маха. П. Дюгема, У. Джемса, В. Вундта,
В. Виндельбанда, Э. Кассирера, Г. Риккерта, Э. Гуссерля,
А. Бергсона и др. Я начал их читать. В 1956 г., когда, будучи
лаборантом кафедры философии Московского
экономического института, я готовился к сдаче кандидатского экзамена по
истории философии, я проштудировал три книги по истории
философии Виндельбанда. Они произвели на меня сильное
впечатление: это был не просто рассказ о разных
философских концепциях, сменявших друг друга, а исследование
истории философии как истории проблем. Чтение Дюгема,
Кассирера, Риккерта и др. было открытием иного, чем гегелевско-
марксовское, понимания теории научного познания.
В 1957 г. Павел Васильевич Копнин (бывший тогда
заведующим сектором диалектического материализма Института
философии АН СССР) и Ильенков (работавший в этом
секторе) посоветовали мне поступать в аспирантуру института,
что я и сделал. Годы учебы в аспирантуре (1957—1959) были
продолжением философских поисков. Хотя официально в это
время в нашей философии продолжалась критика «гносеоло-
гов», в ней, тем не менее, происходило много важных
событий, и прежде всего в области изучения познания, сознания и
мышления.
Зиновьев, перешедший работать в Институт философии,
при поддержке работавшего там заведующего сектором
логики Петра Васильевича Таванца (который стал руководителем
моей кандидатской диссертации) увлеченно устремился в
область символической логики как современного и
многообещающего варианта логики формальной, начал разрабатывать
идеи уже в этой области и увлек за соОой немало
сторонников. Со второй половины 50-х гг. кибернетика из
«буржуазной лженауки» стала признанной и развивающейся сферой
исследований. Многие наши специалисты в области
символической логики начали устанавливать связи с
кибернетиками и математиками. Щедровицкий, не последовавший за
Зиновьевым в его новых увлечениях, разработал свою концепцию,
наладил связи с психологами, исследовавшими мышление (в
частности, с В.В.Давыдовым и др.) и создал свой кружок,
включавший немало молодых философов, логиков, психоло-
О прошлом и настоящем 233
гов, которые еженедельно собирались для докладов и
дискуссий. В конце 50-х гг. вышли в русском переводе некоторые
работы Б. Рассела, «Логико-философский трактат» Л.
Витгенштейна, в начале 60-х гг. были изданы работы Р. Карна-
па, Ф. Франка и других представителей логического
позитивизма. Все это читалось и горячо обсуждалось. В 1957 г.
появилась книга нашего выдающегося философа и психолога
Сергея Леонидовича Рубинштейна «Бытие и сознание», в
которой ряд принципиальных проблем теории познания
(психологизм и антипсихологизм, психическое и идеальное,
субъект и объект и др.) был поставлен во многом по-новому.
К тому же автор прекрасно знал историю не только
психологии, но и западной философии XX в. и анализировал
немарксистские концепции не с идеологических позиций, а в духе
добротных академических традиций. За этой книгой
последовали две другие того же автора, посвященные прежде всего
психологии мышления, но в которых в то же время
пространно обсуждались принципиальные философские сюжеты,
связанные с анализом знания и познания. С конца 50-х гг.
после более чем двадцатилетнего фактического запрета
начали переиздавать классические работы Л. С. Выготского (а
кое-что из них издавать впервые) — это оказало
колоссальное влияние не только на психологов, но и на всех, кто
исследовал познание и мышление.
В 1958 г. в Институте философии для аспирантов и молодых
ученых начал читать лекции приглашенный из Грузии
Константин Спиридонович Бакрадзе. В течение нескольких
семестров он прочитал два курса: один, посвященный философии
Гегеля, другой — новейшей и современной западной
философии, преимущественно немецкой философии второй
половины XIX в. и первых двух десятилетий XX в. (вскоре эти лекции
были изданы в Тбилиси в виде книг на русском языке). Я
посещал эти лекции, которые в ряде отношений были необычны.
Бакрадзе прекрасно знал гегелевскую философию, но его
интерпретация была иной, чем та, которой придерживались
московские поклонники Гегеля. Поразил и его анализ немецкой
философии рубежа столетий. Лектор тщательно, без
искажений и произвола излагал философские концепции, выделяя в
них реальные проблемы и указывая на новые подходы и
интересные идеи. Так, например, излагая теорию Кассирера,
Бакрадзе специально отмечал, что немецкий философ во многом
прав в критике традиционной трактовки понятия. Прекрасно и
детально излагалась гуссерлевская феноменология первого
234 Беседа Л. Н. Митрохина с В. А. Лекторским
этапа (до 20-х гг. XX столетия). Бакрадзе подчеркивал при
этом, что Гуссерль прав в критике психологизма и
традиционной теории абстракции. Когда же лектор переходил к критике,
она не имела ничего общего с принятым у нас не только тогда,
но и много лет спустя «идеологическим» разносом и была
чисто философской, как это принято среди коллег во всем мире.
После выхода книг Бакрадзе появилась рецензия, в которой
автор обвинялся в объективизме. Этого, конечно, нужно было
ожидать. Не знаю, по этой ли причине или по какой-то иной,
грузинский философ больше не появлялся в Институте
философии. Кстати, недавно я обратился к его книгам и
обнаружил, что они не устарели.
Митрохин Л, Н. К. С. Бакрадзе был оппонентом моей
кандидатской диссертации и дал на нее смутившую меня высокую
оценку. Помню забавный эпизод. У меня в тексте упоминался
«неотомист Джозеф Гейзер», что вызвало его критическое
замечание: «Когда я учился во Фрайбурге, мы называли его
Иосиф Гейзер». Философы с таким образованием у начальства
тогда автоматически вызывали подозрение. Но его очень
любили в философских кругах и, как он рассказывал, время от
времени как бы невзначай спрашивали: «Котэ (так его
называли близкие люди), а не мог бы ты на неделю куда-нибудь
уехать из Тбилиси?». И он понимал, что будут очередные
аресты, и уезжал. Через некоторое время ему звонили: «Котэ,
приезжай, соскучились». Так вот он и избежал тюрьмы. Ему
долгое время отказывали в звании профессора. На его
семидесятилетии я оказался единственным представителем Москвы,
предварительно запасшись приветствием от АН СССР,
подписанным П. Н. Федосеевым. А вообще в те годы существовала
очень сильная грузинская философская и психологическая
школа (Д. Н. Узнадзе, К. С. Бакрадзе, С. Б. Церетели, наш
друг Н. 3. Чавчавадзе, да и о М. К. Мамардашвили не грех
вспомнить). Но, извини, я перебил тебя.
Лекторский В. А. В конце 50-х и начале 60-х гг. я пришел
к твердому убеждению, что проблематика теории познания
должна разрабатываться на более широких основаниях, чем
это допускает узко понятая гегелевско-марксовская традиция.
Для меня стало ясно, что ни Гегель, ни Маркс уже хотя бы
потому, что они умерли еще в XIX в., не могли ни знать, ни
решать те проблемы, которые возникли позже, в том числе в
современной западной философии, а также в науках, имеющих
дело со специальным исследованием познания: психология,
символическая логика, семиотика и др.
О прошлом и настоящем 235
Я хочу подчеркнуть, что для меня речь не шла об отказе от
философии Маркса. Имелось в виду нечто другое: развитие
некоторых принципиальных идей марксовой программы
анализа знания (принцип деятельности, снятие жесткой
дихотомии субъекта и объекта, роль культуры и общества в
производстве знания и др.) в контексте современного развития
западной философии и специальных наук о познании, т. е., если
угодно, ассимиляция идей, возникших, в том числе, и в
немарксистской мысли, и одновременно уточнение некоторых
положений Маркса и особенно Ленина. Это было что-то вроде
«марксистского ревизионизма», который в те годы у нас
считался даже более опасным, чем современная «буржуазная»
философия. Помню мой разговор на эту тему в начале 60-х гг.
с одним из догматических сторонников Ильенкова, который
решительно не принявшим моего понимания программы
теоретико-познавательных исследований, заявив, что все здесь
уже сделано Гегелем и Марксом (между прочим, сегодня он
превратился в рьяного критика Маркса, марксизма и
социализма во всех его разновидностях).
Люди, изучавшие проблемы познания и мышления в конце
50-х и начале 60-х гг., будь то философы, логики, психологи,
математики, находились в постоянном контакте. Развивались
разные исследовательские программы, существовали
различные школы, шли бурные дискуссии, велась взаимная критика.
И вместе с тем было ощущение принадлежности к некоторому
единому сообществу. С начала 60-х гг. стали регулярно
проводиться Всесоюзные конференции по логике и методологии
науки в разных городах страны — это было способом
приобщения широкого круга философов к исследованию
проблематики познания. У меня установились тесные отношения с
учеником П. Я. Гальперина Василием Васильевичем Давыдовым,
который в это время развивал оригинальную концепцию видов
обобщения, используя идеи Гегеля, Маркса и Ильенкова и
психологические идеи Л. С. Выготского (впоследствии психо-
логическо-педагогическая концепция Давыдова легла в основу
теории развивающего обучения, которая ныне пользуется
популярностью во многих странах мира). С учеником С. Л.
Рубинштейна психологом Андреем Владимировичем Брушлин-
ским (он работал тогда в Институте философии) мы регулярно
обсуждали проблемы философии и психологии мышления.
Я несколько раз посещал заседания кружка Щедровицкого (и
Даже однажды делал там доклад), но быстро понял, что
практиковавшийся лидером школы способ исследования познания
236 Беседа Л. Н. Митрохина с В. А. Лекторским
для меня неинтересен. Я сознавал значение того, что делали
Щедровицкий и его ученики, как теоретическое, так и
практическое: для психологии, для педагогики, а впоследствии для
решения разного рода организационных проблем (так
называемые организационно-деятельностные игры). Ряд идей
Щедровицкого (понимание деятельности, антипсихологизм в
трактовке мышления и др.) мне казались любопытными.
Меня, однако, не устраивала сугубо технологическая
установка, культивировавшаяся в кружке: разработка приемов и
способов решения частных задач. То, что я знал к этому времени
о философии, убеждало меня в мысли о том, что познание не
поддается чисто технологическому регулированию, что
философия прежде всего обсуждает стратегию познания и его
смысл, решает вопросы о предмете знания и о том, что может
быть познано.
Я начал читать современную западную философскую
литературу, которой тогда не было в русских переводах:
американских неореалистов, представителей аналитической
философии (в частности, поздние работы Л. Витгенштейна,
классическую книгу Г. Райла «Понятие сознания»). Но многие
тексты аналитических философов невозможно было понять
без знакомства с символической логикой. Пришлось
заняться и этим. Сначала я сам изучил основные учебники по
символической логике (не только А. Тарского и Д. Гильберта с
И. Аккерманом, но даже С. Клини — советы мне давал наш
известный логик Виктор Константинович Финн, которого я
знал еще по школе), а потом в течение двух семестров
занимался логикой под руководством нашего выдающегося
логика-философа Владимира Александровича Смирнова. Он в
1961 г. вернулся из Томска в Москву и начал работать в
Институте философии. У меня завязались тесные контакты с
ним и его супругой, известным логиком Еленой Дмитриевной
Смирновой.
Исследование проблем познания в контексте деятельности
(на эти сюжеты меня толкали и идеи Ильенкова, и разработки
наших психологов — Гальперина, Леонтьева, Давыдова,
Рубинштейна, и работа методологического кружка
Щедровицкого) побудили меня заняться изучением концепции одного из
крупнейших западных психологов и философов XX столетия
Жана Пиаже. Он, будучи специалистом по психологии
мышления, пришел к разработке оригинальной
теоретико-познавательной концепции, которую он назвал «генетической
эпистемологией», и собственной логической теории — так назы-
О прошлом и настоящем 237
ваемой операторной логики. Развитие познания Пиаже
связывал с изменением систем действий и операций. Никаких
его работ тогда не было в русском переводе. Я за полгода
изучил французский язык в той степени, чтобы можно было
читать философские и научные тексты, и прочитал три больших
тома «Введения в генетическую эпистемологию» (эта работа
Пиаже до сих пор не переведена) и многие другие его работы.
В результате в 1961 г. в журнале «Вопросы психологии» была
опубликована наша с Вадимом Николаевичем Садовским
статья, посвященная основным идеям «генетической
эпистемологии» — насколько я знаю, это была первая статья о поздних
работах Пиаже на русском языке. В ходе исследовательских
поисков я натолкнулся на публикации в США только что
созданного «Общества по общей теории систем» под
руководством известного биолога и методолога Л. Берталанфи.
В 1960 г. мы с Садовским опубликовали в журнале «Вопросы
философии» статью о принципах исследования систем.
Статью быстро перевели и напечатали в США, и когда в 1962 г.
Институт философии посетила группа американских
социологов во главе с Т. Парсонсом, входивший в эту группу
математик и специалист по общей теории систем А. Рапопорт
специально разыскал нас (мы с ним познакомились и впоследствии
много раз встречались). Между прочим эта публикация
послужила толчком для бурного развития системно-структурных
исследований в нашей стране. В конце 60-х гг. в Институте
истории естествознания и техники был создан специальный
сектор системного исследования науки, главными действующими
лицами в котором стали В. Н. Садовский, И. В. Блауберг и
Э. Г. Юдин. Впоследствии этот сектор перешел в Институт
системного анализа АН СССР, где существует до сих пор.
В течение тридцати лет выходят издаваемые сектором
ежегодники «Системные исследования», в которых участвуют
представители разных научных дисциплин.
Митрохин Л. Н. Во что же, в конце концов, вылились твои
изыскания?
Лекторский В. А Я написал и защитил кандидатскую
диссертацию, которая в 1965 г. вышла в издательстве «Высшая
школа» (моим редактором был Ю. М. Бородай) в виде книги
«Проблема субъекта и объекта в классической и современной
философии». В ней я сделал попытку деятельностной
интерпретации познания не только в общем философском плане
(исходя из идей Маркса), но и учитывая то, что сделано в
отечественной психологии (Выготский, Гальперин, Рубинштейн),
238 Беседа Л. Н. Митрохина с В. А. Лекторским
в мировой психологии (Пиаже), в западной методологии науки
(операционализм Бриджмена). Я попытался также дать иную,
чем общепринятая у нас, интерпретацию «теории
отражения». Сама эта «теория» была для нашей философии
неоспоримой идеологической догмой, которую нельзя было атаковать
в лоб. В действительности понятие отражения у Ленина
допускает двоякую интерпретацию: как непосредственная
данность сознанию познаваемого предмета и как соответствие
некоторого существующего, внутри сознания идеального
предмета — образа — внешней реальности. На меня серьезно
повлияла критика Ильенковым представления о психике,
сознании и познании как о чем-то чисто «внутреннем». Ильенков
развивал свои идеи в русле традиции немецкой классической
философии — Фихте и Гегеля — и Маркса: согласно
последнему в деятельности снимается противостояние субъекта и
объекта. Изучение феноменологии, работ американских
неореалистов, чтение Г. Райла дало мне дополнительные
аргументы против понимания сознания и познания как чисто
«внутренних» процессов. В свой книге я дал критику
понимания познания, «отражения» по принятой у нас тогда
терминологии, как соответствия образа и внешней реальности
(впоследствии я нашел обстоятельную критику понимания
восприятия как особого идеального предмета — «перцепта» и
теоретическое и экспериментальное обоснование понимания
восприятия как непрерывного процесса извлечения
информации в ходе деятельности у знаменитого американского
психолога Дж. Гибсона — в его «экологической концепции
восприятия», созданной в 70-е гг. XX в.). В книге я утверждал
взаимную соотносительность понятий субъекта и объекта
деятельности и познания.
Митрохин Л. Н. И как в философском мире были
восприняты твои идеи?
Лекторский В. А. Я получил немало отзывов от своих
коллег — философов и психологов. Мою книгу использовали
некоторые болгарские философы в своей борьбе с тем
толкованием «теории отражения», которое в их стране было
непререкаемым, ибо поддерживалось авторитетом Тодора Павлова,
бывшего тогда президентом Болгарской академии наук и
членом Политбюро ЦК БКП.
Некоторые отклики были совсем неожиданными. В 1966 г.
Институт философии посетил известный югославский
философ Михайло Маркович. До этого я знал о нем только из
публикаций, посвященных разоблачению современного философ-
О прошлом и настоящем 239
ского ревизионизма. Он входил в известную философскую
группу «Праксис», базировавшуюся в Загребе, хотя сам жил
и работал в Белграде и был членом Сербской академии наук.
Члены «Праксиса» считали себя сторонниками аутентичного
марксизма, который для них был тождествен гуманистическим
взглядам молодого Маркса. С их точки зрения понимание
марксизма Энгельсом, Плехановым и Лениным исказило
подлинные идеи Маркса. Главным в марксовом философском
наследии они считали концепцию практики как деятельности,
теорию отчуждения, гуманистическое понимание социализма,
толкование философии как социальной критики. Термин
«диалектический материализм» они не принимали: во-первых,
потому, что у самого Маркса его нет (этот термин был впервые
использован Плехановым, а затем подхвачен Лениным), а во-
вторых, потому, что, как они утверждали, подлинная
философия Маркса выходит за рамки противостояния материализма
и идеализма. Они подчеркивали, что у Маркса нет и не может
быть никакой «теории отражения», ибо его деятельностное
понимание отношения человека к миру несовместимо с
концепцией познания как пассивного отражения. В соответствии
со своим толкованием социализма как гуманистического и
демократического общества члены «Праксиса» критиковали
социальную действительность не только в западных
капиталистических странах, но и в самой Югославии, и в Советском
Союзе. Все они имели тесные связи с современными
западными философами, особенно с теми из них, кто придерживался
левых взглядов.
Маркович оказался симпатичным и интересным человеком.
Он был активным участником партизанской войны в
Югославии, учился в Англии, каждый год в течение одного семестра
преподавал в США. Его доклад на заседании Ученого совета
института о ситуации в современной югославской философии
вызвал шквал разносной идеологической критики (особенно
за отход от «теории отражения»). Маркович встречался с
Ильенковым и близкими к нему людьми, в том числе со мной,
посетил Ленинград. У нас установились хорошие отношения.
Я подарил ему свою недавно вышедшую книгу.
После этого прошло примерно два месяца. Я встретил
своего друга — историка, который занимался современной
Югославией (сейчас это известный ученый, член Российской
академии наук). Он рассказал мне, что в популярном
югославском журнале опубликован рассказ Марковича о посещении
Советского Союза и о встречах с советскими философами.
240 Беседа Л. Н. Митрохина с В. А. Лекторским
Почему-то Маркович особенно выделял мою книгу как
наиболее близкую его пониманию проблем теории познания. Как
сказал мне мой друг историк, информация о статье Марковича
прошла в так называемых «тассовских» материалах
спецхрана, т. е. была закрытой для широкой публики, но известной
для тех, кому надлежит это знать. Мой друг посоветовал мне
не говорить никому об этой публикации: похвала
ревизиониста могла значить, что тот, кого хвалят, сам ревизионист.
Через некоторое время в моей квартире раздался телефонный
звонок. Звонил Иван Тимофеевич Фролов, который был тогда
помощником П. Н. Демичева, секретаря ЦК КПСС по
идеологии, и просил меня прийти к нему в здание ЦК. Я тогда не
был близко знаком с Фроловым, хотя встречался с ним еще
тогда, когда он в конце 50-х гг. работал ответственным
секретарем журнала «Вопросы философии». От Фролова я узнал,
что Демичев прочитал «тассовскую» информацию о статье
Марковича и попросил Ивана Тимофеевича разобраться, что
за книгу написал Лекторский и почему его хвалит известный
ревизионист. Фролов достал мою книгу, прочитал ее и
доложил Демичеву, что книга интересная и никаких
идеологических прегрешений в ней нет. После этого у нас с Иваном
Тимофеевичем установились тесные отношения. В 1966—
1967 гг. он несколько раз приглашал меня к себе, просил дать
справки по тому или иному вопросу, однажды даже пригласил
на узкое заседание к Демичеву. Когда Фролов стал в мае
1968 г. главным редактором «Вопросов философии», он
сделал мне предложение войти в состав редколлегии и возглавить
отдел диалектического материализма. Я согласился, и в моей
жизни началась новая полоса, связанная с работой в этом
журнале.
С Марковичем я после этого много раз встречался и в
Москве, и в других городах мира. В 1967 г. его исключили из
Союза коммунистов Югославии за публичную критику
авторитарных методов Тито. А в 1968 г. набор подготовленной для
издания на русском языке его книги «Диалектическая теория
значения» был рассыпан, после того как он осудил ввод
советских войск в Чехословакию. Сегодня Маркович, которого у
нас многие годы критиковали как «отступника» от марксизма,
остается убежденным марксистом, каких теперь уже не так
много. Некоторые западные интеллектуалы объявили его
также «сербским националистом» за то, что он критикует
политику, направленную на расчленение Югославии. Последний
раз я встретил Марковича на Всемирном философском кон-
О прошлом и настоящем 241
грессе в Бостоне в августе 1998 г. Мы проговорили более двух
часов. Михайло предсказал все то, что потом случилось с
Югославией.
В 1974 г. в Москве проходил Международный гегелевский
конгресс. Меня разыскал приехавший из ФРГ молодой
специалист по педагогической психологии Михаэль Отте. Он
рассказал мне, что он и его друзья (все они занимали левые
политические позиции) наткнулись на мою книгу, которая была
издана в 1968 г. в ГДР на немецком языке, заинтересовались
ею, начали ее изучать и обсуждать, передавали ее друг другу,
делали с нее копии. Они, психологи и специалисты по
педагогике, интересовавшиеся философией, восприняли мою книгу
как имеющую прямое отношение к тем проблемам, которые их
волновали. Я потом неоднократно встречался с Отте. В
настоящее время он — директор Института дидактики обучения
математике в г. Билефельде, ФРГ.
Митрохин Л, Н. Итак, в мае 1968 г. И. Т. Фролов
предложил тебе войти в состав редколлегии «Вопросов философии».
Как сегодня тебе вспоминается эта, по-моему, счастливая
пора?
Лекторский В. А. Мне уже приходилось писать о той роли,
которую играл в нашей философии и в целом в нашей
культуре этот журнал под редакцией Фролова. В конце 60-х и в
70-е гг. «Вопросы философии» стали как бы своеобразным
центром притяжения для многих наших интеллектуалов, при
этом не только философов. Фролов, талантливый философ,
прекрасный организатор, сумел установить тесные отношения
журнала с крупнейшими естествоиспытателями того времени,
такими, например, как П. Л. Капица, М. А. Марков, В. А. Эн-
гельгардт, Д.К.Беляев и др., которые не только регулярно
печатались в журнале, но принимали активное участие в
многочисленных обсуждениях, «круглых столах» «Вопросов
философии». При этом в журнале обсуждались не только
вопросы, касавшиеся философского осмысления новых
естественнонаучных идей, но и широкий круг проблем культуры,
образования, истории и т.д., связанных с главными
мировоззренческими исканиями того времени.
В журнале в это время работали такие замечательные люди,
как М. К. Мамардашвили (заместитель главного редактора до
1974 г.), А. Ф. Полторацкий (заместитель главного редактора
в 1974—1984 гг.), Л.И.Греков (ответственный секретарь),
А. Г. Арзаканян, Г. С. Гургенидзе, В. К. Кантор, В. Ф. Кор-
мер, Р. В. Садов, Ю. П. Сенокосов, А. Я. Шаров, Б. В. Оре-
242 Беседа Л. Н. Митрохина с В. А. Лекторским
шин, А. Е. Разумов, В. И. Кураев, Б. Г. Юдин и др. О каждом
из них можно было бы написать специально. Членами
редколлегии стали выдающиеся философы Б. М. Кедров, Т. И. Ой-
зерман, А. А. Зиновьев, П. В. Копнин, В. Ж. Келле, Б. А. Гру-
шин, А. А. Замошкин, ты, Лев, — каждый представлял новые
идеи и подходы. Изменения в составе редколлегии были
поистине революционными. Это было время больших надежд,
интересных публикаций, споров. Я отвечал вместе с Г. С. Гурге-
нидзе за проблемы диалектического материализма (т. е.
онтологии, теории познания, философии науки). В журнале мы
опубликовали в это время немало интересных текстов,
имевших большой резонанс. Укажу в качестве примера на
организованную нами дискуссию по проблеме идеального между
Ильенковым и Д. И.Дубровским (тексты того и другого
вышли в конце 1968 г. и начале 1969 г., отклики читателей
печатались в первой половине 1969 г.). В № 1 журнала за 1970 г.
была опубликована статья философа из Минска Вячеслава
Семёновича Стёпина, впоследствии главы минской школы
философии науки и ныне крупнейшего в нашей стране
специалиста в этой области философии.
Митрохин Л. Н. Странная вещь. Когда я вспоминаю наше
совместное сотрудничество (например, бурные заседания
редколлегии «Вопросов философии», работу над
советско-чешской книгой о научно-технической революции под
руководством Р. Рихты и Б. М. Кедрова), то всегда представляю тебя
уже заведующим сектором. Как и когда ты им стал?
Лекторский В, А. В конце 1966 г. заведующим сектором
диалектического материализма Института философии стал
М. М. Розенталь. Его основная работа была в Академии
общественных наук при ЦК КПСС, в Институте философии он
работал только на полставки. Розенталь, появившись в нашем
секторе, сказал, что он может быть заведующим только в том
случае, если ему выделят кого-то в качестве такого
заместителя, который не только будет заниматься реей организационной
работой, но и представлять сектор в тех случаях, когда он сам
не сможет это делать (а он был нездоров). Сотрудники сектора
почему-то предложили мне заняться этим делом. Это было для
меня неожиданным и странным, так как я никогда не думал о
том, чтобы чем-то и кем-то руководить. Мне казалось, что
организационная работа — не мое дело, что мне гораздо
интереснее заниматься исследованиями. Я отказался. Меня начали
уговаривать, и, в конце концов, я согласился. Так я попал в
«начальство» против собственного желания.
О прошлом и настоящем 243
В 1968 г. директором Института философии был назначен
вернувшийся в Москву из Киева Копнин (там он по существу
заново создал Институт философии Украины и с успехом
руководил им ряд лет). Копнин, сам интересный и талантливый
философ, пытался реформировать наш институт по примеру
того, что ему удалось сделать на Украине: поддержать тех, кто
занимается серьезными исследованиями, создать новые
направления, взять новых людей. В конце 1968 г. Розенталь
предложил Копнину сделать меня заведующим сектором.
Копнин согласился и уговорил меня. Но пока все это обсуждалось
в соответствующих инстанциях (а это всегда делалось не
спеша), выяснилось, что действия Копнина стали вызывать все
более сильное противодействие тех, кто боялся за потерю
своего положения. Таких было немало в институте. Они имели
поддержку со стороны бывшего директора Ф. В.
Константинова, ставшего к этому времени а каде ми ком-секрета рем
отделения философии и права АН СССР. До осени 1968 г.
противники Копнина не решались себя проявлять. Зато они осмелели
после ввода советских войск в Чехословакию в августе
1968 г., решив, что их время снова наступило.
Одна из первых атак была сделана в конце января 1969 г.
При этом она коснулась и меня. Было созвано совещание по
философии у заведующего отделом науки ЦК КПСС С. П.
Трапезникова. Пригласили философов — членов Академии наук
СССР во главе с Константиновым, дирекцию Института
философии во главе с Копниным, всех заведующих секторами
института. Я не был тогда заведующим сектором, но поскольку
Розенталь не смог пойти на совещание, я был приглашен
вместо него. Выступил Копнин, выступил бывший тогда
секретарем партбюро института В. А. Смирнов. Произнес речь
Константинов. Чувствовалось, что он и другие ищут повода, чтобы
напасть на Копнина и на проводимые им реформы. Такой
повод быстро нашелся. Слово взяла Е. Д. Модржинская,
которая в течение многих лет заведовала сектором критики
современной буржуазной философии. Степень ее идейной
непримиримости по отношению к западной философии была обратно
пропорциональна степени ее компетентности: она совершенно
не знала и не понимала современных философских проблем и
концепций. Модржинская рассказала присутствовавшим, что
только что в США опубликована книга, посвященная
проблеме отчуждения под редакцией Н. Лобковица (тогда он
считался одним из главных наших идеологических противников — в
те годы я его не знал, а потом познакомился с ним и неодно-
244 Беседа Л. Н. Митрохина с В. А. Лекторским
кратно общался). В книге напечатана статья Ильенкова.
Последний, по словам Модржинской, пытается доказать, что в
нашем социалистическом обществе существуют явления
отчуждения. Это немарксистская и антисоциалистическая
позиция, заявила Модржинская. Ее слова немедленно подхватил
Константинов: я знаю, заявил он, что в Институте философии
есть люди, которые завтра же готовы пойти на улицу с теми
самыми лозунгами, с помощью которых совсем недавно в
Праге пытались утвердить «социализм с человеческим
лицом». В институте нездоровая идейная обстановка, сказал он.
Повисло гнетущее молчание. Ни Копнин, ни Смирнов ничего
не знали о статье Ильенкова. Трапезников насторожился. Сам
он был сталинистом и не скрывал этого (однажды я слышал на
одном из совещаний его рассказ о том, что почти каждый
вечер перед сном он читает что-то из Сталина). Я попросил
слова и сказал, что Модржинская ничего не понимает в
философии и марксизме, что я читал статью (Ильенков в самом деле
показывал мне в свое время этот текст), что она написана
настоящим марксистом, в чем легко может убедиться каждый,
ознакомившись с нею. Никто не мог возразить, хотя бы
потому, что статью не читал. В результате никто эту тему не
продолжил. Зато, когда в мае того года на Ученом совете
института по представлению Копнина был поставлен вопрос о моем
избрании заведующим сектором, встала Модржинская и
заявила, что Лекторский поддерживает ревизиониста Ильенкова
и сам является ревизионистом. Поэтому она будет голосовать
против меня и призывает других членов Ученого совета
сделать то же самое. Ей ответили в мою поддержку Копнин, Тава-
нец, Омельяновский. В итоге тайного голосования я получил
несколько голосов против, но все-таки был избран
заведующим сектором диалектического материализма.
Между тем травля Копнина шла по нарастающей. В конце
1969 г. вышла его книга, в которой он утверждал, что
главной проблемой марксистской философии является проблема
человека. Константинов устроил трехдневное обсуждение
этой книги. Автора обвинили во всех смертных грехах.
Специально были приглашены «критики» не только со всей
Москвы, но и из разных регионов страны, включая Украину. Я,
конечно, выступил в поддержку Копнина, но понимал, что
аргументы в такого рода дискуссиях ничего не значат. Было
впечатление, что завтра же Копнина снимут с поста
директора. К счастью, этого не произошло. Кто-то в ЦК его
поддержал. Затем в таком же разгромном стиле на отделении обсу-
О прошлом и настоящем 245
ждали другие книги, выпущенные в институте.
Идеологическая травля сыграла свою роль. Павел Васильевич тяжело
заболел и скончался в возрасте сорока девяти лет, пробыв
директором Института философии всего три года. В течение
двух лет после этой смерти в институте было безвременье:
институт работал без директора. В 1973 г. директором был
назначен Б. М. Кедров.
Митрохин Л. Н. Я несколько раз описывал ситуацию,
которая в 1968—1973 гг. сложилась в Институте философии, и
повторяться не стоит. Но поскольку ты довольно подробно
остановился на ней, я хотел бы добавить некоторые вещи, без
которых картина останется неполной. Ты о них, конечно,
знаешь, но как бы со стороны. Мне же довелось быть их
непосредственным участником.
Во-первых, о Е. Д. Морджинской. Она была кадровой каге-
бешницей, несколько лет жила во Франции с мужем,
резидентом КГБ, а позже работала референтом в аппарате Берии.
Я не знаю, когда она пришла в Институт философии, но именно
в ее секторе начинал свою деятельность в качестве младшего
научного сотрудника. Он назывался сектор критики
современной буржуазной философии. Состав его был очень сильный:
Б. Т. Григорьян, О. Г. Дробницкий, Н. С. Юлина, Г. Д. Суль-
женко, совсем молоденькая Т. А. Кузьмина, И. С. Вдови-
на, А. Б. Зыкова, В. В. Бибихин, позже — Ю. Н. Семёнов,
И. Ф. Балакина, В. Н. Кузнецов, Л. А. Филиппов и другие
талантливые философы, многие из которых впоследствии стали
известными специалистами. Модржинская защитила
докторскую диссертацию, в которой разоблачала «безродных»
космополитов, и эту погромную деятельность она продолжала в
институте. Причем делала это открыто, по убеждению, с
невероятным пафосом. В нашей знаменитой стенгазете (кстати,
тоже тема, достойная изучения) в канун Нового года ей
неизменно желали «Бди!». После ее выступления на одноммежду-
народном конгрессе, помню, у С. Липсета спросили: «Как вам
понравилась наша женщина-философ?» Он с энтузиазмом
ответил: «Это не женщина, это бойцовский конь (war horse)».
Особо бдительно она следила за своим сектором, и в конце
концов мы устроили настоящее восстание и заявили
тогдашнему директору Ф. В. Константинову, что больше с ней
работать не можем. И как ни странно, он пошел на это и
заведующим сектором назначил меня (1968 г.).
Лекторский В. А. Это как-то отразилось на направлении
вашей работы?
246 Беседа Л. Н. Митрохина с В. А. Лекторским
Митрохин Л. Н. Я бы сказал, что в секторе изменилась
сама метрика философского пространства. Прекратились по-
литпросветские накачки и поиски внутреннего ревизионизма,
и мы беспрепятственно стали заниматься тематикой, которую
считали своей. О ней нужно сказать несколько слов. В ту пору
специалисты по современному Западу работали в нескольких
секторах, которые тесно сотрудничали друг с другом. Однако
между нами существовало определенное разделение труда.
Если твой сектор занимался преимущественно аналитической
философией, то мы сосредоточили свои силы на исследовании
антропологических философских и этических концепций,
прежде всего, экзистенциализма, персонализма, различных
вариантов религиозной философии. И это был достаточно
тернистый путь, поскольку официальная позиция в отношении к
этим концепциям была крайне враждебной. Так, например,
экзистенциализм (я цитирую «Краткий философский
словарь») расценивался как «упадочное течение... основное
назначение которого — деморализация общественного
сознания, борьба против революционных организаций
пролетариата, разложение прогрессивных общественных движений».
А его представители (Сартр, Камю) «защищают мерзости
империализма, оправдывают предательство и клевещут на
передовые общественные движения». В таком же контексте
упоминались Д. Дьюи и С. Хук.
Тем не менее, полагаю, нам удалось издать целый ряд
работ, которые стали событием. Так, еще в 1966 г. вышла
книга «Современный экзистенциализм», в которой была дана
развернутая характеристика ключевых категорий
экзистенциализма и его различных «национальных» форм.
Помимо сотрудников сектора в ней выступили Т. И. Ойзер-
ман, П. П. Гайденко, М. К. Мамардашвили, Б. Э. Быховский,
С. А. Эфиров, А. Д. Литман, И. С. Нарский, А. Г. Мыслив-
ченко. Отмечу также работу «Проблема человека в
современной философии» (1968), а также «Философия в
современном мире. Философия и наука» (1972). Кстати, в
последней мне удалось организовать статью, завершающую известную
«статью трех» (М. К. Мамардашвили, Э. Ю. Соловьёва и
В. С. Швырёва). Ее первая часть, написанная (насколько я
помню), М. К. Мамардашвили, была опубликована в
«Вопросах философии» в 1970 г. (№ 12) и вызвала шквал
критики со стороны ортодоксов. Мне удалось убедить Э. Ю.
Соловьёва и В. С. Швырёва завершить свои части, и
«еретическая» по тем временам работа увидела свет. Между прочим,
О прошлом и настоящем 247
в этой книге впервые после долгого перерыва появилась
статья исключенного из партии, но не покаявшегося А. П. Огур-
цова и Н. С. Юлиной.
Лекторский В. А А Юлина-то почему оказалась в опале?
Митрохин Л. Н. Это целая история. Нина Степановна
была тогда главным редактором нашей знаменитой стенной
газеты, на которую постоянно писались доносы «наверх». До
поры до времени дело ограничивалось постановкой на вид и
простыми выговорами. Но в 1970 г. за дело взялся
небезызвестный В. Н. Ягодкин, бывший тогда секретарем МГК КПСС.
Главная цель была в том, чтобы опорочить директора
института Копнина. Как бы то ни было, Н. С. Юлина как главный
редактор и секретарь партийного бюро института В. А. Смирнов
получили по строгому выговору и автоматически были
отстранены от советской прессы. Я понимал все возможные
последствия такого поступка, но, по-видимому, вспомнил, что
«риск — благородное дело». Правда, позже пришлось
убедиться, что таковое всегда наказуемо.
Далее о смене главного редактора «Вопросов философии».
Это событие трудно объяснить, не учитывая «персонального
дела» (1967 г.) главного бриллианта в короне догматизма
академика М. Б. Митина, которым я, как секретарь партбюро
института, непосредственно занимался. О всей этой поистине
детективной истории я подробно рассказал в «Вопросах
философии» (1997. №8).
Наконец, о том, как развивались события после смерти
П. В. Копнина (июнь 1971 г.). Сложилась удивительная
обстановка. Временно исполняющим должность директора
института назначили С. Ф. Одуева, и сразу же разгорелись
бурные страсти: а кто будет директором? Эта, казалось бы,
скромная по цековским нормам должность оказалась в центре
интересов высоких партийных инстанций.
Одно время рассматривалась кандидатура И. Т. Фролова, за
которого активно выступал П. Н. Федосеев и столь же
активно, но против, тогдашний секретарь партбюро Л. Н. Суворов,
постоянно бегавший в райком и в горком партии — к
В. Н. Ягодкину, рвущемуся к партийному Олимпу. Знаешь ли
ты, что И. Т. Фролов получил такое назначение, но через
четыре часа приказ об этом был отозван по указанию, как он
мне говорил, В. Кириленко? В конце концов, сошлись на
Б. М. Кедрове, а вскоре по его рекомендации я стал
заместителем директора. Но все-таки Ягодкин своего добился: в
феврале 1974 г. Кедрова с этой должности сняли. Извини, что пе-
248 Беседа Л. Н. Митрохина с В. А. Лекторским
ребил тебя, но без этих эпизодов трудно понять, почему
именно Б. М. Кедров, всегда бывший под подозрением у партийных
кураторов, стал директором. А теперь вернемся к твоему
сектору. Как тебе все же удалось остаться его заведующим после
смерти П. В. Копнина и даже при Б. С. Украинцеве?
Лекторский В. А. Конечно, при Кедрове я чувствовал себя
уверенно. Он был известный философ, яркий человек,
специалист в области теории познания, философии и методологии
науки, истории естествознания (прежде всего истории химии),
бывший в течение ряда лет директором другого
академического учреждения — Института истории естествознания и
техники. Как я уже говорил, в ИИЕТ Кедров собрал не только
крупных специалистов по истории естественных и технических
наук, но и ряд интересных философов. У меня и других членов
нашего сектора (прежде всего Ильенкова) были давние и
дружеские контакты с ним. Придя в Институт философии, он
сразу же попытался сделать то, что начал делать и не смог
закончить Копнин. И так же сразу натолкнулся на сильнейшее
противодействие тех же самых людей. К тому же после подавления
Пражской весны идеологический климат в стране резко
ухудшился. Секретарь МГК КПСС В. Н. Ягодкин почти
еженедельно выступал с идеологическими нападками на журнал
«Вопросы философии» в лице Фролова и на Институт
философии в лице Кедрова (кто-то регулярно поставлял Ягодкину
материалы для его выступлений). В результате менее чем
через год после начала директорства Кедрова на основании
решения Секретариата ЦК КПСС была создана комиссия по
проверке идейной обстановки в институте. Узнав об этом, Бо-
нифатий Михайлович подал заявление об уходе с поста
директора. Он возвратился в Институт истории естествознания и
техники уже на должность заведующего сектором. Новым
директором нашего института был назначен Б. С. Украинцев,
который одно время работал в ЦК КПСС и имел полное
доверие со стороны Трапезникова. По-видимому, кто-то в
партийных инстанциях решил, что именно такой человек сможет
искоренить ту идейную заразу, которая, как сумели внушить
партийным чиновникам некоторые деятели от философии,
завелась в институте. Начался разгром всех тех направлений,
которые кому-то казались опасными, и гонения на
представляющих эти направления людей.
Быстро нашелся и повод. Буквально через месяц после
ухода Кедрова мой заместитель по сектору Б. С. Дынин подал
заявление об уходе в связи с эмиграцией в Израиль. Через ка-
О прошлом и настоящем 249
кое-то время такое же заявление подал сотрудник отдела
исторического материализма М. А. Виткин. Партийное бюро
института создало комиссию по проверке сначала нашего
сектора, а затем отдела исторического материализма, которым
заведовал В. Ж. Келле. В результате я получил строгий
выговор по партийной линии, возник вопрос о дальнейшем
существовании отдела. Отдел исторического материализма просто
разогнали, так как кроме отъезда Виткина для этого был и
другой повод: выпущенная сектором Келле книга о теории
общественно-экономической формации была признана
ревизионистской. Келле ушел в Институт истории естествознания и
техники.
Митрохин Л. Н. Не «ушел», а его «ушли», применив
неплохо продуманную технологию. Только что назначенный
директором Б. С. Украинцев решил создать в институте группу
по проблемам культуры во главе с А. С. Ковальчуком,
который до 1968 г. был заместителем главного редактора
«Вопросов философии». Ковальчук стал спрашивать, кого ему
стоило бы взять к себе в сотрудники. Я и посоветовал М. А.
Виткина: «хорошо знает западные концепции, опубликовал ряд
работ по проблеме отчуждения и азиатскому способу
производства и т.д.». И тут Миша, как мне представляется,
оказался не на высоте. Оказывается, он уже вел переговоры об
эмиграции в Израиль, но никому у нас об этом не сказал. Из
института же социологии, где он работал (и где, к слову
сказать, о его «чемоданных» настроениях не знать не могли), на
него пришла положительная характеристика, и заведующий
отделом исторического материализма В. Ж. Келле с такой
кандидатурой согласился, тем более, что М. А. Виткина
поддержал Б. М. Кедров. Сразу же был поднят вопрос: «кто
виноват в том, что столь безыдейного человека взяли в сугубо
«идеологический» институт»? Ответ, кажется, простой:
составители официальной характеристики, не предупредившие
руководство Института философии. Но обвинили В. Ж.
Келле и сразу же завели на него персональное дело, припомнив
и прежние «ревизионистские грехи». Спешно созвали
партийное собрание, где ему объявили строгий выговор.
В. Ж. Келле, человек в высшей степени порядочный, был
потрясен. И я помню, что почти насильно заставил его сразу
же пойти со мной в Дом журналиста и выпить стакан водки.
Только после этого его лицо немного порозовело.
Лекторский В. А Да, в дирекции только ждали подачи на
Ученый совет рукописи коллективного труда, который мы то-
250 Беседа Л. Н. Митрохина с В. А. Лекторским
гда готовили. Нужно сказать, что в секторе, которым я начал
заведовать в 1969 г., работали интересные и творческие люди,
о многих из которых сейчас с полным основанием можно
сказать, что они вошли в историю отечественной философии. Это
был Ильенков. Это был Г. С. Батищев, с которым я когда-то
учился в одном классе в школе — оригинальный мыслитель,
создавший собственную школу философской антропологии,
бывший сначала горячим поклонником молодого Маркса, а
впоследствии, уже в 80-е гг., ставший религиозным
философом. В секторе работал Н. Н. Трубников, который тоже
проделал путь от исследования мышления к анализу
антропологической и онтологической тематики. Нашим коллегой был
В. С. Швырёв, один из крупнейших отечественных
методологов, специалист по анализу теоретического знания, большой
знаток западной литературы по философии и методологии
науки. У нас работал Е. П. Никитин, основательно изучавший
проблемы научного объяснения и обоснования. Среди
представителей более молодого поколения были Н. С. Мудрагей,
исследовавшая тематику взаимоотношения рационального и
иррационального в познании и деятельности, и И. П. Фарман,
анализировавшая проблему воображения в контексте теории
познания. В начале 70-х гг. в сектор пришли новые
интересные исследователи: Б. И. Пружинин, который изучал
проблему рациональности в контексте единства знания, и Н. С. Авто-
номова, анализировавшая тему языка и бессознательного (она
же стала одним из крупнейших в нашей стране специалистов
по структурализму и постструктурализму). Сотрудники
сектора выпустили к 1974 г. ряд интересных книг и коллективных
монографий. Среди последних хочу назвать вышедшую в
1972 г. книгу «Философия, методология, наука», в которой, в
частности, была опубликована большая статья В. С. Стёпина,
ставшая потом основой той исследовательской программы,
которую разрабатывал он сам и его последователи сначала в
Минске, а потом в Москве и других городах. Сектор жил
интересной жизнью. На наших семинарах выступали
приглашаемые нами сотрудники ИИЕТ Мамардашвили (он перешел на
работу в этот институт после ухода из «Вопросов философии»
в 1974 г.), В.Н.Садовский, А. П. Огурцов, Э.Г.Юдин,
Б. С. Грязнов, А. Ф. Зотов, Н. Ф. Овчинников, Н. И.
Кузнецова, математик и философ Ю. А. Шрейдер (я познакомился с
ним именно в это время), из Минска приезжал Стёпин, из
Ростова-на-Дону — М. К. Петров, из Ленинграда Л. А. Ми-
кешина...
О прошлом и настоящем 251
В 70-е гг. в нашей философии создается новая ситуация:
ряд философов, разделявших первоначально ильенковскую
теоретико-познавательную программу, начали от нее
отходить. На первый план для них стали выходить проблемы
философской антропологии, теории ценностей, философии
культуры. Ими было реабилитировано понятие онтологии, хотя
понималась она уже не в наивно-сциентистском духе, как это
было свойственно тем «онтологам», которые
противостояли «гносеологам» в дискуссиях второй половины 50-х и всех
60-х гг., а скорее в экзистенциальном духе. Как я уже сказал,
в нашем секторе в таком стиле стали работать Батищев и
Трубников, бывшие ученики Ильенкова. В. С. Библер,
который, хотя и не был учеником Эвальда Васильевича, но в 50-е и
60-е гг. был близок ему в ряде отношений и исследовал
тематику мышления, начал разрабатывать проблемы философии
культуры (впоследствии он назвал одну из своих книг: «От нау-
коучения к логике культуры»).
Экзистенциально-антропологической тематикой начал заниматься Мамардашвили,
первоначально близкий к теоретико-познавательной программе
Зиновьева и Щедровицкого. А. С. Арсеньев, один из
участников «гносеологической» дискуссии 1954 г. на стороне
Ильенкова, перешел на позиции своеобразной религиозной
онтологической антропологии.
В 70-е гг. проблема философской антропологии
становится центральной в исследованиях И. Т. Фролова, ранее
занимавшегося методологическими проблемами биологии. Он
сумел перекинуть мост от философии генетики к изучению
ценностных проблем. В 1973 г. посмертно была опубликована
работа С. Л. Рубинштейна «Человек и Мир», целиком
посвященная онтологии и философской антропологии. В. И. Шин-
карук, ставший директором украинского Института
философии после отъезда в 1968 г. Копнина в Москву, начал
развивать тематику философской антропологии в своем институте.
Некоторые из нас (в том числе я) начали читать западных
философов-экзистенциалистов, официально «не
разрешенных» русских философов: Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова,
П. А. Флоренского и др.
Мне представляется, что новые философские веяния не
случайно появляются именно в эти годы. События 1968 г. и
последующее за ними идеологическое замораживание 70-х гг.
развеяли бывшие у многих из нас иллюзии относительно
возможности реформирования социализма как неизбежном
следствии научно-технического прогресса (недаром тема «социа-
252 Беседа Л. Н. Митрохина с В. А. Лекторским
лизм и НТР» одно время была у нас весьма популярной).
Наивный сциентизм дал серьезную трещину. Появилась
необходимость в углубленном понимании мировоззренческой,
ценностной и духовной проблематики.
Ильенков не признавал философскую антропологию в
качестве самостоятельной дисциплины. Он считал, что
философия не может быть уподоблена художественной литературе и
моральной проповеди (элементы того и другого он находил в
философско-антропологической литературе). Будучи
человеком чутким к вопросам морали и искусства, он, тем не менее,
продолжал считать, что именно на пути анализа
теоретического мышления философия может помочь решению
мировоззренческих проблем. Последние годы жизни Эвальда
Васильевича были весьма драматичны. С одной стороны, в
отношении него не прекращалась, а даже усиливалась критика
со стороны официальных идеологов. С другой стороны,
некоторые из бывших сторонников начинали выбирать другой
философский путь.
Я не имел ничего против «антропологического поворота»
в нашей философии. Он мне казался своевременным. Я в
это время уже не считал, что философия сводится к теории
познания. Мне представлялось, что именно проблематика
человека позволяет выявить взаимосвязи познавательной и
ценностной, в частности этической тематики. Вместе с тем я
разделял мнение Ильенкова в том, что невозможно понять
философскую проблематику человека вне анализа сознания
и знания. Ибо ценности должны быть не внушаемы или
проповедуемы, а философски обоснованы, онтологическая
картина не постулирована, а аргументирована, в том числе
с помощью анализа познавательных средств ее
конструирования.
В 1969 г. я вместе со Швырёвым, Огурцовым и Э. Г.
Юдиным начал писать большую статью «Философия» для V тома
«Философской энциклопедии». Мы устроили нечто вроде
еженедельно работавшего семинара, в котором обсуждали
вопросы природы философского знания и пытались для себя
ответить на те вопросы, которые в это время стали обсуждаться
в нашей философии, в том числе вопрос о характере
философской антропологии. Наш неофициальный семинар продолжал
работать и в начале 70-х гг., когда наша статья вышла. Мы
хотели писать книгу на эту тему, но в связи со смертью Юдина в
1976 г. наш замысел не осуществился. Тем не менее
сложившееся у нас в то время понимание философии мы смогли вы-
О прошлом и настоящем 253
разить в нашей совместной публикации (Философская
энциклопедия, т. 5, 1970 г.).
В 70-е гг. мы в секторе начали работать над коллективной
книгой «Гносеология в системе философского
мировоззрения» (она вышла гораздо позже — в 1983 г.), в которой
попытались исследовать познание и знание как
культурно-исторический феномен, во взаимодействии познавательных,
аксиологических и мировоззренческих характеристик.
В 1972 г. мы с Швырёвым напечатали статью об уровнях
методологического знания. Если раньше было принято
считать, что философская теория познания и методология науки
совпадают, то к началу 70-х гг. стало ясно, что дело обстоит
сложнее. Ибо интенсивно начали разрабатываться
методологические проблемы в рамках таких общих, но не
философских дисциплин, как системно-структурный подход,
семиотика и др. Возникла необходимость развести философскую и
специально-научную методологию, что мы и сделали. Это
было важно, во-первых, для того чтобы выделить собственно
философский подход к анализу знания и науки, отделив его
от остальных. Во-вторых, для того чтобы оградить тех, кто
занимался специальными методологическими вопросами
(вроде Садовского, Блауберга и Э. Г. Юдина, специалистов
по системно-структурным исследованиям) от идеологических
нападок. Наша идея не осталась незамеченной. Ее радостно
подхватили некоторые философы. С другой стороны, через
некоторое время на нее яростно обрушился сначала в статье,
а затем и в книге академик Л. Ф. Ильичев, бывший когда-то
секретарем ЦК КПСС по вопросам идеологии, за
«принижение значения марксистско-ленинской методологии».
Между тем, когда мы в начале 1976 г. подали рукопись
нашей коллективной работы на Ученый совет, она была
отвергнута. Самые большие нападки как «антимарксистская»
вызвала статья Ильенкова о проблеме идеального. Ученый совет
принял решение рассмотреть вопрос о целесообразности
дальнейшего существования сектора. К счастью, нас не
разогнали, но переименовали в сектор теории познания, создав
еще несколько других подразделений диалектического
материализма: сектор теории отражения, сектор диалектической
логики и др. (чему я был рад, так как это снимало с нас
необходимость заниматься проблемами, которые казались мне
бессмысленными). С другой стороны, подготовленные нами
книги не принимались (Ильенкова не печатали,
замечательную книгу Трубникова «Время человеческого бытия» в тече-
254 Беседа Л. Н. Митрохина с В. А. Лекторским
ние семи лет не хотели публиковать, книгу Батищева
«Диалектика творчества», итог его философских изысканий, так и
не напечатали при его жизни), меня стали реже приглашать на
разного рода заседания, совещания. Произошли изменения и в
журнале «Вопросы философии». Ты уехал на работу в США,
покинул институт В. Ж. Келле, в 1977 г. И. Т. Фролова
перевели в пражский журнал «Проблемы мира и социализма».
Митрохин Л. Н. Мне еще тогда пришло в голову одно
соображение: как все-таки тонок и беззащитен культурный
слой. Ушло несколько человек, и институт стал другим. Я был
заместителем Кедрова по проведению X Международного
гегелевского конгресса и, естественно, подобрал нескольких
технических исполнителей. Прошло несколько месяцев, и тот,
кто у меня отвечал за транспорт, стал ученым секретарем
института, за общественный порядок — помощником директора
по иностранным делам и т. д. А главное — резко изменилась
общая атмосфера, шел процесс закручивания партийных гаек.
Лекторский В. А Ты прав. Во всяком случае, я понял, что
главное, что я могу сделать в этой ситуации, это писать новую
книгу. Так в 1980 г. появилась моя книга «Субъект, объект,
познание». Украинцев был директором института еще долго:
до 1983 г. В 1979 г. умер Ильенков. То, что его смерть
наступила в результате многолетней идеологической травли, для
всех нас, близко его знавших, не подлежит сомнению. Когда
после смерти Ильенкова я пошел к директору с просьбой
разрешить начать издавать произведения покойного философа,
Украинцев заявил: пока я директор, институт не будет
публиковать Ильенкова. Мы в секторе начали ежегодно вдень
рождения Эвальда Васильевича проводить посвященные ему
семинары, что-то вроде ильенковских чтений, и делали это без
перерыва до последнего времени. Сначала, при Украинцеве,
это делалось неофициально, почти подпольно. Сегодня же мы
имеем полную поддержку со стороны руководства института.
Митрохин Л, И. Как сегодня обстоят дела в вашем
секторе? Чем вы сейчас занимаетесь?
Лекторский В. А, В 1988 г. директором института стал
Стёпин, один из крупнейших наших философов. Обстановка в
институте кардинально изменилась. Сейчас подразделениями
института философии руководят такие известные философы,
как Н. В. Мотрошилова, П. П. Гайденко, А. П. Огурцов,
М. Т. Степанянц, как ты, Лев...
В 80-е и 90-е гг. в наш сектор пришли интересные
философы: И. Т. Касавин, плодотворно занимающийся разработкой
О прошлом и настоящем 255
социальной теории познания, М. А. Розов, автор
оригинальной теории «социальных эстафет» в познании, В. Н. Порус,
исследующий познание как коллективный и многомерный
процесс, Г. Д. Левин, анализирующий философию диалога,
Е. Л. Черткова, изучающая проблему утопического сознания,
А. А. Новиков, изучающий проблему интуиции. Я
по-прежнему руковожу сектором. В секторе работают разные люди,
многие проблемы теории познания они понимают по-разному.
Дискуссии бывают исключительно острыми. Но все члены
нашего коллектива чувствуют свою принадлежность к единому
сообществу. От взаимодействия разных позиций все мы
выигрываем. Все мы в разных аспектах изучаем познание как
социально-культурный и исторический феномен. В последние годы
нас объединяло изучение проблемы рациональности в
современной культуре (мы издали коллективную книгу
«Рациональность на перепутье»). Сейчас в центре наших
исследовательских интересов теоретико-познавательные проблемы наук о
человеке.
Митрохин Л. Н. У каждого из философов всегда есть
представление о том, что нового он сделал в философии, есть
какие-то идеи, ему особо дорогие. Как в этом плане ты
оцениваешь свою книгу 1980 г.? Все-таки прошло более двадцати лет.
Лекторский В. А. Это была попытка осмыслить то новое
понимание знания и познания, которое во второй половине
70-х гг. стало формироваться в западной эпистемологии,
философии и истории науки в рамках так называемого
постпозитивизма — прежде всего в связи с работами Т. Куна,
М. Полани и И. Лакатоса. При этом я пытался сделать это,
развивая то деятельностное и культурно-историческое
понимание познания, которое я разрабатывал ранее, и используя
также идеи деятельностной и культурно-исторической
психологии, успешно развивавшейся в нашей стране (В.
В.Давыдов, В. П. Зинченко, работы А. Н. Леонтьева и его "молодых
учеников в начале 70-х гг. по исследованию смыслопорожде-
ния, работы Рубинштейна и его учеников А. В. Брушлинского
и К. А. Славской и др.). Я проанализировал большой
материал истории и современной западной философии и
методологии науки, психологии, науковедения и истории науки. Я
попытался обосновать тезисы о единстве познания,
коммуникации и преобразования ситуации, о взаимосвязи сознания
объекта и самосознания субъекта, о взаимоотношении
рефлексивных и нерефлексивных компонентов познания. В книге
специально анализируется рефлексия в двух ее формах —
256 Беседа Л. Н. Митрохина с В. А. Лекторским
субъективной и объективной. Для понимания познания было
введено понятие «предмета-посредника», существующего в
разных формах вплоть до разнообразных знаково-символиче-
ских систем. Был сформулирован тезис о взаимосвязи
осмысления и преобразования объекта в ходе рефлексии
(вообще говоря, противоречащий «теории отражения»). Я
специально исследовал понятие коллективного субъекта
деятельности и познания и взаимоотношения его с
традиционно исследовавшимся в теории познания индивидуальным
субъектом. По существу я показал в этой работе, что
понятие «ощущение» сегодня теряет смысл (хотя явно не мог это
формулировать по идеологическим причинам). Между тем во
всей нашей философской литературе, следовавшей
ленинским формулировкам в его «Материализме и
эмпириокритицизме», понятие «ощущения» считалось фундаментальным.
Я считаю, что в этой книге я сформулировал во многом
новое для нашей философии понимание познания и знания,
соответствующее уровню исследования познавательных
процессов в мировой философской и научной литературе.
Книга вызвала положительные отклики философов,
психологов, науковедов, историков науки. Ее перевели на
английский язык в нашем издательстве «Прогресс». Вышли ее
переводы в ряде стран мира, в том числе в ФРГ, сделанный
М. Отте. Ряд известных специалистов по эпистемологии и
философии науки в разных странах прочитали ее и оценили
достаточно хорошо: английский философ и психолог Ром Харре,
американские философы Роберт Коэн, Маркс Вартофский,
Эрнст Coca, Альвин Голдмэн, Кийт Лерер, Том Рокмор,
английско-канадский философ Дэвид Бэкхерст, немецкий
философ Ганс Зандкюлер, мой старый знакомый югославский
философ Михаиле Маркович и др. Я регулярно общаюсь с этими
людьми до сих пор и обсуждаю с ними философские сюжеты.
Митрохин Л, Н. Иными словами, в ней ты уже определил
для себя свою главную исследовательскую программу и по-
прежнему продолжаешь ее?
Лекторский В. А. Я продолжаю свои исследования, хотя
целый ряд позиций переосмысливаю. За последние десять лет
времени на исследовательские занятия остается все меньше:
во-первых, потому, что к моим обязанностям с 1988 г.
прибавилось руководство журналом «Вопросы философии»,
во-вторых, потому, что все мы живем и работаем сегодня в
непростых условиях, а философские размышления предполагают
хотя бы минимальное спокойствие.
О прошлом и настоящем 257
В 2001 г. вышла моя книга «Эпистемология классическая и
неклассическая». В ней я попытался показать, что
развивающаяся ныне в мире неклассическая эпистемология в
некоторых отношениях близка тому, что разрабатывалось рядом
наших философов ранее. С другой стороны, официально
насаждавшаяся у нас «теория отражения» затрудняла разработку
некоторых современных эпистемологических проблем. Эта
книга выражает мое новое понимание определенных проблем
и вместе с тем и прежде всего анализ тех вопросов, о которых
как я, так и другие наши философы не писали. Я пытаюсь
осмыслить ряд принципиальных эпистемологических сюжетов в
свете той новой ситуации, которая сегодня возникла в мире в
их исследовании как философами, так и представителями
специальных наук. Я пытаюсь выявить новые связи между
вопросами эпистемологии и рядом проблем философии культуры,
социальной философии, этики: толерантность, плюрализм,
критицизм, рациональная дискуссия, вера и знание и др.
Вместе с тем я хочу специально подчеркнуть, что исследование
этих проблем вовсе не означает отказ от того, что я делал
раньше (в частности, от разрабатывавшегося мною деятельно-
стного подхода к познанию и знанию, который я считаю
исключительно актуальным и сегодня). Я не перечеркиваю свои
предшествующие работы, а скорее встраиваю их в некоторый
более широкий контекст (конечно, такое встраивание
неизбежно связано с изменениями в некоторых пунктах). Я
специально обсуждаю некоторые официальные догматические
установки, которые ранее у нас нельзя было критически
анализировать: «теорию отражения», понятие ощущения, смысл
объективности и др. Но главное в книге другое: анализ
вопросов, которые ранее у нас мало обсуждались. Это сами
понятия классической и неклассической эпистемологии (теории
познания), это анализ ряда традиционных проблем
эпистемологии с точки зрения неклассической эпистемологии:
восприятие, опыт, мышление и др. Это исследование ряда вопросов
философской психологии: внутреннее и внешнее,
коммуникация и субъективное переживание, сознание и деятельность,
сознание и бессознательное. Это специальный анализ
феномена «Я».
Митрохин Л. Н. Не кажется ли тебе, что в наше
бестолковое время проблематика эпистемологии как-то отступает на
второй план в пользу вопросов социальной философии,
философии культуры, философской антропологии? Такое
впечатление подсказано мне темами диссертаций, поступающих в ВАК.
258 Беседа Л. Н. Митрохина с В. А. Лекторским
Может быть, действительно, философии следует
переориентироваться на «проблему человека», как бы абстрактно это ни
звучало?
Лекторский В. А. Проблема человека является
центральной для философии в любом случае. Специально
переориентироваться на нее уже не нужно, ибо это произошло в нашей
философии еще в 70-е гг. Дело в другом. Как понимать
философское исследование человека? Ибо человека изучают и
многие другие дисциплины: биология человека, психология,
социология и т. д. Сегодня я думаю, что роль философии
состоит в том, чтобы быть своеобразной самокритикой
культуры, точнее, критической рефлексией над основаниями
человеческой деятельности, познания и оценочных суждений. Эта
рефлексия служит как целям легитимации тех или иных
оснований, так и целям их изменения. Поэтому философия,
соответствующая своей роли, не может быть «служанкой» ни
богословия, ни науки, ни идеологии, ни политики, ни морали или
искусства. Напротив, каждая сфера культурной и социальной
деятельности человека нуждается в философии как средстве
обоснования и самокритики. Это значит, что философия не
сводится к теории познания: последняя, строго говоря, — это
рефлексия только над знанием. Но если мы понимаем, что
всякая философская рефлексия — это акт познания, более
того, мыслительный акт, то мы не можем не прийти к выводу о
том, что теория познания (эпистемология) все же занимает
особое место в системе философии: без нее невозможно
обойтись и при рефлексии над искусством и моралью.
К тому же вопрос о судьбах рациональности, о возможности
познания мира и человека, о возможности (или
невозможности) рационального изменения социальности и культуры —
это, по моему мнению, центральная проблема современной
цивилизации. Есть мнение (поддерживаемое рядом
постмодернистов), что человечество вступает в некую новую
стадию — стадию магизма. Мне представляется, что дело
обстоит не так. Я думаю, что сегодня исключительно обострились
проблемы, связанные как раз не с тем, что человечество
отказывается от познавательной и технологической деятельности в
пользу магического отношения к миру, а с возможностью
сознательного проектирования новых социальных и природных
реальностей, в том числе самого человека, и в этой связи с
теоретико-познавательным анализом искусственного мира
(если угодно, это эпистемология искусственного). Это и
вопросы, поставленные развитием современных информацион-
О прошлом и настоящем 259
ных технологий (в частности Интернета): проблема
виртуальной реальности и вообще возможность существования многих
реальностей. Это и экологические вопросы: критические
взаимоотношения природы и человеческой деятельности. Это и
вопросы, возникшие в связи с возможностями искусственного
вмешательства в природные биологические основы человека с
помощью генной инженерии: существуют ли границы этого
вмешательства, и чем они определяются? Я сегодня пытаюсь
исследовать именно эти проблемы.
Теория познания сегодня расширяет поле своего
приложения и обретает множество новых проблем. Ибо когнитивный
подход оказывается сегодня ключом к решению тех вопросов,
которые ранее исследовались без всякого обращения к
анализу познавательных процессов. Это — и когнитвная теория
биологической эволюции. Это — когнитивная психология в
двух вариантах: как исходящая из компьютерной метафоры,
так и использующая коммуникационно-деятельностный
подход. Это — когнитивная наука в целом, включающая наряду с
психологией определенные разделы лингвистики, логики,
математики и философии. Это — когнитивный подход в теории
культуры и в социологии. Поэтому, если заниматься серьезной
социальной философией (а не просто рассуждать о текущих
социально-политических сюжетах), то нельзя не обращаться к
теоретико-познавательному (эпистемологическому) анализу.
То же самое можно сказать о философии культуры и
философской антропологии. Другое дело, насколько наши
специалисты готовы к такому анализу.
Митрохин Л. Н. В 1988 г. ты стал главным редактором
«Вопросов философии». Что для тебя означала эта новая
сфера деятельности и что все-таки удалось сделать?
Лекторский В. А. Я уже рассказывал, что работал в
журнале в качестве члена редколлегии и заведующего отделом с
мая 1968 г. Осенью 1987 г. Иван Тимофеевич Фролов,
который был тогда помощником генерального секретаря ЦК
КПСС М. С. Горбачева, предложил мне возглавить журнал.
Я долго думал и, в конце концов, согласился. С начала 1988 г.
я приступил к новой для себя деятельности. Моим заместителем
стал В. И. Мудрагей, ответственным секретарем А. А.
Яковлев. В редколлегию вошли известные философы: Т. И. Ойзер-
ман, В. С. Стёпин, ты, Лев, Г. С. Арефьева, А. И. Володин,
П. П. Гайденко, А. Ф. Зотов, В. К. Кантор, В. Ж. Келле,
Н. В. Мотрошилова, В. С. Швырёв. В нее вошли также наши
крупнейшие ученые, знающие и любящие философию: мате-
260 Беседа Л. Н. Митрохина с В. А. Лекторским
матики Н. Н. Моисеев и Б. В. Раушенбах, филолог Д. С.
Лихачев, физиолог П. В. Симонов, психолог В. П. Зинченко.
Впоследствии членами редколлегии стали также философы
Б. И. Дружинин (который после ухода из журнала А. А.
Яковлева в 1991 г. стал ответственным секретарем), А. А. Гусейнов,
А. П. Огурцов, А. М. Руткевич, В. Н. Садовский, Н. Н.
Трубникова (она стала ответственным секретарем журнала в
2002 г.), математик С. П. Курдюмов.
Работа главным редактором журнала очень интересный
этап в моей жизни. Об этом, о замечательных людях,
работающих сегодня в редакции, можно и нужно рассказывать
много. Когда-нибудь я это сделаю. Пока же скажу только о
главном, и притом очень кратко.
Наш журнал, по моему глубокому убеждению, сыграл за
последние десять лет исключительную роль в реформировании
нашей философии. Смею думать, что публикации журнала
повлияли и на нашу культуру в целом. Дело тут и в новой
тематике, т. е. в обсуждении тех проблем, которые ранее никогда
не анализировались. И в самом климате критических
дискуссий, в высоких требованиях, предъявляемых к публикуемым
текстам. Мы обсуждаем глубинные изменения в социальной и
культурной жизни в мире и в России в соотнесении с историей
культуры. Мы анализируем новые подходы в научном
познании, в том числе в социальных и гуманитарных науках. Мы
публикуем материалы по истории западной, русской и
восточной философии, ибо без знания истории философии
невозможен современный уровень философствования. В 1989 г.
журнал впервые в нашей стране начал издавать произведения
русских философов Серебряного века в рамках серии «Из
истории отечественной философской мысли», что послужило
толчком к публикации работ русских религиозных философов
другими издательствами и означало новый этап в
исследовании истории русской философии.
Особой популярностью пользуются.наши «круглые столы»
по актуальным проблемам, в которых принимают участие и
философы, и представители разных естественных и
общественных наук, и деятели культуры, и политики.
Журнал пользуется большой популярностью в нашей
стране и за рубежом. Несмотря на ежегодный рост стоимости
подписки, тираж «Вопросов философии» довольно стабилен и
остается одним из самых больших среди множества журналов,
издаваемых Российской академией наук. Мы не испытываем
недостатка в интересных материалах. Среди наших читателей
О прошлом и настоящем 261
и авторов — не только профессиональные философы, но и
широкий круг других представителей интеллигенции. Мы
получаем много откликов читателей на наши публикации.
Лично для меня работа в журнале была важнейшей
жизненной школой и стала в последние годы главным делом жизни.
В редакции сложился замечательный коллектив
единомышленников, работающих не столько для того, чтобы получить
зарплату (есть места, где можно заработать гораздо больше),
сколько для выполнения важнейшей культурной миссии.
Особо я хочу сказать о Владимире Ивановиче Мудрагее и Борисе
Исаевиче Пружинине. Первый был моим заместителем с
1988 г. до своей внезапной кончины в 2001 г. Второй был в
течение многих лет ответственным секретарем журнала, а после
смерти Мудрагея стал заместителем главного редактора. Я
работал в тесном контакте с ними. Без их самоотверженной
работы журнал не стал бы таким, каким он сейчас является.
Митрохин Л. Н. Когда-то И. Т. Фролов много сделал для
налаживания международных связей журнала. А как обстоит
дело сейчас?
Лекторский В. А. Журнал, к сожалению, не переводится
на иностранные языки. Тем не менее он широко известен в
мире. Переводы отдельных статей из него регулярно
публикуются за рубежом. У нас немало зарубежных подписчиков.
Крупные философы из разных стран считают за честь
печататься в журнале. В редакционный совет «Вопросов
философии» входят такие известные философы, как, например,
Ю. Хабермас, П. Рикер.
Многие статьи для журнала я получаю от своих зарубежных
коллег. Мои контакты с зарубежными философами
значительно расширились за последние десять лет. В 1988 г. на
Всемирном философском конгрессе в Брайтоне (Англия) я был
выбран членом Совета директоров Международной федерации
философских обществ и до сих пор продолжаю работать в
этом качестве. С 1993 по 1998 г. я был вице-президентом этой
федерации. Работая в федерации, я познакомился с такими
известными людьми, как итальянский философ Э. Агацци,
философ из Турции И. Кучуради (ныне она президент
федерации), швейцарский философ Г. Кюнг. В 2000 г. В. С. Стёпин и
я были выбраны членами международного Института
философии с штаб-квартирой в Париже. Участвуя в работе
института, я установил тесные контакты с известным
американо-финским философом и логиком Я. Хинтиккой, с философами из
Англии, Швеции, Испании. В 1995 г. я в течение некоторого
262 Беседа Л. Н. Митрохина с В. А. Лекторским
времени работал в Центре по философии науки Питтсбурга
(США), где установил контакты с рядом интересных
философов, особенно с А. Грюнбаумом и Н. Решером. С 1989 г. я
являюсь членом исполкома Международного общества по
исследованию деятельности в контексте культуры. Общество
включает психологов, педагогов, философов, социологов.
Работая в этом обществе, участвуя в регулярно проводимых
обществом международных конгрессах, я завязал творческие
связи с многими из зарубежных коллег.
Митрохин Л. Н. А каковы перспективы на будущее? Ведь
сейчас толстые журналы быстро «худеют».
Лекторский В. А. Как я уже сказал, похудели мы меньше,
чем другие: сейчас наш тираж больше, чем у некоторых
литературно-художественных журналов. Наши читатели и
авторы — это российские интеллигенты, сохранившие в
современных трудных условиях способность критического
размышления. И хотя этим людям приходится нелегко — у них не так
много денег для подписки и не так много времени для чтения
серьезной литературы, я все же верю в их будущее. А от этого
зависит будущее и нашего журнала, и российской философии
в целом.
Митрохин Л. Н. Ну что ж, пора завершать наш разговор.
Конечно, немало поучительного осталось в стороне.
Например, почти шизофреническая ситуация, которая создалась
после оккупации Чехословации в августе 1968 г. Я имею в виду и
наше сотрудничество с чешскими учеными в разработке темы
«Философия и техника», когда мы всеми силами старались
помочь Радовану Рихте, и последующие гонения на многих
талантливых, но «исчеркнутых» чешских философов.
Вспоминается и наше участие в международных философских
конгрессах, и совместные зарубежные поездки по линии квакеров. Да,
многое было сделано, а еще больше пережито. Но главное,
по-моему, сказано.
Лекторский В. А. Что ты имеешь в виду?
Митрохин Л. Н. Если как-то подытожить все
воспоминания, то «главным» окажется одна невеселая мысль. Сейчас
появилась масса воспоминаний, авторы которых приписывают
себе роль неких карбонариев, сознательно выступавших
против коммунистической диктатуры. У меня нет права говорить
от имени всех коллег, но думаю, ты согласишься, что
большинство из нас никаких «подрывных» надежд не лелеяло и уж
тем более не подвергало сомнению историческую
обоснованность коммунистического идеала. Мы отстаивали одно — ста-
О прошлом и настоящем 263
туе философии как особой формы духовной культуры со своим
богатейшим тысячелетним наследием, категориальным
аппаратом, внутренней логикой развития, а главное — правом на
свободные размышления по поводу любых познавательных и
поведенческих акций, социальных явлений и духовных
образований. Мы выступали против того, чтобы невежественные
красные комиссары навязывали философии чуждые ей
критерии, исходя при этом не из реального профессионального
содержания, а из политических спекуляций, из так называемого
подтекста, открывающегося нечистому сознанию,
озабоченному поисками «крамолы».
Здесь-то и приходится констатировать мрачный факт.
Системе партократии такая философия была не нужна.
Повторю, специфическая и благородная форма культуры,
известная в истории мысли как философия, была типологически
несовместима с тогдашним идеологическим деспотизмом,
как, впрочем, для него был неприемлем и атеизм, взятый в
его классической «цивилизованной» форме. А потому
главная философская надежда сегодня состоит в том, что это
время, наконец, безвозвратно ушло, что люди начинают
понимать: философия — не свод «полезных» прописных истин
и житейских подсказок, а профессиональный поиск разгадки
неисчерпаемой тайны человеческого существования.
По-моему, эта мысль и придает содержательную цельность нашим
воспоминаниям.
У меня, правда, возникло сомнение, не перенаселили ли мы
картину прошлого конкретными персонажами? Все-таки,
наверное, нет. Я вспоминаю одну из самых блестящих статей,
когда-либо написанных философами. Это разнос, который в
«Новом мире» М. А. Лифшиц учинил книге В. А. Разумного.
Там он высказал примечательную мысль. В старину, писал он,
портретный жанр считался второстепенным. «Он
портретной» — говорили о таком живописце. А между тем именно
портреты всего точнее и полнее доносят до нас колорит давних
времен. И Лифшиц заключил статью в своем стиле:
«Надеюсь, что и мой портрет будет жить, как живут в веках химеры,
высеченные резцом каменотеса».
...Такова уж наша судьба — постоянно возвращаться к
«свинцовому времени», в котором прошли наши лучшие годы.
В этом отношении крайне удачным был вышедший под твоей
редакций двухтомник «Философия не кончается...» (М., 1998).
Давай понадеемся, что и сегодня мы кое-что заслуживающее
внимания прибавили к этому коллективному портрету. И ко-
264 Беседа Л. Н. Митрохина с В. А. Лекторским
нечно, мои самые настойчивые поздравления тебе с
вступлением в уже серьезный возраст.
Лекторский В. А Спасибо тебе за добрые пожелания.
Конечно, я, как и ты, как и все мои друзья (в том числе
исключенные из партии Огурцов, Петров, Шедровицкий,
сидевший в лагере за «антисоветскую деятельность» Э. Г. Юдин,
марксист Ильенков, работы которого перестали публиковать,
вышедшие за рамки марксизма Батищев и Трубников,
которых тоже перестали печатать, и др.) не помышляли о замене
социальна капитализмом. Правда, возможность скорого
построения коммунизма в нашей стране, как нам обещали
официальные идеологи, вызывали большие сомнения. Но мы не
сомневались в возможности и необходимости обновленного,
гуманного социализма в духе пражских реформаторов 1968 г.
Для нас было ясно (сегодня я еще более убежден в этом),
что современное динамичное общество невозможно без
максимального развития свободного творческого и
интеллектуального начала в человеческой деятельности. А значит,
невозможно без развития науки и философии. Когда я
оглядываюсь назад, меня, как и тебя, конечно, посещают невеселые
мысли о том, сколько времени, энергии, нервов, здоровья
было потрачено на борьбу с тупым невежеством. Но
одновременно я испытываю гордость за то, сколько интересного
было сделано представителями нашего поколения в
философии, со сколькими яркими, талантливыми людьми мне
выпало счастье общаться.
Берега рациональности'
Беседа Н. Н. Шульгина с В. С. Швырёвым
Шульгин Н. Н. Владимир Сергеевич, нашу беседу
можно было бы традиционно и вполне естественно
начать с Вашей творческой биографии. Здесь Вы,
фактически, можете сыграть роль своего
собственного историка философии, выделить, образно говоря,
координаты той траектории, которую Ваша линия
жизни прочертила в концептуальном пространстве.
Каковы ее основные этапы, ключевые моменты,
знаковые фигуры, сыгравшие выдающуюся роль в
Вашей творческой судьбе?
Швырёв В. С. Мое формирование как
профессионала началось в середине 50-х гг. на старших
курсах философского факультета МГУ, который я
окончил в 1956 г. Это третий, четвертый, пятый
курс. Это очень важный период в моей биографии,
и профессиональной и человеческой. Я примкнул
наряду со многими другими студентами нашего
факультета к одному из кружков, которые тогда
сформировались. В него входили и те, кто сейчас
стали видными людьми в философии, как,
например, В. Н. Садовский. Некоторые из них, к
сожалению, уже ушли из жизни, как Никита Алексеев.
Эти кружки объединяли аспирантов и студентов
старших курсов, недовольных состоянием нашей
* Вопросы философии. 2004. № 2. С. 113-126.
266 Беседа Н. Н. Шульгина с В. С. Швырёвым
официозной философии и искавших, причем достаточно
жадно, каких-то новых путей.
Шульгин Н. Н. Ваше движение происходило уже после
смерти Сталина в духе новых веяний, дезавуировавших
пресловутый «культ личности»?
Швырёв В. С. Сейчас я на этом вопросе остановлюсь
специально. Примерно с 1954 г. на философском факультете
МГУ были две группы, которые значительно определили
дальнейшее развитие нашей философии в той мере, в какой она
вышла за рамки официозной и стала конструктивной и
творческой. Это группа Э. В. Ильенкова и группа А. А. Зиновьева,
Г. П. Щедровицкого и Б. А. Грушина, к которой впоследствии
примкнул М. К. Мамардашвили. Они составляли как бы
первый эшелон, который пытался выйти за рамки официозной
философии и был ориентирован на конструктивную,
недогматическую философскую мысль. Здесь есть один важный пункт,
который Вы сейчас упомянули, относительно смерти Сталина.
Можно добавить также о роли XX съезда и т. д. Да, конечно,
было бы глупо отрицать значение XX съезда вообще для
развития нашего общества и, в частности, его влияние в то время
и на нас, студентов и аспирантов. Но я хотел бы подчеркнуть,
что старшим представителям нашего кружка, прежде всего
А. А. Зиновьеву и Г. П. Щедровицкому, оказавшим большое
влияние на нас и наше движение, не требовался никакой
XX съезд, чтобы выработать свою четкую линию и позицию.
Это были люди со вполне устоявшимися взглядами,
сформировавшимися у них уже к началу 50-х гг., еще при Сталине.
Они отличались идейной позицией, весьма критичной по
отношению к положению дел в нашей стране. Они не разделяли
тех иллюзий, которые у многих были в конце 50-х гг. насчет
социализма с человеческим лицом, не верили в большие
возможности движения общества в этом направлении. И
понимали ограниченность возможностей хрущевской «оттепели», не
считая серьезной позицию резкого противопоставления
Ленина и Сталина. Они были в этом смысле более социально
трезвыми, чем те, кто обычно связываются с понятием
«шестидесятники». Я хотел бы это подчеркнуть. Ни Г. П. Щедровицкий,
ни Э. В. Ильенков, ни А. А. Зиновьев (хотя Э. В. Ильенков,
может быть, в меньшей степени) не были в этом смысле
шестидесятниками. Поэтому нельзя сказать, что это движение
возникло под влиянием XX съезда, критики Сталина и т. п.
Образно говоря, знамя того движения, что называлось у нас
на факультете гносеологизмом, было поднято Э. В. Ильенко-
Берега рациональности 267
вым уже в 1954 г. при публикации известных «тезисов
Ильенкова и Коровикова». Также и кандидатская диссертация по
логике «Капитала» А. А. Зиновьева была подготовлена уже в
это время. Так что, я повторяю, это было вполне оформленное
в идейном плане движение уже в середине 50-х гг., до всех
официальных разоблачений «культа личности».
Изучение двух диссертаций — Э. В. Ильенкова и А. А.
Зиновьева, споры вокруг них, восприятие их идей как
программных установок передового философского исследования в
значительной степени повлияли на формирование взглядов
большой группы вступающих в философскую жизнь моих
товарищей, к сообществу которых принадлежал и я. Говоря о
теоретических позициях этого сообщества, было бы большой
ошибкой упускать из виду нравственный, человеческий
аспект. Я с очень хорошим чувством, к которому примешивается
сильная ностальгия по прошлому, вспоминаю ту атмосферу,
которая царила в этом сообществе: чувство причастности к
высокому делу, надежда на то, что мы вышли на правильный
путь. Конечно, с позиции наших дней ясно видна и
определенная ограниченность идейных установок того времени,
объяснимая в этом возрасте наивность и эйфория. И все-таки я
очень благодарен судьбе за то, что мое формирование как
специалиста протекало в такой обстановке, в такой духовной
атмосфере. Все это задало достаточно высокую планку по
отношению к себе, к своей работе, к своим коллегам, к задачам и
целям своей философской деятельности. У нас не было
разобщенности, отсутствия высоких ориентиров, мелкотемья,
стремления измыслить нечто оригинальное и тем самым
самоутвердиться, что, к сожалению, можно наблюдать среди
людей, стремящихся обрести свое место в современной
философии. Мы рассматривали свою конкретную работу как часть
общего дела, в рамках которого всегда можно найти
заинтересованность и взаимопонимание, отнюдь не исключающие
нелицеприятной критики, которая всегда выступает показателем
отсутствия равнодушия. В этот период я работал, прежде
всего, с Г. П. Щедровицким и под его руководством. Сейчас по
прошествии многих лет я с глубокой благодарностью
вспоминаю Г. П. Щедровицкого, ту работу, которую он вел с нами.
Юра, как мы называли его, сыграл громадную роль в моем
формировании в научном и человеческом плане. Сложности,
которые имели место в дальнейшем в наших
взаимоотношениях, никоим образом не могут затмить всего того светлого, что
было в то время. К тому же надо подчеркнуть, что эти сложно-
268 Беседа Н. Н. Шульгина с В. С. Швырёвым
сти имели место в очень короткий период времени.
Впоследствии мы всегда находились с Г. П. Щедровицким в дружеских
отношениях вплоть до его кончины. Примыкая к группе
Зиновьева—Щедровицкого, я в то же время с большим
вниманием относился к идеям Э. В. Ильенкова, который, кстати, вел у
нас на старших курсах занятия, и я помню, что я выступал у
него на семинаре с докладом. Впоследствии у нас сложились
тесные человеческие отношения, особенно уже в Институте
философии. Хотя я далеко не всегда разделял его
теоретические позиции и в плане его известной концепции тождества
мысли и бытия, и в понимании процесса восхождения от
абстрактного к конкретному, и в истолковании предмета
философии. Это, так сказать, первый пласт, как бы начало моей
творческой биографии, то, откуда я вышел.
Параллельно с работой над дипломом в плане идей данного
кружка я на пятом курсе стал серьезно заниматься западной
философией и методологией. В частности, я перевел работу
Р. Карнапа «Основания логики и математики». Эти занятия
заложили основу моих дальнейших исследований
позитивистских концепций логики науки, нашедших свое выражение в
моей кандидатской диссертации и впоследствии в книге
«Неопозитивизм, проблема эмпирического обоснования науки»
1966 г. издания. И эта книга, как и вообще моя работа по
критическому анализу неопозитивизма, получила положительную
оценку философской общественности.
Шульгин Н. Й. Кстати, тут возникает вопрос. Не было ли
конъюнктурно-идеологических трудностей в выражении и
публикации Ваших идей, в том, что касается анализа позитивизма?
Швырёв В. С. Нет, особых трудностей не было. То есть
некоторые определенные шероховатости имели место, но в общем
уже с 60-х гг. жесткого идеологического давления на занятия
логикой науки, методологией науки, философией науки не
было, во всяком случае, в такой сильной степени, как раньше.
Но я застал тот период, застал гонения, которые были во
второй половине 50-х гг. на так называемых гносеологов, и мы
тоже были как-то вовлечены в этот процесс. Но особых
проблем чисто идеологического характера здесь уже не возникало.
Шульгин Н. Н. Не стимулировался ли Ваш выбор этой
проблематики еще и тем, что в ней доля обязательной идеологич-
ности была минимизирована?
Швырёв В. С. Здесь надо ставить вопрос шире, о том, как я
попал на эту стезю. Это уже мои личные моменты, которые
переплетались с общей ситуацией. Случилось так,, что в
Берега рациональности 269
1951 г. я был зачислен в группу логики, а не в группу
философии. Это дало мне определенный способ видения и собственно
философских проблем. Поэтому я исходил из того, что мои
занятия философией не должны быть в стороне от логической
проблематики. При таком настрое я и встретился с Г. П. Щед-
ровицким, с другими, кто занимался этой тематикой. Отсюда
ясно, почему развитие моих собственных недогматических и
творческих исканий пошло именно в этом направлении. Но
этот вопрос не такой простой. Конечно, здесь сыграл очень
большую роль идеологический момент. В социальной
философии в то время невозможно было нормально работать. Там
кислород был полностью перекрыт. А в области логики науки,
диалектики мышления все-таки что-то можно было делать.
Притом даже опираясь в известной степени на марксистскую
традицию исследования логики «Капитала», восхождения от
абстрактного к конкретному и т. д. В воспоминаниях
Г. П. Щедровицкого эта сторона дела подчеркивается, — не
случайно, что именно логика стала как бы участком прорыва в
этом плане.
Шульгин Н. Н. Иначе говоря, логика была у нас
своеобразным «окном в Европу»?
Швырёв В. С. Да, «окном» в попытку творческих занятий
философией. Это отмечается в первую очередь, и это,
конечно, правильно. Но, на мой взгляд, здесь был еще и другой,
более глубокий момент. Дело в том, что люди, пытавшиеся
эмансипироваться от официозного догматизма, вынуждены
были обратиться к вопросам метода. К вопросам стиля
научного теоретического мышления, который можно было
противопоставить отсутствию мысли в официозной философии.
Здесь было что-то аналогичное тому, как развивалась
философия Нового времени — у Бэкона, у Декарта — когда она
отходила от схоластики. Она вынуждена была переосмыслять,
прежде всего, стиль мышления. Вырабатывать свой
собственный конструктивный, свободный от догматизма метод. В этом
смысле задача разработки методологической проблематики
должна была неизбежно встать, независимо от степени
свободы в занятии социальными и мировоззренческими
проблемами. И, кстати, когда в 60-е гг. стало полегче и обратились к
сфере социальной философии, то ведь мысль пошла, прежде
всего, по линии научной методологии в изучении социальной
действительности. В частности, этим занимались Э. Г. Юдин,
Ю. А. Левада, другие, и они неизбежно пошли с самого начала
в область методологии. Этот момент не тривиальный.
270 Беседа Н. Н. Шульгина с В. С. Швырёвым
Шульгин Н. Н. Этот момент действительно не тривиальный.
Можно сказать так. Логика восхождения от мышления
догматического к мышлению творческому осуществляется через
методологическую рефлексию.
Швырёв В. С. Да, мне кажется, что логика самой ситуации
того времени подчас недостаточно учитывается, все сводится к
тому, что мы уходили в сферу, где не было идеологического
диктата. К тому же в 60-е гг. идеологический диктат как-то ослаб.
В 50-е, когда А. А. Зиновьев и Г. П. Щедровицкий, Б. А. Гру-
шин начинали заниматься логикой «Капитала», они
испытывали очень большое идеологическое давление, потому что
приходилось все время натыкаться на принципиальные вопросы —
пресловутой концепции отражения. Идея относительной
независимости движения мысли от структуры бытия, которая как
раз подчеркивалась в кружке Зиновьева—Щедровицкого,
встречалась в штыки. Так что в области методологии вовсе не
было так уж уютно. Но там действительно что-то можно было
делать. И, кроме того, там была своя логика предмета изучения.
Шульгин Н. Н. Мне импонирует Ваша идея, что фактически
развитие марксистской философии в 60-е гг. в СССР как бы
на микроуровне воспроизвело (тут еще вопрос — в какой
степени и насколько это было случайно) ту схему, которая
обусловила переход от средневековой парадигмы к философии
Нового времени. Прорыв начался с методологического отрыва
от прежней схемы.
Швырёв В. С. Конечно, эту аналогию слишком далеко
проводить не надо. Ситуация, конечно, была весьма различна во
всех отношениях. Но общим было то, что люди пытались как-
то реанимировать дух рационально-критического сознания,
который существовал, безусловно, у Маркса. А Маркс шел от
чего? Он шел от эпохи Просвещения, от левого гегельянства,
от всей этой атмосферы свободной критической мысли,
которая была порождена культурой Нового времени в противовес
догматизму средневековья. Маркс для,нас тогда был
источником вполне искреннего теоретического энтузиазма, опорой
свободной теоретической мысли. Тут сливались два момента.
С одной стороны — тактическое противопоставление
догматическому, официозному марксизму идей раннего Маркса,
творческого начала мысли Маркса. Но, с другой стороны —
стремление как-то возродить тот творческий потенциал,
который существовал у самого Маркса как ученого, как
исследователя, как теоретика, а не как идеолога. Т. е. нечто подобное
тому, что на Западе называлось неомарксизмом.
Берега рациональности 271
Хотя я должен сказать, что данный момент в группе
Зиновьева—Щедровицкого присутствовал в значительно меньшей
мере, чем у Э. В. Ильенкова. Ильенковцы прямо осознавали и
реализовали себя как последователи истинного марксизма,
очищенного от официозной догматики. Теоретический спор
между Э. В. Ильенковым и группой Зиновьева—Щедровицкого
шел в том плане, что Э. В. Ильенков все-таки считал главной
задачей опору на историко-философскую, прежде всего
гегельянскую традицию. Он стремился как-то ее возродить,
использовать ее культурный потенциал. В то время как, не снимая
этой задачи, все-таки и А. А. Зиновьев и Г. П. Щедровицкий
исходили из необходимости изучать сам объект. Хорошо помню,
как была какая-то дискуссия, где участвовал Г. П.
Щедровицкий, и он бросил прямо и резко: надо изучать сам объект, т. е.
реальное, так называемое познающее мышление.
Шульгин Н. Н. В том смысле, что не будем обращать особое
внимание на то, что говорили Маркс, Гегель и т.д., давайте
рассматривать не тексты авторитетов, а сам объект?
Швырёв В. С. Да, сам объект. Это была очень сильная
установка. И эта интенция было ярко выражена как раз в этом
кружке, мои курсовые, диплом — они все написаны в этом же русле.
Шульгин Н. Н. А до каких примерно пор Вы в этот кружок
входили?
Швырёв В. С. С начала 60-х гг., когда у меня все больший
удельный вес приобретала работа над диссертацией а
впоследствии — уже над книгой, связанной с критическим анализом
неопозитивизма, я уже стал отходить от этого кружка. Есть
еще один очень значимый фактор. В это время сам этот
кружок перешел от исследования эмпирических моментов в
истории науки и мышления к разработке определенной
доктрины — теории деятельности, которую сформулировал
Г. П. Щедровицкий. Здесь произошел мой определенный
отход от этого движения. И потом, я испытывал очень большую
потребность, и не только я, но и другие, в том, чтобы в какой-
то форме ассимилировать современную методологическую
мысль Запада. Потому, что все время было такое ощущение,
что мы ее очень плохо знаем. Надо было должным образом
разобраться, провести критический анализ. Я здесь хотел бы
сказать следующее. Разделяя в целом позитивную оценку
моих работ по критике неопозитивизма, кое-кто был, тем не
менее, склонен сводить ценность моих исследований только к
информации для нашей философской общественности о
взглядах неопозитивистов. Я, даже с позиции нашего времени,
272 Беседа Н. Н. Шульгина с В. С. Швырёвым
никак не могу согласиться с подобным мнением. Безусловно,
книги и другие мои работы по этой тематике давали, надеюсь,
такую объективную, лишенную официозной идеологической
заданности, информацию. Но моя цель отнюдь не
ограничивалась добросовестным изложением и подытоживанием
неопозитивистских концепций. Она включала именно критический
анализ этих концепций, тех противоречий, трудностей
реализации, вынужденных отходов от первоначальных программ,
которые имели, место в истории неопозитивизма. И в этом
смысле ряд критических соображений, которые были
высказаны в моих работах, впоследствии были подтверждены самой
историей западной методологии науки, признавшей эти
моменты ограниченности неопозитивистской концепции. К ним
относятся демаркация так называемого контекста оправдания
и контекста открытия, отсутствие четкого решения проблемы
теоретических конструктов и ряд других черт
неопозитивистской концепции, указание на которые в определенной мере
предвосхитило постпозитивистскую критику 60—70-х гг. и уж,
во всяком случае, вполне согласуется с ней. В этом смысле я
хотел бы сказать, что рассматривал свою работу по критике
неопозитивизма как продолжение движения в русле тех идей,
которые были сформулированы в кружке, в котором я
участвовал, уже во второй половине 50-х гг. Моменты, связанные с
необходимостью анализа так называемой логики открытия,
учет содержательного аспекта, что впоследствии выразилось в
обращении к так называемой онтологической проблематике в
рамках методологии и т. д., — все это входило в арсенал
противопоставления позициям неопозитивизма. Однако при этом
я рассматривал свою задачу как тщательный анализ истории
этого движения, выявления его имманентных трудностей,
слабостей и так далее. Но, повторяю, это проводилось мной в
плане позитивной перспективы анализа методологии науки.
Которая, кстати, и была реализована в дальнейшем в 60—70-х гг.
и у нас, и в так называемом постпозитивизме.
Шульгин Н. Н. Если объективно оценивать Вашу позицию в
этой книге о неопозитивизме, то можно ли сказать, что Вы ее
писали фактически с постпозитивистских позиций?
Швырёв В, С. Я не писал ее с постпозитивистских позиций
хотя бы потому, что мы тогда не имели, собственно говоря,
постпозитивизма как оформленного течения.
Шульгин Н. Н. Пусть оформленного течения еще не
было, но ведь можно сравнить те моменты, которые
появились потом в уже оформленном течении, с тем, что делали
Берега рациональности 273
Вы. Так сказать, постпозитивизм до своего оформления и
наименования. Или нет?
Швырёв В. С. Понимаете, мне все-таки представляется, что
это не совсем так. Почему? Потому, что постпозитивизм хотя
и был, безусловно, критичен по отношению к так называемой
стандартной концепции, но он шел в этом плане своим путем.
Он акцентировал внимание на других моментах. В частности,
на трудностях выработки критерия научной рациональности.
Мы в то время не очень занимались этой проблематикой. Но,
безусловно, объективное схождение было. Вот почему меня
всегда крайне раздражала позиция некоторых наших
философов науки, которые не видели узости неопозитивистских
позиций. Считали, что наш анализ (не один же я занимался
этим) — как бы культуртрегерская работа. Я никогда с этим
не был согласен, не рассматривал ее как таковую. Это был
именно критический анализ с обобщенных позиций, которые
выработались в 50-х гг. в лоне движения, о котором я говорил.
Шульгин Н. Н. Все эти различения и именования этапов
развития философских школ (неопозитивизм, постпозитивизм
и т. д.) ориентированы на уже состоявшиеся западные реалии,
рефлексии и квалификации. Но фактически этих
квалификаций, если учитывать опыт соответствующих исследований и в
нашей философии, пусть и под марксистской «шапкой»,
может быть гораздо больше. Иначе говоря, то, чем Вы
занимались, это не постпозитивизм, но имеет к неопозитивизму
некое отношение последующей ступени. Постпозитивизм можно
условно назвать «каноническим будущим» неопозитивизма.
Тогда то, чем Вы занимались, это как бы его «параллельное
будущее», не реализованное на Западе, но реализованное в
рамках советской школы. Однако для выделения направления
очень важно и его социализированное собственное имя,
поскольку такое имя ориентирует на то, чтобы не смешиваться с
другими направлениями. Безымянное направление может и не
быть замеченным как нечто особенное, не войдет в словари,
энциклопедии и т. п. Не получилось ли так, что «большая
шапка» официального марксизма стала для советских
философов чем-то вроде «шапки-невидимки». Она сделала для
Запада советские философские новации в ряде областей как бы
незаметными, мол, «это все марксизм, ничего, в сущности,
нового, одни перепевы да адаптации марксистских классиков».
Швырёв В. С. Да, может быть... Понимаете, мне кажется, что
позитивная работа в плане исследования методологии науки,
преодолевающая узкие грани, рамки неопозитивизма осущест-
274 Беседа Н. Н. Шульгина с В. С. Швырёвым
вилась у нас во многом оригинально и самостоятельно.
Безусловно, к этому типу принадлежат работы В. С. Стёпина,
которые в 70-е гг. получили свое выражение в его книгах, в
частности, анализ методологии, прежде всего физики, опирающийся
на историю науки. И это делалось у нас совершенно
независимо от постпозитивистского влияния. Это было определенное
течение в нашей философии науки, которое, действительно, не
получило должного освещения на Западе. Хотя, по существу,
здесь шло очень много параллельных движений мысли. Но нас
всегда, до поры до времени, рассматривали как марксистов, на
Западе плохо были знакомы с нашими работами. А они
представляли определенное самостоятельное направление, если
речь идет о логике и методологии науки. Это оригинальное
течение, его нельзя квалифицировать ни как позитивистское, ни
как неопозитивистское, ни как постпозитивистское, ни как
собственно марксистское потому, что это был, прежде всего,
анализ развития научного мышления, научного познания, который
привел к формированию той концепции, которая получила у нас
очень широкое распространение.
Шульгин Н. Н. Мне видится образ: есть реки, у каждой реки
свое имя, и они обозначены на карте, но если течение
подводное, то оно просто незаметно на поверхности, хотя это может
быть очень мощное течение, как, скажем, Гольфстрим.
Швырёв В, С. Ну, может быть. Можно такой образ здесь
применить.
Шульгин //. Н. Да, так и получается, что советские философы
как бы были скрыты под шапкой марксизма, не имели своего
собственного аутентичного имени. А если нет имени, то
возникает замена индивидуального имени родовым. То есть вас
именовали марксистами, но на самом деле вы были чем-то иным.
Швырёв В. С. Видите ли, скажем к 60—70-м гг. мы вообще
не именовали себя марксистами потому, что марксизма как
конкретных идей Маркса в этой области, фактически, просто
не было. И даже там, где он был, новации совершались через
отстранение от канонических марксистских наработок. Когда,
скажем, А. А. Зиновьев в начале 50-х гг. начал заниматься
логикой «Капитала», он делал это по-своему, во многом
объективно противостоя марксистской традиции. Да и существовала
ли такая традиция? Это еще тоже надо посмотреть. Потому,
что был написан реальный «Капитал», там имелась какая-то
реальная методология, была рефлексия по поводу этой
методологии, в частности, энгельсовская, которая во многом
дезориентировала. Скажем, энгельсовская концепция историче-
Берега рациональности 275
ского и логического явным образом расходилась и с реальной
логикой «Капитала», и с определенными, весьма краткими
высказываниями Маркса по этому поводу. Так что вообще
говорить о марксистской традиции тоже нужно очень
осторожно. Но в то же время, когда А. А. Зиновьев писал свою работу
о восхождении от абстрактного к конкретному в «Капитале»,
он не мог не взаимодействовать с известными марксистскими
позициями по этому поводу. А когда, скажем, Г. П. Щедро-
вицкий в 1957 г. написал свою работу по развитию понятий на
материале физики, там не было никакой жесткой привязки к
марксизму, к его идеям. Тем более не было такой привязки
впоследствии. А если взять известную работу В. С. Стёпина,
то там вообще не было ссылок на Маркса, на марксовскую
традицию. Хотя определенные содержательные связи имели
место. Потому что реальное восхождение от абстрактного к
конкретному в «Капитале» можно интерпретировать в
терминологии, которая была выработана уже в современном
методологическим языке. Кстати, в ряде моих статей, в том числе
энциклопедических, по вопросу восхождения от абстрактного
к конкретному, я как раз пытался сделать наложение этих
представлений, связанных с марксистской традицией, на
современную методологию науки. И тут действительно
получались вполне органические результаты.
И еще одно соображение. Когда говорят о неопозитивизме,
постпозитивизме и т. п., то возникает вопрос, как
демаркировать собственно неопозитивистскую концепцию от реального
методологического анализа. Это тоже определенная
проблема. Одним из важнейших моментов методологии науки
являлась опора на историю науки, на изучение процессов развития
мысли в науке. Это в определенной мере соответствовало
марксистской традиции. Соответствовало, но не означало, что
оно осуществлялось в русле этой традиции. Это разные вещи.
Шульгин Н. Н. Сам неопозитивизм собственно и не считал
себя особым философским направлением. Он
самоопределялся в качестве универсальной научной методологии.
Швырёв В. С. Ну, это тоже сложный вопрос. Да, он считал,
что занимается методологией в философском плане
беспристрастно. Но на самом деле это не так, потому что это была
определенная философская позиция. Можно вычленить
определенные моменты собственно философского характера в
неопозитивизме, но это уже другая проблема. А постпозитивизм
трудно квалифицировать в каких-то общих понятиях,
характеристиках. Постпозитивизм, если позволительна такая анало-
276 Беседа Н. Н. Шульгина с В. С. Швырёвым
гия, выступает как некого рода постмодернизм по отношению
к этой позитивистской сайентистской традиции.
Шульгин Н. Н. Интересная емкая формулировка.
Швырёв В. С. Постмодернизм реализуется на материале
искусства, прежде всего, в литературе. А постпозитивизм — на
материале науки. Почему неопозитивизм получил такое
широкое распространение в кругах методологически
ориентированной интеллигенции в 30-х гг.? Потому, что это была очень
ясная и стройная концепция. Скажем, гуссерлианство тем
ученым, что вышли из конкретной науки и пытались быть
методологами, было просто непонятно.
Неопозитивистская простота оказалась несостоятельной.
Но на смену ей пришла концепция, которая строгих рамок уже
не имела. И это явно напоминает движение от модернизма к
постмодернизму, отход от каких-то четких, ясных,
однозначных понятий, критериев. И модернизм, и неопозитивизм были
направлениями, которые указывали, в своей области, «как
надо жить». Учили жить или действовать согласно четкому
канону. А постдвижения, которые приходили им на смену, от
этой идеи отказывались.
После завершения работы по критическому анализу
логического позитивизма меня стали привлекать принципиальные
проблемы общефилософского характера: вопросы
соотношения философии и науки, типы уровней методологического
анализа и т. д. В этот период я участвовал вместе с М. К. Мамар-
дашвили и Э. Ю. Соловьёвым в написании статьи о
классической и современной философии, основные идеи которой
принадлежали М. К. Мамардашвили. У меня был в ней
раздел, связанный с аналитической философией и логическим
позитивизмом, в книге «Философия в современном мире». Мы с
Б. Г. Юдиным далее занялись проблемой сайентизма и анти-
сайентизма и написали по ней ряд совместных статей.
Занимался я и проблемой специфики социального познания,
проблемой различения уровней методологического анализа
совместно с В. А. Лекторским. Этот период моей деятельности
где-то со второй половины 60-х гг. и в 70-е гг. был связан с
четким осознанием определенной узости нашей исходной
позиции, когда философия, прежде всего, сводилась к
методологии, логике теоретического мышления. И тогда мы
сформулировали концепцию философии как формы мировоззренческого
сознания, которая нашла отражение в статье «Философия» в
V томе первого издания «Философской энциклопедии»,
написанной мной совместно с В. А. Лекторским, А. П. Огурцовым
Берега рациональности 277
и Э. Г. Юдиным. Я придаю ей очень большое значение. Мне
кажется, что она в целом отнюдь не устарела до сих пор.
В нашем сообществе молодых гносеологов и методологов
пытались ответить на вопросы специфики философии по
сравнению с конкретной наукой, подчеркивая ее
рефлексивно-методологические функции по отношению к научному знанию.
Этот подход давал определенную перспективу деятельности,
выводящую из тупика официозной догматики. Однако сейчас
достаточно ясна его определенная сайентистская
ограниченность. В плане самокритики я могу привести такой пример. На
семинаре К. С. Бакрадзе, приглашенного работать с
аспирантами нашего Института философии, я сделал доклад, который,
мне и сейчас так кажется, был достаточно удачным. Но я
считал возможным анализировать позицию Канта относительно
теоретического разума без какого-либо обращения к его
этической философии, искренне полагая, что все это не имеет
отношения к тому, что в Канте должно интересовать
гносеологов. Такой подход, в частности, не обеспечивал возможности
конструктивного сотрудничества с противниками официозного
догматизма, интересовавшимися не столько вопросами
философии науки, сколько этической и социальной проблематикой,
теми формами сознания, которые Маркс называл в свое время
духовно-практическими формами освоения действительности.
В этот период я осознавал свою определенную слабость в этом
отношении, в том, что есть некоторая сайентистская
ограниченность моего восприятия философской проблематики.
Уже в середине 60—70-х гг. при значительном ослаблении
официозно-идеологического пресса произошло очень большое
оживление в нашей философии, связанное с развитием
этической, социальной проблематики и т. д. Хотелось быть, что
называется, на уровне этого движения. А, кроме того, у всех нас
всегда был большой личный интерес к этим вещам. Отсюда —
внимание к проблематике, связанной с сайентизмом, антисай-
ентизмом, предметом философии, пониманием философии как
специфической формы мировоззренческого сознания, что
нашло свое отражение в упомянутой статье «Философия». Это
была определенная фаза моего развития, связанная с
интенсивным сотрудничеством в этот периоде Эриком
Григорьевичем Юдиным, а потом где-то уже с начала 70-х гг. я опять
вернулся к методологической тематике.
Первую половину 70-х гг. я посвятил проблеме
теоретического и эмпирического. Это нашло свое отражение в книге
«Теоретическое и эмпирическое в научном познании», которая
278 Беседа Н. Н. Шульгина с В. С. Швырёвым
была издана в 1978 г. Подобно тому, как моя книга
«Неопозитивизм и проблема эмпирического обоснования науки»
выросла из кандидатской диссертации, так и эта книга выросла из
докторской диссертации. Кстати, докторская диссертация
называлась, на мой взгляд, более точно: «Теоретическое и
эмпирическое как проблема философско-методологического анализа».
Она как бы брала эту проблематику в плане рефлексии. Но для
названия книги было желательнее более компактное название.
В конце 70-х гг. я уже закончил заниматься этой тематикой.
Где-то начиная с 80-х гг. я занимаюсь проблемой научной
рациональности и рациональности вообще. В 1984 г. вышла моя
книга «Научное познание как деятельность», в которой я
пытался, конечно, в достаточно популярной форме, изложить мои
основные представления о характере научно-познавательной
деятельности. В 1988 г. в издательстве «Наука» была
опубликована моя монография «Анализ научного познания: основные
направления, формы, проблемы». В ней я рассматривал
основные направления исследования научного познания в
отечественной философско-методологической литературе и за
рубежом и постарался охарактеризовать преобладающие тенденции
развития и представления о научном познании, проявившиеся в
середине 80-х. Важной вехой в моей работе в 80-х гг. стало
участие в авторском коллективе по написанию учебника
«Введение в философию» под руководством И. Т. Фролова,
переиздание которого вышло в 1989 г. В настоящее время
опубликовано его второе издание. В этом труде я написал главу о
сознании в плане психики и в плане практики. Обе эти темы меня
всегда очень интересовали. Без четкого осмысления обеих этих
тем, как мне представляется, вообще нельзя быть достаточно
квалифицированным философом. В начале 90-х гг. мои
теоретические интересы сосредоточились на проблеме научной
рациональности.
Шульгин Н. Н. Это нынешний этап в сфере ваших интересов?
Швырёв В. С. Занятие проблемой.научной рациональности
непосредственно является продолжением, я бы сказал,
завершением моих работ по теоретическому и эмпирическому и,
если угодно, по критике неопозитивизма потому, что в
неопозитивизме и, главным образом, как раз в постпозитивизме
очень остро стояла проблема критериев научной
рациональности. Она выступает как бы более общей по отношению к
проблеме соотношения теоретического и эмпирического.
Например, с позиции того понимания проблематики
рациональности, которое я разрабатывал в 90-е гг., очень легко и я, бы
Берега рациональности 279
сказал, элегантно выводится сама исходная позиция в
отношении проблемы теоретического и эмпирического. Трудности,
которые постоянно нагнетаются вокруг проблемы
теоретического и эмпирического, нынешняя установка на то, что
вообще нет какого-то однозначного критерия теоретичности и
эмпиричности и т. д. — все это мне кажется проявлением
своеобразного постмодернистского стиля мышления внутри самой
рационализированной философии. На мой взгляд, это уход от
проблемы. Что касается теоретического и эмпирического, то,
на мой взгляд, можно сформулировать некоторые исходные
абстракции, в рамках которых очерчивается проблематика
теоретического и эмпирического, а дальше уже идет ее
спецификация, выделение различных аспектов. Это такое частное,
но довольно существенное замечание.
Занятие проблематикой научной рациональности я
рассматриваю как некое подведение итогов моей деятельности в
области методологии науки. Исследуя научную рациональность,
мы неизбежно переходим к пониманию рациональности
вообще. Потому что сразу встает вопрос о корнях рационального
сознания и рационального мироотношения. Я
принципиальный противник распространенной ныне точки зрения, что
здесь нельзя выработать никаких однозначных критериев.
Какие-то исходные позиции при формулировании специфики
рационального сознания, на мой взгляд, выработать вполне
возможно. И в лоно этих позиций будут уложены различные
формы рациональности.
Во-первых, к проблеме рациональности необходимо подходить
в плане ее исторических типов и форм. Без
исторически-эволюционного взгляда на рациональность в этой проблеме
невозможно адекватно ориентироваться. Во-вторых, саму научную
рациональность нужно рассматривать как некий дериват, производное
от проблемы рациональности вообще. И она связана с
проблемой специфики науки как определенной формы рационально-
теоретического мышления. Здесь необходимо рассмотреть
известные фазы рациональности: классическая рациональность,
неклассическая рациональность, постнеклассическая
рациональность. Какова специфика современной рациональной
мысли? Прежде всего, она в том, что рациональное мышление,
рациональное сознание здесь выступает не как констатирующее
рациональное сознание, а как нечто проектно-конструктивное.
В чем характерное отличие? Установка классической
рациональности — установка на прослеживание реально существующего
положения вещей. Рационален тот, кто адекватно и осознанно
280 Беседа Н. Н. Шульгина с В. С. Швырёвым
воспринимает некоторое состояние дел. Это общая
характеристика всякой рациональности. И она выступает как некая
ценность мироотношения, как ценность, если угодно, практического
разума, состоящая в том, что человек в своем мироотношении
должен с уважением относиться к реально существующему
положению. Кто в этом плане выступает как носитель
рационального сознания? Не тот, кто находится в плену собственных
иллюзий, каких-то своих ценностных установок, а тот, кто способен
взглянуть на действительность как она есть, тот, кто построил
определенный образ этой действительности. Кстати, только при
такой установке появляется понятие о реальности как
философской конструкции. Потому что иначе мы находимся в лоне нашей
картины мира, в которой неразрывно слиты какие-то наши
представления. Они склеены, так сказать, с реальностью как
таковой. А в этой позиции рационального сознания мы становимся
дистанцированными по отношению к реальности. Поэтому
рациональность предполагает рефлексию и можно говорить о
рационально-рефлексивном сознании. Это
рационально-рефлексивное сознание, с моей точки зрения, является необходимой
ценностью культуры, в том числе современной. Без
рациональности мы деградируем. Мы уходим в доосевое, т. е. доцивилиза-
ционное время. Появление рационального рефлексивного
сознания есть характерный признак перехода от доосевой культуры к
осевой, цивилизационной. И хотя существует определенный
исторический период, когда переход от доосевого сознания к
осевому происходит наиболее резко, по существу такой переход
воспроизводится постоянно. И рациональность является
важнейшим моментом обеспечения осевого цивилизационного
сознания. Притом, рациональность нельзя превращать ни в
какого-то кумира, ни в какого-то дьявола, что, как тенденция,
сейчас ощущается в философском сообществе. Эти представления о
кумире и о дьяволе являются сторонами одной медали. Потому
что если ты делаешь из нее кумира и возлагаешь не могущие
быть оправданными надежды, то естественно, что она потом
предстает в ипостаси дьявольской, разрушительной. Нет, ее
следует рассматривать как одну из форм мироотношения человека,
одну из форм сознания, которая не подавляет другие формы
сознания. В этом смысле агрессивность классического
рационализма, конечно, должна быть в современном сознании решительно
преодолена.
Разумеется, здесь опять происходит демаркация с
классическим рациональным сознанием, поскольку «дистиллировать»
сознание от всех нерациональных моментов невозможно. Ра-
Берега рациональности 281
циональность может быть понята как некоторая установка,
которая реализуется, но никогда не может быть реализована
полностью, как некий идеал. Но идеал не в том смысле, что нечто
должно находиться вне нашей мыслительной работы. Это
идеал, подобный нравственным установкам. Мы прекрасно
понимаем, что не можем реализовать их полностью. Но, тем не
менее, если их вообще устранить, то нам будет не на что
ориентироваться и не к чему стремиться. Это все очень важно в
условиях нашего российского менталитета, где традиции
рационального сознания не очень развиты. Если сейчас на Западе
постмодернисты и деконструктивисты выступают против
рационалистических идеалов классического рационализма
декартовского типа, то надо понимать, что это делается в рамках той
культуры, в которой рациональность входит в плоть и кровь.
Рациональность направлена против всех тех дорациональных
форм сознания, при которых человек не является хозяином
своего сознания. Т. е. против тех факторов, будь то это инстинкты,
социальные штампы, какие-то ценностные неосознаваемые
установки, которые не дают осуществлять «мужество жить
собственным умом», что Кант считал сутью просвещения. Развитие
возможности «жить собственным умом» осуществляется как
раз через культуру рационального сознания.
Это не означает, что должны игнорироваться другие
способы вписывания человека в действительность, что мы имеем
дело с единственной магистральной линией. Однако без нее
человек не находится на высоте современного цивилизацион-
ного развития. А в наших условиях это тем более важно.
Теперь я возвращаюсь к теме понимания рациональности.
Рациональность начинается там, где человек воспринимает
вещи, как они есть сами по себе. Классическая рациональность
связана с прослеживанием как бы того, что есть — наличного
бытия. Это можно назвать констатирующей функцией
сознания. Современная рациональность в этом плане — это
рациональность проективно-конструктивного сознания. Той
реальностью, которая здесь имеет место, является не налично-данная
ситуация, не бытие, а становление, та проблемная ситуация, в
которой мы присутствуем. То есть современная
рациональность — это, прежде всего, восприятие тех рамочных условий
проблемной ситуации, в которой мы существуем. И это
предполагает, между прочим, плюрализм различных позиций.
Шульгин Н. Н. Можно сказать, что в этой ситуации субъект
как бы включен в объект и, воздействуя на объект, тем самым
одновременно воздействует и на себя.
282 Беседа Н. Н. Шульгина с В. С. Швырёвым
Швырёв В. С. Да, здесь нет классической диспозиции
субъект-объект, когда взор субъекта как бы направлен на нечто,
лежащие вне его. Проблемность в том и состоит, что мы сами
ее создаем. Поэтому здесь меняется онтология
рациональности. Предметом рационального сознания становится
взаимоотношение субъекта с реальностью. Мы начинаем
анализировать также и собственные рациональные установки. Поэтому
современная рациональность с этой точки зрения
рефлексивна. Она еще и фиксирует возможность самого рационального
подхода. В этом смысле можно вспомнить изречение Паскаля,
что слаб тот разум, который не осознает собственных
пределов. Но заметьте — осознает. То есть он не вслепую
сталкивается с чем-то, ему там непонятным, а осознает, что здесь я
чего-то не могу, здесь я должен остановиться. Остановиться и
подумать.
В связи с появлением проектно-конструктивного сознания,
понимания предмета рациональности как проблемной
ситуации, значительно переосмысливается роль «теоретизма» —
то, что в свое время резко критиковали Н. Бердяев и М.
Бахтин. У Бердяева было понятие «гносиса», под которым он
понимал не только конкретное направление в истории культуры,
но и стремление решить какие-то коренные проблемы путем
фиксации наличного бытия. У него есть очень хороший
образ — попытка, играя с миром в карты, как бы подглядеть эти
карты. Поэтому он понимал рациональность именно как
попытку подглядеть игральные карты мира, бытия. Но это
неверно даже по отношению к классической науке. И в рамках
своей «Философии свободы», поскольку для него свобода
была предельной ценностью, он и говорил про отказ от
свободы в пользу чечевичной похлебки гносиса, т. е. стремления как
бы встать на позиции того, что есть. А рефлексивно
понимаемая рациональность этого не предполагает. Она, наоборот,
остро ставит перед человеком всю его проблемность и
драматизм его бытия. И в этом смысле рациональное сознание не
может быть подведено под такую критику классического
рационализма, бескрылого позитивистского сознания. А у
М. Бахтина есть проблема поступка, утверждается, что
теоретизм как бы уходит от поступка. В том понимании, о котором я
говорил, рациональность от поступка не уходит. Она
фиксирует, наоборот, что здесь субъект вступает в такую позицию, в
которой он должен совершить поступок. То есть
рациональность такого типа фиксирует собственно то, что человек уже
попадает в сферу этой самой свободы. И если вспомнить из-
Берега рациональности 283
вестный тезис, что «свобода есть осознанная необходимость»,
то эта новая рациональность предполагает осознание не
необходимости прилаживания к готовому бытию, а необходимости
свободного поступка.
Шульгин Н. Н. Прежний тип рациональности породил в ее
рамках «внутреннюю оппозицию», которая принимает как бы
«внешние» формы, хотя вырастает из того же движения
разума, который она критикует. Это экологическая,
культурологическая, гуманистическая и т.п. критика активизма человека
западного типа. А как, по-вашему, новый тип рациональности
соотносится с критикой такого рода?
Швырёв В. С. Да, очень хороший вопрос. К рациональности
возможны три подхода, что касается типов активности. Во-
первых, тип, так сказать «пассивиста», который вообще не
будет предлагать какого-то активного деятельностного
подхода. Дескать, как оно все есть — так пусть и будет. Плетью
обуха не перешибешь. В плане социально ориентированной
мысли это рациональность, которая вырождается в
конформистское сознание. С этой точки зрения рационален тот, кто
понял, что ситуация такова и из этого надо исходить. Во-вторых,
активистское сознание, т. е. такое сознание, которое видит
какой-то идеал или цель и к ней стремится, пытаясь
преобразовать действительность с точки зрения этого идеала и цели.
И третий тип, когда мы имеем проблемную ситуацию,
реальность которой мы вынуждены уважать. Тем самым мы сразу
же получаем диалогизм, толерантность, необходимость
коммуникативной рациональности и т. д. Почему? Потому, что у
нас единой основой является не данность, а некая заданность
проблемы. В чем суть монологизма? В том, что мы можем
понять некоторую реальность так, как она есть сама по себе —
однозначно. Кстати, монологизм никогда не отрицал наличие
разных точек зрения. Но он говорил о том, что из этих точек
зрения какая-то должна быть правильной, потому что
предполагается рациональная позиция схватывания чего-то данного,
что устроено именно так. Проблемный подход вводит различие
позиций как онтологическую необходимость. Если у вас
проблемная ситуация, то она не завершена, не закончена. И вы
принципиально не имеете «глаз абсолютного наблюдателя»,
который видит своим божественным всеведущим
интеллектом, как она должна разрешиться. Конечное человеческое
мышление находится внутри этой ситуации. Поэтому оно
должно признать априорное равноправие различных позиций.
А дальше они будут конфликтовать, бороться за первенство
284 Беседа Н. Н. Шульгина с В. С. Швырёвым
и т. п. Здесь мы имеем дело с рациональной
конструктивностью проектно-конструктивного мышления. То есть нужно
рационально организовать взаимодействие различных позиций
внутри проектно-конструктивного сознания.
Шульгин H.H. Здесь возникает проблема плюрализма
рациональности в плане интерпретации разных социальных
позиций, разных типов развития обществ именно как разных типов
рациональности. Если наглядно — африканские пигмеи
представляют один тип рациональности, современные
европейцы — другой и т. д. И все эти типы, в своей взаимной инаково-
сти и рядоположенности, как бы оказываются равноправными.
Швырёв В. С. Тут есть одна важная тонкость.
Рациональность преимущественно рассматривалась как рациональность
познания. Но это неправильно. Проблема рациональности
шире — это также и рациональность действия. Почему
получилось так, что проблема рациональности познания как бы
поглотила проблему рациональности действия? Потому что для
классического сознания, в общем-то, был характерен утопизм.
Мол, если ты сформулировал какую-то идеальную позицию,
то это необходимое и достаточное условие для осуществления
какого-то адекватного действия. В чем была суть критики
Марксом просветительства в «Тезисах о Фейербахе»? Как раз
в том, что новое мышление, новое сознание и есть лишь новое
сознание, оно еще вовсе не ведет автоматически к новому
изменению действительности, и мышление есть не что иное, как
идеальный план деятельности. И, стало быть, рациональность,
достигаемая в познании, еще не есть обеспечение
рациональности действия.
Понятие и вообще концепция рациональности действия
появляется в работах Макса Вебера. Здесь возникает
интересная ситуация. Ограниченность европоцентристского
классически-просвещенческого типа рациональности и признание
эффективности, осмысленности различных типов того, что Вебер
называл ценностно-рациональными действиями или даже
традиционными действиями, как бы дает нам возможность
говорить: это тоже рациональность, но она иного типа. Если в
традиционном обществе определенный ритуал, такие-то действия
приводят к такому-то позитивному эффекту, то это тоже по-
своему рациональность. Такая позиция есть некая умственная
ловушка, которую я называю концепцией рациональности без
берегов. Все рационально, насколько оно эффективно и
осмысленно. С моей точки зрения, это неверно. Можно понять,
почему проповедуются такие взгляды. В частности, они исхо-
Берега рациональности 285
дят из определенного комплекса вины перед
традиционалистским сознанием. И проводится как бы уступка: «вы тоже
хороши, но по-своему». Мне все-таки представляется, что можно
различать, с одной стороны, эффективность и
функциональность тех или иных действий и, с другой стороны,
рациональность. Скажем, с нашей точки зрения, какой-то ритуал имеет
некую функционально-смысловую нагрузку и тем самым
работает на реализацию определенной цели. Но это не значит, что
этот ритуал рационален. Не потому, что он плохо реализует
данную цель, или что она неприемлема с нашей позиции, а
потому, что эта связь цели и ритуала не достигнута
рациональным путем. Античное общество ввело принцип
рациональности по отношению к своим устоям. Когда? Тогда, когда оно
ввело полисный демократизм и т. д. То есть систему
обсуждаемых решений. Решений, принимаемых на основании того, что
можно назвать рациональным сознанием. А если решение
принимается по традиции, под авторитарным давлением или
еще как-нибудь, — это не есть рациональность. Приведу
пример. Конечно, если ты обожжешь об огонь палец, то ты его
отдернешь. И это правильное решение. Но это не есть
рациональность. Это автоматическое инстинктообразное движение.
Шульгин Н. Н. То есть Вы разводите понятия
эффективности и рациональности?
Швырёв В. С. Обязательно. Это особенно важно как раз
для понимания рациональности действия. В моих статьях и в
книге, которая скоро выйдет, это обсуждено достаточно
подробно. Сейчас это очень актуально в силу распространения
взглядов «рациональности без берегов», согласно которым
«все по-своему рационально». Современное понимание
рациональности подстерегают как бы две опасности. С одной
стороны, рациональность без берегов, которая отождествляет
рациональность с эффективностью. Обоснованием этого
часто является историзм в подходе к формам рациональности.
Утверждается, скажем, что историческая форма рациональности
у греков отличается от нашей нынешней. Это все верно. Но,
тем не менее, это все формы рациональности. Например,
С. С. Неретина сформулировала концепцию верующего
разума средневековья. Верующий, — но разум! Почему? Потому,
что религиозные убеждения средневековья прошли через
реторту античной культуры, куда был введен момент
рациональности, сознательности принятия тех или иных позиций. Другое
дело, что нельзя обойти догматы, но все равно они есть
момент не просто слепой веры, а уже разума, пусть и верующего.
286 Беседа Н. Н. Шульгина с В. С. Швырёвым
И это правильно. Исторические формы — античный разум
космологического типа, верующий разум средневековья, ан-
тропоцентристский разум Нового времени — все это верно.
С другой стороны, — это формы, которым всем может быть
задан некоторый предел, они не есть некое «беспредельное
безграничье».
А вторая опасность — это концепция, которая говорит, что,
собственно, по-своему все рационально. Но там, где, скажем,
сталкивается позиция какой-то слепой фанатичной веры и
позиция, основанная на обсуждении альтернатив, — мы все-таки
должны сказать, что в одном случае это позиция слепой
догматической фанатичной веры, а в другом случае это позиция,
которая прошла через реторту рационализирующей мысли.
Шульгин Н. Н. Возникает вопрос, нет ли подспудной угрозы
для самого рационализма, когда, признавая равенство всех
форм «рациональности» в плане смешения рациональности с
эффективностью, мы как бы контрабандой протаскиваем
возможность внутреннего перерождения. Подобно тому, как
античность переродилась изнутри, впала в средневековье,
можно усмотреть угрозу для рационализма, исходящую от
плюрализма. Сначала низшие формы будут уравнены с высшими, а
потом произойдет инверсия — замена высших форм на
низшие в господствующем сознании эпохи...
Швырёв В. С. Да, такая угроза существует. Я как бы
пытаюсь воевать на два фронта: с одной стороны, я считаю, что
рациональность должна быть сохранена как ценность. С другой
стороны, нельзя слишком ослаблять ее рамки, слишком ее
универсализировать, потому что при этом как раз и
получается то, о чем Вы говорите. То есть нечто, далекое от
рациональности и тем самым далекое от культурного цивилизационного
опосредствования долгим развитием, может стать при
определенных условиях угрозой деградации рациональности. Об этом
можно говорить много. Но главное иметь в виду, с одной
стороны, что рациональное начало надо сохранять. А с другой
стороны — жестко осознавать его рамки и его специфику.
Становление философии науки
и системного подхода в России
во второй половине XX в/
Беседа А. Я. Шарова с В. Н. Садовским
Шаров А. Я. Начнем с вполне традиционного
вопроса: как Вы пришли в философию?
Садовский В, Н. Признаюсь, практически
случайно. В школе меня всегда интересовали гуманитарные
дисциплины, прежде всего история, но думаю, что
многие годы я даже понятия «гуманитарные науки»
еще не знал. Все школьные годы я учился легко, с
интересом, и был практически все годы обучения
круглым отличником (последнее, конечно, плохо, но я
осознал это значительно позже окончания школы), в
старших классах моей мечтой было поступление в
Московский университет, естественно, на
исторический факультет (для этого я даже бросил в конце
девятого класса играть в шахматы, хотя и выиграл
дважды полуфиналы первенства Оренбурга, а в восьмом
классе играл в финале).
Вскоре после окончания школы произошло одно
событие, которое кардинально изменило мою
судьбу. На одной из домашних вечеринок, на которой
мы праздновали завершение нашей школьной
жизни, я танцевал с Аллой Блок из соседней женской
школы (она уже многие годы — ведущий
преподаватель и профессор философии 2-го Московского
медицинского института). Алла, как и я, окончила
* Вопросы философии. 2002. № 9. С. 20-53.
288 Беседа А. Я. Шарова с В. Н. Садовским
школу с золотой медалью и тоже собиралась ехать в
Москву и поступать в Московский университет. «Ты на какой
факультет собираешься поступать?» — спросила она меня.
«На исторический». «Пойдем лучше вместе на
философский: если ты окончишь философский факультет, ты
сможешь работать историком, а если окончишь исторический,
то философом не станешь никогда». Этот аргумент глубоко
запал в мою душу, и через несколько дней уже в Москве мы
вместе отнесли наши документы на философский факультет,
а 1 сентября 1951 г. мы и еще мой однокашник Николай
Коликов слушали первую лекцию на философском
факультете (несколько позже выяснилось, что кроме нас еще Алла
Федосова и Эля Ниранен из Оренбурга учатся на нашем
курсе — из ста первокурсников пятеро были
представителями оренбургских степей и, возможно, хорошего уровня
оренбургской школьной подготовки — никакого
репетиторства тогда не существовало).
Я никогда не пожалел, что в далеком 1951 г. послушался
совета Аллы Блок. Кстати, мы — Блок, я, другие
здравствующие оренбуржцы до сих пор поддерживаем самые лучшие
дружеские отношения, а с Аллой Михайловной даже вместе
работаем — читаем лекции по философии в Московском
институте экономики, политики и права.
Так практически в самом начале моей сознательной жизни в
нее решительно вмешалась случайность, но мы-то, философы,
прекрасно знаем, что случайность причинно обусловлена,
поэтому в моем решении пойти учиться на философский
факультет не было ничего сверхъестественного. Это решение не
было необходимым для меня, однако если бы мы жили только
в мире безусловной необходимости Демокрита или Лапласа,
это было бы, по меньшей мере, скучно.
Шаров А. Я. Расскажите, пожалуйста, о вашей
студенческой жизни, о ваших преподавателях, об уровне
философского образования, которое Вы получили, — как Вы оценивали
его тогда, когда были студентом, и что Вы думаете о нем
сегодня.
Садовский В. Н. Это очень большой вопрос, точнее —
серия вопросов. На них в нашей беседе я обстоятельно
ответить не смогу. Замечу, что эту проблематику я уже
затрагивал в своих работах — сначала в нашей совместной
публикации с А. М. Пятигорским (он учился на философском
факультете на четыре года раньше меня) «Как мы изучали
философию. Московский университет, 50-е гг.» («Свободная
Становление философии науки и системного подхода... 289
мысль». 1993. №2), а затем в моей собственной статье
«Философия в Москве в 50-е и 60-е гг.» («Вопросы
философии». 1993. №7). От того, что сказано в этих статьях, я не
отказываюсь и сейчас, и, пытаясь ответить на Ваши
вопросы, подчеркну лишь самое главное, конечно, с моей
сегодняшней точки зрения.
Начну с нашего студенческого сообщества. Оно было
типичным для Советского Союза в первые послевоенные годы
(приблизительно до конца 50-х гг.), особенно для Москвы,
Ленинграда и других крупных научных центров страны.
Приблизительно шестьдесят—шестьдесят пять процентов —
выпускники школы 1951 г. или двух-трех более ранних лет. В их
число входил и я, и нам в то время было по
семнадцать—восемнадцать, максимум девятнадцать лет. Это — «молодежь».
Процентов пятнадцать—двадцать составляли «фронтовики»,
молодые люди, хлебнувшие все тяготы войны или
послужившие в армии во второй половине 40-х гг. Они были на
восемь—двенадцать лет старше «молодых». И, наконец,
процентов пятнадцать студентов — из стран Восточной Европы,
тогда называемых странами народной демократии. На нашем
курсе было довольно много поляков, несколько немцев, два
чеха, один словак, двое венгров. Так я помню наш курс сейчас,
но, конечно, в этом описании я мог допустить, надеюсь,
незначительные ошибки.
В нашем интернациональном студенческом коллективе
очень скоро сложились добрые, товарищеские, даже
дружеские отношения. «Фронтовики» и «молодые» относились
друг к другу как старшие и младшие братья. Естественно,
что «фронтовики» руководили общественными
организациями курса. В этом деле очень важную роль сыграл Володя
Фролов, который несколько лет был секретарем партийной
организации курса, не стремился делать партийной
карьеры, по уровню знаний не уступал «молодым», а по
отношению к учебе многих из них превосходил. В результате на
курсе у нас не было каких-то громких дел, ну, в крайнем
случае кое-кого мягко журили за те или иные мелкие
прегрешения. «Молодые», естественно, помогали
«фронтовикам» в учебе, а «фронтовика» способствовали тому, что мы
более серьезно относились к нашим учебным занятиям и
нашей жизни.
Надо сказать, что нашему, возможно, предшествующему и
очевидно последующим курсам во многом повезло. Громкие
идеологические кампании 40-х гг., часто сопровождавшиеся
290 Беседа А. Я. Шарова с В. Н. Садовским
репрессиями, в том числе и среди студентов, уже прошли. Я не
помню, чтобы кто-то на курсе пострадал от карательных акций
органов (хотя, поскольку я все свое студенческое время жил
не в общежитии, где общение было интенсивным, а на
частных квартирах, я чего-то мог и не знать).
Общение советских студентов с иностранцами также было
доброжелательным и уважительным. Наши иностранцы были
хорошо воспитанными и разумными людьми, и контакты с
ними были полезны и нам, и им.
Теперь я расскажу о наших преподавателях. Их можно было
разделить на четыре группы. В первую входила небольшая
группа сохранившихся в период сталинских репрессий —
буквально чудом — философов старшего поколения (их
деятельность начиналась еще в 20-е и 30-е гг.). Это — В. Ф. Асмус,
А. С. Ахманов, О. В. Трахтенберг, М. А. Дынник, П. С.
Попов, С. Л. Рубинштейн, С. А. Яновская. Во вторую — входили
так называемые ифлийцы — слушатели Московского
института истории, философии и литературы, существовавшего в
1931 — 1941 гг. Некоторые из них (Т. И. Ойзерман, М. Я. Ко-
вальзон) успели до войны окончить МИФЛИ, другие
(В. Ж. Келле, В. П. Калацкий, Д. И. Кошелевский, В. В.
Соколов, И. С. Нарский и др.) завершали свое философское
образование уже после войны на философском факультете МГУ.
К этой группе преподавателей надо отнести и тех, которые
формально не были связаны с МИФЛИ, но по своему подходу
к философии были близки к тем, кто прошел или начинал
проходить до войны эту школу (Е. К. Войшвилло, Ю. К. Мель-
виль, А. А. Ветров и некоторые другие). Третья группа наших
преподавателей (фамилии их я называть не буду, да я их
практически уже и не помню) состояла из случайных людей в
философии — в нее входили бывшие партийные работники, в
прошлом ответственные деятели средней руки и т. п. Никакого
влияния на нас представители этой группы не оказали, и
довольно скоро факультет от них избавился. И, наконец, в
четвертую группу входили недавно закончившие факультет и
только что защитившие диссертации молодые философы —
Э. В. Ильенков, В. И. Коровиков, Г. С. Арефьева, В. И.
Бурлак и другие. Они работали с нами на старших курсах, и мы
смогли по достоинству оценить их смелую профессиональную
и гражданскую позицию.
Кроме знаний по собственно философии на факультете
нам дали и неплохую общеобразовательную подготовку. Мы
с большим интересом прослушали курсы античной истории,
Становление философии науки и системного подхода... 291
которые нам прочитали видные профессора МГУ Н. Н. Пи-
кус и С. Л. Утченко, лекции по истории Нового времени
(Е. В. Гутнова), нам нравилась работа в семинарах по
высшей математике с А. А. Горбуновым, по политической
экономии капитализма с Т. Мансилья. С основами современной
физики нас познакомил профессор X. М. Фаталиев, который
стал в 1953 г. первым заведующим кафедрой философии
естественных факультетов МГУ. Блестящие лекции по
психологии прочитал нам, студентам двух философских групп
(на нашем курсе были еще логическая и психологическая
группы — их учебные планы, естественно, отличались от
нашего), Петр Яковлевич Гальперин. И только с биологией
нам не повезло, да и не могло повезти: конец 40-х и начало
50-х гг. — это период полного господства в советской
биологии Т. Д. Лысенко и его сторонников со всеми
вытекающими отсюда последствиями.
Резюмируя то, что я уже сказал о философском факультете
начала 50-х гг. и о наших преподавателях, рискну
сформулировать такое утверждение: несмотря на господствующий в то
время догматизм в преподавании общественных наук в целом
и философии в частности, мы смогли получить достаточно
приличное философское образование. Наносная идеология,
которая пронизывала тогда весь учебный процесс и в
общественных, и в естественных науках, легко отбрасывалась даже
студентами, сталинистский догматизм после смерти
«корифея» постепенно стал исчезать, а вечные философские
истины, с которыми нас познакомили наши преподаватели —
конечно, при условии, что мы будем понимать их все глубже и
глубже с помощью постоянного самообразования, создали для
нас основу нашего философского профессионализма. Поэтому
большое спасибо факультету за то, что он сделал для нас.
После окончания факультета наша дальнейшая судьба была во
многом в наших руках.
Шаров А. Я. А какова тогда была духовная атмосфера на
факультете? Может быть, Вы вспомните какие-то
знаменательные события, ярко характеризующие эту атмосферу?
Садовский В. Н. В конце 40-х гг. философский факультет
МГУ был одним из наиболее догматизированных учебных
заведений по общественным наукам в Советском Союзе. Слава
Богу, что мы, поступившие учиться на этот факультет,
практически ничего об этом не знали. Но об этом знали сильные
мира сего, в частности, руководители университета. Вот
мнение первого проректора МГУ тех времен профессора
292 Беседа А. Я. Шарова с В. Н. Садовским
Г. Д. Вовченко, которое приведено в автобиографической
книге Г. П. Щедровицкого «Я всегда был идеалистом...»,
учившегося на факультете с 1949 — по 1953 гг. Это мнение он
услышал от «фактического хозяина университета» в 1949 г., придя
к нему на прием с просьбой перевести его с третьего курса
физического факультета на второй курс факультета
философского. Когда Вовченко понял, о чем его просит Щедровицкий,
которого он знал как заместителя председателя спортклуба
МГУ, он посмотрел на него, как на самого последнего дурака.
Потом сказал: «Иди, закрой дверь». Щедровицкий проверил,
дверь была закрыта. «Садись сюда ближе. Ты знаешь, что
такое философский факультет? Это же помойная яма. Ты там
задохнешься». Щедровицкий ответил: «Я хочу на
философский факультет». Вовченко: «Ты... собираешься идти в это
страшное заведение, где тебя... Ты же там и помыслить не
сможешь... Первое, что ты скажешь, навлечет на тебя беду...
И я не смогу тебя спасти». Щедровицкий: «Хочу на
философский факультет». Тогда Вовченко разозлился и сказал:
«Помни, вот придешь, будешь на коленях ползать, просить спасти
тебя — я ничего не сделаю». Щедровицкий: «Хочу на
философский факультет». Вовченко: «Готовь приказ, но считай,
что больше я тебя не знаю»*.
Оценивая философский факультет как помойную яму,
Г. Д. Вовченко, хорошо зная ситуацию на факультете в 40-х гг.,
был совершенно прав, но он не мог предвидеть, да этого в то
время вообще никто не мог сделать, что уже в первой
половине 50-х гг. философский факультет МГУ станет лидером или,
по крайней мере, одним из лидеров решительной борьбы со
сталинизмом и догматизмом в стране, возрождения традиций
отечественной философии, общественных наук в целом и
постепенно начнет превращаться в весьма респектабельное,
академическое, высоко профессиональное научно-учебное
заведение в Советском Союзе, каковым он является вот уже
многие годы, правда, последние пятнадцать лет уже в другой
стране — Российской Федерации. Не мог, конечно, Г. Д.
Вовченко представить себе в то время и то, что Г. П. Щедровицкий,
наряду с Э. В. Ильенковым, В. И. Коровиковым, А. А.
Зиновьевым, Б. А. Грушиным, М. К. Мамардашвили, Ю. Ф.
Корякиным, Е. Г. Плимаком, В. А. Смирновым, В. В.
Давыдовым, В. П. Зинченко, И. В. Блаубергом, И. Т. Фроловым,
* Щедровицкий Г. П. Я всегда был идеалистом... М., 2001. С. 238-240.
Становление философии науки и системного подхода... 293
Н. Б. Биккениным, Н. И. Лапиным, А. Е. Бовиным, И. К. Пан-
тиным, Н. С. Юлиной, А. Ф. Зотовым и многими другими,
которые на рубеже 40-х и 50-х гг. были еще студентами, в
лучшем случае — аспирантами философского факультета,
окажутся важнейшими движущими фигурами этого, не побоюсь
сказать так, революционного обновления всей российской
духовной жизни.
Это обновление выразилось прежде всего в жарких
дискуссиях, которые прошли на философском факультете в то время
и затронули кардинальные проблемы философии. Я имею в
виду прежде всего дискуссию по проблемам логики (декабрь
1953 — март 1954 гг.), так называемую гносеологическую
дискуссию (апрель — май 1954 г.), очень острые обсуждения
кандидатских диссертаций А. А. Зиновьева (1953—1954 гг.) и
Б. А. Грушина (1955—1956 гг.) и некоторые другие. Все эти
события достаточно детально описаны в отечественной
философской литературе последних лет, и я не буду о них подробно
говорить. Интересующегося читателя могу отослать к хорошо
известным статьям М. К. Мамардашвили, Б. А. Грушина,
Г. П. Щедровицкого, И. С. Ладенко и некоторых других
авторов, опубликованным в начале 90-х гг. и позже, а также к
двум книгам, появившимся в конце февраля этого года в связи
с семидесятилетием Г. П. Щедровицкого: «Познающее
мышление и социальное действие. Наследие Г. П. Щедровицкого в
контексте отечественной и мировой мысли» (М., 2004) и
Хромченко М. «Диалектические станковисты» (главы из
книги о Г. П. Щедровицком) (М., 2004).
Что касается нас, моих сокурсников и меня, то мы были на
несколько лет младше только что названных мною
воспитанников философского факультета, но в 1953—1954 гг. уже
перешли на старшие курсы, и все эти яркие события,
происходившие на факультете в 1953—1955 гг., оказали на нас
неизгладимое впечатление и во многом предопределили наш,
профессиональный путь в философию. Мне посчастливилось
познакомиться с А. А. Зиновьевым чуть ли не в первый день
моей студенческой жизни (меня буквально «мобилизовали»
работать машинисткой в факультетской стенной газете, где
Зиновьев был одним из главных действующих лиц), он через
некоторое время познакомил меня с Г. П. Щедровицким,
затем я познакомился с Б. А. Грушиным, М. К. Мамардашвили
и практически со всеми, кого я назвал важнейшими
движущими фигурами революционного обновления российской
духовной жизни.
294 Беседа А. Я. Шарова с В. Н. Садовским
В 1952-1953 гг. А. А. Зиновьев, Б. А. Грушин, Г. П. Щед-
ровицкий и М. К. Мамардашвили образовали под
руководством Зиновьева неформальную группу, которая вскоре
получила наименование Московского логического кружка и члены
которой приняли активное участие в названных философских
дискуссиях, проходивших на философском факультете в первой
половине 50-х гг. В 1956—1957 гг. этот кружок стал
называться Московским методологическим кружком, лидером которого
стал Щедровицкий и который активно функционирует и в
настоящее время — даже спустя десятилетие после кончины его
руководителя. Ю. Ф. Карякин, Е. Г. Плимак, И. К. Пантин,
Г. С. Арефьева, В. И. Бурлак и некоторые другие возглавили
борьбу против засилья идеологии в трактовке истории русской
философии. Естественно, что студенты, аспиранты и
некоторые преподаватели философского факультета тех лет активно
поддерживали формулируемые в рамках этих
научно-дружеских объединений идеи, и, в конечном счете, именно
деятельность этих групп оказала важнейшее влияние на развитие
отечественной философии в 50-е, 60-е и последующие годы.
Таким образом получилось так, что во время нашей
учебы на философском факультете МГУ произошли
важнейшие прогрессивные перемены в понимании философии,
которая из падчерицы превратилась если не в Золушку, то по
крайней мере в одну из «знатных дам». Нам, несомненно,
повезло.
Шаров А. Я. Как сложилась Ваша профессиональная жизнь
после окончания МГУ?
Садовский В. Н. Когда мы поступали учиться в
университет в 1951 г., на философском факультете была большая по
численности аспирантура. Пятнадцать—двадцать процентов
выпускников получали возможность продолжить обучение в
аспирантуре. Поэтому мы в наши студенческие годы не очень
задумывались о нашем будущем — главное было хорошо
учиться. Однако к середине 50-х гг. ситуация резко
изменилась: философский рабочий рынок оказался насыщенным, и
аспирантура на факультете была сведена к минимуму.
Практически нам, выпускникам 1956 г., было предложено
свободное распределение. Меня это не устраивало: в Москву я
приехал из Оренбурга, у меня не было никаких московских
связей, и единственное, что я знал очень хорошо, что если
мне придется возвратиться в родной город, родители помогут
устроиться на работу — и мать, и отец многие годы работали
в Оренбургском сельскохозяйственном институте, отец к
Становление философии науки и системного подхода... 295
тому же долгие годы был председателем Оренбургского
областного общества «Знание», и я после четвертого курса
даже ездил по Оренбургской области по линии этого
общества и читал лекции.
Мне повезло и на этот раз. Хотя я учился в одной из
философских групп факультета, но рискнул представить свою
дипломную работу на кафедру логики, несмотря на то что на
этой кафедре никто, пожалуй, только за исключением
Е. К. Войшвилло, который нам читал на первом курсе
логику, но в это время, насколько я помню, работал за границей,
меня не знал. Основная идея моей дипломной работы была
очень проста: я решил использовать изложенные в книге
А. Тарского «Введение в логику и методологию дедуктивных
наук» (М., 1948.) основы исчисления классов для описания
логических взаимоотношений между теориями. Классы я
проинтерпретировал как теории, к этому добавил некоторые
свои рассуждения, возникшие при чтении немецких и
французских работ по философии науки. Рецензентом моей
работы был В. А. Смирнов — мы с ним в то время были уже
хорошо знакомы, а впоследствии, до конца его жизни, стали
очень близкими друзьями. Оппонентом по моей дипломной
работе был назначен профессор П. С. Попов, которому
работа понравилась и, более того, он после защиты диплома
рекомендовал меня и моего сокурсника А. П. Полякова,
закончившего факультет по кафедре логики, в аспирантуру
Московского областного педагогического института (в этом
институте П. С. Попов работал совместителем), в которую
мы, имея за спиной философский факультет МГУ, без
особого труда поступили.
Однако моя относительно безмятежная аспирантская жизнь
окончилась очень скоро. Министерство просвещения РСФСР,
в ведении которого находился Московский областной
педагогический институт, аннулировало приказ ректора эгого
института об аспирантуре по кафедре философии за 1956 год, и
меня, как и еще одну девушку (фамилию ее я не помню),
которые были зачислены на очное отделение аспирантуры,
перевели в заочную аспирантуру. Формальным поводом для
этого было то, что мы, во всяком случае я, не имели
двухлетнего стажа работы по специальности, как это тогда стало
требоваться правилами приема в аспирантуру. На самом
деле министерство исправило допущенную ректоратом
института очевидную ошибку: фронтовик И. А. Коников,
поступавший вместе с нами в аспирантуру по этой кафедре и живший
296 Беседа А. Я. Шарова с В. Н. Садовским
в провинции, был зачислен в заочную аспирантуру, что не
давало ему возможность переехать в Москву и полноценно
учиться в аспирантуре (замечу в скобках, что позднее мы
с И. А. Кониковым некоторое время работали вместе в
Институте философии АН СССР, и у нас были с ним очень
хорошие отношения). Перевод меня в заочную аспирантуру
создал ряд сложных проблем: чтобы учиться в заочной
аспирантуре, лишившись стипендии, мне нужно было где-то
зарабатывать.
И вот, начиная с ноября 1956 г., я каждый день ездил по
Москве, внимательно читал все доски объявлений (изучая
их — в отличие от сегодняшнего времени — можно было
получить правдивую информацию, например, найти жилье,
работу и т. д.), но очень скоро осознал, что философскую работу
я здесь не найду, в лучшем случае — предложение поступить
на работу в какое-то издательство. Однако у меня была
серьезная трудность — став аспирантом, я временно прописался в
Москве на один год, но на работу с временной пропиской в то
время не брали.
Когда А. А. Зиновьев узнал о моем сложном положении,
то рекомендовал меня в Институт философии для работы в
секторе научной информации (я в это время мог читать и
переводить философскую литературу с немецкого и
французского языков), однако планируемые перемены в этом
институте задерживались, и я продолжал внимательно изучать
московские доски объявлений. Наконец-то мне повезло.
Директор Московского отделения Гидрометеоиздата вошел
в мое положение и принял меня на работу на должность
литературного редактора. Я был счастлив, и в течение года
ежедневно приезжал на Пушкинскую площадь, где было
расположено это издательство. Я проработал в нем год —
до марта 1957 г., когда Г. П. Щедровицкий предложил мне
перейти на работу в издательство Академии педагогических
наук РСФСР в редакцию «Педагогического словаря», где
он и сам начинал в то время работать. Я согласился —
педагогика была значительно ближе к моей профессиональной
подготовке, да и зарплату мне увеличили чуть не ли не на
треть.
Однако в этом издательстве я проработал не более двух —
трех недель. А. А. Зиновьев сообщил мне, что перемены в
Институте философии начались, и мне надо срочно приехать к
ученому секретарю института, что я незамедлительно и сделал.
С апреля 1958 г. я стал работать в Институте философии АН
Становление философии науки и системного подхода... 297
СССР. О большем и мечтать было нельзя — еще не прошло и
двух лет после окончания мною философского факультета, и я
был принят в ведущее философское
научно-исследовательское учреждение страны.
После этого вся моя профессиональная деятельность вплоть
до настоящего времени связана с работой в московских
научно-исследовательских и высших учебных заведениях. Моя
основная работа в эти годы проходила в следующих
научно-исследовательских учреждениях: в 1958—1962 гг. в Институте
философии АН СССР, первые два года в секторе научной
информации, с 1960 г. по 1962 г. — в секторе логики,
которым заведовал П. В. Таванец, с 1962 г. по 1967 г. — в
редакции журнала «Вопросы философии», где я получил
хорошее представление об отечественном
философско-логическом сообществе того времени, в 1967—1978 гг. —
Институте истории естествознания и техники АН СССР, в
котором мы: И. В. Блауберг, Э. Г. Юдин, я и пришедшие в
институт позднее Э. М. Мирский, А. И. Яблонский и другие
(естественно, при поддержке дирекции института, прежде
всего Б. М. Кедрова и С. Р. Микулинского) смогли создать
сектор системного исследования науки и начать с 1969 г.
выпускать ежегодник «Системные исследования». С 1978 г. и
по настоящее время моя работа связана с Институтом
системного анализа Российской академии наук. Я начал работу в
этом институте сначала в должности старшего научного
сотрудника, затем несколько лет был заведующим
лабораторией, а с 1985 г. являюсь заведующим отделом философских,
методологических и социологических проблем системных
исследований.
Важное место в моей профессиональной деятельности
заняла и преподавательская работа, которой я стал заниматься,
имея уже диплом доктора философских наук, то есть со второй
половины 70-х гг. Общение со студентами и аспирантами,
причем не обязательно философских высших учебных
заведений, для меня было очень полезным. Свою задачу я видел не в
том, чтобы сделать из них философов — это уже как кому
повезет, а учить методам мышления, например связанным с
парадоксом «Лжец» или апориями Зенона, овладев которыми,
их можно использовать при решении (положительном или
отрицательном) многих других проблем. К тому же я всегда
стремился к тому, чтобы мои молодые воспитанники как
можно больше сами обсуждали философские проблемы, которыми
мы занимались, и стремлюсь к этому и сейчас, памятуя хоро-
298 Беседа А. Я. Шарова с В. Н. Садовским
шо известную байку: «Один профессор говорит другому: «У
меня в этом году очень плохие студенты. Вот вчера я прочитал
им одну тему моей лекции. Вижу, ничего не поняли. Я еще
один раз прочитал им то же самое. Никакого эффекта. В
третий раз прочитал им то же самое, сам понял, о чем я говорю, а
они так ничего и не поняли». Большой смысл есть в этом
анекдоте.
За приблизительно двадцать пять лет моей
преподавательской работы я смог получить возможность познакомиться со
студентами и аспирантами кафедры философии естественных
факультетов МГУ, Московского инженерно-физического
института (МИФИ), Института дружбы народов, Московского
физико-технического института (МФТИ) и Московского
института экономики, политики и права (МИЭПП). В
результате я приобрел неоценимый опыт.
Шаров Л. Я. Теперь давайте поговорим о собственно
содержательной стороне Вашей научной работы. Что удалось
сделать? Что представляется Вам наиболее важным и
актуальным из сделанного?
Садовский В. Н. Строго говоря, на этот вопрос могут
ответить только мои коллеги, если захотят, конечно, но не я сам.
Поэтому я могу лишь перечислить проблемы, которыми я
занимался, назвать основные мои публикации, рассказать о тех
идеях, которые у меня возникали и казались мне интересными,
но оценивать то, что мне удалось или не удалось сделать, я не
берусь.
Основные направления моих научных исследований в
первые семьдесят лет моей жизни (вторых семидесяти лет,
конечно, не будет, но я еще надеюсь пожить и поработать
некоторое время — написав это, я, как и положено, сплюнул
три раза через левое плечо) были во многом предопределены
моими диссертациями. Первую, кандидатскую на тему
«Аксиоматический метод как проблема логики и методологии
науки» я защитил в 1967 г. в Институте философии АН
СССР, вторую, докторскую на тему
«Логико-методологические основания общей теории систем» в 1974 г. на заседании
Ученого совета того же Института философии АН СССР.
В первой из них я изложил свое понимание
аксиоматического метода, над которым работал с конца 50-х гг., тем самым
определив мои интересы в области философии и методологии
науки, во второй — суммировал и систематизировал то, что
мне удалось сделать вместе с моими коллегами — В. А.
Лекторским, И. В. Блаубергом, Э. Г. Юдиным — в исследовании
Становление философии науки и системного подхода... 299
проблематики общей теории систем и системного подхода.
Хочу особенно подчеркнуть то обстоятельство, что мне
пришлось работать над моими диссертациями практически
самостоятельно, то есть без научных руководителей, но на
протяжении всей моей работы над их содержанием я все время
ошущал поддержку и неоценимую помощь со стороны моих
коллег по Московскому логическому (методологическому)
кружку, прежде всего А. А. Зиновьева, Г. П. Щедровицкого,
Б. А. Грушина, М. К. Мамардашвили, а также только что
упомянутых И. В. Блауберга, Э. Г. Юдина, В. А. Лекторского
и многих других, среди которых хочу особо назвать В. А.
Смирнова.
Конечно, за сорок—пятьдесят лет, которые прошли с
начала моей работы в философии науки и в исследовании
проблематики общей теории систем и системного подхода,
менялись конкретные задачи, которые я ставил перед собой,
возникали новые проблемы, которые меня начинали
интересовать, но основную направленность своей научной
деятельности я не изменил. Даже когда в последние
десять—пятнадцать лет я стал уделять большое внимание исследованию
истории зарубежной и отечественной философии в XX в., я
рассматривал и рассматриваю сейчас эту проблематику
через призму исторического развития философии науки и
системного подхода.
В моих работах по философии науки я пытался выделить
исторические этапы развития аксиоматического и дедуктивных
методов в целом, показать их роль в научном познании,
раскрыть их логико-методологическую структуру. Мои статьи по
этим проблемам были опубликованы в начале 60-х гг. в
сборниках «Философские проблемы современной формальной
логики» (М., 1962), «Проблемы логики научного познания»
(М., 1964) и в других изданиях, в том числе в журнале
«Вопросы философии» (1963. №3).
В других своих работах по философии науки, выполненных в
60-е и 70-е гг., я провел исследования методов синтаксических
определений, способов установления критериев прогресса
науки, методов редукции и других вопросов. В начале 80-х гг.
я осознал, что следует отделить философские основания
различных концепций методологии науки от построенных в их
рамках моделей научного знания, которые относительно
независимы от первых, что и пытался обосновать в своей статье
«Модели научного знания и их философские интерпретации»
(«Вопросы философии». 1983. №6).
300 Беседа А. Я. Шарова с В. Н. Садовским
В 70-е и особенно в 80-е гг. я, как и подавляющее
большинство специалистов по философии науки не только
отечественных, но и зарубежных, пережил сильное влияние
новаторских идей К. Поппера, Т. Куна, И. Лакатоса, П. Фейера-
бенда, Дж. Агасси и других, которые во многом изменили
господствующие представления о путях развития философии
и методологии науки. Некоторые свои соображения на этот
счет я изложил в статье «Философия науки в поисках новых
путей» («Идеалы и нормы научного исследования». Минск,
1981), еще ранее в написанном совместно с Б. С. Грязновым
предисловии к сборнику переводов на русский язык статей из
«Бостонских исследований по философии науки» — в то
время ведущего периодического издания по этой
проблематике («Структура и развитие науки». М., 1978), а также во
вступительной статье «Логико-методологическая концепция
Карла Поппера» к сборнику его избранных работ «Логика и
рост научного знания» (М., 1983). Эта книга была вообще
первым изданием работ К. Поппера на русском языке,
естественно, что к ней было приковано пристальное внимание
цензуры и соответствующих идеологических органов; к
сожалению, в мою вступительную статью были включены
стандартные для того времени и совершенно не отражающие
существа рассматриваемых проблем пассажи, за которые я,
будучи автором этой статьи, позже печатно каялся (см.
Садовский В. Н. «Карл Поппер и Россия». М., 2002. С. 193).
В то время мне было, правда, уже известно, что когда Поп-
перу — мне совершенно не понятно, по каким
соображениям — одна из моих бывших аспиранток перевела эти
пассажи на английский язык, он меня одобрил, видимо, прекрасно
понимая, что иного пути для издания на русском языке его
сочинений тогда не существовало.
Теперь я кратко расскажу о своих работах в области общей
теории систем и системного подхода. В 40-е и 50-е гг. понятие
«система» в советском варианте марксистской философии
практически не употреблялось. Критика Энгельсом
метафизичности «системы природы Гольбаха» и «системы
объективного идеализма Гегеля» сделало это понятие, скажем так,
подозрительным, и советские философы того времени избегали
пользоваться им. В работах участников Московского
логического (методологического) кружка, о чем я говорил ранее, при
исследовании сложных развивающихся объектов обычно их
характеризовали как целостные, органичные образования, что
по сути дела подразумевало их системную природу, но при
Становление философии науки и системного подхода... 301
этом термин «система» не использовался. Видимо, первой
философской работой, опубликованной в то время и широко
использующей понятие «система», была статья В. И. Кремян-
ского «Некоторые особенности организмов как «систем» с
точки зрения физики, кибернетики и биологии» («Вопросы
философии». 1958. №8). Обращу внимание читателей, что и
в этой статье ее автор помещает слово «система» в кавычки,
подчеркивая как бы иносказательный смысл этого понятия, но
важный прорыв в догматизированном советском философском
сознании был сделан.
В 1960 г. мы с В. А. Лекторским — тогда младшие научные
сотрудники Института философии АН СССР — не без
некоторых трудностей, но все же смогли опубликовать статью «О
принципах исследования систем (В связи с общей теорией
систем Л. Берталанфи)» («Вопросы философии». 1960. № 8).
Читатель видит, что понятие «система» мы уже решились
использовать без кавычек, то есть в прямом значении этого
слова. Статья В. И. Кремянского, как и наша статья, вызвали
определенный интерес у философской общественности — они
были переведены на несколько иностранных языков, в том
числе и на английский. Английский перевод этих статей сделал
Анатолий Борисович Рапопорт (родившийся в 1911 г. на
станции Лозовая в России, большую часть своей жизни
проживший в США и Канаде, но сохранивший не только блестящий
разговорный русский язык, но и глубочайшее почтение к
своей родине и к ее культурным и научным ценностям) и во время
посещения Москвы в 1961 г. в составе, думаю, что
практически первой американской философской делегации,
приехавшей в СССР в период холодной войны, на встрече с дирекцией
Института философии рассказал об этих переводах и о том,
как американские философы (по крайней мере некоторая их
часть) с вниманием следят за тем, что происходит в советской
философии. Во многом случайно я был на этой встрече. Это
была обычная советская практика — собрать для
официальных мероприятий солидную, пусть и молчащую аудиторию, но
в данном случае мне повезло — я познакомился с Анатолем
Рапопортом (так его, что естественно, называли в США и
Европе) и после этого вместе со своими коллегами —
философами и «системщиками» имел счастье несколько десятилетий
постоянно общаться с ним.
Во второй половине 60-х гг., когда я в основном работал в
редакции журнала «Вопросы философии», я опубликовал
несколько работ по системным методам научных исследований,
302 Беседа А. Я. Шарова с В. Н. Садовским
но это были только предварительные наброски. Серьезный
прорыв в этом отношении произошел только тогда, когда мы с
И. В. Блаубергом и Э. Г. Юдиным были приняты на работу в
Институт истории естествознания и техники АН СССР, где
через некоторое время был организован сектор системного
исследования науки под руководством И. В. Блауберга. Думаю,
что этот сектор — надеюсь, не преувеличиваю — стал
первым в стране научным подразделеним, в задачи которого
входило исследование философских, методологических и научных
проблем системных исследований. Эта проблематика была
новой для официальной советской философии, и в наших
попытках ее разработки мы были вынуждены пережить много
сложных и тяжелых ситуаций. О них хорошо рассказал
И. В. Блауберг в статье, написанной в самом конце его
жизни, — «Из истории системных исследований в СССР:
попытка ситуационного анализа» («Системные исследования.
Методологические проблемы». Ежегодник 1989—1990. М.,
1991; опубликована также в журнале «Вопросы философии».
1991. №8). Эту же проблематику я рассматривал позже в
своей статье «Становление и развитие системной парадигмы в
Советском Союзе и в России во второй половине XX века»,
посвященной памяти И. В. Блауберга и Э. Г. Юдина
(«Системные исследования. Методологические проблемы».
Ежегодник 1999. М., 2001).
В сентябре 1978 г. сотрудники нашего сектора
практически в полном составе перешли на работу во Всесоюзный
научно-исследовательский институт системных исследований
Государственного Комитета СССР по науке и технике (в
настоящее время он называется Институтом системного
анализа РАН), который был создан в 1976 г. под руководством
Д. М. Гвишиани. Не буду рассказывать об обстоятельствах
этого перехода — они не столь интересны, впрочем,
интересующегося читателя могу отослать к только что упомянутой
моей статье из Ежегодника 1999. Мы с И. В. Блаубергом
тяжело переживали необходимость покинуть институт, в
котором, как нам казалось, мы активно и успешно работали
(издали несколько книг по проблемам общей теории систем и
системному подходу, создали ежегодник «Системные
исследования», десятый том которого находился в это время в
издательстве, у нас постоянно работал общегородской семинар
и т. п.), но мы ничего не могли сделать. Д. М. Гвишиани
пригласил нас приехать к нему в институт и очень просто нам
объяснил: директор вашего института С. Р. Микулинский хо-
Становление философии науки и системного подхода... 303
чет передать в наш институт ваши ставки, естественно, мы
их возьмем; вы сами, скорее всего, сможете устроиться на
работу, но что будет с вашими сотрудниками? После этого,
не раздумывая, мы сказали «да», и, надо сказать, очень во
многом от этого выиграли — мы сменили небольшое
системное подразделение на большой академический институт, все
лаборатории и отделы которого занимались системной
тематикой, и к тому же получили уникальную возможность
работать в междисциплинарном научном заведении.
Я должен рассказать о тех проблемах системного подхода и
общей теории систем, которыми мы, и в частности я,
занимались, работая в Институте истории естествознания и техники и
Институте системного анализа. Я принял активное участие в
обосновании методологической природы системных
исследований, многие годы занимался разработкой концептуального
аппарата системного подхода, попытался построить логико-
методологические основы общей теории систем, предложил
концепцию общей теории систем как метатеории системных
исследований, сформулировал системные парадоксы. Мои
коллеги и друзья провели исследования по близким
проблемам, и в итоге предложенное нами понимание философии и
методологии системных исследований широко используется в
Институте системного анализа и в настоящее время, хотя в
работах сотрудников других отделов института выражены и
иные точки зрения на этот счет.
Шаров А, Я. Вадим Николаевич, известно, что Вы много
занимались организацией международного научного
сотрудничества отечественных философов и логиков с
зарубежными коллегами. Расскажите подробнее об этой стороне Вашей
работы.
Садовский В. Н. Я впервые выехал за границу в 1965 г. —
в туристическую поездку в Норвегию. Меня рекомендовала в
нее Мара Степанянц вместо себя, потому что у нее были на
это время другие планы. С ней мы работали в секторе научной
информации Института философии в конце 50-х гг. и были
хорошими друзьями, каковыми остаемся и в настоящее время
(многие годы она заведует сектором истории восточной
философии Института философии РАН и является крупнейшим
специалистом в этой области). Поездка была очень
впечатляющей, но для моей профессиональной деятельности она
мало что дала.
В 1967 г. в Амстердаме (Голландия) должен был
состояться III Международный конгресс по логике, философии и
304 Беседа А. Я. Шарова с В. Н. Садовским
методологии науки. Предполагалось, что в нем будет
участвовать советская делегация, и руководитель делегации
Б. М. Кедров предложил включить меня, в то время
сотрудника журнала «Вопросы философии», в состав
научно-туристической группы. На этом конгрессе Академии наук
СССР было предложено создать соответствующий
Национальный комитет по логике, методологии и философии
науки с гарантией, что он станет членом Международного
союза истории и философии науки. Так и было сделано.
Б. М. Кедров стал председателем этого комитета — он
получил название Советского национального объединения по
истории и философии науки — ив 1968 г., когда я работал
уже в возглавляемом им Институте истории естествознания
и техники, он предложил мне стал ученым секретарем этого
объединения. Я согласился, но очень скоро понял, что один
выполнить эту работу не смогу. Обсудил эту проблему с
В. А. Смирновым и пригласил его принять участие в этой
работе. Он согласился (в дальнейшем мы с ним вдвоем
будем выполнять функции ученого секретаря комитета), мы
привлекли к этой работе И. А. Акчурина, М. В. Поповича,
В. А. Орлову, Л. С. Савельеву, позднее Б. С. Грязнова,
Л. Б. Баженова, Л. А. Маркову, В. С. Кирсанова и многих
других. Естественно, что это была общественная работа, но
она принесла важные результаты — замечу, редкий случай
в советской практике.
На последующие Международные конгрессы по логике,
методологии и философии науки выезжали
представительные делегации отечественных философов и логиков: в IV
конгрессе (Бухарест, Румыния, 1971) приняло участие
около ста специалистов по этим вопросам из нашей страны,
несколько меньшие по численности, но также весьма
представительные советские делегации были на V (Лондон,
Онтарио, Канада, 1975), VI (Ганновер, ФРГ, 1979) и VII
(Зальцбург, Австрия, 1983) конгрессах. VIII
Международный конгресс по логике, методологии и философии науки
состоялся в 1987 г. в Москве и, естественно, что в его
работе участвовало много советских философов и логиков.
Аналогичная картина имела место и на IX (Упсала,
Швеция, 1991), X (Флоренция, Италия, 1995) и последующих
конгрессах. К сказанному надо добавить, что перед каждым
таким конгрессом публиковались, как правило, весьма
объемные тезисы докладов, ряд отечественных ученых
были членами руководящих комитетов этих конгрессов
Становление философии науки и системного подхода... 305
и т. п. Думаю, можно сказать, что в результате этой
деятельности отечественная философия науки и логика стали
полноправными членами международного сообщества по
этой проблематике.
Что касается конкретно меня, а также философов и логиков
моего поколения, то нам в эти годы удалось завязать тесные
научные и дружеские контакты с ведущими зарубежными
специалистами в этой области. Ни в коей мере не претендуя на
полноту, назову лишь несколько имен, которые, как мне
представляется, говорят сами за себя: А. Тарский, К. Поппер,
П. Суппес, Я. Хинтикка, Р. Коэн, М. Вартофский, Т. Кун,
И. Лакатос, Дж. Коэн, М. Хессе, Д. Миллер, X. Меллор,
П. Вайнгартнер, Дж. Агасси, И. Ниинилуото, Р. Хилпинен и
многие другие.
Завершая этот раздел нашей беседы, хочу сказать о
следующем. Как хорошо известно, идеи путешествуют по миру
без виз — и мы в Советском Союзе, а потом в России,
начиная с конца 50-х гг., знали о многом, что происходит в
западной философии и логике. Однако чтение соответствующих
текстов и общение с их авторами — это существенно
различные вещи. В 70-е и 80-е гг. нам удалось познакомиться
со многими западными авторами современных работ по
философии науки и логике, но это знакомство было, как
правило, кратковременным — мы приезжали на международные
конгрессы и конференции, имели возможность общения с
ними в течение нескольких дней, а затем возвращались
домой. Именно такая ситуация имела место вплоть до начала
90-х гг. Серьезное же вхождение в интернациональный мир
философии и логики предполагает широкие возможности
постоянной работы в других странах и в других университетах,
как, впрочем, это и делается в цивилизованных странах.
Пока мы в этом направлении находимся на первой стадии.
Сегодня — и это очень хорошо — ряд наших ученых —
философов и логиков работают в Европе и США, но это только
первые ласточки. Я считаю, что очень важно, чтобы это
стало нормой. В этом случае и западные специалисты будут
стремиться поработать в нашей стране — сегодня такие
примеры есть, но их пока мало.
Шаров А. Я. Вы работали в нашем журнале еще в 60-е гг., а
в последнее время стали членом его редколлегии. Разумеется,
журнал постоянно находился в поле Вашего зрения. Во
многом по Вашей инициативе недавно была закончена большая
работа по созданию электронного каталога журнала за 1947—
306 Беседа А. Я. Шарова с В. Н. Садовским
2003 гг. Как видится Вам с высоты прошедших десятилетий
весь пройденный журналом путь?
Садовский В. Н. Журнал «Вопросы философии» я очень
люблю — и сам журнал, и тех людей, которые его делали и
делают сейчас. По своему уровню «Вопросы философии»
непрерывно прогрессируют, и сегодня — я в этом
абсолютно убежден — это один из лучших философских журналов в
мире.
«Просторное слово авторитетов»*
Беседа Т. А. Уманской
с Э. Ю. Соловьёвым
оманская Т. А. Эрих Юрьевич, с журналом
«Вопросы философии» Вас связывает долгая история.
Расскажите, пожалуйста, об этом.
Соловьёв Э. Ю. Началось все в 1958 г. После
окончания философского факультета МГУ я пришел
в редакцию журнала «Вопросы философии» (кстати,
на должность машинистки). Позже я узнал, что это
стало возможным благодаря хлопотам Валентина
Фердинандовича Асмуса, который был научным
руководителем моей курсовой работы и диплома, да и
вообще сыграл серьезную роль в моей жизни.
Уманская Т. А. Все, кто тогда был связан с
журналом, вспоминают о сложившейся в нем совершенно
особой духовной атмосфере.
Соловьёв Э. Ю. Это действительно так. Начало
хрущевской «оттепели» отозвалось переводом
«Вопросов философии» с шестиномерной на двенадца-
тиномерную систему и решительным
обновлением редакции. В ней сошлись совсем еще молодые
И. Т. Фролов, М. К. Мамардашвили, В. И. Блау-
берг, Н. Б. Биккенин, Н. И. Лапин.
Но, по существу, царившая в журнале атмосфера
сложилась еще в 50-е гг. на философском
факультете, когда после смерти Сталина там начались живые
* Вопросы философии. 2004. № 4. С. 81-91.
308 Беседа Т. А. Уманской с Э. Ю. Соловьёвым
дискуссии. Секрет философов—шестидесятников, которые
тогда формировались, заключался в том, что они представляли
собой парадоксальное, «гибридное» поколение. На
студенческой скамьей сошлись «отцы» и «дети», которые по
физическому возрасту различались всего лишь как старшие и
младшие братья. Братья-отцы — это были те, кто прошел опыт
войны и имел немало сомнений в достоинствах советской
большевистской системы. Назову имена А. А. Зиновьева,
В. И. Коровикова, Э. В. Ильенкова, В. Ж. Келле.
Э. Ильенков и В. Коровиков положили начало дискуссии о
предмете и миссии марксистской философии. Если говорить
предельно кратко, они настаивали на том, что философия
должна быть теорией знания и сознания, а прямое изучение
наличной действительности стоит предоставить конкретным наукам.
Руководство факультета добилось осуждения дискуссии. Ее
инициаторы, заработав ярлык «гносеологов», были отстранены
от преподавания. Однако дискуссия успела обнаружить, что на
разных курсах обретается немало беспокойных и ищущих
молодых людей, которые теперь узнали друг друга. Появились их
публикации в журнале НСО, который выпускал на стеклографе
В. П. Шестаков, — публикации на редкость интересные.
Образовалось долголетнее неформальное сообщество.
Собственно говоря, все новые молодые сотрудники «Вопросов»
осознавали себя его членами, и это сообщало им энергию внутренней
независимости. Спорили убежденно и твердо.
Уманская Т. А. Кто из преподавателей МГУ оказал на Вас
наибольшее влияние?
Соловьёв Э. Ю. Я с благодарностью вспоминаю лекции
Т. И. Ойзермана, семинары М. Ф. Овсянникова и В. В.
Соколова, почти немыслимый для середины 50-х гг. курс по
психологии, который читал П. Я. Гальперин.
Но первым из всех я, конечно же, должен назвать Э. В.
Ильенкова, работавшего и преподававшего под негласным девизом
«назад к Марксу». В первомарксизме он видел завершение
немецкой классической философии. Для его учеников было
аксиомой, что философия — это, прежде всего, основательное
историко-философское знание. Вокруг Ильенкова сплотились
такие известные впоследствии философы, как Г. С. Батищев,
Ю. Н. Давыдов, П. П. Гайденко, К. Н. Любутин. Немецкая
классика и Маркс расположились в наших головах, как Ветхий
и Новый Завет. Энгельс и Ленин попадали в положение
апостолов, все прочие марксисты оказывались в пространстве
апокрифическом, а ВКП(б) — КПСС, как ни вертись, как ни
«Просторное слово авторитетов» 309
жутко было это осознавать, обретала смысл позднесредневеко-
вого, инквизиторского и скурвившегося папства.
В начале 60-х М. А. Лифшиц называл ильенковцев
«московскими младомарксистами». Из-за того, что они сами были
вызывающе молоды, и из-за того, что превыше всего ставили
работы молодого Маркса.
Центральной идеей «московского младомарксизма» была
идея «свободно опредмечиваемых человеческих сущностных
сил». Временами она поднималась до поистине титанических
мечтаний или (у эстетиков) делалась романтически
неопределенной. Но, вспоминая беседы с Эвальдом Васильевичем, я с
удовлетворением должен заметить, что он понимал эту идею
более сдержанно и трезво, чем многие ильенковцы.
Под «человеческими сущностными силами» он разумел
просто культурно-значимые способности, а наилучшим обществом
считал такое, которое обеспечивает их выявление и развитие.
Отважусь утверждать, что в парольной формуле
коммунизма «от каждого по способностям, каждому по потребностям»
Ильенков всерьез принимал только первую половину. Или
так: трудиться сообразно способностям и именно таким трудом
зарабатывать свой хлеб — это и есть первая фундаментальная
потребность каждого человека. Если она удовлетворяется,
общество может считаться справедливым.
Уманская Т. А. Было ли это кабинетным построением или
как-то вытекало из жизненного опыта и личностного
своеобразия Эвальда Васильевича?
Соловьёв Э. Ю. Я думаю, есть основания считать
правильным второе. Человек послевоенного аскетического склада,
Ильенков был достаточно равнодушен к тому, что мы сегодня
именуем «стандартами потребления» (высокими или
средними). В окружающем мире его более всего саднила и
отвращала не бедность и скудость жизни, а издевательская
запущенность человеческих возможностей и задатков, характерная как
для капиталистического, так и для социалистического
жизнеустройства.
Более того, Ильенков верил (верил до конца дней), что
режим общественной (государственной) собственности имеет
преимущества перед капитализмом по критерию
подхватывания и культивирования людских дарований. Наивысшая
самореализация наибольшего числа людей — так (в перекличке с
известной формулой Бентама) можно было бы определить
программу, которую Эвальд надеялся задать социализму,
пребывавшему в состоянии реформистской неуверенности.
310 Беседа Т. А. Ума некой с Э. Ю. Соловьёвым
Что касается 70-х гг., то ключевым для Ильенкова можно
было бы, мне кажется, считать понятие «Bildung»
(образование). «Bildung» — один из смыслообразующих концептов
немецкой классической философии, антитетичный по
отношению к переводному, «заемному» «Aufklärung»
(просвещение). Если последнее имело в виду приобщение
невежественных, будь то правителей, будь то простолюдинов, к основам
уже добытого, «готового» знания, то первое, «Bildung»,
ставило во главу угла формирование человека для
самостоятельного творческого участия в науке и культуре. Истоком
немецкой концепции «Bildung» можно считать кантовское
рассуждение об «истинном просвещении», целью которого
является введение человека в состояние интеллектуального
совершеннолетия, под максимой sapere aude. Отношение
идеи образования к проектам «просветительства» может,
мне кажется, служить ключом для правильного понимания
фанатичной неприязни, которую Ильенков испытывал к
разного рода «позитивизмам».
В самом широком плане проект Ильенкова можно
трактовать так: безжалостности капиталистической конкуренции, с
одной стороны, казенному и дутому социалистическому
соревнованию, с другой, следует противопоставить предельно
широкий, свободный конкурс подхватываемых обществом
задатков, дарований и образовательных усилий. Если ввести сюда
еще и понятие призвания (profession), то мы получим идеал
состязательного «профессионализма», — в советское время
это слово, столь модное сегодня, еще отсутствовало в
официальном идеологическом словаре.
Все это опять-таки отвечало личному складу Эвальда
Васильевича. Будучи, что называется, философом от Бога, он
одновременно поражал задатками художника-рисовальщика,
мастера токарного дела, оратора и стилиста. Это была самая
ренессансная натура из всех, кого мне довелось повстречать в
жизни. Он был экзистенциально предрасположен к тому,
чтобы мечтать об обществе, где успех достается знатокам и
умельцам, и ненавидеть общества, развивающиеся за счет по-
губления человеческой талантливости и многосторонности.
Уманская Т. А. Эрих Юрьевич, я знаю о долголетних
дружеских отношениях, которые связывали Вас с М. К. Мамар-
дашвили. В «Философском ежегоднике 98» опубликована
Ваша статья «Экзистенциальная сотериология Мераба Ма-
мардашвили». Та же тема освещалась в Ваших выступлениях
и лекциях. Не могли бы Вы разъяснить ее основной смысл?
«Просторное слово авторитетов» 311
Соловьёв Э. Ю. Слово «сотериология» из теологического
лексикона. Оно имеет в виду теорию и практику душевного
спасения. Но мне представляется, что поздние работы
М. К. Мамардашвили именно об этом. Традиционная
экзистенциальная проблема — как человеку остаться самим
собой, или обрести самого себя, достигает у Мераба
наивысшего напряжения, превращается в вопрос, как не умереть уже
здесь, при жизни. Это заострение основной экзистенциальной
проблемы могло произойти лишь в обществе тотальной
духовной подвластности. Особый и чрезвычайно горький
российский опыт позволил Мамардашвили стать мыслителем,
оригинальным по западным меркам высокого философствования.
Решающую роль в спасении человека от прижизненной
смерти играют у Мамардашвили занятия философией и
серьезнейшая работа над философским наследием, похожая по
напряженности на работу теолога-экзегета над священными
текстами. На этом основывается «режим сознательной жизни»,
обеспечивающий противостояние «духовной энтропии», т. е.
разупорядочению и варваризации духовной культуры.
Уманская Т. А Эрих Юрьевич, уже больше десяти лет
наша философия совершенно свободна от каких-либо
идеологических обязательств, нет у нее никаких обязательств и перед
обществом: обвинение «дармоеды» при переходе на голодный
паек отпало само собой. Люди, причастные к философии,
получили возможность совершенно незаинтересованно думать о
предмете своих занятий. Что касается нефилософов, то многие
из них, как прихода мессии, ждали появления нового Платона
или Канта, не дождались и хотят знать, кто виноват. Как бы
Вы определили, чем на самом деле заняты сегодня люди с
философским дипломом?
Соловьёв Э. Ю. Для обозначения наших повседневных
профессиональных занятий более всего подходит выражение
«философоведение». Изобрел его не я, но считаю достаточно
точным. Полагаю, оно должно получить право на
существование аналогично искусствоведению, правоведению,
религиоведению... Философствование в строгом смысле слова —
редкое событие, свершением которого общество не заведует.
«Дух дышит, где хочет». И все-таки невозможно отрицать,
что философия нуждается в добротной «философоведческой
почве».
Основная задача философоведения — сохранение живой
силы уже накопленного философского наследия, такое его
упорядочение, аннотирование и систематизация, которые обеспе-
312 Беседа Т. А. Уманской с Э. Ю. Соловьёвым
чивают наилучшее вовлечение когда-либо существовавшей
философской мысли во все виды современной дискуссии: научной,
художественной, религиозной, политической и, наконец,
философской.
Уманская Т. А. Можно ли понимать сказанное Вами
следующим образом: если в обществе и возможен какой-то
особый питомник, в котором персональное философствование
чувствовало бы себя достаточно комфортно, то им как раз и
является сфера философоведческого знания?
Соловьёв Э. Ю. Именно так. Благодаря работе философо-
ведов философствование, скорее всего, может
конституироваться в качестве проблемно оформленного потребностного
состояния, получать сильные инновационные импульсы, а
также многообразное информационное обеспечение из
квалифицированных изданий, словарей, энциклопедий и т. д.
Но, пожалуй, еще более существенным является
следующее. Пространство философоведческого знания — это
крепость, в которой подлинное философствование находит
защиту от множества наступающих на него псевдофилософских
образований, всегда и непременно образующихся в культуре, а
также (что не менее важно) от опасности спонтанного
адаптивного вырождения в эти образования. Хранительная
функция философоведения по отношению к наследию находит свое
необходимое дополнение в функции «критико-верификацион-
ной». Критика идейных образований, которые претендуют на
статус философии, но не являются таковыми — его
неустранимая задача.
Марксистско-ленинская история философии в чудовищной,
перверсивной форме сформулировала одну верную вещь —
«борьба партий в философии» (не перед сном будет сказано).
Никакой перманентной борьбы двух партий внутри
философии, разумеется, нет. И все-таки на протяжении всей истории
идет вполне партийная (партийно-непримиримая) борьба
философии с псевдофилософией и контрфилософией. Драма еще
не описанная.
Со времен античности навеки задана оппозиция философии
и софистики, оппозиция Сократа и Протагора. «Человек есть
мера всех вещей» — это первородный грех и вечный соблазн
философствующих умов. Данную установку надо искать в
новых и новых обликах. Таких, как ренессансный титанизм,
Гольбах, Фейербах, Конт и т. д.
У философии два извечных противника: мифотворчество и
софистика, которые постоянно подают друг другу руку.
«Просторное слово авторитетов» 313
Уманская Т. А. Эрих Юрьевич, Вы затронули чрезвычайно
болезненную тему. Она касается и большого, и малого: и
культуры в целом, и издательско-журнального дела. Я говорю
о шквале графоманской писанины, обрушившемся на
общество, и, как результат — о потере ориентиров подлинного
философствования.
Соловьёв Э. Ю. Отмена предварительной пол ити
ко-идеологической цензуры — одна из главных примет
демократического общества. Однако отмена цензуры тут же сталкивает
общество с бедствием беллетристического беспредела.
Неудивительно поэтому, что во всех демократиях, которые
считаются цивилизованными, имеются достаточно мощные службы
цензуры post festum, или рецензуры. Широкая практика
рецензирования складывается стихийно, но со временем
оказывается особой институцией, которая поддерживается и в
каких-то формах финансируется государством. Эта поддержка
является демократической, если исключает запреты и
поощрения» касающиеся содержательных идейных тенденций (в
особенности социально-политических), и строится на
критериях профессионализма, квалификации и эрудированности.
Исходная задача рецензуры — выявление
профессиональной подлинности (неподлинности) всей культурной продукции,
экспертиза на фальшь, на шарлатанство и самозванство. Ре-
цензура решает, действительно ли является наукой все то, что
претендует на научность; философией — все то, что выдает
себя за философию, искусством — все то, что предъявляет
себя в качестве искусства, религией — все то, что хочет быть
религией. По характеру апелляции к обществу рецензионные
суждения можно сравнить с предостережениями органов
здравоохранения типа «Минздрав предупреждает».
Уманская Т. А. Не означает ли это, что философоведение
должно каким-то образом конкретно-содержательно
определять, что есть философия?
Соловьёв Э. Ю. В этом нет надобности. Достаточно ряда
негативных определений, запретов. Среди них утверждение
«философия — не наука» приобретает особый смысл и
особое значение.
Псевдофилософские идейные образования чрезвычайно
многообразны. И все-таки характерной приметой новейшего
времени (я имею в виду последние полтора столетия) надо
признать то, что основная масса псевдофилософий, весьма
различных по своей проблемной емкости и по степени
систематической разработанности, выступает под флагом «научной
314 Беседа Т. А. Уманской с Э. Ю. Соловьёвым
философии». На этот статус претендовали все великие
обманы XIX в., а именно: сен-симоновская теория индустриализма,
«позитивная наука» Огюста Конта, историософия позднего
Гегеля, антропотеизм Фейербаха, исторический материализм
Маркса и марксистов, эволюционная философия Спенсера и
выросшие на ее основе социал-дарвинистские доктрины.
Широкое распространение суррогатов «научной
философии» — явление ничуть не загадочное. Оно восходит к
пониманию философского знания, сложившемуся в эпоху
Просвещения (или, если воспользоваться ныне модной
терминологией, принадлежит к стандартам модерна). И Локк, и Лейбниц, и
Гольбах понимали под философией предельно широкое знание
о мире, которое обладает научной общеобязательностью,
понимается каждым так, как его понимают все, и усваивается
если не всеми просвещенными людьми, то, по крайней мере,
рассудительной властью. Где-то до эпохи Реставрации это
понимание философии не могло квалифицироваться в качестве
обмана и заблуждения: оно принадлежало к принудительным
объективным видимостям, выдерживало верификацию,
доступную для тогдашнего методологического развития
конкретных наук, и отвечало парадигме гувернемальной власти.
«Научная философия» в качестве стандарта модерна в
течение длительного времени не только подчиняет себе усилие
философствования, но также (и это, пожалуй, самое
существенное) определяет расхожий образ «подлинной философии». Им
может руководствоваться и слесарь из ЖЭКа, и
действительный член Академии наук: для обоих естественно думать, что
подлинный философ, во-первых, обладает атрибутом величия
и, во-вторых, оказывает общеобязующее воздействие на умы.
Он способен либо так же влиять на государственное
устроение, как это удалось Локку и Монтескье, либо так же
оплодотворять спонтанные политические движения, как это удалось
Руссо. Вспоминаются ли при этом имена Локка, Монтескье и
Руссо, значения не имеет. И слесарю, и академику
позволительно не иметь о них никакого представления.
Первый серьезный удар по стандарту модерна (по
концепции и идеалу «научной философии») был нанесен Кантом,
хотя систематически выражение «научная философия» нигде,
насколько мне известно, им не обсуждалось и не
оспаривалось. Где-то с середины XIX в. идеал этот выпадает из сферы
объективных видимостей. Возникают подозрения, что
«философия как наука» есть образование умышленное, которое
прежде удавалось, а теперь не удается. Симптомом этого пе-
«Просторное слово авторитетов» 315
реживания можно считать заявления об измельчании
философии, о ее умирании и кончине, которые впервые прозвучали в
30-х гг. XIX в. и в дальнейшем, в общем-то, уже не сходили с
публицистической сцены. Вместе с тем попытки построения
«научной философии» не только не прекращаются, но и
ведутся с невиданной прежде «упорной искусностью».
Просветительский стандарт становится пережитком, но, как всегда
бывает с идеалами-пережитками, отстаивается с применением
особо лукавых, софистических и спекулятивных,
оборонительно-агрессивных, интеллектуальных средств. На смену научной
философии, как ее понимало XVIII столетие, приходят
образования, достаточно точным общим наименованием которых
может служить термин «наукософия».
Уманская Т. А. А не ведет ли Ваше рассуждение к
опасностям антисциентистского толка?
Соловьёв Э. Ю. То, что философия не есть наука, не
означает, что она представляет собой способ мысли,
превосходящий науку, или отчужденный от науки, или враждебный
науке. Философия не должна противоречить науке ни в чем, что
принадлежит компетенции последней. На языке Канта это
можно выразить примерно так: философия не может не
выходить за пределы опыта и не задаваться проблемами, не
имеющими научных решений, однако в границах опыта она
обязуется не признавать истинными никакие решения, кроме
научных. Философия никогда (буквально и всерьез) не
позволит себе признать таких деклараций, как, скажем, «тем хуже
для фактов» или «это очередная пошлость рассудка,
неприемлемая для разума».
Поскольку наука и философия не находятся в
антагонистическом отношении друг к другу, нет никакой надобности
объединять их в некоем высшем синтезе. Этой когнитивной утопии
(наилучшим образом обслуживающей утопии социальные)
должна быть противопоставлена стратегия
взаимодополнительности, сотрудничества и союза.
Далее я хотел бы подчеркнуть следующее. Неверно думать,
будто критико-аналитическое науковедение зациклено на
образцах научности, которые дают логика, математика и
математическое естествознание; что оно ограничивается одним —
единственным вопросом: является ли подлинным (т. е. научно-
достоверным) знанием то, что выдает себя за знание. Это
давно уже не так.
Говоря языком Канта, сегодняшнее философоведение
призвано проверить каждую способность, участвующую в форми-
316 Беседа Т. А. Уманской с Э. Ю. Соловьёвым
ровании мировоззрений (т. е. знание, морально-практическое
суждение и веру), на ее собственную essentia. Это аналитика
эпистемологическая, деонтологическая и доксологическая.
Уманская Т. А Эрих Юрьевич, давайте от философоведе-
ния вернемся к самой философии. Вы говорили о ее
нынешнем состоянии. А каким, по Вашему мнению, будет
философствование в XXI в.?
Соловьёв Э. Ю. Я был бы шарлатаном, если бы попытался
нарисовать какой-либо цельный и исчерпывающий образ
философии будущего. Единственное, что я могу себе
позволить, — это говорить о феноменах, измерениях, тенденциях,
которые, как мне представляется, имеют будущее.
А. А. Гусейнов сказал мне как-то, что в моих работах я, по
строгому счету, ничего не утверждаю от своего имени, а все
передоверяю мыслителю, о котором пишу. И добавил, что не
знает, ставить мне это в упрек или в заслугу.
Еще лет десять назад я сам склонен был бы поставить себе
в упрек это прятанье за спину выбранных мною героев.
Сейчас, на старости лет, я скорее вижу в этом особый метод
философствования, который мне посчастливилось
культивировать, как бы непреднамеренно, в силу смирения с моим
советским подцензурным существованием. И даже больше — я
вижу в этом едва ли не самый адекватный способ
философствования.
Режим научного исследования — это стремление к
открытию, к установлению такого нового, которое отрицает и
«снимает» старое. Режим философствования — это мышление из
возможностей наследия. Решать какую-либо современную
проблему философски — значит выяснять, как решили бы ее
Платон, или Декарт, или Кант, или Гуссерль. Или некоторая
филиация, или даже свободно скомпонованное сообщество
великих мыслителей, находящихся в состоянии диалога или
беседы друг с другом. Человек ныне философствующий
устраняет себя перед философским наследием примерно в том же
смысле, в каком теолог-экзегет устраняет себя перед
величием священного текста. Разница, однако (феномен
философской свободы), состоит в том, что актуально
философствующий выбирает свой авторитет из известного набора
возможностей, которые содержатся в истории.
Философствование, о котором я говорю, предполагает
предельную исходную открытость по отношению к
«переживаемой жизни». Тот, кто им занят, не должен сперва выяснять:
будет ли философией то, что он собирается утверждать, и
«Просторное слово авторитетов» 317
лишь потом приниматься за дело. Или выразимся так: он не
должен сначала строить удовлетворяющую его философскую
систему, а затем применять ее «к тому и к этому, к пятому и
десятому». Он может откликаться на актуальную, наиболее
насущную для него проблему (бытовую, социальную,
политическую, литературно-художественную), сообразуясь лишь с
той особой компетентностью, которую эта проблема
предполагает. Но при этом он должен знать, что еще не заявил о себе
как философ, покуда через него не стали высказывать себя
философское наследие, философское Писание, философские
первотексты.
Как скоро это произойдет, зависит от того, насколько
усердно, любовно и творчески он прежде занимался
историко-философским ремеслом.
Не без гордости могу сказать о многих моих коллегах по фи-
лософоведческому цеху, что в последние два десятилетия они
отдали этому как никогда много сил. Наша работа напоминала
работу общества «Мемориал». Мы реабилитировали и
поместили в пантеон новых энциклопедий сотни прежде
ошельмованных или третировавшихся, или просто забытых
представителей высокой философской культуры. И, поверьте,
заботились при этом не просто о достойных ритуальных услугах, а
скорее о чем-то подобном федоровскому «воскрешающему
почтению к отцам». Изучение и интерпретация позволяли
забытому или «заниженному» мыслителю заново жить в новых
смысловых контекстах. С его наследием обращались с той
свободой, которую предполагают заинтересованность и
любовь и которая, как я все более убеждаюсь, значительно шире
той свободы, что допускает критико-идеологическая
исследовательская проверка прошлого на прогрессивность.
Я считаю, что историк философии, занятый
«реабилитацией», восстановлением истины, волен играть в такие игры, как,
например, написать за Беркли им самим не написанный текст
или сочинить ответ Канта на критику Гегеля и ответ Гегеля на
изложение его философии права молодым Марксом.
Уманская Т. А. Если я правильно поняла, Вы хотите
сказать, что в человеке философствующем исследовательской
открытости в отношении «переживаемой жизни»
соответствует «толковательная», герменевтическая свобода в
отношении наследия и что обе эти установки провоцируют и питают
друг друга?
Соловьёв Э. Ю. Да, если бы я писал учебник, я, пожалуй,
примерно так бы и выразился.
318 Беседа Т. А. Уманской с Э. Ю. Соловьёвым
Уманская Т. А. Но все это наводит на мысль о том, что
философствующий как бы отменяет себя самого и
пластически преображается в своего «философского любимца»:
начинает мыслить вместе с ним, за него, — в этом есть что-то
актерское.
Соловьёв Э. Ю. Да. Это род артистизма. Но в еще большей
степени — диалектика, заключенная в акте духовной
преемственности. Вот, что пишет по данному поводу В. В. Бибихин в
замечательной книге «Язык философии»: «Никто другой в
моем истолковании не может быть более значителен, чем я
сам. Мне только кажется, что я прибавляю вес себе,
привлекая авторитетов. В действительности я их выравниваю,
стаскиваю до себя, делаю их такими же, как я». И вместе с тем:
«Принимающий слово перестает быть интерпретатором и
становится голосом авторитета. [...] Человек может отдать свое
присутствие другому. «Не я живу, но живет во мне
Христос», — говорил апостол Павел (Гал. 2, 20) [...] Ученики и
последователи совсем не обязательно должны при этом что-то
развивать. Слово авторитетов очень просторно»*.
Прекрасно высказался Владимир Вениаминович.
Завидую ему.
Творческое движение в просторности авторитетного слова
может удовлетворять высокое честолюбие и сознание
собственного достоинства ничуть не хуже, чем восхождение по
лестнице развития, — чем научное, техническое или
архитектурное новаторство. Оно смиряет с пониманием того, что пора
великих систематических философских образований прошла.
Мне представляется уместным такое сравнение: любой
грамотный богослов знает, что эпоха пророков давно закончилась
и что всякий, кто назовет себя пророком после Евангелия,
есть лжепророк. Я не могу указать в истории философии
фигуру аналогичную Христу (может быть, Ницше?), но для меня
совершенно очевидно, что спрашивать у современности, где
твои Платоны, Канты и Гегели? — а тем более
философствовать под знаком этого вопроса — безграмотно и безвкусно.
Не может их быть в современности. И в будущем они едва ли
появятся.
Уманская Т. А. В таком случае, какую, собственно,
целостность Вы имеете в виду, когда говорите о великих философах
прошлого?
* Бибихин В. В. Язык философии. М., 2002. С. 103-104.
«Просторное слово авторитетов» 319
Соловьёв Э. Ю. Ясного ответа на этот вопрос я дать не
могу, но согласен с тем, что по этому поводу говорил Ясперс:
великими считаются те философы, которые в качестве
таковых уже удостоверены культурой. И, это достаточно надежное
определение.
Мне все время хочется проделать такой опыт: на
какой-нибудь крупной международной философской конференции
предложить всем собравшимся (представителям разных школ,
этносов, культурных регионов) составить списки из
пятидесяти самых значительных философов мира. Я ручаюсь, что
тридцать философов в этих списках обязательно совпадут. Ни
одно собрание, мало-мальски искушенное в философии, не
составит такого перечня первого десятка философов, в
котором отсутствовали бы Платон и Кант; и такой первой
двадцатки, где бы не было Аристотеля и Спинозы.
Как это получается? Ведь сменяли друг друга идеологии.
Сменялись философские авторитеты. Менялись мыслители
прошлого, которых пытались изгнать из памяти. И все равно
итоговый культурный консенсус существует и будет
существовать, и я могу исходить из этого как из очевидной культурной
данности.
Разумеется, этот культурный консенсус вовсе не диктует,
кого мне предпочесть, и в мою индивидуальную философскую
игру я могу включить кого угодно. Вообще наилучшие для
актуального философствования результаты могут достигаться,
на мой взгляд, за счет самых неожиданных композиций. Кому у
нас тридцать лет назад показалось бы нормальным сочетание
«Декарт и Кьеркегор»? А сделал же на эту тему один из
блестящих своих последних докладов А. Л. Доброхотов.
Уманская Т. А. А есть ли примеры будущего
философствования, которые встречаются уже сегодня?
Соловьёв Э. Ю. Я бы говорил скорее не о примерах, а о
провозвестиях. Таковым можно считать работу Питера Сло-
тердейка «Критика цинического разума». Автор берет
масштабное и, в общем-то, чудовищное явление современного
мира, а именно — цинизм, и на вопрос, как справиться с ним,
дает парадоксальный, но ясный ответ. Чтобы справиться с
цинизмом, надо вернуться к культуре кинизма в его точном
эллинистическом смысле. Материал наследия здесь вроде бы
небольшой (киническая философия почти не оставила текстов),
но Слотердейк умудряется так интерпретировать эти немногие
«артефакты», что читатель вдруг видит в кинизме, возможно,
самую сильную, самую энергичную в истории иронику. Сократ
320 Беседа Т. А. Уманской с Э. Ю. Соловьёвым
или романтики с их иронией выглядят несовершенными
фигурами в сравнении с киниками. Именно потому, что киники —
это радикальные ироники, в них нет ни грана современного
цинизма, и автор из киников осмысливает такие колоссальные
комплексы современности, как Веймарская республика, или
общество потребления, или мода, или тоталитаризм. Причем
Слотердейк не имеет никакого отношения к модному сегодня
постмодерну. Вообще говоря, все, что я в этой беседе
отстаиваю, антитетично постмодерну, потому что постмодерн — это
род философского авангарда, род учреждения философских
новшеств. Я согласен со Слотердейком в том, что никаких
новшеств в философском исследовании учреждаться не
должно. Философии следует работать по формуле, которую я
обозначил в названии одной из своих книг: «Прошлое толкует
нас». Книга Слотердейка — один из примеров работы по этой
формуле.
Уманская Т. А Вы знакомились с книгой Слотердейка на
немецком?
Соловьёв Э. Ю. Да. В первый раз на немецком. В 1989 г.,
когда она еще оставалась бестселлером. Но Вам, вероятно,
известно, что в 2002 г. в Екатеринбурге издан русский перевод
этой работы. На мой взгляд, хороший. Он подготовлен
группой энтузиастов во главе с деканом философского факультета
УрГУ В. Перцевым. Я пользуюсь случаем, чтобы через
журнал поздравить их с успехом...
Завершая тему, которую Вы мне задали, я хотел бы
обратить внимание еще на один ее аспект. До сих пор я
рассматривал философствование как импровизационную мобилизацию
наследия, востребованную насущной и актуальной
проблематикой. Соответственно, философия принимала вид занятия
активно публичного, обращенного к общественности в самом
широком значении этого термина.
Между тем я постоянно держу в уме, что философствование
(и при этом, возможно, как раз в самых высоких своих
формах) все-таки будет иметь одиночного и одинокого адресата.
Философия никогда не перестанет быть дисциплиной,
востребованной человеком, который с болезненной остротой
переживает свое уединенное бытие. Развивая этот тезис, я
отважусь на следующее рассуждение, в истоке своем вовсе не мне
принадлежащее.
В начале минувшего века Карл Ясперс попал на работу в
психиатрическую клинику Ниссля, где обретался в качестве
свободного наблюдателя. Если грубо и обобщенно сформули-
Н. Ф. Овчинников, И. В. Кузнецов, Б. М. Кедров и М. Э. Омельяновский.
Начало 60-х гг.
Л. И. Греков, И. Т. Фролов, В. С. Марков. Журнал «Вопросы философии».
Начало 70-х гг.
На веранде дачи. Сидят: А. А. Тахо-Годи, А. Ф. Лосев, М. Ф. Овсянников.
Стоят: В. В. Соколов, А. Г. Спиркин.
Ютдых», 1974. Фото М. А. Тахо-Годи
В. А. Лекторский, Л. Н. Митрохин. 1974 г.
Слева направо: Б. Г. Юдин, В. С. Стёпин, В. А. Лекторский, П. П. Гайденко.
1988 г.
Слева направо: В. Н. Кудрявцев, М. В. Баглай, Т. И. Ойзерман.
Начало 2000-х гг.
А. А. Гусейнов и В. С. Стёпин. XXI Всемирный философский конгресс.
Стамбул, август, 2003 г.
Слева направо: академик В. А. Садовничий, А. А. Зиновьев,
О. М. Зиновьева, академики Л. Н. Митрохин, В. А. Лекторский,
В. С. Стёпин, А. А. Гусейнов. МГУ, 2002 г.
«Просторное слово авторитетов» 321
ровать одно из важнейших его наблюдений, то оно
заключалось в следующем: среди душевнобольных есть особый род
людей, которых правильнее было бы назвать подверженными
не психо патии, а идео патии. Какой-то универсальный итог
идеопатии, универсальное выражение ее Ясперс увидел очень
ясно — это нигилизм. Многие, кого психолог отнес бы к числу
сложных невротиков, на самом деле просто стоят перед
опасностью нигилистического душевного распада. И вот для того,
чтобы лечить этих людей, нужен специалист, искушенный в
философии и способный к философствованию. В одной из
своих рецензий я выразился так: «Во всякой великой философии
Ясперс видит иммунную систему, предохраняющую известный
тип личности от нигилистического распада. Сам он пытается
найти такую форму философствования, которая могла бы
служить своего рода универсальным противоядием как в
отношении нигилизма, так и в отношении догматического
окостенения духа. Универсальность эта не означает, будто экзистенц-
философия нужна любым и всяким людям вообще. Нет, она
терапевтически необходима лишь тем, кому ведом ужас
нигилистической личностной дезориентации, и кто с суицидальной
остротой переживает вопрос: а стоит ли жизнь того, чтобы
быть прожитой? — известный вопрос Альбера Камю. Но
дело-то в том, что от подобной отчаянной ситуации не
застрахован никто. Любой и всякий может в ней оказаться». Поэтому
я полагаю, что, возможно, в XXI в. мы будем иметь
психоаналитиков особого типа, что это станет регулярным занятием
философов.
Соответственно, есть основание ожидать, что в будущем
значительно возрастет объем устного философствования.
Люди с философским дипломом будут осуществлять идеотера-
певтическую работу в лекциях, беседах, свободных
симпозиумах. Известное самоопределение Мераба Мамардашвили:
«Философия — это мышление вслух», — возможно,
окажется масштабным прорицанием. В мир вернется
изначально-философское амплуа Сократа — выдающегося мыслителя,
который ни одной книги не написал.
Уманская Т. А. Эрих Юрьевич, пока книги еще пишутся,
расскажите, пожалуйста, коротко, над чем Вы сейчас
работаете.
Соловьёв Э. Ю. Представьте себе, я тружусь сегодня, если
угодно, прямо по общественному заказу. Философская
общественность России, через Ваш журнал, объявила 2004 г. годом
Канта (12 февраля исполняется двести лет со дня его смерти).
322 Беседа Т. А. Уманской с Э. Ю. Соловьёвым
А мне как раз надо закончить работу над книгой о Канте.
Книга называется «Категорический императив нравственности и
права» и отвечает, мне кажется, некоторым признакам
«философствования из истории философии». Как и в других
публикациях последнего времени, я решительно отказываюсь в
ней от презумпции критики (тем более — критического
преодоления), довлевшей российскому кантоведению на
протяжении двух веков. Мне хочется рассказать о Канте недопонятом,
недолюбленном, осознававшем некоторые наши вопросы
адекватнее нас самих. На мой взгляд, это справедливо прежде
всего для проблематики философии права. Кант врывается в
XXI в. своим концептом «категорических принципов права»,
своей философской верой в идеальное первоначало правовой
нормативности, которое не может быть сведено ни к каким
социальным целесообразностям и как бы заповедано нам самим
Богом.
Хотелось бы также подготовить пару статей, посвященных
кантовской антропологии и этикотеологии (их невыявленному
единству).
Уманская Т. А. Вероятно, Канта можно почтить не только
новыми кантоведческими усилиями?
Соловьёв Э. Ю. Совершенно верно, и я даже надеюсь это
продемонстрировать. В «Новом мире» выходит моя статья,
посвященная вопросам криминологии и пенологии (теории
наказания). Местам заключения и карательной справедливости.
И вот, работая над этой тематикой, я увидел, сколь спонтанно
она адресуется к кантовским понятиям «заслуженного
счастья» и «радикального зла», к правилу «никогда не относись к
другому только как к средству». И конечно, акцентировал
данное обстоятельство.
Уманская Т. А. Письмо Иммануилу Канту из российских
мест заключения?
Соловьёв Э. Ю. Увы, не совсем так. Сожалею, что Вы
поздно делаете эту подсказку.
Уманская Т. А, А почему вдруг криминология и пенология?
Соловьёв Э. Ю. Должен признаться, когда-то в молодости я
мечтал написать философское сочинение, которое имело бы
право называться «Преступления и наказание».
Размышления на эту тему то и дело ворошились в каком-то чуланчике
сознания. Но прямым поводом к работе действительно
послужил вызов обстоятельств. Передача радиостанции «Свобода»
из цикла «Человек имеет право», острый спор на одном из
семинаров, проводившихся Новгородским университетом, ну, и
«Просторное слово авторитетов» 323
не в последнюю очередь — необходимость и возможность
приработка. Теперь я чувствую, что не скоро рассчитаюсь с
криминологической темой.
Уманская Т. А. Эрих Юрьевич, Вы когда-то были одним из
активных участников телевизионной передачи «Философские
беседы». В письмах, которые приходят в нашу редакцию, она
вспоминается довольно часто. Люди недоумевают, почему
сегодня ни на одном телеканале нет ничего подобного.
Соловьёв Э. Ю. Телепередача «Философские беседы» была
организована в 1988 г. по инициативе И. Т. Фролова. На мой
взгляд, поначалу она не была удачной. Мешало многолюдье и
забота об официальной представительности участников. Где-
то к началу 1991 г. была найдена оптимальная форма
«Бесед»: два участника диалога при третейском присутствии
ведущего. Но вскоре после этого передачу ликвидировали.
Я полагаю, что ее возрождение было бы благим делом и что
философская общественность должна за это бороться.
Уманская Г. А. Но не будет ли это просто «другой Гордон»?
Соловьёв Э. Ю. Думаю, что нет. В амплуа Гордона входит
то, что он не является специалистом ни в одной из
обсуждаемых в его присутствии тем. «Философские беседы» должны
бы допускать и предполагать профессиональную
компетентность ведущего и некоторые итоговые его вердикты. Кроме
того, в этой передаче предполагается известная группа (ядро)
регулярных участников, ответы на письма телезрителей,
эксклюзивные дискуссии, чего у Гордона нет.
Уманская Г. А. А можно ли надеяться на зрительский успех
философской телевизионной передачи?
Соловьёв Э. Ю. Уверен, что можно. Передача «Гордон», за
полночь выходящая в эфир, имеет высокий рейтинг, которого
никто не предвидел.
Уманская Т. А. Следует ли философам стремиться к
участию в социальных и политических ток-шоу типа «Культурная
революция»?
Соловьёв Э. Ю. Я бы предостерег их от этого. У ток-шоу
митинговый дискурс, и они отмеряют участникам время,
достаточное лишь для лаконичного и суггестивного
декларирования своей позиции. Философа это будет неизбежно загонять в
амплуа мудреца и пророка, которых он категорически не
должен себе позволять. Философствования нет там, где не
демонстрируется эффект преодоленного сомнения или сломленной
ложной уверенности. Последнее требует достаточно большого
непрерывного эфирного времени. Философ не говорит: «А
324 Беседа Т. А. Уманской с Э. Ю. Соловьёвым
есть В»; он тем или иным способом доказывает, что «хотя
А видится как С (и иным образом видеться не может), оно в
действительности есть В».
Уманская Т. А. Помнится, об этой структуре высказывания
не раз рассуждал философствующий филолог Г. Д. Гачев. Он
иллюстрировал ее известной строкой Лермонтова: «Нет, я не
Байрон, я другой, еще неведомый изгнанник».
Соловьёв Э. Ю. По-видимому, так оно и есть. Однажды мы
с Гачевым пилили березу, и он в удручении сказал: «Нет,
брат, это тебе не сосна, а береза!»
Уманская Т. А. Последний вопрос, который мне хотелось
бы Вам задать. Вы наблюдаете жизнь наших ведущих
философских учреждений уже почти полвека. Какие периоды
вспоминаются Вам как наиболее отрадные?
Соловьёв Э. Ю. Ну, первый такой период — время
хрущевской «оттепели». Для меня она нерасторжимо связана с
журналом «Вопросы философии», с поразительным людским
сообществом, которое в ту пору в нем образовалось.
Второй период, пусть это многим покажется
удивительным, — последние пятнадцать лет. Это время расцвета
Института философии, который живет в обстановке делового
согласия и выдает как никогда обширную и многообразную
творческую продукцию.
Ни в коем случае не хвалить начальство — неписаная
заповедь русской интеллигенции. Она чуралась этого пуще
богохульства. Сегодня я попираю эту традицию и говорю:
нынешний Институт философии имеет дирекцию, за всю его
историю самую компетентную, самую интеллигентную и
демократичную.
Возвращаясь к теме Ильенкова, я позволю себе выразиться
так: сотрудники родного для него института впервые живут в
условиях свободного и честного конкурса дарований и усердий.
Поощрения скромны (пожалуй, даже скудны), и все-таки в
масштабах одного, отдельно взятого научного учреждения
соблюдается справедливость, подразумеваемая формулой «от
каждого по способностям». Справедливость выживания и
самореализации.
IL Воспоминания
В. В. Соколов
Некоторые эпизоды предвоенной
и послевоенной философской жизни
(из воспоминаний)*
/{ поступил на исторический факультет Московского
института истории, философии и литературы в
сентябре 1936 г. Увлеченный историей, выбрал истфак
сознательно, а философия представлялась чем-то
туманно-неопределенным. Впрочем, при поступлении
выяснилось для тех, кто туда стремился, что на
философский факультет приема нет (как не было его и в
следующем 1937 г.). Настроение было
оптимистическим, что выражало не только стремление юнца к
освоению любимой науки, но и общую атмосферу в
стране, как она представлялась активному читателю
газет, многостраничных публикаций отчетов съездов,
пленумов, различных политических документов.
Действительная ситуация в «верхах» была, конечно,
неизвестна, но, вспоминая эти годы, следует сказать,
что жестоко-репрессивный поворот в политической
жизни отнюдь не сразу последовал после убийства
Кирова. Массовая политическая жизнь в 1936 г. в
особенности определялась, как помню, активнейшим
массовым обсуждением проекта новой конституции,
«самой демократической» за всю историю
человечества, когда были выдвинуты едва ли не сотни
поправок в нее. Она действительно выражала важные
демократические принципы, а в ее разработке принимали
* Вопросы философии. 2001. № 1. С. 69-82.
326 В. В. Соколов
активное участие Бухарин, Радек (что стало известно позже)
и другие наивно-искренние марксисты. Да и сам Сталин в
беседе с иностранным интервьюером на его вопрос, как же
возможно соревнование кандидатов в депутаты Верховного
Совета при наличии только одной партии, отвечал, что
кандидатов будут выставлять многие заводские и другие коллективы,
между которыми развернется такая борьба, которая и не
снится при буржуазной псевдодемократии. Однако, когда в
1937 г. на первых выборах по принятой «Сталинской
Конституции» выяснилось, что коллективы выдвигают
кандидатов, уже утвержденных в ЦК (плюс некоторых членов и
кандидатов в члены Политбюро), такая «демократия» стала
огромным ударом политического цинизма по наивному
сознанию юных марксистов, какими оставалось
подавляющее большинство студентов, вчерашних «десятилетчиков».
Оценить же зловещую роль второго процесса Зиновьева —
Каменева в августе 1936 г. с расстрельными приговорами
(напомню, что их первый «суд» в 1935 г. вынес
«либеральные приговоры» на пять—десять лет) я, как и многие другие,
еще не мог. Между тем этот второй процесс начинал уже
фанатично-кровавую «ежовщину» 1937 г.
Но при всей моей сокрушенности этими событиями я как
бы оставался от них в стороне. Я с увлечением осваивал
историю античности (которой в школьных программах не было
совсем) и России на первом курсе. Средневековье — на
втором, Новое время — на третьем. Эффективность обучения
была во многом, если не в главном, результатом лекций и
семинаров профессорско-преподавательского корпуса. А он
состоял из специалистов, окончивших гимназии (а некоторые
и университеты) еще в дореволюционные времена —
академик Ю. В. Готье, профессора В. С. Сергеев, В. И. Авдиев,
Н. А. Кун, Н. А. Машкин, Е. А. Косминский, В. К.
Никольский, С. Д. Сказкин, А. И. Неусыхин, Б. Ф. Поршнев и
другие. На третьем курсе я избрал своей специализацией
историю средневековья, однако тогда же понял, что меня сильно
увлекает интерес к общим, тотальным проблемам истории, а
более широко — и к вопросам философии вообще.
На историческом факультете они удовлетворялись лишь
частично. На первом курсе читался — популярно и
остроумно — доцентом Д. А. Кутасовым курс диамата-истмата.
Помню одну из настойчивых политических идей его курса,
выражавшую соответствующую инструкцию «верхов». Уже Ленин
встал перед в сущности неразрешимой проблемой: как должно
Эпизоды предвоенной и послевоенной философской жизни... 327
произойти «отмирание государства», которое было
провозглашено Марксом и особенно Энгельсом, — после
«социалистической революции», теперь объявленной самим Лениным.
К 1936 г. Сталин ее «решил» — государство «диктатуры
пролетариата» означает его усиление. Отсюда лектор выводил
«диалектику» — отмирание государства должно произойти в
результате его максимального усиления. На третьем же курсе
состоялось новое «погружение» в философию в связи с
освоением пресловутого второго параграфа четвертой главы
опубликованного в 1938 г. «Краткого курса истории ВКП(б)».
У нас почему-то нередко высказываются сомнения в
сталинском авторстве этого очерка (об этом авторстве было
заявлено сразу после выхода очерка). Если же такое авторство
несомненно, то по кем-то сочиненной легенде оно стало
возможным в результате того, что великого вождя обучал
диалектике Я. Стэн (например, «в 1925 г. [Стэн] был приглашен
Сталиным для руководства его занятиями гегелевской
диалектикой»*). Мне случайно стал известен характер отношений
между Стэном и Сталиным. В 1956 г. вдова первого,
вернувшись после восемнадцатилетнего пребывания в лагере,
зашла на кафедру к В. Ф. Асмусу, с которым они были близки в
30-е гг., и попросила его совета относительно статьи
«Философия», написанной Стэном, но опубликованной М. Б. Мити-
ным в одном из томов БСЭ под своим именем. Я познакомился
с ней, и по дороге в редакцию «Вопросы философии» она
немало рассказала об отношениях Стэна к Сталину. В это
семейство смелый и прямолинейный философ был
действительно вхож, но лишь в качестве приятеля Н. Я. Аллилуевой,
жены вождя. Бывал свидетелем напряженных отношений
между супругами («Надя, подай спички» — «Видишь, Ян, делает
доклады о политической роли женщины, а дома такой»). С
самим же вождем Стэн вступал в яростные споры, нередко
заявляя ему: «Ты эмпирик, Коба». Прямолинейный политик, Стэн
говаривал жене (с уверенностью можно сказать, что не только
ей): «Эта рябая сука устроит нам и процесс Дрейфуса, и дело
Бейлиса». Сам же он был расстрелян в 1937 г. без всякого
публичного процесса.
Для написания сталинского «шедевра» не было никакой
необходимости погружаться в гегелевскую диалектику. Доста-
* Алексеев П. В. Философы России XIX—XX столетий. Изд. 3-е. М.,
1999. С. 772.
328 В. В. Соколов
точно тех многих цитат из предшествующих «классиков»,
которые там обильно представлены. К тому же тот, кто знаком с
произведением молодого Сталина «Анархизм или
социализм?», найдет немало перекличек с ним. Возможно, между
прочим, что в тифлисской православной семинарии (откуда он
был исключен в двадцать лет) Джугашвили познакомился с
древнегреческим. Как известно, слово «диалектика» он
производит от глагола «диалего». Наш преподаватель латинского
языка Александр Николаевич Попов вскоре после выхода
«Краткого курса» рассказал мне, что был звонок из ЦК, и
строгий голос какого-то функционера спросил его: «Есть ли в
древнегреческом глагол «диалего» в том смысле, в каком он
употребляется товарищем Сталиным?». А. Н. ответил: «В
таком смысле имеется только глагол «диалегомай» (возвратный
смысл)». «Вы со всей ответственностью утверждаете
это?» — спросил функционер. «Слава Богу, я преподаю
древнегреческий уже сорок лет», — ответил А. Н. Но в
последующих изданиях так и осталось «диалего». По-видимому,
государственный автор заявил себе, как тот средневековый
император, который, будучи поправлен в неточностях его латыни,
заявил: «А я стою выше грамматиков».
Автор этих воспоминаний, однако, далек от пренебрежения
к сталинскому произведению. В действительности — и здесь я
согласен с А. А. Зиновьевым — оно представляет собой
мастерскую трансформацию марксистской философии в
идеологию, рассчитанную на массовое потребление. В отличие от
Ленина, метавшегося в своих философских потугах между
французскими материалистами-сенсуалистами (иногда и
позитивистами) и Гегелем, Сталин обладал более четким
организационно-систематическим умом. В этом контексте стало
более эффективным и введенное им переименование «законов»
в «черты». В условиях более простой
социально-политической послереволюционной ситуации он создал, как писали
некоторые зарубежные критики, ту Вульгату марксизма, которая
стала мировоззренческой пищей сначала на просторах СССР,
а затем и всего «социалистического лагеря».
Для меня же, заряженного историей и выстраивающего в
ее осмыслении какие-то парадигмы, такой пищи было уже
совершенно недостаточно. Я твердо решил переходить на
философский факультет, куда был снова открыт прием в
1938 г. (и куда перешли тогда семь студентов истфака —
А. Арзаканян, П. Егидес, Ю. Карпов и др.). Меня же,
окончившего уже три курса истфака, директор МИФЛИ
Эпизоды предвоенной и послевоенной философской жизни... 329
А. С. Карпова справедливо не переводила — слишком
велика была задолженность по учебному плану нового для
меня факультета. Но я продолжал «обивать пороги» и все
чаще посещал философский этаж. В частности, я
присутствовал (хотя и не полностью) на защите докторской
диссертации Г.Ф.Александровым в мае 1939 г. Именно она
открыла «диссертационную эпоху» докторских защит по
философии (а не защита В. Ф. Асмусом диссертации по «эстетике
классической Греции» в январе 1940 г. в Институте
философии, как утверждается Г. С. Батыгиным и И. Ф. Девятко
в книге «Философия не кончается...» Кн. 1. М., 1998.
С. 177). Диссертация Александрова была посвящена
философии Аристотеля в целом (деревянно-догматическое,
обильно оцитаченное «классиками», ее содержание было
опубликовано в монографии «Аристотель» в 1940 г.) Из
оппонентов помню только М. А. Дынника (я опоздал на
защиту) и импульсивную, хотя в принципе справедливую критику
оппонента Д. Ю. Квитко: диссертационно исследовать
философию Аристотеля в целом невозможно, следовало бы
взять какой-то ее аспект (характерно, что основной фило-
соф-античник МИФЛИ Б. С. Чернышев на защите
отсутствовал). Председатель совета Б. М. Волин (зав. кафедрой
истории ВКП(б), старый большевик) «разъяснил», что
диссертант вполне обоснованно защищает диссертацию по всей
философии Аристотеля. Успешность защиты была
предопределена положением автора — работника ЦК (и
Коминтерна). Через несколько дней в «Правде» появилась и
заметка, информировавшая, как бывшие беспризорники
вырастают в нашей исключительной жизни в докторов наук.
После защиты Г. Ф. Александров совсем покинул МИФЛИ,
передав возглавлявшуюся им кафедру истории философии
Б. С. Чернышеву, принятому в партию.
Благодаря тогдашнему декану философского факультета
доценту Ф. И. Хасхачиху я все же был переведен на его
первый курс. Мне предстояло сдать многие предметы, которых,
конечно, не было на истфаке — математику, физику, химию,
биологию, физиологию органов чувств. Логики не было
совсем. Обильно был представлен диамат-истмат, читавшийся
А. П. Гагариным, добрейшим человеком, но предметом
множества студенческих анекдотов, характеризовавших его
лекции, Ф. И. Хасхачихом и другими преподавателями.
Значительное место уделялось истории философии. На старших
курсах, как рассказывали выпускники, которые к тому време-
330 В. В. Соколов
ни уже окончили МИФЛИ (Т. И. Ойзерман, 3. В. Смирнова,
И. Я. Щипанов, 3. А. Каменский, Н. Г. Тараканов и др.),
античную философию читал М. А. Дынник. Вступивший в
Киевском университете в 1918 г. в партию левых эсеров, этот
беспартийный профессор должен был проявлять чудеса классово-
партийной ориентации — Сократа он изображал врагом
народа (афинского), а Платона — канальей (по характеристике
Б. С. Чернышева). Философию Нового времени великолепно
читал Б. Э. Быховский (но в штате МИФЛИ он не состоял).
У нас же как лекции, так и семинары по античной философии
вел Б. С. Чернышев. Окончивший первую московскую
гимназию и университет, он филологически был весьма образован, а
главное, любил философию ради нее самой. Лекции он читал
увлеченно до самозабвения. В семинарах делал упор на
интерпретации текстов философов. Был весьма доступен, всегда
шел навстречу тому, кто действительно углублялся в
философию. Лекции по новой философии читал Д. Ю. Квитко,
большого впечатления в отношении четкости и глубины они не
производили. Огромное место в семинарских проработках
занимал Гегель — главный философский источник для Маркса
и Энгельса, а потом и для Ленина. У меня сохранились
подробнейшие конспекты «Логики»; давно и с грустью листая их,
думаю о потерянном времени. Поскольку многие предметы,
сданные мною на истфаке, были зачтены, я смог заниматься
сразу и на первом курсе (П. Копнин, И. Нарский, Д. Горский,
А. Ковальчук, Ф. Кессиди и др.), и на втором (С. Микулин-
ский, В. Келле, А. Гулыга, В. Карпушин, М. Алексеев и
другие, включая семерых, перешедших на факультет за год до
меня). В общем я успешно продвигался по всем предметам и
был переведен на третий курс, обучавшийся в 1940—41
учебном году. Однако в сентябре 1940 г. меня постигла большая
катастрофа. Чтобы оценить ее в духовно-идеологическом
плане тех лет, я должен сделать здесь автобиографическую
ретроспекцию.
Две первостепенных особенности советской жизни тех лет,
неразрывно связанные с марксистско-ленинской идеологией,
не всегда должным образом оцениваются теперь при ее
различных трактовках. Между тем они были весьма значимы
именно для молодежи. Первая из таких особенностей —
жесткий и неукоснительный учет социального происхождения,
всегда отражавшийся в анкетах. Вторая же, прямо
относящаяся к молодежи и для многих смягчавшая первое
обстоятельство: факт рождения после Октября 1917 г. служил из-
Эпизоды предвоенной и послевоенной философской жизни... 331
вестной индульгенцией при тех или иных прегрешениях,
поскольку в воспитании молодежи определяющим считался
социальный фактор. Мне повезло в обоих планах. Сын
крестьянки (потом колхозницы) и деревенского кузнеца
(переехавшего в 1926 г. в Москву и ставшего рабочим), социально
я был неуязвим. Окончив начальную сельскую школу и не
имея возможности учиться дальше, я был переброшен
родителями в Москву в переполненную комнату подвальной
квартиры к дяде (по матери), затем к тетям (по отцу), к двоюродному
брату — так и закончил десятилетку в одной и той же школе.
Деревенский мальчик, смешно говоривший в пятом классе, я,
однако, не отставал в учебе, и в следующих классах стал одним
из первых учеников. Однако невоспитанный и задиристый, я
нередко вступал в споры с учителями. В особенности по моей
любимой истории. Пристрастившийся к ней еще в деревне по
присланной отцом из Москвы известной книге А. Ишимовой
(высоко оцененной Пушкиным в его преддуэльном письме
автору),, излагавшей для детей «Историю» Н. М. Карамзина, я
где-то в седьмом классе дерзко взбунтовался против изучения
истории по книге М. Н. Покровского «Русская история в
самом сжатом очерке», дававшей вульгарно-экономическую ее
трактовку. Она, конечно, совершенно не подходила к роли
учебного пособия для школьников, но была предписана как
сугубо марксистская. Сам автор, старый большевик, близкий
Ленину, академик, недавно умерший (1932), оставался
непререкаемым авторитетом (достаточно напомнить, что в 1932—
1939 гг. Московский госуниверситет носил его имя, пока в
последнем году ему не было тихо присвоено имя М. В.
Ломоносова). Именно Покровский выдал «тайну»
советско-ленинской историографии: «история есть политика, опрокинутая в
прошлое». И вот здесь опять выступает неоднозначность
Сталина и возглавляемого им Политбюро. В 1934 г. были
опубликованы «Замечания» Сталина—Кирова—Жданова на какое-то
сочинение по истории. Весьма важно в них было то, что
осуждалась вульгарно-экономическая схематика истории и
предлагалось восстановить преподавание «гражданской истории» в
школе, чего в них не было со времен революции.
В дальнейшем же, уже в мои студенческие времена, в
специальных книгах была подвергнута систематической критике
«антиисторическая концепция» Покровского и его школы.
В сущности, это означало самокритику большевизма,
которая внесла немаловажные поправки в
марксистско-ленинскую идеологию.
332 В. В. Соколов
Но моя наивная эскапада состоялась до этого
постановления. Учительница истории М. И. Наврот расценила ее как
рецидив «монархических идей», за шиворот потащила меня к
директору. Добрый и мудрый выдвиженец из рабочих Алексей
Максимович спустил все на тормозах.
В эти времена яростной борьбы с «левым», затем с
«правым» и другими «уклонами» советская школа была весьма
политизирована. Неловкие политические высказывания
подростков сразу приводили к настороженной реакции
учителей. Помню, как мой сошкольник, а потом и согруппник
Павел Коган где-то в восьмом классе был вынужден каяться,
что он в чем-то переоценивал Троцкого. Он был уже весьма
активным поэтом, но одно из его стихотворений было
расценено как политически неправильное, если не вредное. Не
раз вызывали в школу его отца, видного советского
чиновника. Но все же в девятом классе Коган был исключен из
нашей школы.
Я тоже развивался политически «неправильно». Активный
сторонник колхозной перестройки деревни, убедивший мать
поскорей войти в колхоз (в чем она упрекала меня до самой
смерти в 1937 г.), я постепенно с удивлением стал
наблюдать, как неохотно шли туда мужики, как все больше стали
они разбегаться оттуда в города, на всякие стройки и т. д.
Множились антиколхозные и даже — страшно вспомнить —
антисоветские частушки и пословицы. Бывали и трагические
события. Мой близкий друг Иван Воронин (на пару лет
старше меня) оказался сыном отца, имевшего когда-то мельницу,
совсем теперь не богатого, но раскулаченного. Иван
просился в колхоз, упирая на то, что он воспитан советским строем,
а отнюдь не отцом, но все равно ему отказали. Вынужденный
скитаться с семейством отца по каким-то стройкам,
«натуральный парень», как его характеризовали в селе, не
выдержав всех унижений, в пятнадцать лет бросился под поезд и
был раздавлен. Было это в 1932 г. еще до (или накануне?)
сталинской «амнистии»: сын за отца не отвечает! Но и об
этих словах скоро забыли.
Все эти события, по-видимому, и толкнули меня «не в ту
сторону»: я увлекся Н. И. Бухариным. Активный читатель
газет, журналов и даже стенографических отчетов съездов, по
существу я мало что о нем знал (никогда его не видел, ибо на
трибунах он уже давно не стоял). Тогда я даже не подозревал о
его «Историческом материализме», но знал, как он активно и
красноречиво громил троцкистов и зиновьевцев (при полной
Эпизоды предвоенной и послевоенной философской жизни... 333
поддержке Сталина). По-видимому, как-то бессознательно
ощущал и его «другую линию». Доходили и какие-то иные
сведения (скорее слухи) о Бухарине. Я начал довольно активно
пропагандировать его среди соклассников. Это, конечно,
встревожило учителей, увидевших в моем поведении какие-то
«мелкобуржуазные влияния». Вызывать было некого (я жил
тогда у тети, сестры отца, погибшего еще зимой 1931 г.).
Меня прорабатывали соклассники под руководством комсорга
школы (назначенного райкомом). В комсомол не приняли, как
«несозревшего». Однако выдали мне аттестат «отличника»,
дававший право поступать в вуз без экзамена. Так я и
оказался в МИФЛИ.
Здесь на истфаке меня стали прорабатывать уже на первом
курсе. Например, за то, что на каком-то курсовом собрании я
высказался о том, что изучать политэкономию по «Капиталу»
(как категорически предписывалось) очень трудно (в
дальнейшем изучение политэкономии было перенесено на второй
курс, а «Капитал» в лучшем случае осваивали по
комментариям к нему Д. Розенберга). Такая «диверсия» и какие-то еще
неудачные мои высказывания привели к появлению в
факультетской стенгазете разоблачительной статьи «Вася». Ее
автором был великовозрастный студент-партиец М. Шалашников,
который, как выяснилось много лет позже, дрожал, что его
привлекут по делу «врага народа» Лакобы, первого секретаря
Абхазии, которую Шалашников спешно покинул, поступив на
истфак МИФЛИ. В послевоенные годы причины моей
проработки мне раскрыла бывшая преподавательница литературы в
нашем классе (и одновременно аспирантка МИФЛИ) Любовь
Петровна Жак. Оказывается, вдогонку мне в МИФЛИ из
школы поступило заявление о моих бухаринских симпатиях и
склонностях. Меня вызвали в партком, и какой-то его член
стал меня расспрашивать об этом. Я наивно и чистосердечно
рассказал ему, что такие настроения у меня есть, но я их
успешно преодолеваю. Явно неплохой человек, он иронически
сказал мне: «Ну что с тебя взять, ты даже не комсомолец.
Изживай свои взгляды, и главное, не распространяйся о них».
Увлеченный историей, я и «не распространялся», но суд над
«право-троцкистским блоком» (Бухарин, Рыков и др.) в марте
1938 г. переживал очень тяжело.
Но во второй половине этого года сталинский ЦК
осуществил новый поворот. Дело в том, что в «ежовые рукавицы»
попало множество молодежи и немало комсомольцев. Теперь же
выяснилось, что важнейшая задача комсомола — воспитание
334 В. В. Соколов
молодежи как младшего помощника и резерва партии. В
новой ситуации в комсомол приняли и меня.
Но политика, которая в условиях тоталитаризма отличается
повышенным, если не максимальным, цинизмом — явно
отрицательный фактор воспитания молодежи. Советская печать
многие годы была переполнена резко отрицательной и
разоблачительной критикой фашистской Германии. И вдруг мы
узнаем, что к нам прибыл Риббентроп, и с Германией заключен
договор о ненападении. Критика в адрес Германии смолкла.
В октябре же 1939-го — договор о дружбе с Германией, речь
Молотова на сессии Верховного Совета: Польша насквозь
прогнила, Европе нужна сильная Германия, подлинные
агрессоры — Англия и Франция, объявившие ей войну, и т. п.
Я оказался политически неустойчив и в своем дневнике,
который я вел со школьных лет, не мог преодолеть своего
отвращения к фашистской Германии, назвал речь Молотова
насквозь софистической, усомнился в мудрости руководства,
поставив два последних слова в кавычки. Весь 1939—40 учебный
год я интенсивно занимался на философском факультете, был
активным агитатором на избирательном участке. В начале
сентября 1940 г. нас перевели из общежития на Усачевке в
общежитие на Стромынке. В конце того же месяца меня
пригласили в вузовский комитет комсомола. Я не ведал зачем.
Заседание вел его секретарь С. Микулинский, член партии
(в МИФЛИ поступил уже кандидатом), активнейший
комсомольский работник, не отличавшийся тогда страстью к учебе.
От парткома присутствовал А. Шелепин (мой сокурсник по
истфаку). Стали выявлять мою позицию по внутренней и в
особенности по международной ситуации. Я недоумевал, но
отвечал вполне правильно, ортодоксально. Прошло минут
двадцать, и Микулинский сказал: «Может быть, перестанем с
ним играться?» и тут же нанес мне удар в солнечное
сплетение: «А вот что ты писал в дневнике?» Я тут же вспомнил, что
забыл свой дневник на Усачевке (много позже я узнал, что
один из моих «доброжелателей» с истфака сдал мой дневник в
комитет комсомола). Я вспомнил, что там написано,
растерялся и стал что-то жалко лепетать о своих переживаниях в связи
с разгромом Франции, что-то еще. Началась политическая
экзекуция. Члены комитета и Шелепин, не зачитывая дневника,
чтобы «не давать трибуны» жалкому отщепенцу, усиленно
оттачивали на мне свое партийно-комсомольское оружие.
Приняли резолюцию: «За двурушничество и осуждение последних
решений партии в области внешней политики исключить из
Эпизоды предвоенной и послевоенной философской жизни... 335
рядов ВЛКСМ». Через некоторое время это решение было
утверждено на комсомольском собрании философского
факультета, где тоже, «не давая трибуны» моему дневнику,
некоторые студенты понесли мое подлое приспособленчество.
В стенгазете появилась статья «Вон из комсомола!». Мое
состояние определялось не столько даже самим фактом
исключения из комсомола, сколько справедливостью того факта, что
я действительно двурушник: одно думал, а другое говорил.
Но предстояло еще утверждение этого решения на райкоме.
Здесь стали выявляться в мою пользу положительные
факторы: прежде всего мое безупречное социальное
происхождение, к тому же я был сильным студентом. Главное же — это
обновленная линия партии: комсомол должен прежде всего
воспитывать. Ко мне была прикреплена работница райкома,
с которой у меня было множество собеседований. Прошло
уже несколько месяцев, я сам поверил, что вполне
«очистился», и стал с надеждой смотреть на предстоящее рассмотрение
моего дела в МГК ВЛКСМ. Оно состоялось только где-то в
самом начале апреля 1941 г. Но никакого обсуждения не
было. Первый секретарь, взглянув в мой дневник, сказал:
«Так у тебя нутро гнилое», и отобрал у меня комсомольский
билет. Мне предстояло исключение из института (хотя я
рассчитывал на обратный перевод на «беспартийный» истфак).
Однако не успели мы сдать последнюю сессию, как
разразилось 22 июня 1941 г., огромный взрыв патриотизма. И вот я
вместе с десятками других студентов ИФЛИ побежал в
военкомат и записался добровольцем. Призвали нас где-то в конце
июля, направив в 139-й запасный зенитный полк.
Большинство его курсантов стали зенитчиками. Но когда произошел
трагический прорыв немцев на подступы к Москве, десятеро из
нас оказались командующими орудий в 694-м истребительном
противотанковом полку. После нескольких дней новой
подготовки — бросание противотанковых гранат, бутылок с
зажигательной смесью — в середине октября мы были уже под
Волоколамском. Только здесь для нас стали выявляться
огромные масштабы поражения наших войск — от множества
усталых и изможденных солдат и командиров, вырывавшихся
и выходивших из вяземского «котла». Здесь во втором
эшелоне орудия нашей батареи сначала выполняли свое основное
зенитное назначение, что послужило определенной
тренировкой. Тяжелый бой с танками и автоматчиками произошел 17
ноября 1941 г. в начале немецкой операции «Тайфун». Он не
раз был описан в журнальной и газетной печати. Мы оказали
336 В. В. Соколов
довольно упорное сопротивление, хотя три орудия были
разбиты (мое удалось увезти в лес). Потеряли нескольких
человек, мне же вместе с комиссаром полка и небольшой группой
(в том числе будущим Героем Советского Союза, тяжело
раненным ифлийцем Е. Дыскиным) удалось уйти в лес. Зимой
полк был переформирован в Подмосковье и оснащен
76-миллиметровыми противотанковыми орудиями. Летом 1942 г. мы
били по танкам уже на Воронежском фронте. В Подмосковье
и на Воронежском фронте я был представлен к наградам.
В одном из минометных налетов я был тяжело ранен в бедро.
Несколько месяцев пролежал в госпитале, а к началу 1943 г.
прибыл в Москву.
Я вернулся на философский факультет (теперь уже МГУ,
одна часть которого находилась в Свердловске). Здесь
занимался небольшой четвертый курс, состоявший из не
эвакуированных и не призванных в армию ифлийцев (М. Туровский,
А. Петрашик, П. Копнин, А. Гарева, С. Липкин, А. Казачен-
ков, А. Романов и др.). Меня определили на пятый курс (зачтя
ряд предметов за истфак), и в июне я сдал пять госэкзаменов
(дипломных работ тогда не было) и тем самым закончил
философский факультет МГУ (Н. Сенин и О. Яхот, прибывшие
раньше меня, закончили его в январе 1943 г.). Весной того же
года я получил свои награды — орден «Красного Знамени» и
медаль «За отвагу». Я подал заявление в МГК ВЛКСМ о
восстановлении в комсомоле, но дело почему-то рассматривалось
в ЦК ВЛКСМ, где меня быстро восстановили с непрерывным
стажем. Один из членов комиссии даже сказал, что я был прав
в своем дневнике, но, политически тогда уже весьма зрелый, я
заявил, что не понимал тогда, насколько договор с Германией
оттянул ее нападение на нас (слава Богу, архив МГК ВЛКСМ,
где оставался и мой дневник, был в какой-то далекой
эвакуации). После этого я вступил в ВКП(б).
В сентябре 1943 г. я стал аспирантом философского
факультета по кафедре истории философии, которой заведовал
Б. С. Чернышев, ставший моим научным руководителем.
Новыми профессорами факультета для меня стали 3. Я.
Белецкий, Г. М. Гак, В. Ф. Асмус (с которым я познакомился
раньше во время двух его эпизодических лекций по логике в
МИФЛИ). Здесь же работали А. Ф. Лосев и П. С. Попов. Как
мне стало известно позже, они, скомпрометированные в
прошлом в идеологическо-философском плане, были в
сложившейся в условиях Отечественной войны некоторой
патриотической «оттепели» приглашены на философский факультет по
Эпизоды предвоенной и послевоенной философской жизни... 337
указанию Г. Ф. Александрова (это указание было реализовано
Н. Г. Таракановым, работавшим в управлении пропаганды
ЦК. Он мне говорил, что начальник управления Г. Ф.
Александров при этом ни с кем не советовался). Павел Сергеевич
читал логику (вперемежку с Асмусом, читавшим историю
философии), Алексей Федорович читал лекции и вел
семинарские занятия по широкому спектру, который можно было
назвать диалектической логикой, весьма насыщенной историко-
философски от Платона до Гегеля. На совете факультета не
решились присвоить ему степень доктора философских наук
на основании многих его работ 20—30-х гг., но вынесли
решение о присвоении степени доктора филологических наук (тогда
это было возможно. Рецензентами выступали Асмус и Попов).
Аспирантский семинар (М. Я. Ковальзон, Д. Кошелевский,
Ш. Герман, Е. Куражковская, А. Никитин, автор этих
воспоминаний, позже присоединился В. Келле) по истории
философии вел Б. С. Чернышев, а на втором курсе по
диамату-истмату 3. Я. Белецкий.
В начале 1944 г. разразилась история с третьим томом
«Истории философии». Тогда я еще не мог знать о закулисной
стороне этих событий, связанной с борьбой за руководство
«философским фронтом» между Г. Ф. Александровым,
набиравшим все большее влияние, и М. Б. Митиным П. Ф.
Юдиным, занимавшими высокие посты, но все же шедшими под
уклон. Но от Б. С. Чернышева, своего друга М. Ф.
Овсянникова (защитившего кандидатскую диссертацию в 1943 г. и уже
входившего в более высокие круги), а затем и от самого
3. Я. Белецкого (в его интерпретации) я кое-что узнал об
этом. Если отношение к Белецкому Митина, Юдина,
Э. Я. Кольмана было более или менее лояльным (как
утверждают Г. С. Батыгин и И. Ф. Девятко в своих статьях в книге
«Философия не кончается...», Кн. I), то большинство
историков философии — не только Г. Ф. Александров, которого
3. Я. Белецкий атаковал как большого начальника, но и
наиболее квалифицированные тогда историки философии —
В. Ф. Асмус, Б. Э. Быховский, Б. С. Чернышев, Д. Лукач, в
меньшей мере О. В. Трахтенберг, М. М. Розенталь и
другие — категорически не принимали его, а на совещании в ЦК
в феврале—марте 1944 г. решительно раскритиковали
(особенно первые трое) его философскую малоподготовленность и
вульгаризаторство. Заведуя кафедрой диамата-истмата с
довоенных пор, 3. Я. Белецкий одновременно в 1934—1943 гг. был
парторгом Института философии, и этим исчерпывалась его
338 В. В. Соколов
научная деятельность. Обязанный представлять научную
продукцию, парторг сочинил многостраничный труд о немецкой
классической философии, главная «новация» которого
состояла в стремлении найти главным образом у Фихте и Гегеля
те идеи, которые стали вдохновляющими для немецкого
фашизма. В институте работу Белецкого оценили — прежде
всего, Б. Э. Быховский как заведующий сектором истории
философии — как антимарксистскую, безграмотную, вульгарную (как
рассказал мне М. Ф. Овсянников, который был в очень
близких отношениях с Д. Лукачем и спросил его мнение о работе
Белецкого, тот ответил: «Это же простая ужас. А все кричает,
кричает»). За творческое бесплодие бывший парторг был
уволен из Института философии. Кафедрой же диамата-истмата
МГУ он заведовал с довоенных лет.
Идеи своего отвергнутого сочинения в форме критики
только что опубликованного третьего тома «Истории философии»
он и изложил в письме к Сталину. Политически он, что
называется, «попал в точку». Б. С. Чернышев говорил мне, что
после первого обсуждения 25 февраля 1944 г., где автор письма
был повернут теоретической экзекуции, Сталину было
доложено (кажется, самим Г. Ф. Александровым) о
невежественности 3. Я. Белецкого, но Сталин будто сказал, что он
понимает философскую недалекость Белецкого, но вместе с тем
видит у него острый политический нюх.
Чтобы наиболее адекватно уяснить причины
развернувшихся вокруг третьего тома событий, следует вспомнить мысли и
поведение важнейшего персонажа этого тома — Фихте. Как
известно, он восторженно приветствовал Французскую
революцию даже в якобинской ее период. Однако в условиях
французской оккупации Германии войсками и властями
Наполеона Фихте в своих известных «Речах к немецкой нации»
сформулировал идеи патриотизма, переплетавшиеся с
преувеличенным национализмом.
Авторы тома об этом написали, но,,увы, все же
противопоставили в основном гуманистическую философию Фихте
фашистскому звероподобию. 3. Я. Белецкий же здесь не стеснялся,
«расправляясь» не только с немецким идеализмом, но и с
немецкой литературой этого периода. И он политически победил
(что было неожиданно для упомянутых авторов, как выявилось
на мартовском заседании 1944 г.). Взрыв советского
патриотизма перерастал в национализм, да еще в условиях
жесточайшей войны, когда на карту было поставлено государственное
существование России (разумеется, и СССР). Новый государ-
Эпизоды предвоенной и послевоенной философской жизни... 339
ственный гимн, сменивший «Интернационал» — одно из
красноречивых тому доказательств. Это повлияло на
отношение к немецкой философии.
Третий том «Истории философии», наиболее
фундаментальный и теоретически содержательный по сравнению с
двумя предшествующими (как известно, после XX съезда
КПСС ему была возвращена Государственная премия,
снятая как Сталинская в 1944 г.), был написан с
последовательных марксистско-ленинских позиций со всеми необходимыми
цитатами из «классиков». Постановление ЦК по этому
тому — это набор догматических придирок и преувеличений
(в частности, некоторых милитаристских высказываний
Гегеля, отнюдь не ставивших под сомнение его роль важнейшего
философского предшественника марксизма). Один из
«классиков», Энгельс, в своей известной работе о Фейербахе,
тщательно изучавшейся во всех вузах (да и в партийной
сети), определил предмарксистскую философию Германии
как «классическую». Теперь же таковая появилась и в
России, — это был революционный демократизм Герцена,
Белинского, Чернышевского, Добролюбова. На философском
факультете появилась кафедра истории русской философии
(а прежняя кафедра истории философии стала именоваться
историей западноевропейской философии).
Торжество 3. Я. Белецкого на факультете (в известной
мере и в университете) стало полным. Косвенно этому
способствовали «уголовные» события первой половины 1944 г. —
был вызван из Лондона и арестован бывший декан
философского факультета Г. Г. Андреев (он занимал эту должность до
Б. С. Чернышева, и именно при нем на факультете появились
А. Ф. Лосев и П. С. Попов). Были арестованы два студента:
А. Романов (работавший в семинаре А. Ф. Лосева) и А. Рев-
зон (под сурдинку критиковавший новый гимн, однако
услышанный одним из сокурсников). Б. С. Чернышев был
освобожден от поста декана (его сменил Д. А. Кутасов, лектор МГК
ВКП(б), предвоенный декан, после Ф. И. Хасхачиха,
факультета в МИФЛИ). В сентябре 1944 г. Б. С. Чернышев умер от
инфаркта. При определяющей роли 3. Я. Белецкого еще
весной был уволен и А. Ф. Лосев (значительно позже он говорил
мне, что его вызвал С. В. Кафтанов, тогдашний министр
высшего образования, и «убедил», что ему, доктору
филологических наук, лучше работать по специальности в Пединституте
им. Ленина), П. С. Попов, политически менее
скомпрометированный и более ловкий, остался на факультете и в 1947 г.
340 В. В. Соколов
возглавил образовавшуюся кафедру логики (А. Ф. Лосев
ненавидел этого своего сокурсника). В лектории МГУ 3. Я.
Белецкий стал читать небольшой публичный курс по немецкому
идеализму. По моему аспирантскому восприятию его лекции
были примитивны: социологизированы и политизированы,
философски поверхностны. Со второй лекции я ушел и больше
этих лекций не посещал. На семинаре по диамату при моей
задиристости у меня возникли споры с Белецким, его обычно
поддерживали как руководителя другие аспиранты, а я не раз
был проработан. Тогда я не знал, что сила Белецкого во
многом определялась тем, что у него был прямой звонок к
Г. М. Маленкову. Известной байки о том, что главный диа-
матчик факультета отождествлял абсолютную истину с
кремлевскими небожителями, не помню, но трактовка им истины в
духе примитизированной теории отражения Ленина
(метавшегося в «Материализме и эмпириокритицизме» между
сенсуализмом Гольбаха и абсолютизмом Гегеля) была для меня
ясной. Кроме того, 3. Я. Белецкий откуда-то знал об
отрицательном отношении Сталина к «Философским тетрадям» как
более или менее случайным заметкам для себя, что тоже
добавляло ему «теоретической» смелости.
Уже в более поздние годы я уяснил для себя более широкую
суть событий, происшедших вокруг третьего тома, а несколько
лет спустя и вокруг александровской «Истории
западноевропейской философии».
Одно из определяющих положений марксистской теории —
категорическое утверждение, что марксизм унаследовал «все
лучшее» из предшествующей философии — по линии
материализма и по линии диалектики, которые до диамата были
почти всегда разрозненны и только в нем были, наконец,
полностью гармонизированы. Истмат же вносил значительное
усложнение в истолкование историко-философского процесса
своим железным положением о надстроечном характере
философских идей и учений, которые в каждую
социально-экономическую эпоху («формацию», которая при
конкретно-историческом подходе становилась неопределенной) рождались
как бы заново. Тем не менее диамат-истмат Маркс и Энгельс
могли родить лишь в теле пролетариата. Достаточно
противоречивые, порой совсем аморфные, компоненты философии
марксизма давали историкам философии большую свободу для
историко-философских размышлений и исследований, давая
возможность порой искусно обходить жесткий догматизм
противостояний материализм-идеализм, диалектика-метафизика.
Эпизоды предвоенной и послевоенной философской жизни... 341
К тому же сами «классики» иногда давали достаточно
неопределенные формулы, например, определяя философию Гегеля
как «на голову поставленный материализм». Относительную
незашоренность истории философии активно использовал,
например, В. Ф. Асмус в своих стилистически блестящих
«Очерках истории диалектики в новой философии», в «Диалектике
Канта». В известной же монографии «Маркс и буржуазный
историзм» автор довольно настойчиво проводил мысль, что
философские идеи не столько рождаются данной эпохой,
сколько в некоем непрерывном потоке переключаются на ее
потребности. Здесь автор соскочил уже на платформу
«филиации идей», весьма близкой к «идеалистической
контрреволюции». М. Б. Митин разгромил его (не только за это) в своей
рецензии в «Правде», давая маститому автору еще один урок
идеологической и политической осторожности.
Тем не менее полностью отказаться от каких-никаких
историко-философских разработок было все же невозможно.
Отсюда более или менее благоприятное отношение более
серьезных философов к Г. Ф. Александрову, защитившему
диссертацию по Аристотелю, сколь бы схематическо-догматической
она ни была (впрочем, Александров говорил, что его целый
год обучал греческому языку А. В. Кублицкий). А когда он
стал академиком, то именно по этому признаку многие
считали, что он на голову выше М. Б. Митина и П. Ф. Юдина
(правда, был жив еще А. М. Деборин, но он ушел из
философии в историю).
3. Я. Белецкий же максимально отрицательно относился к
истории философии, грубо, примитивно увязывая ее идеи и
учения с социально-классовыми условиями их возникновения
(но, разумеется, не мог здесь свести концы с концами,
утверждая воздействие идей Гегеля и Фихте на появление
идеологии фашизма). В отвержении идей «белецкианства» многие
апеллировали к В. И. Ленину в его критике примитивного со-
циологизаторства Шулятикова.
Хватку Белецкого я ощутил при защите кандидатской
диссертации в июне 1946 г. В ней я трактовал соотношение
марксистско-ленинского решения проблемы свободы и
необходимости с домарксистским ее решением, сформулированным
Спинозой и — в меньшей мере — Гегелем. Тема эта,
стимулированная мыслью Маркса о том, что коммунистическое
общество, к которому придет все человечество, будет «царством
свободы», тогда активно обсуждалась. Перед самой войной
кандидатскую диссертацию по этой теме защитил Т. И. Ойзер-
342 В. В. Соколов
ман. Теперь взялся за нее и я, стремясь прояснить ее
философскую родословную. После благожелательного
выступления официальных оппонентов, В. Ф. Асмуса и М. Ф.
Овсянникова, и моего ответа, с резко отрицательными выпадами
выступили члены кафедры диамата — будущий столп
диалектической логики В. И. Мальцев и теоретик эстетики
С. С. Гольдентрихт. Оба они отрицали саму идею сравнения
марксистско-ленинского решения проблемы с какой-то
домарксистской темнотой (последний из них, помнится, указал
на то, как Александр Матросов закрыл своей грудью
немецкую амбразуру — ярчайший факт ленинско-сталинского
понимания свободы в действии). В выступлениях этих
оппонентов содержались кричащие противоречия, которые изящно
выявил в своем выступлении мой научный руководитель
(после смерти Б. С. Чернышева) О. В. Трахтенберг, показавший,
что это — не те противоречия, «которые ведут вперед».
И здесь в атаку пошел сам 3. Я. Белецкий. Общий смысл его
выступления был тот же — само сопоставление марксистской
концепции свободы с предшествующими в корне порочно.
Были какие-то и более детальные возражения, которых теперь
не помню (стенограмма не велась, не было и Совета, как
такового, голосовали все, кто имел степень или звание). Я резко,
запальчиво и, полагаю, не очень-то умело отвечал Белецкому,
отвергая его выпады (по своей невоспитанности я совсем его
не благодарил, как мне советовали сделать уже после защиты
Ю. К. Мельвиль и другие более зрелые друзья). Я, как и
многие из присутствовавших, ждал провала, но оказалось, что при
семи голосах против я все же прошел в «упор». Думаю, что не
из-за моего поведения, а из активной неприязни к 3. Я.
Белецкому и его кафедре, о чем свидетельствовали громкие
аплодисменты довольно многочисленной публики.
В конце того же 1946 г. я — не без помощи декана
Д. А. Кутасова — был утвержден в степени кандидата
Ученым советом МГУ (ВАКа, кажется,.тогда еще не было). Но
возможность работы на кафедре истории западноевропейской
философии, о чем я мечтал, мне была закрыта. Слабовольный
ее заведующий В. И. Светлов (сменивший Б. С. Чернышева)
совершенно пасовал перед сверхволевым 3. Я. Белецким, во
многом определявшим кадры не только своей кафедры, но и
других. Как раз в это время открылась Академия
общественных наук при ЦК ВКП(б), где была учреждена и кафедра
истории философии во главе с Г. Ф. Александровым. Сюда я и
поступил на должность заведующего кабинетом. Александров
Эпизоды предвоенной и послевоенной философской жизни... 343
достиг тогда вершины своей политической карьеры:
начальник управления агитации и пропаганды ЦК ВКП(б), член его
оргбюро, делавший (после смерти А. С. Щербакова) доклады
в траурные годовщины смерти В. И. Ленина. Не очень-то
тогда квалифицированный в сфере истории философии, я все
же заметил кое-какие промахи и в его познаниях (когда он
делал мне замечания по составляемой программе
кандидатского минимума для аспирантов кафедры). Но я, конечно,
понимал, что при его политической сверхзанятости у него
вряд ли находится время для углубления своих знаний, и он
жил «старым запасом». В человеческом плане он мне
казался довольно симпатичным: не столь герметичный, как его
первый заместитель П. Н. Федосеев, и не такой хамственно
высокомерный, как другой его заместитель М. Т. Иовчук.
В ноябре 1946 г. я присутствовал на защите последним
докторской диссертации по русской материалистической
философии XVIII—XIX вв., готовившейся в спешке с помощью
В. И. Газенко и некоторых других работников аппарата.
Состоялась спешная инсценировка защиты, ибо в конце того
же месяца предстояли выборы в АН СССР. Оппонентами
выступили М. Б. Митин, В. С. Кружков и О. В. Трахтенберг.
Первый из них, сказавший на защите то, что требовалось, на
кафедре с ухмылкой говорил, что, по-видимому, диссертант
трижды пропустил через машинку один и тот же текст.
М. Т. Иовчук, обладавший даром речи и не лишенный
остроумия, за спиной академика пустил в оборот два его
«псевдонима»: Мрак Борисович Мутин и, обыгрывая его свойство
толкать речи, Маркс Борисович Митинг.
Летом 1946 г. вышла вторым долгожданным изданием
книга Г. Ф.Александрова «История западноевропейской
философии». Она предназначалась в качестве учебника для
вузов, в основу ее были положены лекции, читавшиеся
автором в МИФЛИ. Впервые она вышла в 1939 г. По
теоретическому уровню она была много ниже трехтомной «Истории
философии» (Н. Г. Тараканов, готовивший ее к изданию,
говорил мне, что никакой существенной переработки издания
1939 г. не было). Тем не менее книга большого партийного
начальника получала высокие и даже восторженные оценки в
устных беседах и печатных рецензиях. Добрейший М. П. Бас-
кин (будущий «Морской философский волк» ждановской
речи) закончил свою рецензию словами: «Явно недостаточен
тираж издания» (50 000). Книга была увенчана Сталинской
премией.
344 В. В. Соколов
Автор в самом конце ноября того же года прошел в
академики, а три его заместителя — П. Н. Федосеев, М. Т. Иовчук,
А. М. Еголин (бывший декан филологического факультета
МИФЛИ) стали членами-корреспондентами АН СССР. Едва
ли не в эти же дни на имя Сталина поступило новое письмо
3. Я. Белецкого, который, критикуя книгу Г. Ф. Александрова,
фактически отвергал историко-философскую науку (в
особенности как «филиацию идей», которую он снова усмотрел в
книге Александрова — см. статью Г. С. Батыгина, И. Ф. Де-
вятко в названной выше книге, С. 204). Вождь, конечно, ее не
читал, подписывая список кандидатов на премию его имени,
представленный Комитетом по премиям. Возможно, именно
письмо 3. Я. Белецкого побудило его заинтересоваться ею. Он
вызывал и автора письма. Именно в это время стали говорить
о сталинской оценке философии Гегеля как
аристократической реакции на Французскую революцию. Помню, что в
органе отдела пропаганды ЦК ВКП(б) «Культура и жизнь»
(«Культура и смерть», «Александровский централ»)
появилась большая статья Г. Ф. Александрова и П. Н. Федосеева, в
которой эта формула поднималась на щит. Но под именем
Сталина эта формула никогда не публиковалась (помню, что
во время философской дискуссии 1947 г., на которой я
присутствовал, А. А. Жданову был задан вопрос об этой
сталинской формуле. Однако он ушел от ответа, сказав, что спросит
«самого т. Сталина»).
Скорее всего в этом же декабре 1946 г. я неоднократно от
разных работников АОН слышал, какая опасность нависла
тогда над Г. Ф. Александровым и его ближайшим окружением.
Говорили, что Сталин вызвал президента АН СССР С. И.
Вавилова и спросил его, каким образом начальник управления
пропаганды ЦК ВКП(б) и три его заместителя одновременно
прошли в Академию. Вавилов ответил, что эти кандидатуры
были предложены ему ЦК. «Кто же конкретно это
предлагал?» — будто бы спросил Сталин. «Я этого не делал, быть
может, это сделал т. Жданов?» С. И. Вавилов сказал, что от
А. А. Жданова тоже такого предложения не исходило, а
исходило оно от М. Т. Иовчука. Сталин будто бы сказал: «А нельзя
ли их всех обратно?» С. И. Вавилов сослался на устав
Академии наук, который этого делать не позволял (конечно, такие
«враги народа», как Бухарин и Н. М. Лукин в 1938 г., а позже
И. К. Луп пол, были исключены оттуда как «осужденные»).
Тогда Сталин сказал, что «они примут свои меры». Уже, по
моей памяти, в январе 1947 г. М. Т. Иовчук был выдвинут на
Эпизоды предвоенной и послевоенной философской жизни... 345
пост секретаря белорусского ЦК по пропаганде, а по книге
Г. Ф. Александрова тогда же была организована первая
дискуссия в Институте философии.
Но за «делом Г. Ф. Александрова», по-видимому,
скрывалась более глубокая борьба, чем атаки 3. Я. Белецкого (и
даже противостояние с Митиным и Юдиным). М. Д. Цебенко,
заместительница Александрова по кафедре, шепотом
говорила мне (спустя несколько лет примерно то же сообщал
Г. С. Васецкий), что отставки Г. Ф. Александрова,
выдвиженца А. А. Жданова, требовал Л. П. Берия. Объяснялось это
тем, что друг последнего Г. М. Маленков (что подтверждается
внешними фактами и прямой характеристикой Г. М.
Маленкова как «тени Берия», сделанной Н. С. Хрущевым и
опубликованной сразу после разгрома «антипартийной группы») был
отстранен как секретарь ЦК в связи с «авиационным делом»
(Новиков, Шакурин). Г. М. Маленков был отправлен в
Казахстан и будто был на грани вывода из Политбюро, но был
спасен Берией. А. А. Жданов фактически стал первым
секретарем ЦК (Сталин был выше этого поста), а его правой рукой
стал А. А. Кузнецов. Это было видно и на дискуссии 1947 г.,
где А. А. Кузнецов, будучи в президиуме, стал
председательствовать, когда А. А. Жданов произносил свою речь, и позже.
В президиуме сидели также М. А. Суслов и Шкирятов.
А. А. Кузнецов был сильный работник, подлинный
организатор гражданской обороны Ленинграда (а «Жданов плакал и
лез на стену», сообщил нам на партактиве МГУ А. И.
Микоян, делавший у нас доклад 3 июля 1957 г. по «антипартийной
группе»). В качестве секретаря ЦК он стал контролировать и
«органы». Как известно, через год после смерти А. А.
Жданова, А. А. Кузнецов, Н. А. Вознесенский и др. были
расстреляны по «ленинградскому делу» (как-то избежал этой участи
А. Н. Косыгин, ленинградец и родственник А. А. Кузнецова).
На дискуссии в январе 1947 г. выступал и 3. Я. Белецкий со
своими обычными уже выпадами против истории философии,
поносил историков философии «за зазнайство». Но он был
подвергнут избиению П. Н. Федосеевым, В. С. Кружковым
(«пусть ни один волос не упадет с головы т. Белецкого, но его
взгляды антимарксистские») и другими. У меня после этого
сложилось впечатление, что Белецкий «поджал хвост».
Но торжествовать Г. Ф. Александрову долго не пришлось
(хотя Сталин и поручил ему делать доклад на траурной
годовщине смерти Ленина 21 января 1947 г.). Дискуссия в
Институте философии не удовлетворила «верхи». Была назначена
346 В. В. Соколов
новая на июнь 1947 г. Я присутствовал на ней как сотрудник
АОН при ЦК ВКП(б). Многие выступления были интересны и
лишь косвенно увязывались с книгой Г. Ф. Александрова.
3. Я. Белецкий от выступления воздержался (но приложил его
к стенограмме). Но все эти выступления, в сущности, мало что
значили, ибо в те времена действительно значимый исход всех
дискуссий был запрограммирован речью самого
ответственного товарища. И когда А. А. Жданов выступил в «порядке
обсуждения», А. А. Кузнецову посыпались многие отказы
записавшихся ввиду «ясности», внесенной т. Ждановым. Аналогичная
инсценировка была организована в 1950 г. в дискуссии по
вопросам языкознания. Ее цель стала ясной в самом конце,
когда сам Сталин выступил со своим «великим открытием»:
язык не принадлежит к комплексу надстроечных явлений над
социально-экономическим базисом. Вскоре последовало и его
сочинение по «экономическим проблемам социализма в
СССР». Все это максимально усилило догматизм, отсутствие
индивидуальных мыслей и в лекциях, и тем более в печатной
продукции. Как острили тогда в кулуарах, философская
статья — это кратчайшее расстояние между двумя цитатами.
А еще лучше — цитата из «классиков» с пояснением в
скобках — «разрядка моя».
Возвращаясь к речи А. А. Жданова, следует подчеркнуть,
что она подводила итог многолетнего уже противостояния
марксистско-ленинской философии всей предшествующей.
Докладчик, напомним, подчеркнул, что историю философии
совершенно ошибочно заканчивать формированием доктрины
Маркса (после чего следовало изучение диамата-истмата —
традиционная последовательность изучения философии в
вузах, как и схема множества работ по истории философии,
включая книгу Г. Ф. Александрова). Надо показать, указал
А. А. Жданов, развитие марксистских философских идей,
включая ленинский этап (подразумевалось и сталинский, на
что сам Вождь вроде бы не давал согласия, хотя «творчески»
развивал философию в названных работах после 1947 г.).
Неколебимым устоем стал тезис, что марксизм-ленинизм — это
революционный переворот в философии.
Одним из печальнейших событий догматического
упрощенчества стала и победа лысенковщины на известной сессии
ВАСХНИЛ в 1948 г. Активным философствующим союзником
Лысенко был М. Б. Митин, гордившийся этим вплоть до
критики Лысенко в послехрущевские времена. Но таковым же
стал и 3. Я. Белецкий, упрощенческая схема философии кото-
Эпизоды предвоенной и послевоенной философской жизни... 347
рого вполне гармонировала с теорией решающей роли
внешней среды в развитии организма. Помню, как осенью 1949 г.
он привел на факультет «великого мичуринца», который перед
большой аудиторией развивал свою концепцию со ссылками
на сталинский философский труд с настойчивой критикой
внутривидовой борьбы («заяц зайца не ест, волк зайца ест»),
«Травля» Белецкого во время кампании борьбы с
космополитизмом в марте 1949 г. и впоследствии, о которой пишут
Г. С. Батыгин и И. Ф. Девятко в статье «Дело профессора
3. Я. Белецкого» в названной книге, окончилась, в сущности,
торжеством «затравленного», вновь поддержанного в ЦК
вопреки резолюциям партсобраний и Ученого совета
факультета. Но его влияние на факультете все же очень ослабло (оно
распространялось только на «малый хурал»
группировавшихся вокруг него преимущественно молодых членов его
кафедры, его недавних аспирантов). Изменение внутрифакуль-
тетской ситуации открыло и для меня возможность вернуться
(в сентябре 1950 г.) на кафедру истории западноевропейской
философии.
Наступили далеко не лучшие времена как для преподавания
истории философии, так и для научной работы в той среде.
Торжествовала марксистская философия. В стандартных
курсах диамата-истмата домарксистской философии отводилось
две—три лекции. На философском факультете МГУ она тоже
была ужата, схематизирована. Т. И. Ойзерман в 1948 г.
публикует (в соавторстве с В. И. Светловым, тогда зам. министра
высшего образования и еще ведавшего нашей кафедрой)
солидную брошюру «Возникновение марксизма —
революционный переворот в философии». Еще через два года он же
защитил докторскую диссертацию «Развитие марксистской
философии на опыте революций 1848 г.». Т. И. Ойзерман, широко
осведомленный в истории философии, с большим успехом
читал весь курс философии Маркса—Энгельса (а
Ленин-Сталин были переданы кафедре русской философии). С большим
искусством он раскручивал логику «Капитала». Думаю, что
именно из этих лекций вышел Э. Ильенков, его будущий
аспирант. Старшее поколение историков западноевропейской
философии, обучавшееся до революции, было представлено
М. А. Дынником (покинувшим кафедру в 1961 г.), О. В. Трах-
тенбергом, М. П. Баскиным. Очень многое дал переход (с
кафедры логики) самого квалифицированного историка
философии В. Ф. Асмуса. В общении с ним формировалась «вторая
генерация» — сам Т. И. Ойзерман (ставший заведующим ка-
348 В. В. Соколов
федрой), Ю. К. Мельвиль, И. С. Нарский и я. После XX
съезда КПСС постепенно складывались условия для подрыва
марксистско-ленинского догматизма в сфере истории философии.
Этот процесс — ив лекциях, и в диссертациях, в научной
работе вообще — происходил нередко в схватке, иногда с
партийными проработками — со сторонниками традиционной
марксистско-ленинской методологии. Выросла и «третья
генерация» — А. Н. Чанышев, А. С. Богомолов, В. Н.
Кузнецов, П. П. Гайденко. Но здесь открывалась совершенно новая
страница в жизни кафедры истории зарубежной философии
(как она стала называться с начала 60-х гг.). Она
представлена множеством книг и статей названных и еще более молодых
преподавателей. Автор этих воспоминаний считает, что они
значительно обогатили нашу историко-философскую науку,
вывели ее на новый этап развития, теперь совершенно
освобожденный от марксистско-ленинского догматизма.
Н. Ф. Овчинников
Вспоминая прошедшее*
1^1олодые друзья советуют писать воспоминания.
Для меня это знак утешения. Будущее
непредсказуемо. Настоящее темно — оно «без раскаяния и
надежды», и только прошедшее в памяти. Возрождение
интереса к давним событиям — это признак
формирования нового воззрения: история — знание о
прошлом — формирует нас, ибо оно живет в наших
делах. Люди прошедшего — наши современники:
результаты их трудов в нашей повседневности. Их
прозрения и заблуждения живут с нами и в нас.
Современность — лишь поверхностный слой
человеческого существования. Вера в интеллектуальную
интуицию молодого поколения дает надежду, что
памятные мне бледные штрихи прошлого могут чуть полнее
высветить проблемы нашего настоящего.
Как давно это было! Прошло уже более,полувека
с той поры, как мне довелось в 1947 г. поступить в
аспирантуру Института философии АН СССР. Я был
зачислен в сектор «Философия естествознания» —
так он тогда назывался. Название сектора
«Философские вопросы естествознания» появилось
значительно позднее, когда я уже закончил аспирантуру и
начал работать сотрудником сектора. Различие в
изменении названия, я полагаю, существенное — одно
* Вопросы философии. 1999. № 7. С. 105-126.
350 Н. Ф. Овчинников
дело затрагивать отдельные вопросы той или иной науки и
совсем другое дело пытаться строить единую теорию
научного знания. Направленность исследований на построение
такой теории не исключает разработку философских вопросов
естествознания, но установка на рассмотрение отдельных
вопросов закрывает исследовательский интерес к философии
науки. Об изменении названия сектора я расскажу ниже. Как
именно происходило это изменение — само по себе
определенный штрих в картине времени. Позднее выделился сектор
«Философские вопросы биологии». Мне пришлось работать
под руководством И.В.Кузнецова (1911 — 1970) в секторе
«Философские вопросы физики» (ныне «Философия
естествознания»).
Предыстория
Пытаясь вспомнить отдельные события из истории сектора
и кратко рассказать о времени и о людях, с которыми мне
пришлось общаться и работать, я невольно вспоминаю о самом
себе, о том, каким был в те годы, и как случилось, что, будучи
физиком, решился поступать в философскую аспирантуру.
Полагаю, что, начиная с краткого рассказа о себе, я тем
самым прочерчиваю первые штрихи в моей попытке написать
памятную мне картину из того далекого времени.
Так совпало, что летом 1941 г. я закончил
физико-математический факультет Свердловского (ныне Уральского)
университета и, как известно, тогда же началась война. Шли
госэкзамены и мы, выпускники, погруженные в премудрости
теоретической физики, с тревогой следили за поразительными
сообщениями газет и радио.
Помню свое ощущение странности происходящего — идет
война, а у нас, у студентов-выпускников, как будто ничего не
изменилось — мы сдаем последние наши испытания. Я стою у
доски, мне достался вопрос о теории магнетизма П. Ланжеве-
на (1872— 1946). Обращаясь к члену госкомиссии профессору
Д. Д. Иваненко (1904—1994) (он в те годы жил в Свердловске
и читал нам курс квантовой механики), я пытаюсь прояснить
идеи французского физика, как я их понимаю, связанные с
теорией диа- и парамагнетизма. Многое уже забылось из
событий того времени, но странным образом именно этот
момент госэкзаменов сохранился в памяти. Возможно, тут
сказалось то, что уже тогда мы знали, что Иваненко — выдающий-
Вспоминая прошедшее 351
ся физик, выдвинувший идею протонно-нейтронного строения
атомного ядра. Эмоциональная память запечатлела во мне
чувство робости и сознание ответственности за каждое слово,
которое я произношу — ведь мне задает вопросы и слушает
сам Дмитрий Дмитриевич.
Очнувшись от госэкзаменов, мы, выпускники университета,
ощутили, что война все перемешала в нашей судьбе.
Освобожденный от фронта в результате болезни, пережитой в юности
(ограниченность подвижности суставов), я после получения
диплома работал преподавателем физики в средней школе,
расположенной на окраине города в местечке Малый Исток.
Вскоре я был принят лаборантом на кафедру физики военной
Академии им. Жуковского, эвакуированной из Москвы в Свердловск.
Это была зима 1941/42 г. — самый тяжкий период войны.
Разные люди переживали это время по-разному. В моем
сознании — и, наверное, не только в моем — это пора смятения,
безответных вопросов — почему так? — и время молчаливого
отчаяния.
В холодном и голодном уральском городе появляются
московские институты, потеснив в местных зданиях людей,
работавших там. Вблизи с Академией им. Жуковского, как я узнаю,
размещается в одном из зданий Уральского политехнического
института Московский университет, переехавший из знойного
Ашхабада в морозный Свердловск. Трудно сейчас рационально
выразить, что именно, какое чувство или какая мысль привели
меня на философский факультет Московского университета,
разместившегося через дорогу от моей работы. Думаю сейчас,
что это было то чувство отчаяния, о котором я уже упомянул,
чувство безысходности и одиночества — мои друзья и
сверстники разлетелись: кто уже на фронте, а кто в военных
училищах — ускоренно готовятся стать военными специалистами.
Мой приход на философский факультет, как я сейчас
представляю себе, был не очень осознанной, импульсивной
попыткой спастись от неотступных вопросов, найти на них ответы.
Или, сказать по-другому, может быть, это было результатом
наивного представления молодого физика о смысле и
назначении философии. Обучение в университете невольно убеждало
в строгой закономерности природного мира и, кроме того,
повседневное существование в мирное время вынуждало жить в
условиях строгих планов и предписаний. И все внезапно
рухнуло: тревожные сообщения с фронта и будни тяжкого быта,
вызванные войной, перевертывали все прежнее —
устойчивость мира и обустроенность жизни оказывались иллюзией.
352 Н. Ф. Овчинников
Сознание пыталось ухватиться за сложившиеся наивные
представления, будто философия поможет преодолеть
мучительные недоумения, негаданно возникшие в ходе событий. Тогда я
еще не имел понятия об экзистенциализме, но теперь могу
сказать, что в моем случае Кьеркегор оказался совершенно
прав: истоки интереса к философии не в стремлении к знанию,
к поискам причин и начал, как полагал Аристотель, но в
чувстве отчаяния, порою охватывающего всего человека.
Да простит мне читатель, что, вознамерившись говорить о
времени и людях, вспоминая давние годы, я начинаю с личных
впечатлений и давних переживаний. А как же иначе? Я
намерен говорить о своем восприятии времени и людей, которых
встречал, и с которыми сталкивала меня жизнь. Иначе говоря,
я пытаюсь вспомнить мое восприятие жизни тех давних лет.
Я осознаю, что именно мои попытки вспомнить о годах
аспирантуры, о работе в институте невольно повели меня к более
отдаленному времени, так сказать, к предыстории.
Рискую получить вопрос, что нам может дать описанная
предыстория личного пути в философию. Могу только сказать —
погружение памятью в те далекие дни дает мне возможность
осознания определяющей значимости условий жизни,
особенностей времени, в котором мы живем, внешних событий,
формирующих жизненный путь. Описание этих особенностей, как я
надеюсь, пополнит картину прошлых событий. И, с другой
стороны, представляя внешние события того далекого времени, я
невольно выражаю свое отношение к ним, свои пристрастия.
Это означает, что рассказы о событиях, проблемах и о людях
того времени будут несомненно субъективны. Но теперь, по
прошествии многих лет, именно субъективность и необходима,
как я убежден, для воссоздания объективной картины
прошлого. Я думаю, что пристрастность человека, вспоминающего
былые годы, оборачивается для историка объективными
штрихами в картине прошедших событий. Словом, история событий
легче и полнее раскрывается в контексте предыстории.
Возвращаюсь памятью в Свердловск тех далеких дней. На
философском факультете МГУ мне удалось поговорить с
деканом. Это был пожилой человек — на вид за шестьдесят. Увы,
память мне изменила — я не твердо помню его фамилию,
возможно, Коган. Думаю, что он был скорее историком, а не
философом — я ни тогда, ни позднее не встречал его имени в
философских публикациях. Он принял меня вполне
доброжелательно. Позднее мне стало понятно, что как декан он был
заинтересован в то смутное и безлюдное время принять меня
Вспоминая прошедшее 353
на первый курс факультета, хотя я всего лишь попросил его
позволить посещать лекции и семинары по философии.
На первом курсе, как я позднее узнал, было всего пять
человек — три студентки и два инвалида войны, только что
вернувшиеся с фронта. Один из них — Юрий Орлов, потерявший на
войне руку, был удивительно мужественным человеком. Я
внутренне преклонялся перед его, не нахожу других слов,
органической добротой и каким-то естественным стремлением к
справедливости во всех поступках и во всех жизненных ситуациях.
Декан, выслушав меня, предложил мне прийти через
неделю, пояснив, что он хотел бы зачислить меня не просто
вольнослушателем, но полноправным студентом. Но для этого он
должен выяснить, могу ли я на законном основании, уже имея
одно высшее образование, продолжить обучение в другом
вузе, по другой специальности.
Через неделю при встрече декан сказал, что мне повезло —
он воспользовался приездом в Свердловск тогдашнего
министра высшего образования, кажется Кафтанова, и министр
сказал ему, что вообще получение второго высшего
образования запрещено — необходимо сначала поработать несколько
лет по своей первой специальности. Но физику, в порядке
исключения, можно разрешить приобрести еще и философскую
специальность. Таким образом, подкрепив свое намерение
высоким авторитетом, декан зачислил меня на первый курс
философского факультета МГУ.
Не оставляя работы на кафедре физики, я стал посещать
лекции по истории античной философии, которые тогда читал
М. А. Дынник (1896—1971). Как я понял тогда — он был в
Свердловске единственным специалистом по истории
философии и читал лекции на всех курсах философского факультета.
Лекции на первом курсе обычно читались поздно вечером, и
потому мне не приходилось получать разрешение на их
посещение на работе. В памяти, как сказал бы современный эстет,
сюрреалистическая картина: в промерзшей аудитории сидит в
зимнем пальто и в шапке, а порою и укутанный в шаль,
профессор, а перед ним четыре, пять или редко шесть продрогших
и голодных студентов слушают неторопливый и приглушенный
голос лектора (не простудить бы голос) — рассказ о
милетской школе, о Пармениде, Демокрите, Платоне.
Я был зачислен на философский факультет МГУ с сентября
1942 г. В начале 1943 г. удалось сдать экзамены по античной
философии, а на лекции-семинаре Дынника я подготовил
доклад об истоках древнегреческой философской мысли. Вскоре,
354 Н. Ф. Овчинников
в марте-апреле 1943 г., заговорили о возвращении
университета в Москву. С чувством сожаления я внутренне прощался
со своими молодыми сокурсниками. И все же — начальный
импульс профессионального интереса к философским идеям
уже был задан и жил во мне. Понятно, что прямых ответов на
мучительные вопросы я не получил, но начинал осознавать,
что дело философии скорее в организации сознания, в его
собранности ради попыток понять смысл вопросов, именно
вопросов, а не ответов на них. Но, увы, был вынужден
размышлять я, продолжать философское образование я не смогу — в
те годы в моем родном Свердловском университете не было
философского факультета.
Однако произошло другое. Декан вызвал меня и предложил
поехать в Москву в качестве студента философского
факультета. Формальные трудности (и немалые) он обещал взять на
себя, от меня требовалось только согласие. После нелегких
раздумий и недолгой поездки к родителям в г. Касли (100 км
от Свердловска), я решился на шаг, предложенный мне
деканом, шаг, резко изменивший ход моей жизни. Терять в то
трудное время мне было нечего — отец (рабочий-электрик)
дал согласие — «тебе решать, как дальше жить». У него была
персональная пенсия — в моей помощи он не нуждался. И,
кроме того, два старших сына — мои братья Василий и
Дмитрий — на фронте. Я огорчил только неродную мне матушку,
Дарью Кузьминишну — только теперь понимаю, как много
душевных сил вложила она в меня, вскармливая и по-своему
воспитывая с малых лет после кончины моей матери.
Эвакопоезд шел в Москву более недели. Теперь могу
сказать, что для меня это была своеобразная эмиграция, словно я
приехал в другую страну — Московию. Говорят на понятном
мне языке, но все остальное совершенно другое: образ жизни
и мыслей, нравы и поведение людей, законы и порядки,
идущие от властей. Это не оценочное суждение, но воспоминание
о поразившем меня различии. Хотя, конечно, в подобном
различии всегда присутствует асимметрия — в данном случае,
мое восприятие поразившего меня различия было окрашено
ощущением полного непонимания переживаний пришельца со
стороны некоторых столичных жителей. Всем известна
крылатая фраза из фильма: «Счастье — это когда тебя понимают».
Иногда в силу непонимания я «терпел крушение», а
полночный троллейбус Окуджавы, плывущий по Москве, не спасал.
Мое настроение при встрече со столицей может быть образно
выражено памятной мне строчкой другого поэта: «Москва
Вспоминая прошедшее 355
меня душила в объятьях кольцом своих бесконечных
Садовых». Аналогичное ощущение от Москвы я прочитал в
воспоминаниях В. Войновича. Он прямо пишет, что в свои молодые
годы он из провинциальной Керчи «эмигрировал» в Москву и
при этом испытал такие переживания, что когда, спустя годы,
его друзья эмигранты в Америке жаловались на трудности
эмигрантской жизни, он только улыбался в ответ. Войнович
понимал, что не в состоянии дать им почувствовать, что его
«эмиграция» в столицу из Керчи была связана с неизмеримо
более трудными испытаниями. Рационально передать
простыми словами непомерную тяжесть пережитого просто
невозможно — опыт моей «эмиграции» позволяет мне сказать, что
я понимаю смысл молчаливой улыбки Войновича.
Друзья студенты помогли мне поселиться в общежитии на
Стромынке. Там я прожил все пять лет моей учебы на
философском факультете. Одновременно преподавал физику в
средней школе № 147 на северной окраине Москвы, куда
направили меня московские чиновники по образованию. Позднее я
встретил двух моих учеников на физическом факультете МГУ.
Философский факультет
Философский факультет в Москве жил своей жизнью, когда
мы там появились. Знакомого по Свердловску декана
факультета я уже не встречал. Московским деканом был тогда
Дмитрий Кутасов. Соединившись с москвичами, второй курс
факультета составил уже человек десять. В конце войны на наш
курс пришли еще человека три или четыре из бывшего
ИФЛИ, ликвидированного во время войны. Среди них Армен
Арзаканян. Об этом замечательном человеке, каким я его
знаю, о его трудной судьбе надо бы рассказать подробнее.
Я надеюсь, что мне это еще удастся. Следовало бы вспомнить
о годах учебы на философском факультете, подробнее
рассказать о преподавателях и моих сокурсниках. Но у меня сейчас
ограниченная задача — люди, как я их помню, и время,
проведенное мною в секторе «Философия естествознания».
Но невозможно не упомянуть, хотя бы предельно кратко, о
тех, у кого учился на философском факультете, кто
запомнился как личность, как символ времени. Упоминание их тем
более оправданно, что некоторые из них в разные годы были
сотрудниками Института философии АН СССР. Среди них
Валентин Фердинандович Асмус (1894—1975) — его скучно-
356 Н. Ф. Овчинников
ватые, но основательные лекции приобщали меня к
традициям философской мысли. Орест Владимирович Трахтенберг
(1889—1959) — я чувствовал, что он знает нечто более
существенное, чем сиюминутное и преходящее. Помню —
зимой 1943/44 г. Алексей Федорович Лосев (1893-1988)
начал читать нам формальную логику. Однако нам не
повезло — его уволили с факультета как идеалиста — так втихую
объяснили мне осведомленные студенты. Логику стал
преподавать нам Павел Сергеевич Попов (1892—1964) — образец
внешнего спокойствия и предельной аккуратности. Как я
узнал позднее, он неожиданно для всех покончил с собой —
личное трагически переплелось с социальным. Особенно
памятны мне лекции и семинары Софьи Александровны
Яновской (1895—1966). Она читала курс истории математики.
Именно тогда содержание и стиль ее лекций —
неторопливое углубление в предмет — привели меня к осознанию того,
что история науки предмет не просто интересный, но
насущно необходимый философу. Она же в 1946/47 учебном году
начала читать нам курс символической логики. Но вскоре
чтение курса было запрещено — мы вдруг узнали, что
Яновская вознамерилась преподать нам «буржуазную лженауку».
Было бы досадным упущением, если бы я не упомянул по-
своему замечательную личность — Зиновия Яковлевича
Белецкого (1901 — 1969). Он как зав. кафедрой диалектического и
исторического материализма (в те годы это была единственная
философская кафедра в МГУ) представляется ныне особенным
феноменом своего времени. Именно так о нем отозвался Фео-
харий Кессиди, выпускник философского факультета,
опубликовавший о Белецком статью в журнале «Философские науки»
(1997. № 2). Ныне Кессиди живет на родине своих предков —
в Греции. В последний свой приезд в Москву в 1998 г. он
подарил мне оттиск своей статьи о Белецком, семинары которого
столь памятны и для Кессиди и для меня. Мне пришлось
участвовать в этих семинарах, и даже однажды я сделал там доклад о
работе Герцена «Письма об изучении природы», одобренный,
как я помню, самим профессором Белецким.
Мое упоминание о «феномене Белецкого» оправданно,
полагаю, тем фактом, что, имея диплом врача, Белецкий после
окончания знаменитого Института красной профессуры с 1934
по 1943 г. был бессменным партсекретарем Института
философии АН СССР. Личность руководителя, как правило, кладет
неизгладимый отпечаток на стиль учреждения. В данном
случае, для такого стиля, заданного Белецким и, наверное, не
Вспоминая прошедшее 357
только им, характерна непоколебимая уверенность в
абсолютной истинности высказываемого, беспощадность в оценках и
«непримиримость» по отношению к другим мнениям, в чем-то
отличным от заданного. Я еще застал влияние этого стиля,
проявленное в облике людей, их поведении и характере
публичных выступлений. В особенности это наблюдалось при
обсуждении каких-либо рукописей или книг. Влияние это
сохранялось, несмотря на то, что Белецкого сменили более
молодые, но по-своему не менее «идейные» руководители, такие
как Г.Ф.Александров (1908-1961), М. Т. Иовчук (1908—
1990), Д. И. Чесноков (1910-1973) и др.
Странность идеологической ситуации, смысл которой я
тогда не мог, да и не пытался уяснить, заключалась, как я ныне
могу оценить, в том, что более молодое поколение, рвавшееся
к руководству так называемым «философским фронтом»,
было профессионально более подготовленным — эти люди
обращались к истории философии и по-своему ценили эту
историю. В то время как Белецкий полностью отрицал
значимость истории философии для уяснения марксистской
философии, в особенности это относилось им к западной философии
(русская философия была для него исключением). Белецкий
настаивал на том, что марксистская философия является
прямым выражением интересов пролетариата. Все
историко-философские идеи, высказанные до Маркса, — это всего лишь
мыслительный материал. «Перед философией, — говорил он
на философской дискуссии в 1947 г., — на первом плане
стояли не столько интересы знания, сколько политические
интересы того или иного класса, государства»*. Отсюда
Белецкий убедительно заключал, что философия марксизма как
теоретическое выражение интересов трудящихся не может быть
продолжением и ни в коем случае не является «синтезом
предшествующих философских учений».
К сожалению, сам стиль непримиримой, беспощадной
борьбы с «невежественным догматизмом» (такая оценка была дана
позиции Белецкого), стиль, воспринятый новым тогда
поколением философов у критикуемых ими догматиков, как ныне
можно оценить, привел к тому, что у более образованного
поколения произошло забвение принципов высокой теорети-
зации. Это забвение сопровождалось еще и потерей
нравственных ориентиров. У меня сложилось представление, что,
* Вопросы философии. 1947. № 1. С. 317.
358 Н. Ф. Овчинников
наверное, это забвение и эти потери завязаны в один
неразделимый узел. Все это приводило к тому, что философ начинал
некритически ориентироваться на «указания» свыше, теряя из
виду независимые содержательные аргументы, невольно
игнорируя их. Тем более, что такая позиция обеспечивала
«выживание». С прискорбием приходится вспомнить, что потеря
нравственных ориентиров сказалась и на последующих поколениях.
Я многое не понимал тогда, погруженный в идеологическую
круговерть, пытаясь вырваться из нее и тем самым все более
запутываясь в ней. Идеология всегда спекулирует на истине,
упрощая и незаметно деформируя ее, приспосабливая к своим
заданным целям. Истинное в идеологии проглядывало,
пробиваясь сквозь словесный туман, и манило меня. Иногда, как я
теперь могу оценить сам себя, хотя и редко, но был пленен
идеологемами. А как отделить идеологическое от достоверного?
Вопрос риторический — нет общего ответа. Только конкретная
ситуация вынуждает к поискам истинного здесь и теперь. То,
что очевидно ныне, совсем не было так очевидно тогда.
Тогда я не мог себе уяснить странность происходящего на
философском факультете — некоторые студенты старших
курсов и творчески работающие аспиранты становились
восторженными поклонниками Белецкого. Только теперь я могу
оценить их нравственное чутье — их привлекало в личности
Белецкого не столько содержание его идей, сколько
самостоятельность и независимость мысли. Он убежденно отстаивал
свое понимание философских идей, не оглядываясь на
высказывания «вождей». Он позволял себе даже несогласие с
высказываниями классиков марксизма, хотя и не афишировал
это несогласие. Но мы знали о его критическом отношении к
некоторым утверждениям классиков. Белецкий умел это
донести до нашего сознания. Это привлекало молодые умы к его
личности.
Я в то время был избавлен от непосредственного
погружения в упомянутую парадоксальную ситуацию просто потому,
что мои теоретические интересы (философия физики) были
далеки от тех проблем, которые обсуждались на семинарах
Белецкого и которые касались по преимуществу социально-
исторических предметов. Я всматривался в философские
баталии отстраненно и, если употребить модный термин, остра-
пенно. Ситуация, которую я наблюдал, казалась мне
странной. В силу сказанного я, наверное, не сумел сразу схватить
тех глубинных мотивов, которые могут обнажиться только при
последующих, более зрелых размышлениях. Тогда я внутренне
Вспоминая прошедшее 359
осуждал молодых и, как казалось мне, слишком восторженных
поклонников идей Белецкого. Мне казалось, что они
восприняли в особенности его идею решительного отрицания
значимости непреходящих результатов мыслителей прошлого. Я не
мог с этим согласиться. Моя внутренняя оценка их позиции,
как я теперь могу себя понять, была в то время
односторонней — я весьма упрощенно оценивал ситуацию, связанную с
отношением к личности Белецкого.
При всем различии уровней философской культуры и
коренных расхождений в оценке и понимании философских
принципов, стиль полемики, как я воспринимал тогда этот
стиль и как осознаю это ныне, был один и тот же —
беспощадность и непримиримость к противнику. Это был стиль не
только Белецкого, но и его сравнительно молодых
антагонистов, пришедших к руководству институтом философии в
конце войны и после нее, когда мне пришлось поступить в
аспирантуру института. Вскоре я ощутил этот стиль,
непосредственно наблюдал его действие. Вот как это случилось.
Философские разборки
В год моего поступления в аспирантуру, в 1947 г., вышла
книга Б.М.Кедрова (1902—1985) «Энгельс и
естествознание». Мой интерес к этому исследованию был вполне
оправдан, естествен — я ведь только что поступил в сектор
«Философия естествознания». У меня сохранился экземпляр книги,
на котором отмечена дата покупки — 20 октября 1947 г.
Вскоре, где-то в конце этого года, состоялось ее обсуждение.
Ко времени обсуждения я успел прочитать этот весьма
объемистый том. Появление философской работы, написанной
современным автором, тогда было событием. Для меня ее
чтение было первой попыткой усвоения новых, более
специальных проблем философии науки.
В здании на Волхонке, 14 большой зал на втором этаже был
заполнен. По-видимому, пришли не только философы, но и
специалисты в конкретных областях науки. Обсуждение открыл
президент Академии Сергей Иванович Вавилов (1891 — 1951).
Я могу припомнить лишь общий настрой его краткого
вступительного слова — он призвал к деловому и
аргументированному обсуждению книги. Однако последующие ораторы не вняли
призыву президента. Их выступления повергли меня в
смятение — началась не критика, а поношение автора книги, обви-
360 Н. Ф. Овчинников
нение во всех идеологических грехах. Я не имел понятия, кто
именно выступает — думаю, что не только философы — я не
мог различить ораторов по стилю их выступлений. Мне
казалось, что все говорят на один манер, принятыми оборотами
идеологических штампов. Подумалось, что я присутствую на
заранее организованном избиении, цель которого только в том,
чтобы устрашить и напугать слушающих — пусть будет
неповадно каждому писать какие-либо книги. Это позволено только
вождям. Мне представилось тогда, что автору книги оставалось
только покаяться и, подняв руки, уйти со сцены под конвоем.
Сам стиль беспощадного шельмования, выражаясь
современным языком — клановые разборки, конечно, был мне
знаком. В среде физиков и вообще естественников было
всякое — никто не был избавлен от идеологического влияния.
Подвергали беспощадной критике и своих, но особенно модно
было уничтожающе поносить «буржуазных ученых». На
физическом факультете МГУ профессор Леднев (и не только он) в
те годы решительно критиковал принципы теории
относительности Эйнштейна, используя при этом идеологические
аргументы. В известной сатирической поэме «Евгений Стромын-
кин», написанной талантливым физиком и замечательным
человеком (как о нем отозвались его коллеги) Герценом Копы-
ловым, есть такие строчки: «Я был при том, когда Леднев /
Льва одряхлевшего Эйнштейна, / Собрав профессоров кагал, /
Ногой бестрепетной лягал» (когда-то поэму можно было
прочесть только в самиздате; ныне она опубликована в журнале
«Вопросы истории естествознания и техники». 1998. № 2).
В те годы господствовал общий настрой на беспощадное
разоблачение всего и всякого. И на философском факультете
приходилось слышать нечто подобное. Мне тогда казалось, что
этот стиль идет от некоторых особенно пассионарных
личностей. Но здесь, в Институте философии, уровень пассионарно-
сти превысил все нормы человечески допустимого.
Отдельные личности с их пассионарностью приходят и
уходят, но как быть, если то, что я слышу — обычный стиль
философского разговора в академической среде! Как это далеко
от неторопливых бесед в диалогах Платона. То, что я
слышу — это же не обсуждение философских предметов, не
дискуссия и даже не драка, а избиение. В какую же новую среду я
вломился! У кого мне здесь учиться и чему?
Но вот появился на трибуне виновник происходящего. К
моему удивлению, Кедров не выглядел избитым или даже
смущенным. Аргументированно и вместе с тем темпераментно, а порою
Вспоминая прошедшее 361
и язвительно по отношению к некоторым его критикам, он одно
за другим отметал их поношения. Было очевидно превосходство
автора книги перед его противниками. Осмысливая теперь
происходившее полвека тому назад, я могу сказать, что его
возражения критикам невольно осознавались слушателями как
убедительные и обоснованные. Во всяком случае, так все это вос-
пронималось мною тогда и так запомнилось. Чувствовалось,
что автор книги профессионально знал предмет —
теоретические проблемы науки и ее историю. Вместе с тем он с таким
знанием и пониманием текстов обращался к авторитету
классиков марксистской философии, что нападки его хулителей,
пытавшихся аргументировать цитатами, оборачивались всего
лишь примитивной интерпретацией известных высказываний
классиков. Становилось очевидным, что Кедров не просто знает
ортодоксальные идеи, но стремится осмыслить их в контексте
истории научного знания и современных проблем науки. Это
поднимало его над крикливыми критиками.
Конечно, тогда все оценивалось мною скорее
непосредственно эмоционально, чем рационально. Только спустя годы я
начинал понимать, что Кедров в своей аргументации и в своих
возражениях критикам оказывался не столько внутри
ортодоксальных концепций, которые он, безусловно, разделял,
сколько вместе с тем и поднимался над этими концепциями. Внешне
это представляется парадоксальным. Но для человеческой
мысли быть внутри системы воззрений и вместе с тем уметь
подниматься над этой системой вполне возможно и даже, по
высокому критерию, необходимо. Более того, это —
фундаментальная способность человеческого разума, в его отличии
от рассудочной мысли, подниматься над своими собственными
суждениями. Локк представил образ этой способности в виде
особенного глаза, который не только видит предметы вне его,
но еще и может наблюдать самого себя. Такой рефлексивный
поворот мысли предъявляет человеку высокие требования —
глубокое знание предмета и владение методологической
культурой мышления.
Личность, искренне убежденная в истинности классических
философских идей, осознает, что новая эпоха требует новых
аргументов, опирающихся на современное знание, а в нашу
эпоху прежде всего на научное знание. Антагонисты Кедрова
этого, я полагаю, рационально не осознавали, но каким-то
внутренним чутьем чувствовали его превосходство в этом
отношении. Отсюда, по-видимому, их особенно непримиримая,
беспощадная идеологическая критика.
362 Н. Ф. Овчинников
Все услышанное мною эмоционально запомнилось потому,
что после сцены публичного избиения я услышал человека,
который может стать примером личности, привычно живущей в
этой странной атмосфере непримиримой драки и все же
отстаивающей свои принципы, свои идеи, сохраняющей свои
способности к творчеству. Я почувствовал, что при всей пугающей
странности нового для меня сообщества философов, все же и
здесь, в этом сообществе, можно найти островки жизни, пусть
трудной, но не исключающей возможности общения и поисков
понимания волнующих проблем. Я увидел, что есть люди, у
которых можно чему-то научиться, кто являет собою образцы
поведения и кто, несмотря на мрачную атмосферу, которую
пришлось почувствовать на обсуждении книги Кедрова, находит
свои пути мысли. Сейчас, думая о начале своей работы в
аспирантуре сектора, я могу сказать (так я ныне думаю и чувствую),
что именно Кедров непреднамеренно придал мне решимости
оставаться в философской среде и попытаться осмыслить
избранную тему диссертации. Возможно, почувствовал я, что
прояснение смысла некоторых интересных для меня
физических понятий может иметь более широкое значение.
Ныне я читаю другие оценки личности Б. М. Кедрова. Кое-
что в них схвачено верно — Кедров действительно с детства
был погружен волею судьбы в марксистское мировоззрение и,
будучи зрелым человеком, истово отстаивал свое понимание
проблем и конкретных ситуаций, возникающих в ходе нашей
нелегкой жизни.
Все дело в том, в какой тональности подавать известные
факты из жизни человека. Скончался Кедров в год начала
перестройки — в 1985 г., когда избавление от прежних
испытаний принесло нам новые, неожиданные и потому, быть может,
еще более трудные. Впрочем, легких времен не бывает в
человеческой истории — каждое время трудно по-своему. Кедров
не менял свои воззрения под влиянием каких-либо
сиюминутных веяний. Он последовательно, как я могу судить, защищал
воспринятое им мировоззрение, и это вызывает у меня скорее
уважение к личности, чем отрицательное отношение к ней.
Легко сейчас подвергать разносной критике людей того
времени, разделявших принятое мировоззрение. Труднее
осознать, что существо дела не в содержании идей, которые мы
защищаем или напрочь отвергаем, но в том, как и ради чего мы
это делаем. Так было во все времена, так происходит и в наше
время. Не надо большого труда, чтобы понять, ради чего
человек защищает или отвергает какие-либо идеи. Часто это видно
Вспоминая прошедшее 363
непосредственно — ныне достаточно посмотреть на экран
телевизора. В те далекие времена мы не имели такой
технической возможности.
Но я долгие годы имел возможность общаться с Кедровым и
могу свидетельствовать не только по его публикациям: его
воззрения были искренними, и это отличало его от многих
других пропагандистов ортодоксальных воззрений, которые часто
провозглашали приверженность этим воззрениям ради
научной или политической карьеры. Современные критики, к
сожалению, иногда воспринимают и усваивают стиль
беспощадного разноса, характерного для идеологических баталий того
времени, которое является предметом их критического
интереса. Они не осознают, как поразительно они похожи по
своему стилю на тех, кого мне приходилось слышать полвека тому
назад. Они воспроизводят картину философских разборок того
далекого времени, только уже с противоположных позиций.
Я вижу, как часто возникает и захватывает людей пагубный
феномен «высокомерия современности».
Иногда восторг от свободы, понятой как своеволие,
свойственный некоторым нынешним критикам, достигает такой
высоты, что он, критик, не замечает небрежностей и
двусмысленностей в своих поспешных оценках прошедшего. В
петербургском философском журнале «Сфинкс» № 1 за 1994 г. я
прочитал, например, следующее утверждение: «...Б. М.
Кедров после расстрела отца и младшего брата отдает все силы
борьбе с раболепием и низкопоклонством...» (С. 34
указанного журнала). Что тут скажешь — как хотите, так и понимайте.
Нынешний критик, полный восторга от предоставленной ему
свободы и необремененный заботой о конкретном анализе
конкретных ситуаций, совершавшихся в прошлом, не
замечает, что он написал прямо противоположное тому, что хотел
сказать. Если Кедров отдавал все силы борьбе с «раболепием
и низкопоклонством», то это — заслуживающая уважения
характеристика личности во все времена.
В любую историческую эпоху существуют люди, которые,
будучи внутри господствующей идеологии, оказываются
способными подняться над ней в область общечеловеческих
ценностей. Заметить и оценить таких людей нелегко —
необходимо проявить понимание всей конкретности той исторической
ситуации, в которой жил человек. Если позволительно
обратиться к далеким временам, то я упомянул бы среди таких
людей Фому Аквинского, который, будучи внутри особой формы
христианской системы воззрений, был убежден, что «для со-
364 Н. Ф. Овчинников
вершения нравственных поступков человек должен уважать
естественный порядок в личной жизни и в обществе» (я
процитировал высказывание Фомы по словарю Шмидта,
изданного у нас в 1961 г.). Кто же ныне, будучи в здравом уме, не
согласится с этим высшим принципом нравственного поведения,
сформулированного католическим религиозным философом.
Но вернемся в XX в. Я думаю, что имею основание
утверждать, поскольку в течение десятилетий знал Кедрова, общался
с ним, что он принадлежал именно к тем редким людям,
которые, искренне разделяя мировоззрение своего времени и
пытаясь развивать его, стремились подняться над сиюминутными
интересами. Для них важнее всего область общечеловеческого
и вечного. И если не всегда это стремление приводило к
искомым результатам, а иногда и к прямым идеологическим
оценкам, а порою и срывам, то это надо понимать как неизбежные
потери на трудном пути любой личности, в любую эпоху.
Нелегко подниматься над временем — оно крепко держит, а
порою и ломает человека. Существенно оценивать стремление к
непреходящим ценностям и осознавать, что люди различаются
не столько по типу мировоззрения, которое господствует в
данную эпоху, сколько по их личностным качествам.
Парадоксы времени
Так, с заочного знакомства с Кедровым на обсуждении его
книги, начались дни моего пребывания в аспирантуре сектора.
Постепенно я начинал привыкать к новым людям, к новому
образу мысли. Лавиной накатывались обязанности и
негаданные проблемы. Время сгущалось — обязательные семинары,
подготовка к кандидатским экзаменам, попытки осмыслить
избранную тему — понятия массы и энергии в современной
физике. И тут еще неожиданное — судьба еще раз приводит
меня к встрече с Белецким на факультете, куда я иногда
заглядывал. Я сталкиваюсь с парадоксом, затрагивающим одного
лишь меня. «Куда поступили? Жаль, что не к нам» — так
помнятся мне его первые реплики, когда он увидел меня
просто в коридоре факультета — нравы были просты (можно и
без кабинетов!). Признаюсь, подумал про себя — «это же
зависело от Вас». Но тут же Белецкий, не давая мне сообразить,
что ему ответить, предлагает мне преподавание философии на
физическом факультете МГУ по совместительству с
аспирантурой. Я согласился — это уплотнило мое время до предела.
Вспоминая прошедшее 365
А парадокс в том, что, внутренне не принимая оценку
Белецким предшествующей философской мысли, я иначе не
представлял и ныне не могу иначе представить преподавание
философии, как освоение классической философии. Тогда я не
осознал парадоксальность ситуации: только что сказанное —
это мое нынешнее размышление. Скорее, как помню, я
молчаливо удивился независимости личности Белецкого, который,
вопреки сложившейся практике, предложил преподавание
марксистской философии не члену партии. Так, как говорят, с
легкой, а я бы сказал в данном случае, с твердой руки
Белецкого я, еще будучи аспирантом, начал преподавание
философии на физическом факультете с 1948 г. и продолжал
преподавать (по совместительству) до 1960 г., когда на некоторое
время особым постановлением министерства работа по
совместительству была запрещена. Позднее все вернулось «на
круги своя». Совместительство было как-то неявно
восстановлено. Вскоре меня пригласили, после защиты докторской
диссертации, преподавать (также по совместительству) на
философском факультете МГУ. Я преподавал там с 1966 г. по
1970 г. Затем, с января 1971 г. по приглашению Б. М.
Кедрова я перешел из Института философии на основную работу в
Институт истории естествознания и техники АН СССР. Таким
образом, можно сказать, что я проработал в секторе
«Философия естествознания» чуть более двадцати трех лет,
совмещая в некоторые года основную работу с преподаванием.
Три года, проведенные в аспирантуре Института
философии, а затем и долгое время работы в секторе (после
окончания аспирантуры я сразу же был зачислен сотрудником) были
временем испытаний моих возможностей, временем удач и
провалов, временем прояснения волнующих проблем и
временем возвратов к состоянию отчаяния. Философия сама по себе
не избавляет от состояния безысходности, но, по словам
Боэция, может дать утешение. Мне трудно описывать картину
столкновений добра и зла, часто воплощенную в поступках
знакомых людей: подробности пережитого уходят из памяти, а
сохранившееся может дать одностороннее представление о
пережитом и о ситуации тех лет — люди еще живы и каждый
может оценить события по-своему. И все же многое
помнится, и порою возникают картины прошедшего. Но лучше я
попытаюсь вспомнить о людях, с которыми меня сводила жизнь
того времени, и прежде всего о тех, кто так или иначе оказал
на меня влияние. Тем более, что именно люди, с которыми мы
общаемся — дружим или расходимся — определяют напол-
366 Н. Ф. Овчинников
ненность нашего существования, так сказать, придают
необходимый колорит картине жизни.
Рассказывая о людях, я невольно вспоминаю технические
условия работы. Весь Институт философии занимал пять или
шесть комнат на четвертом этаже большого здания, включая
комнаты дирекции, бухгалтерии и вспомогательных служб.
Сектор «Философии естествознания» помещался за одним од-
нотумбовым столом в большой комнате — каждому сектору
по столу. Но рядом была библиотека, где можно было
получить необходимую книгу. Парадоксально, но факт состоял в
том, что теснота помещения создавала возможность
непосредственного общения — а это было благом. Я думаю, что
человеческое общение — это не просто единственная роскошь, по
выражению Экзюпери, но скорее хлеб наш насущный. В
тесной, заставленной столами комнате я непроизвольно имел
возможность встречаться и разговаривать с известным уже
тогда психологом С. Л. Рубинштейном, избранным в 1943 г.
членом-корреспондентом АН СССР. По господствующим
тогда представлениям, психология числилась в ранге
естественных наук. В то время в системе большой Академии наук не
было института психологии. Насколько я могу помнить, ко
времени моего поступления в аспирантуру в Институте
философии уже был создан сектор психологии, заведующим
которого стал Рубинштейн. Но я могу предполагать, что, создавая
сектор «Философии естествознания» в конце войны, С. И.
Вавилов пригласил в качестве сотрудника сектора Рубинштейна,
поскольку, как я уже заметил, психология числилась тогда в
разряде естественных наук. И только позднее, возможно к
1946 г., выделился сектор психологии, который имел стол в
той же комнате, что и сектор «Философии естествознания».
Я не очень вникал в подробности структурных подразделений
института, и потому первоначально у меня создалось
впечатление, что психологи являются сотрудниками нашего сектора.
Так или иначе, главное было в том, что теснота — нет худа без
добра — позволяла мне общаться не только с Рубинштейном,
но и с всемирно известной Н. Н. Ладыгиной-Коте,
написавшей удивительную книгу «Дитя шимпанзе и дитя человека».
Вспоминаю, что в те годы зоопсихология, в которой она была
специалистом, находилась под подозрением — не то как «не-
донаука», не то как «псевдонаука». Способствуя приему Ла-
дыгиной-Котс в Институт философии, Рубинштейн смог тогда,
в 1947 г., до начала всеохватывающей борьбы с
космополитизмом, взять зоопсихолога под свое покровительство.
Вспоминая прошедшее 367
Когда я пришел в сектор, к заведованию им только что
приступил И. В. Кузнецов. Вавилова в качестве зав. сектора я
уже не застал. Иван Васильевич позднее рассказывал мне, что
сектор «Философия естествознания» был создан по
инициативе С. И. Вавилова. Сергею Ивановичу удалось убедить
партийные власти в том, что важнейшее условие успешного
развития фундаментальной науки в стране заключается в
развертывании основательных исследований по философии науки.
Первоначально С. И. Вавилов принял на себя руководство
сектором в Институте философии, надо думать, по
совместительству с основной работой. У меня нет документальных
подтверждений сказанному — но так я запомнил рассказы
И. В. Кузнецова о роли Сергея Ивановича Вавилова в
организации сектора. Это были последние годы войны — пора
больших ожиданий и надежд на возрождение свободной,
нормальной творческой жизни, время надежд, которые, несмотря на
немыслимые тяготы войны, поддерживали людей в нашей
тогда не просто нелегкой, но порою до боли невыносимой жизни.
В те годы трудно было найти специалистов, которые могли
бы успешно развивать задуманное Сергеем Ивановичем
направление исследований. Не отдельные философские
«вопросы» естествознания, но систематическая разработка
философии науки планировалась им как предмет основательных
трудов в созданном им секторе.
Вавилов зачислил в свой сектор молодого тогда
физика-теоретика М. А. Маркова, ныне, увы, скончавшегося академика,
получившего это звание в 1966 г. Мне известно по довоенным
публикациям — Марков, еще в свои совсем молодые годы,
проявлял основательный интерес к философским проблемам
своей науки. Будучи одним из первых сотрудников сектора,
Марков написал, как тогда говорили, в порядке плановой
работы, серьезное исследование — книгу «О природе
физического знания». Книга в полном объеме так и не увидела свет.
Но автор на основании результатов своей работы, по
рекомендации Кедрова, подготовил статью, которая была
опубликована в журнале «Вопросы философии» (1947. № 2). К статье
было предпослано «Несколько слов», написанных С. И.
Вавиловым, представлявшим статью читателям журнала.
Я попытаюсь высказать несколько слов, предельно кратко
поясняющих основные положения статьи Маркова. Автор
статьи отмечает, прежде всего, что для физики середины XX в.
характерно погружение ее специально-научных идей в
классические проблемы теории познания. Это утверждение Маркова, я
368 Н. Ф. Овчинников
думаю, справедливо и для физики наших дней. Содержание
основных физических теорий с новым накалом мысли возвращает
нас к проблеме истины — возможно ли точное и достоверное
знание внешнего мира. Современные физические теории
радикальным образом меняют постановку классической проблемы.
Атомы классической физики также ненаблюдаемы, как и
элементарные частицы современной физики; но своеобразие
квантовой физики обнаруживается в том, что законы классической
механики неприменимы к микромиру. Основное содержание
статьи Маркова сводится к попытке ответить на вопрос: в чем
именно выражается упомянутая неприменимость?
В классической теории состояние частицы (состояние покоя
или движения) в определенный момент времени
характеризуется ее точным положением (координатой), ее массой и
скоростью (иначе — импульсом). В квантовой теории вводится
своеобразный принцип запрета: невозможно никаким
экспериментом зафиксировать одновременно точно координату частицы и
ее импульс (речь идет об известных соотношениях
неопределенностей). Этот запрет вполне аналогичен утверждению о
невозможности построить вечный двигатель, получающий
энергию «из ничего». Продолжая эту мысль Маркова, можно
сказать, что построение теории с новым запретом свидетельствует
о существенном продвижении научного познания. Появление в
физическом знании нового запрета дает критерий отличия
квантовой механики от классической. С указанным квантовым
запретом связано введение в квантовую физику вероятностных
представлений. «В начальный момент, — пишет автор, —
задаются вероятности найти частицу в любом месте пространства
и при этом отыскивается, как изменяется эта вероятность к
любому другому моменту времени»*.
Марков подчеркивал: как бы ни был странен мир
ненаблюдаемых частиц, знание их поведения приходится выражать при
помощи классических понятий. Макроприбор играет роль
переводчика, вернее, сказали бы мы, роль словаря, с помощью
которого осуществляется смысловой перевод с микроязыка на
макроязык. Но в целом язык квантовой теории — это особый
язык: в нем микромир предстает как некое подобие кентавра —
человека и лошади одновременно. Микрочастица подобна
античному образу, созданному художественной фантазией — это
* Марков М. А. О природе физического знания // Вопросы философии.
1947. № 2. С. J 45.
Вспоминая прошедшее 369
«волна-частица». Такие кентаврообразные объекты удалось
выразить на языке математики. Для того чтобы проникнуть в
реальный физический мир, необходимо подвергнуть
математические языковые формы «добавочным условиям». Главное из
этих условий — сохраняемость математически формулируемых
законов для различных наблюдателей: покоящегося и
движущегося. Физики называют это требованием инвариантности.
Статья Маркова «О природе физического знания» задала
определенный образец исследований по философии науки.
Для этой статьи характерно глубокое проникновение в
реальные проблемы развития науки в данный исторический момент
и, вместе с тем, высокая философская культура
исследователя. Обращая ныне внимание на указанные характеристики
статьи, я вынужден заметить, что со статьей Маркова связан
еще один парадокс, свойственный тому времени. Будучи
образцом глубоких исследований по философии науки, статья
вызвала непомерный гнев со стороны партийных властей. За
публикацию «порочной» статьи Маркова, равно как и за
другие идеологические грехи, был снят с должности главного
редактора журнала Б. М. Кедров. А автора статьи лишили права
преподавания физики в Московском университете. Правда,
вскоре идеологическая ситуация изменилась, и уже в
переломном 1953 г. физики избрали его членом-корреспондентом,
а в 1966 г. он получил звание академика.
И. В. Кузнецов — зав. сектором
В 1947 г. в институте был большой набор в аспирантуру. Но
мне помнится, что в сектор, которым начал руководить
И. В. Кузнецов, в этом году удалось поступить только мне.
Возможно, я кого-то упустил, не запомнил. Спустя года три
или четыре и в последующие годы появились новые
аспиранты. А в год моего поступления я познакомился лишь с
Николаем Будрейко, аспирантом Б. М. Кедрова, принятым в
аспирантуру годом раньше меня. После войны он проявил
настойчивый интерес к философским вопросам химии и, будучи в чине
полковника, с трудом добился демобилизации ради
поступления в аспирантуру к Кедрову. Помнится, он разрабатывал
тему, связанную с периодической системой Менделеева.
Волна повышенного интереса к философии науки тогда еще не
поднялась. Более того, как мне теперь открылось, заниматься
философскими вопросами науки было в те годы непрестижно,
370 Н. Ф. Овчинников
если не опасно. Ныне я думаю, что только отстраненность от
идеологических баталий и социальных глухих потрясений
позволяла наивным смельчакам стремиться к таким занятиям.
Специализация или погружение в общие вопросы науки часто
закрывают нам возможность всмотреться внимательнее в
окружающий социальный мир. И мы не подозреваем, что вошли
в область риска быть предметом обвинения в идеологических
грехах. Думаю, что Иван Васильевич осознавал всю
непростоту работы в секторе, созданном С. И. Вавиловым. Всегда
серьезное выражение лица, строгий и тщательно отглаженный
костюм, неторопливые и основательно аргументированные
суждения — таким помнится мне его облик. Он искренне верил
в систему воззрений времени и понимал непростоту
происходящего. Ничего лишнего в высказываниях — только
относящееся к делу. Он безвременно скончался после инфаркта в
конце 1970 г. Ему еще не было шестидесяти.
Возможно, примером рискованности занятий по философии
науки в то время может служить памятное мне обсуждение
книги И. В. Кузнецова «Принцип соответствия в современной
физике и его философское значение». Обсуждение проходило
в небольшом зале на пятом этаже института и по своему
настрою напомнило мне идеологическое избиение Кедрова при
обсуждении его книги «Энгельс и естествознание».
Книга И. В. Кузнецова вышла в 1948 г. В центре внимания
автора — связь классической и современной физики. Я
прочитал эту книгу, хотя был озабочен тогда темой своей
диссертации, и даже решился выступить на обсуждении. В традициях
того времени перед обсуждением была задана установка на
идеологический разнос книги. Сейчас это удивительно
осознавать, но тогда считалось нормой — если обсуждается книга,
то само собою понятно — книгу надо беспощадно громить.
Существовал какой-то неуловимый настрой, некая менталь-
ность, подкрепляемые мимолетными разговорами некоторых
сотрудников, о которых знали: они-то понимают, как надо
оценивать книгу и вообще как следует думать. В данном случае
известная всем установка была явно сформулирована в
заранее подготовленном тексте доклада М. Шахпаронова, тогда
доцента химического факультета МГУ, претендовавшего на
роль философского арбитра.
Вспоминаю, что перед обсуждением докладчик благодарил
известного тогда философа, члена-корреспондента АН СССР
А. А. Максимова за то, что тот открыл ему, докладчику,
«истинный» смысл книги. Неисправимый порок книги состоит в
Вспоминая прошедшее 371
том, что ее автор пропагандирует идеи копенгагенской, а
следовательно, идеалистической школы. Логика рассуждений
критиков книги Кузнецова неотразимо проста —
материалистическая философия ставит вопрос о соотношении знания и
материального мира и настаивает на первичности материи.
В то время как Бор, глава копенгагенской школы, а вслед за
ним и Кузнецов, заняты сопоставлением классической и
современной физики, а значит, остаются в области знания и,
следовательно, пропагандируют идеалистическую трактовку
достижений науки.
Нападавших на книгу мало волновали содержательные
аргументы. Все обсуждение книги сводилось к различным
вариантам идеологических обвинений. Тогда я не совсем осознавал
всю силу идеологической заданности, которая толкала
выступавших к определенным оценкам книги. В своем выступлении,
как помнится, я кратко изложил содержание книги,
самоуверенно полагая, что уже само содержание убедит критиков в
правоте автора книги. Но моя наивная попытка дать
положительную оценку книги, как я вскоре понял, была истолкована
как простительная оплошность «незрелого» ученичества.
Иван Васильевич взволнованно, но с достоинством и с
присущей ему обстоятельностью отвечал на привычные ему
обвинения. Он детально разъяснял основные идеи книги и пытался
показать, что основной замысел его работы не только не
противоречит принципам марксистской философии, но скорее
подтверждает их. Он указывал, в частности, на понятное и
известное критикам учение об абсолютной и относительной
истине. Для меня это был урок стойкости в защите своего
понимания научных проблем. Признавая определенные упущения в
книге, типа необходимо «усилить критический настрой»
и т. п. — Кузнецов убежденно защищал то, что ныне можно
назвать научным, объективным подходом в исследованиях по
философии науки.
Я не знаю, что происходило в административной кухне
института после обсуждения книги, но Кузнецов был оставлен зав.
сектором. Может быть, думаю я, сыграла роль поддержка
президента АН СССР С. И. Вавилова. На обсуждении книги
говорилось, что идея написать книгу о принципе соответствия была
подана Вавиловым, который называл принцип соответствия
«загадочным» и полагал, что именно Иван Васильевич сможет
основательно исследовать философский смысл этого принципа,
снимая с него ореол загадочности. Думаю, что для своего
времени он основательно реализовал замысел Вавилова.
372 Н. Ф. Овчинников
Среди памятных мне событий и дел, думаю, будет
дополнительным штрихом, характеризующим время и людей, рассказ
о ситуации, связанной с книгой А. Ф. Иоффе «Основные
представления современной физики», появившейся в то
время. В этой ситуации для меня открылась еще одна
особенность личности Ивана Васильевича. Книга Иоффе —
общедоступное изложение достижений физической науки. В ней,
по ходу изложения, автор дает краткие философские оценки
(в духе марксистской философии, как он ее понимал)
изложенных им законов и открытий. Можно сказать, что
изданием этой книги наш выдающийся физик хотел в то
идеологически смутное время — 1949—1950 гг. — написать, так
сказать, охранную грамоту. Я внимательно прочел эту книгу и
сообщил Ивану Васильевичу, что хотел бы написать на нее
рецензию. К моему удивлению, он предложил мне сделать
это как можно скорее. Подготовленный мною текст, в
котором я подчеркивал достоинства книги, он, в сущности,
переработал, придав рецензии критическую направленность.
Предложив мне выступить совместно, Иван Васильевич
направил рецензию в журнал «Успехи физических наук», где
она и была опубликована («УФН». Т. 45. 1951. Вып. 1).
Если нынешний историк имеет дело лишь с опубликованным
текстом рецензии, не давая себе труда вникнуть в конкретный
анализ ситуации, то он с кажущейся убедительностью выносит
приговор рецензентам — они подвергают резкой критике
воззрения выдающегося физика. Однако за текстом скрывались
устремления некоторых людей, увидевших в книге повод для
идеологической драки. Рецензенты стремились охранить автора
книги от разносных обвинений, смягчить грозящую критику.
Как объяснил мне тогда Иван Васильевич, редакция
физического журнала получила рукопись рецензии от А. А.
Максимова, в которой Иоффе действительно обвинялся во всех
возможных и в то время наиболее опасных для автора книги
идеологических пороках. Единственный способ, отказать в публикации
такой «доносной» рецензии, это сообщить автору, что в
портфеле редакции уже есть рецензия и что редакция приняла
решение к ее публикации. Я не видел рукописи рецензии
Максимова, но со слов Кузнецова я знаю, что эта рецензия была и
«доносной», и разносной. Вот почему редакция попросила
Кузнецова, чтобы он срочно написал о книге Иоффе. В редакции
понимали, что Кузнецов оценит книгу в основном
положительно, хотя и представит текст, не лишенный критики.
По-видимому, все было так срочно, что зав. сектором поторопил меня с
Вспоминая прошедшее 373
текстом рецензии, которую я уже готовил. Наша совместная
рецензия действительно была критической — это было в духе
времени. Но вдумчивое рассмотрение историка могло бы
убедительно показать, что наша рецензия спасала автора книги от
захлестывающих идеологических обвинений, которые
составляли содержание рецензии Максимова, ибо мы не обвиняли
автора в идеалистических или антимарксистских пороках, но лишь
призывали автора к последовательности. Я хотел бы призвать
историка более внимательно прочитать хотя бы название
опубликованной рецензии: «За последовательное диалектико-мате-
риалистическое освещение достижений современной физики».
Обратим внимание — не «против», как это было в рукописи
рецензии Максимова, а «за»! В этом существенная разница.
К сожалению, этого не оценил и автор книги, высказав
недовольство нашей рецензией — ему простительно: он не мог
знать предыстории. А нынешний историк обязан проникать в
конкретность описываемых им ситуаций.
В современной оценке ментальной атмосферы прошедших
десятилетий слышу иногда упрощенную схематизацию — бы-
ли-де ортодоксы, им противостояли редкие борцы. Словом,
были белые и красные. Полагаю, однако, на основании опыта
своей жизни, что в реальности того времени картина
человеческих характеров, умонастроения и поведения была намного
сложнее, жизненно разнообразнее. Я уже заметил, вспоминая
свои впечатления при обсуждении книги Кедрова «Энгельс и
естествознание», что самим ходом жизни во все исторические
времена формируются люди, которые, оставаясь в плену
времени, имеют силы подниматься над ним. Они, в особенности в
острых ситуациях, способны проявлять извечные подлинно
человеческие качества — здравый смысл, знание своего дела,
стремление понять и поддержать в трудных ситуациях своего
ближнего. Эти качества превыше всякой идеологии. Именно
это наблюдение поддерживает во мне оптимизм. Только
теперь, спустя годы, я с особенной остротой осознаю, что Иван
Васильевич принадлежал именно к таким редкостным людям.
Его общечеловеческие черты сдерживали и смягчали
беспощадность идеологических верований. В текущей жизни он был
почти как все. Но в критических ситуациях обнаруживалось
его явное отличие от тех, кто исповедовал и демонстрировал
свою веру ради личного успеха.
Очерченная особенность человека порождает
напряженность его жизни. Именно такая напряженность, как я думаю,
привела его к трагическим по своим последствиям столкнове-
374 Н. Ф. Овчинников
ниям с носителями властной идеологии. Я отвлекусь от
подробного описания этих столкновений. Думаю, что со временем
об этом будет еще написано. Замечу только, что он внутренне,
насколько я мог невольно наблюдать, с невыразимой болью
переживал упомянутые столкновения. Напомню только, что
он скончался на пятьдесят восьмом году жизни после второго
инфаркта.
И еще: его устремленность к принятию идеологии, вера в
нее, привела его однажды к досадному срыву. Это произошло
на моих глазах. В 1952 г. он опубликовал статью с разносной
критикой теории относительности Эйнштейна. Я, тогда еще
молодой сотрудник, прочитал эту статью в рукописи. Мои
попытки смягчить критику не имели успеха — в те дни Иван
Васильевич, вспоминаю, был в состоянии некой возбужденности.
И хотя он, с присущим ему вниманием к любым словам
собеседника, выслушал мои замечания, тем не менее, к моему
сожалению, не принял их во внимание. Небольшие вставки не
могли изменить весь тон и всю направленность статьи.
Что же произошло? Могу только высказать
предположение. Вспомним философскую дискуссию 1947 г. В докладе
Жданова говорилось о «последователях Эйнштейна»,
которые обращают бессилие своей науки в клевету против
природы. Идеолог того времени заимствовал эти слова у Фрэнсиса
Бэкона, применив их к теории XX в. В кругах, близких к
аппарату ЦК, это высказывание Жданова, как можно было понять
из разговоров о философской дискуссии, выражало мнение
Великого Мыслителя всех времен и народов. Этим разговорам
можно было поверить, потому что С. Г. Суворов, влиятельный
человек в аппарате ЦК тех времен, говорил Кузнецову, что он,
прочитав подготовленный заранее текст доклада, советовал
Жданову снять это место об Эйнштейне. Но Жданов не внял
совету Суворова.
Вдумываясь в переплетение философских оценок науки и
идеологических страстей того времени, я не могу найти
другого объяснения того порыва, который властно захватывал умы
и, в данном случае, обратил Ивана Васильевича к разносной
идеологической критике известной физической теории. Он
поспешил по-своему развить упомянутые оценки физической
теории, приведенные в докладе Жданова. Можно сказать еще
и так — тут проявил себя своеобразный парадокс, возникший
в силу непомерно серьезного отношения к идеологемам того
времени — искреннее отношение к ним, как я думаю,
неизбежно порождало столкновение с действительно научными
Вспоминая прошедшее 375
теориями. Легко было поддаться обману — идеология искусно
наряжалась в научные одежды. В таких случаях отрезвление
приходит не сразу. И все же наступило понимание реальной
ситуации. Вскоре Кузнецов, без публичного раскаяния,
выступил с ясной и подробной оценкой знаменитой физической
теории. Критический анализ теории относительности на этот раз
был полностью лишен идеологической тональности.
Сектору «Философия естествознания» не очень везло с
постоянством руководства. Кузнецов был вынужден уйти по
настоянию президента С. И. Вавилова в редакцию
«Энциклопедии». На некоторое время он вернулся в сектор и снова ушел
по воле вышестоящих. А потом первый инфаркт, и Кузнецов
был вынужден после выздоровления работать дома. Но для
меня он оставался и остается знаковой личностью, с которой
связаны решающие и творчески плодотворные события в
истории не только сектора, но и Института философии. Его
деловое внимание к работе каждого сотрудника, его умение
соединить общие задачи с индивидуальными склонностями
работников сектора, его стремление освободить сотрудника от
чисто формальных требований, — все это и многое другое,
трудновыразимое, создавало условия плодотворной работы.
Для него было естественным с уважением и пониманием
относиться к любому сотруднику и аспиранту сектора. Вспоминаю
удивительную ныне для меня основательность работы
секретаря сектора Валентины Ивановны. Она была доброй и
деятельной хозяйкой сектора, принимая на себя заботу о каждом
сотруднике. К сожалению, традиции, заложенные
Кузнецовым, со временем рассеивались. Все последующие
руководители сектора как-то незаметно для нас — сотрудников —
превращали секретаря сектора в своего личного подчиненного.
Каждый сотрудник, не говоря уже об аспирантах, оказывался
предоставленным самому себе по всем техническим
вопросам — печатания подготовленных статей, связи с
издательством, многочисленных документации и т. п.
Мне трудно обращаться памятью ко многим лицам, с
которыми невольно сталкивала меня жизнь. Но я упомяну
безымянно одного человека, который, как мне сейчас
представляется, может являть собою некий социальный тип времени.
В нем воплотились особенности поведения, свойственные
многим. Именно у него секретарь сектора оказывался сугубо
его личным секретарем. Хотя, конечно, присутствовали у него
и неповторимые черты. Он был захвачен идеей диалектики.
Само по себе это еще не дает основания какому-либо оценоч-
376 Н. Ф. Овчинников
ному суждению. Я знал и близко общался с некоторыми
философами, основательно погруженными в гегелевские идеи.
Я многому научился у них — их увлечение диалектикой
поднимало над преходящим. Но тот, о котором я хотел бы
упомянуть, осознавал диалектику в прямо противоположном
смысле — это великое учение оказывалось у него сиюминутным
символом лояльности.
Будучи руководителем, он настойчиво обязывал каждого
сотрудника упоминать в статье, а тем более в книге, слово
«диалектика». По такому критерию им оценивались
представленные ему тексты — есть в тексте слово «диалектика», значит,
статья вполне на уровне, нет этого слова, статья совершенно
не годится.
За упомянутым критерием скрывалась определенная
жизненная позиция, своеобразное методологическое правило —
не только можно, но и необходимо сразу же, особенно не
раздумывая, мгновенно изменять свои оценки, свои убеждения на
прямо противоположные, если изменились идеологические
установки, идущие от властей. В книге, вышедшей вскоре после
войны, ревнитель диалектического подхода к науке высоко
оценил воззрения Н. Бора за его вклад в диалектику
естествознания. Надо думать, что книга писалась в конце войны, в
годы ожидания светлых перемен в жизни и в свободе
творчества. Но вот в конце 40-х и начале 50-х гг. идеологические
установки партийных властей резко изменились. Автор спешно
пишет новую книгу на ту же тему, хотя и с другим названием.
В этой книге, по законам диалектики, как он ее понимает, тот
же автор развертывает прямо противоположную оценку
воззрений великого физика. В этой второй книге Бор уже
идеалист и метафизик, иначе, антидиалектик. Книги издаются не
скоро — вторая книга вышла только в 1956 г.
Идеологический настрой к этому времени изменился, на этот раз в
сторону более лояльного отношения к западным ученым. В
соответствии с законом диалектики, а именно с «законом отрицания
отрицания», автору пришлось, конечно на новом уровне,
возвращаться к оценкам воззрений Н. Бора, развитым в первой
книге. И действительно, в последующих статьях и книгах того
же автора выдающийся физик Н. Бор снова заслуживает
звания выдающего диалектика в науке XX в. Я не называю имени
автора этих книг потому, что для меня он характерный
феномен того времени. Невольно приходит мысль, что корни такого
феномена в социально-биологических факторах
приспособления к изменяющимся условиям жизни.
Вспоминая прошедшее 377
Встреча с научным руководителем
Не могу забыть странный для меня и вместе с тем
характерный для того времени эпизод из моей аспирантской жизни.
При поступлении в аспирантуру моим научным руководителем
был назначен Александр Александрович Максимов. О нем я
уже упомянул в связи с докладом Шахпаронова о книге
И. В. Кузнецова. Напомню, что вдохновителем разносного
доклада, по словам самого Шахпаронова, был именно
Максимов. В первые два года аспирантуры я не имел возможности
встречаться с моим научным руководителем потому, что он
почти не появлялся в секторе. Но после сдачи кандидатских
экзаменов мне сказали в дирекции, что необходимо
поговорить с научным руководителем.
Я постарался подготовиться к этой встрече. Заглянул в его
книгу «Введение в современное учение о материи и движении»,
изданную незадолго до войны. К сожалению, в моих квартирных
скитаниях тех лет я не сохранил этой книги и потому не могу
сейчас дать точную ссылку. Помню, что в ней дается доходчивое
изложение достижений физики XX в. Первый вопрос, который
мне хотелось бы уяснить у научного руководителя, относился к
его утверждению в книге, что, якобы согласно достижениям
современной физики, масса превращается в энергию. Я не мог
понять это весьма расхожее утверждение, часто встречающееся
в популярной литературе. Эйнштейн в своих работах говорит об
эквивалентности массы и энергии, но я не нашел в его
сочинениях утверждений о превращении массы в энергию и
обратно — превращении энергии в массу. Эквивалентность величин
не всегда означает их взаимные превращения. Мой вопрос
Максимову состоял в том, чтобы он прояснил для меня те
основания, по которым в данном случае эквивалентность означает
превращение. Кроме того, я хотел бы узнать, как можно
истолковать тот факт, что в одном месте книги В. И. Ленина
«Материализм и эмпириокритицизм» говорится об отсутствии всякой
массы у частицы, а в другом месте, в соответствии с данными
физики того времени, утверждается, что у электрона
отсутствует всякая масса, кроме электромагнитной. Значит, не всякая
масса отсутствует у частицы, но, по крайней мере,
электромагнитная масса имеется у нее.
Я приехал к Максимову домой. Он жил тогда на Ленинском
проспекте в академическом доме. Максимов внимательно
выслушал мои вопросы, помнится, сдержанно улыбнулся и стал
подробно рассказывать мне о том, как он в 30-х гг. успешно
378 Н. Ф. Овчинников
боролся с «менышевиствующим идеализмом». Думаю теперь,
что мои вопросы могли вызвать у него некоторые ассоциации
с тем, что, возможно, когда-то говорили те люди, которых, с
подачи вождя, стали называть этим странным именем —
«меньшевиствующие идеалисты». Так или иначе, он не
пытался ответить ни на один из моих вопросов. Вскоре подчеркнуто
вежливо проводил меня до дверей и мы расстались. На этом
закончились мои консультации с научным руководителем.
Примерно через неделю зав. сектором И. В. Кузнецов
вызвал меня для серьезного разговора. Хорошо помню, как мы
сидим за тесным секторским столом напротив друг друга.
Кузнецов говорит мне, что Максимов сообщил ему, заведующему
сектором, что у его аспиранта Овчинникова антиленинские
воззрения, связанные с темой диссертации. Необходимо сделать
выводы. Это был 1949-й г., и наша беседа происходила задолго
до того, как Иван Васильевич предложил мне написать
совместно с ним рецензию на книгу Иоффе. Это было время
особенно беспощадного идеологического давления со стороны
властей. Выводы могли быть, по тому времени, весьма
опасными — в лучшем случае отчисление, а в худшем... Зав. сектором
внимательно выслушал меня. Я, как мог, изложил ему мое
понимание темы диссертации, пытался рассказать ему и мое
толкование тех вопросов, которые я задавал Максимову. Это был
долгий и нелегкий для меня разговор. Тогда я не осознавал всей
опасности, идущей от сигнала, который запустил Максимов.
Хотя, конечно, ощущение смятения и ожидание неприятных для
меня решений сохранились в моей памяти. Разговор внешне
закончился простым пожеланием работать над избранной темой,
который мог быть лишь проявлением вежливости. Но
проходили дни, и я начинал понимать, что Кузнецов, взяв многое под
свою ответственность, оставил меня в секторе. В дальнейшем я
обращался по теоретическим вопросам уже к Кузнецову, и он
фактически становился научным руководителем.
Личное знакомство с Б. М. Кедровым
Вскоре после памятного мне разговора с Кузнецовым
состоялось мое личное знакомство с Кедровым. Так случилось,
что этому непреднамеренно способствовал Максимов, который
не оставил «заботу» обо мне. Надо отдать ему должное — он
передал свои оценки моих «незрелых» размышлений по
предмету диссертации лишь устно Кузнецову. По-видимому, желая
Вспоминая прошедшее 379
меня избавить от дальнейших промахов, он решил изменить
тему моей диссертации, предложив более актуальное и,
несомненно, более проходное по тем временам исследование. Он
сообщил об этом директору института Г. Ф. Александрову,
тогда только что приступившему к новой должности после снятия
со своего высокого поста — зав. отделом пропаганды ЦК.
Вскоре директор вызвал меня; тогда я был смущен и удивлен не
только содержанием, но и характером беседы. Академик при
моем появлении в его кабинете поздоровался за руку,
пригласил сесть и с каким-то тоном едва скрываемого превосходства
стал наставительно объяснять мне, что партия придает высокое
значение русской науке. Вот почему весьма актуально и
настоятельно необходимо разработать тему о философских воззрениях
великого русского ученого М. В. Ломоносова. Вы будете,
говорил он, крупным специалистом по Ломоносову. Мы во всем вас
поддержим, добавлял он. Я смущенно возражал — мне это
будет трудно. Осталось меньше года до окончания аспирантуры.
Кроме того, Ломоносов больше химик, чем физик — и я еще
что-то говорил, явно неубедительное. Александров счел эти мои
возражения не стоящими внимания и, поднявшись, дал понять,
что вопрос решен к обоюдному согласию. Я вышел из кабинета
директора весьма озадаченным.
А через несколько дней после разговора с директором, когда
мне пришлось об этом говорить с Кузнецовым, в комнату
стремительно вошел стройный высокий человек — таким он тогда
мне запомнился — и, обращаясь к Кузнецову, сказал: я только
что с заседания дирекции, у вас в секторе есть аспирант
Овчинников, мне удалось — продолжал он — убедить Александрова,
что тема диссертации аспиранта «Понятия массы и энергии»
весьма важная и актуальная тема и что надо предоставить
возможность аспиранту разрабатывать эту тему. Это был Бонифа-
тий Михайлович Кедров, будущий академик, а тогда доктор
философских наук. Так состоялось мое личное знакомство с
Кедровым, с которым я уже был знаком заочно, присутствуя на
обсуждении его книги «Энгельс и естествознание».
Конечно, настаивая перед директором Института сохранить
мне тему «Понятия массы и энергии», Кедров, насколько я
теперь понимаю, руководствовался исключительно
содержательно-научными интересами. Так получилось, что в сферу его
теоретических размышлений попали мои усилия разобраться
подробнее в некоторых научных понятиях. По-видимому, он
узнал об этом, когда на дирекции услышал предложение
изменить мне тему диссертации. Известно теперь, что в эти годы
380 Н. Ф. Овчинников
Бонифатий Михайлович основательно занимался
исследованием научного наследия Д. И. Менделеева и интересовался
его философскими воззрениями. Среди проблем, которые
возникли в процессе этого исследования, оказалась следующая.
Кедров обратил внимание на то, что в периодическом законе,
как это подчеркнул сам Менделеев, «периоды элементов... это
точки, числа, это скачки массы, а не ее непрерывные
эволюции». Кедров, естественно, заметил также, что современная
физика выдвинула другой принцип периодической
зависимости свойств химических элементов и усмотрел в этом факте
проблему, настоятельно требующую осмысления.
Проблема порождалась тем историко-научным фактом, что
Н. Бор, а затем Ван ден Брук и другие, еще в 1912—1913 гг.
выдвинули идею зависимости атомного номера элемента от
заряда атомного ядра. Некоторые ученые на этом основании
отказались от принципа Менделеева и полностью оторвали
химические свойства атомов от их массы. Однако такой отрыв
вызывает сомнение. Необходимо обратить внимание на факт
открытия изотопов. Этот факт указывает на то, что от
принципа Менделеева не следует полностью отказываться. Кедров в
своем исследовании «Химические понятия в свете
менделеевского наследия», опубликованном в 1947 г., отмечал, что,
например, различие между водородом и его изотопом дейтерием
заключается только в массе, но не в заряде и не в
конфигурации электронной оболочки в атомах. Пусть перед нами два
изотопа, химически различные между собой. Это означает, что
между числом протонов и нейтронов в ядре (массой) и
химическими свойствами атома существует реальная связь.
Упоминая предельно кратно об исследованиях Кедровым
периодического закона, я хотел только подчеркнуть характерное
для него стремление выявить реальные проблемы и направить
усилия научного сообщества на их разрешение. В данном
случае в связи с анализом принципов периодического закона
Кедров пришел к мысли, что необходимо обратиться к понятию
массы и более детально проанализировать это понятие.
В самом ходе размышлений Кедрова, связанных с анализом
периодического закона, я пытаюсь сейчас усмотреть черты его
личности, оценить его понимание принципов научного подхода
к предмету исследования, его стремление найти решение
сложной проблемы, привлекая к такому решению самые
разнообразные подходы. В этой связи, в поддержке моих попыток
прояснить понятие массы, равно как и понятие энергии, явно
просматривается характер подлинного исследователя. Кедров
Вспоминая прошедшее 381
озабочен разработкой проблемы, а не одними своими
успехами в ее решении. Иначе говоря, он видит, что важнейшее
условие успешной работы в процессе решения проблемы —
привлечение к ее решению других заинтересованных людей:
он понимает, что различные подходы к проблеме открывают
ему возможность более глубоко осмыслить понятие,
существенное для ее решения. Надо ли говорить, что тогда я не очень
осознавал эту его особенность, воспринимая лишь очевидный
для меня факт — Кедров поощряет мои посильные
устремления к прояснению интересующих меня понятий.
Кандидатская диссертация все же была написана в срок.
Помогли новые друзья — нашли мне спокойное
пристанище — этого не забыть. Хотя тут я невольно коснулся событий
моей частной жизни, от которой здесь приходится
отвлекаться. Максимов оставался формально моим научным
руководителем. Тогда было значительно меньше формальностей с
прохождением защиты. Тем не менее, молчаливое согласие
руководителя на защиту было получено — бумаги не требовалось.
В получении такого согласия помог Кузнецов, который стал
фактическим руководителем в разработке темы. В тексте
диссертации я никак не сослался на публикации Максимова ни в
отрицательном, ни в положительном смысле. Я выбрал фигуру
умолчания. Это не логический, но скорее эмоциональный
принцип. Хотя в оправдание можно сказать в данном случае,
что в опубликованных работах Максимова я не увидел
предмета серьезного научного или методологического рассмотрения,
связанного с темой диссертации. Однако Кедров усмотрел
здесь возможность решительной критики.
На защите диссертации Бонифатий Михайлович выступил
неофициальным оппонентом. В своем выступлении, как всегда
в стиле живого и эмоционального обращения к слушателям, он
представил некоторые утверждения Максимова в его
публикациях как примитивную схематизацию проблемы, далекую от
научного рассмотрения вопросов, связанных с темой. И, конечно
же, он усмотрел в работах Максимова и идеологические
пороки. И вместе с тем, в контексте критики Максимова Бонифатий
Михайлович резко критиковал мою позицию умолчания. Он
говорил о недопустимости проходить мимо ошибочных
утверждений своего научного руководителя, утверждений, связанных с
темой диссертации. Нападая на мою позицию, Кедров бросил
крылатую фразу, которую мне невозможно забыть: напрасно
диссертант побоялся критиковать своего научного
руководителя, обошел молчанием его порочные воззрения — истина доро-
382 Н. Ф. Овчинников
же кандидатской степени. В итоге ученый совет единогласно
проголосовал за присвоение мне ученой степени. Позднее
Кедров объяснил мне, что он сознательно в таком стиле
критиковал мою работу, так как, по его мнению, именно такая критика
положительно повлияла на результаты голосования. Мне это
было трудно понять, но, по-видимому, Кедров хорошо знал и
понимал психологические особенности своих коллег.
Изменение названия сектора
Мне уже пришлось обратить внимание на то, что сектор,
куда я поступил и где долгое время работал, первоначально, по
замыслу С. И. Вавилова, был назван «Философия
естествознания». Прошло несколько лет, когда после 1953 г. у
институтского начальства название сектора стало вызывать подозрение.
У меня сохранился аттестат старшего научного сотрудника,
подписанный президентом АН СССР А. Н. Несмеяновым и
датированный мартом 1954 г. Замечу, что в те годы не было
детального «табеля о рангах», как ныне — младший, старший,
ведущий, главный. Звание старшего, после младшего, было
предельным «по рангу». В аттестате зафиксирована моя
специальность: «Философия естествознания», а не «Философские
вопросы естествознания», как это называлось многие годы
позднее. Дата аттестата позволяет мне предположить, что
изменение названия сектора и соответствующей специализации
произошло где-то в середине 1954 г.
Помнится, летом того года Иван Васильевич, зав. сектором
«Философия естествознания», предложил мне, только что
получившему звание старшего научного сотрудника, пойти
вместе с ним на заседание дирекции Института. К тому времени
Г. Ф. Александров уже оставил пост директора, ушел на
«повышение», кажется, был назначен министром культуры.
Обязанности директора исполнял Цолак Александрович Степанян.
В те годы Степанян проявлял себя с особенной активностью
как специалист по научному коммунизму. Идея широкого
внедрения курса научного коммунизма в вузах и создания в то
время соответствующих кафедр, насколько я помню из
разговоров тех лет, с особенной настойчивостью выдвигалась
именно Степаняном.
На заседании дирекции в полном ее составе, куда позвал
меня Иван Васильевич, директор института, как выражались
тогда, поставил вопрос о ликвидации сектора «Философия ее-
Вспоминая прошедшее 383
тествознания». Аргументы Степаняна, по тем временам, были
совершенно неотразимыми. После марта 1953 г. на первый
план в официальной идеологии стали выдвигаться работы
Ленина. А у Ленина в его книге «Материализм и
эмпириокритицизм» ясно сказано, что современная физика «идет к
единственно верному методу, единственно верной философии
естествознания», а именно к диалектическому материализму.
Директор, казалось, вполне резонно утверждал: поскольку,
согласно Ленину, единственно верной философией
естествознания является диалектический материализм, то в структуре
института совершенно излишен сектор «Философия
естествознания». В институте уже есть сектор диалектического
материализма — зачем нам иметь два сектора с одним и тем же
предметом исследования. Зачем дублировать работу?
Казалось невозможным найти аргументы в защиту сектора.
Но И. В. Кузнецов в ответ на предложение о ликвидации
сектора говорил, насколько я могу помнить, профессионально, а
главное идеологически по тем временам настолько
убедительно, что заставил членов дирекции усомниться в предложении
директора. Иван Васильевич, с понятным в этой ситуации
волнением, но сдержанно, как это было для него характерно,
убедительно разъяснял руководству института проблематику
сектора. Он стремился довести до сознания присутствующих, что
ликвидация сектора и перевод сотрудников в сектор
диалектического материализма будет означать не просто
организационную перестановку, но ликвидацию определенного и весьма
важного направления исследований.
Кузнецов обладал удивительной способностью убеждать
высокое начальство, применяя при этом доступный и привычный
этому начальству язык. Насколько я могу вспомнить, общий
смысл речи Кузнецова на том заседании дирекции был
следующим: он убежденно говорил, что тематика сектора вполне
отвечает идеям Ленина, ибо книга «Материализм и
эмпириокритицизм» дает нам образец конкретного анализа конкретной
ситуации, сложившейся в науке в начале XX в. Сектор
предназначен заниматься именно таким анализом на материале
науки середины XX в. Кузнецов подчеркивал, что книга Ленина
призывает нас детально, со знанием дела разрабатывать
философские вопросы современного естествознания. Сотрудники
сектора исследуют, например, проблему причинности в
квантовой физике, предпринимают анализ понятий массы и энергии,
пространства, времени. Для этих исследований требуется
основательно знать достижения современной науки.
384 Н. Ф. Овчинников
Аргументы Кузнецова были весьма убедительными, а
главное идеологически обоснованными с точки зрения членов
дирекции — аргументы были на уровне их понимания.
Вспоминаю, что наступила некоторая пауза в обсуждении — надо
было обдумать. Но вот кто-то сказал: Кузнецов говорил тут
об отдельных философских вопросах естествознания, так
давайте назовем сектор «Философские вопросы
естествознания» и оставим его с таким названием в структуре института.
Так и решили.
С той поры это название и закрепилось, словно так и было с
самого начала. Тогда я не придал значения изменению
названия сектора — главное, сектор сохранился. Наверное, так
думал и Иван Васильевич. Но прошли годы, и я теперь вижу, что
изменение названия затруднило и, можно сказать, закрыло на
долгие годы разработку собственно философии науки. Сектор
все эти годы занимался лишь «отдельными» философскими
вопросами естествознания. Кузнецов вскоре был вынужден
уйти с заведования сектором. Новое руководство не придавало
значения названию сектора, а между тем направление мысли
на предмет исследования в его целостности открыло бы
сектору путь к более значимым результатам.
Заканчивая краткие воспоминания, я сожалею, что не смог
упомянуть многих и многих друзей и близких, без которых не
мыслю своего существования и своей работы. Их ум, их
устремления, их активность непреднамеренно оказывали на меня
воздействие. Все они в моей памяти и, может быть, мне еще
представится возможность подробнее вспомнить о времени, о
людях, которые помогали и спасали меня в трудные дни моей
жизни. Я надеюсь на их доброту и память. Их молчание, по
пословице, знак согласия и верности тому далекому времени —
порою невыносимо трудному, но, по молодости, и счастливому.
В. Н. Садовский
Философия в Москве в 50-е и 60-е гг.*
С7та статья, еще не появившись, обрела некоторую
историю. В марте 1992 г. мне удалось встретиться в
Лондоне с моим старым университетским другом
Александром Моисеевичем Пятигорским, который
вот уже много лет работает в Школе ориенталистики
Лондонского университета. Возникла мысль записать
на магнитофон нашу беседу о философском
образовании, которое мы получили в стенах Московского
университета в конце 40-х — начале 50-х гг. (А. М.
Пятигорский учился на факультете в 1947—1952 гг., а
я — в 1951 — 1956 гг.) Однако из-за недостатка
времени удалось записать только очень интересный, на
мой взгляд, рассказ А. М. Пятигорского на эту тему.
Этим материалом заинтересовался журнал
«Свободная мысль», и в процессе его подготовки к печати
меня попросили сделать дополнение к рассказу
А. М. Пятигорского. Я начал работать, редакция
меня, естественно, подгоняла, и в конечном итоге
получилось так, что один из первых вариантов первой
части моего дополнения попал в набор. Когда же я,
наконец, посчитал, что закончил свою работу, было
поздно — интервью с А. М. Пятигорским и мое
дополнение были подписаны в печать, и этот материал
* Философия не кончается... Из истории отечественной
философии. XX век. В 2-х кн. / Под ред. В. А. Лекторского. Кн. II.
60-80-е гг. М., 1998. С. 13-42.
386 В. Н. Садовский
был опубликован в № 2 журнала «Свободная мысль» за
1993 г. (Александр Пятигорский, Вадим Садовский. «Как мы
изучали философию. Московский университет, 50-е гг.»).
Убежден, что читатель оценил — на самом деле не
интервью, а блестящее эссе Александра Моисеевича
Пятигорского. Вместе с тем — и это хорошо понятно каждому
автору — мое далеко не законченное дополнение меня никак
удовлетворить не могло. Было найдено такое решение:
редакция «Свободной мысли» не возражает, а журнал
«Вопросы философии» любезно предлагает опубликовать мою
статью в полном объеме.
В своем интервью, опубликованном в журнале «Свободная
мысль», А. М. Пятигорский очень ярко обрисовал жизнь
философского факультета МГУ в конце 40-х — начале 50-х гг.
Этот рассказ не может оставить равнодушным никого, кто в то
время или немного позже переступил порог старого здания
университета на Моховой, где и располагался тогда
факультет. С основными утверждениями Александра Пятигорского я
согласен. Он совершенно прав, давая весьма высокую оценку
уровню предложенного нам в то время философского
образования — факультет действительно заложил в нас основы
философского профессионализма. Прав он и в том, что на
факультете мы смогли пройти и «второй» университет — школу
реального философского и гражданского, человеческого
общения, и в этом отношении поколение студентов-философов,
учившихся в 50-е гг., впрочем, и последующие поколения,
испытали на себе мощное влияние ярких, талантливых, хотя и
очень молодых в то время философов: Эвальда Васильевича
Ильенкова, Валентина Ивановича Коровикова, Александра
Александровича Зиновьева, Бориса Андреевича Грушина,
Георгия Петровича Щедровицкого, Мераба Константиновича
Мамардашвили и некоторых других.
И вместе с тем совершенно справедливо сказал Мераб
Мамардашвили в одном своем интервью, опубликованном
уже после его кончины: «...в нашем случае вы имеете дело с
абсолютно ограбленными и голенькими людьми. Мы были
людьми, лишенными информации, источников, лишенными
связей и преемственности культуры, тока мирового,
лишенными возможности пользоваться преимуществами
кооперации, межличностной кооперации, когда ты пользуешься тем,
что делают другие, когда дополнительный эффект
совместимости, кооперированности дан концентрированно, в
доступном тебе месте и мгновенно может быть распространен на
Философия в Москве в 50-е и 60-е гг. 387
любые множества людей, открытых для мысли. Этого всего
нет, понимаете?»* — буквально вопиет Мераб, обращаясь к
интервьюеру.
Итак, философский факультет МГУ — одно из наиболее
догматизированных учебных заведений, так сказать, позднего
и до чрезвычайности разветвленного, все сокрушающего
сталинизма, и вместе с тем этот факультет дает достаточно
высокий уровень профессионального философского образования.
Закончившие факультет молодые философы получают
хорошую профессиональную подготовку, и одновременно они —
«абсолютно ограбленные и голенькие люди», лишенные
доступа к современной философской информации. Как это
совместить и как это объяснить? Ведь и то, и другое, и третье
совершенно правильно.
Для того чтобы ответить на эти вопросы, я сформулирую
некоторые, мне кажется, достаточно очевидные положения,
без учета которых, однако, трудно понять, что же происходило
в советской философии в конце 40-х — начале 50-х гг.
Первое: за тридцать лет от 1917 г. и до конца 40-х гг.
философская традиция в России была практически разрушена.
Действительно, философия, которая была допущена —
именно допущена — в марксизме в конце 40-х — начале 50-х гг., и
мировая философская мысль начала и середины XX в. имели
мало общего между собой. Этапы этого процесса хорошо
известны: начало было положено высылкой из России ведущих
русских философов в 20-х гг., а закончилось все это
философским цитатником в «Кратком курсе истории ВКП(б)» и
физическим уничтожением многих и многих творческих философов.
И, несмотря на все это — я формулирую мое второе
утверждение, — философская мысль в стране все же
сохранилась. Если бросить взгляд на философское сообщество в СССР
первых двух послевоенных десятилетий (с 1945 г. и до начала
60-х гг.), то в нем легко просматриваются три действующих в
это время поколения: небольшая группа сохранившихся —
буквально чудом — философов старшего поколения (их
деятельность начиналась еще в 20-е и 30-е гг.), ифлийцы (так себя
называли слушатели Московского института истории, философии
и литературы, существовавшего в 1931 — 1941 гг.) —
поколение людей, родившихся в 20-е гг., прошедших войну и завер-
* Мамардашвили М. К. Начало всегда исторично, т. е. случайно //
Вопросы методологии. 1991. № 1. С. 48.
388 В. Н. Садовский
шивших свое философское образование или перед самой
войной, или вскоре после ее окончания уже на философском
факультете МГУ, и, наконец, поколение философов конца 40-х —
50-х гг. (думаю, что всех, кто учился в это время на факультете,
завершал его или только начинал учебу, можно объединить в
одну группу: их профессиональные философские судьбы очень
близки). Именно к этому поколению отношусь я, а также мои
сокурсники, товарищи и коллеги. Скажу сразу же, что вот
студенты-философы 60-х и более поздних годов — это уже другие,
скажем, четвертое, пятое и т. д. поколения.
Наконец, мое последнее утверждение: философское
образование — это, конечно, далеко не только сумма знаний,
полученных на лекциях и семинарах за пять, а с учетом
аспирантуры — за восемь лет пребывания в университете. Говоря
это, я имею в виду не абсолютно тривиальное утверждение о
том, что учиться можно и должно всю жизнь. Нет, речь идет о
профессиональном образовании, минимально необходимом,
для того чтобы начать самостоятельную жизнь в философии.
И мое третье утверждение состоит в том, что в условиях
разрыва русской философской традиции поколению философов
конца 40—50-х гг. потребовался значительно больший
срок, больше усилий и труда, чем это требуется обычно
для того, чтобы получить минимально необходимую для
философа сумму знаний, приобрести навыки
философствования и более или менее встать на свои ноги.
Теперь я постараюсь ответить на сформулированные ранее
вопросы. И начать я должен с идеологической атмосферы на
факультете в то время. Без этого ничего понять нельзя. Сказать,
что эта атмосфера была ужасной, — почти ничего не сказать.
Вторая половина 40-х — начало 50-х гг. — это пик
коммунистического идеологического мракобесия. Дискуссии, ничем
не отличающиеся от судебных процессов, шли одна за другой
(по философии, по биологической науке, по журналам
«Звезда» и «Ленинград», по физике, кампании борьбы с
космополитизмом и т. п. и т. д.). На факультете, впрочем, как и во всей
стране, господствовал не знающий никаких пределов дух
сталинского догматизма и террора, с удивительной легкостью
превращающий белое в черное, а черное — в белое, а людям,
тем, кто еще был способен высказать хотя бы самое робкое
сомнение относительно таких манипуляций, грозила
неминуемая кара, нередко равносильная праву на жизнь. Вот такая
абсолютно ирреальная жизнь была уделом всех на
факультете — и студентов и преподавателей. Я не смогу найти ярких и
Философия в Москве в 50-е и 60-е гг. 389
точных слов, для того чтобы описать эту атмосферу. Да,
впрочем, этого делать и не надо, в последние годы многие авторы
это сделали блестяще, и лучше всех, я считаю, А. И.
Солженицын в «Добавлении 1978» к исходной части своих очерков
литературной жизни «Бодался теленок с дубом». В этом
«Добавлении» А. И. Солженицын описывает две встречи в ЦК
КПСС с творческой интеллигенцией в декабре 1962 г. и в
марте 1963 г/. Разница во времени в целое десятилетие не
должна вводить в заблуждение. (Впрочем, и в 70-е гг. в этом
отношении мало что изменилось. Стоило бывшему
выпускнику философского факультета Юрию Александровичу Леваде в
конце 60-х гг. сделать попытку найти реальное место и
действительную проблематику социологии в системе философских
знаний, и он был отлучен от философии и социологии — да
без малого лет на десять.) Идеологические шабаши на самых
верхах всегда проводились с небывалым размахом и
цинизмом, и «даже глотка того воздуха... из тех залов», которым
дает возможность подышать «опоздавшим» А. И.
Солженицын, вполне достаточно, чтобы зримо вообразить себе
идеологическую атмосферу и в 40-х и 50-х гг. (Ранее я объединил
студентов философского факультета конца 40-х и 50-х гг. в
одно поколение. Думаю, что это правильно, если иметь в виду
их профессиональную философскую судьбу — а именно это
меня больше всего интересует в данном случае. Однако нельзя
сбрасывать со счетов очень существенного различия в
идеологической атмосфере, которая была на факультете, да и во всей
стране, в 40-е и 50-е гг. Вторая половина 40-х гг. и самое
начало 50-х (до смерти Сталина) — это, пожалуй, чуть ли не
высшая ступень идеологического мракобесия во всей
российской истории, и это не могло не сказаться на всех сторонах
философской жизни, включая преподавание философии.
После же смерти Сталина ситуация стала меняться, очень
медленно, часто зигзагами и долголетним попятным курсом, но
все же меняться, хотя серьезные ощутимые результаты
наступили только через тридцать—сорок лет.)
Что же касается нас, студентов философского факультета
50-х гг., то память сохранила такие перлы нашей
идеологической обработки. Семинар по истории партии — где-то в конце
1952 г. или в начале 1953 г. Преподаватель — хорошо извест-
* Солженицын А. И. Бодался теленок с дубом. Очерки литературной
жизни // Новый мир. 1991. № 11. С. 41—56; цитата взята со С. 42.
390 В. Н. Садовский
ный в МГУ человек, абсолютно твердокаменный сталинист.
Задает вопрос группе: «Как стоит наша партия?» Первый
студент что-то отвечает — не то (остается стоять, и дисциплину
надо, безусловно, прививать). Второй, третий, четвертый... все
не то. Вот уже большая часть группы стоит, пока, наконец,
кому-то не приходит в голову: «Как утес». Забывшим или
вообще никогда не слышавшим этого поясняю: это, из речи
И. В. Сталина над гробом В. И. Ленина.
Лекция по истории русской философии. Лектор — один из
«корифеев» советской философии того времени. Студенты его
спрашивают: «На прошлой лекции Вы сказали, что М. В.
Ломоносов был атеистом. Мы прочитали к семинару некоторые
его работы, там непрерывно упоминается Бог. Как это
совместить?» Ответ: «Подумайте сами, если не М. В. Ломоносов, то
кто же из русских мыслителей XVIII в. мог быть атеистом?»
Приведу еще один пример (из запомнившихся рассказов
A.A. Зиновьева). Его сокурсник, способный студент с
хорошей памятью, конспектов никогда не писал, все нужное
запоминал и к тому же хорошо осознал пользу дедуктивного
метода. На экзамене ему попадается такой вопрос: «Работа
(конечно, «Сочинение») И. В. Сталина «Три особенности
Красной армии»«. Ему все ясно, уверенно отвечает, но
забывает о том, что особенностей-то у Сталина три, и, когда он
спокойно начинает раскрывать суть седьмой особенности
упомянутой армии, преподаватель не выдерживает и кричит ему:
«Вон!» Прекрасная иллюстрация естественной студенческой
приспособляемости к господствующей тогда на факультете
идеологической атмосфере.
Хорошо понятно, как звучали для нас в такой ситуации
голоса очень небольшого числа лекторов первого из ранее
названных мною поколений, т. е. поколения философов 20—30-х гг.
В связи с этим я должен прежде всего назвать Валентина
Фердинандовича Асмуса, Александра Сергеевича Ахманова,
Ореста Владимировича Трахтенбергаг Михаила
Александровича Дынника, Павла Сергеевича Попова, Сергея
Леонидовича Рубинштейна, Александра Романовича Лурию, Алексея
Николаевича Леонтьева, Софью Александровну Яновскую и,
возможно, некоторых других. (Хочу предупредить читателя о
том, что мои заметки ни в коей мере не претендуют на полное
и тем более объективное описание событий советской
философской жизни того времени. Это рассказ о моих
субъективных и, конечно, в чем-то ошибочных восприятиях, и поэтому,
называя те или иные имена, я, несомненно, кого-то упущу —
Философия в Москве в 50-е и 60-е гг. 391
не знал, забыл, неправильно оценивал и т. п., может быть,
даже и очень важные фигуры.
Необходимо сделать еще одну оговорку. Мой рассказ о
философии и философском образовании в 50—60-е гг.
субъективен еще в одном отношении. На все описываемые события я
смотрю с точки зрения моих философских предпочтений, т. е.
в контексте всегда меня интересовавших проблем
гносеологии, логики, философии науки. Рассказ об этих событиях и
проблемах, проведенный из других философских ниш, будет,
конечно, в чем-то отличаться от моего. Конечно, это были
разные люди — и профессионально, и с той точки зрения (очень
важной всегда и тем более в то время), насколько они
сохранили гражданское мужество и научную честность. К
сожалению, на память приходят эпизоды, когда некоторые из
названных мною философов и психологов старшего поколения вели
себя далеко не самым лучшим образом — они так же, как и
все остальные, были жертвами того режима, при котором
жили. В связи с этим я хочу рассказать об одном событии из
моей жизни. В конце 50-х или в самом начале 60-х гг.
философская редакция издательства иностранной литературы
попросила Алексея Федоровича Лосева дать рецензию на мой
пробный перевод одной из книг Р. Карнапа. После того, как
А. Ф. Лосев высказал свои соображения по поводу моего
перевода, зашел разговор о том, что происходит в московской
философской жизни. Алексей Федорович только начинал свое
второе, блестящее вхождение в русскую философию. В
разговоре речь шла о многих разных сюжетах, и я очень хорошо
помню, как он, в частности, сказал: «Я очень давно знаю
Валентина Фердинандовича Асмуса, еще с того времени, когда он
был в Киеве. В. Ф. Асмус — очень талантлив, но он во многом
растерял свой талант». Если это справедливо по отношению к
одному из лучших профессоров Московского университета
40—50-х гг. (а я думаю, что это так: никто из тех, кто в те годы
остался работать в философии, не мог избежать
убийственного воздействия сталинистской догматики и страха перед
террором), то что можно сказать об остальных? Но мы далеко не
всегда можем быть судьями их поступков. Однако знать об
этих поступках мы, конечно, должны. И скажу, что очень
горько было узнать о той преступной роли, которую, по
свидетельствам некоторых последних публикаций (опровержений этих
свидетельств я не видел), сыграл в судьбе Алексея
Федоровича Лосева профессор кафедры логики того времени П. С.
Попов. Но ведь известно также, что П. С. Попов сохранил чуть
392 В. Н. Садовский
ли не единственный рукописный экземпляр «Мастера и
Маргариты» М. Булгакова. Поистине злодейство и мужество в
одном лице. Очень важно, однако, то, что большая часть из них
вела себя, как правило, достойно, а в профессиональном
плане они смогли передать — действительно в чудовищных
условиях (эти условия были таковы, что практически все, что было
опубликовано в СССР по философии в 30—50-е гг., было не
только и не столько марксистско-ленинским идеологическим
комментарием к философским проблемам, а просто
находилось вне науки. Не смогли этого избежать и многие из
названных мною лучших представителей старшего философского
поколения того времени. Важно, однако, было не то, что они
писали, а что они говорили, позволяли себе говорить даже в
студенческой аудитории) — свои знания и свое понимание
реальной философии сначала поколению философов-ифлий-
цев, затем нам, а в некоторых случаях и последующим
поколениям. Выражаясь несколько высокопарно (но, думаю, верно),
можно сказать, что они сохранили последние нити
угасающей философской традиции в России,
Тогда, в конце 40-х — начале 50-х гг., мы знали только
упомянутых мною профессоров старой школы, допущенных
до работы на философском факультете, правда, как правило,
где-то на его периферии — спецкурсы, семинары и т. п. и
очень редко — большие лекционные аудитории (впрочем,
нас это совершенно не смущало, и их голоса находили
благодарных слушателей). Теперь мы уже знаем, и об этом ни в
коем случае нельзя не сказать, что вместе с ними заслуга
сохранения в стране традиции философского мышления не в
меньшей, а нередко даже в большей степени принадлежала и
тем философам старшего поколения, которых в то время не
допускали до факультета или выгнали с факультета и
которые были вынуждены работать часто в учреждениях, далеких
от философии (а многие из них провели годы и годы в
сталинских лагерях), но, тем не менее, находили учеников,
работали, писали. И в первую очередь здесь следует назвать
Алексея Федоровича Лосева, Михаила Михайловича
Бахтина, Константина Спиридоновича Бакрадзе... Не допускались
до факультета тогда и яркие философы, которые жили и
работали в Москве, но имели ярлык неблагонадежности, как,
например, Бонифатий Михайлович Кедров. Мы должны
благодарить судьбу за то, что позже, часто через много лет
после окончания факультета, нам удалось познакомиться с
ними как личностями и мыслителями.
Философия в Москве в 50-е и 60-е гг. 393
Значительно большую часть наших преподавателей (в то
время именно преподавателей, а не профессоров) составляли
философы того поколения, которое я назвал ифлийцами. Я не
претендую на точность, вполне возможно, что среди имен,
которые я сейчас назову, кое-кто никакого отношения к ИФЛИ
вообще никогда не имел, однако и истинные ифлийцы, с
которыми нам посчастливилось общаться, и
преподаватели-философы того же самого поколения, не прошедшие школу ИФЛИ,
но воспринявшие дух ифлийцев, были очень близки по своей
судьбе (как и мы, философы 50-х гг., по своей). Стремление
приобщиться к философии, прерванное войной, фронт, в других
случаях — далеко не легкий тыл, возможность закончить
философское образование в первые послевоенные годы, удушающая
атмосфера догматизма и уничтожение истинной философии и
попытки — для лучших из них — вырваться из этого ада —
такова их общая судьба. И вот именно философы этого
поколения, тогда, конечно же, молодые люди, оказались нашими, так
сказать, каждодневными преподавателями — они вели
семинары, читали лекции, руководили курсовыми и дипломными
работами. Конечно, если даже старшее поколение философии не
могло избежать тлетворного воздействия на него сталинизма
(что было абсолютно невозможно), то его разлагающее
влияние тем более сказывалось на тех, кого я условно назвал
ифлийцами; но я не собираюсь вспоминать о слабых духом,
полностью поддавшихся такому влиянию, и тем более о мерзавцах
(были и такие), доносителях (на студентов проще и практически
безнаказанно, а сколько судеб было сломано — каждый курс,
особенно в 40-х, да и 50-х гг., может легко вспомнить (даже в
середине 50-х гг. достаточно было доноса одного из очень
«активных» тогда преподавателей, и только что поступивший на
факультет Петр Гелазония, уже сумевший проявить свои
несомненные способности, был вынужден распрощаться с
факультетом навсегда) и прохиндеях (это слово тогда широко и очень
точно использовалось). Я говорю только о лучших из ифлийцев,
которые помогали нам познавать философию и нередко
демонстрировали примеры гражданского мужества.
Назову наших преподавателей-ифлийцев, которые оказали
наибольшее влияние на нас. На младших курсах нам удалось
общаться с В. П. Калацким, М. Я. Ковальзоном, В. Ж. Келле.
Владимир Петрович Калацкий — совершенно невозмутимый
и почему-то всегда очень грустный — вел у нас семинары по
историческому материализму. В этой дисциплине, как
известно, идеология полностью подавляла даже имеющееся в ней
394 В. Н. Садовский
мизерное научное содержание, но он умудрился, кроме всего
прочего, ввести нас в философский мир молодого Маркса
(тогда и понятия такого вообще не было). Реактивный, громкий,
всегда готовый к шутке и импровизации, Матвей Яковлевич
Ковальзон заставлял нас — неслыханное дело для тех
времен — думать, а не повторять заученное наизусть (М. Я.
Ковальзон был преподавателем от Бога, и он оставил о себе
светлую и очень теплую память. Он трагически погиб в начале
1992 г., и у его гроба собрались бывшие его студенты,
буквально начиная с конца 40-х гг.). Несколько меньше мы знали
Владислава Жановича Келле, но это не значит, что мы не
смогли его оценить и почувствовать исходящие от него
благотворные импульсы. На нашем курсе, если я не ошибаюсь, не
работал Даниил Исаакович Кошелевский, но он был очень
заметной фигурой на факультете того времени, и нам также
посчастливилось — так или иначе — общаться с ним.
Формальную аристотелевскую логику мы постигали с
помощью Евгения Казимировича Войшвилло и Анатолия
Александровича Ветрова. И в этом случае нам повезло — эти
преподаватели не только привили нам вкус к логическим
рассуждениям, но и смогли убедительно показать принципиальную
философскую значимость формальной (в отличие от
диалектической) логики. Конечно, все это делалось тогда, скажем так,
очень «мягко». Запоминающиеся лекции по истории
философии (справедливости ради следует сказать, что, живя в
условиях чудовищного философско-информационного голода, мы, тем
не менее, имели такое уникальное учебное пособие по истории
философии, как «Серая лошадь» — «История философии» в
трех томах (1940—1943). Даже по сегодняшним меркам этот
трехтомник не безнадежно устарел. В наше же студенческое
время он считался хорошим философским сочинением, к тому
же окруженным ореолом таинственности. Сначала Сталинская
премия, затем — в 1944 г. — специальное постановление ЦК
партии по третьему тому, посвященному немецкой
классической философии XIX в., лишение авторов Сталинской премии
и т. п. В связи с этим хочу обратить внимание читателей на одну
интересную деталь: в упомянутом постановлении ЦК ВКП(б)
клеймит немецкую классическую идеалистическую философию
как «аристократическую реакцию на французский материализм
и Французскую революцию», и в то же самое время — в
1943—1944 гг. — Карл Поппер, исходя из принципиально
противоположных философских и социальных позиций, в своей
блестящей книге «Открытое общество и его враги» (впервые
Философия в Москве в 50-е и 60-е гг. 395
опубликована в 1945 г.) пишет: «Я утверждаю, что гегелевская
диалектика в основном была создана с целью исказить идеи
1789 г.»*. Поистине бывают в жизни ситуации (в данном
случае — смертельная схватка с фашизмом), когда крайности
сходятся), в частности по истории развития философских
воззрений К. Маркса и Ф. Энгельса, читал Теодор Ильич Ойзерман.
В лекциях Юрия Константиновича Мельвиля, Игоря
Сергеевича Нарского и Василия Васильевича Соколова через прочную
завесу неизбежного тогда идеологического тумана мы смогли
получить и первые представления о реальных проблемах
западной (буржуазной, конечно же) философии XX в. На старших
курсах мы смогли оценить не только глубину философских
знаний Эвальда Васильевича Ильенкова, Валентина Ивановича
Коровикова, Галины Сергеевны Арефьевой и Валентины
Ивановны Бурлак, но и их смелую гражданскую и человеческую
позицию (об этом позже я скажу более подробно). В самом конце
нашего пребывания на факультете в университете вновь
появился Михаил Федотович Овсянников (я говорю «вновь», так
как он, насколько я знаю, работал на факультете в 40-е гг., был
изгнан, работал, по-моему, в Московском областном
педагогическом институте и теперь — наступала хрущевская
«оттепель» — смог возвратиться в университет). Знаток философии
Гегеля и хороший специалист по эстетике, он сразу завоевал
наши симпатии. И, наконец, психология — нам, философам,
этот курс читал Петр Яковлевич Гальперин, университетский
профессор в истинном смысле этого слова (хотя тогда, если не
ошибаюсь, только доцент), чрезвычайно убежденно
рассказывающий нам о своем любимом детище — о разработанной им
психологической концепции деятельности.
Для того чтобы завершить представление лучшей части
профессуры того времени, следует, конечно, к только что
названным нашим преподавателям-ифлийцам добавить и работавших
в то время на факультете профессоров старшего поколения
(это я сделал ранее) и сказать хотя бы буквально несколько
слов о ярких преподавателях смежных с философией
дисциплин. В этой связи я не могу не упомянуть Николая Николаевича
Пикуса и Сергея Львовича Утченко — глубоких знатоков
истории античного мира, Евгению Владимировну Гутному, с
блеском читавшую лекции по истории средних веков, а также
* Поппер К. Открытое общество и его враги. В 2-х томах. М., 1992. Т. 2.
С 53.
396 В. Н. Садовский
очень молодого в то время Тасио Мансилья, преподавателя
политэкономии капитализма. О последнем скажу еще
несколько слов. Испанская война забросила его в СССР в середине
30-х гг., фактически ребенком он перенес все тяготы военного
времени — буквально выжил чудом, в конце 40-х гг. смог
окончить Московский университет, советская действительность
не уничтожила в нем истинного испанца — смелого,
решительного, честного, не терпящего никакой несправедливости. Вот
таким он и был с нами — образцом научности — в своем очень
противоречивом предмете — и примером человечности (судьба
столкнула меня с Тасио Мансилья много лет спустя. В первой
половине 80-х гг. мы несколько лет жили с ним на соседних
дачах. За прошедшие годы он многое повидал и пережил: Куба,
Испания, СССР; очень тяжело воспринимаемые им
противоречия между КПСС и Испанской компартией; МГУ и Ленинская
школа; новые веяния в экономической науке и т. п. и т. д., но до
самой своей смерти (Т. Мансилья скоропостижно скончался
несколько лет тому назад) он оставался самим собой —
исключительно трудолюбивым человеком, экономистом-теоретиком,
глубоко страдающим от многих сторон советской
действительности и постоянно открывающим для себя новые аспекты мар-
ксова анализа экономической системы капитализма).
Я не могу завершить рассказ о наших факультетских
преподавателях, не сказав хотя бы несколько слов об их
нравственном, гражданском поведении. На факультете тех времен, как и
во всей стране, страх, предательство и доносительство были
чуть ли не нормой. И вместе с тем многие из преподавателей
вели себя в высшей степени достойно, сохраняя высокую
человечность и нередко оберегая нас от опасностей. Приведу только
один пример. На всю жизнь я запомнил обсуждение моего
реферата по философии на первом курсе (весна 1952 г.) с
руководителем семинарских занятий по диалектическому
материализму Бограчевым (кажется, его звали Евгений Михайлович, но,
каюсь, могу и ошибиться; он был больным человеком —
сердце — и очень скоро умер). В качестве темы реферата я выбрал
критику В. И. Лениным иероглифизма Г. В. Плеханова.
Прочитал соответствующие работы Г. В. Плеханова (его сочинения,
как ни странно, все же были в факультетской библиотеке) и
пришел к выводу, что Плеханов в основном прав, настаивая на
знаковом (иероглифическом) характере фиксации
человеческого знания, что и написал в реферате. Мой преподаватель был
по-человечески всем этим расстроен и, оставив меня одного,
буквально умолял не делать глупостей, смысл которых в то вре-
Философия в Москве в 50-е и 60-е гг. 397
мя я даже не понимал. Конечно, так было далеко не всегда, но
человеческая порядочность, а в то время ее нелегко было
проявлять, несомненно, всегда сохранялась на факультете.
Теперь расскажу о трех очень важных событиях, которые
произошли на факультете в середине 50-х гг. и оказали очень
большое влияние и на наше философское воспитание, и на
жизнь философского факультета, и — не думаю, что это
преувеличение, — на развитие советской философии в целом.
Я имею в виду защиту Э. В. Ильенковым кандидатской
диссертации, посвященной проблеме абстрактного и конкретного
в марксовом «Капитале» (позднее основное содержание своей
кандидатской диссертации Э. В. Ильенков опубликовал в
книге «Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале»
К. Маркса» (М., I960). Эта книга разительно отличалась от
подавляющего большинства философских изданий того
времени (как правило, просто идеологической макулатуры) и
совершенно заслуженно получила очень большую и
благодарную читательскую аудиторию (безусловно, не только
философскую), обсуждение на факультете так называемых
«тезисов гносеологизма» и защиту А.А.Зиновьевым
кандидатской диссертации на тему «Метод восхождения от
абстрактного к конкретному в «Капитале» К. Маркса». Эти
события теснейшим образом связаны между собой.
Я, естественно, не стремлюсь, да и не могу претендовать по
ряду причин на более или менее полное описание этих
событий. Во-первых, мой взгляд на них — это взгляд студента того
времени, которому лишь посчастливилось к ним
прикоснуться, но который, конечно, не мог играть в них сколько-нибудь
значительной роли, и, во-вторых, меня в данном случае
интересуют не столько эти события сами по себе (но об этом я
обязательно кое-что скажу), сколько их поистине огромное
значение в философском образовании студентов 50-х гг.
Сначала все же следует сказать о том, что эти события
означали теоретически. У Э. В. Ильенкова главный
побудительный импульс, с моей, скорее сегодняшней, точки зрения,
состоял во внесении хотя бы простейших элементов научности в
существовавшую тогда интерпретацию марксистской
философии и в проведении последовательной линии философского
антиэмпиризма, стимулированного, конечно же, Гегелем,
глубоким знатоком которого Ильенков был. Диалектика
абстрактного и конкретного в понимании Ильенкова свое главное
острие обращала против локковского эмпиризма, бездумно
(без учета всего последующего развития философии) перене-
398 В. Н. Садовский
сенного в ортодоксальную философию марксизма того
времени. (В связи с этим крайне симптоматичен следующий эпизод,
имевший место много лет спустя после описываемых мною
событий. Во время защиты Э. В. Ильенковым докторской
диссертации в середине или в конце 60-х гг. (защита происходила
в Институте философии и имела большой успех — зал был
забит до такой степени, что диссертант и председатель Ученого
совета П. В. Копнин с большим трудом в него вошли)
официальный оппонент Арсений Владимирович Гулыга (тоже,
кстати сказать, ифлиец) сделал лишь одно критическое замечание:
«У диссертанта есть некоторые нелады с русским языком.
Нарушая правила этого языка, диссертант во всех случаях пишет
слово «логика» с прописной буквы — «Логика», а слова
«Рассел, Витгенштейн, Карнап» — со строчных букв и к тому
же во множественном числе — «расселы, Витгенштейны, кар-
напы». Таков был Ильенков, таков был его философский
стиль. Не было бы этого стиля — не было бы, думаю, и
Ильенкова.) Думаю, что это стремление придать философии
марксизма теоретический, научный характер (благодаря чему она
могла бы превзойти всех своих конкурентов — чем черт не
шутит — вспомним реальный глубочайший информационный
философский вакуум, в котором жило тогда советское
философское сообщество) действительно было тем стержнем, за
который ухватились многие, кто увидел в этом призыве
возможность реально творчески работать в философии.
Отсюда, кстати сказать, как логическое следствие возникли и
«тезисы гносеологизма». Насколько я знаю, авторство этих
тезисов принадлежало Э. В. Ильенкову и В. И. Коровикову (во
всяком случае, когда эти тезисы были отвергнуты официальными
факультетскими «корифеями», именно они — Ильенков и Ко-
ровиков — были подвергнуты главным гонениям). Основные
мысли этих тезисов были до удивления просты и привлекательны
(их принятие, несомненно, означало возможность реального
творчества в философии). Следует отказаться от безудержного
онтологизма, который губит философию, лишая гносеологию
автономности и, по сути дела, ликвидируя ее. Это тем более
необходимо, что ведь и классики марксизма, в частности Энгельс,
совершенно недвусмысленно настаивали именно на этом
(типичный и очень сильный аргумент для того времени). Чтобы это
осознать, достаточно прочитать известное утверждение Ф.
Энгельса, высказанное в конце его работы «Людвиг Фейербах и
конец классической немецкой философии», по сути дела, его
заключительный вывод: «За философией, изгнанной из природы и
Философия в Москве в 50-е и 60-е гг. 399
из истории, остается, таким образом, еще только царство чистой
мысли, поскольку оно еще остается: учение о законах самого
процесса мышления, логика и диалектика»*. Это утверждение
Ф. Энгельса действительно было камнем преткновения для
ортодоксальной философии марксизма — отказаться от него
нельзя (классики безошибочны), но как интерпретировать? Ergo,
гносеология есть суть философии, и марксизму ради его же
блага следует исходить из этого тезиса.
Факультет — а это было, если не ошибаюсь, в конце
1954 г. — начале 1955 г. — буквально взбурлил.
Возбужденные аспиранты и студенты, почувствовавшие реальный
творческий философский дух, преподаватели, да нередко маститые, —
все стремились познакомиться с этими тезисами, обсуждали их,
комментировали, в большинстве соглашались с ними
(независимо от того, насколько ясен и понятен был их смысл, — в
данном случае я говорю о еще мало философски искушенных
студентах). Состоялось одно или два публичных обсуждения этих
тезисов, в целом благоприятных для их авторов. На одном из
них — это я помню хорошо — А. А. Зиновьев буквально
потряс аудиторию своей корректировкой одиннадцатого тезиса
Маркса о Фейербахе: «Если раньше философы только
объясняли мир, то теперь они не делают и этого» (другой, не менее
яркий зиновьевский афоризм, имеющий, кстати сказать, самое
непосредственное отношение к содержанию тезисов гносеоло-
гизма, был им придуман, как мне кажется, позже: «Материя
есть объективная реальность, данная нам Богом в
ощущениях».) Эйфория, однако, была недолгой. Хотя Сталина в то
время уже не было, да и бериевские застенки вроде бы стали
исчезать, но расправа с философскими «ревизионистами» на
факультете была проведена по всем классическим сталинистским
канонам. Пара заседаний партбюро (я видел однажды
состояние В. И. Коровикова после этой процедуры — стойкий
человек, но можно было представить, что пришлось ему там
выслушать), никаких, конечно, публичных обсуждений, ну а затем
санкции — В. И. Коровикова изгнали из факультета и, что
больше чем преступление, изгнали из философии навсегда (он
стал прекрасным журналистом-международником), Э. В.
Ильенкова лишили права преподавания на факультете (он уже
работал в Институте философии — это несколько уменьшило его
травмы на факультете, но, безусловно, соответствующие акции
* Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 21. С. 316.
400 В. Н. Садовский
были предприняты и в Институте философии), наиболее
замеченных в злонамеренных побуждениях аспирантов и студентов
примерно наказали, досталось и преподавателям, проявившим
«идейную незрелость». Но остановить процесс философского
возрождения в стране уже было невозможно.
Следующим серьезным потрясением, которое пережил в те
годы философский факультет, была защита А. А. Зиновьевым
кандидатской диссертации. В связи с этим я хочу сказать
следующее: А. А. Зиновьев, обладающий фантастической
способностью воображения, смог вычленить (термин «вычленение»
кстати, совсем забытый сегодня, тогда был чуть ли не символом
приверженности к новым веяниям в философии. Мы все что-то
пытались вычленять у Маркса, Энгельса, Евклида, Декарта...
Неудивительно, что официозы факультета воспринимали этот
термин (ведь только слово — не больше) с глухой ненавистью)
такое множество различных методологических приемов, якобы
использованных К. Марксом при работе над «Капиталом», что
в зиновьевской интерпретации методологически-теоретическая
структура главного сочинения К. Маркса приобрела черты
непревзойденного совершенства. Действительная научная
направленность работы А. А. Зиновьева привлекла к ней всех, кто
хоть в какой-то степени не утерял способности или стремился к
философскому творчеству. Это предопределило большой успех
диссертации А. А. Зиновьева, несмотря на то, что от К. Маркса
собственно в этой интерпретации осталось не очень много.
Можно, пожалуй, высказать и более общее утверждение.
Если воспользоваться современной терминологией, то можно
сказать, что диссертации Э. В. Ильенкова и А. А. Зиновьева, а
также следующие за ними диссертации Б. А. Грушина о
проблеме исторического и логического, М. К. Мамардашвили,
посвященная анализу форм и содержания мышления, и выдвинутая в
это время Г. П. Щедровицким концепция
генетически-содержательной логики (в противовес логике диалектической, с которой
никто не знал, что делать) — все это звенья одной
научно-исследовательской программы. Эту программу, конечно, никто
никогда не формулировал в явном виде, за исключением того,
что в то время действовало совершенно непреложное условие:
все, что можно было реально делать в философии, должно было
делаться под сенью идей К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина
(последний классик — я имею в виду только недавно усопшего
Иосифа Виссарионовича — был уже не обязателен). Именно из
этой установки исходили научные руководители этих диссертаций
(в ряде случаев совершенно философски темные люди), согла-
Философия в Москве в 50-е и 60-е гг. 401
шаясь с предлагаемыми темами диссертаций, но то, что сделали
диссертанты, им не снилось даже в страшном сне. Поэтому,
например, научный руководитель диссертации А. А. Зиновьева,
бессменный партийный секретарь факультета, буквально
призвал все «идейно стойкие» силы факультета, для того чтобы
приструнить зарвавшегося аспиранта, результатом чего оказался
триумф А. А. Зиновьева и всех, кто его поддерживал. Во всяком
случае истории с «тезисами гносеологизма» на этот раз не
получилось, А. А. Зиновьев успешно защитил диссертацию и вскоре
перешел на работу в Институт философии (в дальнейшем он и
Э. В. Ильенков оказались центрами притяжения в этот институт
всех, кто мог серьезно работать в философии, что в 60-е
кардинально изменило философскую ситуацию в стране). Я хорошо
помню, что еще в то время у меня и многих моих товарищей
сложилось убеждение, что, по крайней мере, в Московском
университете философский факультет первым вступил на путь
обновления. Позднее я не встречал опровержения этого мнения. В
начале 50-х гг. все гуманитарные факультеты университета, кроме
философского, как казалось, пребывали в догматической спячке.
И неудивительно, что описываемые события на философском
факультете привлекали многих нефилософов.
Я возвращаюсь к мысли об особой исследовательской
программе, реализованной Э. В. Ильенковым, А. А. Зиновьевым
и другими названными философами. Конечно,
принадлежность этой программы к марксову наследию для них не была
уж столь важной (хотя сказать, что это обстоятельство совсем
не учитывалось, было бы неправильно). Главное, что ими
двигало, это стремление творчески обогащать философию, и,
реализуя эту задачу, они создали совершенно новый пласт
философского знания — теоретический продукт высокого
уровня, который мог иметь отношение к наследию К. Маркса, а
мог и не иметь и обладать гораздо большей философской
общностью. О А. А. Зиновьеве, во многом отделившем метод
восхождения от К. Маркса, было уже сказано. Б. А. Грушин,
конечно же исходя из известных высказываний К. Маркса о
соотношении логического и исторического, реальному
исследованию подверг чуть ли не все известные тогда методы
исторического анализа и действительно построил основы, скажем
сейчас точнее, пусть не логики, но методологии исторического
исследования*. М. К. Мамардашвили, предметом исследова-
* См.: Грушин Б.А. Очерки логики исторического исследования. М., 1961.
402 В. Н. Садовский
ний которого были проблемы формы и содержания
мышления, анализа и синтеза, также, конечно, в исходном пункте
опирался на Гегеля и Маркса, но он уже в те годы был
глубоким знатоком современной западной философии, и созданный
им продукт был достоянием именно современного
философского знания, а отнюдь не только новой интерпретацией мар-
ксовых идей*. Аналогичным образом и Г. П. Щедровицкий (он,
кстати сказать, не имел никаких шансов — из-за своей еще
студенческой позиции — попасть в аспирантуру, и в середине
50-х гг. ему вообще — такие были нравы — запретили
появляться на факультете, дабы не сбивал с толку студентов) в
развиваемой им в те годы генетически-содержательной логике
обращался к К. Марксу разве что ритуально**.
Таким образом, оценивая содержательную,
философски-теоретическую сторону интеллектуального взрыва на
философском факультете в первой половине 50-х гг., я думаю, что мы с
полным правом можем сказать, что усилиями названных
молодых в то время философов был действительно совершен
важнейший прорыв в советской, именно в советской, что, конечно,
отнюдь не равнозначно мировой (этот момент надо особо
подчеркнуть: развитие послевоенной советской философии шло в
глубочайшей изоляции от хода развития мировой философии.
Поэтому оценку полученных в это время советскими
философами результатов следует проводить и с точки зрения внутреннего
развития советской философии, и с точки зрения развития
мировой философии. Последнюю задачу еще предстоит решить)
философии, была реализована некая научно-исследовательская
программа, приведшая в конечном счете к реформированию
догматического марксизма. Показательно в этом отношении то,
что все идеи, выдвигаемые этими философами, первоначально
воспринимались официальной философией, как правило, в
штыки — с большим или меньшим осуждением, — но прошло
буквально пять—десять лет, и эти идеи оказались
неотъемлемой частью стандартных курсов философии, философских
программ, учебников, энциклопедий, философских словарей.
(Весьма показательно, что, несмотря на большой успех
диссертации А. А. Зиновьева, ему долгое время не удавалось опубли-
* См.: Мамардашвили М. К. Процессы анализа и синтеза // Вопросы
философии. 1958. № 2; Его же. Формы и содержание мышления. М., 1968.
** См.: Щедровицкий Г. П. «Языковое мышление» и методы его
анализа // Вопросы языкознания. 1957. № 1.
Философия в Москве в 50-е и 60-е гг. 403
ковать на русском языке основное содержание своей работы.
Пожалуй, чуть ли не первая публикация на этот счет — это
написанная им часть статьи «Восхождение от абстрактного к
конкретному» для «Философской энциклопедии»*.
Думаю, читателю легко представить себе, насколько сильно
было воздействие на философское студенчество 50-х гг.
описываемых мною событий и особенно их главных действующих
лиц. Мы действительно окунулись в подлинное
университетское сотоварищество с его стремлением к знаниям,
творчеству, деятельности. Очень важно было то, что герои этих
событий — это почти мы, у нас разница по летам, ну, три — пять,
максимум десять лет, это — наши старшие братья, умные,
талантливые, смелые и решительные. Вместе с ними наша
философская жизнь будет праздником, нам сейчас надо только
одолеть этих ортодоксов, и философское будущее — наше,
можно будет реально работать и, даст Бог, что-то создавать
новое и значительное. Конечно, с точки зрения нашего
философского образования, этот дарованный нам судьбой опыт
бесценен. Если бы мы не получили его, мы бы вышли из
университета во многом ущербными и обездоленными.
Такова была эта очень важная, не единственная,
конечно, но действительно очень важная составляющая
нашего профессионального философского и человеческого
образования. Убежден, что она была существенной не только для
нас, кто учился в середине 50-х, но и для более ранних и более
поздних курсов. И поэтому Э. В. Ильенкова, А. А. Зиновьева,
Б. А. Грушина, М. К. Мамардашвили, Г. П. Щедровицкого, к
ним я обязательно хочу добавить В. В. Давыдова, мы с полным
правом можем и должны считать нашими реальными
учителями. Кончилось ли на этом наше философское образование?
Думаю, что нет. И по этому поводу я должен еще кое-что
сказать. После защиты диссертаций А. А. Зиновьевым и
Б. А. Грушиным (М. К. Мамардашвили защищал свою
диссертацию позже, года через два — он был моложе и учился в
аспирантуре позднее) факультет померк. Как я уже говорил,
Э. В. Ильенков и А. А. Зиновьев перешли на работу в
Институт философии, Б. А. Грушин был вынужден пойти работать в
«Комсомольскую правду» (где он начинал свою блестящую
* Зиновьев А. А. О логической природе восхождения от абстрактного к
конкретному. В ст.: Восхождение от абстрактного к конкретному //
Философская энциклопедия. М., 1960. Т. I. С. 296-298.
404 В. Н. Садовский
социологическую карьеру). На факультете, как казалось,
вновь воцарилась мрачная атмосфера, но импульс был дан, и
теперь уже ничто не могло его остановить.
Именно в это время главной действующей творческой силой
на факультете оказалась аспирантура. С аспирантурой на
философском факультете происходили весьма любопытные истории.
В конце 40-х — начале 50-х гг. выпускников факультета не
очень жаловало партийно-государственное начальство в
качестве преподавателей философии в вузах (зелены и не прошли
достойной школы). Поэтому выпускников факультета направляли в
школы (в школах работали А. А. Зиновьев, Г. П. Щедровицкий,
A. М. Пятигорский, В. П. Зинченко и многие, многие другие;
Борис Шрагин на Урале в то время преподавал в школе, где учился
Эрих Соловьёв), в техникумы, на предприятия, в библиотеки, а
также в колхозы и совхозы. Но вместе с тем человек двадцать,
как минимум, факультетское начальство оставляло в
аспирантуре — особенно в начале 50-х гг. (кроме уже неоднократно
упомянутых аспирантов первой половины 50-х гг. — Э. В.
Ильенкова, А. А. Зиновьева, Б. А. Грушина и др. — следует
обязательно назвать также А. И. Уемова, И. Б. Новика, Б. В. Бирюкова,
B. И. Алексеева (трагически погиб в начале 50-х) и некоторых
других. Каждый из них искал пути к реальной философии), в
середине это уже пошло на убыль. И, в конечном счете,
получилось так, что в 1953—1958 гг. на факультете образовалась, не
боюсь этого сказать, мощнейшая когорта аспирантов.
Большинство из них прошло, так скажем, школу Ильенкова—Зиновьева,
и — что очень важно — они были готовы, в большей или
меньшей степени, продолжать эту линию.
Читателю, знакомому с современным российским
философским сообществом, достаточно только назвать имена
аспирантов того времени: Б. А. Грушин, А. Л. Субботин, М. К. Ма-
мардашвили, Л. Н. Митрохин, В. В. Давыдов, Ю. Ф. Карякин,
И. Т. Фролов, Е. Г. Плимак, Н. Б. Биккенин, А. Е. Бовин,
Н. И. Лапин, И. К. Пантин, Б. М. Пышков, В. А. Смирнов,
В. П. Зинченко, И. В. Блауберг, Б. С. Раббот, Н. С. Юлина,
Л. С. Горшкова, А. Ф. Зотов, А. С. Богомолов, А. Н. Чанышев
и многие другие. И на факультете, прежде всего в результате
их активности, происходили весьма значительные события.
Самым главным из них в те годы — самая середина 50-х гг. —
было, несомненно, решительное восстание аспирантов и
некоторых молодых преподавателей против произведенного
партийно-философской элитой в конце 40-х — начале 50-х гг.
изнасилования истории русской философии. То, чем в то время
Философия в Москве в 50-е и 60-е гг. 405
являлась русская философия, об этом сегодня даже страшно
вспоминать. Но она была именно таковой, отрезанной от
подавляющего большинства своих действительно творческих
направлений, и в таком виде настойчиво вдалбливалась в умы не
только студентов-философов, но и всей интеллигенции. В 40-е
и 50-е гг. история русской философии в контексте
пресловутой борьбы против космополитизма («Россия — родина
слонов» — так можно передать основной смысл этого позорища)
представляла собой не столько некую историко-научную
дисциплину, сколько навязанную партийным начальством арену
ожесточенной идеологической борьбы. В ней принимало
активное участие подавляющее большинство философов,
специалистов других общественных дисциплин. Буквально
единицам (Э. В. Смирновой, 3. А. Каменскому и, пожалуй, все)
удалось как-то сохранить свое профессиональное лицо.
И вот против этого монстра решительно выступили
аспиранты Ю. Ф. Карякин, Е. Г. Плимак, И. К. Пантин и молодые
преподаватели кафедры истории русской философии (я уже
упоминал их) Г. С. Арефьева и В. И. Бурлак. Факультет вновь
забурлил, многочисленные обсуждения, активная поддержка
сторонников, мобилизация ортодоксов. На этот раз события
философского факультета смогли попасть в прессу (тогда это
было совершенно необычно) — маленькую статью главных
бунтовщиков опубликовала «Советская Россия» (это была
совсем другая газета, чем сегодня). Конечный итог этих событий
был не очень значительным — официальные столпы истории
русской философии во главе с И. Я. Щипановым сохранили и
свои посты, и свое понимание (скорее — непонимание)
русской философии, но можно твердо сказать, что переживаемый
в настоящее время ренессанс русской философии в известной
степени был подготовлен этими баталиями середины 50-х гг.
В это же время на факультете происходили и другие важные
события. В памяти осталась, например, дискуссия по предмету
философии, в которой вновь активную роль играли аспиранты
тех лет. Ни в коей мере не претендуя на полноту описания
жизни философского факультета конца 50-х гг., думаю,
однако, что с полным правом можно сказать, что, опираясь на
достигнутое ранее, творческие силы факультета того времени
смогли сделать пусть маленькие, но все же явные шаги к
возрождению истинного философского знания.
И теперь я могу сформулировать мое последнее — думаю,
достаточно важное — утверждение о философском
образовании в 50-е гг. Как уже было сказано не раз, мы все — и препо-
406 В. Н. Садовский
даватели, и аспиранты, и студенты — жили в то время в
условиях чудовищного информационно-теоретического голода. Это
касалось не только западной немарксистской литературы, но и
информации о современных марксистских философских
исследованиях (достаточно вспомнить, что в то время, хотя
произведения «молодого Маркса» и были уже опубликованы, внимание
к ним было минимальным). Единственный путь к реальному
возрождению философии состоял в ликвидации этого
информационного вакуума. И этот процесс начался в 50-е гг. усилиями
всех творчески мыслящих тогда философов. Этому процессу
помогли и некоторые, так сказать, внешние обстоятельства по-
слесталинского периода — несколько легче стало знакомиться
с современной западной философской литературой.
Издательство иностранной литературы именно в это время приступило
к выпуску русских переводов ряда классических
философских сочинений XX в. (Б. Рассел, Л. Витгенштейн, Р. Карнап,
Ф. Франк и др.), хотя спецхран и многие другие ограничения к
доступу информации существовали еще очень долгое время.
Скажу иначе: поколение философов 40—50-х гг. (как,
впрочем, во многом и поколение философов-ифлийцев) смогло
завершить свое философское образование, буквально
вытащив себя за волосы из пучины марксистского
догматизма и втащив — за счет самообразования — в те или
иные области современного философского знания.
Кому удалось это сделать, действительно пришли в
философию и остались в ней, кому не удалось или кто даже не
помышлял об этом, из философии ушли.
Процесс вхождения в современное философское знание и тем
самым завершения своего образования был очень сложным. Он
реализовывался самыми различными путями, но разговор об
этом — это не менее интересная, но другая история. Я не могу
здесь ее затрагивать. Скажу только одно: этот процесс мог быть
успешным только в том случае, если человек приобщался
действительно к универсальному философскому знанию (конечно,
к той или иной его области), а не к какому-то его
отдельному направлению, течению или школе (например, только
к марксистской философии). Я специально это говорю, потому
что целый ряд талантливых молодых философов не смог
вырваться из пут марксизма, и в результате они сильно обеднили
свое творчество. Но очень много выпускников философского
факультета 40-х и 50-х гг. преодолели это препятствие, и их
философская жизнь и творчество оказались, по моему мнению,
гораздо более продуктивными.
Философия в Москве в 50-е и 60-е гг. 407
Завершились 50-е гг. Поколение аспирантов того времени, а
также студентов 50-х гг. закончило свою учебу, и многие из них
смогли — хрущевская «оттепель», несмотря на ее ущербность,
действовала — попасть на реальную философскую работу. И в
результате получилось так, что в конце 50-х — начале 60-х гг.
центры действительной российской (тогда — советской)
философской жизни переместились в Институт философии АН
СССР, в журнал «Вопросы философии», в журнал
«Коммунист» (как это ни парадоксально), в Институт психологии
Академии педагогических наук РСФСР и в некоторые другие
учреждения — прежде всего в некоторые высшие учебные
заведения (но не на философский факультет, который в то время
переживал период упадка — сказалось, по-видимому, мощное
напряжение предшествующих лет). В это время, как мне
представляется, на факультете было лишь два центра реальной
философской жизни — кафедра истории зарубежной
философии (Т. И. Ойзерман, М. Ф. Овсянников, Ю. К. Мельвиль,
И. С. Нарский, В. В. Соколов, А. С. Богомолов, А. Н. Чаны-
шев, позже — В. Н. Кузнецов, П. П. Гайденко, Б. С. Грязнов,
А.Ф.Зотов и др.) и кафедра логики — (Е. К. Войшвилло,
А. А. Зиновьев, А. А. Старченко, В. А. Смирнов, Е. Д.
Смирнова, В.А.Бочаров, В. С. Меськов и др.), очень активно
внедряющая современные формально-логические концепции в
философское образование. Лишь в 70-е гг. усилиями декана
факультета того времени М. Ф. Овсянникова, кафедр истории
зарубежной философии и логики, а также университетских
философских кафедр, возглавляемых С. Т. Мелюхиным, В. И.
Купцовым, А. М. Коршуновым и Г. М. Андреевой, философское
сообщество МГУ постепенно вновь стало играть достаточно
важную роль в философской жизни в стране.
В конце 50-х — начале 60-х гг. произошла существенная
реорганизация философской жизни в стране. Далеко не всей,
конечно, — в вузах и школах, особенно в провинции,
философия преподавалась по испытанным догматическим канонам.
Исследовательская же работа в философии смогла именно в
эти годы встать на реальную почву.
Эти преобразования прежде всего коснулись Института
философии Академии наук СССР. Численность научных
сотрудников Института философии росла буквально на глазах, в
институте создавались новые научные подразделения (например,
сектор логики и другие). В итоге оказалось, что в эти годы в
институте стали работать (иногда сначала учиться, а потом
работать) и Э. В. Ильенков, и А. А. Зиновьев (об этом я уже го-
408 В. Н. Садовский
ворил), а также П. В. Копнин, Д. П. Горский, А. Л. Субботин,
Н. Ф. Овчинников, А. С. Арсеньев, В. А. Лекторский, Ю. А. Ле -
вада, С. А. Эфиров, Ю. Н. Давыдов, Г. В. Осипов, В. В. Мшве-
ниерадзе, А. В. Брушлинский, К. А. Славская, Н. Ф. Наумова,
Ю. В. Сачков, И. А. Акчурин, О. Г. Дробницкий, Н. С. Юли-
на, Л. Н. Митрохин, Э. Я. Баталов, Б. В. Богданов, В. С. Швы-
рёв, Н. В. Мотрошилова, Л.С.Горшкова, Л.Б.Баженов,
B. В. Казютинский, М. Т. Степанянц, А. В. Сагадеев, Т. А. Кузь -
мина, Ю. Б. Молчанов, Ю. Н. Семёнов, В. А. Смирнов,
Н. Т. Абрамова, Г. С. Батищев, И. Ф. Балакина, В. И. Кре-
мянский, Е. П. Никитин, В. М. Межуев, Р. С. Карпинская и
многие другие философы и психологи. В то же время
открылось, так сказать, второе дыхание у философов более старших
поколений — я имею в виду прежде всего Б. М. Кедрова,
C. Л. Рубинштейна, И. В. Кузнецова, М. Э. Омельяновского,
М. М. Розенталя, П. В. Таванца, Т. И. Ойзермана и
некоторых других. Лично я благодарю судьбу за то, что в 1958—
1962 гг. я получил возможность работать в этом институте.
В эти годы кардинально изменился и журнал «Вопросы
философии». Формальное, не очень значительное изменение
состояло в том, что с 1958 г. он стал ежемесячным;
существенное, очень значительное изменение коснулось людей,
которые стали делать журнал, и — самое главное — его
содержания. «Вопросы философии», как известно, были созданы в
1947 г., и этот журнал в основном был детищем Б. М.
Кедрова. На посту главного редактора журнала Б. М. Кедров
пробыл недолго, но заложенные им основы этого журнала и
привлеченные к его изданию люди сделали все возможное для
того, чтобы журнал достойно преодолел свои многочисленные
трудности и невзгоды. Я особенно хочу упомянуть в связи с
этим Геннадия Сардионовича Гургенидзе, который отдал
журналу добрых тридцать лет своей жизни и все это время с
большим достоинством олицетворял научную совесть журнала.
В конце 40-х — начале 50-х гг. свой .вклад в работу журнала
внесли Г. А. Арбатов, А. В. Гулыга, только что пришедшие из
сталинских лагерей С. С. Пичугин и Е. П. Ситковский.
Позднее, в конце 50-х — начале 60-х гг., благодаря усилиям
прежде всего ответственных секретарей журнала в то время —
сначала М. И. Сидорова, а затем — И. Т. Фролова — в
журнале получили возможность работать А. Г. Арзаканян,
А. Л. Субботин, М. К. Мамардашвили, Э. А. Араб-оглы,
И. Б. Новик, Н. Б. Биккенин, Н. И. Лапин, И. В. Блауберг,
Э. Ю. Соловьёв, Г. Н. Волков, А. П. Огурцов, Ю. Б. Молча-
Философия в Москве в 50-е и 60-е гг. 409
нов, Е. Т. Фаддеев, Л. И. Греков, А. Я. Шаров, Б. Г. Юдин и
другие. В начале 60-х гг. решительно стала меняться и фило-
софско-идеологическая направленность редколлегии
журнала, в которой главную роль стали играть Б. М. Кедров,
Ю. А. Замошкин, А. Ф. Шишкин, В. Ж. Келле, В. А. Карпу-
шин, А.Н.Леонтьев и некоторые другие. В 1962—1967 гг.
мне посчастливилось быть в составе этого прекрасного
коллектива.
В 1968 г. главным редактором журнала «Вопросы
философии» стал И. Т. Фролов, который включил в редколлегию
журнала буквально весь цвет российской философской мысли
того времени — М. К. Мамардашвили (зам. главного
редактора), Б. М. Кедрова, А. А. Зиновьева, Б. А. Грушина, Ю. А. За -
мошкина, В. Ж. Келле, В. А. Лекторского и др.
Новые философские веяния коснулись и журнала
«Коммунист», хотя он и был теоретическим органом ЦК КПСС со всеми
вытекающими отсюда последствиями. В этом большая заслуга
работавших в нем в то время философов А. Е. Бовина, А. П. Бу-
тенко, Г. Л. Смирнова, Н. Б. Биккенина, А. Р. Познера,
несколько позднее — Л. К. Науменко, Г. Н. Волкова и других.
И, наконец, именно в эти годы — в конце 50-х — начале
60-х гг. — свои пути к философскому возрождению в стране
нашли и некоторые высшие учебные заведения, прежде всего
Институт международных отношений (А. Ф. Шишкин, Ю. А.
Замошкин и др. — из этого института вышли многие будущие
видные советские социологи: Д. М. Гвишиани, Г. В. Осипов,
Ю. Н. Семёнов, В. С. Семёнов и др.); Институт народного
хозяйства им. Г. В. Плеханова (В. А. Карпушин, А. И. Ракитов
и др.); 2-й Московский медицинский институт (Ф. Т. Михайлов,
М. Б. Туровский, А. М. Блок, Л. С. Черняк и др.); Московский
государственный педагогический институт им. В. И. Ленина
(В. С. Готт и др.).
В то же время — или несколько позже — произошло важное
событие, которое во всяком случае тогда не получило должной
оценки — потребность в философско-психологических
исследованиях остро почувствовали некоторые отрасли индустрии,
связанные прежде всего с космонавтикой и оборонной
промышленностью. Возникли соответствующие сильные в творческом
отношении исследовательские группы (Ф.Д.Горбов, Д.Ю.Панов,
В. П. Зинченко, В. А. Лефевр, В. М. Мунипов, О. И. Генисарет-
ский, Г. Е. Журавлев, Д. А. Поспелов, Г. Л. Смолян и др.).
Важную роль в философском ренессансе 60-х гг. сыграли
Институт психологии Академии педагогических наук РСФСР
410 В. Н. Садовский
и только что созданный психологический факультет МГУ. И
психологи старшего поколения (А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия,
Б. М. Теплов, П. А. Шеварев, П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин
и др.), и молодые психологи (В. М. Мунипов, В.В.Давыдов,
В. П. Зинченко, В. П. Пушкин, О. К. Тихомиров, А. В. Бруш-
линский, Я. А. Пономарёв и др.) — все они были глубоко
заинтересованы в реальном развитии философии и максимально
способствовали этому. Институт психологии предоставил
возможность работать (на общественных началах — на большее и не
претендовали) возглавляемому Г. П. Щедровицким
«Московскому логическому (позднее — методологическому) кружку» —
философские учреждения и слышать об этом не хотели. Через
этот кружок прошло много будущих видных философов,
психологов, социологов (Н. Г. Алексеев, В. С. Швырёв, И. С. Ладен-
ко, В. А. Лефевр, В. М. Розин, О. Г. Генисаретский, Э. Г. Юдин,
Б. В. Сазонов и многие, многие другие; лет десять я также был
активным членом этого кружка, а затем, как и многие другие его
члены, отошел от его работы, хотя и сохранил очень теплые
человеческие и хорошие профессиональные отношения и с
Г. П. Щедровицким, и со многими членами этого кружка).
В конце 50-х — начале 60-х гг. постепенно стала
формироваться сильная философско-логическая группа во
Всесоюзном институте научной и технической информации
Академии наук СССР (В. К. Финн, Д. А. Лахути, Н. И. Стяжкин,
Ю. А. Шрейдер и др.). В середине 60-х гг. мощная
философская и социологическая группа сложилась в Институте
международного рабочего движения (М. К. Мамардашвили, Ю. А. За-
мошкин, Ю. Ф. Карякин, Н. В. Новиков, Э. Ю. Соловьёв,
А. П. Огурцов и другие).
В 1962 г. директором Института истории естествознания и
техники Академии наук СССР стал Б. М. Кедров и был им
в течение двенадцати лет. Именно в это время институт стал
играть большую роль в философской жизни в стране. К
участию в его работе были привлечены В. С. Библер, А. С. Ар-
сеньев, Н. И. Родный, Б. С. Грязнов, А. Ф. Зотов, Б. С. Ды-
нин, М. Г. Ярошевский, И. С. Алексеев, позднее — П. П. Гай-
денко, А. П. Огурцов, В. Л. Рабинович, А. В. Ахутин и другие.
В 1968 г. благодаря нелегким усилиям Б. М. Кедрова и его
заместителя С. Р. Микулинского в институте был создан сектор
(сначала — группа) системного исследования науки, который
возглавил И. В. Блауберг и в котором работали Э. Г. Юдин, я,
позднее — Э. М. Мирский, А. И. Яблонский, Г. А. Смирнов,
А. А. Игнатьев и др. Поясню, что означают нелегкие усилия,
Философия в Москве в 50-е и 60-е гг. 411
которые потребовались Б. М. Кедрову для создания этого
сектора. Э. Г. Юдин — это не подвергалось никаким
сомнениям — должен был стать непременным членом этого сектора,
но он был осужден в 1957 г. по 58-й статье на десять лет, в
лагере он провел три года, после освобождения работал на
заводе, затем, имея кандидатский диплом, благодаря усилиям
многих людей — особенно отмечу уже упоминавшегося Г. С. Гур-
генидзе и тогда работавшего в ЦК КПСС В. П. Кузьмина —
был принят на работу в «Философскую энциклопедию», но
при этом не был реабилитирован. Взять на работу в Академию
наук человека с таким прошлым было тогда очень тяжело
(Э. Г. Юдин скоропостижно скончался в начале 1976 г., и
только много лет спустя в результате непрекращающихся
настойчивых усилий его матери он был полностью
реабилитирован). В 1978 г. этот сектор практически в полном составе
перешел на работу в Институт системных исследований АН СССР.
Во второй половине 60-х гг. после долгих мучений наконец-
то удалось создать специальное научно-исследовательское
учреждение в Академии наук СССР по социологии —
Институт конкретных социальных исследований (А. М. Румянцев,
Г. В. Осипов, Ф. М. Бурлацкий, Ю. А. Левада, Н. Ф.
Наумова, Б. А. Грушин, Н. И. Лапин, И. В. Блауберг и др.). Этому
институту — как мы сегодня хорошо знаем — предстояла
нелегкая борьба за существование, даже несмотря на то, что уже
своим исходным названием (оно несколько раз менялось) он
ни в коей мере не претендовал на сферу исторического
материализма. Горькая история развития советской социологии —
это тема специального исследования. Я же хочу отметить
только одно: названные мною социологи, как и многие другие,
несмотря ни на что, сами сделали себя специалистами в
этой области и, как мы можем судить сегодня, социологами
высокого класса.
Наконец, следует обязательно отметить, что именно в конце
50-х гг. началась работа над изданием пятитомной
«Философской энциклопедии» (А. Г. Спиркин, Н. М. Ланда, Ю.
Н.Давыдов, М. Б. Туровский, 3. А. Каменский, Б. Т. Григорьян,
В. П. Шестаков, А. И. Володин, Э. Г. Юдин, Ю. А. Гастев,
Б. В. Бирюков, М. М. Новосёлов, Ю. Н. Попов и многие
другие) — первой систематической попытки научного
представления системы философских знаний, далеко не всегда, между
прочим (особенно в двух последних томах, вышедших в конце
60-х гг.), в рамках ортодоксального марксизма. Эти процессы
философского обновления происходили, конечно, не только в
412 В. Н. Садовский
Москве. Серьезные исследования по социологии, семиотике,
философии науки и логике были выполнены в эти годы в
Ленинграде И. С. Коном, Л. О. Резниковым, В. А. Штоффом,
О. Ф. Серебрянниковым и др. В Томске и Новосибирске
образовалась сильная группа активно работающих философов, в
основном выпускников Московского и Ленинградского
университетов, — В. А. Смирнов, Э. Г. Юдин, Е. Д. Смирнова,
А. К. Сухотин, М. А. Розов, В. Н. Сагатовский, И. С. Ладен-
ко, Е. Д. Клементьев и др. Кардинально была изменена
философская ситуация в Киеве, Одессе и вообще на Украине
благодаря активной деятельности П. В. Копнина, А. И. Уемова,
М. В. Поповича, С. Б. Крымского и многих других философов.
Получили большую известность исследования грузинских
философов Э. М. Какабадзе, Н. 3. Чавчавадзе, А. Ф. Бегиашви-
ли и др. Интересные разработки проблем философии
моделирования были осуществлены в Эстонии (Л. О. Вальт и др.).
Сильная в творческом отношении группа специалистов по
гносеологии, истории философии, истории науки и
науковедению сформировалась в Ростове-на-Дону (М. К. Петров,
А. В. Потёмкин, Э. М. Мирский, В. Н. Дубровин, Ю. Р. Ти-
щенко и др.). Несколько позже — в 70-е гг. — большой
интерес был вызван работами по философии науки минских
философов (В. С. Стёпин и др.).
Я привел этот перечень философских организаций 60-х гг. и
активно работающих в них философов (я должен повторить
оговорку, сделанную в начале этой статьи. В достаточно
большом перечне имен философов, который я привел, я, конечно
же, кого-то забыл назвать, не вспомнил. Всем им приношу
глубокие извинения), имея в виду главным образом две цели. Во-
первых, я хотел подчеркнуть, что именно в рамках этого
сообщества мы все —: и ифлийцы, и философы 50-х гг. — смогли
завершить свое философское образование, приступив в
это время к реальной научно-философской деятельности.
Результатом этой деятельности, и это во-вторых, было то, что в
конечном итоге именно в эти годы благодаря усилиям
названных философских учреждений и работающих в них философов
произошло действительное возрождение российской
философской традиции. Однако рассказ об этом, а это обязательно
надо подробно рассказать, — тема другой статьи.
3. А. Каменский
О «Философской энциклопедии»*
11рошло двадцать пять лет с тех пор, как в 1970 г.
вышел V, завершающий том «Философской
энциклопедии». Это обстоятельство дает нам повод
обратиться к этому по-своему уникальному изданию.
Никогда еще ни до него, ни после философская наука не
получала в нашей стране столь полного и
углубленного выражения, никогда еще она не обновлялась в
такой степени. Сроки выпуска этого издания, 1960—
1970 гг., с математической точностью совпадают с
эпохой в истории отечественной культуры, которую
принято у нас называть эпохой «шестидесятников».
Изучение эпохи «шестидесятников» представляет
большой и во многих отношениях особый интерес,
поскольку, эта эпоха резко отличается по своей
продуктивности от предшествующих лет истории
советской философии. И когда мы приступим к серьезным
исследованиям этой истории, изучение
коллективного разума отечественных философов, нашедшего свое
выражение в «Философской энциклопедии», займет
свое почетное место.
Настоящая статья не претендует на
исследовательский характер. Жанр ее — мемуары. Как человек,
участвовавший в создании «Философской энцикло-
* Философия не кончается... Из истории отечественной
философии. XX век. В 2-х кн. / Под ред. В. А. Лекторского. Кн. II.
60-80-е гг. М., 1998. С. 43-82.
414 3. А. Каменский
педии» с самого начала и почти до самого конца, я хотел бы
сообщить некоторые факты истории этого издания, которые,
как я надеюсь, будут небезынтересны и современному
читателю, и будущим историкам отечественной философии.
/
Вскоре после смерти И. В. Сталина я постепенно стал
выходить из состояния остракизма, которому был подвергнут в
1949 г. за публикацию полемической статьи против М. Т. Иов-
чука, И. Я. Щипанова и других историографов отечественной
философии, а следовательно, и против самой этой
историографии («Вопросы философии». 1947. № 2). Был реабилитирован
мой отец, арестованный в 1937 г. и погибший на Лубянке в
1938-м.
В 1955 г. я начал преподавать курс диалектического и
исторического материализма в аспирантуре одного из технических
научных институтов. В 1957 г. получил предложение принять
участие в работе по изданию «Философской энциклопедии»,
главным редактором которой был назначен Ф. В.
Константинов. Он был в это время заведующим агитпропом ЦК КПСС,
но пикантность ситуации состояла в том, что именно он был
секретарем парткома Института философии АН СССР в то
время, когда меня увольняли из этого института за
«космополитизм». И то, что Ф. В. Константинов хотел меня привлечь к
работе в энциклопедии, давало основание полагать, что я
получаю официальную реабилитацию.
В контексте тогдашних общеполитических и идеологических
перемен задача создания «Философской энциклопедии» была
весьма масштабной, если не сказать титанической: на волне
антисталинизма, обусловленного решениями XX съезда
КПСС, и последовавшего за ним идеологического обновления
осознавалась задача очищения философского знания от
сталинистского догматизма. Это стремление, в свою очередь,
побуждало к тому, чтобы попытаться решить и более
фундаментальную задачу — развить философскую науку, используя,
обобщая и систематизируя то положительное, что было
накоплено в стране за сорок лет работы сотен ученых.
Правда, тогда эта задача ставилась, так сказать, не во весь
рост, критика культа личности только начиналась. Да и сам
руководитель издания Ф. В. Константинов, наряду с двумя
главными представителями Сталина в философии — М. Б. Мити-
О «Философской энциклопедии» 415
ным и П. Ф. Юдиным, — все еще занимавшими руководящие
посты в советской идеологической структуре, был в 30—50-е гг.
одним из проводников культа личности Сталина в философии.
Было совершенно очевидно, что перед теми, кто будет
создавать «Философскую энциклопедию», наряду с собственно
научными задачами возникнут и сложные задачи пол ити
ко-идеологического свойства.
Принимали меня на работу директор издательства
«Советская энциклопедия» И. А. Ревин (бывший директор
издательства «Правда») и фактический его идеологический
руководитель, заместитель председателя Научного совета Л. С.
Шаумян (председателем был академик Б.А.Введенский).
Когда я пришел в формирующуюся редакцию философии
этого издательства, там работал А. Г. Спиркин, которого я знал
в 40-х гг. как аспиранта Института философии (к этому
времени он уже защитил кандидатскую диссертацию), работавшего
под руководством С. Л. Рубинштейна, известного советского
психолога и заместителя директора института. В состав
редакции входили также М. М. Мороз, вскоре умерший от
туберкулеза, М. Б. Туровский. Через некоторое время заведующей
редакцией была назначена Л. Ф. Денисова, которая, не
сработавшись с Ф. В. Константиновым, перешла в так называемую
«научно-контрольную редакцию», сотрудники которой читали
подготовленные и уже завизированные к дальнейшему
прохождению статьи. На ее место был назначен А. Г. Спиркин,
защитивший в 1960 г. докторскую диссертацию (изданную книгой —
«Происхождение сознания» — в 1960 г.).
Первой заботой нашей редакции была выработка структуры
«Философской энциклопедии» и составление ее словника.
Некоторые из первых решений были совершенно
утопическими. Так, было предположено издать энциклопедию в трех
томах по тридцать—сорок листов с 3500 статьями и завершить
все издание к 1960 г. Насколько это намерение было
необоснованным, видно из того, что вышла она в пяти томах со все
увеличивающимся объемом (I том — около 90 л., V — 139,5
л.) и завершилась изданием десятью годами позже
предположенного — в 1970 г.
Составление словника было чрезвычайно трудным,
кропотливым и ответственным делом. С самого начала мы должны
были определить круг проблем, которые найдут свое
рассмотрение в издании. Задача состояла в том, чтобы обогатить сам
набор понятий, проблем, имен. Обогатить, поскольку в
сталинские времена философия была чрезвычайно обеднена,
416 3. А. Каменский
вульгаризирована. Встали и такие принципиальные вопросы,
как введение тем и проблем, традиционно не только не
включавшихся в философию, но и вообще объявленных областями
«буржуазной идеологии». Таковы были символическая
(математическая) логика, кибернетика, теория систем,
значительная часть терминологии идеалистической философии, многие
ее деятели и школы, особенно второй половины XIX—XX вв.,
как отечественные, так и зарубежные. Многие из этих
проблем, как, например, собственная проблематика
математической логики или кибернетики, действительно не могут
считаться непосредственно философскими. Но так как эта
проблематика подвергалась гонению и не находила достаточно
широкого и детализированного выхода в печать, то в редакции
было решено все-таки ввести эти проблемы в словник и
отстаивать это решение перед консервативным главным
редактором и редколлегией. Ф. В. Константинов и некоторые
члены редколлегии (о которой — ниже) всячески возражали
против такого расширительного освещения философии в
энциклопедии и преследовали упреками и даже насмешками тех
участников издания, которые самоотверженно отстаивали
необходимость таких включений. Особенно доставалось Б. В.
Бирюкову, фактическому организатору и редактору отдела
математической логики, который со второго тома издания был
внештатным научным редактором по этой тематике.
Может быть, несколько лучше по форме, но едва ли не
трудней по существу, обстояло дело с историей философии.
Здесь предстояло весьма значительно расширить словник по
персоналиям, школам и направлениям, по терминологии.
Трудность состояла в том, что в те годы в нашей стране
очень плохо знали и историю западного идеализма, начиная с
середины XIX в., и современную западную философию.
Особо трудную задачу представляла история философии на
Востоке, в Византии и Испании, в те времена очень плохо
изученная у нас.
Но если трудности этих отделов состояли главным образом
в том, что их содержание было в то время в нашей науке
чрезвычайно обеднено, не разработано, а то и попросту
неизвестно, то другого рода трудность возникала перед
традиционными отделами советской философской науки 30-х — начала
50-х гг. — диалектическим и историческим материализмом.
Здесь, казалось бы, было сделано гораздо больше — был
накоплен обширный материал, изданы монографии и множество
статей в журналах и сборниках. Однако именно эти области в
О «Философской энциклопедии» 417
наибольшей мере были подвержены догматизму,
вульгаризации, здесь особенно была сужена проблематика,
игнорировались многие важнейшие вопросы. Совсем не развиты были
социология, история религии, не обсуждалась с философской
точки зрения ее догматика, хотя спорным было включение
этих областей в «Философскую энциклопедию», как и
включение в сферу внимания многих так называемых философских
проблем естествознания, кибернетики, математической
логики. И несмотря на все эти трудности, мы должны были уже в
словнике — этой программе будущих работ — по меньшей
мере, зафиксировать свои намерения. Разумеется, мы
понимали, что словник можно будет изменять, сокращать и
дополнять, но эти будущие возможности, во-первых, не очень-то
помогали нам в сиюминутном непосредственном
планировании издания, а во-вторых, как нам указывали опытные
сотрудники издательства и как это знал А. Г. Спиркин (он уже
несколько лет был сотрудником издательства «Советская
энциклопедия», участвовал в работе над вторым изданием БСЭ),
свобода манипуляции словником не была абсолютной: уже в
I томе осуществлялась система ссылок, и, если ссылка на
будущую статью проходила, ее уже сложно было не напечатать.
Трудность едва ли не большая, чем составление словника,
была в другом: мы должны были отдавать себе отчет в том, что
придется находить авторов для всех статей, и притом не просто
авторов, а людей знающих, ответственных, специалистов.
Способ составления словника напрашивался сам собой.
Там, где мы не могли составлять основу сами, мы просили об
этом специалистов, а затем рассылали проекты разделов по
специализированным учреждениям (институтам, кафедрам,
отраслевым и республиканским академиям наук) и просто
отдельным специалистам.
2
Хотелось бы сказать несколько слов о редколлегии
«Философской энциклопедии». Хотя она и включала
профессиональных ученых-философов, таких как В. Ф. Асмус, Б. Э. Бы-
ховский, Б. М. Кедров, но в основном была составлена из
«именитых» советско-партийных функционеров, занимавших
руководящие посты в партийной и научной иерархии. Главный
редактор Ф. В. Константинов, кроме уже названного поста, в
разное время был ректором АОН при ЦК КПСС, директором
418 3. А. Каменский
Института философии АН СССР, главным редактором
теоретического органа ЦК КПСС «Коммунист» и журнала
«Вопросы философии», одно время — кандидатом в члены ЦК;
П. Н. Федосеев, старый партноменклатурщик, был
работником ЦК, заместителем начальника управления агитации и
пропаганды Г. Ф. Александрова, директором НМЛ при ЦК
КПСС и Института философии, многолетнем
вице-президентом АН СССР по обществоведческому циклу, членом ЦК;
М. Т. Иовчук тоже работал в ведомстве Г. Ф. Александрова,
был секретарем ЦК Белорусской компартии по идеологии,
ректором АОН и кандидатом в члены ЦК; Г. П. Францев,
начав свою деятельность как ученый и преподаватель, затем
вошел в элиту, а в годы издания «Философской энциклопедии»
был ректором АОН и зам. директора ИМЛ; X. Н. Момджян
являлся членом редколлегии журнала «Коммунист», а затем
зав. кафедрой философии АОН; А. Д. Макаров был зам.
директора ИМЭЛ, а позже — зав. кафедрой философии ВПШ
при ЦК КПСС; партработником — одно время секретарь
обкома КПСС, в дальнейшем выпускник АОН — был
А. Ф. Окулов, занимавший также последовательно должности
зам. директора Института философии АН СССР и директора
Института научного атеизма при АОН.
Со II тома в состав редколлегии был введен и А. Г. Спир-
кин, который после Л. Ф. Денисовой был заведующим нашей
редакцией, передав в 1962 г. эту должность мне.
Как коллективный орган редколлегия почти не работала.
Собирались очень редко и всегда в неполном составе. Но
некоторые ее члены работали, и даже напряженно. Достигали
мы этого рассылкой отдельных статей и их партий членам
редколлегии по принадлежности (они должны были визировать
статьи). Не помню, чтобы за каждым официально были
закреплены какие-нибудь отделы, но фактически это было так, и
главным образом по инициативе редакторов отделов. Так, я,
ведя в энциклопедии отдел классической западноевропейской
философии, считал обязательным любую статью завизировать
у членов редколлегии — В. Ф.Асмуса (главным образом по
античности и средневековью) и Б. Э. Быховского (история
философии Нового времени). Думаю, что относительно высокий
уровень статей этого раздела обеспечивался не только тем,
что в качестве авторов избирались
высококвалифицированные специалисты, сосредоточенные именно на данной
тематике и — желательно опубликовавшие по ней специальные
работы, но и вниманием этих членов редколлегии. Труднее об-
О «Философской энциклопедии»» 419
стояло дело с ответственными теоретическими статьями и со
статьями, предполагавшими идеологическую направленность,
каковыми, в особенности, считались статьи по истории
западной философии постклассического периода вплоть до
современности, по истории русского идеализма, религии и атеизму
и, конечно, центральные статьи по диалектическому и
историческому материализму. В особенности трудно было провести
статьи через главного редактора. Сам он особых претензий на
чтение статей не предъявлял, но считалось, что центральные,
ответственные статьи он должен был читать. И здесь надо
отдать должное А. Г. Спиркину, который в качестве заместителя
главного редактора должен был решать, что именно давать
главному. Часто он брал ответственность на себя и просто не
показывал ему статьи, особенно те, которые, по его мнению,
могли вызвать возражения Ф. В. Константинова.
Но иногда коса находила на камень. Так, например,
случилось со статьей о Карле Марксе. Не знаю, каким ходом мысли
дошел Ф. В. Константинов до требования перепечатать в
«Философской энциклопедии» для этой цели известную
статью Ленина из энциклопедии «Гранат» (т. 28. СПб., 1913).
Мы доказывали главному, что, при всех достоинствах этой
статьи, с тех дореволюционных пор марксоведение
продвинулось вперед чрезвычайно далеко, поскольку были введены в
научный оборот многочисленные материалы, изучены многие
вопросы марксоведения, учтены новые данные по смежным
проблемам, — ничто не убеждало Фёдора Васильевича. Так и
пришлось нам тиражировать напечатанную во многих сотнях
тысяч (даже миллионах) экземпляров статью В. И. Ленина и
деликатно оговорить эту несуразность небольшим
примечанием к этой публикации (см.: ФЭ. Т. 3. М., 1964. С. 313).
Раз я уже затронул вопрос об отношениях редакции с
начальством, хотел бы упомянуть о двух эпизодах, возникших на
еще более высоком уровне, — о статье Л. С. Шаумяна
(которому готовили материал и другие сотрудники издательства),
называвшейся «Культ личности» (ФЭ. Т. 3), и о «деле»
В. Ф. Асмуса, как члена редколлегии в связи с его речью на
могиле Б. Пастернака.
Статья Л. Шаумяна, хотя и названа была так, но посвящена
была главным образом культу Сталина (этой статье была
предпослана статья «Культ», а общие проблемы культа
личности рассматривались во вводной части статьи «Культ
личности»). Статья Л. Шаумяна писалась тогда, когда тема
находилась еще «на подъеме» своего обсуждения в печати. Мы, т. е.
420 3. А. Каменский
редакция, критиковали эту статью «слева», насколько помню
сейчас, за то, что она не вскрывала причин, корней этого
явления, что неизбежно вынудило бы автора подвергнуть
критике сами социально-политические реалии эпохи сталинизма.
Л. С, искушенный политик и старый член партии, не пошел
по этому пути, оставив статью, так сказать, на
феноменологическом уровне. Но и то, что он сделал, оказалось слишком
радикальным, и вскоре он был подвергнут критике «справа».
В его радикализме был один личностный момент. Л. С.
Шаумян был сыном известного революционера Степана Шаумяна,
у которого со Сталиным были плохие отношения, связанные
также с какими-то несогласиями С. Шаумяна, работавшего,
как и Сталин, в области теории национального вопроса. Но
так или иначе, полурадикализм Л. С. Шаумяна оказался
слишком сильным в глазах цековского начальства, как только
вскоре после выхода тома (том был подписан в печать в
сентябре, а Н. С. Хрущев отстранен от своих должностей в
октябре 1964 г.) идеологические установки хрущевских времен
стали пересматриваться в направлении некоего усмирения
критики культа Сталина и вообще сталинизма. В связи с этим над
Л. С. Шаумяном, членом нашей редколлегии, а также и над
нашим изданием нависли угрозы, Л. С. стали вызывать в ЦК,
появились критические замечания в печати. Но все
окончилось благополучно (хотя, кажется, он получил замечание или
даже взыскание, — за точность не ручаюсь, т. к. не был
осведомлен) и для нас, и для издания.
Что касается «дела» В. Ф. Асмуса, то после того, как он
произнес свою известную речь на могиле великого поэта, с
которым они были друзьями, на него начались гонения.
Что-то произошло в МГУ, где Валентин Фердинандович
профессорствовал, а Ф. В. Константинов, идя «впереди
регресса», поставил в ЦК вопрос о выведении В. Ф. Асмуса из
редколлегии энциклопедии. И тут же могу рассказать со
слов самого Фёдора Васильевича, который поведал это нам
в редакции, что дело окончилось весьма неожиданно.
Вопреки ожиданиям, М. А. Суслов, которому Ф. В. докладывал
об этой своей инициативе, отверг ее, сказав при этом, что
вообще не нужно такого рода действия совершать
относительно ученых...
Этот эпизод подтверждает сложившуюся за Ф. В.
Константиновым славу начальника, который был груб и непреклонен с
подчиненными и исполнителен и подобострастен с
начальством. Он хотел изгнать В. Ф. Асмуса, но сразу же смирился с,
О «Философской энциклопедии» 421
в общем-то, и для него неожиданным — иначе он не пошел бы
с этим предложением к «серому кардиналу» — мнением
начальства.
В связи с тем, что редколлегия фактически не была рабочим
органом, наряду с ней был учрежден институт научных
консультантов «Философской энциклопедии». Он составлялся из
виднейших, а также и молодых ученых различных
специальностей, представленных в энциклопедии. Научные консультанты
должны были работать не только с готовыми статьями, но и
консультировать редакторов по самым различным вопросам,
вплоть до рекомендации авторов для статьи поданной отрасли
философского и околофилософского знания. Но и здесь, как и
в редколлегии, одни консультанты действительно активно
работали, другие — представительствовали, но должны были
самим своим вхождением в этот институт (их имена
печатались на обороте титула томов) поднять авторитет издания.
Основную же работу по созданию энциклопедии вели
редакторы по разделам и, конечно же, авторы.
Что касается первой из этих категорий создателей
энциклопедии, то здесь мы делали ставку на молодежь. Я был самым
старым сотрудником редакции (к моменту, когда я пришел в
издательство, мне было сорок два года, немного старше меня
была, правда, Л. Ф. Денисова). Основную же работу — по
заказыванию статей, работе с авторами, редактированию —
проводили совсем молодые специалисты, только что
закончившие вузы или аспирантуру. В разные годы это были:
Ю. Н. Давыдов, Б. Т. Григорьян, Н. М. Ланда, А. И. Володин,
В. П. Шестаков, Ю. Н. Попов, М. М. Новосёлов, М. Ф. Со-
лодухина, Р. А. Гальцева, С. Л. Воробьёв, Э. Г. Юдин.
Думается, в значительной мере это обстоятельство послужило
тому, что энциклопедия смогла решить задачу обновления и
расширения материала, который она предлагала читателям.
Сейчас трудно себе представить, как удалось столь
небольшому коллективу организовать работу так, чтобы пять
томов этого сложнейшего издания вышли бы в свет в
течение десять лет (при 2,5-годичном «пусковом периоде»).
Скажу для сравнения, что, например, коллективная работа
«История философии в СССР», тоже пятитомная, правда, в
шести книгах, печаталась двадцать лет (1968—1988).
Шеститомная «История философии» была напечатана за восемь
лет (1957—1965), но выходу томов предшествовал огромный
«пусковой период» в десять лет (работа началась сразу после
окончания философской дискуссии 1947 г., по поручению ЦК
422 3. А. Каменский
партии по итогам этой дискуссии), и выходу томов
предшествовало появление огромного по листажу двухтомного макета
издания, так что работа над этими пятью томами велась
восемнадцать лет; к тому же в работе по собиранию и
редактированию материала был задействован чуть ли не весь штат
Института философии несколько сот человек, в то время как
соответствующую работу по «Философской энциклопедии»
вели пять—семь человек.
Наладить регулярность, своевременность получения статей
от авторов было чрезвычайно трудно. Ведь все они не были
никак организационно связаны с издательством.
Единственным документом связи был заказ, но, кроме связи моральной,
он ни к чему не обязывал, и так как все авторы были людьми,
занятыми на своей основной работе, где они находились в
штате, то выполнение обязательств по энциклопедии было для
них делом второстепенным. Как же было в этих условиях
добиться более или менее регулярного выхода томов — а они
все-таки выходили регулярно: второй после первого через два
года, третий после второго — также через два, четвертый
после третьего и пятый после четвертого — через три года (как
я уже сказал, эти два последних тома были значительно
больше по объему, чем предыдущие три)? Для обеспечения этой
ритмичности приходилось прибегать к специальным приемам,
в некоторой мере — к хитрости. Мы заказывали статьи
сравнительно большими списками, имея возможность давать
большие сроки, стремясь получить статьи тогда, когда они, в
сущности, еще не поступали в работу. Это давало возможность
удлинять сроки, представляя дело так, что автор нас сильно
подводит, а также и перезаказывать статьи, если становилось
очевидным, что автор статьи не представит. Вот несколько
документов по этому поводу из моего личного архива. Те, кто
пользуются «Философской энциклопедией», может быть,
обратили внимание на то, что при статьях о виднейших
философах даны специальные библиографические справки о каждом
относительно крупном их произведении. Это очень ценный
материал, и его нам представляли редко авторы самих статей, а
чаще специалист-библиограф Л. С. Азарх (я потерял его из
виду после окончания работы над энциклопедией и не знаю,
где и кто он теперь). Вот письмо к нему, написанное уже тогда,
когда завершалась работа над последним томом:
«Многоуважаемый Лев Сергеевич!. Вы, вероятно, забыли, — и я до сих
пор не вспоминал — о том, что для V (последнего) тома
«Философской энциклопедии» Вам были заказаны еще в незапа-
О «Философской энциклопедии» 423
мятные времена библиографические справки к статьям
(далее перечисляются одинадцать таких статей). Все статьи... не
только мной получены, но и подготовлены к сдаче. Теперь
задержка только за Вашими раздел ьчиками. Очень прошу Вас
со свойственной Вам оперативностью подготовить и
представить эти статьи...» В ответ Л. С. обещал представить все
статьи в течение двух месяцев и, испытывая, видимо, стыд за
свою предшествующую нерадивость, представил все статьи в
допустимые сроки. Иначе обернулось дело с авторами двух
весьма ответственных статей. Вот еще одно письмо, которое в
комментариях не нуждается. Оно адресовано Э. Ю.
Соловьёву, тогда еще совсем начинающему ученому, так что даже
удивительно, как мы, даже при нашем стремлении привлекать
молодых авторов, поручили ее еще ничем себя не
зарекомендовавшему автору. «Многоуважаемый Эрих Юрьевич! Более
года тому назад, по договоренности относительно размера и
срока представления, Вам была заказана статья «Фейербах»
для V тома «Философской энциклопедии». Вы согласились
представить ее к 1 февраля 1965 года (письмо датировано 5-м
ноября того же года). Несмотря на многочисленные письма и
устные напоминания, Вы до сих пор не представили этой
статьи. Более того, в наших устных беседах Вы отказались
назвать хотя бы ориентировочный срок ее представления. Ввиду
этого, опасаясь срыва сроков подготовки этой важнейшей
статьи V тома, мы, к большому сожалению, вынуждены
аннулировать наш заказ и просить написать эту статью другого
автора». Статья была написана Б. Э. Быховским. Длительная
(почти годичная) переписка с известным ленинградским
ученым, Г. М. Фридлендером, относительно ответственнейшей
статьи «Просвещение», требовавшей не просто авторского
изложения, но поистине исследования, закончилась его
телеграммой: «Ввиду крайней перегрузки вынужден отказаться от
статьи Просвещение тысяча извинений Фридлендер». Само
же дело завершилось, можно сказать, трагически: вместо
статьи мне пришлось составить отписку.
А сколько трудностей приходилось преодолевать
редакторам, когда они вынуждены были сокращать статьи (в
энциклопедии размер ее должен соблюдаться строго), спорить с
авторами, испытывать и преодолевать в целях продолжения
дальнейших контактов с ними обиды и т. д. и т. п.
Подчас редактору приходилось овладевать малоизвестным
ему материалом, чтобы в какой-то мере дотянуться до уровня
автора, что, естественно, удавалось далеко не всегда. Словом,
424 3. А. Каменский
труд редакторов был весьма тяжел во многих отношениях, но,
думаю, все они испытывают теперь удовлетворение...
Не в меньшей, если не в большей мере успеху издания
способствовали, конечно, авторы его многочисленных статей.
К подбору авторов уже нельзя было подходить так, как к
подбору редакторов, и делать ставку только на молодых. Надо
было использовать потенциал старшего поколения советских
философов, а он был немалым. И можно без преувеличения
сказать, что трудно найти такого крупного ученого старшего
поколения или молодого, который затем вошел в число
главнейших «шестидесятников», делавших науку философию в
60—80-х гг., которые не приняли бы участие в создании труда
(о них я скажу несколько слов ниже). Именно это сочетание
обеспечило высокий для 60-х гг. уровень издания.
3
Специально хотел бы сказать несколько слов об А. Ф.
Лосеве и членах редколлегии — о Б. Э. Быховском, В. Ф.
Асмусе и М. Т. Иовчуке.
Когда мы только начинали с А. Г. Спиркиным, а затем и
Л. Ф. Денисовой организовывать работу редакции, мы решили
считать главной своей опорой в разработке отдела истории
античной философии Алексея Федоровича Лосева. Его
положение в это время несколько стабилизировалось, хотя и не на
поприще философии, а филологии. Он состоял профессором
классической филологии тогдашнего Московского
государственного педагогического института им. В. И. Ленина и уже
печатался после запрета 30—40-х гг., но не в философских
изданиях. И поскольку его главной тематикой для нашего издания
была древнегреческая и римская философия, то связь с ним
должен был осуществлять я. И с тех пор, вплоть до окончания
моей работы в энциклопедии в 1968 г., а отчасти и позже, т. е.
более десяти лет, я был тесно связан с Алексеем
Федоровичем, и наши отношения в известной степени даже выходили за
рамки деловых.
Как напоминал мне Алексей Федорович, мы мельком
встречались с ним еще на философском факультете Московского
университета в 1943 г., когда мы оба (я — очень короткое
время) сотрудничали там. Но тогда наша связь не
установилась. Теперь же я послал ему наметки словника, который
просил расширить и, кроме того, сообщить, какие статьи по этому
О «Философской энциклопедии» 425
словнику он хотел бы написать, особенно по первым двум
томам. Тут и завязались наши связи, в которых нам активно
помогала Аза Алибековна Тахо-Годи, верный помощник Алексея
Федоровича.
А. Ф. написал для «Философской энциклопедии» статей
больше, чем кто-либо другой, по моим, вероятно, неточным
(преуменьшенным) подсчетам, — сто четыре. Думаю, что
специальной и интересной темой для историков, изучающих
литературное наследство А. Ф. Лосева, была бы тема «А. Ф.
Лосев как автор энциклопедических статей». Я был редактором
всех этих статей (и тут за мной грех, о котором я сейчас
расскажу) и имею право утверждать, что он был поистине
виртуозом этого жанра, особенно жанра коротких
энциклопедических статей, к числу которых относилось едва ли не
большинство написанных им. Особенно это видно по статьям первых
двух томов, которые были особенно укороченными потому, что
планировались для гораздо менее габаритного издания, чем
оно оказалось в последних трех томах. Но и эти статьи
поражали информационной нагруженностью, обобщенностью
характеристик, к тому же включенных в контекст истории
античной философии и античности вообще. Поражал также и
аппарат, которым снабжались статьи. А. Ф. ссылался на
редчайшие первоисточники (т. е. источники на языке
оригинала). Столь же специализированной была «литература о» —
библиография. Не будет преувеличением сказать, что
советский читатель впервые получал такие сведения, к тому же
зачастую о мыслителях, попросту ему ранее неизвестных.
Статьи были написаны своеобразным «лосевским» стилем.
Расскажу о двух эпизодах, связанных с моей редактурой
статей А. Ф. Лосева. Во-первых, о моем «грехе». Статьи
А. Ф., как правило, превышали по объему заданные размеры,
а их в энциклопедии нужно соблюдать очень точно, особенно
если речь не об одной статье, размер которой еще можно
увеличить, а о больших циклах, как это и было в данном случае,
поскольку в каждом томе А. Ф. писал их до двух десятков.
И вот для первого тома А. Ф. представил статью о Гераклите
Эфесском. Она значительно превосходила запланированный
объем, и я вынужден был ее сокращать. Но грех мой состоял
не в этом, а в том, что я существенным образом внедрялся в ее
содержание, подгоняя его под тот канонический стандарт,
который сам я усвоил по лекциям и книгам, в том числе и
специальной книге М. А. Дынника, комментариям Маркса на книгу
Лассаля о Гераклите. А. Ф. смирился с моей акцией потому,
426 3. А. Каменский
думаю, что дело касалось статьи I тома, и он не хотел
обострять отношений в самом начале нашей совместной работы.
И он достиг цели в том смысле, что, осознав со временем (но
уже поздно, том вышел), что я наделал, я больше никогда не
позволял себе совершать такие акции, хотя сокращать статьи
все же приходилось, и А. Ф. вынужден был санкционировать
это. Рассказываю для того, чтобы не столько зафиксировать
сам факт, сколько высказать предложение, связанное со
вторым эпизодом.
Когда я увидел, что статьи А. Ф. неизбежно приходится
сокращать, я, к моменту, когда в работе находился III том,
предложил А. Ф. издать отдельной брошюрой его статьи для IV и V
томов, так сказать, в «натуральную величину» по размеру и
без всякого редактирования. В эти тома входили сложнейшие,
совершенно у нас не исследованные и трудно проводимые
через всякого рода идеологически-цензурные заслоны, ввиду их
религиозно-идеалистической направленности, темы:
платонизм, неоплатонизм, стоицизм и такие обзоры, как
«Перипатетики», «Римская философия», «Элидо-эритрейская
школа». Чтобы провести этот замысел через начальство, я,
ссылаясь на сложность и неизученность материала и его значение
для углубления наших представлений об античной философии,
выдвинул аргумент (изложив его в написанном мной
коротеньком предисловии к брошюре, на которой был гриф
«Рукопись для общественного обсуждения»), что статьи эти нужно
подвергнуть широкому обсуждению, и даже сказал, что этого
требует содержание статей. Аргумент был совершенно
«липовый», т. к. к мало-мальски серьезному и плодотворному
обсуждению во всей стране были способны, может быть, лишь
несколько человек (например, В. Ф. Асмус), которые к тому же
вряд ли приняли бы в нем участие. Подлинный мой замысел
состоял в том, чтобы получить нетронутые тексты А. Ф. и
опубликовать их именно в таком виде, в полном объеме и,
разумеется, не только для энциклопедии, но для нашей
историко-философской науки. Важно было и то, чтобы таким
образом, хотя и в малообъемном (6 авт. л.), малотиражном (250
экз.) и не поступающем в продажу издании, дать А. Ф.
возможность, кажется, первую после публикаций 20-х гг.,
выступить с отдельным изданием (брошюрой) на поприще
философской науки, с которого он был устранен с 30-х гг. (И тут я
хотел бы выступить с предложением. Как говорила мне
А. А. Тахо-Годи, все исходные варианты статей А. Ф. для
«Философской энциклопедии» сохранились. Было бы целесооб-
О «Философской энциклопедии» 427
разно издать полностью, без сокращений и редактирования
статьи А. Ф. для I—III томов, а может быть, — именно в виду
малотиражности нашего макета статей IV — V томов — и
всех пяти).
А. Ф. остался недоволен технической стороной издания
макета статей IV—V томов. Тексты, естественно, содержали
большое количество ссылок на иностранных языках, в их
числе и на классических. Я считал за благо и то, что издательство
согласилось на такое издание (здесь помог Л. С. Шаумян,
понимавший значение этой брошюры); о достаточной
корректорской работе и перенаборе нечего было и мечтать, и я не
настаивал на этом, боясь спугнуть эту «синицу в руках». Но
А. Ф. стремился все же овладеть тем «журавлем», который
пребывал в небе его абсолютных требований. И вот, видимо,
под его руководством корректировка была проделана уже на
готовом экземпляре макета, и экземпляр был мне вручен с
многочисленными поправками и авторской надписью:
«Дорогому Захару Абрамовичу Каменскому с извинениями за
макулатурный подарок. 28/Ш — 66 г. А. Лосев». Поскольку я
привел эту надпись, скажу, что А. Ф. дарил мне и тогда, и
впоследствии свои книги с автографами. Приведу четверостишие,
написанное А. Ф. на экземпляре книги «Ученые записки, том
XXXIII. Кафедра классической филологии, вып. 4.
Московский Государственный педагогический институт им. В. И.
Ленина. — М., 1954», где были напечатаны две его работы —
«Эстетическая терминология ранней греческой литературы» и
«Гесиод и мифология» (из 301 стр. тома тексты А. Ф.
занимали 244 страницы, так что это, в сущности, его опять-таки
первая после 20-х гг. книга): «Глубокоуважаемому Захару
Абрамовичу Каменскому от участника этого сборника
Прими, внимательный Захар,
Моих античных завываний
Филологический удар
И плод бесплоднейших мечтаний.
3/VI-62 А.Лосев
Москва».
В заключение моих воспоминаний о контактах с А. Ф.
Лосевым в энциклопедии (а они хотя и возникли на этой почве, но в
известной мере вышли за эти пределы. Я имел честь общаться
с А. Ф. у него дома и был удостоен его речи по-латыни,
произнесенной на защите мной докторской диссертации; речь эту
никто, и я тоже, попросту не понял)упомяну, что он стремился
428 3. А. Каменский
не ограничиваться только античной тематикой. Его перу
принадлежала статья «Диалектическая логика», написанная на
конкурс и получившая премию, хотя и не была напечатана, т.к.
статья была исключена из словника; при соответствующем
«черненьком слове» в I томе сделана сноска: «см. Логика,
Диалектический материализм».
Мои контакты с А. Ф. Лосевым после завершения работы
над энциклопедией стали постепенно ослабевать. Но и тогда,
когда я по конкурсу вернулся на работу в Институт философии
(о чем мечтал все долгие двадцать лет после увольнения из
него), я старался поддерживать с ним научные связи. В
частности, по моей просьбе А. Ф. принял участие в институтском
сборнике «Проблемы методологии историко-философского
исследования», напечатав (вып. I. M., 1974) статью
«Социально-исторический принцип изучения античной философии».
Кстати говоря, не следует упрощать научную биографию А. Ф.
и считать, что его ставшее недавно известным обращение к
А. А. Жданову* и его самохарактеристика в
автобиографической заметке в III томе «Философской энциклопедии»,
согласно которой он в «30—40-е гг. переходит на позиции
марксизма», являются попросту политиканством,
приспособленчеством. Каков бы ни был марксизм А. Ф., упомянутая статья
свидетельствует, что он искренне и всерьез стремился
овладеть марксистской методологией историко-философского
исследования и применять ее.
Теперь мне хотелось бы рассказать о Б. Э. Быховском в
связи с его деятельностью как члена редколлегии и автора
«Философской энциклопедии». Мне не довелось слушать
Бернарда Эммануиловича Быховского в свои студенческие
годы (1934—1938 гг.), хотя он в это время сотрудничал на
философском факультете МИФЛИ, где я учился. Но уже
тогда я знал его статьи по истории философии, из которых
особенное впечатление произвела на меня статья «Бэкон и его
место в истории философии» («Под-знаменем марксизма».
1931. № 6).
Познакомился я с Бернардом Эммануиловичем весной
1941 г. В это время он руководил сектором истории
философии Института философии АН СССР и организационно
возглавлял работу по написанию многотомной «Истории филосо-
* См.: Батыгин Г. С, Девятко И. Ф. Советское философское общество в
сороковые годы... // ВАН. 1993. № 7. С. 634.
О «Философской энциклопедии» 429
фии» (вошедшей впоследствии в наше философское арго под
именем «Серая лошадь»). Первый том уже был напечатан,
второй находился в производстве, третий — в работе. Весной
1941 г. сектор приступил к написанию тома этого издания,
посвященного истории философии. Я заканчивал аспирантуру
Московского университета и готовился к защите кандидатской
диссертации о философских взглядах П. Я. Чаадаева. Б. Э. Бы-
ховский пригласил меня на переговоры о зачислении в штат
института для написания глав тома. С мая 1941 г. я стал
сотрудником института и приступил к этим работам, которые
были прерваны войной. Я ушел на фронт. Б. Э. Быховский
эвакуировался с институтом в Алма-Ату, откуда вернулся в
Москву в 1942 г. С октября этого же года, после ранения и
госпиталя, вернулся в институт и я. С тех пор до ухода
Б. Э. Быховского из института (в 1944 г.) я под его
руководством написал несколько глав тома («Первые представители
идеалистической диалектики», «Чаадаев», «Славянофилы»,
«Русский панславизм», «Петрашевцы», «Грановский»).
В это время я был еще совсем начинающим автором, хотя и
опубликовал несколько популяризаторских статей по
философии в комсомольской печати и написал диссертацию, но опыта
исследования больших и сложных периодов истории
национальной философии, каковыми, в сущности, были
перечисленные главы, у меня не было. Дело осложнялось и тем, что
большинство направлений и мыслителей, которых я должен был
исследовать, были изучены очень слабо или даже совсем не
изучены, особенно в марксистской литературе. Это
затрудняло мою работу и усложняло задачи Б. Э. Быховского как моего
руководителя и редактора тома. Он не мог быть снисходителен
ко мне как к начинающему автору, т. к. мои главы в томе по
уровню и отделке, по концептуальное и углубленности анализа
не должны были быть ниже других глав, написанных такими
крупными историками философии, как О. В. Трахтенберг (о
русской философии до XVIII в.), В. Ф. Асмус (о русском
идеализме второй половины XIX в.), М. М. Розенталь (о
Чернышевском) и сам Б. Э. Быховский (о Герцене).
Метод, которым работал со мной Б. Э. Быховский,
заключался в том, чтобы дать мне полный простор в
проявлении собственной инициативы. Я решительно не помню,
чтобы он когда-нибудь настаивал на проведении какой бы то ни
было собственной линии. Наоборот, он чутко
прислушивался к тому, что предлагал ему я, и притом не в виде каких-то
предварительных соображений и установок, а в форме уже
430 3. А. Каменский
более или менее отстоявшихся концепций. Он вступал со
мной во взаимодействие не прежде, чем я представлял ему
первый набросок уже оформленного текста — машинопись.
И лишь тогда он подвергал тщательному редактированию
эти тексты. Некоторые из них сохранились в моем архиве, и
по ним видно, на что направлено было внимание
редактора — на конденсацию анализа и изложения, если понимать
этот термин в его первоначальном латинском смысле
(condensatio — уплотняю, сгущаю). Все мои излишества в
подробностях, в отступлениях и особенно кавалерийские
наскоки на заблуждения анализируемых авторов, на
возможных противников моих интерпретаций, самодовольные
провозглашения своего превосходства над «идеалистическими
взглядами» и «реакционными истолкованиями» и т. п.
беспощадно пресекались, текст резко сокращался в объеме,
выявлялись и проводились основные линии развития,
осуществлялась связанность, непрерывность анализа,
аморфное подчас изложение становилось рельефным, частности
ставились в зависимость от главного, от общего. О
сосредоточении внимания редактора на тексте свидетельствуют
многочисленные перестановки абзацев, нередко на пять—
шесть страниц вперед или назад.
Я думаю, что было бы полезно напечатать когда-нибудь
факсимильное издание этой филигранной редакторской рабты
Б. Э. Быховского, этого маэстро редактуры, в назидание
овладевающим этим нелегким и ответственным искусством.
Интересная деталь: редактор, он же — научный
руководитель, не считал свою правку безапелляционной и на уголке
редактированной им первой из названных выше глав
написал: «показать Каменскому, затем печатать в 3-х
экземплярах». Это означало, что у меня еще оставалось «право
обжалования», если бы я с чем-то не согласился в его редактуре.
Правда, я не помню, чтобы у меня возникали подобные
несогласия или чтобы я предъявлял редактору какие-либо
претензии. Но такое право за мной, как за автором, как за
ученым, признавалось.
Такая редактура была для меня чрезвычайно поучительной,
благодаря ей я проходил школу анализа и изложения. Под ее
воздействием я старался выработать принципы
сосредоточенного изложения, искал линии его непрерывности, связи
частей. Увы, мне не удалось даже приблизиться к авторскому
мастерству Б. Э. Быховского, но я всегда помню его уроки и
стремлюсь к такому стилю.
О «Философской энциклопедии» 431
Думаю, что успех «Серой лошади» был определен не
только высокой квалификацией членов авторского
коллектива, но и тем, что все эти высококачественные материалы
проходили еще и горнило редакционной обработки. Помню,
как работал Б. Э. Быховский над III томом этого издания.
В трудные, тяжелые 1942—1943 гг. он получил огромную
кипу глав тома и кабинет в здании тогдашнего Института
Маркса — Энгельса — Ленина на Советской площади,
напротив Моссовета. Он засел за редактирование, было
запрещено его тревожить и отвлекать, он работал
напряженно, сосредоточенно, долго, напоминая лесковского мастера
Левшу из Тулы, который ни разу не выходил из избы, пока
не окончил свою невиданную работу.
После перехода Бернарда Эммануиловича из Института
философии в редакцию тогдашнего Института БСЭ он привлекал
меня к энциклопедической авторской работе. Но вскоре его
деятельность там прекратилась, наши пути разошлись. У
каждого из нас возникли свои трудности, но мы поддерживали
связь телефонными разговорами. Потом, когда он перешел на
педагогическую работу, связь эта нарушилась, но ненадолго.
Она возобновилась с началом работы над «Философской
энциклопедией». Б. Э. Быховский был членом редколлегии по
«моему» разделу. Здесь мы отчасти поменялись ролями. Он
выступал не только как редактор, но и как автор
многочисленных статей, которые уже я должен был редактировать.
Как энциклопедический редактор Бернард Эммануилович
раскрылся передо мной другими гранями своего таланта.
Жанр краткой энциклопедической статьи не представлял ему
как редактору тех возможностей концептуализации
материала, которую он проводил, редактируя тома «Истории
философии». Но здесь выступала другая особенность его —
чрезвычайная эрудированность, как общая, так и в области
философской библиографии. Он внимательно следил за тем, чтобы в
статьях, которые он контролировал как член редколлегии, не
было никаких теоретических и фактических «накладок», за
тем, чтобы статьи были максимально насыщены
библиографическими материалами. Почти не было случая, чтобы он
возвратил после редактирования статью, в которую не включил
бы три-четыре, а то и более дополнительных, главным
образом иноязычных, указаний на литературу вопроса. Что же
касается Б. Э. Быховского как автора энциклопедических
статей, то особенно хотелось бы сказать о специальном,
пожалуй, самом трудном их жанре — обзорных статьях по истории
432 3. А. Каменский
национальной философии. Когда мы приступили к
составлению подобных статей для «Философской энциклопедии»,
соответствующей традиции не существовало; такого рода
обзоры входили в энциклопедических изданиях в комплексные
статьи о странах. Здесь же надо было написать самостоятельную
статью «с высоты птичьего полета», как он выражался. Он
понимал это в том смысле, что в ней история философии
данного народа должна была быть представлена максимально
лаконично, в крупных, существенных линиях развития, в
обобщенных характеристиках, а также в связях с гражданской
историей страны, с культурой народа. Такая статья требовала от
автора большой эрудиции, свободной ориентации в огромном
эмпирическом материале, умения обобщить его, отделить
важное и существенное, типичное от мелочей и второстепен-
ностей. То, что я видел в начале 40-х гг. в его редактуре, я
наблюдал теперь в новом качестве — работе авторской. Он
написал для I тома «Философской энциклопедии», помимо
прочих, статьи «Английская философия» и «Американская
философия». И хотя эти статьи были относительно малого
объема, я думаю, что статья «Английская философия»
является образцовой по выдержанности жанра, она служила в
дальнейшем как бы эталоном при редактировании и для авторов
при написании подобных статей.
Как автор и редактор, Б. Э. Быховский придавал большее
значение форме и собственно литературной, и
внутренне-содержательной. Он всегда находил форму яркую, острую,
законченную, и это соответствовало столь же острой
принципиальности при решении содержательных задач, при выработке
и проведении концепции.
Бернард Эммануилович, по моему мнению, относился к
числу людей с повышенной нервно-интеллектуальной
напряженностью, и эта черта была психологической основой его
особенностей как автора и редактора. Он и воспринимал все
чутко, и столь же интенсивно излучал интеллектуальную
энергию, которая действовала сосредоточенно и напряженно,
как лазерный луч. Это чувствовалось даже в его взгляде,
казалось, проникающем в мысли и замыслы человека, с
которым он общался, как и в сущность всего, что он стремился
постичь.
Другой член редколлегии, крупный ученый — историк
философии Валентин Фердинандович Асмус был человеком
иного психологического склада. Его проникающая в предмет
познания сила, как и его способ общения, были спокойными,
О «Философской энциклопедии» 433
напряженность интеллектуальной энергии, не менее
эффективной, была как бы более рассредоточенной, обтекающей
свой предмет многосторонне.
Он был гораздо более терпим, гораздо менее категоричен.
Он был мягок там, где Бернард Эммануилович был тверд и
непреклонен. Это различие рельефно проявлялось в том, как
эти ученые писали о различных течениях современной
идеалистической философии. То, что у Валентина Фердинандови-
ча представляло собой спокойное, даже подчас
академическое развитие опровергающей аргументации, у Бернарда Эм-
мануиловича, чья аргументация была не менее предметной,
основательной, убедительной, очень часто выступало как
темпераментная, страстная полемика, исполненная иронии и
нередко сарказма.
«Шестидесятники» обвиняли Б. Э. Быховского в том, что
он поддерживал манеру критики «растленной буржуазной
философии», сложившуюся еще до Второй мировой войны и
процветавшую в 40—50-е гг. В известной мере они были
правы и сами проводили свой анализ в более адекватной форме.
Но, может быть, их анализ был недостаточно критичен. Б. Э.
отвергал адресованные ему упреки в том, что именно он
содействовал отвержению в нашей стране кибернетики. Он,
действительно, критиковал ее, но, как он сам говорил мне,
свою критику направлял не на кибернетику как таковую, а на
философские претензии некоторых кибернетиков, в частности
Н. Винера, и это еще вопрос — был или не был он прав в
этом отношении. Во всяком случае, будучи убежденным
диалектическим материалистом, он не предавал своего
философского кредо и на этом пути часто достигал немалых
положительных результатов, как это было, например, с критикой
тенденций к распредмечиванию философии*.
С В. Ф. Асмусом я познакомился в 1939 г., когда он читал
лекции по истории логики для нас, аспирантов кафедры
диалектического и исторического материализма Московского
университета, которой руководил 3. Я. Белецкий. До войны в
университете не было философского факультета, и наша
кафедра обслуживала весь университет (лишь в 1941 г., во
время эвакуации в тогдашний Свердловск, в университет влился
Московский институт истории, философии и литературы —
* См.: Быховский Б. Э. Распредмечивание философии // Вопросы
философии. 1956. № 2.
434 3. А. Каменский
МИФЛИ — всеми тремя своими факультетами —
историческим, филологическим с отделением искусствознания и
философским). Вскоре, в 1939/40 учебном году, Валентин Ферди-
нандович стал моим научным руководителем по диссертации о
П. Я. Чаадаеве.
О Чаадаеве как философе в те годы мало кто знал, разве
что В. Соловьёва, напечатавшая в журнале «Под знаменем
марксизма» (1937. № 1) статью «Чаадаев и его
"Философские письма"» и, если я не ошибаюсь, диссертацию на ту же
тему. В. Соловьёва была потом моим оппонентом по
кандидатской диссертации. Знали, конечно, Чаадаева литературоведы
и историки, и вторым моим оппонентом был известный
литературовед Н. Л. Бродский. Самым знающим чаадаевоведом в
30-х гг. был кн. Д. И. Шаховский, связанный с Чаадаевым
родством по материнской линии, но он подвергся репрессии,
кажется, в 1938 г. В 1935 г. Д. И. Шаховский опубликовал
разысканные им в Пушкинском доме в Ленинграде пять (из
восьми) «Философских писем» П. Я. Чаадаева (Литературное
наследство. 1935. Кн. 22—24), а В. Ф.Асмус написал к этой
публикации вступительную статью. Естественно было
поручить руководство моей диссертационной работой именно
Валентину Фердинандовичу. Должен, правда, сказать, что как с
научным руководителем я работал с ним мало.
Помню лишь единственную встречу по этому поводу. Она
происходила весной 1940 г. во дворе старого здания
университета, где находилась кафедра, на скамейке подле памятника.
Я показал В. Ф. свои к тому времени уже обширные
материалы и конспекты, в том числе и работы по овладению огромным
архивом Д. И. Шаховского, переданным из НКВД, куда он
попал после ареста владельца, в Институт мировой литературы
(откуда впоследствии был передан в Пушкинский дом —
Институт русской литературы АН СССР в Ленинграде).
В. Ф. одобрил результаты моей работы, тем более, что к
архиву Шаховского, кажется, еще никто не прикасался, и уже
само это обстоятельство делало мою работу интересной. Как я
тогда же и понял, В. Ф. решил, что лучшее его руководство
будет состоять в том, чтобы не мешать мне работать. Не
думаю, чтобы такое решение было совсем верным.
Я диссертацию защитил (за двадцать дней до начала войны и
ушел на фронт кандидатом философских наук). С В. Ф. у нас
сложились наилучшие отношения, которые укрепились
совместной работой по написанию так и не вышедшей книги
«История русской философии». Затем в наших отношениях насту-
О «Философской энциклопедии» 435
пил перерыв, хотя мы иногда и встречались, но новые тесные
контакты установились тогда, когда он, наряду с Б. Э. Быхов-
ским, оказался «моим» членом редколлегии «Философской
энциклопедии».
Мне всегда казалось, что В. Ф. Асмус был способен на
большее в области теоретической философии, что,
придавленный партийно-идеологическим прессом (а его всю жизнь
за что-нибудь «прорабатывали» — в 20-е гг. за симпатии
или даже солидарность с «меньшевиствующим идеализмом»,
в 30-е — за «буржуазный объективизм», будто бы
содержащийся в книге «Маркс и буржуазный историзм», в 40-е — за
мнимые ошибки 3-го тома «Истории философии» и
упомянутую выше невышедшую книгу по истории русской философии,
также попавшую в сферу критического внимания вездесущего
ЦК; в 50-е гг. — за «беспартийную позицию» в области
логики, в 60-е, как я уже писал, за высокую оценку позиции и
прозы опального Б. Пастернака), он так и не вышел из состояния
некоторого теоретического анабиоза, в который впал, видимо,
еще в 20-е гг. Мне всегда думалось, что у него «в столе»
лежат труды не только по истории философии, но и философии
теоретической. Основанием к тому было понимание высокого
теоретического уровня его работ, как «Диалектический
материализм и логика» (1924), «Противоречия специализации в
буржуазном сознании» (1926), его полемика с А. Варьяшем
(эта полемика была в центре моей статьи «Из истории
изучения советскими философами методологии
историко-философского исследования» («История общественной мысли». М.,
1972)). Когда я ее написал, то показал В. Ф. машинопись. Он
статью одобрил, но счел, что критиковать А. Варьяша теперь
следовало бы помягче, чем это у меня получилось. Того же
мнения придерживались и венгерские товарищи, читавшие
уже напечатанную статью) по проблемам методологии
историко-философского исследования (1926—1927), «Очерки
истории диалектики в новой философии» (1930), упомянутая уже
книга о марксовом историзме (1933), «Проблемы интуиции в
философии и математике» (1965). И если мои ожидания не
оправдались и в архиве ученого, как сказала мне его верный
друг, жена и помощница А. Б. Асмус, собственно
теоретических работ не оказалось, то для меня это является
свидетельством того, что сталинизм задавил теоретический потенциал
еще одного выдающегося русского интеллектуала...
Сложными были мои отношения с М. Т. Иовчуком. Ввиду
того, что он был одним из наиболее жестких наместников пар-
436 3. А. Каменский
тийных органов в философии — особенно в области истории
отечественной философии, о нем мало вспоминают, а если и
вспоминают, то только со знаком минус. Разговор о нем,
действительно, требует именно такой тональности, поскольку,
начиная с 40-х гг., он был одним из душителей свободной мысли.
И не только душителем, но и идеологом, насаждавшим
всякого рода антинаучные, антиисторические схемы в истории
русской философии, начертанные по его политическим
соображениям. С карикатурной серьезностью он требовал перестройки
идей и целых концепций в зависимости от весьма частых и
подчас противоречащих друг другу решений пленумов,
съездов, Политбюро ЦК. Как ученый он, в сущности, «не
состоялся», не сделал ничего серьезного (а ведь он был
членом-корреспондентом АН СССР и многократно претендовал на то,
чтобы стать академиком). Это же можно было сказать о его
докторской диссертации, которую я читал в числе немногих
удостоенных этой чести (он даже поручил мне это чтение,
чтобы я высказал своои соображения, которыми, впрочем, он так
и не поинтересовался) перед тем, как он защищал ее в
спешном порядке, для того чтобы баллотироваться в
члены-корреспонденты АН. После защиты диссертация исчезла, и
«шестидесятники», хотевшие подвергнуть ее критике, так и не смогли
ее получить в руки.
Все это так, и М. Т. был, конечно, одной из мрачных фигур
идеологической, научной жизни России, начиная с 40-х гг. Как
и Г. Ф. Александров, он является типичной — я бы сказал
трагической — личностью эпохи сталинизма, которая, в
отличие от оппозиционных сталинизму ученых, входила в группу
партийно-идеологической элиты. Трагической в том смысле, в
каком трагичен герой рассказа А. Солженицына «Случай на
станции Кречетовка» или герои рассказа А. Яшина «Рычаги»:
сталинистская система делала даже и хорошего человека —
плохим, заставляла приспосабливаться к политиканству, к
борьбе за место в элите, словом, развращала и разрушала
личность.
Лично я сильно пострадал от его прямолинейной
партийности. Именно ему я обязан жесткостью той «проработки»,
которой я подвергся в 1948—1949 гг. в связи с кампанией
против космополитизма, в результате которой, как я уже говорил,
я был уволен из числа сотрудников Института философии. Так
что вряд ли меня можно упрекнуть в каких-либо симпатиях к
М. Т. И, тем не менее, я хочу сказать, что чисто негативная
оценка его деятельности и личности была бы несправедливой.
О «Философской энциклопедии» 437
Человек он был способный, чтобы не сказать талантливый.
Он обладал острым умом, стремившимся к крупным
обобщениям. В нормальных условиях жизни из него, несомненно, мог
бы выйти историк философии значительного масштаба. Он
обладал недюжинными организаторскими особенностями, и
вот их-то он употребил не без пользы. Надо признать, что
значительность размаха работ по истории отечественной
философии (не говоря сейчас об их результатах, это вопрос особый),
которые развернулись в нашей стране с 40-х гг., во многом
была обязана его энергии. В 1943 г. он организовал и
поначалу возглавлял первую в СССР кафедру истории русской
(впоследствии — народов СССР) философии (его сменил на этом
посту И. Я. Щипанов). Он же был организатором и
руководителем работы в этих областях, осуществлявших в Институте
философии АН СССР, особенно работ соответствующего
цикла в шеститомной «Истории философии» и пятитомной
«Истории философии в СССР».
На М. Т. Иовчука не могло не оказать влияние
раскрепощение общественной мысли, наступившее в нашей стране
после смерти Сталина, как ни синусоидально проходил этот
процесс (и М. Т. «колебался вместе с линией»). Со временем
М. Т. как бы несколько остепенился, стал ближе к научным
запросам, терпимее относился к научным поискам,
дискуссиям, некоторым новациям, сам понабрался знаний. Эти
изменения отозвались и на его отношении ко мне, одному из его
идейных врагов в 40-х — начале 50-х гг. В конце 50-х гг., по
настоянию Б. М. Кедрова, М. Т. Иовчук согласился
нормализовать мое положение в моей профессиональной области
(история отечественной философии), тем более, что я был
легализован и поступлением на работу в «Философскую
энциклопедию» под руководством «самого» зав. агитпропа ЦК. В знак
такого примирения он согласился быть моим оппонентом по
докторской диссертации, оценив ее как «поисковую». Вряд ли
без его поддержки мне удалось бы напечатать (в сильно
сокращенном виде) эту диссертацию как книгу «Философские идеи
русского Просвещения» (М., 1971).
Но все же он все время оставался правоверным
блюстителем идеологической чистоты, вступал в конфликты с ее
нарушителями. Так было в его полемиках с В. Ф. Пустарнаковым
по поводу русского марксизма, Плеханова в частности. Так
было при редактировании завершающих томов «Истории
философии в СССР», посвященных развитию советской
философии, где было много трудных политизированных проблем, как,
438 3. А. Каменский
например, борьба философских направлений в СССР конца
20-х — начала 30-х гг., оценка философских и вообще
теоретических выступлений И. В. Сталина и официальных
идеологов периода сталинизма — М. Б. Митина, П. Ф. Юдина,
Г. Ф. Александрова и др. Так было при организации,
написании и обсуждении не увидевшего света и не завершенного
работой коллективного многотомного труда «История русской
философии». Кажется, именно М. Т. Иовчук как мог
препятствовал изданию книги А. Ф. Лосева о В. С. Соловьёве и
сочинений последнего.
М. Т. Иовчук как член редколлегии «Философской
энциклопедии», был одним из наиболее активных. Посылаемые ему
для прочтения и визирования статьи по истории русской и
марксистской философии возвращались испещренными
редакционными правками, замечаниями, вопросами и
рекомендациями. Правда, по преимуществу они носили
конъюнктурный характер, хотя иногда были справедливыми.
Мне, может быть, следовало рассказать об авторах хотя бы
того раздела «Философской энциклопедии», который я
редактировал. Сделать это в полной мере или хотя бы значительной
мере в этой статье — невозможно. Отчасти я сделаю это
ниже, а сейчас назову лишь фамилии «призеров», т. е. тех,
кто написал наибольшее количество статей по разделу
«история западноевропейской философии»: А. Ф. Лосев —
девяносто семь статей, В. Н. Кузнецов — сорок восемь, В. В.
Соколов и Б. Э. Быховский — по сорок семь, В. Ф. Асмус —
двадцать семь (по моим, может быть, не совсем точным
подсчетам).
4
Принимали «Философскую энциклопедию» хорошо.
Первый том редакция ездила обсуждать-в Ленинград, первые два
тома — в Ростов-на-Дону. По мере выхода томов появлялись
рецензии — на I и II тома в «Коммунисте» (1964. № 2), на V
том в «Философских науках» (1971. № 5), на все пять
томов — в «Правде» (16.11.1971), «Вопросах философии»
(1971. № 5) и «Коммунисте» (1972. № 5). И обсуждения, и
рецензирование проходили, в общем, благоприятно для
издания. Общественность высоко оценила труд сотен авторов, а
также редакторов и редколлегии, хотя, разумеется, было
сделано немало критических замечаний, по преимуществу частно-
О «Философской энциклопедии» 439
го характера. Довольно критической, по частностям, была
указанная рецензия на V том.
Не обошлось и без тяжелых эпизодов. О них стоит
рассказать для характеристики времени, условий, в которых
приходилось тогда работать. Так, в газете «Советская культура»
(28.03.1964), известной своим идеологическим пуританизмом,
претензией на идейную «чистоту» и маниакальной, вульгари-
зованной борьбой за нее, появилась рецензия П. Трофимова
под весьма характерным для тех времен заголовком:
«Путают...». Автор сводил в рецензии какие-то групповые счеты с
новыми взглядами и самостоятельными трактовками
различных проблем искусствознания и эстетики, требуя
ортодоксальных, по его пониманию, трактовок высказываний
Энгельса, критикуя молодых новаторов от эстетики, будущих
диссидентов Л. Пажитнова и Б. Шрагина, а также лидера одного из
направлений тогдашнего искусствознания и эстетики —
Г. Недошивина. Все это осуществлялось в специфической
стилистике, весьма напоминающей 40-е гг., и заканчивалось
обличительными обобщениями о «путанице и неразберихе в
нашей философской литературе», призывами к бдительности
и неприятию «вреда, который она («путаница». — 3. К)
приносит практической работе, нашей идеологической борьбе», а
также призывом следовать глубоким высказываниям по
вопросам эстетики (а именно по поводу абстракционизма в
искусстве) Н. С. Хрущева и Л. Ф. Ильичева (тогдашнего
секретаря ЦК КПСС по идеологическим вопросам).
Другого свойства неприятный инцидент произошел уже
после выхода всех пяти томов. Он был связан с выдвижением
«Философской энциклопедии» на соискание Ленинской
премии. Конечно, труд этот был вполне достоин премирования,
особенно если иметь в виду, какие работы выдвигались и
получали премии в те времена. Но тут важны и специфика
издания, и то, как происходило это выдвижение. Тогда для
благополучного исхода конкурса надо было, чтобы кто-то из
высшей идеологической элиты поддержал такое выдвижение, да и
в состав авторского коллектива лучше всего было ввести ее
представителя. Но в данном случае все критерии
перемешивались. С одной стороны, труд был достоин выдвижения. Но, с
другой, была объективная трудность, которую инициаторы
этого выдвижения либо не учли, либо намеревались
преодолеть именно за счет элитности части «выдвиженцев». Эта
объективная трудность состояла в том, что в создании труда
участвовали сотни ученых, и выделить из них небольшое число
440 3. А. Каменский
(если я не ошибаюсь, по условиям конкурса их не могло быть
более семи) было невозможно, не поступаясь
справедливостью. Отсюда следовал вывод, что подобное издание вообще
не могло быть выдвинуто на соискание премии. Но, видимо,
желание руководителя издания украсить свою грудь отличием,
которого у него не было, оказалось сильнее благоразумия и
чувства справедливости. В «Правде» (12.01.1972), в рубрике
«на обсуждение общественности» в списке выдвинутых на
соискание Ленинских премий работ появилась и «Философская
энциклопедия». Были названы четыре претендента вот в
каком порядке: Ф. В. Константинов, А. Г. Спиркин, В. Ф. Асмус,
М. Т. Иовчук. В газете «Известия» (17.03.1972) была
напечатана восторженная статья за подписью академика А. Берга,
опирающаяся на детальное знание содержания издания, что
сразу же настораживало: скорее всего, академик Берг не
писал, а просто подписал статью, он не мог с такой
подробностью знать этот материал, да и вряд ли вообще столь подробно
знакомился с изданием. Хотя мне это и неизвестно в точности,
но я предполагаю, что статью мог написать А. Г. Спиркин,
который был в то время не только заместителем Ф. В.
Константинова по энциклопедии, но и заместителем А. Берга в
Научном совете по комплексной проблеме «Кибернетика» при
Президиуме АН СССР. Может быть, в написании статьи
принимал участие и Б. В. Бирюков, поскольку в ней речь шла
главным образом о материалах того раздела энциклопедии, по
которому Б. В. Бирюков был научным консультантом и одно
время внештатным научным редактором. Статья
заканчивалась словами, что выдвинутый «коллектив ученых... принимал
наиболее активное участие в создании "Философской
энциклопедии"...». Но это было не так, и превосходная степень была
здесь совершенно неуместна. Характерным было здесь и
нарушение алфавита, и подчинение даже простого перечня
участников некоему бюрократическому принципу должностной
иерархии: сначала был поименован главный редактор, затем его
заместитель и затем уже по алфавиту два «простых» члена
редколлегии.
Нельзя сказать, что эти кандидаты не были достойны
подобного выдвижения. А. Г. Спиркин был, несомненно, одной из
центральных фигур в создании «Философской энциклопедии»,
являясь также и автором многих важнейших статей, особенно
по диалектическому материализму, а В. Ф. Асмус — по
истории западноевропейской философии. М. Т. Иовчук, как я уже
заметил, был активным членом редколлегии, хотя и в ограни-
О «Философской энциклопедии* 441
ценном тематическом масштабе. Лишь «руководящую роль»,
в общем-то мало влиявшую на создание томов, играл главный.
Но никак нельзя было сказать, как это было напечатано в
статье А. Берга, что это был «коллектив ученых», который
«принимал наиболее активное участие в создании "Философской
энциклопедии"», и потому предложение это было
несправедливым. Но справедливость таки восторжествовала: пройдя все
предварительные стадии — рекомендация не была одобрена
на пленарном заседании Комитета по премиям.
5
В заключение я хотел бы высказать некоторые
соображения о выходе «Философской энциклопедии» как событии,
отражающем духовную жизнь советского общества 60-х гг.
30-е — первая половина 50-х гг. в стране были годами
господства сталинской вульгаризации и догматизации
философии. Правда, господства не тотального. В этих границах все
же получала возможность как-то существовать история
философии. Издавались сочинения классиков западной философии,
к тому же различных направлений, в том числе и
идеалистического, вплоть до Беркли и Фихте, не говоря уже о Канте,
Шеллинге и Гегеле. Эти издания комментировали и
анализировали, что давало определенный простор для свободной мысли.
Все-таки жила психология как наука, соседствующая с
философией. Официальная философская наука стремилась
выходить и в области онтологии под модусом «философских
проблем естествознания». И здесь можно было кое-что сделать,
хотя именно в этой области официальная философия
осуществляла свою разрушительную функцию — в генетике,
биологии, химии, физике. Следует подчеркнуть особую роль истории
философии в противостоянии философской мысли исходящей
из четвертой главы «Краткого курса». Восходя на вершины
классической философской мысли, ученые дышали совсем
другим воздухом. Они проникались классической
проблематикой, постигали классические методы исследования и стиль
рассмотрения философских вопросов. Но на собственно
теоретическом участке философской науки, сосредоточенном в
диалектическом и историческом материализме, дышать было
трудно, атмосфера была затхлая, господствовала схоластика.
Выход в те времена книг по философии был явлением
чрезвычайно редким, их тематика и даже сами названия (например,
442 3. А. Каменский
«Материалистическая диалектика» (М., 1937) и
«Марксистский диалектический метод» (М., 1951) М. М. Розенталя;
«Марксистский диалектический метод» (М., 1947) и «Очерк
диалектического материализма» М.А.Леонова;
«Диалектический материализм» (М., 1953) под ред. Г. Ф. Александрова
и т. п.) — чрезвычайно однообразными.
И вот пришло время постепенного освобождения мысли. И,
как всегда в области науки и культуры, оказалось, что
свободой не так-то просто воспользоваться (это мы чувствуем и
сегодня). И первое пятилетие освобождения оказалось
малоплодотворным, во всяком случае на поприще публикаций.
Поначалу освобождение давало себя знать по преимуществу в
устных дискуссиях, в изготовлении неких «виттенбергских
тезисов». Б. М. Кедров, будущий член редколлегии
«Философской энциклопедии», выступает в Академии общественных
наук в присутствии вскоре потерпевшего политический крах,
но на время занявшего руководящую должность в области
идеологии Д. Т. Шепилова (чтобы он не потерялся и не
забывался, сообщу об историческом анекдоте, а может быть,
факте, связанном с этими двумя лицами. Когда Б. М. Кедров, в
присутствии Д. Т. Шепилова, критикуя Сталина, сказал, что
между сталинским и теперешним временами (а это
происходило до «падения» Д. Т. Шепилова, т. е. между 1953 и 1957 гг.)
он не видит особой разницы, Шепилов подал реплику:
«Разница большая, в сталинские времена вы отправились бы
сейчас прямо на Лубянку, а теперь Вы будете продолжать свое
выступление...») с критикой философского раздела «Краткого
курса», написанного Сталиным. Выходят на простор
самостоятельной научной и преподавательской деятельности
выпускники философского факультета МГУ 50-х гг., будущие
активные авторы «Философской энциклопедии» — Э. В.
Ильенков, готовивший к печати свою кандидатскую диссертацию
(она была защищена в 1953 г. и только в 1960 г. вышла как
книга «Диалектика абстрактного и конкретного в "Капитале"
Маркса»), которая станет исходным документом целой школы
советских диалектиков; со своими единомышленниками
(прежде всего — В. И. Коровиковым, впоследствии отошедшим от
деятельности в области философии) он пишет тезисы по
гносеологии, направленные против рутинного «диамата»,
царившего на факультете. Там же выступают Ю. Ф. Карякин,
Е. Г. Плимак и другие будущие «шестидесятники» с критикой
антиисторизма и просто невежественности официальных
историографов отечественной философии — М. Т. Иовчука,
О «Философской энциклопедии» 443
И. Я. Щипанова и др. А. А. Зиновьев, так же как и Э. В.
Ильенков, пройдя в своей диссертации, посвященной проблеме
соотношения логического и исторического у Маркса (1954 г.)
гегелевско-марксов искус, ринулся со своими
единомышленниками в современную формальную логику и начинал
деятельность по формулированию исчислений (логик), чем приводил в
ужас как старых формальных, так и официальных
диалектических логиков. Где-то между новациями Ильенкова и
Зиновьева формируется «содержательная логика» Г. П. Щедровицко-
го. Пионерскую смелость в области освоения западной
философии XX в. проявляла П. П. Гайденко, преодолевая ставшую
к тому времени традиционной ту манеру охаивания
«современной растленной буржуазной философии», которая делала
невозможным освоение ее позитивных результатов. Она
всерьез исследует экзистенциализм, Хайдеггера и Ясперса,
другие направления западной философии нашего века (обо всем
этом она издаст несколько книг в 60-х — начале 70-х гг. и
будет писать в «Философской энциклопедии»). В эти же 50-е гг.
оканчивают философский факультет МГУ будущие
энтузиасты теории систем И. В. Блауберг и В. Н. Садовский, и к ним
присоединится сотрудник энциклопедии Э. Г. Юдин, о
котором я скажу несколько слов ниже. Из «школы»
Ильенкова выходит В. А. Лекторский, из группы Щедровицкого —
В. С. Швырёв, которые начинают плодотворную работу в
области гносеологии, а также критической ассимиляции на
отечественной почве идей «логики науки».
Философский факультет Московского университета, а
затем, благодаря главным образом его выпускникам, и Институт
философии АН СССР оживают, появляются молодые
философы, которым становится душно и тесно в старых гнездах,
чтобы не сказать — камерах, охраняемых надсмотрщиками из
числа официальных идеологов сталинистской выучки.
Возвращаются из среднеазиатской ссылки философы
тогдашнего среднего поколения — В. С. Библер, успевший в
этой внутренней эмиграции издать книгу «О системе
категорий логики» (Душанбе, 1957); отправляясь от этой гегелев-
ско-марксистской традиции, он двинется по пути создания
философии «диалога культур», собравшей под свои знамена
целую школу. Оттуда же возвращается ученик С. Л. Рубинштейна
М. Г. Ярошевский, также создавший школу — истории
психологии и психологии научного творчества.
Начинают оживать и многие философы старшего
поколения, вынужденные в 30-х — начале 50-х гг. уйти во внутрен-
444 3. А. Каменский
нюю эмиграцию, писать «в стол», молчать на дискуссиях в
целях самосохранения. Что это было так, доказывает явление,
которое еще не проанализировано нашими историографами и
библиографами: со второй половины 50-х гг. начинают
выходить многочисленные книги и статьи представителей старшего
поколения, причем совершенно очевидно, что это были
финальные обработки того, что накапливалось многими годами и
даже десятилетиями, не находя выхода в печать (на что я
безрезультатно, как на аномалию, сетовал еще на философской
дискуссии 1947 г.* Едва ли не наиболее яркие тому
примеры — Б. М. Кедров и А. Ф. Лосев. Их продукция 60—80-х гг.
представляется совершенно невероятной, как заново
наработанная. А. Ф. Лосев в 1960 г., когда вышел I том
«Философской энциклопедии», был уже старым человеком, ему было
шестдесят семь лет, он был почти слеп и сильно ограничен в
передвижении. И — такой фейерверк блистательных
энциклопедических, а вскоре и монографических работ! Было
совершенно очевидно, что он, наконец, смог реализовать
наработки прежних напряженнейших трудов.
Не сочтите за нескромность, если я и себя поставлю в
этот ряд, разумеется, не в смысле значимости своих работ, а
в том, что лишь тогда, с 60-х гг., появилась возможность
печатать то, что накапливалось годами. Все пять моих
монографий 70—80-х гг. (а также две, застрявшие в издательстве и
две — у меня «в столе») и две двухтомные работы —
антология по русской эстетике и сочинения П. Я. Чаадаева —
были по материалу, а отчасти и по концептуализации
подготовлены в 40—60-х гг.
Словом, к началу 60-х гг. в стране образовалась большая
группа авторов старшего поколения и молодых, жаждавших
обновления, — «молодые штурманы будущей бури» уже
рвались в бой.
Но было бы поверхностным предполагать, что
сталинистская традиция сразу же, с 1953 г., прерывается и исчезает в
этих порывах новаторства и жажды обновления. Она не
только еще сильна, но все еще господствует и в руководящих
органах, и на ниве высшего гуманитарного образования, и в
специализированной науке, в журналах и издательствах. Очень
скоро выставят «гносеологов» из университета, одернут
Кедрова, Шаумяна и наше издание в связи с рассказанным выше
* Вопросы философии. 1947. № 1. С. 347-375.
О «Философской энциклопедии» 445
эпизодом со статьей «Культ личности», раскассируют сектор
исторического материализма Института философии АН
СССР, руководимый В. Ж. Келле, и т. д. и т. п.
Вот в такой ситуации и возникла сначала идея, а затем и
сама «Философская энциклопедия». В верхнем эшелоне ее
возглавила достаточно консервативная в массе своих членов
редколлегия. Но даже и консерваторы понимали, что
создавать многотомное издание теперь, после XX съезда КПСС и в
условиях хрущевской «оттепели», когда общественное мнение
требует обновления, в прежнем духе нельзя.
В значительной мере обновленчество подсказывалось и тем,
что сама задача была новая: многотомной
специально-философской энциклопедии Россия еще никогда не создавала.
И если все это понимали даже консерваторы, то что же
говорить о нашем редакторском и главном создателе этого нового
издания — авторском коллективах?
В этих условиях перед редакторским коллективом едва ли
не главной была задача привлечения авторов-новаторов,
независимо от их возраста. Думается, эту задачу в основном
решить удалось. Все названные выше молодые университетские
выпускники шли к нам и приводили еще более молодых.
Э. В. Ильенков привел Н. В. Мотрошилову и других; Е. Г. Пли-
мак порекомендовал нам в состав редакции А. И. Володина,
С. Л. Воробьёва и Р. А. Гальцеву; кажется, Б. В. Бирюков
направил к нам М. М. Новосёлова и М. Ф. Солодухину, без
помощи которых он сам уже не мог справиться с редактированием
все разрастающегося отдела формальной логики, философских
вопросов математики, естествознания и — специально —
кибернетики. Отдел исторического материализма и социологии,
который в редакции вел нынешний заведующий редакцией
философии издательства (сменивший меня на этой должности в
конце 1968 г.) Н. М. Ланда, консультировали И. С. Кон,
Ю. А. Левада, Б. А. Грушин, А. Г. Здравомыслов, В. А. Ядов,
В. Н. Шубкин, выступавшие и как авторы по тогда почти
неизвестной в стране науке социологии, а Г. М. Андреева — по
социальной психологии. По историческому материализму и
смежным с ним проблемам в качестве консультантов и
авторов выступали молодые помощники Н. С. Хрущева и
Ю. В. Андропова — Ф. М. Бурлацкий, А. Е. Бовин, Г. X.
Шахназаров, Г. А. Арбатов, молодые преподаватели вузов —
В. Ж. Келле, А. П. Бутенко и др.
Если я не ошибаюсь, именно через «Философскую
энциклопедию» на широкое поле научных публикаций вышел окон-
446 3. А. Каменский
чивший в 1961 г. филологический факультет Московского
университета С. С. Аверинцев, написавший для энциклопедии
большое количество статей по истории и догматике
христианства и истории духовной жизни Византии, что тогда мало кто
мог сделать. Из Ленинграда слал нам статьи по истории
философии Возрождения А. X. Горфункель. Кроме названных
патриархов советской философии тех времен писали нам и другие
ученые старшего поколения — А. С. Ахманов и Е. К. Войш-
вилло по логике, И. И. Зильберфарб и Н. Е. Застенкер по
истории утопического социализма, М. А. Лифшиц по теории
и истории культуры, Т. И. Ойзерман по истории марксизма
и западноевропейской философии. Трудно, очень трудно было
с Востоком, и здесь явилась молодежь: Н. П. Аникеев,
A. М. Пятигорский, В. В. Бродов — по Индии, С. Н. Григорь-
ян и другие — по арабскому Востоку. Эмигранты из числа
«испанских детей» И. Претель и Р. А. Бургете во многом
помогали нам справиться с малоизученной испанской тематикой.
Целую плеяду молодых логиков — В. К. Финна, Д. А. Лахути,
B. А. Успенского, Ю. А. Гастева и др. — привлекли Б. В.
Бирюков и его помощники, неизменно консультировавшиеся с
корифеями отечественной математической логики А. А.
Марковым и С. А. Яновской.
Хотелось бы сказать специально несколько слов о
трагической судьбе нашего научного редактора Эрика Григорьевича
Юдина. Это трагедия подавляемого сталинизмом, но
устоявшего человека. Уже будучи кандидатом философских наук, но
совсем еще молодым двадцатишестилетним человеком,
Э. Г. Юдин был репрессирован в 1956 г. по политическим
мотивам. Он находился в заключении до 1960 г., а выйдя из
заключения, никак не мог получить работу по специальности.
Только в 1964 г. он стал нашим сотрудником по разделу
диалектического материализма, философским проблемам
естествознания и психологии. Э. Г. Юдин вместе с А. Г. Спиркиным
в известной мере преобразовывали традиционный диамат —
цитадель философского консерватизма (впрочем, и
исторический материализм был законсервирован едва ли не еще
более). В этот период начинали осваивать концепцию
системного анализа И. В. Блауберг и В. Н. Садовский, и Э. Г. Юдин
присоединился к ним. Лучшие IV и V тома «Философской
энциклопедии» многим обязаны ему в этих своих разделах не
только как редактору, но и как автору. Э. Г. прожил после
выхода V тома совсем недолго. Он умер в 1976 г., не реализовав
всех своих творческих возможностей.
О «Философской энциклопедии» 447
Я, конечно, не назвал и малой доли участников создания
«Философской энциклопедии». Я хотел только сказать, что
все живое, молодое и все лучшее, что могло еще дать
старшее поколение, — все это хлынуло к нам. И если бы
требовалось дать некую общую характеристику того, что
сделала «Философская энциклопедия», то следовало бы сказать,
что она решила свою задачу на высшем из возможных для
десятилетия 1960—1970 гг. уровне. Надо добавить при
этом, что, в отличие от других изданий тех же и
последующих лет, она, по самой своей природе, вынуждена была
решать эту задачу тотально, по всему периметру философии и
даже значительно выйдя за пределы собственно
философской проблематики, особенно в некоторые смежные
специальные области. Нам ставили это в упрек и по ходу дела, и
подводя итоги. Но, как я уже заметил, мы делали это
сознательно, поскольку в то время, особенно поначалу, эти
специальные области находились в некоторой идеологической
опале и не могли рассчитывать на достаточно детальное
освещение. Так это было с математической логикой,
социологией, историей религии.
Я погрешил бы перед объективностью и просто
исторической правдой, если бы представил создание «Философской
энциклопедии» как дело безоблачное, а решение стоящей
перед ней задачи как полностью реализованное в том смысле,
что каждая ее статья отвечала самым высоким требованиям.
Возможности наши были тогда отнюдь не безграничны, и в
издании энциклопедии были многочисленные и разного рода
трудности, в ней содержится немало конъюнктурных
материалов и попросту лишних, ненужных статей. Об этом можно
рассказывать подробнее, и это, может быть, когда-нибудь
сделают. Я же расскажу здесь об этом вкратце.
Трудностей, подобных тем, которыми была отмечена работа
над статьями «Карл Маркс» и «Культ личности», было
немало, особенно в тех случаях, когда статьи эти были посвящены
темам, имевшим политическое, конъюнктурное значение. Тут
и подбор авторов, и содержание статей часто оказывались под
присмотром и главного, и консервативных членов
редколлегии, они были, что называется, начеку. Под их влиянием,
например, было решено посвятить специальные статьи всем
первым секретарям зарубежных компартий. Так появились у
нас статьи, которые, в сущности, не имели отношения к
«Философской энциклопедии», — о Гомулке, Айдите, Чаушеску и
других подобных фигурах. Такая же обязательность была вве-
448 3. А. Каменский
дена и для статей по истории философии во всех союзных
республиках тогдашнего СССР и в социалистических странах.
Была ли философия в данной стране или не было, а ее надо
было разыскать и изложить. Извинением здесь могло быть
разве лишь то, что в заголовки этих статей входило
выражение: «...и общественная мысль».
Что касается эволюции принципов, на которых
основывалось издание, то они изменялись и в формальном, и —
отчасти — в содержательном отношениях.
О плане формальном я уже говорил: «Философская
энциклопедия» первоначально планировалась в гораздо меньшем
объеме томов и статей в них. И это привело к тому, что статьи
первых двух, а отчасти даже и третьего тома, были
значительно меньше, чем статьи IV и V томов. Уже эта эволюция давала
себя знать с выгодой для последних томов — на большом
пространстве можно лучше справиться с темой.
Но гораздо существенней, значительнее была эволюция
содержательная, которая, правда, не была тотальной, а
захватывала лишь некоторые отделы и статьи. Я имею в виду
отражение в энциклопедии новых тенденций в общественном
сознании, обозначавшихся уже к середине 60-х гг. и отразившихся в
двух последних томах. В них все большее внимание уделялось
идеалистической философии, иррационализму, религии и
богословию. И дело, конечно, не просто в увеличении внимания,
но и в том, что статьи этого цикла утрачивали былой
критический пыл и все более становились апологетическими. Со
второй половины 60-х гг. начинался процесс, который разовьется
бурно лишь в конце 80-х — 90-х гг. и приведет к критике, а
многих — к отвержению материалистической, марксистской
философии. Соответственно изменялось направление и отдела
истории отечественной философии, в котором все большее
место стал занимать русский идеализм и религиозная
философия. Если говорить о сотрудниках редакции, то, насколько это
уловил я (а я не могу претендовать на то, что видел картину
этого движения во всем его многообразии), инициатива
исходила здесь от Р. А. Гальцевой и отчасти Ю. Н. Попова. Мне
кажется, что их поддержал и А. Г. Спиркин, может быть, не
столько по убеждению (ибо в своих собственных работах,
несмотря на интерес к парапсихологии и поддержке Джуны, он
оставался более или менее ортодоксальным марксистом с
учетом того обновленчества, который марксизм претерпел в
60-х гг.), сколько по желанию дополнить и украсить сухую
материю ортодоксии некими идеологическими вольностями, при-
О «Философской энциклопедии» 449
дать мятежный имидж нашему изданию, потрафить
сторонникам этих новых тенденций.
В отличие от него, я не поддерживал этого направления,
поскольку оставался и материалистом, и атеистом. Религиозно-
иррационалистическая реакция, которую не только Россия,
но и Запад пережили в первой половине XX в. и которую
Россия вновь переживает сейчас, даже и для начала XX в.
представляется исторически не соответствующей культурному,
философскому развитию европейских народов, а уж для конца —
одним из самых трагических парадоксов, хотя, как и всякий
парадокс, его можно попытаться осознать и тем самым —
решить. Как бы я ни относился к религии, я не считал
возможным смешивать философию с богословием и был против того,
чтобы соответственно этой тенденции изменять словник и в
какой-то мере превращать соответствующие разделы нашей
энциклопедии из философских в богословские.
Но, как заведующий редакцией, я не считал возможным
действовать административными методами в угоду своим
собственным убеждениям и что-либо запрещать. Да и
полномочий таких у меня не было — права А. Г. Спиркина,
заместителя главного редактора, были здесь большими. Я полагал,
что тут надо действовать методами спора, обсуждений и т. п.
Я исходил из того, что ведь эта тенденция, как бы я к ней ни
относился, не каприз и не злоумышление Р. А. Гальцевой и
привлеченных ею таких интересных авторов, как С. А. Аве-
ринцев, С. С. Хоружий, И. Б. Роднянская и другие, а
тенденция отечественного общественного сознания. И я был
убежден в том, что наше издание, в соответствии со своим кредо,
должно отражать его наиболее адекватно, а не через призму
моих убеждений.
Так оно и сложилось. Правда, эта ретроградная тенденция
была замечена не только мной. Некоторые члены
редколлегии, сколько помнится, например, X. Н. Момджян (как
рассказал мне Н. М. Ланда, уже после выхода V тома, т. е. по
завершении издания и моего ухода из редакции, все-таки была
созвана редколлегия, на которой ряд членов, особенно
X. Н. Момджян, резко критиковали редакцию за то, что она не
воспрепятствовало развитию указанной тенденции и
некоторых вольностей в отделе социологии. Но этот шум имел смысл
разве только как назидание на будущее...), протестовали
против нее и, в отличие от меня, жаловались Ф. В.
Константинову. Но чтобы преодолеть эту тенденцию, надо было
систематически следить за ходом работы, а это делать было недосуг ни
450 3. А. Каменский
X. H. Момджяну, ни Ф. В. Константинову, который, кажется,
все-таки дал по этому поводу выволочку А. Г. Спиркину. Но
тот, по-видимому, рассуждал так же, как и я, но ему было
труднее, чем мне, ответственность была на нем. Надо отдать
ему справедливость, как я уже говорил, он смело брал ее на
себя, он попросту, когда это было нужно, обходил главного, не
давал ему на просмотр подобных статей. И уж совсем
интуитивно, не имея на то никаких фактических данных, я
подозреваю, что и главный редактор, соблюдая декорум ортодокса,
давая выволочку А. Г. Спиркину и тем создавая себе в случае
чего алиби, сам был в известной мере охоч до этих вольностей,
завоевывая таким образом в глазах общественного мнения
некий авторитет смелого человека...
Но как бы то ни было, теперь, через четверть века, можно
сказать, что «Философская энциклопедия» отразила и эту
эволюцию общественного сознания.
Вспоминая теперь о годах создания «Философской
энциклопедии», я часто задумываюсь о призывах многих наших
журналистов, писателей и идеологов, требующих ото всех
россиян, чья сознательная жизнь прошла в сталинские и по-
слесталинские времена, очищения и покаяния. Мне всегда
была противна эта морализация, ничего, по моему мнению,
не дающая для укрепления национальной нравственности, а
только расшатывающая ее, воспитывающая ханжество и
лицемерие. Для меня эти требования были лишь ханжескими
иллюзиями, обывательским требованием выставлять напоказ
свои раны, неким показным мазохизмом. Разумеется, у всех
нас есть поступки, достойные сожаления, а если надо, то и
исправления. Разумеется также, что надо наказывать
виновных, и тем строже, чем больше их вина. Но большинство из
нас сочтут, что и в тяжкие 30—40-е гг., и в нелегкие
последующие они делали свое дело и приносили, как могли, пользу
своим согражданам. Думая обо всем этом, я вспоминаю
финал давнего (кажется, английского) фильма о Рембрандте.
Мастер смотрит на свою картину «Ночной дозор», улыбка
озаряет его лицо, и он, немало грешивший, произносит: «Да,
я не напрасно прожил жизнь».
Такие мысли приходят мне в голову, когда я в очередной и
бесчисленный раз обращаюсь за справкой в «Философскую
энциклопедию».
Джеймс П. Скэнлан*
Американский философ
в Московском государственном
университете, 1964/65 гг.
Ъудучи молодым преподавателем философии из
американского университета, интересующимся историей
русской философии, я получил беспрецедентную
возможность в течение академического года в
1964/65 гг. заниматься научной и исследовательской
работой на философском факультете МГУ.
Соглашение о культурном обмене, подписанное между США и
СССР в 1958 г. позволило почти сорока ученым —
аспирантам и молодым преподавателям — из каждой
страны в течение семестра или года (иногда двух лет)
обучаться в другой стране. К 1964 г. многие
американские ученые, занимающиеся вопросами истории,
русского языка и литературы, политологией и
некоторыми другими областями, уже воспользовались
предоставившейся возможностью, но я был первым
философом в программе обмена и действительно
первым немарксистским американским философом,
который провел такой длительный период времени в
СССР в рамках какой-либо программы.
Хотя я собирался работать в области
домарксистской русской философии, я знал, для того чтобы
советская сторона согласилась принять меня по
обмену, мне нужно предложить тему работы, которая
была бы приемлема для марксистско-ленинских вла-
* Вопросы философии. 2000. № 1. С. 132-141.
452 Джеймс П. Скэнлан
стей. Поэтому я выбрал «Русских революционных
демократов» с особым упором на этические теории Чернышевского и
Писарева. Это не был простой циничный расчет, поскольку я
уже завершил работу по Петру Лаврову и перевел его
«Исторические письма» на английский язык, и особенно
интересовался английской этикой и социальной философией XIX в.,
которые в лице Джона Стюарта Милля и других оказали
значительное влияние на таких людей, как Чернышевский. Как бы
то ни было, моя тема получила одобрение советской стороны,
и я в сопровождении жены Мэрилин прибыл в Москву 9
сентября 1964 г. и поселился в огромной серой высотке на
Ленинских горах.
Для работы над своим проектом я был прикреплен, вполне
справедливо, к кафедре истории философии народов СССР,
которая тогда располагалась в старом здании университета в
центре. Кафедрой в то время руководил Иван Яковлевич Щи-
панов. Он был единственным профессором на кафедре, но там
работали и такие доценты, как Ш. Ф. Мамедов и Н. Г.
Тараканов, а также более молодые преподаватели. Вскоре я
обнаружил, что эта кафедра не пользовалась таким уважением, как
некоторые другие на факультете, прежде всего кафедра
истории зарубежной философии, возглавляемая Т. И. Ойзерма-
ном, которая считалась наиболее «прогрессивной». Многие
полагали, что кафедра Щипанова не должна играть такую
важную роль в учебном плане, какую она приобрела со дня
своего основания около семнадцати лет назад, а студенты
были недовольны большим количеством часов, посвященных
«революционным демократам» и другим фигурам, которых
они по большей части уже изучали достаточно основательно в
средней школе. Кроме того, кафедра была известна своей
большой марксистско-ленинской ортодоксальностью.
Первый раз я столкнулся с этой ортодоксальностью, когда
представил список библиографии, необходимой для моей
работы, которую я намеревался проводить в течение года. В нем
я перечислил все работы Чернышевского и Писарева,
которые планировал изучать. Просмотрев его, Иван Яковлевич
нахмурился и заметил, что я не включил работы Маркса,
Энгельса и Ленина. Я ответил, что я уже изучал этих мыслителей
в Соединенных Штатах и что в любом случае эти работы не
особенно уместны в моем проекте. «Хорошо, ответил он, —
оставьте библиографию и приходите завтра».
Придя на следующий день, я обнаружил, что он (или, скорее
всего, кто-то из его подчиненных) полностью переделал мою
Американский философ в Московском университете... 453
библиографию: вся первая страница — пятнадцать
названий — состояла из работ Маркса, Энгельса и особенно
Ленина; мой список начинался только на второй странице, и он
также был расширен за счет включения многих
марксистско-ленинских комментариев работ Чернышевского и Писарева.
Вручая мне пять экземпляров этого обновленного документа,
он попросил меня подписать их. Когда я запротестовал, что это
была уже не «моя» библиография, и что я не собираюсь
перечитывать коммунистических классиков, он отмахнулся от моих
возражений. «Просто подпишите, — с улыбкой сказал он, — и
все будет хорошо». Несколько встревоженный, я подписал.
И действительно, Щипанов не требовал от меня в точности
следовать этому документу. Как я понял позже, его заботило
не то, что я на самом деле читаю, а необходимость
предоставить доказательства своей собственной идеологической
лояльности: пять копий были отправлены в надлежащие
инстанции, чтобы показать, что он с должным пролетарским рвением
руководит моей работой. В наших последующих беседах он
никогда не упоминал о добавленных работах. И, к моему
некоторому удивлению, он не пытался «обратить» меня в марксизм.
Хотя мне надлежало встречаться с ним каждую неделю для
примерно часовой беседы, на этих встречах мы очень мало
говорили о философии и совсем не говорили о марксизме. Мы
говорили о Москве, об истории России, о наших космических
программах, а больше всего о Великой Отечественной войне.
Иван Яковлевич неустанно вспоминал ужасы, которые война
принесла России — разрушение Сталинграда и Севастополя,
блокада Ленинграда, лишения и трагические потери, от
которых страдала практически каждая российская семья. Мне
кажется, он справедливо рассудил, что, хотя безнадежно
пытаться уговаривать буржуазного американского гостя стать
марксистом, он мог бы убедить его, что Россия хочет мира.
Все было иначе, когда я делал доклады на кафедре по теме
моего исследования. Во время этих формальных публичных
выступлений мы вели идеологические баталии, которые
обычно заканчивались не в мою пользу. В начале года Иван
Яковлевич пригласил меня не только посещать все заседания
кафедры — любезность, за которую я был весьма признателен,
так как это позволяло мне воочию увидеть работу отделения
советского университета, но также докладывать о
результатах моих исследований в трех выступлениях на протяжении
года. Что я и делал, представив на своем несовершенном
русском языке доклады, озаглавленные «Развитие этической
454 Джеймс П. Скэнлан
теории Н. Г. Чернышевского», «Этические теории Н. Г.
Чернышевского и Дж. С. Милля» и «Развитие этической теории
Д. И. Писарева».
Я, конечо, ожидал критического отклика на мои
«буржуазные» рассуждения, но я не был готов к атмосфере
степенности и отрепетированной формальности этих заседаний. После
моего выступления следовал краткий период вопросов
информационного характера, на которые я кратко отвечал. Затем
почти все время занимали протяженные, формально
критические выступления назначенных сотрудников кафедры
(которые по крайней мере к моему второму и третьему докладам
заранее получили копии моего текста). Совершенно не было
возможности искренне, оживленно обсудить мои мысли, как
следовало бы ожидать в Соединенных Штатах.
Идеи о Чернышевском и Писареве, которые я представлял
в докладах, в чем-то совпадали, а в чем-то не совпадали с
марксистско-ленинским учением, и скоро стало понятно, что там,
где я соглашался с принятой марксистско-ленинской
позицией, меня хвалили, а там, где отходил от нее, критиковали.
Поэтому я мог заранее предугадать, какова будет реакция на мое
выступление. В дальнейшем я быстро адаптировался к
риторике этих стычек и с некоторым неудовольствием обнаружил,
что ищу у Маркса и Ленина цитаты в поддержку своей
интерпретации той или иной идеи.
Что делало мое положение на этих заседаниях безнадежным,
так это полная уверенность со стороны старших сотрудников
кафедры, что я, будучи «буржуазным» мыслителем, вообще не
мог правильно понять идей «революционных демократов».
Снова и снова мне ставили на вид, что я не могу занять
«классовый подход» к вопросам этики — вернее, не могу занять
«правильный» классовый подход, поскольку считалось, что мои
претензии на «буржуазную объективность» призваны
замаскировать собственные антипролетарские классовые установки.
Без пролетарской перспективы, которую,мне не позволяла
увидеть моя классовая принадлежность, говорили мне, я не мог
правильно оценить идеи Чернышевского и Писарева. С особым
пренебрежением были встречены мои усилия показать, что
этические взгляды «революционных демократов» имели нечто
общее со взглядами английских утилитаристов, таких как
Дж. С. Милль; мои советские критики отказывались видеть
какое-либо сходство между ними. Когда я пытался показать, что
если бы Милль жил в российских условиях, он также мог бы
стать революционером, мне было сказано, что единственными
Американский философ в Московском университете... 455
учениками Милля в России были не революционеры, а
либералы вроде Василия Боткина; тот факт, что революционер Борис
Зайцев также был учеником Милля, был благополучно забыт!
Тем не менее догматические установки, которые проявлялись
на этих официальных заседаниях, не превращались в личную
недоброжелательность; более того, мне часто помогали вне
всякого разумного ожидания. Особенно показателен пример,
взятый из моего следующего визита (в 1969 г.). Оказавшись
опять под руководством Ивана Яковлевича Щипанова, я
попросил его помочь мне получить доступ к архивным материалам,
относящимся к таким мыслителям-идеалистам», как Н. В.
Станкевич, Владимир Печерин и М. О. Гершензон, в связи с
английским переводом замечательной книги Гершензона «История
молодой России» («The History of Young Russia»), который я
готовил. Иван Яковлевич весьма энергично возражал против
моего интереса к этим фигурам, но когда я стал настаивать, он
сказал, что посмотрит, что можно сделать. Благодаря его
ходатайству я получил разрешение и стал пользоваться архивами.
Как и раньше, я затем представил результаты своей работы на
кафедре, и, как и раньше, получил формальные критические
замечания. Атаку возглавлял Иван Яковлевич и, к моему
немалому удивлению, он вел себя так, как будто только сейчас узнал,
что я работал с таким маловажным и вредным материалом, за
что он резко обрушился на меня. После такого ритуального
осуждения мы опять расстались с улыбкой и теплыми
рукопожатиями, каждый был доволен результатом: он публично
осудил ту самую работу, которую тайком помог мне сделать, а я,
хотя и получил публичное неодобрение, был благодарен ему за
помощь. Таких случаев, когда простая человеческая доброта
отвергала слепую идеологическую приверженность, было
бесконечно много в советскую эпоху, несомненно, двойственность
поведения была широко распространена.
Возвращаясь к моему пребыванию в Москве в 1964—
1965 гг. и к моей работе по «революционным демократам» в то
время, я вспоминаю, как сильно мне помогло то, что я имел
возможность работать в престижном Научном зале № 1
Ленинской библиотеки. Всем приехавшим по обмену
американским ученым, независимо от возраста и наличия ученой
степени, было разрешено там работать, в гораздо более комфортной
и менее тесной обстановке, чем в читальных залах более
низкого ранга на расположенных ниже этажах. Доступный только
профессорам и членам Академии наук, этот зал являл странную
смесь советских ученых в летах и молодых американцев.
456 Джеймс П. Скэнлан
Возможно, самым большим преимуществом доступа в
Научный зал № 1 была возможность заказывать книги, которые
не были указаны в картотеке библиотеки. Сначала для нас,
американцев, было неожиданностью, что в библиотеке
имеются категории книг, не включенных в картотеку, но вскоре
мы узнали, что даже эти «особые запасы» (спецхран) можно
заказать из Научного зала № 1; только надо было знать имя
автора и заглавие и дать заявку библиотекарю. Таким
образом, «идеалистическая» и даже религиозная литература была
доступна немногим привилегированным.
Однако библиотекари, которые получали для нас эти книги,
не были всемогущими. Однажды я запросил книгу,
опубликованную в Москве в 1932 г. (которой не было в картотеке) и
содержащую предисловие оппонента Сталина (ставшего его
жертвой в 1936 г.) Льва Каменева; я знал эту книгу, потому
что уже изучал один экземпляр в Библиотеке конгресса в
Вашингтоне. С некоторой задержкой книга прибыла, но, к моему
удивлению, в ней не было предисловия Каменева, а именно
оно мне было нужно. Широко раскрыв книгу, я смог
разглядеть, что неугодное предисловие было тщательно вырвано;
поднеся титульный лист к свету, я обнаружил прозрачную
полоску на том месте, где раньше стояла фамилия Каменева,
которую, видимо, соскоблили (или вырезали и подклеили
бумагу!). Вернув книгу библиотекарю, я заявил, что она с изъяном
и попросил ее достать другой экземпляр. Она с неохотой
послала другой запрос, и в положенное время прибыл второй
экземпляр — с тем же изъяном. Новый запрос и прибывает
третий экземпляр — опять без предисловия. Несколько
раздраженно я заявил библиотекарю, что, без сомнения, где-то в
глубинах этого огромного учреждения — одного из
крупнейших хранилищ научной литературы в мире — должен быть
нетронутый экземпляр оригинала. Я никогда не забуду
выражение бесконечной печали, с которым она ответила: «Вы
должны понять — это были очень тяжелые времена».
Поразительное напоминание о тех тяжелых временах
явилось мне однажды в Научном зале № 1, когда за соседним
столом я увидел новое — но при этом мучительно знакомое —
лицо. Я знал, что пожилой мужчина был какой-то очень
важной персоной, но не мог вспомнить его фамилию. В отчаянии я
достал с соседней полки «Большую советскую энциклопедию»
и стал просматривать крупных деятелей, сравнивая их
фотографии с лицом человека передо мной; я даже посмотрел тех
людей, о которых знал наверняка, что они уже умерли, на тот
Американский философ в Московском университете... 457
случай, если я столкнулся с каким-то признаком. Все
напрасно. Наконец, я тихонько обратился к библиотекарю: кто этот
человек за соседним столом со мной? «Это же товарищ
Молотов», — шепотом ответила она, — он живет неподалеку и
часто сюда приходит почитать свежие журналы по
экономике». В последующие дни, размышляя больше о старых
большевиках, чем о «революционных демократах», я работал бок о
бок с молчаливым Вячеславом Молотовым. Когда я рассказал
американскому корреспонденту о своем соседе по
библиотечному залу, он не поверил, что я не попытался «взять
интервью» у Молотова. «Почему ты его ни о чем не спросил?!» —
воскликнул мой друг — журналист. Но даже если бы я был
склонен нарушить уединение стареющего коммуниста, чего я
делать не собирался, что бы я мог его спросить? «Сколько
людей вы убили, когда находились у власти?»...
В течение года я посетил много лекций по истории русской
философии, обязательных для всех студентов философского
факультета, особенно лекции для третьего и четвертого
курсов, на которых довольно подробно рассматривались
отдельные русские мыслители. Эти лекции читали, главным образом
Щипанов и Тараканов, и в большинстве своем их содержание
было так же предсказуемо, как и реакции на мои доклады.
Основные идеи заключались в следующем: все крупные русские
философы до Ленина были материалистами, и их мышление
было проникнуто здравым смыслом, научным духом, любовью
к народу и ненавистью к религии и угнетению; лучшие из них
также близко подходили к диалектике (proto-dialecticians),
хотя, разумеется, никто из них не достиг таких
интеллектуальных высот, как образец диалектического материализма,
Владимир Ильич Ленин; все другие русские философы были
реакционными религиозными мракобесами и идеалистическими
мистиками; и, наконец, хотя Карл Маркс был величайшим из
когда-либо живших философов, вторым и третьим по
величине были русские — Ленин и Николай Чернышевский.
Лекции Тараканова о Михаиле Ломоносове можно считать
типичными. Две двухчасовые лекции были посвящены
Ломоносову как часть обязательной для студентов-третьекурсников
программы. В весьма оживленных лекциях, несмотря на то,
что мало кто из студентов их слушал (см. ниже). Тараканов не
жалел усилий, чтобы продемонстрировать, что Ломоносов был
не только безусловным материалистом («основателем
русского материализма»), но также и весьма прогрессивным
материалистом. Что касается выражения деистических взглядов,
458 Джеймс П. Скэнлан
которые можно найти в некоторых работах Ломоносова,
Тараканов объяснял, что их не следует понимать буквально:
Ломоносов их использовал как «прикрытие для атеизма», т. е. как
средство для продвижения атеизма, насколько это было
возможно в ограниченных социальных и культурных условиях
того времени, которые также не позволяли ему выразить
более прогрессивные социальные взгляды. Следовательно,
вопреки собственным словам, Ломоносов был тайным атеистом
и сторонником общественного прогресса, в максимально
возможной для своего времени степени выражавшим свои
взгляды. Далее, согласно своему статусу «весьма прогрессивного»
материалиста, Ломоносов даже проявлял «элементы
диалектики» в своем мышлении.
Учитывая это глубоко тенденциозное марксистско-ленинское
прочтение истории русской философии, я с удивлением и
радостью обнаружил, что учебная программа включала лекции о тех
«других» русских философах, которых ничье богатое
воображение не могло причислить к материалистическим
предшественникам Ленина. Щипанов, например, читал на четвертом курсе
лекции о русских персоналистах Лопатине и Козлове (два часа),
Толстом (два часа), Достоевском (шесть часов), Соловьёве
(четыре часа) и Бердяеве (два часа). Разумеется, легко можно
было предугадать критическое отношение Щипанова к этим
мыслителям: персоналисты были крайними индивидуалистами,
Достоевский безнадежно религиозен, философский метод
Бердяева — «мистификация». Но в то же время эти негативные
суждения сопровождались большим количеством информации,
в большинстве своем откровенной и точной о взглядах этих
мыслителей. А некоторые лекции содержали меньше оценок,
чем другие. Например, в случае Соловьёва изложение
Щипанова было необъяснимо полным и даже аргументированно
беспристрастным; оно сопровождалось обильными цитатами из
работ Соловьёва и содержало только подразумевающуюся
критику. Таким образом, такие мыслители, как Соловьёв и
Бердяев, не были просто сведены к статусу «малозначительных
личностей», как я представлял себе до приезда в СССР; на самом
деле студенты могли много узнать о них из этих лекций. В
какой-то степени это могло быть непредусмотренным и
разрушительным последствием попытки внедрить в сознание студентов
марксистско-ленинское учение: обязательные курсы содержали
так много часов, что лекторы не могли не дать определенное
количество существенной информации, что, по крайней мере,
сохраняло память об этих мыслителях.
Американский философ в Московском университете... 459
Количество часов, посвященных требуемым лекциям, было
предметом больших споров между студентами и
преподавателями на философском факультете МГУ в то время, когда я там
находился. Не меньше тридцати часов в неделю (для студентов
первого курса еще больше) отводилось на курсы, где
посещение было обязательно, что оставляло мало времени на
спецкурсы по выбору, учебу, комсомольские собрания и другие
студенческие обязанности. Было широко распространено
убеждение, и не только среди студентов, что молодые ученые
были перегружены, и что посещение многих курсов следует
сделать добровольным. Однако многие преподаватели
опасались, что, если посещение будет добровольным, никто не
придет. В частности, курсы по истории русской философии были
мишенью для критики. Во время одной из лекций, на которой
я присутствовал, какой-то студент встал и предложил лектору
(Тараканову), чтобы обязательные лекции по истории русской
философии были отменены в пользу семинаров. После лекции
я вернулся с Таракановым на кафедру, где он и Щипанов
весело посмеялись над этим предложением.
Большая нагрузка на студентов видимо объясняет (хотя не
полностью) характерное для лекций явление, которое
поначалу меня весьма удивило, а именно — невнимание студентов.
На первой лекции на меня сильное впечатление произвело то,
что студенты встали со своих мест, когда лектор вошел в
аудиторию; это был европейский жест уважения, незнакомый нам
в Америке. Но то, что случилось дальше, шло абсолютно
вразрез с этим жестом, поскольку девяносто процентов студентов
больше не обращали никакого внимания на лектора.
Большинство устроились в задних рядах и занимались другими
делами, главным образом читали тексты и писали задания для
других курсов. Некоторые из сидевших ближе к
преподавателю воздвигли маленькие баррикады из личных вещей, чтобы
скрыть свои занятия, но другие работали открыто, кое-кто
буквально под носом у лектора, который, казалось, не замечал
всего этого и произносил свои фразы так, как будто вся
аудитория ловила каждое слово. Из более пятидесяти студентов в
аудитории, наверное, человек шесть действительно слушали
лекцию и делали записи. Еще несколько человек время от
времени поднимали голову и временно прекращали свои
альтернативные занятия, когда что-то привлекало их внимание.
Однако чрезмерная загруженность была не единственным
объяснением такого поведения, так как некоторые студенты
просто читали газеты или журналы, а другие оживленно болта-
460 Джеймс П. Скэнлан
ли с соседями или с кем-нибудь находящимся через несколько
рядов. Временами, помимо голоса лектора, можно было
слышать четыре или пять отдельных, четко слышимых разговоров,
происходящих в аудитории. Несомненно, невнимание студентов
частично объяснялось скучным и избыточным характером
лекций. Как сказал мне один студент: «Есть много хороших книг,
по которым можно сдать экзамен по этому предмету».
Философской вершиной 1964/65 гг. на философском
факультете МГУ была конференция «Марксизм и
экзистенциализм», состоявшаяся 24—25 ноября 1964 г. Ожидаемая с
нетерпением из-за своей экзотической темы, конференция
ежедневно привлекала более ста человек, почти все они
были преподавателями или аспирантами философского
факультета. Вступительное слово было предоставлено (кому же
еще?) академику М. Б. Митину; другими основными
докладчиками были, в порядке следования, Т. И. Ойзерман, И. С. Нар-
ский, А. Г. Мысливченко, И. Я. Щипанов, Э. Ю. Соловьёв и
П. П. Гайденко. Еще около десяти ученых представили более
короткие доклады, обозначенные как выступления, и еще
многие выступали во время дискуссии.
Я вновь был поражен как предсказуемостью большинства
выступлений, так и открытым неуважением аудитории ко
многим докладчикам, даже самым «почтенным». Пожалуй, я один
слушал Митина; пока он говорил, многие входили и выходили,
шуршали бумагами, разговаривали и открыто выражали
несогласие и отсутствие интереса, раздавался даже свист из
аудитории. Выступление другого основного докладчика (я забыл
его фамилию) вызвало насмешливый свист, и было заметно,
как аудитория делает неодобрительные жесты. Несомненно,
доктринерские докладчики заслуживали такое неприятие, но
меня удивило, что аудитория достаточно смело показала это на
таком особом мероприятии. Если до того дня у меня в
сознании все еще был укоренен стереотип о со всем
соглашающемся, роботоподобном «марксистско-ленинском» философе,
запуганном до полного подчинения идеологической тиранией, та
данная аудитория разбила вдребезги этот стереотип.
Повторяющуюся основную мысль выступлений на
конференции более узколобых коммунистических докладчиков
подытожить легко: экзистенциализм и иррационализм, который его
питает, являются чертами исключительно буржуазного
общества, и им нет места при социалистическом строе. По мнению
Митина, экзистенциализм выражал «кризис современной
буржуазной мысли»; марксизм, а не экзистенциализм, был под-
Американский философ в Московском университете... 461
линной философией личности, потому что марксизм
изображает «социальную личность во всей ее позитивной полноте» в
отличие от «отчаявшейся, полной страхов личности
экзистенциализма». Ойзерман сразу же вызвал некоторое волнение в
аудитории, заявив, что «иррациональное» (названное им
основной категорией экзистенциализма), несомненно, существует,
но, продолжал он, оно существует только при капитализме,
таким образом, оно существует только как «видимость», а не как
сущность; оно не является частью природы человека или
общества и может быть устранено в надлежащим образом
построенном обществе. Щипанов говорил о Бердяеве и Шестове как
главных русских экзистенциалистах, объясняя, что они
эмигрировали, когда им стало ясно, что для их вредоносной формы
мышления больше нет места в России; экзистенциализм
процветал в России, заявил он, только когда шла напряженная
классовая борьба между пролетариатом и буржуазией.
Эти идеи вызвали гнев одного из присутствующих в
аудитории, что спровоцировало во время конференции
по-настоящему драматический инцидент. Человек, сидящий в переднем
ряду (я так и не узнал его имени), несколько раз прерывал
докладчиков, и каждый раз председательствующему Ойзерма-
ну приходилось просить его замолчать; но в конце первого дня
заседания Ойзерман разрешил ему кратко выступить с
трибуны. Сердито и возбужденно (но не бессвязно) он заявил, во-
первых, что марксистские философы должны перестать вести
себя так, как будто им принадлежит монополия на истину; во-
вторых, что экзистенциализм в России был продуктом не
буржуазного строя, а «национального духа»; и, в-третьих, что
феномен сталинизма и другие свидетельства «темных сил в
нашем обществе» показали, что иррациональность
присутствовала в СССР, так же как и в капиталистических странах.
Некоторые из присутствующих посмеивались, пока он
говорил, но большинство сидели в молчаливом недоумении; никто
не ответил на его выступления. Щипанов сказал мне позднее,
что этот человек был философ и бывший политзаключенный,
который стал «ненормальным» после долгих лет в сталинских
трудовых лагерях; я не стал говорить Щипанову, что,
наверное, я такой же «ненормальный», поскольку слова этого
человека показались мне совершенно уместными и здравыми.
Это не значит, что стоящие в программе конференции
доклады были все как один догматичными и скучными; в некоторых
содержались интересные аргументы, новая информация или
вдумчивый анализ. Например, доклад И. С. Нарского, хотя и был
462 Джеймс П. Скэнлан
тенденциозно озаглавлен «Реакционная сущность
экзистенциалистской концепции отчуждения», содержал полезное и
информационно насыщенное изложение истории этого понятия от
Гегеля, Фейербаха и Маркса до Марселя, Хайдеггера и Кафки.
В целом подлинную ценность доклада можно было легко
оценить, просто наблюдая за поведением аудитории: чем больше в
докладе содержалось материала, представляющего настоящий
философский интерес, с тем большим уважением аудитория его
слушала. В этом отношении впечатляющая кульминация
наступила во время последнего основного доклада второго дня —
«Проблема времени в философии Мартина Хайдеггера»
П. П. Гайденко. Будучи тогда еще совсем молодой женщиной,
Гайденко представила обстоятельный и в то же время
обобщенный анализ хайдеггеровской концепции времени, в котором
проводила много сравнений Хайдеггера с Кантом и другими
крупными фигурами. В противовес антиэкзистенциалистским
установкам большинства других докладчиков она сделала заключение,
что Хайдеггер был одним из наиболее значительных мыслителей
современности, и с помощью нескольких искусных ссылок на
Маркса предположила, что Маркс мог бы согласиться с ее
интерпретацией. Это был замечательный образец философии и
риторики, которому аудитория внимала с восхищением.
Помимо посещения лекций, заседаний кафедры и
некоторых особых мероприятий вроде конференции по
экзистенциализму, я имел мало возможностей для контактов с известными
московскими философами как официальными, так и
неофициальными. Практически не было связей между моей кафедрой и
Институтом философии, поэтому я не посещал институт и не
мог встречаться с работавшими там философами. Я слышал
об интересном философе, который работал в институте и был
гегельянцем, выдающим себя за марксиста, а именно об
Эвальде Ильенкове, но с учетом официальной темы моего
исследования у меня не было оснований просить о встрече с
ним. У меня было больше оснований для встречи с Алексеем
Федоровичем Лосевым, который писал об истории русской
философии; но помощь Щипанова не простиралась так
далеко, чтобы помочь мне встретиться с философом, имеющим
такое сомнительное марксистское мировоззрение. Я прочитал о
Лосеве в книге В. В. Зеньковского «История русской
философии», и у меня были сведения, что он преподавал в
Московском педагогическом институте. Но когда я спросил Щипанова
о нем, он ответил, что встреча с Лосевым будет для меня
бесполезна. «У него своя собственная философия, — сказал Щи-
Американский философ в Московском университете... 463
панов, — и эта философия нам не нужна». Впоследствии я
познакомился со студентом, который обещал познакомить
меня с Лосевым; однако каждый раз на нескольких тайных
рандеву с этим студентом он говорил мне, что время еще не
подходит для визита к Лосеву, наконец, мне это показалось
подозрительным, и я оставил свои попытки.
Во многих отношениях наиболее полезными в течение этого
периода были мои интеллектуальные и социальные контакты с
молодыми философами в общежитии высотного здания на
Ленинских горах. Мы с женой жили в зоне Б, в блоке 345, на
этаже, заселенном исключительно студентами и аспирантами
философского факультета. Мы были единственными американцами и,
пожалуй, единственными иностранцами среди почти ста жильцов
этажа. Как особым гостям, нам полностью отдали
двухкомнатный блок, хотя советские пары, некоторые с детьми, делили блок
с другим человеком или семьей. Насколько мне известно, никто
не завидовал тому, что мы обладаем такой роскошью, и в самый
первый день нас приветствовала небольшая группа студентов,
которые постучались в нашу дверь — это была первая из многих
дружеских встреч, которые переросли в длительную дружбу. По
крайней мере двое из наших молодых друзей — Владимир Доб-
реньков и Петр Корнеев — стали известными
профессиональными философами в Советском Союзе.
Конец эпохи Хрущева (он был снят со своего поста в
октябре 1964 г., всего через месяц после нашего прибытия в
Москву) все еще был периодом относительной открытости в
Советской России, что подтверждалось желанием столь многих
наших соседей установить и поддерживать контакты с нами,
иностранцами. Тем не менее, время было не настолько
свободное, чтобы мы могли с ними нормально общаться. Все они
предполагали, что наш блок прослушивался, и они не были
столь откровенны в разговорах в комнате, как в других местах,
предпочтительно вне здания на свежем воздухе или в лесу (где
у нас было несколько незабываемых встреч). Некоторые наши
гости регулярно усиливали громкость нашего
радиоприемника, когда входили к нам в комнаты, чтобы скрыть наши
разговоры. Некоторые временами писали на бумаге, затем
разрывали бумагу на мелкие клочки и спускали в туалет. Обычно
они избегали вести дискуссии на идеологические темы — я не
мог убедить их поговорить о марксизме! — кроме немногих
«истинно убежденных», которые выражали желание (но не
слишком настойчиво) просветить нас, темных представителей
американской буржуазии.
464 Джеймс П. Скэнлан
Я вскоре понял, что осторожность, проявляемая нашими
друзьями в отношениях с нами, не в меньшей степени должна
была защищить нас, как и защищить их. Они сказали нам, что
кому-то на этаже — они не знали точно кому — было поручено
следить, не осуществляем ли мы какую-то подрывную,
антисоветскую деятельность, и они настоятельно советовали нам быть
осмотрительными, даже в отношении таких вещей, как чтение
американских газет в вестибюле. Будучи участниками
официального культурного обмена, мы с женой могли получать
письма и иностранные печатные издания по «дипломатической
почте», которую курьер привозил в американское посольство в
Москве без прохождения через советскую почтовую систему.
Выставляя напоказ иностранную прессу, сказали нам, мы
могли вызвать обвинения в распространении
антикоммунистической пропаганды и способствовать нашему выдворению из
страны. Когда кто-то из друзей брал у нас почитать
иностранную газету или журнал, он не уходил из нашего блока не
спрятав их в номер «Правды» или под пиджак. Такая
предупредительность со стороны наших соседей однажды выразилась даже
в том, что они вступились за нас, когда один враждебно и
антиамерикански настроенный студент начал приставать к нам
насчет расовых отношений в Соединенных Штатах.
Большинство студентов, несмотря на лавину пропаганды,
которая ежедневно на них обрушивалась, не были настроены ни
антиамерикански, ни антизападнически. Они больше знали о
шахматных победах Бобби Фишера и о современной
американской популярной музыке чем я, и они жаждали узнать больше и
о жизни в Соединенных Штатах, и о западной философии.
Относящиеся к философии вопросы были разнообразны и
бесконечны: что за человек был Рудольф Карнап (один из моих
профессоров в Чикагском университете)? Правда ли, что Бертран
Рассел перешел в баптистскую веру? (!) Какие сегодня
существуют наиболее важные философские течения на Западе? Какие
философские курсы я читал и кто выбирает учебники для этих
курсов? (когда я сказал им, что я сам выбираю учебники, они не
могли поверить, что допускается такая «произвольная
субъективность».) Некоторые из студентов попросили меня прочитать
лекцию в общежитии на тему «Философия в Америке»; но
незадолго до назначенного времени они сконфуженно сообщили
мне, что лекция отменена каким-то испугавшимся чиновником.
В тех случаях когда не было сомнений в конфиденциальности
разговора, некоторые студенты говорили мне об узком и
догматическом характере своего философского образования и о том,
Американский философ в Московском университете... 465
как они были благодарны тем преподавателям, которые, как
Пиама Гайденко, могли несколько расширить границы
дозволенного и познакомить их с действительно интересным
материалом, даже если это приходилось делать в контексте критики
этого материала («Борьба против»). Когда один из моих
молодых друзей написал дипломную работу по западному философу,
к идеям которого он отнесся сочувственно, его руководитель
сказал ему, что работа не может быть принята, пока он не
включит главу с критикой этого философа с
марксистско-ленинских позиций; он это сделал, не веря ни единому
собственноручно написанному слову. Я спросил его, что он делает, когда
преподаватели говорят в аудитории вещи, с которыми он не
согласен. Он ответил, что обычно он молчит, потому что если он
будет слишком много высказываться, то потеряет свой
руководящий пост в комсомольской организации, с помощью которой
он мог бы реформировать систему. Он знал, что живет во лжи,
но все же надеялся преодолеть эту ложь терпеливым трудом.
К счастью, я имел возможность помочь этим устремленным
молодым философам, потому что мог заказывать для них книги
из Америки. Перед отъездом в СССР нам, американским
ученым, дали адрес в Соединенных Штатах, куда мы могли
направлять заказы на книги; эти книги посылались нам совершенно
бесплатно через дипломатическую почту. Хотя никто это не
признал, я не сомневаюсь, что эту услугу оказывало
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в надежде, что мы
будем распространять подрывную, антикоммунистическую
политическую и религиозную литературу в Советском Союзе. Каким
бы ни был мотив, никаких ограничений не было сделано
относительно характера заказываемых книг: они посылали все, что
бы мы ни заказали, обычно авиапочтой! Таким образом мы
скоро стали поставщиками научных материалов для наших
советских друзей, в моем случае это были абсолютно аполитичные и
нерелигиозные книги, которые были нужны нашим друзьям в
связи с их интересами в области теоретической философии.
Однажды я снабдил студента всеми книгами, которые ему были
нужны для написания дипломной работы по конкретному
западному мыслителю. Другой молодой человек, изучающий
философию Людвига Витгенштейна, попросил меня достать работу
Витгенштейна, известную как «Синяя и коричневая книги»;
получив ее, он через несколько дней опять пришел ко мне и
смущенно спросил, не мог ли бы я достать еще один экземпляр —
для его научного руководителя! Всего в течение года я получил,
наверное, несколько десятков книг для моих друзей.
466 Джеймс П. Скэнлан
Я никогда не забуду одного молодого ученого, ранее мне
незнакомого, который подошел ко мне однажды поздно вечером
в холле третьего этажа зоны Б. В ту ночь я дежурил в холле у
телефона — единственного на этаже. Когда другие студенты
постепенно разошлись по своим комнатам, я заметил
незнакомого человека, скромно сидящего в углу. Наконец, уже около
полуночи мы остались в холле вдвоем, тогда он подошел и
представился. Он сказал, что изучает логику, и со
всевозможными извинениями спросил, не могу ли я достать книгу,
которая ему нужна. Он объяснил, что не раз встречал ссылки на
основополагающую работу «Principia Mathematica», сложный
для восприятия и глубоко специальный трактат Бертрана
Рассела и Альфреда Норта Уайтхеда. Учитывая большую
важность этой работы, сказал он, он боится, что его образование
не может считаться серьезным и законченным без изучения
этой книги, но в СССР он не может ее получить. Я сказал, что,
вероятно, смогу ему помочь. Действительно, через несколько
недель удобное для пользования однотомное издание
оригинального трехтомного труда прибыло с посольской почтой.
Можно не сомневаться, что «Синяя и коричневая книги» и
«Principia Mathematica» — это не то, что имело в виду ЦРУ,
организуя эту замечательную услугу. Однако, если подумать,
возможно, это были самые подрывные книги из всех. Для
серьезных, думающих философов, получивших к ним доступ,
такие книги олицетворяли свободную, идеологически неанга-
жированную науку к которой они стремились.
Если мои русские друзья получили пользу от наших
контактов, то когда мы с женой уезжали из СССР 12 июня 1965 г., я
знал, что получил больше. Общаясь с этими молодыми
студентами и преподавателями, которые боролись с навязанными
им идеологическими ограничениями, я больше узнал о
характере философии в России и о ее будущем, чем от
высокопоставленных академических деятелей, стоящих на страже
официальной идеологии. Потребовалось еще более двадцати лет
для успешного завершения этой борьбы, но ее цель была ясно
видна в 1965 г.
В. Н. Садовский
«Вопросы философии» в 60-е гг.*
iViHe посчастливилось работать в журнале
«Вопросы философии» пять с половиной лет — с середины
1962 г. по конец 1967 г. Я специально подчеркиваю
«посчастливилось» потому, что это был интересный
и, как выяснилось впоследствии, достаточно важный
период в истории журнала; коллектив, в котором я
трудился, был жизнерадостным, активным,
работоспособным, очень доброжелательным и делал все
для того, чтобы превратить «Вопросы философии» в
действительно профессиональный философский
журнал, и, наконец, всем нам, кто в это время
работал в редакции, было на тридцать пять лет меньше,
чем сейчас.
Естественно, что мои заметки будут касаться
главным образом этого периода жизни журнала, но для
того, чтобы они были более понятны, этот период
следует «вставить» в контекст всей
пятидесятилетней истории «Вопросов философии». Я считаю —
конечно, с этим можно спорить, — что журнал
«Вопросы философии» за пятьдесят лет своего
существования прошел шесть различных периодов,
Первый — кедровский, когда во главе журнала
стоял Б. М. Кедров, был очень коротким — всего
* Философия не кончается... Из истории отечественной
философии. XX век. В 2-х кн. / Под ред. В. А. Лекторского. Кн. II. 60—
80-е гг. М., 1998. С. 83-107.
468 В. Н. Садовский
один год, с середины 1947 г. до середины 1948 г. Затем в
течение двадцати лет главными редакторами журнала были
представители «сталинской философской гвардии» —
Д. И. Чесноков, Ф. В. Константинов, М. Д. Каммари, А. Ф. Оку -
лов и, наконец, М. Б. Митин. На самом деле эти двадцать лет
представляли два периода жизни журнала, то есть второй и
третий. Между ними трудно провести четкую
хронологическую границу, но они существенно отличаются
содержательно: «Вопросы философии», выступающие с конца 1948 г.
официальным и поэтому сугубо догматическим
периодическим изданием по философии и общественным наукам в
целом, постепенно, начиная с середины 50-х гг., стали
приобретать форму научного, исследовательского журнала по
философии. Четвертый период жизни журнала связан с
деятельностью И. Т. Фролова и созданной им в 1968 г.
редколлегии, в которую были включены наиболее яркие
советские философы того времени. Пятый — когда во главе
журнала стоял В. С. Семёнов, и шестой, в котором, по моему
мнению, журнал находится и в настоящее время, связан с
работой В. А. Лекторского в качестве главного редактора.
Выделение шести периодов пятидесятилетней истории
«Вопросов философии» я предложил в своем выступлении на
круглом столе, посвященном юбилею журнала. Э. Ю. Соловьёв,
в свою очередь, выступая на этом круглом столе, выделил
четыре периода в истории «Вопросов философии», о которых
более подробно говорится в его статье «Философский
журнализм шестидесятых: завоевания, обольщения,
недоделанные дела» («Вопросы философии». 1997. №7). Хотя четыре
не равны шести, эти две периодизации весьма близки друг к
другу, но я все же предпочитаю свой вариант, потому что,
во-первых, соединять в одном периоде «кедровские» номера
журнала, которые, по словам Э. Ю. Соловьёва, представляли
«достойную прелюдию», с «десятилетием идеол
ого-догматического раболепства», на мой взгляд, не только совершенно
неоправданно, но — да простит меня Эрих Юрьевич —
просто недопустимо, и, во-вторых, я не могу согласиться с тем,
что двадцать лет истории журнала — с 1977 г. по настоящее
время — окрашены в одни и те же тона и представляют один
период истории журнала (я разделил эти двадцать лет на два
периода). Впрочем, любая периодизация — дело условное, и
читатель, у которого хватит терпения дочитать мою статью,
обнаружит, что в ее последнем абзаце я предлагаю еще одну
периодизацию истории журнала «Вопросы философии» на
«Вопросы философии» в 60-е гг. 469
два больших этапа: конечно, эта периодизация является
достаточно грубой, но в ней есть свой смысл.
Расскажу несколько более подробно об этих шести
периодах жизни журнала. Появление Б. М. Кедрова во главе
журнала было, как мне кажется, во многом неожиданным.
Б. М. Кедров был хорошо известным философом, очень
активно работающим, но, скажем так, не очень вписывающимся
в философскую иерархию того времени. Видимо, основную
роль в назначении его главным редактором сыграла
поддержка А. А. Жданова и его сына — химика и философа
Ю. А. Жданова, который в то время также работал в ЦК
партии. Б. М. Кедров стал создавать журнал, исходя из своего
понимания целей и задач марксистской философии, что и нашло
наиболее яркое выражение во втором номере журнала за
1947 г. (первый номер носил формальный характер — в нем,
как известно, была опубликована стенограмма философской
дискуссии по книге Г. Ф. Александрова «История
западноевропейской философии», что было выполнением решения этой
дискуссии). Второй номер журнала за 1947 г. — практически
первый содержательный номер «Вопросов философии» —
буквально вызвал шок для тогдашнего партийного и
философского руководства. По своему основному содержанию этот
номер журнала, я считаю, предвосхитил возможный уровень
публикации философских статей в Советском Союзе лет на
десять-пятнадцать. Во всяком случае статьи М. А. Маркова и
И. И. Шмальгаузена по философским проблемам физики и
биологии еще и сегодня не утеряли своей актуальности. И к
тому же здесь была опубликована нетрадиционная для того
времени статья 3. А. Каменского по истории русской
философии, которая оказалась весьма «благодатной» почвой для
только что возникшей и набирающей огромную
разрушительную силу кампании против космополитизма. Реакция была
мгновенной, и, хотя Б. М. Кедров формально оставался
главным редактором еще двух номеров журнала (№№ 1(3) и 2(4)
за 1948 г. — до 1951 г. журнал, выходивший три раза в год,
имел сквозную нумерацию), судьба Б. М. Кедрова как
главного редактора созданной им редколлегии и, главное, — кедров-
ского понимания философии — была предрешена.
Неожиданная смерть А. А. Жданова в августе 1948 г. только
подтолкнула принятие соответствующего решения, и с номера 3(5)
журнала за 1948 г. главным редактором стал Д. И. Чесноков,
который, как стало известно впоследствии, в последние годы
жизни И. В. Сталина был его главным философским советчи-
470 В. Н. Садовский
ком, за что и был избран на XIX съезде партии членом
Президиума ЦК КПСС.
Началась двадцатилетняя история журнала — с 1948 г. по
1968 г., когда его главными редакторами были «хорошо
проверенные» сталинские кадры. В этой истории, однако, как я
уже говорил, можно выделить два существенно различных
этапа. На первом — до смерти И. В. Сталина и, может быть,
точнее до 1955—1956 гг. — журнал представлял собой
«младшего брата» «Большевика», а затем «Коммуниста» —
типично идеологическое издание догматического типа,
предназначенное для вещания философских истин в последней
инстанции и карающее — при случае — тех, кто вольно или
невольно впадал в философскую ересь. Именно в это время в
журнале была опубликована печально знаменитая статья
«Кому служит кибернетика?», выключившая лет на пять-семь
участие советских ученых в проведении кибернетических
исследований, и ряд аналогичных публикаций. (Кстати, статья
«Кому служит кибернетика?» была подписана псевдонимом
«Материалист», и позднее, лет через десять, некоторые
авторы, которые также пользовались этим псевдонимом,
доказывали, что не они написали эту статью. Насколько я знаю, ее
автором был психолог В. Н. Колбановский.) В основном же
журнал был заполнен статьями истматовского плана с
разъяснениями последних решений ЦК партии, партийных съездов,
описанием победоносного движения Советского Союза к
коммунизму и комментаторскими статьями по диамату на сюжеты
работы И. В. Сталина «О диалектическом и историческом
материализме».
Второй этап этого двадцатилетнего периода истории
журнала, а следовательно, третий период его жизни, формировался
постепенно, начиная с середины 50-х гг., и его суть состояла в
превращении «Вопросов философии» в профессиональный
философский журнал. Очень важную роль в этом процессе
сыграл ответственный секретарь журнала в 1949—1959 гг.
Михаил Иванович Сидоров. Я, к сожалению, не был лично
знаком с ним, но по рассказам многих моих коллег и друзей,
которые с ним работали, представляю его как человека,
глубоко заинтересованного в журнале и максимально
способствующего тому, чтобы превратить его из типичного для того
времени партийно-идеологического органа в научное
философское издание. Прежде чем более подробно рассказать об
этой «перестройке», следует пояснить читателю структуру и
формы работы журнала, которые, по сути дела, возникли в
«Вопросы философии» в 60-е гг. 471
момент его создания и практически сохранились вплоть до
настоящего времени. Без этих пояснений трудно понять, как
журнал менял свой облик, начиная с середины 50-х гг.
«Вопросы философии» не только создавались по решению
ЦК партии (такое решение при советской власти было
необходимо для создания любого печатного органа), но и при
непосредственном и постоянном курировании со стороны ЦК, в
первое время — со стороны секретаря ЦК партии А. А. Жданова,
позднее — со стороны других партийных лидеров идеологии
страны. В соответствии с этим журнал был создан как
достаточно солидное научно-издательское учреждение: численность
его сотрудников временами доходила до тридцати пяти—сорока
человек; журнал платил за публикуемые статьи, особенно
первое время, очень высокий гонорар; ставки работающих в нем
сотрудников были также достаточно высоки; работники
журнала имели некоторые льготы — хорошую поликлинику,
льготные путевки и т. п.; главному редактору была предоставлена
персональная машина; не сразу, но с конца 50-х гг. журнал
получил вполне приличное и обширное помещение на первом
этаже здания на Волхонке, 14, и т. д. и т. п.
Коллектив сотрудников журнала состоял из трех групп:
1) Первая — члены редколлегии, в разное время от десяти
до двадцати и более человек. Редколлегия утверждалась ЦК
партии, и в нее включались видные (в первое время
практически без исключения — по занимаемому положению; позднее
стал учитываться и реальный научный вес членов
редколлегии) советские философы. Во главе редколлегии стояли
главный редактор, заместитель главного редактора и
ответственный секретарь (в кедровский период не было заместителя
главного редактора и ответственного секретаря — их функции
выполнял И. А. Крывелев, который практически занимался
основной оперативной работой по подготовке журнала и был
вместе с Б. М. Кедровым сурово наказан за грехи первых
номеров журнала. Правда, Б. М. Кедров был оставлен членом
редколлегии и бессменно оставался таковым до своей смерти
в 1985 г., И. А. Крывелев же вместе с М. Э. Омельяновским,
П. В. Таванцом и Б. А. Чагиным были выведены из состава
редколлегии, и позднее ни И. А. Крывелев, ни П. В. Таванец в
составе редколлегии журнала никогда более не появлялись.
Не знаю, кого надо благодарить за то, что Б. М. Кедрова
оставили членом редколлегии в 1948 г. Этот шаг был крайне
нелогичен с точки зрения бытовавших в то время
партийно-государственных нравов, но практически сорокалетнее активное
472 В. Н. Садовский
участие Б. М. Кедрова в работе журнала трудно переоценить,
особенно в 40-е и 50-е гг., то есть в наиболее тяжелый период
его истории, как, впрочем, и в последующие годы; некоторые
члены редколлегии заведовали отделами журнала — в первые
десятилетия жизни журнала традиционными для философских
учреждений того времени: отделами диамата, истмата,
научного коммунизма, истории философии, критики современной
буржуазной философии, этики, эстетики, критики и
библиографии и т. п. Редколлегия, как правило, заседала не менее
одного раза в две недели и обстоятельно обсуждала все
материалы, предназначенные к опубликованию.
2) Вторая — заместители заведующих отделами и научные
консультанты — обычно порядка десять—двенадцать человек;
все они, как правило, философы-профессионалы, и в их
задачи входит заказ, подготовка статей, их редактирование и
доведение до окончательной формы после обсуждения на
редколлегии. Практически эта группа сотрудников делала основную
содержательную работу в журнале; редколлегия же выносила
соответствующие вердикты по представляемым на ее
заседания материалам.
3) Третья — группа вспомогательных, технических
сотрудников: несколько литературных редакторов, специальный
сверщик цитат, секретарь редакции, секретарь главного редактора,
машинистки, стенографистки, курьеры, шоферы и т. п.
Получилось так, что фактически уже в кедровский период
начал формироваться очень хороший коллектив
вспомогательных сотрудников журнала, многие члены которого
проработали в нем не один десяток лет, поистине самоотверженно
отдавая этой работе все свои силы. Не могу в этой связи не
вспомнить с самыми теплыми чувствами секретаря редакции
Ольгу Яковлевну Фридлянд, проработавшую в «Вопросах
философии» с момента создания журнала до своей смерти в
1982 г. Журнал в советское время издавался издательством
«Правда», наиболее престижным в СССР, с большим
размахом, что было характерно для всех курируемых ЦК партии
изданий: достаточно сказать, что до середины 60-х гг. члены
редколлегии обсуждали уже набранные статьи, то есть верстку,
которая нередко шла под нож (денег, естественно, никто не
считал). Ольга Яковлевна вела все дела по взаимоотношениям
редакции с издательством «Правда». Ее хорошо дополняла
секретарь главного редактора Галина Францевна Гурко, очень
тепло относившаяся ко всем сотрудникам журнала. Прекрасно
работал коллектив литературных редакторов: в мое время в
«Вопросы философии» в 60-е гг. 473
нем были Елена Иосифовна Годунская, Инесса Сергеевна
Фиалкова, Александра Федоровна Озерская (Галахова) и
некоторые другие. Конечно, я не смог упомянуть всех, кто
работал над подготовкой журнала даже в «мои», 60-е гг., да я и не
ставлю перед собой такой задачи. Я хочу подчеркнуть лишь
одну мысль: с момента создания и практически до настоящего
времени коллектив редакции журнала, который, конечно, за
прошедшие пятьдесят лет существенно менялся, всегда
оставался очень дружным и крепким, и подавляющее большинство
его членов просто жили заботами и проблемами журнала.
К началу 50-х гг. описанная структура журнала «Вопросы
философии» полностью сформировалась, и по этой
структуре — естественно, с соответствующими модификациями,
связанными главным образом с сокращением штатных единиц и
начавшейся с 70-х гг. экономией средств, журнал работает и в
настоящее время.
Сидоровская «перестройка» журнала, конечно, ни в коей
мере не могла коснуться состава редколлегии — это было дело
высших партийных и научных инстанций. В ее первом после-
кедровском варианте вместе с Д. И. Чесноковым в качестве
новых членов оказались главный противник Б. М. Кедрова
А. А. Максимов, а также один из лидеров борьбы против
космополитизма М. Б. Митин, заведующий кафедрой философии
Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б) В. С. Молодцов и
крупный государственный чиновник В. П. Столетов,
впоследствии многолетний министр высшего образования СССР.
Редколлегия была дана журналу как бы от Бога, и с авторитетными
(по занимаемому положению, конечно) мнениями ее членов
волей-неволей приходилось считаться. За десять — двенадцать
лет — с 1948 г. по 1960 г. — состав редколлегии, главным
образом в связи с приходом новых главных редакторов, несколько
менялся, но партийно-государственный статус и научный
уровень ее членов в основном оставались одними и теми же.
Не было нужды М. И. Сидорову хоть в какой-то мере
реформировать и прекрасно работающую группу
вспомогательных сотрудников: от добра добра не ищут. Оставался один
путь — постепенное изменение состава и квалификации групп
заместителей заведующих отделами и научных консультантов
журнала, и М. И. Сидоров пошел именно этим путем, заложив
тем самым хороший фундамент для кардинального изменения
облика журнала.
Следует сказать, что с самого начала к работе в журнале в
качестве научных консультантов и заместителей заведующих
474 В. Н. Садовский
отделами (эту группу сотрудников обычно называли
«аппаратом») привлекались, как правило, весьма достойные и
квалифицированные кадры: сначала научные сотрудники Института
философии АН СССР, например, 3. А. Каменский, Н. В.
Завадская, Л. Л. Потков, И. И. Новинский и другие; свой вклад
в работу журнала внесли Г. А. Арбатов, А. В. Гулыга,
И. И. Ворошилин, только что пришедшие из сталинских
лагерей Е. П. Ситковский и С. С. Пичугин. Особенно следует
отметить Геннадия Сардионовича Гургенидзе — одного из
первых пришедших в журнал научных консультантов, который
отдал журналу добрых тридцать лет своей жизни и в течение
всех этих лет, без преувеличения можно сказать, олицетворял
научную совесть журнала. Каждый из названных мною людей
(к ним, наверное, надо добавить и некоторых других, которых я
не смог вспомнить и упомянуть), несомненно, внес свой
положительный вклад в работу журнала, но каждый из них, как
правило, действовал в одиночку, защищая и «проталкивая»
свои статьи, и коллективного воздействия аппарата на
редколлегию долгое время не было. Думаю, что М. И. Сидоров это
хорошо понял, и с середины 50-х гг. он широко открыл ворота
«Вопросов философии» для приглашения на работу в журнал
выпускников и закончивших аспирантуру философского
факультета МГУ, который в то время был гораздо более
прогрессивным учреждением по сравнению, например, с
Институтом философии.
В результате, начиная с середины 50-х гг., в журнале в
качестве научных консультантов стали работать Э. А. Араб-ог-
лы, А. Л. Субботин, И. Т. Фролов, М. К. Мамардашвили,
Н. И. Лапин, И. В. Блауберг, Н. Б. Биккенин, И. Б. Новик,
Б. С. Пышков, несколько позднее — Е. Т. Фаддеев, А. Г. Ар-
заканян и др. Это была первая волна выпускников
философского факультета в журнале «Вопросы философии»,
которая своими коллективными действиями во второй половине
50-х — начале 60-х гг. существенно изменила его научный
статус. Во многом благодаря усилиям этих сотрудников
аппарата удалось добиться реабилитации кибернетики на
страницах «Вопросов философии»; Т.Д.Лысенко потерял свой
былой безоговорочный авторитет среди философской
общественности; сталинская интерпретация диалектического и
исторического материализма стала быстро исчезать со страниц
журнала; практически все перечисленные новые работники
аппарата активно стали публиковаться в журнале с
интересными и оригинальными статьями, и главное — аппарат стал
«Вопросы философии» в 60-е гг. 475
реальным коллективом со своим видением философии, и
нередко в противостоянии редколлегия (с защитой
официальных, догматических философских позиций) — аппарат (с
гораздо более прогрессивным пониманием целей и задач
философии) редколлегия была вынуждена уступать.
Представители первой волны выпускников философского
факультета в журнале «Вопросы философии», может быть,
даже не очень осознавая это, выполнили к началу 60-х гг. свои
основные задачи — журнал стал совершенно иным по своему
содержанию, а им самим — во всяком случае большинству из
них — рамки журнала стали тесны. И поэтому нет ничего
удивительного в том, что за очень короткий промежуток времени
многие из них покинули журнал и ушли работать в другие
места. Остались лишь И. Б. Блауберг, который в 1963 г. стал
ответственным секретарем и членом редколлегии журнала,
Е. Т. Фаддеев и А. Г. Арзаканян. Однако линия, заложенная
М. И. Сидоровым, сохранилась, хотя сам он в журнале уже не
работал. В «Вопросы философии» пришла вторая волна
выпускников философского факультета: наконец-то научную
работу получил Э. Ю. Соловьёв, выпускник 1957 г.; с нашего
курса выпускников 1956 г. в журнале оказалось трое —
Г. Н. Волков, В. С. Марков и я, с более младших курсов —
Ю. Б. Молчанов и А. П. Огурцов, позднее в журнале стали
работать также выпускники философского факультета МГУ —
Л. И. Греков, В. М. Михкалев, А. Я. Шаров. Ключевую роль в
работе аппарата продолжал играть Г. С. Гургенидзе, который,
несмотря на большую разницу в возрасте по сравнению с
большинством других научных редакторов, по духу был очень
близок нам всем. По-видимому, можно сказать, что именно
в середине 60-х гг. сидоровская идея перестройки журнала
получила наиболее полное воплощение (даже заместитель
главного редактора А. С. Ковальчук, пришедший на работу в
журнал в 1962 г., также был выпускником философского
факультета МГУ первых послевоенных лет, однако его
понимание философии и задач журнала существенно
отличалось от нашего — но ведь хорошо известно, что нет правил
без исключений).
Мы, представители второй волны выпускников
философского факультета в журнале «Вопросы философии», в своей
работе, конечно, опирались на то, что удалось сделать нашим
более старшим товарищам, и — решусь высказать такое
самонадеянное утверждение — в некоторых аспектах мы
смогли добиться даже больших результатов. Естественно, нам
476 В. Н. Садовский
было легче действовать: журнал начала 60-х гг., когда мы
пришли в него, по своему содержанию существенно
отличался от «Вопросов философии» середины 50-х гг., да и
редколлегия, с которой нам пришлось работать, разительно
отличалась от первых послекедровских редколлегий. Интересно, что
эта редколлегия была образована при назначении в 1959 г.
главным редактором А. Ф. Окулова, он проработал в этой
должности всего один год. А. Ф. Окулов, который до этого
работал заместителем директора Института философии и
которого я в какой-то степени знал, будучи младшим научным
сотрудником этого института, был совершенно
нормальным — по своим человеческим качествам — человеком
(действительно, хорошим мужиком), но совершенно
неподходящим для этой работы. Но вместе с его приходом в журнале
появилась значительно более прогрессивная редколлегия,
чем это было раньше. И именно эту редколлегию наследовал
М. Б. Митин. В ней, конечно, еще сохранились некоторые
партийные и философские «зубры», например, М. Д. Каммари,
Ц. А. Степанян, В. С. Молодцов, В. И. Свидерский, Б. С.
Украинцев, — вот, пожалуй, и все, но в нее уже были
включены весьма достойные и хорошо профессионально
подготовленные философы — И. В. Кузнецов, Ю. К. Мельвиль,
А. Ф. Шишкин, а в лице Ю. А. Замошкина в нее впервые в
истории журнала попал представитель совершенно иного,
значительно более молодого и безусловно прогрессивного
поколения советских философов и социологов. В работе
редколлегии по-прежнему был очень активен Б. М. Кедров —
впрочем, так было и раньше и будет позже, до конца его
дней. Создатель журнала, он очень внимательно относился к
своему любимому детищу и, несмотря на огромную
загруженность, практически не пропускал ни одного заседания
редколлегии, твердо держа свою руку на пульсе журнала.
Если попытаться охарактеризовать в самых общих чертах
то, что удалось сделать в журнале «Вопросы философии» в
60-е гг., я бы сказал так: именно в эти годы журнал
реально превратился в профессиональное философское
периодическое издание. Конечно, ни тогда, ни позже —
вплоть до крушения Советского Союза — журнал не мог
освободиться от «неизбежной дани» —
марксистско-ленинского идеологического обрамления публикуемых в нем статей,
но, во-первых, во многих случаях такое обрамление стало
явно чужеродным довеском (и читатель, как правило, это
хорошо понимал), во-вторых, в статьях, скажем так, по сциен-
«Вопросы философии» в 60-е гг. 477
тистским разделам философии — по теории познания, по
логике и методологии, по философии естествознания, в какой-
то степени по истории философии, авторы нередко вообще
избегали такого обрамления, и, наконец, в-третьих, сама
марксистско-ленинская философия превратилась из объекта
раболепного поклонения в предмет серьезного, нередко
достаточно критического анализа.
В диаматовском цикле журнальных публикаций тех лет
полностью исчезли не только сталинский вариант философии
диалектического материализма, но во многом и ленинская
интерпретация диалектики и философии марксизма в целом.
Вместо этого авторы журнала обратили свое внимание на
анализ новейших направлений гносеологии, методологии и
философии науки — методов моделирования,
структурно-системного анализа, аксиоматического, гипотетико-дедуктивного и
генетического методов и т. п., широкой кибернетизации
научной деятельности и внедрения идей и принципов кибернетики
практически во все основные сферы естественных и
социальных наук. Природа информации, взаимосвязь информации и
вероятности, соотношение энтропии информационных
процессов и физической энтропии и т. д. — еще одна важная
область методологии науки, которая стала глубоко
исследоваться на страницах «Вопросов философии» в эти годы.
Серьезному анализу стали подвергаться проблемы семиотики,
логической семантики, теорий естественных и искусственных
языков. Появились первые публикации по проблемам
науковедения, которые вызвали целый поток статей на эти темы во
второй половине 60-х и последующие годы. Широко
обсуждались на страницах журнала вопросы общей теории систем и
философско-методологических проблем системного подхода.
Ведущую роль в этой переориентации диаматовской тематики
играл заместитель заведующего отделом Г. С. Гургенидзе; в
этом отделе работал я, и несколько позднее к нам
присоединился А. П. Огурцов.
На страницах «Вопросов философии» 60-х гг. очень
широко была представлена проблематика философских вопросов
естествознания. Кардинально изменился характер
обсуждения этих проблем: навсегда ушли в прошлое попытки
представить диалектический материализм в качестве философского
цензора содержания новейших научных теорий, что было
столь характерно для 30-х, 40-х и начала 50-х гг.;
естественнонаучный материализм из различных областей физики,
биологии и других наук, который рассматривался авторами публи-
478 В. Н. Садовский
куемых в журнале статей по этому разделу, перестал
выступать в качестве иллюстрации действия законов диалектики,
что также было основным мотивом соответствующих
публикаций в предшествующие десятилетия господства философского
сталинизма; все статьи — буквально все, — которые были
опубликованы в разделе философских вопросов
естествознания в эти годы, — серьезные научные исследования,
например, философских проблем физики элементарных частиц,
соотношения элементарного и сложного в физике микромира,
проблемы измерения в квантовой теории, структуры
физической теории, проблем времени и бесконечности,
методологических вопросов генетики, молекулярной биологии,
современной эволюционной теории, биофизики, происхождения жизни,
вопросов возможности искусственно создать живое, наконец,
самых различных аспектов кибернетики, о чем я уже говорил,
и т. д. и т. п. Неудивительно, что отношение многих видных
отечественных естествоиспытателей к журналу начало
решительно меняться именно в эти годы, и большая заслуга в этом
отношении, несомненно, принадлежит научному консультанту,
а затем заместителю заведующего отделом философских
вопросов естествознания Ю. Б. Молчанову.
Принципиальные изменения претерпел в 60-е гг. и раздел
журнала, посвященный современной зарубежной
философии и социологии. Даже само это название было просто
немыслимо в 40-х и в начале 50-х гг., когда высшее партийное
начальство поставило перед журналом в качестве одной из его
основных задач «активную и непримиримую борьбу против
философии буржуазной реакции»*. Теперь даже вполне
нейтральное слово «критика» исчезло из названия отдела, в
статьях же их авторы все в большей степени стали заменять
слово «буржуазная» на «зарубежная». Это, однако, только
внешняя сторона дела. Что же касается содержания
опубликованных в этом разделе статей в 60-е гг., то, во-первых,
подавляющее большинство из них представляли собой
действительно серьезный критический анализ соответствующих
зарубежных философских теорий, и, во-вторых, журнал в эти годы
открыл советскому философскому сообществу смысл и
значение ряда важных направлений западной философской мысли,
и прежде всего экзистенциализма. Не менее трех десятков
* См. статью «Вопросы философии» в «Большой советской
энциклопедии». 2-е издание. М., 1951. Том 9. С. 95.
«Вопросы философии» в 60-е гг. 479
статей по этой проблематике было опубликовано в период
работы второй волны выпускников философского факультета в
журнале, а главную роль в этом отношении сыграл Э. Ю.
Соловьёв, который не только искал и находил новых авторов, но
и сам активно публиковался по этим вопросам. Другим
направлениям современной зарубежной философии «повезло»
несколько меньше, но тем не менее на хорошем научном
уровне были выполнены опубликованные в это время статьи по
философским воззрениям А. Уайтхеда, А. Швейцера, Мартина
Лютера Кинга, М. Шелера, феноменологии Э. Гуссерля,
лингвистической философии, неотомизму и др.
Значительно сложнее шел процесс профессионализации в
сфере исторического материализма, что легко понять: эта
область марксистской философии была наиболее тесно связана
с идеологически-политическими установками советского
государства. Тем не менее наряду с дежурными статьями о
строительстве коммунизма, ленинских теориях социалистической
культуры, решения национального вопроса и т. п., от которых
журнал еще долго не сможет избавиться, в этом разделе стали
все решительнее появляться серьезные статьи по социальной
философии и социологии, например, по проблемам
современной научно-технической революции, взаимосвязи природы и
общества, науки и производства, проблемам организации
управления производством, вопросам теории оптимального
планирования, проблемам социальной структуры общества,
анализу экономических моделей и экономической кибернетики,
структурному анализу в историческом исследовании,
применению принципов системного подхода в социальных
исследованиях, количественным методам в социологии, проблемам
социологического измерения, роли закона больших чисел в
социальной статистике и т. п. Медленно, но процесс шел в направлении
усиления научной составляющей марксистской социальной
философии и социологии, хотя термин «марксистская
социология» даже в конце 70-х гг. будет еще вызывать истерику у
правоверных блюстителей марксистской философской чистоты.
Тяжелую, поистине адскую работу по «онаучиванию»
исторического материализма и внедрению в марксизм исследований
по социологии вели в журнале в 60-е гг. сотрудники аппарата
журнала Е. Т. Фаддеев, Г. Н. Волков, некоторые члены
редколлегии — прежде всего А. Ф. Шишкин, Ю. А. Замошкин,
В. Ж. Келле и некоторые другие.
К сказанному о позитивных сторонах содержательной
работы журнала «Вопросы философии» в 60-е гг. следует еще
480 В. Н. Садовский
добавить, что, несмотря на практически официально
провозглашаемое в то время мнение о неактуальности собственно
историко-философских исследований, А. Г. Арзаканяну,
отвечавшему за эту область философии в журнале, пусть не
очень часто, но все же удавалось публиковать достаточно
интересные и оригинальные статьи по проблемам истории
философии. Ряд несомненно творческих статей был
опубликован в эти годы и по проблемам этики, в которых, как это
было и в статьях по другим разделам философии, о чем я уже
говорил, исследовались не только и не столько традиционные
вопросы марксистско-ленинской этической концепции,
сколько современные этические проблемы, такие, как анализ
природы морального сознания, проблемы ценности,
моральной оценки, человек как высшая ценность и т. п. Уровень
этих публикаций был достаточно высок. Журнал, кроме того,
имел в эти годы весьма объемные и богатые по содержанию
отделы критики и библиографии, научной жизни и
специальный отдел «Философия за рубежом», который
достаточно оперативно знакомил советских философов со многими
новейшими работами зарубежных философов и социологов.
Постепенно устанавливались серьезные научные контакты с
видными зарубежными философами: еще в конце 50-х -
начале 60-х гг. журнал посетили Н. Винер, Ж.-П. Сартр и
другие; в 60-е гг. мы принимали Ж. Пиаже, У. Росс Эшби,
большую группу ведущих зарубежных психологов —
участников проведенного в 1966 г. в Москве XVIII
Международного психологического конгресса, и др.
И, наконец, во второй половине 50-х — 60-е гг. журнал
получил во многом совершенно новый авторский актив.
Думаю, что к старым философским пишущим кадрам за эти годы
добавилось не менее семидесяти—девяноста новых
интересных авторов — философов, социологов и представителей
конкретных наук, которые в последующие годы прочно заняли
ведущие позиции в развитии философии и социологии в нашей
стране.
Надеюсь, что я привел достаточно аргументов в пользу
высказанного мною мнения, что именно в 60-е гг. были
сделаны важные шаги в превращении журнала «Вопросы
философии» в профессиональное философское периодическое
издание. Не хочу быть неправильно понятым: безусловно, это
произошло не только в результате работы в журнале второй
волны выпускников философского факультета МГУ.
Во-первых, журнал эволюционировал вместе с развитием науч-
«Вопросы философии» в 60-е гг. 481
но-ориентированных философских исследований в
ведущих научно-исследовательских центрах страны, прежде
всего в Институте философии АН СССР, на философском
факультете МГУ и других философских учреждениях, и, во-
вторых, в журнале в эти годы сложилась уникальная
ситуация взаимоотношения редколлегии и аппарата: вместо почти
постоянного противостояния, что было характерно для 40-х и
50-х гг., происходило постепенное сближение аппарата по
крайней мере с частью редколлегии и совместное решение
многих важных содержательных проблем, причем аппарат на
заседаниях редколлегии очень часто выступал в роли
своеобразного дополнительного, никем, конечно, официально не
утвержденного коллективного члена редколлегии. Этому
способствовали и изменения в составе редколлегии, которые
имели место в 60-е гг.
Я уже говорил о первом составе редколлегии «Вопросов
философии», с которым начал работать М. Б. Митин и с
которым работали мы. В этом составе было хорошее ядро
здравомыслящих и глубоко профессиональных философов —
Б. М. Кедров, Ю. А. Замошкин, И. В. Кузнецов, Ю. К.
Мельвиль, А. Ф. Шишкин, и совместными усилиями этих членов
редколлегии и аппарата удавалось решать многие
возникающие по ходу работы содержательные проблемы. Однако в
начале 1962 г. в журнале по инициативе главным образом
Ю. К. Мельвиля была опубликована статья видного
английского философа А. Айера «Философия и наука» («Вопросы
философии». 1962. № 1), а через некоторое время его
небольшая статья о советской философии в журнале
«Observer». Статья «Философия и наука» была совершенно
безобидной с самой строгой советской идеологической точки
зрения; в статье же, опубликованной в «Observer»,
содержались, как об этом писал впоследствии сам А. Айер,
некоторые неразумные и просто «глупые» утверждения. В
результате разразился скандал*, итогом которого было
реформирование в 1963 г. редколлегии журнала, из которой были
исключены Ю. К. Мельвиль и И. В. Кузнецов, а также
М. Д. Каммари, В. С. Молодцов, М. Ф. Овсянников, А. Ф. Оку -
лов, К. М. Фролов и Б. А. Чагин, но зато введены в нее
* См. более подробно: Вопросы философии. 1962. № 1, а также мою
статью «Б. М. Кедров и международное философское сообщество» //
Вопросы философии. 1994. № 4. С. 62.
482 В. Н. Садовский
А. И. Берг, В. А. Карпушин, В. Ж. Келле, В. С. Кеменов,
П. В. Копнин, А. Н. Леонтьев, С. Р. Микулинский, Ю. В.
Сачков, несколько позже еще дополнительно — Т. И. Ойзерман
и М. Э. Омельяновский — в итоге, так сказать,
здравомыслящая и професиональная составляющие редколлегии
существенно увеличились, и контакты аппарата с редколлегией
стали более тесными, что дало возможность решать многие
важные вопросы по публикуемым в журнале материалам.
Среди многих словесных баталий, которые разыгрывались
очень часто на заседаниях редколлегии, мне, да, видимо, и
многим моим коллегам особенно запомнилось обсуждение
небольшой статьи П. Ф. Юдина, в которой он решительно
осуждал предпринимаемые в последнее время попытки, как он
писал, ревизии постановления ЦК ВКП(б) от 25 января 1931 г.
«О журнале "Под знаменем марксизма"», где была дана
партийная критика меньшевиствующего идеализма. П. Ф. Юдин
правильно почувствовал грозящую, в частности ему,
опасность — на безусловном принятии и реализации этого
постановления основывалась вся его карьера, как и карьера
М. Б. Митина и всех других советских философско-партийных
лидеров 30-х — 50-х гг. Особое его неудовольствие вызвала
статья «Меньшевиствующий идеализм», опубликованная в III
томе «Философской энциклопедии» (М., 1964). На самом
деле эта статья была написана вполне в традиционном духе, но
в последнем ее абзаце — хрущевская «оттепель» это
разрешала — говорилось о том, что в период культа личности это
постановление трактовалось нередко неправильно: порой
философы, допустившие те или иные ошибки, необоснованно
характеризовались как представители враждебной
идеологии, объявлялись врагами народа и репрессировались. Такая
интерпретация постановления ЦК 1931 г. представлялась
П. Ф. Юдину глубоко ошибочной, и М. Б. Митин
первоначально, как казалось, был готов поддержать своего старого
соратника, но неожиданно в ходе обсуждения он обнаружил,
что автором этой статьи в «Философской энциклопедии»
является не кто иной, как он сам, и ему пришлось искать выход
из создавшегося положения. Выступавшие при обсуждении
этой статьи члены редколлегии — во всяком случае
большинство из них, если не все — и работники аппарата
высказывались против публикации статьи П. Ф. Юдина, аргументируя
тем, что по своему духу и стилю она является чуть ли не
дословным повторением того, что писалось по поводу этого
постановления добрых тридцать пять лет тому назад, и что
«Вопросы философии* в 60-е гг. 483
М. Б. Митин совершенно прав, когда в своей статье,
опубликованной в «Философской энциклопедии», писал об
извращенном истолковании этого постановления в период культа
личности. В конечном итоге после обсуждения этой статьи на
двух заседаниях редколлегии (после первого заседания
П. Ф. Юдин дорабатывал статью, но она практически осталась
без изменений) она была отвергнута.
Думается, что следует рассказать о специфических
особенностях рабочей атмосферы, которая была в журнале в 60-е гг.
Приход М. Б. Митина в журнал совпал с началом нисходящей
линии его карьеры (не знаю, осознавал он это сам или нет).
Официальный советский философ номер один в 30-е гг., он в
40-е и даже в 50-е гг. оставался еще на самом верху советской
философско-партийной иерархии, хотя и не мог не
чувствовать за собой жаркое дыхание своих, как правило, более
молодых конкурентов, стремящихся потеснить его с
философского трона. В 1961 г. закончилось его более чем
двадцатидвухлетнее членство в ЦК КПСС, и, хотя пост главного
редактора «Вопросов философии» был одним из четырех или
пяти наиболее престижных философских постов в Советском
Союзе, для М. Б. Митина получение этой должности было не
повышением, а понижением.
Справедливости ради надо сказать, что в журнале М. Б.
Митин вел себя вполне корректно, доброжелательно ко всем
работникам редакции, никакой нервозности, шума и тем более
крика. Работа в журнале для него, имеющего за спиной
пятнадцатилетнее руководство журналом «Под знаменем
марксизма» (1930—1944 гг.) и почти семилетнюю работу в качестве
шеф-редактора газеты «За прочный мир, за народную
демократию» (1950— 1956гг.), издававшуюся на девятнадцати
языках, была рутинной и спокойной деятельностью. Создавалось
впечатление, что он даже не читал статей перед заседаниями
редколлегии, просто просматривал их во время обсуждения и
предлагал, как правило безошибочно, наиболее приемлемые
для большинства участников обсуждения решения. В связи с
поведением М. Б. Митина на заседаниях редколлегии
вспоминается один забавный эпизод: заседание редколлегии
проходило в день снятия Н. С. Хрущева, вся Москва уже знала об
этом, хотя официального сообщения еще не было, и вот
М. Б. Митин, ведя редколлегию, тщательно вычеркивал в
обсуждаемых статьях все упоминания о Н. С. Хрущеве.
Вот еще один эпизод. В середине 1964 г. мы с Г. С. Гурге-
нидзе решили предложить Э. Г. Юдину написать обзор новей-
484 В. Н. Садовский
ших работ советских философов по проблемам
диалектического материализма. Главной целью этого предложения было
стремление оказать хоть какую-то помощь Эрику
Григорьевичу в решении его нелегких проблем: возвратился в Москву в
1960 г.; на руках у него был диплом кандидата философских
наук, но он вынужден был несколько лет работать на
Московском заводе резинотехнических изделий в должности
рабочего; все попытки добиться реабилитации, в чем ему активно
помогали Н. Б. Биккенин, в то время работавший в журнале
«Коммунист», В. П. Кузьмин, работник отдела науки ЦК
партии, и некоторые другие, не приводили к положительному
результату. Э. Г. Юдин написал очень хороший обзор,
содержащий большой фактологический материал с указанием многих
работ, содержащих серьезные научные результаты. Обзор
был опубликован в журнале в 1964 г. (№ 12. С. 149—162) под
двумя фамилиями — Н. Г. Алексеев и Э. Г. Юдин. Буквально
через несколько дней после выхода журнала в редакцию
приехал сильно возбужденный Б. С. Украинцев, кстати, член
редколлегии журнала, работавший в то время заведующим
сектором идеологического отдела ЦК партии и курировавший все
общественные науки, с претензиями по поводу этого
обзора — мол, как это вы допустили, в обзоре широко цитируются
и излагаются работы малоизвестных авторов, а
фундаментальные исследования Л. Ф. Ильичева и некоторых других
советских философских лидеров остаются в тени. К чести
М. Б. Митина, мы с Г. С. Гургенидзе не услышали от него ни
одного слова упрека, вся эта история на этом и закончилась, а
мы с Геннадием Сардионовичем смогли сохранить при себе
информацию о биографии Э. Г. Юдина.
Не могу не рассказать еще об одном событии, которое
произошло в журнале в 1966 г. и которое было непосредственно
связано с М. Б. Митиным, с одним из его деяний прошлых
лет, но это, как говорится, сюжет из совершенно другой
оперы. В начале 1966 г. в ЦК КПСС обратилась вдова видного
советского философа Яна Эрнестовича Стэна,
репрессированного и расстрелянного в 1937 г., с просьбой восстановить
справедливость относительно авторства статьи «Философия»,
опубликованной в «Большой советской энциклопедии» (1-е
изд. Том 57. М., 1936). В письме говорилось о том, что эта
статья была написана Я. Э. Стэном, но соответствующий том
БСЭ вышел с указанием, что статья «Философия» в основном
написана М. Б. Митиным, и, естественно, без какого-либо
упоминания о ее действительном авторе. По существующим в
«Вопросы философии» в 60-е гг. 485
то время партийным нормам в редакции была создана
специальная комиссия по проверке этого письма в составе
Е. Т. Фаддеева (руководитель), А. П. Огурцова и меня. Мы
очень быстро установили, что вдова Я. Э. Стэна абсолютно
права: мы посетили Л. С. Шаумяна, в то время первого
заместителя главного редактора БСЭ, и он, буквально как хороший
фокусник, немедленно вынул из сейфа два сигнальных
экземпляра тома 57, где в первом из них указано авторство
Я. Э. Стэна, а во втором сказано, что авторами статьи
«Философия» являются М. Б. Митин, А. В. Щеглов при участии еще
одного философа. По содержанию же эти два варианта статьи
отличались только тем, что в опубликованном ее варианте
добавлен последний абзац, где клеймятся враги народа и в
качестве примера таковых называется Я. Э. Стэн. В отделе кадров
Академии наук нас познакомили с личным делом М. Б.
Митина, в котором он в списке своих трудов указывает и статью
«Философия» из тома 57 БСЭ. (Описывая эту печальную
историю, я вдруг осознал, что мы ведь после безусловного
установления авторства Я. Э. Стэна вроде бы так и не
опубликовали эту информацию. Позвонил А. П. Огурцову — он
подтвердил это, хотя и назвал минимум два источника, где об этом
говорится. Действительно, в томе V «Философской
энциклопедии» в статье «Стэн Я. Э.» (М., 1970. С. 149) в списке его
сочинений указана и статья «Философия» тома 57 БСЭ со
следующим примечанием: «(статья в основном написана
Я. Стэном)». Аналогичным образом в книге «Философы
России XIX—XX столетий» под редакцией П. В. Алексеева статья
«Философия» включена в список сочинений Я. Э. Стэна — в
данном случае без каких-либо примечаний. В результате
читатель, желающий познакомиться с этой статьей и взявший в
руки том 57 БСЭ, вряд ли что-нибудь сможет понять: ведь
совершенно невозможно представить себе, что статья,
подписанная другими именами, в которой в ее последнем абзаце
Я. Э. Стэн представлен как враг народа, на самом деле
написана им самим. Я надеюсь, что мой рассказ об этой истории
снимает грех с наших душ за то, что в свое время мы не довели
это дело до конца. В интересах читателей важно, однако,
чтобы соответствующие пояснения обязательно присутствовали в
последующих публикациях биографических данных Я. Э.
Стэна.) Познакомились мы там также с еще одним очень
любопытным для истории философии в СССР документом:
собственноручно написанной А. М. Дебориным в 1939 г.
рекомендацией М. Б. Митина в действительные члены АН СССР —
486 В. Н. Садовский
именно на этих выборах М. Б. Митин был избран в
академики. По результатам нашей провеки партийная организация
журнала «Вопросы философии» провела обсуждение персонального
дела М. Б. Митина, и, пожалуй, это был единственный случай,
который мне пришлось наблюдать, когда М. Б. Митин избрал
ошибочную форму поведения: выслушав все наши очень
резкие слова и осуждения, он решил «надавить» на нас, что
привело к тому, что мы в конечном итоге проголосовали за
исключение его из партии. Вышестоящая партийная инстанция,
каковой являлось партийное бюро Института философии,
однако, все это смягчила, и дело было в основном, как
говорится, спущено на тормозах, и — что самое удивительное —
вся эта история не изменила, во всяком случае внешне,
отношение М. Б. Митина ко всем нам, хотя он не мог не осознать,
что после того, что произошло, занимать пост главного
редактора «Вопросов философии» ему осталось недолго.
Расскажу, наконец, еще об одном эпизоде журнальной
жизни 60-х гг., который носит несколько курьезный
характер, а в устах Э. В. Ильенкова превратился в целую легенду.
М. Б. Митин, надо сказать, не докучал нам своими научно-
литературными проблемами: все наши отношения носили
чисто производственный характер, и в их число входили —
хорошо, что очень редко, — просьбы подготовить
соответствующие информационные материалы по сфере нашей работы
для «инстанций» — ЦК партии прежде всего. Такая работа
обычно носила чисто механический характер, склеивались
куски ранее подготовленных материалов, что-то писалось
заново, что-то дописывалось, уточнялось и т. п. — в целом она
не требовала большого труда, но в ней был и определенный
позитивный смысл — освящения «своих» идей (недаром же
в средние века авторы стремились выдать свои идеи за
мысли великих). И вот, думаю, что это было в начале 1963 г.,
М. Б. Митин попросил нас с Г. С. Гургенидзе подготовить
информацию о новейших разработках проблем
диалектического материализма. Сразу же выяснилось, что этот
материал предназначался для программного доклада секретаря ЦК
КПСС Л. Ф. Ильичева, который решил торжественно
отпраздновать десятилетие хрущевской эры широкой
демонстрацией выдающихся достижений общественных наук в нашей
стране. Этот доклад писала вся философская Москва, да и
провинция, наверное, была привлечена. Мы с Геннадием
Сардионовичем написали две—три страницы машинописного
текста в духе, близком к тому, как я несколько ранее описы-
«Вопросы философии» в 60-е гг. 487
вал проблематику диаматовского цикла статей,
опубликованных в журнале в 60-е гг. Совершенно случайно я попал на
это торжественное заседание — В. М. Глушков, лидер
украинских кибернетиков, попросил меня встретиться с ним в
Президиуме Академии наук для того, чтобы снять вопросы по
его статье. Доклад Л. Ф. Ильичева был совершенно
традиционным: никаких «наших» идей я в нем не услышал. Затем
начались прения, которые открыл чуть ли не президент
Академии наук. Дождавшись удобного момента, я покинул «сонм
бессмертных». Вскоре стало известно, что небольшая группа
видных научных сотрудников Института философии прямо в
здании ЦК КПСС срочно готовит труды этого совещания к
публикации, и через пару-тройку месяцев вышла в свет
блестяще изданная книга под названием «Методологические
проблемы общественных наук» (М., 1964). Просматривая
этот выдающийся труд (такие книги никто никогда не читал,
их только просматривали), мы с Г. С. Гургенидзе
обнаружили, что две страницы этой книги — одна в докладе
Л. Ф. Ильичева и другая в выступлении М. Б. Митина —
совпадают с точностью до редактирования. Это и был «наш»
текст. Мы с Г. С. Гургенидзе сделали из этого совершенно
очевидный вывод — доклад и выступления редактировали
разные люди. Э. В. Ильенков же, как настоящий диалектик,
для которого истина всегда конкретна, пришел к твердому
убеждению, что это все козни А. Л. Субботина, и очень
любил об этом рассказывать. Даже после того, как ему
объяснили, как все это произошло, он предпочитал свою версию.
Пользуясь случаем, клятвенно свидетельствую о том, что
Александр Леонидович Субботин к этой истории не имеет
никакого отношения.
Вторым лицом в «Вопросах философии», что вполне
естественно, был заместитель главного редактора, и все время,
пока мы, представители второй волны выпускников
философского факультета, работали в журнале, эту должность занимал
А. С. Ковальчук. Он прекрасно понимал, что в случае каких-
либо серьезных неприятностей с журналом отвечать придется
прежде всего ему, и поэтому с завидным упорством, да еще не
по одному разу, читал все статьи, как говорится, от корки до
корки. К тому же, пройдя после окончания философского
факультета школу работы в партийных журналах, он приобрел
скорее всего обычную для работников такого профиля
способность читать между строк, улавливать ересь и попытки
ревизии или извращения марксистской философии даже там, где
488 В. Н. Садовский
этого не было и в помине, причем каждую прочитанную им
верстку или рукопись он тщательно расписывал, ставя
недоуменные вопросы, высказывая сомнения, а то и просто
категорически не соглашаясь чуть ли не с каждым более или менее
серьезным утверждением автора работы. Кто-то из
философских остряков назвал этот процесс «оковальчукованием», но
нам, работникам аппарата редакции, было не до смеха: в
постоянных дискуссиях с А. С. Ковальчуком кипели страсти,
нередко возникали обиды и т. п. Особенно тяжело было
«пройти» А. С. Ковальчука тем работникам аппарата, которые
готовили статьи по историческому материализму и научному
коммунизму — Г. Н. Волкову, В. С. Маркову, да и у всех нас,
кто занимался диаматовской и историко-философской
тематикой, этот процесс не вызывал никакого удовольствия. И тем
не менее ретроспективно скажу, что все это были, может
быть, проходящие в несколько более повышенной, чем надо,
эмоциональной обстановке, но обычные производственные
разногласия и конфликты, и, уйдя из журнала — а мы почти
все, включая А. С. Ковальчука, перешли на другие места
работы почти одновременно — в 1967—1968 гг., мы не затаили
зла друг против друга.
Почти все время моей работы в журнале и работы моих
коллег по аппарату прошло, когда функции ответственного
секретаря выполняли сначала И. В. Блауберг( 1963—1966 гг.),
а затем Л. И. Греков (с 1966 г.). Оба они — спокойные,
уравновешенные люди, читали все, что было необходимо, на
мелочи не обращали внимания, отмечали лишь что-то
существенное и важное, и мы легко разрешали все возникающие
производственные вопросы. Очень важно, что и И. В. Блауберг, и
Л. И. Греков поддерживали хорошие отношения и с
аппаратом, и с редколлегией, и я не припомню ни одной сложной или
тем более конфликтной ситуации, инициаторами которой они
бы были.
Вот так мы и работали в журнале .«Вопросы философии» в
60-е гг. Были молоды, много смеялись и шутили, с упоением
играли в нарды и шахматы. Присутствовали на первом
театрализованном публичном представлении знаменитой поэмы
Э. Ю. Соловьёва «Журнальная статья», которую автор
недавно наконец-то опубликовал. Посещали Дом журналиста, где
всегда могли, сидя, как говорил Е. Т. Фаддеев, за рюмкой
кофе и чашкой коньяка, встретиться с коллегами из Института
философии, журналов «Коммунист» и «Политическое
самообразование». Удивлялись нашим читателям, которые не-
«Вопросы философии» в 60-е гг. 489
смотря на то, что мы действовали по всем издательским
правилам, то есть читали рукопись, верстку, сверку, вторую
сверку и чистые листы, обнаруживали в опубликованных номерах
(это ведь порядка двадцатипяти—тридцати тысяч
экземпляров), например, такую опечатку в названии известной работы
Ф. Энгельса: «Роль труда в процессе превращения человека в
обезьяну», или того более — поразившую всех до глубины
души опечатку в знаменитом древнегреческом изречении
«Познай самого себя» (кто знает, улыбнется; тому, кто не знает, в
чем она состояла, я объяснить не решаюсь). И так прошел
отведенный нам срок работы в журнале, и к середине 1968 г.
почти никого из нас в редакции не осталось.
Начался новый период жизни журнала — четвертый в его
истории, во главе с И. Т. Фроловым и его заместителем
М. К. Мамардашвили. Так и подмывает сказать, что
«сработал» закон отрицания отрицания — представители первой
волны выпускников философского факультета МГУ, бывшие
во второй половине 50-х гг. сотрудниками аппарата, после
завершения работы в журнале второй такой волны стали
руководителями журнала. Но даже это бесспорное наблюдение не
делает данный закон серьезным и научным.
Этот и последующие периоды истории журнала я, как и мои
прежние коллеги, наблюдал и наблюдаем уже со стороны как
читатели и авторы, и я очень рад, что во «фроловский» период
журнал удалось отстоять, несмотря на яростные попытки всех
функционировавших еще в то время философских монстров,
возглавляемых одним из московских партийных лидеров
В. Н. Ягодкиным, подмять под себя журнал и практически его
уничтожить как профессиональное издание. Слава Богу, не
удалось.
Пятый период истории журнала, когда во главе его стоял
В. С. Семёнов, во многом совпал с глобальным социально-
экономическим застоем СССР, и это не могло не отразиться
на характере журнала. И мы, представители советской, а
теперь уже российской философской и социологической
общественности, с радостью приветствовали наступление шестого
периода истории «Вопросов философии», когда на гребне
перестройки журнал получил новые свежие силы, и то, что он
сейчас, возглавляемый В. А. Лекторским, является
профессиональным философским периодическим изданием, я
считаю, высокого научного уровня.
Об этих трех последних периодах истории «Вопросов
философии» более подробно должны говорить те, кто работал в эти
490 В. Н. Садовский
годы в журнале, и те, кто работает в нем сейчас. Я же,
заканчивая свои заметки, хочу отметить, что, наряду с используемой
мною периодизацией, всю историю журнала «Вопросы
философии» можно разделить на два больших этапа: на первом —
с 1947 г. по 1968 г. — во главе его стояли люди, родившиеся в
первом десятилетии нашего века, на втором — начиная с
1968 г. и по настоящее время — философы, родившиеся в
конце 20-х — начале 30-х гг., то есть люди следующего
поколения. Эта периодизация, конечно, более грубая по
сравнению с той, которую я использовал в своих рассуждениях, но
она, к сожалению для меня и людей моего поколения,
приводит нас к весьма неутешительному, но совершенно
обоснованному прогнозу: пройдет еще максимум пять—семь лет, и
журнал возглавят философы рождения конца 50-х — начала 60-х гг.
Увы! Ничего не поделаешь — произойдет неизбежная смена
поколений.
Э. Ю. Соловьёв
Философский журнализм 60-х:
завоевания, обольщения,
недоделанные дела*
Оглядываясь назад, я не без грусти высчитываю, что
был читателем «Вопросов философии» на
протяжении сорока пяти лет, автором — без малого
сорок, а штатным сотрудником — ровно десятилетие
(1958—1967 гг.). Надеюсь, это дает мне право
потолковать о самой соблазнительной из юбилейных
проблем — о проблеме периодизации.
В пятидесятилетней истории «Вопросов
философии» можно, мне кажется, выделить четыре периода:
1. После достойной прелюдии, исполненной в
первых («кедровских») номерах, наступает десятилетие
идеол ого-догматического раболепства (время чесно-
ковых, Константиновых и каммари). В этом темном
царстве можно, конечно, заметить и какие-то
всполохи, но на поверку они, как правило, оказываются
болотными огнями.
2. Хрущевская «оттепель» настигает журнал с
известным опозданием (в 1957—1959 гг., уже после
того, как она выразительно заявила о себе на
философском факультете МГУ — в дискуссионных
инициативах Э. В. Ильенкова и В. И. Коровикова, А. А.
Зиновьева и Г. П. Щедровицкого, Ю. Ф. Карякина и
Е. Г. Плимака). С этого времени «Вопросы филосо-
* Философия не кончается... Из истории отечественной
философии. XX век. В 2-х кн. / Под ред. В. А. Лекторского. Кн. II. 60-
80-е гг. М., 1998. С. 108-118.
492 Э. Ю. Соловьёв
фии» становятся одним из очагов мировоззренческого
реформизма, утверждают сознание необратимости перемен, начатых
XX съездом, и, что особенно существенно, поддерживают его
после низвержения Хрущева и событий в Чехословакии в 1968 г.
3. С начала 70-х гг. (когда главным редактором был
И. Т. Фролов) журнал ведет упорную, изнурительную борьбу
против ползучей ресталинизации и редогматизации
общественного сознания. Он несет серьезные потери в «живой силе»
(вспомним 1974 г., когда из состава редколлегии были
выведены, я считаю, лучшие ее работники: М. К. Мамардашвили,
Б. А. Грушин, Ю. А. Замошкин) и все-таки выходит
победителем, не только не уступив «шестидесятнических» принципов,
но и отыскивая их новые проблемно-тематические
применения. За десятилетие до перестройки журнал, по сути дела, уже
очерчивает всю совокупность проблем, которые вынудят к ее
осуществлению (научно-техническая и информативная
революция, изменение социальной структуры советского
общества, издержки бюрократизации, экология и связанный с нею
комплекс глобальных цивилизационных задач).
4. Последний период полувековой истории «Вопросов
философии» приходится на время перестройки и
демократических реформ. В 1986—1987 гг. (при главном редакторе
В. С. Семёнове) журнал тяжелой, системно-схоластической
поступью пристраивается в хвост движения «за ускорение,
демократизацию и гласность». Осознание специфических —
неполитических, неконъюнктурных и все-таки глубоко
актуальных — задач, которые выпадают на долю философской
журналистики в пору крушения единой идеологии, достигается
лишь позднее (на мой взгляд, не раньше 1990 г.).
Надеюсь вернуться к этой теме в конце статьи, а сейчас
позволю себе вспомнить время, когда я сам был сотрудником
«Вопросов философии». Речь пойдет о 60-х гг., помеченных
мною как «второй период» в истории журнала. Осмелюсь
утверждать, что это, как выражаются немцы, была фаза
«формообразующая и смыслополагающая».
В 1957 г. журнал перешел с шестиномерного на двенадца-
тиномерной режим. Это позволило расширить и (дыхание
«оттепели»!) решительно омолодить редакцию. В составе нового
«аппарата» оказались такие незаурядные русские мальчики,
как Иван Фролов и Мераб Мамардашвили (об их дальнейшей
судьбе нашему читателю едва ли нужно рассказывать), Игорь
Блауберг (душа новой редакции, один из зачинателей
методологии системного исследования), Николай Лапин (ныне —
Философский журнализм 60-х: завоевания,.. 493
известный социолог, в 1987—1988 гг. — директор Института
философии), Наиль Биккенин (последний главный редактор
журнала «Коммунист», на долю которого — вместе с Отто
Лацисом — выпало в сентябре 1991 г. оповестить мир о
распаде и самоликвидации КПСС).
Я угодил в эту реторту с перестроечными эмбрионами сразу
по окончании университета (был зачислен на место
машинистки, а два года спустя получил должность, приличную для
мужчины с приличным образованием).
В 1960 г. в кресло главного редактора «Вопросов
философии» надолго сел академик М. Б. Митин — бывший
сталинский фаворит, активный проводник партийно-идеологических
чисток середины 30-х гг. Перед нами он предстал как крепко
ушибленный догматик, уже никогда — даже в брежневское
время — не позволявший себе поверить в сладкую грезу о
тотальном возврате к прошлому. В обращении с подчиненными
был рассудительно демократичен, в работе с редколлегией
домогался консенсуса и реалистических компромиссов.
Решающую роль в работе тогдашней, попустительски
молодой, редакции играли представления, сформированные в аспи-
рантско-студенческой среде конца 50-х гг. Все мы, если
говорить коротко, исповедовали понятие философии как строгой
науки, способной противостоять идеологическому
иррационализму и свободной от комплекса неполноценности в
отношении физики, биологии или политической экономии. Тема
коренного различия философии и науки еще не проложила себе
дорогу. Она заявит о себе позже: паллиативно — в 1969 г., в
работах П. В. Копнина, с диссидентской энергией — в 1972—
1975 гг., в лекциях М. К. Мамардашвили, который впервые
заговорит о великой тавтологии: философия есть
философия (а не просто одна из наук, или одна из форм
художнически-артистической игры, или один из видов предельно
секуляризированного теологического размышления об Абсолюте).
Понятие философии как строгой науки, при всей его
наивности (и даже благодаря последней), оказалось эффективным
оружием в идеологической полемике 60-х гг. Редакции
удавалось достаточно успешно обыгрывать двойственный статус
журнала, который, как упоминалось, был и одним из
партийных («правдистских») изданий, и одним из органов Академии
наук. Авторитет партийного издания использовался для
поддержки научной компетентности публикаций; авторитет
академического — для внедрения элементов научного дискурса в
партийно-идеологический язык.
494 Э. Ю. Соловьёв
Выразительной приметой тогдашнего понимания
философии как строгой науки был культ марксова «Капитала».
Решающую роль для его утверждения сыграла книга Э. В.
Ильенкова «Диалектика абстрактного и конкретного в
"Капитале" Маркса» (1960). Все молодое поколение — иногда с
глубокой верой, иногда в порядке нового методологического
конформизма — возлагало жертвы на этот алтарь. «Капитал»
воспринимался как научно-философский (философско-эконо-
мический) шедевр и эталон. Он внушал мечту о современной
социально-политической программе, обоснованной так же
глобально и систематически, как проект коммунистической
эмансипации обосновывался в четырех марксовых томах. Этот
идеал был совершенно убийствен для любых реально
возможных партийных программ и разъедал марксистско-ленинское
правоверие, подобно кислоте. Не припомню ни одного
сотрудника тогдашней редакции, который не сознавал бы теоретико-
методологического измельчания марксизма после Маркса и
позорного убожества господствующей социальной
философии. Утешение искали в марксоидности («капиталоподобии»)
несоциальных научных теорий.
Редакция приложила много усилий, чтобы на языке наново
обдумываемой гносеологии представить и разъяснить
читателю философски значимые достижения конкретных наук.
С признательностью и восхищением вспоминаю в этой
связи почти тридцатилетнее подвижничество Г. С. Гургенидзе.
Геннадий Сардионович был прозелитом Л. С. Выготского и
ценил его философски ориентированную психологию выше
всего, что было сделано в советское время в самой
философии, включая работы Э. В. Ильенкова и катакомбное
творчество М. М. Бахтина и А. Ф. Лосева (знаменательно, что
сегодня этот взгляд на вещи утверждается на Западе, например, в
некоторых университетах Швейцарии). Из проблемного
горизонта Выготского Г. С. Гургенидзе сумел ясно увидеть
философский потенциал послевоенной отечественной психологии:
не только А. Н. Леонтьева и С. Л. Рубинштейна, которые
были прямыми преемниками Выготского, но и П. Я.
Гальперина, В.В.Давыдова, В. П. Зинченко, Я.Н.Пономарёва, а
также оригинальной физиологической концепции Н. А. Берн-
штейна. Соответствующий комплекс публикаций,
взлелеянных и отвоеванных Г. С. Гургенидзе, по праву может быть
причислен к «золотому фонду» «Вопросов философии»: они
по сей день интересны и эвристически значимы. По сути дела,
это была полноценная теория сознания, вмонтированная в
Философский журнализм 60-х: завоевания,.. 495
проблематику психического, и философски осмысленная
психология активности. Последнюю, мне кажется, следует
отличать от романтической философской идеологии активности,
которую с увлечением проповедовал молодой Г. С. Батищев и
которая к середине 70-х гг. выродилась в расхожую
сентиментально-коммунистическую риторику.
Без всякого стыда за прошлое читаются сегодня и многие
статьи 60-х гг., выходившие под рубрикой «философские вопросы
естествознания». Журнал (здесь надо поименно вспомнить
И. Т. Фролова, Ю. В. Сачкова, И. Б. Новика, Ю. Б.
Молчанова) терпеливо боролся за философское признание теории
относительности и квантовой механики, а в деле реабилитации
генетики постоянно опережал соответствующие публичные
дискуссии. Удивительным научно-публицистическим
событием были статьи М. А. Маркова, демонстрировавшие, что
такое «сумасшедшие идеи в физике» (словосочетание, которое в
ту пору впервые было легализовано). Марков предвосхищал
парадоксал истеки- катастрофическую парадигматику
сегодняшней науки. Это было естествознание, от которого веяло
«свободой продуктивного воображения» (в смысле Канта) и
исследовательской свободой.
Вообще надо заметить, что в шестидесятнической практике
журнала выражение «союз философии и естествознания»
совершенно изменило свой смысл. Во времена Ленина —
Сталина оно подразумевало философско-идеологический контроль
над наукой, в описываемый же период — неумолимо работало
на подчинение самой философии растущему (общественному и
государственному) престижу естественных наук. Публикации
«Вопросов» наносили чувствительные удары по апломбу еще
господствовавшего (кафедрального, ленинско-сталинского)
диамата и внушали его представителям робость «лириков» в
отношении «физиков».
Но что самое существенное, укрепление «союза философии
и естествознания» припирало к признанию
интернационального (более того — космополитического) характера любой
научной достоверности. Неудивительно, что и существование
мирового философского сообщества впервые стало
ощущаться в связи с проблемой «нашего отношения к философски
влиятельным ученым-естественникам».
Летом 1961 г. состоялось памятное обсуждение статьи Нор-
берта Винера «Ученый и общество». Это был первый со дня
основания журнала немарксистский текст из-за рубежа.
Вопрос о возможности его публикации исследовался редколлеги-
496 Э. Ю. Соловьёв
ей на протяжении двух дней. Ю. К. Мельвиль и М. К. Мамар-
дашвили выстроили аргументы в пользу незамедлительного
издания десятистраничного эссе, вышедшего из-под пера «отца
кибернетики». Тему вертели так и этак и, наконец, снесли
одним ударом: «А кто может поручиться, что статейка эта не
заслана нам Пентагоном?!» (Б. С. Украинцев). Тут бы, пожалуй,
все и кончилось, если бы не талейрановская находчивость
тридцатилетнего И. Т. Фролова. В моей дневниковой записи его
выступление звучит так: «Мы были свидетелями острого спора.
У противника статьи понятные мотивы и доводы. Но как
пересказать их самому Норберту Винеру? Думаю, выход тут один.
С честностью ученых, с принципиальностью коммунистов мы
должны предоставить проф. Винеру полную стенограмму
нынешнего обсуждения, без каких-либо изъятий. Надеюсь, он сам
сумеет оценить весомость наших "за" и "против"».
Деваться было некуда: в положенный срок статья увидела
свет. Именно эта публикация положила начало
расширяющимся контактам журнала с инославными зарубежными
учеными и философами. В 1964 г. редколлегия приняла А. Дж. Айе-
ра, в конце шестидесятых в журнале побывали Ж. Пиаже и
Ж.-П. Сартр.
Итак, можно с большой степенью уверенности утверждать,
что credo редакции в 60-е гг. определялось одной из основных
оппозиций критического рационализма, — оппозицией науки и
идеологии. Философия, ориентированная на методологическую
структуру новейших и современных научных теорий, все
увереннее противопоставляла себя догматическому, идеолого-мифиче-
скому мышлению, ссылающемуся на привилегированную
социально-историческую практику («пролетарскую»,
«революционную», «большевистскую») и на науку вчерашнего дня. Это
обеспечивало достаточно независимую ориентацию в
противоречивом, принудительно монистическом наследии марксизма,
позволяло расширять круг научно-компетентных авторов,
прорубать новые окна в Европу и все более авторитетно
воздействовать на перестройку вузовского философского образования.
Бросается в глаза гордое равнодушие, даже презрение, с каким
журнал уже с начала 60-х гг. относился к «кафедральному
конформизму» — к решениям разного рода союзных,
республиканских и межвузовских совещаний по проблемам преподавания
диамата и истмата, где еще долго доминировали явные и тайные
поклонники четвертой главы «Краткого курса истории ВКП(б)».
Вместе с тем сегодня едва ли нужно объяснять, что
оппозиция «наука — идеология» достоверна и критически эффек-
Философский журнализм 60-х: завоевания,.. 497
тивна лишь в определенных границах. Вера в науку сама
может приобретать характер идеологии, застывая в стандартных
предрассудках и догматах. Таково явление, известное под
именем сциентизма (понятие-порицание, которое в нашей
литературе войдет в оборот с начала 70-х гг. и зафиксирует
сомнение и разочарование в умственном складе предшествующего
десятилетия).
Журнальная философская продукция 60-х гг. отмечена
печатью сциентистской ограниченности, самоуверенности и
слепоты. О них свидетельствует прежде всего гуманитарная
бедность публикаций. В период, когда художественная литература
была главной духовной пищей интеллигенции, «Вопросы
философии» не опубликовали ни одной статьи, которая
принадлежала бы к жанру философски ориентированной
литературной критики. Отдел эстетики был попросту косным; он не
столько участвовал в тогдашней, достаточно острой, полемике
«о природе эстетического», сколько отбояривался от нее
(иногда — с помощью казенных инвектив). Статьи по этике
лишь в редких случаях возвышались над уровнем
просветительского резонерства. Тема личности ютилась где-то на
обочине истматовской проблематики. У редакции как бы начисто
отсутствовал слух к замечательным начинаниям
отечественной семиотики (знаменательно, что ни в 60-х, ни в 70—80-х гг.
в «Вопросах философии» не появилось ни одной работы
Ю. М. Лотмана; не жаловались вниманием и другие
инициативные участники знаменитого тартуского «Контекста»).
Персоналистская тема утверждала себя косвенно и окольно:
через исследования, подготовлявшиеся отделом современной
зарубежной философии. Важную роль сыграли здесь
публикации Ю. А. Замошкина, в которых на материале американской
социальной критики была ярко и многопланово обрисована
оппозиция индивидуализма и конформизма. Внушительный
проблемный вызов исходил и от статей тогда совсем еще молодых
П. Гайденко, Б. Григорьяна, О. Дробницкого, Т.Кузьминой,
Н. Мотрошиловой, Г. Тавризян, посвященных критическому
анализу новейшей философской антропологии, феноменологии
и экзистенциализма. Критика в этом критическом анализе
могла быть совершенно условной («подцензурно податной», как
выразился однажды Н. В. Новиков), могла быть достаточно
искренней и оригинальной. Однако в обоих случаях она не
заслоняла от читателя основного усилия всех только что названных
авторов — их работы по разъяснению проблемных и
категориальных новаций западной философии XX в. Именно в литерату-
498 Э. Ю. Соловьёв
ре, оппонирующей новейшей философской антропологии,
феноменологии и экзистенциализму, тема личности впервые
получила свои собственные философские очертания; стала
трактоваться в категориях онтологии субъективности (таких,
как самобытие, экзистенция, идентичность, индивидуальный
«жизненный мир»). Это было важное завоевание, но его, увы,
оказалось далеко недостаточно, чтобы сомкнуть философское
понимание личности с новым переживанием ответственности,
выбора, призвания и судьбы, которое начала выражать проза
В.Дудинцева и Ю.Трифонова, В.Быкова и В.Астафьева,
А. Солженицына и В. Шаламова. Язык нашего
нарождающегося персонализма так и остался переводным языком.
Неудивительно, что по силе духовно-экзистенциального и
граждански-публицистического влияния «Вопросы философии»
60-х гг. позорно отставали не только от «Нового мира» (тут и
говорить не о чем), но и от «Вопросов литературы», и даже от
таких изданий, как «Знание — сила» и «Наука и жизнь»,
вступавших в ту пору в стадию публицистического расцвета.
Не могу не вспомнить и еще об одном изъяне «шестидесят-
нической» философии, наглядно представленном в облике
нашего журнала.
Сегодня бытует мнение, будто на протяжении всего
послевоенного периода российские философы добивались
чего-либо достойного лишь в той мере, в какой им удавалось укрыться
в нишу историко-философских штудий. Это плохо
продуманная легенда. В действительности историко-философский
эскапизм дает о себе знать не ранее середины 70-х гг. В 50-х —
начале 60-х он так же невозможен, как в 90-х ненужен.
После жандармского выступления Жданова на дискуссии по
книге Г. Ф. Александрова «История западноевропейской
философии» (1947) историко-философское исследование
сделалось едва ли не самым регламентированным, подозрительным
и опасным из профессиональных философских занятий. До
середины 50-х гг. подготовка кадров в этой области оставалась
не просто убогой, но калечащей. В 60-е стал ощущаться
дефицит соответствующих специалистов. Стимулирование истории
философии было уже возможно, но требовало особых (все
еще рискованных) усилий. Надо честно признать, что журнал
их не проявил: он, что называется, держался на подножном
корму, «адекватно отражая» скудость и выморочность пред-
найденных историко-философских интересов. Оживление
исследований по истории философии в конце 60-х
провоцировалось не нашей редакцией, а редакцией «Философской энцик-
Философский журнализм 60-х: завоевания,.. 499
лопедии» (А. Г. Спиркин, 3. А. Каменский, Ю. Н. Попов,
Р. А. Гальцева). Именно здесь подбирались (больше того:
формировались и пестовались) авторы, компетентные в такой,
прежде немыслимой, тематике, как позднеантичная и
средневековая европейская философия, русская религиозная
философия, западноевропейский идеализм после Гегеля.
Высокомерно-снисходительное отношение редакции к
историко-философскому исследованию дает о себе знать вплоть до
середины 80-х гг. И, конечно, это уже не рудимент страхов,
когда-то внушенных Ждановым. Это выражение самого
сциентистского образа мысли, утверждавшегося в противовес
ждановщине, — следствие того, что эволюция философских
идей стала уподобляться эволюции научных теорий. Когда
история философии подводится под модели кумулятивного
процесса, апломб «новейшего» и «современного» по отношению
к прошлому («классическому», «традиционному»,
«древнему») становится почти неизбежным. Сциентистские
установки — проклятие, довлевшее над журналом многие годы (их
последнее, самое помпезное и вместе с тем самое жалкое
выражение — культ «системно-комплексных исследований»,
насаждавшийся журналом накануне перестройки).
Освобождение от сциентизма я склонен трактовать в
качестве наиболее существенной заслуги «Вопросов философии»,
как они определились при нынешней редколлегии, благодаря
усилиям В. А. Лекторского, В. И. Мудрагея, Б. И. Пружини-
на, а также (грех было бы не вспомнить его сегодня)
А. А. Яковлева, властно использовавшего полномочия
ответственного секретаря в 1988—1991 гг.
При редакторстве В. А. Лекторского журнал впервые за
пятидесятилетнюю историю увидел своего хозяина в
имманентном запросе современного философствования. Он
обслуживает этот запрос, не утруждая себя ни разгадками возможного
«социально-идеологического заказа», ни поисками формул
методологического конформизма, который отвечал бы
притязаниям наиболее преуспевающего комплекса конкретных
наук. Он держит руку на пульсе времени, но при этом в равной
степени равнодушен как к подковерной борьбе, которая идет в
верхнем эшелоне коррумпированной политической власти, так
и к научно-организационным («системно-комплексным»)
комбинациям, которые складываются в финансово
ущемленной Российской академии наук.
В работе «Вопросов философии», конечно же, есть немало
недостатков. В год юбилея я позволю себе сказать лишь об од-
500 Э. Ю. Соловьёв
ном из них, сразу оговорившись, что ставлю его в вину не
столько редакции журнала, сколько
«авторам-шестидесятникам» и «авторам-семидесятникам».
С поста господствующей идеологии марксизм в России
ушел нераскритикованным. Его едва успели освистать
вдогонку. Коммунистическая утопия лишилась доверия, но категории
и объяснительные схемы исторического материализма по-
прежнему владеют умами. Понаблюдайте за понятием
«идеология», проследите, какой кондовый, ленинско-сталинский
смысл сохраняется за ним даже в эталонно-демократических
текстах. По-прежнему толкуют о «научной идеологии», об
«идеологической работе», об «идеологическом вооружении»
правового государства. По-прежнему религию называют
идеологией (ту самую религию, в храме которой уже
выстаивают Пасху со свечами). По-прежнему дают заказы «на
разработку» передовой идеологии, способной одушевить — нет,
не авангардные классы, — всех тоскующих россиян.
Перечитывая статьи 60—70-х гг., я вижу, какие
продуманные экспозиции систематической критики марксизма
вызревали в них подцензурно. Куда они канули после 1991 г.? Не
сточились ли, как бритва от слишком долгой правки? Не
стушевались ли перед остервенением народа, линчующего
памятники? Я вспоминаю многих коллег, которые пережили
совершенно уникальный по драматизму и поучительности опыт
обольщения марксизмом и последующего (фундаментального,
на все ключевые понятия распространяющегося)
разочарования в марксизме. Экспликацию этого опыта я отнес бы к
самым значительным логико-философским задачам, сравнимым
с той, которую взял на себя К. Поппер, приступив в 1941 г. к
работе над книгой «Открытое общество и его враги». Могут
ли «Вопросы философии» хоть чем-то содействовать ее
выполнению?
О марксизме надо писать больше; с ним надо разбираться
регулярно и попроблемно. Систематическая критика
марксизма, провоцируемая идеалом философии как строгой науки,
выполняемая с осмотрительностью и тщательностью
подцензурной литературы, свободная от сциентистского апломба, от
аргументов ad hominem и соблазнов диссидентского
пасквилянтского озорства, терпимая к попыткам реформистской
(например, социал-демократической) интерпретации, — таково
недоделанное дело «философов-шестидесятников». Впрочем,
это бремя еще придется принять на себя и новым поколениям,
вступающим на поприще философского журнализма.
Л. Н. Митрохин
«Докладная записка»—74*
О 1 декабря 1957 г. зам. директора Института
философии АН СССР А. Ф. Окулов сообщил мне о
зачислении на должность младшего научного сотрудника.
В следующем году «Вопросы философии»
напечатали мою первую статью, за которой последовали
другие. С тех пор я не раз покидал институт, много
публиковался в других журналах и издательствах, но
институт и «Вопросы» навсегда остались для меня
философским Домом, некой осью, вокруг которой
выстраивалась моя затейливая судьба. Поэтому
пятидесятилетие журнала я воспринимаю не просто как
одну из юбилейных дат — пусть торжественную и
почетную, — а как тревожное и радостное событие
собственной жизни, как ее экзистенциальный рубеж.
В памяти сразу же возникают забытые эпизоды и
сцены, крупным планом наплывают улыбки и
гримасы, звучат голоса и друзей, и бесчисленных
наставников; через плечо они заглядывают в текст и никак
не могут договориться между собой. Среди них я
вижу и себя — еще вчера примерного столичного
школьника, театрального мальчика, завороженного
Ростаном и Пришвиным, токкатой Ре-минор Баха и
операми Вагнера, а теперь втянутого в суровый и
* Философия не кончается... Из истории отечественной
философии. XX век. В 2-х кн. / Под ред. В. А. Лекторского. Кн. II.
60-80-е гг. М., 1998. С. 119-151.
502 Л. Н. Митрохин
мстительный мир казенной мудрости. Так уж получилось, что
мне довольно рано довелось стать свидетелем и
непосредственным участником многих событий, которые определяли
состояние отечественной философии, и на ум приходит немало
эпизодов, порой забавных, порой зловещих. Но сейчас у
меня одна забота — постараться ввести читателя в
эзотерику одного документа, копия которого каким-то чудом
сохранилась у меня. Это — «Докладная записка. Об обсуждении
журнала «Вопросы философии» в Академии общественных
наук при ЦК КПСС», состоявшемся 17—18 июня 1974 г. На
первый взгляд она выглядит как рядовой документ: в ту пору
читательские конференции были делом обычным. В
номенклатурной АОН, однако, тон задавали особые читатели, да и
само обсуждение было подготовлено и проведено как
ответственное идеологическое мероприятие. Так что «Записка»
(текст ее публикуется ниже) — свидетельство мрачное, в
концентрированной форме запечатлевшее серьезный сдвиг в
философской атмосфере тех лет.
/
Едва ли стоит напоминать, что в советском обществе
официальная идеология конструировалась сверху и определялась
партийными директивами: решениями съездов, пленумов,
постановлениями ЦК КПСС, установочными материалами в
«Правде» и «Коммунисте». В истории нашего журнала я бы
выделил три поворотных момента: погромное выступление
А. А. Жданова при обсуждении книги академика Г. Ф.
Александрова и учреждение журнала «Вопросы философии» (1947 г.);
назначение И. Т. Фролова вместо академика М. Б. Митина
главным редактором журнала (1968 г.); и, наконец, разгон
прежней редколлегии (1974 г.) и установление режима, в
котором «Вопросы философии» были обречены существовать до
«перестроечной» ломки. Основным сигналом к последней
реорганизации и послужили обсуждение в АОН и «Докладная
записка», с которой меня познакомили в ЦК КПСС, сообщив,
что она направляется вице-президенту АН СССР, академику
П. Н. Федосееву. Я знал, что П. Н. Федосеев в трудные
минуты неоднократно поддерживал наш журнал. Поэтому,
изумленный тенденциозным и злобным характером этого
документа (вместе с тем понимая его особый вес), я решил по горячим
следам сообщить Федосееву свои критические замечания. Со-
«Докладная записка»—74 503
хранившаяся копия помогает мне достовернее восстановить
нервную атмосферу этого обсуждения.
При знакомстве с «Запиской» нужно непременно
учитывать особый статус и специфическую стилистику подобного
текста. Тенденция к сакрализации политической верхушки,
характерная для любого тоталитарного строя, в полной мере
распространялась и на язык руководящих указаний. Они
представляли собой шифровки, священнические предписания,
письмена господа Бога, в которых все было на месте — даже
повторы и косноязычие. Это была смесь декламаций
(вспомним «клятву Сталина» или бериевское «кто не слеп, тот
видит...»), пословиц и поговорок, безграмотных «крылатых
выражений» («страны народной демократии», «развитой
социализм»), слов-отмычек, свидетельствующих о причастности к
номенклатурной стилистике («на перспективу», «есть
мнение», «канализировать»). То был приблатненный жаргон, в
котором каждая мелочь демонстрировала не просто языковую
верноподданность, но готовность воспринимать мир в
категориях и императивах начальственного сознания. Самое же
любопытное было в том, что подданные, люди «кадровые», с
полуслова понимали этот узаконенный воляпюк, безошибочно
вычитывали из него однозначные указания, кого осудить и
сместить с должности, что запретить, а кого, напротив,
приласкать и выдвинуть. При этом, как в любой сакральной
системе, различные знаки обретали смысл лишь внутри нее
самой, и их, так сказать, операциональное значение
определялось не общепринятым смыслом, а тем, который они обрели в
последних высказываниях верховного жреца. Я знаю немало
случаев, когда из-за нетрадиционной характеристики,
косвенного намека и даже пропуска имени в официальном списке
того или иного идеологического деятеля на всякий случай
«задвигали».
Нет нужды дальше вдаваться в тонкости партийной
экзегетики — это вещи более или менее известные. Я упоминаю о
них лишь для того, чтобы предупредить: «Записка» — это не
беспристрастный отчет, не просто фиксация свершившегося
события, а призыв к действию, если хотите, боевая программа
устранения тех идеологических безобразий, которые
обнаружили бдительные организаторы обсуждения. Любопытный
момент: внешне документ ничего не требует и не
предписывает — он лишь информирует от имени общественности о
вывихах и ненормальностях, он как бы угадывает и подтверждает
встречное настроение «сверху», а уж принимать решения, пе-
504 Л. Н. Митрохин
реводить большевистскую озабоченность на деловой язык от-
дела кадров — это прерогатива «инстанций», которым, как
всегда, виднее. Дятлы и дровосеки — разные персонажи в
сказках для взрослых.
Эти предварительные замечания, надеюсь, помогут
настроить читателя на почтительное отношение к стереотипным
фразам «Записки» и уловить их мрачные обертоны. Но
чтобы оценить ее полностью, нужно бросить хотя бы беглый
взгляд на философскую ситуацию в 60-е гг. Предварительно,
однако, нужно сделать серьезную оговорку. Я постараюсь
описать реальную обстановку, которая складывалась в
результате деятельности конкретных людей, а поэтому придется
упоминать некоторые имена, суждения, позиции. Но я никак
не претендую на общую оценку отдельных персонажей моего
повествования, их высказывания и поступки интересуют
меня лишь как неотъемлемые элементы, из которых
сплеталась обстановка, запечатленная, в «Записке». Заниматься
морализированием, рассуждать о Добре и Зле — не мое
амплуа, тем более, я давно нахожусь под впечатлением
максимы мудрого Рейнхольда Нибура: в истории сталкиваются не
праведники с грешниками, а грешники с еще большими
грешниками. Впрочем, и в этом случае дистанция получается
изрядная.
Сегодня невозможно представить себе, в какое смятение
были подвергнуты официальные умы «тайной» речью
Н. С. Хрущева на XX съезде КПСС. Дело не только в том,
что он поведал о чем-то ранее неизвестном. Многие давно
догадывались о «белых пятнах» нашей истории,
проступающих только цветом кровавым: семьи, в которых родные и
близкие миновали ГУЛАГ, можно пересчитать по пальцам.
Дело в жанре — большевистский вождь обличает злодеяния
руководства партии, в которые он сам вложил заметную
лепту. По этому поводу мне вспоминается образ, как-то
предложенный А. А. Зиновьевым: римский папэ собирает
кардиналов и торжественно объявляет: «Бога нет!» К тому же
создавалось впечатление, что велеречивый оратор не избежал
искушения мстительно поплясать на могилке полубога,
которого он продолжал смертельно бояться. Как бы то ни было,
возникла робкая вера в торжество и безопасность
либеральных идей и намерений. Вскоре, однако, посыпались грозные
разъяснения. В частности, насчет того, что развенчание
«культа личности» вовсе не отменяет высочайшего
авторитета самого развенчателя.
«Докладная записка»—74 505
Подоспела и программа спешного построения российского
коммунизма, еще более усилившая духовную сумятицу.
Правда, кремлевские мыслители не догадались заново открыть
закон об обострении классовой борьбы по мере продвижения «к
светлому будущему», но, похоже, именно им они
руководствовались на практике. В свое время одной из первых жертв
массовых репрессий стали церковь и духовенство. А поэтому в
«оттепель» люди религиозные могли надеяться на ослабление
тисков конвойного безбожия. Вышло же наоборот.
Сообразив, что с церковью и религией они в коммунизм не попадут,
партократы развернули кампанию по изживанию «опиума
народа», по размаху и цинизму сопоставимую с
преследованиями довоенных сталинских лет. Кстати, говоря о
свободомыслии, обычно вспоминают светское диссидентство. Между
тем масштабнее и упорнее (а по времени — и раньше)
вольнодумие проявлялось в деятельности нерегистрируемых
религиозных объединений (ИПЦ, ИПХ, пятидесятников, бапти-
стов-инициативников, Свидетелей Иеговы,
адвентистов-реформистов и др.), преследования которых резко ужесточились
в 60-е гг. Счет шел тогда на тысячи узников совести.
А дальше все было предсказуемо. Если на первый план
выдвинута задача идеологического обеспечения построения
бесклассового общества (вспомним «моральный кодекс
строителя коммунизма», «новые» обряды и праздники,
особые идеологические комиссии в партийных структурах
и т. п.), то рано или поздно руки должны были дойти и до
философии, «теории мировоззрения», как ее тогда любили
аттестовать, тем более, что у «инстанций» она давно
вызывала нешуточное подозрение.
В 50-е гг. основным рассадником «ересей» оставался
философский факультет МГУ, на котором я учился (включая
аспирантуру) с 1948 г. по 1956 г. Конечно, это самостоятельная
тема, а потому ограничусь лишь одним эпизодом.
В это время группа молодых философов (А. А. Зиновьев,
Э. В. Ильенков, Б. А. Грушин, М. К. Мамардашвили)
предложила и разработала особую концепцию диалектики и логики.
Они ссылались на известное замечание В. И. Ленина: «Если
Маркс не оставил «Логики» (с большой буквы), то он оставил
логику «Капитала», и это следовало бы сугубо использовать
по данному вопросу». Метод исследования Маркса,
показывали они, вовсе не сводится к «четырем чертам диалектики».
Это — сложнейший набор операций: выделение ключевых
понятий, процедуры упрощения и экстраполяции, восхожде-
506 Л. Н. Митрохин
ния от абстрактного к конкретному, нетривиальные
взаимоотношения исторического и логического, мысленный
эксперимент и т. д. Начинание нашло широкий отклик у студентов, с
1954 г. на философском факультете МГУ активно работал
спецсеминар Э. В. Ильенкова (В. А. Лекторский, Г. С. Бати-
щев, Л. К. Науменко, В. М. Межуев и др.), возникла целая
«ильенковская школа», нашедшая последователей во многих
университетах на периферии.
Создавался опасный прецедент. Последовательное
развитие нового подхода означало, что ведущие специалисты по
диалектике сразу же оказывались не у дел, а их пространные и
торжественные комментарии к «краткому» сталинскому
варианту диалектического метода выглядели как дилетантские и
даже комичные. Это они сообразили сразу и развязали
подлинную охоту на ведьм. Непрерывно устраивались
обличительные обсуждения, сторонники новой «диалектической
логики» быстро попали в категорию неблагонадежных. Это был
заметный, но далеко не единственный эпизод в жизни
факультета. Постоянно кого-то громили, выводили на чистую воду,
тащили на дыбу. Здесь обличали «гносеологов», там —
«безродных космополитов», разгорались нешуточные, а для
молодых специалистов и просто опасные страсти вокруг оценки
взглядов Радищева, Герцена, Гейзенберга, Винера. И именно
в этих публичных и подковерных схватках формировалось
поколение молодых специалистов, усилиями которых достигался
все больший профессионализм и компетентность
отечественной философской мысли.
Красноречив такой факт. Осенью 1974 г. в Москве
состоялся X Международный гегелевский конгресс. Среди докладчиков
был французский марксист Луи Альтуссер, имя которого тогда
гремело во всем мире. В 1965 г. он опубликовал книги «За
Маркса» и «Читать "Капитал"», в которых вместе с группой
своих учеников изложил нетривиальное понимание марксизма,
в том числе результаты анализа понятийного строя
«Капитала». Как-то во время нашей встречи М. К. Мамардашвили
подробно рассказал ему о дискуссиях на факультете в 50-е гг. Надо
было видеть изумление знаменитого философа. Получалось,
что французские ученые фактически повторили то, что десять
лет назад уже было проделано молодыми философами МГУ, на
мой взгляд, в более универсальной и строгой форме.
Одним словом, в начале 60-х гг. «снизу» нарастало
давление на косные, ритуальные формы официального
философствования. Оно охватило все разделы философского знания, но
«Докладная записка»—74 507
шансы на успех в каждом из них были разные. Разумеется,
никакие серьезные содержательные новации не могли
совершиться на «Осударевой дороге» — в диамате, истмате и
научном коммунизме.
Здесь поперек, бревнами (как однажды громогласно
выразился Б. А. Грушин) лежали твердокаменные корифеи.
Поэтому непоседливые вольнодумцы (а в этой роли все чаще
выступали сотрудники института) прорывались путями окольными,
огородами, порой чужими.
Скажем, дисциплина, известная под названием «научный
коммунизм», таковой на деле не являлась. Это была
схоластически тематизированная система начальственных
представлений о путях «построения» нового общества и требований,
которым граждане при этом должны были удовлетворять.
А разного рода «достигнутые показатели», факты, цифры
приводились лишь в том виде, в котором они могли подтвердить и
конкретизировать декларируемую псевдореальность. Какой
бы то ни было модернизации вся эта конструкция, разумеется,
не поддавалась. Поэтому добросовестное социальное знание,
а тем более достоверные исследования советского общества
могли возникнуть лишь в обход уже существующих
официальных доктрин, а следовательно, по самому определению
оказывались диссидентскими, социально-неблагонадежными. В ту
пору обеспечить профессиональный уровень обществоведения
можно было только одним путем, а именно созданием
социологии как самостоятельной научной дисциплины со своим
понятийным аппаратом и методами конкретных исследований.
Ее первые шаги в Институте философии были связаны с
созданием сектора труда и быта во главе с Г. В. Осиповым.
Я помню, как яростно сопротивлялись «истматчики» любым
нововведениям, ограничивающим их монопольное право
формулировать главные закономерности, по которым якобы уже
развивается советское общество. Особо напряженными эти
споры и разборки стали после создания Института
социологии. Их отзвуки ясно ощущаются в «Записке», в которой
добрая половина названных отступников представляют
общественные науки, и по их адресу (прежде всего Ю. А. Левады и
Б. А. Грушина) высказаны наиболее злобные оценки.
По-другому складывалось положение с изучением
(«критикой») современной западной («буржуазной») философии.
Бдительные корифеи языков не знали, и все иноземное
любомудрие расценивали как проявление «маразма и мракобесия».
Таков был императив партийного подхода, и авторам предпи-
508 Л. Н. Митрохин
сывалось лишь разоблачать невежественных и заблудившихся
расселов и хайдеггеров. Однако постепенно советские
представители все чаще участвовали в зарубежных конгрессах и
симпозиумах, и, хотя их выступления носили, скорее,
церемониальный характер и были нацелены на то, чтобы «дать
отпор», они предполагали какое-то знание иностранных доктрин
и имен. Росло число молодых способных аспирантов, всерьез
занимающихся исследованием современной западной мысли,
где они были относительно свободны в своих интерпретациях
и могли отделываться формальными критическими
оговорками. Стали появляться вполне приличные работы (прежде
всего, по неопозитивизму и экзистенциализму), которые
постепенно отвоевывали какие-то островки здравой критической
мысли, какие-то лакуны, которые могли заполняться
профессиональными соображениями.
Все эти подспудные бурления и сдвиги (а я упоминаю
лишь некоторые, мне наиболее знакомые) сказывались и на
позиции дирекции института. Символом особой
идеологической бдительности у нас была Е. Д. Модржинская,
заведовавшая сектором критики современной буржуазной
философии. В прошлом кадровая кэгэбэшница, она
специализировалась на критике антикоммунизма и космополитизма,
неутомимо выискивала и разоблачала идейные шатания.
В секторе росла оппозиция, желание заниматься западной
философией всерьез, и в 1968 г. директор института
академик Ф. В. Константинов на место Е. Д. Модржинской
назначил меня. Вскоре (а может быть, немного ранее) сектором
диалектического материализма стал заведовать В. А.
Лекторский, исторического материализма — В. Ж. Келле,
истории западной философии — Т. И. Ойзерман. Эти сектора
(во всяком случае, при П. В. Копнине) считались
основными, между ними сложились деловые дружеские отношения,
которые еще более укрепились, когда все мы стали
членами редколлегии, заведующими соответствующими
отделами «Вопросов философии».
Я не зря рассказываю о делах в институте: в те годы он и
журнал были тесно связаны. Однако они были «нераздельны,
но неслиянны». Напомню, что и директор, и главный редактор
утверждались Секретариатом ЦК КПСС, и только редактор
решал, что печатать, а что нет. Редколлегия же существовала
как орган совещательный. И, конечно, политика журнала,
подбор авторов в значительной мере определяли тогдашнюю
философскую атмосферу.
«Докладная записка»—74 509
2
В одном из своих интервью М. К. Мамардашвили заметил:
«А вот редколлегия, в которую вошел и я, и которая стала
анахронизмом в день своего появления, — это 1968 г. Создание ее
задумывалось как целая операция, поскольку вначале нужно
было снять предшествующего главного редактора».
Редактором тогда был самый народный академик М. Б. Митин. О
существовании какой-то продуманной операции на этот счет мне,
правда, ничего не было известно. Но в конце 1966 г. я был
избран секретарем партбюро института и к делу академика имел
прямое отношение. Поэтому скажу о нем несколько слов.
Все началось с того, что в начале 1967 г. в партбюро
обратилась седая изможденная женщина, жена Яна Стэна, с
просьбой возбудить персональное дело М. Б. Митина,
состоящего на партийном учете в нашей организации. Суть дела
заключалась в следующем. По заказу редакции БСЭ Ян Стэн
написал одну из ключевых статей «Философия», которая была
принята и набрана. Однако накануне выхода тома Стэн был
арестован и вскоре расстрелян. Статья же вышла в
первоначальном виде с двумя мелкими поправками. Во-первых, в
качестве авторов фигурировали М. Б. Митин и А. В. Щеглов.
Во-вторых, в нее был включен абзац, гневно клеймящий
группу философов, недавно разоблаченных как враги народа, в
числе которых был упомянут и Ян Стэн. Вдова также
рассказала, что она сама долгие годы провела в ссылке и все ее
попытки добиться политической реабилитации мужа ни к чему
не привели.
В свое время я похоронил отца, генерала, в лагере под
Рыбинском и просто отмахнуться от такого заявления никак не мог.
В то же время я ясно понимал, что речь идет о многолетнем
члене ЦК КПСС и депутате Верховного Совета СССР, о главном
бриллианте в короне, носящей название «сталинская
философия», а быстрое подмерзание хрущевской слякоти ощущалось
повсеместно. В конце концов я решил попробовать
компромиссный вариант: предложить академику предпринять некоторые
меры, с тем чтобы восстановить доброе имя оклеветанного им
видного философа. Скажем, напечатать в журнале чьи-либо
воспоминания, попытаться отыскать в архивах неопубликованные
рукописи Я. Стэна, перепечатать с комментариями некоторые
прежние статьи, тем более, как мне казалось, что я смогу
убедить жену Яна Стэна согласиться с таким решением,
позволившим бы ей предпринять дальнейшие шаги.
510 Л. Н. Митрохин
С этими намерениями я и затеял разговор с М. Б. Мити-
ным. Я был готов ко всему: к намекам на опасения разделить
судьбу Стэна или, на худой конец, загубить свою карьеру, к
ссылкам на собственную неосведомленность и безграничную
веру в Вождя и т. п. Но все же ждал подобия раскаяния или
сожаления (напомню, шел 1967 г.), во всяком случае, хотя бы
притворной готовности помочь несчастной женщине. Ничего
подобного! Академик М. Б. Митин воспринял мои
предложения как едва ли не кощунственную попытку поставить под
сомнение его преданность великому делу. Он не мог допустить
мысли, что существует такая шкала ценностей, по которой
можно в чем-то упрекнуть его, верного идеологического
опричника, готового по первому жесту высокого начальства
оболгать и растерзать кого угодно. Мне даже передали его
зловещее предостережение: «Митрохин — коммунист
молодой, неопытный. И то, как он поведет мое дело, — это
проверка его политической зрелости».
Так что персональное дело получило ход; началась
удивительная детективная история, потребовавшая, кроме всего прочего,
энергичных поисков вещественных доказательств. Было бы
полезно когда-нибудь восстановить ее во всех деталях. Меня
постоянно вызывали в ЦК, МГК, Фрунзенский PK, интересовались
нюансами, советовали, предостерегали; я то прикидывался
наивным правдоискателем, то с чувством цитировал антикультовые
декларации, пытаясь сыграть на их внутреннем лицемерии. Надо
ли уточнять, что при этом никакой героической роли я не играл.
Я постоянно ощущал поддержку многих и разных людей — даже
в ЦК КПСС. С самого начала это была коллективная акция.
Прошло шумное собрание в журнале, вынесшее академику
выговор. Он был подтвержден на многочасовом заседании
институтского партбюро. Вскоре каждому посетителю института в
глаза бросалось большое объявление, на котором значилось нечто
немыслимое: «Персональное дело М. Б. Митина».
Итог известен. Митин периодически брал бюллетень,
собрание несколько раз переносилось, объявление ветшало.
Менялась обстановка — и на самом верху, и в нашем
философском сообществе. Я ушел с поста секретаря. Сработали
серьезные скрытые механизмы, и персональное дело постепенно
сошло на нет. Все же, надеюсь, оно сыграло свою роль в
закате карьеры главного персонажа на философском капитанском
мостике. Очевидно и другое: на его примере официальные
идеологи лишний раз увидели, какую опасность для них таит
либерализация духовной обстановки.
«Докладная записка»—74 511
Как бы то ни было, в 1968 г. главным редактором
«Вопросов философии» стал И. Т. Фролов. Сегодня, когда постоянно
назначаются и снимаются начальники всех рангов, когда то
здесь, то там возникают академии с ограниченной научной
ответственностью, факт смены главного редактора может
восприниматься как малозначительное будничное событие. Но я-
то уверен, что это был один из главных моментов в истории
журнала, имевший далеко идущие последствия. И дело даже
не в тех или иных лицах, авторах, а в изменении самой
метрики философского пространства.
Складывающаяся ситуация представлялась мне следующим
образом.
До этого главными редакторами журнала «Вопросы
философии» назначались философские корифеи, входившие в
узкий круг номенклатурных руководителей идеологии. Они
обладали качеством взаимозаменяемости и пребывали в
состоянии постоянной ротации: аппарат ЦК КПСС, АОН при ЦК
КПСС, «Правда», «Коммунист», ИМЭЛ, ВПШ, президиум
АН СССР, Институт философии, «Вопросы философии»
и т. п. В общем, нечто напоминающее «безумное чаепитие» из
«Алисы в Стране Чудес».
Конечно, существовала четкая иерархия этих должностей, и
люди знающие безошибочно определяли, кто «засиделся», кто
пошел на повышение, а кто, увы, погорел. Но в «застойные
времена» последнее случалось редко: «своих» система
старалась так или иначе пристроить, на худой конец, послом где-то
возле Огненной Земли. Решающим достоинством этих
деятелей считалось умение руководить — практически всем.
Поэтому очередной редактор «Вопросов философии» уже по
самому определению был временщиком. Ему были достаточно
безразличны профессиональный уровень журнала, его
репутация в научном сообществе, целеустремленная разработка
проблем, возникающих внутри философии, и даже, как это ни
покажется странным, содержательная (а не ритуальная) критика
«буржуазных» концепций.
Его основная забота — держаться посередине
извилистого фарватера, именуемого идеологической линией партии,
не прослыть совсем уж безнадежным тупицей и
обнаруживать умеренные творческие замашки, а самое главное —
всегда быть начеку и не пропустить зловредной «крамолы»
на страницы вверенного ему журнала. Иначе завистливые
коллеги тотчас же просигналят куда надо. Таким образом,
выше всего ценилась способность предугадывать возмож-
512 Л. Н. Митрохин
ные реакции кураторов. Да и душа редакторов пребывала не
в журнале, а там, на Старой площади, куда они мучительно
и напрасно мечтали вернуться — как Моисей в землю
Обетованную.
Теперь в журнал пришел руководитель другого типа. Для
И. Т. Фролова как профессионального философа это был свой
журнал, собственное дело, и у него имелись четкие
представления (надеюсь, Иван Тимофеевич со мной согласится) об
общей программе журнала, о качестве и облике статей —
представления, вовсе не обязательно совпадающие в деталях с
мнениями идеологических надзирателей и не сводящиеся к
желанию заслужить их одобрение. Иными словами, в корне
изменилась ключевая установка: не пребывать на посту,
набирая дополнительные проходные баллы, а попытаться
реализовать определенную позитивную программу. К тому же,
занимаясь философскими проблемами естествознания, он
установил прекрасные отношения со многими выдающимися
биологами, ботаниками, физиками и был приобщен к
академической атмосфере вольнодумия и свободного научного
поиска. Новому облику журнала также способствовала одна
черта И. Т. Фролова, мне самому, кстати, очень близкая. Я бы
определил ее как просвещенно-интеллигентскую
патриархальность. Он воспринимал журнал как свою большую семью,
свое коллективное хозяйство, свою епархию, а себя — как
руководителя, обязанного заботиться о меньших братьях. Он
мог публично разнести в пух и прах своих друзей и
единомышленников (впрочем, чаще за дело), но всегда защищал их от
нападок со стороны — таких случаев мне известно немало.
Но это одна сторона дела, еще не объясняющая нового
облика журнала и его места в философской жизни. В самом
деле, как мог даже самый квалифицированный и
заинтересованный специалист проводить сколько-нибудь
самостоятельную линию под неусыпным контролем многочисленных
кураторов? Здесь-то, как я догадываюсь, и заключалась большая
хитрость истории. Да, И. Т. Фролов не был очередным
номенклатурным назначенцем, утомленным руководящими
постами; он был человек другого склада, пришедший из науки, а
его книгу «Генетика и диалектика» (1968) я до сих пор считаю
событием в становлении отечественной философии
естествознания. Однако он — ив этом «хитрость» — до этого был
помощником секретаря ЦК КПСС по идеологии, и этот факт
навсегда закрепился, если употребить выражение Мераба, на
затылке сознания возможных критиков журнала.
«Докладная записка»—74 513
В те времена было принято критиковать философов за
догматизм и отрыв от жизни, за утрату новаторского творческого духа,
присущего партии. На сей счет руководящие умы были
согласны. Проблема возникала тогда, когда вопрос ставился
конкретно: как отличить «новаторский» дух от греха «ревизионизма»,
доколе можно мыслить самостоятельно, чтобы не получить по
шапке? Ссылки на классиков дела не решали, потому что
наверху сами знали, что нужно цитировать, а что нет и как
соответствующие цитаты истолковывать. Здесь, как в любой
священнической системе, граница между «творческим» (дозволенным) и
«еретическим» (наказуемым) определялась не самими авторами,
и даже, в конце концов, не научной достоверностью их
высказываний, а авторитетами, данную систему создающими и
охраняющими. На Старой площади, однако, была своя иерархия, свои
разномыслия, а поэтому все определял «уровень», на котором
давалась оценка, а также срок ее годности: силу имело лишь
самое последнее мнение, отменяющее все прежние.
Нетрудно догадаться, что руководитель журнала, еще
недавно приобщенный к формулированию идеологических установок
на самом верху, прекрасно разбирающийся в механизме
каждодневной деятельности аппарата и, уж наверное, сохранивший
прежние связи, любителями подменять
научно-профессиональный подход рассуждениями об идейной чистоте воспринимался
как неудобный, даже опасный оппонент. Всегда оставалось
сомнение: а не согласовал ли он данный материал где-то совсем
высоко? Каким-то показателем на сей счет могла служить
смелость, с какой журнал отстаивает свои материалы. А здесь двух
мнений быть не может: главный редактор держался предельно
уверенно и независимо, он не оставлял без ответа ни один
выпад, а его склонность к мрачному юмору вызывала легкий
паралич у боевых, но боязливых корифеев.
Показателен один эпизод. В 1973 г. четко обозначилось
фронтальное наступление на институт и «Вопросы
философии». Его главным организатором и действующим лицом
выступил секретарь МГК КПСС по идеологии В. Н. Ягодкин.
В ту пору повсеместно закручивали идеологические гайки,
громили то историков, то социологов, то писателей, то
философов, с партийных трибун все чаще делались выпады по
поводу тех или иных материалов «Вопросов философии».
И именно в это время журнал публикует передовую статью
(1974. № 1), в которой отстаивает право на собственное
суждение в профессиональных вопросах и саркастически
высказывается о «подлых» и бесталанных людях, пытающихся под-
514 Л. Н. Митрохин
менить решение научных проблем политической трескотней и
внести в науку чуждый ей дух своекорыстия и
конъюнктурщины. Не случайно, что эта передовая вызвала неподдельный
гнев авторов «Докладной записки».
Все эти свои соображения я высказываю с единственной
целью, а именно — найти объяснение тому очевидному
парадоксу, который имел в виду М. К. Мамардашвили, говоря о
вновь назначенной редколлегии как об «анахронизме». С
одной стороны, в конце 60-х гг. ясно обозначилось попятное
движение к идеологическому деспотизму — не легкие
заморозки, а крупный град, выбивающий все ростки живой мысли.
С другой — в течение последующих лет «Вопросам
философии» удавалось проводить свою линию, оставаясь неким
островком, оазисом профессионального подхода, несмотря на
растущее враждебное отношение.
Теперь можно повнимательнее присмотреться к
редакционным будням.
3
О своем намерении создать сугубо профессиональный журнал
И. Т. Фролов заявил с самого начала, решившись на шаг, по тем
временам определенно дерзостный. На должность заведующих
отделом, то есть «рабочих» членов редколлегии, он пригласил
известных специалистов, руководствуясь не их званиями и
постами, а мерой философской компетентности и реальным
научным авторитетом. Это были Б. А. Грушин, Ю. А. Замошкин,
А. А. Зиновьев, В. Ж. Келле, В. А. Лекторский — их имена
сегодня сами говорят за себя (отделом истории философии остался
заведовать Т. И. Ойзерман, который органично вписался в
молодежный коллектив). Если же учесть, что на роль своего
заместителя он избрал не кого иного, как М. К. Мамардашвили, то
станет ясно, что журнал претерпел самые серьезные изменения.
К тому же директором Института философии стал П. В. Копнин,
человек талантливый и решительный. В нем журнал сразу же
нашел своего верного союзника.
Сегодня я со светлой грустью вспоминаю это время,
дружеские встречи, споры, улыбки друзей-единомышленников, их
поведение в различных, порой непредсказуемых и опасных
ситуациях, и меня не покидает ощущение, что это были цельные
личности со своими ценностями и строгими принципами; с
достоинством и без суеты они делали свое дело, которое считали
«Докладная записка»—74 515
настоящим, не гонялись за халявой и званиями, не спешили
сунуть глубокомысленную рожицу под телеобъектив и иногда даже
читали книги и статьи друг друга. Но прежде всего это была
работа — каждодневная и напряженная. Мы тщательно
разрабатывали перспективные планы журнала, везде разыскивали
новых, наиболее способных авторов, внимательно прочитывали
десятки статей, регулярно проводили читательские конференции.
А заседания редколлегии, вскоре принявшие
ритуально-торжественный характер? Как нарочно, в редколлегии
подобрались люди не просто остроумные, но склонные к артистизму, к
словесному куражу. Легко догадаться, какие представления эти
веселые и честолюбивые златоусты могли разыгрывать вокруг
очередной «научно-коммунистической» статьи, задушевно
пересказывающей последние партийные директивы. Иногда
обсуждение одного материала длилось часами. Я помню, например,
как разносили статью И. А. Крывелева о П. Флоренском, как
непривычно чувствовал себя М. Т. Иовчук, когда ему
показывали неоспоримые изъяны представленного им текста. При
этом все было честно: никто не пытался протолкнуть «своих»
авторов, не было никакого предварительного сговора, каких-то
редакторских подсказок. Мы просто с полуслова понимали друг
друга, а поэтому, какие сольные проходы, какие импровизации
и мизансцены! У меня до сих пор сохранилось подозрение, что
работники редакции предвкушали заседания редколлегии как
захватывающие импровизированные спектакли.
Качество материалов обеспечивалось каждодневными
усилиями консультантов, многие из которых (А. Арзаканян,
Г. Гургенидзе, В. Кормер, Ю. Сенокосов) по своему уровню
часто превосходили авторов. Если напомнить о четкой работе
секретариата во главе с Л. И. Грековым, то получается
дружная крепкая компания, если не республика, то
небольшой автономный округ ученых, увлеченных общим делом. Да
что лукавить: я и сегодня горжусь тем, что был активным
участником тогдашней команды друзей-единомышленников
из института и журнала, которой в меру своих не всегда
достаточных сил удалось продвинуть вперед исследовательскую
мысль. Насколько? Сегодня некоторые журналисты и
несостоявшиеся философы, задыхаясь от собственной
необременительной смелости, обличают духовную окостенелость тех
лет. Понять их можно: чтобы оценить новизну тех или иных
взглядов, нужно самому быть причастным к творческим
актам. А приведенный мною пример разработки новой
диалектической логики я бы мог дополнить великолепными публи-
516 Л. Н. Митрохин
кациями (в том числе и в «Вопросах философии») по
немецкому и французскому экзистенциализму, постпозитивизму,
философии естествознания и языка, неопротестантизму,
социальной философии, которые сопоставимы с лучшими
западными работами, а нередко и превосходят их.
А на что, собственно, надеялась строптивая редколлегия,
разве она не понимала, что рано или поздно натолкнется на
глухую стену? Думаю, что большинство из нас таким
прагматическим расчетам не предавалось. Нас объединяло
убеждение, что будущее отечественной философии не фатально, что
оно отвоевывается в каждый момент, в каждой статье и фразе.
Мы как бы постулировали: еще немного усилий, и все цветы
расцветут, а идеологические тиски постепенно развинтятся, и
делали свое дело. Кстати, в первые годы для подобного
оптимизма были вполне веские основания.
Однако мы не могли не видеть, что с каждым месяцем
атмосфера вокруг журнала сгущается. Было ясно, что назревает
некое большое событие. О его характере можно было
догадаться заранее, зная отработанную технологию проведения
кампаний по выправлению идеологических вывихов. Здесь
нужно уточнить одно представление, бытующее и поныне.
Интеллигентскому сознанию льстит такая контрпозиция:
«художники и чиновники», «интеллигенция и власть». Популярен
зловещий образ: над страной черным коршуном нависло
Политбюро, которое неустанно выискивает крамолу и оперативно
принимает карательные меры не печатать, запретить, снять,
предать суду. Получается трогательная картина: А. А. Жданов
увидел пороки симфоний Д. Д. Шостаковича, а М. В. Зимяни-
ну, скажем, бросились в глаза изъяны постановки на Таганке.
В жизни, однако, все было прозаичнее. Сверху определялся
лишь общий «социальный заказ», желательный пафос и
тембр ожидаемых сигналов. Что же касается конкретных
фамилий, высказываний, публикаций, театров, то они
своевременно поставлялись «снизу» по велению сердца своим же
братом художником, писателем, философом. А кто бросит в
них камень? Если, например, свободно печатаются М. А.
Булгаков или А. И. Солженицын, если академиками становятся
А. Ф. Лосев и В. Ф. Асмус, а читатели открыто восхищаются
стихами Анны Ахматовой или Иосифа Бродского, то
карьерным «красным профессорам» и всяким бездарям становится
неуютно — за «философов», «поэтов», «композиторов» их
могут и не признать. Выход один: добиваться, чтобы
«наверху» их оценивали по другим критериям.
«Докладная записка»—74 517
По каким? Если кругом завинчивают идеологические гайки,
то это вовсе не бином Ньютона. Конечно, по степени
готовности выполнять и перевыполнять партийные указания и в
случае необходимости послушно признавать свои ошибки.
Вспоминаю одну сцену. Ф. В. Константинов формировал авторский
коллектив для очередного монументального издания,
посвященного современной идеологической ситуации. В нем был
раздел о религии. А в это время вовсю громили социологов за
пресмыкательство перед буржуазной наукой и отрыв от
истмата. Главной жертвой был Ю. А. Левада, издавший свой
курс, прочитанный студентам МГУ. Его дружно перестали
печатать. Я и говорю академику: «Предложите раздел Леваде.
Это же не социология, а в религии он прекрасно разбирается.
А что до ошибок — у кого их не бывает. В конце концов, есть
редколлегия...» Мне казалось, что мои доводы звучат
убедительно, а он скучнел прямо-таки на глазах. Потом веско
произнес: «А вам известно, что он до сих пор ни разу публично не
раскаялся!». Дальнейший разговор сразу потерял свой смысл.
Вспоминаю и другой забавный факт. Однажды в ЦК КПСС
мне по дружбе показали объемистую папку, содержащую
анонимки по поводу моей персоны. Чего там только не было! А я
.ведь не был ни диссидентом, ни заметным трибуном, да и о
политике рассуждать не любил. Однако, выходит, кому-то
мешал. А здесь — строптивый журнал, который упорно
отстаивает свои позиции, создавая нехороший прецедент для
деятелей культуры. Вот и скрипели перья.
Первый год был сравнительно спокойным. Вскоре, однако,
произошло событие, круто изменившее всю идеологическую
обстановку в стране. Я имею в виду вторжение в
Чехословакию (1968 г.). Недругам журнала оно подсказало
спекулятивную формулу, от которой партократы так просто отмахнуться
не могли: «С чего начиналась контрреволюция в Праге? С
выступлений философов — К. Косика, М. Прухи и др. Вот и у нас
поднимают головы философские ревизионисты». И далее
ненавязчиво упоминались конкретные имена. В 1971 г.
фактически затравили П. В. Копнина, и началась ожесточенная
схватка за директорское кресло. В 1973 г. на это место
назначали академика Б. М. Кедрова, но и он продержался всего
лишь около года. Наступало время, удобное для погрома.
Руки дошли и до журнала. 17-18 июня 1974 г. состоялось то
самое обсуждение «Вопросов философии» в АОН при ЦК
КПСС, которое поставило точку в недолгом философском
ренессансе.
518 Л. Н. Митрохин
Позже один из высоких партийных деятелей спросил: «А в
чем причина столь враждебного отношения к журналу? Борьба
поколений?» Нет, ответил я, это выражение неприязни к
людям способным, творческим со стороны непорядочных
дилетантов, не желающих расстаться со своими постами. Даже в свои
сорок лет я был, оказывается, наивен: «порядочные» и
«непорядочные» — прямо как в сказке о Красной Шапочке и Злом
Волке. Не хватало воображения понять, что это была
социологически нормальная реакция Системы, стремящейся сделать
общество прозрачным, просматриваемым сверху донизу, без
каких-либо автономных, не поддающихся полному контролю
центров и очагов мировоззренческой самостоятельности.
Меня всегда изумляла одна способность философских
начальников. Как авторы они были удивительно беспомощны и
на бумаге не могли корректно выразить даже простую мысль.
Однако, едва взглянув на любую статью — неважно, об
экзистенциализме или проблемах коммунистического труда, —
они моментально отыскивали нетривиальные положения
(обычно именно те, ради которых статья была написана), даже
если так называемая «крамола» была тщательно упрятана в
сложные термины и обороты. Эта почти экстрасенсорная
чувствительность к свободной мысли впечатляет и в публикуемой
«Докладной записке». Ведь в ней разносу подвергнуты два
десятка авторов — не только философов, но и историков,
социологов, религиоведов, естествоиспытателей. Причем
характер обвинений предельно конкретен и «взвешен»: от указания
на недостаточность партийности до прямого обвинения в
защите «антимарксистских концепций». Чем это в то время
могло обернуться — разъяснять не буду. А теперь представьте
себе, как выглядела бы наша философская мысль, если бы
удалось «перестроить» перечисленных авторов.
Большевистской анафеме преданы и мои собственные
статьи: «страдают крупными пороками, некритически
воспроизводя всевозможные фидеистские и буржуазные измышления». Ни
больше и ни меньше! Полагаю, что такой чести я удостоился
незаслуженно. Я, действительно, много публиковался в те годы,
обычно вводя в научный оборот новые темы: христианский
пацифизм, религия и НТР, взгляды Мартина Л. Кинга, X. Мал-
кольма, лозунг «Власть черным» и т. п. Причем в свое время я
был тоже увлечен анализом логики «Капитала» и
добросовестно пытался применить Марксов метод «выведения»
религиозного мира из «самопротиворечивости и саморазорванности
земной основы». Об этом и шла речь в статье о Билли Грейэме, в
«Докладная записка»—74 519
которой я старался обозначить механизм отражения
социальных противоречий в религиозном сознании и объяснить
причины уникальной популярности знаменитого евангелиста. Это
была нормальная спокойная статья. Правда, на самом
обсуждении я выступал довольно резко, без намека на раскаяние.
А куда было деваться мне, к тому времени кое-что
понимающему в американском баптизме, когда безвестный доцент
громогласно объявляет, что в статье «отсутствует партийный
подход», «нет классовых оценок», «предоставляется трибуна
религиозным идеологам», а ей вторит И. А. Крывелев — фигура
среди религиоведов, по-моему, просто одиозная? Всего этого не
могли не понимать авторы «Записки», хорошо меня знающие
(X. Н. Момджян был даже официальным оппонентом на моей
докторской защите). И хотя я довольно подробно доказывал
несерьезность подобных обвинений, они сочли нужным
зафиксировать одно: мои статьи подверглись «острой и справедливой
критике», а я «отверг все сделанные замечания».
Дело было, полагаю, не в содержании статей. Просто в силу
сложившихся обстоятельств я неизбежно ассоциировался со
строптивым руководством журнала и института, заместителем
директора которого я был. К тому же я тогда заведовал
отделом критики и библиографии, а журнал проявлял весьма
сдержанные восторги по поводу многочисленных (обычно
коллективных) эпохальных трудов, возвеличивавших философскую
значимость различных партийных мероприятий, справедливо
полагая, что к серьезной философии они непосредственного
отношения не имеют. Поэтому и понадобился самый
воинствующий атеист И. А. Крывелев, по своей склонности стучать
уступающий лишь дятлу, и кто-нибудь еще — на подмогу.
Об этих деталях я упоминаю вовсе не для того, чтобы
восстановить справедливость относительно моих публикаций. Сегодня
такое занятие выглядело бы смешным. Этим примером мне
хотелось подвердить одно, на мой взгляд, принципиальное
соображение. Сейчас появилась масса воспоминаний, авторы
которых поздним числом приписывают себе роль неких
карбонариев, сознательно выступавших против коммунистической
диктатуры. У меня нет права говорить от имени всех
работников журнала, но я уверен, что большинство из нас никаких
«подрывных» надежд не лелеяло и уж тем более не подвергало
сомнению историческую обоснованность коммунистического
идеала. Мы отстаивали одно — статус философии как особой
формы духовной культуры со своим богатейшим тысячелетним
наследием, категориальным аппаратом, внутренней логикой
520 Л. Н. Митрохин
развития, а главное — правом на свободные размышления по
поводу любых познавательных и поведенческих акций,
социальных явлений и духовных образований. Мы выступали не против
тех или иных политических положений, а против того, чтобы
красные комиссары навязывали философии чуждые ей
критерии, исходя при этом не из реального профессионального
содержания, а из политических спекуляций, из так называемого
«подтекста», открывающегося нечистому сознанию,
озабоченному поисками «крамолы». Короче говоря, не вправе доцент
И. Горина критиковать данную Л. Н. Митрохиным
интерпретацию Б. Грейэма, если она этого самого Грейэма не читала,
баптизмом всерьез не занималась и никаких содержательных
интерпретаций его предложить не может. А Л. Н. Митрохину, в
свою очередь, нет особой нужды обращать внимание на мнение
неспециалиста, апеллирующего к понятиям «партийности»,
«классового подхода» и т. п. Такая установка — не проявление
высокомерия, а элементарная научная процедура. Плюрализм,
конечно, вещь необходимая, но элементом научной дискуссии
конкретное мнение может стать лишь при наличии
определенного профессионального уровня.
А здесь приходится констатировать фундаментальный факт.
Системе партократии, несмотря на все заверения о
желательности либерализации, такая философия была не нужна.
Повторю, специфическая и благородная форма культуры,
известная в истории мысли как философия, была типологически
несовместима с тогдашним идеологическим деспотизмом, как,
впрочем, был для него неприемлем и атеизм, взятый в его
исторически закономерной «цивилизованной» форме.
Наверное, это понимали наторелые авторы «Записки», придавшие
ей жестко обличительный характер, не затрагивающий
проблем профессионального знания и полностью игнорирующий
выступления, не укладывающиеся в эту схему.
Что же касается самого обсуждения, то получилась игра в
одни ворота. Мы, разумеется, понимали, что этот звездный
час — не наш, но все-таки сохраняли надежду на какой-то
минимум объективности и профессиональной
заинтересованности. Естественно также, что никакой «оборонительной»
стратегии мы не подготовили: было бы ниже нашего достоинства
специально кого-то просить «поддержать» журнал,
продумывать порядок ответных выступлений и реплик. В конце концов,
мы работали добросовестно и могли позволить себе иллюзию
относительно справедливого воздаяния со стороны старших
руководящих коллег.
«Докладная записка»—74 521
Главный редактор сделал подробный, вполне самокритичный
доклад, призывая спокойно разобраться в проделанной работе.
Но обсуждение как-то сразу развернулось в стиле корриды. Нет,
многие говорили спокойно, разумно (М. М. Розенталь,
Е. П. Ситковский, Н. М. Кейзеров, В. В. Столяров и др.). Но
президиум постоянно пытался играть роль группы
скандирования, перебивал ораторов, бросал реплики, подсказывал
желательные формулировки. Впрочем, И. Т. Фролов подготовил
письменный текст своего доклада, велась стенограмма, и,
надеюсь, со временем удастся восстановить все живописные детали
этого незаурядного представления, а пока приведу выдержки из
моего послания П. Н. Федосееву. «Складывалось
впечатление, — писал я, — что некоторые участники конференции
стремились превратить спокойный заинтересованный разговор
коллег в своеобразное «судилище», придав ему характер заранее
подготовленного «разноса», постоянно взвинчивая обстановку
раздраженными репликами и замечаниями, не останавливаясь
перед личными оскорблениями членов редколлегии и главного
редактора журнала. "Это безобразие, это уголовное дело", —
воскликнул, например, председательствовавший X. Н. Момд-
жян, когда один из выступающих сказал, что ичлен редколлегии
Митрохин, злоупотребляя своим положением, за последние годы
опубликовал двенадцать статей (кстати, эта цифра неверна)...
Это просто способ зарабатывать деньги" и т.п... Такой же тон
сохранял он и относительно И. Т. Фролова, не останавливаясь перед
странными намеками: "Мы знаем, на что Вы надеетесь, но не
думайте, что Вы всесильны... все может измениться"». На подобные
обвинения я отвечал не менее резкими репликами в адрес
председательствующего X. Н. Момджяна, на что у меня были свои
веские основания. Но сейчас приводить их не буду.
Потом был X Международный гегелевский конгресс, в
организации которого я помогал директору Института
философии академику Б. М. Кедрову. Редколлегию основательно
проредили. В начале 1974 г. Б. М. Кедрова сняли, директором
назначили Б. С. Украинцева. В институте стали хозяйничать
люди, которым я недавно ничего серьезнее, чем заведование
транспортом и поддержание общественного порядка на
Гегелевском конгрессе, поручить не решался. Вовсю шельмовали
В. Ж. Келле, Е. Г. Плимака, Ю. М. Бородая, подбирались к
В. А. Лекторскому. Против меня по надуманному поводу
затеяли персональное дело. Я пошел к директору: «В США меня
с взысканием не пустят. Но здесь с выговором я буду для Вас
вреднее, чем в Вашингтоне без выговора». Получилось ду-
522 Л. Н. Митрохин
шевно и убедительно, и он дал команду дело мое замять.
Насколько мне известно, журнал не сдавался, но я к этому уже
отношения не имел, поскольку лицезрел статую сидящего
старика с внимательным взглядом по имени Авраам Линкольн.
Но это, как говорят американцы, уже другая story.
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
Об обсуждении журнала «Вопросы философии»
в Академии общественных наук при ЦК КПСС
В Академии общественных наук при ЦК КПСС 17—18
июня с.г. на заседании специализированного Ученого совета
по философским наукам совместно с читательским активом
было проведено обсуждение журнала «Вопросы философии»
за последние годы. Это мероприятие привлекло к себе
большое внимание философов, работающих как в АОН при ЦК
КПСС, так и в других учреждениях — в Высшей партийной
школе, Институте общественных наук при ЦК КПСС,
институтах АН СССР, в ряде вузов столицы.
После выступления председателя Совета,
чл.-корреспондента АПН, профессора Г. Е. Глезермана и доклада главного
редактора журнала «Вопросы философии» проф. И. Т. Фролова
развернулись прения, в которых приняли участие профессора и
доктора философских наук М. М. Розенталь, Ю. И. Семёнов,
А. И. Корнеева, Е. П. Ситковский, И. А. Крывелев, И. С. Нар-
ский, А. Ф. Окулов, Н. М. Кейзеров, В. В. Столяров, А. С. Ко-
вальчук, Л. Н. Митрохин, X. Н. Момджян и доцент И. Горина.
Обсуждение завершилось заключительным словом И. Т.
Фролова и кратким обобщением прений, сделанным Г. Е. Глезерманом.
К стенограмме приложили свои выступления чл.-корреспондент
АН СССР М. Н. Руткевич и профессор В. Е. Козловский.
Обсуждение охватило разные стороны работы журнала и по
своему содержанию было глубоким и конструктивным. Были
отмечены определенные положительные стороны в деятельности
руководства журнала. Выступавшие одобрили публикацию ряда
актуальных циклов статей: «Программа мира и диалектика
международных отношений», «Социальные и философские
проблемы воспитания и образования», «Проблемы научно-технической
революции» и др. Была оценена как удачное начинание
публикация на страницах журнала квалифицированных статей ряда
видных партийных и советских работников. Продолжая
сложившуюся традицию, журнал опубликовал в последние годы статьи
«Докладная записка»—74 523
крупных ученых-естествоиспытателей (академики Гинзбург,
Зельдович, Дубинин, Капица и др.). Некоторые из редакционных
и многие из авторских статей, опубликованных в журнале, также
были положительно оценены выступавшими как имеющие
серьезное научное значение. Журнал начал публиковать также
статьи видных партийных и идеологических работников.
Никто из выступавших не ставил под сомнение те достижения,
которые имеет в своей работе редакция журнала «Вопросы
философии», но, естественно, главное внимание было уделено
выявлению слабых, а порой и ошибочных сторон этой работы.
Критические замечания сопровождались конкретными советами и
предложениями, направленными к улучшению журнала.
Большинство выступавших критиковало не частные
недостатки журнала и не отдельные опубликованные статьи, а, что
особо важно отметить, некоторые нашедшие свое выражение
на страницах журнала ошибочные тенденции, неприемлемые в
научном и идеологическом отношениях.
Многие участники обсуждения отмечали нарушения в ряде
статей журнала принципа партийности философии, ведущие к
извращению положений марксистско-ленинской теории.
Отмечалось, что наряду с правильными в методологическом отноше-
. нии статьями журнал то и дело печатает статьи, страдающие
объективизмом и аполитичностью в отношении к буржуазной
философии и социологии. В журнале публикуется ряд
содержательных статей, направленных против современной
буржуазной, реформистской и ревизионистской идеологии, но наряду с
ними есть немало публикаций, написанных с позиций
«имманентной критики», когда авторы стараются воспроизвести
возможно более полно идеи соответствующих буржуазных
философов и обнаружить в их работах внутренние логические и
смысловые противоречия. При таком методе порой предается
забвению классовый и идеологический анализ этих работ и
допускается, по существу, некритическое «нейтральное»
отношение к идеям, которые должны были быть подвергнуты научно
обоснованной и вместе с тем острой партийной критике. В этой
связи были подвергнуты критике статьи К. Кантора
«Соотношение социальной организации и индивида в условиях научно-
технической революции» («Вопросы философии». 1971. № 10),
В.Лазарева «Экзистенциалистская концепция человека в США»
(«Вопросы философии». 1967. № 3) и некоторые другие.
В самом профиле журнала, отмечали выступающие,
обнаружился некоторый разрыв между философской проблематикой и
публикуемыми в нем статьями и материалами, посвященными
524 Л. Н. Митрохин
специальным темам по различным конкретным областям
знания. В особенности за последние годы сократилось количество
статей, относящихся к собственно философской проблематике,
призванных дать философски-обобщенный анализ достижений
современного естествознания, социальных наук и практики
классовой борьбы на современном этапе мировой истории.
Теория диалектики и «большой логики» постепенно исчезает
со страниц журнала. Так, из 20 статей, опубликованных в
разделе «Диалектический материализм» в 1972—1973 гг., только
две-три имеют философский характер, остальные же не
относятся прямо, а в ряде случаев и косвенно, к теории диалектики
и проблемам диалектического материализма. Хотя многие из
них по-своему интересны, но, видимо, должны были печататься
в журналах по специальным областям знания. Такая тенденция
ведет к подмене диалектического материализма
«методологиями» отдельных наук и, по мнению ряда выступавших
товарищей, означает уступку позитивистским тенденциям. Участники
обсуждения особо отмечали недопустимость этого в условиях,
когда идеологи экзистенциализма, неотомизма, неопозитивизма
и других течений современной буржуазной и ревизионистской
философии всячески стараются «упразднить» диалектику как
метод научного познания. В прениях отмечалось, что статьи,
направленные против этих наших философских противников,
можно в журнале пересчитать по пальцам.
В области исторического материализма сложилось
аналогичное положение. Разработка теории исторического
материализма и основных категорий этой области философского знания на
страницах журнала фактически не ведется, — статьи на эти
темы за ряд лет насчитываются буквально единицами.
Некоторые выступавшие отмечали, что это не случайное явление, ибо
в редакции существовало пренебрежительное отношение к ис-
торико-материалистической проблематике, — на заседаниях
редколлегии высказывались мнения, по которым категории
исторического материализма могут рассматриваться лишь как
предмет преподавания, а не как сфера научного исследования,
так что публикации на соответствующие темы могут быть
только схоластическими и догматическими. Журнал ослабил свою
методологическую роль в отношении общественных наук.
Известно, что некоторые ученые-историки, исследующие своими
частными методами конкретно-исторические явления и эпохи,
нередко путаются в общеметодологических вопросах
исторического знания. В ряде случаев дело доходит до попыток
ликвидации такой основополагающей категории исторического мате-
«Докладная записка»—74 525
риализма, как общественно-экономическая формация. Журнал
же, заявили многие выступавшие в прениях, самоустранился от
научной разработки этих проблем и тем способствует
методологической «всеядности» в исторической науке.
Резко сократилось в «Вопросах философии» количество
статей, посвященных теории марксистско-ленинского
атеизма. Видимо, редакция не замечает того, что в последние годы
наши идеологические противники все более активно
используют в борьбе против нас оружие религиозной идеологии. По
существу, как отмечалось в процессе обсуждения, журнал плохо
выполняет свою роль в борьбе против фидеизма, не
подвергает последовательной критике религиозное мировоззрение.
Публикуя большое количество статей, не имеющих прямого
отношения к философской проблематике, редакция не
проявляет особой заботы об их мировоззренческой выдержанности.
Это относится к статьям и материалам как на
естественнонаучные, так и на социально-исторические темы. В тех и в других
встречаются неверные в философском плане положения,
которые могли бы быть исправлены, если редакция старалась
бы помочь авторам-специалистам в отдельных областях
знания стать на более высокий методологический уровень.
• В этой связи ораторы критиковали статьи В. Н. Тростникова
«О взаимоотношении математики и философии» (1972. № 8),
члена-корреспондента АН СССР И. С. Шкловского
«Проблема внеземных цивилизаций и ее философские аспекты» (1973.
№ 2), П. С. Дышлевого и В. С. Лукьянца «Проблема статуса
пространственно-временных концепций в теоретической
физике» (1970. № 10). Отмечалось, что в статье Тростникова
неправильно освещается вопрос о взаимоотношениях
математики, с одной стороны, практики и абстрактного мышления — с
другой, И. С. Шкловский допускает возможность
возникновения материи во времени, выражает скептический взгляд на
перспективы развития техники в обществе будущего, считая, к
тому же, такое развитие и не обязательным. Тт. Дышлевый и
Лукьянец, как считает ряд выступавших на обсуждении
товарищей, ставят под сомнение объективность и универсальность
категорий пространства и времени.
В тематике, связанной с историческим материализмом,
также отмечалось наличие известного количества статей, не
только содержащих отдельные ошибки, но и неправильных по
основной своей идее, причем в некоторых случаях эта
неправильная идея пропагандировалась на страницах журнала не в
одной, а в нескольких статьях. Так, концепция расширитель-
526 Л. Н. Митрохин
ного толкования понятия «рабочий класс», включающая в это
понятие не только собственно рабочий класс, но и
техническую интеллигенцию, была подана на страницах журнала не
только в статье О. И. Шкаратана, но потом с некоторыми
оговорками и в статье Л. Гордона и Э. Клопова «Социальное
развитие рабочего класса СССР» (1972. № 2), причем последняя
была напечатана уже после того, как данная концепция была
подвергнута критике в журнале «Коммунист» (1972. № 1,
статья акад. П. Н. Федосеева). В прениях отмечалось, что ряд
статей по вопросам социологии и философии истории,
опубликованных в журнале, носят на себе явный отпечаток влияния
современной буржуазной социологии и историософии.
Выступавшие указывали в этой связи на серию статей Б. А. Грушина
о массовом сознании (1970. № 7 и 8; 1971. № 7), Н. Ф.
Наумовой «Проблема человека в социологии» (1971. № 7),
А. Г. Вишневского «Демографическая революция» (1973.
№ 2) и ряд других. Некоторые из выступавших отмечали, что
журнал полностью воздержался от критики ошибочных
попыток Ю. А. Левады и Б. А. Грушина оторвать социологию от
марксистско-ленинской методологии.
По историко-философскому разделу отмечалась как
ошибочная в основе своей статья М. К. Мамардашвили, Э. Ю.
Соловьёва и В. С. Швырёва «Классическая и современная
буржуазная философия». Указывалось, что в этой и других статьях по
критике буржуазной философии нет по существу критики, а
имеется лишь нарочито усложненное изложение взглядов
буржуазных философов. Особой критике подверглись
опубликованные журналом статьи Л. Н. Митрохина, в особенности его
статья «Социальная терапия Билли Грейэма» (1973. № 6), а
также статья Д. Фурмана «Американский вариант
секуляризации» (1973. № 2). В ряде выступлений отмечалось, что эти
статьи страдают крупными пороками, некритически воспроизводя
всевозможные фидеистские и буржуазные измышления,
авторы статей в «Вопросах философии» не позаботились о том,
чтобы дать их убедительную критику и продуманный анализ, а
редакция от них этого не потребовала.
Почти все выступавшие выразили неудовлетворенность по
поводу работы отдела критики и библиографии. Здесь, как
правило, публикуются рецензии, не несущие научной информации
и не дающие научно-критических оценок. В этом отделе не
выступают крупные ученые, нет проблемных рецензий, сам по
себе научный уровень рецензий оставляет желать много
лучшего. Редакция обходит молчанием появление ряда солидных кол-
«Докладная записка»—74 527
лективных марксистских трудов (книги по истории диалектики и
другие). Она порой берет под свою защиту, одобряет некоторые
издания, содержащие серьезные идейно-теоретические
ошибки, и отказывается публиковать материалы, в которых
содержится критический анализ такого рода ошибок. Выступавшие в
этой связи указывали на защиту членами редакции журнала
ошибочных статей М. К. Петрова, Б. А. Грушина, А. Я. Гуреви-
ча и других. В работе отдела критики и библиографии, по
мнению ряда выступавших товарищей, наблюдались факты
групповщины и пристрастного отношения к авторам рецензируемых
работ и подбору рецензентов.
Принципиальным недостатком работы журнала является то,
что редакция занимала позицию невмешательства в
происходящие дискуссии и споры по ряду философских проблем. В
качестве примера выступавшие приводили дискуссию по
антимарксистской книге Ю. А. Левады; даже после того, как
«Коммунист» и «Философские науки» выступили с развернутыми
критическими рецензиями по поводу этой книги, «Вопросы
философии» сочли все же нужным отмолчаться. Критика, которой
подвергли V том «Философской энциклопедии», содержащий
грубейшие ошибки и искажения, также не дошла до страниц
«Вопросов философии». Отказ журнала от выступлений с
критикой ошибок и недостатков в нашей философской литературе
объективно выглядит как тенденция к замазыванию и даже
поддержке некоторых имеющих в ней место болезненных явлений.
Особое место в ходе обсуждения занял вопрос об
отношении руководства журнала к критике в его собственный адрес.
Обычно критические замечания по поводу содержания и
направления «Вопросов философии» парируются заявлениями о
том, что уровень журнала отражает состояние и уровень всей
философской работы в стране. В своих выступлениях на
данном обсуждении главный редактор И. Т. Фролов также
прибегал к этому методу оправдания недостатков журнала.
Участники обсуждения отметили неправильность и несостоятельность
таких заявлений. Отмечалось, что, имея возможность
отбирать лучшее из научной продукции наших философов, журнал
не пользуется ею, а отбирает во многих случаях работы
сомнительные по своему идеологическому и научному качеству.
Помимо того, указывалось, что журнал есть и «коллективный
организатор», он должен доступными ему средствами
способствовать развитию философской науки в нашей стране в
принципиальном марксистско-ленинском духе, а не двигаться
в хвосте нездоровых настроений и неправильных концепций.
528 Л. Н. Митрохин
В последние годы журнал прекратил обсуждение на своих
страницах публикуемых в нем статей и материалов.
Выступавшие отмечали несколько странное отношение редакции к
этому вопросу. С одной стороны, она провозгласила, что так как
все статьи в журнале подлежат обсуждению, то специальная
рубрика дискуссионных материалов упраздняется, и ни одна
статья не будет публиковаться с указанием на то, что она —
дискуссионная. С другой же стороны, не было случая, когда
опубликованная статья в дальнейшем подверглась
обсуждению в журнале, так что фактически все публикуемое
оказалось вне критики; в таком же положении оказались и
напечатанные в журнале «новаторские», а по существу,
сомнительные и даже порочные работы.
Даже после того, как редакции указывалось, что та или иная
из опубликованных ею статей нуждается в серьезной критике,
работники редакции журнала воздерживались от этой
критики. Так было, например, с порочной статьей М. К. Петрова
(1968. № 2). Так было и со статьями Б. А. Грушина: редакция
отвергла направленную в их адрес критическую статью акад.
А. Д. Александрова. Редакция обошла молчанием и ту
критику, которой подверглись в партийной печати ошибки в статьях
журнала по проблеме общественно-экономической формации.
Известно, что в редакционной статье «С позиций
партийности», опубликованной в № 1 за 1974 г., журнал выступил с
тезисом о «праве» на критику. Люди, критикующие журнал,
аттестуются в этой статье как всем недовольные,
бесталанные, профессионально неподготовленные, маскирующие свою
бесплодность позицией «ультрапартийности» и т.д. Право на
критику журнала имеют, с точки зрения авторов статьи, лишь
философы-профессионалы, да и то лишь «избранные».
Выступавшие выразил и. решительное несогласие со всем
содержанием и духом статьи, указывая на то, что она проникнута не
принципом партийности, а мотивами групповщины и
стремлением пресечь критику в адрес той группы, которая определяет
курс журнала. Статья подверглась критике на совещании в
Отделе науки и учебных заведений ЦК КПСС 19 мая с.г., но
за месяц, прошедший с тех пор, редакция и сам гл. редактор
И. Т. Фролов нигде и ничем не выразили своего отношения к
этой критике. На данном же обсуждении тов. Фролов занял
«круговую оборону» и всячески защищал это порочное
выступление редакции, находя в нем лишь отдельные неудачные
слова и выражения. Он выразил несогласие и с критикой
статьи, данной в Отделе науки и учебных заведений ЦК КПСС.
«Докладная записка»—74 529
В своих двух речах на обсуждении И. Т. Фролов, по
существу, не согласился с подавляющим большинством сделанных
выступавшими критических замечаний. То же следует сказать
и о выступлении члена редколлегии журнала Л. Н.
Митрохина. Хотя его собственные статьи подверглись в ходе
обсуждения острой и справедливой критике, он отверг все сделанные
замечания, заявив, что ему не нравятся и работы
товарищей, выступавших с критикой по его адресу. Выступления
И. Т. Фролова и Л. Н. Митрохина создали впечатление, что
руководство журнала не хочет понять всю серьезность задачи
преодоления недостатков, имеющихся в работе журнала.
Характерно в этом отношении и то, как трактовал в своем
выступлении И. Т. Фролов факт обновления состава редколлегии
президиумом АН СССР. Он рассматривал его лишь как
очередное плановое мероприятие, связанное только с истечением
срока полномочий старой редколлегии. Ему было указано
выступающими, что обновление редколлегии надо рассматривать
не только как «естественный процесс», но и как мероприятие,
имеющее целью выправить линию журнала в ряде вопросов,
сделать его более боевым и партийным органом нашей
философской науки.
Выступающие отмечали оторванность редакции журнала от
Института марксизма-ленинизма, Высшей партийной школы,
Академии общественных наук при ЦК КПСС. Выражалась
надежда, что обновленный состав редакционной коллегии сумеет
укрепить связи между журналом и партийными научными
учреждениями и учебными заведениями. Было высказано также
пожелание укрепить состав редакции людьми, способными
содействовать повышению идейно-теоретического уровня журнала.
Необходимость коренного улучшения работы журнала
«Вопросы философии», как отмечали многие выступающие,
особенно настоятельна в свете того, что этот центральный
философский орган печати в Советском Союзе имеет и
международное значение. Философы наших братских партий как в
социалистических, так и в капиталистических странах
внимательно читают его и придают большое значение его позиции в
основных научно-идеологических вопросах.
Председатель
Специализированного Ученого совета
по философским наукам АОН при ЦК КПСС
Г. ГЛЕЗЕРМАН
Зам. председателя совета X. МОМДЖЯН
И. В. Блауберг
Из истории системных исследований
в СССР: попытка ситуационного анализа'
/Десять лет назад на аналогичном мероприятии,
проводившемся тогда в Институте истории
естествознания и техники, я делал доклад об особенностях
методологической деятельности Эрика
Григорьевича Юдина. Это был 1980 г., и в то время нельзя
было сказать о многом, о чем можно сказать
сегодня. Прежде всего, я хочу прочитать документ,
полученный матерью Эрика Григорьевича из Верховного
Суда СССР.
Справка
Постановлением Пленума Верховного Суда СССР
от 18 июля 1989 года приговор Томского областного
суда от 22 марта 1957 года и все последующие
судебные решения в отношении Юдина Эрика
Григорьевича, 1930 года рождения, отменены, и дело
производством прекращено за отсутствием в его действиях
состава преступления.
Юдин Э. Г. по настоящему делу
реабилитирован.
По материалам данного дела Юдин Э. Г. до ареста
30 декабря 1956 года работал старшим преподавате-
* Философия не кончается... Из истории отечественной
философии. XX век. В 2-х кн. / Под ред. В. А. Лекторского. Кн. II.
60-80-е гг. М., 1998. С. 152-170.
Из истории системных исследований в СССР... 531
лем философии Томского государственного педагогического
института.
Секретарь Пленума,
член Верховного Суда СССР Р. К. Бризе
Надо сказать, что это обстоятельство — то, что Эрик
Григорьевич Юдин в свое время стал жертвой
политических репрессий, было известно многим окружавшим его,
во всяком случае — всем его близким друзьям. Очень
интересно, что оно не оказало непосредственного
негативного воздействия на его жизнь, на его деятельность, но,
конечно, мешало ему, главным образом, в научной карьере
(он, например, ни разу не был за рубежом). Если же
говорить о каких-то конкретных фактах, то я вспоминаю лишь
один. При представлении его на звание старшего научного
сотрудника по специальности «История науки и техники»
бдительный помощник вице-президента Академии наук
Петра Николаевича Федосеева счел необходимым
сообщить об этом факте, и кандидатура Эрика Григорьевича
была снята с обсуждения.
С другой стороны, нельзя было, конечно, предполагать, что
это обстоятельство не оказало какого-то влияния на все, что
было связано с развитием научной деятельности Эрика
Григорьевича и нашего, тогда еще небольшого, коллектива.
И вот я хочу повести речь о двух эпизодах из истории
развития системных исследований в нашей стране, связанных с
деятельностью нашей группы и Эрика Григорьевича.
При этом я хотел бы оговориться: я буду, может быть,
говорить чаще о себе, чем о других, и это понятно — мне это
известнее. Но все, что мы делали, все предпринятые нами
шаги, конечно, согласовывались внутри нас, тогда уже
группы, получившей название БСЮ, с легкой руки одесских
шутников, «Блауберг — Садовский — Юдин», — и, конечно,
вся дальнейшая деятельность, не только тактическая, но и
научно-стратегическая, проходила под непосредственным
руководством Эрика Григорьевича Юдина, прошедшего
большую жизненную школу, которую нам, к счастью, не
пришлось пройти.
Итак, речь будет идти о проблеме отношений системного
подхода и философии и о двух эпизодах из истории этих
отношений.
Однако начало истории не имело никакого отношения к
проблеме системных исследований. Примерно в конце
532 И. В. Блауберг
1964 г. или начале 1965 г. на редколлегии «Вопросов
философии» обсуждалась рецензия Александра Петровича Шеп-
тулина на собрание сочинений Тодора Павлова в нескольких
томах. Сочинения эти недавно появились, рецензия
составляла примерно полтора печатных листа и представляла собой
набор достаточно известных вещей, что, видимо, было
связано и с текстом самого собрания сочинений. Я, будучи тогда
молодым ответственным секретарем и членом редколлегии
«Вопросов философии», выступил против такого объема
рецензии и настаивал на том, что рецензия должна быть не
больше чем на поллиста, при этом обязательное условие —
выделение тех новых моментов, которые содержатся в
данном собрании трудов. Редколлегия приняла это решение, по-
моему, примерно в таком объеме и вышла рецензия, и на
этом вроде бы все и закончилось.
В 1965 г., в июле, по дороге в Международный дом
журналистов в Варне я встретился в Софии с двумя
болгарскими коллегами — Крыстю Горановым и Азарей
Поликаровым, и они в разговоре в Софийском доме журналистов
сообщили мне, что в Институте философии Болгарской
академии наук, директором которого, естественно, был То-
дор Павлов, он выяснял у своего окружения, кто такой
советский философ Блауберг, который высказал такое
непочтительное мнение о его работах и рецензии на них. Они
дали понять, что это проблема не только информационно-
личного порядка.
После, уже в Москве, я слышал, что эта проблема
обсуждалась и в других кругах — среди наших сотрудников в
Болгарии, связанных, скорее, с некоторой политической,
чем научной деятельностью, где пытались выяснить
характеристики на меня. По счастью, человек, который эти
характеристики давал, оказался моим давнишним знакомым
по работе в комсомоле, и все, вроде бы, было
благополучно и на этом закончилось. Это был 1965. г. И поэтому,
действительно, громом среди ясного неба была для меня
публикация в журнале «Коммунист», № 15, октябрь 1969 г.,
письма в редакцию Тодора Павлова под названием
«Марксистско-ленинская философия и системно-структурный
анализ».
Что говорилось в этой публикации? Цитирую: «Одной из
важных задач, стоящих перед марксистско-ленинской
философией, является исследование природы и сущности тех
многообразных методических средств и приемов, которыми
Из истории системных исследований в СССР... 533
постоянно обогащается современная наука, в частности
системно-структурного анализа. Вместе с тем нельзя не
видеть, что при решении этого вопроса подчас допускаются
серьезные ошибки философского характера, о чем
свидетельствуют, например, некоторые выступления на
Всесоюзной конференции, посвященной методологическим вопросам
системно-структурного исследования, организованной
философским факультетом МГУ (см. «Вестник Московского
университета», философия, 1969, № 3). Так, И. В. Блау-
берг в своем выступлении утверждал, что возникновение
системно-структурных представлений есть якобы переход к
новому научному мировоззрению, требующему нового
подхода к традиционным проблемам. Следует со всей
решительностью и определенностью заявить, что такая позиция
глубоко чужда принципам диалектического и
исторического материализма, основана на неправомерной
абсолютизации роли системно-структурного анализа в познании.
Марксизм-ленинизм не отрицает, что макротела и микротела,
Вселенная и нейтрино, вещество и антивещество,
пространство и время, общество и человек, организм и
сознание и т. д. имеют свою структуру, и требует исследования
структур и структурных закономерностей. Это, безусловно,
верно. Но столь же верно и то, что изучение структур и
структурных закономерностей составляет задачу частных,
специальных наук. Философская же наука занимается
отношением бытия и сознания, общественного бытия и
общественного сознания. Установление того факта, что
бесструктурного бытия и бесструктурного сознания не
существует, не может, естественно, повлечь за собой пересмотр
коренных мировоззренческих выводов, сделанных
диалектическим и историческим материализмом на основе
философского обобщения всей истории познания и социальной
практики. Несомненно, что философские исследования
можно и нужно конкретизировать при помощи
частно-научных, специально-научных исследований, но это не
означает, что марксистско-ленинское научное мировоззрение
можно и нужно заменить каким-то «новым»
мировоззрением на основе «системно-структурного подхода» к
традиционным проблемам. Системно-структурный подход,
понятно, необходим в частно-научных исследованиях, в
языковедении, геологии, социологии, математике, кибернетике,
бионике, физике и т.д., но он не может упразднить или
подменить собой необходимость философских исследова-
534 И. В. Блауберг
ний бытия и сознания в свете основного или главного
вопроса философии, а в связи с этим и научного ленинского
определения философского понятия материи».
Я сейчас не хочу заниматься анализом содержательной
стороны высказывания Тодора Павлова. Это его известная
концепция об отношениях философии и частных наук,
устаревшая, видимо, уже и в то время. Меня интересует другая
сторона дела: как этот материал появился в «Коммунисте»?
Насколько можно восстановить события, материал был
получен непосредственно в секретариате М. А. Суслова, оттуда
быстро был направлен в «Коммунист», там готовился тоже
почти мгновенно, при этом подготовкой занимался Андрей
Филиппович Полторацкий, у которого в то время, видимо,
чувство партийности и классовости сильно превалировало
над общечеловеческими и религиозными соображениями. Он
даже не сообщил нам об этом событии, хотя был с нами
достаточно близко связан, и вот мы «попали», стали перед
фактом. Нужно еще добавить, что буквально на следующий день
после того, как был опубликован этот материал, мы должны
были своей «командой» лететь на очередной системный
семинар в Одессу.
И здесь возникла проблема: как тут быть, как
реагировать, что делать? Надо сказать, что большую роль сыграли
два человека. Во-первых, Семён Романович Микулинский,
который в те времена нас достаточно основательно
поддерживал, он был членом редколлегии ежегодника «Системные
исследования» с 1969 г. по 1972 г., а в то время был и
заместителем директора Института истории естествознания и
техники, естественно, человеком, заинтересованным в том,
чтобы на институт не падало какое-то темное пятно. Мы с
ним срочно поехали к Всеволоду Петровичу Кузьмину,
который в то время работал в секторе философии ЦК КПСС.
Его предложение было определенным и категоричным:
нужно немедленно писать письмо на имя заведующего отделом
науки ЦК КПСС. Немедленно!
И вот, собирая одной рукой чемодан для поездки в
Одессу, я писал это письмо. В нем говорилось: «Целиком
разделяя критическую направленность выступления академика
Тодора Павлова против попыток заменить
марксистско-ленинское мировоззрение системно-структурным подходом, я
должен со всей определенностью заявить, что не могу
считать себя в какой бы то ни было мере причастным к этим
попыткам. Безусловно, попытки отождествить системный
Из истории системных исследований в СССР... 535
подход с философским мировоззрением или, более того,
противопоставить системные исследования и
диалектический материализм способны принести лишь вред как
нашему мировоззрению, так и развитию системных
исследований. Именно эта мысль была одним из основных тезисов
моего выступления на указанной конференции. А тот факт,
что это выступление получило в обзоре столь неверное
освещение, я могу объяснить лишь тем, что при подготовке
обзора были нарушены элементарные правила публикации
материалов подобного рода. Выступления на конференции
не стенографировались и не представлялись в письменном
виде, были предварительно опубликованы лишь тезисы
докладов. Очевидно, авторы обзора не должны были
полагаться на собственное восприятие и понимание содержания
выступлений, а обязаны были завизировать у выступавших
содержание их выступлений, тем более, что им приписывались
столь ответственные высказывания. Но это не было
сделано. Во всяком случае, о существовании этого обзора я
впервые узнал из письма академика Тодора Павлова в журнале
«Коммунист». Следует добавить, что обзор этой же
конференции за подписью тех же авторов был опубликован
значительно раньше в журнале «Философские науки», 1968,
№ 5, а там смысл моего выступления передан совсем по-
иному. Что же касается моего понимания отношения
философии диалектического материализма и системного подхода,
то оно состоит в следующем: системный подход, системные
исследования, общая теория систем — эти термины в науке
еще окончательно не устоялись — представляет собой
общенаучное направление, подобное кибернетике, теории
информации и т. п., которое в его настоящем виде вызвано к
жизни развитием современной науки и техники и которое
имеет своей задачей разработку специальных средств
исследования и проектирования сложно организованных
объектов — систем. Как и кибернетика, системный подход не
может претендовать на статус философского мировоззрения,
хотя, разумеется, полученные с его помощью позитивные
научные результаты могут способствовать обогащению и
дальнейшему развитию как научного мировоззрения в
целом, так и его философской сердцевины. С другой стороны,
существо системного подхода, пути его разработки, его
место в современном научном знании могут получить
адекватную оценку и с позиций диалектического материализма, и
на основе использования тех принципов исследования
536 И. В. Блауберг
сложных систем, которые были сформулированы
классиками марксизма. Эта точка зрения была выражена в ряде
работ по проблемам системных исследований, в написании
которых я принимал участие, в частности, в брошюре
«Системный подход: предпосылки, проблемы, трудности», М.:
Знание, 1969, одним из авторов которой я являюсь.
Полностью присоединяясь к призыву академика Тодора Павлова
углубить анализ теоретических проблем
системно-структурного исследования с позиций марксистско-ленинской
методологии, я в то же время вынужден констатировать, что в
части, касающейся оценки моего выступления, письмо
академика Тодора Павлова основано на досадном
недоразумении, вызванном недостаточно ответственным подходом
авторов обзора к его подготовке. Именно это недоразумение и
побудило меня обратиться к Вам с этим письмом».
Оставив это письмо для отправки в ЦК, я утром улетел в
Одессу. Там уже было известно о тексте в «Коммунисте», и,
конечно, это было предметом многочисленных обсуждений,
тем более, что трудно было заранее предвидеть возможные
последствия этого дела не только для нас, но и для системных
исследований в широком смысле слова. Я сейчас не помню
подробности этих обсуждений, могу лишь сказать, что они,
видимо, превалировали над официальной темой системного
семинара.
Возвратившись в Москву, я довольно скоро узнал, что
вопрос о письме Тодора Павлова и моем ответе разбирался в
отделе науки ЦК и никаких претензий ко мне не было, то есть
вопрос был закрыт. Об этом я скоро получил и официальное
извещение, правда, в своеобразной форме. В чем состояло это
официальное извещение?
В Институте истории естествознания и техники, в коридоре,
наш тогдашний куратор из отдела науки ЦК Николай
Васильевич Марков отвел меня в сторону и сообщил об этом, т. е. не
было не только каких-то письменных сообщений, но даже
публичных, даже в присутствии хотя бы одного свидетеля. Тем
не менее, я мог быть удовлетворен.
Ясно, что такой конфиденциальный ответ на фоне
публикации в «Коммунисте», который в том номере имел тираж 730
тыс. экземпляров, не мог не подвигнуть кого-то из
«заинтересованных» людей к тому, чтобы все-таки воспользоваться
этой ситуацией и перед всей страной высечь человека,
виновного в умалении нашей философии. Ну, и такой человек,
конечно, нашелся.
Из истории системных исследований в СССР... 537
В начале 1970 г. я получил из вузовской среды известие о
том, что зам. министра высшего образования по
общественным наукам Николай Иванович Мохов в своих поездках по
стране и инструктивных докладах перед преподавателями
общественных наук (видимо, это было в начале второго
семестра), в общем, широко пользуется этим текстом, и фамилия
Блауберга звучит по всей стране. Пользуясь опытом борьбы с
отделом науки, мы с Вадимом Садовским и Эриком Юдиным
решили, что здесь тоже очень важно применить метод
быстрого реагирования, и я отправился в министерство. С помощью
Владимира Тиграновича Калтахчяна, который тогда был
начальником управления преподавания общественных наук,
довольно быстро я попал на прием к Мохову. Там был какой-то
деятель из ЦК ВЛКСМ, перед которым зам. министра должен
был вести себя соответственно; когда я изложил ему суть
дела, он сказал, что, действительно, выступал с этим текстом,
опираясь на «Коммунист», это вполне понятно. Я ответил, что
это я понимаю, но, однако, произошло недоразумение, о чем в
тех или иных формах известно. «Ну, откуда же известно?» —
спросил он. Я сказал, что, во-первых, об этом было написано
в журнале «Вестник Московского университета», серия
философия, но этот журнал не вызвал у него никакого пиетета.
Следующий ход был таким: я сказал, что предполагается
публикация в «Вопросах философии» нашей с Э. Г. Юдиным
статьи, где этот вопрос специально рассматривается, что и будет
некоторым официальным обоснованием для дезавуирования
этого текста.
Мы, действительно, в то время готовили статью
«Философские проблемы исследования систем и структур», которая
была опубликована в пятом номере «Вопросов философии» за
1970 г., и мы договорились с редакцией, что в ней будет
сделана следующая сноска: «В этой связи мы бы хотели
воспользоваться случаем, чтобы рассеять недоразумение, возникшее в
результате неверного изложения позиции одного из нас в
обзоре конференции по методологическим проблемам системно-
структурных исследований, опубликованном в журнале
«Вестник Московского университета», серия философия, 1969,
№ 3. Текст обзора дает возможность сделать вывод о том, что
мы якобы противопоставляем системный подход диалектике,
хотя это совершенно не соответствует нашим взглядам и
содержанию опубликованных нами работ».
Это заявление также не произвело впечатления на зам.
министра, он сказал, что «Вопросы философии» публикуют раз-
538 И. В. Блауберг
ные материалы — и правильные, и неправильные, и на них
ссылаться как-то не очень основательно в такой большой
союзной преподавательской аудитории. Тогда у меня остался
последний ход. Оглядевшись по сторонам, я сказал, что вопрос
обсуждался на заседании отдела науки ЦК КПСС, и Сергей
Павлович заявил, что ко мне нет претензий, что это
недоразумение. Тут Николай Иванович уже несколько привстал,
сказав, что об этом он, к сожалению, не знал, это важная
информация, и ему нужно сделать какие-то выводы, но они могут
быть только такие, что больше он мою фамилию в этом
контексте упоминать не будет; но, конечно, и извиняться или
каким-то образом дезавуировать сказанное до этого он вряд ли
будет. На этом мы с ним и договорились, и вопрос как будто
бы был закрыт.
Не считая индивидуальных всплесков, эта проблема
действительно всерьез не поднималась до конца 1975 г. Я начну
несколько с другой стороны. Будущий исследователь истории
советской философии XX в., возможно, обратит внимание на
некоторые загадочные обстоятельства: в 1977 г. в целом ряде
публикаций появились сообщения об обсуждении ежегодника
«Системные исследования», причем шести номеров — с
1969 г. по 1974 г. Надо сказать, что такого обсуждения не
было ни до, ни после, хотя сегодня мы уже имеем двадцать
выпусков ежегодника. Опубликованы эти материалы были в № 3
«Вопросов философии» 1977 г., в сборнике «Вопросы
истории естествознания и техники», в предисловии к ежегоднику
«Системные исследования» 1976 г. В общем-то, все это
сопровождалось достаточно положительной оценкой
ежегодника, смущало лишь то, что недостатки во всех этих текстах
формулировались достаточно единообразно, как будто бы
подсказанные, допустим, одним человеком. Но подчеркиваю, что,
действительно, оценка была положительной, и даже было не
очень понятно, почему нужна такая массовидная публикация
этого обсуждения.
Во всех текстах было сказано, что на расширенном
заседании Ученого совета Института истории естествознания и
техники Академии наук СССР в мае 1976 г. происходило
обсуждение работы ежегодника «Системные
исследования», содержания шести его выпусков, и были намечены
меры дальнейшего улучшения издания. Вот, собственно,
и все.
Но что же стояло за этим обсуждением? И здесь мы
переходим ко второму факту из истории системных исследований,
Из истории системных исследований в СССР... 539
связанному именно с этим мероприятием. Середина 70-х гг.
была периодом разгула идеологической дубинки в лице
тогдашнего секретаря горкома партии по идеологии Владимира
Николаевича Ягодкина. Расправившись в силу своего
понимания — о компетентности я не говорю, ею там и не пахло — с
такими академическими институтами, как Институт истории
СССР, Институт экономики, ЦЭМИ, Институт философии, с
журналом «Вопросы философии», он решил взяться за
ежегодник «Системные исследования».
Это нашло свое выражение в том, что примерно летом
1975 г. Семён Романович Микулинский, тогда уже директор
Института истории естествознания и техники, сообщил мне,
что он был на даче у Ягодкина. Там, естественно, шла
беседа об институте, о судьбах науки, такие беседы проходят
всегда, и, между прочим, Ягодкин спросил: «Вот у вас
системники, как вы с ними?» Семен Романович ответил: «Да,
они у нас есть, мы их критикуем». Ягодкин ответил:
«Критикуете? Это хорошо».
Эта беседа не получила, видимо, непосредственного
продолжения, но «запала в душу», по крайней мере, одному из
участников, и стали, похоже, продумываться какие-то
организационные мероприятия. Во всяком случае, уже ближе к
концу года мне было сообщено, что предполагается беседа в
отделе, вернее, в секторе философии ЦК партии, которым
тогда заведовал Н. П. Пилипенко, и что я должен быть к
этому готов.
Но этому предшествовали драматические события. 5 января
1976 г. умер Эрик Григорьевич Юдин, и все наши дела
показались мелкими дрязгами и отошли на второй план...
Однако жизнь в институте шла своим чередом, интрига
раскручивалась, как ей положено, и Микулинский в начале
января сообщил мне, что 14 января в секторе философии ЦК
будет обсуждение ежегодника, куда приглашают и меня...
Сказано было как-то мимоходом, без какой-то
предварительной договоренности, и для всех, кто знал Микулинского и его
отношения с этим партийным органом, было ясно, что там
все уже предрешено и мое появление — это, скорее, чистая
формальность.
Кульминация всего этого действия имела место,
по-видимому, 13 января, когда было девять дней со дня смерти
Эрика, у него на квартире на проспекте Вернадского. В
разгар этого вечера, а точнее, уже к концу его В. П. Кузьмин,
на которого, видимо, подействовала обстановка (а он не
540 И. В. Блауберг
был на похоронах), сказал мне по секрету: «Я хочу
проверить тебя на умение держать язык за зубами. Ягодкина
снимают, но об этом не должен никто знать». И вот с этой
информацией на следующий день утром я явился в ЦК КПСС,
там уже были сотрудники сектора философии, а также Ми-
кулинский, Федоров, Шухардин. Видимо, все обсуждалось
заранее, мне вручили некий текст без подписи, сказали,
чтобы я отошел с ним ознакомиться и с его учетом
рассказал о работе ежегодника.
Сидя в «предбаннике», на фоне прогуливающихся
невдалеке Георгия Лукича Смирнова, Виктора Григорьевича
Афанасьева, Ричарда Ивановича Косолапова, я начал изучать
этот текст. Текст был ужасный. Название его: «Справка о
ежегоднике «Системные исследования», издаваемом
Институтом истории естествознания и техники Академии наук
СССР, Москва, «Наука», т. 1—6, 1969—1974 гг.». В восем-
надцатистраничном объеме этой справки всего две—три
фразы дают позитивную оценку ежегодника. Звучат они так:
«Особенно интересны те статьи, в которых применяется
системный подход к анализу проблематики частных наук —
биологии, географии, этнографии и др.». Заметим вскользь, что
ни одной статьи по этнографии в ежегоднике опубликовано
не было. «Каждый последующий выпуск «Системных
исследований» в этом отношении может рассматриваться как шаг
вперед» (стр. 3).
Вот и вся позитивная часть. Далее — анализ недостатков.
Выводы, которые суммарно могут быть представлены в
следующем виде.
1. «В ряде статей ежегодника делается попытка
противопоставить системные методы диалектики, подменить
диалектику этими методами». Вспоминается текст Тодора Павлова.
2. «Многие статьи отличаются схоластичностью,
нарочито подчеркиваемым уходом в сферу формальной логики,
отходом от диалектико-материалистических методов
исследования».
3. «Редколлегия ежегодника занимает ошибочные позиции
в вопросе о публикации и оценке немарксистских авторов
прошлого и настоящего». Как выясняется, самый главный
автор прошлого — это А. А. Богданов.
4. «Материал ежегодника не связан с задачами, которые
вытекают из сегодняшней практики социального, культурного
и научно-технического развития социализма в нашей стране и
братских странах социалистического содружества».
Из истории системных исследований в СССР... 541
5. «Ежегодник стоит в стороне от идеологической борьбы
против буржуазной идеологии и ревизионизма. Более того, в
статьях ряда авторов — М. К. Петрова, Б. Г. Юдина, А. И. Ка-
ценелинбойгена (обратите внимание на перечень. — А/. Б.)
допущены политические ошибки».
6. «В ежегоднике выступает одна и та же узкая группа
авторов. Складывается впечатление, — говорится в
«Справке», — что в «Системных исследованиях» сложилась
замкнутая группа людей, занимающихся пересказами теорий
Богданова, Берталанфи и др. и отнюдь не склонных к разработке и
использованию методологии и мировоззрения
диалектического и исторического материализма» (последняя, восемнадцатая
страница).
Легко представить, каково было бы мне, если бы
информацию о Ягодкине я не получил за день до этого обсуждения. Но
сейчас, признаюсь, меня больше всего интересовал вопрос,
кто же автор (или авторы) этого текста. Довольно быстро я
его идентифицировал, и пару часов спустя в институте мою
догадку подтвердил Илья Семёнович Тимофеев. Это был не кто
иной, как Лев Николаевич Суворов. Тогда многое стало на
свои места, это можно было понять и по отношению к
Богданову, и по отношению к формальной логике, и по ряду других
вещей.
После этого я был приглашен на обсуждение, оно было в
принципе скомкано, сказано было, чтобы этот материал не
брать за оценку, а его учитывать, и что после обсуждения
нужно пойти в институт и там, так сказать, дождавшись
возвращения наших товарищей, договориться о дальнейшей
деятельности. Не успел я прийти в институт, уже был звонок «оттуда»,
чтобы не принимать во внимание этот текст, рассматривать
его всего лишь как справочный материал. То есть фейерверка
не получилось. Я думаю, можно вполне определенно сказать,
что политическая смерть Владимира Николаевича Ягодкина и
его присных в лице того же Суворова наступила именно в тот
день, когда они решили обсуждать ежегодник «Системные
исследования». Однако машина была запущена, никакого
другого текста в секторе философии ЦК не было, видимо,
обсуждение ежегодника было запланировано, и так оно и пошло. Оно
было запланировано на май, в мае оно и состоялось.
Теперь на минутку представим себе, что агония еще не
наступила и первоначальная цель обсуждения была достигнута.
Очевидно, что здесь наиболее яркий пример должны были
представить политические обвинения в адрес ежегодника, по-
542 И. В. Блауберг
скольку они по определению считались «неотбойными».
Рассмотрим два примера. Первый касался статьи Каценелинбой-
гена, который в своей статье в ежегоднике, посвященной
проблеме ценностей, писал: «По-видимому, нельзя отрицать тот
факт, что «в открытом море нельзя без кормчего», но вряд ли
допустимо те условия, которые порождают способ управления
кораблем в открытом море, считать всеобщими для
социально-экономической системы и пытаться на этом основании
унифицировать механизмы его функционирования».
Комментарий авторов справки: «Каценелинбойген
переходит к важнейшему вопросу марксизма, вопросу авторитета и
централизованного управления общественными явлениями: и
эта цитата показывает, что лежит под спудом нарочито
усложненных и абстрактных рассуждений этой статьи».
Очевидно, здесь авторы (или автор) справки
«подставились», поскольку широко известно, что тезис «в открытом
море нельзя без кормчего» является одним из главных
лозунгов маоистской пропаганды, призванным обосновать
необходимость культа личности Мао Цзэдуна. Я писал в ответ на
эту справку, что совершенно непонятно, как люди,
выступающие от имени марксизма-ленинизма, смогли увидеть в
этом тезисе адекватное выражение марксистского понимания
авторитета или централизованного управления
общественными явлениями.
Второй пример еще более показателен. Две страницы в
тексте Суворова уделены статье Бориса Григорьевича
Юдина «Процессы самоорганизации в малых группах». Главное,
что вменяется в вину автору статьи, — это использование
терминов формальной и неформальной организации, в чем
усматривается проявление буржуазной идеологии.
Недостаточное понимание сути различения формальной и
неформальной организации в малых группах приводит к тому, что
в качестве примера формальной организации в малой
группе в «Справке» называется партия и другие массовые
организации, а также государство. Это, естественно, не имеет
никакого отношения к проблематике малых групп. Точно
так же не имеет никакого отношения к неформальной
организации и шайка расхитителей, фигурирующая в «Справке»
в качестве примера.
Думаю, что нет необходимости сегодня говорить о
возможности разработки понятия неформальной организации. Во
всяком случае, и по поводу этой статьи и по поводу
обвинений, которые касались статьи Петрова и были столь же неос-
Из истории системных исследований в СССР... 543
новательными, мы имели возможность дать общий вывод:
обвинение в том, что в ряде статей ежегодника допущены
политические ошибки, фальсификация вопроса о роли партии и
ее научного мировоззрения в развитии социалистического
общества, следует категорически отмести как совершенно
необоснованное и клеветническое. Это правильный вывод,
но представьте себе, что эти обвинения произносятся с
трибуны какого-то большого форума, чему часто мы были
свидетелями. Думаю, что с такой нашей оценкой нас бы, конечно,
близко к этой трибуне не допустили.
Общая же оценка текста Суворова звучала в моей
объяснительной записке на сорокадвух страницах следующим
образом: «В "Справке" о ежегоднике "Системные
исследования" не дана объективная картина положения дел с этим
изданием. Авторы "Справки" подошли к оценке ежегодника
явно тенденциозно и прибегли к приему передержек,
неточного цитирования, бездоказательных и необоснованных
обвинений, что несовместимо с принятыми в нашей стране
нормами научной критики. Содержание "Справки"
фактически зачеркивает все, что сделано ежегодником, взявшим на
себя сложную и трудную задачу содействовать развитию в
нашей стране нового направления научных исследований.
Сопоставление "Справки" с материалами ежегодника и
другими публикациями сотрудников сектора системного
исследования науки заставляет сделать вывод, что позиция
авторов "Справки" продиктована не интересами дела, а
узкогрупповыми соображениями. В связи с этим хочется еще
раз напомнить, о чем недавно говорилось в редакционной
статье газеты "Правда", озаглавленной "Высокий долг
советских философов": "С коммунистической научной этикой
несовместимы хотя бы малейшие претензии на чью бы то ни
было монополию и проявления групповщины, чем бы они
ни оправдывались. Подчас необоснованно хлесткие оценки
поисковых научных работ, ведущие к замораживанию мысли
и удобные лишь для некомпетентных лиц, так же, как
идейно-методологическая бесхребетность, размывание
принципов, ведущих к теоретическим и политическим ошибкам,
равно неприемлемы среди философов-марксистов,
находятся в очевидном противоречии с их партийным и
профессиональным долгом" ("Правда", 19 сентября 1975 года).
Характер "Справки" подтверждает справедливость этих слов».
Это оценка, которой не стыдно и сегодня. Но и она носила
кулуарный характер и не вышла практически за пределы ин-
544 И. В. Блауберг
ститута. А между тем текст Суворова и какие-то дополнения
стали достаточно широко распространяться по
идеологическим учреждениям Москвы, в институтах Академии наук и
дошли, в конце концов, до Леонида Федоровича Ильичева. Он
в это время занимался объединением двух своих прежних
работ — «Строительство коммунизма и общественные науки» и
«Методологические проблемы науки» в общий текст под
названием «Философия и научный прогресс», который вышел в
свет в 1977 г. В этой книге нашли отражение некоторые
отзвуки суворовских писаний, плюс к тому появились, видимо,
какие-то новые доброхоты. Здесь были два момента,
обращенные против Блауберга, Садовского и Юдина. Первый
вопрос был связан с отношением методологии и теории, и у
Ильичева было сказано, что в работе Блауберга и Юдина
«Становление и сущность системного подхода» утверждается, что
методология оторвана от теории и что процесс построения
теории — чисто умозрительное движение. Приходится
заметить, что, если бы у нас была такая формулировка, она
заслуживала бы самой серьезной критики. Однако в книге
Блауберга и Юдина сказано так: «Вместе с тем это — не чисто
умозрительное движение. Формирование предмета исследования
невозможно без формирования адекватного ему предметного
содержания» (С. 82). То есть несерьезность по отношению к
тексту, возможность некорректного цитирования объединяет
Суворова и Ильичева.
И второй вопрос, который также в свое время поднимался в
«Справке» Суворова. Я об этом не говорил, имея в виду
возможность рассмотреть это теперь. Речь идет о проблемах
статуса системного подхода и общей теории систем и проблеме
метатеории. У Ильичева написано: «Хотят авторы этого или нет,
но, поднимая значение системных методов до "метатеории",
они, по сути дела, противопоставляют системный подход
методологии диалектического материализма... Можно понять, когда
на позициях фетишизации теории систем стоит Берталанфи,
утверждая, что созданная им теория "систем" будет знаменовать
собой "революционный переворот научной методологии",
"рождение нового стиля мышления" и даже "новое мировоззрение
и новую философию", но трудно понять, когда подобную точку
зрения высказывают советские философы» (С. 117—118).
И вот Вадим Николаевич Садовский, как специалист по
этому вопросу, отвечал ему так: «Весьма трудно понять смысл
выражения "поднимая значение системных методов до
"метатеории" (где к тому же этот термин почему-то взят в кавычки)».
Из истории системных исследований в СССР... 545
Действительно, в работах Садовского и, в частности, в его
монографии «Основания общей теории систем» (М.: Наука,
1974) на основе анализа различных вариантов общесистемных
концепций, существующих в советской и зарубежной
литературе, был сделан вывод о неплодотворности и противоречивости
трактовки общей теории систем как общей (обобщенной)
научно-технической теории, из которой можно было бы вывести
особенности отдельных классов систем, и была предложена
концепция общей теории систем как метатеории относительно
специализированных... теорий систем и различных системных
концепций и разработок. Метатеория понимается здесь как
характеристика такого типа анализа, который направлен на
исследование не объектов как таковых, а знаний об этих объектах
(«в этом смысле в качестве мета-теоретических дисциплин
выступают, например, теория науки, методология науки и т. п.).
Эта теория включает два аспекта: синтаксический и
семантический. «Мы полагаем, — заключал Вадим Николаевич, — что
после этого по необходимости пространного объяснения любой
непредубежденный читатель согласится с тем, что выражение
"поднять значение системных методов до "метатеории" не
содержит никакого рационального смысла — а тем самым и
выдвинутое на этом основании обвинение в противопоставлении
системного подхода диалектическому материализму».
Свою позицию мы с Вадимом Николаевичем Садовским
изложили в письме в редакцию «Вопросов философии», но факт
оставался фактом. Книга Ильичева вышла, на нее готовилась
рецензия Т. И. Ойзермана, и как-то нужно было выходить из
положения и рецензенту, и редакции. И вот здесь проявил себя
совершенно бесподобным диалектиком Бонифатий Михайлович
Кедров. Он нашел такой способ, что все три стороны были
удовлетворены: и автор книги, и рецензент, и критикуемые в
книге авторы-системники. Как это выглядело в тексте?
Отмечалось, что очень важно, что в книге Ильичева идет речь о
системно-структурном подходе, что он выступает против его
универсализации и в то же время говорит о его важности. И
дальше, «правильно критикуя Л. Берталанфи и других теоретиков,
выдающих системный анализ "за новое мировоззрение и новую
философию", автору книги следовало бы, на наш взгляд,
отметить исследования советских философов (И. В. Блауберга,
Д. М. Гвишиани, В. И. Кремянского, В. П. Кузьмина, В. Н.
Садовского, Э. Г. Юдина), стремящихся с позиций
марксизма-ленинизма разрабатывать теорию систем. Их научные результаты
были отмечены философской общественностью». Итак, полу-
546 И. В. Блауберг
чалось — вроде бы и упоминаний об этих философах в книге
нет. Благо, работа Ильичева была такого сорта, которую вряд
ли кто-то специально бы стал читать, да еще и перечитывать.
И все это осталось как некоторый курьез, на который я хочу
обратить внимание.
В заключение следовало бы обобщить все сказанное. Та
двухактная история борьбы идеологически-партийного
аппарата против развития методологической проблематики системных
исследований, о которой я говорил, имела свой карьеристский,
личностный, связанный со сведением счетов и т. д. поспудный
смысл и отнюдь не диктовалась чисто научными, пусть даже
отработанными идеологическими соображениями типа борьбы
«за чистоту», или «за широту», или «за полноту» марксизма.
Конечно, вряд ли можно было ожидать от инициаторов этой
кампании чего-либо иного, учитывая характер их карьеры,
уровень профессиональной компетенции, тип используемых
подручных (доносчики, они же «эксперты», как правило, анонимные).
Но мне хотелось бы закончить свое выступление на
оптимистической ноте. Оглядываясь сейчас назад, нельзя не
признать, что возникшая опасность заставила всех нас — и здесь
невозможно переоценить быстроту реагирования Эрика
Григорьевича Юдина, его умение просчитать ситуацию на
несколько шагов вперед, способность быстро и безошибочно
найти точки допустимых компромиссов, — заставила всех нас
сформулировать основные принципы советской концепции
системных исследований, уровни методологического анализа,
отношения системного подхода и диалектики, понимания
общей теории систем как метатеории и т. п., короче говоря, тех
проблем, которые (часто вопреки, а не по воле
первоначальных «инициаторов») практически оказались в центре
проводившихся научных обсуждений.
И в этом я вижу своеобразную апологию диалектики: «не
было бы счастья, да несчастье помогло». И здесь вполне
уместно привести маленькую выдержку из фельетона Ефима
Смолина «Светлое будущее» («Юность». 1990. № 1. С. 95), где
описывается гипотетическая картина грядущего изобилия у
нас к двухтысячному году: «У нас потрясающий товарообмен и
дружба со всеми странами. Израиль прислал тонну
апельсинов в обмен на членов общества "Память". Их расселили в
лесу как лесных санитаров. Как говорится, на то и "Память" в
лесу, чтобы еврей не дремал...» Я думаю, одна из функций
аппарата здесь хорошо описана, причем не только в переносной,
но и в прямой форме.
Ю. А. Шрейдер
Загадочная притягательность
философии (субъективные заметки)*
/1 хочу попытаться рассказать о своем пути к
серьезным занятиям философией, полагаясь только на то,
что отложилось в памяти, порой сверяясь с другими
свидетельствами. Это всего лишь заметки очевидца и
участника описываемых событий.
Начало пути
Я не получил профессионального философского
образования и в стремлении заниматься философией
не сразу осознал, на что, собственно, трачу усилия.
Не получив заранее готовой установки по отношению
к предмету и цели философии, я фактически отнесся
к выработке и осознанию этой установки как к
философской проблеме. Мне было важно осознать, чем
фактически я занимаюсь. Для этого существенно
было иметь референтную группу, реакция которой
необходима, чтобы скорректировать самооценку.
Именно об этой группе здесь пойдет речь. Это —
отчасти воспоминания, отчасти исповедь, отчасти
изложение собственной позиции по отношению к
философии и того, как эта позиция формировалась. Понять,
* Философия не кончается... Из истории отечественной
философии. XX век. В 2-х кн. / Под ред. В. А. Лекторского. Кн. II.
60-80-е гг. М., 1998. С. 171-206.
548 Ю. А. Ш рейдер
чем я занимаюсь на самом деле, мне помогли мои друзья
философы, признавшие во мне «своего» после первой
публикации в 1969 г., которую они расценили как философскую. Она
мне принесла знакомство, а затем и дружбу с философами, не
воспринимавшими свою область деятельности как
обслуживание идеологических задач. Для меня же обнаружить
существование в рамках вполне официальных философских структур
людей, мыслящих о философии гораздо глубже и свободнее,
чем большинство известных мне ученых — естественников и
технарей, оказалось приятным сюрпризом.
Начало моей «любви к мудрости» положил вспыхнувший к
середине 60-х гг. интерес к религиозной проблематике. Дело в
том, что для меня занятия наукой не были просто профессией
или средством честно заработать приличные деньги. Когда я,
выбирая жизненный путь, предпочел мехмат университета
инженерной карьере, последняя еще оплачивалась гораздо
лучше, чем карьера научная. Я рос в убеждении, что наука — это
единственный способ понять Мир, а сам я занимаюсь
наиболее совершенной из наук — математикой. Но в 60-е гг. я
заинтересовался религиозными проблемами. Первоначальным
толчком послужил интерес к церковной архитектуре и
иконописи. Все это было настолько серьезно, что не могло быть
только плодом изощренного субъективного воображения.
Такое искусство могло быть порождено только высшей
реальностью. Но вокруг было принято считать, что существование
такой реальности в корне противоречит научным
представлениям о мире. Вопрос для меня не сводился к банальной
постановке: противоречит ли религиозная концепция бытия
научным представлениям. Для меня более важно было другое:
способна ли наука вообще судить о религии, распространяется
ли сфера компетентности науки на абсолютную истину?
Например, способна ли наука быть обоснованием этической
системы? Если бы я до того внимательно проштудировал Канта,
то ответ был бы очевиден. Но мне пришлось реализовать свою
«любовь к мудрости» самочинно, без опоры на опыт
человечества. Прочитав статью известного математика, академика
А.Д.Александрова о научных основах морали, я понял, что
для меня совершенно неубедительно, что наука не способна в
принципе служить обоснованием морали. Соображения о
науке и религии, о фундаментальности религиозных истин я стал
записывать для себя. В результате получилась рукопись книги
«Неизбежность христианства». Название выражало мое
личное ощущение неизбежности такого выбора, что и реализова-
Загадочная притягательность философии... 549
лось 7.10.1970 г. в католическом храме святых Петра и Павла
города Таллина, где я принял крещение. Хотя саму книгу я
публиковать не собирался, на ее основе я написал статью
«Наука — источник знаний и суеверий», опубликованную в
«Новом мире» (1969. № 10) благодаря доброму отношению
Ефима Яковлевича Дороша (писатель, стоявший у истоков
«деревенской прозы», в то время член редколлегии «Нового
мира». Был резко против публикации известной статьи А.
Дементьева против В. Чалмаева), с которым я до этого не был
знаком. Редактором этой статьи был Ю. Г. Буртин,
впоследствии известный демократический публицист. Работать с ним
было сплошным удовольствием. Эта статья, с одной стороны,
оказалась для меня «пропуском» в философское сообщество,
а с другой стороны, вызвала гнев идеологического начальства
и два отрицательных отклика в печати. Первый из них,
написанный А. Д. Александровым, был через год (то есть уже
после ухода А. Т. Твардовского) опубликован в «Новом мире».
У меня хранится первоначальный вариант письма
Александрова, где через каждую страницу повторяется припев «дальше в
попрании марксизма и истины идти некуда, но Ю. А. Шрейдер
идет дальше». В печати этот припев был убран — слишком
уж напоминал «клятву» Сталина и выступление Берии над
гробом последнего. Второй отклик был опубликован другим
академиком в сборнике «Вопросы научного атеизма» (М.,
1972. Вып. 10). Из него было ясно, что Бонифатий
Михайлович Кедров сделал все, чтобы его статья не стала против меня
орудием травли. Кедров написал свой пространный отклик на
мою статью с благородной целью: публикация этого отклика в
«Новом мире» должна была предохранить редколлегию от
гнева Трапезникова — тогдашнего деятеля из ЦК, но журнал
при Твардовском отказался от защиты такой ценой, а статья
Александрова была опубликована уже после последовавшей
вскоре отставки Твардовского.
В 1974 г. я впервые встретил Бонифатия Михайловича на
конференции в Алуште и решил, что долг требует от меня
представиться первому. Бонифатий Михайлович вскинул руки и
воскликнул: «Вы на меня не обиделись?!» Я ответил, что,
наоборот, оценил человечность его отношения к критикуемому
автору и почувствовал к нему признательность. Позже я имел
еще случаи убедиться в личной добропорядочности Б. М.
Кедрова даже к тем, чьи убеждения не так уж совпадали с его
собственными. Один из них представился довольно скоро. Той же
зимой 1974 г. проходил в клубе МГУ на улице Герцена (Б. Ни-
550 Ю. А. Шрейдер
китской) вечер памяти Александра Александровича Любище-
ва — биолога, известного своими симпатиями к платонизму и
витализму. И вот Э. Г. Юдин, В. Н. Садовский и А. П. Огурцов
уговорили Кедрова явиться на этот вечер и сесть в президиуме.
В те годы это было очень важной поддержкой в посмертной
публикации трудов Любищева и статей о нем.
С А. А. Любищевым я познакомился в 1968 г. у Надежды
Яковлевны Мандельштам. Потом завязалась переписка по
философским проблемам биологии, был обмен текстами.
Была еще встреча, когда он, ходивший на костылях,
направлялся через Москву в Питер и зашел ко мне на пару часов
передохнуть перед поездом. В 1972 г. он умер, а потом мы
втроем (Рэм Баранцев, Сергей Мейен и я) отправились в
Ульяновск разбирать его рукописи, за которыми несколько позже
приехал ныне покойный математик Сергей Маслов. О Люби-
щеве я писал неоднократно, а здесь хочу только отметить, что
деятельности по публикации его наследства и популяризации
его идей (недарвиновская эволюция, естественная система
классификации, многообразие уровней реальности и т. д.)
активно способствовала целая группа философов: Регина
Семёновна Карпинская, Альберт Алешин, Игорь Лисеев, Валерий
Шуков и др. Идеологические обвинения против Любищева
(платонизм, витализм, антидарвинизм и т.п.) выдвигали
его коллеги-биологи. Надо сказать, что философская среда
70—80-х гг. весьма благожелательно относилась к
ученым-естественникам, проявлявшим активный интерес к
философским проблемам науки. Эта сфера, включающая методологию
науки, представлялась им благотворным источником
философских идей, лишенным (и это не последнее обстоятельство)
идеологической окраски. Впрочем, моя первая работа,
замеченная философами, была опубликована в 1965 г.
(«Проблемы кибернетики». Вып. 13). Это была работа, где я предлагал
измерять семантическую информацию в сообщении через
степень изменения тезауруса адресата, принимающего это
сообщение. Мне казалось, что коренной недостаток этой работы в
том, что я не мог предложить единственной естественной меры
такого изменения. Важной частью работы был график,
показывающий характер изменения количества принятой
информации от количества информации, накопленной в тезаурусе.
(Кстати, от этой работы и распространилось теперь уже
ходячее понимание тезауруса как системы логических (языковых)
знаний личности или сообщества.) На графике было видно,
что слабый тезаурус не воспринимает ничего (не понимает со-
Загадочная притягательность философии... 551
общения), а слишком информированный не получает ничего
нового, т. е. тоже нулевую информацию. Хотя мера, по моему
мнению, должна была выбираться в зависимости от конкретно
моделируемой ситуации. На эту статью живо откликнулись
психологи, а среди философов В. Г. Федотова (ныне доктор
наук, а тогда юная аспирантка МГУ).
Через тридцать лет я обнаружил, что мой старый график
приведен как некое принципиальное достижение в докторской
диссертации по философии, на которую я только что написал
вполне похвальный отзыв. Неопределенность выбора меры в
ней оправдывалась «полифундаментализмом
постнеоклассической науки». Боже, я-то жил еще в период, когда о
неоклассической науке мы только пытались заговорить и это
вызывало бешеное сопротивление! Увы, диссертантка ссылалась не
на меня, а на книгу М. В. Волькенштейна (1980), который не
счел нужным на меня сослаться, хотя явно был знаком с моей
работой. Собственно, это и есть наибольший успех идеи, когда
она входит безымянной в культурную традицию...
Первые «философские знакомства»
Философская конференция в Алуште по проблемам
творчества (1974 г.) была для меня первым приглашением в
профессиональную среду философов. Считалось, что мои работы по
семантической теории информации имеют к этому вопросу
прямое отношение. Кроме Б. М. Кедрова, мне там запомнились
А. В. Гулыга, который при мне объяснял Елене Сергеевне
Вентцель (она же И. Грекова), что среди советских философов
есть гегельянцы, позитивисты, кантианцы, экзистенциалисты и
один платоник (А. Ф. Лосев), но все они считают себя
марксистами (или выдают себя за таковых). Были там братья
Юдины — Эрик и Борис, А. Г. Спиркин, Д. И. Дубровский, а также
М. В. Волькенштейн, который сказал мне что-то лестное о
моих работах. Именно в Алуште я внезапно ощутил, что мои
публикации были замечены философами. Однако первым из
философов, с которым я всерьез сдружился на почве общего
понимания проблем, которыми мы оба считали нужным
заниматься, был ныне покойный Эрик Григорьевич Юдин.
Незадолго до его смерти мы долго гуляли вдвоем по проспекту
Вернадского в том месте, которое увековечено в фильме «Ирония
судьбы», обсуждая перспективы создания независимого
журнала, посвященного волнующим нас вопросам, — естественно,
552 Ю. А. Шрейдер
имелся в виду журнал не подцензурный, выпускаемый
общественной группой. Не знаю, дошло ли бы дело до реализации
замысла, но скоропостижная кончина Эрика Григорьевича
разрушила эти планы. Через Эрика я сдружился и с другими
философами — Вадимом Садовским, Борисом Юдиным и др. Это
было начало «вхождения в среду», помогшее мне осознать свое
личное призвание к философским занятиям и отнестись к ним с
необходимой серьезностью. Это общение помогло мне в
известной мере восполнить пробелы в профессиональной
подготовке, овладеть необходимыми навыками философского
дискурса и ориентироваться в литературе.
Эрик был тогда одним из лидеров группы, занимавшейся
так называемым «системным подходом» как методологией
науки (и не только науки).
В группе философов, поднявших знамя системных
исследований, меня привечали именно как ученого с солидной
репутацией, проявляющего явный интерес к философским аспектам
науки. Я активно публиковался в сборнике «Системные
исследования», что считалось высоким уровнем признания. Об
этой группе накопилось уже не так мало воспоминаний, но я
остановлюсь только на одном чисто оценочном моменте.
В системной проблематике, равно как и в методологии, логике
и философии науки, была привлекательная возможность
дистанцироваться от идеологического влияния. Собственно,
феномен системности (целостности), представляющий
несомненный философский интерес, был бы недостаточен для
объединения столь значительного количества ярких людей под
общее знамя. Не случайно, что после снятия идеологического
пресса системное движение сильно поредело. Не случайно и
то, что человеческие связи системщиков, логиков и
методологов оказались очень тесными. Мне довелось публиковать
работы и по анализу понятия системности (с выделением
противопоставления «система — множество»), и по анализу
методологических установок (эвристик), и по,исследованию науки
как феномена человеческой деятельности. Однако меня
совершенно не привлекала методология как способ проектирования
деятельности. В этом мне виделось посягательство на свободу
человека. Гораздо интереснее в методологии перспектива
описания многообразия возможных методов и их связь с
онтологическими представлениями. Эту идею мне удалось выразить в
статье «Познавательные установки и космологические
представления» («Системные исследования — 1976»). Позже я ее
сформулировал как принцип «методологического порочного
Загадочная притягательность философии... 553
круга»: метод исследования определяется представлением об
онтологии объекта, а последнее имплицитно содержится в
выбираемом методе. Системное движение было для меня
хорошей питательной средой, которая в силу своей
принципиальной неидеологичности притягивала многих сочувствующих и
не превращалась поэтому в секту со своей доморощенной
идеологией, отличалось своей готовностью объединять
широкий спектр персональных интересов.
Мои дружеские связи (в первую очередь с братом Эрика —
Борисом Юдиным) и репутация «пишущего», вероятно,
послужили причиной приглашения на страницы «Вопросов
философии», где в 70-е гг. я опубликовал три большие статьи.
Одна написана в соавторстве с С. В. Мейеном — о
классификациях, посвященная двойственности таксономии и мероно-
мии, другая — с Н. Я. Виленкиным об объектах математики, а
третья (без соавторов) была посвящена проблеме машинного
разума. В ней я в качестве отличия машинного «мышления»
от человеческого приводил целеустремленность первого и
ориентированность второго на ценности, а не цели. Этическая
проблематика остро волновала меня еще с новомирской
публикации, и, в конце концов, я издал «Лекции по этике» (М.,
1994). В упомянутой статье я тайком просунул собственный
стишок под названием «155-й сонет Шекспира». Редактор
убрал кавычки, и Шекспир стал автором еще одного сонета,
который осталось лишь перевести на староанглийский, что мне
явно не по силам. О ценностно ориентированном поведении я
написал потом статью в сборник «Психологические
механизмы регуляции социального поведения» (М., 1979).
Вхождение в среду
Переход группы «системщиков» во главе с В. Н. Садовским
в Институт истории естествознания и техники (ИИЕТ) привел к
тому, что я туда зачастил и близко познакомился с
философами-«науковедами» из секторов Б.М.Кедрова и
И.С.Тимофеева. Здесь была какая-то особая, неповторимая атмосфера
увлеченности самим процессом философствования.
Философская мысль воспринималась как ценность сама по себе, а не как
путь к частному результату или построению философской
концепции, всеобъемлющей системы, которой суждено
превратиться в нечто обязывающее всех способных в ней разобраться.
Мне кажется, что стремление к таким всеохватывающим фило-
554 Ю. А. Шрейдер
софским системам, к созданию общеобязательных
методологических принципов плохо совместимо с любовью к мудрости, ибо
созданная система сама претендует на эту любовь, заранее
олицетворяя мудрость. В среде философов ИИЕТа центр
интересов лежал в области философии науки — изучения науки как
познавательного и социального феномена в общекультурном
историческом контексте. Общий философский уровень этой
среды определялся присутствием в ней Мераба
Константиновича Мамардашвили, Николая Федоровича Овчинникова, Пиа-
мы Павловны Гайденко, Александра Павловича Огурцова и
многих других. Здесь полагалось знать идеи Куна, Поппера, Ла-
катоса, Агасси, Коллингвуда и других современных зарубежных
философов. Хотя собственно философская проблематика
концентрировалась на вопросе «что есть наука в ее историческом
развитии», это не сужало философскую мысль, но освобождало
ее от принятых в советское время идеологических реверансов и
спекуляций. Интерес заключался не в том, чтобы указать,
какой должна быть наука, но в том, чтобы выяснить, какова она
на самом деле, а не только в рефлексии самих ученых. При этом
сама эта рефлексия оказывалась важным компонентом
исследуемого предмета.
Атмосфера философского сообщества, в которое я попал в
конце 70-х, ярко проявилась в том, как 14.11.1995 г. мы все
собрались в восьмидесятилетие Николая Фёдоровича
Овчинникова, который за эти годы незаметно превратился в нашего
патриарха. Дело здесь не в возрасте и не в философском
лидерстве, а в особых личностных качествах — доброте и
ответственности. Я вдруг понял, что он один из немногих людей, в
которых меня бы очень огорчила дурная мысль обо мне.
Эта недавняя встреча живо напомнила мне атмосферу
философской жизни начала 80-х гг., когда мы регулярно собирались
в подмосковных пансионатах и домах отдыха на конференции.
Я сейчас не всегда хорошо помню, что, где, когда происходило,
ибо компания собиралась довольно устойчивая, приглашали с
отбором и по личным качествам. Все это слилось в общее
воспоминание о совместных семинарах и вечерних беседах.
Вспоминается, например, конференция в Обнинске, где
«царил» М. К. Петров, человек с примечательной биографией
бывшего разведчика и первоклассными науковедческими
идеями. Ему принадлежит остроумная идея о том, что
университетское образование было порождено безбрачием западного
духовенства, ибо из-за этого они не могли передавать
профессиональные знания через семью детям.
Загадочная притягательность философии... 555
Примечательна была и общесоюзная конференция в
Паланге (1983). Туда я приехал через Калининград, чтобы
побывать на могиле Канта, который был похоронен на
университетском кладбище. Но там, кроме кантовской, сохранилась
еще могила деда Кэте Кольвиц — немецкой художницы. Все
остальное было уничтожено. «Прислонился к храму деликатно
у полуразрушенной стены саркофаг Иммануила Канта —
жителя немецкой стороны. Рассуждая о проблеме Бога, был к
себе он беспредельно строг, потому у Божьего порога в
смерти упокоиться он смог». Так я выразил свое ощущение от
посещенной могилы.
Дух такого рода собраний определялся ядром, в которое
входили И. С. Алексеев, Н. Ф. Овчинников, А. П. Огурцов,
Н. И. Кузнецова, П. П. Гайденко: братья Визгины, А. В. Аху-
тин, М. А. Розов, В. С. Стёпин, 3. А. Сокулер, В. Л.
Рабинович... Естественно, что я не даю полного перечня и говорю
прежде всего о входящих в круг ИИЕТа. Я уже упоминал здесь
людей из Института философии АН СССР. Был еще круг
людей на кафедре В. И. Купцова в МГУ, интересы которых были
близки к изучению методологии и философии науки.
Из Института философии ближе всех к описываемой среде
стоял В. А. Лекторский, дружба с которым у меня началась с
середины 70-х гг. По его инициативе я начал писать для
журнала «Вопросы философии», и он же первый подал мне мысль
защищать диссертацию по философии, которую тут же
активно поддержал Владимир Иванович Купцов. В секторе
Лекторского, где обсуждались мои статьи, у меня возникли особые
отношения с Генрихом Батищевым и Борисом Ласточкиным,
которым ближе всего были мои тогдашние интересы. Потом
оказалось, что они оба практикующие православные
христиане, хотя Батищев отдал дань увлечению рерихианством и
подобными учениями. Он активно занимался распространением
«мягкого» самиздата, организовывал ксерокопирование. Мне
он всучил «Тибетское евангелие» — явную фальшивку о
жизни Иисуса, по поводу которой я высказался достаточно резко и
определенно. Впоследствии он от этих увлечений отказался и
признал правоту моей оценки.
Когда у меня возникли неприятности на религиозной почве,
Г. С. Батищев стал настойчиво советовать мне перейти из
католичества в православие, поскольку первым занимаются два
управления в КГБ, а вторым — только одно. Я никогда не
сомневался в полном достоинстве православия, а свой личный
выбор ощущал скорее как предпочтение одного прихода друго-
556 Ю. А. Ш рейдер
му, но не как догматически обоснованный. Но все же такой
аргумент «от КГБ» мне показался странноватым и
неуважительным по отношению к обоим вероисповеданиям. Впрочем,
Генрихом двигали добрые побуждения, и надо отдать ему
должное — его философские соображения были мне часто
интересны и помогали осознать собственную деятельность.
В годы перестройки он стал очень активно заниматься
проблемами образования, но внезапно скончался.
Особым местом для философских встреч долгое время был
Обнинск, где работал до своей кончины Б. С. Грязное и до сих
пор живет его семья. Чтения памяти Грязнова обычно собирали
сильный состав, где заметное место занимали мои названные
здесь и неназванные друзья. На занятия местного Университета
марксизма-ленинизма также приглашались хорошие лекторы,
из которых прежде всего следует назвать И. С. Алексеева.
Выступал там пару раз и я вместе с Н. И. Кузнецовой. Очень
трудно было убедить аудиторию научных работников
(естественников), что «Диалектика природы» отнюдь не первоклассное
философское сочинение. В той же аудитории кто-то меня спросил,
что такое бессознательное. Я выкрутился на ходу: «это
фрагмент сознания, который мы в данный момент не можем
поставить под контроль сознания». Лучшего определения, чем этот
вынужденный (не терять же философу лицо перед ученой
аудиторией!) экспромт, я до сих пор нигде не нашел. Можно только
выразиться ученее: «фрагмент, актуально недоступный
рефлексии». Подобные выступления «на публику» в команде «своих»
философов также составляли часть нашего общения.
Ильенков, Карпинская, Мамардашвили...
Недавно я спросил сына про его впечатления о тех годах,
когда я «входил в среду». Его первые слова были: «пили много»,
но вторые были такими: «меня поразило, как много там было
хороших, умных и просто замечательных людей». А Наталии
Ивановне Кузнецовой, которая преподала ему несколько
уроков философии, он до сих пор поет дифирамбы. Для него это
был важный опыт столкновения с живой философской мыслью.
Что касается питья, то его, правда, было многовато. Но все же
в пределах дружеского застолья. Скандального пьянства в той
среде, которую я считал своей, не бывало, хотя на
конференциях под вечер некоторые участники были тепленькими. Тяжелый
случай опьянения был на одном дне рождения, когда вдруг мы
Загадочная притягательность философии... 557
получили известие о смерти Эвальда Васильевича Ильенкова.
Мне было особенно тяжело, потому что за неделю до этого я
провожал Эвальда до его подъезда и отказался зайти, хотя он
очень звал к себе. Помешало какое-то не слишком важное
обязательство, а Эвальду, видно, нужно было дружеское
присутствие в этот день. Познакомились мы с Ильенковым на моем
докладе в секторе В. А. Лекторского, хотя знали друг о друге
раньше по статьям в «Новом мире». Ильенкову запомнилась моя
статья о науке, в которой ему импонировал антипозитивистский
настрой, а я был под впечатлением его работы «Об идолах и
идеалах». При встрече между нами как-то сразу возникла
личная симпатия, хотя никогда не было разговоров ни о марксизме,
ни о религии. По-видимому, у Ильенкова была интуиция, что в
математике есть какие-то глубинные соприкосновения с
абсолютными сущностями, а в моем докладе о недостаточности
теоретико-множественного представления о математических
объектах он почувствовал у меня интерес к философскому анализу
категории количества, и мне больно, что любопытные
обсуждения на эту тему оборвались с его смертью. Это была типичная
«идея на двоих», которую ни одному из нас не потянуть самому.
В памяти остались лишь интересные соображения Ильенкова о
том, почему категория качества банальна, а «количество»
имеет глубинное (абсолютное?!) содержание. Если бы дело
оставалось только за технической разработкой этих идей, то я бы счел
себя обязанным в память Ильенкова ее завершить, но нам
недоставало каких-то важных озарений, которые явно
предчувствовались обоими. (Уже написав эту страницу, я вспомнил, что
мы связывали «количество» не со счетом или измерением, но с
возможностью сопоставить объектам, принадлежащим некоему
классу, математические структуры, позволяющие выразить
фундаментальные отношения между этими объектами и тем
самым открыть в них более глубокие качества. Может быть, я
еще попробую вернуться к этому замыслу.) Мне кажется, что
сила мысли Ильенкова состояла в стремлении дойти до первых
начал бытия. В марксизме его пленила (так мне это видится)
идея закономерной необходимости. Но жизнь не необходима,
она возникает в свободном проявлении Духа. С
необходимостью наступает только гибель в ее материальном понимании.
Отсюда понятной становится идея «раннего» Ильенкова (не
опубликованная при его жизни) о необходимой гибели
Вселенной в результате гигантского пожара от высвобождения
космических резервов энергии. Из этого источника проистекает иль-
енковское вслушивание в музыку Вагнера, предвещающую эту
558 Ю. А. Шрейдер
гибель. (Бесценный урок философии я получил от Эвальда
Васильевича, слушая с ним траурный марш из «Гибели богов».
Уже после его смерти я прочел его эссе с философским
разбором этого произведения, но совместное вслушивание в эту
музыку дало мне не меньше.) Рискну предположить, что отсюда
же приятие марксистской идеи борьбы как основы развития
общества, которая должна привести к мировому пожару.
Возможно, что идея высвобождения энергетики социальной борьбы
додумывалась Ильенковым до понимания ее неизбежных
следствий — взрыва и гибели общества. Мыслитель такого масштаба
не мог не ощущать трагичность и ужас этого исхода. Жить с
таким ощущением реальности невозможно. Нужно либо
поставить себя на службу торжествующему злу, принять его сторону,
либо принять реальность противостоящей ему силы. Ильенков
был слишком хорош для первого, но слишком поверил в
неумолимость естественных законов, чтобы поверить во вторую
возможность. Смерть его воспринималась как трагедия
общенационального масштаба — проститься с ним пришли люди,
которых мало что другое могло бы собрать в одном месте.
Запомнились фигуры многих прощавшихся: его слепых
учеников, ощупывающих лицо покойного, прощальный поцелуй
С. С. Аверинцева, искренние надгробные слова В. И. Шинка-
рука, В. А. Лекторского и других. Впрочем, я был свидетелем и
совершенно карикатурной сцены. Когда у гроба остались
только самые близкие, я вышел покурить на балюстраду и встал
рядом с Юрием Владимировичем Сачковым, который как зам.
директора Института философии вел траурную церемонию.
(Отсутствие директора, с которым Ильенков открыто враждовал,
было проявлением деликатности.) Вдруг к нам подходят два
ражих долдона из ЦК, здороваются за руку с Сачковым (а заодно
и со мной), и один из них говорит покровительственно: «Все
прошло хорошо». Интересно, каких демонстраций они
боялись? В этом начальственном присмотре отразилось реальное
отношение идеологической власти к Ильенкову: «марксист-то
он марксист, да философ-то настоящий».
Мне довелось пережить не одну смерть из нашего
философского сообщества. Каждая из них теснее сближала
оставшихся. Несколько лет происходили памятные встречи, в которых
личность ушедшего как бы продолжала участвовать в общем
ходе философствования, оставалась стимулом для окружения.
Потом это, естественно, прекращалось, хотя присутствие
ушедших продолжалось, но без иллюзии, что они еще здесь
среди нас. Время затягивает образовавшиеся в сообществе
Загадочная притягательность философии... 559
дыры и помогает видеть ушедших в перспективе вечности. Что
же касается Эвальда Ильенкова, то в нем был такой запас
любви и доброты, что его душе многое может проститься.
С Региной Семёновной Карпинской меня связывало прежде
всего участие в общем деле воскрешения духовного наследия
ушедших. Началось это с ее активной помощи в деле
публикации научного наследия А. А. Любищева, имеющего огромное
значение для философии биологии и философии науки вообще.
Нас объединила и общая близкая дружба с замечательным
биологом-теоретиком и палеонтологом Сергеем Викторовичем
Мейеном, который считал себя прямым учеником Любищева.
Его работы по философско-методологическим проблемам
биологической эволюции довольно быстро получили признание как
классические, а его замечательная концепция двойственности
таксономии (разбиения объектов на классы) и мерономии
(членения объектов на гомологичные части — органы) дала
огромный импульс для развития общей теории классификации. Я
искренне горжусь своим соавторством в совместной статье на эту
тему, опубликованной в «Вопросах философии». Впоследствии
это помогло мне разобраться, чем районирование отличается и
от таксономии, и от мерономии. По этой проблематике я
плодотворно сотрудничал с географом В. Л. Каганским, который
вместе с С. В. Чебановым обратил внимание на логические
особенности процедуры районирования. В 1984 г. мы с Региной
были на методологической конференции в Смоленске и вместе
мучились от мысли, что Сергей в это время находится в
больнице после перенесенной операции по удалению почки,
пораженной раковой опухолью. Вечером кто-то из нас сказал, что
стыдно чувствовать себя здоровым и благополучным, когда Сергей
там мучается и перспективы на его выздоровление ничтожны.
Он скончался от этой же болезни через три года, но эти три
года для него были исключительно плодотворными. За день до
смерти он получил экземпляр своего капитального труда по
палеоботанике, в значительной мере основанного на лично
собранных и обработанных коллекциях, а также на
фундаментальных идеях по эволюции растений. (Подобная радость была суж-
дена когда-то Копернику.)
После его смерти мы с Региной вместе старались, чтобы
наследство Мейена осталось достоянием философской мысли.
В частности, я посвятил несколько популярных статей и главу в
книге «Лекции по этике» его «принципу сочувствия»,
осветившему этические основания развития науки и имеющему, на мой
взгляд, фундаментальное значение для этики. Так получилось,
560 Ю. А. Шрейдер
что Регина спустя девять лет скончалась от той же раковой
болезни, мое формальное благополучие рухнуло через месяц
после нашего разговора — я был исключен из партии и на два
года был лишен возможности публиковаться. К счастью, к тому
времени я уже был два года как утвержден доктором
философских наук, а за неделю до того, как началось «мое дело», мне в
моем институте вручили аттестат профессора. В день, когда
меня должны были исключить на заседании райкома, Регина
пригласила меня в гости, и мы весело пировали вдвоем. В
другой раз, уже на ее дне рождения, к середине пиршества пришел
Лен Карпинский с добавочной бутылкой, и мы с ним радостно
пили за то, чтобы нам обоим (Лен был исключен в начале 70-х)
не пришлось снова вступать в КПСС. Ирония судьбы состояла
в том, что Лену таки пришлось это сделать в эпоху
перестройки, чтобы получить журналистскую работу, но дни этой партии
были уже сочтены. Мне же довелось выполнить этот его завет.
Я не помню, когда познакомился с Мерабом
Константиновичем Мамардашвили, но хорошо помню встречи, когда мы
были уже как бы давно знакомы. На одной из
методологических конференций в Звенигороде мы даже жили в одном
номере. Тогда Мераб штудировал только что полученный им
английский учебник древнегреческого языка. Вместе мы были и в
тот вечер, когда узнали о смерти Ильенкова. Вместе были и на
конференциях по сознанию в Батуми, где его выступления
всегда были в центре внимания. Он был немногословен, но
все сказанное было как-то особо значительно, как будто оно
произнесено впервые и родилось в ту самую минуту. Он как-то
сказал, что в философствовании очень важно освободиться от
привычных языковых смыслов, чтобы порождать
философские смыслы. И еще он многократно повторял, что сознание
возникает каждый раз заново — и акте осознания,
требующем личных усилий «тогда, когда» нечто уже произошло и
стало неустранимым фактом. Перефразируя, можно это
сказать так: действовать сознательно — это действовать по
совести, т. е. «нипочему», но вопреки внешнему давлению и
внутренним импульсам. Сам он был очень точен в выражениях
и как бы давал слушателям время осознать сказанное им. Еще
он говорил о том, что никто не может понять за другого,
подчеркивал, что понимание требует личных усилий (с этими
идеями М. К. Мамардашвили читатель может подробнее
ознакомиться по его книгам «Картезианские размышления». М.,
1993, и «Лекции о Прусте». М., 1995). Даже его молчание
было значащим и как бы предохраняло от бездумных глупо-
Загадочная притягательность философии... 561
стей и повышало общий уровень. При внешней замкнутости
он был очень внимателен к эмоциональным состояниям
окружающих и делал порой трогательные жесты,
свидетельствующие об этом. Потом он стал много выезжать за рубеж, и я
увидел его только па прощании в морге, перед тем как гроб
отправили в Тбилиси. Сопровождали тело Н. Мусхелишвили и
Ю. Сенокосов, а вовсе не представители грузинских
политических партий, как было упомянуто в прессе.
Я мог бы многое добавить об эпизодических встречах и
многолетней дружбе (я бы назвал прежде всего Л. Л. Брудного и
А.А.Игнатьева), о замечательных докладах покойного
Ю. М. Лотмана и других. В 1988 г. довелось участвовать в
последней Тартуской конференции по семиотике: эти
конференции восемнадцать лет не дозволялись советской властью, а
потом стали невозможными из-за отделения стран Балтии.
Лотман сделал там блестящий доклад о процессах над
ведьмами, но и общий уровень был чрезвычайно высок.
Кое-кто из среды дружественных философов сегодня меня
огорчает — кто уходом в рерихианство или возвратом к
марксизму, кто несвойственным ранее антирелигиозным запалом.
Многие философы превратились в политологов, а количество
конференций и семинаров резко сократилось. Тем не менее,
философское сообщество существует, а философия все еще
притягивает тех, кого не удовлетворяет перспектива
замкнуться в политике или коммерции.
Содружество-соавторство
Близкое знакомство с философами заставило меня
отказаться от одного предрассудка. Опыт университетских курсов
и многое другое выработали резко негативное отношение не
только к официальной философии, но и к философской среде,
в которой я видел только кузницу идеологических кадров.
Оказалось, что за употребляемой всеми марксистской
фразеологией сохранялась живая и разнообразная мысль.
Философия продолжала существовать не как кладезь готовой
премудрости, но как то, чем она является по буквальному смыслу
своего названия: любовь к мудрости. Когда-то в шуточной
стенгазете, выпущенной к дню рождения Н. И. Кузнецовой, я
написал: «философии сила — не софия, а фило». Следует
добавить, что любовь — это не эмоция благорасположения и
предвкушения соответствующей награды, но способность и
562 Ю. А. Шрейдер
стремление понять (познать) объект, на который она
направлена. С учетом этого словосочетание «любовь к мудрости»
приобретает свой истинный смысл — оно выражает жизненную
установку, а не область профессионального знания. Любовь к
мудрости — это отнюдь не мудрость. Скорее это серьезное
препятствие к тому, чтобы ощутить себя достигшим мудрости.
Покойный Игорь Серафимович Алексеев временами призывал нас
не только мыслить, но и «экзистировать». Особенно сильное
влияние на меня оказала личная дружба с Наталией Ивановной
Кузнецовой, с которой мы обсуждали принципиальные вопросы
философского подхода к науке и культуре. Познакомились мы в
ИИЕТе, и это знакомство перешло в настоящую дружбу, когда
обращаться друг к другу по имени и отечеству как-то нелепо.
Это было не только содружество, но и соавторство,
продолжающееся фактически и по сей день. Так что и эти записки я
счел нужным прежде всего показать ей. Что было отнюдь не
бесполезным. С ее подачи состоялся мой доклад на тему
«Наука и цирк», текст которого уже в 90-е гг. был опубликован в
журнале «Вопросы истории естествознания и техники».
Побывав летом 1979 г. на методологической конференции в Питере
(именно так мы тогда называли этот город), нам захотелось в
качестве аргумента против возможности искусственного
проектирования и самочинного провозглашения новых научных
дисциплин построить контрпример — придумать науку,
правомерность которой обоснована не хуже иных, но которая была бы,
очевидно, несерьезной. Это построение возникло у нас во
время прогулки по городу и вылилось в серьезный научный доклад
и статью «Открытие флаконики» («Химия и жизнь». 1980.
№ 1). Наука «флаконика» просуществовала ровно столько,
сколько мы ее обсуждали, а статья осталась в памяти и
неоднократно цитировалась. Идея флаконики возникла не на пустом
месте. В истоке ее было представление М. А. Розова о роли
удачно выбранных репрезентаторов, т. е. известных объектов,
представляющих изучаемое явление. Нас с Н. И. Кузнецовой
очень занимал вопрос о том, какие репрезентаторы можно
найти для феномена науки. Мы как-то вместе пришли к выводу,
что репрезентатор может быть пародией на исследуемый
объект. Это стимулировало меня использовать в качестве репре-
зентатора науки цирк. Вообще, по поводу этих сюжетов мы
сделали несколько совместных докладов, в том числе летом 1979 г.
в Киеве. На конференции в Питере мы услышали выступление
некоего технаря, провозгласившего новую научную область с
каким-то залихватским названием вроде «проектоника». Это
Загадочная притягательность философии... 563
очень понравилось Г. П. Щедровицкому, который стал
объяснять, почему это так хорошо. Мы с Кузнецовой переглянулись
и сразу поняли, что перед нами была бы пародия, если бы
только пародийность была столь очевидна, что даже Щедровицкий
не решился бы счесть сие наукой. Мы быстро сообразили, что
надо идти от слова: «батоника», «платоника» или что-то вроде.
Подсказку нам дала в тот же день выставка в Эрмитаже, где в
витрине экспонировался этрусский флакон. Переглянувшись,
мы осознали, что название науки есть. Потом мы с увлечением
бродили по городу, придумывая принципы, законы и проблемы
«флаконики». Сама возможность использовать пародию как
средство серьезного философствования о науке характеризует
открытость царившей среди философов ИИЕТа атмосферы.
Остроумие рассуждения (но не легковесность) там ценилось
очень высоко. При этом «философия науки» там понималась не
как второсортная или узкоспециализированная философия, но
как органическая часть «большой» или «первой» (по
Аристотелю) философии. Например, Мамардашвили никогда не
занимался специально «философией науки», но само его
присутствие в этой среде воспринималось как очень значимое.
Среда, группировавшаяся вокруг философов ИИЕТа,
посвящала себя именно философии, а не изучению науки
философскими методами. Очень часто оказывалось, что на
встречах философов с учеными-предметниками последние
оказывались гораздо более отягченными идеологическими догмами и
консервативно мыслящими по сравнению с моими
философскими друзьями. Возможно, что одна из важных причин
притягательности философии в том и состоит, что сама попытка
философски мыслить (это и есть действительно мыслить,
совершать поступок мышления) разъедающе действует на
привычные стереотипы мышления. Мышление возможно
только как свободное, иначе субъект не мыслит сам, а только
вмещает в сознание чью-то мысль или ее имитацию. Любовь к
мудрости подразумевает личные усилия постигнуть истину.
Никто другой не может сделать это за нас. А как только
человек начинает прилагать эти усилия, то предмет мышления
(мне так, по крайней мере, кажется) имеет второстепенное
значение, ибо Истина едина.
Было бы непростительной неблагодарностью с моей
стороны не сказать о той, поистине решающей роли, которую
Наташа Кузнецова сыграла на моем пути в философию. Возможно,
что я так и продолжал бы стремиться понять, что такое
феномен науки, не развивая в себе соответствующих способностей
564 Ю. А. Шрейдер
и навыков и не понимая общефилософский контекст этого
феномена, если бы не эта встреча. Дружба с философами
продолжалась бы, но я был бы не одним из них, но пришельцем из
иной среды — бывалым человеком, способным рассказать
что-то интересное из своего опыта занятий наукой и даже от-
рефлектировать этот опыт как методолог.
Наша дружба с Н. Кузнецовой началась с января 1979 г.
Оказалось, что ей еще в студенческие годы попалась моя
новомирская статья, а проблема феномена науки в момент нашего
знакомства уже была в центре ее исследовательских интересов.
Мой опыт методологической рефлексии о науке был для нее
важен, но именно в совместных обсуждениях я осознал, что
методология ограничивается проблемой «как следует познавать
мир?», а для философского понимания науки и ее контекста
более существен вопрос гносеологический: «как возможно
знание?» Методологическая постановка вопроса, естественно,
влечет попытки проектировать «правильную науку» или, как
это получилось в движении, возглавленном Г. П. Щедровиц-
ким, организовать любую деятельность. (Э. В. Ильенков
ядовито заметил, что Щедровицкий переводит гегелевские категории
на язык радиотехнических схем.) Гносеологическая постановка
вопроса о знании требует не проектирования познавательной
деятельности, но исследования реальных возможностей
познания. В методологии человек является объектом улучшения, в
гносеологии — объектом понимания. Отсюда — родство
гносеологии с философской антропологией, герменевтикой и
культурологией. В сущности, обсуждение философской
проблематики с Н. И. Кузнецовой помогло мне осознать собственные
философские интересы и научиться понимать философский
статус тех или иных подходов и утверждений. Должен
признаться, что она фактически отредактировала в процессе
совместного обсуждения подготовленный мною текст докторской
диссертации. Мне кажется, что и она от меня кое-что получила в
своей собственной работе. К сожалению,, по ряду житейских
обстоятельств не состоялась задуманная нами совместная
книга по философии науки, но долгие ее обсуждения не прошли для
нас обоих впустую. Мы не так много вместе написали, но
сделали ряд совместных докладов и много вложили в дискуссии,
проходившие на философских конференциях и семинарах, где
мы вместе участвовали. Мы старались делать это весело, без
ученой натуги и трепета перед священным «объектом
исследования — наукой». Именно так назвали книгу, которую потом
написали в компании с М. А. Розовым.
Загадочная притягательность философии... 565
Готовить доклады и писать книгу было чистым удовольствием,
попутно многое заново придумывалось. Рукопись мы
предложили в издательство «Знание». На нее дал обстоятельную
положительную рецензию В. А. Лекторский. (Не уверен в том, что он
знал, кто авторы. Рецензии заказывались заведующим
редакцией — Н. Ф. Яснопольским.) Ему явно импонировал стиль книги,
где пародирование тех или иных феноменов науки было чуть ли
не основным способом о них говорить. Втроем мы тянули на
довольно остроумного автора. Вторую рецензию дал Владимир
Спиридонович Готт. Это была уже «тяжелая артиллерия» — от
авторов требовалось показать преимущества советской науки и,
в частности, указать, что основные результаты по квантовой
физике были получены в Харькове, откуда он родом. Яснопольский
самолично вписал это в наше предисловие, но разгневанный
М. А. Розов после этого забрал рукопись из редакции. Не
уверен, что у меня хватило бы духа на такой поступок.
Вышеупомянутый спор о «Диалектике природы» возник на
моей лекции, где я рассказывал о многообразии эвристик,
используемых наукой. Но присутствовавшие ученые требовали,
чтобы в науке был единственно верный метод, а на эту роль
претендует исключительно диалектико-материалистический подход.
После этих наших гастролей в Обнинск пригласили
В. В. Налимова, что было последней каплей.
Предполагавшийся на целый учебный год курс лекций о науке был отменен.
Жизнь вокруг не была идиллией, и ту добрую атмосферу внутри
определенной среды, которую я пытаюсь здесь передать,
приходилось создавать общими усилиями. Думается, что люди, о
которых я здесь пишу, сыграли в этом решающую роль.
Через Н. И. Кузнецову я познакомился с Михаилом
Александровичем Розовым. Она помогла мне разобраться в его
философских идеях, а потом мы их неоднократно обсуждали
совместно. Это было для меня заметным этапом в
философском становлении, хотя ей так и не удалось сделать из меня
последовательного «розовца». Его концепция социальных
эстафет представляется мне очень значимой, ибо в ней
выделяется особая форма существования социализированного
знания в виде циркулирующих в обществе образцов
деятельности, вызывающих подражания.
Наряду с информацией как вербализованным знанием,
представленным на отчужденных от человека носителях, и
личным или неявным знанием в смысле Полани, социальные
эстафеты составляют важный особый тип
социализированного знания, не отчужденного от субъекта, но не являющегося
566 Ю. А. Ш рейдер
достоянием индивидуального субъекта. Показав, что научное
знание состоит не столько в научных текстах (научной
информации), сколько в транслируемых, перенимаемых и
модифицируемых образцах деятельности, Розов сделал замечательный
вклад в гносеологию науки. На языке социальных эстафет ему
удалось обнаружить ряд важных принципов и феноменов в
развитии науки и фактически показать, что представляет
собой наука как социально-культурный феномен. Для меня
всегда бывали и бывают интересны обсуждения с ним и
Н. И. Кузнецовой самых разных философских проблем. Тем
не менее, у нас происходили и такие споры, где нам не
удавалось достичь соглашения. Чаще всего вина здесь лежит на
мне, ибо мне не удавалось найти адекватный язык для
выражения своей мысли или хотя бы исходной установки. Тем не
менее, я очень высоко ценю теорию научных эстафет и уверен,
что она прочно займет свое место в гносеологии. Мне кажется
только, что этой теории пока не хватает идей Б.
Вышеславцева о связи подражания (основного механизма социальных
эстафет) с индивидуальными представлениями об
авторитетности образца и с механизмами самовнушения и воображения.
Я понимаю даже, почему для М. А. Розова эти идеи внушают
некоторые опасения. Они несут в себе риск лишить
представления о социальных эстафетах того образа объективной
научной убедительности, который столь значим для автора этой
теории. Лично для меня такой образ не представляется ни
столь важным, ни столь убедительным.
Вообще, мне представляется, что роль философии вовсе не
в том, чтобы находить новые истины и обосновывать их
своими средствами. Источник этих истин лежит вне философии, и
различные философы ищут тот источник, кто в науке, кто в
культурно-историческом опыте, кто в опыте
экзистенциальном, а кто и в религиозном откровении. В этом смысле
философских истин как таковых нет. Есть разные способы
(воплощаемые в разного типа дискурсах) артикулировать истины,
добываемые из того или иного опыта. Такая артикуляция
необходима хотя бы для того, чтобы видеть состоятельность,
границы применимости и принимаемые предпосылки этих
истин. В религии это важно, в частности, для выяснения
границы между ортодоксальным толкованием и еретическими (то
есть не допускаемыми в рамках определенной доктрины)
отклонениями. Подлинные расхождения между философами —
это различия в оценке значимости того или иного опыта и
адекватности той или иной его артикуляции.
Загадочная притягательность философии... 567
Когда-то, еще до перестройки, М. А. Розов высказал очень
интересное соображение, что основной вопрос философии
состоит вовсе не в том, что первично, но в вопросе о свободе
воли: определяется ли все сущее в мире естественной
причинностью или существуют действия (точнее поступки),
происходящие беспричинно — по свободному действию воли
поступающего субъекта. (Я выбрал формулировку, наиболее
удобную для выражения собственной мысли, но нечто очень
близкое я впервые услышал именно от Розова.)
Наш внутренний духовный опыт говорит о наличии
свободной воли. Доказать или опровергнуть это положение на основе
естественнонаучных или философских соображений
невозможно. Но одно соображение здесь полезно учитывать. Если мои
действия или мысли происходят не по моей воле, но по
объективным причинам, то я не способен поступать сам и мыслить
сам, ибо тогда я обязан считать, что это во мне что-то или кто-
то действует или мыслит. Отрицая свободу воли, я вынужден
отрицать собственное существование как личности, способной
что-то хотеть, что-то решать, что-то выбирать. Тогда мое
ощущение каких-то хотений означает лишь «мне хочется»; но не «я
хочу». Свобода воли состоит не в том, чтобы поступать, как
«мне хочется», но так, как я хочу, то есть «нипочему». Как
моральная личность, я обязан поступать в соответствии со своим
разумением добра и голосом совести, что часто означает
действовать вопреки тому, что «мне хочется». Основной аргумент
против свободы воли состоит в том, что ее существование
противоречит естественному принципу причинности. Но этот
принцип не может быть доказан — он получен как опыт описания
изучаемых наукой явлений. Он подтверждается, но не
доказывается опытом науки. Дилемма выбора оказывается
ценностной — я выбираю, что мне дороже: универсальная
применимость принимаемого естественной наукой постулата или
уверенность в существовании собственного «я».
Опыт свободы воли оказывается первым метафизическим
опытом соприкосновения со сверхъестественным.
Единственное (хотя и серьезное) основание его отрицать состоит в том,
что для данного субъекта существование сверхъестественного
абсолютно неприемлемо. Настолько, что он ради отрицания
сверхъестественного готов отрицать существование
собственной способности к поступкам, то есть собственного «я». Для
меня лично убедительнее, что «я существую», чем
несуществование сверхъестественной сферы свободы. Здесь, видимо,
моя позиция отличается от нынешней позиции М. А. Розова,
568 Ю. А. Шрейдер
который фактически первым сформулировал исходную
дилемму. Очень часто я слышал от атеистов упрек в том, что
религия предназначена для людей с рабской психологией и
отрицает (вариант: подавляет) свободу. Если под религией не
понимать идеологию, а, скажем, традиционное христианство, то
вернее было бы сказать, что оно подразумевает свободу и
требует ответственности и личных усилий преодоления плена
«мне хочется». Христианство предлагает кое-что принять на
веру, но это «кое-что» четко оговорено, а уже дело
философии (то есть увлеченного любовью к мудрости разума)
вывести из этого «кое-что» все следствия о природе и назначении
человека, получить ориентиры для своих поступков.
Исключение из рядов
Я вступил в партию в 1956 г. в атмосфере «оттепели»,
когда впервые за много лет ощутил себя полноправным
человеком, а не второсортным сыном репрессированного
(расстрелянного в 1938 г.) отца. Я ощущал советский строй как нечто
незыблемое, а вступление в партию как некую нормализацию
ситуации. Даже карьерных соображений у меня не было: я
уже защитил кандидатскую (в 1950 г.) и имел звания доцента и
старшего научного сотрудника. Что данное обстоятельство
будет позитивным при защите докторской по философии, я и
вообразить-то не мог, как и перспективу занятий философией.
Конечно, следовало бы выйти из рядов самому, когда мое
сознание очистилось от иллюзий молодости. Но вышедшим из
партии жить куда труднее, чем просто беспартийным. На такой
героический подвиг я бы не решился, но за меня решила жизнь.
Мое исключение из партии в 1984 г. было связано с тем,
что органы обнаружили незарегистрированного католического
священника, к которому я два-три раза приходил на домашние
собрания. Из этого возникло обвинение .в принадлежности к
нелегальной секте. Надо подчеркнуть, что доброе отношение
коллег-философов от этого нисколько не ухудшилось. Бони-
фатий Михайлович Кедров пригласил даже меня на дачу,
чтобы дать несколько полезных советов. Он рассматривал
происшедшее со мной в общем контексте гонений на
интеллигенцию, которым считал нужным противостоять. В процессе
исключения я избегал демонстративных жестов и стремился
вести себя как можно тише. Впрочем, о своем поведении я от
разных людей слышал разные суждения. Мой друг и тогдаш-
Загадочная притягательность философии... 569
ний заведующий отделом, где я работал, Руджеро Сергеевич
Гиляревский, всем, в том числе и мне, буквально песни пел о
моем твердом, чуть ли не героическом поведении в партийных
инстанциях. Философы скорее считали мое поведение
излишне трусливым или, по меньшей мере, нервозным.
Разумеется, в душе я дрожал как мокрый цуцик, хотя умом
понимал, что для души это все во благо. Я не считал, что меня
исключают несправедливо, — вряд ли члену КПСС подобает
быть католиком, как и наоборот: честнее было бы самому уйти.
Но тогда — конец активной жизни и дорога одна — в
эмиграцию. Трусил я не только за себя, но и из-за детей: сын
оканчивал университет, а дочь только собиралась поступать. Но я
твердо знал одно — отрекаться от своего христианства я не
буду. И не отрекался, что и выглядело «героическим» со
стороны людей, для которых норма поведения состояла в том, чтобы
каяться в прегрешениях перед партией. Но я давал при этом
возможность поступить со мной «мягко», не вступал в
пререкания, не говорил о несправедливости обвинения и о неточности
показаний против меня. Даже подал, как положено, апелляцию
в горком. Однако в ЦК уже подавать не стал — счел, что
достаточно демонстрировал свою лояльность к «сильным мира
сего». К Кедрову я ходил не с просьбами восстановить меня, но
помочь в получении возможности продолжить публикации.
В. А. Лекторский на первой же встрече сказал: «Годик-другой
тебе печататься не удастся, а статью, что готовится у нас для
первого тома монографии по теории познания, мы переложим
на четвертого — к тому времени все уляжется». Никто из
философов (в большинстве партийных) не был шокирован
происшедшим. Их отношение напоминало отношение циркачей к
товарищу, свалившемуся с трапеции и на некоторое время
выбывшему из строя. Никто не пытался избегать общения со
мной, но шутили, что я попал в «клуб имени В. Ф. Асмуса» —
так называли небольшую группу беспартийных докторов
философии, где негласным президентом считался Николай
Фёдорович Овчинников. Среди моих институтских коллег некоторые
перестали меня замечать, а один, встретив и коридоре
ВИНИТИ и поздоровавшись, явно не знал, как и о чем со мной
теперь следует говорить. Прежний дружески-шутливый тон не
годился, а обсуждать мое положение всерьез неуместно. Вот
такой неловкости философы не проявляли.
Наш кадровик Семён Семёнович в кругу своих
приближенных признавался: «Обманул меня Шрейдер — я думал его в
сионизме уличить, а он католиком оказался». Он с охотой
570 Ю. А. Шрейдер
взялся за устройство моих служебных дел, организовав мой
перевод из научного отдела в издательский, явно рассчитывая,
что работать, как все, я не смогу. Но оказалось, что,
освоившись примерно за месяц, я стал уверенно перевыполнять
норму. Заодно начитался литературы по базам знаний и начал
писать по этой проблематике довольно интенсивно, что мне
сильно помогло потом перейти на проблематику по сознанию.
Так что сегодня я могу только благодарить всех ответственных
за происшедшее. Впрочем, в гуще всех событий я не
предполагал столь оптимистического исхода дел и резонно опасался
весьма неприятных для себя перспектив. Трусить было из-за
чего, а поддержка философской среды оказалась для меня
очень значимой. Был еще у меня знакомый философ,
занимавший довольно заметный партийный пост. Он тоже не
вычеркнул меня из списка знакомых, но дал возможность
подработать, весьма для меня актуальную в тот момент, поскольку
надо было оплачивать репетиторов для дочки. Что касается
моих партийных дел, то поначалу он дал совет апеллировать в
ЦК, где, мол, много случаев, когда восстанавливали в партии
исключенных за хищения. Больше мы с ним к этой теме не
возвращались, сохраняя добрые деловые отношения.
Моя аспирантка (по информатике) явилась ко мне с
поддержкой, уговаривая, что надо каяться, каяться и каяться.
В 1989 г. я встретил ее в православной церкви у Речного
вокзала, где мы оба были крестными родителями младенцев
(разных). Она сообщила мне, что недавно окрестилась и
вступила в партию (тогда это слово понималось еще однозначно).
Из памяти всплывают еще два эпизода. Смысл первого мне
до сих пор непонятен. В момент, когда исключение на уровне
института уже состоялось, и меня ожидал следующий акт —
вызов в райком, мне позвонил один мой сослуживец, с
которым у меня были дружеские, но отнюдь не приятельские
отношения, и пригласил к себе домой на встречу с его знакомым
полковником КГБ. Я решил не уклоняться от встречи — она,
мне казалось, не должна была ничего испортить, а уклоняться
от нее было бы несколько вызывающим действием. И,
действительно, меня ждала не вербовка, а выпивка, во время
которой этот полковник (имя и отчество которого я не помню, а
фамилия его не называлась), не спрашивая меня ни о чем,
стал обсуждать вопрос, как предотвратить исключение.
Предполагалось как бы очевидным, что я не хочу быть
исключенным. Да, в общем, так оно и было: я был бы тогда доволен,
если бы вся история затихла, хотя и четко знал, какая цена для
Загадочная притягательность философии... 571
меня неприемлема. Что все это значило, я не понимаю до сих
пор. Мой вполне симпатичный собеседник не вытягивал из
меня никакой информации и ни о чем не просил. Может быть,
он хотел иметь во мне дружественно настроенного человека.
Может быть, считал, что вся эта история неразумна, а может
быть, хотел показать, что его организация посильнее, чем
КПСС. Возможны и иные версии.
Второй эпизод, о котором я узнал только лет через шесть—
семь, относится к моменту, когда я уже был исключен. Это был
звонок из верхов тогдашнему директору ВИНИТИ А. И.
Михайлову с просьбой дать мне возможность участвовать в
научных разработках. Вероятно, он способствовал тому, что я не
был уволен, а уже в 1985 г. был командирован на конференцию
по сознанию в Батуми. Н. Л. Мусхелишвили постарался
включить меня в наиболее близкую лично для него проблематику,
связанную с анализом измененных состояний сознания и
лежащую в русле идей С. Кьеркегора, М. Мамардашвили и А.
Пятигорского. Это не только не противоречило моим личным
устремлениям, но, наоборот, находило во мне резонанс. За первые
три—четыре года совместной деятельности мы очень
сблизились — и во взаимном понимании общности позиций, и в
личном плане. Существенно то, что наши умения взаимно
дополняемы и мы усиливаем друг друга. Впрочем, это еще не предмет
для воспоминаний, но текущая жизнь, в которой
накапливаются общие воспоминания. Таким воспоминанием стали ушедшие
от нас. Но я не могу не вспомнить тех, благодаря которым мое
формальное отлучение от философии продолжалось не более
полутора лет, так что Р. С. Гиляревский пошутил: «Вы всегда,
как кошка, падаете на четыре ноги». Прежде всего это
Н. Л. Мусхелишвили, не только пригласивший меня на
престижную конференцию, но и добивавшийся от моей дирекции
разрешения на командировку. Это и киевские друзья — М.
Попович, Ю. Прилюк, Н. Вяткина, публиковавшие с 1986 г. мои
статьи в украинском философском журнале, и многие другие.
Уже с 1985 г. я начал принимать участие в конференциях по
сознанию, где присутствовали покойные ныне М. К.
Мамардашвили, Ю. М. Лотман, психиатр Вадим Деглин, а также Сергей
Сергеевич Хоружий и ряд других. Только одну из конференций
(1986 г.) я пропустил из-за травмы головы, но во всех
последующих принимал активное участие. В этих конференциях
заметное место занимала религиозно-философская тематика.
С 1989 г. я перешел на постоянную работу в Институт
проблем передачи информации, и философская проблематика
572 Ю. А. Шрейдер
стала для меня основной по месту работы. Я впервые стал
получать за нее основную зарплату. Наши совместные работы с
Н. Л. Мусхелишвили начали регулярно выходить. Стали
возможными и публикации непосредственно по религиозной
тематике. Открылись заграничные поездки, первые из которых
мне достались в 1990 г., а в 1991 г. я принял участие в
конференции по проблемам культуры, проходившей в Ватикане, где
была представительная российская делегация. Религиозно-
философская тематика стала признаваться философским
сообществом. Более того, бывшие антирелигиозники быстро
перекрестились в «религиоведов» и стали посещать семинары и
конференции по философии религии.
Новые времена и старые мысли
У фантаста Кира Булычева есть рассказ о том, как сотрудник
престижного советского департамента, благополучно живущий
в 60-е гг., разговаривает по телефону с девочкой,
переживающей военную зиму 1942-го. Девочка принимает своего
собеседника за шпиона или провокатора. Наверное, нечто подобное
испытал бы каждый из нас в годы советской власти, если бы
нам кто-то стал сообщать о том, в какой стране нам предстоит
жить. Жизнь круто изменилась. Она не стала легче, она стала
нормальной. Люди обрели дыхание, а это приводит не только к
хорошим ощущениям. И все-таки разве мог бы я представить
себе, что буду писать воспоминания, заботясь не о том, что
нечто надо скрыть, но о том, чтобы быть как можно точнее?
Проблемы сегодняшнего дня имеют очень близкую
аналогию с тем, что произошло после исхода евреев из Египта.
Воспользовавшись пребыванием Моисея на горе Синай, народ
Израиля поклонился золотому тельцу. Моисей не повел их
обратно в Египет, но сжег тельца в огне и стер во прах, вернув
народ к Богу, а не отправив обратно в неволю (Исх., гл. 32).
Свобода слишком дорогая вещь, чтобы ее ценой добиваться
временных и иллюзорных улучшений.
Очень существенной для нормализации духовной
атмосферы, оказалась возможность восстановить связь с
покинувшими страну друзьями. В 1991 г. мне удалось навестить в
Мюнхене Геннадия Моисеевича Файбусовича, который когда-то
привлек меня к участию в журнале «Химия и жизнь».
В 1978 г. мы затеяли обмен письмами, из которых составилась
рукопись «Письма без штемпеля». Целиком она так и не из-
Загадочная притягательность философии... 573
дана, но мой адресат издал свои письма ко мне в своем
сборнике (он пишет под псевдонимом Б. Хазанов). Судить по его
письмам о содержании моих невозможно.
Восстановилась и моя научная связь с Владимиром
Александровичем Лефевром, который несколько раз посетил
Россию, а в 1994 г. я посетил его в Калифорнии и сделал там
доклад о придуманной мною вероятностной интерпретации его
модели этической рефлекции.
Этическим идеям В. А. Лефевра я посвятил специальную
главу в книге «Лекции по этике» (М., 1994). Уже после я
сообразил, что его представление о двух этических системах, по
сути, означает следующее. Первая из этих систем
предполагает наличие этического абсолюта, в принципе не допускающего
оправдания зла. В этом случае ситуация, где возникает
комбинация добра и зла, означает неабсолютность добра и
оценивается как дурная. В этой системе субъект нацелен не на благие
цели, но на то, чтобы избежать зла. (Это очень похоже на
толкование Львом Толстым принципа недеяния.) Во второй
системе субъект легко абсолютизирует относительное добро, и
тогда добро становится соблазном совершить зло. Это значит,
что такая комбинация добра и зла оценивается в этой системе
как добро. В этом опасность утилитарной этики, ибо она
ориентирует человека не на то, как распознать то, что дурно, и
отказаться от зла, но на непременное достижение некоторого
блага, которое, тем самым, становится в его глазах
абсолютным и превращается в опасный соблазн. Это верно не только
в применении к отдельному субъекту, но и к общественным
группам, борющимся за свои права, за справедливость. Эти
несомненные блага легко превращаются в соблазн,
толкающий на преступления, когда ставятся над всеми иными
ценностями — прежде всего над любовью и милосердием.
Жизнь идет, и надо отвечать на ее меняющиеся требования.
Я искренне стремился ответить на вопрос, поставленный в
заголовке статьи. По сути, это философский вопрос о том, что
есть философия. Я не верю в возможность дать ее
определение, отличное от вытекающего из этимологии, и потому
поставил этот вопрос как чисто субъективный.
В кругу «послеоттепельных» философов прочно укоренилось
убеждение в суверенности философского мышления.
Официальные же воззрения на сей счет лучше всего выразил
отставной полковник КГБ — наш зам. по кадрам Семён Семёнович.
В день смерти Ю. В. Андропова он мне (как уже доктору
философии) высказал следующую сентенцию: «Если бы он не
574 Ю. А. Шрейдер
умер так рано, стал бы великим философом». После моего
исключения из партии он эту мысль продолжил следующим
образом: «Теперь мне придется взяться за старые тетради (он
учился на каких-то чекистских курсах) и заняться философией
информатики». Он явно думал, что я освободил ему
занимаемую вакансию. Философом он не стал по той же причине, что
и его покойный шеф: вскоре последовал за ним.
Поразительно, что философия притягивала чем-то и таких
Семёнов Семёновичей, и стать философом было для них
привилегией — одной из распределяемых властью. Боюсь все же, что
странная притягательность философии так и осталась необъяс-
ненной. Впрочем, мне известны притязания отнюдь не
последних из философов, сделать философию научной, построить
философский дискурс по образцу гипотетико-дедуктивного метода
науки. Мотивы таких притязаний мне вполне понятны, в них
сквозит желание получать надежно обоснованные и красивые
результаты, общеобязательные для науки. Любой дурак вправе
отрицать категорический императив Канта. Более того,
категоричность этого императива отрицают некоторые вполне
квалифицированные философы. Наоборот, теорема Пифагора
неприкосновенна. Вряд ли ее сумеет опровергнуть даже самый
мудрый из современных математиков. Ее можно только
обобщить и тем примазаться к славе первоначального автора.
Лобачевский лишь подчеркнул величие Эвклида, создав неэвклидову
геометрию. Даже идея теплорода, казалось бы, изгнанная из
физики, осталась в виде совпадения уравнений
теплопроводности и диффузии. Тепло распространяется так, как будто
диффундирует некое вещество. Критерий научности утверждений
Поппера состоит в том, что любое из них в принципе может
быть поставлено под опровержение. Он хорошо согласуется со
сказанным выше, ибо в науке приживается только то, что
выдержало ряд попыток опровержений в рамках определенной
парадигмы. В сменившей ее парадигме это не отменяется, но
переосмысливается. В философии нет подобного «бессмертия»
результатов, в ней сохраняется лишь опыт существенных
рассуждений, опыт осмысления бытия. Эти рассуждения не
опровергаются, но отбрасываются за непригодностью в
последующем философском дискурсе. Излагая в своем курсе этики
этические взгляды Спинозы, я не могу опровергнуть его
положение об отсутствии свободы воли. Вместо этого я
привожу рассуждение о том, что такой взгляд отвергает
существование человеческой личности, способной на ответственные
поступки, и потому непригоден для использования в этике. Когда
Загадочная притягательность философии... 575
я готовился к этой лекции, я попросил Н. Кузнецову рассказать
о том, как этика Спинозы преподносилась на философском
факультете. Этого она вспомнить не сумела, но рассказала о том,
что подчеркивалась установка Спинозы на отключение от
любого опыта и использование исключительно собственного
разума. Думается, что здесь ключ к грехопадению философии
Нового времени, сделавшей самодостаточного человека источником
истины. Эту установку уместно назвать «Синдром Мюнхаузе-
на». Заблуждения и чаяния эпохи наиболее полно выражаются
в предрассудках наиболее глубоких умов, которые принимаются
ими как нечто очевидно бесспорное и последовательно
развиваются в творчестве. Соблазны и тупики марксизма лучше всего
видны в трудах Ильенкова, которому суждено оставаться в
истории философии. Спиноза убедительно демонстрирует, как
идея самодостаточности разума, возникшая из стремления к
свободе, логически ведет к отказу от свободы. Этот
философский сюжет в высшей степени своевременен сегодня. Не
коренится ли притягательность философии в том, что человек не в
состоянии удовлетвориться частичной истиной, а стремится
достичь ее во всей полноте?
Любовь не удовлетворяется частью, «не ищет своего», но
хочет быть всем. Частичная мудрость — это просто
недомыслие. У замечательного писателя Сергея Довлатова есть очень
верные слова по любви: «Противоположность любви — не
отвращение, и даже не равнодушие, а ложь».
Загадка притягательности философии мне видится в том,
что любовь к мудрости есть нетерпимость ко лжи. Это
непрактично, ибо мудрость требует недостижимого для человека
совершенства. Но любовь и стремится к недостижимому, а не
удовлетворяется доступным. Этой загадке, по сути дела, было
посвящено мое выступление на «круглом» столе
«Необходимость философии», который проходил на философской
конференции в Пушкино (осень 1981 г.). Текст этого выступления я
счел нужным подвергнуть лишь минимальному
редактированию. Этот текст так и был заготовлен в виде тезисов, которые
назывались:
«Заметки о философии»
1. Философа отличает странная вера в то, что знание
фундаментальных свойств реальности небезразлично для личного
существования.
576 Ю. А. Шрейдер
2. Философия ставит одни и те же вечные вопросы, не
только не решая их, но и не обещая их решить.
3. Философия, в сущности, рассматривает одну проблему:
«Как жить дальше». Эту проблему она принципиально не
может решить, но, строго говоря, ответ на нее был бы
невозможен без философии.
4. Философия в принципе не имеет догматов. На любые
исходные положения она имеет право и даже обязана смотреть
критически, сделав их предметом своей рефлексии.
5. Наука и религия обязаны принимать догматику. Этой
ценой покупается возможность получать ответы на
поставленные вопросы.
6. Философ не может в своих рассуждениях ставить себе
какие бы то ни было догматические ограничения. Его дело
артикулировать догматы науки и религии.
7. Сидеть между двух стульев — это эклектика. Сидеть на
двух стульях — это диалектика. Кстати, это вполне реально.
Можно сидеть на двух стульях вдвоем — это дискуссия.
Можно одному — это рефлексия.
8. Свобода философии от догматов покупается
невозможностью исключить из философии какую бы то ни было систему или
построение. Ошибочных философских построений не бывает. Не
бывает и устаревших. Эйнштейн — это уже история науки.
Платон — это философия сего дня. И еще покупается эта свобода
отсутствием результативности. Чтобы получить результат, наука
вынуждена догматизировать плодотворные установки.
9. Философия прокладывает необходимый мостик через
пропасть между наукой и религией (искусством и религией,
нравственностью и религией). Наука — это сфера конечного,
догматизируемая в своем отрыве от трансцендентального.
Догмат самодостаточности конечного даже не осознается как
догмат, а представляется великим освобождением науки.
Религия — это постижение бесконечного. То, что внутри науки
кажется освобождением, философия осознает как
порабощение. То, что религия принимает как догмат, философия
осознает как имеющее разумную интерпретацию.
10. Философия — это высвобождение духа. (Наука —
взнуздание духа, религия — стяжание духа.)
11. В эпохи кризисов веры религия нуждается в философии
особенно остро: так появляются св. Августин, св. Фома,
Паскаль, Лейбниц, Беркли, Вл. Соловьёв, П. Флоренский и др.
Великие каппадокийцы — Отцы Церкви были выдающимися
философами.
Загадочная притягательность философии... 577
12. Философия берет от науки формы: университетские
кафедры, ученые степени, блеск эрудиции. Но не философ тот,
кто всерьез верит, что для занятия философией необходимы
университетская кафедра или ученая степень. Ученому же
профессионализация нужна по сути дела.
13. В философии нет бесспорных построений, нет
рассуждений, которые нельзя было бы оспорить. Проблема
истинности уступает первенство проблеме осмысленности.
14. Философская проблематика глубоко интимна, она
касается глубинных струн души. Любое подлинно философское
высказывание выявляет внутренний мир его автора. В этом
философия гораздо ближе к поэзии, чем к герметичной науке.
15. Соавторство в науке возможно между душевно
далекими. В философии — это интимнейшая близость, касание
души.
16. Неблагодатность философии в том, что нет слов, чтобы
выразить глубинное, и нельзя, оставаясь в чистой философии,
апеллировать к откровению. Остается только мужественно
искать разрешение, ошущая потери смысла. Остается только
неизбывная вопросительность. Удовлетворение в философии
невозможно, просветление души — это другая сфера.
17. Если спасение дело не только индивидуальной души, но
общее дело человечества, то философия необходима. В
присутствии Бога философия не нужна и даже невозможна, но в
поисках Его даже любой из апостолов становится философом.
Поиск утраченного смысла для человечества, устроительство
ноосферы — вот задача философии.
18. В обвинение философии можно поставить создание
фикций, выход на псевдопроблемы и псевдорешения. В
оправдание она может предъявить только ничем не ограниченное
стремление к поиску истины, снимание покровов с
сокровеннейшего, снятие ложной таинственности, бесстрашие перед
антиномиями бытия.
19. Снять антиномию — не задача философа, это делает
жизнь. Высветлить ее, обострить, выразить в парадоксе,
противоречии, противопоставлении — вот задача философии.
Философия не эсхатологична, она не выдает векселей, не
планирует финальных ситуаций.
20. Философское отрицание Бога есть тем самым Его
утверждение в поисках смысла. Бессмыслица — вот подлинное
отсутствие Бога.
21. То, что я пишу, это, скорее, не выяснение сути
философии, но позиции философствующего.
578 Ю. А. Шрейдер
22. Сократ, задающий «неприятные» вопросы, — вот
первообраз отчетливой философской позиции. Собеседники
Сократа отнюдь не глупы, они понимают многое, но... в рамках
традиции, в рамках неосознаваемой догматики.
23. Сократ должен был быть приговорен к смертной казни.
Общество, даже самое просвещенное, не может терпеть в
своей среде подлинного философа: не обязательно
умерщвлять его, можно приспособить, кастрировать и т. д.
24. Философу не задано роли в обществе, он его разрушает.
Создавать он может лишь мечту о Граде Небесном. Но ее
можно приспособить как основание Града Земного. Так
парадоксальным образом воплощается нужда общества в философе.
25. Истинное философское рассуждение балансирует на
самой грани бессмыслицы, в противоречивости своей порывая
со здравым смыслом. Запас прочности, отделяющий
рассуждение от грани потери смысла, гасит философскую мысль в
топком болоте обыденности. Логичнейший Витгенштейн
работал на грани пошлости, которая обессмыслила бы работу
его мысли, если бы она перешла эту грань. Только вблизи
этой грани, отделяющей торжество здравого смысла от
нелепицы, рождается подлинный смысл.
26. Диалектика — это способ говорить о невозможном, о
немыслимом с точки зрения здравого смысла. Невыносимость
противоречия рождает содержание. Это прыжок через трюизм
в область неизведанных смыслов.
27. Остроумие часто доставляет единственный способ
сохранить себя от внешнего давления чужой логики или чужих
мнений.
28. Два качества необходимы философскому разуму:
бесстрашие и смирение. Без первого он оказывается в путах
очередной догмы: философской, научной или религиозной. Без
второго он оказывается в плену конечного, теряет выход к
абсолюту.
29. Заблуждения ученых приводят к. открытию частичной
истины, остающейся в науке навсегда. Заблуждения
философов закрывают путь к истине.
В. С. Стёп и н
В мире теоретических идей.
Дискуссии с И. С. Алексеевым*
^Дистанция во времени всегда необходима для
объективной оценки тех или иных событий прошлого.
Тридцать лет назад, в конце 50-х — начале 60-х гг., в
советской философии сформировалось новое
поколение исследователей, которому предстояло преодолеть
первые барьеры идеологии сталинского
тоталитаризма и восстановить разрушавшиеся в предыдущие
годы образцы профессиональной философской
работы. Большая часть людей этого поколения завершала
высшее образование в эпоху изменений, которые
принес XX съезд партии. Хрущевская «оттепель»
способствовала ослаблению жесткого
идеологического контроля над философией, хотя и не во всех ее
областях. Пожалуй, в наибольшей степени это было
характерно для философии естествознания, логики и
методологии науки.
Интенсивное развитие этой области знаний было
стимулировано новым отношением к естественным
наукам и технике, которое стало утверждаться в 50—
60-х гг., после долгих лет сталинских идеологических
кампаний.
Это был двусторонний процесс постепенного
преодоления идеологизированной науки. Для философии
* Философия не кончается... Из истории отечественной
философии. XX век. В 2-х кн. / Под ред. В. А. Лекторского. Кн. II.
60-80-е гг. М., 1998. С. 653-669.
580 В. С. Стёпин
он означал отказ от роли интеллектуального надсмотрщика
над естествознанием, приводившей к деформациям самой
философии, к разрыву ее связей с передовой наукой.
Для естествознания он знаменовался восстановлением
идеалов объективного, непредвзятого исследования и
возможностью развивать фундаментальные идеи, оказывающие
решающее воздействие на формирование мировоззрения и
научной картины мира.
Все эти процессы протекали противоречиво. Были и
рецидивы прошлого (например, попытки реанимации лысен-
ковщины в 60-х гг.), но они уже не смогли затормозить
начавшего складываться нового взаимоотношения философии
и науки. Философы стремились профессионально
осмыслить достижения естествознания, а естествоиспытатели
принимали активное участие в разработке философских
оснований науки, которые бы соответствовали уровню ее
передовых достижений.
Общественный интерес к достижениям науки и техники в
50—60-х гг. был чрезвычайно велик, что создавало
благоприятный социальный фон для развития методологии и
философии естествознания. В эти годы были приняты
программы ускорения научно-технического прогресса страны.
Как мы сегодня понимаем, они содержали множество
нереалистических замыслов. Но разочарование пришло намного
позднее. Тогда же в них верило большинство людей, и
молодежь с энтузиазмом включалась в работу по их
осуществлению.
Реальные успехи нашей науки и техники, прежде всего в
освоении космического пространства, поднимали в
общественном мнении престиж физики, математики и технических наук.
Профессия физика, и инженера в шкале социальных оценок
занимала намного более высокое место, чем профессия
гуманитария. Конкурс в технические вузы и на
физико-математические специальности в университете был наибольшим. На
страницах газет и публичных диспутах шла дискуссия
«физики — лирики», причем никто не ставил под сомнение
ценность профессии физика, скорее доказывали свою
необходимость для общества «лирики-гуманитарии».
Сегодня, в эпоху разрушения многих традиций и прежних
ценностей, это время кажется даже странным и, скорее всего,
непонятным новому поколению. Но те сдвиги, которые
происходили в этот период, оставили след в отечественной науке и
культуре, они готовили перемены и нашего времени.
В мире теоретических идей. Дискуссии с И. С. Алексеевым 581
В философии науки в 60—80-е гг. сложились оригинальные
школы и направления (в Москве, Ленинграде, Киеве,
Минске, Новосибирске, Ростове и др.). В этой области знания
раньше, чем в других, наша философия вступила в
конструктивный диалог с зарубежными школами и направлениями,
сделав первые шаги от изоляционизма к включению в
мировую философскую мысль в качестве ее составной части.
Новые и нетривиальные результаты, которые были получены в
логике, методологии и философии науки в 60—80-х гг.,
возникли благодаря усилиям многих исследователей. Но, как и в
любой науке, среди них были лидеры, генераторы новых идей.
Они выступали неформальными авторитетами научного
сообщества, часто не имели высоких научных степеней и званий,
но постепенно завоевывали лидирующие позиции, задавали
тон в дискуссиях и в разработке новых исследовательских
программ.
Игорь Серафимович Алексеев был одним из таких лидеров в
философии и методологии науки 70—80-х гг. Историку,
который будет заниматься этим периодом развития отечественной
науки и культуры, бесспорно, придется анализировать его
работы и оценивать эвристичность концепции, которую он
развивал.
К сожалению, пока еще не появилось сколько-нибудь
обстоятельного исторического исследования, посвященного
советской философии естествознания 60—80-х гг. Зарубежные
исследователи в этом отношении нас опередили. Я могу
сослаться на труды известного американского историка науки
Л. Грэхема, автора фундаментальных работ, посвященных
философии естествознания в СССР. Показательно, что он
отмечает исследования И. С. Алексеева среди оказавших
серьезное влияние на дискуссии 70-х гг., на развитие в этот
период новых идей и исследовательских программ философии
естествознания.
Вообще, история философии и науки не сводится только к
процессам роста знания, хотя, бесспорно, именно
содержательные аспекты составляют суть этой истории. Но за
развитием содержания всегда стоят живые люди, их мотивации,
своеобразие их личности и творчества.
С Игорем Серафимовичем Алексеевым я познакомился в
1967 г. В Дубне была конференция молодых ученых, и мы с
Л. М. Томильчиком делали совместный доклад, который
касался анализа трех основных программ физики элементарных
частиц. Сейчас Л. М. Томильчик — член-корреспондент Бе-
582 В. С. Стёпин
лорусской академии наук, физик-теоретик, заведует
лабораторией теоретической физики в Институте физики АН БССР, а
тогда мы оба были кандидаты наук, он —
физико-математических, а я — философских. Я тогда жил в Белоруссии и работал
по проблемам методологии науки — по тем же проблемам,
которыми профессионально занимался Игорь Алексеев.
Статьи Игоря я к этому времени уже читал, но никогда не видел
его. Мне казалось, что это должен быть человек не совсем
молодой, по крайней мере старше меня, хотя на самом деле, как
оказалось, мы с ним одного возраста.
После доклада ко мне подошел очень симпатичный
молодой человек в спортивной курточке, представился, что он —
Игорь Алексеев. Я как-то сразу не смог соразмерить, что это
тот самый Игорь Алексеев, работы которого я знал. Но
затем сам собой возник психологический контакт, сразу он мне
по-человечески понравился открытостью к дискуссии,
доброжелательностью, и после непродолжительного разговора мне
казалось, что я знаю его уже давно. Надеюсь, что и у него
были какие-то дружеские чувства и ко мне, и Леве (Льву
Митрофановичу) Томильчику. Впоследствии мы много раз
встречались, в разные годы нашей жизни, и в Белоруссии,
куда приезжал Игорь, и на конференциях в других городах, и
чувство человеческого контакта никогда не пропадало. Мы
много дискутировали в то время по проблемам
эпистемологии науки. Общение с Игорем Алексеевым шло у нас в
особом ключе. Подход к проблемам был сходным, мы оба были
сторонниками деятельностнои концепции науки, постоянно
сравнивали свои решения, активно совместно работали, хотя
и не имели соавторских публикаций. Он часто присылал мне
свои оттиски, книги, иногда это были даже рукописи работ,
еще не сданных в печать, то же самое делал я. В общем,
контакт у нас с ним был такой, какой и должен быть в
научном сообществе. Игорь был удивительно интересным
собеседником, и, что было для него всегда характерно — это
проявилось и в первой нашей встрече, — мы сразу стали
говорить о научных и философских проблемах, об
эпистемологии физики. Вообще, как я сейчас вспоминаю, мы очень
редко беседовали с ним, как принято говорить, «за жизнь».
Конечно, случалось, что какие-то моменты житейских ситуаций
мы обсуждали, но разговор как-то сам собой потом
переходил на научные предметы. И это было самое интересное.
В моем представлении Игорь Алексеев принадлежал к
людям, которые имели глубокие личностные мотивации к заня-
В мире теоретических идей. Дискуссии с И. С. Алексеевым 583
тиям наукой. Я в связи с этим вспоминаю известную притчу
А. Эйнштейна, которую он произнес в своей знаменитой речи
памяти Макса Планка*.
В многосложном храме науки многоразличны и люди, ею
занимающиеся. Иные видят в науке средство удовлетворить
свое честолюбие. Другие занимаются ею только в
утилитарных целях. Как говорил А. Эйнштейн, если изгнать из храма
науки «торговцев и менял», то этот храм значительно
опустеет. Но все-таки в нем кое-кто останется. Останутся люди,
которые приходят в науку потому, что мир обыденной суеты,
страстей, эмоций, амбиций, т. е. тот реальный, «кухонный»
человеческий мир, который больше всего составляет
человеческую повседневность, их не устраивает, и они себе
измышляют другой, искусственный, упорядоченный и
красивый мир, в котором им хорошо живется. Это люди с
тонкими душевными струнами, и миру житейских страстей они
предпочитают мир объективного ведения и понимания.
Эйнштейн сказал, что к таким людям принадлежал Макс Планк.
Мы не можем, конечно, сравняться с такими выдающимися
учеными, как Эйнштейн и Планк, мы таких вкладов в науку
не сделали, но по типу личности И. С. Алексеев, наверное,
принадлежал к тем людям, которые искали в науке
прибежище от житейской суеты и житейских страстей. Может
быть, это мое впечатление, но мне всегда казалось, что
Игорь не устроен в мире обыденной жизни, что он не хотел
в него глубоко погружаться и поэтому в занятиях
философией, в занятиях наукой искал своеобразную среду
обитания души, то место для души, где она могла бы реально
жить и не быть задавленной обыденными житейскими
проблемами. И когда он этого места не находил, он переживал,
у него были депрессии.
Игорь Алексеев не стремился сделать карьеру в
примитивно-прагматическом понимании. Он работал, и это то, что у
него получалось. И даже когда у него уже был немалый
авторитет в нашей философии, он никогда не заботился о своем
имидже, хотя, конечно, ему было небезразлично, как его
оценивают в том сообществе, которому он адресовал свои труды.
У него никогда не было маски человека, так сказать,
«посвященного в тайны науки». Когда он говорил о науке, он жил в
предмете, и это для меня было очень близко, я не особенно
* Эйнштейн А. Собрание научных трудов. М., 1967. Т. 4. С. 39—41.
584 В. С. Стёпин
люблю, когда люди не просто говорят о деле, а еще при этом
тщательно следят за тем, соответствуют ли они внешне
избранной ими роли ученого. У таких людей всегда на заднем
плане есть мысль: важно не только то, что я о деле скажу, но
и как я при этом выгляжу. У Игоря этого никогда не было, и
поэтому общаться с ним было очень легко. Мы могли по два
года не видеться, но встречались так, как будто вчера
расстались. Мы жили в разных местах, но этих интервалов в
общении не ощущали. И вообще, 70-е гг. для нас было и
трудным, и счастливым временем. Тогда существовал, если
использовать терминологию Д. Прайса, «незримый колледж
исследователей», занимающихся методологией науки. Было у
нас такое сообщество с неформальными контактами, с
пристальным интересом к новым результатам, с оценкой
философов науки по «гамбургскому счету». Сейчас, к сожалению,
этого уже нет или почти нет.
В содержательном плане наши дискуссии 70-х гг. отразили
тот перелом, который происходил не только в нашей
философии, но и во всей мировой философии науки. Это была смена
парадигмы, которую можно было бы назвать поворотом к
методологии неклассической науки. Игорь Алексеев был ярким
представителем нового стиля мышления и сторонником
неклассической методологии.
На этой стороне дела я хотел бы остановиться более
подробно. В моих последних работах показано, что можно
выделить три этапа развития методологии науки, соответствующие
трем историческим типам научной рациональности:
классической, неклассической и постнеклассической науке.
Философия и методология науки, например, с XVII в. и до
конца XIX — начала XX вв. развивалась в русле
классической рациональности. Этот тип научного мышления
основывался на представлении, что познающий разум как бы со
стороны созерцает мир и таким путем познает его. Задача
познания определялась как построение объективной
картины реальности, как описание изучаемых объектов в их
имманентной сущности, такими, какие есть «сами по себе».
Условием объективности знания считалась элиминация из
теоретического объяснения и описания всего, что относится
к субъекту, средствам и операциям его познавательной
деятельности.
Методология классической науки развивалась в русле
этих представлений. Основное внимание она
сосредоточивала на проблеме соотношения теории и опыта, причем тео-
В мире теоретических идей. Дискуссии с И. С. Алексеевым 585
рия рассматривалась как обобщение опыта.
Предполагалось, что можно открыть единственно правильной метод,
гарантирующий в любых ситуациях истинный путь к
построению теории на основе фактов. В процессе революции
в естествознании конца XIX — начала XX вв. и
последующего создания квантово-релятивистской физики был
осуществлен переход к новому типу рациональности —
неклассическому, осознанием которого стала неклассическая
методология науки.
Этот тип рациональности исходит из того, что познающий
субъект не отделен от предметного мира, а находится внутри
его*. Мир раскрывает свои структуры и закономерности
благодаря активной деятельности человека в этом мире. Только
тогда, когда объекты включены в человеческую деятельность,
мы можем познать их сущностные связи. В свое время, говоря
об особенностях нового этапа науки, В. Гейзенберг писал, что
в процессе познания природа отвечает на наши вопросы, но ее
ответы зависят не только от ее устройства, но и от нашего
способа постановки вопросов.
Поскольку и сама фрагментация мира в познании, и
обнаружение сущностных характеристик объектов зависят от
способа деятельности, постольку особенности средств и
операций деятельности должны быть учтены в
теоретическом описании мира. Возникает идея об относительности
признаков познаваемого объекта к средствам и операциям
его познания.
История квантово-релятивистской физики была
своеобразной демонстрацией становления этого нового типа
рациональности. И неклассическая методология в первую очередь
ориентировалась на ее осмысление. В ней сформировались
новые представления о возникновении теории, которые
А. Эйнштейн сжато определил так: теория может быть
навеяна опытом, но она не является результатом индуктивного
обобщения опытных фактов. Неклассическая методология
отказалась от идеалов классического периода: она уже не
ставила целью поиск единственно правильного, абсолютного
метода и построение на его основе единственно истинной
* Подробнее о неклассической рациональности см.: Мамардашви-
ли М. К., Соловьёв Э. Ю., Швырёв В. С. Классика и современность: две
эпохи в буржуазной философии // Философия в современном мире.
Философия и наука. М., 1972.
586 В. С. Стёпин
картины мира. Возникли представления о многообразии
методологий исследования, о зависимости тех или иных
представлений о мире от характера методов и теоретических
средств, о возможности и даже желательности
эквивалентных описаний одной и той же реальности, поскольку
развитие языка науки в процессе переформулировки уже
созданных теорий вырабатывает средства для прорыва науки в
новые предметные области.
В методологии неклассической науки акценты переносятся
на изучение деятельностных структур, в которые включены
объекты, на исследование операциональных оснований тех
или иных онтологии, которые исторически сменяют друг друга
в развитии науки.
Игорь Алексеев был поборником именно этого типа
рациональности. Он много интересного написал по истории и
методологии квантовой механики, и в частности истории
идей дополнительности. В философии и эпистемологии
науки он разрабатывал теорию деятельности и деятельностной
природы научного знания. Для него очень важен был анализ
не просто онтологических схематизмов объекта, таких его
категориальных представлений, как «пространство»,
«время», «причинность» и т. д. Для него важно было, как
развивается деятельность человека и как онтологии формируются
коррелятивно структурам этой деятельности. Этот тип
методологического анализа дал много новых результатов в
исследованиях 70-х гг., и я считаю, что это были весьма
важные результаты.
Дискуссии, которые характеризовали научную жизнь
сообщества философов естествознания, постепенно сдвигались к
обсуждению проблем структуры и динамики науки в контексте
человеческой деятельности. Причем в рамках деятельностного
подхода складывались различные направления анализа,
сторонники которого полемизировали между собой.
По ряду вопросов у меня были разногласия с Игорем
Алексеевым. Они касались понимания философии деятельности.
И. С. Алексеев отстаивал подход к деятельности как к
первичной субстанции. Он даже полушутя-полусерьезно
именовал себя субъективным материалистом, полагая, что, по
аналогии с классификацией «субъективный» и «объективный»
идеализм, целесообразно ввести разделение материалистов
на две категории: объективных, считающих первичной
материю, и субъективных, для которых первична субстанция
деятельности.
В мире теоретических идей. Дискуссии с И. С. Алексеевым 587
Я довольно скептически относился к этим идеям, полагая,
что субстанциональный статус человеческой деятельности
можно допускать только при характеристике общества, но для
деятельности всегда нужна внешняя среда, в которую она
погружена и на которой она развивается. Деятельность фраг-
ментирует эту среду, формируя из ее материала свои
предметные структуры. Но она не может считаться первичной по
отношению к среде, а значит, и не может выступать в качестве
основы мироздания.
Другой вопрос: как строить онтологию внешнего мира?
Здесь мы оба разделяли точку зрения, что любые
человеческие представления о структуре мира, которые складываются
и развиваются в исторической эволюции познания,
представляют собой взгляд на мир сквозь призму деятельности. Была у
нас общая позиция и при рассмотрении концептуальных
структур теоретического мышления. Мы их рассматривали
прежде всего как своеобразную свертку деятельности и
стремились выявить их операциональные аспекты.
В процессе наших споров часто возникали вопросы, ответ
на которые внешне казался очевидным, но при более
углубленном рассмотрении они оборачивались довольно
серьезными эпистемологическими проблемами. Так, в одной из
совместных дискуссий мы начали обсуждать вопрос о том, какой
смысл вкладывает исследователь в утверждение, что луна и
звезды существуют как объекты независимо от человеческой
деятельности? Если наш способ фрагментации мира
определен уровнем исторического развития практики, то как это
проявляется по отношению к астрономическим объектам? Как
вообще быть с объектами, которые мы фиксируем путем
непосредственного наблюдения? Где тут деятельность? Можно
ли интерпретировать в терминах деятельностно-практическо-
го отношения к миру наблюдения за Луной, Солнцем,
звездами, туманностями и т.д.?
Все эти вопросы, возникшие в дискуссиях с Игорем
Алексеевым, стимулировали одно из моих решений, которое я
опубликовал еще в 1970 г., а затем развил в своих книгах
середины 70-х гг. Можно показать, что любое систематическое
наблюдение в астрономии имеет прямые аналогии с практикой
эксперимента, поскольку характеризуется построением
приборной ситуации. Признаки, по которым в систематическом
наблюдении фиксируются объекты астрономии, выявляются
операциональной структурой приборной ситуации. Приведу
для пояснения пример наблюдений за источником рентгенов-
588 В. С. Стёпин
ского излучения в Крабовидной туманности. Чтобы установить
характер этого источника (является ли он точечным, или на
него накладывается излучение всей туманности),
регистрировалось изменение интенсивности излучения в момент
покрытия Крабовидной туманности Луной. В этом наблюдении Луна
использовалась в функции экрана, который позволял
выделить из многочисленного переплетения природных
взаимодействий именно те, которые интересовали наблюдателя.
Взаимодействие Луны, наблюдаемого объекта (изучение «Краба»)
и приборов-регистраторов на Земле можно уподобить работе
гигантской приборной установки, а само использование
природных объектов в функции приборных устройств обозначить
как конструирование приборной ситуации. Тем самым
унифицировалось рассмотрение объектов и концептуальных
структур любой опытной науки: они представали как данные в
форме практики, как результат деятельностного отношения
человека к миру.
Интересно, что следы наших дискуссий, правда в ином
преломлении, можно найти и в работах Игоря Алексеева. В его
статьях середины 70-х гг. также анализировались проблемы
существования объектов, которые даны непосредственно в
наблюдении. Игорь стремился решить эту проблему с позиций
представлений о субстанции деятельности.
С его точки зрения, существование Луны, звезд как
объектов-носителей некоторых признаков определено их
включенностью в структуры деятельности. Кажется, что такая
довольно жесткая позиция слишком субъективна. Предпочтительнее
было отстаивать тезис об относительности объекта к
структурам деятельности в ослабленном варианте — а именно, что
деятельность выделяет из бесконечного набора актуальных и
потенциальных признаков объекта только ограниченный
подкласс этих признаков, и в этом смысле, поскольку объект
зафиксирован по ограниченному набору признаков, он предстает
в качестве конструкта, схематизирующего и упрощающего
действительность.
Но Игоря не удовлетворял этот вариант, и он шел дальше в
своей концепции. Он полагал, что любые наблюдаемые
объекты вне деятельности не существуют. Его упрекали в
повторении идей Авенариуса о принципиальной координации, не
замечая, что здесь формулировались чрезвычайно глубокие и
тонкие философские проблемы. Это — проблемы структуры
мира и разграничения искусственного и естественного в
объектах, с которыми сталкивается человек.
В мире теоретических идей. Дискуссии с И. С. Алексеевым 589
Можно допустить, что объекты, которые включаются в
деятельность, существовали до и независимо от нее и что
деятельность не формирует, а только выявляет то, что
присуще объектам. Но можно предложить и другое решение.
Мир не состоит из стационарных объектов как вещей,
обладающих актуально данными свойствами. Он скорее набор
потенциальных возможностей, лишь часть которых может
актуализироваться. Деятельность реализует те
возможности, которые не актуализируются в природе самой по себе.
Она создает объекты, подавляющее большинство которых
не возникают естественным путем. Для этого утверждения
есть весьма веские основания, поскольку природа не
создала ни колеса, ни автомобиля, ни ЭВМ на кристаллах, ни
кухонного стола — она создает лишь аналоги такого рода
устройств, но не сами эти устройства; их возникновение не
противоречит законам природы, но в естественной
эволюции вне человеческой деятельности их возникновение
чрезвычайно маловероятно. Но тогда придется сделать вывод,
что человек в деятельности сталкивается только с
искусственными объектами, которые он сам конструирует. А так
как в познании он понимает и осмысливает мир сквозь
призму своей деятельности, то все объекты и все структуры,
которые он выделяет в мире, являются продуктами его
собственной активности. Концепция Игоря Алексеева, на мой
взгляд, тяготеет именно к этому варианту решения
проблемы соотношения искусственного и естественного.
Правда, в таком языке, который я использовал для
описания второго подхода, И. С. Алексеев не выражал своих
позиций. Но его идея первичности деятельности и ее рассмотрения
в качестве субстанции в принципе может быть
интерпретирована в терминах этого описания.
Отмечу, что второй подход, о котором идет речь, имеет
глубокие корни в истории философской и естественнонаучной
мысли. В частности, его отстаивал известный французский
ученый и философ Г. Башляр. Он полагал, что все объекты, с
которыми сталкивается человек в научном исследовании и в
практической деятельности, — это искусственные системы.
Согласно Башляру, в природе нет ни химически чистых
веществ, которые мы получаем в эксперименте и в
промышленном производстве, нет электронов, которые исследователь
фиксирует в масс-спектрографе и т. д.
Таким образом, концепцию существования, которую
развивал И. С. Алексеев, не так уж просто было опровергнуть. Во
590 В. С. Стёпин
всяком случае она в обостренной форме ставила весьма
актуальные философские проблемы.
Кроме философских и общеметодологических вопросов, мы
обсуждали много проблем истории науки. Игорь Алексеев
увлеченно исследовал историю квантовой механики, вначале ее
достаточно зрелую стадию, связанную с утверждением
принципа дополнительности, а потом и более ранние этапы —
открытие кванта действия. Его реконструкции были интересны и
содержали нетривиальные идеи.
Разумеется, Игорь развивал свою концепцию не только в
спорах со мной, но и с другими людьми. Он был открыт как
исследователь, любил различные дискуссии, что не мешало
ему быть внутренне сосредоточенным, не разбрасываться, а
целенаправленно разрабатывать свою исследовательскую
программу. Но при этом он никогда не цеплялся за старые
идеи, если убеждался в том, что они не соответствуют
фактам либо могут быть сняты в рамках нового, более эвристич-
ного подхода.
Он никогда не прибегал к вненаучным уловкам, чтобы
выиграть спор. В дискуссиях, как и в своих статьях и книгах, он
был честен и если менял позицию, то четко это фиксировал.
Показательна в этом отношении была его оценка
перспектив концепции дополнительности. Он убедительно показал,
что в этой концепции обнажается деятельностная структура
физического знания, и поэтому видел в ней исследовательскую
программу, которая определяет магистральный путь будущего
развития физики.
Известный спор Эйнштейна и Бора И. С. Алексеев
оценивал как столкновение классического и неклассического
подходов. Он считал, что стремление Эйнштейна к поиску единой
картины квантовых процессов, которая снимала бы
дополнительные описания реальности, было бы шагом назад,
возвратом к классическому типу мышления.
Однако затем, в начале 80-х гг., когда обозначились новые
успехи в развитии квантово-полевых программ, Игорь
Алексеев пересмотрел свое отношение к эйнштейновским идеям,
от которых шел импульс к исследовательским программам
Великого объединения.
Я помню его ясный и четкий доклад на конференции,
посвященной стопятидесятилетию со дня рождения Дж. Максвелла,
в котором он глубоко проанализировал программы Бора и
Эйнштейна и показал, почему он пересматривает прежние
свои решения.
В мире теоретических идей. Дискуссии с И. С. Алексеевым 591
Именно эта способность И. С. Алексеева к развитию
оснований концепции, к постоянному поиску и генерации идей
позволила ему достаточно легко включиться в новый круг
проблем в конце 70-х — начале 80-х гг., когда в философии и
методологии науки началось расширение ее тематики.
Изменение проблемного поля методологических исследований
происходило в этот период не только у нас, но и в зарубежной
философии науки. На передний план вышли проблемы
социокультурной обусловленности научного познания, анализ
взаимодействия науки с другими феноменами человеческой
культуры, исследование познавательных процедур в связи с
исторически меняющимися ценностями и мировоззренческими
ориентациями.
Тесное взаимодействие эпистемологии, методологии и
истории науки дополнилось их синтезом с социологией и
культурологией научного познания.
Это был переход к новому этапу методологических
исследований, который я называю постнеклассической
методологией науки. Она выражала реальные изменения,
произошедшие в науке последней трети XX в., и тенденции к
формированию нового, постнеклассического типа научной
рациональности.
Интенсивное применение научных знаний практически во
всех сферах социальной жизни, изменение самого характера
научной деятельности, связанное с революцией в средствах
хранения и получения знаний (компьютеризация науки,
появление сложных и дорогостоящих приборных комплексов,
которые обслуживают исследовательские коллективы и
функционируют аналогично средствам промышленного
производства и т.д.), — все это формирует новый облик научной
деятельности. Наряду с дисциплинарными исследованиями на
передний план все более выдвигаются междисциплинарные и
проблемно-ориентированные формы исследований. Если на
предшествующих этапах наука была ориентирована прежде
всего на постижение все более сужающегося,
изолированного фрагмента действительности, выступающего в качестве
предмета той или иной научной дисциплины, то специфику
современной науки определяют комплексные
исследовательские программы, в которых принимают участие специалисты
различных областей знания. Организация таких
исследований во многом зависит от определения приоритетных
направлений, их финансирования, подготовки кадров; научные же
приоритеты, наряду с собственно познавательными целями,
592 В. С. Стёпин
все больше определяются целями экономического и
социально-политического характера.
В процессе комплексных программно-ориентированных
исследований сращиваются в единой системе деятельности
теоретические и экспериментальные, прикладные и
фундаментальные знания, интенсифицируются прямые и обратные
связи между ними.
Объектами современных междисциплинарных
исследований все чаще становятся уникальные системы,
характеризующиеся открытостью и саморазвитием. Такого типа объекты
постепенно начинают определять и характер предметных
областей основных фундаментальных наук.
Среди саморазвивающихся объектов особое место
занимают системы, включающие человека в качестве особого
компонента. Примерами таких систем выступают медико-
биологические объекты, ряд крупных экосистем и биосфера
в целом, объекты биотехнологии (в первую очередь,
генетической инженерии), системы «человек — машина»
(включая компьютерные сети и будущие системы искусственного
интеллекта) и т. п.
При изучении «человекоразмерных» систем поиск истины
оказывается связанным с определением стратегии и
возможных направлений преобразования системы, что
непосредственно затрагивает гуманистические ценности.
В этой связи трансформируется идеал «ценностно
нейтрального исследования». Объективно истинное объяснение и
описание применительно к «человекоразмерным» объектам
не только допускает, но и предполагает включение
аксиологических факторов в состав объясняющих положений.
В явном виде начинает осуществляться своеобразная
состыковка специфических для науки ее внутренних ценностных
установок (установка на поиск предметного и объективно
истинного значения, ценность новизны) с ценностями
общесоциального характера.
Конкретным механизмом такой состыковки служат
социально-гуманитарная и экологическая экспертиза крупных
научно-технических программ, когда прослеживаются
возможные последствия реализации программы под углом зрения
гуманистических ценностей и решения глобальных проблем.
Все эти особенности современной научной деятельности
приводят к существенным модернизациям исследований в
области философии науки. В ней появляется пласт проблем,
связанный с новым видением самой науки — она начинает
В мире теоретических идей. Дискуссии с И. С. Алексеевым 593
анализироваться в контексте особенностей ее социального
бытия как части жизни общества, детерминированная на
каждом этапе своего развития состоянием культуры данной
исторической эпохи, ее ценностными ориентациями и
мировоззренческими установками.
Игорь Алексеев весьма чутко реагировал на все эти новые
проблемы методологических исследований. Он интуитивно
увидел в них не отказ от деятельностного подхода, а его новое
видение и новые перспективы.
Глубокую справедливость этой точки зрения сегодня можно
обосновать концептуально. Если на этапе неклассической
методологии науки внимание концентрировалось на объектных
структурах деятельности (средства, операции с объектом), то
в постнеклассической методологии требуется, кроме этого,
учитывать особенности субъектных структур деятельности в
их историческом развитии: особенности субъект-субъектных
коммуникаций, целей и ценностей деятельности, их
соотношения с доминирующими ценностями культуры определенного
исторического типа.
Новые приоритеты философии науки ориентированы на
исследование глубинных оснований человеческой культуры и
жизнедеятельности, связей с ними динамики научного знания.
Игорь Алексеев называл это программой «обмирщения»
философии науки. В последние годы жизни он активно занимался
данной проблематикой, готовил новую книгу, но, к
сожалению, не смог ее дописать.
Сегодня многое из того, что происходило в 60—80-е гг., уже
принадлежит истории. Происходит определенное изменение
приоритетов в системе наших философских исследований.
Вслед за философией науки и историей философии,
которые раньше других освободились от идеологического
процесса, в наше время резко возрос интерес к социальной
философии, философской антропологии, глубинным
проблемам человеческого бытия. В свою очередь, это оказывает
влияние на область философских исследований научного
познания. Они все больше тяготеют к анализу человеческой
размерности науки, путей и средств гуманизации научно-
технического прогресса, выявлению структуры ценностей
техногенной культуры, в которой сформировалась и
развивалась наука.
Глобальные проблемы и кризисы, с которыми столкнулась
на рубеже двух столетий техногенная цивилизация, создали
угрозу самому существованию человечества. Очевидно, что на
594 В. С. Стёпин
прежних основаниях цивилизация уже не может развиваться.
Все острее выдвигается проблема поиска новых ценностей,
анализа тех областей культурного творчества (включая и
науку как особую сферу культуры), где уже происходят изменения
традиционных ценностных структур и формируются новые
мировоззренческие ориентации.
Все эти проблемы предстоит решать новому поколению
философов. И я надеюсь, что оно не повторит прошлых ошибок,
прерывая нити лучших традиций, заложенных
предшествующими поколениями.
В советской философии было немало ярких личностей, к
числу которых, бесспорно, принадлежал и Игорь Алексеев. Их
идеи оказали огромное влияние на развитие нашей
философии. Но не меньшее социальное значение сегодня обретают
продемонстрированные ими образцы
высокопрофессиональной работы и ответственности в поисках истины.
Е. П. Никитин
Николай Николаевич Трубников:
верность себе*
Если человек не шагает в
ногу со своими
спутниками, может быть, это
оттого, что ему слышны
звуки иного марша?
Г. Д. Торо
11оначалу его карьера профессионального философа
складывалась вполне благополучно, не предвещая
ничего необычного. Учеба на философском
факультете МГУ (1954—1960 гг.). Потом — Институт
философии АН СССР, аспирантура (1960-1963 гг.,
научный руководитель Э. В. Ильенков), успешная
защита кандидатской диссертации («Отношение цели,
средства и результата деятельности», март 1965 г.),
работа, дружный, интересный коллектив, занятый в
основном исследованием проблем теории познания и
методологии науки**. И вот он, подобно другим
академическим «философским работникам», по
«присутственным дням» ходит «на работу», где, как правило,
* Философия не кончается... Из истории отечественной
философии. XX век. В 2-х кн. / Под ред. В. А. Лекторского. Кн. II. 60-
80;е гг. М., 1998. С. 620-635.
Во второй половине 50-х гг. начался процесс известного
оживления, если угодно, первой перестройки нашей философии.
Однако он шел весьма неравномерно. И дело в данном случае не
столько во временной, сколько в пространственной
неравномерности, если иметь в виду «пространство» многочисленных и
разнообразных философских дисциплин. В общем и целом процесс
был тем активнее, чем «спокойнее», удаленнее от насущных
нужд человека оказывалась дисциплина. Так и вышло, что
наибольшее развитие в это время получают гносеология и
методология науки. Стало даже казаться, что философия только ими и
живет, и чуть ли не только из них и состоит.
596 Е. П. Никитин
бездарно тратит время, а собственно работает дома во все
остальные дни (а то и ночи) — в любой момент, когда приходит
вдохновение или «проходят сроки», благо (впрочем, не всегда
и благо) «орудие труда» постоянно при себе. Подобно другим,
заполняет годовые «план-карты», т. е. берет на себя
обязательства сделать в течение предстоящего года такие-то
философские открытия, и сделать не как-нибудь, а на столько-то
процентов в первом квартале, на столько-то во втором...
Подобно другим, выполняет эти обязательства в сроки и на
должном уровне, «выдает» «плановые труды», публикуется
и т. д. и т. п. Словом, перед нами обычный служащий
госучреждения, занятого плановым производством философских
(разумеется, марксистских)идей.
Еще будучи аспирантом, он начинает писать статьи по
гносеологии для коллективных трудов сектора («Познание как
форма предметной деятельности» //
«Историко-философские очерки». М., 1964; «Бесконечный процесс углубления
познания закономерной связи явлений» // «Ленин об
элементах диалектики». М., 1965). Это были хорошие,
добротные статьи, но в них он еще во всем следует секторским
традициям и своему руководителю — ив понимании характера
проблем философии (в духе определенной интерпретации
идеи совпадения диалектики и теории познания), и в методах
анализа, и в манере письма.
Но вот в конце 1970 г. происходит совершенно
непонятное. Он пишет и представляет на суд коллег доклад
«Философия и методология науки». Очень странный доклад!
Начать с того, что наш «нормальный» «философский
работник» стал бы тратить силы и время на написание
текста обычно для того, чтобы опубликовать его, и потому
изначально внимательно следил бы за его «проходимостью»,
т. е. смотрел бы на него одновременно также и глазами
«редактора»; доклад же явно писался без участия этих
«вторых глаз» и по тогдашним меркам в печать никак не
годился.
И уж совсем непостижимым было то, что человек, видимо,
решил переменить направление своих представлений о сути и
назначении философии на все 180°. Ведь еще вчера он
наравне со своими коллегами писал и публиковал статьи по теории
познания, сегодня же заявляет, будто она (а тем более
методология науки) вообще не составляет «специфического
предмета» философии и даже какой-либо ее цели, а выступает «лишь
как средство» решения «фундаментальных философских про-
Николай Николаевич Трубников: верность себе 597
блем», к числу которых в первую очередь относит проблемы
смерти и смысла жизни*.
Ответом была критика, очень резкая и по форме, и по
содержанию. Он изменил! И не только себе, но и тому святому
делу, которое нас — практически всех сотрудников сектора —
объединяло, — делу оживления, возрождения подлинной
гносеологии, а вместе с тем и всей основанной на ней
философской системы.
Что же касается дорогих его сердцу «фундаментальных
проблем», то коллеги как бы и вовсе не заметили их. В
самом деле, в публичном докладе говорить о смерти и смысле
жизни — это странно. Ведь общеизвестно, что классики
марксизма не занимались вопросом о смысле жизни, а тем
более — о смерти (смертью интересуются
экзистенциалисты, и это понятно, поскольку их как апологетов
буржуазного строя очень волнует и пугает вид умирающего
капитализма, гибель которого они, в силу своей классовой
ограниченности, отождествляют с гибелью всего человечества).
Конечно, невнимание «классиков» к этим проблемам могли
объяснять по-разному. Одни так: для людей, созидающих
коммунистическое общество, не может быть проблемы
смысла жизни, ибо он очевиден, он — в этом созидании.
Другие так: над этими проблемами бились многие, и в том
числе величайшие умы прошлого, однако ничего не
добились; отсюда, естественно, был сделан вывод, что это
вообще псевдопроблемы и им не место в серьезной
теоретической философии, подобно тому, как проблеме вечного
двигателя не место в современной физике. Третьи... Но при
любых вариантах объяснений вышколенный мозг нашего
философа срабатывал однозначно: раз «классики» этих
проблем не ставили, значит, их вообще нет. И срабатывал
так не только у людей недалеких или догматиков, но. иногда
и у тех, кого почитали едва ли не самыми талантливыми и
творчески-раскованными. И странным образом не
возникало мысли, что те, кого мы называем «классиками», это
обычные (пусть даже и очень одаренные) люди,
действовавшие во вполне определенных условиях и с вполне
определенными целями, что они отнюдь не собирались давать
* См.: Трубников H.H. Философия и методология науки (о сегодняшнем
понимании предмета и специфики философского знания) // Эстетический
логос. М., 1990. С. 28-30.
598 Е. П. Никитин
окончательные ответы на все возможные или хотя бы
важнейшие вопросы, не говоря уж о том, что знать не знали,
что когда-то будут объявлены классиками и все, сказанное
ими, для кого-то станет каноном, от которого
отклониться — ни-ни...
И все же как мог он так внезапно и радикально
измениться, изменить себе? Теперь из его архива мы совершенно
точно знаем, что на самом деле никакой измены и не было.
Напротив, была удивительная, хотя и не видная постороннему
взору, верность себе. «Давным-давно, в пору моей далекой
сибирской юности (тогда ему едва исполнилось четырнадцать
лет. — E.H.), на вытоптанном дворе Баргузинской средней
школы — на плацу, где мы, ученики этой школы, ежедневно
маршировали с деревянными винтовками в руках, в добрую
или — не теперь и не здесь судить об этом — недобрую
минуту пробудились эти вопросы о человеческой жизни и
смерти, о человеке, смысле и сущности человеческого бытия...
было отсутствие ответа, парадокс, жажда наполнения, не
утоленная, еще более разожженная прекрасной (не чета
нынешним столичным) районной... библиотекой (Кнут Гамсун,
Ибсен, Гауптман, даже Шопенгауэр и Ницше, не говоря уже
об изгнанном тогда из библиотек Достоевском)... Всю жизнь
эти вопросы прошли рядом, как верные спутники, как бы ни
гнал я их иной раз, ни прятался от них за личину
благополучия и довольства собой. Всю жизнь И это, пожалуй,
единственная верность, с какой довелось мне встретиться в жизни,
в людях и в себе самом»*.
Но в таком случае получается, что он изменял себе когда
занимался гносеологией (а также, скажем, теорией и
историей диалектики). Получается. Однако — при очень
формальном и абстрактном рассуждении. При конкретном же
рассуждении, во-первых, есть, как нам кажется, серьезные
основания предполагать, что подобные занятия были в силу
ряда обстоятельств вынужденными (назовем лишь одно из
них: как начинающему — находящемуся на низшей
ступеньке «академической иерархии» — и потому наиболее
подневольному «философскому работнику», ему иногда
приходилось писать «сочинения на заданную тему», например,
какой-нибудь раздел для коллективной работы, на который ее
* Трубников Н. Н. [Проспект книги о смысле жизни) // Квинтэссенция.
Философский альманах. М., 1990. С. 429, 431, 432.
Николай Николаевич Трубников: верность себе 599
организаторам не удалось найти автора). А во-вторых (и это
уже не предположение, но — факт), такие занятия были
для него побочными. В центре же внимания всегда стояла
заветная тема.
Надо, правда, учитывать, что эта важнейшая из
человеческих проблем является одновременно и труднейшей и при
самом могучем уме требует большой кропотливой работы и,
разумеется, времени. Став профессиональным философом,
он, видимо, избрал тактику постепенного вхождения в тему.
Ведь необходимо было найти свою постановку проблемы и
свое решение, что предполагало создание такого
концептуального и лингвистического аппарата, который бы
возможно более соответствовал глубинной внутренней интуиции
исследователя. В этом отношении интересна запись,
сделанная им при чтении бердяевского «Смысла истории»:
«То, что он пишет, необыкновенно близко мне. Кое-что я
писал и говорил другими словами, говорил хуже,
неинтереснее, но говорил то же самое... Почему та теоретическая
структура, которую я изучал, осваивал, в которой мыслил,
оказывалась недостаточной? Почему я все больше
испытывал мучительное чувство неистинности ее, хотя, казалось
бы, все было верно, все укладывалось в ее принципы и
критерии? Вот в этом-то и дело, что в ее принципы и ее
критерии. Ее принципы и ее критерии не были моими
принципами и критериями. А те, которые были моими, мне были
неизвестны, я их только узнавал (узнавал, вспоминая,
совсем по Платону!). Где же они были? И что они есть? Вот
предмет размышления! Может быть, и на самом деле
существует столько эссенциальных логик, сколько существует
людей? Я специально говорю об эссенциальной, а не о
вербальной логике, которая нужна мне лишь для того, чтобы
сообщить свое знание человеку...»*.
В своей кандидатской диссертации (опубликована в
1967 г.: «О категориях "цель", "средство", "результат"».
М.: Высшая школа; кстати сказать, в нашей литературе это
была первая книга по данной тематике) он готовит
общетеоретические предпосылки своего подхода к основной теме.
Здесь ставится задача осуществить предельно общий анализ
цели как необходимого элемента человеческой деятельности
* Трубников Н. Н. [От Зверя к Богу (читая «Смысл истории»
П.Бердяева)] // Общественные науки и современность. 1995. № 5. С. 142—143.
600 Е. П. Никитин
в соотношении с другими такими же элементами —
средством и результатом, построить «абстрактную модель
законченного акта человеческой деятельности». Ясно, что модель
такого — конечного — акта может быть создана лишь при
условии анализа конечных же целей (равно как средств и
результатов), то есть таких, которые автор обозначает
термином «конкретные цели деятельности» и отличает от
«абстрактных целей-идеалов».
Но вскоре он приступает к работе над следующей
книгой — «Понятие цели в связи с проблемой времени (к
вопросу о взаимоопределении понятий цели и времени)», в
которой, напротив, говорит лишь о целях второго рода, об
их роли в процессе осуществления человеком своей жизни,
наполнения времени своего бытия смыслом, то есть
непосредственно обращается к заветной теме. Рукопись книги,
представленная на обсуждение в 1973 г., многими
коллегами была встречена весьма критически. Автора обвиняли в
попытке возродить давно опровергнутый наукой теологизм,
в шпенглерианстве, бергсонианстве и во многих других
«тяжких грехах». Два года он «учитывал замечания», а
вернее, заново писал книгу, в которой теперь уже ничего не
говорилось ни о цели человеческой жизни, ни о ее смысле, ни
о многом другом, что было так дорого ему и ради чего
первоначально только и затевалась книга. В итоге получилась
работа о времени человеческого бытия. Однако и это не
спасло положения...
В августе 1975 г. он сдал в официальные институтские
инстанции рукопись этой книги, с чего и начались ее — и его —
долгие злоключения (сразу же замечу, что в свет она вышла
ровно через двенадцать лет — в августе 1987 г., когда автора
уже не было в живых). Она то подолгу лежала в институте, то
уходила в издательство («Наука») и лежала там, а потом
возвращалась назад и т. д. На ее пути встала масса самых
различных людей — от директора института до. «черных»
рецензентов. Всех их объединяло одно — стремление доказать, что его
концепция противоречит науке, т. е. судить его именем науки.
Какое нелепое стремление! Идея книги о том, что качественно
различным типам бытия соответствуют и качественно
различные типы времени, что время человеческого бытия
принципиально отлично от времени биологического, а тем более
физического бытия, непосредственно и явно вытекала из
эйнштейновских положений об относительности времени и его
теснейшей связи с материей. Они же настаивали на универ-
Николай Николаевич Трубников: верность себе 601
сальности и, стало быть, абсолютности физического времени.
Тем самым его, стоявшего на позициях науки и философии
нашего столетия, судили именем науки и философии века
семнадцатого! Дефицит познаний и интеллекта «судьи»
компенсировали властью и свободой от каких-либо нравственных
запретов.
Но он не мог не работать над своей проблемой, не мог не
излагать наработанное на бумаге. Изложения эти в
большинстве своем были во всех отношениях доведены «до кондиции»,
однако он никогда не пытался их публиковать, видимо,
изначально давал себе установку писать «для себя», заведомо «в
стол».
Самым первым из таких произведений было эссе «Притча
о Белом Ките» — своеобразное собеседование, соразмыш-
ление с Германом Мелвиллом — человеком близким по
духу — о смысле жизни, о его неотделимости от смысла (да,
именно смысла!) смерти, о путях и перепутьях европейской
цивилизации, о жизни и смерти человечества. «Притча»
была написана через полгода после того «злосчастного»
доклада и опубликована и кругу друзей (попросту говоря,
каждому был подарен экземпляр машинописного текста;
практически все последующие его работы такого рода
публиковались этим же способом, который, по сути дела, стал
для него единственным). «Притча» покорила, потрясла до
глубины души. Чистотой и возвышенностью нравственного
порыва, изяществом и тонкостью литературной формы,
мощью философской мысли. Потом были прекрасные
рассказы «Золотое на лазоревом, или Новый убор для св.
Варвары» (1972), «Скальпель и кисть ретушера» (1972—1973) и
Другие.
Параллельно и позднее писались и сугубо философские
трактаты. Их объединяла не только эта фундаментальная
смысложизненная проблематика, но и полное отсутствие
какого-либо снобизма в отношении к мыслителям прошлого —
к тем, якобы «не добившимся». «Пепел их живой мысли
стучался, стучится и стучит в моем сердце»*. По крупицам,
бережно собирается весь их опыт — и постановки проблем, и их
решения, и положительный, и отрицательный, и древний, и
совсем недавний — уточняется, очищается, дополняется,
сводится воедино, обосновывается. В итоге он получает свои,
* Трубников Н. Н. [Проспект книги о смысле жизни]. С. 44.
602 Е. П. Никитин
оригинальные постановки и решения этих древнейших
проблем, во всяком случае — право сказать: «Я знаю если не
ответ, то возможность ответа»*.
Очень стара и широко распространена (особенно в
XX в. — благодаря экзистенциалистам) концепция: жизнь
бессмысленна в силу существования смерти; будучи
абсолютно бессмысленной, смерть перечеркивает, делает
абсурдной любую жизнь, сколь бы осмысленной она ни
казалась; «гаснут и уходят: и он, человек, и весь этот
бесконечный светлый его мир, это беспредельное голубое и зеленое
его бытие. Во тьму небытия. В ничто»**. Тогда прав мудрый
Соломон, и жизнь — не более чем «суета сует», и потому
«лучше всего вовсе не родиться». Но что-то заставляет нас
противиться этому, лелеять (по выражению Мелвилла)
наши острова радости, вечнозеленые Таити нашей души,
верить, что «жизнь, какой бы невыносимой она ни казалась и
ни была на самом деле, все-таки есть нечто, всегда
бесконечно большее, чем ничто...»***.
В чем же дело? Может быть, в этом старом выводе
неверен сам принцип движения мысли, при котором оценка
жизни связывается с оценкой смерти? Нет, принцип верен.
Больше того, он, и только он и должен лежать в основе
анализа этих проблем; «от того, как мы решаем... вопрос о
смысле и ценности нашей смерти, зависит решение вопроса
о смысле и ценности нашей жизни»****. Изъян в другом — в
оценке смерти. Древнейшая концепция неверна. И он
выдвигает свою, прямо противоположную: жизнь может и
должна иметь смысл, и залогом этого является
существование смерти. «Надо просто по-иному понять смерть...» Не
вообще смерть и не чью-то уже случившуюся, но — свою
собственную, будущую. Понять не как начало,
противоположное жизни, а как ее полюс и предел, столь же
естественный и необходимый, как и другой полюс и предел —
рождение. Понять, что только осознание этой предельности
позволяет нам постичь великую ценность жизни «жизнь без
* Трубников Н. Н. [Проспект книги о смысле жизни]. С. 432.
"Там же. С. 431.
*** Трубников Н. Н. Притча о Белом Ките // Вопросы философии. 1989.
№ 1. С. 72.
мм Трубников Н. Н. Проблема смерти, времени и цели человеческой
жизни (через смерть и время к вечности) // Философские науки. 1990. № 2.
С. 106.
Николай Николаевич Трубников: верность себе 603
смерти, без меры и границы не только не имела бы в твоих
глазах никакой цены, но была бы бесконечностью куда
более невыносимой, чем самый невыносимый и ужасный
конец»*, понять, что и смерть тем самым имеет высокий
духовный, нравственный смысл.
Мелвилловский герой Измаил постигает это «на практике».
Чудом избежав смерти, он начинает совершенно по-новому
смотреть на мир, «принимать всякое мгновение бытия как
бесконечное благо. Не как нечто необходимое и естественное,
по священному праву рождения принадлежащее, но как
редчайший, ничем не обусловленный дар... Он перестает
презирать прошлое за то, что оно прошло и отступило под натиском
будущего. Перестает догонять будущее и преклоняться перед
ним за то, что оно наступает и вытесняет прошлое. Он
участвует в том, что в чем имеет участь...»**. Все это позволят
«сделать каждое его мгновенье бесконечно значимым, бесконечно
насыщенным жизнью...»***.
Но значит ли это, что узнать подлинную цену жизни
человек может лишь «практически» — самолично заглянув в
лицо смерти? Ответ, даваемый не столько каким-то
отдельным высказыванием, сколько сутью всех его работ, вполне
однозначен — нет. Человека можно и нужно учить
пониманию смысла жизни и смерти, как это делал Мелвилл. Ведь
сами по себе люди не любят размышлять о смысле жизни, а
тем более о смерти. Это неприятно, а иных наполняет таким
страхом смерти, который способен, как говорит Соломон,
заживо упокоить их в стане мертвецов. И тем не менее, а
вернее, именно поэтому и надо преподавать людям эту
самую трудную, но совершенно необходимую науку: «Не
бойся умереть, прожив. Бойся умереть, не узнав жизни, не
полюбив ее и не послужив ей»****. Такая наука способна
избавлять от «заживо упокаивающего» страха смерти и
заменять его противоположным и благородным страхом
бессмысленной смерти, или, что то же, бессмысленной, зря
потраченной жизни.
Однако и это не предел. Человек может преодолеть и
этот страх, если он сумеет до предела наполнить свою
* Трубников Н. Н. Притча о Белом Ките. С. 77.
" Там же. С. 77-78.
••• Там же. С. 78.
••" Там же. С. 77.
604 Е. П. Никитин
жизнь смыслом. Именно наполнить, ибо «в жизни самой
по себе вообще нет никакого раз и навсегда заданного,
однажды определенного смысла... В том-то как раз и
заключается дело, что жизнь — прежде всего человеческая
жизнь — не обладает никаким смыслом, помимо того,
какой мы сами сознательно или стихийно, намеренно или
невольно самими способами нашего бытия придаем ей. —
В одном случае глубокого и емкого, как жизнь Сократа, но
к очень многому и нелегкому обязывающего; в другом —
поверхностного и мелкого, позволяющего легко скользить
по ней, без страха погрузиться в нее слишком уж глубоко,
но и легко ускользающего и хрупкого... Этот ответ смещает
центр тяжести с вопроса об изначальном смысле,
бесплодность которого очевидна, на вопрос об
окончательном смысле, позволяя судить и о том срединном и
промежуточном, где находимся сегодня мы и где этот вопрос
имеет неотвлеченный смысл, где он, собственно, и
приобретает всю полноту своего значения...»*.
А отсюда ясен и вопрос «Как, посредством чего
преобразовывать наше общество?», и ответ на него: посредством
развития чувства собственного достоинства личности,
посредством личной ответственности каждого за выбор
идеалов и конкретную реальную работу по их претворению в
жизнь. Ибо «никакой социальности, никакой реальности
вне человека и над человеком нет... всякое социальное про-
изводно от индивидуального», общество «есть в самой
полной и непосредственной мере продукт наших "я", что-то
делающих, куда-то стремящихся или топчущихся на месте и
бездействующих, проживающих труды отцов и дедов...
В этом смысле подлинный импульс и смысл, сама тайна
социальности прячется в личной человеческой деятельности, в
нас самих. Мы есть кауза прима и кауза финалис
общественной жизни»**.
XX в. добавил ко всему этому внешне похожую, но, по
существу, принципиально иную проблему — проблему
жизни и смерти человечества. Не в последнюю очередь она
обязана своим существованием духовному кризису
европейской культуры, начало которому было положено
возникшей в Новое время установкой на преимущественное
* Трубников Н. Н. [Проспект книги о смысле жизни]. С. 438-438.
** Трубников Н. Н. Проблемы смерти... С. 113-114.
Николай Николаевич Трубников: верность себе 605
развитие знания (особенно научного) при его истолковании
в качестве силы . В системе культуры возникло
рассогласование между наукой и нравственностью. Истины,
которыми по праву гордится наука, «могут быть даже очень
плохими, потому что при их помощи может быть построена
очень хорошая с узконаучной или узкотехнической точки
зрения цепь суждений от Е = тс2яо взорванной в
Хиросиме бомбы»**.
Однако конфликтом между наукой и нравственностью дело
не кончилось. Возникли серьезные рассогласования и в
других сферах культуры, в частности, а вернее сказать, в
особенности, ибо это страшнее всего, в самой нравственности, в
этой святая святых разума. «Главный вопрос современности
состоит... не в том, как соотносятся наука и нравственность,
не в том, нравственна ли наука сама по себе. Главный
вопрос состоит в том, нравственна ли вся наша культура? Или,
если быть определеннее, нравственна ли сама наша
нравственность?»***.
Кажется, есть от чего прийти в отчаяние: «Я спрашиваю:
как можно жить и испытывать чувство довольства собой в
этом мире? Я спрашиваю: есть ли у кого-нибудь еще одна
соломинка? Пусть он покажет ее. Только пусть она будет
настоящей, чтобы можно было за нее схватиться!»****.
И все-таки остается надежда, что люди станут, должны
будут стать «Спасителями мира, как сумели, вкусив от древа
позабывшего о добре и зле познания, стать его Погубителями.
Должны будут стать не только Всемогущими и Всеведущими,
какими почти стали, но Всемилостивейшими, и помилуют не
только дельфинов... но и других, друг друга, себя. Или убоятся
и тогда останутся в своей преисподней. Погибнут в самими же
созданном аду, предоставив эту высочайшую из возможностей
какой-то другой, менее трусливой и алчной, менее близорукой
* См.: Трубников Н. Н. Кризис европейского научного разума.
Философия науки и философия жизни // Рациональность как предмет
философского исследования. М., 1995.
** Трубников Н. Н. Наука и нравственность (О духовном кризисе
европейской культуры)// Заблуждающийся разум? Многообразие вненаучного
знания. М., 1990. С. 287. Как и «Философия и методология науки», этот
текст был представлен сектору в качестве письменного доклада (начало
1972 г.). Реакция коллег была примерно той же.
••• Там же. С. 295.
••*• Там же. С. 295.
606 Е. П. Никитин
обезьяне, на какой-то другой, более счастливой планете, под
каким-то другим, более добрым, менее активно и жестко,
более спокойно излучающим Солнцем»*.
Выход из духовного кризиса европейской культуры — в
радикальном изменении ориентации нашей науки, искусства,
политики, права, да и самой нашей морали. Большая роль в
осознании необходимости такого изменения и в его
реализации принадлежит (должна принадлежать) философии, ибо это
среди ее вопросов главным, основным является вопрос о
смысле жизни и смерти, и все остальные так или иначе
ориентированы на него, связаны с ним**.
Вопреки широко распространенному мнению, философия
всегда связана с жизнью и потому конкретна (тогда как
наука, напротив, всегда абстрактна)***. Вопросы «всякой
действительной философии» «всегда есть проблемы не только
философские, всегда есть проблемы более, чем
философские... есть проблемы человеческой жизнедеятельности,
человеческой жизни»****; «философия "человеческого бытия"
смыкается с "человеческим бытием" философии,
"философия жизни" — можно было бы сказать, если бы это
выражение было свободно от философской традиции — и
"жизнь философии" обнаруживают свое исходное единство,
а всякий их новый контакт возрождает это единство и
позволяет всякий раз заново новым светом одной осветить
темноту другой»
Вот почему философия даже в «век науки» не имеет
никакого права ограничиваться обслуживанием науки (в про-
* Трубников Н. Н. Притча о Белом Ките. С. 82.
** Любой вопрос становится философским лишь тогда и постольку, когда
и поскольку он «приводится в прямую связь с проблемой смысла и сущности
человеческого бытия. И если мы заметим, что далеко не всякий из
человеческих вопросов может быть поставлен в такую связь, это значит лишь то, что
далеко не всякий из них есть философский вопрос, и если далеко не всякая
философия такой вопрос ставит, это значит, что далеко не всякая из
человеческих деятельностей, желающих именовать себя философией, имеет право
на это имя» (Трубников Н. Н. Философская проблема. Ее гуманистические
основания и критерии //О специфике методов философского исследования.
М., 1987. С. 20-21).
*** См.: Трубников Н. Н. Пределы философской проблемы (к вопросу о
соотношении философии и науки) // Философия и разум. М., 1990. С. 38-42.
**** Трубников Н. Н. Философская проблема. С. 19.
Там же. С. 21.
Николай Николаевич Трубников: верность себе 607
цессах своего функционирования) или обобщением данных
науки (в процессах своего развития), но должна
сопоставляться с гораздо более «широким и общим контекстом
человеческой жизни, практики, взятой во всем ее доступном
нашей мысли объеме»*. Вопреки многочисленным
позитивистским заклинаниям и прогнозам философия ныне отнюдь
не потеряла своей самоценности, а, напротив, приумножила
ее и потому не должна терять и чувства собственного
достоинства.
Сам он — внимательный, пытливый, умный
наблюдатель — постоянно изучал жизнь. Здесь следует заметить, что
вообще он обладал такими качествами, которые редко
уживаются вместе, являются как бы взаимоисключающими.
У него они, напротив, были взаимодополняющими и делали
его личность многогранной, полножизненной и духовно
здоровой. Так, с одной стороны, это был кабинетный философ,
эрудит-книжник, с другой, человек, наделенный даром очень
тонко ощущать** и остро переживать все окружающее,
неуемным стремлением узнавать о жизни из первых рук и из
первых уст. Что до уст, то он безошибочно находил такие, из
которых можно было услышать что-то новое и интересное,
находил во всякой ситуации и во всякое время (например, в
отпускное, когда в какой-нибудь забытой богом деревушке,
на которую волею карты и его рыбацкой интуиции пал
выбор, вел долгий неспешный разговор с крестьянами —
«стариканами» и старухами). Ну, а руки и искать не надо было,
потому что его собственные познавали жизнь лучше многих
других, ибо познавали, созидая; а создать они могли,
кажется, все — от дачного дома до медальона (из серебряного
полтинника) с тончайше выделанным образом Спаса и Вла-
* Трубников Н. Н. Философская проблема. С. 13.
** Это относилось не только к высшим духовным способностям, скажем,
к тому, что принято называть мироощущением, но и к самым обычным пси-
хо-физиологическим. Как-то у него стали побаливать глаза. Пошел к врачу,
все объяснил, а когда тот по обыкновению вознамерился было проверять
его зрение по таблице, сказал: «Доктор, я могу Вам прочесть, в какой
типографии и каким тиражом эта таблица напечатана». «Так чего же Вы
хотите?» «Хочу, чтоб не болели». А еще он часто восклицал: «Что мне делать с
моим носом?!» — и очень завидовал тем многим (практически всем), кто
даже и не подозревает, «сколько дурных запахов издает наша славная
советская действительность». И еще говорил: «У меня плохая память — я все
помню».
608 Е. П. Никитин
димирской Богоматери. В общем, если известный анекдот
«Вы умеете играть на скрипке?» — «Не знаю, не пробовал»
истолковать не как анекдот, а как вполне серьезный
разговор, то это будет про него.
А вот — другая «пара взаимоисключающих качеств». Это
был в высшей степени благородный человек с хорошо
развитым чувством собственного достоинства — гордая осанка,
белогривая (когда мы познакомились, ему было тридцать четыре
года, но я почему-то не помню его не седым), высоко носимая
голова, эмоциональная и речевая сдержанность. И все это
сочеталось в нем с добрым озорством, с любовью к
розыгрышам, с умением тонкой и всегда тактичной шуткой ответить на
чужую шутку или разрядить неловкую ситуацию*.
И — последняя «пара», заслуживающая, впрочем, особого
внимания. Талант глубокого философа-мыслителя сочетался в
нем с ярким писательским талантом. Он пробовал себя в
разных жанрах, пробовал свою проблему разными жанрами. Но
при всем многообразии стилей, в которых написаны его
заветные сочинения, они так или иначе обращены и к философии, и
к художественной литературе. Его философские трактаты о
смысле жизни и смерти — это своеобразные собеседования с
мыслителями прошлого, причем не столько с «чистыми
философами», сколько с «философами-художниками» (Гете, Стер-
* Знакомый (сочувственно-сентиментально): «Э-э, Коля, а у тебя в
голове серебро...» Мгновенный ответ: «Да и у тебя не золото» (знакомый к
этому времени начал активно лысеть).
На Селигере у костра трапезничаем компанией. Мне приходит в голову
забавная (а главное, к месту) переделка имени «Дедал». Выдаю ее
«на-гора»: «Едал». Он, не задумываясь ни на секунду, добавляет: «и Икал».
В магазине берет банку консервов, естественно, без очереди (товар-то
штучный). Молодая женщина, стоящая первой в очереди, что-то очень
раздраженно говорит ему (слов мне издали не слышно). Он поворачивается к
ней с обаятельнейшей улыбкой и отвечает. Женщина вдруг смущается,
опускает глаза и что-то бормочет себе под нос. Он все с той же улыбкой
произносит что-то. Она окончательно сникает. Когда он подходит ко мне, я
спрашиваю: «Что за странная беседа?» «Она мне говорит: "Ты что, лучше
других, что ли?!" Я посмотрел на нее и честно сказал: "Нет, Вы, конечно,
лучше". Она: "А у меня, между прочим, ребенок дома..." Я говорю: "Какая
жалость!"».
Сотруднику, который так и не решился принять участие в институтской
поездке за город: «Если бы ты поехал с нами, то ты бы пожалел, что остался
дома».
Николай Николаевич Трубников: верность себе 609
ном, Толстым, Достоевским, Мелвиллом, Т. Манном,
Булгаковым); наиболее показательна в этом отношении «Притча».
Что же касается его художественных произведений, то они
всегда «работают» на философскую проблему. Так, в
рассказах «Золотое на лазоревом, или Новый убор для св. Варвары»
и «Скальпель и кисть ретушера» тема жизни и смерти
осмысливается через трагедию целого поколения россиян, но не ту
(30-х гг.), жертвами которой стали уже сами большевики, а
более раннюю — трагедию людей старой русской культуры,
многочисленных «щепок», безвинно летевших и ходе
размашистой «революционной» рубки леса.
В 1982 г., уже будучи безнадежно больным и знающим это,
он написал давно задуманную повесть «Зефи, Светлое мое
Божество, или После заседания (из записок покойного
К.)» — повесть чем-то очень бултаковскую. Может быть,
обилием «мистификаций»? Не только и не столько. В конце
концов они в обоих случаях — лишь средство. Средство
подачи, как в «Мастере и Маргарите», человеческой жизни во
всей ее многосложности и многослойности, от низшего
«звериного» слоя до высшего «божественного». Вместе с тем этой
повести свойственна какая-то камерность (если угодно, в духе
«Театрального романа»), ибо вся эта многослойность — с
естественными противоборствами и неестественными согласно-
стями этих слоев — помещается в рамки одной личности.
Мы здесь не возьмемся обсуждать, почему при
исследовании вопроса о смысле жизни и смерти надо было сочетать
философию с литературой (может быть, он слишком
многогранен и животрепещущ, чтобы его можно было одолеть только
силой «холодного» философского анализа). Но совершенно
ясно, что такое сочетание, органичное и тонкое воплощение
глубоких философских идей в яркие художественные образы
получило широкое развитие в новейшей культуре — в
мировой (Торо и Мелвилл, Камю и Сартр, Манн и Гессе) и в
частности, а может быть, в особенности в российской (Гончаров и
Лесков, Толстой и Достоевский, Набоков и Булгаков,
Цветаева и Мандельштам, Пастернак и Бродский).
Столь же ясно, что для него это сочетание, кроме всего
прочего, было органически связано с убеждением, согласно
которому «философия [есть]... то, чем человек обладает с самого
начала»*, «быть человеком и не быть философом невозмож-
* Трубников Н. Н. Философская проблема. С. 14-15.
610 Е. П. Никитин
но»*. Он писал свои работы не только для профессионалов, но
для всех, «болеющих» теми же проблемами. «У меня нет
иллюзий. Я ни в малейшей мере не думаю, что мой ответ
способен изменить мир. Но я хотел бы все же предложить ту точку
человеческой опоры, по крайней мере указать область, где
был бы небезнадежен поиск этой точки, всем тем, кто хотел
бы слушать и мог слышать... И эта речь... может быть,
поможет и дальше искать эту "точку человеческой опоры", этот
"смысл человеческой жизни" тому, кому знакома эта тоска по
осмысленности, кто не умеет довольствоваться тем, что есть, и
знает или узнает когда-либо зов иного, более просторного и
ясного человеческого мира»**.
* Трубников Н. Н. Философская проблема. С. 16.
** Трубников Н. Н. [Проспект книги о смысле жизни]. С. 433.
Е. П. Никитин
Борис Семёнович Грязнов:
разработка фундаментальных проблем
методологии науки*
А мой двойник кричит, и нет ему ответа,
А мой двойник грустит, до слез мне жаль его.
Пока не заблестит окно в лучах рассвета,
Двойник мне не простит молчанья моего
г ано, чудовищно рано он покинул этот мир. И дело
не в том, что не успел «довыполнить» свои
творчески» планы. Просто дожить не успел. — Он, так
исступленно любивший жить! Его незаурядная воля
(прямо-таки по Шопенгауэру) была волей к жизни;
его постоянным стремлением было прямодушно
откровенное стремление к самоутверждению, причем
высокий уровень притязаний в данном случае на
редкость удачно сочетался с высоким уровнем
способностей, с яркими и многообразными талантами.
Случилось мне как-то в разговоре с ним почти
бездумно произнести некую расхожую сентенцию о
честолюбии, разумеется, осуждающую сентенцию.
Реакция Бориса явилась для меня совершенно
неожиданной как по форме, так и по содержанию; с пылом
он стал доказывать, что без честолюбия был бы
невозможен ни личностный, ни общественный
прогресс.
Он был поистине артистической личностью (в
молодости мечтал и даже предпринял попытку стать
актером). Около него постоянно роились люди. —
Потому что они были нужны ему. Потому что он был ну-
* Философия не кончается... Из истории отечественной
философии. XX век. В 2-х кн. / Под ред. В. А. Лекторского. Кн. II. 60—
80-е гг. М., 1998. С. 636-652.
612 Е. П. Никитин
жен им. К нему шли в общежитие, на работу, на квартиру.
Шли за интересной идеей, за новой проблемой. Ими он просто
фонтанировал. Шли за спором. Спорил много и умело. Шли за
песней. Пел часами. Любил Кима, боготворил Окуджаву. Сам
писал песни на стихи разных авторов — от Межелайтиса до
совсем никому неизвестных поэтов. Как будто это было вчера
или даже происходит сейчас, слышу его гитару и его голос:
Прохожие спешат от улиц беспокойных
В уютное тепло пустующих квартир,
А рядом — мой двойник, мой Соловей-Разбойник
Задумчиво шагает, как верный конвоир.
Сказанное, пожалуй, объясняет, почему он предпочитал
устные формы философствования письменным (его «станком»
была скорее кафедра, чем письменный стол), а из последних
отдавал предпочтение коллективным трудам. Он был
организатором и участником многих научно-теоретических
конференций, конгрессов, симпозиумов, инициатором и творческой
душой (автором центральных, стержневых идей) ряда
коллективных монографий*.
Перед лицом слушателей и читателей Борис был в высшей
степени требователен к себе. Говорил и писал только о том,
что знал досконально, а главное — где мог сказать что-то
новое, свое. Непременно заботился об однозначности и четкости
текста, об увлекательной форме повествования. Готовя себя к
началу педагогической деятельности, специально изучал
ораторское искусство. Благодаря всему этому такими яркими,
запоминающимися были его выступления на конференциях и
симпозиумах, его лекции студентам и аспирантам, будь то в
Читинском педагогическом институте, Обнинском филиале
Московского инженерно-физического института или на
философском факультете МГУ. Его слушатели и читатели должны
были находиться в состоянии непрерывного и по возможности
возрастающего интереса, причем их мыслительная
деятельность не должна была расслабляться ни на секунду. Работая
над статьями и книгами, доводил тексты до четкой
последовательности и предельной краткости. Неизменно удивлял
редакторов и издателей тем, что, в отличие от обычной авторской
* Глинский Б. А. и др. Моделирование как метод научного исследования
(гносеологический анализ). М., 1965; Грязное Б. С. и др. Теория и ее
объект. М., 1973 и др.
Борис Семёнович Грязное: разработка фундаментальных... 613
манеры превышать общепринятые (или заранее
обговоренные) объемы работ, вечно не «дотягивал» до этих объемов. Из
письменных форм отдавал предпочтение тезисам, хотя, как
правило, подменял их работами совсем другого жанра, а
именно миниатюрными статьями (несмотря на их миниатюрность,
они всегда были вполне последовательными, законченными и
аргументированными работами).
Когда, после смерти Бориса, было задумано издать, книгу,
содержащую его основные работы*, ее составители
практически сразу же пришли к мысли о возможности и даже
необходимости придания ей монографической формы. Реализовать
эту мысль не стоило большого труда. Залогом монографично-
сти явилось столь характерное для Бориса стремление к
единству (к своего рода логической когерентности) личности, что, в
частности, проявилось в устойчивости его исследовательских
интересов. На протяжении всей своей творческой
деятельности он, так или иначе, был занят исследованием проблемы
объектного содержания, онтологического статуса феноменов
познания (и вообще сознания).
Однако его ни в коей мере нельзя причислить к разряду
узких специалистов. Незаурядный исследовательский талант и
основательные познания в самых различных отраслях науки и
вообще культуры — математике и логике, физике и
кибернетике, истории философии и истории науки, искусстве и
эстетике — позволяли ему постоянно углублять и расширять эту
проблему, обнаруживая подчас самые неожиданные, но по
зрелом размышлении всегда естественные выходы на другие
темы, равно как и ее связь с иными сферами исследования, в
которых ему довелось работать. Впрочем, это, так сказать,
лишь субъективная сторона дела.
Объективная же сторона состоит в том, что его «сквозная
проблема» оказалась теснейшим образом связанной с.другими
фундаментальными проблемами методологии науки, и, прежде
всего — с вопросом о природе науки. Решение первой
выступало то, как необходимая предпосылка решения последнего, то,
напротив, как его следствие. Во всяком случае, именно в свете
подходов к вопросу о природе науки, как мне кажется, можно
периодизировать творческую эволюцию Бориса, различить в
ней три основных этапа. На первом феномен науки изучался,
* Грязное Б. С. Логика, рациональность, творчество. М., 1982. К книге
приложена полная библиография работ автора.
614 Е. П. Никитин
выражаясь физическим языком, в статике и кинематике
(субстанциально, структурно и функционально), на втором — в
динамике (генетически), на третьем — в суперсистеме, а именно,
как элемент более обширной системы. Эта схема весьма
условна, поскольку границы между этапами очень и очень нежестки.
И вместе с тем она, как мне кажется, имеет смысл.
Первоначально «сквозная проблема» выступила в форме
вопроса об онтологии математических понятий, которому
была посвящена кандидатская диссертация «Проблема
существования в математике», успешно защищенная в 1963 г.
(научный руководитель С. А. Яновская). Будучи непосредственно
связанным с попытками обоснования математики, этот
вопрос, как известно, на протяжении всего нашего столетия
остается самой главой и сложной философской проблемой
математики. Рассматривая различные подходы к ней, диссертант
показал их слабые стороны, показал, что ее в принципе нельзя
решить, если не анализировать процесс формирования
абстрактных объектов математики и конкретные способы этого
формирования, такие как абстрагирование, идеализация,
формализация, аксиоматический метод. Детальному изучению
последних и была посвящена основная часть диссертации*.
Позднее он ставит проблему существования гораздо шире —
применительно к теоретическому миру науки вообще — и
получает очень важные результаты**. «Давно замечено, что
теория есть знание особого рода — знание всеобщее
(универсальное) и необходимое (содержательно аподиктическое). Но как
* Практически в это же время (в рамках коллективного исследования
метода моделирования) он подверг анализу еще один из таких способов —
интерпретацию посредством модели и с помощью весьма оригинальной
концепции показал несостоятельность общепринятого взгляда,
противопоставляющего модели математики моделям других наук. Им было доказано, что
«всякая модель, выполняющая функцию интерпретации,- конкретнее
интерпретируемой ею системы» (Глинский Б. А. и др. Моделирование... С. 170).
** В 1969 г. я предложил ему и Б. С. Дынину написать серию книжек о
научной теории, обстоятельно рассказать, что мы думаем о ее атрибутах,
функциях, структурах, генезисе и развитии, системах теорий и их видах и т. д.
Борисам Семёновичам предложение не понравилось. Нет, не тема (она-то как
раз была принята с энтузиазмом), а идея «сериала». При этом Грязнов
сказал, что на реализацию такого плана ему не хватит оставшейся жизни, а Ды-
нин — что ему не хватит терпения, и тут же предложил: пусть каждый из нас
изложит то, что, с его точки зрения, наиболее интересно из всего уже
придуманного им. Грязнов ответил, что в таком случае он должен будет написать об
Борис Семёнович Грязное: разработка фундаментальных... 615
возможно такое знание? Как из эмпирических знаний о
случайных и конечных предметах реальности получается такое
теоретическое значение? Как формируется теория? Как
осуществляется "контакт" теории с внетеоретической реальностью?
Исходным пунктом решения этих проблем оказывается вопрос об
объекте теории, т. е. о ее онтологическом статусе»*.
Если подвергнуть серьезному философскому анализу ту
наивно-реалистическую концепцию этого статуса, которая
стихийно сложилась в естествознании, то мы обнаружим, что
«она совершенно непригодна для понимания научного
знания»**, ибо «объект теоретического знания... не может быть
дан исследователю в качестве предмета созерцания, а всегда
представляет собой продукт нашей деятельности...»***. Но
неправ и платонизм, считающий, что научная теория относится к
некоему предзаданному человеку миру идеальных объектов
(сущностей). Действительное «решение проблемы
существования (объекта теоретического знания. — Е. Н.) каждый раз в
конечном итоге сводится к анализу генезиса объекта и
способов его введения в мир теоретического знания»****.
Наибольший интерес здесь представляет предложенная
Борисом интерпретация квантора всеобщности номотетических
высказываний как относящегося не к бесконечному множеству
однотипных эмпирических объектов, но — к единственному, а
именно теоретическому объекту; «объектом теоретического
знания всякий раз оказывается индивид — единственный и
уникальный объект; верно, это объект особого рода — он
абстрактен. Абстрактен в том смысле, что он представляет собой лишь
одно свойство эмпирического объекта; он абстрактен и в том
смысле, что отвлечен от эмпирического объекта. Именно
уникальность объекта придает утверждениям о нем необходимый
характер. Теоретический объект как объект существует лишь
интерпретации квантора всеобщности и лапласовского детерминизма. При
всей кажущейся «частности» этих тем речь, как выяснилось, шла о
понимании самой природы теории, точнее, ее онтологического статуса. Идея была
принята, и два других соавтора «подстроились» под нее. Беру это слово в
кавычки, потому что, как ни странно, в итоге каждый из нас двоих не только
достаточно органично вписался в заданную тему, но и действительно изложил
самое интересное из уже придуманного им насчет научной теории.
* Грязное Б. С. и др. Теория и ее объект. С. 3.
** Там же. С. 16.
••* Там же. С. 22.
**** Там же.
616 Е. П. Никитин
благодаря познавательной деятельности человека, как продукт
конструктивной деятельности исследователя... Отсюда следует,
что неуниверсальных теорий просто не существует, ибо не может
быть теории, которая не исследовала бы все свои объекты. Если
теория не исследует все объекты, то в силу их уникальности она,
следовательно, не изучает ни одного объекта»*.
Этим снимается знаменитая проблема индукции и
утверждается, что теоретическое знание (универсальное
высказывание, научный закон, принцип и т. п.) ничуть не менее, чем
эмпирическое, может быть вполне достоверным, а не лишь
проблематическим, как полагали, например, представители
эмпиризма от Юма до Поппера.
В свете такого понимания онтологического статуса научной
теории обретают новые и, на первый взгляд, неожиданные
очертания некоторые традиционные проблемы и решения. Так
случилось с лапласовским детерминизмом. Принято считать,
что возникновение и развитие статистической физики уже в
середине прошлого столетия поставило его под вопрос, а
формирование квантомеханической теории опровергло окончательно.
Однако все это в значительной степени есть результат
недоразумения — того, что лапласовский детерминизм обычно
квалифицировался как описание внетеоретического мира физических
объектов. На самом же деле он характеризует мир
идеализированных абстрактных объектов классической механики, а
последние «таковы, что раз заданы параметры их, то мы всегда
можем определить их прошлое и будущее совершенно
однозначно. В этом, собственно, нет ничего удивительного или
сверхъестественного, поскольку сама модель строилась таким
образом. Лаплас, следовательно, не изобретает принцип
детерминизма, а находит уже готовым в классической механике. Его
заслуга — в явном выражении свойств классической модели.
Поэтому лапласовский детерминизм не может устареть.
Преодоление лапласовского детерминизма могло бы только
означать ликвидацию самой классической механики, вернее, той
модели, к которой относятся уравнения и законы теории»**.
Но и это не все. «В XX в. даже больше, нежели в XIX в.,
теория признается удовлетворяющей научным критериям, если
только она лапласовски детерминистична...»*". Необходимо по-
* Грязное Б. С. и др. Теория и ее объект. С. 37.
** Там же. С. 43—44.
••• Там же. С. 48.
Борис Семёнович Грязнов: разработка фундаментальных... 617
нять, что «квантовая механика вовсе не является теорией о
свойствах и поведении микрообъектов», а изучает «свойства и
поведение возможностей (оцениваемых или выражаемых как
вероятности) элементарных частиц»*. И тогда «восстанавливается в
полных правах детерминизм, при этом в лапласовском виде.
Действительно, волновая функция, являющаяся теперь описанием
не электрона, а возможностей его, становится и полным, и де-
терминистичным описанием, а квантовая теория — адекватным
описанием и объяснением того мира, который она изучает»".
Лапласовский детерминизм представляет собой
методологический принцип, «его следует считать метапринципом
построения любой теории... он может быть использован в
качестве необходимого (но недостаточного) критерия теоретического
знания: то, что не удовлетворяет лапласовскому
детерминизму, не может быть признано теоретическим знанием»***.
Необходимо подчеркнуть, что это рассмотрение вопроса об
онтологическом статусе научных теорий сочеталось с
анализом того, как этот вопрос ставится в конкретных науках — в
кибернетике****, физике , логике и лингвистике , ну и,
конечно же, математике, о чем уже говорилось И не
просто сочеталось, а прямо основывалось на таком анализе.
Переход к исследованию генезиса, развития науки был для
Бориса естественным, внутренне обусловленным, ибо, как мы
видели, вопрос о самой сущности идеализированных
теоретических объектов, с его точки зрения, может быть решен только при
* Грязнов Б. С. и др. Теория и ее объект. С. 50.
** Там же.
*** Там же. С. 54.
**** Грязнов Б. С. Кибернетика и философия //Диалектический
материализм и вопросы естествознания. М., 1964; Грязнов Б. С. Некоторые
гносеологические аспекты кибернетики // Кибернетика, мышление, жизнь. М., 1964.
***** Грязнов Б. С. Стаханов И. П. К логическому анализу некоторых
терминов науки // Очерки истории и теории развития науки. М., 1969.
Грязнов Б. С. О двух аспектах понятия «значение» // Проблема
значения в лингвистике и логике. М., 1963; Грязнов Б. С. О содержании и форме в
языке // Материалы совещания по языку и мышлению АН СССР. М., 1965;
Грязнов Б. С. О лейбницевском понимании равенства и синонимии // Вопросы
философии. 1965. № 6.
Грязнов Б. С. О номиналистическом истолковании проблемы
существования и абстракций в современной математике // Методологические
проблемы современной науки. М., 1964; Грязнов Б. С. Предмет математики и
специфика ее объектов // Философские проблемы естествознания. М., 1967.
618 Е. П. Никитин
учете того, как, какими методами, с помощью каких средств
порождаются и совершенствуются эти объекты. Внешним же
стимулом для такого перехода послужило поступление на работу
в Институт истории естествознания и техники АН СССР (1967—
1976 гг.). Генетическое исследование науки проводится им на
разных уровнях, причем он выступает в разных
«профессиональных ипостасях». В самом первом приближении их две —
историк и то, что можно было бы обозначить как методолог развития,
поскольку он работает в той области методологии, которая
изучает процессы развития науки. Однако эти ипостаси имеют
тенденцию к перекрещиванию. Поэтому в результате во втором
приближении мы получаем довольно богатый набор
специальностей: историк науки и историк методологии, методолог развития
и методолог историко-научных исследований и т.д.
История науки. Навыки строгого научного исследования и
богатое воображение, без которого работа историка
невозможна, превращают его историко-научные труды в живые картины
событий и лиц прошлого, позволяют автору находить
оригинальные решения старых проблем, делать открытия. В этом
отношении, на наш взгляд, наибольший интерес представляет
работа об «Аналитиках» Аристотеля*. Известно, что литература,
посвященная им, очень велика. Однако написание данной
работы не является простым добавлением еще одной «песчинки» в
эту «гору»; как ни парадоксально, скорее напротив, оно
уменьшает «гору», лишая известную ее часть смысла: очень
убедительно доказывается, что вопреки общепринятому взгляду
силлогистика Аристотеля была вызвана к жизни не только и даже
не столько тогдашним естествознанием, сколько практикой и
насущными потребностями развития ораторского искусства.
Методология историко-научных исследований. Работая
как историк науки, он одновременно осуществляет
методологическую рефлексию над этой своей деятельностью. При этом
важнейшим для него является вопрос о существовании
объектов исторического знания. В отличие от большинства
естествоиспытателей, историк всегда имеет дело с «обломками»
прошлого, «реликтами». Эта специфическая особенность бытия
объектов определяет и специфику методов исторического
исследования. «Среди историков широко распространен
афоризм: история не обсуждает вопросов типа "что бы было, если
* Грязное Б. С. Об исторической интерпретации «Аналитики»
Аристотеля. М., 1971. См. также: «Organon». 1975. № 11.
Борис Семёнович Грязнов: разработка фундаментальных... 619
бы чего-нибудь не было?"... Тем не менее обращение к
историческим работам, начиная с античности, легко обнаруживает,
что вопросы подобного рода являются ключевыми для
историка»*. Больше того, их постановка представляет собой
необходимый элемент того важнейшего (если не главного) метода исто-
рико-научных реконструкций, который автор называет методом
«обоснования контрфактических предложений».
Обращение к вопросу об онтологическом статусе историко-
научного знания позволило показать, что дискуссия между
«экстерналистами» и «интерналистами», по сути дела, не
имеет смысла, ибо спорящие стороны говорят просто о разных
объектах — интернализм рассматривает науку как систему
знания и познания, а «экстерналистекая концепция ставит
задачу изучения науки как социального института в системе
социальной действительности»**.
Методология развития и ее история. При рассмотрении
работ, посвященных этой тематике, прежде всего поражает
широта интересов и познаний автора. Объектами его
внимания становятся концепции развития науки, сформулированные
как самими «учеными-конкретниками»***, так и
методологами-профессионалами, как сторонниками эмпиризма (будь то в
позитивистской версии**** или в постпозитивистской) , так и
сторонниками рационализма (например, неокантианцами)
* Грязнов Б. С. Логика, рациональность, творчество. С. 108—109.
** Там же. С. 103.
*** Грязнов Б. С. Ф. Клейн об исторических ценностях и стимулах
научного творчества // Ученые о науке и ее развитии. М., 1971; Грязнов Б. С.
Представления математиков Германии XIX в. о науке и ее развитии //
Проблемы развития науки в трудах естествоиспытателей XIX века. М., 1973.
**** В организованном им коллективном труде «Позитивизм и наука.
Критический очерк» (М., 1975) его перу принадлежат три статьи о раннепози-
тивистской методологии развития: «Учение о науке и ее развитии в
философии О. Конта», «Эволюционизм Г. Спенсера и проблемы развития науки»,
«Проблемы науки в работах логиков-позитивистов XIX в.: Д. С. Милль,
У. С. Джевонс».
Из группы его работ об этом направлении в методологии развития
прижизненно была опубликована лишь статья «Философские «парадигмы»
Т. Куна» («Природа». 1976. № 10). Статьи о К. Поппере, И. Лакатосе,
П. Фейерабенде и Дж. Агасси мы включили в книгу «Логика,
рациональность, творчество».
Грязнов Б. С. Неокантианские концепции развития науки. (Этот текст
обязан своим существованием, в частности, студенческим записям спецкурса,
читанного Борисом на философском факультете МГУ).
620 Е. П. Никитин
Но подобно тому, как собственный, позитивный анализ
онтологии научных теорий всегда тесно переплетался у него с
критическим рассмотрением чужих взглядов, это историческое
исследование существующих методологий развития, как
правило, приводило к выдвижению своих оригинальных идей или
даже осуществлялось в контексте таких идей, придуманных им
еще до начала подобного исследования.
Примеров, подтверждающих это, можно привести много, но
мы остановимся лишь на одном. Особый интерес у Бориса
вызывала методология развития К. Поппера, в частности то,
какую роль в ней играет понятие проблемы. И вот у него
рождается свой взгляд на феномен проблемы и его соотношение с
теорией*: на самом деле ученый занят решением не проблем, а
задач, т. е. таких вопросов, которые могут быть
сформулированы и решены в терминах и средствами уже существующих
научных теорий (знаний). Конечно, теория решает и проблему,
но последняя никогда не формулируется до построения
теории, а всегда лишь реконструируется после ее построения.
Теория есть знание, реконструкция же проблемы дает
понимание (этой теории).
Выход на контекстный анализ науки (научной теории) в
значительной степени был связан с критическим
рассмотрением неокантианского и постпозитивистского вариантов
методологии развития. В обоих вариантах такой анализ
квалифицировался в качестве совершенно необходимого компонента
исследования науки, хотя понимался и оправдывался он в том и в
другом случае весьма по-разному.
Для неокантианца Э. Кассирера, пожалуй, наиболее
важной была идея органической целостности духовной
культуры. «Проанализировав различные символические
формы, Кассирер обращает внимание на то, что нельзя
рассматривать культуру как простой набор этих форм. Они
сквозят и просвечивают одна в другой, каждая из них
репрезентирует целое — культуру. Их нельзя соотносить с
различными культурными эпохами, но только с целым — с
человеком, который представляет собой единство религии,
мифа, магии, науки, искусства, истории и т. д. Здесь целое
существует прежде своих частей»". Но принципиально
* Грязное Б. С. О взаимоотношении проблем и теорий // Природа.
1977. № 4.
** Грязное Б. С. Логика, рациональность, творчество. С. 140.
Борис Семёнович Грязное: разработка фундаментальных... 621
важно и то, что этому выводу у Кассирера предшествует
тщательнейший анализ каждой из «символических форм»,
выяснение тех ее характеристик, которые роднят ее с
другими формами, и тех, что принадлежат только ей,
составляют ее специфику.
Стратегия контекстного анализа в постпозитивизме
выглядит существенно иначе. Критикуя позитивистское резкое
противопоставление науки другим формам духовной
культуры, представители этого направления в методологии
развития часто перегибали палку в другую сторону — релятивизи-
ровали данные формы, в значительной степени нивелировали
их качественные различия. Разумеется, у разных авторов это
проявлялось в разной степени. Так, «если у Поппера его
демаркационный критерий позволяет отличить науку (как она
определяется этим критерием) от философии (но вместе с
этим исчезает какая-либо возможность отличать философию
от мифа, поскольку и то и другое для него в равной мере не
наука), то у Лакатоса уже и науку нельзя отличить от
мифа»*. В целом создается парадоксальная ситуация: исходя
из идеи, что анализ развития науки должен учитывать
культурный контекст, в котором оно происходит,
постпозитивисты в конечном счете утрачивают этот контекст, поскольку
разница между ним и «текстом» — самой наукой —
оказывается весьма размытой. Особое внимание Борис обращал
на то, что утрачивается граница между рациональностью и
иррациональным.
В связи с этим он специально занялся проблемой
рациональности. Характеризуя науку как одну из форм
рационального познания, он дает едва ли не самое четкое и ясное в
нашей литературе понятие рациональности. И здесь он вновь
исходит из идеи объекта исследования: познавательная система
тем более рациональна, чем менее она обращается к внешним
факторам, ограничиваясь в ходе описания и объяснения мира
лишь собственными объектами — теми, которыми она
непосредственно занимается.
Летом 1977 г., попав в больницу, Борис «от корки до
корки» прочитывает все десятитомное издание сочинений
Т. Манна. В начале следующего года он несколько раз
выступает с докладом «Болезнь и творчество в творчестве Т.
Манна». Речь, в сущности, шла о специфике искусства, художест-
* Грязнов Б. С. Логика, рациональность, творчество. С. 168.
622 Е. П. Никитин
венного творчества, причем все опять-таки упиралось в
специфику его онтологического статуса.
Прежде всего, внимание обращается на то, что Манн очень
часто живописует болезни. Объясняется это следующим
образом: «Художественное творчество Т. Манна целиком
посвящено теме творчества. Болезнь же занимает в нем особое
место скорее всего потому, что тема болезни связана с
проблемой творчества»*. Как связана? Сам Манн отвечает на этот
вопрос вполне определенно: «Болезнь влечет за собой нечто
такое, что важнее и плодотворнее для жизни и ее развития,
чем засвидетельствованная врачами нормальность... иные
взлеты души и познания невозможны без болезни, безумия,
духовного «преступления», и великие безумцы суть жертвы
человечества, распятые во имя его возвышения, роста его
чувств и познаний, короче говоря — во имя высшего его
здоровья»**.
«Я не могу принять манновскую позицию относительно
того, что болезнь как физическое (биологическое) явление
есть причина творчества и обязательно сопровождает
человеческое творчество или что болезнь психическая
(психическая патология) должна сопровождать творчество. Но
я готов разделить с Т. Манном взгляд, что творчество есть
всегда человеческая боль; творчество есть всегда
страдание. Творчество без страдания, без боли, по-моему,
принципиально невозможно»***. И дело не в том, что оно
предполагает труд — «труд упорный, долгий, требующий
усилий, порождающий утомление, а порой и «леденящую
скуку»«. Такой труд необходим лишь для достижения
«совершенства в том, что уже есть, в рамках существующих
традиций и приемов»**** , а это еще не творчество. Само по
себе оно всегда есть преступление, т. е. выход за
пределы, причем сразу в двух планах. Во-первых, — за пределы
уже наработанных в искусстве средств изображения
действительности , во-вторых, — за пределы последней.
* Грязное Б. С. Логика, рациональность, творчество. С. 242.
•* Манн Т. Собр. соч.: В 10 т. М., 1961. Т. 10. С. 338-339.
*** Грязнов Б. С. Логика, рациональность, творчество. С. 246.
•••• Там же. С. 249.
Создание шедевра в искусстве — и, я полагаю, что не только в
искусстве, но и в любом творчестве, — это всегда «доведение до совершенства»,
до предела имеющихся форм изображения действительности и
одновременно это выход за пределы, преодоление» (там же).
Борис Семёнович Грязное: разработка фундаментальных... 623
«Изображение действительности — это преодоление ее»*,
ибо художник — даже самой реалистической
ориентации — отнюдь не воспроизводит наличную реальность, а
творит свою, другую, которая является лишь видимостью,
иллюзией первой** (здесь нетрудно усмотреть аналогию с
идеализированным миром научной теории). «Преступление
как преодоление — это и есть главная боль, главное
страдание, главное усилие художника... для того чтобы
решиться на преступление — на критическое преодоление
действительности, старых канонов ее изображения, своей
собственной природы, наконец, художнику требуется духовная
отвага...»***. Запомним последнюю часть фразы. Она нам
сейчас пригодится.
Когда Борис умер, Н. Н. Трубников сказал: «Его убила
система». А этот человек хорошо знал, о чем говорил. К тому
времени он уже на себе испытал, как убивает система, как, не
давая своей жертве передышки, методично, жестоко, ни с чем не
считаясь, методом открытой лобовой атаки она уничтожает
того, кто, как ей кажется, опасен для нее (а в силу самой ее
природы смертельно опасным для нее было все талантливое и
неординарное).
Правда, с Борисом было иначе. Здесь система
воспользовалась другим своим методом — методом проникновения,
внедрения в личностный мир с последующим разрушением его
изнутри, уничтожением всего неугодного ей. Первую половину
задачи великолепно помог выполнить философский факультет
МГУ — наша alma mater. С ее молоком система проникала в
нас (хотя это действо куда правильнее было бы уподобить
грубой — на уровне «черного юмора» — картине вколачивания
гвоздей в голову, нежели идиллическому изображению
женщины, кормящей младенца). Решить вторую половину задачи
помог сам Борис, причем, как это ни парадоксально,
благодаря таким лучшим своим качествам, как честность и
стремление к единству личности. Для него было абсолютно исключено
то, чем спасались (впрочем, спасались ли?) некоторые наши
преподаватели философии — говорить студентам одно, а
думать по-другому, в пределе — «с точностью до наоборот».
Столь же абсолютно исключались и какие бы то ни было не-
* Грязное Б. С. Логика, рациональность, творчество. С. 250.
"Там же. С. 241.
•*• Там же. С. 250.
624 Е. П. Никитин
согласности в мире его воззрений, независимо от того,
возникали ли они вследствие притока информации извне или
порождались новыми мыслями, выходившими из тайников его
творческой лаборатории*.
Все в городе моем сколочено на совесть,
Отныне и навек он на себя похож.
Вот почему, заслышав соловьиный посвист,
Мой город замирает, чуть сдерживая дрожь.
Да, верилось в справедливость и правильность «города», в
его прочность и вечность. И ради того, чтобы он «спал
спокойно», можно и нужно было по возможности приглушить
«соловьиный посвист», своего «Соловья-Разбойника» —
голос творца в себе.
Но стоило только уладить одно противоречие, как
возникало другое. Например, в отношениях с друзьями. Очень хорошо
помню, как ожесточенно мы спорили — о социализме и
капитализме, о фашизме и демократии, о судьбах России и т. д.
и т. п. Спорили до ругани, до взаимных оскорблений. Потом...
Потом споры кончились. И все кончилось. Осенью 1974 г.
произошел разрыв. Позднее (то есть когда было уже совсем
поздно) я узнал, что в последние годы жизни он временами
подолгу слушал одну и ту же пластинку:
«Со мною вот что происходит — Ко мне мой старый друг не
ходит...».
* Думаю, здесь речь надо вести именно об этих качествах Бориса, а,
скажем, не о его страхе перед системой. Последнего, как мне кажется, и вовсе не
было. Во всяком случае в ситуациях, когда ему приходилось общаться с
«полномочными представителями» системы, он вел себя очень смело, а иногда
просто вызывающе. Я мог бы привести несколько примеров, но привожу
один, может быть, не самый «доказательный», однако самый забавный. Как-
то пришло ему время получать новый паспорт. Явился в милицию.
«Паспортный чин», внимательно изучая и сличая гражданина и его документ, изволил
выразить сомнение в правильности записи «русский». Гражданин мгновенно
отреагировал: «А-айхьхь! Какие проблемы?! Да напишите, что хотите!
Напишите — "еврей"!» Чин, который только что, похоже, именно это и хотел бы
сделать, теперь насторожился: «Э-э, нет, мы пошлем запрос куда надо,
проверим». Послали, проверили, оставили прежнюю запись. (Почему-то живо
представляю себя, как спустя годы — когда евреев уже стали
«выпускать» — чин наконец-то перестал терзаться при воспоминаниях об этом
инциденте, поскольку однажды вдруг «все понял»: «А этот-то уже тогда своим
носом учуял, куда ветер дует. Ну, да и я не промах. Сорвал его замыслы».)
Борис Семёнович Грязное: разработка фундаментальных... 625
И вот сейчас, когда пишу эту статью, двое во мне в который
уже раз за долгие годы, прошедшие после смерти Бориса,
затевают свой спор: «Все-таки прав был тот весельчак,
сказавший: "К людям надо мягше, а на вопросы ширше" Если бы
все повторилось...
Если бы все повторилось, ты поступил бы точно так же.
Нет! Я сделал бы как-то иначе... Ведь можно иначе? И
вообще, до каких же пор мы будем исповедовать эту чушь, будто
друг дешевле истины?!».
И все же главным, роковым для него был конфликт, от
которого он так и не смог избавиться, от которого он не мог уйти
никуда и никогда, — конфликт со своим
«Соловьем-Разбойником». Мы видели, что вытворял этот «Соловей» там, где
ему была дана полная свобода. Он смело, с каким-то даже
лихим вызовом разрушал такие устоявшиеся, въевшиеся во
всеобщее сознание, «самоочевидные» «истины», заменяя их
идеями, далеко не самоочевидными и на первый взгляд просто
странными (вспомним хотя бы судьбу классических
интерпретаций квантора всеобщности, лапласовского детерминизма,
аристотелевских «Аналитик»). К концу жизни «Соловей» был
вполне осознан и «легализован». «Там, где нет сомнения, нет
науки. Наука по своему существу есть сомневающееся
знание»* И не в том смысле, что «сомнение — это порча, грех
науки», как выходит у Т. Куна. Нет. «Сомнение — это
нормальное состояние научного познания», «чтобы нормально
функционировать, наука должна [во всем сомневаться и]
преодолевать свои сомнения»**
Словом, в какой-то момент «Соловей-Разбойник» стал
слишком сильным и гордым, чтобы позволить и дальше
наступать себе на горло, и слишком симпатичным, чтобы на него с
прежней легкостью «поднималась нога».
Мне жить бы с ним да жить, да он не из спокойных,
Все хочет убежать, в другой поверить мир...
Не покидай меня, мой Соловей-Разбойник,
Шагай со мною рядом, как верный конвоир.
* Грязное Б. С. Философские «парадигмы» Т. Куна // Природа. 1976.
№ 10. С. 63-64.
** Там же. С. 64.
Именной указатель
Абеляр 199
Абрамова Н. Т. 408
Аверенцев С. А. 449
Августин 168, 577
Авдиев В. И. 326
Авенариус 588
Аверинцев С. С. 16, 446, 558
Аврамова, доцент 139
Автономова Н. С. 250
Агасси Дж. 300, 305, 554, 619
Агацци Э. 261
АзархЛ. С. 422,423
АйдитД. Н.447
Айер А. Дж. 481,496
Аккерман И. 236
АксельродЛ. И. 121, 123
Акчурин И. А. 304, 408
Александр II 108
Александров А. Д. 548, 549
Александров Г. Ф. 129, 136, 137,
140-142, 145, 153-155, 157,
164, 165, 181-184, 186,211,
329,337,338,341-346,356,
379,382,418,436,438,442,
469, 498, 502, 528
Алексеев В. И. 404
Алексеев И. С. 46, 228, 410, 555,
556, 562, 579, 581-584, 586-
591,593,594
Алексеев М. Н. 209, 330
Алексеев Н. Г. 265, 410, 484
Алексеев П. В. 485
Алешин А. И. 550
Аллилуева Н. Я. 327
аль Газали 203
АльтуссерЛ. 12, 166,506
Ампер А. 27, 40, 42, 53, 58
Анаксагор 88
Анаксимандр 167
Анаксимен 167
Андреев Г. Г. 339
Андреева Г. М. 407, 445
Андропов Ю. В. 445, 573
Аникеев Н.П. 446
Апостолова И. 96, 97
Араб-оглы Э. А. 408, 474
Арбатов Г. А. 408, 445, 474
Арефьева Г. С. 184,227,259,
290, 294, 395, 405
Арзаканян А. Г. 241, 328, 355,
408,474,475,480,515
Аристотель 18, 168, 171, 173, 195,
202,205,319,329,341,352,
563,618
Арсеньев А. С. 223, 224, 228, 251,
408,410
Асмус А. Б. 435
АсмусВ. Ф. 9, 17, 118, 124, 129,
139, 140,152, 164, 186, 187,
199,209,290,307,327,329,
336,337,341,342,347,355,
390,391,417-420,424,426,
429,432-435,438,440,516,
569
Астафьев В. 498
АтфильдР. 114
Афанасьев В. Г. 540
Афанасьева Г. 184
Именной указатель 627
Ахманов А. С. 117, 209, 290, 390,
446
Ахматова А. А. 140, 516
АхутинА. В. 410, 555
Баженов Л. Б. 39, 59, 304, 408
Базилевич К. В. 117,211
Бакрадзе К. С. 233, 234, 277, 392
БалакинаИ.Ф.245, 408
БаммельГр. 122
Баранцев Р. 550
Барт К. 168
Барт. Р. 170
БаскинМ. П. 139,343,347
Баталов Э. Я. 408
БатайЖ. 100
БатищевГ.С 10, 14, 16-18, 188,
208,214,216,228,250,251,
254,264,308, 408, 495, 506,
555,556
Батищев С. П. 208
Батыгин Г. С. 329, 337, 344, 347
БахИ.-С. 501
Бахметьев, писатель 126
Бахтин М. М. 7-9, 12, 16, 118, 197,
217,282,392,494
Башляр Г. 211,589
Бегиашвили А. Ф. 412
Бекон 269
Белецкий 3. Я. 135-137,139,141-
147, 149-156, 165, 181-184,
186, 336-342, 344-347, 356-
359, 364, 365, 433
Белинский В. Г. 184, 208, 210, 339
Беляев Д. К. 241
Бентам 309
Берг А. И. 440, 441, 482
Берггольц О. Ф. 140
Бергсон А. 232
Бердяев Н. А. 100, 211, 251, 282,
458,461
Берия Л. П. 245, 345, 549
Беркли Дж. 145, 317, 441, 576
Бернштейн Н. А. 494
Берталанфи Л. 237, 301, 541, 544,
545
БёркЭ. 136
БибихинВ. В. 245, 318
БиблерВ.С. 10, 12, 16-18,216,
228,251,410,443
Биккенин Н. Б. 293, 307, 404, 408,
409, 474, 484, 493
Бирюков Б. В. 404, 411, 416, 440,
445,446
БлаубергИ. В. 10, 11,228,237,
253, 292, 297-299, 302, 307,
404,408,410,411,443,446,
474, 475, 488, 492, 530-533,
537,544,545
Блок A.M. 287, 288, 409
БлокМ. 100
Бовин А. Е. 293, 404, 409, 445
Богачёв, профессор 129
Богданов А. А. 7, 9, 540, 541
Богданов Б. В. 408
Богомолов А. С. 15, 164, 166,348,
404,407
БонхёфферД. 168
Бор Н. 37,75,78,79, 100,371,380,
590
БоркА. М. 51
БородайЮ. М. 237, 521
Боткин В. П. 455
Бохенский Й. 169
Бочаров В. А. 407
Боэций 365
Брайтвайд Р. 32
Бранский В. П. 46, 47
Брежнев Л. И. 163
Бриджмен П. У. 238
Бризе Р. К. 531
БродельФ. 100
Бродов В. В. 131, 158, 186,446
Бродский И. 46, 516, 609
Бродский Н. Л. 434
Брудный Л. Л. 561
Брук Ван ден 380
Бруно Д. 201
628 Именной указатель
Брушлинский А. В. 235, 255, 408,
410
Будрейко Н. 369
Булгаков М. А. 210, 392, 516, 609
Булгакове. Н. 251
Булычёв К. 572
Бультман Р. 168
Бунин И. А. 120
Бургете Р. А. 446
БурдьеП. 100
Бурлак В. И. 290, 294, 395, 405
Бурлак В. Н. 184,227
Бурлацкий Ф. М. 411, 445
Буртин Ю. Г. 549
Бутенко А. П. 409, 445
Бухарин Н. И. 120, 125, 326, 332,
333, 344
Быков 161
Быков В. 498
Быховский Б. Э. 129, 163, 171,246,
330,337,338,417,418,423,
424, 428-433, 435, 438
Бэкон Ф. 269, 374,428
Бэкхерст Дэвид 256
Вавилов С. И. 344, 359, 366, 367,
370,371,375,382
Вагнер Р. 501, 557
Вайнгартнер П. 305
Валы Л. О. 412
Вартофский Маркс 256, 305
Варьяш А. 435
Васецкий Г. С. 345
Введенский Б. А. 415
Вдовина И. С. 245
Вебер М. 27, 49, 53, 58, 284
ВербинА. И. 151
Верещагин И. К. 138, 139
ВернЖ. 165
Вернадский В. И. 53, 118, 193
Ветров А. А. 209, 290, 394
Вентцель Е. С. (И. Грекова) 551
Визгин В. П. 555
Визгин Вл. П. 555
Викторов Р. 25
Виленкин Н. Я. 553
ВиллихА. 159
Вин В. 38
Виндел ьбанд В. 212, 232
Винер Н. 433, 480, 495, 496, 506
Витгенштейн Л. 218, 229, 233,
236, 398, 406, 465, 578
Виткин М. А. 249
Вишневский А. Г. 526
Вовченко Г. Д. 292
Вознесенский Н. А. 345
Войнович В. 355
Войшвилло Е. К. 209, 290, 295,
394, 407, 446
Волин Б. М. 329
Волков Г. Н. 408, 409, 475, 479,
488
Володин А. И. 259, 411, 421, 445
Волькенштейн М. В. 551
Вольф X. 172
Воробьев С. Л. 421, 445
Воронин И. 332
Ворошилин И. И. 474
Вундт В. 232
Выготский Л. С. 8, 9, 13, 118,212,
233, 235, 237, 494
Вышеславцев Б. 566
Вяткина Н. 571
Гагарин А. П. 132, 133, 150, 151,
154, 155,329
Газенко В. И. 343
Гайденко П. П. 15, 81, 99, 228,
246, 254, 259, 308, 348, 407,
410,443,460,462,465,497,
554
ГакГ.М. 155,336
Галилей Г. 39, 75
Галкин 138, 139
Гальперин П. Я. 187,211,216,
235-237,291,308,395,410,
494
Гальцева Р. А. 421, 445, 448, 449,
499
Гамсун Кнут 598
Именной указатель 629
Гарева А. 336
ГастевЮ. А. 411,446
Гауптман 598
Гачев Г. Д. 324
Гвишиани Д. М. 302, 409, 545
Гегель Г. 12, 13,21,79-81,88,
113, 121, 125, 129, 133-136,
141, 143, 146, 151, 152, 168,
169, 171, 172, 176, 190, 193,
208,212,216,226,231,233-
235,238,271,300,314,317,
328,330,337-341,344,395,
397,402,441,462,499
Гейзенберг В. 37, 70, 79, 506, 585
Гелазония П. 393
Гельвеций К. 179
Генисаретский О. И. 409, 410
Гераклит 87, 167,425
Герасимов И. Г. 161
Герман Ш.М. 151,337
Геру Марсель 166
Герц Г. 27
Герцен А. И. 184,210,339,356,
429,506
Гершензон М. О. 455
Гессе Г. 609
Гёте И. В. 608
ГибсонДж. 238
Гильберт Д 178,236
Гиляревский Р. С. 569, 571
Гинзбург В. Л. 523
Глезерман Г. Е. 148, 149, 522, 529
Глушков В. М. 487
Годунская Е. И. 473
Голдмэн А. 256
ГолосовкерЯ. Э. 118
Гольбах П. А. 145, 172, 179,300,
312,314,340
Гольдентрихт С. С. 342
Гомер 125
Гомулка В. 447
Гончаров И. А. 609
Горанов К. 532
Горбачёв М. С. 97, 259
Горбов Ф. Д. 409
Горбунов А. А. 291
Гордон Л. А. 219, 323, 526
Горина И. 520, 522
Горохов В. Г. 72
Горский Д П. 44, 228, 330, 408
Горфункель А. X. 446
Горшкова Л. С. 404,408
Горький М. 119-120
Готт В. С. 409, 565
Готье Ю. В. 326
Грейэм Б. 518,520,526
Греков Л. И. 241, 409, 475, 488,
515
Гриб В. Р. 130
Григорьян Б. Т. 245, 411, 421, 497
Григорьян С. Н. 446
ГрушинБ.А. 188,214,217,219,
229, 230, 242, 266, 270, 292-
294,299,386,400,401,403,
404,409,411,445,492,505,
507,514,526-528
Грэхем Л. 581
Грюнбаум А. 262
Грязнов Б. С. 44-46, 228, 250,
300,304,407,410,556,611-
615,617,619-621,623-625
Гулыга А. В. 330, 398, 408, 474,
551
Гумилёв Н. С. 120
Гургенидзе Г. С. 241, 242, 408,
411,475,477,483,484,486,
487,494,515
ГуревичА. Я. 83, 219, 527-
Гурко Г. Ф. 472
Гусейнов А. А. 14, 189-191, 193-
196, 198-204,260,316
Гуссерль Э. 8, 147, 169, 170, 195,
232,234,316,479
ГутноваЕ. В. 291
Гутный Е. В. 395
Давыдов В. В. 216, 232, 235, 236,
255,292,403,404,410,494
Давыдов Ю. Н. 228, 308, 408, 411,
421
630 Именной указатель
Дарвин Ч. 61
ДацюкБ.Д. 117,211
Дворянкин210, 211
ДеборинА.М. 120-125, 193,341,
485
Девятко И. Ф. 329, 337, 344, 347
ДеглинВ. 571
Декарт 21,75, 144, 145, 163, 195,
200,269,316,319,400
ДелезЖ. 100
Дементьев А. 549
Демичев П. Н. 240
Демокрит 88,167,288, 353
Денисова Л. Ф. 415,418, 421,
424
ДерридаЖ. 170
Джемс У. 232
Джонсон Г. 66
Дивол Б. 114
Дидро Д. 179
Дильтей 166
Диоген Лаэртский 192, 194, 197
Диоген Синопский 192, 194, 197
Дирак П. 47
Дмитриев, профессор 129
Добреньков В. 463
Добролюбов Н. А. 339
Доброхотов А. Л. 319
Довлатов С. 575
Дорош Е. Я. 549
Достоевский Ф. М. 7, 18, 79, 208,
458, 598, 609
Дробницкий О. Г. 14,220,228,245,
408,497
Дружинин Б. И. 260
Дубинин Н. П. 523
Дубровин В. Н. 412
Дубровский Д. И. 13, 99, 152, 242,
551
Дудинцев В. 498
ДынинБ.С.248,410,614
ДынникМ.А. 129, 139, 154, 160,
165,290,329,330,347,353,
390, 425
Дыскин Е. 336
Дышлевый П. С. 47, 525
Дьюи Д. 170,246
Дюгема П. 232
Евклид (Эвклид) 400, 574
Егидес П. 328
ЕголинА. М. 141,344
Егоров А. Г. 98, 149
ЕлсуковА. Н. 44, 94, 95
Ермилов В. В. 126
Жак Л. П. 333
Жданов А. А. 141, 142, 145, 157,
164, 184,211,331,344-346,
374,428,469,471,498,499,
502,516
Жданов Ю. А. 149,469
Жигач 139
Журавлев Г. Е. 409
Завадская Н. В. 474
Зайцев Б. 455
Замошкин А. А. 242
Замошкин Ю. А. 409,410,476,479,
481,492,497,514
Занд, доцент 129
Зандкюлер Г. 256
Застенкер Н. Е. 446
Здравомыслов А. Г. 445
Зеленков А. И. 94
Зельдович Я- Б. 523
Зенон81,88, 195,297
Зеньковский В. В. 462
Зильберфарб И. И. 446
Зимянин М. В. 5J6
Зиновьев А. А. 9, 10, 12, 14, 16-
18, 188,214-217,223,227-
230,232,242,251,266-268,
270,271,274,275,292-294,
296, 299, 308, 328, 386, 390,
397,399-404,407,409,443,
491,504,505,514
Зиновьев Г. Е. 326
Зинченко В. П. 216, 255, 260, 292,
404,409,410,494
Именной указатель 631
Зотов А. Ф. 228, 250, 259, 293,404,
407,410
Зощенко М. М. 140
Зыкова А. Б. 245
Ибсен Г. 598
Иваненко Д. Д. 117, 211, 350, 351
Иванов В. В. 11
Игнатьев А. А. 410, 561
Ильенков Э. В. 9, 10, 12, 13, 16-
18, 118, 151-153, 163, 188,
214-218,221-232,235,236,
238, 239, 242-244, 248, 250-
254,264,266-268,271,290,
292,308-310,324,347,386,
395,397-401,403,404,407,
442,443,445,462,486,491,
494, 505, 506, 556-559, 564,
575,595
Ильичев Л. Ф. 148, 253, 439, 484,
486,487,544-546
Ильф И. 65
ИнфельдЛ. 208
ИовчукМ.Т. 134, 141,343,344,
357,414,418,424,435-438,
440,442,515
Иоффе А. Ф. 372, 378
Ишимова А. 331
Каганский В. Л. 559
Казаченков А. 336
Казютинский В. В. 72, 408
КакабадзеЭ. М. 412
КалацкийВ. П. 211,290, 393
КалликотБ. 114
Калтахчян В. Т. 537
Каменев Л. Б. 326, 456
Каменский 3. А. 228, 330, 405,
411,413,427,430,469,474,
499
Каммари М. Д. 155, 468, 476, 481
Камю А. 79,246,321,609
КанС. Б. 117, 155,211
Кант И. 21, 80, 124, 134, 143,144,
157, 168, 169, 171, 172, 193,
195,200,202,205,212,213,
216,277,281,314-317,319,
321,322,341,441,462,495,
555,574
Кантор В. К. 241,259
Кантор Г. 81
Кантор КМ. 219, 523
Капица П. Л. 241, 523
Капица П. С. 11
Карамзин Н. М. 331
Карев H.A. 122
Кармин А. С. 46
Карнап Р. 178, 233, 268, 391, 398,
406, 464
Карпинская Р. С. 99,408, 550, 556,
559, 560
Карпинский Лен 560
Карпов А. С. 329
Карпов Ю. 328
Карпушин В. А. 330, 409, 482
Карякин Ю. Ф. 185, 227, 292, 294,
404,405,410,442,491
Касавин И. Т. 20, 21, 25, 29,34,39,
43, 45, 48, 50, 52-54, 60-62,
64-66, 69, 70, 72, 73, 76, 78,
80,81,83,85,89,93-97,99-
101, 103-105, 108, 109, 113,
116,254
Кассирер Э. 232, 233, 620, 621
Кафка Ф. 462
Кафтанов С. 182,339,353
Каценелинбойген А. И. 541, 542
Квитко Д. Ю. 329, 330
Кедров Б. М. 9, 12, 16, 17,99, 147,
152, 160, 162,210,211,228,
242, 245, 247-249, 254, 297,
304, 359-365, 367, 369, 370,
373, 378-382, 392, 408-411,
417,437,442,444,467,469,
471-473,476,481,517,521,
545,549-551,553,568,569
КейзеровН.М.521,522
КеллеВ.Ж. 151, 153, 161, 162,
186, 187,211,228,231,242,
249,254,259,290,308,330,
632 Именной указатель
337,393,394,409,445, 479,
482,508,514,521
Кеменов В. С. 482
Кеплер 39
Кессиди Ф. 330, 356
Ким Ю. 612
Кинг Мартин Л. 479,518
Киреевский И. 100
Кириленко В. 247
КировС. М. 325, 331
Кирсанов В. С. 304
Кирхгоф Г. 27
Клементьев Е. Д. 412
Клини С. 236
Клопов Э. В. 219, 526
Ковальзон М. Я. 151, 153, 187,
290, 337, 393, 394
Ковальчук А. С. 249,330,475,487,
488, 522
Коган Л. А. 155,352
Коган П. 332
Козлов 458
Козлова М. С. 46
Козловский В. Е. 522
Колбановский В. Н. 163, 470
Коликов Н. 288
Коллингвуд Р. Д. 100,554
КолмогоровА. Н. 11
Кольман Э. Я. 337
Кон И. С. 412, 445
Коников И. А. 295, 296
Константинов Ф. В. 6, 18, 147, 160,
182,231,243-245,414-417,
419,420,440,449,450,468,
508,517
КонтО. 312, 314
Конфуций ИЗ, 195,201
Коперник Н. 559
КопнинП. В. 10, 16, 17, 160, 162,
173,223,228,232,242-245,
247,248,251,330,336,398,
408,412,482,493,508,514,
517
Копер К. 500
Копылов Г. 360
КормерВ. Ф. 241
Корнеев П. 463
КорнееваА. И.522
Коровиков В. И. 151-153,222,
223, 225-227, 267, 290, 292,
308, 386, 395, 398, 399, 442,
491
Короленко В. Г. 120
Коршунов А. М. 407
КосикК. 517
КосичевА.Д. 136, 181
Косминский Е. А. 326
Косолапов Р. И. 540
Косыгин А. Н. 345
Кочетков 152, 153
Кошелевский Д. И. 290, 337, 394
КоэнДж. 305
Коэн Роберт 256, 305
КрафтЛ. фон 24
Кремянский В. И. 301, 408, 545
Кружков В. С. 141,343,345
Крывелев И. А. 471, 515, 519, 522
Крымский С. Б. 47, 412
КуайнУ. 171
Кублицкий А. В. 341
Кузмин А. Т. 60
Кузнецов А. А. 345, 346
Кузнецов В. Н. 245, 348, 407, 438
Кузнецов В. И. 12
Кузнецов И. В. 228, 350,367,369-
375,377-379,381-384,408,
476,481
Кузнецова Л. Ф. 71
Кузнецова Н. И. 250, 555, 556,
561-566,575
Кузьмин В. П. 411, 484, 534, 539,
545
Кузьмина Т. А. 245, 408, 497
Кун Н. А. 326
Кун Т. 66, 67, 69, 70, 89, 91, 255,
300, 305, 554, 625
Купцов В. И. 407, 555
Кураев В. И. 242
Куражковская А. Е. 151, 337
Курдюмов С. 260
Именной указатель 633
Кутасов Д. А. 137-139, 150,326,
339, 342, 355
Кучу ради И. 261
Кьеркегор С. 79, 199, 319, 352,
571
КюнгГ.261
Лавров П. Л. 452
ЛаденкоИ. С. 293, 410, 412
Ладыгина-Коте Н. Н. 366
Лазарев В. 523
Лакатос И. 70, 171, 255, 300, 305,
554,619,621
Лакоба, 1-й секретарь Абхазии
333
ЛаметриЖ. 172, 179
ЛандаН.М. 411,421, 445, 449
Ланжевен П. 350
Лапин Н. И. 293, 307, 404, 408,
411,474,492
Лаплас 288, 616
Лассаль 425
Ласточкин Б. 555
Лафарг 127
ЛахутиД.А. 410, 446
Лацис О. 493
Левада Ю. А. 16, 219, 269, 389,
408,411,445,507,517,526,
527
Леви-Строе К. 170
Левин Г. Д. 255
Левхари О. 66
Леднев, профессор физфака МГУ
360
Лейбниц Г. 75,81,314, 576
Лекторский В. А. 5, 13, 39, 44, 59,
99, 157, 170,207,208,210,
211,214-217,221,222,225,
226,229,231,234,237,238,
240-242, 244, 245, 247-249,
254-256,258,259,261,262,
264,276,298,299,301,408,
409, 443, 468, 489, 499, 506,
514,521,555,557,558,565,
569
Ленин В. И. 23, 24,26, 102, 123,
128, 136, 141, 144, 146, 151,
152, 158. 159, 163, 174, 175,
221,223,228,230,235,238,
239, 266, 308, 326-328, 330,
331,340,341,343,345,347,
377,383,390,396,400,419,
424, 452-454, 457, 459, 495,
505, 596
Леонов М. А. 20, 142,221,442
Леонтьев А. Н. 11, 13, 117, 187,
211,216,236,255,390,409,
410,482,494
Леонтьев К. 100
Леонтьева, секретарь
Сокольнического PK 134
Лепешинская О. Б. 211
Лерер Кийт 256
Лермонтов М. Ю. 190,324
Лесков Н. С. 609
ЛефеврВ.А.409,410,573
ЛибманО. 168
Линкольн А. 522
Липкин С. 366
Липсет С. 245
Лисеев И. К. 550
Литман А. Д. 246
ЛифшицМ.А.9, 13, 16-18, 130,
263, 309, 446
Лихачев Д. С. 260
Лобачевский Н. И. 574
Лобковиц Н. 243
ЛоккДж. 314, 361
Ломоносов М. В. 379, 390, 457,
458
Лопатин 458
Лосев А. Ф. 6, 9, 12, 15, 16, 118,
171,336,337,339,340,356,
391,392,424-428,438,444,
462,463,494,516,551
ЛосскийН. О. 21
ЛотманЮ. М. 11, 17, 170,497,
561,571
Лукач Георг 123
Лукач Д. 337, 338
634 Именной указатель
Лукин Н. М. 344
Лукьянец В. С. 525
ЛупполИ. К. 122, 123, 127,344
ЛурияА. Р. 390,410
Лысенко Т. Д. 149, 150,210,224,
291,346,474
Любищев А. А. 550, 559
Любутин К. Н. 308
Лютер М. 168, 195
Ляпунов А. А.
Макаров А. Д. 418
Максвелл Дж. 27, 40-42, 50, 51,
58, 67-69, 590
Максимов А. А. 370,372, 373,377,
378,381,473
Маленков Г. М. 143, 151, 182, 183,
227,340, 345
МалкольмХ. 518
Мальцев В. И. 342
Мамардашвили М. К. 14-18,82,
89, 118, 160, 163, 188,214,
217,228-230,234,241,246,
250,251,266,276,292-294,
299,307,310,311,321,386,
387,400,401,403,404,408-
410,474,489,492,493,496,
505,506,509,512,514,526,
554,556,560,563,571
Мамедов Ш. Ф. 134, 143, 452
Мамчур Е. А. 59
Мандельштам Н. Я. 550
Мандельштам О. Э. 609
Манн Т. 609, 621, 622
Мансилья Р. 211
Мансилья Т. 291,396
Мао Цзэдун 41, 542
Марат Жан Поль 159
Маргенау Г. 31
Марков A. A. 11. 446
Марков В. С. 475, 488
Марков М. А. 210, 241, 367-369,
469, 495
Марков Н. В. 536
Маркова Л. А. 304
Маркович М. 238-241, 256
Маркс К. 8, 11 -13, 16, 26, 49, 65,
82,88, 101, 102, 104, 124, 136,
139, 141, 144, 146, 152, 156-
159, 165, 166, 168, 174-176,
185, 188,212-215,218,225,
226,230,231,234,235,237-
239,250,270,271,274,275,
277,284,308,309,314,317,
327,330,340,341,346,347,
357, 394, 395, 397, 399-402,
406,419,425,435,442,443,
447, 452-454, 457, 462, 494,
505, 506
Маркузе 157
Марсель Г. 462
Маслов С. 550
Матросов А. М. 342
МахЭ. 24, 27, 28, 212, 232
Машеров П. М. 41, 42
Машкин Н. А. 326
Межелайтис Э. 612
Межуев В. М. 216, 228, 408, 506
Мейен С. В. 550, 553, 559
МелвиллГ. 601-603, 609
Меллор X. 305
Мельвиль Ю. К. 139, 160, 212,
290, 342, 348, 395, 407, 476,
481,496
Мелюхин С. Т. 407
Менделеев Д. И. 369, 380
Мендель Г. И. 210
Мериманов 165
МестрЖ. М.де 136
Меськов В. С. 407
МетьюзФ. 114
Мещеряков А. И. 216
Мизес Р. 24
Микешина Л. А. 250
МикоянА. И. 345
Микулинский С. Р. 97, 297, 302,
330,334,410,482,534,539,
540
Миллер Д. 305
Милль Дж. С. 452, 454, 455
Именной указатель 635
МирскийЭ.М. 297,410,412
Митин М. Б. 6, 18, 120-125, 130,
150, 181, 184,247,327,337,
341,343,345,346,414,438,
460,468,473,476,481-487,
493,502,509,510
Митрохин Л. Н. 14, 117, 122, 124,
125, 129, 130, 133, 137, 140,
142, 145-153, 156, 160, 162-
165, 168-170, 172-174, 176,
178,207-209,211,213-215,
217,222,225,226,228,231,
234,237,238,241,242,245-
247,249,254-257,259,261,
262,404,408,501,510,520-
522,526,529
Михайлов А. А. 94, 95
Михайлов А. И. 571
Михайлов Ф. Т. 188, 216, 409
Михайловский В. Н. 65
Михкалев В. М. 475
Мишин 161
Могилёв А. И. 227
Модржинская Е. Д. 243-245, 508
Моисеев Н. Н. 260
Молодцов В. С. 153, 473, 476, 481
Молотов В. М. 334, 457
Молчанов Ю. Б. 408, 475, 478,
495
Момджян X. Н. 418, 449, 450,
519,521,522,529
Монтень 196
Монтескье Ш. Л. 314
Морган Т. 210
Мороз М. М. 415
Мохов Н. И. 537, 538
Мостепаненко М. В. 53
Мотрошилова Н. В. 15, 161, 171,
228, 254, 259, 408, 445, 497
Мудрагей В. И. 259, 261, 499
Мудрагей Н. С. 250
МуниповВ. М. 409, 410
Мусхелишвили Н. Л 561, 571, 572
Мухаммед 195
Муханов 132
Мшвениерадзе В. В. 408
Мысливченко А. Г. 246, 460
Набоков В. 609
НавротМ.И.332
Нагаока X. 35, 36, 38, 58
Налимов В. В. 565
Наполеон I 338
Нарский И. С. 24, 246, 290, 330,
348,395,407,460,461,522
НауменкоЛ. К. 409, 506
Наумова Н. Ф. 219, 408, 411, 526
Недошивин Г. 439
Неретина С. С. 285
Несмеянов А. Н. 382
Неусыхин А. И. 326
НибурР. 168,504
Ниинилуото И. 305
Никитин А. 337
Никитин Е. П. 228, 250, 408, 595,
611
Никитин П.И. 164
Никольский В. К. 326
Ниранен Э. 288
Ницше Ф. 113, 189, 191-194,318,
598
Новик И. Б. 404, 408, 474, 495
Новиков 345
Новиков А. А. 255
Новиков Н. В. 410, 497
Новинский И. И. 474
Новоселов М. М. 411, 421, 445
Ньютон И. 31, 39, 51, 54, 75, 517
Овчинников В. Ф. 354
Овчинников Д. Ф. 354
Овсянников М. Ф. 160, 227, 308,
337,338,342,395,407,481
Овчинников Н. Ф. 12, 228, 250,
349,378,379,408,554,555,
569
Овчинников Э. 42
Огурцов А. П. 99, 160, 228, 247,
250, 252, 254, 260, 264, 276,
636 Именной указатель
408,410,475,477,485,550,
554,555
ОдуевС. Ф.247
Озерская (Галахова) А. Ф. 473
Ойзерман Т. И. 9, 15, 117-120,
122, 124,125,128-130,133-
135, 137, 139, 140, 142, 143,
145-155, 157, 160, 162-165,
168-170, 172-174, 177-181,
183-188,209,212-215,228,
231,242,246,259,290,308,
330,341-342,347,395,407,
408,446,452,460,461,482,
508,514,545
Окуджава Б. 354, 612
Окулов А. Ф. 418, 468, 476, 481,
501,522
Омельяновский М. Э. 12,228,244,
408,471,482
Орешин Б. В. 241-242
Орлов Ю. 353
Орлова В. А. 304
Оруэл 164
ОсиповГ. В. 219,408, 409, 411,
507
ОттеМ.241,256
Павлов И. П. 224
Павлов Т. 151,221,238,532,534-
536, 540
Пажитнов Л. 439
Паскаль Б. 282, 576
Панов Д. Ю. 409
Пантин И. К. 185, 227, 293, 294,
404, 405
Парменид 353
Парсонс Т. 237
Пастернак Б. Л. 17, 46, 419, 435,
609
Пастушный 127
Патинкин Д. 66
Паустовский К. Г. 140
ПевзнерЯ.А. 179
Пелагий 168
Первенцев 127
Перцев В. 320
Петрашик А. 336
Петров Е. 65
Петров М. К. 16, 17, 118,216,
219,228,250,264,412,527,
528,541,542,554
Петушкова Е. В. 94
Печерин В. С. 455
Пётр1 108
Пиаже Ж. 236-238, 480, 496
ПиккокА. 115
ПикусВ. К.211
ПикусН.Н.291,395
Пилипенко Н. П. 176,539
Пинский Л. Е. 130
Писарев Д. И. 208,210,211,452—
454
Пичугин С. С. 408, 474
ПланкМ.42,43,53, 178,583
Платон 18,74,85, 147, 167, 168,
171-173,202,316,319,330,
337, 353, 360, 576, 599
Плеханов Г. В. 122, 133, 208,
239, 396, 437
Плимак Е. Г. 185, 227, 292, 294,
404,405,442,445,491,521
Познер 166
Познер А. Р. 409
Покровский М. Н. 331
Полани М. 255, 565
Поликаров А. 532
Полторацкий А. Ф. 241, 534
ПоляковА. П. 295
Пономарев Я. А. 410
Пономарев Я. Н.,494
ПоповА. Н. 328
Попов П. С. 187,209,222,290,
295, 336, 337, 339, 356, 390,
391
Попов Ю.Н. 411,421, 448, 499
Попович М. В. 46, 304, 412, 571
ПопперК. 13,24,70,78, 170,
171, 178,218,226,229,300,
305,394,554,574,616,619-
621
Именной указатель 637
Порус В. Н. 255
Поршнев Б. Ф. 326
Поспелов Д. А. 409
Поспелов П. Н. 153
Потемкин А. В. 412
ПотковЛ.Л.474
Прайс Д. 584
Презент И. И. 150,211
Преображенский, профессор 128
Претель И. 446
ПрилюкЮ. 571
Пришвин М. 501
Прокофьев С. С. 140
Пропп В. 7
Протагор312
Протасеня П. Ф. 60
Пружинин Б. И. 250, 261, 499
Пруха М. 517
Пустарнаков В. Ф. 437
Пушкин А. С. 65, 130, 196, 200,
331
Пушкин В. П. 410
Пышков Б. С. 474
Пышков Б. М. 404
Пятигорский А. М. 288, 385, 386,
404,446,571
Раббот Б. С. 404
Рабинович В. Л. 46, 228, 410, 555
Радек К. Б. 326
Радищев А. Н. 506
РайхВ. 100
Разумный В. А. 263
Разумов А. Е. 242
Разумовский И. П. 123
Райл Г. 236, 238
Ракитов А. И. 409
Ральцевич В. Н. 122, 123
Рапопорт А. Б. 237, 301
Рассел Б. 170, 233, 398, 406, 464,
466
Раушенбах Б. В. 260
Раушенбуш 168
Ревзон А. 339
Ревин И. А. 415
РезерфордЭ. 35-38
Резников Л. О. 412
Рейган Р. 209
Решер Н. 262
Риббентроп И. 334
РидМ. 165
РикерП. 170,261
РиккертГ. 100, 169, 170,212,232
Рихта Р. 242, 262
РодныйН. И. 410
Роднянская И. Б. 449
РозенбергД. 333
Розенталь М. М. 155, 163, 242,
243,337,408,429,442,521,
522
РозинВ. М. 410
Розов М. А. 46, 255, 412, 555, 562,
564-567
Рокмор Т. 256
Ролстон X. 115
Романов А. 336, 339
РортиР. 171
Ростан Э. 501
Роуз Г. 66
Рубинштейн С. Л. 9, 11, 14, 16,
118,228,233,235-237,251,
255,290,366,390,408,415,
443,494
Румянцев A.M. 182,411
Руссо Ж.-Ж. 314
Руткевич А. М. 260
Руткевич М. Н. 522
Рыков А. Н. 333
Савельева Л. С. 304
Сагадеев А. В. 408
Сагатовский В. Н. 412
Садов Р. В. 241
Садовский В. Н. 10, 11, 228, 237,
250, 253, 260, 265, 287, 288,
291,294,299,300,303,306,
385,386,443,446,467,531,
537, 544, 545, 550, 552, 553
Сазонов Б. В. 410
Сапожников, профессор 129
638 Именной указатель
Сарабьянов В. Н. 121
Сартр Ж.-П. 79, 170, 173, 196,246,
480,496,609
Сачков Ю. В. 59, 408, 482, 495,
558
Светлов В. И. 137-139, 143, 147,
149, 150,342,347
Свидерский В. И. 476
СеженсД. 114
Семенов В. С. 409, 468, 489, 492
Семенов Ю. И. 522
Семёнов Ю. Н. 245, 408, 409
Сенека 195
Сенин Н. 336
Сенокосов Ю. П. 241, 515, 561
Сергеев В. С. 326
Серебрянников О. Ф. 412
Сидоров М. И. 408, 470, 473-475
Симонов П. В. 260
Ситковский Е. П. 408, 474, 521,
522
Сказкин С. Д. 207, 326
Сказкина В. А. 207
Скэнлан Дж. П. 451
Славская К. А. 255, 408
СлотердейкП. 319, 320
Смирнов В. А. 11, 17, 30, 32, 39,
45,59, 118,209,228,236,243,
244, 247, 292, 295, 299, 304,
404,407,408,412
Смирнов Г. А. 410
Смирнов Г. Л. 409, 540
Смирнова Е. Д. 236, 407, 412
Смирнова 3. В. 184,330
Смирнова Э. В. 405
Смолян Г. Л. 409
Смолин Е. 546
СнидИ.Д. 31
Соколов В. В. 15, 160, 290, 308,
325, 395, 407, 438
Сокулер 3. А. 555
Сократ 112, 199,201,312,319,
321,330,578,604
Солженицын А. И. 389, 436, 498,
516
Соловьёв В. С. 16, 100, 193, 211,
438, 458, 576
Соловьёв Э. Ю. 15,89, 160, 161,
228,246,276,307-313,315-
324,404,408,410,423,460,
468,475,479,488,491,526
Соловьёва В. 434
Солодухина М. Ф. 421, 445
Coca Э. 256
Спенсер Г. 314
Спиноза Б. 145, 195,205,319,341,
574,575
СпиркинА. Г. 16,228,411,415,
417-419,424,440,446,448-
450,499,551
Средний Д. Д. 220
Сталин И. В.20,22,23,41, 120,
122-125, 129, 130, 133,
136, 137, 140-143, 146,
155, 156, 162, 182, 183,208,
209,214,215,225,232,244,
266,307,326-328,331,333,
338,340,344-347,389,390,
399,400,414,415,419,420,
437, 438, 442, 456, 469, 470,
495,503,549
Станкевич Н. В. 455
Старченко А. А. 407
Степанов В. И. 22. 23
Степанов И.И. 121
Степанян Ц. А. 382, 383, 476
СтепанянцМ. Т. 254, 303, 408
Стерн 608-609
Стёпин В. С. 10,12, 20-22, 25,
26, 29, 34, 39,43-45,48,50,
52, 54, 60-62, 64, 65, 67, 69,
70,72,73,76,79-81,83,85,
89,93-97, 100-105, 109, 113,
116, 170,242,250,254,259,
261,274,275,412,555,579
Столетов В. П. 156,473
Столяров В. В. 521,522
СтейнДж. 66
Строгович М. С. 152
Именной указатель 639
Стэн Я. Э. 129, 163, 327, 484, 485,
509,510
Стяжкин Н. И. 410
Субботин А. Л. 404, 408, 474, 487
Суворов Л. Н. 247, 541 -544
Суворов С. Г. 374
Сульженко Г. Д. 245
Суппес П. 305
Суслов М. А. 156,182,183,345,
420,534
Сухотин А. К. 412
Таванец П. В. 228, 232, 244, 297,
408,471
Тавризян Г. М. 220, 497
Тараканов Н. Г. 330,337,343,452,
457-459
ТарскийА.236,295,305
Тахо-ГодиА.А. 425, 426
Твардовский А. Т. 549
ТепловБ. М. 410
ТиллихП. 168
Тимирязев А. К. 121
Тимофеев И. С. 541, 553
Тито И. Б. 240
Тихомиров О. К. 410
ТищенкоЮ.Р. 412
Толстой Л. Н. 18, 79, 195, 200,208,
458, 573,609
Томильчик Л. М. 23,35,40,43,44,
47,52,58,68,581,582
Томсон (Кельвин) В. 58
Торо Г. 595, 609
Трапезников С. П. 161 — 163, 186,
243, 248, 549
Трахтенберг О. В. 139, 164, 165,
187,212,290,337,342,343,
347, 356, 390, 429
Трифонов Ю. 498
Тростников В.Н. 525
Трофимов П. 439
Троцкий Л. Д. 332
Трубников Н. Н. 228,250,251,253,
264,623
Трубникова H.H. 260
Тумаркин А. Я. 211
Тумаркин Б. А. 117
Тургенев И. С. 18, 106
Туровский М. Б. 228,336,409,411,
415
ТушлингБ. 171
Уайтхеда А. 466, 479
Уёмов А. И. 404, 412
Узнадзе Д. Н. 234
Украинцев Б. С. 161-163, 186,
248,249,254,476, 484, 496,
521
Уманская Т. А. 307-313, 315-
324
Успенский В. А. 446
УтченкоС.Л. 291,395
Ухтомский А. А. 118
Уэллс Г. 208
Фаддеев Е. Т. 409, 474, 475, 479,
485, 488
Фадеев А. А. 126
Файбусович Г. М. (Б.Хазанов) 572,
573
Фалес 167
Фарадей М. 27, 40, 58
Фарман И. П. 250
ФаталиевХ. М. 291
ФеврЛ. 100
Фёдоров Н. Ф. 195, 196
Фёдоров Ф. И. 40, 43
Федосеев П. Н. 97, 98, 141, 161,
162,234,247,343-345,418,
502,521,526,531
Федосова А. 288
Федотова В. Г. 551
Фейербах Л. 144, 148, 284,312,
314,339,398,399,423,462
ФейербендП. 300, 619
Фиалкова И. С. 473
Филиппов Л. А. 185,245
Финн В. К. 236, 410, 446
Фихте И. 13, 134, 137, 144, 169,
172,216,238,338,341,441
640 Именной указатель
Фишер Б. 464
Фишер И. 3. 22, 23
Флоренский П. А. 201, 211, 251,
515,576
Фома Аквинский 203, 363, 364,
576
Франк С. Л. 100
Франк Ф. 24, 233, 406
Франс А. 174
Францев Г. П. 418
ФрегеГ. 81
Фридлендер Г. М. 423
ФридляндО. Я. 472
ФричеВ. М. 130
Фролов В. 289
Фролов И. Т. 14-17,97,98,228,
240,241,247,248,251,254,
259,261,278,292,307,323,
404, 408, 409, 468, 474, 489,
492,495,496,502,511,512,
514,521,522,527-529
Фролов К. М. 481
ФукоМ. 170
ФукуямаФ. 100
Фурман Д. 526
ХабермасЮ. 170,261
Хайдеггер М. 83, 170, 173, 443,
462
Харре Р. 256
ХасхачихФ. И. 221, 329, 339
Хессе М. 305
Хинтикка Я. 261,305
Хилпинен Р. 305
Хлябич 149
Хомяков А. 100
Хон Г. Н. 65
ХоружийС. С. 449, 571
Хренов И. 137
Хромченко М. 293
Хрущев Н. С. 219, 345, 420, 439,
445,463, 483, 492, 504
Хук С. 246
ХюбнерК. 21.22
Цветаева М. И. 46, 609
Цебенко М. Д. 345
ЦеллерЭ. 198
Церетели С. Б. 234
Чаадаев П. Я. 184, 429, 434, 444
ЧавчавадзеН. 3.234, 412
ЧагинБ.А. 471,481
Чалмаев В. 549
ЧанышевА. Н. 348,404,407
Чаушеску Н. 447
Чебанов С. В. 559
Черкесов В. И. 139, 153, 164, 209,
230
Чернышев Б. С. 329,330,336-339,
342
Чернышевский Н. Г. 210, 339,429,
452-454,457
Черняк Л. С. 409
Черткова Е. Л. 255
Чесноков Д. И. 150, 182, 357, 468,
469,473
Чешев В. В. 72
Чудинов Э. М. 45. 46
Шакурин 345
Шаламов В. 498
Шалашников М. 333
ШапперК. 159
Шарапов 139
Шаров А. Я. 241, 287, 288, 291,
294,299,303,305,409,475
Шаумян Л. С. 415, 419, 420, 427,
444,485
Шаумян С. Г. 420 ,
Шахназаров Г. X. 445
Шаховский Д. И. 434
Шахпаронов М. 370, 377
Швейцер А. 195,479
Швырёв В. С. 13,89, 160, 170,228,
246,250,252,253,259,265,266,
268-276,278,282-286,408,410,
443,526
ШеваревП.А. 410
ШекспирУ. 125, 196,553
Именной указатель 641
Шелепин А. 334
ШелерМ. 170,479
Шеллинг Ф. 133. 134, 169, 172,
195,441
ШепиловД. Т. 442
ШептулинА. П.532
ШестаковВ. П. 308, 411,421
Шестов 461
Шиллер Фердинанд К. С. 222
ШинкарукВ. И. 14,251,558
ШирокановД. И. 97
Шишкин А. Ф. 220, 409, 476, 479,
481
ШкаратанО. И. 219, 526
Шкирятов 345
Шкловский В. 7
Шкловский И. С. 525
ШкуриновП. С. 143
Шлик М. 24
Шмальгаузен И. И. 11
Шмальгаузена И. И. 469
Щопенгауэр А. 194, 195, 598, 611
Шостакович Д. Д. 140,516
Шпенглер 83
Шпет Г. Г. 8
Шрагин Б. 404, 439
Шрейдер Ю. А. 250, 410, 547, 549,
569
Штегмюллер В. 31, 46
ШтоффВ.А.412
Шубкин В. Н. 445
Шуков В. 550
Шульгин H.H. 189-191, 193, 195,
196, 198-204, 265, 266, 268-
276,278,281,283-286
Шухардин С. В. 540
Щеглов А. В. 485, 509
Щедровицкий Г. П. 10. 13, 17, 18,
30,39,47,217,223,229,230,
232,235,236,251,264,266-
271,275,292-294,296,299,
386,400,402-404,410,443,
491,563,564
Щербаков А. С. 182,343
ЩипановИ. Я. 128, 143, 151, 153,
184,330,405,414,437,443,452,
453, 455, 457-462
Эвклид
Эйнштейн А. 24, 35, 42, 43, 53, 70,
75, 78, 80, 208, 360, 374, 377,
576, 583, 585, 590
Эйхенбаум Б. 7, 170
Экзюпери А. 366
ЭльконинД. Б. 410
Энгельгардт В.А. 11, 241
Энгельс Ф. 101, 133, 144, 151, 156,
158,159,164,165,172-176,
185, 188,213,223,224,239,
300, 327, 330, 339, 340, 347,
357, 370, 373, 379, 395, 398,
399, 400, 439, 452, 453, 489
Эпикур 88, 196
Эразм Роттердамский 168
Эфиров С. А. 246, 408
Эшби У. Росс 480
ЮбервегИ. 178
Юдин Б. Г. 99, 242, 276, 409, 541,
542,551-553
Юдин П. Н. 18
ЮдинП.Ф.6, 120-124, 130, 134,
163,337,341,415,438,482,483
ЮдинЭ.Г. 10. 11, 17,30,44. 160,
228, 237, 250, 252, 253, 264,
269, 277, 297-299, 302, 410-
412,421,443,446,483,484,
530,531,537,539,544-546,
550-553
Юлина Н. С. 160, 245, 247, 293,
404, 408
Юм Д. 144, 145,616
Яблонский А. И. 297, 410
Ягодкин В. Н. 247, 248, 489, 513,
539,540,541
Ядов В. А. 445
Якобсон Р. С. 7, 170
Яковлев А. А. 259, 260, 499
642 Именной указатель
Яковлев А. Н. 99
Яновская С. А. 117, 187, 210, 290,
356,390,446,614
Ярославский Е. М. 129
Ярошевский М. Г. 410, 443
Яснопольский Н.Ф. 565
Ясперс К. 319-321,443
Яхот О. 336
Яшин А. 436
Ящерицын П. 42
Сведения об авторах
Блауберг Игорь Викторович (1929-1990) - доктор
философских наук, профессор, заведующий сектором
Института системного анализа РАН.
Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович — академик
РАН, директор Института философии РАН.
Касавин Илья Теодорович, член-корреспондент РАН,
заведующий сектором Института философии РАН.
Каменский Захар Абрамович (1915-1994) — доктор
философских наук, профессор, старший научный
сотрудник Института философии РАН.
Лекторский Владислав Александрович — академик
РАН, главный редактор журнала «Вопросы философии»,
заведующий отделом Института философии РАН.
Митрохин Лев Николаевич (1930-2005) —
академик РАН, заведующий сектором Института философии
РАН.
Никитин Евгений Петрович (1934—2001) — доктор
философских наук, ведущий научный сотрудник Института
философии РАН.
Овчинников Николай Фёдорович — доктор
философских наук, главный научный сотрудник Института истории
естествознания и техники РАН.
Ойзерман Теодор Ильич — академик РАН, советник
дирекции Института философии РАН.
Садовский Вадим Николаевич — доктор философских
наук, профессор, главный научный сотрудник Института
системного анализа РАН.
Скэнлан Джеймс — профессор, США.
Соколов Василий Васильевич — доктор философских
наук, профессор философского факультета Московского
государственного университета.
644 Сведения об авторах
Соловьёв Эрих Юрьевич — доктор философских наук,
профессор, главный научный сотрудник Института философии РАН.
Стёпин Вячеслав Семёнович — академик РАН, руководитель
секции философии, социологии, психологии и права отделения
общественных наук РАН, президент Российского философского
общества.
Швырёв Владимир Сергеевич (1934-2008) — доктор
философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института
философии РАН.
Шрейдер Юлий Анатольевич (1927—1998) — доктор
философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института
проблем передачи информации.
Шульгин Николай Николаевич — кандидат философских наук,
заведующий отделом журнала «Вопросы философии».
Содержание
От редактора 5
I. Беседы
Важно, чтобы работа не прекращалась 20
Интервью И. Т. Касавина с В. С. Стёпиным
Из бесед с академиком Т. И. Ойзерманом 117
Беседы Л. Н. Митрохина с Т. И. Ойзерманом
О философах и профессорах философии 189
Беседа Я. Н. Шульгина с А. А. Гусейновым
О прошлом и настоящем 207
Беседа Л. Н. Митрохина с В. А. Лекторским
Берега рациональности 265
Беседа Н. Н. Шульгина с В. С. Швырёвым
Становление философии науки и системного подхода
в России во второй половине XX в 287
Беседа А. Я. Шарова с В. Н. Садовским
«Просторное слово авторитетов» 307
Беседа Т. А. Уманской с Э. Ю. Соловьёвым
II. Воспоминания
В. В. Соколов
Некоторые эпизоды предвоенной и послевоенной
философской жизни (из воспоминаний) 325
Н. Ф. Овчинников
Вспоминая прошедшее 349
В. Н. Садовский
Философия в Москве в 50-е и 60-е гг 385
646 Содержание
3. А. Каменский
О «Философской энциклопедии» 413
Джеймс П. Скэнлан
Американский философ в Московском государственном
университете, 1964/65 гг 451
В. Н. Садовский
«Вопросы философии» в 60-е гг 467
Э. Ю. Соловьёв
Философский журнализм 60-х: завоевания,
обольщения, недоделанные дела 491
Л. Н Митрохин
«Докладная записка»—74 501
И. В. Блауберг
Из истории системных исследований в СССР: попытка
ситуационного анализа 530
Ю. А. Шрейдер
Загадочная притягательность философии (субъективные
заметки) 547
В. С. Стёпин
В мире теоретических идей. Дискуссии с И. С. Алексеевым .... 579
Е. П. Никитин
Николай Николаевич Трубников: верность себе 595
Е. П. Никитин
Борис Семёнович Грязнов: разработка фундаментальных
проблем методологии науки 611
Именной указатель 626
Сведения об авторах 643
Научное издание
Философия России второй половины XX века
Как это было:
воспоминания и размышления
Со второй половины 50-х гг., на волне освобождения
от сталинизма, удушавшего всякую творческую мысль,
начинается своеобразный ренессанс философии в
России. В нашей философии в эти годы наряду с
догматиками и приспособленцами творили выдающиеся умы,
яркие личности, связанные с культурой России и культурой
мировой, с гуманитарным и естественнонаучным
знанием. Мы только сегодня начинаем понимать и ценить то,
что было сделано в эти годы и что сегодня оказывается
актуальным. Развивались разные философские школы,
велись острые дискуссии по действительно
философским проблемам. Идеи, выдвинутые в эти годы в нашей
философии, разработанные в ней концепции, не только
не остались в породившем их времени, кок утверждают
те, кто не знает подлинной истории нашей философии.
Многие из этих идей современны и могут плодотворно
взаимодействовать с теми подходами, которые
выдвигаются сегодня в мировой философии.