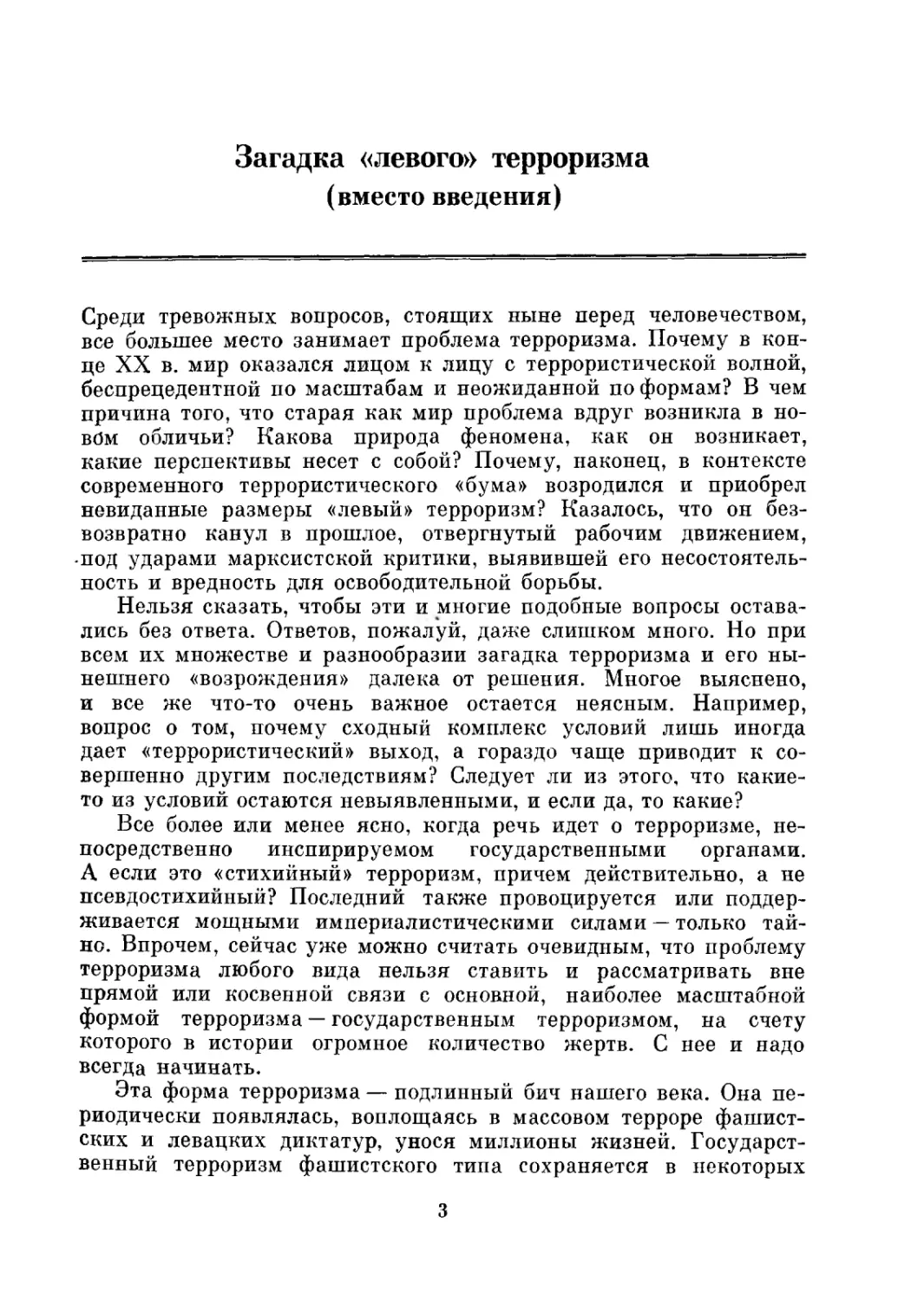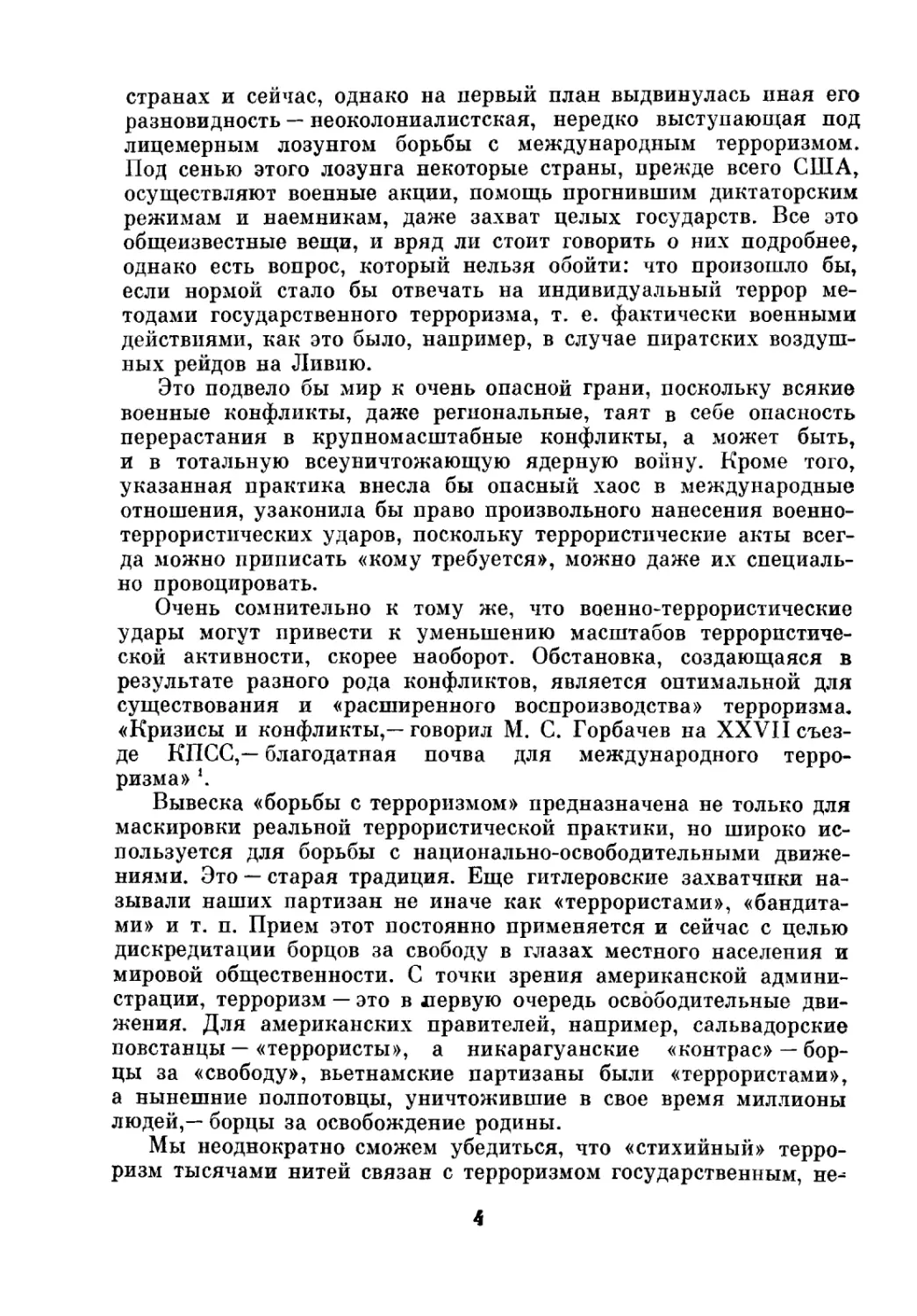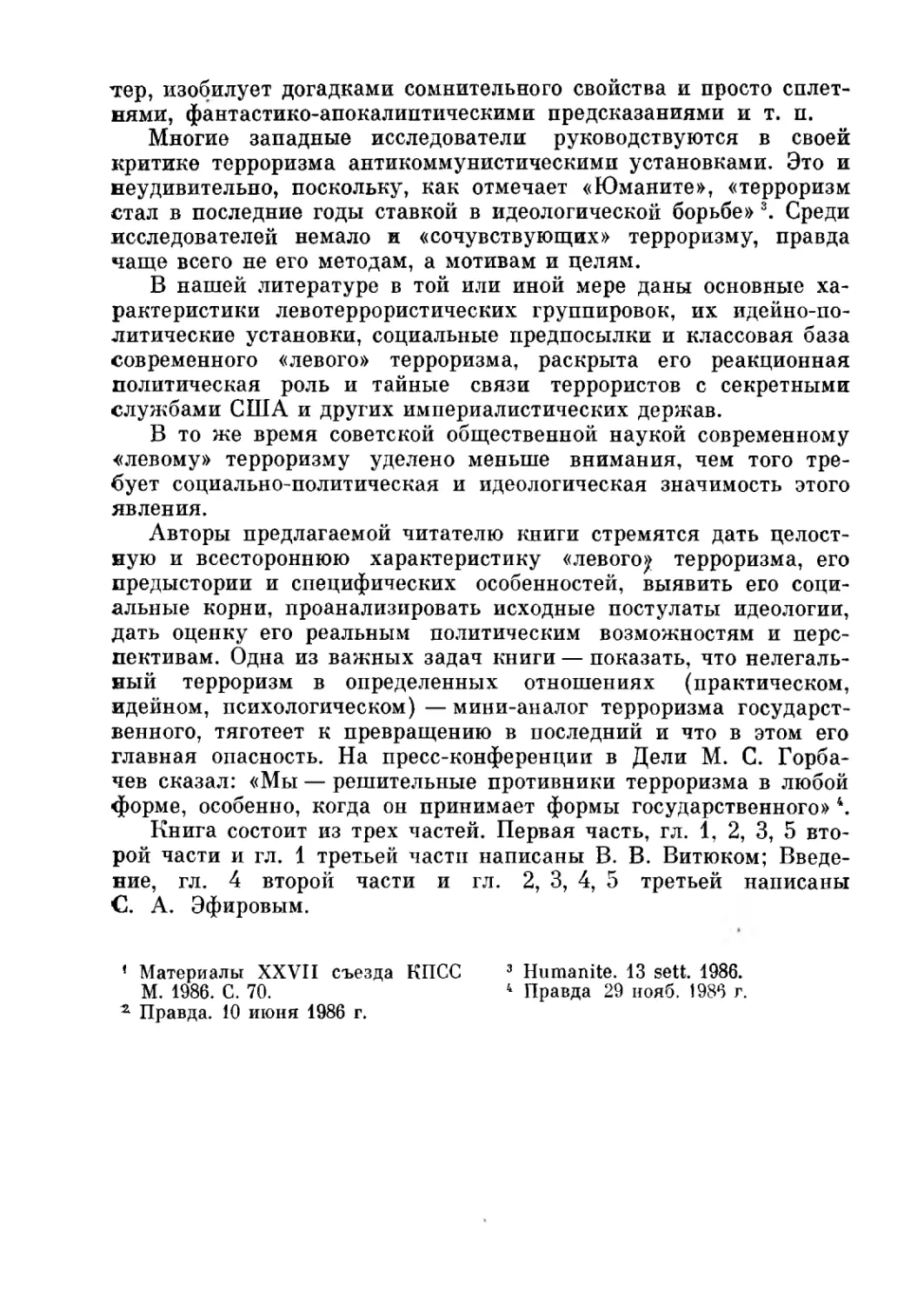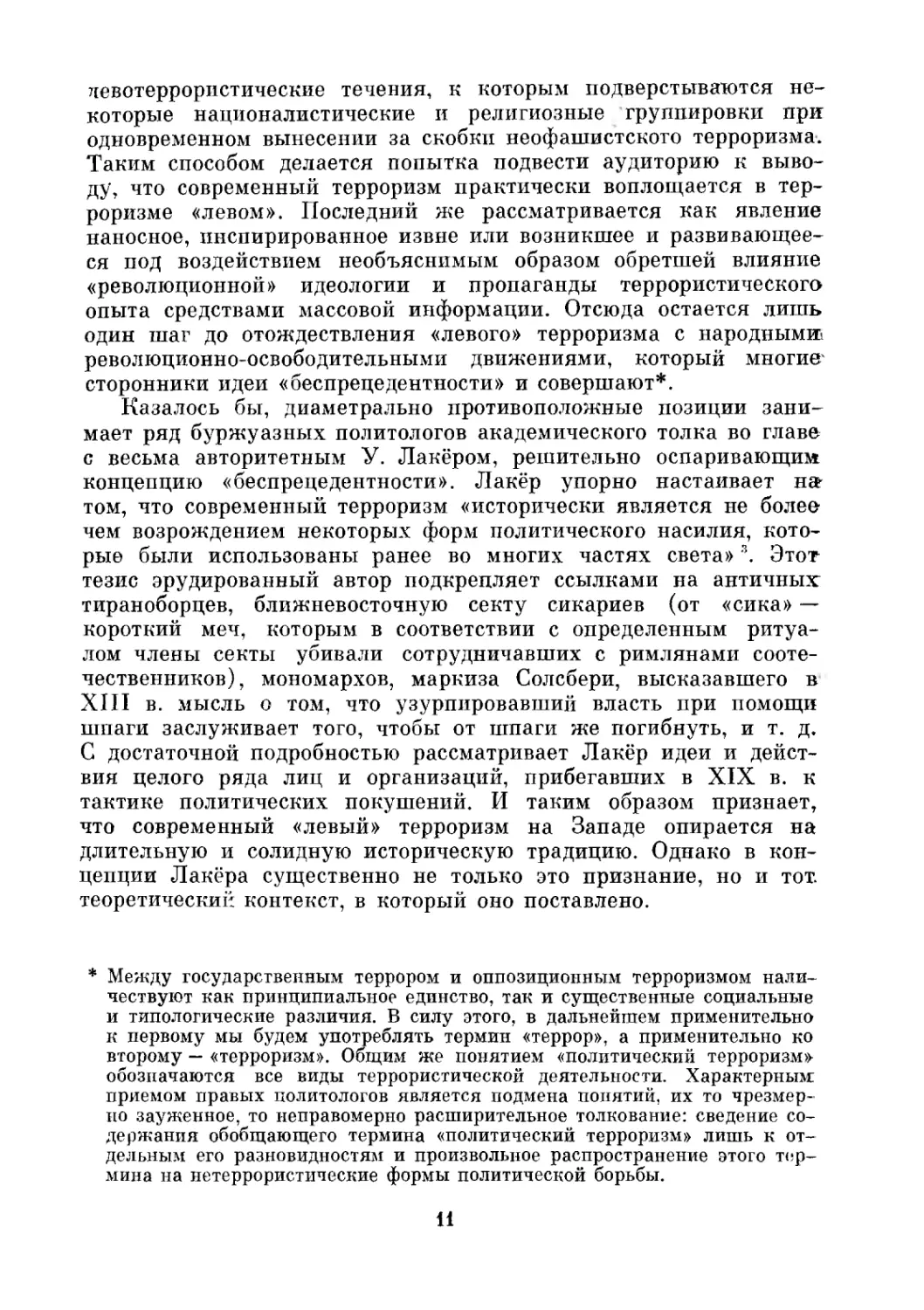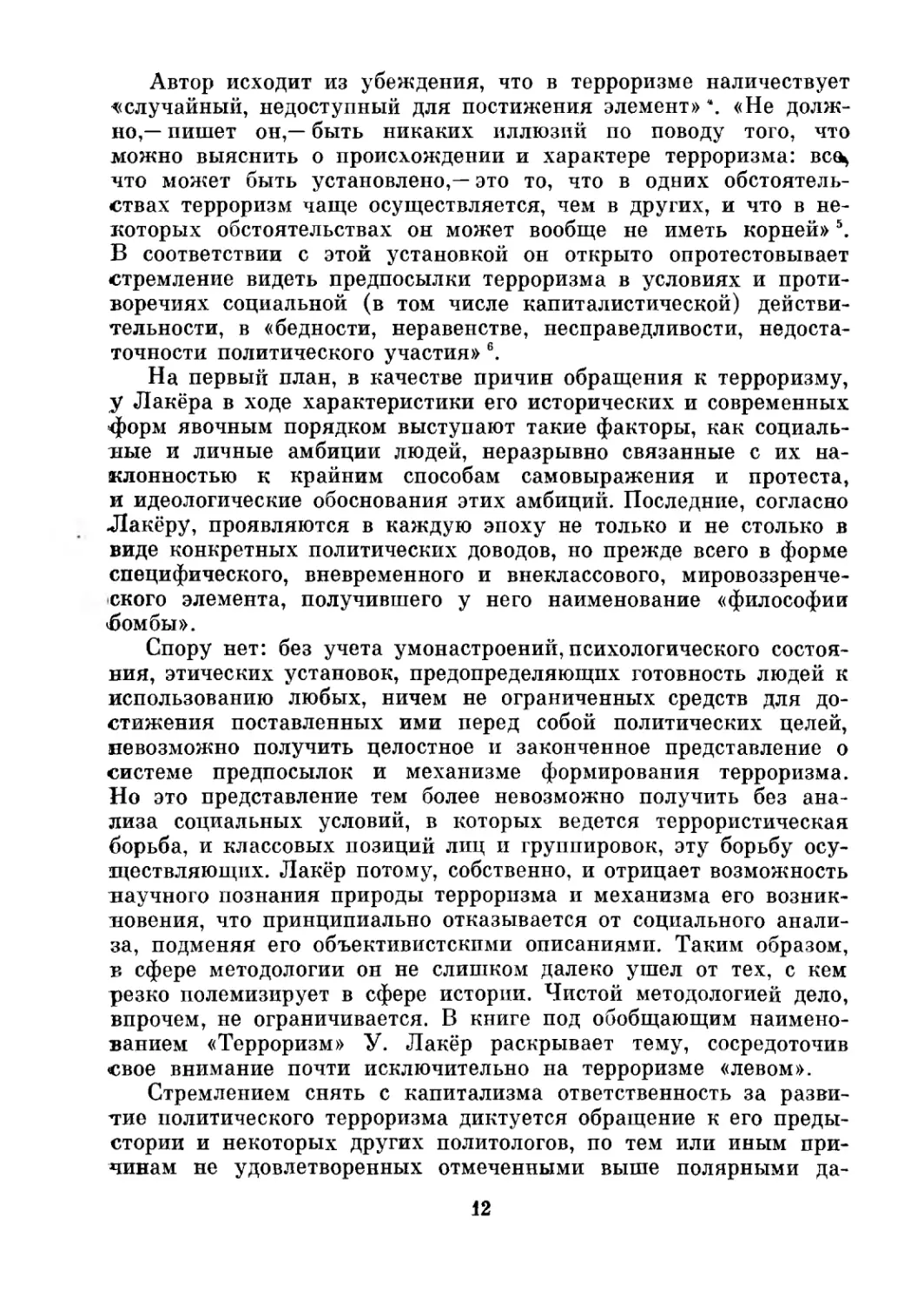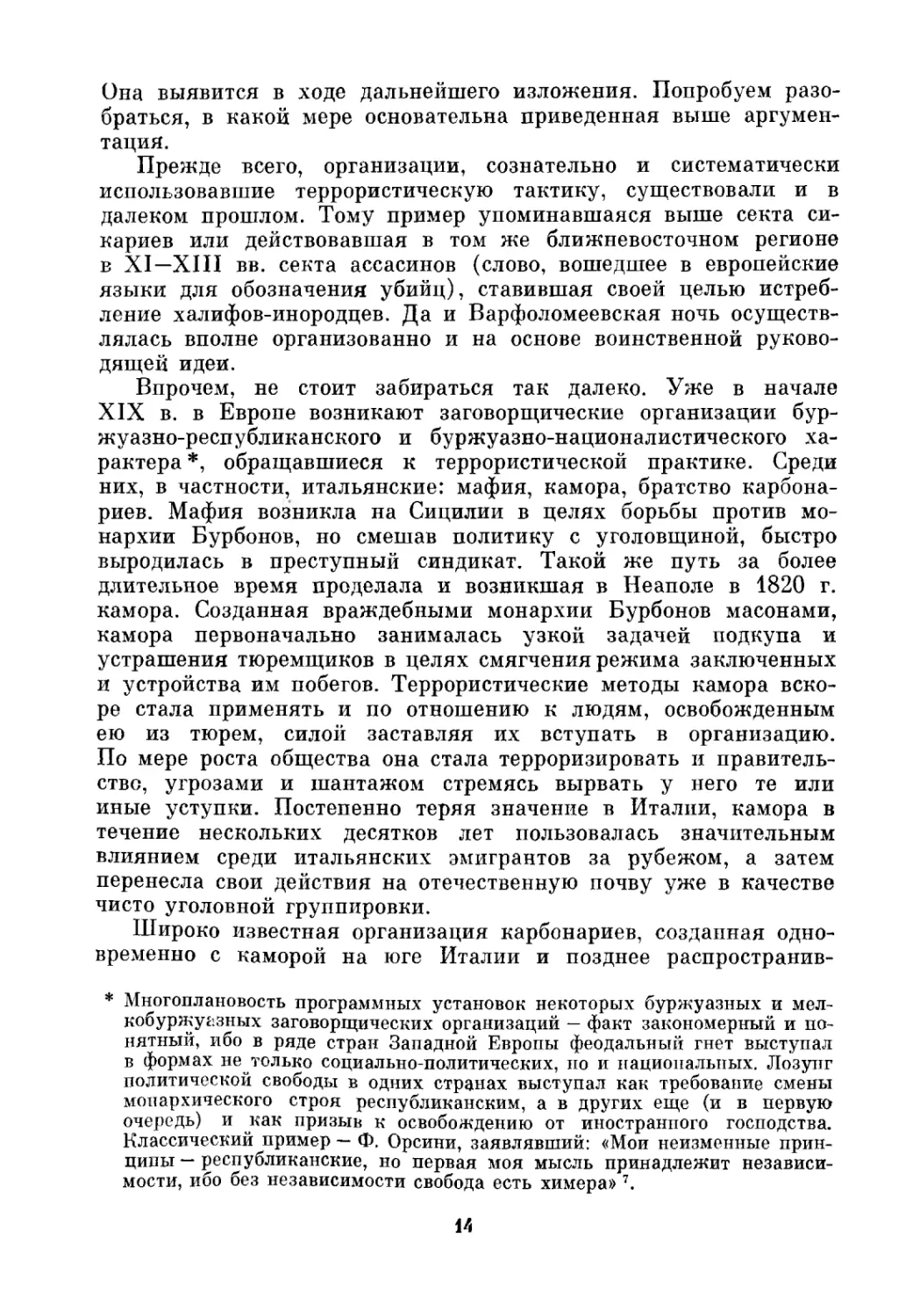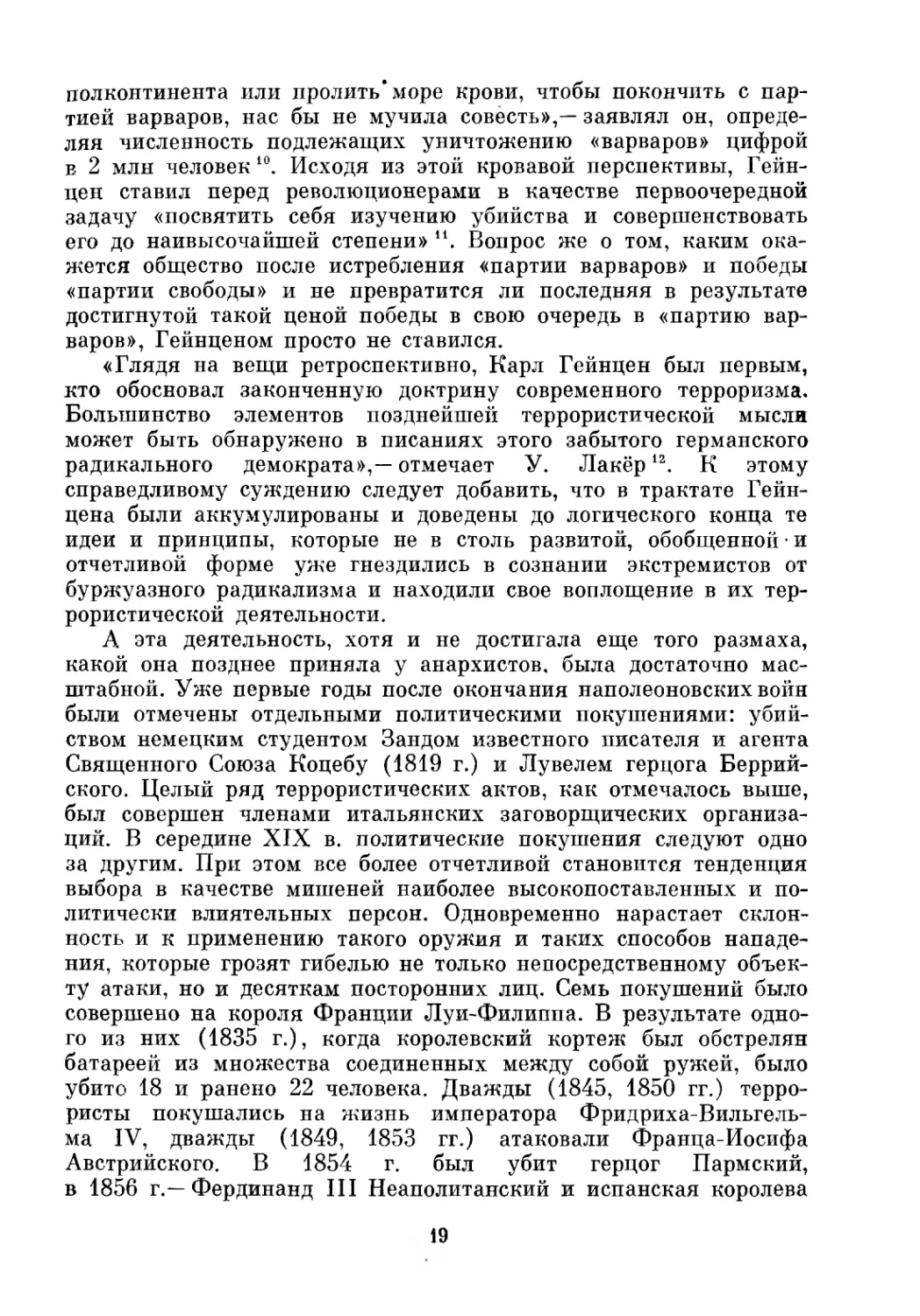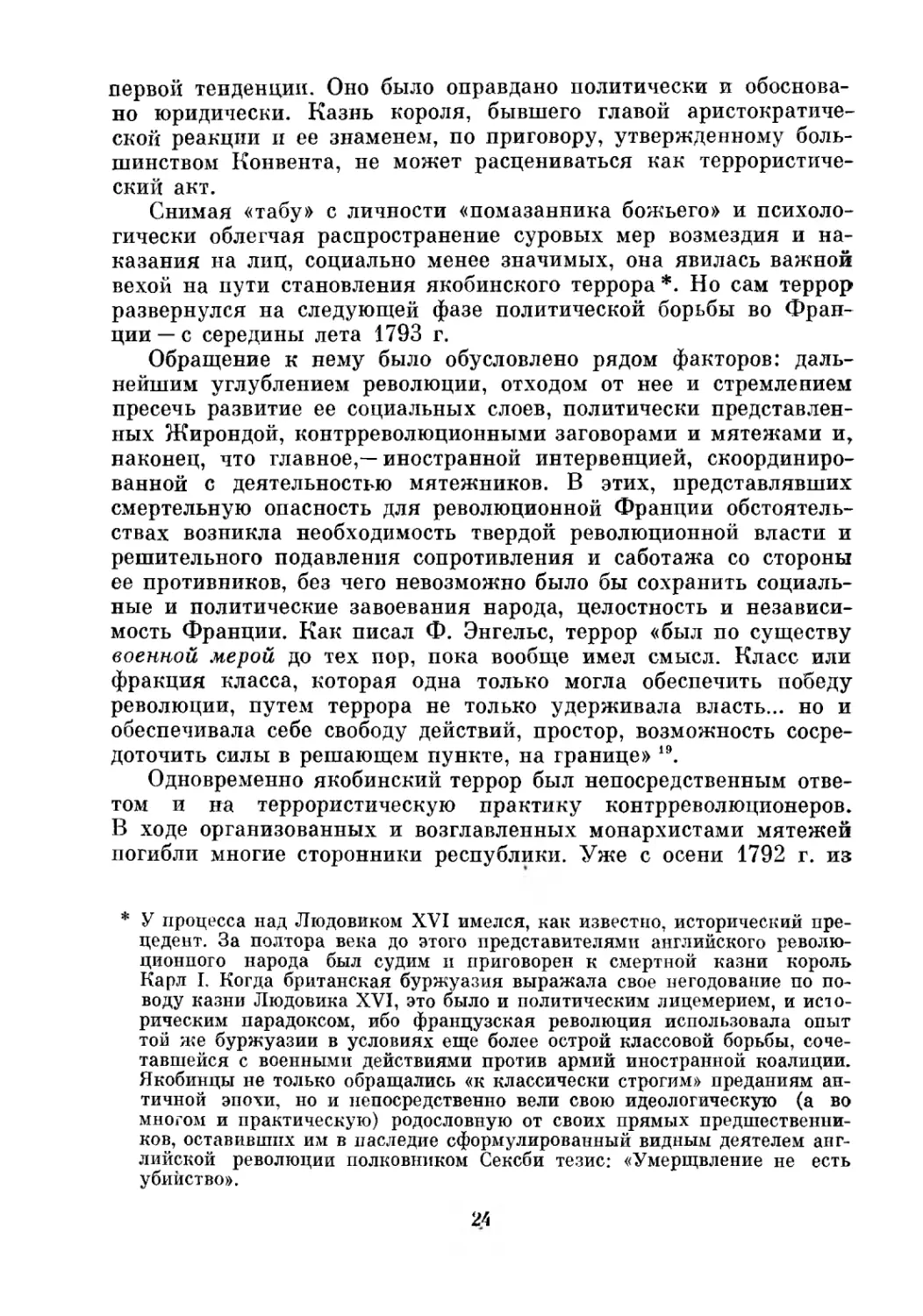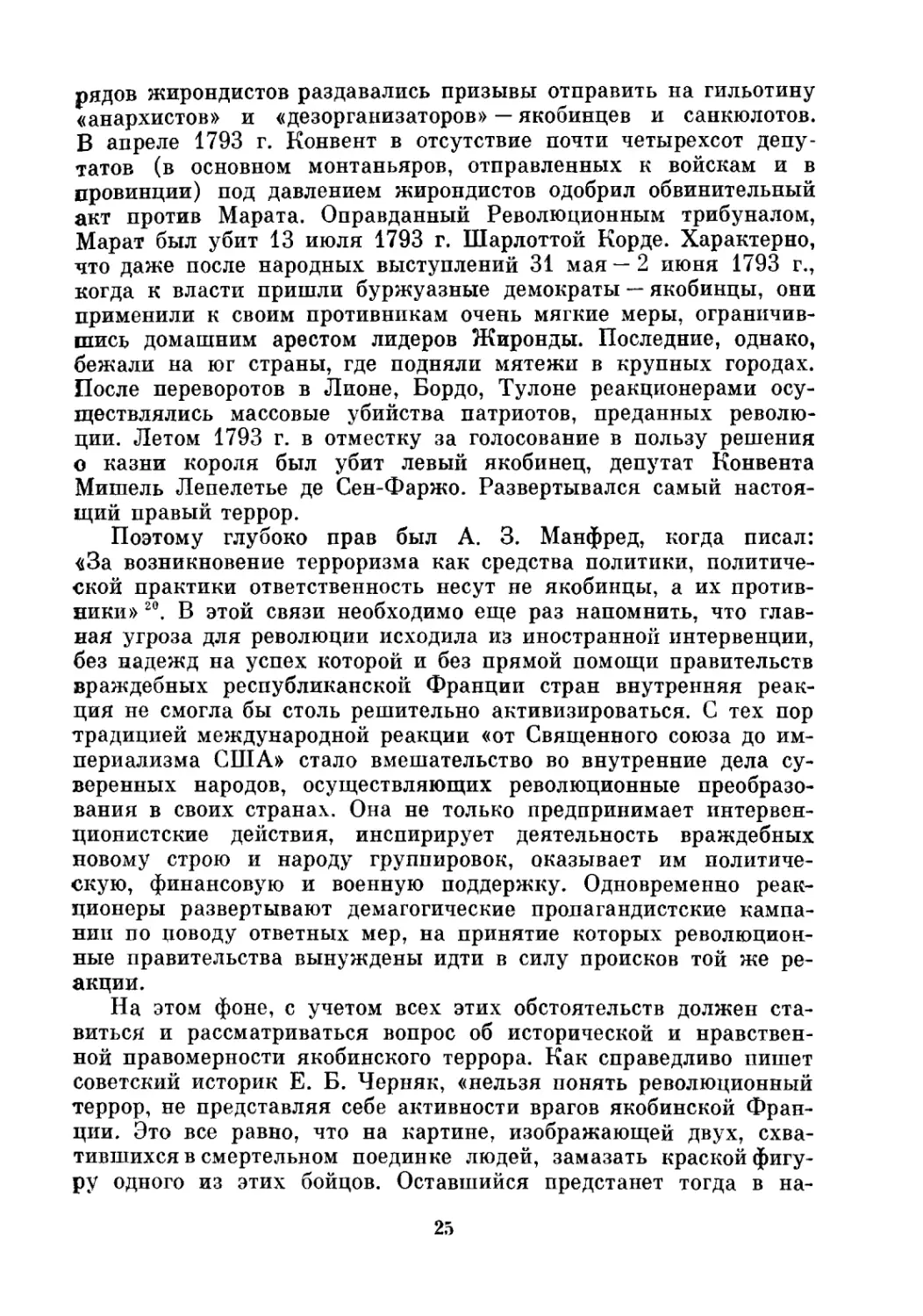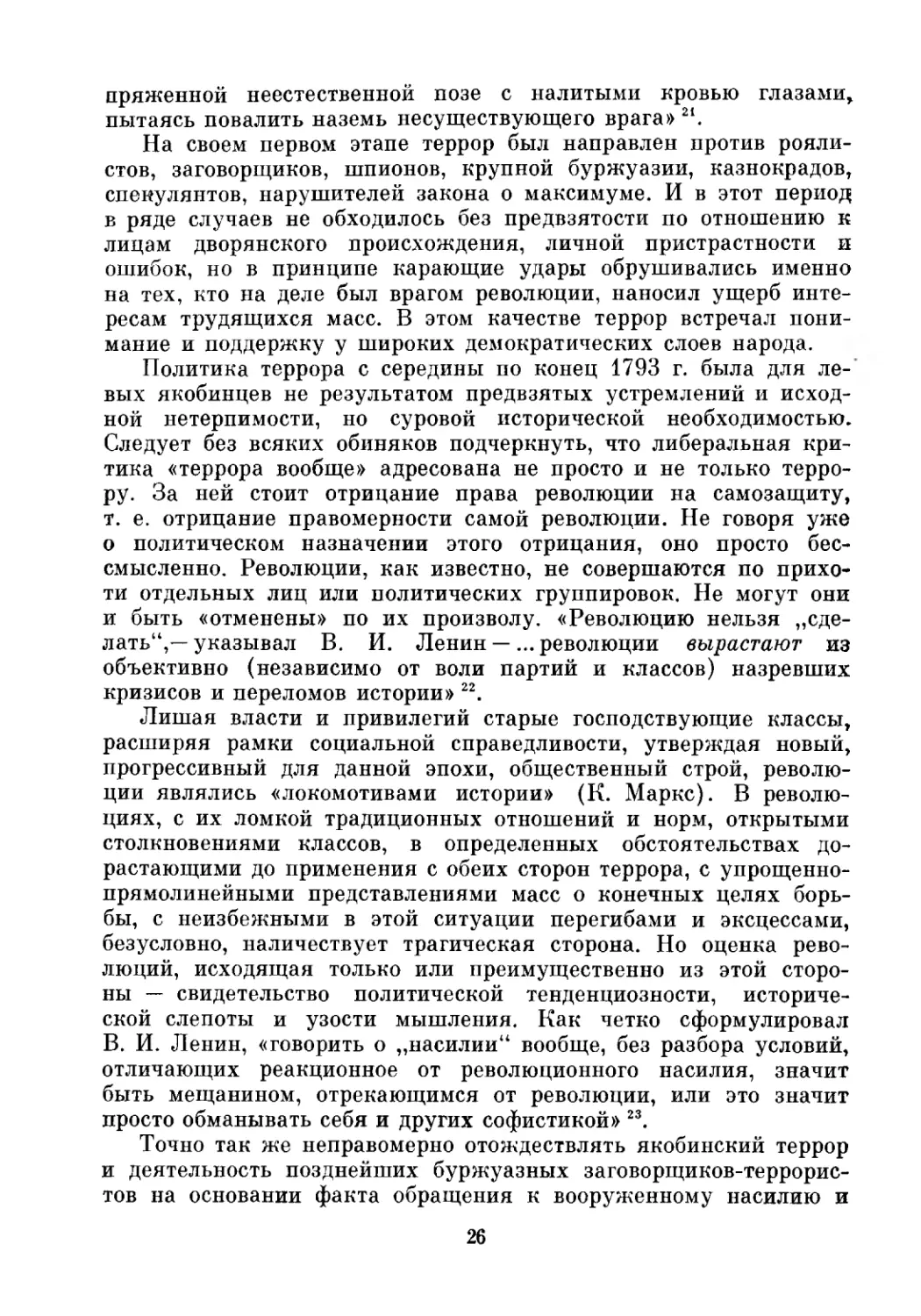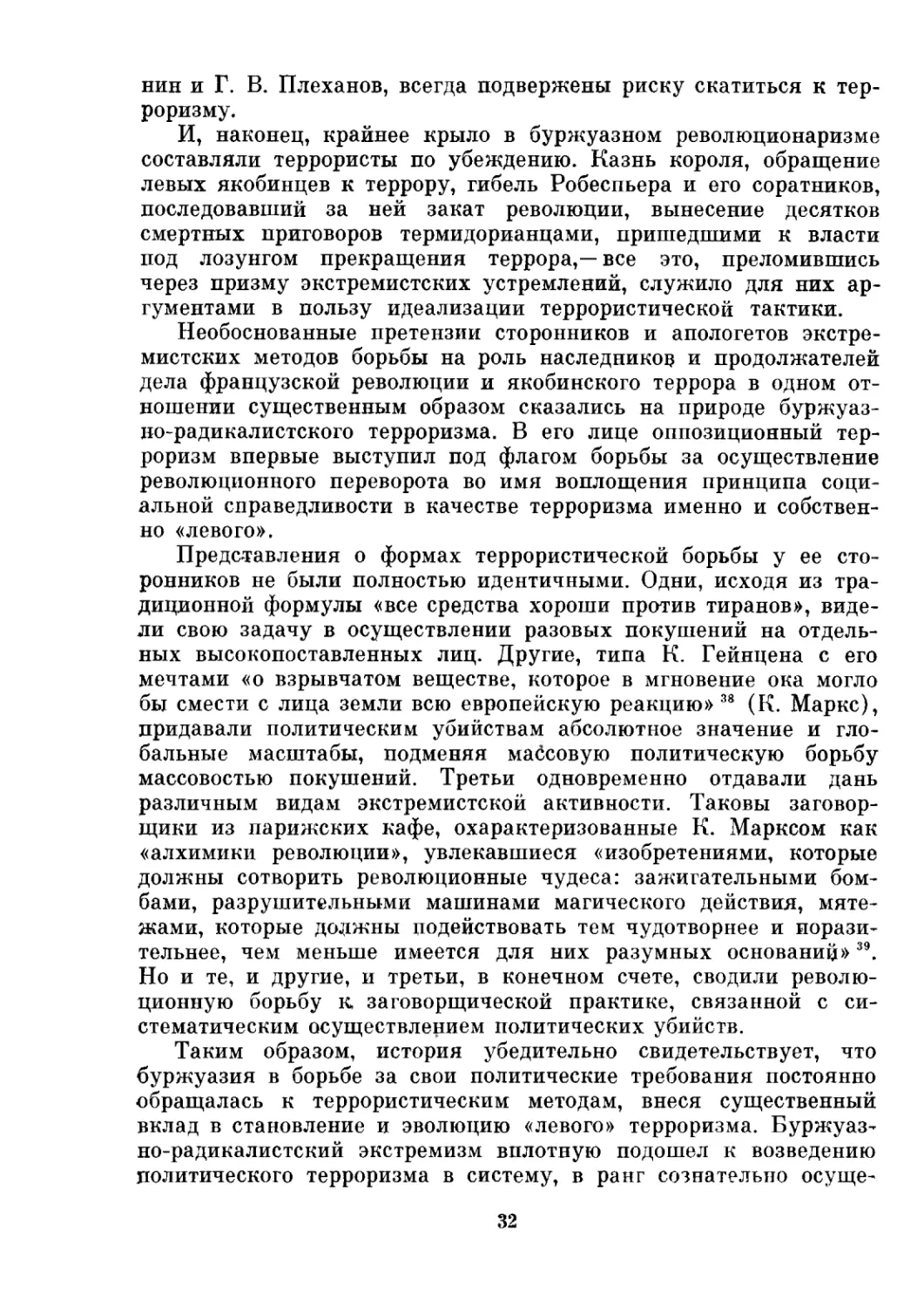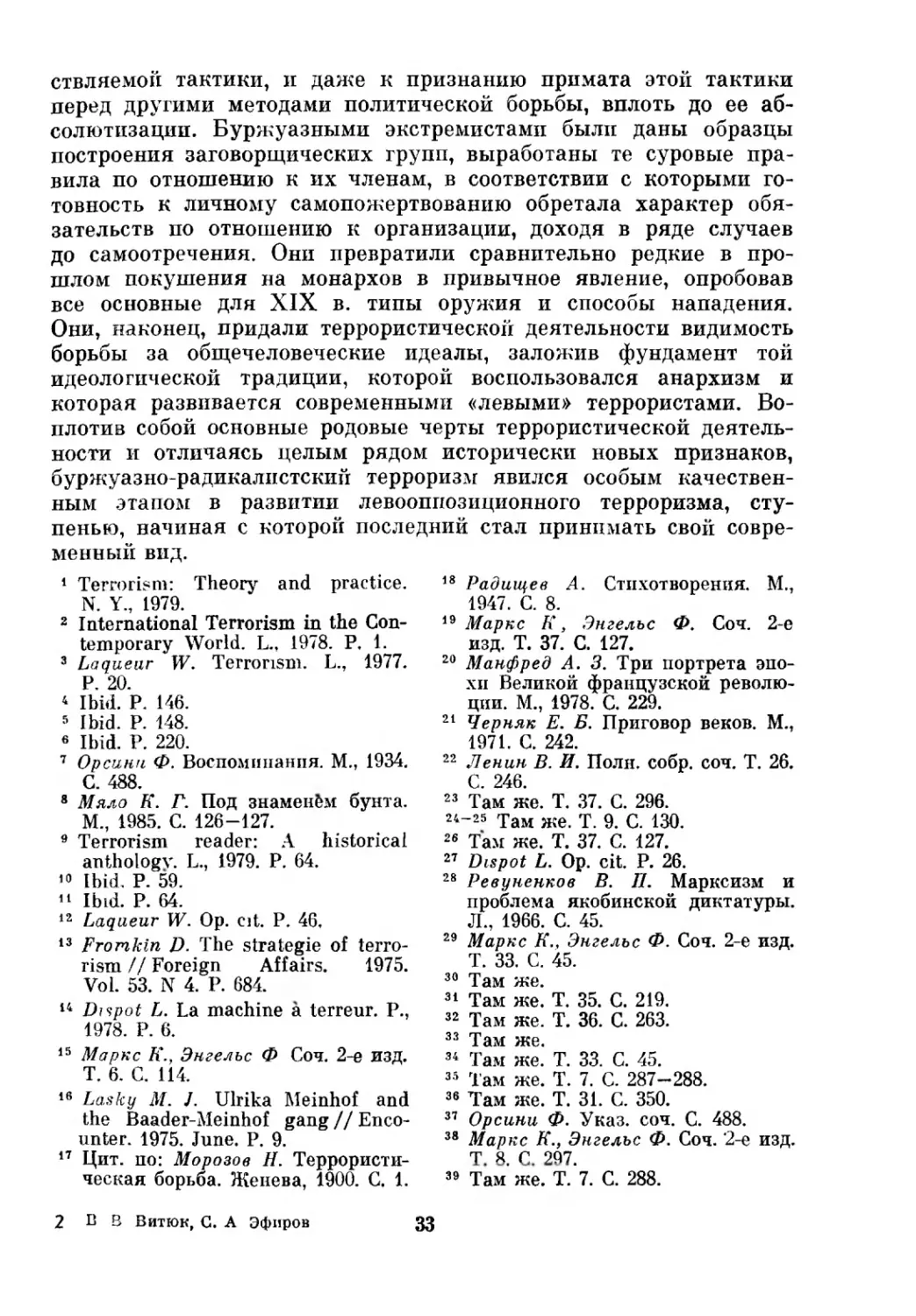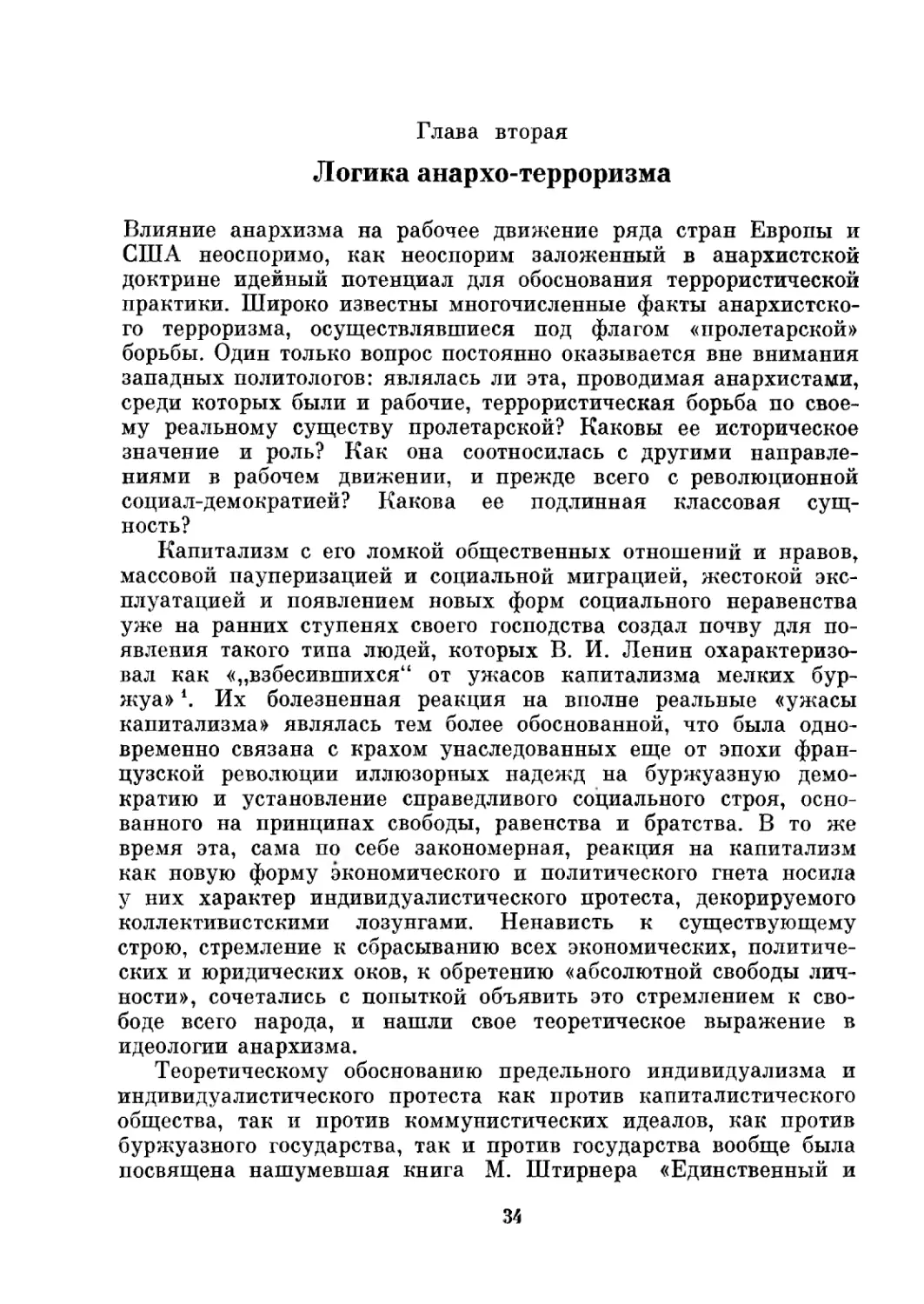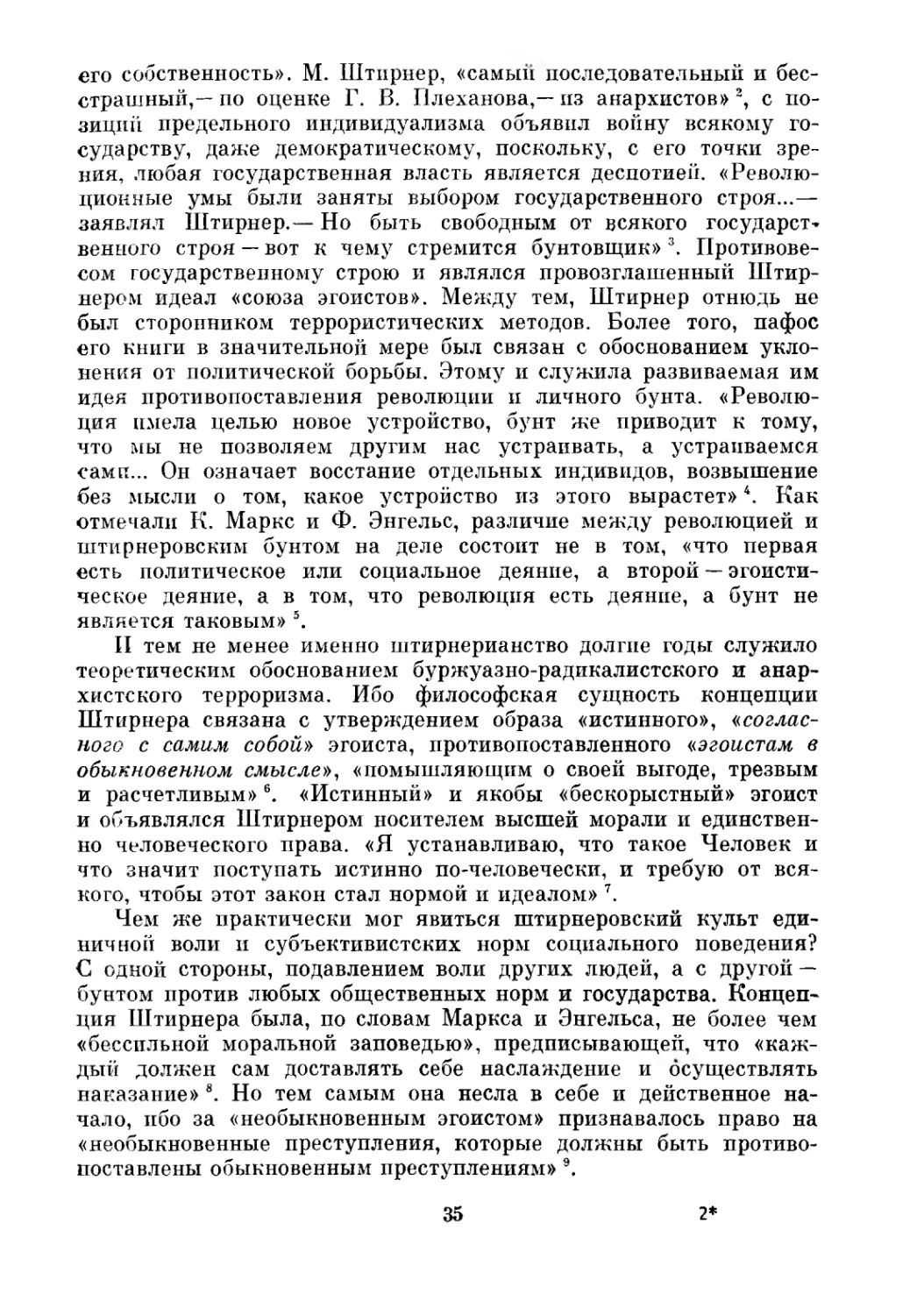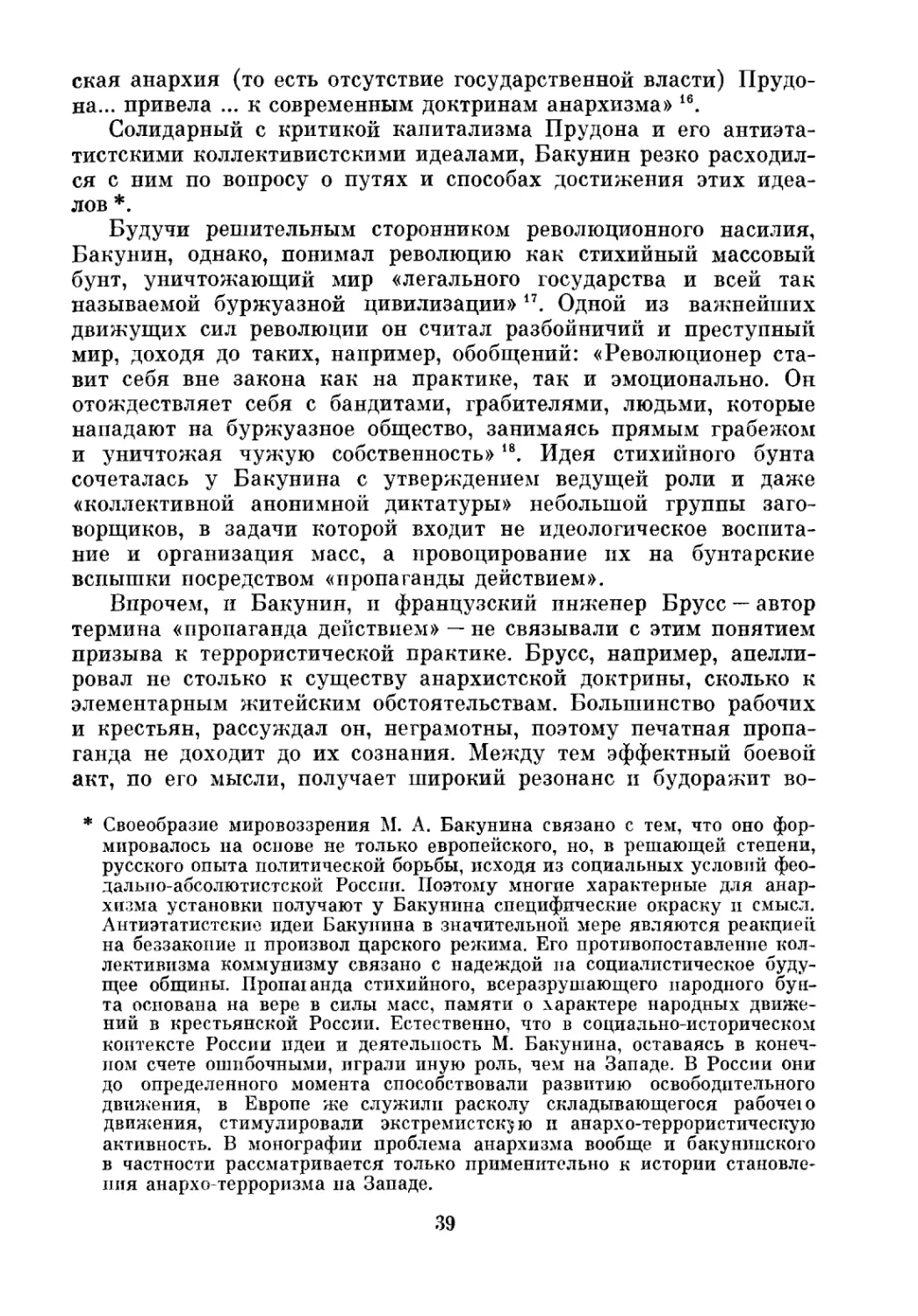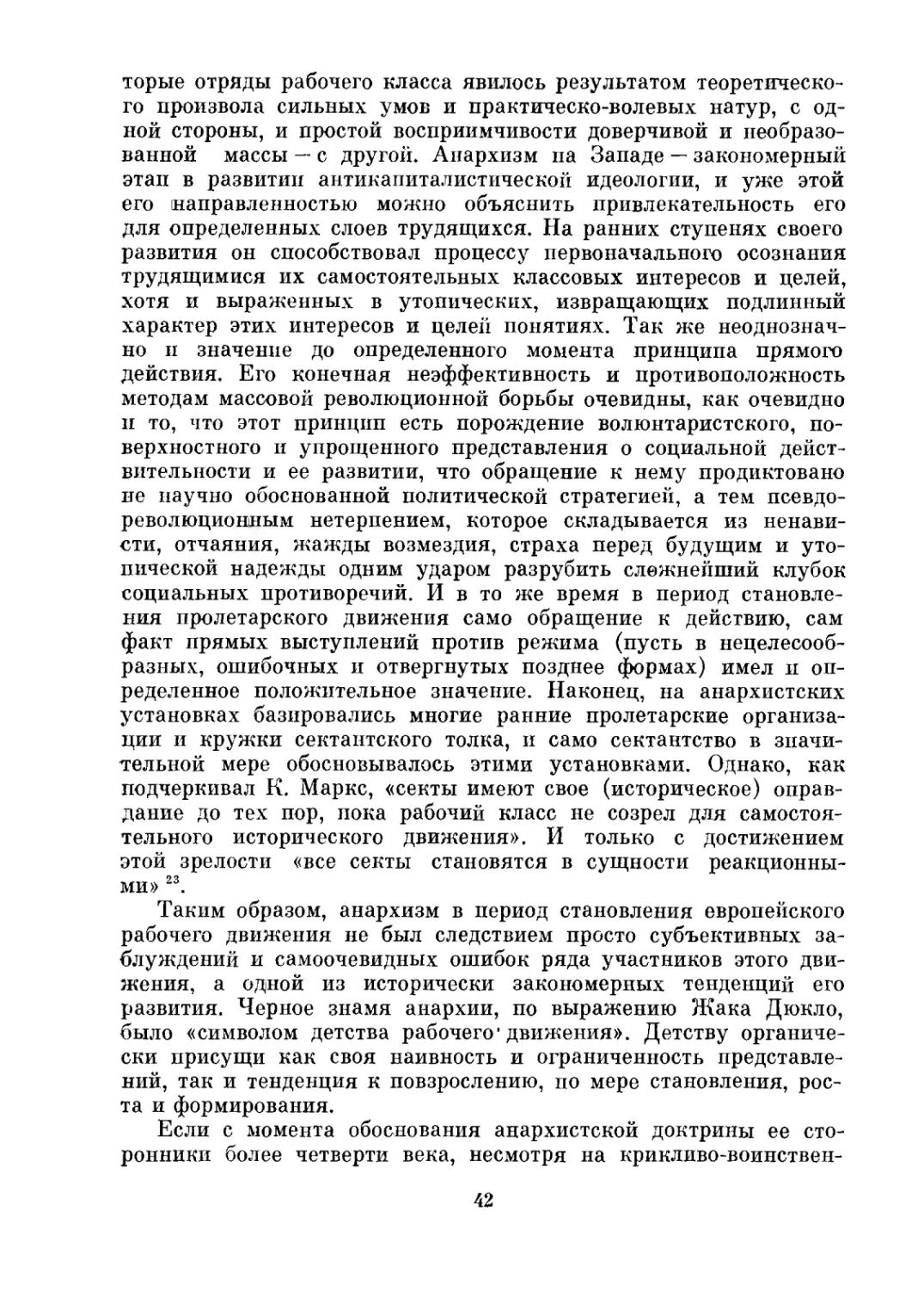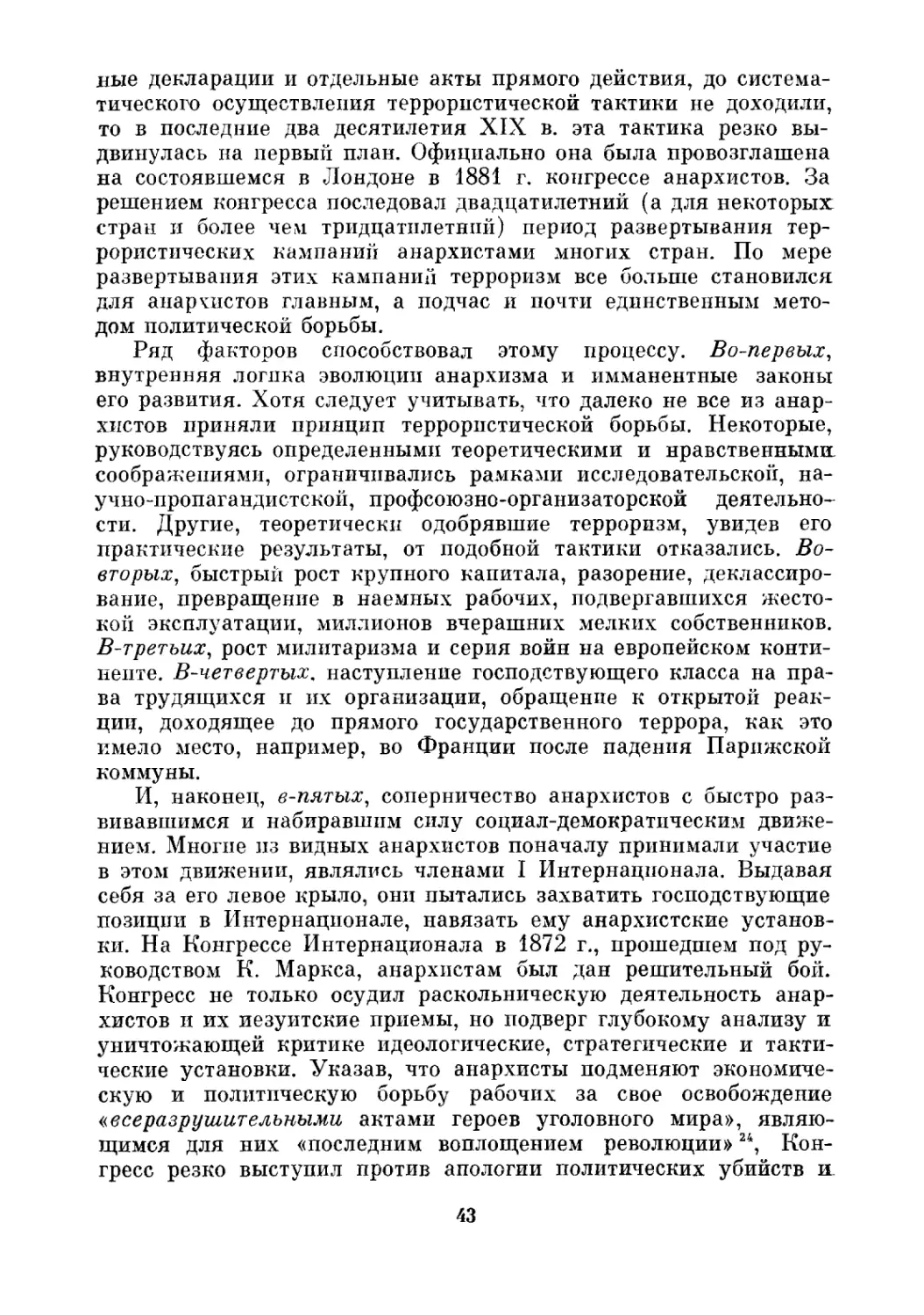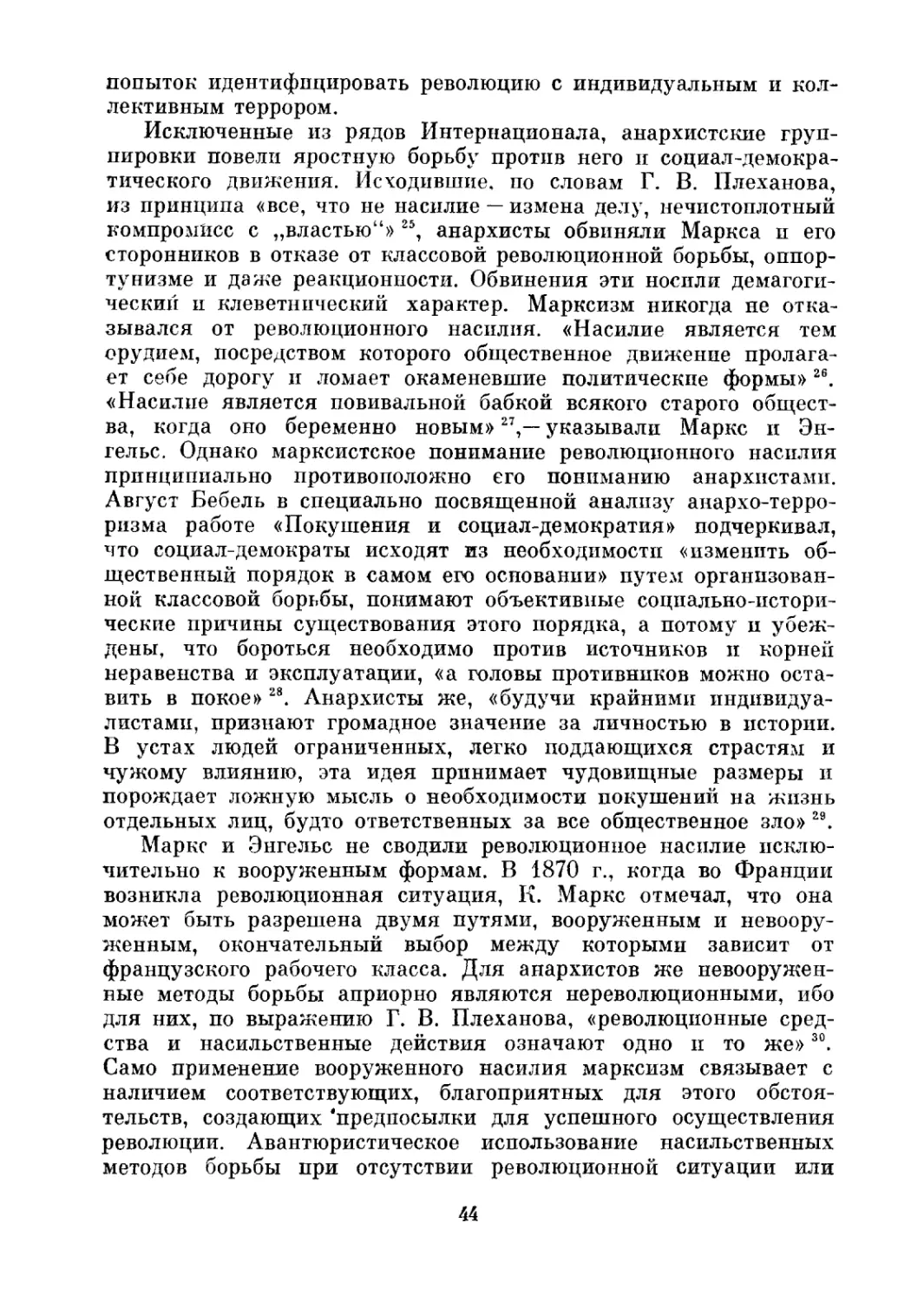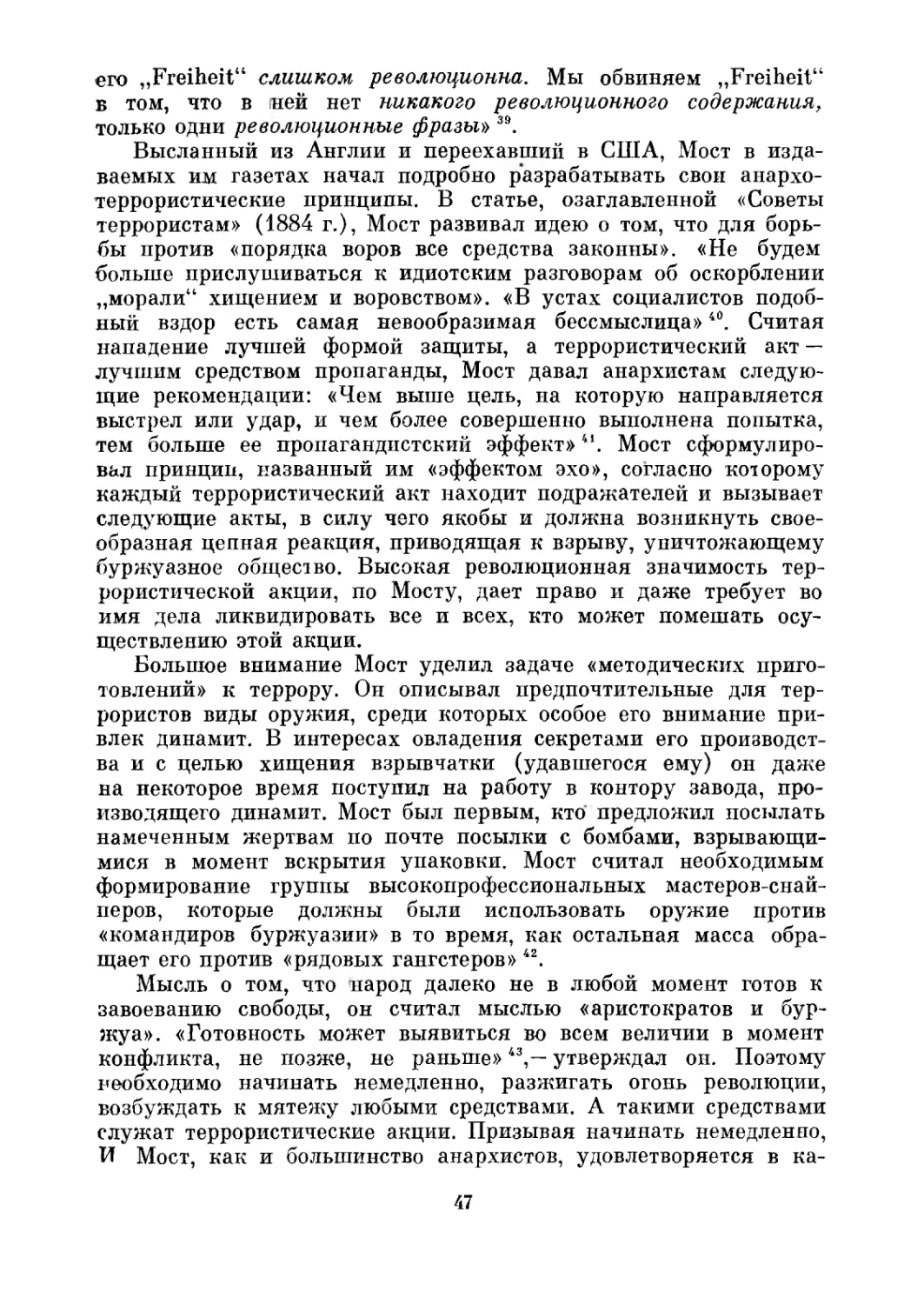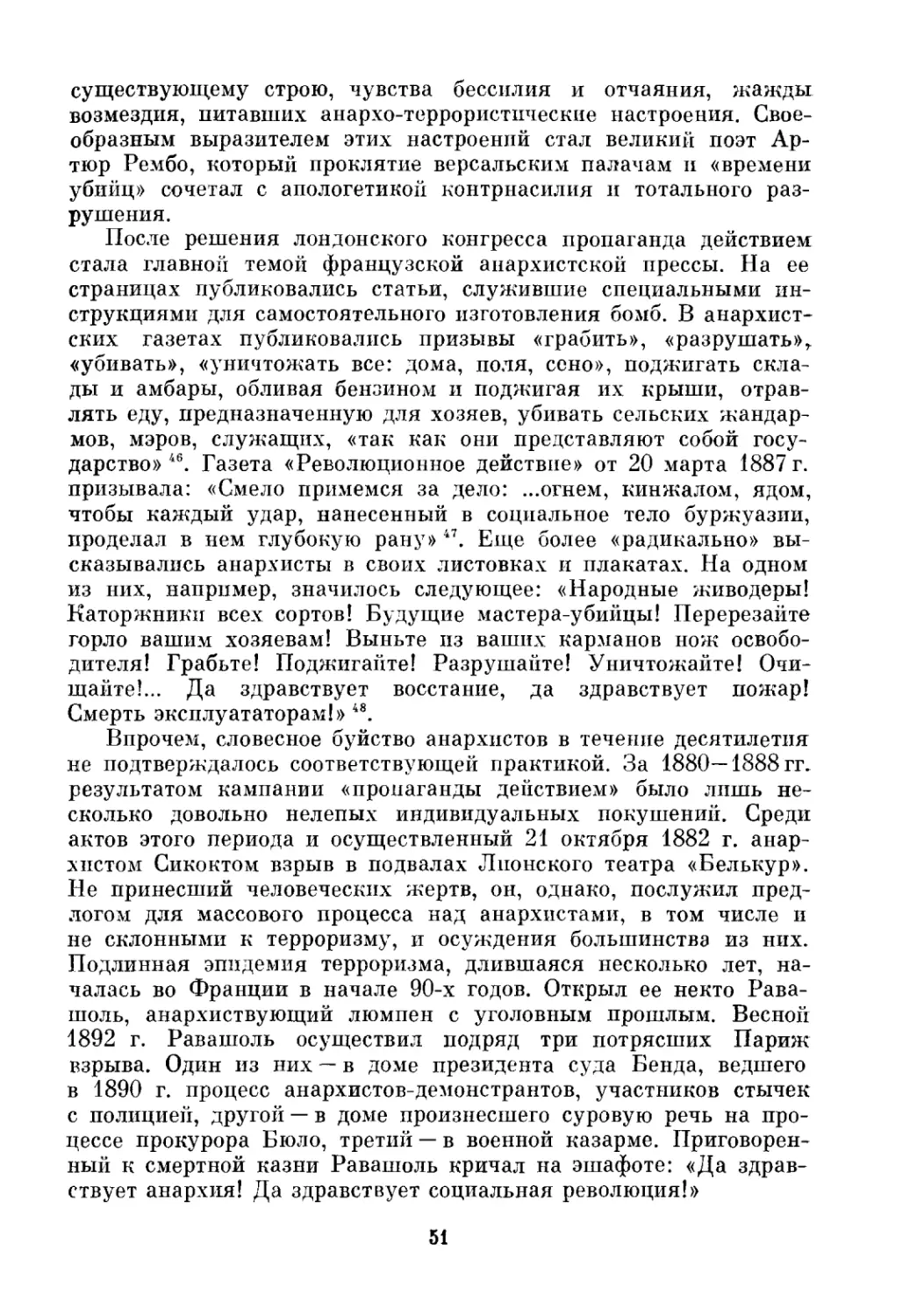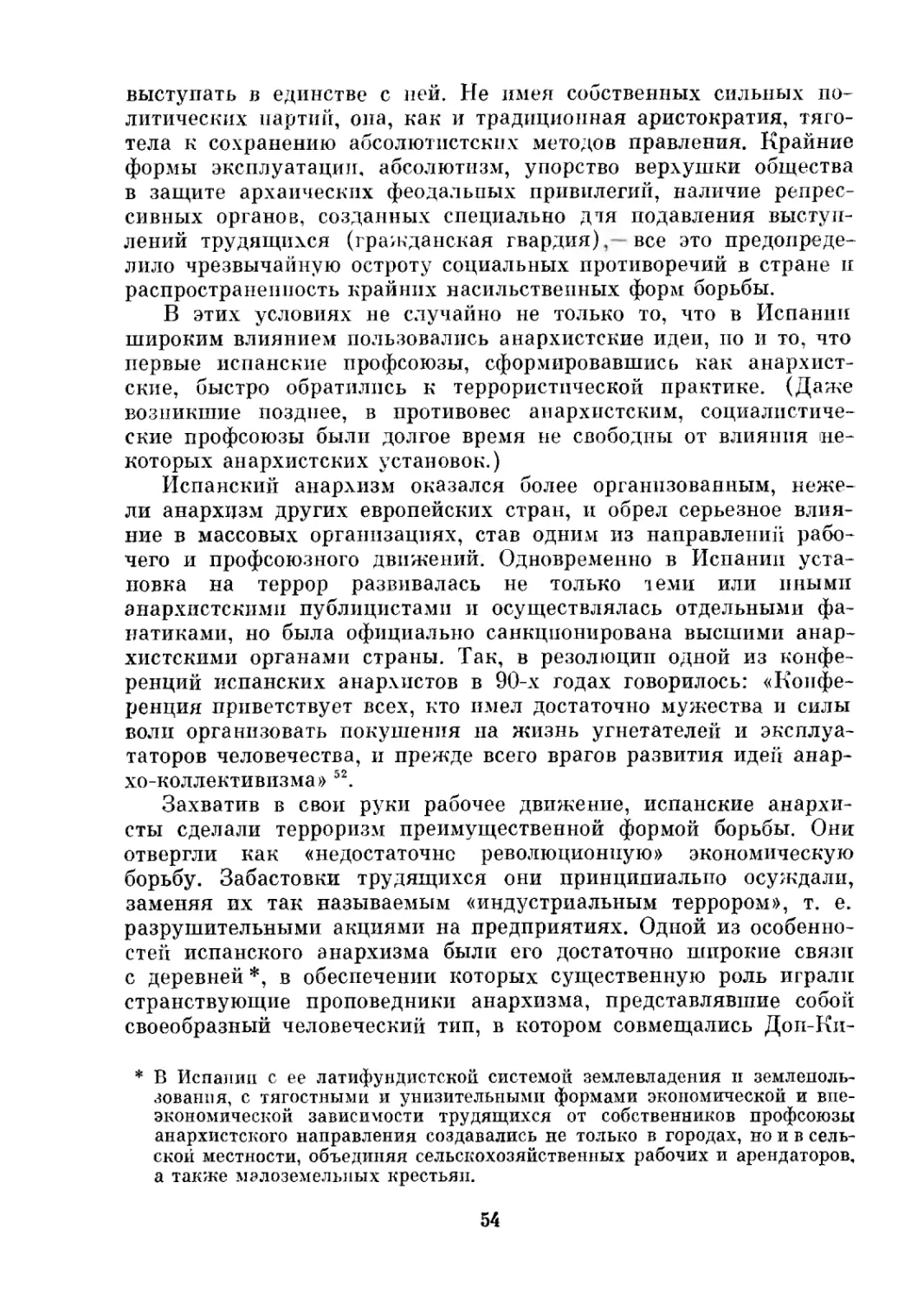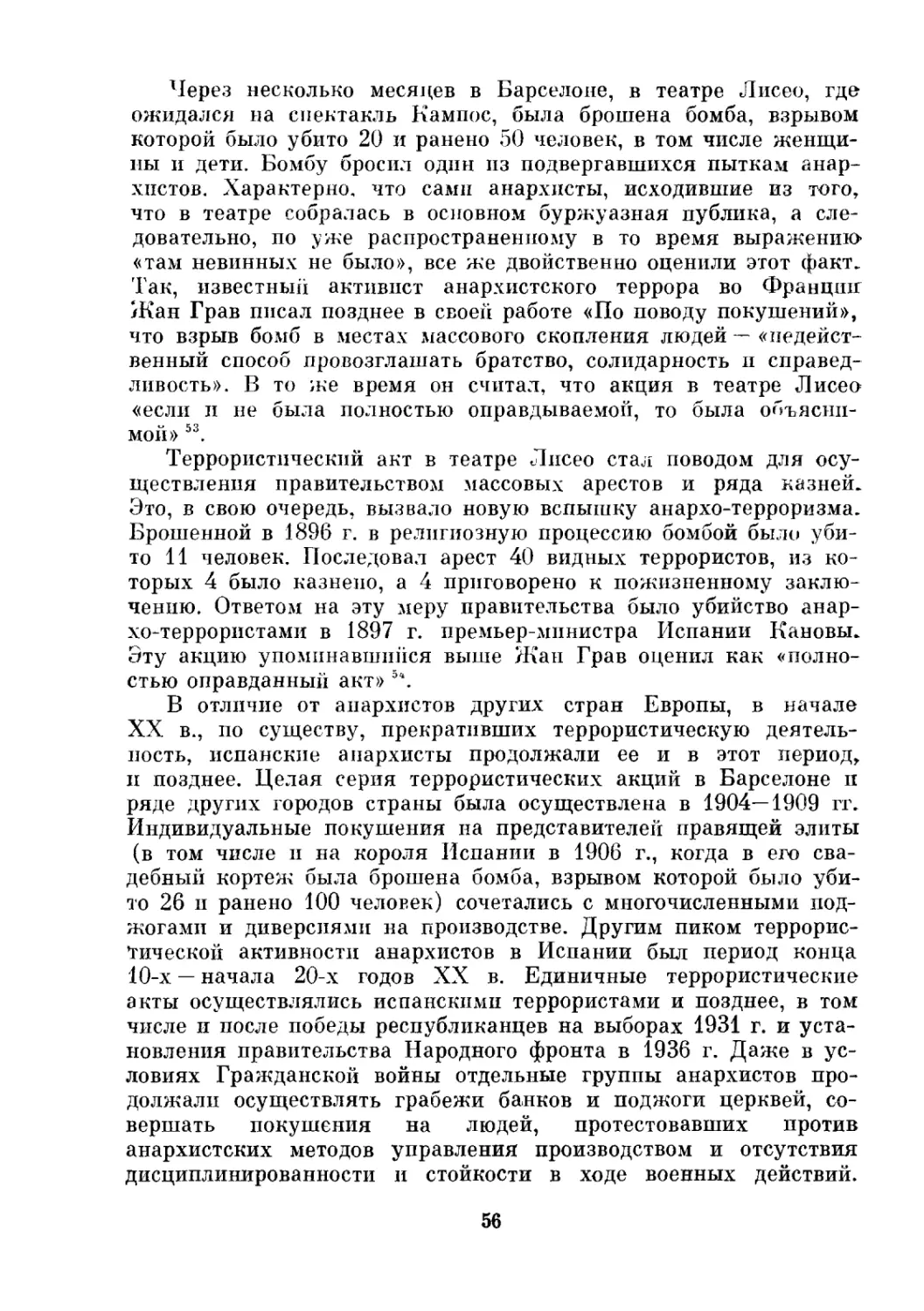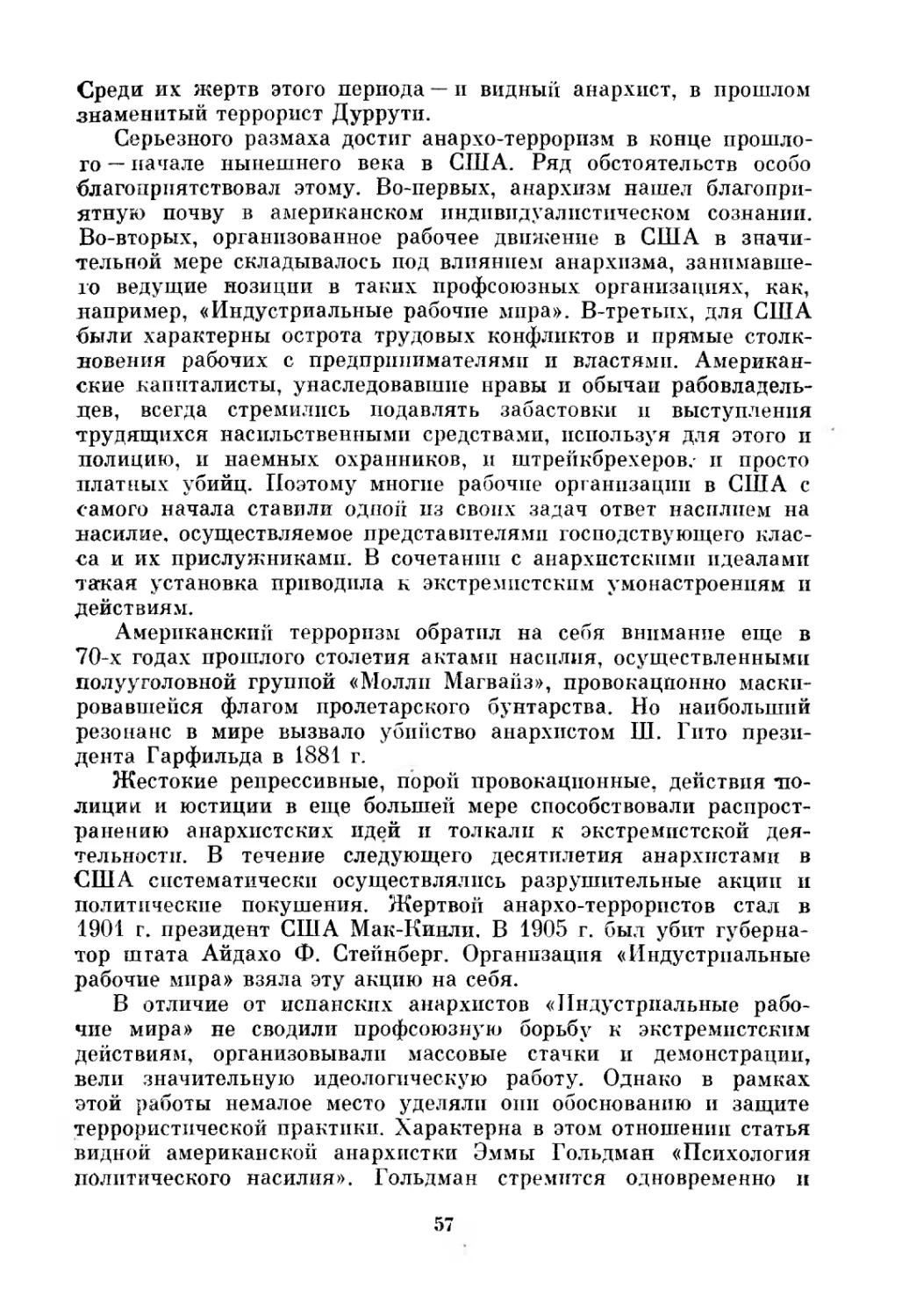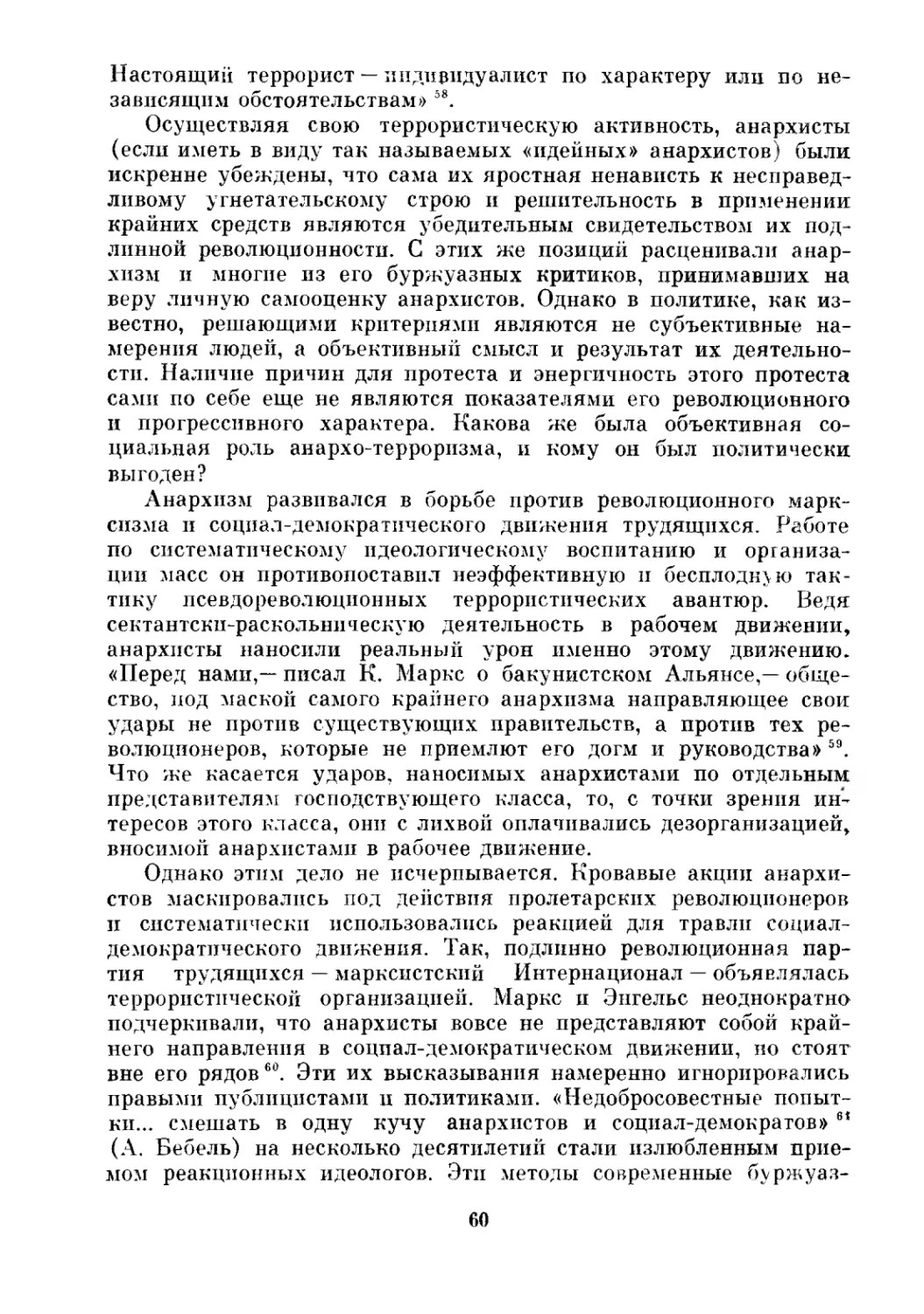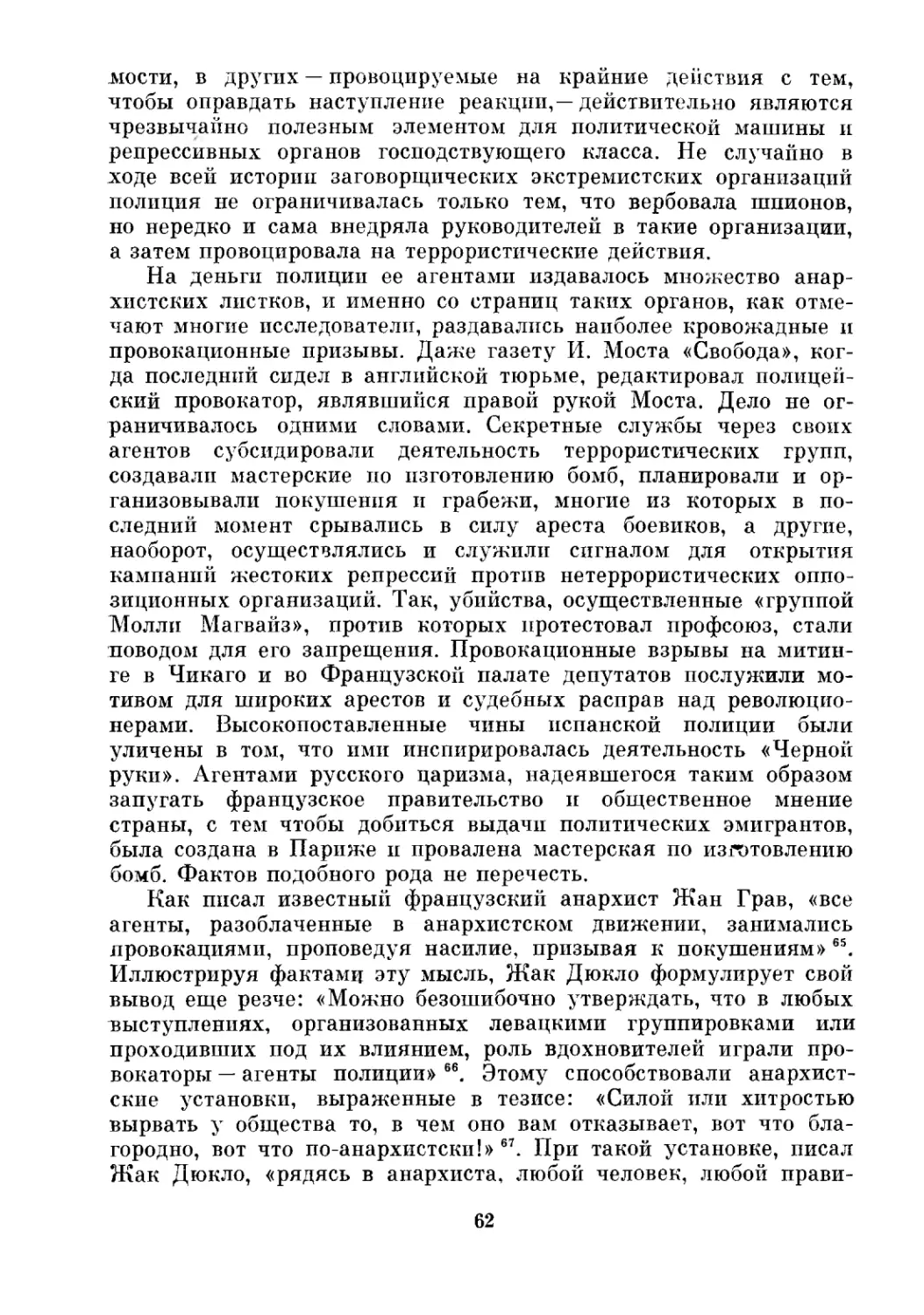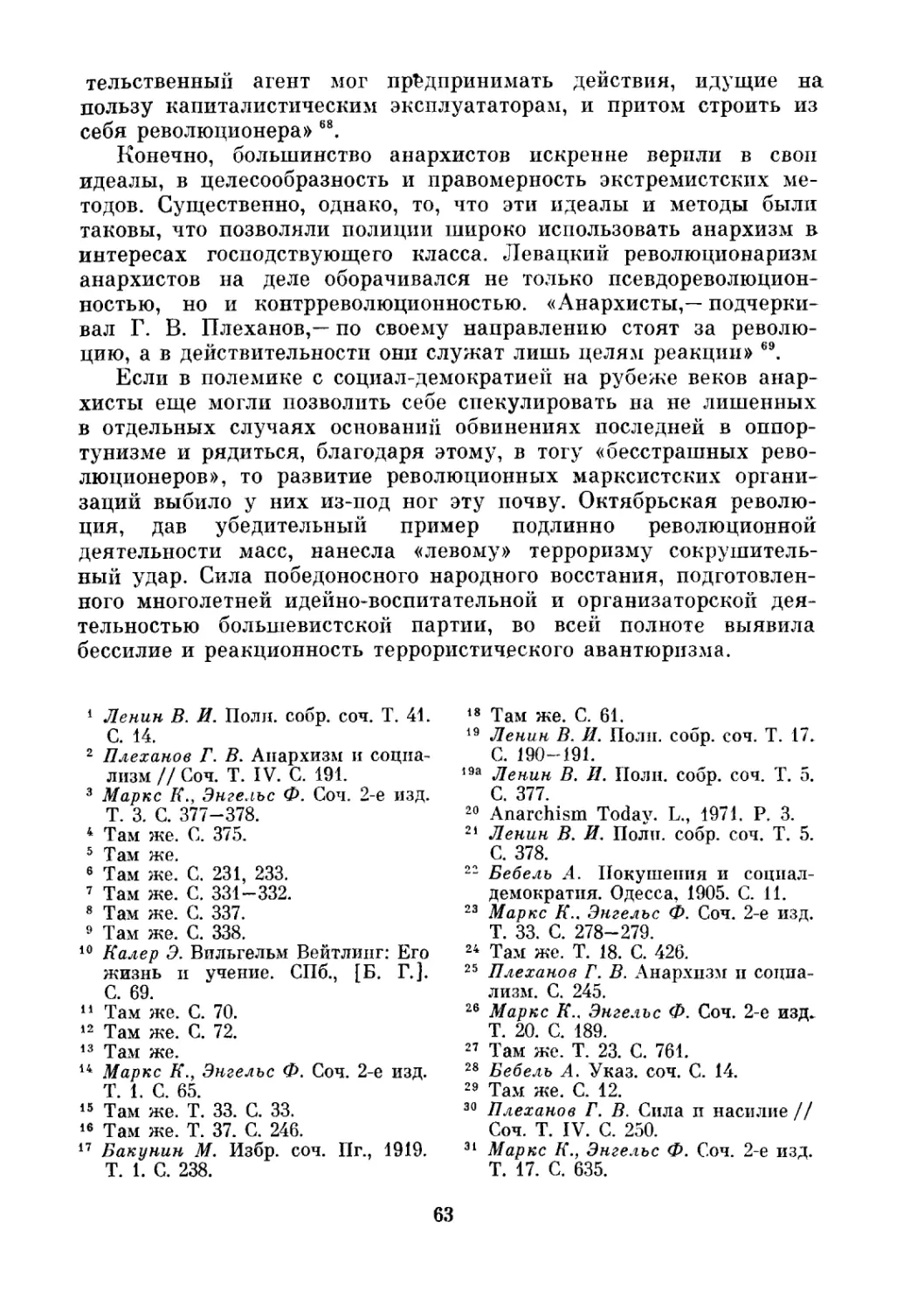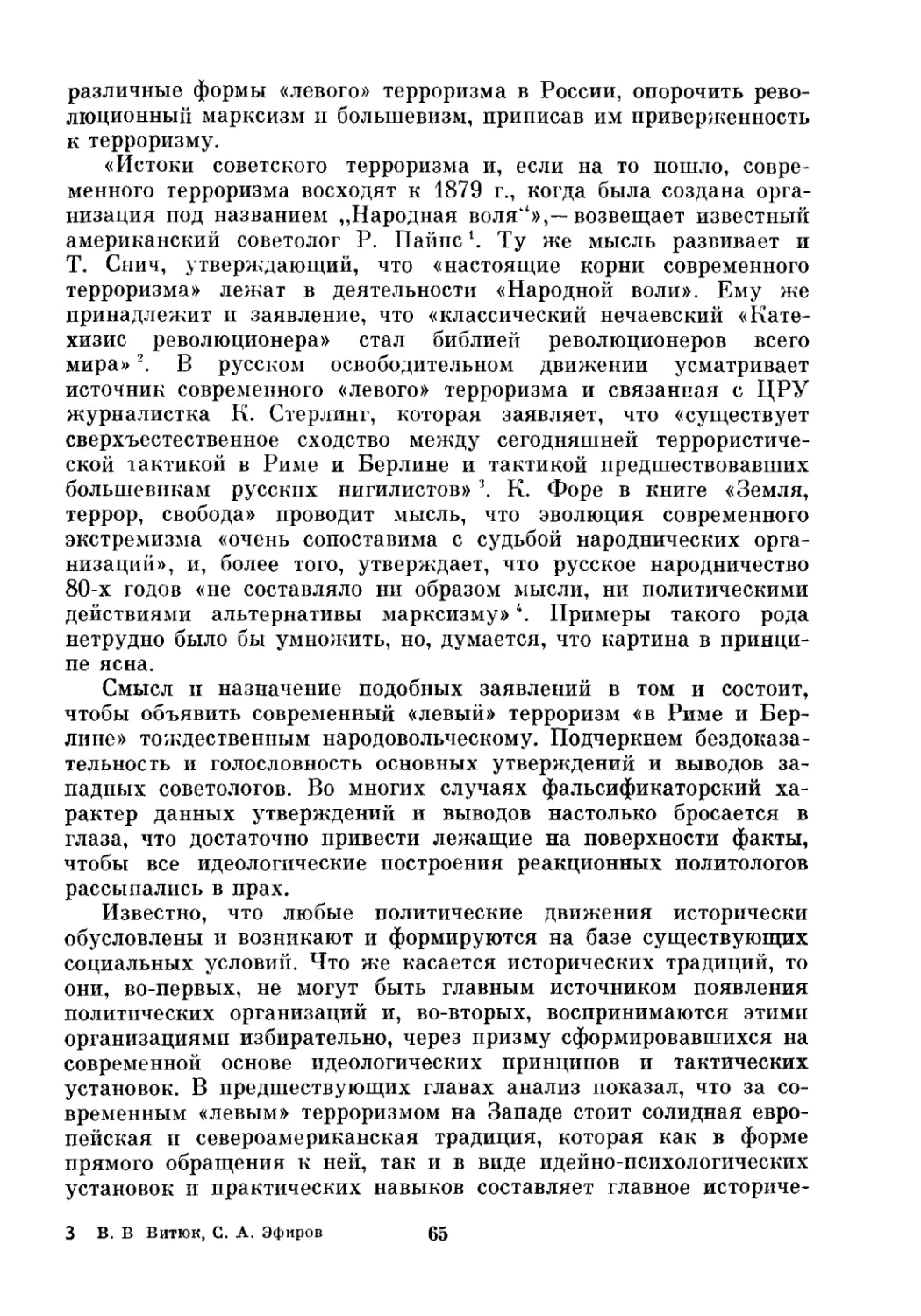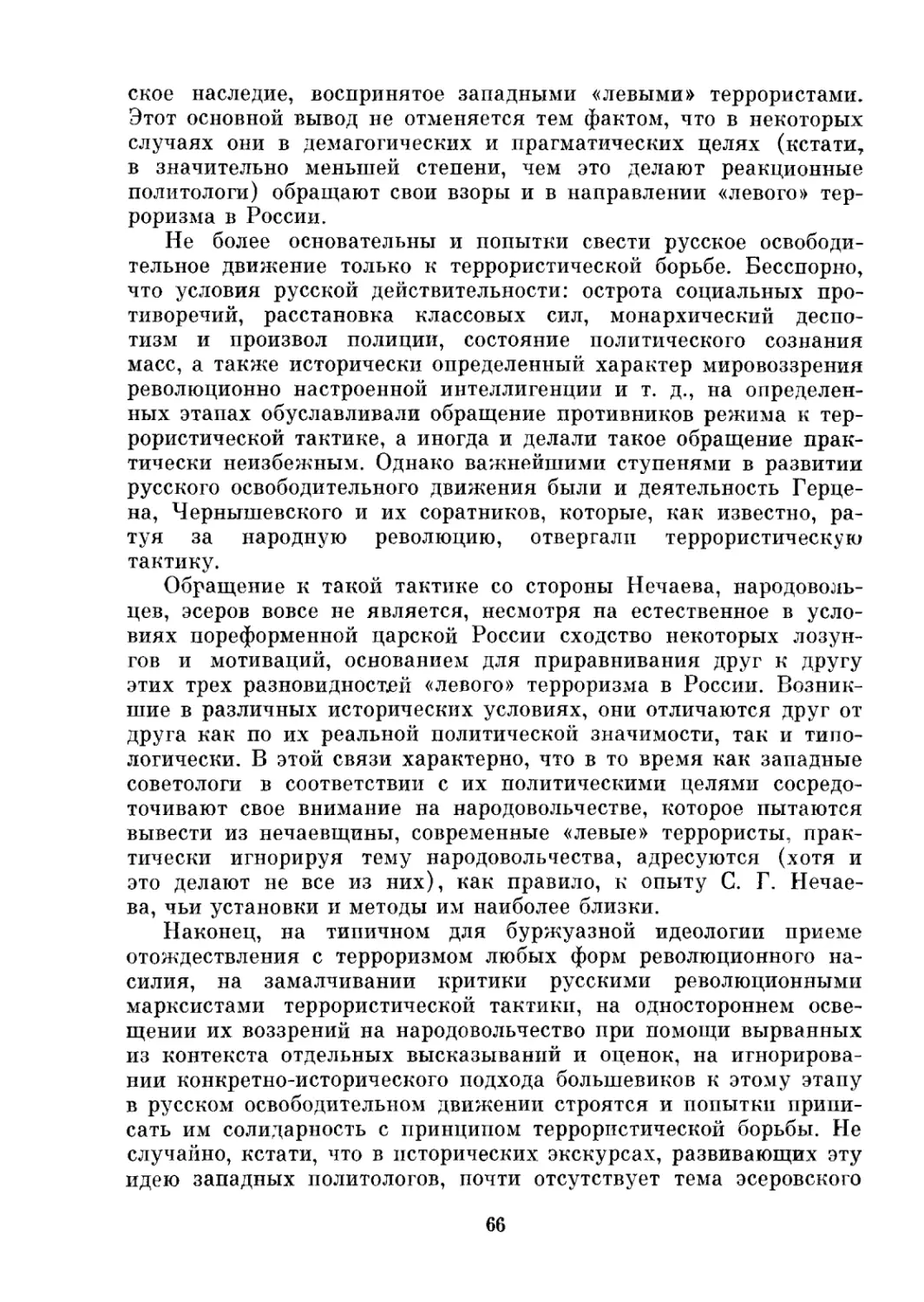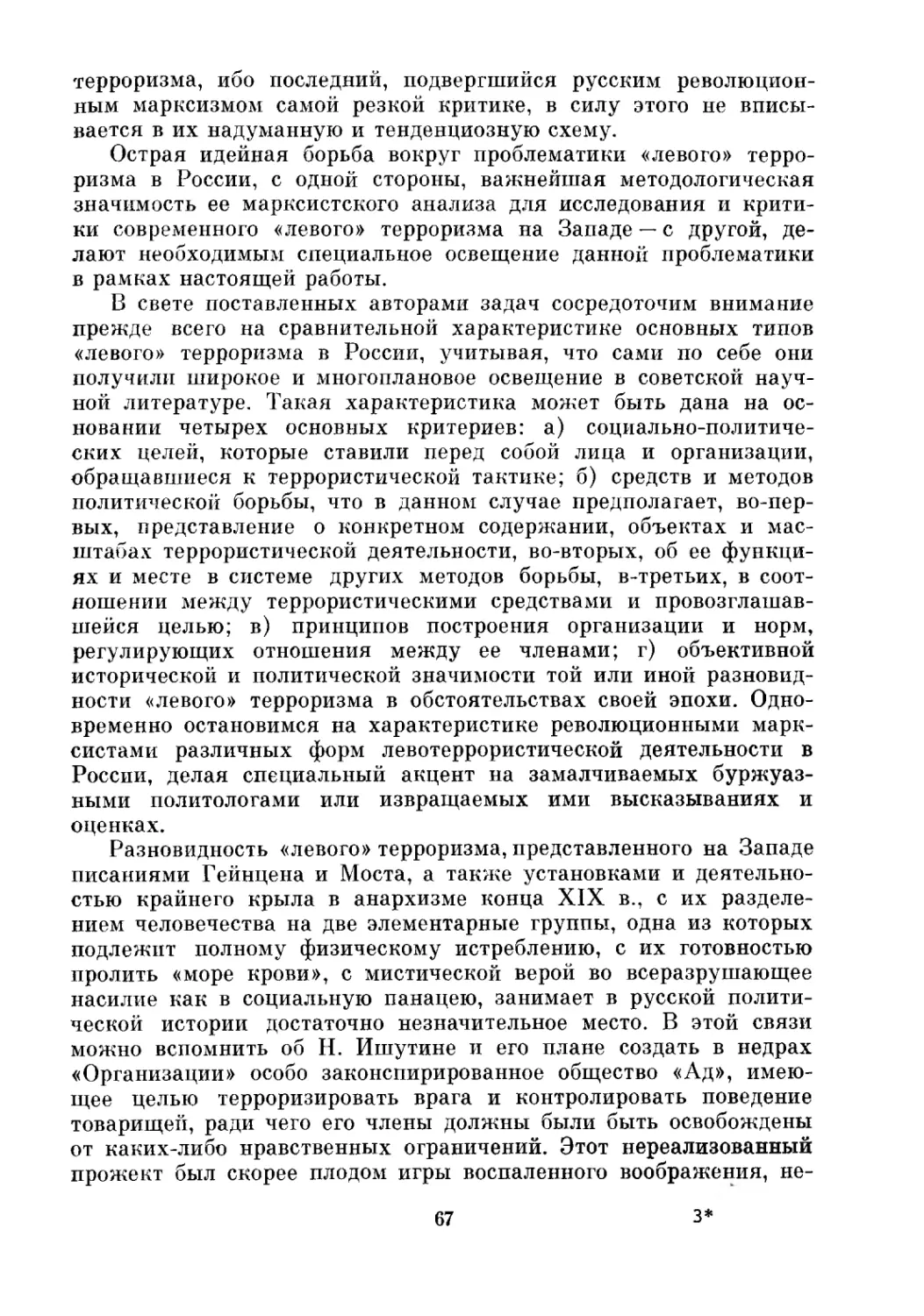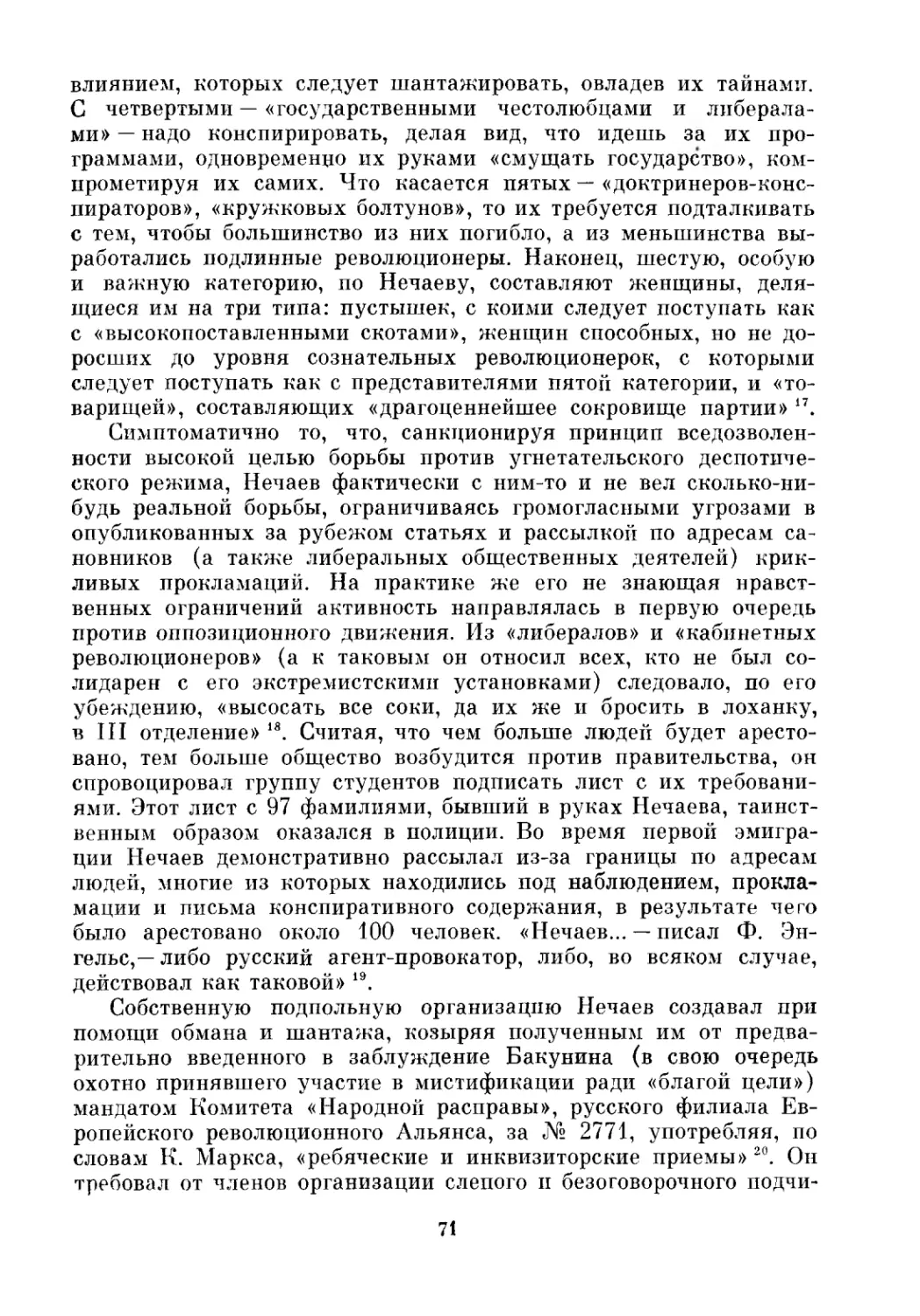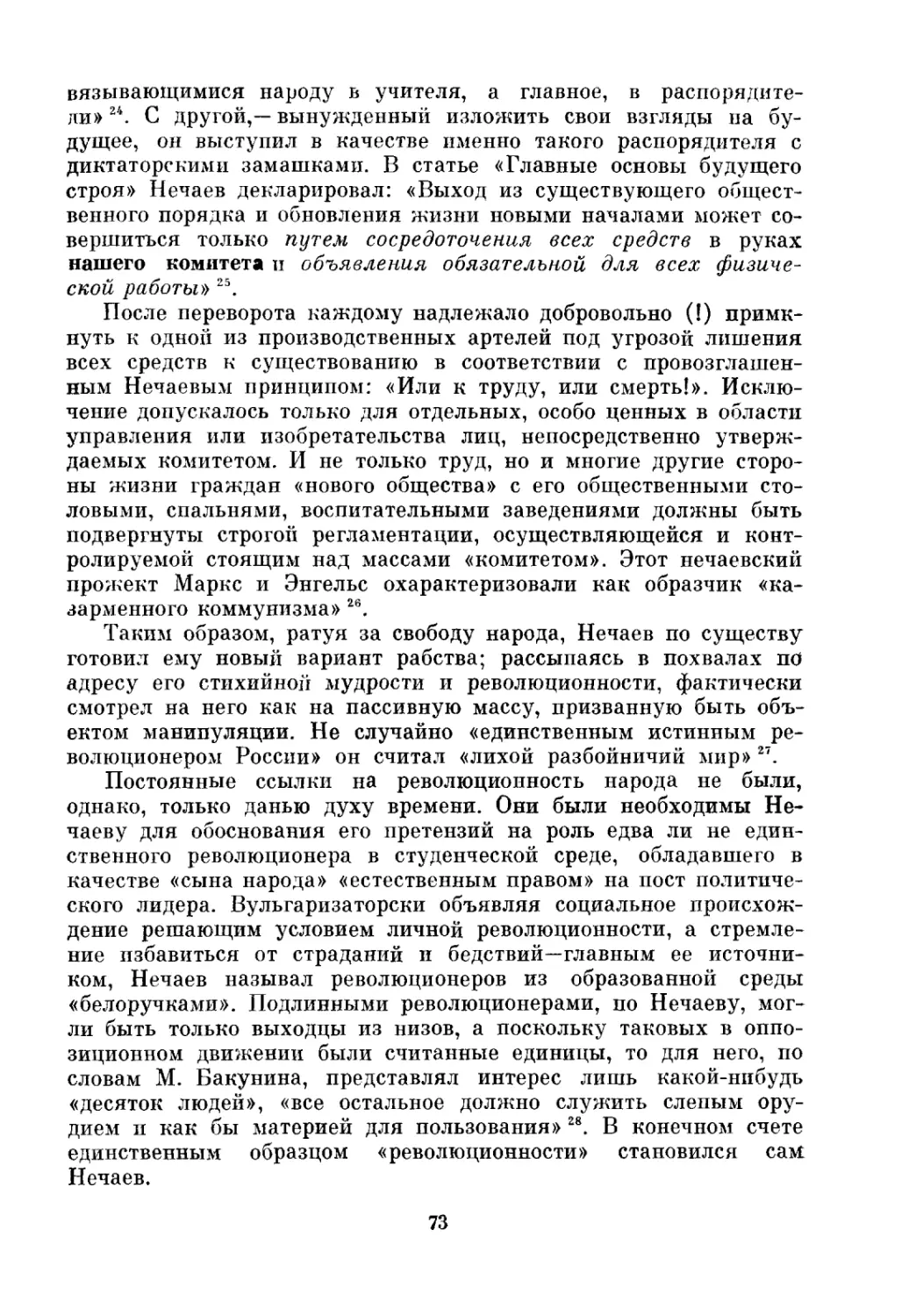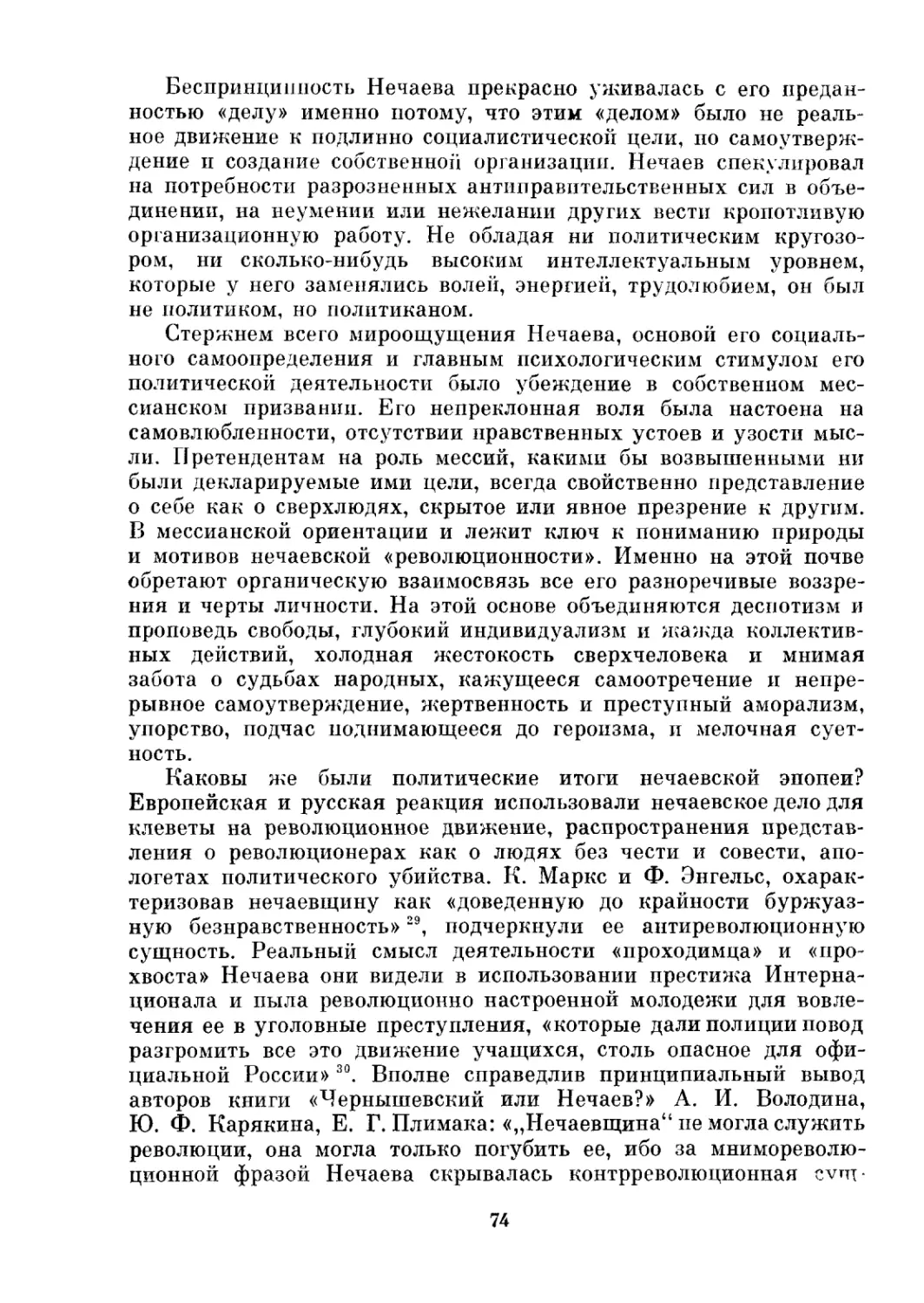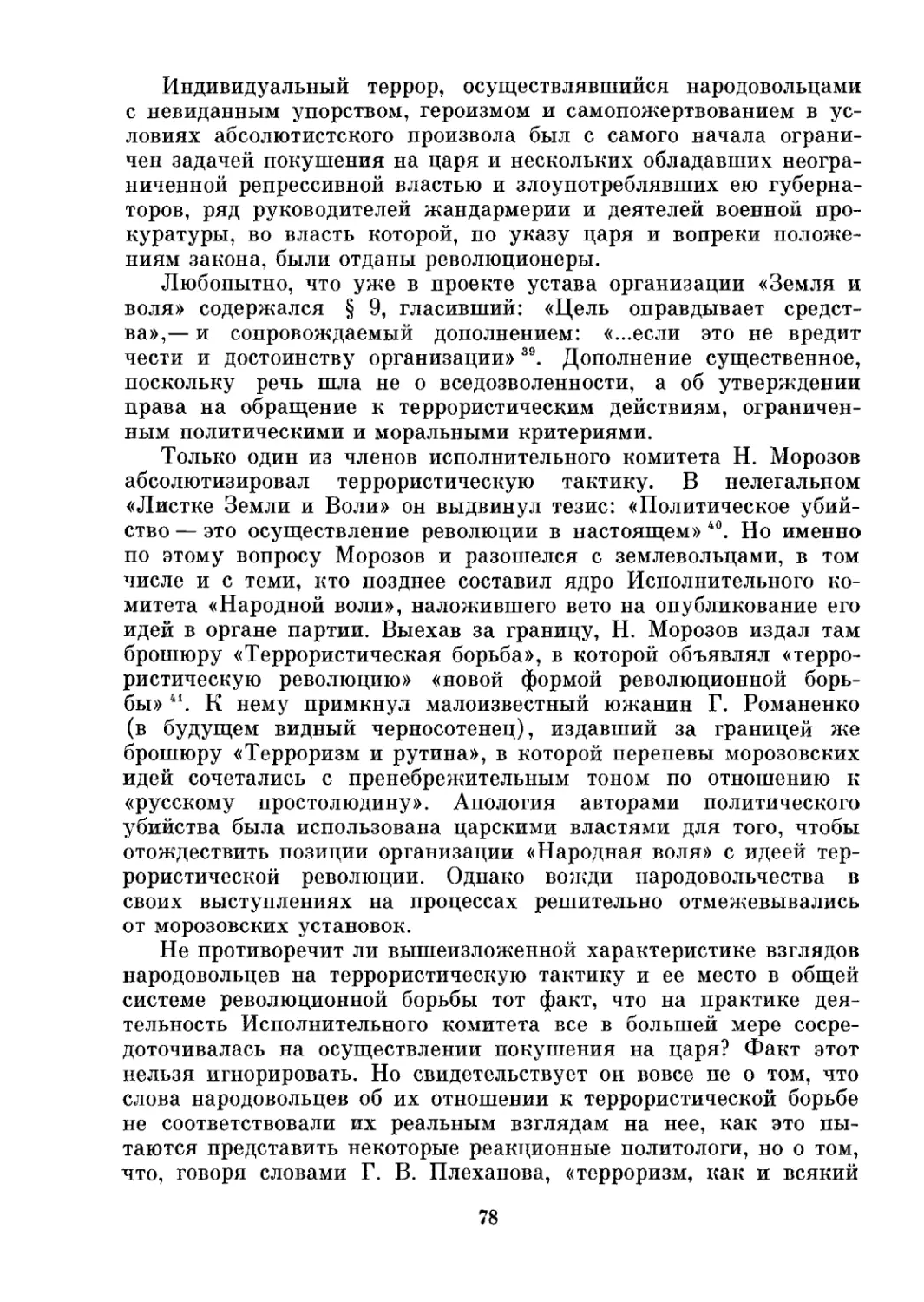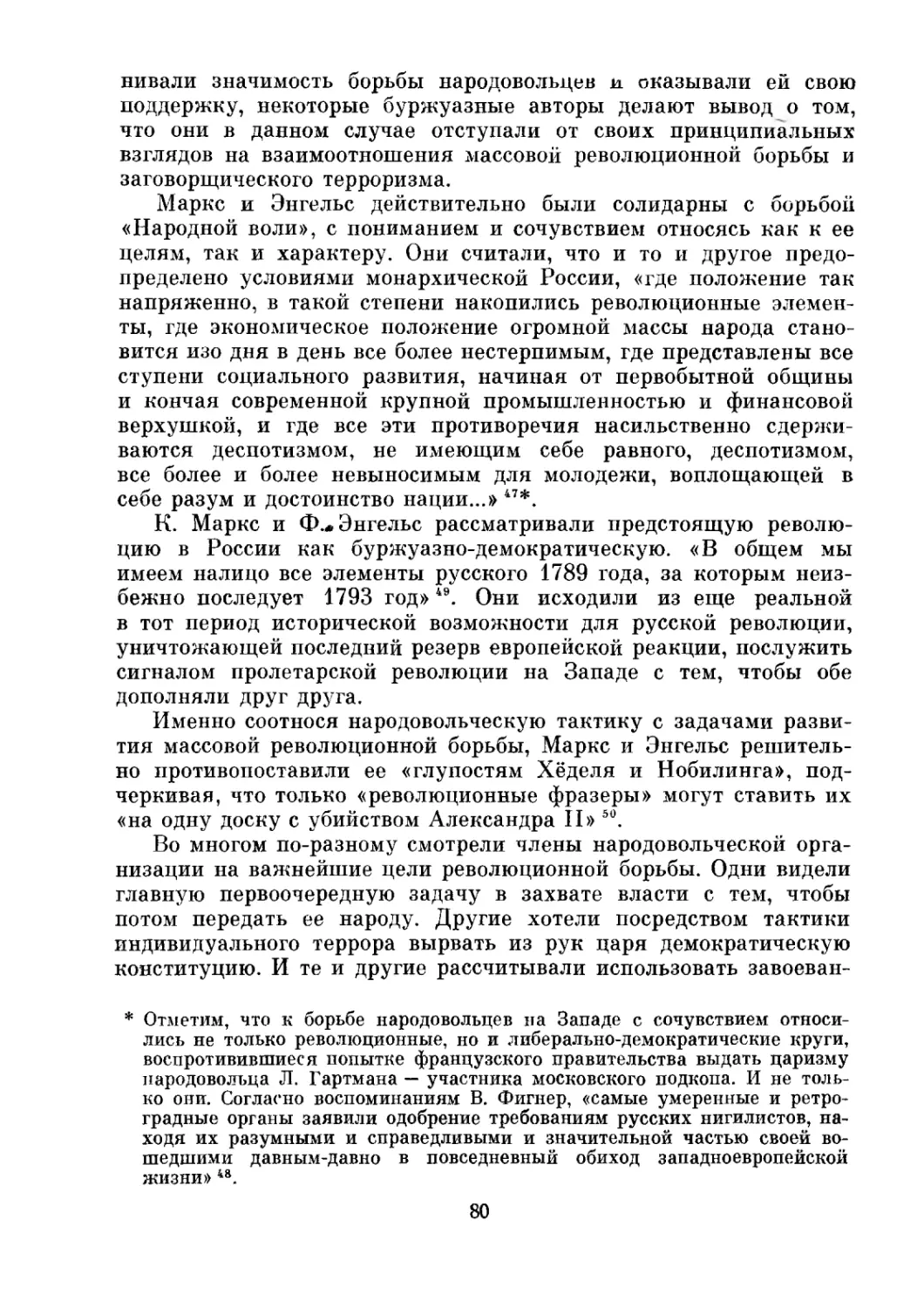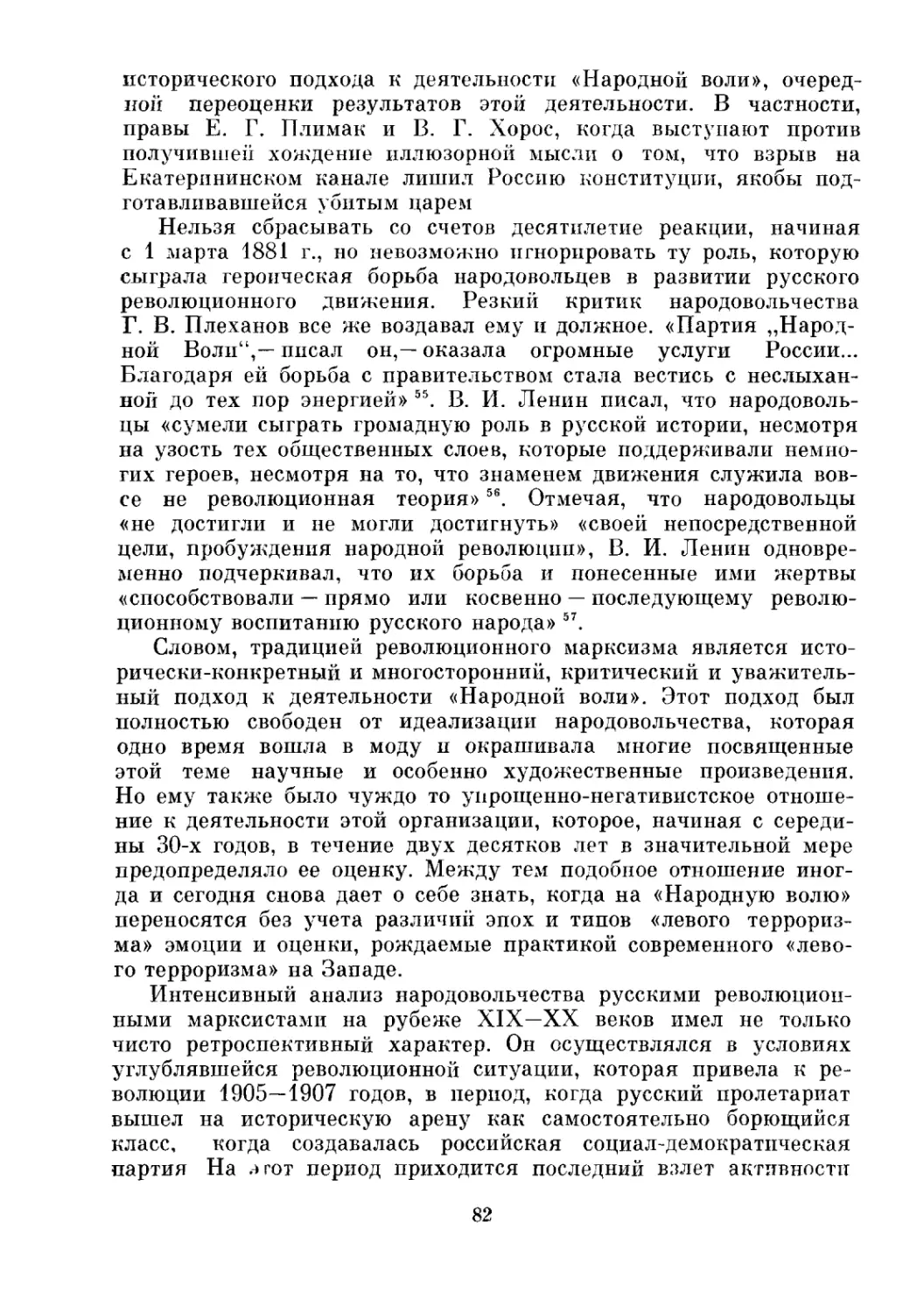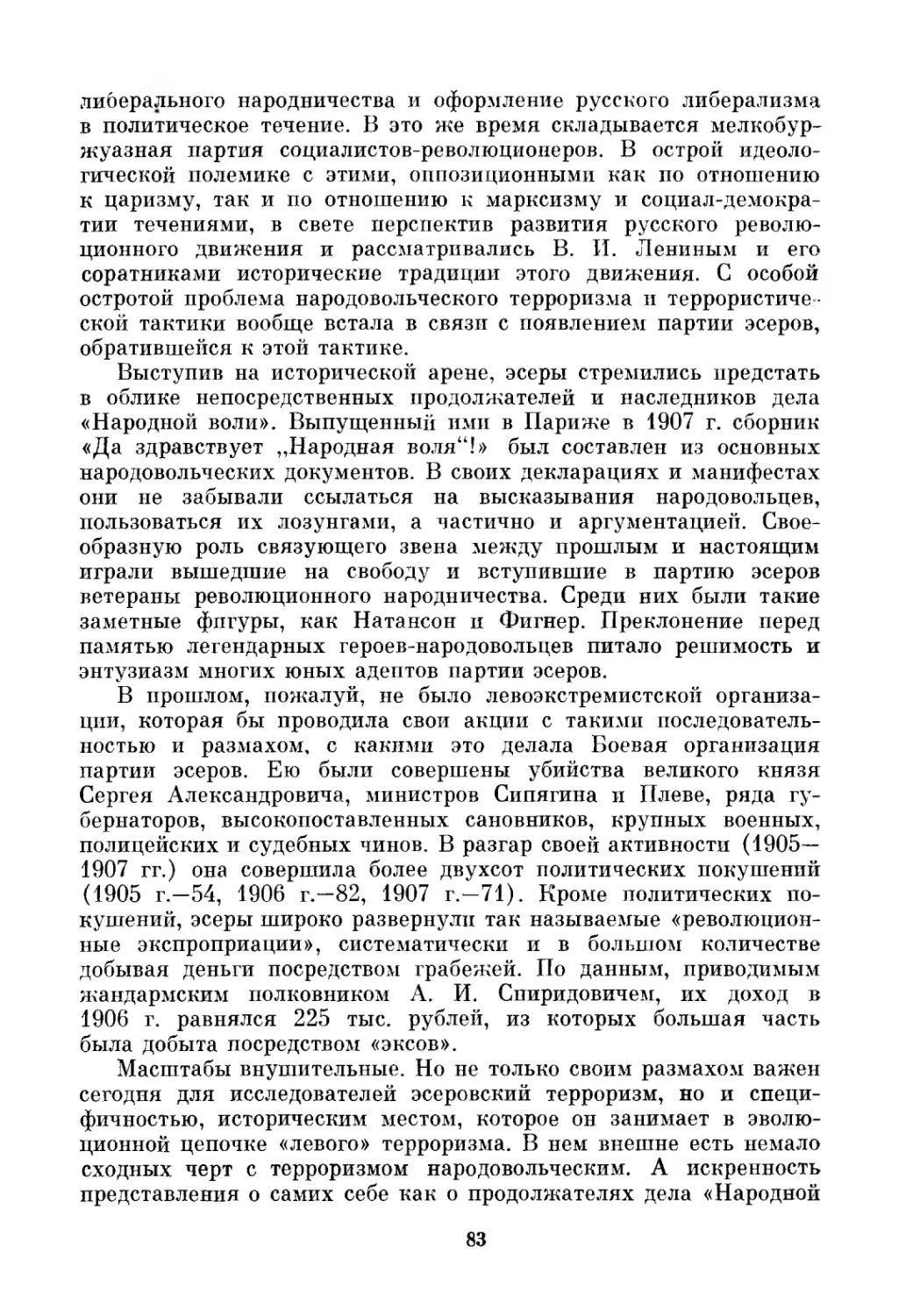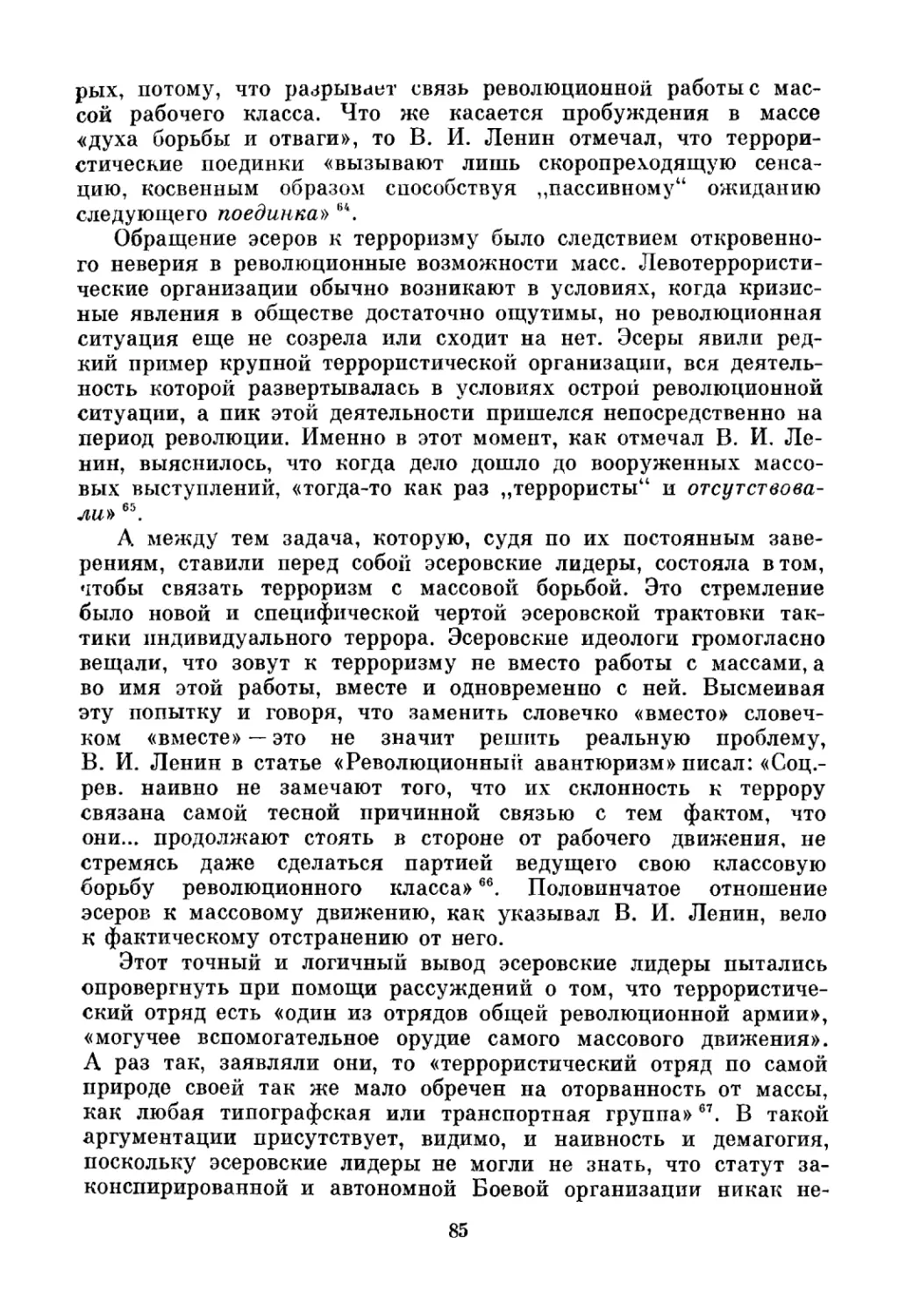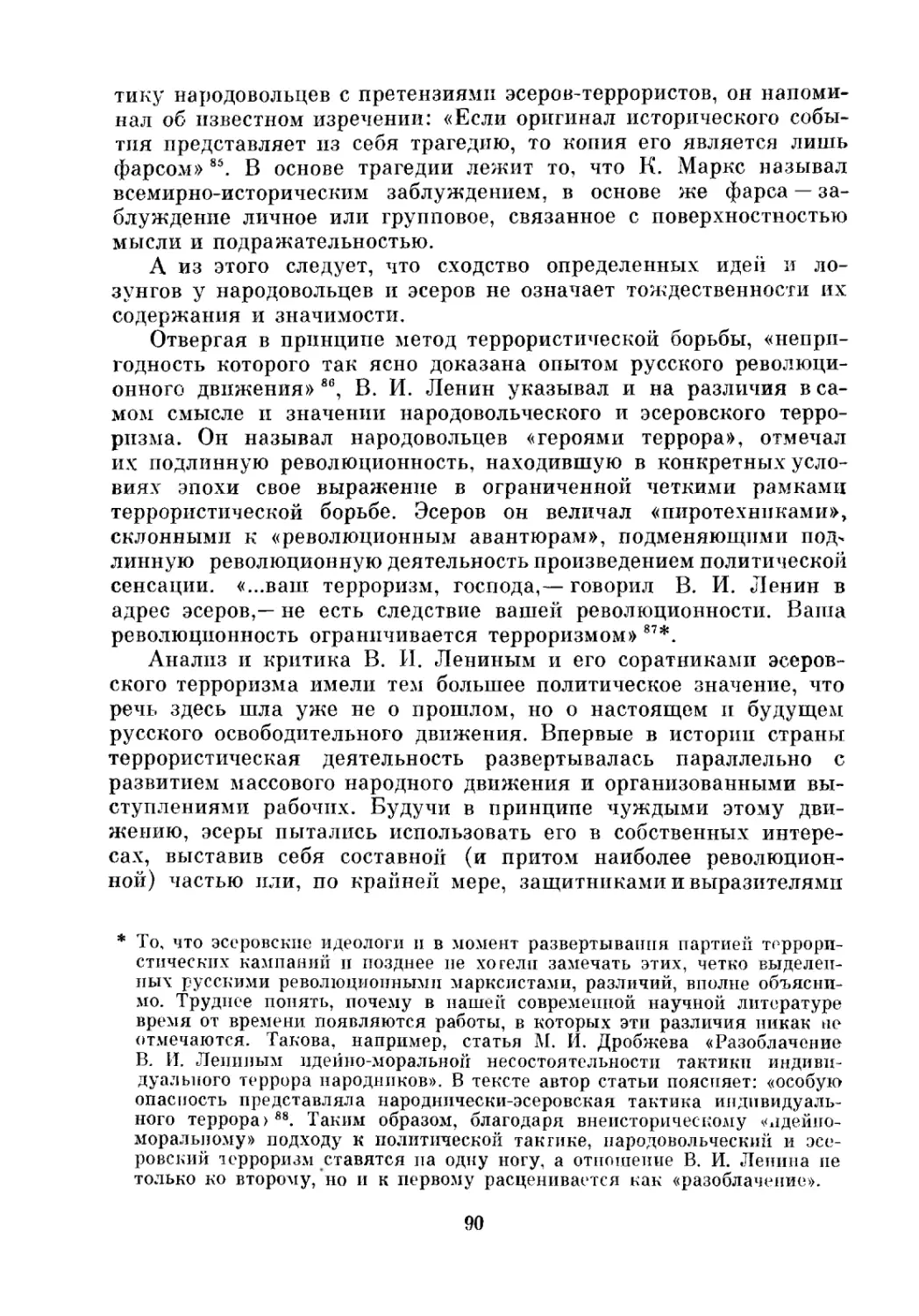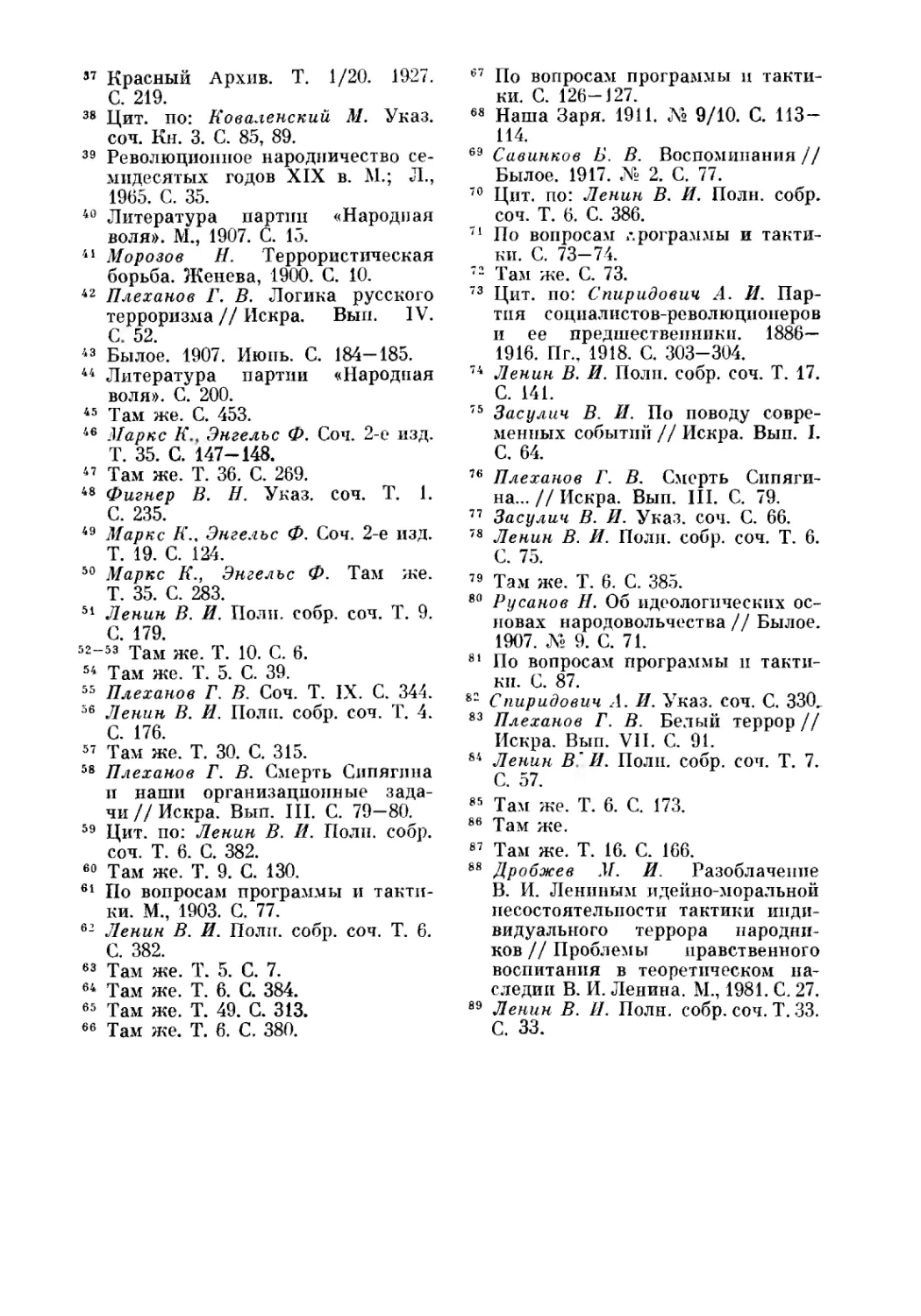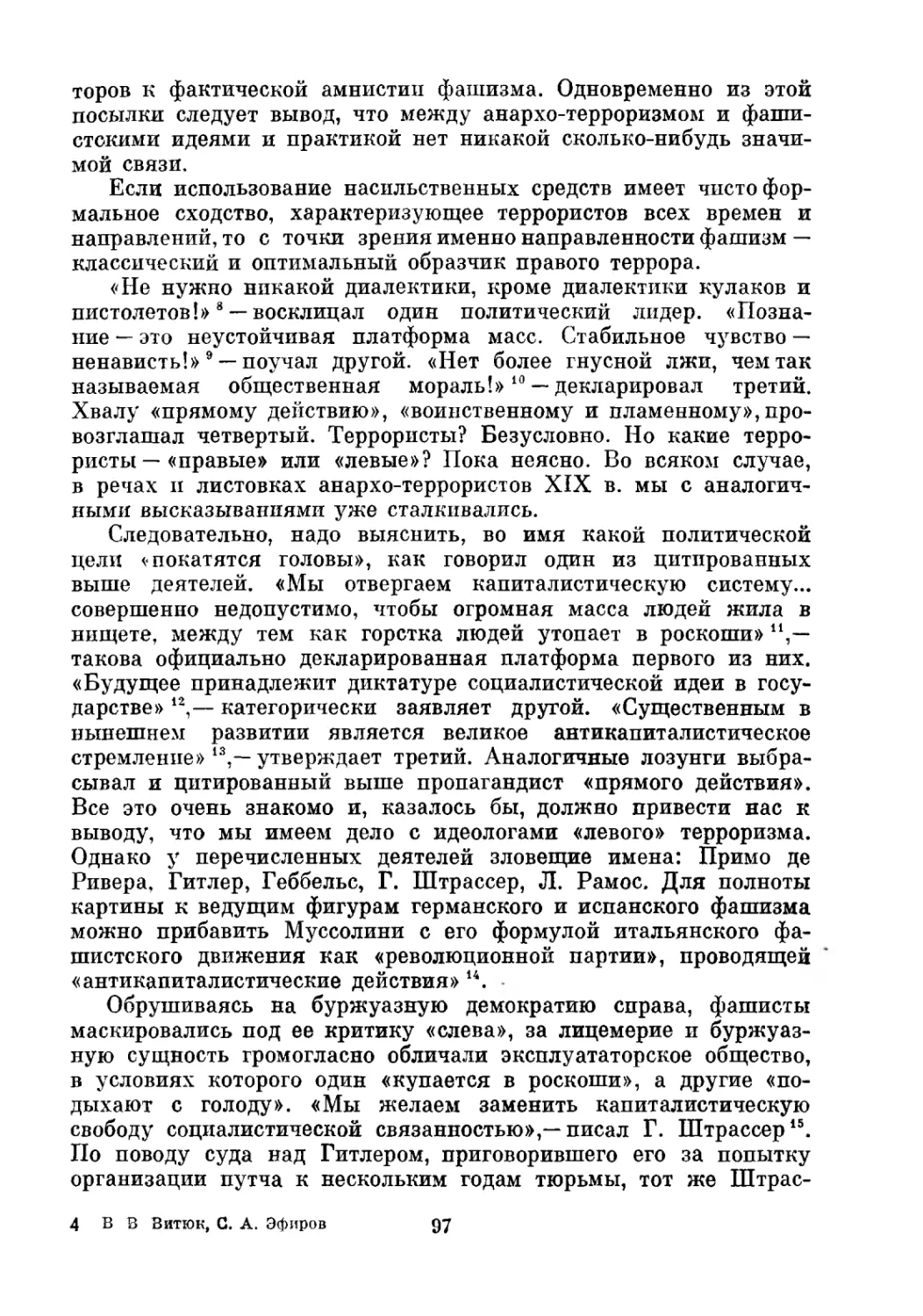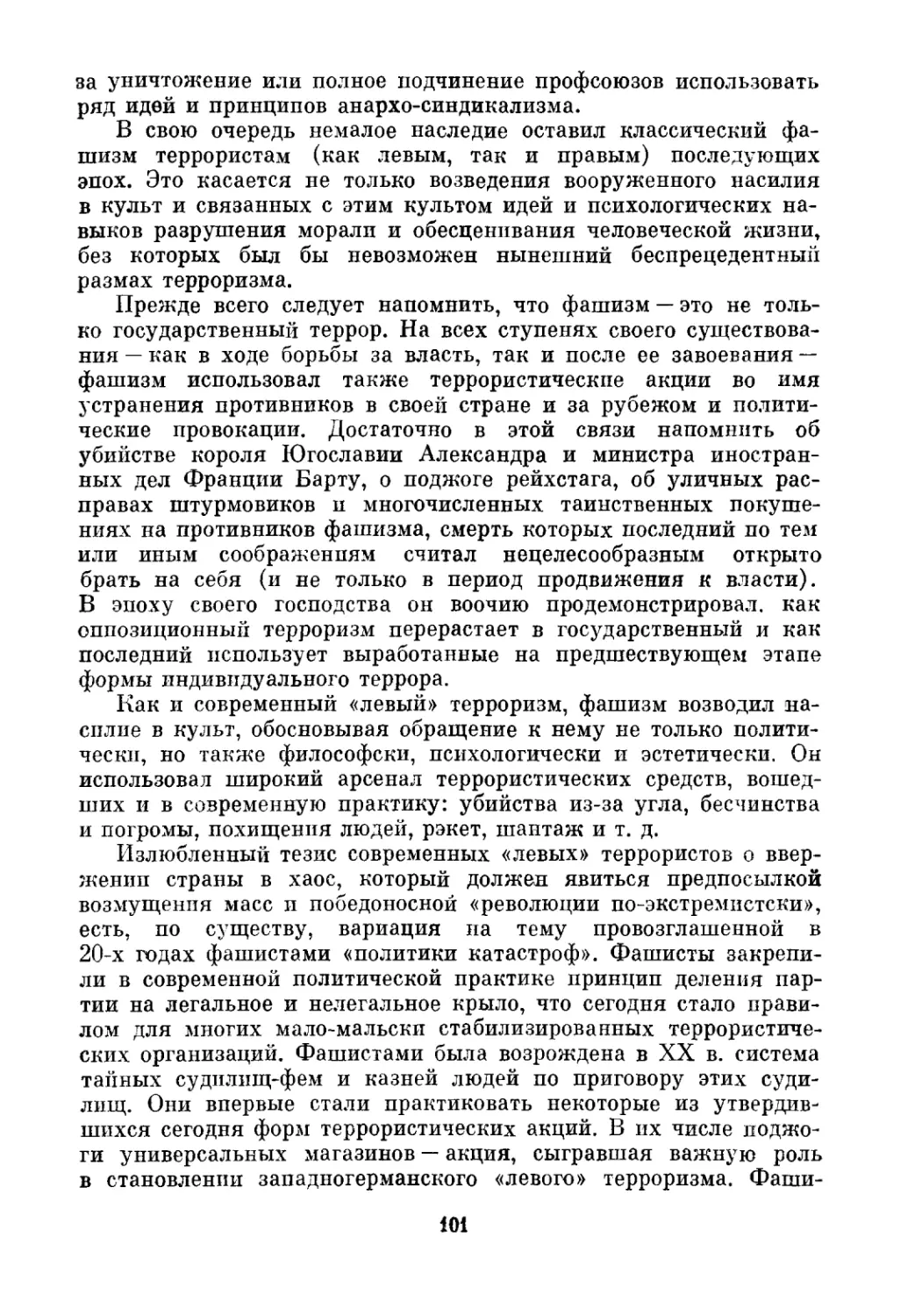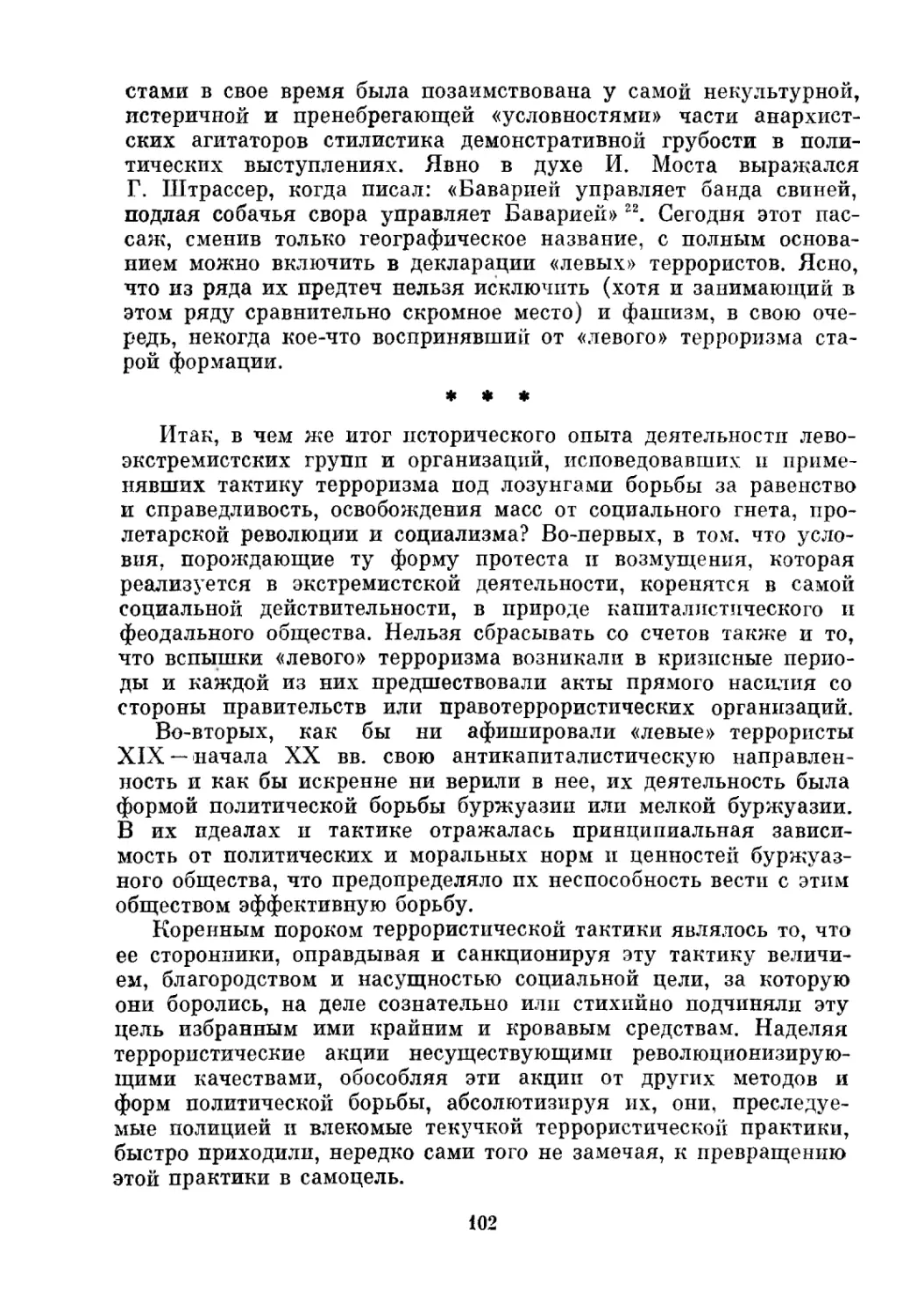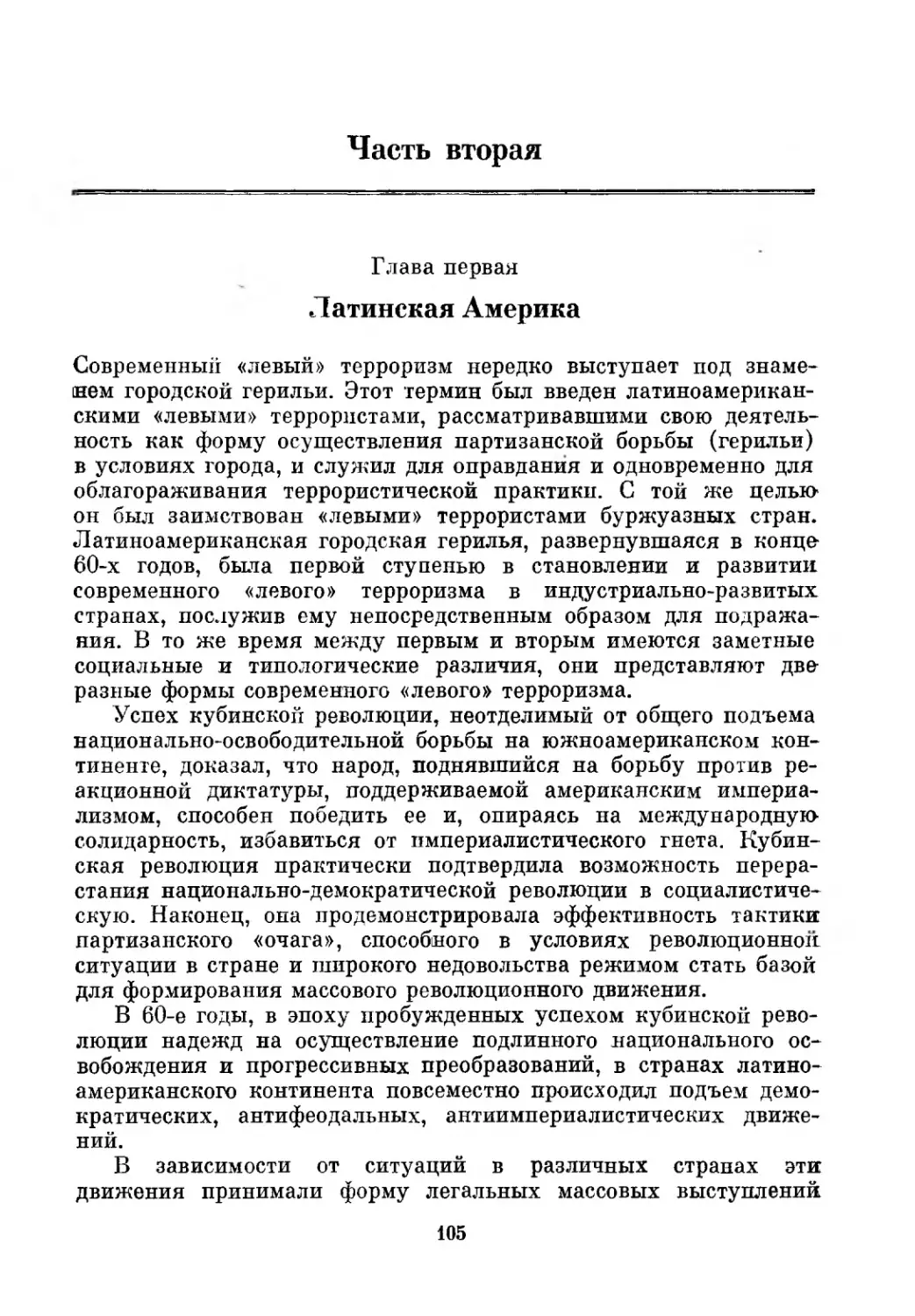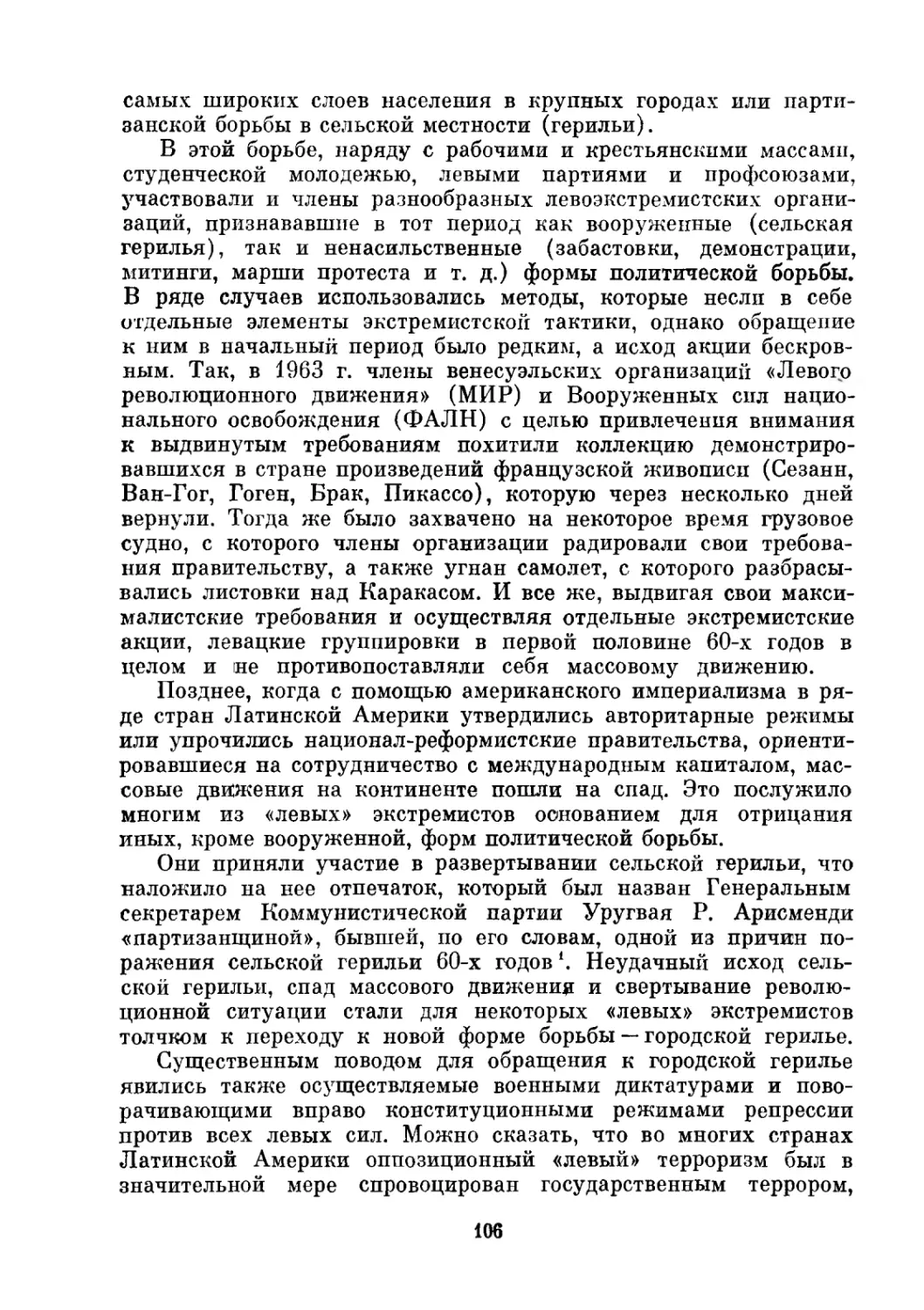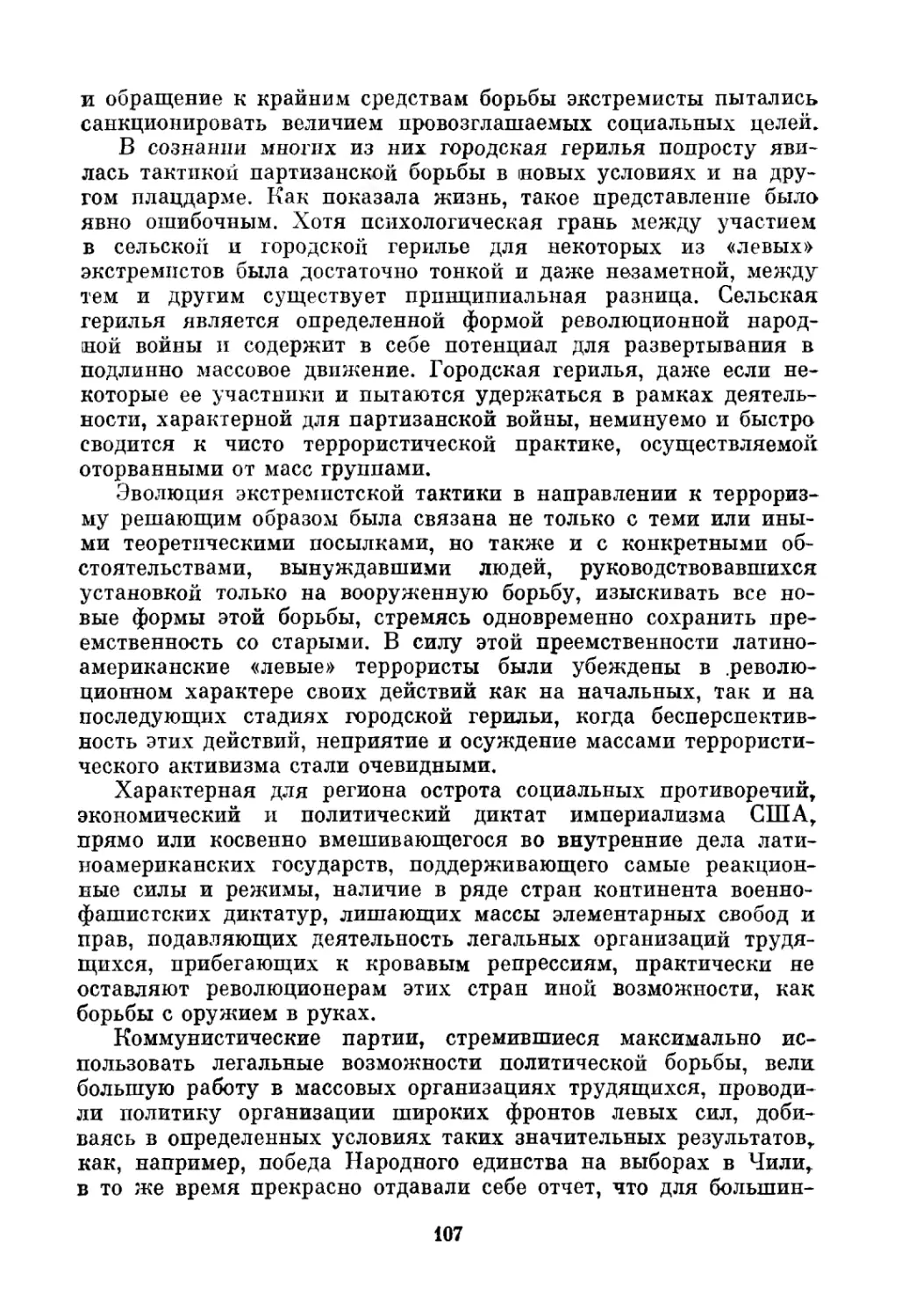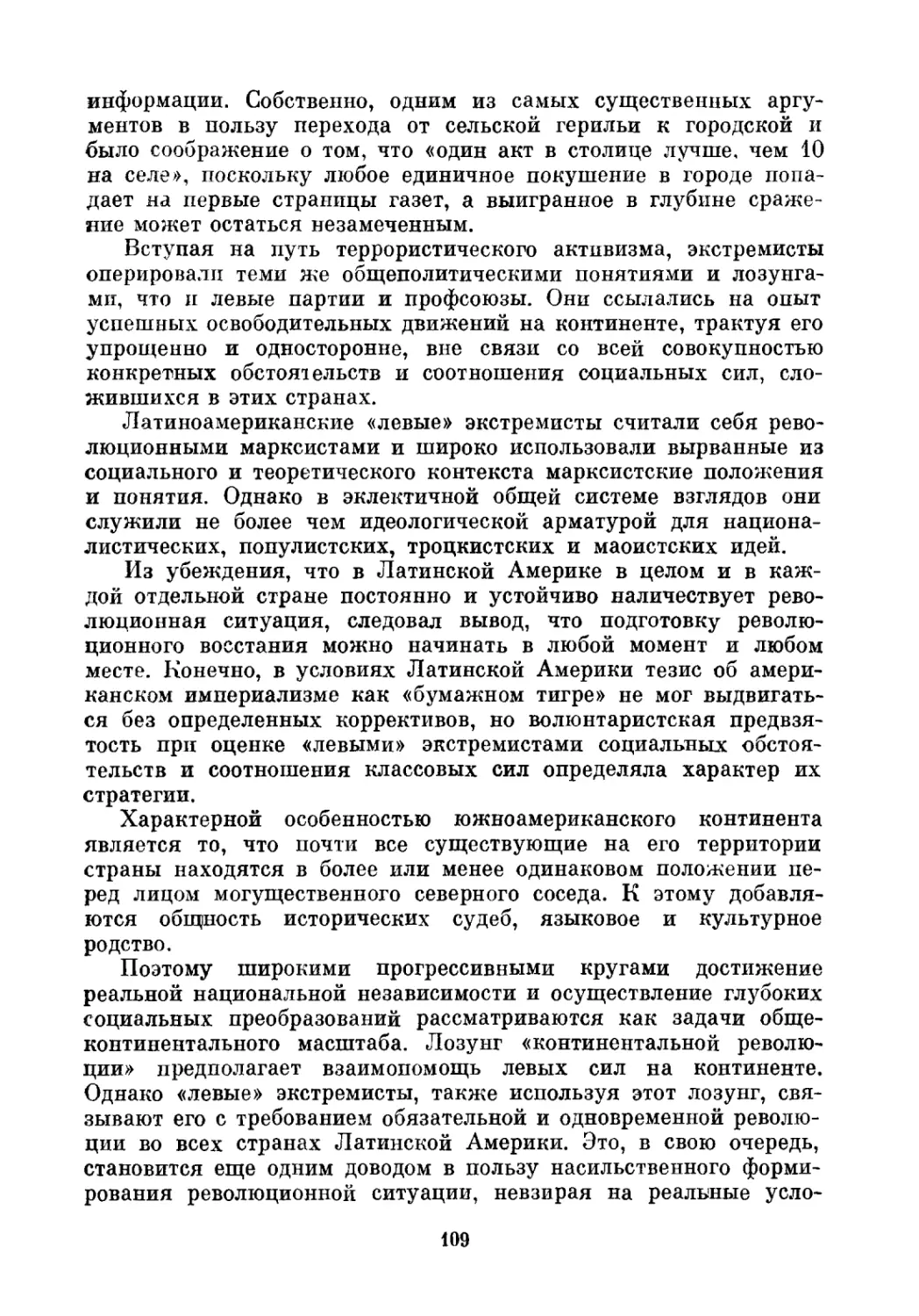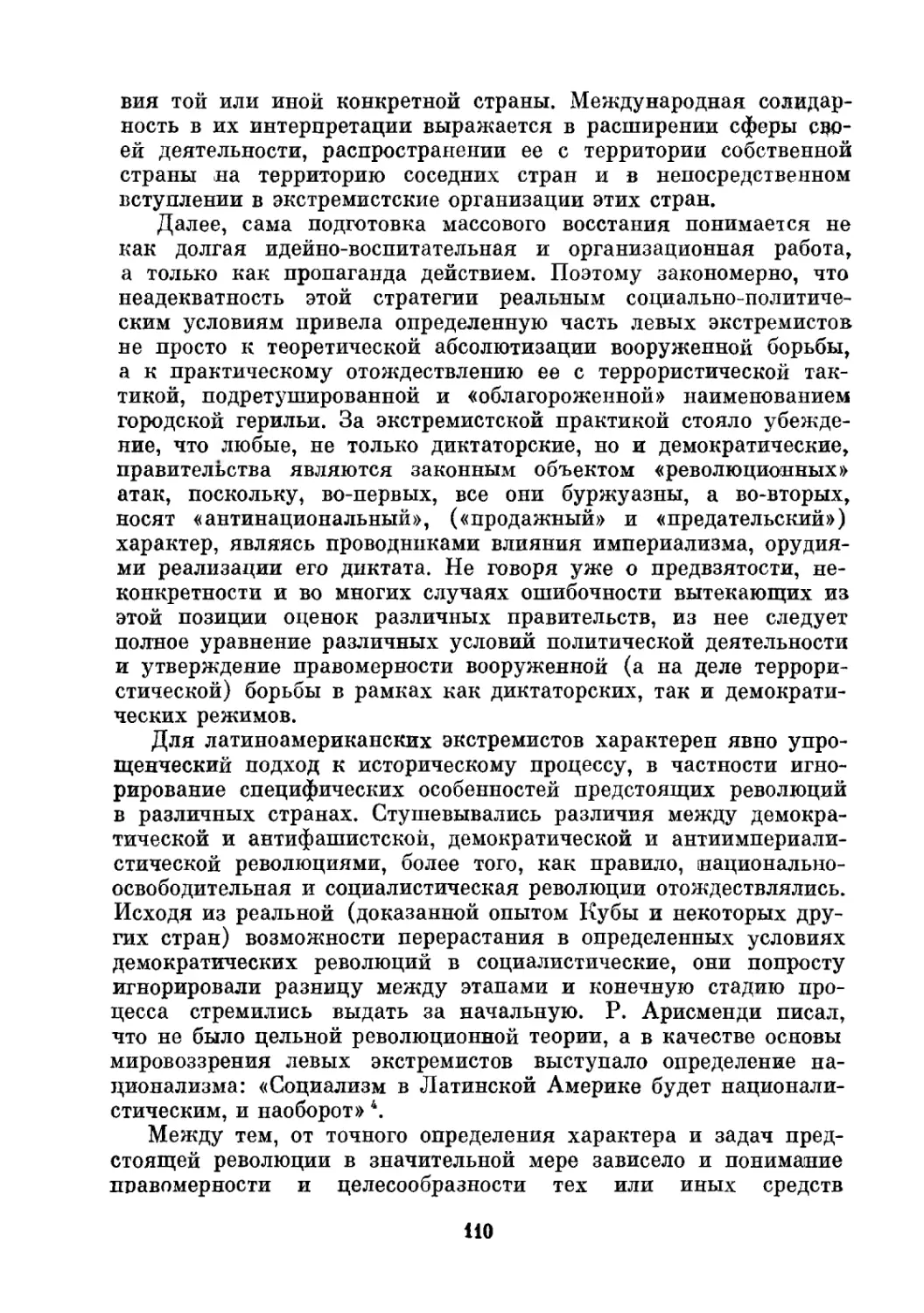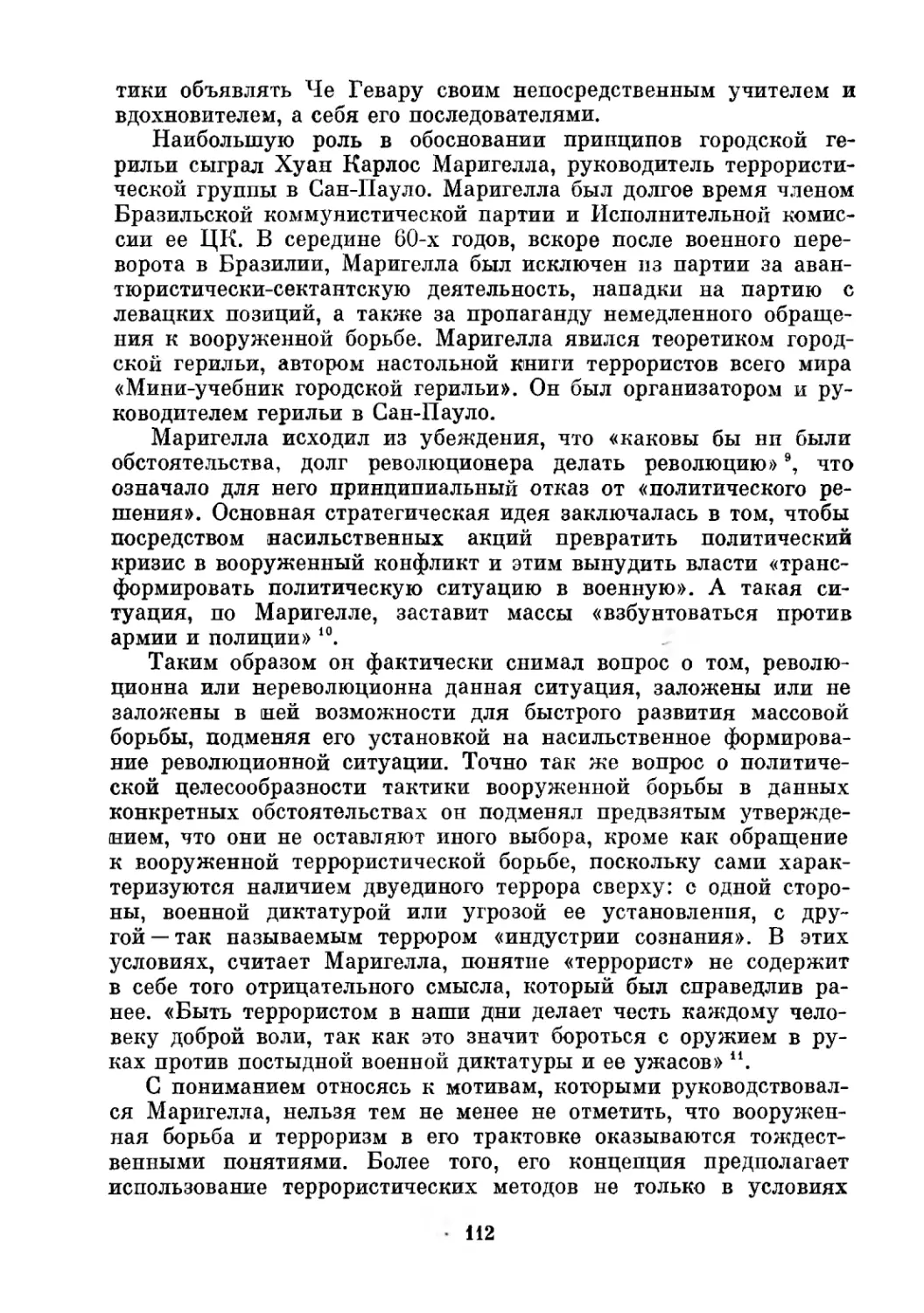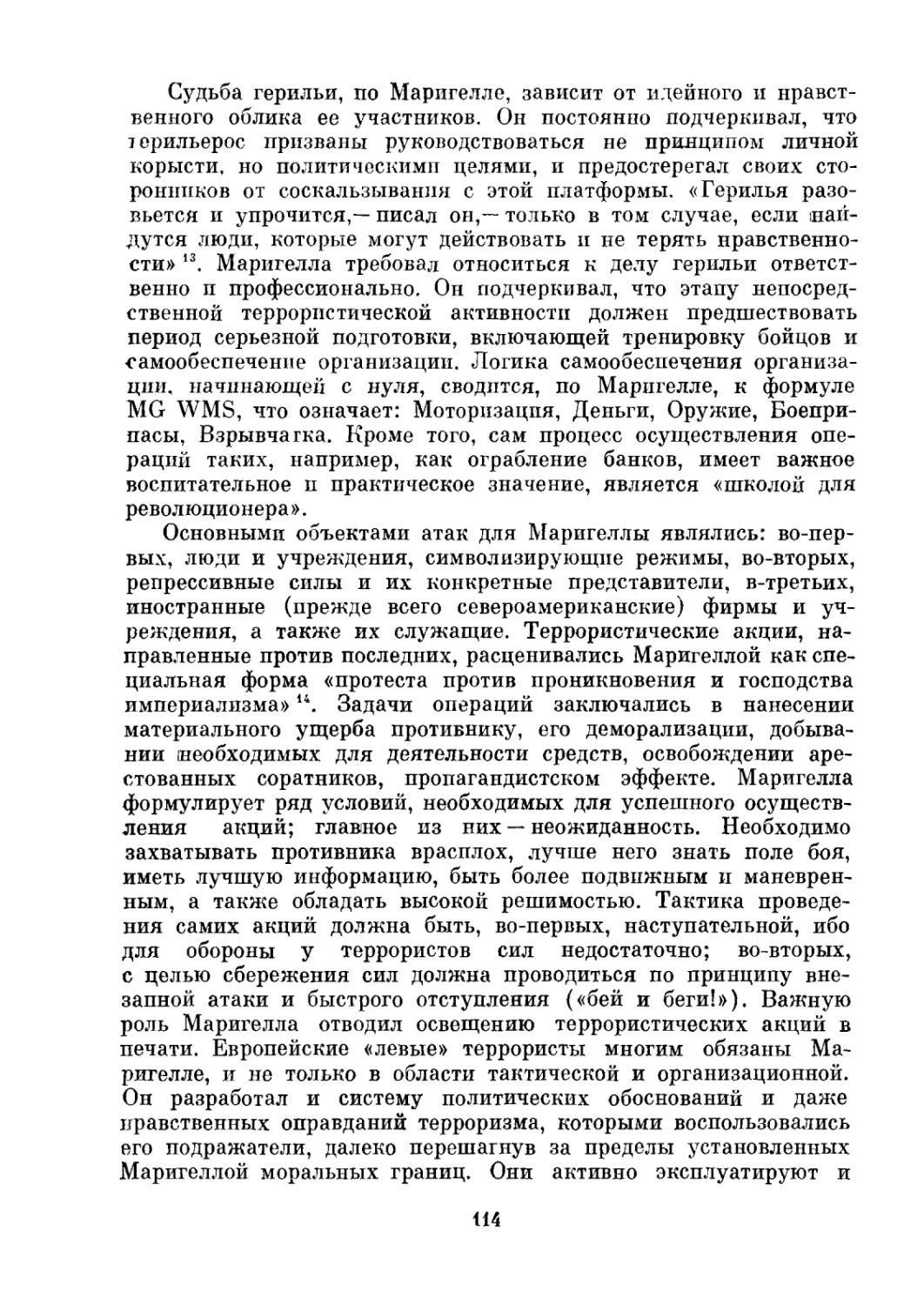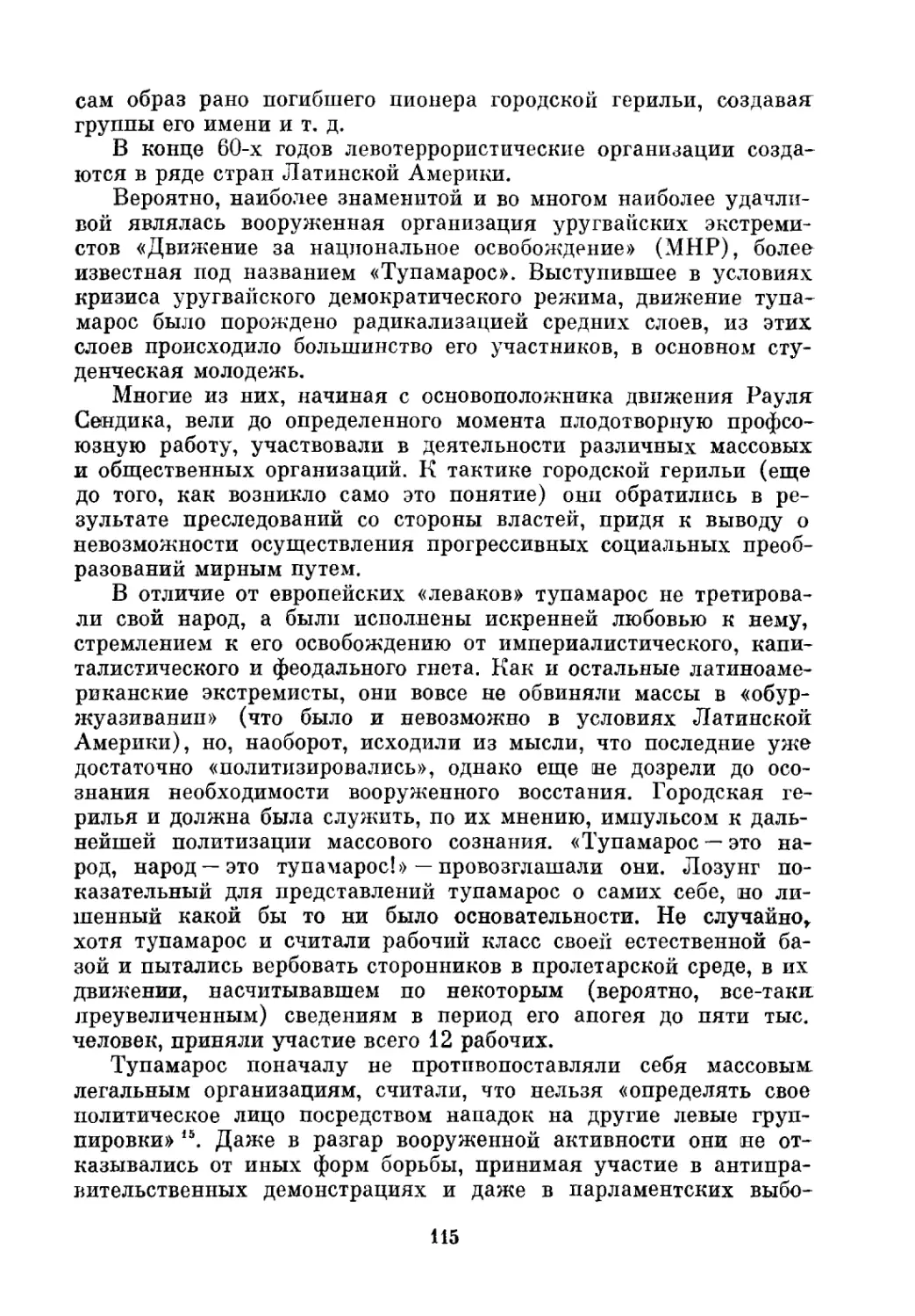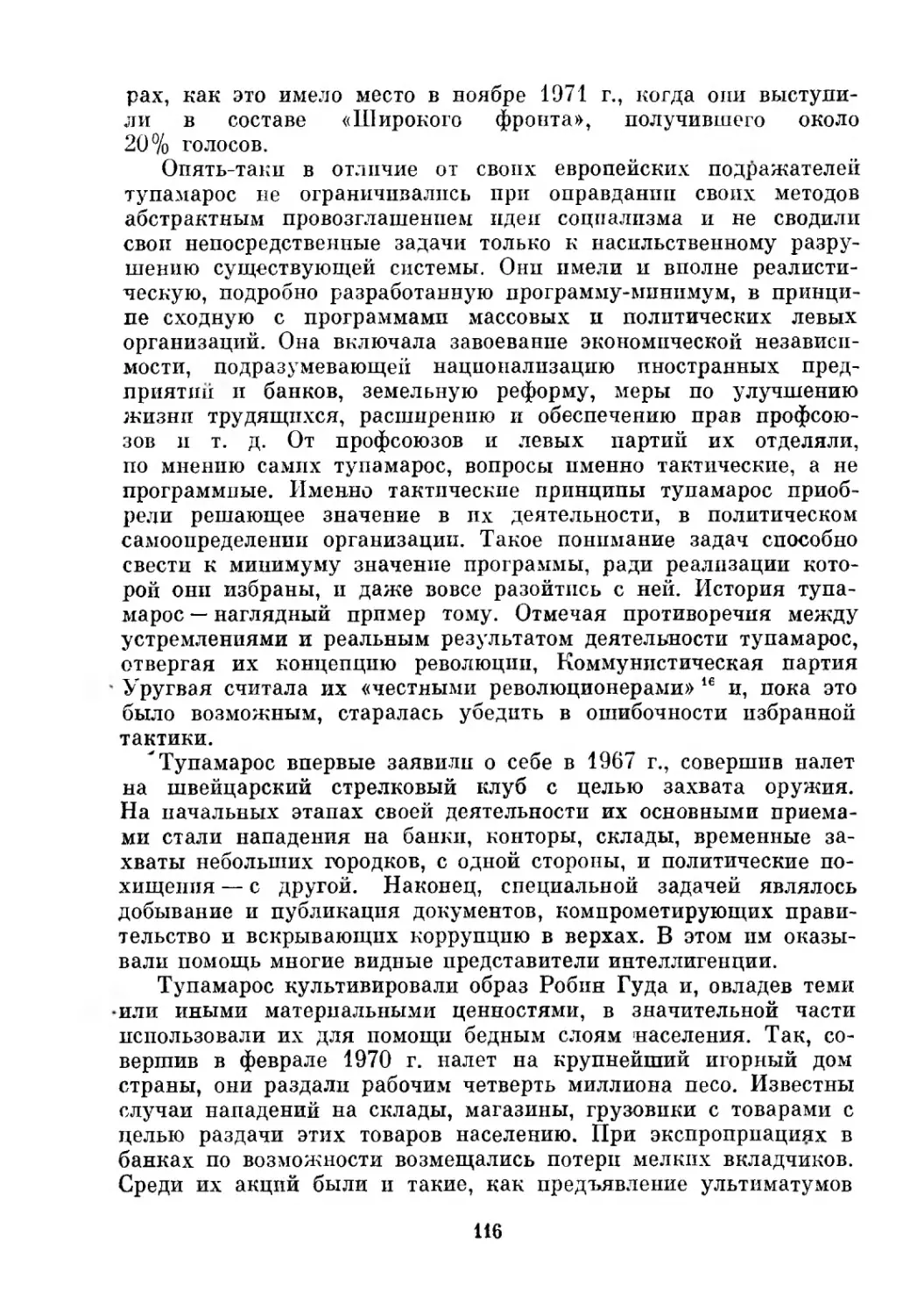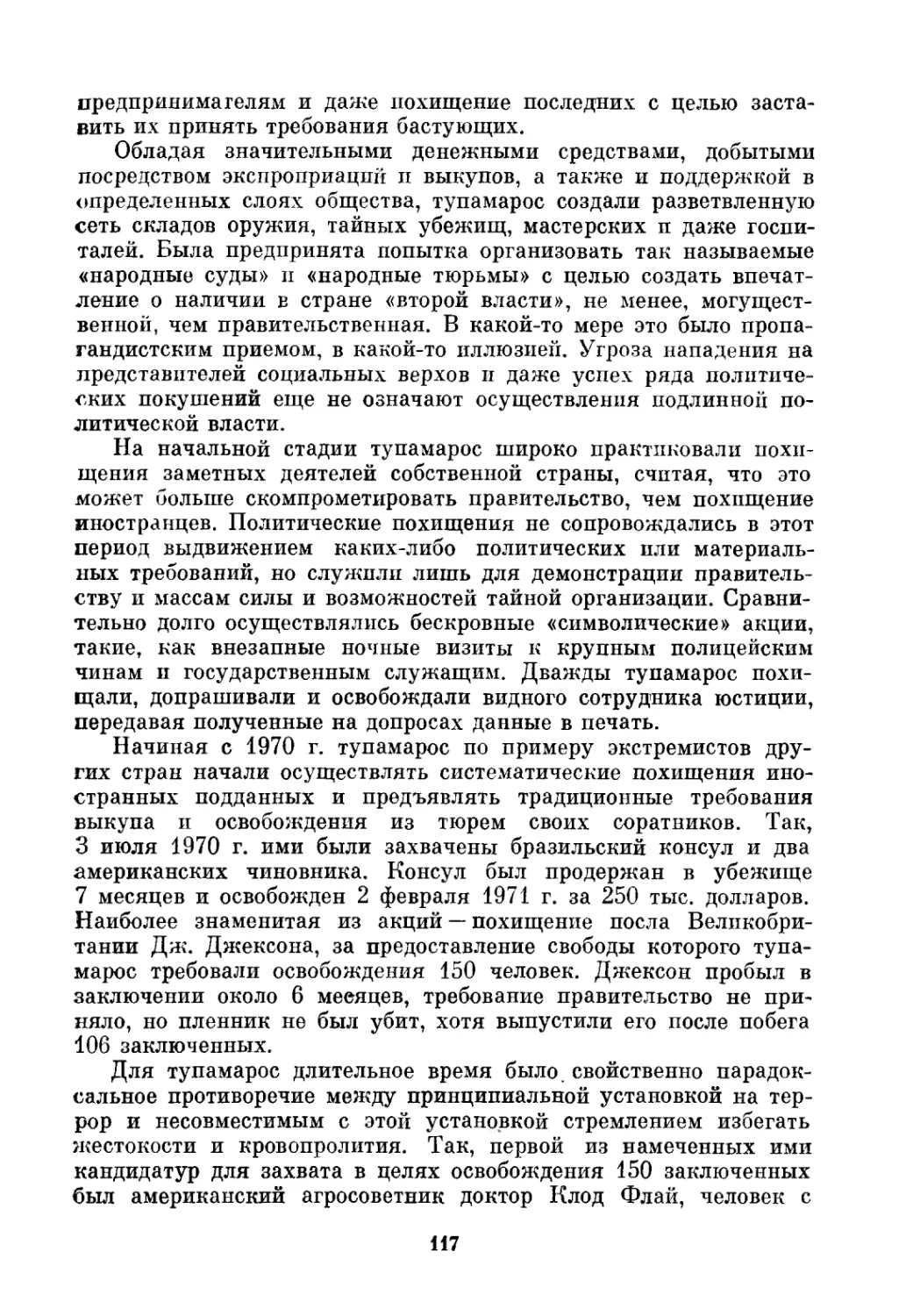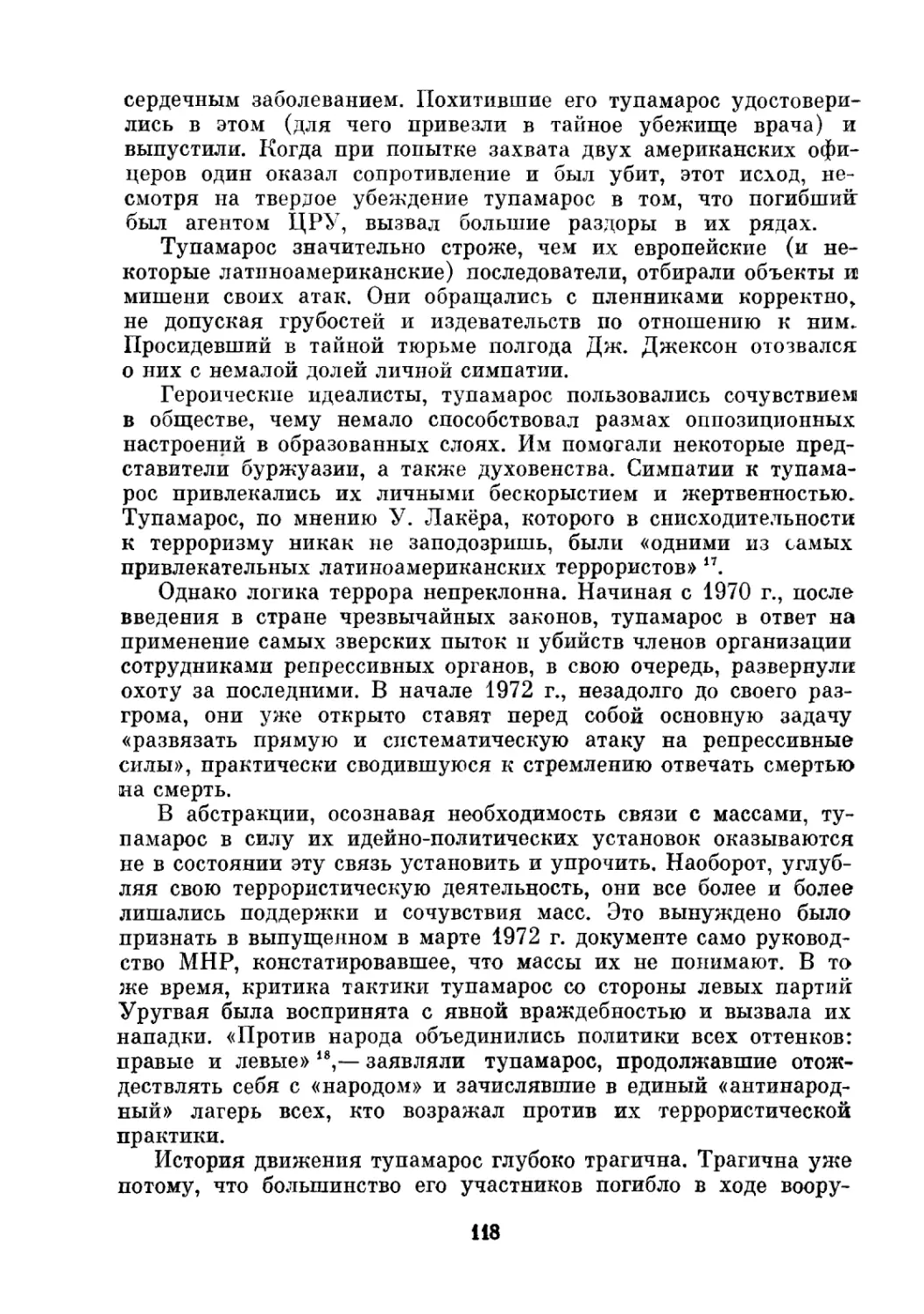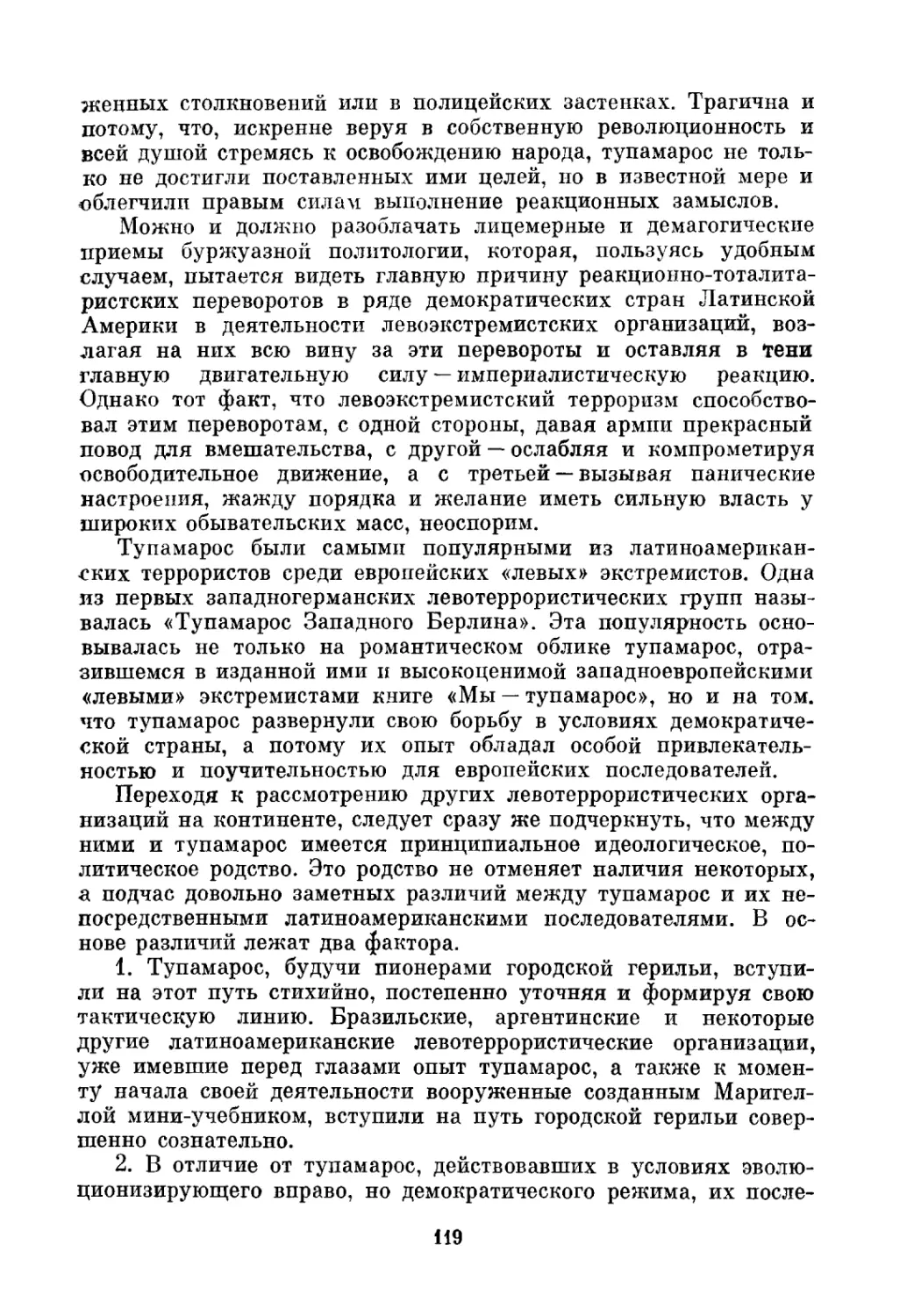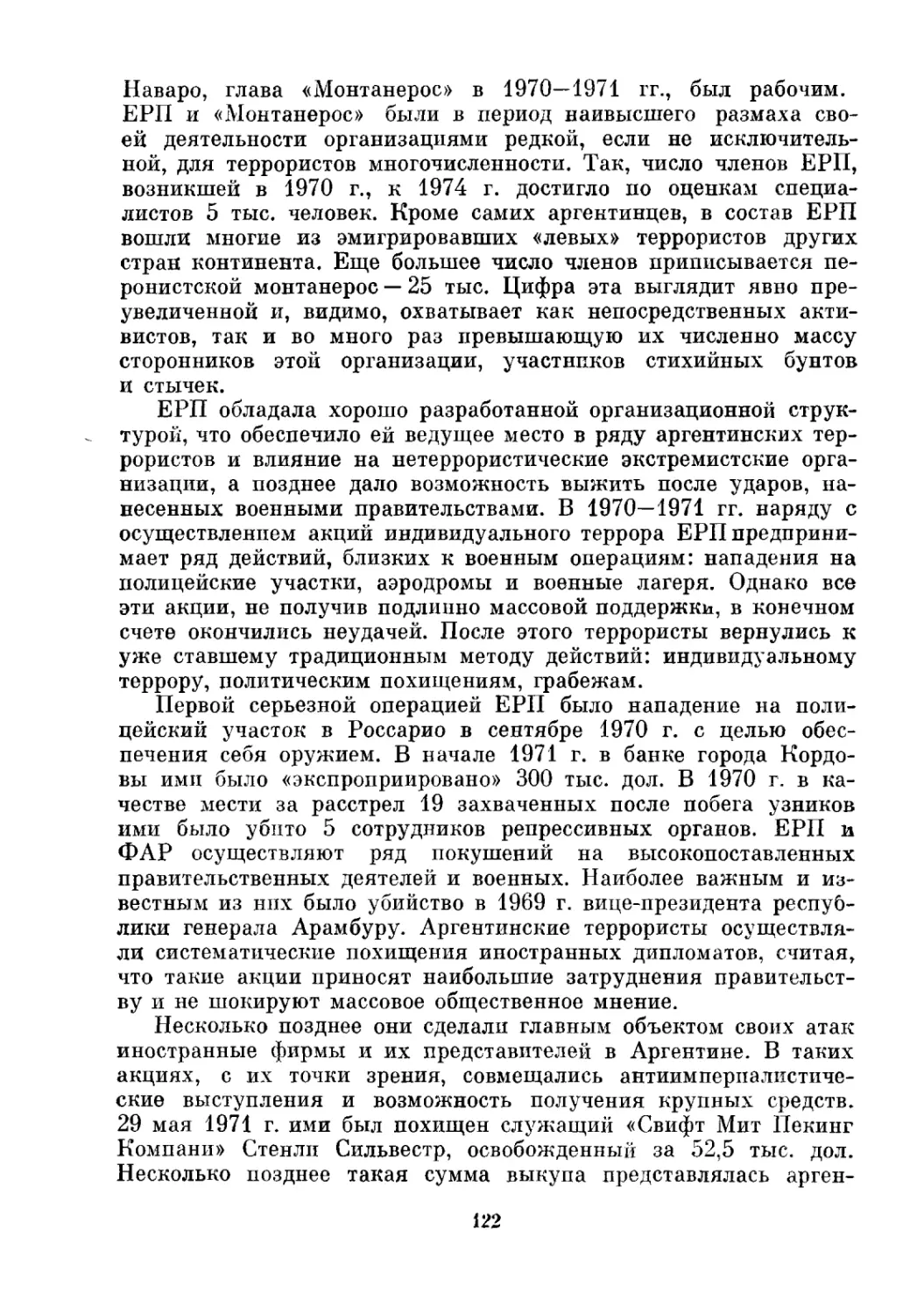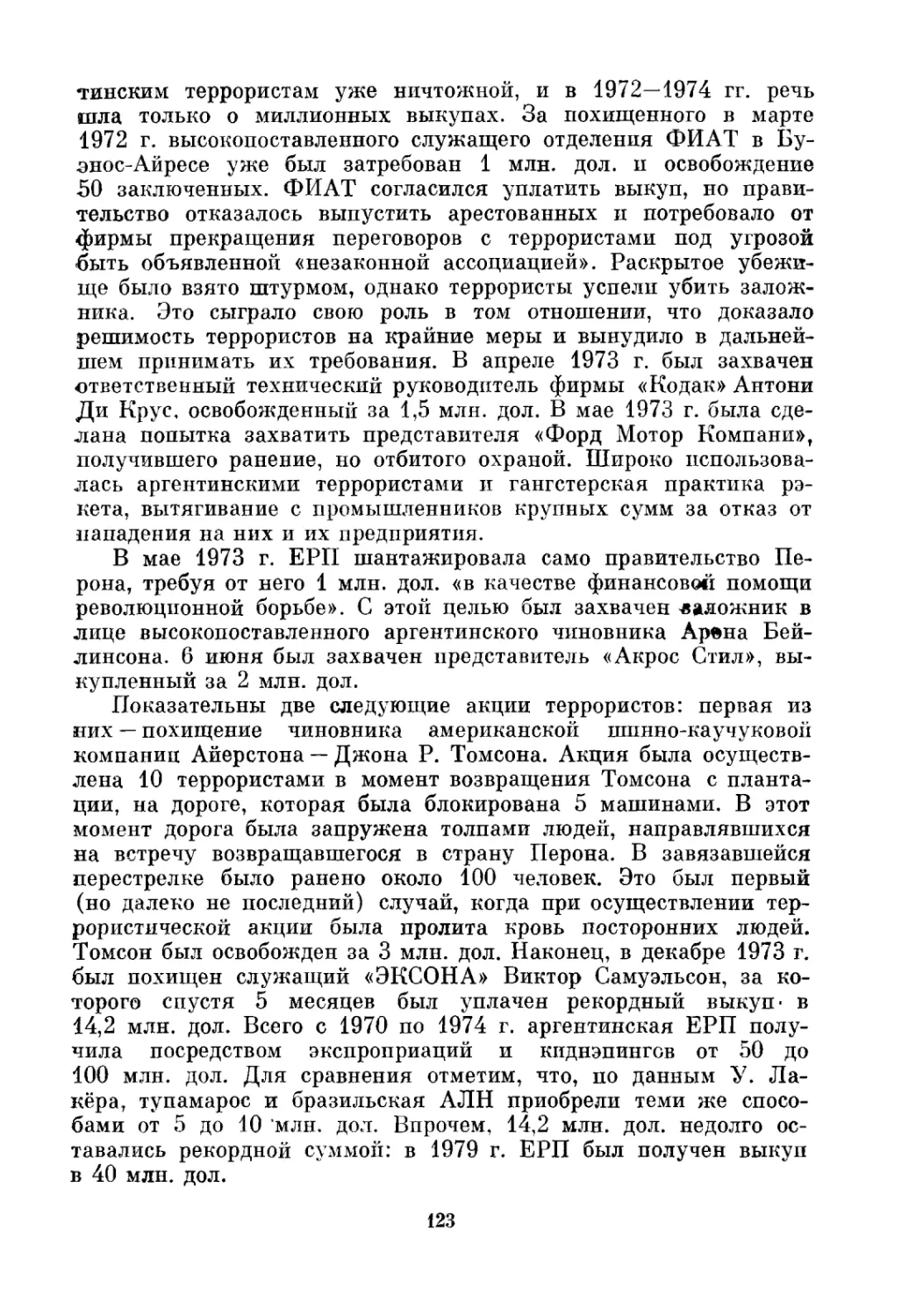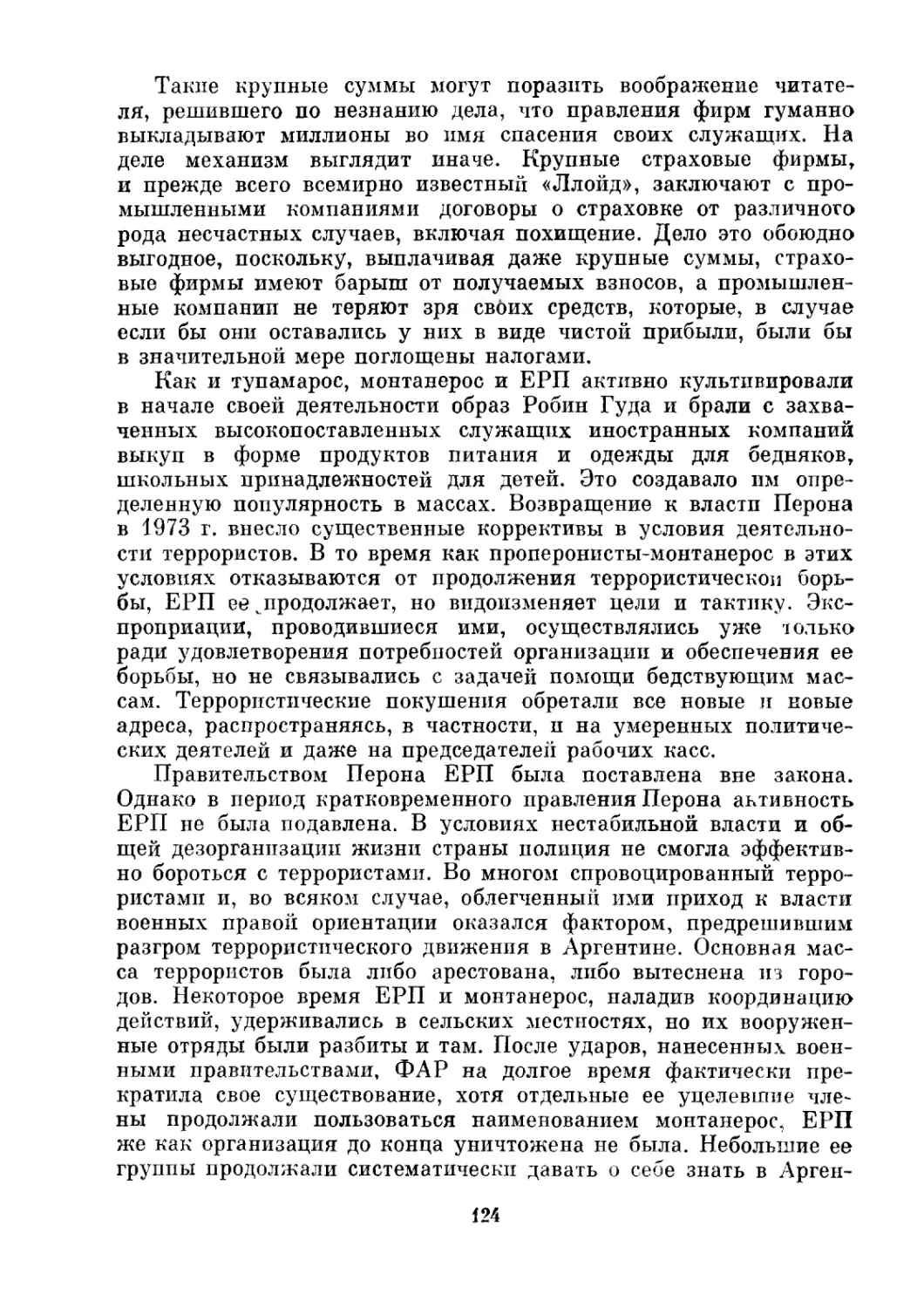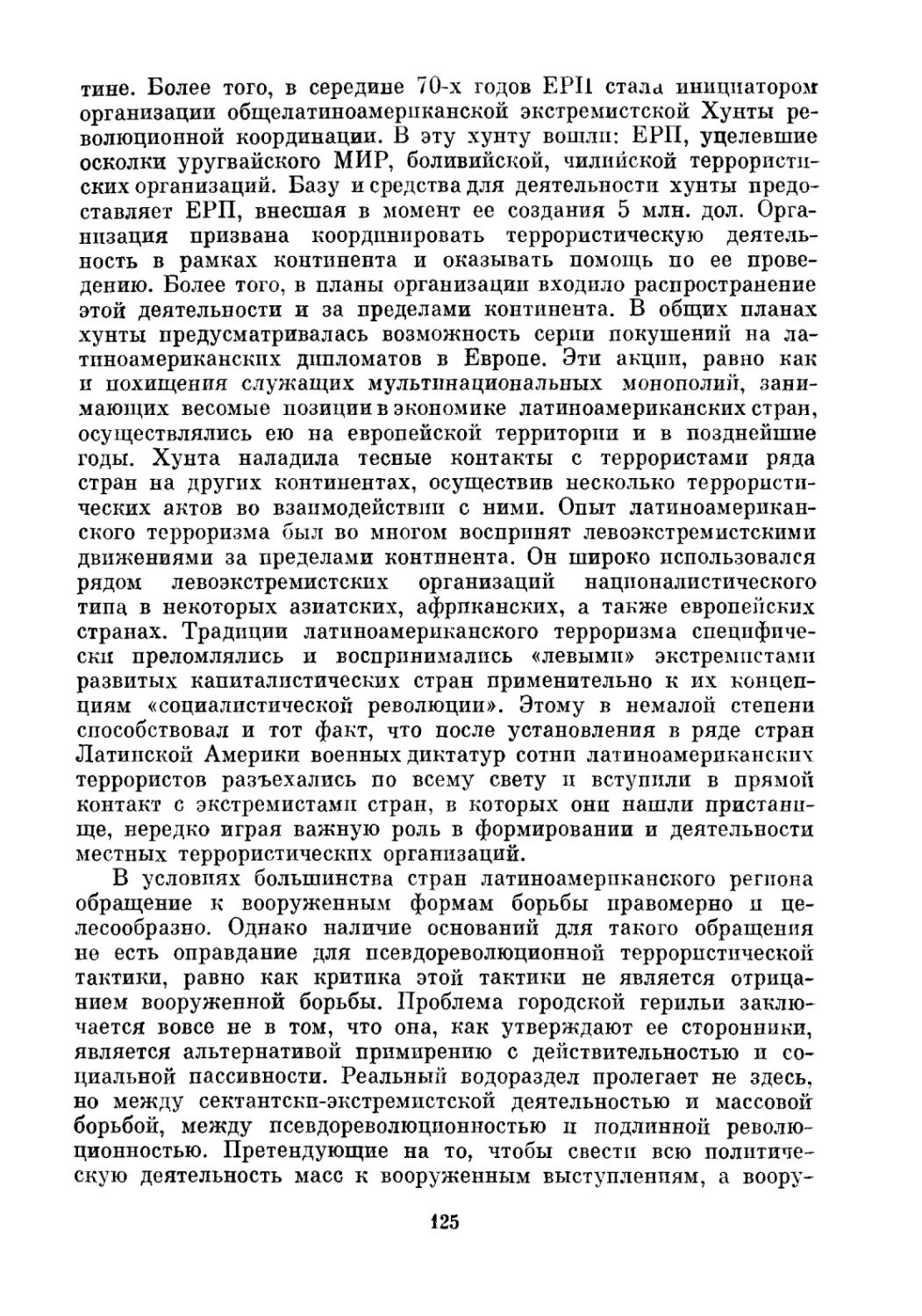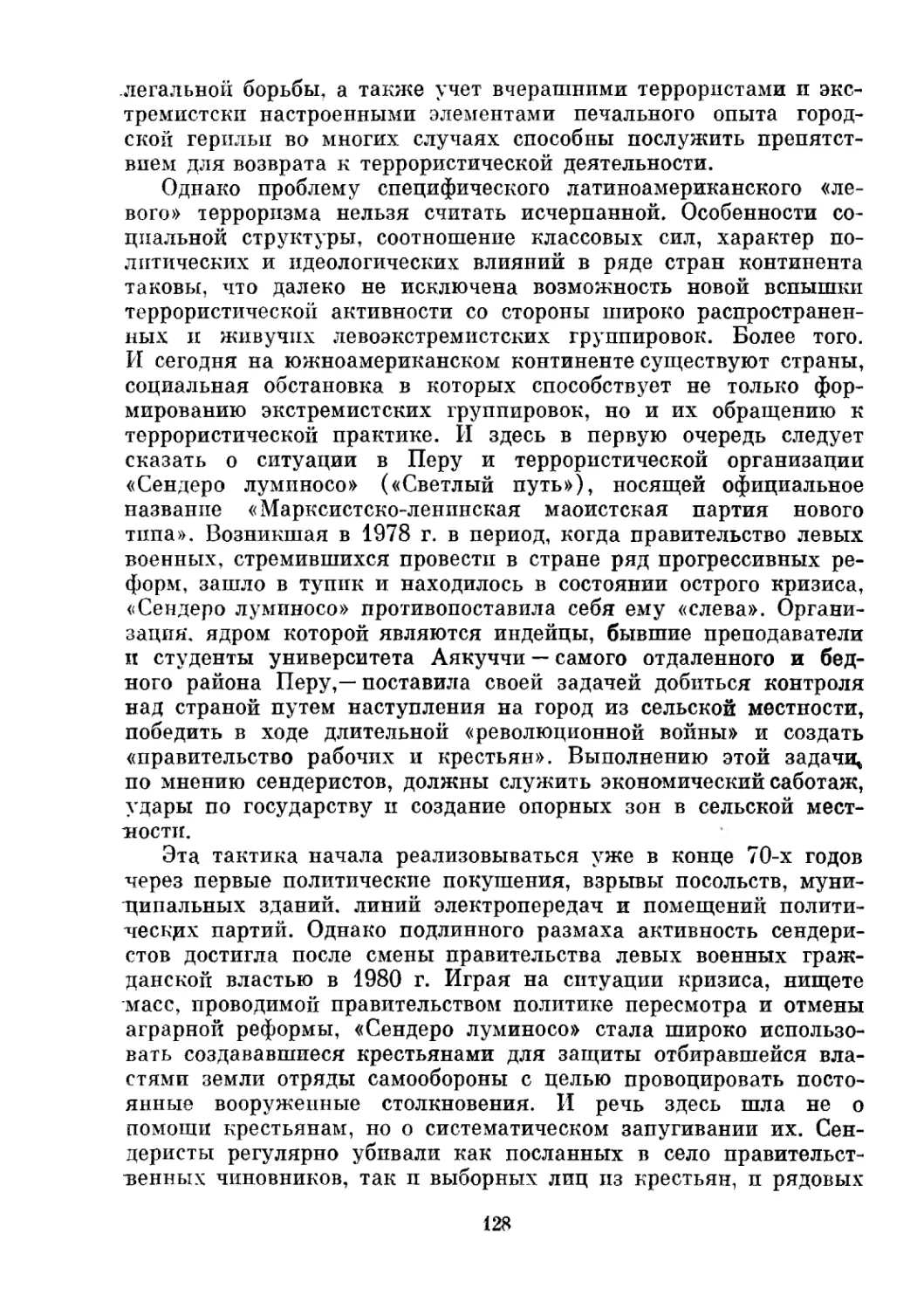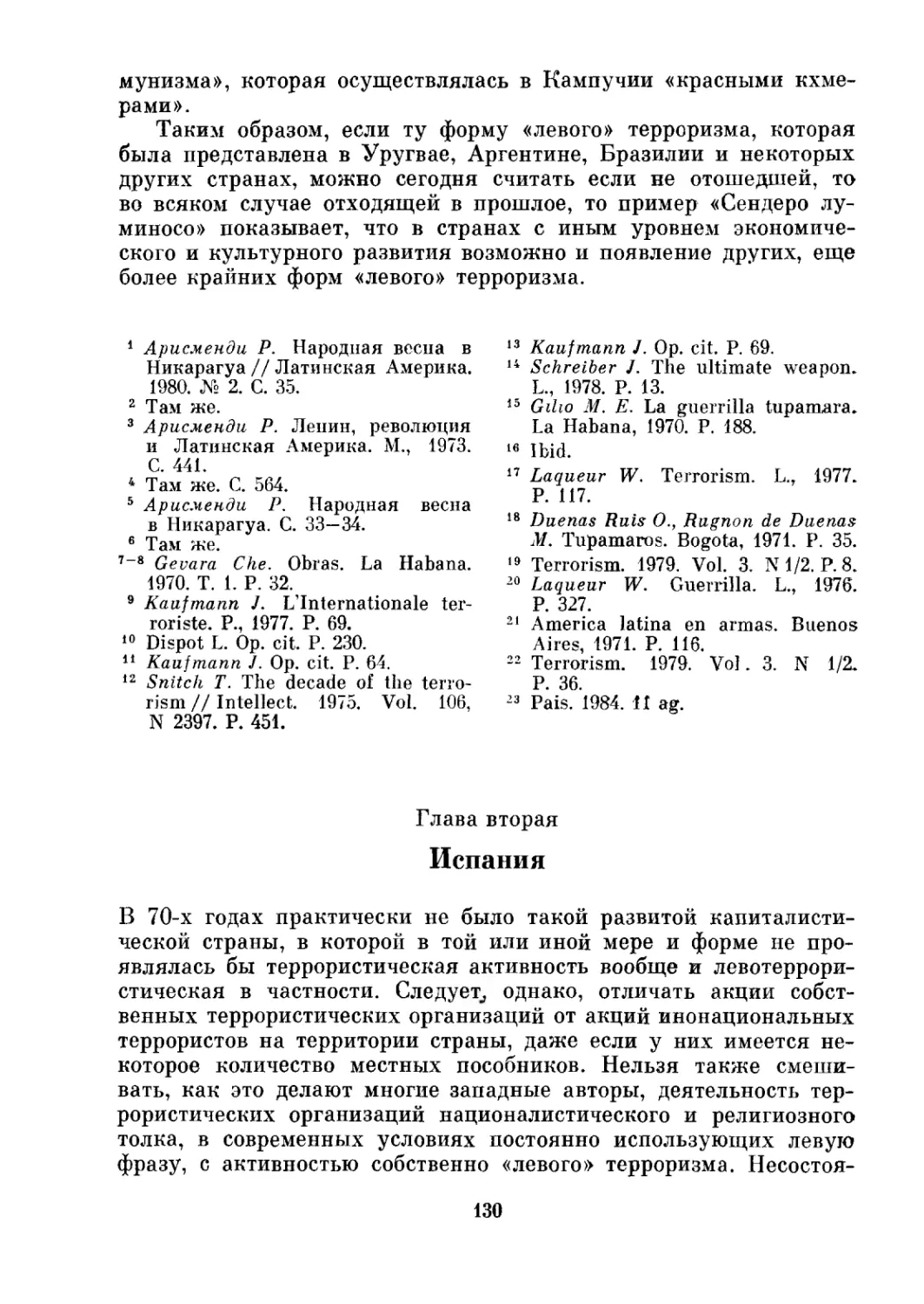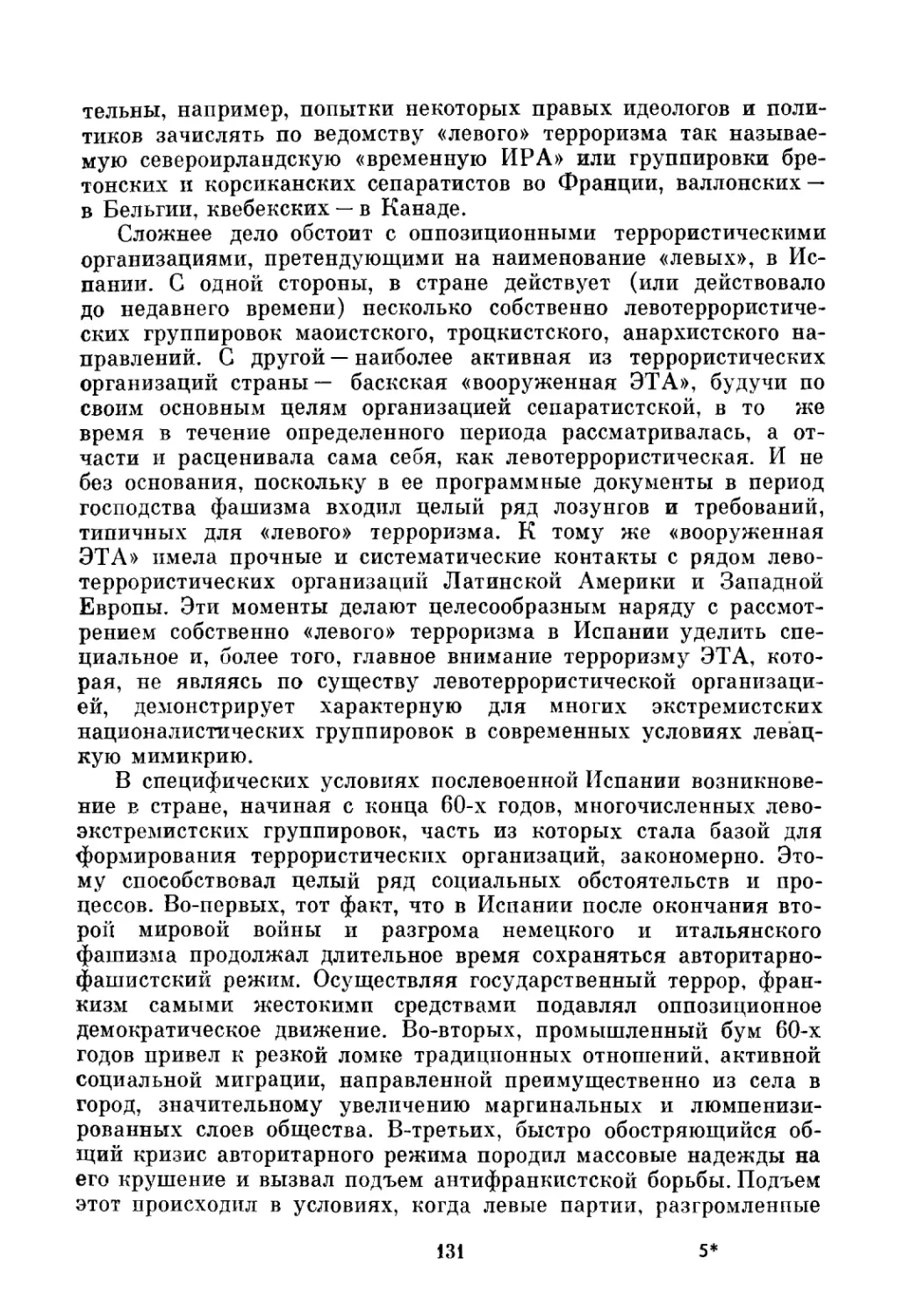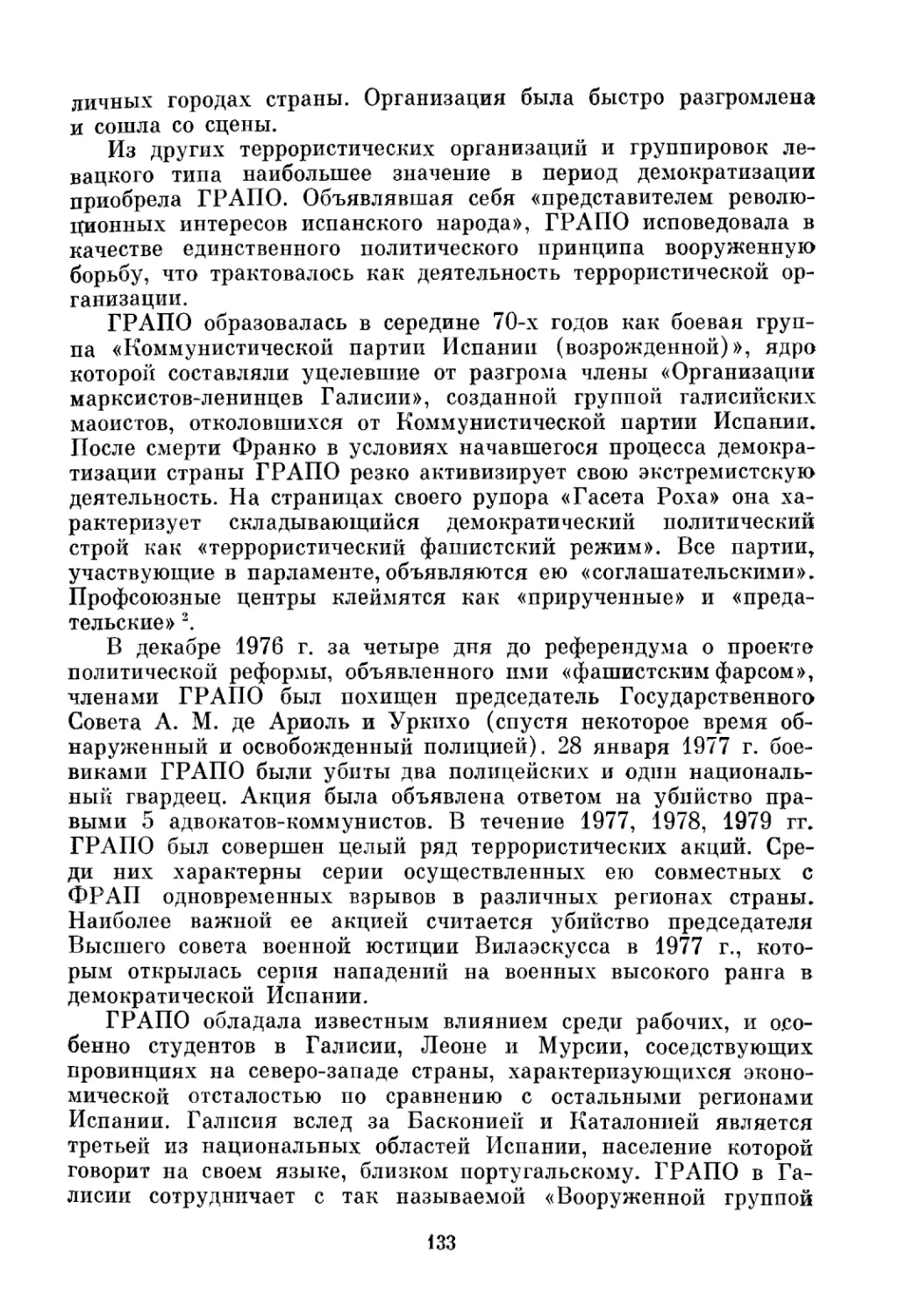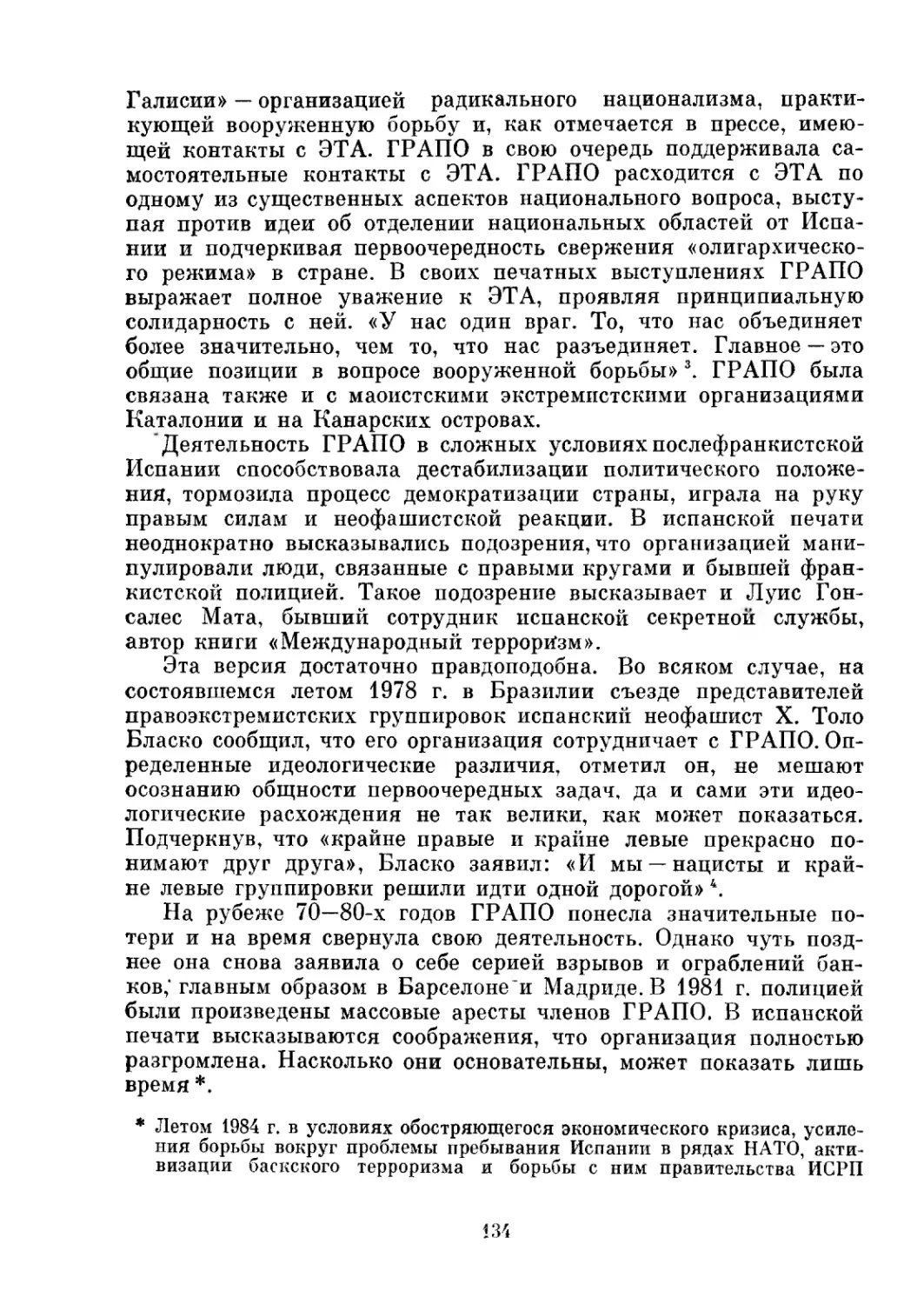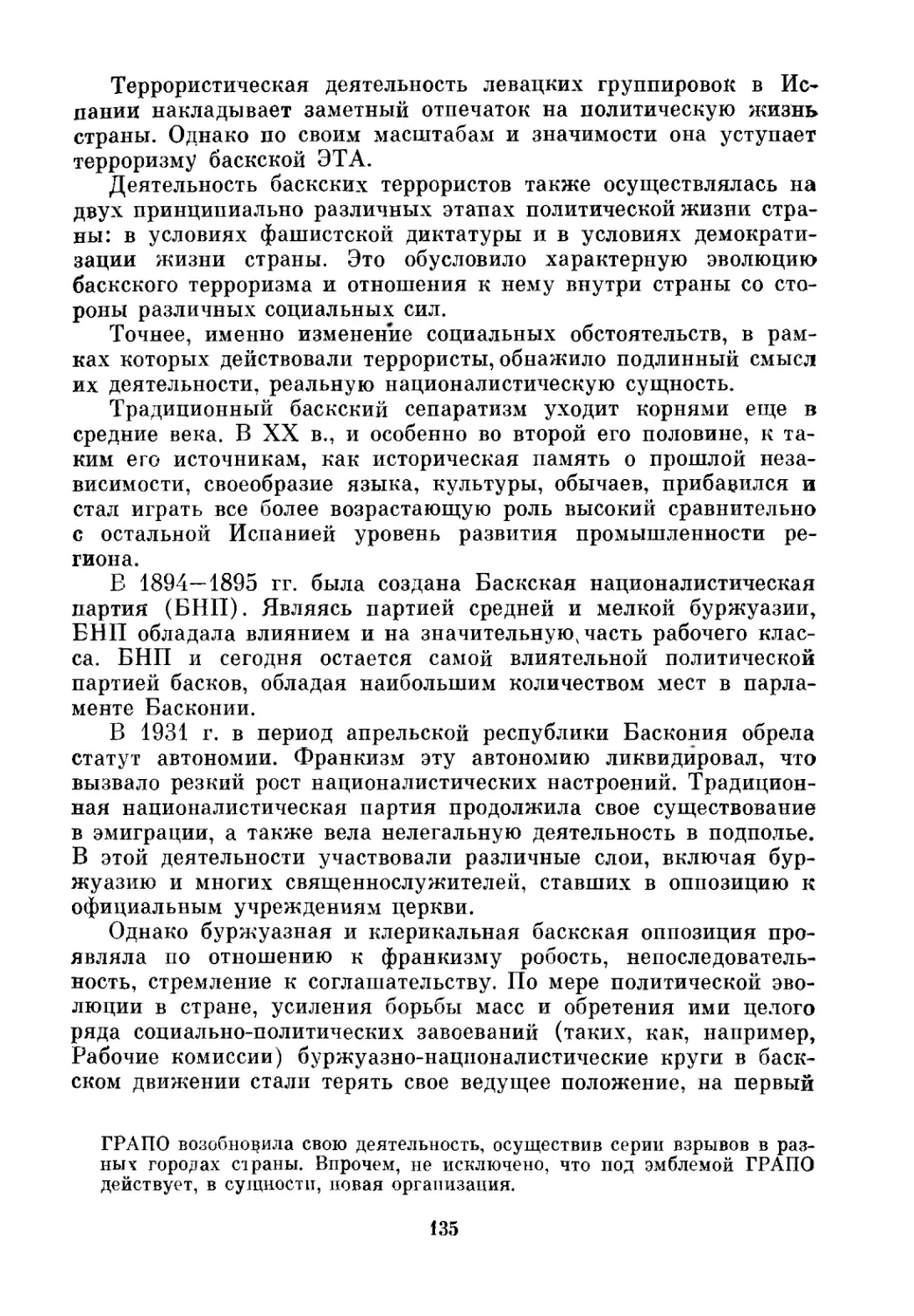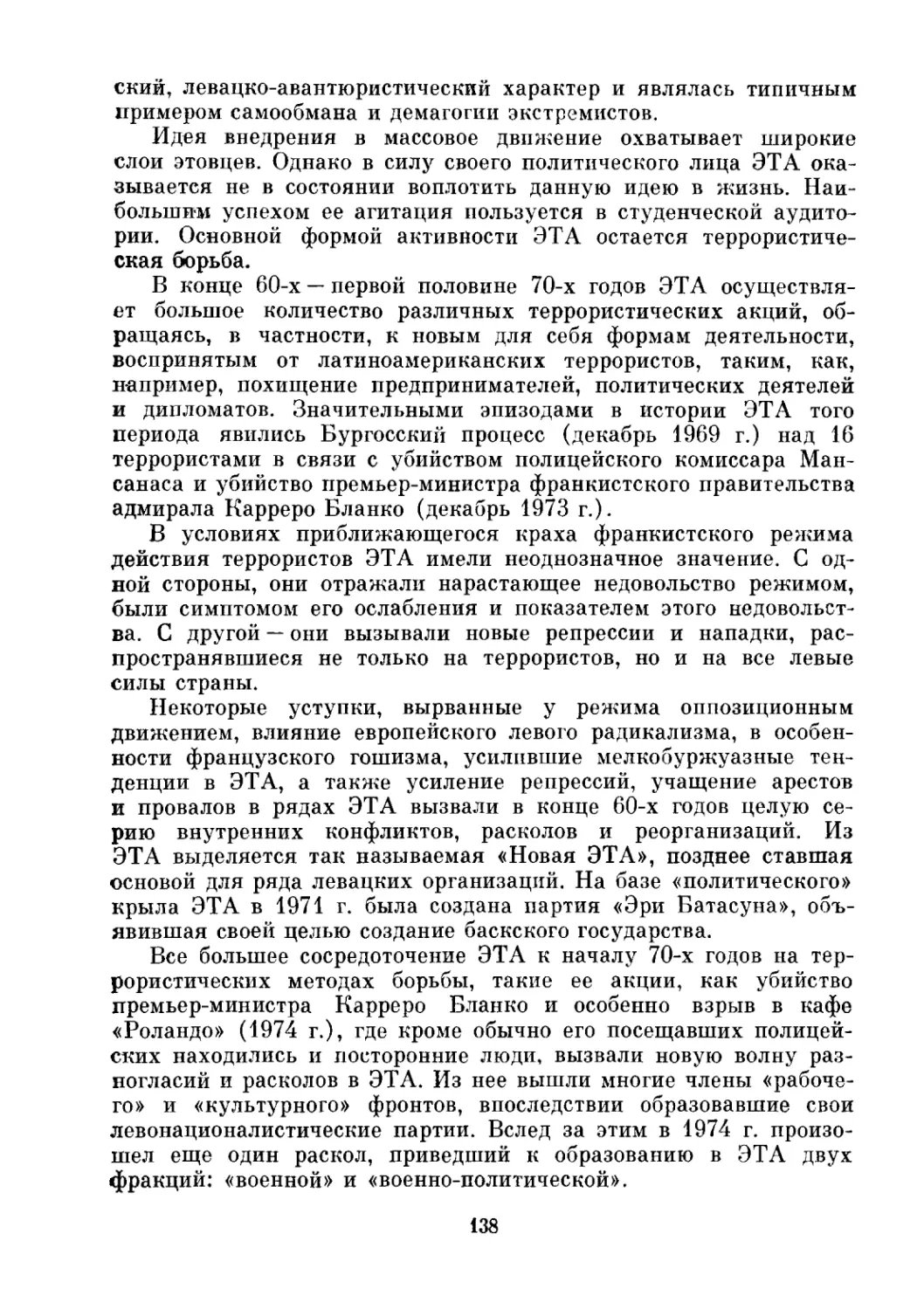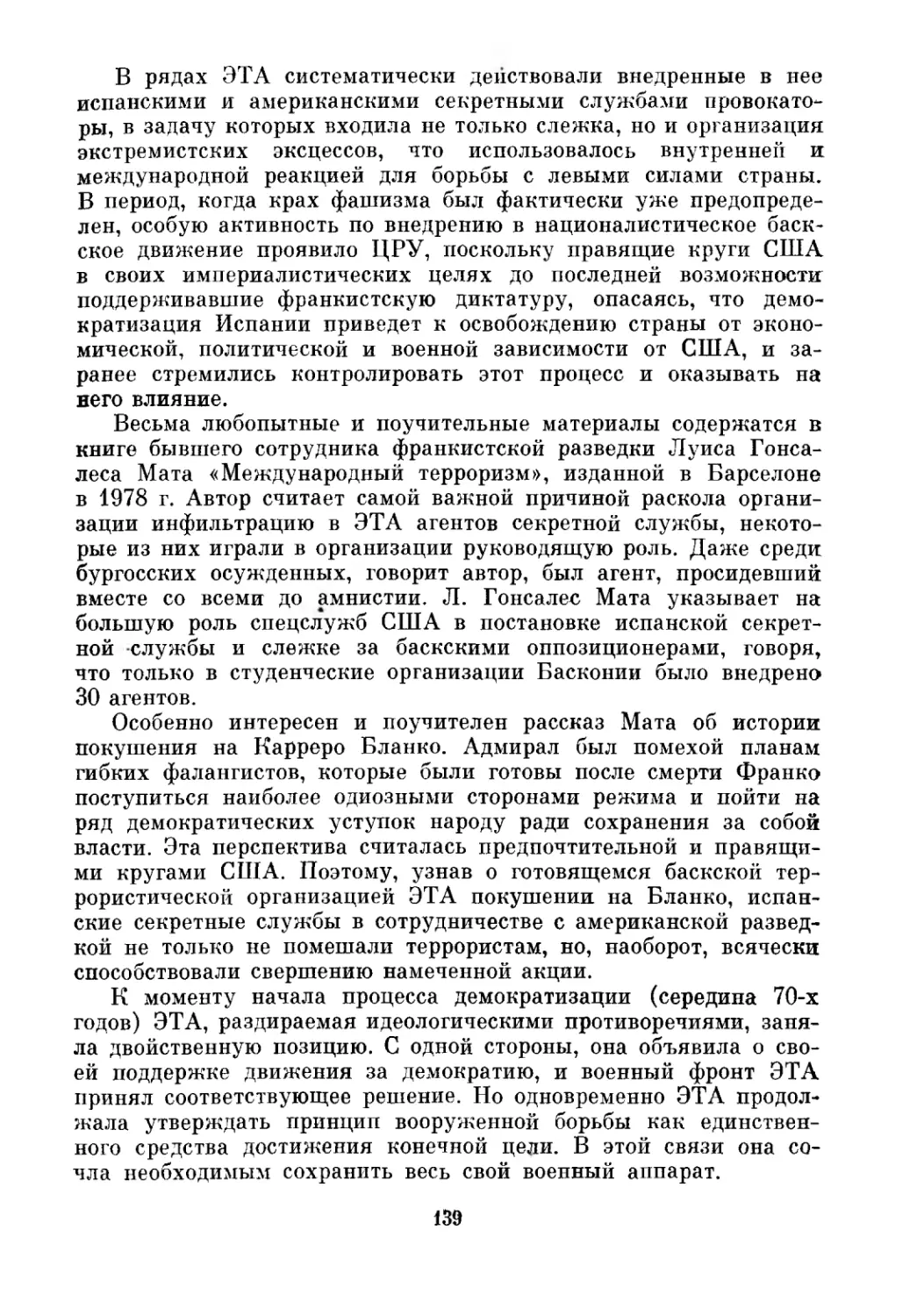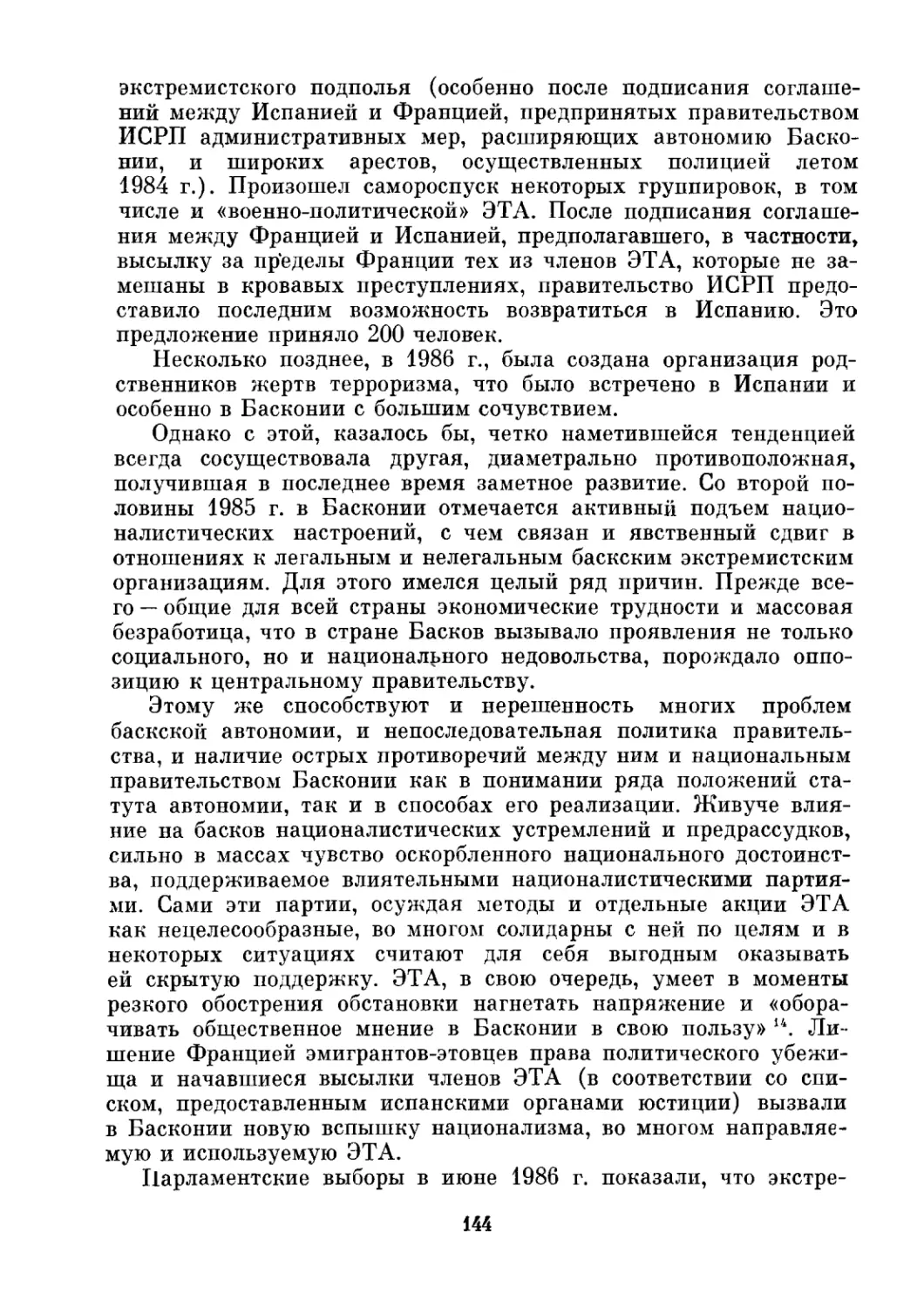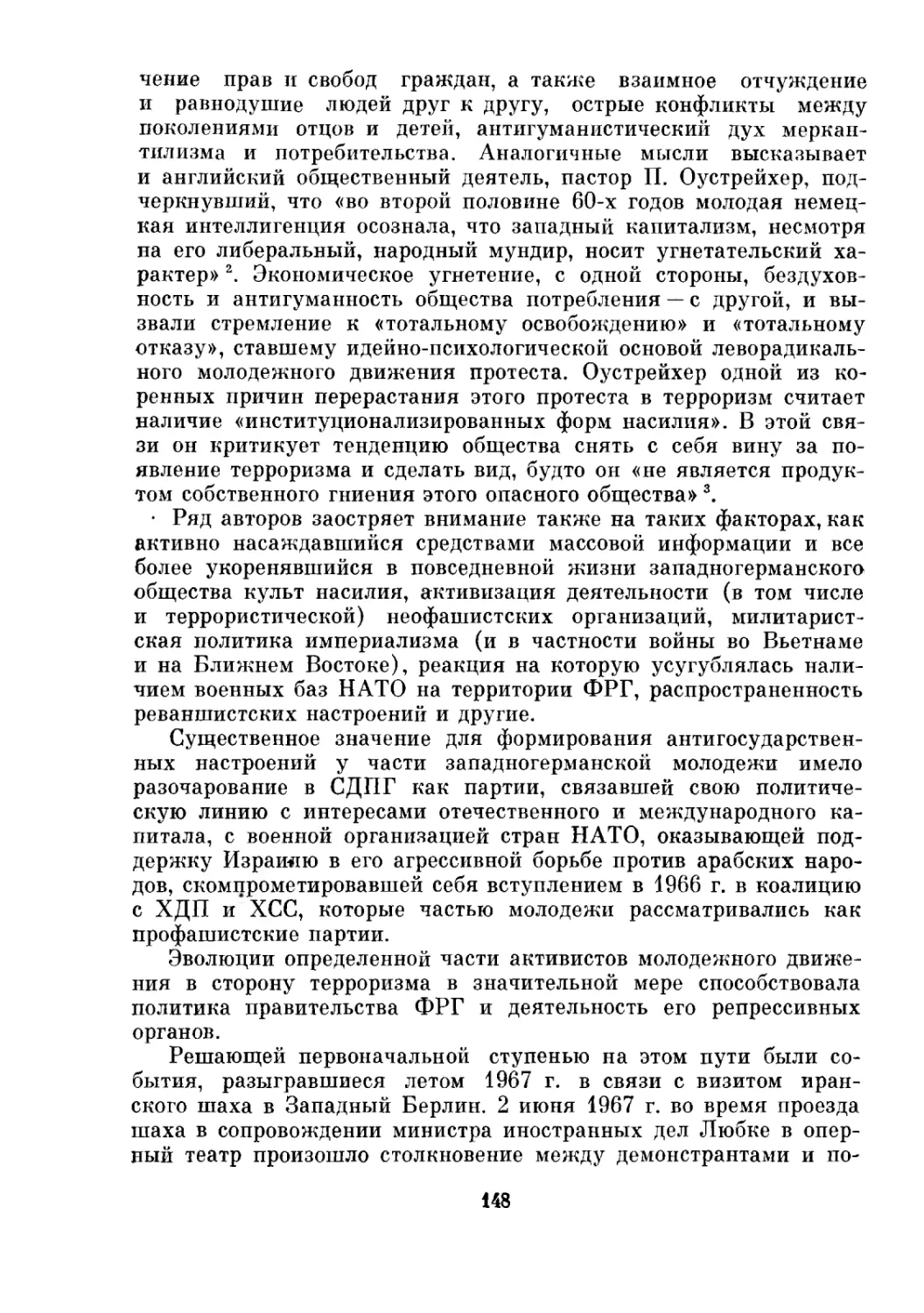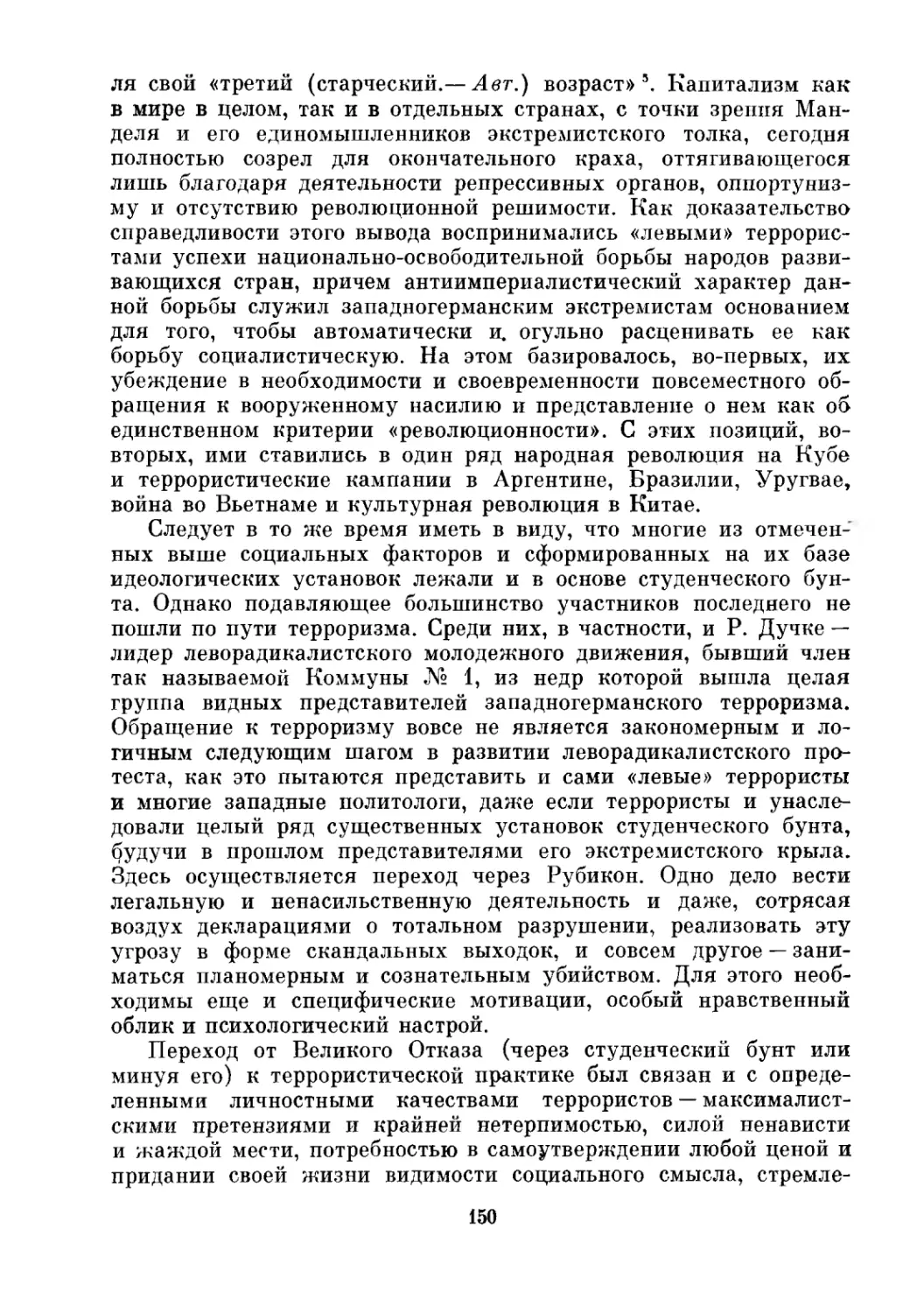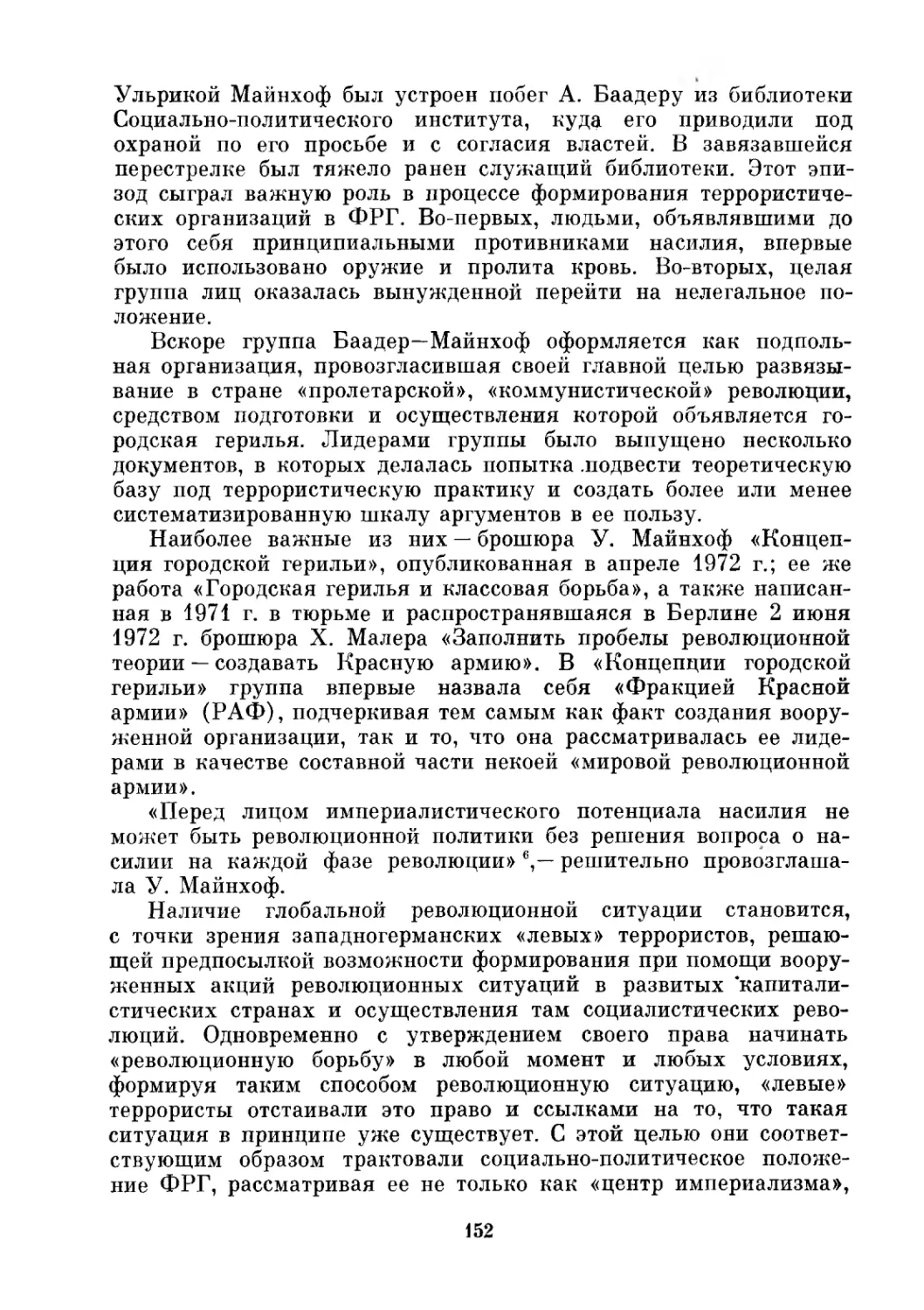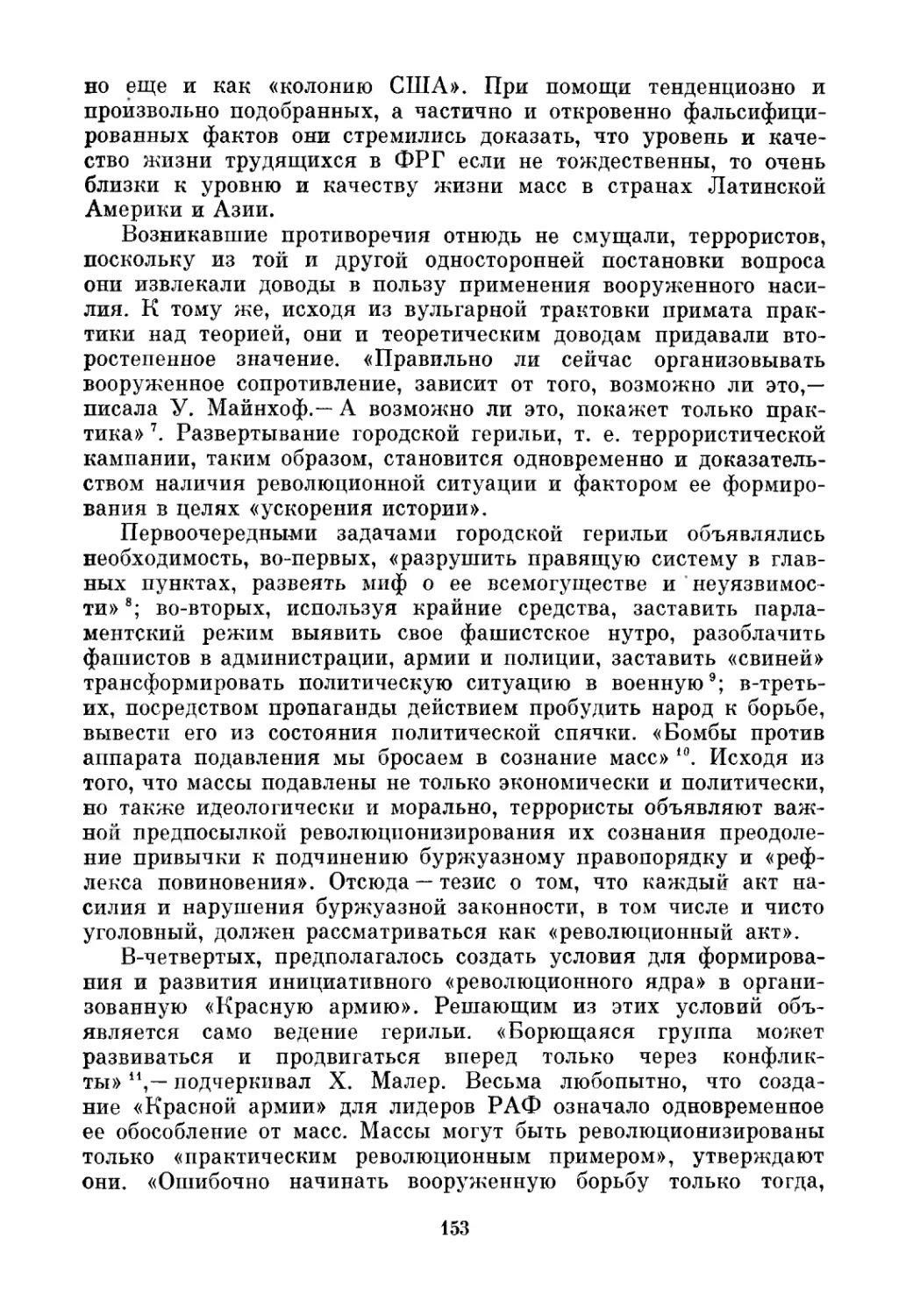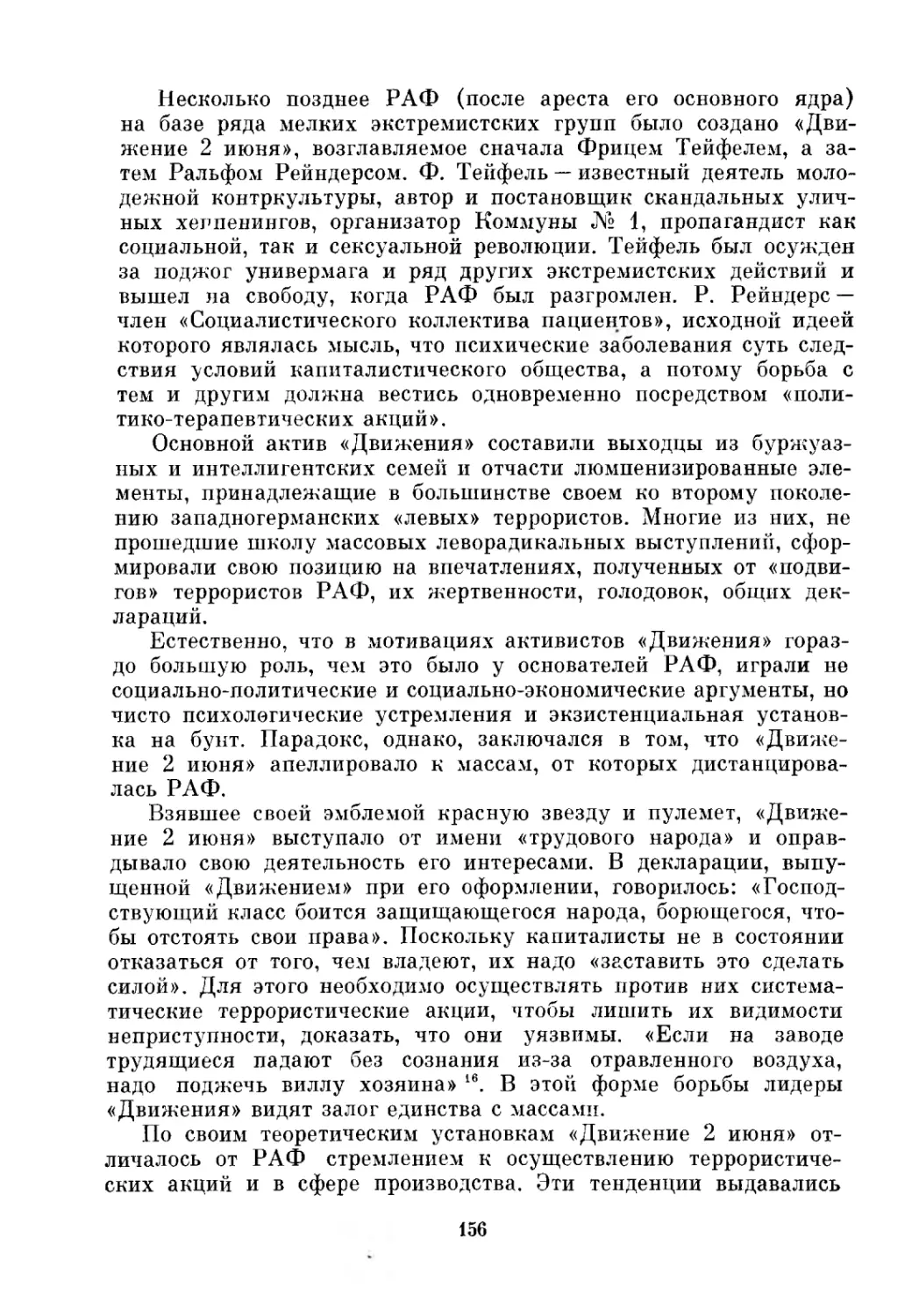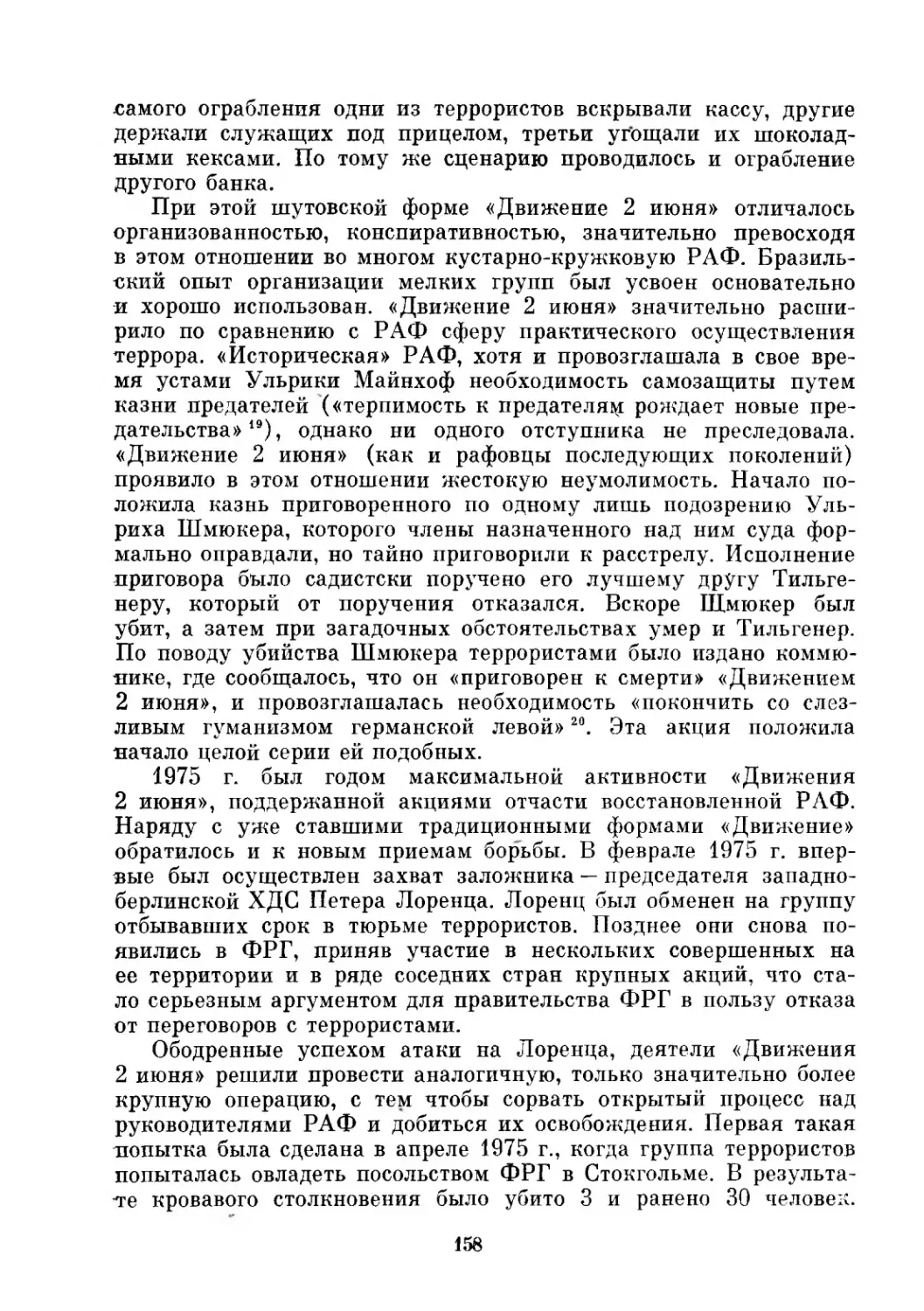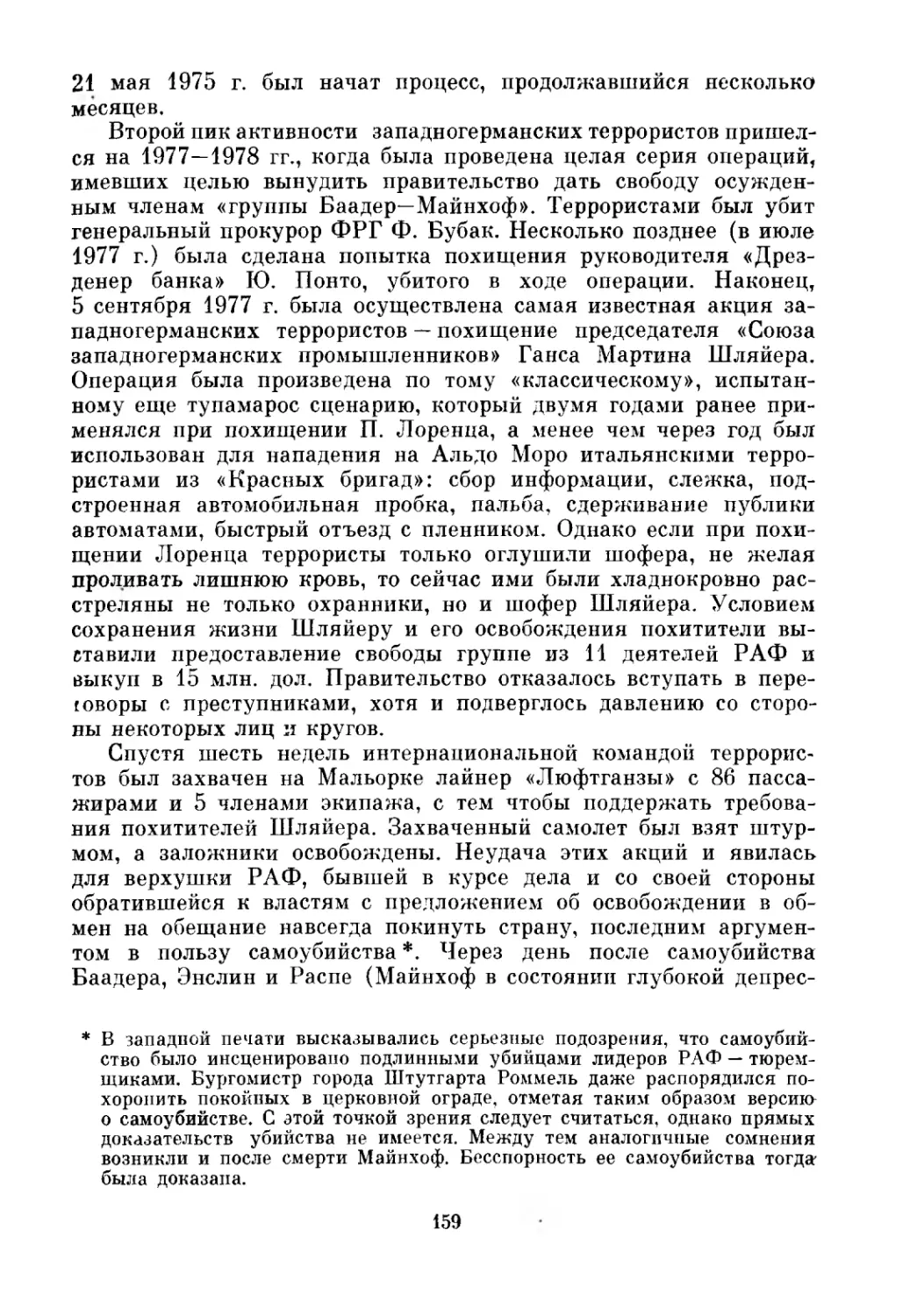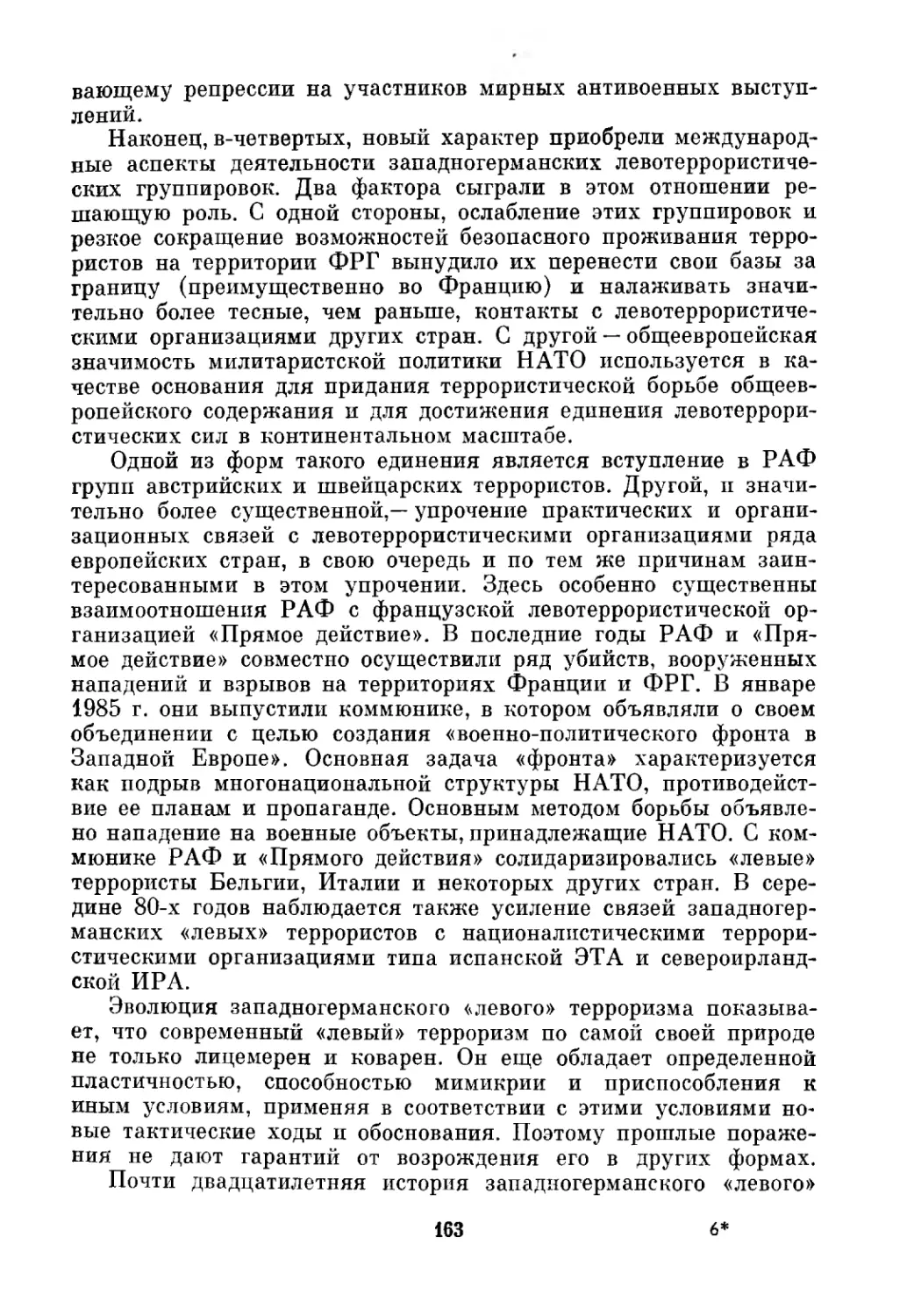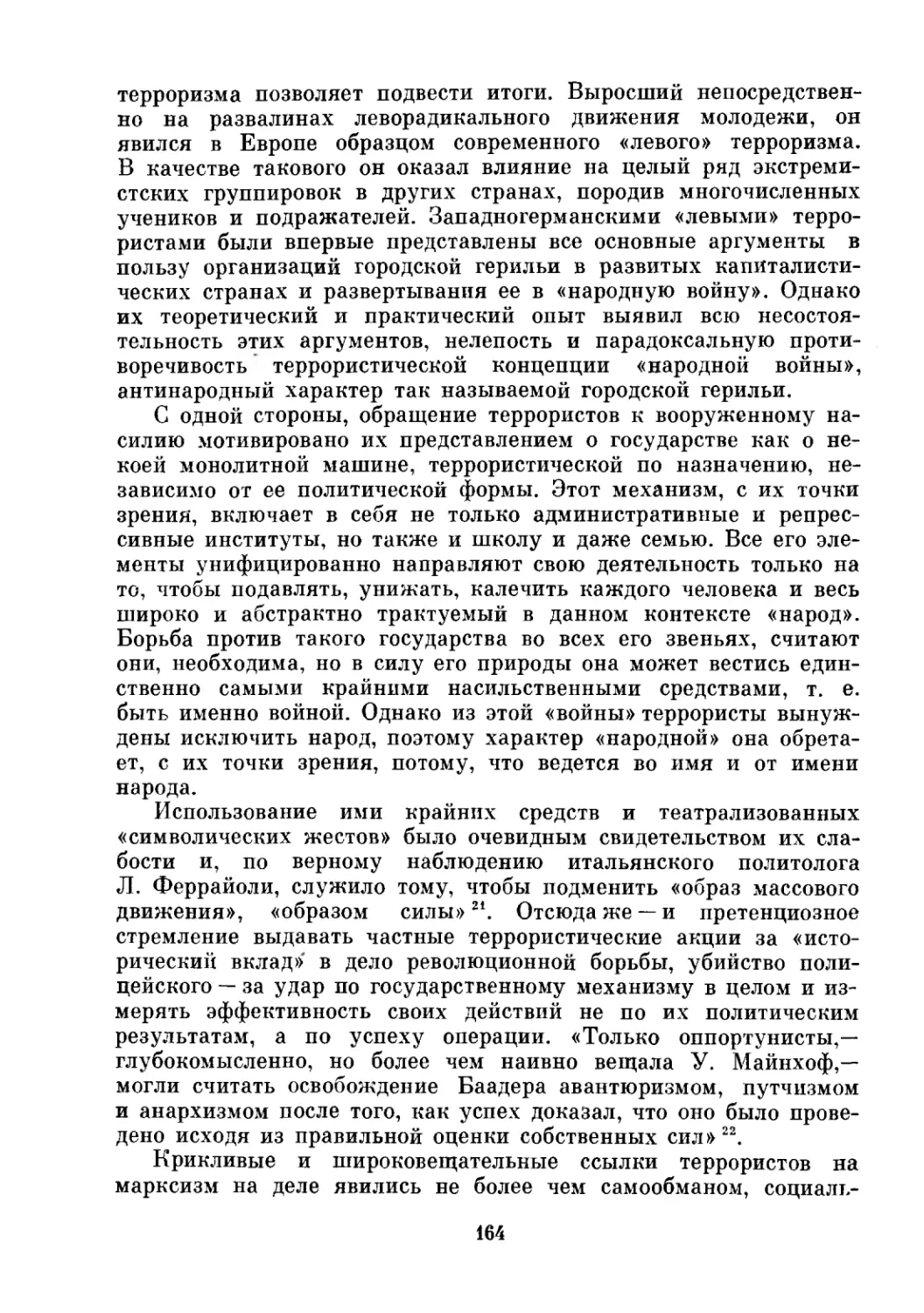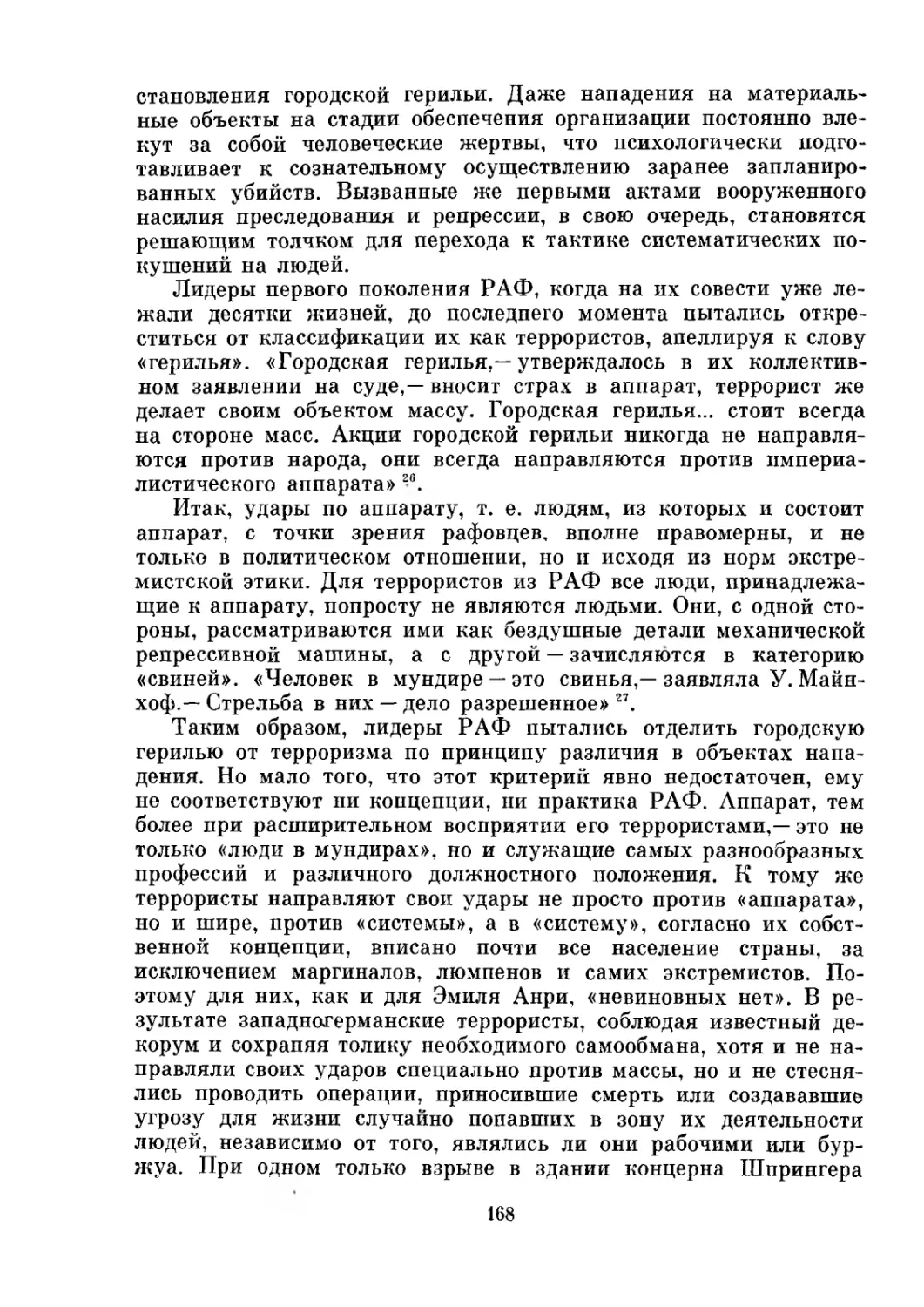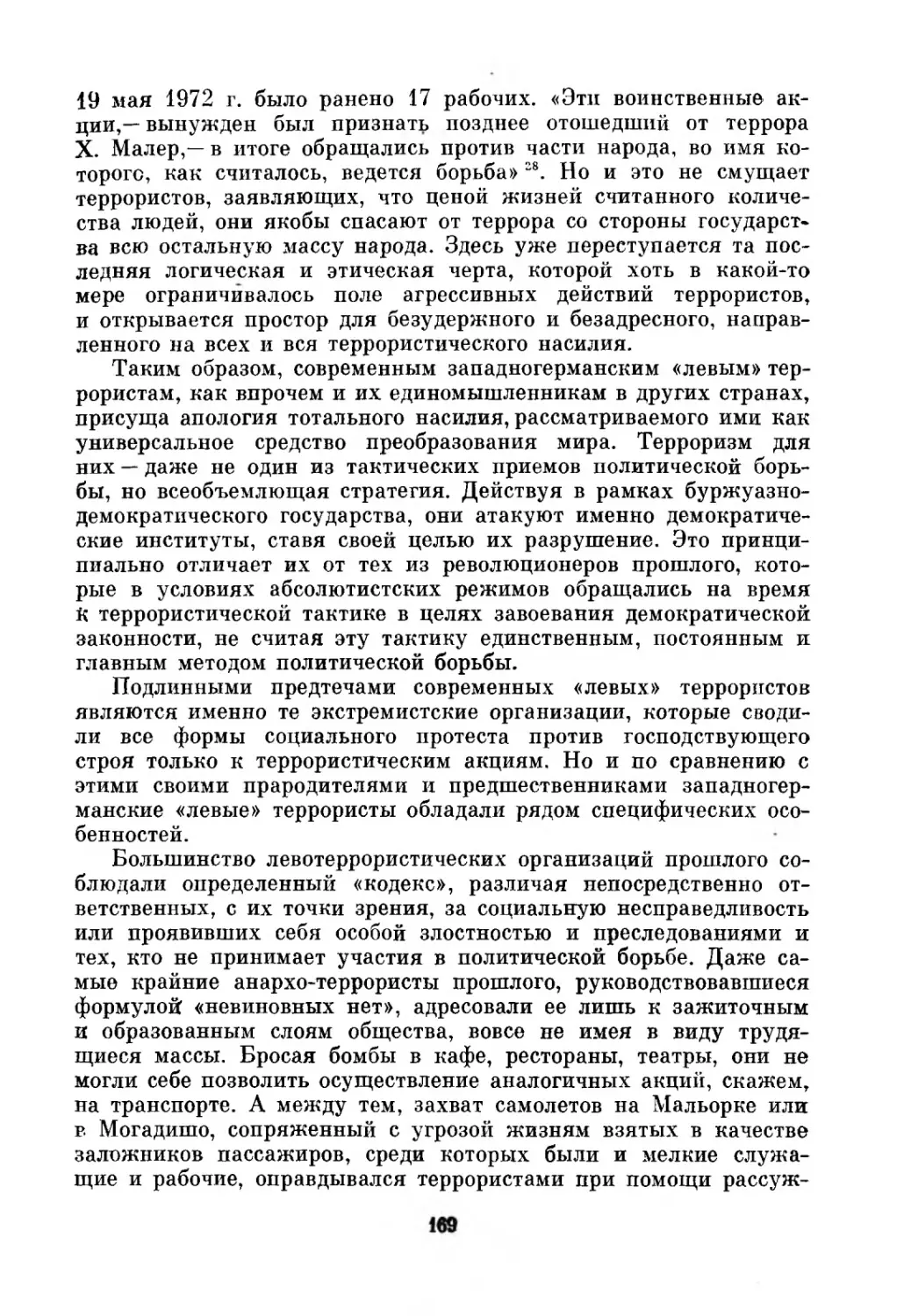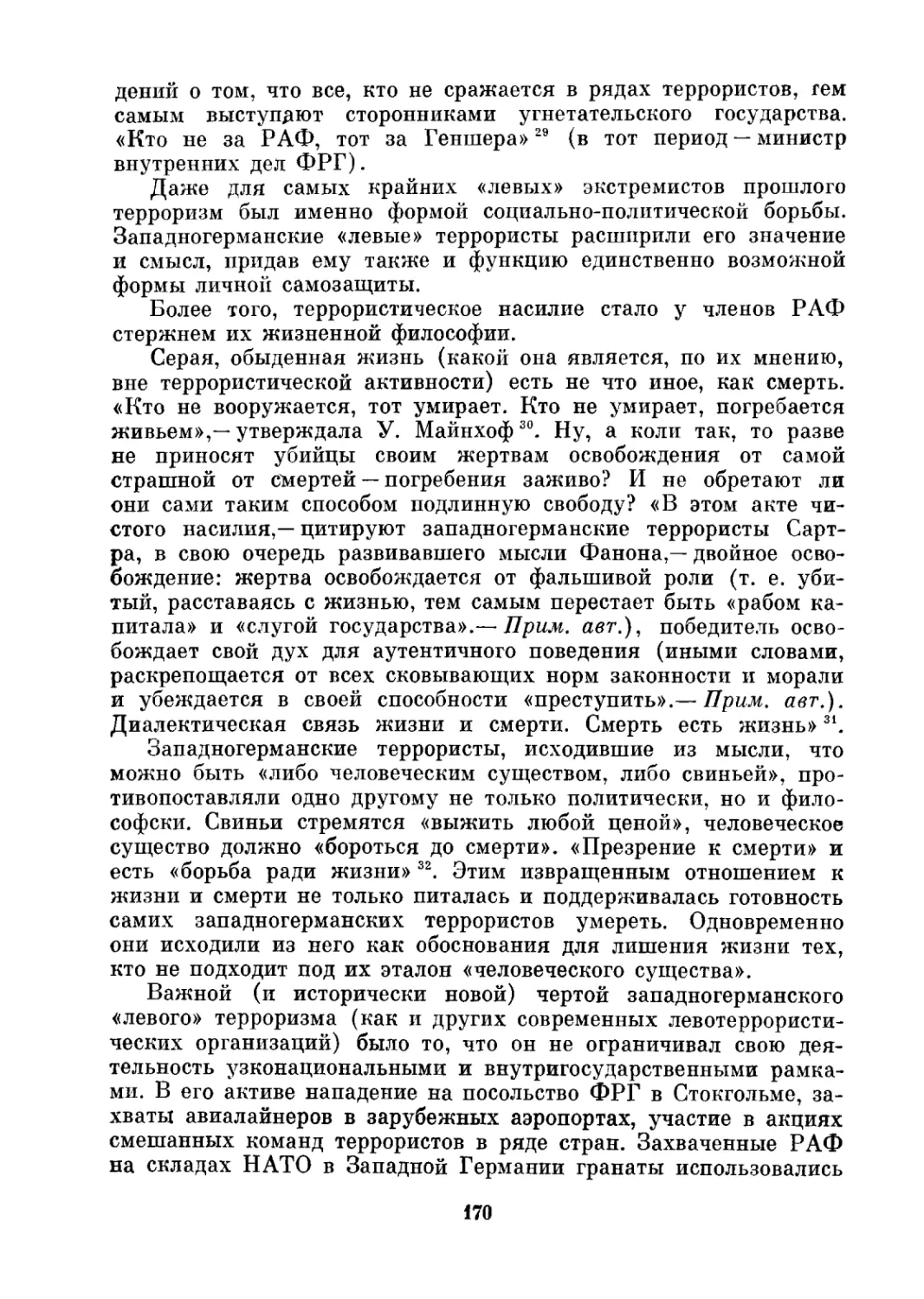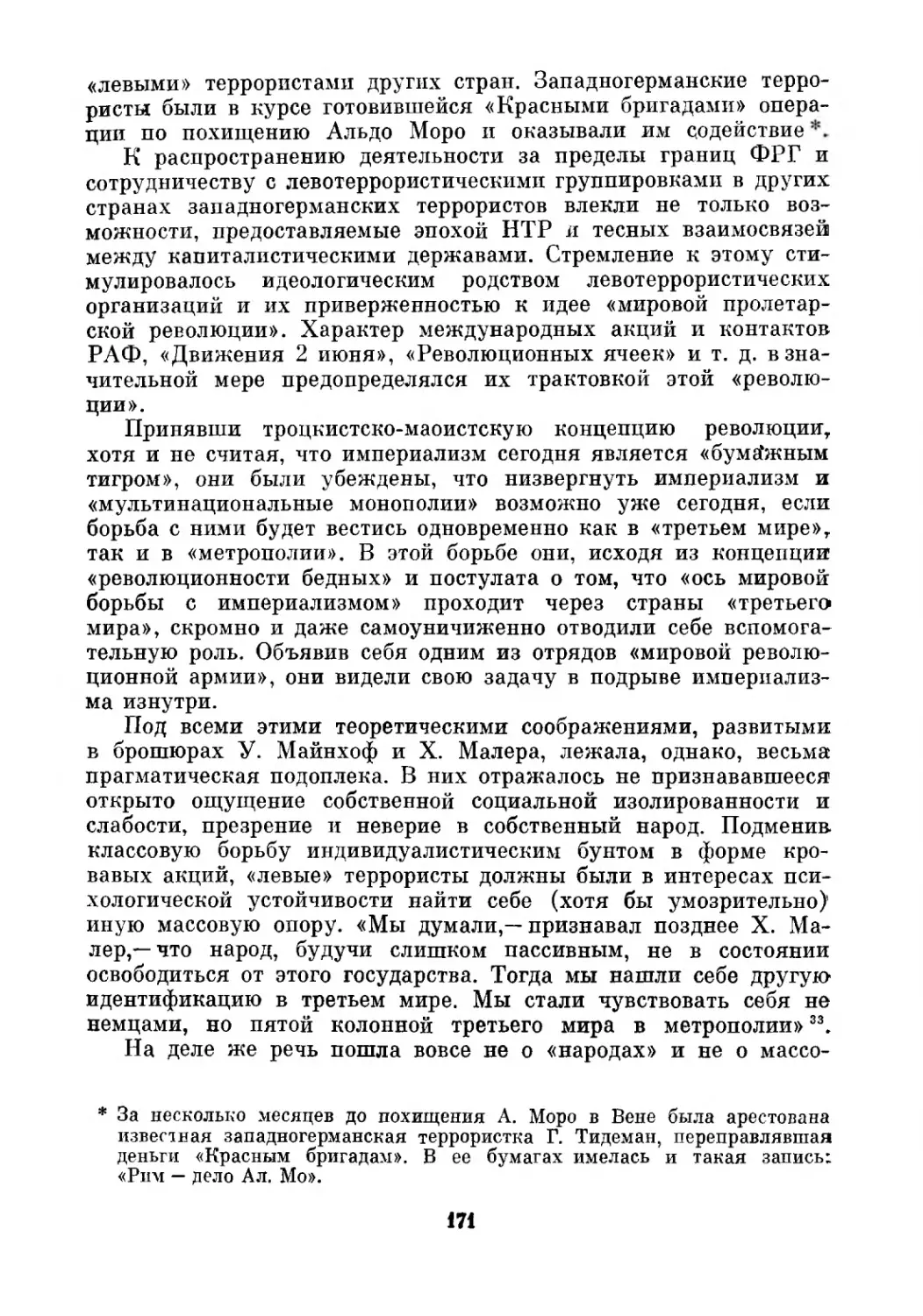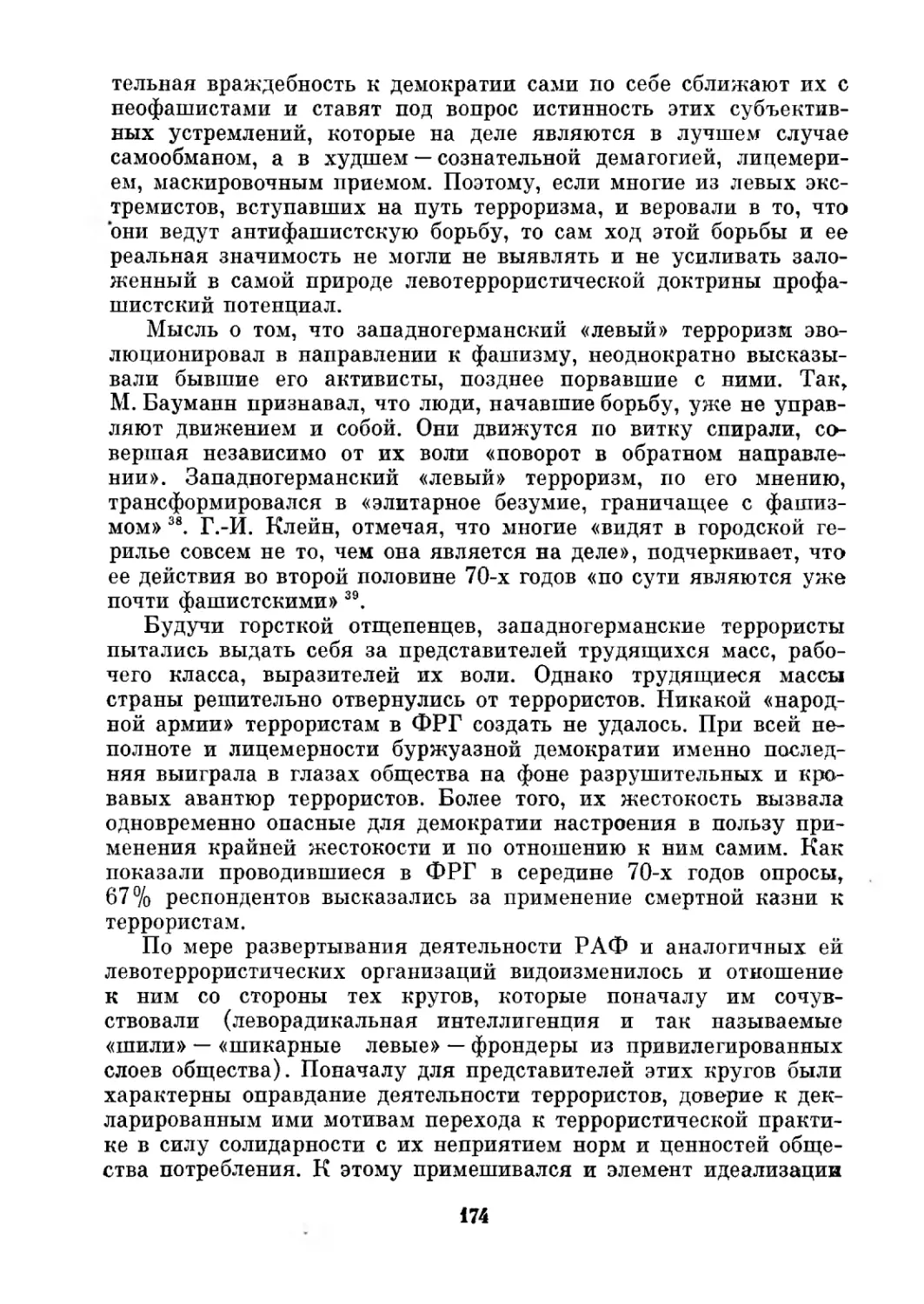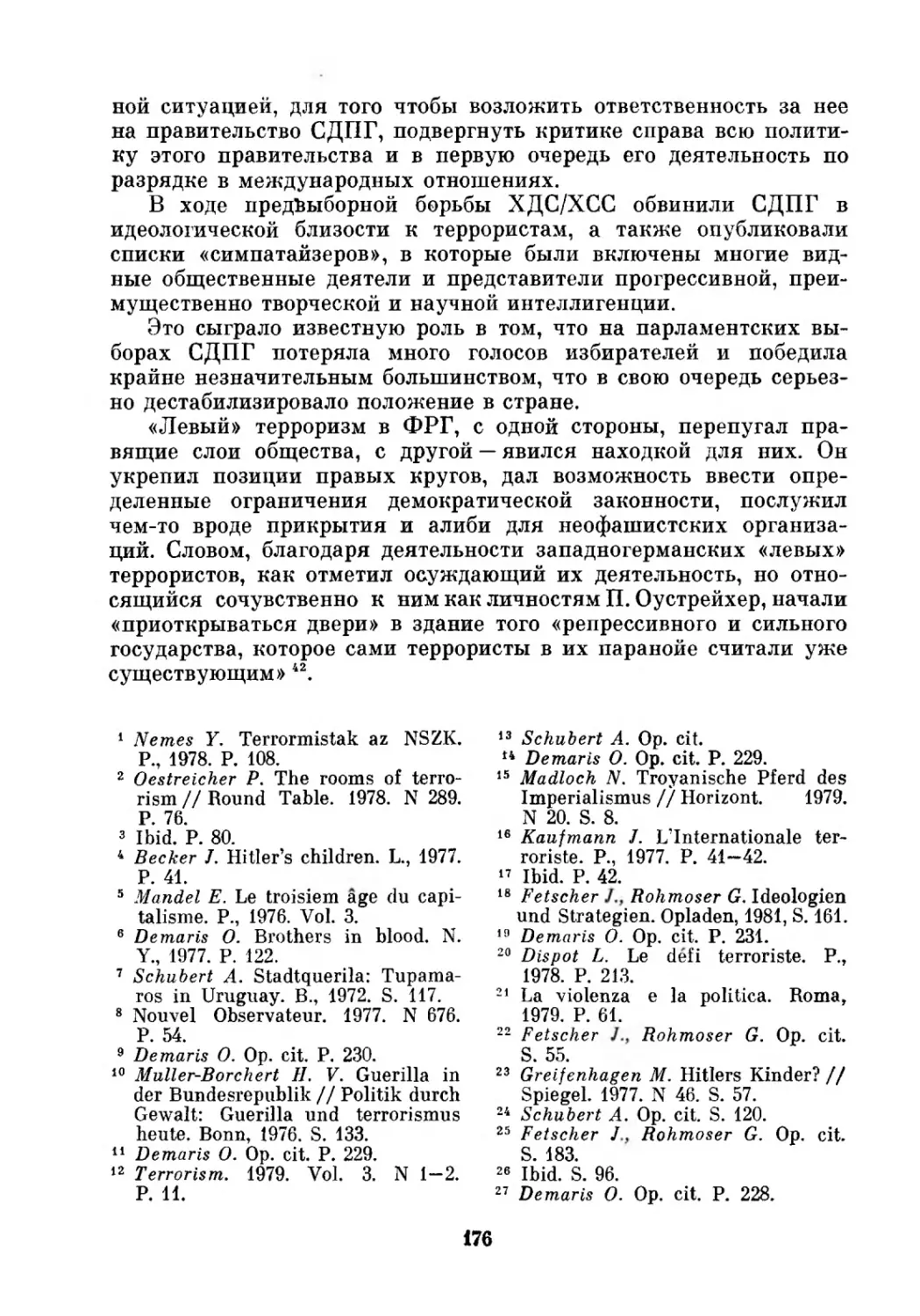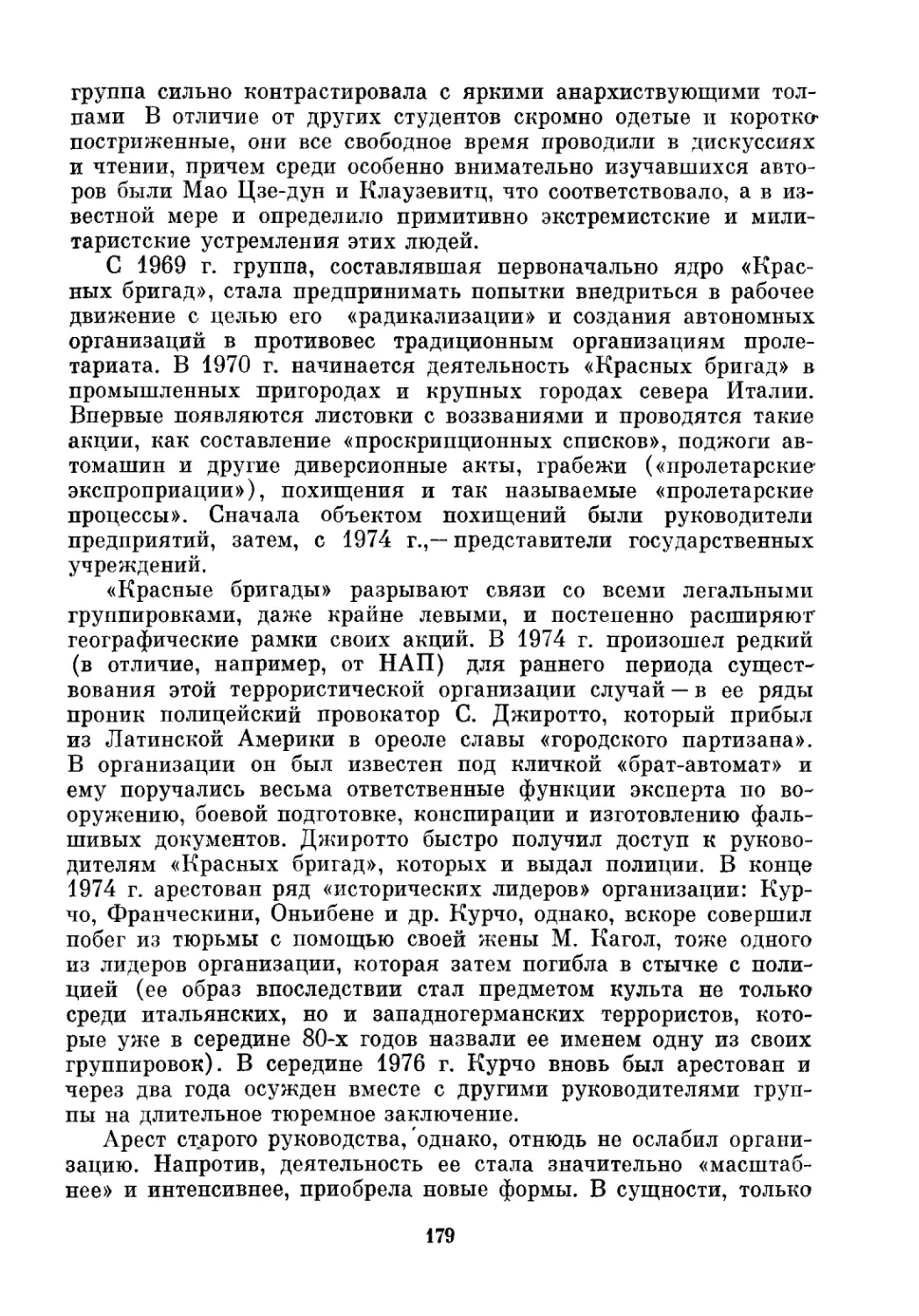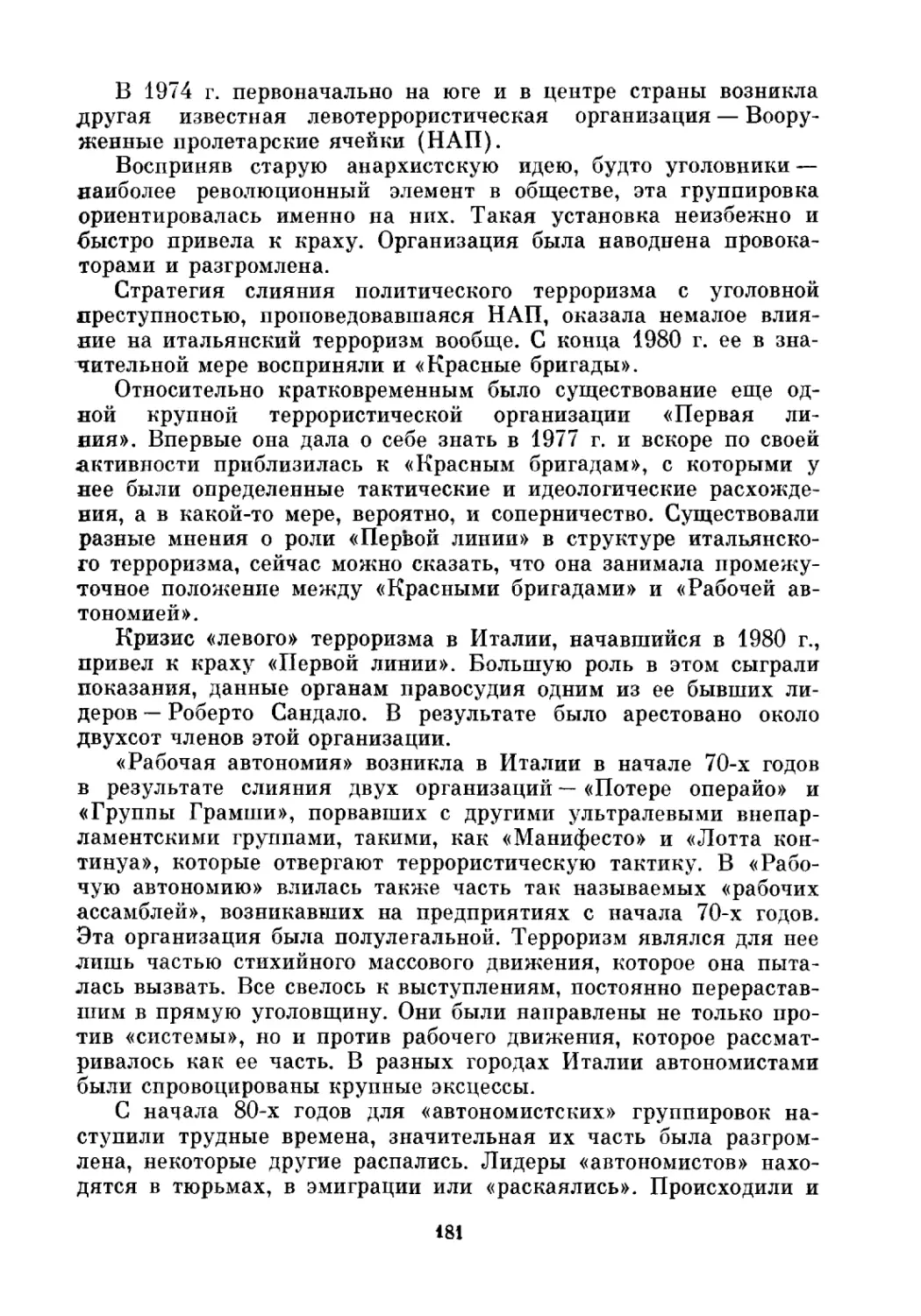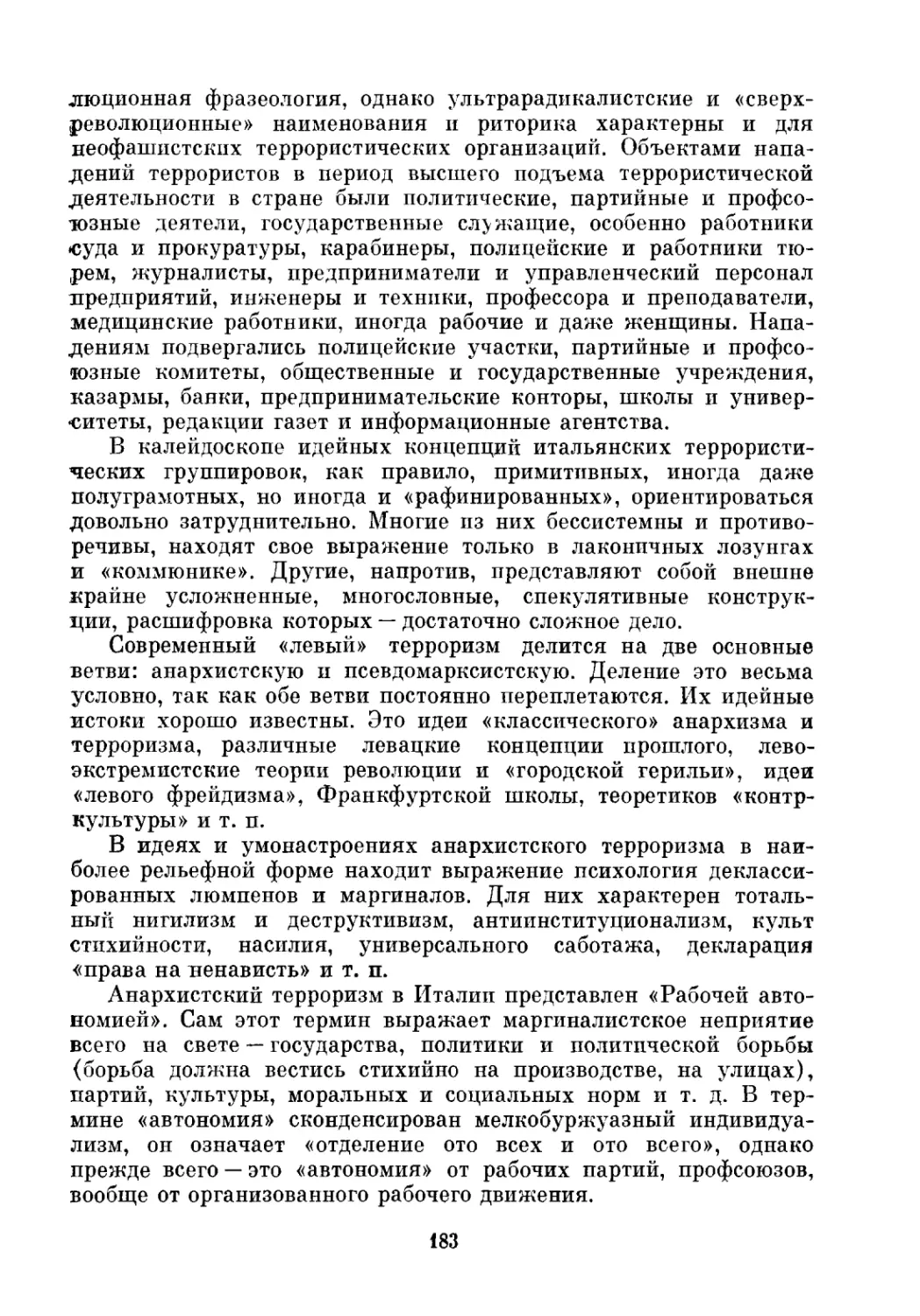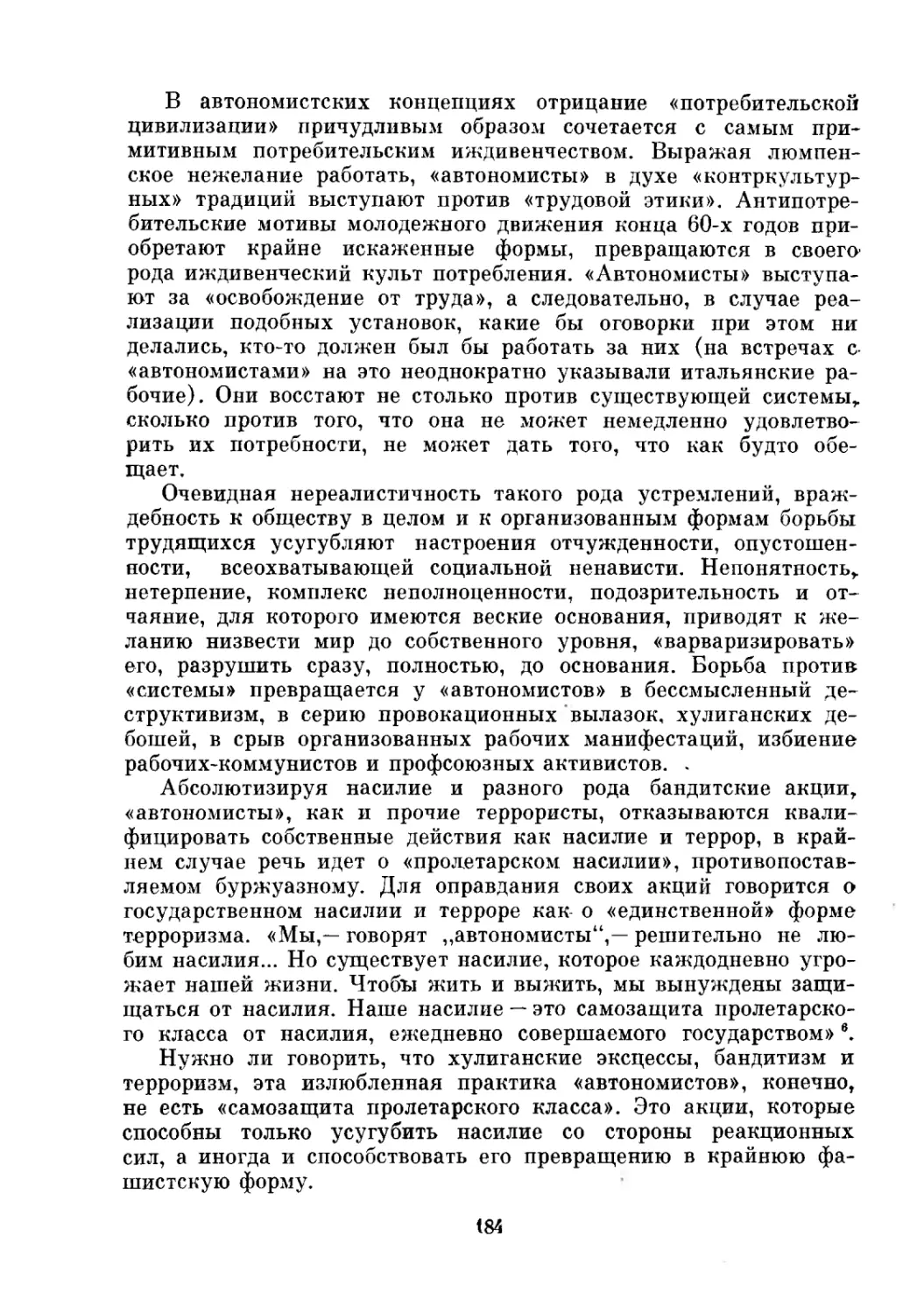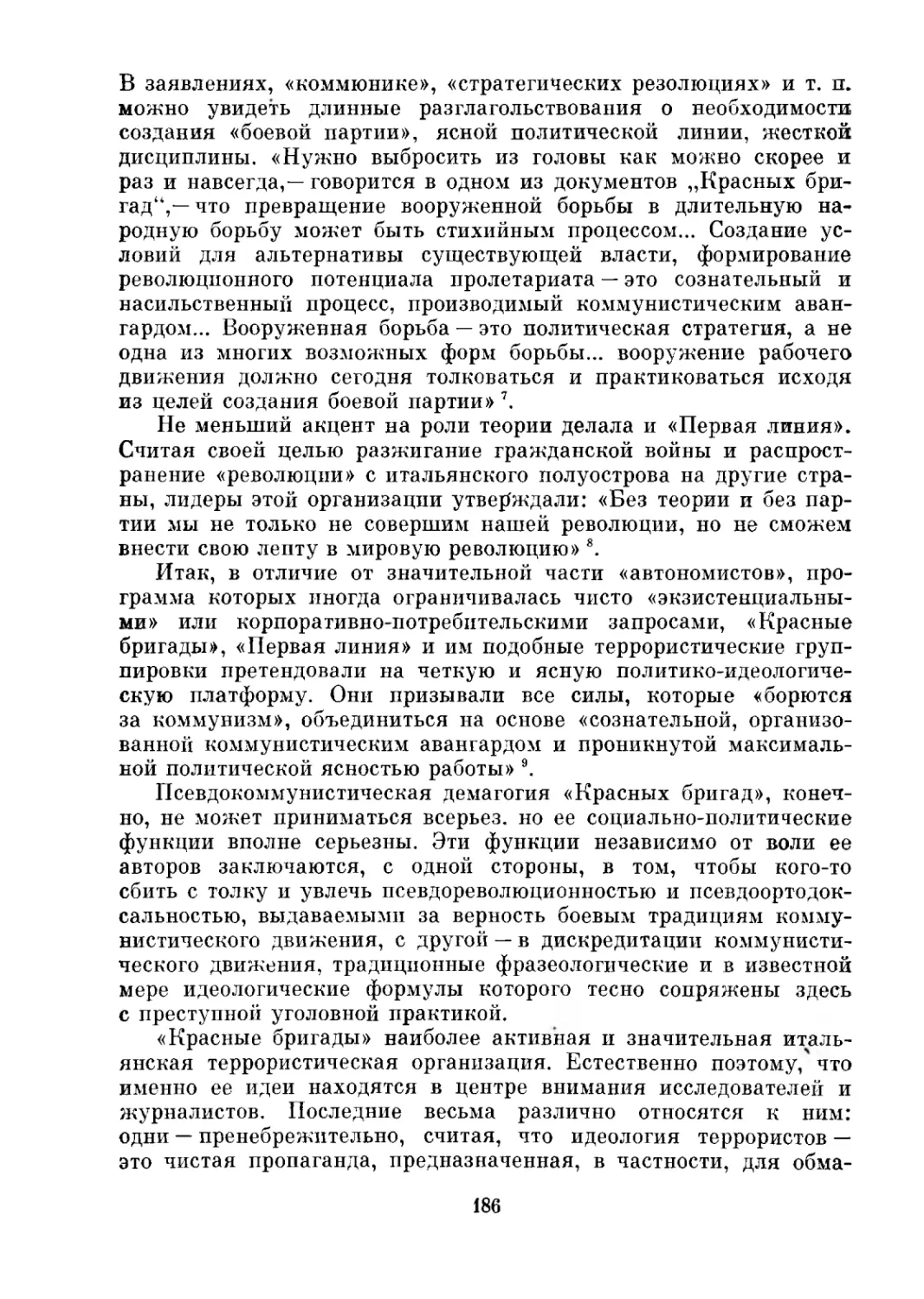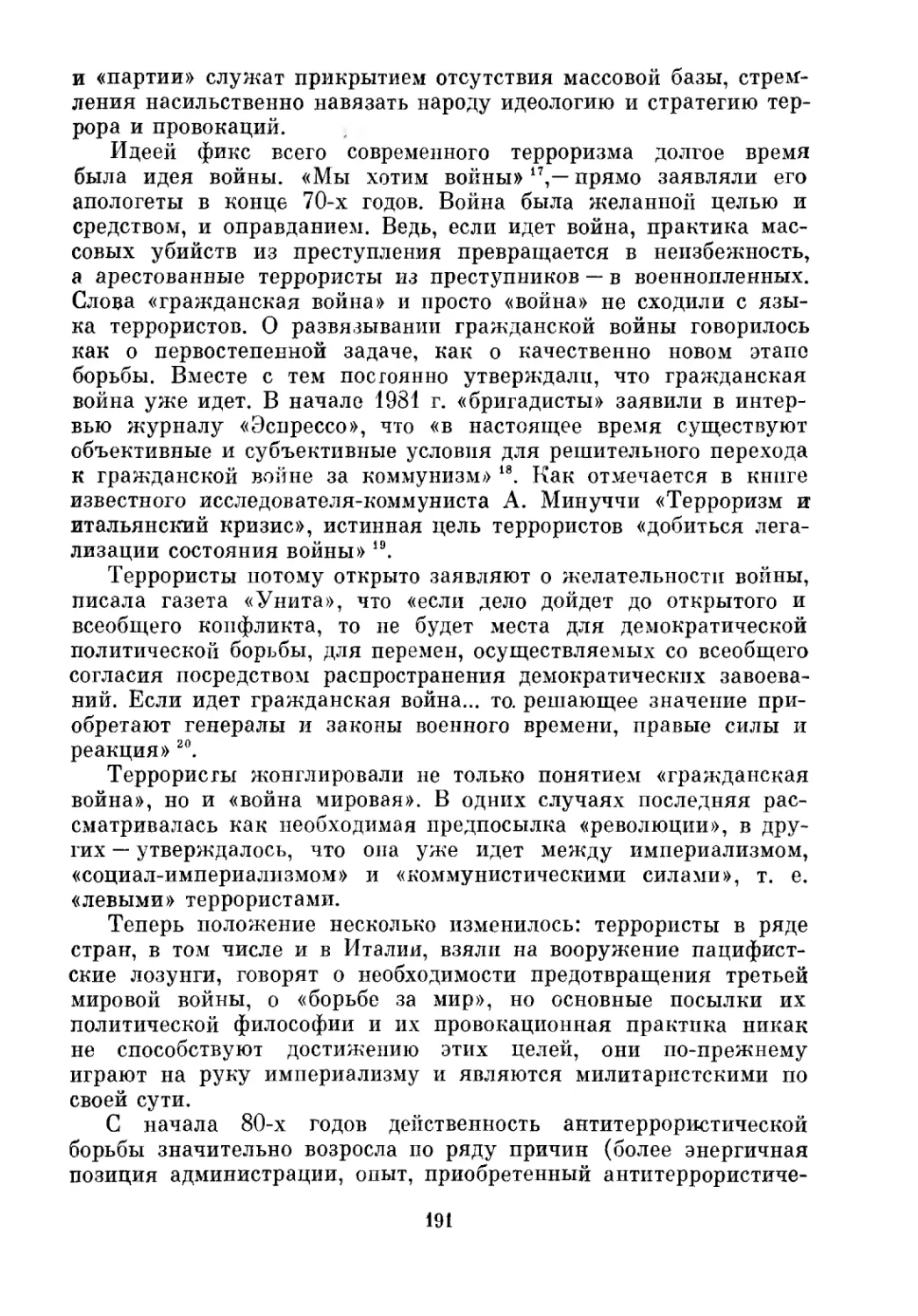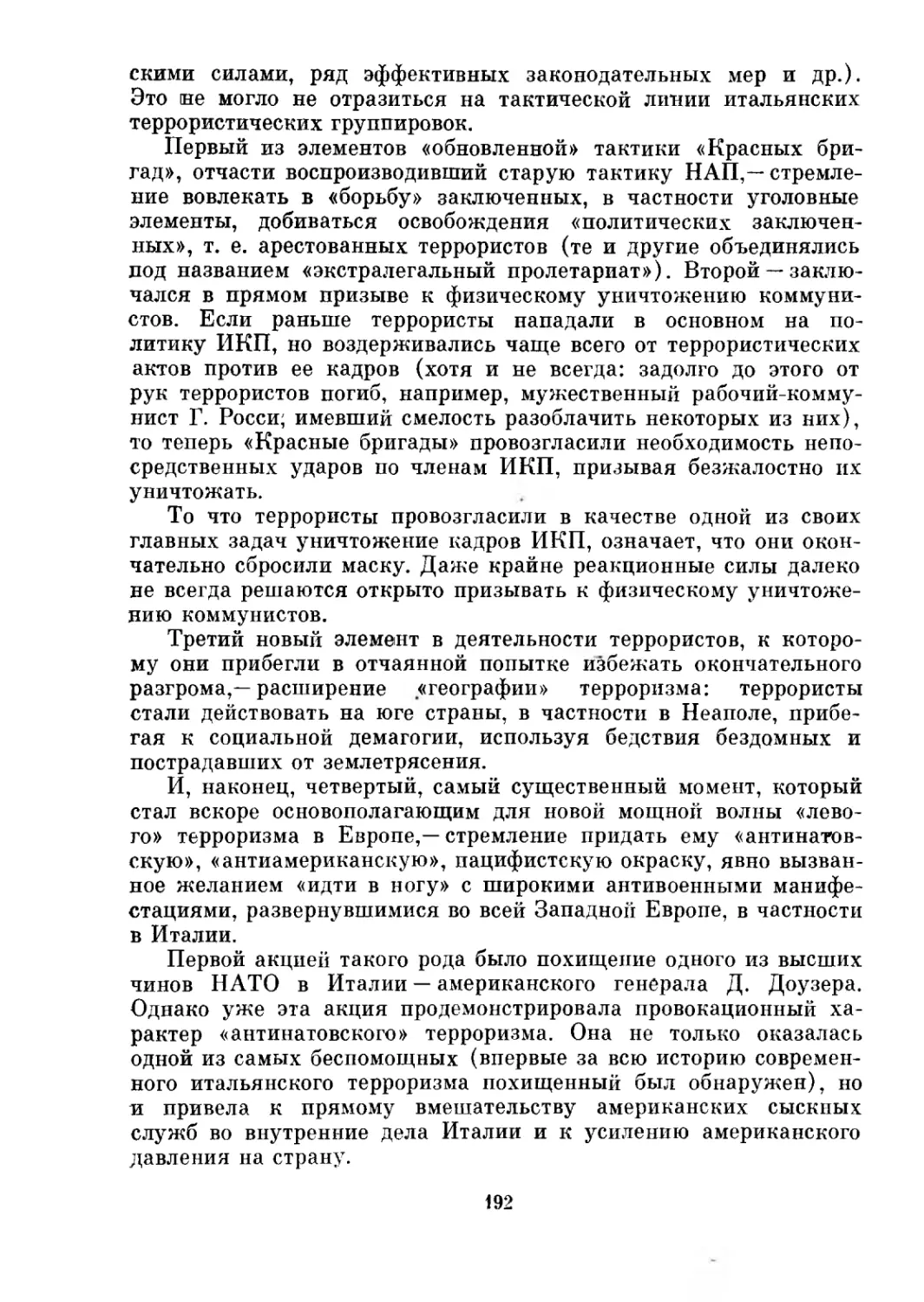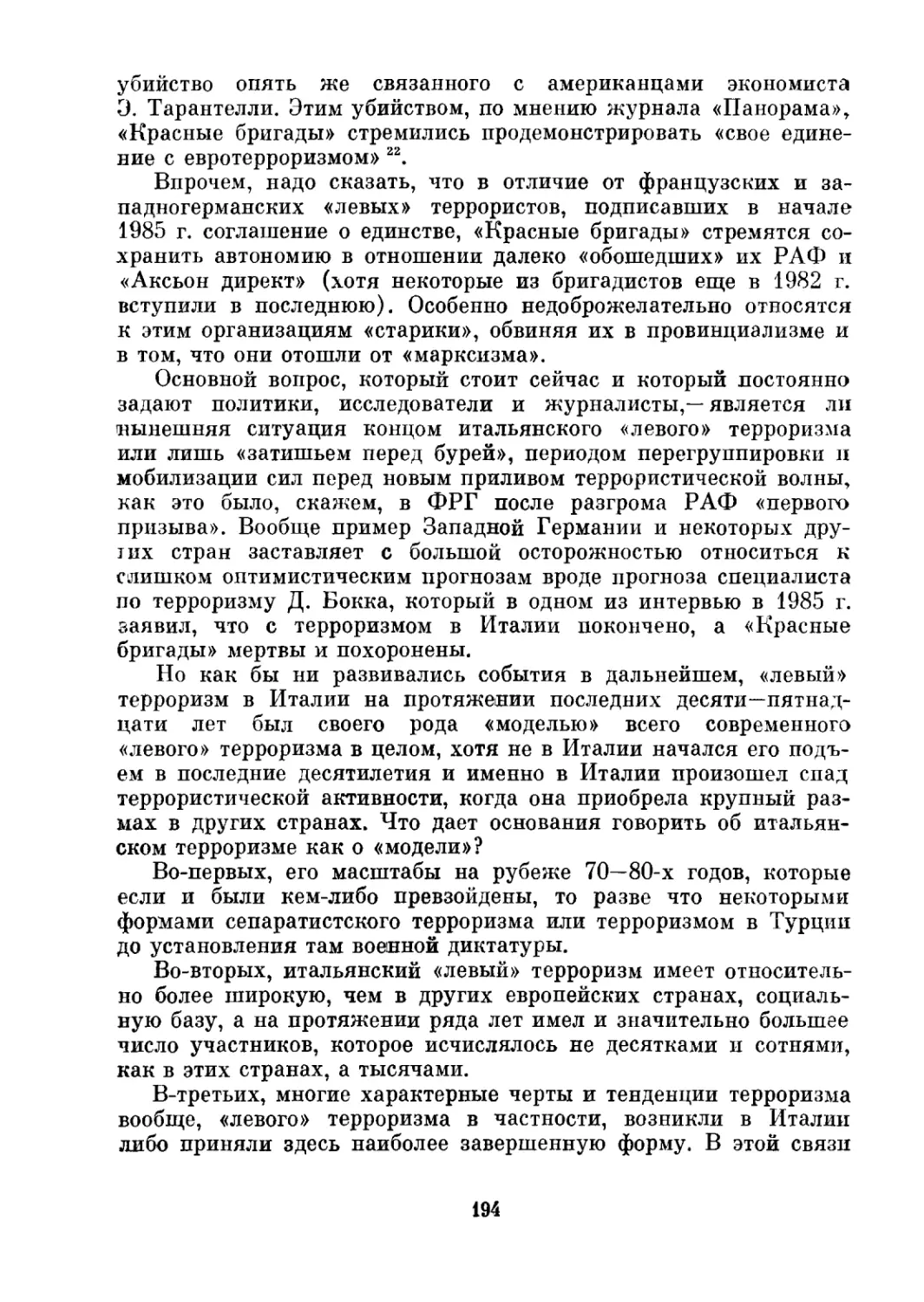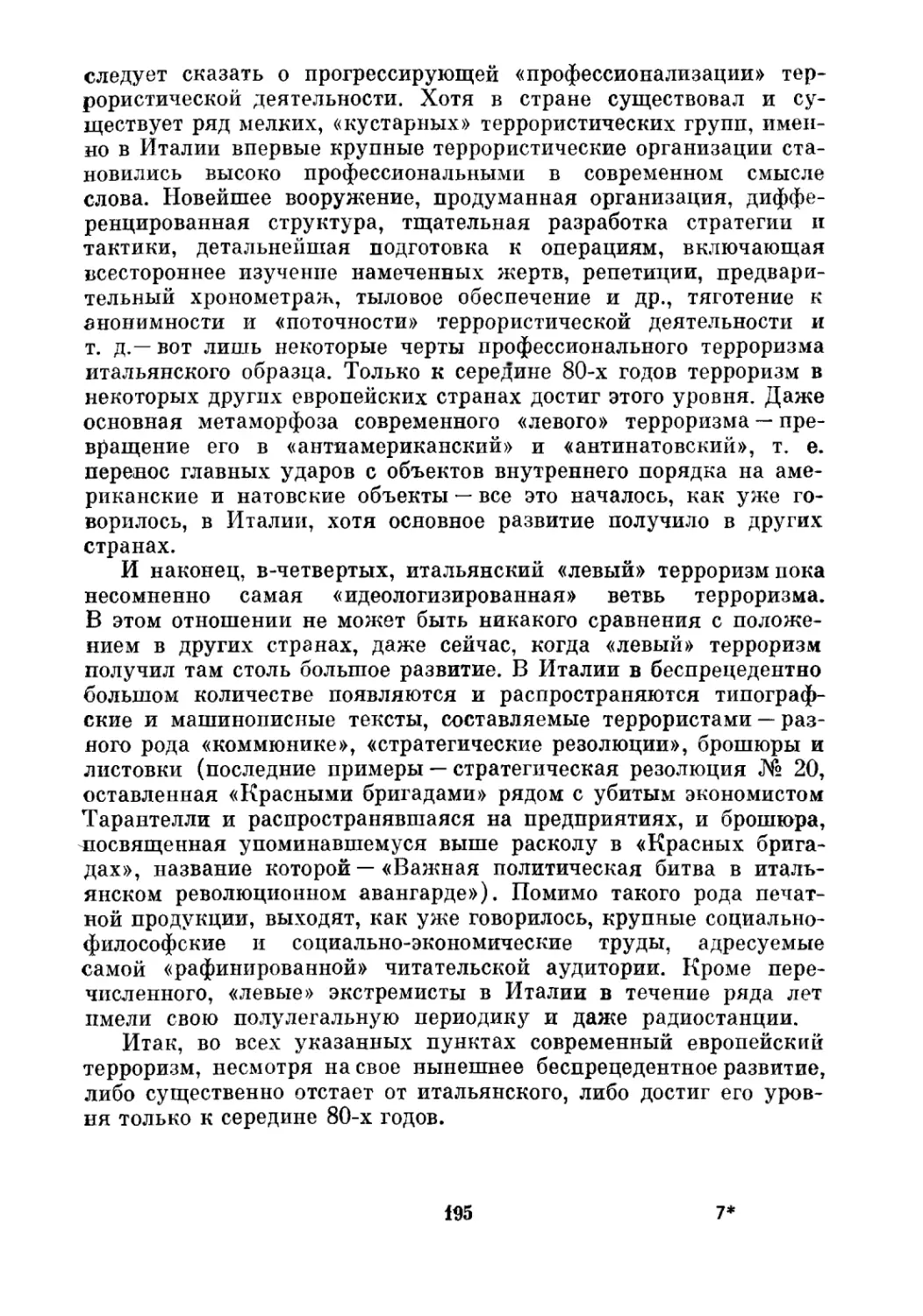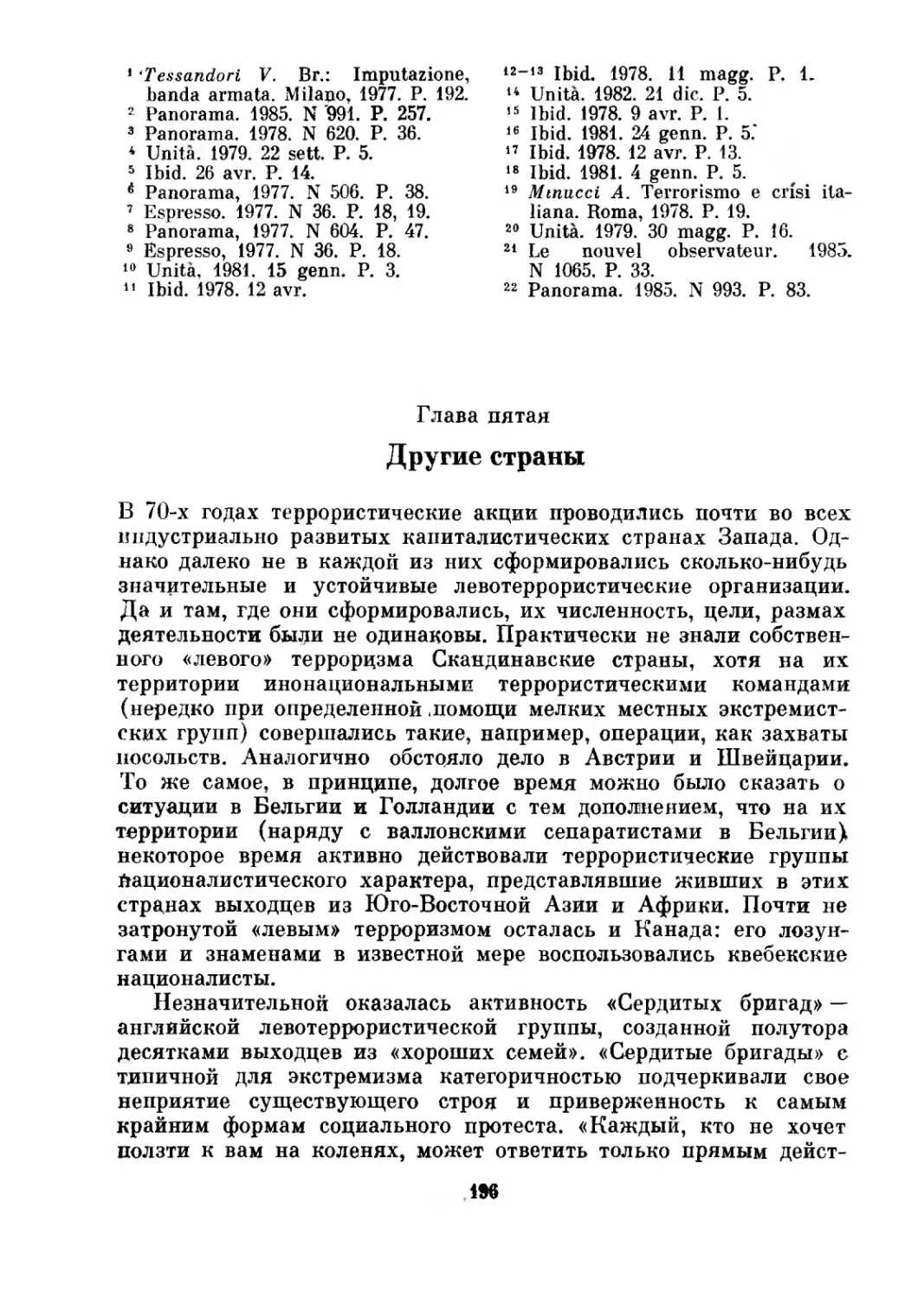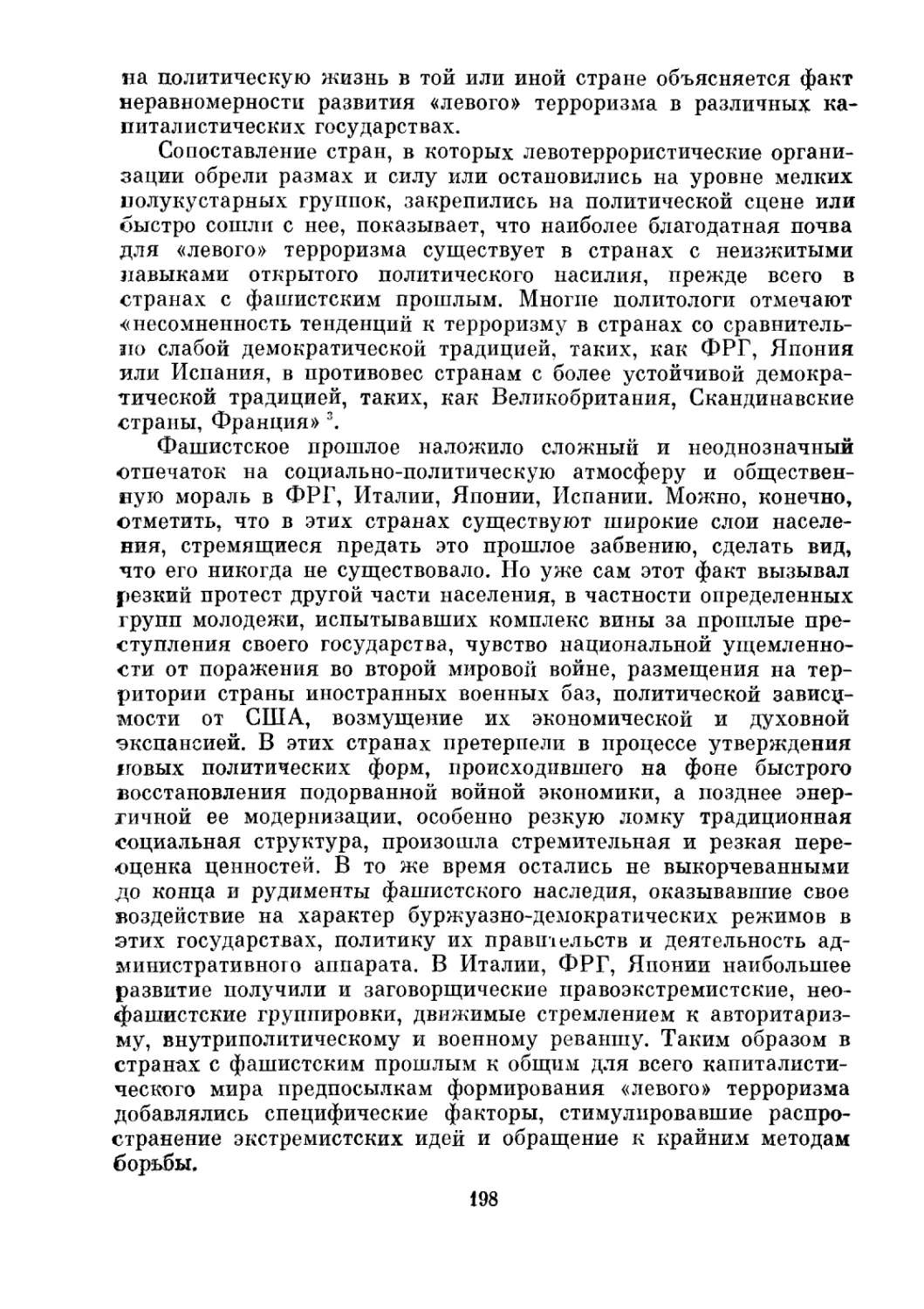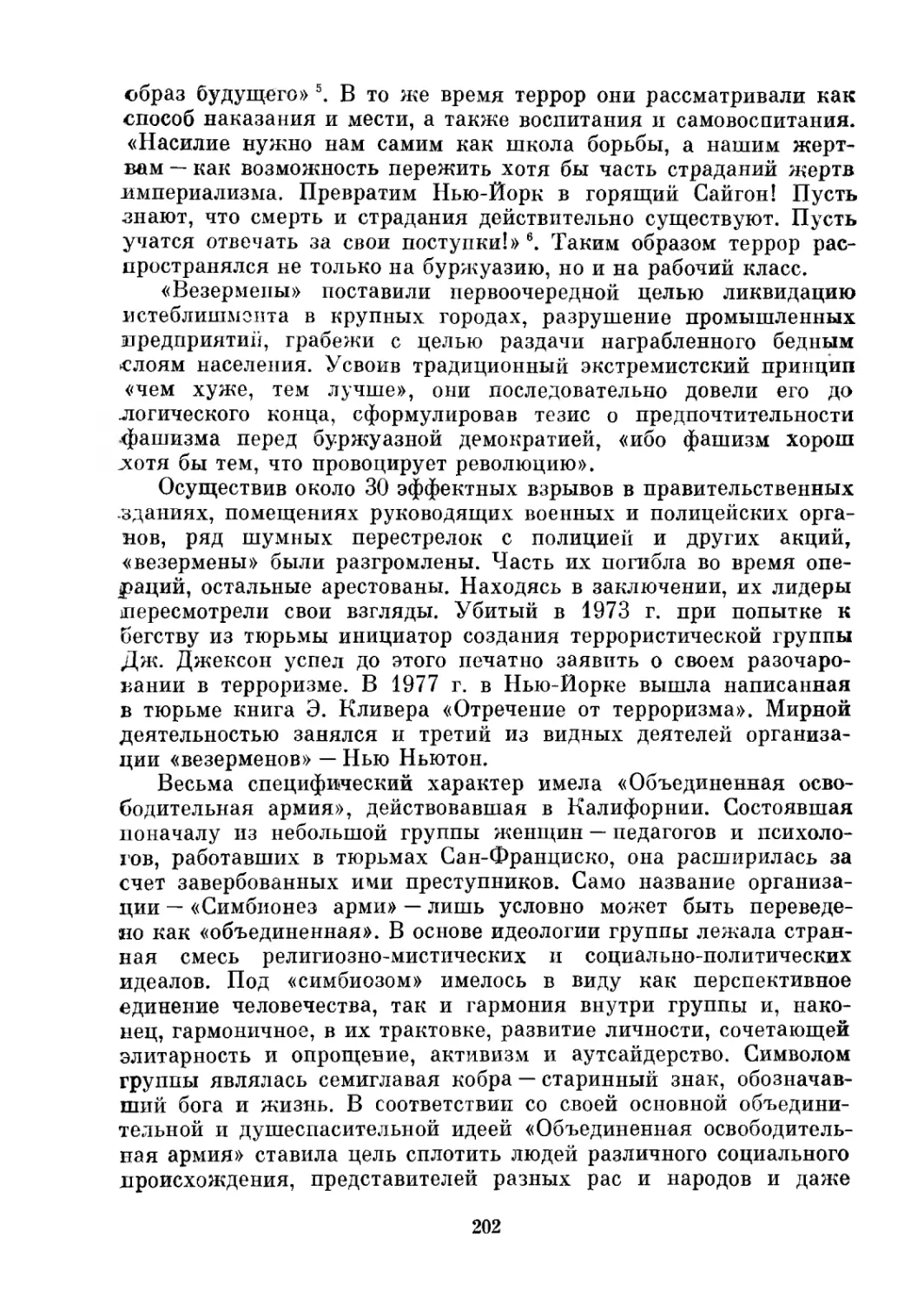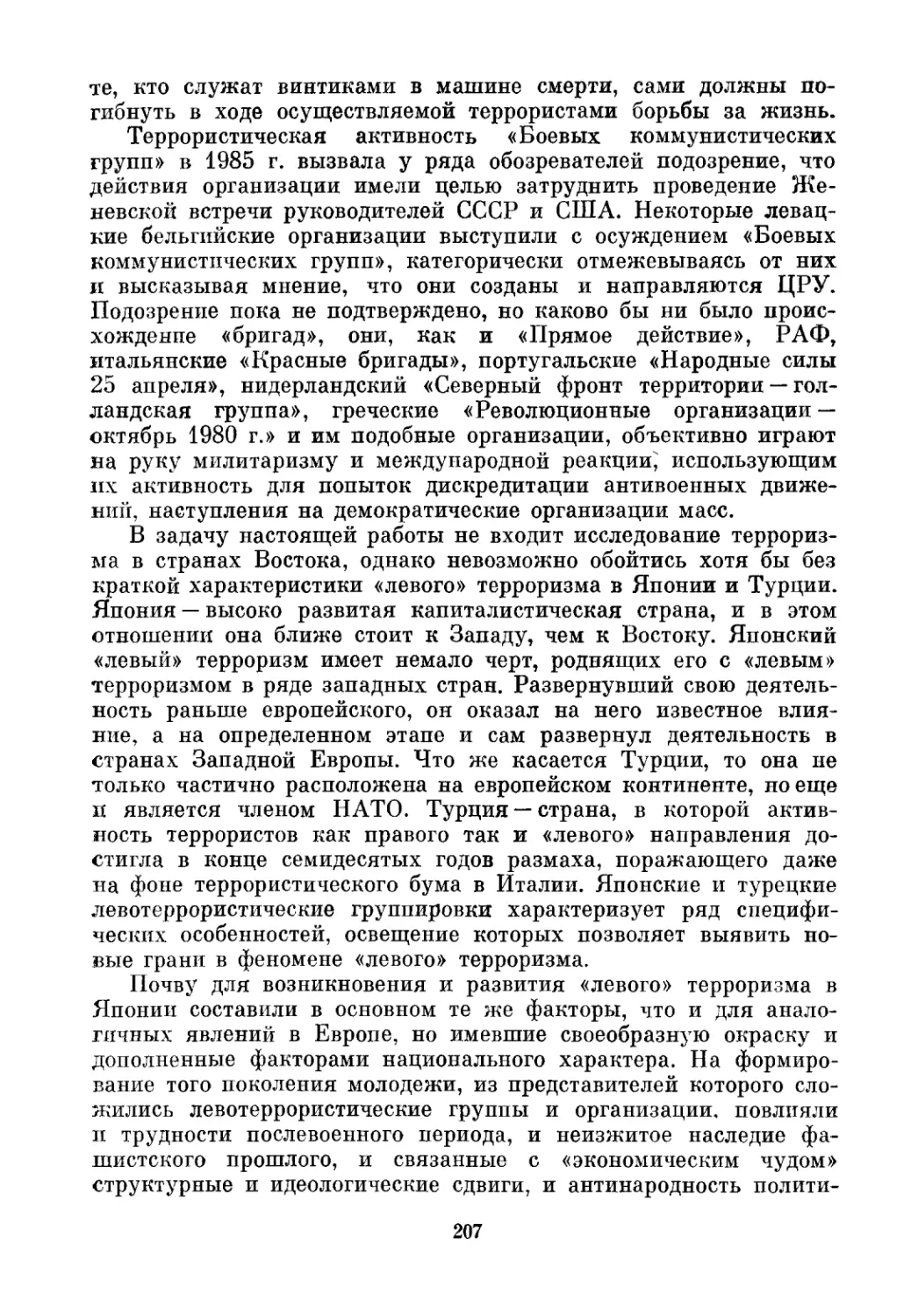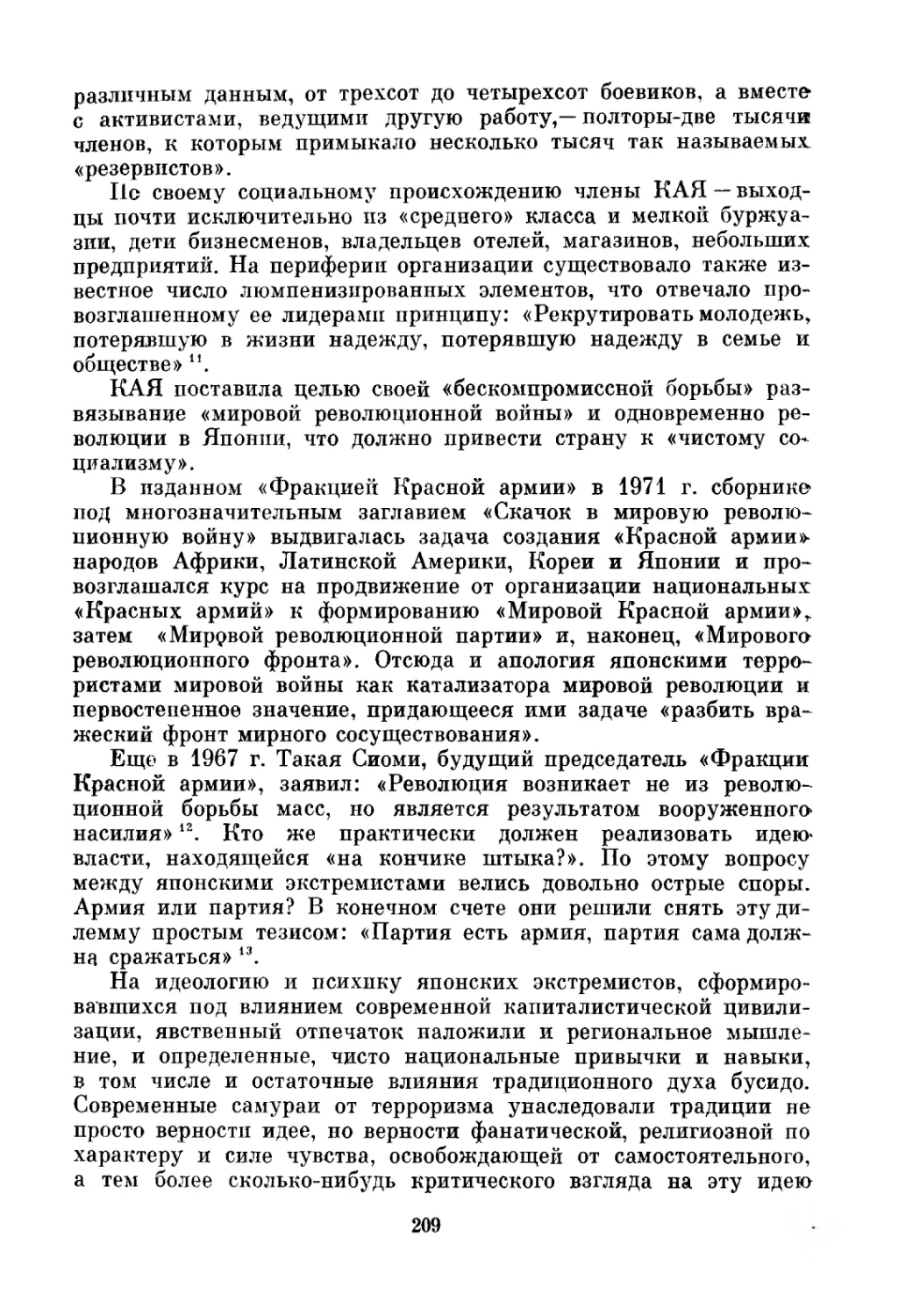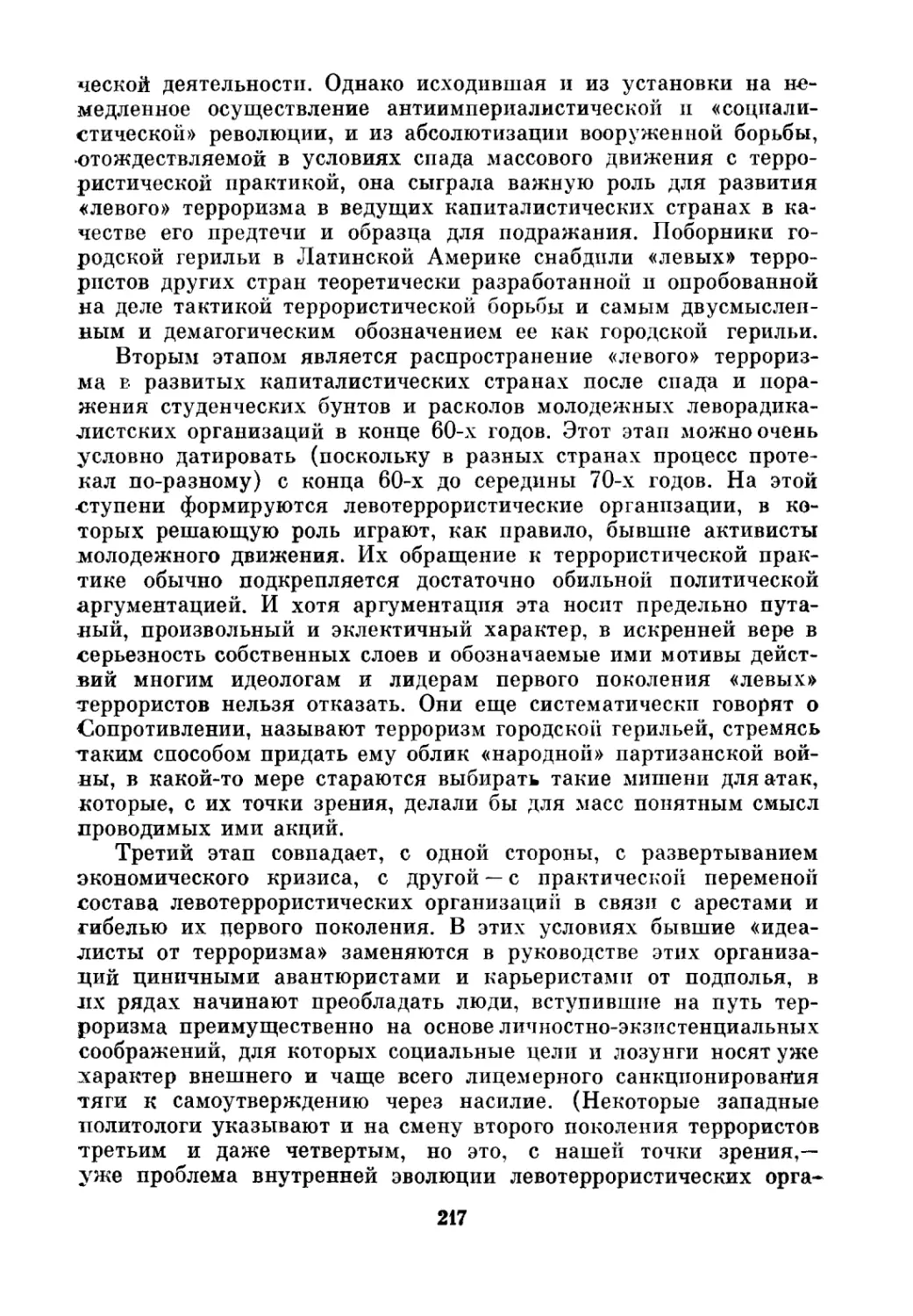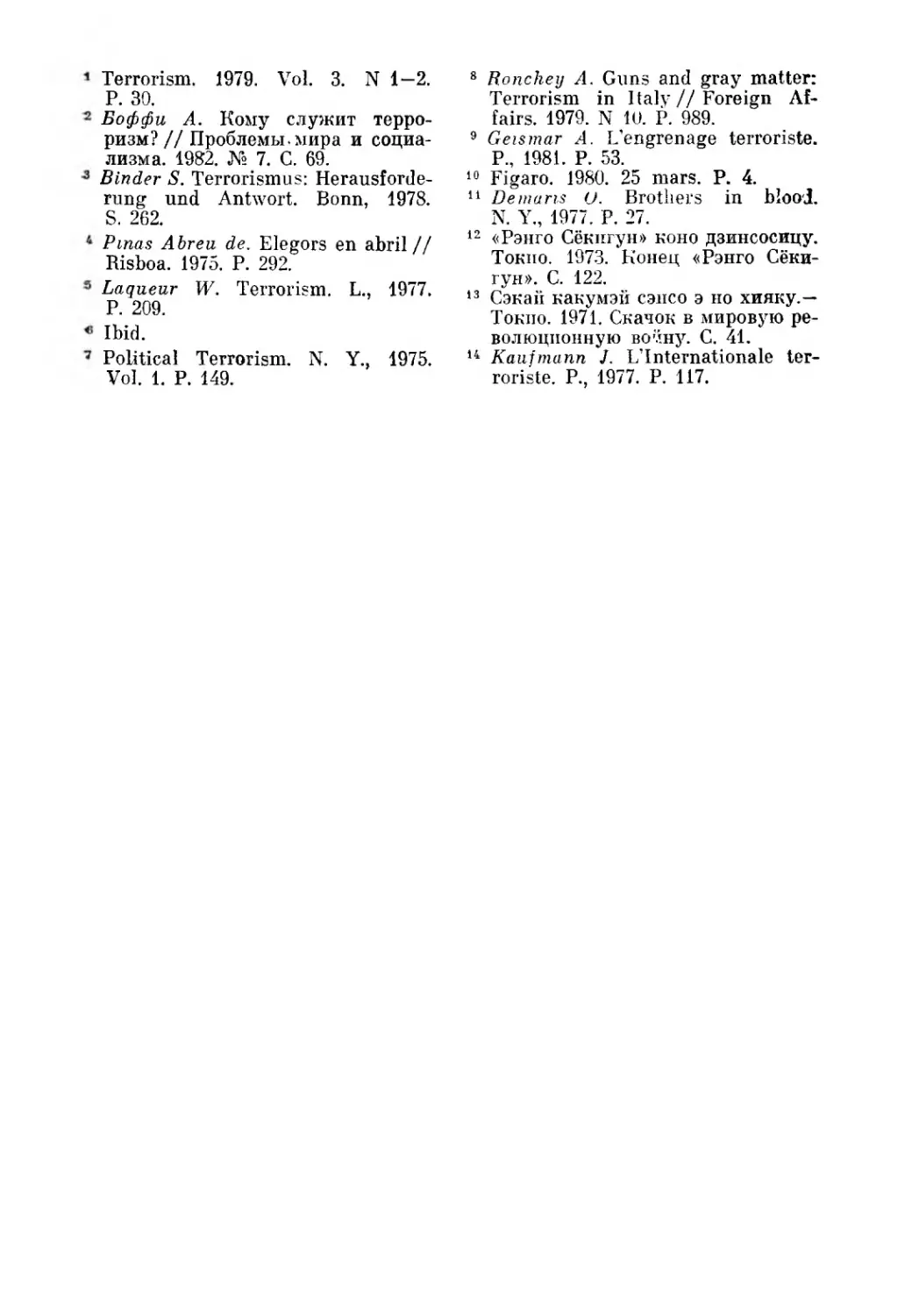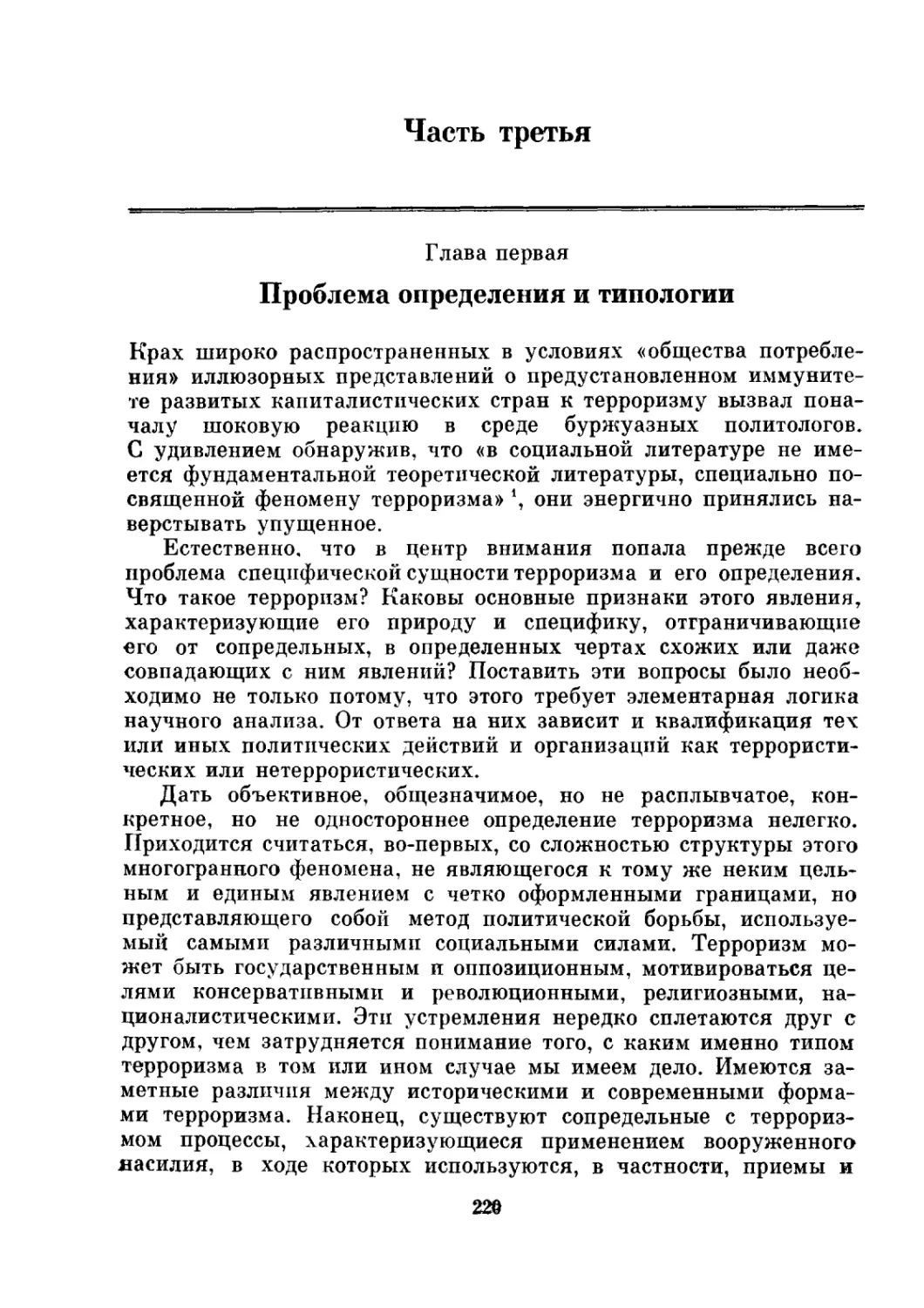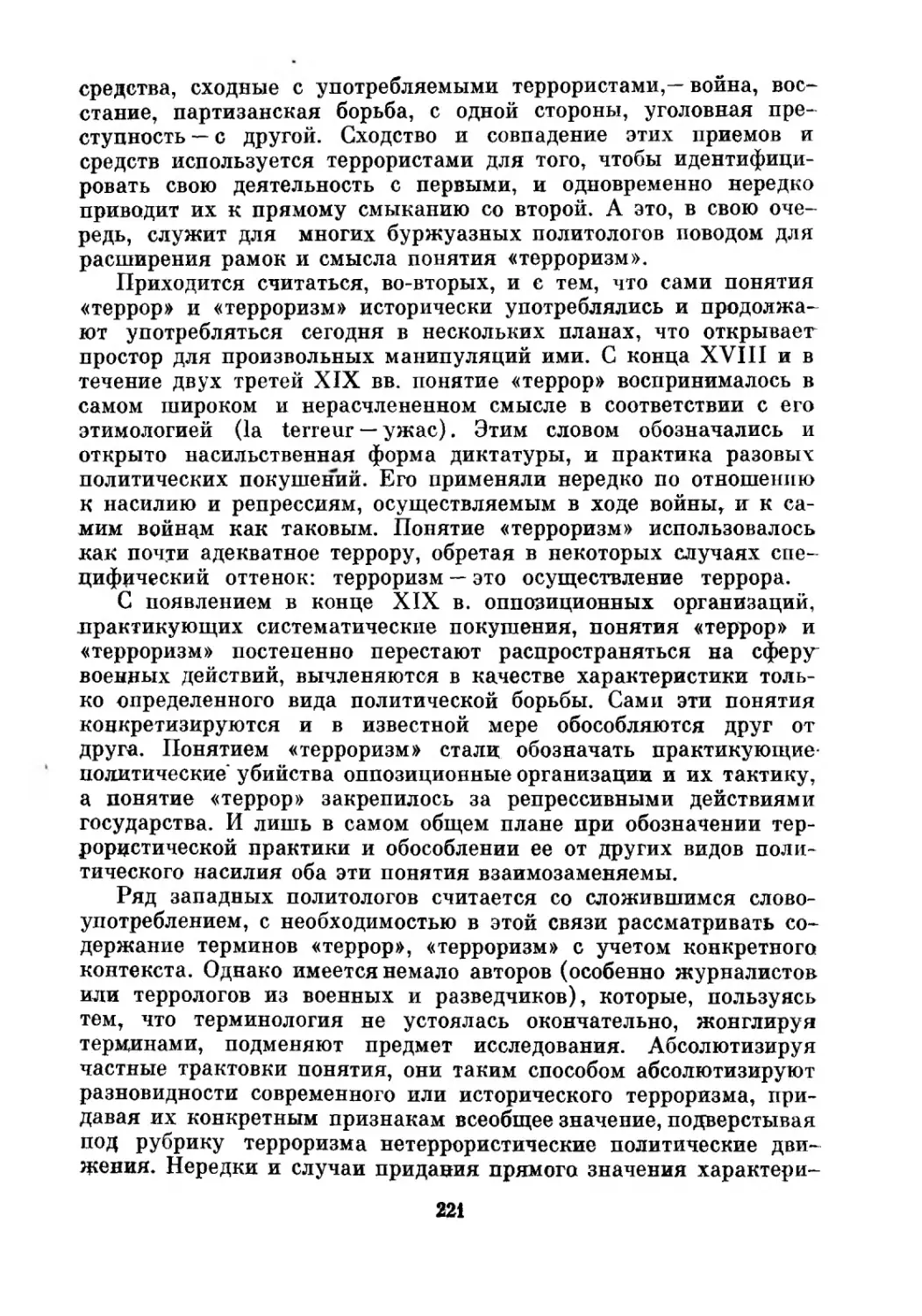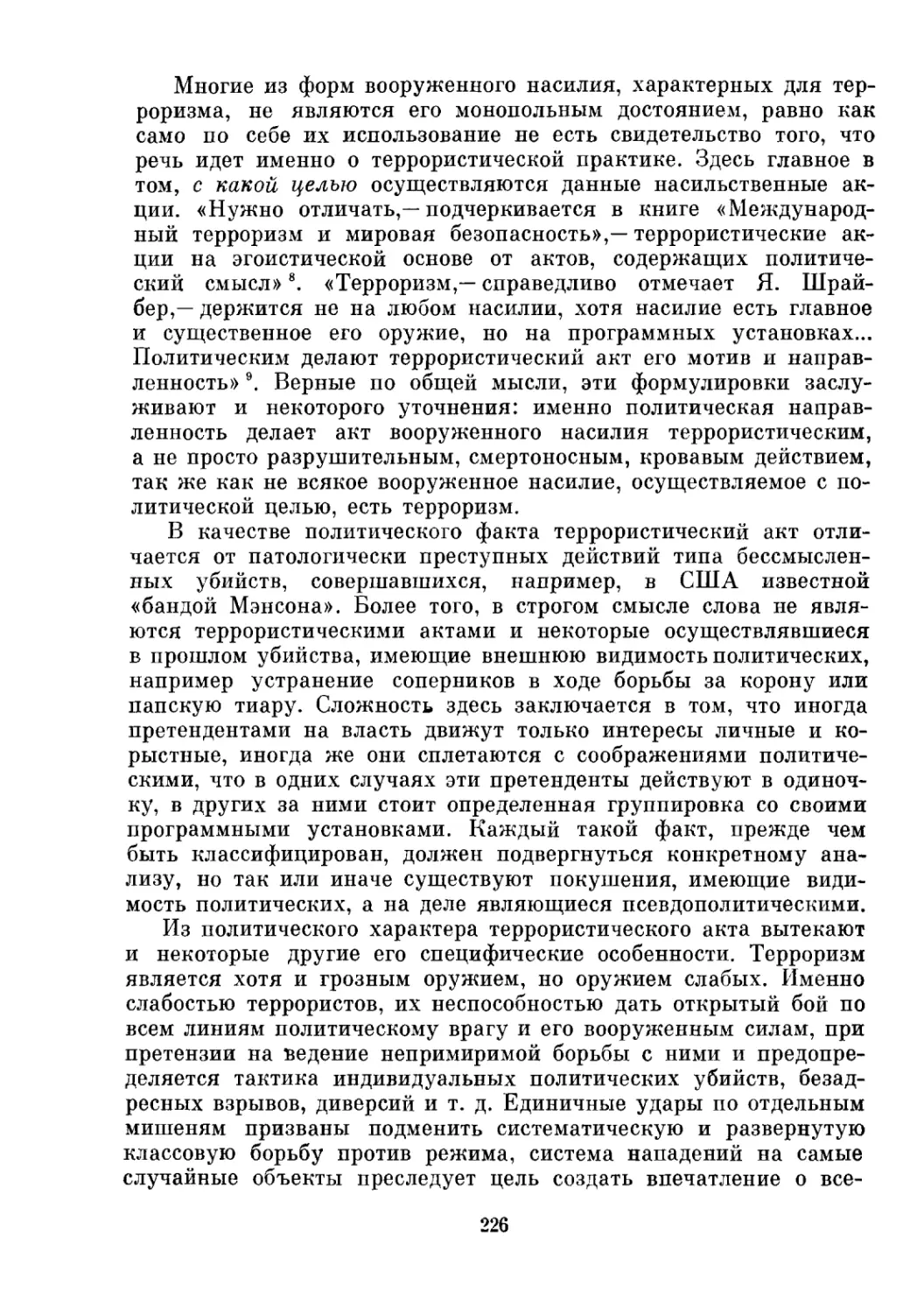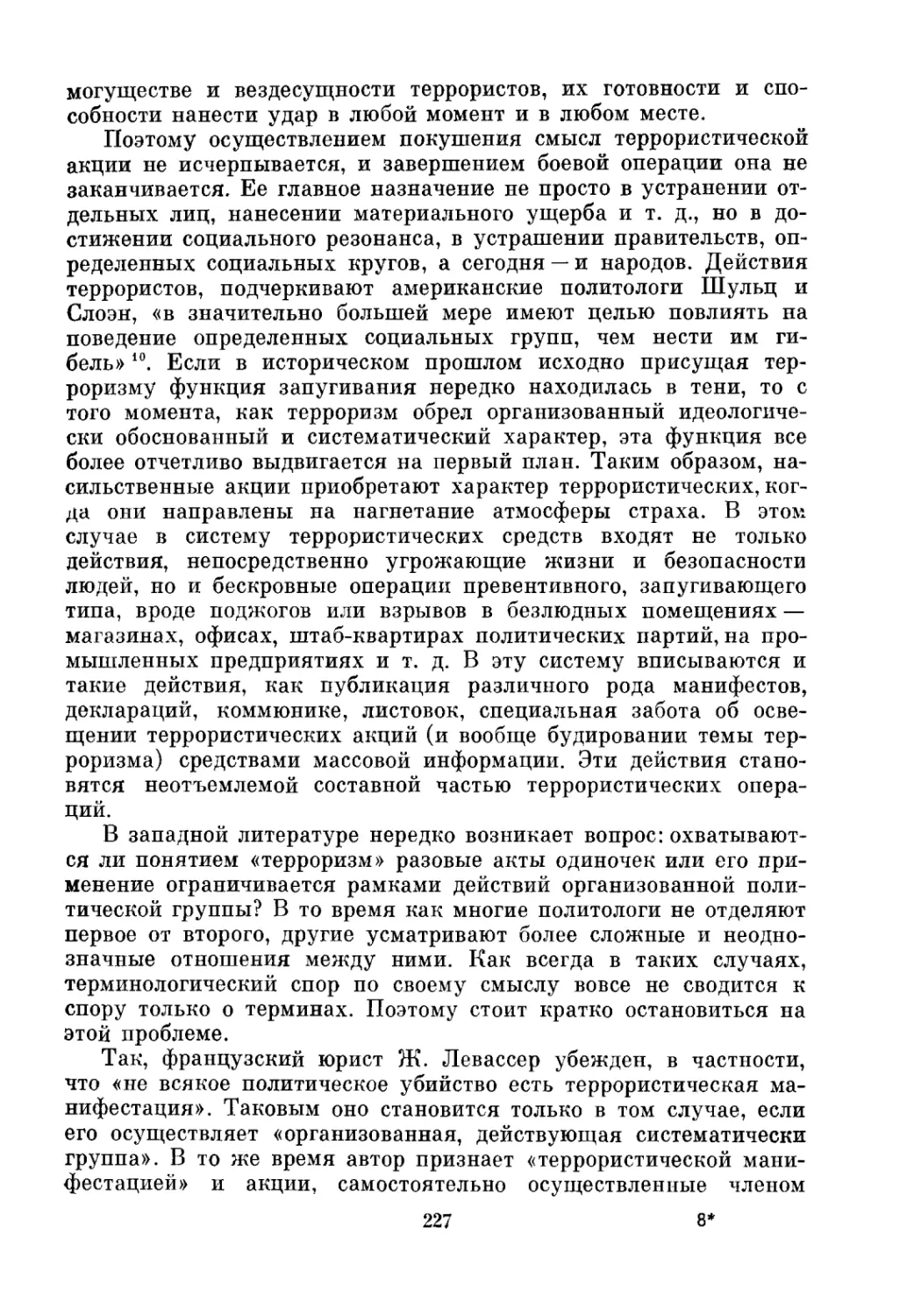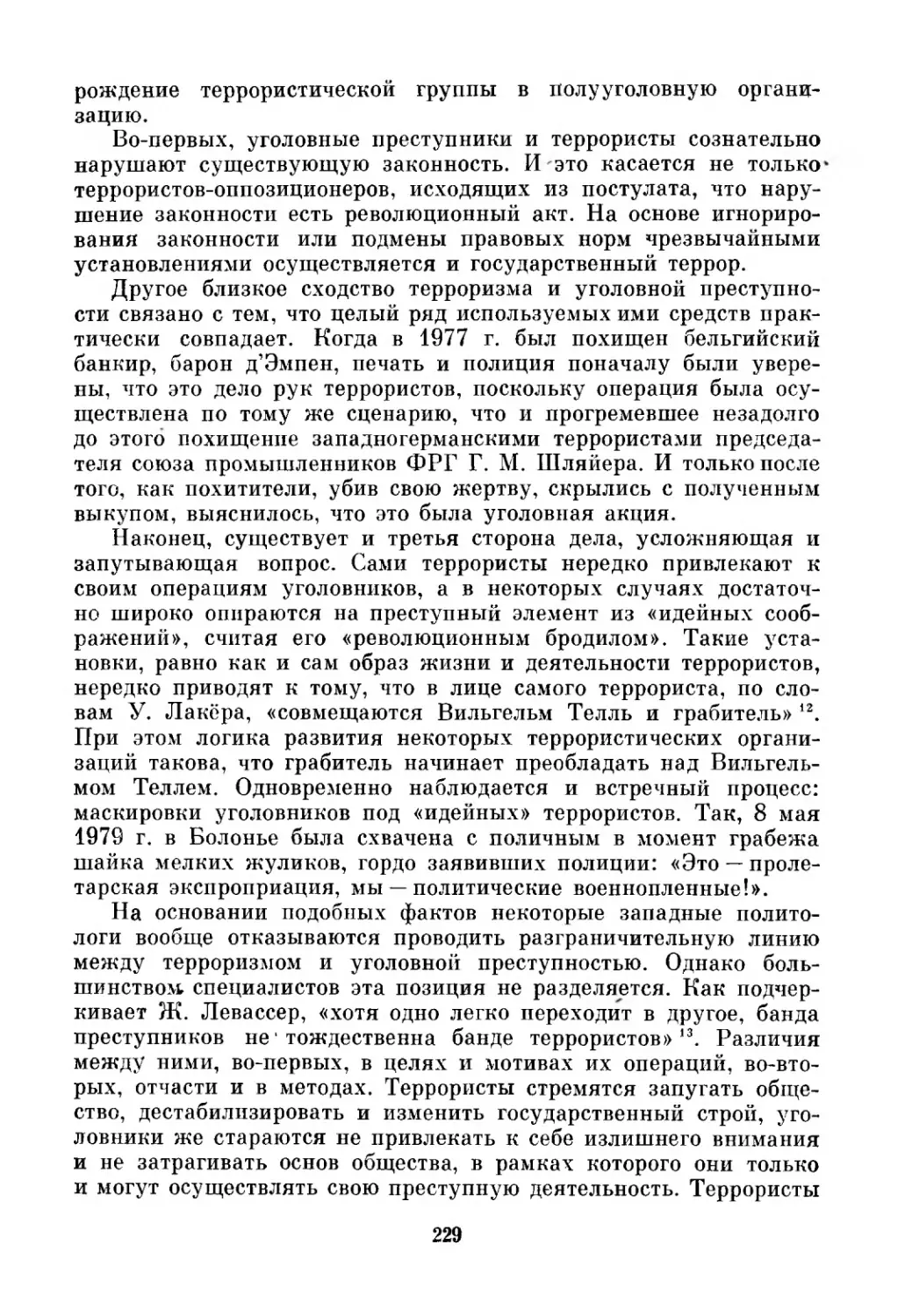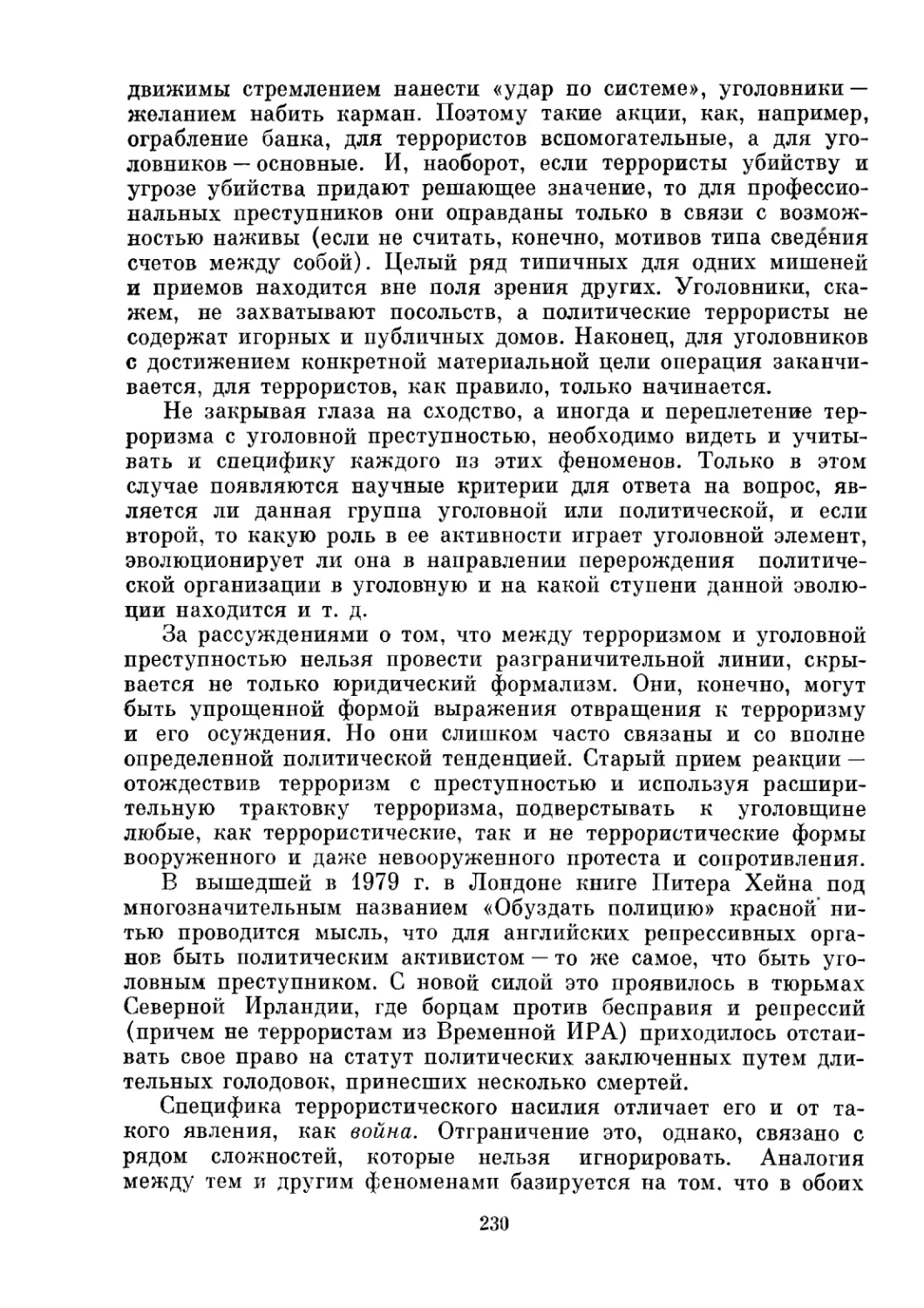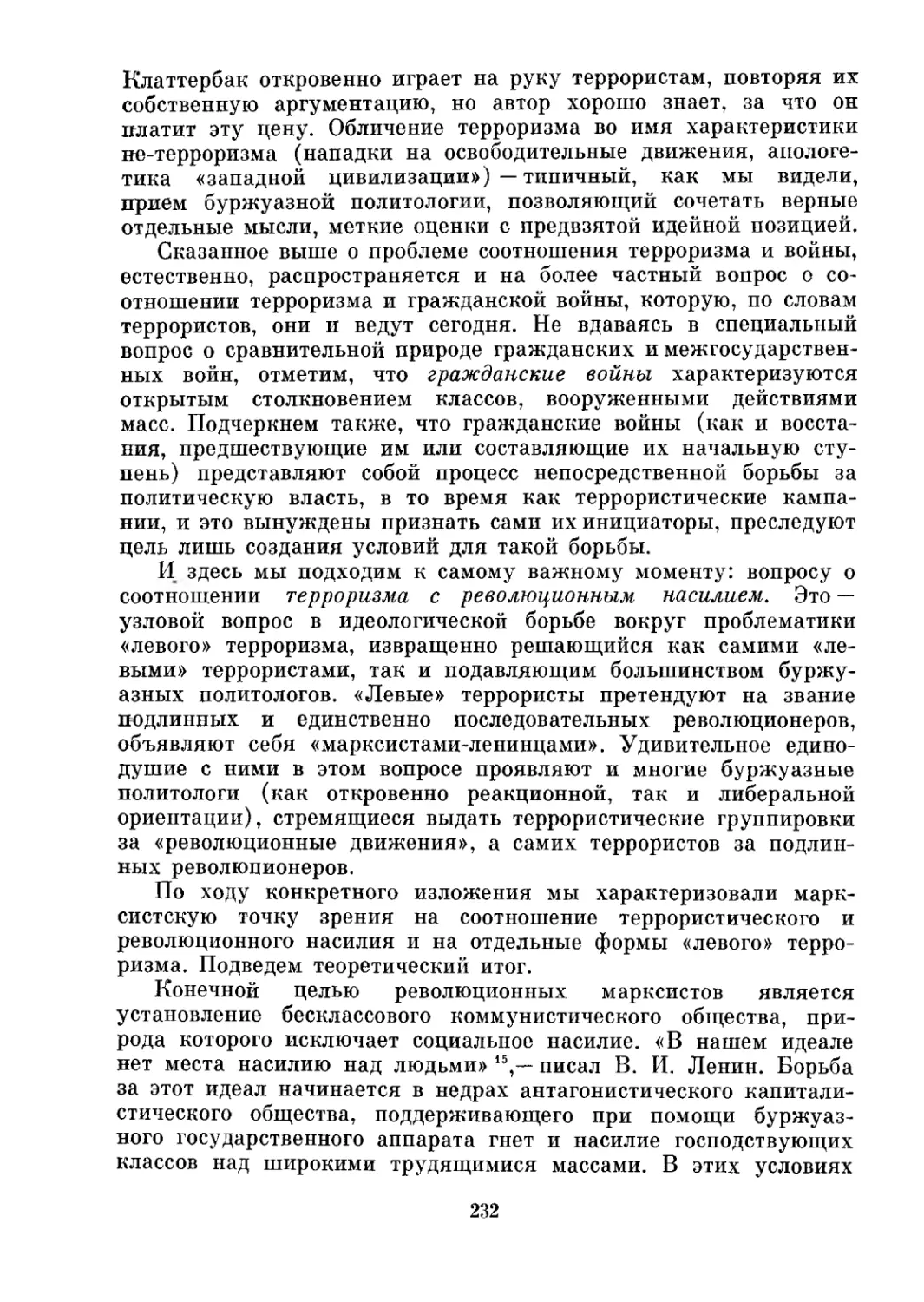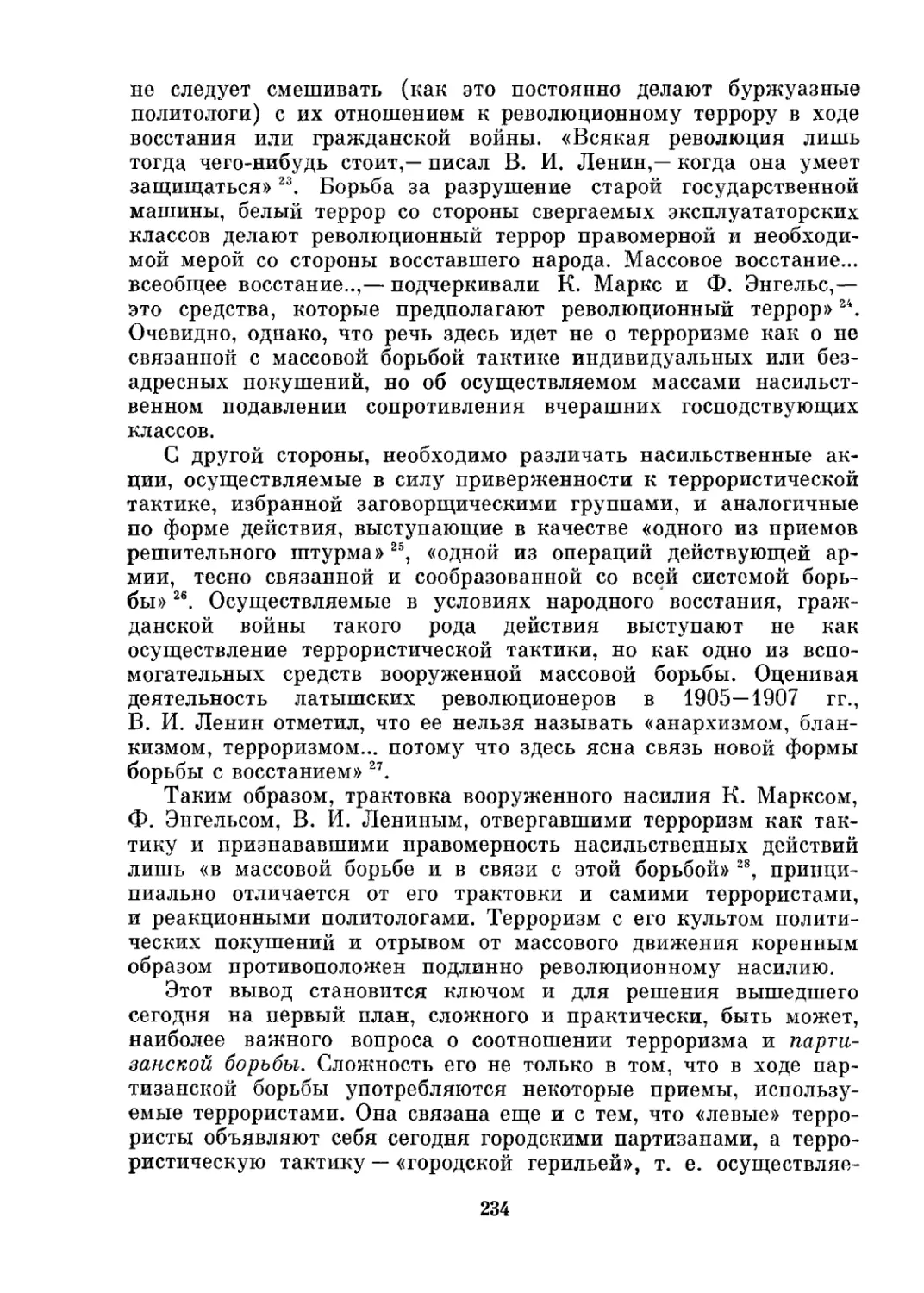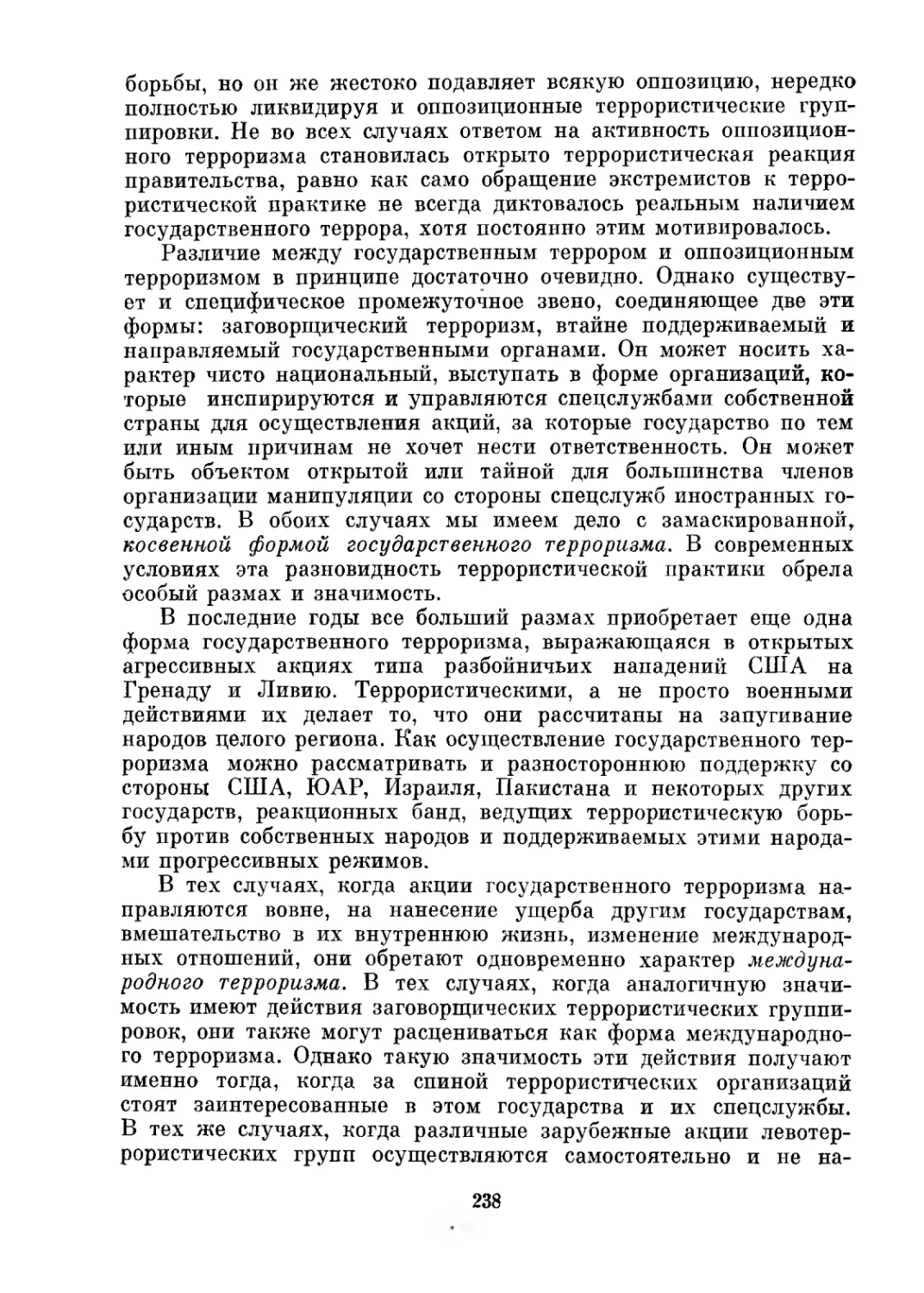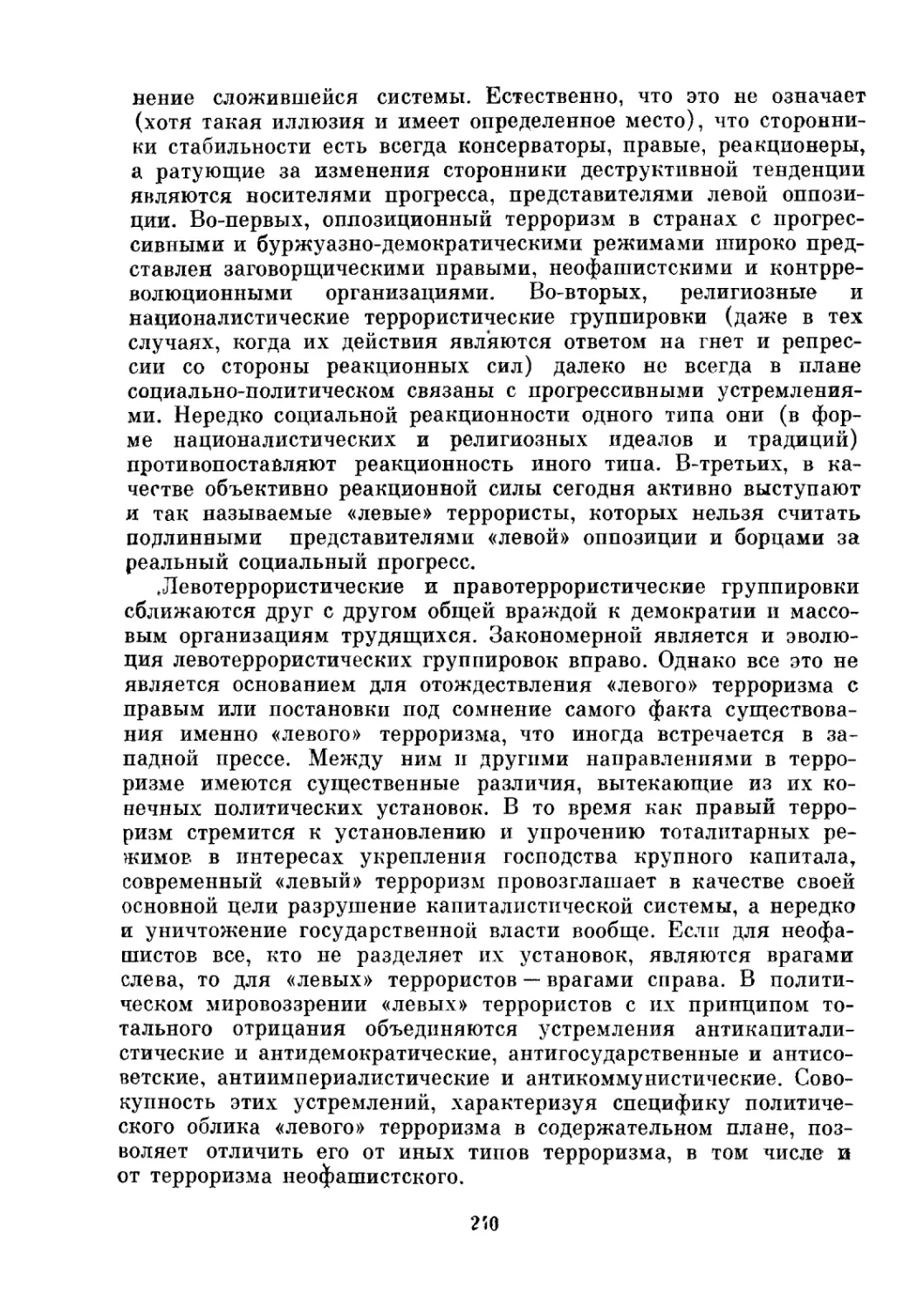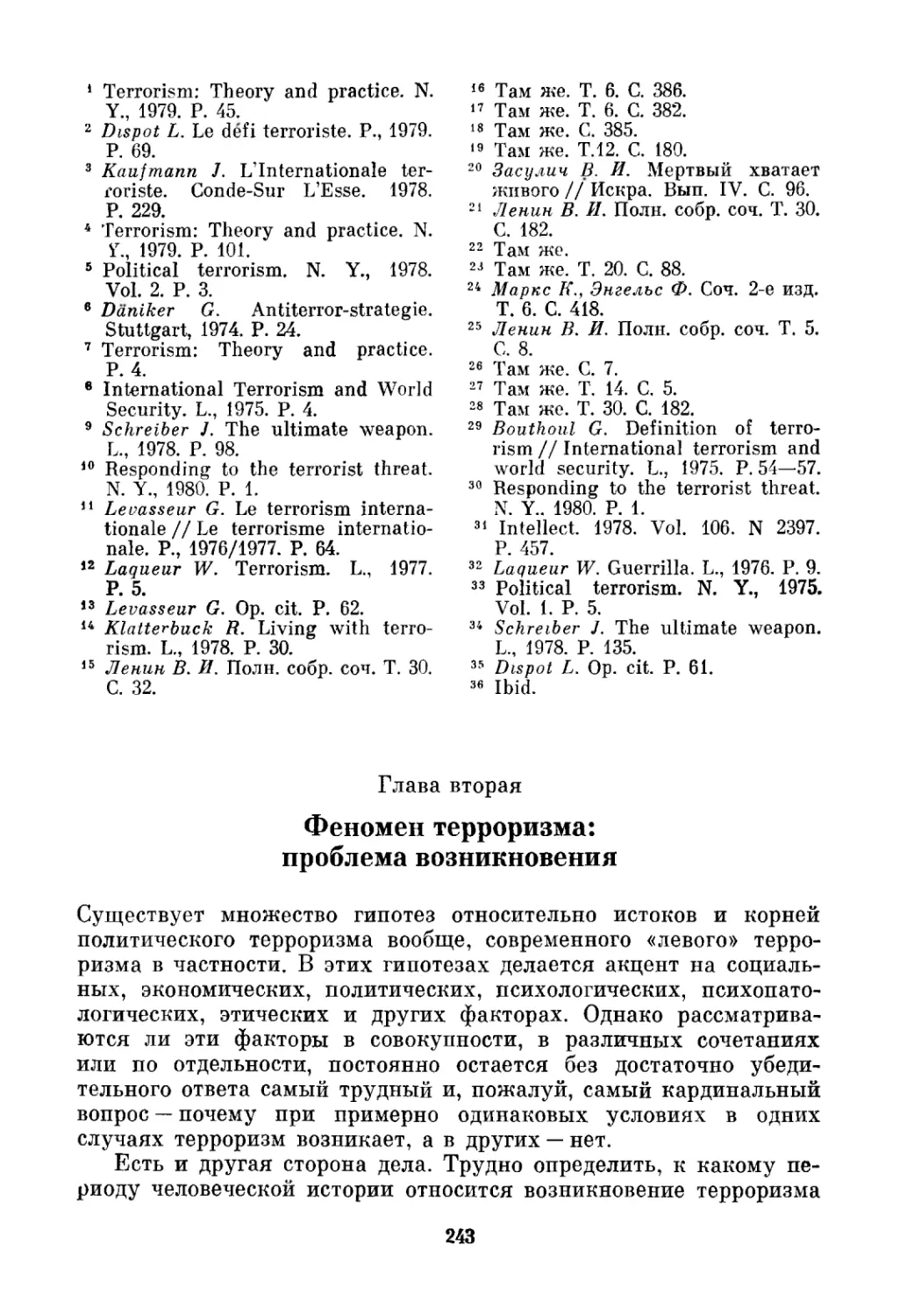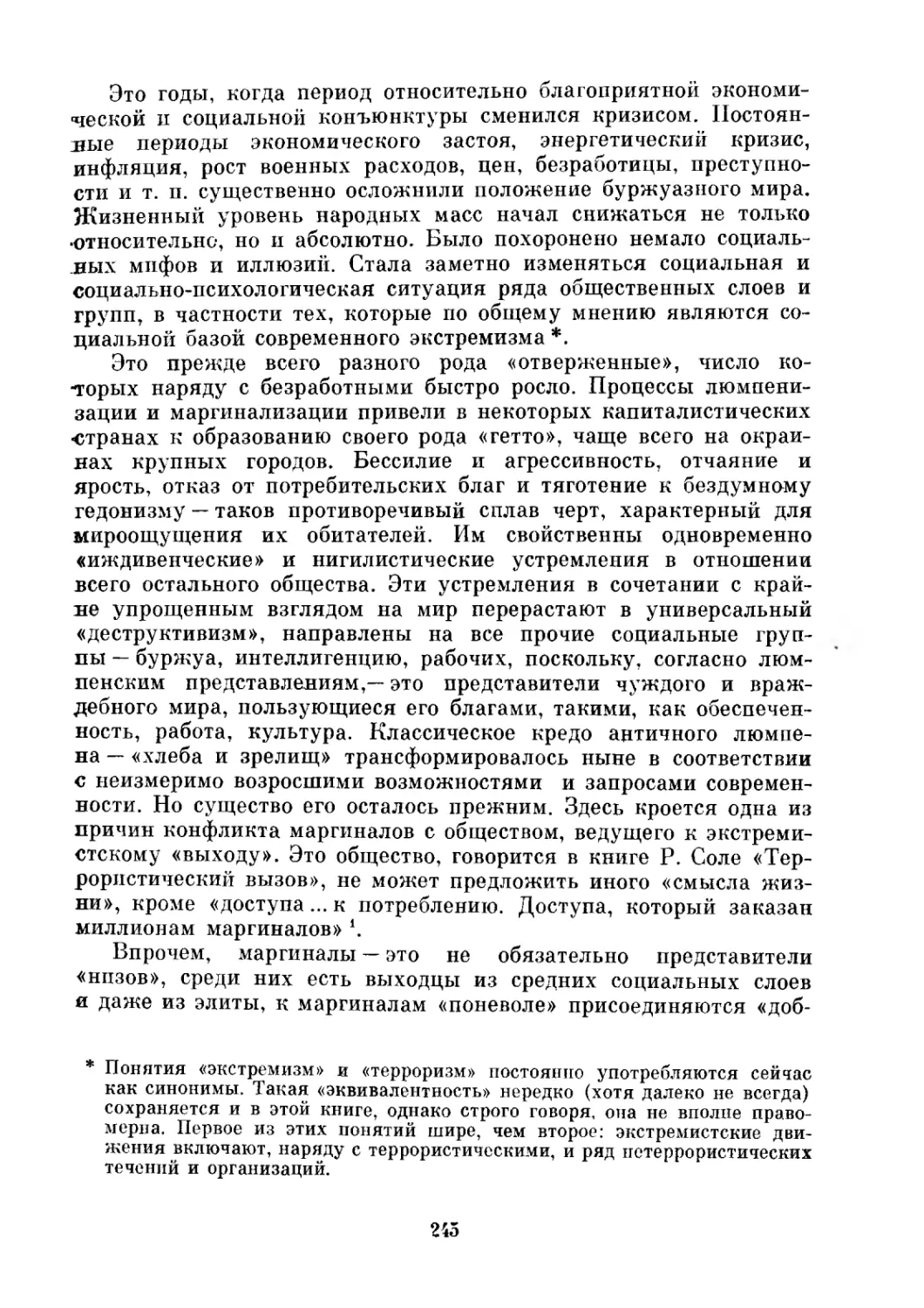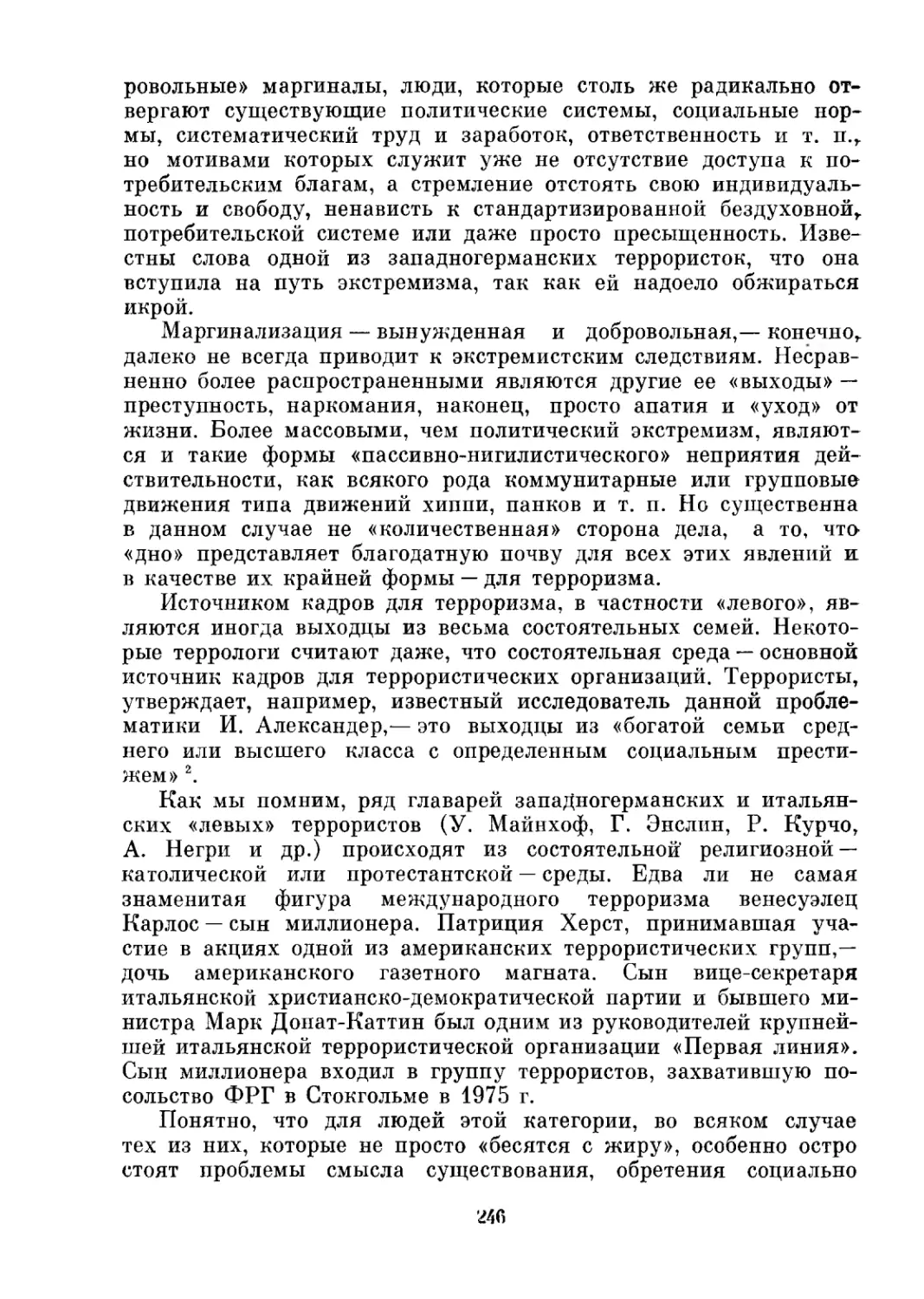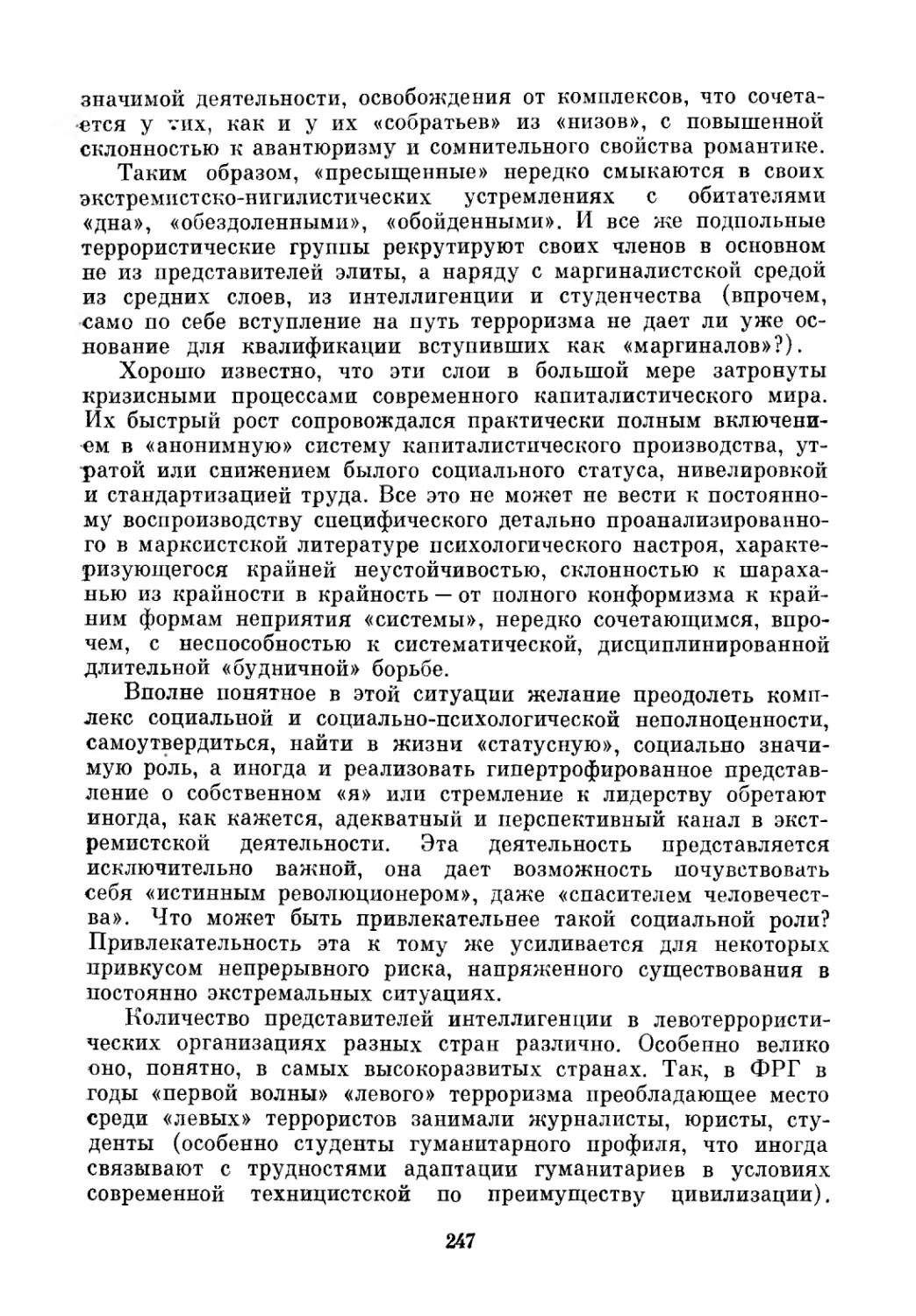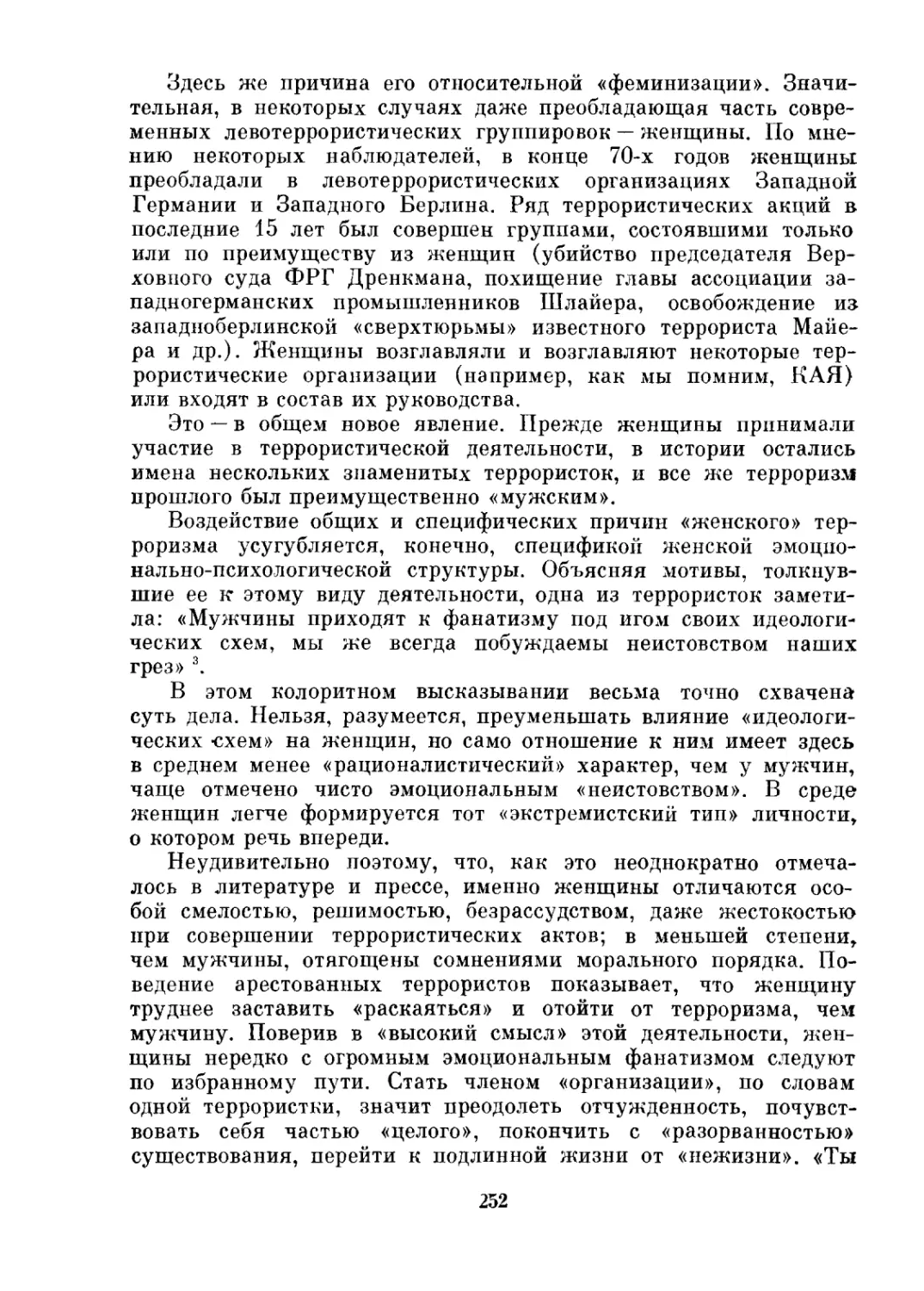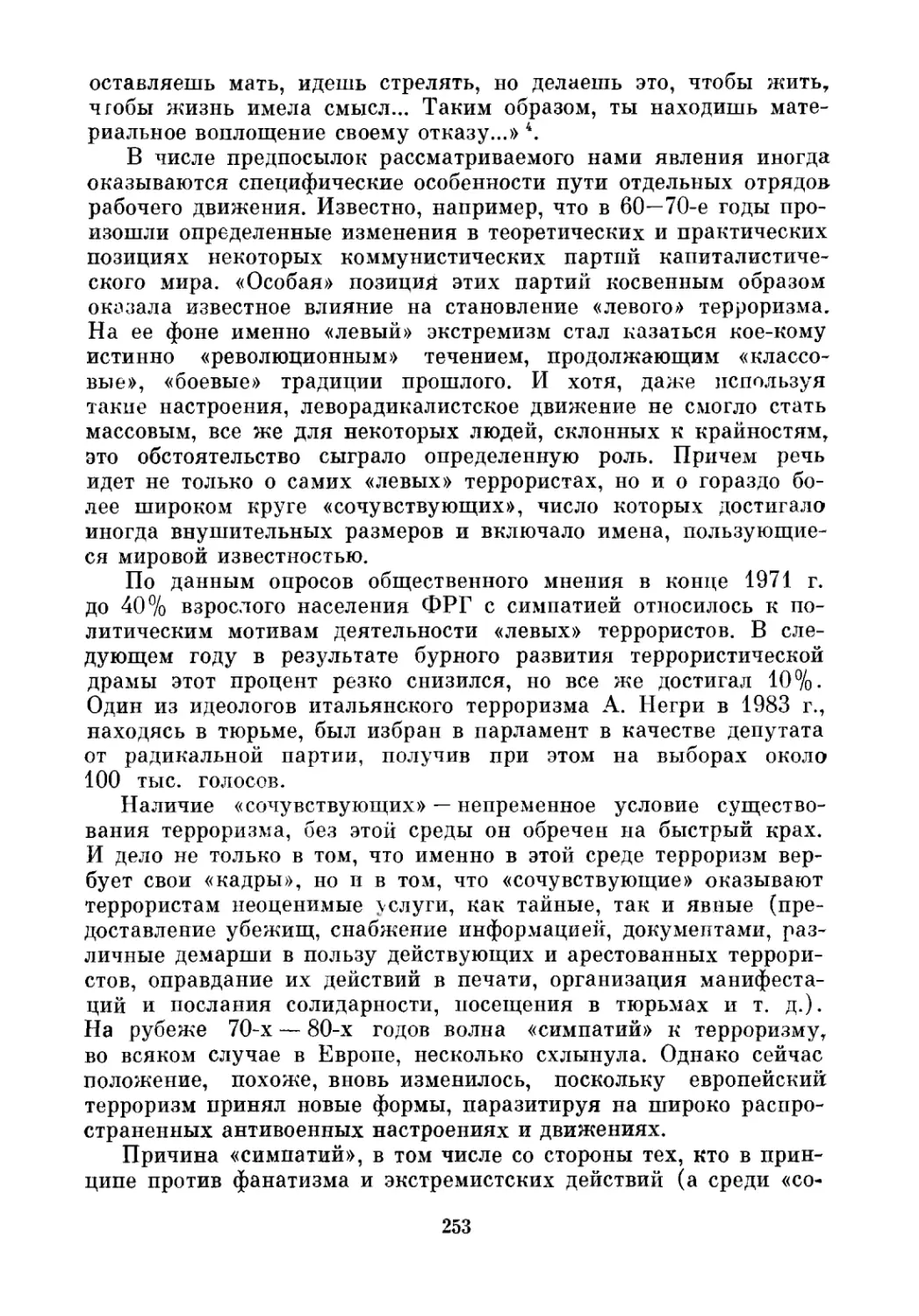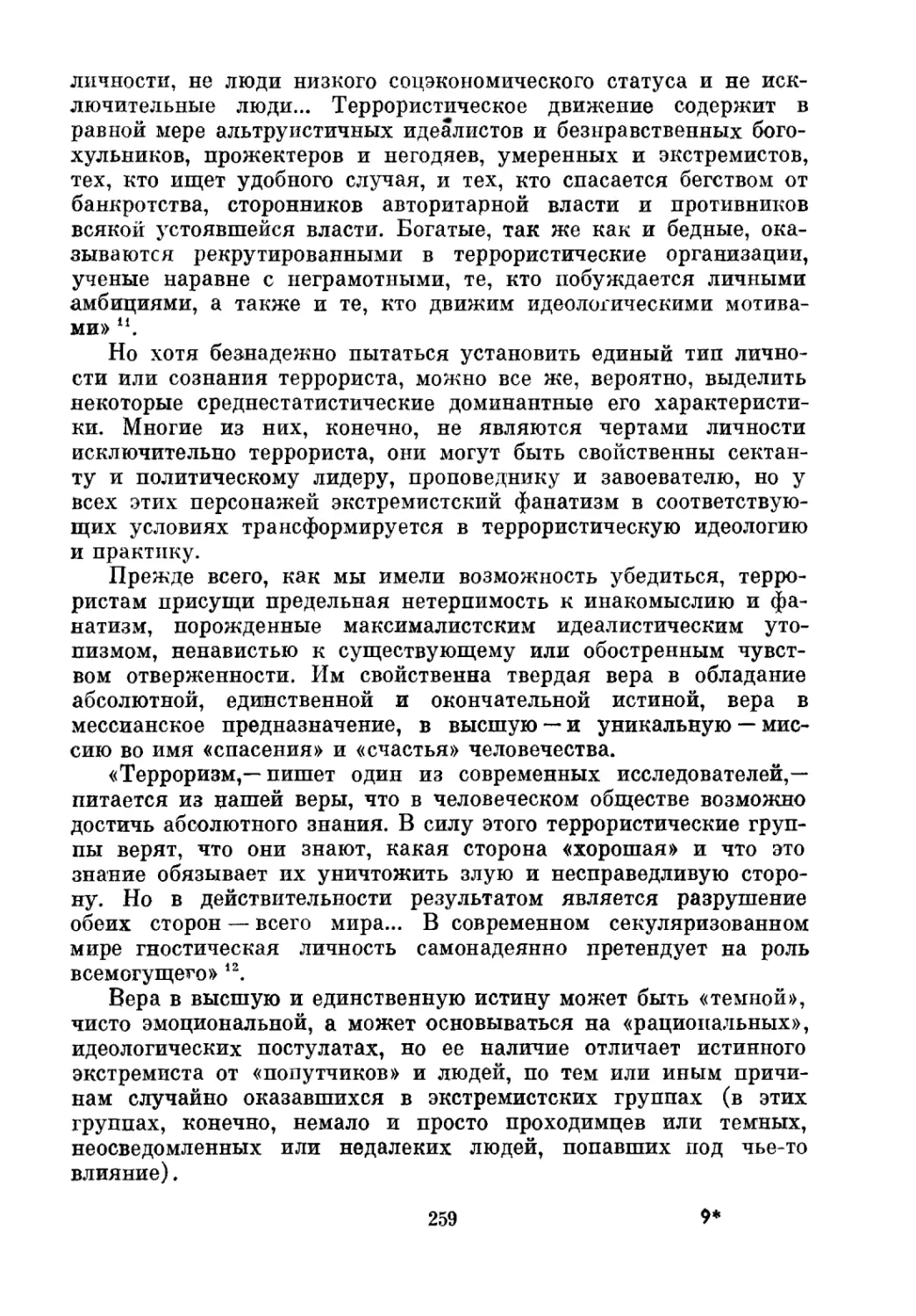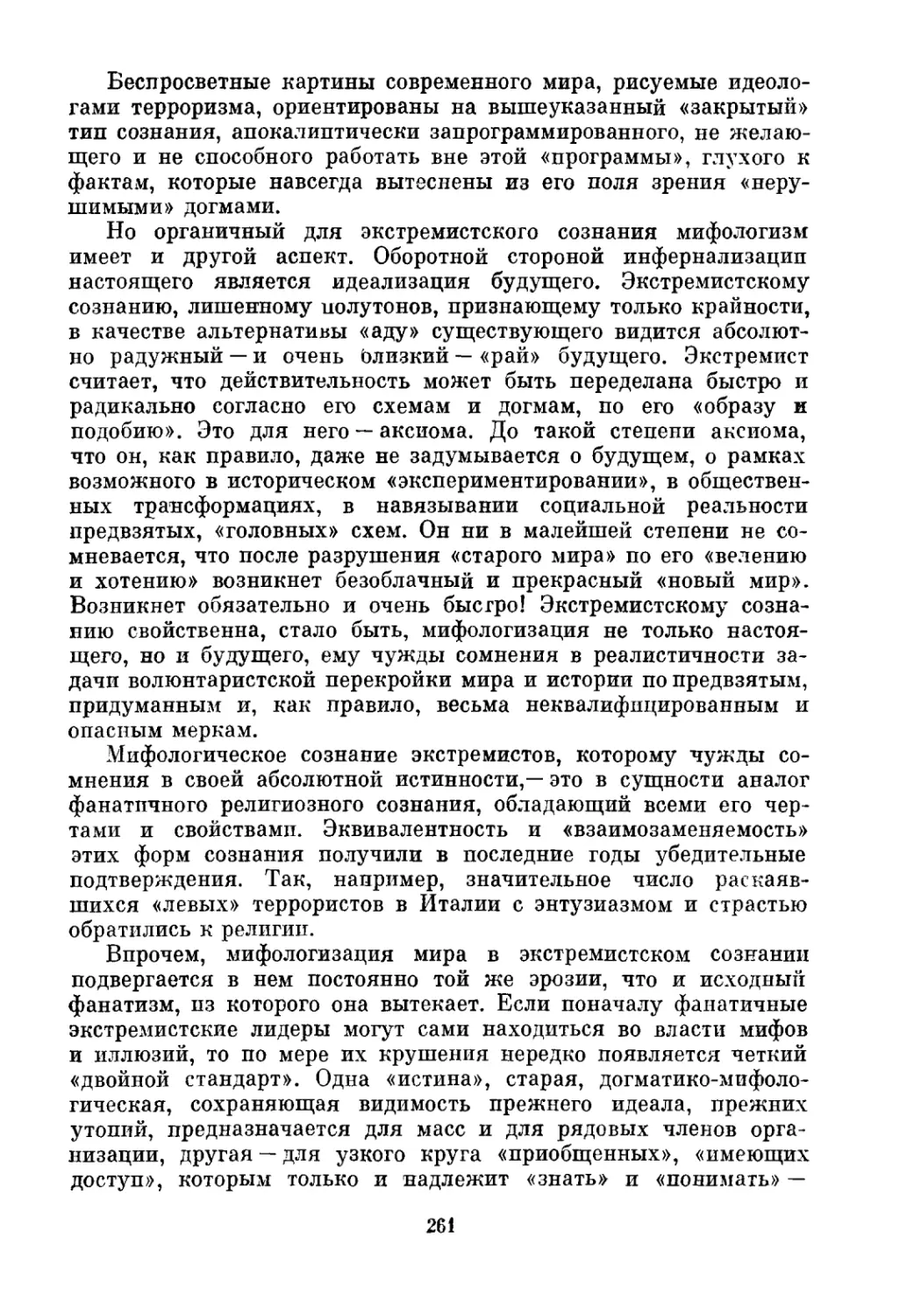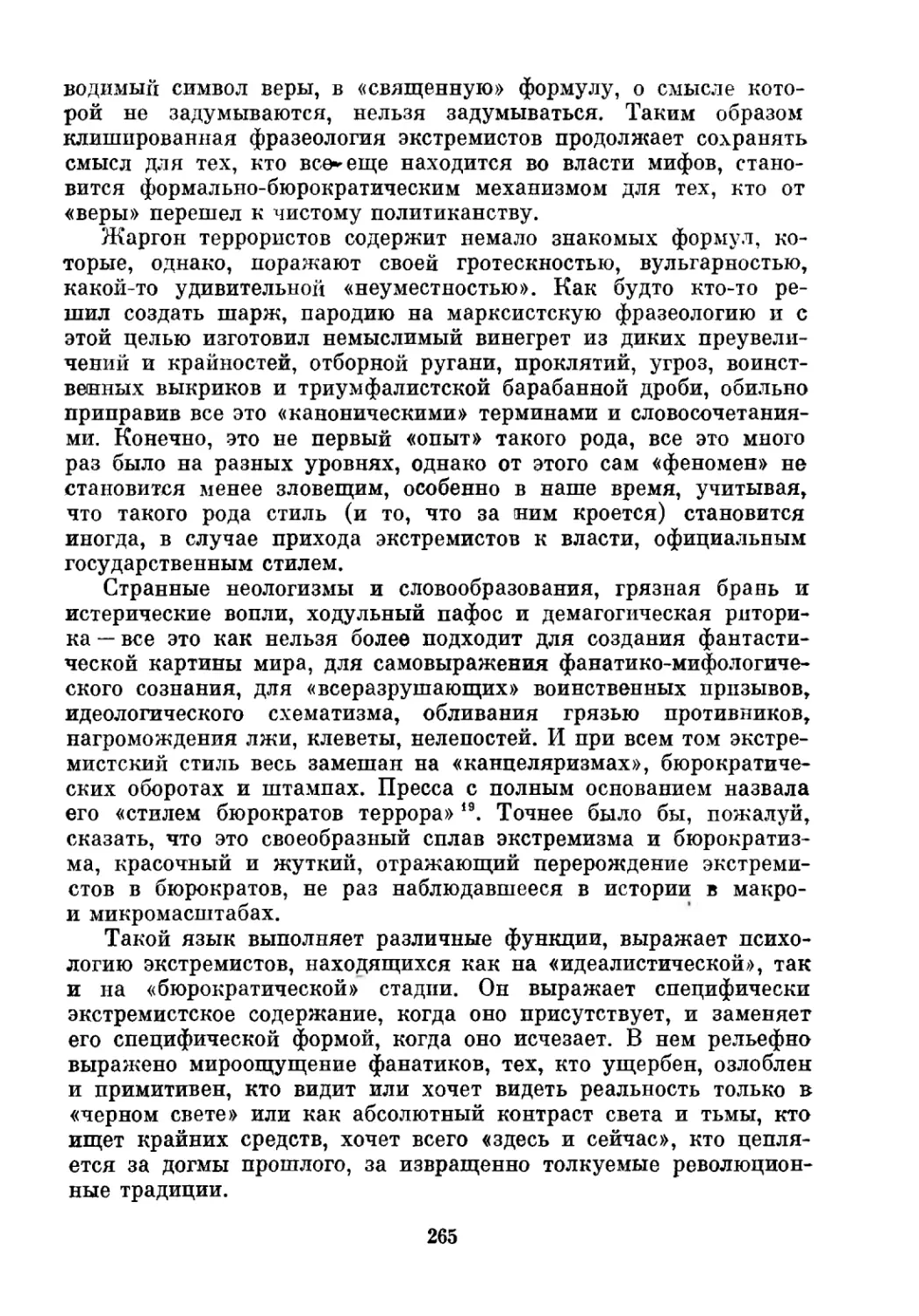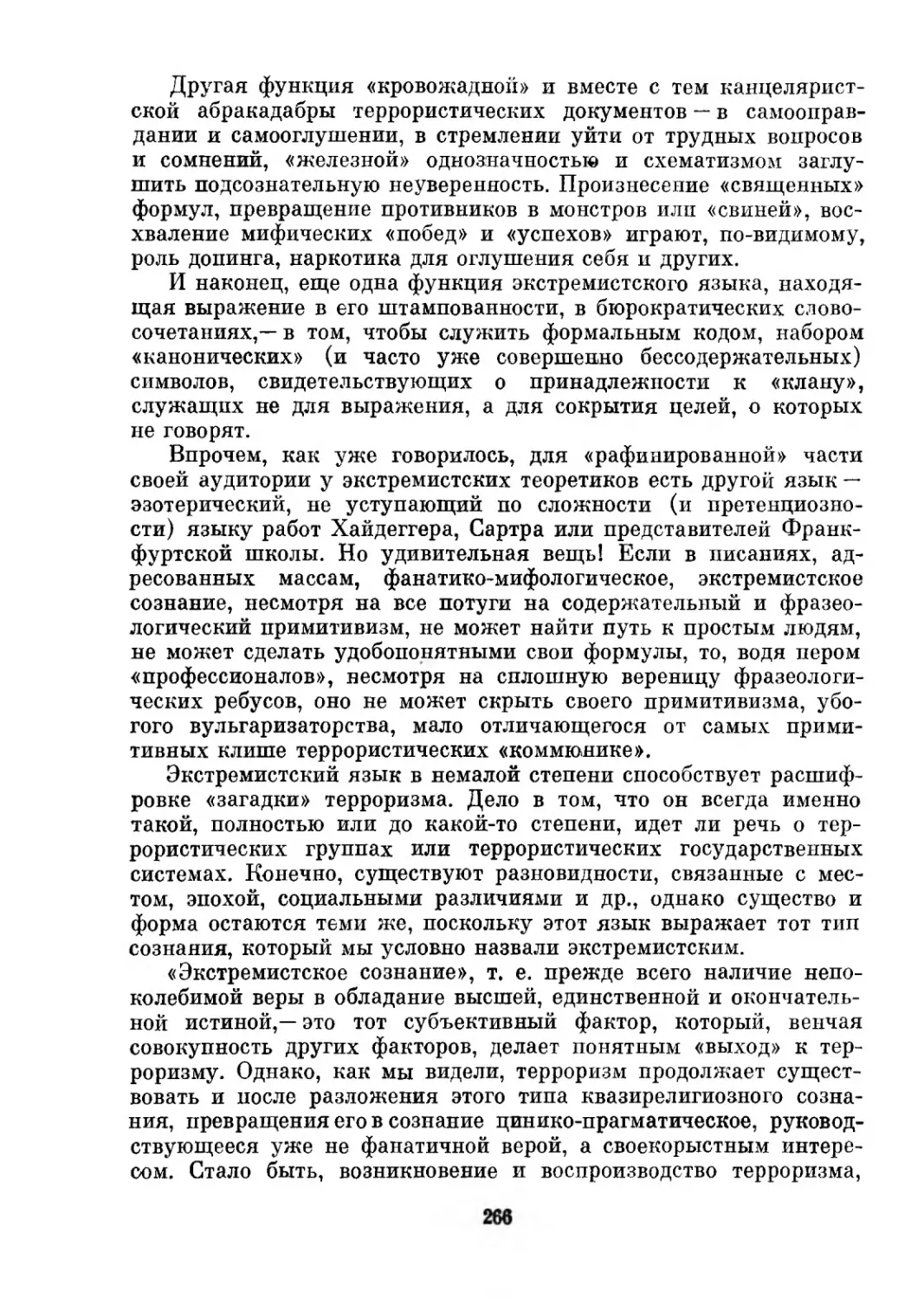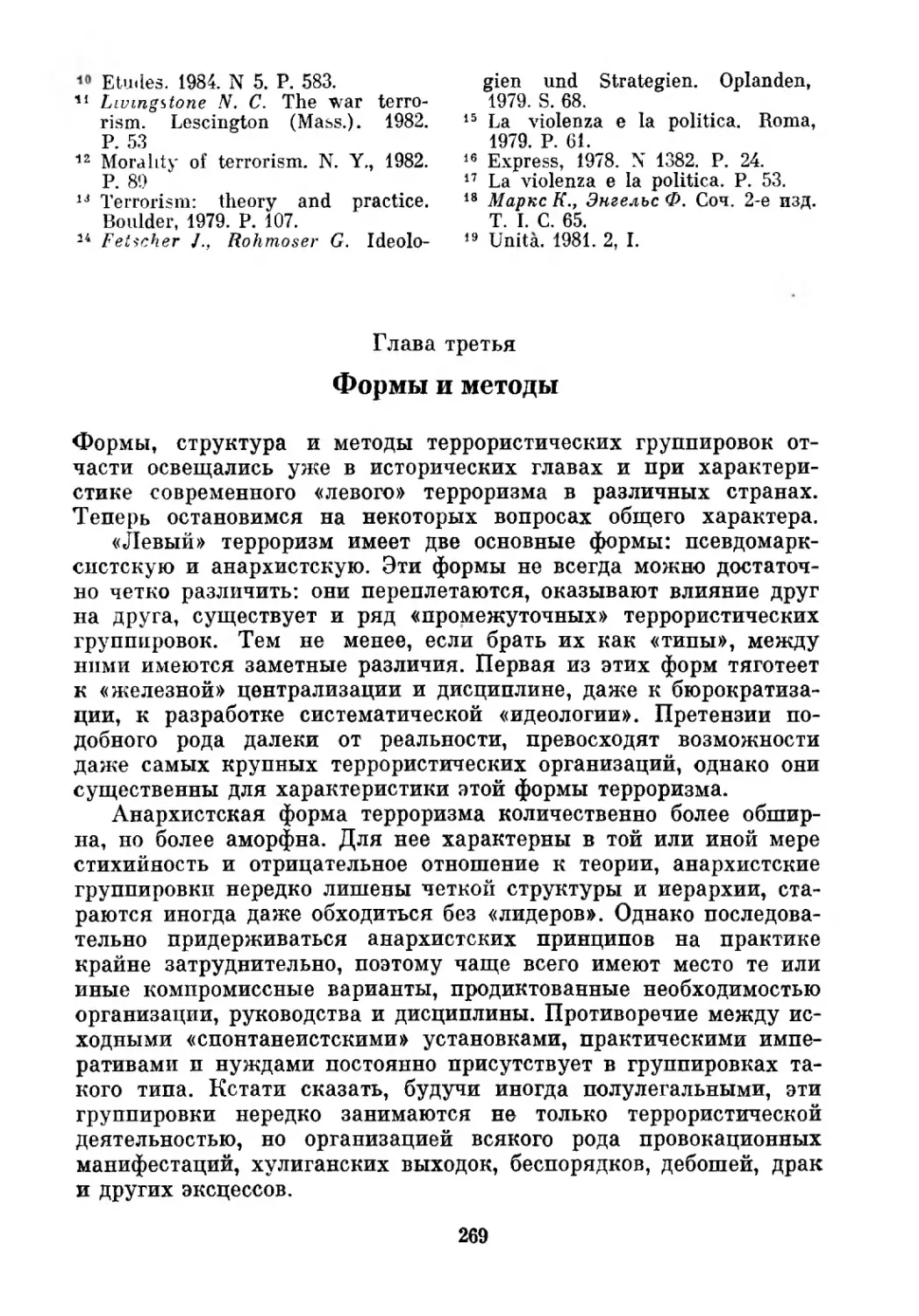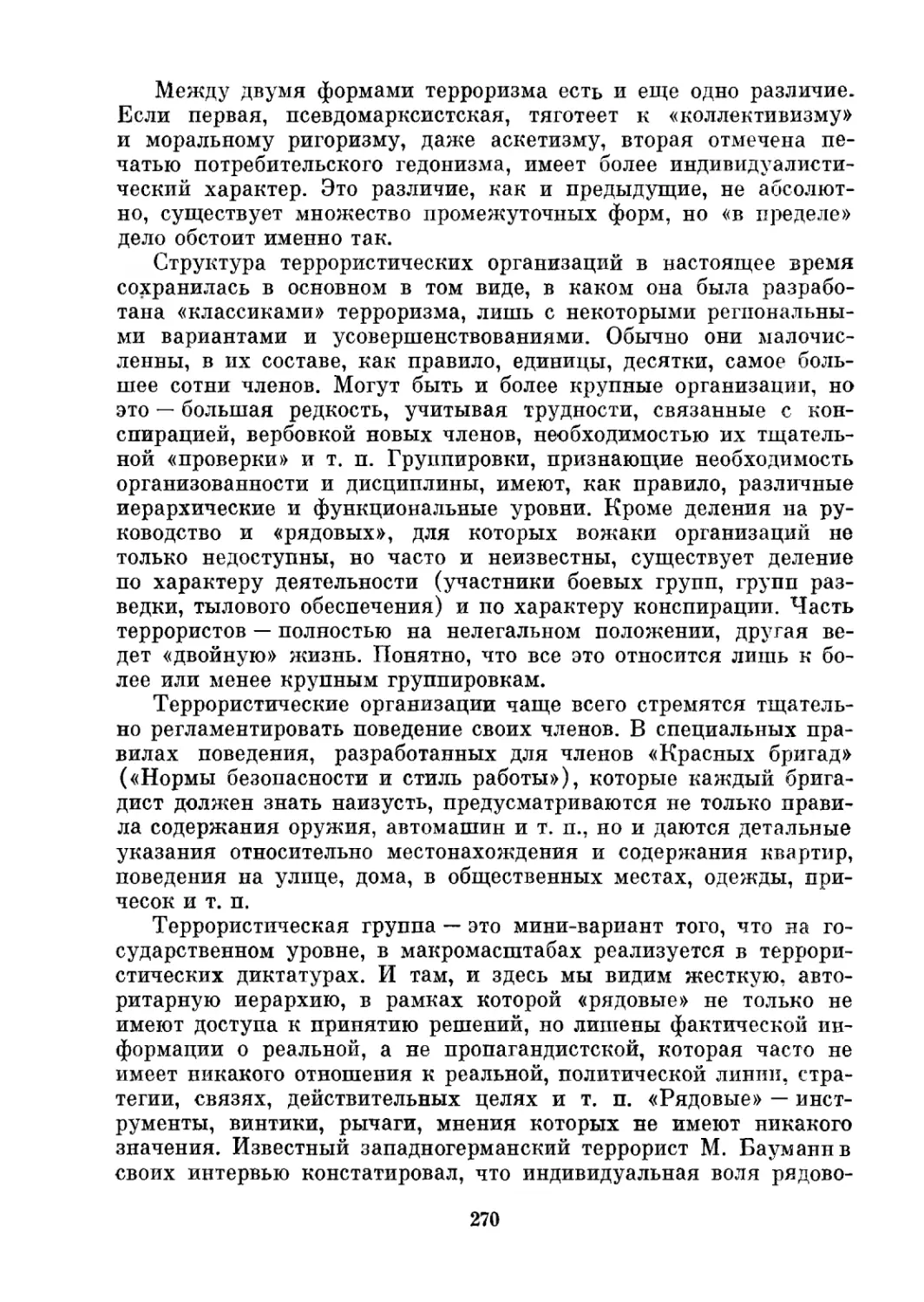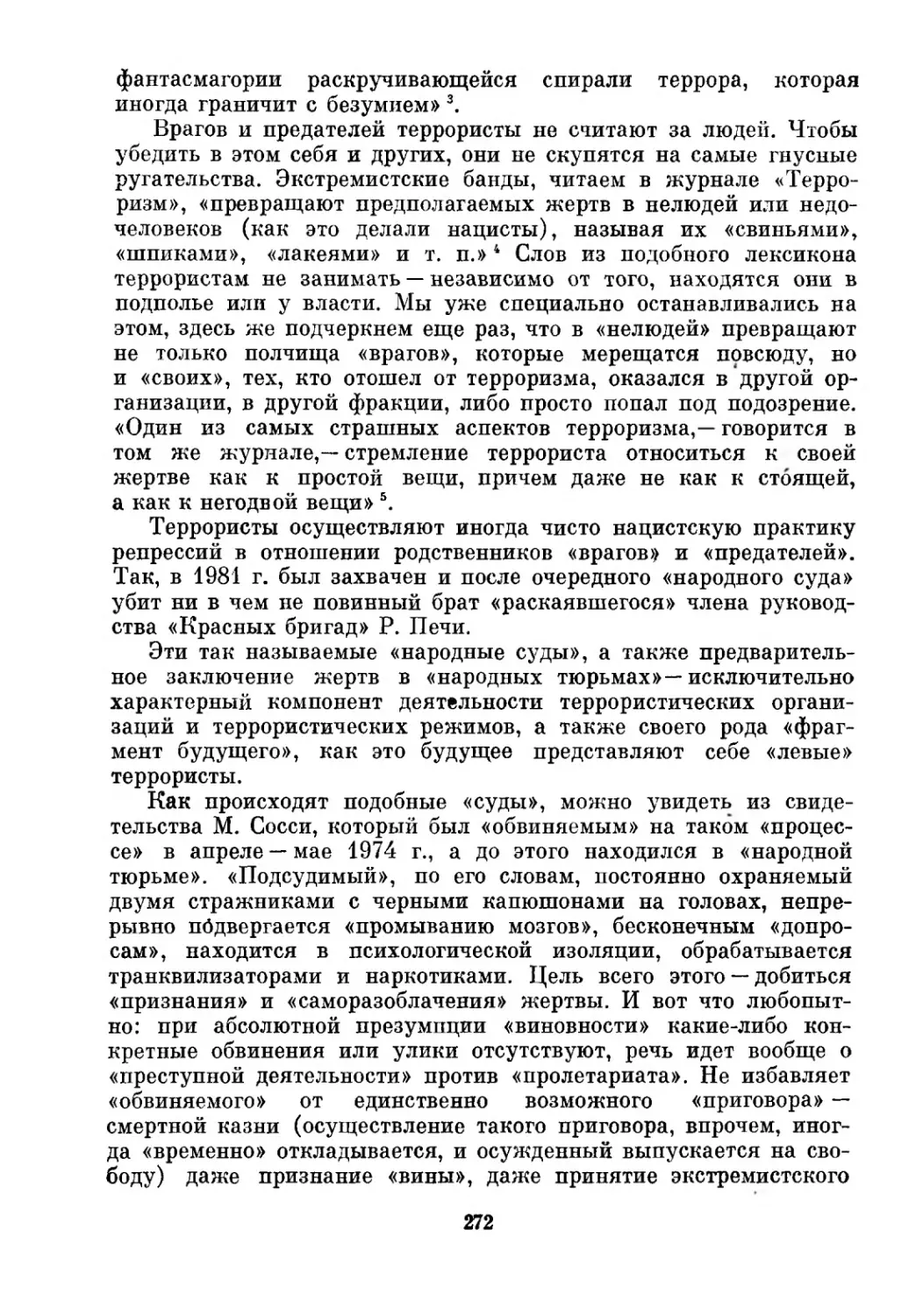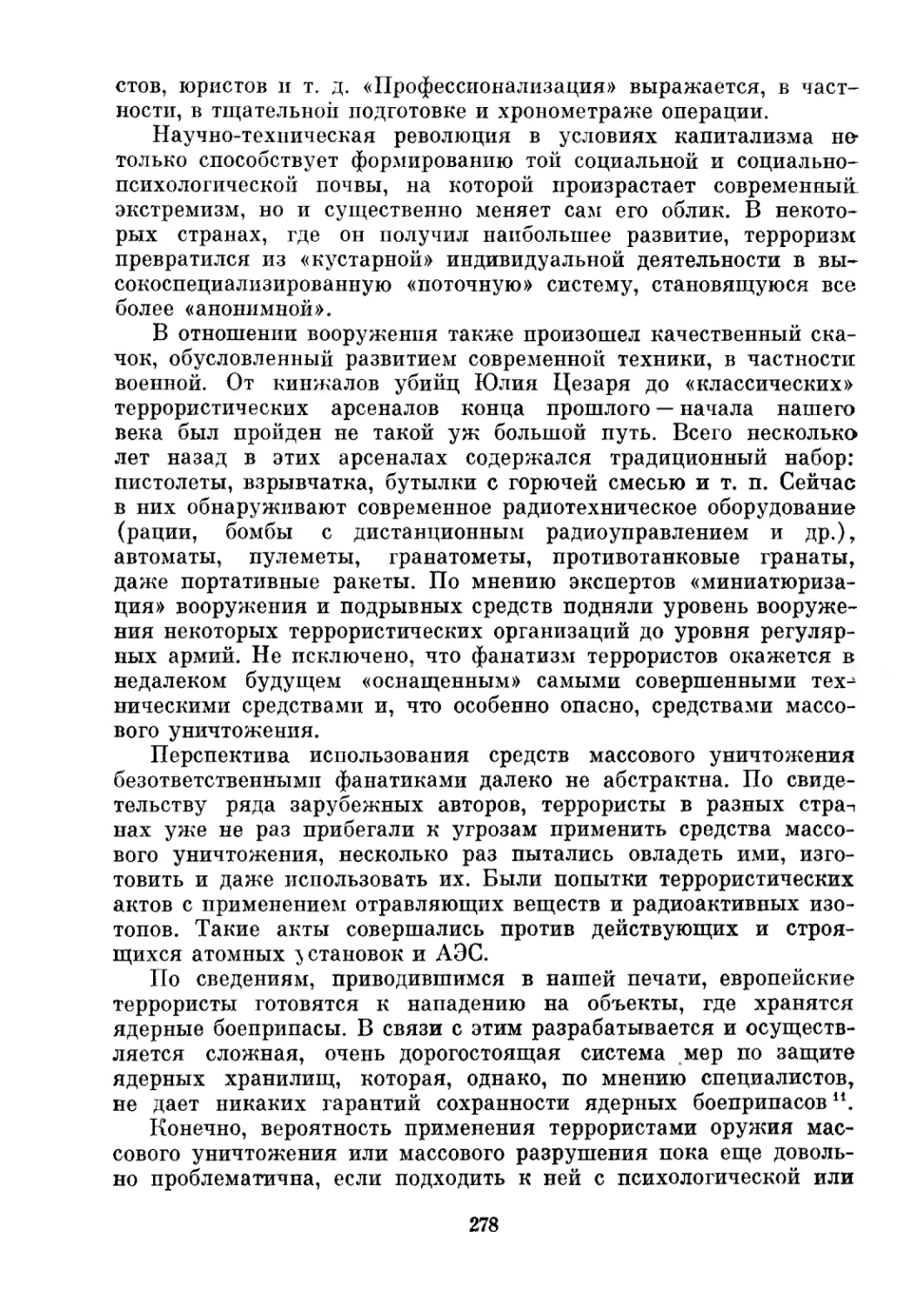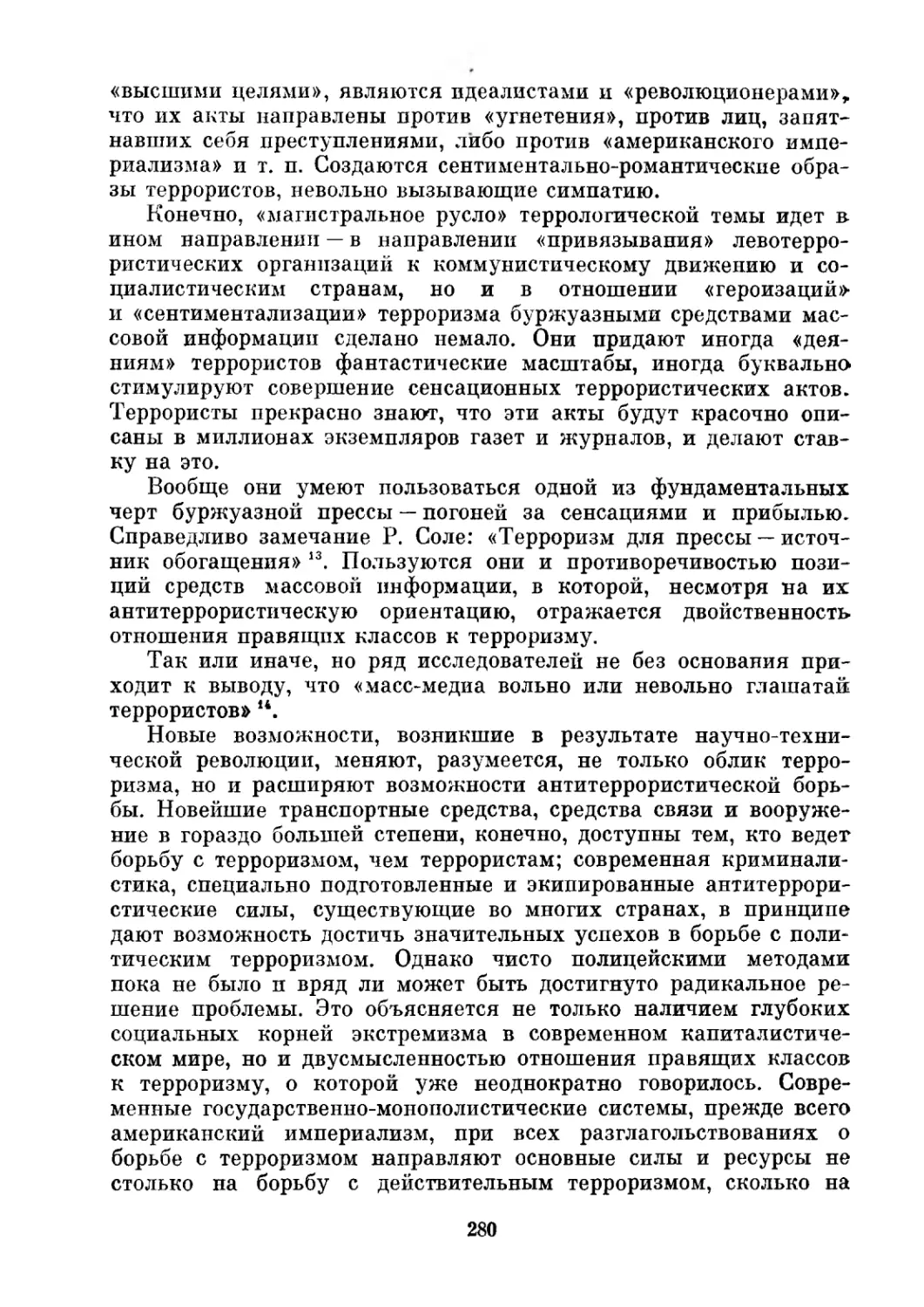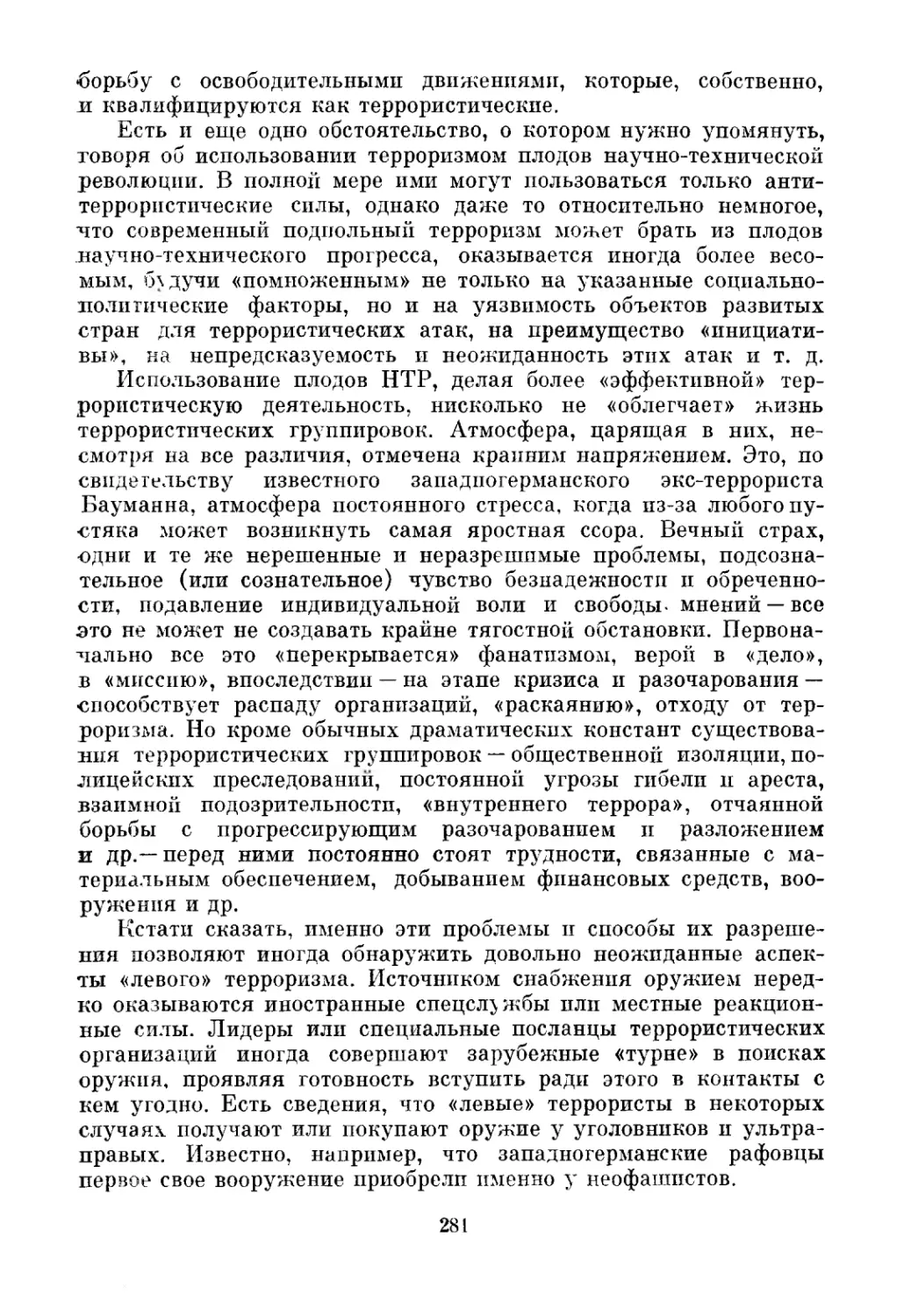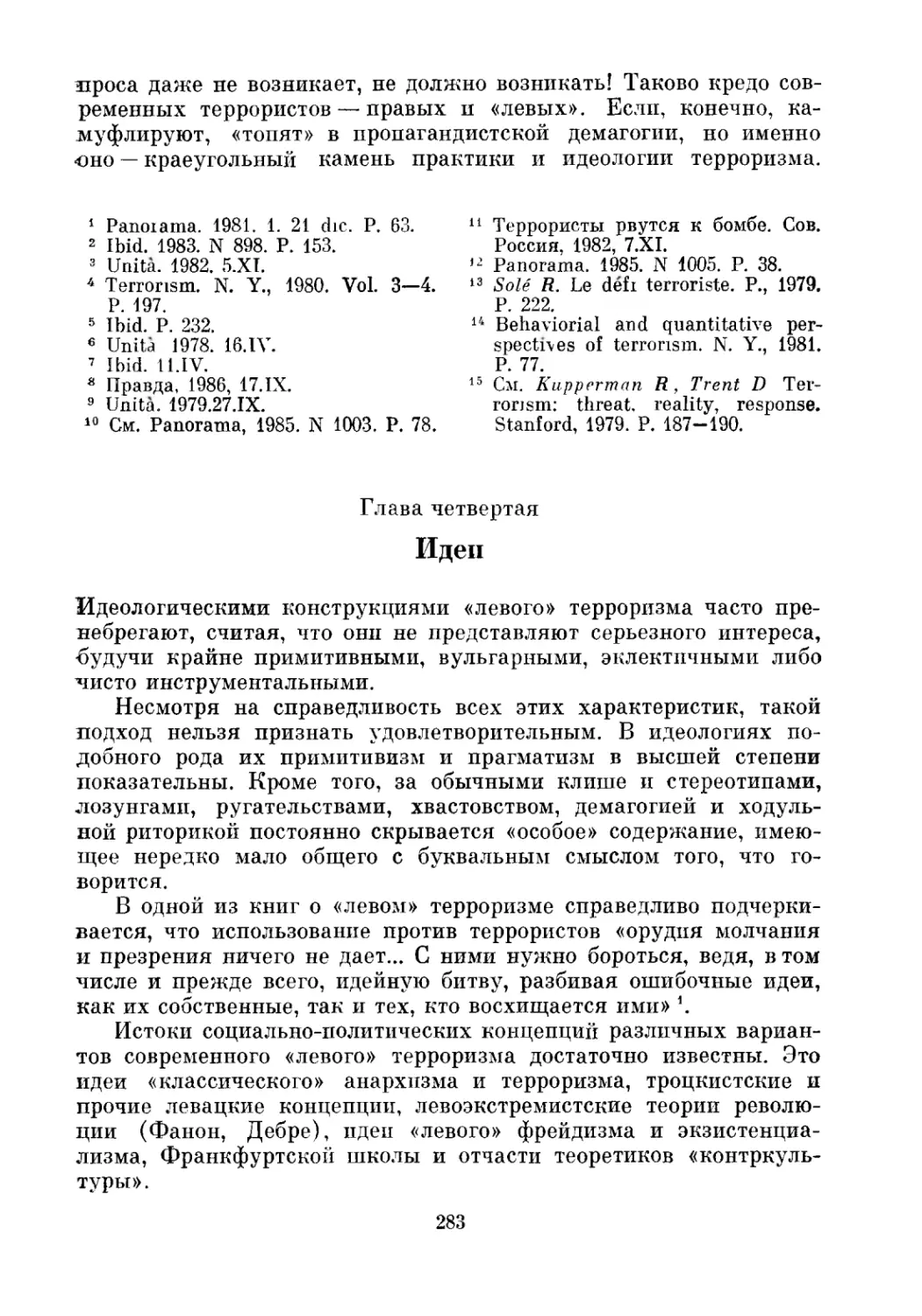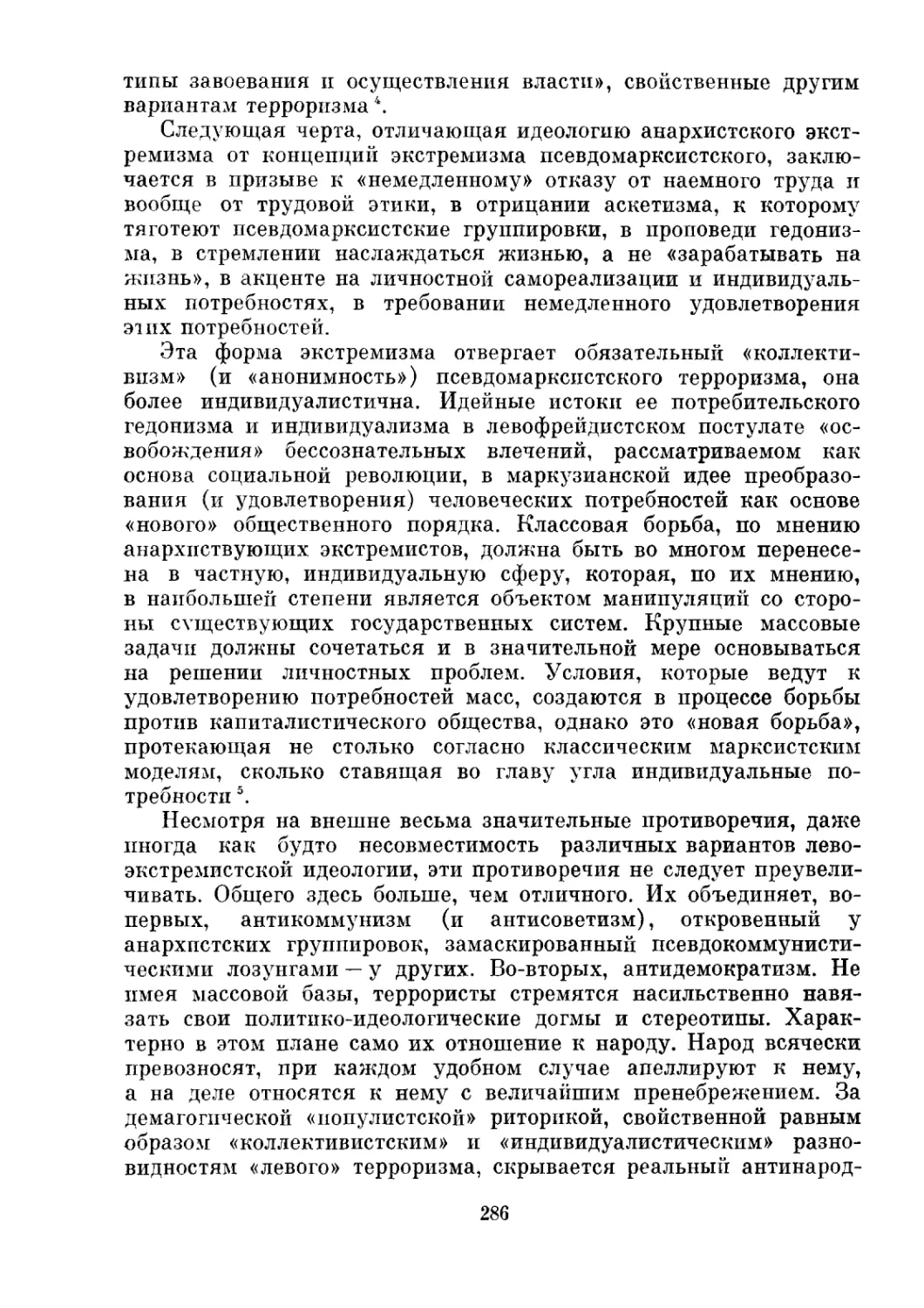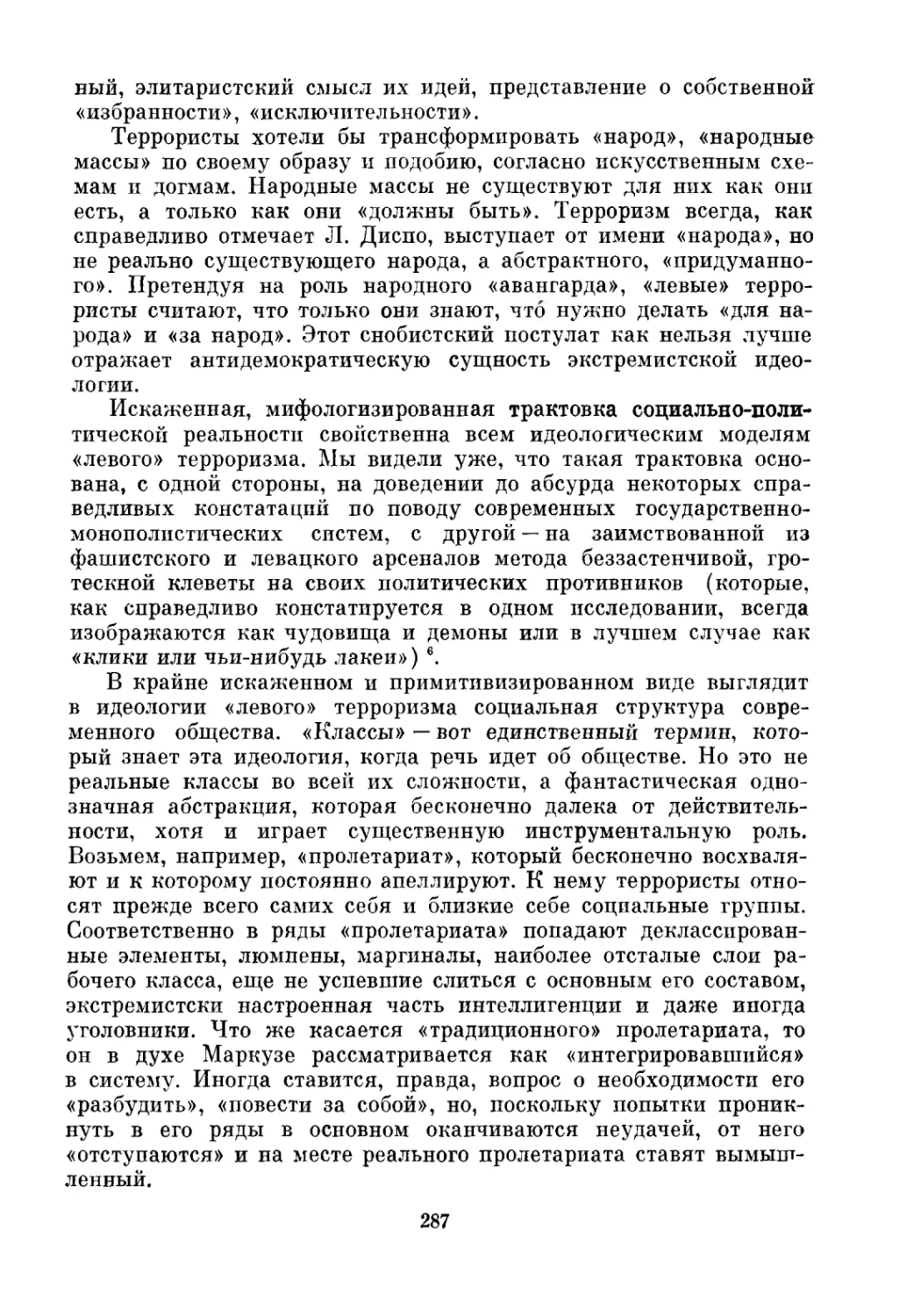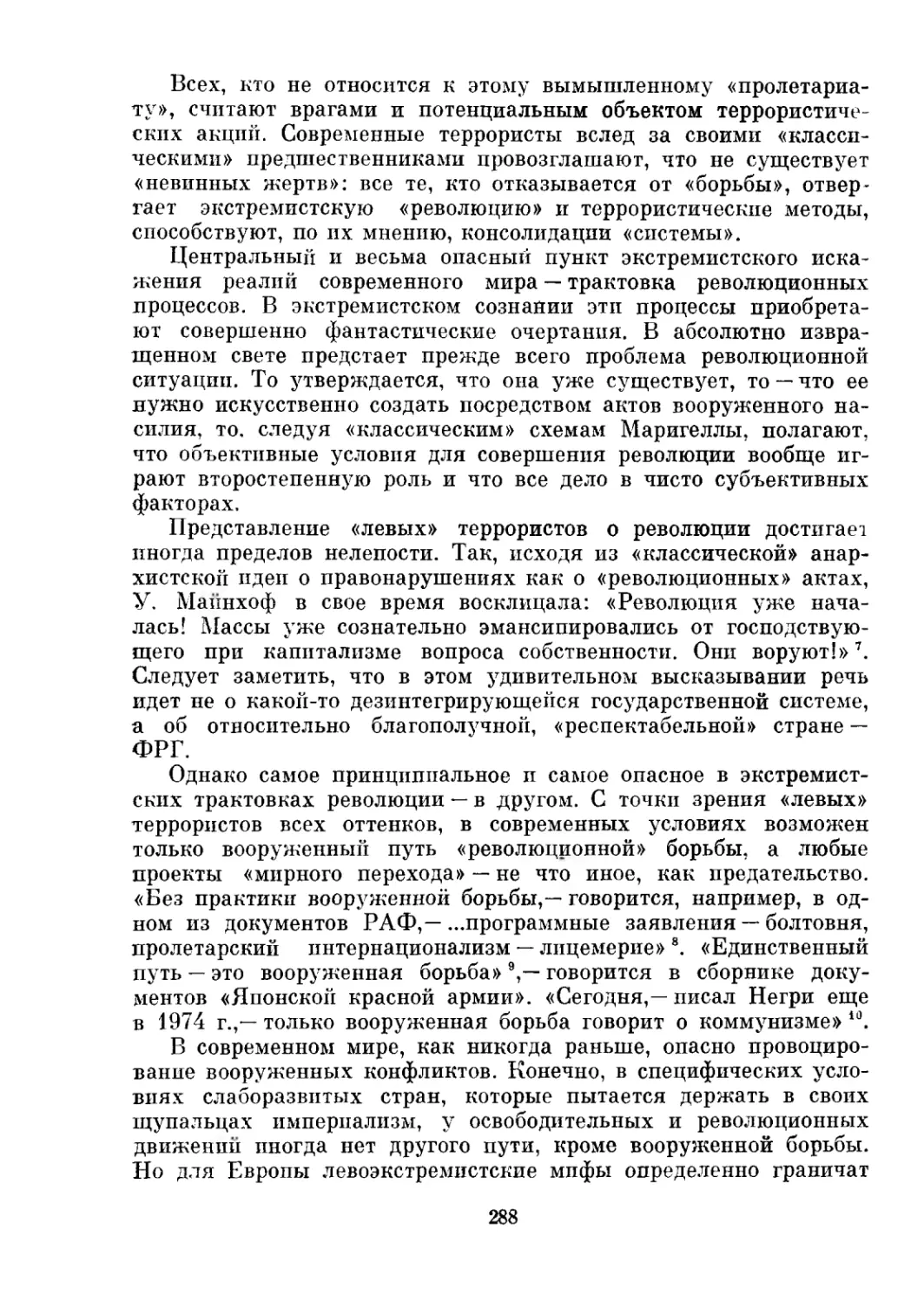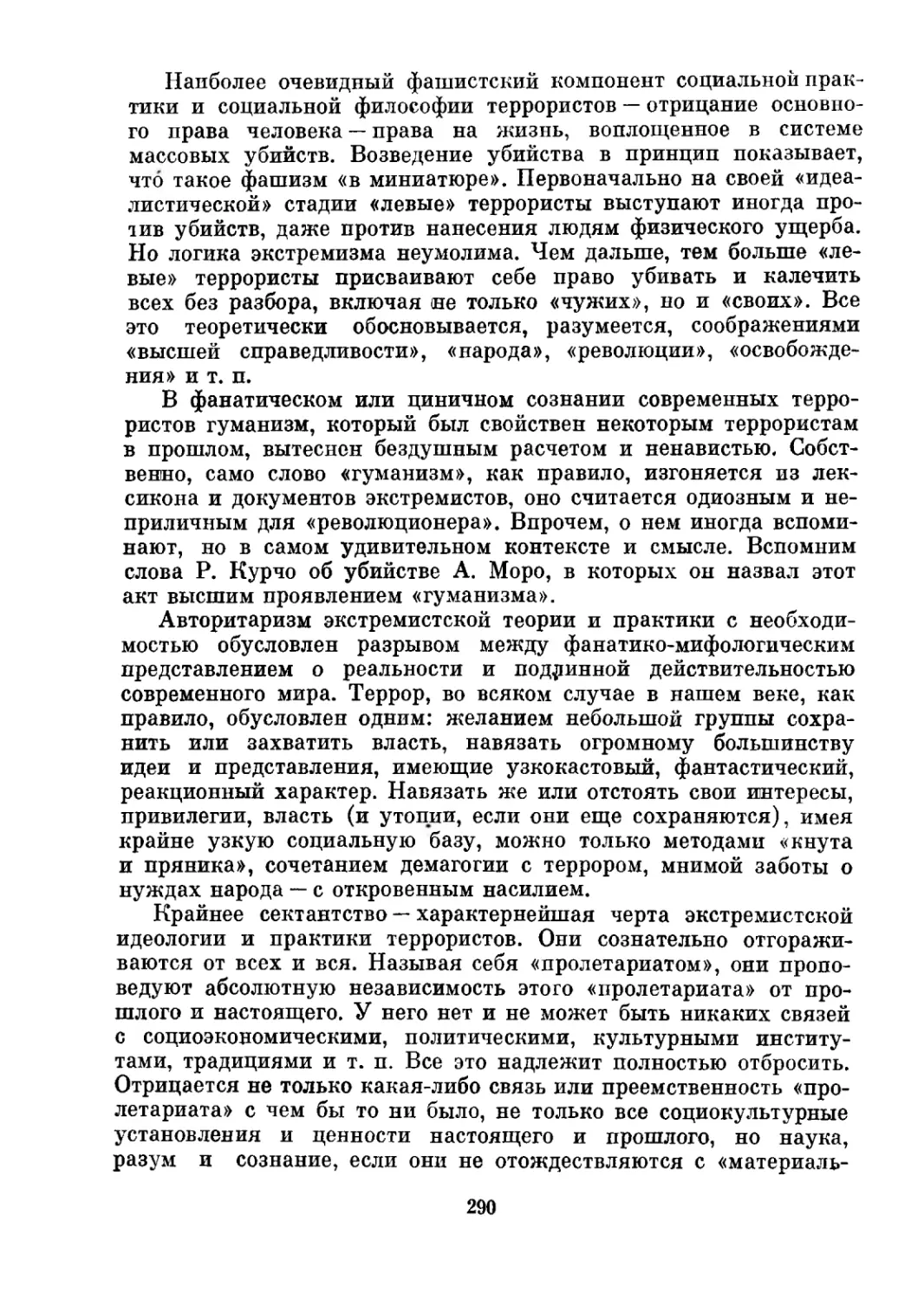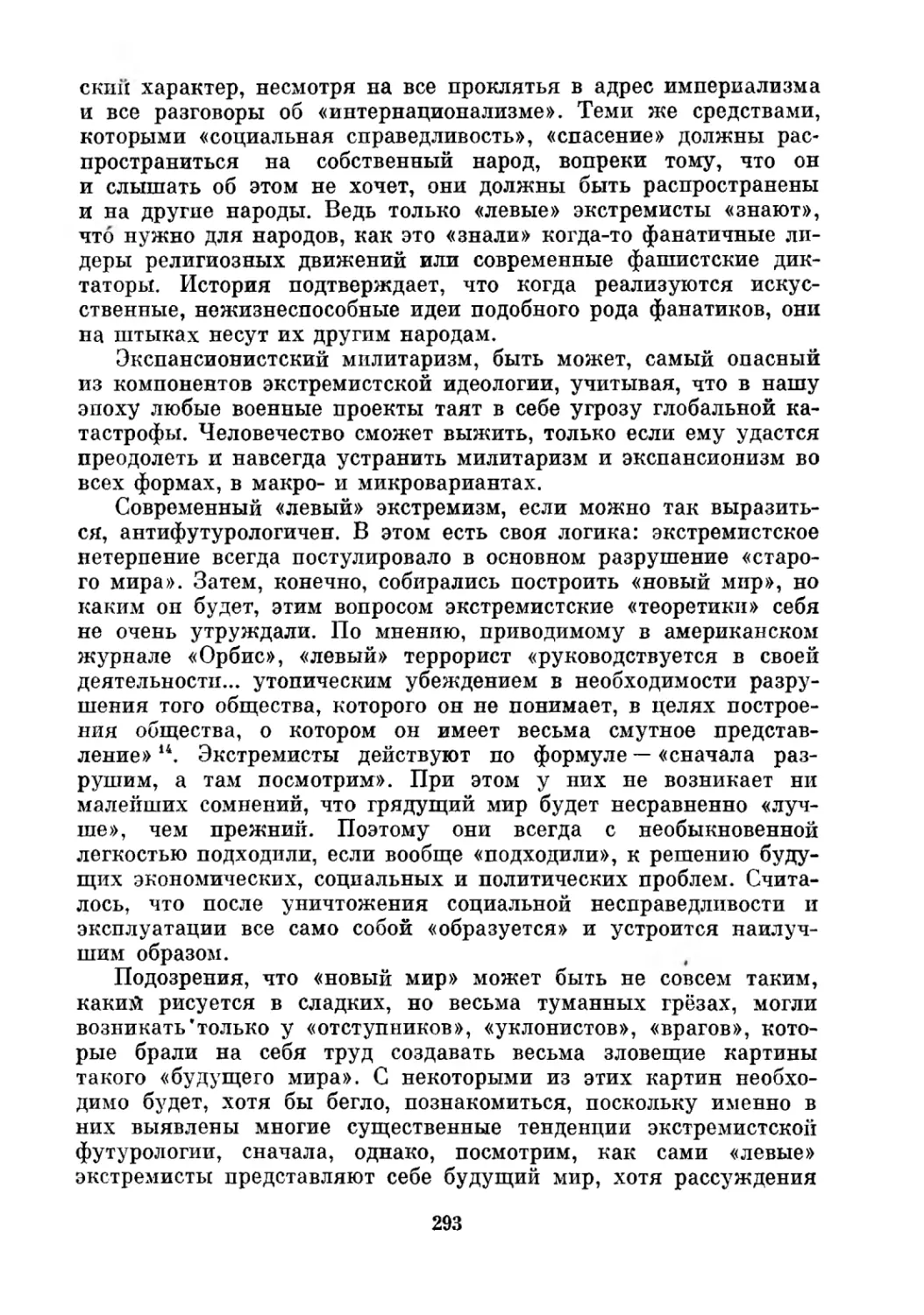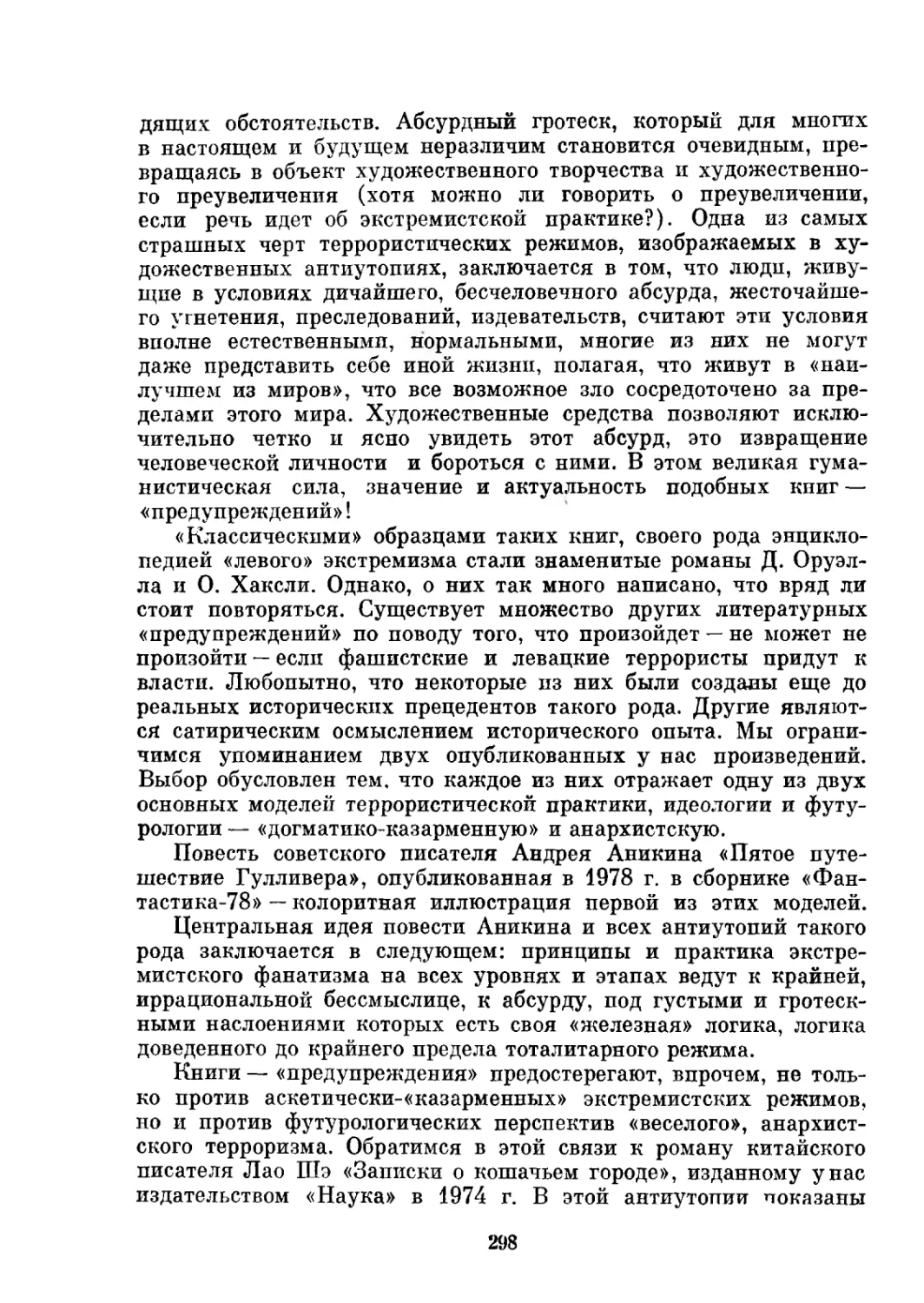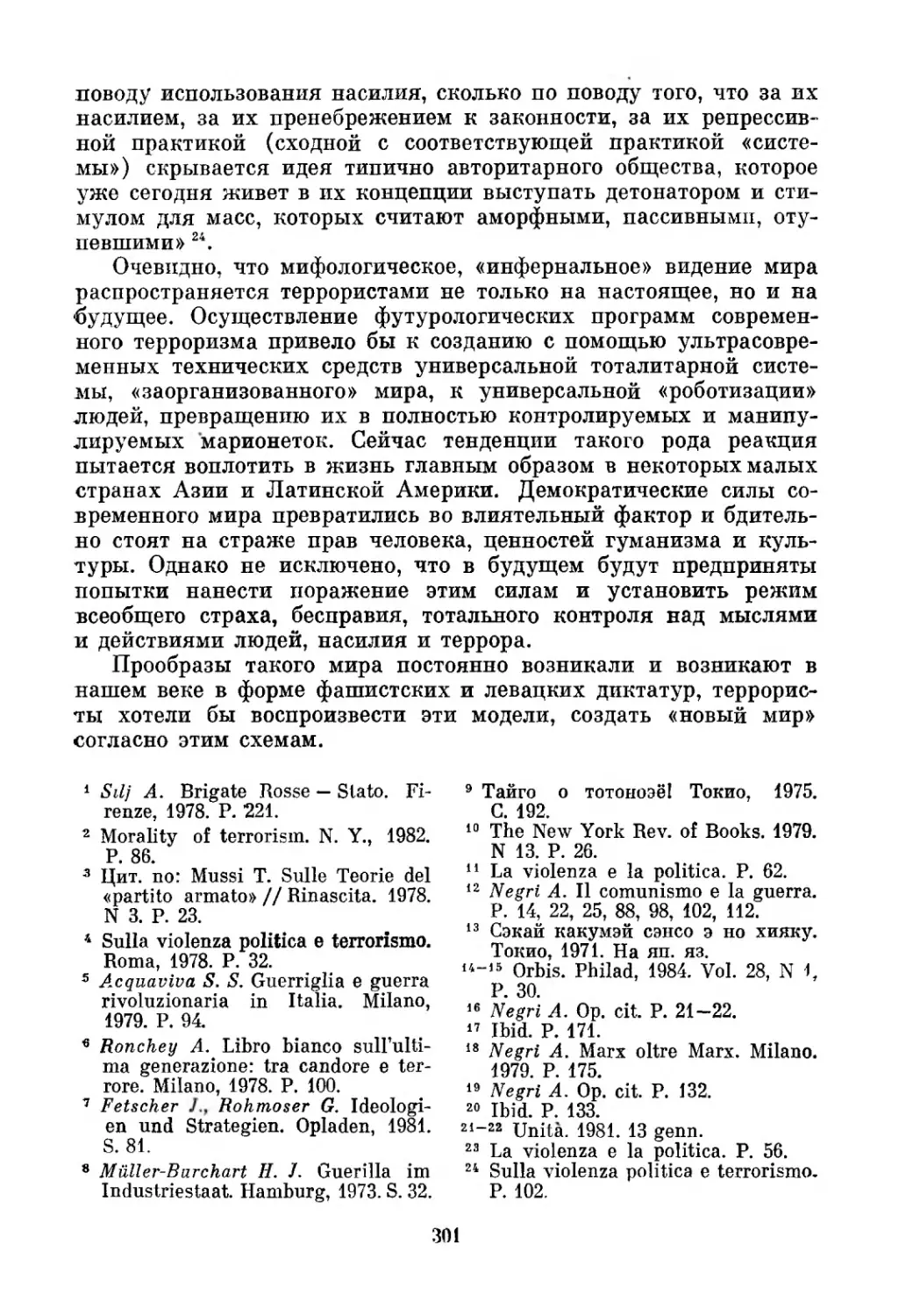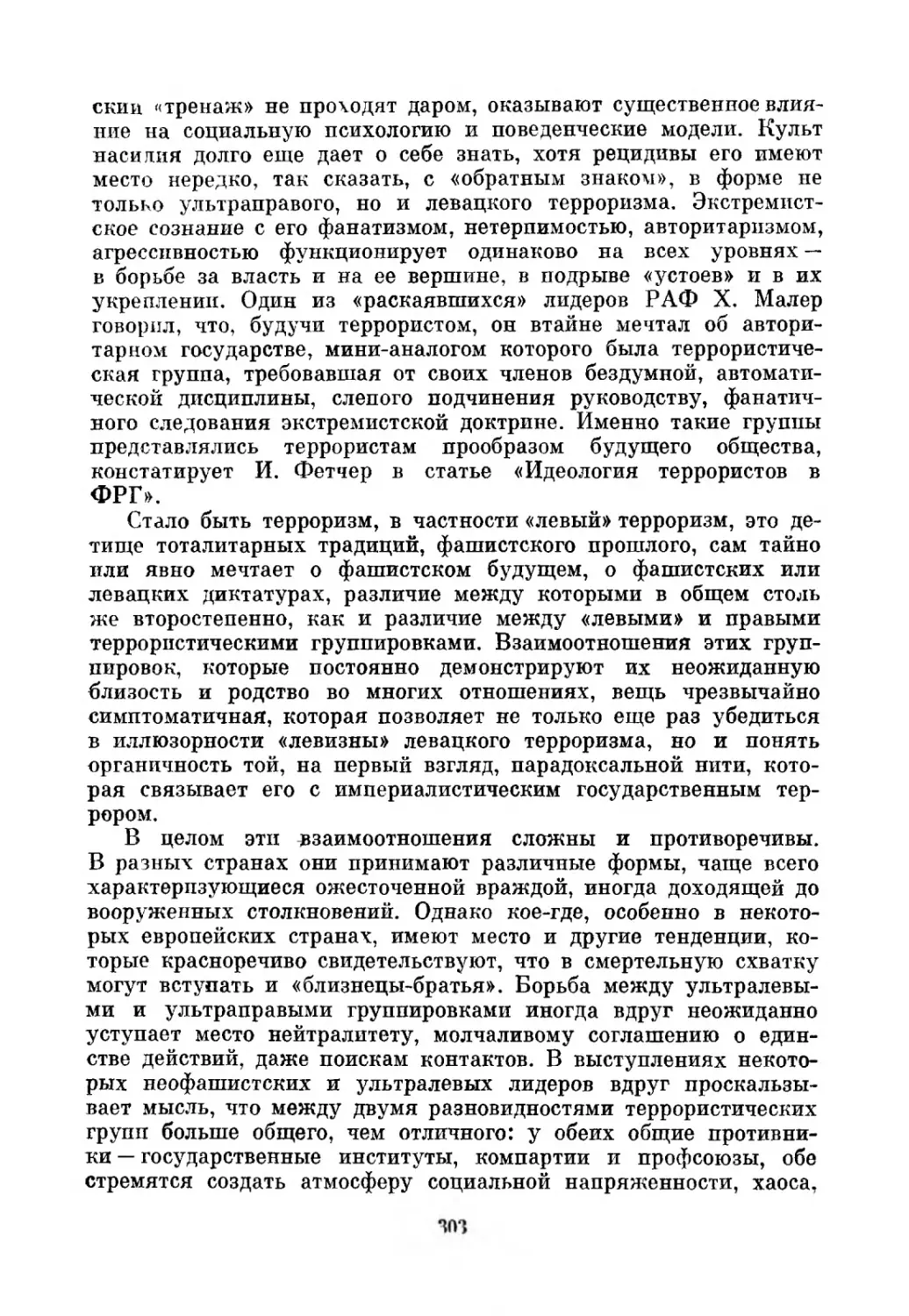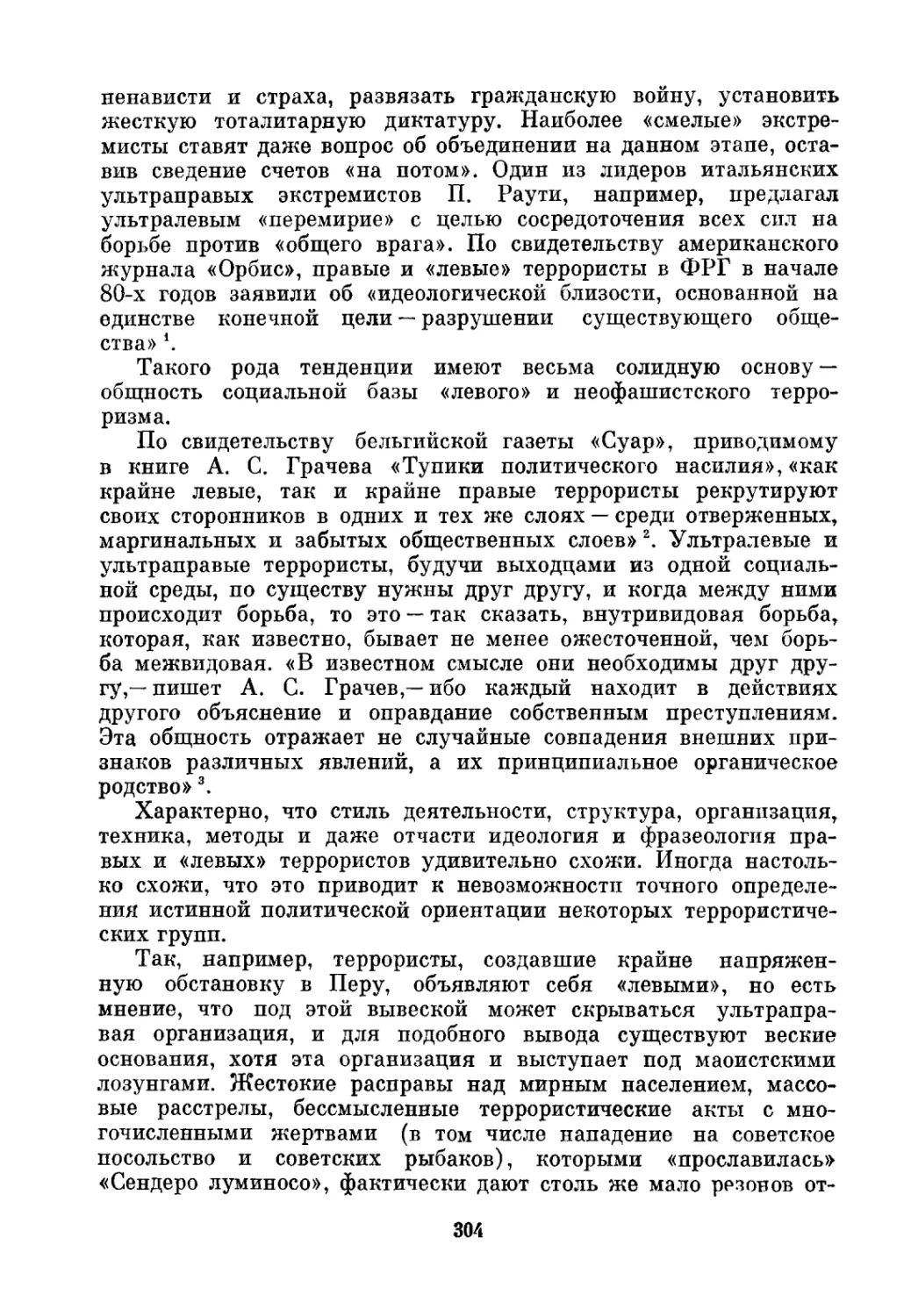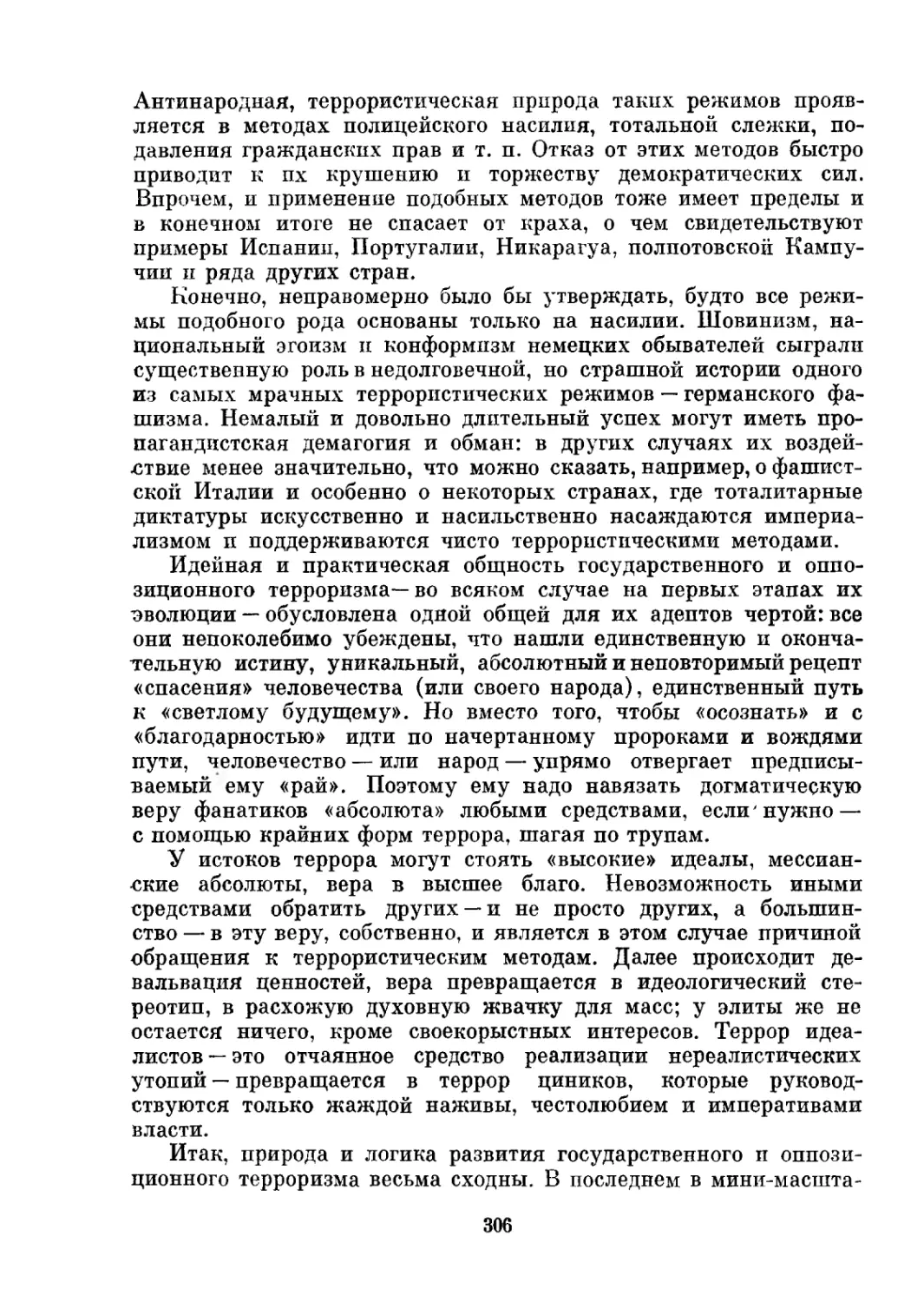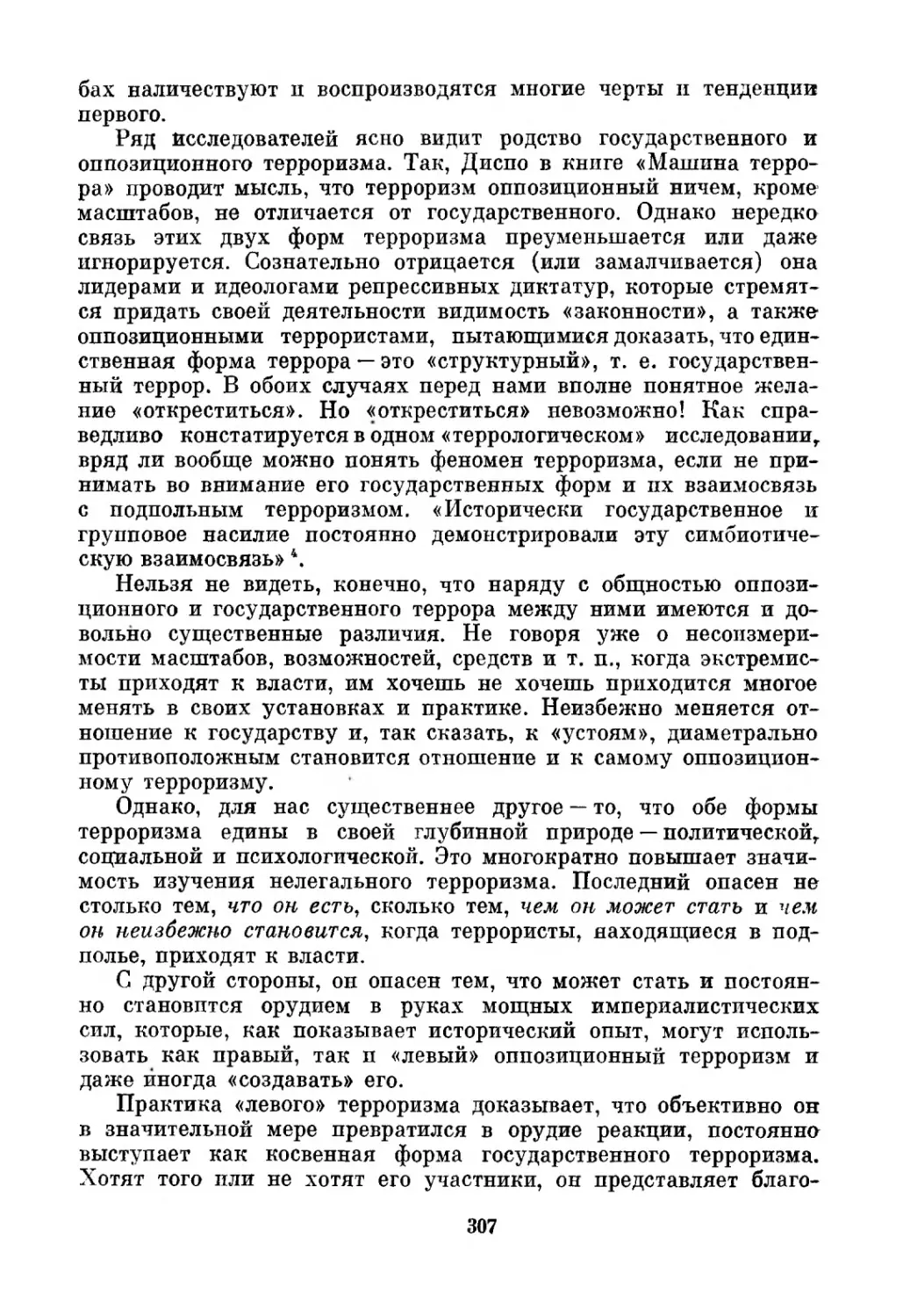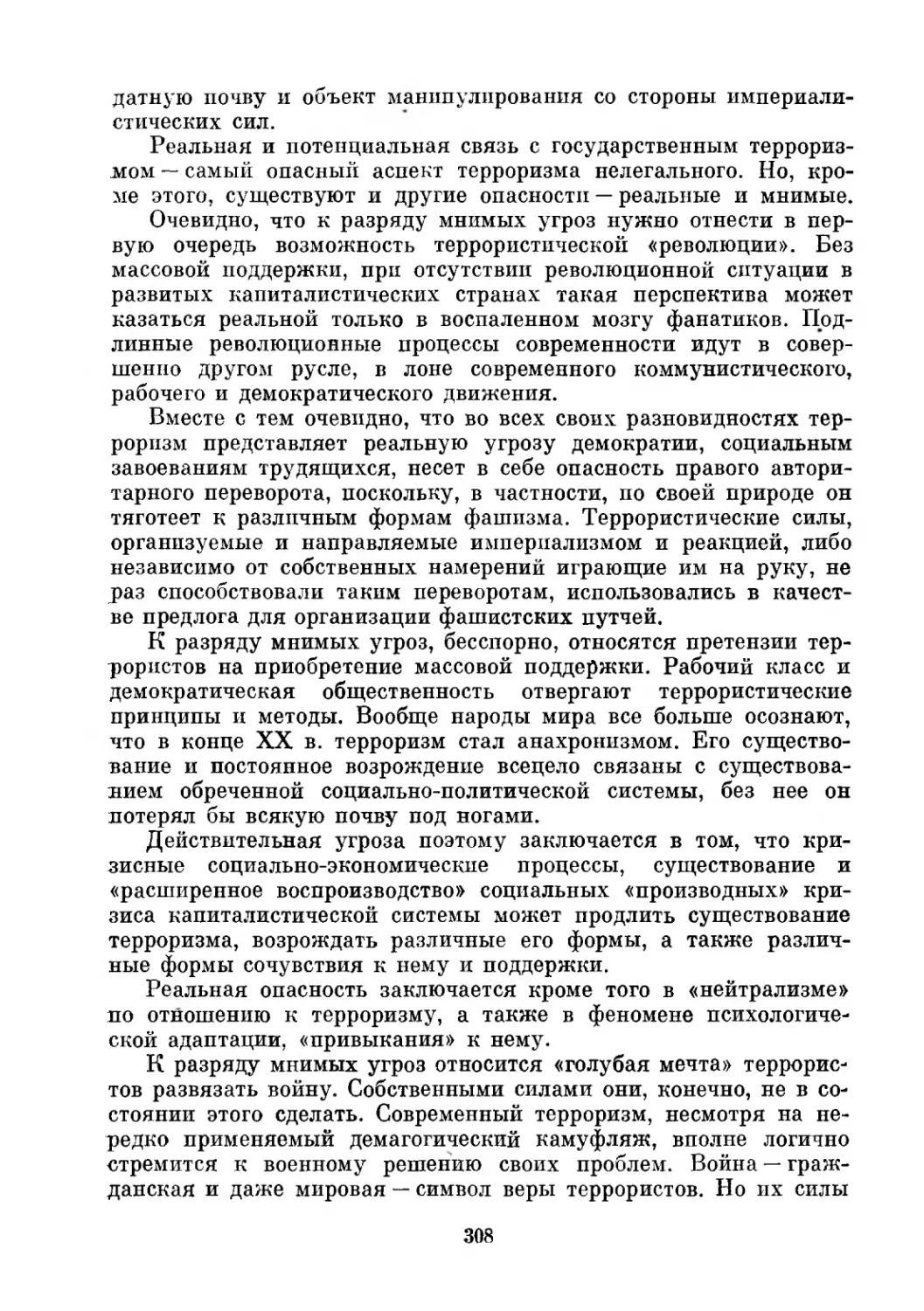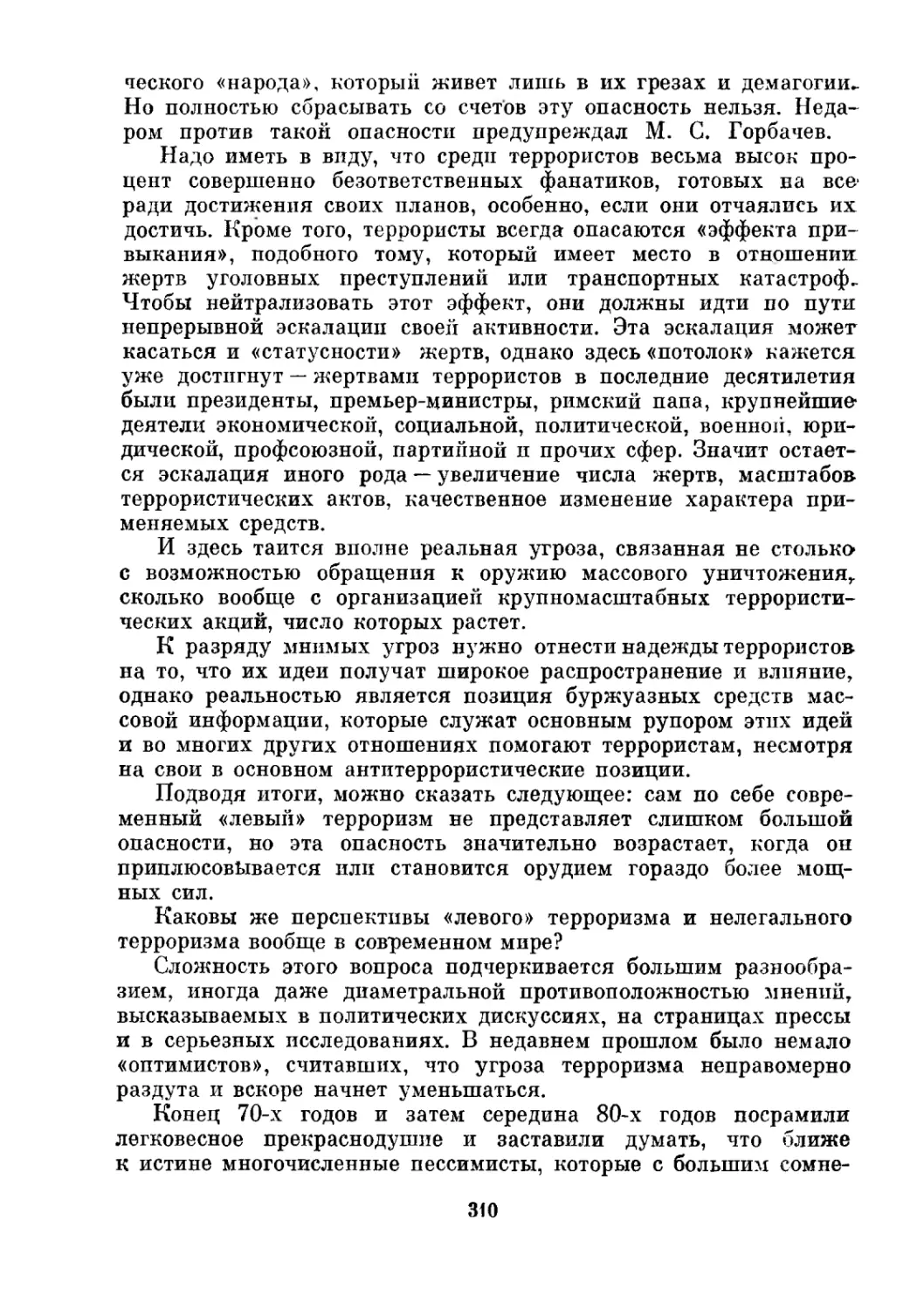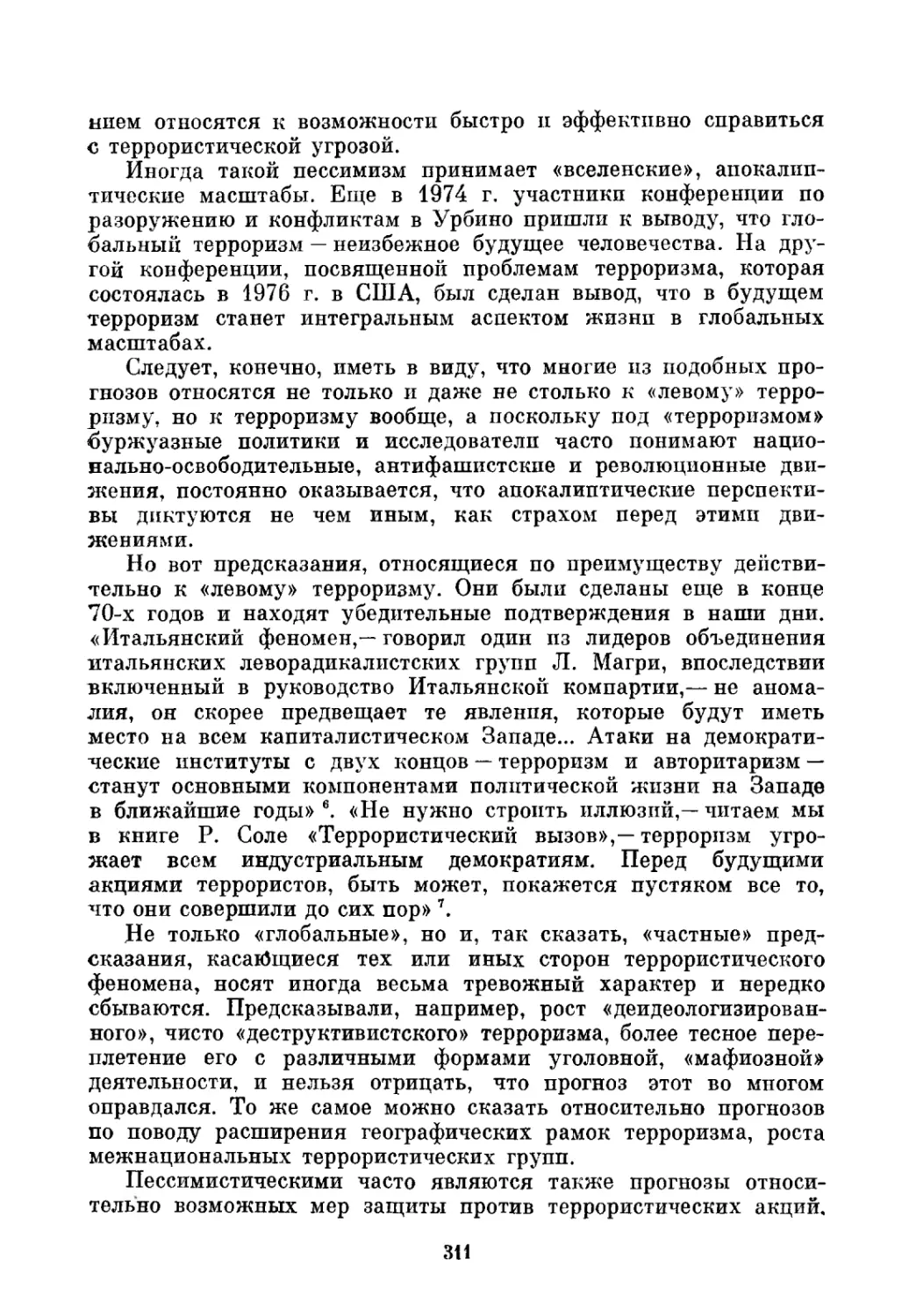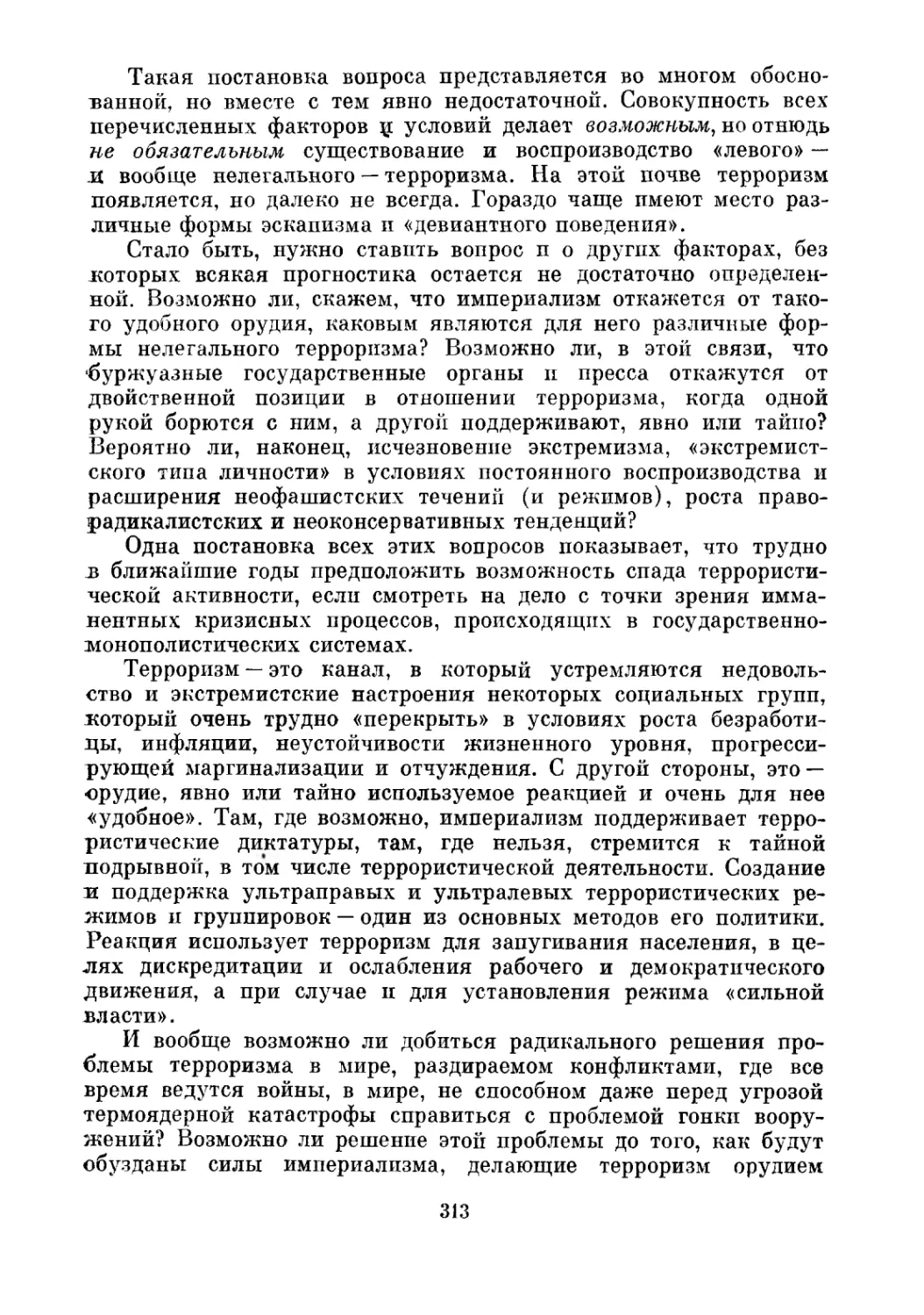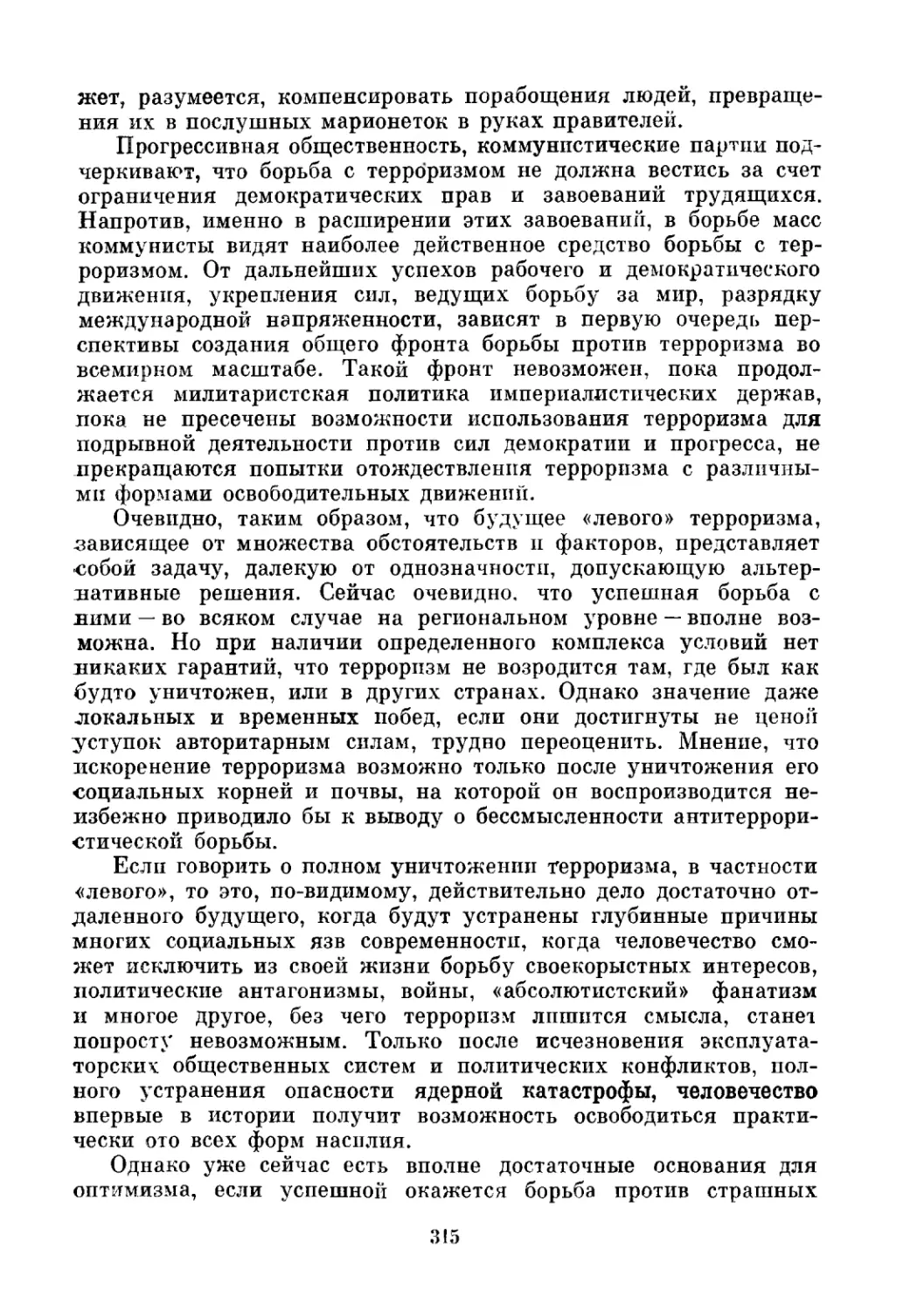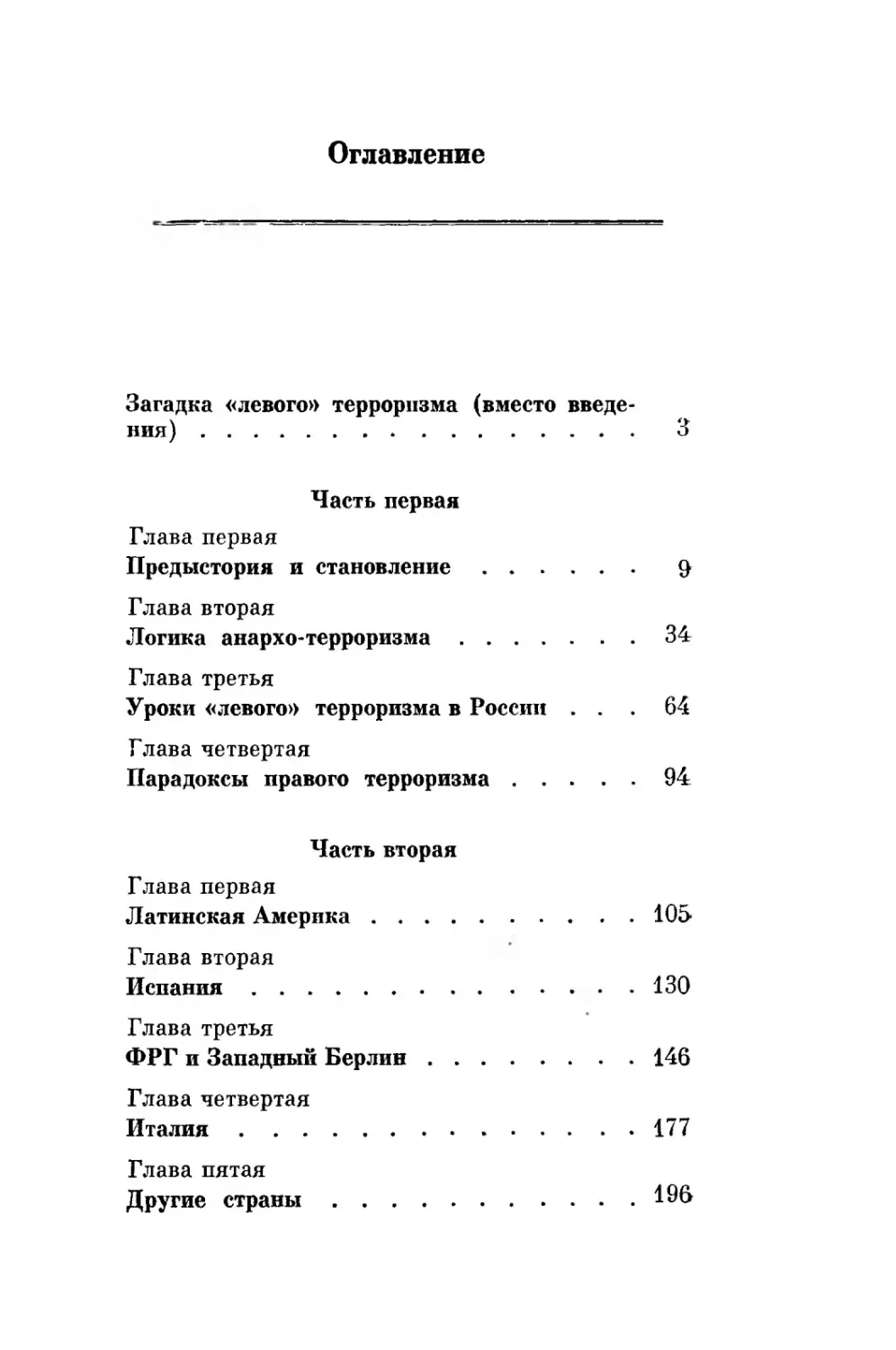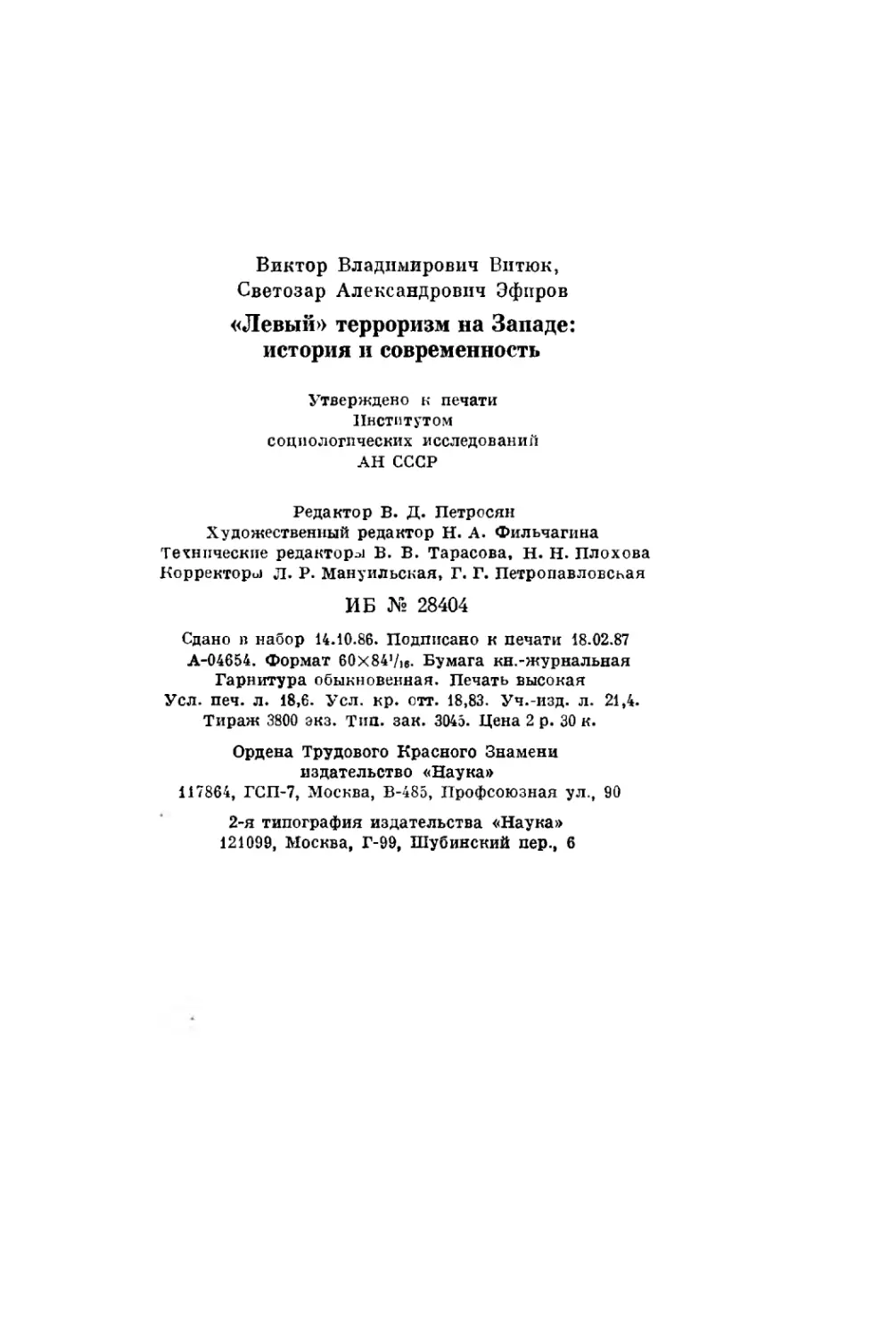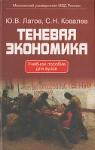Text
Академия наук СССР
Институт социологических исследований
В. В. Витюк, С. А. Эфиров
« Левый » терроризм
на Западе:
история
и современность
Ответственный редактор
доктор философских наук
Г. В. ОСИПОВ
Москва
«Наука»
1987
Политический терроризм — тревожный феномен современно
сти. В книге рассматривается «левая» разновидность этого яв
ления — его история и «география», проблема его определения
и типологии, социальная база, состав, структура, методы, цели,
связи и объективный смысл деятельности террористических
групп, психология и социальная философия «левого» террориз
ма. Авторы показывают, что псевдолевизна не менее опасное
обличье терроризма, чем его откровенные, фашистские формы.
Рецензенты:
Б. И, Коваль, Г. Н. Вачнадзе
0303020000 065 ^
042(02) -87
^
@ Издательство «Наука», 1987
Загадка «левого» терроризма
(вместо введения)
Среди тревожных вопросов, стоящих ныне перед человечеством,
все большее место занимает проблема терроризма. Почему в кон
це XX в. мир оказался лицом к лицу с террористической волной,
беспрецедентной по масштабам и неожиданной по формам? В чем
причина того, что старая как мир проблема вдруг возникла в но
вом обличьи? Какова природа феномена, как он возникает,
какие перспективы несет с собой? Почему, наконец, в контексте
современного террористического «бума» возродился и приобрел
невиданные размеры «левый» терроризм? Казалось, что он без
возвратно канул в прошлое, отвергнутый рабочим движением,
-под ударами марксистской критики, выявившей его несостоятель
ность и вредность для освободительной борьбы.
Нельзя сказать, чтобы эти и многие подобные вопросы остава
лись без ответа. Ответов, пожалуй, даже слишком много. Но при
всем их множестве и разнообразии загадка терроризма и его ны
нешнего «возрождения» далека от решения. Многое выяснено,
и все же что-то очень важное остается неясным. Например,
вопрос о том, почему сходный комплекс условий лишь иногда
дает «террористический» выход, а гораздо чаще приводит к со
вершенно другим последствиям? Следует ли из этого, что какието из условий остаются невыявленными, и если да, то какие?
Все более или менее ясно, когда речь идет о терроризме, не
посредственно
инспирируемом
государственными
органами.
А если это «стихийный» терроризм, причем действительно, а не
псевдостихийный? Последний также провоцируется или поддер
живается мощными империалистическими силами — только тай
но. Впрочем, сейчас уж е можно считать очевидным, что проблему
терроризма любого вида нельзя ставить и рассматривать вне
прямой или косвенной связи с основной, наиболее масштабной
формой терроризма — государственным терроризмом, на счету
которого в истории огромное количество жертв. С нее и надо
всегда начинать.
Эта форма терроризма — подлинный бич нашего века. Она пе
риодически появлялась, воплощаясь в массовом терроре фашист
ских и левацких диктатур, унося миллионы жизней. Государст
венный терроризм фашистского типа сохраняется в некоторых
3
странах и сейчас, однако на первый план выдвинулась иная его
разновидность — неоколониалистская, нередко выступающая под
лицемерным лозунгом борьбы с международным терроризмом.
Под сенью этого лозунга некоторые страны, прежде всего США,
осуществляют военные акции, помощь прогнившим диктаторским
режимам и наемникам, даже захват целых государств. Все это
общеизвестные вещи, и вряд ли стоит говорить о них подробнее,
однако есть вопрос, который нельзя обойти: что произошло бы,
если нормой стало бы отвечать на индивидуальный террор ме
тодами государственного терроризма, т. е. фактически военными
действиями, как это было, например, в случае пиратских воздуш
ных рейдов на Ливию.
Это подвело бы мир к очень опасной грани, поскольку всякие
военные конфликты, даже региональные, таят в себе опасность
перерастания в крупномасштабные конфликты, а может быть,
и в тотальную всеуничтожающую ядерную войну. Кроме того,
указанная практика внесла бы опасный хаос в международные
отношения, узаконила бы право произвольного нанесения военно
террористических ударов, поскольку террористические акты всег
да можно приписать «кому требуется», можно даже их специаль
но провоцировать.
Очень сомнительно к тому же, что военно-террористические
удары могут привести к уменьшению масштабов террористиче
ской активности, скорее наоборот. Обстановка, создающаяся в
результате разного рода конфликтов, является оптимальной для
существования и «расширенного воспроизводства» терроризма*
«Кризисы и конфликты,—говорил М. С. Горбачев на X X V II съез
де КПСС,— благодатная почва для международного терро
ризма» 1.
Вывеска «борьбы с терроризмом» предназначена не только для
маскировки реальной террористической практики, но широко ис
пользуется для борьбы с национально-освободительными движе
ниями. Это — старая традиция. Еще гитлеровские захватчики на
зывали наших партизан не иначе как «террористами», «бандита
ми» и т. п. Прием этот постоянно применяется и сейчас с целью
дискредитации борцов за свободу в глазах местного населения и
мировой общественности. С точки зрения американской админи
страции, терроризм — это в лервую очередь освободительные дви
жения. Для американских правителей, например, сальвадорские
повстанцы — «террористы», а никарагуанские «контрас» — бор
цы за «свободу», вьетнамские партизаны были «террористами»,
а нынешние полпотовцы, уничтожившие в свое время миллионы
людей,— борцы за освобождение родины.
Мы неоднократно сможем убедиться, что «стихийный» терро
ризм тысячами нитей связан с терроризмом государственным, не^
4
редко инспирируется им или даже является его тайной формойг
но все же это существенно иное явление. Именно его развитие
и масштабы в последние годы — беспрецедентны.
Колоссально расширились географические рамки террористи
ческой активности, которая распространилась сейчас чуть ли н е
на все регионы капиталистического мира. То что раньше было,
скорее, исключением, теперь стало «правилом», повседневностью
во многих странах.
Взрывы бомб и автомашин, начиненных взрывчаткой, убий
ства, нередко массовые, захват заложников, а также самолетов
и других транспортных средств с заложниками, нападения на
промышленные, государственные, военные, транспортные, энерге
тические и прочие объекты стали обычным явлением, занимают
все более значительное место в информационных сообщениях и
на газетных полосах. Террористическая деятельность кое-где
достигла высокого «профессионализма», что в немалой степени
связано, конечно, с тем, что за спиной значительной части терро
ристов стоят мощные империалистические силы. Терроризм сей
час весьма разнообразен по характеру и ориентации, целям и
окраске. Существуют социально-политические, националистиче
ские, сепаратистские, религиозные и другие его формы, правые,
«левые», внутригосударственные и международные.
Особенно угрожающий и зловещий оттенок приобретает тер
роризм в эпоху все более широкого распространения средств
массового уничтожения. Можно себе представить, что произойдет,
если они попадут в руки готовых на все, безответственных фа
натиков.
«Еще
одна
сторона
ядерной
безопасности,—говорил
М. С. Горбачев 9 июня 1986 г. на встрече с коллективом Чепельского станкостроительного завода в Венгрии,— недопущение
ядерного терроризма. Известны примеры умышленного ущерба,
нанесенного предприятиям’ атомной промышленности в США и
Западной Европе, хищений высокообогащенных расщепляющихся
материалов. Поэтому задача исключительной важности — разра
ботка надежной системы мер по предотвращению ядерного тер
роризма в любых его проявлениях» 2.
Среди разнообразных форм современного терроризма «левый»
терроризм, вероятно,— самая неожиданная, сложная и запутан
ная. Ни один из видов терроризма не вносит столько смятения
в души и умы, как этот.
Конечно, «левый» терроризм — не новое явление в истории.
Он существовал в X IX и начале XX вв. на Западе и в России,
но сейчас это совсем «другой» терроризм, терроризма оборотень»,
провокационную сущность которого разгадать не так просто.
«Левый» терроризм чаще всего не является непосредственным
5
орудием империалистических сил, но эти силы часто его исполь
зуют. Отношение ЦРУ и других спецслужб империалистических
государств к «левым» террористическим группировкам далеко не
•однозначно: они подчас заинтересованы не столько в разгроме
этих группировок, сколько в их «эффективном» функционирова
ний, поскольку их деятельность часто выгодна им. Так, убийство
А. Моро явилось, в сущности, реализацией угроз, которые неод
нократно адресовала ему американская администрация. Впрочем,
имеются факты, свидетельствующие о непосредственном стремле
нии манипулировать и даже руководить террористическими груп
пировками, инспирировать и провоцировать терроризм.
При обыске у главаря масонской ложи «П-2» были обнаруже
ны документы, в которых высокие разведывательные и военные
инстанции США предписывали своим агентам проникать в терро
ристические организации, в частности «левые», добиваться в них
руководящего положения и подчинять своему влиянию.
Но дело даже не столько в подобных фактах, хотя их сейчас
и немало, сколько в том, что в наши дни левотеррористическая
деятельность стала объективно провокационной, играет на руку
реакции.
Динамика развития «левого» терроризма в последние десяти
летия весьма причудлива. Одновременно или поочередно он за
хватывает различные страны и регионы, то отступая, то вновь
надвигаясь, меняя обличье и формы. Мощный подъем «левого»
терроризма наблюдался на рубеже 60—70-х годов в Латинской
Америке, Японии, ФРГ. В конце 70-х годов его эпицентром стали
Италия и Турция. Его объекты в те годы были внутренними. За
тем наступило непродолжительное затишье. К середине 80-х го
дов ряд европейских стран, в первую очередь ФРГ и Францию,
снова захватила волна левацких террористических эксцессов,
превзошедшая все, что было до этого. Римский журнал «Пано
рама» 16 марта 1986 г. приводит оценки западногерманских экс
пертов, согласно которым за 1984—85 гг. в ФРГ было произведе
но около тысячи террористических актов различного масштаба.
Но дело даже не в количественных параметрах. Новейший
европейский «левый» терроризм, получивший в прессе название
«евротерроризма» в силу стремления к координации действий,
направлен уже не столько на внутренние, сколько на «внешние»
объекты, приписывает себе «антиамериканский» и «антинатовский» характер, стремится выступать в качестве антимилитарист
ской, антивоенной, а нередко и антирасистской силы.
Это — коварная ловушка, опасный обман. Все ли сразу пой
мут, что террористические акты, объектами которых служат базы,
военные сооружения и установки НАТО, военнослужащие и ди
пломаты США, а также лица, связанные с американским персо
6
налом, с режимом ЮАР, с антииммигрантскими организациями,дают только лишний предлог реакционным империалистическим
силам для ужесточения своей политики? Так ли уж очевидно,
что «антинатовская» ориентация современного «левого» терро
ризма служит укреплению этого агрессивного военного блока?
Лицемерный характер левацкого терроризма, его социальнополитическая мимикрия, иллюзии, которые он иногда порождает
на свой счет, делают его особенно опасным. Реакция в своих ко
рыстных целях стремится связать его с рабочпм двия^ением^
коммунистическими партиями и социалистическими странами.
Главная трудность, возникающая при исследовании интере
сующего нас феномена, как раз и заключается в том, что у него
«двойное дно». Разглагольствования о «марксизме», «коммуниз
ме», «классовой борьбе», «пролетарском интернационализме»,
«борьбе против империализма» и т. п. скрывают за собой совер
шенно иной подтекст и смысл.
«Двойник» «левого» терроризма — терроризм ультраправый
гораздо откровеннее. Конечно, и он не чужд демагогии, в частно
сти антикапиталистической, но удельный вес этой демагогии
здесь значительно меньше, она занимает подчиненное положение'
по сравнению с откровенно человеконенавистнической, шовинист
ской, милитаристской идеологией. Поэтому ультраправый терро
ризм гораздо меньше нуждается в «расшифровке». Напротив,
расшифровка загадки «левого» терроризма доступна далеко не
каждому. Этим объясняется помимо всего прочего довольно зна
чительное число «симпатизирующих» ему в разных социальных
группах.
Основная задача книги в том, чтобы способствовать разреше
нию загадки «левого» терроризма. Литература о терроризме вооб
ще и «левом» терроризме в частности огромна. Накоплен боль
шой фактический материал, разработаны многие теоретические
вопросы. Появилась специальная дисциплина, которую обозна
чают термином «террология». У многих крупных западных орга
нов печати есть свои «террологи». Исследование проблемы терро
ризма ведется на уровне государственных и общественных орга
низаций, научных институтов, секретных служб, военных ведомств
и т. д. Проводятся многочисленные конференции, семинары,
симпозиумы. В США, начиная с 1978 г., издавался ежекварталь
ный журнал «Терроризм».
В работах западных политологов, социологов, журналистов:
содержится множество интересных наблюдений, оценок, обобще
ний, гипотез; нет ни одного сколько-нибудь значительного вопро
са, который не попал бы в их поле зрения. И все же западная
литература этого рода далеко не всегда способствует выяснению
проблемы. Нередко она имеет поверхностно-сенсационный харак
7
тер, изобилует догадками сомнительного свойства и просто сплет
нями, фантастико-апокалиптическими предсказаниями и т. п.
Многие западные исследователи руководствуются в своей
критике терроризма антикоммунистическими установками. Это и
неудивительно, поскольку, как отмечает «Юманите», «терроризм
стал в последние годы ставкой в идеологической борьбе» 3. Среди
исследователей немало и «сочувствующих» терроризму, правда
чаще всего не его методам, а мотивам и целям.
В нашей литературе в той или иной мере даны основные ха
рактеристики левотеррористических группировок, их идейно-по
литические установки, социальные предпосылки и классовая база
современного «левого» терроризма, раскрыта его реакционная
политическая роль и тайные связи террористов с секретными
службами США и других империалистических держав.
В то же время советской общественной наукой современному
«левому» терроризму уделено меньше внимания, чем того тре
бует социально-политическая и идеологическая значимость этого
явления.
Авторы предлагаемой читателю книги стремятся дать целост
ную и всестороннюю характеристику «левого^ терроризма, его
предыстории и специфических особенностей, выявить его соци
альные корни, проанализировать исходные постулаты идеологии,
дать оценку его реальным политическим возможностям и перс
пективам. Одна из важных задач книги — показать, что нелегаль
ный терроризм в определенных отношениях (практическом,
идейном, психологическом) — мини-аналог терроризма государст
венного, тяготеет к превращению в последний и что в этом его
главная опасность. На пресс-конференции в Дели М. С. Горба
чев сказал: «Мы — решительные противники терроризма в любой
форме, особенно, когда он принимает формы государственного» 4.
Книга состоит из трех частей. Первая часть, гл. 1, 2, 3, 5 вто
рой части и гл. 1 третьей части написаны В. В. Витюком; Введе
ние, гл. 4 второй части и гл. 2, 3, 4, 5 третьей написаны
С. А. Эфировым.
! Материалы XXVII съезда КПСС
М. 1986. С. 70.
2 Правда. 10 июня 1986 г.
3 Humanite. 13 sett. 1986.
4 Правда 29 нояб. 1986 г.
Часть первая
Глава первая
Предыстория и становление
Предыстория современного политического терроризма уходит
своими корнями в глубь веков. На самых различных ступенях
развития антагонистического общества борьба между угнетенны
ми и угнетателями, между оспаривающими друг у друга власть
группировками правящего класса нередко обретала форму откры
того вооруженного насилия, направленного на физическое устра
нение, подавление и запугивание политических противников.
Проскрипции Суллы и нападение группы вооруженных кинжала
ми сенаторов на Юлия Цезаря. Бесчисленные казни феодальны
ми властителями своих соперников, сопровождавшиеся выставле
нием на всеобщее обозрение их отрубленных голов, расставлен
ные по дорогам виселицы с трупами участников народных вос
станий и просто лиц, проявивших неповиновение или недовольство,,
костры инквизиции, Варфоломеевская ночь и «пороховой заго
вор» Гая Фокса, убийства Равальяком Генриха IV и Фельтоном
герцога Букингемского. Якобинский террор и зверская расправа
версальцев над участниками Парижской коммуны, убийства ре
акционерами Марата, Линкольна, Жореса и покушения буржуаз
ных республиканцев на короля Л уи—Филиппа, императора Н аполена III и других монархов. Террористические кампании,
развязанные анархистами в конце X IX в. в ряде капиталистиче
ских стран, ужасы фашистских диктатур и покушения на Тольят
ти, Де Голля, Д ж . Неру.
Фактами такого рода полна политическая история человече
ства, и нам нет нужды множить здесь их количество. Безуслов
но, что обращение к террористическим методам, как методам
крайним и чрезвычайным, не являлось каждодневной практикой.
Оно осуществлялось в периоды резкого обострения общих со
циальных противоречий или определенных политических кон
фликтов. Но не менее безусловно, что возможность такого обра
щения вытекала из самой природы антагонистического общества
и характера эксплуататорского государства. К нему прибегали
в прошлом самые различные классы и социальные силы— гос
подствующие и оппозиционные, стремящиеся к закреплению на
9
личных социальных отношений и политических структур и к
тому или иному их изменению, движимые узкокастовыми инте
ресами или, как они полагали, интересами народа, преследовав
шие откровенно реакционные цели или рассчитывавшие при по~мшци террористических методов способствовать общественно
историческому прогрессу. В зависимости от их политических
возможностей они использовали как оружие массовых репрессий,
так и тактику индивидуальных политических покушений.
Все эти мысли представляются настолько элементарными, что
авторы формулируют их не без чувства некоторой неловкости.
Действительно, стоит ли с серьезным видом энергично ломиться
в открытую дверь? К сожалению, не только стоит, но и необхо
димо, ибо на деле кажущаяся открытой дверь вовсе не столь уж
широко распахнута. В полемике вокруг предыстории терроризма
наших дней многими буржуазными политологами факты, абсо
лютно очевидные, вовсе не принимаются в расчет, а истины,
казалось бы, аксиоматические, постоянно ставятся под сомнение
или попросту отвергаются с порога.
Широкое хождение получила на Западе, например, мысль о
«беспрецедентности» современного политического терроризма.
«Мы вступили в уникальную эпоху терроризма»,— утверждает
главный
редактор
международного
журнала
«Терроризм»
И. Александер1. Эта посылка доводится рядом ее сторонников
до вывода о том, что «терроризм принадлежит именно нашему
технически изощренному век у»2 и не имеет исторических ана
логов в прошлых формах политического насилия.
Идея «беспрецедентности» в значительной мере является про
изводной от сенсационно-панической реакции на подъем с нача
ла 70-х годов новой волны политического терроризма, оказавший
ся особенно неожиданным на фоне распространения пропаган
дистских мифов об обществе «всеобщего благоденствия». Но глав
ное не в этом. Правым идеологам она служит для обоснования
тезиса о том, что современный политический терроризм не имеет
исторических и социальных корней в капиталистической действи
тельности, что буржуазия, будучи классом, исходно привержен
ным к демократической законности, непричастна и никогда не
была причастна к использованию террористических методов по
литической борьбы. А эта посылка в свою очередь становится
базой для различного рода идейно-политических спекуляций на
проблематике современного терроризма. Замалчивание акций
государственного террора, осуществлявшихся в прошлом господ
ствующими классами, распространяется и на сегодняшнюю тер
рористическую практику правительств ряда империалистических
держав, прежде всего США. В политически неоднородном потоке
заговорщического терроризма фиксируются и выделяются лишь
20
7гевотеррористические течения, к которым подверстываются не
которые националистические и религиозные группировки при
одновременном вынесении за скобки неофашистского терроризма.
Таким способом делается попытка подвести аудиторию к выво
ду, что современный терроризм практически воплощается в тер
роризме «левом». Последний же рассматривается как явление
наносное, инспирированное извне или возникшее и развивающее
ся под воздействием необъяснимым образом обретшей влияние
«революционной» идеологии и пропаганды террористического
опыта средствами массовой информации. Отсюда остается лишь
один шаг до отождествления «левого» терроризма с народными^
революционно-освободительными движениями, который многие^
сторонники идеи «беспрецедентности» и совершают*.
Казалось бы, диаметрально противоположные позиции зани
мает ряд буржуазных политологов академического толка во главе
с весьма авторитетным У. Лакёром, решительно оспаривающим
концепцию «беспрецедентности». Лакёр упорно настаивает uat
том, что современный терроризм «исторически является не более
чем возрождением некоторых форм политического насилия, кото
рые были использованы ранее во многих частях света»3. Этот
тезис эрудированный автор подкрепляет ссылками на античных
тираноборцев, ближневосточную секту сикариев (от «сика» —
короткий меч, которым в соответствии с определенным ритуа
лом члены секты убивали сотрудничавших с римлянами сооте
чественников), мономархов, маркиза Солсбери, высказавшего в
X III в. мысль о том, что узурпировавший власть при помощи
шпаги заслуживает того, чтобы от шпаги же погибнуть, и т. д.
С достаточной подробностью рассматривает Лакёр идеи и дейст
вия целого ряда лиц и организаций, прибегавших в X IX в. к
тактике политических покушений. И таким образом признает,
что современный «левый» терроризм на Западе опирается на
длительную и солидную историческую традицию. Однако в кон
цепции Лакёра существенно не только это признание, но и тот
теоретический контекст, в который оно поставлено.
* Между государственным террором и оппозиционным терроризмом нали
чествуют как принципиальное единство, так и существенные социальные
и типологические различия. В силу этого, в дальнейшем применительно
к первому мы будем употреблять термин «террор», а применительно ко
второму — «терроризм». Общим же понятием «политический терроризм»
обозначаются все виды террористической деятельности. Характерным:
приемом правых политологов является подмена понятий, их то чрезмер
но зауженное, то неправомерно расширительное толкование: сведение со
держания обобщающего термина «политический терроризм» лишь к от
дельным его разновидностям и произвольное распространение этого тер
мина на нетеррористические формы политической борьбы.
И
Автор исходит из убеждения, что в терроризме наличествует
^случайный, недоступный для постижения элемент» \ «Не долж
но,— пишет он,— быть никаких иллюзий по поводу того, что
можно выяснить о происхождении и характере терроризма: всц
что может быть установлено,— это то, что в одних обстоятель
ствах терроризм чаще осуществляется, чем в других, и что в не
которых обстоятельствах он может вообще не иметь корней»5.
В соответствии с этой установкой он открыто опротестовывает
стремление видеть предпосылки терроризма в условиях и проти
воречиях социальной (в том числе капиталистической) действи
тельности, в «бедности, неравенстве, несправедливости, недоста
точности политического участия» 6.
На первый план, в качестве причин обращения к терроризму,
у Лакёра в ходе характеристики его исторических и современных
форм явочным порядком выступают такие факторы, как социаль
ные и личные амбиции людей, неразрывно связанные с их на
клонностью к крайним способам самовыражения и протеста,
и идеологические обоснования этих амбиций. Последние, согласно
Л акёру, проявляются в каждую эпоху не только и не столько в
виде конкретных политических доводов, но прежде всего в форме
специфического, вневременного и внеклассового, мировоззренче
ского элемента, получившего у него наименование «философии
^бомбы».
Спору нет: без учета умонастроений, психологического состоя
ния, этических установок, предопределяющих готовность людей к
использованию любых, ничем не ограниченных средств для до
стижения поставленных ими перед собой политических целей,
невозможно получить целостное и законченное представление о
системе предпосылок и механизме формирования терроризма.
Н о это представление тем более невозможно получить без ана
лиза социальных условий, в которых ведется террористическая
борьба, и классовых позиций лиц и группировок, эту борьбу осу
ществляющих. Лакёр потому, собственно, и отрицает возможность
научного познания природы терроризма и механизма его возник
новения, что принципиально отказывается от социального анали
за, подменяя его объективистскими описаниями. Таким образом,
в сфере методологии он не слишком далеко ушел от тех, с кем
резко полемизирует в сфере истории. Чистой методологией дело,
впрочем, не ограничивается. В книге под обобщающим наимено
ванием «Терроризм» У. Лакёр раскрывает тему, сосредоточив
свое внимание почти исключительно на терроризме «левом».
Стремлением снять с капитализма ответственность за разви
тие политического терроризма диктуется обращение к его преды
стории и некоторых других политологов, по тем или иным при
чинам не удовлетворенных отмеченными выше полярными да
12
тировками и ищущих точки отсчета во временном промежутке
между ними, в частности в последней трети X IX столетия. Ос
нованием для этого объявляется террористическая деятельность
анархистов и народовольцев. Выбор не случаен. Анархизм рас
сматривается ими как пролетарское революционное течение, что
в свою очередь используется для того, чтобы возложить вину за
возникновение терроризма на рабочий класс и марксистскую
идеологию. При этом полностью игнорируется борьба К. Маркса
и Ф. Энгельса с анархизмом, критика ими заговорщического экс
тремизма и террористической тактики. Объявляя пионерами и
родоначальниками терроризма русских народовольцев, политоло
ги и публицисты типа советолога Р. Пайпса и журналистки,
агента ЦРУ, К. Стерлинг преследуют несколько взаимосвязан
ных целей: создать представление о том, что истоки «левого»
терроризма на Западе лежат в русском освободительном движе
нии, приписать большевизму, как наследнику традиций борьбы
«Народной воли» с царизмом, восприятие и ее террористиче
ской традиции (ни словом не упоминая о решительном отверже
нии большевиками народовольческой тактики и борьбе РСДРП
с эсеровщиной), подвести исторические подпорки под лживый
тезис о пресловутой «руке Москвы» и под отождествление с тер
роризмом революционно-освободительной борьбы. Особенно опас
ной эту концепцию делает то, что в некоторых странах она при
обрела официальный статус: книга К. Стерлинг «Сеть террора»
явилась источником вдохновения для Р. Рейгана и его команды
при формулировании внешнеполитической линии правительства
США, обозначенной как «борьба с международным терроризмом»,
а Р. Пайпс в качестве государственного советника принимал не
посредственное участие в выработке этой линии.
Ангажированные политологи, откровенно ставящие историю
на службу политической прагматике, поисками аргументов себя
не утруждают, заменяя их голословными категорическими
утверждениями.
Их
академизированные
единомышленники,
не позволяющие себе столь беззастенчиво пренебрегать фактами,
пытаются связать обозначение рубежа, начиная с которого осу
ществление открыто насильственных акций может быть, по их
мнению, квалифицировано именно как политический терроризм,
с определенным истолкованием фактов. Они упирают на то, что
в конце X IX в. осуществление политических покушений легло
в основу тактики сложившихся левооппозиционных движений,
получило теоретическую санкцию в их программах, осуществля
лось систематически.
Не будем сейчас специально фиксировать свое внимание на
принципиальной политической, идеологической, организационной
и практической разнице между анархизмом и народовольчеством.
13
Она выявится в ходе дальнейшего изложения. Попробуем разо
браться, в какой мере основательна приведенная выше аргумен
тация.
Прежде всего, организации, сознательно и систематически
использовавшие террористическую тактику, существовали и в
далеком прошлом. Тому пример упоминавшаяся выше секта сикариев или действовавшая в том же ближневосточном регионе
в X I—X III вв. секта ассасинов (слово, вошедшее в европейские
языки для обозначения убийц), ставившая своей целью истреб
ление халифов-инородцев. Да и Варфоломеевская ночь осуществ
лялась вполне организованно и на основе воинственной руково
дящей идеи.
Впрочем, не стоит забираться так далеко. Уже в начале
XIX в. в Европе возникают заговорщические организации бур
жуазно-республиканского и буржуазно-националистического ха
рактера *, обращавшиеся к террористической практике. Среди
них, в частности, итальянские: мафия, камора, братство карбона
риев. Мафия возникла на Сицилии в целях борьбы против мо
нархии Бурбонов, но смешав политику с уголовщиной, быстро
выродилась в преступный синдикат. Такой же путь за более
длительное время проделала и возникшая в Неаполе в 1820 г.
камора. Созданная враждебными монархии Бурбонов масонами,
камора первоначально занималась узкой задачей подкупа и
устрашения тюремщиков в целях смягчения режима заключенных
и устройства им побегов. Террористические методы камора вско
ре стала применять и по отношению к людям, освобожденным
ею из тюрем, силой заставляя их вступать в организацию.
По мере роста общества она стала терроризировать и правитель
ство, угрозами и шантажом стремясь вырвать у него те или
иные уступки. Постепенно теряя значение в Италии, камора в
течение нескольких десятков лет пользовалась значительным
влиянием среди итальянских эмигрантов за рубежом, а затем
перенесла свои действия на отечественную почву уж е в качестве
чисто уголовной группировки.
Широко известная организация карбонариев, созданная одно
временно с каморой на юге Италии и позднее распространив
* Многоплановость программных установок некоторых буржуазных и мел
кобуржуазных заговорщических организаций — факт закономерный и по
нятный, ибо в ряде стран Западной Европы феодальный гнет выступал
в формах не только социально-политических, но и национальных. Лозунг
политической свободы в одних странах выступал как требование смены
монархического строя республиканским, а в других еще (и в первую
очередь) и как призыв к освобождению от иностранного господства.
Классический пример — Ф. Орсини, заявлявш ий: «Мои неизменные прин
ципы — республиканские, но первая моя мысль принадлежит независи
мости, ибо без независимости свобода есть химера» 7.
14
шаяся на всю страну, поначалу имела своей целью защиту
крестьян и сельскохозяйственных рабочих от произвола помещиков-землевладельцев. Наиболее жестоким из них организация
рассылала предупреждения с требованиями прекращения произ
вола и насилия, угрожая при их продолжении смертью. Если
предупреждение не действовало, карбонарии свою угрозу выпол
няли. Общество придерживалось суровых принципов и по отно
шению к собственным членам. Выход из организации карался
смертью. Так же карался и расцениваемый как предательство
отказ от исполнения приказа. Вместе с развитием общества по
степенно изменились и его цели, обретая политический характер.
На первый план выходит задача борьбы с австрийским влады
чеством и продажными монархическими режимами. Изменяется
и состав общества, в котором ведущую роль начинают играть
патриотически настроенные представители образованных слоев.
Центр деятельности переносится в город, непосредственным объ
ектом атак становится правительство. Ставя своей задачей отве
чать на любое проявление тирании террором, карбонарии в
20—30-х годах X IX в. осуществляют целую серию покушений на
офицеров полиции и государственных чиновников, а также под
нимают ряд плохо подготовленных и потерпевших крах воору
женных выступлений.
Уже в конце X IX в., в значительной мере под воздействием
опыта анархо-терроризма, но на основе антиолигархических или
буржуазно-националистических мотивов, возник ряд заговорщи
ческих организаций, сознательно и систематически обращавшихся
к террористической форме борьбы. Среди них, в частности, ис
панское и сербское общества, носившие одинаковое наименова
ние «Черной руки». Первая из них, выступая под лозунгом:
«Смерть аристократам!», призывала к убийству каждого маломальски значительного представителя правящей верхушки. Вто
рая была движима идеей создания независимого государства,
включающего все территории с сербским населением. В ее так
тику входило осуществление покушений на высших австрийских
чиновников, членов королевской семьи Габсбургов, сербов, со
трудничавших с австрийской администрацией.
Многие террористические акты в начале и середине XIX в.
совершались небольшими заговорщическими группами или оди
ночками. Но, по существу, так же обстояло дело и у анархо-террористов. В то же время исполнители этих акций либо принад
лежали к определенным радикально-оппозиционным движениям,
либо внутренне ощущали причастность к ним. Они руководство
вались в принципе теми ж е политическими оценками и установ
ками, что и данные движения. Подталкиваемые к крайним дей
ствиям утопическими надеждами, нетерпением или отчаянием,
15
они решались воплотить эти установки в жизнь путем политиче
ского убийства и самопожертвования.
Д аже когда действовавший самостоятельно французский ре
месленник Лувель заколол герцога Беррийского (1820 г.), он ис
ходил из распространенной среди некоторой части буржуазных
республиканцев мысли о том, что для ликвидации монархии не
обходимо пресечь дальнейшее существование династии Бурбо
нов. Единственным же представителем королевского дома, кото
рый мог дать Бурбонам наследника, был молодой герцог Беррийский. В плане политическом акт, осуществленный Лувелем, был
абсолютно бесплоден, мотивировка его была предельно наивна.
Спустя несколько месяцев после гибели герцога Беррийского до
фин родился. Царствовать же ему не пришлось, ибо в результате
революции 1830 г., низвергнувшей династию Бурбонов, на пре
стол взошел «король банкиров» Л уи—Филипп Орлеанский. Од
нако политическая наивность Лувеля неразрывно связана с по
литической наивностью многих республиканцев, которые в соот
ветствии с характером и уровнем исторического мышления той
эпохи были убеждены, что ликвидация монархического строя
находится в прямой зависимости от физической ликвидации мо
нарха и его наследников.
С двумя помощниками Ф. Орсини готовил и совершил в
1858 г. свое покушение на Наполеона III. Но само это покушение
Орсини осуществил по инициативе группы экстремистски на
строенных французских республиканцев. Предпринимая этот
акт, Орсини исходил из соображения, что смерть Наполеона III
повлечет за собой изменение политики Франции по отношению
к Австрии, а это в свою очередь облегчит для Италии достиже
ние национальной независимости. Надеялся он и на то, что раз
давшийся в атмосфере реакции «громовой удар» пробудит рево
люцию во Франции. Нетрудно заметить, что Ф. Орсини руковод
ствовался в принципе теми же политическими целями, которые
ставили перед собой и левооппозиционные организации в Италии
и Франции, в том числе и не прибегавшие к террористическим
методам. В этой связи особо стоит выделить его идею о «громо
вом ударе». В разных вариантах и трактовках она является не
обходимым составным элементом левоэкстремистской идеологии
и присуща всему «левому» терроризму X IX —XX веков, включая
и современный. Но, как видим, зародилась она в западноевропей
ском буржуазном революционаризме задолго до того, как к ней
обратились анархисты и народовольцы.
И здесь мы подходим к вопросу об идеологических обоснова
ниях буржуазно-республиканского терроризма. Его фундамен
тальной теоретической базой является идеалистическое и утопи
ческое представление об историческом процессе, игнорирование
16
основных его закоцомерностей, невнимание к экономическим от
ношениям и сосредоточение интереса на вопросах власти и права,
преувеличение роли личности в истории, абсолютизация роли по
литического насилия, рассматриваемого как первоисточник со
циального неравенства. А отсюда следовали убежденность в том,
что для уничтожения социального зла и несправедливости доста
точно лишь прибегнуть к насилию, направленному против высо
копоставленных носителей власти, в силу чего социальное наси
лие отождествлялось с физическим. По существу, в своей борьбе
против пережитков феодальных социально-политических отноше
ний террористы буржуазно-радикалистского направления руко
водствовались унаследованными от феодализма же принципами
кулачного права и навыками единоборств и дуэлей.
Впрочем, эти принципы и навыки обретали и новую окраску,
опираясь на индивидуалистическую, романтически-элитаристскую
трактовку идей о достоинстве и свободе личности, утверждение
которых явилось на определенном этапе завоеванием прогрес
сивной общественной мысли и сыграло большую роль в борьбе
с феодализмом. Эта трактовка послужила обоснованию права на
личное возмездие носителям социального зла и приданию мотиву
возмездия преувеличенного значения в политической борьбе.
Данный мотив, иногда глубоко скрытый, иногда выступающий на
первый план, постоянно просматривается при анализе террори
стических акций, совершенных буржуазными экстремистами.
У того же Орсини, в частности, с политическими целями, кото
рыми он руководствовался, совершая покушение на Наполео
на III, сплеталось стремление к возмездию Луи Бонапарту, из
менившему ранее провозглашавшимся им республиканским прин
ципам и солидарности с борьбой итальянских патриотов, узурпи
ровавшему плоды революции 1848 г. во Франции, пославшему в
Италию войска для удушения революции и низвержения Рим
ской республики.
Развитие экстремистских умонастроений в среде радикаль
ных республиканцев опиралось и на утопические стороны их
социальной философии. Великой французской революцией была
пробуждена, а сменявшими друг друга одна за одной волнами
революционного подъема постоянно гальванизировалась надежда
на то, что за победой республиканского строя быстро последует
и установление царства социальной справедливости и всеобщего
благосостояния. Как отмечает советская исследовательница
К. Г. Мяло, «хилиастический идеал: «рай —немедленно!» как
органический элемент вошел в мировоззрение буржуазной эпохи,
и к нему неоднократно обращались утопические революционные
упования»8. Из этого источника почерпывались и убеждение,
что для достижения исторически-прогрессивных и гуманных це
17
лей непредосудительно использовать самые крайние средства,
и вера в метод политического убийства как социальную панацею.
В эпоху, когда итогом революционных выступлений народа
(в соответствии с реальным соотношением политических сил)
оказывалась лишь смена одной формы монархического правления
другой, традиционная идея правомерности и целесообразности
убийства тирана обрела новую привлекательность для многих
представителей буржуазно-радикальных кругов. Она, эта идея,
можно сказать, носилась в воздухе, просачивалась в слегка
замаскированном виде на страницы радикальных органов печати
типа изданий А. Рошфора, открыто высказывалась на сравни
тельно многолюдных собраниях. На одном из них известный пуб
лицист Ф. Пиа поднял «тост за пулю», которой будет убит На
полеон III. Ему же принадлежит и знаменитый риторический
вопрос: «Можно ли убить убийцу, если убийца — император?».
Сама постановка вопроса предполагала положительный ответ,
а такой ответ подкреплялся ссылкой на бывшее в ходу у ради
кальных республиканцев середины века изречение: «Средства,
ведущие к святой цели, не преступны».
Концепция тираноубийства получила у буржуазных респуб
ликанцев и свое дальнейшее теоретическое развитие. Если в эпо
ху феодализма террористический акт, направленный против су
верена, имел своею целью замену одного монарха другим, остав
ляя в неприкосновенности сам принцип политической организации
общества, то радикальная буржуазия в случае обращения к тер
рористическим методам фактически рассматривала их как способ
осуществления коренных социально-политических преобразова
ний. Более того, именно буржуазными радикалами мысль о пра
вомерности политического убийства была расширена и примене
ние его распространено с «тирана» на его окружение и даже на
широкие слои господствующего класса.
Эту идею последовательно и, можно сказать, бесстрашно обо
сновал К. Гейнцен, выступивший в 1849 г. со статьей под мно
гозначительным названием «Убийство». Ссылаясь на различные
исторические примеры: Брут, Сцевола, Занд, а также тот факт,
что во время войн людям с целью защиты отечества приходится
убивать, Гейнцен объявил мораль понятием условным и относи
тельным. Господствующий класс он называет «партией варва
ров», которая непрерывно осуществляет террор, тем самым вы
нуждая «партию свободы» к отчаянным мерам. «Их лозунг —
убийство, наш ответ — убийство. Им необходимо убийство, мы
платим убийством же. Убийство —их аргумент, в убийстве —
наше опровержение»9. Гейнцен обрушивается на «гуманистов» и
«моралистов», которые «беспринципно» смотрят на террор «гла
зами реакционеров». «Даже если бы нам потребовалось поразить
18
полконтинента или пролить* море крови, чтобы покончить с пар
тией варваров, нас бы не мучила совесть»,— заявлял он, опреде
ляя численность подлежащих уничтожению «варваров» цифрой
в 2 млн человек 10. Исходя из этой кровавой перспективы, Гейнцен ставил перед революционерами в качестве первоочередной
задачу «посвятить себя изучению убийства и совершенствовать
его до наивысочайшей степени» и . Вопрос же о том, каким ока
жется общество после истребления «партии варваров» и победы
«партии свободы» и не превратится ли последняя в результате
достигнутой такой ценой победы в свою очередь в «партию вар
варов», Гейнценом просто не ставился.
«Глядя на вещи ретроспективно, Карл Гейнцен был первым,
кто обосновал законченную доктрину современного терроризма.
Большинство элементов позднейшей террористической мысли
может быть обнаружено в писаниях этого забытого германского
радикального демократа»,—отмечает У. Л ак ёр 12. К этому
справедливому суждению следует добавить, что в трактате Гейнцена были аккумулированы и доведены до логического конца те
идеи и принципы, которые не в столь развитой, обобщенной *и
отчетливой форме уж е гнездились в сознании экстремистов от
буржуазного радикализма и находили свое воплощение в их тер
рористической деятельности.
А эта деятельность, хотя и не достигала еще того размаха,
какой она позднее приняла у анархистов, была достаточно мас
штабной. Уж е первые годы после окончания наполеоновских войн
были отмечены отдельными политическими покушениями: убий
ством немецким студентом Зандом известного писателя и агента
Священного Союза Коцебу (1819 г.) и Лувелем герцога Беррийского. Целый ряд террористических актов, как отмечалось выше,
был совершен членами итальянских заговорщических организа
ций. В середине X IX в. политические покушения следуют одно
за другим. При этом все более отчетливой становится тенденция
выбора в качестве мишеней наиболее высокопоставленных и по
литически влиятельных персон. Одновременно нарастает склон
ность и к применению такого оружия и таких способов нападе
ния, которые грозят гибелью не только непосредственному объек
ту атаки, но и десяткам посторонних лиц. Семь покушений было
совершено на короля Франции Луи-Филиппа. В результате одно
го из них (1835 г.), когда королевский кортеж был обстрелян
батареей из множества соединенных между собой ружей, было
убито 18 и ранено 22 человека. Дважды (1845, 1850 гг.) терро
ристы покушались на жизнь императора Фридриха-Вильгель
ма IV, дважды (1849, 1853 гг.) атаковали Франца-Иосифа
Австрийского.
В
1854
г.
был
убит
герцог
Пармский,
в 1856 г.— Фердинанд III Неаполитанский и испанская королева
19
Изабелла, в 1868 г.— Михаил III Сербский. В 1861 г. было со
вершено покушение на короля Пруссии Вильгельма, в 1868 г.—
на Бисмарка. В результате одного из трех покушений на Напо
леона III, произведенного Ф. Орсини (1858 г.), было убито и
ранено 137 (а по другим данным — 140) человек. Этот список
можно было бы и продолжить, но и в неполном виде он доста
точно впечатляющ.
Нетрудно заметить, что двумя пиками террористической ак
тивности, временными фокусами, к которым стягивались внеш
не разбросанные на протяжении десятков лет акции буржуазных
экстремистов, были период послевоенной реакции' и особенно
годы, непосредственно предшествовавшие революции 1848 г. и
следовавшие за ней. Это закономерно. Терроризм по самой своей
природе есть оружие людей, отчаявшихся или воспламененных
утопическими надеждами, социальных групп, стремящихся к из
менению положения в обществе, но не имеющих для этого до
статочно сил. Поэтому эпохи нарастания бурных политических
потрясений и последующего (иногда довольно длительного)
оседания и взаимного уравновешивания сдвинутых с традицион
ных мест и претерпевших серьезные изменения социальных
пластов создают благоприятные условия для распространения
экстремистских настроений и активизации левотеррористической
деятельности.
Ломка социальных структур и незавершенность капиталисти
ческих преобразований, борьба между принципами республика
низма и монархизма, наступление реакции, акты правого, го
сударственного и индивидуального террора, стремление ряда
народов дважды перекроенной (сначала Наполеоном, а потом
решениями Венского конгресса) Европы к государственной неза
висимости и национальному освобождению, совпавшее с их
вступлением на путь капиталистического развития, первые вы
ступления на исторической арене накапливающего силы проле
тариата — все это делало социальную почву в ряде европейских
стран и на континенте в целом весьма зыбкой и неустойчивой,
вело к острым политическим конфликтам и революционным
взрывам. Побочным продуктом такой борьбы и явился буржуазно-радикалистский терроризм.
На этом можно было бы и поставить точку. Однако нельзя
пройти мимо еще одной — и чрезвычайно влиятельной — истори
ческой концепции, впрямую направленной на то, чтобы поставить
в центр внимания, дав ему совершенно определенную трактовку,
самый важный, острый и сложный вопрос проблематики полити
ческого терроризма вопрос о насилии революционном и наси
лии террористическом. По мнению сторонников этой концепции,
политический терроризм, как «теория» и как «практика», «воз
20
ник менее двух веков назад, а именно в 1793 г.» 13 Эту позицию
они подкрепляют соображениями о том, что сами понятия «тер
рор», «терроризм» возникли в эпоху Великой французской рево
люции в связи с политической тактикой якобинской диктатуры.
«Именно революция породила слово, так как возникло нечто но
вое, что требовало наименования» 14.
В плане чисто историческом и формально-логическом эта
постановка вопроса легко опровергается. Момент возникновения
понятия, обозначающего определенное явление, вовсе не обяза
тельно совпадает с моментом возникновения самого явления. То,
что осуществлявшиеся в предшествующие французской револю
ции времена террористические акции и кампании государствен
ного террора не обозначались специальным обобщающим терми
ном (или обозначались словами, утерявшими этот смысл либо
не прижившимися в позднейшую эпоху), никак не может слу
жить доказательством, что терроризма в прошлом вообще не
существовало. По меткому выражению упоминавшегося выше
У . Лакёра, террористы прошлого просто не знали, что они —
террористы, как мольеровский Ж урден не знал, что он говорил
прозой. А для этого имелось хотя бы то основание, что в усло
виях господства «кулачного права» обращение к политическому
убийству соответствовало общепринятым и утвердившимся нормам
социальной жизни, входило как органическая составная часть
во всю систему открытого вооруженного насилия и не рассмат
ривалось как нечто противоестественное и чрезвычайное.
Однако ограничиваться таким опровержением в данном слу
чае никак нельзя. Террор, осуществлявшийся в эпоху Великой
французской революции,—реальный исторический факт, и этот
факт используется правыми политологами в качестве решающего
довода в пользу идеи о тождестве революционной борьбы и тер
роризма. И не только правыми. Уже представителям экстремист
ского крыла буржуазного революционаризма в X IX веке было
свойственно смешивать террористические акции с революцион
ной борьбой и апеллировать в этой связи к якобинскому террору.
С аналогичными идеями и доводами мы встречаемся и в писа
ниях некоторых современных публицистов левацкой ориентации.
Поэтому проблему соотношения революционного насилия и наси
лия террористического нельзя решать, игнорируя тот историче
ский материал и политический контекст, с , которым связывают
свое решение этой проблемы идеологи консервативного или лево
экстремистского толка.
Рассмотренная через такую конкретно-историческую призму
проблема требует постановки двух вопросов. Во-первых, вопроса
о социальной и типологической природе якобинского террора,
его месте и роли в процессе развертывания революционной борь
21
бы во Франции. Во-вторых, вопроса о соотношении буржуазной
революционности и буржуазного революционаризма и, в частно
сти, о соотношении крайних форм их проявления в виде якобин
ского террора и тактики индивидуальных политических поку
шений.
Французская революция действительно породила «нечто но
вое». В широком политическом плане это были: выдвижение на
первый план лозунгов свободы, равенства и братства, уничтоже
ние феодального деспотизма, преобразования социально-полити
ческих отношений и юридическое закрепление этих преобразова
ний, высвобождение и размах социальной энергии народных
масс и т. д. Исторический смысл революции вовсе не сводился
к якобинскому террору, и ставить между ними знак равенства,
как это пытаются делать некоторые современные политологи, аб
солютно неправомерно.
Если же говорить непосредственно о якобинском терроре,
то он тоже представлял из себя «нечто новое». Новизна erQ за
ключалась не в самом факте обращения к суровым репрессиям
и не в масштабах этих репрессий (политическая и политическирелигиозная борьба в прошлом давала примеры и более масштаб
ных террористических кампаний), но в его социальной природе и
типологических особенностях. По словам К. Маркса, «француз
ский терроризм был не чем иным, как плебейским способом
разделаться с врагами бурж уазии, с абсолютизмом, феодализмом
и мещанством» 15. Три момента обращают на себя внимание в
этой чеканной формуле. Во-первых, указание на то, что якобин
ский террор был террором буржуазным по его социальной на
правленности, о чем современные западные террологи нередко
намеренно «забывают», говоря о якобинцах как о неких, лишен
ных классовой характеристики «революционерах» вообще. Вовторых, признание за проводимыми революционной буржуазией
преобразованиями
исторически
прогрессивного
характера.
В-третьих, указание на то, что эта политика пользовалась под
держкой народных масс, в силу чего и стал возможен «плебей
ский способ» сокрушения противника. Как государственный
террор слева, осуществлявшийся революционной властью, опи
равшейся на народ, якобинский террор действительно был явле
нием, исторически новым, качественно особенным.
Он был порождением французской буржуазной революции и
ее оружием на определенной ступени развития. Но, прежде всего,
следует вспомнить и о том, что меж ду началом революции и об
ращением ее вождей к политике террора прошло целых четыре
года (1789—1793). Между тем, в западной террологической ли
тературе этот элементарный факт нередко не учитывается. Так,
например, М. Ж. Ласки объявляет Теруань де Мерикур «Ульри
22
кой Майнхоф своих дней» 16, записывая героиню похода на Ба
стилию и Версаль в заурядные террористки. Оба события прои
зошли задолго до возникновения якобинского террора (тем не
менее инициатор массовых действий объявляется террористом,
а далее и весь период деятельности де Мерикур расценивается
как период террора).
Многими нынешними и прошлыми историками и политолога
ми возникновение якобинского террора датируется моментом
процесса над бывшим королем Людовиком XVI pi его казни.
Сами процесс и приговор рассматриваются как следствие пред
взятой нацеленности якобинцев на террор. Не будем сбрасывать
со счетов, что исходившие от якобинцев и коммун требования
суда над бывшим королем и вынесения ему смертного приговора
были в известной мере связаны с ненавистью к человеку, лично
повинному в бедствиях народа и символизировавшему одиозный
деспотический строй.
В крайней и категорической форме эти настроения выразил
Сен-Жюст, заявивший: «Каждый человек имеет право убить ти
рана, и народ не может отнять это право ни у одного из своих
граждан» 17. Но не будем забывать того, что ненависть была за
служенной, стремление к возмездию тирану — нравственно оправ
данным, а надежды на то, что его гибель приближает торжество
справедливости,— типичными для характера и уровня мышления
той эпохи. Не случайно казнь короля была с пониманием и одоб
рением воспринята многими прогрессивными современниками ре
волюции в различных странах. «Ликуйте, склепанны народы,
се право мщенное природы на плаху возвело царя!» (Ради
щев) 18. Спустя четверть века на основании тех же мотивов и
настроений приветствовались акции Занда и Лувеля.
Однако мотив возмездия в данном случае вовсе не являлся
главенствующим. Не за прошлые вины судили и казнили коро
ля, которому Конституцией 1791 г. была гарантирована не
прикосновенность. Короля судили за направленную против рес
публики тайную деятельность: связи с внутренней и внешней
контрреволюцией, инспирирование заговоров и интервенции, вы
дачу австрийцам и пруссакам военных секретов, подкуп депута
тов Конвента, что было документально доказано. Между якобин
цами и жирондистами в Конвенте шла борьба по вопросу о при
говоре Людовику XVI, но на вопрос: «Виновен ли Людовик
XVI?» и жирондисты в массе ответили утвердительно. В столк
новении же Горы с Жирондой по вопросу о мере наказания,
определяемой бывшему королю, отражалась борьба между тен
денцией к углублению революции, наступлению на силы старого
порядка и тенденцией к ее свертыванию и компромиссу. Выне
сение смертного приговора Людовику XVI означало победу
23
первой тенденции. Оно было оправдано политически и обоснова
но юридически. Казнь короля, бывшего главой аристократиче
ской реакции и ее знаменем, по приговору, утвержденному боль
шинством Конвента, не может расцениваться как террористиче
ский акт.
Снимая «табу» с личности «помазанника божьего» и психоло
гически облегчая распространение суровых мер возмездия и на
казания на лиц, социально менее значимых, она явилась важной
вехой на пути становления якобинского террора*. Но сам террор
развернулся на следующей фазе политической борьбы во Фран
ции — с середины лета 1793 г.
Обращение к нему было обусловлено рядом факторов: даль
нейшим углублением революции, отходом от нее и стремлением
пресечь развитие ее социальных слоев, политически представлен
ных Жирондой, контрреволюционными заговорами и мятежами и,
наконец, что главное,— иностранной интервенцией, скоординиро
ванной с деятельностью мятежников. В этих, представлявших
смертельную опасность для революционной Франции обстоятель
ствах возникла необходимость твердой революционной власти и
решительного подавления сопротивления и саботажа со стороны
ее противников, без чего невозможно было бы сохранить социаль
ные и политические завоевания народа, целостность и независи
мость Франции. Как писал Ф. Энгельс, террор «был по существу
военной мерой до тех пор, пока вообще имел смысл. Класс или
фракция класса, которая одна только могла обеспечить победу
революции, путем террора не только удерживала власть... но и
обеспечивала себе свободу действий, простор, возможность сосре
доточить силы в решающем пункте, на границе» 19.
Одновременно якобинский террор был непосредственным отве
том и па террористическую практику контрреволюционеров.
В ходе организованных и возглавленных монархистами мятежей
погибли многие сторонники республики. Уже с осени 1792 г. из
* У процесса над Людовиком XVI имелся, как известно, исторический пре
цедент. За полтора века до этого представителями английского револю
ционного народа был судим и приговорен к смертной казни король
Карл I. Когда британская бурж уазия выраж ала свое негодование по по
воду казни Людовика XVI, это было и политическим лицемерием, и исю рическим парадоксом, ибо французская революция использовала опыт
той же буржуазии в условиях еще более острой классовой борьбы, соче
тавш ейся с военными действиями против армий иностранной коалиции.
Якобинцы не только обращались «к классически строгим» преданиям ан
тичной эпохи, но и непосредственно вели свою идеологическую (а во
многом и практическую) родословную от своих прямых предшественни
ков, оставивших им в наследие сформулированный видным деятелем анг
лийской революции полковником Сексби тезис: «Умерщвление не есть
убийство».
24
рядов жирондистов раздавались призывы отправить на гильотину
«анархистов» и «дезорганизаторов» — якобинцев и санкюлотов.
В апреле 1793 г. Конвент в отсутствие почти четырехсот деп у
татов (в основном монтаньяров, отправленных к войскам и в
провинции) под давлением жирондистов одобрил обвинительный
акт против Марата. Оправданный Революционным трибуналом,
Марат был убит 13 июля 1793 г. Шарлоттой Корде. Характерно,
что даже после народных выступлений 31 мая — 2 июня 1793 г.,
когда к власти пришли буржуазные демократы — якобинцы, они
применили к своим противникам очень мягкие меры, ограничив
шись домашним арестом лидеров Жиронды. Последние, однако,
бежали на юг страны, где подняли мятежи в крупных городах.
После переворотов в Лионе, Бордо, Тулоне реакционерами осу
ществлялись массовые убийства патриотов, преданных револю
ции. Летом 1793 г. в отместку за голосование в пользу решения
о казни короля был убит левый якобинец, депутат Конвента
Мишель Лепелетье де Сен-Фаржо. Развертывался самый настоя
щий правый террор.
Поэтому глубоко прав был А. 3. Манфред, когда писал:
«За возникновение терроризма как средства политики, политиче
ской практики ответственность несут не якобинцы, а их против
ники» 20. В этой связи необходимо еще раз напомнить, что глав
ная угроза для революции исходила из иностранной интервенции,
без надежд на успех которой и без прямой помощи правительств
враждебных республиканской Франции стран внутренняя реак
ция не смогла бы столь решительно активизироваться. С тех пор
традицией международной реакции «от Священного союза до им
периализма США» стало вмешательство во внутренние дела су
веренных народов, осуществляющих революционные преобразо
вания в своих странах. Она не только предпринимает интервен
ционистские действия, инспирирует деятельность враждебных
новому строю и народу группировок, оказывает им политиче
скую, финансовую и военную поддержку. Одновременно реак
ционеры развертывают демагогические пропагандистские кампа
нии по доводу ответных мер, на принятие которых революцион
ные правительства вынуждены идти в силу происков той же ре
акции.
На этом фоне, с учетом всех этих обстоятельств должен ста
виться и рассматриваться вопрос об исторической и нравствен
ной правомерности якобинского террора. Как справедливо пишет
советский историк Е. Б. Черняк, «нельзя понять революционный
террор, не представляя себе активности врагов якобинской Фран
ции. Это все равно, что на картине, изображающей двух, схва
тившихся в смертельном поединке людей, замазать краской фигу
ру одного из этих бойцов. Оставшийся предстанет тогда в на
25
пряженной неестественной позе с налитыми кровью глазами,
пытаясь повалить наземь несуществующего врага» 21.
На своем первом этапе террор был направлен против рояли
стов, заговорщиков, шпионов, крупной буржуазии, казнокрадов,
спекулянтов, нарушителей закона о максимуме. И в этот период
в ряде случаев не обходилось без предвзятости по отношению к
лицам дворянского происхождения, личной пристрастности и
ошибок, но в принципе карающие удары обрушивались именно
на тех, кто на деле был врагом революции, наносил ущерб инте
ресам трудящихся масс. В этом качестве террор встречал пони
мание и поддержку у широких демократических слоев народа.
Политика террора с середины по конец 1793 г. была для ле
вых якобинцев не результатом предвзятых устремлений и исход
ной нетерпимости, но суровой исторической необходимостью.
Следует без всяких обиняков подчеркнуть, что либеральная кри
тика «террора вообще» адресована не просто и не только терро
ру. За ней стоит отрицание права революции на самозащиту,
т. е. отрицание правомерности самой революции. Не говоря уж е
о политическом назначении этого отрицания, оно просто бес
смысленно. Революции, как известно, не совершаются по прихо
ти отдельных лиц или политических группировок. Не могут они
и быть «отменены» по их произволу. «Революцию нельзя „сде
лать44,—указывал В. И. Ленин — ...революции вырастают из
объективно (независимо от воли партий и классов) назревших
кризисов и переломов истории» 22.
Лишая власти и привилегий старые господствующие классы,
расширяя рамки социальной справедливости, утверждая новый,
прогрессивный для данной эпохи, общественный строй, револю
ции являлись «локомотивами истории» (К. Маркс). В револю
циях, с их ломкой традиционных отношений и норм, открытыми
столкновениями классов, в определенных обстоятельствах до
растающими до применения с обеих сторон террора, с упрощенно
прямолинейными представлениями масс о конечных целях борь
бы, с неизбежными в этой ситуации перегибами и эксцессами,
безусловно, наличествует трагическая сторона. Но оценка рево
люций, исходящая только или преимущественно из этой сторо
ны — свидетельство политической тенденциозности, историче
ской слепоты и узости мышления. Как четко сформулировал
В. И. Ленин, «говорить о „насилии44 вообще, без разбора условий,
отличающих реакционное от революционного насилия, значит
быть мещанином, отрекающимся от революции, или это значит
просто обманывать себя и других софистикой» 23.
Точно так же неправомерно отождествлять якобинский террор
и деятельность позднейших буржуазных заговорщиков-террористов на основании факта обращения к вооруженному насилию и
26
заимствования вторыми у первого политических и теоретических
аргументов. Якобинский террор на деле служил углублению ре
волюции и защите завоеваний народа, тактика политических по
кушений по самим ее природе и возможностям — не революцион
на. Якобинский террор осуществлялся при помощи государствен
но узаконенных институтов, опираяь на поддержку и активность
широких народных масс, буржуазно-радикалистский терроризм
характеризовался кустарными акциями, никак не связанными с
массовой борьбой и настроениями народа. Якобинский террор
(во всяком случае на первой его ступени) был формой реальной
политической борьбы, террористические авантюры экстремистов —
ее имитацией. Классики марксизма неоднократно предупреждали,
что смешивать «индивидуальные политические убийства... с на
сильственными действиями народной революции» 24-25 — значит
руководствоваться критериями формальными, а не содержатель
ными, субъективными, а не объективными, психологическими,
а не политическими.
Отвергая попытки западных политологов объявить якобинский
террор непосредственным прообразом и родоначальником совре
менного «левого» терроризма, мы вовсе не стоим на позициях от
рицания влияния первого на формирование экстремистской идео
логии и практики последующих эпох. Речь идет лишь о том,
чтобы это влияние рассматривалось исторически-конкретно, в его
реальных формах и масштабах, не искажалось в угоду предвзя
той политической концепции.
Рассмотрение проблемы серьезно осложняется фактом быст
рой эволюции якобинского террора. С начала 1794 г. он осущест
влялся, казалось бы, на основании тех же мотивировок, в тех
же формах и посредством тех же механизмов, однако коренным
образом изменил свои содержание и смысл. Достигнув искомых
военно-политических целей, лидеры якобинцев превратили террор
в средство сведения счетов между собой, а затем победившая
фракция Робеспьера обратила его острие против политически
располагавшихся слева от нее вождей Парижской коммуны.
«К концу 1793 г.,— писал Ф. Энгельс,— границы были уж е почти
обеспечены, 1794 г. начался благоприятно, французские армии
почти повсюду действовали успешно. Коммуна с ее крайним на
правлением стала излишней; ее пропаганда революции сделалась
помехой для Робеспьера, как и для Дантона, которые оба — каж
дый по-своему — хотели мира. В этом конфликте трех направле
ний победил Робеспьер, но с тех пор террор сделался для него
средством самосохранения и тем самым стал абсурдом» 26*.
* Взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса на якобинский террор подвергаются
в современной западной террологической литературе самым различным
27
Именно абсурдом. Размывается политический смысл террора,
ставшего орудием борьбы за личные и групповые интересы. По
литические цели, которыми мотивируется необходимость террора,
превращаются в мифические и абстрактно-утопические. Изменя
ется его социальная направленность. В раздувании террора ре
шающую роль начинают играть «перепуганные, выставляющие
себя патриотами буржуа», «мелкие мещане, напускавшие в шта
ны от страха», «шайка прохвостов, обделывавших свои делишки
при терроре»29. Его жертвами все реже становятся подлинные
контрреволюционеры и все чаще случайные лица, схваченные и
осужденные на основании клеветнических доносов, беспочвенных
подозрений и нелепых обвинений. Достигший в этот период «без
умных размеров» террор, по словам Ф. Энгельса, обретает харак
тер «бесполезных жестокостей» 30.
Было бы, однако, ошибкой и упрощением считать, что Робе
спьером, стремившимся при помощи террора удержать власть r
своих руках, двигало элементарное властолюбие. Дело обстояло
намного сложнее. Речь здесь идет не просто о личной вине, но о
вине трагической.
К. Маркс и Ф. Энгельс неоднократно отмечали, что «дейст
вительные, не иллюзорные задачи революции всегда разрешаются
в результате этой революции» 31. В то же время возникновение
иллюзорных представлений о целях и конечных итогах борьбы в
сознании лидеров революции и широких народных масс законо
мерно и неизбежно. Более того, оно необходимо и плодотворно,
ибо, по словам Ф. Энгельса, придает революционерам «большую
силу воли»32. Возникает своеобразный исторический парадокс:
без «опережающих», в той или иной мере утопических, устрем
лений и надежд, стимулирующих революционную энергию прак
тически было бы невозможным в полной мере решить «действи
тельные» задачи революции. И поэтому на определенных ее
этапах проникнутое оптимистическими иллюзиями сознание са
мых политически активных лиц и социальных сил оказывается
лжетолкованиям и искажениям. Автор книги «Машина террора» JI. Диспо утверждает даже, что «исторический террор, а именно террор 1793—
179 4 гг., любопытным образом отсутствует в текстах Маркса» 27. Между
тем, как мы видели выше, к теме якобинского террора К. Маркс и Ф. Эн
гельс обращались в течение всей своей политической деятельности, при
чем их взгляды на него претерпевали известные изменения. Советский
исследователь В. П. Ревуненков, тщательно проследивший развитие воз
зрений К. Маркса и Ф. Энгельса на якобинскую диктатуру, убедительно
показал, что если в 40-х годах XIX в. Маркс и Энгельс разделяли многие
свойственные всем революционерам и демократам той эпохи иллюзии на
ее счет, то к 60—70-м годам, они уточнили свои представления об ее клас
совой сущности, о значении и смысле якобинского террора и дали прин
ципиально различную оценку двум ступеням его р азв и ти я 28.
28
объективно не только исторически наиболее прогрессивным, но
также и практически наиболее реалистичным.
Однако у этой медали имеется и оборотная сторона. Именно
максималистам, движимым утопическими иллюзиями, не дано
уловить момент, когда действительные задачи революции оказы
ваются уж е выполненными, а возможности дальнейших сущест
венных преобразований — исчерпанными, поскольку, как отме
чал Ф. Энгельс, «сделанная революция совсем непохожа на ту,
которую они хотели сделать»33. В этот момент в полной мере
выявляется противоречие между идеальной целью революции и
ее исторической ограниченностью. Между тем, вожди революции,
как это и было в случае с левыми якобинцами, зачастую не вос
принимают это противоречие как объективное и, не считаясь с
изменившимися условиями, продолжают, пользуясь рычагами
власти, подталкивать процесс в избранном ими направлении. На
этом пути они вступают в острые конфликты со своими вчераш
ними, более умеренными политическими союзниками. И не толь
ко с ними, но одновременно и с трудящимися массами, требую
щими радикального решения насущных для них социально-эко
номических проблем, дать которое в принципе неспособна буржу
азная революция.
Убежденные в своей политической правоте и стремящиеся со
хранить за собой власть (что они считают единственным и доста
точным средством спасения революции), Робеспьер и его бли
жайшие единомышленники в этой ситуации начинают видеть во
всех, кто не разделяет их позиций, «врагов народа», во всех,
кто не соответствует их представлениям о «революционной доб
родетели»,— «врагов революции». Так морально-политический
ригоризм приводит к беззаконию.
В то же время при всей жестокости, безрассудности и разма
хе якобинского террора на последней его ступени, при всем
страхе, который он внушал, теперь он свидетельствовал не о
силе находившейся у власти группы, но об ее слабости, не об
уверенности в себе, но, наоборот, об ощущении ускользающей
из-под ног почвы. «Мы понимаем под террором,—писал Ф. Эн
гельс,— господство людей, внушающих ужас, в действительности
же, наоборот,— это господство людей, которые сами напуганы» 34.
Положение Робеспьера и его соратников, формально обладавших
властью, все более становилось положением лишенной поддерж
ки масс и теряющей влияние в государственных институтах
группировки. В конечном счете это привело их к падению и ги
бели.
Возникновение якобинского террора и процесс его перерожде
ния выглядят и на деле являются закономерными. Но не следует
смешивать закономерность с фатальной неизбежностью, отсутст
29
вием иных альтернатив, как это делают многие правые и либе
ральные историки и политологи, ставящие знак равенства между
революцией, обращением к террору и превращением этого терро
ра в самодовлеющий. То, что политический террор по своей при
роде связан с борьбой за завоевание или сохранение власти,
бесспорно. Но не менее бесспорно и то, что эта борьба лишь в
определенных условиях приводит к использованию оружия тер
рора, а характер последнего и его эволюция зависят от целого
ряда факторов и, в частности, от идейно-политических позиций
правящей группировки и ее реальных целей на том или ином
этапе применения террора. История дает немало примеров
победоносных революций, вовсе обошедшихся без использования
этого оружия, и революций, в минуты смертельной опасности
обратившихся к террору, но отказавшихся от него в момент, ког
да эта опасность миновала.
Французская революция и якобинский террор, безусловно,
оказали (и не могли не оказать) влияние на формирование и
природу буржуазного революционаризма как своими итогами,
так и своим идейным и практическим опытом. Почву для его
развития создавали незавершенность буржуазных социально-по
литических преобразований и расслоение класса буржуазии,
с особой остротой выявившееся в период после крушения на
полеоновской империи. Это расслоение характеризовалось не
только противоречиями между приспособившейся к новым усло
виям, удовлетворенной своим положением крупной буржуазией
и радикальной республиканской оппозицией, но и наличием
разных течений в рамках самой оппозиции.
В эпоху реакции, нагнетаемой во Франции реставрированной
монархией, и позднее, в период правления Луи-Филиппа и Напо
леона III, воспоминания об идеях и целях Великой революции,
предания о героическом времени, непримиримой борьбе и само
отверженных борцах равно волновали умы и согревали сердца
республиканцев различных направлений и пробуждали надежды
на свершение победоносной революции, навсегда утверждающей
демократический строй. Однако у экстремистов эти надежды
были связаны с убеждением, что недостижение этой цели в пред
шествующих революциях есть результат случайностей и оплош
ностей и что «ошибку истории» можно исправить в любой мо
мент при помощи решительных действий. Отсюда — стремление,
по словам К. Маркса, «опережать процесс революционного разви
тия, искусственно гнать его к кризису, делать революцию экс
промтом, без наличия необходимых для нее условий» 35.
На такой идейно-политической основе возникают в X IX в.
заговорщические организации, освящающие свою тактику не
просто антиправительственными, но именно революционными це
30
лями. Однако при всем совпадении их идей и лозунгов с идеями
и лозунгами прошлых и настоящих революционных движений,
при всей настроенности заговорщиков на энергичную борьбу
между буржуазной революционностью и буржуазным революционаризмом (как между революционностью и революционаризмом
вообще) существует принципиальный водораздел. Узловым здесь
является вопрос об отношении к массам и массовой борьбе. Его
заговорщически-сектантское решение, связанные с ним волюнтаристски-авантюристические тенденции и конечная политическая
бесплодность коренным образом отличают революционаризм от
революционности.
Революционаризму органически присуще тяготение к экстре
мистским действиям, осуществляемым по принципу: «Должно
же что-то делаться, надо же что-то предпринимать»36. Однако
это не означает, что он всегда и обязательно обращается к тер
рористической тактике. Здесь многое зависит от конкретных по
литических и нравственных установок руководителей и членов
тех или иных заговорщических организаций. Отчетливой революционаристской печатью была отмечена, например, идеология
и практика бланкизма, но при этом Бланки был решительным
противником индивидуального террора. Тактические принципы
ряда заговорщических группировок носили противоречивый, не
однозначный, переходный характер. Так, участники заговора Бабёфа, с одной стороны, стремились к развертыванию народного
восстания, с другой — в ходе замышлявшегося ими переворота
намеревались поголовно уничтожить всех членов Национального
собрания, как предателей революции и врагов народа.
К осуществлению террористических акций иногда прибегали
буржуазные революционеры, до поры до времени не признавав
шие этого метода борьбы. Это касается, в частности, Ф. Орсини, который сам в свое время, в качестве правительственного ко
миссара в Анконе, вел с риском для жизни борьбу против экст
ремистов, практиковавших в порядке социального возмездия
кровавый террор. Подлинный революционер и человек высоких
нравственных достоинств, Орсини быстро осознал, что «под влия
нием рокового заблуждения» он совершил страшную ошибку.
«Я открыто осудил самую природу моих действий,— писал он,—
заявив, что я не признаю убийства, возведенного в систему...
Этим самым я осуждаю тех, кто попытался бы подражать мне» 37.
Однако само «роковое заблужение» Орсини было не случайным.
Он решился на свой жест отчаяния после того, как окончатель
но разочаровался в избранной «Молодой Италией» тактике воен
ных экспедиций, не получавших поддержки у народа и одна за
другой терпевших провал. А левые партии и революционеры, по
терявшие связь с массами, как неоднократно отмечали В. И. Jle31
нин и Г. В. Плеханов, всегда подвержены риску скатиться к тер
роризму.
И, наконец, крайнее крыло в буржуазном революционаризме
составляли террористы по убеждению. Казнь короля, обращение
левых якобинцев к террору, гибель Робеспьера и его соратников,
последовавший за ней закат революции, вынесение десятков
смертных приговоров термидорианцами, пришедшими к власти
под лозунгом прекращения террора,— все это, преломившись
через призму экстремистских устремлений, служило для них ар
гументами в пользу идеализации террористической тактики.
Необоснованные претензии сторонников и апологетов экстре
мистских методов борьбы на роль наследников и продолжателей
дела французской революции и якобинского террора в одном от
ношении существенным образом сказались на природе буржуазно-радикалистского терроризма. В его лице оппозиционный тер
роризм впервые выступил под флагом борьбы за осуществление
революционного переворота во имя воплощения принципа соци
альной справедливости в качестве терроризма именно и собствен
но «левого».
Представления о формах террористической борьбы у ее сто
ронников не были полностью идентичными. Одни, исходя из тра
диционной формулы «все средства хороши против тиранов», виде
ли свою задачу в осуществлении разовых покушений на отдель
ных высокопоставленных лиц. Другие, типа К. Гейнцена с его
мечтами «о взрывчатом веществе, которое в мгновение ока могло
бы смести с лица земли всю европейскую реакцию» 38 (К. Маркс),
придавали политическим убийствам абсолютное значение и гло
бальные масштабы, подменяя массовую политическую борьбу
массовостью покушений. Третьи одновременно отдавали дань
различным видам экстремистской активности. Таковы заговор
щики из парижских кафе, охарактеризованные К. Марксом как
«алхимики революции», увлекавшиеся «изобретениями, которые
должны сотворить революционные чудеса: зажигательными бом
бами, разрушительными машинами магического действия, мяте
жами, которые должны подействовать тем чудотворнее и порази
тельнее, чем меньше имеется для них разумных оснований»39.
Но и те, и другие, и третьи, в конечном счете, сводили револю
ционную борьбу к, заговорщической практике, связанной с си
стематическим осуществлением политических убийств.
Таким образом, история убедительно свидетельствует, что
буржуазия в борьбе за свои политические требования постоянно
обращалась к террористическим методам, внеся существенный
вклад в становление и эволюцию «левого» терроризма. Бурж уазно-радикалистский экстремизм вплотную подошел к возведению
политического терроризма в систему, в ранг сознательно осуще
32
ствляемой тактики, и даже к признанию примата этой тактики
перед другими методами политической борьбы, вплоть до ее аб
солютизации. Буржуазными экстремистами были даны образцы
построения заговорщических групп, выработаны те суровые пра
вила по отношению к их членам, в соответствии с которыми го
товность к личному самопожертвованию обретала характер обя
зательств по отношению к организации, доходя в ряде случаев
до самоотречения. Они превратили сравнительно редкие в про
шлом покушения на монархов в привычное явление, опробовав
все основные для X IX в. типы оружия и способы нападения.
Они, наконец, придали террористической деятельности видимость
борьбы за общечеловеческие идеалы, заложив фундамент той
идеологической традиции, которой воспользовался анархизм и
которая развивается современными «левыми» террористами. Во
плотив собой основные родовые черты террористической деятель
ности и отличаясь целым рядом исторически новых признаков,
буржуазно-радикалистский терроризм явился особым качествен
ным этапом в развитии левооппозиционного терроризма, сту
пенью, начиная с которой последний стал принимать свой совре
менный вид.
1 Terrorism: Theory and practice.
N. Y., 1979.
2 International Terrorism in the Con
tem porary World. L.T 1978. P, 1.
3 Laqueur W. Terrorism. L., 1977.
P. 20.
4 Ibid. P. 146.
5 Ibid. P. 148.
6 Ibid. P. 220.
7 Op сини Ф. Воспоминания. М., 1934.
С. 488.
8 Мяло К. Г. Под знаменем бунта.
М , 1985. С. 126-127.
9 Terrorism reader: A historical
anthology. L., 1979. P. 64.
10 Ibid, P. 59.
11 Ibid. P. 64.
12 Laqueur W. Op. cit. P. 46,
13 From к in D. The strategie of terro
rism / / Foreign
Affairs.
1975.
Vol. 53. N 4. P. 684.
14 Dispot L. La machine a terreur. P.,
1978. P. 6.
15 Маркс К., Энгельс Ф Соч. 2-е изд.
Т. 6. С. 114.
16 Las к у М. J. Ulrika Meinhof and
the Baader-Meinhof gang / / Enco
unter. 1975. June. P. 9.
17 Цит. по: Морозов H. Террористи
ческая борьба. Женева, 1900. С. 1.
2
В В Витюк, G. А Эфиров
18 Радищев А. Стихотворения. М.,
1947. С. 8.
19 Маркс К 3 Энгельс Ф. Соч. 2-е
изд. Т. 37. С. 127.
20 Манфред А. 3. Три портрета эпо
хи Великой французской револю
ции. М., 1978. С. 229.
21 Черняк Е. Б. Приговор веков. М.,
1971. С. 242.
22 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 26.
С. 246.
23 Там же. Т. 37. С. 296.
24~25 Там же. Т. 9. С. 130.
26 Там же. Т. 37. С. 127.
27 Dispot L. Op. cit. P. 26.
28 Ревуненков В. П. Марксизм и
проблема якобинской диктатуры.
Л., 1966. С. 45.
29 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.
Т. 33. С. 45.
30 Там же.
31 Там же. Т. 35. С. 219.
32 Там же. Т. 36. С. 263.
33 Там же.
34 Там же. Т. 33. С. 45.
35 Там же. Т. 7. С. 287-288.
36 Т ам же. Т. 31. С. 350.
37 Орсини Ф. Указ. соч. С. 488.
38 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. ‘2-е изд.
тяг 9Q7
39 Там’же. Т. *7. С. 288.
33
Глава вторая
Логика анархо-терроризма
Влияние анархизма на рабочее движение ряда стран Европы и
США неоспоримо, как неоспорим заложенный в анархистской
доктрине идейный потенциал для обоснования террористической
практики. Широко известны многочисленные факты анархистско
го терроризма, осуществлявшиеся под флагом «пролетарской»
борьбы. Один только вопрос постоянно оказывается вне внимания
западных политологов: являлась ли эта, проводимая анархистами,
среди которых были и рабочие, террористическая борьба по свое
му реальному существу пролетарской? Каковы ее историческое
значение и роль? Как она соотносилась с другими направле
ниями в рабочем движении, и прежде всего с революционной
социал-демократией? Какова ее подлинная классовая сущ
ность?
Капитализм с его ломкой общественных отношений и нравов,
массовой пауперизацией и социальной миграцией, жестокой экс
плуатацией и появлением новых форм социального неравенства
уж е на ранних ступенях своего господства создал почву для по
явления такого типа людей, которых В. И. Ленин охарактеризо
вал как «„взбесившихся44 от ужасов капитализма мелких бур
жуа» *. Их болезненная реакция на вполне реальные «ужасы
капитализма» являлась тем более обоснованной, что была одно
временно связана с крахом унаследованных еще от эпохи фран
цузской революции иллюзорных надежд на буржуазную демо
кратию и установление справедливого социального строя, осно
ванного на принципах свободы, равенства и братства. В то же
время эта, сама по себе закономерная, реакция на капитализм
как новую форму экономического и политического гнета носила
у них характер индивидуалистического протеста, декорируемого
коллективистскими лозунгами. Ненависть к существующему
строю, стремление к сбрасыванию всех экономических, политиче
ских и юридических оков, к обретению «абсолютной свободы лич
ности», сочетались с попыткой объявить это стремлением к сво
боде всего народа, и нашли свое теоретическое выражение в
идеологии анархизма.
Теоретическому обоснованию предельного индивидуализма и
индивидуалистического протеста как против капиталистического
общества, так и против коммунистических идеалов, как против
буржуазного государства, так и против государства вообще была
посвящена нашумевшая книга М. Штирнера «Единственный и
34
его собственность». М. Штирнер, «самый последовательный и бес
страшный,—по оценке Г. В. Плеханова,—пз анархистов»2, с по
зиций предельного индивидуализма объявил войну всякому го
сударству, даже демократическому, поскольку, с его точки зре
ния, любая государственная власть является деспотией. «Револю
ционные умы были заняты выбором государственного строя...—
заявлял Штирнер.— Но быть свободным от всякого государст
венного строя — вот к чему стремится бунтовщик» 3. Противове
сом государственному строю и являлся провозглашенный Штирнером идеал «союза эгоистов». Между тем, Штирнер отнюдь не
был сторонником террористических методов. Более того, пафос
его книги в значительной мере был связан с обоснованием укло
нения от политической борьбы. Этому и служила развиваемая им
идея противопоставления революции и личного бунта. «Револю
ция имела целью новое устройство, бунт же приводит к тому,
что мы не позволяем другим нас устраивать, а устраиваемся
сами... Он означает восстание отдельных индивидов, возвышение
без мысли о том, какое устройство из этого вырастет»4. Как
отмечали К. Маркс и Ф. Энгельс, различие между революцией и
штирнеровским бунтом на деле состоит не в том, «что первая
есть политическое или социальное деяние, а второй — эгоисти
ческое деяние, а в том, что революция есть деяние, а бунт не
является таковым» 5.
II тем не менее именно штирнерианство долгие годы служило
теоретическим обоснованием буржуазно-радикалистского и анар
хистского терроризма. Ибо философская сущность концепции
Штирнера связана с утверждением образа «истинного», «соглас
ного с самим собой» эгоиста, противопоставленного «эгоистам в
обыкновенном смысле», «помышляющим о своей выгоде, трезвым
и расчетливым»6. «Истинный» и якобы «бескорыстный» эгоист
и объявлялся Штирнером носителем высшей морали и единствен
но человеческого права. «Я устанавливаю, что такое Человек и
что значит поступать истинно по-человечески, и требую от вся
кого, чтобы этот закон стал нормой и идеалом» 7.
Чем же практически мог явиться штирнеровский культ еди
ничной воли и субъективистских норм социального поведения?
С одной стороны, подавлением воли других людей, а с другой —
бунтом против любых общественных норм и государства. Концеп
ция Штирнера была, по словам Маркса и Энгельса, не более чем
«бессильной моральной заповедью», предписывающей, что «каж
дый должен сам доставлять себе наслаждение и осуществлять
наказание» 8. Но тем самым она несла в себе и действенное на
чало, ибо за «необыкновенным эгоистом» признавалось право на
«необыкновенные преступления, которые должны быть противо
поставлены обыкновенным преступлениям» 9.
35
2*
Как и во многих других случаях, когда широко распростра
ненное в определенных слоях и социально обусловленное умо
настроение выражалось в концепциях запутанных и противоре
чивых (что, впрочем, отражало противоречия самого умонастрое
ния), излагавшихся языком одновременно наукообразным и
псевдолитературным, идеи Штирнера получили достаточно широ
кий резонанс в этих слоях, но воспринимались или не вполне
адекватно или весьма разноречиво. Они усваивались не через
изощренные тексты самой трудночитаемой книги и постигались
без помощи громоздкой и сумбурной аргументации автора, скорее
запоминались ее упрощенные переложения и модные, броские
штирнеровские афоризмы. Конкретные же практические выводы
из пронизывающего книгу Штирнера духа крайнего индивидуа
лизма и этического (а, точнее, аморального) элитаризма были
разнообразными и выводились из отдельных, выборочных (и не^
редко субъективно переосмысленных) постулатов автора.
Для одних идея штирнеровского «бунта» обосновала дух
аполитичности, призывала к отказу от социальной борьбы во
имя личной жизни, другими она использовалась для провозгла
шения права на активный протест против общества, протест,
которому (вопреки Штирнеру, но исходя из смысла слова «бунт»)
придавалось двойственное, социальное и романтическое значение.
Если первые делали из штирнеровской апологии «истинного эго
иста» знамя индивидуалистического самоутверждения, то вторые
пытались придать «коллективистский» и «революционный» смысл
утопическому, противоречащему духу и логике самой его кон
цепции призыву Штирнера к созданию «союза эгоистов». Нако
нец, если одни связывали штирнеровскую концепцию преступле
ния с морализаторскими рассуждениями автора и его трактов
кой «греха», то другие делали акцент на оправдании и
эстетизации преступления как такового, закладывая тем самым
идеологическую
традицию,
сыгравшую
(и
продолжающую
играть) немалую роль в развитии терроризма в Западной
Европе.
Анархистскую доктрину развивал и выдвигал в качестве ми
ровоззрения трудящихся П .—Ж. Прудон. В этой связи стоит осо
бо выделить ставшую знаменитой (хотя и заимствованную им
из наследия утопистов) идею о собственности как воровстве.
Прудон отрицает всякую власть и любые политические партии,
критикует идею коммунизма и противопоставляет ей в качестве
социального идеала свободный социальный договор между про
изводителями (последний тезис также развивался французскими
утопистами).
От подобных установок до анархо-терроризма еще далеко.
Тем более, что сам Прудон, убежденный, что только моралью
36
можно изменить мир, не одобряет классовую борьбу и про
водит мысль о соглашении между рабочими и хозяевами.
Ортодоксальные последователи Прудона не пошли по пути анархо-терроризма. Однако из прудонистской посылки о собственности
как воровстве можно делать различные выводы: самого автора,
который считал, что при справедливом налаживании обмена на
основе реальной стоимости продукции собственность перестает
быть воровством, и другие, прямо противоположные. Если собст
венность — воровство, то борьба с нею посредством диверсий,
поджогов и прямого воровства не есть преступление, но защита
равенства и справедливости. А коли так, то напрашивается и
следующий вывод: нарушение законов, охраняющих общество,
в котором господствует частная собственность, есть само по
себе «революционный акт».
К такому выводу близко подошел уж е Вильгельм Вейтлинг —
создатель и руководитель «Союза справедливости» — одной из
первых пролетарских организаций. Разделяя с Прудоном ряд
общетеоретических анархистских установок, Вейтлинг в отличие
от Прудона был сторонником непримиримой классовой борьбы,
трактуя ее в экстремистском духе. Он не только выступал про
тив капиталистических эксплуататорских отношений и норм
буржуазной законности, но и доходил до провозглашения права
на отрицание общепринятых моральных норм. Это, казалось бы,
противоречило тем утопически-гуманистическим, нередко рели
гиозно-мистическим идеалам, которыми он руководствовался.
Однако именно утопрзм в сочетании с решительным отрицанием
существующей действительности и сектантскими настроениями
мог ориентировать на крайние политические решения.
Уже в 40-х годах прошлого века Вейтлинг в своей книге «Га
рантии гармонии и свободы» угрожал возможным противникам
идеи создания производственных ассоциаций трудящихся про
возглашением «той морали, которую никто еще никогда не осме
лился пропагандировать». В случае, если власти и богачи попы
таются использовать и извратить принцип ассоциаций, он обещал
«предать все кругом истребительному огню, который один только
в состоянии будет разрушить планы наших врагов», превратить
«кровавые уличные схватки, все равно неспособные обеспечить
народу победу, в непрерывную партизанскую войну»10. «Если
нас будут давить вплоть до этой последней пружины,— писал
он,— то наша обязанность — дать ей лопнуть, хотя бы это выз
вало самл ю ужасную смуту на целые десятилетия. Всякий борет
ся, как он может» и .
В письмах к другим руководителям «Союза справедливых»
он, развивая эту идею, предлагал собрать армию из 20—
40 тыс. «ловких п храбрых молодцов» 12 из уголовной и люмпен37
пролетарской среды, руками которых и повести борьбу против
господствующего класса. Мысль эта в тот период не нашла под-*
держки у его соратников, которые отвергли подобный «метод ле
чения существующего воровства другим воровством» 13, как пи
сал Вейтлингу Эвербек. Идеи Вейтлинга, решительным образом
расходящиеся с целями и природой освободительного рабочего
движения, в то же время имели под собой определенную базу в
виде настроений, распространенных в определенных слоях тру
дящихся. В их истоках лежит и слепая разрушительная ярость
луддитов. Они связаны с тем, что революционная ситуация 40-х
годов выдвинула на авансцену политической борьбы большую
группу мелкобуржуазных революционеров, люмпенизированных
выходцев из интеллигенции, пролетариата и ремесленного слоя,
выступавших под социалистическими знаменами, на поверку
оказывавшимися анархистскими. К такого рода тактическим иде
ям и приемам неминуемо подталкивает сама природа сектантства
и заговорщичества.
Тот же критиковавший Вейтлинга Эвербек выдвигал более
скромный, но в нравственном отношении аналогичный проект
получения от поэта Гервега крупной суммы денег при помощи
шантажа. Впрочем, и этому проекту, как и проекту Вейтлинга,
не суждено было реализоваться. Однако само наличие подобных
планов у некоторых членов и руководителей революционных об
ществ показательно. В этом проявлялись не только незрелость,
идеалистичность и утопичность их политических воззрений, но и
зависимость от норм той буржуазной морали, которую они столь
решительно отрицали.
Не случайно К. Маркс с первых шагов своей революционной
деятельности уделял самое пристальное внимание вопросу о со
отношении целей и методов пролетарской борьбы. Как прямой
ответ бунтарям и оппозиционерам, проявляющим неразбор
чивость в средствах, звучит его сформулированный еще до ре
волюции 1848 г. тезис: «Цель, для которой требуются неправые
средства, не есть правая цель» 14. Незнакомые с планами Вейт
линга, Маркс и Энгельс, столкнувшись с аналогичными прожек
тами позднее, реагировали на них категорически: «Всякий рабо
чий лидер, пользующийся люмпенами, показывает, что он пре
датель движения» 15.
Если Штирнер и Прудон, каждый по-своему, выступали в
качестве противников революции, а Вейтлинг свои тактические
замыслы прокламировал в самом неразвернутом виде, то М. А. Ба
кунин подробно и систематически разрабатывал практическую
сторону анархистской доктрины и вплотную подошел к анархотерроризму. По словам Ф. Энгельса, именно М. Бакунину при
надлежала «заслуга» в том, что «безобидная, чисто этимологиче
38
ская анархия (то есть отсутствие государственной власти) Прудо
на... привела ... к современным доктринам анархизма» 16.
Солидарный с критикой капитализма Прудона и его антиэтатистскими коллективистскими идеалами, Бакунин резко расходил
ся с ним по вопросу о путях и способах достижения этих идеа
лов *.
Будучи решительным сторонником революционного насилия,
Бакунин, однако, понимал революцию как стихийный массовый
бунт, уничтожающий мир «легального государства и всей так
называемой буржуазной цивилизации»17. Одной из важнейших
движущих сил революции он считал разбойничий и преступный
мир, доходя до таких, например, обобщений: «Революционер ста
вит себя вне закона как на практике, так и эмоционально. Он
отождествляет себя с бандитами, грабителями, людьми, которые
нападают на буржуазное общество, занимаясь прямым грабежом
и уничтожая чужую собственность»18. Идея стихийного бунта
сочеталась у Бакунина с утверждением ведущей роли и даже
«коллективной анонимной диктатуры» небольшой группы заго
ворщиков, в задачи которой входит не идеологическое воспита
ние и организация масс, а провоцирование их на бунтарские
вспышки посредством «пропаганды действием».
Впрочем, и Бакунин, и французский инженер Брусс — автор
термина «пропаганда действием» — не связывали с этим понятием
призыва к террористической практике. Брусс, например, апелли
ровал не столько к существу анархистской доктрины, сколько к
элементарным житейским обстоятельствам. Большинство рабочих
и крестьян, рассуждал он, неграмотны, поэтому печатная пропа
ганда не доходит до их сознания. М ежду тем эффектный боевой
акт, по его мысли, получает широкий резонанс и будоражит во
* Своеобразие мировоззрения М. А. Бакунина связано с тем, что оно фор
мировалось на основе не только европейского, но, в решающей степени,
русского опыта политической борьбы, исходя из социальных условий фео
дально-абсолютистской России. Поэтому многие характерные для анар
хизма установки получают у Бакунина специфические окраску и смысл.
Антиэтатистские идеи Бакунина в значительной мере являю тся реакцией
на беззаконие и произвол царского режима. Его противопоставление кол
лективизма коммунизму связано с надеждой на социалистическое буду
щее общины. Пропа1анда стихийного, всеразрушающего народного бун
та основана на вере в силы масс, памяти о характере народных движе
ний в крестьянской России. Естественно, что в социально-историческом
контексте России идеи и деятельность М. Бакунина, оставаясь в конеч
ном счете ошибочными, играли иную роль, чем на Западе. В России они
до определенного момента способствовали развитию освободительного
движения, в Европе же служили расколу складывающегося рабочею
движения, стимулировали экстремистскою и анархо-террористическую
активность. В монографии проблема анархизма вообще и бакунинского
в частности рассматривается только применительно к истории становле
ния анархо-терроризма на Западе.
39
ображение, заставляя задуматься как над самим фактом, так и
над его причинами. Лично Брусс отрицательно относился к поли
тическим убийствам, считая, что они не могут служить средством
для изменения системы. Однако в идее «пропаганды действием»
содержалась возможность перехода к террористической практике.
А в основе этой практики лежал свойственный анархизму
субъективистски-волюнтаристский подход к социальному анализу
действительности. «Слепая вера в чудодейственную силу всякого
action directe, выхватывание этого „непосредственного воздейст
вия4* из общей социально-политической конъюнктуры без малей
шего ее анализа, словом, „произвольно-механическое понимание
общественных явлений*4— таков „анархический метод мышле
ния44»,— писал В. И. Ленин 19.
Такой метод мышления невольно ведет к заговорщической
тактике, культу насилия, вере в «мудрость невежества» и твор
ческую силу всеразрушающей ненависти, ставке на уголов
ные и люмпенские элементы. Собственно бакунинская трактов
ка бунтарства, связанная с апологией яда, петли п кинжа
ла, открывала для заговорщических анархистских организа
ций путь для обращения к тактике индивидуального террора,
особенно в моменты, когда бунт, восстание, военные дейст
вия оказывались невозможными. И все же Бакунин, проявляя
известные колебания, в целом остался верен идее стихийного
бунта масс и тактике вооруженной пропаганды посредством
военных, а не террористических действий. Завершающий шаг к
терроризму сделало в новых условиях следующее поколение
представителей экстремистской ветви в анархизме, доведшее до
логического конца заложенные в тактических установках Баку
нина возможности.
В.
И. Ленин назвал анархизм «вывороченным наизнанку бур
жуазным индивидуализмом» 19а. Это означает, что анархизм
есть тот тип индивидуализма, который характеризуется стремле
нием к своеобразному коллективизму. Своеобразие это заключает
ся в том, что анархистское представление о коллективизме —
воплощение индивидуалистических утопий. В нем отражена меч
та о свободном предпринимательстве в форме хозяйственных или
региональных ассоциаций, отсутствия ограничений со стороны
центральной власти. Борьба анархистов против капитализма и
его государства за свободу личности и социализм на деле пред
ставляет собой борьбу против любого, в том числе социалистиче
ского, государства.
Как метко подмечено (хотя и тенденциозно сформулировано)
в изданной на Западе в начале 70-х годов книге «Анархизм се
годня», «достоинством анархизма как доктрины является то, что
он осуществляет социалистическую критику капитализма и ли40
бералъную критику социализма»20. Не случайно основной сфе
рой распространения анархистского влияния стали в X IX в.
страны с преобладанием мелкотоварного производства. В этих
странах мечты об артельно-коллективистском безгосударственном:
рае, называемом анархистами «социализмом», были, по существу,
идеологическим обоснованием стремления противостоять наступ
лению крупного финансово-промышленного капитала.
Идеалы анархизма утопичны, основаны на субъективно-идеа
листических представлениях об обществе и истории, а тактиче
ские принципы противоречивы. Апелляция к массам сочетается с
недоверием к ним, апологетикой специфической «революционной
элиты». Прямое действие противопоставлено работе по политиче
скому просвещению рабочего класса, заговорщичество — органи
зованной массовой борьбе. Политический авантюризм анархистов
противостоял задачам пролетарского освободительного движения,
был симптомом разрыва с ним. Не случайно активность анар
хизма всегда находилась в обратно пропорциональной связи с
развитием организованного рабочего движения.
Это уж е само по себе доказывает, что анархизм, даже непо
средственно связанный на определенном этапе с пролетарскими
организациями, не является и не может являться мировоззрени
ем рабочего класса. Он, по словам В. И. Ленина (правота кото
рых подтверждается многолетней историей политической борьбы),
отражает «психологию выбитого из колеи интеллигента или бо
сяка, а не пролетария»21. «Анархисты,—писал Август Бе
бель,— представляют из себя последовательную, но впадающую
в крайность, разновидность мещанского либерализма» 22.
Необходимо, однако, ответить на напрашивающийся вопрос:
почему же эта мещанская мелкобуржуазная идеология оказала
свое (в некоторых странах весьма значительное) воздействие на
рабочее движение? Здесь прежде всего следует иметь в виду
молодость и малочисленность промышленного пролетариата,
в значительной части своей состоявшего из вчерашних мелких
собственников, и преобладание в ранних пролетарских органи
зациях ремесленнического элемента. К тому же в момент, когда
рабочий класс был количественно мал, а его политическая со
знательность и зрелость недостаточно высоки, когда пролетарское
движение находилось на ступени своего становления, к этому
движению присоединялись и накладывали на него заметный от
печаток, а в ряде стран и играли ведущую роль, экстремистски
настроенные представители мелкобуржуазной интеллигенции и
люмпенизированные элементы, идентифицировавшие себя с уг
нетенным классом и на этом основании зачислявшие себя в ряды
«пролетариев». Не следует, конечно, думать, что возникновение
анархистской идеологии и распространение ее влияния на неко41
торые отряды рабочего класса явилось результатом теоретическо
го произвола сильных умов и практическо-волевых натур, с од
ной стороны, и простой восприимчивости доверчивой и необразо
ванной массы — с другой. Анархизм па Западе — закономерный
этап в развитии антикапиталистической идеологии, и уже этой
его направленностью можно объяснить привлекательность его
для определенных слоев трудящихся. На ранних ступенях своего
развития он способствовал процессу первоначального осознания
трудящимися их самостоятельных классовых интересов и целей,
хотя и выраженных в утопических, извращающих подлинный
характер этих интересов и целей понятиях. Так же неоднознач
но и значение до определенного момента принципа прямого
действия. Его конечная неэффективность и противоположность
методам массовой революционной борьбы очевидны, как очевидно
и то, что этот принцип есть порождение волюнтаристского, по
верхностного и упрощенного представления о социальной дейст
вительности и ее развитии, что обращение к нему продиктовано
не научно обоснованной политической стратегией, а тем псевдореволюционным нетерпением, которое складывается из ненави
сти, отчаяния, жажды возмездия, страха перед будущим и уто
пической надежды одним ударом разрубить сложнейший клубок
социальных противоречий. И в то же время в период становле
ния пролетарского движения само обращение к действию, сам
факт прямых выступлений против режима (пусть в нецелесооб
разных, ошибочных и отвергнутых позднее формах) имел и оп
ределенное положительное значение. Наконец, на анархистских
установках базировались многие ранние пролетарские организа
ции и кружки сектантского толка, и само сектантство в значи
тельной мере обосновывалось этими установками. Однако, как
подчеркивал К. Маркс, «секты имеют свое (историческое) оправ
дание до тех пор, пока рабочий класс не созрел для самостоя
тельного исторического движения». И только с достижением
этой зрелости «все секты становятся в сущности реакционны
ми» 23.
Таким образом, анархизм в период становления европейского
рабочего движения не был следствием просто субъективных за
блуждений и самоочевидных ошибок ряда участников этого дви
жения, а одной из исторически закономерных тенденций его
развития. Черное знамя анархии, по выражению Жака Дюкло,
было «символом детства рабочего* движения». Детству органиче
ски присущи как своя наивность и ограниченность представле
ний, так и тенденция к повзрослению, по мере становления, рос
та и формирования.
Если с момента обоснования анархистской доктрины ее сто
ронники более четверти века, несмотря на крикливо-воинствен
42
ные декларации и отдельные акты прямого действия, до систематического осуществления террористической тактики не доходили,
то в последние два десятилетия X IX в. эта тактика резко вы
двинулась на первый план. Официально она была провозглашена
на состоявшемся в Лондоне в 1881 г. конгрессе анархистов. За
решением конгресса последовал двадцатилетний (а для некоторых
стран и более чем тридцатилетний) период развертывания тер
рористических кампаний анархистами многих стран. По мере
развертывания этих кампаний терроризм все больше становился:
для анархистов главным, а подчас и почти единственным мето
дом политической борьбы.
Ряд факторов способствовал этому процессу. В о-первы х,
внутренняя логика эволюции анархизма и имманентные законы
его развития. Хотя следует учитывать, что далеко не все из анар
хистов приняли принцип террористической борьбы. Некоторые,
руководствуясь определенными теоретическими и нравственными
соображениями, ограничивались рамками исследовательской, на
учно-пропагандистской, профсоюзно-организаторской деятельно
сти. Другие, теоретически одобрявшие терроризм, увидев его
практические результаты, от подобной тактики отказались. В овторых, быстрый рост крупного капитала, разорение, деклассиро
вание, превращение в наемных рабочих, подвергавшихся жесто
кой эксплуатации, миллионов вчерашних мелких собственников.
В-третьих, рост милитаризма и серия войн на европейском конти
ненте. В-четвертых, наступление господствующего класса на пра
ва трудящихся и их организации, обращение к открытой реак
ции, доходящее до прямого государственного террора, как это
имело место, например, во Франции после падения Парижской
коммуны.
И, наконец, в-пятых, соперничество анархистов с быстро раз
вивавшимся и набиравшим силу социал-демократическим движе
нием. Многие из видных анархистов поначалу принимали участие
в этом движении, являлись членами I Интернационала. Выдавая
себя за его левое крыло, они пытались захватить господствующие
позиции в Интернационале, навязать ему анархистские установ
ки. На Конгрессе Интернационала в 1872 г., прошедшем под ру
ководством К. Маркса, анархистам был дан решительный бой.
Конгресс не только осудил раскольническую деятельность анар
хистов и их иезуитские приемы, но подверг глубокому анализу и
уничтожающей критике идеологические, стратегические и такти
ческие установки. Указав, что анархисты подменяют экономиче
скую и политическую борьбу рабочих за свое освобождение
«всеразрушителъными актами героев уголовного мира», являю
щимся для них «последним воплощением революции»24, Кон
гресс резко выступил против апологии политических убийств и.
43
попыток идентифицировать революцию с индивидуальным и кол
лективным террором.
Исключенные из рядов Интернационала, анархистские груп
пировки повели яростную борьбу против него и социал-демокра
тического движения. Исходившие, по словам Г. В. Плеханова,
из принципа «все, что не насилие — измена делу, нечистоплотный
компромисс с „властью44» 25, анархисты обвиняли Маркса и его
сторонников в отказе от классовой революционной борьбы, оппор
тунизме и даже реакционности. Обвинения эти носили демагоги
ческий и клеветнический характер. Марксизм никогда не отка
зывался от революционного насилия. «Насилие является тем
орудием, посредством которого общественное движение пролагает себе дорогу и ломает окаменевшие политические формы» 26.
«Насилие является повивальной бабкой всякого старого общест
ва, когда оно беременно новым»27,— указывали Маркс и Эн
гельс. Однако марксистское понимание революционного насилия
принципиально противоположно его пониманию анархистами.
Август Бебель в специально посвященной анализу анархо-терроризма работе «Покушения и социал-демократия» подчеркивал,
что социал-демократы исходят из необходимости «изменить об
щественный порядок в самом его основании» путем организован
ной классовой борьбы, понимают объективные социально-истори
ческие причины существования этого порядка, а потому и убеж
дены, что бороться необходимо против источников и корней
неравенства и эксплуатации, «а головы противников можно оста
вить в покое» 28. Анархисты же, «будучи крайними индивидуа
листами, признают громадное значение за личностью в истории.
В устах людей ограниченных, легко поддающихся страстям и
чужому влиянию, эта идея принимает чудовищные размеры и
порождает ложную мысль о необходимости покушений на жизнь
отдельных лиц, будто ответственных за все общественное зло» 2Э.
Маркс и Энгельс не сводили революционное насилие исклю
чительно к вооруженным формам. В 1870 г., когда во Франции
возникла революционная ситуация, К. Маркс отмечал, что она
может быть разрешена двумя путями, вооруженным и невоору
женным, окончательный выбор между которыми зависит от
французского рабочего класса. Для анархистов же невооружен
ные методы борьбы априорно являются нереволюционными, ибо
для них, по выражению Г. В. Плеханова, «революционные сред
ства и насильственные действия означают одно и то ж е » 30.
Само применение вооруженного насилия марксизм связывает с
наличием соответствующих, благоприятных для этого обстоя
тельств, создающих 'предпосылки для успешного осуществления
революции. Авантюристическое использование насильственных
методов борьбы при отсутствии революционной ситуации или
44
предпосылок ее быстрого созревания категорически отрицается
марксистской наукой. «Восстание было бы безумием там, где
мирная агитация привела бы к цели более быстрым и верным
путем» 3i,— подчеркивал К. Маркс. «Восстание и насильствен
ные действия всегда являются антиреволюционными,— писал
Г. В. Плеханов,— когда они вместо того, чтобы приблизить нас
к нашей цели, отдаляют нас от нее» 32. Анархисты же рассмат
ривали насилие как абсолютное и универсальное средство клас
совой борьбы, применяемое в любых социальных условиях. От
сюда и возникала их уверенность в том, что чем средство
насильственней, тем оно революционней. В условиях, когда мас
совые вооруженные выступления были бессмысленны и просто
невозможны, это убеждение неминуемо приводило к обращению
к террористической тактике.
Именно попытками оправдать эту тактику, обосновать свое
право на ее использование, главным образом, и объясняются на
падки анархистов на социал-демократическое движение. В суще
стве своем неосновательные, эти нападки были не всегда полно
стью беспочвенными. Социал-демократическому движению ряда
стран были в этот период свойственны оппортунистические, поссибилистские настроения. В этой связи В. И. Ленин позднее от
мечал, что анархизм «нередко являлся своего рода наказанием
за оппортунистические грехи рабочего движ ения»33. Однако и
эти «грехи» и «ужасы капитализма» сами по себе не могут слу
жить оправданием для социально бессмысленных кровавых ак
ций, так же как личная убежденность многих анархо-террористов
в собственной революционности еще не реальное доказательство
этой революционности. «Анархическое действие,— подчеркивал
Г. В, Плеханов,— как бы насильственно оно ни было, является
антиреволюционным средством» 34.
Анархо-терроризм как форма мелкобуржуазного революционаризма, каковы бы ни были теоретические рассуждения и полити
ческие декларации его адептов, на деле руководствовался не
социалистическими целями и революционно-преобразующими
стремлениями. Как писал В. И. Ленин, в анархизме «никакой
доктрины революционного учения, теории нет» 35. Центральными
и реальными мотивами политического поведения анархо-терро
ристов были отчаяние, ненависть, жажда отмщения и личное
самоутверждение.
Вполне естественно, что переход анархистов к систематиче
ской террористической практике не обошелся без определенной
аргументации. Среди них разнообразные вариации на тему: цель
оправдывает средства, и жесткое разделение общества на произ
водителей и «паразитов», не имеющих права на существование,
и утверждения, что больному обществу может помочь только ра45
дикальная хирургия, и убежденность, что достаточно разрушить
буржуазное общество, истребив «паразитов» (и запугав тех из
них, кто останется в живых), как само собой установится спра
ведливый Социальный строй, и тезис о нарушении буржуазной,
эксплуататорской законности как революционном акте, и цинич
ная формула «динамит делает всех равными». В пользу терро
ризма приводились и парадоксальные «гуманные» доводы. Так,
Луизой Мишель высказывалась мысль о том, что в ходе открытых
революционных выступлений и столкновений с правительствен
ными войсками гибнет большое количество людей. Этих бес
цельных жертв следует избегать, и поэтому беззаветные рево
люционеры должны взять вооруженную борьбу на себя, рискуя
лишь собственными жизнями.
Существенную роль играла традиционная и элементарная
идея возмездия, получившая у идеологов мелкобуржуазного революционаризма и специальное теоретическое освещение. «Коль
скоро „зло существует44,— рассуждал, например, небезызвестный
проповедник „теории насилия44 и поборник „автономии лично
сти44 Е. Дюринг,— с ним надо бороться, бороться иногда жестоки
ми, даже террористическими средствами... Раз обида нанесена,,
раз насилие совершено, надо видеть во враге врага, причем
оказываются дозволенными орудия хитрости и насилия»36.
Таким образом, на каждый шаг в направлении ограничения сво
бод, на каждый жест, оскорбляющий достоинство личности, на
каждое проявление насилия верхов необходимо отвечать караю
щим ударом. А отсюда следовал неизбежный (хотя и не всегда
открыто формулировавшийся) вывод о том, что до тех пор пока
«зло существует», террористическая борьба должна носить си
стематичный и постоянный характер.
Одним из наиболее активных и последовательных пропаган
дистов террористической тактики был немецкий публицист-анар
хист И. Мост. Иоганн Мост, рабочий-переплетчик, был членом
социал-демократической партии, из которой его исключили в
1880 г. В качестве социал-демократа Мост на заре своей поли
тической деятельности выступал против заговорщичества и пут
чизма. В середине 70-х годов он порывает с марксизмом и пре
вращается в ярого дюрингианца и поклонника пропаганды дейст
вием. После введения Бисмарком чрезвычайных законов Мост,
эмигрировавший в Англию, по словам В. И. Ленина, «ударился
в анархизм» и в издаваемой им газете «Свобода» стал «звать к
насилию и террору» 37. «Да здравствует ненависть! Да здравст
вует месть!» — провозглашал он.
К. Маркс и Ф. Энгельс называли И. Моста «каррикатурным
анархистом»38. Высмеивая его претензии на крайнюю револю
ционность, они писали: «Мы ставим в вину Мосту не то, что
46
его „Freiheit44 слишком революционна. Мы обвиняем „Freiheit44
в том, что в .ней нет никакого революционного содержания,
только одни революционные фразы» 39.
Высланный из Англии и переехавший в США, Мост в изда
ваемых им газетах начал подробно разрабатывать свои анархо
террористические принципы. В статье, озаглавленной «Советы
террористам» (1884 г.), Мост развивал идею о том, что для борь
бы против «порядка воров все средства законны». «Не будем
больше прислушиваться к идиотским разговорам об оскорблении
„морали44 хищением и воровством». «В устах социалистов подоб
ный вздор есть самая невообразимая бессмыслица»40. Считая
нападение лучшей формой защиты, а террористический акт —
лучшим средством пропаганды, Мост давал анархистам следую
щие рекомендации: «Чем выше цель, на которую направляется
выстрел или удар, и чем более совершенно выполнена попытка,
тем больше ее пропагандистский эф фект»41. Мост сформулиро
вал принцип, названный им «эффектом эхо», согласно которому
каждый террористический акт находит подражателей и вызывает
следующие акты, в силу чего якобы и должна возникнуть свое
образная цепная реакция, приводящая к взрыву, уничтожающему
буржуазное общество. Высокая революционная значимость тер
рористической акции, по Мосту, дает право и даже требует во
имя дела ликвидировать все и всех, кто может помешать осу
ществлению этой акции.
Большое внимание Мост уделил задаче «методических приго
товлений» к террору. Он описывал предпочтительные для тер
рористов виды оружия, среди которых особое его внимание при
влек динамит. В интересах овладения секретами его производст
ва и с целью хищения взрывчатки (удавшегося ему) он даже
на некоторое время поступил на работу в контору завода, про
изводящего динамит. Мост был первым, кто предложил посылать
намеченным жертвам по почте посылки с бомбами, взрывающи
мися в момент вскрытия упаковки. Мост считал необходимым
формирование группы высокопрофессиональных мастеров-снайперов, которые должны были использовать оружие против
«командиров буржуазии» в то время, как остальная масса обра
щает его против «рядовых гангстеров» 42.
Мысль о том, что народ далеко не в любой момент готов к
завоеванию свободы, он считал мыслью «аристократов и бур
жуа». «Готовность может выявиться во всем величии в момент
конфликта, не позже, не раньш е»43,— утверждал он. Поэтому
необходимо начинать немедленно, разжигать огонь революции,
возбуждать к мятежу любыми средствами. А такими средствами
служат террористические акции. Призывая начинать немедленно,
И Мост, как и большинство анархистов, удовлетворяется в ка
47
честве социального стимула задачей разрушения современного
ему общественного строя, не выдвигая никаких конкретных
представлений о будущем обществе. Самое важное, по Мосту,
то, что народ неудовлетворен своим нынешним положением.
«Если он не знает, чем заменить сегодняшнее устройство, он
найдет это в момент, когда будет делаться нечто практическое в
этом плане» 44.
Будучи, по словам В. И. Ленина, «демагогом, льстящим мус
кулистому кулаку массы »45, Мост одновременно относился к
ней с крайним презрением. Саму свою тактику он мотивировал
тем, что масса похожа на обезьян и пойдет туда, куда ее пове
дет энергичное меньшинство. Любопытно и то, что в писаниях
Моста можно встретить мысли и даже лексику, прочно вошедшую
в арсенал позднейших, в том числе и современных, экстремистов.
Развивая и приближая к практике идеи Гейнцена, И. Мост
явился связующим звеном между Гейнценом и анархистами
конца X IX в.
Начиная с 70-х годов X IX в., террористические акции анар
хистов становятся все более систематичными, и вместе с этим
развивается сама идея систематического террора.
Стоит несколько подробнее осветить фактическую сторону
дела, поскольку в современной западной террологической лите
ратуре она чаще всего или затрагивается вскользь или попросту
замалчивается. Тому имеется ряд причин. Это, во-первых, широ
кое распространение идеи о беспрецедентности современной тер
рористической волны. Во-вторых, настойчивое стремление реак
ционных политологов объявить непосредственным источником
современного «левого» терроризма деятельность обращавшихся к
террористическим методам русских борцов против царизма, чему
явно противоречит факт внушительного размаха анархо-терроризма на Западе. В-третьих, претензия современных «левых»
террористов называться «марксистами» и солидарность с ними в
этом вопросе большинства их буржуазных критиков. Отсюда и
вытекает необходимость замалчивать последовательную марксист
скую критику анархизма вообще и анархо-терроризма в част
ности.
А между тем нетрудно убедиться, что анархистами были раз
работаны и афишированы практически все основные аргументы в
пользу террористической практики, используемые ныне «левы
ми» террористами (если не считать естественной поправки на
различия в конкретных условиях прошлой и нынешней эпох).
Что же касается размаха террористической активности анархи
стов и значимости мишеней их атак, то она в этом отношении
вряд ли сколько-нибудь существенно уступает активности со
временных «левых» террористов.
48
По данным, приведенным А. Камю в его книге «Взбунтовав
шийся человек», только в 1892 г. в Европе было осуществлено
около 1000 взрывов, а в США — около 500. В это число входят
акции правого и националистического террора, но львиная доля
акций падала на анархистов. В той или иной мере затронув все
или почти все капиталистические страны, анархистский терро
ризм, однако, проявился в каждой пз них в разных масштабах.
Это зависело от типа и уровня капиталистического развития
страны, степени остроты социальных и национальных конфлик
тов и других факторов, а также от преобладания тех или иных
тенденций в рабочем движении. Там, где в конце X IX в. скла
дывались и обретали доминирующее влияние на рабочий класс
массовые партии, анархистский терроризм не получил скольконибудь значительного развития. Там, где этот процесс был по
тем или иным причинам заторможен, анархизму удавалось за
нять политическую авансцену, а в самом анархистском движении
активизировалось и определяло его идейный облик экстремист
ское крыло.
Не получил развития анархистский терроризм в Англии с ее
высоким уровнем организованного профсоюзного движения и
достаточно широким спектром демократических свобод. Нельзя,
очевидно, сбрасывать со счетов и национальную традицию наро
да этой страны, особенно уважающего традиции: англичане каж
дый год носят по улицам чучело Гая Фокса, организатора так
называемого «порохового заговора», который еще в 1605 г. пы
тался взорвать Вестминстерское аббатство и на несколько веков
привил иммунитет к террористической заразе, несколько ослаб
ший (но не исчезнувший совсем) только к нашему времени.
Не имел широкого распространения анархистский террор и в
странах Центральной Европы. Рабочие движения в Германии и
Австрии развивались под преобладающим идейным влиянием
марксизма и формировались как социал-демократические. Одними
из первых начав пропагандировать и осуществлять террористи
ческую тактику, германские сторонники терроризма не получи
ли никакой поддержки в собственной стране и позднее действо
вали за ее пределами, преимущественно в США.
Любопытно, что анархо-терроризм не получил сколько-ни
будь существенного развития в Швейцарии — стране, где анар
хизм как идеология пользовался большим влиянием и где сфор
мировалось определенное число сторонников экстремистских
методов борьбы, ведших (часто в сотрудничестве с единомыш
ленниками, эмигрировавшими из других стран) пропаганду в
пользу этих методов. Здесь следует иметь в виду традиционность
¥ устойчивость швейцарской республиканской системы, отсутст
вие тех пережитков феодальных отношений и национального гне
49
та, которые резко обостряли политическую ситуацию в ряде дру
гих европейских стран, сравнительную обеспеченность ремеслен
нического слоя и крестьянства, достаточную развитость демокра
тических институтов, в частности систему кантонов с их
автономией и широкими правами. Все это в совокупности пред
определило преобладание прудонистской линии в швейцарском
анархизме.
Наибольший размах анархистский терроризм в Европе при
обрел в таких странах, как Италия, Франция, Испания.
Роль инициаторов проведения в жизнь «пропаганды действи
ем» в Западной Европе взяли на себя итальянские анархисты.
Экономическая отсталость и политическая раздробленность стра
ны, незавершенность антифеодальных преобразований и нацио
нально-освободительных задач, отсутствие развитого, осознавше
го свою самостоятельность рабочего движения в сочетании с тра
дициями революционного заговорщичества и памятью о героиче
ском периоде Рисорджименто стали предпосылками для обращения
итальянских анархистов к диверсионным и террористическим
действиям. Начав с операций типа захвата маленьких городков,
поджога мэрий и архивов, уничтожения финансовых документов,
итальянские анархисты — сторонники
«прямого
действия» —
быстро перешли к политическим покушениям. Любопытно, что
наиболее известные из них имели характер международных
акций. В 1898 г. итальянским анархистом Луккени была убита
австрийская императрица Елизавета. В 1899 г. итальянским тер
рористом Казерио был заколот президент Франции Карно, отка
завшийся помиловать французского террориста Эмиля Анри.
В 1900 г. Бреши убивает короля Италии Умберто по приговору
организации итальянцев-анархистов в США. Итальянские терро
ристы были одними из первых (если не первыми), кто декориро
вал националистические мотивы флером интернациональной ос
вободительной борьбы.
Самое широкое распространение получило анархо-террористическое движение 80—90-х годов прошлого века во Франции.
Здесь играли свою роль и острота классовых противоречий в
стране, прошедшей через ряд революций и войн и не достигшей
социальной стабилизации, и специфический характер француз
ской буржуазии, включавшей широкий слой живущих на ренту
и бездельничающих людей, и высокий удельный вес мелкобур
жуазных элементов, и относительная слабость социал-демокра
тического движения. Крах надежд, возникших в период Париж
ской коммуны, национальное предательство буржуазии во время
франко-прусской войны (а позднее международные аферы фран
цузской буржуазии типа строительства Панамского канала),
варварство реакции стали источниками острейшей-ненависти к
50
существующему строю, чувства бессилия и отчаяния, жажды
возмездия, питавших анархо-террористические настроения. Свое
образным выразителем этих настроений стал великий поэт Ар
тюр Рембо, который проклятие версальским палачам и «времени
убийц» сочетал с апологетикой контрнасилия и тотального раз
рушения.
После решения лондонского конгресса пропаганда действием
стала главной темой французской анархистской прессы. На ее
страницах публиковались статьи, служившие специальными ин
струкциями для самостоятельного изготовления бомб. В анархист
ских газетах публиковались призывы «грабить», «разрушать»,,
«убивать», «уничтожать все: дома, поля, сено», поджигать скла
ды и амбары, обливая бензином и поджигая их крыши, отрав
лять еду, предназначенную для хозяев, убивать сельских жандар
мов, мэров, служащих, «так как они представляют собой госу
дарство» 46. Газета «Революционное действие» от 20 марта 1887 г.
призывала: «Смело примемся за дело: ...огнем, кинжалом, ядом,
чтобы каждый удар, нанесенный в социальное тело буржуазии,
проделал в нем глубокую рану» 47. Еще более «радикально» вы
сказывались анархисты в своих листовках и плакатах. На одном
из них, например, значилось следующее: «Народные живодеры!
Каторжники всех сортов! Будущие мастера-убийцы! Перерезайте
горло вашим хозяевам! Выньте из ваших карманов нож освобо
дителя! Грабьте! Поджигайте! Разрушайте! Уничтожайте! Очи
щайте!... Да здравствует восстание, да здравствует пожар!
Смерть эксплуататорам!» 48.
Впрочем, словесное буйство анархистов в течение десятилетия
не подтверждалось соответствующей практикой. За 1880—1888 гг.
результатом кампании «пропаганды действием» было лишь не
сколько довольно нелепых индивидуальных покушений. Среди
актов этого периода и осуществленный 21 октября 1882 г. анар
хистом Сикоктом взрыв в подвалах Лионского театра «Белькур».
Не принесший человеческих жертв, он, однако, послужил пред
логом для массового процесса над анархистами, в том числе и
не склонными к терроризму, и осуждения большинства из них.
Подлинная эпидемия терроризма, длившаяся несколько лет, на
чалась во Франции в начале 90-х годов. Открыл ее некто Равашоль, анархиствующий люмпен с уголовным прошлым. Весной
1892 г. Равашоль осуществил подряд три потрясших Париж
взрыва. Один из них — в доме президента суда Бенда, ведшего
в 1890 г. процесс анархистов-демонстрантов, участников стычек
с полицией, другой — в доме произнесшего суровую речь на про
цессе прокурора Бюло, третий — в военной казарме. Приговорен
ный к смертной казни Равашоль кричал на эшафоте: «Да здрав
ствует анархия! Да здравствует социальная революция!»
51
10 декабря 1893 г. анархистом Огюстом Вайяыом была броше
на бомба в Бурбонском дворце, где заседала палата депутатов.
Бомба оказалась практически безвредной. На процессе Вайян
утверждал, что сам изготовил бомбу, однако существует версия,
что она была ему подсунута полицейским провокатором. Во
всяком случае, как писал позднее один отставной полицейский
чин, «никогда не было столь целительной бомбы, которая при
шлась бы так кстати»49. Взрыв в Бурбойском дворце был ис
пользован как повод для принятия суровых репрессивных зако
нов. Французские социалисты выступили с резким осуждением
акции Вайяна, назвав ее устами Геда «поступком сумасшедше
го». «Те, кто это делает,—не просто вне закона, они вне чело
вечества» 50.
Большинством анархистов акция Вайяна была одобрена и оце
нена как попытка покарать буржуазных политиканов за корруп
цию и мошенничество, проявившиеся в Панамском деле. В то же
время в реакции и самих анархистов и сочувствующих им интел
лигентов на покушения 90-х годов во Франции проявилась и
откровенная романтизация и эстетизация террористических актов
как таковых. Акции Равашоля вызвали появление нового глаго
ла — «ravacholer», а затем и песни на мотив «Карманьолы», за
канчивающейся призывом: dinamitons, dinamitons! («давайте
взрывать!»). По поводу покушения Вайяна анархиствующий по
эт Лоран Тайад произнес знаменитую с тех пор фразу: «Стоит
ли думать о жертвах, если жест красив!»
Приговор к смертной казни Вайяну по закону должен
был или быть утвержден, пли заменен на более мягкий прези
дентом республики Карно. В анархистской прессе печатаются
угрожающие предупреждения президенту. Карно оставил приго
вор в силе, и через неделю после казни Вайяна (12 января
1896 г.) 19-летним юношей Эмилем Анри была взорвана бомба в
кафе «Терминус». 20 человек было ранено, один убит. Почему
Анри взорвал бомбу именно в кафе? Вопрос небеспочвенный, ибо
этот взрыв положил начало выбору для террористических акций
именно подобных заведений. Анри исходил из того, что все, кто
терпят произвол и не выступают открыто против несправедливо
сти, сами в них повинны. Поэтому среди людей, в которых он
бросил бомбу, по его словам, «невинных не было». Наоборот,
сидящие в кафе — это те, кто позволяет себе наслаждаться, ког
да существуют обездоленные и угнетенные, за чей счет, собст
венно, они и пируют. Ударом по буржуазным обывателям он
стремился «испортить их триумф» 51. Выдержав недельную пау
зу после акции Анри, анархисты произвели еще два взрыва в
Париже, после чего серия аналогичных акций продолжалась еще
несколько месяцев. Среди них выделяется своей парадоксальной
52
•символической значимостью рядовой в остальных отношениях,
не повлекший за собой смертей взрыв бомбы в ресторане «Фуайо». Этим взрывом был ранен и в результате ранения потерял
глаз автор эффектной фразы о «красоте жеста» Лоран Тайад.
В мае 1896 г. Эмиль Анри был гильотинирован. В июне анар
хист Казерио в Лионе убивает президента республики Карно.
После этого анархисты в течение некоторого времени еще про
должают совершать террористические акции, но в целом движе
ние быстро идет на убыль.
Рядом факторов предопределялось свертывание анархистами
террористической активности. Явно обнаруживается неэффектив
ность метода, что становится очевидным для самих анархистов.
Волна осуждения кровавых деяний анархистов со стороны широ
кого общественного мнения. Правительственные репрессии. Ус
пехи международного рабочего движения, добившегося принятия
в ряде стран прогрессивного рабочего законодательства. Приме
ром дпя французских трудящихся стали и политические дости
жения германской социал-демократии, которая в 1890 г. добилась
отмены чрезвычайных законов, от выборов к выборам увеличи
вала число голосов, поданных за ее кандидатов в депутаты рейх
стага. Все это способствовало быстрому росту французского со
циал-демократического движения, достигшего к концу века
широкого влияния на рабочий класс и высокого организационно
го уровня. Тем самым у анархистов была выбита из-под ног
почва для спекулятивных претензий на представительство инте
ресов трудящихся, и они оказались в социальной изоляции. Не
следует сбрасывать со счетов также и достигнутую к началу
XX в. стабилизацию французского капитализма, упрочение бур
ж уазной демократии, повышение \ ровня жизни низших слоев
населения страны.
Весьма длительное время осуществлялся, обретя огромный
размах и выступая в самых разнообразных формах, анархист
ский терроризм в Испании. Капитализм в Испании начал разви
ваться позже, чем в других европейских странах, и носпл специ
фический характер. Для капиталистической экономики Испании
было характерно преобладание мелких промышленных предприя
тий, которые в сумме по числу занятых трудящихся значительно
превосходили количество работающих на крупных промышленных
предприятиях. Рабочий класс страны в значительной своей части
носил полуремесленнический характер, а одним из важнейших
источников его формирования служили выходцы из отсталых
сельскохозяйственных районов страны. Испанская буржуазия,
уж е выраставшая к концу X IX в. в экономически господствую
щий класс, будучи слаба в политическом отношении, не вступа
ла в открытые конфликты с земельной олигархией, а стремилась
53
выступать в единстве с ней. Не имея собственных сильных по
литических партий, она, как и традиционная аристократия, тяго
тела к сохранению абсолютистских методов правления. Крайние
формы эксплуатации, абсолютизм, упорство верхушки общества
в защите архаических феодальных привилегий, наличие репрес
сивных органов, созданных специально дтя подавления выступ
лений трудящихся (гражданская г в а р д и я ) в с е это предопреде
лило чрезвычайную остроту социальных противоречий в стране п
распространенность крайних насильственных форм борьбы.
В этих условиях не случайно не только то, что в Испании
широким влиянием пользовались анархистские идеи, но и то, что
первые испанские профсоюзы, сформировавшись как анархист
ские, быстро обратились к террористической практике. (Даже
возникшие позднее, в противовес анархистским, социалистиче
ские профсоюзы были долгое время не свободны от влияния не
которых анархистских установок.)
Испанский анархизм оказался более организованным, неже
ли анархцзм других европейских стран, и обрел серьезное влия
ние в массовых организациях, став одним из направлений рабо
чего и профсоюзного движений. Одновременно в Испании уста
новка на террор развивалась не только 1 еми или иными
анархистскими публицистами и осуществлялась отдельными фа
натиками, но была официально санкционирована высшими анар
хистскими органами страны. Так, в резолюции одной из конфе
ренций испанских анархистов в 90-х годах говорилось: «Конфе
ренция приветствует всех, кто имел достаточно мужества и силы
воли организовать покушения на жизнь угнетателей и эксплуа
таторов человечества, и прежде всего врагов развития идей анархо-коллективизма» 52.
Захватив в свои руки рабочее движение, испанские анархи
сты сделали терроризм преимущественной формой борьбы. Они
отвергли как «недостаточно революционную» экономическую
борьбу. Забастовки трудящихся они принципиально осуждали,
заменяя их так называемым «индустриальным террором», т. е.
разрушительными акциями на предприятиях. Одной из особенно
стей испанского анархизма были его достаточно широкие связи
с деревней *, в обеспечении которых существенную роль играли
странствующие проповедники анархизма, представлявшие собой
своеобразный человеческий тип, в котором совмещались Доп-Ки* В Испании с ее латифундистской системой землевладения и землеполь
зования, с тягостными и унизительными формами экономической и вне
экономической зависимости трудящихся от собственников профсоюзы
анархистского направления создавались не только в городах, но и в сель
ской местности, объединяя сельскохозяйственных рабочих и арендаторов,
а также малоземельных крестьян.
54
хот и фанатичный инквизитор. И сам анархизм, который они
несли в массы, был окрашен в религиозно-мистические тона.
В деревне анархистами осуществлялся так называемый «аграр
ный террор», выражавшийся в бунтах, поджогах и разгромах
усадеб, а нередко и в убийствах владельцев и служащих поме
стий, местных чиновников и полицейских. Характерным для ис
панского анархизма было и тесное практическое взаимодействие
с преступными элементами, так называемыми пистолерос *.
Первая волна террористической активности анархистов в
Испании прокатилась во второй половине 70-х —начале 80-х го
дов, когда, войдя в состав бакунистского Альянса социалистиче
ской демократии, они приняли «Программу осуществления не
медленного действия» и идею пропаганды действием. В ряде
районов страны были осуществлены поджоги и взрывы. Симво
лами анархистского террора того периода были, хотя и осуществ
ленные самостоятельно, без решения и поддержки организацией,
два неудавшихся покушения на короля Альфонса X II: 25 ок
тября 1878 г.—Хуана Оливы Монкузи и 30 декабря 1879 г.—
Франциско Отеро Гонсалеса, объявленных анархистами револю
ционными святыми и мучениками.
Вторая волна террористической активности в Испании, как и
во Франции, падает на начало 90-х годов. Наряду с акциями аг
рарного и промышленного террора, анархисты в этот период
осуществили ряд громких политических покушений. Среди этих
покушений особенно заметными были покушения на генерала
Кампоса, взрыв бомбы в театре Лисео в Барселоне и убийство
премьер-министра Кановы.
Генерал Кампос, сыгравший важную роль в реставрации мо
нархии, прославившийся своими зверствами при подавлении ос
вободительных движений на Филиппинах и на Кубе и перенес
ший эти методы в Испанию, стал объектом систематической охо
ты со стороны террористов. Пытки и казни анархистов, огулом
объявляемых виновными в терроре, создание агентами-провокаторами подпольных организаций и выдача их полиции стали его
излюбленными методами. 24 сентября 1893 г., вскоре после каз
ни двух журналистов анархистского направления, Паулино Пальяс стрелял в генерала Кампоса, легко ранив его. Перед казнью
Кальяс заявил: «Предпочитаю умереть, чем быть рабом! Месть
будет ужасна!».
* Это взаимодействие, соответствующее принципиальным установкам анар
хизма, имело место, хотя и в меньших масштабах, и в других странах.
Так, во Франции в начале XX в. действовала так называелтая «банда
Бонно», отчислявшая 10% своей «выручки» в пользу анархистов Таким
способом уюловники санкционировали свою преступную деятельность
якобы идейными мотивами и по-своему «замаливали грехи».
55
Через несколько месяцев в Барселоне, в театре Лисео, где
ожидался на спектакль Кампос, была брошена бомба, взрывом
которой было убито 20 и ранено 50 человек, в том числе женщи
ны и дети. Бомбу бросил один из подвергавшихся пыткам анар
хистов. Характерно, что сами анархисты, исходившие из того,
что в театре собралась в основном буржуазная публика, а сле
довательно, по уже распространенному в то время выражению*
«там невинных не было», все же двойственно оценили этот факт.
Так, известный активист анархистского террора во Франции
Жан Грав писал позднее в своей работе «По поводу покушений»,
что взрыв бомб в местах массового скопления людей — «недейст
венный способ провозглашать братство, солидарность и справед
ливость». В то же время он считал, что акция в театре Лисео
«если и не была полностью оправдываемой, то была объясни
мой» 53.
Террористический акт в театре Лисео стал поводом для осу
ществления правительством массовых арестов и ряда казней.
Это, в свою очередь, вызвало новую вспышку анархо-терроризма.
Брошенной в 1896 г. в религиозную процессию бомбой было уби
то 11 человек. Последовал арест 40 видных террористов, из ко
торых 4 было казнено, а 4 приговорено к пожизненному заклю
чению. Ответом на эту меру правительства было убийство анархо-террористами в 1897 г. премьер-министра Испании Кановы.
Эту акцию упоминавшийся выше Жан Грав оценил как «полно
стью оправданный акт» 5\
В отличие от анархистов других стран Европы, в начало
XX в., по существу, прекративших террористическую деятель
ность, испанские анархисты продолжали ее и в этот период,
и позднее. Целая серия террористических акций в Барселоне и
ряде других городов страны была осуществлена в 1904—1909 гг.
Индивидуальные покушения на представителей правящей элиты
(в том числе и на короля Испании в 1906 г., когда в его сва
дебный кортеж была брошена бомба, взрывом которой было уби
то 26 и ранено 100 человек) сочетались с многочисленными под
жогами и диверсиями на производстве. Другим пиком террорис
тической активности анархистов в Испании был период конца
10-х —начала 20-х годов XX в. Единичные террористические
акты осуществлялись испанскими террористами и позднее, в том
числе и после победы республиканцев на выборах 1931 г. и уста
новления правительства Народного фронта в 1936 г. Даже в ус
ловиях Гражданской войны отдельные группы анархистов про
должали осуществлять грабежи банков и поджоги церквей, со
вершать покушения на людей,
протестовавших
против
анархистских методов управления производством и отсутствия
дисциплинированности и стойкости в ходе военных действий.
56
Среди их жертв этого периода —и видный анархист, в прошлом
знаменитый террорист Дуррути.
Серьезного размаха достиг анархо-терроризм в конце прошло
го —начале нынешнего века в США. Ряд обстоятельств особо
благоприятствовал этому. Во-первых, анархизм нашел благопри
ятную почву в американском индивидуалистическом сознании.
Во-вторых, организованное рабочее движение в США в значи
тельной мере складывалось под влиянием анархизма, занимавше
го ведущие позиции в таких профсоюзных организациях, как,
например, «Индустриальные рабочие мира». В-третьих, для США
были характерны острота трудовых конфликтов и прямые столк
новения рабочих с предпринимателями и властями. Американ
ские капиталисты, унаследовавшие нравы и обычаи рабовладельдев, всегда стремились подавлять забастовки и выступления
трудящихся насильственными средствами, используя для этого и
полицию, и наемных охранников, и штрейкбрехеров/ и просто
платных убийц. Поэтому многие рабочие организации в США с
самого начала ставили одной из своих задач ответ насилием на
насилие, осуществляемое представителями господствующего клас
са и их прислужниками. В сочетании с анархистскими идеалами
тагкая установка приводила к экстремистским умонастроениям и
действиям.
Американский терроризм обратил на себя внимание еще в
70-х годах прошлого столетия актами насилия, осуществленными
полуу головной группой «Моллп Магвайз», провокационно маски
ровавшейся флагом пролетарского бунтарства. Но наибольший
резонанс в мире вызвало убийство анархистом Ш. Гито прези
дента Гарфильда в 1881 г.
Жестокие репрессивные, порой провокационные, действия п о
л и ц и й и юстиции в еще большей мере способствовали распрост
ранению анархистских идей и толкали к экстремистской дея
тельности. В течение следующего десятилетия анархистами в
США систематически осуществлялись разрушительные акции и
политические покушения. Жертвой анархо-террористов стал в
1901 г. президент США Мак-Кинли. В 1905 г. был убит губерна
тор штата Айдахо Ф. Стейнберг. Организация «Индустриальные
рабочие мира» взяла эту акцию на себя.
В отличие от испанских анархистов «Индустриальные рабо
чие мира» не сводили профсоюзную борьбу к экстремистским
действиям, организовывали массовые стачки и демонстрации,
вели значительную идеологическую работу. Однако в рамках
этой работы немалое место уделяли они обоснованию и защите
террористической практики. Характерна в этом отношении статья
видной американской анархистки Эммы Гольдман «Психология
политического насилия». Гольдман стремится одновременно и
57
отмежеваться от апологии терроризма, и дать ему политическое
и нравственное оправдание. Подчеркивая, что «за каждым на
сильственным актом стоят жизненные причины» 55, она призывает
при оценке терроризма исходить из того, что его фундаментом
является определенный экономический, социальный и политиче
ский строй. Этот строй, капитализм, по мысли Гольдман, осуще
ствляет направленный против трудящихся террор, ведущийся
как в открытой, так и в скрытой форме. Таким образом, любые
формы господства правящего класса,—экономические и политиче
ские, насильственные и ненасильственные, любая форма полити
ческого правления буржуазии рассматриваются как террористи
ческие. Анархисты, склонные осуществлять террор на практике
и защищать его в теории, тяготеют к обобщениям, объединяю
щим два проявления господства буржуазии, поскольку таким
способом подводится идейная и нравственная база под экстре
мистские способы политической борьбы. Именно на этой мотива
ционно-этической стороне дела и строит свою (сопровождаемую
оговорками о том, что понимание не есть апология) защиту тер
роризма н террористов Эмма Гольдман. Террористы для нее—
это люди, наделенные «высокой чувствительностью к неправде и
несправедливости», и «анархизм ценит человеческую жизнь
больше, чем любая другая теория» 56.
Почему же в таком случае эти «чувствительные» гуманисты
проливают кровь?
Изначально присущая человеку жажда справедливости стал
кивается с господством капиталистической тирании и производит
в душах раскол. Именно тирания и порождает жестокость, кото
рая становится катализатором взрыва. Однако, согласно мнению
Гольдман, при помощи этого взрыва — насильственного акта —
человек преодолевает душевный раскол и приходит к психологи
ческой гармонии. Таким образом, анархисты-террористы оказы
ваются, по Гольдман, мучениками, подобными Христу, которые
за свою веру платят собственной кровью. Здесь, однако, не при
нимается во внимание «пустяк» —кровь других людей. Гольдман
делает несостоятельную попытку обосновать анархистскую мо
раль и создать о ней идеализированное представление. Но, как
метко заметил Г. В. Плеханов, анархисты, «во имя нравственно
сти ... одобряют самые безнравственные действия». «Мораль анар
хистов,— писал он,— это мораль лиц, оценивающих каждое че
ловеческое действие с отвлеченной точки неограниченных прав
индивидуума и во имя этих прав оправдывающих жесточайшие
насилия, самый отталкивающий произвол» 57.
При всех оговорках Гольдман, ее рассуждения выглядят яв
ной апологетикой терроризма. Хотя ее идейная конструкция
сложнее и тоньше, чем грубые лобовые установки менее образо
58
ванных практиков и идеологов терроризма, но по существу это
эстетизированная вариация известной модели. Стоит отметить,
что Гольдман в начале нынешнего века, наряду со ставшими уже
традиционными доводами в пользу терроризма, выдвинула ряд
сравнительно новых, которых не имелось в арсенале анархистов
прошлого столетдя. Ее новая аргументация исходит от личност
ной психологии, или, как сказали бы сегодня, от экзистенциаль
ных потребностей индивидуума. Последователи современных
«левых» террористов охотно и весьма произвольно применяют
эти аргументы.
'Концепция Гольдман вновь подтверясдает, что террористов
буржуазно-радикального и анархистского направлений объеди
няет не только сходство средств и приемов, но и глубинная
идейная общность. Различие течений состоит только в том, что в
одном случае речь идет о крайней форме буржуазного, а в дру
гом —мелкобуржуазного
(псевдопролетарского)
экстремизма.
Первый поэтому сосредоточен на вопросе о политических фор
мах и институтах, обходя или затрагивая только в абстрактно
лозунговом плане проблемы социально-экономические. Второй
направляет критический пафос, в первую очередь, на сферу про
изводственных отношений и руководствуется определенной соци
ально-экономической моделью. Эта модель, однако, ничего об
щего не имеет с социализмом, знаменем которого пытались и пы
таются освятить свою деятельность анархиствующие экстремисты
прошлого и настоящего.
С какой бы степенью искренности ни относили себя к проле
тарским борцам и социалистам анархо-террористы, их ответы на
произвол властей были ответами не пролетарскими, а буржуаз
но-индивидуалистическими. Что бы ни лежало в основе их моти
ваций —любовь к человечеству или ненависть ко всему миру,
романтическая жертвенность или жажда возмездия, эстетический
элитаризм или сострадание к униженным и оскорбленным,—са
ми эти мотивы, взятые в общем контексте их мировоззрения,
являлись выражением не социалистической, а буржуазной и
мелкобуржуазной идеологии.
Терроризм есть тактика политической борьбы, обращение к
которой закономерно для буржуазии. Задачам борьбы пролетариа
та за завоевание политической власти и освобождение от эконо
мического гнета террористические методы в принципе противо
показаны, ибо пролетарская революционность предполагает мас
совую и сознательную деятельность трудящихся. Обращение к
терроризму уже само по себе является веским свидетельством
непролетарского, несоциалистического характера борьбы, под
какими бы лозунгами она ни велась. «Так называемый терро
ризм,—писал Г. В. Плеханов,—не пролетарский прием борьбы.
59
Настоящий террорист —индивидуалист по характеру или по не
зависящим обстоятельствам» 58.
Осуществляя свою террористическую активность, анархисты
(если иметь в виду так называемых «идейных» анархистов) были
искренне убеждены, что сама их яростная ненависть к несправед
ливому угнетательскому строю и решительность в применении
крайних средств являются убедительным свидетельством их под
линной революционности. С этих же позиций расценивали анар
хизм и многие из его буржуазных критиков, цринимавших на
веру личную самооценку анархистов. Однако в политике, как из
вестно, решающими критериями являются не субъективные на
мерения людей, а объективный смысл и результат их деятельно
сти. Наличие причин для протеста и энергичность этого протеста
сами по себе еще не являются показателями его революционного
и прогрессивного характера. Какова же была объективная со
циальная роль анархо-терроризма, и кому он был политически
выгоден?
Анархизм развивался в борьбе против революционного марк
сизма и социал-демократического движения трудящихся. Работе
по систематическому идеологическому воспитанию и организа
ции масс он противопоставил неэффективную и бесплодною так
тику псевдореволюционных террористических авантюр. Ведя
сектантски-раскольнпческую деятельность в рабочем движении,
анархисты наносили реальный урон именно этому движению.
«Перед нами,—писал К. Маркс о бакунистском Альянсе,—обще
ство, под маской самого крайнего анархизма направляющее свои
удары не против существующих правительств, а против тех ре
волюционеров, которые не приемлют его догм и руководства» 59.
Что же касается ударов, наносимых анархистами по отдельным
представителям господствующего класса, то, с точки зрения ин
тересов этого класса, они с лихвой оплачивались дезорганизацией,
вносимой анархистами в рабочее движение.
Однако этим дело не исчерпывается. Кровавые акции анархи
стов маскировались под действия пролетарских революционеров
и систематически использовались реакцией для травли социалдемократического движения. Так, подлинно революционная пар
тия трудящихся —марксистский Интернационал —объявлялась
террористической организацией. Маркс и Энгельс неоднократно
подчеркивали, что анархисты вовсе не представляют собой край
него направления в социал-демократическом движении, во стоят
вне его рядов60. Эти их высказывания намеренно игнорировались
правыми публицистами и политиками. «Недобросовестные попыт
ки... смешать в одну кучу анархистов и социал-демократов» 6f
(А. Бебель) на несколько десятилетий стали излюбленным прие
мом реакционных идеологов. Эти методы современные бур ж уаз60
ные террологи возродили в новых условиях, изменились только
отдельные термины.
Одними клеветническими нападками на подлинно револю
ционные движения реакция не ограничивалась. По существу^
каждая террористическая кампания использовалась ею для на
ступления на уже завоеванные трудящимися права и осуществ
ление репрессивных мер против всей левой оппозиции. Еще в
конце 70-х годов прошлого века Бисмарк использовал покушение
на императора Фридриха-Вильгельма для введения чрезвычайных
законов. Бисмарк шел по стопам царского правительства, кото
рое задолго до этого использовало, по словам Маркса, «показные
заговоры людей типа Нечаева», для того чтобы «предавать суду
своих противников под тем предлогом, что они являются членами
Интернационала»62. (Эта традиция не претерпела изменений и
по настоящее время —Декрет о запрете на профессии в ФРГ,
утверждение военных диктатур в ряде стран Латинской Америки,
а также в Турции, гонения на прогрессивных общественных
деятелей в США, Англии и других странах.)
Наконец, анархиствующий заговорщический экстремизм в те
чение всей его истории постоянно использовался полицией в ка
честве орудия для осуществления политических провокаций. Это
му способствовали моральная неразборчивость анархистов в выбо
ре средств, их ставка на уголовные и люмпенские элементы, что
позволяло полиции вводить своих людей в заговорщические орга
низации, претендующие на то, чтобы быть конспиративными.
С другой стороны, сам характер деятельности экстремистов, по
стоянная поглощенность борьбой с полицией и стремление непре
менно «переиграть» ее, идейная неустойчивость неоднократно
приводили, по словам К. Маркса, к «небольшому скачку от заго
ворщика по профессии к платному полицейскому агенту»63.
Этот вывод был сделан К. Марксом в его рецензии на опуб
ликованные по окончании революции 1848 г. воспоминания двух
бывших заговорщиков Шеню и Делаода, оказавшихся на деле по
лицейскими агентами. «Полиция,—писал Маркс,—терпит заго
ворщические общества и вовсе не как неизбежное зло. Она тер
пит их как легко поддающиеся надзору центры, в которых со
средоточены самые отчаянные революционные элементы общест
ва, как мастерские по производству мятежей, ставшие во Фран
ции столь же необходимым средством управления, как и сама
полиция, и наконец, как место вербовки собственных политиче
ских шпионов» 64.
Мысль о «мастерских по производству мятежей», являющих
ся «необходимым средством управления», чрезвычайно сущест
венна. Экстремисты-заговорщики, наблюдаемые н манипулируе
мые полицией, в одних случаях легко изымаемые при необходи
6!
мости, в других —провоцируемые на крайние действия с тем,
чтобы оправдать наступление реакции,—действительно являются
чрезвычайно полезным элементом для политической машины и
репрессивных органов господствующего класса. Не случайно в
х:оде всей истории заговорщических экстремистских организаций
полиция не ограничивалась только тем, что вербовала шпионов,
но нередко и сама внедряла руководителей в такие организации,
а затем провоцировала на террористические действия.
На деньги полиции ее агентами издавалось множество анар
хистских листков, и именно со страниц таких органов, как отме
чают многие исследователи, раздавались наиболее кровожадные и
провокационные призывы. Даже газету И. Моста «Свобода», ког
да последний сидел в английской тюрьме, редактировал полицей
ский провокатор, являвшийся правой рукой Моста. Дело не ог
раничивалось одними словами. Секретные службы через своих
агентов субсидировали деятельность террористических групп,
создавали мастерские по изготовлению бомб, планировали и ор
ганизовывали покушения и грабежи, многие из которых в по
следний момент срывались в силу ареста боевиков, а другие,
наоборот, осуществлялись и служили сигналом для открытия
кампаний жестоких репрессий против нетеррористических оппо
зиционных организаций. Так, убийства, осуществленные «группой
Молли Магвайз», против которых протестовал профсоюз, стали
поводом для его запрещения. Провокационные взрывы на митин
ге в Чикаго и во Французской палате депутатов послужили мо
тивом для широких арестов и судебных расправ над революцио
нерами. Высокопоставленные чины испанской полиции были
уличены в том, что ими инспирировалась деятельность «Черной
руки». Агентами русского царизма, надеявшегося таким образом
запугать французское правительство и общественное мнение
страны, с тем чтобы добиться выдачи политических эмигрантов,
была создана в Париже и провалена мастерская по изготовлению
бомб. Фактов подобного рода не перечесть.
Как писал известный французский анархист Жан Грав, «все
агенты, разоблаченные в анархистском движении, занимались
провокациями, проповедуя насилие, призывая к покушениям» 65.
Иллюстрируя фактами эту мысль, Жак Дюкло формулирует свой
вывод еще резче: «Можно безошибочно утверждать, что в любых
выступлениях, организованных левацкими группировками или
проходивших под их влиянием, роль вдохновителей играли про
вокаторы —агенты полиции» 66. Этому способствовали анархист
ские установки, выраженные в тезисе: «Силой или хитростью
вырвать у общества то, в чем оно вам отказывает, вот что бла
городно, вот что по-анархистски!»67. При такой установке, писал
Жак Дюкло, «рядясь в анархиста, любой человек, любой прави62
тельственный агент мог предпринимать действия, идущие на
пользу капиталистическим эксплуататорам, и притом строить из
себя революционера» 68.
Конечно, большинство анархистов искренне верили в свои
идеалы, в целесообразность и правомерность экстремистских ме
тодов. Существенно, однако, то, что эти идеалы и методы были
таковы, что позволяли полиции широко использовать анархизм в
интересах господствующего класса. Левацкий революционаризм
анархистов на деле оборачивался не только псевдореволюцион
ностью, но и контрреволюционностью. «Анархисты,—подчерки
вал Г. В. Плеханов,—по своему направлению стоят за револю
цию, а в действительности они служат лишь целям реакции» 69.
Если в полемике с социал-демократией на рубеже веков анар
хисты еще могли позволить себе спекулировать на не лишенных
в отдельных случаях оснований обвинениях последней в оппор
тунизме и рядиться, благодаря этому, в тогу «бесстрашных рево
люционеров», то развитие революционных марксистских органи
заций выбило у них из-под ног эту почву. Октябрьская револю
ция, дав убедительный пример подлинно революционной
деятельности масс, нанесла «левому» терроризму сокрушитель
ный удар. Сила победоносного народного восстания, подготовлен
ного многолетней идейно-воспитательной и организаторской дея
тельностью большевистской партии, во всей полноте выявила
бессилие и реакционность террористического авантюризма.
18 Там же. С. 61.
19 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 17.
С. 190-191.
19а Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 5.
С. 377.
20 Anarchism Today. L., 1971. P. 3.
21 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 5.
С. 378.
22 Бебель А. Покушения и социалдемократия. Одесса, 1905. С. И.
23 М аркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.
Т. 33. С. 278-279.
24 Там же. Т. 18. С. 426.
25 П леханов Г. В. Анархизм и социа
лизм. С. 245.
26 М аркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.
Т. 20. С. 189.
27 Там же. Т. 23. С. 761.
28 Бебель А. Указ. соч. С. 14.
29 Там же. С. 12.
30 Плеханов Г. В. Сила и насилие / /
Соч. Т. IV. С. 250.
31 М аркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.
Т. 17. С. 635.
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 41.
С. 14.
2 Плеханов Г. В. Анархизм и социа
лизм / / Соч. Т. IV. С. 191.
3 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.
Т. 3. С. 377—378.
4 Там же. С. 375.
5 Там же.
6 Там же. С. 231, 233.
7 Там же. С. 331-332.
8 Там же. С. 337.
9 Там же. С. 338.
10 Калер Э. Вильгельм Вейтлинг: Его
жизнь и учение. СПб., [Б. Г.].
С. 69.
11 Там же. С. 70.
12 Там же. С. 72.
13 Там же.
14 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.
Т. 1. С. 65.
15 Там же. Т. 33. С. 33.
16 Там же. Т. 37. С. 246.
17 Бакунин М. Избр. соч. Пг., 1919.
Т. 1. С. 238.
63
32 П леханов Г. В. Сила и насилие.
С. 250.
33 Ленин В И. Поли. собр. соч. Т. 41.
С. 15.
34 Плеханов Г. В. Сила н насилие.
С. 251.
35 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 5.
С. 378.
36 Цит. по: М ихайловский Н. К.
Поли. собр. соч. СПб., 1906. Т. 3.
Столбцы 230—231.
37 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 5.
С. 378.
38 М аркс К ., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.
Т. 38. С. 184.
39 Там же. Т. 34. С. 325.
40 The terrorist reader. A historical
antology. L , 1979. P. 103.
41 Ibid. P. 105.
42 Ibid. P. 104.
43 Ibid. P. 105.
44 Ibid.
45 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 5.
С. 430.
46 M adron ]. Le mouvement anarchiste en France. P., 1975. P. 207.
47 Ibid.
48 Ibid.
44 Ibid. P. 236.
50 Ibid. P. 237.
Ibid. P. 371.
J. Anarcho-Sindicalism en
Espana. Madrid, 1924. P. 173.
53 Grave J. A propos d’attentats. P.,
1932. P. 11.
54 Ibid. P. 12.
55 The terrorist reader... P. 195.
56 Ibid.
57 Плеханов Г. В. Анархизм и социа
лизм / / Соч. Т. IV. С. 243-244.
58 Плеханов Г. В. Избр. филос.
произв. Т. 5. С. 512.
59 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.
Т. 18. С. 329.
60 Архив К. Маркса и Ф. Энгельса.
Т. I/VI. С. 396.
61 Бебель А. Указ. соч. С. И.
62 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.
Т. 17. С. 493-494.
63 Там же. Т. 8. С. 298.
64 Там же.
63 Цит. по: Дюкло Ш. Бакунин и
Маркс. Тень и свет. М., 1975.
С. 301.
66 Там же. С. 314—315.
67 Там же. С. 306.
68 Там же. С. 309.
69 Плеханов Г. В. Сила и насилие.
С. 251.
52 M aurin
Глава третья
Уроки «левого» терроризма в России
История русского освободительного движения в течение многих
лет подвергается систематической фальсификации со стороны
буржуазных политологов. С возникновением левотеррористиче
ских организаций в ведущих капиталистических странах в центре
внимания западных советологов оказались те исторические этапы
борьбы с царизмом, на которых оппозиционные силы обращались
л террористической тактике. Предвзято и тенденциозно трактуя
историю «левого» терроризма в России, реакционные идеологи
преследуют следующие основные цели: затушевать социальные
корни современного терроризма на Западе, объявив его истоком
и прообразом «левый» терроризм в России, свести все русское
освободительное движение к чисто террористической деятельно
сти, изобразить его в виде сменяющих друг друга форм заговор
щической деятельности, стержнем которой является абсолютиза
ция насилия, отождествить или предельно сблизить между собой
64
различные формы «левого» терроризма в России, опорочить рево
люционный марксизм и большевизм, приписав им приверженность
к терроризму.
«Истоки советского терроризма и, если на то пошло, совре
менного терроризма восходят к 1879 г., когда была создана орга
низация под названием „Народная воляк‘»,—возвещает известный
американский советолог Р. Пайпс 1. Ту же мысль развивает и
Т. Снич, утверждающий, что «настоящие корни современного
терроризма» лежат в деятельности «Народной воли». Ему же
принадлежит и заявление, что «классический нечаевский «Кате
хизис революционера» стал библией революционеров всего
мира»2. В русском освободительном движении усматривает
источник современного «левого» терроризма и связанная с ЦРУ
журналистка К. Стерлинг, которая заявляет, что «существует
сверхъестественное сходство между сегодняшней террористиче
ской тактикой в Риме и Берлине и тактикой предшествовавших
большевикам русских нигилистов»3. К. Форе в книге «Земля,
террор, свобода» проводит мысль, что эволюция современного
экстремизма «очень сопоставима с судьбой народнических орга
низаций», и, более того, утверждает, что русское народничество
80-х годов «не составляло ни образом мысли, ни политическими
действиями альтернативы марксизму»4. Примеры такого рода
нетрудно было бы умножить, но, думается, что картина в принци
пе ясна.
Смысл и назначение подобных заявлений в том и состоит,
чтобы объявить современный «левый» терроризм «в Риме и Бер
лине» тождественным народовольческому. Подчеркнем бездоказа
тельность и голословность основных утверждений и выводов за
падных советологов. Во многих случаях фальсификаторский ха
рактер данных утверждений и выводов настолько бросается в
глаза, что достаточно привести лежащие на поверхности факты,
чтобы все идеологические построения реакционных политологов
рассыпались в прах.
Известно, что любые политические движения исторически
обусловлены и возникают и формируются на базе существующих
социальных условий. Что же касается исторических традиций, то
они, во-первых, не могут быть главным источником появления
политических организаций и, во-вторых, воспринимаются этими
организациями избирательно, через призму сформировавшихся на
современной основе идеологических принципов и тактических
установок. В предшествующих главах анализ показал, что за со
временным «левым» терроризмом на Западе стоит солидная евро
пейская и североамериканская традиция, которая как в форме
прямого обращения к ней, так и в виде идейно-психологических
установок и практических навыков составляет главное историче
3
В, В Витюк, С. А. Эфиров
65
ское наследие, воспринятое западными «левыми» террористами.
Этот основной вывод не отменяется тем фактом, что в некоторых
случаях они в демагогических и прагматических целях (кстати,
в значительно меньшей степени, чем это делают реакционные
политологи) обращают свои взоры и в направлении «левого» тер
роризма в России.
Не более основательны и попытки свести русское освободи
тельное движение только к террористической борьбе. Бесспорно,
что условия русской действительности: острота социальных про
тиворечий, расстановка классовых сил, монархический деспо
тизм и произвол полиции, состояние политического сознания
масс, а также исторически определенный характер мировоззрения
революционно настроенной интеллигенции и т. д., на определен
ных этапах обуславливали обращение противников режима к тер
рористической тактике, а иногда и делали такое обращение прак
тически неизбежным. Однако важнейшими ступенями в развитии
русского освободительного движения были и деятельность Герце
на, Чернышевского и их соратников, которые, как известно, ра
туя за народную революцию, отвергали террористическую
тактику.
Обращение к такой тактике со стороны Нечаева, народоволь
цев, эсеров вовсе не является, несмотря на естественное в усло
виях пореформенной царской России сходство некоторых лозун
гов и мотиваций, основанием для приравнивания друг к другу
этих трех разновидностей «левого» терроризма в России. Возник
шие в различных исторических условиях, они отличаются друг от
друга как по их реальной политической значимости, так и типо
логически. В этой связи характерно, что в то время как западные
советологи в соответствии с их политическими целями сосредо
точивают свое внимание на народовольчестве, которое пытаются
вывести из нечаевщины, современные «левые» террористы, прак
тически игнорируя тему народовольчества, адресуются (хотя и
это делают не все из них), как правило, к опыту С. Г. Нечае
ва, чьи установки и методы им наиболее близки.
Наконец, на типичном для буржуазной идеологии приеме
отождествления с терроризмом любых форм революционного на
силия, на замалчивании критики русскими революционными
марксистами террористической тактики, на одностороннем осве
щении их воззрений на народовольчество при помощи вырванных
из контекста отдельных высказываний и оценок, на игнорирова
нии конкретно-исторического подхода большевиков к этому этапу
в русском освободительном движении строятся и попытки припи
сать им солидарность с принципом террористической борьбы. Не
случайно, кстати, что в исторических экскурсах, развивающих эту
идею западных политологов, почти отсутствует тема эсеровского
66
терроризма, ибо последний, подвергшийся русским революцион
ным марксизмом самой резкой критике, в силу этого не вписы
вается в их надуманную и тенденциозную схему.
Острая идейная борьба вокруг проблематики «левого» терро
ризма в России, с одной стороны, важнейшая методологическая
значимость ее марксистского анализа для исследования и крити
ки современного «левого» терроризма на Западе —с другой, де
лают необходимым специальное освещение данной проблематики
в рамках настоящей работы.
В свете поставленных авторами задач сосредоточим внимание
прежде всего на сравнительной характеристике основных типов
«левого» терроризма в России, учитывая, что сами по себе они
получили широкое и многоплановое освещение в советской науч
ной литературе. Такая характеристика может быть дана на ос
новании четырех основных критериев: а) социально-политиче
ских целей, которые ставили перед собой лица и организации,
обращавшиеся к террористической тактике; б) средств и методов
политической борьбы, что в данном случае предполагает, во-пер
вых, представление о конкретном содержании, объектах и мас
штабах террористической деятельности, во-вторых, об ее функци
ях и месте в системе других методов борьбы, в-третьих, в соот
ношении между террористическими средствами и провозглашав
шейся целью; в) принципов построения организации и норм,
регулирующих отношения между ее членами; г) объективной
исторической и политической значимости той или иной разновид
ности «левого» терроризма в обстоятельствах своей эпохи. Одно
временно остановимся на характеристике революционными марк
систами различных форм левотеррористической деятельности в
России, делая специальный акцент на замалчиваемых буржуаз
ными политологами или извращаемых ими высказываниях и
оценках.
Разновидность «левого» терроризма, представленного на Западе
писаниями Гейнцена и Моста, а также установками и деятельно
стью крайнего крыла в анархизме конца XIX в., с их разделе
нием человечества на две элементарные группы, одна из которых
подлежит полному физическому истреблению, с их готовностью
пролить «море крови», с мистической верой во всеразрушающее
насилие как в социальную панацею, занимает в русской полити
ческой истории достаточно незначительное место. В этой связи
можно вспомнить об Н. Ишутине и его плане создать в недрах
«Организации» особо законспирированное общество «Ад», имею
щее целью терроризировать врага и контролировать поведение
товарищей, ради чего его члены должны были быть освобождены
от каких-либо нравственных ограничений. Этот нереализованный
прожект был скорее плодом игры воспаленного воображения, не
67
3*
жели реальным планом, а главным и для ишутинцев оставалась
пропагандистская и организаторская работа. Самым заметным
выражением данной формы «левого» терроризма в России была
кратковременная нечаевская авантюра. Можно упомянуть также
малочислейные и маловлиятельные группки анархистов-экстремистов типа «чернознаменцев, которые после спада революцион
ной волны 1905 г. объявили «лучшим показателем классовой борь
бы» «чистоту и степень насильственных действий пролетариата
против буржуазии», и выделившихся из них «безмотивников»,
призывавших убивать представителей непролетарских слоев об
щества «не только за ту или иную частичную конкретную вину
перед пролетариатом, а просто потому, что они буржуа» 5.
Само по себе обращение в разные времена к той форме тер
роризма, которую некоторые западные авторы называют «насили
ем в насилии» 6, говорит о том, что в условиях царской России
настроения в пользу крайнего терроризма возникали не случай
но, что существовали социальные обстоятельства и определенные
социальные слои (прежде всего люмпенизированные), для
представителей которых подобные настроения в данных обстоя
тельствах были характерны. С другой стороны, то, что эта форма
терроризма заявляла о себе крайне редко, не находила скольконибудь существенного числа сторонников, а действия выражались
в значительной мере угрожающими декларациями, которые край
не редко исполнялись, свидетельствует о ее периферийном ха
рактере по отношению к основному руслу развития русского ос
вободительного движения даже в периоды, когда это движение
использовало террористические методы.
С наибольшей полнотой и последовательностью идею тоталь
ного терроризма обосновывал С. Г. Нечаев, частично попытав
шийся и провести ее в жизнь. Нечаев был выходцем из семьи
выкупившихся крепостных, принадлежавших уже к мещанскому
сословию, сумел получить первичное образование, необходимое
для того, чтобы стать народным учителем и вольнослуша
телем петербургского университета. Вышедший из одной со
циальной среды н не вошедший по-настоящему в другую, Нечаев,
по словам хорошо его знавшей В. И. Засулич, был среди студен
ческой молодежи «чужим», казался «человеком другого мира, как
бы другой страны или столетия» 7. И все же когда в конце 60-х
годов началось брожение в студенческих кругах и возобновилась
тяга к восстановлению разгромленных реакцией молодежных ор
ганизаций, он обрел определенное влияние как человек, выступа
ющий с наиболее радикальными требованиями.
Как писала В. И. Засулич, «подкладкой его революционной
энергии» была «жгучая ненависть и не против правительства толь
ко..., а против всего общества, против всех образованных слоев,
68
всех этих баричей, богатых и бедных, консервативных, либераль
ных и радикальных. Даже к завлеченной им молодежи он если
не чувствовал ненависти, то не испытывал и ни малейшей сим
патии, ни тени жалости и много много презрения» 8. Убежден
ный в том, что сила революционного духа прямо пропорциональ
на силе н масштабу социальной ненависти, Нечаев провозглашал:
«Тот не революционер, кому чего-нибудь жаль в этом мире —
все и все должны быть ему ненавистны» 9. О себе и своих едино
мышленниках крайне (немногочисленных) Нечаев говорил как
о людях, «руководимых ненавистью ко всему ненародному, не
имеющих понятия о нравственных обязанностях и чести по от
ношению к тому миру, который мы ненавидим» 10. Под рубрику
«ненародного» подводились 'Нечаевым не только сановники, по
мещики, капиталисты, жандармы, чиновники и т. д., но и пред
ставители передовой интеллигенции, и даже деятели революцион
ного подполья, не разделявшие позиций Нечаева. В категорию
отрицаемых и заслуживающих уничтожения явлений и отноше
ний им включались не только система экономической, политиче
ской и социальной несправедливости, но и культура, наука, об
разование, нормы нравственного поведения,
естественные
человеческие чувства и привязанности. В этом принципе воинст
венного вандализма проявилось полное нежелание и неумение
Нечаева отличать подлинные социальные ценности от мнимых.
Таким «тотальным отрицанием» «смазывался» классовый адрес
революционной борьбы.
Им же фактически исчерпывались и ее цели. Нечаев употреб
лял слова о народной свободе, социализме, коммунизме, но их
содержание в его устах было и туманным, и изменчивым. Не
менее изменчивыми были его стратегические установки. В сот
рудничестве с Ткачевым Нечаев выступал как заговорщик-бланкист, провозглашая основной целью захват власти во имя из
менения государственного строя и обобществления средств про
изводства. Контактируя с Бакуниным, он подделывается под пра
воверного анархиста, утверждая, что «спасительной для народа
может быть только та революция, которая уничтожит в корне
всякую государственность» 11 и делает ставку на стихийный бунт
масс. Год спустя, порвав с Бакуниным, он уже призывает отбро
сить ради борьбы с царизмом «чрезмерный либерализм» требо
вании как продукт абстрактного теоретизирования и обращается
с призывом к единению «всех честных людей», включая «през
ренных» либералов. Позднее обращается с письмом к царю и
шефу жандармов Шувалову с советом «державной волей» даро
вать стране конституцию и Земский собор, чтобы спасти ее о г
ужасов революции, т. е. выступает как реформист-конституцио
налист.
69
Этим и объясняется тот факт, что в научной литературе по
вопросу о сущности идейно-политических позиций Нечаева одни
авторы квалифицируют его как бланкиста, другие —как анархи
ста. В апологетической книге А. Гамбарова «В спорах о Нечаеве»
утверждается, что Нечаев был убежденным коммунистом и про
возвестником классовой борьбы. Известный историк русского ре
волюционного движения Б. П. Козьмин ставил вопрос о двух
этапах развития политического мировоззрения Нечаева. Однако
вся публицистическая деятельность Нечаева осуществлялась в
пределах каких-нибудь двух лет, а разноречивые тенденции про
являлись в его писаниях отнюдь не в строгой последовательности,
а подчас и одновременно. Более соответствует истине высказан
ная Ш. М. Левиным и Б. С. Итенбергом мысль о политической
беспринципности и идейной неразборчивости Нечаева 12.
Реальное политическое содержание идей для Нечаева явно
было менее существенным, чем возможность использовать их в
качестве стимула для борьбы. Единственной непреложной исти
ной и безусловной целью была для Нечаева сама по себе разру
шительная деятельность. Революционер, утверждал он, «живет в
обществе, имея целью лишь беспощадное его разрушение»13.
«Мы прямо отказываемся от выработки будущих жизненных усло
вий, как несовместимой с нашей деятельностью... мы берем на
себя исключительно разрушение существующего общественного
строя» 14.
В соответствии с этой установкой и пафосом обуревавшей его
ненависти и исходил Нечаев из принципа вседозволенности в
ходе борьбы, которую он объявлял революционной. В своем «Ка
техизисе революционера», названном К. Марксом «образцом не
лепых и в то же время гнусных правил» 15, он делит общество,
рассматриваемое им вне какой-либо социально-экономической си
стемы, на шесть категорий, в соответствии с отношением к ним
« революционеров ».
В первую входят те из «столпов режима», которых следует
поочередно казнить исходя из степени их вредности и опасно
сти для «дела». (При аресте Нечаева 2 августа 1872 г. в Цюрихе
у него был изъят список со множеством фамилий русских санов
ников, намеченных им в качестве объектов покушений.)
Вторые, практически мало чем отличающиеся от первых,
должны были быть временно оставлены в живых с тем, «чтобы
они рядом зверских поступков довели народ до неотвратимого
бунта» 16. Характерно, что к их числу относился и царь, хотя
Нечаев и объявлял, что его организация продолжает «святое
дело» Каракозова.
В третью категорию Нечаевым отнесены «высокопоставлен
ные скоты», не обладающие умом, но пользующиеся определенныv»
70
влиянием, которых следует шантажировать, овладев их тайнами.
С четвертыми — «государственными честолюбцами и либерала
ми» —надо конспирировать, делая вид, что идешь за их про
граммами, одновременцо их руками «смущать государство», ком
прометируя их самих. Что касается пятых — «доктринеров-конспираторов», «кружковых болтунов», то их требуется подталкивать
с тем, чтобы большинство из них погибло, а из меньшинства вы
работались подлинные революционеры. Наконец, шестую, особую
и важную категорию, по Нечаеву, составляют женщины, деля
щиеся им на три типа: пустышек, с коими следует поступать как
с «высокопоставленными скотами», женщин способных, но не до
росших до уровня сознательных революционерок, с которыми
следует поступать как с представителями пятой категории, и «то
варищей», составляющих «драгоценнейшее сокровище партии» 17.
Симптоматично то, что, санкционируя принцип вседозволен
ности высокой целью борьбы против угнетательского деспотиче
ского режима, Нечаев фактически с ним-то и не вел сколько-ни
будь реальной борьбы, ограничиваясь громогласными угрозами в
опубликованных за рубежом статьях и рассылкой по адресам са
новников (а также либеральных общественных деятелей) крик
ливых прокламаций. На практике же его не знающая нравст
венных ограничений активность направлялась в первую очередь
против оппозиционного движения. Из «либералов» и «кабинетных
революционеров» (а к таковым он относил всех, кто не был со
лидарен с его экстремистскими установками) следовало, по его
убеждению, «высосать все соки, да их же и бросить в лоханку,
в III отделение» 18. Считая, что чем больше людей будет аресто
вано, тем больше общество возбудится против правительства, он
спровоцировал группу студентов подписать лист с их требовани
ями. Этот лист с 97 фамилиями, бывший в руках Нечаева, таинст
венным образом оказался в полиции. Во время первой эмигра
ции Нечаев демонстративно рассылал из-за границы по адресам
людей, многие из которых находились под наблюдением, прокла
мации и письма конспиративного содержания, в результате чего
было арестовано около 100 человек. «Нечаев... —писал Ф. Эн
гельс,—либо русский агент-провокатор, либо, во всяком случае,
действовал как таковой» 19.
Собственную подпольную организацию Нечаев создавал при
помощи обмана и шантажа, козыряя полученным им от предва
рительно введенного в заблуждение Бакунина (в свою очередь
охотно принявшего участие в мистификации ради «благой цели»)
мандатом Комитета «Народной расправы», русского филиала Ев
ропейского революционного Альянса, за № 2771, употребляя, по
словам К. Маркса, «ребяческие и инквизиторские приемы» 20. Он
требовал от членов организации слепого п безоговорочного подчи
71
нения, насаждал атмосферу подозрительности и систему взаимной
слежки. Характерно, что рядовые члены не знали содержания
«Катехизиса». Нечаев показал только членам головного кружка
книжечку с зашифрованным текстом. Когда же один из видных
участников организации, Иванов, заподозрил обман и взбунтовал
ся против методов Нечаева, последний решил пресечь бунт. Не
чаев убил «бунтаря», вынудив принять участие в этой акции
остальных членов головного кружка. Убийство товарища явилось
фактически единственным реальным действием нечаевской орга
низации.
Употребляя высокие слова о служении революции как выс
шем нравственном долге, Нечаев на деле возвел принцип «цель
оправдывает средства» в свое политическое кредо и трактовал его
как приверженность к использованию самых крайних, преступ
ных методов и приемов.
Тотальный терроризм, этот всеразрушающий идеал Нечаева
был равнозначен готовности использовать любые средства: от
массовых политических убийств до убийства несогласных с ним
членов организации, от обмана товарищей в соответствии с вы
двинутым им принципом «представлять сущность дела в преврат
ном виде» ради «возбуждения энергии» 21 до кражи их писем и
одежды с тем, чтобы иметь в руках компрометирующие улики,
используя это как орудие шантажа, от грабежей на дорогах до
выпуска фальшивых ассигнаций, от стремления посредством ин
тимных отношений подчинять себе нужных для «дела» женщин
до фиктивного ареста его одетыми в полицейскую форму под
ручными и «освобождения» за крупный выкуп оппозиционно на
строенных людей, которым предварительно подсовывались кра
мольные материалы.
Какой же цели призваны были служить все эти деяния? По
заявлениям Нечаева,—делу освобождения и благосостояния на
рода. Однако в систему тактических принципов Нечаева в каче
стве первоначального требования входило «развитие тех бед и
зол, которые должны вывести народ из равновесия и побудить его
к поголовному восстанию» 22. Постоянно рекламируя свою любовь
к народу, Нечаев одновременно внушал своим соратникам, что
«любить народ —значит вести его под картечь»23. Таковы, сог
ласно нечаевским планам, ближайшие перспективы народа. Что
же ожидало его в будущем?
С одной стороны, в соответствии со своим принципиальным
предпочтением разрушительного действия всяким «измышлениям
форм будущего общинного быта» Нечаев категорически утверж
дал, что после революции мужики сами «сумеют устроиться го
раздо осмысленней и лучше, чем то, что может выйти по всем
теориям и проектам, писанным доктринерами-социалистами, на
72
вязывающимися народу в учителя, а главное, в распорядите
ли»24. С другой,—вынужденный изложить свои взгляды на бу
дущее, он выступил в качестве именно такого распорядителя с
диктаторскими замашками. В статье «Главные основы будущего
строя» Нечаев декларировал: «Выход из существующего общест
венного порядка и обновления жизни новыми началами может со
вершиться только путем сосредоточения всех средств в руках
нашего комитета и объявления обязательной для всех физиче
ской работы» 25.
После переворота каждому надлежало добровольно (!) примк
нуть к одной из производственных артелей под угрозой лишения
всех средств к существованию в соответствии с провозглашен
ным Нечаевым принципом: «Или к труду, или смерть!». Исклю
чение допускалось только для отдельных, особо ценных в области
управления или изобретательства лиц, непосредственно утверж
даемых комитетом. И не только труд, но и многие другие сторо
ны жизни граждан «нового общества» с его общественными сто
ловыми, спальнями, воспитательными заведениями должны быть
подвергнуты строгой регламентации, осуществляющейся и конт
ролируемой стоящим над массами «комитетом». Этот нечаевский
прожект Маркс и Энгельс охарактеризовали как образчик «ка
зарменного коммунизма» 26.
Таким образом, ратуя за свободу народа, Нечаев по существу
готовил ему новый вариант рабства; рассыпаясь в похвалах nd
адресу его стихийной мудрости и революционности, фактически
смотрел на него как на пассивную массу, призванную быть объ
ектом манипуляции. Не случайно «единственным истинным ре
волюционером России» он считал «лихой разбойничий мир» 27.
Постоянные ссылки на революционность народа не были,
однако, только данью духу времени. Они были необходимы Не
чаеву для обоснования его претензий на роль едва ли не един
ственного революционера в студенческой среде, обладавшего в
качестве «сына народа» «естественным правом» на пост политиче
ского лидера. Вульгаризаторски объявляя социальное происхож
дение решающим условием личной революционности, а стремле
ние избавиться от страданий и бедствий—главным ее источни
ком, Нечаев называл революционеров из образованной среды
«белоручками». Подлинными революционерами, по Нечаеву, мог
ли быть только выходцы из низов, а поскольку таковых в оппо
зиционном движении были считанные единицы, то для него, по
словам М. Бакунина, представлял интерес лишь какой-нибудь
«десяток людей», «все остальное должно служить слепым ору
дием и как бы материей для пользования» 28. В конечном счете
единственным образцом «революционности» становился сам:
Нечаев.
73
Беспринципность Нечаева прекрасно уживалась с его предан
ностью «делу» именно потому, что этим «делом» было не реаль
ное движение к подлинно социалистической цели, но самоутверж
дение и создание собственной организации. Нечаев спекулировал
на потребности разрозненных антиправительственных сил в объе
динении, на неумении или нежелании других вести кропотливую
организационную работу. Не обладая ни политическим кругозо
ром, ни сколько-нибудь высоким интеллектуальным уровнем,
которые у него заменялись волей, энергией, трудолюбием, он был
не политиком, но политиканом.
Стержнем всего мироощущения Нечаева, основой его социаль
ного самоопределения и главным психологическим стимулом его
политической деятельности было убеждение в собственном мес
сианском призвании. Его непреклонная воля была настоена на
самовлюбленности, отсутствии нравственных устоев и узости мыс
ли. Претендентам на роль мессий, какими бы возвышенными ни
были декларируемые ими цели, всегда свойственно представление
о себе как о сверхлюдях, скрытое или явное презрение к другим.
В мессианской ориентации и лежит ключ к пониманию природы
и мотивов нечаевской «революционности». Именно на этой почве
обретают органическую взаимосвязь все его разноречивые воззре
ния и черты личности. На этой основе объединяются деспотизм и
проповедь свободы, глубокий индивидуализм и жажда коллектив
ных действий, холодная жестокость сверхчеловека и мнимая
забота о судьбах народных, кажущееся самоотречение и непре
рывное самоутверждение, жертвенность и преступный аморализм,
упорство, подчас поднимающееся до героизма, и мелочная сует
ность.
Каковы же были политические итоги нечаевской эпопеи?
Европейская и русская реакция использовали нечаевское дело для
клеветы на революционное движение, распространения представ
ления о революционерах как о людях без чести и совести, апо
логетах политического убийства. К. Маркс и Ф. Энгельс, охарак
теризовав нечаевщину как «доведенную до крайности буржуаз
ную безнравственность»29, подчеркнули ее антиреволюционную
сущность. Реальный смысл деятельности «проходимца» и «про
хвоста» Нечаева они видели в использовании престижа Интерна
ционала и пыла революционно настроенной молодежи для вовле
чения ее в уголовные преступления, «которые дали полиции повод
разгромить все это движение учащихся, столь опасное для офи
циальной России» 30. Вполне справедлив принципиальный вывод
авторов книги «Чернышевский или Нечаев?» А. И. Володина,
Ю. Ф. Карякина, Е. Г. Плимака: «,,Нечаевщина“ не могла служить
революции, она могла только погубить ее, ибо за мнимореволю
ционной фразой Нечаева скрывалась контрреволюционная cvnv
74
ность его принципов и дел. То, что сеял Нечаев, пожинала реак
ция» 3i.
Царское правительство попыталось набросить тень нечаевщины на все оппозиционное движение. Однако организованный боль
шой процесс над людьми, привлеченными в связи с нечаевским
делом, показал, что подавляющее большинство из подсудимых не
разделяли нечаевских установок и категорически осуждали их.
Позднее русская реакция стремилась опорочить народоволь
цев, обвиняя их в нечаевщине на том основании, что они обра
тились к террористической тактике. Подобная идея систематиче
ски развивается многими западными политологами. Следует осве
тить этот вопрос подробнее.
Прежде всего, что думали по этому поводу сами народоволь
цы? «Нечаевская теория —цель оправдывает средства —отталки
вала нас, а убийство Иванова внушало ужас и отвращение» 32
(В. Фигнер). «Подведение под одну категорию с „нечаевщиной“
(при обсуждении того или иного плана действий.—Авт.) являлось
одним из веских аргументов против»33 (В. Дебогорий-Мокриевич —один из лидеров «южных бунтарей»). Высказываний та
кого рода множество, однако одно особенно интересно и принад
лежит Льву Тихомирову. Отказавшись от своего революционного
прошлого, Тихомиров выступал с решительным и абсолютным
осуждением тактики террористической борьбы. Однако даже он
в тайной записке, составленной по поручению властей, на вопрос,
какое влияние оказал Нечаев на народовольцев, ответил — «ни
какого». Народовольчество, по его признанию,—«движение —
диаметрально противоположное Нечаеву» 34.
Что же из себя представлял тот тип «левого» терроризма, ко
торый принято называть народовольческим, поскольку наиболее
полно и последовательно он проявился именно в деятельности
революционной организации «Народная воля» (хотя его станов
ление происходило в недрах предшествующей «Народной воле»
организации «Земля и воля», а также и ряда других революцион
ных кружков)?
Прежде всего, если кустарная нечаевская авантюра осуществ
лялась в период реакции, то деятельность народовольцев и их
непосредственных предшественников представляла собой под
линно революционное движение, развертывающееся в условиях
формирующейся и углубляющейся революционной ситуации.
Ситуация эта была специфичной. С одной стороны, господствую
щие верхи в сложившихся социальных обстоятельствах уже не
могли управлять по-старому. Не хотело жить по-старому и боль
шинство представителей так называемого «общества» (в тот пе
риод имелись в виду образованные слои). С другой,—несмотря
на очевидные признаки брожения, в целом народ не был готов
75
к решительном} и действенному протесту, и, следовательно, усло
вия для реального осуществления народной революции еще не
созрели*.
Террористы-народовольцы, как отмечала В. И. Засулич, «жи
ли в ту революционную эпоху, когда выработавшийся в револю
ционера студент постепенно убедился в невозможности выйти за
пределы все того же студенчества и соединиться с народом» 35.
Ведшие пропагандистскую деятельность в народе революционе
ры середины 70-х годов руководствовались бакунинской идеей
экономической борьбы, на основе которой долженствовало вспых
нуть народному бунту, иллюзорно полагая, что поскольку речь
идет о борьбе между трудящимися и эксплуататорами за их ма
териальные интересы, правительство может остаться в стороне от
нее, а вопрос о государственном строе России на этом этапе яв
ляется несущественным для текущих задач революционного дви
жения. Исходя из этого принципа, политическая борьба игнори
ровалась.
Жизнь развеяла эти иллюзии. Невосприимчивость основной
массы крестьян к народническим социальным идеям и лозунгам
борьбы, неэффективность длительных поселений в народе, ведших
к отрыву от революционной деятельности, массовые аресты про
пагандистов привели к осознанию необходимости завоевания ус
ловий для мирной просветительской и пропагандистской работы,
т. е. замены абсолютистского режима на демократическую респуб
лику или конституционную монархию. Таким образом, задачи
политической борьбы стали выдвигаться на первый план.
Одновременно в силу все ужесточавшихся репрессий со сто
роны царских властей сложилась обстановка, которая фактически
поставила революционных народников перед альтернативой: по
литическое бездействие или вооруженная борьба. В условиях обо
собленности от масс эта борьба закономерно приобрела характер
террористической борьбы^ Мысль о правомерности и необходимо
сти обращения к этой форме вызревала постепенно. Сначала речь
шла о самозащите организации, о возмездии и предупреждении
высокопоставленным карателям. Затем террористическая борьба
стала рассматриваться как единственно возможный способ добить
ся существенного изменения политического режима и на первый
план выдвинулась задача покушения на царя.
Идея удара по «центру центров» основывалась на идеалистиче
ском и утопическом взгляде на историю. Но нельзя забывать,
что в стране, много веков прожившей под властью самого деспо
* Подробный анализ специфики революционной ситуации в России конца
1870-х годов дан в статье Е Г. Плимака и В. Г. Хороса „Народная воля“ :
История и современность» / / Вопр. философии. 1981. N° 5
76
тичного и необузданного самодержавия с традиционной военно
бюрократической системой управления, возникновение подобных
идей было закономерным. В то же время для русского освобо
дительного движения обращение к террористической тактике в
одном принципиальном отношении было связано с серьезным ша
гом вперед. Как писал бывший решительным противником этой
тактики Г. В. Плеханов, она «имела одно неоспоримое преимуще
ство перед всеми старыми программами: фактически она во вся
ком случае была борьбой за политическую свободу, о которой и
слышать не хотели революционеры старого закала»36. В этом
была историческая заслуга народовольцев, хотя их понимание
политической борьбы было сужено до отождествления ее с поли
тическим заговором.
Переход к новой тактике оказался непростым делом для самих
революционных народников. Многие будущие террористы —наро
довольцы (среди них, например, С. Перовская и С. Халтурин)
долгое время выступали против нее. Как свидетельствовал
Ю. Богданович, «партия не только не желала перейти на путь
насилия, но всеми силами старалась проводить свои идеи путем
нравственной и культурной деятельности и не совершила ни од
ного насилия, пока направленные против нас меры грозили толь
ко жизни ее членов, но когда они стали угрожать и самой воз
можности проявления в обществе тех стремлений, которые служат
единственным залогом его развития, тогда только партия сочла
своим нравственным правом употребить все средства борьбы» 37.
Такпм образом, обращение народовольцев к террористической
тактике было не следствием всепоглощающей ненависти, жажды
разрушения, предвзятой настроенности на политическое убийст
во, как это имело место у Нечаева, но шагом, осуществленным в
процессе реальной политической борьбы и обусловленным давле
нием внешних обстоятельств.
Даже в процессе подготовки покушения на царя народоволь
цы продолжали считать пропагандистскую деятельность самым
важным делом, отложенным временно и вынужденно, а террору
придавали второстепенное, вспомогательное значение. Неоднократ
но засвидетельствовано, что именно так смотрели на террор
самые видные из народовольцев: А. Михайлов, В. Фигнер,
С. Ширяев, А. Квятковский, Н. Кибальчич и большинство других.
А. Желябов, давший согласие только на единичный акт цареубий
ства, на процессе категорически заявил: «Для нас в настоящее
время отдельные террористические факты занимают только одно
из мест в ряду других задач, намечаемых ходом русской жизни...
Мирный путь возможен; от террористической деятельности я,
например, отказался бы, если бы изменились внешни^ усло
вия» 38.
77
Индивидуальный террор, осуществлявшийся народовольцами
с невиданным упорством, героизмом и самопожертвованием в ус
ловиях абсолютистского произвола был с самого начала ограни
чен задачей покушения на царя и нескольких обладавших неогра
ниченной репрессивной властью и злоупотреблявших ею губерна
торов, ряд руководителей жандармерии и деятелей военной про
куратуры, во власть которой, по указу царя и вопреки положе
ниям закона, были отданы революционеры.
Любопытно, что уже в проекте устава организации «Земля и
воля» содержался § 9, гласивший: «Цель оправдывает средст
ва»,— и сопровождаемый дополнением: «...если это не вредит
чести и достоинству организации» 39. Дополнение существенное,
поскольку речь шла не о вседозволенности, а об утверждении
права на обращение к террористическим действиям, ограничен
ным политическими и моральными критериями.
Только один из членов исполнительного комитета Н. Морозов
абсолютизировал террористическую тактику. В нелегальном
«Листке Земли и Воли» он выдвинул тезис: «Политическое убий
ство — это осуществление революции в настоящем» 40. Но именно
по этому вопросу Морозов и разошелся с землевольцами, в том
числе и с теми, кто позднее составил ядро Исполнительного ко
митета «Народной воли», наложившего вето на опубликование его
идей в органе партии. Выехав за границу, Н. Морозов издал там
брошюру «Террористическая борьба», в которой объявлял «терро
ристическую революцию» «новой формой революционной борь
бы» 41. К нему примкнул малоизвестный южанин Г. Романенко
(в будущем видный черносотенец), издавший за границей же
брошюру «Терроризм и рутина», в которой перепевы морозовских
идей сочетались с пренебрежительным тоном по отношению к
«русскому простолюдину». Апология авторами политического
убийства была использована царскими властями для того, чтобы
отождествить позиции организации «Народная воля» с идеей тер
рористической революции. Однако вожди народовольчества в
своих выступлениях на процессах решительно отмежевывались
от морозовских установок.
Не противоречит ли вышеизложенной характеристике взглядов
народовольцев на террористическую тактику и ее место в общей
системе революционной борьбы тот факт, что на практике дея
тельность Исполнительного комитета все в большей мере сосре
доточивалась на осуществлении покушения на царя? Факт этот
нельзя игнорировать. Но свидетельствует он вовсе не о том, что
слова народовольцев об их отношении к террористической борьбе
не соответствовали их реальным взглядам на нее, как это пы
таются представить некоторые реакционные политологи, но о том,
что, говоря словами Г. В. Плеханова, «терроризм, как и всякий
78
другой род борьбы, имеет свою логику» 42. Это понимали и сами
народовольцы. Широко известна фраза А. Желябова: «Мы затерроризировались». По воспоминаниям М. Оловенниковой, Желябов
«сознавал пагубную сторону террора, затягивающего людей поми
мо их воли»43, считая, что главной задачей времени является
организация революционных сил в стране.
О том, какова была подлинная позиция народовольцев по от
ношению к террору, в каких условиях они оправдывали его при
менение и какими социальными рамками ограничивали, отчетливо
свидетельствует и реакция на убийство президента США Гарфильда. Вероятно, именно опасение, что их цели и тактика будут
ошибочно истолкованы, а ее авторитетом могут прикрываться
действия, находящиеся в противоречии с этими целями, и вызва
ло специальное заявление Исполнительного комитета. В нем го
ворилось: «Выражая американскому народу глубокое соболезно
вание по случаю смерти президента Джемса Авраама Гарфильда,
Исполнительный комитет считает своим долгом заявить от имени
русских революционеров свой протест против насильственных
действий, подобных покушению Гито». Народовольцы подчерки
вают, что в странах с демократическим политическим устройст
вом «политическое убийство есть проявление того же духа деспо
тизма, уничтожение которого в России мы ставим своей задачей...
насилие имеет оправдание только тогда, когда оно направлено
против насилия» 44.
Характерно, что в письме Исполнительного комитета царю
Александру III народовольцы, выдвигая альтернативу: неизбеж
ная революция или «добровольное обращение верховной власти к
народу», советуют царю избрать второй путь. В этом случае,
пишут они, «мирная идейная борьба сменит насилие, которое
противно нам более, чем вашим слугам, и которое практикуется
нами только из печальной необходимости» 45. В качестве условия
прекращения террора они выдвинули лишь требование всеобщей
политической амнистии и созыва представителей всего русского
народа для выработки и установления таких форм государствен
ной и общественной жизни, которые отвечали бы желаниям на
рода. К. Маркс высоко оценил это письмо, отметив: «Петербург
ский Исполнительный комитет, который действует так энергично,
выпускает манифесты, написанные в исключительно «сдержанном
тоне». Они очень далеки от мальчишеской манеры Моста и дру
гих ребячливых крикунов, проповедующих цареубийство, как
„теорию44 и „панацею44» 4в.
Стоит вкратце охарактеризовать и отношение К. Маркса и
Ф. Энгельса к народовольчеству, тем более, что это отношение
нередко подвергается искажениям со стороны западных историков
и политологов. Из того факта, что Маркс и Энгельс высоко оце
79
нивали значимость борьбы народовольцев и оказывали ей свою
поддержку, некоторые буржуазные авторы делают вывод о том,
что они в данном случае отступали от своих принципиальных
взглядов на взаимоотношения массовой революционной борьбы и
заговорщического терроризма.
Маркс и Энгельс действительно были солидарны с борьбой
«Народной воли», с пониманием и сочувствием относясь как к ее
целям, так и характеру. Они считали, что и то и другое предо
пределено условиями монархической России, «где положение так
напряженно, в такой степени накопились революционные элемен
ты, где экономическое положение огромной массы народа стано
вится изо дня в день все более нестерпимым, где представлены все
ступени социального развития, начиная от первобытной общины
и кончая современной крупной промышленностью и финансовой
верхушкой, и где все эти противоречия насильственно сдержи
ваются деспотизмом, не имеющим себе равного, деспотизмом,
все более и более невыносимым для молодежи, воплощающей в
себе разум и достоинство нации...» 47*.
К. Маркс и Ф.* Энгельс рассматривали предстоящую револю
цию в России как буржуазно-демократическую. «В общем мы
имеем налицо все элементы русского 1789 года, за которым неиз
бежно последует 1793 год»49. Они исходили из еще реальной
в тот период исторической возможности для русской революции,
уничтожающей последний резерв европейской реакции, послужить
сигналом пролетарской революции на Западе с тем, чтобы обе
дополняли друг друга.
Именно соотнося народовольческую тактику с задачами разви
тия массовой революционной борьбы, Маркс и Энгельс решитель
но противопоставили ее «глупостям Хёделя и Нобилинга», под
черкивая, что только «революционные фразеры» могут ставить их
«на одну доску с убийством Александра II» 50.
Во многом по-разному смотрели члены народовольческой орга
низации на важнейшие цели революционной борьбы. Одни видели
главную первоочередную задачу в захвате власти с тем, чтобы
потом передать ее народу. Другие хотели посредством тактики
индивидуального террора вырвать из рук царя демократическую
конституцию. И те и другие рассчитывали использовать завоеван
* Отметим, что к борьбе народовольцев на Западе с сочувствием относи
лись не только революционные, но и либерально-демократические круги,
воспротивившиеся попытке французского правительства выдать царизму
народовольца JI. Гартмана — участника московского подкопа. И не толь
ко они. Согласно воспоминаниям В. Фигнер, «самые умеренные и ретро
градные органы заявили одобрение требованиям русских нигилистов, на
ходя их разумными и справедливыми и значительной частью своей во
шедшими давным-давно в повседневный обиход западноевропейской
жизни» 48.
80
ные права для осуществления идеалов социализм. Идеалы эти,
связанные с идеализацией крестьянской общины, переоценкой
социалистических устремлений крестьянства, были утопическими.
«Народовольцы,—писал В. И. Ленин,—сделали шаг вперед,
перейдя к политической борьбе, но связать ее с социализмом им
не удалось»51. «На деле,—подчеркивал он,—они проводили бы
интересы буржуазной демократии» 52_53. Однако установление
буржуазной демократии и стояло в русской истории на повестке
дня. Этим определялись и значимость их деятельности, и отноше
ние к ней со стороны образованного общества, и нравственный
облик самих революциоперов-террористов.
При всей противоречивости и утопичности идеологических
позиций народовольцев, при всей бесперспективности принятой
ими террористической тактики, их борьба носила исторически
прогрессивный характер и приносила определенные непосредст
венные результаты. «Благодаря этой борьбе и только благодаря
ей,—писал В. И. Ленин,—положение дел еще раз изменилось,
правительство еще раз вынуждено было пойти на уступки»54.
С достаточным пониманием относились к борьбе народоволь
цев и их непосредственных предшественников широкие слои об
разованного общества. Причем понимание это относилось как к
целям, преследовавшимся революционерами, так и в значитель
ной мере к используемым ими средствам. Об этом свидетельствует,
в частности, восторженная реакция на раздавшийся еще до воз
никновения партии «Народная воля» выстрел Веры Засулич и на
ее оправдание судом далеко не революционных присяжных.
Выстрел, который послужил одним из важнейших толчков для
перехода к террористической тактике, был воспринят в конкрет
ных условиях царской России как акт гуманистического значе
ния, как героическое выступление против произвола в защиту
человеческого достоинства. С сочувствием воспринималась и
пробуждавшая надежды борьба народовольцев с монархом и его
репрессивным аппаратом, подрывавшая миф об их всесилии.
Народовольцев отличали высокая личная идейность, искренняя
и глубокая любовь к народу кристальная честность и чуткая со
весть. Добавим к этому, что народовольцы, отчаянно нуждаясь в
средствах, категорически отвергали метод, получивший позднее
наименование «революционных экспроприаций», в отличие от
большинства позднейших террористических организаций не ис
пользовали уголовный элемент.
При всей значимости накопленного за истекший век политиче
ского и нравственного опыта, позволяющего и требующего под
новым углом зрения взглянуть на народовольческий терроризм,
невозможно согласиться с имеющими хождение на Западе и по
лучающими порой отзвук и в нашей литературе попытками вне81
исторического подхода к деятельности «Народной воли», очеред
ной переоценки результатов этой деятельности. В частности,
правы Е. Г. Плимак и В. Г. Хорос, когда выступают против
получившей хождение иллюзорной мысли о том, что взрыв на
Екатерининском канале лишил Россию конституции, якобы под
готавливавшейся убитым царем
Нельзя сбрасывать со счетов десятилетие реакции, начиная
с 1 марта 1881 г., но невозможно игнорировать ту роль, которую
сыграла героическая борьба народовольцев в развитии русского
революционного движения. Резкий критик народовольчества
Г. В. Плеханов все же воздавал ему и должное. «Партия „Народ
ной Волии,—писал он,—оказала огромные услуги России...
Благодаря ей борьба с правительством стала вестись с неслыхан
ной до тех пор энергией» 55. В. И. Ленин писал, что народоволь
цы «сумели сыграть громадную роль в русской истории, несмотря
на узость тех общественных слоев, которые поддерживали немно
гих героев, несмотря на то, что знаменем движения служила вов
се не революционная теория»56. Отмечая, что народовольцы
«не достигли и не могли достигнуть» «своей непосредственной
цели, пробуждения народной революции», В. И. Ленин одновре
менно подчеркивал, что их борьба и понесенные ими жертвы
«способствовали —прямо или косвенно —последующему револю
ционному воспитанию русского народа» 57.
Словом, традицией революционного марксизма является исторически-конкретный и многосторонний, критический и уважитель
ный подход к деятельности «Народной воли». Этот подход был
полностью свободен от идеализации народовольчества, которая
одно время вошла в моду п окрашивала многие посвященные
этой теме научные и особенно художественные произведения.
Но ему также было чуждо то упрощенно-негативистское отноше
ние к деятельности этой организации, которое, начиная с середи
ны 30-х годов, в течение двух десятков лет в значительной мере
предопределяло ее оценку. Между тем подобное отношение иног
да и сегодня снова дает о себе знать, когда на «Народную волю»
переносятся без учета различий эпох и типов «левого террориз
ма» эмоции и оценки, рождаемые практикой современного «лево
го терроризма» на Западе.
Интенсивный анализ народовольчества русскими революцион
ными марксистами на рубеже X IX —XX веков имел не только
чисто ретроспективный характер. Он осуществлялся в условиях
углублявшейся революционной ситуации, которая привела к ре
волюции 1905—1907 годов, в период, когда русский пролетариат
вышел на историческую арену как самостоятельно борющийся
класс,
когда создавалась российская социал-демократическая
партия На .^гот период приходится последний взлет активности
82
либерального народничества и оформление русского либерализма
в политическое течение. В это же время складывается мелкобур
жуазная партия социалистов-революционеров. В острой идеоло
гической полемике с этими, оппозиционными как по отношению
к царизму, так и по отношению к марксизму и социал-демокра
тии течениями, в свете перспектив развития русского револю
ционного движения и рассматривались В. И. Лениным и его
соратниками исторические традиции этого движения. С особой
остротой проблема народовольческого терроризма и террористиче
ской тактики вообще встала в связи с появлением партии эсеров,
обратившейся к этой тактике.
Выступив на исторической арене, эсеры стремились предстать
в облике непосредственных продолжателей и наследников дела
«Народной воли». Выпущенный ими в Париже в 1907 г. сборник
«Да здравствует „Народная воляи!» был составлен из основных
народовольческих документов. В своих декларациях и манифестах
они не забывали ссылаться на высказывания народовольцев,
пользоваться их лозунгами, а частично и аргументацией. Свое
образную роль связующего звена между прошлым и настоящим
играли вышедшие на свободу и вступившие в партию эсеров
ветераны революционного народничества. Среди них были такие
заметные фигуры, как Натансон и Фигнер. Преклонение перед
памятью легендарных героев-народовольцев питало решимость и
энтузиазм многих юных адептов партии эсеров.
В прошлом, пожалуй, не было левоэкстремистской организа
ции, которая бы проводила свои акции с такими последователь
ностью и размахом, с какими это делала Боевая организация
партии эсеров. Ею были совершены убийства великого князя
Сергея Александровича, министров Сипягина и Плеве, ряда гу
бернаторов, высокопоставленных сановников, крупных военных,
полицейских и судебных чинов. В разгар своей активности (1905—
1907 гг.) она совершила более двухсот политических покушений
(1905 г.—54, 1906 г.—82, 1907 г.—71). Кроме политических по
кушений, эсеры широко развернули так называемые «революцион
ные экспроприации», систематически и в большом количестве
добывая деньги посредством грабежей. По данным, приводимым
жандармским полковником А. И. Спиридовичем, их доход в
1906 г. равнялся 225 тыс. рублей, из которых большая часть
была добыта посредством «эксов».
Масштабы внушительные. Но не только своим размахом важен
сегодня для исследователей эсеровский терроризм, но и специ
фичностью, историческим местом, которое он занимает в эволю
ционной цепочке «левого» терроризма. В нем внешне есть немало
сходных черт с терроризмом народовольческим. А искренность
представления о самих себе как о продолжателях дела «Народной
83
воли» многих рядовых (и не только рядовых) активистов очевид
на. И однако это никак не отменяет существеннейших различий
между природой и политическим значением народовольческого и
эсеровского терроризма. Эти различия коренятся, во-первых,
в принципиальной разнице эпох, в которые каждая из партий
обратилась к тактике индивидуального террора, а, во-вторых —
в характере обоснования и трактовки самой тактики.
Эсеры вышли на политическую арену в момент, когда, по сло
вам Г. В. Плеханова, «идея политической свободы, увлекавшая
некогда одну интеллигенцию, проникла в некоторые слои рабоче
го класса» 58 и начала распространяться в нем все шире и шире.
Не увидев коренного изменения в социальной обстановке и со
отношении классовых сил, они продолжали развивать теорию и
практику активного действия инициативного меньшинства. Из
такой установки неминуемо следовало обращение к терроризму,
хотя в то время уже возникла возможность создания массового
и организованного рабочего движения.
Обосновывая свою тактику, члены эсеровской партии исходи
ли из весьма наивных представлений о том, что власти бессиль
ны против многочисленных и маленьких законспирированных
кружков террористов, в то время когда против реальной толпы
можно использовать солдат, а против революционных организа
ций бросить аппарат тайной и явной полиции. «Никакая сила не
поможет против неуловимости»59,—такая установка пронизы
вает весь дух подобной патетики, а между тем, несмотря на поч
ти мистическую веру эсеров в «неуловимость», именно в недрах
их Боевой организации развернулась грандиозная провокация
Азефа.
На словах признавая перспективу революционного восстания
в России, эсеры полагали, что политические изменения зависят
от смены министров и их настроения, а эта смена «ускоряется
бомбами» 60. Эсеры полагали, будто террористические акты ослаб
ляют правительство и «перебрасывают силу» на сторону народа,
возбуждая в нем «дух борьбы и отваги», тем самым революцио
низируя его. Стоит отметить, что трактовка эсерами роли инди
видуального террора как «революционизирующего» массы отчет
ливо характеризует отношение эсеров к массам. Террор, согласно
их установкам, заставляет их «политически мыслить, хотя бы
против их воли» (!) 61.
Анализируя протеррористическую аргументацию эсеров,
В. И. Ленин указывал, что идея «перебрасывания силы» есть «ве
личайший предрассудок терроризма» 62, ибо террор дезорганизует
«не правительственные, а революционные силы» 63. Дезорганизует
в двух основных направлениях: во-первых, потому, что отвлекает
и толкает на гибель самых энергичных революционеров, во-вто
84
рых, потому, что разрывает связь революционной работы с мас
сой рабочего класса. Что же касается пробуждения в массе
«духа борьбы и отваги», то В. И. Ленин отмечал, что террори
стические поединки «вызывают лишь скоропреходящую сенса
цию, косвенным образом способствуя „пассивному44 ожиданию
следующего поединка» 64.
Обращение эсеров к терроризму было следствием откровенно
го неверия в революционные возможности масс. Левотеррористи
ческие организации обычно возникают в условиях, когда кризис
ные явления в обществе достаточно ощутимы, но революционная
ситуация еще не созрела или сходит на нет. Эсеры явили ред
кий пример крупной террористической организации, вся деятель
ность которой развертывалась в условиях острой революционной
ситуации, а пик этой деятельности пришелся непосредственно на
период революции. Именно в этот момент, как отмечал В. И. Ле
нин, выяснилось, что когда дело дошло до вооруженных массо
вых выступлений, «тогда-то как раз „террористы44 и отсутствова
ли» 65.
А между тем задача, которую, судя по их постоянным заве
рениям, ставили перед собой эсеровские лидеры, состояла в том,
чтобы связать терроризм с массовой борьбой. Это стремление
было новой и специфической чертой эсеровской трактовки так
тики индивидуального террора. Эсеровские идеологи громогласно
вещали, что зовут к терроризму не вместо работы с массами, а
во имя этой работы, вместе и одновременно с ней. Высмеивая
эту попытку и говоря, что заменить словечко «вместо» словеч
ком «вместе» —это не значит решить реальную проблему,
В. И. Ленин в статье «Революционный авантюризм» писал: «Соц.рев. наивно не замечают того, что их склонность к террору
связана самой тесной причинной связью с тем фактом, что
они... продолжают стоять в стороне от рабочего движения, не
стремясь даже сделаться партией ведущего свою классовую
борьбу революционного класса»66. Половинчатое отношение
эсеров к массовому движению, как указывал В. И. Ленин, вело
К фактическому отстранению от него.
Этот точный и логичный вывод эсеровские лидеры пытались
опровергнуть при помощи рассуждений о том, что террористиче
ский отряд есть «один из отрядов общей революционной армии»,
«могучее вспомогательное орудие самого массового движения».
А раз так, заявляли они, то «террористический отряд по самой
природе своей так же мало обречен на оторванность от массы,
как любая типографская или транспортная группа»67. В такой
аргументации присутствует, видимо, и наивность и демагогия,
поскольку эсеровские лидеры не могли не знать, что статут за
конспирированной и автономной Боевой организации никак не
85
возможно отождествить со статутом типографских или транспорт
ных групп. И вполне закономерно, что Боевая организация
весьма быстро вышла из-под контроля формально руководящих
органов партии.
Созданная партией эсеров «Судебно-следственная комиссия по
делу Азефа» вынуждена была признать, что «в жизни партии
С.-Р. провокаторская деятельность Азефа не была чем-то случай
ным». «Преувеличенное значение, которое правящие сферы пар
тии придавали террору, привело, с одной стороны, к построению
совершенно обособленной надпартийной Боевой организации, став
шей покорным оружием в руках Азефа, с другой —к созданию
вокруг лиц, удачно практршовавших террор, атмосферы поклоне
ния, безграничного доверия». «По своей конституции Б. О. была
приспособлена к тому, чтобы стать слепым орудием в руках од
ного человека» 68.
Так или иначе, но постановка задачи типа «квадратура кру
га» потребовала от эсеров и особой аргументации в пользу так
тики индивидуального террора, что придавало бы ему видимость
связи с массовым движением и видимость фактора, способствую
щего развитию движения. Этому служила выдвинутая В. Черно
вым концепция «триединой» функции террора, за которой при
знавалось дезорганизующее, «эксцитативное» (возбуждающее)
и агитационное значение. Хитроумная черновская формула, при
писывающая индивидуальному террору широкие политические
возможности, практически сводилась к утверждению примата тер
рористической практики перед всеми остальными направлениями
деятельности.
Это позднее признавали и сами руководители эсеровской Бое
вой организации. Савинков писал в своих воспоминаниях, что
они были уверены в том, что «центральный террор —важнейшая
задача данного исторического момента, что перед этой задачей
бледнеют все остальные партийные цели, что для успеха терро
ра можно и должно поступиться успехом всех других предприя
тий» 69. Впрочем, это признавалось и в момент развертывания
эсерами их террористических кампаний. В одной из эсеровских
листовок с обескураживающей наивностью возвещалось: «Как не
когда в битвах народов вожди их решали бой единоборством, так
и террористы в России в единоборстве с самодержавием завоюют
России свободу»70. Орган партии эсеров «Революционная Рос
сия» также провозглашал: «Жизнь выдвинула на первый план
потребность в террористических средствах, перед которой должны
умолкнуть все прежние возражения» 7i.
Характерно, что, утверждая право на «центральный террор»,
эсеры постоянно подменяли политическую аргументацию весьма
специфическими «нравственными», а точнее —чисто психологи
86
ческими, обоснованиями. «Согласно нашей нравственности мы
не только имеем нравственное право, —нет, более того, мы нрав
ственно обязаны положить на одну чашу весов все это море че
ловеческого страдания, а на другую —покой, безопасность, самую
жизнь его виновников» 72.
Наконец, эсерам, как об этом свидетельствуют, например,
книги В. Ропшина (Бориса Савинкова) и некоторые официаль
ные публикации, была не чужда эстетизация террористического
насилия. «Нам говорят, что террор беспощаден,—писала петер
бургская газета партии эсеров «Труд» летом 1907 г.,—мы дума
ем иначе. Террористы... есть, они должны быть, ибо они — гро
за, которая освещает нашу затхлую атмосферу, в которой без
них можно было бы задохнуться» 73.
Личностные, эмоционально-психологические мотивы в ущерб
идеологическим обоснованиям, реальному классовому анализу и
политическим целям у эсеровских террористов выходили на пер
вый план. В статье «О некоторых чертах современного распада»
В. И. Ленин отмечал, что для эсеров характерны выпячивание
,и абсолютизация «непосредственного чувства, которое охватывает
революционера, и идеалов, которые его одухотворяют»74. Пони
мая, что это «непосредственное чувство» порождено «атмосферой
боли и злобы, мучительного бездействия и молчания» (В. И. За
сулич) 75, что многие, продиктованные им акции непосредствен
но спровоцированы «репрессивными мероприятиями правитель
ства», доведшего «до самой крайней степени раздражение нашей
свободомыслящей интеллигенции» (Г. В. Плеханов) 76, русские
революционные марксисты в то же время выводили проблему за
узкие морально-психологические рамки, давали террору оценку
историческую и политическую. Социально-психологическая обос
нованность устремления к терроризму в условиях полицейски
абсолютистского режима, подчеркивали они, далеко не тождест
венна его политической обоснованности.
В. И. Засулич подчеркивала, что индивидуальный террор ста
вит «психологические препятствия» свободному развитию общест
венной активности, сужает революционный процесс, оставляет на
позициях пассивных наблюдателей народные массы и широкие
слои общества. «Передача борьбы за освобождение в руки горст
ки героев...— писала она,— не только не вредит самодержавию,
а сама является следствием понятий и чувств, унаследованных
от самодержавия» 77.
В. И. Ленин указывал, что террористы являются «настоящи
ми экономистами наизнанку». Эта оценка, подчеркивал он, «не
парадокс». «„Экономисты44 и террористы преклоняются перед раз
ными полюсами стихийного течения: „экономисты44—перед сти
хийностью „чисто рабочего движения44, террористы —перед стихий87
яостыо самого горячего возмущения интеллигентов, не умеющих
или не имеющих возможности связать революционную работу в
одно целое с рабочим движением. Кто изверился или никогда не
верил в эту возможность, тому действительно трудно найти иной
выход своему возмущенному чувству и своей революционной энер
гии, кроме террора» 78.
Помещая на своем знамени лозунг социализма, они, как от
мечал В. И. Ленин, были свободны от «стеснительности твердых
социалистических убеждений» 79. Более того, они даже гордились
этим, считая, что теоретические дискуссии разъединяют револю
ционеров и мешают тем самым практической борьбе. Практиче
ская же борьба в этом контексте неминуемо предопределялась
негативистскими устремлениями, сводилась к разрушительной,
террористической деятельности. А это, в свою очередь, обуслов
ливало представление эсеров о рамках, содержании и масштабах
данной деятельности, о соответствующем типе политической ор
ганизации.
Эсеры не дошли до нечаевского всесокрушающего тотального
терроризма, однако их принцип систематического террора был
далек и от тактических воззрений руководителей «Народной
воли». Морозовское, отвергнутое Исполнительным комитетом «На
родной воли» представление о терроризме эсеры кладут в основу
собственного определения. «Что такое систематический террор?
Это такой террор, удары которого падают на властных врагов на
рода с неизбежностью законов природы». Как парламентские
министры ответственны перед законом, так в деспотической стра
не должна существовать «ответственность перед динамитом», как
в природе естественно устраняется всякая ненормальность, так
и «террористический акт с правильностью хорошо организованно
го механизма должен был бы фатально устранять со сцены са
новного врага народа» 80.
И не только сановного. В программных документах эсеров
встречается и такой пункт: «Революционер не позволяет себя
безнаказанно опозорить»81. Революционные народники конца
70-х —начала 80-х годов ставили вопрос о значении террора как
средства самозащиты организации, они признавали в этих целях
и вооруженное возмездие, осуществив несколько актов такого
возмездия. Но они далеки были от мысли, что за каждую обиду
надо мстить всем и каждому. Практически это означало возмож
ность стрелять в любого из военных и гражданских чинов. При
такой постановке вопроса решающим движущим мотивом прак
тически становится уже не политическая цель, но личное оскорб
ленное самолюбие.
Вполне естественным, при такой постановке вопроса, звучит
заявление эсера Карповича, который заявил на процессе, что
88
иной формы политической борьбы он не знает. Как бы ни мо
тивировался эсеровский терроризм, он оставался самоцелью.
Все это весьма далеко от представлении народовольцев о на
значении и рамках индивидуального террора. В этой связи весь
ма показательна «идейно-воспитательная» роль, отводимая эсера
ми экспроприациям, которые объявляются «новым способом
борьбы, расшатывающим вконец одряхлевшее здание государст
венного строя». По мысли эсеровских идеологов, они призваны
«подготовить сознание ко всеобщей экспроприации эксплуатато
ров в конце великой русской революции —такова идейная цель
экспроприационной пропаганды» 82.
В сознании эсеровских апологетов терроризма причудливо со
четаются апелляция к «нравственности» и аморальные тенденции.
Присущая партии расшатанность этических критериев наложила
свой отпечаток на п без того весьма пестрый, в силу ее мелко
буржуазного характера, состав партии и ее террористических
трупп. Бесспорно, что среди эсеров-террористов были личности
честные, самоотверженные, идейно и нравственно близкие к на
родовольцам. Однако в их рядах подвизались и эстетствующие
индивидуалисты, претенденты на роль «сверхчеловеков» типа
Б. Савинкова и других, которые не брезговали использованием
уголовных элементов.
Вполне отчетливо выступает принципиальная разница между
народовольцами и эсерами. Одно дело —нетерпение первопроход
цев, людей, идеалы которых подвигают их на решительную борь
бу, но не имеют реальных оснований в самой действительности
для их осуществления, другое —отчаяние индивидуалистов,
которые по причине собственной политической слепоты не видят
иных средств борьбы, кроме индивидуального террора, в услови
ях, когда, говоря словами Г. В. Плеханова, «героизм вышел на
площадь»83. Одно дело —политическая организация, воплощаю
щая собой основное направление освободительной борьбы своего
времени, другое —организация, размещающаяся в стороне от
русла этой борьбы и ведущая борьбу с главным революционным
течением данной эпохи. Наконец, одно дело —партия, обратив
шаяся к террористической борьбе после того, как на практике
убедилась в невозможности осуществления в данных условиях
мирной пропагандистской деятельности, другое —партия, априор
но нацелившаяся на террор и сознательно отвергающая те поли
тические формы борьбы, которые представлены реальными со
циальными силами.
В.
И. Ленин критиковал эсеров за попытку в новых истори
ческих условиях «реставрировать народовольчество и повторить
все его теоретические и практические ошибки»84, однако вовсе
не ставил их на одну ногу с народовольцами; Сопоставляя прак
89
тику народовольцев с претензиями эсеров-террористов, он напоми
нал об известном изречении: «Если оригинал исторического собы
тия представляет из себя трагедию, то копия его является лишь
фарсом» 85. В основе трагедии лежит то, что К. Маркс называл
всемирно-историческим заблуждением, в основе же фарса —за
блуждение личное или групповое, связанное с поверхностностью
мысли и подражательностью.
А из этого следует, что сходство определенных идей и ло
зунгов у народовольцев и эсеров не означает тождественности их
содержания и значимости.
Отвергая в принципе метод террористической борьбы, «непри
годность которого так ясно доказана опытом русского революци
онного движения»86, В. И. Ленин указывал и на различия в са
мом смысле и значении народовольческого и эсеровского терро
ризма. Он называл народовольцев «героями террора», отмечал
их подлинную революционность, находившую в конкретных усло
виях эпохи свое выражение в ограниченной четкими рамками
террористической борьбе. Эсеров он величал «пиротехниками»,
склонными к «революционным авантюрам», подменяющими под
линную революционную деятельность произведением политической
сенсации, «...ваш терроризм, господа,— говорил В. И. Ленин в
адрес эсеров,—не есть следствие вашей революционности. Ваша
революционность ограничивается терроризмом» 87*.
Анализ и критика В. И. Лениным и его соратниками эсеров
ского терроризма имели тем большее политическое значение, что
речь здесь шла уже не о прошлом, но о настоящем и будущем
русского освободительного движения. Впервые в истории страны
террористическая деятельность развертывалась параллельно с
развитием массового народного движения и организованными вы
ступлениями рабочих. Будучи в принципе чуждыми этому дви
жению, эсеры пытались использовать его в собственных интере
сах, выставив себя составной (и притом наиболее революцион
ной) частью или, по крайней мере, защитниками и выразителями
* То, что эсеровские идеологи и в момент развертывания партией террори
стических кампаний и позднее не хогелп замечать этих, четко выделен
ных русскими революционными марксистами, различий, вполне объясни
мо. Труднее понять, почему в нашей современной научной литературе
время от времени появляются работы, в которых эти различия никак не
отмечаются. Такова, например, статья М. И. Дробжева «Разоблачение
В. И. Лениным идейно-моральной несостоятельности тактики индиви
дуального террора народников». В тексте автор статьи поясняет: «особую
опасность представляла народнически-эсеровская тактика индивидуаль
ного терр ор а)88. Таким образом, благодаря внеисторическому «лдейиоморальному» подходу к политической тактике, народовольческий и эсе
ровский терроризм ставятся на одну ногу, а отношение В. И. Ленина не
только ко второму, но и к первому расценивается как «разоблачение».
90
(опять-таки наиболее революционными) его устремлений. Как
подчеркивал В. И. Ленин, формулируя свой «основной тезис про
тив эсеров», «все направление социалистов-революционеров и вся
их партия есть не что иное, как покушение мелкобуржуазной
интеллигенции эскамотировать наше движение, а следовательно,
и все социалистическое и революционное движение» 89.
Обаяние геройских традиций народовольчества и присвоение
эсерами его романтического ореола в сочетании с массовой не
навистью к абсолютизму создавали в образованных кругах ат
мосферу сочувствия к террору и стремление поддержать его
подъем. Подобного рода настроения в той или иной мере ощу
щались ц в стане социал-демократов, некоторые из которых,
теоретически осуждая террор, одновременно с сочувствием, а то
jt с радостью воспринимали осуществленные террористами акты
возмездия*. Этим, в частности, была вызвана необходимость
принятия на II съезде РСДРП специальной резолюции, в кото
рой террористическая тактика решительно осуждалась и отвер
галась.
О том, какое огромное значение придавалось русскими рево
люционными марксистами борьбе с иллюзиями по поводу инди
видуального террора и настроениями, сочувственными по отноше
нию к нему, свидетельствует не только систематическая публика
ция в «Искре» статей В. И. Ленина, Г. В. Плеханова, В. И. Засулич,
направленных на решение этой задачи, и то пристальное внима
ние, которое уделил В. И. Ленин проблематике терроризма в
своей программной книге «Что делать?». Упомянем здесь и еще
об одном, чрезвычайно показательном факте. В силу требований
конспирации материалы, помещаемые в нелегальном органе, пуб
ликовались без подписи. Единственный раз (и уже в № 3
«Искры») это правило было нарушено, когда под статьей «По по
воду современных событий», направленной против терроризма,
подпись все же появилась. Это была подпись В. И. Засулич. Та
ким образом, против терроризма в одном из первых номеров
«Искры» открыто выступил самый компетентный и авторитетный
в этом вопросе человек в русском революционном движении.
Осуществленный русскими революционными марксистами в
начале века анализ «левого» терроризма сохраняет и сегодня
* Известно, например, что даже Ю. Мартов, сам выступавший против тер
роризма на страницах «Искры», с удовлетворениелт встретил покушение
Гирша Леккерта на виленского губернатора фон Валя и хотел отклик
нуться на него патетической статьей, что вызвало резкие возражения
В. И. Ленина. Данным фактом, кстати, опровергается расхожая выдумка
буржуазных политологов о том, что меньшевики были последовательны
ми противниками терроризма, а большевики якобы иногда из «прагма
тических соображений» склонялись к нем>.
91
важнейшее .методологическое значение. Не каждое из конкретных,
выдвинутых в прошлом положений может быть распространено
на современный «левый» терроризм, развивающийся в иных исто
рических условиях и обладающий рядом специфических особен
ностей. Это необходимо учитывать. Однако своеобразие различных
исторических форм «левого» терроризма не отменяет справедли
вости принципиальной марксистской критики его сущности. Даже
в условиях, требовавших вооруженного свержения самодержавия,
партия решительно противопоставляла массовое освободительное
движение терроризму. С тем большим основанием марксистсколенинская критика предшествующих форм политического терро
ризма может служить теоретической базой и образцом для ана
лиза его современных модификаций.
1 Цит. по: Правда. 1981. 18 февр.
1981 г.
2 Snitch Т. A decade of the terro
rism 11 Intellekt. 1975. Vol. 106,
N 397. P. 458.
3 Sterling C. The terrorist net work.—
Atlantik, 1978, vol. 242. N 5. P. 40.
4 Fciure Cr. Terre, terreur, liberte.
P. 1979. P. 15.
5 Цит. по:' БСЭ. 1-е изд. T. 2. C. 643.
6 Cofino M. Violence dans la violen
ce. Paris. 1973.
7 Группа «Освобождение труда». М.,
1922. Сб. 2. С. 69.
8 Засулич В. И. Воспоминания. М.,
1931. С. 57.
9 Цит. по: Коваленский М. Русская
революция в судебных процессах
и мемуарах. М., 1923. Кн. 1. С. 38.
10 Цит. по: Маркс К., Энгельс Ф. Соч.
2-е изд. Т. 18. С. 397.
11 Цит. по: Коваленский М. Указ.
соч. С. 40.
12 Левин III. М. Общественное дви
жение в России в 60-е — 70-е годы
X IX в. М., 1958. С. 262; Итенберг Б. С. Движение революцион
ного народничества. М., 1965.
^ С. J31.
13 Цит. по: Коваленский М. Указ.
соч. С. 39.
14 Цит. по: Маркс К Э н г е л ь с Ф. Соч.
2-е изд. Т. 18. С. 397.
15 Там же. Т. 30. С. 33.
16 Цит. по: Коваленский М. Указ.
соч. С. 40.
17 Там же.
18 П ир умова II. М. Бакунин или
С. Нечаев? / / Прометен. Вып. 5.
1968. С. 176.
19 М аркс К .. Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.
Т. 33. С. 332.
2Э Там же. Т. 18. С. 408.
21 Цит. по '.Коваленский М. Указ.
соч. С. 36.
22 Там же. С. 40.
23 Там же. С. 27.
24 Цит. по: Наша страна: Историче
ский сборник. СПб., 1907. С. 238.
25 Цит. по: М аркс К ., Энгельс Ф.
Соч. 2-е изд. Т. 18. С. 413-414.
26 Там же. С, 414.
27 Цит. по: Коваленский М. Указ.
соч. С. 41.
28 Цит. по: Стеклов Ю. М. Бакунин.
Т. III. М.; Л., 1927. С. 542.
29 М аркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.
Т. 18. С. 415.
30 Там же. С. 389.
31 Володин
А. И., К арякин Ю. Ф .?
Плимак К. Г. Чернышевский или
Нечаев? М., 1976. С. 253.
32 Фигнер В. Н. Полн. собр. соч. Т. 1.
М., 1933. С. 91.
33 Дебогорий-Мокриевич В. От бун
тарства к терроризму. М.; Л., 1930.
С. 101-102.
34 Каторга и ссылка. М., 1926. Кн. 26.
С. 114.
33 Засулич В. И. Мертвый хватает
живого / / Искра. М.; Л., 1925.
Вып. I. С. 96.
36 Плеханов Г. В. Соч. Т. III. С. 57.
92
37 Красный Архив. Т. 1/20. 1927.
С. 219.
38 Цит. по: Коваленский М. Указ.
соч. Кн. 3. С. 85, 89.
39 Революционное народничество се
мидесятых годов X IX в. М.; JL,
1965. С. 35.
40 Литература партии «Народная
воля». М., 1907. С. 15.
41 Морозов
Н.
Террористическая
борьба. Женева, 1900. С. 10.
42 Плеханов Г. В. Логика русского
терроризма / / Искра.
Вып.
IV.
С 52.
43 Былое. 1907. Июнь. С. 184-185.
44 Литература партии «Народная
воля». С. 200.
45 Там же. С. 453.
46 М аркс К Э н г е л ь с Ф. Соч. 2-е изд.
Т. 35. С. 147-148.
47 Там же. Т. 36. С. 269.
48 Фигнер В. Н. Указ. соч. Т. 1.
С. 235.
49 М аркс К ., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.
Т. 19. С. 124.
50 М аркс К., Энгельс Ф. Там же.
Т. 35. С. 283.
51 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 9.
С. 179.
52~ 53 Там же. Т. 10. С. 6.
54 Там же. Т. 5. С. 39.
55 Плеханов Г. В. Соч. Т. IX. С. 344.
56 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 4.
С. 176.
57 Там же. Т. 30. С. 315.
58 П леханов Г. В. Смерть Сипягпна
и наши организационные зада
чи / / Искра. Вып. III. С. 79-80.
59 Цит. по: Ленин В. И. Поли. собр.
соч. Т. 6. С. 382.
60 Там же. Т. 9. С. 130.
61 По вопросам программы и такти
ки. М., 1903. С. 77.
62 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 6.
С. 382.
63 Там же. Т. 5. С. 7.
64 Там же. Т. 6. С. 384.
65 Там же. Т. 49. С. 313.
66 Там же. Т. 6. С. 380.
67 По вопросам программы и такти
ки. С. 126—i 27.
68 Наша Заря. 1911. № 9/10. С. 113—
114.
69 Савинков Б. В. Воспоминания//
Былое. 1917. № 2. С. 77.
70 Цит. по: Ленин В. И. Полн. собр.
соч. Т. 6. С. 386.
71 По вопросам лрограммы и такти
ки. С. 73-74.
72 Там же. С. 73.
73 Цит. по: Спиридович А. И. Пар
тия социалистов-революционеров
и ее предшественники. 1886—
1916. Пг.? 1918. С. 303-304.
74 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 17.
С. 141.
75 Засулич В. И. По поводу совре
менных событий / / Искра. Вып. L
С. 64.
76 Плеханов Г. В. Смерть Сипягин а.../ / Искра. Вып. III. С. 79.
77 Засулич В. И. Указ. соч. С. 66.
78 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 6.
С. 75.
79 Там же. Т. 6. С. 385.
80 Русанов Н. Об идеологических ос
новах народовольчества / / Былое.
1907. Ко 9. С. 71.
81 По вопросам программы и такти
ки. С. 87.
82 Спиридович А. И. Указ. соч. С. 330_
83 Плеханов Г. В. Белый террор / /
Искра. Вып. VII. С. 91.
84 Ленин В ' И. Полн. собр. соч. Т. 7.
С. 57.
85 Там же. Т. 6. С. 173.
86 Там же.
87 Там же. Т. 16. С. 166.
88 Дробжев М. И.
Разоблачение
B. И. Лениным идейно-моральной
несостоятельности тактики инди
видуального террора народни
ков / / Проблемы
нравственного
воспитания в теоретическом на
следии В. И. Ленина. М., 1981. С. 27.
89 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 33.
C. 33.
Глава четвертая
Парадоксы правого терроризма
Левацкий экстремистский протест чреват тотальным отрицанием
и культом открытого насилия. В силу этого в определенных
исторических ситуациях он имеет тенденцию перерастать в пра
вый терроризм. При этом экстремисты, с которыми происходит
подобная метаморфоза, могут прикрываться «левой» фразеологи
ей и вовсе не являться людьми правой ориентации или по край
ней мере не осознавать, что таковыми являются.
Характерна фигура известного анархо-синдикалиста Ж. Сореля, автора книги «Размышление о насилии». В свое время эта
книга, напичканная рассуждениями о «пролетарской революции»,
о «всеобщей стачке», которая призвана стать методом осущест
вления этой революции, имела громкий успех. В ней не содер
жалось призыва к террористическим выступлениям, но все автор
ские мысли насквозь проникнуты культом насилия.
Существо концепции Сореля заключалось в тезисе/ согласно
которому «европейские нации, отупевшие от гуманизма», потеря
ли необходимую жизненную энергию. Виновата в этом прежде
всего «демократия, основанная на выборном начале», которая
имеет «большое сходство с биржевыми кругами», поскольку, как
и последние, держится «на подкупе и тому подобных хитрос
тях» \ Вернуть нациям утерянную энергию можно только по
ставив их в условия, требующие применения открытого насилия.
Одним из таких условий является «большая война», другим —
революция, возникающая из «всеобщей стачки», в которой якобы
воплощаются «все стремления социализма»2. Стачка, с одной
стороны, объявляется средством, но с другой —выступает как
самоцель, как воплощение «насилия пролетариата». Она, с одной
стороны, трактуется как реальный путь к победе, с другой —
объявляется «мифом», ибо автор полностью отрицает необходи
мость научного знания и возможность научного предвидения в
социальной области, а исходит из идеологической значимости
мифа, сила которого заключается в том, что он «придает вид
реальности тем надеждам, которые воодушевляют наше поведе
ние в настоящем» 3. Все это построение, по мнению автора, от
вечает духу марксизма, который, впрочем, в соответствии с его
концепцией —не более чем' «плодотворный миф». Итак: левая
фраза, подмена научного анализа мифологией, ненависть к демо
кратии, презрение к обыденным формам социальной жизни и в
конечном счете эстетизация насилия, которое приобретает само
ценное значение,—вот краеугольные камни «здания», воздвигну
того Сорелем. Не случайно он нашел понимание п сочувствие не
94
у представителей рабочего класса, от имени которых вещал, а у
лидеров реакционной «Аксьон франсез», а его непосредственные
ученики стали создателями первых фашистских группировок во
Франции. Не случаен и пиетет, с которым относился к Сорелю
Бенито Муссолини. Итальянские фашисты подчеркивали, что Сорель способствовал «формированию дисциплины, энергии и мощи
фашистских когорт» 4.
Здесь мы подходим к весьма сложному вопросу об историче
ской связи определенных форм псевдореволюционного экстремиз
ма с экстремизмом контрреволюционным, в частности с фашист
ским.
Постановка вопроса о фашизме в связи с историей левотерро
ристических организаций и эволюции «левого» терроризма при
формальном подходе к теме может показаться едва ли не пара
доксом. Однако речь идет не просто о сходстве средств и мето
дов. И то, и другое, в сущности, характеризует и роднит терро
ристов всех времен и направлении. Вопрос состоит не только и
не столько в тактико-техническом, но в идейно-политическом сход
стве и сопричастности фашизма и определенных форм «левого»
терроризма. А между тем по внешней видимости эти явлениякажутся во многом противоположными.
В самом деле, фашизм известен как террористическая дикта
тура самых реакционных империалистических кругов. Он проник
нут духом ярого шовинизма, выступает в форме воинственного
антимарксизма и антикоммунизма, зиждется на культе сильной
личности и ее праве манипулировать «стадной массой», утверж
дает тоталитаристский принцип организации общества. Между
тем, какими бы недостатками и пороками ни были отмечены
теория и практика буржуазных и мелкобуржуазных террористов
XIX —начала XX в., они прежде всего были или республикан
цами, выступающими под лозунгами борьбы за ликвидацию не
равенства и экономической эксплуатации, или анархистами-безгосударственниками, или демократами, движимыми идеей со
циальной справедливости в ее утопической интерпретации, сло
вом, террористами, именуемыми «левыми».
Есть и другая, особенно важная сторона дела. Если признать,
что некоторые исторические разновидности «левого» терроризма
могут эволюционировать в направлении к терроризму правому
или в какой-то мере служить подспорьем для становления тер
роризма фашистского, то логично сделать вывод и о том, что по
следний, в свою очередь, может рассматриваться в качестве не
только предтечи неофашизма, но и (в определенных рамках) не
которых современных форм «левого» терроризма. В свете той
идейной борьбы, которая ведется вокруг проблемы социально-по
литической сущности современного «левого» терроризма и его
95
взаимоотношений с неофашистским терроризмом, этот вывод
весьма существен.
«Левый» терроризм сегодня решительно и даже крикливо под'
черкивает свою приверженность марксизму, выступает под лозун
гами борьбы против империализма, классового и национального
гнета, рекламирует себя как борца за осуществление «социали
стической» революции и создание «коммунистического» общества.
Свою деятельность «левые» террористы квалифицируют как «анти
фашистскую» борьбу, психологически мотивируя ее стремлением
не повторять ошибок отцов, пассивность и смирение которых
способствовали установлению власти фашизма, желанием очис
титься от «стигмы газовой камеры», принести себя в жертву, ис
купая грехи отцов, противостоять новой фашистской волне и т. д.
Словом, при поверхностном взгляде «левые» террористы могут
показаться чуть ли не антагонистами фашистов, тем более, что
между ними н современными неофашистами в ряде стран возни
кают открытые столкновения.
Не случайно в современной западной прессе столь активно
дискутируется вопрос: являются или не являются «левые» тер
рористы «детьми Гитлера» (заглавие книги Дж. Беккер),—на
который даются самые различные ответы. Одни авторы полностью
солидаризируются с оценкой Дж. Беккер, другие, как, например,
автор рецензии на ее книгу М. Грейфенхаген, категорически от
вергают эту оценку. Например, А. Бейхман полагает, что в кни
ге Беккер попросту «эксплуатируется наше чувство ужаса перед
Гитлером» 5. Не случайно также и то, что в процессе изучения
современного «левого» терроризма некоторые авторы сделали
предметом дискуссии вовсе не дискуссионную проблему, умаляя,
а то и вовсе отрицая роль и значение терроризма в фашистской
практике. «Пионеры фашизма,—декларирует Л. Диспо,—редко
прибегали к террору»6. У. Лакёр утверждает, что «из сообра
жений эффективности» терроризму в фашистской стратегии «от
водилось малое место». Более того, он убежден, что «в фашист
ской доктрине не было ничего, что возводило бы терроризм в
принцип» 7.
Спорить с этими чудовищными на фоне всего содеянного фа
шизмом утверждениями нет никакого смысла. «Забывчивыми» мо
гут быть отдельные люди, но у человечества в целом хорошая
память. Понять же мотивы и цели авторов, позволяющих себе
так бестрепетно кощунствовать, необходимо. Они просты, они —
производное от традиционной идеи о терроризме как порождении
революционности. А поскольку фашизм и для этих авторов не
революционен, а «левые» экстремисты служат одним из образцов
«подлинной революционности», то в результате оказывается, что
лредвзятые политические и теоретические установки приводят ав
96
торов к фактической амнистии фашизма. Одновременно из этой
посылки следует вывод, что между анархо-терроризмом и фаши
стскими идеями и практикой нет никакой сколько-нибудь значи
мой связи.
Если использование насильственных средств имеет чисто фор
мальное сходство, характеризующее террористов всех времен и
направлений, то с точки зрения именно направленности фашизм —
классический и оптимальный образчик правого террора.
«Не нужно никакой диалектики, кроме диалектики кулаков и
пистолетов!»8—восклицал один политический лидер. «Позна
ние —это неустойчивая платформа масс. Стабильное чувство —
ненависть!» 9—поучал другой. «Нет более гнусной лжи, чем так
называемая общественная мораль!»10 —декларировал третий.
Хвалу «прямому действию», «воинственному и пламенному», про
возглашал четвертый. Террористы? Безусловно. Но какие терро
ристы — «правые» или «левые»? Пока неясно. Во всяком случае,
в речах и листовках анархо-террористов X IX в. мы с аналогич
ными высказываниями уже сталкивались.
Следовательно, надо выяснить, во имя какой политической
цели «покатятся головы», как говорил один из цитированных
выше деятелей. «Мы отвергаем капиталистическую систему...
совершенно недопустимо, чтобы огромная масса людей жила в
нищете, между тем как горстка людей утопает в роскоши» 11,—
такова официально декларированная платформа первого из них.
«Будущее принадлежит диктатуре социалистической идеи в госу
дарстве» 12,— категорически заявляет другой. «Существенным в
нынешнем развитии является великое антикапиталистическое
стремление» 13,—утверждает третий. Аналогичные лозунги выбра
сывал и цитированный выше пропагандист «прямого действия».
Все это очень знакомо и, казалось бы, должно привести нас к
выводу, что мы имеем дело с идеологами «левого» терроризма.
Однако у перечисленных деятелей зловещие имена: Примо де
Ривера, Гитлер, Геббельс, Г. Штрассер, JI. Рамос. Для полноты
картины к ведущим фигурам германского и испанского фашизма
можно прибавить Муссолини с его формулой итальянского фа
шистского движения как «революционной партии», проводящей
«антикапиталистические действия» 14.
Обрушиваясь на буржуазную демократию справа, фашисты
маскировались под ее критику «слева», за лицемерие и буржуаз
ную сущность громогласно обличали эксплуататорское общество,
в условиях которого один «купается в роскоши», а другие «по
дыхают с голоду». «Мы желаем заменить капиталистическую
свободу социалистической связанностью»,—писал Г. Штрассер15.
По поводу суда над Гитлером, приговорившего его за попытку
организации путча к нескольким годам тюрьмы, тот же Штрас4
В В Витюк, С. А. Эфиров
97
сер с пафосом восклицал: «Это подлинно классовая юстиция!» 16.
Ненавидя «демократический принцип большинства» и массу*
«убивающую личность», ставя своей целью «поставить точность
над массой, т. е. подчинить массу личности» 17, фашисты одновре
менно безудержно апеллировали к молодежи, примитивно льсти
ли «пролетарской элите». «Поднимайтесь, молодые рабочие ари
стократы! Вы —дворяне третьей империи,—писал Геббельс.—
Разрушьте равенство демократии, которая закрывает рабочей
молодежи путь к выполнению ее исторической миссии!» 18.
Фашизм с максимальной полнотой продемонстрировал возмож
ность приспособления архилевых лозунгов к политическим зада
чам самых правых сил, способность правого терроризма грими
роваться под «левый». На чем же, однако, держалась э т а воз
можность? Фашистские лидеры использовали левую фразу как
циничную политическую демагогию, что отвечало узаконенному
в их мировоззрении аморализму, презрению к массе и чисто
прагматическому отношению к «словам». В кругу своих соратни
ков и представителей крупного капитала Гитлер откровенно заяв
лял, что для элиты у него существуют одни идеи, а для масс —
другие.
На какую же массу рассчитывали фашисты, кому адресова
лись их лозунги? Несомненно, рабочим, но в еще большей мере
мелкобуржуазным и люмпенским слоям. Они апеллировали к со
знанию индивидуалистическому, мещанскому, которое одновремен
но старались навязать рабочему классу. Фашисты откровенно и
не смущаясь противоречиями провозглашали самые реакционные,
шовинистические и элитаристские идеи, при этом ухитряясь при
давать им ту «народную» окраску, которая обеспечивала горячий
прием таким идеям у определенной части угнетенной массы.
Но это означает, что в самой левоэкстремистской идеологии
таились возможности для такого ее использования в соответствую
щих условиях. Активизация процесса деклассирования, фрустра
ция, рождающаяся на ее основе ненависть к окружающей дейст
вительности, завистливость, жажда мщения и самоутверждения,
возможность материальной и психологической компенсации —все
это, естественно, подводило к идее тотального отрицания, кото
рая в сознании самих людей нередко принимает видимость антикапиталистической направленности. Обретая массовый характер,
такие умонастроения способны служить почвой и для анархист
ского экстремизма, и для насаждения идей национал-империализ
ма, приукрашенных флером псевдосоциалистической идеологии.
В такой комбинации «национальной» и «социальной» идей акку
мулируются, находят свое оформление потребность в социальном
порядке, надежда на обретение места в обществе и на лучшую
жизнь, стремление к действию и самовыражению, тоска по не
98
кой «высшей истине», придающей смысл бессмысленному суще
ствованию , «высшей общности», устраняющей или маскирующей
отчуждение.
Фашистский опыт перекрашивания «черного» терроризма в
«красный» и доверие к этой косметической операции со стороны
определенной части социальных низов являются также косвен
ным доказательством того, что некоторые разновидности мелко
буржуазного экстремизма содержат в себе потенциал для разви
тия в определенных условиях в направлении к фашизму.
История нашего столетия показала, как может быть исполь
зован и в какую сторону направлен протест против капиталис
тического общества, основанный на индивидуалистически-мещанских комплексах и вульгарно-корыстной трактовке социальной
солидарности. А такая форма социального протеста в условиях
капитализма носит закономерный характер в силу наличия и
роста соответствующей ей социальной базы. Как пишет советский
исследователь А. С. Грачев, «эксплуатируемые, разоряемые, по
давляемые монополиями „промежуточные“ слои населения самой
логикой общественного развития побуждаются к социальному про
тесту, к тому чтобы стать союзниками рабочего класса в борьбе
за новый социальный строй, избавляющий от гнета, эксплуата
ции, ужасов войны. Но они могут, поддавшись отчаянию, превра
титься в политическую добычу фашистских организаций либо
левоэкстремистских авантюристов. Политический экстремизм как
левого, так и правого толка, по сути дела, представляет собой
особую, специфически извращенную реакцию отдельных предста
вителей многочисленных средних и промежуточных слоев...
на резкое, подчас драматическое ухудшение их материального и
экономического положения» 19.
Аналогично и политическое поведение люмпен-пролетариата,
который, в принципе тяготея к анархизму и уголовщине, в опре
деленных условиях мог частично вовлекаться в революционное
движение, отождествляя его с левацким экстремизмом, тем более
что последний признает за уголовными преступлениями значи
мость революционных действий. В то же время «в силу всего
своего жизненного положения он,—по словам К. Маркса и
Ф. Энгельса,—гораздо более склонен продавать себя для реак
ционных целей» 20.
Таким образом и крайне правые и крайне левые террористы
рекрутируют себе сторонников в одних и тех же слоях общест
ва, и здесь коренится возможность соприкосновения и глубинно
го, хотя и не всегда открыто проявляющегося и осознаваемого,
внутреннего социально-психологического родства между ними.
Мысль о возможности и логичности перерождения в опреде
ленных условиях вчерашнего «левого» террориста в фашиста
99
4*
подтверждается эволюцией Бориса Савинкова. Политический аван
тюрист с замашками сверхчеловека, глубочайший индивидуалист,
мнивший себя социалистом, видный деятель эсеровской Боевой
организации, он после Октября становится ярым контрреволю
ционером профашистского толка. «Фашизм,— писал он в начале
20-х годов,—мне близок психологически и идейно. Психологи
чески—ибо он за действие и волевое напряжение в противопо
ложность безволию и прекраснодушию парламентской демократии,
идейно — ибо он стоит на национальной платформе и в то
же время глубоко демократичен, ибо опирается на крестьян
ство» 21.
Было бы, конечно, неверно, проводя подобные сопоставления,
делать из них упрощенные, прямолинейные выводы. Прежде все
го то, что у фашистов было чистой демагогией, для «левых» тер
рористов было искренним убеждением. Главное же заключается
в том, что между классическим фашизмом и неофашизмом, с од
ной стороны, и анархо-терроризмом в его историческом и совре
менном левотеррористическом варианте —с другой, имеются
коренные идеологические и теоретические различия. Среди по
следних особенно важно то, что фашисты являются этатистамитоталитаристами, в то время как анархо-терроризм движим де
кларированным отрицанием государства как в диктаторской, так
и в парламентской его форме. Фашизм подчеркнуто национали
стичен, в то время как «левый» терроризм в качестве поборника
«мировой революции» размахивает знаменем интернационализма.
Нельзя также игнорировать условия места и времени, различия
в конкретно-исторической природе мелкобуржуазных и люмпени
зированных элементов эпох до и после первой мировой войны.
Следует помнить, что коренные политические цели и установки
у анархизма и фашизма во многом противоположны, а сходные
идеи занимали различное место в системе их политического
мировоззрения. Появление в идейном арсенале фашистов ряда
лозунгов, сформулированных впервые анархистами, в значитель
ной мере было утилитарным приспособлением их к собственным
политическим задачам. А это было связано с такими трактовка
ми и акцентами, которые анархистам, в том числе подавляюще
му большинству приверженцев террористической тактики, были
не свойственны.
И все же нельзя считать случайным и малосущественным то,
что некоторые аспекты идеологии и тактики анархистов были
использованы фашистами. Между ними имеется достаточно мно
го общего, коренящегося в природе противоречивого и шаткого
мелкобуржуазного люмпенского сознания. Поэтому и смог фа
шизм заимствовать у экстремистской ветви анархизма некоторые
из своих демагогических лозунгов, поэтому-то и сумел в борьбе
100
за уничтожение или полное подчинение профсоюзов использовать
ряд идей и принципов анархо-синдикализма.
В свою очередь немалое наследие оставил классический фа
шизм террористам (как левым, так и правым) последующих
эпох. Это касается не только возведения вооруженного насилия
в культ и связанных с этим культом идей и психологических на
выков разрушения морали и обесценивания человеческой жизни,
без которых был бы невозможен нынешний беспрецедентный
размах терроризма.
Прежде всего следует напомнить, что фашизм —это не толь
ко государственный террор. На всех ступенях своего существова
ния —как в ходе борьбы за власть, так и после ее завоевания —
фашизм использовал также террористические акции во имя
устранения противников в своей стране и за рубежом и полити
ческие провокации. Достаточно в этой связи напомнить об
убийстве короля Югославии Александра и министра иностран
ных дел Франции Барту, о поджоге рейхстага, об уличных рас
правах штурмовиков и многочисленных таинственных покуше
ниях на противников фашизма, смерть которых последний по тем
или иным соображениям считал нецелесообразным открыто
брать на себя (и не только в период продвижения к власти).
В эпоху своего господства он воочию продемонстрировал, как
оппозиционный терроризм перерастает в государственный и как
последний использует выработанные на предшествующем этапе
формы индивидуального террора.
Как и современный «левый» терроризм, фашизм возводил на
силие в культ, обосновывая обращение к нему не только полити
чески, но также философски, психологически и эстетически. Он
использовал широкий арсенал террористических средств, вошед
ших и в современную практику: убийства из-за угла, бесчинства
и погромы, похищения людей, рэкет, шантаж и т. д.
Излюбленный тезис современных «левых» террористов о ввер
жении страны в хаос, который должен явиться предпосылкой
возмущения масс и победоносной «революции по-экстремистски»,
есть, по существу, вариация на тему провозглашенной в
20-х годах фашистами «политики катастроф». Фашисты закрепи
ли в современной политической практике принцип деления пар
тии на легальное й нелегальное крыло, что сегодня стало прави
лом для многих мало-мальски стабилизированных террористиче
ских организаций. Фашистами была возрождена в XX в. система
тайных судилищ-фем и казней людей по приговору этих суди
лищ. Они впервые стали практиковать некоторые из утвердив
шихся сегодня форм террористических акций. В их числе поджо
ги универсальных магазинов —акция, сыгравшая важную роль
в становлении западногерманского «левого» терроризма. Фаши
101
стами в свое время была позаимствована у самой некультурной,
истеричной и пренебрегающей «условностями» части анархист
ских агитаторов стилистика демонстративной грубости в поли
тических выступлениях. Явно в духе И. Моста выражался
Г. Штрассер, когда писал: «Баварией управляет банда свиней,
подлая собачья свора управляет Баварией» 22. Сегодня этот пас
саж, сменив только географическое название, с полным основа
нием можно включить в декларации «левых» террористов. Ясно,
что из ряда их предтеч нельзя исключить (хотя и занимающий в
этом ряду сравнительно скромное место) и фашизм, в свою оче
редь, некогда кое-что воспринявший от «левого» терроризма ста
рой формации.
*
*
*
Итак, в чем же итог исторического опыта деятельности лево
экстремистских групп и организаций, исповедовавших п приме
нявших тактику терроризма под лозунгами борьбы за равенство
и справедливость, освобождения масс от социального гнета, про
летарской революции и социализма? Во-первых, в том, что усло
вия, порождающие ту форму протеста и возмущения, которая
реализуется в экстремистской деятельности, коренятся в самой
социальной действительности, в природе капиталистического и
феодального общества. Нельзя сбрасывать со счетов также и то,
что вспышки «левого» терроризма возникали в кризисные перио
ды и каждой из них предшествовали акты прямого насилия со
стороны правительств или правотеррористических организаций.
Во-вторых, как бы ни афишировали «левые» террористы
X IX —начала XX вв. свою антикапиталистическую направлен
ность и как бы искренне ни верили в нее, их деятельность была
формой политической борьбы буржуазии или мелкой буржуазии.
В их идеалах и тактике отражалась принципиальная зависи
мость от политических и моральных норм и ценностей буржуаз
ного общества, что предопределяло пх неспособность вести с этим
обществом эффективную борьбу.
Коренным пороком террористической тактики являлось то, что
ее сторонники, оправдывая и санкционируя эту тактику величи
ем, благородством и насущностью социальной цели, за которую
они боролись, на деле сознательно или стихийно подчиняли эту
цель избранным ими крайним и кровавым средствам. Наделяя
террористические акции несуществующими революционизирую
щими качествами, обособляя эти акции от других методов и
форм политической борьбы, абсолютизируя их, они, преследуе
мые полицией и влекомые текучкой террористической практики,
быстро приходили, нередко сами того не замечая, к превращению
этой практики в самоцель.
102
В-третьих, непосредственный результат террористической ак
тивности почти всегда оказывался обратным ожидавшемуся. Еще
никогда в истории буржуазного общества левые террористы не
приходили к власти и даже не обретали подлинно массовой опо
ры и поддержки. Каждая волна терроризма приводила не к свер
жению режима, не к прогрессивному изменению политического
строя, но, наоборот, к консолидации правых сил и контрнаступ
лению реакции.
Террористические покушения нередко играли на руку реак
ционным силам, которые пользовались ими как поводом для того,
чтобы очернить революционное движение вообще, служили пред
логом для проведения антидемократических законов, ужесточе
ния репрессий по отношению к нетеррористическим революцион
ным и просто оппозиционным организациям.
Идеализация и романтизация террористической борьбы, имев
шие определенное историческое и нравственное оправдание на
начальных ступенях антикапиталистической борьбы, в дальней
шем полностью лишаются этого оправдания. По мере возникно
вения и развития массового и организованного рабочего движе
ния все в большей степени раскрывается политическая бесплод
ность н вредоносность терроризма для дела освободительной
борьбы.
В-четвертых, в ходе политической истории двух последних
веков под левыми знаменами выступали и псевдореволюционный
(в некоторых условиях становящийся откровенно антиреволюционяым) терроризм, и тот тип терроризма, который в прошлом
обозначали (а иногда обозначают и сегодня) как революционный.
Единство используемых методов борьбы (и частично аргумента
ции в их пользу) не снимает различий, подчас глубоко принци
пиальных, между этими типами терроризма и использовавшими
их оппозиционными политическими организациями. Здесь решаю
щими критериями становятся не сами методы, но политическое
лицо обращающихся к террористической практике организаций,
их реальная историческая роль, значение, придававшееся терро
ристической борьбе, и место, отводившееся ей этими организа
циями.
*
*
*
Принципиальная неприемлемость террористической тактики
для рабочего класса вовсе не диктует обязательности осуждения
тех буржуазных революционеров, которые, будучи движимы пе
редовыми для своего времени идеалами, в силу трагической не
возможности бороться против угнетательского строя иным
способом в условиях нарастания кризиса режима и репрессив
ных действий правящей реакции, вынужденно и на время обра
103
тились к этой тактике. Не следует «опрокидывать политику в
прошлое», используя в качестве жупела эпитет «буржуазный»,
или, как это модно сегодня в западной политологии, перенося
полностью заслуженную современными «левыми» террористами
негативную оценку на деятельность п личности подлинно рево
люционных борцов прошлого, вступивших на ошибочный и бес
перспективный путь терроризма. Не случайно, перечисляя в
одном ряду Робеспьера, Гарибальди п Желябова, В. И. Ленин
подчеркивал: «Нельзя быть марксистом, не питая глубочайшего
уважения к великим буржуазным революционерам» 23.
Тем более не следует делать обратного: ссылаясь на память
об этих борцах, обелять и оправдывать современных «левых»
террористов. И не только потому, что последние действуют со
всем в других исторических условиях и пх активность не может
играть никакой иной роли, кроме однозначно реакционной.
Но еще и потому, что современные «левые» террористы явля
ются прямыми наследниками псевдореволюционной и контррево
люционной линий в оппозиционном терроризме исторического
прошлого.
Осужденный и отброшенный всем ходом политической борьбы
«левый» терроризм на годы сошел с политической арены. Для
его существования, согласно всей теоретической и исторической
логике, уясненной широкими массами, не оставалось никаких ос
нований. Тем неожиданнее и загадочнее оказалось возрождение
«левого» терроризма в конце 60-х годов XX в., к тому же имев
шее место не только в развивающихся, но и ведущих капитали
стических странах.
1 Сор ель Ж. Размышление о насилии. М., 1931. С. 22.
2 Там же. С. 57.
3 Там же. С. 56.
4 Цит. по: Рахшмир П. Ю. Происхождение фашизма. М., 1981.
C. 46.
5 Beichman A. The war without
end / / Quadrant. 1978. Vol. 22. N 7.
P. 8.
6 Dispot L. La machine a terreur. P.,
1978. Р. 91.
7 Laqueur W. Terrorism. L., 1977.
Р. 75.
8 Цит. по: История фашизма в Западной Европе. М., 1978. С. 301.
9 Цит. по: Галкин А. А. Социология
неофашизма. М., 1971. С. 55.
10 Цит. по: Гейден К. История гермайского фашизма. М.; Л., 1935.
С. 159.
11 Primo de Rivera J. A. Revolution
national: Punto de falanga. Madrid, 1957. P. 12.
12 Цит, по: Гейден К. Указ. соч.
с. 167.
13 Там же. С. 274.
14 Цит. по: История фашизма в Западной Европе. С. 52.
15 Цит. по: Гейден К. Указ. соч.
С. 214.
16 Там же. С. 152.
17 Там же. С. 78.
18 Там же. С. 191.
19 Грачев А. С. Тупики политического насилия. М., 1982. С. 23.
20 Маркс К., Энгельс Ф . Соч. 2-е изд.
Т. 4. С. 432.
21 Цит. по: Ардаматский В. Возмездне. М., 1972. С. 226.
22 Цит. по: Гейден К. Указ. соч.
С. 152.
23 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 26.
С. 226.
Часть вторая
Глава первая
Латинская Америка
Современный «левый» терроризм нередко выступает под знаме
нем городской герильи. Этот термин был введен латиноамерикан
скими «левыми» террористами, рассматривавшими свою деятель
ность как форму осуществления партизанской борьбы (герильи)
в условиях города, и служил для оправдания и одновременно для
облагораживания террористической практики. С той же цельюон был заимствован «левыми» террористами буржуазных стран.
Латиноамериканская городская герилья, развернувшаяся в конце
60-х годов, была первой ступенью в становлении и развитии
современного «левого» терроризма в индустриально-развитых
странах, послужив ему непосредственным образом для подража
ния. В то же время между первым и вторым имеются заметные
социальные и типологические различия, они представляют две
разные формы современного «левого» терроризма.
Успех кубинской революции, неотделимый от общего подъема
национально-освободительной борьбы на южноамериканском кон
тиненте, доказал, что народ, поднявшийся на борьбу против ре
акционной диктатуры, поддерживаемой американским империа
лизмом, способен победить ее и, опираясь на международную
солидарность, избавиться от империалистического гнета. Кубин
ская революция практически подтвердила возможность перера
стания национально-демократической революции в социалистиче
скую. Наконец, она продемонстрировала эффективность тактики
партизанского «очага», способного в условиях революционной
ситуации в стране и широкого недовольства режимом стать базой
для формирования массового революционного движения.
В 60-е годы, в эпоху пробужденных успехом кубинской рево
люции надежд на осуществление подлинного национального ос
вобождения и прогрессивных преобразований, в странах латино
американского континента повсеместно происходил подъем демо
кратических, антифеодальных, антиимпериалистических движе
ний.
В зависимости от ситуаций в различных странах эти
движения принимали форму легальных массовых выступлений
105
самых широких слоев населения в крупных городах или парти
занской борьбы в сельской местности (герильи).
В этой борьбе, наряду с рабочими и крестьянскими массами,
студенческой молодежью, левыми партиями и профсоюзами,
участвовали и члены разнообразных левоэкстремистских органи
заций, признававшие в тот период как вооруженные (сельская
герилья), так и ненасильственные (забастовки, демонстрации,
митинги, марши протеста и т. д.) формы политической борьбы.
В ряде случаев использовались методы, которые несли в себе
отдельные элементы экстремистской тактики, однако обращение
к ним в начальный период было редким, а исход акции бескров
ным. Так, в 1963 г. члены венесуэльских организаций «Левого
революционного движения» (МИР) и Вооруженных сил нацио
нального освобождения (ФАЛН) с целью привлечения внимания
к выдвинутым требованиям похитили коллекцию демонстриро
вавшихся в стране произведений французской живописи (Сезанн,
Ван-Гог, Гоген, Брак, Пикассо), которую через несколько дней
вернули. Тогда же было захвачено на некоторое время грузовое
судно, с которого члены организации радировали свои требова
ния правительству, а также угнан самолет, с которого разбрасы
вались листовки над Каракасом. И все же, выдвигая свои макси
малистские требования и осуществляя отдельные экстремистские
акции, левацкие группировки в первой половине 60-х годов в
целом и не противопоставляли себя массовому движению.
Позднее, когда с помощью американского империализма в ря
де стран Латинской Америки утвердились авторитарные режимы
или упрочились национал-реформистские правительства, ориенти
ровавшиеся на сотрудничество с международным капиталом, мас
совые движения на континенте пошли на спад. Это послужило
многим из «левых» экстремистов основанием для отрицания
иных, кроме вооруженной, форм политической борьбы.
Они приняли участие в развертывании сельской герильи, что
наложило на нее отпечаток, который был назван Генеральным
секретарем Коммунистической партии Уругвая Р. Арисменди
«партизанщиной», бывшей, по его словам, одной из причин по
ражения сельской герильи 60-х годов 1. Неудачный исход сель
ской герильи, спад массового движения и свертывание револю
ционной ситуации стали для некоторых «левых» экстремистов
толчком к переходу к новой форме борьбы —городской герилье.
Существенным поводом для обращения к городской герилье
явились также осуществляемые военными диктатурами и пово
рачивающими вправо конституционными режимами репрессии
против всех левых сил. Можно сказать, что во многих странах
Латинской Америки оппозиционный «левый» терроризм был в
значительной мере спровоцирован государственным террором,
106
и обращение к крайним средствам борьбы экстремисты пытались
санкционировать величием провозглашаемых социальных целей.
В сознании многих из них городская герилья попросту яви
лась тактикой партизанской борьбы в новых условиях и на дру
гом плацдарме. Как показала жизнь, такое представление было
явно ошибочным. Хотя психологическая грань между участием
в сельской и городской герилье для некоторых из «левых»
экстремистов была достаточно тонкой и даже незаметной, между
тем и другим существует принципиальная разница. Сельская
герилья является определенной формой революционной народ
ной войны и содержит в себе потенциал для развертывания в
подлинно массовое движение. Городская герилья, даже если не
которые ее участники и пытаются удержаться в рамках деятель
ности, характерной для партизанской войны, неминуемо и быстро
сводится к чисто террористической практике, осуществляемой
оторванными от масс группами.
Эволюция экстремистской тактики в направлении к террориз
му решающим образом была связана не только с теми или ины
ми теоретическими посылками, но также и с конкретными об
стоятельствами, вынуждавшими людей, руководствовавшихся
установкой только на вооруженную борьбу, изыскивать все но
вые формы этой борьбы, стремясь одновременно сохранить пре
емственность со старыми. В силу этой преемственности латино
американские «левые» террористы были убеждены в .револю
ционном характере своих действий как на начальных, так и на
последующих стадиях городской герильи, когда бесперспектив
ность этих действий, неприятие и осуждение массами террористи
ческого активизма стали очевидными.
Характерная для региона острота социальных противоречий,
экономический и политический диктат империализма СШАГ
прямо или косвенно вмешивающегося во внутренние дела лати
ноамериканских государств, поддерживающего самые реакцион
ные силы и режимы, наличие в ряде стран континента военно
фашистских диктатур, лишающих массы элементарных свобод и
прав, подавляющих деятельность легальных организаций трудя
щихся, прибегающих к кровавым репрессиям, практически не
оставляют революционерам этих стран иной возможности, как
борьбы с оружием в руках.
Коммунистические партии, стремившиеся максимально ис
пользовать легальные возможности политической борьбы, вели
большую работу в массовых организациях трудящихся, проводи
ли политику организации широких фронтов левых сил, доби
ваясь в определенных условиях таких значительных результатов,,
как, например, победа Народного единства на выборах в Чилиг
в то же время прекрасно отдавали себе отчет, что для болыпин107
ства стран Латинской Америки вооруженные действия народа
являются наиболее или единственно целесообразной формой по
литической борьбы. «Мы всегда считали,—пишет Р. Арисменди,—что основным путем революционного процесса в Латпнской
Америке является вооруженный захват власти, обуславливаемый
империалистическим вмешательством и положением, сложившим
ся во многих странах» 2.
Не случайно такое широкое распространение на континенте
получила партизанская борьба. Герилья явилась «плодом со
циально-политической обстановки на континенте и его отпора
американскому империализму». В то же время, как указывал
Р. Арисменди, в сельской герилье участвовало и определенное
число людей, настроенных левоэкстремистски, «ошибочность тео
рии и политики» которых «была очевидной» 3. Так, обращение к
сельской герилье для многих латиноамериканских экстремистов
было связано с абсолютизацией вооруженной борьбы п сопро
вождалось обвинениями левых организаций, отрицающих такую
абсолютизацию, в «оппортунизме», «реформизме», «парламента
ризме», «предательстве революции». Доводом в пользу сельской
герильи стало для экстремистов и маоистское по духу утвержде
ние, что жизнь в городе является для революционера предатель
ством, поскольку город якобы «обуржуазивает» пролетариат, в то
время как деревня, горы «пролетаризируют» и крестьянство.
В этих рассуждениях примитивистское отрицание города как
средоточия «гнилой» и «антинародной» цивилизации, а также
наивная тяга к романтизированным трудностям п лишениям,
явно преобладали над здравым смыслом и трезвым политическим
расчетом.
Позднее часть экстремистов обратилась к концепции город
ской герильи и подвергла критике идею сельской герильи, уже
исходя из соображений, что эта стратегия не годится для стран
с большинством городского населения. В этих условиях, допол
няемых быстрой урбанизацией, как отмечали они, говорить об
«окружении города деревней» явно несерьезно. Поэтому идея
сельских «очагов» была заменена^ идеей «очагов» городских.
В то же время одна из причин поражения сельской герильи вы
водилась из того, что крупные партизанские отряды не имели
возможности уклониться от сражений с регулярными войсками.
Отсюда — предпочтение, отдаваемое гибкой структуре из мини
групп, осуществляющих тактику нанесения систематических мел
ких уколов врагу, отождествляемую с поеданием артишока,
от которого откусывается кусочек за кусочком.
Принципиально новым шагом в практике и теории террориз
ма было осознание его латиноамериканскими адептами 60-х го
дов возможностей использования современных средств массовой
108
информации. Собственно, одним из самых существенных аргу
ментов в пользу перехода от сельской герильи к городской и
было соображение о том, что «один акт в столице лучше, чем 10
на селе», поскольку любое единичное покушение в городе попа
дает на первые страницы газет, а выигранное в глубине сраже
ние может остаться незамеченным.
Вступая на путь террористического актпвизма, экстремисты
оперировали теми же общеполитическими понятиями и лозунга
ми, что и левые партии и профсоюзы. Они ссылались на опыт
успешных освободительных движений на континенте, трактуя его
упрощенно и односторонне, вне связи со всей совокупностью
конкретных обстоя! ельств и соотношения социальных сил, сло
жившихся в этих странах.
Латиноамериканские «левые» экстремисты считали себя рево
люционными марксистами и широко использовали вырванные из
социального и теоретического контекста марксистские положения
и понятия. Однако в эклектичной общей системе взглядов они
служили не более чем идеологической арматурой для национа
листических, популистских, троцкистских и маоистских идей.
Из убеждения, что в Латинской Америке в целом и в каж
дой отдельной стране постоянно и устойчиво наличествует рево
люционная ситуация, следовал вывод, что подготовку револю
ционного восстания можно начинать в любой момент и любом
месте. Конечно, в условиях Латинской Америки тезис об амери
канском империализме как «бумажном тигре» не мог выдвигать
ся без определенных коррективов, но волюнтаристская предвзя
тость при оценке «левыми» экстремистами социальных обстоя
тельств и соотношения классовых сил определяла характер их
стратегии.
Характерной особенностью южноамериканского континента
является то, что почти все существующие на его территории
страны находятся в более или менее одинаковом положении пе
ред лицом могущественного северного соседа. К этому добавля
ются общность исторических судеб, языковое и культурное
родство.
Поэтому широкими прогрессивными кругами достижение
реальной национальной независимости и осуществление глубоких
социальных преобразований рассматриваются как задачи обще
континентального масштаба. Лозунг «континентальной револю
ции» предполагает взаимопомощь левых сил на континенте.
Однако «левые» экстремисты, также используя этот лозунг, свя
зывают его с требованием обязательной и одновременной револю
ции во всех странах Латинской Америки. Это, в свою очередь,
становится еще одним доводом в пользу насильственного форми
рования революционной ситуации, невзирая на реальные усло
109
вия той или иной конкретной страны. Международная солидар
ность в их интерпретации выражается в расширении сферы сщ>ей деятельности, распространении ее с территории собственной
страны на территорию соседних стран и в непосредственном
вступлении в экстремистские организации этих стран.
Далее, сама подготовка массового восстания понимается не
как долгая идейно-воспитательная и организационная работа,
а только как пропаганда действием. Поэтому закономерно, что
неадекватность этой стратегии реальным социально-политиче
ским условиям привела определенную часть левых экстремистов
не просто к теоретической абсолютизации вооруженной борьбы,
а к практическому отождествлению ее с террористической так
тикой, подретушированной и «облагороженной» наименованием
городской герильи. За экстремистской практикой стояло убежде
ние, что любые, не только диктаторские, но и демократические,
правительства являются законным объектом «революционных»
атак, поскольку, во-первых, все они буржуазны, а во-вторых,
носят «антинациональный», («продажный» и «предательский»)
характер, являясь проводниками влияния империализма, орудия
ми реализации его диктата. Не говоря уже о предвзятости, неконкретности и во многих случаях ошибочности вытекающих из
этой позиции оценок различных правительств, из нее следует
полное уравнение различных условий политической деятельности
и утверждение правомерности вооруженной (а на деле террори
стической) борьбы в рамках как диктаторских, так и демократи
ческих режимов.
Для латиноамериканских экстремистов характерен явно упро
щенческий подход к историческому процессу, в частности игно
рирование специфических особенностей предстоящих революций
в различных странах. Стушевывались различия между демокра
тической и антифашистской, демократической и антиимпериали
стической революциями, более того, как правило, национальноосвободительная и социалистическая революции отождествлялись.
Исходя из реальной (доказанной опытом Кубы и некоторых дру
гих стран) возможности перерастания в определенных условиях
демократических революций в социалистические, они попросту
игнорировали разницу между этапами и конечную стадию про
цесса стремились выдать за начальную. Р. Арисменди писал,
что не было цельной революционной теории, а в качестве основы
мировоззрения левых экстремистов выступало определение на
ционализма: «Социализм в Латинской Америке будет национали
стическим, и наоборот» 4.
Между тем, от точного определения характера и задач пред
стоящей революции в значительной мере зависело и понимание
правомерности и целесообразности тех или иных средств
110
борьбы.
«„Мирный44 или „вооруженный*4 путь,—отмечает
Р. Арисменди,—может представиться или нет согласно тому или
иному революционному этапу» 5.
Абсолютизация вооруженной борьбы, а тем более ее террори
стической формы отчетливо свидетельствовала о том, что латино
американские поборники городской герильи исходили не из
реального анализа обстоятельств и серьезного учета расстановки
социальных сил, но из эмоциональных побуждений и предвзятых
логических конструкций *. Апологеты городской герильи освяти
ли движение обаятельным и героическим образом Че Гевары.
Преклоняясь перед его обликом, они тем не менее искажали его
боевой опыт и теоретическое наследие, выдавая частные тактиче
ские установки за суть его политического мировоззрения.
Гевара расширительно трактовал тактику партизанского
«очага», но самое главное, он не противопоставлял «очаг» мас
совому движению и не считал его первоисточником, в отличие
от тех, кто прикрывался потом его именем. Более того, вопреки
распространенным попыткам изобразить его сторонником только
и исключительно вооруженной борьбы, Гевара цризнавал, что
она применима далеко не во всяких социальных условиях. «Там,
где правительство пришло к власти через какую-то форму выбо
ров, мошеннических или нет, и где сохраняется хотя бы види
мость конституционной законности,—писал он,—там невозмож
но создание партизанского очага, поскольку остаются неисчерпан
ными возможности легальной борьбы»7”8. Наконец, Гевара
решительно высказался против террористической тактики, указы
вая, что она неминуемо приводит к отрыву от масс. Несостоя
тельны поэтому попытки пропагандистов террористической так
* Арисменди дает следующую обобщенную характеристику стратегических
установок латиноамериканских «левых» экстремистов: «Во-первых, пол
ное игнорирование кризисных факторов, указывающих на революционное
или предреволюционное состояние той или иной ситуации, пренебреже
ние соотношением сил и степенью готовности масс, недооценка полити
ческой обстановки и различий, существующих между режимами, когда
на одну доску ставились страны с демократическими институтами и ти
рании или фашистские государства, в силу чего проявлялось безразличие
к тому, закрыты или нет пути легальной и демократической работы, вы
движение элитистской концепции избранных групп, провозглашавших
самих себя авангардом и забывавших, что революция может быть только
делом рук народных масс, повторение в конечном счете старых домаркси
стских и бланкистских идей, легкое сползание к политической сенса
ционности и терроризму; во-вторых, возвеличивание метода в ущерб
классовым реальностям, теории и конкретной политической практике.
И в результате — сектантство и отказ от союзов и политики, ведущей
к ним, инфантилизм (недооценка профсоюзной, парламентской, пропаган
дистской и массовой работы); и, в-третьих, враждебное отношение к ком
мунистическим и рабочим партиям» 6.
111
тики объявлять Че Гевару своим непосредственным учителем и
вдохновителем, а себя его последователями.
Наибольшую роль в обосновании принципов городской ге
рильи сыграл Хуан Карлос Маригелла, руководитель террористи
ческой группы в Сан-Пауло. Маригелла был долгое время членом
Бразильской коммунистической партии и Исполнительной комис
сии ее ЦК. В середине 60-х годов, вскоре после военного пере
ворота в Бразилии, Маригелла был исключен нз партии за авантюристически-сектантскую деятельность, нападки на партию с
левацких позиций, а также за пропаганду немедленного обраще
ния к вооруженной борьбе. Маригелла явился теоретиком город
ской герильи, автором настольной книги террористов всего мира
«Мини-учебник городской герильи». Он был организатором и ру
ководителем герильи в Сан-Пауло.
Маригелла исходил из убеждения, что «каковы бы ни были
обстоятельства, долг революционера делать революцию»9, что
означало для него принципиальный отказ от «политического ре
шения». Основная стратегическая идея заключалась в том, чтобы
посредством насильственных акций превратить политический
кризис в вооруженный конфликт и этим вынудить власти «транс
формировать политическую ситуацию в военную». А такая си
туация, по Маригелле, заставит массы «взбунтоваться против
армии и полиции» 10.
Таким образом он фактически снимал вопрос о том, револю
ционна или нереволюционна данная ситуация, заложены или не
заложены в ней возможности для быстрого развития массовой
борьбы, подменяя его установкой на насильственное формирова
ние революционной ситуации. Точно так же вопрос о политиче
ской целесообразности тактики вооруженной борьбы в данных
конкретных обстоятельствах он подменял предвзятым утвержде
нием, что они не оставляют иного выбора, кроме как обращение
к вооруженной террористической борьбе, поскольку сами харак
теризуются наличием двуединого террора сверху: с одной сторо
ны, военной диктатурой или угрозой ее установленпя, с дру
гой—так называемым террором «индустрии сознания». В этих
условиях, считает Маригелла, понятие «террорист» не содержит
в себе того отрицательного смысла, который был справедлив ра
нее. «Быть террористом в наши дни делает честь каждому чело
веку доброй воли, так как это значит бороться с оружием в ру
ках против постыдной военной диктатуры и ее ужасов» 14.
С пониманием относясь к мотивам, которыми руководствовал
ся Маригелла, нельзя тем не менее не отметить, что вооружен
ная борьба и терроризм в его трактовке оказываются тождест
венными понятиями. Более того, его концепция предполагает
использование террористических методов не только в условиях
112
диктаторских режимов. «Терроризм,—пишет он,—это оружие*
от которого революционер никогда не откажется» 12.
Чтобы подтолкнуть массы к решительным действиям, с точки
зрения Маригеллы, требуется непосредственный пример таких
действий. В то же время Маригелла не отрицал, как это делали
некоторые его последователи, значения легальных массовых ор
ганизаций, но полагал возможным параллельное развертывание
легальной и нелегальнок борьбы. Подчеркивая, что террористи
ческие группы должны быть не «вооруженной рукой» каких-либо
партий, но «вооруженной рукой» народа, Маригелла аргументи
ровал это, в частности, заботой о том, чтобы действия террори
стов не были использованы в качестве поводов для репрессий
против легальных организаций. Однако сами эти организации,
по его мнению, не способны подготовить массы к восстанию,
в силу чего и возникает потребность в подпольных террористи
ческих группах.
Герилья, по Маригелле, преследует две основные цели: физи
ческую ликвидацию верхушки армии и полиции и экспроприа
цию у правительства, крупных собственников, иностранных
монополий средств на революционную работу. Кроме того, она,
с точки зрения Маригеллы, имеет перспективную политическую
задачу: провоцировать репрессии со стороны правительства, что
бы сделать жизнь для масс «невыносимой», что и должно заста
вить их возмутиться и восстать против режима.
Своими акциями герилья должна подрывать силу и автори
тет власти, демонстрировать ее неспособность успешно защи
щаться против атак со стороны вооруженной оппозиции. Резуль
тативность этих атак призвана послужить аргументом в пользу
целесообразности и эффективности городской герильи, доказа
тельством возможности конечной победы над правительством.
Характерно, что заинтересованность Маригеллы в участии рабо
чих в городской герилье диктовалась преимущественно тем, что
они, будучи лучшими специалистами, чем террористы-гуманита
рии, могли бы взять на себя осуществление промышленного са
ботажа. Особую важность для последователей имели его органи
зационные и тактические заветы. Маригелла считал, что террори
стическая организация в стране должна складываться из авто
номных групп, связанных друг с другом и с центром не столько
организационно, сколько идеологически. Он решительно предо
стерегал против опасности, таящейся в излишней централизации
и иерархичности организации и отстаивал право отдельных групп
самостоятельно планировать и осуществлять операции. Исходя
из принципа «горстка борцов может обрушить лавину», Маригел
ла к самим этим борцам предъявлял высокие человеческие и
профессиональные требования.
ИЗ
Судьба герильи, по Маригелле, зависит от идейного и нравст
венного облика ее участников. Он постоянно подчеркивал, что
юрильерос призваны руководствоваться не принципом личной
корысти, но политическими целями, и предостерегал своих сто
ронников от соскальзывания с этой платформы. «Герилья разо
вьется и упрочится,—писал он,—только в том случае, если най
дутся люди, которые могут действовать и не терять нравственно
сти» 13. Маригелла требовал относиться к делу герильи ответст
венно п профессионально. Он подчеркивал, что этапу непосред
ственной террористической активности должен предшествовать
период серьезной подготовки, включающей тренировку бойцов и
самообеспечение организации. Логика самообеспечения организа
ции, начинающей с нуля, сводится, по Маригелле, к формуле
MG WMS, что означает: Моторизация, Деньги, Оружие, Боепри
пасы, Взрывчатка. Кроме того, сам процесс осуществления опе
раций таких, например, как ограбление банков, имеет важное
воспитательное и практическое значение, является «школой для
революционера ».
Основными объектами атак для Маригеллы являлись: во-пер
вых, люди и учреждения, символизирующие режимы, во-вторых,
репрессивные силы и их конкретные представители, в-третьих,
иностранные (прежде всего североамериканские) фирмы и уч
реждения, а также их служащие. Террористические акции, на
правленные против последних, расценивались Маригеллой как спе
циальная форма «протеста против проникновения и господства
империализма»14. Задачи операций заключались в нанесении
материального ущерба противнику, его деморализации, добыва
нии необходимых для деятельности средств, освобождении аре
стованных соратников, пропагандистском эффекте. Маригелла
формулирует ряд условий, необходимых для успешного осуществ
ления
акций; главное из них —неожиданность. Необходимо
захватывать противника врасплох, лучше него знать поле боя,
иметь лучшую информацию, быть более подвижным н маневрен
ным, а также обладать высокой решимостью. Тактика проведе
ния самих акций должна быть, во-первых, наступательной, ибо
для обороны у террористов сил недостаточно; во-вторых,
с целью сбережения сил должна проводиться по принципу вне
запной атаки и быстрого отступления («бей и беги!»). Важную
роль Маригелла отводил освещению террористических акций в
печати. Европейские «левые» террористы многим обязаны Ма
ригелле, и не только в области тактической и организационной.
Он разработал и систему политических обоснований и даже
нравственных оправданий терроризма, которыми воспользовались
его подражатели, далеко перешагнув за пределы установленных
Маригеллой моральных границ. Они активно эксплуатируют и
114
сам образ рано погибшего пионера городской герильи, создавав
группы его имени и т. д.
В конце 60-х годов левотеррористические организации созда
ются в ряде стран Латинской Америки.
Вероятно, наиболее знаменитой и во многом наиболее удачли
вой являлась вооруженная организация уругвайских экстреми
стов «Движение за национальное освобождение» (МНР), болеа
известная под названием «Тупамарос». Выступившее в условиях
кризиса уругвайского демократического режима, движение тупа
марос было порождено радикализацией средних слоев, из этих
слоев происходило большинство его участников, в основном сту
денческая молодежь.
Многие из них, начиная с основоположника движения Рауля^
Сендика, вели до определенного момента плодотворную профсо
юзную работу, участвовали в деятельности различных массовых
и общественных организаций. К тактике городской герильи (еще
до того, как возникло само это понятие) они обратились в ре
зультате преследований со стороны властей, придя к выводу о
невозможности осуществления прогрессивных социальных преоб
разований мирным путем.
В отличие от европейских «леваков» тупамарос не третирова
ли свой народ, а были исполнены искренней любовью к нему,
стремлением к его освобождению от империалистического, капи
талистического и феодального гнета. Как и остальные латиноаме
риканские экстремисты, они вовсе не обвиняли массы в «обуржуазиванин» (что было и невозможно в условиях Латинской
Америки), но, наоборот, исходили из мысли, что последние уже
достаточно «политизировались», однако еще не дозрели до осо
знания необходимости вооруженного восстания. Городская ге
рилья и должна была служить, по их мнению, импульсом к даль
нейшей политизации массового сознания. «Тупамарос —это на
род, народ—это тупамарос!» —провозглашали они. Лозунг по
казательный для представлений тупамарос о самих себе, но ли
шенный какой бы то ни было основательности. Не случайно,
хотя тупамарос и считали рабочий класс своей естественной ба
зой и пытались вербовать сторонников в пролетарской среде, в их
движении, насчитывавшем по некоторым (вероятно, все-так ж
преувеличенным) сведениям в период его апогея до пяти тыс.
человек, приняли участие всего 12 рабочих.
Тупамарос поначалу не противопоставляли себя массовым
легальным организациям, считали, что нельзя «определять свое
политическое лицо посредством нападок на другие левые груп
пировки» 15. Даже в разгар вооруженной активности они не от
казывались от иных форм борьбы, принимая участие в антипра
вительственных демонстрациях и даже в парламентских выбо115
pax, как это имело место в ноябре 1971 г., когда они выступи
ли в составе
«Широкого фронта», получившего около
20% голосов.
Опять-таки в отличие от своих европейских подражателей
тупамарос не ограничивались при оправдании своих методов
абстрактным провозглашением идеи социализма и не сводили
свои непосредственные задачи только к насильственному разру
шению существующей системы. Они имели и вполне реалисти
ческую, подробно разработанную программу-минимум, в принци
пе сходную с программами массовых п политических левых
организаций. Она включала завоевание экономической независи
мости, подразумевающей национализацию иностранных пред
приятии и банков, земельную реформу, меры по улучшению
жизни трудящихся, расширению и обеспечению прав профсою
зов и т. д. От профсоюзов и левых партий их отделяли,
по мнению самих тупамарос, вопросы именно тактические, а не
программные. Именно тактические принципы тупамарос приоб
рели решающее значение в их деятельности, в политическом
сахмоопределенин организации. Такое понимание задач способно
свести к минимуму значение программы, ради реализации кото
рой они избраны, и даже вовсе разойтись с ней. История тупа
марос —наглядный пример тому. Отмечая противоречия между
устремлениями и реальным результатом деятельности тупамарос,
отвергая их концепцию революции, Коммунистическая партия
Уругвая считала их «честными революционерами» 16 и, пока это
было возможным, старалась убедить в ошибочности избранной
тактики.
^Тупамарос впервые заявили о себе в 1967 г., совершив налет
на швейцарский стрелковый клуб с целью захвата оружия.
На начальных этапах своей деятельности их основными приема
ми стали нападения на банки, конторы, склады, временные за
хваты небольших городков, с одной стороны, и политические по
хищения — с другой. Наконец, специальной задачей являлось
добывание и публикация документов, компрометирующих прави
тельство и вскрывающих коррупцию в верхах. В этом им оказы
вали помощь многие видные представители интеллигенции.
Тупамарос культивировали образ Робин Гуда и, овладев теми
или иными материальными ценностями, в значительной части
использовали их для помощи бедным слоям населения. Так, со
вершив в феврале 1970 г. налет на крупнейший игорный дом
страны, они раздали рабочим четверть миллиона песо. Известны
случаи нападений на склады, магазины, грузовики с товарами с
целью раздачи этих товаров населению. При экспроприациях в
банках по возможности возмещались потери мелких вкладчиков.
Среди их акций были и такие, как предъявление ультиматумов
116
предпринимателям и даже похищение последних с целью заста
вить их принять требования бастующих.
Обладая значительными денежными средствами, добытыми
посредством экспроприаций и выкупов, а также и поддержкой в
определенных слоях общества, тупамарос создали разветвленную
сеть складов оружия, тайных убежищ, мастерских и даже госпи
талей. Была предпринята попытка организовать так называемые
«народные суды» и «народные тюрьмы» с целью создать впечат
ление о наличии в стране «второй власти», не менее, могущест
венной, чем правительственная. В какой-то мере это было пропа
гандистским приемом, в какой-то иллюзией. Угроза нападения на
представителей социальных верхов и даже успех ряда политиче
ских покушений еще не означают осуществления подлинной по
литической власти.
На начальной стадии тупамарос широко практиковали похи
щения заметных деятелей собственной страны, считая, что это
может больше скомпрометировать правительство, чем похищение
иностранцев. Политические похищения не сопровождались в этот
период выдвижением каких-либо политических или материаль
ных требований, но служили лишь для демонстрации правитель
ству и массам силы и возможностей тайной организации. Сравни
тельно долго осуществлялись бескровные «символические» акции,
такие, как внезапные ночные визиты к крупным полицейским
чинам и государственным служащим. Дважды тупамарос похи
щали, допрашивали и освобождали видного сотрудника юстиции,
передавая полученные на допросах данные в печать.
Начиная с 1970 г. тупамарос по примеру экстремистов дру
гих стран начали осуществлять систематические похищения ино
странных подданных и предъявлять традиционные требования
выкупа и освобождения из тюрем своих соратников. Так,
3 июля 1970 г. ими были захвачены бразильский консул и два
американских чиновника. Консул был продержан в убежище
7 месяцев и освобожден 2 февраля 1971 г. за 250 тыс. долларов.
Наиболее знаменитая из акций —похищение посла Великобри
тании Дж. Джексона, за предоставление свободы которого тупа
марос требовали освобождения 150 человек. Джексон пробыл в
заключении около 6 месяцев, требование правительство не при
няло, но пленник не был убит, хотя выпустили его после побега
106 заключенных.
Для тупамарос длительное время было, свойственно парадок
сальное противоречие между принципиальной установкой на тер
рор и несовместимым с этой установкой стремлением избегать
жестокости и кровопролития. Так, первой из намеченных ими
кандидатур для захвата в целях освобождения 150 заключенных
был американский агросоветник доктор Клод Флай, человек с
117
сердечным заболеванием. Похитившие его тупамарос удостовери
лись в этом (для чего привезли в тайное убежище врача) и
выпустили. Когда при попытке захвата двух американских офи
церов один оказал сопротивление и был убит, этот исход, не
смотря на твердое убеждение тупамарос в том, что погибший:
был агентом ЦРУ, вызвал большие раздоры в их рядах.
Тупамарос значительно строже, чем их европейские (и не
которые латиноамериканские) последователи, отбирали объекты и
мишени своих атак. Они обращались с пленниками корректно*
не допуская грубостей и издевательств по отношению к ним.
Просидевший в тайной тюрьме полгода Дж. Джексон отозвался
о них с немалой долей личной симпатии.
Героические идеалисты, тупамарос пользовались сочувствием
в обществе, чему немало способствовал размах оппозиционных
настроений в образованных слоях. Им помогали некоторые пред
ставители буржуазии, а также духовенства. Симпатии к тупама
рос привлекались их личными бескорыстием и жертвенностью.
Тупамарос, по мнению У. Лакёра, которого в снисходительности
к терроризму никак не заподозришь, были «одними из самых
привлекательных латиноамериканских террористов» 17.
Однако логика террора непреклонна. Начиная с 1970 г., после
введения в стране чрезвычайных законов, тупамарос в ответ на
применение самых зверских пыток и убийств членов организации
сотрудниками репрессивных органов, в свою очередь, развернули
охоту за последними. В начале 1972 г., незадолго до своего раз
грома, они уже открыто ставят перед собой основную задачу
«развязать прямую и систематическую атаку на репрессивные
силы», практически сводившуюся к стремлению отвечать смертью
на смерть.
В абстракции, осознавая необходимость связи с массами, ту
памарос в силу их идейно-политических установок оказываются
не в состоянии эту связь установить и упрочить. Наоборот, углуб
ляя свою террористическую деятельность, они все более и более
лишались поддержки и сочувствия масс. Это вынуждено было
признать в выпущенном в марте 1972 г. документе само руковод
ство МНР, констатировавшее, что массы их не понимают. В то
же время, критика тактики тупамарос со стороны левых партий
Уругвая была воспринята с явной враждебностью и вызвала их
нападки. «Против народа объединились политики всех оттенков:
правые и левые» 18,— заявляли тупамарос, продолжавшие отож
дествлять себя с «народом» и зачислявшие в единый «антинарод
ный» лагерь всех, кто возражал против их террористической
практики.
История движения тупамарос глубоко трагична. Трагична уже
потому, что большинство его участников погибло в ходе воору118
жецных столкновений или в полицейских застенках. Трагична и
потому, что, искренне веруя в собственную революционность и
всей душой стремясь к освобождению народа, тупамарос не толь
ко не достигли поставленных ими целей, но в известной мере и
облегчили правым силам выполнение реакционных замыслов.
Можно и должно разоблачать лицемерные и демагогические
приемы буржуазной политологии, которая, пользуясь удобным
случаем, пытается видеть главную причину реакционно-тоталита
ристских переворотов в ряде демократических стран Латинской
Америки в деятельности левоэкстремистских организаций, воз
лагая на них всю вину за эти перевороты и оставляя в *гени
главную двигательную силу —империалистическую реакцию.
Однако тот факт, что левоэкстремистский терроризм способство
вал этим переворотам, с одной стороны, давая армии прекрасный
повод для вмешательства, с другой —ослабляя и компрометируя
освободительное движение, а с третьей —вызывая панические
настроения, жажду порядка и желание иметь сильную власть у
широких обывательских масс, неоспорим.
Тупамарос были самыми популярными из латиноамерикан
ских террористов среди европейских «левых» экстремистов. Одна
из первых западногерманских левотеррористических групп назы
валась «Тупамарос Западного Берлина». Эта популярность осно
вывалась не только на романтическом облике тупамарос, отра
зившемся в изданной ими и высокоценимой западноевропейскими
«левыми» экстремистами книге «Мы —тупамарос», но и на том.
что тупамарос развернули свою борьбу в условиях демократиче
ской страны, а потому их опыт обладал особой привлекатель
ностью и поучительностью для европейских последователей.
Переходя к рассмотрению других левотеррористических орга
низаций на континенте, следует сразу же подчеркнуть, что между
ними и тупамарос имеется принципиальное идеологическое, по
литическое родство. Это родство не отменяет наличия некоторых,
а подчас довольно заметных различий между тупамарос и их не
посредственными латиноамериканскими последователями. В ос
нове различий лежат два фактора.
1. Тупамарос, будучи пионерами городской герильи, вступи
ли на этот путь стихийно, постепенно уточняя и формируя свою
тактическую линию. Бразильские, аргентинские и некоторые
другие латиноамериканские левотеррористические организации,
уже имевшие перед глазами опыт тупамарос, а также к момен
ту начала своей деятельности вооруженные созданным Маригеллой мини-учебником, вступили на путь городской герильи совер
шенно сознательно.
2. В отличие от тупамарос, действовавших в условиях эволюционизирующего вправо, но демократического режима, их после
119
дователи развертывали свою активность в странах, где господст
вовали военные диктатуры. В силу этого переход бразильских и
особенно аргентинских экстремистов к чисто террористической
тактике прошел значительно быстрее, а число их жертв намного
превышает число жертв тупамарос. Они с самого начала постави
ли своей задачей «создание климата напряженности» путем унич
тожения «столпов власти»19. Идея прямого действия сразу же
была воспринята ими в ее абсолютной полноте. Если формула
тупамарос гласила: «Слова разъединяют нас, действия соединя
ют» 20, то соответствующая ей формулировка аргентинских тер
рористов звучала так: «Никаких долгосрочных прогнозов, ни
каких стратегий и тактик, никакой болтовни по этим вопро
сам» 21. В их исходных мотивациях первостепенное место занима
ло стремление к возмездию. «Настало время перестать оплакивать
смерть наших... настало время для врага получить свою долю
горя»22,—заявили в одном пз своих первых документов арген
тинские левотеррористы.
В отличие от Уругвая, где городская герилья осуществлялась
в условиях единой для страны организации, в Бразилии дейст
вовало несколько самостоятельных левотеррористических групп.
Наиболее сильными и известными из них являлись Националь
ное освободительное действие (AJIH), Народно-революционный
авангард (ВПР), Авангард революционной армии (ВАР). При
чины такой раздробленности —и в предшествующей раздроблен
ности экстремистских групп разной идеологической ориентации,
и в географических особенностях огромной страны с ее отдален
ными друг от друга крупными городами.
Численность членов этих организаций по-разному оценивает
ся в печати: от нескольких сотен до тысячи. Ими были соверше
ны многочисленные покушения, нападения на склады оружия,
банки, иностранные фирмы и прямые вооруженные атаки на чи
нов полиции и армии. Характерной чертой деятельности бразиль
ских террористов были систематические похищения иностранных
дипломатов —представителей развитых капиталистических стран.
Так, 4 декабря 1969 г. был похищен посол США в Бразилии.
14 марта 1970 г.—генеральный консул Японии в Сан-Пауло,
5 апреля 1970 г. совершено неудавшееся покушение на консула
США в Порту-Алегри, который оказал сопротивление и был ра
нен. Несколько позднее был похищен посол ФРГ в Бразилии,
а в конце 1970 г.—посол Швеции. В отличие от случаев похище
ния администраторов крупных иностранных фирм, в уплату за
освобождение которых требовался преимущественно денежный
выкуп, при похищении иностранных дипломатов выдвигались по
литические требования, связанные с публикацией деклараций и
освобождением заключенных. Бразильские военные власти, по
120
началу захваченные врасплох, как правило, вынуждены были со
глашаться на требования террористов.
С течением времени репрессивные органы обрели опыт и ста
ли все с большим успехом подавлять деятельность террористиче
ских групп и подвергать их разгрому. Благодаря признаниям,
вырванным пытками, п деятельности осведомителей, засланных
во все основные террористические организации Бразилии, поли
ции и армии удалось проникнуть в их планы, массовыми аре
стами запугать и оторвать от них сочувствующие слои, лишив их
убежищ и всякой другой помощи. В сентябре 1969 г. был убит
в результате предательства К. Маригелла, в октябре 1970 г.—
его преемник К. Феррейра. В этому времени число бразильских
террористов резко падает (до 50 человек) и они вытесняются из
крупных городов. Последний их лидер, бывший армейский офи
цер Карлос Ламарка, убит в сельской местности в сентябре
1971 г.
Бразильские террористы одними из первых проделали зако
номерную для «левого» терроризма эволюцию: выступая против
жестокости режима и намечая в качестве объекта покушений по
началу лишь особо виновных перед народом представителей вла
сти, они логикой борьбы неизбежно должны были расширить
круг своих жертв, особенно в период, когда, подвергаясь пресле
дованиям со стороны властей, в целях обеспечения своей безопас
ности убивали неосторожно подошедшпх к их убежищам кре
стьян, а также водителей и владельцев необходимых им тран
спортных средств. Всего же в течение трех лет бразильскими
террористами было убито около 100 человек.
Много общего с уругвайскими и бразильскими террористами
имеет и третье мощное левотеррористическое течение в Латин
ской Америке —аргентинское, представленное прежде всего та
кими организациями, как «Революционная народная армия»
(ЕРШ п «Революционная вооруженная сила» (ФАР), или монтанерос. Это разделение национальной городской герильи на два
крупных отряда во многом объясняется сложностью политиче
ской обстановки в стране и наличием различных направлений оп
позиционных сил. Характерной особенностью левого экстремиз
ма в Аргентине, представлявшего в основном, как и в других
странах Латинской Америки, средние и мелкобуржуазные слои,
является более широкая, чем где-либо, социальная база, что,
в частности, выразилось в заметной поддержке их профсоюзами
н некоторыми секторами перонистского движения. Это, однако,
не только не поколебало убеждения лидеров аргентинского «ле
вого» экстремизма в том, что революционным авангардом при
звана быть интеллигенция, но скорее укрепило их в этом убеж
дении. В руководстве ЕРП и ФАР только один человек, Сабино
121
Наваро, глава «Монтанерос» в 1970—1971 гг., был рабочим.
ЕРП и «Монтанерос» были в период наивысшего размаха сво
ей деятельности организациями редкой, если не исключитель
ной, для террористов многочисленности. Так, число членов ЕРП,
возникшей в 1970 г., к 1974 г. достигло по оценкам специа
листов 5 тыс. человек. Кроме самих аргентинцев, в состав ЕРП
вошли многие из эмигрировавших «левых» террористов других
стран континента. Еще большее число членов приписывается перонистской монтанерос —25 тыс. Цифра эта выглядит явно пре
увеличенной и, видимо, охватывает как непосредственных акти
вистов, так и во много раз превышающую их численно массу
сторонников этой организации, участников стихийных бунтов
и стычек.
ЕРП обладала хорошо разработанной организационной струк^ турой, что обеспечило ей ведущее место в ряду аргентинских тер
рористов и влияние на нетеррористические экстремистские орга
низации, а позднее дало возможность выжить после ударов, на
несенных военными правительствами. В 1970—1971 гг. наряду с
осуществлением акций индивидуального террора ЕРП предприни
мает ряд действий, близких к военным операциям: нападения на
полицейские участки, аэродромы и военные лагеря. Однако все
эти акции, не получив подлинно массовой поддержки, в конечном
счете окончились неудачей. После этого террористы вернулись к
уже ставшему традиционным методу действий: индивидуальному
террору, политическим похищениям, грабежам.
Первой серьезной операцией ЕРП было нападение на поли
цейский участок в Россарио в сентябре 1970 г. с целью обес
печения себя оружием. В начале 1971 г. в банке города Кордо
вы ими было «экспроприировано» 300 тыс. дол. В 1970 г. в ка
честве мести за расстрел 19 захваченных после побега узников
ими было убито 5 сотрудников репрессивных органов. ЕРП и
ФАР осуществляют ряд покушений на высокопоставленных
правительственных деятелей и военных. Наиболее важным и из
вестным из них было убийство в 1969 г. вице-президента респуб
лики генерала Арамбуру. Аргентинские террористы осуществля
ли систематические похищения иностранных дипломатов, считая,
что такие акции приносят наибольшие затруднения правительст
ву и не шокируют массовое общественное мнение.
Несколько позднее они сделали главным объектом своих атак
иностранные фирмы и их представителей в Аргентине. В таких
акциях, с их точки зрения, совмещались антиимпериалистиче
ские выступления и возможность получения крупных средств.
29 мая 1971 г. ими был похищен служащий «Свифт Мит Пекинг
Компани» Стенли Сильвестр, освобожденный за 52,5 тыс. дол.
Несколько позднее такая сумма выкупа представлялась ар ген122
тинским террористам уже ничтожной, и в 1972—1974 гг. речь
шла только о миллионных выкупах. За похищенного в марте
1972 г. высокопоставленного служащего отделения ФИАТ в Бу
энос-Айресе уже был затребован 1 млн. дол. п освобождение
50 заключенных. ФИАТ согласился уплатить выкуп, но прави
тельство отказалось выпустить арестованных и потребовало от
фирмы прекращения переговоров с террористами под угрозой
-быть объявленной «незаконной ассоциацией». Раскрытое убежи
ще было взято штурмом, однако террористы успели убить залож
ника. Это сыграло свою роль в том отношении, что доказало
решимость террористов на крайние меры и вынудило в дальней
шем принимать их требования. В апреле 1973 г. был захвачен
ответственный технический руководитель фирмы «Кодак» Антони
Ди Крус, освобожденный за 1,5 млн. дол. В мае 1973 г. была сде
лана попытка захватить представителя «Форд Мотор Компани»,
получившего ранение, но отбитого охраной. Широко использова
лась аргентинскими террористами и гангстерская практика рэ
кета, вытягивание с промышленников крупных сумм за отказ от
нападения на них и их предприятия.
В мае 1973 г. ЕРИ шантажировала само правительство Перона, требуя от него 1 млн. дол. «в качестве финансовой помощи
революционной борьбе». С этой целью был захвачен заложник в
лице высокопоставленного аргентинского чиновника Арена Бейлинсона. 6 июня был захвачен представитель «Акрос Стил», вы
купленный за 2 млн. дол.
Показательны две следующие акции террористов: первая из
них —похищение чиновника американской шинно-каучуковой
компании Айерстона —Джона Р. Томсона. Акция была осуществ
лена 10 террористами в момент возвращения Томсона с планта
ции, на дороге, которая была блокирована 5 машинами. В этот
момент дорога была запружена толпами людей, направлявшихся
на встречу возвращавшегося в страну Перона. В завязавшейся
перестрелке было ранено около 100 человек. Это был первый
(но далеко не последний) случай, когда при осуществлении тер
рористической акции была пролита кровь посторонних людей.
Томсон был освобожден за 3 млн. дол. Наконец, в декабре 1973 г.
был похищен служащий «ЭКСОНА» Виктор Самуэльсон, за ко
торого спустя 5 месяцев был уплачен рекордный выкуп* в
14,2 млн. дол. Всего с 1970 по 1974 г. аргентинская ЕРП полу
чила посредством экспроприаций и киднэпингов от 50 до
100 млн. дол. Для сравнения отметим, что, по данным У. Jlaкёра, тупамарос и бразильская АЛН приобрели теми же спосо
бами от 5 до 10 ‘млн. дол. Впрочем, 14,2 млн. дол. недолго ос
тавались рекордной суммой: в 1979 г. ЕРП был получен выкуп
в 40 млн. дол.
123
Такие крупные суммы могут поразить воображение читате
ля, решившего по незнанию дела, что правления фирм гуманно
выкладывают миллионы во имя спасения своих служащих. На
деле механизм выглядит иначе. Крупные страховые фирмы,
и прежде всего всемирно известный «Ллойд», заключают с про
мышленными компаниями договоры о страховке от различного
рода несчастных случаев, включая похищение. Дело это обоюдно
выгодное, поскольку, выплачивая даже крупные суммы, страхо
вые фирмы имеют барыш от получаемых взносов, а промышлен
ные компании не теряют зря своих средств, которые, в случае
если бы они оставались у них в виде чистой прибыли, были бы
в значительной мере поглощены налогами.
Как и тупамарос, монтанерос и ЕРП активно культивировали
в начале своей деятельности образ Робин Гуда и брали с захва
ченных высокопоставленных служащих иностранных компаний
выкуп в форме продуктов питания и одежды для бедняков,
школьных принадлежностей для детей. Это создавало им опре
деленную популярность в массах. Возвращение к власти Нерона
в 1973 г. внесло существенные коррективы в условия деятельно
сти террористов. В то время как проперонисты-монтанерос в этих
условиях отказываются от продолжения террористическом борь
бы, ЕРП ее ^продолжает, но видоизменяет цели и тактику. Экс
проприаций, проводившиеся ими, осуществлялись уже только
ради удовлетворения потребностей организации и обеспечения ее
борьбы, но не связывались с задачей помощи бедствующим мас
сам. Террористические покушения обретали все новые и новые
адреса, распространяясь, в частности, и на умеренных политиче
ских деятелей и даже на председателей рабочих касс.
Правительством Перона ЕРП была поставлена вне закона.
Однако в период кратковременного правления Перона активность
ЕРП не была подавлена. В условиях нестабильной власти и об
щей дезорганизации жизни страны полиция не смогла эффектив
но бороться с террористами. Во многом спровоцированный терро
ристами и, во всяком случае, облегченный ими приход к власти
военных правой ориентации оказался фактором, предрешившим
разгром террористического движения в Аргентине. Основная мас
са террористов была либо арестована, либо вытеснена из горо
дов. Некоторое время ЕРП и монтанерос, наладив координацию
действий, удерживались в сельских местностях, но их вооружен
ные отряды были разбиты и там. После ударов, нанесенных воен
ными правительствами, ФАР на долгое время фактически пре
кратила свое существование, хотя отдельные ее уцелевшие чле
ны продолжали пользоваться наименованием монтанерос, ЕРП
же как организация до конца уничтожена не была. Небольшие ее
группы продолжали систематически давать о себе знать в Арген
124
тине. Более того, в середине 70-х годов EPI1 стала инициатором
организации общелатиноамериканской экстремистской Хунты ре
волюционной координации. В эту хунту вошли: ЕРП, уцелевшие
осколки уругвайского МИР, боливийской, чилийской террорист!!ских организаций. Базу и средства для деятельности хунты предо
ставляет ЕРП, внесшая в момент ее создания 5 млн. дол. Орга
низация призвана координировать террористическую деятель
ность в рамках континента и оказывать помощь по ее прове
дению. Более того, в планы организации входило распространение
этой деятельности и за пределами континента. В общих планах
хунты предусматривалась возможность серии покушений на ла
тиноамериканских дипломатов в Европе. Эти акции, равно как
и похищения служащих мультинациональных монополий, зани
мающих весомые позиции в экономике латиноамериканских стран,
осуществлялись ею на европейской территории и в позднейшие
годы. Хунта наладила тесные контакты с террористами ряда
стран на других континентах, осуществив несколько террористи
ческих актов во взаимодействии с ними. Опыт латиноамерикан
ского терроризма был во многом воспринят левоэкстремистскими
движениями за пределами континента. Он широко использовался
рядом левоэкстремистских организаций националистического
типа в некоторых азиатских, африканских, а также европейских
странах. Традиции латиноамериканского терроризма специфиче
ски преломлялись и воспринимались «левыми» экстремистами
развитых капиталистических стран применительно к их концеп
циям «социалистической революции». Этому в немалой степени
способствовал и тот факт, что после установления в ряде стран
Латинской Америки военных диктатур сотни латиноамериканских
террористов разъехались по всему свету и вступили в прямой
контакт с экстремистами стран, в которых они нашли пристани
ще, нередко играя важную роль в формировании и деятельности
местных террористических организаций.
В условиях большинства стран латиноамериканского региона
обращение к вооруженным формам борьбы правомерно и це
лесообразно. Однако наличие оснований для такого обращения
не есть оправдание для псевдореволюционной террористической
тактики, равно как критика этой тактики не является отрица
нием вооруженной борьбы. Проблема городской герильи заклю
чается вовсе не в том, что она, как утверждают ее сторонники,
является альтернативой примирению с действительностью и со
циальной пассивности. Реальный водораздел пролегает не здесь,
но между сектантскп-экстремистской деятельностью и массовой
борьбой, между псевдореволюционностью и подлинной револю
ционностью. Претендующие на то, чтобы свести всю политиче
скую деятельность масс к вооруженным выступлениям, а воору125
зкенную борьбу низвести до городской герильи, экстремисты в
конечном счете не только наносили прямой ущерб своему народу
и делу освободительной борьбы, но еще и давали реакционным
идеологам желанный повод для того, чтобы, ссылаясь на их ав
торитет как «революционеров», компрометировать эту борьбу пу
тем отождествления национально-освободительных движений с
терроризмом.
Не является оправданием тактики городской герильи и то,
что к ней обращались зачастую люди, искренне веровавшие в то,
что таким способом можно создать условия для свержения реак
ционных режимов и осуществления народной революции. Из того,
что сахми эти люди были честными революционерами, не следует,
что и данная тактика была революционной. Тот факт, что многие
из них, осознав ошибочность своей прежней позиции, встали на
путь организации массовой —легальной и нелегальной —борьбы,
свидетельствует (вопреки инсинуациям реакционных политоло
гов) вовсе не о том, что эта борьба носит террористический ха
рактер, коль скоро в ней участвуют и бывшие террористы, а об
обратном. О том, что развитие подлинно революционного движе
ния требует решительного разрыва с сектантским экстремизмом
н терроризмом.
Латиноамериканских поборников городской герильи, строго
говоря, нельзя без существенных оговорок квалифицировать как
современных «левых» террористов, полностью приравнивая к их
европейским, японским, североамериканским последователям.
И дело не только в том, что в накаленной атмосфере латино
американского «пылающего континента» иллюзии по поводу го
родской герильи если не более оправдываемы, то во всяком слу
чае более объяснимы, чем в условиях развитых капиталистиче
ских стран с парламентскими политическими режимами. Дело
.еще в том, что в устремлениях и мотивациях латиноамериканских
экстремистов очень важную роль играл национальный момент и
свою активность они связали с рядом социально-преобразующих
задач, давно решенных в Европе, США, Японии, но насущных
для стран Латинской Америки. Наконец, их исходные установки
по отношению к массам, профессиональным и политическим ор
ганизациям, нормам морали, допустимым и предпочтительным
акциям заметно отличались от исходных установок «левых» тер
рористов в ведущих капиталистических странах мира.
Однако им были уже присущи все основные признаки совре
менного «левого» терроризма: отрыв от масс, ориентация на край
ние, насильственные действия террористического характера,
претензия на роль пролетарского авангарда, подменяющего идей
ную и организаторскую работу прямым действием, неадекватное
восприятие и прагматическое использование извращенно трактуе
126
мых положений марксизма, жажда «ускорения истории» и прак
тически превращающийся в самоцель террористический активизм.
Мы остановились лишь на самых значительных левотеррори
стических организациях южноамериканского континента. Анало
гичные им группы возникали и действовали и в ряде других
стран Латинской Америки: Боливии, Колумбии, Венесуэле, Чили,.
Перу. В зависимости от конкретных политических ситуаций пик
деятельности одних из данных организаций приходится на конец,
60-х годов, других—на первую половину 70-х годов, а некото
рых и на рубеж 70-х —80-х годов. В целом же, в начале 80-х
годов стали играть существенную роль и новые факторы. Агрес
сивная политика таких империалистических держав, как США и
Великобритания —военный конфликт по поводу проблемы
Фолклендских (Мальвинских) островов, необъявленная война
США против Никарагуа, захват Гренады, открытая поддержка
реакционных авторитарных режимов в Сальвадоре и Чили и т. д.г
вызвали резкое обострение противоречий между империализмом
и народами южноамериканского континента. Начался новый
подъем массового демократического движения. Пали военные ре
жимы в таких странах, как Аргентина, Бразилия, Уругвай. Серь
езно ослабли его позиции в Чили. В ряде стран с конституцион
ными режимами стоящие у власти консервативные силы осозна
ли необходимость как пойти на определенные уступки массам,,
так и искать путей для прекращения вооруженной борьбы между
властью и оппозицией. А это в значительной мере сказалось на
судьбах и террористических организаций. Так, восстановление
демократических институтов в Аргентине сопровождалось и про
возглашенной гражданским президентом страны политикой «за
мирения». Были опубликованы документы об осуществлявшихся
военной властью репрессиях. Ответственные за них генералы
предаются Суду. В результате объявила о своем самороспуске
ослабленная, но до конца не прекращавшая деятельности орга
низация «Монтанерос».
Такую же линию стал проводить и занявший президентское
кресло в Колумбии в 1982 г. представитель консервативной пар
тии Бетанкур. Преодолевая сопротивление правых депутатов
парламента, в том числе и многих членов собственной партии,
он сумел летом 1984 г. заключить пакт о замирении между пра
вительством и рядом ведших вооруженную борьбу группировок.
К такой же тактике склонилось в последние месяцы своего пре
бывания у власти правительство военных в Уругвае. Летом
1984 г. оно пошло на необъявленную амнистию, выпустив из за
ключения около 600 тупамарос.
Есть основания полагать, что подъем освободительного дви
жения масс, завоевание новых возможностей для развертывания
127
.легальной борьбы, а также учет вчерашними террористами и экс
тремистски настроенными элементами печального опыта город
ской герильи во многих случаях способны послужить препятст
вием для возврата к террористической деятельности.
Однако проблему специфического латиноамериканского «ле
вого» терроризма нельзя считать исчерпанной. Особенности со
циальной структуры, соотношение классовых сил, характер по
литических и идеологических влияний в ряде стран континента
таковы, что далеко не исключена возможность новой вспышки
террористической активности со стороны широко распространен
ных и живучих левоэкстремистских группировок. Более того.
И сегодня на южноамериканском континенте существуют страны,
социальная обстановка в которых способствует не только фор
мированию экстремистских группировок, но и их обращению к
террористической практике. И здесь в первую очередь следует
сказать о ситуации в Перу и террористической организации
«Сендеро луминосо» («Светлый путь»), носящей официальное
название «Марксистско-ленинская маоистская партия нового
тппа». Возникшая в 1978 г. в период, когда правительство левых
военных, стремившихся провести в стране ряд прогрессивных ре
форм, зашло в тупик и находилось в состоянии острого кризиса,
«Сендеро луминосо» противопоставила себя ему «слева». Органи
зация, ядром которой являются индейцы, бывшие преподаватели
и студенты университета Аякуччи —самого отдаленного и бед
ного района Перу,—поставила своей задачей добиться контроля
над страной путем наступления на город из сельской местности,
победить в ходе длительной «революционной войны» и создать
«правительство рабочих и крестьян». Выполнению этой задачу
по мнению сендеристов, должны служить экономический саботаж,
удары по государству и создание опорных зон в сельской мест
ности .
Эта тактика начала реализовываться уже в конце 70-х годов
через первые политические покушения, взрывы посольств, муни
ципальных зданий, линий электропередач и помещений полити
ческих партий. Однако подлинного размаха активность сендери
стов достигла после смены правительства левых военных граж
данской властью в 1980 г. Играя на ситуации кризиса, нищете
тиасс, проводимой правительством политике пересмотра и отмены
аграрной реформы, «Сендеро луминосо» стала широко использо
вать создававшиеся крестьянами для защиты отбиравшейся вла
стями земли отряды самообороны с целью провоцировать посто
янные вооруженные столкновения. И речь здесь шла не о
помощи крестьянам, но о систематическом запугивании их. Сендеристы регулярно убивали как посланных в село правительст
венных чиновников, так и выборных лиц из крестьян, и рядовых
128
крестьян. Так, в январе 1984 г. отряд сендеристов захватил не
большой поселок, всех жителей которого согнали на площадь.
Был оглашен список из сорока фамилий людей, не выполнив
ших их распределения в саботаже указаний правительственных
представителей, и эти сорок человек тут же были расстреляны.
Оказавшиеся между двух огней — «Сендеро луминосо» и репрес
сивными силами,—крестьяне вынуждены массами покидать свои
деревни, укрываясь в городах. Однако «Сендеро луминосо» ис
пользует и этот процесс, вербуя из ушедшей в города крестьян
ской молодежи адептов для совершения там террористических
акций.
Общий состав организации оценивается в прессе в 1000—
2000 человек, связанных с примерно таким же количеством со
чувствующих. Цифру эту вряд ли можно считать заниженной,
если учесть, что с момента возникновения организации до июля
1984 г. она потеряла убитыми 1846 человек. За то же время жерт
вами как сендеристов, так и репрессивных органов стали 1700 че
ловек23. Характерно, что возраст убитых сендеристов —от 14 (!)
до 28 лет.
Точная политическая квалификация «Сендеро луминосо»
крайне затруднена, поскольку в отличие от других левотеррори
стических организаций она не стремится афишировать себя и
публикует крайне мало документов. Она не ориентируется ни на
один из существующих в мире режимов, ни на одну политиче
скую партию. Ее связи с другими политическими силами оста
ются непрослеженными. В то же время в зарубежной прессе
отмечается, что организация пользуется поддержкой торговцев
наркотиками, заинтересованных в поддержании социального
хаоса. Все левые партии «Сендеро луминосо» объявляет ревизио
нистскими. Провозглашая вооруженное «тотальное» противобор
ство с режимом, объявляемым ею «фашистским», организация
третирует всех признающих конституционную законность и ле
гальные формы борьбы, как «парламентских кретинов». Знако
мая фразеология, характерная для многих левотеррористических
группировок. Более конкретным выглядит облик «Сендеро луми
носо», когда мы обращаемся к провозглашаемым ею целям,
тактике и методам борьбы.
Конечная цель сендеристов выражена в лозунге: «Коммунизм
восторжествует на земле!». Конкретно же их мечта выглядит как
удушение и разрушение городов, ликвидация рыночной экономи
ки и ставка на натуральное хозяйство крестьянской общины.
В их тактику и методы входит и окружение города деревней,
и массовое истребление непокорных и инакомыслящих, и осуще
ствляемое уже сегодня разрушение техники и строений коопера
тивов. Все это весьма напоминает ту форму «казарменного ком
5
В. В. Витюк, С. А. Эфиров
129
мунизма», которая осуществлялась в Кампучии «красными кхме
рами».
Таким образом, если ту форму «левого» терроризма, которая
была представлена в Уругвае, Аргентине, Бразилии и некоторых
других странах, можно сегодня считать если не отошедшей, то
во всяком случае отходящей в прошлое, то пример «Сендеро луминосо» показывает, что в странах с иным уровнем экономиче
ского и культурного развития возможно и появление других, еще
более крайних форм «левого» терроризма.
13 K a u f m a n n
1 Арисменди
Р. Народная весна в
Никарагуа / / Латинская Америка.
1980. № 2. С. 35.
2 Там же.
3 А р и с м е н д и Р. Ленин, революция
и Латинская Америка. М., 1973.
С. 441.
4 Там же. С. 564.
5 А р ис м е н д и Р. Народная весна
в Никарагуа. С. 33—34.
6 Там же.
7-8 Gevar a Che. Obras. La Habana.
1970. T. 1. P. 32.
9 K a u f m a n n J. L’Internationale terroriste. P., 1977. P. 69.
10 Dispot L. Op. cit. P. 230.
11 K a u f m a n n J. Op. cit. P. 64.
12 Sni t c h T. The decade of the terro
rism / / Intellect. 1975. Vol. 106,
N 2397. P. 451.
14 S c h r e ib e r
J. Op. cit. P. 69.
J. The ultimate weapon.
L., 1978. P. 13.
М. E. La guerrilla tupanxara.
La Habana, 1970. P. 188.
16 Ibid.
17 L a q u e u r W. Terrorism. L.T 1977.
P. 117.
15 Gilio
18 D u e n a s
R u i s O., R u g n o n de D u e n a s
M. Tupamaros. Bogota, 1971. P. 35.
19 Terrorism. 1979. Vol. 3. N 1/2. P. 8.
20 L a q u e u r W. Guerrilla. L., 1976.
P. 327.
21 America latina en armas. Buenos
Aires, 1971. P. 116.
1979. V o ]. 3. N
P. 36.
Pais. 1984. II ag.
22 Terrorism.
23
1/2.
Глава вторая
Испания
В 70-х годах практически не было такой развитой капиталисти
ческой страны, в которой в той или иной мере и форме не про
являлась бы террористическая активность вообще и левотеррори
стическая в частности. Следует, однако, отличать акции собст
венных террористических организаций от акций инонациональных
террористов на территории страны, даже если у них имеется не
которое количество местных пособников. Нельзя также смеши
вать, как это делают многие западные авторы, деятельность тер
рористических организаций националистического и религиозного
толка, в современных условиях постоянно использующих левую
фразу, с активностью собственно «левого» терроризма. Несостоя130
тельны, например, попытки некоторых правых идеологов и поли
тиков зачислять по ведомству «левого» терроризма так называе
мую североирландскую «временную ИРА» или группировки бре
тонских и корсиканских сепаратистов во Франции, валлонских —
в Бельгии, квебекских —в Канаде.
Сложнее дело обстоит с оппозиционными террористическими
организациями, претендующими на наименование «левых», в Ис
пании. С одной стороны, в стране действует (или действовало
до недавнего времени) несколько собственно левотеррористиче
ских группировок маоистского, троцкистского, анархистского на
правлений. С другой —наиболее активная из террористических
организаций страны— баскская «вооруженная ЭТА», будучи по
своим основным целям организацией сепаратистской, в то же
время в течение определенного периода рассматривалась, а от
части и расценивала сама себя, как левотеррористическая. И не
без основания, поскольку в ее программные документы в период
господства фашизма входил целый ряд лозунгов и требований,
типичных для «левого» терроризма. К тому же «вооруженная
ЭТА» имела прочные и систематические контакты с рядом лево
террористических организаций Латинской Америки и Западной
Европы. Эти моменты делают целесообразным наряду с рассмот
рением собственно «левого» терроризма в Испании уделить спе
циальное и, более того, главное внимание терроризму ЭТА, кото
рая, не являясь по существу левотеррористической организаци
ей, демонстрирует характерную для многих экстремистских
националистических группировок в современных условиях левац
кую мимикрию.
В специфических условиях послевоенной Испании возникнове
ние в стране, начиная с конца 60-х годов, многочисленных лево
экстремистских группировок, часть из которых стала базой для
формирования террористических организаций, закономерно. Это
му способствовал целый ряд социальных обстоятельств и про
цессов. Во-первых, тот факт, что в Испании после окончания вто
рой мировой войны и разгрома немецкого и итальянского
фашизма продолжал длительное время сохраняться авторитарно
фашистский режим. Осуществляя государственный террор, фран
кизм самыми жестокими средствами подавлял оппозиционное
демократическое движение. Во-вторых, промышленный бум 60-х
годов привел к резкой ломке традиционных отношений, активной
социальной миграции, направленной преимущественно из села в
город, значительному увеличению маргинальных и люмпенизи
рованных слоев общества. В-третьих, быстро обостряющийся об
щий кризис авторитарного режима породил массовые надежды на
его крушение и вызвал подъем антифранкистской борьбы. Подъем
этот происходил в условиях, когда левые партии, разгромленные
131
5*
фашизмом, действовавшие в глубоком подполье или в эмиграции,
еще не сложились в организованные силы, ведущие за собой
большинство трудящихся. Этим облегчалась возможность выхо
да на политическую арену заговорщических левоэкстремистских
группировок. В-четвертых, экономическое и политическое положе
ние страны, отстававшей по уровню промышленного развития,
а также по уровню жизни народа от основных европейских стран,
наличие авторитарного режима, зависимость от иностранного
(особенно американского) капитала способствовали распростра
нению в оппозиционных режиму кругах представлений о том,
что Испания более близка странам так называемого «третьего
мира», чем ведущим капиталистическим государствам. В этом
отношении сыграли свою роль и традиционные связи Испании и
Латинской Америки, родство и взаимопомощь господствующих в
Испании и ряде стран южноамериканского континента реакцион
ных диктатур, постоянный обмен политическими эмигрантами.
Отсюда и широкое распространение в Испании «терсермундистских» идей, прежде всего маоизма. В-пятых, наконец, влияние
имевших в сравнительно недавней политической истории страны
прочные корни экстремистских традиций. Эти традиции с особой
силой дали о себе знать в тот момент, когда стало очевидным,
что левые политические массовые движения, трезво учитывая
социальную обстановку и настроение народа, исходят из пред
почтительности мирного способа осуществления демократизации
страны.
В этих условиях целый ряд левацких группировок создает в
подполье боевые организации. Некоторые из таких организаций,
начав свою деятельность в последние годы существования фран
кистского режима, продолжали ее и после его крушения. Среди
последних наиболее известны «Революционный патриотический
и антифашистский фронт» (ФРАП) и «Группа патриотического
антифашистского сопротивления первого октября» (ГРАПО).
ФРАП возник в 1973 г. в качестве боевой организации мао
истской «Коммунистической партии Испании (марксистско-ле
нинской)», созданной в 1964 г. Основной своей целью ФРАП
объявил свержение вооруженным путем «фашистской диктатуры
и изгнание американского империализма с территории Испа
нии» 1. За этим должны были последовать уничтожение «амери
кано-франкистской армии» и репрессивных органов, провозгла
шение народов республики, национализация промышленных
предприятий, проведение аграрной реформы и создание народной
армии. Проведя несколько террористически-диверсионных опера
ций в условиях франкизма, ФРАП значительно активизировал
свою террористическую деятельность после ^начала процесса
демократизации, осуществив, в частности, серию взрывов в раз
132
личных городах страны. Организация была быстро разгромлена
и сошла со сцены.
Из других террористических организаций и группировок ле
вацкого типа наибольшее значение в период демократизации
приобрела ГРАПО. Объявлявшая себя «представителем револю
ционных интересов испанского народа», ГРАПО исповедовала в
качестве единственного политического принципа вооруженную
борьбу, что трактовалось как деятельность террористической ор
ганизации.
ГРАПО образовалась в середине 70-х годов как боевая груп
па «Коммунистической партии Испании (возрожденной)», ядро
которох! составляли уцелевшие от разгрома члены «Организации
марксистов-ленинцев Галисии», созданной группой галисийских
маоистов, отколовшихся от Коммунистической партии Испании.
После смерти Франко в условиях начавшегося процесса демокра
тизации страны ГРАПО резко активизирует свою экстремистскую
деятельность. На страницах своего рупора «Гасета Роха» она ха
рактеризует складывающийся демократический политический
строй как «террористический фашистский режим». Все партии,
участвующие в парламенте, объявляются ею «соглашательскими».
Профсоюзные центры клеймятся как «прирученные» и «преда
тельские» 2.
В декабре 1976 г. за четыре дня до референдума о проекте
политической реформы, объявленного ими «фашистским фарсом»,
членами ГРАПО был похищен председатель Государственного
Совета А. М. де Ариоль и Уркихо (спустя некоторое время об
наруженный и освобожденный полицией). 28 января 1977 г. бое
виками ГРАПО были убиты два полицейских и один националь
ный гвардеец. Акция была объявлена ответом на убийство пра
выми 5 адвокатов-коммунистов. В течение 1977, 1978, 1979 гг.
ГРАПО был совершен целый ряд террористических акций. Сре
ди них характерны серии осуществленных ею совместных с
ФРАП одновременных взрывов в различных регионах страны.
Наиболее важной ее акцией считается убийство председателя
Высшего совета военной юстиции Вилаэскусса в 1977 г., кото
рым открылась серия нападений на военных высокого ранга в
демократической Испании.
ГРАПО обладала известным влиянием среди рабочих, и осо
бенно студентов в Галисии, Леоне и Мурсии, соседствующих
провинциях на северо-западе страны, характеризующихся эконо
мической отсталостью по сравнению с остальными регионами
Испании. Галисия вслед за Басконией и Каталонией является
третьей из национальных областей Испании, население которой
говорит на своем языке, близком португальскому. ГРАПО в Га
лисии сотрудничает с так называемой «Вооруженной группой
133
Галисии» —организацией радикального национализма, практи
кующей вооруженную борьбу и, как отмечается в прессе, имею
щей контакты с ЭТА. ГРАПО в свою очередь поддерживала са
мостоятельные контакты с ЭТА. ГРАПО расходится с ЭТА по
одному из существенных аспектов национального вопроса, высту
пая против идеи об отделении национальных областей от Испа
нии и подчеркивая первоочередность свержения «олигархическо
го режима» в стране. В своих печатных выступлениях ГРАПО
выражает полное уважение к ЭТА, проявляя принципиальную
солидарность с ней. «У нас один враг. То, что нас объединяет
более значительно, чем то, что нас разъединяет. Главное —это
общие позиции в вопросе вооруженной борьбы» 3. ГРАПО была
связана также и с маоистскими экстремистскими организациями
Каталонии и на Канарских островах.
Деятельность ГРАПО в сложных условиях послефранкистской
Испании способствовала дестабилизации политического положе
ния, тормозила процесс демократизации страны, играла на руку
правым силам и неофашистской реакции. В испанской печати
неоднократно высказывались подозрения, что организацией мани
пулировали люди, связанные с правыми кругами и бывшей фран
кистской полицией. Такое подозрение высказывает и Луис Гон
салес Мата, бывший сотрудник испанской секретной службы,
автор книги «Международный терроризм».
Эта версия достаточно правдоподобна. Во всяком случае, на
состоявшемся летом 1978 г. в Бразилии съезде представителей
правоэкстремистских группировок испанский неофашист X. Толо
Бласко сообщил, что его организация сотрудничает с ГРАПО. Оп
ределенные идеологические различия, отметил он, не мешают
осознанию общности первоочередных задач, да и сами эти идео
логические расхождения не так велики, как может показаться.
Подчеркнув, что «крайне правые и крайне левые прекрасно по
нимают друг друга», Бласко заявил: «И мы —нацисты и край
не левые группировки решили идти одной дорогой» 4.
На рубеже 70—80-х годов ГРАПО понесла значительные по
тери и на время свернула свою деятельность. Однако чуть позд
нее она снова заявила о себе серией взрывов и ограблений бан
ков,* главным образом в Барселоне'и Мадриде. В 1981 г. полицией
были произведены массовые аресты членов ГРАПО, В испанской
печати высказываются соображения, что организация полностью
разгромлена. Насколько они основательны, может показать лишь
время *.
* Летом 1984 г. в условиях обостряющегося экономического кризиса, усиле
ния борьбы вокруг проблемы пребывания Испании в рядах НАТО, акти
визации баскского терроризма и борьбы с ним правительства ИСРП
134
Террористическая деятельность левацких группировок в Ис
пании накладывает заметный отпечаток на политическую жизнь
страны. Однако по своим масштабам и значимости она уступает
терроризму баскской ЭТА.
Деятельность баскских террористов также осуществлялась на
двух принципиально различных этапах политической жизни стра
ны: в условиях фашистской диктатуры и в условиях демократи
зации жизни страны. Это обусловило характерную эволюцию
баскского терроризма и отношения к нему внутри страны со сто
роны различных социальных сил.
Точнее, именно изменение социальных обстоятельств, в рам
ках которых действовали террористы, обнажило подлинный смысл
их деятельности, реальную националистическую сущность.
Традиционный баскский сепаратизм уходит корнями еще в
средние века. В XX в., и особенно во второй его половине, к та
ким его источникам, как историческая память о прошлой неза
висимости, своеобразие языка, культуры, обычаев, прибавился и
стал играть все более возрастающую роль высокий сравнительно
с остальной Испанией уровень развития промышленности ре
гиона.
В 1894—1895 гг. была создана Баскская националистическая
партия (БНП). Являясь партией средней и мелкой буржуазии,
БНП обладала влиянием и на значительную, часть рабочего клас
са. БНП и сегодня остается самой влиятельной политической
партией басков, обладая наибольшим количеством мест в парла
менте Басконии.
В 1931 г. в период апрельской республики Баскония обрела
статут автономии. Франкизм эту автономию ликвидировал, что
вызвало резкий рост националистических настроений. Традицион
ная националистическая партия продолжила свое существование
в эмиграции, а также вела нелегальную деятельность в подполье.
В этой деятельности участвовали различные слои, включая бур
жуазию и многих священнослужителей, ставших в оппозицию к
официальным учреждениям церкви.
Однако буржуазная и клерикальная баскская оппозиция про
являла по отношению к франкизму робость, непоследователь
ность, стремление к соглашательству. По мере политической эво
люции в стране, усиления борьбы масс и обретения ими целого
ряда социально-политических завоеваний (таких, как, например,
Рабочие комиссии) буржуазно-националистические круги в баск
ском движении стали терять свое ведущее положение, на первый
ГРАПО возобновила свою деятельность, осуществив серии взрывов в раз
ных городах страны. Впрочем, не исключено, что под эмблемой ГРАПО
действует, в сущности, новая организация.
135
план стали выходить радикальные мелкобуржуазные слои. Резуль
татом этого явился раскол баскской националистической оппози
ции. В 1962 г. группа молодых левых националистов выделяется
из ВНП и создает самостоятельную организацию «Эускади и Сво
бода» (ЭТА). Поначалу ЭТА отличалась от ВНП лишь тактикой,
приняв концепции вооруженной борьбы против франкизма. Она
стремилась сочетать легальную работу с подпольной деятельно
стью. Во имя этого на первом съезде ЭТА в 1962 г. было про
возглашено создание военного, политического, рабочего и куль
турного фронтов борьбы.
ЭТА самоопределилась как «антиамериканское, революционное
движение за национальное освобождение, созданное на основе
патриотического сопротивления и независимое от любой партии,
организации, учреждения» 5. Таким образом, ЭТА зародилась как
чисто националистическое движение. Ее целью было создание са
мостоятельного баскского национального государства —Эускади,
которое, обособившись от Испании, должно было войти в Европу
на основе федерации. Единственным реальным средством для осу
ществления этой цели в условиях фашистского режима провоз
глашалось «революционное контрнасилие». Ее тактическими за
дачами были: а) разрушение созданного национальной партией
образа баскского народа как миролюбивого по природе; б) ис
пользование опыта Франко в смысле эффективного применения
насилия.
Логика антифранкистских настроений подводит этовцев к не
обходимости считаться с популярностью лозунга социализма и
революционной классовой борьбы, несмотря на их откровенный
антикоммунизм. Антифашистская борьба, в рамках которой объ
единились как социальные, так и национальные интересы Баско
нии, послужила этовцам основанием для отождествления нацио
налистической и классовой борьбы. Идеология этовцев в этот
период оформляется под воздействием маоистских и троцкистских
концепций, однако отличается и некоторым своеобразием.
Характерны, в частности, тот метод, при помощи которого
идеологи ЭТА стремились сочетать национализм с марксизмом,
и само представление о марксизме и его роли в современных ус
ловиях. Они рассматривают марксизм как «техницистскую докт
рину», способную осуществить и обосновать проведение индуст
риализации авторитарным путем в экономически отсталых
странах. Этим определяется, с их точки зрения, и мера «прием
лемости марксизма», и характер политических выводов из обра
щения к нему. Исходя из того, что европейские народы техни
чески развиты, идеологи ЭТА делали вывод о том, что главным
двигателем социального прогресса должны быть не «чисто инду
стриальные», но «национальные» факторы6.
136
При таких установках у ЭТА с самого момента возникново
ния создались сложные и противоречивые взаимоотношения с
рабочим классом и его организациями, в частности с Коммуни
стической партией Испании и Рабочими Комиссиями. С одной
стороны, потребности борьбы с франкизмом подталкивали ее в
направлении взаимопонимания и сотрудничества, с другойприоритет националистических устремлений приводил к постоян
ным противоречиям, конфликтам и практическому обособлению от:
рабочего класса. Этому способствовало и то, что большинство^
промышленного пролетариата Басконии составляли не баски,
а выходцы из других областей Испании. Данное противоречие
временами осознавалось и самими лидерами ЭТА: «История:
ЭТА,—отмечалось в одном из документов партии,—была вечным*
и трудным диалогом между националистами мелкобуржуазного^
происхождения, сторонниками вооруженной борьбы и трудящи
мися» V
В силу своей идеологии, с одной стороны, и отсутствия под
линных связей с массами —с другой, часть лидеров ЭТА идею
вооруженной борьбы и революции начинают практически, а затем
и теоретически трактовать как тактику систематического террора.
В этом отношении серьезное влияние на них оказала городская
герилья в странах Латинской Америки, и особенно деятельность
тупамарос, а также работы К. Маригеллы.
С начала 60-х годов широко распространяется практика взры
ва бомб в полицейских участках и казармах. Проводятся дивер
сии на железных дорогах, покушения на жандармов, представи
телей юстиции и администрации. Идея герильи видоизменяется и
«войне в горах» предпочитается «война на асфальте», т. е. терро
ристическая практика.
В свою очередь террористическая деятельность этовцев вызва
ла усиление репрессий со стороны правительства. В 1968 г. был
принят новый закон против терроризма. На основании этого за
кона уже в 1969 г. было арестовано 1963 человека, из них пси
просочившимся в печать данным 890 подверглись в тюрьмах по
боям, а 590 —пыткам. В этих условиях перед лидерами ЭТА
снова остро встал вопрос о целесообразности тактики террора и
необходимости связи с массовым движением. Этовцы принимают
участие в некоторых забастовках 60-х годов и все чаще и чаще
обращаются к идеям и лозунгам рабочего класса. В одном из наи
более существенных документов ЭТА «Puntos basicos» (Основопо
лагающие установки 1966 г.) ими была сформулирована мысль о
том, что предстоящая «революция должна быть социалистической
и до конца довести ее может только рабочий класс» 8. По поводу
этой формулировки не следует заблуждаться: она применительно
к реальным условиям Испании носила откровенно волюнтарист
137
ский, левацко-авантюристическнй характер и являлась типичным
примером самообмана и демагогии экстремистов.
Идея внедрения в массовое движение охватывает широкие
слои этовцев. Однако в силу своего политического лица ЭТА ока
зывается не в состоянии воплотить данную идею в жизнь. Наи
большим успехом ее агитация пользуется в студенческой аудито
рии. Основной формой активности ЭТА остается террористиче
ская борьба.
В конце 60-х —первой половине 70-х годов ЭТА осуществля
ет большое количество различных террористических акций, об
ращаясь, в частности, к новым для себя формам деятельности,
воспринятым от латиноамериканских террористов, таким, как,
например, похищение предпринимателей, политических деятелей
и дипломатов. Значительными эпизодами в истории ЭТА того
периода явились Бургосский процесс (декабрь 1969 г.) над 16
террористами в связи с убийством полицейского комиссара Мансанаса и убийство премьер-министра франкистского правительства
адмирала Карреро Бланко (декабрь 1973 г.).
В условиях приближающегося краха франкистского режима
действия террористов ЭТА имели неоднозначное значение. С од
ной стороны, они отражали нарастающее недовольство режимом,
были симптомом его ослабления и показателем этого недовольст
ва. С другой —они вызывали новые репрессии и нападки, рас
пространявшиеся не только на террористов, но и на все левые
силы страны.
Некоторые уступки, вырванные у режима оппозиционным
движением, влияние европейского левого радикализма, в особен
ности французского гошизма, усилившие мелкобуржуазные тен
денции в ЭТА, а также усиление репрессий, учащение арестов
и провалов в рядах ЭТА вызвали в конце 60-х годов целую се
рию внутренних конфликтов, расколов и реорганизаций. Из
ЭТА выделяется так называемая «Новая ЭТА», позднее ставшая
основой для ряда левацких организаций. На базе «политического»
крыла ЭТА в 1971 г. была создана партия «Эри Батасуна», объ
явившая своей целью создание баскского государства.
Все большее сосредоточение ЭТА к началу 70-х годов на тер
рористических методах борьбы, такие ее акции, как убийство
премьер-министра Карреро Бланко и особенно взрыв в кафе
«Роландо» (1974 г.), где кроме обычно его посещавших полицей
ских находились и посторонние люди, вызвали новую волну раз
ногласий и расколов в ЭТА. Из нее вышли многие члены «рабоче
го» и «культурного» фронтов, впоследствии образовавшие свои
левонационалистические партии. Вслед за этим в 1974 г. произо
шел еще один раскол, приведший к образованию в ЭТА двух
фракций: «военной» и «военно-политической».
138
В рядах ЭТА систематически действовали внедренные в нее
испанскими и американскими секретными службами провокато
ры, в задачу которых входила не только слежка, но и организация
экстремистских эксцессов, что использовалось внутренней и
международной реакцией для борьбы с левыми силами страны.
В период, когда крах фашизма был фактически уже предопреде
лен, особую активность по внедрению в националистическое баск
ское движение проявило ЦРУ, поскольку правящие круги США
в своих империалистических целях до последней возможности
поддерживавшие франкистскую диктатуру, опасаясь, что демо
кратизация Испании приведет к освобождению страны от эконо
мической, политической и военной зависимости от США, и за
ранее стремились контролировать этот процесс и оказывать на
него влияние.
Весьма любопытные и поучительные материалы содержатся в
книге бывшего сотрудника франкистской разведки Луиса Гонса
леса Мата «Международный терроризм», изданной в Барселоне
в 1978 г. Автор считает самой важной причиной раскола органи
зации инфильтрацию в ЭТА агентов секретной службы, некото
рые из них играли в организации руководящую роль. Даже среди
бургосских осужденных, говорит автор, был агент, просидевший
вместе со всеми до амнистии. Л. Гонсалес Мата указывает на
большую роль спецслужб США в постановке испанской секрет
ной службы и слежке за баскскими оппозиционерами, говоря,
что только в студенческие организации Басконии было внедрено
30 агентов.
Особенно интересен и поучителен рассказ Мата об истории
покушения на Карреро Бланко. Адмирал был помехой планам
гибких фалангистов, которые были готовы после смерти Франко
поступиться наиболее одиозными сторонами режима и пойти на
ряд демократических уступок народу ради сохранения за собой
власти. Эта перспектива считалась предпочтительной и правящи
ми кругами США. Поэтому, узнав о готовящемся баскской тер
рористической организацией ЭТА покушении на Бланко, испан
ские секретные службы в сотрудничестве с американской развед
кой не только не помешали террористам, но, наоборот, всячески
способствовали свершению намеченной акции.
К моменту начала процесса демократизации (середина 70-х
годов) ЭТА, раздираемая идеологическими противоречиями, заня
ла двойственную позицию. С одной стороны, она объявила о сво
ей поддержке движения за демократию, и военный фронт ЭТА
принял соответствующее решение. Но одновременно ЭТА продол
жала утверждать принцип вооруженной борьбы как единствен
ного средства достижения конечной цели. В этой связи она со
чла необходимым сохранить весь свой военный аппарат.
139
Решение ЭТА воздержаться от вооруженной борьбы недолго
оставалось в силе. В планы организации входило выделение Бас
конии и Наварры в самостоятельное государство «типа Андорры
или Монако», что, естественно, не могло вызывать сочувствия не
только у правительства, но и у патриотических антифашистских
сил страны. К тому же назначенное еще Франко правительство
Ариаса Наварры, вообще старавшееся затормозить и сузить про
цесс демократизации страны, использовало националистический
максимализм ЭТА для откладывания в долгий ящик и реально
возможных решений более частных сторон баскской проблемы.
Это же в определенной мере относилось и к сменившему его,
представлявшему центристский блок СДЦ правительству А. Суа
реса.
Уже в конце 1976 г. ЭТА возобновила террористическую ак
тивность. В 1977—1978 гг. она приняла широкие масштабы. Под
водя итоги своей деятельности за 1977 г., организация приняла
на себя убийство 73 человек *.
По данным испанской прессы, в Испании в 1978 г. было со
вершено больше политических убийств, чем в Италии, а в Баско
нии —больше, чем в Северной Ирландии. Только за месяц, пред
шествующий референдуму, по вопросу о принятии новой кон
ституции было осуществлено 33 покушения, в результате кото
рых было убито 19 человек.
Следует признать, что активизации баскского терроризма в
конце 70-х годов в определенной мере способствовала политика
правительства А. Суареса, которое оттягивало решение баскской
проблемы. Проект статута автономии вырабатывался правитель
ством с 1977 г. В целом удовлетворявший все основные полити
ческие силы страны и ведущие партии Басконии, он еще около
года не ставился на референдум, несмотря на требования левых
партий в Басконии. Это вызывало возмущение басков, обостряло
ситуацию, чем пользовалась ЭТА, толкая массы на экстремист
ские действия, нагнетая недоверие и враждебность к самому про
цессу демократизации страны, выдвигая максималистские и не
реальные требования, за которыми легко просматривалось
стремление к полному отделению Басконии от Испании. С этих
позиций этовцы призывали бойкотировать или отвергнуть статут.
Эта политика отчетливо обнажила политическое лицо ЭТА как
организации чисто националистической, резко противостоящей
интересам трудящихся, идеям и принципам демократии и социа
лизма. Более того, выступая как противники автономии и руко
водствуясь экстремистским принципом «чем хуже, тем лучше»,
* Для сравнения отметим, что с 1968 по 1975 г. включительно ЭТА было
убито 40 человек.
140
этовцы игнорировали действительные национальные интересы
баскского народа. Как показал референдум 25 октября 1979 г.,
большинство населения Страны Басков, несмотря на шантаж и
угрозы со стороны ЭТА, решительно высказалось за принятие
статута автономии.
На следующий день после референдума членами автономной
ЭТА был убит рабочий-социалист, не баск по национальности,
Герман Гонсалес, выступавший против сепаратизма. Это первое
в истории ЭТА убийство представителя левой партии, рабочего
символически продемонстрировало массам чисто националистиче
скую, антипролетарскую и антисоциалистическую природу ЭТА
на современном этапе. Оно вызвало всеобщую забастовку проте
ста в Стране Басков.
К концу 70-х годов ЭТА в своей значительной части вырож
дается в преступную банду, демагогически использующую рево
люционную фразеологию для прикрытия чисто уголовной дея
тельности. Учащаются грабежи банков. Широкое распростране
ние получает практика взимаемого под угрозой смерти «револю
ционного налога», приносящая ЭТА ежегодный доход в полтора
миллиарда песет. Одновременно, как свидетельствует орган ис
панских коммунистов «Мундо Обреро», в ее рамках появляется
«чисто фашистское крыло» 9.
Своей социальной демагогией терроризм «военной» ЭТА и
аналогичных организаций давал поводы для отождествления ле
вых сил с терроризмом, откровенно компрометируя их. Покуше
ния этовцев на военных, полицейских, представителей админист
рации использовались правыми для организации профашистских
демонстраций с лозунгами типа «Армию к власти!» и т. д., способ
ствовали их сплочению и созданию ультраправых экстремистских
организаций. Терроризм, осуществлявшийся ЭТА и левацкими
группировками, был использован неофашистами как повод для
развязывания правого террора. На руку неофашистам играли и
все шире распространявшиеся в обывательской среде в условиях
роста террора и сопутствующей ему преступности настроения,
выражающиеся в формуле «при Франко было лучше». В начале
1981 г. ультраправые предприняли попытку произвести государ
ственный переворот, захватив на время испанский парламент.
Одной из мотивировок послужил лозунг о необходимости борьбы
с терроризмом.
Такая ситуация потребовала от левых сил страны, и прежде
всего от КПИ, особого внимания к левому терроризму, анализа
его политической сущности и роли, выработки тактики по отно
шению к ЭТА и аналогичным организациям/Работа эта была тем
более необходима, что активность ЭТА в недавней борьбе против
франкизма послужила распространению в левых кругах ошибоч
141
ных и иллюзорных представлений о ней. Руководители КПИ и
партийные публицисты регулярно выступали с изложением сво
ей прошлой и настоящей позиции по отношению к ЭТА, указы
вая не только на несостоятельность и вредность практикуемых ею
форм борьбы в условиях демократизации страны, но и на корен
ное изменение в этих условиях самого социального смысла дан
ной борьбы.
В газете испанских коммунистов «Мундо Обреро» от 16—
22 ноября 1978 г. подчеркивалось: «Мы защищали людей из
ЭТА, когда они преследовались диктатурой, хотя мы и не были
согласны с их методами. Когда существует угнетающая народ
диктатура, все формы борьбы могут быть законными, включая и
те, которые нам нравятся меньше. Но с того момента, как в на
шей стране установилась демократия, терроризм ЭТА превратил
ся в объективного союзника испанской ультраправой» 10.
Исходя из этих позиций в двух направлениях развертывали
свою борьбу против терроризма коммунисты Испании. Во-пер
вых, они оказывали непрерывное давление на ^правительство,
требуя быстрейшего и наиболее демократического решения воп
роса о статусе баскской автономии. В этом, хотя и после опре
деленных проволочек и колебаний, вызванных электоральными
соображениями, коммунистов поддержали и испанские социали
сты. Во-вторых, КПИ проводила систематическую работу по ор
ганизации массовых выступлений против преступлений террори
стов, в чем она была поддержана профсоюзами и Испанской
социалистической рабочей партией. Начиная с конца 1977 г. по
всей Испании регулярно проходили митинги, забастовки и де
монстрации протеста против терроризма, в которых в ряде слу
чаев участвовало до 200 тысяч человек.
Понеся на рубеже 70—80-х годов серьезные потери и столк
нувшись с осуждением большинства баскского народа и прогрес
сивных сил страны, ЭТА на некоторое время заметно снизила
свою активность. От нее откололись некоторые группы, примкнув
шие к легальным левонационалистическим партиям. Пришедшее
к власти в стране в октябре 1982 г. Правительство ИСРП обра
тилось к баскским экстремистам с призывом к нормализации по
ложения в Басконии, приняв на себя обязательство облегчить
судьбу тех, кто добровольно сложит оружие. Это вызвало в их
рядах разброд. Многие из них откликнулись на призыв прави
тельства, отказавшись, по словам органа КПИ, «следовать прин
ципам безумной, стратегии ЭТА». В организации произошли но
вые расколы. Однако «группа упрямых фанатиков от автомата»
решила продолжить свою «дикую игру» и.
За первые шесть месяцев 1983 г. баскскими террористами
было совершено 139 акций. Только за октябрь того же года их
14'
жертвами оказались 39 человек *. В начале 1984 г. этовцами
были убиты генерал-лейтенант К. Лакаси, один из видных воен
ных, поддерживавший демократические изменения в стране,
и один из руководителей баскских социалистов Энрике Каса.
Одновременно проявились и новые черты в деятельности
«военной» ЭТА —похищения людей без каких-либо политиче
ских мотйвов, нацеленные только на получение выкупа, уча
стие в контрабанде наркотиков, вкладывание денег, добытых пре
ступными способами, в легальные предприятия. Как отмечается
испанской печатью, все это свидетельствует о том, что «военная»
ЭТА превратилась в обыкновенную уголовную организацию типа
мафии, продолжающую по инерции и для маскировки использо
вать политические лозунги. Об этом же говорит и следующий
факт: в момент, когда между правительствами Испании и Фран
ции шли переговоры о сотрудничестве в борьбе с терроризмом и
лишении этовцев права политического убежища, в одном из пи
сем члена Исполкома «военной» ЭТА Мухики Гармендии низо
вым организациям давалась рекомендация оставить остальные
дела и сосредоточить все силы на нападениях на французские
грузовики и автобусы с туристами, с тем чтобы запугать фран
цузское правительство и сорвать заключение соглашения. Акция,
направленная на самозащиту организации, сохранение убежищ и
баз, обеспечение личной безопасности ее членов, и не более. Но
характерно, что свое письмо автор заключает традиционным де
магогическим лозунгом: «Да здравствует Баскония, да здравст
вует социализм!» 12
Новой волной терроризма ЭТА поспешили воспользоваться
реакционные силы. Правые группировки потребовали объявления
осадного положения. «Мы —противники марксизма-ленинизма и
сепаратизма. Мы решили на террор отвечать террором. Поэтому
нами принято решение нападать на врагов родины, уничтожать
красных и сепаратистов без всякой пощады» 13 (из декларации
ультраправой организации «Комитет патриотической справедли
вости»). На территории Испании и Франции участились действия
ГАЛ (антитеррористических групп освобождения) и БИБ (баск
ско-испанских батальонов) — двух военизированных отрядов, со
зданных крайне правыми специально для расправ с экстреми
стами —леваками и сепаратистами.
В то же время новая вспышка активности баскских террори
стов привела их к еще большей изоляции. Знаменателен и отказ
ряда предпринимателей выплачивать «революционный налог».
В рядах самих этовцев усилились разброд и тяга к выходу из
* С 1968 по 1984 г. пали жертвами действий ЭТА 428 человек, было ранено
650, похищено — 56 человек. Среди жертв ЭТА большая часть — баски.
143
экстремистского подполья (особенно после подписания соглаше
ний между Испанией и Францией, предпринятых правительством
ИСРП административных мер, расширяющих автономию Баско
нии, и широких арестов, осуществленных полицией летом
1984 г.). Произошел самороспуск некоторых группировок, в том
числе и «военно-политической» ЭТА. После подписания соглаше
ния между Францией и Испанией, предполагавшего, в частности,
высылку за пределы Франции тех из членов ЭТА, которые не за
мешаны в кровавых преступлениях, правительство ИСРП предо
ставило последним возможность возвратиться в Испанию. Это
предложение приняло 200 человек.
Несколько позднее, в 1986 г., была создана организация род
ственников жертв терроризма, что было встречено в Испании и
особенно в Басконии с большим сочувствием.
Однако с этой, казалось бы, четко наметившейся тенденцией
всегда сосуществовала другая, диаметрально противоположная,
получившая в последнее время заметное развитие. Со второй по
ловины 1985 г. в Басконии отмечается активный подъем нацио
налистических настроений, с чем связан и явственный сдвиг в
отношениях к легальным и нелегальным баскским экстремистским
организациям. Для этого имелся целый ряд причин. Прежде все
го —общие для всей страны экономические трудности и массовая
безработица, что в стране Басков вызывало проявления не только
социального, но и национального недовольства, порождало оппо
зицию к центральному правительству.
Этому же способствуют и нерешенность многих проблем
баскской автономии, и непоследовательная политика правитель
ства, и наличие острых противоречий между ним и национальным
правительством Басконии как в понимании ряда положений ста
тута автономии, так и в способах его реализации. Живуче влия
ние на басков националистических устремлений и предрассудков,
сильно в массах чувство оскорбленного национального достоинст
ва, поддерживаемое влиятельными националистическими партия
ми. Сами эти партии, осуждая методы и отдельные акции ЭТА
как нецелесообразные, во многом солидарны с ней по целям и в
некоторых ситуациях считают для себя выгодным оказывать
ей скрытую поддержку. ЭТА, в свою очередь, умеет в моменты
резкого обострения обстановки нагнетать напряжение и «обора
чивать общественное мнение в Басконии в свою пользу» 14. Ли
шение Францией эмигрантов-этовцев права политического убежи
ща и начавшиеся высылки членов ЭТА (в соответствии со спи
ском, предоставленным испанскими органами юстиции) вызвали
в Басконии новую вспышку национализма, во многом направляе
мую и используемую ЭТА.
Парламентские выборы в июне 1986 г. показали, что экстре
144
мистская националистическая партия «Эри Батасуна» привлекла
на свою сторону большое количество избирателей, получив 17%
голосов и завоевав 5 мест в нижней и 1 в верхней, палатах кор
тесов (против 2 на предшествовавших выборах). Сама «Эри Ба
тасуна» решилась в новых условиях на недвусмысленную демон
страцию своих симпатий к ЭТА, заявив, что то, что другими
рассматривается как терроризм она расценивает как «вооружен
ный ответ». Гибель в тюрьмах нескольких арестованных террори
стов вызвала в Басконии ряд демонстраций в поддержку ЭТА.
Выдача в Испанию французскими властями и депортация про
живавших во Франции членов ЭТА вызвали резкий взлет антифранцузских настроений и серию спонтанных экстремистских
акций. Только за десять первых дней августа 1986 г. было сож
жено 30 машин с французскими номерами.
На этом фоне развернули свою новую террористическую кам
панию боевики военной ЭТА из так называемой «команды Испа
нии». Перенеся свои действия в Мадрид и поставив основной
целью «месть правительству», они за первое полугодие 1986 г.
совершили 20 террористических актов, в результате которых по
гибло 28 человек. Особенно активизировались они в период пред
выборной кампании. 14 июня 1986 г. от взрыва по команде, пере
данной по радио погибло 11 человек и 56 получили ранения.
Акции террористов были использованы профашистскими эле
ментами для атаки на правительство ИСРП и организации демон
страций с требованиями установления в стране сильной власти.
Новое правительство ИСРП, образованное после выборов, объ
явило терроризм одной из самых острых проблем Испании. Оно
категорически отказалось вести какие-либо переговоры с ЭТА до
тех пор, пока террористы не сложат оружия. Перспективы ба
скского терроризма непредсказуемы. Последние годы показали,
что он пустил достаточно глубокие корни в национальную почву.
К тому же, он обладает достаточно разветвленными международ
ными связями. Компетентные наблюдатели обращают внимание и
на тот факт, что новая террористическая кампания ЭТА осуще
ствляется на фоне активизации «левого» и националистического
терроризма на территории Франции и некоторых других европей
ских стран.
1 Цит. по: Современная Испания.
М., 1983. С. 170.
2 Actualidad politica. 1978. 23 nov.
3 ibid
l -n
Л7П у18
*о jan.
*
Europeo. 11979.
6 Ibid. Р. 319.
7 Ibid. Р. 391.
®
^ ^ ,
9 Mundo obrero. 1980. N 91. P. 10.
10
1978. 22 nov.
и Mundo
Jbid ig gobrero.
4 N 266 p 3
5 Ortzi, Historia de Euskadi. El na-
12 Cambio 16. 1984. N 659. P. 43.
cionalismo vasco у EFA. Paris,
is Informaciones. 1978. 2 avr.
1978. P. 30.
14
145
ibid. P. 9.
Глава третья
ФРГ и Западный Берлин
В становлении левотеррористических организаций в индустриаль
но развитых капиталистических странах существенную роль сыгра
ли молодежные бунты, прокатившиеся в 1968 г. по ряду этих
стран. В недрах леворадикалистского бунтарства сформировались
дочти все видные представители первого поколения «левых» тер
рористов, для которых оно стало переходной ступенью от легаль
ного протеста к нелегальной деятельности. Первой на этот путь
вступила западногерманская левоэкстремистская группа, так на
зываемая «банда Баадер —Майнхоф», принявшая наименование
«Фракции Красной армии» (РАФ). Несколько позднее в ФРГ
возникают и другие, действовавшие параллельно с РАФ и в сот
рудничестве с ней левотеррористические группировки типа «Дви
жения 2 июня».
До похищения и убийства итальянскими «Красными бригада
ми» Альдо Моро «Движение 2 июня» и РАФ рассматривались в
качестве символа и эталона «левого» терроризма в Западной Ев
ропе.
Этому способствовали их приоритет в ббращении к тактике
городской герильи, влияние на формирование левотеррористиче
ских группировок в других странах, удачливость, сопутствовавшая
при проведении первых акций, разнообразие типов этих акций,
некоторые из которых были новыми для Европы. Два момента
благоприятствовали политологам, стремившимся на примере
РАФ и «Движения 2 июня» постичь природу современного «лево
го» терроризма как социально-политического и нравственно-пси
хологического феномена. Во-первых, эти группировки, выросшие
на обломках распадавшегося леворадикалистского движения, со
стояли из людей, многие из которых были до этого на виду, об
ладали широкими связями в кругах научной и творческой интел
лигенции, причем в отличие от обычного для конспиративных
организаций положения дел имена лидеров данных группировок
были известны. Во-вторых, в их составе имелись люди, склонные
к теоретизированию и литературной работе, выпустившие не
сколько обширных политических манифестов, в которых раскры
вались их цели и мотивы, подводился идеологический фундамент
под обращение к террористической тактике.
Ни одно из террористических движений не вызывало столько
дискуссий по вопросу о причинах его возникновения, сколько
«левый» терроризм в ФРГ и Западном Берлине. Конечно же не
146
последнюю роль сыграл сам факт появления первой на террито
рии Западной Европы левоэкстремистской группы, которая рьяно
исповедовала и систематически осуществляла террористическую
тактику. Еще более существенным было то обстоятельство, что
группа возникла в высокоразвитой и имевшей репутацию процве
тающей буржуазной стране. В западной прессе нередко в этой
связи делается упор на причины сугубо субъективные, связан
ные с характером личного психологического склада многих
известных террористов (нервность, болезненность, агрессив
ность) .
Гейдельбергский психолог Р. Грессарт-Матичек даже называет
терроризм «революцией помешанных». Для такого вывода опре
деленный повод имеется. Известно, например, что целая группа
террористов вышла из клиники Гейдельбергского университета,
основанной в феврале 1970 г. врачом-психиатром В. Хубером. Ду
шевные болезни были наследственными в семье Гудрун Энслинг
являвшейся «мотором» «банды Баадер —Майнхоф». В 1961 г.
операции по поводу опухоли мозга подверглась будущий идео
лог РАФ Ульрика Майнхоф, которая в последний период жизни
(в заключении) была явно в невменяемом состоянии.
Однако людей с очевидными психическими отклонениями
среди террористов было немного. Да и сама тенденция видеть
корни терроризма исключительно в личных свойствах его активи
стов является не более чем оборотной медалью принципиального
стремления к утверждению правыми идеологами излюбленного
тезиса об отсутствии в ФРГ объективных социальных условий для
его возникновения. Социал-демократы, в том числе и руководи
тели западногерманского правительства, неоднократно высказы
вались в этом духе.
Так, после одной из громких акций западногерманских терро
ристов в 1977 г. канцлер Г. Шмидт говорил: «Одно мы знаем
точно: у молодежи в Германии никогда еще не было так много
прав, так много свобод, так много уверенности в завтрашнем дне
и так много шансов для образования и жизни, как в настоящее
время»
Такого рода откровенно апологетические и односторонние суж
дения опровергаются многими буржуазными социологами, кото
рые, не будучи солидарными с террористами, в то же время от
мечают наличие объективных социальных причин леворадикалистского протеста и появления в качестве одного из его последствий
«левого» терроризма.
Так, по мнению германского социолога К. Кюхнерта, запад
ногерманское общество является «больным обществом», о чем
свидетельствуют безработица, переполненность школ, трудности
с устройством на работу выпускников институтов, ограни
147
чение прав и свобод граждан, а также взаимное отчуждение
и равнодушие людей друг к другу, острые конфликты между
поколениями отцов и детей, антигуманистический дух меркан
тилизма и потребительства. Аналогичные мысли высказывает
и английский общественный деятель, пастор П. Оустрейхер, под
черкнувший, что «во второй половине 60-х годов молодая немец
кая интеллигенция осознала, что западный капитализм, несмотря
на его либеральный, народный мундир, носит угнетательский ха
рактер» 2. Экономическое угнетение, с одной стороны, бездухов
ность и антигуманность общества потребления —с другой, и вы
звали стремление к «тотальному освобождению» и «тотальному
отказу», ставшему идейно-психологической основой леворадикаль
ного молодежного движения протеста. Оустрейхер одной из ко
ренных причин перерастания этого протеста в терроризм считает
наличие «институционализированных форм насилия». В этой свя
зи он критикует тенденцию общества снять с себя вину за по
явление терроризма и сделать вид, будто он «не является продук
том собственного гниения этого опасного общества» 3.
* Ряд авторов заостряет внимание также на таких факторах, как
активно насаждавшийся средствами массовой информации и все
более укоренявшийся в повседневной жизни западногерманского^
общества культ насилия, активизация деятельности (в том числе
и террористической) неофашистских организаций, милитарист
ская политика империализма (и в частности войны во Вьетнаме
и на Ближнем Востоке), реакция на которую усугублялась нали
чием военных баз НАТО на территории ФРГ, распространенность
реваншистских настроений и другие.
Существенное значение для формирования антигосударствен
ных настроений у части западногерманской молодежи имело
разочарование в СДПГ как партии, связавшей свою политиче
скую линию с интересами отечественного и международного ка
питала, с военной организацией стран НАТО, оказывающей под
держку Израилю в его агрессивной борьбе против арабских наро
дов, скомпрометировавшей себя вступлением в 1966 г. в коалицию
с ХДП и ХСС, которые частью молодежи рассматривались как
профашистские партии.
Эволюции определенной части активистов молодежного движе
ния в сторону терроризма в значительной мере способствовала
политика правительства ФРГ и деятельность его репрессивных
органов.
Решающей первоначальной ступенью на этом пути были со
бытия, разыгравшиеся летом 1967 г. в связи с визитом иран
ского шаха в Западный Берлин. 2 июня 1967 г. во время проезда
шаха в сопровождении министра иностранных дел Любке в опер
ный театр произошло столкновение между демонстрантами и по
148
лицией. Одним, из полицейских выстрелом в спину был убит сту
дент-теолог Бено Онезорг. Это убийство потрясло студенческую
молодежь. На митинге в университете студентка Гудрун Энслин
произнесла страстную речь, призывая к сопротивлению против
«фашистского государства, готового убить нас всех». «Это поко
ление Освенцима. С ним бесполезно спорить» 4,—кричала она.
Введение же правительством в 1968 г. чрезвычайных законов
было воспринято частью молодежи как начало процесса фашиза
ции страны. Это было преувеличением, но следует иметь в виду,
что социальному сознанию западногерманской интеллигенции
присущ психологический комплекс, связанный с незатухающей
памятью о фашистском прошлом страны и поддерживаемый по
пустительством правительства по отношению к бывшим фашист
ским преступникам и активизации деятельности неофашистов.
Таким образом, становление и развитие «левого» терроризма
в ФРГ органически, хотя и опосредованно, связано с такими
процессами, как резкие структурные сдвиги эпохи НТР, осущест
вляемые методами, продиктованными природой капиталистиче
ского строя, с маргинализацией и ростом люмпенизированных
слоев, с ломкой социальных и нравственных ценностей, привыч
ных жизненных стереотипов, с ухудшением социальных перспек
тив для резко выросшего отряда образованной молодежи, сростом
бездуховности и потребительства, пронизывающей все поры капи
талистического общества атмосферой насилия, с увеличением
роли государственного аппарата и истеблишмента и ' резким
уменьшением возможностей проявления социальной инициативы
для тех кругов, которые в прошлом имели в этом отношении
определенные привилегии.
«Левый» терроризм в ФРГ явился оружием места обществу
и выражением' ненависти к нему со стороны потерявших почву
под ногами представителей средней и мелкой буржуазии, а также
некоторой части маргиналов и люмпен-пролетариев. Их индиви
дуалистический бунт против буржуазного общества связан и с
этико-идеологической традицией, опирающейся на типичную для
одного из направлений буржуазной мысли апологетику преступ
ления.
Эти установки драпировались декларациями о стремлении к
уничтожению угнетательского строя, осуществлению «мировой
пролетарской революции», установлению «коммунизма». Здесь
уже играла свою роль другая идеологическая традиция, унаследо
ванная «левыми» террористами от мелкобуржуазного революционаризма —анархизма, троцкизма, маоизма. Через эту идеологи
ческую призму западногерманскими «левыми» террористами рас
сматривалось состояние мирового капитализма, переживающего
сегодня, говоря словами известного экономиста-троцкиста Манде149
ля свой «третий (старческий.— Авт.) возраст»5. Капитализм как
в мире в целом, так и в отдельных странах, с точки зрения Манделя и его единомышленников экстремистского толка, сегодня
полностью созрел для окончательного краха, оттягивающегося
лишь благодаря деятельности репрессивных органов, оппортуниз
му и отсутствию революционной решимости. Как доказательство
справедливости этого вывода воспринимались «левыми» террорис
тами успехи национально-освободительной борьбы народов разви
вающихся стран, причем антиимпериалистический характер дан
ной борьбы служил западногерманским экстремистам основанием
для того, чтобы автоматически и. огульно расценивать ее как
борьбу социалистическую. На этом базировалось, во-первых, их
убеждение в необходимости и своевременности повсеместного об
ращения к вооруженному насилию и представление о нем как об
единственном критерии «революционности». С этих позиций, вовторых, ими ставились в один ряд народная революция на Кубе
и террористические кампании в Аргентине, Бразилии, Уругвае,
война во Вьетнаме и культурная революция в Китае.
Следует в то же время иметь в виду, что многие из отмечен
ных выше социальных факторов и сформированных на их базе
идеологических установок лежали и в основе студенческого бун
та. Однако подавляющее большинство участников последнего не
пошли по пути терроризма. Среди них, в частности, и Р. Дучке —
лидер леворадикалистского молодежного движения, бывший член
так называемой Коммуны № 1, из недр которой вышла целая
группа видных представителей западногерманского терроризма.
Обращение к терроризму вовсе не является закономерным и ло
гичным следующим шагом в развитии леворадикалистского про
теста, как это пытаются представить и сами «левые» террористы
и многие западные политологи, даже если террористы и унасле
довали целый ряд существенных установок студенческого бунта,
будучи в прошлом представителями его экстремистского крыла.
Здесь осуществляется переход через Рубикон. Одно дело вести
легальную и ненасильственную деятельность и даже, сотрясая
воздух декларациями о тотальном разрушении, реализовать эту
угрозу в форме скандальных выходок, и совсем другое —зани
маться планомерным и сознательным убийством. Для этого необ
ходимы еще и специфические мотивации, особый нравственный
облик и психологический настрой.
Переход от Великого Отказа (через студенческий бунт и л и
минуя его) к террористической практике был связан и с опреде
ленными личностными качествами террористов —максималист
скими претензиями и крайней нетерпимостью, силой ненависти
и жаждой мести, потребностью в самоутверждении любой ценой и
придании своей жизни видимости социального смысла, стремле150
нием к избавлению от комплекса социальной и личной неполно
ценности и фрустрации, поиском сильных ощущений и освобожденностью от каких-либо нравственно-психологических табу. Этот
переход в значительной мере основан на подражательности и
самообмане, он опирается на извращенную политизированную
этику, базирующуюся на принципе «цель оправдывает средства»,
и подкрепляет данную этику псевдореволюционной идеологией,
склеенной из обрывков нахватанных отовсюду философских и по
литических понятий, помогающих обосновать универсальность по
литического насилия, которое при таком подходе не может быть
ничем иным, кроме как насилием террористическим.
Объединяя в своих рядах пресытившихся обыденной жизнью
«детей из хороших семей», мессиански настроенных идеалистов
и нескольких люмпенизированных рабочих, западногерманские
террористические организации выделились из леворадикального
студенческого движения*в момент его спада (а точнее, распада).
Сами по себе немногочисленные, и РАФ и «Движение 2 июня»
в то же время были до определенного периода окружены плот
ным кольцом из нескольких сотен, по определению полиции,
«опасных соучастников» и вторым, в несколько раз более много
численным кольцом «симпатизирующих пособников». Двумя-тремя тысячами в 1976 г. и, следовательно, в несколько раз большим
числом в самом начале 70-х годов измерялось количество «потен
циально сочувствующих».
Первой, еще спонтанной акцией будущих террористов был
поджог группой из 4 человек во главе с А. Баадером универса
ма во Франкфурте-на-Майне. Эту акцию группа провела в знак
протеста против войны во Вьетнаме, считая, что таким образом
она наносит удар по самодовольству и покою немецких обывате
лей и привлекает внимание к страданиям и нищете народов раз
вивающихся стран. Через неделю с небольшим, 11 апреля 1968 г.,
Хорст Малер устроил взрыв в здании издательства Шпрингера,
печатные органы которого вели систематическую клеветниче
скую кампанию против студенческой молодежи. В этот же день
фашиствующим алкоголиком, маляром Бахманом под воздей
ствием, как он сам признал, провокационных выступлений пра
вой прессы был тяжело ранен лидер студенческой молодежи
Руди Дучке. Покушение на Дучке было воспринято будущими тер
рористами как еще одно доказательство того, что в ФРГ царит
фашистский режим.
Поджог супермаркета и процесс над его участниками выдви
нули в центр внимания фигуру А. Баадера, в котором склонные
к левацкому революционаризму представители радикалистского
движения увидели недостающую им фигуру «человека дела»,
боевика и организатора. 14 мая 1970 г. группой лиц во главе с
151
Ульрикой Майнхоф был устроен побег А. Баадеру из библиотеки
Социально-политического института, куд$ его приводили под
охраной по его просьбе и с согласия властей. В завязавшейся
перестрелке был тяжело ранен служащий библиотеки. Этот эпи
зод сыграл важную роль в процессе формирования террористиче
ских организаций в ФРГ. Во-первых, людьми, объявлявшими до
этого себя принципиальными противниками насилия, впервые
было использовано оружие и пролита кровь. Во-вторых, целая
группа лиц оказалась вынужденной перейти на нелегальное по
ложение.
Вскоре группа Баадер—Майнхоф оформляется как подполь
ная организация, провозгласившая своей главной целью развязы
вание в стране «пролетарской», «коммунистической» революции,
средством подготовки и осуществления которой объявляется го
родская герилья. Лидерами группы было выпущено несколько
документов, в которых делалась попытка .подвести теоретическую
базу под террористическую практику и создать более или менее
систематизированную шкалу аргументов в ее пользу.
Наиболее важные из них —брошюра У. Майнхоф «Концеп
ция городской герильи», опубликованная в апреле 1972 г.; ее же
работа «Городская герилья и классовая борьба», а также написан
ная в 1971 г. в тюрьме и распространявшаяся в Берлине 2 июня
1972 г. брошюра X. Малера «Заполнить пробелы революционной
теории —создавать Красную армию». В «Концепции городской
герильи» группа впервые назвала себя «Фракцией Красной
армии» (РАФ), подчеркивая тем самым как факт создания воору
женной организации, так и то, что она рассматривалась ее лиде
рами в качестве составной части некоей «мировой революционной
армии».
«Перед лицом империалистического потенциала насилия не
может быть революционной политики без решения вопроса о на
силии на каждой фазе революции» 6,—решительно провозглаша
ла У. Майнхоф.
Наличие глобальной революционной ситуации становится,
с точки зрения западногерманских «левых» террористов, решаю
щей предпосылкой возможности формирования при помощи воору
женных акций революционных ситуаций в развитых 'капитали
стических странах и осуществления там социалистических рево
люций. Одновременно с утверждением своего права начинать
«революционную борьбу» в любой момент и любых условиях,
формируя таким способом революционную ситуацию, «левые»
террористы отстаивали это право и ссылками на то, что такая
ситуация в принципе уже существует. С этой целью они соответ
ствующим образом трактовали социально-политическое положе
ние ФРГ, рассматривая ее не только как «центр империализма»,
152
но еще и как «колонию США». При помощи тенденциозно и
произвольно подобранных, а частично и откровенно фальсифици
рованных фактов они стремились доказать, что уровень и каче
ство жизни трудящихся в ФРГ если не тождественны, то очень
близки к уровню и качеству жизни масс в странах Латинской
Америки и Азии.
Возникавшие противоречия отнюдь не смущали, террористов,
поскольку из той и другой односторонней постановки вопроса
они извлекали доводы в пользу применения вооруженного наси
лия. К тому же, исходя из вульгарной трактовки примата прак
тики над теорией, они и теоретическим доводам придавали вто
ростепенное значение. «Правильно ли сейчас организовывать
вооруженное сопротивление, зависит от того, возможно ли это,—
писала У. Майнхоф.—А возможно ли это, покажет только прак
тика» 7. Развертывание городской герильи, т. е. террористической
кампании, таким образом, становится одновременно и доказатель
ством наличия революционной ситуации и фактором ее формиро
вания в целях «ускорения истории».
Первоочередными задачами городской герильи объявлялись
необходимость, во-первых, «разрушить правящую систему в глав
ных пунктах, развеять миф о ее всемогуществе и неуязвимос
ти» 8; во-вторых, используя крайние средства, заставить парла
ментский режим выявить свое фашистское нутро, разоблачить
фашистов в администрации, армии и полиции, заставить «свиней»
трансформировать политическую ситуацию в военную9; в-треть
их, посредством пропаганды действием пробудить народ к борьбе,
вывести его из состояния политической спячки. «Бомбы против
аппарата подавления мы бросаем в сознание масс» 10. Исходя из
того, что массы подавлены не только экономически и политически,
но также идеологически и морально, террористы объявляют важ
ной предпосылкой революционизирования их сознания преодоле
ние привычки к подчинению буржуазному правопорядку и «реф
лекса повиновения». Отсюда —тезис о том, что каждый акт на
силия и нарушения буржуазной законности, в том числе и чисто
уголовный, должен рассматриваться как «революционный акт».
В-четвертых, предполагалось создать условия для формирова
ния и развития инициативного «революционного ядра» в органи
зованную «Красную армию». Решающим из этих условий объ
является само ведение герильи. «Борющаяся группа может
развиваться и продвигаться вперед только через конфлик
ты» и,—подчеркивал X. Малер. Весьма любопытно, что созда
ние «Красной армии» для лидеров РАФ означало одновременное
ее обособление от масс. Массы могут быть революционизированы
только «практическим революционным примером», утверждают
они. «Ошибочно начинать вооруженную борьбу только тогда,
153
когда обеспечено согласие масс. Это означало бы вообще отка
заться от этой борьбы, ибо согласие на нее может быть получено*
лишь благодаря самой борьбе» 12. В условиях «слабости револю
ционных традиций в стране» и наличия мощного «потенциала на
силия» «революционный авангард», по их мнению, «должен не
руководить, а идти впереди» 13. Объявив, что «политическая и
военная стратегия герильи развивается от нашего сопротивления
фашизму в парламентской демократии до создания первых отря
дов Красной армии во имя народной войны», лидеры РАФ широ
ковещательно провозгласили: «Борьба началась!» 14.
В соответствии с принципом предварительного создания «ин
фраструктуры» группа начала с обеспечения себя деньгами, ору
жием, документами. Любопытно, что одним из первых ее шаговв этом направлении была покупка автомата «Беретта» у нео
фашистов. В конце сентября 1970 г. произведены одновременные*
ограбления трех банков в Западном Берлине, принесшие1
220 тыс. марок. Затем последовали нападения на провинциаль
ную мэрию с тем, чтобы добыть бланки документов, а также на
армейские казармы ради овладения оружием. Получив необходи
мые материальные средства, группа заявила о себе во весь голос
серией взрывов и поджогов, которых в одном Западном Берлине
было произведено в 1970 г. около восьмидесяти. Объектами поку
шения являлись банки, магазины, склады, казармы и военные*
склады, руководящие учреждения бундесвера и НАТО.
Деятельность рафовцев осуществлялась волнами, за которыми
следовали периоды затишья. Особенную активность в 1971 г.
РАФ проявила в апреле (годовщина акции по поджогу супермар
кета и покушения на Дучке) и в начале лета (годовщина демон
страции 2 июня 1968 г.). По данным Министерства внутренних
дел ФРГ,, в 1971 г. РАФ было произведено 555 акций, экспро
приировано около 2 млн. марок. К летней кампании террористов
правительство, ранее проявлявшее известную нерешительность,
уже тщательно готовилось. На борьбу с терроризмом было отмобилизованно 16 тыс. полицейских. Несколько террористов погиб
ли, попав в облавы и засады. Террористы ответили на это «об
разцовыми атаками» на аппарат подавления. Логика террора
неумолима. Если ранее, несмотря на все свои крикливые заявле
ния, террористы убивали полицейских и военнослужащих только
в процессе осуществления операций, то теперь они развернули
специальную охоту за людьми.
Свою традиционную весенне-летнюю кампанию 1972 г. РАФ
начал 11 мая взрывом бомбы в здании 5-го американского кор
пуса США. 12 мая двумя террористами была взорвана бомба на
стоянке автомобилей криминологического бюро в Мюнхене.
15 мая взорвалась бомба в машине федерального судьи в Карлс
154
руэ Мюллера, подписавшего ордер на арест террористов. 19 мая
были произведены новые взрывы в издательстве Шпрингера, по
влекшие за собой человеческие жертвы. 24 мая была взорвана
бомба на стоянке автомобилей около офицерских квартир в Гей
дельберге, убито два американских офицера.
С явной тревогой ожидала общественность ФРГ дня 2 июня.
Однако накануне этого дня полиция получила сведения об убежи
ще группы террористов во главе с Баадером, которая была арес
тована. Через несколько дней арестовали Г. Энслин, а еще через
неделю —У. Майнхоф. Вскоре были арестованы и многие из
оставшихся в ФРГ членов группы.
На процессе арестованным предъявили обвинения в 5 убий
ствах, 55 покушениях, 6 взрывах, большой серии поджогов и по
хищений. Этими цифрами деятельность РАФ характеризуется
далеко не полностью, поскольку прокуратура настаивала только
на целиком доказанных преступлениях. По мнению капитана бун
десвера Мюллера-Борхердта, специалиста по проблемам городской
герильи, на совести группы «Баадер—Майнхоф», кроме много
численных поджогов и ограблений,—100 покушений, из них
39 со смертельным исходом, 75 человек ранены при взрывах.
Оставшиеся на свободе члены РАФ после ареста их руководи
телей произвели серию взрывов, чтобы продемонстрировать, что
организация не разгромлена и продолжает действовать. Продол
жали свою деятельность в тюрьме и лидеры РАФ, имевшие бла
годаря своим адвокатам (многие из которых были членами орга
низации, пользовавшейся легальностью) связи с оставшимися на
воле единомышленниками. Находясь в заключении, Баадер раз
рабатывал планы возрождения РАФ, спланировал целый ряд тер
рористических акций. Заключенные провели три длительные
голодовки с целью привлечения к себе общественного внимания
и изменения отнюдь не жестких условий их содержания в спе
циально построенной для них тюрьме в Штутгарте.
С арестом первого поколения РАФ организация формально не
перестала существовать. Ее именем воспользовались представи
тели следующих поколений террористов. Если левацкий революционаризм представителей первого поколения опирался на псевдосоциалистические теоретические установки, а сами они в боль
шинстве своем были фанатиками-идеалистами, то их наследники,
по словам немецкого публициста-коммуниста Мадлоха, даже не
пытаются теоретически оправдать свои террористические деяния.
Это «подражатели, а не последователи» 15. Ими отброшены вся
кие стремления к социальному преобразованию общества; крова
вые беспорядки, ограбления, покушения в значительной мере
превратились в самоцель или средство обеспечения и защиты
организации.
155
Несколько позднее РАФ (после ареста его основного ядра)
на базе ряда мелких экстремистских групп было создано «Дви
жение 2 июня», возглавляемое сначала Фрицем Тейфелем, а за
тем Ральфом Рейндерсом. Ф. Тейфель —известный деятель моло
дежной контркультуры, автор и постановщик скандальных улич
ных хеппенингов, организатор Коммуны № 1, пропагандист как
социальной, так и сексуальной революции. Тейфель был осужден
за поджог универмага и ряд других экстремистских действий и
вышел на свободу, когда РАФ был разгромлен. Р. Рейндерс —
член «Социалистического коллектива пациентов», исходной идеей
которого являлась мысль, что психические заболевания суть след
ствия условий капиталистического общества, а потому борьба с
тем и другим должна вестись одновременно посредством «поли
тико-терапевтических акций».
Основной актив «Движения» составили выходцы из буржуаз
ных и интеллигентских семей и отчасти люмпенизированные эле
менты, принадлежащие в большинстве своем ко второму поколе
нию западногерманских «левых» террористов. Многие из них, не
прошедшие школу массовых леворадикальных выступлений, сфор
мировали свою позицию на впечатлениях, полученных от «подви
гов» террористов РАФ, их жертвенности, голодовок, общих дек
лараций.
Естественно, что в мотивациях активистов «Движения» гораз
до большую роль, чем это было у основателей РАФ, играли не
социально-политические и социально-экономические аргументы, но
чисто психологические устремления и экзистенциальная установ
ка на бунт. Парадокс, однако, заключался в том, что «Движе
ние 2 июня» апеллировало к массам, от которых дистанцирова
лась РАФ.
Взявшее своей эмблемой красную звезду и пулемет, «Движе
ние 2 июня» выступало от имени «трудового народа» и оправ
дывало свою деятельность его интересами. В декларации, выпу
щенной «Движением» при его оформлении, говорилось: «Господ
ствующий класс боится защищающегося народа, борющегося, что
бы отстоять свои права». Поскольку капиталисты не в состоянии
отказаться от того, чем владеют, их надо «зрхтавить это сделать
силой». Для этого необходимо осуществлять против них система
тические террористические акции, чтобы лишить их видимости
неприступности, доказать, что они уязвимы. «Если на заводе
трудящиеся падают без сознания из-за отравленного воздуха,
надо поджечь виллу хозяина» 16. В этой форме борьбы лидеры
«Движения» видят залог единства с массами.
По своим теоретическим установкам «Движение 2 июня» от
личалось от РАФ стремлением к осуществлению террористиче
ских акций и в сфере производства. Эти тенденции выдавались
156
лидерами «Движения» за линию на укрепление связей с массами.
В том же манифесте они подчеркивают, что, не будучи «заблуд
шими мелкими буржуа», они сознают, что одни, без участия масс
не в состоянии «разрушить или ниспровергнуть государство» 17.
Несколько позднее проблема отношения городской герильи к
массам, а следовательно, и трактовка самой герильи стали пред
метом полемики между РАФ и занявшими место «Движения
2 июня» Революционными ячейками, вобравшими в себя уцелев
ших его членов. Революционные ячейки подвергли критике рафовский тезис о «коррумпированности масс», ссылаясь на ряд
стачек и общественных выступлений 70-х годов. Упрекая РАФ
в невнимании к этим процессам и пристегивая к ним осуществ
ленные ими взрывы в Федеральном суде, Революционные ячейки
стремятся изобразить дело таким образом, будто их экстремист
ская практика —составная часть массовых движений, которые
ими поддерживаются и якобы даже направляются. Они объяви
ли своей целью «поддержку борьбы народа путем нападения на
его врагов и создания нелегального аппарата, делающего возмож
ными новые формы борьбы»18. Но таким путем они недалеко
уходят от РАФ, утверждая те же террористические методы и;
лишь на словах отличаясь от нее в вопросе об отношении к
массам. По сути же дела, последние и для Революционных ячеек
оказываются не «революционным субъектом», а лишь объектом
внимания и косвенной помощи со стороны претендующих на
руководство ими террористов. Впрочем на практической деятель
ности «Движения 2 июня» и Революционных ячеек их общетео
ретические декларации никак не сказались, и до «новых форм»
борьбы дело так и не дошло. Все свелось к топ же, чисто терро
ристической тактике.
Типичные для террористов нарциссизм, потребность в само
рекламе и устрашающей символике в сочетании с художествен
ными наклонностями лидеров «Движения 2 июня» нашли свое
отражение в том, что осуществляемые «Движением» акции не
редко имели зловеще театрализованный характер. Это прояви
лось уже в первом пз крупных политических покушений, совер
шенных группой. В ноябре 1974 г. в ответ на смерть члена РАФ
Хельгера Майнца, умершего в тюрьме в результате голодовки,
членами движения был казнен президент Верховного суда Гюн
тер фон Дренкман. Акция была произведена в день, когда Дренкману, исполнилось 64 года. Открывшему на звонок дверь «ново
рожденному» одной из террористок был протянут пышный букет,
в то время как другие расстреливали его в упор.
Летом 1975 г. в Западном Берлине было осуществлено ограб
ление банка, чему предшествовала рассылка многим жителям
города проездных билетов на городской транспорт. Во время
157
самого ограбления одни из террористов вскрывали кассу, другие
держали служащих под прицелом, третьи угощали их шоколад
ными кексами. По тому же сценарию проводилось и ограбление
другого банка.
При этой шутовской форме «Движение 2 июня» отличалось
организованностью, конспиративностью, значительно превосходя
в этом отношении во многом кустарно-кружковую РАФ. Бразиль
ский опыт организации мелких групп был усвоен основательно
и хорошо использован. «Движение 2 июня» значительно расши
рило по сравнению с РАФ сферу практического осуществления
террора. «Историческая» РАФ, хотя и провозглашала в свое вре
мя устами Ульрики Майнхоф необходимость самозащиты путем
казни предателей («терпимость к предателя^ рождает новые пре
дательства» 19), однако ни одного отступника не преследовала.
«Движение 2 июня» (как и рафовцы последующих поколений)
проявило в этом отношении жестокую неумолимость. Начало по
ложила казнь приговоренного по одному лишь подозрению Уль
риха Шмюкера, которого члены назначенного над ним суда фор
мально оправдали, но тайно приговорили к расстрелу. Исполнение
приговора было садистски поручено его лучшему другу Тильгенеру, который от поручения отказался. Вскоре Щмюкер был
убит, а затем при загадочных обстоятельствах умер и Тильгенер.
По поводу убийства Шмюкера террористами было издано коммю
нике, где сообщалось, что он «приговорен к смерти» «Движением
2 июня», и провозглашалась необходимость «покончить со слез
ливым гуманизмом германской левой»20. Эта акция положила
начало целой серии ей подобных.
1975 г. был годом максимальной активности «Движения
2 июня», поддержанной акциями отчасти восстановленной РАФ.
Наряду с уже ставшими традиционными формами «Движение»
обратилось и к новым приемам борьбы. В феврале 1975 г. впер
вые был осуществлен захват заложника —председателя западноберлинской ХДС Петера Лоренца. Лоренц был обменен на группу
отбывавших срок в тюрьме террористов. Позднее они снова по
явились в ФРГ, приняв участие в нескольких совершенных на
ее территории и в ряде соседних стран крупных акций, что ста
ло серьезным аргументом для правительства ФРГ в пользу отказа
от переговоров с террористами.
Ободренные успехом атаки на Лоренца, деятели «Движения
2 июня» решили провести аналогичную, только значительно более
крупную операцию, с тем чтобы сорвать открытый процесс над
руководителями РАФ и добиться их освобождения. Первая такая
попытка была сделана в апреле 1975 г., когда группа террористов
попыталась овладеть посольством ФРГ в Стокгольме. В результа
те кровавого столкновения было убито 3 и ранено 30 человек.
158
21 мая 1975 г. был начат процесс, продолжавшийся несколько
месяцев.
Второй пик активности западногерманских террористов пришел
ся на 1977—1978 гг., когда была проведена целая серия операций,
имевших целью вынудить правительство дать свободу осужден
ным членам «группы Баадер—Майнхоф». Террористами был убит
генеральный прокурор ФРГ Ф. Бубак. Несколько позднее (в июле
1977 г.) была сделана попытка похищения руководителя «Дрезденер банка» Ю. Понто, убитого в ходе операции. Наконец,
5 сентября 1977 г. была осуществлена самая известная акция за
падногерманских террористов —похищение председателя «Союза
западногерманских промышленников» Ганса Мартина Шляйера.
Операция была произведена по тому «классическому», испытан
ному еще тупамарос сценарию, который двумя годами ранее при
менялся при похищении П. Лоренца, а менее чем через год был
использован для нападения на Альдо Моро итальянскими терро
ристами из «Красных бригад»: сбор информации, слежка, под
строенная автомобильная пробка, пальба, сдерживание публики
автоматами, быстрый отъезд с пленником. Однако если при похи
щении Лоренца террористы только оглушили шофера, не желая
проливать лишнюю кровь, то сейчас ими были хладнокровно рас
стреляны не только охранники, но и шофер Шляйера. Условием
сохранения жизни Шляйеру и его освобождения похитители вы
ставили предоставление свободы группе из 11 деятелей РАФ и
выкуп в 15 млн. дол. Правительство отказалось вступать в пере
говоры с преступниками, хотя и подверглось давлению со сторо
ны некоторых лиц и кругов.
Спустя шесть недель интернациональной командой террорис
тов был захвачен на Мальорке лайнер «Люфтганзы» с 86 пасса
жирами и 5 членами экипажа, с тем чтобы поддержать требова
ния похитителей Шляйера. Захваченный самолет был взят штур
мом, а заложники освобождены. Неудача этих акций и явилась
для верхушки РАФ, бывшей в курсе дела и со своей стороны
обратившейся к властям с предложением об освобождении в об
мен на обещание навсегда покинуть страну, последним аргумен
том в пользу самоубийства *. Через день после самоубийства
Баадера, Энслин и Распе (Майнхоф в состоянии глубокой депрес
* В западной печати высказывались серьезные подозрения, что самоубий
ство было инсценировано подлинными убийцами лидеров РАФ — тюрем
щиками. Бургомистр города Штутгарта Роммель даже распорядился по
хоронить покойных в церковной ограде, отметая таким образом версию
о самоубийстве. С этой точкой зрения следует считаться, однако прямых
доказательств убийства не имеется. Между тем аналогичные сомнения
возникли и после смерти Майнхоф. Бесспорность ее самоубийства тогда
была доказана.
159
сии покончила с собой несколько раньше) в Эльзасе был обна
ружен труп Шляйера.
В 1975—1978 гг. западногерманскими террористами был осу
ществлен и ряд менее значительных, так сказать «обыденных»
для террористов акций — нападения на полицейские участки,
взрывы в пунктах дислокации английской армии (август 1978 г.),
экспроприации. Разрабатывался и широкий план нападений на
высокопоставленных политических деятелей ФРГ, как показали
документы, захваченные в венском убежище террористов.
Похищение и убийство Шляйера укрепило правительство в
решении не идти ни на какие уступки террористам и повести с
ними более решительную борьбу. Были организованы специаль
ные подразделения для борьбы с терроризмом. Активизировалась
и полиция, которая после серии атак террористов на полицейских
и ряда побегов арестованных из тюрем по примеру своих испан
ских коллег стала стремиться уничтожать террористов в стычках
и при арестах, а не брать в плен. Серьезным новым доводом в
пользу решительной борьбы с «левым» терроризмом стал для за
падногерманских властей террористический шабаш в Италии,
и в частности похищение и убийство Альдо Моро. В результате
активных действий полиции и специально созданных для борьбы
с терроризмом команд последнему были нанесены серьезные уда
ры. Одно время террористические организации считались уже
практически разгромленными.
И однако на рубеже 70—80-х годов деятельность «левых»
террористов в ФРГ снова заметно активизировалась. Выступая
под вывесками РАФ, Революционных ячеек, группировки «Рево
люционный гнев» и т. д., они с конца 1979 г. осуществили ряд
новых акций, среди которых ограбление банка, организация побе
га из тюрьмы известного боевика Штефана Вишневски, полити
ческие покушения и взрывы. Обращает на себя внимание отчет
ливая антинатовская тенденция новой волны «левого» терроризма.
В 1979 г. была предпринята попытка покушения на А. Хейга,
тогдашнего главнокомандующего военными силами НАТО.
В 1981 г. эта попытка была повторена по отношению к новому
главнокомандующему. Обе оказались безуспешными. В том же
1981 г. был осуществлен взрыв фольксвагена у штаб-квартиры
ВВС США, в результате чего было ранено 20 человек. Акции
такого рода западногерманские «левые» террористы (как и «ле
вые» террористы других стран) выдают за борьбу против миро
вого империализма и милитаризма. Однако, исходя из существа
их политической идеологии, присущего им культа вооруженного
насилия и ставки на мировую войну, подлинный смысл таких
акций следует оценить иначе. С одной стороны, в них выражает
ся чисто националистический пафос, с другой —они неотъемле
мо
мая составная сторона тактики провоцирования реакции и войны,
наступление которых только и может, по мнению террористов,
подтолкнуть «аполитичные и косные» массы к решительным
вооруженным действиям.
В начале 80-х годов активность «левого» терроризма в ФРГ
и Западном Берлине почти сошла на нет. Во всяком случае,
к этому периоду в ФРГ, как и в ряде других капиталистических
стран, на первый план выдвинулся неофашистский правый тер
роризм, практикующий в невиданных ранее масштабах диффуз
ный террор, которого в целом избегали западногерманские «ле
вые» террористы. Трагедия на мюнхенском «лугу Терезы», где
во время народного гулянья на профсоюзном празднике неона
цистами была взорвана бомба, убившая 12 и ранившая 200 чело
век,—самая страшная, но не единственная акция подобного рода.
В 1981—1982 гг. полиция нанесла сокрушительные удары по
западногерманским левотеррористическим организациям. Боль
шинство их членов было арестовано, уцелевшие эмигрировали за
границу или затаились. Кризис западногерманского «левого» тер
роризма усугубляется и тем, что его идейно-политический и нрав
ственный облик за истекшие годы полностью выявился, и он ли
шился сочувствия и поддержки даже в той узкой буржуазно
интеллигентской среде, на которую ранее имел возможность
опираться. Западногерманский «левый» терроризм оказался в
полной социальной изоляции и, учитывая также возросшую эф
фективность действий полиции, казалось бы, не имел перспектив
для возрождения. Некоторые политологи и публицисты поспеши
ли сделать вывод о его решительном и окончательном поражении
и уходе с политической сцены. Однако в 1984 г. РАФ и Рево
люционные ячейки, несколько видоизменившие свои политиче
ские установки, снова дали знать о себе целой серией взрывов,
покушений, публикацией документов, разъясняющих их новую
стратегию.
Возрождение «левого» терроризма в ФРГ неразрывно связано
с подъемом в тот же период волны так называемого «нового
терроризма» в ряде капиталистических стран, в том числе и тех,
в которых деятельность левотеррористических организаций в
70-е годы не наблюдалась или носила крайне ограниченный ха
рактер. Поэтому то, что будет сказано ниже о западногерманском
«левом» терроризме середины 80-х годов, имеет принципиальное
значение также и для характеристики левотеррористических
организаций в других капиталистических странах.
Демагогическое использование антивоенных лозунгов послужи
ло идеологической базой для консолидации и некоторого числен
ного роста левотеррористических организаций в ФРГ. По сведе
ниям специалистов, численность Революционных ячеек в 1985 г.
6
В В Витюк, С А Эфиров
161
достигала примерно 50 человек. Что касается РАФ, то его неле
гальное ядро расценивалось в 20 человек, вокруг которых группи
ровалось 200—300 легальных сообщников. Одни из этих сообщни
ков принимали непосредственное участие в подготовке и осу
ществлении акций, другие занимались пропагандой целей и
методов террористов. Эффективная борьба с последними затруд
нена отсутствием в ФРГ соответствующего закона.
Как видим, количественно западногерманские левотеррористи
ческие организации невелики, и ареал их влияния и связей значи
тельно сузился по сравнению с 70-ми годами. Однако, когда речь
идет о терроризме, количественные параметры далеко не всегда
являются решающими. Западногерманский «левый» терроризм
середины 80-х годов характеризуется некоторыми новыми и
весьма опасными признаками, на которые следует обратить самое
пристальное внимание.
Во-первых и прежде всего, «новый терроризм» спекулирует на
главной потребности человечества —потребности в мире. Можно
сказать, что он впервые манипулирует лозунгами, которые, буду
чи взяты в отрыве от их идеологии и подлинных целей, сами по
себе бесспорны и разделяются широкими слоями народа. «Левые»
террористы явственно рассчитывают на то, что это может послу
жить изменению сложившихся представлений об их политической
сущности, о реальных мотивах, которыми они движимы, поможет
им выйти из социальной изоляции. Необходимо поэтому постоян
но иметь в виду, что, изменив лозунги, «левый» терроризм не из
менил своей антигуманной и отщепенческой природы и что эта
природа предполагает, в частности, стремление паразитировать на
самых насущных социальных проблемах, присваивать, извращая
их смысл, передовые политические идеи.
Во-вторых, «новые террористы» стремятся изобразить себя
единственно последовательными борцами за мир, а террористиче
ские акции —единственно эффективной формой антивоенной дея
тельности. Они используют тот факт, что правительства США и
ФРГ, вопреки массовому протесту, сумели разместить на терри
тории страны американские ракеты, для нападок на антивоенные
движения, стремясь подорвать и расколоть это движение или
толкнуть его на путь насильственных авантюр. Своих новых адеп
тов они вербуют в среде разочаровавшихся пацифистов и из ря
дов люмпенизированной молодежи.
В-третьих, вооруженные действия, осуществляемые РАФ и
«Революционными ячейками», дают в руки реакции повод для
клеветы на движение сторонников мира и разоружения, кото
рым активно пользуются правые идеологи и политики, пытаю
щиеся объявить это движение террористическим. Террористы, та
ким образом, играют на руку правительству ХДС/ХСС, обруши
162
вающему репрессии на участников мирных антивоенных выступ
лений.
Наконец, в-четвертых, новый характер приобрели международ
ные аспекты деятельности западногерманских левотеррористиче
ских группировок. Два фактора сыграли в этом отношении ре
шающую роль. С одной стороны, ослабление этих группировок и
резкое сокращение возможностей безопасного проживания терро
ристов на территории ФРГ вынудило их перенести свои базы за
границу (преимущественно во Францию) и налаживать значи
тельно более тесные, чем раньше, контакты с левотеррористиче
скими организациями других стран. С другой —общеевропейская
значимость милитаристской политики НАТО используется в ка
честве основания для придания террористической борьбе общеев
ропейского содержания и для достижения единения левотеррори
стических сил в континентальном масштабе.
Одной из форм такого единения является вступление в РАФ
групп австрийских и швейцарских террористов. Другой, п значи
тельно более существенной,—упрочение практических и органи
зационных связей с левотеррористическими организациями ряда
европейских стран, в свою очередь и по тем же причинам заин
тересованными в этом упрочении. Здесь особенно существенны
взаимоотношения РАФ с французской левотеррористической ор
ганизацией «Прямое действие». В последние годы РАФ и «Пря
мое действие» совместно осуществили ряд убийств, вооруженных
нападений и взрывов на территориях Франции и ФРГ. В январе
1985 г. они выпустили коммюнике, в котором объявляли о своем
объединении с целью создания «военно-политического фронта в
Западной Европе». Основная задача «фронта» характеризуется
как подрыв многонациональной структуры НАТО, противодейст
вие ее планам и пропаганде. Основным методом борьбы объявле
но нападение на военные объекты, принадлежащие НАТО. С ком
мюнике РАФ и «Прямого действия» солидаризировались «левые»
террористы Бельгии, Италии и некоторых других стран. В сере
дине 80-х годов наблюдается также усиление связей западногер
манских «левых» террористов с националистическими террори
стическими организациями типа испанской ЭТА и североирланд
ской ИРА.
Эволюция западногерманского «левого» терроризма показыва
ет, что современный «левый» терроризм по самой своей природе
не только лицемерен и коварен. Он еще обладает определенной
пластичностью, способностью мимикрии и приспособления к
иным условиям, применяя в соответствии с этими условиями но
вые тактические ходы и обоснования. Поэтому прошлые пораже
ния не дают гарантий от возрождения его в других формах.
Почти двадцатилетняя история западногерманского «левого»
163
6*
терроризма позволяет подвести итоги. Выросший непосредствен
но на развалинах леворадикального движения молодежи, он
явился в Европе образцом современного «левого» терроризма.
В качестве такового он оказал влияние на целый ряд экстреми
стских группировок в других странах, породив многочисленных
учеников и подражателей. Западногерманскими «левыми» терро
ристами были впервые представлены все основные аргументы в
пользу организаций городской герильи в развитых капиталисти
ческих странах и развертывания ее в «народную войну». Однако
их теоретический и практический опыт выявил всю несостоя
тельность этих аргументов, нелепость и парадоксальную проти
воречивость террористической концепции «народной войны»,
антинародный характер так называемой городской герильи.
С одной стороны, обращение террористов к вооруженному на
силию мотивировано их представлением о государстве как о не
коей монолитной машине, террористической по назначению, не
зависимо от ее политической формы. Этот механизм, с их точки
зрения, включает в себя не только административные и репрес
сивные институты, но также и школу и даже семью. Все его эле
менты унифицированно направляют свою деятельность только на
то, чтобы подавлять, унижать, калечить каждого человека и весь
широко и абстрактно трактуемый в данном контексте «народ».
Борьба против такого государства во всех его звеньях, считают
они, необходима, но в силу его природы она может вестись един
ственно самыми крайними насильственными средствами, т. е.
быть именно войной. Однако из этой «войны» террористы вынуж
дены исключить народ, поэтому характер «народной» она обрета
ет, с их точки зрения, потому, что ведется во имя и от имени
народа.
Использование ими крайних средств и театрализованных
«символических жестов» было очевидным свидетельством их сла
бости и, по верному наблюдению итальянского политолога
JI. Феррайоли, служило тому, чтобы подменить «образ массового
движения», «образом силы» 21. Отсюда же —и претенциозное
стремление выдавать частные террористические акции за «исто
рический вклад» в дело революционной борьбы, убийство поли
цейского —за удар по государственному механизму в целом и из
мерять эффективность своих действий не по их политическим
результатам, а по успеху операции. «Только оппортунисты,—
глубокомысленно, но более чем наивно вещала У. Майнхоф,—
могли считать освобождение Баадера авантюризмом, путчизмом
и анархизмом после того, как успех доказал, что оно было прове
дено исходя из правильной оценки собственных сил» 22.
Крикливые и широковещательные ссылки террористов на
марксизм на деле явились не более чем самообманом, социаль
164
ной и политической демагогией. Вырывая из исторического, со
циального и литературного контекста отдельные фразы К. Марк
са, В. И. Ленина, ставя их совсем в иной контекст, перетолко
вывая их смысл, «левые» террористы извращали и искажали
само существо марксистского учения, пытаясь отождествить его
с принципиально враждебной ему левацки-экстремистской идео
логией.
Их эволюция в направлении к терроризму опиралась на рез
кое неприятие негативных сторон буржуазного образа жизни.
В то же время в силу предельного максимализма в оценках и
требованиях и крайней нетерпимости эти негативные стороны
были абсолютизированы, гиперболизированы и мифологизирова
ны до такой степени, что исключали какую-либо возможность
трезво и именно политически рассматривать и оценивать реаль
ную социальную ситуацию в стране, подлинное соотношение
классовых сил, цели, настроения и тенденции развития самих
классов. Их переход к политической борьбе (или, вернее, к тому,
что они под ней подразумевали) был в значительно меньшей
степени продиктован идеологическими соображениями, чем эмо
циональным порывом.
Как писал про Гудрун Энслин один из западногерманских
исследователей терроризма, для нее «политика была крестовым
походом за идею... Ее ненависть была горючим, дававшим энер
гию этому крестовому походу против врага, представавшего вовсе
новых персонификациях... Схема классов служила лишь идеоло
гическим покровом для этой ненависти» 23.
Объявляя, что революционным является только вооруженное
насильственное действие, «левые» террористы видят своего про
тивника не в одном лишь господствующем классе, государствен
ных институтах и буржуазных партиях, но во всех тех социаль
ных группах и учреждениях, которые не разделяют их установки
на «террористическую революцию». Они откровенно демонстри
руют свою враждебность профессиональным и политическим ор
ганизациям рабочего класса, которые рассматривают как элемент
капиталистической системы. Выполнение профсоюзами своих пря
мых функций по защите экономических и социальных интересов
трудящихся объявляется экстремистами соглашательством, про
дажностью, изменой делу рабочего класса и социализма и т. д.
Большинство из представителей первого поколения западногерманских «левых» террористов предварительно побывали в ря
дах левых партий, студенческих и пацифистских организаций и
вышли из них, увидев, что деятельность этих организаций не
приводит к немедленному воплощению экстремистских идеалов.
Хотя террористы и оправдывают свой разрыв с легальными поли
тическими организациями ссылками на явные или мнимые недо
165
статки в деятельности этих организаций, но главное здесь в дру
гом: в отрицании ими самого принципа политики, основанной на
учете реальных возможностей и условий борьбы и связанной с
повседневной, кропотливой органцзационной и идейно-воспита
тельной работой.
Особую враждебность у них вызывает коммунистическая пар
тия и ее деятельность по идеологическому воспитанию и органи
зации масс, защите их экономических и политических интересов.
Используя псевдореволюционную фразеологию, «левые» террори
сты обвиняют коммунистов в том, что они опасаются «упрека в
революционном нетерпении больше, чем собственной коррумпиро
ванности», погрязли в «паршивом экономизме» и «реформизме»
и т. д. «Так называемые пролетарские организации, если они не
ставят вопроса о вооруженной борьбе... на практике поддержива
ют ложь буржуазии о том, что в этом государстве можно еще
чего-то добиться средствами парламентской демократии»24. Ли
деры РАФ объявили своей задачей создание в противовес ГКП
иной, «достойной наименования коммунистической», партии, ко
торая в их интерпретации не могла оказаться не чем иным, как
«Красной армией», а попросту —террористической группой.
Наконец, сам германский народ, и прежде всего рабочий
класс, по мнению экстремистов РАФ, настолько интегрировался
в капиталистическую систему и приспособился к ней, настолько
проникся духом потребительства и низменного меркантилизма,
что практически лишен «пролетарского», «революционного» со
знания. Поэтому, несмотря на все споры между теоретиками за
падногерманского «левого» терроризма X. Малером и У. Майн
хоф на тему, следует ли опираться на «пролетарские народы
третьего мира» (X. Малер) или искать «революционный потенци
ал внутри страны» (У. Майнхоф), они единодушны в утвержде
нии, что рабочий класс ФРГ уже не является «революционным
субъектом». В поисках же этого субъекта внутри страны теоре
тики терроризма безуспешно мечутся, останавливая свой выбор
то на студенчестве, то на маргиналах, то на «арестованных рабо
чих» —люмпенах и уголовниках, то попросту на отдельных инди
видах, готовых к борьбе и «самопожертвованию». В конце кон
цов они, по меткому выражению западногерманского политолога
X. Мюнклера, «вынуждены были сосредоточиться на самих себе,
как на единственном революционном субъекте» 25.
Таким образом, «народная война» на деле трактуется (и осу
ществляется) как террористическая кампания, проводимая куч
кой интеллигентов и люмпен-пролетариев. За всеми демагогиче
скими словами «левых» террористов о «народе», «массе», «рабо
чем классе» кроется обычный, но, по существу, традиционный
высокопарный набор слов, прикрывающий высокомерие и сно
166
бизм «касты избранных», элитарно-аристократическое презрение
к «плебсу». Среди западногерманских террористов, конечно же,
были люди, способные остро сострадать и оказывать помощь
больным, одиноким приютским детям как жертвам, выброшен
ным за пределы социальной жизни. Однако те, кто жил нормаль
ной трудовой жизнью, уже по одному этому признаку являлись
пособниками «тирании потребления», немногим отличающимися
от «свиней в мундирах». Мессианский элитаризм первого поко
ления западногерманских террористов был пронизан некоторым
духом романтической жертвенности. Но, во-первых, далеко не у
всех, а лишь у «идеалистов» типа Майнхоф или Энслин и отнюдь
не у откровенно циничных авантюристов вроде Баадера. Во-вто
рых, идейно он оставался индивидуалистическим элитаризмом.
Западногерманский «левый» терроризм очень быстро проде
лал неизбежный путь от первоначального утопического максима
лизма, продиктовавшего обращение к экстремистским средствам,
к нигилистической беспринципности, бессмысленной жестокости
и человеконенавистничеству. И этот процесс поучителен.
На первых порах группа «Баадер—Майнхоф» не осуществля
ла целенаправленных политических убийств и ограничивалась на
падением на материальные объекты, стараясь придерживаться
той трактовки городской герильи, которая как бы отделяла ее от
терроризма и придавала ей видимость партизанской борьбы, ве
дущейся в пределах города. Через этот этап с большей или
меньшей быстротой проходят все формирующиеся левотеррори
стические организации. К тому же и чисто психологически пере
ход от словесной решимости на убийство к его практическому
осуществлению связан с преодолением определенных внутренних
барьеров и, как правило, совершается постепенно по мере погру
жения в водоворот терроризма. У. Майнхоф, например, даже со
крушалась публично, что в ходе освобождения Баадера был ранен
посторонний человек, хотя, как вскоре выяснилось, этот факт
облегчил рафовцам переход к прямым нападениям на людей.
Пример РАФ отчетливо продемонстрировал, что логика так
называемой городской герильи неминуемо ведет к освобождению
людей от нравственных тормозов и разнузданному человекоубий
ству. Это заложено уже в ее идеологических обоснованиях, где
принцип «цель оправдывает средства» санкционирует ничем не
ограниченное насилие, и в психологических мотивациях экстре
мистов, обращение которых к терроризму продиктовано прежде
всего безмерной жаждой разрушения и уничтожения. Это зало
жено и в стратегических установках городской герильи, подме
няющей реальную политическую борьбу «атаками на государст
во» в лице его «отдельных звеньев», а сражения —террористиче
скими актами. К этому настойчиво подталкивает сам процесс
167
становления городской герильи. Даже нападения на материаль
ные объекты на стадии обеспечения организации постоянно вле
кут за собой человеческие жертвы, что психологически подго
тавливает к сознательному осуществлению заранее запланиро
ванных убийств. Вызванные же первыми актами вооруженного
насилия преследования и репрессии, в свою очередь, становятся
решающим толчком для перехода к тактике систематических по
кушений на людей.
Лидеры первого поколения РАФ? когда на их совести уже ле
жали десятки жизней, до последнего момента пытались откре
ститься от классификации их как террористов, апеллируя к слову
«герилья». «Городская герилья,—утверждалось в их коллектив
ном заявлении на суде,—вносит страх в аппарат, террорист же
делает своим объектом массу. Городская герилья... стоит всегда
на стороне масс. Акции городской герильи никогда не направля
ются против народа, они всегда направляются против империа
листического аппарата» 26.
Итак, удары по аппарату, т. е. людям, из которых и состоит
аппарат, с точки зрения рафовцев, вполне правомерны, и не
только в политическом отношении, но и исходя из норм экстре
мистской этики. Для террористов из РАФ все люди, принадлежа
щие к аппарату, попросту не являются людьми. Они, с одной сто
роны, рассматриваются ими как бездушные детали механической
репрессивной машины, а с другой —зачисляются в категорию
«свиней». «Человек в мундире —это свинья,—заявляла У. Майнхоф.—Стрельба в них —дело разрешенное» 27.
Таким образом, лидеры РАФ пытались отделить городскую
герилью от терроризма по принципу различия в объектах напа
дения. Но мало того, что этот критерий явно недостаточен, ему
не соответствуют ни концепции, ни практика РАФ. Аппарат, тем
более при расширительном восприятии его террористами,—это не
только «люди в мундирах», но и служащие самых разнообразных
профессий и различного должностного положения. К тому же
террористы направляют свои удары не просто против «аппарата»,
но и шире, против «системы», а в «систему», согласно их собст
венной концепции, вписано почти все население страны, за
исключением маргиналов, люмпенов и самих экстремистов. По
этому для них, как и для Эмиля Анри, «невиновных нет». В ре
зультате западногерманские террористы, соблюдая известный де
корум и сохраняя толику необходимого самообмана, хотя и не на
правляли своих ударов специально против массы, но и не стесня
лись проводить операции, приносившие смерть или создававшие
угрозу для жизни случайно попавших в зону их деятельности
людей, независимо от того, являлись ли они рабочими или бур
жуа. При одном только взрыве в здании концерна Шпрингера
168
19 мая 1972 г. было ранено 17 рабочих. «Эти воинственные ак
ции,—вынужден был признать позднее отошедший от террора
X. Малер,—в итоге обращались против части народа, во имя ко
торого, как считалось, ведется борьба» 28. Но и это не смущает
террористов, заявляющих, что ценой жизней считанного количе
ства людей, они якобы спасают от террора со стороны государст
ва всю остальную массу народа. Здесь уже переступается та пос
ледняя логическая и этическая черта, которой хоть в какой-то
мере ограничивалось поле агрессивных действий террористов,
и открывается простор для безудержного и безадресного, направ
ленного на всех и вся террористического насилия.
Таким образом, современным западногерманским «левым» тер
рористам, как впрочем и их единомышленникам в других странах,
присуща апология тотального насилия, рассматриваемого ими как
универсальное средство преобразования мира. Терроризм для
них —даже не один из тактических приемов политической борь
бы, но всеобъемлющая стратегия. Действуя в рамках буржуазно
демократического государства, они атакуют именно демократиче
ские институты, ставя своей целью их разрушение. Это принци
пиально отличает их от тех из революционеров прошлого, кото
рые в условиях абсолютистских режимов обращались на время
ft террористической тактике в целях завоевания демократической
законности, не считая эту тактику единственным, постоянным и
главным методом политической борьбы.
Подлинными предтечами современных «левых» террористов
являются именно те экстремистские организации, которые своди
ли все формы социального протеста против господствующего
строя только к террористическим акциям. Но и по сравнению с
этими своими прародителями и предшественниками западногер
манские «левые» террористы обладали рядом специфических осо
бенностей.
Большинство левотеррористических организаций прошлого со
блюдали определенный «кодекс», различая непосредственно от
ветственных, с их точки зрения, за социальную несправедливость
или проявивших себя особой злостностью и преследованиями и
тех, кто не принимает участия в политической борьбе. Даже са
мые крайние анархо-террористы прошлого, руководствовавшиеся
формулой «невиновных нет», адресовали ее лишь к зажиточным
и образованным слоям общества, вовсе не имея в виду трудя
щиеся массы. Бросая бомбы в кафе, рестораны, театры, они не
могли себе позволить осуществление аналогичных акций, скажем,
на транспорте. А между тем, захват самолетов на Мальорке или
в Могадишо, сопряженный с угрозой жизням взятых в качестве
заложников пассажиров, среди которых были и мелкие служа
щие и рабочие, оправдывался террористами при помощи рассуж
дений о том, что все, кто не сражается в рядах террористов, гем
самым выстуидют сторонниками угнетательского государства.
«Кто не за РАФ, тот за Геншера»29 (в тот период —министр
внутренних дел Ф РГ).
Даже для самых крайних «левых» экстремистов прошлого
терроризм был именно формой социально-политической борьбы.
Западногерманские «левые» террористы расширили его значение
и смысл, придав ему также и функцию единственно возможной
формы личной самозащиты.
Более того, террористическое насилие стало у членов РАФ
стержнем их жизненной философии.
Серая, обыденная жизнь (какой она является, по их мнению,
вне террористической активности) есть не что иное, как смерть.
«Кто не вооружается, тот умирает. Кто не умирает, погребается
живьем»,—утверждала У. Майнхоф30. Ну, а коли так, то разве
не приносят убийцы своим жертвам освобождения от самой
страшной от Смертей —погребения заживо? И не обретают ли
они сами таким способом подлинную свободу? «В этом акте чи
стого насилия,—цитируют западногерманские террористы Сарт
ра, в свою очередь развивавшего мысли Фанона,—двойное осво
бождение: жертва освобождается от фальшивой роли (т. е. уби
тый, расставаясь с жизнью, тем самым перестает быть «рабом ка
питала» и «слугой государства».— Прим. авт.), победитель осво
бождает свой дух для аутентичного поведения (иными словами,
раскрепощается от всех сковывающих норм законности и морали
и убеждается в своей способности «преступить».— П р и м . авт.).
Диалектическая связь жизни и смерти. Смерть есть жизнь»31.
Западногерманские террористы, исходившие из мысли, что
можно быть «либо человеческим существом, либо свиньей», про
тивопоставляли одно другому не только политически, но и фило
софски. Свиньи стремятся «выжить любой ценой», человеческое
существо должно «бороться до смерти». «Презрение к смерти» и
есть «борьба ради жизни»32. Этим извращенным отношением к
жизни и смерти не только питалась и поддерживалась готовность
самих западногерманских террористов умереть. Одновременно
они исходили из него как обоснования для лишения жизни тех,
кто не подходит под их эталон «человеческого существа».
Важной (и исторически новой) чертой западногерманского
«левого» терроризма (как и других современных левотеррористи
ческих организаций) было то, что он не ограничивал свою дея
тельность узконациональными и внутригосударственными рамка
ми. В его активе нападение на посольство ФРГ в Стокгольме, за
хваты авиалайнеров в зарубежных аэропортах, участие в акциях
смешанных команд террористов в ряде стран. Захваченные РАФ
на складах НАТО в Западной Германии гранаты использовались
170
«левыми» террористами других стран. Западногерманские терро
ристы были в курсе готовившейся «Красными бригадами» опера
ции по похищению Аль до Моро и оказывали им содействие
К распространению деятельности за пределы границ ФРГ и
сотрудничеству с левотеррористическими группировками в других
странах западногерманских террористов влекли не только воз
можности, предоставляемые эпохой НТР д тесных взаимосвязей
между капиталистическими державами. Стремление к этому сти
мулировалось идеологическим родством левотеррористических
организаций и их приверженностью к идее «мировой пролетар
ской революции». Характер международных акций и контактов
РАФ, «Движения 2 июня», «Революционных ячеек» и т. д. в зна
чительной мере предопределялся их трактовкой этой «револю
ции».
Принявши троцкистско-маоистскую концепцию революции,
хотя и не считая, что империализм сегодня является «бумажным
тигром», они были убеждены, что низвергнуть империализм и
«мультинациональные монополии» возможно уже сегодня, если
борьба с ними будет вестись одновременно как в «третьем мире»у
так и в «метрополии». В этой борьбе они, исходя из концепции
«революционности бедных» и постулата о том, что «ось мировой
борьбы с империализмом» проходит через страны «третьего
мира», скромно и даже самоуничиженно отводили себе вспомога
тельную роль. Объявив себя одним из отрядов «мировой револю
ционной армии», они видели свою задачу в подрыве империализ
ма изнутри.
Под всеми этими теоретическими соображениями, развитыми
в брошюрах У. Майнхоф и X. Малера, лежала, однако, весьма
прагматическая подоплека. В них отражалось не признававшееся
открыто ощущение собственной социальной изолированности и
слабости, презрение и неверие в собственный народ. Подменив
классовую борьбу индивидуалистическим бунтом в форме кро
вавых акций, «левые» террористы должны были в интересах пси
хологической устойчивости найти себе (хотя бы умозрительно)
иную массовую опору. «Мы думали,—признавал позднее X. Ма
лер,—что народ, будучи слишком пассивным, не в состоянии
освободиться от этого государства. Тогда мы нашли себе другую
идентификацию в третьем мире. Мы стали чувствовать себя не
немцами, но пятой колонной третьего мира в метрополии»33.
На деле же речь пошла вовсе не о «народах» и не о массо* За несколько месяцев до похищения А. Моро в Вене была арестована
известная западногерманская террористка Г. Тидеман, переправлявшая
деньги «Красным бригадам». В ее бумагах имелась и такая запись:
«Рим — дело Ал. Мо».
171
вом освободительном движении в развивающихся странах. Буду
чи отщепенцами в собственной стране, западногерманские «ле
вые» террористы связали себя со столь же отщепенческими и
раскольническими националистическими и экстремистскими груп
пировками в некоторых из этих стран, типа исключенной из Ор
ганизации Освобождения Палестины ФЛНП. Их представление о
задачах народов развивающихся стран быстро сузилось до отож
дествления этих задач с интересами данных групп, по инициативе
которых и совместно с которыми они провели ряд подчас весьма
громких акций, в частности похищение 21 декабря 1975 г. в
Вене 26 собравшихся на международное совещание высокопо
ставленных представителей стран ОПЕК.
«Интернационализм», базирующийся на неприязни к собст
венному народу, не может быть ничем иным, как псевдоинтерна
ционализмом, вывернутым наизнанку национализмом. Очевидным
проявлением своеобразного националистического комплекса вы
глядят широковещательные заявления западногерманских «ле
вых» террористов о том, что ФРГ превратилась в «колонию
США». О том же, а вовсе не о протесте против милитаризма, го
ворят и систематические покушения на офицеров сил НАТО.
В то же время протест против антиарабской экспансионистской
политики Израиля и произраильской позиции правительства ФРГ,
как засвидетельствовали в печати вышедшие из террористиче
ских организаций боевики М. Бауманн и Г.-И. Клейн, приобрел
у западногерманских террористов откровенно расистскую на
правленность, антисионизм трансформировался у них в антисеми
тизм. В планы «Движения 2 июня» включается взрыв Еврейско
го дома в Западном Берлине, в прошлом уничтоженного расиста
ми и отстроенного заново. «Тупамарос Западного Берлина» в
41-ю годовщину «Хрустальной ночи» (организованного гитлеров
цами массового еврейского погрома) выпустили листовку, в ко
торой призывали к взрыву синагоги и осквернению памятника
жертвам нацизма. Так линия деятельности, начатая разрывом с
«поколением Освенцима», по существу повернулась в направле
нии к Освенциму.
Западногерманские «левые» террористы свое обращение к на
сильственным методам мотивировали стремлением противостоять
возрождению фашизма в стране. Они, по словам И. Фетчера, стре
мились «очиститься перед собой и перед всем миром от стигмы
газовой камеры», «освободить себя и Германию от проклятия на
ционал-социализма» 34. Каково же бйло реальное содержание,
вкладываемое ими в этот, на словах благородный, призыв? Оно
определялось тем, что сам данный призыв базировался на посту
лате, что всякая • государственная власть является фашистской,
на связанной с этим ненавистью к парламентской демократии, на
172
убеждении, что все старшее поколение равно ответственно за
установление фашизма в Германии и что все представители этого
поколения — «фашисты». Фриц Тейфель в ответ на заданный ему
на суде вопрос: «Кто ваш отец?»,—так и отвечал: «Фашист, ра
зумеется, ведь он из того поколения».
Исходя из таких представлений о «фашистах» и «антифаши
стах», на которых, по их мнению, только и делится западногер
манское общество, «левые» террористы предъявляли к каждому
представителю своего поколения требование доказать, что он —
«не фашист». А это, с их точки зрения, можно доказать, только
став «героями, которыми не смогли стать их отцы»35. Иными
словами, экстремистский активизм становился в глазах западногерманских террористов единственным и обязательным путем к
«очищению». Все те, кто не вступает на этот путь, автоматиче
ски причисляются к «фашистам», «свиньям», «недочеловекам»
или по крайней мере рассматриваются как их «прислужники».
Л. Диспо справедливо увидел в этой позиции «генетический»
источник соскальзывания РАФ в направлении к фашизму. Ту же
мысль еще более жестко и четко высказывает X. Глазер: «Эмо
циональная реакция против Освенцима, если она становится
невротической, а именно такова она у детей „поколения Освенцима“, ведет к тому же самому» 36.
Но дело не только в этом. Одной из основополагающих идей
западногерманских «левых» террористов являлась мысль, что
парламентская демократия по существу является лишь благопри
стойным прикрытием фашизма, его мирным обличием. Поэтому
задачей «революционеров» становится специальное «обострение
конфликтов» путем террористической борьбы, вынуждающее пра
вительство обратиться к открытым репрессиям. Такой тактикой,
по их мнению, достигаются две цели: во-первых, разоблачается
истинный, фашистский по его коренной сути, характер режима,
во-вторых, попавшие в невыносимое положение массы тем самым
избавляются от благодушия, пробуждаются от политической апа
тии и обращаются к вооруженной борьбе. «Нынешняя РАФ,—
свидетельствует X. Малер,—руководствуется таким принципом:
сначала надо, чтобы все стало совсем плохо, чтобы затем стало
лучше. Это означает, что надо выманить фашизм наружу» 37.
Таким образом, насущные задачи «левых» террористов и нео
фашистов во многом совпадают. Необходимо, конечно, иметь в
виду, что первыми открытая фашизация страны рассматривается
как переходный этап на пути к осуществлению революции, а для
вторых она является конечной целью. Но субъективные устрем
ления «левых» террористов не отменяют объективного смысла их
деятельности. К тому же, присущий «левым» террористам культ
насилия, их мессианские претензии, презрение к массам и реши
17а
тельная враждебность к демократии сами по себе сближают их с
неофашистами и ставят под вопрос истинность этих субъектив
ных устремлений, которые на деле являются в лучшем случае
самообманом, а в худшем —сознательной демагогией, лицемери
ем, маскировочным приемом. Поэтому, если многие из левых экс
тремистов, вступавших на путь терроризма, и веровали в то, что
они ведут антифашистскую борьбу, то сам ход этой борьбы и ее
реальная значимость не могли не выявлять и не усиливать зало
женный в самой природе левотеррористической доктрины профа
шистский потенциал.
Мысль о том, что западногерманский «левый» терроризм эво
люционировал в направлении к фашизму, неоднократно высказы
вали бывшие его активисты, позднее порвавшие с ними. Так,.
М. Бауманн признавал, что люди, начавшие борьбу, уже не управ
ляют движением и собой. Они движутся по витку спирали, со
вершая независимо от их воли «поворот в обратном направле
нии». Западногерманский «левый» терроризм, по его мнению,
трансформировался в «элитарное безумие, граничащее с фашиз
мом» 38. Г.-И. Клейн, отмечая, что многие «видят в городской герилье совсем не то, чем она является на деле», подчеркивает, что
ее действия во второй половине 70-х годов «по сути являются уже
почти фашистскими» 39.
Будучи горсткой отщепенцев, западногерманские террористы
пытались выдать себя за представителей трудящихся масс, рабо
чего класса, выразителей их воли. Однако трудящиеся массы
страны решительно отвернулись от террористов. Никакой «народ
ной армии» террористам в ФРГ создать не удалось. При всей не
полноте и лицемерности буржуазной демократии именно послед
няя выиграла в глазах общества на фоне разрушительных и кро
вавых авантюр террористов. Более того, их жестокость вызвала
одновременно опасные для демократии настроения в пользу при
менения крайней жестокости и по отношению к ним самим. Как
показали проводившиеся в ФРГ в середине 70-х годов опросы,
67% респондентов высказались за применение смертной казни к
террористам.
По мере развертывания деятельности РАФ и аналогичных ей
левотеррористических организаций видоизменилось и отношение
к ним со стороны тех кругов, которые поначалу им сочув
ствовали (леворадикальная интеллигенция и так называемые
«шили» — «шикарные левые» —фрондеры из привилегированных
слоев общества). Поначалу для представителей этих кругов были
характерны оправдание деятельности террористов, доверие к дек
ларированным ими мотивам перехода к террористической практи
ке в силу солидарности с их неприятием норм и ценностей обще
ства потребления. К этому примешивался и элемент идеализации
174
личностей самих террористов, преклонения перед их готовностью
к решительным действиям и самопожертвованию. Позднее у «симпатайзеров» (среди которых были, например, такие видные
писатели, как Г. Бёль и Г. Грасс) раскрылись глаза на воинст
венный аморализм «левых» террористов и опасность, которую их
деятельность представляет для общества и народа в целом и каж
дого отдельного человека. Не переставая иногда сочувственно от
носиться к лично знакомым им террористам, бывшие «симпатайзеры» перешли на позиции его осуждения и отвержения. Харак
терен в этом отношении пример Ф. Розенвальда, председателя
западногерманского союза учителей. Предоставив убежище
У. Майнхоф, он в конце концов решился выдать ее полиции, но
полученную за это денежную премию тут же внес в фонд помо
щи арестованным террористам.
С осуждением терроризма выступили и духовные отцы лево
радикального движения молодежи Г. Маркузе и Ю. Хабермас, на
идеи которых часто ссылались и западногерманские «левые» тер
рористы. Пафос критики терроризма сочетался у них со стремле
нием снять с себя идеологическую ответственность за те практи
ческие выводы, которые были сделаны Баадером и его соратниками
из концепции Великого Отказа и связанной с ней аргументации.
Так, Ю. Хабермас в своем «Письме в защиту республики» стре
мился доказать, что «никакие размышления не подводили поли
тических теоретиков новой левой к политической психологии
РАФ »40. Теоретиков действительно «не подводили». И даже не
всех практиков «подводили». Большинство из бывших активистов
леворадикального молодежного движения отрицательно отнеслось
к терроризму. И однако нельзя отрицать, что целый ряд постула
тов Франкфуртской школы, будучи доведен западногерманскими
террористами до логического конца, способствовал обоснованию
избранной ими агрессивной тактики.
Решительно осудили деятельность террористических группиро
вок западногерманские коммунисты. В посвященном проблемам
терроризма документе ГКП указывается: «Террористические дей
ствия и авантюры направлены против интересов рабочего дви
жения, против необходимой борьбы трудящихся за их интересы,
демократию и социальный прогресс. Они используются, как по
казывает история и события последнего времени, злейшими вра
гами рабочих и демократии» 41.
«Левый» терроризм сыграл на руку правым силам страны. От
их представителей исходили призывы к созданию отрядов само
обороны. В условиях достаточно широкой распространенности
профашистских и реваншистских настроений в стране такой шаг
мог бы служить ступенькой к возрождению формирований типа
штурмовых отрядов. Блок ХДС/ХСС воспользовался напряжен175
ной ситуацией, для того чтобы возложить ответственность за нее
на правительство СДПГ, подвергнуть критике справа всю полити
ку этого правительства и в первую очередь его деятельность по
разрядке в международных отношениях.
В ходе предвыборной борьбы ХДС/ХСС обвинили СДПГ в
идеологической близости к террористам, а также опубликовали
списки «симпатайзеров», в которые были включены многие вид
ные общественные деятели и представители прогрессивной, преи
мущественно творческой и научной интеллигенции.
Это сыграло известную роль в том, что на парламентских вы
борах СДПГ потеряла много голосов избирателей и победила
крайне незначительным большинством, что в свою очередь серьез
но дестабилизировало положение в стране.
«Левый» терроризм в ФРГ, с одной стороны, перепугал пра
вящие слои общества, с другой —явился находкой для них. Он
укрепил позиции правых кругов, дал возможность ввести опре
деленные ограничения демократической законности, послужил
чем-то вроде прикрытия и алиби для неофашистских организа
ций. Словом, благодаря деятельности западногерманских «левых»
террористов, как отметил осуждающий их деятельность, но отно
сящийся сочувственно к ним как личностям П. Оустрейхер, начали
«приоткрываться двери» в здание того «репрессивного и сильного
государства, которое сами террористы в их паранойе считали уже
существующим» 42.
13 S c h u b e r t A. Op. cit.
t4 D e m a r i s 0 . Op. cit. P. 229.
15 M a d lo c h N. Troyanische Pferd des
Imperialismus / / Horizont.
1979.
N 20. S. 8.
16 K a u f m a n n J. L’Internationale terroriste. P., 1977. P. 41—42.
17 Ibid. P. 42.
18 F e ts c h e r R o h m o s e r G. Ideologien
und Strategien. Opladen, 1981, S. 161.
19 D e m a ris O. Op. cit. P. 231.
20 D is p o t L. Le defi terroriste. P.,
1978. P. 213.
21 La violenza e la politica. Roma,
1979. P. 61.
22 F e ts c h e r
R o h m o s e r G. Op. cit.
S. 55.
23 G r eifen h a g e n M. Hitlers K in d er?//
Spiegel. 1977. N 46. S. 57.
24 S c h u b e r t A . Op. cit. S. 120.
25 F e ts c h e r J R o h m o s e r G. Op. cit.
S. 183.
26 Ibid. S. 96.
27 D e m a r is O. Op. cit. P. 228.
1 N e m e s Y. Terrormistak az NSZK.
P., 1978. P. 108.
2 O e stre ic h e r P. The rooms of terro
rism / / Round Table. 1978. N 289.
P. 76.
3 Ibid. P. 80.
4 B e c k e r J. Hitler’s children. L., 1977.
P. 41.
5 M a n d el E. Le troisiem age du capitalisme. P., 1976. Vol. 3.
6 D e m a ris O. Brothers in blood. N.
Y., 1977. P. 122.
7 S c h u b e r t A. Stadtquerila: Tupamaros in Uruguay. B., 1972. S. 117.
8 Nouvel Observateur. 1977. N 676.
P. 54.
9 D e m a r is 0 . Op. cit. P. 230.
10 M u ller-B or ch e rt H. V. Guerilla in
der Bundesrepublik / / Politik durch
Gewalt: Guerilla und terrorismus
heute. Bonn, 1976. S. 133.
11 D e m a r i s 0 . Op. cit. P. 229.
12 T erro rism . 1979. Vol. 3. N 1 -2 .
P. 11.
176
28 F e ts c h e r J., R o h m o s e r G. Op. cit.
S. 71.
29 D e m a r i s 0 . Op. cit. P. 39.
30 Nouvel Observateur. 1977. N G76.
P. 54.
31 Encounter. 1975. Vol. 44. N 6. P. 18.
32 D e m a r i s O. Op. cit. P. 249.
33 Sole R. Le defi terroriste. P., 1979.
P. 122.
34 F e ts c h e r J. Terrorismus und Reaktion. Frankfurt am Mein, 1978.
S. 66.
35 B e c k e r J. Op. cit. P. 58.
36 G laser H. Die Diskussion tiber den
Terrorismus. Ein D ossier/ / Politik
und Zeitgeschichte. 1978. N 25.
S. 12.
37 Г е н р и Э. Анатомия терроризма / /
Новое время. 1981. № 39. С. 29.
38 B a u m a n n М. The mind of German
terrorist: Interview of Michael
«Bommi»
Baumann / / Encounter.
1978. Vol. 51. N 3. P. 81.
39 D i s p o t L. La machine a terreur.
P., 1978. P. 220.
40 Esprit. 1977. N 12. P. 19.
41 E rlib a ch K . Terrorismus und Reaktion / / Marxistische Blatter. 1978.
N 1. Ig. 16. S. 49.
42 O e stre ic h e r P. Op. cit. P. 79.
Глава четвертая
Италия
В Италии экстремистское движение имеет глубокие исторические
и социальные корни, они весьма органично связаны с длительным
социально-политическим кризисом, который переживает страна.
Традиционно тяжелые социально-экономические проблемы (на
пример, проблема крайне отсталого юга), быстрая смена кабине
тов, которые не в состоянии реализовать собственные программы,
сильно развитая коррупция, протекционизм, мафия, кризис систе
мы высшего образования, здравоохранения, жилищного строи
тельства и т. д.—вот лишь немногие из проблем, которые делают
ситуацию в стране подлинно драматичной. В стране большое ко
личество безработных и полубезработных, лишенных перспектив
на улучшение положения в будущем (помощь, оказываемая им
государством, ничтожна). Только среди молодежи насчитывается
около 2 млн. безработных. Трое из четырех безработных моложе
30 лет и 40% из них имеют дипломы средних и высших учебных
заведений. В итальянских городах значителен процент люмпенов,
мигрантов и всякого рода «маргиналов» не только из «низов», но
и из интеллигенции. Процессы маргинализации в немалой мере
связаны с миграционными процессами, обусловленными огром
ным экономическим разрывом между севером и югом. В стране
образовалась внушительная армия изгоев, фактически находя
щихся вне общества.
Среди причин, обусловивших рбст политического терроризма
(и уголовной преступности), следует упомянуть также быструю и
коренную ломку экономических, социальных и политических
структур, которые пережила Италия в послевоенный период. По
177
мнению специалиста по итальянскому терроризму Р. Соле, Ита
лия за последние 30 лет прошла такой исторический путь, кото
рый Франция и Англия проделали за два века. Такой перепад
сочетался с сохранением крайней отсталости юга страны.
Социальные корни терроризма в Италии уходят в самые раз
личные общественные слои —среди них весьма обеспеченные
группы, студенчество, часть интеллигенции, в том числе творче
ской и управленческой, люмпен-пролетариат и всякого рода «мар
гиналы», 'безработные и полубезработные, поденщики, сезонные
рабочие и т. д. Сюда же следует отнести и некоторые самые от
сталые слои пролетариата, прежде всего так называемый «новый
рабочий класс», т. е. рабочих, только что влившихся в ряды про
летариата, чуждых пролетарской психологии и даже в определен
ной степени враждебных кадровым рабочим.
Трудная ситуация, в которой находится страна, вызывала и
вызывает настроения дискомфорта, недовольства и протеста.
Исходным пунктом современного итальянского «левого» тер
роризма были бурные молодежные и студенческие выступления
конца 60-х годов. После их поражения некоторые из участников
молодежного движения перешли в ряды рабочих и демократиче
ских организаций, другие отошли от борьбы, небольшая часть,
которая занимала крайние позиции, вступила на путь «левого»
экстремизма. Впоследствии некоторые из них стали лидерами и
участниками террористических организаций.
Среди левацких террористических группировок в Италии наи
более известны «Красные бригады», НАП (Вооруженные проле
тарские ячейки) и «Первая линия». Кроме того, существовало
большое полулегальное образование —так называемая «Рабочая
автономия», состоявшая из множества различных групп, кото
рые, наряду с прочим, занимались террористической деятель
ностью.
Особую роль в создании «Красных бригад» сыграл социоло
гический факультет Трентского университета, находившийся под
сильным влиянием «новых левых» и левацких концепций «куль
турной революции». На этом факультете в конце 60-х годов учи
лись некоторые «исторические лидеры» «Красных бригад».
Это был как раз период бурных студенческих выступлений.
Некоторые города —в Италии и других странах —превратились
в своего рода кампусы, заполненные шумными, пестрыми, экстра
вагантными студенческими толпами, шокировавшими и пугавши
ми обывателей. По части всякого рода эксцессов в Тренто особен
но отличались студенты-социологи. В то время обычными в горо
де были объявления такого рода: «Сдается квартира, только не
социологам». Впрочем, будущие вожаки «Красных бригад» почти
не принимали участия в шумных манифестациях студентов. Эта
178
группа сильно контрастировала с яркими анархиствующими тол
пами В отличие от других студентов скромно одетые и коротко*
постриженные, они все свободное время проводили в дискуссиях
и чтении, причем среди особенно внимательно изучавшихся авто
ров были Мао Цзе-дун и Клаузевитц, что соответствовало, а в из
вестной мере и определило примитивно экстремистские и мили
таристские устремления этих людей.
С 1969 г. группа, составлявшая первоначально ядро «Крас
ных бригад», стала предпринимать попытки внедриться в рабочее
движение с целью его «радикализации» и создания автономных
организаций в противовес традиционным организациям проле
тариата. В 1970 г. начинается деятельность «Красных бригад» в
промышленных пригородах и крупных городах севера Италии.
Впервые появляются листовки с воззваниями и проводятся такие
акции, как составление «проскрипционных списков», поджоги ав
томашин и другие диверсионные акты, грабежи («пролетарские*
экспроприации»), похищения и так называемые «пролетарские
процессы». Сначала объектом похищений были руководители
предприятий, затем, с 1974 г.,—представители государственных
учреждений.
«Красные бригады» разрывают связи со всеми легальными
группировками, даже крайне левыми, и постепенно расширяют
географические рамки своих акций. В 1974 г. произошел редкий
(в отличие, например, от НАП) для раннего периода сущест
вования этой террористической организации случай —в ее ряды
проник полицейский провокатор С. Джиротто, который прибыл
из Латинской Америки в ореоле славы «городского партизана».
В организации он был известен под кличкой «брат-автомат» и
ему поручались весьма ответственные функции эксперта по во
оружению, боевой подготовке, конспирации и изготовлению фаль
шивых документов. Джиротто быстро получил доступ к руково
дителям «Красных бригад», которых и выдал полиции. В конце
1974 г. арестован ряд «исторических лидеров» организации: Курчо, Франческини, Оньибене и др. Курчо, однако, вскоре совершил
побег из тюрьмы с помощью своей жены М. Кагол, тоже одного
из лидеров организации, которая затем погибла в стычке с поли
цией (ее образ впоследствии стал предметом культа не только
среди итальянских, но и западногерманских террористов, кото
рые уже в середине 80-х годов назвали ее именем одну из своих
группировок). В середине 1976 г. Курчо вновь был арестован и
через два года осужден вместе с другими руководителями груп
пы на длительное тюремное заключение.
Арест старого руководства/однако, отнюдь не ослабил органи
зацию. Напротив, деятельность ее стала значительно «масштаб
нее» и интенсивнее, приобрела новые формы. В сущности, только
179
с 1975 г. «Красные бригады» переходят к тактике прямого во
оруженного насилия, террора, убийств и варварских увечий (ча
сто «бригадиеты» стреляли по ногам своих жертв и подвергали
их весьма изощренным издевательствам). «Пик» преступной дея
тельности этой группы приходится на 1977—1981 гг. Наиболее
известный террористический акт, совершенный ею,—похищение
и последующее убийство лидера христианских демократов
А. Моро. Такой акт особенно рельефно подчеркнул антидемокра
тический и антинародный характер деятельности «Красных
бригад». А. Моро был похищен за несколько часов до того, как
должен был подписать соглашение о парламентском союзе между
христианскими демократами и коммунистами. Задачей «Красных
бригад» был срыв этого соглашения, что совпадало с целями реак
ционных сил в Италии и за рубежом.
«Красные бригады» не скрывали своего антикоммунизма. Их
документы и «коммюнике» полны ругательств в адрес коммуни
стов, итальянского профсоюзного движения и демократических
организаций. Заместитель прокурора Генуи М. Сосси, похищен
ный в свое время «Красными бригадами» и затем «временно» от
пущенный на свободу, сказал о ее членах: «Главным образом
они антикоммунисты» 1. Этот мотив постоянно повторяется с тех
пор в итальянской прессе и литературе (наряду с противополож
ным, связывающим эту организацию и «левый» терроризм во
обще с коммунистическим движением и социалистическими стра
нами). В 1985 г. журнал «Панорама» шГсал: «ИКП —главный
объект терроризма» 2.
Довольно долго организация была окружена мифическим орео
лом, который всячески раздувался средствами массовой информа
ции. Считали, что «Красные бригады» практически непроницаемы
для полиции. Действительно, в отличие, например, от НАП эта
организация ряд лет вплоть до 1979 г. почти не знала провалов.
Существовало мнение, что, наоборот, террористы имеют своих лю
дей в важных звеньях государственного аппарата и доступ к важ
ным правительственным документам, что у них есть соучастники
и сочувствующие среди высоких чинов армии и секретных служб.
Высказывались даже предположения, что подслушивающие аппа
раты, обнаруженные у некоторых высокопоставленных лиц, были
установлены террористами.
Со временем, однако, мифический ореол, окружавший «Крас
ные бригады», развеялся: большинство членов организации,
в том числе почти все руководители, были арестованы, многие убе
жища и явки раскрыты. Мифическим оказалось и мнение о же
лезной дисциплине в их рядах. Начиная с 1980 г. многие аресто
ванные «бригадисты» «раскололись» и сделали ряд сенсационных
признаний и заявлений.
180
В 1974 г. первоначально на юге и в центре страны возникла
другая известная левотеррористическая организация — Воору
женные пролетарские ячейки (НАП).
Восприняв старую анархистскую идею, будто уголовники —
наиболее революционный элемент в обществе, эта группировка
ориентировалась именно на них. Такая установка неизбежно и
быстро привела к краху. Организация была наводнена провока
торами и разгромлена.
Стратегия слияния политического терроризма с уголовной
преступностью, проповедовавшаяся НАП, оказала немалое влия
ние на итальянский терроризм вообще. С конца 1980 г. ее в зна
чительной мере восприняли и «Красные бригады».
Относительно кратковременным было существование еще од
ной крупной террористической организации «Первая ли
ния». Впервые она дала о себе знать в 1977 г. и вскоре по своей
активности приблизилась к «Красным бригадам», с которыми у
нее были определенные тактические и идеологические расхожде
ния, а в какой-то мере, вероятно, и соперничество. Существовали
разные мнения о роли «Первой линии» в структуре итальянско
го терроризма, сейчас можно сказать, что она занимала промежу
точное положение между «Красными бригадами» и «Рабочей ав
тономией».
Кризис «левого» терроризма в Италии, начавшийся в 1980 г.,
привел к краху «Первой линии». Большую роль в этом сыграли
показания, данные органам правосудия одним из ее бывших ли
деров —Роберто Сандало. В результате было арестовано около
двухсот членов этой организации.
«Рабочая автономия» возникла в Италии в начале 70-х годов
в результате слияния двух организаций — «Потере операйо» и
«Группы Грамши», порвавших с другими ультралевыми внепар
ламентскими группами, такими, как «Манифесто» и «Лотта континуа», которые отвергают террористическую тактику. В «Рабо
чую автономию» влилась также часть так называемых «рабочих
ассамблей», возникавших на предприятиях с начала 70-х годов.
Эта организация была полулегальной. Терроризм являлся для нее
лишь частью стихийного массового движения, которое она пыта
лась вызвать. Все свелось к выступлениям, постоянно перерастав
шим в прямую уголовщину. Они были направлены не только про
тив «системы», но и против рабочего движения, которое рассмат
ривалось как ее часть. В разных городах Италии автономистами
были спровоцированы крупные эксцессы.
С начала 80-х годов для «автономистских» группировок на
ступили трудные времена, значительная их часть была разгром
лена, некоторые другие распались. Лидеры «автономистов» нахо
дятся в тюрьмах, в эмиграции или «раскаялись». Происходили и
181
происходят процессы над руководителями и участниками «авто
номистского» движения.
«Автономистский» терроризм характеризовался разветвленностью, «диффузностью». С его помощью стремились разложить
не только политические структуры страны, но прежде всего соци
ально-экономическую систему.
«Рабочая автономия» подразделялась на две части —«органи
зованную» и «неорганизованную». Вторая представляла собой до
вольно аморфную массу. «Мы,—говорили „автономисты14 этого
толка,—не есть организованная группа и не партия, но револю
ционная сфера, которая стихийно образуется в гетто больших ин
дустриальных городов среди люмпен-пролетариев, женщин, мар
гиналов» 3. «Сфера автономии,—говорится в одном из судебных
документов,—это неопределенная смесь различных групп и тен
денций, подлинная мозаика, составленная из различных ярлыков,
галерея образов, налагающихся друг на друга, созвездие частных
комитетов, кружков и коллективов, лишенных какой-либо цент
рализованной организации» 4.
Иначе выглядела «организованная» часть «Рабочий авто
номии». Несмотря на декларировавшийся спонтанеизм, она пред
ставляла собой более четко структурированное образование со
своей иерархией и лидерами.
Между разными формами итальянского «левого» терроризма
больше общего, чем различного, несмотря на определенные эле
менты соперничества, конкуренции, взаимной критики, а также
некоторые структурные, организационные, тактические и идейные
различия.
Руководящие деятели ИКП подчеркивали, что не следует про
водить принципиального различия «между преступными акция
ми подпольной вооруженной партии и действиями открытой и
диффузной „городской герильи44, практикуемой группировками,
подобными „Рабочей автономии44» 5.
Упомянутые выше террористические организации —наиболее
крупные из организаций такого рода, всего же их в Италии в пе
риод «пика» терроризма насчитывалось свыше двухсот *, при
чем примерно четыре пятых из них были левацкими, а одна пя
тая —ультраправыми. Нередко трудно было точно определить,
к какой части политического спектра та или иная из них отно
сится. В названиях «левых» террористических группировок, как
и в документах террористов, постоянно присутствует ультрарево
* Точное число террористических групп никогда невозможно было опреде
лить, отчасти в силу законспирированности, отчасти потому, что некото
рые из них выступали под разными наименованиями. Иногда за претен
циозными ярлыками вообще ничего не стояло, и группа оказывалась
совершенно эфемерной или даже фиктивной.
182
люционная фразеология, однако ультрарадикалистские и «сверхреволюционные» наименования и риторика характерны и для
неофашистских террористических организаций. Объектами напа
дений террористов в период высшего подъема террористической
деятельности в стране были политические, партийные и профсо
юзные деятели, государственные служащие, особенно работники
♦суда и прокуратуры, карабинеры, полицейские и работники тю
рем, журналисты, предприниматели и управленческий персонал
предприятий, инженеры и техники, профессора и преподаватели,
медицинские работники, иногда рабочие и даже женщины. Напа
дениям подвергались полицейские участки, партийные и профсо
юзные комитеты, общественные и государственные учреждения,
казармы, банки, предпринимательские конторы, школы и универ
ситеты, редакции газет и информационные агентства.
В калейдоскопе идейных концепций итальянских террористи
ческих группировок, как правило, примитивных, иногда даже
полуграмотных, но иногда и «рафинированных», ориентироваться
довольно затруднительно. Многие из них бессистемны и противо
речивы, находят свое выражение только в лаконичных лозунгах
и «коммюнике». Другие, напротив, представляют собой внешне
крайне усложненные, многословные, спекулятивные конструк
ции, расшифровка которых —достаточно сложное дело.
Современный «левый» терроризм делится на две основные
ветви: анархистскую и псевдомарксистскую. Деление это весьма
условно, так как обе ветви постоянно переплетаются. Их идейные
истоки хорошо известны. Это идеи «классического» анархизма и
терроризма, различные левацкие концепции прошлого, лево
экстремистские теории революции и «городской герильи», идеи
«левого фрейдизма», Франкфуртской школы, теоретиков «контр
культуры» и т. п.
В идеях и умонастроениях анархистского терроризма в наи
более рельефной форме находит выражение психология декласси
рованных люмпенов и маргиналов. Для них характерен тоталь
ный нигилизм и деструктивизм, антиинституционализм, культ
стихийности, насилия, универсального саботажа, декларация
«права на ненависть» и т. п.
Анархистский терроризм в Италии представлен «Рабочей авто
номией». Сам этот термин выражает маргиналистское неприятие
всего на свете —государства, политики и политической борьбы
(борьба должна вестись стихийно на производстве, на улицах),
партий, культуры, моральных и социальных норм и т. д. В тер
мине «автономия» сконденсирован мелкобуржуазный индивидуа
лизм, он означает «отделение ото всех и ото всего», однако
прежде всего —это «автономия» от рабочих партий, профсоюзов,
вообще от организованного рабочего движения.
183
В автономистских концепциях отрицание «потребительской
цивилизации» причудливым образом сочетается с самым при
митивным потребительским иждивенчеством. Выражая люмпен
ское нежелание работать, «автономисты» в духе «контркультур
ных» традиций выступают против «трудовой этики». Антипотребительские мотивы молодежного движения конца 60-х годов при
обретают крайне искаженные формы, превращаются в своего'
рода иждивенческий культ потребления. «Автономисты» выступа
ют за «освобождение от труда», а следовательно, в случае реа
лизации подобных установок, какие бы оговорки при этом ни
делались, кто-то должен был бы работать за них (на встречах с«автономистами» на это неоднократно указывали итальянские ра
бочие). Они восстают не столько против существующей системы,,
сколько против того, что она не может немедленно удовлетво
рить их потребности, не может дать того, что как будто обе
щает.
Очевидная нереалистичность такого рода устремлений, враж
дебность к обществу в целом и к организованным формам борьбы
трудящихся усугубляют настроения отчужденности, опустошен
ности, всеохватывающей социальной ненависти. Непонятность,,
нетерпение, комплекс неполноценности, подозрительность и от
чаяние, для которого имеются веские основания, приводят к же
ланию низвести мир до собственного уровня, «варваризировать»
его, разрушить сразу, полностью, до основания. Борьба против
«системы» превращается у «автономистов» в бессмысленный деструктивизм, в серию провокационных вылазок, хулиганских де
бошей, в срыв организованных рабочих манифестаций, избиение
рабочих-коммунистов и профсоюзных активистов. .
Абсолютизируя насилие и разного рода бандитские акции,
«автономисты», как и прочие террористы, отказываются квали
фицировать собственные действия как насилие и террор, в край
нем случае речь идет о «пролетарском насилии», противопостав
ляемом буржуазному. Для оправдания своих акций говорится о
государственном насилии и терроре как- о «единственной» форме
терроризма. «Мы,—говорят „автономисты44,—решительно не лю
бим насилия... Но существует насилие, которое каждодневно угро
жает нашей жизни. Чтобы жить и выжить, мы вынуждены защи
щаться от насилия. Наше насилие —это самозащита пролетарско
го класса от насилия, ежедневно совершаемого государством»6.
Нужно ли говорить, что хулиганские эксцессы, бандитизм и
терроризм, эта излюбленная практика «автономистов», конечно,
не есть «самозащита пролетарского класса». Это акции, которые
способны только усугубить насилие со стороны реакционных
сил, а иногда и способствовать его превращению в крайнюю фа
шистскую форму.
184
Мысль, что существует единственная форма насилия и терро
ра —государственный террор, служит одним из лейтмотивов
идеологии терроризма. Она выполняет в ней исключительно важ
ную функцию, функцию морального алиби, позволяющего оправ
дать все формы антигосударственной террористической практики.
Это —попытка маскировки и самооправдания.
Спонтанеизм, анархизм, принципиальное отрицание теории и
крайняя идеологическая аморфность характерны в основном для
неорганизованных автономистских групп. «Организованная» ав
тономия стремилась смягчить эти крайности, добиться большей
теоретической строгости и четкости концепций: отказ от теории
и спонтанеизм здесь, так сказать, концептуализируются. Идеи
этой части автономистского движения находят выражение в ра
ботах Антонио Негри, который до своего «отречения» от терро
ризма был в Италии самым известным теоретиком «левого» экст
ремизма. Многочисленные и многословные «резолюции» и брошю
ры левацких террористических организаций почти всегда аноним
ны. Негри же выпускал одну книгу за другой, и здесь ни о ка
кой анонимности не могло быть и речи («Господство и саботаж:
о марксистском методе общественной трансформации», «Пролета
рии и государство», «От массового рабочего к рабочему социаль
ному», «Маркс над Марксом», «Коммунизм и война» и др.). Для
его работ характерно удивительное сочетание крайнего примити
визма содержания и усложненности формы. Нигилизм и деструктивизм, оправдание насилия, отрицание «трудовой этики»
и прочие экстремистские идеи, изложены у Негри эзотериче
ским языком, не уступающим языку самых «темных» философ
ских работ прошлого и настоящего.
Претендуя на развитие марксизма, А. Негри доходит букваль
но до «геркулесовых столбов» вульгаризации. Отталкиваясь от из
вестных неомарксистских идей, он проповедует волюнтаристский
субъективизм, пытается элиминировать все основные, глубинные
компоненты мысли Маркса (закон стоимости, объективные зако
номерности исторического процесса, детерминизм, диалектику
и др.). Он считает возможным говорить только о непосредствен
но данном — потребительной стоимости, потребностях, деньгах,
зарплате и т. д. Фактически он вообще пытается устранить по
литическую экономию в пользу чистой политики, прагматико-по
литического подхода к проблемам, редуцируя все, о чем говорит,
к социальным антагонизмам, к примитивно (и абстрактно) пони
маемой «классовой борьбе».
Террористические группировки типа «Красных бригад» стре
мятся, как правило, отмежеваться от наиболее одиозных крайно
стей своих анархиствующих собратьев (хотя в их писаниях не
редко воспроизводятся идеи Негри или чувствуется их влияние).
185
В заявлениях, «коммюнике», «стратегических резолюциях» и т. п.
можно увидеть длинные разглагольствования о необходимости
создания «боевой партии», ясной политической линии, жесткой
дисциплины. «Нужно выбросить из головы как можно скорее и
раз и навсегда,—говорится в одном из документов „Красных бри
гад44,—что превращение вооруженной борьбы в длительную на
родную борьбу может быть стихийным процессом... Создание ус
ловий для альтернативы существующей власти, формирование
революционного потенциала пролетариата —это сознательный и
насильственный процесс, производимый коммунистическим аван
гардом... Вооруженная борьба —это политическая стратегия, а не
одна из многих возможных форм борьбы... вооружение рабочего
движения должно сегодня толковаться и практиковаться исходя
из целей создания боевой партии» 7.
Не меньший акцент на роли теории делала и «Первая линия».
Считая своей целью разжигание гражданской войны и распрост
ранение «революции» с итальянского полуострова на другие стра
ны, лидеры этой организации утверждали: «Без теории и без пар
тии мы не только не совершим нашей революции, но не сможем
внести свою лепту в мировую революцию» 8.
Итак, в отличие от значительной части «автономистов», про
грамма которых иногда ограничивалась чисто «экзистенциальны
ми» или корпоративно-потребительскими запросами, «Красные
бригады», «Первая линия» и им подобные террористические груп
пировки претендовали на четкую и ясную политико-идеологиче
скую платформу. Они призывали все силы, которые «борются
за коммунизм», объединиться на основе «сознательной, организо
ванной коммунистическим авангардом и проникнутой максималь
ной политической ясностью работы» 9.
Псевдокоммунистическая демагогия «Красных бригад», конеч
но, не может приниматься всерьез, но ее социально-политические
функции вполне серьезны. Эти функции независимо от воли ее
авторов заключаются, с одной стороны, в том, чтобы кого-то
сбить с толку и увлечь псевдореволюционностью и псевдоортодок
сальностью, выдаваемыми за верность боевым традициям комму
нистического движения, с другой —в дискредитации коммунисти
ческого движения, традиционные фразеологические и в известной
мере идеологические формулы которого тесно сопряжены здесь
с преступной уголовной практикой.
«Красные бригады» наиболее активная и значительная италь
янская террористическая организация. Естественно поэтому, что
именно ее идеи находятся в центре внимания исследователей и
журналистов. Последние весьма различно относятся к ним:
одни —пренебрежительно, считая, что идеология террористов —
это чистая пропаганда, предназначенная, в частности, для обма
186
на противников; другие, напротив, полагают, что концепции тер
рористов служат отправной точкой для оценки всего феномена
терроризма.
В период «пика» деятельности «Красных бригад» в их доку
ментах, в которых переплетаются некоторые крайне вульгаризи
рованные и догматизированные марксистские положения с левац
кими доктринами и концепциями «городской герильи» латиноаме
риканского и западногерманского происхождения, развивались
следующие идеи.
В Италии, которая квалифицируется как наиболее слабое зве
но всемирной системы капитализма, усиливается кризис. Импе
риализм в целях разрешения этого кризиса проводит общую ре
структурацию системы, имея в виду превращение государства в
приводной ремень транснациональных монополий. Власть все
больше концентрируется в фашизирующихся исполнительных
органах, организуется «превентивная контрреволюция». Эта
программа осуществляется правительственными органами и
христианско-демократической партией с помощью «берлингуэрианцев» (т. е. ИКП), задача которых— «обуздать» пролетариат.
Единственный выход из этой ситуации —вооруженная борьба,
перерастающая в гражданскую войну, поскольку мирный путь и
легальные методы — иллюзия. В Италии существует революцион
ная ситуация и вместе с тем отсутствуют субъективные условия
революции, в связи с чем «революцию» должен начать «авангард»
пролетариата, который произведет милитаризацию классовой
борьбы, объединит пролетариат под своим руководством и поведет
в конце концов массы за собой. Враг должен быть побежден не
политически, а уничтожен физически, все остальное —неэффек
тивно. Необходимо и желательно стимулировать авторитарный
переворот, чтобы показать массам истинную природу буржуазного
государства и пробудить их революционный потенциал. Основные
объекты удара —государство (нужно наносить удары «в самое
его сердце») и политические партии, прежде всего христианскодемократическая и коммунистическая. Поскольку же война, о ко
торой идет речь, не может ограничиться масштабами одной Ита
лии, а нецзбежно примет континентальный и даже глобальный
характер, то удар должен быть направлен по империализму и
«социал-империализму» в мировом масштабе. Третья мировая
война неизбежна.
Итальянские террористы, как видим, исходили из некоторых
справедливых положений, заимствованных из марксистского арсе
нала (углубление кризиса капиталистической системы, обострение
социальных противоречий, репрессивный характер буржуазного
государства и т. п.). Однако интерпретация этих общих положе
ний связана с такими невероятными преувеличениями, что кар
187
тина положения в Италии оказывается фантастической, имею
щей мало общего с реальностью.
В таком же ключе описывается и ситуация в современном
мире в целом.
Немедленное установление коммунизма в Италии не происхо
дит только в силу крайней репрессивности режима и «предатель
ства ИКП». «Этот режим,—говорится в одном из „коммюнике44
„Красных бригад44, выпущенном в начале 1981 г.,—не имеет бо
лее никакого оправдания для своего существования и держится
только на силах антипролетарского уничтожения... Если атако
вать и подорвать эти силы, режим... окажется абсолютно бессиль
ным и немощным. Отсюда —шизофренические конвульсии раз
личных партий, различных управленческих и судебных органов
и т. д .... Единственный цементирующий элемент, который позво
ляет этому режиму держаться на ногах,—это коррупция и
страх»10.
Очевидно, что в подобном представлении о современном мире
игнорируются огромные завоевания современного рабочего и
демократического движения, с которыми не могут не считаться
правящие классы. Конечно, буржуазные государства репрессив
ны по своей природе, но формы репрессивности при фашистских
и буржуазно-демократических режимах существенно отличаются.
Правящие классы, вероятно, были бы не прочь реализовать все,
что им приписывают «левые» экстремисты, но они далеко не
всегда в состоянии это осуществить. Что касается Италии, то
здесь совершенно игнорируется специфика ее положения, в част
ности характер конституции, возникшей в огне всенародной
антифашистской борьбы. Это одна из наиболее демократических
буржуазных конституций. Если добавить к этому общеизвестный
факт большой роли, которую играют в жизни страны левые силы,
ю станет очевидна абсурдность представлений «левых» террори
стов о социально-политической реальности современной Италии
(как, впрочем, и других стран).
Каков же подлинный смысл подобных представлений? Во-пер
вых, они уводят от действительных проблем современности, дезо
риентируя тем самым определенные социальные слои, переводя
их энергию в весьма сомнительное и опасное русло. Во-вторых,
из них следует, что рабочему классу нужно отвернуться от ком
мунистических партий. В-третьих, что нельзя возлагать надежды
на какие-либо мирные формы перехода к социализму. Если по
ложение действительно таково, то единственный выход—воору
женная борьба. Террор —первый этап такой борьбы, затем он
должен перерасти в гражданскую войну.
Таким образом, одна из целей «беспросветной» картины со
временной действительности, рисуемой террористами,—оправда*88
•ние террористической практики, которая, понятно, как ничто
другое нуждается в оправданиях, а также самооправдании. Уни
версальная мифологизация действительности, создание чудовищ
ной картины тотально враждебного мира —краеугольный камень
социально-политической философии террористов. Этот мир «дол
жен» заставить себя ненавидеть, чтобы дать «Красным бригадам»
оправдание прежде всего перед собой и.
Конечно, нельзя думать, будто такая картина мира есть йлод
только сознательного расчета. Иллюзорное представление о то
тально враждебном мире, где нет ничего, кроме насилия, репрес
сивности и предательства, вытекает из ущербной психологии со
циальных слоев, питающих teppopncTH4ecKoe движение. Такая
психология ведет к общей «деморализации» этого движения.
Гуманизм, который был присущ некоторой части «классического»
терроризма, полностью уступает место ненависти. Ненависти ко
всем, кроме членов собственного клана. Эта ненависть приобре
тает совершенно гротескные формы, когда ее пытаются облекать
в псевдогуманистические и псевдоортодоксальные одежды. По
поводу убийства А. Моро Р. Курчо сказал: «Акт революционной
справедливости, совершенный в отношении Моро,—это самый
высокий акт гуманности, возможный в этом обществе, разделен
ном на классы» 12~13.
Ряд других итальянских террористических Организаций счи
тает свою платформу отличной от идеологической платформы
«Красных бригад». Они критикуют «Красные бригады» за аристо
кратизм, элитаризм, «отрыв от масс».
Однако эти различия со стороны уловить не так просто.
Лидеры «автономистов» следующим образом формулировали эти
отличия: для «Красных бригад» характерны ультрацентрализация,
идея вооруженной борьбы небольшого авангарда, который должен
сокрушить государство. Для «Рабочей автономии» восстание и
гражданская война вплетаются в рамки процесса ломки капита
листической социальной системы угнетения на «базовом» уровне.
Основная 'ошибка «Красных бригад» заключается в том, что их
крайний «милитаризм» стоит вне социальных процессов, акцент
делается на политике, тогда как он должен делаться на социаль
ных факторах. Концепция революции «Красных бригад» устарела
по отношению к «гигантскому социальному саботажу», происхо
дящему реально и проповедуемому «автономистами». Уже сейчас
возникает новое общество, антагонистическое по отношению к
существующему.
В этих рассуждениях лидеров итальянского автономизма оче
видна попытка представить движение «Рабочей автономии» как
«социальное», а не как террористическое. Ныне они предлагают
вовсе отказаться от «политики вооруженной борьбы» и террориз
189
ма. Еще 30 сентября 1982 г. А. Негри, будучи в тюрьме, подпи
сал «Манифест» отрекшихся от терроризма (среди подписавшихся
значительная часть руководителей террористических групп).
С начала 80-х годов в рядах самих «Красных бригад» началась
идейная грызня, сопровождавшаяся взаимными «отлучениями»,
обвинениями в «предательстве» и т. п. Один из основателей и
первый лидер «Красных бригад» Р. Курчо, находящийся в тюрь
ме, <признал поражение этой организации и подверг критике
прежние идеи «вооруженной пропаганды» и «партии». Он призвал
к «решительному разрыву со стратегическими и организацион
ными схемами прошлого» 14.
Все эти идейные конвульсии отражают кризис «левого» тер
роризма в Италии. Разногласия в идеологии, как и различия в
практике разных его ипостасей, имеют второстепенное значение.
У них гораздо больше общего, чем отличительного. В сущности,
в документах самих террористов, наряду с довольно ожесточен
ной иногда полемикой, с очевидными элементами соперничества,
-борьбы за влияние и лидерство, чаще всего преобладали все же
«объединительные» тенденции. В одном из ранних документов
«Красных бригад» от ноября 1977 г. содержался симптоматичный
«пассаж»: «Нет противоречия между линией масс и ролью аван
гарда,—говорилось в нем,—нет дихотомии между практикой
движения
(имеется в виду „движение44 „автономистов44.—
П р и м . авт.) и вооруженной деятельностью. В конце концов
сжечь автомобиль грязного христианского демократа, который
ведет свою антипролетарскую деятельность в каком-то определен
ном квартале, или казнить еще более грязного агента империализ
ма, который руководит наверху реструктурированием государст
ва,—все это не есть выражение более высоких или более низких
уровней борьбы, оба эти способа входят в правильную стратегию
гражданской войны за построение коммунистического общест
ва» 15.
В обширном обвинительном заключении по делу руководите
лей «Рабочей автономии» отмечается единство стратегии этой
организации и «Красных бригад», осуществляемой посредством
«двух систем насильственной борьбы: так называемой массовой
нелегальности (пикеты, применяющие насилие, захват промыш
ленных предприятий, повреждение оборудования, блокада улично
го движения, пролетарские экспроприации) и вооруженной терро
ристической борьбы, находящей выражение в покушениях, по
боищах, убийствах, разрушениях и вообще в преступлениях про
тив общественной и личной безопасности» 16.
Террористов всех оттенков объединяет антикоммунизм —от
кровенный или замаскированный, их объединяет также антидемо
кратизм. А все разговоры о «мобилизации масс», «пролетариате»
190
и «партии» служат прикрытием отсутствия массовой базы, стрем:ления насильственно навязать народу идеологию и стратегию тер
рора и провокаций.
Идеей фикс всего современного терроризма долгое время
была идея войны. «Мы хотим войны»17,—прямо заявляли его
апологеты в конце 70-х годов. Война была желанной целью и
средством, и оправданием. Ведь, если идет война, практика мас
совых убийств из преступления превращается в неизбежность,
а арестованные террористы из преступников —в военнопленных.
Слова «гражданская война» и просто «война» не сходили с язы
ка террористов. О развязывании гражданской войны говорилось
как о первостепенной задаче, как о качественно новом этапе
борьбы. Вместе с тем постоянно утверждали, что гражданская
война уже идет. В начале 1981 г. «бригадисты» заявили в интер
вью журналу «Эспрессо», что «в настоящее время существуют
объективные и субъективные условия для решительного перехода
к гражданской войне за коммунизм» 18. Как отмечается в книге
известного исследователя-коммуниста А. Минуччи «Терроризм и
итальянский кризис», истинная цель террористов «добиться лега
лизации состояния войны» 19.
Террористы потому открыто заявляют о желательности войны,
писала газета «Унита», что «если дело дойдет до открытого и
всеобщего конфликта, то не будет места для демократической
политической борьбы, для перемен, осуществляемых со всеобщего
согласия посредством распространения демократических завоева
ний. Если идет гражданская война... то. решающее значение при
обретают генералы и законы военного времени, правые силы и
реакция» 20.
Террористы жонглировали не только понятием «гражданская
война», но и «война мировая». В одних случаях последняя рас
сматривалась как необходимая предпосылка «революции», в дру
гих —утверждалось, что она уже идет между империализмом,
«социал-империализмом» и «коммунистическими силами», т. е.
«левыми» террористами.
Теперь положение несколько изменилось: террористы в ряде
стран, в том числе и в Италии, взяли на вооружение пацифист
ские лозунги, говорят о необходимости предотвращения третьей
мировой войны, о «борьбе за мир», но основные посылки их
политической философии и их провокационная практика никак
не способствуют достижению этих целей, они по-прежнему
играют на руку империализму и являются милитаристскими по
своей сути.
С начала 80-х годов действенность антитеррористической
борьбы значительно возросла по ряду причин (более энергичная
позиция администрации, опыт, приобретенный антитеррористиче191
сними силами, ряд эффективных законодательных мер и др.).
Это не могло не отразиться на тактической линии итальянских
террористических группировок.
Первый из элементов «обновленной» тактики «Красных бри
гад», отчасти воспроизводивший старую тактику НАП,—стремле
ние вовлекать в «борьбу» заключенных, в частности уголовные
элементы, добиваться освобождения «политических заключен
ных», т. е. арестованных террористов (те и другие объединялись
под названием «экстралегальный пролетариат»). Второй —заклю
чался в прямом призыве к физическому уничтожению коммуни
стов. Если раньше террористы нападали в основном на по
литику ИКП, но воздерживались чаще всего от террористических
актов против ее кадров (хотя и не всегда: задолго до этого от
рук террористов погиб, например, мужественный рабочий-комму
нист Г. Росси; имевший смелость разоблачить некоторых из них),
то теперь «Красные бригады» провозгласили необходимость непо
средственных ударов по членам ИКП, призывая безжалостно их
уничтожать.
То что террористы провозгласили в качестве одной из своих
главных задач уничтожение кадров ИКП, означает, что они окон
чательно сбросили маску. Даже крайне реакционные силы далеко
не всегда решаются открыто призывать к физическому уничтоже
нию коммунистов.
Третий новый элемент в деятельности террористов, к которо
му они прибегли в отчаянной попытке избежать окончательного
разгрома,—расширение «географии» терроризма: террористы
стали действовать на юге страны, в частности в Неаполе, прибе
гая к социальной демагогии, используя бедствия бездомных и
пострадавших от землетрясения.
И, наконец, четвертый, самый существенный момент, который
стал вскоре основополагающим для новой мощной волны «лево
го» терроризма в Европе,—стремление придать ему «антинатовскую», «антиамериканскую», пацифистскую окраску, явно вызван
ное желанием «идти в ногу» с широкими антивоенными манифе
стациями, развернувшимися во всей Западной Европе, в частности
в Италии.
Первой акцией такого рода было похищение одного из высших
чинов НАТО в Италии —американского генерала Д. Доузера.
Однако уже эта акция продемонстрировала провокационный ха
рактер «антинатовского» терроризма. Она не только оказалась
одной из самых беспомощных (впервые за всю историю современ
ного итальянского терроризма похищенный был обнаружен), но
и привела к прямому вмешательству американских сыскных
служб во внутренние дела Италии и к усилению американского
давления на страну.
192
1981—1986 гг.—период глубокого кризиса итальянского
«левого» терроризма. Большинство его лидеров оказались за ре
шеткой. Наряду с практическим исчезновением или уничтожением
ряда террористических группировок (в частности, НАП, «Первой
линии» и др.), другие оказались сильно ослабленными, потеряв
основную часть сил. Сильнейшие удары были нанесены по «Крас
ным бригадам». Основные «колонны» этой организации перестали
существовать. Огромную роль в углублении кризиса итальянского
терроризма сыграли «отречение» и «раскаяние» многих сотен
террористов, среди которых такие «руководящие» фигуры и идео
логи, как Печи, Сандало, Негри, Фенци. Их показания позволили
не только арестовать большое число членов террористических
групп, раскрыть десятки «убежищ», уничтожить' целые группи
ровки, но и, что не менее важно, пролили свет на тот страшный
«микроклимат», который царит в этих группах как на свободе,
так и в тюрьмах. Всеобщая подозрительность, взаимная слежка,
«приговоры» и «казни» по первому подозрению и т. п.—все это
будничная практика террористических сообществ.
Эти и другие факторы привели к дальнейшему разброду и
расколу в рядах террористических организаций. На несколько
непримиримых фракций распались «Красные бригады». Даже на
судебных процессах, которых было немало в последние годы,
представителей разных фракций террористов держат в разных
«клетках» во избежание взаимных побоищ.
В 1984—1986 гг. среди оставшихся на воле (в Италии и за
рубежом) бригадистов было две основные группы. Группа «ста
риков», находившаяся в меньшинстве, призывала «не повторять
ошибок прошлого» и, не отрицая, вооруженных акций, включить
ся в другие формы «классовой борьбы». Группа «молодых», во
зобладавшая в организации, обвиняла -«стариков» в «экономизме»,
«догматизме», «ревизионизме», требуя возобновления активных
действий, начала «немедленной гражданской войны»21. Отли
чаются эти группы и в своем отношении к СССР и США. Пер
вая в духе маоистского прошлого призывает равным образом
дистанцировать от обеих стран. Вторая заявляет, что восточный
блок —враг
второстепенный, а главный враг - американский
империализм.
Отмеченные разногласия вряд ли существенны, так как име
ют место в рамках остатков, по существу, разгромленной орга
низации. В целом кривая террористической активности в Италяи
в середине 80-х годов стала приближаться к нулевой отметке.
В 1984 г. было произведено лишь два крупных террористических
акта — убийство американского генерала Л. Ханта и неудачная
попытка террористического нападения на американское посоль
ство. В 1985 г. обратило на себя внимание, пожалуй, только
7
В. В. Витюк, С. А. Эфиров
193
убийство опять же связанного с американцами экономиста
Э. Тарантелли. Этим убийством, по мнению журнала «Панорама»,
«Красные бригады» стремились продемонстрировать «свое едине
ние с евротерроризмом» 22.
Впрочем, надо сказать, что в отличие от французских и за
падногерманских «левых» террористов, подписавших в начале
1985 г. соглашение о единстве, «Красные бригады» стремятся со
хранить автономию в отношении далеко «обошедших» их РАФ pi
«Аксьон директ» (хотя некоторые из бригадистов еще в 1982 г.
вступили в последнюю). Особенно недоброжелательно относятся
к этим организациям «старики», обвиняя их в провинциализме и
в том, что они отошли от «марксизма».
Основной вопрос, который стоит сейчас и который постоянно
задают политики, исследователи и журналисты,—является ли
нынешняя ситуация концом итальянского «левого» терроризма
или лишь «затишьем перед бурей», периодом перегруппировки н
мобилизации сил перед новым приливом террористической волны,
как это было, скажем, в ФРГ после разгрома РАФ «первого
призыва». Вообще пример Западной Германии и некоторых друхих стран заставляет с большой осторожностью относиться к
слишком оптимистическим прогнозам вроде прогноза специалиста
по терроризму Д. Бокка, который в одном из интервью в 1985 г.
заявил, что с терроризмом в Италии покончено, а «Красные
бригады» мертвы и похоронены.
Но как бы ни развивались события в дальнейшем, «левый»
терроризм в Италии на протяжении последних десяти—пятнад
цати лет был своего рода «моделью» всего современного
«левого» терроризма в целом, хотя не в Италии начался его подъ
ем в последние десятилетия и именно в Италии произошел спад
террористической активности, когда она приобрела крупный раз
мах в других странах. Что дает основания говорить об итальян
ском терроризме как о «модели»?
Во-первых, его масштабы на рубеже 70—80-х годов, которые
если и были кем-либо превзойдены, то разве что некоторыми
формами сепаратистского терроризма или терроризмом в Турции
до установления там военной диктатуры.
Во-вторых, итальянский «левый» терроризм имеет относитель
но более широкую, чем в других европейских странах, социаль
ную базу, а на протяжении ряда лет имел и значительно большее
число участников, которое исчислялось не десятками и сотнями,
как в этих странах, а тысячами.
В-третьих, многие характерные черты и тенденции терроризма
вообще, «левого» терроризма в частности, возникли в Италии
либо приняли здесь наиболее завершенную форму. В этой связи
194
следует сказать о прогрессирующей «профессионализации» тер
рористической деятельности. Хотя в стране существовал и су
ществует ряд мелких, «кустарных» террористических групп, имен
но в Италии впервые крупные террористические организации ста
новились высоко профессиональными в современном смысле
слова. Новейшее вооружение, продуманная организация, диффе
ренцированная структура, тщательная разработка стратегии и
тактики, детальнейшая подготовка к операциям, включающая
всестороннее изучение намеченных жертв, репетиции, предвари
тельный хронометраж, тыловое обеспечение и др., тяготение к
анонимности и «поточности» террористической деятельности и
т. д.—вот лишь некоторые черты профессионального терроризма
итальянского образца. Только к середине 80-х годов терроризм в
некоторых других европейских странах достиг этого уровня. Даже
основная метаморфоза современного «левого» терроризма —пре
вращение его в «антиамериканский» и «антинатовский», т. е.
перенос главных ударов с объектов внутреннего порядка на аме
риканские и натовские объекты —все это началось, как уже го
ворилось, в Италии, хотя основное развитие получило в других
странах.
И наконец, в-четвертых, итальянский «левый» терроризм пока
несомненно самая «идеологизированная» ветвь терроризма.
В этом отношении не может быть никакого сравнения с положе
нием в других странах, даже сейчас, когда «левый» терроризм
получил там столь большое развитие. В Италии в беспрецедентно
большом количестве появляются и распространяются типограф
ские и машинописные тексты, составляемые террористами —раз
ного рода «коммюнике», «стратегические резолюции», брошюры и
листовки (последние примеры —стратегическая резолюция № 20,
оставленная «Красными бригадами» рядом с убитым экономистом
Тарантелли и распространявшаяся на предприятиях, и брошюра,
посвященная упоминавшемуся выше расколу в «Красных брига
дах», название которой — «Важная политическая битва в италь
янском революционном авангарде»). Помимо такого рода печат
ной продукции, выходят, как уже говорилось, крупные социально
философские и социально-экономические труды, адресуемые
самой «рафинированной» читательской аудитории. Кроме пере
численного, «левые» экстремисты в Италии в течение ряда лет
имели свою полулегальную периодику и даже радиостанции.
Итак, во всех указанных пунктах современный европейский
терроризм, несмотря на свое нынешнее беспрецедентное развитие,
либо существенно отстает от итальянского, либо достиг его уров
ня только к середине 80-х годов.
№
7*
12-13 Ibid. 1978. 11 magg. P. 1.
14 Unita. 1982. 21 die. P. 5.
15 Ibid. 1978. 9 avr. P. 1.
16 Ibid. 1981. 24 genn. P. 5.'
17 Ibid. 1978. 12 avr. P. 13.
18 Ibid. 1981. 4 genn. P. 5.
19 M m u c c i A . Terrorismo e en si italiana. Roma, 1978. P. 19.
20 Unita. 1979. 30 magg. P. 16.
21 Le
nouvel observateur.
1985.
N 1065. P. 33.
22 Panorama. 1985. N 993. P. 83.
V. Br.: Imputazione,
banda armata. Milapor 1977. P. 192.
2 Panorama. 1985. N 991. P. 257.
3 Panorama. 1978. N 620. P. 36.
4 Unita. 1979. 22 sett. P. 5.
5 Ibid. 26 avr. P. 14.
* Panorama, 1977. N 506. P. 38.
7 Espresso. 1977. N 36. P. 18, 19.
8 Panorama, 1977. N 604. P. 47.
9 Espresso, 1977. N 36. P. 18.
10 Unita, 1981. 15 genn. P. 3.
11 Ibid. 1978. 12 avr.
1 ‘T es sa n d o r i
Глава пятая
Другие страны
В 70-х годах террористические акции проводились почти во всех
индустриально развитых капиталистических странах Запада. Од
нако далеко не в каждой из них сформировались сколько-нибудь
значительные и устойчивые левотеррористические организации.
Да и там, где они сформировались, их численность, цели, размах
деятельности были не одинаковы. Практически не знали собствен
ного «левого» террорцзма Скандинавские страны, хотя на их
территории инонациональными террористическими командами
(нередко при определенной *помощи мелких местных экстремист
ских групп) совершались такие, например, операции, как захваты
посольств. Аналогично обстояло дело в Австрии и Швейцарии.
То же самое, в принципе, долгое время можно было сказать о
ситуации в Бельгии и Голландии с тем дополнением, что на их
территории (наряду с валлонскими сепаратистами в Бельгии)
некоторое время активно действовали террористические группы
Националистического характера, представлявшие живших в этих
страдах выходцев из Юго-Восточной Азии и Африки. Почти не
затронутой «левым» терроризмом осталась и Канада: его лозун
гами и знаменами в известной мере воспользовались квебекские
националисты.
Незначительной оказалась активность «Сердитых бригад» —
английской левотеррористической группы, созданной полутора
десятками выходцев из «хороших семей». «Сердитые бригады» с
тдпичной для экстремизма категоричностью подчеркивали свое
неприятие существующего строя и приверженность к самым
крайним формам социального протеста. «Каждый, кто не хочет
ползти к вам на коленях, может ответить только прямым дейст-
т
вием на ваши всемирные террористические планы»,1—такук?
филиппику адресовали они верхам общества. Призывая молодежь
не сидеть в кафе, а взрывать их, «Сердитые бригады» в начале
70-х годов произвели ряд взрывов (в тех же кафе, в комиссариа
те полиции, в армейском спортзале, в доме министра Р. Керра
и т. д.). Во всех случаях обращает на себя внимание, что бомбы
взрывались в момент отсутствия людей в помещениях. Создается
впечатление, что, на словах готовые к безудержному терроризму,,
члены бригады на деле не решались преступить через кровь.
Группа быстро прекратила свое существование отчасти из-за
арестов, отчасти из-за выхода из нее ряда разочаровавшихся в
игре в «революцию» и терроризм членов и не имела в стране
последователей.
Кратковременной вспышкой активности двух карликовых тер
рористических группок, также быстро сошедших со сцены, огра
ничилось дело в США —стране, в которой продажа оружия для
ийдивидуального пользования является доходнейшим бизнесом,
а владение им рассматривается как одна из неотъемлемых
«свобод» человека. И даже во Франции, где студенческие волне
ния приняли самый масштабный характер, что по формальной
логике, казалось бы, предвещало и наибольшую последующую
активность террористов, в течение почти десятилетия не могли
сложиться сколько-нибудь оформленные левотеррористические
организации.
Почти одновременное возникновение левотеррористических
организаций в разных регионах земного шара, в буржуазных
странах с неодинаковым уровнем экономического развития и по
литическим устройством является веским доказательством тогоу
что «левый» терроризм есть порождение современного капитали
стического общества, следствие и проявление присущих ему ко
ренных экономических, политических и* идеологических противо
речий. В то же время неодинаковость выражения левотеррористи
ческих тенденций в странах капиталистического мира, разница в
степенй оформленности этих тенденций, их масштабах и значи
мости говорит о том, что «левый» терроризм не вырастает
непосредственно из самой природы капиталистических производ
ственных отношений, и даже из экономического и политического
кризиса. Как отмечает итальянский публицист —коммунист
Антонио Боффи, «кризис сам по себе не является движущей
причиной террора» 2. Для этого необходима еще и определенная
совокупность социальных, политических и духовных факторов,
как общих для различных стран, так и специфически националь
ных, которые создают условия для формирования этих организа
ций и определяют их конкретный облик. Полнотой или неполно
той развития этих факторов, силой или слабостью их воздействия
197
на политическую жизнь в той или иной стране объясняется факт
неравномерности развития «левого» терроризма в различных ка
питалистических государствах.
Сопоставление стран, в которых левотеррористические органи
зации обрели размах и силу или остановились на уровне мелких
полукустарных группок, закрепились на политической сцене или
быстро сошли с нее, показывает, что наиболее благодатная почва
для «левого» терроризма существует в странах с неизжитыми
иавыками открытого политического насилия, прежде всего в
странах с фашистским прошлым. Многие политологи отмечают
«несомненность тенденций к терроризму в странах со сравнитель
но слабой демократической традицией, таких, как ФРГ, Япония
или Испания, в противовес странам с более устойчивой демокра
тической традицией, таких, как Великобритания, Скандинавские
страны, Франция» 3.
Фашистское прошлое наложило сложный и неоднозначный
отпечаток на социально-политическую атмосферу и обществен
ную мораль в ФРГ, Италии, Японии, Испании. Можно, конечно,
отметить, что в этих странах существуют широкие слои населе
ния, стремящиеся предать это прошлое забвению, сделать вид,
что его никогда не существовало. Но уже сам этот факт вызывал
резкий протест другой части населения, в частности определенных
групп молодежи, испытывавших комплекс вины за прошлые пре
ступления своего государства, чувство национальной ущемленности от поражения во второй мировой войне, размещения на тер
ритории страны иностранных военных баз, политической зависи
мости от США, возмущение их экономической и духовной
экспансией. В этих странах претерпели в процессе утверждения
новых политических форм, происходившего на фоне быстрого
восстановления подорванной войной экономики, а позднее энер
гичной ее модернизации, особенно резкую ломку традиционная
социальная структура, произошла стремительная и резкая пере
оценка ценностей. В то же время остались не выкорчеванными
до конца и рудименты фашистского наследия, оказывавшие свое
воздействие на характер буржуазно-демократических режимов в
этих государствах, политику их правительств и деятельность ад
министративного аппарата. В Италии, ФРГ, Японии наибольшее
развитие получили и заговорщические правоэкстремистские, нео
фашистские группировки, движимые стремлением к авторитариз
му, внутриполитическому и военному реваншу. Таким образом в
странах с фашистским прошлым к общим для всего капиталисти
ческого мира предпосылкам формирования «левого» терроризма
добавлялись специфические факторы, стимулировавшие распро
странение экстремистских идей и обращение к крайним методам
борьбы.
198
Этй факторы, вызывавшие тревогу и протест у широкой демо
кратической общественности, своеобразным способом преломились
в сознании «левых» террористов, служа им в качестве доводов в.
пользу обращения к тактике политических покушений. Предвзято
и односторонне подходя к социальной ситуации в своих странах*
«левые» террористы стали видеть скрытый фашизм и там, где
его не имелось, приравнивать буржуазно-демократическое госу
дарство к авторитарному, поголовно расценивать поколение
«отцов» как «фашистов» или «пособников фашизму». Утвердив
шись на этом основании в мысли, что истинная природа социаль
ных отношений, скрытая за фасадом парламентской демократии^
состоит в прямом насилии и контрнасилии, они и приходили к
выводу о необходимости трансформировать политическую ситуа
цию в военную. Вступая на путь «контрнасилия», они сознатель
но или бессознательно заимствовали у фашистов некоторые прин
ципы и приемы политической борьбы.
Впрочем, и фашистским прошлым страны не предопределяются
механически и прямолинейно характер и масштабы левотеррори
стической активности. Любопытный пример в этом плане дает
ситуация в Португалии. Португальская революция вызвала к
жизни многочисленные левоэкстремистские группировки. Призна
вая лишь борьбу «не на жизнь, а на смерть» между двумя «основ
ными классами», экстремисты требовали немедленного осуществ
ления социалистических преобразований и заявляли, что для
этого необходима «прямая борьба за дезорганизацию капитализма
во всех сферах» 4. В ходе демократизации страны они активна
вели именно дезорганизаторскую и путчистскую деятельности
чем немало способствовали контрнаступлению правоцентристских
сил и свертыванию революционного процесса. Можно было ожи
дать, что следующим шагом для них явится переход к террори
стической тактике. Однако этого многие годы не происходило.
Причины этого, видимо, следует искать в том, что в стране,
лишь недавно избавившейся от тоталитарного режима с его*
произволом и ужасами, пережившей период острой политической^
борьбы и нестабильности, даже экстремисты, к тому же недавно*
потерпевшие серьезные поражения, понимали, что тактика во
оруженного насилия обречена на провал. Возможно также, что
имела свое значение и роль, предоставленная согласно конститу
ции страны армии, как гаранту стабильности нового политиче
ского строя.
В начале 80-х годов в условиях обострения международной
обстановки, углубления экономического кризиса, общего поправе
ния режима и после того, как в конституцию страны была вне
сена поправка, отменяющая особые прерогативы армии, некото
рые йз португальских «левых» экстремистов стали склоняться к
199
террористической тактике. В стране возник и приступил к актив
ным действиям ряд левотеррористических группировок: «Проле
тарская
революционная
партия —Революционные бригады»,
«Фронт народного единства», «Народные силы 25 апреля». Наибо
лее значительной и известной из них является последняя.
С 1980 г. по середину 1984 г. она осуществила ряд взрывов и
диверсионных актов, в результате чего погибло 15 человек.
Правящие круги отреагировали на деятельность террористов вне
сением в парламент законопроекта о государственной безопасно
сти, который, в частности, допускал бы обыски и аресты без
санкции прокурора. За несколько дней до обсуждения законо
проекта, в июне 1984 г., полиция произвела массовую облаву на
членов «Народных сил 25 апреля». Потеряв ряд своих лидеров и
активистов, организация тем не менее, через некоторое время
сумела восстановиться и возобновить свои действия. В частности,
в начале 1985 г. ею было произведено несколько взрывов вблизи
западногерманской военно-воздушной базы, расположенной в
окрестностях города Бежу. Объявив о своей ответственности за
эти акты, «Народные силы 25 апреля» выдвинули условием прек
р ащ ен и я террористических операций в данном районе закрытие
военного объекта, демонтаж оборудования, эвакуацию персонала.
Обращает на себя внимание, что «Народные силы 25 апреля»,
как и другие левотеррористические европейские организации, на
этом этапе своей деятельности сменила основные цели акций и
мишени атак.
Отмечая значение специфических предпосылок, формирования
и роста левотеррористических организаций в странах, не имею
щих прочных демократических традиций, не следует преувеличи
вать, а тем более абсолютизировать это значение. Оно достаточно
существенно, но решающей роли в конечном счете не играет,
хотя некоторые буржуазные идеологи и пытаются уверять в
обратном. Чтобы убедиться в этом, ознакомимся с характером и
судьбами «левого» терроризма в странах, являющихся, можно
сказать, ' цитаделями классической буржуазной демократии,—
США и Франции.
Вполне закономерно, что в США —стране, где царит культ
насилия и невиданного размаха достигла уголовная преступность,
где открыто действует Ку-Клукс-Клан и попираются права на
циональных меньшинств, где существует массовая безработица и
систематически убивают (не без участия государственных секрет
ных служб) прогрессивных политических деятелей, в том числе
и президентов, где достигают предела социальные контрасты и
торжествует судебный произвол, имелась объективная почва
для развертывания «левого» терроризма. Война во Вьетнаме, не
посредственно затронувшая жизненные интересы американцев
200
(и особенно молодых), обнажила и обострила все основные для
США социальные, политические, расовые, идеологические и эти
ческие противоречия. Она дала толчок бурному развитию анти
военного и антирасистского массового демократического движения
политически активной молодежи. На этом фоне развивалось также
отрицание официального общества, принятого им образа жизни и
его ценностей, нашедшее свое воплощение в маркузианской фор
муле «Великого отказа» и социальном эскапизме хиппи. В этой
социальной атмосфере, как пена на поверхности глубинных по
токов, возникала и симптоматичная деятельность двух немного
численных группок экстремистов, обратившихся к извращенной
форме политического и психологического протеста —террористи
ческому насилию: «везерменов» и «Объединенной освободитель
ной армии».
«Везермены» выделилась из известной молодежной организа
ции «Студенты за демократическое общество» (СДС), являвшей
ся представителем леворадикального студенчества, бывшей орга
низатором мирных демонстраций против войны во Вьетнаме,,
рейдов свободы, движения за гражданские права. В 1969 г. эта
организация распалась на маоистскую, «трудовую» и террористи
ческую фракции. Организация «везермены» сложилась из несколь
ких экстремистски настроенных студентов-белых из обеспеченных
семей, объединившихся с группой активистов «черных пантер».
Не имея поддержки в среде студенчества и рабочего класса,
«везермены» сделали ставку на «молодежь из преступных гетто»,
поставив себе задачу создать «первую» в истории «революцион
ную уличную банду».
Члены группировки были наркоманами, для которых потреб
ление «травок» и разрушительные акции равно означали высво
бождение от пут обыденности и норм капиталистического мира.
Для них был характерен культ воинсавующего невежества. Одна
из их нашумевших акций —погром в Питсбургском университе
те, осуществленный под лозунгом: «Долой школу!». Террористи
ческие акции были для них способом удовлетворения их ненави
сти, средством преодоления фрустрации, своеобразным спортом.,
способствующим самоутверждению, придающим жизни смысл и
делающим ее интересной. Поэтому они порой шли на серьезный
риск, заранее оповещая полицию о месте и времени намеченного*,
взрыва, с тем чтобы получить максимальное удовольствие ог
удачно осуществленной акции.
Эти, весьма невысокого пошиба экзистенциальные мотивад
«везермены» декорировали лозунгами борьбы за великие социаль
ные цели. Террор и насилие они понимали как непосредственно
революционную деятельность и путь к осуществлению социали
стического идеала: «Мы разрушаем, чтобы творить, у нас есть
201
образ будущего» 5. В то же время террор они рассматривали как
способ наказания и мести, а также воспитания и самовоспитания.
«Насилие нужно нам самим как школа борьбы, а нашим жерт
вам —как возможность пережить хотя бы часть страданий жертв
империализма. Превратим Нью-Йорк в горящий Сайгон! Пусть
знают, что смерть и страдания действительно существуют. Пусть
учатся отвечать за свои поступки!»6. Таким образом террор рас
пространялся не только на буржуазию, но и на рабочий класс.
«Везермены» поставили первоочередной целью ликвидацию
истеблишмента в крупных городах, разрушение промышленных
предприятий, грабежи с целью раздачи награбленного бедным
слоям населения. Усвоив традиционный экстремистский принцип
«чем хуже, тем лучше», они последовательно довели его до
логического конца, сформулировав тезис о предпочтительности
фашизма перед буржуазной демократией, «ибо фашизм хорош
.хотя бы тем, что провоцирует революцию».
Осуществив около 30 эффектных взрывов в правительственных
-зданиях, помещениях руководящих военных и полицейских орга
нов, ряд шумных перестрелок с полицией и других акций,
«везермены» были разгромлены. Часть их погибла во время опе
раций, остальные арестованы. Находясь в заключении, их лидеры
пересмотрели свои взгляды. Убитый в 1973 г. при попытке к
бегству из тюрьмы инициатор создания террористической группы
Дж. Джексон успел до этого печатно заявить о своем разочаро
вании в терроризме. В 1977 г. в Нью-Йорке вышла написанная
в тюрьме книга Э. Кливера «Отречение от терроризма». Мирной
деятельностью занялся и третий из видных деятелей организа
ции «везерменов» —Нью Ньютон.
Весьма специфический характер имела «Объединенная осво
бодительная армия», действовавшая в Калифорнии. Состоявшая
поначалу из небольшой группы женщин —педагогов и психоло
гов, работавших в тюрьмах Сан-Франциско, она расширилась за
счет завербованных ими преступников. Само название организа
ции —«Симбионез арми» —лишь условно может быть переведе
но как «объединенная». В основе идеологии группы лежала стран
ная смесь религиозно-мистических и социально-политических
идеалов. Под «симбиозом» имелось в виду как перспективное
единение человечества, так и гармония внутри группы и, нако
нец, гармоничное, в их трактовке, развитие личности, сочетающей
элитарность и опрощение, активизм и аутсайдерство. Символом
группы являлась семиглавая кобра —старинный знак, обозначав
ший бога и жизнь. В соответствии со своей основной объедини
тельной и душеспасительной идеей «Объединенная освободитель
ная армия» ставила цель сплотить людей различного социального
происхождения, представителей разных рас и народов и даже
202
разнообразные социалистические группы и партии для борьбы
против «фашистского государства».
Что же касается социально-политических целей террористиче
ской борьбы, то они сформулированы в программной декларации
группы следующим образом: «Разрушить все формы и институты
Расизма, Сексизма, Эиджеизма (возрастных перегородок.—
П р и м . авг.), Капитализма, Фашизма, Индивидуализма, Собствен
ничества, Конкуренции и все тому подобные институты, на кото
рых основан и которыми закрепляется капитализм» 7. Эта все
объемлющая претензия практически реализовалась в нескольких
перестрелках, ограблениях и взрывах, убийстве одного предста
вителя университетской администрации. Реальную известность
группе, более того, сенсационную славу, принесло похищение
дочери известного газетного магната Херста —Патриции, которая
выразила желание вступить в ее ряды и была принята осталь
ными членами, отказавшимися ради обретения новой подруги от
выкупа. В ходе произведенной полицией облавы шесть членов
организации были убиты, остальные арестованы.
С этого момента «левый» терроризм в США пошел на убыль
и быстро сошел на нет. Возникает вопрос: почему же в США,
где наличествуют благодатная почва и питательная среда для:
«левого» терроризма, он не получил столь широкого развития ы
не оказался столь устойчивым, как в некоторых странах Запад
ной Европы? Вряд ли стоит принимать всерьез заявления неко
торых американских политологов, что этому препятствует якобы
царящий в США дух демократизма (который, заметим в скобках,,
почему-то не препятствует правому и расистскому терроризму).
Неубедительна и ссылка на эффективность действий полиции,
одновременно обнаруживающей свою полную беспомощность по
отношению к друитм формам вооруженного насилия, в больших
масштабах осуществляемого в стране. Два основных момента сле
дует учитывать при поисках ответа на поставленный выше воп
рос. Во-первых, прекращение войны во Вьетнаме и общий спад
леворадикалистского движения. Во-вторых, господство в стране
откровенно индивидуалистической морали и наличие широкой
организованной преступности, что подталкивает люмпенизирован
ные антисоциальные элементы именно в направлении последней.
По той же причине оказалась столь велика значимость уголовно
го начала в деятельности левотеррористических организаций
США.
Своеобразно сложились судьбы экстремистских организаций
во Франции, стране в течение нескольких лет после «студенче
ского мая» не знавшей собственного террористического движения.
Этот феномен в 70-е годы постоянно занимал умы исследовате
лей. Так, Альберто Рончи в статье «Ружья и скучные материи:
т
терроризм в Италии» писал: «Почему не Франция? Почему в
этой стране, где экстравагантных теорий, безработной молодежи
л аутсайдеров и просто бродяг —всего этого больше, чем в ФРГ,
никогда не было ничего подобного Баадер—Майнхоф?» 8.
В самом деле, почему, если учесть, что попытки организации
вооруженной борьбы с режимом неоднократно предпринимались?
В выпущенной в 1981 г. в Париже книге «Шестерня терроризма»
Аллэн Жейсмар, один из бывших лидеров французских «левых»
экстремистов, генеральный секретарь Национального союза сту
дентов во время событий 1968 г., а позднее член руководства из
вестной левоэкстремистской организации «Пролетарская левая»,
создавшей на рубеже 60—70-х годов военизированную группу
«Новое народное Сопротивление», дает интересные ответы на эти
вопросы. Жейсмар отмечает, что «„Пролетарская левая44 мыслила
•себя как зародыш Сопротивления в ситуации, где государство со
своим аппаратом насилия представляет нацистов, а ФКП—ВКТ—
коллаборационистов»9. Формула вполне типичная, принятая
(только с иными аббревиатурами) и западногерманскими,
и итальянскими «левыми» террористами. «Пролетарская левая»
осуществила несколько бескровных акций (в том числе похище
ние правого депутата Мишеля де Грайи) и по признанию самого
Жейсмара стояла на пороге превращения в подлинно террористи
ческую организацию, однако удержалась от этого, а в 1973 г.
объявила о своем самороспуске. Причиной такого шага были,
согласно Жейсмару, нравственные соображения, а также (любо
пытный поворот темы!) и то, что от перехода к терроризму чле
нов «Нового народного Сопротивления» удержала память о
<шае 1968», который стал ими рассматриваться как практический
пример массового и ненасильственного движения.
Тот же Жейсмар и ряд других авторов подчеркивают, что
наличие во Франции давних демократических традиций, уважения
к национальной истории и культуре, память о терроре времен
Великой французской революции и о вспышке терроризма ОАС,
наличие условий для свободного осуществления оппозиционной
идеологической и политической деятельности привили французам
прочный иммунитет Против терроризма, еще усилившийся благо
даря проведению террористами других стран ряда кровавых ак
ций на территории Франции, особенно в Париже.
И все же в конце 70-х годов во Франции, заявляют о себе
террористы отечественного происхождения. Прежде всего —это
корсиканские и бретонские сепаратисты, организовавшие ряд
нападений на военные базы, административные и культурные зда
ния, затем— «автономистское движение», видящее свою задачу
в пробуждении стихийно-бунтарских настроений и провоцирова
нии массовых бесчинств.
20'i
К 1978 г. начинает осуществляться организационное оформле
ние стихийного «автономистского движения» в бригады, «борю
щиеся за народную автономию». В 1978 г. эти бригады заявили
о себе несколькими сериями взрывов, одновременно произведен
ных в ряде городов, и рядом широковещательных нигилистиче
ских деклараций. Наиболее заметная их акция —беспорядки,
учиненные во время демонстрации металлургов 25 марта 1979 г.
Затесавшись в ряды демонстрантов, автономисты устроили драку
с полицией, громили кафе и магазины (как «символы потребле
ния»), поджигали автомобили, возвели несколько баррикад. Эти
действия, названные ими «первыми вехами борьбы против гиб
нущего капитализма» 10, имели итогом ранения 116 полицейских
и 165 автономистов.
В ночь на 3 мая 1979 г. левацкие группировки произвели в
Париже 11 взрывов в ряде полицейских участков и правитель
ственных учреждений, в том числе в одном из зданий министер
ства финансов.
В 1979 г. во Франции осуществляется попытка создания еди
ной левотеррористической организации из трех экстремистских
групп —Автономных революционных интернациональных групп
(ГАРИ), Вооруженных ячеек пролетарской автономии (НАПАП)
ш уклонившихся от роспуска членов «Пролетарской левой»,
з также некоторого числа полууголовных полуанархистских эле
ментов.
Созданная таким способом организация «Прямое действие»
осуществила в 1979—1980 годах ряд взрывов в правительствен
ных учреждениях, офисах крупных фирм, комитетах политиче
ских партий и профсоюзов, взяла на себя организацию в 1979 г.
12 политических покушений. В 1980 г. ядро «Прямого действия»
во главе с его лидером Жаном-Марком Руйоном было арестова
но, после чего деятельность французских «левых» террористов
резко сократилась. В 1981 г. Руйон и ряд других террористов
были освобождены по президентской амнистии, в то время как
сама организация «Прямое действие» была (в 1982 г.) объявле
на вне закона. Около двух лет организация почти не давала о
себе знать, но к 1984 г. возродилась и возродилась в новом ка
честве. Она поставила во главу угла задачу нападения на воен
ные объекты НАТО, осуществив ряд таких нападений, а также
покушений на крупных военных специалистов в области конст
руирования и производства вооружений, и стала инициатором
объединения западноевропейских левотеррористических органи
заций.
Рядом моментов можно объяснить этот, поначалу казавший
ся неожиданным взлет французского «левого» терроризма. Углуб
лением экономического кризиса и появлением нового Поколения
205
отчаявшейся молодежи, из которого террористы смогли почерп
нуть определенное количество адептов. Обострением международ
ной1 обстановки и ростом антивоенного движения, на лозунгах
которого, модернизируя свой идеологический арсенал, пытаются
спекулировать «левые» террористы, отказавшиеся от некоторых,
скомпрометировавших себя на предшествующем этапе их деятель
ности установок. Важное значение для гальванизации француз
ского «левого» терроризма имело оживление после периода раз
брода и распада деятельности левотеррористических организации
из других западноевропейских стран. При этом существенно то,
что сам процесс расколов, консолидации и активизации этих ор
ганизаций в значительной мере происходил на территории Фран
ций.
Дело в том, что во Франции действует не соответствующий
современным условиям, во многом устаревший закон о праве на
политическое убежище, используя который террористы других
стран буквально наводнили страну. Здесь они укрываются, здесь
они нередко осуществляют террористические акты, сводя счеты
со своими политическими противниками, здесь расположены их
многочисленные штаб-квартиры. Это придает «Прямому дейст
вию», выступающему в роли «гостеприимного хозяина», значение
связующего звена между ними, своего рода оплота общеевропей
ского «левого» терроризма, что и позволяет ему играть лидирую
щую роль в складывающемся сегодня международном альянсе
левотеррористических группировок.
Идея такого альянса с одобрением встречена многими запад
ноевропейскими левотеррористическими организациями. Кроме
РАФ, к нему примыкают сегодня «Боевые коммунистические
группы» —сравнительно недавно возникшая левотеррористиче
ская бельгийская организация. Впервые они заявили о себе, ког
да осуществили осенью 1984 г. серию взрывов и диверсий на
предприятиях, участвующих в производстве американских ракетносителей «Першинг» и крылатых ракет. Эти акции они проти
вопоставили кампаниям протеста, проводимым антивоенными ор
ганизациями в Бельгии, отрицая политическую эффективность
таких кампаний и утверждая в качестве намного более эффек
тивной меры диверсионные методы. Впрочем, последними «Боевые
коммунистические группы» не ограничиваются. 15 января 1985 г.
(в день подписания совместного коммюнике «Прямою действия»и РАФ) они произвели взрыв в здании администрации амери
канских войск в Брюсселе. В выпущенном ими заявлении по по
воду этой акции содержится угроза убивать военнослужащихянки и их приспешников. Рассуждая в своих листовках о том,
что индивидуальная человеческая жизнь не является высшей
денностью, «Боевые коммунистические группы» декларируют, что
206
те, кто служат винтиками в машине смерти, сами должны по
гибнуть в ходе осуществляемой террористами борьбы за жизнь.
Террористическая активность «Боевых коммунистических
групп» в 1985 г. вызвала у ряда обозревателей подозрение, что
действия организации имели целью затруднить проведение Ж е
невской встречи руководителей СССР и США. Некоторые левац
кие бельгийские организации выступили с осуждением «Боевых
коммунистических групп», категорически отмежевываясь от них
и высказывая мнение, что они созданы и направляются ЦРУ.
Подозрение пока не подтверждено, но каково бы ни было проис
хождение «бригад», они, как и «Прямое действие», РАФ,
итальянские «Красные бригады», португальские «Народные силы
25 апреля», нидерландский «Северный фронт территории —гол
ландская группа», греческие «Революционные организации —
октябрь 1980 г.» и им подобные организации, объективно играют
на руку милитаризму и международной реакции^ использующим
их активность для попыток дискредитации антивоенных движе
ний, наступления на демократические организации масс.
В задачу настоящей работы не входит исследование террориз
ма в странах Востока, однако невозможно обойтись хотя бы без
краткой характеристики «левого» терроризма в Японии и Турции.
Япония —высоко развитая капиталистическая страна, и в этом
отношении она ближе стоит к Западу, чем к Востоку. Японский
«левый» терроризм имеет немало черт, роднящих его с «левым»
терроризмом в ряде западных стран. Развернувший свою деятель
ность раньше европейского, он оказал на него известное влия
ние, а на определенном этапе и сам развернул деятельность в
странах Западной Европы. Что же касается Турции, то она не
только частично расположена на европейском континенте, но еще
п является членом НАТО. Турция —страна, в которой актив
ность террористов как правого так и «левого» направления до
стигла в конце семидесятых годов размаха, поражающего даже
на фоне террористического бума в Италии. Японские и турецкие
левотеррористические группировки характеризует ряд специфи
ческих особенностей, освещение которых позволяет выявить но
вые грани в феномене «левого» терроризма.
Почву для возникновения и развития «левого» терроризма в
Японии составили в основном те же факторы, что и для анало
гичных явлений в Европе, но имевшие своеобразную окраску и
дополненные факторами национального характера. На формиро
вание того поколения молодежи, из представителей которого сло
жились левотеррористические группы и организации, повлияли
и трудности послевоенного периода, и неизжитое наследие фа
шистского прошлого, и связанные с «экономическим чудом»
структурные и идеологические сдвиги, и антинародность полити
207
ки правящих партий с их скомпрометированными, погрязшими
в коррупции лидерами, и определенные ошибки и слабости тра
диционных левых партий. Бурный рост городов, резко возросшая
социальная мобильность, быстрая профессиональная переориента
ция, распад столь важных для японского общества семейных уз,
трудность приобретения эквивалентной им замены в иной со
циальной среде при новом образе жизни, фрустрацця, крах тра
диционных и воздействие новых ценностей, в значительной мере
приходящих с Запада, привели к созданию атмосферы обострен
ных социальных конфликтов и росту настроений протеста. Дли
тельная американская оккупация, наличие на территории страны
многочисленных военных баз США, народная память о трагедии
Хиросимы и Нагасаки, экономические и политические перемены
в Юго-Восточной Азии, война в Корее и война во Вьетнаме,
обостренное чувство оскорбленной национальной гордости и со
лидарность с народами развивающихся стран —все это предопре
делило достаточно широкое распространение в Японии левоэкст
ремистских идей и возникновение движимых этими идеями орга
низаций, имевших под собой достаточно широкую социальную
базу. Особенно энергично создавались и заявляли о себе левац
кие группировки в конце 60-х годов. Многие из них с самого
начала, хотя и в ограниченных масштабах, использовали терро
ристические методы. Наиболее решительными из них были так
называемая «Фракция Красной армии» (сёкигунха), позднее
оформившаяся как «Красная армия Японии» (Нихон сёкигун),
и «Совет совместной борьбы против „договора безопасности44 То
кио и Иокогамы» (Кэйхин ампо кёто). Обе дебютировали в
1969 г. Первая организовала ряд нападений на полицейские
участки и экстремистских дебошей в Осаке и Токио, вторая за
бросала бутылками с горючей смесью территории американского
и советского посольств. Обе организации совершили ряд ограбле
ний с целью добычи средств и намеревались приступить к пла
номерной террористической деятельности. Потеряв многих своих
членов в результате арестов, они в июле 1971 г. слились в не
долго просуществовавшую «Объединенную Красную армию»
(Рэнго сёкигун), на развалинах которой снова возродилась
«Красная армия Японии» (КАЯ), ставшая главным представите
лем и символом японского «левого» терроризма.
По своей организационной структуре КАЯ в принципе сход
на с другими левотеррористическими организациями. В то же
время она, пожалуй, является наиболее авторитарной и бюрокра
тизированной из всех левотеррористических группировок. КАЯ
осуществляет свою деятельность по трем фронтам, направляемым
тремя комитетами: военным, идеологическим и организационным.
В период высшего размаха деятельности КАЯ насчитывала, по
208
различным данным, от трехсот до четырехсот боевиков, а вместе
с активистами, ведущими другую работу,—полторы-две тысячи
членов, к которым примыкало несколько тысяч так называемых
«резервистов».
11с своему социальному происхождению члены КАЯ —выход
цы почти исключительно из «среднего» класса и мелкой буржуа
зии, дети бизнесменов, владельцев отелей, магазинов, небольших
предприятий. На периферии организации существовало также из
вестное число люмпенизированных элементов, что отвечало про
возглашенному ее лидерами принципу: «Рекрутировать молодежь,
потерявшую в жизни надежду, потерявшую надежду в семье и
обществе» 11.
КАЯ поставила целью своей «бескомпромиссной борьбы» раз
вязывание «мировой революционной войны» и одновременно ре
волюции в Японии, что должно привести страну к «чистому со
циализму».
В изданном «Фракцией Красной армии» в 1971 г. сборнике
под многозначительным заглавием «Скачок в мировую револю
ционную войну» выдвигалась задача создания «Красной армии»народов Африки, Латинской Америки, Кореи и Японии и про
возглашался курс на продвижение от организации национальных
«Красных армий» к формированию «Мировой Красной армии»,,
затем «Мирфвой революционной партии» и, наконец, «Мирового
революционного фронта». Отсюда и апология японскими терро
ристами мировой войны как катализатора мировой революции и
первостепенное значение, придающееся ими задаче «разбить вра
жеский фронт мирного сосуществования».
Еще в 1967 г. Такая Сиоми, будущий председатель «Фракции
Красной армии», заявил: «Революция возникает не из револю
ционной борьбы масс, но является результатом вооруженного
насилия»12. Кто же практически должен реализовать идею»
власти, находящейся «на кончике штыка?». По этому вопросу
между японскими экстремистами велись довольно острые споры.
Армия или партия? В конечном счете они решили снять эту ди
лемму простым тезисом: «Партия есть армия, партия сама долж
на сражаться» 13.
На идеологию и психику японских экстремистов, сформиро
вавшихся под влиянием современной капиталистической цивили
зации, явственный отпечаток наложили и региональное мышле
ние, и определенные, чисто национальные привычки и навыки,
в том числе и остаточные влияния традиционного духа бусидо.
Современные самураи от терроризма унаследовали традиции не
просто верности идее, но верности фанатической, религиозной по
характеру и силе чувства, освобождающей от самостоятельного,
а тем более сколько-нибудь критического взгляда на эту идею
209
'И последствия ее реализации. Для них характерна не просто
преданность своей группе (как это пмеет место у массы япон
цев по отношению к своей общине или фирме), но круговая по
рука старинных самурайских отрядов, готовность к безоговороч
ному подчинению, добровольному отказу от собственного «я»,
^ в случае необходимости и от жизни. Здесь, видимо, лежат кор
ни той, можно сказать, мистической жертвенности и соответст
венно не знающей пределов жестокости, которые отличают япон
ских террористов от их единомышленников и соратников из евро
пейских стран. Насилие, заявил один из лидеров КАЯ,— «это
наш единственный способ общения с людьми» 14. Не просто культ
ласилия, но ничего, кроме насилия!
Движимые такими установками японские террористы, кроме
обычного набора террористических акций типа захвата отелей,
посольств, угонов самолетов, похищения людей и убийств поли
цейских, систематически проводили операции, приносившие много
численные человеческие жертвы. Беспрецедентную, уникальную
.как по ее бессмысленной жестокости, так и по не менее бесмысленному и фанатичному самоотречению, акцию провели трое
лпонских террористов в 1975 г., устроив массовое побоище в
«аэропорту «Под, где было убито 26 и ранено 72 человека. Перед
•операцией современные камикадзе поклялись друг другу умереть
и потому, забрасывая гранатами и поливая автоматным огнем
пассажиров, одновременно стреляли и друг в друга.
Жестокие по отношению к массам и самим себе японские
«левые» террористы были не менее жестоки и по отношению к
своим соратникам. Требование беспрекословного подчинения и
полного самоотречения являлось решающим условием для прие
ма в террористическую группу. Большое число членов организа
ции погибло не в боевых операциях, а от рук собственных това
рищей.
Массовое негодование, вызванное чудовищными преступления
ми КАЯ, волна арестов, гибель многих террористов от рук по
лиции, с одной стороны, и собственных соратников —с другой,
привели к распаду «Объединенной Красной армии». Большая
группа уцелевших членов КАЯ (около 50 человек) исходя из не
возможности продолжать борьбу в пределах страны, а также ру
ководствуясь установкой на разжигание «мировой революции» и
задачей создания «опорных баз революционной борьбы» за гра
ницей, выехала из Японии, устроив свою штаб-квартиру сначала
г. Ливане, а затем в Париже.
В Европе КАЯ осуществила ряд похищений богатых японских
промышленников с целью получения выкупа. В 1977 г. коман
дой КАЯ был захвачен самолет, за возврат которого и освобож
дение пассажиров организация получила 6 млн. дол.
210
В конце 70-х годов деятельность КАЯ во Франции и пребы
вание ее в Париже благодаря решительным мерам, предприни
маемым французскими властями в отношении террористов, стали
почти невозможными, и лидеры организации, выдвинув тезис о
том, что «пути революции идут на Восток», перенесли центр
своей активности в Индонезию, Малайзию, Сингапур, где КАЯ,
кроме акций по самообеспечению, осуществила ряд диверсий на
нефтеперерабатывающих предприятиях и нефтехранилищах. Ею
энергично публикуются различные документы, в которых экстре
мистские силы страны призываются к единству, отсутствие кото
рого объявлялось главной причиной всех поражений и неудач
японского левотеррористического подполья.
В течение нескольких лет эти призывы не находили скольконибудь серьезного отклика на территории страны. Но в середине
80-х годов в условиях обострившейся международной обстановки,
роста экономических трудностей, осуществляемой правительством
Японии политики денационализации (в частности, средств транс
порта) произошел новый взлет японского «левого» терроризма.
Рядом террористических акций заявили о себе так называемый
«Совет революционных рабочих» и группа «Тюкаку-ха» (группи
ровка центрального ядра). В отличие от европейских «новыхтер
рористов» их японские сподвижники особых изменений в свои
идеологические установки не внесли, но кое в чем обновили
практические методы. В этой связи прежде всего заслуживают
быть отмеченными осуществленные во второй половине 1985 г.
акции по блокированию транспортных магистралей, приведшие*
к нескольким крушениям и длительному перерыву в работе внут
ригородского и междугороднего транспорта. В осуществлении этих
акций участвовало, по подсчетам специалистов, до семисот чело
век, одновременно и во множестве мест выведших из строя
компьютерные системы, осуществляющие управление движением
поездов. Это свидетельствует о значительном численном росте
актива левоэстремистских группировок.
На эти события руководство «Красной армии Японии» отреа
гировало из-за рубежа в январе 1986 г. призывом начать кампа
нию ударов по государственному аппарату и императорской семье,
а также по намечавшемуся на май месяц в Токио совещанию руко
водителей семи ведущих капиталистических держав. В конце
марта боевики из группы «Тюкаку-ха» и входящей в «Совет ре
волюционных рабочих» фракции «Хадзама», рассматриваемой как
«вооруженная рука» «Совета», обстреляли из самостоятельно, но
вполне квалифицированно, произведенных ими ракет посольство
США в Токио, императорский дворец, дворец кронпринца и
управление полиции в Осаке. Несмотря на то что накануне со
вещания «семерки» в Токио было дополнительно переброшено бо
ЁИ
лее двадцати тысяч полицейских, террористы все же предприйяли
попытку обстрела помещения, где проходили заседания. Оживи
лась и деятельность КАЯ. Ее членами были совершены террори
стические акты на Ближнем Востоке и в Греции. Осуществляет
ся процесс организационной перестройки КАЯ, новым лидером
которой объявлен Кодзо Окамото.
Возобновление японскими левыми экстремистами террористи
ческой деятельности —факт тем более тревожный, что оно осу
ществляется на фоне активизации милитаризма, реваншизма и
правого экстремизма. При всем различии идеологических устано
вок и конечных целей левых и правых ультра наличие у них
некоторых общих задач и мишеней, склонность и тех и других
к кровопролитию и провоцированию социальных катаклизмов соз
дают предпосылки и для координации их действий, что чревато
серьезными политическими последствиями для Японии.
Характер и масштабы турецкого терроризма связаны со спе
цифическими особенностями социальных отношений в стране и
остротой политических противоречий, являющихся, с одной сто
роны, следствием ее экономической отсталости и зависимости от
империалистических держав, с другой —результатом начавшего
ся в отсталой стране процесса модернизации. Турция в 70-х го
дах оказалась на историческом перекрестке, с которого, учитывая
уровень ее экономического развития, характер социальной струк
туры, идеологические, юридические, политические традиций стра
ны, открывались возможности как для движения по пути, ранее
пройденному европейскими капиталистическими странами, так и
для выбора одной из моделей, реализованных в развивающихся
странах, включая и авторитарные варианты. Уже эта альтерна
тива вызвала резкую поляризацию и столкновение социальных
сил и политических партий в стране. К тому же процесс модерн
низации традиционного общества, в котором существенную роль
играл ислам, выдвинул на первый план и противоречие между
сторонниками религиозной и светской власти. Одновременно в
недрах ислама обострился конфликт между его шиитским и сун
нитским крылом. Вследствие своего географического положения
и внешнеполитических связей Турция остро ощущала на себе по
следствия арабо-израильского конфликта и сама являлась объек
том острой борьбы за влияние со стороны международного импе
риализма и некоторых азиатских стран. Все это делало весьма
неустойчивым положение быстро сменявших друг друга и поли
тически непоследовательных правительств страны и способство
вало формированию многочисленных экстремистских группировок
как правого, так и левого направлений.
Правые террористы в Турции были представлены прежде все
го вооруженными отрядами руководимой фашистом Тюркешом
212
Партии национального действия /ПНД/, такими, как «Серые вол
ки» или боевые группы молодежной организации ПНД. Террори
стическую деятелвность вели и боевики исламской реакционной
Партии национального спасения /ПНС/ и некоторые другие груп
пировки. Турецкий «левый» терроризм складывался из различно
го рода экстремистских группировок преимущественно маоистско
го толка. Хотя эти организации, резко противопоставившие себя
как правительству, так и правому экстремизму, и выступали в
качестве «левых», в их мировоззренческих установках отчетливо
просматривались националистические, а иногда и религиозные
мотивы.
«Левые» и правые террористы в Турции вели непрерывную
охоту друг за другом. К нескончаемой цепочке взаимной мести
и те и другие одинаково прибавляли покушения на видных по
литических и общественных деятелей, а также ученых и журна
листов, изучавших проблемы терроризма в Турции. (Среди наи
более известных акций «Серых волков» —убийство редактора
газеты «Миллиёт», осуществленное террористом Агджой, позднее
покушавшимся на жизнь главы Римской католической церкви
Павла Иоанна XXII). Обе организации широко практиковали
«безадресный» террор, избрав в качестве излюбленных мест для
взрывов автобусы, остановки городского транспорта, кафе, поме
щения, в которых проходили собрания и митинги. Наблюдалась,
впрочем, и некоторая разница в выборе объектов индивидуально
го покушения. В то время как правые в первую очередь предпри
нимали убийства видных представителей прогрессивной интелли
генции, «левые» террористы уделяли особое внимание нападе-ниг
я м на военнослужащих НАТО, сотрудников иностранных фирм
и авиакомпаний.
f'
Наиболее же характерными именно для турецкого терроризма
являлись массовые побоища между «левыми» и правыми экстре
мистами, в которые вовлекались и жертвами которых оказыва
лись не только сами экстремисты. Местами таких побоищ часто
становились университеты, которые правительству из-за этого
приходилось закрывать, а также небольшие городки. В конце
декабря 1978 г. большая банда правых экстремистов, специально
прибывших с этой целью, напала в г. Кахрамшанмараше на тра
диционную религиозную процессию. Закрыв лица масками, воору
жившись винтовками, дубинками и топорами, фашиствующие мо
лодчики устроили резню, в результате которой был убит 101
человек и ранено 1052 человека. В ходе последующего погрома
было сожжено 210 домов, в том числе 70 учреждений и несколь
ко штаб-квартир левых организаций. В итоге по всей стране
прокатились вооруженные столкновения между правыми и «ле
выми» экстремистами. В 1978 г. от рук террористов в стране по
213
гибло 100U человек. За четыре месяца 1979 г. убито по полити
ческим мотивам 314, ранено 1088 человек.
Турция стала единственной страной, где вг недрах государст
венной полиции произошло деление на враждебные группировки.
В целях самозащиты полицейскими левой ориентации была соз
дана организация «Пол-дер», а полицейскими правой —«Пол
бар». Члены «Пол-дер» расклеивали афиши и плакаты, призы
вавшие к борьбе против правого терроризма. Плакатами, впрочем,
дело не ограничивалось. Полицейские и той и другой ориентации
принимали непосредственное участие в террористических акциях.
В ряде случаев между ними происходили открытые столкновения.
Буржуазно-реформистское правительство Турции, несмотря
на неоднократное введение военного положения во многих виллайетах страны, оказалось не способным справиться с разгулом
терроризма. Этим воспользовались реакционные силы, установив
шие при помощи военного переворота авторитарный режим, при
менивший массовые репрессии не только к экстремистам, но пг
под предлогом борьбы с последними, к активистам левых и де
мократических движений.
❖ * н*
Теперь мы имеем возможность подвести итоги и охарактери
зовать специфику современного «левого» терроризма сравнитель
но с «левым» терроризмом прошлых эпох. Современный «левый»
терроризм, в индустриально развитых капиталистических странах
наследует у своих исторических предшественников основные ро
довые черты левотеррористической деятельности, но, характери
зуясь рядом специфических особенностей, представляет собой
новую качественную ступень в ее развитии.
Впервые за свою историю левооппозиционный терроризм стал
сегодня прикрываться не просто «революционной», но квазимарксистской фразой, впервые «левые» террористы пытаются
предстать в облике не просто «революционеров» или даже «про
летарских революционеров», но именно «марксистов-ленинцев».
Используя марксистские категории, они вырывают их из конк
ретного политического и идеологического контекста, коренным
образом извращают их смысл, навязывая этим понятиям толко
вания, восходящие к различного рода буржуазным и мелкобур
жуазным социально-политическим и философским концепциям.
Исповедуя принцип тотального отрицания и разрушения, совре
менный «левый» терроризм под предлогом борьбы против капи
талистического строя выступает против всяких демократических
институтов, общечеловеческих ценностей, против законности и
морали как таковых. Осуществление насильственных акций для
него является не только тактикой (или составной частью такти
214
ки) политической борьбы, но всеобъемлющей стратегией. Он, тазшм образом, представляет собой наиболее последовательную,
максималистскую и крайнюю форму левотеррористической дея
тельности, возведенной в ранг единственного и универсального
средства преобразования мира.
Для современного «левого» терроризма характерно объявление
всех ныне существующих экономических* политических и обще
ственных институтов (а также лиц, с этими институтами связан
ных) «символами режима», жесткое разделение общества на тех,
кто «вписался в систему», и тех немногих, кто в нее не «впи
сался». Такая позиция вносит в реестр мишеней «левых» терро
ристов безграничное число людей различных ориентаций. Данной
установкой предопределяются теоретическая возможность беспре
дельного расширения масштабов террористической активности,
зависящих только от реальных военно-технических возможностей
террористов.
Эти возможности и у современных «левых» террористов до
статочно ограничены, но значительно более велики, чем у их
исторических предшественников. «Левый» терроризм нашей эпо
хи отличает качественно новый технико-организационный уровень.
Сегодняшние зрелые левотеррористические группировки —это
не кустарные группки плохо обеспеченных и слабо вооруженных
заговорщиков прошлого, но целые концерны с многомиллионными
доходами, с внутренним разделением труда и специализацией,
с тренировочными лагерями, мастерскими, складами, убежищами,
тоспиталями, лабораториями, широко использующие новейшие
типы оружия, средства - связи, транспортировки и пропаганды;
практикующие самые разнообразные и в значительной мере но
вые методы и приемы.
Деятельность современных левотеррористических организаций
носит транснациональный характер, между ними налажены ши
рокие международные связи. Они систематически осуществляют
свои операции за пределами собственных стран, направляют уда
ры на иностранных подданных, предоставляют друг другу доку
менты, деньги, убежища, тренировочные лагеря, оружие, обмени
ваются опытом, создают для проведения некоторых операций
интернациональные бригады и т. д. Координация действий и
взаимопомощь «левых» террористов различных стран обусловле
на как их текущими практическими потребностями, так и идео
логическим родством и, в частности, претензией на осуществле
ние «мировой пролетарской революции». Это делает современный
«левый» терроризм, тем более в условиях нынешней напряжен
ной международной обстановки, явлением куда более опасным,
чем ограничивавшиеся в основном локальными рамками левотер
рористические организации прошлых эпох.
215
Современных «левых» террористов характеризуют особые от
ношения со средствами массовой информации, широкому исполь
зованию которых придается первостепенное значение. Совершая
«символические покушения», «левые» террористы стремятся соз
дать впечатление о своих вездесущности и всесилии, которыми
на деле не обладают. Объектами террористических акций для них
становятся не только непосредственные жертвы этих акций, но
и широкий круг запугиваемых. Поэтому для современных «левых»
террористов характерно стремление к саморекламе, осуществляе
мой при помощи бесчисленных деклараций и коммюнике, «теат
рализации» акций, проведение операций со специальной целью
привлечь к себе внимание. В реализации этой цели им постоян
но помогают буржуазные средства массовой информации, движи
мые стремлением к наживе, жаждой сенсации или определенными
политическими расчетами. Средства массовой информации неред
ко играют роль рупора террористов, романтизируя их облик,
преувеличивая силы и возможности, популяризируя практический
опыт, становясь таким образом орудиями террористической стра
тегий.
Спекулируя на реальных поводах для социального недоволь
ства, паразитируя на современном революционно-освободительном:
процессе и пародируя его, «левый» терроризм нашей эпохи (не
зависимо от субъективных устремлений и самооценок его акти
вистов) объективно служит делу политической реакции. Он вы
ступает в качестве силы, враждебной профсоюзам, коммунисти
ческим и рабочим партиям, прогрессивным общественным
движениям, противопоставляет свою деятельность их активности,
нередко направляет свои удары непосредственно против них.
Наличие общего противника, а также совпадение ближайших
политических целей, сходство некоторых идеологических и пси
хологических мотивов левотеррористических организаций с моти
вами и целями сил внутренней и международной реакции облег
чает для последних возможность манипулирования этими органи
зациями. Сравнительно маломощный сам по себе «левый»
терроризм, становясь орудием в руках политически более весо
мых сил, обретает потенциал, делающий его способным провоци
ровать серьезные изменения и сдвиги в обществе и на между
народной арене.
«Левый» терроризм в капиталистических странах прошел к
сегодняшнему дню через несколько стадий своего развития.
Первая из них —это становление и развертывание «левого»
терроризма в странах Латинской Америки в форме так называе
мой городской герильи. Латиноамериканская городская герилья
представляет из себя иную по сравнению с североамериканским,,
еЕропейским, японским «левым» терроризмом форму террористи216
ческой деятельности. Однако исходившая и из установки на не
медленное осуществление антиимпериалистической и «социали
стической» революции, и из абсолютизации вооруженной борьбы,
отождествляемой в условиях спада массового движения с терро
ристической практикой, она сыграла важную роль для развития
«левого» терроризма в ведущих капиталистических странах в ка
честве его предтечи и образца для подражания. Поборники го
родской герильи в Латинской Америке снабдили «левых» терро
ристов других стран теоретически разработанной и опробованной
на деле тактикой террористической борьбы и самым двусмыслен
ным и демагогическим обозначением ее как городской герильи.
Вторым этапом является распространение «левого» террориз
ма в развитых капиталистических странах после спада и пора
жения студенческих бунтов и расколов молодежных леворадикалистских организаций в конце 60-х годов. Этот этап можно очень
условно датировать (поскольку в разных странах процесс проте
кал по-разному) с конца 60-х до середины 70-х годов. На этой
ступени формируются левотеррористические организации, в ко
торых решающую роль играют, как правило, бывшие активисты
молодежного движения. Их обращение к террористической прак
тике обычно подкрепляется достаточно обильной политической
аргументацией. И хотя аргументация эта носит предельно пута
ный, произвольный и эклектичный характер, в искренней вере в
серьезность собственных слоев и обозначаемые ими мотивы дейст
вий многим идеологам и лидерам первого поколения «левых»
террористов нельзя отказать. Они еще систематически говорят о
Сопротивлении, называют терроризм городской герильей, стремясь
таким способом придать ему облик «народной» партизанской вой
ны, в какой-то мере стараются выбирать такие мишени для атак,
которые, с их точки зрения, делали бы для масс понятным смысл
проводимых ими акций.
Третий этап совпадает, с одной стороны, с развертыванием
экономического кризиса, с другой —с практической переменой
состава левотеррористических организаций в связи с арестами и
гибелью их цервого поколения. В этих условиях бывшие «идеа
листы от терроризма» заменяются в руководстве этих организа
ций циничными авантюристами и карьеристами от подполья, в
лх рядах начинают преобладать люди, вступившие на путь тер
роризма преимущественно на основе личностно-экзистенциальных
соображений, для которых социальные цели и лозунги носят уже
характер внешнего и чаще всего лицемерного санкционирования
тяги к самоутверждению через насилие. (Некоторые западные
политологи указывают и на смену второго поколения террористов
третьим и даже четвертым, но это, с нашей точки зрения,—
уже проблема внутренней эволюции левотеррористических орга217
яизаций в рамках данного общего этапа.) На этой ступени «ле
вые» террористы перестают ограничивать себя в выборе мише
ней, считаться с количеством жертв и воздерживаться ог
пролития крови людей, которых никак нельзя считать причаст
ными к аппарату. Воинственные взаимоотношения с неофашис
тами сменяются перемирием, а иногда и негласным сотрудниче
ством. Псевдореволюциоеный «левый» терроризм окончательно
раскрывается как терроризм контрреволюционный.
В середине 80-х годов «левый» терроризм вступил в новуюг
четвертую, фазу своего развития. Она характеризуется рядом
особенностей. Во-первых, активная утилизация «левыми» терро
ристами антивоенных лозунгов. Здесь надо еще раз повторить,
что осуществленная ими идеологическая переакцентировка вовсе
не означает, что они чудесным образом превратились из сторон
ников тотального уничтожения и разрушения в защитников жиз
ни и поборников мира. Суть дела в другом: в поисках выхода
из кризиса лидеры левотеррористического движения стремятся
на современном этапе вновь «идеологизировать» движение и под
вести под его программу новую, более привлекательную теорети
ческую и пропагандистскую базу, для чего и обращаются к анти
военным идеям, в принципе чуждым их милитаристскому по его
глубинной сути сознанию.
Во-вторых, в соответствии с этими позициями и в целях со
циальной мимикрии они на данном этапе отказываются от уста
новки на тотальный терроризм, пытаются в определенной степени
ограничить веер своих мишеней военными объектами, предприя
тиями, производящими оружие, специалистами по разработке и
производству новейших вооружений, военнослужащими НАТО.
В-третьих, среди основных направлений деятельности совре
менных «левых» террористов все большее место начинает зани*
мать «технологический терроризм». Ими опробованы уже и дей
ствия, характеризуемые многими исследователями как «компью
терный терроризм». Но это не значит, что такие действия
террористов таят меньшие угрозы для жизни и безопасности лю
дей, чем непосредственные политические покушения. Применение
«технологического» и особенно «компьютерного» терроризма спо
собно повлечь за собой огромные человеческие жертвы.
В-четвертых, «новому терроризму» присуща значительно бо
лее тесная и систематическая, чем это имело место ранее,
координация действии террористических группировок разных
стран и тенденция к их организационному объединению. А это,
в свою очередь, требует от народов и правительств различных
стран координации усилий по борьбе с ним.
218
Terrorism.
P. 30.
1979. Vol. 3.
N 1—2.
А. Кому служит терро
ризм? / / Проблемы.мира и социа
лизма. 1982. № 7. С. 69.
B i nd e r S. Terrorismus: Herausforderung und Antwort. Bonn, 1978.
S. 262.
Pi n a s A b r e u de. Elegors en abril / /
Risboa. 1975. P. 292.
L a q u e u r W. Terrorism. L., 1977.
P. 209.
Ibid.
Political Terrorism. N. Y., 1975.
Vol. 1. P. 149.
Боффи
8 Ro n c he y
A. Guns and gray matter:
Terrorism in Italy / / Foreign Af
fairs. 1979. N 10. P. 989.
9 G e i s ma r A. L’engrenage terroriste.
P., 1981. P. 53.
10 Figaro. 1980. 25 mars. P. 4.
11 D e m a n s O. Brothers in blood.
N. Y., 1977. P. 27.
12 «Рэнго Сёкигун» коно дзинсосицу.
Токио. 1973. Конец «Рэнго Сёки
гун». С. 122.
13 Сэкай какумэй сэнсо э но хияку.—
Токио. 1971. Скачок в мировую ре
волюционную войну. С. 41.
14 K a u f m a n n J. LTnternationale ter
roriste. P., 1977. P. 117.
Часть третья
Глава первая
Проблема определения и типологии
Крах широко распространенных в условиях «общества потребле
ния» иллюзорных представлений о предустановленном иммуните
те развитых капиталистических стран к терроризму вызвал пона
чалу шоковую реакцию в среде буржуазных политологов.
С удивлением обнаружив, что «в социальной литературе не име
ется фундаментальной теоретической литературы, специально по
священной феномену терроризма» *, они энергично принялись на
верстывать упущенное.
Естественно, что в центр внимания попала прежде всего
проблема специфической сущности терроризма и его определения.
Что такое терроризм? Каковы основные признаки этого явления,
характеризующие его природу и специфику, отграничивающие
его от сопредельных, в определенных чертах схожих или даже
совпадающих с ним явлений? Поставить эти вопросы было необ
ходимо не только потому, что этого требует элементарная логика
научного анализа. От ответа на них зависит и квалификация тех
или иных политических действий и организаций как террористи
ческих или нетеррористических.
Дать объективное, общезначимое, но не расплывчатое, кон
кретное, но не одностороннее определение терроризма нелегко.
Приходится считаться, во-первых, со сложностью структуры этого
многогранного феномена, не являющегося к тому же неким цель
ным и единым явлением с четко оформленными границами, но
представляющего собой метод политической борьбы, используе
мый самыми различными социальными силами. Терроризм мо
жет быть государственным и оппозиционным, мотивироваться це
лями консервативными и революционными, религиозными, на
ционалистическими. Этп устремления нередко сплетаются друг с
другом, чем затрудняется понимание того, с каким именно типом
терроризма в том или ином случае мы имеем дело. Имеются за
метные различия между историческими и современными форма
ми терроризма. Наконец, существуют сопредельные с террориз
мом процессы, характеризующиеся применением вооруженного
Василия, в ходе которых используются, в частности, приемы и
22©
средства, сходные с употребляемыми террористами,—война, вос
стание, партизанская борьба, с одной стороны, уголовная пре
ступность —с другой. Сходство и совпадение этих приемов и
средств используется террористами для того, чтобы идентифици
ровать свою деятельность с первыми, и одновременно нередко
приводит их к прямому смыканию со второй. А это, в свою оче
редь, служит для многих буржуазных политологов поводом для
расширения рамок и смысла понятия «терроризм».
Приходится считаться, во-вторых, и с тем, что сами понятия
«террор» и «терроризм» исторически употреблялись и продолжа
ют употребляться сегодня в нескольких планах, что открывает
простор для произвольных манипуляций ими. С конца XVIII и в
течение двух третей XIX вв. понятие «террор» воспринималось в
самом широком и нерасчлененном смысле в соответствии с его
этимологией (la terreur —уж ас). Этим словом обозначались и
открыто насильственная форма диктатуры, и практика разовых
политических покушений. Его применяли нередко по отношению
к насилию и репрессиям, осуществляемым в ходе войны, и к са
мим войнам как таковым. Понятие «терроризм» использовалось
лак поч^ти адекватное террору, обретая в некоторых случаях спе
цифический оттенок: терроризм —это осуществление террора.
С появлением в конце XIX в. оппозиционных организаций,
практикующих систематические покушения, понятия «террор» и
«терроризм» постепенно перестают распространяться на сферу
военных действий, вычленяются в качестве характеристики толь
ко определенного вида политической борьбы. Сами эти понятия
конкретизируются и в известной мере обособляются друг от
друга. Понятием «терроризм» стали: обозначать практикующиеполитические* убийства оппозиционные организации и их тактику,
а понятие «террор» закрепилось за репрессивными действиями
государства. И лишь в самом общем плане при обозначении тер
рористической практики и обособлении ее от других видов поли
тического насилия оба эти понятия взаимозаменяемы.
Ряд западных политологов считается со сложившимся слово
употреблением, с необходимостью в этой связи рассматривать со
держание терминов «террор», «терроризм» с учетом конкретного
контекста. Однако имеется немало авторов (особенно журналистов
или террологов из военных и разведчиков), которые, пользуясь
тем, что терминология не устоялась окончательно, жонглируя
терминами, подменяют предмет исследования. Абсолютизируя
частные трактовки понятия, они таким способом абсолютизируют
разновидности современного или исторического терроризма, при
давая их конкретным признакам всеобщее значение, подверстывая
под рубрику терроризма нетеррористические политические дви
жения. Нередки и случаи придания прямого значения характери221
этикам, имеющим переносный смысл: «экономический террор»,
«информационный террор» и т. д. В этом плане особенно актив
ны «левые» террористы, пытающиеся оправдать свою тактику на
личием так называемого «системного террора».
И здесь мы сталкиваемся с третьим серьезным препятствием
на пути к научному определению терроризма —предвзятым,
а в конечном счете всегда политически тенденциозным подходом
к нему. Социальной позицией политолога предопределяется не
только положительное или отрицательное отношение к тем или
иным вооруженным действиям. Ею предопределяется само при
числение или не причисление этих фактов к разряду террористи
ческих. «Тот, кто для одних — террорист, для других — борец за
свободу»,—подчеркивают многие исследователи.
Некоторые политологи, неудовлетворенные существующими
дефинициями, не видя путей к позитивному решению задачи,
попросту решают, что дать обобщенное определение терроризма
принципиально невозможно. Они мотивируют это тем, что дан
ным понятием охватываются самые разнообразные явления, не
редко в такой степени переплетенные со сходными сопредельны
ми феноменами, что между ними нельзя провести разграничитель
ной линии, или исходят из того, что множественностью форм
терроризма диктуется и множественность его определений.
Аргументы серьезные, показывающие, что дать единое, обюбщающее и одновременно четко ограниченное определение тер
роризма весьма трудно. Но правомерно ли на этом основании от
казываться от самой мысли о необходимости такого определения?
Ведь отсутствие точного теоретического (и опирающегося на него
юридического) определения терроризма чрезвычайно затрудняет
борьбу с ним, позволяя произвольно трактовать это явление, рас
ширительно толковать его в целях клеветы на массовые освобо
дительные движения.
Другой вопрос: возможно или невозможно выработать общую
дефиницию терроризма, учитывая сложность, многогранность и
своеобразие этого феномена? Безусловно, возможно, если соблю
сти несколько элементарных логических условий. Во-первых, надо
четко различать употребления понятия «терроризм» в прямом и
переносном смысле. Во-вторых, необходимо выйти за пределы
порочного круга, образованного стремлением ставить дефиницию
терроризма в зависимость от самых различных форм и случаев
применения вооруженного насилия, террористический характер
которых сам по себе еще не доказан. В-третьих, определение тер
роризма должно быть принципиально полным, включая не только
те его признаки, которые объединяют его с иными формами на
сильственных действий, но главное и те существенные и общие
,дл£ различных типов террористической деятельности специфиче
222
ские характеристики, которые отделяют террористическое насилие^
от нетеррористического. В-четвертых, надо учитывать, что дейст
вия, составляющие специфику именно терроризма, в рамках дру
гих форм вооруженного насилия носят частный или вспомогатель
ный характер и, наоборот, некоторые решающие для этих форм
акции занимают подчиненное место в практике террористических
организаций. В частности, в ходе террористической борьбы основ
ным, определяющим ее природу акциям сопутствуют операции*
направленные на обеспечение террористических группировок*
которые сами по себе не могут расцениваться как террористиче
ские.
Наконец, следует иметь в виду, что в становлении и развитии^
современного терроризма существуют различные ступени. Н а
ранних ступенях формы его насильственной деятельности не всег
да выглядят отчетливо как собственно террористические. Нередко
развивающаяся в направлении к терроризму экстремистская
группировка до поры до времени использует и нетеррористиче
ские (в том числе иногда и ненасильственные) формы политиче
ской борьбы. Это запутывает картину, требует в каждом отдель
ном случае конкретного анализа, но не должно служить поводом:
для смешения типологически различных методов борьбы шит
отрицания возможности дать обобщающее определение терро
ризму.
Среди множества определений терроризма, имеющих хождение
на Западе, прежде всего обращают на себя внимание лишенные
даже видимости «научности» откровенно реакционные политиче
ские квалификации. Характерно в этом отношении предельно
прямолинейное, вульгарное и воинственно-прагматическое «опре
деление», принадлежащее бывшему главе аргентинской военной
хунты генералу Видела. «Террористами,—объявил он,—являют
ся все те, кто распространяет идеи, противоположные идеям за
падной и христианской цивилизации»2. Как видим, здесь уже
одно распространение оппозиционных идей приравнивается к
терроризму. Несколько иной вариант того же, в сущности, подхо
да дает автор книги «Террористический интернационал»
Ж. Кауфманн, объявляющий террористами «революционеров, лу
натиков и преступников, имеющих политические цели» 3.
За подобными, поразительными в их топорности определения
ми скрывается зловещая практика ультраправого государствен
ного терроризма. Приняв в последние годы своего правления за
кон против терроризма, Франко применял его для подавления
всех и любых проявлений политической оппозиции. Как писал
известный политолог П. Вилкинсон, «многие диктатуры нашего
времени рассматривают термин «террорист» как готовое клеймо
для всякой оппозиции» 4. Такой подход, однако, не является пре
223
рогативой лишь диктаторов и реакционного генёралитета. В кон
сервативной, а иногда и так называемой либеральной прессе не
таг уж редко можно встретить квалификацию ряда форм массо
вой борьбы трудящихся (забастовки, демонстрации, марши про
теста и т. д.) как своеобразной формы терроризма, осуществляе
мого без бомб.
Использование жупела терроризма для компрометации всех
форм классовой и национально-освободительной борьбы сегодня
типичный прием реакционных политиков и их идеологических
прислужников. Под этот прием профессиональными политологами
подводится и теоретическая база в виде сформулированных с
«академической» беспристрастностью во вполне наукообразной
форме
определений
терроризма.
«Терроризм,—утверждает
Б. Крозье, директор лондонского института по изучению кон
фликтов, известный своими связями с ЦРУ,—есть мотивирован
ное насилие с политическими целями» 5. «Терроризм,—конкрети
зирует эту мысль полковник швейцарского генерального штаба
Г. Дэникер,—это систематическое запугивание правительств,
кругов населения и целых народов путем единичного или много
кратного применения насилия для достижения политических,
идеологических или социально-революционных целей и устремле
ний» 6. Наконец, в книге «Терроризм: теория и практика», издан
ной в США в 1979 г., терроризм определяется как «угроза ис
пользования или использование насилия для достижения полити
ческой цели посредством страха, принуждения или запугива
ния» 7. Что характерно для этих формулировок? Во-первых, то,
что они отражают ряд реальных и существенных для терроризма
^го признаков: применение вооруженного насилия в политиче
ских целях, систематический и идеологически обоснованный ха
рактер этого применения и т. д. С другой стороны, набор'этих
признаков явно не полон: отсутствуют характеристики, отражаю
щие конкретную характеристику именно терроризма как специфи
ческой формы вооруженного насилия, отделяющие терроризм от
других насильственных методов политической борьбы. Будучи
внешне правдоподобными, приведенные выше определения в силу
этой неполноты настолько широки и формальны, что их легко
можно распространить и на другие формы вооруженной борьбы,
в частности на революционные освободительные движения. Соб
ственно, во имя этой цели буржуазные политологи (не тай уж
важно, сознательно или находясь в плену у сложившейся тради
ции) и останавливаются на ступени формальной, неконкретизированной характеристики терроризма. Перед нами распростра
ненный парадокс: внешне свободные от оценок, «формальные»
определения в силу самого своего формализма превращаются в
суждения, сугубо ценностные.
224
Не только политическая, но и чисто теоретическая несостоя
тельность типичных для западной политологии определений тер
роризма бросается в глаза. Они основаны на простейшем софиз
ме, на элементарной логической подмене. Справедливая форму
ла*—политический терроризм есть насилие —превращается в
постулат: политическое насилие есть терроризм. Предвзятость и
тенденциозность буржуазных политологов проявляется не только
и не столько по отношению к самому терроризму, сколько по от
ношению к нетеррористическим оппозиционным и освободитель
ным движениям.
При таком подходе содержание понятия «терроризм» противо
естественно расширяется, а критерии выделения и ограничения
этого понятия непомерно сужаются, сводясь попросту к борьбе с
оружием в руках.
Терроризм —это политическая тактика, связанная с исполь
зованием и выдвижением на первый план тех форм вооруженно
го насилия, которые определяются как террористические акты.
Что же такое террористический акт и чем он отличается от иных
насильственных действий?
Если обратиться к тем временам, когда понятия «терроризм»
еще не существовало, а соответствующее ему явление выступало
в элементарных, а потому и «чистых» формах, то нетрудно заме
тить, что террористические акции сводились (или почти своди
лись) к убийству отдельных высокопоставленных лиц. Это убий
ство и было основным типом террористической акции, воплощало
специфику террористической деятельности.
В современных условиях резко расширяются объекты терро
ристических покушений и сами формы этих покушений. В арсе
нал терроризма сегодня входят индивидуально нацеленные поку
шения и акции безадресного террора, угоны самолетов и ограб
ления банков, взятие заложников и поджоги промышленных
предприятий и офисов, налеты на казармы, полицейские участки,
склады и взрывы в издательствах и помещениях политических
партий, массовые уличные бесчинства и нападения из-за угла,
диверсии, шантаж и гангстерский рэкет в форме «революционно
го налета». Таким образом прямое покушение на жизнь людей
становится лишь одним из приемов террористов и даже не все
гда преобладающим. Но оно продолжает оставаться становым
хребтом всей террористической деятельности. Главной угрозой со
стороны террористов остается угроза жизни и безопасности
людей. Без регулярного осуществления этой угрозы и постоянно
го подкрепления ее акциями, не несущими непосредственно
смерть людям, но таящими в себе такую возможность (взятие
заложников, захват самолетов и служебных помещений и т д.),
терроризм лишился бы своего смысла.
8 В В Витюк, С А Эфиров
225
Многие из форм вооруженного насилия, характерных для тер
роризма, не являются его монопольным достоянием, равно как
само по себе их использование не есть свидетельство того, что
речь идет именно о террористической практике. Здесь главное в
том, с какой целью осуществляются данные насильственные ак
ции. «Нужно отличать,—подчеркивается в книге «Международ
ный терроризм и мировая безопасность»,—террористические ак
ции на эгоистической основе от актов, содержащих политиче
ский смысл»8. «Терроризм,—справедливо отмечает Я. Шрай
бер,—держится не на любом насилии, хотя насилие есть главное
и существенное его оружие, но на программных установках...
Политическим делают террористический акт его мотив и направ
ленность» 9. Верные по общей мысли, эти формулировки заслу
живают и некоторого уточнения: именно политическая направ
ленность делает акт вооруженного насилия террористическим,
а не просто разрушительным, смертоносным, кровавым действием,
так же как не всякое вооруженное насилие, осуществляемое с по
литической целью, есть терроризм.
В качестве политического факта террористический акт отли
чается от патологически преступных действий типа бессмыслен
ных убийств, совершавшихся, например, в США известной
«бандой Мэнсона». Более того, в строгом смысле слова не явля
ются террористическими актами и некоторые осуществлявшиеся
в прошлом убийства, имеющие внешнюю видимость политических,
например устранение соперников в ходе борьбы за корону или
папскую тиару. Сложность здесь заключается в том, что иногда
претендентами на власть движут только интересы личные и ко
рыстные, иногда же они сплетаются с соображениями политиче
скими, что в одних случаях эти претенденты действуют в одиноч
ку, в других за ними стоит определенная группировка со своими
программными установками. Каждый такой факт, прежде чем
быть классифицирован, должен подвергнуться конкретному ана
лизу, но так или иначе существуют покушения, имеющие види
мость политических, а на деле являющиеся псевдополитическими.
Из политического характера террористического акта вытекают
и некоторые другие его специфические особенности. Терроризм
является хотя и грозным оружием, но оружием слабых. Именно
слабостью террористов, их неспособностью дать открытый бой по
всем линиям политическому врагу и его вооруженным силам, при
претензии на ведение непримиримой борьбы с ними и предопре
деляется тактика индивидуальных политических убийств, безад
ресных взрывов, диверсий и т. д. Единичные удары по отдельным
мишеням призваны подменить систематическую и развернутую
классовую борьбу против режима, система нападений на самые
случайные объекты преследует цель создать впечатление о все
226
могуществе и вездесущности террористов, их готовности и спо
собности нанести удар в любой момент и в любом месте.
Поэтому осуществлением покушения смысл террористической
акции не исчерпывается, и завершением боевой операции она не
заканчивается. Ее главное назначение не просто в устранении от
дельных лиц, нанесении материального ущерба и т. д., но в до
стижении социального резонанса, в устрашении правительств, оп
ределенных социальных кругов, а сегодня —и народов. Действия
террористов, подчеркивают американские политологи Шульц и
Слоэн, «в значительно большей мере имеют целью повлиять на
поведение определенных социальных групп, чем нести им ги
бель» 10. Если в историческом прошлом исходно присущая тер
роризму функция запугивания нередко находилась в тени, то с
того момента, как терроризм обрел организованный идеологиче
ски обоснованный и систематический характер, эта функция все
более отчетливо выдвигается на первый план. Таким образом, на
сильственные акции приобретают характер террористических, ког
да они направлены на нагнетание атмосферы страха. В этом
случае в систему террористических средств входят не только
действия, непосредственно угрожающие жизни и безопасности
людей, но и бескровные операции превентивного, запугивающего
типа, вроде поджогов или взрывов в безлюдных помещениях —
магазинах, офисах, штаб-квартирах политических партий, на про
мышленных предприятиях и т. д. В эту систему вписываются и
такие действия, как публикация различного рода манифестов,
деклараций, коммюнике, листовок, специальная забота об осве
щении террористических акций (и вообще будировании темы тер
роризма) средствами массовой информации. Эти действия стано
вятся неотъемлемой составной частью террористических опера
ций.
В западной литературе нередко возникает вопрос: охватывают
ся ли понятием «терроризм» разовые акты одиночек или его при
менение ограничивается рамками действий организованной поли
тической группы? В то время как многие политологи не отделяют
первое от второго, другие усматривают более сложные и неодно
значные отношения между ними. Как всегда в таких случаях,
терминологический спор по своему смыслу вовсе не сводится к
спору только о терминах. Поэтому стоит кратко остановиться на
этой проблеме.
Так, французский юрист Ж. Левассер убежден, в частности,
что «не всякое политическое убийство есть террористическая ма
нифестация». Таковым оно становится только в том случае, если
его осуществляет «организованная, действующая систематически
группа». В то же время автор признает «террористической мани
фестацией» и акции, самостоятельно осуществленные членом
227
8*
труппы, «в идеологию которой входят действия подобного
рода» п.
Такая постановка вопроса выглядит плодотворной. Во всяком
случае, не в разовых покушениях одиночек-фанатиков смысл со
временного терроризма. Она может быть полезной при оценке
деятельности экстремистских организаций, эволюционирующих в
направлении к терроризму, но не прошедших этот путь до конца.
С ней стоит считаться и при решении вопроса об ответственно
сти организации за самостоятельные и не одобренные ею, но вы
текающие из ее общих идейных установок экстремистские дейст
вия ее отдельных членов.
Однако вовсе не с этой целью сформулировал Ж. Левассер
свой постулат. Объявляя террористическими политические поку
шения одиночек-анархистов прошлого на основании движущих
ими идеологических мотивов, он одновременно выводит за преде
лы терроризма такие акции, как убийство Марата Шарлоттой
Корде, Жореса Вилленом, Воровского Горгуловым, поскольку те
якобы не были связаны с определенными организациями, испове
довавшими принцип террористической борьбы. За терминологиче
скими уточнениями здесь проступают далеко не чисто теоретиче
ские интересы. Политические покушения, направленные против
выдающихся революционеров и прогрессивных политиков прош
лого, таким образом, оказываются не террористическими актами,
и за них не несет ответственности никто, кроме их исполнителей.
Автор не договаривает свою мысль до конца и современных имен
не приводит. Однако перед нашими глазами стоит пример дея
тельности Комиссии Уоррена, которая, вопреки вопиющим фак
там, постаралась взвалить всю ответственность за убийство пре
зидента Д. Кеннеди на одного, психически не вполне полноценно
го Ли Харви Освальда. Такими же «независимыми» одиночками
оказались в глазах американских служителей Фемиды и убийцы
Р. Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. А между тем достаточно
убедительные данные свидетельствуют о связйх убийц с опреде
ленными организациями, причем не просто подпольными, но
имеющими контакты со специальными службами. Что же касает
ся Корде, Горгулова, Виллена, то они были явными орудиями
реакционных кругов, исповедовавших идею террористического
насилия по отношению к революционерам. В случаях же Корде
и Горгулова это были те лица, которые, не ограничиваясь идеей,
вели и систематическую организованную террористическую дея
тельность.
Политический характер террористической деятельности прин
ципиально отличает ее от уголовной преступности, хотя между
тем и другим существует достаточное сходство, имеется немало
точек соприкосновения, что в некоторых случаях облегчает пере
228
рождение террористической группы в полууголовную органи
зацию.
Во-первых, уголовные преступники и террористы сознательно
нарушают существующую законность. И это касается не только
террористов-оппозиционеров, исходящих из постулата, что нару
шение законности есть революционный акт. На основе игнориро
вания законности или подмены правовых норм чрезвычайными
установлениями осуществляется и государственный террор.
Другое близкое сходство терроризма и уголовной преступно
сти связано с тем, что целый ряд используемых ими средств прак
тически совпадает. Когда в 1977 г. был похищен бельгийский
банкир, барон д’Эмпен, печать и полиция поначалу были увере
ны, что это дело рук террористов, поскольку операция была осу
ществлена по тому же сценарию, что и прогремевшее незадолго
до этого похищение западногерманскими террористами председа
теля союза промышленников ФРГ Г. М. Шляйера. И только после
того, как похитители, убив свою жертву, скрылись с полученным
выкупом, выяснилось, что это была уголовная акция.
Наконец, существует и третья сторона дела, усложняющая и
запутывающая вопрос. Сами террористы нередко привлекают к
своим операциям уголовников, а в некоторых случаях достаточ
но широко опираются на преступный элемент из «идейных сооб
ражений», считая его «революционным бродилом». Такие уста
новки, равно как и сам образ жизни и деятельности террористов,
нередко приводят к тому, что в лице самого террориста, по сло
вам У. Лакёра, «совмещаются Вильгельм Телль и грабитель» 12.
При этом логика развития некоторых террористических органи
заций такова, что грабитель начинает преобладать над Вильгель
мом Теллем. Одновременно наблюдается и встречный процесс:
маскировки уголовников под «идейных» террористов. Так, 8 мая
1979 г. в Болонье была схвачена с поличным в момент грабежа
шайка мелких жуликов, гордо заявивших полиции: «Это —проле
тарская экспроприация, мы —политические военнопленные!».
На основании подобных фактов некоторые западные полито
логи вообще отказываются проводить разграничительную линию
между терроризмом и уголовной преступностью. Однако боль
шинством специалистов эта позиция не разделяется. Как подчер
кивает Ж. Левассер, «хотя одно легко переходит в другое, банда
преступников не • тождественна банде террористов»13. Различия
между ними, во-первых, в целях и мотивах их операций, во-вто
рых, отчасти и в методах. Террористы стремятся запугать обще
ство, дестабилизировать и изменить государственный строй, уго
ловники же стараются не привлекать к себе излишнего внимания
и не затрагивать основ общества, в рамках которого они только
и могут осуществлять свою преступную деятельность. Террористы
229
движимы стремлением нанести «удар по системе», уголовники —
желанием набить карман. Поэтому такие акции, как, например,
ограбление банка, для террористов вспомогательные, а для уго
ловников —основные. И, наоборот, если террористы убийству и
угрозе убийства придают решающее значение, то для профессио
нальных преступников они оправданы только в связи с возмож
ностью наживы (если не считать, конечно, мотивов типа сведения
счетов между собой). Целый ряд типичных для одних мишеней
и приемов находится вне поля зрения других. Уголовники, ска
жем, не захватывают посольств, а политические террористы не
содержат игорных и публичных домов. Наконец, для уголовников
с достижением конкретной материальной цели операция заканчи
вается, для террористов, как правило, только начинается.
Не закрывая глаза на сходство, а иногда и переплетение тер
роризма с уголовной преступностью, необходимо видеть и учиты
вать и специфику каждого из этих феноменов. Только в этом
случае появляются научные критерии для ответа на вопрос, яв
ляется ли данная группа уголовной или политической, и если
второй, то какую роль в ее активности играет уголовной элемент,
эволюционирует ли она в направлении перерождения политиче
ской организации в уголовную и на какой ступени данной эволю
ции находится и т. д.
За рассуждениями о том, что между терроризмом и уголовной
преступностью нельзя провести разграничительной линии, скры
вается не только юридический формализм. Они, конечно, могут
быть упрощенной формой выражения отвращения к терроризму
и его осуждения. Но они слишком часто связаны и со вполне
определенной политической тенденцией. Старый прием реакции —
отождествив терроризм с преступностью и используя расшири
тельную трактовку терроризма, подверстывать к уголовщине
любые, как террористические, так и не террористические формы
вооруженного и даже невооруженного протеста и сопротивления.
В вышедшей в 1979 г. в Лондоне книге Питера Хейна под
многозначительным названием «Обуздать полицию» красной ни
тью проводится мысль, что для английских репрессивных орга
нов быть политическим активистом —то же самое, что быть уго
ловным преступником. С новой силой это проявилось в тюрьмах
Северной Ирландии, где борцам против бесправия и репрессий
(причем не террористам из Временной ИРА) приходилось отстаи
вать свое право на статут политических заключенных путем дли
тельных голодовок, принесших несколько смертей.
Специфика террористического насилия отличает его и от та
кого явления, как война. Отграничение это, однако, связано с
рядом сложностей, которые нельзя игнорировать. Аналогия
между тем и другим феноменами базируется на том, что в обоих
230
случаях речь идет о применении оружия, убийствах, ранениях,
устрашении людей. К тому же терроризм органически тяготеет
к войне. Многие террористы мечтают о развертывании террори
стических кампаний в гражданскую войну, нередко саморекламно объявляют их «революционными войнами», рассчитывают на
мировую войну как предпосылку «мировой революции». С другой
стороны, в ходе военных действий осуществляются и вспомога
тельные операции террористического характера.
Однако качественная разница между тем и другим явлением
существует и носит вполне определенный характер. Одно
дело —регулярные, организованные армии, вооруженные всей
мощью современной техники и опирающиеся на обеспечивающую
их экономику, другое —небольшие группки, вооруженные пусть
и современным, но легким и преимущественно ручным оружием,
доставаемым посредством тайных закупок или налетов на казар
мы п полицейские участки. Бомбы, автоматы, гранаты, простей
шие ракеты в руках десятков людей в военном отношении несо
поставимы с тем же оружием в руках тысяч и миллионов, а тем
более с танковыми, авиационными, морскими, ракетными соеди
нениями. Милитаристские наклонности террористов еще не озна
чают их реальной готовности к подлинно военным действиям,
равно как террористические кампании не тождественны этим
действиям. Терроризму же не дано подняться до проведения сра
жений. Назвать сражениями, как это делают сами террористы,
стычки автономистов с полицией или защиту осажденных убежищ
можно только условно, в порядке игры слов. Террористическая
акция, осуществляющаяся по принципу: «Бей и беги!», ко
личество жертв которой в любом случае несоизмеримо с количе
ством жертв сражений, не способная привести к заметному ослаб
лению, а тем более, разгрому противника, подменяет эффектив
ность эффектностью и в военном отношении принципиально
отлична от сражения.
За встречающимися в западной прессе попытками отождеств
ления военных действий с террористическими кампаниями явст
венно проглядывает стремление к сознательному нагнетанию
страха, запугиванию жупелом терроризма. Так, Р. Клаттербак
объявляет терроризм современной формой гражданской войны,
которую ведут «государственные служащие, дипломаты, офици
альные лица, бизнесмены и администраторы — борцы передовой
линии, представители цивилизации» и террористы, стремящиеся
эту цивилизацию разрушить. Такая «новая война», по мысли
автора, «похожа на старинную, когда битва могла быть выиграна
простым единоборством, поскольку впечатляющее убийство или
пленение одного вселяет ужас в сердца миллионов других и та
ким путем позволяет террористам достигать их целей»14.
231
Клаттербак откровенно играет на руку террористам, повторяя их
собственную аргументацию, но автор хорошо знает, за что он
платит эту цену. Обличение терроризма во имя характеристики
не-терроризма (нападки на освободительные движения, апологе
тика «западной цивилизации») —типичный, как мы видели,
прием буржуазной политологии, позволяющий сочетать верные
отдельные мысли, меткие оценки с предвзятой идейной позицией.
Сказанное выше о проблеме соотношения терроризма и войны,
естественно, распространяется и на более частный вопрос о со
отношении терроризма и гражданской войны, которую, по словам
террористов, они и ведут сегодня. Не вдаваясь в специальный
вопрос о сравнительной природе гражданских и межгосударствен
ных войн, отметим, что гражданские войны характеризуются
открытым столкновением классов, вооруженными действиями
масс. Подчеркнем также, что гражданские войны (как и восста
ния, предшествующие им или составляющие их начальную сту
пень) представляют собой процесс непосредственной борьбы за
политическую власть, в то время как террористические кампа
нии, и это вынуждены признать сами их инициаторы, преследуют
цель лишь создания условий для такой борьбы.
И здесь мы подходим к самому важному моменту: вопросу о
соотношении терроризма с революционным насилием . Это —
узловой вопрос в идеологической борьбе вокруг проблематики
«левого» терроризма, извращенно решающийся как самими «ле
выми» террористами, так и подавляющим большинством буржу
азных политологов. «Левые» террористы претендуют на звание
подлинных и единственно последовательных революционеров,
объявляют себя «марксистами-ленинцами». Удивительное едино
душие с ними в этом вопросе проявляют и многие буржуазные
политологи (как откровенно реакционной, так и либеральной
ориентации), стремящиеся выдать террористические группировки
за «революционные движения», а самих террористов за подлин
ных революционеров.
По ходу конкретного изложения мы характеризовали марк
систскую точку зрения на соотношение террористического и
революционного насилия и на отдельные формы «левого» терро
ризма. Подведем теоретический итог.
Конечной целью революционных марксистов
является
установление бесклассового коммунистического общества, при
рода которого исключает социальное насилие. «В нашем идеале
нет места насилию над людьми» 15,—писал В. И. Ленин. Борьба
за этот идеал начинается в недрах антагонистического капитали
стического общества, поддерживающего при помощи буржуаз
ного государственного аппарата гнет и насилие господствующих
классов над широкими трудящимися массами. В этих условиях
232
единственным способом свержения классового гнета, продвиже
ния по пути к социальной справедливости становится революци
онное насилие, которое в зависимости от конкретных социальных
условий, соотношения сил и особенностей революционной ситуа
ции может осуществляться вооруженным или мирным путем.
Революционное насилие есть насилие, осуществляемое народ
ными массами в момент социального переворота и непосредствен
ных подступов к нему. Поэтому оно должно осуществляться в
формах, «которые рассчитаны на непосредственное участие мас
сы и обеспечили это участие»16. Как указывал В. И. Ленин,
«без рабочего народа бессильны, заведомо бессильны всякие
бомбы» 17. Между тем терроризм «ни в какой связи с работой в
массах, для масс и совместно с массами,—указывал В. И. Ле
нин,—не стоит»18. «Террор,—подчеркивал В. И. Ленин,—был
местью отдельным лицам. Террор был заговором интеллигентских
групп. Террор был совершенно не связан ни с каким настроени
ем масс» 19. Заговор интеллигентских групп или массовая борь
ба —именно здесь лежит принципиальный водораздел между
революционным и террористическим насилием. Терроризм диа
метрально противоположен по самой своей сути массовой борь
бе, независимо от того, клянется или нет он ее именем. Обра
щение к террористической практике не только означает неверие
в массовое движение, но и наносит этому движению серьезный
ущерб. Принципиальное отношение русских революционных
марксистов к терроризму было сформулировано в «Искре» сле
дующим образом: «...а мы именно потому-то и против террориз
ма, что он не революционен» 20.
Для большевиков, ведших в конкретных условиях царской
России борьбу на два фронта —против оппортунизма и против
терроризма,—тактика этой борьбы *была связана с «многолет
ней... пропагандой вооруженного восстания» 21. Именно пропа
гандой! Никаких вооруженных акций до момента открытого
столкновения масс с силами царизма в условиях революционной
ситуации большевики не предпринимали и таких действий не
допускали. И здесь лежит еще один водораздел между революци
онным марксизмом и «левым» терроризмом. Последний не счи
тается с объективными социальными условиями, надеется спро
воцировать революцию при помощи террористических акций и
одновременно подменяет этими акциями саму революцию. Прин
ципиальная неприемлемость террористической тактики для про
летарских революционеров была подчеркнута уже в специальной
резолюции II съезда РСДРП.
Отношение революционных марксистов к терроризму как
тактике, «которая состоит в систематической организации поли
тических убийств без связи с революционной борьбой масс»22,
233
не следует смешивать (как это постоянно делают буржуазные
политологи) с их отношением к революционному террору в ходе
восстания или гражданской войны. «Всякая революция лишь
тогда чего-нибудь стоит,—писал В. И. Ленин,—когда она умеет
защищаться»23. Борьба за разрушение старой государственной
машины, белый террор со стороны свергаемых эксплуататорских
классов делают революционный террор правомерной и необходи
мой мерой со стороны восставшего народа. Массовое восстание...
всеобщее восстание..,— подчеркивали К. Маркс и Ф. Энгельс,—
это средства, которые предполагают революционный террор»24.
Очевидно, однако, что речь здесь идет не о терроризме как о не
связанной с массовой борьбой тактике индивидуальных или без
адресных покушений, но об осуществляемом массами насильст
венном подавлении сопротивления вчерашних господствующих
классов.
С другой стороны, необходимо различать насильственные ак
ции, осуществляемые в силу приверженности к террористической
тактике, избранной заговорщическими группами, и аналогичные
по форме действия, выступающие в качестве «одного из приемов
решительного штурма»25, «одной из операций действующей ар
мии, тесно связанной и сообразованной со всей системой борь
бы» 26. Осуществляемые в условиях народного восстания, граж
данской войны такого рода действия выступают не как
осуществление террористической тактики, но как одно из вспо
могательных средств вооруженной массовой борьбы. Оценивая
деятельность латышских революционеров в 1905—1907 гг.,
В. И. Ленин отметил, что ее нельзя называть «анархизмом, блан
кизмом, терроризмом... потому что здесь ясна связь новой формы
борьбы с восстанием» 27.
Таким образом, трактовка вооруженного насилия К. Марксом,
Ф. Энгельсом, В. И. Лениным, отвергавшими терроризм как так
тику и признававшими правомерность насильственных действий
лишь «в массовой борьбе и в связи с этой борьбой» 28, принци
пиально отличается от его трактовки и самими террористами,
и реакционными политологами. Терроризм с его культом полити
ческих покушений и отрывом от массового движения коренным
образом противоположен подлинно революционному насилию.
Этот вывод становится ключом и для решения вышедшего
сегодня на первый план, сложного и практически, быть может,
наиболее важного вопроса о соотношении терроризма и парти
занской борьбы. Сложность его не только в том, что в ходе пар
тизанской борьбы употребляются некоторые приемы, использу
емые террористами. Она связана еще и с тем, что «левые» терро
ристы объявляют себя сегодня городскими партизанами, а терро
ристическую тактику — «городской герильей», т. е. осуществляе
234
мой в городе партизанской борьбой. В связи с этой претензией
террористы ряда регионов (там, где имеет место и подлинно пар
тизанская борьба) делали на первых порах попытки осуществле
ния операций типа партизанских боевых действий. Свою терро
ристическую практику городской герильей объявили не только
«левые» террористы Латинской Америки, но и заимствовавшие
их аргументы и методы, действующие в других условиях, движи
мые иными мотивами и играющие иную социальную роль «ле
вые» террористы ведущих капиталистических стран.
Вопрос о соотношении партизанской борьбы и терроризма по
стоянно запутывают реакционные политики и идеологи, стремя
щиеся объявить терроризмом любые формы вооруженной борьбы
народов против колонизаторов и захватчиков. Не только герман
ские фашисты называли партизан, действовавших на оккупиро
ванных ими территориях, террористами. Такая оценка система
тически дается во многих современных работах о терроризме
партизанским движениям в Алжире, Зимбабве, Никарагуа, Саль
вадоре. А, например, Гербертом Боузелом французское движение
Сопротивления рассматривается как террористическая организа
ция, в практике которой он видит корни современного террориз
ма в Западной Европе 2\ Многие политологи правой ориентации
откровенно ставят знак равенства между партизанской борьбой
и терроризмом. Другие делают то же самое, но при помощи оп
ределенных наукообразных ходов, что облегчается терминологи
ческими совпадениями. Например, Б. Дженкинс верно отмечает,
что «городская герилья почти автоматически ведет к использова
нию террористической тактики» 30. Но одновременно он дает по
нять, что аналогичное соотношение существует и между сельской
и городской герильей. Третьи улавливают между ними частные
различия, не мешающие, однако, представлять их как однопоряд
ковые, по существу единые явления. Так, Т. Снич утверждает:
«Терроризм, герилья, городская герилья,—все они употребляют
революционное насилие, но каждый имеет свои объекты и ми
шени» 31.
В западной научной (или претендующей на научность) лите
ратуре и публицистике можно встретить и более здравые трак
товки вопроса о соотношении партизанской борьбы и терроризма.
Так, политолог правой ориентации У. Лакёр, в частности, настаи
вает на различии между партизанским движением и террориз
мом. Лакёр возражает против самого термина «городская гери
лья», считая его противоестественным, поскольку самой природой
герильи ей предписано развертываться в сельской местности.
Герилья, с его точки зрения, может объединять тысячи людей,
терроризм —максимум сотни. «То, что сегодня называют «город
ской герильей»,—пишет он,—есть терроризм в новой одежде».
235
Терроризм иногда может выступать в союзе с «герильей, но чаще
всего он является альтернативой ей» 32. П. Вилкинсон, подчерки
вая, что европейские террористы «использовали оружие изолиро
ванно, без сопровождения герильи», делает решительный вывод:
«...терроризм не может быть отождествлен с герильей вообще» 33.
Аналогичную позицию занимает и Я. Шрайбер, утверждающий,
что «партизанский отряд не равнозначен террористической
группе» 34.
Каково же все-таки реальное соотношение между партизан
ской борьбой (герильей) и терроризмом (городской герильей)?
Прежде всего партизанская борьба есть одна из форм войны
между государствами (против оккупантов) или гражданской вой
ны (против господствующего класса), ведущаяся не армейскими
соединениями, но отрядами вооруженного народа, пользующими
ся широкой поддержкой в массах. Городская герилья есть кам
пания по осуществлению политических покушений, проводимая
оторванными от народа заговорщическими группами.
Герилья основной объект своих атак видит в вооруженных
силах государства, с которым она ведет войну. Для городской
герильи, которая уже поэтому тождественна терроризму, объек
тами покушений могут быть и военные и гражданские «прислуж
ники режима» и вообще все, кто вписался в «систему» и смирил
ся с ней. Более того, несмотря на яростные угрозы в адрес «сви
ней в мундирах», среди жертв террористических акций
гражданские лица составляют большинство. Герилья стремится
добиться непосредственных материальных результатов —уничто
жения вражеских частей, техники, боеприпасов и т. д. Городская
герилья в первую очередь преследует цель вызвать психологиче
скую реакцию: испуг, панику, тревогу как у представителей
власти, так и у населения. Герилья в состоянии стать притяга
тельным центром для широких масс и развиться в подлинно на
родную войну. Городская же герилья в силу ее отвращающей
практики, авантюристических установок, глубокой конспиратив
ности и дробной организационной структуры стать таким центром
принципиально не способна. В ходе партизанской борьбы проис
ходит не только боевая закалка ее участников, но и ведется их
политическое воспитание, общеобразовательная и культурно-про
светительная работа. Что же касается городской герильи, то она,
оценивая кадры только по степени их готовности к разрушитель
ной деятельности, всем своим ходом ведет к деградации челове
ческой личности. Городская герилья, как видим, не может быть
ничем иным, кроме терроризма, и попытки отождествить ее с пар
тизанской борьбой или выделить в качестве промежуточного зве
на между терроризмом и партизанской борьбой в сельской мест
ности —либо лицемерие, либо самообман.
236
Терроризм есть тактика политической борьбы, характеризую
щаяся систематическим применением идеологически мотивиро
ванного, но не связанного с массовой борьбой вооруженного на
силия, выражающегося в политических убийствах и других
действиях, представляющих угрозу жизни и безопасности людей.
Эта тактика используется не просто ради устранения отдельных
лиц, но и для запугивания правительств, социальных слоев и
движений (а в современных условиях и целых народов) во имя
достижения определенных социальных целей.
Как мы уже говорили, в единой форме терроризма историче
ски выступали и выступают различные, а нередко и антагони
стические политические силы. Следовательно, чтобы понять сущ
ность тех или иных террористических движений, необходимо в
анализе выйти за формальные рамки и выявить их конкретное
идейно-политическое содержание. А для этого следует задаться
очень простыми и в то же время принципиальными вопросами:
кто, в каких условиях, против кого и с какой целью ведет тер
рористическую борьбу? Именно ответы на эти вопросы позволяют
дать верную* политическую характеристику тем или иным раз
новидностям терроризма.
Учитывая бесконечное многообразие, смыкание и переплете
ние различных форм терроризма, классифицировать их очень не
просто, и любая форма классификации будет в большей или
меньшей степени неполной и в чем-то условной. Почти ни одна
разновидность терроризма не укладывается целиком в какуюлибо ячейку типологической сетки. Но сама такая сетка необхо
дима, ибо без четких исходных критериев и параметров невозмож
но дать достоверную характеристику конкретным разновидностям
современного терроризма.
Следует прежде всего различать два типа террористической
деятельности: государственный террор и оппозиционный терро
ризм. Разница между первым и вторым заключается в том, что
государственный террор есть открытое насилие со стороны гос
подствующего класса, опирающегося на мощь государственных
институтов, а оппозиционный терроризм —насилие и устраше
ние, используемое антирежимными группировками. Основным
оружием государственного террора являются репрессии, террориз
ма оппозиционного —террористические акты. Естественно, что
количество жертв государственного террора значительно превос
ходит число жертв оппозиционного терроризма. Государственный
террор и оппозиционный терроризм связаны между собой симбио
тической связью, взаимно провоцируя друг друга, однако эта
взаимозависимость не прямолинейна и не всегда осуществляется
на практике. Государственный террор стимулирует появление
оппозиционного терроризма, делая невозможными другие методы
237
борьбы, но он же жестоко подавляет всякую оппозицию, нередко
полностью ликвидируя и оппозиционные террористические груп
пировки. Не во всех случаях ответом на активность оппозицион
ного терроризма становилась открыто террористическая реакция
правительства, равно как само обращение экстремистов к терро
ристической практике не всегда диктовалось реальным наличием
государственного террора, хотя постоянно этим мотивировалось.
Различие между государственным террором и оппозиционным
терроризмом в принципе достаточно очевидно. Однако существу
ет и специфическое промежуточное звено, соединяющее две эти
формы: заговорщический терроризм, втайне поддерживаемый и
направляемый государственными органами. Он может носить ха
рактер чисто национальный, выступать в форме организаций, ко
торые инспирируются и управляются спецслужбами собственной
страны для осуществления акций, за которые государство по тем
или иным причинам не хочет нести ответственность. Он может
быть объектом открытой или тайной для большинства членов
организации манипуляции со стороны спецслужб иностранных го
сударств. В обоих случаях мы имеем дело с замаскированной,
косвенной формой государственного терроризма. В современных
условиях эта разновидность террористической практики обрела
особый размах и значимость.
В последние годы все больший размах приобретает еще одна
форма государственного терроризма, выражающаяся в открытых
агрессивных акциях типа разбойничьих нападений США на
Гренаду и Ливию. Террористическими, а не просто военными
действиями их делает то, что они рассчитаны на запугивание
народов целого региона. Как осуществление государственного тер
роризма можно рассматривать и разностороннюю поддержку со
стороны США, ЮАР, Израиля, Пакистана и некоторых других
государств, реакционных банд, ведущих террористическую борь
бу против собственных народов и поддерживаемых этими народа
ми прогрессивных режимов.
В тех случаях, когда акции государственного терроризма на
правляются вовне, на нанесение ущерба другим государствам,
вмешательство в их внутреннюю жизнь, изменение международ
ных отношений, они обретают одновременно характер междуна
родного терроризма . В тех случаях, когда аналогичную значи
мость имеют действия заговорщических террористических группи
ровок, они также могут расцениваться как форма международно
го терроризма. Однако такую значимость эти действия получают
именно тогда, когда за спиной террористических организаций
стоят заинтересованные в этом государства и их спецслужбы.
В тех же случаях, когда различные зарубежные акции левотер
рористических групп осуществляются самостоятельно и не на
238
целены на изменение международных отношений, их, по мнению
ряда серьезных исследователей, правильнее квалифицировать не
как международный, но как транснациональный терроризм.
Два водораздела можно провести между различными разно
видностями терроризма на основании их конкретной социальной
направленности. В соответствии с первым выделяются по мень
шей мере три основных террористических направления. 1. Тер
роризм, который в зарубежной печати чаще всего определяют
как социальный (или внутренний), преследующий цель коренно
го или частичного изменения экономического или политического
строя собственной страны. 2. Терроризм националистический ,
включающий организации этносепаратистского толка и организа
ции, поставившие своей целью борьбу против экономического и
политического диктата инонациональных государств и монополий.
3. Терроризм религиозный, связанный либо с борьбой привержен
цев одной религии (или секты) в рамках общего государства с
приверженцами другой, либо с попыткой подорвать и низвергнуть
светскую власть и утвердить власть религиозную, либо с тем и
другим одновременно.
Однако эти три разновидности современного терроризма на
практике редко выступают в чистом виде. Такие примеры дают
ся, пожалуй, лишь отдельными организациями, представляющими
социальный терроризм. Но и последний, как показала практика,
часто бывает окрашен в националистические или религиозные
тона. Националистический терроризм во многих случаях попро
сту сплетается с религиозным, а довольно часто заимствует идеи,
лозунги, аргументы у терроризма социального. Наконец, рели
гиозный терроризм, как правило, одновременно в той или иной
мере является и терроризмом националистическим и также спо
собен кое-что почерпывать из идейного арсенала терроризма со
циального.
Поэтому для исследователей, занимающихся проблематикой
терроризма, при изучении конкретных и зачастую неодноплано
вых его форм задача заключается в том, чтобы выделить опреде
ляющие и подчиненные, главные и второстепенные черты явле
ния, постичь их иерархию и взаимосвязь, исходя прежде всего из
основной цели, во имя достижения которой употребляется терро
ристическое насилие.
G другой стороны (это относится прежде всего к терроризму
«внутреннему», но может в той или иной мере касаться и иных
его разновидностей), существует водораздел между терроризмом
правым и терроризмом, квалифицируемым как «левый».
Террористическая тактика может осуществляться силами,
стремящимися сохранить и упрочить существующий режим,
и силами, нацеленными на дестабилизацию, разрушение и изме
239
нение сложившейся системы. Естественно, что это не означает
(хотя такая иллюзия и имеет определенное место), что сторонни
ки стабильности есть всегда консерваторы, правые, реакционеры,
а ратующие за изменения сторонники деструктивной тенденции
являются носителями прогресса, представителями левой оппози
ции. Во-первых, оппозиционный терроризм в странах с прогрес
сивными и буржуазно-демократическими режимами широко пред
ставлен заговорщическими правыми, неофашистскими и контрре
волюционными организациями. Во-вторых, религиозные и
националистические террористические группировки (даже в тех
случаях, когда их действия являются ответом на гнет и репрес
сии со стороны реакционных сил) далеко не всегда в плане
социально-политическом связаны с прогрессивными устремления
ми. Нередко социальной реакционности одного типа они (в фор
ме националистических и религиозных идеалов и традиций)
противопоставляют реакционность иного типа. В-третьих, в ка
честве объективно реакционной силы сегодня активно выступают
я так называемые «левые» террористы, которых нельзя считать
подлинными представителями «левой» оппозиции и борцами за
реальный социальный прогресс.
.Левотеррористические и правотеррористические группировки
сближаются друг с другом общей враждой к демократии и массо
вым организациям трудящихся. Закономерной является и эволю
ция левотеррористических группировок вправо. Однако все это не
является основанием для отождествления «левого» терроризма с
правым или постановки под сомнение самого факта существова
ния именно «левого» терроризма, что иногда встречается в за
падной прессе. Между ним н другими направлениями в терро
ризме имеются существенные различия, вытекающие из их ко
нечных политических установок. В то время как правый терро
ризм стремится к установлению и упрочению тоталитарных ре
жимов в интересах укрепления господства крупного капитала,
современный «левый» терроризм провозглашает в качестве своей
основной цели разрушение капиталистической системы, а нередко
и уничтожение государственной власти вообще. Если для неофа
шистов все, кто не разделяет их установок, являются врагами
слева, то для «левых» террористов —врагами справа. В полити
ческом мировоззрении «левых» террористов с их принципом то
тального отрицания объединяются устремления антикапиталистические и антидемократические, антигосударственные и антисо
ветские, антиимпериалистические и антикоммунистические. Сово
купность этих устремлений, характеризуя специфику политиче
ского облика «левого» терроризма в содержательном плане, поз
воляет отличить его от иных типов терроризма, в том числе и
от терроризма неофашистского.
210
Существен и друюйг формальный, момент. Если неофашист
ский терроризм и использует из тактических соображений демаго
гию и обман, то в принципе он не скрывает своих основных по
литических целей и сам отдает себе в них ясный отчет. Декла
рации же и субъективные намерения «левых» террористов
находятся в вопиющем противоречии с объективным смыслом их
деятельности. «Левизна» их идейных установок мнима и служит
для социальной мимикрии и самообмана. Но, в частности, именно
этот своеобразный «двойной план», наличие определенного поли
тического подтекста, неадекватного идеологическим конструкциям
«левого» терроризма, и отличает его от лишенного идейно-поли
тической неоднозначности прямолинейного неофашистского тер
роризма.
Неразрывно связанная с определением идейно-политического
облика террористических организаций проблема типологии терро
ризма является сферой активной идейной борьбы. Эта борьба
иногда ведется в скрытой форме. Типичным приемом современ
ной буржуазной политологии является, например, сосредоточение
подавляющего внимания именно на «левом» терроризме, чтобы
создавать таким образом впечатление, что к нему современный
терроризм практически и сводится. Примером же открытой идей
ной борьбы в этой сфере является выдвижение многими запад
ными политологами таких типологических схем, которые явно
искажают объективную типологию терроризма, позволяют произ
вольно выделять и группировать его различные типы, извращать
их характеристики.
Так, например, Г. Деникер разделяет терроризм на три типа:
а) программный, б) добродетельный (т. е. продиктованный этиче
ским максимализмом —авт.), в) рациональный и патологиче
ский. Явственно видно, что за основание для деления здесь бе
рутся признаки субъективного характера. Л. Диспо признает че
тыре вида терроризма: терроризм государства левых, терроризм
государства правых, терроризм левой оппозиции и терроризм пра
вой оппозиции. Однако и здесь возникают многочисленные вопро
сы. Далеко не ясными являются у автора характеристики «левых»
и «правых». Выпал из этой схемы вопрос о националистическом
терроризме, ибо, по мнению автора, «терроризм в национальном
движении существует просто как терроризм» 35. И то, и другое
не случайно. Анархистски настроенный автор исходит из того,
что терроризм —органическое и неизбежное производное от
всякой борьбы за власть и связан с самой природой государства
и политики. «Терроризм,—утверждает он,—не инструмент, а ав
тономная система»36. При смене власти составные части этой
системы меняются местами: государственный терроризм становит
ся оппозиционным, бывший оппозиционный —государственным,
241
левый терроризм может оказаться правым, а правый —левым. Но
такое представление о терроризме фактически снимает необхо
димость типологии, делая ее условной. Существует немало и дру
гих, отчасти правдоподобных, но в принципе надуманных схем.
Многие западные политологи исходят из достаточно разветв
ленной типологии терроризма, учитывая как государственные,
так и оппозиционные его формы и левого, и правого направле
ний, выделяя различные разновидности религиозного и национа
листического терроризма. Но проблема различия насилия терро
ристического и насилия революционного остается камнем претк
новения для большинства из них. Стремление отождествить или
предельно сблизить одно с другим реализуется в буржуазной
политологии и в процессе классификации разновидностей терро
ризма. В одних случаях посредством спекуляции на «экстремизме
средств», под которыми имеются в виду любые формы обращения
к вооруженной борьбе. В других —при помощи акцента на
«экстремизме целей», которые изображаются как одинаковые у
«левых» террористов, «левых» экстремистов, отвергающих терро
ристические методы, у коммунистов и у борцов за национальное
освобождение. Так, в типологические схемы многих политологов,
наряду с анархистскими, патологическими и т. п. группами, по
падают пишущиеся ими без кавычек «марксистско-ленинские»
группы, а под категорию националистического терроризма под
водятся ведущие национально-освободительную вооруженную
борьбу массовые движения. Добавим к этому, что с целью изоб
разить любые формы протеста проявлениями единого «коммуни
стического заговора», они постоянно трактуют многие национа
листические и религиозные экстремистские организации, группи
ровки как левотеррористические (которые в свою очередь объяв
ляют «марксистскими»). С этой же целью «левым» террористам
нередко приписываются акции, осуществленные террористами
националистического, религиозного и даже неофашистского на
правления.
Отсюда очевидно, насколько существенной является адекват
ная научная и политическая характеристика современного терро
ризма и его разновидностей. Такая характеристика должна осно
вываться на четком и конкретном представлении о специфике
террористического насилия и служить методологической основой
для объективного выделения и анализа отдельных разновидностей
современного терроризма с учетом их специфики. И не потому,
конечно, что одни из этих разновидностей «лучше» и «прогрес
сивнее», а другие —«хуже» и «реакционней», но потому, что на
меренное или бессознательное их смешение является сегодня от
работанным приемом буржуазной политологии, стремящейся
любыми средствами наклеить ярлык терроризма на освободитель
ные и революционные движения.
242
1 Terrorism: Theory and practice. N.
Y., 1979. P. 45.
2 D i s p o t L. Le defi terroriste. P., 1979.
P. 69.
3 K a u f m a n n J. L’Internationale terroriste. Conde-Sur L’Esse. 1978.
P. 229.
4 Terrorism: Theory and practice. N.
Y, 1979. P. 101.
5 Political terrorism. N. Y., 1978.
Vol. 2. P. 3.
6 Daniker
G.
Antiterror-strategie.
Stuttgart, 1974. P. 24.
7 Terrorism: Theory and practice.
P. 4.
e International Terrorism and World
Security. L., 1975. P. 4.
9 Sc hr e i b e r J. The ultimate weapon.
L, 1978. P. 98.
10 Responding to the terrorist threat.
N. Y., 1980. P. 1.
11 L e v a s s e u r G. Le terrorism interna
tio n a l / / Le terrorisme internatio
n a l. P., 1976/1977. P. 64.
12 L a q u e u r W. Terrorism. L., 1977.
P. 5.
13 L e v a s s e u r G. Op. cit. P. 62.
14 K l a t t e r b u c k R. Living with terro
rism. L., 1978. P. 30.
15 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч. Т. 30.
С. 32.
Т. 6. С. 386.
Т. 6. С. 382.
С. 385.
Т.12. С. 180.
З а с у л и ч В. И. Мертвый хватает
живого / / Искра. Вып. IV. С. 96.
21 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч. Т. 30.
С. 182.
22 Там же.
23 Там же. Т. 20. С. 88 .
24 Ма р к с К., Э нг е л ь с Ф. Соч. 2-е изд.
Т. 6 . С. 418.
25 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч. Т. 5.
С, 8 .
26 Там же. С. 7.
27 Там же. Т. 14. С. 5.
28 Там же. Т. 30. С. 182.
29 Bo u t h o u l G. Definition of terro
rism / / International terrorism and
world security. L., 1975. P. 54—57.
30 Responding to the terrorist threat.
N. Y., 1980. P. 1.
31 Intellect. 1978. Vol. 106. N 2397.
P. 457.
32 L a q u e u r W. Guerrilla. L., 1976. P. 9.
33 Political terrorism. N. Y., 1975.
Vol. 1. P. 5.
34 S c hr ei be r J. The ultimate weapon.
L, 1978. P. 135.
35 Di sp o t L. Op. cit. P. 61.
36 Ibid.
16
17
18
19
20
Там
Там
Там
Там
же.
же.
же.
же.
Глава вторая
Феномен терроризма:
проблема возникновения
Существует множество гипотез относительно истоков и корней
политического терроризма вообще, современного «левого» терро
ризма в частности. В этих гипотезах делается акцент на социаль
ных, экономических, политических, психологических, психопато
логических, этических и других факторах. Однако рассматрива
ются ли эти факторы в совокупности, в различных сочетаниях
или по отдельности, постоянно остается без достаточно убеди
тельного ответа самый трудный и, пожалуй, самый кардинальный
вопрос —почему при примерно одинаковых условиях в одних
случаях терроризм возникает, а в других —нет.
Есть и другая сторона дела. Трудно определить, к какому пе
риоду человеческой истории относится возникновение терроризма
243
(террористическая и, если так можно выразиться, «пратеррористическая» практика уходит далеко в глубь истории). Еще труд
нее датировать возникновение «левого» терроризма, поскольку
само понятие «левизны» появилось сравнительно недавно. Но так
или иначе, очевидно следующее: менялись эпохи, менялась со
циальная основа, классовые силы, быт и обычаи, политические,
идеологические и религиозные системы, а феномен терроризма
возникал в истории вновь и вновь. Существенно трансформиро
вались его формы, но основное ядро явления, те сущностные
черты, которые позволяют говорить о нем, как о терроризме, оста
вались.
Какие факторы приводят к его постоянному возрождению?
Какие специфические факторы приводят к возрождению его «ле
вой» формы?
Чтобы найти ключ к этой «загадке», целесообразно использо
вать марксовский методологический принцип —идти к менее раз
витым формам от более развитых. Поэтому для решения общего
вопроса о терроризме в той мере, в какой мы можем и должны
его затронуть (а не затронуть его нельзя, так как без этого не
возможно решить проблему современного терроризма), и тем
«более для подхода к интересующему нас современному феномену
необходимо прежде увидеть нынешний контекст проблемы, рас
смотреть предпосылки, условия и причины возникновения терро
ризма наших дней, что хотя и не даст исчерпывающего ответа на
указанный вопрос, но без чего такого ответа просто не может
быть.
Достаточно очевидно, что появление и воспроизводство поли
тического терроризма обусловлено совокупностью объективных и
субъективных обстоятельств и причин, не всегда одинаковых и
не всегда одинаково значимых в разных регионах и странах.
При" этом субъективные факторы нередко настолько тесно пере
плетаются с объективными, что нецелесообразно (а порой невоз
можно) рассматривать их раздельно (так же как нецелесообразно
слишком однозначно отграничивать такие понятия, как корни,
предпосылки, причины и условия существования терроризма, что,
конечно, не одно и то же).
Есть по крайней мере три группы предпосылок, условий и
причин, которые в той или иной степени определяют возникнове
ние и существование «левого» —а отчасти и вообще нелегально
го —терроризма в современном мире.
В самом широком плане первой предпосылкой современного
терроризма несомненно являются кризисные процессы, характерные для современной капиталистической системы. Недаром небы
валый размах терроризма в ряде капиталистических стран при
ходится на 70-е —80-е годы.
Это годы, когда период относительно благоприятной экономи
ческой и социальной конъюнктуры сменился кризисом. Постоян
ные периоды экономического застоя, энергетический кризис,
инфляция, рост военных расходов, цен, безработицы, преступно
сти и т. п. существенно осложнили положение буржуазного мира.
Жизненный уровень народных масс начал снижаться не только
•относительно, но и абсолютно. Было похоронено немало социаль
ных мифов и иллюзий. Стала заметно изменяться социальная и
социально-психологическая ситуация ряда общественных слоев и
групп, в частности тех, которые по общему мнению являются со
циальной базой современного экстремизма*.
Это прежде всего разного рода «отверженные», число ко
торых наряду с безработными быстро росло. Процессы люмпени
зации и маргинализации привели в некоторых капиталистических
«странах к образованию своего рода «гетто», чаще всего на окраи
нах крупных городов. Бессилие и агрессивность, отчаяние и
ярость, отказ от потребительских благ и тяготение к бездумному
гедонизму —таков противоречивый сплав черт, характерный для
мироощущения их обитателей. Им свойственны одновременно
«иждивенческие» и нигилистические устремления в отношении
всего остального общества. Эти устремления в сочетании с край
не упрощенным взглядом на мир перерастают в универсальный
«деструктивизм», направлены на все прочие социальные груп
пы —буржуа, интеллигенцию, рабочих, поскольку, согласно люм
пенским представлениям,—это представители чуждого и враж
дебного мира, пользующиеся его благами, такими, как обеспечен
ность, работа, культура. Классическое кредо античного люмпе
на —«хлеба и зрелищ» трансформировалось ныне в соответствии
с неизмеримо возросшими возможностями и запросами современ
ности. Но существо его осталось прежним. Здесь кроется одна из
причин конфликта маргиналов с обществом, ведущего к экстреми
стскому «выходу». Это общество, говорится в книге Р. Соле «Тер
рористический вызов», не может предложить иного «смысла жиз
ни», кроме «доступа ...к потреблению. Доступа, который заказан
миллионам маргиналов» 1.
Впрочем, маргиналы —это не обязательно представители
«низов», среди них есть выходцы из средних социальных слоев
я даже из элиты, к маргиналам «поневоле» присоединяются «доб
* Понятия «экстремизм» и «терроризм» постоянно употребляются сейчас
как синонимы. Такая «эквивалентность» нередко (хотя далеко не всегда)
сохраняется и в этой книге, однако строго говоря, она не вполне право
мерна. Первое из этих понятий шире, чем второе: экстремистские дви
жения включают, наряду с террористическими, и ряд нетеррористических
течений и организаций.
245
ровольные» маргиналы, люди, которые столь же радикально от
вергают существующие политические системы, социальные нор
мы, систематический труд и заработок, ответственность и т. п.г
но мотивами которых служит уже не отсутствие доступа к по
требительским благам, а стремление отстоять свою индивидуаль
ность и свободу, ненависть к стандартизированной бездуховной,,
потребительской системе или даже просто пресыщенность. Изве
стны слова одной из западногерманских террористок, что она
вступила на путь экстремизма, так как ей надоело обжираться
икрой.
Маргинализация — вынужденная и добровольная,— конечно,,
далеко не всегда приводит к экстремистским следствиям. Несрав
ненно более распространенными являются другие ее «выходы» —
преступность, наркомания, наконец, просто апатия и «уход» от
жизни. Более массовыми, чем политический экстремизм, являют
ся и такие формы «пассивно-нигилистического» неприятия дей
ствительности, как всякого рода коммунитарные или групповые
движения типа движений хиппи, панков и т. п. Но существенна
в данном случае не «количественная» сторона дела, а то, что
«дно» представляет благодатную почву для всех этих явлений и
в качестве их крайней формы —для терроризма.
Источником кадров для терроризма, в частности «левого», яв
ляются иногда выходцы из весьма состоятельных семей. Некото
рые террологи считают даже, что состоятельная среда —основной
источник кадров для террористических организаций. Террористы,
утверждает, например, известный исследователь данной пробле
матики И. Александер,— это выходцы из «богатой семьи сред
него или высшего класса с определенным социальным прести
жем» 2.
Как мы помним, ряд главарей западногерманских и итальян
ских «левых» террористов (У. Майнхоф, Г. Энслин, Р. Курчо,
А. Негри и др.) происходят из состоятельной религиозной —
католической или протестантской —среды. Едва ли не самая
знаменитая фигура международного терроризма венесуэлец
Карлос —сын миллионера. Патриция Херст, принимавшая уча
стие в акциях одной из американских террористических групп,—
дочь американского газетного магната. Сын вице-секретаря
итальянской христианско-демократической партии и бывшего ми
нистра Марк Донат-Каттин был одним из руководителей крупней
шей итальянской террористической организации «Первая линия».
Сын миллионера входил в группу террористов, захватившую по
сольство ФРГ в Стокгольме в 1975 г.
Понятно, что для людей этой категории, во всяком случае
тех из них, которые не просто «бесятся с жиру», особенно остро
стоят проблемы смысла существования, обретения социально
2W
значимой деятельности, освобождения от комплексов, что сочета
ется у v h x , как и у их «собратьев» из «низов», с повышенной
склонностью к авантюризму и сомнительного свойства романтике.
Таким образом, «пресыщенные» нередко смыкаются в своих
экстремистско-нигилистических устремлениях с обитателями
«дна», «обездоленными», «обойденными». И все же подпольные
террористические группы рекрутируют своих членов в основном
не из представителей элиты, а наряду с маргиналистской средой
из средних слоев, из интеллигенции и студенчества (впрочем,
само по себе вступление на путь терроризма не дает ли уже ос
нование для квалификации вступивших как «маргиналов»?).
Хорошо известно, что эти слои в большой мере затронуты
кризисными процессами современного капиталистического мира.
Их быстрый рост сопровождался практически полным включенн
ом в «анонимную» систему капиталистического производства, ут
ратой или снижением былого социального статуса, нивелировкой
и стандартизацией труда. Все это не может не вести к постоянно
му воспроизводству специфического детально проанализированно
го в марксистской литературе психологического настроя, характе
ризующегося крайней неустойчивостью, склонностью к шараха
нью из крайности в крайность —от полного конформизма к край
ним формам неприятия «системы», нередко сочетающимся, впро
чем, с неспособностью к систематической, дисциплинированной
длительной «будничной» борьбе.
Вполне понятное в этой ситуации желание преодолеть комп
лекс социальной и социально-психологической неполноценности,
самоутвердиться, найти в жизни «статусную», социально значи
мую роль, а иногда и реализовать гипертрофированное представ
ление о собственном «я» или стремление к лидерству обретают
иногда, как кажется, адекватный и перспективный канал в экст
ремистской деятельности. Эта деятельность представляется
исключительно важной, она дает возможность почувствовать
себя «истинным революционером», даже «спасителем человечест
ва». Что может быть привлекательнее такой социальной роли?
Привлекательность эта к тому же усиливается для некоторых
привкусом непрерывного риска, напряженного существования в
постоянно экстремальных ситуациях.
Количество представителей интеллигенции в левотеррористи
ческих организациях разных стран различно. Особенно велико
оно, понятно, в самых высокоразвитых странах. Так, в ФРГ в
годы «первой волны» «левого» терроризма преобладающее место
среди «левых» террористов занимали журналисты, юристы, сту
денты (особенно студенты гуманитарного профиля, что иногда
связывают с трудностями адаптации гуманитариев в условиях
современной техницистской по преимуществу цивилизации).
247
В Испании, Италии, странах Латинской Америки, Турции в рядах
террористических группировок предстазлены гораздо более ши
рокие слои—от «баловней» до «пасынков» буржуазного общест
ва, более значителен процент выходцев из «низших слоев», в ча
стности из пролетариата, хотя в целом «левый» терроризм — не
пролетарский, а мелкобуржуазный, интеллигентско-маргиналистский феномен.
«Левые» террористы объявляют себя «авангардом» пролета
риата, единственными подлинными выразителями его интересов,,
всячески пытаются привлечь его на свою сторону, но несмотря
на все их попытки укорениться в рядах пролетариата, в основ
ной своей части рабочий класс отвергает терроризм. В некоторых
случаях, правда, выходцы из рабочего класса составляли до
30% состава левотеррористических группировок, но это по пре
имуществу представители наиболее отсталых слоев пролетариата.
Есть также некоторые группы рабочих, терпимо относящиеся к
террористам как к «ошибающимся товарищам» либо занимающие
нейтралистские позиции. Однако в своем подавляющем боль
шинстве организованный рабочий класс не только не поддержи
вает терроризм, но является авангардной силой в борьбе с ним.
Кризис современной капиталистической системы специфиче
ски переплетается и отчасти усиливается в контексте такого гло
бального процесса, каковым является научно-техническая рево
люция.
Быстрое экономическое и научно-техническое развитие мно
гих стран в послевоенный период, стремительное втягивание ряда
аграрных в прошлом регионов в горнило индустриализации и ав
томатизации (сопровождавшееся почти полным исчезновением
крестьянства в одних случаях и сохранением многочисленных по
луфеодальных пережшков —в других), возникновение зыбких
миражей общества благоденствия, сильно колеблющихся в связи
с изменениями конъюнктуры, резкие структурные сдвиги, уси
лившиеся миграционные и маргинализационные процессы, обост
рившиеся экологические и демографические проблемы, «инфор
мационный взрыв», крутая ломка традиционных стереотипов и
социальных ориентиров, образа жизни и связанные с этим
трудности психологической адаптации —эти и многие другие яв
ления, целиком или во многом обусловленные НТР, вели к рас
терянности, фрустрации, чувству одиночества и опустошенности,
утрате традиционных идеалов и ценностей, росту агрессивности,
захватывающим все более широкие слои в буржуазном обществе,
особенно в среде молодежи.
Со всем этим связан социальный и социально-психологиче
ский фактор, особенно существенный в интересующем нас кон
тексте —культ насилия, попрания элементарных человеческих
248
прав, царящий в ряде стран современного мира и во многом на
саждаемый средствами массовой информации, литературой, кино,
телевидением. Буржуазная «массовая культура», как это хорошо
известно, не только прямо или косвенно культивирует право
сильного, но и «вооружает» людей, можно сказать, даже против
их воли, «научно» разработанной технологией убийств и насилия.
Все это не может не оказывать влияния на динамику (и «модер
низацию») различных форм насилия в современном мире.
Угроза ядерной войны и экологической катастрофы ведет к
пессимизму, апокалиптическому «катастрофизму», постоянному
беспокойству, страху и озлобленности, к обесцениванию челове
ческой жизни. Все это в сочетании с нравственной дезориента
цией, утратой моральных устоев, «этическим вакуумом» неизбеж
но ведет к психологии вседозволенности, в частности к идее до
пустимости «любых средств» для достижения целей, личных или
«общественных», ради интересов «дела», независимо от того, как*ю это «дело» — микроскопически эгоцентристское или «гло
бальное», от которого, как предполагают, зависят судьбы чело
вечества. Такой моральный императив, лежащий в самой основе
террористической практики,—неизбежное следствие ситуации,
в которой принципы и «устои» рушатся либо, наоборот, пре
вращаются в дезориентированном сознании в непреходящую,
вечную, единственную истину, фанатичную догму, которая в свою
очередь рано или поздно подвергается эрозии, превращается в
чистую форму, за которой не остается ничего, кроме цинизма и
борьбы за корыстные интересы.
Очевидно, что все указанные социально-экономические и со
циально-психологические предпосылки и факторы терроризма со
вершенно необязательно должны иметь экстремистские следст
вия. Социально-патологические процессы, связанные с НТР в
условиях капиталистического общества, с кризисом нравствен
ных «устоев», культом насилия и т. п., как уже говорилось, не
сравненно чаще канализируются в иные формы «девиантного по
ведения» —такие, как уголовная преступность, алкоголизм,
наркомания, религиозное сектантство, уход в разного рода контр
культурные коммуны и т. д.
Таким образом, учет лишь этой группы факторов, хотя и
имеет существеннейшее значение, не может, однако, быть доста
точным для объяснения того, почему современный мир охвачен
волной терроризма.
Вторая группа предпосылок, о которых должна идти речь,
связана с революционными процессами современной эпохи, с ми
ровым рабочим и демократическим движением и его специфиче
скими аспектами и проявлениями в последние десятилетия. Эта
группа факторов органично связана с предшествующей, посколь
249
ку современные революционные процессы и освободительная:
борьба являются, если можно так выразиться, «оборотной сторо
ной» кризиса капиталистической системы.
«Левый» терроризм невозможно понять вне связи с этими:
процессами. Объективно являясь одним из орудий борьбы капи
тализма с ними, он паразитирует на них, претендуя на роль
одного из главных или даже единственного их выразителя и:
лидера.
Современная эпоха, будучи эпохой освобождения многих на
родов от социального и национального угнетения, порождает не
только многочисленные, различные по своему характеру револю
ционные и освободительные движения, но и движения псевдореволюционные и псевдоосвободительные. Участники последних:
могут вполне искренне считать себя идущими в основном русле
эпохи или просто стремятся заработать авторитет, спекулируя на
«духе времени». Так или иначе, но «левый» терроризм почти
всегда отождествляет себя с революциями социалистического об
разца или освободительными движениями, либо апеллирует к
ним. Это не может не приносить определенных «дивидендов»,
учитывая широко распространенное недовольство буржуазной
общественной и государственной системами, реально идущие
процессы борьбы с фашистскими и расистскими режимами, им
периалистическим господством и т. п.
Понятно, что «апелляции» к освободительсным движениям
принимают различные формы и находят различный «отклик» в
разных регионах мира. Так, в развивающихся странах «левый»
терроризм имеет возможность в большей степени паразитировать
на реальном освободительном движении, чем в Европе. Правда,
даже в ФРГ и Италии «левые» террористы пытались отождеств
лять свою деятельность с освободительной борьбой народов раз
вивающихся стран, однако здесь почти никто всерьез не прини
мал подобного рода претензии.
Эти претензии были не чем иным, как одним из экстремист
ских мифов, а вот генетическая связь «левого» терроризма с мо
лодежными движениями, которые на рубеже 60—70-х годов за
хватили ряд стран, прежде всего европейских,—реальна и не
сомненна. «Левый» терроризм —один из «побочных» наследников
этих движений, своего рода реакция на неудачу этих движений
некоторой части их участников. Или даже, в более общем смыс
ле, это реакция на провал попыток леворадикалистских движений
приобрести массовую базу.
В 70-е годы выявилась несостоятельность леворадикалистской
«альтернативы» коммунистическому движению как в форме сти
хийного бунтарства, так и в форме ультралевых внепарламент
ских (и парламентских) группировок и «партий». Левацкие
250
группировки, во всяком случае в Европе, не смогли стать массо
выми, многие из них распались или переживают глубокий кри
зис. В целом леворадикалисгское движение в развитых капита
листических странах к концу 70-х годов фундаментально поляри
зовалось. Некоторые его представители и группы перешли в ряды
рабочих партий. Значительная часть приобрела «респектабель
ный» характер, предалась «раскаянию», рефлексии или сосредо
точилась на разного рода частных задачах. Сравнительно неболь
шая фанатичная часть стала на путь терроризма.
Связь «левого» терроризма с молодежными движениями весь
ма точно отражена в возрастной структуре террористических
группировок, где абсолютно преобладает молодежь. Основная
масса террористов —люди от 20 до 30 лет (точнее даже от 22
до 25 лет). Людей, которые перешагнули тридцатилетний рубеж,
сравнительно немного, а сорокалетних и пятидесятилетних поч
ти нет. Исключением могут являться иногда лишь руководители,
«идеологи» и «эксперты», но и среди них, если судить по ныне
арестованным террористам, преобладают относительно молодые
люди.
«Молодежный» характер терроризма (как «левого», так и
правого) —не случайное явление. Помимо всего прочего, именно
к молодежи в наибольшей степени относится все то, что выше
было сказано о предпосылках и причинах экстремистской дея
тельности.
С одной стороны, кризисные процессы в определенных отно
шениях особенно сказываются на молодежи. Процент безработ
ных, например, здесь значительно выше, чем среди других воз
растных групп. Молодежь особенно чувствительна к бесперспек
тивности и отчуждению, обезличке и отсутствию настоящего
«дела», может особенно страстно ненавидеть пресыщение и по
требительский конформизм. Именно поэтому, с другой стороны,
как никто, молодежь «открыта» революционным импульсам, что
при отсутствии понимания и «принятия» тех форм борьбы, кото
рую ведет организованное рабочее движение, может прямым пу
тем вести к мысли, что насилие и универсальный «деструктивизм» —единственно приемлемые модусы существования. А для
кого, как ни для молодежи, особенно привлекательны жертвен
ность, «героика», романтика риска, иллюзорная «статусность»,
«значимость», «революционность» экстремистской деятельности,
возможность «показать себя», самоутвердиться, почувствовать
себя «спасителем человечества»?
Трудное положение молодежи в современном капиталистиче
ском мире, бескомпромиссность, свойственная молодости, «революционаризм», особенно влекущий молодежь, делает терроризм
«молодежным» явлением.
251
Здесь же причина его относительной «феминизации». Значи
тельная, в некоторых случаях даже преобладающая часть совре
менных левотеррористических группировок —женщины. По мне
нию некоторых наблюдателей, в конце 70-х годов женщины
преобладали в левотеррористических организациях Западной
Германии и Западного Берлина. Ряд террористических акций в
последние 15 лет был совершен группами, состоявшими только
или по преимуществу из женщин (убийство председателя Вер
ховного суда ФРГ Дренкмана, похищение главы ассоциации за
падногерманских промышленников Шлайера, освобождение и&
западноберлинской «сверхтюрьмы» известного террориста Майе
ра и др.). Женщины возглавляли и возглавляют некоторые тер
рористические организации (например, как мы помним, КАЯ)
или входят в состав их руководства.
Это —в общем новое явление. Прежде женщины принимали
участие в террористической деятельности, в истории остались
имена нескольких знаменитых террористок, и все же терроризм
прошлого был преимущественно «мужским».
Воздействие общих и специфических причин «женского» тер
роризма усугубляется, конечно, спецификой женской эмоцио
нально-психологической структуры. Объясняя мотивы, толкнув
шие ее к этому виду деятельности, одна из террористок замети
ла: «Мужчины приходят к фанатизму под игом своих идеологи
ческих схем, мы же всегда побуждаемы неистовством наших
грез» 3.
В этом колоритном высказывании весьма точно схвачена
суть дела. Нельзя, разумеется, преуменьшать влияние «идеологи
ческих -схем» на женщин, но само отношение к ним имеет здесь
в среднем менее «рационалистический» характер, чем у мужчин,
чаще отмечено чисто эмоциональным «неистовством». В среде
женщин легче формируется тот «экстремистский тип» личности,
о котором речь впереди.
Неудивительно поэтому, что, как это неоднократно отмеча
лось в литературе и прессе, именно женщины отличаются осо
бой смелостью, решимостью, безрассудством, даже жестокостью
при совершении террористических актов; в меньшей степени*
чем мужчины, отягощены сомнениями морального порядка. По
ведение арестованных террористов показывает, что женщину
труднее заставить «раскаяться» и отойти от терроризма, чем
мужчину. Поверив в «высокий смысл» этой деятельности, жен
щины нередко с огромным эмоциональным фанатизмом следуют
по избранному пути. Стать членом «организации», по словам
одной террористки, значит преодолеть отчужденность, почувст
вовать себя частью «целого», покончить с «разорванностью»
существования, перейти к подлинной жизни от «нежизни». «Ты
252
оставляешь мать, идешь стрелять, но делаешь это, чтобы жить,
чтобы жизнь имела смысл... Таким образом, ты находишь мате
риальное воплощение своему отказу...» 4.
В числе предпосылок рассматриваемого нами явления иногда
оказываются специфические особенности пути отдельных отрядов
рабочего движения. Известно, например, что в 60—70-е годы про
изошли определенные изменения в теоретических и практических
позициях некоторых коммунистических партий капиталистиче
ского мира. «Особая» позиций этих партий косвенным образом
оказала известное влияние на становление «левого» терроризма.
На ее фоне именно «левый» экстремизм стал казаться кое-кому
истинно «революционным» течением, продолжающим «классо
вые», «боевые» традиции прошлого. И хотя, даже используя
такие настроения, леворадикалистское движение не смогло стать
массовым, все же для некоторых людей, склонных к крайностям,
это обстоятельство сыграло определенную роль. Причем речь
идет не только о самих «левых» террористах, но и о гораздо бо
лее широком круге «сочувствующих», число которых достигало
иногда внушительных размеров и включало имена, пользующие
ся мировой известностью.
По данным опросов общественного мнения в конце 1971 г.
до 40% взрослого населения ФРГ с симпатией относилось к по
литическим мотивам деятельности «левых» террористов. В сле
дующем году в результате бурного развития террористической
драмы этот процент резко снизился, но все же достигал 10%.
Один из идеологов итальянского терроризма А. Негри в 1983 г.,
находясь в тюрьме, был избран в парламент в качестве депутата
от радикальной партии, получив при этом на выборах около
100 тыс. голосов.
Наличие «сочувствующих» —непременное условие существо
вания терроризма, без этой среды он обречен на быстрый крах.
И дело не только в том, что именно в этой среде терроризм вер
бует свои «кадры», но и в том, что «сочувствующие» оказывают
террористам неоценимые \слуги, как тайные, так и явные (пре
доставление убежищ, снабжение информацией, документами, раз
личные демарши в пользу действующих и арестованных террори
стов, оправдание их действий в печати, организация манифеста
ций и послания солидарности, посещения в тюрьмах и т. д.).
На рубеже 70-х — 80-х годов волна «симпатий» к терроризму,
во всяком случае в Европе, несколько схлынула. Однако сейчас
положение, похоже, вновь изменилось, поскольку европейский
терроризм принял новые формы, паразитируя на широко распро
страненных антивоенных настроениях и движениях.
Причина «симпатий», в том числе со стороны тех, кто в прин
ципе против фанатизма и экстремистских действий (а среди «со
253
чувствующих» значителен процент представителей либеральной
интеллигенции), не только в революционаризме экстремистских
лозунгов, но и в «романтическом», «эстетическом» очаровании,
которое окружает подпольную борьбу и людей, ее ведущих, осо
бенно в глазах молодежи. Несмотря на всевозможные оговорки,
некоторые сочувствующие смотрят на этих людей как на «истин
ных революционеров», «героев». Другие пытаются «оправдать
неоправдываемое, найти различие между хорошим и плохим
терроризмом»5. Такие попытки с новой силой возродились те
перь, когда «левый» терроризм стремится «примазаться» к анти
военным движениям, паразитирует на антирасистских настро
ениях. Попытки эти прямо или косвенно подогреваются бур
жуазной и левоэкстремистской пропагандой. Психологически
понятно широко распространенное преклонение перед всеми
формами нонконформизма, тем более столь радикального. Тер
рористы смогли преодолеть колебания и страх, «решились» на
то, о чем обыватель может разве что грезить. Их методы, конеч
но, «ошибочны» и «негуманны», зато мотивы и цели «благород
ны». Сентиментальное умиление по поводу всего этого —широко
распространенная вещь.
С начала 80-х годов в Италии это «умиление» приняло новую
форму, его объектом стали «раскаявшиеся» террористы, которых
в стране очень много; с ними носятся, их всячески обхаживают,
«толкуют» каждое их слово, письменное и устное. Все это при
няло такие размеры, что, по свидетельству прессы, бывшие тер
рористы превратились в своего рода «законодателей» обществен
ного мнения6.
«Сочувствующие» с их идеализацией мотивов террористиче
ской деятельности, а также еще более обширные группы «нейт
ралистов», т. е. безразличных, или людей, считающих, что тер
роризм —необходимый «структурный компонент» потребитель
ского общества или его «неизбежный» продукт —та питательная
почва, на которой произрастают все разновидности терроризма.
Понятно, что рассмотренную группу предпосылок нельзя рас
пространять на историческое прошлое даже в той мере, в какой
это возможно было в отношении предшествующей группы. Это —
специфические предпосылки именно современного «левого» тер
роризма. И все же в какой-то мере и в прошлом некоторые
формы терроризма пытались отождествить или связать себя с
разного рода народными, национально — и социально-освободи
тельными движениями.
Третья группа предпосылок бурного развития терроризма в
современном мире связана с классовой заинтересованностью пра
вящей элиты в различных формах терроризма как орудия внеш
ней и внутренней политики. Терроризм —удобный инструмент
254
борьбы с коммунистическим и рабочим движением, с прогрессив
ными и демократическими силами, с неугодными империализму
режимами. Поэтому его практикуют, насаждают, поощряют, ис
пользуют или занимают по отношению к нему двойственную по
зицию, борясь с ним одной рукой и поддерживая —другой.
Эта серьезнейшая причина нынешнего террористического
«бума» не является «самодовлеющей», она неразрывно связана с
предпосылками терроризма, о которых шла речь выше. Если бы
не кризис капиталистической системы, из которого не видно вы
хода, если бы не масштабы революционной и освободительной
борьбы, рабочего и коммунистического движения, правящим
классам буржуазных стран не так необходимо было бы в качест
ве одного из «последних» аргументов прибегать к различным
формам терроризма. С другой стороны, подпольный терроризм
нельзя, конечно, считать всегда и всецело —или даже по пре
имуществу —искусственным образованием, «сфабрикованным»
государственными органами, секретными службами, провокатора
ми, сбрасывая со счетов общие и локальные социально-экономи
ческие, исторические, психологические и прочие факторы. Одна
ко в данный момент нас интересует как раз первая сторона
вопроса, иными словами —кто и в какой мере стоит за спиной
«левых» террористов?
Буржуазная пресса, буржуазные политики и исследователи
постоянно стремятся трактовать эту проблему в антисоветском и
антикоммунистическом духе. Но в последние годы в печать про
сачивается все больше сведений о косвенных и даже прямых свя
зях «левого» терроризма с секретными службами капиталистиче
ских стран. Реальные факты свидетельствуют, что их зловещий
призрак нередко маячит за кулисами террористической драмы.
Причем речь идет не столько об инспирировании или пря
мом руководстве —отношение буржуазных государств к «левому»
терроризму является более сложным и противоречивым,—сколь
ко о стремлении оказывать влияние на террористические груп
пировки, манипулировать ими. Эта задача облегчается тем, что
п р и . всей неоднозначности взаимоотношений происходит своего
рода смыкание интересов и функций государственных машин и
спецслужб капиталистических стран и подпольного «левого» тер
роризма на почве ненависти к рабочему и демократическому дви
жению, на почве антикоммунизма и антисоветизма.
Впрочем, история «левого» терроризма показывает, что быва
ли случаи, когда подпольные группировки этого толка, причем
самые «радикальные» и «кровожадные», непосредственно созда
вались и служили прямым орудием полиции. Некоторые исследо
ватели считают даже, что чуть ли не одна десятая членов «ле
вых» террористических группировок —провокаторы полиции и
255
юекретных служб. Это, конечно, преувеличение, вероятно, даже
сильное, но дело не в цифрах: «левый» терроризм в современном
мире объективно превратился в орудие реакции. Поэтому неза
висимо от воли его адептов он представляет благодатную почву
для деятельности полиции и разведок империалистических дер
жав. Что же касается конкретно степени и масштабов проникно
вения провокаторов и полицейских агентов в его ряды, то многое
здесь зависит от характера группировок (например, от того,
стремятся ли они вступить в контакт с уголовным миром или
отвергают такой контакт), от этапа их эволюции (распадающие
ся организации обычно становятся легкой «добычей» провокаторов
и полиции) и т. п.
Но кроме прямого и косвенного руководства, стимулирования
или поддержки терроризма государственными органами, сущест
венное воздействие на его воспроизводство, несомненно, оказыва
ют основные компоненты политической ситуации в современном
мире, такие, например, как милитаристская политика империа
листических держав, политика государственного терроризма, гон
ка вооружений, волна милитаристской истерии, которая захлест
нула многие капиталистические страны, прежде всего США.
В этих условиях насильственное, военное решение политических
проблем становится «привычным», а ультрамилитаризм террори
стических группировок может показаться «естественным» и даже
вполне «невинным» на фоне «большого» империалистического
милитаризма. С другой стороны, военные приготовления, которые
проводит империалистическая реакция, вызывают естественное
негодование и протесты. Формы этих протестов могут быть раз
личными.
И оказывается, что политика нагнетания военного психоза,
проводимая американским империализмом и его союзниками,
чрезвычайно выгодна «левому» терроризму, способствует его ны
нешней «реанимации» и небывалому подъему.
Она дает ему возможность спекулировать на антивоенных
настроениях. Потерпев неудачу в реализации своей заветной
мечты —внедриться в рабочее движение, «левый» терроризм в
середине 80-х годов предпринял крупномасштабную попытку
слиться с широким
антивоенным и антиимпериалистическим
движением. Различные отряды европейского терроризма стремят
ся сплотить ряды на основе очень привлекательной цели—«ос
вободить Европу от американского присутствия» 7.
Террористические документы и декларация пестрят демагоги
ческими лозунгами нового свойства. В феврале 1984 г. француз
ская «Аксьон директ» призвала к «перестройке и объединению
всех европейских пролетариев» в борьбе против НАТО. В ком
мюнике об объединении «Аксьон директ» и западногерманской
256
РАФ, выпущенном в начале 1985 г., говорится о начале антиим
периалистической герильи в Западной Европе8. И вот на таком
пропагандистском фоне «континент стал сотрясаться от волны
актов саботажа, покушений, угроз, направленных против воору
женных сил НАТО, дипломатических представителей Вашингто
на, людей, сотрудничающих с США» 9.
Все это выглядит необычайно «прогрессивно». В самом деле,
что может быть важнее и привлекательнее задачи освобождения
Европы от военных баз, от милитаристских происков США, от
щупальцев агрессивного блока НАТО! Какие дивиденды, какой
престиж можно на этом заработать! Ведь далеко не все способ
ны понять, что декларируемые цели и результаты террористиче
ской деятельности диаметрально противоположны, что деятель
ность такого рода —бесценная находка для агрессивного мили
таризма! Не исключено, что «левый» терроризм в своих новых
замыслах и акциях тайно поощряется и инспирируется реакцион
ной военщиной.
Классовая обусловленность терроризма —это константа, свой
ственная всем периодам истории, когдаNон существовал. Соци
ально-политические силы, заинтересованные в нем, понятно, ме
нялись, однако классовый интерес, облеченный в разные, но
всегда фанатичные, квазирелигиозные формы, неизменно присут
ствовал, лежал в основе.
Рассмотренные нами предпосылки и причины террористиче
ского феномена, даже в их совокупности, хотя и многое объяс
няют, имеют все же слишком общий характер и, если не считать
прямого государственного инспирирования терроризма, не обяза
тельно должны давать террористический «выход».
Имеется, конечно, и множество частных, индивидуальных
причин и мотивов обращения к террористической деятельности.
Таковыми могут стать личные обиды, зависть, садистские на
клонности, ущербность, стремление самоутвердиться, быть в
центре внимания, впечатления детства, на которых делают осо
бый акцент фрейдистски ориентированные исследователи, груп
повая солидарность, эмоциональные факторы, привязанности и
многое другое. Но констатируя это, мы и здесь сталкиваемся все
с той же проблемой —эти индивидуальные причины лишь в
очень редких случаях имеют террористические «следствия». Повидимому, стало быть, даже при наличии сочетания общих и
индивидуальных предпосылок не хватает некоего «промежуточно
го звена», так сказать «последней капли», которая делает по
нятной обращение именно к террористической деятельности. По
пытаемся найти подходы к этому «промежуточному звену».
Рассматриваемая форма терроризма в наибольшей степени
получила развитие в странах, переживших те или иные формы
9 В. В Витюк, С. А. Эфиров
257
фашистских режимов, а основные из этих стран (ФРГ, Италия,
Япония) выступали в качестве агрессоров в минувшей войне и
потерпели в ней поражение. Практика и пропаганда насилия,
нетерпимости, фанатизма, лицемерия, дозволенности любых
средств в интересах «дела» и т. п. не могли не оставить следа в
общественной психологии. А если к этому добавить горечь пора
жения —у одних, чувство раскаяния и стремление искупить
прошлое —у других, опустошенность и цинизм, широко распро
странившиеся вследствие крушения иллюзий «нового мира», кра
ха ложных идолов и псевдомессий —у третьих, то станет понят
ным, почему именно в этих странах получил наибольшее распро
странение тот тип личности и сознания, который условно можно
назвать «экстремистским».
Наличие и достаточная распространенность именно этого
типа личности и есть, по-видимому, то «промежуточное», вернее
«последнее», звено, которого не доставало для объяснения фено
мена терроризма.
Правда, необходима одна оговорка. Для того, чтобы такая
личность могла вступить'на путь нелегального терроризма, нужны
условия, противоположные тем, которые приводят к ее формиро
ванию. При фашистских и левацких режимах, если только они
не находятся на стадии распада, практически отсутствуют усло
вия для развития всех форм терроризма, кроме государственного.
«Там, где общественное мнение задавлено, где средства информа
ции подчинены властям, терроризм почти не развивается, а если
и существует, то в обстановке полного замалчивания, что сводит
на нет его социально-политический эффект» 10.
Конечно, само понятие «экстремистский тип личности» или
«экстремистский тип сознания» выглядит весьма расплывчатым,
неоднозначным и вряд ли поддается строгому определению. Пы
таться установить единый психологический и интеллектуальный
прототип экстремиста —неблагодарная, вероятно, даже безна
дежная задача. Уже одно число попыток такого рода, их разно
образие, а часто и несовместимость красноречиво свидетельству
ют об этом. Террористов квалифицировали как идеалистов и как
шизофреников, как фанатиков догмы и как садистов, как людей
ущербных, закомплексованных, самоутверждающихся, пожирае
мых личными амбициями и властолюбием либо отчаянием и
жаждой уничтожения, как людей морально глухих и как муче
ников высшего морального императива, как преступников и как
героев.
Впрочем, сейчас многие западные исследователи пришли к
выводу, что «легче описать то, что не характерно для террори
ста, чем то, что для него характерно... В целом террористы —
это не трепетные искатели, не психопаты, не высоко идейные
258
личности, не люди низкого соцэкономического статуса и не иск
лючительные люди... Террористическое движение содержит в
равной мере альтруистичных идеалистов и безнравственных бого
хульников, прожектеров и негодяев, умеренных и экстремистов,
тех, кто ищет удобного случая, и тех, кто спасается бегством от
банкротства, сторонников авторитарной власти и противников
всякой устоявшейся власти. Богатые, так же как и бедные, ока
зываются рекрутированными в террористические организации,
ученые наравне с неграмотными, те, кто побуждается личными
амбициями, а также и те, кто движим идеологическими мотива
ми» и.
Но хотя безнадежно пытаться установить единый тип лично
сти или сознания террориста, можно все же, вероятно, выделить
некоторые среднестатистические доминантные его характеристи
ки. Многие из них, конечно, не являются чертами личности
исключительно террориста, они могут быть свойственны сектан
ту и политическому лидеру, проповеднику и завоевателю, но у
всех этих персонажей экстремистский фанатизм в соответствую
щих условиях трансформируется в террористическую идеологию
и практику.
Прежде всего, как мы имели возможность убедиться, терро
ристам присущи предельная нетерпимость к инакомыслию и фа
натизм, порожденные максималистским идеалистическим уто
пизмом, ненавистью к существующему или обостренным чувст
вом отверженности. Им свойственна твердая вера в обладание
абсолютной, единственной и окончательной истиной, вера в
мессианское предназначение, в высшую —и уникальную —мис
сию во имя «спасения» и «счастья» человечества.
«Терроризм,—пишет один из современных исследователей,—
питается из цашей веры, что в человеческом обществе возможно
достичь абсолютного знания. В силу этого террористические груп
пы верят, что они знают, какая сторона «хорошая» и что это
знание обязывает их уничтожить злую и несправедливую сторо
ну. Но в действительности результатом является разрушение
обеих сторон — всего мира... В современном секуляризованном
мире гностическая личность самонадеянно претендует на роль
всемогущего» 12.
Вера в высшую и единственную истину может быть «темной»,
чисто эмоциональной, а может основываться на «рациональных»,
идеологических постулатах, но ее наличие отличает истинного
экстремиста от «попутчиков» и людей, по тем или иным причи
нам случайно оказавшихся в экстремистских группах (в этих
группах, конечно, немало и просто проходимцев или темных,
неосведомленных или недалеких людей, попавших под чье-то
влияние).
259
9*
Впрочем, наличие такой фанатичной «веры» относится пол
ностью лишь к «первому поколению» экстремистов, дальше эта
вера, первоначально искренняя и беспредельная, подвергается
деградации и эрозии, и постепенно от нее остается только фор
ма. Идеализм с годами, по мере крушения иллюзий, у многих
трансформируется в цинизм и лицемерие, скрывающих опусто
шенность, либо жажду власти и привилегий. Уцелевших «идеа
листов» все больше начинают использовать всякого рода дельцы
и политиканы, и они в конце концов либо сами перерождаются
в циников, либо их устраняют —физически или организационноТак или иначе, в фанатичной вере, искренней или прагматически-пропагандиетской, уже в зародыше скрыт террористический
«выход».
Описываемый тип личности — «закрытый» тип, исключающий
всякую критическую мысль, свободу выбора, несмотря ни на что
видящий мир только в свете предустановленной «единственной
истины», хотя она, быть может, не имеет никакой связи с реаль
ностью или давно ее утратила.
Логичным следствием фанатизма и «закрытости» экстремист
ского сознания является его удивительная, подчас парадоксаль
ная узость, односторонность, ведущая к максималистской абсо
лютизации частного, вырванного из общей системы связей.
В силу этого мир в результате трансформации в таком сознании
теряет реальные очертания, само же сознание становится мифо
логическим. «Левые» террористы, 'как справедливо замечено в
одном исследовании, «живут в своего рода фантастическом мире,
состряпанном из вульгарных неомарксистских лозунгов и опас
ных идеалов Сартра и Маркузе» 13. Мир этот скроен по мерке
догмы. Если действительность не соответствует этой мерке —
тем хуже для нее. «Границы между политической реальностью и
воображаемым миром все более размываются, так что в конце
концов психическая реальность полностью вытесняет действи
тельную» 14.
Все существующее окрашено в экстремистском сознании в
беспросветно мрачные тона, превращено в сущий ад. Оно и по
нятно —ведь малочисленные террористические группы, носите
ли «единственной правды», находятся во враждебном окружении,
а все, что не приобщено к «свету», есть тьма. Причем парадок
сально то, что этот «страшный» мир конструируется на основе
реальных фактов, реальных антагонизмов, язв и пороков капи
талистической системы, которые абсолютизируются и все собой
заслоняют. В чем-то справедливая критика государственно-моно
полистического капитализма доводится до абсурда и порождает
кошмарные миражи.
260
Беспросветные картины современного мира, рисуемые идеоло
гами терроризма, ориентированы на вышеуказанный «закрытый»
тип сознания, апокалиптически запрограммированного, не желаю
щего и не способного работать вне этой «программы», глухого к
фактам, которые навсегда вытеснены из его поля зрения «неру
шимыми» догмами.
Но органичный для экстремистского сознания мифологизм
имеет и другой аспект. Оборотной стороной инфернализацип
настоящего является идеализация будущего. Экстремистскому
сознанию, лишенному полутонов, признающему только крайности,
в качестве альтернативы «аду» существующего видится абсолют
но радужный —и очень Ьлизкий — «рай» будущего. Экстремист
считает, что действительность может быть переделана быстро и
радикально согласно его схемам и догмам, по его «образу и
подобию». Это для него —аксиома. До такой степени аксиома,
что он, как правило, даже не задумывается о будущем, о рамках
возможного в историческом «экспериментировании», в обществен
ных трансформациях, в навязывании социальной реальности
предвзятых, «головных» схем. Он ни в малейшей степени не со
мневается, что после разрушения «старого мира» по его «велению
и хотению» возникнет безоблачный и прекрасный «новый мир».
Возникнет обязательно и очень бысгро! Экстремистскому созна
нию свойственна, стало быть, мифологизация не только настоя
щего, но и будущего, ему чужды сомнения в реалистичности за
дачи волюнтаристской перекройки мира и истории по предвзятым,
придуманным и, как правило, весьма неквалифицированным и
опасным меркам.
Мифологическое сознание экстремистов, которому чужды со
мнения в своей абсолютной истинности,—это в сущности аналог
фанатичного религиозного сознания, обладающий всеми его чер
тами и свойствами. Эквивалентность и «взаимозаменяемость»
этих форм сознания получили в последние годы убедительные
подтверждения. Так, например, значительное число раскаяв
шихся «левых» террористов в Италии с энтузиазмом и страстью
обратились к религии.
Впрочем, мифологизация мира в экстремистском сознании
подвергается в нем постоянно той же эрозии, что и исходный
фанатизм, из которого она вытекает. Если поначалу фанатичные
экстремистские лидеры могут сами находиться во власти мифов
и иллюзий, то по мере их крушения нередко появляется четкий
«двойной стандарт». Одна «истина», старая, догматико-мифологическая, сохраняющая видимость прежнего идеала, прежних
утопий, предназначается для масс и для рядовых членов орга
низации, другая —для узкого круга «приобщенных», «имеющих
доступ», которым только и надлежит «знать» и «понимать» —
261
мифологизация становится чисто инструментальной, обман —
сознательным.
От мистификации и обмана единомышленников —один шаг
до «предательства», до отречения от экстремизма или превраще
ния его в чисто провокационную деятельность или уголовщину.
Недаром на последних, «кризисных» этапах развития террористи
ческих группировок, как правило, они все больше сближаются с
уголовными бандами, а в их рядах растет число провокаторов.
Из нетерпимости и фанатического мифологизма логично вы
текает следующая черта экстремистского сознания —стремление
к универсальному разрушению, «деструктивизм». Если сущест
вующий мир столь ужасен, как это представляется экстремистам,
то все в нем, кроме очень немногого, заслуживает тотального
уничтожения. Уничтожение, разрушение для террориста часто
становится самодовлеющей ценностью, желанным и самодовлею
щим психологическим состоянием. «Результат меня не волнует,—
говорил А. Негри,—всякий акт разрушения и саботажа отзыва
ется во мне как голос классовой общности. Возможный риск меня
не тревожит: напротив, я ощущаю лихорадочное возбуждение,
как если бы я ожидал встречи с любовницей» 15.
Идеалистический максимализм в качестве оборотной стороны
имеет, таким образом, безграничную тягу к уничтожению и раз
рушению. Исходная «абсолютно истинная» догма требует то
тального уничтожения «старого мира» и построения совершенно
«нового». Уничтожение «старого мира» со всеми его социальноэкономическими, политическими и культурными компонентами —
первостепенная и основная задача «левых» террористов. «Их
объединяет одно: различное по содержанию, но обязательное от
рицание всего, что есть»16.
Уничтожению подлежат буржуазная система (и ее (носители)
со всеми своими политико-экономическими и социокультурными
элементами, уничтожению подлежат традиционные левые силы,
интегрировавшиеся, по мнению экстремистов, в систему и пре
вратившиеся в «цепных псов» и «прислужников» империализма,
уничтожению подлежит «социал-империализм», т. е. социалисти
ческие страны, превратившиеся, согласно левацким догмам,
в наихудший вариант государственно-монополистического капи
тализма.
Все это подводит к следующему необходимому элементу
экстремистского типа личности —крайней агрессивности, агрес
сивному активизму. Для тотального уничтожения «старого мира»
и создания экстремистского «нового мира» нужно не рассуждать,
а действовать, причем действовать наиболее радикальными сред
ствами. А какие средства «радикальнее» террористических или
военных? Вот откуда необходимая, органическая тяга всякого
262
экстремизма к военно-террористическим решениям и методам.
К ним прибегают, не задумываясь, ради утверждения абсолютной
и единственной «истины». «Высшую правду» можно и должно
навязывать любыми средствами. И здесь мы подходим еще к од
ной характерной черте экстремистского сознания —иезуитизму
и аморализму.
Конечно, такой аморализм присущ только части экстремист
ского движения, достаточно далеко продвинувшейся по этому
пути. Начальным пунктом может являться, как мы уже конста
тировали, самый прекраснодушный идеализм и романтизм. Но
«логика» движения по экстремистской «трассе» непреложна.
Экстремизм неизбежно переходит от идейного и морального ри
горизма к крайнему этическому релятивизму и даже цинизму.
Впрочем, то и другое —только в разных пропорциях —всегда
присутствует в нем, абсолютный «революционный» императив
сопрягается с моральным релятивизмом. Более того первый не
обходимо обусловливает второй.
В самом деле, если ты обладаешь окончательной истиной,
уникальным рецептом «спасения» человечества, которое нужно
вывести на дорогу к «светлому будущему», то стоит ли и допу
стимо ли стесняться в средствах? Рано или поздно такой вопрос
решается в пользу принципа, что все средства хороши, что допу
стимо и морально все, что способствует успеху «дела». В прош
лом было немало пророков такого морального императива, разре
шавшего, даже требовавшего применения «любых» средств для
«высшей справедливости», во имя торжества «правого дела» и
«всеобщего блага». «Идеальность цели,—говорится в книге «На
силие и политика»,— в конечном счете становится основанием
морального безразличия при выборе средств. Этический финализм
на практике работает как фактор легитимации и оправдания лю
бых, самых насильственных и бесчеловечных средств, которые
представляются необходимыми» 17.
Легко убедиться^ что данная выше характеристика интере
сующего нас типа личности представляет собой не механический
и случайный набор черт, а некую органическую целостность,
одна черта необходимо связана и вытекает из другой, а все вме
сте есть единая «система», своего рода «идеальный тип» экстре
миста. Из этого не следует, конечно, что нельзя было бы найти
и множество других черт в зависимости от точки зрения, «ракур
са» и т. п. Однако самой опасной чертой, отмеченной еще
Ф. М. Достоевским, является именно безусловное усвоение прин
ципа применимости любых средств ради «высшей цели».
Все позволено, если с высшей целью! А потом «высшая
цель» трансформируется в чистый интерес, в борьбу за власть,
привилегии и т. п. А средства, с которых начинали, которые ка
263
зались временными, чрезвычайными, остаются, становятся при
вычными, а при случае и поднимаются на «более высокий уро
вень», приобретая государственный статус. И тогда деспотиче
ская элыта, подобная полпотовской в Кампучии, устанавливает
режим государственного террора п с его помощью начинает осу
ществлять всеобщее «усреднение», чтобы никто не покушался на
ее исключительное положение и господство.
Как подтверждает историческая практика, по мере того, как
выясняется нереалистичность «добрых намерений», средства ста
новятся все более бесчеловечными и циничными, а цель утрачи
вается, исчезает либо трансформируется до неузнаваемости. Про
рочески звучат слова К. Маркса, что «цель, для осуществления
которой требуются неправые средства, есть неправая цель»18.
Печально знаменитая максима —морально все, что полезно
для «дела» —не только расхожий аргумент терроризма. Терро
ризм —н государственный и нелегальный —самым непосредст
венным образом из нее вытекает. На ней основаны как индиви
дуальные убийства, так и массовое истребление людей. Нацисты
и полпотовцы всегда ею руководствовались.
Экстремистский тип личности и экстремистское сознание со
всеми нх характерными чертами, компонентами и конвульсиями
находят удивительно рельефное выражение в лексике, терминоло
гии и фразеологии террористов.
Экстремистский язык непосвященным кажется нередко тем
ной абракадаброй, мало доступной для понимания. Неоднократно
отмечалось, что многие документы террористов, чтобы быть по
нятными, нуждаются в «переводе». И это, так сказать, «не вина,
а беда» экстремистских пропагандистов. На самом деле их язык —
беден и примитивен. Но это клишированный язык, это код, со
стоящий из символов и стереотипов фанатичного мифотворчест
ва. К нему нужен ключ, в него надо «войти», тогда и выявится
вся элементарность, весь примитивизм его штампов и его симво
лики. А так как они, как правило, далеки от реальности, так как
действительные проблемы заменяются хотя и более страшными,
но подчас совершенно искусственными, возникает странная —но
не такая уж редкая —ситуация: то, что кажется экстремистам
само собой разумеющимся, совершенно недоступно для непосвя
щенных.
Однако и для самих экстремистов дело обстоит далеко не так
однозначно. Как мы помним, весьма типичен переход адептов
экстремизма от идеалистических утопий к приземленному праг
матизму и цинизму. И вот для некоторых из них, чем дальше,
тем больше собственные лозунги и клише утрачивают содержа
ние, превращаются в орудие обмана и манипулирования други
ми, либо просто в своего рода «пароль», в механически воспроиз
264
водимый символ веры, в «священную» формулу, о смысле кото
рой не задумываются, нельзя задумываться. Таким образом
клишированная фразеология экстремистов продолжает сохранять
смысл для тех, кто все** еще находится во власти мифов, стано
вится формально-бюрократическим механизмом для тех, кто от
«веры» перешел к чистому политиканству.
Жаргон террористов содержит немало знакомых формул, ко
торые, однако, поражают своей гротескностью, вульгарностью,
какой-то удивительной «неуместностью». Как будто кто-то ре
шил создать шарж, пародию на марксистскую фразеологию и с
этой целью изготовил немыслимый винегрет из диких преувели
чений и крайностей, отборной ругани, проклятий, угроз, воинст
венных выкриков и триумфалистской барабанной дроби, обильно
приправив все это «каноническими» терминами и словосочетания
ми. Конечно, это не первый «опыт» такого рода, все это много
раз было на разных уровнях, однако от этого сам «феномен» не
становится менее зловещим, особенно в наше время, учитывая,
что такого рода стиль (и то, что за ним кроется) становится
иногда, в случае прихода экстремистов к власти, официальным
государственным стилем.
Странные неологизмы и словообразования, грязная брань и
истерические вопли, ходульный пафос и демагогическая ритори
ка —все это как нельзя более подходит для создания фантасти
ческой картины мира, для самовыражения фанатико-мифологического сознания, для «всеразрушающих» воинственных призывов,
идеологического схематизма, обливания грязью противников*
нагромождения лжи, клеветы, нелепостей. И при всем том экстре
мистский стиль весь замешан на «канцеляризмах», бюрократиче
ских оборотах и штампах. Пресса с полным основанием назвала
его «стилем бюрократов террора» 19. Точнее было бы, пожалуй,
сказать, что это своеобразный сплав экстремизма и бюрократиз
ма, красочный и жуткий, отражающий перерождение экстреми
стов в бюрократов, не раз наблюдавшееся в истории в макрои микромасштабах.
Такой язык выполняет различные функции, выражает психо
логию экстремистов, находящихся как на «идеалистической», так
и на «бюрократической» стадии. Он выражает специфически
экстремистское содержание, когда оно присутствует, и заменяет
его специфической формой, когда оно исчезает. В нем рельефно
выражено мироощущение фанатиков, тех, кто ущербен, озлоблен
и примитивен, кто видит или хочет видеть реальность только в
«черном свете» или как абсолютный контраст света и тьмы, кто
ищет крайних средств, хочет всего «здесь и сейчас», кто цепля
ется за догмы прошлого, за извращенно толкуемые революцион
ные традиции.
265
Другая функция «кровожадной» и вместе с тем канцеляристской абракадабры террористических документов —в самооправ
дании и самооглушении, в стремлении уйти от трудных вопросов
и сомнений, «железной» однозначностью и схематизмом заглу
шить подсознательную неуверенность. Произнесение «священных»
формул, превращение противников в монстров или «свиней», вос
хваление мифических «побед» и «успехов» играют, по-видимому,
роль допинга, наркотика для оглушения себя и других.
И наконец, еще одна функция экстремистского языка, находя
щая выражение в его штампованности, в бюрократических слово
сочетаниях,—в том, чтобы служить формальным кодом, набором
«канонических» (и часто уже совершенно бессодержательных)
символов, свидетельствующих о принадлежности к «клану»,
служащих не для выражения, а для сокрытия целей, о которых
не говорят.
Впрочем, как уже говорилось, для «рафинированной» части
своей аудитории у экстремистских теоретиков есть другой язык —
эзотерический, не уступающий по сложности (и претенциозно
сти) языку работ Хайдеггера, Сартра или представителей Франк
фуртской школы. Но удивительная вещь! Если в писаниях, ад
ресованных массам, фанатико-мифологическое, экстремистское
сознание, несмотря на все потуги на содержательный и фразео
логический примитивизм, не может найти путь к простым людям,
не может сделать удобопонятными свои формулы, то, водя пером
«профессионалов», несмотря на сплошную вереницу фразеологи
ческих ребусов, оно не может скрыть своего прршитивизма, убо
гого вульгаризаторства, мало отличающегося от самых прими
тивных клише террористических «коммюнике».
Экстремистский язык в немалой степени способствует расшиф
ровке «загадки» терроризма. Дело в том, что он всегда именно
такой, полностью или до какой-то степени, идет ли речь о тер
рористических группах или террористических государственных
системах. Конечно, существуют разновидности, связанные с мес
том, эпохой, социальными различиями и др., однако существо и
форма остаются теми же, поскольку этот язык выражает тот тип
сознания, который мы условно назвали экстремистским.
«Экстремистское сознание», т. е. прежде всего наличие непо
колебимой веры в обладание высшей, единственной и окончатель
ной истиной,—это тот субъективный фактор, который, венчая
совокупность других факторов, делает понятным «выход» к тер
роризму. Однако, как мы видели, терроризм продолжает сущест
вовать и после разложения этого типа квазирелигиозного созна
ния, превращения его в сознание цинико-прагматическое, руковод
ствующееся уже не фанатичной верой, а своекорыстным интере
сом. Стало быть, возникновение и воспроизводство терроризма,
«левого» и правого, становится органичным, а часто и неизбеж
ным, только если присутствует экстремистский фанатизм, выра
жающий либо искреннюю идеалистическую веру в абсолют,
в единственную окончательную истину, либо являющийся фор
мой циничного интереса.
Этот интерес не может существовать в «чистом виде». Если
он выступает в качестве мотива деятельности, не облеченным в
идейную форму, политический терроризм превращается в чистую
уголовщину. Последняя собственно и отличается от первого преж
де всего именно отсутствием «высоких» мотивировок.
Конечно, тип сознания, тип личности, о которых идет речь,—
это не столько реальный, сколько, как уже отмечалось, «идеаль
ный» тип.
Участники экстремистских движений, к тому же только те
из них, которые не являются случайными людьми или кратковре
менными «попутчиками», лишь в той или иной мере тяготеют
к нему, в разной степени воплощая его черты. И все же услов
ный «экстремистский тип» личности —это такая абстракция, без
которой невозможно обойтись, если мы хотим до конца понять фе
номен терроризма, тот последний «кирпичик» в цепи причин
этого явления, который способствует выяснению того обстоятель
ства, почему одинаковая примерно совокупность объективных
условий далеко не всегда приводит к возникновению терроризма.
Без этой абстракции каким-то странным, парадоксальным, даже
мало понятным образованием может показаться идеология экст
ремизма.
Логическая цепочка здесь, как всегда, выглядит так:
экстремистский тип личности со специфическим сознанием или,
скорее, мироощущением, затем вырастающее на этой почве
экстремистское мышление и, наконец, создаваемые им экстре
мистские идеологические модели.
До сих пор в этой главе речь шла главным образом о терро
ризме вообще, современный «левый» терроризм далеко не всегда
выделялся как специфический феномен. И это не случайно. Он
является одной из форм терроризма, и с другими его формами у
него больше общего, чем отличного. Их глубинная природа и
ключ к ней — общие.
В нашей книге неоднократно говорится о близости левацкого
и ультраправого терроризма, о том, что на них нельзя распрост
ранять антиномию антифашизма и фашизма, что это, скорее, два
подвида одного вида, две разновидности весьма близкой идеоло
гии и практики.
Однако нужно избегать упрощений. «Левый» терроризм име
ет, конечно, и свою специфику, притом, как уже отмечалось, его
«загадка» много сложнее «загадки» терроризма правого. Послед
267
ний гораздо «яснее» и «откровеннее», хотя п в неофашистском
терроризме весьма значителен элемент демагогии, в том числе
псевдореволюционной. Ультраправые особенно в прежние време
на не скрывали своего воинствующего национализма и расизма,
открыто проповедовали империалистические идеи, стремление к
мировому господству. Правда, некоторые неофашисты сейчас
«цивилизовались» и, исправляя «ошибки» своих «классических»
предшественников, стали прибегать к «демократическим» и «об
щечеловеческим» декларациям. И все же даже сейчас неофа
шистскому терроризму чаще всего свойствен оголтелый шови
низм, национализм и самые варварские формы человеконенавист
ничества. Он чаще прибегает к массовым убийствам и побоищам,
его чаще поддерживают или инспирируют империалистические
государства.
Все это есть и у «левого» терроризма, но все тщательно за
маскировано и выступает в формах, противоположных существу
дела. Человеконенавистническая сущность, презрение к народу и
человеку маскируются псевдомарксистской, анархистской и по
пулистской демагогией, постоянными апелляциями к «народу» и
«пролетариату», авторитаризм прикрывается разговорами о «де
мократии» и «свободе», империалистические и экспансионистские
тенденции камуфлируются разглагольствованиями об интерна
ционализме. Конечно, капиталистические страны реже оказыва
ют поддержку «левому» терроризму, чем правому, реже «берут
его на вооружение». Сказывается социально-политическая инер
ция, непонимание истинной сущности «левизны» такого рода.
«Левая» демагогия вызывает все же у правящих классов гораз
до большую настороженность, чем любая другая. Однако различ
ные формы «смычки» империалистических сил и «левого» терро
ризма несомненно существуют.
Таким образом, специфика современного «левого» терроризма,
кроме некоторых основополагающих социальных и политических
моментов, в его универсальном, сознательном или бессознатель
ном лицемерии, в «двойном дне». «Марксистская», «коммунисти
ческая», революционаристская, антиимпериалистическая, антиво
енная, антиамериканская фразеология скрывают за собой анти
марксизм, антикоммунизм, пособничество империализму, агрес
сивный экспансионизм, элитаризм, тоталитарные тенденции.
1 Sole R. Le defi terroriste. P., 1979.
4
5
6
7
8
9
P. 176.
2 Behavioral and quantitative perspectives of terrorism. N. Y., 1981.
P. XIV.
3 Panorama. 1979. N 670. P. 41.
268
Ibid. P. 42.
Etude. P., 1984. N 5. P. 586.
Panorama. 1985. N 990. P. 43.
Ibid. 1985. N 993. P. 84.
Ibid. 1985. N 981. P. 64.
Ibid. 1985. N 993. P. 82.
Etudes, 1984. N 5. P. 583.
N. C. The war terro
rism. Lescington (Mass.). 1982.
P. 53
12 Morality of terrorism. N. Y., 1982.
P. 89
16 Terrorism: theory and practice.
Boulder, 1979. P. 107.
14 Fe t s c h e r /., R o h m o s e r G. Ideolo-
11 Li v i ng s t on e
gien und Strategien. Oplanden,
1979. S. 68.
15 La violenza e la politica. Roma,
1979. P. 61.
16 Express, 1978. N 1382. P. 24.
17 La violenza e la politica. P. 53.
18 Ма р к с К., Э нг е л ь с Ф. Соч. 2-е изд.
Т. I. С. 65.
19 Unita. 1981. 2, I.
Глава третья
Формы и методы
Формы, структура и методы террористических группировок от
части освещались уже в исторических главах и при характери
стике современного «левого» терроризма в различных странах.
Теперь остановимся на некоторых вопросах общего характера.
«Левый» терроризм имеет две основные формы: псевдомарксистскую и анархистскую. Эти формы не всегда можно достаточ
но четко различить: они переплетаются, оказывают влияние друг
на друга, существует и ряд «промежуточных» террористических
группировок. Тем не менее, если брать их как «типы», между
ними имеются заметные различия. Первая из этих форм тяготеет
к «железной» централизации и дисциплине, даже к бюрократиза
ции, к разработке систематической «идеологии». Претензии по
добного рода далеки от реальности, превосходят возможности
даже самых крупных террористических организаций, однако они
существенны для характеристики этой формы терроризма.
Анархистская форма терроризма количественно более обшир
на, но более аморфна. Для нее характерны в той или иной мере
стихийность и отрицательное отношение к теории, анархистские
группировки нередко лишены четкой структуры и иерархии, ста
раются иногда даже обходиться без «лидеров». Однако последова
тельно придерживаться анархистских принципов на практике
крайне затруднительно, поэтому чаще всего имеют место те или
иные компромиссные варианты, продиктованные необходимостью
организации, руководства и дисциплины. Противоречие между ис
ходными «спонтанеистскими» установками, практическими импе
ративами и нуждами постоянно присутствует в группировках та
кого типа. Кстати сказать, будучи иногда полулегальными, эти
группировки нередко занимаются не только террористической
деятельностью, но организацией всякого рода провокационных
манифестаций, хулиганских выходок, беспорядков, дебошей, драк
и других эксцессов.
269
Между двумя формами терроризма есть и еще одно различие.
Если первая, псевдомарксистская, тяготеет к «коллективизму»
и моральному ригоризму, даже аскетизму, вторая отмечена пе
чатью потребительского гедонизма, имеет более индивидуалисти
ческий характер. Это различие, как и предыдущие, не абсолют
но, существует множество промежуточных форм, но «в пределе»
дело обстоит именно так.
Структура террористических организаций в настоящее время
сохранилась в основном в том виде, в каком она была разрабо
тана «классиками» терроризма, лишь с некоторыми региональны
ми вариантами и усовершенствованиями. Обычно они малочис
ленны, в их составе, как правило, единицы, десятки, самое боль
шее сотни членов. Могут быть и более крупные организации, но
это —большая редкость, учитывая трудности, связанные с кон
спирацией, вербовкой новых членов, необходимостью их тщатель
ной «проверки» и т. п. Группировки, признающие необходимость
организованности и дисциплины, имеют, как правило, различные
иерархические и функциональные уровни. Кроме деления на ру
ководство и «рядовых», для которых вожаки организаций не
только недоступны, но часто и неизвестны, существует деление
по характеру деятельности (участники боевых групп, групп раз
ведки, тылового обеспечения) и по характеру конспирации. Часть
террористов —полностью на нелегальном положении, другая ве
дет «двойную» жизнь. Понятно, что все это относится лишь к бо
лее или менее крупным группировкам.
Террористические организации чаще всего стремятся тщатель
но регламентировать поведение своих членов. В специальных пра
вилах поведения, разработанных для членов «Красных бригад»
(«Нормы безопасности и стиль работы»), которые каждый бригадист должен знать наизусть, предусматриваются не только прави
ла содержания оружия, автомашин и т. п., но и даются детальные
указания относительно местонахождения и содержания квартир,
поведения на улице, дома, в общественных местах, одежды, при
чесок и т. п.
Террористическая группа —это мини-вариант того, что на го
сударственном уровне, в макромасштабах реализуется в террори
стических диктатурах. И там, и здесь мы видим жесткую, авто
ритарную иерархию, в рамках которой «рядовые» не только не
имеют доступа к принятию решений, но лишены фактической ин
формации о реальной, а не пропагандистской, которая часто не
имеет никакого отношения к реальной, политической линии, стра
тегии, связях, действительных целях и т. п. «Рядовые» —инст
рументы, винтики, рычаги, мнения которых не имеют никакого
значения. Известный западногерманский террорист М. Бауманн в
своих интервью констатировал, что индивидуальная воля рядово
270
го члена террористической группы полностью подавляется, от
него требуется безусловное слепое подчинение приказам сверху.
Участник одной из итальянских террористических группировок
так характеризовал существовавшие там порядки: «Маленькая
группа была в курсе всего и принимала решения, тогда как дру
гих держали в неведении относительно самых важных вещей» \
Вся эта система, как обычно делается в подобных случаях,
основана на взаимной подозрительности, слежке и «внутреннем»
терроре,
«Внутренний» террор —отнюдь не случайный феномен, свой
ственный каким-то отдельным террористическим организациям,
или определенным этапам их эволюции. Это —органическая, не
отъемлемая черта лево- и правоэкстремистской практики как на
нелегальном, так и на государственном уровне. Так было всегда
в той или иной степени. Не всегда, конечно, эта тенденция мо
жет реализоваться в полной мере, но когда реализуется, террор
превращается в полное безумие и возникает положение, подобное
тому, какое было в фашистской Германии или полпотовской Кам
пучии. Причины и функции террора против «своих», его неиз
бежность, обусловленные экстремистским фанатизмом, заслужи
вают специального исследования, поскольку в немалой степени
высвечивают внутреннюю природу терроризма и перспективы, ко
торые он в себе несет.
Террористические группировки много раз осуществляли
«смертные приговоры» не только в отношении «отступников», но
даже против тех, кого только подозревали в «инакомыслии»,
«либерализме», «ревизионизме», разного рода «уклонах» и т. п.
Иногда убивают своих товарищей в целях профилактики. Особен
но прославилась варварской практикой такого рода «Красная ар
мия Японии». Однако расправы с товарищами практикуются и в
других террористических группировках.
В трудное положение попадают раскаявшиеся террористы.
Они живут в постоянном страхе перед местью бывших «соратни
ков», иногда вынуждены скрываться или постоянно находиться
под охраной, непрерывно менять местожительство. «Раскаявшие
ся живут, привязанные к нам,—сказал в интервью журналу
«Панорама» один из представителей антитеррористических сил,—
они живут с нами в полицейских управлениях или в казармах
карабинеров» 2.
Настоящая эпидемия взаимных расправ охватила в начале
80-х годов распавшиеся итальянские левотеррористические орга
низации. Тяжкая обстановка взаимной подозрительности, доносов
и террора господствовала в тюрьмах, где содержались арестован
ные террористы. По словам бывшего идеолога «Красных бригад»
Э. Фанци, «все превращаются в сторожевых собак друг друга в
271
фантасмагории раскручивающейся спирали террора, которая
иногда граничит с безумием» 3.
Врагов и предателей террористы не считают за людей. Чтобы
убедить в этом себя и других, они не скупятся на самые гнусные
ругательства. Экстремистские банды, читаем в журнале «Терро
ризм», «превращают предполагаемых жертв в нелюдей или недо
человеков (как это делали нацисты), называя их «свиньями»,
«шпиками», «лакеями» и т. п.»4 Слов из подобного лексикона
террористам не занимать —независимо от того, находятся они в
подполье или у власти. Мы уже специально останавливались на
этом, здесь же подчеркнем еще раз, что в «нелюдей» превращают
не только полчища «врагов», которые мерещатся повсюду, но
и «своих», тех, кто отошел от терроризма, оказался в другой ор
ганизации, в другой фракции, либо просто попал под подозрение.
«Один из самых страшных аспектов терроризма,—говорится в
том же журнале,—стремление террориста относиться к своей
жертве как к простой вещи, причем даже не как к стоящей,
а как к негодвой вещи» 5.
Террористы осуществляют иногда чисто нацистскую практику
репрессий в отношении родственников «врагов>> и «предателей».
Так, в 1981 г. был захвачен и после очередного «народного суда»
убит ни в чем не повинный брат «раскаявшегося» члена руковод
ства «Красных бригад» Р. Печи.
Эти так называемые «народные суды», а также предваритель
ное заключение жертв в «народных тюрьмах»—исключительно
характерный компонент деятельности террористических органи
заций и террористических режимов, а также своего рода «фраг
мент будущего», как это будущее представляют себе «левые»
террористы.
Как происходят подобные «суды», можно увидеть из свиде
тельства М. Сосси, который был «обвиняемым» на таком «процес
се» в апреле —мае 1974 г., а до этого находился в «народной
тюрьме». «Подсудимый», по его словам, постоянно охраняемый
двумя стражниками с черными капюшонами на головах, непре
рывно пбдвергается «промыванию мозгов», бесконечным «допро
сам», находится в психологической изоляции, обрабатывается
транквилизаторами и наркотиками. Цель всего этого —добиться
«признания» и «саморазоблачения» жертвы. И вот что любопыт
но: при абсолютной презумпции «виновности» какие-либо кон
кретные обвинения или улики отсутствуют, речь идет вообще о
«преступной деятельности» против «пролетариата». Не избавляет
«обвиняемого» от единственно возможного
«приговора» —
смертной казни (осуществление такого приговора, впрочем, иног
да «временно» откладывается, и осужденный выпускается на сво
боду) даже признание «вины», даже принятие экстремистского
272
символа веры. Результаты этих «процессов», таким образом, пред
решены заранее, защита и возможность апелляции отсутствуют.
Подобные «суды» удивительно напоминают абсурдную процедуру «процесса» из одноименного романа Ф. Кафки, где никто
из подсудимых до самого конца не знает, в чем/собственно, его
обвиняют. Жуткая пародийность этих «народных судов» (вспом
ним, что слово «народный» широко использовалось и использует
ся в аналогичных словосочетаниях всеми фашистскими режима
ми) подчеркивается вульгарной пропагандистской риторикой,
с ними связанной, в которой фантастические нелепости и немыс
лимые преувеличения переплетаются с вполне справедливыми ут
верждениями и обвинениями в адрес капиталистической системы,
фразеологическая форма которых, однако, настолько гротескна,
что невозможно отделаться от впечатления, что все это —пре
тенциозный злонамеренный фарс.
Вспомним в этой связи о «суде» над А. Моро. В одном из
коммюнике «Красных бригад» говорилось, что допрос А. Моро
раскрыл «подлинных и скрытых лиц, ответственных за самые
кровавые страницы истории последних лет, выявил интриги вла
сти, круговую поруку, которая скрывала государственных убийц,
показал сплетение личных интересов, продажности, протекцио
низма, которое неразрывно связывает различных персонажей раз
ложившейся демохристианской своры между собой и другими
персонажами из партий, являющихся их сообщниками». «Про
цесс» над А. Моро, говорилось далее в этом коммюнике,—это
лишь один из моментов более широкого процесса над Государст
вом, который идет в стране. Его ответственность за антипролетарские преступления та же, за которую «христианская демократия
и режим будут окончательно повержены, ликвидированы и
разогнаны действиями сражающихся коммунистических сил»6.
Интересно сравнить эти выдержки с тем, что говорилось тер
рористами до «суда» над А. Моро. Это сравнение показывает, что
практически все результаты «процесса» были сформулированы
заранее. Тогда в посланиях «Красных бригад» говорилось, что
Моро —человек, воплощающий империалистическое государство,
что «допрос» выявит «империалистическую и антипролетарскую
сущность политики демохристианской партии, выяснит интерна
циональные структуры и национальную ответственность империа
листической контрреволюции, разоблачит политический, экономи
ческий и военный персонал, осуществляющий проект мультина
циональных монополий, выявит личную виновность Моро в
антипролетарских преступлениях». Допрос Моро, говорилось то
гда, поможет прояснить «антипролетарские линии, кровавые и
террористические махинации, которые развертываются в нашей
стране (и которые Моро всегда покрывал)» 7.
273
Такие вот «суды», не имеющие ничего общего с законностью,
правами человека, справедливостью и гуманизмом, с их нелепы
ми обвинениями, изначальной заданностыо результатов, диктуе
мой априорными догмами, которые запрещено ставить под сомне
ние, террористы пытаются противопоставлять буржуазному суду
как истинно гуманное «пролетарское правосудие». Употребление
этого понятия в таком контексте как будто специально предна
значено для его дискредитации.
Жуткая пародия на «пролетарское правосудие» имеет, конеч
но, исторические прецеденты несравненно больших масштабов, но
суть дела не в «количественных» параметрах. Последние опреде
ляются наличными возможностями, а природа феномена остается
все той же —как на подпольном, так и на государственном уров
нях. Существенно то, что террористическая практика, в какой бы
форме она ни выступала, основана на тоталитаристских методах,
на полном пренебрежении к человеческой личности. Личность,
права человека, даже его право на жизнь для террористов—
пустой звук. Справедливо звучат в этой связи приведенные в
«Правде» от 17 сентября 1986 г. слова Ж. Марше о существова
нии прямой связи «между терроризмом и тоталитаризмом»!8
Вообще в методах современных террористов по существу нет
ничего нового. Все это уже было, все это микровариант того, что
осуществляется в макромасштабах, когда такие люди приходят к
власти. В цинизме и лицемерии слов и дел террористов явно про
ступают контуры фашистских и левацких диктатур. И если в от
ношении этого и существуют какие-то иллюзии, то разве что у
некоторых симпатизирующих террористам либералов, склонных к
идеализации «левого» терроризма, и «мастодонтов революционно
го догматизма».
С полным бесправием «подсудимых» на практикуемых терро
ристами «народных судах», где на жертву смотрят только как на
пешку в политическом или финансовом торге, как на объект дав
ления, издевательств и грубой пропаганды, разительно контрасти
рует поведение самих террористов во время процессов над ними.
Вместе с достаточно многочисленными «доброжелателями» и
адвокатами, они решительно требуют соблюдения «прав» и «га
рантий» безопасности, стремятся держаться подобно революцио
нерам прошлого, отказываясь от защиты, становясь в позу обви
нителей. Произносят речи, иногда пропагандистские, иногда
полные ругательств и угроз в адрес судей, обвинителей и адво
катов, которым грозят смертью.
Вообще судьи, работники прокуратуры, адвокаты и особенно
свидетели являются одним из основных объектов запугивания и
покушений. Из-за этого приходилось иногда даже переносить
процессы над террористами, поскольку в такой обстановке не
274
всегда возможно найти не только свидетелей, но и присяжных.
В свое время в Падуе террористы вели кампанию запугива
ния возможных свидетелей на предстоящем суде над руководите
лями «автономистов». При этом был распространен следующий
любопытный документ в адрес тех, кто осмелится стать таким
свидетелем. Эти «типы», говорится в нем, на которых указывают
пальцем «все пролетарии», могут прятаться, где хотят. «Перво
родное клеймо гнусных марионеток в капиталистических руках
останется! Как бы они ни переодевались, куда бы ни прятались,
какими бы партийными билетами ни прикрывались, в какие бы
зарубежные страны ни убегали, всюду они будут настигнуты
чувством правосудия, которое всегда было свойственно проле
тариату» 9.
Подпольный терроризм прибегает к различным видам насиль
ственных актов. Вот их основные виды. 1. Взрывы. Они могут
быть направлены против государственных, промышленных, транс
портных и военных объектов, партийных комитетов, редакций
газет и журналов и т. п., определенных групп или отдельных лиц,
но могут быть и безадресными, рассчитанными на психологиче
ский эффект, создание атмосферы страха (взрывы в публичных
местах —поездах, вокзалах, ресторанах, банках, во время празд
неств и т. п.). В последние годы очень распространенными стали
взрывы автомашин, начиненных взрывчаткой, а также покуше
ния посредством бомб с дистанционным управлением.
2. Похищения. Их объектами бывают обычно крупные госу
дарственные деятели, промышленники, банкиры, работники суда и
прокуратуры, журналисты, военные, иностранные дипломаты,
партийные лидеры и т. д. Цель похищений —запугивание, поли
тических! шантаж, стремление добиться выполнения определен
ных политических условий, часто освобождения из тюрьмы со
общников, либо крупный выкуп, являющийся одной из форм «са
мофинансирования». Иногда целью может быть просто сенсация,
стремление привлечь к себе внимание.
3. Убийства. Это, можно сказать, «ключевой» метод и основ
ной элемент деятельности террористов. Не только потому, что
именно таким образом в первую очередь они расчитывают до
стичь своих основных целей — создать обстановку страха, смяте
ния, «покорности», но и потому, что именно убийства в наиболь
шей мере обнажают истинную суть терроризма, показывают, с ка
ким пренебрежением относится он к основному праву человека —
праву на жизнь. Все это получило особенно зловещий смысл в
последние годы, когда террористические акты в ряде стран при
обрели массовый характер и их жертвами стали тысячи людей
самых разных положений и профессий. Теперь это уже не только
главы государств или крупные фигуры, но часто самые скром
275
ные и незаметные люди. В этом своем, самом страшном, аспекте
терроризм, в частности «левый», становится все более «аноним
ным », «поточным».
4. Ранения, избиения, издевательства. Террористы нередко
стреляют в ноги своим жертвам или избивают их, наносят разно
го рода увечья. Иногда жертву подвергают унижениям и запуги
вают: например, возят на автомобиле с приставленным к виску
пистолетом или связывают, раздевают, вешают на шею пропаган
дистские плакаты и т. п.
5. Ограбление банков, ювелирных магазинов, частных лиц
и т. д. Это —одна из самых распространенных форм «самофинан
сирования» террористических группировок. Уголовные и полити
ческие банды равным образом прибегают к ней в своих специфи
ческих целях.
6. Захват самолетов (а иногда и других крупных транспорт
ных средств), подобно похищениям, может преследовать как по
литические, так и финансовые цели, а иногда одновременно и те
и другие. Эта форма террористической деятельности в 80-е годы
получила очень широкое распространение.
7. Захват государственных учреждении, посольств, банков
и т. п., который обычно сопровождается взятием заложников, из
редка «обысками» с целью изъятия документов, представляющих
интерес для террористов. Иногда, как и при захвате самолетов,
дело кончается массовым побоищем.
8. Другие формы нападений на государственные, промышлен
ные, транспортные, общественные и другие объекты (например,
обстрелы, повреждение оборудования, саботаж и т. п.).
9. Мелкие насильственные акты, если они не носят чисто
уголовного характера. Сюда могут относиться различные формы
шантажа, давления, всякого рода провокации, хулиганские ак
ции и пр.
Удельный вес перечисленных форм террористической деятель
ности неодинаков в разных регионах и в разные периоды, как
неодинаковы и «поведенческие модели» террористов. Так, для
малочисленных западногерманских террористических группировок
70-х годов в гораздо большей степени были свойственны индиви
дуализм, атмосфера истерической экзальтации, капризных «им
провизаций», склонность к позе и театральным жестам, чем для
террористических организаций тех стран, где они имеют более
«массовую» базу, где значительнее их количество и численность,
выше «профессионализм». В этих странах террористические груп
пировки имеют тенденцию к «бюрократизации», террористическая
деятельность становится более «анонимной», прагматической,
«прозаичной», теряет импульсивный характер.
276
Впрочем, соображения такого рода носят весьма условный и
относительный характер, поскольку сама распространенность под
польного терроризма, в частности «левого», смещение его «эпи
центра», динамика роста и спада —вещи весьма нестабильные и
изменчивые. Так, например, на рубеже 60—70-х годов число тер
рористических актов в Латинской Америке было вдвое большим,
чем в Европе, а через десять лет, на рубеже 70—80-х годов, соот
ношение стало обратным. В конце 70-х —начале 80-х годов Ита
лия далеко превосходила ФРГ и Францию по количеству тер
рористических актов, в середине 80-х — уже все было совсем на
оборот.
Огромны убытки от различных акций террористов. Подсчитать
их практически невозможно, тем более при отсутствии единого
понимания, что такое терроризм, однако, по мненню многих ис
следователей, прямой ущерб, расходы на охрану, страхование
и т. п, за последние два десятилетия составили многие миллиар
ды долларов. На долю «левого» терроризма приходится, конечно,
только часть этой суммы, однако она, несомненно, также весьма
внушительна.
Расходы по борьбе с терроризмом возрастают не только по
мере расширения его масштабов, но и по мере его «профессио
нализации». Происходит постоянное совершенствование и «сорев
нование» средств нападения и защиты. Это особенно бросается в
глаза, когда речь идет о современном воздушном пиратстве. Тер
рористы идут на самые хитроумные ухищрения для нейтрализа
ции средств обнаружения и защиты, применяют, например, пла
стиковые пистолеты, ножи из бортовых кухонь, свинец и алюми
ниевую фольгу против радиационных средств обнаружения и т. п.
В таких условиях для достаточно эффективной антитеррористической защиты, по мнению специалистов, может потребоваться
резкое увеличение цен на авиабилеты. Уже сейчас, по словам од
ного эксперта, многие аэропорты мира все больше начинают по
ходить на осажденные крепости10.
Материальная и техническая обеспеченность некоторых совре
менных террористических групп, в том числе «левых», постоянно
растет и достигла весьма высокого уровня. Наиболее крупные
террористические и «околотеррористические» организации, как
уже отмечалось, выпускают собственную литературу, газеты,
журналы, листовки, иногда имеют даже радиостанции, располага
ют другим радцотехническим оборудованием, целыми автомобиль
ными «парками» и т. п. Современный терроризм, во всяком слу
чае в «развитых» формах, невозможно представить без специа
листов различных профилей, без «экспертов» по оружию,
взрывчатке, террористической технике, электро- и радиотехников,
печатников, фотографов, медработников, автомехаников, связи
277
стов, юристов и т. д. «Профессионализация» выражается, в част
ности, в тщательной подготовке и хронометраже операции.
Научно-техническая революция в условиях капитализма не
только способствует формированию той социальной и социально
психологической почвы, на которой произрастает современный:
экстремизм, но и существенно меняет сам его облик. В некото
рых странах, где он получил наибольшее развитие, терроризм
превратился из «кустарной» индивидуальной деятельности в вы*
сокоспециализированную «поточную» систему, становящуюся все
более «анонимной».
В отношении вооружения также произошел качественный ска
чок, обусловленный развитием современной техники, в частности
военной. От кинжалов убийц Юлия Цезаря до «классических»
террористических арсеналов конца прошлого —начала нашего
века был пройден не такой уж большой путь. Всего несколько
лет назад в этих арсеналах содержался традиционный набор:
пистолеты, взрывчатка, бутылки с горючей смесью и т. п. Сейчас
в них обнаруживают современное радиотехническое оборудование
(рации, бомбы с дистанционным радиоуправлением и др.),
автоматы, пулеметы, гранатометы, противотанковые гранаты,
даже портативные ракеты. По мнению экспертов «миниатюриза
ция» вооружения и подрывных средств подняли уровень вооруже
ния некоторых террористических организаций до уровня регуляр
ных армий. Не исключено, что фанатизм террористов окажется в
недалеком будущем «оснащенным» самыми совершенными тех
ническими средствами и, что особенно опасно, средствами массо
вого уничтожения.
Перспектива использования средств массового уничтожения
безответственными фанатиками далеко не абстрактна. По свиде
тельству ряда зарубежных авторов, террористы в разных стра-i
нах уже не раз прибегали к угрозам применить средства массо
вого уничтожения, несколько раз пытались овладеть ими, изго
товить и даже использовать их. Были попытки террористических
актов с применением отравляющих веществ и радиоактивных изо
топов. Такие акты совершались против действующих и строя
щихся атомных установок и АЭС.
По сведениям, приводившимся в нашей печати, европейские
террористы готовятся к нападению на объекты, где хранятся
ядерные боеприпасы. В связи с этим разрабатывается и осуществ
ляется сложная, очень дорогостоящая система мер по защите
ядерных хранилищ, которая, однако, по мнению специалистов,
не дает никаких гарантий сохранности ядерных боеприпасови.
Конечно, вероятность применения террористами оружия мас
сового уничтожения или массового разрушения пока еще доволь
но проблематична, если подходить к ней с психологической или
278
тактической точки зрения, однако в техническом отношении она
уже сейчас не представляет непреодолимых трудностей. При сов
ременном уровне технической осведомленности и оснащенности,
при наличии соответствующих материалов вполне реально изго
товление атомного оружия в лабораторных условиях.
Еще проще обстоит дело, если речь идет о химическом и био
логическом оружии, поскольку ряд его компонентов и вообще
ряд отравляющих веществ можно приобрести по легальным ком
мерческим каналам, а сведения об изготовлении многих из них
нетрудно почерпнуть из литературы.
Этим обстоятельством сейчас стали довольно широко пользо
ваться уголовники, а иногда и террористы и преступники неиз
вестной принадлежности, которых некоторые из журналистов без
оговорочно причисляют к террористам. Один из таких журнали
стов писал в 1985 г.: «В последние годы во всех частях мира
получили развитие неслыханные, ужасающие формы террориз
ма —пищевой терроризм, т. е. отравление продуктов питания и
напитков; фармацевтический —подделка медикаментов»12.
Действительно, в США, Японии, ФРГ, Италии, Швеции и не
которых других странах имели место случаи отравления или
угроз отравления воды, пищевых продуктов, напитков. Чаще все
го это было делом рук уголовников, некоторые из которых, одна
ко, работали «под террористов», объявляли себя, например, чле
нами «Красных бригад» или пользовались в целях вымогатель
ства символикой этой организации.
Парадоксальную роль в судьбах современного терроризма иг
рает одно из порождений НТР —современный информационный
«бум». Средства массовой информации с их нынешними масшта
бами оказываются тем орудием и средством, без которого терро
ризм практически не мог бы существовать. Поддерживать атмо
сферу зловещей сенсационности без них невозможно, как невоз
можно и распространять пропагандистские материалы, получать
необходимую технико-методическую и тактико-стратегическую
информацию. Только с помощью средств массовой информации
можно получить достаточное «паблисити» и признание, противо
стоять крайне нежелательному для террористов эффекту «привы
кания», только с их помощью можно запугать одних и «заинте
ресовать» других.
Буржуазная пресса, литература, кино, телевидение играют
здесь весьма двусмысленную роль, немало способствуя «романти
зации» и «героизации» терроризма и тем самым вербовке «сочув
ствующих», да и самих членов террористических организаций.
Конечно, средства массовой информации чаще всего клеймят
терроризм, но при этом иногда как бы исподволь внушают чита
телям, слушателям и зрителям, что террористы руководствуются
279
«высшими целями», являются идеалистами и «революционерами»*
что их акты направлены против «угнетения», против лиц, запят
навших себя преступлениями, либо против «американского импе
риализма» и т. п. Создаются сентиментально-романтические обра
зы террористов, невольно вызывающие симпатию.
Конечно, «магистральное русло» террологической темы идет r
ином направлении —в направлении «привязывания» левотерро
ристических организаций к коммунистическому движению и со
циалистическим странам, но и в отношении «героизаций»
и «сентиментализации» терроризма буржуазными средствами мас
совой информации сделано немало. Они придают иногда «дея
ниям» террористов фантастические масштабы, иногда буквально
стимулируют совершение сенсационных террористических актов*
Террористы прекрасно знают, что эти акты будут красочно опи
саны в миллионах экземпляров газет и журналов, и делают став
ку на это.
Вообще они умеют пользоваться одной из фундаментальных
черт буржуазной прессы —погоней за сенсациями и прибылью.
Справедливо замечание Р. Соле: «Терроризм для прессы —источ
ник обогащения» 13. Пользуются они и противоречивостью пози
ций средств массовой информации, в которой, несмотря на иг
антитеррористическую ориентацию, отражается двойственность
отношения правящих классов к терроризму.
Так или иначе, но ряд исследователей не без основания при
ходит к выводу, что «масс-медиа вольно или невольно глашатай
террористов» 14.
Новые возможности, возникшие в результате научно-техни
ческой революции, меняют, разумеется, не только облик терро
ризма, но и расширяют возможности антитеррористической борь
бы. Новейшие транспортные средства, средства связи и вооруже
ние в гораздо большей степени, конечно, доступны тем, кто ведет
борьбу с терроризмом, чем террористам; современная криминали
стика, специально подготовленные и экипированные антитеррористические силы, существующие во многих странах, в принципе
дают возможность достичь значительных успехов в борьбе с политическим терроризмом. Однако чисто полицейскими методами
пока не было и вряд ли может быть достигнуто радикальное ре
шение проблемы. Это объясняется не только наличием глубоких
социальных корней экстремизма в современном капиталистиче
ском мире, но и двусмысленностью отношения правящих классов
к терроризму, о которой уже неоднократно говорилось. Совре
менные государственно-монополистические системы, прежде всего
американский империализм, при всех разглагольствованиях о
борьбе с терроризмом направляют основные силы и ресурсы не
столько на борьбу с действительным терроризмом, сколько на
280
борьбу с освободительными движениями, которые, собственно,
ж квалифицируются как террористические.
Есть и еще одно обстоятельство, о котором нужно упомянуть,
товоря об использовании терроризмом плодов научно-технической
революции. В полной мере ими могут пользоваться только антитеррористические силы, однако даже то относительно немногое,
что современный подпольный терроризм может брать из плодов
научно-технического прогресса, оказывается иногда более весо
мым, б\дучи «помноженным» не только на указанные социальнополитические факторы, но и на уязвимость объектов развитых
стран для террористических атак, на преимущество «инициати
вы», на непредсказуемость и неожиданность этих атак и т. д.
Использование плодов НТР, делая более «эффективной» тер
рористическую деятельность, нисколько не «облегчает» жизнь
террористических группировок. Атмосфера, царящая в них, не
смотря на все различия, отмечена крайним напряжением. Это, по
свидетельству известного западногерманского экс-террориста
Бауманна, атмосфера постоянного стресса, когда из-за любого пу
стяка может возникнуть самая яростная ссора. Вечный страх,
одни и те же нерешенные и неразрешимые проблемы, подсозна
тельное (или сознательное) чувство безнадежности и обреченно
сти, подавление индивидуальной воли и свободы, мнений —все
это не может не создавать крайне тягостной обстановки. Первона
чально все это «перекрывается» фанатизмом, верой в «дело»,
в «миссию», впоследствии —на этапе кризиса и разочарования —
способствует распаду организаций, «раскаянию», отходу от тер
роризма. Но кроме обычных драматических констант существова
ния террористических группировок —общественной изоляции, по
лицейских преследовании, постоянной угрозы гибели и ареста,
взаимной подозрительности, «внутреннего террора», отчаянной
борьбы с прогрессирующим разочарованием и разложением
и др.—перед ними постоянно стоят трудности, связанные с ма
териальным обеспечением, добыванием финансовых средств, воо
ружения и др.
Кстати сказать, именно эти проблемы и способы их разреше
ния позволяют иногда обнаружить довольно неожиданные аспек
ты «левого» терроризма. Источником снабжения оружием неред
ко оказываются иностранные спецслужбы или местные реакцион
ные силы. Лидеры или специальные посланцы террористических
организаций иногда совершают зарубежные «турне» в поисках
оружия, проявляя готовность вступить ради этого в контакты с
кем угодно. Есть сведения, что «левые» террористы в некоторых
случаях получают или покупают оружие у уголовников и ультра
правых. Известно, например, что западногерманские рафовцы
первое свое вооружение приобрели именно у неофашистов.
281
То же самое в отношении денег. Источники финансирования
террористических группировок, в частности «левых», нередко
крайне подозрительны. В их убежищах, на конспиративных квар
тирах не раз обнаруживали большие суммы денег и значитель
ное количество иностранной валюты. Колоссальные расходы, не
обходимые для осуществления хорошо организованных террори
стических актов, вроде покушения на А. Моро, также наводят
на размышления относительно источников финансирования. По
данным Интерпола на 1983 г. средняя «стоимость» политического
убийства или похищения составляла 500 тыс. ф. ст. Конечно,
немалую роль здесь могут играть такие акции, как ограбление
банков, магазинов, частных лиц, выкупы заложников, шантаж
и т. п. «Народная революционная армия» в Аргентине, например,
получила в 1975 г. 60 млн. дол. за освобождение двух похищен
ных наследников богатых семей. Огромную сумму итальянские
террористы получили в качестве выкупа за Ч. Чирилло. Согласно
данным, приведенным в книге Купермана и Трента «Терроризм»,
только объявленный выкуп за лиц, похищенных террористами за
период 1970—1978 гг. превысил 145 млн. дол. Реально же в это
время, по мнению авторов, в Латинской Америке и Европе за
300 похищенных бизнесменов и политических деятелей был по
лучен выкуп, равный нескольким сотням миллионов долларов15.
И все же «самофинансирование» далеко не всегда оказывается
достаточным, учитывая огромные расходы террористических груп
пировок (кроме организации террористических актов и закупок
оружия, сюда входит содержание самих террористов, находящих
ся на нелегальном положении, «тыловое обеспечение», содержа
ние квартир, автомашин, типографские, медицинские и прочие
расходы). Поэтому здесь перед нами одна из «ниточек», которая
ведет и нередко приводит к иностранным и вообще государствен
ным источникам финансирования террористической деятельности.
Итак, можно констатировать, что формы и методы террориз
ма, в частности «левого», в наше время претерпели значительную
количественную и качественную эволюцию сравнительно с XIX в.
Многократно расширился диапазон его возможностей, матери
альная и техническая оснащенность, вырос его «профессиона
лизм». Терроризм имеет явную тенденцию к превращению из
индивидуально-«кустарной» деятельности в деятельность «ано
нимно-поточную ».
Произошли немалые изменения и еще в одном отношении.
Моральные императивы, принципы и ограничения, которые не
были чужды некоторой части террористов прошлого, в прошлом
и остались. На смену им пришла максима «цель оправдывает
средства». Морально, истинно, справедливо только то, что полез
но для «дела», морально и истинно ли само «дело» —такого во
282
проса даже не возникает, не должно возникать! Таково кредо сов
ременных террористов — правых п «левых». Если, конечно, ка
муфлируют, «топят» в пропагандистской демагогии, но именно
юно —краеугольный камень практики и идеологии терроризма.
11 Террористы рвутся к бомбе. Сов.
Россия, 1982, 7.XI.
12 Panorama. 1985. N 1005. Р. 38.
13 S o U R. Le defi terroriste. P., 1979.
P. 222.
14 Behaviorial and quantitative perspectrves of terrorism. N. Y., 1981.
P. 77.
15 Cm. K u p p e r m a n R , T r e n t D Ter
rorism: threat, reality, response.
Stanford, 1979. P. 187-190.
1 Panoiama. 1981. 1. 21 die. P. 63.
2 Ibid. 1983. N 898. P. 153.
3 Unita. 1982. 5.XT.
4 Terrorism. N. Y., 1980. Vol. 3—4.
P. 197.
5 Ibid. P. 232.
6 Unita 1978. 16.IV.
7 Ibid. И .IV.
* Правда, 1986, 17.IX.
9 Unita. 1979.27.IX.
10 Cm. Panorama, 1985. N 1003. P. 78.
Глава четвертая
Иден
Идеологическими конструкциями «левого» терроризма часто пре
небрегают, считая, что они не представляют серьезного интереса,
будучи крайне примитивными, вульгарными, эклектичными либо
чисто инструментальными.
Несмотря на справедливость всех этих характеристик, такой
подход нельзя признать удовлетворительным. В идеологиях по
добного рода их примитивизм и прагматизм в высшей степени
показательны. Кроме того, за обычными клише и стереотипами,
лозунгами, ругательствами, хвастовством, демагогией и ходуль
ной риторикой постоянно скрывается «особое» содержание, имею
щее нередко мало общего с буквальным смыслом того, что го
ворится.
В одной из книг о «левом» терроризме справедливо подчерки
вается, что использование против террористов «орудия молчания
и презрения ничего не дает... С ними нужно бороться, ведя, в том
числе и прежде всего, идейную битву, разбивая ошибочные идеи,
как их собственные, так и тех, кто восхищается ими» \
Истоки социально-политических концепций различных вариан
тов современного «левого» терроризма достаточно известны. Это
идеи «классического» анархизма и терроризма, троцкистские и
прочие левацкие концепции, левоэкстремистские теории револю
ции (Фанон, Дебре), идеи «левого» фрейдизма и экзистенциа
лизма, Франкфуртской школы и отчасти теоретиков «контркуль
туры».
283
Идеология «левого» терроризма —продукт экстремистского со
знания. Неудивительно, что она несет на себе его печать. Это вы
ражается прежде всего в том, что действительность, реальные
проблемы современного (и будущего) мира приобретают в ней
крайне искаженные, фантастико-мифологические очертания неза
висимо от того, в каких формах —«популярных» или «рафини
рованных» —она выступает. «Мифологическая идеология,—чи
таем мы в изданной в Нью-Йорке книге «Мораль терроризма»,—
предшествует акту насилия, совершаемому террористами» 2.
Исследователи неоднократно отмечали, что у террористиче
ских групп своя, особая «трансцендентальная рациональность»,
переосмысливающая существующее в свете псевдореволюционного догматизма. В сущности, они не только неспособны, но и не
стремятся к адекватному пониманию существующего; это осла
било бы «веру», поколебало бы «незыблемость» принципов и
установок.
Экстремистское видение реальности —черно-белая фотогра
фия, в которой нет полутонов, нет сложного, диалектического пе
реплетения противоречий, тенденций, оттенков. Мир, изображен
ный на этой фотографии, разделен на абсолютное благо и абсо
лютное зло, это жесткая дихотомия угнетателей, эксплуататоров,
с одной стороны, и «революционеров», т. е. самих террористов,—
с другой. Между этими полюсами фактически ничего нет, так
как всякий конформизм в отношении «системы», всякий «нейтра
литет» и тем более любая форма неприятия экстремистской идео
логии и практики, по мнению экстремистов, есть «соучастие»,
«пособничество» эксплуататорам. Если действительность не соот
ветствует такому образу, тем хуже для нее, ее нужно заставить
«соответствовать», если необходимо, при помощи террора.
Вариантов фантастико-мифологического искажения действи
тельности в идеологии «левого» экстремизма немало, но в общем
они сводятся к двум основным разновидностям, органично выте
кающим из двух форм левотеррористической практики —исевдо
марксистской и анархистской. Между этими практическими и
идеологическими моделями —множество промежуточных форм,
они оказывают значительное влияние друг на друга, иногда даже
невозможно отличить, к какой из них следует отнести ту или
иную группировку, и все же, так сказать, в «чистом виде» раз
личия между ними довольно существенны.
Мы уже констатировали, что псевдомарксистские террористи
ческие группировки в своих концепциях, лозунгах и клише стре
мятся копировать «классические марксистские» или современные
левацкие модели. Второе у них получается гораздо лучше, чем
первое, поскольку попытка воспроизводить марксистские идеи
приводит не просто к вульгаризации, но к пародии, карикатуре,
284
неудобопонятной и имеющей весьма мало общего с реальными
проблемами современного мира. Но так или иначе в концепциях
подобного рода присутствуют, хотя и в крайне искаженном виде,
концепции классов и классовой борьбы, партии, революции и
гражданской войны, критика буржуазной общественной и госу
дарственной системы, идея «коммунизма» и т. д. Псевдомарксистские террористические группировки постулируют необходи
мость разработанной п систематизированной теории, они имеют
или стремятся иметь глубоко «идеологизированный» характер.
Идеи анархистских группировок кое в чем приближаются к
этим концепциям, но по ряду пунктов отличаются или противо
стоят им. Прежде всего они постоянно провозглашают свою враж
дебность не только марксизму, но и всякой идеологии вообще.
«Мы не марксисты,—заявляют представители этих группировок.
Мы —носители революционного сознания. Для нас хорошо все
то, что действительно радикально. Мы погребаем трупы старых
идеологий» 3. Впрочем, как это часто бывает в подобных случа
ях, сам «антиидеологизм», «антитеоретизм» у идеологов этих
группировок неизбежно концептуализируется, приобретает «тео
ретическую» форму.
То же самое происходит, как мы уже могли убедиться, и с
принципиальным «спонтанеизмом», с культом стихийности,
свойственным этой форме «левого» терроризма. Этот культ —обя
зательное кредо анархистских группировок, выступающих против
всех форм государственности, партий, иерархизма, лидерства
и т. п., однако неизбежно сталкивающихся со всеми этими проб
лемами и в силу абсолютной нереалистичности «немедленной»
отмены всего этого вынужденных постоянно идти на разного рода
практические и идейные компромиссы в этой сфере. Основная
надежда возлагается на то, что новые формы самоорганизации
масс, «общественное самоуправление» чудесным образом вы
растут стихийно, снизу, в процессе борьбы с «системой», борьбы,
которая не должна носить политического характера.
Отрицание политики и политической борьбы —весьма харак
терная черта анархистского эстремизма. Он проповедует не столь
ко вооруженное восстание или нанесение террористических ударов
по институтам власти и их носителям, сколько «подтачива
ние» социально-экономических структур, общественной и госу
дарственной системы снизу, посредством различных форм «диф
фузного», «низового» терроризма, саботажа, стихийного преобра
зования производственных механизмов, всякого рода эксцессов,
грабежей, уличных беспорядков и т. п. Вооруженная борьба —
подчиненный, производный и, разумеется, стихийный процесс.
Все эти формы борьбы, согласно анархистскому экстремизму, яв
ляются более «передовыми», чем «псевдоболыпевистские стерео
285
типы завоевания и осуществления власти», свойственные другим
вариантам терроризма4.
Следующая черта, отличающая идеологию анархистского экст
ремизма от концепций экстремизма псевдомарксистского, заклю
чается в призыве к «немедленному» отказу от наемного труда и
вообще от трудовой этики, в отрицании аскетизма, к которому
тяготеют псевдомарксистские группировки, в проповеди гедониз
ма, в стремлении наслаждаться жизнью, а не «зарабатывать на
жизнь», в акценте на личностной самореализации и индивидуаль
ных потребностях, в требовании немедленного удовлетворения
эшх потребностей.
Эта форма экстремизма отвергает обязательный «коллекти
визм» (и «анонимность») псевдомарксистского терроризма, она
более индивидуалистична. Идейные истоки ее потребительского
гедонизма и индивидуализма в левофрейдистском постулате «ос
вобождения» бессознательных влечений, рассматриваемом как
основа социальной революции, в маркузианской идее преобразо
вания (и удовлетворения) человеческих потребностей как основе
«нового» общественного порядка. Классовая борьба, по мнению
анархиствующих экстремистов, должна быть во многом перенесе
на в частную, индивидуальную сферу, которая, по их мнению,
в наибольшей степени является объектом манипуляций со сторо
ны существующих государственных систем. Крупные массовые
задачи должны сочетаться и в значительной мере основываться
на решении личностных проблем. Условия, которые ведут к
удовлетворению потребностей масс, создаются в процессе борьбы
против капиталистического общества, однако это «новая борьба»,
протекающая не столько согласно классическим марксистским
моделям, сколько ставящая во главу угла индивидуальные по
требности 5.
Несмотря на внешне весьма значительные противоречия, даже
иногда как будто несовместимость различных вариантов лево
экстремистской идеологии, эти противоречия не следует преувели
чивать. Общего здесь больше, чем отличного. Их объединяет, вопервых, антикоммунизм (и антисоветизм), откровенный у
анархистских группировок, замаскированный псевдокоммунистическими лозунгами —у других. Во-вторых, антидемократизм. Не
имея массовой базы, террористы стремятся насильственно навя
зать свои политико-идеологические догмы и стереотипы. Харак
терно в этом плане само их отношение к народу. Народ всячески
превозносят, при каждом удобном случае апеллируют к нему,
а на деле относятся к нему с величайшим пренебрежением. За
демагогической «популистской» риторикой, свойственной равным
образом «коллективистским» и «индивидуалистическим» разно
видностям «левого» терроризма, скрывается реальный антинарод
286
ный, элитаристский смысл их идей, представление о собственной
«избранности», «исключительности».
Террористы хотели бы трансформировать «народ», «народные
массы» по своему образу и подобию, согласно искусственным схе
мам и догмам. Народные массы не существуют для них как они
есть, а только как они «должны быть». Терроризм всегда, как
справедливо отмечает Л. Диспо, выступает от имени «народа», но
не реально существующего народа, а абстрактного, «придуманно
го». Претендуя на роль народного «авангарда», «левые» терро
ристы считают, что только они знают, что нужно делать «для на
рода» и «за народ». Этот снобистский постулат как нельзя лучше
отражает антидемократическую сущность экстремистской идео
логии.
Искаженная, мифологизированная трактовка социально-поли
тической реальности свойственна всем идеологическим моделям
«левого» терроризма. Мы видели уже, что такая трактовка осно
вана, с одной стороны, на доведении до абсурда некоторых спра
ведливых констатаций по поводу современных государственномонополистических систем, с другой —на заимствованной из
фашистского и левацкого арсеналов метода беззастенчивой, гро
тескной клеветы на своих политических противников (которые,
как справедливо констатируется в одном исследовании, всегда
изображаются как чудовища и демоны или в лучшем случае как
«клики или чьи-нибудь лакеи») 6.
В крайне искаженном и примитивизированном виде выглядит
в идеологии «левого» терроризма социальная структура совре
менного общества. «Классы» —вот единственный термин, кото
рый знает эта идеология, когда речь идет об обществе. Но это не
реальные классы во всей их сложности, а фантастическая одно
значная абстракция, которая бесконечно далека от действитель
ности, хотя и играет существенную инструментальную роль.
Возьмем, например, «пролетариат», который бесконечно восхваля
ют и к которому постоянно апеллируют. К нему террористы отно
сят прежде всего самих себя и близкие себе социальные группы.
Соответственно в ряды «пролетариата» попадают деклассирован
ные элементы, люмпены, маргиналы, наиболее отсталые слои ра
бочего класса, еще не успевшие слиться с основным его составом,
экстремистски настроенная часть интеллигенции и даже иногда
уголовники. Что же касается «традиционного» пролетариата, то
он в духе Маркузе рассматривается как «интегрировавшийся»
в систему. Иногда ставится, правда, вопрос о необходимости его
«разбудить», «повести за собой», но, поскольку попытки проник
нуть в его ряды в основном оканчиваются неудачей, от него
«отступаются» и на месте реального пролетариата ставят вымыш
ленный.
287
Всех, кто не относится к этому вымышленному «пролетариа
ту», считают врагами и потенциальным объектом террористиче
ских акций. Современные террористы вслед за своими «класси
ческими» предшественниками провозглашают, что не существует
«невинных жертв»: все те, кто отказывается от «борьбы», отвергает экстремистскую «революцию» и террористические методы,
способствуют, по их мнению, консолидации «системы».
Центральный и весьма опасный пункт экстремистского иска
жения реалий современного мира —трактовка революционных
лроцессов. В экстремистском сознайии эти процессы приобрета
ют совершенно фантастические очертания. В абсолютно извра
щенном свете предстает прежде всего проблема революционной
ситуации. То утверждается, что она уже существует, то —что ее
нужно искусственно создать посредством актов вооруженного на
силия, то, следуя «классическим» схемам Маригеллы, полагают,
что объективные условия для совершения революции вообще иг
рают второстепенную роль и что все дело в чисто субъективных
факторах.
Представление «левых» террористов о революции достигает
иногда пределов нелепости. Так, исходя из «классической» анар
хистской идеи о правонарушениях как о «революционных» актах,
У. Маинхоф в свое время восклицала: «Революция уже нача
лась! Массы уже сознательно эмансипировались от господствую
щего при капитализме вопроса собственности. Они воруют!»7.
Следует заметить, что в этом удивительном высказывании речь
идет не о какой-то дезинтегрирующейся государственной системе,
а об относительно благополучной, «респектабельной» стране —
ФРГ.
Однако самое принципиальное и самое опасное в экстремист
ских трактовках революции —в другом. С точки зрения «левых»
террористов всех оттенков, в современных условиях возможен
только вооруженный путь «революционной» борьбы, а любые
проекты «мирного перехода» —не что иное, как предательство.
«Без практики вооруженной борьбы,—говорится, например, в од
ном из документов РАФ,—...программные заявления —болтовня,
пролетарский пнтернационализм —лицемерие» 8. «Единственный
путь —это вооруженная борьба» 9,—говорится в сборнике доку
ментов «Японской красной армии». «Сегодня,—писал Негри еще
в 1974 г.,—только вооруженная борьба говорит о коммунизме» 10.
В современном мире, как никогда раньше, опасно провоциро
вание вооруженных конфликтов. Конечно, в специфических усло
виях слаборазвитых стран, которые пытается держать в своих
щупальцах империализм, у освободительных и революционных
движении иногда нет другого пути, кроме вооруженной борьбы.
Но для Европы левоэкстремистские мифы определенно граничат
288
с провокацией. Вообще вся левоэкстремистская «теория» револю
ционного процесса не только имеет авантюристический характер,
но просто провокационна, ставит под удар рабочее и демократи
ческое движение.
Насилие, проповедуемое и практикуемое «левыми» террори
стами, не имеет ничего общего с революционным насилием, кото
рое оправдано и необходимо только в течение определенного пе
риода при наличии революционной ситуации как средство борьбы
народных масс, когда нет других путей ликвидации эксплуататор
ской системы. Проповедуемое террористами насилие ведет не к
революции, а к социальному хаосу с неопределенными и опасны
ми последствиями, к ликвидации социально-политических завое
ваний трудящихся, к значительному ухудшению условий и воз
можностей их борьбы с капиталистической системой. Комму
нистические партии постоянно подчеркивают, что ультрареволюционаристские разглагольствования «левых» экстремистов —
камуфляж, за которым стоят реакционные силы, что их истин
ный враг —не столько буржуазное государство и буржуазные
партии, сколько коммунистическое и рабочее движение.
В этой связи уместно вспомнить о более чем сомнительных
экстремистских схемах развития революционного процесса. Со
гласно этим схемам, террор и подрывная деятельность, вызвав
ответные репрессивные действия властей, должны окончательно
разоблачить карательный, антинародный, тоталитарный характер
«системы» и вместе с тем продемонстрировать ее бессилие. Если
результатом всего этого будет фашистский переворот, тем лучше,
это пробудит революционный потенциал масс. Следует, таким об
разом, стремиться к превращению буржуазных государств в фа
шистские, вернее в открыто фашистские, чтобы произошла рево
люция. Через фашизм к революции —таков путь «борьбы», пред
лагаемый «левыми» террористами. Нелепость, фантастический
характер —или злой умысел —подобной «логики» не раз конста
тировались исследователями, справедливо отмечавшими, что пер
вая часть плана террористов иногда «успешно» реализуется, что
же касается второй —она еще никогда не удавалась.
Идея «революции через фашизм» подводит нас к следующему
компоненту левотеррористической идеологии —авторитаризму.
В большей или меныней степени он свойствен всем вариантам
экстремизма, естественно вырастая из веры в мессианское призва
ние, в обладание высшей истиной, которую нужно утвердить во
что бы то ни стало, вопреки всему и всем. Это неизбежно ведет
к тоталитаристским методам, к полному пренебрежению челове
ческой личностью. Личность, права человека и т. п.—для терро
ристов не существуют. Человек — это лишь инструмент, «винтик»
для осуществления их планов.
10 В В Витюк, С. А. Эфиров
289
Наиболее очевидный фашистский компонент социальной прак
тики и социальной философии террористов —отрицание основно
го права человека —права на жизнь, воплощенное в системе
массовых убийств. Возведение убийства в принцип показывает,
что такое фашизм «в миниатюре». Первоначально на своей «идеа
листической» стадии «левые» террористы выступают иногда про
тив убийств, даже против нанесения людям физического ущерба.
Но логика экстремизма неумолима. Чем дальше, тем больше «ле
вые» террористы присваивают себе право убивать и калечить
всех без разбора, включая не только «чужих», но и «своих». Все
это теоретически обосновывается, разумеется, соображениями
«высшей справедливости», «народа», «революции», «освобожде
ния» и т. п.
В фанатическом или циничном сознании современных терро
ристов гуманизм, который был свойствен некоторым террористам
в прошлом, вытеснен бездушным расчетом и ненавистью. Собст
венно, само слово «гуманизм», как правило, изгоняется из лек
сикона и документов экстремистов, оно считается одиозным и не
приличным для «революционера». Впрочем, о нем иногда вспоми
нают, но в самом удивительном контексте и смысле. Вспомним
слова Р. Курчо об убийстве А. Моро, в которых он назвал этот
акт высшим проявлением «гуманизма».
Авторитаризм экстремистской теории и практики с необходи
мостью обусловлен разрывом между фанатико-мифологическим
представлением о реальности и подлинной действительностью
современного мира. Террор, во всяком случае в нашем веке, как
правило, обусловлен одним: желанием небольшой группы сохра
нить или захватить власть, навязать огромному большинству
идеи и представления, имеющие узкокастовый, фантастический,
реакционный характер. Навязать же или отстоять свои интересы,
привилегии, власть (и утопии, если они еще сохраняются), имея
крайне узкую социальную базу, можно только методами «кнута
и пряника», сочетанием демагогии с террором, мнимой заботы о
нуждах народа —с откровенным насилием.
Крайнее сектантство —характернейшая черта экстремистской
идеологии и практики террористов. Они сознательно отгоражи
ваются от всех и вся. Называя себя «пролетариатом», они пропо
ведуют абсолютную независимость этого «пролетариата» от про
шлого и настоящего. У него нет и не может быть никаких связей
с социоэкономическими, политическими, культурными институ
тами, традициями и т. п. Все это надлежит полностью отбросить.
Отрицается не только какая-либо связь или преемственность «про
летариата» с чем бы то ни было, не только все социокультурные
установления и ценности настоящего и прошлого, но наука,
разум и сознание, если они не отождествляются с «материаль
290
ностью» класса, с его «коллективной практикой». «Пролета
риат» —абсолютно самодовлеющая величина, всецело замкнутая
в своей собственной динамике. Разрушение имеет самодовлею
щую ценность, оно собственно и есть основной элемент деятель
ности «пролетариата». «Переустраивающая и формообразующая
сила пролетариата слагается только посредством накопления мо
ментов разрушения, обнаруживается только в этом» и.
Теоретический (и практический) нигилизм такого рода —не
новость. В наше время, пожалуй, самое опасное, хотя и вполне
логическое его следствие,—тяготение к войне . Милитаризм, даже
ультралшлитаризм —характерная черта идеологии и стратегии
террористов. Фанатичная идея войны, гражданской и мировой,
едва ли не самая центральная во всех их документах до самого
недавнего времени. Интересно было бы в этой связи проанали
зировать лексику террористов с точки зрения того, в каких соче
таниях и как часто употреблялось ими слово «война». Вот неко
торые из этих сочетаний, заимствованные из их документов:
«война революционного класса», «антиимпериалистическая осво
бодительная война», «длительная война», «классовая война в им
периалистических метрополиях», «процесс развивающейся граж
данской войны», «революционная классовая война пролетариата»,
«война коммунистических сил против империализма и социал-империализма», «уже идущая третья мировая война», «антиимпе
риалистическая гражданская война», «партизанская война в мет
рополиях» и т. д.
Эти словосочетания очень симптоматичны. В них мы видим
обычное для террористов смешение бесспорных и справедли
вых положений («антиимпериалистическая освободительная вой
на» — актуальный лозунг для некоторых стран и регионов
и фразеологических сочетаний, порожденных фантастико-мифологическим и типично милитаристским сознанием.
Слово «война» до недавнего прошлого не сходило с языка тер
рористов. Послушаем, например, А. Негри. «Онтологическая си
туация» современного мира, как говорит он,—это «ситуация
войны», «падение посредничества свободного рынка» восстанови
ло «абсолютность конфликта и насилия», старый мир знает толь
ко иллюзорные пацифистские утопии, скрывающие «реальность
войны». «Отношение между развитием—кризисом и классовой
борьбой можно себе представить только в форме войны»; «всякие
миролюбивые демарши столь же патетичны, сколь и лицемерны,
понятие войны является центральным и имеет не только нега
тивный, но и позитивный смысл», «логика войны функционирует
внутри конститутивного процесса рабочего и пролетарского клас
са», «логика войны направляет подрывной разум к образу ком
мунизма» и т. п.12
291
10*
Эти выдержки заимствованы из книги А. Негри «Коммунизм
я война», выпущенной в 1980 г. Воинственные тирады, содержа
щиеся в ней, обосновываются следующим образом: капитализм
ведет беспощадную войну против пролетариата, поскольку у него
нет уже других средств для урегулирования кризиса, маневров
и манипулирования. И поскольку это так —война (как граждан
ская, так и другая) неизбежна, у пролетариата нет иных путей,
кроме немедленного обращения к вооруженному насилию. J
Выше уже отмечалось, что воинственная риторика «левых»
террористов временами отступает сейчас на задний план, «крово
жадные» тезисы стали переплетаться в их декларациях с разгла
гольствованиями о «борьбе за мир». «Левые» террористы пытают
ся заигрывать с антивоенными движениями, представлять свои
нападения на базы и функционеров НАТО как акции «в защиту
мира».
Это и понятно. В наше время нельзя иначе. Нет более удоб
ной и выгодной формы демагогии, чем показная «борьба за мир».
Чтобы определить истинность или фальшь миролюбивых речей в
акций, нужно всегда смотреть, к чему они реально ведут.
Как уже говорилось, новая форма «левого» терроризма —
«антинатовский» и «антиамериканский» терроризм, несмотря на
пацифистские декларации, только усиливает угрозу войны, дис
кредитируя своей преступной практикой демократические движе
ния в защиту мира, давая американскому империализму лишний
предлог для ужесточения своей политики военных приготовле
ний и даже для прямых военных акций.
Это позволяет сделать вывод, что за антивоенной риторикой
современных «левых» террористов не стоит ничего, кроме реаль
ного и органичного для их идеологии и практики тяготения к
войне, которую они вслед за своими учителями всегда считали
«матерью революции».
Впрочем, террористам не чужда и противоположная идея.
В свое время в сборнике документов «Японской красной армии»,
носившем характерное название «Скачок в мировую революцион
ную войну», террористы объявляли революционное восстание
стимулом мировой войны. Целый раздел этой книги назывался
«Через восстание —к победе войны» 13. Одним из объектов сло
весных атак «левых»1террористов было тогда «мирное сосущество
вание», которое «разоблачалось» как результат козней империа
лизма и социал-империализма.
Выше уже говорилось, что ультрамилитаризм для террористов
есть нечто такое, что включает в себя и желанную цель, и сред
ство ее осуществления, и оправдание, своего рода моральное
алиби преступной террористической практики. Этот ультрамили
таризм носит необходимо экспансионистский, империалистиче292
скип характер, несмотря на все проклятья в адрес империализма
и все разговоры об «интернационализме». Теми же средствами,
которыми «социальная справедливость», «спасение» должны рас
пространиться на собственный народ, вопреки тому, что он
и слышать об этом не хочет, они должны быть распространены
и на другие народы. Ведь только «левые» экстремисты «знают»,
что нужно для народов, как это «знали» когда-то фанатичные ли
деры религиозных движений или современные фашистские дик
таторы. История подтверждает, что когда реализуются искус
ственные, нежизнеспособные идеи подобного рода фанатиков, они
на штыках несут их другим народам.
Экспансионистский милитаризм, быть может, самый опасный
из компонентов экстремистской идеологии, учитывая, что в нашу
эпоху любые военные проекты таят в себе угрозу глобальной ка
тастрофы. Человечество сможет выжить, только если ему удастся
преодолеть и навсегда устранить милитаризм и экспансионизм во
всех формах, в макро- и микровариантах.
Современный «левый» экстремизм, если можно так выразить
ся, антифутурологичен. В этом есть своя логика: экстремистское
нетерпение всегда постулировало в основном разрушение «старо
го мира». Затем, конечно, собирались построить «новый мир», но
каким он будет, этим вопросом экстремистские «теоретики» себя
не очень утруждали. По мнению, приводимому в американском
журнале «Орбис», «левый» террорист «руководствуется в своей
деятельности... утопическим убеждением в необходимости разру
шения того общества, которого он не понимает, в целях построе
ния общества, о котором он имеет весьма смутное представ
ление» 14. Экстремисты действуют по формуле —«сначала раз
рушим, а там посмотрим». При этом у них не возникает ни
малейших сомнений, что грядущий мир будет несравненно «луч
ше», чем прежний. Поэтому они всегда с необыкновенной
легкостью подходили, если вообще «подходили», к решению буду
щих экономических, социальных и политических проблем. Счита
лось, что после уничтожения социальной несправедливости и
эксплуатации все само собой «образуется» и устроится наилуч
шим образом.
Подозрения, что «новый мир» может быть не совсем таким,
какий рисуется в сладких, но весьма туманных грёзах, могли
возникать’только у «отступников», «уклонистов», «врагов», кото
рые брали на себя труд создавать весьма зловещие картины
такого «будущего мира». С некоторыми из этих картин необхо
димо будет, хотя бы бегло, познакомиться, поскольку именно в
них выявлены многие существенные тенденции экстремистской
футурологии, сначала, однако, посмотрим, как сами «левые»
экстремисты представляют себе будущий мир, хотя рассуждения
293
на эту тему довольно редки и концепции будущего приходится
чаще всего «реконструировать» по отдельным фрагментам, лозун
гам, замечаниям и в большой мере — по их нынешней практике.
«Левый» терроризм в общем тяготеет соответственно своим
основным формам к двум футурологическим моделям: догматико
левацкой и анархистской с различными промежуточными вариан
тами. Первая из этих моделей, именуемая иногда в документах
террористов «диктатурой пролетариата», в сущности является
моделью «казарменного коммунизма». Штрихи этой «модели»
видны в обрисованной выше террористической практике с ее сле
пым подчинением догме, фанатизмом, полным пренебрежением к
человеческой личности и народным массам, чисто утилитарным
отношением к человеку, с варварскими расправами над своими
и «чужими», лицемерием, тотальным контролем, взаимной слеж
кой, отказом от элементарных моральных устоев, нигилизмом,
иезуитизмом, демагогией и т. п. Эти и многие другие элементы
террористической практики позволяют достаточно определенно
судить о том, каким будет будущее, если такие люди придут к
власти. Характерный его фрагмент —это «народные суды» и «на
родные тюрьмы», о которых говорилось выше.
Обратим внимание вот на какую сторону дела. Речь идет
о «диктатуре пролетариата», но какого «пролетариата»? Мы виде
ли, как представляют себе «пролетариат» идеологи «левого» экст
ремизма. Сами террористы, люмпен-пролетарии и люмпен-ннтеллигенты, даже уголовники. Можно представить, к чему привела
бы «диктатура» подобной публики!
Проанализируем теперь менее «казарменную», более «весе
лую» модель будущего, созданную хорошо знакомым нам теоре
тиком «левого» экстремизма А. Негри. Эта концепция будущего
основана на упоминавшейся выше идее освобождения человече
ских инстинктов, «немедленного» удовлетворения всех потреб
ностей. отказе от государства, труда и многих социокультурных
институтов. Это будет всеобщее (и почти немедленное!) празд
нество. Сразу же возникает вопрос: на какой экономической
основе оно будет происходить и к каким следствиям приведет?
Ведь инстинкты будут освобождены, потребности надо будет
удовлетворять, а регулирующие, сдерживающие и репрессивные
институты будут отменены. К тому же всеобщий «карнавал»
будет происходить на руинах культуры, которую жизнерадостные
анархисты отнюдь не собираются щадить.
А теперь разберемся по порядку. Прежде всего А. Негри счи
тает необходимым обругать идеи будущего общественного устрой
ства, выдвигаемые его противниками —коммунистами. «Проле
тариат...—-говорит он,—не знает, что ему делать со светлым
будущим, которое предлагают ему субъекты, посторонние по от
294
ношению к его движению, он не знает, что ему делать с „про
грессом", к которому его ведут» 15. Прекрасные вершины, кото
рые он должен завоевать, по мнению Негри, «живут лишь в
воображении тех, кто совершенно оторван от реальных потреб
ностей пролетариата» 16.
«Расчистив» себе таким образом почву, Негри приступает к
конструированию собственной (или, скорее, не столько «собствен
ной», сколько заимствованной из разных источников) футуроло
гической модели. Нельзя сказать, впрочем, что взгляды Негри на
будущее имеют четкие контуры. Серьезный подход - к вопросу
у'него постоянно подменяется туманной риторикой или спекуля
тивными парадоксами. Но основное ясно: центральная идея его
концепции —полное отсутствие Связи и преемственности буду
щего «коммунистического» общества с прошлым и настоящим.
«Коммунизм», к которому он апеллирует, есть, с его точ
ки зрения, прежде всего уничтожение труда. Созидание «комму
низма», говорит он, «это антагонистический и субъективный про
цесс уничтожения труда. Коммунизм есть уничтожение капита
лизма во всех отношениях. Это —не труд» 17.
Переход к подобному «коммунизму» должен происходить не
посредственно от нынешних форм капиталистической системы,
минуя стадию социализма, поскольку социализм, по мнению
А. Негри,— это не что иное как «высшая форма рациональности
капитализма» 18.
Негри утверждает, что основное противоречие марксистской
теории заключается в том, что, предсказав исчезновение государ
ства, эксплуатации и отчужденного труда, на самом деле она при
вела к режимам, которые усилили и то и другое. С другой сто
роны, западный капитализм, по Негри, создал, вопреки собствен
ному способу производства, такое общество, которое может
перейти к «чистому коммунизму» и уничтожению государства,
минуя промежуточную, социалистическую стадию.
Но как же будет осуществляться этот переход? Поскольку от
проблем организации уйти никак нельзя, а государства, партий
и организаций у пролетариата не должно остаться,, то в ход пус
кается туманная риторика о том, что организация —это «само
организация», это «демократия коммунизма», внутренний процесс
переформирования и развития «рабочего единства» и т. п. Сам
«коммунизм» —это процесс, который, в сущности, уже начался
и вступит полностью в свои права после окончательной победы
экстремистов. Принцип распределения при этом будет сразу же
заменен простым н непосредственным присвоением, будут отме
нен^ деньги, останется только «потребительная стоимость», за
которую уже сейчас пролетариат ведет борьбу. «Репродуктивное
накопление» станет легко разрешимой проблемой.
295
Проблема социальных преобразований решается Негрн одним
росчерком пера, так как не имеет никакой связи с реальностью
и ее сложными процессами. Конечно, коммунистическое обще
ственное самоуправление, отмена денег и т. д.—идеальное реше
ние многих проблем, но попытка немедленной реализации всего
этого —вещь не только не реалистическая, но опасная, посколь
ку тант в себе угрозу социально-экономического хаоса. Послу
шаем, однако, Негри: «Проблема производства (воспроизвод
ства) —распределения уступает место фундаментальному зако
ну, который начинает господствовать: закону не-труда, отказ от
принуждения к труду становится всеобщим. В период, который
ведет к универсализации этого закона и к его господству, труд
всех будет сведен к минимуму. Чтобы воспроизводить этот дерь
мовый мир, можно работать пару часов, если работать буд^т
все!» 1Э.
Что все это означает? К чему могут прпвести столь «радикаль
ные» (и столь легкомысленные!) уравнительные реформы?
Почему нужно воспроизводить «дерьмовый мир» и не станет ли
он при таком подходе еще хуже?
Переходный период, по Негри, предполагает равную «со
циальною» (т. е., по-видимому, натуральную) зарплату для всех,
«коллективную коммунитарную плюралистическую организацию
общественного времени», «равенство всех коллективных форм ав
тономии», «уничтожение всех обособленных институтов, корпора
ций и репрессивных органов» и «освобождение воображения».
Этот этап должен быть периодом непрерывной «культурной рево
люции», цель которой —стереть все следы буржуазного общества.
Добавим к этому, что переходный период, по Негри, предполагает
фактическое уничтожение интеллигенции, ряда наук, замену ин
дивидуального сознания и разума «коллективной инициативой»,
а также лингвистическую реформу, предусматривающую создание
специфического «пролетарского языка», который должен стать
единственным средством выражения «революционных» идей.
Впрочем, Негри пытается иногда все же смягчить столь со
мнительную перспективу. Первоначально, говорит он, будет про
изведена лишь всеобщая реорганизация рабочего дня, который
будет содержать все больше элементов творчества, учебы, нова
торства, управления. Все будут учиться, изобретать п управлять
общиной. Причем это произойдет не в далеком будущем, а быстро.
«В рамках немедленного всеобщего обобществления всех благ
производство, новаторство, управление настолько переплетаются,
что трудно определить специфические места для проведения того
или другого... И они могут существовать только как переплете
ние, которое разворачивается в организации рабочего дня каждо
го пролетария» 20“21.
296
Очевидно, что за красивыми фразами, скрываются весьма
подозрительные вещи. Из-под флера рафинированной фразеоло
гии и некоторых квазимарксистских клише весьма прозрачно
проглядывает все та же модель «казарменного коммунизма» со
всеобщей уравниловкой и «обобществлением», немедленной отме
ной целого ряда социокультурных институтов, нигилистическим
отрицанием социальных и культурных ценностей и т. д.
Столь различные на первый взгляд экстремистские футуроло
гические модели —мрачная модель «казарменного коммунизма»
и «веселая» анархистская модель —оказываются не так уж дале
ки друг от друга, во всяком случае в тенденции. Эксперименты
с «немедленным обобществлением», «отменой» государства и ре
прессивных органов, «уничтожением» денег и многого другого,
уравнением зарплаты потребовали бы жесточайшей диктатуры,
но чьей? Ответ на этот вопрос возвращает все «на круги
своя» — это, конечно, опять же диктатура самих террористов
к милых их сердцу люмпенов и уголовников. Всеобщий «карна
вал» будет, конечно, веселым, но жутковатым!
Теперь обратимся к свидетельствам противников экстремизма.
Без такого обращения обойтись невозможно, так как разговор
о футурологических моделях был бы далеко не полным и во мно
гом бездоказательным, если бы мы ограничились только легко
весными фантазиями «левых» экстремистов. Ведь левацкий «антифутурологизм», о котором сказано выше,—не простая случай
ность, а вещь достаточно органичная и принципиальная.
Бакунин считал, например, что всякие рассуждения о будущем
преступны и контрреволюционны, поскольку отвлекают от основ
ного дела — разрушения существующего.
Таким образом, обращение к картинам экстремистского «буду
щего», рисуемым «врагами», обусловлено своего рода «разделе
нием труда»: сами экстремисты заняты почти исключительна
своими «текущими делами», считая, что в будущем в случае их
победы все само собой «устроится». А вот как «устроится» —об
этом уж говорят их противники, которые, несмотря на вполне
понятные упреки в «необъективности», оказываются, как под
тверждает опыт, неплохими «пророками».
Наиболее выразительны и известны те из их прогнозов, ко
торые даны с помощью художественных средств. Именно худо
жественная литература, пожалуй, даже в большей степени, чем
исследовательская мысль, способна дать представление о пара
доксальных, фантастических перспективах, которые вырастают
из экстремистских идей и практики. Именно художественная ли
тература особенно рельефно может высвечивать тенденции и
аспекты явлений, которые в реальности бывают скрытыми, едва
различимыми или замаскированными рядом случайных и привхо
297
дящих обстоятельств. Абсурдный гротеск, который для многих
в настоящем и будущем неразличим становится очевидным, пре
вращаясь в объект художественного творчества и художественно
го преувеличения (хотя можно ли говорить о преувеличении,
если речь идет об экстремистской практике?). Одна из самых
страшных черт террористических режимов, изображаемых в ху
дожественных антиутопиях, заключается в том, что людп, живу
щие в условиях дичайшего, бесчеловечного абсурда, жесточайше
го угнетения, преследований, издевательств, считают эти условия
вполне естественными, нормальными, многие из них не могут
даже представить себе иной жизни, полагая, что живут в «наи
лучшем из миров», что все возможное зло сосредоточено за пре
делами этого мира. Художественные средства позволяют исклю
чительно четко и ясно увидеть этот абсурд, это извращение
человеческой личности и бороться с ними. В этом великая гума
нистическая сила, значение и актуальность подобных книг —
«предупреждений»!
«Классическими» образцами таких книг, своего рода энцикло
педией «левого» экстремизма стали знаменитые романы Д. Оруэлла и О. Хаксли. Однако, о них так много написано, что вряд ли
стоит повторяться. Существует множество других литературных
«предупреждений» по поводу того, что произойдет —не может не
произойти —если фашистские и левацкие террористы придут к
власти. Любопытно, что некоторые из них были созданы еще до
реальных исторических прецедентов такого рода. Другие являют
ся сатирическим осмыслением исторического опыта. Мы ограни
чимся упоминанием двух опубликованных у нас произведений.
Выбор обусловлен тем, что каждое из них отражает одну из двух
основных моделей террористической практики, идеологии и футу
рологии— «догматико-казарменную» и анархистскую.
Повесть советского писателя Андрея Аникина «Пятое путе
шествие Гулливера», опубликованная в 1978 г. в сборнике «Фан
тастика-78» —колоритная иллюстрация первой из этих моделей.
Центральная идея повести Аникина и всех антиутопий такого
рода заключается в следующем: принципы и практика экстре
мистского фанатизма на всех уровнях и этапах ведут к крайней,
иррациональной бессмыслице, к абсурду, под густыми и гротеск
ными наслоениями которых есть своя «железная» логика, логика
доведенного до крайнего предела тоталитарного режима.
Книги — «предупреждения» предостерегают, впрочем, не толь
ко против аскетически-«казарменных» экстремистских режимов,
но и против футурологических перспектив «веселого», анархист
ского терроризма. Обратимся в этой связи к роману китайского
писателя Лао Шэ «Записки о кошачьем городе», изданному у нас
издательством «Наука» в 1974 г. В этой антиутопии показаны
298
возможные следствия анархистской модели терроризма, показа
но, к чему может в будущем привести гибрид террористической
диктатуры и анархистской вольннцы, этих двух кажущихся анти
подов, между которыми мечутся террористические групппровки
типа «автономистов». Здесь тоже перед нами царство абсурда, но
несколько иного рода.
Государство людей-кошек показано на последнем этапе своего
разложения. В нем царит всеобщее безделье, экономика —в пол
ном упадке, чиновникам и учителям нечего делать. Средства к
существованию добываются исключительно путем распродажи
земель, национальных богатств, музейных экспонатов, книг. Все
легкомысленны п веселы и почти все утратили способность
к какой-либо серьезной деятельности. Однако в этом государ
стве постоянно с важным видом рассуждают о государственных
делах. Образование сводится к выдаче дипломов всем желающим.
«Наука» и «ученые» существуют формально. Впрочем, на взаим
ные свары и резню люди еще способны, эта способность даже воз
растает, методы убийства становятся все более утонченными.
Власть в этом обществе —только средство угнетения и при
теснения, она не исчезает в анархическом бедламе, но становит
ся чисто негативной силой, не способной что-либо изменить, да
собственно и не стремящейся к этому. «Да, опасное это дело —
революция в руках невежд»1,—восклицает один из главных героев
романа, тяжело переживающий распад своей страны. Он пони
мает, что для возрождения нужно вернуться к человеческим нор
мам, но видит, что это невозможно. Пережито слишком много
политических бурь, понаделано масса такого, после чего нет
уже пути назад. Все человеческое искоренено, люди утратили че
ловеческий облик (что выражено в символе «люди-кошки»).
Рассматриваемый роман как бы просится стать естественным
эпилогом футурологического фантазирования А. Негри. Он о том,
что принесение в жертву человеческого в человеке ради сомни
тельных пустопорожних прожектов ведет к непоправимым послед
ствиям. Он о том, что сочетание террора, деструктивизма и анар
хизма не может привести ни к чему, кроме разложения, упадка
и гибели. Таково «предупреждение», заключенное в романе,
предупреждение, адресованное прекраснодушным и легкомыслен
ным адептам анархотеррористической футурологии.
Итак, вот куда ведут пророки казарменной уравниловки и
анархистского «карнавала». Конечно, их пути, приводящие в об
щем к близким результатам, далеко не во всем совпадают. Так,
мы видели, например, что аскетическая ориентация —принци
пиальная и органичная черта практики, социальной философии
и футурологии экстремизма. Но далеко не всякого. Экстремизму
контркультурной, «автономистской» направленности, отвергающе
299
му «трудовую этику», ориентирующемуся на анархистское эпику
рейство, стремящемуся в настоящем и будущем только наслаж
даться жизнью, «жить весело», изуверский аскетизм, понятно, не
подходит. И происходит удивительное! Место того, что условно
можно назвать «антисексуальным» терроризмом, занимает здесь
нечто близкое к «терроризму секса». Идеология и футурология
аскетического ригоризма вытесняется идеями, утопиями, а отчас
ти и практикой обязательного промискуитета. Так было в теории,
например, в некоторых концепциях «левого» фрейдизма, делав
ших самые крайние выводы из некоторых идей основателя психо
анализа, так было и в практике ряда коммунитарных неопримитивистских движений, в число принципов которых входило чуть
ли не принудительное сожительство «всех со всеми».
Заканчивая разговор об экстремистской футурологии, подве
дем некоторые итоги. Проекты будущего у экстремистов могут
быть разными: это может быть «футурология антифутурологизма», могут проектироваться жестко централизованные и анар
хистские системы, но все они прямо или косвенно, откровенно
или замаскированно тяготеют к авторитаризму, к жесткой и все
сторонней регламентации человеческой жизни, поведения, мыс
лей. Экстремистские обладатели высших и абсолютных истин,
распорядители народных судеб, обладающие «единственным и
неповторимым» знанием того, что нужно «для» народа, каким он
«должен быть», не могут допустить каких-либо отклонений от
заранее предначертанных схем и догм. За «отклонение» пола
гается, в сущности единственная, расплата, к великому для экст
ремистов сожалению не всегда осуществимая,—смерть. Вот в чем
глубинный корень всякого терроризма.
Таким образом, как в деятельности террористических группи
ровок, так и в их концепциях неизменно проступает облик авто
ритарной диктатуры фашистского типа, которую экстремистские
фанатики^ стремятся навязать обществу. Именно так смысл идео
логии терроризма трактуют почти все наблюдатели и исследова
тели. Газета «Унита» приводила в свое время очень точные сло
ва одного журналиста: «Терроризм —это всегда первое проявле
ние того, что потом становится диктатурой»22. Автор книги
«Последнее оружие: террористы и мировой порядок» Я. Шрейбер
говорит, что террористы ничем не лучше тиранов: если завтра
они окажутся у власти, то будут делать то же самое. Идеология
и практика «левых» террористов, говорится в книге «Насилие и
политика», ведет к легитимации авторитарной власти, к дегума
низации общества, к репрессивной этике жертвенности во имя
«идеального» будущего23. «Мы должны были бы,— заявил участ
ник одной из дискуссий о терроризме среди итальянских левых
групп,—выступать против террористов не только п не столько по
300
поводу использования насилия, сколько по поводу того, что за их
насилием, за их пренебрежением к законности, за их репрессив
ной практикой (сходной с соответствующей практикой «систе
мы») скрывается идея типично авторитарного общества, которое
уже сегодня живет в их концепции выступать детонатором и сти
мулом для масс, которых считают аморфными, пассивными, оту
певшими» 24.
Очевидно, что мифологическое, «инфернальное» видение мира
распространяется террористами не только на настоящее, но и на
«будущее. Осуществление футурологических программ современ
ного терроризма привело бы к созданию с помощью ультрасовре
менных технических средств универсальной тоталитарной систе
мы, «заорганизованного» мира, к универсальной «роботизации»
людей, превращению их в полностью контролируемых и манипу
лируемых марионеток. Сейчас тенденции такого рода реакция
пытается воплотить в жизнь главным образом в некоторых малых
странах Азии и Латинской Америки. Демократические силы со
временного мира превратились во влиятельный фактор и бдитель
но стоят на страже прав человека, ценностей гуманизма и куль
туры. Однако не исключено, что в будущем будут предприняты
попытки нанести поражение этим силам и установить режим
всеобщего страха, бесправия, тотального контроля над мыслями
и действиями людей, насилия и террора.
Прообразы такого мира постоянно возникали и возникают в
нашем веке в форме фашистских и левацких диктатур, террорис
ты хотели бы воспроизвести эти модели, создать «новый мир»
согласно этим схемам.
1 S d j A . Brigate Rosse — Siato. Fi
renze, 1978. P. '2 21.
2 Morality of terrorism. N. Y., 1982.
P. 86.
3 Цит. no: Mussi T. Sulle Teorie del
«partito armato» / / Rinascita. 1978.
N 3. P. 23.
4 Sulla violenza politica e terrorismo.
Roma, 1978. P. 32.
5 A c q u a v i v a S. S. Guerriglia e guerra
rivoluzionaria in Italia. Milano,
1979. P. 94.
6 R o n c h e y A. Libro bianco sull’ultima generazione: tra candore e terrore. Milano, 1978. P. 100.
7 Fetscher
R o h m o s e r G. Ideologien und Strategien. Opladen, 1981.
S. 81.
8 Mi i l l er- Bur chart H. J. Guerilla im
Industriestaat. Hamburg, 1973. S. 32.
9 Тайго о тотоыоэё! Токио, 1975.
С. 192.
10 The New York Rev. of Books. 1979.
N 13. P. 26.
11 La violenza e la politica. P. 62.
12 Ne g r i A. II comunismo e la guerra.
P. 14, 22, 25, 88, 98, 102, 112.
13 Сэкай какумэй сэнсо э но хияку.
Токио, 1971. На яп. яз.
14~ 15 Orbis. Philad, 1984. Vol. 28, N 1,
P. 30.
16 Ne g r i A. Op. cit. P. 21—22.
17 Ibid. P. 171.
18 Ne g r i A. Marx oltre Marx. Milano.
1979. P. 175.
19 Ne g r i A. Op. cit. P. 132.
20 Ibid. P. 133.
21-22 Unita. 1981. 13 genn.
23 La violenza e la politica. P. 56.
24 Sulla violenza politica e terrorismo.
P. 102.
301
Глава пятая
Перспективы
Прогнозирование путей п перспектив терроризма, в частности
«левого» терроризма в современном мире —как и прогнозирова
ние многих других сложных социально-политических явлений —
вещь чрезвычайно трудная и проблематичная. Здесь мы вступаем
в «зыбкую» сферу бесчисленных дискуссий и гипотез, далеко не
всегда достаточно обоснованных, а иногда просто сомнительных
или предвзятых.
Характер прогнозов определяется, конечно, в первую очередь
политическими ориентациями, а их вероятностный характер тем
обстоятельством, что развитие и судьбы таких явлений зависят
от слишком большого числа факторов, динамика и эволюция ко
торых в свою очередь весьма гипотетичны.
Для того, чтобы с максимальной объективностью поставить
вопрос о перспективах терроризма, следует предварительно рас
смотреть проблему, какие угрозы несет он в себе, какие из
отих угроз подлинные, какие мнимые и кто в них заинтересо
ван.
В этой связи прежде всего необходимо вернуться к вопросу
о взаимоотношении государственного и оппозиционного террориз
ма, взаимоотношении сложном и неоднозначном. Эти две формы
терроризма нередко очень тесно переплетаются, переходят одна
в другую, являются взаимовыгодными. К какой форме терроризма
относится, например, подпольная деятельность террористических
групп', направляемая против прогрессивных режимов империали
стическими державами? Это одновременно и оппозиционный,
и государственный терроризм. Это —оппозиционный терроризм,
ставший прямым орудием государственного. Смыкаясь, эти две
формы терроризма в наиболее рельефной форме демонстрируют
общность своей природы.
Общность природы, взаимопереплетение или преемственность
просматриваются и в тех вариантах этих форм терроризма, кото
рые на первый взгляд достаточно далеки друг от друга. В част
ности, если речь идет об империалистическом государственном и
подпольном «левом» терроризме. Вспомним, что при фашистских
диктатурах, если они не находятся в стадии распада, конечно,
подпольный терроризм, как правило, отсутствует; вместе с тем
наибольшего развития он достигает именно в странах с фашист
ским прошлым. «Школа» государственного террора, «профессио
нальная» практическая и идеологическая традиция, пропагандист302
скии «тренаж» не проходят даром, оказывают существенное влия
ние на социальную психологию и поведенческие модели. Культ
насилия долго еще дает о себе знать, хотя рецидивы его имеют
место нередко, так сказать, с «обратным знаком», в форме не
только ультраправого, но и левацкого терроризма. Экстремист
ское сознание с его фанатизмом, нетерпимостью, авторитаризмом,
агрессивностью функционирует одинаково на всех уровнях —
в борьбе за власть и на ее вершине, в подрыве «устоев» и в их
укреплении. Один из «раскаявшихся» лидеров РАФ X. Малер
говорил, что, будучи террористом, он втайне мечтал об автори
тарном государстве, мини-аналогом которого была террористиче
ская группа, требовавшая от своих членов бездумной, автомати
ческой дисциплины, слепого подчинения руководству, фанатич
ного следования экстремистской доктрине. Именно такие группы
представлялись террористам прообразом будущего общества,
констатирует И. Фетчер в статье «Идеология террористов в
ФРГ».
Стало быть терроризм, в частности «левый» терроризм, это де
тище тоталитарных традиций, фашистского прошлого, сам тайно
или явно мечтает о фашистском будущем, о фашистских или
левацких диктатурах, различие между которыми в общем столь
же второстепенно, как и различие между «левыми» и правыми
террористическими группировками. Взаимоотношения этих груп
пировок, которые постоянно демонстрируют их неожиданную
близость и родство во многих отношениях, вещь чрезвычайно
симптоматичная, которая позволяет не только еще раз убедиться
в иллюзорности «левизны» левацкого терроризма, но и понять
органичность той, на первый взгляд, парадоксальной нити, кото
рая связывает его с империалистическим государственным тер
рором.
В целом эти взаимоотношения сложны и противоречивы.
В разных странах они принимают различные формы, чаще всего
характеризующиеся ожесточенной враждой, иногда доходящей до
вооруженных столкновений. Однако кое-где, особенно в некото
рых европейских странах, имеют место и другие тенденции, ко
торые красноречиво свидетельствуют, что в смертельную схватку
могут вступать и «близнецы-братья». Борьба между ультралевы
ми и ультраправыми группировками иногда вдруг неожиданно
уступает место нейтралитету, молчаливому соглашению о един
стве действий, даже поискам контактов. В выступлениях некото
рых неофашистских и ультралевых лидеров вдруг проскальзы
вает мысль, что между двумя разновидностями террористических
групп больше общего, чем отличного: у обеих общие противни
ки —государственные институты, компартии и профсоюзы, обе
стремятся создать атмосферу социальной напряженности, хаоса,
ненависти и страха, развязать гражданскую войну, установить
жесткую тоталитарную диктатуру. Наиболее «смелые» экстре
мисты ставят даже вопрос об объединении на данном этапе, оста
вив сведение счетов «на потом». Один из лидеров итальянских
ультраправых экстремистов П. Раути, например, предлагал
ультралевым «перемирие» с целью сосредоточения всех сил на
борьбе против «общего врага». По свидетельству американского
журнала «Орбис», правые и «левые» террористы в ФРГ в начале
80-х годов заявили об «идеологической близости, основанной на
единстве конечной цели —разрушении существующего обще
ства» \
Такого рода тенденции имеют весьма солидную основу —
общность социальной базы «левого» и неофашистского терро
ризма.
По свидетельству бельгийской газеты «Суар», приводимому
в книге А. С. Грачева «Тупики политического насилия», «как
крайне левые, так и крайне правые террористы рекрутируют
своих сторонников в одних и тех же слоях —среди отверженных,
маргинальных и забытых общественных слоев» 2. Ультралевые и
ультраправые террористы, будучи выходцами из одной социаль
ной среды, по существу нужны друг другу, и когда между ними
происходит борьба, то это —так сказать, внутривидовая борьба,
которая, как известно, бывает не менее ожесточенной, чем борь
ба межвидовая. «В известном смысле они необходимы друг дру
гу,—пишет А. С. Грачев,—ибо каждый находит в действиях
другого объяснение и оправдание собственным преступлениям.
Эта общность отражает не случайные совпадения внешних при
знаков различных явлений, а их принципиальное органическое
родство» 3.
Характерно, что стиль деятельности, структура, организация,
техника, методы и даже отчасти идеология и фразеология пра
вых и «левых» террористов удивительно схожи. Иногда настоль
ко схожи, что это приводит к невозможности точного определе
ния истинной политической ориентации некоторых террористиче
ских групп.
Так, например, террористы, создавшие крайне напряжен
ную обстановку в Перу, объявляют себя «левыми», но есть
мнение, что под этой вывеской может скрываться ультрапра
вая организация, и для подобного вывода существуют веские
основания, хотя эта организация и выступает под маоистскими
лозунгами. Жестокие расправы над мирным населением, массо
вые расстрелы, бессмысленные террористические акты с мно
гочисленными жертвами (в том числе нападение на советское
посольство и советских рыбаков), которыми «прославилась»
«Сендеро луминосо», фактически дают столь же мало резонов от
304
личать эту организацию от фашистских, как, скажем, организа
цию «красных кхмеров». Это как раз тот предел, где «левое» и
правое полностью смыкаются, становятся неразличимыми. Впро
чем, их переплетение и уподобление имеет место и в других слу
чаях.
Так, например, по свидетельствам прессы, основные италь
янские террористические группировки леваков и неофашис
тов—«Красные бригады» и НАР («Вооруженные революцион
ные ячейки») —во многом подобны, заимствуют опыт и методы
ДРУГ др уга.
Нельзя считать случайным то обстоятельство, что часто не
возможно определить, «левые» или правые являются исполните
лями того или иного террористического акта, подчеркивается
в книге «Террористическая шестерня» одного пз лидеров фран
цузских «левых» экстремистов А. Жейсмара. Применение терро
ра в качестве обычного и тем более основного метода «борьбы»,
говорит он, необходимо приводит к полному извращению харак
тера этой борьбы, к ее «фашизации». Это несомненно интересная
и глубокая мысль, относящаяся как к подпольному, так и к госу
дарственному терроризму, показывающая еще одну —незри
мую —нить их связывающую.
Говоря о тех чертах, которые роднят «левый» терроризм с
фашизмом, небесполезно упомянуть о наборе этих черт, приводи
мом в нашумевшей книге Д. Беккер «Дети Гитлера». Среди них:
насильственное навязывание любыми, в том числе самыми кро
вавыми и бесчеловечными, средствами своей воли другим людям,
как правило, огромному большинству; отрицание демократиче
ских принципов, свободного выражения мнений; элитаризм и тя
готение к культу вождей; обвинение существующих государств и
правительств в «упадке», в том, что они находятся в «заговоре»
против всех и вся, не выражают интересов народа и т. п.
Можно, конечно, спорить с некоторыми из этих сопоставле
ний, однако несомненно одно —не только объективные факты,
но и многие исследователи самой различной ориентации под
тверждают принципиальное родство «левого» терроризма и тер
роризма фашистского в подпольном и государственном вариантах.
Концепция и практика тоталитарной диктатуры, пренебрежи
тельное отношение к личности и правам человека, подход к че
ловеку исключительно как к средству для достижения специфи
ческих целей, которые ставит перед собой правящая элита, стрем
ление превратить его в послушного робота, культ насилия и
войны, бесстыдная и примитивная демагогия —все это роднит
фашистские и левацкие диктатуры с оппозиционным террориз
мом. Сближает их и стремление навязать нежизнеспособные ре
жимы от имени воображаемого «народа» реальному народу.
305
Антинародная, террористическая прнрода такнх режимов прояв
ляется в методах полицейского насилия, тотальной слежки, по
давления гражданских прав и т. п. Отказ от этих методов быстро
приводит к пх крушению и торжеству демократических сил.
Впрочем, и применение подобных методов тоже имеет пределы и
в конечном итоге не спасает от краха, о чем свидетельствуют
примеры Испании, Португалии, Никарагуа, полпотовской Кампу
чии и ряда других стран.
Конечно, неправомерно было бы утверждать, будто все режи
мы подобного рода основаны только на насилии. Шовинизм, на
циональный эгоизм и конформизм немецких обывателей сыграли
существенную роль в недолговечной, но страшной истории одного
из самых мрачных террористических режимов —германского фа
шизма. Немалый и довольно длительный успех могут иметь про
пагандистская демагогия и обман: в других случаях их воздей
ствие менее значительно, что можно сказать, например, о фашист
ской Италии и особенно о некоторых странах, где тоталитарные
диктатуры искусственно и насильственно насаждаются империа
лизмом и поддерживаются чисто террористическими методами.
Идейная и практическая общность государственного и оппо
зиционного терроризма—во всяком случае на первых этапах их
эволюции —обусловлена одной общей для их адептов чертой: все
они непоколебимо убеждены, что нашли единственную и оконча
тельную истину, уникальный, абсолютный и неповторимый рецепт
«спасения» человечества (или своего народа), единственный путь
к «светлому будущему». Но вместо того, чтобы «осознать» и с
«благодарностью» идти по начертанному пророками и вождями
пути, человечество — или народ — упрямо отвергает предписы
ваемый ему «рай». Поэтому ему надо навязать догматическую
веру фанатиков «абсолюта» любыми средствами, если' нужно —
с помощью крайних форм террора, шагая по трупам.
У истоков террора могут стоять «высокие» идеалы, мессиан
ские абсолюты, вера в высшее благо. Невозможность иными
средствами обратить других —и не просто других, а большин
ство — в эту веру, собственно, и является в этом случае причиной
обращения к террористическим методам. Далее происходит де
вальвация ценностей, вера превращается в идеологический сте
реотип, в расхожую духовную жвачку для масс; у элиты же не
остается ничего, кроме своекорыстных интересов. Террор идеа
листов —это отчаянное средство реализации нереалистических
утопий —превращается в террор циников, которые руковод
ствуются только жаждой наживы, честолюбием и императивами
власти.
Итак, природа и логика развития государственного и оппози
ционного терроризма весьма сходны. В последнем в мини-масшта
306
бах наличествуют и воспроизводятся многие черты и тенденции
первого.
Ряд исследователей ясно видит родство государственного и
оппозиционного терроризма. Так, Диспо в книге «Машина терро
ра» проводит мысль, что терроризм оппозиционный ничем, кроме
масштабов, не отличается от государственного. Однако нередко
связь этих двух форм терроризма преуменьшается или даже
игнорируется. Сознательно отрицается (или замалчивается) она
лидерами и идеологами репрессивных диктатур, которые стремят
ся придать своей деятельности видимость «законности», а также
оппозиционными террористами, пытающимися доказать, что един
ственная форма террора—это «структурный», т. е. государствен
ный террор. В обоих случаях перед нами вполне понятное жела
ние «откреститься». Но «откреститься» невозможно! Как спра
ведливо констатируется в одном «террологическом» исследование
вряд ли вообще можно понять феномен терроризма, если не при
нимать во внимание его государственных форм и их взаимосвязь
с подпольным терроризмом. «Исторически государственное и
групповое насилие постоянно демонстрировали эту симбиотиче
скую взаимосвязь» 4.
Нельзя не видеть, конечно, что наряду с общностью оппози
ционного и государственного террора между ними имеются и до
вольно существенные различия. Не говоря уже о несоизмери
мости масштабов, возможностей, средств и т. п., когда экстремис
ты приходят к власти, им хочешь не хочешь приходится многое
менять в своих установках и практике. Неизбежно меняется от
ношение к государству и, так сказать, к «устоям», диаметрально
противоположным становится отношение и к самому оппозицион
ному терроризму.
Однако, для нас существеннее другое —то, что обе формы
терроризма едины в своей глубинной природе —политической,,
социальной и психологической. Это многократно повышает значи
мость изучения нелегального терроризма. Последний опасен не
столько тем, что он есть, сколько тем, чем он может стать и чем
он неизбежно становится, когда террористы, находящиеся в под
полье, приходят к власти.
С другой стороны, он опасен тем, что может стать и постоян
но становится орудием в руках мощных империалистических
сил, которые, как показывает исторический опыт, могут исполь
зовать как правый, так п «левый» оппозиционный терроризм и
даже иногда «создавать» его.
Практика «левого» терроризма доказывает, что объективно он
в значительной мере превратился в орудие реакции, постоянно
выступает как косвенная форма государственного терроризма.
Хотят того или не хотят его участники, он представляет благо
307
датную почву и объект манипулирования со стороны империали
стических сил.
Реальная и потенциальная связь с государственным террориз
мом —самый опасный аспект терроризма нелегального. Но, кро
ме этого, существуют и другие опасности —реальные и мнимые.
Очевидно, что к разряду мнимых угроз нужно отнести в пер
вую очередь возможность террористической «революции». Без
массовой поддержки, при отсутствии революционной ситуации в
развитых капиталистических странах такая перспектива может
казаться реальной только в воспаленном мозгу фанатиков. Под
линные революционные процессы современности идут в совер
шенно другом русле, в лоне современного коммунистического,
рабочего и демократического движения.
Вместе с тем очевидно, что во всех своих разновидностях тер
роризм представляет реальную угрозу демократии, социальным
завоеваниям трудящихся, несет в себе опасность правого автори
тарного переворота, поскольку, в частности, по своей природе он
тяготеет к различным формам фашизма. Террористические силы,
организуемые и направляемые империализмом и реакцией, либо
независимо от собственных намерений играющие им на руку, не
раз способствовали таким переворотам, использовались в качест
ве предлога для организации фашистских путчей.
К разряду мнимых угроз, бесспорно, относятся претензии тер
рористов на приобретение массовой поддержки. Рабочий класс и
демократическая общественность отвергают террористические
принципы и методы. Вообще народы мира все больше осознают,
что в конце XX в. терроризм стал анахронизмом. Его существо
вание и постоянное возрождение всецело связаны с существова
нием обреченной социально-политической системы, без нее он
потерял бы всякую почву под ногами.
Действительная угроза поэтому заключается в том, что кри
зисные социально-экономические процессы, существование и
«расширенное воспроизводство» социальных «производных» кри
зиса капиталистической системы может продлить существование
терроризма, возрождать различные его формы, а также различ
ные формы сочувствия к нему и поддержки.
Реальная опасность заключается кроме того в «нейтрализме»
по отношению к терроризму, а также в феномене психологиче
ской адаптации, «привыкания» к нему.
К разряду мнимых угроз относится «голубая мечта» террорис
тов развязать войну. Собственными силами они, конечно, не в со
стоянии этого сделать. Современный терроризм, несмотря на не
редко применяемый демагогический камуфляж, вполне логично
стремится к военному решению своих проблем. Война —граж
данская и даже мировая —символ веры террористов. Но их силы
308
слишком незначительны, чтобы самостоятельно ее спровоциро
вать.
Однако террористы —правые и «левые» —й их деятельность
постоянно выступают в качестве предлога, катализатора или ору
дия развязывания и ведения военных конфликтов. Империали
стические силы все шире пользуются этим орудием. Руками тер
рористических банд ведутся «необъявленные войны», деятель
ность террористов используется как предлог для вооруженных
акций и вторжений, захвата чужих территорий и даже целых
государств. Могут ли быть сомнения, что это —серьезная угроза,
н есть ли гарантия, что угроза эта не возрастет?
Есть и другая сторона дела, о которой уже говорилось, но
о которой в силу ее актуальности невозможно еще раз не сказать
здесь. Реальной и немалой угрозой стала «антиамериканская» и
«антинатовская» ориентация новейшей волны «левого» террориз
ма. Внешне все выглядит вполне «правильно» и «привлекатель
но»—что может быть «полезнее» и «благороднее», чем борьба с
воинственными замыслами американского империализма, с агрес
сивным военным блоком НАТО? Благодатная почва для тех, кто,
ло словам французского журнала «Этюд», пытается «оправдать
неоправдываемое, найти различие между хорошим и плохим тер
роризмом» 5.
Но к чему приводят вооруженные нападения на базы НАТО,
подрыв различных военных установок, нефтепроводов и пр., убий
ства и похищения американских генералов, офицеров, солдат,
нападения на высоких натовских функционеров, дипломатов и на
лиц, связанных с американцами? К сокращению милитаристских
устремлений американской и натовской администрации? Как раз
наоборот! Достаточно еще раз вспомнить в этой связи, что имен
но террористические акты послужили предлогом для пиратских
воздушных рейдов на Ливию.
Резонно, стало быть, сделать вывод, что новейший «антиаме
риканский», «антивоенный» терроризм реально не ослабляет,
а укрепляет позиции агрессивных сил, не препятствует, а способ
ствует осуществлению замыслов империалистического экспан
сионизма.
Систематическое и широкомасштабное обращение террористов
к современным средствам массового разрушения или массового
уничтожения представляется пока проблематичным (хотя ряд ис
следователей считает его лишь вопросом времени), учитывая не
столько вполне уже сейчас преодолимые технические трудности,
сколько психологические факторы, крайне неблагоприятный об
щественный резонанс, который имели бы подобные действия.
Прибегнув к таким средствам, террористы раз и навсегда лиши
лись бы права говорить от имени «народа», даже того фантасти
309
ческого «народа», который живет лишь в их грезах и демагогииНо полностью сбрасывать со счетов эту опасность нельзя. Неда
ром против такой опасности предупреждал М. С. Горбачев.
Надо иметь в виду, что среди террористов весьма высок про
цент совершенно безответственных фанатиков, готовых на все*
ради достижения своих планов, особенно, если они отчаялись их
достичь. Кроме того, террористы всегда опасаются «эффекта при
выкания», подобного тому, который имеет место в отношении:
жертв уголовных преступлений или транспортных катастрофЧтобы нейтрализовать этот эффект, они должны идти по пути
непрерывной эскалации своей активности. Эта эскалация может
касаться и «статусности» жертв, однако здесь «потолок» кажется
уже достигнут —жертвами террористов в последние десятилетия
были президенты, премьер-министры, римский папа, крупнейшиедеятели экономической, социальной, политической, военной, юри
дической, профсоюзной, партийной и прочих сфер. Значит остает
ся эскалация иного рода —увеличение числа жертв, масштабов
террористических актов, качественное изменение характера при
меняемых средств.
И здесь таится вполне реальная угроза, связанная не столько
с возможностью обращения к оружию массового уничтожения,,
сколько вообще с организацией крупномасштабных террористи
ческих акций, число которых растет.
К разряду мнимых угроз нужно отнести надежды террористов
на то, что их идеи получат широкое распространение и влияние,
однако реальностью является позиция буржуазных средств мас
совой информации, которые служат основным рупором этих идей
и во многих других отношениях помогают террористам, несмотря
на свои в основном антитеррористические позиции.
Подводя итоги, можно сказать следующее: сам по себе совре
менный «левый» терроризм не представляет слишком большой
опасности, но эта опасность значительно возрастает, когда он
приплюсовывается или становится орудием гораздо более мощ
ных сил.
Каковы же перспективы «левого» терроризма и нелегального
терроризма вообще в современном мире?
Сложность этого вопроса подчеркивается большим разнообра
зием, иногда даже диаметральной противоположностью мнений,
высказываемых в политических дискуссиях, на страницах прессы
и в серьезных исследованиях. В недавнем прошлом было немало
«оптимистов», считавших, что угроза терроризма неправомерно
раздута и вскоре начнет уменьшаться.
Конец 70-х годов и затем середина 80-х годов посрамили
легковесное прекраснодушие и заставили думать, что ближе
к истине многочисленные пессимисты, которые с большим сомне310
нием относятся к возможности быстро и эффективно справиться
с террористической угрозой.
Иногда такой пессимизм принимает «вселенские», апокалип
тические масштабы. Еще в 1974 г. участники конференции по
разоружению и конфликтам в Урбино пришли к выводу, что гло
бальный терроризм —неизбежное будущее человечества. На дру
гой конференции, посвященной проблемам терроризма, которая
состоялась в 1976 г. в США, был сделан вывод, что в будущем
терроризм станет интегральным аспектом жизни в глобальных
масштабах.
Следует, конечно, иметь в виду, что многие из подобных про
гнозов относятся не только и даже не столько к «левому» терро
ризму, но к терроризму вообще, а поскольку под «терроризмом»
буржуазные политики и исследователи часто понимают нацио
нально-освободительные, антифашистские и революционные дви
жения, постоянно оказывается, что апокалиптические перспекти
вы диктуются не чем иным, как страхом перед этими дви
жениями.
Но вот предсказания, относящиеся по преимуществу действи
тельно к «левому» терроризму. Они были сделаны еще в конце
70-х годов и находят убедительные подтверждения в наши дни.
«Итальянский феномен,—говорил один из лидеров объединения
итальянских леворадикалистских групп JI. Магри, впоследствии
включенный в руководство Итальянской компартии,— не анома
лия, он скорее предвещает те явления, которые будут иметь
место на всем капиталистическом Западе... Атаки на демократи
ческие институты с двух концов —терроризм и авторитаризм —
станут основными компонентами политической жизни на Западе
в ближайшие годы»6. «Не нужно строить иллюзий,—читаем мы
в книге Р. Соле «Террористический вызов»,—терроризм угро
жает всем индустриальным демократиям. Перед будущими
акциями террористов, быть может, покажется пустяком все то,
что они совершили до сих пор» 7.
Не только «глобальные», но и, так сказать, «частные» пред
сказания, касающиеся тех или иных сторон террористического
феномена, носят иногда весьма тревожный характер и нередко
сбываются. Предсказывали, например, рост «деидеологизированного», чисто «деструктивистского» терроризма, более тесное пере
плетение его с различными формами уголовной, «мафиозной»
деятельности, и нельзя отрицать, что прогноз этот во многом
оправдался. То же самое можно сказать относительно прогнозов
по поводу расширения географических рамок терроризма, роста
межнациональных террористических групп.
Пессимистическими часто являются также прогнозы относи
тельно возможных мер защиты против террористических акций.
311
поскольку такие меры возможны лишь в отношении ограничен
ного числа лиц и объектов, что явно недостаточно, учитывая не
предсказуемость направления возможных атак террористов в бу
дущем. Выше говорилось, что соответствующие органы НАТО
тратят большие средства на защиту складов ядерного оружия от*
«левых» террористов, считая при этом принимаемые меры совер
шенно недостаточными.
Гипотетические варианты будущей эволюции «левого»—и во
обще нелегального терроризма следует, видимо, рассматривать в
связи с вероятным развитием социальных, социально-психологи
ческих и политических факторов, его порождающих.
Поставим вопрос: какова вероятность исчезновения в совре
менном мире общественных групп, представляющих собой со
циальную основу терроризма? Люмпенов, маргиналов, «отвер
женных» —вынужденных и добровольных,—дезориентирован
ных, обделенных, пресыщенных и т. п.? Можно ли представить
себе, что убыстряющееся развитие НТР в условиях государствен
но-монополистических систем не будет в будущем связано с со
циально-патологическими следствиями? Вероятно ли, что в позд
некапиталистическом обществе исчезнут те или иные формы
милитаризма, культа насилия, моральной деградации или широка
распространенные неудовлетворенность и недовольство «систе
мой»? Можно ли представить себе, что у революционных и осво
бодительных процессов и движений, играющих столь значитель
ную роль в современную эпоху, не будет ложных «попутчиков»,
людей, неадекватно понимающих их существо, либо паразити
рующих на них? И наконец, если поставить вопрос в самом
общем плане, возможно ли, что «стабилизационные» процессы в
современном мире возобладают, что государственно-монополисти
ческий капитализм выйдет из состояния глубокого кризиса?
От ответа на все эти вопросы, в конечном счете, зависит ре
шение проблемы, будет ли в дальнейшем существовать почва, на
которой произрастает «левый» терроризм. Именно в таком кон
тексте рассматривают будущее терроризма многие исследователи,
в том числе буржуазные. В упоминавшейся уже книге «Терро
ризм: теория и практика», например, предсказывается дальней
шее осложнение условий, порождающих террористическую дея
тельность. Предсказывается рост такого существенного фактора,
как недовольство населения, особенно молодежи, в силу усугуб
ления демографических, экологических и экономических проблем,
проблем занятости, образования и других. Многие государства,
говорится в книге, не способны положить конец терроризму, по
скольку проигрывают битву против разочарования своих граж
дан. «То, что терроризм будет расти в этих условиях, по-видимому, неизбежно» 8.
312
Такая постановка вопроса представляется во многом обосно
ванной, но вместе с тем явно недостаточной. Совокупность всех
перечисленных факторов ц условий делает возможным , но отнюдь
не обязательным существование и воспроизводство «левого» —
Ж вообще нелегального —терроризма. На этой почве терроризм
появляется, но далеко не всегда. Гораздо чаще имеют место раз
личные формы эскапизма и «девиантного поведения».
Стало быть, нужно ставить вопрос п о других факторах, без
которых всякая прогностика остается не достаточно определен
ной. Возможно ли, скажем, что империализм откажется от тако
го удобного орудия, каковым являются для него различные фор
мы нелегального терроризма? Возможно ли, в этой связи, что
'буржуазные государственные органы и пресса откажутся от
двойственной позиции в отношении терроризма, когда одной
рукой борются с ним, а другой поддерживают, явно или тайно?
Вероятно ли, наконец, исчезновение экстремизма, «экстремист
ского типа личности» в условиях постоянного воспроизводства и
расширения неофашистских течений (и режимов), роста право
радикалистских и неоконсервативных тенденций?
Одна постановка всех этих вопросов показывает, что трудно
ъ ближайшие годы предположить возможность спада террористи
ческой активности, если смотреть на дело с точки зрения имма
нентных кризисных процессов, происходящих в государственномонополистических системах.
Терроризм —это канал, в который устремляются недоволь
ство и экстремистские настроения некоторых социальных групп,
который очень трудно «перекрыть» в условиях роста безработи
цы, инфляции, неустойчивости жизненного уровня, прогресси
рующей маргинализации и отчуждения. С другой стороны, это —
■орудие, явно или тайно используемое реакцией и очень для нее
«удобное». Там, где возможно, империализм поддерживает терро
ристические диктатуры, там, где нельзя, стремится к тайной
подрывной, в том числе террористической деятельности. Создание
ж поддержка ультраправых и ультралевых террористических ре
жимов и группировок —один из основных методов его политики.
Реакция использует терроризм для запугивания населения, в це
лях дискредитации и ослабления рабочего и демократического
движения, а при случае п для установления режима «сильной
власти».
И вообще возможно ли добиться радикального решения про
блемы терроризма в мире, раздираемом конфликтами, где все
время ведутся войны, в мире, не способном даже перед угрозой
термоядерной катастрофы справиться с проблемой гонки воору
жений? Возможно ли решение этой проблемы до того, как будут
обузданы силы империализма, делающие терроризм орудием
313
своей государственной политики, порождающие эксплуатацию и
порабощение народов, ни во что не ставящие жизнь и достоин
ство человека, исповедующие насилие и вседозволенность, руко
водствующиеся в международных отношениях только своекорыст
ными интересами? Однако такой прогностический ракурс учитывает только «ло
гику» кризиса государственно-монополистических систем. Но есть
и другая логика —логика развития сил, противостоящих реак
ции. Многое будет зависеть в последующие годы от масштабов,
форм, путей и успехов международного коммунистического, ра
бочего и демократического движения, которое решительно отвер
гает все формы терроризма — государственного и нелегального —
и борется против них.
Существенную роль в этой борьбе играют и буржуазные антитеррористические силы, несмотря на непоследовательность и про
тиворечивость их позиций. Некоторые фракции правящих клас
сов могут использовать «левый» терроризм в своих интересах,
тогдЬ. как другие ‘борются против него, иногда самым решитель
ным образом, не только потому, что выступают за «порядок»,
против всякого рода «смут», но постольку, поскольку связывают
его с левыми силами, с коммунистическим движением. То, что
«левый» терроризм в значительной мере сошел со сцены в неко
торых странах (Турция, Италия, некоторые латино-американские
страны) в последние годы, показывает, что обуздание его в той
или иной стране или регионе —вещь вполне реальная. Однако,
очень существенно, какой ценой оно достигается.
Здесь таится коварная «мина», которой постоянно пользуются
буржуазные реакционные силы. В ряде стран, как известно,
победа над «левым», а иногда и другими видами терро
ризма была достигнута в результате установления военно
фашистских диктатур. Терроризм становился предлогом и «дето
натором». Получалось так, что, сходя со сцены, он фактически
достигал одной из своих заветных целей. «Лекарство», понятно,
в этом случае оказывается куда более опасным, чем сама
болезнь. Терроризм, по словам журнала «Этюд», представляющий
собой вызов демократической системе, может и таким образом «по
служить причиной ее развала и трансформации в полицейские
или диктаторские режимы... В угаре борьбы с терроризмом де
мократические режимы могут сами сползти к государственному
терроризму» 9.
‘Конечно, в условиях тотальной слежки, попрания человече
ских и гражданских прав, когда власти, не колеблясь, применяют
самые жесткие меры вплоть до смертной казни против любых
противников, антигосударственная террористическая активность
может быть искоренена. Однако уничтожение терроризма не мо
314
жет, разумеется, компенсировать порабощения людей, превраще
ния их в послушных марионеток в руках правителей.
Прогрессивная общественность, коммунистические партии под
черкивают, что борьба с терроризмом не должна вестись за счет
ограничения демократических прав и завоеваний трудящихся.
Напротив, именно в расширении этих завоеваний, в борьбе масс
коммунисты видят наиболее действенное средство борьбы с тер
роризмом. От дальнейших успехов рабочего и демократического
движения, укрепления сил, ведущих борьбу за мир, разрядку
международной напряженности, зависят в первую очередь пер
спективы создания общего фронта борьбы против терроризма во
всемирном масштабе. Такой фронт невозможен, пока продол
жается милитаристская политика империалистических держав,
пока не пресечены возможности использования терроризма для
подрывной деятельности против сил демократии и прогресса, не
прекращаются попытки отождествления терроризма с различны
ми формами освободительных движений.
Очевидно, таким образом, что будущее «левого» терроризма,
зависящее от множества обстоятельств п факторов, представляет
-собой задачу, далекую от однозначности, допускающую альтер
нативные решения. Сейчас очевидно, что успешная борьба с
ними —во всяком случае на региональном уровне —вполне воз
можна. Но при наличии определенного комплекса условий нет
никаких гарантий, что терроризм не возродится там, где был как
будто уничтожен, или в других странах. Однако значение даже
локальных и временных побед, если они достигнуты не ценой
уступок авторитарным силам, трудно переоценить. Мнение, что
искоренение терроризма возможно только после уничтожения его
социальных корней и почвы, на которой он воспроизводится не
избежно приводило бы к выводу о бессмысленности антитеррористической борьбы.
Если говорить о полном уничтожении терроризма, в частности
«левого», то это, по-видимому, действительно дело достаточно от
даленного будущего, когда будут устранены глубинные причины
многих социальных язв современности, когда человечество смо
жет исключить из своей жизни борьбу своекорыстных интересов,
политические антагонизмы, войны, «абсолютистский» фанатизм
и многое другое, без чего терроризм лпшнтся смысла, станет
попросту невозможным. Только после исчезновения эксплуата
торских общественных систем и политических конфликтов, пол
ного устранения опасности ядерной катастрофы, человечество
впервые в истории получит возможность освободиться практи
чески ото всех форм насилия.
Однако уже сейчас есть вполне достаточные основания для
оптимизма, если успешной окажется борьба против страшных
315
угроз, нависших над современным человечеством, прежде всего
против войны, империализма, фашистских форм социально-поли
тической организации. Нужно лишить реакцию средств для осу
ществления этих угроз, обуздать апологетов войны и насилия.
На этом пути предстоит преодолеть немало трудностей, в том
числе разрешить проблему терроризма, одну из тревожных про
блем современности.
1 Orbis. Philad. 1984. Vol. 28, N 1.
P. 23.
2 Г р а ч е в А. С. Тупики политическо
го насилия. М. 1985, с. 24.
3 Там же.
4 Terrorism: Theory and Practice.
Boulder. 1979. P. 100.
5 Etudes. P., 1984. N 5. P. 586.
6 Nouvel observateur. 1978. N 701.
P. 49.
7 Sole R. Le defi terroriste. P., 1979.
P. 231, 238.
8 Terrorism: Theory and Practice.
P. 216.
• E t u d e s . P., 1984. N 5. P. 582.
Оглавление
Загадка «левого» терроризма (вместо введе
ния) ..................................................................
3
Часть первая
Глава первая
Предыстория и становление.......................
Глава вторая
Логика анархо-терроризма
Q
. . . . . . .
34
Глава третья
Уроки «левого» терроризма в России . . .
64
Глава четвертая
Парадоксы правого терроризма.................. 94
Часть вторая
Глава первая
Латинская Америка........................................ 105
Глава вторая
И сп ан и я ...........................................................130
Глава третья
ФРГ и Западный Б ерл ин ............................... 146
Глава четвертая
И т а л и я .............................................................177
Глава пятая
Другие с т р а н ы .............................................. 196
Часть третья
Глава первая
Проблема определения и типологии .
. . 220
Глава вторая
Феномен терроризма: проблемы возникно
вения ................................................................ 243
Глава третья
Формы и м етоды ............................................. 269
Глава четвертая
И д е и .................................................................283
Глава пятая
Перспективы.................. ..........................
302
Виктор Владимирович Витюк,
Светозар Александрович Эфиров
«Левый» терроризм на Западе:
история и современность
Утверждено к печати
Институтом
социологических исследований
АН СССР
Редактор В. Д. Петросян
Художественный редактор Н. А. Фильчагина
Технические редакторо1 В. В. Тарасова, Н. Н. Плохова
Корректоры Л. Р. Мануильская, Г. Г. Петропавловская
ИБ № 28404
Сдано в набор 14.10.86. Подписано к печати 18.02.87
А-04654. Формат 60x84Vie. Бумага кн.-журнальная
Гарнитура обыкновенная. Печать высокая
Уел. печ. л. 18,6. Уел. кр. отт. 18,83. Уч.-изд. л. 21,4.
Тираж 3800 экз. Тип. зак. 3045. Цена 2 р. 30 к.
Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Наука»
117864, ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 90
2-я типография издательства «Наука»
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6
В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «НАУКА»
ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:
Батурин Ю. М.
Право и политика
в компьютерном круге
5 л.— 55 к.
Компьютеризация общества — чрезвычайно быстро развиваю
щийся процесс. Политические, правовые и социальные последст
вия его сравнительно мало изучены. В книге широко, на
многочисленных примерах, доказательно демонстрируются не
гативные стороны процесса компьютеризации на Западе.
Рассматриваются политические, правовые и моральные осно
вания взаимодействия буржуазных демократий и современной
научно-технической революции. Показывается опасность «стра
тегической оборонной инициативы» с точки зрения возможно
сти случайного возникновения ядерной войны.
Для социологов, международников, юристов.
Книги можно предварительно заказать в магазинах «Академкнига».
Для получения книг почтой заказы просим направлять по одному из
перечисленных адресов
117192 Москва, Мичуринский про
спект, 12, магазин «Кни
га — почтой»
Центральной
конторы
«Академкнига»;
197345 Ленинград,
Петрозавод
ская ул , 7, магазин «Кни
га — почтой»
Северо-За
падной конторы «Академ
книга»;
252030 Киев,
ул
Пирогова, 4,
магазин «Книга — почтой»
Украинской конюры «Ака
демкнига» или в ближай
ший
магазин
«Академ
книга».