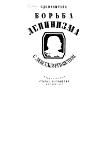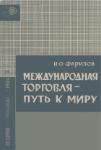/
Author: Калтахчян С.Т.
Tags: ленинизм национальный вопрос развитие нации концепции нации интернационализм
Year: 1976
Text
3 5/3
'ВНЫ
С.Т. КААТАХЧЯН
Ленинизм
о СУЩНОСТИ
НАЦИИ
и ПУТИ
ОБРАЗОВАНИЯ
ИНТЕРНА -
ЦИОНАЛЬНОЙ
ОБЩНОСТИ
ЕЙ
i .
' Ленинградской. Г учно-
Исследобате льетиту
Академии Кр^уьадьиого
XOBHUCTBf
ИЗДАТЕЛЬСТВО московского
УНИВЕРСИТЕТА
1976
61ПС-
юръ-
про-
эту
1М0М
цио-
зого.
зьбы
.ова-
ций,
уже
аций
ости
1зма
>ных
'ОМЫ
гя и
ерес
ется
[ей
«ости
М- 1,
линз
ОфОВ,
засе-
3
ПЕЧАТАЕТСЯ ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ РСД АКЦИОННО ИЗДАТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Рецензенты:
профессор Васецкий Г. С., профессор Косачев А. Д.
K'»S«1=»2_ 3 — 75
077(02)—76
Издательство Московского университета, 1976 г.
СУРЕН ТИГРАНОВИЧ К-АЛТ.АХЧЯН
ЛЕНИНИЗМ О СУЩНОСТИ НАЦИИ И ПУТИ ОБРАЗОВАНИЯ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ОБЩНОСТИ ЛЮДЕЙ, изд. 2-е
Редактор С. И. Пружин и н. Художественный редактор М. Ф. Евстафьева
Переплет художника В. С. К а з а к с в и ч а. Технический редактор 3. С. К о и л р а ш о в а
Корректоры Л. А. Костылева, Л. А. Айдарбекова
Тематический план 1975 г. Jv? 3
Сдано в набор 7,V 1975 г. Л-54510. Формат СО X 90'Аб. Подписано к печати 13/11 1976 г.
Бумага тип. № 1. Усл. печ. л. 25,5. Уч.-изд. л. 29,14. Изд. № 2528. Зак. 284. Тираж 9100 экз.
Цена в переплете № 7 — 2 р. 08 к. Цена в переплете № а — 1 о 95 .
Издательство Московского университета. Москва, К-9, ул. Герцена, 5/7.
Набрано в Московской типографии № 13 Союзполиграфпрома при Государственном комитете
Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
107005, Москва Б-5, Денисовский пер., д. 30.
Памяти моей матери Арусяк Аршаковны.
ВВЕДЕНИЕ
j-| ацнональный вопрос—-один из самых сложных вопросов обще-
ственного развития. Он представляет острейший участок борь-
бы между социализмом и капитализмом, марксизма-ленинизма про-
тив буржуазной и ревизионистской идеологии. Успешно вести эту
борьбу позволяет научное раскрытие марксизмом-ленинизмом
сущности нации, правильное решение актуальных проблем нацио-
нальной политики, соотношения национального и классового.
Интенсификация общественного развития, усложнение борьбы
двух социальных систем существенно сказываются на формирова-
нии и развитии современных наций. Формирование новых наций,
изменения внутренней структуры и межнациональных связей уже
сложившихся наций, а тем более развитие социалистических наций
и их взаимоотношений, образование новой исторической общности
людей — советского парода, а также мировой системы социализма
выдвигают много сложных вопросов теории наций и национальных
отношений. По своей сущности нации одной социальной системы
отличаются от наций другой системы, по-разпому ставятся и
решаются проблемы их развития и взаимоотношений.
Естествен поэтому тот возрастающий с каждым годом интерес
к теории нации и национальных отношений, который наблюдается
среди как марксистских, так и буржузных исследователей *.
1 В СССР за последние годы проходили и проходят дискуссии о сущности
наций и национальных отношений. Журнал «Вопросы истории» (1966. № 1,
стр. 33), начиная дискуссию по статье П. М. Рогачева и М. А. Свердлина
«О понятии «нация»», писал: «В последнее время среди историков, философов,
этнографов, юристов дебатируются различные вопросы теории нации. На засе-
3
Что такое нация? В чем ее сущность? Каковы факторы, опре-
деляющие ее облик, и каково будущее нации? Эти вопросы, вол-
новавшие человечество с тех пор, как возникли нации, особенно
остро встают в наше время. То или иное решение этих вопросов
самым живым образом затрагивает интересы людей всех нацио-
нальностей, социальных слоев и классов Этим объясняются
незатухающие дискуссии о сущности нации, национального харак-
тера, национальной психологии и культуры, перспективах разви-
тия национальных отношений и самих наций, связи решения всех
этих вопросов с решением основных социальных проблем
человечества.
Решения указанных вопросов предлагаются самые различные.
Интересы эксплуататорских классов требуют затушевывания
истинного соотношения классовых и национальных проблем, и
идеологи буржуазии предлагают различные субъективистские
теории нации. Трудящиеся же заинтересованы в объективном
данпях комиссии по проблеме «Развитие национальных отношений в период
развернутого строительства коммунизма» при Научном совете (Секции Общест-
венных паук АН СССР) по комплексной проблеме «Закономерности развития со-
циализма и перехода к коммунизму», в Институте этнографии АН СССР, а так-
же в Институте народов Азин и Африки при АН СССР широко обсуждались
доклады С Т. Калтахчяна, В. И Козлова, С. А. Токарева, А Г. Агаева по тео-
рии нации и народности, совместный доклад М. А. Свердлина и П. ЛЕ Рогачева
о поияиш «нация»». Назревшие вопросы дальнейшей разработки теории нации
ставились в печати Е. М Жуковым («Вопросы истории», 1961, № 12); С. Т. Кал-
тахчяпом («Философские науки», 1964, № 5); С. А. Токаревым («Вопросы фило-
софии», 1964, № II); А. Г. Агаевым («Вопросы философии», 1965, № 11) ив его
книге «К вопросу о теории народности» (Махачкала, 1965). Ряд вопросов теории
социалистических наций выдвигается в порядке обсуждения в работе А. М. Егп-
азаряпа «Основные тенденции в развитии социалистических наций» (Ереван,
1965). Начатая журналом «Вопросы истории» дискуссия о теории нации продол-
жалась три года и привлекла большое внимание ученых и широких кругов
общественности в СССР и за рубеже м.
К этому можно добавить еще, что в 1966—1967 годах па страницах жур
пала «Дружба пародов» проводилась дискуссия по проблеме «Литературный
герой и его национальный характер», дискуссия о национальном своеобразии
литературы и искусства периодически проводится на страницах «Литератур-
ной газеты» (1965, 1967 гг.); дискуссия по проблеме связи нации и государ-
ства была организована польским журналом «Z pola walki» (1966, № 3,
стр 45—142); проблема -<О марксистских понятиях нации и отечества» обсуж-
далась на страницах венгерских журналов и т. д.
Линия марксистских дискуссий по национальным проблемам па укрепление
и р ивитие социалиста юского интернационализма пришлась очень не по душе
пдеолшам буржуапш Известный орган антикоммунизма в США — «Проблемы
коммунизма» посвятил критике позиций советских исследователей теории
нации и национальных отношений специальный объемистый выпуск. Авторов
выпуска, в частности, не устраивают наши взгляды на «общность психического
склада в антагонистической нации», па классовое понимание национальных
проблем, за их направленность против национализма и расизма вообще,
национального коммунизма в особенности («Nationalities and Nationalism
in USSR» «Problems of communism». Sept. — Oct. 1957. Washington. Special
issue, pp 3—14) С этих же позиций выступает и ряд дрхгих органов буржу-
азной печати.
4
раскрытии сущности нации, как и любых других общественных
явлений. Не случайно поэтому, что подлинно научную теорию
нации и национальных отношений разработали идеологи пролета-
риата — осовоположники марксизма-ленинизма.
В буржуазных теориях нации выделяются два основных на-
правления. Одни буржуазные идеологи считают нацию вечной
категорией, а движущей пружиной исторического развития обще-
ства— борьбу наций, национальные войны, тщательно скрывая
при этом, что подлинные причины национальной борьбы коре-
нятся в социально-экономических условиях, в антагонизме клас-
сов. Другие — утверждают, что история признает якобы две про-
тивоположности, «две оси», вокруг которых вращается жизнь
народов,— классовое и национальное. Вторая концепция, которая
была распространена еще в прошлом веке и является преоблада-
ющей в современной буржуазной социологии международных
отношений, по существу сводится к первой, так как в конечном
счете доказывает приоритет национального перед классовым. Все
прошлые и современные концепции исключительности, абсолюти-
зации специфически-национальных условий той или иной страны
опираются на теоретически неверные истолкования националь-
ной общности людей.
Националистической узости мышления недоступна диалектика
классовых и национальных отношений. Националист не понимает
и не приемлет роли классов и классовой борьбы в эволюции на-
ции, он игнорирует решающую роль рабочего класса и социализма
в развитии п сближении наций, в образовании интернациональной
общности людей.
Торжество ленинской теории нации и национальных отноше-
ний на практике строительства социализма в СССР, а теперь и в
других социалистических странах вызывает тревогу и озлобле-
ние в стане антикоммунизма. Этим объясняется то усердие, с кото-
рым антикоммунисты, особенно советологи, бросаются в атаку
против марксизма-ленинизма. Многие из них, такие, как А. Лоу,
Р. Пайпс, Э. Гудман, А. Инкелъс, С Зеньковский, X. Напер,
являются профессиональными «социологами-теоретиками», поль-
зуются репутацией ученых в буржуазных академических кругах.
Однако и они jaiiMCTByioT «факты» у озлобленных антисоветчи-
ков-— эмигрантов. Чтобы выглядеть респектабельными, объектив-
ными, подобные «маститые» ученые ссылаются на множество
источников разных направлений, приводят часть действительно
имевших место фактов, утаивая их связь с другими в общей линии
общественного развития, чтобы исказить картину в целом. Иногда
они критикуют национальные отношения и при капитализме, по тут
же выискивают в жизни социалистических наций такие факты,
извратив которые можно было бы вызвать у трудящихся капита-
листических стран ассоциации с тем, что они видят у себя дома.
«Показав» таким приемом, что шовинизм, национализм якобы
присущи и социализму, идеологи буржуазии надеются подорвать
5
веру трудящихся в возможность преодоления этих пороков
вообще.
В целом при всей наукообразности сочинений указанных иде-
ологов искать в них научную аргументацию было бы напрасным
трудом. Как будет показано в дальнейшем, антикоммунисты для
«доказательств» своих нелепых утверждений широко прибегают
к фальсификации фактов и явлений, к софистическим приемам под-
мены понятий, суждений. Они ловко и нередко небезуспешно
используют сложность и остроту современных национальных
проблем, особенно проблем, возникающих в условиях антиимпе-
риалистической борьбы народов за национальное самоопределение,
для внедрения национализма в психологию и идеологию трудящих-
ся. Идеологи буржуазии, абсолютизируя национальные моменты,
пытаются убедить массы в том, что решающую роль в современной
жизни народов играют надклассовые национальные интересы.
Опасность антикоммунизма, антисоветизма усугубляется еще
и тем, что в фальсификации марксистско-ленинской науки с ними
смыкаются и ревизионисты. Смыкание это происходит по логике
развития оппортунизма, как правого, так и «левого», поскольку
оба этих течения в национальном вопросе стоят на буржуазно-
националистических позициях. Правые и левые оппортунисты,
маоисты извращают классовое понимание единства нации, сущ-
ность пролетарского, социалистического интернационализма, игно-
рируют новый тип отношений между социалистическими странами,
их братское сотрудничество и взаимопомощь. Соответственно
внеклассово трактуется понятие национального суверенитета.
«Левые» и правые ревизионисты, взяв на вооружение концеп-
ции «национальных моделей» социализма, препарируют маркси-
стско-ленинскую теорию таким образом, что выбрасывают из нес
главное, решающее, учение об общих закономерностях, оставляя
лишь то, что, по их мнению, отвечает «духу» данной нации. Появ-
ляются «национальные варианты марксизма», которые ничего
общего не имеют с ленинским пониманием применения общих и
основных, единых для всех наций и народностей принципов марк-
си (ма, учетом их национальной специфики. Наоборот, националь-
ная специфика становится единственной почвой для их доморощен-
ного «марксизма».
Указанные проблемы, а также новые, иногда неожиданные
ситуации в национальных отношениях требуют последовательной
борьбы а чистоту марксистско-ленинской теории нации. Разоб-
лачение буржуазных и ревизионистских фальсификаторов этой
теории стало особенно настоятельным в настоящее время, когда
национальный вопрос со всеми его проблемами приобретает все
большее значение в идеологической борьбе.
Поскольку научно доказать надклассовость нации и ее интере-
сов невозможно, буржуазные «специалисты» по теории нации, и
особенно ио национальным отношениям в СССР, открыто пли
молчаливо исходят из ряда заведомо научно несостоятельных по-
6
сылок; нация — явление естественноисторическое; национальное
имеет определенный, Установившийся, веками неизменный облик;
нация как коллективная личность имеет особую душу, психику,
коренные свойства которой порождают изолированно развива-
ющуюся национальную культуру; человечество всегда жило в
национальной форме и вечно будет жить в ней. Становясь на
подобные исходные позиции, уже нетрудно все общечеловеческое,
интернациональное свести к национальному, а национальное
(понимаемое антикоммунистами как явление надклассовое) —
к националистическому. Дальше уже все укладывается в «логику»
этих «основ». Борьба КПСС против пережитков национализма
в сознании части советских людей представляется как борьба за
ликвидацию национальных особенностей. Объективный процесс
сближения наций и их культур изображается как обеднение,
нивелировка, растворение культур малых наций в культуре боль-
шой нации (в СССР — русской).
Чтобы показать истинную цену подобных ухищрений идеоло-
гов антикоммунизма, необходимо их вымыслам противопоставить
подлинную ленинскую теорию нации и ее претворение в жизнь
марксистами-ленинцами стран социализма.
Марксистско-ленинская наука противопоставила априорным,
абстрактным, понятиям нации и различного рода психологическим
теориям историко-экономическую теорию формирования и разви-
тия нации. Она доказала, что нации возникают на основе склады-
вания капиталистических производственных отношений и что
нельзя понять сущность нации и национальных отношений, абст-
рагируясь от классов, составляющих ее, от роли различных клас-
сов в развитии нации.
Подчеркивая, что осуществить всемирно-историческую задачу
переустройства общества на коммунистических началах можно
лишь путем последовательной революционной классовой борьбы,
классики марксизма-ленинизма одновременно указывали, что в
обществе, раздеиенном не только па классы, но и па папин и
народности, находящиеся между собой в сложнейших отношениях,
весьма важно проводить правильную национальную политику, что
в свою очередь становится возможным при наличии научно раз-
работанной теории нации и национальных отношений.
Особенно большое и бесценное наследство по теории нации
оставил Лепин. В Постановлении ЦК КПСС о подготовке
к 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина отме-
чается; «Ленинский гений дал теоретическое и практическое реше-
ние национального вопроса».
В эпоху империализма национальный вопрос приобрел не-
сравненно большее значение, чем в период домонополистического
капитализма. Национально-освободительные движения приобрели
большой размах и глубину. Пролетариат стал политически орга-
низованнее и сильнее и мог теперь выступить гегемоном в нацио-
нально-освободительных движениях. В. И Ленин и его ученики
7
в новых условиях развили марксистскую теорию нации, програм-
му, политику коммунистических партии в национальном вопросе.
В. И. Ленин считал ненаучным как априорно-психологическое
конструирование понятия нации, так и его формально-логическое
выведение. В первом случае понятие нации выводится не из ана-
лиза ее сущности, а идеалистически привносится извне. Во вто-
ром случае «раскрытие» сущности нации сводится к известному
еще со времени Ф. Бэкона одностороннему эмпирически метафи-
зическому способу постижения того или иного явления путем со-
ставления различных таблиц, сопоставления признаков изучаемого
явления, подбора случаев, противоречащих обобщению, и т. п.
Второй способ по сравнению с первым был тагом вперед, имел
в свое время прогрессивное значение. Но все же он недостаточен
для раскрытия сущности нации. Подобным путем, конечно, удает-
ся выделить и объединить определенные общие признаки нации,
по сущность ее не исчерпывается этим. И дело не только в том,
что возможны и всегда встречаются исключения, а в том, что
анатомирование явления, разрушая живые связи и не выясняя ос-
нову жизненных функций данного явления, не позволяет добрать-
ся до его истинной сущности.
Отметив те или иные признаки наций, важно показать, что
инн изменяются в зависимости от конкретных социальных усло-
вий и исторических судеб отдельных пародов. Поэтому изучение
типов наций, условии их формирования и развития даст ключ к
определению каждого из них н для выделения тех общих момен-
тов, которые присущи всем им. При этом окажется, что самое
общее определение включает в себя наименьшее число общих при-
наков и в этом смысле является узким.
Историко-экономическая теория нации, развитая в многочис-
ленных трудах В. И. Ленина, представляет собой единственно
научную теорию. Опа указывает па то устойчивое, что определяет
нацию, «крепко сидит» в ней как сущность.
Поэтому главными признаками нации В. II. Лепин считал
общности экономических связей, языка и территории. Много вни
мания уделял Лепин таким условиям консолидации и развития
нации, как создание национального госуданства и рост
национального самосознания; однако когда речь шла о самом
общем определении нации, ограничивался упомянутыми выше тре-
мя объективными признаками.
В целом В. II. Лепин считал, что, во-первых, до выявления
при таков необходимо установить условия формирования и раз-
вития нации, а затем раскрыть взаимосвязь и взаимодействия усло-
вии и признаков, а во-вторых, и это главное, следует в условиях
возникновения и развития нации раскрыть роль данного способа
производства с его основными классами в определении облика
нации, ее эволюции и будущности.
Материалистическое понимание сущности нации позволило
В. II. Ленину раскрыть вместе с тем сущность национальных от*
8
ношений, их связь с классовыми отношениями и указать пути
складывания и развития интернациональной общности людей.
В. И. Ленин связал национальный вопрос с колониальным вопро-
сом, создал цельную теорию национально-колониального вопроса,
разработал научную программу и политику марксистских партий.
Коминтерна в области национальных отношений.
Буржуазные фальсификаторы ленинизма обвиняют В. 11. Ленина
в национальном нигилизме. В. II. Ленин нацию считал истори-
ческой, преходящей категорией, не признавал раз навсегда
данной национальной психологии, якобы разделяющей навечно
одну нацию от другой, доказал неизбежность сближения, едине-
ния, а со временем и слияния наций. Однако во всем этом нет и
тени национального нигилизма.
Подчеркивая решающее значение классового подхода в реше-
нии национальных проблем, В. II. Ленин вместе с тем отмечал
влияние национальных условий жизни на характер классовой
борьбы. Так, он выделял 3 главных типа стран в отношении к
самоопределению наций в эпоху империализма, обосновал важное
положение о необходимости различать конкретные задачи револю-
ционных социалистов угнетающих и угнетенных наций.
Наконец, В. И. Ленин, отмечая, что подготовка и совершение
социалистической революции, строительство социализма и комму-
низма осуществляются людьми, представляющими ту или иную
национальность, указывал на необходимость строить националь-
ную политику на правильном учете интернациональных интересов
трудящихся и имеющихся различий между нациями по их истории,
языку, обычаям, традициям и т. п., уровню экономического и куль-
турного развития, а также их бывших взаимоотношений до социа-
листической революции, требовал бережного отношения к нацио-
нальным чувствам.
В. II. Ленин предвидел также разнообразие форм осуществле-
ния власти пролетариата в разных странах в зависимости от нацио-
нальных особенностей и условий их развития. Еще на VIII съезде
РКП (б) он говорил: «А сейчас в вопросе о самоопределении на
ционалыюстен суть дела в том, что разные нации идут одинаковой
исторической дорогой, но в высшей степени разнообразными зиг-
загами и тропинками...»2.
Что же в таком случае выдают за национальный нигилизм
В. II. Ленина враги ленинизма? Его последовательную, бескомпро-
миссную борьбу против национализма, его глубокий комму нпсти
ческий интернационализм.
В условиях роста национализма ревизионисты пытаются поста-
вить под сомнение ленинское положение о том, что при всей
весомости и важности национальных факторов не они, а классы
определяют политическую и социально-экономическую структуру
2 В. II Ленин. Поли. собр. соч., т 38, стр. 184
внутри любой страны, а также специфику внутренних и внешних
межнациональных связей.
Вспышки национализма наблюдались и раньше, например в
период первой мировой войны, но Ленин именно тогда писал:
«Вся суть в том. что не легко быть интернационалистом на деле
в эпох} ужасной империалистской войны. Таких людей мало, но
только в них — вся будущность социализма, только они — вожди
масс, а не развратители масс»3. На седьмой (Апрельской) конфе-
ренции РСДРП (б) Лепин отмечал, что «людям, чтобы спасти
социализм, приходилось бороться против бешеного, больного
национализма...» 4.
В. И. Ленин считал, что теоретически обобщать практику —
значит найти объективные потребности и тенденции, а не оправ-
дывать всякую практику. Поэтому перед ростом национализма он
не только не отступал от научно обоснованных принципов проле-
тарского, социалистического интернационализма, но, наоборот,
еще сильнее и настойчивее защищал их.
Раскрыв сущность буржуазного национализма и пролетарского
интернационализма, В. II. Ленин показал, что они имманентны со-
ответственно буржуазной и пролетарской идеологиям, двум про-
тивоположным мировоззрениям и представляют две противополож-
ные политики в национальном вопросе.
В. И. Ленин раскрыл также взаимосвязь и единство национа-
лизма и оппортунизма. Ленинская критика социал-шовинизма,
мнимого национального единства, национального нигилизма имеет
громадное значение для борьбы с буржуазным национализмом во
всех его проявлениях, для разоблачения связи буржуазного нацио-
нализма с оппортунизмом, с правым и «левым» ревизионизмом.
Изучение национальных особенностей, их всесторонний учет
служили в конечном счете для сближения, а в дальнейшем и слия-
ния в зрелом коммунизме всех наций. Девизом В. II. Ленина было:
«Исследовать, изучить, отыскать, угадать, схватить национально-
особеипос, национально-специфическое в конкретных подходах
каждой страны к разрешению единой интернациональной за-
дачи...»5.
В современную эпоху, основным содержанием которой явля-
ется переход от капитализма к социализму, когда национальное
самосо шаппе во многих странах извращается особенно сильно и
принимает различные, иногда самые уродливые формы национа-
ла ша, наносящего огромный вред национальным и интернацио-
нальным интересам пародов, разработка марксистско-ленинской
теории применительно к новым условиям имеет не только научное,
по и политическое и практическое значение.
I стествепно поэтому, что научную теорию нации и иациональ-
В И Л с IIIIII Поли. собр. соч., т. 31, стр. 174 — 175
1 I ам же, стр. 433
В II Л о п и н Поли собр. соч., т. 41, стр 77.
10
него вопроса разрабатывают и развивают коммунистические и ра-
бочие партии. Марксистско-ленинская теория нации и националь-
ных отношений постоянно находит свое развитие в программных
документах коммунистических партий, мирового коммунистиче-
ского движения, в трудах его деятелей.
Большой вклад внесли в разработку этой теории О. В. Кууси-
нен, Д. 3. Мануильский, И. В. Сталин, П. II. С тучка, С. Г. Шаумян
и ряд других деятелей КПСС и Советского государства.
Активными исследователями ленинского теоретического на-
следства по национальному вопросу являются такие советские и
зарубежные ученые-марксисты, как И. Ф. Аношкин, А. Абуш,
Э. Агости, А. Г. Агаев, А. Г. Азизян, Р. X. Абдушукуров, Г. 3. Апре-
сян, С. М. Артановский, С. М. Арутюнян, Б. Т. Багликов,
Э. А. Ваграмов, Ш. Б. Батыров, Г. В. Брегадзе, Ю. В. Бромлей,
К. Н. Брутенц, М. Р. Булатов, Т. Ю. Бурмистрова, М. Г. Вахабов.
А. Э. Восс, Б. Г. Гафуров, А. М. Гиндин, А. В. Грекул, Ж- Г. Го-
лотвин, Ф. Я. Горовский, Р. К. Грдзелидзе. II. И. Грошев,
Ю. Д. Дешириев, Н. Д. Джандильдин, М. С. Джунусов, Л. Дро-
бижева, Е. А. Дунаева, А. М. Егиазарян, А. Г. Егоров, Т. А. Ждан-
ко, Е. М. Жуков, В. И. Затеев, В. Я- Зевин, II. С. Зенушкина,
Г. О. Зиманас, М. И. Исаев, Р. Искаро, Г. А. Кайханиди,
М. Д. Каммари, П. II. Капырин, Я. Карнейчик, И. С. Кардашов,
В. И. Козлов, Ж. Коньо, И. Е. Кравцев, М. II. Кудиченко,
В. Е. Маланчук, Я- Минкявичус, М. П. Ким, Ю. Ковальский,
Г. И. Ломидзе, В. С. Лукошко, Н. II. Матюшкин, Л В. Метелица,
Е. Д. Модржинская, М. А. .Меликян, А. Д. Молочко, Э. Мольнар,
А. Е. Мординов, А. Ю. Наджафов, Ю. И. Палецкис,
Б. Ф. Поршнев, Ш. Рашидов, Ю. И. Римаренко, П М. Рогачев,
М. Н. Росенко. М. А. Свердлин, В. Ф. Самойленко. А. П. Серцова,
Ю. II. Семенов, Ц. А. Степанян, Э. В. Тадевосян, Е. С. Троицкий,
Т. У. Усубалиев, К Ф. Фасеев, П. Н. Федосеев, К. Н. Хабибулин,
К. X. Ханазаров, А. II. Холмогоров, Д. И. Чугаев, Н. Ф. Шитов,
X. Яблонский и другие.
Марксистам-ленинцам приходится отстаивать чистоту ленин-
ской теории нации и от тех «друзей» ленинизма, которые на словах
клянутся в своей верности ленинизму, а используют его прямо в
антиленпнеких целях
Этим «друзьям» ленинизма не нравится, например, бескомп-
ромиссная борьба В. II. Ленина против любых националистических
теорий исключительности, превосходства, особой миссии того или
иного народа. Некоторым по душе ленинский тезис о расцвете на-
ций, но не их сближение, а тем более слияние при зрелом комму-
низме. Разрывая диалектическое единство указанных процессов,
подобные «сторонники» ленинизма не хотят понять, что хотя слия-
ние наций — далекая перспектива (пусть даже очень далекая), нам
нужно знание этой перспективы как ориентира, ибо коммунистам
небезразлично, в каком направлении будут развиваться нации и
их отношения. Им не все равно: создаются ли оптимальные условия
11
для шагов к научно предвиденной цели пли для шагов в сторону,
а то и назад от нее.
В современную эпоху рост национального самосознания исполь-
зуется различными классами в разных, часто в противоположных
целях. Буржуазия, как правило, извращает национальное самосо-
знание, превращает его в национализм.
В этих условиях выдвигается альтернатива: или считаться с
национализмом в смысле приспособления к нему социального раз-
вития, а следовательно, и социализма, или считаться с ним по-
ленински, т. е. научно объяснив природу национализма, вырабо-
тать продуманную политику целенаправленной борьбы с ним.
Для ленинцев бережное отношение к национальным чувствам
никогда ничего общего нс имело с национализмом. В политике,
тактике приходится исходить из уровня сознания данной среды,
но теория всегда должна идти впереди. Тактические соображения
не должны тормозить разработку теории нации охватывающую
всю се эволюцию. В. II. Ленин постоянно указывал на перспекти-
ву развития нации на пути складывания интернациональной общ-
ности людей, создания «мирового кооператива трудящихся», не
считаясь с тем, что все это раздражает националистов. Его забо-
тило лишь то, чтобы коммунистические партии в своей националь-
ной политике имели четкий ориентир в будущее и не сбились с
правильного пути. В своей лекции «О государстве» В. И. Ленин
указывал: «Самое надежное в вопросе общественной науки и необ-
ходимое для того, чтобы действительно приобрести навык подхо-
дить правильно к этому вопросу и нс дать затеряться в массе ме-
лочен или громадном разнообразии борющихся мнений, — самое
важное, чтобы подойти к этому вопросу с точки зрения научной,
это — не забывать основной исторической связи, смотреть на
каждый вопрос с точки зрения того, как известное явление в исто-
рии возникло, какие главные этаны в своем развитии это явление
проходило, и с точки зрения этого его развития смотреть, чем
данная вещь стала теперь»6. Это указание полностью применимо
п при изучении такого общественного явления, каким является
нация.
Чтобы показать прошлое, настоящее п будущее наций, В. И. Ле-
пину важно было раскрыть все богатство п противоречивость и тех
обусловливающих нацию факторов, которые рассматриваются как
ее признаки, и тех, которые хотя и нс фигурируют как признаки на-
ции, по имеют исключительно большое значение для существова-
ния и развития нации.
«Ленинизм и национальный вопрос» является неисчерпаемой
темой исследования. В ленинский этап национального вопроса
включается все богатейшее идейное наследство В. II. Ленина
но национальному и колониальному вопросам и все то, что
является обо! ащенпем и развитием этого наследства, достигнутым
6 В. И Лепин. Поли. собр. соч., т. 39, стр. 67.
12
благодаря творческой работе КПСС и других марксистско-ленин-
ских партий по обобщению современной практики пролетарского
и национально-освободительного движений, практики строитель-
ства социализма и коммунизма.
Обращение международного Совещания коммунистических и
рабочих партий «О 100-летии со дня рождения Владимира Ильича
Ленина», характеризуя Ленина как бессмертного гения нашей ре-
волюционной эпохи, последовательного интернационалиста, побор-
ника равенства, мира и дружбы между народами, призывает:
«Изучайте труды Ленина! В них вы найдете неиссякаемый источ-
ник вдохновения для борьбы против реакции и угнетения, за со-
циализм и мир. Знакомство с ними поможет молодому поколению
яснее увидеть революционные перспективы нашей эпохи»7.
В предлагаемой работе делается попытка последовательно
рассмотреть и представить ленинскую теорию нации и националь-
ных отношений в ее главных чертах и показать ее огромное зна-
чение для общественного развития на анализе некоторых сторон
конкретных процессов современного развития наций и народностей.
Показывается, что эти процессы при всей своей сложности и про
тиворечивости подтверждают правильность ленинской теории и
политики решения национальных проблем и что требуется полное
использование богатого ленинского наследства по теории нации,
защита его от извращений со стороны националистов, «левых» и
правых ревизионистов как в теории, так и на практике.
В свете ленинской теории нации в книге прослеживается путь
наций от их возникновения к преобразованию в социалистические
и дальнейшее их развитие как в рамках одного многонациональ-
ного государства, каким является СССР, так и в рамках мировой
системы социализма. Рассматриваются актуальные проблемы тео-
рии нации и национальных отношений Опираясь на труды
В. II. Ленина, а также К Маркса и Ф. Энгельса, автор на кон-
кретном материале жизни современных наций стремится осветить
ряд малоисследованных или спорных вопросов теории нации, под-
черкивает значение ленинской нетерпко экономической теории
нации для решения национальных проблем.
Автор считает своим приятным долгом выразить глубокую бла-
годарность всем товарищам, помогавшим своими критическими
замечаниями и советами в подготовке настоящей книги.
Второе издание книги выходит после XXIV съезда КПСС,
празднований 100-летия со дня рождения В. И. Ленина и 50-летия
образования СССР, явившихся знаменательными вехами в разви
тип марксизма-ленинизма. Автором учтен прежде всего большой
’ Международное Совещание коммунистических и рабочих партий. Документы
и материалы» М., Политиздат. 1969, стр. 333
13
вклад, внесенный указанными событиями в развитие ленинской
теории нации и национальных отношений.
По мере возможности учтен также опыт развития социалиста
ческих наций за последние годы. Поэтому дополнения больше
всего были сделаны ко второй части книги, посвященной пробле-
мам развития социалистических наций и новых исторических общ-
ностей людей.
Вместе с тем автор старался учесть замечания и пожелания,
высказанные по поводу первого издания книги. Автор искренне
благодарит советских и зарубежных рецензентов.
Т.ЛЗ'7)<:.Л
первый
ГЛАВА I
РАСА И НАЦИЯ.
ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ОБЩНОСТИ
ЛЮДЕЙ ДО ОБРАЗОВАНИЯ НАЦИЙ
у ермины «нация», «национальность» возникли задолго до обра-
( 1 зования нации как особой формы общности людей. Латинское
«5* «natio» означает племя, народ.
С древних времен термин «нация» употребляется для обозна-
° чения определенного народа имеющего общий язык, общие осо-
бенности культуры, традиции и другие общие этнические качества.
г ~ Так, например, на армянском языке слово «азг» (нация») встре-
чается уже в V веке. При этом под понятием «азг» («нация»)
подразумевается армянский народ, его национальность, т. е. его
общие этнические признаки. Более того, этим термином обознача-
ется группа кровных родственников до 10 поколений.
Употребление выражения «нация» для обозначения националь-
ности того или иного народа — явление вообще распространенное,
оно встречается и у марксистских авторов. Иногда основополож-
ники марксизма в своих трудах называли древние народы «древ-
ними нациями», рассматривая «нацию» в этих случаях лишь как
этническую общность людей. Поэтому в каждом отдельном случае
необходимо установить, в каком смысле употреблен термин
«нация».
В наше время в немарксистской литературе понятие «нация.»
часто употребляется многозначно. Так, например, ряд латиноаме-
риканских историков и социо югов отождествляет понятие «нация»
с понятиями «народность», «народ», «государство». Встречается
сознательное стремление тех или иных немарксистских авторов
рассматривать нацию как внеисторическую, вечную категорию и
смешивать принципиально разные понятия «раса» и «нация»,
извращенно толкуя и го и другое. Поэтому для раскрытия подлин-
ной сущности нации прежде всего необходимо остановиться на
предыстории возникновения нации, сказать об исторических типах
национальных общностей, сформировавшихся еще до образования
нации, а также о соотношении
^^^ьяблиотекд
z« « --
\_______АОЗяйс ТВ£
17
С т Калтахчян
Невозможным является не сам полицентризм в антропогенезе
и расогенезе, а идеалистическое допущение якобы абсолютно само-
стоятельной линии образования каждой из рас. Her чистых линий
расообразования. Как из неандертальцев, так и из синантропов и
других видов древнего человека могли образоваться и образова-
лись различные расы4. В расогенезе главное — его адаптивный
характер, то есть органическая связь расообразования с географи-
ческой средой, поэтому советские антропологи ставят перед собой
задачу выделить первичные зоны расообразования, исходя из
дискретности ландшафтных единиц. Если говорить о первоначаль-
ных расовых стволах человечества, то, во-первых, их надо искать
не в различных типах древних людей, а в различных природных
зонах, и, во-вторых, не забывать, что линии от этих стволов идут
не прямо и не параллельно друг другу, а происходит беспрерывное
смешанное расообразование.
В пользу таких взглядов говорит и популяционная концепция
расообразования, высказанная советским ученым В. В. Бунаком5
еще в 1938 году и обоснованная многочисленными фактами на
проведенном в США в 1950 году симпозиуме по происхождению
человека и расообразованию. В противовес индивидуально-типоло-
гической концепции, утверждающей, что каждый индивидуум оп-
ределенного антропологического типа якобы несет в своем строе-
нии абсолютно все отличительные признаки этого типа, полуляци-
онная концепция рассматривает расу не как простую сумму инди-
видуумов с тождественной морфологией, а как популяцию, состав
которой определяется исторически сложившимися взаимоотноше-
ниями вида и условий внешней среды в разных частях ареала, в
разных местообитаниях. Многочисленные факты свидетельствуют
с том, что нет наследственной передачи потомкам расовых призна-
ков данного антропологического типа целым комплексом, что
вследствие независимого комбинирования наследственных призна-
ков по вероятностным закономерностям наблюдается значительная
изменчивость рас в пространстве и времени. С позиции полуляци-
онной концепции, по нашему мнению, можно найти научно пра-
вильное решение расогенеза как в моноцентризме, так и полицен-
тризме. А будущее, как справедливо отмечает ряд этнографов,
принадлежит популяционной концепции.
Вместе с тем необходимо отметить, что советская мопоцентри-
стская гипотеза расогенеза принципиально отличается от буржуаз-
ного «моноцентризма», она исходит из того, что развитие рас шло
на больших пространствах постоянным смешением рас. Я- Я. Ро-
гинский отмечает, что область становления современного человека
* Например, как показывает палеоантропологический материал из неолитических
могильников в междуречье Хуанхэ н Янцзы, население этой обширной китай-
ской территории в эпоху неолита имело такие характерные признаки австра-
лоидов и пегропдов, как широкий пос и выступающие вперед губы.
5 См В В Б у и а к Раса как историческое понятие. «Труды Института антро-
пологии МГУ», вып. IV. М., 1938
20
не была малой, как думают буржуазные моногенисты. Она зани-
мала весьма обширную территорию, на которой уже тогда шли
процессы смешения разных рас и образования переходных форм.
Развитие рас шло под влиянием природных и общественно-эко-
номических факторов. По мере общественного развития, роста
подвижности населения, а главное — власти последнего над силами
природы все больше и больше ослабляется влияние природных
факторов, таких, например, как географическая изоляция и необ-
ходимость приспособления к природно-климатическим условиям,
усиливаются разнообразные процессы межгрупповых смешений.
Особенно благоприятствовали образованию новых антропологиче-
ских переходных типов великое переселение народов и последу-
ющие колонизации. Происходит метисация, иногда тройная и бо-
лее сложная, например, негров, европейцев и индейцев в Латин-
ской Америке.
Антропологи и этнографы отмечают, что расы людей смешива-
ются и независимо от того, скрещиваются ли они друг с другом или
нет. Происходят изменения признаков расы под влиянием новой
среды, новых условий.
В разных странах зафиксирована акселерация — ускорение ро-
ста и полового созревания, что объясняется усложением социаль-
ной среды человека. С акселерацией ученые связывают и такие
наблюдаемые процессы изменчивости, как так называемая «брахи-
цефализация» — расширение и округление формы головы, посте-
пенное изменение черепного показателя (отношение ширины голо-
вы к длине), а также так называемая «грацилизация» — уменьше-
ние ширины лица, массивности черепа, массивности и толщины
костей. Этнографы и антропологи в настоящее время распотагают
обширными источниками и фактами, свидетельствующими о том,
что «расовые ареалы не оставались постоянными, подвижность
границ ареала того или иного расового ствола не исключение, а
правило, отличительный признак расовых категорий у человека»6.
Под давлением данных науки, опровергающих концепцию пря-
молинейной эволюции европеоидной, монголоидной, негроидной и
австралоидной рас от собственных стволов — древнейших людей к
современным, биологический расизм сильно пошатнулся. Но еще
встречаются расисты, которые продолжают цепляться за фикции
«чистых рас» и даже пытаются представить народы, нации как
общности людей, якобы целиком принадлежащих к определенным
«чистым расам». Последователи Гобиио, Лапужа, Хммона, Вольт-
мана, Чемберлена и других расистов XIX и начала XX века про-
должают пропагандировать расизм и социал-дарвипизм.
Встречаются даже такие «ученые», которые, несмотря на пора-
жение фашистского биологического расизма, все же, хотя и околь-
ными путями, возвращаются к нему. Так, Б Губборд считает, что
6 В. П Алексеев. Расы человека в современной на^ке «Вопросы истории»,
1967, № 7, стр. 79.
21
современное человечество не является «биологически единым», и,
ссылаясь на писания других расистов, тщится доказывать, что
«расовое смешение может привести лишь к ухудшению расы», так
как «расы биологически не равноценны», и рекомендует содейст-
вовать «добровольному выселению негров в Африку»7.
Подобные антинаучные теории служат интересам эксплуататор-
ских классов, облегчая им демагогическое использование расовых
предрассудков в целях расовой и национальной дискриминации,
подмены классовой борьбы расовой н национальной. Не находя,
однако, для своих измышлений опоры в биологии и физиологии
телесного строения людей разных рас, современные расисты все
чаще прибегают к психорасизму. «Скверну» третируемой расы или
нации пытаются найти в ее «особой морали», «особом психическом
складе». Наука, однако, и здесь разоблачает расистов. Если в на-
стоящее время нет чистых рас, то тем более нет народов и наций
одного расового состава. Человечество представляет весьма слож-
ное переплетение рас, их ответвлений и смешанных расовых групп
и подгрупп. Постоянно появлялись новые сочетания антропологи-
ческих признаков, расшатывалась наследственность. Антрополо-
гическая и этнографическая науки всесторонним изучением разно-
образных пародов земного шара с полной очевидностью доказали,
что антропологические типы не совпадают с этническими общно-
стями, что каждая из последних включает в свои состав предста-
вителей разных антропологических типов, как и один и тот же
комплекс антропологических признаков часто встречается в соста-
ве разных народностей и наций. В этих условиях психика отдель-
ных людей, их поведение тем более обусловливаются и формиру-
ются под решающим влиянием социальной среды.
Уровень культурного развития, язык, психика, национальная
принадлежность людей не зависят от их расовой принадлежности.
Раса и нация являются категориями совершенно различного по-
рядка. Необходимой внутренней связи между ними нет. Нация
формируется и развивается исключительно под влиянием социаль-
ных закономерностей независимо от расовых признаков, состав-
ляющих нацию людей.
Каждый народ, нация представляют людей со смешанной
кровью. Никто нс станет говорить о чернокожей, белокожей,
длинноголовой или круглоголовой национальности. В наше время
ни один ученый ие станет составлять и родословную народов на
основе родословного дерева языков. Как не было пранарода, так
не было и праязыка. Предыстория нации должна быть проанали-
зирована г, общественно историческом плане.
7 В. llubbord. Die Doktrin von dor «I ly briden-Rasse». «Nation Europa», 1959
Nr. 8, SS. 35, 41.
22
2.
ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБЩНОСТИ ЛЮДЕЙ
ДО ОБРАЗОВАНИЯ НАЦИЙ
Исторически возникновению наций предшествовали первобыт-
ное человеческое стадо, род, племя, народность. Знание донацио-
нальных форм общности людей необходимо для раскрытия сущ-
ности нации, выделения ее специфики.
В период становления человека современного типа формой
общности древних людей от питекантропа и синантропа до неан-
дертальца было первобытное стадо. Оно выступило необходимым
переходным этапом от животного состояния к человеческому об-
ществу.
На основе возникшего труда складывались человеческие обще-
ственные отношения. Развитие этих общественных отношений при-
вело к образованию родовой организации, явившейся первой спе
цифической человеческой формой общности людей.
Термин «род» уже указывает на то, что речь идет о коллективе,
состоящем из кровных родственников. Однако было бы неправиль-
но объяснять на этом основании образование рода биологическими
причинами. Потребность в устойчивых коллективах людей, способ-
ных к согласованным действиям, к непрерывному ведению хозяй-
ства, была порождена развитием производительных сил. Перво
бытнообщпнному способу производства лучше всего отвечала
родовая организация людей. На этой стадии развития общества
производственный коллектив мог образоваться лишь на основе
естественного родства, и род. в отличие от первобытного стада,
стал таким устойчивым коллективом.
К. Маркс и Ф. Энгельс на основе огромного этнографического
материала сделали вывод, что все социально-этнические формы
общности людей определяются тем или иным способом материаль-
ного производства. Род всюду, где он имел место, являлся соци-
альной организацией доклассового общества, объединяющей груп-
пу людей, скрепленных узами единокровного происхождения,
сплоченных коллективным трудом, имеющих единые интересы,
связанных общностью языка, обычаев, традиций, элементов перво-
бытной культуры, религиозных представлений и форм культа.
Основой родовой организации было совместное владение
членов рода средствами производства. Все члены рода имели вза-
имные обязанности помощи, защиты и мщения за обиды. Как отме-
чает Ф. Энгельс, они поражали своим чувством независимости
и личного достоинства, прямодушием и храбростью8.
Формой более широкой общности, свойственной первобытно-
общинном} строю, является племя. По данным этнографической,
археологической и исторической наук, племя возникло в период
8 См. 1\ Маркс л Ф Энгельс. Соч., т. 21, стр 9b. «Архив Маркса
н Энгельса», т. IX. стр. 71.
23
развитого родового общества из рода как из основной обществен-
ной ячейки. Племена основывались также па родовых отношениях,
кровнородственных связях людей. Поэтому племя обладало теми
же признаками, что и род, и правомерным является общее понятие
«родо-племенная общность людей». «...Коль скоро основной обще-
ственной ячейкой, — пишет Ф. Энгельс, — является род, из него
с почти непреодолимой необходимостью, — ибо это вполне естест-
венно,-— развивается вся система родов, фратрий и племени. Все
три группы представляют различные степени кровного родства,
причем каждая из них замкнута в себе и сама управляет своими
делами, но служит также дополнением для другой»9.
Каждое племя имело собственное имя, территорию, общность
экономической жизни, языка (особого племенного диалекта, наре-
чия), обычаев, нравов, религиозных представлений (мифологии)
и культовых обрядов.
Некоторые авторы не признают общности экономической жиз-
ни у людей родо-племенного строя. Между тем именно при этом
строе люди, сообща владея материальной основой производствен-
ного процесса (всей территорией племени) и организуя распреде-
ление, потребление на равных началах, имели, в отличие от людей
антагонистических обществ, настоящую общность экономической
жизни. Именно на этой основе все соплеменники имели общие
интересы и были в труде и защите интересов племени едины.
Собственно общностью экономической жизни в конечном счете
следует объяснять и общность языка и другие общности.
Естественно, члены племени (в том числе усыновленные плен-
ники), будучи полностью равными в правах и обязанностях, живя
и трудясь в одинаковых природных и общественных условиях,
имели общие черты характера. Первобытная культура того или
иного племени также была общая для всех соплеменников. Раз-
личные племена сообразно особенностям своей деятельности дава-
ли в искусстве (в живописи, танцах и играх) свои оценки явлени-
ям жизни, стремлениям и идеалам данного племени. Каждое пле-
мя имело своп регулярные празднества и проводило их отдельно
с определенными формами культа, своеобразными танцами и иг-
рами. Родо племенная общественная среда, таким образом, фор-
мировала общие черты характера и культуры людей данных кол-
лективов. Как отмечали К- Маркс и Ф. Энгельс, люди этой эпохи
были неотличимы друг от друга, нс оторвались еще от пуповины
первобытной общности 10.
Общности людей родо-племенного строя господствовали десят-
ки тысяч лет и, следовательно, были очень устойчивыми. Однако
родовой строй предполагал крайне неразвитое производство и со-
циальные отношения. Потребности развития производительных
сил вызвали укрупнение первобытных коллективов. Появились
9 К Маркс п Ф. Энгельс. Соч., т. 21, стр. 97.
10 См К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 21, стр. 97.
24
союзы племен, образование которых означало уже начало разру-
шения родо-племенной организации. Стали возникать народности
как новая историческая форма общности люден.
В нашей литературе нередко можно встретить утверждение,
что союзы племен уже представляли народ, что народности появи-
лись из слияния нескольких племен11, но это не соответствует
действительности и неправильно по существу. Народности возни-
кают с образованием первых классовых обществ не на базе слия-
ния племен, а в результате разложения родо-племенных связей.
Ф. Энгельс подчеркивал: «... не забудем, что эта организация была
обречена на гибель. Дальше племени она не пошла; образование
союза племен означает уже начало ее разрушения...»12. Возникно-
вение, развитие и падение родо-племенного строя были обусловле-
ны возникновением, развитием и падением первобытного способа
производства.
В конспекте К- Маркса книги Л Моргана «Древнее общество»
и в произведении Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной
собственности и государства» нередко можно встретить такие вы-
ражения, как: «... четыре афинских племени слились в Аттике
в один народ вследствие смешения племен на одной территории и
постепенного исчезновения географических границ между ними» 13
или: «В поэмах Гомера мы находим греческие племена в большин-
стве случаев уже объединенными в небольшие народности...»14
и т. д. Но авторы, которые ссылаются на подобные утверждения
для обоснования тезиса, что «народность возникает в результате
слияния племен», не обращают внимания на то, что К. Л\аркс и
Ф. Энгельс термины «народ», «народность» употребляют в указан-
ных случаях применительно к родовому строю и вовсе не считают
их идентичными понятию «народность», являющейся категорией
классового общества. «...При родовых учреждениях народ, — пи-
шет К. Маркс, — возникает только тогда, когда племена, объеди-
ненные одним управлением, сливаются в единое целое, как четыре
афинских племени в Аттике, три дорийских племени в Спарте, три
латинских и сабинских племени в Риме»15. Такое слияние племен
при родовых учреждениях дает не народ или народность в подлин-
ном их смысле, а лишь подобие народа. «Союз племен, — указыва-
ет К. Маркс, — является ближайшим подобием народа» 16. «Когда
племена, как, например, афинские и спартанские, сливались в
один народ, то получалась лишь более усложненная копия племе-
ни» 17. И Ф. Энгельс называет народностью в этом смысле те коллек-
тивы людей, «внутри которых роды, фратрии и племена все же
11 «Основы научного коммунизма». М., Политиздат. 1966, стр 445.
12 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч, т. 21, стр. 99.
13 «Архив Маркса и Энгельса», т. IX, стр. 94.
14 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 21, стр. 104.
«Архив Маркса и Энгельса», т. IX. стр. 79
16 Там же.
15 Там же, стр. 141.
25.
еще вполне сохраняли свою самостоятельность»18. По его мнению,
указанные народности также входят в родовую организацию. Он
считает, что последняя дальше племени не пошла и что «образо-
вание союза племен означает уже начало ее разрушения...»19.
К. Маркс и Ф. Энгельс вслед за Л. Морганом считают, что
«<9о времен Ликурга и Солона (у греков) было четыре ступени
общественной организации: род, фратрия, племя и народ. Словом,
греческое родовое общество — это ряд объединений, управление
которыми основывалось на личных отношениях их членов к роду,
фратрии или племени» 20. То же самое К. Маркс и Ф. Энгельс гово-
рят о римском и других народах.
Дальше К- Маркс и Ф. Энгельс говорят о переходном периоде,
о приписываемой афинянами Тезею первой попытке уничтожить
родовую организацию, затем о реформах Солона и Клисфена, о
появлении «территориальных племен», антагонистических классов
и государства. «Отношение к роду или фратрии перестало опреде-
лять гражданские обязанности афинян. Слияние народа в полити-
ческие корпорации на определенных территориях было теперь за-
вершено»21. Народности формируются из различных племен, кото-
рые, однако, не входят в них в качестве составных частей, вытес-
няются «старые кровнородственные объединения»22.
Ф. Энгельс, показывая разложение рода и образование народ-
ностей с классовой и государственной организацией на примерах
греков, римлян и германцев, подчеркивает, что для раскрытия
экономических условий этих процессов «Капитал» Маркса будет
нам столь же необходим, как и книга Моргана»23. Анализ смены
способов производства и показывает закономерность появления
новой формы социально-этнической общности людей — народности.
Последняя появляется не в результате слияния племен, а на основе
разложения всех родо-племенных связей. Внутри племен происхо-
дит дифференциация родов на богатые и бедные, «старшие» и
«младшие». Из зажиточных родов в свою очередь выделяется
аристократия, которая вершит всеми делами союза племен. Влия-
ние взглядов п образа мышления родового строя еще было сильно,
по они постепенно отступили в борьбе с новыми порядками. Роды
и племена распадаются на семьи, обладающие уже индивидуаль-
ными интересами Отдельная (малая, индивидуальная) семья,
состоявшая только из родителей и их детей, становится носителем
частной собственности, основной экономической ячейкой общества,
(акая семья, как отмечал Ф. Энгельс, являлась «первой формой
семьи, в основе которой лежали не естественные, а экономические
18 К Маркс II Ф. Энгельс Соч., т. 21, стр. 104.
19 Там же, стр. 99
20 «'Архив Маркса н Энгельса», т IX, стр. 142.
21 Там же, стр. 155.
22 К М а р к с п Ф Энгель с. Соч.. т. 21, стр. 116.
21 Там же, стр. 156.
26
условия — именно победа частной собственности над первоначаль-
ной, стихийно сложившейся общей собственностью» 24.
Таким образом, народность как общность людей формируется
с возникновением частнособственнических отношений и характерна
для рабовладельческого строя и феодализма. Развитие частной
собственности, обмена, торговли разрушило родо-племенные связи,
породило новое разделение труда и классовое расслоение. Кровно
родственный принцип объединения людей уступил место территори
альному принципу.
С возникновением классового общества, основывающегося на
частной собственности, существенно меняется и характер образо-
вания новых общностей людей, поскольку коренным образом изме-
няется характер их общественных связей и отношений.
Народность — нечто большее, чем только определенная этни-
ческая общность. Она, как исторически сложившаяся общность
людей, включает не только этнически неоднородные элементы, но
и антагонистические классовые общности. Народность, или народ
(в данном случае они употребляются в идентичном смысле), явля-
ется исторически сложившейся социальной общностью людей в ее
широком понимании25. Поэтому наряду с общим понятием народ-
ности правомерно иметь понятия также о типах народностей26.
Что касается вопроса: когда верхушечные классы входят в по-
нятие «народ», то это можно определить по их роли в его разви-
тии. Господствующие классы в пору своей прогрессивной деятель-
ности, пока вносят определенный по южптельный вклад в развитие
народа, составляют часть народа. По мере же развития классовых
антагонизмов они становятся тормозом для прогрессивного раз-
вития народа и тем самым порывают с ним. В этот период в поня-
тие «народ» входят лишь трудящиеся массы, которые в пределах
определенной компактной территории и в силу своего обществен-
ного положения действительно имеют общность национального ха-
рактера и культуры, причем в главных, существенных их чертах
Итак, народность, образуясь на базе разложения первобытно
общинного строя, а не являясь итогом процесса простого расши-
рения и обобщения родо-племенных связей, естественно, включает
в себя различные этнические элементы. Формировавшаяся таким
путем народность является более широкой, чем род или племя,
социальной общностью людей. Поэтому люди могут входить в эту
общность, вовсе не относясь по своему происхождению к основным
24 К. Маркс п Ф Энгельс Соч., т. 21, стр. 68.
23 Родо-племеппая общность, конечно, тоже была общественной, социальной
ячейкой, но этнический состав ее был однородным
26 То. что народности возникли в рабовладельческом и феодальном обществах,
еще не означает, что между ними нет различий. Более того, народности име-
ются и формируются и в последующих общественно-экономических форма-
циях — при капитализме и социализме. Подробно об исторических типах
народностей н закономерностях их развития см. Л Г Агаев. К вопросу
о теории народности. Махачкала. 1965.
27
этническим элементам данной народности, и, наоборот, целый
класс может принадлежагь к этнической основе народа, но не вхо-
дить в понятие «народ» вообще и не иметь общности нравов, куль*
туры, а иной раз даже языка с данной народностью.
Появление качественно нового социального состава придает и
новое качество общностям людей. У народности имеется постоян-
ная и более обширная, чем у племени, общая территория, но она,
с одной стороны, приобрела большее значение, поскольку терри-
ториальные связи стали главными, заменив родо-племенные связи,
а с другой стороны, этой территорией по-разному располагают лю-
ди разных классов, и их связи, естественно, иного порядка. В анта-
гонистическом обществе трудно уже говорить об общности эконо-
мической жизни, а правильнее говорить об общности эконо-
мических связей, имея в виду вовлечение всех членов народности
в определенные производственные отношения данной общественно-
экономической формации. В силу экономических связей, собствен-
но, и происходит выделение общего языка из племенных говоров,
существующих долгое время наряду с общенародным языком.
Классовое деление общества накладывает наиболее сильный
отпечаток на былую общность психологии и культуры людей родо-
племенного строя. В каждой народности появляются как бы два
народа с различными нравами и культурой. Выше классовых пред-
рассудков не мог подняться даже такой ум, как Аристотель,
который считал раба «говорящим орудием», лишенным возмож-
ности добродетельной жизни, поскольку, по мнению Аристотеля,
мера нравственности должна соответствовать мере богатства.
При антагонистическом характере общественных отношений
раскалывается и культурная общность людей. Если первобытная
культура была по существу общенародной, то культура народности
с развитыми классовыми антагонизмами раздваивается. С фор-
мированием классового общества возникает противоположность
между физическим и умственным трудом. На долю раба выпадает
бесконечный изнурительный физический труд, а свободные от раб-
ства или крепостничества люди воспитываются в духе презрения к
физическому труду. Отживающие господствующие классы подав-
ляют народное творчество, стремятся подчинить его своим инте-
ресам, внести в него консервативные, реакционные идеи, чуждые
народу взгляды. Так, например, феодалы не только создавали свой
реакционный эпос или религиозно-мистическую живопись и музы-
ку, но и перерабатывали в своих узкоклассовых интересах произве-
дения народно поэтического творчества, народную музыку и т. д.
11екоторые особенности психологии, культуры, быта остаются
общими и у антагонистических классов, но не они составляют суть,
главные черты духовного облика народности в целом.
Таким образом, народности, возникшие па базе рабовладель-
ческого или феодального способа производства, при всех различи-
ях между собой являются определенной формой исторически сло-
жившейся общности людей, характеризующейся общностью тер-
28
ритории, территориальных, (земляческих) экономических связей,
единым языком, проявляющимся в его диалектах, и выросшим на
основе этих общностей сознанием своей этнической принадлеж-
ности.
В историческом развитии форм общности людей необходимо
обратить внимание на то, как меняются в них основы социальных
связей. В доклассовом обществе они были родовыми, в нации, как
мы увидим в дальнейшем, они являются экономическими, а в
народности определяющие ее социальные связи — это территори-
альные связи. Рост производства в условиях существования народ-
ности сделал уже невозможным родовые отношения, но вместе
с тем производительные силы рабовладельческого и феодального
обществ были еще недостаточно развиты, чтобы преодолеть фео-
дальную раздробленность различных стран. В условиях господства
натурального хозяйства экономические связи осуществляются в
рамках земляческих союзов.
Развивающиеся еще в недрах феодализма капиталистические
производственные отношения потребовали создания нового каче-
ства общности людей. Такой общностью явилась нация. Но прежде
чем перейти к анализу сущности нации, рассмотрим некоторые не-
марксистские концепции и определения нации, социальные и гно-
сеологические корни наиболее распространенных психологических
теорий нации, а также особо и в противовес этим концепциям
прогрессивные в домарксистской философии и социологии взгляды
на нацию и национальные отношения — взгляды революционных
демократов.
ГЛАВА II
О НЕКОТОРЫХ НЕМАРКСИСТСКИХ
КОНЦЕПЦИЯХ НАЦИИ
1.
КРИТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ НАЦИИ,
ИХ СОЦИАЛЬНЫХ
И ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИХ КОРНЕЙ
g уржуазпый национализм в борьбе против пролетарского интер-
национализма всегда прибегал и прибегает к извращению сущ-
ности нации. Для подмены классовой солидарности трудящихся
различных наций национальной солидарностью антагонистических
классов одной и той же нации буржуазия широко использует пси-
хологическое истолкование сущности нации. Служебная роль по-
следнего— возводить психологические барьеры между нациями,
проводить политику национальной розни и вражды во имя классо-
вого сотрудничества.
Поскольку обоснованием любого национализма и шовинизма
обычно выступают различные психологические теории нации, то
для критики их представляет интерес выяснение истоков этих тео-
рий в истории философии и социологии.
Шарль Монтескье (XVIII век) —один из основоположников
географического направления в социологии, пользовался понятием
«Народный дух» и ставил его в зависимость от географической сре-
ды. Объяснения нравственного облика парода, его характера,
строя, климатом, почвой, размером территории были ненаучны, они
лишь внешне выглядели материалистическими.
В обнаженной идеалистической форме объяснял «народный
дух» и его разнообразие Г. Гегель. Это разнообразие он тоже
связывает с различием географических условий существования лю-
дей, по поскольку природа у Гегеля есть нс что иное, как «отчу-
жденный от себя дух», то различные проявления последнего высту-
пают, собственно, не как продукт природы, а как продукт миро-
вой «абсолютной идеи», ее третье воплощение, как некое самопро-
извольное действие «души» в связи с природными условиями.
«В-себс-пдля-себя-сущпй дух, — пишет Гегель, — не простой
результат природы, но поистине свой собственный результат; он
сам порождает себя из тех предпосылок, которые он
себе создаст» '. Душа, по мнению Гегеля, выступает как «субстан-
1 Г. Гегель Соч., т. III. М., Господптнздат, I95G, стр. 39.
30
ция, абсолютная основа всякого обособления и всякого разъеди-
нения духа»2. Этой основой Гегель объясняет «духовные расовые
различия человеческого рода, равно как и различия между нацио-
нальными духами»3, и ставит себе задачу «рассмотреть националь-
ный характер лишь постольку, поскольку последний содержит в
себе зародыш, из которого развивается история наций» 4.
Характеристики «местных или национальных духов» Гегель
относит частью к естественной истории человека, частью — к фило-
софии всемирной истории. Естественная история человека рассмат-
ривается Гегелем в его «Философии духа» в разделе «Антрополо-
гия», которая у него выступает как наука о «душе», и все многооб-
разие «национальных духов» объясняется действием этой «души»,
а «Философия истории» Гегеля, еще больше мистифицируя деист
вне «мировой души», выводит из нее «всемирно-историческое зна-
чение народов». В «Философии истории» Гегеля «народный дух»
вообще ничем не определяется, а существует объективно, как некое
существо, обладающее высшими силами и предопределяющее
судьбу и миссию народов. Согласно объективно-идеалистической
философии Гегеля действующим началом в народе является его
«дух, создающий из себя наличный действительный мир, который
в данное время держится и существует в своей религии, в своем
культе, в своих обычаях, в своем государственном устройстве и в
своих политических законах, во всех своих учреждениях, в своих
действиях и делах. Это есть его дело — это есть этот народ»5
Гегель считал, что делению земного шара на части света
соответствует деление на расы и различные «психические харак-
теры» этих рас. Он развивал реакционную «европоцентристскую»
концепцию, согласно которой «всемирная история направляется с
Востока на Запад, так как Европа есть безусловно конец всемир-
ной истории, а Азия ее начало»6. «Историческим пародом, высшей
нацией» современной эпохи, но Гегелю, являются немцы.
Принципы народных духов представляются Гегелем лишь как
моменты единою всеобщего мирового духа. Они находятся в пре-
емственной связи друг с другом, по каждый народный дух имеет
ограниченные потенции, призвание, исчерпав которые он передает
эстафету другому народу. Он сам по себе нс развивается дальше
своего призвания, ибо это было бы равносильно тому, что дух
парода дошел до желания чего-либо нового, а «это было бы, более
высокое, более общее представление о себе самом, это значило бы,
что он пошел далее своего принципа ,.»7.
Гегель нс дотаскает параллельного развития народов, их взаи
мообогащенпя. он располагает их па различных ступенях иерархи-
2 Г. Гегель. Соч., т. III, стр. 57.
3 Там же, стр. 63.
Там же, стр. 76.
5 Гегель. Соч.. т. VIII. AV, 1935, стр. 71.
6 Там же, стр. 98.
' Гам же, стр. 72.
31
ческой лестницы всемирного духа, не разрешая переступить поло-
женную им эстафетную линию. Народ в его представлении живет
так, как живет стареющий индивидуум, довольствуясь тем, что он
именно таков, и даже наслаждаясь этим. Объяснения Гегелем
причин различного характера развития разных народов были на-
столько надуманными, что другой философ — тоже идеалист —
Фулье, сам развивший учение об «идеях-силах», заметил, что
связывать, например, греческое искусство с эстетическими наклон-
ностями греческого народа, как это делает Гегель, все равно, что
объяснять горение флогистоном 8.
Сделав мировой дух и дух народов как моменты последнего
ответственными за все различия, сложности, проявляющиеся в
жизни народов и в их взаимоотношениях, Гегель избавляет себя
от необходимости конкретных исследований и ответов на эти слож-
ные вопросы и дает различным народам весьма поверхностные,
субъективные оценки, часто граничащие с расистской клеветой на
них. Он, например, вслед за английскими колонизаторами утвер-
ждал, что «в нравственном отношении индусы стоят чрезвычайно
низко» и что вообще у восточных народов «нет ничего внутреннего,
нет ни убеждений, ни совести...»9.
Если Гегель понимал дух народа как проявление в нем миро-
вого духа, то позднее более распространенным стало понимание
духа как сущности народа, нации. Но тогда более конкретно встал
вопрос: что такое нация? Ответить на него, кажется, нетрудно.
Каждый человек является представителем определенной нации
(или народности), постоянно видит в жизни людей других наций,
вступает с ними в определенные отношения. Однако простым этот
вопрос кажется лишь на первый взгляд. Нация является сложным
общественно-историческим явлением. Трудность раскрытия слож-
ной сущности ее приводит к тому, что некоторые исследователи
вообще отказываются дать нации какое-либо определение. Однако
немало буржуазных социологов, отказываясь из классовых сообра-
жений раскрывать подлинную сущность нации, вместе с тем ста-
раются представить нацию как особую надклассовую устойчивую
общность людей, вырастающую якобы на естественно-природной
основе.
Буржуазия не заинтересована в научной теории нации, ибо
последняя раскрывает истинные причины национальных явлений,
их классовую подоплеку. Разноголосица и противоречивость име-
ющихся определений нации в буржуазной литературе объясняются
не только (и нс столько) сложностью определяемого явления (на-
ции), сколько классовой заинтересованностью идеологов капита-
лизма набросить мистический покров на сущность нации, чтобы в
выгодном для своего класса свете представить постановку и раз-
решение национальных проблем. Этим, собственно, объясняется
"См А. Фулье. Факторы национального характера Одесса, 1906, стр 16.
9 I с гель Соч, т VIII, стр 150, 107.
32
то, что буржуазные исследователи дают определение нации
apriori и характеризуют ее и национальные отношения, отправля-
ясь от предвзятых дефиниций.
Количество различных определений нации слишком велико, и
пет необходимости останавливаться на каждом из них. Рассмотрим
только некоторые типичные.
Одни из буржуазных идеологов открыто объявляют нацию не-
познаваемой сущностью, так сказать, вещью в себе. Так, напри-
мер, П. Сорокин считал, что нации как реальности, собственно, нет,
существует только термин «национальность» без соответствующей
ему общности людей. «Национальность, — пишет он, — такая же
сборная группа для социологии, какой является группа растении,
объединяемых одним термином «овоши» в ботанике, группа жи-
вотных, обозначаемых в общежитии термином «дичь» в зоологии»1 .
Игнорируя специфику закономерностей общественных явлений,
определенные социальные связи людей в рамках нации, П. Сорокин
писал, что нельзя искать общих признаков нации. «Зоологи и
ботаники таких попыток не делают, но социологи, увы, ... одним
термином «национальность» обозначают различные по своему
составу кумулятивные группы»11.
Другие авторы дают сущности нации и национальным отноше-
ниям откровенно пдеалистически-мистические объяснения. Так,
например, реакционный философ-мистик Н. Бердяев писал: «Нация
рационально неопределима. В этом идея нации имеет аналогию с
идеей церкви», а говоря конкретно о своей нации, он утверждал,
что «русская национальная мысль питалась чувством богоизбран-
ности и богоносности России» 12.
Различные определения нации дают и биологические расисты.
Эти как бы желают ухватиться за реальность, материальную суб-
станцию нации и в качестве таковой выдвигают «единство крови».
Основой всех национальных особенностей биологические расисты
считают анатомию и физиологию. О несостоятельности этой анти-
научной концепции \жс говорилось, а какие социальные последст-
вия вытекают из нее, показал фашизм, особенно гитлеровского
толка с его «теорией белокурой бестии», рвущийся к установлению
нового, рабовлательческого порядка в мире.
Расистскими являются и определения, подчеркивающие духов-
ное неравенство нации. Так, например, французский антрополог
и социолог Г. ,Тебой писал, что «каждый народ обладает душев-
ным строем, столь же устойчивым, как. его анатомические особен
нести, от него-то и происходят его чувства, его мысли, его учреж-
дения, его верования и его искхсства»13. Г. Лсбон, как и Гегель,
рассматривает историю народов как следствие их характера II
|П П А. Сорокин. Система социологии, т II. гл. III. Пг 1920, стр 82
Там же. Под «кумулятивными группами» П. Сорокин понимает оетиияюпнв
несколько элементов взаимодействия
II Бердяев Судьба России. М, 1918, стр 1.
Г Л е б о и. Психология народов СПб., 1896, стр. •>
> 33
С. Т. Калтахчян
его мнению, «история в главных своих чертах может быть рас-
сматриваема, как простое изложение результатов, произведенных
психологическим складом рас»14. А «различные элементы: язык,
учреждения, идеи, верования, искусство, литература, из которых
образуется цивилизация, должны быть рассматриваемы как внеш-
нее проявление души создавших их людей»15. На вопрос: откуда
взялся этот особый душевный строй? подобные авторы не дают
конкретного ответа, а пускаются в туманные расужденпя о том,
что национальность — это своеобразная материальная субстанция,
обладающая таинственной силой создавать из себя общность на-
ционального характера. Поскольку таинственная сила нс раскры-
вается, то в нее остается лишь верить.
Рассуждения об особом национальном характере, «националь-
ной душе» использовали и используют националисты всех стран и
времен. В России, например, в николаевских манифестах по пово-
ду восстания декабристов говорилось, что «бунт» на Сенатской
площади «не в свойствах и не в нравах» царелюбивого русского
народа.
В 30-х годах XIX века в России была сформулирована реакци-
онными идеологами теория «официальной народности», согласно
которой «русский народ по природе своей религиозен и предан пра-
вославию, искони стоит за царя, видит в нем представителя бога
на земле, а в помещике — отца родного... привык к крепостничеству
и вполне им доволен ..»16. Идеологи «официальной народности»
обосновывали особый «русский дух», опирающийся якобы на прин-
ципы православия, самодержавия и народности. Этот особый «рус-
ский дух» (характер) в свою очередь якобы обеспечивал «спокой-
ную» и «устойчивую» крепостническую Россию в противовес мяту-
щемуся и разлагающемуся Западу.
В середине XIX века идеи «официальной народности» были
модифицированы новым общественным течением — славянофильст-
вом. Выступая в условиях кризиса крепостнической России, славя-
нофилы (Хомяков, Киреевские, Аксаковы и другие), будучи в по-
литике убежденными монархистами, а в философии — идеалиста-
ми религиозно-мистического толка, даже тогда, когда выступали
за проведение буржуазных реформ, обосновывали «теорию» об
особом самобытном пути исторического развития России, будто бы
принципиально отличном от пути политического и культурного раз-
вития стран Западной Европы и исключавшем возможность рево-
люционных переворотов в России. Много рассуждали они также
об особой «славянской душе», «славянском характере». Глава
позднего славянофильства Н. Я Данилевский выдвинул теорию о
неизменных «культурно-исторических типах» народов, противо-
поставляя славянские народы народам Западной Европы.
14 Г. Леб он. Психология народов, стр. 48.
15 Там же, стр. 64.
,с «История СССР», т. I. М., «Мысль», 1964, стр. 718.
34
Несмотря на критику славянофильства великими русскими ре-
волюционными демократами В. Г. Белинским, А. И. Герценом,
Н. Г. Чернышевским и Н. А. Добролюбовым, доказавшими несо-
стоятельность как биорасистских, так и психорасистских интерпре-
таций сущности наций, мистификация сущности нации продол-
жалась со стороны буржуазных и мелкобуржуазных идеологов,
в частности народников 17.
Определение нации через психический склад или национальный
характер пользовалось большой популярностью у социал-рефор-
мистских авторов. Широко были распространены различные вари-
ации определения Р. Шпрингера: «Нация — это союз одинаково
мыслящих и одинаково говорящих личностей» 18. Многие к тому же
нацию рассматривали в расистском духе, повторяя вслед за Г. Ле-
боном, что «самое прочное в каждой расе — это наследственные
основы ее мыслей 19.
Французский буржуазный философ-идеалист А. Фулье, пропа-
гандировавший мораль «солидарности» труда и капитала, считал,
что существует «особая национальная логика»20. Он также много
писал о душевном своеобразии европейских народов, в особен-
ности французов. Это своеобразие трактовалось как превосходство
одних народов перед другими. Так, по мнению Фулье, в то время
как некоторые народы Европы (не все) способны творить, азиат-
ские народы обладают только способностью удерживать и утили-
зировать факты, достижения цивилизации.
Превращение исторической действительности в ряд разрознен-
ных духовных образований характерно, например, для Шпенглера,
который в своем основном сочинении «Закат Европы» выводит
концепцию «локальных цивилизаций» из якобы совершенно само-
бытных психических особенностей и глубоко специфических обра-
зов мышления разных народов.
Психологические концепции нации, широко распространенные
в буржуазной социологии XIX века, в начале XX века нашли отра-
жение и в так называемом австромарксизме. Идеолог последнего
О. Бауэр сделал наиболее значительную попытку психологичес-
кого обоснования теории нации. В. II. Ленин придавал большое
значение критике этой теории. Актуальность се критики не умень-
шилась и в наше время.
Различные современные авторы, стремящиеся обосновать на-
ционализм и рассматривающие в связи с этим национальный ха-
рактер как главный или даже единственный определитель сущно-
сти нации, так или иначе исходят из психологической теории на-
17 В. II. Лепин критиковал народнические теории самобытного пути развития
России, боролся против их ошибочного представления, что этот путь будет
обеспечен благодаря «специфическому национальному характеру и духу рус-
ского народа», направляемому героическими личностями.
,ь Р. Ш принтер. Национальная проблема. СПб., 1909, стр. 43.
19 Г. Леб он. Психология народов, стр. 153.
20 А Фулье. Факторы национального характера, стр. 10.
3*
35
ции О. Бауэра. А. Д. Лоо, приписывая социализму национализм,
прямо ссылается на Бауэра. Ему нравится, что Бауэр увековечи-
вает нации, считая, что при коммунизме нации не только не исчез-
нут, но еще больше будут дифференцироваться Лоо обрушивается
на В. И. Ленина, не согласного с этим, считающего, что нации
через сближение сольются в зрелом коммунистическом обществе.
Лоо нападает на марксизм-ленинизм также за то, что причины
национальных конфликтов он ищет в материальных условиях
жизни наций, а не в их характере, не в национальной психологии21.
Э. Баркер не ссылается на Бауэра, но фактически тоже исходит
из него, когда свою книгу «Национальный характер и факторы,
формирующие его» начинает с утверждения, что «нация есть ма-
териальная база с духовной надстройкой», а затем, ссылаясь на
различные материальные и духовные факторы образования нацио-
нального характера, делает вывод, что «нация не физический факт
одной крови, но психический факт одной традиции» 22.
Некоторые другие исследователи доказывают, что «националь-
ный характер —это есть склад ума, выражающийся в культурных
ценностях: литературе, искусстве, философии»23. Подлинный
смысл подобных положений раскрывается Э. Баркером. Послед-
ний, сославшись иа Гегеля, что «конституция развивается только
из национального духа и вместе с ним», пишет: «Это абсолютная
истина и, если право и конституция нации развились из чувства
права и национального духа, то национальный характер находит
свое выражение в системе законов и учреждений»24. Нетрудно
видеть, что как приведенные положения, так и вообще идеали-
стические теории нации, различные концепции о таинствен-
ной «душе народа» (буржуазная этнопсихология), о противопо-
ложных «типах мышления» (теория о локальных цивилизациях
школы О. Шпенглера), распространенные в буржуазной социоло-
гии, родственны кантианской теории О. Бауэра о нации.
Психорасистские, а то и биорасистские интерпретации сущно-
сти нации живучи. Собственно, без них не обходится любой нацио-
нализм, даже национализм, прикрывающийся революционным
флагом. Например, все, противопоставляющие «особый революцио-
низм» восточных народов «неспособности к революции» западных
народов, по сути дела, исходят из тех же культурно-исторических
типов теперь уже географического расизма. В этом весь мир убе-
дился в наши дин, взирая на разбушевавшиеся мутные волны
всликохаиьского маоизедуиовского национализма.
21 A D. Low. Lentil он the Question of Nationality. N. Y, 1958, pp. 80
60, 118.
22 E. В а г k a r. National character and the factors in its formation. London,
1939. pp. 2, 12.
2* IL С. I. D u i j k c r, N. II. F r i j d a. National character and national Stereo-
types, v. I. Amsterdam, 1960, p. 28.
24 E. В a r k a r. National character and the factors in its formation, p. 143.
36
Особенно большой популярностью пользуются классификации
наций по психологии в буржуазной философии и социологии. В на-
ше время, когда биологический расизм уже не выдерживает на-
тиска науки, националисты все чаще прибегают к психорасизму
и подчеркивают духовное неравенство народов. Современные реак-
ционные идеологи, такие, например, как Г. Кои, Ф. Нортроп,
Р. Страус-Хюпе, Р. Эмерсон и другие, хотя и избегают откровенно
мистических формулировок, но, чтобы извратить сущность совре-
менных национальных отношений, конструируют понятие нации
так или иначе из коллективного или индивидуального сознания.
Попытки давать нациям психологическую классификацию, под-
разделять нации по национальным характерам в наше время не
уменьшаются, а, наоборот, увеличиваются. Буржуазные социоло-
ги, такие, как Богардус, Боннер, Бритт, Джонс, Кардинер, Л1акай-
вер Макдоугалл, Пирсон, Сарджент, Эйзенк и другие, часто сводят
сущность нации к национальному характеру, последний — к наци-
ональной культуре, а культуру—к национальной психологии. Пси-
хосоциологи, игнорируя экономическую основу общества, а следо-
вательно, и историко-экономическое объяснение нации, пытаются
в духе Шпенглера и Тойнби обосновывать существование «парал-
лельных локальных культур — цивилизаций», порождаемых якобы
особым психическим складом и глубоко специфическим образом
мышления различных народов. Социологи фрейдистского толка,
считая человеческую природу7 и психику неизменными, таковой
считают и национальную психологию. Психорасисты, опираясь на
реакционную философию Шпенглера и фрейдистскую психологию,
пытаются обосновать духовное неравенство народов. Согласно
взглядам, например, Ральфа Линтона, Абрама Кардинера народы
не англосаксонского происхождения неполноценны по своему
психическому складу.
По данным ЮНЕСКО, только в 1950—1960 годах на различных
языках мира было издано около 1000 исследований по проблеме
«Национальный характер и национальный стереотип». Многие из
их авторов делают попытки учесть влияние социальных, историче-
ских факторов на формирование национального характера, но в
целом они признают психологический фактор самодовлеющим.
В большинстве случаев, как отмечается в обзоре указанных иссле-
дований, составленном Дейкером и Фрайдом, «изучение нацио-
нального характера стало изучением национальной культуры с
психологической точки зрения»25. Некоторые буржуазные авторы
при характеристике нации опираются на бихевиористические
выводы.
Считают, например, что поведение (behavior) представляет
«иногда манифестацию личности, иногда только выполнение куль-
®5 Н. С. I. D u i j к е г, N. Н. F г i j d a. National character and national Stereo-
types, v 1, p. 23.
37
турных стандартов и законов» ,26, «ценности и отношения могут
проистекать из глубин личности»27. Личности, одинаково воспри-
нимающие и отражающие эти ценности, составляют определенную
национальную общность. Одинаковость их национального харак-
тера предопределена уже тем, что они считают ценностями все то,
что приписывают себе в качестве черт национального характера.
Исследователи так называемой общей теории личности тоже
наделяют различные «социальные институты», в том числе и на-
цию, особой единой психологией, которая устанавливается «дости-
жением равновесия» в психических реакциях личностей, образу-
ющих данную общность, независимо от их классового положения.
Один из представителей социологии личности Алекс Инкельс при-
знает, что «психологизация» социальной организации пользуется
плохой репутацией, что «понятие национального характера» не
только устарело, но и давно уже подвергается нападкам за его
предполагаемое родство с дискредитированными теориями «расо-
вой психологии»28. Однако после некоторых оговорок, что социо-
логия личности имеет некоторые иные подходы, он тем не менее
считает, что расхождения в чертах и типах личностей у предста-
вителей различных национальностей пли народностей в той пли
иной мере объясняют функционирование социальной системы, а не
наоборот.
Таким образом, психологические теории нации (являются ли
они персоналистскими с позиции «социологии личности», бихеви-
ористскими или фрейдистскими ит. п.) в конечном счете объясня-
ют поведение социально-этнических общностей людей якобы свой-
ственными каждой из них особыми, только им присущими психи-
ческими чертами, особым отражением окружающего мира.
Современные буржуазные социологи, которые рассматривают
общественную жизнь как социально-психическую и стремятся рас-
членить общество на «группы», объединяемые якобы однородными
психологическими импульсами и характеристиками, истолковывают
сущность нации психологически. Психологические концепции нации
в современной буржуазной социологии являются господствующи-
ми29. Поэтому критика социальных и гносеологических корней
идеализма в национальном вопросе, и в первую очередь преслову-
той теории «национальной апперцепции» О. Бауэра, являющейся
теоретической основой современных психологических истолкований
сущности нации, представляется весьма актуальной задачей. Такая
£* II. С. J. D и t j k е г, N. 11 F г i j d a. National character and national ste-
rcotx pes, v. I, p. 43.
27 Ibid , p. 45.
28 См A. II n келье. Личность н социальная структура. «Социология сегодня.
Проблемы п перспективы». М, «Прогресс», 1965, стр. 295.
29 Подробнее об зтом см. Е. Д. Модржипская Защита современного
колониализма. «Исторический материализм и социальная философия современ-
ной буржуазии». М , Соцэкгпз, I960, стр. 470 —487.
38
критика важна и необходима, поскольку все концепции националь-
ной исключительности так или иначе опираются на признание на-
личия «особой национальной психики».
Чтобы раскрыть социальные и гносеологические корни психо-
логических теорий нации и наиионапьных отношений, нам необхо-
димо вернуться к некоторым философским и социологическим кон-
цепциям прошлого. В этих целях особенно важно, хотя бы вкратце,
но более или менее систематически рассмотреть бауэровскую пси-
хологическую теорию нации, которая выступала от имени марк-
сизма, а на деле являлась концентрированным выражением идеа-
листических и реакционных интерпретаций сущности нации и на-
циональных отношений.
Книга Отто Бауэра, одного из лидеров II Интернационала и
идеолога так называемого австромарксизма, «Национальный воп-
рос и социал-демократия» (1907 год) на протяжении многих лет
пропагандировалась некоторыми бывшими марксистами как клас-
сическое произведение в области национального вопроса, в кото-
ром якобы дана систематическая марксистская разработка нацио-
нальной проблемы в целом.
О. Бауэр определяет нацию как культурную общность, как общ-
ность характера, вырастающую на почве общности судьбы. «На-
ция,— пишет он, — это вся совокупность людей, связанных в общ-
ность характера на почве общности судьбы. На почве общности
судьбы — этот признак отличает национальную культурную общ-
ность от интернациональных общностей профессии, класса, народа,
составляющего государство, — словом, от всяких таких общностей,
которые покоятся на однородности, а не на общности судьбы»30.
Такое определение прежде всего никак не выделяло специфику
нации в отличие от племени и народности. Возникновение нации нс
связывается с определенной общественно-экономической формаци-
ей, а именно с возникновением капитализма и может быть датиру-
емо с древнейших времен. Далее О. Бауэр, подчеркивая, что про-
летариат и буржуазия одной и той же нации имеют общность ха-
рактера, культуры и судьбы, в то время как пролетарии разных
наций имеют лишь однородность судьбы, оправдывал и поддержи-
вал классовое сотрудничество внутри нации, национализм и шови-
низм в отношениях между ними. Для обоснования такой оппорту-
нистической п шовинистической политики О. Бауэр и выдвинул
теорию особого национального восприятия, осознания окружаю-
щего мира — так называем}ю теорию национальной апперцепции.
Термины «перцепция» (ч\ветвенное бессознательное восприятие)
и «апперцепция» (восприятие, связанное с самосознанием) впер-
вые ввел немецкий философ, объективный идеалист Г, Лейбниц.
Если в материалистической трактовке апперцепция означает такое
восприятие, которое зависит от предшествующего жизненного опы-
та человека и ог общего содержания его психической жизни,
30 О Бауэр. Национальный вопрос и социал-демократия СПб.. 1909, стр. 139.
39
определяемой в свою очередь воздействием на него внешнего мира,
то О. Бауэр понимает апперцепцию идеалистически, в духе мона-
дологии Г. Лейбница, кантовского учения о трансцендентальной
апперцепции и буржуазной этнопсихологии. Как известно, монады
Г. Лейбница — это духовные субстанции, деятельность которых
заключается в самобытной перцепции и апперцепции. Монады не
могут изменяться под внешним воздействием, они «вовсе не имеют
окон, через которые что-либо могло бы войти туда или оттуда вый-
ти». Монады не оказывают также влияние на внутренний мир друг
друга, они не связаны причинной зависимостью, их согласованное
действие регулируется предустановленной гармонией, зависящей от
высшей монады — абсолютного бога. Поэтому, отрицая чувствен-
ный опыт, Г. Лейбниц выступал против сенсуалистического учения
Дж. Локка о психике человека как о листе белой бумаги, который
потом уже на основе опыта заполняется множеством письмен.
Лейбниц считал, что душа искони содержит в себе идеи и истины,
склонности, предрасположения и привычки. Они — «семена веч-
ности», «искры», «живые огни, вспышки света, которые скрыты
внутри нас и обнаруживаются при столкновении с чувствами
подобно искрам, появляющимся при защелкивании ружья»31. Как
объективный идеалист Г. Лейбниц полагал, что «отношения подобно
истинам обладаю'!' реальностью, зависящей от духа, но не от чело-
веческого духа, так как существует верховный разум, определяю-
щий их все во всякое время»32.
В лсйбнпцианском духе против научного понимания апперцеп-
ции выступает также философия И Канта с ее идеалистическим
понятием трансцендентальной апперцепции. Кантовские априорные
формы и категории мало чем отличаются от предустановленных
вечных истин Г. Лейбница или же от «врожденных идей» Р. Де-
карта. II. Кант искал высшее условие, при котором создается
исконное единство всех представлений, понятий и суждений, всех
форм опыта; он изобрел «трансцендентальное единство самосозна-
ния» или «синтетическое единство апперцепции». Трансценденталь-
ной апперцепцией Кант называет чистое первоначальное неизмен-
ное сознание, которое лежит в основе чистого разума. Называя
материей то в явлении, что соответствует ощущениям, а формой
явления то, благодаря чему многообразное в явлении может быть
упорядочено определенным образом. Кант пишет: «Хотя материя
всех явлений дана нам только a posteriori, форма их целиком
должна для них находиться ютовой в нашей душе a priori» 33
Кайт считает, что в основе всякой необходимости лежит всегпа
трансцендентальное условие, основание сцинства сознания в син-
тезе многообразия всех наших наглядных представлений, понятий
объектов вообще, а следовательно, и всех предметов опыта.
31 Г. В Лейбниц. Новые опыты о человеческом ра-уме М —Л., Соцэкгпз,
193G, стр. 16.
32 Там же, стр. 231.
33 И. К а пт. Соч , т. 3. М , «Мысль», 1964, стр. 128.
46
Единство представлений, понятий людей согласно учению
И. Канта обеспечивается неким априорным самосознанием. «...Это
самосознание не может сопровождаться никаким иным (представ-
лением), и потому я называю его также первоначальной апперцеп-
цией. Единство его я называю также трансцендентальным един-
ством самосознания, чтобы обозначить возможность априорного
познания на основе этого единства. В самом деле, многообразные
представления, данные в некотором созерцании, не были бы все
вместе моими представлениями, если бы они не принадлежали все
вместе одному самосознанию...»34.
Реакционный немецкий филосф и психолог Гербарт, исходя из
идей лейбницевских «монад» и кантовского априоризма, считал
единственной реальностью душу, порождающую отдельные психи-
ческие элементы — представления, которые якобы и лежат в основе
разнообразия психической жизни человека.
По аналогии с гербартианским пониманием индивидуального
сознания немецкие философы-лингвисты ^1. Ланару с и Г. Штейн-
таль стали говорить о сознании народа. Во второй половине
XIX века они предложили разработать этнопсихологию (психоло-
гию народов), ставшую в их трактовке одной из ветвей буржуаз-
ной психологии. Этнопсихология как отрасль знания за основу
брала «душу» народа как некую таинственную субстанцию. Эта
субстанция остается неизменной при всех переменах и обеспечи-
вает единство национального характера при всех индивидуальных
различиях. «У каждого народа свой ум и воля, свое чувство и воо-
бражение. Они выказываются в его жизни, в религии, в его
поэзии»35. Согласно этой концепции «народного духа» язык, рели
гпя, искусство, быт, нравы и т. п. объясняются психологией народа;
все явления социальной жизни представляют собой своеобразную
форму «эманации народного духа». А «развитие духа более зави-
сит от своей внутренней причины» 36.
Теперь, обратившись к теории национальной апперцепции
О. Бауэра, нетрудно увидеть, что он развивает понимание аппер-
цепции Г. Лейбницем и И Кантом в духе буржуазной этнопсихо-
логпн.
Прежде всего необходимо отметить, что О. Бауэр заимствует
кантианство открыто. Но изображает до ю таким образом, что
если, например, Фихте отвергает материалистическую тенденцию
Канта и определяет нацию как проявление одного из божествен
ных законов, то он, Бауэр, якобы преодолевает дуализм Канта
материалистически и борется против идеализма и спиритуализма
как сторонник марксистского философского материализма. Бауэр
считает, что Кант переносит нас в область эмпирической психоло-
3d И Кант. Соч., т. 3 стп. 149
Г Штейн таль и М Лацапхс Мысли о паротпий психологии СПб.
1аб5. стп 9
16 Гам же. стр 11
41
гни, описывающей психические явления в сфере представлений,
чувствований, хотений, п что со времени появления «Критики
чистого разума» «мы знаем лишь данные опытом психические яв-
ления и их мы стараемся постигнуть в их взаимной зависимости»37.
На основе идеалистического понимания опыта, раскритикованного
В. II. Лениным в книге «Материализм и эмпириокритицизм»,
О. Бауэр делает идеалистическую попытку подменить изучение
материальных основ формирования нации рассмотрением функцио-
нальных отношений психических явлений.
Вместо изучения материальных факторов, способствующих
образованию нации, О. Бауэр ссылается лишь на наследственность,
на «открытие» постоянной зародышевой протоплазмы, обладающей
якобы «таинственной силой создавать из себя индивидуумов, от-
личающихся определенным своеобразием»38. О. Бауэр это считает
национальным материализмом и ставит его выше национального
спиритуализма, хотя речь идет лишь о замене одной таинственной
силы другой, не менее таинственной силой. Оказывается, через
наследственность «меняющиеся судьбы предков определяют ха-
рактер всех своих потомков, а эти последние связываются в общ-
ность характера, в нацию»39 *.
Даже способность к борьбе той пли иной нации (народа) прес-
ловутый «национальный материализм» объясняет не современ-
ными условиями жизни данной нации (народа), а условиями
существования предков. «Унаследованные качества какой-нибудь
нации суть не что иное, — вещает О. Бауэр, — как осадок ее прош-
лого, ее застывшая история» При этом игнорируется общеиз-
вестный факт, что на одних и тех же территориях, скажем Греции,
Италии, сменились и смешались самые различные племена и народ-
ности и что поэтому не приходится говорить о прямой линии насле-
дования. Физическое и духовное сходство О. Бауэр распространя-
ет на мифическую нацию, якобы происшедшую от одной челове-
ческой пары. Правда, он допускает существование наций, в жилах
которых течет кровь разных народов, и считает, что в этих слу-
чаях люди унаследуют характеры составных частей данной нации,
как, например, французы унаследовали качества галлов, римлян
и германцев. Но тогда что же остается от определенности нацио-
нального характера? Чтобы выйти из такого затруднения, О. Бауэр
обращается к современным условиям жизни, в которых народы
вырабатывают определенные культурные ценности и передают их
из поколения в поколение. «Нация, — пишет он, —есть не что иное,
как общность судьбы. Но эта общность судьбы действует в двух
направлениях: с одной стороны, путем естественной наследствен-
ности передаются качества, присвоенные нацией на почве общности
37 О. Бауэр. Национальный вопрос и социал-демократия, стр. 9.
38 Там же, стр. 14
39 Там же, стр. 19.
'° Там же, стр. 21.
42
судьбы, с другой — передаются культурные ценности, создаваемые
нацией на почве той же общности судьбы»41. Так устанавливаются
два способа преемственности, посредством которых судьбы предков
определяют характер потомков. Отмечая общность нации, естест-
венную и культурную, О. Бауэр считает, что нация есть не что
иное, как общность судьбы, образуемой в результате передач:
1) естественной наследственности; 2) культурных ценностей.
Благодаря такой общности судьбы и действию механизма нацио-
нальной апперцепции любое новое представление, культурное
содержание воспринимаются и осознаются (апперципируются)
каждым человеком сообразно его национальной сущности. Каждая
нация имеет якобы свое собственное «духовное Я», которое вос-
принимает и отражает все окружающее неповторимо, индивиду-
ально. К национальному характеру О. Бауэр относит особый уклад
(Bestimmtheit) воли. «В каждом акте познания воля проявляется
во внимании, из целого ряда явлений, данных опытом, внимание
останавливается лишь на некоторых и только их апперципиру-
ет...»42. Даже методы научного исследования и их результаты
О. Бауэр считает национально различными. Оказывается, что че-
ловек определенной нации ничего в настоящем не может воспри-
нимать непосредственно и объективно. Над его восприятием дов-
леет весь прошлый опыт его нации. Нация апперципирует весь
окружающий мир сообразно какой-то активной психологической
деятельности данной нации, которая и составляет ее «душу». Так,
по сути дела, О. Бауэр прилагает учение И. Канта о «Трансцен-
дентальной апперцепции» к истолкованию сущности нации и нацио-
нального вопроса. Пресловутое исконное доопытное единство вос-
приятия внешнего мира, общественных явлений той или иной наци-
ей он находит в неуловимом национальном характере. Иначе гово-
ря, национальная апперцепция сводится к возрождению нового
мистического национального духа, который и управляет всей исто-
рией нации и при всех ее изменениях сам якобы остается неизмен-
ным, чем сохраняет неизменной и сущность нации.
Выдавая национальный характер за некий таинственный народ-
ный дух, О. Бауэр считает, что развитие общества никогда не при-
ведет нации к сближению друг с другом, он не допускает никакой
ассимиляции даже на высшей фазе коммунизма. Наоборот, по
теории национальной апперцепции социализм «приводит к расту-
щей дифференциации национальностей в социалистическом обще-
стве, к более резкому разграничению их характеров, к более от-
четливой выработке их коллективных индивидуальностей»43. Со-
гласно этой теории «об исчезновении национального своеобразия
не может быть и речи!»44. Коммунизм ( О. Бауэр называет его
41 О. Бауэр. Национальный вопрос н социал-демократия, стр. 25.
42 Там же, стр. 113.
43 Там же, стр. 109.
44 Там же, стр. 163.
43
социальным образованием высшего порядка) «несомненно пред-
ставит собой пеструю картину личных национальных союзов и тер-
риториальных корпораций...»45. Таковы основные выводы, сделан-
ные автором пресловутой национальной апперцепции. Что эти
выводы опровергаются уже имеющимся опытом социалистического
развития наций в СССР, общеизвестно, но продолжим разбор на-
учной несостоятельности п политической вредности теории нацио-
нальной апперцепции. Для обоснования этой теории О. Бауэр
использует не только так называемый национальный материализм,
но и всячески старается изобразить дело так, что он опирается на
подлинную науку. Он на словах ссылается на дарвинизм, на мате-
риалистическое понимание истории К- Маркса, на важность эконо-
мического фактора в эволюции нации, а на деле выдвигает пропи-
танную метафизикой и идеализмом идею о существовании некоего
неизменного таинственного субстрата нации, который при всех
внешних изменениях последней якобы сохраняет и развивает ее
самобытность. Чтобы прикрыть идеализм и метафизику своей
психологической теории нации, О. Бауэр обставляет ее целым ле-
сом марксистских оговорок и ссылок на К. Маркса и Ф. Энгельса;
однако этот камуфляж разоблачается сутью и выводами самой
теории. Начав обоснование своей якобы материалистической тео-
рии нации с критики национального спиритуализма, О. Бауэр
сам стал на его позиции. Идейно-теоретическими корнями психо-
логической теории нации О. Бауэра, как показано выше, служат
различные идеалистические концепции буржуазной философии и
этнопсихологии, гносеологическими корнями — раздувание отдель-
ных общих черт психологии враждебных классов одной и той же
нации, превращение такой общности психологии в абсолют, в
решающий определитель нации. Социальные корни бауэровской
теории — это те же корни, которые питают социал-реформизм во-
обще. Психологическая теория нации О. Бауэра — классический
пример единства оппортунизма и национализма.
Теория национальной апперцепции и производные се положения
представляют собой сплошную цепь противоречий. О. Бауэр и его
сторонники, чтобы доказать единство сознания нации, ссылаются
па единство происхождения членов нации. Поскольку един-
ство происхождения имело место в родовом обществе, то
уже род рассматривается как нация, которая, <лсдователыю.
в свою очередь сводится к естественной общности. Когда
же наступает разложение родо-племенной общности людей и из
различных племен возникают народности, а затем и нации, един-
ство которых уже невозможно вывести из общности происхожде-
ния, упор делается на общность воспитания. Но теперь возникает
другая трудность. Ведь при всех стараниях господствующих клас-
сов нс получается подлинной общности воспитания, ибо каждый
класс в первую очередь и главным образом воспитывается своими
45 О Б а у > р. Национальный вопрос и социал-демократия, стр. 543.
44
особыми условиями жизни, в результате чего происходит раздвое-
ние в культуре, морали. Из этой трудности О. Бауэр пытается
выйти тем, что объявляет нацию культурной общностью и в нее
включает лишь господствующие классы, поскольку народные мас-
сы, по его мнению, не участвуют в выработке культуры и поэтому
составляют лишь «фон, низы нации». Однако как же быть теперь
с общностью национального характера, если народные массы не
входят в нацию? О. Бауэр считает, что капитализм постепенно
вовлекает пролетариат в культурную общность (с буржуазией!?)
и, следовательно, в общность национального характера. Так
бесконечно приходится выкручиваться приверженцам психологиче-
ской теории нации, чтобы свести концы с концами. И тем не менее
эта теория очень живуча, ибо преувеличение значения некоторых
общих черт характера всех членов нации, состоящей из враждеб-
ных классов, на руку всем буржуазным националистам, которым
только и нужно абсолютизировать духовную общность людей од-
ной и той же нации независимо от их классовой принадлежности,
чтобы изобразить нацию категорией природно-естественной, а сле-
довательно и непреходящей. Теория неповторимости национальных
путей общественного развития, послужившая основой неокантиан-
ского социального агностицизма, широко используется эксплуа-
таторскими классами, а также националистами и оппортунистами
для обоснования национальной исключительности своей нации,
приоритета национальной солидарности перед классовой солидар-
ностью.
Сам Бауэр выдавал национальную апперцепцию в качестве
марксистской социалистической теории, а социалистическое в ней
оказывается то, что согласно ей «марксизмов и соцнализмов»
должно быть столько, сколько существует наций. По мнению
Бауэра, каждая нация понимает социализм по-своему, сугубо ин-
дивидуально. Это теоретическое обоснование национального ком-
мунизма было охарактеризовано еще Г. В. Плехановым как при
способленпс социализма к национализму.
Неокантианскими аргументациями, якобы доказывающими
наличие иррациональных элементов в характере того или иного
народа, что «прогресс и регресс суть понятия ценности» и что «не
все культурные начала могут быть осуществлены любой расой»
(Риккерт), что раз история осуществляется по идеалу, то у каж-
дой нации имеется свой идеал... (Форлсндер) и т. п., широко
пользуются не только буржуазные идеологи, но и оппортунисты в
рабочем движении, все националисты. Из тезиса «соцнализмов
столько, сколько наций» исходят правые ревизионисты,проповеду-
ющие «национальный коммунизм», с ними смыкаются «левые» ре-
визионисты — современные догматики-левосекгапты, изобретающие
«националистические марксизмы».
Националисты пз самых различных социальных лагерей смы-
каются в том, что пытаются доказывать особые (уж, конечно, пре-
восходящие) черты характера своей нации и притязания на особые
45
права, на мессианство и т. д. Так поступали Шеллинг и Гегель,
так поступали славянофилы со своей теорией панславизма, от них
не отставали панисламисты и вообще националисты любой нацио-
нальности, выдвигая абсурдные теории об исключительности мис-
сии своих наций. С ними фактически смыкаются китайские герои
«левой» фразы, назойливо намекающие на грядущий век своей на-
ции. Национализм такого рода по логике вещей перерастает
в расизм.
Старые психологические теории, таким образом, и сейчас яв-
ляются питательным источником разношерстного национализма.
Националисты не всегда любят ссылаться на своих духовных отцов,
наконец, они могут и не знать их, прийти, так сказать, своим путем
к тем же выводам, что были уже в истории. Обязанностью же
марксистов-ленинцев остается — всегда до конца раскрывать соци-
альные и гносеологические корни национализма любого типа и
разоблачать их с позиций ленинской историко-экономической тео-
рии нации.
Несостоятельность психологического обособления наций дока-
зана уже опытом создания дружной семьи многонационального
СССР, образования исторически новой общности людей — совет-
ского народа. На пути сближения народов становится не какой-то
особый национальный психический склад, а националистическая
психология, формируемая всем образом жизни буржуазии, ее
политикой и идеологией.
2.
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ДЕМОКРАТЫ
О СУЩНОСТИ НАЦИИ
И НАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Расистские и идеалистически-психологические теории нации,
особенно широко распространенные в XIX веке, встретились с
принципиальной критикой со стороны революционных демократов.
То, что близко к историко-экономической теории нации подошли
именно революционные демократы, представляется не только
весьма примечательным, но и закономерным явлением. Изучение
наследства революционных демократов по национальному вопросу
является необходимым и актуальным. Оно и сейчас помогает
борьбе против различных форм национализма и шовинизма.
Вопрос о сущности нации и национального вопроса затраги-
вался революционными демократами постоянно и в разных связях.
Задачи революционной борьбы за интересы народа, правильное
понимание народности литературы и искусства, патриотизма и ин-
тернационализма, их гармоничного сочетания требовали от рево-
люционных демократов большого внимания к выяснению сущ-
ности нации. Конечно, у революционных демократов мы нс найдем
4G
последовательно научного раскрытия сущности нации, но они, в
отличие от буржуазных и социал-реформистских идеологов, будучи
тесно связанными с освободительными движениями, ближе всех
домарксистских мыслителей подошли к материалистическому по-
ниманию нации. Некоторые из них, как, например, В. Г. Белинский,
при этом прошли путь преодоления идеалистического понимания
нации 46.
Свои мысли о русской нации он высказывает, явно отмежевы-
ваясь как от космополитов, выводящих национальность из чисто
внешних явлений, так и от славянофилов, замыкавших националь-
ность в таинственную самобытность. Критикуя В. Майкова, высту-
павшего с космополитических позиций против дуализма националь-
ного и общечеловеческого, В. Г. Белинский показывает, что такого
дуализма нет. Народ (нация) содержит в себе национальное и
интернациональное в единстве. Делить же неделимую личность
народа на национальное большинство и космополитическое мень-
шинство, относя к последнему великих людей, якобы выступа
ющих против своей национальности, — «значит впасть в самый
абстрактный, в самый книжный дуализм»47. Белинский, раскрывая,
например, истинно историческое значение «деяний Петра Велико-
го», показывает, что Петр выступал не против национальности,
как считали славянофилы, а против реакционных обычаев русско-
го народа, это была борьба нового со старым. В. Г. Белинский
изобличает и космополитов и славянофилов в непонимании сущно-
сти национального, в смешении сущности и явления, содержания
и формы. «...У нас издавна укоренилось престранное мнение,— пи-
шет он, — будто бы русский во фраке или русская в корсете —
уже не русские, и что русский дух дает себя чувствовать только
там, где есть зипун, лапти, сивуха и кислая капуста»48.
Белинский отвергает также приписывание русской нации раз-
личных, взятых вне исторического рассмотрения качеств вроде
«смирение», «любовь» и т. д. По поводу указании на «смирение
как на выражение русской национальности» он замечает, что, во-
первых, оно—похвальная добродетель в известных случаях для
человс'ка любой нации, а самое главное—этот взгляд не уживается
с историческими фактами. «Татарам поддались мы совсем не от
смирения (что было бы для нас не честью, а бесчестьем, как и для
всякого другого народа)... Иоанн Калита был хитер, а не смирен...
Дмитрий Донской мечом, а не смирением предсказал татарам ко
нец их владычества над Русью... Толкуют еще о любви, как о на-
циональном начале, исключительно присущем одним славянским
племенам, в ущерб галльским, тевтонским и иным западным .
Не правда ли, что в этих словах высокий образец ума, зашедшего
46 См. В. Г. Белинский. Избр. фнлос сот и 2 томах, т. 1 М., Госпо.тнт-
_ издат, 1948, стр. 338, 339.
4' В. Г. Белинский. Избр. филос. соч.. т. II. стр. 301.
4-’ Там же, стр. 164
47
за разум вследствие увлечения системою, теориею, несообразною
с действительностью?... Мы напротив думаем, что любовь есть
свойство человеческой натуры вообще и также не может быть
исключительно принадлежностью одного народа»49.
Белинский выступает против внеисторического рассмотрения
нации, а также против приписывания общечеловеческих качеств
исключительно той или иной нации или, наоборот непонимания
зависимости тех, или иных качеств нации от ее социального состава.
Им показано, что в социально неоднородном обществе различные
сословия и классы имеют различные привычки и черты характера.
Их сближение всегда бывает внешним. Купец, скажем, перезнако-
мившись с богатыми дворянами, все же остается верен привычкам,
понятиям, языку, образу жизни своему, т. е. купеческому званию.
«Как же тут требовать социябельности между людьми различных
сословий, из которых каждое по-своему и думает, и говорит, и оде-
вается, ест и пьет?» 50.
Говоря об истинных национальных качествах, В. Г. Белинский
указывает на то, что их следует искать в народных массах, кото-
рые и представляют нацию. «Хороша была бы французская на-
ция,— писал он, — еслп бы о ней стали судить по развратному
дворянству времен Людовика XV-ro!»51. Касаясь же капиталисти-
ческого периода Франции, В. Г. Белинский писал: «...владычество
капиталистов покрыло современную Францию вечным позором...
Все в нем мелко, ничтожно, противоречиво, нет чувства нацио-
нальной чести, нац(попальной) гордости»52. Белинский считает,
что если и считать господствующих баричей тож.е представителями
нации, то они представляют лишь дурные стороны нации. Они не
могут судить о народе и представлять его только на том основа-
нии, что «изучали народ через своего камердинера».
Наибольший интерес представляет глубокая мысль В. Г. Бе-
линского о том, что быть истинно национальным—значит вместе
с тем быть и интернациональным. Если народ своей национальной
жизнью влияет на ход и развитие человечества, то необходимо,
чтобы художник, «будучи национальным, он в то же время был
и всемирным...»53.
Каждый художник как сын своего народа (нации) и своего
времени, конечно, испытывает на себе влияние эпохи через образ
жизни своего народа. В этом смысле В. Г. Белинский замечает,
что. например, па В. Шекспира оказало сильное влияние пуритан-
ское движение, наложив на его последние произведения отпечаток
мрачной грусти, и что, родись он двумя десятилетиями позже — ге-
ний его был бы тот же, по характер его произведений был бы дру-
19 В. Г Белинский. 1Ьбр филос. соч., т. II, стр. 248—299, 300.
Гам же, стр. 245.
Там же, стр. 307
Там же, стр. 541
Там же, гтр. 255.
48
гой. Шекспир остался Шекспиром, так как в национальном он
выразил общечеловеческое. «Поэт,— пишет Белинский,— должен
выражать не частное и случайное, но общее и необходимое, кото-
рое дает колорит и смысл всей его эпохе»54.
Залог расцвета наций, их духовной культуры Белинский видел
в братстве народов, в их взаимообогащении духовными ценностя-
ми. Девизом Белинского было в каждой нации и в первую очередь
в своей нации сильнее любить хорошее и (по тому же закону)
сильнее ненавидеть дурное.
С этих же позиций выступал А. И. Герцен в своей борьбе про-
тив славянофильства, а также великодержавного шовинизма цар-
ского правительства. Герцен считал, что славянофилы чем больше
кричали о «народности», тем больше мешали пониманию и рус-
ского народа и его истории. Иконописные идеалы славянофилов и
дым ладана мешали разглядеть истинную суть народа, его быт,
его жизнь. Они наивно полагали, что можно зачеркнуть целую
историческую Петровскую эпоху, отречься от так называемого
петербургского периода и восстановить русскую народность, кото-
рая, по их мнению, была испорчена иностранным образованием.
Реставрация бедной и дикой допетровской жизни была невозмож-
на, а искусственные меры оживить старое были реакционными и
выглядели маскарадно. Славянофилы в целях якобы восстанов-
ления русской народности подчас прибегали к натянутой набож-
ности и носили вышедшие из моды мурмолки допетровских вре-
мен. По этому поводу Чаадаев шутил, что А. К- Аксаков одевался
так «национально», что народ на улицах принимал его за персиа-
нина.
Герцен разъяснял, что народность не в отсталости, набожности
и в царелюбии того или иного народа, а в его общественно-исто-
рическом, культурном развитии, в развертывании всех своих спо-
собностей, что невозможно при замкнутой, забитой жизни. Народ-
ность, национальность — это не значит какое-то совершенно само-
бытное, имманентное данному народу развитие. «Ошибка славян,—
писал Герцен, — состояла в том, что им кажется, что Россия имела
когда-то свойственное ей развитие, затемненное разными события-
ми и наконец петербургским периодом. Россия никогда не имела
этого развития и не могла иметь. То, что приходит теперь к созна-
нию у нас, что начинает мерцать в мысли, в предчувствии, то, что
существовало бессознательно в крестьянской избе и на поле, то
теперь только всходит на пажитях истории, утучненных кровью,
слезами и потом двадцати поколений.
Это основы нашего быта — не воспоминания, это живые стихии,
существующие не в летописях, а в настоящем, по они только уце-
лели под трудным историческим вырабатыванием государствен
ного единства и под государственным гнетом только сохранились,
но не развились. Я даже сомневаюсь, нашлись бы внутренние силы
54 В Г Белинский. Избр. филос. соч, т. И, стр 307
1 «О
+ С Т. Калзаучяи
для их развития без петровского периода, без периода европей-
ского образования»55 (курсив мой. — С. К.)-
На последнее обстоятельство обратил особое внимание Н Г. Чер-
нышевский и дал прямой, однозначный ответ: национальные (на-
родные) особенности не являются врожденными качествами дан-
ной нации (народа), они формируются и развиваются в ходе
общественно-исторического развития наций (народов), находя-
щихся в постоянном взаимодействии.
Л. И. Герцен только с учетом конкретных условий развития
различных народов, их взаимодействия говорит о национальном
характере того или иного народа. В частности, он подвергает науч-
ному разбору конкретные условия развития русского народа и от-
мечает, что «на взгляд Европы Россия была страной азиатской,
па вз1ляд Азии — страной европейской; эта двойственность вполне
соответствовала ее характеру и ее судьбе, которая, помимо всего
прочего, заключается в том, чтобы стать великим караван-сараем
цивилизации между Европой и Азией»56.
Среди условий, влияющих на образование национального ха-
рактера, Герцен находит немало иностранных элементов, возник-
ших вследствие экономического и культурного взаимопроникнове-
ния и взаимодействия. Нация, таким образом, выступает у Герцена
конкретно живым, реальным общественным явлением. Он высту-
пает против превращения идеи национальности в религиозную
мысль. Герцен высмеивает объяснения любых общественных явле-
ний таинственными духовными силами. «Сами выдумали, — писал
он, — первые причины, духовные силы, да и удивляются потом,
что их ни найти, ни понять нельзя»57.
Общественно-исторические, а также географические условия
порождают определенные характеры. Если характер встречается
в масштабе большой массы люден одной и тон же национальности,
мы называем сто национальным характером. Это, однако, не ис-
ключает того, что люди иной национальности (по живущие посто-
янно в тех же условиях) могут иметь тот же национальный харак-
тер, который присущ большинству данной страны. II наоборот,
разнообразно условий в пределах одной страны может выработать
различные характеры среди одной и той же нации. В отношении,
например, Сибири времен царизма Герцен отмечал, что, поскольку
там пет дворянства, вместе с тем нет и аристократии в городах
п представители власти скорее похожи на неприятельский гарни-
юн, поставленный победителем, то по сравнению с другими частя-
ми России «самое русское народонаселение в Сибири имеет в ха-
рактере своем начала, намекающие па иное развитие»58.
А 11 Г о ]) и с п Собр соч., в 30 томах, т I\ М . I1)1 во АН СССР, 19.>6,
cip НО
14 А II 1 ер цеп Собр соч., т VII, стр 156
Л II I ер це п. Собр. соч . т. VIII, стр 113
Б8 Там же, стр 25G.
50
Говоря о русском характере, А. И. Герцен апеллирует к русской
действительности, к социально-политической среде царизма. Для
него важно указать на эту среду как основу определенных харак-
теров. Так, например, когда Герцен пишет, что пушкинский образ
Онегина национален, он, конечно, имеет в виду, что такие харак-
теры порождаются социальными условиями России XIX века, а не
то, что они якобы присущи русской нации. II не случайно, замечает
Герцен, что все писатели, живущие в этих условиях, обращались
к образу Онегина. Это происходило не потому, что различные ав-
торы стремились копировать пушкинский образ, а потому, что этот
образ постоянно жил в современниках и вокруг них. «Чацкий, ге-
рой знаменитой комедии Грибоедова, — пишет Герцен, — это Оне-
гин резонер, старший его брат. Герой нашего времени Лермонтова —
его младший брат»59. Герцен считает, что Ленский рядом с Оне-
гиным— это острое страдание рядом с хроническим, как поэт Вене-
витинов рядом с самим Пушкиным. Все они «национальны» в том
смысле, что являются жертвами определенной действительности, а
именно действительности русского царизма.
Что же касается национального характера в его более конкрет-
ном значении, он определялся Герценом в зависимости от социаль-
ного положения людей. Он зло высмеивает антинациональную
русскую бюрократию, верхушка которой вообше подбиралась из
иностранцев, чаще всего из немцев. Когда лучшая часть из господ-
ствующих классов, выражая национальные интересы русского наро-
да, выступала против православия и самодержавия, ее заставляла
замолчать царская камарилья, за Россию обижались петербург-
ские аристократы — Бенкендорфы п Клейнмихели. «Нам надобно
было, — писал Герцен, — противопоставить нашу народность про-
тив онемеченного правительства и своих ренегатов 60.
А. И. Герцен четко различает «Россию народа» от «официаль-
ной России». Говоря о характере последней, он писал: «Эта Россия
начинается с императора и идет от жандарма до жандарма, от
чиновника до чиновника, до последнего полицейского в самом от-
даленном закоулке империи. Каждая ступень этой лестницы при-
обретает, как в дантовских bolgi (ямах ада.— Ред.), новую силе
зла, новую ступень разврата и жестокости. Это живая пирамида
из преступлений, злоупотреблений, подкупов, полицейских негодя-
ев, немецких бездушных администраторов, вечно голодных; невеж-
судей, вечно пьяных; аристократов, вечно подлых.
Крестьянин никогда не марается об этот мир правительствен-
ного цинизма; он терпит его существование в этом его единст
венная вина»61 Естественно, что эта резкая поляризация социаль-
ной психологии оставляет мало места и для общности националь-
ного характера, ибо они нс существуют совершенно независимо тру г
’ X II. Герцен Собр. соч, т VII, стр 204.
f0 X И. Герцен. Собр. соч , т. 1\, стр. 134
61 X И Герцен. Собр соч., т \'П, стр 329
4*
51
от друга. А. И. 1 ерцен показывает также раздваивание культуры
нации: триумфальный хор придворных песнопений, искусственные
веселые напевы культуры господствующих классов и горькие пе-
чальные песни народа пли его едкая ирония. Если хозяевам нечего
было жаловаться на свою судьбу, то в народно-поэтическом твор-
честве, в народных песнях постоянно выражался упрек «судьбе-
мачехе, горькой долюшке» и «звучал голос, вещавший, что народ-
ным силам негде развернуться, что им не по себе в этой жизни,
которую теснит общественный строй»62. Грибоедовско-лермонтов-
ское бичевание язв русского общества или гоголевский «смех
сквозь слезы» указывали на необходимость разрушения общества,
где царствует цинизм власти и долготерпение народа.
А. И. Герцен высказывает и такую интересную мысль, что
национальное (национальную атмосферу) художник может вы-
ражать (и выражал) и на материале другой нации. Сославшись на
«Гибель Помпеи» выдающегося русского художника Брюллова,
Герцен пишет: «Что же изображает его лучшее произведение, до-
ставившее ему славу в Италии?
Взгляните па это странное произведение.
На огромном полотне теснятся в беспорядке испуганные груп-
пы; они напрасно ищут спасения. Они погибнут от землетрясения,
вулканического извержения, среди целой бури катаклизмов. Их
уничтожает дикая, бессмысленная, беспощадная сила, против ко-
торой всякое сопротивление невозможно. Это вдохновения, навеян-
ные петербургскою атмосферою» 63.
Здесь, конечно, Герцену важно было подчеркнуть мысль о том,
что художник может остаться национальным и тогда, когда ото-
бражает жизнь другой нации, а выводы из русской действитель-
ности он делает иные. Он не считает сопротивление против русско-
го деспотизма невозможным.
Характер народа, нации вырабатывается в горниле социальной
жизни и борьбы. Поэтому Герцен, отвергая врожденность опреде-
ленных качеств национального характера вообще, считает, что
«парод нельзя назвать ни дурным, пи хорошим», а потому «нет
парода, взошедшего в историю, которого можно было бы считать
стадом животных, как нет народа, заслуживающего именоваться
сонмом избранных»64.
Л. И. Гернси считал, что и в то время, когда массы бывают
принуждены своими связанными руками помогать злодействам
реакционного правительства, все равно несправедливо назвать всю
нацию в целом реакционной. По поводу подавления царизмом
революционного движения 1848 года в Польше Герцен писал:
«Краснея за нашу слабость п немощь, мы понимали, что наше
правительство только что совершило нашими руками, и сердца
62 Л 11 Герцен. Собр. соч , т VII. стр. 186
83 Там же, стр 330—331
,''1 Там же, стр. 318.
52
наши истекали кровью от страданий, и глаза наши наливались
горькими слезами.
Всякий раз, встречая поляка, мы не имели мужества поднять
на него глаза. И все же я не знаю, справедливо ли обвинять целый
народ и считать его одного ответственным за то, что совершило его
правительство» 65.
А. И. Герцен считал, что братские народы России и Польши
подавлены общим врагом, и предвидел, что с падением царизма
польский народ узнает в своих врагах — во имя царя и самодер-
жавия— своих братьев — во имя независимости и свободы. Он вы-
ступает против тех, кто судит о русском национальном характере
по царскому фасаду, кто слишком много занимается Россией
императорской, Россией официальной и слишком мало Россией на-
родной и не понимает, что принцип власти русского правительства
не национален, что «национальный элемент, привносимый Росси-
ей,— это свежесть молодости и природное тяготение к социалисти-
ческим установлениям» 66. В этом утверждении (если отвлечься от
утопической веры Герцена в русскую общину как основы социа-
лизма) содержится мысль о том, что носителем национального
выступают народные массы — подлинные творцы исторического
процесса. Носители всего реакционного не могут выражать инте-
ресы нации, поэтому они не национальны, а космополитичны и бра-
таются со всеми реакционерами других наций.
Решающим фактором, характеризующим облик нации, Герцен
считал выработку национального самосознания народа, под кото-
рым он понимал не только сознание этнической принадлежности к
той или иной нации, но и сознание национальной независимости и
свободы, развитие его национального чувства, ощущения значения
Родины для собственного благополучия. В этом отношении важ-
нейшая роль в развитии национального самосознания принадлежит
национально-освободительной борьбе.
«Идея народности, — писал Герцен, — сама по себе,— идея
консервативная, выгораживание своих прав, противуположение се-
бя другому; в ней есть и юдаическое, понятие о превосходстве
племени, и аристократические притязания на чистоту крови
и майорат. Народность как знамя, как боевой крик только тогда
окружается революционной ореолой, когда народ борется за поза
виснмость, когда свергает иноземное иго. Оттого-то национальные
чувства, со всеми их преувеличениями, исполнены поэзии в Ита
лип, в Польше и в то же время пошлы в Германии»67. В отношс
нии России он отмечал, что ее подлинную историю открывает
собой лишь 1812 год. О том, как остро русский народ почувствовал
значение своей национальной сплоченности в централизованном
государстве, Герцен ярко показывает в факте временной потери
65 А. И Герцен Собр соч, т VII, стр. 150—151.
сс Там же, стр. 255.
67 А. И. Герце н. Собр. соч, т. IX, стр. 134
53
русским народом Москвы. «Разжалованная императором Петром
из царских столиц, — писал Герцен, — Москва была произведена
императором Наполеоном... в столицы народа русского. Народ
догадался по боли, которую чувствовал при вести о ее занятии не-
приятелем, о своей кровной связи с Москвой»68.
Таким образом, Герцен в характеристике нации выдвигает на
первый план общественно-исторические условия, образование и раз-
витие в этих условиях национального самосознания, национального
чувства, подчеркивает факт поляризации национального характера
людей в зависимости от их социального потожения.
В раскрытии сущности нации еще дальше Белинского и Гер-
цена пошли Добролюбов и Чернышевский. Четко отличает нацио-
нальный характер народа от характера господствующих классов
Н. А. Добролюбов. В рецензии «Черты для характеристики рус-
ского простонародья» Добролюбов анализирует рассказы из на-
родного быта М. Вовчок69. Он отмечает, как последняя, глубоко
заглядывая в душу народа, видит два психических склада в одной
п той же папин, расколотой на антагонистические классы. С потря-
сающей силой это показано в рассказе Вовчок «Игрушечка». Кре-
стьянская девочка Аграфена (Груша, Грушечка) понравилась
дочери барыни и стала всю жизнь игрушечкой барыни и барышни.
Трагедия Игрушечки и ее матери никому из бар не понятна. Все
в порядке вещей. Но барышня привязалась к «игрушечке» и стала
задумываться над противоречиями жизни. «Раз, например, Игру-
шечка расплакалась, услыхавши, что продано ее родное село, и,
стало быть, опа уж туда больше не вернется. Барышня потолковала
с пей, посмотрела на нее, да и задумалась. «Как, — говорит, — это
все на свете делается»? — «Да что?» — спрашивает Игрушечка.—
«Да как же,— говорит Зиночка, — ты замечаешь ли, что когда
одни плачут, другие смоются, одни говорят одно, а другие опять
совсем другое. Вот ты плачешь, что Тростпно продали, а мама и
папа всегда в радости, когда деньги получают» и вдруг в тревоге
бросается к Игрушечке: «Да нельзя разве, чтоб все веселы были?
Нельзя, Игрушечка? — видно нельзя», — говорит.—«Отчего же?»—
«Да нс бывает так,—говорит та, — вот ведь и мы с вами, все мы
вместе, а мысли у пас разные приходят»70.
Внимание выдающихся революционных демократов все время
сосредоточивается на различении психологии противостоящих
друг другу сословий и классов. Н. Л. Добролюбов показывал, что
пет неизменных естественных устоев национальной жизни и что
реакционные измышления шевыревых о «смирении, покорности,
ц).иогерпеппп» и т. и. (якобы природных качествах русского наро-
fR \ II 1 с рис п. Соор, соч., т. VIII, стр. 106.
г>| IIccBioniiM \Kp.iiincKoii писательницы М. Л. Вплппскои-Марковпч, примыкав-
шей к революционному темократпзму.
II I о б р о л ю б о n I 1збр. филос. соч в 2 томах, т 11 М.. Госнолптиздат.
1946. стр 286
54
да) отвергаются самим ходом жизни как чуждые коренным инте-
ресам прогресса России. В указанных качествах он не видит ни-
чего национального так же, как не видит ничего национального и
в обломовщине. Последнюю Добролюбов объясняет социальными
условиями. «Давно уже замечено, — пишет он, — что все герои
замечательнейших русских повестей и романов страдают оттого,
что не видят цели в жизни и не находят себе приличной деятель-
ности. Вследствие того они чувствуют скуку и отвращение от вся-
кого дела, в чем представляют разительное сходство с Обломовым.
В самом деле, — раскройте, напр., «Онегина», «Героя нашего вре-
мени», «Кто виноват?», «Рудина» или «Лишнего человека» или
«Гамлета Щигровского уезда», — в каждом из них вы найдете
черты, почти буквально сходные с чертами Обломова»71. Русская
литература отражала обломовщину как типичное явление русской
жизни эпохи крепостничества. Однако, когда Добролюбов писал:
«Обломовка есть наша прямая родина...», «в каждом из нас сидит
значительная часть Обломова ..», он вовсе не считал обломовщину
чертой, присущей русским как таковым. Наоборот, он прямо ука-
зывал, что лень и апатия Обломова, сама обломовщина как явление
есть «создание воспитания и окружающих обстоятельств»,2.
Отразить национальный характер в литературе и искусстве оз-
начало для революционных демократов показать те качества, кото-
рые присущи всему народу. Народность в литературе как отраже-
ние в ней национального характера самого народа четко выражена
у всех революционных демократов. Добролюбов, например, писал:
«Народность понимаем мы не только как умение изобразить
красоты природы местной, употребить меткое выражение, подслу-
шанное у народа, верно представить обряды, обычаи и т.п... чтобы
быть поэтом истинно народным, надо больше: надо проникнуться
народным духом, прожить его жизнью, стать вровень с ним, от-
бросить все предрассудки сословий, книжного учения и пр...
Кто сумеет стать вровень с народом, проникнуться психологией
народа, тот независимо от своего сословного, классового проис
хождения становится представителем народа (нации), обладает
общим с народом национальным характером. Тот поднимается нс
только до понимания народных нужд и дум, по и до понимания
роли народа как истинного патриота, способного бороться и вы-
вести свою родину на светлый путь прогрессивного развития.
Образном такого человека, гражданина-поэта Добролюбов
считал, например, М Ю. Лермонтова, который «обладал, конечно,
громадным талантом и. умевши рано постичь недостатки современ-
ного общества, умел понять и то. что спасение от этого ложного
пути находится только в паоо.те. Доказательством служит его уди-
вительное стихотворение <Родина», в котором он становится реши-
Н X Добролюбо 1 hop филос. соч.. т 1. стр 361.
'2 Там же.
Там же, стр 113.
55
тсльно выше всех предрассудков патриотизма и понимает любовь
к отечеству истинно, свято и разумно. Он говорит:
Люблю отчизну я, но странною любовью;
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью.
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья» 74.
Приводя дальнейшие строки стихотворения, в которых Лермон-
тов говорит о том, что именно он любит в Родине, Добролюбов
заключает: «Полнейшего выражения чистой любви к народу,
гуманнейшего взгляда на его жизнь нельзя и требовать от русского
поэта. К несчастью, обстоятельства жизни Лермонтова поставили
его далеко от народа, а слишком ранняя смерть помешала ему
даже поражать пороки современного общества с тою широтою
взгляда, какой до него не обнаруживал ни один из русских
поэтов...»75.
Среди этих пороков одним из распространенных и вредных
Добролюбов считал кичливый национализм, претензии считать
свой народ богоизбранным. Высмеивая тезис славянофилов о том,
что якобы «Россия цветет, а Запад гниет», Добролюбов замечает,
что с таким же правом другие говорят: «Нет, Россия гниет,
а Запад цветет», а в одной из турецких песен поется: «Нет края
в свете лучше нашей Турции, нет народа умнее османлисов! Им
аллах дал все сокровища мудрости, бросив другим племенам толь-
ко крупицы разумения, чтоб они не вовсе остались верблюдами и
могли служить правоверным»76.
Н. А. Добролюбов высмеивал вздорность подобного рода под-
хода к оценке своей и чужих наций. Более того, он указывал на то,
что сходные жизненные условия создают близкие друг к другу
национальные характеры среди самых различных наций. Выступая
против узкого патриотизма и межнациональной розни, Добролю-
бов писал: «... мы не понимаем, отчего же если я из Нижегород-
ской губернии, а другой из Харьковской, то между нами уже не
может быть столько общего, если бы он был из Псковской. Если
сами малороссы не совсем доверяют нам, так этому виной такие
исторические обстоятельства (в которых участвовала администра-
тивная часть русского общества), а уж никак не народ»77.
На роль жизненных условий, экономических отношений в фор-
мировании нации, на связь деятельности человека, его интересов
с национальным отечеством указывали и другие революционные
демократы. Интересные мысли высказаны в этом отношении
М. Л. Налбандяном — соратником А. И. Герцена и Н. Г. Черны-
74 Н. Л. Добролюбов. Избр. филос. соч., т. I, стр. 116.
75 Там же.
76 Н. А. Добролюбов. Избр. филос. соч., т. II, стр 126.
77 Там же, стр. 257.
56
шевского. М. Л. Налбандян подчеркивал, что для людей нация
стала как бы насущным хлебом, без которого не проживешь.
«Если нация, — писал он, — не ставит своей органической, сущест-
венной задачей разрешение экономического вопроса, такая нация
не может быть жизнедеятельной она—фикция, она погибнет. Эконо-
мика— вот сила, которую мы выше обещали назвать, развитие
которой может обеспечить равноправие нации перед лицом внеш-
них сил, сила, которой и живет нация. Хоть тысячу лет тверди от-
влеченно о нации, все равно ее не понять. Очень часто можно
слышать призывы: «сохраним нашу национальность, наш язык,
наши традиции, и т. д.» ...Во имя чего? В чем польза ее сохранения,
в чем вред ее утери? Проповедь отвлеченной национальности...
есть не что иное, как фанатизм, национализм, и такая проповедь
никогда не сможет пустить корни в народе, который поминутно
сталкивается не с абстрактной, а с реальной нуждой. Если же
мне скажут, сохрани свою национальность, будь постоянен в любви
к своей родине, люби своих соотечественников, храни свой язык,
который является знаменем твоей нации, и все это даст тебе право
приобрести кусок земли, который избавит тебя от рабства и нище-
ты,—тогда я пойму и, видя в общей выгоде свою собственную,
положу все свои силы для ее защиты. Тогда я последую этому зо-
ву, ибо он возвещает мне спасение именем нации»78.
Осознание всего этого есть национальное самосознание. Совре-
менный экономический строй, по мнению Налбандяна, определяет
жизнь людей по нациям. Это не значит, что Налбандян других
черт нации не замечает. Он говорит о развитии общего языка,
общих привычек и традиций, но считает, что эти и другие факторы
развития нации характеризуют национальность, которая высту-
пает как определенное качество нации, как ее особенность. Иначе
говоря, нация (как и народность) имеет свою национальность.
«Человек не достиг, — пишет он, — той ступени, чтобы жить без
вторичного официального имени, со своим естественным названием
человек»79. Сама же нация со всеми своими качествами (и нацио-
нальными) развивается как общественное явление на основе эко
номическпх связей, экономических интересов людей. Поэтому Нал-
бандян рассматривает нацию как собирательную личность и счи-
тает, что миллионы людей становятся под знамя собственной на-
ции ради лучшего обеспечения своих интересов.
Поскольку экономические интересы являются основой всего, то
Налбандян показывает, что не «национальный дух» и не религия,
а материальные условия жизни определяют психологию наций.
Сравнивая, например, два соседних народа — азербайджанцев
и армян, он пишет: «Тот, кто отличает нации по их религиям, не
сумеет ответить на вопрос или объяснить естественную и психо-
,F М. Л. Налбандян. Избр. филос. и обществ.-полит, произв. М„ Госполит-
издат, 1954, стр. 446.
79 Там же, стр. 436.
57
логическую причину того, что тюрк (азербайджанец) получает
наслаждение от жалобных и унылых песен армянина, так же как
и армянин — от песен тюрка... Но если такой человек обратит вни-
мание на природу, одинаковое развитие обеих наций, судьбу обе-
их, полную угнетения и эксплуатации, тогда для него станет оче-
видным, что армяне и тюрки (азербайджанцы), будучи связанны-
ми одинаковыми узами, несомненно, недалеко ушли друг от друга
по своей психологии»80. Во всех этих рассуждениях Налбандян
имеет в виду трудовой народ. Под словом «нация» надо понимать
«простой народ, а не нескольких богачей, выплывших на поверх-
ность ценою пота и крови народа»81.
Теорию «единого потока» как теорию единой национальной куль-
туры в классовом обществе отвергали все революционные демо-
краты, все прогрессивные деятели. Так, поэт-революционер
Т. Г. Шевченко националистическому толкованию истории Украи-
ны как истории «бесклассовой» украинской нации противопостав-
лял историю наций крепостного крестьянства и царя. С другой
стороны, он находил много общих черт в психологии и культуре
народов разных наций и выступал за их братское единение против
врагов-эксплуататоров.
В Польше 3. Сераковский, Я. Домбровский и другие обличали
теорию мессианизма с ее мистическими рассуждениями о «бого-
избранности» польского народа и общности интересов, психологии,
мировоззрения всех поляков. Социалист-утопист С. Ворцель после
долгих колебаний признал правильной критику Герценом шля-
хетского лозунга: «Нет хлопов, нет шляхты — есть поляки».
Революционные демократы выступали против любых идей на-
циональной исключительности, мессианства, обосновываемых идеа-
лиетически-психологическими теориями. Они разоблачали защит-
ников национализма любой нации с их проповедями «исконно
национальных устоев» украинства, армянства, грузинства и т. д.
Лучшие представители революционных направлений общест-
венной мысли Югославии, Чехии и Словакии, Польши, Болгарии,
Венгрии, Румынии, России п других стран также развивали идеи
братской солидарности народов. Они сочетали глубокий патрио-
тизм с интернационализмом, непримиримо относились к реакцион-
ным проповедям национальной обособленности.
К научному пониманию сущности нации и национального ближе
всех из революционных демократов подошел Н. Г. Чернышевский.
Нация рассматривается им как общественно-историческое явление.
Он отвергает всякие биологические, расистские и психологические
интерпретации нации и подчеркивает, что в природе нет чистых
наций, состоящих из людей единого происхождения. На примере
ряда общеизвестных наций, таких, как английская, испанская,
французская, Чернышевский показывает, что каждая из них явля-
М JI. II а л ба и 1 я п Избр. фплос. и обществ.-полит, пропзв., стр. 547—548.
41 Гам же, стр. 395.
58
ется уединением столь различных физических типов, что любой
из этих типов принадлежит лишь меньшинству людей, составля-
ющих данную нацию, и что в составе других наций находятся
очень много людей того же типа. Перепутанность эта так велика,
что нельзя, пишет Чернышевский, составить такую характеристику,
«под которую подходило бы большинство людей этой нации и кото-
рая с тем вместе оставалась бы относящейся собственно к этой
нации, как ее отличие от других наций, а не было бы характери-
стикою людей гораздо более обширной, чем эта нация»32.
Говоря о давно находящихся в общем употреблении характе-
ристиках различных типов наций, Чернышевский саркастически
замечает по поводу их. что каждая из них составлена произволом
фантазии, небрежно и под преобладающим влиянием симпатий или
антипатий. «Главный ингредиент их, — пишет он, — смесь само-
хвальства нации с злоречием других наций...». Так, итальянцы и
французы смеялись над немцами, считали, что «русые люди —
пухлые, золотушные, неуклюжие и ум у них неповоротливый, они
дураки. Но немцы не оставались в долгу: французы и итальянцы
люди легкомысленные, непостоянные, вероломные с холерическим
темпераментом... Мы, немцы, не таковы: мы люди рассудитель-
ные... добросовестные, темперамент у нас спокойный и вместе
с тем энергический, и волосы у нас не такие, у них — черные, а у
нас — светлые»82 83.
Высмеивая подобного рода самохарактеристики и взаимохарак-
теристики наций, Чернышевский отмечает как удивительное явле-
ние, что находятся «ученые», которые выводят национальные типы
из чужой брани и своего самохвальства. Но можно заменить фаль-
шивые характеристики правдивыми? — спрашивает Чернышевский
и отвечает: можно, только это будут уже не характеристики
национальных типов. Он показывает, что поскольку каждую нацию
составляют люди нескольких очень различных типов, то ненаучно
говорить о самобытном национальном типе. Если же соединить
характеристики разных типов, имеющихся в одной и той же нации,
чтобы подвести их под одно определение, то оно получится на-
столько широким и неопределенным, что под него подойдет не
только данная нация, но и очень много других наций и народов.
Н. Г. Чернышевский не ограничивается критикой расистско-
биологического понимания нации как естественной общности. Он
считает неправильным также рассмотрение нации как самобытной
культурной общности, как общности людей с якобы единым нацио-
нальным характером. Ходячие понятия о характерах народов
как произвольные, националистически-субъективистские, Черны-
шевский считает лишенными всякой научной ценности. Качества
народа к тому же нс являются неизменными, потомственными. Им
82 Н. Г. Чернышевский. Поли. собр. соч., в 15 томах, т 10 М Гослит-
издат. 1939—1953. стр 827
Там же, стр. 827, 828
59
подчеркивается зависимость характера от общности условий жизни,
здесь же приводятся примеры, когда внутри одной и той же круп-
ной нации встречаются разности. Он указывает на факт большой
схожести в характерах людей разных наций, живущих в погранич-
ных районах, и, наоборот, различие в характерах людей одной и
той же нации, живущих в разных районах.
«Французский народ, — пишет он, — состоит из нескольких пле-
менных отделов. Когда мы сравниваем общеупотребительные
характеристики их, то, кроме принадлежности к одной филологи-
ческой народности, мы не найдем ни одной черты, которая была
бы общей для всех их. По ходячим характеристикам нормандец,
человек более различный своими умственными и нравственными
качествами от гасконца, чем от англичанина»84. Эти мысли весьма
сходны с мыслями Ф. Энгельса85.
Чернышевский считает, что нет наций, развивающих националь-
ное, так сказать, вертикально, обособленно от других наций,
наоборот, истинно национальное развивается благодаря горизон-
тальным культурным связям наций, их взаимообогащению. Нацио-
нальное развивается благодаря общечеловеческому, интернацио-
нальному. Нации, как и отдельные личности, тем более проявляют
свою индивидуальность, оригинальность, чем больше становятся
образованнее, чем больше впитывают в себя достижения других.
«... Варвары все сходны между собою, каждая из высокообразо-
ванных наций отличается от других резко обрисованною индиви-
дуальностью. Поэтому заботясь о развитии общечеловеческих на-
чал, мы в то же время содействуем развитию своих особенных
качеств, хотя бы вовсе о том не заботились. История всех наций
свидетельствует об этом. Французский характер выработался толь-
ко тогда, когда под древнеклассическим, итальянским и испанским
влиянием развилось во Франции общее образование: Рабле, Кор-
нель и Мольер — чистые французы; между тем французские труба-
дуры и труверы чрезвычайно мало отличаются от средневековых
певцов остальных земель Западной Европы... Шекспир явился,
когда все в Англии заботились о древнеклассической и итальян-
ской литературах; Лессинг, Гёте и Шиллер были воспитаны не
изучением средневековой поэзии, а влиянием древнеклассической
и английской образованности и литературы. Развитие самостоя-
тельности идет вслед за образованностью. Истина, по-видимому,
очень простая»86. Эту простую истину не замечали, однако, не
только до Чернышевского, но о ней забывали даже после того,
как он с такой очевидностью показал ее. К сожалению, и некото-
рые марксистские исследователи проходят мимо этих глубоких
мыслей Чернышевского. Часто считают национальным только спе-
84 Н. Г Черпышевски й. Поли. собр. соч., т. 10. стр. 880.
85 См К- Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 5, стр. 55; т. 6, стр. 181; т. 21,
стр. 461.
86 Н. Г. Черн ыш евски й. Полн собр. соч., т. 2, стр. 292—293.
60
пифические особенности культуры нации. Такую ограниченность
Чернышевский раскритиковал еще более ста лет тому назад,
указывая, что «забота об оригинальности губит оригинальность».
Обращая внимание исключительно на то, что отличает одну нацию
от другой, что является принадлежностью данной нации, мы вы-
ступаем «против общечеловеческих элементов, временное и слу-
чайное проявление становится в этом случае выше общего начала,
форма выше содержания. Вместо движения превозносится за-
стой» 87.
Из рассуждений Чернышевского о национальных различиях
вытекают совершенно ясные выводы: нет чистых национальных
физических типов, нет и чистых национальных культурно-психоло-
гических типов людей. Национальная культура развивается не
благодаря изоляции и обособленности одной нации от другой, а,
наоборот, путем культурных связей и взаимообогащения. Разуме-
ется, речь идет не о механических заимствованиях, а о переработ-
ке в соответствии всему укладу жизни данной нации. Иначе «хло-
поты о самостоятельности служат уже признаком отсутствия само-
стоятельности... У кого есть содержание, тот не будет хлопотать,
чтобы отличиться оригинальностью. Он не может не быть оригина-
лен... А забота о форме приводит к пустоте и ничтожности»88.
Важное место в определении нации Чернышевский отводит на-
циональному самосознанию, национальному чувству. Прочным
основанием этого чувства он считает одинаковость языка. «Мои
люди — люди, говорящие моим языком», «человек, говорящий
нашим языком, — наш человек»89. Группы людей, классифицируе-
мые по языку, хотя и не всегда совпадают с историческими груп-
пами, но в большинстве случаев совпадают с ними очень близко.
При этом он считает, что когда какое-нибудь племя или часть насе-
ления мало-помалу принимает язык другой нации, сущность чужо-
го языка для них будет та же, какой для них была сущность их
прежнего языка. Теперь они считают себя одним национальным
целым с людьми, чей язык приняли, если живут с ними в едином
государстве. С составлением такой целостности и развивается пат-
риотизм. Особый язык и особый национальный патриотизм — вот
что отличает одну нацию от другой. Однако нация, имеющая
государственное единство (пли стремящаяся приобрести его), со-
ставляет одно целое, по крайней мере в обычных условиях, лишь
в своих международных отношениях. «Но по внутренним делам,—
пишет Чернышевский, —она состоит из сословных и профессио-
нальных отделов, отношения между которыми приблизительно та-
ковы же, как между разными народами»90.
При этом им было подчеркнуто, что хотя каждый народ отли-
чается от других особым языком и особым национальным патрио-
87 Н Г. Чернышевски й. Поли. собр. соч., т. 2, стр. 293, 294.
8R Там же. стр 294.
89 Н Г Чернышевски й. Поли, собр., соч., т. 10, стр. 831.
90 Там же, стр. 891.
61
тизмом, необходимо иметь в виду, что народы, стремящиеся к
справедливости, равенству и братству, всегда будут делиться по
интересам сильнее, чем по языку и т. д., пока не достигнут своих
целей. И чувства и понятия живущих слишком разно будут не
общи, не одинаковы. Нельзя поэтому по случайно приобретенным
сведениям о качествах одной группы людей судить о всей нации.
Таким образом, даже краткий обзор взглядов революционных
демократов на сущность нации показывает, что они представляли
нацию конкретно, живым общественно-историческим явлением и
защищали национальную свободу и независимость как средства
экономического и культурного роста народа.
Значение борьбы революционных демократов против идеалисти-
ческих теорий нации особенно возрастает, если учесть, что попытки
дать нациям психологическую классификацию, подразделять нации
по национальным характерам в современном буржуазном мире все
учащаются. Более того, националистические и расистские харак-
теристики нациям и целым континентам стали давать и китайские
ревизионисты. Не случайно поэтому, что герои маоистской «куль-
турной революции» увидели в Белинском, Чернышевском и других
революционных демократах своих врагов и объявили их буржуаз-
ными писателями.
Критика революционными демократами идеалпстически-психо-
логических теорий нации, таким образом, актуальна и сейчас. Она
метко бьет по современным разновидностям расизма и национа-
лизма, по различным концепциям европоцентризма и востокоцен-
тризма.
Изучение наследия революционных демократов по националь-
ному вопросу представляет тем больший интерес, что взгляды их
па нацию и национальные отношения вплотную подходят к взгля-
дам основоположников марксизма-ленинизма.
ГЛАВА III
МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЕ
ПОНЯТИЕ НАНИ И
г> первые идеалнстически-психологпческие трактовки сущности
нации глубоко и последовательно были разоблачены основопо-
ложниками марксизма. К. Маркс и Ф. Энгельс создали подлинно
научную историко-экономическую теорию нации, которую впослед-
ствии всесторонне развил В. II. Лепин.
Согласно этой теории нация является продуктом общественно-
исторического развития. Она возникает как новая социальная
общность на основе образования буржуазных экономических свя-
зей. Экономическая и политическая концентрация предполагает
объединение ранее феодально-раздробленных областей, образова-
ние общей территории, а также развитие общего литературного
языка. Борьба за консолидацию нации порождает и развивает на-
циональное самосознание.
1.
К. МАРКС, Ф. ЭНГЕЛЬС И В. И. ЛЕНИН
О СУЩНОСТИ НАЦИИ
КАК ИСТОРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ОБЩНОСТИ ЛЮДЕЙ
В первой главе говорилось, как рассматривали 1\. Маркс и
Ф. Энгельс такие формы общности людей, как род, племя, народ-
ность. Продолжая историко-экономический анализ процессов
образования различных типов национальных общностей, они пока-
зали, что развивающиеся еще в недрах феодализма капиталистиче-
ские отношения потребовали создания качественно новой общно-
сти людей, и такой общностью явилась нация.
В работах 1\. Маркса и Ф. Энгельса термин «нация» иногда
употребляется в отношении пародов рабовладельческого и фео-
дальною обществ. Так, нередко можно встретить выражение:
«... нации, рассеянные и распыленные в продолжение тысячеле
из
тия...»1; «к концу VIII века Ирландия отнюдь не была населена
единой нацией»2. Такое употребление термина «нация» нельзя
считать каким-то недостатком или смешением понятия нации с по-
нятием «национальность» или «народность». Эти понятия К- Маркс
и Ф Энгельс четко различали. Энгельс писал даже о националь-
ности нации: «Разбросанные обломки многочисленных наций, на-
циональность... которых...»3 (курсив мой. — С. К.). В подобных
случаях К- Маркс и Ф. Энгельс имели в виду, что «нации» как
этнические общности существовали задолго до возникновения со-
временных наций и что главной особенностью «наций» была их
национальность. Национальные особенности возникают еще до воз-
никновения нации в современном понимании слова. Переходя к
характеристике современных наций, К. Маркс и Ф. Энгельс упор
делали не на то, что нация является этнической общностью людей,
а на то, что она представляет новое социально-экономическое и
политическое объединение людей. Это весьма принципиальное по-
ложение, игнорируя которое нельзя уяснить сущности современных
наций 4.
Ф. Энгельс отмечал, что еще в начале нашей эры «элементы но-
вых наций были повсюду налицо; латинские диалекты различных
провинций все больше и больше расходились между собой; есте-
ственные границы, сделавшие когда-то Италию, Галлию, Испанию,
Африку самостоятельными территориями, еще существовали и все
еще давали себя чувствовать. Но нигде не было налицо силы,
способной соединить эти элементы в новые нации...»5. Ф. Энгельс,
таким образом, констатируя наличие основных элементов нации —
языка и территории, — указывал на отсутствие самого главного
условия возникновения нации— экономической общности различ-
ных областей феодально-раздробленных стран. Первую решающую
роль в экономической и политической централизации феодальных
областей, удельных княжеств сыграла в ряде стран (Франции,
Англии, России и других) королевская власть в союзе с растущим
бюргерством. Союз нередко нарушался в результате конфликтов,
однако значение бюргерства неизменно возрастало. «Еще задолго
до того, — писал Ф. Энгельс, — как стены рыцарских замков были
пробиты ядрами новых орудий, их фундамент был подорван день-
гами»6. Используя новую силу, королевская власть стала прогрес-
сивным элементом, так как выступала против феодальной раздроб-
1 К Маркс и Ф Э н г с л ь с. Соч., т 6, стр. 182.
2 К. Маркс п Ф. Э и г с л ь с. Соч., т. 16. стр. 516.
3 К Маркс и Ф. Энгельс. Соч, т. 8, стр. 83
4 Подчеркивая именно социально-экономическую сущность нации, Жорж Коньо
пишет; «По мнению французских коммунистов, нация представляет собой
широкую совокупность социальных слоев, страдающих от политики монополий,
слоев, которые могут и должны объединиться вокруг рабочего класса, состав-
ляющего костяк нации» («Проблемы мира и социализма», 1968, № 6, стр. 9).
5 К М а р к с и Ф. Э и г с л ь с. Соч., т. 21, стр. 147.
г' Там же, стр. 408.
64
лепности и собирала мятежные княжеские государства под свою
•единую власть.
«Во Франции Людовику XI после падения бургундского про-
межуточного государства удалось, наконец, на тогда еще очень
урезанной французской территории, настолько восстановить нацио-
нальное единство, представителем которого была королевская
власть, что... единство это всего лишь однажды, вследствие рефор-
мации, на непродолжительное время было поставлено под вопрос...
Скандинавские страны были объединены уже давно. Польша,
королевская власть которой еще не ослабела, со времени
своего объединения с Литвой шла навстречу периоду своего
блеска, и даже в России покорение удельных князей шло рука об
руку' с освобождением от татарского ига, что было окончательно
закреплено Иваном III. Во всей Европе оставались еще только
две страны, в которых не было ни королевской власти, ни немысли-
мого тогда без нее национального единства, пли они существовали
только на бумаге: этими странами были Италия и Германия»7.
Таким образом, нации, экономически и политически централи-
зованные, возникают с появлением капиталистических отношений,
по еще до утверждения капитализма. Окончательная консолидация
их происходит благодаря развитию капитализма, когда в постоян-
ные экономические связи со всеми другими частями страны вовле-
кается деревня. Быстрым совершенствованием орудий производства
и средств сообщения буржуазия, с одной стороны, вовлекает в ци-
вилизацию уже существующие нации, «даже самые варварские на-
ции», как указывается в «Манифесте Коммунистической партии», 1
•с другой стороны, уничтожая раздробленность средств производ-
ства, собственности и населения, сплачивает независимые ранее
области в «одну нацию, с одним правительством, с одним законо-
дательством, с одним национальным классовым интересом, с одной
таможенной границей
Буржуазия имеет в виду, конечно, свой единый, национальный
классовый интерес, но ведь другой основной класс капиталпстпче-
схсго общества—пролетариат—тоже имеет свой единый националь-
ный классовый пн герсс. Каждый из этих классов коисолидирустся
теперь в общенациональном масштабе. Буржуазия заинтересована
в обеспечении свободного передвижения всех граждан страны, в
едином торгово промышленном законодательстве и в конечном сче-
те в возможности беспрепятственной массовой эксплуатации оте-
чественной рабочей силы. Все это, писал Ф. Энгельс, было «теперь
уже не патриотическими фантазиями экзальтированных студентов,
а необходимым условием существования промышленности»9.
Именно в этом национальный интерес буржуазии. На нем основы
вастся ее патриотизм, вся се националистическая идеология. Проле-
К Маркс и Ф Энгельс Соч.. т 21, стр. 415 116
R 1\. М а р к с и Ф. Э и г < л ьс. Соч.. т. 4, стр. 428
1\ Маркс и Ф Энгельс Соч , т. 21, стр. 42 I
5 С. Т. Калтахчяк 65
тариат тоже национален, но отнюдь не в буржуазном смысле. Он
стихийно, интуитивно чувствует, а затем и осознает, что лучше
обеспечит свои интересы, сплотившись в едином национальном оте-
честве. Рабочий класс национален постольку, поскольку он, «для
того чтобы вообще быть в состоянии бороться, должен у себя дома
организоваться как класс и что непосредственной ареной его борь-
бы является его же страна. Постольку его классовая борьба не по
своему содержанию, а... «по форме» является национальной»10 11.
На различных этапах истории появляются определенные обще-
национальные интересы, но они неодинаково проявляются у раз-
личных классов. Вот почему К. Маркс и Ф. Энгельс выдвигают на
первый план не общенациональную общность, а национальную
классовую общность, подчеркивают не общенациональный харак-
тер, а национальный характер различных классов той или иной
нации. Пролетариат стремится к национальному отечеству не по-
тому, что чувствует духовное родство со своей буржуазией, а по-
тому, что осознает необходимость организации в национальном мас-
штабе для успешной борьбы за свои интересы Говоря, например,
о значении объединения Германии в единую нацию, Ф. Энгельс
писал: «Интересам пролетариата одинаково противоречило как
опруссачепне Германии, так и увековечение ее раздробленности
на множество мелких юсударств. Интересы пролетариата повели-
тельно требовали окончательного объединения Германии в единую
нацию, что одно только и могло очистить от всяких унаследован-
ных от прошлого мелких препятствий то поле битвы, на котором
пролетариату и буржуазии предстояло помериться силами» ”.
Именно в этом основной и главный смысл утверждения «Мани-
феста Коммунистической партии» в необходимости объединения в
одну нацию, с одним национальным классовым интересом. Как
писал Ф. Энгельс, «стремление к единому «отечеству» имело весьма
материальную подоплеку» 12. К. ЛАаркс и Ф. Энгельс отмечали, что
ирландцы в длительной борьбе против Англии за национальную
независимость выработали свое национальное самосознание, свои
традиции. По они, быть может, смогли бы остаться в составе
Англии, как шотландцы, уэльсцы, если бы неслыханная антн-
прл ап тека я политика англичан не превратила ирландский нацио-
нальный вопрос в вопрос о земле, о существовании парода. Бывает
и так, когда в силу определенных социальных причин националь-
ное существование становится предпочтительнее не в своем оте-
честве. Гак случилось, например, с эльзасцами и лотарингцами
в конце XVIII века. Когда разразилась Французская буржуазная
революция, Эльзас и Лотарингия, по замечанию Ф. Энгельса
получила от Франции в подарок то, чего они нс смели и надеяться
получить от Германии. Они избавились от феодальных оков, от
10 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 19, стр. 22.
11 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч, т. 21, стр. 18.
2 1 ам же, стр. 424.
66
патрициата и цеховых привилегий в городах. Эльзасцы и лотарин-
гцы, которые еще ие были офранцужены, следуя примеру фран-
цузов, прогнали дворян, баронов и князей и объявили себя
свободными французами. И когда Германская империя выступила
с войной против революции, «тогда, — писал Ф Энгельс, — было
покончено с принадлежностью эльзасцев и лотарингцев к немецкой
нации, тогда они научились ненавидеть и презирать немцев, тогда
в Страсбурге была сочинена, положена на музыку и впервые про-
пета эльзасцами «Марсельеза» и тогда немецкие французы, невзи-
рая на язык и прошлое, на полях сотен сражений в борьбе за рево-
люцию слились в единый народ с исконными французами.
Разве великая революция не совершила такое же чудо с фла-
мандцами Дюнкерка, с кельтами Бретани, с итальянцами
Корсики?..
Во время своего продвижения в 1814 г. союзники как раз в Эль-
засе и немецкой Лотарингии встретили наиболее враждебное от-
ношение, наиболее сильное сопротивление со стороны самого наро-
да, так как здесь чувствовали опасность, что придется опять стать
немецкими гражданами. А между тем в то время в этих областях
еще говорили почти исключительно по-немецки. ... С этих пор
началось такое же офранцужение школы, какое провели у себя, по
собственной воле, и люксембуржцы»13.
Ф. Энгельс приводит и другие примеры, когда в силу опреде-
ленных исторических причин большим нациям пришлось расстать-
ся с некоторыми своими периферийными частями. Последние при-
общались к национальной жизни какого-нибудь другою народа и
уже не хотели воссоединиться со своим основным стволом.
К. Маркс и Ф. Энгельс четко показывают, что национальные чув-
ства, национальное самосознание не являются прирожденными.
Глубокие национальные чувства в отношении к бывшему отечеству
сохраняются еще долго, особенно в первом и во втором поколениях
эмигрантов, но, как правило, эти чувства отступают перед эконо-
мическими и политическими интересами. Национальные чувства,
национальная гордость могут вспыхнуть с новой силой, если быв-
шая родина вступает на прогрессивный путь развития или находит-
ся под угрозой иностранного порабощения.
Такое явление, когда целые группы той или иной нации, связав
на длительное время свою судьбу с другой нацией, становятся
частью последней, отмечается Ф. Энгельсом неоднократно.
В статье «Борьба в Венгрии» (1849 год) он писал: «... венгерские
немцы, хотя и сохранили немецкий язык, стали по духу, характеру
и обычаям настоящими мадьярами 14. Когтя же польские немцы
в 1849 году после нового раздела Польши вдруг вспомнили, что
они «немцы», и захотели присоединить заселенные ими польские
земли к Германии, Ф Энгельс вскрыл материальную подоплеку
13 К Маркс и Ф Энгельс. Соч , т 21, стр 461—462.
14 К. Маркс н Ф Энгельс Соч., т 6, стр 181.
,5*
лпх ухищрений. Он показал, что польские немцы, эти потомки
переселенцев, покинувших свою родину из-за религиозных пресле-
дований и в течение столетий делившие судьбы польского государ-
ства, никакие не немцы. Они просто пытались использовать труд-
ное положение Польши в данный момент, чтобы добиться господ-
ствующей в ней роли. «Они ссылаются на то, — писал Ф. Энгельс,—
что они — немцы, но они столь же мало являются немцами как и
американские немцы» 15.
История показывает, что из одного корня (одной этнической
общности) могут в неодинаковых условиях развиваться различные
нации, так /ке как и разные национальности смешиваясь, могут
образовать новую нацию. 1\. Марксу и Ф. Энгельсу было важно
подчеркнуть решающую роль материальных интересов для консо-
лидации нации. Для них экономическая общность выступает как
условие возникновения нации и основа, на которой развиваются
определенные признаки нации.
Важнейшими признаками нации К- Маркс и Ф. Энгельс считали
также общности территории и языка, которые, как и экономическая
общность. образуются исторически.
Материалистически объясняя происхождение языка как сред-
ства человеческого общения, К. Маркс и Ф. Энгельс дали многое для
понимания путей образования и специфики национальных языков.
3 частности, они отмечали, что образование национальных языков
связано с историей развития народов, их смешением, взаимопро-
никновением и взаимовлиянием. Как будет показано в четвертой
главе книги, пет ничего ошибочнее приписывать тому или ино-
му народу языка, присущего его «природе» и имеющего якобы
беспрерывную прямую линию развития, начиная с родового строя.
К. Маркс и Ф. Энгельс придавали большое значение общности
языка дня нации. Однако они выступали против абсолютизации
языка, как и любого другого признака. Отмечая, что национальный
язык образовали в результате смешения народов, скрещивания
и взаимовлияния их языков, Ф. Энгельс указывал, например, на
тот факт, что в то время, как границы национальности совпадают
с границами языка, границы нации, как правило, обозначаются
границами государства.
Уже с возникновением народностей, как мы видели, общность
терригорни стрла решающим принципом деления людей на соци-
ально-этнические общности нового типа. «... Исходным пунктом
было принято территориальное деление, — писал Ф. Энгельс,—
и гражданам предоставили осуществлять свои общественные пра-
ва и обязанности там, где они поселялись, безотносительно к роду
.и племени»16. Теперь не люди с общим языком, характером
я т. п. занимают общую территорию, а, наоборот, общая террито-
I ня становится базой для выработки определенных общих черт
|г’ К- Маркс и Ф. Энгель с. Соч., т. 5, стр. 55.
"’К Маркс и Ф Э н г с л ь с. . Соч,, т. 21, стр. 170.
168
людей различных племен, для создания новой этнической общности
Возникают общие привязанности к окружающей людей природе,
появляется «местный патриотизм». При всех условиях без общно-
сти территории (если не говорить о временных ее нарушениях) нет
нации. Общность территории является необходимым условием об-
разования нации, как и в дальнейшем условием ее существования,
а следовательно, и признаком ее.
К. Маркс, и Ф. Энгельс указывали на недопустимость причис-
лять к единой нации людей одной и той же национальности, но не
имеющих общей территории, а также разоблачали реакционные
поползновения расширения границ той или иной начни ссылками
на историю, на так называемую теорию «естественных границ» 1
Таким образом, решающим условием формирования нации и
ее признаком К. Маркс и Ф. Энгельс считали общность экономиче-
ских связей и отношений большой группы людей. К признакам на-
шш они относили также территориальную целостность как основу,
почвуг деятельности этих люден и установления осин х экономиче-
ских связей, а также развитие общего литературного языка.
Наводные массы со времени возникновения яаниональностсй,
а затем и наций всегда являлись их основой, ядром. «... Современ-
ные национальности также яв шются продуктом угнетенных клас-
сов»15,— писал Ф. Энгельс. Именно эти классы всегда отстаивают
независимость и свободу нации. Трудящиеся составляют главнхю
боевую силу национально-освободительных движении.
К. Нарке и Ф. Энгельс национальную консолидацию считали
важной ценностью для трудящихся. Перед пролетариатом они
поставили задачу: «... завоевать политическое господство, поднять-
ся до положения национального класса, констптх проваться к к
нация...»17 18 19 20. Пролетариат ничего общего не имеет с буржуазным
национализмом. Национальная арена нужна ему для решения
своих национальных и интернациональных задач. Говоря, напри-
мер, о пешках и ирландцах, Ф. Энгельс пнеа ', что «они более
всего интернациональны именно тогда, когда они подлинно нацио-
нальны» 2”.
‘Марксистская историко-экономическая теория ранни была все-
сторонне разработана и развита В. П. Лениным В. П Ленин рас-
смотрел национальный вопрос с точек зрения со происхождения,
объективной роли в общественном развитии и перспектив. Уже
в своем первом крупном произведении «Что такое «друзья народа»
и как они воюют против социал-демократов?» Ленин разрабатыва-
ет теорию нации как составную часть учения о материалистиче-
ском понимании истории. Он вы щупает против излюбленного бур-
жуазной социолог neii и историографией приема смешивать нацию
17 См. об этом в четвертой главе.
18 К М арке в Ф. Э п г с л ь с Соч.. т 21, стр. 409.
19 К М арке и Ф. Энгельс Соч., т. 4, стр. 444
20 К. М арке и Ф. Э и г с л ь с. Соч., т. 35, стр. 222.
69
с расой и племенем и представлять ее вечным естественно-природ-
ным явлением. Критикуя, в частности, субъективного социолога
Михайловского, пытавшегося представить нацию как дальнейшее
продолжение и усложнение родо-племенных связей, Ленин прежде
всего указывает на социальную сущность нации, отмечая, что со-
здание «национальных связей было не чем иным, как созданием
связей буржуазных»21. Эту мысль Ленин развивает в последующих
работах, неизменно подчеркивая, что нация возникает как соии-
< льно-историческое явление, как «неизбежный продукт и неизбеж-
ная форма буржуазной эпохи общественного развития»22.
Определяющими чертами нации В. И. Ленин считает следую-
щие: «Язык и территория. Главное. (Экономический признак).
Исторический характер»23.
Буржуазные специалисты по теории нации, до сих пор трактуя
нацию как некую духовную сущность, обвиняют Ленина в «неисто-
ричности» (?) за то, что он связывает образование нации с возник-
новением капитализма и вкладывает в понятие «нация» лишь эко-
номическое содержание, опуская «психический склад», «националь-
ный характер» и вообще этнические характеристики нации. Но сила
ленинской теории как раз и заключается в выделении из всех
характеристик нации ее социальной сущности. Определяющим со-
циальную сущность нации В. И. Ленин считает «экономический
признак», когда же касается проблемы национальных отношений,
он обращает большое внимание на этнические национальные раз-
личия, особенности, которые, кстати, тоже рассматривает как про-
дукт общественно-исторического развития.
Консолидация нации облегчается наличием родственных пле-
мен и народностей, близких по языку, некоторых особенностей
культуры, традиций и т. д. Однако это не обязательное условие.
Нет также обязательной прямой генетической линии связи этниче-
ских свойств, идущих через род —племя — народность — нация.
Даже относительно однородные (гомогенные) нации возникли из
различных племен и народностей, а явно разнородные (гетероген-
ные) нации, такие, например, как американские, образовались не
только из различных национальностей, но и из различных рас.
Этнические качества нации сами формируются как национальные
черты данной нации в процессе се консолидации. Продолжитель-
ная совместная жизнь и деятельность различных этнических групп
в рамках сформировавшейся нации вырабатывают у них новый,
общин этнический облик. В последнем можно просчеднть некото-
рые «сквозные» элементы, идущие из прежних исторических общ-
ностей, но даже они при всей своей консервативности не являются
неизменными.
21 В. II. Л с п и и. Поли собр. соч., т. 1, стр. 151
22 В. II. Л сип н. Поли. собр. соч.. т. 26. стр. 75
23 «Ленинский сборник XXX», стр. 53.
70
Иначе говоря, хотя в ряде наций в какой-то мере можно просле-
дить определенную преемственность тех пли иных этнических эле-
ментов, в целом для нации, как общественного явления, не обяза-
тельна прямая генетическая связь с донациональнымп формами
общности людей ни в биологическом, ни в психологическом плане.
Указанные формы общности людей связаны друг с другом в
общественно-историческом плане как последовательные этапы в
развитии человечества, но каждая из них имеет своп характерные
черты, объясняемые определенными социальными условиями.
Нельзя поэтому включать в понятие и определение нации племен-
ную и расовую общность. Нация не определяется также религиоз-
ной и государственной общностью. Существуют разные нации,
исповедующие одну и ту же религию, и, наоборот, существуют
нации, части которых исповедуют разные религии. Есть нации,
имеющие свою национальную государственность, но есть и не
имеющие ее.
В жизни нации, в ее отношениях с другими нациями этнические
особенности занимают большое место, но они не превращают на-
цию в биологическую единицу, они сами являются продуктом соци-
ального развития. Нация не есть, с одной стороны, общественное,
а с другой — естественное явление. Она по своей сущности есть
общественно-историческое явление, п В. II. Ленин подчеркивает
социальное происхождение и социальное назначение наппп, т. е. ее
роль в дальнейшем общественном развитии.
В. И. Ленин считал, что для понимания нации как новой, осо-
бой формы общности важно прежде всего отличать ее от пред-
шествующих ей форм общности людей. Четкое установление специ-
фики каждой из форм общности людей становится возможным при
анализе различий социальных условий, порождающих ту или иную
форму общностей. Только такой анализ позволит выделить специ-
фику нации как особой формы общности людей и подвергнуть кри-
тике ошибочные концепции, переносящие определенные специфи-
ческие признаки рода и племени на нацию. Если родо-племенная
общественная среда формировала общие черты психологии и куль-
туры отдельных людей, то с возникновением классового общества
основывающегося на частной собственности, существенно меняется
и характер образования новых общностей людей, поскольку корен-
ным образом изменяется тип пх общественных связей и отношений.
Еще больше сказываются социально-классовые отношения на раз-
витии нации.
Феодальная раздробленность сковывала развитие капитализма
и буржуазия выступила знаменосцем национального единства, за
национальные связи. Слияние разрозненных областей, земель и
княжеств в одно национальное целое, например, в России
(XVII век) В. II. Ленин объяснял «усиливающимся обменом между
областями, постепенно растущим товарным обращением, концент-
рированием небольших местных рынков в один всероссийский ры-
нок. Так как руководителями п хозяевами этого процесса были
71
капиталисты-купцы, то создание этих национальных связей было,
не чем иным, как созданием связей буржуазных»24.
Люди, объединенные в род, племя, тоже имели экономическую’
общность, даже очень устойчивую, просуществовавшую тысяче-
летиями. Однако чтобы объединить людей разных племен, нацио-
нальностей и рас, более того, еще и различных социальных классов
в общность постоянных экономических связей, необходимы были
совершенно иные, а именно капиталистические экономические
отношения. Этими отношениями («буржуазными связями»)
В. И. Ленин объясняет образование и развитие более обширной
территориальной общности, литературного языка, а также нацио-
нального самосознания.
Подчеркнув, что «национальный вопрос должен быть поставлен
исторически и экономически». В. II. Ленин историческим этапом
образования нации считает эпоху национальных движений — конец
средних веков и начало нового времени, а экономической основой—
капитализм с его требованиями сплочения внутреннего рынка
н главного орудия торговых сношений-—общего языка. «Сплоче-
ние национальных областей (воссоздание языка, национальное про-
буждение etc) и создание национального государства.
Экономическая необходимость его»25.
Конечно, предшествующее капиталистическому обществу эко-
номическое и политическое развитие подготовило материальные-
и духовные предпосылки образования нации, по нельзя смешивать
подготовительный период с самим процессом образования наций,
который происходил в эпоху разложения феодализма и складыва-
ния капитализма. Если уже народность нельзя было рассматри-
вать как результат усложнения родо-племенных связей, их простым
продолжением и обобщением, то тем более, как показал В. И. Ле-
нин в полемике с субъективным социологом, либеральным народ-
ником Н. К- Михайловским, этого нельзя делать в отношении на-
ции. Более того, нация, па формировании и развитии которой ска-
зываются социально классовые отношения особенно сильно, отли-
чается от народности докапиталистических формаций рядом осо-
бенностей.
Нация потому и является особой формой общности людей, что
опа нс только принципиально отличается от родо-племенных общ-
ностей людей, но и существенно отличается oi народностей дока-
питалистического периода большой четкостт ю расстановки клас-
совых сил, большей полярностью социально-политического и духов-
ного облика и прочностью союзов каждого из классов, составляю-
щих данною нацию. «...Капиталистическое общество, — пишет
В II. Ленин.—увеличивает потребность населения в союзе, в
обьедпнепнп и придает этим объединениям особый характер,,
сравнительно с обьедипспнямп прежних времен Разрешая узкие,. 21 *
21 В II. Ленин. Поли. собр. соч., т. I. стр. 154.
21 В II. .'I е и п п. Поли, соор соч., т 24, стр. 385.
72
.лестные, сословные союзы средневекового общества... капитализм...
раскалывает все общество на крупные группы лиц, занимающих
различное положение в производстве, и дает громадный толчок
объединению внутри каждой такой группы... Все указанные
изменения старого хозяйственного строя капитализмом’ неизбеж-
но ведут также и к изменению духовного облика населе-
ния» 26.
Поэтому, если вместо того, чтобы раскрыть с\ щность нации
посредством тщательного анализа социально-экономического, клас-
сового содержания конкретных путей се формирования и развития,
ограничиваться выведением определения нации путем составления
таблиц, сопоставлений и исключений признаков какой-либо гр\ппы
наций, оно окажется неприменимым к другим группам наций.
Какие противоречия возникают при этом, наглядно можно проил-
люстрировать на примере консолидации в нации народов Африки,
которые во многом не подходят под определение, выведенное из
сравнительных данных европейских наций. Бывает и так, идя не от
сущности нации к ее определению, а от формально-логического оп-
ределения к сущности, обращают внимание на истолкование при-
знаков нации в этническом отношении, а затем уже где-то делают
оговорку, что речь идет о нации, разделенной на антагонистические
классы. Такой подход неправилен уже потому что возникновение
классов предшествует возникновению нации. Нации образуются
из классов, и развитие нации носит на себе отпечаток борьбы этих
классов. Нация не представляет конгломерат индивидуумов. Она
состоит из личностей, а «личность — не только интивпд, но всегда
и социалвный тип, в свойствах которого так или иначе выражаются
идеология п психология борющихся классов, в конечном счете — их
интересы» 27.
В. Н. .Тенин неоднократно указывал, что недопустимо рассмат-
ривать нации, нс выясняя, какое влияние оказывают классы на их
возникновение и эволюцию. В работе «Перлы нароишчсского про-
жектере гва »> он показывает, как С. Н. Южаков, рассужтая об
«Основах среднсучебной реформы», фактически псхо шт из допу-
щения мифического существования при капитализме неклассовой
нации; индивидов, стоящих впе классов. Против понимания папин
как внеклассового явления В. П. Ленин выступает и в работе
Л\ характеристике экономического романтизма». В ней критикуя
Спсмондп с его беспочвенными советами нациям «что надлежит,
а чего не следует делать», он писал- «Как видит читатель, это
просто благожелательные советы, лишенные всякою смысла и зна-
чения, ибо понятие «нации» построено здесь па искусственном абст-
рагировании противоречии между теми классами которые эту «на-
цию,- образуют»26. * * *
2' В.
27 г
2Ь р
II
Л
II
. I с п и п Поли coup. соч.. т. 3, стр 600
Смирнов. Советский человек, изд. 2. М., Нолитпзт it, 14/3, тр.
/I е п и п Поли. собр. соч., т. 2, стр 221.
73
Главное, что постоянно подчеркивает В. И Ленин, это то, что
нация возникает как общественно-историческое явление в ответ
на потребности развития капитализма, нуждающегося в преодоле-
нии феодальной раздробленности и в укрепленни политической
централизации на основе капиталистических экономических связей.
Из анализа ряда положений В. И. Ленина по теории нации
можно заключить, что нация — историческая общность людей,
складывающаяся в ходе формирования общности их экономиче-
ских связей, территории, литературного языка, некоторых особен-
ностей культуры и характера.
Сам В. И. Ленин в созданной им теории нации не связывал
определение нации с постоянной суммой признаков, а раскрывал
сущность нации в первую очередь как социального образования в
эпоху капитализма. Указывая на такие наиболее общие признаки
нации, как общность языка, территории, экономические связи,
Ленин, однако, нс считал, что они полностью раскрывают сущность
нации, а всесторонне исследовал основные факторы ее жизни в их
многочисленных взаимосвязях и опосредованиях.
Наконец, согласно учению Ленина не обязательно говорить о
нации только тогда, когда налицо все указанные условия ее обра-
зования. В ряде случаев процессы формирования нации и условий
ее существования происходят одновременно, дополняя друг друга.
Так, например, несмотря на известную разобщенность экономики
и незавершенность процессов образования наций в колониальных
странах, В. II. Ленин еще в начале XX века писал: «Европейцы
часто забывают, что колониальные народы тоже нации, но терпеть
такую «забывчивость» значит терпеть шовинизм»29. То, что образо-
вание нации само становится условием утверждения развития эко-
номической общности, орудием се формирования, особенно заметно
сейчас в странах Азии и Африки, в которых в силу особых истори-
ческих условий экономической готовности нации еще нет. Однако
стремление к национальной независимости, к образованию своей
национальной государственности является нациообразующим фак-
тором, и нация становится формой как политического и культурно-
го развития, так и экономического сплочения и прогресса страны.
Данные В. И. Лениным теория и метод историко-экономиче-
ского анализа имеют непреходящее значение, указанные же в раз-
личных определениях нации признаки нельзя абсолютизировать.
Мудрое изречение о том, что «определение есть ограничение пред-
мета >. наглядно видно на примере такого сложного и многообраз-
ного в своих проявлениях «предмета», каким является нация.
Некоторые авторы в подобных утверждениях видят умаление,
даже отрицание po.ni научных определений. Это но так. Определе-
ние любого явления по сравнению с раскрытием его содержания
действительно имеет относи гельно меньшую ценность, хотя и иг-
29 В. II Л с п н п Поли собр. соч.. т 30. стр. 116.
71
рает большую роль в пауке. Об этом не раз писали основополож-
ники марксизма-ленинизма 30.
Представитель любой отрасли знания понимает, что ни одна
наука не обходится без научных определений, и в этом видит их
огромное значение, но вместе с тем он знает, что наука обречет
себя на застой, если забудет ограниченный, относительный харак-
тер научных определений, если забудет о том, что они имеют лишь
вспомогательное значение и должны постоянно проверяться, уточ-
няться, обогащаться практикой.
Но чтобы доработаться до этого единственно приемлемого опре-
деления, любая наука проходит длинный и трудный путь иссле-
дований, сопоставлений, уточнений, обсуждений и дискуссий. Болес
того, этот процесс не может где-то раз и навсегда остановиться.
Дискуссии о понятии нации оживились, во-первых, потому, что
было недостаточно разработано богатейшее наследие К- Маркса.
Ф. Энгельса и В. II. Ленина по теории нации и национальных от-
ношений и, следовательно, появилась безотлагательная необходи-
мость в полном освещении и использовании этого наследства, а
во-вторых, обнаружились, особенно в Азии, Африке и Латинской
Америке, своеобразные пути формирования нации, иногда на осно-
ве несколько иных факторов и их совокупностей, чем те, которые
были известны при формировании европейских наций. Появились,
наконец, новые социальные типы наций, нуждающиеся в дифферен-
цированных определениях, наряду с общим определением всякой
нации. Все это требует, п естественно, исследования и осмыслива-
ния всех новых процессов образования наций и их отношений
В. И. Ленину было важно всесторонне исследовать основные
факторы жизни нации, и он проанализировал, рассмотрел их во
многих взаимосвязях и завещал то же сделать своим постсдовате-
лям. Ленинизм в целом, и ленинская теория нации в частности,
есть объективная истина в том же смысле, в каком В. II. Ленин
говорил о теории 1\. .Маркса, а именно, что «идя по пути марксовой
теории, мы будем приближаться к объективной истине все больше
и больше (никогда нс исчерпывая ее); идя же по всякому другому
пути, мы не можем прийти ни к чему, кроме путаницы и лжи»31.
Ленинская теория нации дает научно обоснованные ответы, или
ключ к нахождению правильных ответов, на указанные и многие
производные от них сложные вопросы, связанные с сущностью
нации и ее ролью в общественном развитии.
Для правильного понимания как сущности начни, так и места
и роли ее этнических особенностей необходимо различать такие
взаимосвязанные, но пе идентичные понятия, как «нация» и «нацио-
нальное гь». Поскольку этническое представляет лишь некоторые
скрепляющие национальную общность факторы, указывающие на
30 См., например. К Маркс и Ф Энгельс Соч., т 20, стр 634—6 -
В. И. Ленин Поли, собр соч., т. 27. стр 386
31 В. II. Лепин Поли. собр. соч.. т 18, стр. 146
75
национальность нации, то понятие «национальность» является бо-
лее узким, чем понятие «нациях. Без их разграничения невозможно
понять глубокое содержание п значение программного положения
В. II. Ленина о раздвоенности нации и ее культуры в антагонисти-
ческом обществе. Различение указанных понятии необходимо так-
же для понимания того важного факта, что в разных районах мира
живут люди и целые группы из одной и той же национальности, не
будучи представителями одной и той же нации. Так как нации,
народности возникают на основе территориально-экономических
связей, то ясно, что группы людей, имеющие одну общую нацио-
нальность с той или иной нацией, пли народностью, но не живу-
щие с ними на одной территории, не являются представителями
данной нации или народности.
Наконец, только при различении понятий «нация» и «нацио-
нальность» становится понятным то, почему нация и пт народность
в процессе строительства социализма, в корне меняя свою соци-
альную сущность, в основном сохраняет свою национальность. Раз-
личать эти понятия том более необходимо, что «национальность»
характеризует этнически не только нации, но и народности. Более
того, в этом качестве национальность выступает как общее наиме-
нование всех национальных образований32. Из всего сказанного
должно быть ясно, почему важно проводить различие между опре-
делениями нации и национальностей33. Определение наппп должно
указать на ее отличие как специфического общественного явления
от других общественных явлений, а не одной нации от другой.
Когда В. II. Ленин указывал на «(а) исторические условия» и
«(Р) экономический признак»34, а также на язык и территорию
как на необходимые факторы образования и развития нации, его
32 В качестве кальки с западноевропейских языков термин «национальность»
употребляется еще в значении «государственный» («национальный доход»,
«национальные интересы государства» в т. д.).
33 Известный этнограф Ю. В. Бромлей, поддержав наше предложение, пишет:
«Такое терминологическое разграничение, несомненно, поможет дифференци-
ровать хотя и весьма близкие, по все же не вполне идентичные явления.
Подобным образом представляется целесообразным закрепить за узким зна-
чением термина «этнос» слово «этникос» (Ю. В. Бромлей. К .характери-
стике понятия «этнос». «Расы и народы». Ежегодник. ХЕ, «Наука», 1971, № 1,
стр. 27) Дальнейшее обоснование разграничения указанных терминов см.
Ю. В. Бромлей. Этнос и этнография. М„ «Наука», 1973.
34 В 1972 г. вышла интересная и содержательная книга крупного специалиста
по национальному вопросу М. II. Куличенко «Национальные отношения
в СССР и тенденции их развития», в которой автор, выразив свое полное
согласие с нашим определением сущности нации (стр. 54), считает, однако,
что в определении национальности допущена односторонность, что в пей необ-
ходимо учитывать всю совокупность «как этнических, так и особенно социаль-
ных связей...» (стр. 55). Но в таком случае опять отпадает разграничение
понятий «нация» и «национальность», а между тем это ирпицициальиый воп-
рос. Чтобы избежать семантических расхождений, необходимо иметь в виду,
что термин «национальное» («национальные связи» и т. п.) может употреб-
ляться п часто употребляется как производное и от «национальность» и от
«нация». Лишь по контексту изложения можно установить, когда термин
76
интересовало нс то, как п в чем эти факторы отличают одну нацию
о г другой, а то, что они являю гея общими для всех наций. В этом
определении В. II. Ленин берет нацию как мировое явление. Он об-
ращает внимание не па то, что экономические связи одной нации в
чем-то могут отличаться от экономических связей другой нации, а
на то, что во всех случаях эти экономические связи возникают как
«буржуазные связи». Даже территория, язык интересуют
В. И. Ленина не как признаки, отличающие одну нацию от другой,
а как признаки, без которых не может быть ни одной нации.
Авторы, ищущие в определении нации не ее специфику по
сравнению с другими общественными явлениями, а отличие одной
нации от другой, обычно бывают вынуждены сделать ряд оговорок
относительно всякого рода исключений, как, например, о том, что
многие различные нации говорят на одном и том же языке. Но эти
оговорки излишни, поскольку нация нас интересует как обществен-
но-историческое явление и потому даже язык интересует нас не
как отличительный признак нации, а как признак нации вообще.
В таком случае нам безразлично, на каком языке говорит данная
нация и как образовался се общий язык35.'Главное в данном слу-
чае то, что нс может быть нации без общего языка.
Нации отличают друг от друга по их социальным типам, а в эт-
ническом отношет и по их национальностям. Национальность вы-
ступает как этническая характеристика, особенность нации. Поэто-
му в отличие от нации определять национальность следует не
в единственном числе, как якобы самостоятельное, независимое от
нации и народности общественно-историческое явление. Определе-
нию .подлежат национальности в сравнении друг с другом. При
этом можно было бы определять как национальности наций, так и
национальности народностей и племен.
Национальности представляют более или менее большие груп-
пы людей, отличающиеся между собой своим языком, некоторыми
особенностями культуры и характера, самосознанием этнической
принад. гежности.
Как мы видим, в определение как нации, так и национальностей
входят язык и самосознание этнической принадлежности. Разиина,
однако, тут в том, что они в определении нации фигурируют как
признаки, присущие всякой нации, отличающие ее от других обще-
ственных явлений, скажем, классов, а в определении националь-
ностей они выступают как признаки, этнически облипающие одну
национальность от другой. Спсцпалпсты-фн гологи отмечают, на-
пример. этнические языковые особенности даже у национальностей,
«национальное» употребляется для выделения этнических особенностей нации,
народности, а когда он характеризует патио как социальное явление во всей
совокупности ее как социально-этнических, так и социально-классовых связен.
35 Известно, что, например, латиноамериканские нации, возникшие из различных
этнических элементов, имеют общий испанский пли португальский язык.
Общим языком некоторых африканских разноплеменных нации служит по .а
язык бывших метрополий.
имеющих одну п ту же основу своего языка. Так, например,
М. И. Былинкпна, отмечая, что в Латинской Америке дтя большин-
ства национальных языков готовым материалом послужил испан-
ский язык, некогда ввезенный испанскими конквистадорами, пока-
зывает, какие изменения претерпел язык завоевателей за истекшие
трис лишним столетия, отразив особенности формирования каждой
латиноамериканской нации. Она пишет: «Совокупность фонети-
ческих грамматических, лексических и стилистических трансфор-
маций ведает оснований считать национальный язык Аргентины но-
вым романским языком — «аргентинским», но с чисто лингвистиче-
ской точки зрения позволяет квалифицировать его, и, соответст-
венно, языки мексиканцев, кубинцев и т. д. как некую разновид-
ность испанскою языка»36.
Другой филолог, исследователь языка бразильцев Е. А1. Вольф
напоминает о сложности этнических корней бразильской нации,
образовавшейся из португальцев, индейцев и негров. Он показы-
вает, что если аргентпнизмы в испанском языке делают язык арген-
тинцев в определенной мере отличным от языка тайге patria—
Испании, то бразилизмы в португальском языке привели к тому,
что даже «возникла школа бразильского языка считавшая, что в
Бразилии существует свой язык, отличный от португальского...
Радиопередачи для бразильцев и португальцев ведут разные дик-
торы, каждый из них владеет своей языковой нормой»37.
Таким образом, любой национальный язык выступает как исто-
рический продукт определенного большого коллектива людей, ста-
новящегося нацией. Он носит на себе особенности этнических эле-
ментов данной нации и вместе с тем характеризует нацию как но-
вую историческую общность людей"! этнически.
Различая понятия «нация» и «национальность», необходимо об-
ратить внимание и на то, что термин «национальное» может упо-
требляться п часто употребляется и как производное от «нация»,
и как производное от «национальность». Поэтому во избежание се-
мантических расхождений из контекста изложения должно быть
ясно, когда термин «национальное» употребляется для выделения
этнических особенностей рода, племени, народности, нации а когда
он характеризует только нацию как общественно-историческое яв-
ление. се социальную сущность, все то, что обусловливает ее соци-
альное происхождение и роль в общественном развитии.
В. II Ленни определял нацию прежде всего как общественно-
исторический продукт буржуазной эпохи и, естественно, делал упор
на се социальную сущность. Когда же касался проблем националь-
ных отношений, он обращал большое внимание на этнические на-
циональные различия, особенности, которые, кстати, тоже рассмат-
ривал как продукт общественно-исторического развития.
36 М II. Былипкииа. О национальном языке Аргентины В со.: «Нации
Латинской Америки». М., «Наука», 1964, стр. 372.
37 Е. М. Вольф. Португальский язык в Бразилии. В сб.: «Нации Латинской
Америки», стр. 411
78
2.
ОТНОШЕНИЕ ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ
МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА
К ВОПРОСУ ОБ ОБЩНОСТ И
ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ НАННИ
Каждая нация создает духовные ценности, живет и развивает-
ся в определенной культурной среде. Основоположники марксиз-
ма-ленинизма отмечали большое значение этой среды для форми-
рования облика нации. Они считали существующую духовную
среду той пли иной нации одной из важных особенностей ее раз-
вития. Но главное их внимание привлекало то обстоятельство, что
психологическая, культурная среда нации, состоящей из враж-
дебных классов, неоднородна. К. Маркс, Ф. Энгельс и В. II. Ле-
нин считали духовную среду нации одной из ее особенностей в
том смысле, что для понимания конкретных условий развития
нации надо знать, в какой среде (пусть гетерогенной, состоящей
по характеру из противоположных элементов) она живет и функ-
ционирует.
К. Маркс, Ф. Энгельс и В. И. Ленин никогда не говорили об
общности психического склада как признаке нации капиталисти-
ческого общества, хотя интересовались социально-психологиче-
скими явлениями, изучали и прекрасно знали общественную пси-
хологию различных социальных классов, слоев и прослоек, обра-
зующих данную нацию. Культурно-психологические явления в на-
циях антагонистических обществ они рассматривали в свете исто-
рико-экономической теории нации в их социально-классовых про-
явлениях, вскрывали материальную подоплеку национальных
чувств, национального самосознания,
То, что национальные чувства не связаны с племенной род-
ственностью, К- Маркс и Ф. Энгельс показали не только на при-
мере отношения немцев, французов и других народов, живущих
в различных странах, но и на примере взаимоотношений род-
ственных славянских народов. Так, Ф. Энгельс отмечал застаре-
лую ненависть южных славян к турецким славянам, которые
«в продолжение многих веков видят друг в дрхге мошенников и
бандитов, при всем своем национальном родстве гораздо силь-
нее ненавидят друг друга, чем славяне и мадьяры»38. Разжига-
ние националистических страстен и их использование в интересах
господ особенно было цинично в меттернпховской Австро-Венг-
рии. «Различные классовые интересы.- писал Ф. Энгельс,— наци-
ональная ограниченность и местные предрассудки, при всей сво-
ей сложности, очень хорошо уравновешивали друг друга и поз-
воляли старому плуту Меттерниху свободно маневрировать... Нем-
цы, мадьяры, чехи, поляки, моравы, словаки, хорваты, русины,
румыны, иллирийцы, сербы вступали во взаимные конфликты, в
38 К. Маркс п Ф. Энгельс. Соч., т. 6. стр. 296.
79
то время как внутри каждой из этих наций тоже шла борьба
между различными классами»39.
К. Маркс и Ф. Энгельс пристально следили за изменениями
психологии, настроений различных классов и социальных слоев в
ходе классовой борьбы, особенно революции. Они отмечали, что
классы имеют и различные иллюзии, которые в ходе революции
развеиваются. Вместе с ними исчезают и пережитки некоторых
дореволюционных традиций. В революциях и их поражениях осо-
бенно четко выявляется характер, психология социальных клас-
сов и слоев. Отмечая, например, изменения в настроениях кресть-
ян в революции 1848—1849 годов, К. Маркс писал: «...понятнее
всего говорил самый опыт, приобретенный классом крестьян при
использовании избирательного права, говорили те разочарования,
которые одно за другим обрушивались на него в стремительном
развитии революции. Революции — локомотивы истории»40.
Иначе вела себя в революции, например, немецкая мелкая бур-
жуазия. Ф. Энгельс отмечал, что опа, «великая в хвастовстве,
совершенно не способна к действию и трусливо избегает рисковать
чем бы то пи было... Повсюду, где вооруженное столкновение при-
водило к серьезному кризису, мелких буржуа охватывал величай-
ший ужас перед создавшимся для них опасным положением: ужас
перед народом...»41. Там же, где речь шла не о всеобщих интересах,
а затрагивались уже непосредственные интересы мелкой буржуазии,
опа обнаруживала совершенно противоположную трусости черту ха-
рактера. «В июньские дни, — писал К. Маркс,-—никто с таким
фанатизмом не боролся за спасение собственности и восстановление
кредита, как парижская мелкая буржуазия...»42. Уже эти характе-
ристики показывают, почему 1\. Маркс и Ф. Энгельс не считали
возможным говорить о внеклассовом общем психическом складе
антагонистической нации.
Что касается термина «национальный характер», то он встреча-
ется в отдельных работах К. Маркса и Ф. Энгельса, но в смысле
национальных особенностей характера. Длительная совместная
жизнь в одинаковой среде вырабатывает у людей некоторые об-
щие привычки, некоторые общие черты психологии, способствует
появлению общих традиций. Все это Маркс и Энгельс считали
важными моментами и советовали учитывать их во взаимоотно-
шениях наций, например англичан и ирландцев. Однако, они не
считали возможным определять сущность нации национальным ха-
рактером и даже не рассматривали его в качестве одного из решаю-
щих признаков нации.
Общность национального характера естественно, должна вклю-
чать, например, общие чувства, между тем, как показывает Ф. Эн-
гельс, если бы ю /ко самое, что любят и уважают капиталисты, лю-
39 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. G, стр. 178.
40 К Л\ а р кс и Ф Э п г с л ь с. Соч., т. 7, стр. 86.
41 К Маркс и Ф Энгельс. Соч., т. 8, стр. 105.
42 К. М а р кс п Ф Энгель с. Соч , i. 7, стр. 36.
80
•били рабочие, они вообще уподобились бы животным. Но рабочие,
пишет Энгельс, «черпают сознание и чувство своего человеческого
достоинства только в самой пламенной ненависти, в неугасимом
внутреннем возмущении против власть имущей буржуазии»43.
К- Маркс и Ф. Энгельс отмечали, что даже природный характер
людей может изменяться под влиянием социально-классовых отно-
шений. Говоря о характере, например, английского рабочего, Эн-
гельс писал: «...природная холодность северянина уравновешива-
ется у него страстностью, которая, не встречая препятствий в своем
развитии, смогла взять над ним верх. Рассудочность, которая так
сильно содействовала развитию эгоистических задатков у англий-
ского буржуа, которая все его страсти поцчинпта себялюбию и со-
средоточила всю силу его чувств на одной только погоне за день-
гами, у рабочего отсутствует, благодаря чему страсти у него силь-
ные и неукротимые, как у иностранца. Английские национальные
черты у рабочего уничтожены»44. Здесь Энгельс, собственно, под-
черкивает то, что доказано научной психологией: общественные
условия настолько решающи в формировании характера (в том
числе и национального), что могут внести определенные измене-
ния даже в природный темперамент людей. Характеры людей раз-
ных национальностей, оказавшихся в одинаковых общественных
условиях, как бы интернационализируются. Когда же Ф. Энгельс
писал, «что именно рабочий класс является хранителем лучших
черт английского национальною характера»45, он имел в виду ха-
рактер народа, трудящихся, а не мифический «общий» характер
классов антиподов английской (и любой другой) нации.
К. Маркс и Ф. Энгельс подмечали определенные, бросающиеся
в глаза, отдельны-е особенности стиля поведения представителей
той или иной нации и даже на этом основании говорили, особенно
в своих ранних работах, об определенном национальном характере,
но существенным они считали различение национальных характе-
ров народа и оторвавшегося от него господствующего класса.
Некоторые исследователи считают, что недостаточно говорить
об общности лишь некоторых черт характера людей той или иной
нации, и приписывают Марксу п Энгельсу признание общности на-
ционального характера одним из основных признаков нации, опре-
делителем ее сущности. Так, утверждают, например, что в отноше-
нии английской нации они подчеркивали се прозаический, эмпи-
рический характер. практицизм и нелюбовь к абстрактным тео-
риям.
Чем же обосновывается столь категоричное утверждение?
Оказывается, тем, что К. Маркс, Ф. Энгельс и В. II. Ленин в раз-
ных связях давали англичанам вышеупомянутые эпитеты, кстати,
вкладывая в них разный смысл в зависимости от обсуждаемой про-
блемы. Так, К. Маркс в работе «Выборы в Англии. — Тори и виги»
43 К- Маркс и Ф. Энгель с. Соч., т 2, стр. 347—348.
44 Там же, стр. 437—438.
45 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 22, стр 319
б С. Т. Калтахчян М
замечает: «Но англичане слишком прозаический народ, чтобы счи-
тать воспоминания пригодными на что-либо иное, кроме сочинения
элегий»46. Ф. Энгельс писал: «... Карлейль многое воспринял от
немцев и довольно далек от грубой эмпирии. .»47. А В. И. Ленин,
говоря об английском пацифизме и английской нелюбви к отвле-
ченным теориям, подчеркнул: «Питая нелюбовь к абстрактным
теориям, гордясь своим практицизмом, англичане нередко прямее
ставят политические вопросы, помогая таким образом социалистам
иных стран находить реальное содержание под оболочкой всякой
(в том числе «марксистской») словесности»48.
Таким образом, имея в виду совершенно различные ситуации,
К. Маркс в определенной связи хвалит проявляемый англичанами
практицизм, Ф. Энгельс в другой связи осуждает их склонность к
эмпиризму, а В. И. Ленин в еще иной связи отмечает как положи-
тельное английскую нелюбовь к абстрактным теориям. По мысли
же некоторых авторов, употребленные основоположниками марк-
сизма-ленинизма эпитеты в отношении англичан якобы составляют
исключительный характер английской нации. Не говоря уже о не-
научности такого подхода, отметим, что даже не обращается вни-
мания на то, что перечисленные эпитеты без упоминания, в какой
связи и в каком смысле они употреблены, имеют в основном отри-
цательное звучание. Цитируют, например, из ранних работ Ф. Эн-
1ельса такие места: «У ирландцев чувства и страсть безусловно
берут верх над разумом...», «Общение между более легкомыслен-
ным, легко возбудимым, горячим ирландцем и спокойным, выдер-
жанным, рассудительным англичанином может в конечном счете
оказаться только полезным для обоих».
Произвольность, подобная вышеприведенной, ссылок на класси-
ков марксизма-ленинизма для доказательства общности нацио-
нального характера буржуа и пролетария очевидна.
Па той же странице, где Ф. Энгельс мимоходом говорит о
«легкомыслии» ирландца и «рассудительности» англичанина, семью
строчками ниже, подчеркивая тлавную свою мысль, он пишет:
«После всего сказанного нс приходится удивляться тому, что ан-
глийский рабочий класс с течением времени стат совсем другим
народом, чем английская буржуазия. Буржуазия имеет со всеми
другими нациями земли больше родственного, чем с рабочими,
живущими у нес под боком... Это два совершенно различных наро-
да, которые так же отличаются друг от друга, как если бы они
принадлежали к различным расам...»49.
Вот это главное, на что обращали свое основное внимание
К. Маркс, Ф. Энгельс и В. И. Ленин. Подмеченные же отдельные
черты, особенности поведения определенных групп людей,пусть да*
К. Маркс п Ф. Энгельс. Соч., т. 8, стр. 358.
А1 К. Маркс п Ф. Энгельс. Соч.. т. 1, стр. 585.
В II. Ленин. Поли. собр. соч., т. 26, стр. 269—270.
49 К М арке и Ф Э п г е л ь с. Соч., т. 2, стр. 356.
82
же большого числа представителей тех или иных наций, они и не по-
мышляли выдавать за характер всей нации. Когда, например,
Ф. Энгельс в своих путевых заметках «Из Парижа в Берн» писал
о «французской веселости» или «о беззаботном легкомыслии бур-
гундца», он, разумеется, вовсе не считал подобные черты, проявля-
ющиеся на поверхности явлений, определителями характера нации.
Когда же Ф. Энгельс говорил, например, что «афганцы слывут
щедрым и великодушным народом», он, во-первых, имел в виду
именно народ, а не эксплуататоров, а, во-вторых такая характери-
стика одного народа не исключает того, что и другие народы обла-
дают подобными качествами.
Господствующие же классы часто отличаются иными нацио-
нальными качествами. Мы знаем, например, что английский буржу-
азный класс включил в себя «новое дворянство», что обусловило
многие специфические черты английского буржуа — его консерва-
тизм, преклонение перед традициями, родословными и титулами,
снобизм и дух компромисса. И К- Маркс в статье «Английская бур-
жуазия» ссылался на ге характеристики, которые давали англий-
ские писатели-реалисты всем слоям английской буржуазии. «Каки-
ми изобразили их Диккенс и Теккерей, мисс Бронте и мистрис Га-
скелл? Как людей, полных самонадеянности, лицемерия, деспотиз-
ма и невежества; а цивилизованный мир подтвердил этот приговор
убийственной эпиграммой: «они раболепствуют перед теми, кто
выше их, и ведут себя как тираны по отношению к тем, кто
ниже их»50.
Можно назвать некоторые особенности буржуа и других наций.
Если сравнить черты, присущие пролетариату разных наций, то
можно выявить различия, которые определяются нс классовым по-
ложением (в этом однородные классы в основном равны), а нацио-
нальными условиями жизни. Основоположники марксизма-лени-
низма поэтому постоянно обращались к анализу интересов класса
как основы их особой психологии и характера.
В образовании любых общностей людей марксизм-ленинизм ре-
шающее место отводит общим потребностям и интересам людей.
Даже такая широкая общность, какой является государство, рано
или поздно распадается, если исчезают всякие общие интересы его
I раждзн.
«...Интерес, — вот что сцепляет друг с другом членов граждан-
ского общества. — писали К. Маркс и Ф. Энгельс в «Святом семей-
стве». — Реальной связью между ними является не политическая,
а гражданская жизнь»51.
Для образования нации и национального государства первона-
чально необходима была общность интересов так называемого
третьего сословия, в первую очередь буржуазии, поскольку основой
образования единых национальных государств являлось склалы-
50 К Мар кс и Ф Энгельс. Соч., т. 10, ci-p. 648.
61 К. Маркс н Ф Энгельс. Соч т. 2, стр. 134.
6* КЗ
вание общих капиталистических экономических связей. В этом от-
ношении показательно, например, что в то время, как абсолютизм
в ряде стран Европы, начиная с XV века, опираясь на общие инте-
ресы растущего бюргерства, укреплял единое национальное госу-
дарство, в Германии создание единого государства тормозилось раз-
дробленностью интересов немецких бюргеров. «Буржуазия малень-
кой Голландии,—-писали К. Маркс и Ф. Энгельс, —с ее развитыми
классовыми интересами, была могущественнее, чем гораздо более
многочисленные немецкие бюргеры с характерным для них отсут-
ствием общих интересов и с их раздробленными мелочными инте-
ресами. Раздробленности интересов соответствовала и раздроблен-
ность политической организации — мелкие княжества и вольные
имперские города. Откуда могла взяться политическая концентра-
ция в стране, в которой отсутствовали все экономические условия
этой концентрации?»52.
Общие интересы, прежде всего экономические, играют важней-
шую роль в формировании общественной психологии. «Над различ-
ными формами собственности, над социальными условиями сущест-
вования возвышается целая надстройка различных и своеобразных
чувств, иллюзий, образов мысли и мировоззрений. Весь класс тво-
рит и формирует все это на почве своих материальных условий и
соответственных общественных отношений»53.
Разумеется, это подчеркивание конечной основы-причины не
исключает относительной самостоятельности надстроечных явле-
ний. Однако было бы недопустимо впадать в другую крайность
и пытаться искать объяснения, например, явлений общественной
психологии в самой психологии, не раскрывая их п-ервопричины на
том основании, что формула «общественное бытие определяет обще-
ственное сознание» — уже давно усвоенная истина.
Конечно, плохо, когда дело не идет дальше повторения азбуч-
ных истин, но, как выразились К. Маркс и Ф. Энгельс в «Немецкой
идеологии», «если стула не дано, на чем же сядет рыцарь». Ведь
только реальные интересы объяснят, где и почему имеется общ-
ность психического склада, где и почему ее нет и быть не может.
Именно эта почва позволяет не забывать о тех общественных от-
ношениях, которые являются конечными причинами поведения
личности, ее чувств и взглядов. Это тем более следует не забывать,
что «отдельный индивид, которому эти чувства и взгляды переда-
ются по традиции и в результате воспитания, может вообразить, что
они-то и образуют действительные мотивы и исходную точку его
деятельности» 54.
Изучению психических процессов изменений чувств, настроений
различных классов в зависимости от условий их жизни особенно
’большое внимание уделял В. И. Ленин.
52 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, стр. I83.
53 К. ЛА а р к с и Ф. Э п г с л ь с. Соч., т. 8, стр. 145.
54 Там же
84
В 1905 году в статье «Новые задачи и новые силы», анализируя
переход массового рабочего движения в России от пропагандист-
ских кружков к широкой экономической агитации в массах, за-
тем — к политической агитации и к открытым уличным демонстра-
циям, наконец —к вооруженному восстанию, В. II. Ленин писал:
«Каждый из этих переходов подготовлялся, с одной стороны, рабо-
той социалистической мысли в одном преимущественно направле-
нии, с другой стороны, глубокими изменениями в условиях жизни
и во всем психическом укладе рабочего класса, пробуждением но-
вых и новых слоев его к более сознательной и активной борьбе»55.
В отношении класса В. II. Ленин считает не только возможным,
но и необходимым говорить о психическом укладе, о его ботылом
значении для рабочего движения. Он говорит также о важности то-
го, что у рабочих есть «замечательный пролетарский инстинкт»
(разумеется, не природный, а тоже социальный, продиктованный
их опытом жизни и борьбы). Громадное значение придавал
В. И. Ленин знанию настроений масс. Он сам собирал, тщательно
анализировал все факты, показывающие психологическую настроен-
ность масс, и требовал от марксистов «всеми силами собирать, про-
верять и изучать эти объективные данные, касающиеся поведения
л настроения не отдельных лиц и групп, а лшгс...»56. В. II Ленин
считал, что революционер, который нарушает это требование, ска-
тывается на позиции субъективизма и волюнтаризма. Как массы
реагируют на программу и деятельность той или иной партии, при-
ближаются и поддерживают ее или удаляются от нее — все это
необходимо знать, чтобы проверить правильность или неправиль-
ность линии партии.
Это. конечно, не означает, что партия занимала хвостистскую
позицию. Наоборот, она активно формировала настроение и пове-
дение масс, но именно для этого она гнимательно изучала и следи-
ла за всеми изменениями их психологии. «В уверенности, что мы
на верном пути, — писал Ленин, —мы должны почерпнуть энергию
для еще более усиленной работы»57.
Что же касается мелкобуржуазных партий, всяких поклонников
теории «героев и толпы», то они по существу игнорировали общест-
венную психологию классов и действовали с позиций субъктивпзма
и волюнтаризма. Незнание или сознательное забвение потребно-
стей, подлинных интересов трудящихся, а, следовательно, также их
психологии приводило эти партии к тому, что они навязывали ра-
бочему движению свои субъективистские теории. По этому поводу
В. И. Ленин писал: «Один из главных, если нс главный, недостаток
'или преступление против рабочего класса), как народников и лик-
видаторов, так и разных интеллигентских группок «впередовпев»,
плехановцев, троцкистов, есть их субъективизм. Свои жета-
55 В. И. Ле н и п. Поли. собр. соч., т. 9. стр. 294.
56 В. И. Лени н Поли. собр. соч., т. 25, стр 245.
57 Там же, стр. 250.
Ь5
ния, свои «мнения», свои оценки, свои «виды» они выдают на каж-
дом тагу за волю рабочих, за потребности рабочего движения»58.
В 1966 году вышла интересная книга советского историка
Б. Ф. Пошинева «Социальная психология и история», первая глава
которой под названием «Ленинская наука революции и социальная
психология» целиком посвящена подробному обзору ленинского
отношения к общественной психологии. Мы с тем большим удо-
вольствием отсылаем читателя к последней работе, что выводы
автора и наши полностью совпадают. Б. Ф. Поршнев (совместно
е И. М. Лукомской), исследовав ленинские мысли о настроениях,
психических сдвигах и состояниях различных слоев общества в
период трех русских революций и в послеоктябрьский период, отме-
чает, что В. И. Ленин, пристально следивший за малейшими сдви-
гами общественной психологии, прекрасно и глубоко знал психоло-
гию различных социальных классов, слоев и прослоек, но что «на
всем протяжении его сочинений мы ничего или почти ничего не
находим о вещах, занимающих «этническую психологию»: об отли-
чительных чертах национального характера или психического скла-
да тех или иных народов пли наций Редко-редко бросит он мимо-
ходом слово о способности русского народа к самопожертвованию
или о склонности немцев к теоретическому мышлению. Но в общем
этот круг вопросов чужд мысли Ленина»59. Отметим, что сказанное
полностью может быль отнесено также и к К- Марксу и Ф. Эн-
гельсу 60
С этим обьективным выводом некоторые авторы не хотят согла-
ситься. Так, В. Н. Филатов утверждает, что «В. И. Ленину не был
чужд этот круг вопросов (этнопсихологии.--С./С.). В статье
«Положение Бунда в партии», — пишет он,— имеются указания
В. II. Ленина на то, что марксисты под национальными особенно-
стями понимают особенности языка, условий быта, культуры и пси-
хологии» 61.
Это произвольное истолкование ленинской мысли. В. И. Ленин
национальные особенности пе сводил лишь к упомянутым факто-
5 В И. Л е и п н Поли собр. соч.. т. 25, стр 245.
59 Б. Ф. Поршнев. Социальная психология и история. М., «Наука», 1966,
стр 70
60 М И. Куличенко выразил несогласие с данной трактовкой Б. Ф. Поршпева
п недоумение по поводу ее поддержки мною (Указ, соч., стр. 51—56). Однако
из уже сказанного об отношении Маркса. Энгельса и Лепина к общественной
психологии и из дальнейших разъяснений (см. настоящую монографию,
глава III), думается, должно быть ясно, что классики, придавая большое
значение учету национальных особенностей, не превращали их в особую
национальную, «этническую психологию». Как правильно отмечает Э. А. Баг-
рамов, «этнопсихологи отрицают психическое единство человечества, заявляя,
что, поскольку психика есть продукт культуры, то моделей, структур человс-
•ескпх сознаний столько же, сколько и культур» (Э. А. Б а г р а м о в. Нацио-
нальный вопрос н буржуазная идеология М., «Мысль», 1966, стр. 81).
61 См. В. Н Филатов Интернационализм, патриотизм и сознание этнической
принадлежности. В сб.: «Теоретические вопросы социалистического интерна-
ционализма», вып. 1. М„ «Знание», 1968, стр. 160—161.
83
рам. а в данном случае не употреблял и не мог употребить выра-
жение «национальные особенности», поскольку упомянутая его ста-
тья была направлена против бундовской концепции о том, что
«еврейский пролетариат есть пролетариат целой национальности,
занимающей особенное положение»62.
Мысль В. И. Ленина заключалась в том, что поскольку нет еди-
ной еврейской нации, то работа среди еврейских рабочих должна
ьестить с учетом их особых условий в каждой стране. В. И. Ленин
писал: «Почему вопросы о специальных способах агитации среди
еврейских рабочих могут быть названы техническими? При чем тут
техника, когда речь идет об особенностях языка, психологии, усло-
вий быта?»63. Ясно, что из постановки вопроса о необходимости
учета психологии еврейских рабочих для организации среди них
коммунистической агитации никак не вытекает общность еврейской
национальной психологии.
Далее, нередко ссылаются на то, что В И. Ленин в письме
С. Г Шаумяну подчеркивал роль «той психологии, которая особен-
но важна в национальном вопросе...»64, а в записке «К вопросу о
национальностях пли об «автономизации» употребил термин «на-
циональная психология»65. Все это так. Но, подчеркивая важность
«той психологии...», Ленин имеет в виду не особую национальную
психологию, а национальные особенности психологии. В данных
случаях речь вообще идет о трудящихся. Когда В. И. Ленин в упо-
мянутом письме выступал против мнения о целесообразности изу-
чения русского языка в качестве обязательного государственного
и в связи с этим говорил о важности учета психологии в нацио-
нальном вопросе, он предостерегал от неблагоприятной психологи-
ческой реакции на русский язык со стороны угнетенных царизмом
народов (а нс космополитической буржуазии). Тем более употреб-
ленный В. II. Лениным после социалистической революции термин
«национальная психология» относился к психологии народных масс
различных национальностей 66
В. II. Ленин настаивал на принятии мер защиты угнетенных ца-
ризмом народов от рецидивов великодержавного национализма,
требовав не задевать даже в шутку ранимые чувства «обиженных»
националов, считая, что «нужно возместить так или иначе своим
обращением или своими уступками по отношению к инородцу то
недоверие, ту подозрительность, те обиды, которые в историческом
прошлом нанесены ему правительством «вглпкочержавноп» на-
62 В И. Л е и и н. Полн. собр. соч., т. 8, стр. 66.
63 Там же. стр. 67—68
В. И. Л е п п н. Поли. собр. соч., т. 48, стр. 234.
'6S В. II Ленин. Поли, собр соч., т. 45, стр. 357.
*6 Кстати, небезынтересно, что В. И Ленин, приводя слова других о «нацио-
нальной психологии», не одобрял как раз изоляцию ведения вопросов, касаю-
щихся национальной психологии в просвещения (см. В. И. Ленни. Полн.
собр. соч., т. 45, стр. 357).
87
г,ни»67. Ясно, что всем этим он проявлял заботу не о буржуазии
нерусских национальнойстей, а о трудящихся.
Только осознав методологическое значение ленинского противо-
поставления «историко-экономической и психологической теории
в национальном вопросе»68, можно понять и оценить громадное
значение систематической и последовательной борьбы Ленина и
ленинской партии, с одной стороны, против национального нигилиз-
ма, а с другой — против националистического превращения нацио-
нальных особенностей в особую национальную психологию (или
психический склад), якобы определяющую характер развития на-
ций и их отношений.
Ленинская критика психологических концепций была сущест-
венной стороной его историко-экономической теории нации. Осо-
бенно важное значение для разработки этой теории имела критика
Лениным бауэровской психологической концепции нации, ставшей
теоретической основой пресловутой «культурно-национальной»
автономии и по своей сути первым обоснованием теории «нацио-
нал-коммунизма», поскольку согласно концепции О. Бауэра о «на-
циональной апперцепции» возможно столько «марксизмов» и
«социализмов», сколько существует наций. В «Тезисах реферата
национальному вопросу» Ленин разюмирует бауэровскую теорию
следующим образом:
«(а) идеалистическая теория нации
(Г) лозунг национальной культуры (-буржуазный)
(у) национализм очищенный, утонченный, абсолютный, вплоть
до социализма
(б) полное забвение интернационализма»69.
Последовательно критикуя эту идеалистическую теорию, отвер-
гая общности психического склада и культуры враждебных клас-
сов одной и той же нации, В. И. Ленин вместе с тем признавал
важность изучения и учета национальных особенностей психологии
пролетариата, народных масс.
Прекрасный знаток классовой психологии различных наций,
особенно живущих в России, В. II. Ленин относился иронически к
тем людям, которые воображали, что они знают некую общую пси-
хологию какой-либо антагонистической нации. Весьма характерен
в этом отношении ответ В. II. Ленина итальянскому социалисту
К. Лаццарп. Выступая на III конгрессе Коминтерна по итальянско-
му вопросу, В. И. Ленин заметил: «Лаццари сказал: «Мы знаем
психологию итальянского народа». Я лично не решился бы этого
утверждать о русском народе...»70. Раскрытие глубокого содержа-
67 В II. Ле и и п. Поли, собр соч , т. 45, стр. 359
Для большей точности необходимо отметить, что и здесь В. II. Ленин
употребил термин «национальная психология-» не от себя, а сослался на своих
оппонентов.
68 В И. Л си п п. Поли, собр соч., т. 25, стр. 261
69 В. И. Ле п н и. Поли. собр. соч., т. 24, стр. 387.
70 В II Л е п и и. Поли. собр. соч., т. 44, стр. 17.
88
ния этих слов В. И. Ленина мы каходим в его концепции о «двух
нациях в каждой нации, двух национальных культурах в каждой
национальной культуре», в его требовании анализировать сущ-
ность нации, ее культуры с точки зрения ее классового состава.
Некоторые товарищи склонны рассматривать это положение
чуть ли не в качестве простого образного выражения, однако это
далеко не так. Выражение-то, конечно, образное, но за ним скрыва-
ется очень важный глубокий смысл. Недаром указанную мысль
В. II. Ленин высказывал неоднократно, она отражает его взгляды 71
(а также Маркса и Энгельса) на понимание сущности нации капи-
талистического общества. Она, как будет показано далее, имеет
огромное значение для выработки правильной политики, стратегии
и тактики в решении как национальных, так и классово-социаль-
ных задач.
В связи с этим следует отметить, что употребление термина
«буржуазная нация» для характеристики облика всей нации меша-
ет правильному пониманию сущности нации. В произведениях ос-
новоположников марксизма-ленинизма этот термин употребляется
не для характеристики всего облика нации, а имеет определенный
конкретно-исторический смысл. Термин «капиталистическая нация»
В. II. Ленин употреблял, например, в том смысле, что создание
национальных связей было не чем иным, как созданием связей
буржуазных, что «нации неизбежный продукт и неизбежная фор-
ма буржуазной эпохи общественного развития»72. Иначе говоря,
указывал на роль класса, исторически ставшего носителем того
способа производства, который лежит в основе капиталистической
организации и развитии нации. Одяако Ленин не считал, что этим
исчерпывается сущность данного типа нации, тем более, что в оп-
ределенные периоды истории буржуазия даже при капитализме
теряет ведущую роль в развитии нации. В этих положениях
В. И. Ленин подчеркивает условия формирования нации. Указывая
на создание «буржуазных связей», он отмечает &акт вовлечения
всей нации, в том числе и трудящихся, в капиталистические произ-
водственные отношения. Иногда Ф. Энгельс и В. И. Ленин под тер-
мином «буржуазная нация» подразумевали попытки буржуазии
обуржуазивать всю нацию, в том числе пролетариат73. В И Ленин
употреблял даже термин «империалистические нации», имея в ви-
71 См. В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 24, стр. 118—123, 129—135, 221, 225;
т. 25, стр. 144—146.
72 В. И Лени н. Поли. собр. соч., т 26, стр. 75.
7д Ф Энгельс, например, в 1858 году писал К- Марксу из АУанчсстера-. « ..англий-
ский пролетариат фактически все более и более обуржуазивается, так что эта
самая буржуазная из всех наций хочет, по-видимому, довести дело в конце
концов до того, чтобы иметь буржуазную аристократию и буржуазный про-
летариат рядом с буржуазией» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 29,
стр. 293). По желание буржуазии не могло быть осуществлено, и Ф. Энгельс
в 1892 году в предисловии ко второму изданию «Положения рабочего класса
в Англии» повторяет и даже еще больше подчеркивает мысли о делении
английской нации на две ватт.
8»
ду «великие» империалистические державы, угнетающие чужие
нании и вовлекающие в это дело оппортунистов, социал-шовини-
стов. Но во всех этих случаях ни у Ф. Энгельса, ни у В. И. Ленина
нет и намека на общность интересов и духовного облика буржуа-
зии и пролетариата. Сказать же, что буржуазная нация — это на-
ция, характеризуемая стремлением к захвату чужих национальных
территорий, склонностью к единому фронту с империализмом, про-
являющая недоверие и ненависть к другим народам, — значило бы
приписывать идейный и социально-политический облик господст-
вующего капиталистического класса всей нации
Нельзя дать единую характеристику облика современной на-
ции, состоящей из антагонистических классов, на том основании,
что господствующими идеями в обществе являются идеи господст-
вующего класса. К- Маркс и Ф. Энгельс верно отмечали в «Немец-
кой идеологии», что господствующие классы регулируют не только
материальное производство, но и производство и распределение
•мыслей своего времени74. Но с возрастанием роли рабочего класса
в жизни наций современных развитых капиталистических стран
вообще неправильно говорить о безраздельном руководстве этих
наций со стороны буржуазии 75. Обостренный антагонизм в мате-
риальной основе капитализма усилил антагонизм также в общест-
венном сознании, и духовная история капиталистического общества
движется в противоположностях между идеологией п психологией
буржуазии и идеологией и психологией пролетариата. В духовной
жизни наций усилилась роль демократической и социалистической
культуры. Все более наглядно выступает противоборство двух
культур, двух идеологий, а в периоды революционных кризисов
господствующими идеями становятся ранее подчиненные идеи.
В современную эпоху даже наши идейные противники признают,
что буржуазной идеологии все сильнее и сильнее противостоит
социалистическая идеология.
Конечно, нация исторически формировалась на основе капита-
листических производственных отношений. Был период, когда бур-
жуазия выступала в борьбе с феодализмом, от имени всего народа
и в известном смысле выражала интересы народа, третьего сосло-
вия76. Тогда понятие «нация» выступало вообще как символ
свободы.
74 См. К. Маркс п Ф. Энгельс. Соч , т. 3, стр. 46.
75 Хороший материал н аргументы, показывающие, что в нациях современного
капитализма «субъектом нации», выразителем ее сущности подлинных пелен,
интересов становится рабочий класс, а не буржуазия», приведены в упомяну-
той книге М. И. Куличепко (стр 67—70). Однако этому материалу, на наш
взгляд, пе совсем соответствует употребляемый автором термин «капиталисти-
ческая нация», хотя и он несколько точнее, чем термин «буржуазная нация».
70 «Нельзя быть марксистом, пе питая глубочайшего уважения к великим бур-
жуазным революционерам, которые имели всемирно-историческое право гово-
рить от имени буржуазных «отечеств», поднимавших десятки миллионов новых
наций к цивилизованной жизни в борьбе с феодализмом» (В. II Л е и и и.
Поли. собр. соч., т. 26, стр. 226)
9Э
Но в дальнейшем происходит все большая дифференциация
классовых интересов, и характеристики нации не могут быть одни-
ми и теми же на всех этапах ее развития даже в пределах одного
и того же способа производства. Так, современная империалисти-
ческая буржуазия не только не выражает интересов нации, но и
попросту является антинациональной силой. Не случайно поэтому,
что коммунисты развитых капиталистических стран не включают
буржуазию в понятие наций. «По мнению французских коммуни-
стов,— пишет Жорж Коньо, — нация представляет собой широкою
совокупность социальных слоев, страдающих от политики монопо-
лии, слоев, которые могут и должны объединиться вокруг рабочего
класса составляющего костяк нации. Это — крестьяне и ремеслен-
ники, служащие и инженеры, учителя, научные работники и даже
владельцы мелких независимых предприятий»77.
Наконец, ряд наций формируется в наше время некапиталисти-
ческим путем. Прогрессивные силы и в первую очередь рабочий
класс все больше накладывают свой отпечаток на облик нации,
и невозмежно многообразие проявлений жизни наций капитали-
стического общества объяснить одной буржуазностью, считать об-
лик всех классов буржуазным.
Понятие «буржуазная нация», употребляемое для характеристи-
ки сущности нации, не помогает борьбе против попыток империа-
листов обуржуазивать пролетариат, «интегрировать» его в систему
капитализма. Чтобы правильно определить типы нации, необходи-
мо исходить из социально-политического анализа классов, состав-
ляющих ту ши иную нацию. Когда мы говорим «буржуазное госу-
дарство» пли «буржуазное общество», мы выражаем точные поня-
тия, когда же говорим «буржуазная нация», то оставляем много
неясностей и даем повод для различного рода спекуляций. Если
под термином «буржуазная нация» имеется в виду нация буржуаз-
ного общества, это будет верно, и мы получим возможность изуче-
ния «двух наций», если же «буржуазная нация» понимается как
буржуазность всей нации, то это, очевидно, неверно78.
Концепция о существовании «буржуазных и пролетарских на-
ций» направлена против солидарности трудящихся разных наций,
против пролетарского интернационализма. Нельзя не заметить и
то, что «левые» ревизионисты, уповающие на экспорт революции,
трактуют «буржуазную нацию» как нацию сплошь реакционную.
Поучительно в этой связи вспомнить борьбу нашей партии
г. 20-х годах против националистической теории так называемого
«азиатского ренессанса». В этой теории утверждалось, что евро-
77 Ж. Коньо. Интернационализм и национальные задачи коммунистических
партий. «Проблемы мира и социализма», 1968, № 6, стр. 9.
78 Некоторые авторы думают иначе, например М. Н. Росенко. Отождествляя
понятие «нация» с понятием «государство», «социальный строй», опа утверж-
дает. что термин «буржуазные папин» верен так же, как термин «буржуаз-
ное общество» или «капиталистический строй» ('•'Вопросы истории», 1968,
№ 7, стр. 88—89).
91
пейскпй пролетариат обуржуазился, его психология извращена бур-
жуазной экономикой и культурой, он исчерпал свою творческую
энергию и не в состоянии совершить пролетарскую революцию без
помощи «восточных конквистадоров».
Антинаучная и реакционная теория «азиатского ренессанса»
давно была опровергнута и осуждена специальными решениями
нашей партии, а также Исполкома Коминтерна как воинствующий
национализм, смыкающийся с троцкизмом и фашизмом.
В наше время некоторыми экономистами и политическими
деятелями как капиталистически развитых, так и экономически
отсталых стран настойчиво пропагандируется идея неизбежности
конфликтов между «нациями буржуа» и «нациями пролетариев».
При этом в странах развитого капитализма трудящимся внушается
мысль, что они по сравнению с населением отставших стран «тоже
буржуа» и опасность им грозит, мол, со стороны «бедных наций»,
а не от своих капиталистов. Господствующие же классы развиваю-
щихся стран призывают к национальной солидарности своих тру-
дящихся против «богатых наций», изображая последних в каче-
стве единственных эксплуататоров-капиталистов79. С обеих сторон
эта концепция воинствующего национализма направлена против
солидарности трудящихся разных наций, против пролетарского
интернационализма.
Особенно усердствуют в этом отношении маоистские горе-рево-
люционеры. Они трактуют «буржуазную нацию» как нацию сплошь
реакционную и «доказывают», что для «зачумленного» европейского
пролетариата нет иного выхода, как преподнести ему революцию
извне. При этом к «буржуазным нациям» они причисляют также
нации СССР и других европейских социалистических стран. Не де-
ло марксистов-ленипцев помогать буржуа и их подпевалам смазы-
вать поляризацию характера и культуры наций капиталистическо-
го общества, приписывая им в целом идейный и социально-поли-
тический багаж буржуазии, если даже опа еще является коман-
дующей силой нации.
Теоретически несостоятельны и практически реакционны по-
пытки отбросить классовые критерии развития общества и делить
все нации на «пролетарские, революционные» и «буржуазные,
реакционные». Нельзя не заметить, что расширительное толкова-
ние понятия «буржуазная нация» как характеристики духовного
облика всей нации не помогает в борьбе с антинаучными и реак-
ционными концепциями. Оно мешает правильному пониманию ха-
рактера общности людей, составляющих нацию в антагонистиче-
ском обществе, затрудняет выяснение соотношения национальных
и классовых общностей, понимание специфики социалистических
наций. Термин «буржуазная нация» целесообразно употреблять
лишь в тех случаях, когда по контексту ясно, что речь идет о ге-
79 Об этом подробнее см. Э. Ар а б-оглы. Миф о «нациях-буржуа» и «нациях-
пролетариях». «2Мпровая экономика и международные отношения», 1966, № 6.
92
незисе нации, о ее связи с капиталистическими производственными
отношениями. Марксистско-ленинское понятие нации потому и
является научным, что вырастает из конкретно-исторического клас-
сового анализа реальных наций, отражает диалектику единич-
ного, особенного и общего в этой исторической форме общности
людей.
Определенные исторические факторы обусловливают форми-
рование, существование и развитие всякой нации как определен-
ного общественного явления в отличие от других общественных яв-
лений. Эти факторы являются общими для всех наций. Когда же
мы сравниваем одну нацию с другой и устанавливаем различия
между ними, тогда признаки, представляющие общее для всех на-
ций в отношении каждого из них, проявляют свою особенную сто-
рону, выступают как особенное. Л1ы говорим о национальных осо-
бенностях территории, языка, а также экономики и выросших на
их базе особенностях культуры и национального самосознания.
То, что некоторые авторы в признаках нации желают видеть
одновременно и общее для всех наций, и особенности, отличаю-
щие одну нацию от другой, объясняется неопределенностью смыс-
лового употребления общего. Ведь общее может выступать также
в роли особенного, и из простого факта употребления общего по-
нятия еще не ясно, какая часть содержания общего имеется в дан-
ном случае в виду: конкретно-общее пли особенное. Конкретно-
общее понятие «нация» не может характеризовать каждую отдель-
ную нацию в отличие от других наций. Оно включает лишь общее
для всех наций, отличая всех их как определенное общественное
явление от других классово-общественных явлений. Когда мы при-
меняем общее определение наций к той или иной нации, этим мы
подчеркиваем не индивидуальные ее особенности, а то общее, что
имеется у данной нации с другими нациями. Когда же мы интере-
суемся этническими особенностями различных наций, тогда их об-
щие признаки выступают как особенные для каждой нации. Они
тогда характеризуют одну нацию в отличие от другой, иначе гово-
ря, характеризуют национальность нации.
Ясно поэтому, что во избежание путаницы важно видеть, в ка-
ком смысле употребляется понятие «нация», что находится в цент-
ре внимания: конкретно-общее или особенное.
Каждая отдельно взятая нация единична и как таковая имеет
свои особые черты, которые, однако, далеко не исчерпывают ее
содержание. Поэтому нация не может быть рассмотрена как нечто
единичное, совершенно неповторимое. Она (как и любой предмет,
явление) представляет собой единство единичного и общего. Чле-
ны каждой нации представляют собой единство индивидуальных и
общих черт. Нация же воплощает общие черты своих представи-
телей, а не сумму их особенностей.
Общие черты той или иной нации в свою очередь являются в
отношении всего человечества единством особенного (в данной на-
ции) и общего (всем нациям). Поэтому задача заключается в том,
93
чтобы разобраться в характере, удельном весе и значимости тех
или иных общих черт.
В. И. Ленин приводит гегелевское понимание всеобщего как
такового, «которое воплощает в себе богатство особенного, инди-
видуального, отдельного» называет это прекрасной формулой и
добавляет: «(все богатство особого и отдельного!)!! Tres bien!»
(очень хорошо! — Fed.)80. Если «всякое общее лишь приблизи-
тельно охватывает все отдельные предметы», «всякое отдельное
неполно входит в общее» 81, то ясно, что под «всем богатством» по-
нимается все общезначимое, выделение которого из отдельного и
особенного и дает понятие общего. В данном случае общее понятие
нации делает все нации как определенное общественное явление
одинаковыми, равноценными, выделяя из них то общее, что свой-
ственно им всем.
Понятие нации получается в результате раскрытия общих черт,
факторов, обусловливающих формирование и развитие любой
нации.
С другой стороны, исторический опыт каждой нации также
есть аккумуляция общего и особенного. Поэтому при использова-
нии опыта той пли иной страны берут то, что основывается па об-
щем и соответствует новым данным условиям. Можно видеть, на-
пример, что процессы консолидации наций в Азии, Африке и Ла-
тинской Америке имеют свои отличительные особенности, но что те
или иные национальные особенности, ранее считавшиеся непов-
торимыми, стали или становятся повторяющимися, общими и т. д.
Знание этих закономерностей в социалистическом обществе позво-
ляет к тому же научно управлять процессами национального раз-
вития, создавать, например, оптимальные условия для взапмообо-
гащепия наций, иначе говоря, для превращения имеющихся цен-
ных особенностей отдельных наций в общее достояние.
Марксисты-ленинцы борются как против игнорирования нацио-
нальных особенностей, так и против абсолютизации особенного и
игнорирования общего.
3.
ВОПРОС О „ПСИХИЧЕСКОМ СКЛАДЕ НАЦИИ*
В СВЕТЕ ЛЕНИНСКОЙ ТЕОРИИ ОТРАЖЕНИЯ
И ДАННЫХ НАУЧНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Марксистские исследователи природы нации и национальных
отношений всегда разоблачали «теории» имманентности каждой
нации особой психологии. Но некоторые авторы, правильно объяс-
няя формирование психологии историческими условиями не всегда
четко подчеркивали расхождение условий жизни, а следовательно,,
и психологий антагонистических классов одной и той же нации.
80 В. II. Леи п н Поли собр. соч., т. 29, сгр. 90.
81 Там /кс, стр. 318.
94
С удовлетворением можно отметить, что за последние годы все
больше ученых-специалистов обращают внимание на то, что оши-
бочно приписывать нациям общность «психического склада» в ка-
честве одного из основных их признаков 82.
Длительная совместная жизнь в одинаковой среде выраба-
тывает у людей некоторые общие черты психологии, способствует
появлению общих привычек, традиций. Все это Маркс, Энгельс и
Ленин считали важными моментами, учет которых необходим для
научного управления социальными процессами, для налаживания
дружественных отношений между различными национальностями
и их интернационального сплочения.
Особенно тщательно изучал процесы изменения чувств, наст-
роений различных классов в зависимости от условий их жизни
В. И. Ленин. Он постоянно напоминал о необходимости «понять
особенности, своеобразные черты психологии» 83 людей, каждый из
которых в специальных вопросах выступает «как представитель
известной профессии, как член известной нации, как житель из-
вестной местности...» 84.
Необходимо отметить, однако, что В. И. Ленин, настойчиво
подчеркивая большое значение понимания и учета в политике на-
циональных особенностей психологии, никогда не считал, что они
составляют особый психический склад нации85.
Употребляемые в обыденной речи выражения «национальная
психология», «профессиональная психология», «возрастная психо-
логия» и т. д. вовсе не означают, что у людей на самом деле
имеются несколько, порознь существующих психологий. У человека
единая психология, определяемая всей совокупностью его общест-
венных отношений. Благодаря тому, что одной из форм обществен-
ных отношений являются национальные, психология человека при-
обретает национальное своеобразие, что отнюдь не выделяется в
особую внеклассовую психологию. Это особенно очевидно в
отношении наций, состоящих из враждебных классов.
В конечном счете общими в психологии людей одной и той же
нации являются национальные особенности этой психологии: общие
национальные черты людей выражаются в своеобразном колорите
восприятия и отражения мира, а не в том, будто каждая нация
совершенно индивидуально и неповторимо восприпимаает и отра-
жает содержание этого мира.
Рассмотрим вопрос о национальной психологии в свете ленин-
ской теории отражения и данных психологической науки.
Существует объективный мир. Он является единственным ис-
точником всех ощущений, восприятий, представлений и мышления
82 Можно сказать па работы ряда философов, психологов, историков и этно-
графов: Ю П. Аверкиевой. М Д. Каммарп. В. И. Козлова, Б. Ф Поршпева,
П. М. Рогачева, Л. А Сатыбалова. М А Свердлина, С. А. Токарева в других.
83 В. И. Лепи н. Поли. собр. соч., т. 41, стр 192.
w В И. Л е н и п Поля. собр. соч., т. 8. стр 70.
6 См В. И Ленив. Поли собр. соч., т. 44, стр. 17.
95
людей. Одинаковы биологические и психологические предпосылки
человека для отражения объективного мира. У всех людей незави-
симо от их принадлежности к расовой и социальной группе
имеется одинаковая нервная система. Человек любой расы и на-
циональности имеет одинаковые с другими людьми периферические
аппараты, служащие трансформаторами внешней энергии в нерв-
ный процесс, и одинаковые корковые и подкорковые образования
головного мозга, которые в единстве с периферическими рецепто-
рами составляют механизм анализа и синтеза внешних и внутрен-
них раздражений и отражают внешний мир в форме ощущений,
восприятий представлений, мышлений.
Из сказанного, однако, не вытекает, что все люди совершенно
одинаково отражают явления объективного мира. Каждый чело-
век вносит в это отражение нечто своеобразное (субъективное),
которое объясняется особенностями общественно-исторических ус-
ловий развития его психики. Формула В. И. Ленина: «Ощущение
есть субъективный образ объективного мира...»86 подчеркивает, с
одной стороны, объективное существование того, что отображается,
а с другой — то, что отображение не тождественно с отображае-
мым, а существует диалектическое единство объекта и его образа,
обусловленное самим предметом, явлением и субъективными сто-
ронами, привнесенными субъектом познания.
Вскрывая несостоятельность как отрыва образа объекта от
самого объекта, так и отождествления образа с объектом,.
В. II. Ленин предупреждает, что субъективность ощущений нельзя
понимать в смысле произвольности, субъективизма отражения объ-
ективного мира. Под субъективностью ощущений понимается их
принадлежность к определенному субъекту. «Иных чувств,— писал
В. И. Ленин,— как человеческих, т. е. «субъективных»,— ибо мы
рассуждаем с точки зрения человека, а не лешего,— не бывает»87.
Чем же тогда объясняются различные оттенки психологическо-
го восприятия объективного мира? В первой главе уже говорилось
о несостоятельности идеи субстанциональности психики, представ-
лений о различных «способностях души». В наши дни предприни-
маются попытки обосновывать их паукообразно. Психологи-идеа-
листы стали расчленять психические процессы на отдельные спе-
циальные «свойства» и «способности», которые рассматриваются
как функции отдельных участков коры головного мозга. Они ут-
верждают, что якобы существуют даже такие локальные центры,
как «общительность», «смелость», «честолюбие», «любовь к родите-
лям» и «волевого действия» и т. д. Даже явно социального пропс- •
хождения сложнейшие психические образования вроде «религиоз-
ного я» пли «личного или общественного я» стали локализовать в
коре головного мозга. Опираясь на эти якобы научные данные,
™ В II. Лепин Поли. собр. соч., т. 18, стр. 120.
87 Там же, стр. 113.
96
расистам и националистам было нетрудно наделять народы раз-
личными психическими «свойствами» и «способностями».
Надо заметить, что и антилокализационалисты считают «свой-
ства» и «способности» психики порождением мозга, с той разни-
цей, что в то время как локализационалисты считают «свойства»
психики функцией отдельных, строго ограниченных участков мозга,
антилокализационалисты рассматривают эти «свойства» как функ-
цию широких участков мозга. Таким образом, основной грех и ло-
кализационалистов и антплокализационалпстов заключается в том,
что и те и другие психические функции понимают как секрецию
какою-либо органа, ткани головного мозга. Мозг (ограниченными
или широкими участками) как бы высвобождает содержащиеся в
нем «свойства» психики. Такое понимание функции мозга по суще-
ству является родом физиологического идеализма.
Как известно, родоначальник физиологического идеализма не-
мецкий естествоиспытатель II. Мюллер, игнорируя эволюционное
приспособление органов чувств к внешнему миру, отражение дей-
ствительности объяснял кантиански. Он сформулировал так назы-
ваемый закон специфической энергии органов чувств, согласно ко-
торому световые, звуковые, тактильные и иные ощущения, возни-
кающие у человека, суть результат проявления внутренних свойств
(«специфических энергий») органов чувств. Сетчатке глаза, напри-
мер, якобы присущи априорные пространственные схемы, в кото-
рые он укладывает определенные ощущения. Иначе говоря, струк-
тура органов чувств объясняется не природой раздражителя, а,
наоборот, свет, звук и другие раздражители рассматриваются как
создание, секреция специфической энергии органов чувств. В про-
тивовес этому материалистическое объяснение роли органов чувств
заключается в том, что последние имеют не «специфическую энер-
гию», а специфические функции, порожденные природой раздражи-
теля. В длительном эволюционном развитии организма органы
чувств под воздействием внешнего мира все более дифференциро-
ванно и тоньше стали воспринимать и отражать различные раздра-
жители.
К. Маркс писал: «Лишь благодаря предметно развернутому
богатству человеческого существа развивается, а частью и впер-
вые порождается, богатство субъективной человеческой чувственно-
сти: музыкальное ухо, чувствующий красоту формы глаз,— короче
говоря, такие чувства, которые способны к человеческим нас-
лаждениям и которые утверждают себя как человеческие сущно-
стные силы. Ибо не только пять внешних чувств, но и так называе-
мые духовные чувства, практические чувства (воля, любовь и
т. д.),--одним словом, человеческое чувство, человечность
чхветв, — возникают лишь благодаря наличию соответствующего
предмета, благодаря очеловеченной природе»88.
68 К. Маркс п Ф. Энгельс. Из ранних произведений М., Госполитнздат
1956, стр. 593—591
7
97
С Т. Калтахчян
Последующее развитие науки блестяще раскрыло принци-
пиальное значение приведенных замечаний К. Маркса и меха-
низм субъективного (а не субъективистского) восприятия объек-
тивного мира. Академик С. И. Вавилов в работе «Глаз и Солнце»,
раскрывая причины совершенства действий глаза, его автоматизм,
большую селективную способность к различению цветов, писал:
«Все это результат приспособления глаза к солнечному свету на
Земле.
Глаз нельзя понять, не зная Солнца. Наоборот, по свойствам
Солнца можно в общих чертах теоретически наметить особенности
глаза, какими они должны быть, не зная их наперед.
Вот почему глаз — солнечен, по словам поэтов» 89.
Можно то же самое сказать о связи между природой других
раздражителей и их анализаторов. При этом, как показал
И. П. Павлов, механизм постепенного приспособления каждого дан-
ною анализатора к улавливанию специфических раздражителей
охватывает периферический, или рецепторный, отдел, провотни-
ковый отдел и мозговой, или центральный, отдел анализатора.
Опровержение наукой «физиологического идеализма» в объясне-
нии функции органов чувств распространяется на истолкование
им механизма анализаторов вообще. Весь этот механизм образу-
ется, совершенствуется иод воздействием объективного мира и
- для дифференцированного отражения последнего, постоянно при-
спосабливается к специфике раздражителя. Благодаря трудам
И. М. Сеченова и II. П. Павлова функция анализаторов пони-
мается как совокупность комплексных временных связей, как его
сложная приспособительная деятельность, направленная на осу-
ществление какой-либо физиологической пли психологической за-
дачи.
Современная научная физиология и психология показывают не-
состоятельность понимания психики как отправления мозга. Функ-
ция мозга сложнопрнспособительная. Мозг в целом и его кора
как наиболее высокоорганизованная часть всей центральной нерв-
ной системы, представляющие высший уровень анализа и синтеза
сигналов, не порождают психические «свойства» и «способности»,
а приспосабливаются для выполнения той или иной психологиче-
ской задачи. Определенная специализация отдельных участков ко-
ры для более дифференцированного отражения явлений действи-
тельности является результатом всего общественно-исторического
развития человека. При этом локализация функций предполагает
не фиксированные «центры», а динамические системы.
Отдельные элементы динамических систем высокоспециализиро-
вапы и дифференцированы, но они взаимодействуют между собой.
Современная психология указывает па огромную интегративную
роль «зон перекрытия» корковых концов отдельных анализа-
80 С. И. В а в и л о в. Глаз и Солнце. О «теплом» и «холодном» свете. М.,
Изд-во АН СССР, 1961, стр. ПО.
98
торов. Эти области, составляющие около 43% всей коры, обеспечи-
вают совместную работу отдельных корковых «центров», опровер-
гая тем самым идею изолированности последних. Никаких врож-
денных «центров» высшей психической деятельности человека нет.
Антиисторичным, ненаучным являются также фрейдистское и
неофрейдистское объяснение психической жизни человека.
3. Фрейд, рассматривая бессознательное «оно» как хранилище
раннего опыта человечества, считал, что психика индивида уже
при рождении его наделена рядом родовых воспоминаний, отно-
сящихся еще к периоду первобытной орды. Родовые и индивиду-
альные влечения: побуждения, намерения, желания и т. д.—
Фрейд представляет как материальные объекты со специфической
«психической энергией».
Фрейдизм, который приобрел характер своеобразной философ-
ской системы и тесно сблизился с наиболее реакционными фило-
софскими направлениями, отрицает формирование психики чело-
века в результате его общественно-исторической практики. Амери-
канский философ-марксист Г. Уэллс в интересной, научно аргумен-
тированной книге «Крах психоанализа» пишет: «И психоанализ,
и теологический мистицизм рассматривают человеческую природу
и потенциальные способности человека как биологические или
богом данные внутренне присущие ему с момента зачатия способ1
ности, находящиеся в его уме, духе, душе или в бессознательной
сфере каждого человека. Подобному подходу к потенциальным
способностям человека резко противостоит теория взаимодействия
филогенетической анатомии и физиологии с онтогенетическим уча-
стием человека в жизни окружающего его естественного и соци-
ального мира» 90.
Врожденными являются не психические свойства, а лишь ана-
томо-физиологические структуры как предпосылки для появления
и развития в них тех или иных психических функций.
Первичные умения ребенок приобретает посредством соедине-
ния врожденной биологической структуры (которая, кстати, тоже
результат длительного эволюционного развития) и социальных
навыков. Даже возможность прямохождения, искусность движений
рук превращаются в действительность благодаря социальной жиз-
ни. Происходит «экстериоризация» интериоризованной социаль-
ной потенциальной способности. Здесь имеет место движение от
внутреннего к внешнему, от интериоризации внешнего к экстерно-
ризации иптериоризованного внешнего91.
Но если даже прямохождение становится возможным благо-
даря влиянию общества на индивида, то тем более абсурдно го-
ворить о врожденности высших психических функций.
Психология стала подлинно научной с тех пор как сумела
объяснить высшие психические функции человека как сложный
90 Г. Уэллс. Крах психоанализа. ЛТ, <Прогресс», 1968, стр. 242.
81 Там же, стр. 249.
7*
99
продукт обществеппо-исторпческого развития. Дналектико-матери-
алисгическое понимание психики, развитое в трудах в первую
очередь советских психологов (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев,
А. Р. Лурия и другие), а также ряда зарубежных прогрессивных
исследователей (А. Валлон, П. Жанэ, Ж. Полнтпер и другие),
полностью отрицает представления о сложных психических процес-
сах человека как результате проявления врожденных «способно-
стей» психики пли первичных «свойств» корковых «центров» го-
ловного мозга. «Высшие психические функции человека с точки
зрения современной психологии представляют собой сложные реф-
лекторные процессы, социальные по своему происхождению, опо-
средствованные по своему строению и сознательные, произвольные
по способу своего функционирования» 92.
Психика человека требует длительного и сложного созревания
в онтогенезе.
Любой акт психики, даже связанный на первый взгляд с «Био-
социальными» содержаниями, является феноменом общественно
обусловленным.
Установив социальный характер генезиса человеческой психи-
ки, научная психология делает следующие выводы: 1. Попытки ло-
кализовать высшие психические функции в специальных центрах
коры мозга являются антинаучными. 2. Сложные динампчески-
приспособительные функциональные системы совместно рабо-
тающих корковых зон не появляются в готовом виде к моменту
рождения ребенка (как это имеет место в отношении дыхательной
и других биологических функциональных систем) и даже не соз-
ревают самостоятельно, а формируются в обществе в процессе
общения с людьми и предметно-практической деятельности.
Современная психология доказала, что биологическая наслед-
ственность хотя п существует и на уровне человека, ее действие
прямо не распространяется на те приобретения в сфере психоло-
гического развития, которые человечество сделало па протяжении
последних 40 или 50 тысячелетий, т. е. с тех пор, как сложился
современный тип человека и вступили в силу законы развития че-
ловеческого общества. «Начиная с этого момента,— отмечает один
из ведущих советских психологов А. Н. Леонтьев,- достижения
г развитии психических способностей людей закреплялись и пе-
редавались от поколения к поколению в особой форме, а имен-
но в форме впешиепредметпой, экзотерической.
Эта новая форма накопления и передачи филогенетического
Iточнее, исторического) опыта возникла потому, что характерная
для людей деятельность есть деятельность продуктивная, созида-
тельная. Такова прежде всего основная человеческая деятель-
ность — труд.
Фундаментальное, поистине решающее значение этого факта
82 А. Р. Лурия. Высшие корковые функции человека. Изд-во МГУ, 1962,
стр. 29.
100
было открыто более 100 лет тому назад. Открытие это принад-
лежит основоположнику научного социализма Марксу»53.
Только в обществе под давлением практической деятельности
ребенка возникают сложные межцентральные системы высших
психических функций — «функциональные мозговые органы», как
их называет А. Н. Леонтьев.
То, что ребенок в момент рождения лишь кандидат в человека,
по он не может нм стать в изоляции: ему нужно научиться быть
человеком в общении с людьми93 94, показывают изученные случаи
развития детей в условиях полной изоляции от людей. В настоя-
щее время наукой описаны более 30 подобных случаев95. Все они
с очевидностью доказывают, что дети, родившиеся анатомически
со всеми биологическими предпосылками для становления чело-
веком, им не становились, будучи изолированы от специфически-
человеческих отношений. Они деградировали до уровня животных,
вместо языка у них появлялась нечленораздельная животная
сигнализация, ходили на четвереньках, а попав в человеческие
условия, очень медленно приспосабливались к ним и довольно ра-
но погибали.
Здесь особенно наглядно видна бесполезность предпринятых
в начале XX века рядом буржуазных психологов попыток пере-
нести аналогию между развитием ребенка и развитием человече-
ских обществ, человечества. Специфнчески-человеческие, высшие
психические свойства и способности наследственно не заложены
в ребенке, и, следовательно, невозможно говорить о каком-то «вы-
зревании их изнутри». Развитие человеческой психики в онтоге-
незе фатально не определяется развитием психики в филогенезе.
Глубоко ошибочными являются как вульгарно-материалистиче-
ское, механистическое отождествление высшей нервной деятельно-
сти с психической деятельностью, так и идеалистическая концепция
врожденных психических функций. Ребенок рождается лишь с оп-
ределенными биологическими предпосылками для развития челове-
ческой психики, но для этого одна физиология высшей нервной
деятельности еще недостаточна. Последняя является только естест-
веннонаучной, материальной основой психологии, но опа не соз-
дает человеческую психику, не подменяет психологию.
Примеры развития человека как в обществе, так и изолирован-
но от него подтверждают правильность марксистско-ленинских
положений о сущности человека, о том что человек есть продукт
общественных отношений, что он есть в самом буквальном смысле
«пе только животное, которому свойственно общение, по животное,
которое только в обществе и может обособляться. Производство
обособленного одиночки вне общества.... такая же бессмыслица,
93 А. Н. Леонтьев. Проблемы развития психики. Изд-во МГУ (третье
издание). 1972, стр. 185—186.
94 См. Б. Ф. Порш пев. Социальная психология и история.
95 Там же, стр 120—124
101
как развитие языка без совместно живущих и разговаривающих
между собой индивидуумов»96.
Индивидуальные различия объясняются личной биографией
(в данном обществе) того или иного индивидуума, конкретными
обстоятельствами его жизни, своеобразием его окружающей сре-
ды. Всем этим обусловливается индивидуализация личности. У нее
наряду с общественными потребностями п интересами появляют-
ся свои особые потребности и интересы (которые могут быть в
противоречии или в гармонии с общественными), и отражение пси-
хикой данной личности ее общественного бытия, любого внешнего
воздействия преломляется через сложившиеся у нее индивиду-
альные особенности, окрашивается ее субъективными данными.
Таким образом, мы видим, что ленинское положение об ощущении
как субъективном отражении объективного мира, о диалектиче-
ском единстве объекта и его образа распространяется на психику
вообще.
Совокупность субъективных, идеальных образов, их связь со-
ставляют внутренний духовный мир человека. Этот субъективный
мир приблизительно одинаков для людей, связанных определен-
ными общими условиями жизни и деятельности. Духовный мир
человека субъективен не в смысле его произвольности, а потому
что он составляет то, что мы называем психикой человека. По-
следняя не тождественна сознанию, а включает наряду с созна-
тельным также моменты бессознательного. С другой стороны, со-
знание не тождественно с мышлением. Сознание отражает мир
не только в форме мысли, но и — ощущений, восприятий, представ-
лений. Последние содержат уже больше субъективных моментов.
Среди психических явлений психологи различают три большие
группы: 1) психические процессы как динамическое отражение ми-
ра в различных психических формах (познавательных, эмоцио-
нальных, волевых); 2) психические состояния как определив-
шийся в данное время уровень психической деятельности (состоя-
ние внимания, эмоциональное состояние или настроение) и 3) пси-
хические свойства как относительно устойчивые образования,
обеспечивающие определенный качественно-количественный уро-
вень деятельности психики личности.
Психические свойства синтезируются в сложное, структурное
образование (психический склад), в котором нас в данном случае
интересуют такие основные его элементы: 1) потребности и интере-
сы личности, определяющие ее жизненную позицию, ее убежде-
ния, идеалы и уровень активности; 2) темперамент как система
особенностей психической деятельности личности; 3) способности
как система интеллектуальных и эмоциональных свойств и 4) ха-
рактер как система отношений п способов поведения.
У человека имеются первичные — материальные потребности
и сиецифически-человсческие— духовные потребности. На основе
8,5 К. Маркс и Ф Энгельс. Соч., т. 12, стр. 710.
102
потребностей возникают интересы, которые также делятся на ма-
териальные и духовные. Поскольку непосредственными побуди-
тельными мотивами определенного поведения, действия людей яв-
ляются чувства и идеи, психология, идейные побуждения могут
казаться конечной и решающей силой. Между тем выяснение роли
и характера интересов дает возможность материалистически объ-
яснять поведение любой социальной группы. Исторический ма-
териализм не умаляет роли и значения идеологии в истории, он
лишь показывает, что последние имеют не абсолютную, а относи-
тельную самостоятельность. Основоположники марксизма, говоря
о действии экономических законов независимо от сознания и воли
людей, вовсе не считали, что эти законы действуют вообще помимо
людей.
Когда Ф. Энгельс писал, что «экономические отношения каждо-
го данного общества проявляются прежде всего как интересы» %
этим он уже дал ключ к пониманию механизма отражения общест-
венного бытия общественным сознанием, к пониманию характера
психологии п идеологии людей на определенном историческом эта-
пе развития данного общества. И психология и идеология всегда
выражают реальные интересы определенных социальных общ-
ностей.
Разумеется, что как эти общности не являются простыми сум-
мами составляющих их индивидов, так и психология той или иной
социальной общности не является простой суммой или равнодей-
ствующей индивидуальных психологий97 98. Сама психология лично-
сти формируется в обществе под влиянием общественных отноше-
ний и потому является по своей сущности общественной психоло-
гией. Потребности и интересы социальной общности определяют
жизненную позицию, убеждения, идеалы и уровень активности ее
членов и индивидуальные отклонения, даже возникающие проти-
воречия между потребностями и интересами личности и общности
не меняют существа дела.
Что же касается вопроса, какие потребности и интересы яв-
ляются общими в том или ином социальном объединении, а следо-
вательно. в каком отношении и насколько они являются сильными
скрепами данного объединения, то это показывает конкретный
анализ характера различных типов общностей лютей. К такому
анализу мы вернемся после обзора, пока в общей форме, структур-
ных элементов психического склада личностей п социальных кол-
лективов.
Наиболее неоспоримым из компонентов психического склата
кажется общность национального темперамента Но даже этот
вопрос оказывается далеко не простым. Факты существования раз-
личных наций с одинаковыми темпераментами и, наоборот, име-
97 К. Маркс и Ф. Энгельс Соч., т. 18, стр. 271.
98 См. Г М. Гак. Учение об общественном сознании в свете теории позна-
ния. М, Изд-во ВГШ1 и АОН, i960, стр. 63—72, 124-130.
103
ющиеся различия в темпераменте разных слоев одной и той же на-
ции требуют научного объяснения. Трудность и сложность вопроса
в том, что и темперамент, оказывается, можно объяснить не только
природными условиями. Известно, что темперамент есть форма
проявления поведения личности и что природной основой его яв-
ляются типы нервной системы. Современная психология отмечает
четыре основных и ряд промежуточных, переходных типов нерв-
ной деятельности". Возможна ли нация, состоящая из людей од-
ного типа нервной системы? Научная психология отвечает на это
отрицательно. Таких наций нет. Нельзя же, в самом деле, делить
целые нации на сангвиников и флегматиков, холериков и мелан-
холиков.
Если даже в той или иной нации встречается много лиц, обла-
дающих определенным типом темперамента, скажем например,
холерическим, это еще не дает нам права переносить характери-
стики данного темперамента этих лиц на всю нацию. Нельзя же
сказать, например, что такая-то нация вспыльчива и порывиста,
что ей присуща цикличность в деятельности и переживаниях, что
опа способна переходить от отвлеченной бурной деятельности в
«слюнявое настроение». Было бы неправильно также считать од-
ин пации в целом обладателями сильного, а другие—слабого ти-
па нервной деятельности. Если темпераменты обнаруживаются че-
рез уровни активности и работоспособности, эмоционального тону-
са, через особенности социального контакта и различные степени
приспособляемости к изменяющимся условиям, то ясно, что нации
в целом обладают в той или иной мере всеми этими качествами.
Факты показывают, что признание особого национального тем-
перамента хотя и имеет место, не выдерживает, однако, научной
критики. Оно оспаривается прежде всего другим очевидным фак-
том, а именно тем, что различные пации (например, латиноаме-
риканские, кавказские) могут иметь и имеют по преимуществу
одинаково выраженную подвижность, возбудимость и, наоборот,
внутри больших стран с разнообразными географическими, кли-
матическими зонами могут быть и есть большие группы людей
одной и топ же национальности, по с различными проявлениями
темперамента.
С другой стороны, если научная психология доказала, что да-
же у отдельных личностей чаще всего наблюдаются не «чистые»
типы темперамента, а его промежуточные и переходные формы, то
не ясно ли, насколько неправомерно говорить в научном плайе о
юм или ином определенном темпераменте целой нации, к тому же
присущем только ей. Правильнее было бы говорить не о нацио-
нальном темпераменте, а о преобладании определенных проявле-
ний тех или иных типов темперамента в той или иной националь-
ной среде.
99 Некоторые психологи считают, что нельзя ограничивать число темпераментов
четырьмя типами, но в данном случае пас интересует не число, а суть вопроса.
104
Современная материалистическая психология считает, что ре-
шающее значение в формировании поведения имеют не сами по
себе врожденные свойства нервной системы, а реальные взаимо-
отношения людей, условия их жизни и деятельности, воспитание
и обучение. Потребности и интересы определенной социальной
общности составляют содержание и побудительную силу ее по-
ведения, а форма проявления последнего зависит от природного
темперамента различных личностей, составляющих данную общ-
ность. Содержание поведения социальной общности определяется
ее характером, а формы поведения разнообразятся в зависимости
от того, каких типов нервной деятельности люди объединены в
данную общность. Вместе с тем доказано, что под влиянием жиз-
ненных воздействий изменяются первоначальные свойства типа
нервной деятельности. Научная социология и психология объясня-
ют широко наблюдаемые факты нивелировки проявления темпе-
раментов в определенных социальных общностях тем, что в фор-
мировании поведения людей решающее значение имеют не природ-
ные механизмы нервной системы, а реальные обстоятельства их
жизни и деятельности, их реальные взаимоотношения. Под влия-
нием этих условий происходят те сдвиги в динамике поведения
человека, которые образуют переходные формы темперамента.
В результате выделить в темпераменте то, что есть в нем от за-
датков нервной системы, и то, что образовалось от перестройки
нервной системы под влиянием общих условий жизни, бывает па
много труднее, чем обычно думают.
Если тип темперамента в индивидуальной психике бывает, та-
ким образом, смазанным, природным и приобретенным, то в обще
ственпой психологии общность темперамента определенной соци-
альной группы еще менее уловима, ее вообще нельзя рассматри-
вать как результат образования коллективов, состоящих якобы из
людей с одинаковыми типами нервной системы. Еще I Г Чер
нышевский, борясь с метафизическими представлениями о врож-
денности и неизменности темперамента, писал: «Особенного вни-
мания заслуживает то обстоятельство, что быстрота движений и
речи, сильная жестикуляция и другие качества, считающиеся при-
знаками природного расположения, так называемого сангвиниче-
ского темперамента, и противоположные качества, считающиеся
признаками флегматического темперамента, бывают у целых сосло
вий и у целых народов результатом только обычая. Те люди, ко-
торым их старшие родпые и знакомые внушают привычку держать
себя с достоинством, почти все с ранних лет привыкают к плавно
стп движений и речи; наоборот, в тех сословиях, где считается на-
добной резкость движений и речи, почти все с молодости привыка-
ют к сильной и быстрой жестикуляции, к пронзительному и бы
строму тону речи» 10°. 100
100 Н. Г Чернышевский Избр. филос. соч. М., Соцзыпз, 1
стр. 249 -250
105
Материалистическая психология доказала, что система вре-
менных связей, образуемых в общественной жизни человека, как
бы «перекрывает» его природный темперамент, что прав Н. Г. Чер-
нышевский, когда утверждает: «Природный темперамент вообще
заслоняется влиянием жизни» *01.
Как мы видим, такой природный аппарат, каким является
нервная система, оказывается весьма пластичным. Если даже тем-
перамент личности, как и характер, в конечном счете определяет-
ся общественными условиями жизни человека, то тем более не-
правильно говорить о природном общенациональном темперамен-
те, не учитывая различия общественных условий жизни, деятель-
ности и воспитания различных классов.
Сравнительная замкнутость или общительность, склонность к
расширению контактов тех или иных наций определяется не «на-
циональным темпераментом», а социально-политическими причи-
нами. Конечно, во взаимоотношениях наций, например, при раз-
личных переговорах между ними может сказаться темперамент
определенных лиц, уполномоченных вести переговоры, но это не
национальный темперамент, а темперамент, воспитанный опреде-
ленными классово-общественныим условиями. Руководитель нации
с тоталитарным фашистским режимом лично может обладать при-
родным меланхолическим темпераментом, а в отношениях с дру-
гими народами проявить воспитанный своим социальным кругом
резко агрессивный темперамент. Знание темперамента отдельных
сограждан той или иной нации еще не раскроет суть и характер
ее поведения. Проявление темперамента личности также подвер-
жено воздействию общественных условий, а в его формировании
решающая роль принадлежит роду и характеру деятельности че-
ловека. Что касается «национального темперамента», то это поня-
тие, вполне приемлемое в обиходном употреблении, в научном от-
ношении не имеет веских оснований.
Посмотрим теперь, в каком соотношении находятся способно-
сти личности и способности той или иной социальной общности.
Личность имеет способности (возможности) к определенному ви-
ду (или видам) деятельности, а большие социальные общности
людей, включая в себя множество людей с различными способно-
стями и придавая им силу коллектива, приобретают еще интег-
ральную способность решать такие социальные, научно-техниче-
ские и другие задачи, которые не способна решать ни одна лич-
ность в отдельности. Иначе говоря, способности определенной
общности людей качественно и количественно иные, чем способ-
ности личностей, составляющих данную общность. Далее, если
способности личности являются сплавом природного и приобре-
тенного (благодаря общественным условиям ее развития), то спо-
собности социальной общности носят только общественный харак-
|0’ И. Г. Чернышевский. Избр. филос. соч., стр. 252.
106
тер. Собственно общественные же условия оказываются решаю-
щими в развитии способностей личности.
Социалистические условия жизни воочию показывают лживость
утверждений буржуазных психологов и социологов о якобы изб-
ранной одаренности определенных наций. Подобные антинаучные
версии, рассчитанные на оправдание политической, экономический
и культурной дискриминации угнетаемых народов и классов, ни-
чего общего не имеют с действительностью. Все народы имеют
равные и неограниченные возможности в развитии своих интел-
лектуальных и эмоциональных способностей. Для превращения
этих возможностей в действительность необходимо лишь одно —
снять с них оковы социального и национального гнета.
Особенно отчетливо выступает значение социальных условий в
формировании характеров людей из отдельных общностей.
Характер, с одной стороны, является структурной составной
частью психического склада, а с другой — он сам имеет свою
структуру, в которой компоненты психического склада органиче-
ски связываются и взаимодействуют друг с другом. Это обстоя-
тельство, видимо, служит основанием для ряда авторов ставить
знак равенства между психическим складом и характером. Одна-
ко материальные и духовные факторы, участвующие в формиро-
вании психологии и характера, взаимодействуют в них по-разному
и проявляются в разной мере. Природные моменты в характере
еще больше, чем в психологии, заслоняются, затушевываются об-
щественными воздействиями и воспитанием. Не все психические
свойства в одинаковой мере проявляются в характере. Как сви-
детельствуют психологи, «оставаясь самим собой, человек, однако,
способен изменять тонус движения и действий и регулировать
своп чувства, сдерживать импульсы от органических потребностей
и оставаться на уровне предъявляемых ему обществом мораль-
ных требований» 102.
Хотя природные моменты и проявляются в характере личности,
по они играют в нем еще меньшую роль, чем в темпераменте и спо-
собностях человека. Но если характер личности прежде всего оп-
ределяется ее общественными отношениями, то характер социаль-
ных общностей тем более является общественным продуктом.
Рассматривая человеческую психологию то в индивидуальном,
то в общественном ее проявлении, мы видели, что эти аспекты
трудноразделпмы, и это не случайно. К- Маркс отмечал, что не-
возможно противопоставлять «общество» как абстракцию индиви-
ду. «Индивид есть общественное существо,— писал он.— Поэтому
всякое проявление его жизни — даже если оно п не выступает в
непосредственной форме коллективного, совершаемого совместно
с другими, проявления жизни, — является проявлением и утверж-
дением общественной жизни» 103.
102 «Психология», под ред. А. Г. Ковалева, А А. Степанова, С. Н. Шебалина.
М., «Просвещение», 1966. стр. 392. _
103 К. Маркс п Ф. Энгельс. Из ранних произведении, стр. 690.
107
Индивидуальная психология человека, как то же проявление
жизни человека, является по своей сущности общественной психо-
логией. Это ие означает, что психологию той или иной соци-
альной общности, т. е. специальную общественную психологию,
можно рассматривать как сумму проявлений индивидуальных пси-
хик всех членов данной общности. Наоборот, психология личности
в своей основе складывается под определяющим влиянием обще-
ственной психологии. Психика каждого человека- развивается в
условиях жизни и деятельности тех коллективов (профессиональ-
ных, классовых, национальных и т. д.), членом которых он яв-
ляется. Более того, каждый человек застает уже оформившуюся,
хотя и развивающуюся общественную психологию, господствую-
щую в своей среде, и усваивает ее.
Под психическим складом понимается определенная строй-
ность, системность проявления психических свойств. Различные со-
циальные общности людей имеют системность, ясно выраженную
определенность психического строя, но в весьма различной сте-
пени. Поскольку общественная психология той или иной группы
людей проявляется в потребностях, интересах, чувствах, настрое-
ниях, идеалах, чаяниях и иллюзиях, нетрудно видеть, что не вся-
кие общности людей могут иметь единую общественную психоло-
гию, единый и стройный психический склад. Нация, состоящая из
классов с противоположными потребностями, интересами, естест-
венно, не обладает общностью психического склада. В отношении
такой нации можно говорить лишь о некоторых общих чертах
психических свойств темперамента, характера.
Национальные отношения как часть общественных отношений
также определяются классами. Каждый человек является предста-
вителем определенного общественного класса или слоя, определен-
ной нации или народности, а также той или иной профессии,
поколения 11 т. д. Это, однако, не значит, что он обладает раздель-
ными классовой, национальной, профессиональной, возрастной
психологиями. У человека единая психология, определяемая его
общественными отношениями. Благодаря тому, что одной из
форм общественных отношений являются национальные, психоло-
гия человека имеет определенные национальные особенности. Нет
особой национальной психологии, порождающей особые нацио-
нальные отношения, а, наоборот, в определенных общественных
условиях объективно складываются определенные национальные
отношения, которые отражаются в психологии человека как ее на-
циональные особенности. Последние, однако, раз возникнув, при-
обретают относительную самостоятельность и влияют па поведе-
ние людей.
Среди признаков, обычно приписываемых нации, есть такие,
которые действительно общи всем членам нации, но есть и такие,
которые вырабатываются через классовое положение каждого из
членов нации. Такими являются, в частности, признаки, характе-
ризующие духовный облик нации.
108
Аргументы сторонников рассмотрения «психического склада»
плп «общих черт психологии» в качестве одного из основных приз-
наков нации можно свести примерно к следующим пунктам: 1) на-
личие национального склада психологии очевидно, оно вытекает
якобы из самого факта существования различных наций; 2) на-
ция не только общественное, но и природное явление; 3) пси-
хический склад не психология; под общностью психическо-
го склада понимается форма, а не содержание проявления пси-
хологии.
Рассмотрим эти аргументы.
Первое наиболее легкое доказательство наличия общности
психического склада нации заключается якобы в ее очевидности.
Имеется немало людей, убежденных, что достаточно просто паль-
цем указать на существование различных наций: англичан, дат-
чан, французов и т. д. как наличие «особого психологического
склада» у каждой нации будет очевидно всем. Так кажется здра-
вому человеческому рассудку. «Но,— писал Ф. Энгельс,— здравый
человеческий рассудок, весьма почтенный спутник в четырех сте-
нах своего домашннего обихода, переживает самые удивительные
приключения, лишь только он отважится выйти на широкий про-
стор исследования» 104.
Мы уже видели выше и еще больше убедимся в дальнейшем,
что очевидность общности психического склада нации кажущаяся,
что опа улетучивается при ближайшем рассмотрении сущности на-
ции. Ни эта «очевидность», ни анализ искусства, быта, любых дея-
ний той или иной нации никаких доказательств особого нацио-
нального склада психики, или, как некоторые выражаются, «на-
циональной души», не давали и дать не могут.
В условиях длительного совместного существования и общения
у классов-антагонистов, конечно, вырабатываются некоторые об-
щие черты проявления психологии, но они не составляют общно-
сти психического склада нации. Убеждение, можно сказать, широ-
ких масс в наличии общности психического склада как одного из
основных признаков нации само носит по существу подсознатель-
но-психологический характер. Проявление различных общих ак-
ций (военных и других) той или иной нацией, определенных общих
эмоций в отношении общезначимых для нации явлений и т. п.
ощущается, воспринимается как проявление именно общности
психического склада. Указанное убеждение особенно укрепляется
в случаях резкого усиления, широкого распространения национа-
лизма, ибо одним из питательных источников национализма яв-
ляется сама вера в наличие родственной национальной души \
«соплеменников».
Национальной психики, «национальной души (речь идет не о
метафорическом употреблении этого выражения) хотя и ист в
104 К. Маркс п Ф Энгельс Соч., т. 20. стр. 21
169
действительности, но одна вера в них оказывает реальное воздей-
ствие на поведение людей»105 106. Считаться с реально сложивши-
мися убеждениями людей необходимо, какими бы ни были эти
убеждения. Тем более необходимо учитывать воздействие нацио-
налистической пропаганды, реальное влияние буржуазии, ее куль-
туры и идеологии на трудящиеся массы. Считаться с националь-
ными предрассудками или с фактами буржуазного влияния, одна-
ко, надо не так, чтобы укреплять это влияние и предрассудки, а,
наоборот, так, чтобы национальных фетишей становилось все
меньше и меньше. Коммунистическая партия в своей деятельно-
сти всегда имела в виду, что не только буржуазия угнетающих
наций ведет антинациональную политику, но и «помещики, попы
и буржуазия угнетенных наций нередко прикрывают национали-
стическими лозунгами стремления разделить рабочих и одура-
чить их, заключая за их спиной сделки с помещиками и буржуа-
зией господствующей нации в ущерб трудящимся массам всех на-
ций» ,06.
Другим распространенным аргументом в защиту «общности
психического склада нации» является точка зрения, согласно ко-
торой нация есть не только общественное, но и естественно-при-
родное явление. Так, Г. Габриелян считает: «Поскольку нация
есть общность людей, то ее первым признаком должна быть общ-
ность физического типа людей, или, как говорит Ст. Шаумян, пх
более или менее общее происхождение»107. Г. Габриелян цитирует
из статьи «К вопросу о понятии «нация» 108 следующее место: «На-
ция не имеет обязательной прямой, генетической связи с донацио-
нальными формами общности людей ни в биологическом, ни в
психологическом плане» и спрашивает: «Но на каком основании
говорится это? Какая нация не имела родового периода разви-
тия?» 109. В ответ на свидетельства о том, что, например, американ-
ские нации возникли из различных национальностей и рас, он го-
ворит, что последние «представляют результат определенного раз-
вития родов и племен», не замечая, что этим как раз подтверждает
то, что хотел опровергнуть, а именно: необязательность для обра-
зования нации ее прямой генетической связи с донациональными
формами общности людей.
Современная этнографическая наука все больше подтверждает
этот вывод Советский этнограф Ю. Бромлей пишет: «Можно ли
105 II. С. Коп правильно отмечает, что «чувства и образы обыденного сознания
по отличаются, конечно, аналитической строгостью. Но они не становятся
от этого менее «эффективными» (И. С. Коп. Национальный характер —
миф пли реальность? «Иностранная литература», 1968, № 9, стр. 228).
106 В. И. Ле и и и. Поли. собр. соч., т. 24, стр. 59.
107 1 Г. Габриеля и. К вопросу об определении пации. «Вести. Еревапск.
ун-та», 1968, № 1, стр. 130.
Ю8 с. Т. К ал та \ч ян. К вопросу о понятии «нация». «Вопросы истории»,
1966, № 6, стр. 35.
109 Г. Г. Габриелян. К вопросу об опредслсппи пации. «Вести. Еревапск.
ун-та», 1968, № I, стр. 130.
110
ставить знак равенства, скажем, между древними славянами и
русскими? Какой народ имел своим предком хазар и половцев?
Эти на первый взгляд «наивные» вопросы на самом деле являются
большими проблемами, которыми занимаются специалисты раз-
личных отраслей науки. В прошлом эти вопросы разрабатывались
главным образом на основе лингвистических данных и сводились,
по существу, к истории языков. Теперь над их разрешением ра-
ботают археолог и антрополог, историк и топонимист. Немалое
место в решении вопросов происхождения (этногенеза) народов
отводится комплексным этнографическим исследованиям, позво-
лившим по-новому осветить некоторые из этих вопросов. Сейчас,
например, общепризнано, что в формировании азербайджанцев,
язык которых относится к тюркским, древнейшее нетюркоязычное
население Азербайджана сыграло гораздо большую роль, чем по-
явившиеся здесь в средние века тюрки-кочевники»110.
Г. Габриелян ссылается на факт возникновения армянского на-
рода из армен, хайасов, урартцев и других различных племен, ви-
димо, как на доказательство единой природной основы армянской
нации. Но на самом деле факт образования из различных этниче-
ских общностей новой этнической общности людей доказывает как
раз отсутствие прямой линии этнического развития. Возникновение
армян из различных племен и вся последующая итория Армении,
на которую веками совершали опустошительные набеги Парфия и
Рим, Византия и Персия, арабы, сельджуки, монголы и другие,
которую не раз включали в состав чужих государств, свидетельст-
вуют о том, что нет основания говорить о единой природной основе
крови и психологии армянской нации, проходящей якобы через всю
ее предысторию и историю. Правильно, материалистически пони-
мал это еще революционный демократ М. Налбандян, который пи-
сал: «Хорошо, что невозможно узнать, кто из нас из какого проис-
ходит рода, а то ведь в противном случае неродственные племена,
которые смешивались некогда с исконными, коренными армянами
и тысячелетиями разделяли их судьбу, их горе и радости и которые
сегодня сами носят имя армян, — нс стали бы признаваться за на-
стоящих армян. Чем отличается эта защита чистоты нации от
взглядов тех, кто отрицает тысячелетнее воздействие естественно-
исторического процесса на синтаксис нации и пытается заменить
его древним?»111.
Этнические особенности пации в основном решающем образу-
ются в рамках самого существования нации. Они установились
сравнительно недавно Этнически облик наций, особенно высоко-
развитых, не сводится к архаизмам пережиткам предыстории на-
ции. Процессы взаимообогащения наций, нивелировки их образа
жизни настолько бросаются в глаза, что сам Г Габриелян в той же
110 Ю. Бромлей. Наука о народах мира. ''Наука и жизнь*. 1%*-, № 8,
стр. 38.
111 At Налбандян. Избр. филос. произв. А\ . Го Политиздат, 1954, стр 549
111
статье пишет: «Сегодня трудно, если не сказать невозможно, дать
устойчивое «физическое описание» наций» 112.
Посмотрим теперь, насколько основательна ссылка на ранний
труд С. Г. Шаумяна по национальному вопросу для доказательства
якобы естественной природы (наряду с общественной) нации.
«Нация, — писал С. Г. Шаумяна, —с одной стороны, есть опреде-
ленное естественное явление со своим естественным материальным
пли психологическим содержанием, с другой стороны, она есть опре-
деленное общественное явление, общественное отношение»113.
Оговариваясь, что это определение было дано еще в первом труде
молодого марксиста, выступившего в основном с глубоким иссле-
дованием по национальному вопросу, мы все же отметили непра-
вильность указанного определения 114.
Рассматривая нацию по аналогии с двойственным характером
товара, С. Г. Шаумян писал: «Маркс разоблачил самый большой
и основной фетиш буржуазного мира — товар. Он показал, что то-
вар имеет две стороны, одна — так называемая естественная, дру-
гая— общественная. С одной стороны, товар — это определенная
вещь, с другой — определенное общественное отношение. Для
социолога товар интересен своей второй стороной — как общест-
венное отношение, как меновая стоимость. Другая — естественная,
или вещественная, сторона относится к естествознанию. Только
благодаря этому своему анализу, благодаря четкому разделению
общественного явления па два момента — чисто общественный и
составляющий его основу естественный момент — Маркс смог по-
знать и сделать ясной крупнейшую социальную проблему совре-
менного общества.
Точно так же следует поступить с понятием «нация»115.
Желая подчеркнуть подобной аналогией важность анализа сущ-
ности нации как общественно-исторического явления, С. Г. Шау-
мян вместе с тем допускал с точки зрения исторического материа-
лизма некоторую непоследовательность. Он поддерживал мнение,
согласно которому нация в качестве материального субстрата
государства может рассматриваться как категория естественная.
Справедливости ради отметим, что у С. Г. Шаумяпа естественная
природа нации все же фигурирует номинально. Включая в «естест
вепно материальное» содержание нации общность территории, язы-
ка, традиции, привычек, он их также понимал как продукты общест-
венно не горпчсского развития и критиковал буржуазных идеоло-
гов, рассматривающих «нацию» как «извечную» категорию, сущест-
вующую «с самого начала»... как нечто природное (то есть данное
112 Г. Г Габриелян. К вопросу об определении нации. «Вести. Г.ревапск.
ун-та», 1968, № I, стр. 131.
113 С. Г. Шаумян Избр. произв., т. 1 М., Госполитпздат. 19о7. сгр 135
114 См. С. Т. Калтах чип. Борьба С. Г. Шаумяпа за теорию и тактику
ленинизма. А\„ Господ in пздат, 1956, стр. 102—105.
1,5 С Г Шаумян Избр ироизв., т. 1. стр. 135.
112
от природы), имеющее свои определенные «имманентные» неотде-
лимые особенности» 116.
Однако если С. Г. Шаумяном в данном вопросе допускается
терминологическая нечеткость и непоследовательность, то у не-
которых авторов дуалистическое понимание нации как обществен-
ного п природно-естественного явления выступает как концеп-
ция 117. Согласно этой концепции психический склад нации имеет
прямую линию развития с древних времен до наших цней, он суще-
ствует и развивается параллельно с классовой психологией и по
существу независимо от последней. Игнорируется тот факт, что
«природные элементы» данного народа в различных общественно-
экономических формациях далеко не одни и те же. Да и струк-
турные элементы психического склада — характер, способности,
а также являющиеся дополнением к основным чертам совокуп-
ность устойчивых привычек, обычаев, традиций, вкусов и даже
предрассудков — представляют продукт общественных отношений
прежде всего данной эпохи. Анализ составных элементов психи-
ческого склада показывает, что нет врожденной национальной
психологии, и по этой причине нельзя считать, что нация не только
общественное, но и природное явление.
Нация есть явление исключительно общественное.
Выступающие в защиту «психического склада нации», к сожа-
лению, часто ограничиваются рядом ссылок на тех авторов, кото-
рые аксиоматически признают существование особого националь-
ного психического склада в качестве признака нации118. Или,
116 С. Г. Шаумян. Избр. произв., т. 1, стр. 144.
117 См., например, Н. С арсен баев. Обычаи и традиции в развитии. Алма-
Ата, 1965, стр. 105, ПО; А. И. Горячева. Является ли психический склад
признаком нации? «Вопросы истории», 1967, № 8; В. М. Зайченко,
К. Сабиров. Общность психического склада — один из существенных при-
знаков нации. «Вопросы истории», 1968, № 5; Н. Дж ан дильдин. При-
рода национальной психологии. Алма-Ата, 1971.
118 Следует отметить, что подобные ссылки иногда бывают совершенно пебосно-
ванными. Ссылались, например, на Б. Ф. Поршнева как на якобы признаю-
щего «общность психического склада нации капиталистического общества»,
хотя он совершенно четко писал, что ленинское положение о «двух нацио-
нальных культурах» означает, что «пет и не может быть единой психологии
такой этнической общности, как нация» (Б. Ф П о р ш н е в. Социальная
психология и история, стр. 69). Ссылаются также на книгу С. М. Арутюняна
«Нация и ее психический склад». Однако главный пафос этой книги в доказа-
тельстве того, что общность психического склада имеет место в отношении
трудящихся масс в антагонистическом обществе и социалистических наций.
У пего есть терминологическая нечеткость, чувствуется, что само псследова
нне привело к таким выводам, которые противоречат старым терминам
(«буржуазная нация», «психический склад» и т. д ). но важны ведь выводы,
а одни из основных выводов гласит: «Подлинными носителями общенацио-
нальных черт психического склада нации являются трудящиеся массы»
«Если в каждой буржуазной нации имеются «две нации» и «две нациопаль
пые культуры», то главное состоит не в единстве «национального организма»,
а в антагонизме этого организма...» «Разве рабочие и капиталисты, коммуни-
сты и монархисты одинаково понимают долг гражданина Франции, идеи
отечества и могут ли они иметь вообще «коллективный дух»? Надо быть
8
С Т Калтахчян
113
наоборот, приписывают своим оппонентам несуществующие взгля-
ды — па природу национальной психологии с тем, чтобы легко
было «доказывать» обратное119. Далее, как правило, проходят
мимо факта, что К. Маркс, Ф. Энгельс и В. II. Ленпн никогда не
употребляли термина «психический склад нации». Болес того, кос-
венно внушается читателям мысль, что основоположники марксиз-
ма-ленинизма не только признавали общность психического склада
нации, но даже считали ее самым устойчивым признаком нации 12°.
Выдвигаются, например, такие положения: «Нации возникают
из ранее существовавших общностей людей...». «Своеобразный
психический склад вырабатывается у наций из поколения в поко-
ление». «Вряд ли правы те авторы, которые пишут о «коренном
изменении национального психического склада», о выработке
«совершенно нового национального характера». «Нация — это
группа людей, связанных общностью экономической жизни, террито-
рии, языка, психического склада». Утверждается, что В. II. Ленин
национальными особенностями считал «особенности психологи-
ческие, национальное самосознание, единство происхождения» 12].
сверхфантазером. чтобы проповедовать подобные идеи» (см. стр. 116, 124—
136, 174, 80). Известный крупный исследователь теории национального воп-
роса Э. Л. Ваграмов в содержательной монографии «Национальный вопрос
и буржуазная идеология» тоже иногда употребляет термин «психический
склад нации», но он совершенно четко указывает при этом, что «единого,
цельного характера у нации, как таковой, пе существует. Содержание поня-
тия «психический склад нации» составляет совокупность некоторых психоло-
гических черт, особенно характерных для данной нации» (Указ, сот., стр. 92).
1,9 Печальный пример этому дал Н. Джапдильднн. См. об этом «Философские
пауки», 1972, № 4, стр. 131—132.
120 Так поступает, например. К. Бязарти в своей статье «Национальный характер
в искусстве и действительности», в которой, неправильно истолковывая пись-
мо Ф Энгельса П. Эрнсту 5 июня 1890 года, выдает рассуждения Энгельса
о различиях национальных характеров двух одинаковых общественных клас-
сов в разных странах за признание им общности психического склада
антагонистической нации.
Ф. Энгельс писал в действительности П. Эрнсту: «В Германии мещан-
ство — это плод потерпевшей поражение революции... Эти характерные черты
(трусость, ограниченность, беспомощность и неспособность к какой бы то
пи было инициативе. — С. К.) немецкое мещанство сохранило и в дальнейшем,
когда Германия была снова подхвачена потоком исторического развития; они
оказались достаточно устойчивыми, чтобы в той или иной степени наложить
отпечаток и на все другие общественные классы Германии, породив своеоб-
разный общенемецкпй тип, пока наш рабочий класс не разорвал, наконец,
эти узкие рамки. Немецкие рабочие и являются крайне злонамеренными
людьми, «не имеющими отечества» как раз в том смысле, что они полностью
стряхнули с себя немецкую мещанскую ограниченность» (К- М арке
пФ. Энгельс. Соч., т. 37, стр. 351—352). Таким образом, в то время как
Ф. Энгельс говорит об отпечатке, привнесенное™ мещанских черт в немец-
кую нацию, а пе об их имманентности, К. Бязарти, опустив вторую часть
цитаты, пе обращая внимания на то, что Ф. Энгельс тут же говорит о про-
рыве рабочим классом узких рамок мещанства, приписывает ему мысли
о едином психическом складе нации, в данном случае немецкой, выражаю-
щемся к тому же в трусости, ограниченности и т. п.
121 А. И. Горячева. Является ли психический склад признаком нации?
«Вопросы истории», 1967, № 8, стр. 92, 98—100. 104.
114
Такая позиция не способствует борьбе с попытками превратить
национальный вопрос в самостоятельный, независимый от классо-
вой борьбы.
Один из марксистских исследователей национального вопроса
академик Э. Мольнар (ВНР) в своей заключительной статье
«О марксистских понятиях нации и отечества» в дискуссии по ука-
занным проблемам, проводившейся на страницах венгерских жур-
налов 122, справедливо писал: «Ленин называет национальными
особенностями те своеобразные, воздействующие на ход классовой
борьбы черты, которые характеризуют данную страну с точки зре-
ния экономической жизни, политики, культуры, национального
состава, колоний, религиозного расслоения. В последних нет и сле-
да национального характера или душевного склада, да и не может
быть, так как до сего времени никто не показал, что эти мистиче-
ские силы, которые якобы свидетельствуют о национальном един-
стве классов, каким-либо образом влияют на классовую борьбу.
«Национальные особенности», таким образом, — двузначное поня-
тие. Если не отграничить ясно марксистское содержание понятия
от его националистического содержания, то подчеркиванием нацио-
нальных особенностей мы невольно сослужим службу национа-
лизму» 123. Незамечающие эту опасность, желая национальное ви-
деть только как национальное, якобы не испытывающее на себе
влияния классов и классовой борьбы, иногда идут настолько дале-
ко, что утверждают, будто В. И. Ленин, говоря о «реакционных»
в «революционно-демократических нациях», считал возможным
«отвлекаться от классового деления этих наций» 124.
Ссылки же на ленинское рассуждение о близости украинцев и
русских по характеру, по языку, по истории говорят о другом.
О том, что когда речь идет об антагонистических классах одной
и той же нации, В. II. Ленин отрицает общность психического
склада между ними, но когда речь идет о трудящихся, он признает
общности даже между разными нациями.
Иногда стремление провести прямую от племени к народности
и от последней к нации встречается даже в учебниках. В первом
издании в общем добротной и интересной книги «Основы научного
коммунизма» было написано: «С возникновением классов родо-
племенная общность сменяется народностью. Эта форма общности
характерна для докапиталистических формаций. Народность обра-
122 Дискуссия о понятиях Родины, нации, сущности национального вопроса
развернулась в связи с серией статей, опубликованных Э. Мольнаром
в 1959—1960 годах по поводу ошибок, допущенных в издании многотомного
учебника истории Венгрии для вузов. Эта дискуссия продолжалась несколь-
ко лет на страницах венгерских журналов: «Сезедак», «Тертеллми семле»,
«Мадьяр тудомань», «Уй праш», «МТА Кезельменьей», «Критика», «Вало-
шаг» и других.
,2S «Annales. Universitatis scientiarum Budapestinensis de Rolando EOtvOs Nomi-
natac sectio philosophical, 1964, t. Ill, p. 18.
124 «Вопросы истории», 1967, № 8, стр. 101.
8*
115
зовалась в результате слияния нескольких племен. Нация—это
исторически сложившаяся общность людей, возникшая на основе
общности языка, территории, экономической жизни, общих черт
психологии, выражающихся в особенностях культуры».125. В этих
нескольких строчках содержался ряд неправильных положений,
которые, однако, логически были связаны друг с другом и имели
одну основу, а именно допущение беспрерывности этнического раз-
вития от родо-племенных обществ до наций включительно.
Как было показано в первой главе, неправильно, например,
что народность образовалась в результате слияния нескольких
племен. Далее, хотя и верно, что народность характерна для рабо-
владельческого строя н феодализма, но ограничиться этим указа-
нием недостаточно, ибо есть и другие типы народностей, которые
существуют при капитализме и социализме.
Наконец, в отношении пации хотя и «общность психического
склада» заменяется «общими чертами психологии, выражающи-
мися в особенностях культуры», но и эта новая редакция не без-
укоризненна. Можно с удовлетворением отметить, что цитирован-
ные строки целиком изъяты из последующих изданий упомянутой
книги.
Имеется еще точка зрения. Ее сторонники признают общность
психического склада признаком нации, состоящей из враждебных
классов, так как, по их мнению, эта общность лишь форма прояв-
ления психологии126 127. Более того, чтобы доказать внеклассовость
психического склада, сводят его проявления к физиологии. Но
ссылки на связанность психического склада с высшей нервной
деятельностью, точнее с ее второй сигнальной системой, выдвигают
на первый план опять же общественно-историческую обусловлен-
ность психического склада, а не его физиологическую основу, хотя
последнюю никто не отрицает. Поэтому невозможно согласиться
с утверждением о том, что «структурные признаки национальной
формы как буржуазной, так и социалистической общности людей
являются одними н теми же», что «социалистические нации харак-
теризуются, как и буржуазные нации, наличием и органическим
соединением четырех признаков...» 12'.
Неправомерным является прежде всего отнесение психологии
(психических процессов) к содержанию, а психического склада —
к форме определенных национальных особенностей. Если термин
125 «Основы научного коммунизма». М., Политиздат, 1966, стр. 445.
126 В нашем изложении мы, как и многие авторы, термины «национальная пси-
хология» и «психический склад нации» употребляем как тождественные поня-
тия, памятуя, что единственно, чего нельзя путать, — это психологию как
пауку и психологию как склад чувств, идей определенной группы люден
Одно и то же — говорить психология или психический склад пролетариата,
крестьян, буржуазии и т. д.
127 Н. И. Броне к и и. Национальные формы и традиции в строительстве
социалистической культуры. «Уч, зап. Ростов. и/Д гос. ун-та», т. XI,
вып. 1, 1957, стр. 157.
116
«психический» образуется как прилагательное от термина «психи-
ка» (психология), то это не означает, что первое по отношению ко
второму выступает как форма к содержанию. Психический склад
означает определенный строп, системность психических особенно-
стей. Сказать психические особенности или особенности психики —
это одно и то же. А психика человека всегда имеет социальную
природу, и никакие натуралистические объяснения не могут ис-
черпать ее сущность. Но спросим еще раз, если даже индивиду-
альная психика есть продукт общественных отношений, то может
ли национальная психика быть лишенной общественно-историче-
ской природы, может ли она объясняться только или главным об-
разом биологической наследственностью или физиологией высшей
нервной деятельности? Биологизируя сущность нации, мы оказа-
лись бы обезоруженными в борьбе с расистскими фикциями, при-
шлось бы приписывать нациям особые типы высшей нервной дея-
тельности. Но, как мы уже видели, все типы высшей нервной дея-
тельности встречаются у людей любой нации. Прибавление к сло-
ву «психический» слова «склад» не только не меняет дела, но,
наоборот, еще больше подчеркивает социальную природу психики,
ее характер, системность, направленность. Тут, как правильно заме-
чает ряд исследователей, «системность сознания более характерна
для классов, составляющих нацию, чем для нации в целом»12S.
Интересно отметить, что эту мысль фактически подтверждают
в ходе конкретного исследования даже те авторы, которые пыта-
ются доказать существование общности психического склада как
признака любой нации. Так, например, В. Н. Филатов на первой
странице своей статьи «Национальный характер и классовая пси-
хология» утверждает, что есть психический склад нации. Он вклю-
чает в него 8 элементов, в числе которых национальный характер
и психология классов и социальных групп128 129 130. На последней же
странице признает, что общности психического склада нации не
получается. В. Н. Филатов пишет: «Как закономерность, видимо,
следует считать, что классы (социальные группы) формируют свой
психический склад, обусловленный их экономическим положением
и отличающийся от других. Но исторические условия совместной
жизни разных классов, слоев населения (принадлежность к одному
государству, одной нации и др.) порождают и некоторые общие
социально-психологические черты. Эти черты могут быть по
характеру активными и консервативными. Активные наследуются
прогрессивными классами данной эпохи. Консервативные черты
закрепляются обычно в психологии отживающих, сходящих со
сцены классов» 13°.
Попытку обоснования различия психического склада от пси-
128 П. М. Рогачев и М. А. Свердлин. О понятии «нация». «Вопросы
истории», 1966, № 1, стр. 41.
129 «Нация и национальные отношения». Фрунзе, 1966, стр. 29.
130 Там же, стр 55.
117
хологии сделал Al. Меликян. Он считает, что исследователи, не
признающие общности психического склада нации, состоящей из
антагонистических классов, якобы путают общность духовного
облика с общностью психического склада, что в то время как пер-
вая имеет классовую природу, вторая будто бы присуща всей
нации131.
Здесь нужно напомнить, что психология различных общностей
людей, их чувства, мысли, стремления, настроения, нравы, тради-
ции, обычаи, даже поверья, предрассудки и т. д. входят в духовную
жизнь общества, и, следовательно, духовный облик тех или иных
коллективов выражается не только в их идеологии, но и в их пси-
хологии. А так как психология того или иного коллектива и состав-
ляет его психический склад, то исключить последний из духовного
облика данного коллектива нет никаких оснований. Видимо, чувст-
вуя эту трудность, указанные авторы и объявляют общность пси-
хического склада формой проявления психологии, а не ее содер-
жанием, классовость которого они признают. Но тут уже мы стал-
киваемся с метафизическим пониманием формы как чего-то
внешне наложенного на содержание. Между тем, как известно,
форма по отношению к содержанию представляет его внутреннюю
организацию, зависит от него и определяется им.
Конечно, в силу меньшей сравнительно с содержанием под-
вижности определенные национальные формы могут служить для
выражения психологии различных классов. Однако, во-первых,
при внимательном рассмотрении окажется, что речь все же идет
не о полной тождественности форм выражения психологии классов-
антагонистов, а лишь об отдельных общих чертах этих форм, а
во-вторых, со временем в зависимости от дальнейшего изменения
содержания изменяется и перестраивается форма. Это особенно
ясно можно видеть на примере развития современной буржуазной
культуры, которая стала антинародной (а следовательно, и анти-
национальной) не только по содержанию, ио и по форме. Старая
национальная форма уже оказалась непригодной для современной
космополитической модернистской культуры.
Наконец, как уже было отмечено, нельзя духовный облик той или
иной общности людей свести только к их идеологии. В. И. Ленин
считал, что без понимания и учета различных психологий
классов невозможно само формирование и развитие идеологии,
как и ее обратное воздействие на психологию. Если бы психиче-
ский склад являлся лишь внешней формой психологии, тогда осо-
бого труда не составляло бы решение задачи преодоления буржу-
азного и мелкобуржуазного психического склада, развития в тру-
дящихся массах прогрессивного психического склада рабочего
класса
Именно потому, что психический склад не есть просто проявле-
ние психологии, а есть сама психология, он является неотъемлемой
131 «Лспнпяп углов» («По ленинскому пути»), 1964, № 2, стр. 26.
118
частью духовного облика классов, сословий, но не является общим
для нации, состоящей из враждебных классов.
Исчезают ли при этом отдельные общие национальные черты
психологии? Отнюдь нет. Классы (кроме реакционных) националь-
ны, хотя, конечно, не только и не столько по общим психологиче-
ским чертам. Каждый из классов имеет свою национально-классо-
вую психологию, и из этих психологий можно выделить определен-
ные общие черты, которые придают этой психологии национальное
своеобразие, но они не выражают конечные национальные инте-
ресы, они не столь существенны, чтобы их считать одним из основ-
ных признаков нации.
Для успешной борьбы против вульгарно-социологических трак-
товок нации необходим историко-экономический анализ всех
факторов, обусловливающих консолидацию и развитие нации. В то
время как националист видит только национальное независимо о г
классового, а вульгарный социолог рассматривает классовое как
отрицание национального, марксист-ленинец раскрывает фальш?
в аргументации как первых, так и вторых.
Только диалектико-материалистический анализ способен по-
казать, почему, с одной стороны, нельзя национальную общность
антагонистических классов выдавать за их единство, а с другой
стороны, показать, почему нация, будучи расколотой на антагони-
стические классы, не только не перестает существовать, но, наобо-
рот, является устойчивой общностью людей.
В данном случае, если антагонистические классы, различаясь
друг от друга как по своей идеологии, так и по своей психологии,
все же составляют устойчивую национальную общность, то, значит,
следует видеть и понимать другие, реальные п более мощные скре-
пы национальной общности.
4.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР
И НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
Сказанное о национальной психологии относится к националь-
ному характеру, поскольку характер является основным компо-
нентом психологии, а следовательно, тоже продуктом обществен-
ных отношений. II здесь необходимо иметь в виду, что обычно
употребляемое выражение «национальный характер» означает не
«характер нации», а национальные особенности характера, которые
общи для всей данной нации, народности.
О национальном характере и национальном стереотипе напи-
сано множество работ. При этом одни считают национальный
характер проявлением некоего национального духа, другие вовсе
отрицают его, третьи выбирают осторожную середину.
Советский социолог II . С. Кон, отмечая, что в современном
обществоведении вряд ли существует другая столь же сложная и
119
одновременно столь же острая проблема, как проблема националь-
ного характера, считает, что крайне разноречивое решение этой
проблемы объясняется тем, что историко-культурные исследования
национального характера плохо поддаются эмпирической проверке.
К тому же исследователи запутываются в многозначности понятия
«национальный характер», «одни ученые сводят характер к струк-
туре мотивов, другие — к структуре ценностных отношений,
третьи — к структуре инстинктивных стремлений» 132.
Эти замечания в основном справедливы. Но когда И. С. Кон на
вопрос, поставленный в заглавии своей интересной статьи «Нацио-
нальный характер — миф или реальность?», отвечает: «Мне
кажется — и то и другое»133, такой ответ не вносит ясности, а
данное им разъяснение этой позиции нам кажется неприемлемым.
И. С. Кон пишет: «Если под национальным характером понимается
некоторая неизменная сущность, свойственная всем людям опре-
деленной нации, отличающая их от всех других этнических групп
и незримо определяющая их социальное поведение, это, с научной
точки зрения, миф. Но как всякий социально-психологический миф,
он отражает определенную историческую реальность: общность вы-
работанных и усвоенных в ходе совместного исторического разви-
тия психических черт и способов действия, закрепленных группо-
вым самосознанием»134. Как первая, так и вторая части этого
рассуждения сами по себе верны. Но связаны они друг с другом
искусственно и нелогично. Национальный характер, понимаемый
как неизменная сущность, — антинаучный вымысел и как таковой
не может отражать историческую реальность. Вышеприведенный
вывод автора противоречит его же правильным рассуждениям о
том, что «если национальный характер историчен, то при изучении
его нельзя не учитывать социально классовых различий. Забвение
этого принципа составляет важнейший порок буржуазных этно-
психологических исследований» 135.
Не претендуя на полноту освещения сущности национального
характера—одного из действительно головоломных вопросов
социологии, попытаемся все же более или менее конкретно рас-
смотреть, какое его понимание является мифичным, а какое ре-
альным.
Каждый класс имеет национальные особенности характера и
можно выделить определенные общие черты проявления характера
132 II. С. Коп. Национальный характер — миф или реальность? «Иностранная
литература», 1968, № 9, стр. 216.
133 Там же, стр. 228.
134 Там же.
135 Там же, стр. 227.
Э. Л. Ваграмов справедливо пишет: «Утверждение этнопсихологов о том.
что судьбы народов предопределяются не расовой принадлежностью, а стан-
дартными формами от поколения к поколению передающейся «культуры»,
которая реализуется в постоянных межличностных (прежде всего внутри-
семейных) связях, попросту прикрывает повой ширмой старые теории»
(Э. Л. Ваграмов. Национальный вопрос и буржуазная идеология. М.,
«Мысль», 1966, стр. 80).
120
разных классов. Но во-первых, не эти черты составляют главное
в содержании характера, а во-вторых, и в форме его проявления
наблюдается разнообразие среди представителей крупных наций,
живущих в различных природных условиях.
Уже из сказанного явствует, что вопрос о «национальном харак-
тере» не может быть решен простым его отрицанием или утвер-
ждением. Необходимо выяснить природу характера, источники его
формирования, а также общее и различное в его проявлениях, с
одной стороны, у людей одной и той же нации, но занимающих
различное социально-классовое положение, а с другой — у люден
различных наций.
Для выяснения указанных вопросов, очевидно, необходимо
обратиться к тем же факторам, которые обусловливают формиро-
вание нации, ее облика. Между тем вместо этого нередко априорно
декларируется неоспоримость общности национального характера.
И хотя тут же делается оговорка, что национальный характер
неуловим, утверждается, что он выражается в общности нацио-
нальной культуры (некоторые уточняют: в общности специфи-
ческих особенностей национальной культуры) и, следовательно,
может быть обнаружен, выявлен именно в ней. Национальное
своеобразие культуры в свою очередь, как уже известно, объясня-
ется искомым характером нации.
Выйти из этого порочного логического круга, видимо, можно,
исследовав сущность самой культуры вообще, национальных осо-
бенностей в частности. Чтобы выяснить, какие элементы культуры
можно считать национальными, посмотрим, что включается в поня-
тие «культура» в целом, что такое культура вообще.
Марксистско-ленинская наука рассматривает культуру как со-
вокупность достижений общества в его материальном и духовном
развитии.
Культура, созданная нациями, народностями, состоящими из
классов с противоположными интересами, неоднородна. В нее вхо-
дит не только все прогрессивное, по и созданное реакционными
классами в своих интересах, во вред трудящимся. В эту культуру
входят также все заимствованное из культуры прошлого и создан-
ное современниками, причем не только созданное самой данной
нацией, но и заимствованное от других народов. Все это составля-
ет культуру нации, а не единую национальную культуру. Культу-
ра по своему содержанию бывает буржуазной (даже черносотен-
ной, клерикальной), демократической и социалистической. Нацио-
налисты и вообще все, придерживающиеся идеалистических взгля-
дов па культуру, игнорируют ее классовую основу и классово-
социальную роль.
Не говоря уже о биологическом направлении в понимании
культуры, исходящем из якобы «неизменной природы человека»,
отметим, что и психолого-идеалистические концепции сходятся в
признании «неизменности способностей человеческой души», в том,
что люди и такие общности людей, как племя, народность, нация,
121
якобы обладают специфической творческой душой, которая и тво-
рит ту или иную культуру.
Выше мы видели, как претендующий быть марксистом О. Бау-
эр доказывал, что нация представляет культурную общность. Он
обосновывал это тем, что каждая нация якобы обладает особым
национальным восприятием и отражением окружающего мира. То
же самое, собственно, утверждают и современные идеалисты.
Как в биологической и антропологической социологии, так и
в идеалистической психосоциологии или этнопсихологии культура
отрывается от порождающей ее материальной основы, от социаль-
но-экономической жизни. В результате появляются концепции «из-
вечных типов», или конфигурации культур, «культурного реляти-
визма», теории «локальных цивилизаций» и т. п. Согласно этим
концепциям взаимовлияния, заимствования культур приводят не
к взанмообогащешпо, а к разложению культур.
В противоположность идеалистическому пониманию культуры
исторический материализм исходит из того, что способ производ-
ства материальной жизни обусловливает социально-политический
и в конечном счете духовный процессы жизни. К. Маркс и Ф. Эн-
гельс различали материальную и духовную культуру, хотя пос-
ледние неразрывно связаны друг с другом и постоянно взаимодей-
ствуют. К материальной культуре относятся прежде всего как
средства труда, техника, так и произведенная посредством их вся
совокупность материальных благ.
Средства труда, техника обычно не носят национального ха-
рактера. Они, как отмечал К. Маркс в «Капитале», отличаются
по экономическим эпохам, являются мерилом развития рабочей
силы и показателем тех общественных отношений, при которых со-
вершается труд. «Такую же важность, какую строение останков
кос гей имеет для изучения организации исчезнувших животных
видов, останки средств труда имеют для изучения исчезнувших
общественно-экономических формаций» 136.
Национальные различия сказываются не в том, как произво-
дится, а в том, что производится: определенный колорит ширпо-
треба, типы жилищ и т. д. Правда, если брать капиталистическую
эпоху, то можно наблюдать прогрессирующую унификацию и в
этой области, особенно в период сильной урбанизации. Этим объ-
ясняется, в частности, то, что в наше время этнографам все труд-
нее и труднее становится показать национальные различия по
одежде, жилищам, особенно городских жителей различных стран.
14 дело тут вовсе не в нивелировке быта, культуры. Наоборт, если
есть определенное уравнение, то это уравнение в развитии, в мно-
гообразии. Такое уравнение особенно характерно для советских
республик, которые благодаря интенсивному взаимовлиянию и
взапмообогащеппю становятся все более похожими по богатству
и многообразию своей культуры. Поэтому, когда профессор
Mr, [< эд арке п Ф. Энгель с. Соч., т. 23, стр. 191.
122
В. Покшишевскпй в своей в целом положительной рецензии на
18-томное издание «Народы мира» бросил упрек этнографам в
том, что по их описаниям советских городов «не поймешь, о каких
национальных республиках идет речь» 137, то, видимо, он не учи-
тывает, что дело тут не только в этнографах. Конечно, этногра-
фические отличия еще имеются в различных районах или произ-
водственных коллективах (шахтеров, текстильщиков и т. д.). Но
они не всегда национального порядка, так как имеются и внутри
одной и той же национальной республики, или не столь всеобъем-
лющи, решающи, чтобы становиться отличительным признаком в
национальном масштабе. Различать развитые нации по их мате-
риальной культуре в целом становится все труднее. В этой об-
ласти интернационализация происходит наиболее интенсивно.
Интернациональный характер носит и значительная часть ду-
ховной культуры. Она, как известно, включает совокупность об-
ществленного сознания во всех его формах, а также навыки, сред-
ства создания духовных ценностей и т. д. В духовную культуру
входят как общественная идеология (теории, идеи, искусство, эти-
ка и т. д.), так и общественная психология.
Отчетливо носят на себе отпечаток национальных особенностей
такие составные части духовной культуры, как литература и ис-
кусство, определенные навыки поведения, привычки и традиции,
уровень и характер воспитанности и т. д. Необходимо, однако,
отметить, что и в этих областях в антагонистическом обществе
нет единой национальной культуры, хотя множество буржуазных
идеологов-националистов в поте лица «доказывает» такую общ-
ность. Положение о том, что раскол нации на враждебные клас-
сы не означает распада нации, вовсе не доказывает, что данная
нация творит единую культуру. Если научные знания носят ин-
тернациональный характер, то общественная идеология: полити-
ческие, правовые, философские, нравственные, художественные и
т. п. взгляды, а следовательно, и общественные науки носят явно
классовый характер. Как было показано выше, такой же характер
носит и общественная психология.
То, что культура в целом зависит от социально-экономическо-
го строя и в классовом обществе носит классовый характер, вы-
ражено настолько отчетливо, что его не мог отрицать даже такой
теоретик «национальной культуры», как О. Бауэр. Он считал, что
нация и есть культурная общность. Но, столкнувшись с неоспо-
римым фактом раскола нации при капитализме на антагонисти-
ческие классы и не имея возможности вывести для них общность
культуры, он сделал вывод, что поскольку у эксплуатируемых
масс нет общей с буржуазией культуры, то эти массы... вообще нс
входят в нацию. «Нация,— писал О. Бауэр,— существует лишь
в силу общности культуры, но эта культура охватывает лишь
137 В. Покшишевскпй. Этнографическая картина мира. «Коммунист», 19о5,
№ 17, стр. 121.
123
господствующий класс; широкие массы, трудом которых этот
класс кормится, находятся вне этой общности» 138.
Несостоятельность и реакционность как надклассовых, так п
бауэровской квазиклассовой теории общности национальной куль-
туры последовательно раскрыл и раскритиковал В. И. Ленин. Ког-
да оппортунист и националист Л. Юркевич стал разглагольство-
вать о том, что лишь те украинцы национально сознательны, ко-
торые не находятся под влиянием русской культуры, и стал про-
тивопоставлять украинскую культуру в целом русской культуре,
В. И. Ленин заклеймил такой подход к нациям как «самое бес-
стыдное предательство интересов пролетариата в пользу бур-
жуазного национализма» 139 140.
В национальной культуре отражается жизнь, но характер этого
отражения обусловлен различными интересами классов, состоя-
нием и уровнем классовой борьбы. В. И. Ленин доказал, что при
капитализме нельзя говорить об общенациональной культуре, по-
скольку она — продукт классовый. Нельзя также всю культуру
нации свести к буржуазной культуре. И это не только потому, что
и эксплуатируемые массы создают свою культуру, но и потому,
что отдельные выходцы из среды господствующих классов в сво-
ем творчестве отражают демократические и социалистические чая-
ния народа.
В. И. Ленин писал о наличии двух наций в каждой современ-
ной нации и двух национальных культур в каждой национальной
культуре. «Есть две нации в каждой современной нации — ска-
жем мы всем национал-социалам, — писал В. П. Ленин.— Есть две
национальные культуры в каждой национальной культуре. Есть
великорусская культура Пуришкевичей, Гучковых и Струве,— но
есть также великорусская культура, характеризуемая именами
Чернышевского и Плеханова. Есть такие же две культуры в ук-
раинстве, как и в Германии, Франции, Англии, у евреев и т. д.» 14°.
Может возникнуть вопрос: а что, разве Пуришкевичп, Гучко-
вы перестают быть русскими? Нет, конечно, но здесь как раз не-
обходимо вспомнить о различии между понятиями «нация» и «на-
циональность». В данном случае одно дело быть русским по на-
циональности, а другое — быть выразителем, защитником интере-
сов развития нации. Поэтому В. И. Ленин в каждой нации видел
«две нации», а не одну «буржуазную нацию».
В. И. Ленин считал недопустимым для марксиста выдвигать,
прямо или косвенно, лозунг национальной культуры. «В каждой
национальной культуре,— писал он,— есть, хотя бы не развитые,
элементы демократической и социалистической культуры, ибо
в каждой нации есть трудящаяся и эксплуатируемая масса,
условия жизни которой неизбежно порождают идеологию демок-
138 О. Бауэр. Национальный вопрос и социал-демократия. СПб., 1909, стр. 51.
139 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 24, стр. 129.
140 Там же.
124
ратическую и социалистическую. Но в каждой нации есть также
культура буржуазная (а в большинстве еще черносотенная и кле-
рикальная) притом не в виде только «элементов», а в виде гос-
под ствующей культуры» 141. Если бы в капиталистическом обще-
стве была единая национальная культура, то ее надо бы охарак-
теризовать как буржуазную культуру, а это неверно. Сказать бур-
жуазная культура пли культура буржуазного общества — это не
одно и то же. В первом случае культура понимается как сплошь
буржуазная, а во втором случае мы получаем возможность клас-
сового анализа культуры капиталистического общества. В первом
случае был бы непонятен процесс преемственности культуры, а
во втором случае ясно, что пролетариат наследует все демокра-
тическое, прогрессивное как от культуры всего человечества в
силу интернационального характера прогрессивной культуры всех
наций, так и от исторических достижений своей нации. В этом
смысле национальное развитие начинается еще задолго до форми-
рования нации. Поэтому формулу В. И. Ленина о «двух культурах»
нельзя замыкать лишь рамками нации 142.
Ленинское положение о «двух национальных культурах», ука-
зывая на несовместимость культур реакционных и прогрессивных
классов, не имеет ничего общего с вульгарным социологизмом,
с подменой культурной революции, призванной обогатить па-
мять трудящихся всеми богатствами, выработанными человечест-
вом,— хунвэйбиновским третированием культурных достижений
прошлого.
В прогрессивной смене общественно-экономических формаций
основоположники марксизма-ленинизма видели поступательное
движение человечества, а следовательно, в развитии культуры ви-
дели эстафету веков. Это движение совершается в классовой борь-
бе, и каждый новый класс, пока выражает интересы прогрессивного
развития общества, создает и прогрессивную культуру. В капи-
талистическом обществе главное уже состоит в том, что проле-
тариат, трудящиеся выдвигают своих идеологов, писателей, ху-
дожников. Но к демократической и социалистической культуре
примыкают и те буржуазные писатели и художники, которые,
стоя на позициях критического реализма, вскрывают пороки ка-
питализма.
Таким образом, культура буржуазного общества не есть толь-
ко буржуазная культура и в том смысле, что эта культура созда-
на не одной буржуазией, и в том, что созданная представителями
эксплуататорских классов культура не обязательно всегда слу-
жит интересам буржуазии. Прогрессивные деятели культуры, вы-
шедшие из среды господствующих классов, так или иначе спо-
собствуют поступательному развитию человечества п его культуры.
141 В. II. Ленин. Поли. собр. соч., т. 24, стр. 120—121
142 См А Б. Хачатурян. Коммунизм и классическое культурное наследие.
«Уч. зап. МГПП им. В II. Ленина», 1961, стр. 209.
125
Ленинское положение о «двух национальных культурах в каж-
дой национальной культуре» позволяет помимо всего прочего раз-
межевать реалистическое искусство от субъективистского.
В то время как буржуазная тенденциозность в искусстве превра-
щает художника в лакировщика и адвоката отживающего строя,
критический реализм позволяет преодолеть классовый субъекти-
визм п показать буржуазное общество таким, каким оно есть
Ф. Энгельс, отмечая, что именно благодаря реализму О. Баль-
зак мог создать «Человеческую комедию» — грандиозную нацио-
нальную эпопею, раскрывающую противоречия всего буржуазного
общества, писал: «В том, что Бальзак таким образом вынужден
был идти против своих собственных классовых симпатий и поли-
тических предрассудков, в том, что он видел неизбежность паде-
ния своих излюбленных аристократов и описывал их как людей, не
заслуживающих лучшей участи, и в том, что он видел настоящих
людей будущего там, где их в то время единственно и можно было
найти,— в этом я вижу одну из величайших побед реализма...»143.
То. что реализм может проявиться, как отмечает Ф. Энгельс,
даже независимо от взглядов автора, свидетельствует о сложном
характере и сложном проявлении мировоззрения художника в его
творчестве, а не о том, что он якобы обходится без мировоззре-
ния. В антагонистическом обществе мировоззрение художников ча-
сто бывает противоречивым, непоследовательным. Они нередко не
разделяют мировоззрения своего класса. В таких условиях, чтобы
решить вопрос, к какой культуре относятся творения тех или иных
художников, недостаточно констатировать классовое происхожде-
ние художника или отметить лишь один из элементов его сложно-
ного мировоззрения. Если бы при характеристике творчества, на-
пример, О. Бальзака или Л. Толстого мы ограничились бы лишь
указанием, что первый был буржуа с легитимистско-монархи-
стским мировоззрением, а второй — граф, выработавший мировоз-
зрение непротивления злу, то мы встали бы в тупик в оценке глу-
бины и всемирного значения их великих творений, нам было бы
совершенно непонятно, почему, по словам Ф. Энгельса, произве-
дения О. Бальзака содержат «самую замечательную реалистиче-
скую историю французского «общества»... с 1816—1848 гг.». Или
почему В. И. Ленин считал, что Л. Н. Толстой благодаря своему
громадному художественному таланту и критическому реализму
стал зеркалом русской революции, несмотря на утопичность и
реакционность толстовства.
Художественное творчество как сознательный процесс, конечно,
совершается не без мировоззрения, а тем более вопреки ему. Но
чтобы понять мировоззрение художника, очевидно, следует видеть,
как реализм становится его мировоззрением. Очевидно, мировоз-
зрение художника следует искать не в его публицистических заяв-
лениях или признаниях, лирических авторских отступлениях и
143 К- Д'! а р к с и Ф. Энгельс. Соч., т. 37, стр. 37.
126
философских размышлениях, встречающихся в его различных про-
изведениях, а во всей художественной ткани этих произведений,
во всей цельности их идейно-эстетического содержания. Только та-
кой подход покажет, что если реалистическое искусство позволяет
художникам создавать прогрессивные произведения вопреки сво-
ей классовой принадлежности и даже личным классовым симпа-
тиям, то это не значит, что они это делают вопреки своему миро-
воззрению в целом. Наоборот, победа реализма в подобных слу-
чаях показывает, что в мировоззрении художника имеется опреде-
ленное прогрессивное содержание, да и что сам реализм имеет
для него значение прогрессивного мировоззрения, и все это позво-
ляет ему создавать художественно правдивые произведения, по-
могающие прогрессу человечества вопреки личным симпатиям и
реакционным сторонам своего мировоззрения.
И в современную эпоху в капиталистических странах многие
художники приходят к народности благодаря критическому реа-
лизму, позволяющему нм правдиво отражать действительность.
Они создают гуманистические национальные произведения обще-
человеческой значимости.
Таким образом, в свете правильного понимания национальной
культуры было бы наивно думать, будто ленинское положение о
«двух национальных культурах» является простым образным вы-
ражением, или что согласно этому положению творения таких ху-
дожников, как М. Лермонтов, Л. Толстой и т. д., могут быть за-
числены в культуру отживающего господствующего класса. На
все подобные недоумения дал ясный ответ сам В. И. Ленин, во-
первых, постоянным подчеркиванием огромной важности понима-
ния раздвоенности нации и ее культуры в антагонистическом об-
ществе, а во-вторых, своей решительной борьбой против Пролет-
культа, сбрасывающего с корабля современности шедевры мировой
культуры, классические традиции и все искусство прошлого. Не-
которые проявления «пролеткультовщины» В. II. Ленин считал бо-
лезнью «левизны», объяснял, что это, собственно, не левость, а
просто несознательность, в целом же «пролеткультовщину» он счи-
тал не детской шалостью, а направлением, враждебным интере-
сам истинной пролетарской культуры и интересам трудящихся,
классовой борьбе и духовному эстетическому росту которых долж-
ны быть поставлены на службу все культурные достижения как
настоящего, так и прошлого, как своей, так и других наций.
В. И. Ленин и до и после Октябрьской революции показывал,
как пролетариат отбирает все ценное, примыкающее к демократи-
ческой культуре и из творений людей, принадлежащих по свое-
му социальному положению к господствующим классам.
Анализ любых примеров отношения В. II. Ленина к подлинной
национальной культуре показывает, что ленинское деление нацио-
нальной культуры на демократическую (а также демократическую
с социалистическими элементами) и буржуазную имеет в виду не
классовую принадлежность творцов той или иной культуры, а то.
127
каким классам служит та или иная культура. Имея в виду это,
и только это, и указывая на неизбежность классового деления на-
циональной культуры в капиталистическом обществе, В. И. Ленин
решительно подчеркивал, что в этих условиях, «кто защищает
лозунг национальной культуры,— тому место среди националисти-
ческих мещан, а не среди марксистов» 144.
Сказанное свидетельствует о том, что В. И. Ленин, собствен-
но, отрицал не национальные особенности культуры, а общность
культуры нации, состоящей из антагонистических классов. Он го-
ворил о «двух национальных культурах в каждой национальной
культуре». Ленинское деление национальной культуры по клас-
совому признаку вовсе не означает сведение ее к классовой культу-
ре, не имеющей якобы никаких национальных особенностей. На-
оборот, В. И. Ленин говорил о двух национальных культурах, под-
черкивая этим не только противоположность их классового со-
держания, но и указывая на то, что та и другая культура выраже-
ны в национальных формах, что однако, не дает право зачис-
лить их в одну общую национальную культуру. Эти две культуры
создаются представителями одной национальности, но разных
«двух наций в одной нации», имеющих социально противополож-
ную идеологию и психологию.
Глубокий смысл ленинского деления каждой нации капитали-
стического общества на две нации и каждой национальной куль-
туры на две национальные культуры в том-то и состоит, что им
отрицается не национальность каждого из классов-антагонистов,
составляющих данную нацию, а только общность их духовного
облика — как идеологии, так и психологии.
Прогрессивные художники создают гуманистические националь-
ные произведения общечеловеческой значимости. Однако Ленин име-
ет в виду еще и весь поток буржуазной, клерикальной духовной
культуры (в том числе и художественной), создаваемой прислуж-
никами реакции и действительно обслуживающей ее. Поэтому,
указывая на то, как буржуа всех наций эту культуру выдают за
общенациональную и прекраснозвучными призывами охранять ин-
тересы «национальной культуры» развращают и одурачивают ра-
бочих, В. И. Ленин писал: «...всякое противопоставление в воп-
росах, касающихся пролетариата, одной национальной культуры
в целом другой якобы целой национальной культуре и т. п. есть
буржуазный национализм, с которым обязательна беспощадная
борьба»145. Искать в отрицании «общностей» культуры и харак-
тера в нациях капиталистического общества национальный ни-
гилизм, разумеется, пет никаких оснований, если особенно учесть,
что эти «общности» имеют место для подавляющего большин-
ства населения нации и полностью, и в своем подлинном существе
проявляются в социалистических нациях.
144 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 24, стр. 122
145 Тлм же, стр. 130
128
, Ленинское положение о «двух культурах» имеет огромное ме-
тодологическое значение для разоблачения буржуазного нацио-
нализма, особенно его таких утонченных разновидностей, как тео-
рий «единого потока» в культуре и «культурно-национальной ав-
тономии», именно потому, что Ленин, обосновывая указанное по-
ложение, глубоко раскрывает сущность культуры вообще, харак-
тер национальном культуры и его соотношение с культурой на-
ции в частности.
В. И. Ленни показывает, что хотя и безнациональной культу-
ры не бывает146, культура вообще—категория не национальная, а
классово-социальная. Национальными являются лишь ее особен-
ности. Это верно и в отношении социалистических наций, культура
которых хотя и не делится на «две национальные культуры», од-
нако имеет не национальное, а социалистическое содержание, про-
являющееся в национальной форме, так как у всех наций и на-
родностей стран социализма имеется социалистическая культура
с национальными особенностями.
Некоторые авторы склонны считать отрицание общности на-
ционального характера и национальной культуры при капитализ-
ме отрицанием их вообще. Приписывая нам подобное отрицание
национального характера, например, литературный критик
Л. Н. Новиченко замечает: «Если, конечно, понимать роль истори-
ка в чересчур узком смысле, то наверное т. Калтахчян и некото-
рые другие авторы правы...»147. Касаясь этого же круга вопро-
сов, К. Бязарти пишет: «То, что для пауки является незначитель-
ным, для искусства становится важным, а .иногда и главным» 148.
Подобные утверждения являются плодом недоразумения.
В моих прежних работах, как и в данной работе, отрицается не
национальные особенности характера и культуры, а то, что счи-
тается общностью характера, культуры в нациях капиталистиче-
ского общества, а также попытки определить национальный ха-
рактер и национальную культуру друг через друга.
Национальные особенности как характера, так и культуры, ко-
нечно. реальности, и их познание важно не только для искусства,
но и для науки, в целом для жизни, если учесть их огромное зна-
чение для правильного руководства национальными отношениями.
В изучении национального характера и национальной культу-
ры ни эстетика не может обойтись без социологии, ни социология
без эстетики. Их задачи в этом отношении не могут быть резко
обособлены друг от друга. Эстетическая наука не может не искать
основу национального своеобразия искусства в первую очередь в
социально-экономических условиях жизни той или иной нации, а
социология не может, указывая па определяющую основу искус-
146См. В. И. Ленин. Полн. собр. соч. т. 24, стр. 120.
147 «Дружба народов», 1967, № 1, стр. 259.
148 К. Бязарти. Национальный характер в искусстве и в действительности.
«Дружба народов», 1966, № 7, стр. 256.
U0
9
С. Т. Калтахчяи
ства, не обращать внимания на специфические закономерности
развития искусства, на его относительную самостоятельность.
Некоторые авторы хотя и признают значение социального для
национального, на деле превращают национальный характер в
априорно данную основу для определения национальной культуры
или, наоборот, считают национальную культуру заранее данной, в
которой можно искать и обнаружить национальный характер. При
всей своей очевидной несостоятельности такой подход, к сожале-
нию, является распространенным. Л. Н. Новиченко в уже цитиро-
ванном выше выступлении, как бы выражая суть априорных пред-
ставлений о национальном характере, говорил: «Вспоминаются
слова моего покойного учителя академика А. И. Белецкого, кото-
рый, подытоживая дискуссию о национальном характере, приводил
острую фразу Вяземского: это, как домовой: все знают, что он
есть, но никто его не видел... Тут мы вступаем в сферу, так ска-
зать, не столько твердых тел, сколько газообразного состояния —
очень неуловимого, очень изменчивого, но все же реально суще-
ствующего» 149.
Но ведь аморфность, неопределенность понятия «националь-
ный характер» получается именно в результате пренебрежения
конкретным историко-экономическим анализом факторов, обуслов-
ливающих, порождающих этот характер. Ссылка на то, что нацио-
нальный характер можно выявить в национальной культуре, мало
что дает, поскольку последняя сама нуждается в объяснении.
Камнем преткновения в спорах о специфике национального
характера и национальной культуры становится то, что решение
проблемы чаще всего ищут в замкнутом кругу этих двух неизве-
стных, пытаясь одно определить через другое: национальный ха-
рактер, мол, выражается в национальном своеобразии духовной
культуры, в частности в литературе и искусстве, а указанное свое-
образие в свою очередь фатально предопределено национальным
характером. На это в последние годы обращалось внимание не
только отдельными исследователями национальных проблем но
и представителями литературы и искусства. Можно привести мас-
су примеров, свидетельствующих о неудовлетворенности писателей,
художников декларативным определением национального свое-
образия произведений литературного искусства национальным ха-
рактером.
В главе второй было показано резко отрицательное отношение
революционных демократов к попыткам наделять пароды одними
положительными качествами независимо от их классового состава.
Против странной мысли славянофилов дать целому пароду ка-
кую-то «безразлично-добродетельную физиономию» выступал и
Салтыков-Щедрин.
В. Оскоцкий, статьей которого «Литературный герой и его на-
циональный характер» в 1966 году была открыта дискуссия на;
149 «Дружба пародов», 1967. № 1, стр. 259. '
130
страницах журнала «Дружба народов», показывает на большом
литературном материале, что подмена изучения национального ха-
рактера эпитетоманией широко распространена.
«Национальное своеобразие литературы начинается с нацио-
нальных характеров героев книг... Непререкаемая, казалось бы,
аксиома,— пишет В. Оскоцкий,— едва ли не первым смутила та-
кого тонкого знатока братских советских литератур, как писа-
тель и критик П. Скосырев. Как будто сказано что-то конкретное, а
по сути ничего не сказано,— размышлял он в одной из статей,
составивших его книгу «Наследство и поиски».— Какими словами
можно определить русский национальный характер? Какими эпи-
тетами очертить границы каждого национального характера? На
все... положительные и отрицательные эпитеты имеют право пре-
тендовать все народы. Что украинцы менее смелы и добродушны,
чем русские? Укажут на склонность украинцев к юмору, у рус-
ских или у казахов, у туркмен? И вот можно растратить всю
свою выдумку и изобретательность и так и не определить в точ-
ных терминах национального характера ни русского, ни грузи-
на, ни украинца, ни казаха, ни туркмена, ни сотен и сотен других
народов-братьев, детей единой человеческой семьи !5°. Шли века,
и то одна, то другая сторона национального характера каждого ге-
роя поворачивалась к солнцу истории, и у каждого класса по-сво-
ему» 150 151.
Может быть, тогда национальное своеобразие искать опять в
сарафанах и зипунах или переплясах и гопаках? Но не они опре-
деляли суть национального даже тогда, когда были основными
атрибутами старого быта. Тем более было бы странно видеть
национальное в подобных элементах, ставших уже этнографичсски-
бытовой «бутафорией».
Отыскать национальное своеобразие характера народа, его
культуры вне социально-исторического (а также природного) свое-
образия народной жизни невозможно.
В призыве вывести специфику как национального характера,
так и национальной культуры, в частности искусства, из самой
жизни некоторые авторы усматривают упрощение вопроса. Напри-
мер, Е. Зингер считает, что за формулой «из жизни» якобы забы-
ваются относительная самостоятельность духовной жизни, ее
специфические закономерности, что «национальное» восприятие
своеобразно и «субъективно» постольку, поскольку искусство не
пассивная фиксация, но и «отношение» к миру152. Последние заме-
150 И Коп, приводя данную цитату до указанного цифрой 150 места, считает,
что II. Скосырев (как и другие) возражает против понятия национального
характера только из-за его расплывчатости. В действительности, как это
видно из дальнейших строк, речь идет о том, что национальный характер
v каждого класса свой. _
151 В. Оскоцкий. Литературный герой и его национальный характер. «Друж-
ба народов», 1966, № 5, стр. 262.
152 См. Е. Зингер. Вопрос намного сложнее. «Литературная газета», 4 фев-
раля 1965 г.
9*
131
чания совершенно справедливы. Но они не означают, что, помня
об относительной самостоятельности развития культуры, можно
забывать ее определяющую основу. Забвение относительной само-
стоятельности, действительно, было бы упрощением, даже вульга-
ризацией сложных проблем, а забвение основ вообще привело бы
нас к полному отрыву от науки. Чтобы избежать как фетишизации
надиональпых особенностей характера, так и отрицания их значе-
ния вообще, важно отыскать их корни в жизни, а затем уже выяс-
нить специфические проявления в культуре, особенно в искусстве.
Мы выделяем искусство (куда включается и литература), ибо
из всех видов духовной культуры именно в искусстве националь-
ные особенности проявляются с большей отчетливостью, ярко и
многообразно.
Искусство отражает национальные формы жизни. Если нация
состоит из антагонистических классов, то их противоречия естест-
венно, отражаются в их национальных чувствах, в формах их
национальной жизни, а затем и в искусстве.
Искусство выполняет свои общественные функции благодаря
тому, что тесно взаимодействует с другими формами общественно-
го сознания. Естественно поэтому, что выраженные в искусстве по-
литические, нравственные идеи, будучи классово обусловленными,
соответственно оформляют и национальные чувства, внося в них
классовую противоречивость.
Любой национальный художник создаст не просто националь-
ный образ, а сложный психологический образ человека с учетом
всех его социальных отношений, куда включаются и национальные
отношения. Поэтому В. И. Ленин постоянно настаивал на учете
наличия «двух наций в каждой современной нации и двух нацио-
нальных культур в каждой национальной культуре», пбо считал, что
в них утверждаются разные, а именно классовые жизненные по-
зиции.
Реакционное искусство, отступая от правды жизни, неизбежно
порывает с наукой, научной философией и моралью. Оно порывает
йместе с тем с интересами народа, нации, а следовательно, и с тем,
что составляет содержание подлинно национального. Важно еще
отметить, что чистого национального искусства — искусства как
бсзклассовых, так и без общечеловеческих элементов, без влияния
других национальных искусств не было и не может быть. Если и
нашлось бы такое искусство, оно, не ставя общечеловеческих эсте-
тических и этических проблем, будучи лишенным познавательного
значения, научно-философского отношения к миру, не могло долго
просуществовать.
Национальное не может пе переплетаться с классовым, так как
оно по своему содержанию есть социальное явление. Оно в своем
содержании всегда имеет также общечеловеческое. Таким образом,
когда говорят о национальном специфическом, по сути дела, имеют
в виду определенные национальные формы выражения общечело-
веческого.
132
У каждого народа, живущего в сравнительно одинаковых, в
первую очередь природных, условиях, вырабатывается определен
ный динамический стереотип художественного видения и воспро-
изведения действительности, так сказать, национально-субъектив-
ная картина объективного мира. Под национально-субъективным
в данном случае понимается не субъективизм, который привносит-
ся, например, господствующими классами любой нации в научное
и художественное отображение действительности, а исторически
выработанное у данной нации особое эстетическое видение мира.
Это особенное также связано с общим (общечеловеческим), но
оно богаче общего тем. что выражает некоторые индивидуальные
черты природы, а также экономического, политического и культур-
ного (в том числе атеистического или религиозного) 153 развития
нации.
Художественный образ чувственно конкретен, но как он видит-
ся, воспринимается, и воспроизводится, зависит от уровня общест-
венного развития человека и от того, на каком национальном ис-
кусстве в данном случае воспитаны его глаза и уши, которые, как
и другие органы чувств человека, являются «продуктом всемирной
истории».
Художественный образ, сочетающий в себе черты живого со-
зерцания и абстрактного мышления, национален в первом и интер-
национален во втором. Разумеется, в художественном образе нет
расчленения на ступени познания. Художественный образ дает
цельную характеристику определенного жизненного явления, но
выделить в ней элементы, носящие национальные черты, возможно
и целесообразно. Такой анализ четче покажет как различие, так и
единство национального и интернационального.
Каждый художник, который с детства живет в определенных
национальных условиях, разделяет заботы жизни и борьбы своего
народа, а также усваивает из народного творчества определенное
эстетическое чувство, художественную речь символов и выражает
подлинные интересы развития своей нации, своего народа, являет-
ся национальным художником. У такого художника вырабатыва-
ется указанными условиями определенный нейродинамический
стереотип восприятия особенностей своей национальной среды, и
естественно, что у него национальные формы жизни находят наи-
более адекватное отражение.
Более того, национальный художник не перестает быть таковым
и тогда, когда отображает инонациональную среду. Художник
мыслит образно и, как правило, в большей мер.? национально об-
разно, поэтому он национален не только тогда, когда имеет своим
объектом привычные национальные особенности. Он сохраняет
свое специфически национально-эстетическое видение и при изо-
153 Проблема взаимосвязи религиозного и национального факторов хорошо рас-
смотрена в книге Я- В. Минкявичуса «Католицизм и нация». М., «Мысль»,
1971.
133
бражении других наций. При всей важности такого видения было
бы ошибкой, однако, преувеличивать его роль, считать его функ-
цией также мышления.
Мышления, логика художника, да и любого человека, не нацио-
нальны. Конечно, абстрактное мышление не существует и не дей-
ствует в отрыве от живого созерцания, а находится с ним в един-
стве. Все ощущения являются ступенью сознания, и мышление
участвует в художественном обобщении тех красок и звуков, кото-
рые наиболее близки и доступны живому созерцанию данного
национального художника. Однако в то время как формы выра-
жения мыслей носят на себе национальный отпечаток, сами мысли,
логика мышления являются интернациональными.
Подлинный художник даже тогда, когда изображает исключи-
тельно родную национальную жизнь, выражает общечеловеческие
идеи. От живого созерцания своей национальной действительности
он идет к художественным обобщениям, имеющим интернациональ-
ное значение.
О том, почему в мышлении нельзя искать национальных разли-
чий, подробно будет сказано в четвертой главе. Здесь же пока от-
метим, что национально-своеобразное, хотя тоже обобщается и
выражается мышлением, не затрагивает природу последнего и ло-
гическую структуру.
На определенной ступени развития человечества защита нацио-
нальных интересов выступает в форме национальных идей. Послед-
ние тоже не противоречат научным идеям развития всего челове-
чества, как правильно понятые национальные интересы не про-
тиворечат интернациональным интересам людей. Излишне гово-
рить уже о том, что и национальные идеи высказываются в обще-
человеческих логических формах мышления.
Художественное мышление имеет свою специфику, оно есть
мышление в образах и чаще всего в национальных образах, но и
оно выражает в конечном счете общечеловеческие идеи. Нацио-
нальные образы служат лишь материалом для выражения этих
идей. Мышление помогает индивидуализировать национально-
типическое, но главное его назначение — раскрыть в национально-
особенном его интернациональные черты, а следовательно, обще-
значимость последних.
Сведение творческой индивидуальности художника к его нацио-
нальной самобытности свидетельствует о сужении первого и рас-
ширении второю понятий. Творческая индивидуальность не выра-
жается только в национальном. Общеизвестно, что различное
художественное видение мира присуще и художникам одной и той
же нации. Конечно, в их переживаниях, отношении к изображен-
ным явлениям и оценке этих явлений проглядывает нечто общее,
порожденное их общей национальной средой. Однако это общее,
отражающее самобытность художников, воспитанных одной и той
же национальной средой, составляет лишь часть — момент твор-
ческой индивидуальности национального художника. С другой
134
стороны, национальную самобытность нельзя понимать как такое
своеобразие, которое якобы присуще только данной нации, не но-
сит на себе посторонних влияний и проистекает, следовательно, нз
якобы автономного, таинственного национального духа.
Одна и та же национальная почва рождает самых различных
по своей индивидуальности художников и их героев. Портреты
этих героев носят на себе отпечаток национальной среды не вооб-
ще, а определенного социального фазиса ее развития. Так, напри-
мер, для А. И. Герцена пушкинский Онегин был не просто русским
типом, а героем произведения, «созревшего под влиянием печаль-
ных лет, последовавших за 14 декабря». Тургеневский же Базаров
свидетельствовал о том, что от Онегиных и Печориных появился
герой, у которого, как говорил Д. И. Писарев, «мысль и дело сли-
ваются в одно твердое целое».
Более того, герои художественных произведений одного и того
же периода социального развития одной и той же нации обладают
самыми различными чертами национального характера.
Отражение как социально-классового, так и интернациональ-
ного в национальном требует всестороннего анализа различных
источников, факторов, образующих сложное понятие «националь-
ная самобытность». Возведение последнего в абсолют, изображе-
ние в данном случае национального искусства как отражение
психического склада, особого духа нации не согласуется с наукой,
но зато хорошо гармонирует с идеалистической точкой зрения,
согласно которой художественное творчество есть самовыражение
художника, вырастающее якобы из подсознательных глубин чело-
веческой психики.
Сторонники подобной точки зрения считают, что то или иное
национальное искусство даже понять, почувствовать по-настоящему
могут лишь представители данной напии.
Ю. Юзовский в «Польском дневнике», описывая свою поездку
в Желязову Волю, родину Ф. Шопена, вспоминает эпизод спора
с одной полькой, происшедший во время слушания там музыки
Ф. Шопена. «Конечно, — пишет Ю. Юзовский — когда мы слушаем
Шопена, мы вспоминаем Польшу, когда едем по Польше — вспо-
минаем Шопена. Но признаться, меня резануло, когда в Желязовой
Воле женщина (кажется учительница), слушая концерт Шопена
и отерев увлажненные глаза, шепнула столпившимся около нее
детям: «Только поляк может по-настоящемч понять Шопена!».
Я нс согласился с этим, так же как не согласился бы, если бы кто-
либо сказал, что только русский способен по-настоящему попять
Достоевского, хотя, слов нет, Шопен — очень поляк, а Достоев-
ский — русский.
Я не удержался, чтобы нс сказать об этом женщине (мы сидели
рядом перед раскрытыми настежь окнами домика, откуда неслись
звуки фортепиано), и добавил, что, например, русские музыканты,
сидевшие за тем же роялем, за которым играет сейчас польская
пианистка, увозили из Польши первые премии шопеновских кон-
135
курсов и жюри давало им эти премии не потому ли, что они «по-
настоящему» понимали Шопена?» 154.
Теория недоступности национально-специфического для других
наций исходит из допущения, что национальное развива.ется только
из своих корней по вертикали. Здесь невольно вспоминается по-
стулат модернистов о недоступности их искусства широким мас-
сам. Если деление искусства на горизонтальное для широких
масс и вертикальное для элиты служит закреплению классовости,
кастовости антагонистического общества, то концепция развития
национального искусства только из своих корней и недоступности
национально-специфического для других наций служит фетишиза-
ции и увековечиванию национальных различий.
Различия, многообразие в искусстве, конечно, есть, они даже
растут, но восприятие и глубокое понимание любого вида, жанра
искусства, в любой их национальной форме доступно всем людям.
Необходимо лишь определенное эстетическое воспитание. Эстети-
ческие чувства, вкусы, способности проникнуть в ткань данного
национального искусства не врожденные качества, а вырабатыва-
ются прижизненно, в определенной среде, воспитанием.
Человек может в совершенстве изучить и понимать любой
национальный язык не только как средство передачи мысли, с его
понятийной определенностью, но и как изобразительно-выразитель-
ного средства со всеми его интонациями, разного рода тропами
или формами иносказания. Иначе говоря, мойсно овладеть любым
национальным литературно-художественным языком, постичь его
словесную образность и понять мысли и переживания, типичные
для людей, говорящих на данном языке, не владея каким-то осо-
бым «национальным духом», какими-то врожденными националь-
ными чувствами.
Человек, способный изучать и понимать любой национальный
язык, также может быть приучен к воприятию и пониманию лю-
бого национального «языка» красок, линий, звуков и их типично
национального сочетания интонаций, колорита. Они лишь средства,
помогающие понимать, раскрывать эту «душу». А люди способны
овладевать любыми средствами. Человеческие зрение и слух,
называемые «интеллектуальными» чувствами, способны к безгра-
ничному расширению диапазона своего видения мира.
Все сказанное ничуть не противоречит тому, что именно люди,
воспитанные в одной и той же национальной среде, более чутко
реагируют на свое национальное искусство 155.
154 Ю. Юзовский. Польский дневник. «Новый мир», 1966, № 2, стр. 192.
155 Хорошую основу для понимания места и значения национальных черт искус-
ства в развитии народов, преимущественного интереса искусства к изображе-
нию определенного круга жизненных явлений в каждую историческую эпоху,
самобытного индивидуального стиля художников не только различных наций,
но и принадлежащих к одной и той же национальности дает содержатель-
ная книга А. Я. Зись «Искусство и эстетика». М., «Мысль», 1967. В ней же
дана глубоко научная критика идеалистической эстетики, истолковывающей
искусство как самовыражение чисто духовных начал.
136
Национальные чувства живо реагируют на национальный пей-
заж в жизни и в искусстве, на батальные и бытовые картины из
истории своей нации на монументальные национальные памятники.
Национальная музыка привлекает, как и родная речь. Их интона-
ции часто сходны. Интонация может выражать национальные осо-
бенности по тембру звуков речи, по ее темпу и ритмике, паузам и
ударениям, а все это может быть переведено на музыкальный
язык, разрабатываться в определенную систему музыкально-выра-
зительных средств.
Национальный характер музыки ярко обнаруживается в ее
мелодических особенностях. Поскольку в музыкальном произведе-
нии большую роль играют ассоциативные представления, то ясно,
что близость национально-музыкального языка сказывается еще
и в том, что он порождает ассоциации с явлениями национальной
жизни.
Хореографический язык также носит на себе национальные чер-
ты, хотя по своему содержанию танцевальное искусство как наи-
более древнее первоначально вообще непосредственно вплеталось
в трудовой процесс и своей ритмикой вызывало ассоциации с от-
дельными элементами труда. Театральное (и кино) искусство как
синтетическое, естественно, также отражает особенности историче-
ского развития различных народов, их национальное своеобразие.
Во всех этих случаях, однако, необходимо оговориться, что нацио-
нальное своеобразие относится главным образом к формам выра-
жения, которые благодаря взаимопроникновению также имеют тен-
денцию к сближению, что особенно ясно наблюдается по регио-
нальным зонам.
Положение: культура каждого народа (нации) имеет древние
корни, создается веками — само по себе правильно. Оно становит-
ся неверным лишь тогда, когда полагают, что существует прямая
генетическая линия в развитии различных этнических общностей
людей и их культур, когда думают, что, например, современные
немцы целиком происходят от германцев средних веков, а те в
свою очередь якобы являются прямыми потомками германцев,
описанных Тацитом; или что французы времен Людовика XIV
якобы представляют франков времен Карла Великого и т. л. Гра-
ницы этнических общностей людей, их культур и даже языков в
средние века были иными, чем в древнее время, а в новое время
иные, чем е средние века,
Наконец, кроме перемешивания этнических элементов беспре-
рывно имело место культурное взаимовлияние и взаимообогащение
народов.
Советский востоковед академик Н. И. Конрад в письме англий-
скому историку А. Тойнби пишет: «Попробуем пройтись по грани-
цам нашего Союза, останавливаясь при этом лишь на больших
участках — отдельных республиках. На самом да пнем конце на-
шего Востока мы видим Бурятию, а культура бурятского народа
ь своем прошлом была самым непосредственным образом связана
137
с культурой Монголии, а через нее — и с культурой Тибета. В Сред-
ней Азии находятся Таджикистан, Туркменистан, Киргизстан,
Узбекистан, Казахстан. Культура этих республик в прежние вре-
мена, особенно в средние века, входила в круг культур иранских
и тюркских народов Среднего Востока, а через них переплеталась
с культурой Северо-Западной Индии, в древности — даже с куль-
турой Кушанского царства, а через Бактрию — и с культурой
эллинизма. Я не говорю уже о сложном переплетении культур
иранцев и тюрков с культурой арабов.
Перейдем к Закавказью. Вот тюркский Азербайджан: кроме
всех указанных связей в его истории свою роль сыграли и связи
с соседней Грузией и Арменией; что же касается культуры грузин-
ского и армянского народов, то, как вы знаете, она в прошлом
неотделима, особенно в Армении, от культур иранской, тюркской,
арабской, от культуры всего христианского Востока, а через него—
и Византии, а в древности — и латинского мира.
Передвинемся с Кавказа в Европу. Вот Украина, в прошлом
Киевская Русь: в этом прошлом она в аспекте культуры была
частью обширного региона, в который входили не только восточ-
ные славяне, но и славяне южные, а частично и западные. Куль-
тура Белоруссии, как и ее история, в прошлом переплеталась с
историей и культурой Литвы и Польши. Культура Литвы историче-
ски связана с культурой русского и польского наропов. Латышский
народ в своем культурном развитии связан как со славянскими,
так и 1ерманскпми народами. Эстонцы — с культурой и славян,
и скандинавов. Я не говорю уже о культуре народа русского, кото-
рая и прямо и опосредованно уже давно связана с культурой боль-
шей части мира. Таким образом, в русле культуры нашей страны
слились самые различные культурные потоки. Может быть, отчасти
и этому мы обязаны тем особо острым чувством единства человече-
ства, которое, в частности, проявилось и в моей работе «Запад
и Восток» ’56.
Факты широкого и глубокого взаимодействия культур народов
особенно разительны своей очевидностью в наше время. И все же
нередко мы встречаемся с расширительным, а потому неправиль-
ным употреблением термина «самобытная национальная культура».
«Самобытный», как известно, означает не просто своеобразный,
оригинальный, самостоятельный, по и протекающий независимо от
посторонних влияний, не похожий на других. Нетрудно видеть, что
употребление термина «самобытный» в последнем смысле («само-
бытная национальная культура, литература и т. д.») неправильно
уже потому, чго никогда нс было и не может быть наций и нацио-
нальных культур, развивающихся абсолютно самостоятельным пу-
тем, независимо от влияния других наций и их культур. Об этом
тем более необходимо помнить, что идеалистические теории о само-
бытном историческом пути различных наций создавались не только 156
156 «Новый мир», 1967, № 7, стр. 178—179.
138
в прошлом, скажем славянофилами и народниками или гегельянца-
ми и кантнанцамп-австромарксистами, но что подобные концепции
сочиняются и в наше время всякими теоретиками локальных циви-
лизаций и «национальных коммунизмов», «национальных марксиз-
мов». Строго научное употребление термина «самобытность» не
может содержать даже намеков о якобы возможности развития
напнй. их литературы, искусства, вообще культуры без взаимо-
влияния и взаимопроникновения, особенно в социалистических ус-
ловиях. Другое дело, что, впитывая в себя достижения других на-
ций, каждый национальный писатель, художник еще больше отта-
чивает свою творческую индивидуальность. Но это не потому, что
якобы в нем сидит какой-то национально-психический ген, а пото-
му, что он должен выразить те национальные особенности, которые
создаются его экономическими, политическими, культурными и
природными условиями жизни. Все это прекрасно поддается исто-
рико-экономическому анализу и объяснению, и нет нужды обра-
щаться к неуловимой «национальной самобытности» и объяснять
различные культуры наций различным движением душ.
Кто полагает, что национальное в искусстве — это лишь то, что
отличает одну нацию от другой, что является исключительной при-
надлежноыъю данной нации, тот исключает из понятия «нацио-
нальное» самое главное — общечеловеческие элементы, тот сводит
национальное только к форме, иногда даже к случайным и времен-
ным проявлениям формы и ставит эту форму выше содержания.
В действительности ни один народ не представлял из себя безо-
конную лейбяицианскую монаду. Даже при древних неразвитых
комм\ никациях не было абсолютно изолированных доуг от друга,
не взаимодействующих народов. Если же отдельные культуры
оставались замкнутыми, то они погибали.
Самобытность не в мнимой независимости от посторонних
влияний. Наоборот, именно те народы ярко проявляли свою инди-
видуальность, самобытность, которые больше вбирали в себя и
перерабатывали «чужое», а не тс, которые, по выражению
Н. Г. Чернышевского, исключительно заботясь о своей оригиналь-
ности, губили эту оригинальность.
В исторический опыт любого народа включаются и усвоенные
им достижения других народов. Исследование, выявление общего,
что имеется у различных наций, не умаляет их самобытности, а на-
оборот, помогает подчеркнуть то оригинальное, что создано на
основе общих достижений, те зерна, которые прибавлены к общему
данным народом. Только выявлением как общего, так и особенно-
го (а пе единичного) у каждой нации можно составить о ней пра-
вильное представление.
О несостоятельности монадных представлений даже в отноше-
нии отдельных цивилизаций примечательные признания сделал в
последнее время буржуазный историк Арнольп Тойнби. «Я пришел
к заключению, — пишет он, — что видеть историю в масштабах
национальных объединений — значит видеть ее неправильно, пото-
139
му что мне с;ало ясно, что ни одно национальное объединение не
является самодовлеющим. Цивилизации, как мне представлялось,
более приближались к «монадам» в понимании Лейбница»157.
В этом, как признается А. Тойнби, он сошелся с О. Шпенглером,
но тут же делает оговорку, что согласен с его теорией локальных
цивилизаций только в отношении прошлой истории, которая если
и имела мочадную структуру, то она была обусловлена прежней
недостаточностью человеческих связей. Далее А. Тойнби сообщает,
что в процессе работы над 12-м томом своего труда «Исследование
истории», озаглавленного «Пересмотры», он также понял, что и ци-
вилизации, как и нации, не были истинными монадами. «Это заста-
вило меня, — признается он, — почувствовать, что структура даже
прошлой человеческой истории менее «монадна», чем я предпола-
гал, когда думал, что открыл действительные «монады» истории
в форме цивилизаций» 158.
Научный анализ подлинной истории народов всегда приводит
к выводу, что национальное включает в себя общечеловеческое,
интернациональное, что считать национальным только то, что
принадлежит только санной нации и больше никому, — значило
представить эту нацию обедненной, не такой, какая она на самом
деле есть.
Говоря о национальных особенностях, важно не забывать, во-
первых. что в них нет ничего иррационального, они не имманенты
нании а вырабатываются ее природными и социально-экономиче-
скими условиями: во-вторых, что часть из этих особенностей явля-
ется или может стать общей для ряда, а то и всех наций.
Авторы, которые стали различать понятие «национальная куль-
тура» от понятия «национальная специфика культуры», правильно
считают, что понятие «национально-специфическое» уже понятия
«национальное» вообще. Но в то время как одни видят, что само
это национальное (особенное) есть так или иначе проявление все-
общего («интернационального»), другие полагают, что националь-
но-специфическое присуще только данной нации и не проявляется
в культуре другой нации. В последнем случае национально-особен-
ное суживается до единичности, оно понимается как нечто имма-
нентное данной нации. Но в таком случае остаемся непонятным,
каким образом происходит взаимообогащение национальных куль-
тур? Ведь те элементы, которые в них сейчас считаются интерна-
циональными, были в свое время тоже особенными, и эти особен-
ности не могли передаваться другим, если бы они не были проявле-
нием всеобщего. Далее, если национально-особенное присуще
только данной нации, если национально-своеобразное, например,
в искусстве порождается ее особой психологией или характером,
то чем же определяется сам национальный характер? Мы приходим
опять к злополучному кругу.
157 «Новый мир», 19G7, № 7, стр. 176
158 Там же.
140
Выйти из этого круга не помогает и так называемая теория
«самовыражения». Как произведения отдельных художников не
являются «самовыражением» своих творцов, творениями якобы
«чистого сознания» независимо от внешнего мира, так и искусство
нации в делом, говоря еще шире — ее культура, не является «само-
выражением» таинственного национального духа, потоком якобы
имманентного сознания нации. Культура каждой нации не созда-
ется совершенно независимо от влияний культур других наций,
как и не является достоянием, доступным только для данной нации.
Культура меньше всего считается с границами, а социальный про-
гресс человечества снимает одну перегородку за другой с пути
взаимопроникновения и взаимообогащения национальных культур.
М. А. Дудин начиная свой доклад «Слово о советской поэзии»
на IV съезде писателей СССР, говорил; «Сообщающиеся сосуды
взаимосвязей разных континентов и языковых культур Земли,
к нашему обшему счастью, ломают стены отчуждения между чело-
веческими душами, а космонавт из глубины Вселенной через иллю-
минатор космического корабля уже глядит на голубую Землю
глазами Сына Земли, глазами воистину нового человека, презрев-
шего границы и условности, человека грядущего гармоничного ми-
ра...» 159. Было бы неправильно воспринимать эти слова просто за
поэтический оборот речи или. что бы то бы еще хуже, видеть в них
национальный нигилизм и космополитизм. Гармоничный мир еще
далек от своего осуществления, но он не утопичен, он складывается
в острой классовой борьбе на наших глазах.
Многие выдающиеся художники предугадали писали и изобра-
жали контуры будущего гармоничного мира. Чтобы понять, что у
таких художников остается национальным, возьмем творчество
наиболее сложного в этом отношении литовского композитора и
художника — М. К- Чюрлёниса, вокруг художественного наследия
которого ведется давний спор, начавшийся еще при его жизни. Во
времена буржуазной Литвы одни отвергали с порога живопись
М. Чюрлёниса, считая ее декадентской и даже бредовой, не содер-
жащей ничего национального, другие наоборот, считали М. Чюр-
лёниса выразителем литовского «национального духа». «Порой
и сейчас, — пишет литовский советский поэт и прозаик Антанас
Венцлова, — слышатся отголоски этих двух направлений в крити-
ке, когда, с одной стороны, с легкой руки вульгаризаторов,
Чюрлёниса художника чуть ли не полностью отрицают, а с другой
стороны, пытаются оживить прежние буржуазные взгляды, согласно
которым Чюрлёнис — это воплощение все того же -<духа нации»160.
Даже в Большой Советской Энциклопедии творчеству Чюрлё-
ниса дана противоречивая оценка. Музыкальное творчество его,
оказывается, «отличается чертами национального своеобразия».
189 «Литературная газета», 24 мая 1967 г.
160 А. Венцлова М. К. Чюрлёнис — художник. В альбоме. М. К. Чюрленис.
32 репродукции. Вильнюс, 1964, стр. IX.
141
а творчество M. Чюрлёниса-художника характеризуется в основ-
ном как Фантастическое, порой мистическое, за исключением от-
дельных полотен, не содержащее якобы ничего национального 161.
До сих пор одни пытаются видеть в живописи М. Чюрлёниса
продукт «национального духа», другие вообще ничего националь-
ного не видят в ней и сближают ее с абстракционизмом.
В действительности творчество М. К- Чюрлёниса дает яркий
пример сплава национального с интернациональным, пример того,
что «самобытное» есть понятие не просто национальное. Совершен-
но прав Антанас Венцлова, который считает, то «творчество Чюр-
лёниса— яркая и самобытная страница в истории не только литов-
ского, но и мирового изобразительного искусства» 162.
Что такое самобытность в общечеловеческом масштабе, хоро-
шо показал в интересном научно-художественном исследовании
творчества М. Чюрлёниса другой виднейший литовский советский
поэт Эдуардас Мсжелайтис. В статье «Мир Чюрлёниса» 163 Меже-
лайтис проводит мысль о том, что гений стремится к всеобщности,
он связывает настоящее с прошлым к будущим. Он больше видит,
больше вмешает в себя. Таким гением он считает М. К. Чюрлё-
ниса, с картин которого звучит цветовая мелодия: голубая музыка
неба, зеленая музыка леса, янтарная музыка моря, серебряная
музыка звезд. При этом главное у М.. Чюрлёниса — его архитек-
турные чертежи будущего мира и воздвигнутые по ним ансамбли
мысли. М. Чюрлёнис — сторонник активной философии, требую-
щей дальнейшего творения мира и человека по законам гармонии
и красоты. Его философия объединяет краски, звуки, поэтическое
слово и, преодолевая горизонты пространства и границы времени,
интуитивно предвидит приход новой космической эры. М. Чюрлёнис
понял, что изменится взгляд человека не только на отдаленные
планеты, но и на свою планету, и на чужие планеты в бесконечных
просторах Вселенной.
Живопись М. Чюрлёниса романтична, в ней ясно проступает
светлая мечта и оптимизм. М. Горький считал, что у М. Чюрлёниса
как раз та романтика, которая не только не противоречит реализ-
му, но органически нужна ему. «Быт, жанр и прочее — все это
хорошо, — говорил М. Горький. — А где же мечта? Мечта где,
фантазия где, я спрашиваю? Почему' у нас Чюрлёнисов нет? Ведь
зто же музыкальная живопись!» Разве «романтике и места нет
в реализме? Значит, пластика, ритм, музыкальность и тому подоб-
ное совсем не нужны реалистической живописи? Мне Чюрлёнис
нравится тем, что он меня заставляет задумываться как литера-
тора!» 164.
161 БСЭ, т. 47. М., «Советская энциклопедия», 1957, стр. 489.
162 А. Венцлова. М. К. Чюрлёнис — художник. В альбоме: М. К. Чюрлёнис.
32 репродукции, стр. XI.
163 См. Э. Межелайтнс. Мир Чюрлёниса «Знамя», 1966, кп. 9.
стр. 137—155.
184 Ф Богородский. Полгода в Сорренто. «Октябрь», 1956, № 6, стр. 157
142
Выдающиеся умы в творчестве М. Чюрлёниса видели открытие
нового художественного духовного мира и подчеркивали его всеоб-
щее значение. «Трудно выразить,— писал Ромен Роллан в 1936 го-
ду,— как взволнован я этим замечательным искусством, которое
обогатило не только живопись, но и расширило наш кругозор в об-
ласти полифонии и музыкальной ритмики. Каким плодотворным
было бы развитие такого содержательного искусства в живописи
широких пространств, монументальных фресок. Это — новый ду-
ховный континент, Христофором Колумбом которого стал Чюр-
лёнис» ,65.
Живопись М. Чюрлёниса имеет глубокое общечеловеческое
философское содержание. Если к этому еще и добавить, что во
многих его работах элементы национальной формы не преоблада-
ют, то можно сделать поспешный вывод о якобы отсутствии нацио-
нальной почвы живописи М. Чюрлёниса. А между тем это далеко
не так. Как справедливо замечает А. Венцлова, «национальный
характер творчества Чюрлёниса-художника проявляется не в даль-
нейшем развитии, претворении или имитации элементов народного
художественного творчества, а более сложным путем — чаще всего
художественной передачей элементов и красок самой природой
или мотивов фольклора» ,66.
Даже в таких сказочных картинах, как «Сотворение мира»,
«День», «Корабль», «Сказка королей», «Демон» и т. д., М. Чюрлё-
нис в перевоплощенной форме (причудливые облака похожи на ог-
ромные корабли, плавающие в поднебесье, цветущие весенние вет-
ви— свечи и т. д. и т. п.) оригинально, но чутко передает литов-
скую природу. Чувствуется (как признавал и сам художник), что
природа родного края — живописнейший Друскининкай, где родил-
ся и вырос М. Чюрлёнис, золотые дюны Ниды, а затем и Кавказ
и Карпаты сыграли большую роль в формировании Чюрлёниса-
художника.
Каким образом символы, аллегории, гиперболы мира выступа-
ют в живописи Чюрлениса как опоэтизированные, трансформиро-
ванные реалии этого земного мира, Э. Межелайтнс описывает так:
«Нида—золотые дюны под лазурным куполом неба. С обеих сто-
рон водные пространства. Зеленоватое, пенящееся море. Голубой
залив. А воздух вибрирует, словно трепещущие на ветру флажки
из голубого, зеленого, желтого шелка, прошитого солнечными ни-
тями, как на одной из картин Чюрлёниса. II это еще не все.
Запрокинем голову. Облака. Белые снежные комья, мотки белого
шелка, гигантские белые горы. А между ними башни, башенки,
замки, голубые озерца, горные речушки. И еще: фантастически
белые крылья птиц, распахнутые для дальнего полета. Потом
пальмовые ветки, купы деревьев. Затем — огромные головы. Ве-
165 «Советская музыка». 1956, № 6, стр. 87.
166 а. Венцлова М. К Чюрлёнис — художник В альбоме: М. К. Чюрлёнис.
32 репродукции, стр. XIII.
143
ликанов, зверей, птиц. Можно бы писать и писать с этих белых,
вереницами проплывающих над Нидой облаков абсолютно кон-
кретные полотна» ,67.
И Чюрлёнис писал. Но писал он не натуралистически. Слова
Жан-Поля Сартра: «В Ниде я нашел Чюрлёниса, Нида — это Чюр-
лёнис», приведенные Э. Межелайтисом, показывают, где и в чем
национальная почва творчества М. Чюрлёниса, а само творчество
хорошо показывает нечто несравненно большее, выросшее из этой
почвы, благодаря ее первому толчку. Нида только помогла
М. Чюрлёнису .художественными средствами создавать филосо-
фию всеобщности и бесконечности. II совершенно прав Э. Меже-
лайтис, когда говорит, что «Чюрлёнис был жителем всего огром-
ного мира, и только потому, вероятно, он смотрел на вещи не-
сколько объективнее» 168.
Мир при жизни М. Чюрлёниса всюду был расколот на враж-
дующие классы, одни из которых строили свое благополучие на
поте и крови других. На своих полотнах М. Чюрлёнис изображает
не этот мир. но он и не бежит от него, как кажется иным. По вы-
ражению самого М. Чюрлёниса, мир представляется ему «боль-
шой симфонией: люди как ноты...», и он создает конструкции бу-
дущих миров из металла, стекла и янтаря, в которых сияет мно-
жество маленьких солнц и звезд человеческой жизни. Он, как за-
мечает Э. Межелайтис, как бы творит антимир, и не потому, что
пе любил существующий мир, а, наоборот, именно пз огромной
любви к нему он создает его совершенного, гармонического ан-
типода.
Указание на своеобразное отражение национальной почвы ху-
дожника в зависимости от содержания, объема интернационально-
го обобщения в его творчестве кажется некоторым авторам ума-
лением национального характера творчества в целом. Так, литера-
турный критик Р. Пакальнишкис не соглашается, например- с
трактовкой живописи М. Чюрлёниса Э. Межелайтисом, считает,
что последний сам в своей поэзии «нередко сталкивался с трудно-
стями, стремясь конкретизировать на национальном жизненном
материале свой обобщенный образ человека»,69. Пакальнишкис
отмечает бережное отношение Э. Межелайтпса к классикам нацио-
нального искусства, по недоволен, что он все же идет в сторону
«обобщенного образа человека». Р. Пакальнишкис пишет: «Однако
поэтические размышления Э. Межелайтпса о классиках имеют
иной смысл. Обращаясь к их творчеству с надеждой нащупать его
богатство и национальный характер, поэт гем самым стремится
конкретизировать, оживить свой образ Человека, одухотворить его
опытом не только личности, но и всей нации, то есть невольно
107 Э. Межелайтис. Мир Чюрлёниса. «Знамя», 19G6, кн. 9. стр. 147.
168 Там же, стр. 152.
169 Р. Пакальнишкис. Проблема национального своеобразия и творческая
практика. «Дружба народов», 1966, № 8, стр. 270.
144
начинает искать в национальных традициях подтверждения сво-
их же эстетических принципов. Так фантастическое мироощуще-
ние переводится им на язык космических понятий. Его искусство
поэт воспринимает как логическую философскую систему, изло-
женную «с помощью.., звуков, линий, цвета». Приблизив художе-
ственный мир Чюрлёниса к своему общему идеалу человека,
Э. Межелайтис видит в нем не только «художника пророчествуе-
мой наступающей космической эпохи», но и архитектора и даже
пророка, ибо, по мнению автора, его «ощущение пространства и
времени... будет свойственно людям будущего»170.
Р. Пакальнишкис считает, что такая трактовка живописи
М. Чюрлёниса является если не отрицанием, то во всяком случае
умалением самобытности гениального литовца. Полемизируя с
Э. Межелайтисом, он пишет, что поскольку «истинно самобытные
национальные произведения искусства рождаются из духовного
опыта самого народа» (при этом неясно, что включается в этот
опыт), а так как национальное своеобразие неуловимо, то «обо-
собление отдельных мотивов творчества художника от его инди-
видуальности, как мне кажется, не помогает проникновению в ре-
альную жизненную почву и национальную природу художествен-
ного наследия гения нашего народа» ,71.
Мы сравнительно подробно остановились на разборе характера
творчества М. Чюрлёниса, ибо, как нам кажется, на этом приме-
ре особенно отчетливо можно видеть ошибки как тех, кто нацио-
нальное выводит из «национального духа», так и тех, кто, не уви-
дев натуралистические или жанровые отображения национальной
действительности у художника, вообще отлучает его от нацио-
нальной почвы.
Материалистическая эстетика не отрицает субъективность ощу-
щений личности, в том числе своеобразия ее национальных чувств,
но она исходит из принципа объективности категории эстетики и
объясняет, как и почему изменяются в ходе общественно-истори-
ческой практики взгляды на прекрасное, возвышенное, героиче-
ское и другие категории эстетики. «Прекрасно то существо, —
писал Н. Г. Чернышевский,—в котором видим мы жизнь такою,
какова должна быть она по нашим понятиям; прекрасен тот пред-
мет, который высказывает в себе жизнь или напоминает нам о
жизни» :72.
Если подойти к творчеству М. К. Чюрлёниса общеисторически,
то, как мы видели выше, его понимание прекрасного мира це-
ликом укладывается в формулу прекрасного Н. Г. Чернышевского.
«Прекрасное по нашим понятиям» уже указывает на то, что
представления о прекрасном формируются исторически, зависят от
•7о р Пакальнишк и с. Проблема национального своеобразия и творческая
практика. «Дружба пародов», I960, № 8, стр. 270—271.
171 Там же, стр. 271. _
172 Н. Г. Чернышевский. Поли. собр. соч. в 15 томах, т. 2, М„ Господи.
издат, 1939—1953, стр 10
10 с Т. Калтахчян
Н5
уровня развития общества. У всех народов как прекрасное в
природе, так и прекрасное, связанное с социально значимыми явле-
ниями, приобрели эстетический характер в ходе их общественно-
исторического развития. II сколь бы неодинаков был исторический
опыт пародов у них при всех различиях объектов, считающихся
прекрасными, нет противоположных понятий прекрасного вооб-
ще. Последние встречаются у антагонистических классов.
Идеалистическая эстетика считает, что в понимании прекрас-
ного нет ничего объективного и общепризнанного. При этом, ког-
да речь вдет о личностях, различия в их восприятии и оценках
прекрасного, обосновывает субъективный идеализм, видя духов-
ную природу прекрасного в том, что она создается сознанием
личности. Поскольку же в отношении нации утверждается общ-
ность чувств, восприятий и понятий прекрасного для всех членов
нации, для обоснования этой общности приходит на выручку
объективный идеализм, который утверждает, что указанная общ-
ность есть проявление родовой сущности явлений и что она соз-
дается мировым духом или богом. К иррациональной области глу-
бинной психики личности пли психического склада наций и на-
родностей относит идеализм также другие категории эстетики.
В противоположность идеализму марксистско-ленинская фило-
софия доказывает, что эстетическое чувство и потребности людей
формируются в ходе их общественно-исторической практики. Что
является общим, а что специфическим в этих чувствах людей
различных национальностей, в их эстетическом отношении к дей-
ствительности, определяется тем общим и различным, что имеется
в их общественно-историческом опыте.
В высокоразвитых, с одинаковым общественным строем стра-
нах национальные различия в ощущении прекрасного в основном
связаны с различиями их природных условий, географической сре-
ды. Это сказывается, в частности, в привязанности одних к гор-
ному, а других — к степному пейзажу, одни воспевают знойные
солнечные края, другие — бескрайние снежные просторы и т. д.
Архитектурный стиль в разных странах складывается с учетом
природных условий, особенностей ландшафта. Природа дает о се-
бе знать п в характере метафор, нередко уподобляющих мысль
человека явлениям данной среды. Национальное своеобразие в
искусстве выступает так же, как отражение особенностей социаль-
но-экономических условий, житейско-бытового опыта различных
наций.
Как переплетается национальное с интернациональным через
живое созерцание и абстрактное мышление, особенно наглядно
можно видеть в народных пословицах и поговорках, в которых
накапливаются и живут несчетные богатства человеческой мысли
и опыта.
Еслп брать пословицы и поговорки разных народов, то не-
трудно обнаружить массу идентичных. Это бросается в глаза
особенно в пословицах пародов, родственных по языку или близ-
146
кпх географически и связанных общностью исторического разви-
тия. По своему смысловому содержанию пословицы народов вооб-
ще сходятся между собой, выделяют общее, свойственное всем на-
циям и народностям.
Пословицы всех народов оценивали различные классы и со-
словия, формы антинародной политики, назначение социальных уч-
реждений угнетателей, смысл грабительских воин и выражали не-
истребимую веру в возможность осуществления социальных идеа-
лов равенства и свободы. В своих пословицах народ противопо-
ставил политике, идеологии, этике господствующих классов свои
политические и этические взгляды.
Прежде всего у народов единая трудовая этика и эстетика,
все они часто говорят в своих пословицах о труде как о главной
ценности жизни, но тут же отмечают, кому достаются плоды их
труда. «Иголка всем шьет, а сама голая» (тадж.). «i портного
спина голая» (турецк.). «У плотника дверь всегда сломана»
(араб.). «Сапожник без сапог» (русск.). «Горшечник пьет воду
из треснутого кувшина» (персид.). «Баям каждый день пир и той,
беднякам каждый день «ах» да «ой» (туркм.). «Богатый ест кебаб,
бедный глотает дым» (тадж.).
В ряде пословиц любого народа ощущается развитие спора с
господствующими классами о всех сторонах жизни. Пословицы на-
родов высмеивают жадных эксплуататоров, плутов и мошенников,
а также легковерных и болтунов, клеветников и подхалимов. По-
словицы осуждают недостатки, встречающиеся у представителей
любого народа.
В пословицах всех народов получили убийственно-саркасти-
ческие оценки религия и ее служители, хотя те же условия угне-
тения и господство религиозной идеологии порождали послови-
цы, призывающие уповать на милость божию.
У всех народов есть пословицы, оспаривающие существование
единой души трудового народа с его кровопийцами. Пословицы,
выражающие острую неприязнь к угнетателям, предостерегающие
от близости к ним, такие, например, как «Поиграешь с собакой —
останешься без полы, поиграешь с нойоном (феодалом)—оста-
нешься без головы», можно найти у любого народа. Эти посло-
вицы наносят удар по теориям официальной народности и под-
тверждают, что в каждой нации две нации, что одна из них — под-
линный народ, призывают к изменению существующих порядков
жизни, борются за права трудящегося человека.
Конечно, имеются и пословицы, показывающие слабые сторо-
ны сознания народных масс, их неумение в силу отсталых усло-
вий своей жизни побороть предрассудки, косность и рутину. Но
и в этом сказывается общность социально-экономических условий
народов. Общим для различных народов антагонистических об-
ществ оказывается даже то, что небольшая часть пословиц любо-
го из них отражает идеологию господствующих классов. II это
обстоятельство показывает, что противоречивость общественных
ю*
147
отношений отражается также в пословичном творчестве народов.
Го, что даже в народных пословицах и поговорках не все народно,
что встречаются консервативные, даже антинародные, национали-
стические пословицы, объясняется забитостью, социальными ус-
ловиями масс, незрелостью и разорванностью их сознания.
Под воздействием господствующей идеологии господствующих
классов у различных народов бытовало немало и националисти-
ческих пословиц, недоброжелательные отзывы о других народах,
национальностях. Примечательно, что народные массы нередко
умели вносить даже в такие пословицы чуждые господствующим
классам толкования. Так, еще Т. Г. Шевченко раскрыл, что на
Украине слово «москаль» имело четкое социальное содержание.
Осуждались, собственно, «москали» не как русские, а москали-
дворяне, москали-офицеры, и соответствующие пословицы приоб-
ретали классовый, а не националистический смысл.
Пословицы каждого народа, таким образом отражают его
историю, быт, обычаи, миросозерцание со всеми их противоречия-
ми. Они дают предельно краткие формулы социально-историческо-
го и житейско-бытового опыта народа.
Ученый-диалектолог, этнограф и писатель В. И. Даль, охарак-
теризовав сборник пословиц как свод народной премудрости, хо-
рошо показал и истинные ее истоки. Он писал: «Что не болит, то
и не плачет»; что не дошло до народа, не касалось житья-бытья его,
то не шевелило ни ума, ни сердца его, и того в пословицах нет;
что впуталось, добром либо лихом, в быт его, то найдете и в пос-
ловице. А чтобы распознать это и дойти до верных посему заклю-
чений о быте народном, нужен не цветник пословиц, не выборка то-
го, что нам нравно, а полный сборник, хотя бы целая четверть
его, как помянуто выше, и не приходилась по нашему вкусу.
«Вкрасне и всяк нас полюбит, а полюби-ка вчерне» 173.
Если источником пословиц являются стоны и вздохи, плач и
рыдания, радость и веселье, горе и угнетение, то источником пос-
ледних является жизнь народа, потому и в пословичном творче-
стве, как в обобщенной мысли народа, выражается и интернацио-
нальное и национальное. При этом В. И. Даль совершенно пра-
вильно отмечает, что нельзя считать национальными только поло-
жительные черты народа. Целая галерея отрицательных героев
любой национальной литературы тому доказательство. II. В. Го-
голь, например, считал, что в его помещиках «отпечатлелись
истинно русские, коренные свойства наши», а Н. А. Добролюбов
называл Обломова типом русской жизни. Конечно, настоящий
смысл подобных высказываний можно понять с позиции анализа
«двух наций в каждой нации», ибо такие типические явления го-
ворят не о характере наций, а о национальной почве, их порождаю-
щей, они свидетельствуют об извращении национального харак-
тера. Нельзя не видеть, что под влиянием эксплуататорских со-
173 В. Даль. Пословицы русского народа. М„ Гослитиздат, 1957, стр. 19.
148
циальных отношений извращался характер и народных масс.
Так, толстовское смирение, непротивление злу, утешительство Лу-
ки, философия Платона Каратаева и т. п., с одной стороны, бы-
ли отражением извращения характера русского народа, а с дру-
гой — способствовали этому извращению и потому были социаль-
но опасными явлениями.
Все качества любого народа формируются на основе его об-
щественно-исторической практики. На этой основе формируются и
его эстетические чувства и потребности, и потому последние отра-
жают не только общечеловеческие, но и национально-специфиче-
ские условия жизни различных народов.
Сильнее, чем любой другой «малый» жанр фольклора, нацио-
нальное своеобразие народно-поэтического видения мира выра-
жают поговорки, широко и часто употребляемые выражения, ре-
чевые обороты, образно определяющие предметы и явления ми-
ра. Образы эти каждый народ берет из своих природно-бытовых
реалий и иных особенностей условий своей жизни. Получается
так, что об одном и том же одно и то же разные народы говорят
различными образами. Так, например, о бессмысленном поступке
русский скажет: «Ехать в Тулу со своим самоваром», араб: «Вез-
ти финики в Басру», китаец: «Разбирать восточную стену, чтобы
чинить западную».
В. П. Аникин во вступительной статье к книге «Пословицы и
поговорки народов Востока» отмечает, что, например, когда пер-
сидская пословица говорит: «Руки наши коротки, а финики на
пальме», то в ее содержании нет ничего такого, что не могло
бы быть свойственно пословицам других народов, и вместе с тем
смысл пословицы передан в образах, характерных для мест, где
они созданы»174. Одни говорят: «Яблоко от яблони далеко не упа-
дет», другие: «Мудрено шишке далеко от ствола упасть». О друж-
ках: «Одного поля ягоды», «Одного сукна епанча», «Одного ба-
рана рога» и т. д. Таких примеров пословиц, объясняемых при-
родными реалиями, как и примеров, отражающих особенности
житейско-бытового опыта, производственного профиля, социально-
экономических и культурных условий жизни народов, можно при-
вести множество. Так, арабская пословица «Выити из бани тяжелее,
чем войти в нее» становится понятной, если знать, что в мусуль-
манских банях плату взимали не при входе, а при выходе. В Ин-
дии, где тулси-базилик считается священным растением, а
Ганг — священной рекой, есть такие пословицы, как: «Тигр в за-
рослях тулси» (ср. «Волк в овечьей шкуре») и «Поработал на бар-
щине, так хоть в Ганге искупался» (ср. «С паршивой овцы хоть
шерсти клок»). О зрелом уме вьетнамец скажет: «В седьмом ме-
сяце у сахарного тростника все соки в верхушке», а малаец и ин-
донезиец пословицу «Пустить козла в огород» передают словами:
174 «Пословицы и поговорки народов Востока» М , Изд-во вост лит-ры, 1961,
стр. 12.
149
«Сажать сахарный, тростник у слона па губе». Встречаются и оди-
наковые пословицы, но с различным социально-историческим со-
держанием. Так, широко распространенная на Ближнем Востоке
пословица «Рука руку моет» говорит о значении товарищеской
взаимопомощи и не содержит элементов осуждения и насмешки,
которые, собственно, составляют основу аналогичной русской пос-
ловицы. Не случайно и то, что встречается много одинаковых пос-
ловиц у народов со схожими природными и социально-производст-
венными условиями. Так, у всех пародов, в жизни которых боль-
шое место занимало коневодство, есть множество пословиц о коне
и всаднике: «Конь — крылья мужчины» (или молодца),— говори-
ли киргизы и татары. «У кого конь, у того крылья» или: «Имею
коня — не знаю горя»,— говорили туркмены.
II в литературе этих народов нередки метафоры, связанные с
образами лихих коней. Так, о хорошем, метком и остром слове в
горах говорят: «Оно стоит оседланного коня». Аварский советский
поэт Расул Гамзатов пишет: если «гора — моя тема, конь — мой
язык», то «стихи—полет на коне»; «собери свои мысли в отборные
табуны, где скакун к скакуну и худших нет между ними». Подобные
метафоры, конечно, понятны не только в Дагестане, и все же они
тоже выражают определенные особенности наций, народностей,
имеющих сходные условия природы, экономики, быта и т. д. В це-
лом художник, воспитанный в определенной национальной среде,
на восприятии ее особенностей, тоньше подмечает и ярко выра-
жает эстетические идеи своего времени в формах национальных
чувств, настроений. Если художники одной и той же нации имеют
возможность обнаруживать разные грани и оттенки эстетического
отношения к действительности, то художники различных наций
вносят в это разнообразие еще и национально обусловленное ви-
дение. Таким же национальным видением обладают члены дан-
ной нации, и потому они воспринимают свое привычное националь-
ное искусство с большим пониманием.
Человек воспринимает пе только непосредственную действи-
тельность, но и ее отражение в произведениях искусства, в кото-
рых объективированы также чувства и мысли художника, его внут-
ренний мпр. Естественно поэтому, что каждый народ проникновен-
нее реагирует па те произведения, в которых объективированы
чувства и мысли, созвучные с его радостью или печалью, любовью
или ненавистью, энтузиазмом или негодованием.
Национальное искусство вызывает сильные переживания, эмо-
циональный настрой, вдохновение у людей, для которых оно яв-
ляется наиболее привычным, попятным и тем самым родным, то
есть у людей, выросших под постоянным воздействием данного
искусства и воспитанных па нем. Народ в своей национальной
музыке, живописи, литературе тоже встречается в первую оче-
речь с общечеловеческими проблемами и сопряженными с ними
чувствами и мыслями, но вдобавок узнает в них свою нацио-
нальную манеру передачи этих чувств, их эмоциональную иито-
150
нацию и легко приходит к выводам, подсказанным не только со-
держанием, но и всей художественной тканью данного произведе-
ния. Национальные чувства читателя, зрителя или слушателя лег-
ко резонируют с их правдиво воспроизведенным художественным
образом. Национальная форма воспроизведения и восприятия
действительности, таким образом, облегчает познание последней и
является ценностью для ее обладателей.
Своеобразие национального искусства дорого членам данной
нации и потому, что оно отображает прекрасное в национальной
действительности (природы, прогрессивных черт быта, тради-
ций), и потому, что отражает любую действительность в близкой
им национальной манере, которая приобретает для них самостоя-
тельную эстетическую ценность. Сама национальная жизнь может
быть и изуродована (в условиях угнетения), и обезображена, но
отображена в искусстве художественно, правдиво и прекрасно.
II такое реалистическое искусство, которое не только изображает
прекрасные явления в национальной жизни, но и прекрасно изо-
бражает любые явления, в том числе безобразные, помогает росту
национального самосознания. Оно близко и дорого народу как под-
линно патриотическое искусство, ибо не только прекрасно отража-
ет то, что есть, но и призывает, помогает строить прекрасную
жизнь. Наконец, национальные средства выражения жизни в ис-
кусстве ценны и тем, что они облегчают приобщение наций к миро-
вой культуре в наиболее понятной и доступной для них форме.
Таким образом, как мы видели, абстрактные определения ха-
рактера, культуры нации, их самобытности не способны раскрыть
сущность этих сложных явлений. Лишь конкретный анализ пока-
зывает место и роль тех или иных культур, их классовую сущ-
ность и национальную форму.
Культура нации, народности является подлинно националь-
ной культурой, когда она представляет прогрессивную, демократи-
ческую культуру трудящихся, подавляющего большинства нации,
а также когда она является культурой социалистических наций и
народностей. Такая культура имеет интернациональное значение.
Она является не только бесценным достоянием данной нации, ее
гордостью и предметом заботы, но и, будучи формой проявления
общечеловеческой культуры, большим вкладом в ее дальнейшее
развитие. Прогрессивная национальная культура представляет ор-
ганическое звено культуры человечества на той или иной ступени
ее исторического развития. Чем развитее культура нации, народно-
сти, тем больше в ней интернациональных, общечеловеческих эле-
ментов, полученных путем взаимообогащения и развиваемых в
данных национальных условиях.
Национальные особенности характера определяются всем бы-
тием нации, в том числе ее культурной средой. Национальная же
самобытность не означает развития наций и ее культуры без взаи-
мовлияний, не означает невозможности сближения, а со временем
и слияния наций и их культур.
151
ГЛАВА IV
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИИ
И ЕЕ ПРИЗНАКИ
V казать па признаки нации (как и любого другого предмета, яв-
ления) можно тогда, когда она уже сформировалась. Прежде чем
говорить о признаках нации, необходимо выяснить, какие условия
сделали возможным и неизбежным возникновение нации.
Такими условиями прежде всего явились сложившиеся капи-
талистические экономические связи достаточно большого коли-
чества людей, а также общности их территории, языка. Эти усло-
вия составляют ту среду, в которой нация возникает, существует
и развивается.
Указав на потребности развития новой, более высокой по
сравнению с феодализмом общественно-экономической формации
как на основу возникновения нации, Ленин не считал, однако, что
сперва возникает капитализм, а затем нация. Процессы их скла-
дывания он рассматривал как происходящие одновременно и во
взаимодействии. Возникновение капитализма требовало и уско-
ряло процессы консолидации нации, а последние активно влияли
на развитие капиталистических экономических связей. В образова-
нии нации участвует ряд факторов. Одни из них, как, например,
общности экономических связей, языка, территории, являются
условием формирования нации, а затем и ее признаками, другие,
как государство, а также особенности культуры, психологии, хотя и
не фигурируют в качестве признаков нации, играют большую, а го-
сударство, когда оно имеется, и решающую роль в жизни нации.
«...Для полной победы товарного производства, — пишет
В. II. Ленин,— необходимо завоевание внутреннего рынка буржу-
азией, необходимо государственное сплочение территории с насе-
лением, говорящим па одном языке, при устранении всяких пре-
пятствий развитию этого языка и закреплению его в литературе»
1 В. II. Лени и. Поли. собр. соч., т. 25, стр. 258.
152
Роль условий возникновения нации, таким образом, не тожде-
ственна роли признаков, указывающих лишь на свойства нации,
по которым мы узнаем ее и отличаем от других общественных яв-
лений. Поэтому следует различать условия формирования нации
от ее признаков. Различать, однако, не значит провести между ни-
ми непроходимую грань и сказать, что условия не могут фигуриро-
вать также в качестве признаков. В действительности такие усло-
вия формирования нации, как общности экономических связей и
территории, становятся затем признаками сформировавшейся на-
ции, ибо по ним мы узнаем, познаем, определяем нацию в от-
личие, например, от классовых и иных человеческих общностей.
Возражения такого порядка, что, мол, общности экономических
связей, территории не могут быть признаками нации, ибо они не
отличают одну национальность от другой2, возникают опять же
из-за отождествления понятий «нация» и «национальность». Ко-
нечно, для однотипных наций характер экономических связей один
и тот же, и по ним не отличишь одну нацию от другой, но это и
не задача признаков пации, последние должны отличать нацию от
других исторических общностей людей.
Условия образования нации не познаются изолированно от нее
самой. II если мы не можем определить нацию, не сказав, что
она в первую очередь характеризуется общностями определенных
экономических связей, территории и языка, то последние, естест-
венно, выступают не только условиями возникновения нации, но
и ее признаками.
В данной главе рассматриваются такие факторы, обусловливаю-
щие возникновение, существование и дальнейшее развитие на-
ции, как общность экономических связей, общность языка, общ-
ность территории, а также общность самосознания и государство
как норма исторического развития наций. Показ исторически пре-
ходящего характера каждого из них послужит вместе с тем и до-
казательством преходящего характера самой нации.
1.
ОБЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
Выше мы уже видели, что основой той или иной формы общ-
ности людей является определенный способ производства. Разви-
тие производительных сил порождает последовательно прогрес-
сирующие производственные отношения — новые типы экономи-
ческих связей людей, а следовательно, и новые формы их общ-
ности.
Возникновение капиталистической экономики, товарного хозяй-
ства стало основным, необходимым условием формирования повой,
2 См. Г. Г. Габриелян. К вопросу об определении нации. «Вести. Еревапск
ун-та», 1968, № |; Ю. И. Семенов. К определению понятия «нация».
«Народы Азии и Африки», 1967, № 4.
153
более широкой (чем ранее) этнической и классово-социальной
общности людей — нации. Капитализм, разрушая средневековые
общинные, цеховые, артельные и т. п. связи, ставил на их место
буржуазные экономические связи, устанавливаемые рынком. В эти
связи с необходимостью втягивались различные племена, народ-
ности, даже расы, а главное — различные классы с противопо-
ложными интересами в силу действия экономических законов то-
варного хозяйства. Складывание указанных связей В. II. Ленин
рассматривал как возникновение национальных связей и считал
последние очень устойчивыми, несмотря на их противоречивость.
Антагонистический, полный противоречий характер капиталистиче-
ской экономической связи не исключает, а, наоборот, усиливает
тенденции к образованию более широких общностей людей.
«...Мы знаем,— писал В. И. Ленин,— что именно развитие проти-
воречий все сильнее и сильнее обнаруживает силу этой связи,
вынуждает все отдельные элементы и классы общества стремить-
ся к соединению, и притом соединению уже не в узких пределах
одной общины или одного округа, а к соединению всех представи-
телей данного класса во всей нации и даже в различных государ-
ствах. Только романтик с своей реакционной точки зрения может
отрицать существование этих связей и их более глубокое значе-
ние, основанное на общности ролей в народном хозяйстве, а не на
территориальных, профессиональных, религиозных и т. п. инте-
ресах» 3.
Здесь В И. Ленин подчеркивает роль капиталистических эко-
номических связей в сплочении людей в первую очередь по клас-
сам в национальном и даже в интернациональном масштабе. Но
в целОхМ проводится неоднократно высказанная им мысль о том,
что необходимым и решающим условием образования нации яви-
лась капиталистическая экономика. Разного рода союзы (общин-
ные, артельные) были и в феодальном обществе, однако в капи-
талистическом обществе «объединяющим, обобществляющим эле-
ментом является крупная машинная индустрия, ломающая сред-
невековые перегородки, стирающая местные, земляческие и про-
фессиональные различия»4.
Так возникают нации, в которых общность экономической жиз-
ни людей определяется не кровным родством пли землячеством, а
связанностью их ролей в крупном капиталистическом производ-
стве, через товарное обращение. Капитализм, разрушая общин-
ные, цеховые, артельные и т. п. связи, ставит на место патриархаль-
ного ремесла и мелкого производства, которые порождают «край-
нюю обособленность, раздробленность и одичалость производите-
лей...»5, крупную промышленность, требующую связи в масштабе
всей нации. В сформировавшейся нации капиталистические эко-
3 В. И. Лени и. Поли. собр. соч., т. 2, стр. 207.
4 Там же, стр. 235.
5 Там же, стр. 424.
151
номические связи выступают уже как ее решающий признак.
В. II. Ленин называет его «экономическим признаком»6.
Этот признак нации часто формулируется как «общность эко-
номической жизни людей». Однако такая формулировка затушевы-
вает противоречивость экономических интересов людей в соци-
ально неоднородной нации, она дает повод думать, что при капи-
тализме существует якобы какая-то «общность экономической
жизни» эксплуататоров и эксплуатируемых. Поэтому следует гово-
рить об «общности экономических связей», имея в виду установле-
ние прочных и широких экономических связей между различны-
ми классами и слоями населения данной страны, между отдель-
ными ее областями и краями, между городом и деревней и т. д.
Конечно, сохраняя формулировку «общность экономической жиз-
ни», можно прибегнуть к оговоркам и сказать, что ее надо по-
нимать в смысле общности экономических связей7, но это не ре-
шение вопроса. Лучше просто заменить двусмысленное выражение
точным.
Некоторые исследователи, чтобы избежать двусмысленности по-
нятия «общность экономической жизни», предлагают термин
«общность хозяйственной жизни». Мысль их заключается в том,
чтобы экономику рассматривать главным образом как народное
хозяйство данной страны и вкладывать в названное понятие «не
только политико-экономический, но и экономико-географический
смысл»8. Нам кажется, что предлагаемая замена ненамного
улучшает дело. Конечно, различные районы вовлекаются в об-
щую хозяйственную жизнь, но люди, классы (да и различные рай-
оны) живут по-разному. Экономика, понимаемая как совокупность
производственных отношений, не помешает, а, наоборот, облег-
чит уяснение сути национальных связей, если мы будем говорить
об «общности экономических связей» людей той или иной нации.
Станет ясным, что представители антагонистических классов име-
ют не «общность экономической жизни», а лишь «общность эко-
номических связей», которая складывается потому, что они неза-
висимо от своей воли вступают в капиталистические производст-
венные отношения.
Что же касается «экономико-географического смысла», то он
должен быть учтен, но не без оговорок. Экономическая география
рассматривает экономические отношения, связанные с территори-
альным разделением труда, но это не значит, что каждая нация
обладает одним определенным профилем специализации своего
хозяйства и четко обособленным своеобразием социально-экономи-
ческих и природных условий. Последние могут быть во многом сход-
ны между отдельными странами. И наоборот, внутри одной и той
® «Ленинский сборник XXX», стр 53.
7 Так поступает, например, М. М. С у ж и к о в. «Вопросы истории», 1968,
№ 6, стр. 97.
f П. М. Рогачев, М. А. Свердлин. О понятии «нация», «Вопросы
истории», 1966, № 1, стр. 35, 36.
155
же страны, в том числе однонациональной, могут быть и существу-
ют различные экономико-географические районы, исторически сло-
жившиеся части страны, различающиеся между собой не только
природными условиями, но и степенью их освоения, уровнем раз-
вития производительных сил. Это необходимо иметь в виду тем
более, что размещение производительных сил и образование эконо-
мических районов при капитализме носят стихийный характер.
Развитие одних районов той или иной страны происходит за счет
других ее районов. Так, например, промышленный север США
процветал за счет эксплуатации и застоя бывшего рабовладельче-
ского юга. Вот почему формирование и укрепление национальных
связей в очень отдаленной степени можно объяснить экономико-
географическими факторами. Экономико-географические особен-
ности должны быть учтены как дополнительные факторы в том
смысле, что, как показал В. II. Ленин в книге «Развитие капита-
лизма в России», вопросы специализации различных районов стра-
ны и общественное разделение труда неразрывно связаны между
собой. Мы приходим опять к выводу, что в основе складывания и
развития национальных связей остаются экономические связи лю-
дей, определяемые капиталистическим способом производства.
Сложившиеся до XX века нации необходимым условием своего
возникновения имели развитие бюргерства, складывание общего
в рамках всей страны капиталистического рынка пли втягивание
в международные капиталистические экономические связи.
Слияние разрозненных областей, земель и княжеств в одно
национальное целое, например в России, В. II. Ленин объяснял
складыванием всероссийского национального рынка. Возникнове-
ние русской, как и любой другой пации, он связывал с генезисом
капитализма, а последний — с вопросом о слиянии отдельных зе-
мель и княжеств, о складывании национального рынка. «Только
новый период русской истории (примерно с 17 века), — писал
В. И. Ленин, — характеризуется действительно фактическим слия-
нием всех таких областей, земель и княжеств в одно целое. Слия-
ние это вызвано было не родовыми связями... и даже не их продол-
жением и обобщением: оно вызывалось усиливающимся обменом
между областями, постепенно растущим товарным обращением,
концентрированием небольших местных рынков в одни всероссий-
ский рынок»9. В работе «Развитие капитализма в России»
В. II. Лепин приводит данные, свидетельствующие о громадном
росте товарного обращения и накопления капитала, о том, как
складывалось во всех отраслях народного хозяйства поприще для
приложения капитала, как торговый капитал превращался в про-
мышленный, создавая капиталистические отношения между участ-
никами производства, и как в эти отношения втягивалось также
сельскохозяйственное население. В. II. Ленни, показывая рост
фабричных и торгово-промышленных местечек и сел, отмечает, что 6
6 В. II. Л е п и п. Поли. собр. соч., т. 1, стр. 153—154
156
их население далеко не исчерпывало еще индустриального населе-
ния России. «Отсутствие свободы передвижения, — писал он,—
сословная замкнутость крестьянской общины вполне объясняют
гу замечательную особенность России, что в ней к индустриаль-
ному населению должна быть отнесена не малая часть сельского
населения, добывающая себе средства к жизни работой в промыш-
ленных центрах и проводящая в этих центрах часть года. Мы гово-
рим о так наз. отхожих неземледельческих промыслах»10.
В. И..Лепин показывает, что внутренний капиталистический рынок
создается параллельным развитием капитализма в земледелии и
промышленности, образованием класса сельских и промышленных
предпринимателей, с одной стороны, сельских и промышленных
наемных рабочих — с другой. Ремесла превращаются в товарное
производство, растет товарность сельского хозяйства, укрепляются
областные рынки, устанавливаются между ними общероссийские
рыночные связи, возникает и развивается общероссийский рынок.
Влияние крупных промышленных центров, отпадение всяких форм
личной зависимости и рост подвижности населения еще больше
усилили сплочение людей в нацию.
Некоторые авторы не считают общность экономических связей
признаком нации на том основании, что иногда в недрах одной
экономической общности возникает и развивается не одна, а не-
сколько наций, как было, например, в условиях всероссийского
рынка. Действительно, русский капитализм втягивал в мировое
товарное обращение Украину, Белоруссию, Кавказ, Среднюю
Азию, Сибирь и т. д., и в рамках всероссийской экономической
общности возникла не только русская, но и другие нации. Однако
этот и другие подобные примеры не опровергают, а подтверждают,
что установление общности капиталистических экономических свя-
зей является необходимым условием возникновения нации. Более
того, Ленин показывает, что капитализм не ограничивается только
внутренним рынком, а «выходит за пределы государства. Поэтому
нельзя себе представить капиталистической нации без внешней
торговли, да и нет такой нации»11. Чтобы это было ясно, необхо-
димо обратить внимание прежде всего на то, что те народности
России, которые не были втянуты в капиталистические отношения,
так и по стали нациями вплоть до социалистической революции.
Кроме того, международная экономическая общность нс исклю-
чает внутринациональные общности экономических связей. Такие
народности в России, как, например, русская, украинская, бело-
русская и др., которые стали нациями, имели не только всероссий-
скую, по и внутринациональную экономическую общность. Милли-
оны людей, вступая в новые, внутринациональные экономические
связи, стали искать пути лучшего обеспечения своих интересов
уже под знаменем собственной нации. Сочетание национальных
10 В. II. Лен и н. Поли. собр. соч., т. 3, стр. 569.
11 Там же, стр. 56.
157
и интернациональных экономических общностей можно проследить
и в других многонациональных государствах. Более того, в новое
и новейшее время возникли и возникают нации также и в таких
странах, в которых капитализм еще не победил, но которые были
втянуты или вовлекаются сейчас в международное капиталисти-
ческое разделение труда. Многие страны Латинской Америки, на-
пример, этим путем преодолевали и преодолевают феодальные
пережитки, формировали национальные связи между людьми из
различных национальностей и даже рас, с различными чертами
психологии, культуры, обычаев.
Наконец, в наше время на основе специфически других эконо-
мических связей происходит национальная консолидация в некото-
рых освободившихся странах. При всех различиях путей формиро-
вания наций одно остается обязательным: преодоление обособлен-
ности и феодальной раздробленности, складывание новых широких
экономических связей. Это подтверждено всей историей образова-
ния европейских и любых других наций и подтверждается приме-
рами консолидации наций в наше время па различных континен-
тах, особенно в Африке и Азии.
Разрушение узких, местных, сословных союзов средневекового
типа прокладывает путь к созданию более широких и особого
характера объединений населения, к созданию новых этнических
и социальных общностей людей — наций. Такие объединения воз-
никают под воздействием экономических факторов, в него вовле-
каются и ассимилируются в определенную нацию люди, происхо-
дящие часто из самых различных племен, национальностей и
даже рас.
Как наиболее наглядный пример образования наций из различ-
ных национальностей и рас под решающим влиянием развития
капиталистических экономических связей рассмотрим характер-
ные процессы формирования американских наций.
Со времени открытия Нового Света его стали заселять народы,
принадлежащие в основном к трем этническим группам: индейцев,
негров, белых и являющиеся выходпами из трех частей света —
Америки 12, Африки и Европы. Из этих народов с различным цве-
том кожи, с различными языками, историческими традициями,
религиозными верованиями и культурными навыками развились
впоследствии современные американские нации. Решающим усло-
вием формирования этих наций явилось складывание общности
капиталистических экономических связей внутри того или иного
экономико-географического района.
При этом можно заметить, что различия в характере развития
капитализма в том или ином районе Американского континента
12 В настоящее время на основе отсутствия у индейцев Америки третьей группы
крови советские ученые выдвинули гипотезу о происхождении всего коренного
населения Нового Света от сравнительно немногочисленных переселенцев
из Азии.
158
обусловили различные пути и характер образования американских
наций. Известно, что в Америке прежде всего возникла североаме-
риканская нация, ибо здесь раньше всех сложились и развились
капиталистические экономические отношения. Колонизация Север-
ной Америки началась в XVI веке Испанией, Францией, Англией,
Нидерландами, Швецией. В XVII и XVIII веках Англия, будучи
наиболее мощной и капиталистически развитой страной, вытеснила
своих соперников и основала на территории США тринадцать ко-
лоний, куда переселялись главным образом разорившиеся кре-
стьяне и ремесленники из Великобритании и Ирландии. Англия
с самого начала принимала меры, чтобы держать эти колонии в
состоянии экономической и политической разобщенности, остав-
ляя их своим аграрным придатком. На первых порах это удава-
лось Англии, и население ее тринадцати североамериканских коло-
ний, исповедовавшие одну религию, имея общий язык, общие обы-
чаи и традиции, не могло объединить своп территории и создать
единую нацию. Тринадцать колоний развивались как феодально-
раздробленные зачаточные государства, пока капиталистический
уклад не сложился настолько, чтобы установить крепкие экономи-
ческие связи между ними и создать единый для них рынок С дру-
гой стороны, капитализм не мог успешно развиваться в колониях,
пока они были привязаны к метрополии, консервирующей в них
хозяйственный застой и раздробленность.
Такое положение долго продолжаться не могло. Капитализм
в североамериканских колониях Англии развивался нарастающи-
ми темпами и его удерживать далее в феодально-колониальных
оковах было невозможно. Для всех тринадцати колоний вопрос
национального единства и национальной независимости стал во-
просом жизни и смерти. Разразилась североамериканская буржу-
азная революция (1775—1783 годы), названная В. И. Лениным
«одной из тех великих, действительно освободительных, действи-
тельно революционных войн, которых было так немного...»13.
Против Англии дружно выступили все тринадцать колоний, свя-
занные общими экономическими интересами. Активное участие в
борьбе против колонизаторов-англичан принимали и негры.
В 1776 году 2-й континентальный конгресс в Филадельфии принял
декларацию национальной независимости, провозгласившую обра
зование самостоятельного государства — Соединенных Штатов
Америки. Американский народ освободился от колониального гнс
та и искусственной раздробленности своей территории и экономи-
ки, препятствовавших развитию производительных сил. Преодоле-
вая некоторые сепаратистские тенденции в штатах, капиталистиче-
ские экономические связи бывших колоний обеспечили создание
в них единой нации с единым национальным государством. В этой
новой американской нации уже в то Бремя а еще больше в даль-
нейшем стали ассимитироваться представители самых различных
13 В И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 37, стр. 48
159
национальностей, что было наглядной демонстрацией решающей
роли общности экономических связей в создании нации. «Как
известно — писал В. И. Ленин, — особо благоприятные условия
развития капитализма в Америке и особая быстрота этого разви-
тия сделали то, что нигде в мире не перемалываются так быстро и
так радикально, как здесь, громадные национальные различия
в единою «американскую» нацию» 14.
И в других американских странах необходимым условием кон-
солидации нации было складывание прочных капиталистических
экономических связей. Вместе с тем для быстрого развития капи-
тализма в этих странах необходимо было достижение ими нацио-
нальной независимости. Требование национальной независимости
стало всеобщим для американских стран, оно послужило основой
единства действий почти всех классов в революциях западного
полушария. В результате этих революций была провозглашена
национальная независимость в США, Гаити, Парагвае, Венесуэле,
Аргентине, Чили, Колумбии, Мексике, Перу, Коста-Рике, Сальва-
доре, Гватемале, Гондурасе, Никарагуа, Бразилии, Эквадоре, Бо-
ливии, Уругвае, Доминиканской Республике, в Канаде, на Кубе,
в Панаме. «Интересы нарождавшегося в Америке капиталистиче-
ского строя, — писал У, 3. Фостер, — настоятельно требовали пре-
вращения примитивно организованных колоний в государства с
централизованным управлением. Исторический процесс образова-
ния таких государств продолжается непрерывно вплоть до наших
дней. Революция положила начало движению за создание нацио-
нальных государств, в результате которого вся прежняя колони-
альная система вскоре претерпела коренные изменения. На месте
прежних колоний возникло двадцато два государства, обладающих
в большей или меньшей степени своим политическим обликом
и национальной независимостью» 15.
Почему, однако, в то время как революция в английских вла-
дениях в Северной Америке объединила все 13 колоний в единую
нацию и с течением времени создала из них сильное единое нацио-
нальное государство, революция в испанских владениях в Америке,
наоборот, привела к распаду колониальной империи на большое
количество самостоятельных государств? Ведь население испанских
колоний имело общий (испанский) язык, общие во многом тради-
ции и обычаи, исповедовало одну религию и боролось против об-
щего врага. Более того, были многочисленные попытки со стороны
отдельных деятелей американских революций объединить амерп-
I анские республики в одну нацию, принимались даже сответству-
ющие решения на некоторых панамериканских конференциях.
В 1848 году на конференции нескольких государств в Лиме было
принято специальное решение, в котором прямо заявлялось, что
«американские республики, объединяемые общим происхождени-
" В. И Ленин Поли собр соч , т. 30, стр. 354—355.
У. Фостер. Очерк политической истории Америки. М., ПЛ, 1953, стр. 238.
160
ем, языком, религией и обычаями, а также общим делом, которое
они защищали, имея одинаковые институты, а главное — общие
потребности и общие интересы, должны считать себя как бы
частями одной и той же нации» 16. И все же объединения не про-
изошло. Разные результаты объясняются тем, что в числе условий,
способствующих объединению, не оказалось самого решающего;
общности экономических связей между испанскими колониями.
Последние были разбросаны территориально, не имели удобных
дорог, буржуазия была слаба, а латифундисты резко выступали
против любых объединительных планов. При таком положении
хотя и с трудом, но все же создаются общности экономических
связей внутри отдельных стран, но создание подобных общностей
между различными странами исключается, если даже они явля-
ются соседями и имеют население с единым языком, общими тра-
дициями и т. п. В то время как сепаратистские тенденции в США
разбивались сильными капиталистическими экономическими свя-
зями, в Латинской Америке отсутствие подобных связей сыграло
на руку сепаратистам.
Пример возникновения и развития латиноамериканских наций
как нельзя нагляднее иллюстрирует значение и место общности
экономических связей в образовании и характеристике наций.
В самом деле, отсутствие общности экономических связей между
бывшими испанскими колониями при всех их других общностях не
позволило им объединиться в единую нацию. И наоборот. Наличие
общности экономики отдельных районов той или иной страны
объединяло населяющих ее людей в единую нацию, несмотря на
различия их национального и даже расового происхождения.
Нигде в мире нет такого сложного смешения народов, как в Аме-
рике. Американские (особенно латиноамериканские) нации образо-
вались из смеси, в различных пропорциях всех трех крупных этни-
ческих групп, составляющих население западного полушария:
американских индейцев, принадлежащих к американской расе,
родственной монголоидной, африканских негров и белых европей-
цев различных национальностей.
У. 3. Фостер, отмечая консолидацию в единую нацию с други-
ми этническими группами и национальностями также индейцев,
указывает на две распространенные ошибки. Он показывает, что
индейцы вовсе не являются «исчезнувшей» расой, и ссылается на
материалы Всеамериканской конференции индейцев, созванной
в 1940 году в Патскуаро (Мексика), которая определила числен-
ность индейского населения всего западного полушария в 30 мил-
лионов. Если же считать всех тех, в ком течет хотя бы капля
индейской крови, то их окажется, вероятно, от 60 до 80 миллионов17.
Некоторые специалисты по Латинской Америке вообще половину
населения э^ого континента причисляют к индейцам. Другим глу-
6 У. Фостер Очерк политической истории Америки, стр. 262.
17 См. там же, стр. 67.
11 С. Т. Калтахчян ’^1
боким заблуждением У. Фостер считает мнение о том, будто ин-
дейцы во всех странах западного полушария живут изолированно,
подобно индейцам США, и сохраняют свой старый племенной
уклад. Правда, пишет У. Фостер, «в Мексике и других странах с
преобладающим индейским населением значительное число индей-
цев живет в самых первобытных условиях. Тем не менее подавля-
ющее большинство живет в обстановке капиталистических отно-
шений и в основном во власти его экономических и политических
законов» 18.
Власть этих законов и перемалывает национальные различия,
создает единые нации из самых различных этнических элементов.
Что из себя представляет, например, мексиканская нация? Извест
но, что Мексику — географически многообразную горную страну —
с древних времен населяли индейские племена. Испанские конкви-
стадоры к концу XVI века в основном завершили завоевание и
колонизацию этой огромной страны. При этом важно отметить, что
конквистадоры облегчили решение своей задачи тем, что исполь-
зовали языковые различия, разобщенность, а то и враждебность
различных этнических групп коренного населения друг с другом.
Были установлены феодально-крепостнические отношения. Затем
из Африки были вывезены негры —рабы. Они тоже делились на
различные племена, каждое из которых имело свой язык и рели-
гию. В Мексике, таким образом, оказались все три основные этни
веские группы—-европейцы, индейцы и негры-африканцы. Несмо-
тря на то что вновь прибывшие испанцы считали себя высшей расой
даже в отношении родившихся в колонии потомков своих сооте-
чественников-креолов, и на то, чго последние в свою очередь тре-
тировали индейцев и негров, шел процесс смешения всех групп и
в первую очередь индейцев и испанцев. Этот процесс стал особен-
но интенсивным в период развития капиталистических отношений
в Мексике. По данным 1930 года, 3,4 млн. индейцев из их общего
числа 5,6 млн. вообще перешли на испанский язык, который при
этом приобрел местное своеобразие. Стало характерным также
смешение местных дохристианских верований с католическим цер-
ковным ритуалом. Прочные экономические связи по всей терри-
тории страны и образовавшаяся на этой базе языковая общность
стали основой складывания мексиканской нации.
Советский этнограф Я- Г- Машбиц в статье «Некоторые соци-
ально-экономические и географические аспекты консолидации
мексиканской нации», отмечая, что «буржуазные исследователи,
различные социал-реформистские авторы считают важнейшей чер-
той нации общность ее психологического склада», показывает, как
эта концепция используется для отрицания существования наций,
которые самым явным образом не обладают такой общностью.
Так, мексиканский социолог К. А. Эчанове Трухильо отрицает мек-
сиканскую нацию на том основании, что «разнообразие гсографи-
18 У Фостер. Очерк политической истории Америки, стр. 68.
162
ческой среды повлияло на формирование локально-регионального
мировоззрения мексиканцев и препятствует появлению подлинного
национального патриотизма». И У. П. Таккер пишет: «В Мексике
можно говорить о наличии «множества Мексик», это страна ло-
кальных региональных культур и патриотизма» 19.
Ошибка подобных утверждений заключается в том, что их
авторы основу нации ищут не в экономических связях, а в общно-
сти «психического склада». А так как в различных районах боль-
ших стран встречается большое разнообразие черт психологии,
обычаев, культуры, то на этом основании сторонники психологиче-
ских объяснений сущности нации отрицают существование той или
иной напии, хотя она есть и развивается на основе общих эконо-
мических связей, общей территории и единого языка.
Примеры экономико-географического, а также психологиче-
ского разнообразия дают многие крупные нации, но для капитали-
стической экономики оно не является непреодолимым препятстви-
ем на пути консолидации людей в нацию. Более того, экономико-
географическое разнообразие создает даже лучшие условия для
разделения труда в единой капиталистической экономике. На при-
мере Мексики Я. Г. Машбиц убедительно показывает, как капита-
листическая экономика преодолевает огромную этническую черес-
полосицу и создает нацию из различных племен и рас. «Капитали-
стическое развитие Мексики, — пишет он, — не только втягивает
в систему капиталистического хозяйства изолированные в недав-
нем прошлом территории, но и ломает племенные и общинные
перегородки, ведет к ассимиляции индейцев»20.
В Латинской Америке в настоящее время вообще трудно опре-
делить точную численность каждой из основных трех расовых
этнических групп. У. 3. Фостер приводит свидетельства различных
авторитетов, которые показывают, что по обычаям латиноамери-
канских стран человека считают белым по его имущественному
и социальному положению или браку, если даже он по происхож-
дению не является белым. Так, один из авторитетов заявляет, что
«в Мексике, Перу или Бразилии индейцем считается всякий, кто
живет как индеец, независимо от чистоты его крови, и наоборот,
человек чистой индейской крови, отказавшийся от индейского
уклада жизни, становится вследствие этого белым, и в обществен
ном, и в политическом отношениях». По словам другого авторите
та, «в Боливии индеец перестает быть индейцем и становится
метисом, как только он перестает носить индейскую одежду, а при-
обретая земельную собственность, он перестает быть и метисом
и становится белым высшего класса»; третий пишет: «Один при-
езжий в Пернамбуко (Бразилия) заметил, что мэр города-—му-
лат. Местный житель ответил ему: «Он был мулатом, но сейчас
уже не мулат. Мэр города не может быть мулатом»21.
19 «Нации Латинской Америки». М, «Наука», 1964, стр. 137.
20 Там же, стр. 138.
21 У. Фостер. Очерк политической истории Америки, стр 779—-780
И* КЗ
Если так обстоит дело в отношении принадлежности людей к
этническим группам, то тем более принадлежность к той или иной
нации определяется не племенным или национальным происхожде-
нием, а тем конкретным национальным самосознанием, которое
вырабатывается у отдельных групп людей в силу их конкретной
общности социально-экономических связей. Конечно, процессы
интеграции различных национальностей в ту или иную нацию про-
исходят не прямолинейно, наоборот, они отличаются большим
многообразием и сложностью. Наряду с сильными тенденциями
к ассимиляции различных этнических групп в западном полушарии
действуют также тенденции к сохранению расовых и национальных
границ. Однако все это не опровергает, а, наоборот, еще больше
подчеркивает значение экономических факторов в образовании на-
ции. Именно социальное положение индейцев и негров в США
мешает их слиянию с белыми. Демаркационная линия между бе-
лыми и черными американцами в США идет по соииалыю-расовой
линии.
Неотъемлемая черта негров США состояла и состоит в их стрем-
лении добиться безоговорочного признания за ними всех прав лю-
дей, принадлежащих к американской нации.
XIX съезд Компартии США констатировал, что «черные сейчас
не составляют нации», но вместе с тем записал в своем решении:
«Так как мы придерживаемся принципа пролетарского интернацио-
нализма, мы не ставим никаких ограничений для дальнейшего раз-
вития национальной борьбы черных, удовлетворения их стремлений,
включая их право на самоуправление и на осуществление права на
самоопределение»22.
Стремление получить в первую очередь равные с белыми граж-
данские права характерно и для индейцев западного полушария,
особенно в странах, где они живут большими массами. В этом от-
ношении особый интерес представляет национально-освободитель-
ная борьба кечуанского народа, проблема его национальной кон-
солидации.
Кечуа — крупнейший из современных индейских народов Южной
Америки, численностью около 7—8 млн. человек, расселены в стра-
нах Андийского нагорья (Перу, Боливии, Эквадоре и некоторых
прилегающих к ним районах Аргентины, Чили и Колумбии). В на-
чале прошлого века в результате усиления борьбы за независимость
испанская колониальная система распалась. Четыре испанских
вице-королевства превратились в девятнадцать самостоятельных
государств. Некоторые из них раньше составляли единое инкское
государство, в котором племена кечуа занимали привилегирован-
ное положение. Один из руководителей войны за независимость
испанских колоний Боливар Симон попытался создать южно-
американское федеративное государство, что, однако, оказалось
22 «Daily world», N. Y, 1969, Mug 15, p. 9.
164
неосуществимым одними диктаторскими мерами без общности
прочных экономических связей между объединяемыми странами.
В 1830 году власть Боливара повсеместно (в том числе и в Перу,
Боливии и Эквадоре) была свергнута. Единая этническая тер-
ритория кечуа оказалась рассеченной границами четырех госу-
дарств.
Социально-экономическая отсталость стран Андийского на-
горья, наличие в них многочисленных феодальных пережитков
обусловили чрезвычайно медленное развитие капиталистической
экономики, тормозили формирование единого внутреннего рынка
в каждой из этих стран. Такое положение явилось основным пре-
пятствием формированию кечуанской народности в нацию. Кечуа,
как правило, наиболее эксплуатируемые трудящиеся — крестьяне,
горнорудные и фабричные рабочие. В своем большинстве кечуа
в ряде стран являются арендаторами-испольщиками (янако-
нами) или зависимыми от помещиков вследствие кабалы батра-
ками (пеонами). В горной промышленности кечуа, например, в Бо-
ливии используются как чернорабочие на изнуряющих работах
и получают меньшую заработную плату, чем белые, подавляется
их язык, культура, национальное самосознание. В условиях, когда
классовый гнет совпадает с национально-расовым гнетом, естест-
венно, вопрос о национальной консолидации приобретает характер
классовой солидарности. Трудящиеся кечуа различных андийских
стран обнаруживают симпатии и тяготение друг к другу, а не к
своим эксплуататорам-креолам.
Здесь только необходимо не забывать, что сами симпатии имеют
социально-экономическую подоплеку. Когда родственные народно-
сти, живущие в различных государствах в тяжелых условиях со-
циально-экономического гнета, осуществляемого на основе расовой
дискриминации, стремятся объединиться друг с другом, то это зна-
чит, что они именно в этом объединении видят лучший путь для ре-
шения своих социально-экономических и культурных проблем, для
избавления от невыносимого социального и национального гнета,
от политики и практики насильственной ассимиляции. Сознание
своей этнической принадлежности само по себе не может быть ре-
шающим фактором в консолидации нации, оно получает превали-
рующее, решающее значение в специфических условиях. Не будь
невыносимых условий национального угнетения в рамках отдель-
ных государств, не возникли бы и тенденции к образованию нацио-
нально-однородного государства, ибо историческая тенденция раз-
вития всех стран идет к росту многонациональное™, и искусствен-
ные попытки обеспечить во что бы то ни стало национальную одно-
родность нации оказываются не в состоянии преодолеть естествен-
ное единство разнородных этнических элементов, интеграцию раз-
личных национальностей, порождаемые устойчивой общностью эко-
номических связей.
По какому пути пойдет консолидация кечуа в нацию: по пути
объединения со своими согражданами или с соплеменниками — все
165
будет зависеть в первую очередь от решения социально-экономиче-
ских проблем. Углубление прогрессивных социально-экономических
преобразований, например, в Перу и Эквадоре уже показывает
стремление кечуа идти по первому пути.
На примере любого народа можно показать, что вопрос его
национальной консолидации связан с решением стоящих перед
ним социально-экономических проблем. По этой причине образо-
вание нации своей основой имеет экономические факторы, и глав-
ное влияние на формирование облика нации, на ее дальнейшую
эволюцию оказывают классы и их борьба. Пример латиноамери-
канских наций особенно показателен тем, что они образовались
и образуются не только из различных национальностей и рас, но
и в острой борьбе феодальных и капиталистических классов. В пре-
делах Латиноамериканского континента и даже в пределах каждой
из латиноамериканских стран одновременно существуют и вражду-
ют между собой самые различные социально-экономические укла-
ды: от примитивно-общинного сельского хозяйства до развитой ка-
питалистической индустрии. Покончив с испано-португальским ко-
лониальным господством, страны Латинской Америки стали неза-
висимыми уже с первой половины XIX века. Однако бурно разви-
вающийся североамериканский капитализм шаг за шагом стал
сперва экономически, а затем и политически закабалять весь Аме-
риканский континент. Развитие стран Южной и Центральной Аме-
рики, как и развитие внутри каждой из них, шло весьма неравно-
мерно. И в настоящее время можно видеть рядом районы с силь-
ными феодальными и полуфеодальными пережитками и районы
с развитой капиталистической индустрией.
Капиталистические экономические отношения как база нации
практически имеются во всех латиноамериканских странах. Но
если одни из них, как Аргентина, Бразилия, Мексика, достигли
в ряде отраслей хозяйства высокого уровня индустриализации,
то во многих латиноамериканских странах преимущественное раз-
витие получила какая-нибудь одна отрасль хозяйства, например
горнодобывающая в Боливии, Перу, Чили, нефтяная в Венесуэле,
производство кофе в Колумбии и т. д. При всей однобокости такого
развития экономики все же большинство населения вовлекается
в общность экономических связей, хотя в условиях сочетания фео-
дальной и империалистической эксплуатации различные классы
латиноамериканских наций по-разному участвуют в процессах на-
циональной консолидации. Латифундисты олицетворяют феодаль-
ную раздробленность и являются антинациональной силой. Бур-
жуазия латиноамериканских стран не только не боролась за ради-
кальное уничтожение полуколониальных и полуфеодальных струк-
тур, но, «напротив, буржуазия в большинстве случаев выступила
как еще одна социальная преграда на пути этой борьбы».
Поскольку сплочение нации в указанных условиях происходит
в борьбе против главных врагов нации — местной олигархии и им-
периалистических монополий США, то основными силами этой
166
борьбы остаются рабочий класс, крестьянство, а также так назы-
ваемые средние слон, патриотически настроенные военные и про-
грессивная интеллигенция. Вместе с тем и среди буржуазии имеют-
ся определенные слои, которые могут выступать в защиту нацио-
нальных интересов и с этими слоями трудящиеся заключают так-
тические союзы. Борьба этих сил против местной олигархии, фео-
дальных и полуфеодальных отношений в деревне и против господ-
ства американского империализма над национальной экономикой
есть вместе с тем борьба за сплочение и развитие нации. Совмест-
ная борьба всех прогрессивных сил народа той или иной страны
за экономическую независимость и суверенитет, за национализа-
цию иностранных компаний, экспроприацию латифундий, раздел
земель и всестороннее развитие хозяйства — вот что в первую оче-
редь вырабатывает и развивает национальное самосознание, кон-
солидирует нацию.
С тридцатых годов происходит постепенное слияние националь-
ных движений, в том числе национально-индейского движения
с пролетарским. Во всех странах созданы коммунистические пар-
тии, а в некоторых из них также мощные профсоюзные центры.
Учащаются случаи совместных выступлений индейцев, метисов и
креолов за общие классовые и национальные требования.
Ряд деятелей коммунистического и рабочего движения Латин-
ской Америки отмечает, что во многих странах рабочий класс
в силу определенных причин еще не стал во главе общенациональ-
ной борьбы, ио он при всех случаях является самой прогрессивной
силой п вместе с крестьянством, городской мелкой буржуазией, ин-
теллигенцией и студенчеством составляет фронт борьбы за нацио-
нальные интересы. Более того, успешное завершение этой борьбы
зависит от того, как рабочий класс парализует попытки буржуазии
взять в свои руки руководство нацией, а сам становится ее
гегемоном.
Сплочение нации бывает прочным и решение национальных
задач успешным, когда рабочий класс — последовательный вырази-
тель п защитник национальных интересов — выступает организо-
ванной силой и становится гегемоном всех национальных сил.
В этом случае не страшны союзы и с национальной буржуазией.
Бояться непрочных союзов с ненадежными союзниками, говорил
В. И. Ленин, может лишь тот, кто сам на себя не надеется. Уча-
стие в борьбе против латифундизма, а также американского импе-
риализма за подлинную национальную независимость и суверени-
тет рабочих, крестьян, интеллигенции, студенчества и других про-
грессивных сил придает этой борьбе общенациональный характер.
Последний в свою очередь облегчает достижение единства рабочего
класса и его союз с остальными прогрессивными силами.
Можно было бы показать, что и в Азии и Африке границы сфор-
мировавшихся или формирующихся наций не всегда совпадают
с границами языка и вообще этнических групп. В современную
эпоху в странах Азии и Африки на основе экономического сплоче-
167
ния складываются новые нации из ранее разрозненных и даже
враждовавших при господстве колониальных держав, племен. При
этом интересы развивающихся стран требуют общенациональных,
но не капиталистических экономических связей, и, как показывает
практика, процессы консолидации наций происходят успешно
в странах социалистической ориентации, развивающих государ-
ственный сектор экономики и активно противостоящих проискам
неоколониализма. При всех условиях появление нации предпола-
гает единство экономических связей. Словом, для образования на-
ции главным является складывание общности прочных экономиче-
ских связей и решение на этой основе социально-экономических
проблем, затрагивающих интересы всего народа. Эта общность для
уже сформировавшейся нации является вместе с тем и ее суще-
ственным признаком. Сама по себе общность экономических связей,
однако, при всей своей первостепенной важности недостаточна и
как условие образования нации, и как ее признак.
Общность экономических связей складывается на определенной
целостной территории, укрепляется и развивается благодаря общ-
ности языка людей, населяющих данную территорию.
Как будет показано в следующих главах, уже с развитием
капитализма происходит процесс все большей интернационализа-
ции экономических связей. При социализме экономические общ-
ности перерастают национальные рамки, охватывают ряд нацио-
нальных экономик. Что касается будущего коммунистического об-
щества, то оно в своей зрелой стадии заменит все национальные
экономики единым мировым хозяйством с единым научным плани-
рованием.
2.
ОБЩНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ
«Сплочение национальных областей» 23, объединение экономиче-
скими связями ранее разрозненных феодализмом территорий яв-
ляется также одним из необходимых условий образования нации.
Для сформировавшейся же нации общность территории является
одним из ее необходимых признаков.
Определенная общность территории является материальной ба-
зой, необходимым условием нормального существования и функ-
ционирования любых больших коллективов людей, связанных со-
циально-экономическими отношениями. Еще при родовой организа-
ции люди имели общую территорию. Они часто кочевали, периоди-
чески ее меняли, по всегда сообща были связаны с той или иной
территорией. Территория, принадлежащая племени, была, как пра-
вило, уже постоянной. Она состояла из места поселения и зна-
чительной области для охоты и рыбной ловли. Между территория-
23 В. II Ле пип Поли. собр. соч., т. 24, стр. 385; г. 25, стр. 258 и др.
168
ми отдельных племен лежала обширная нейтральная полоса
У племен с родственными языками эта полоса была сравнительно
маленькой. Покушение на целостность территории рассматривалось
как враждебный акт.
С разложением родо-племенной организации людей, с возник-
новением частной собственности, торговли, ростовщичества и ипо-
теки «достигнутая лишь к концу средней ступени варварства осед-
лость населения то и дело нарушалась изменениями в его составе
и частой переменой местожительства, обусловленными торговой
деятельностью, сменой рода занятий, отчуждением земельной соб-
ственности»24. Однако с исчезновением связи членов рода с опре-
деленной территорией последняя не только не утратила свою роль
средства объединения людей, но, наоборот, стала теперь решаю-
щим принципом формирования общности нового типа. Родо-пле-
менной общности людей, связанных кровными узами, пришла на
смену новая общность — народность, характеризующаяся тем, что
теперь, как писал Ф. Энгельс, «исходным пунктом было принято
территориальное деление, и гражданам предоставили осуществ-
лять свои общественные права и обязанности там, где они по-
селялись, безотносительно к роду и племени»25. Общность терри-
тории больше не была свидетельством единокровного происхожде-
ния, населяющих ее людей. Повсюду были перемешаны роды и
племена. Теперь не люди с общим языком, характером и т. п. за-
нимают общую территорию, а, наоборот, общая территория ста-
новится базой для выработки определенных общих черт различных
племен.
Эти общие черты вырабатываются в неодинаковой мере и мас-
штабах. Ведь люди обладали и обладают территориальной общ-
ностью не только как члены определенных племен или народно-
стей, но как жители поселений: деревни или города, области^или
края. Постоянные контакты людей в пределах той или иной из
указанных территорий вырабатывают у них общие привязанности
к этим местам, «местный патриотизм».
Общность территории, отмеченная одинаковым для всей дан-
ной территории географическим пейзажем, климатом, пищей, в
определенной мере влияет на физический тип и психику людей,
живущих на данной территории. Вырабатываются некоторые сход-
ные черты, привычки, нравы, обычаи. Образуется местный коло-
рит жизни. В больших странах с разнообразными географически-
ми и климатическими условиями можно насчитать немало местных
типов колорита жизни. В России, например, особенно до револю-
ции, когда не было достаточно интенсивных связей между ее раз-
личными краями, довольно четко различались такие «местные ти-
пы», как «ярославцы», «поморы», «кубанские казаки», «сибиряки»,
«волжане» и т. д.
24 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч, т. 21, стр. 168.
25 Там же, стр. 170.
169
Нация как историческая общность людей тоже возникает па
определенной целостной территории. Последняя охватывает об-
ширные районы, зачастую разнообразные в географическом и кли-
матическом отношениях. Эти территории, ранее разобщенные друг
от друга и населенные различными этническими элементами, объ-
единяются благодаря развитию капиталистических экономических
связей между ними. Положение дел принципиально не меняется и
в тех случаях, когда объединение территорий как бы предшествует
развитию указанных экономических связей. Когда королевский аб-
солютизм в XV—XVII веках становился в ряде стран застрельщи-
ком централизации раздробленных феодализмом территорий, то
он в своих действиях подталкивался растущим бюргерством, необ-
ходимостью создания общего рынка для всей страны. Объедине-
ние территорий, конечно, облегчалось наличием на них этниче-
ски однородного населения, однако, как мы видели выше, это не
является обязательным условием консолидации нации. Нация яв-
ляется. новой этнической общностью людей, которая может и обыч-
но интегрируется из различных этнических элементов на общей
для них территории. Последняя выступает, таким образом, важ-
ным условием образования нации, а затем и одним из ее при-
знаков.
Без общности территории нет нации. В то же время общеиз-
вестно, что существуют многочисленные группы людей, живущие
зне своих национальных территорий в качестве национальных
меньшинств средь других наций. Составляют ли эти группы людей
нацию? Очевидно, что нет, если даже они сохраняют свою нацио-
нальность. Необходимость территориальной общности для обра-
зования нации лишний раз говорит о важности различения по-
нятий «нация» и «национальность». Все те, кто отождествляют
эти понятия, фактически отрицают территориальный признак на-
ции26. Наиболее резко это отрицание было выражено у идеологов
26 Ю. II Семенов спрашивает: «В состав какой нации входят 600 тыс. французов
и 5,5 млн. итальянцев, проживающих в США, 480 тыс. украинцев и 800 тыс.
немцев, проживающих в Канаде и т. п.?» (IO. И. Семенов. К определению
понятия «нация». «Народы Азин и Африки», 1967, № 4, стр. 89). Этим вопро-
сом автор хочет показать несостоятельность, схоластичность всех определений
наций, включающих общность территории, экономических связей в качестве
признаков нации, а па самом деле доказывает их важность. Ведь иначе
названные им группы людей действительно можно было бы считать нациями,
а они не являются таковыми. Подобные группы (если они не ассимилирова-
лись) существую!' на территории других наций в качестве национальных
меньшинств, если да/ке они составляют большую массу, как, например, один
миллион албанцев и свыше полмиллиона венгров в Югославии. В Конституции
СФРЮ вместо термина «национальное меньшинство» употребляется термин
«национальность— национальное меньшинство» (ст. 43). Эти группы людей
находятся в экономических и территориально-государственных связях с дру-
гими нациями Л В. Малиновский с учетом этих новых связей считает нацио-
нальное меньшинство особым типом этнической общности и справедливо
отмечает, что понятие «национальное меньшинство» разработано недостаточно
( Вопросы истории», 1968, № 6, стр. 114—115).
170
так называемого австромарксизма. Так, один из авторов анти-
марксистской буржуазно-националистической теории культурно-
национальной автономии Карл Реннер (он же Шпрингер, Синоп-
тикус) писал. «Национальность по своей внутренней природе не
имеет ничего общего с территорией... Нация —это союз одинако-
во мыслящих и одинаково говорящих личностей. Это культурная
общность группы современных людей, не связанная с «землей»27.
Вся теория культурно-национальной автономии, против которой
юс [едовательно и решительно боролись В. И. Ленин и ленинская
партия, строилась на отрицании общности территории для нации.
Для решения национальных проблем выдвигался так называемый
персональный принцип образования нации. Согласно этому прин-
ципу нации складываются как свободные ассоциации людей, заяв-
ляющих о своей солидарности «в сфере мысли и чувства», как авто-
номные персональные союзы. Нации рассматриваются духовными,
внутренними явлениями, а посему они «должны быть консти-
туированы не как территориальные организмы, а как личные сою-
зы...»28. Но как организовать национальные союзы там, где сме-
шаны различные этнические группы, не имеющие своей компакт-
ной территории? Системой персональной ассоциации, записью в
национальные кадастры независимо от места жительства — отвеча-
ют теоретики «культурно-национальной автономии».
В. II. Ленин разоблачил подобные ухищрения разного рода на-
ционалистов конституировать нацию без территории. Он показал,
что основная бессмыслица выдуманной культурно-национальной
автономии как раз и есть «экстерриториальный» принцип «созда-
ния» нации29. Ленин резко критиковал также протаскиваемую на-
ционалистами-бундовцами расистскую идею рассмотрения евре-
ев, живущих в составе разных наций мира и, естественно, не похо-
жих друг на друга по всему укладу своей жизни, в качестве пред-
ставителей некой единой экстерриториальной «еврейской нации» и
показал, что «эта сионистская идея — совершенно ложная и реак-
ционная по своей сущности»30.
Эта реакционная и утопическая идея ныне используется между-
народным сионизмом особенно рьяно во имя «всемирного еврей-
ства» против классовой борьбы трудящихся евреев, против их
дружбы с другими народами.
Раскрывая сущность приспособления национализма к любым
условиям, его эволюцию к идее «национально-культурной авто-
номии», С. Г. Шаумян писал: «Казалось бы, что, лишившись на-
циональной территории, потеряв, так сказать, «почву» под ногами,
национализм должен испустить дух... Но не тут-то было! Национа-
тизм сегодня гордо оповещает — если невозможно, чтобы каждая
нация самостоятельно, «национально» вершила свою обществеи-
? Р. Шпрингер. Национальная проблема. СПб., 1909, стр. 43.
’Т'я м е сто 75
29 См, В.’ И Ленин. Поли. собр. соч., т. 24. стр. 131, 174, 393 и др.
f В И. Л е н и н. Полю собр. соч., т. 8, стр.- 72
171
но-политическую жизнь, надо спасти хотя бы то, что возможно.
Если нет уже национальной территории, зато есть национальный
язык, «национальная культура». II появляется новое «общее»
«принципиальное» решение национального вопроса. Везде, говорит
новый национализм, где бок о бок в пределах одного государства
живет несколько национальностей, каждая из них должна быть
автономна в национально-культурных делах»31.
Утопичность и реакционность культурно-национальной автоно-
мии основательно была раскритикована В. II. Лениным и его со-
ратниками, и останавливаться на этом вопросе сейчас нет необхо-
димости. Отметим только, что критика В. И. Лениным и ленинца-
ми «культурно-национальной автономии» в данном случае ценна
еще и тем, что показывает невозможность конструирования наций
без территории, что общность территории является необходимым
условием образования нации, а затем и ее признаком.
Отождествление понятий «национальность» и «нация» и отри-
цание общности территории как необходимого признака нации не
раз использовались наиболее агрессивными силами империализ-
ма для «доказательства» якобы принадлежности одноязычных на-
циональных меньшинств к одной и той же нации и для вовлече-
ния этих национальных меньшинств в свои реакционные планы.
Наиболее показательными являются в этом отношении подрывные
и провокационные действия фашистской Германии среди живших
в других странах национальных меньшинств немецкой националь-
ности. Нацисты, отождествляя национальность с нацией, рассмат-
ривали эти национальные меньшинства как часть немецкой на-
ции и на этом основании систематически вмешивались во внут-
ренние дела государств, на территории которых уже много веков
живут люди немецкого происхождения. При этом опорными пунк
тами деятельности нацистов в этих странах были всякие куль-
турно-национальные общества.
Результаты националистической обработки стали особенно
очевидными во время фашистского нашествия на Европу, когда
некоторые немецкие меньшинства в европейских странах стали
орудием нацизма в борьбе против других народов. Если брать
эти факты без научного анализа, можно прийти к выводам, что
в решающую минуту в немцах разных стран заговорило «общее»
национальное чувство, «национальная душа», что единство «нацио-
нального духа» якобы стало очевидным у всех немцев, несмотря
па то, что между ними не было общностей территории и эконо-
мических связей. Такие выводы, однако, далеки от истины. Живя
веками на территории других наций и развиваясь вместе с ними,
немцы разных стран имели во многих отношениях больше общего
с нациями, на территории которой они жили, а не с нацией своей
национальности. По вот в течение многих лет происходит гнус-
ная игра на самых низменных чувствах немецких меньшинств.
31 С. Г. Шаумян. Избр. произв., т. 1. М., Госполитиздат, 1957, стр 423.
172
Германия изображается отечеством всех немцев земного шара.
Фашистская пропаганда изо дня в день кричит о неравноправии
и тяжелых условиях немцев в чужих странах. Она всеми сред-
ствами убеждает последних, что их «Родина» ни на минуту не за-
бывает о них, считает их своими родными сыновьями "и делает
все, чтобы все они заняли господствующее положение во всем мире.
Затем вся эта демагогия принимает как будто реальные очертания
в фашистской войне против свободы и независимости народов.
Первоначальные легкие успехи нацистов создают уверенность
в реализации бредовых идей фашистов не только у оболва-
ненных немцев в Германии, но и у некоторой части немцев дру-
гих стран.
В угаре военных побед и социальной демагогии нацистов мно-
гим немцам мерещится, что действительно наступает эра немецко-
го господства. Перед немецкими меньшинствами стран, в первую
очередь подвергшимся фашистскому нападению, встает вопрос,
с кем связать свою судьбу: с рушившимися под ударами нацистов
своими отечествами или же использовать свое немецкое происхож-
дение и примкнуть к завоевателям, обещавшим всем немцам не-
виданный экономический расцвет и положение нации— господ.
Часть немцев выбрала второй путь. Однако так случилось не пото-
му, что в них заговорила «национальная душа». Самые низменные
националистические страсти были распалены у немцев как в Гер-
мании, так и в немецких меньшинствах, в первую очередь нацист-
ской демагогией насчет создания райской жизни для всех нем-
цев. Перед перспективой рая для немцев и ада для других наро-
дов вспомнили о своем немецком происхождении даже некоторые
из тех, которые давно о нем уже забыли. Среди как германских
немцев, так и немцев других стран лишь классово сознательные
стойкие борцы против фашизма устояли от соблазна приобщиться
к обещанному нацистами пирогу, который по фашистским пред-
ставлениям должен был быть тем большим, чем больше террито-
рии займет германский рейх.
Таким образом, как всегда, и в данном случае национализм
имел вполне экономические корни. Кто при этом захочет ссылать-
ся также на относительную самостоятельность веками насаждае-
мых националистических чувств, не должен забывать, однако, что
речь идет все же об относительной, а не об абсолютной их само-
стоятельности, что эти чувства тоже вырастают и развиваются на
экономической почве.
Территория нации, имеющей свое государство, обозначается
государственными границами, и защита, отстаивание этих границ
затрагивают интересы нации в целом. Споры о границах не раз
приводили к военным конфликтам между нациями. Борьба за це-
лостность территории поэтому обостряла национальное самосозна-
ние, сплачивала нацию.
Жизнь и деятельность нации развертывается на определенной
территории. Естественно поэтому, что право наций па самоопреде-
17
ление вплоть до образования самостоятельного государства вклю-
чает право их на свою территорию. И современное международное
право признает за всеми нациями и народами их суверенное пра-
во на национальную территорию. Это право, в частности, под-
тверждено Женевским соглашением 1954 года рядом крупнейших
государств в отношении вьетнамского, лаотянского и камбоджий-
ского народов. В Декларации же ООН о предоставлении незави-
симости колониальным странам и народам от 14 декабря 1960 года
записано, что «все народы имеют неотъемлемое право на... цело-
стность их национальной территории», что «всякая попытка, на-
правленная на то, чтобы частично или полностью разрушить наци-
ональное единство п территориальную целостность страны, несов-
местима с целями и принципами Устава Организации Объединен-
ных Наций» 32. Что, однако, считать национальной территорией?
На этот вопрос и в наше время даются различные ответы, и в
этих ответах зачастую проскальзывают определенные классовые
интересы. На первый взгляд, данный вопрос выглядит довольно
простым. Каждая нация настолько органично вплетена в свою тер-
риторию, что кажется непосредственным ее порождением. Кажет
ся, что такая нация могла возникнуть именно на такой и никак
не на иной территории. Однако, несмотря па значение географиче-
ских условии в образовании некоторых физических и психологи-
ческих черт нации, роль территории в формировании нации не в
этом. Территория является материальной почвой складывания эко-
номических связей народов, пространством деятельности и разви-
тия нации.
Если обратиться к прошлому, то нетрудно видеть, что на так
называемых исторических территориях сменилось много различ-
ных народов. В современной Греции или Риме живут отнюдь не
потомки древних греков и римлян. Развитие человечества вообще
шло так, что происходило самое интенсивное смешение народов
Некоторые вновь образовавшиеся нации оказались живущими на
территории народов, которые существовали раньше. Поэтому по-
пытки обосновать какие-либо территориальные претензии ссылка-
ми па древние «этнографические корни» своей нации никак не
могут считаться научными. Подобные ссылки чаще всего рассчи-
таны на оправдание территориальных захватов. Известно, напри-
мер, что Муссолини, обосновывая своп агрессивные тенденции,
ссылался даже на границы Римской империи.
Национальная территория — это не простое наследство предков.
Мы уже видели, что нации развиваются как результат смешения
взаимодействия и взаимообогащепия множества племен, народов
и их культур. Должно быть ясно поэтому, что нация, сформировав-
шаяся и развивающаяся на данной территории, рассматривает
ее неотъемлемой от своего существования. Право на суверенитет
над своей территорией нация завоевывает трудом ряда своих по-
32 «Правда», 16 декабря 1960 г
174
колепий. Ссылки на этнографию, а тем более на былые походы
различных завоевателей для обоснования права кого-то другого,
кроме данной нации, на ее территорию научно несостоятельны и
реакционны.
В определенных исторических условиях может случиться так,
что та пли иная нация расколется на различные социальные си-
стемы. Симпатии населения или его части установить свои нацио-
нально-государственные границы в таких случаях самым ярким
образом выражаются в социальной революции. Так получилось,
например, с немецкой нацией. Трудящиеся восточной Германии
покончили с капитализмом и установили социалистический строй.
Разделенной оказалась не только территория бывшей некогда еди-
ной нации. Сама нация раскололась на два типа: на немецкую
нацию, живущую в ФРГ при капитализме, и социалистическую не-
мецкую нацию, живущую в ГДР. Решающими факторами опреде-
ления облика нации в подобных условиях становятся социальные
моменты, перед которыми отступают даже такие, как языковые и
территориальные. Ставить здесь вопрос о воссоединении наций в
прежних пределах и социальной системе — значит не понимать ко-
ренного различия указанных двух типов нации и сознательно пре-
небрегать тем обстоятельством, что вопрос о национальном вос-
соединении в данном случае перерастает из этиически-нацпональ-
ного в национально-социальный вопрос.
Не выдерживает критики также теория так называемых естест-
венных границ. Реакционность этой «теории» раскрыл еще Ф. Эн-
гельс в работе «По и Рейн». В ней он показал, как «теория есте-
ственных границ» служит оправданием агрессивной политики. Ра-
зоблачая, например, завоевательные притязания бонапартистской
Франции на левый берег Рейна, Ф. Энгельс показывает, как це-
почкой одни притязания порождают другие. Если Франция счи-
тает своей естественной границей левый берег Рейна, то Германия
выдвигает лозунг: «Рейн надо оборонять на реке По»&3. Но тогда
«на что имеют право одни, на то должны иметь право и другие.
Если мы (немцы.— С. К.) требуем По и Минчо для обороны ие
столько против итальянцев, сколько против французов, то мы не
должны удивляться, если французы также претендуют на речные
рубежи тля обороны против нас» 33 34.
Ф. Энгельс признает важность военно-исторических н военно-
стратегических соображений, но вместе с тем показывает, что в
определении границ национальной территории не они играют ^прин-
ципиально важную роль, а интересы населения спорных районов.
«Если Франции,— пишет Ф. Энгельс,— не следует ради хорошей
военной позиции присоединять к себе 9 миллионов валлонов, ни-
дерландцев и немцев, то и мы не имеем также никакого права из-
за военной позиции порабощать 6 миллионов итальянцев» 35. «Тео-
33 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 13, стр. 235.
34 Там же, стр. 266.
35 Там же, стр 276.
175
рия естественных границ», отмечает Ф. Энгельс, разжигает аппе-
титы всех охотников «округлить» свои территории.
Национальная территория не является населению чем-то без-
различным. Ее нельзя безнаказанно делить и присоединять к дру-
гим национальным территориям, не спрашивая мнения народных
масс. Нельзя игнорировать симпатии населения даже тогда, когда
они проявляются не к соотечественникам.
Таким образом, рассмотрение сущности национальной террито-
рии опять-таки показывает различие понятий «нация» и «нацио-
нальность». Любая нация имеет свою общую, целостную террито-
рию, ио не всякая национальная территория является территорией
нации. Общность территории тогда является одним из основных
признаков нации, когда она охватывает все области и районы
данной страны и когда именно на этой единой территории осуще-
ствляются и развиваются экономические связи, общность эконо-
мической жизни этих областей и районов в масштабе всей страны.
Вопросу о национальной территории, о границах большое вни-
мание уделял В. И. Ленин. В работе «Итоги дискуссии о самоопре-
делении» В. И. Ленин, разъясняя, что свобода политического от-
деления связана с определением границ государства, критикует
левых оппортунистов, подменяющих вопрос о государстве и госу-
дарственных границах неопределенным понятием «о социалисти-
ческом культурном круге». Ни о границах государства, ни
даже вообще о государстве они думать не желают. Это какой-то
«империалистический экономизм», писал В. И. Ленин. Он особен-
но заостряет внимание на этом вопросе, ибо пролетариат, готовясь
к социалистической революции, должен был, придя к власти, обес-
печить демократическое определение границ наций, полностью счи-
таясь с «симпатиями» населения 36.
Коммунистическая партия сделала все, чтобы воля населения
была определена его сознательным отношением к самоопределе-
нию, ибо большевики никогда не смешивали вопрос о праве на-
ций на свободное отделение с вопросом о целесообразности от-
деления той или иной нации. Да и требование государственных
границ не означает обязательного отделения наций друг от дру-
га. Свобода отделения наций необходима для их добровольного
крепкого союза. Партия требовала учета воли и чаяний населения
также при образовании автономных областей и краев, она тре-
бовала «определения границ самоуправляющихся и автономных
областей на основании учета самим местным населением хозяйст-
венных и бытовых условий, национального состава населения
и т. и.» 37.
Для понимания взглядов В. II. Ленина о границах в социали-
стическом обществе принципиальное значение имеет его выступ-
ление на нервом всероссийском съезде военного флота. В. II. Ленин
36 См. В. II. Лен н н. Поли. собр. соч., т. 30, стр. 22.
37 В. И Ленин. Поли. собр. соч., т. 31, стр. 440.
176
тогда сказал: «Нам говорят, что Россия раздробится, распа-
дется на отдельные республики, по нам нечего бояться этого.
Сколько бы ни было самостоятельных республик, мы этого стра-
шиться не станем. Для нас важно не то, где проходит государст-
венная граница, а то, чтобы сохранялся союз между трудящимися
всех наций для борьбы с буржуазией каких угодно наций... Пусть
буржуазия затевает презренную жалкую грызню и торг из-за
границ, рабочие же всех стран и всех наций не разойдутся на
этой гнусной почве»38.
Конечно, имеются и справедливые территориальные претензии.
Например, многим молодым нациям, недавно завоевавшим свою
суверенную государственность, досталось от колониальных ре-
жимов большое количество искусственно запутанных территори-
альных дел. Колонизаторы нередко, чтобы обострить отношения
соседних молодых государств и сохранить в них свое влияние,
нарочито создают и подогревают территориальные споры меж-
ду ними. Наконец, еще не всем молодым нациям удалось вызво-
лить из-под власти колонизаторов все свои территории. Подобные
территориальные споры имеют уже не мнимые исторические исто-
ки, а затрагивают непосредственно жизненные интересы данной
нации.
Таким образом, любая нация образуется на определенной, об-
щей для всех членов нации территории. Будучи этническими, дан-
ная территория и ее границы могут совпадать с государственной
территорией и ее границами, если данная нация имеет свое го-
сударство. В многонациональных социалистических государствах
государственные границы теряют свое былое значение, да и как
этнические эти границы становятся все менее непроницаемыми.
При зрелом коммунизме человеческие коллективы будут разви-
ваться на определенных территориях, но последние перестанут
быть национальными, и тем более исчезнут национально-государ-
ственные границы.
3.
ОБЩНОСТЬ ЯЗЫКА
Отмечая, что «язык есть важнейшее средство человеческого
общения»39, В. II. Ленин далее подчеркивает, что эту функцию в
масштабе нации язык выполняет, став общенациональным «при
устранении всяких препятствий развитию этою языка и закрепле-
нию его в литературе»40.
Язык наряду с общностью экономических связей и террито-
рии является одним из основных признаков нации. Все указанные
В- И. Лен и н. Поли. собр. соч., т. 35, стр. 115.
В И. Лени н. Поли. собр. соч., т. 25, стр. 258.
Там же.
19 177
С. Т. Калтахчян
общности взаимодействуют между собой и находятся в органиче-
ском единстве. Общность экономических связей складывается на
определенной территории, являющейся естественной почвой, па ко-
торой развертываются все отношения людей. Эти отношения ус-
пешнее развиваются и укрепляются между людьми, имеющими
общность языка. В свою очередь общность языка расширяется
и укрепляется (или даже может образоваться новая языковая
общность) благодаря общности экономических связей и терри-
тории.
Наряду с научной теорией о месте языка в определении нации
существуют две крайние, но одинаково неправильные точки зрения.
Сторонники одной из них ссылаются на то, что например, англи-
чане и американцы, сербы и хорваты, испанцы и население ряда
латиноамериканских стран говорят на одних и тех же языках
(английском, сербскохорватском и испанском), а составляют раз-
личные нации. Отсюда они делают вывод, что для определения на-
ции языковая общность не имеет существенного значения, посколь-
ку она не всегда совпадает с национальной. Защитники второй точ-
ки зрения считают язык главным и даже единственным опреде-
лителем нации.
Значение языка как одного пз условий возникновения и су-
ществования нации настолько очевидно, что преувеличение его
роли присуще многим. Если к этому добавить еще и то, что по-
нятия «нация» и «национальность» часто отождествляются, а, как
известно, национальность человека определяется прежде всего
и главным образом по языку, то станет понятным, почему языко-
вая теория нации всегда была популярной. Люди па первых по-
рах считали «своими» всех говорящих на одном с ними языке и
«чужими»—говорящих на других языках хотя бы потому, что лю-
ди, не понимающие их языки, стояли вне круга их общения.
Националисты совершенно превратно истолковывают неразрыв-
ную связь нации и языка. Для них, во-первых, каждый язык внут-
ренне присущ именно данной нации или народности и генеалогия
языка совпадает с генеалогией парода; во-вторых, язык не одни
пз признаков нации, а решающий, а то и просто единственный ее
определитель. Для националистов главным условием сохранения
нации является сбережение «национального духа», а единствен-
ным убежищем последнего, его спасителем от гибели является
язык. По их мысли, если даже нация лишается своей территории,
она сумеет сохраниться, если сохранит свой язык.
Есть еще один глубоко неверный подход к опенке националь-
ных языков. Общие семантики считают национальные языки им-
манентными духу их пародов-носителей. Пз единства языка и
мышления они выводят наличие нс только национального языка,
но и национального мышления и утверждают, что национальные
языки выражают разные логики, а следовательно, представляют
помеху для взаимопонимания народов. Выход из «тупика» семан-
тики видят в замене национальных языков общечеловеческим я.зы-
178
ком, причем не живым, разговорным, а специальным символиче-
ским языком.
Уже сказанное вынуждает рассмотреть вопрос об общности на-
ционального языка с нескольких сторон. Необходимо выяснить со-
отношение общей сущности языка и особенностей национальных
языков, связь генезиса нации и генезиса национальных языков,
извращение националистами понимания соотношения языка и пси-
хологии и семантиками понимания взаимодействия языка и мыш-
ления. Такое рассмотрение проблемы позволит показать как ис-
тинное место и роль национальных языков в консолидации и раз-
витии нации, так и будущее национальных языков в ходе общест-
венного развития.
Правильные ответы на поставленные вопросы дает марксист-
ско-ленинский анализ сравнительных данных ряда наук, в пер-
вую очередь этнографической, лингвистической и психологической.
Хотя в мире существует множество национальных (и племен-
ных) языков, по своему существу человеческий язык един.
Язык как орудие общения людей есть общественно-историче-
ское явление. Общественное, поскольку только в совместной тру-
довой деятельности у людей появляется потребность в речи, исто-
рическое, поскольку язык возникает на определенной ступени раз-
вития непосредственных предков человека.
Вопрос о том, как и почему возникло множество языков, решал-
ся в истории языкознания различно. Легенду о происхождении
всех языков от одного (древнеевропейского) языка раскритико-
вал еще Г. Лейбниц41. В дальнейшем наукой было доказано, что
язык возникает в крайне разнообразных формах в различные эпо-
хи на всем пространстве земного шара.
Каждый язык исторически приобрел свою определенную конк-
ретную форму в ходе развития различных родов. Совпадение язы-
ковой общности с общностью людей в отдельных родах было со-
вершенно естественным явлением. Собственно роды и являются
создателями первых языков. Н. Н. Миклухо-Маклай отмечал, что
у папуасов Новой Гвинеи почти каждая деревня имела свой осо-
бый язык. По его мнению, языки эти были первоначально, по-ви-
димому, родовыми.
Языковеты различают три основных элемента в языке: звуки,
словарь, грамматику. Все эти элементы, естественно, приобрели
различные формы в разных языках. Язык одного, относительно
замкнутого коллектива не мог быть тождественным с языком дру-
гого коллектива не потому, что разные племена имели различную
психологию, а потому, что огромное множество звуков и возмож-
41 Голландский врач-филолог XVI века Горопип Бекан выводил все языки из
фламандского, который он считал языком Адама. По этому поводу Г. Лейб-
ниц замечал: «Этимологии следует считать верными лишь в то?л случае,
если имеется достаточное количество согласующихся свидетельств, в против-
ном случае получается горопизирование» (Г. Лейбниц. Новые опыты
человеческого разума. М.— Л., Соцэкгиз, 1936, стр. 248)
12*
179
ные их сочетания предоставили людям неограниченный выбор. Бы-
ло бы невероятным, если бы все живущие изолированно (хотя и
не абсолютно) друг от друга коллективы людей сделали бы один
и тот же выбор.
Язык, разумеется, не сочиняется кому как заблагорассудится,
но вместе с тем язык и не чудесный дар, ниспосланный свыше.
Каждая первобытная группа людей создала словесную связь, по-
пятную всем ее членам, первоначально сообразно тем звуковым
образам, в которые облекались предметы и явления объективно-
го мира. Древние соседние коллективы людей так пли иначе обща-
лись друг с другом. Общались различные группы и в условиях ко-
чевья. Их языки в какой-то мере взаимодействовали. Поэтому
правы советские ученые, которые древнейшую карту языков изоб-
ражают как непрерывную цепь первобытных говоров. При этом
чем ближе были группы по соседству, тем ближе были и их го-
воры. Расхождение их помимо других причин поддерживалось
тем, что такое различие «служило искусственным средством для
обособления и отличения своих от чужих»42. Язык, будучи креп-
кой связью, соединяющей членов группы, вместе с тем был услов-
ным знаком принадлежности к данной группе. Он был не только
средством общения, но и символом и защитой группового един-
ства, хотя это нельзя представить как консервирование раз на-
всегда существующего языка. Кочевые племена, расходясь и схо-
дясь, перенимали друг у друга различные языковые элементы,
постоянно меняли характер и объем господства своего языка.
Языки развиваются вместе с развитием различных человеческих
обществ, разделяя все его сложности и перипетии.
Объем общественных функций того или иного языка, круг его
распространения и господства меняется в зависимости от смены
способов производства. Если в первобытном обществе тот
пли иной язык обслуживал всего несколько сот и даже десятков
людей племени или рода, то в народности уже требовался язык,
обслуживающий десятки и сотни тысяч людей, хотя наряду с тем
или иным преобладающим языком существовали и даже расши-
рялись диалектные различия. Для консолидации же людей в на-
цию и для ее дальнейшего развития стало необходимым появление
«образцового» для всей нации литературного языка.
В ходе прогрессивного движения общества, особенно на его со-
циалистической стадии развития, отдельные языки, ранее выми-
рающие, получают возможность для своего возрождения и даль-
нейшего развития. Временами в отдельных странах можно наблю-
дать даже увеличение числа языков, однако все это не противо-
речит общему историческому факту укрупнения языков.
Наряду с праязыковой теорией существовало и биологическое
объяснение различий языков. Некоторые буржуазные специали-
42 Б' Т4 Вор ши ев. Социальная психология и история. М., «Наука», 1966,
180
сты, как, например, австрийский этнограф и языковед Ф. Мюллер,
разнообразие языков стали связывать с разнообразием рас и на-
ции (считая нацию биологической категорией). Была предложена
классификация языков на основе этнических признаков. Всерьез
начали рассматривать языки народов с курчавыми волосами и язы-
ки народов с прямыми волосами. Научная лингвистика раскры-
ла антипаучность расового объяснения разнообразия языков. Она
доказала, что нет в не может быть необходимой связи языка и
расы, что в то время как расовые признаки наследуются, языки
могут переходить от народа одной расы к народу другой расы, за-
имствоваться и скрещиваться. Любая лингвистическая карта по-
казывает. что на одном и том же языке говорят народы различ-
ных рас, как пароды одной и той же расы говорят на различных
языках.
Если брать, например, область распространения тюркских язы-
ков, то можно увидеть, что от Малой Азии до Северо-Восточной
Сибири живут тюркоязычные народы самого различного антропо-
логического состава. Здесь и монголоидные расовые типы: якуты,
алтайцы, тувинцы, хакасы и народы с преобладанием европеоид-
ного антропологического типа, например азербайджанцы и турки.
Узбеки, киргизы, казахи, туркмены и каракалпаки, оказывается,
обладают крайне смешанным антропологическим составом, вклю-
чающим в разной степени монголоидные и европеоидные типы.
Если брать латиноамериканские нации, состоящие из смеси индей-
цев, европейцев и негров, то они имеют испанский или португаль-
ский языки, некогда ввезенные конквистадорами, испанскими и
португальскими завоевателями. Таким образом, оказывается, что
самые различные расы, нации и национальности говорят на одном
и том же языке.
В настоящее время в мире насчитывается около 2500 языков.
Существуют еще и племенные языки, а также диалекты, однако ос-
новные языки мира —языки наций и народностей. * В процессе
консолидации людей в нацию вырабатывается общий литератур-
ный язык, который в свою очередь становится могущественным
скрепом национальных связей, важнейшим условием дальнейшего
экономического, политического и культурного развития нации
Общность языка становится неотъемлемым признаком нации.
Единоязычне становится могучим средством налаживания об-
щественно-хозяйственных связей нации. В стремлении к общности
языка выражается также стремление каждой складывающейся
нации стать государством, а государственное управление нуж-
дается в одпоязычии. Единоязычне играет немаловажную роль и в
национально-освободительных движениях. Например, одним из ре-
шающих пунктов обоснования арабского единства выступает араб-
ский язык” Однако нельзя свести стремление к консолидации в
нацию только к тенденциям объединиться в одноязычный полити-
ческий организм. Притяжение одноязычных лиц к объединению
вызывается в первую очередь сильными экономическими и полити
181
ческими интересами. Последние могут объединить в нацию и раз-
ноязычных людей, как это мы видели на примере Швейцарии, или
даже создать новую языковую общность, как это происходит в
некоторых африканских и азиатских странах. Только благодаря
функции языка быть средством, орудием общения людей любой
конкретный язык становится существенной п необходимой пред-
посылкой всякой совместной деятельности, а следовательно, и для
сплочения нации, как правило, нужен единый язык. Суть дела в
конечном счете не в том, на каком языке говорит та или иная на-
ция, а в том, что нация должна говорить на общем языке, что она
пе может существовать без этой общности.
Общенациональный язык, как увидим дальше, образуется са-
мыми различными путями, по какими путями бы он не образовал-
ся, раз возникнув, становится родным для нации, всеми корнями
врастает в жизненную ткань нации. Посредством национального
языка осуществляется обмен мыслей и чувств людей данной на-
ции, воспитание и обучение ее подрастающих поколений, пере-
дача национальных традиций, обычаев, стремлений, культурных
достижений из поколения в поколение. «В сокровищницу родного
языка,— пишет К. Д. Ушинский,— складывает одно поколение за
другим плоды глубоких сердечных движений, плоды исторических
событий, верования, воззрения, следы прожитого горя и прожитой
радости,— словом, весь след своей духовной жизни народ береж-
но сохраняет в народном слове»43.
Именно органическая связь национального языка со всеми сто-
ронами жизни и деятельности нации делает его психологически
близким данному народу. Законная любовь к родному языку тем
сильнее, чем сильнее он связан со всей историей нации. Однако
нельзя мистифицировать язык, воспитывать суеверное отношение
к нему. Совершенно не соответствуют действительности изображе-
ния того или иного национального языка как непосредственного
и прямого продолжения языка предка — народа, как порождение
его «особой» психологии. Нет чистых наций, возникших из одно-
родных этнических элементов и не обязательно совпадение исто-
рии народов с историей языков.
Язык является важнейшим признаком нации не потому, что
он резко отделяет данную нацию от других. Эта черта языка на-
иболее отчетливо бросается в глаза, но не это главное в языке.
Немало таких случаев, когда различные нации говорят на од-
ном и том же языке, который все равно является одним из ос-
новных признаков нации. То, что сербы и хорваты говорят на
сербскохорватском языке, а на английском или испанском язы-
ках говорят еще больше различных наций, свидетельствует лишь
о том, что нет особого национального языка, порожденного только
данным пародом и только ему присущего. Наконец, для многих
представителей той или иной нации их родной язык не обязатель- 44
44 К. Д. Ушинский. Избр. псд. соч. М., Учпедгиз, 1945, стр. 206
182
по является «материнским языком», т. е. языком, идущим по пря-
мой из глубины веков их генеалогической истории44. Язык стано-
вится родным пе в силу своего происхождения, а вследствие того,
что он, став общим для данной нации, выступает главным средст-
вом выражения и развития культуры нации, а также средством
национальной памяти.
Образование национального языка вызывается определенными
сдвигами в общественном развитии, формирующих нацию. Конеч-
но, сходство, родственность языков, диалектов и наречий соседст-
вующих народностей и племен ускоряют формирование нации и
ее языка, но не являются обязательными во всех случаях образо-
вания национальных языков. Специфичность того или иного языка
не вытекает из «неизменной» природы той или иной нации. Су-
ществуют различные пути формирования нации, и национальные
языки образуются в зависимости от этих путей.
К. Маркс и Ф. Энгельс в «Немецкой идеологии», высмеивая
.4. Штнрнера, рассматривающего язык как простой продукт рода,
писали: «Однако тем обстоятельством, что Санчо (имеется в виду
М. Штирнер.— С. К.) говорит по-немецки, а не по-французски, он
обязан вовсе не роду, а обстоятельствам. Впрочем, в любом сов-
ременном развитом языке естественно возникшая речь возвысилась
до национального языка отчасти благодаря историческому разви-
тию языка из готового материала, как в романских и германских
языках, отчасти благодаря скрещиванию и смешению наций, как в
а и глий ком языке, отчасти благодаря концентрации диалектов
в единый национальный язык, обусловленной экономической и по-
литической концентрацией»45.
Подобно тому, как нации не являются простым продолжением
и обобщением родо-племенных связей, так и языки наций не пред-
ставляют простое продолжение и обобщение языков родо-племен-
ных языков. Это подтверждено множеством лингвистических иссле-
дований образования современных литературных национальных
языков. Известно, например, что английский язык относится к
группе западногерманских языков, выступая как результат разви-
тия языков германских племен (англов, саксов и ютов), переселив-
шихся в V веке в Британию. Однако в дальнейшем происходило
такое смешение и скрещивание его со множеством других язы-
ков, принадлежащих нередко к различным языковым группам, что
некоторые английские авторы не без основания считают пепра
пильным безусловное отнесение английского языка к определен-
ной языковой группе и считают его смешанным языком как п
структуре, так и по словарному составу46. В самом деле, англ ,
41 То, что «родпой язык» и «материнский язык» —не создающие понятия,
хорошо иллюстрируются п данными переписи, когда миллионы людей сбо
родным языком называют тот. которым они владеют лучше, думают на
и использут его в своей повседневной жизни и деятельности.
4 К Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, стр. 427.
* В. В а г к а г. National character and the factors in its formation, p. 21 .
183
саксы и юты имеют ряд заимствовании из языка местных кельт-
ских племен — бриттов и гэлов, затем из латинского языка. Начав-
шиеся в V1H веке набеги скандинавов, завершившиеся подчинени-
ем Англии в 1017 году датскому королю, привели к значительному
влиянию скандинавских языков на английский язык. В древнеанг-
лийском языке сложились три основные группы диалектов: мерсий-
ская, нортумбрийская и уэсекская. После завоевания Англии нор-
маннами (1066 год), когда было покончено с преобладанием
уэсекса, усилилась «анархия диалектов». Более того, создалось свое-
образное двуязычие. Основная часть населения Англии — народ-
ные массы продолжали пользоваться родными языками и наречия-
ми, а англосаксонская знать, сблизившись с норманнскими баро-
нами, усвоила норманнский диалект старофранцузского языка,
ставшего на некоторое время государственным языком Англии.
Дальше происходило взаимопроникновение двух языков. Взаимо-
действие многочисленных языков, диалектов и наречий способст-
вовало изменению и грамматического строя, наблюдавшемуся уже
в среднеанглийском языке (XI—XV века). В дальнейшем экономи-
ческая и политическая консолидация Англии привела к образова-
нию общенационального английского языка. В этом процессе ис-
ключительное значение получил диалект Лондона, ставшего эко-
номическим, торговым и культурным центром Англин. Такое
положение Лондона способствовало превращению лондонского диа-
лекта в общеанглийский язык, который после буржуазной револю-
ции в Англии оформился как «литературный», «образцовый» язык.
И в дальнейшем не прекращается проникновение в новоанглий-
ский язык многих слов латинских, греческих, итальянских, испан-
ских и других, а также из языков колоний Англии. Ирландский
язык повлиял даже на изменения грамматических конструкций
английского языка. Попытки пуристов выступить против латиниз-
мов и других иностранных слов терпели поражение, ибо необходи-
мые слова усваивались легко и быстро, доказывая тем самым свою
жизнеспособность в другом языке.
Если взять историю любого другого языка, то можно заметить
тс же только что отмеченные общие закономерности, правда, с
тем или иным своеобразием, объясняемым особенностями истори-
ческого процесса различных стран. Так, например, в образовании
общерусского национального языка участвовало больше одно-
родных элементов, чем в образовании общеанглпиского языка, од-
нако существо процесса осталось тем же. Экономическое и госу-
дарственное сплочение русского народа также было основным
источником и причиной образования общенационального русского
языка. Оно прекратило образование новых диалектных раз-
личий и способствовало скрещиванию и концентрации существую-
щих диалектов в общенациональный русский язык. В основу ли-
тературного русского языка лег диалект Москвы, ставшей эконо-
мическим, культурным и политическим центром России. Некоторое
время в русском языке чувствовалось еще засилье церковнославя-
184
низмов, но элементы разговорного языка все шире проникают в
литературу, грамматические правила становятся все устойчивее.
Вместе с тем в связи с укреплением и расширением экономических
связей с Западом усиливается влияние западноевропейских язы-
ков. С XVUI века литературный русский язык окончательно вы-
ступает как общенациональный язык.
Генеалогическая классификация языков не совпадает с этни-
ческой классификацией. Это и попятно, так как первая в срав-
нительно-историческом языкознании осуществляется главным об-
разом в научно-лингвистических целях на основе общности тех
или иных элементов различных языков. Между гем специальные
исследования генезиса современных языков с использованием дан-
ных этнографии показывают, что национальные языки возникли
сложными и различными путями. Исчезали одни языки и появля-
лись другие, новые. Так исчезли санскрит, ассиро-вавилонский, ла-
тинский, древнеегипетский, древнегреческий и другие языки. Боль-
шие социальные сдвиги меняли также языково-культурную фи-
зиономию отдельных народов. Английский язык или испанский
язык, например, стали языками многих колониальных неродствен-
ных им в основном народов. История языкового развития подоб-
ных народов переставала, таким образом, быть продолжением и
и развитием своего прежнего языка.
Объем общественных функций тех пли иных языков, их влия-
ние друг на друга также исторически меняются. Одни языки от-
тесняются и поглощаются, другие, наоборот, получают большое
распространение и влияние. Вместе с тем происходило и скрещи-
вание, смешение языков в результате смешения народов и племен
При этом один из языков являлся преобладающим. Таким языком
(а не праязыком) являлся, например, вульгарный латинский для
романских языков, которые возникли в процессе романизации на-
родов, населяющих обширные территории на юге, юго-западе и в
центре Западной Европы. Насаждаемая римлянами латынь вош-
ла в будущие романские языки, взаимодействуя с местными язы-
ками коренных жителей.
io, что латинская основа количественно и качественно вошла
в романские языки по-разному, указывает на важное значение раз
личных исторических путей, по которым шло развитие каждого из
ЭТИХ языков.
Как известно, значительная часть народов, живших в ДРев”
па территории нынешних Франции, Испании, Румынии, i олд’
Португалии и т. д., романизирована, но это не значит, что он
ются прямыми потомками древних римлян, а их языки пря Р
лолжепием латинского языка. Такое представление преемственности
так же неверно, как попытки видеть русских в сармата
а греков считать прямыми потомками Перикла. TT^„,.V Рг,ЯЧРп
Несостоятельность поисков прямых генеалоги к на
можно показать на примере истории любой нации. Р ’шп.
территории, занимаемой современной Румынией, ме i
185
залось множество различных племен, каждое из которых оказыва-
ло влияние на преобразование культуры и языка. Еще в начале
II тысячелетия до и. э. в области, занятые оседлыми племенами,
проникли пастушеские племена из северопричерноморских степей.
В VI веке до н. э. па территорию Румынии проникают с востока
кочевники-скифы. Около 350 года до и. э. все большее значение
стали приобретать гето-дакийские племена. Завоевание Дакии
римлянами и превращение ее в 107 году в римскую провинцию
стало началом распространения римской культуры. В 274 году Да-
кия была завоевана готами, а в начале IV века — гуннами. Засе-
лившие Дакию в V веке славянские племена также оказали боль-
шое влияние на местное население, на весь последующий процесс
формирования румынской народности и румынского языка. В даль-
нейшем, в X—XI веках, территория Румынии подверглась нападе-
ниям печенегов, в XII веке — половцев, в XIII веке оказалась под
игом татаро-монгольских захватчиков, а в XIV веке часть страны
попала в зависимость от Венгрии. В XV и XVI веках началось
господство Турции, а с конца XVII века до 1918 года господство-
вали Габсбурги — ясно, что нельзя не учитывать всего этого, ха-
рактеризуя процессы формирования современного румынского
языка.
Наконец, и латинский язык нельзя рассматривать оторванно
от других языков. Лингвисты указывают в грамматике латинского
языка много черт, общих с греческим языком. В свою очередь гре-
ческий язык и носители его разновидностей имеют сложнейшую
историю47.
Специалисты, указывая на сложность языковых процессов в
Греции, в частности, считают возможным, что в ближайшем род-
стве с греческим находился не дошедший до нас язык Македонии
до эллинизации в V—IV веках до н. э. Вся история Греции и исто-
рия греческого языка от древнегреческого до новогреческого со
всеми сменами и смешениями различных племен и их языков так-
же говорят, что не было прямой линии в их развитии.
I реческий, как и латинский, язык примыкал к древним языко-
47 Эллинская народность начала складываться около XII века до и. э. в ре-
гультате смешения древнейших обитателей Греции — пеласгов и пришельцев
из Малой Азии — тирсенов, карппцев и других с племенами с северо-запада
Балканского полуострова — ахейцами, ионийцами, эолийцами, дорийцами и
другими. В III—VI веках и э. Пелопоннес подвергся опустошительным втор-
жениям готов, Г) инов, аваров, и других племен. После распада Римской империи
Пелопоннес вошел в состав Византии. В средние века начала формироваться
новогреческая народность, в чем крупнейшую роль сыграли славяне. Начиная
с III века на территории Греции упоминаются колонии славянских племен.
В VI веке славянские племена, распространившиеся по Балканскому полу-
острову, смешались с местным населением. Славянские языки были широко
распространены в Греции. Заселившие значительную часть Пелопоннеса сла-
вяне назвали его Мореси. В XIII—XIV веках греки в значительной мере
смешались с албанцами, расселившимися по всей Греции. В XV веке Пело-
поннес почти полностью был завоеван турками, и в новогреческом языке
можно обнаружить значительный вклад турецкой лексики.
186
вым группам, начиная с санскрита, распространенным от Индии
до пределов Западной Европы. Все эти языки по этой причине на-
зывают индоевропейскими, но лингвистам очень трудно и в род-
ственных семействах очертить генеалогическое дерево народов и
языков. Приведенный выше пример развития английского языка
показал, что он занимает особое положение в индоевропейской
семье языков. Обособленное положение занимает в ней и греческий
язык. Родственность и других языков — вещь относительная. Изу-
чение языкового родства, безусловно, полезно и необходимо, но ес-
ти оно ведется односторонне, например только лингвистически, то
выводы будут односторонними, и значение их также будет ограни-
чиваться рамками лингвистики. За этими рамками выводы сравни-
тельного языкознания хромали и будут хромать во всех тех случа-
ях, когда они делаются на основе сравнения только лингвистиче-
ских принципов без анализа экономической, политической и куль-
турной истории народов — носителей этих языков. Родство языков
прямым образом не вытекает из родства народов и наоборот.
Германисты или слависты завидуют романистам, что у них есть
нечто вроде праязыка, и жалеют, что нет прагерманских и прасла-
вянских текстов. Но если бы даже были такие тексты, существо
дета не изменилось бы от этого. Ведь даже латинский язык, на
котором говорили реальные народы, не может объяснить характер
каждого из романских языков. Этого тем более не может делать
индоевропейский язык, который, по признанию языковедов, во-
обще никакой конкретной реальности не представляет, ибо он сво-
дится к реконструированной «системе соответствий» грамматиче-
ского строя индоевропейских языков. Па основе такой реконструк-
ции предыстории индоевропейских языков никто не может сказать,
кто же говорил на этих языках, какие народы или племена были
конкретными предками, например, германцев, греков, кельтов, рим-
лян и т. д.48
Сравнение данных языкознания и этнографии показывает, что
пароды, говорившие на родственных языках, часто были вовсе не
родственными, а, наборот, родственными оказывались народы, го-
ворившие на разных языках. В определении родства языков ча-
ще всего может ввести в заблуждение сходство их словарей. Меж-
ду тем слова, близкие по форме, даже совпадающие по звучанию и
по назначению, могут быть совершенно разного происхождения, не
говоря уже о том, что они могут быть заимствованы. Например,
слова «du» или «Тее» по-армянски и по-немецки имеют одно и то
Же значение, слово «bad» по-персидски и по-английски то же, но
этимологически они разные. Лингвисты давно замечали, что есть
Вызывает возражения утверждение акад. Атанасе Жожа в статье «Духовный
профиль румынского народа» («Румынская литература», bob, ? , с Р- ’
о том, что «корпи духовного профиля румынского народа с ду п
И горизонте Логоса — Греция, Рим, Византия». Здесь и во всей статье Л о
представляется в духе стоиков как то, что пронизывает всего ч
его психологию, как «господствующее» начало, как сперматически ,
т е. «семенной смысловой принцип».
187
некоторые пункты сходства и между языками различных языковых
семейств, например между индоевропейскими и финно-угорскими.
Более того, отмечается, что языки, считающиеся лингвистически
неродственными, могут оказаться родственными. Их родство могло
быть затемнено взаимодействиями различных языков и диалектов.
Учитывая все сказанное выше, необходимо еще раз подчерк-
нуть, что нет ничего ошибочнее, чем приписывание тому или иному
народу особого, присущего только его природе языка, имеющего
якобы беспрерывную прямую линию развития, начиная с родового
общества.
Наконец, быть представителем той или иной нации вовсе не
означает быть одноязычным. Развитие науки и культуры, интерна-
ционализация различных сторон жизни современных народов уве-
личивают число людей, которые уже не могут обойтись знанием
только своего национального языка. Две тенденции в развитии
национальных отношений прямым образом отражаются и на разви-
тии национальных языков. Стремление к знанию помимо родного
языка также мировых языков (русский, английский и т. д.), а также
преобладающего языка среды своей деятельности и языков сосе-
дей— прогрессивное стремление, и оно встречает полное понима-
ние и поддержку в социалистических странах. Другое происходит
в условиях империализма. Господствующие классы сильных наций
стремятся поглотить другие нации и народности, третируют их род-
ной язык, угнетаемым нациям навязывается язык господствующей
нации. В результате угнетаемые национальности воспринимаю]
навязанный им чужой язык как постоянное напоминание об их не-
равноправии, как символ угнетения, обостряются национальные
чувства, национальное самосознание, усиливается стремление со-
хранить и укрепить национальные формы жизни и в первую оче-
редь— национальный язык.
Интересно отмстить, что при определенном стечении социаль-
ных обстоятельств символом чужого может стать и родной язык.
Ф. Энгельс это показал па примере Эльзаса. «Один очень толко-
вый молодой социалист, который живет там,— писал 21 августа
1893 года Ф. Энгельс Л. Лафарг.— сказал мне, что едва выходишь
за городские ворота, как слышишь, что народ говорит только по
французски, и притом нарочито... Когда произошла аннексия (не-
мецкая аннексия Эльзаса.— С. 1\.), я однажды сказал Мавру
(К. Марксу. — С. 1\.), что последствием всех этих попыток рсгер
манпзации будет то, что в Эльзасе будут говорить по-французски
больше, чем когда-либо раньше. Так и случилось»49.
Гаким образом, отметив громадное значение общенациональ-
ного языка в образовании и дальнейшей жизни нации, вместе с
тем необходимо сиять с пего всякий мистический покров. Анализ
любого национального языка вскрывает конкретно-исторические
пути и особенности его образования. 48
48 К. Маркс н Ф. Энгельс. Соч., т. 39, стр. 98.
188
Лингвисты обнаруживают, например, в синтаксисе каждого
языка целый ряд последовательных наслоений от других языков.
Исследователи синтаксиса русского языка отмечают, что не всегда
легко установить, какие явления уходят в доисторическое прошлое,
какие самостоятельно развились позднее, а какие внесены другими
языками, влиявшими на русский язык в различные эпохи: старо-
славянский и греческий языки с начала русской письменности, ла-
тинский и немецкий в начале и середине XVIII века, французский
и отчасти английский в конце XVIII и начале XIX веков.
Научный анализ национальных различий языков неизменно по-
казывает их историческую обусловленность, но попытки дать им
психологические объяснения, искать основу языковых различий в
психологии нации и народностей занимают большое место в бур-
жуазной философии и языкознании.
Еще немецкий философ И. Г. Гердер в работе «Исследование о
происхождении языка» развивал идею генетической связи языка
с психологией народов. Правильно защищая тезис о единстве язы-
ка и мышления, он, однако, понимал это единство как соответствие
того или иного языка определенному складу мышления народа, го-
ворящего на этом языке. В языке, как и в искусстве, согласно воз-
зрениям Гердера, выражается сознание, дух, национальный харак-
тер каждого народа. Родоначальник философии языкознания в
Германии В. Гумбольдт, истолковывая язык как деятельность не-
коей самостоятельной духовной силы, также подчеркивал нераз-
рывную связь языка и «духа народа». «Язык,— писал В. Гум-
больдт,— есть как бы внешнее проявление духа народа; язык на-
рода есть его дух, и дух народа есть его язык — трудно себе пред-
ставить что-либо более тождественное»50.
Последователь Гумбольдта Г. Штейнталь, ставший одним из
основателей психологического направления в языкознании, тоже
считал, что язык выступает отличительным признаком определен-
ной формы мышления и выражает психологию народов. Внутрен-
няя форма слова или представления, по Штейнталю, субъективна.
Она есть «воззрение или апперцепция каждого возможного содер-
жания, которым обладает дух...»51. На основе такой субъективно-
идеалистической концепции языка Г. Штейнталь пытался даже
разрешать проблемы этнической психологии. Эти взгляды нашли
отражение и в трудах ряда русских языковедов XIX и начала XX
века. А. А. Потебня, Д. Н. Овсянпков-Куликовский проводили пси-
хологическое направление в лингвистике, в частности в трак-
товке семантики предложений. Основоположник европейского
структурализма Ф. Соссюр считал, что «в сущности все психоло-
гично в языке, включая и его материальные и механические прояв-
ления...» 52.
50 «'Хрестоматия по истории языкознания XIX — XX веков». М., Учпедгиз, 1936,
51 «Мышление и язык». М., Госполнтиздат, 1957, стр. 360
Б2 Ф. Соссюр. Курс общей лингвистики. М , 1933, стр. 33.
189
Понимание языка как явления «национальной психологии» не
имеет объективной основы. Не говоря уже о том, что психология —
вещь противоречивая, она исторически более изменчива, чем язык.
Определенные нормы национального языка вырабатываются в про-
цессе речевого общения на протяжении многих поколений, обла-
дающих неодинаковой психологией. Различие в уровне развития
национальных языков, а.следовательно, и их абстрагирующей силы
также объясняется не какими-то природными данными той или
иной нации (народности), а исключительно теми историческими
условиями, в которых развивалась данная нация (народность).
Распространенность психологической трактовки языка, видимо,
связана с тем, что все сознательные психологические процессы че-
ловека опосредствуются через систему речевой сигнализации.
Язык, обозначив все предметы и явления мира, действует в инфор-
мационном отношении на психику человека как заместитель дей-
ствительности. И тот факт, что «всякое слово (речь) уже обобща-
ет» 53, что «в языке есть только общее» 54, имеет, по свидетельству
советских психологов, решающее значение в формировании выс-
ших психических функций человека, в системном отражении дей-
ствительности, в создании новых функциональных систем, в управ-
лении психическими процессами. «Поэтому,— подчеркивает
А. Р. Лурия,— «вторую сигнальную систему» И. П. Павлов с пол-
ным основанием считал не только «чрезвычайной прибавкой, вво-
дящей новый принцип нервной деятельности», но и «высшим регу-
лятором человеческого поведения»55. Поскольку же язык сущест-
вует только в национальных формах, его иногда непосредственно
связывают с национальными особенностями психологии. Но сами
по себе языковые элементы не «психичны». Другое дело, что отно-
шение любого народа к своему языку имеет эмоциональную окрас-
ку, поскольку в национальном языке отражается все, что интересу-
ет и волнует носителей данного языка: природа родной страны, ис-
тория духовной жизни народа. Каждому народу ближе именно
родной язык, который является формой и средством выражения и
развития его культуры, идеалов, чаяний и стремлений.
Язык почитается как великое национальное достояние, стано-
вится предметом бережной заботы. Родной язык не только выра-
жает, но и усиливает национальные чувства. Вот почему всякое
ущемление родного языка ощущается особенно болезненно и вы-
зывает резкий отпор. Все это, однако, не означает, что характер
того или иного языка можно объяснить национальными особенно-
стями психологии. Связь этнических особенностей психологии с
исторической лингвистикой может стать плодотворной и многообе-
щающей при условии, если будут учтены те многочисленные рас-
хождения, которые имеют место в развитии языков и их носителей.
53 В. И. Лепи II. Поли. собр. соч., т. 29, стр. 246.
54 Там же, стр. 249.
55 А. Р Лурия. Высшие корковые функции человека. Изд-во МГУ 1962
стр. 31.
190
Как мы видели выше, прежние носители данного языка могли быть
и другого этнического состава, а следовательно, и другой этниче-
ской психологии, не говоря уже о том, что одна и та же этническая
общность людей меняется по своей психологии быстрее, чем ее
язык.
Конечно, имеются народы, основная 1 асть которых веками свя-
зана с определенным языком и системой письма, что не может не
накладывать довольно глубокий отпечаток на психологию их носи-
телей. Однако, говоря о связи языка с психологией, всегда важно
отметить, что язык сам по себе не имеет корней в психологии. Он
лишь в процессе долгого употребления становится психологически
близким для своих носителей. Именно такое понимание связи язы-
ка с психологией имеет в виду советский психолог А. Р. Лурия,
когда пишет, например, о том, что письмо иероглифическое и пись-
мо фонетическое, по всей вероятности, вовлекают в работу раз-
личные констелляции (взаиморасположения) мозговых зон. «В спе-
циальном исследовании,— пишет он,— мы показали, что фонетиче-
ское письмо на русском или немецком языке имеет строение, резко
отличающее его от иероглифического письма на китайском языке
и даже от смешанного (имеющего как фонетические, так и услов-
ные компоненты) пцсьма на французском языке. Есть все основа-
ния предполагать, что письмо на этих языках основано на различи-
ях в констелляциях мозговых зон» 56. Высказав в осторожной фор-
ме эту мысль, А. Р. Лурия вместе с тем, чтобы не оставлять ника-
ких сомнений и двусмысленностей, прямо критикует идею субстан
циональности психологии. В специальных параграфах, исследуя
восприятия отдельных звуков (даже восприятия и воспроизведения
звуковысотных отношений), понимания слов, простых предложе-
ний, логико-грамматических структур, он обстоятельно показывает
несостоятельность узко-локализационных теорий.
Современная научная психология отвергает существование
«центров» коры мозга, якобы порождающей высшие психические
свойства. Она показывает, что нет таких центров и для различных
частей языка. Неверно представлять себе мозг, построенный по
плану грамматики, и т. п. Вся масса языковых факторов распреде-
ляется в мозгу шире и свободнее, чем это представляли Брока и
другие узкие локализационисты.
Если понимать связи иероглифической и фонетической систем
письма с определенными взаиморасположениями зон коры мозга
так, что те или иные зоны определяют (порождают) соответствую-
щие системы письма,-— это было бы чистейшей воды идеализмом
типа «физиологического». Если же имеется в виду, что различные
системы письма со временем могут вовлечь различные зоны коры,
то это вполне укладывается в научное понимание связи разных
раздражителей, в том числе таких, как фонема, слово, предложе-
ние и т. д„ с различными анализаторами, порожденными, налом
56 А. Р. Лурия Высшие корковые функции человека, стр. 64, 65.
191
ним, природой раздражителей. Если, например, в заднем отделе
периферического поля слуховой коры так называемый «центр Вер-
нике» приспособлен для анализа и синтеза устной речи — фонем, а
в периферических полях зрительной коры есть участок, позволяю-
щий реализовать анализ и синтез зрительных элементов рецептив-
ной речи, то это значит лишь то, что в процессе общественно-исто-
рического развития человека в его мозгу сформировались специ-
альные функциональные органы для дифференцированного пре-
вращения энергии различного рода раздражителей в факт созна-
ния Видеть в этом факте пример особого проявления «глубинных
психических процессов» нет основания.
То, что язык является продуктом социальных связей, продук-
том определенного общественно-исторического развития, показы-
вает и то, что язык и обусловленные им сложные функциональные
системы совместно работающих корковых зон не являются наслед-
ственными. Они не появляются в готовом виде вместе с рождением
ребенка, более того, они не созревают самостоятельно вне обще-
ства. Ребенок рождается лишь с биологическими предпосылками
организации и развития языка. Поскольку специфика националь-
ного языка заключается в том, что он обращен к людям, уже вхо-
дящим в данную национальную общность, то ребенок, родившийся
в среде этой общности, усваивает уже готовый язык в общении
с окружающими его людьми. У него вырабатывается определенный
динамический стереотип, системы реакций, соответствующие грам-
матическим формам (конструкциям фраз, словосочетаниям) имен-
но языка своего окружения. Ему становится привычными (род-
ными) речевые интонации, позиционные определенные расчленения
на группы (синтагмы) звукового состава сложной фразы и круг
значений, связанный с данным звукокомплексом, различия в тембре
(различия, связанные с положением звука в слове ) и т. п.
Так как многие звуки одного языка отличаются от звуков дру-
гого языка, что обусловливает неодинаковость речевых тембров
национальных языков, то естественно, что для различения тембров
одного языка от другого в слуховом анализаторе вырабатывается
определенная системность анализа и синтеза звуков — речевой
(фонематический) слух. Без этого просто тонкий слух (у многих
животных слух тоньше, чем у человека) недостаточен для анализа
и понимания языка, чем и объясняется то, что незнакомый язык
воспринимается как поток шумов. Современная наука устанавли-
вает, что фонетический слух вырабатывается у детей от 1,5—4 лет
к топ речи, которую они постоянно слышат. При этом важно отме-
тить, что речь может быть не только (и не обязательно) на материн-
ском языке. Ребенок, родившись у родителей одной национальности
но.выросший в среде другой национальности, усвоит язык послед-
ней, который и станет родным, ибо именно на этом языке он будет
думать, говорить, чувствовать. Если бы пришлось такому челове-
ку, уже будучи взрослым, приступить к изучению своего материн-
ского языка, он испытывал бы те же трудности, которые испыты-
192
ъают люди при изучении чужого языка. Закрепление фонетиче-
ской системы одного языка затрудняет выработку механизма про-
изнесения слов на другом языке. Сказанное относится к усвоению
языковой системы в целом.
Изучение другого языка представляет немалые трудности имен-
но потому, что выработка новых привычек представляет большую
нагрузку для нервной системы. Но, как мы видели, дело меняется,
когда этот другой язык с самого начала изучается как родной, в
то время как последний становится «другим» языком.
Что язык есть не порождение национальных особенностей пси-
хологии. можно показать и на практических примерах. Так. лати-
ноамериканские нации говорят на языках испанских и португаль-
ских завоевателей. Североамериканцы говорят на английском язы-
ке, но не считают себя англичанами. Также хорваты не считают
себя сербами, хотя говорят на одном и том же сербскохорватском
•языке. Пруссия несколько столетий назад говорила на одном из
вымерших в XVIII веке балтийских языков, смешанным со славян-
скими языками. Египетский язык, последней ступенью развития ко-
торого с III—IV веков был коптский язык, около XVII века был
вытеснен арабским языком, и современные египтяне говорят по-
арабски. Ирландцы в большей своей массе говорят на английском
•языке. В Бельгии существует литература валлонов и фламандцев
на французском языке и фламандская литература на фламандском
языке57. Подобных примеров можно привести множество.
Наконец, одну и ту же нацию, ее психологию могут выражать
самые различные языки. Наиболее характерным примером в этом
отношении является швейцарская нация, имеющая 4 официальных
государственных языка: немецкий, французский, итальянский и ре-
тороманский. Различные языки здесь в силу определенных истори-
ческих условий не стали препятствием на пути складывания еди-
ной нации. В различных источниках не упоминается, что Швейца-
рия — это нация. Чаще всего говорится, что она — многонациональ-
ное государство, не разъясняя что понимать под термином
«многонациональное»: то ли, что там живут различные националь-
ности, говорящие на различных языках, или что там имеются раз-
личные нации. Если в первом смысле многонациональность Швей-
царии неоспорима, то второй смысл никак не подходит к Швейца-
рии, которая составляет одну нацию. В Швейцарии живут не
немцы, французы, итальянцы и ретороманцы, а швейцарцы, гово-
рящие на немецком, французском, итальянском и ретороманском
языках, каждый из них считает себя именно швейцарцем, а не нем-
цем, французом или итальянцем. Это исторически сложившаяся
57 Столкновения французского и фламандского языков, приведшие в 1968 году
даже к правительственному кризису и расколу политических партий в Бель-
гии, конечно, своей основой имеют не разные психологии,а социально-полити-
ческие противоречия, существующие между фламандской и валлонской вет-
вями бельгийского монополистического капитала, кризис которого обострится
развалом колониальной системы. 13
13 с. Г. Калтахчян
19 3
нация со своими традициями национально-освободительной борьбы
за независимость швейцарских кантонов, породивших многочис-
ленные легенды о клятве в Рютли, Вильгельме Телле, Ариальде-
Винкельриде. Литература швейцарцев, развиваясь также на 4 язы-
ках, прославляла борьбу швейцарского народа за независимость, за
национальное единство.
Борьба швейцарцев за национальную консолидацию заверши-
лась в 1848 году. В гражданской войне национальные силы одер-
жали победу над феодально-клерикальными силами. Но общность
чувств и общность мыслей (если отвлечься от классового раздвое-
ния) в данном случае не привели к общности языка. Патриотизм,
любовь к отечеству здесь выражаются в других ценностях. Жела-
ние швейцарцев быть единой, экономически и политически незави-
симой страной, несмотря на разнообразие их языков, стало факто-
ром более сильным, чем общность языков.
Любовь к родному языку общеизвестна и неоспорима, и все-
же не язык играет решающую роль в национальных чувствах. На-
пряжение и конфликты между единоязычными нациями могут
дойти до такой же остроты, как и между разноязычными народа-
ми, если задеваются их экономические и политические интересы.
Таким образом, подчеркивание роли национального языка как
орудия выражения бытия нации, ее чувств, сознания еще не озна-
чает, что национальный язык внутренне присущ именно данной на-
ции. В свою очередь отрицание того, что национальный язык яв-
ляется порождением национальных особенностей психологии, не
есть отрицание его доминирующей роли в формировании психиче-
ской жизни нации.
Вместе с тем поскольку в классово антагонистическом обществе
психология нации не однозначна, то нельзя не видеть, что один и
тот же национальный язык участвует в формировании и выраже-
нии различных психологий разных классов и социальных прослоек,
не исключая, конечно, и определенных общих элементов для всей
нации.
Кратко рассмотрим отношение различных классов и интелли-
генции к национальному языку.
То, что язык по своей сути не классов, что он как средство об-
щественных связей является жизненной необходимостью для всех
классов, всегда было очевидным фактом. Правда, в истории мно-
гих наций был^ отмечен факт, когда господствующие классы, ари-
стократия прилегали к чужому языку или вырабатывали свой со-
циальный язык-—-арго, чтобы отгородиться от других социальных
Классов и слоев ’8, но в сфере общественно-производственной дея-
Следует отметить, что отгораживает их и то, что существует большая группа
слов, которые, будучи одинаковыми по своему написанию и произношению,
относятся антагонистическими классами к различным понятиям. Например,
такие слова, как «социализм», «демократия» и т. д., то есть слова, в которые
каждый класс вкладывает соответствующее своему мировоззрению содержание.
191
тельности необходимо было, чтобы их понимали, и поэтому они
пользовались общенациональным языком.
По-настоящему общим для всей нации становится укрепивший-
ся литературный язык. Распространение влияния национального
языка для буржуазии означало распространение ее влияния вообще
и поэтому националистическое отношение буржуазии к языку оче-
видно. Пролетариат, трудящиеся любят и ценят свой язык без на-
ционалистических стремлений ущемлять другие языки. Заинтересо-
вана в распространении влияния своего национального языка ин-
теллигенция. В статье «Интеллигенция и национализм» (1916 год)
С. Г. Шаумян писал: «Язык как средство речи и общественных
взаимоотношений является, конечно, жизненной необходимостью
для всех классов и для каждого человека, но для интеллигенции
он, кроме того, является профессией, ремеслом... Но речь, язык
всегда национальны. Общий язык может выработаться с течением
времени... это не такая уж утопия, как кажется многим. Но сегодня
каждый народ и интеллигенция говорят на каком-нибудь нацио-
нальном языке. И интеллигенция каждой нации особо заинтересо-
вана в том, чтобы прочно сохранить и возможно шире распростра-
нить свой национальный язык»59.
Нередко национал-империализм развращает национальную ин-
теллигенцию, обещая ей расширение сферы применения языка мет-
рополии после укрепления своих позиций в колониях. Так поступали
старые колонизаторы, так поступают и неоколонизаторы. Импе-
риализм в целях разжигания национальной розни не раз исполь-
зовал интеллигенцию. Так, например, Балканская федерация, став-
шая перед лицом наступления империализма исторической необхо-
димостью в начале XX века, пе осуществилась не только из-за
династических распрей и ряда других причин. Немалая часть интел-
лигенции каждой из балканских стран, будучи зараженной бур-
жуазным национализмом, и слышать не хотела об объединении.
Она выступала против Балканской федерации, маскируя свои язы-
ковые интересы именем «родины» и «патриотизма». «Болгарская
интеллигенция мечтала о «Великой Болгарии», сербская — о «Ве-
ликой Сербии», греческая интеллигенция вспоминала о былой сла-
ве Эллады и бредила о «Новой Византии»60.
Интеллигенция стремится к знаниям, выработанным всем че-
ловечеством, и по мере сил вносит свою лепту в мировую культу-
ру. В этом отношении она выступает как интернациональная сила.
Но в условиях капитализма, когда произведения даже гениальных
представигелей культуры малочисленных и часто угнетаемых на-
ций замалчиваются, не переводятся на мировые и другие языки бо-
льших наций, а на своем языке не находят многочисленной ауди-
тории, интеллигенты стремятся к сохранению и распространению
своего языка.
Е₽ С. Г Шаумян. Избр. лроизв., т. 1. стр. 517—518.
60 Там же, стр. 520.
13*
195
Языковая общность сама по себе не может стать решающей ос-
новой единства наций. Солидарность одноязычных лиц еще слиш-
ком поверхностная солидарность. Люди на чужбине расплываются
в улыбке, послушав родную речь, но стоит вскоре им убедиться в
расхождении с собеседником в социальных интересах, как радость
улетучивается. Становится ясно, что они только говоря! на одном
языке, а думают совсем неодинаково. Поэтому встречающиеся ино-
гда такие определения у буржуазных социологов, например у
П. Сорокина, что «солидарность одноязычных лиц суть солидар-
ность лиц одной культуры, одного социально-психического пок-
роя»61, никак не согласуются с действительностью.
Таким образом, рассмотрение с разных сторон сущности языка
убеждает в том, что язык не есть порождение этнической, расовой
крови или психологии. Став общим для определенного коллектива,
язык неразрывно связывается со всей его духовной жизнью. Род-
ной, привычный язык, на котором данная историческая общность
людей выражает свои чувства, мысли и идеалы, естественно, стано-
вится психологически ближе ей. Правда, и здесь нельзя забывать,
что национальные группировки нередко не совпадают с языковы-
ми, что люди, говорящие на одном и том же языке, не всегда име-
ют также одну и ту же культуру, одинаковые нравы, традиции,
быт.
Поэтому марксизм-ленинизм, отметая антинаучные концепции
имманентности языка «особой национальной психологии», вместе
с тем выступает против любого ущемления национальных языков,
за бережное отношение к ним, за их равноправие, за создание всех
условий для их развития и взаимообогащения.
Остается теперь рассмотреть соотношение национальных язы-
ков и мышления. Если язык и мышление составляют неразрывное
единство, а языки существуют самые различные, то не логично ли
полагать, что и человеческое мышление также разнообразится по
национальному признаку? Утвердительный ответ на этот вопрос
для националистов подразумевается сам собой. Для них каждому
национальному языку или группе родственных языков соответст-
вует свое особое мышление. Нам придется хотя бы кратко разоб-
рать националистическую суть и цель различных попыток отрица-
ния единства мышления, логики человечества, но уже с самого на-
чала заметим, что утверждения о существовании якобы особых
национальных или расово-географических типов мышления — иде-
алистическая выдумка на потребу реакционеров. Конечно, мышле-
ние, ого форма и законы тоже имеют свою историю развития, но
одно дело исторические изменения, совершенствование мыслитель-
ных способностей людей от одной ступени развития общества к
другой более высокой, а совсем другое — различать людей по
расовым и национальным типам мышления. Люди на любом языке
мыслят одинаково по одним и тем же законам логики.
с' П. А Сорокин. Система социологии Пг., 1920, стр. 148.
I9G
Кстати, заметим, что единству человеческого мышления возсе
не угрожает и признание существования так называемого «доло-
гического» («предлогичсского») мышления, если под ним понима-
ется мифологическая ступень в развитии мышления. Существова-
ние в истории разных способов мышления (видения мира) также
не противоречит единству человеческого мышления, как ему не про-
тиворечит существование (даже одновременное) диалектико-мате-
риалистического и идеалистического (а также метафизико-мате-
риалистического) мышлений. Хотя если научное мышление должно
обладать признаками систематичности, методичности, динамично-
сти и проверяемости, то, как справедливо указывает академик
Г. Клаус (ГДР), «все философские системы прошлого и на-
стоящего, за исключением диалектического материализма, нару-
шают один или несколько из этих постулатов»62.
В этой связи необходимо отметить, что в утверждении Л. Леви-
Брюля, а тем более Н. Марра, врагов расизма, о существовании до-
логического мышления нет ничего расистского, поскольку различ-
ные ступени мышления распространяются на все человечество, раз-
деляясь лишь во временном измерении. Наконец, не нарушается и
единство мышления и языка, а, наоборот, подчеркивается, что каж-
дая ступень развития мышления имела соответствующий уровень
развития языка.
То, что признание дологического мышления не противоречит
единству мышления человечества, хорошо показал, на наш взгляд,
французский психолог Анри Валлон 63. Ошибку Л. Леви-Брюля и
других А. Валлон видит не в том, что признается факт действия
в истории человечества системы экспериментальной практики, из
которой возникли навыки, знание принципов этих навыков, в ко-
нечном счете наука, и системы обрядов, мифов, верований и тра-
диционных легенд, которые дают человеку иррациональное пред-
ставление о происхождении его мира, а в том, что он рассматривал
эти системы статически и метафизически разорванными, почему и
не видел путей, каким образом первая система должна была ма-
ло-помалу вытеснить вторую. Между тем уже в мифах были эле-
менты, таящие в себе возможности превращения в элементы
знания.
Вряд ли можно отрицать, что эффективность в жизни перво-
бытного человека была тем меньше, чем древнее была его перво-
бытность. Но тем не менее то, что на всех ступенях своего разви-
тия первобытные люди в своей общественно-производственной
практике вынуждены были считаться с законами природы, хотя и
02 Г. Клаус. Мышление научное и ненаучное, рациональное п иррациональ-
ное. «Философские на\ки». 1971. № 4, стр 144.
63 См. А Валлон. От действия к мысли. М„ ИЛ, 1956. Несостоятельность
односторонней критики положений Л. Леви-Брюля и особенно Н Я- Марра
о дологическом мышлении, из наш взгляд, убедительно раскрывает советский
ученый Б. Ф. Поршнев (см. Б. Ф. П о р ш н е в. Социальная психология
и история, стр. 173—179).
197
представляли их проявления фантастически, было достаточной
основой создания логического и словесного аппарата. И в мифиче-
ских понятиях первобытные люди воспроизводили практически не-
обходимые и полезные связи своей жизни с естественной средой.
Разрыв между представлениями первобытных людей и природой
вещей, естественно, был громадный, но у них была своя логика, как
своя логика была и у философа-идеалиста Платона, который, объ-
ясняя мир вещей как отражение мира идей, облекал лишь в нау-
кообразную одежду ту же первобытную мистику о магических
силах.
А. Валлон ошибку Л. Леви-Брюля (и других) видит не в том,
что он указал на различные системы (образы) мышления (ведь и
в наше время материалисты и идеалисты, коммунисты и буржуаз-
ные идеологи по-разному представляют мир), а в том, что, по Ле-
ви-Брюлю, мы якобы даже не можем истолковать «дологическую»
систему с позиции логической системы мышления. В действитель-
ности научное мышление вскрывает и объясняет причины донауч-
ного мышления. Вера в магические или мистические действия, об-
ращение к сверхъестественным силам (это не было религией) бы-
ли обусловлены отсталостью общественно-производственной прак-
тики, а следовательно, знаний первобытных людей. Поэтому речь
идет, собственно, не о принципиально и абсолютно отгороженных
друг от друга типах мышления, а о разных ступенях развития
единого мышления человечества от мифологического до научного.
«Донаучное мышление характеризуется тем, что оно или не яв-
ляется сплошь систематическим и его результаты представляют со-
бой более или менее беспорядочную (не упорядоченную) сумму
единичных высказываний, или тем. что оно пользуется не целост-
ным методом, а лишь отдельными разрозненными правилами. Но
такое донаучное мышление, — пишет академик Г. Клаус (ГДР),—
может быть охарактеризовано как рациональное, если оно исходит
из существования объективно-реального внешнего мира»64.
Академик К. И. Гулиан (Румыния) верно отмечает, что значе-
ние мифа не означает проявления бессознательного инстинкта,
как нс является и выражением субъективности. Миф не есть
обязательное трансцендентирование, извращение и выдумывание.
Стоит взглянуть на вещи повнимательнее и без предвзятости,
как под ворохом химер и фантазий обнаруживаются драгоценные
проблески первых усилий человека, пытающегося разгадать тайны
природы или своей собственной жизни, бороться с беспорядком,
со злом. «Факты свидетельствуют об амбивалентном характере
мифа. Являясь выражением сложной и противоречивой первобыт-
ной идеологии, миф соединяет в причудливую амальгаму мисти-
цизм с гепиал! пыми интуициями о жизни и человеке и представля-
ет собой кристаллизацию, часто в фантастической форме духов-
Г К л а С’ ^.пиление научное и ненаучное, рациональное и иррациональнее.
«Философские науки». 1971, Кс 1, стр. 142
198
пых ценностей, таких, как нравственные нормы, художественное
творчество и силы мышления»65.
Нет принципиально различных типов мышления ни во времен-
ном (по эпохам), ни в пространственном (по географическим или
по расово-национальным) измерениях. Научная система мышления
раскрывает причины возникновения и характер различных ненауч-
ных взглядов, находит в них определенную логику и устанавливает,
что логическое мышление независимо от уровня его развития оди-
наково присуще всему человечеству.
Наиболее распространенная форма отрицания общечеловече-
ского характера логического мышления сводится, однако, не к де-
лению мышления во временном, а, так сказать, в пространствен-
ном измерении. Утверждается, что существует столько же типов
мышления, сколько имеется делений людей по расово-географиче-
скому или даже национальному типу. На этом особенно откровен-
но настаивают современные общие семантики. Они независимо от
того, считают ли язык имманентным мышлению или, наоборот,
мышление — языку, изощряются в «доказательствах» существова-
ния якобы особых мышлений, строго соответствующих тому или
иному национальному языку. Приведем несколько, не оставляю-
щих сомнений на этот счет высказываний. «Человек, говорящий
на языке, резко отличающемся по своей структуре от английского
языка, таком, как японский, китайский или турецкий, может даже
не мыслить теми мыслями, что и человек, говорящий на англий-
ском языке...» (С. Хайакава). «Правильность силлогизма и других
логических выводов зависит полностью от лингвистических правил
и ни в коем случае не зависит от «фактов» (А. Раппапорт) «Упот-
ребляющие разные грамматики должны прийти к разным мировоз-
зрениям» (Бенджамин Ли Ворф). «Философское мышление зависит
от логической структуры языка» (Р. Екстейн). «Языковые барьеры
против марксизма труднопреодолимы» (Ст. Чейз) 66. Семантики
полагают, что немецкие идеалистические философские систе-
мы появились благодаря строю немецкого языка и не смогли
быть созданы на английском языке, в особой природе которого на-
ходятся якобы корни прагматической философии. Здесь нет надоб-
ности останавливаться на том, что эти высказывания сугубо про-
извольны уже потому, что игнорируют очевидные факты, показы-
вающие в каждой одноязычной нации наличие как материалисти-
ческого, так и идеалистического мировоззрения. Общеизвестно, на-
пример, что на немецкой почве (на немецком языке) возникла не
только идеалистическая философия, но и марксизм, который стал
понятным и родным всем прогрессивным людям разноязычного че-
ловечества. В данном случае важнее раскритиковать теоретиче-
65 К. II. Г у л и a it Амбивалентность первобытного мифа. «Философские нау-
ки», 1968, № 1. стр 158.
156 Цит по' Г А Б р 5 т я н. Теория познания общей семантики. Ереван, 1959,
стр. 282, 283, 298. 299, 300.
199
скую порочность самой попытки отождествления языка и мыш-
ления.
Мышление и язык возникают и развиваются вместе с обще-
ством, но хотя они и составляют неразрывное единство и невоз-
можно разрушить одну сторону этого единства, не разрушая дру-
гую, структура, законы мышления отличаются от структуры и за-
конов языка.
Общие семантики, с одной стороны, отрывают мышление от
языка, утверждая, что оно существует в «чистом» виде само по
себе’, с другой стороны, отождествляют их, сводят мышление к си-
стеме терминов, заявляя, что оно есть оперирование словами,
произвольными условными знаками, не содержащими в себе ниче-
го реального.
Чтобы доказать несостоятельность понимания единства мышле-
ния и языка как их тождество, недостаточно просто указать на
существование различных национальных языков: мол, почему че-
ловечество, имея единое мышление, не имеет единого языка. Такой
аргумент не будет разительным для всех тех, кто и мышление
считает национальным пли региональным, расово-географическим,,
а не единым, общечеловеческим. Для общих семантиков, например,
в структуре индоевропейских языков раскрывается строй «западно-
го мышления». Широко употребляются такие понятия, как мышле-
ние «американское» и «русское», «азиатское» и «европейское»,
«западное» и «восточное» и т. п.
Извращая действительное соотношение объективного мира,
мышления и языка, общие семантики представляют его в перевер-
нутом виде. Получается примерно такая картина: творческими лич-
ностями были созданы различные национальные языки (в начале
было слово). Структура каждого языка определенным образом
влияет на нервную деятельность человека и его отношение к дей-
ствительности, на его оценки предметов и явлений объективного
мира. Структура языка отражает структуру действительности. По-
следняя, наоборот, представляется как проекция структуры языка.
Поскольку же различные национальные языки имеют различную
структуру, порождается разнозначность употребляемых слов, одни
и те же явления понимаются разными нациями разно. Таким обра-
зом, национальные языки выступают орудием не общения, а разоб-
щения, мешают их взаимопониманию. Отсюда и предложения-
общих семантиков: создать искусственный современный язык, каж-
дое слово которого имело бы строгую соотнесенность с одним,
предметом и выражало бы его в однозначном понятии. Иначе го-
воря, предлагается создать вместо живых разговорных языков,
язык наподобие математической символики, который, собственно,
не является и не может являться самостоятельным языком, а суще-
ствует на базе разговорного языка как вспомогательный язык.
Семантики правы, когда говорят о принципиальном структур-
ном несоответствии между языком и действительностью, но они
извращают положение вещей, когда, отождествляя язык с мышле-
200
пнем, утверждают, что якобы и мышление не отражает структуру
действительности.
Субъективное мышление потому и отражает объективный мир,
что оба подчинены одним и тем же законам67. Опираясь на данные
естествознания, В. И. Ленин показал, что сознание способно на
адекватное отражение природы, ибо оно является функцией чело-
веческого мозга, носящего в себе «природу природного целого».
Отражение действительности мышлением осуществляется в процес-
се практической деятельности. Мыслительная деятельность не толь-
ко порождается внешней практической деятельностью, но и имеет
с ней принципиально одинаковое строение. Все основные элементы
структуры мысли (наличие определенного мыслимого содержания,
имеющего черты общности и абстрактности; направленность мысли
на предмет; соотнесенность мыслимого содержания с действитель-
ностью) общечеловечны, присуши любому человеку независимо
от его национальной принадлежности. Единая логика вещей отра-
жается в едином логическом мышлении. Существует одна объек-
тивная реальность, и она может быть отображена и познана в об-
щих для всех людей понятиях. Универсальным средством выраже-
ния понятий — мыслей выступает язык. Мышление как высшая
форма отражения объективной реальности и язык как материаль-
ная оболочка мысли находятся в неразрывном единстве.
Если общие семантики утверждают, что мысли существуют
в «чистом виде», а другие идеалисты, хотя и соглашаются, что
«все отработанные мысли требуют слов», но все же в целом сом-
неваются в обязательной связи мышления и языка68, то диалекти-
ческий материализм доказывает, что как нет языка вне мышления,
так и мысли, «идеи не существуют оторванно от языка»69.
Вместе с тем, как известно, общие для людей понятия могут
быть выражены и выражаются различными словами-знаками. Ока-
зывается, что все языки, будучи по своей функциональной сущно-
сти одинаковыми, по форме осуществления своих функций являют-
ся разными. Обнаруживается, что мышление и язык не только
едины, но и различны. Они вместе выполняют единую функцию,
разно функционируя. Язык и мышление не могут существовать
друг без друга в том смысле, что нет слов без мыслительного со-
держания и нет мыслей без словесного, языкового оформления.
Но какого характера будет это оформление, какова будет фонети-
ка, морфология языка, определяется не законами мышления, а за-
конами развития самого языка, обеспечивающими выполнение язы-
ком функции означения (обозначения). Поскольку язык не отра-
жает сущность предметов и явлений объективного мира, а только
обозначает их мыслительные отражения, то, хотя и соответствую-
щие знаки вырабатываются и отбираются не произвольно, все же
67 См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, стр. 539—540.
68 См, например, Б. Рассел. Человеческое познание. Его сфера и границы.
М.,’ИЛ, 1957, стр. 94.
69 «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», т. IV, стр. 99.
201
«название какой-либо вещи не имеет ничего общего с ее при-
родой» 70.
Возникает проблема отношения обозначающего к обозначае-
мому, вокруг которой идут споры в психологии, языкознании,
философии.
Верно, что «язык не только система знаков, в нем содержится
нечто большее. Знак — это означающее, по в языке есть и озна-
чаемое»71. Однако необходимо все же четко различать знак, кото-
рый в языке всегда национален от обозначаемого, носящего обще-
человеческий характер.
Касаясь проблем знака и значения, понятия и значения,
Г. Клаус справедливо замечает, что когда для одного и того же
употребляют два различных термина — «понятие» и «значение»,
это «одно и то же рассматривается, однако, в разных отношени-
ях— с одной стороны, к языковому знаку, с другой стороны, в от-
ношении к объекту отображения»72. Смешение их привело бы
к подмене единства языка и мышления их тождеством, гносеоло-
гических вопросов лингвистическими и в итоге к искажению дей-
ствительной природы языка. «Единство языка и мышления есть
единство глубоко отличных друг от друга явлений: материального
и идеального, национального и общечеловеческого, знакового и со-
держательного» 73.
Понятие для своего формирования, закрепления и сообщения
нуждается в словах-знаках, но «органической связи» между дан-
ным конкретным словом и понятием нет.
Значение (и знак) само по себе не есть отражение предмета,
хотя и способствует получению отражения. «Значение не есть свой-
ство знака, ибо иначе пришлось бы приписывать самим знакам
способность к отражению внешних объектов... Значение как обозна-
чаемый предмет сливается не с отражением десигната в чувствен-
ном восприятии, а с осознанием факта существования именно этого
предмета в отличие его от других предметов...»74.
Вернемся теперь к вопросу о специфике национальных языков.
К национальному языку относится определенная совокупность слов
и грамматических средств, являющихся общими для членов дан-
ной нации. Нет национальных форм логики: суждений, понятий,
умозаключений и т. и., но есть национальные словесно-грамматиче-
ские формы их выражения. Языковеды свидетельствуют, что логи-
ческие категории не сливаются с грамматическими, что граммати-
ка любого языка есть результат многочисленных процессов, дей-
70 К. ЛА а р к с и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, стр. 110
1 Ф II. Филин. О некоторых философских вопросах языкознания. В кп.
«Ленинизм п теоретические проблемы языкознания». М„ «Паука», 1970, стр 13.
72 G Klaus. Spcziclle Erkcnntnislhcorie. Berlin, 1965, S. 19.
7 В. И. Мальцев. Лексическое значение и понятие. В сб.: «Проблема знака
п значения». Изд-во МГУ, 1969, стр. 97.
74 В б. II а рек и и. Проблема значения «значения» в теории познания.
В сб.: Проблема знака и значения». Изд во МГУ, 19 '9. стр 37, 38.
202
ствующих независимо друг от друга на ее различные части, и что
причина морфологических изменений (как и фонетических) лежит
не в логике, а в их применении в языке. Артериальная форма
мысли — язык нс включается в логическое строение мысли, хотя
последняя не существует вне языкового выражения. Мысль как
отражение действительности безнациональна, но как содержание
языкового выражения принимает национальную форму, поскольку
безнациоиальных языков нет. Звуки, интонации, письменные зна-
ки и т. п. элементы языка национально различны, они нс сводимы
к мыслям75.
Мысль, выступая в отношении своего предмета как форма,
в то же время является содержанием, смыслом языковой формы.
Поэтому мысли, будучи общечеловеческими по своим логическим
формам, выражаются национальными языковыми формами. Таким
образом, язык и мышление, имеющие соответственно свою форму
и содержание, относятся друг к другу так же, как форма и содер-
жание. Мышление как содержание, однако, определяет свою языко-
вую форму не однозначно. Язык сам имеет различные националь-
ные формы, проявляемые как единство различных грамматических
значений и грамматических средств выражения их, при учете лек-
75 Писатель Берега Слоновой Кости Бернар Дадье в статье «Люди между двумя
языками» пишет о трудностях, которые возникают у африканцев в культурном
строительстве и образовании из-за разного строя европейских языков, являю-
щихся государственными в странах тропической Африки (кроме Танзании),
и местных национальных языков Но он правильно считает, что эти трудности
являются проблемами разных языков, а не разных мышлений. «Все знают, —
пишет он, — как трудно даже специалистам интерпретировать обозначение
цветов у Гомера и Вергилия. Один народ объединяет в едином слове синее
и зеленое, другой — синее и черное, третий разлагает па разные цвета ту
часть спектра, которая считается у иных одноцветной В то же время дока-
зано, что все люди видят цвета одинаковыми. Следовательно, это ччето лин-
гвистическая проблема» (Б. Дадье. Люди между двумя языками. «Ино-
странная литература», 19G8, № 4, стр. 246)
Трудности перевода с одного языка на другой существуют в той или
иной мере у всех народов. Как показывают лингвисты, языковые средства
очень разнообразны и в каждом национальном языке используются раз-
лично. Например, порядок слов в различных языках по-разному влияет на
правильную передачу мысли. Хотя в сущности ист языков с абсолютной
свободой порядка слов, эта свобода варьируется в больших пре телах Число
морфем в разных языках весьма различно, французский язык, например,
вообще не допускает нарушения порядка слов. Системы грамматических
категорий в разных языках также различны, хотя имеются и общие моменты,
объясняемые общностью строя логического мышления людей. Категория рода,
например, в индоевропейских и семитских языках настолько важна, что суще-
ствительные не мыслятся вне се. В некоторых языках Америки и Африки род
имеет особый характер. Так, алгонкинские (одна из основных групп языков
североамериканских индейцев) языки отличают род одушевленный н неодушев-
ленный. В языке масаи (парод в Восточной Африке) есть особый род для
всего большого и сильного и другой рол для всего маленького и слабого
В языках банту играют громадную роль «классы», характеризуемые каждый
специальным аффиксом Немецкий язык постоянно пользуется настоящим
вместо будущего Наоборот, во французском языке простое будущее может
передавать настоящее. Прошедшее может также выражаться в настоящем.
203
спческого значения. Есть национальные формы слова, словосоче-
тания, предложения. Следовательно, одно п то же мыслительное
содержание может принимать и принимает самые различные язы-
ковые формы. Если «категории мышления не пособие человека,
а выражение закономерности и природы и человека...» 76, то катего-
рии языка как средство выражения мыслей — пособие человека,
и каждый народ выработал свое пособие. Весь вопрос в том: каким
образом выработаны эти пособия. Если существуют разные языки
с различными знаковыми системами и они взаимно заменимы, то
можно ли считать создание этих знаков делом субъективно-произ-
вольным? Наука на этот вопрос отвечает отрицательно, хотя назва-
ние вещи или явления действительно не имеет ничего общего с их
природой.
Фонетическая сторона языковых знаков причинно не обуслов-
лена свойствами внешних объектов или понятий об этих объектах.
Иначе говоря, слова национальных языков не естественные знако-
вые образования. Однако они и не конвенциональны, т. е. нс ре-
зультат произвольного соглашения субъектов.
Вообще разговорный язык не мог возникнуть как результат
общественного договора хотя бы потому, что для того, чтобы
договориться, согласиться относительно общеобязательного смысла
слов, надо было уже уметь разговаривать друг с другом и пони-
мать друг друга.
Само название, звуковой комплекс не отражает непосредствен-
но те или иные предметы, явления, их связи и отношения. Свиде-
тельством того, что между материальной оболочкой мысли и пред-
метом мысли нет органической связи, является то, что одни и те
же слова в различных контекстах связываются с различными поня-
тиями, а также то, что одни и те же предметы или явления у раз-
ных народов получили различные словесные обозначения. Вместе
с тем номинативная функция языка — название предметов и явле-
ний, обозначение их понятий словом не осуществляется по произ-
волу, а сообразно закономерностям развития данного языка.
Антиномичность положений о том, что слова национальных язы-
ков условны, искусственны, но вместе с тем не произвольны, не
конвенциональны, разрешается установлением факта, что «соци-
альная мотивированность слов связывает их причинно-следствен-
ной, т. е. естественной, связью не с темп десигнатами, которые
этими словами обозначаются, но с общественной средой, в которой,
функционирует ныне и функционировал прежде язык. С другой
стороны, момент отсутствия естественной мотивированности слов,
их десигнатами не означает произвольности, т. с. искусственности
формирования слова, поскольку последние детерминированы кон-
текстуально своей языковой системой, а та, в свою очередь,.— обще-
ственной средой, в которой опа сложилась и функционирует»77.
'с В. II Ленин. Ноли. собр. соч., т. 29, стр. 83.
77 И. С. Царский. Проблема значения «значения» в теории познания. В кн.х
«Проблема знака и значения». Изд-во МГУ, 1969, стр. 44.
204
Остается в силе научная гипотеза, согласно которой когда
у формирующихся людей в процессе трудовой деятельности впер-
вые возникли простейшие понятия, закрепление за ними тех или
иных звуков п их соединений должно было носить случайный ха-
рактер. Этим, в частности, можно объяснить большое многообра-
зие языков. Вместе с тем, однако, каждый коллектив, по-своему
обозначив то пли иное понятие, по-видимому, это делал сообразно
своим представлениям, которые были у него связаны с этими по-
нятиями. У этих знаков нс могло быть и не было необходимого
предметного отношения (связей) друг с другом, как это представ-
ляется сторонниками натуралистического понимания природы зна-
чения.
Мысль первоначально, видимо, выражалась в образной
речи, что указывает на существование необходимой связи между
языком и представлением, однако назвать предмет, его понятие
можно по-разному. Даже у современного человека при виде непри-
вычного предмета всплывает не одно-единственное возможное на-
звание для этого предмета, а несколько. Только анализ всех свя-
зей данного предмета и выделение из них самого характерного
позволяет дать наиболее приемлемое название.
Несоблюдение этого условия приводит иногда к закреплению
за предметом и явлением названия, неправильно отражающего их
суть. В. II. Ленин, отметив, например, что народники «к «промыс-
лам» относят все и всяческие занятия крестьян вне надела» и назы-
вают «промышленниками» и фабрикантов, и рабочих, и батраков,
и скупщиков, торговцев и т. д., показал, какую путаницу вносит
в понятие «это дикое словоупотребление»78.
Первобытный человек производил дифференциацию названий
сообразно своим представлениям о предмете и его связей с си-
туацией. Многие первичные слова у них, вероятно, имели подража-
тельный характер и признаки образности. Звуковые, словесные
знаки, однако, постепенно удаляются от образности, и совпадение
звуковой дифференциации у различных, несвязанных друг с дру-
гом общностей людей, конечно, было делом невероятным.
Возникнув же, язык уже на самых ранних стадиях начинает
развиваться по собственным законам. Шаг за шагом упорядочи-
вается и совершенствуется вся данная языковая система. При этом
не исключается, конечно, также взаимодействие и взаимовлияние
различных языков. Для всех членов данной общности языковые
нормы, как фонетика, так и грамматика, приобретают великую при-
нудительную силу. Никто не может нарушить их, не рискуя вы-
пасть из круга жизненно необходимых для него социальных связей,
которые со временем выступают в форме национальных связей.
Таким образом, еще раз подтверждается, что язык не только яв-
ляется могучим скрепом национальных связей, но что он также
есть продукт этих связей.
78 В. И Лепи н. Поли. собр. соч., т. 3, стр. 85—86.
205
Интересный материал дают наблюдения за процессом усвоения
языка ребенком. Он тоже вначале производит дифференциацию
ближе к своим образным представлениям. Воспроизведение вещей
ребенком некоторое время носит общий характер. Но ребенок
не первобытный человек. В развитии высших психических функции
биогенетический закон не действует. Развитие человеческой психи-
ки в онтогенезе не предопределяется развитием психики в фило-
генезе. У ребенка не повторяются представления (в том числе ре-
чевые) своих предков, как утверждают теоретики палепсихпзма
или бессознательного. Язык не наследуется. В ребенке заложена
лишь способность выучить готовый язык, который он застает.
В начальный период усвоения языка ребенок, не умея еще
в точности воспроизвести слово, старается произнести нечто подоб-
ное. Так, один ребенок вместо слово «хорошо» говорил «шошошо»,
а вместо «плохо» — «поти». Слишком ограниченный словарик за-
ставляет его называть сходные предметы одним и тем же словом.
Так, он словом «ау» называл и лес, и грибы, и ягоды, а увидев на
экране телевизора опасную ситуацию кричал «птаа», что означало
сейчас выстрелят, убьют. В дальнейшем идеально овладевший язы-
ком человек уже думает на употребляемом языке, и слово-знак
отходит на задний план.
А. Валлон приводит пример, как ребенок говорил с отцом и ма-
терью на разных языках, не замечая этого. Слова разделялись
в зависимости от того лица, к которому ребенок обращался; он
верил, что точно повторяет то, что ему только что сказал отец,
в то время как переводил это своей матери. «Это означает,— заме-
чает А. Валлон,— что знак постепенно искореняется значением»79.
Но это вместе с тем говорит также об органичном слиянии обозна-
чений (хотя и разных) с обозначаемым. Необходимую их связь
можно проследить на протяжении всей жизни любого языка.
Язык представляет собой объективную систему знаков. Он дает
соответствующие обозначения понятиям, является носителем по-
следних. Наконец, он выражает эмоциональное отношение к ним
со стороны субъекта, но нс является непосредственной копией,
отражением самих предметов и явлений. Этим объясняется то, что
знаки языков взаимно заменимы. Мысленные образы, копии пред-
метов и явлении мира — это понятия, и только отнесение к ним
слова дает последнему значение. Семантические категории не яв-
ляются постоянными показателями структуры мысли.
Итак, наличие, с одной стороны, общечеловеческого единого
логического мышления, а с другой стороны, различных националь-
ных языков, по-разному одевающих мысли людей в словесные
одежды, со всей ясностью показывает, что если растворение зако-
номерностей языка в закономерностях мышления вступает в гру-
бое противоречие с фактом существования разных языков при су-
ществовании общечеловеческой логики, то подмена законов мыш-
79 \ В а л л о п От действия к мысли, стр. 191
206
ления законами языка приводит к утверждению невозможности
однозначного отражения мира посредством различных языков.
Переводы с одних языков на другие языки в таком случае также
были бы невозможны, наступило бы полное взаимонспонимание
пародов. Все это для семантических идеалистов вовсе и пе является
нелепостью, хотя факт широко практикуемых переводов с одного
языка на другие и взаимопонимания народов налицо.
Недопустимость отождествления слова с понятием означает
не отрицание соответствия между словом и понятием, а то, что в то
время как понятие, будучи отражением действительности, имеет
одинаковое значение у всех народов, слово, обозначающее это по-
нятие, звучит или пишется разно у различных народов, что слово
в отличие от понятия может быть изучено и понято только в фоне-
тической и грамматической системе данного национального языка.
Понятие же хотя и неразрывно связано с языком, своим содержа-
нием имеет реальную действительность, изучается в процессе по-
знания и естественно носит интернациональный характер.
Семантические идеалисты со всем этим не согласны. Они
утверждают полную произвольность, субъективность закрепления
знаков языка за обозначаемыми ими объектами, что язык, соб-
ственно, представляет совокупность символов, иероглифов, якобы
являющихся источником всех недоразумений между народами.
По их мнению, все международные проблемы возникают из-за
смысловых различий слов на разных языках. С. Чейз, например,
корни разногласий по вопросу о демократическом устройстве после-
военного мира видит в том, что «демократию» русские и американ-
цы понимают различно, что у каждого свой сорт демократии.
Но спрашивается, причем тут различие в языках? Ведь общеиз-
вестно, что для прогрессивных людей Америки и любой другой
страны «демократия» имеет тот же смысл, что и для советских
людей. \ если реакционеры вкладывают в понятие «демократия»
другое содержание, так это потому, что «демократия» — понятие
нс языковое, не национальное, а социально-классовое. Если в поня-
тие «демократия» вкладывается разное содержание (не народами,
а различными классами), то это нс потому, что на разных языках
по-разному обозначается это понятие (кстати, в данном случае
почти все народы употребляют слово «демократия», ставшее меж-
дународным), а потом}, что различные социальные классы по-раз-
ному понимают демократию. Для современной империалистической
буржуазии, например, «демократия» понимается как свобода мо-
нополий эксплуатировать трудящихся, как свобода колониального
разбоя, как свобода любыми средствами охранять и увековечить
свое господство, прибегать для этого даже к истребительным вой-
нам против чужих народов.
Какой смысл вкладывается в такие термины, как «демократия»
и «плутократия», «революция» и «контрреволюция», «нация» или
«класс», зависит нс от характера языка, а от социально-политиче-
ских взглядов людей. Коммунисты заинтересованы в истинном
207
отражении действительности, и у них не возникает противоречия
между понятием и его обозначением. Буржуазные же идеологи
извращают понимание действительности, приклеивая несоответ-
ствующие ей этикетки. Тут дело вовсе не в недостатках живых
языков и якобы в необходимости замены их символическими.
В разговорной речи многие понятия действительно передаются
приблизительно, и против требования точнее выражать понятия ни-
чего возразить нельзя. Однако неправильно то, что общие семан-
тики считают разговорные языки вообще фатально неспособными
точно выразить понятия. На самом же деле любой язык имеет воз-
можности избежать и избегает двусмысленностей. Смысл каждого
слова проясняется главным образом в контексте. Например, сло-
во «корень» получит свой определенный смысл в зависимости от
того, употреблено ли оно в рассуждениях о растениях, математи-
ческой операции или зубных болезнях. А если и контекст не прояс-
нит смысл того или иного слова, язык сам же разъяснит его дру-
гими словами. Наконец, возникают специальные технические язы-
ки путем использования мертвых языков, а чаще всего на основе
какого-либо общего языка, которые служат как для наименования
понятий и предметов, не имеющих названий на родном языке, так
и для более точного, устраняющего двусмысленность обозначения
предметов и явлений. Специальные языки помимо создания новых
слов используют и такой прием, как употребление слов обычных
языков в специальном значении. Такие слова, как, например, ма-
терия, время, пространство, масса, скорость, сила и т. д., имеют
одно значение в обычных языках, другие — на языках специаль-
ных, в данном случае на языке философии и на языке физики.
Наконец, есть и специальные символические языки, но они идут
не на смену живым языкам, а лишь дополняют их и развиваются
на их почве.
Условные языки символов в пауке и технике возникают как
результат соглашения, договоренности благодаря живым языкам,
да и функционируют посредством их. Специальные языки выража-
ют лишь одну сторону действительности. Они полезны как вспомо-
гательные средства и становятся попятными при помощи слов
и предложений обычных языков.
Функции разговорных языков намного шире функции языка
символов. Разговорный язык является не только орудием выраже-
ния и передачи мыслей, но и средством осмысленно-эмоционально-
го отношения к окружающему миру. Фольклор, художественная
литература дают особенно яркие примеры полисемантичности жи-
вых языков, их богатой палитры изображения действительности,
выражения чувствования. Только благодаря этим качествам разго-
ворные языки становятся летописью народа, формой выражения
его жизни, чувств, мыслей, надежд, желаний и стремлений. Посред-
ством живого языка человек пе только сообщает, по и опре-
деленным образом воздействует па слушающего и читающего,
на его чувства и волю. Более того, в разговорном языке даже вы-
208
ражение логической мысли несвободно от какого-либо оттенка
чувства.
Символические языки как вспомогательные средства увеличе-
ния могущества человека, его познания необходимы, и они будхт
и впредь развиваться на базе разговорных языков. Однако будут
ли последние количественно и качественно неизменны? На этот
вопрос также имеются различные ответы.
Есть еще люди (не говоря уже о националистах), которые
«I слушать не хотят о перспективе исчезновения множественности
языков и появления единого мирового языка. Последний им пред-
ставляется холодным, безжизненным, искусственным, привитым,
неродным. Невозможно, недопустимо такое единообразие, говорят
ревнители множества языков; природа, наоборот, творит все новые
цвета, новые формы... Однако, видимо, будучи не очень уверенными
в том, что невозможен единый язык, националисты патетически
восклицают: «II, наконец, что за неумолимая и страшная мечта
иметь непременно один язык, ведь это все равно, если бы стреми-
лись иметь одного сорта ягоду в наших садах, один напиток, одну
музыку...» 80.
Здесь, не говоря пока о полной произвольности утверждений
насчет якобы бедности и тусклости будущего единого языка, оста-
новимся на том, что будущность языков решается не субъективны-
ми причитаниями, а естествениоисторическим развитием общества.
Язык — не только орудие прогресса общества, но и один из видов
и показателей этого прогресса. Каждой ступени развития общества
соответствует определенный уровень языков и их взаимоотношений.
В первобытнообщинных условиях жизни человека, когда граница,
разделяющая на «мы» и «они», проходила между различными
общинами, люди стремились во всем, в том числе и в языке, гово-
рах, подчеркнуть отличие своих от чужих. Дифференциация язы-
ков увеличивалась. Этому, безусловно, способствовала и обособлен-
ность различных первобытных коллективов, живущих в отдалении
друг от друга. Однако даже в указанных условиях происходило
определенное соприкосновение кочевых первобытных коллективов
и взаимовлияние их языков. Пленение и другое перемещение лиц
также способствовало влиянию одних языков на другие.
Дальнейшие учащения хозяйственных связей уже требуют
взаимопонимания, а следовательно, некоторой унификации языков
соприкасающихся коллективов. Начинается борьба двух тенден-
ций: тенденции к дифференциации языков, отстаивание их чистоты
и самостоятельности и тенденции к интеграции языков, к взаимо-
обогащению. Преобладание той пли иной тенденции определяется
характером общественно-экономических формаций. При капитализ-
ме эта борьба идет в полном соответствии с борьбой дву х тенден-
ций в национальных отношениях. С одной стороны, интересы хо-
зяйственного и культурного сближения народов требуют выделения
80 Л. Ш а н т. Соч., т. V. Бейрут, 1948, стр. 66 (на арм. яз.).
14 с. т. Калтахчян
209
межнациональных и мировых языков, с другой стороны, угнетение
одних наций другими укрепляет децентралпстпческпе тенденции,
решимость во всем, в том числе в языковом отношении, отстоять
свою самостоятельность.
Нации в буржуазных многонациональных государствах особен-
но остро реагируют на введение общегосударственного языка, ко-
торый обычно бывает языком угнетающей нации. В Австро-Венгрии
или царской России одной из причин социальной борьбы было
неравноправие языков. В Венгрии, например, где в 40-е годы
XIX века латынь была языком господствующего класса и классо-
вого управления, а немецкий язык был языком императорской бю-
рократии, одним из основных требований венгерской нации было
требование свободы употребления мадьярского языка. Хотя обще-
известно, что в капиталистических государствах социальное угнете-
ние успешно осуществляется и на родном языке, чужой язык
в устах чиновника, офицера, судьи делает национальное господство
особенно наглядным и болезненно-чувствительным.
Полное равноправие и беспрепятственное развитие националь-
ных языков обеспечивается при социализме (см. главы пятую
и шестую).
Итак, язык есть общественно-историческое явление. Как сред-
ство общения людей, развития общества язык имеет единую сущ-
ность, но ио форме исторически возникло множество языков.
И в наше время существуют нации и народности, существуют
и развиваются национальные языки. Язык является одним из суще-
ственных признаков нации, но неправильно считать его имманент-
ным данной нации, порождением национальной психологии. Невер-
но также искать на основании единства языка и мышления и суще-
ствования различных национальных языков соответствующие по-
следним различные национальные логики.
В мире нет чистых языков. В перспективе языки будут разви-
ваться от множественности к единству.
4.
НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ
Национальное самосознание вырастает из тех же факторов, ко-
торые играют решающую роль в возникновении и развитии нации.
Причем какие общности и в каком сочетании становятся объектив-
ными причинами возникновения и развития национального само-
сознания, зависит от конкретных путей формирования данной на-
ции. По, раз возникнув, национальное самосознание приобретает
относительную самостоятельность, становится одним из решающих
условий существования и развития нации, которая выступает уже
как общность людей, имеющих не только объективные связи (эко-
номические, территориальные и т. д.), но и связи, основанные на
210
самосознании. Национальное самосознание, отражая глубинные
процессы и предпосылки формирования нации, призвано выражать
объективные национальные интересы, определяемые положени-
ем нации в системе общественных, в том числе международных,
отношений.
В. И. Ленин объясняет «национальное пробуждение»81, насту-
пившее с конца средних веков, прежде всего экономической заин-
тересованностью общества в победе капитализма над феодализ-
мом: «...нельзя было из феодализма перейти к капитализму без
национальных идей»82. В период же проникновения капитализма
в колонии «там ввозимый капитал усиливает противоречия и вы-
зывает постоянно растущее сопротивление народов, пробуждаю-
щихся к национальному самосознанию, против пришельцев...»83.
В ряде случаев, как, например, в XX веке в Африке и Азии, решаю-
щим элементом национального самосознания становится стремле-
ние к национальной независимости, к образованию своей нацио-
нальной государственности. Хотя этническое родство не обязатель-
ное условие образования нации, все же национальная консолида-
ция опирается на территориальное соседство (для формирования
общей национальной территории), в большинстве случаев на бли-
зость диалектов (для образования национального литературного
языка) и близость особенностей культуры, психологии и т. п.
Несмотря на то что национальное самосознание является реаль-
ностью, а в современную эпоху оно бурно растет на всех конти-
нентах, в нашей литературе до последних лет ему уделялось недо-
статочное внимание. Между тем очень важно идеалистическо-
му пониманию национального самосознания противопоставить ма-
териалистическое понимание его места и роли в общественном
развитии.
Буржуазные социологи рассматривают национальное самосозна-
ние как самодовлеющий фактор, как нечто первичное, не имеющее
своей объективной основы. Национальное чувство, неизвестно отку-
да взявшееся, выдается вообще единственным демиургом нации.
Идеологи буржуазии рассматривают нацию как производную от
коллективного сознания (суммы сознания людей, одинаково чув-
ствующих и думающих). К тому же национальное самосознание
толкуется расширительно, с включением в него националистиче-
ской идеологии господствующих классов и такое «общенациональ-
ное сознание» рассматривается в качестве единственного признака
нации.
Такая трактовка национального самосознания, конечно, ненауч-
на, по это значит, что надо дать научную разработку проблемы
национального самосознания, а не уйти от нее или заменить вопро-
сом о «психическом складе наций».
81 В. 11. Ленин. Полн. собр. соч.. т. 24, стр. 385, т. 25, стр. 258—259
82 В. И. Лен и н. Поли. собр. соч., т. 26, стр. 35.
83 Цпт. по: В. И Л ей н п. Полн. собр. соч., т. 27, стр. 419.
14*
211
То, что в качестве одного из основных признаков нации (анта-
гонистического общества) некоторые считают «психический склад»
вместо самосознания этнической принадлежности, на наш взгляд,
объясняется еще и тем, что национальное самосознание нередко
понимается как общность «национального сознания», а последнее
выдается как общность психического склада нации. Однако такой
ход мыслей неправилен. Прежде всего потому, что самосознание
составляет лишь определенную сторону сознания. Человек осмыс-
ливает, осознает не только окружающий объективный мир, но
и свое личное бытие. У него появляется самосознание, т. е. осозна-
ние своего положения в обществе, отношения к другим людям
п различным их группам, своих интересов, чувств и мыслей.
Последние связаны не только с настоящим, но и с прошедшим че-
ловечества, и личность осознает свою зависимость от общества
п в особенности от своего класса, своей нации.
Самосознание означает то. что человек направляет свое созна-
ние на себя, на оценку своего места в обществе, своих возможно-
стей. характера, чувств, мыслей и поступков. Но оценить все это
он может в сравнении с другими людьми, вступая с ними в опреде-
ленные отношения. К. Маркс отмечал в «Капитале», что так как
человек «родится без зеркала в руках и не фихтеанским филосо-
фом: «Я есмь я», то человек сначала смотрится, как в зеркало,
в другого человека»84. Иначе говоря, чтобы познать свое «я», «я»
должен сначала попять кто «он». Более того, надо знать не только
«его», но всех ему подобных, составляющих определенные общно-
сти, то есть познать, кто «они», и тогда можно выделить себя и всех
себе подобных в осознанное «мы». Это становится возможным бла-
годаря тому, что каждый человек живет и действует не как робин-
зон, а вступает в самые различные общественные отношения
с людьми разных профессиональных, классовых, этнических и т. п.
общностей и через них узнает себя частью той или иной обще-
ственной группы. Таких общностей множество: от двух приятелей
до всего человечества. По своему характеру общности людей раз-
личны— от самых эфемерных, кратковременных (случайные спут-
ники, толпа) до самых устойчивых (классы, этнические общности).
Осознание характера общностей «своих» и «чужих» также раз-
личаются от самых смутных до научно осознанных: «Весь мир
делится на два лагеря: «мы», трудящиеся, и «они», эксплуата-
торы» 85.
Поскольку у каждого человека есть множество «мы» и «они»,
его самосознание, а соответственно и поведение будет тем яснее,
чем яснее он поймет соотношение, роль и значение различных общ-
ностей. Когда человек, сознавая, например, свою этническую при-
надлежность, вместе с тем сознает, что его классовая солидар-
ность является определяющей, тогда в отстаивании национальных
м К. Ма ркс н Ф Энгельс. Соч., т. 23, стр. G2.
85 В. И. Л ей и н. Поли. собр. соч., т. 34, стр. 323.
212
интересов у него не возникает непримиримых конфликтов между
национальным и классовым самосознанием. Выдвижение же на
первый план национальной общности не может не привести к на-
ционалистическому помутнению классового сознания, произойдёт
смешение понятий «своих» и «чужих» по существу. Правильное
самосознание как результат борьбы самосознаний различных общ-
ностей «мы» и «они» играет важнейшую роль в национальном,
классовом и других отношениях самоопределения личности. Само-
сознание выступает, таким образом, в качестве жизненно важного
средства самоконтролирования и саморегулирования личности
в сложной системе ее отношений с другими людьми в обществе,
в труде, национальных отношениях, классовой борьбе и т. д.
Иногда в литературе употребляют термины «национальное со-
знание» и «национальное самосознание» как идентичные понятия.
Во избежание недоразумений эти понятия не следует смешивать.
Сознание как объективное отражение действительности присуще
всем людям и не имеет национальных различий. Если же под на-
циональным сознанием подразумевают особую национальную пси-
хологию и идеологию, то оно становится синонимом националисти-
ческого сознания. Как будет показано при анализе проблемы клас-
сов и наций, идеология национально-освободительного движения
не является надклассовой, общенациональной идеологией. «Лю-
ди,— писал В. И. Ленин,— всегда были и всегда будут глупенькими
жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся
за любыми нравственными, религиозными, политическими, соци-
альными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интере-
сы тех или иных классов»86.
Сознание каждого индивида, конечно, носит на себе также и от-
печаток своей национальной жизни, но сама эта жизнь, прелом-
ляясь через классовую призму, отражается в головах людей в виде
чувств, мыслей и волевых движений не одинаково. Каждый класс
по-своему сознает и характеризует свою нацию, свои националь-
ные интересы. Поэтому нельзя защищать правомерность термина
«национальное сознание» на том основании, что его следует рас-
сматривать как отражение национального бытия. Последнее на-
столько различно для каждого класса, что ударение будет падать
не на национальное, а на классовое сознание.
Сознание буржуа различных наций в основном одинаково и рез-
ко отличается от сознания пролетариев любых наций, как чужих,
так и своей. Если бы существовало единое национальное сознание,
к нему пришлось бы отнести правовое, нравственное, религиозное,
эстетическое, философское сознание, между тем общественное
сознание во всех этих формах в той или иной мере представляет
отражение экономических отношений как отношений интересов.
Следовательно, у антагонистических классов одной и той же нации,
очевидно, не может быть единого политического сознания, отра- 85
85 В. И. Л с и и н Поли. собр. соч , т. 23, стр. 47.
213
жающего одинаковые взгляды на государство, на отношения между
классами, нациями. Не может быть и единого правового сознания
там, где воля господствующего класса возводится им в закон
в противовес правовым взглядам и требованиям угнетенного
класса.
В этическом и эстетическом сознании мы также имеем дело
с классово-оценочными отношениями к действительности. При этом
оценки моральные и эстетические, например добра и прекрасного,
совпадают и связующим их звеном также выступает интерес. Как
и любые другие формы общественного сознания, этическое и эсте-
тическое сознание представляют единство психологического и идео-
логического отражения общественного бытия. Идеологическое от-
ражение целиком определяется классовыми критериями. Ими же
определяется психологическое отражение, за исключением некото-
рых общих черт форм отражения в искусстве87. По существу как
моральные, так и эстетические идеи не могут не быть классовыми,
другое дело, что господствующие классы в прогрессивные периоды
своей деятельности вырабатывают ценности, которые входят не
только в общенациональный, во и в общечеловеческий фонд. Нако-
нец, нет национальных религий, а существуют мировые религии,
охватывающие многие нации. Другое дело, когда определенные на-
ции имеют различные религии и их отличия друг от друга подчер-
киваются помимо всего прочего также различием их религий. Рели-
I ня в подобных случаях используется как питательная почва для
разжигания национализма, ненависти в отношении иноязычных
иноверцев.
Что же касается философского сознания, то и оно не может
считаться национальным, если даже в определенные периоды, на-
пример в национально-освободительной борьбе, нация выступает
единым фронтом. Такое единство складывается не совпадением
интересов различных классов данной нации, как может показаться
на первый взгляд. Они объединяются в желании добиться незави-
симости своей папин, что считают в интересах нации. Однако каж-
дый класс осознает национальные интересы в соответствии со
своими особыми интересами. Поэтому говорить об общей нацио-
нальной философии также пе приходится. В каждой нации имелись
и имеются самые различные философские школы, и когда говорят
французская, английская и т. д. философия, имеют в виду все
философские течения, которые развиваются в данной стране. Фило-
софское сознание также является классовым. Исключения не со-
ставляет и марксистско-ленинская философия, хотя она как миро-
воззрение прогрессивного класса, как наука в принципе в конечном
счете есть общечеловеческая философия. Философское мышление
можег охватывать национальные чаяния народов, отражать харак-
тер и интересы национально-освободительной борьбы, по этим опа
О специфике художественного самосознания речь шла в третьей главе настоя-
щей работы.
не становится особой национальной философией. Идеология на-
ционально-освободительного движения и национальная идеология
не одно и то же. Национальная идеология выдается господствую-
щими классами как идеология, выражающая интересы нации в це-
лом88, а на самом деле она есть идеология национализма, выра-
жающая интересы буржуазии, и как таковая находится в прямом
противоречии с интересами трудящихся масс.
Таким образом, во избежание недоразумений лучше различать
термины: «национальное самосознание» и «национальное созна-
ние». Национальное самосознание, которое, кстати, широко учиты-
вается в переписях населения при определении национальной при-
надлежности, является реальностью и может рассматриваться
в качестве производных признаков нации. Национальное самосо-
знание не существует как признак нации наряду с другими ее
основными признаками, а вырастает на их основе, определяется
ими. При этом в зависимости от конкретных путей образования
данной нации ее представители в своем национальном самосозна-
нии выдвигают на первый план те или иные совокупности призна-
ков нации, почему и было бы неправильно исходить из раз навсегда
установленного набора и утверждать, что отсутствие или потеря
какого-либо из них уже разрушает нацию.
Конечно, разрушение общности экономических связей, государ-
ственно-территориальной целостности, например польской нации
в периоды ее разделов, в то же время было разрушением нации,
но продолжала жить национальность и ее национальное самосо-
знание, в котором было выражено также стремление к возрожде-
нию нации. Огромное значение национального самосознания в оп-
ределении нации как раз заключается в том, что оно, образуясь
под влиянием объективных причин, затем приобретает хотя и отно-
сительную, но весьма большую самостоятельную силу. Эта сила
коренится в конечном счете в осознании интересов национального
бытия. Поэтому человек, национально самоопределившийся на ос-
нове общности определенных признаков, потеряв один или некото-
рые из них, например государственно-территориальную целост-
ность, еще не теряет сознание своей национальной принадлежно-
сти. Национальное самосознание сохраняется надолго, если даже*
его носители оказываются территориально, в культурно-хозяйствен-
ном отношении разобщены и даже теряют общность языка.
В подобных случаях национальное самосознание выступает как
признак не нации, а лишь национальной принадлежности се носи
толей. Если немыслимо существование нации без люден, сознаю-
щих свою принадлежность к ней, то вполне реальны случаи, когта
наличие людей с определенным этническим самосознанием еще
не образует нацию. Здесь мы опять сталкиваемся с необходи-
““ Шовинисты султанской Турции, гитлеровски», фашисты даже неслыханный
гене ннд в отношении других народов выдавали за > г, отве ниоший интересам
СВОИХ II 'ЦНЙ.
215
мостыо различения нации и национальности. Чтобы националь-
ность развилась в нацию, кроме этнического самосознания необхо-
димо восстановление (пли образование) тех объективных условий,,
на базе которых сформировалось в свое время (или может сфор-
мироваться) национальное самосознание. Причисление человеком
себя к определенной нации является главным решающим, но для
нас остается открытым вопрос: на основании чего, собственно, он
осознал свою связанность с людьми именно этой, а не другой на-
ции? Другими словами, требуется ответить на вопрос: что осозна-
ет человек, когда причисляет себя к определенной нации, и мы вы-
нуждены обратиться к историческим условиям возникновения
и развития данной нации, ибо только они являются основой осозна-
ния принадлежности к той или иной нации.
Ссылки на «национальную душу», «национальную психологию»,
как мы 5же видели, ничего не могут дать, хотя бы потому, что они
сами нуждаются в объяснении. Национальное самосознание имеет
объективные глубокие корни в интересах людей, и научно проана-
лизировать его может только историко-экономическая теория. Толь-
ко эта теория могла объяснить, почему, например, немцы Эльзаса
и Лотарингии, исходя из своих социально-экономических интересов,
причислили себя к французской, а не немецкой нации. Этот пример-
особенно ясно показывает, что к национальным особенностям
в первую очередь были отнесены условья социально-экономическо-
го и культурного развития нации. Национальное самосознание эль-
засцев и лотарингцев выразилось в пользу французских условий
национального развития.
С какой бы стороны ни рассматривали национальное само-
сознание, оно не содержит ничего мистического. Даже если поро-
дившие его объективные причины в данное время не существуют,
всегда можно разобраться как в исторических, так и в современ-
ных причинах, питающих национальное самосознание. Для этого-
необходимо вместо погони за неуловимой общностью психического-
склада нации разобраться в таких реальностях, какими являются
национальные традиции, демократическое культурное наследство
каждой нации, памятники ее национально-освободительной борьбы,
а также все то, что является общенациональным достоянием, отра-
жает подлинно национальные интересы.
Национальное самосознание — сложное явление. Оно опреде-
ляется разнообразными факторами, имеет многогранную структу-
ру и различные уровни. Первичным и основным элементом нацио-
нального самосознания является сознание этнической принадлеж-
ности. Ойо возникает еще задолго до формирования нации. Чувство
и сознание первобытных людей своей принадлежности к тем или
иным племенам возникают на основе таких объективных факто-
ров, как общность кровнородственных связей и языка, а также
выработанных в сил} бесклассовых условий существования общно-
сти психического склада и элементов первобытной культуры. У на-
родностей первых классовых обществ сознание этнической принад-
216
ложности (как и сама этническая общность) порождается иной
основой — общностью территории и языка.
Этнические представления, взгляды, привычки, нормы поведе-
ния как составные элементы обыденного сознания образуют нацио-
нальное самосознание в узком смысле слова. Сознание своей
этнической принадлежности является наиболее элементарным,
складывается у людей независимо от классовой принадлежности
и не требует теоретического обобщения. Хотя классово-оценочное
отношение распространяется и на этнические явления, сами они
существуют объективно, независимо от каких-либо оценок.
Национальное самосознание не сводится к сознанию только эт-
нической принадлежности уже у народностей. Тем более нация
обладает сложной структурой национальных и классово-социаль-
ных чувств и самосознания. Самосознание нации включает в себя:
1) сознание этнической общности; 2) приверженность к националь-
ным ценностям: языку, территории, демократической культуре;
3) сознание социально-государственной общности; 4) патрио-
тизм; 5) сознание общности в национально-освободительной
борьбе.
Таким образом, национальное самосознание в широком смысле
слова включает элементы классово противоречивые, а потому, как
и классовое самосознание, оно связано с известным теоретическим,
идеологическим обобщением. Национальное самосознание в широ-
ком понимании включает представления и суждения членов нации,
народности о характере действий своей и других национальных
общностей, их особенностях и т. д. У пролетариата и идущих за
ним трудящихся национальное самосознание сочетается с интер-
национализмом, а у эксплуататорских классов выражается в на-
ционалистических и шовинистических воззрениях.
Нетрудно видеть, что отмеченные элементы присутствуют в на-
циональном самосознании не всегда в полной совокупности. Так,
в то время как сознание этнической принадлежности и патриоти-
ческая приверженность к национальным ценностям в той или иной
мере присущи всем национальным формам общностей людей, со-
знание общности интересов в национально-освободительной борьбе
и национально-государственной общности появляется в период раз-
вития капитализма, в период пробуждения к национальной жизни.
Далее, если сознание этнической принадлежности не содержит
классовых элементов, то остальные элементы национального само-
сознания, а следовательно, и национальное самосознание в целом
в широком смысле слова являются классовыми, носят на себе отпе-
чаток классового отношения к национальной жизни.
Нелишне иметь в виду и такое различие, имеющееся между
элементами национального самосознания, как то, что одни из них
могут отставать от национального бытия, а другие опережать.
Нация по своим объективным признакам может быть уже налицо
до того, как это сознают все ее члены, и, наоборот, самосознание
национально-государственной общности может возникнуть еще до
217
образования такой общности. Ясность различения «своих» и «чу-
жих» в этническом плане наступает не сразу вслед за образованием
той или иной этнической общности. Особенно медленно просыпает-
ся национальное самосознание у крестьянства. У пего как класса,
вышедшего пз докапиталистической формации, чувство и сознание
принадлежности к той или иной нации или народности формиро-
вались особенно медленно. Русские крестьяне, например, даже
в начале XX века на вопрос: какой они нации? — могли ответить:
«Мы калужские или рязанские», а иной украинский крестьянин
отвечал: «Я православный» пли даже: «Я русский». Деление на
«свои» и «чужие» по религиозному или региональному (областно-
му) принципу говорит не только о смутности национального само-
сознания, ио и о решающем влиянии па последнее то одного, то
другого фактора.
Польский академик X. Яблонский на дискуссии ио вопросу
«Эволюция марксистской мысли о нации п государстве», организо-
ванной журналом «Z pola walki» в 1966 году, обратил внимание на
то, что и польский крестьянин до последнего времени нередко опе-
рировал понятиями «своп» — «чужие», «польский» — «непольский»,
исходя не из понятия «нация», а как бы из средневекового понятия
национальности. X. Яблонский указал па то, что польский крестья-
нин еще до недавнего времени мог говорить, что такой-то—«поляк»,
а такой-то—«православный», или этот — «католик», а тот — «рус-
ский». Если здесь обнаруживается решающее влияние на нацио-
нальное самосознание религии, то в других случаях решающим ста-
новятся исторические традиции, регионализм или еще какой-то
другой фактор. На упомянутой дискуссии X. Яблонский говорил:
«Когда я слушаю, как двое кашубов разговаривают между собой -
я их не понимаю. В то же время я прекрасно понимаю двух
разговаривающих словаков. Но эти кашубы мне скажет, что они
поляки, в то время как словак не имеет для этого никаких основа-
ний, чтобы считать себя поляком. Таковы результаты различных
судеб кашубов и словаков и различных их связей с поляками,
а в особенности с польским государством»89.
То, что исторические традиции, религиозные и государственные
связи еще долго могут довлеть над национальным самосознанием,
наиболее отчетливо можно видеть на примере хорватов и сербов,
республики которых территориально составляют продолжение
ДРУГ друга, а экономическая общность их в составе современной
социалистической Югославии неоспорима. Наконец, сербы и хорва-
ты живут сильно смешанно и имеют общий сербскохорватский
язык. Встречаются лишь незначительные различия, главным обра-
зом фонетические, вроде тех, которые имеют место между русски-
ми окающими и акающими. II несмотря па все это, сербы" и хорва-
ты признают себя различными нациями, имеют различное нацио-
нальное самосознание.
вэ «Z pola walki», 1966, № 3, s. 103.
218
В Сербии п Хорватии даже среди специалистов, исследующих
теорию нации и национальных отношений, нет единства в понима-
нии причин различия хорватского и сербского национального само-
сознания, и это объясняется как конкретной историей Сербии
и Хорватии, так и Югославии в целом.
Борьба между Римом и Византией за религиозное влияние
в славянских областях Балканского полуострова завершилась тем,
что хорваты, как и словенцы, приняли римско-католическую веру,
а сербы — православную. Этим объясняется и то, что сербы и хор-
ваты, имея один общий язык, до последнего времени пользова-
лись. и отчасти еще пользуются разными графическими системами
письма: у сербов одна из славянских азбук, а у хорватов — латин-
ский алфавит. Дальнейшее развитие сербов протекало главным
образом под влиянием Востока, а хорватов — Запада. Образова-
ние государства у сербов происходило медленнее, чем у хорватов.
Борьба Византии, Болгарии и Франкского государства за серб-
ские земли, а затем многовековое турецкое господство задержали
экономическое развитие Сербии и затруднили объединение терри-
тории, населенной сербами. В конце XVIII века начался процесс
формирования сербской нации. Национально-освободительное дви-
жение сербов было направлено против турецкого господства.
Вместе с тем массовое стихийное крестьянское движение по своей
классовой сущности было антифеодальным.
Подобные процессы происходили и в Хорватии, но последняя
развивалась в несколько ином историческом русле. После разгрома
турками венгерско-чешско-хорватских войск при Мохаче (1526 год)
Фердинанду Австрийскому удалось добиться от хорватских феода-
лов, надеявшихся на помощь Габсбургов в борьбе против турок,
утверждения на хорватском престоле. При этом было обещано
сохранение внутренней самостоятельности страны. Однако обеща-
ние не было выполнено. Началось систематическое наступление на
автономию хорватов. В 1780—1790 годах государственным языком
Хорватии был объявлен немецкий язык, во главе каждого адми-
нистративного округа стояли австрийские имперские чиновники,
а с 1790 года в Хорватии господствовала венгерская администра-
ция. Под нажимом венгерского дворянства и так называемых
мадьяронов, т. е. омадьярившегося хорватского дворянства, усили-
лась мадьяризация Хорватии. Эта ассимиляторская политика вы-
звала в 30—40-х годах XIX века общественно-политическое и куль-
турное движение — иллиризм. Развернулась ожесточенная борьба
между мадьяронамп, добившимися полного слияния Хорватии
с Венгрией, и иллирийцами, выступавшими за национальный язык
против латинского языка как официального языка и венгерского
языка, насаждавшегося мадьярской знатыо и буржуазией.
Иллиризм способствовал рост\ национальною самосознания
и развитию национальной культуры. Однако идеологи хорватской
буржуазии представляли свою борьбу за национальный язык как
борьбу за язык, общий всем южным славянам, ошибочно и тендеи-
219
циозно рассматривали все славянское население Балканского полу-
острова как потомков коренного населения древней Иллирии и вы-
нашивали идею объединения южных славян в «Великой Иллирии».
Эта идея, отражавшая стремление южных славян, особенно хорва-
тов и сербов, имевших общий язык, к освобождению от венгерского
господства и ига турецких ассимиляторов, однако, не сплотила
южных славян, ибо она сама содержала великодержавные пополз-
новения хорватской буржуазии и части дворянства, желавших под-
чинить себе все славянские народы Балканского полуострова. Про-
тиворечивость иллиризма, разжигание им национальных противо-
речий, помощь в подавлении венгерской революции в 1849 году
дискредитировали иллиризм.
Попытки господствующих классов как Хорватии, так и Сербии
навязать друг другу свою гегемонию, конечно, не могли вдохновить
народные массы, которые стремились к подлинной свободе, а не
к новым оковам. Создание в 1918 году Королевства сербов, хорва-
тов и словенцев не было тем объединением югославских народов
на основе равноправия, о котором они мечтали. Объединение было
проведено сверху, антидемократическим путем. Новое государство
получило реакционное монархическое устройство, в котором серб-
ская буржуазия получила преобладание, использовав при этом
стремление буржуазии других частей Югославии опереться на ее
помощь в подавлении народного движения. У несербских народов
стали развиваться и крепнуть чувство и сознание необходимости
создания независимых национальных государств. Это было новым
уровнем в развитии национального самосознания югославских
народов. Следующая, более высокая ступень в этом развитии была
достигнута в результате народно-освободительной войны против
фашистских оккупантов (1941 —1945 годы) и создания Социалисти-
ческой Федеративной Республики Югославии — союзного федера-
тивного государства добровольно объединившихся и равноправ-
ных народов.
Таким образом, сопоставление исторических путей двух сосед-
них, одноязычных, родственных народов — сербов и хорватов — по-
казывает, что к сознанию своей национальной принадлежности
народы приходят очень сложным путем. В их сознании происходит
борьба множества «мы» и «они», определяемые тоже многочислен-
ными факторами, вернее в их сложном переплетении, иногда
в неуловимой точке их пересечения.
Своеобразно выступает армянское национальное самосознание.
Как известно, существуют так называемые восточные армяне и за-
падные армяне со своими литературными языками, различие меж-
ду которыми почти такое же, как между русским и украинским.
Более того, большинство армян, разбросанное по всему миру,
не имеет ни общности экономических связей, ни общности терри-
тории, не говоря уже о том, что было бы абсурдно признавать за
ними общность психического склада. И тем ' не менее многие
(не все) из живущих в различных странах армяне сохранили на-
220
циональное самосознание, имеющее свои исторические корни, и счи-
тают себя представителями армянской национальности.
Некоторые исследователи утверждают, что одним из признаков
нации следует считать национальное самосознание в целом, в ши-
роком его понимании, поскольку классовое его проявление не озна-
чает «полного разрушения единого целого общенационального
самосознания». Согласиться с этим трудно. Конечно, сама нация
при капитализме представляет противоречивую общность антагони-
стических классов, но признаки нации, по нашему убеждению, об-
разуются из того общего (а не противоположного), что есть у этих
классов.
Признаки нации составляют единство не противоположностей,
а одинакового, хотя они (язык, территория и т. д.), будучи сами
независимыми от классовой принадлежности представителей
нации, находятся в круговороте классовой борьбы. В таком отно-
шении к классам находится и само сознание этнической принад-
лежности.
Другие элементы национального самосознания, хотя и в извест-
ный период и в определенных отношениях могут быть и бывают
общенациональными, следует рассматривать особо, отмечая как их
значение в национальной консолидации, так и их классово противо-
речивую сущность. Прежде всего рассмотрим вопрос о националь-
ном самосознании и национальных чувствах в широком смысле,
в их связях и взаимопроникновении.
Национальное самосознание тесно связано и взаимодействует
с национальными чувствами. Они — явления однопорядковые, у них
общий источник возникновения и общий объект отражения — на-
циональные особенности жизни данной нации или народности, ее
культуры, традиций, обычаев, даже пережитков и иллюзий. Разли-
чия их, однако, в уровнях отражения. Специфику национальных
чувств, пожалуй, можно видеть в том, что они хотя во времени
не отделены от национального самосознания, все же выступают как
непосредственное порождение указанных объективных условий,
тогда как национальное самосознание первоначально выступает
опосредствованно, как осознание национальных чувств. В свою
очередь формировавшееся национальное самосознание усиливает,
делает более осознанными национальные чувства. Человек чув-
ствует и осознает свою принадлежность к определенной нации,
свои связи с ней и обязанности перед ней. Все это играет огромную
роль в поведении людей, почему и В. И. Ленин всегда подчерки-
вал, что «требуется особая осторожность в отношении к националь-
ному чувству...»90. Таким образом, национальные чувства и нацио-
нальное самосознание, вырастая из объективных факторов разви-
тия нации, взаимодействуя как друг с другом, так и с породившими
их объективными условиями, становятся новым важным фактором
сохранения и развития нации.
В. И. Лени п. Поли. собр. соч., т. 38, стр. 111.
221
Идеалистическое понимание нации как духовной общности лю-
дей извращенно представляет и природу национальных чувств.
Последние, с точки зрения объективных идеалистов, являются ре-
зультатами якобы просвечивания духовной сущности нации. Субъ-
ективным же идеалистам национальные чувства представляются
как проекции (перенесение) собственных переживаний (якобы
одинаковых для всех членов нации) на национальную действитель-
ность. Одинаковое «вчувствование» членов нации в свою нацио-
нальную действительность якобы и образует национальны! чувства.
Диалектический материализм в противоположность идеалисти-
ческому пониманию национальных чувств исходит из того, что они
являются результатом общественно-исторической практики людей,
действующих на почве общностей экономических связей, языка
и территории. Люди, связанные указанными общностями, взаимо-
действуют со своей природой и общественной средой, проникают-
ся определенными общими чувствами, называемыми националь-
ными.
Национальные чувства человека являются родом его социаль-
ных чувств. Люди всегда живут в социальной среде, в которой
развивают свои человеческие формы общения, свою материальную
и духовную культуру, вырабатывают научные знания, этические
нормы, эстетические ценности. Это и порождает высшие, человече-
ские потребности и связанные с ними чувства. Научная психология
отвергает поиски корней этих потребностей и чувств в свойствах
глубинной психологии. «Высшие человеческие потребности,— пишет
А. Н. Леонтьев,— не надстройка над биологическими потребностя-
ми и инстинктивными влечениями, не их «иносказание». Они пред-
ставляют новообразования, возникающие в процессе трансформа-
ции объектов — целей, которые сами по себе не обладают функцией
побуждения, в мотивы»91.
Поскольку человек живет не просто в социальной, а в нацио-
нально-социальной среде, то его потребности и чувства носят
определенною национальную окраску. Переживания, связанные
с интересами своей нации или народности, ее достоинствами
и ролью в общечеловеческом прогрессе, а также более близкое
эстетическое восприятие родной природы, искусства и литературы
выступают как национальные чувства. Так, если, например, объек-
тивное бытие музыки формирует музыкальный слух человека
и вместе с тем порождает у него эстетическую потребность в музы-
ке, то объективное бытие именно данной национальной музыки по-
рождает эстетическую потребность в первую очередь в этой, своей
национальной музыке. Традиционно также у разных народов сло-
жилось своеобразное отношение и к цветам.
Искусство помогает людям осознавать свою жизнь, свое отно-
шение к окружающему миру. От характера искусства зависит, ка-
61 А. II. Леонтьев. Потребности, мотивы н сознание. «Will Международ-
ный конгресс психологов». Симпозиум 13. AV, 19G6. стр 7.
222
кис чувства и мысли порождает оно в людях. Национальные искус-
ства имеют свои специфические особенности, и у кого выработан
динамический стереотип к восприятию данной специфики, тот легко
постигает красоту всего в ней. Эстетическое наслаждение, полу-
чаемое благодаря чувственному познанию красоты национальной
специфики, таким образом, также порождает национальное чув-
ство.
В форме национальных чувств выступает отношение человека
и к своей знакомой, родной природе, и отображению ее в пейзаж-
ной лирике и живописи. Поскольку в искусстве и природа изобра-
жается с позиций человеческих чувств, то чем точнее это изобра-
жение отражает национальные чувства, тем сильнее его националь-
ное восприятие.
Среди благородных национальных чувств самыми глубокими
и сильными являются патриотические чувства, патриотическое со-
знание. Яркие картины родной природы, а также их изображение
в искусстве вызывают теплые человеческие чувства и настроения
в национальной окраске, раздумья о родине. Все это входит состав-
ным элементом в патриотизм. «Родная улица», «родная березка»,
конечно, играют свою роль в патриотизме, но не ту, главную, кото-
рою иногда приписывают им. Миллионы людей живут и трудятся
не на местах, где родились, привязываются к новым краям. Если
бы главной в патриотизме была любовь к дорогой с детства приро-
де, то пришлось бы считать огромные массы людей, возродившие
новые края, или лишенными патриотических чувств, или несчастны-
ми, вечно тоскующими по «родной березке». Между тем самыми
глубокими патриотами являются как раз те, которые возрождают
к жизни новые земли, например в СССР строители Комсомольска-
па-Амуре, БАМа, покорители целины и т. д.
Патриотизм выражается не только в любви, приверженности
к родной природе, но и к родному языку, культуре. В своей сущ-
ности патриотизм раскрывается, как это показал В. И. Ленин,
через общественные отношения человека, через его идейно-эстети-
ческое отношение как к своему прошлому, так и ко всей окружаю-
щей современной действительности, которую он не только бережет,
но и преобразовывает. При всем этом главным в содержании пат-
риотизма является общественный строй. Вот почему любовь к род-
ной природе, гордость за героическую историю своего народа лишь
предпосылки для воспитания патриота, истинное лицо которого
проявляется в социально-активной деятельности на благо своей
Родины.
Как расширяются горизонты патриотизма, хорошо показал
Н. А. Добролюбов. Он отмечал, что само слово «патриотизм» как
бы подчеркивает сходство чувств люден к своей Родине с чувства-
ми любви, благодарности, привязанности детей к родителям. Люди,
привыкшие опираться на защиту родителей, чувствовать их заступ-
ничество, верящие в их могущество, переносят эти свои чувства
также на мать-родину, на отечество. Патриотизм их начинается
223
с родного дома и родной улицы, где делаются первые шаги, где
появляются первые друзья.
Патриотизм, начинаясь с пристрастия к родным полям и хол^
мам, вскоре включает в себя понятия исторические и граждан-
ственные. От понимания связей со своей семьей, деревней, страной
человек переходит, наконец, к постижению идеи человечества
и в каждом видит прежде всего человека, а не русского, немца,
поляка и пр. «Все исключительные предилскции,— пишет Н. А. Доб-
ролюбов,— все утопические мечтания о высшем предназначении
одной нации к тому-то, другой — к тому-то, все национальные пе-
рекоры о взаимных преимуществах исчезают в мысли человека,
правильно и вполне развившегося (курсив мой.— С. К.)... Ограни-
чение своей деятельности в пределах своей страны является у него
вследствие сознания, что здесь именно его настоящее место, на
котором он может быть наиболее полезен. Оттого-то настоящий
патриот терпеть не может хвастливых и восторженных восклица-
ний о своем народе, оттого-то он смотрит презрительно на тех,
которые стараются определить грани разъединения между пле-
менами» 92.
A. II. Герцен настоящими патриотами русского национального
развития считал нс тех, которые славословили якобы самобытный
путь России, оправдывая фактически отсталость и реакционные по-
рядки, а тех, которые, любя Россию, не боялись в виду Петропав-
ловской крепости возмущаться и бичевать темные стороны русской
жизни. «Да это так,— писал А. И. Герцен,— есть ненависть в на-
шей любви, мы возмущены, мы так же упрекаем народ, как
и правительство, за то положение, в котором находимся; мы
не боимся высказывать самые жестокие истины, но мы их говорим
потому, что любим...»93. Способность на исповедь, полной ужаса
прошлого, п готовность бороться за лучшее будущее А. И. Герцен
считал прогрессивным элементом русской натуры. А. И. Герцен
раскрыл несостоятельность и фальшь тезиса славянофилов о само-
бытности наций, указав на их непоследовательность. Если, как
утверждают славянофилы, писал он, Россия (славяне) самобытна
и никаких начал от Запада не может брать, то почему же они счи-
тают, что «славянский мир может обновить Европу своими
началами»? 94
В. Г. Белинский также отвергал сюсюкающий сиропный патрио-
тизм. В то время как славянофилы шумно выдавали себя за един-
ственно истинных патриотов России и русского народа, В. Г. Бе-
линский писал: «Гражданин не должен уничтожать человека, ни
человек гражданина: в том и другом случае выходит крайность,
а всякая крайность есть родная сестра ограниченности. Любовь
82 II. А. Добролюбов. Избр. фплос. соч в 2 томах, т. II. М., Госполптпз-
дат, 194G, стр. 406—407.
83 А. И. Герцен. Собр. соч. в 30 томах, т. VII. М., Изд-во АН СССР, 1956,
стр. 247.
94 А. И. Герцен. Собр. соч., т. И, стр 137.
224
к отечеству должна выходить из любви к человечеству, как част-
ное из общего. Любить свою родину — значит пламенно желать
видеть в ней осуществление идеала человечества и по мере сил
-своих споспешествовать этому. В противном случае, патриотизм
будет китаизмом, который любит свое только за то, что оно свое,
и ненавидит все чужое за то только, что оно чужое, и не нарадует-
ся собственным безобразием и уродством»95.
В том же духе выступал соратник и друг А. И. Герцена
и В. Г. Белинского Микаэль Налбандян. «Пороча недостатки на-
ции,— писал он,— не только не порочишь нацию, не только не ста-
новишься ее врагом, а, напротив,— подлинным другом, поскольку
хочешь видеть ее свободной от всех недостатков. II эти недостатки
заслуживают осуждения, эти пороки требуют устранения»96.
И еще: «Признать пли осудить недостаток народа не только
не преступление, но подлинная добродетель. В какой мере каждый
член нации обязан любить свой народ, в той же мере обязан клей-
мить и решительно устранять его недостатки...»97.
Такое понимание патриотизма получило свое глубокое научное
обоснование и продолжение в ленинизме. В. И. Ленин, отмечая,
что «патриотизм — одно из наиболее глубоких чувств, закреплен-
ных веками и тысячелетиями обособленных отечеств»98, подчерки-
вал, что поскольку отечество есть исторически изменяющаяся со-
циально-экономическая, политическая и культурная среда людей,
то и патриотизм — явление историческое, имеющее в разные эпохи
различное содержание. Это содержание определяется отнюдь
не мистическим «национальным или расовым духом», как утверж-
дают идеологи буржуазии, а теми или иными социально-экономи-
ческими условиями.
Патриотизм приобрел особое значение в период складывания
буржуазных отношений и становления наций. Однако, как писал
В. И. Ленин, по мере развития и обострения антагонизмов классов
все отчетливее выступали фальшь и лицемерие «патриотизма» бур-
жуазии, которая «предает интересы свободы, родины, языка и на-
ции, когда встает пред ней революционный пролетариат»99. Для
обмана трудящихся буржуазия свою антинациональную политику
замаскировывает видимостью ухаживания за всем национальным,
вкладывая в него содержание, противоречащее нуждам нации.
Пролетариат унаследовал борьбу против лжепатриотизма, которую
вели еще революционные демократы. Национальные чувства, пат-
риотизм пролетариата имеют классовый характер. Любовь к Ро-
дине у него сочетается с ненавистью к эксплуататорскому строю.
Его патриотизм направлен к разрушению этого строя, на устра-
185 В. Г. Белинский. Избр. филос. соч., т. I, М., Госполитиздат, 1948,
стр. 266—267.
«6 М. Налбандян. Избр. филос. и обществ.-полит, произв., стр. 291.
87 Там же, стр. 356.
88 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 37, стр. 190.
99 В. И. Лени н. Поли. собр. соч., т. 7, стр. 241. 15
15 с. Т. Калтахчян
225
нение классов эксплуататоров, позорящих Родину, на завоевание
подлинного отечества. «Национальное чувство,— как пишет совре-
менный аргентинский марксист Э. Агости,— находит свое подлин-
ное место в партии рабочего класса именно потому, что она одно-
временно выступает против космополитического подчинения импе-
риализму и против реакционного обмана буржуазного нацио-
нализма» 10°.
Настоящие патриоты всех стран и времен обладали не только
чувствами национальной гордости за достоинства своей нации пли
народности, но и испытывали горечь и жгучий стыд за их недостой-
ное положение или поведение.
В своей сущности патриотизм раскрывается, как это показал
В. И. Ленин, через общественные отношения человека, через его
идейно-политическое отношение как к своему прошлому, так и ко
всей окружающей современной действительности. Патриотизм —
это прежде всего борьба за прогрессивный общественный строй,
«за социализм, как отечество...» 100 101 102.
Сущность правильно понимаемого патриотизма, в котором на-
циональная гордость переплетается с ненавистью ко всему тому,
что позорит, унижает нацию, раскрыл с исключительной револю-
ционной страстностью и силой В. И. Ленин в работе «О националь-
ной гордости великороссов», написанной им в разгар первой миро-
вой войны. В ответ на клеветнические обвинения в отсутствии
у большевиков чувства национальной гордости, он показал, что,
во-первых, подлинное содержание национальной гордости состав-
ляют созданные народом великие материальные и культурные цен-
ности, а также его революционные стремления уничтожить все
угнетающее, унижающее родину и что поэтому именно авангарду
народа не может быть чуждо чувство национальной гордости.
Во-вторых, В. И. Ленин раскрыл классовую подоплеку эксплуата-
ции национальных чувств, в том числе чувства национальной гор-
дости народа, господствующими классами.
В условиях, когда шовинисты России, в том числе меньшевики
и другие мелкобуржуазные и националистические партии, обвиня-
ли ленинцев в антипатриотичности, в измене Родине, В. И. Ленин
показал, что пролетариат, любя свою Родину, свой язык, не может
««защищать отечество» иначе, как борясь всеми революционными
средствами против монархии, помещиков и капиталистов своего
отечества, т. е. худших врагов нашей родины...» *02.
Разоблачая ухищрения империалистической буржуазии, при-
крывающей свои эксплуататорские устремления именем защиты
отечества, как бесстыдное мошенничество, рассчитанное к тому же
на то, чтобы обострением национальной борьбы притупить и ото-
двинуть на задний план классовую борьбу, В. И. Ленин последова-
100 Э II Агости. Нация н культура. М., ИЛ, 1963, стр. 228.
101 В. И. Л е п и п. Поли. собр. соч., т. 36, стр. 82.
102 В II. Ле п и п. Поли, собр, соч , т. 26, стр. 108.
22fi
тельно отстаивал и развивал положение «Манифеста Коммунисти-
ческой партии» — «У рабочих нет отечества». Так он радовался
падению Порт-Артура в русско-японской войне, ибо считал, что
«дело русской свободы и борьбы русского (и всемирного) проле-
тариата за социализм очень сильно зависит от военных поражений
самодержавия»103. В 1913 году, предупреждая народные массы
о готовящейся империалистической войне, В. И. Ленин обращает
их внимание на механизм извращения национального самосозна-
ния буржуазией. Он писал: «На тысячи ладов, в тысячах газет,
с тысяч кафедр кричат и вопят о патриотизме, о культуре, о роди-
не, о мире, о прогрессе,— и все это ради оправдания новых затрат
десятков и сотен миллионов рублей на всяческие орудия истребле-
ния, на пушки, на «дредноуты» (броненосцы новейшего типа) и т. п.
Господа публика! — хочется сказать по поводу всех этих фраз
«патреотов». Не верьте фразам, посмотрите лучше, кому вы-
годно}» 104.
Когда же разразилась первая мировая война и шовинисты на
все лады начали трубить, что великим победителем в войне оказа-
лось понятие отечества, В. И. Ленин вновь и вновь предупреждал:
«Не забывая слова К. Маркса, что «рабочие не имеют отечества»...
«наша задача... заключается не в том, чтобы плыть вместе с тече-
нием, а в том, чтобы превратить национальную, ложно-националь-
ную войну в решительное столкновение пролетариата с правящими
классами»105. Сделанное тут же В. И. Лениным уточнение, что
речь идет о-б отрицании «защиты отечества» в ложно-национальной
войне, имеет принципиальное значение. Последовательно выступая
против «защиты отечества» в империалистической войне, В. И. Ле-
нин вместе с тем не дает повода догматизировать положение «Ма-
нифеста Коммунистической партии»—«рабочие не имеют отече-
ства», применяя его в любой войне. Он еще до социалистической
революции подчеркивал, что «защита отечества есть ложь в импе-
риалистской войне, но вовсе не ложь в демократической и револю-
ционной войне»106.
Положение «пролетарии не имеют отечества» К- Марксом,
Ф. Энгельсом и В. И. Лениным было направлено против клеветы
буржуазии, утверждавшей, что коммунисты якобы желают уничто-
жения отечества. Оно полемически заострено в том смысле, что по-
скольку буржуазия ломает, уродует и калечит живую связь рабо-
чих со своей родиной, то у них нет подлинного отечества и «на деле
только разрушение буржуазных отечеств может дать рабочим всех
стран «связь с землей», свободу родного языка, кусок хлеба и бла-
га культуры» 107. Пролетариат не должен поддаваться обману им-
периалистической буржуазии и, воюя за се интересы, укреплять
103 В. II.
104 В. И.
105 В И.
106 В. И.
107 В. И.
Лени и.
Ленин.
Лени н.
Лени н.
Лени и.
Поли. собр. соч., т. 9, стр 157.
Поли. собр. соч., т. 23, стр. 61—62.
Поли. собр. соч., т. 26, стр. 25.
Поли. собр. соч., т. 30, стр. 69.
Поли. собр. соч., т. 26, стр. 124.
227
виивввйЬийи
свои оковы — вот что значит «рабочие нс имеют отечества». В це-
лом же они, ни 1\. Маркс и Ф. Энгельс, ни В. II. Ленни, не допуска-
ли и тени сомнения, что пролетариат, как и все трудящиеся,
нуждается в отечестве как в почве, на которой он организуется
и развивается.
В. II. Ленин, критикуя Г. Эрве и эрвеистов, сделавших из по-
ложения «пролетарии не имеют отечества» тот вывод, что проле-
тариату якобы безразлично, в каком отечестве он живет, живет ли
в монархической Германии, или в республиканской Франции, или
в деспотической Турции, подчеркивал: «Пролетариат не может
относиться безразлично и равнодушно к политическим, социаль-
ным и культурным условиям своей борьбы, следовательно, ему
не могут быть безразличны и судьбы его страны» 108.
Объективная истинность этих слов В. II. Ленина полностью
была подтверждена поведением пролетариата Англии, Франции
и многих других стран во второй мировой войне, грудью вставших
на защиту своих отечеств от угрозы фашистского порабощения.
Пролетариат в одних из этих стран, защищая свое отечество, от-
стаивал сравнительно лучшие условия для своей дальнейшей борь-
бы и развития, а в других — он сумел вообще взорвать рамки бур-
жуазного отечества и создать свое подлинное, социалистическое
отечество. Марксизм-ленинизм в этом и видит суть и смысл проле-
тарского патриотизма. Вот почему В. II. Ленин, отмечая, что про-
летариату небезразлично, в какой политической, социальной
и культурной среде он живет, и что поэтому он не может быть
безразличен к судьбам своей страны, вместе с тем подчеркивал:
«Но судьбы страны его интересуют лишь постольку, поскольку это
касается его классовой борьбы, а не в силу какого-то буржуазного,
совершенно неприличного в устах с.-д. «патриотизма» 109. Понятие
родины не абстрактное понятие, и само по себе оно не содержит
общности коренных интересов пролетариата и буржуазии.
Может возникнуть вопрос: а не указывает ли факт совместных
выступлений буржуазии и трудящихся в национально-освободи-
тельных движениях на то, что есть сознание общности определен-
ных целей, интересов различных классов в национальной освобо-
дительной борьбе? Да, такое сознание есть, и оно как элемент
национального самосознания тесно связано с патриотизмом.
В. И. Ленин отмечал, что в борьбе с абсолютизмом и феодализ-
мом, особенно в национальных войнах эпохи 1789—1871 годов,
действительно имело место временное совпадение интересов всех
классов, принадлежащих к так называемому третьему сословию.
Все они были заинтересованы в свержении национального гнета
и создании государств на национальной основе как предпосылки
капиталистического развития.
Новый этап в развитии сознания общности в национально-осво-
108 В. И. Ленин. Полн. собр. соч, т. 17, стр. 190 ;
109 Там же.
228
боднтельных движениях связан с империалистической стадией ка-
питализма. Осознание такой общности порождается империалисти-
ческим, колониальным гнетом. Различные классы колониальных
стран проникаются общим стремлением завоевать национальную
независимость и свободу. На определенных этапах развития той
пли иной страны происходит консолидация различных классов на-
ции, по опять же не потому, что у них якобы имеется духовная
общность, а потому, что этого требуют интересы нации, объектив-
ные законы ее развития. В. И. Ленин подчеркивал, что под чуже-
земным гнетом народы возвысились «до национальной идеи».
«Национальная идея» охватывает не только сознание этнической
принадлежности к той или иной нации, но и требование нацио-
нального суверенитета, связанного с государственной независи-
мостью. В таком широком понимании национальная идея стала
ядром и целью почти всех национально-освободительных войн
XIX века и современности.
В. И. Ленин, отмечая, что идеология, созданная национально-
освободительными движениями, оставила глубокие следы в массе
мелкой буржуазии и части пролетариата, боролся против попыток
софистов буржуазии перенести эту идеологию в эпоху империали-
стических войн и использовать ее в интересах империализма.
Он выступает также против попыток некоторых социал-демократов
стереть грань между войнами империалистическими и националь-
ными. Да, говорит В. И. Ленин, основное положение марксистской
диалектики состоит в том, что все грани в природе и обществе
условны и подвижны, но «только софист мог бы стирать разницу
между империалистской и национальной войной на том основании,
что одна может превратиться в другую. Диалектика не раз слу-
жила— и в истории греческой философии — мостиком к со-
фистике» 110.
Эти положения В. И. Ленина имели огромное принципиальное
значение как в борьбе против идеологов буржуазии, так и против
подмены диалектики софистикой некоторыми левыми социал-демо-
кратами. И те и другие сходились в том, что стирали грань между
империалистическими и национальными войнами. Но в то время
как первые на этом основании выдавали империалистическую вой-
ну за национальную и ратовали за общенациональный неклассо-
вый патриотизм, вторые в эпоху империализма считали неизбеж-
ным перерастание национальных войн в империалистические и, сле-
довательно, невозможной постановку вопроса о защите отече-
ства вообще.
Вторая мировая война с особой очевидностью показала ошибоч-
ность последней точки зрения и полностью подтвердила ленинский
прогноз о том, что «даже в Европе нельзя считать национальные
войны в эпоху империализма невозможными»111. Что же касается
110 В. И. Ле и и п. Полп. собр. соч., т. 30, стр. 6.
111 Там же, стр. 8.
229
Азии, Африки и Латинской Америки, то в них национальные войны
и революции развернулись и получили невиданный ранее размах
после второй мировой войны в обстановке общего ослабления
империализма, возникновения мировой системы социализма и мощ-
ного подъема рабочего и демократического движения. На развали-
нах старых колониальных империй образовалось более 70 незави-
симых национальных государств, и вопрос о патриотизме, укрепле-
нии и защите национальных отечеств приобрел особую силу
и актуальность.
Освободительные движения народов Азин, Африки и Латин-
ской Америки тесно связаны со стремлением к политической и эко-
номической независимости, к образованию национальных госу-
дарств. При этом интересно заметить, что национальная идея
охватывает людей различных по происхождению национальностей.
Морис Торез считал главным доказательством существования, на-
пример, алжирской нации то, что в разноплеменном алжирском
народе вырабатывалось общее национальное самосознание. «Нака-
нуне второй мировой войны,— писал М. Торез,— мы указывали на
формирование алжирской нации, в процессе которого ее различные
этнические элементы переплавлялись в горниле истории. В настоя-
щее время налицо факт существования алжирской нации; нацио-
нальное самосознание присуще теперь алжирскому народу в це-
лом...»112 Выработку общего национального самосознания у раз-
ных племен и, наоборот, раздвоение этого самосознания у враж-
дебных классов даже у одного и того же племени можно показать
и на примере других развивающихся государств.
Подъем национально-освободительного движения народов
и распад созданной капитализмом колониальной системы угнете-
ния выдвинули целый ряд новых национальных и классовых задач.
В процессе решения этих задач происходит размежевание между
настоящими патриотами — общественными силами, борющимися
за прогрессивное социальное развитие, и реакционными кругами,
вступающими в сговор с империализмом и предающими нацио-
нальные интересы. Выявляется также ограниченность патриотиз-
ма тех буржуазных кругов, которые боролись за национальную
независимость, а после получения ее оказываются неспособными
и не желают решить социальные задачи в интересах нации.
Как указывается в программных документах Совещания ком-
мунистических и рабочих партий 1960 и 1969 годов, насущные
задачи национального возрождения в странах, сбросивших коло-
ниальный гнет, могут быть успешно решены при условии решитель-
ной борьбы против империализма и остатков феодализма. Эти
задачи заключаются в проведении аграрных преобразований в ин-
тересах крестьянства, в создании и развитии национальной про-
мышленности, в повышении жизненного уровня населения, демо-
112 Ч Торез. Избр. произв. в 2 томах, т. II. М., Госполитпздат 1939,
стр 337—338.
230
кратпзации общественной жизни, развитии прогрессивных традиций
национальной культуры, осуществлении миролюбивой внешней по-
литики, развитии экономического и культурного сотрудничества со
странами социализма и другими дружественными странами. В ре-
шении этих задач огромна роль союза трудового крестьянства
с национальным и международным рабочим классом. После за-
воевания независимости буржуазия, обращая все свое внимание
на обеспечение своих классовых интересов, становится антинацио-
нальной силой и прямо противостоит трудящимся и прежде всего
рабочему классу. Пролетариат же в ходе борьбы с буржуазией за
национальные интересы повышает свою организованность, свое
классовое сознание, очищает свое национальное самосознание от
предрассудков внеклассового национального единства. Даже не-
большие отряды рабочих отдельных стран, составляя часть между-
народного пролетариата, пользуются его постоянной поддержкой,
его опытом, а потому выступают как влиятельная прогрессивная
сила. .Можно не сомневаться, что впереди самое широкое развитие
борьбы рабочего класса молодых национальных государств против
империализма и его союзников. «В конечном счете именно рабочее
движение сыграет определяющую роль и в этом районе мира»113.
Рабочий класс осуществляет свою руководящую роль по отно-
шению к крестьянству как интернациональная сила, выступая
представителем международного рабочего класса, проводником
идеологии научного социализма, практики социалистических стран.
Для установления союза с крестьянством решающее значение име-
ет последовательная борьба рабочего класса за радикальное реше-
ние аграрного вопроса.
Крупная компрадорская буржуазия в блоке с помещиками вы-
ступает против интересов нации, и, следовательно, эти силы
не" являются национальными. Часть буржуазии выступает за за-
воевание независимости, за развитие национальной промышленно-
сти и даже за создание государственного сектора (рассчитывая
при его помощи вытеснить иностранные монополии), за ликвида-
цию феодальных пережитков, мешающих развитию капитализма.
Словом, она является национальной, прогрессивной силой, пока
речь идет о развитии капитализма. Однако даже в решении ука-
занных задач буржуазия проявляет неустойчивость, двойствен-
ность. После завоевания национальной независимости в стране
активизируются демократические силы, требующие радикального
решения ряда социальных проблем, что противоречит классовым
интересам буржуазии. Опасаясь демократизации общественной
жизни, привлечения трудящихся масс к активному участию в на-
циональном возрождении, усиления их политического влияния,
буржуазия идет на сотрудничество с монополиями, местной фео-
дальной и родо-племенной знатью против интересов трудящихся.
из л и Брежнев. За укрепление сплоченности коммунистов, за новый
псдъем антиимпериалистической борьбы. М, Политиздат, 1969, стр. 28.
*.31
Буржуазия, шедшая на завоевание национальной независимости
ради развития капитализма, сталкивается с желанием и реши-
мостью широких народных масс развивать страну некапиталистиче-
ским путем и, естественно, оказывается 5же неспособной выражать
чаяния нации и решать общенациональные задачи. После освобож-
дения от колониализма в большинстве стран уже не ставится во-
прос об общенациональном фронте. Речь идет о создании нацио-
нально-демократического фронта, направленного как против импе-
риализма, так и против внутренней реакции. В такой фронт могут
входить рабочий класс, крестьянство, мелкобуржуазные слои
города, национальная интеллигенция, а также часть буржуазии.
В национальном самосознании указанных классов и слоев большое
место занимает национализм, но он не то же самое, что и буржуазный
национализм. Более того, в своем рациональном содержании такой
национализм, собственно, есть форма защиты подлинно националь-
ных интересов. Встает задача сохранения и укрепления националь-
ного единства тех социальных сил, которые действительно борются
за решение общенациональных задач. Это единство, как правило,
осуществляется зачастую под флагом «национализма», который
воспринимается широкими массами как программа национального
возрождения. В определенные периоды национально-освободитель-
ного движения национализм угнетенной нации выступает как идео-
логия и политика борьбы против империализма, за политическую
и экономическую независимость, за суверенитет и всестороннее
развитие своей нации. Национализм с таким общедемократическим
содержанием марксисты-ленинцы считают исторически оправдан-
ным и поддерживают его и тогда, когда это содержание налицо,
не забывая при этом, что в то же время в национализме и угнетен-
ной нации есть сторона, выражающая идеологию и интересы экс-
плуататорской верхушки.
На определенных этапах национальная буржуазия играет нема-
ловажную роль в общественном развитии и неправильно было бы
это недооценивать, но не менее ошибочно переоценивать ее рево-
люционные возможности. Поэтому коммунисты за единство с бур-
жуазией, пока она участвует в борьбе за национальную независи-
мость, в которой, естественно, на первом плане находится нацио-
нальный момент. По существу же в ее основе лежат часто классо-
во-национальные мотивы: освобождение как от прямых, так и от
замаскированных форм колониальной эксплуатации. Участие бур-
жуазии в национально-освободительном движении на первых порах
приносит пользу борьбе за освобождение. Но наступает время,
когда буржуазия как класс полностью проявляет истинную приро-
ду своего национализма, и об этом забывать нельзя.
Таким образом, патриотизм, будучи сердцевиной национальных
чувств, национального самосознания, определяется прежде всего
классовыми отношениями. Национальное самосознание не высту-
пает в чистом виде, оно переплетается с классовым сознанием, что
должно учитываться в политике. Объективность основы нацио-
232
нального самосознания не избавляет еще от привнесения в него
субъективизма эксплуататорскими классами.
Буржуазным идеологам, безусловно, выгодно внушить массам,
что основой нации якобы является одинаковость национальных
чувств и самосознания. Но еще в «Манифесте Коммунистической
партии» было показано, что каждый класс по-своему осознает, по-
нимает ценность национальной жизни, имеет свое национальное
самосознание, иначе говоря, признает ценность нации как необхо-
димой формы общественного развития, исходя из своих классовых
интересов. Было бы упрощением сложной общественной жизни
думать, что нация образуется только тогда, когда о ее ценности
одинаково думают все классы. Общность определенных признаков
не означает единства нации. Нация капиталистического общества
является противоречивым общественным явлением, следовательно,
противоречивы и ее чувства и самосознание. Эта противоречивость
со всей очевидностью является в связях чувств и самосознания
с экономикой, политикой, моралью, философией. Менее ясна она
в искусстве, в различных формах эстетического освоения действи-
тельности.
Сравнительная отдаленность искусства от порождающей его
экономической основы делает классовость эстетики более завуали-
рованной, но тем не менее было бы ошибкой забывать о классовых
элементах в национальном художественном восприятии и отраже-
нии действительности. Искусство как художественное мышление,
как сложная форма общественного сознания включает в себя
и психологию и идеологию. И, как мы видели в третьей главе,
то и другое, будучи порождением общественных отношений, носят
на себе классовый отпечаток. Политика, например, эксплуататор-
ских классов направлена на затушевывание всяких классовых
антагонизмов, на внедрение и укрепление веры в существование
особой национальной души. Искусство, исходящее из этой веры,
утверждающее ее, ставящее национальное над классовым, так или
иначе отвечает интересам эксплуататорских классов, становится
вольным или невольным проводником их политики.
Анализ элементов национального самосознания показал бы, что
все они, кроме сознания этнической принадлежности, в своей осно-
ве в антагонистическом обществе не могут быть одинаковыми для
всех классов и выражаться однозначно. Поэтому в определение
нации в качестве одного из ее характерных признаков следует
включить не самосознание в широком смысле, а самосознание
этнической принадлежности И4.
Из каких бы различных этнических элементов ни образовалась
нация, сама она становится новой социальной общностью людей,
у которых благодаря длительной совместной национальной жизни
114 Как видно из всего вышеизложенного, недоразумением вызвано утверждение
В. Н. Филатова о том, что я якобы отождествляю понятия «национальное
самосознание» и «сознание этнической принадлежности» («Вопросы истории»,-
1968, № 6, стр. 110).
233
вырабатывается новый общий этнический облик. Правда, сильные
пережитки патриархального уклада жизни, родо-племенного созна-
ния, сознания по месту жительства у крестьян не сразу уступают
национальному самосознанию. Рассматривая самосознание этни-
ческой принадлежности в качестве определителя нации или народ-
ности, нельзя, однако, забывать, что и другие элементы националь-
ного самосознания при всей своей противоречивости имеют боль-
шое значение для консолидации, жизнеспособности нации. Мы ви-
дели это при анализе сущности и значения патриотического созна-
ния. Общеизвестна приверженность людей к своим общенацио-
нальным ценностям и т. д.
Конечно, не национальное самосознание порождает нацию, как
изображают дело идеалисты и разного рода националисты, но
в силу его относительной самостоятельности в нем заключается
огромная политическая сила, и классы, партии учитывают это.
То большое место, которое отводится направленному развитию
национального самосознания в борьбе двух миров, объясняется
именно огромным значением национального самосознания для обе-
спечения действительного или мнимого единства нации.
Различные классы хорошо понимают, что жизненность, актив-
ность нации прямо пропорциональны характеру и уровню нацио-
нального самосознания в широком смысле слова, и именно поэтому
разрабатывают противоположные политические линии воспитания
национального самосознания. Одни развивают его в полном соот-
ветствии с подлинными национальными интересами, а другие из-
вращают национальное самосознание с тем, чтобы легче было вы-
давать за национальные интересы узкоэгоистические интересы экс-
плуататорских классов.
Остановимся на характеристике механизма действия этнических
предубеждений, на приемах искусственного создания предпосылок
формирования нужного эксплуататорским классам националисти-
ческого сознания нации.
Понимание трудящимися подлинных национальных интересов
через призму своих классовых интересов не выгодно эксплуататор-
ским классам, и они создают обстановку, порождающую опреде-
ленную предвзятость, через которую управляют процессами вос-
приятия нации и строят свою политику, опираясь на национали-
стические чувства, которые сами же создали и разжигали. Бур-
жуазные идеологи, чтобы затушевывать социальную природу на-
циональных чувств, ищут их корни или в биологии, или в глубин-
ной психологии. Ф. Нортроп, например, определяет нацию как груп-
пу людей, обладающую «общими для нее элементарными импуль-
сами, которые возбуждают или тормозят моторные нервные клетки
и тем самым механически вызывают поведенческие реакции на
данный стимул»"5. Национальные чувства согласно такому опре-
”5 F. S С. Northrop. Philosophical Anthropology and Practical Politics.
N. Y., i960, p 77.
234
делению имеют естественную природу, и нет необходимости искать
их корни в социальной жизни. Защитники интересов капитализма
утверждают, что враждебные чувства между нациями якобы ко-
ренятся в неизменной природе человека, а потому, мол, они ирра-
циональны и неискоренимы. Иррациональные национальные чув-
ства в свою очередь определяют национальное самосознание, кото-
рое оказывается, таким образом, продуктом не реальной обще-
ственной истории людей, а их иррациональной психики. Поскольку
любые национальные чувства в интерпретации буржуазных идео-
логов порождаются не общественно-исторической практикой, а из-
вечно определенной структурой психики, то ясно, что все стано-
вится с ног на голову. Не социальная среда, интересы нации, ока-
зывается, порождают национальные чувства, а, наоборот, послед-
ние считаются основой и сущностью национальных интересов,
и международные отношения сводятся к столкновению якобы из-
вечно различных национальных психологий.
Приняв ложное исходное положение о том, что националисти-
ческие настроения и предрассудки порождаются какими-то корен-
ными свойствами психики человека, далее уже без труда «доказы-
вается», что они стоят выше классовых чувств и интересов. Гипер-
трофированное представление о роли национальных чувств в об-
щественном развитии необходимо буржуазии для подмены классо-
вой борьбы борьбой наций, для направления гнева народа вовне
путем создания соответствующих эмоциональных настроений внут-
ри нации. Что национальное самосознание может быть извращен*')
в угоду эксплуататорских классов в националистическом, шовини-
стическом духе, показывает практика любой капиталистической
страны. Буржуа, который, как отмечал Ф. Энгельс, по уши погряз
в своих классовых предрассудках, делает все, чтобы кроить все
общество по своей мерке. Чтобы подчинить своим стандартам, ка-
нонам всех членов общества, иначе говоря, чтобы осуществить бур-
жуазную социализацию индивидуумов, буржуазия берет в свои
руки социально-психологический контроль над духовной жизнью
общества. Незаменимым средством создания буржуазного конфор-
мизма является национализм — подмена национального самосозна-
ния националистическим сознанием. Кстати, заметим, что идео-
логи буржуазии используют недостаточную разработанность и та-
кой теоретической проблемы, как соотношение национального са-
мосознания и национализма.
С особым цинизмом извращалось национальное самосознание
гитлеровским фашизмом и извращается в наше время реваншис-
тами в ФРГ, политическими «ястребами» американского импе-
риализма. Фашистское национальное единство немцев было обес-
печено систематическим внедрением в чувства и сознание масс
ненависти к другим народам, мешающим якобы немцам реализо-
вать свои национальные интересы. Гитлеровцы, взяв на вооруже-
ние лозунг кайзера Вильгельма II «Германский дух должен оздо-
ровить мир» и методически прививая немцам шовинистическое
235
сознание; «немецкая нация превыше всего», сумели многих из
них психологически подготовить к тотальной истребительной воине
против других народов. Милитаристское сознание внедрялось преж-
де всего разжиганием националистических чувств и страстей.
В 1938 году Гитлер, выступая перед 400 представителями нацист-
ской печати, говорил: «Не пропагандировать силу как таковую,
а представлять немецкому народу определенные внешнеполитиче-
ские процессы в таком свете, чтобы внутренний голос народа начал
постепенно сам требовать применения силы... чтобы в мозгу широ-
ких масс народа совершенно автоматически созревало убеждение
в том, что, если это нельзя решить по-хорошему, то это нужно
будет сделать силой, что так ни в коем случае не может продол-
жаться дальше»116.
Как известно, национал-социалистическая пропагандистская
машина действительно создала такую обстановку, в которой сред-
нему немцу трудно было понимать окружающий мир таким, ка-
ким он был. Стереотипизация доктрины пропаганды, вытесняя
мышление, реальное познание окружающего мира, оставляла место
только для интуитивного восприятия заранее запрограммирован-
ной модели мира. Большинство немецкого народа стало восприни-
мать все явления и события как в своем отечестве, так и во всем
мире через очки, созданные фашистскими заправилами. Ложный
путь немецкой нации привел и не мог не привести к национальной
катастрофе, но необходимые выводы из нее сделали лишь в ГДР —
в той части Германии, где народ взял свою судьбу в свои руки.
В Западной же Германии реваншистские империалистические кру-
ги продолжают отравлять национальное самосознание шовиниз-
мом. Националистическое сознание внедряется через школы, спе-
циальное образование, вузы и бундесвер, через печать и радио,
кино и телевидение. Реваншисты, представляя национальные инте-
ресы в ложном свете, выступая против потсдамских соглашений,
создают психологические условия для возрождения нацизма. Они
обвиняют социалистические страны в возмущении «немецкой ду-
ши», которое фактически продуманно сами же организуют. Созда-
вая благоприятную почву для провокационных действий открытых
неонацистов, извращая национальное самосознание населения ФРГ,
затем делают вид, что они сталкиваются с идущими из глубин
«народной души» национальными чувствами, с которыми не могут
пе считаться. ХДС/ХСС усиленно выдвигает националистические
лозунги и тем самым санкционирует выходки открытых нео-
нацистов.
Средством и методом, заставляющим граждан принимать на
себя националистические обязательства, является «формированное
общество», которое уже как понятие проявляет подозрительное
сходство с «народным содружеством» национал-социалистической
116 «Серая книга Экспансионистская политика и неонацизм в Западной Герма-
нии». Дрезден — Берлин, 19(57, стр. 161.
236
чеканки. Более того, «формированное общество» призвано, следуя
старому девизу, с миссионерским пылом воздействовать за преде-
лами границ Федеративной Республики. «Формированное обще-
ство,— говорил бывший канцлер ФРГ Л. Эрхард,— это не модель,
способная действовать лишь в рамках национального государства.
В нем может в значительной степени воплотиться картина объеди-
ненной Европы. Более того, оно способно стать направляющей
идеей в деле нового формирования нашей части земного шара,
а также в деле экономического и социального развития наших
народов... II оно идейно и политически истощит... социализм».
«Формированное общество» — это и есть общество тоталитарное
с якобы едиными национальными чувствами и единым националь-
ным (читай: националистическим) сознанием. Это есть утвержде-
ние буржуазно-националистического конформизма.
Концепцией «формированного общества» государственно-моно-
полистический капитализм ФРГ пытается противопоставить альтер-
нативе ГДР о будущем воссоединении Германии на социалистиче-
ской основе свой «образец» достижения «национального единства».
Такое единство мыслится как «интеграция» трудящихся в систему
капитализма.
Внедрение в массы ложного представления о своих националь-
ных интересах и формирование на этой основе националистическо-
го и шовинистического сознания широко практикуются и другими
империалистическми странами. Но второй, после ФРГ, яркий при-
мер извращения национального самосознания, на котором следует
остановиться, дают США. Реакционные американские социологи,
такие, как ярые антисоветчики Р. Страус-Хюпе и С. Поссони,
в своей книге «Международные отношения в период конфликта
между демократией и диктатурой», рекомендованной в качестве
учебного пособия для университетов, выступают как «теоретики»
политики с позиции силы, превентивной войны США против социа-
листических стран ради американского господства, а для получе-
ния поддержки масс обосновывают тезис, что «общественное мне-
ние тоже должно иметь руководство»117. Дело такого «руковод-
ства» берут в свои руки идеологи и политики американского импе-
риализма и управляют общественным мнением довольно ис-
кусно. Массам подсовывается вымышленный мир и все, что делает-
ся в нем правящими силами, объясняется необходимостью защиты
«национальных интересов». Фабрикуется выгодный правящим клас-
сам образ мышления и даже «национальные традиции» вроде пре-
словутой гармонии между трудом и капиталом118.
1,7 R. S t г a u sz-H u р е, S. Poss on у. International Relations in the Age of
Conflict between Democracy and Dictatorship. N. Y., 1954, p. 306.
118 В своей речи при вступлении на пост президента США Джонсон говорил:
«Капиталисту и рабочему, фермеру и служащему, горожанину и жителю
сельской местности больше не надо бороться друг с другом за свою долю
в нашем общем сокровище. Объединившись, мы сможем добиться увеличения
доли каждого из нас».
237
Массовые забастовки американских рабочих, острая борьба
негров за гражданские права, вылившаяся летом 1967 года почти
в гражданскую войну во многих городах США, ярко продемон-
стрировали «идиллию единства национальных интересов» эксплуа-
тируемых и эксплуататоров. Но тем не менее нельзя сказать, что
старания господствующих классов извратить национальное само-
сознание американцев проходят бесследно.
Концепция «национальных интересов», «единой национальной
цели» в США обосновывается идеологией антикоммунизма. Указы-
вается, что надвигается угроза американскому процветанию со сто-
роны коммунизма и вообще восточной цивилизации и что в инте-
ресах американской нации вести беспощадную борьбу против них.
Американская нация, которая является ярким примером интегра-
ции самых различных рас, национальностей и их культур, вдруг
объявляется наследницей эллинской культуры и «доказывается»
необходимость навязывания американской культуры всему миру.
На этой почве взращиваются националистические чувства, этниче-
ские предрассудки, этноцентризм. Еще раз подтверждается, что
проблема предубеждений не психологическая, а социальная. Лич-
ность в буржуазном обществе часто не осознает классово-социаль-
ную обусловленность своего поведения. Для нее остаются скрыты-
ми действительные источники своих чувств, а следовательно, дей-
ствительные мотивы своих поступков.
Империалистической пропаганде не удается сглаживать крича-
щие классовые противоречия, но создание предпосылок для извра-
щенного понимания национальных интересов, постоянное одурма-
нивание классового и национального самосознания народных масс
играют зловещую роль. Скрытыми остается вся капиталистическая
основа и империалистическая механика, порождающие н закреп-
ляющие извращенное национальное самосознание, а создаваемые
и поддерживаемые господствующими классами психологические
этнические и другие предрассудки выдаются в качестве единствен-
но правильного образа чувств и мыслей. Когда психологическим
оболваниванием людей, одурманиванием их национального само-
сознания шовинистическими идеями «американского превосход-
ства», «мировой миссии американской нации» империалистам
удается вовлечь в фарватер своей политики большинство нации,
они умалчивают о своей роли в создании такого конформизма,’
а разглагольствуют об особом психическом складе американской
папин и выдают свои доктрины как требования американского ду-
ха. Американский психолог и философ Э. Фромм отмечает, что аме-
риканцы вследствие постоянной тенденциозной пропаганды часто
«верят всему, что вбивают им в голову, чго большинство американ-
цев считает само собой разумеющимся ряд штампов вроде тою,
б дго русские желают покорить мир во имя революционного
коммунизма» *19.
Е. Fromm. May man prevail? N. Y„ 1961, p. 27.
238
Итак, национальное самосознание порождается объективными
условиями существования нации. Сознание своей этнической при-
надлежности присуще всем людям безотносительно к их классовой
принадлежности. В других своих элементах национальное само-
сознание носит на себе отпечаток типа господствующего в данной
стране способа производства, существующих классовых отношений.
Национальное самосознание в широком его понимании противо-
речиво в антагонистическом обществе и подвергается извращению
господствующими классами.
В национальных чувствах, национальном самосознании заклю-
чается огромная динамическая, политическая сила, и для борю-
щихся классов и их партий не безразлично, с какой направлен-
ностью формируется национальное самосознание. В то время как
подлинное национальное самосознание отражает действительные
национальные интересы, а следовательно, служит прогрессу нации,
извращенное «национальное самосознание» служит интересам экс-
плуататорских классов, облегчает задачу подмены классовой борь-
бы межнациональной борьбой, превращения трудящихся в слепое
орудие внешней агрессии внутренней реакции.
Порожденные условиями жизни при капитализме недовольства,
чувства ненависти трудящихся господствующие классы стараются
направить против национальных и расовых меньшинств, а также
наций других стран. Этнические, националистические предубежде-
ния немалой части населения наносят большой ущерб классовым
и национальным интересам трудящихся масс. Поэтому задачей
марксистов является разоблачить классовою подоплеку националь-
ной неприязни и ненависти, раскрыть механизм создания нацио-
нальных стереотипов, распространения националистических пред
рассудков. Коммунисты считаются с тем, что условия жизни экс-
плуататорского общества порождают извращенные национальные
чувства и сознание, которые к тому же искусственно подогрева-
ются и усугубляются всем арсеналом пропаганды господствующих
классов. Однако учитывать такие чувства и сознание для комму-
нистов не значит идти на уступки им, приспосабливаться к ним.
Коммунисты могут опираться лишь на национальные чувства, от-
ражающие подлинные национальные интересы, поэтому они счита-
ют своей задачей освободить классовое сознание трудящихся от
груза буржуазного национализма. Национальное самосознание
лишь тогда отражает национальные интересы, когда оно свободно
от националистических чувств и сознания.
5.
ГОСУДАРСТВО КАК НОРМА
ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НАЦИЙ
Сознание необходимости общенационального государства воз-
никает и развивается вместе с возникновением и развитием капи-
талистических связей. Если чувство н сознание своей этнической
239
принадлежности имеют надклассовый характер, то сознание не-
обходимости национальной государственной независимости на осно-
ве политико-экономических, государственных связей преломляется
через классовые чувства и сознание. Различные социальные клас-
сы и слои по-разному видят свою выгоду в независимом нацио-
нальном существовании.
В антагонистическом обществе государство является орудием
классового господства. Но национальное государство вместе с тем
представляет собой мощный фактор национального объединения,
формирования и развития нации. В этом качестве государство яв-
ляется существенной ценностью и занимает в национальном само-
сознании важнейшее место. «С конца средних веков,— писал
Ф. Энгельс,— история ведет к образованию в Европе крупных на-
циональных государств. Только такие государства и представляют
нормальную политическую организацию господствующей европей-
ской буржуазии и являются вместе с тем необходимой предпосыл-
кой для установления гармонического интернационального сотруд-
ничества народов, без которого невозможно господство пролетариа-
та. Чтобы обеспечить международный мир, надлежит прежде всего
устранить все, какие только возможно, национальные трения, каж-
дый народ должен обладать независимостью и быть хозяином
в своем собственном доме» 120.
Огромный размах национально-освободительного движения по-
казывает великую силу и жизненность стремления народа к нацио-
нальной независимости, к обеспечению своего национального су-
веренитета. Вместе с тем именно в национально-освободительной
борьбе в наибольшей степени крепнет сознание необходимости со-
здания своего национального государства. Так, например, в ходе
войны мексиканского народа за независимость (1810—1824 годы)
возникло и утвердилось понятие «мексиканская нация», и все боль-
шее число мексиканцев независимо от своего разнообразного эт-
нического происхождения стало осознавать себя частицей этой
нации.
Рост национально-государственного самосознания в Латинской
Америке еще с прошлого века, в Азии и Африке, возникновение в
50 “60-х годах XX века 80 новых национальных государств со
всей очевидностью показывают, что осознание необходимости по-
литической независимости, а тем более завоеванное собственное
государство выступают часто решающим условием консолидации
пации, что положение Ф. Энгельса о национальном государстве
как «норме» существования и развития наций приобретает особо
актуальное значение. Государство выступает поистине пациообра-
зующим фактором.
Конечно, преодоление племенных языковых и иных различий
происходит нелегко и негладко. В некоторых странах, где единое
государство используется шовинистически настроенными вождями
120 К. Маркс и Ф Энгельс. Соч., т. 21, cip. 421—422
240
сильного племени для обеспечения его гегемонии, возникают силь-
ные трения между различными племенами и народностями, что гу-
бительно сказывается на неокрепшем еще национальном самосо-
знании. Центростремительные силы в борьбе с центробежными си-
лами одержат и одерживают верх только тогда, когда широкие
массы получают возможность видеть в нации и национальном госу-
дарстве лучшие условия реализации своих интересов. Несмотря на
указанные трудности, консолидация и развитие многих современ-
ных наций Азии и Африки происходят под флагом создания и ук-
репления национальных государств. Из этого обстоятельства пра-
вильные выводы делает ряд советских этнографов. Например,
Б. В. Андрианов, критикуя авторов, ограничивающих проблему
марксистской теории нации вопросами, связанными с традицион-
ным определением понятия «нация», показывает, что «разрыв меж-
ду этим определением и практическим применением его особенно
виден при анализе африканского материала, который прежде всего
заставляет задумываться не над статикой явлений (категоричным
отнесением народов в ту или иную социально-этническую рубрику),
а над динамикой процессов и тенденций, так быстро меняющих на
наших глазах «социально-этническую» карту Африки» 121.
В нашей литературе временами возникает спор на тему: являет-
ся или не является государственность одним из признаков наций?
Такая постановка вопроса уже в свете сказанного представляется
неоправданным сужением проблемы связи нации и государства.
Если исходить из того, что при капитализме было немало наций,
не имевших своей государственности, и что и в наше время еще
имеются такие, то, очевидно, нет основания считать наличие госу-
дарственности непременным признаком нации. Но, во-первых, в
различных условиях могут доминировать различные признаки, а,
во-вторых, и это главное, теория нации не сводится к се определе-
нию, и важность тех или иных факторов в жизни нации не опре-
деляется непременно тем, являются или не являются они постоян-
ными признаками нации. В этом мы убедились, например, разби-
рая место и роль культуры в жизни нации, в характеристике ее
облика. Еще с большей силой можно убедиться в этом, рассмат-
ривая проблему связи нации и государства.
Особенно наглядно можно показать громадное значение диа-
лектической постановки и решения вопроса связи нации и государ-
ства для судеб народов, их прогресса к демократии и социализму
на основе анализа истории решения так называемого польского
вопроса, на основе анализа принципиальной борьбы марксизма-ле-
нинизма как против национализма, так и против «левого» сектант-
ства. Известно, что с конца XVIII века до 1918 года польский на-
род был лишен национальной свободы, его национальное государ-
ство было разрушено. Польша трижды была разделена между Гср-
121 Б. В Андрианов. Проблемы формирования народностей и наций в стра-
нах Африки. «Вопросы истории», 1968, № 9, стр. 109
16 с. т Калтахчян
241
манией, Австро-Венгрией и царской Россией. За это время не ути-
хала национально-освободительная борьба польского народа, ос-
новными вехами которой были восстания 1794, 1830, 1846, 1848 и
1863 годов. В этих восстаниях участвовали различные классы и
партии с самыми различными программами национального воз-
рождения. Но польский вопрос так и не был решен. Польское
государство было восстановлено в 1918—1919 годах. Но оно в си-
лу ряда причин оказалось государством не народным и миролюби-
вым, а агрессивным буржуазно-помещичьим государством, угнета-
ющим к тому же живущих в Польше непольские национальности.
Из важных причин, приведших к буржуазно-помещичьему ре-
шению польского вопроса, следует отметить ошибки СДКПиЛ (Со-
циал-демократии Королевства Польского и Литвы) и ППС-Леви-
цы, объединившихся в 1918 году в КРПП (Коммунистическую ра-
бочую партию Польши). Интернационализм польского революци-
онного рабочего движения всегда противостоял национализму, раз-
вивавшемуся в социалистическом движении вместе с реформизмом
и ревизионизмом. СДКПиЛ и ее теоретики не были равнодушны к
национальному гнету, однако они разделяли люксембургианскую
недооценку заинтересованности пролетариата в разрешении нацио-
нального вопроса. Над ними довлела формула, что якобы «само-
определение нации при капитализме неосуществимо, а при со-
циализме излишне». Такая ошибочная позиция СДКПиЛ и
особенно Р. Люксембург привела к сужению ими социологического
анализа, к недооценке национальных моментов. В результате этих
ошибок СДКПиЛ и ППС-Левица, позднее КРПП, не сумев соче-
тать решения национального и классово-социального вопросов, не-
дооценив стремление трудящихся к созданию своего национального1
государства, оказались не в состоянии завоевать на свою сторону
широкие народные массы.
На дискуссии по вопросу «Эволюция марксистской мысли о на-
ции и государстве», организованной в 1966 году польским журна-
лом «Z pola walki» 122, польские марксисты X. Яблонский, Ю. Ко-
вальский, Ф. Тых, Ф. Калицкая и другие правильно раскрыли объ-
ективный вред, нанесенный польскому революционному движению
отступлениями от ленинских установок сочетания национального
и социального вопросов. Они отмечали, что указанные проблемы,
важные сами по себе, стали предметом острой идеологической
борьбы, особенно в современную эпоху. IO. Ковальский, отмечая
интернационализм СДКПиЛ, отрицающий националистические пре-
грады на пути к социалистической революции, подчеркивает, что
«революционное отрицание, однако, следовало дополнить позитив-
ной революционной программой создания национального государ-
ства». Такой шаг сделал II съезд КРПП (1923 год). На нем была
определена роль рабочего класса как глашатая интересов всего
народа. II съезд КРПП совершил серьезный поворот в политике
122 «Z pola walki», 1S66, № 3, ss. 45—141.
242
партии, принял ленинские лозунги по национальному и крестьян-
скому вопросам, указал, что укрепление государственной независи-
мости связано с завоеванием власти рабочими и крестьянами, с
солидарностью с Советским Союзом и революционным движением
в Германии. Возглавив борьбу за независимость, ППР (до 1945 г.
КПП, а до 1925 г. КРПП) вместе с тем не упускала из виду и
социально-освободительный аспект борьбы, национальные и меж-
дународные задачи, стоявшие перед Польшей. Признание нацио-
нальных прав украинцев, белорусов и литовцев, требование
возвращения пястовских земель на западе—все это было в корне
противоположно позиции буржуазной Польши по социальным и
национальным вопросам. Все это стало возможным благодаря
преодолению сектантских ошибок КПП, восстановлению ленинских
положений о важности учета связи проблем нации и государства,
о сочетании решения социального и национального вопросов.
Идеологи антикоммунизма утверждают, что люксембургиан-
ские ошибки польских революционеров в национальном вопросе
были отражением национального нигилизма, якобы присущего
марксизму-ленинизму. Уже из сказанного нами ранее видно, что
это явное извращение действительного положения вещей.
С другой стороны, неправильно считать, что возрастание значе-
ния национального вопроса делает (или сделает) его якобы глав-
ным вопросом в марксизме. «Марксисты, — пишет, например,
М. Турлейска,— отвергали национализм буржуазии и ее позиции,
противопоставляли национализму классовые критерии, стремясь
выделить рабочий класс из нации, противопоставить буржуазному
государству международную солидарность пролетариата, что на-
шло свое отражение в лозунге «Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь!». По мнению М. Турлейска, недооценкой национализма в его
положительном, как она говорит, значении объясняются неудачи
ряда социалистических и коммунистических партий, что «програм-
мное отрицание буржуазного национализма И Интернационалом,
не оправдавшим себя в годину испытаний в 1914 году, перенял в
1919 году 111 Интернационал»123.
То, что буржуазный национализм отвергается марксизмом, в
этом ничего неправильного нет. Но отрицание национализма не
есть игнорирование национальных моментов в революционном дви-
жении. Было бы неправильным также думать, что II Интернацио-
нал потерпел крах якобы из-за своего довоенного антинационализ-
ма. Скорее наоборот. Общеизвестно, что он потерпел крах потому,
что был оппортунистическим и уже был заражен социал-шовиниз-
мом. Что касается лозунга: «Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь!», то он как и лозунг: «Рабочие не имеют отечества»—никогда
не заключал в себе даже крупицы недооценки организации проле-
тариата в национальном масштабе.
В. И. Ленин в письме к Инессе Арманд указывал, что нельзя из
128 «Z pola walki», 1966, № 3, s. 93.
16*
213
«Манифеста» брать только положение: «Пролетарии не имеют оте-
чества» и забывать, что «там сказано не только это. Там сказано
еще, что при образовании национальных государств роль пролета-
риата несколько особая. Если брать первое положение (рабочие не
имеют отечества) и забывать его связь со вторым (рабочие кон-
ституируются как класс национально, но не в том смысле, как бур-
жуазия), то это будет архинеправилию» 124. В. И. Ленин разьяс-
няет, что Маркс и Энгельс никогда не игнорировали заинтересован-
ности пролетариата организовываться национально, в националь-
ное государство и что «признание» защиты отечества» в националь-
ной войне вполне отвечает марксизму»125.
Поскольку важнейшие положения Маркса, Энгельса и Ленина
о связах национального и классово-социальных вопросов, о связях
проблем нации и государства или забываются и утверждается, что
эти положения выдвигаются якобы «новой марксистской литерату-
рой», или они вообще искажаются и заменяются чем-то противопо-
ложным, необходимо более последовательно рассмотреть взгляды
основоположников марксизма-ленинизма по этим вопросам.
Основоположники марксизма-ленинизма придавали связи на-
ции и государства первостепенное значение, ибо она затрагивала
почти все национальные отношения, учет которых важен для ре-
шения основного социального вопроса пролетариата.
Вскрывая классовую подоплеку национальных конфликтов,
войн, К. Маркс и Ф. Энгельс вместе с тем показывали, как межна-
циональная борьба (и внутренняя и внешняя) мешает разверты-
ванию и развитию классовой борьбы. Пз опыта революций 1848 го-
да Маркс и Энгельс сделали тот вывод, что национальные револю-
ции находятся в прямой зависимости от пролетарской революции.
К. Маркс проводит ту мысль, что всякое революционное восстание
не может победить, пока пе победит революционный рабочий
класс. Эту мысль Маркс подчеркивает в работе «Классовая борьба
во Франции». Он отметил, что июньское поражение отдало во
власть России, Австрии и Пруссии народы, начавшие борьбу за
национальную независимость, и что это обстоятельство воочию по-
казало исчезновение их кажущейся самостоятельности и незави-
симости от пролетарской революции. «Ни венгр, ни поляк, ни
итальянец не будут свободны,—резюмирует Маркс,—пока рабо-
чий остается рабом!» 126.
К. Маркс и Ф. Энгельс полагали, что революция 1848—1849 го-
дов могла перерасти в пролетарскую, и решение национального
вопроса связывали исключительно с победой рабочего класса. Как
известно, впоследствии Ф. Энгельс отметил, что он и Л'Уаркс не учи-
тывали, что в тот период капитализм еще имел достаточный про-
стор для дальнейшего развития Но в таком случае образование
124 В. И. Лени н. Поли. собр. соч., т 49. сто. 329
125 Там же, стр. 330
126 К- Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 7, стр. 31.
244
еще при капитализме самостоятельных национальных демократи-
ческих государств также явилось бы прогрессивным шагом в реше-
нии национального вопроса. В дальнейшем, как мы увидим,
К. Маркс и Ф. Энгельс учли это. И неправильно, когда в оценке
позиции К. Маркса и Ф. Энгельса в национальном вопросе игнори-
руются последующие их поправки и уточнения.
Буржуазные идеологи иногда с легкостью необыкновенной ут-
верждают, что «Маркс и Энгельс последовательно отвергали право
на самоопределение...» ,27. Но это явная ложь. В. И. Ленин отме
чал, что Маркс имел обыкновение «щупать зуб» социалистов в на-
циональном вопросе, проверяя их сознательность в отношении прав
угнетенных наций 128. Так же поступал и Энгельс.
Марксистско-ленинское учение о значении государства как эле-
мента формирования и развития нации, о внутренней связи нацио-
нальных и классово-социальных проблем, конечно, не стояло на ме-
сте. Оно обогащалось благодаря опыту социалистической револю-
ции в России, возникновению новых национальных государств,
борьбе коммунистов Франции. Италии и других стран за возрож-
дение своих национальных государств. Однако не следует забывать
отправные принципиальные положения марксизма-ленинизма о
месте и роли национального государства в национальном и соци-
альном развитии народов.
Маркс и Энгельс выступали против душителей угнетенных на-
циональностей. Они приветствовали подъем национально-освобо-
дительных движений чехов, венгров, итальянцев, видя в них союз-
ников в борьбе против различных сил контрреволюции. В статьях
«Внешняя политика Германии», «Внешняя политика Германии и
последние события в Праге», «Датско-прусское перемирие», «Де-
баты по польскому вопросу во Франкфурте» К. Маркс и Ф. Эн-
гельс отстаивали идеи свободы и братства народов. Своими вы-
ступлениями по национальному вопросу в 1848 году они развива-
ли материалистическую теорию нации и национальных отношений.
«Мы будем отстаивать дело итальянской независимости, мы будем
вести смертельную борьбу против австрийского деспотизма в Ита-
лии, равно как в Германии и в Польше»129, — писал Маркс.
По мерс развития национально-освободительного движения
К. Маркс и Ф. Энгельс все глубже разрабатывали национальный
вопрос. В их статьях и письмах о Китае, Индии, Ирландии были
впервые заложены теоретические основы политики пролетариата
в национально-колониальном вопросе. К. Маркс и Ф. Энгельс выс-
тупали против сохранения феодальной Оттоманской империи, за
предоставление входящим в нее народам национальной независи-
2,7 «Sowjetsvstem and demokrat'sche Gesellschaft», Bard IV. Friburg— Basel —
Wien, 1971, S 652.
128 См. В. II. JI e н и п. Поли. собр. соч., т. 25, стр. 300.
129 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 5, стр. 4.
245
мости, за создание независимого славянского государства на Бал-
канах. Это они считали одной из задач европейской революции.
Глубокое изучение ирландского и польского вопросов, а также
уроки гражданской войны Севера и Юга США позволили Марксу
и Энгельсу внести существенные изменения в свою концепцию по
национальному вопросу, сложившуюся в период буржуазной рево-
люции 1848—1849 годов. Если раньше национальное освобождение
ставилось исключительно в зависимость от социального освобож-
дения рабочего класса, то теперь Абарке и Энгельс подчеркивают
также обратную зависимость успеха социальных революций, осво-
бождения пролетариата от решений жгучих национальных про-
блем.
В 1869 году Энгельс писал К. Марксу: «На примере ирландской
истории можно видеть, какое это несчастье для народа, если он
поработил другой народ. Все английские подлости имеют свое про-
исхождение в ирландском Пейл» 13°. К- Маркс на это отвечал:
«...прямой абсолютный интерес английского рабочего класса требу-
ет разрыва его теперешней связи с Ирландией. Таково мое са-
мое глубокое убеждение... Я долго думал, что можно ниспроверг-
нуть ирландский режим подъемом английского рабочего класса.
Я всегда защищал этот взгляд в «New-York Tribune». Более глубо-
кое изучение вопроса убедило меня теперь в обратном. Английский
рабочий класс ничего не поделает, пока он не избавится от Ирлан-
дии. Рычаг должен быть приложен в Ирландии. Вот почему ир-
ландский вопрос имеет такое большое значение для социального
движения вообще» 130 131.
Особенно подчеркивают Маркс и Энгельс ту мысль, что такой
политики английский рабочий класс должен держаться не из-за
простой филантропии, а потому, что она является необходимой с
точки зрения его собственных интересов, ведь бессилие его в сле-
довании за господствующими классами, в разладе с ирландцами,
в том, что вышколенная против ирландцев постоянная армия при
необходимости успешно бросается против английских рабочих.
«Народ, порабощающий другой народ,— резюмирует К. Маркс,—
кует свои собственные цепи» 132 133. Об этом же пишет Ф. Энгельс:
«Не может быть свободен народ, угнетающий другие народы. Си-
ла, нужная ему для подавления другого народа, в конце концов
всегда обращается против него самого» ,33.
На обвинения в адрес интернациональной рабочей партии в
том, что она якобы противоречит себе, выступая за восстание поль-
ской нации, Ф. Энгельс отвечал указанием на то, что только защи-
та дела свободы и независимости угнетенных народов по-настояще-
му отвечает интернационализму. Только такая политика в интере-
сах как угнетенных, так и угнетающих наций. «Пока жизнеспо-
130 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 32, стр. 301.
131 Там же. стр. 337.
132 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т 16. стр. 407.
133 К. Маркс п Ф. Энгельс Соч.. т. 18, стр. 509.
246
собный народ,— писал Энгельс,— скован чужеземным захватчи-
ком, он по необходимости направляет все свои силы, все свои стре-
мления, всю свою энергию против внешнего врага; и пока его внут-
ренняя жизнь остается таким образом парализованной, он не в со-
стоянии бороться за социальное освобождение» 134.
Уже приведенные высказывания Маркса и Энгельса со всей от-
четливостью показывают, насколько далеки от истины все те, ко-
торые трактуют марксистское положение о подчиненности решения
национального вопроса решению социальных задач как якобы не-
дооценку национального, а тем более как противопоставление
классового национальному. К. Маркс и Ф. Энгельс; наоборот, под-
черкивают взаимообусловленность решений тех и других задач.
Когда идеологи прусского юнкерства и немецкой буржуазии
стали обосновывать «законность» аннексии Эльзаса и Лотарингии
всевозможными ссылками на историю, Маркс показал фальшь, аг-
рессивность этих попыток. Центральный комитет немецкой секции
Международного Товарищества Рабочих выпустил 5 сентября
1870 года 1Манифест к немецкому рабочему классу с призывом не
допустить аннексию Эльзаса и Лотарингии и добиться почетного
мира с Французской республикой 135.
Разъяснения социального значения национального вопроса
Маркс и Энгельс давали и на примере взаимоотношений других
наций. В 1875 году Энгельс писал В. Врублевскому: «...я всегда
буду видеть в освобождении Польши один из краеугольных камней
•окончательного освобождения европейского пролетариата и, в осо-
бенности, освобождения других славянских национальностей.
До тех пор пока будет продолжаться разделение и порабощение
польского народа, до тех пор будет продолжать свое существова-
ние и с фатальной неизбежностью возрождаться Священный союз
между теми, кто поделил Польшу,— союз, который не означает
ничего другого, как порабощение русского, венгерского и немецко-
го народов, совершенно так же, как и польского народа» 5.
«Интернациональное движение пролетариата,— писал Энгельс,—
вообще возможно лишь в среде самостоятельных наций» 137. Ука-
зывая, что устранение национального гнета является основным ус-
ловием всякого здорового и свободного развития, Энгельс подчер-
кивает: «Для того чтобы иметь возможность бороться, нужна спер-
ва почва под ногами, воздух, свет и простор. Иначе все — бол-
товня» 138.
Если независимое национальное государство является важным
условием для развития нации, то подлинный прогресс в жизни на-
ции согласно учению Маркса и Энгельса наступает со времени со-
334 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 18, стр. 555.
135 См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 17, стр. 283.
136 К. М а р к с и Ф. Энгельс. Соч., т. 34, стр. 140.
137 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 35, стр. 220.
яз8 Там же, стр. 221.
247
здания социалистического государства, которое только и может
действительно выражать интересы широчайших народных масс.
Касаясь вопроса об отношении пролетариата к национальному
вопросу, патриотизму после завоевания им власти, при социализ-
ме, Ф. Энгельс в 1891 году писал А. Бебелю: «...мы не смогли бы
ни' взять власть, ни удержать ее, не покончив с грехами наших
предшественников по отношению к другим национальностям, сле-
довательно, 1) открыто проложить путь к восстановлению Поль-
ши, 2) предоставить возможность населению Северного Шлезвига
и Эльзас-Лотарингии свободно решить вопрос о своей государст-
венной принадлежности. Между социалистической Францией и со-
циалистической Германией эльзас-лотарингского вопроса вообще
не может существовать»1з9.
Внимательное отношение Маркса и Энгельса к судьбам наций,,
к созданию благоприятных условий для их всестороннего развития
и братского сотрудничества не оставляет камня на камне от фаль-
шивых обвинений в адрес основоположников марксизма в том, буд-
то они были космополитами и игнорировали всякий патриотизм.
К. Маркс и Ф. Энгельс иногда употребляли термин «космополи-
тизм» в значении «общечеловеческий», «свободный от националь-
ных предрассудков» и в этом смысле принимали и разделяли его.
Но буржуазный космополитизм они отвергали решительно и безу-
словно. Когда Луи Блан ставил вопрос таким образом, что «фран-
цуз неизбежно является космополитом», Энгельс ответил: «Да, в
таком мире, где будут господствовать только французское влияние,
французские правы, обычаи, идеи и политические порядки! В та-
ком мире, где каждая нация переняла бы характерные свойства
французской национальности! Но именно против этого должны
протестовать демократы других наций. Вполне готовые отказать-
ся от грубых черт своей национальности, они ожидают того же от
французов. Их совершенно не удовлетворяет уверение французов,
что они, как французы, уже тем самым являются космополитами.
Подобное уверение равносильно требованию, чтобы все остальные-
стали французами» 14°.
Против буржуазного космополитизма с его претензией раство-
рить все национальности в так называемых «образцовых» нациях,
т. е. по сути дела подчинить одни нации другим, решительно высту-
пал и К. Маркс. 20 июня 1866 года К. Маркс в письме Ф. Энгельсу,
описывая ход прений в Совете Интернационала об австро-итальян-
ской войне, сообщает, что прения эти свелись, как и следовало-
ожидать, к вопросу о «национальностях» и об отношении к нему
и герпационала .Далее Маркс пишет: «Представители «молодой
рапции» (нерабочие) выдвигали ту точку зрения, что всякая на-
циональность и самая нация — «устарелые предрассудки». Прудо-
нистское штирпериапство...
139 К. Маркс и Ф
140 К. Маркс и Ф.
Энгельс. Соч, т. 38, стр. 162.
Энгельс. Соч, т. 4, стр. 38G.
248
Англичане очень смеялись, когда я начал свою речь с того, что
наш друг Лафарг и другие, отменившие национальности, обраща-
ются к нам «по-французски», то есть на языке, непонятном для
9/10 собрания. Далее я намекнул, что Лафарг, сам того не созна-
вая, под отрицанием национальностей понимает, кажется, их по-
глощение образцовой французской нацией» 141.
Буржуазному космополитизму, как и любому национализму и
шовинизму, К. Абарке и Ф. Энгельс противопоставляли пролетар-
ский интернационализм и патриотизм, которые считали тесно взаи-
мосвязанными. «...Интернациональный союз,— писал Ф. Энгельс,—
возможен только между нациями, чье существование, автономия
и независимость во внутренних делах включается, следовательно,
в само понятие интернационализма»142
Последовательно выступая за независимость и свободу народов,
К. Маркс и Ф. Энгельс, однако не считали правильным поддер-
живать любое национально-освободительное движение при всех
условиях. Если те или иные освободительные стремления вступали
в коллизию с интересами пролетариата, народных масс других
стран, Маркс и Энгельс частное приносили в жертву общему. Это
было не противопоставление интернационализма национальным
интересам. Ф. Энгельс, говоря, например, об освободительных ус-
тремлениях балканских славян, предупреждал, что их действия
накануне явно надвигающейся революции могут спровоцировать
мировую войну, натравить народы друг на друга и оттянуть рево-
люцию. «Из-за нескольких герцеговинцев зажечь мировую войну,
которая унесет в тысячу раз больше людей, чем все население Гер-
цеговины,— не такой должна быть, по-моему,— писал Энгельс,—
политика пролетариата» 143.
Положения марксизма о сочетании решений национального и
социального вопросов, о значении национальной государственности
для развития наций всесторонне разработал и развил В. И. Ленин.
В 1914 году в «Тезисах реферата по национальному вопросу»
Ленин писал:
«9. Сплочение национальных областей (воссоздание языка, на-
циональное пробуждение etc.) и создание национального го-
сударства. Экономическая необходимость его.
10. Политическая надстройка над экономикой. Демократизм,
суверенность нации. Inde (отсюда.— С. К.) «национальное
го с у даре т в о»...
11. Национальное государство мировое правило...»144.
Не случайно и то, что основное требование марксистско-ленин-
ской программы по национальному вопросу о праве нации на са-
моопределение своим содержанием имеет право образования наци-
онального государства.
141 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 31, стр. 193.
142 К Маркс п Ф. Энгельс Соч., т. 39, стр. 74.
143 К. Маркс и Ф. Энгель с. Соч., т. 35, стр. 230.
144 В II. Л е п п и. Поли. собр. соч., т. 24, стр. 385.
249
Мысль о том, чго «национальное государство являлось необхо-
димой фазой в развитии капитализма», что «пароды тоже возвы-
сились до сознания внутренней связи между государством и наци-
ей» и что «национальная идея становится ядром и целью почти
всех войн 19 века», не раз подчеркивалась В. II. Лениным 145. Он
еще до социалистической революции со всей ясностью ставил воп-
рос о праве наций на самоопределение, о государственном уст-
ройстве наций и народностей, хотя под ним понимал не обязатель-
но раздел многонациональных государств на мелкие государства
отдельных национальностей. Вскрывая ошибочность позиции се-
паратистов, отрывающих решение национального вопроса от инте-
ресов классовой борьбы пролетариата, ставящих «все свои полити-
ческие требования абстрактно, огульно, «безусловно», с точки зре-
ния интересов «всего народа» или даже с точки зрения вечного
нравственного принципа—абсолюта», В. II. Ленин требовал разоб-
лачать «эту буржуазную иллюзию везде и всегда, выражается ли
она в отвлеченной идеалистической философии или в постановке
безусловного требования национальной независимости» 146.
Это не означало, однако, ни недооценки государственного уст-
ройства наций и народностей в составе многонациональных госу-
дарств, ни тем более отрицания их права отделяться в самостоя-
тельное государство, если многонациональное государство не обес-
печивает национального суверенитета каждой из них.
Наоборот, В. И. Ленин все национальные требования подчинял
решению проблемы обеспечения равноправия наций. Указывая, что
полного решения национального вопроса буржуазия нигде не дала
и не могла дать, он все же считал, что еще при капитализме надо
добиваться, пусть урезанного, буржуазно-демократического, ре-
шения национального вопроса, обеспечить определенные демокра-
тические преобразования. «В числе этих демократических преобра-
зований, входящих в понятие социальной революции,— писал
Ленин,— видное место не могут не занять и преобразования нацио-
нальных отношений» 147.
Поскольку взаимосвязь наций при капитализме устанавливает-
ся на основе отношений господства и подчинения, постольку борь-
ба против национального гнета есть часть борьбы против частной
собственности, против власти буржуазии. В. И. Ленин постоянно
и настойчиво ставил перед Коммунистической партией задачу: бо-
роться за права и интересы всех наций и народностей. «Ни одной
привилегии ни для одной нации, ни для одного языка!—писал
•он. Ни малейшего притеснения, ни малейшей несправедливости
к национальному меньшинству! — вот принципы рабочей демокра-
тии» i48. Отмечая, что царизм превратил многонациональную Рос
сию в «тюрьму народов» и что «вражда выгодна только грабите-
145 В. II. Ленин. Поли. собр. соч., т. 26, стр. 28; т. 28, стр. 583, 584.
146 В. II. Л енпн. Поли. собр. соч., т. 7, стр. 235.
147 В. И. Леи п н. Поли. собр. соч., т. 54, стр. 464.
148 В. II. Леи и п Поли. собр. соч., т. 23, стр. 150.
250
лям и тиранам, живущим темнотой и разрозненностью пролетариа-
та» 149, В. И. Лепин считал, что «партия пролетариата должна на-
учиться преследовать и травить всякого слугу самодержавия за
всякое насилие и бесчинство против какого бы то ни было обще-
ственного слоя, какой бы то ни было нации или расы» 15°.
Прочной теоретической базой деятельности партии в защите на-
циональных интересов стал открытый В. И. Лениным мировой за-
кон развития наций при капитализме. «Развивающийся капита-
лизм,— писал он,— знает две исторические тенденции в националь-
ном вопросе. Первая: пробуждение национальной жизни и нацио-
нальных движений, борьба против всякого национального гнета, со-
здание национальных государств. Вторая: развитие и учащение
всяческих сношений между нациями, ломка национальных перего-
родок, создание интернационального единства капитала, экономи-
ческой жизни вообще, политики, науки и т. д.
Обе тенденции суть мировой закон капитализма» 151.
Ленинское положение о «двух тенденциях», позволяя видеть
национальные отношения в единой цепи мировых связей народов,
а национальный вопрос как явление мировое, помогает прогрессив-
ным силам найти правильные пути защиты национальных интере-
сов. При капитализме указанные тенденции антагонистичны, по-
скольку национальный гнет, насильственная ассимиляция не сбли-
жают, а отталкивают народы друг от друга. Но вместе с тем пар-
тия пролетариата, создавая свои интернациональные организации
и защищая интересы наций, считается с обеими историческими
тенденциями. Отстаивая равноправие наций и языков, она после-
довательно проводит принцип интернационализма, борясь «против
заражения пролетариата буржуазным национализмом, хотя бы и
самым утонченным» 152. Особо выделяет Ленин право наций на са-
моопределение.
В. И. Ленин постоянно напоминал, что невозможно бороться за
равноправие наций, не отстаивая вместе с тем их права на само-
определение вплоть до государственного отделения от других на-
циональных коллективов. Он всесторонне обосновал право наций
на самоопределение в борьбе против как правых, так и «левых»
оппортунистов. Правые ссылками на прогрессивность крупных
многонациональных государств выступали за их сохранение при
любых обстоятельствах, а потому и не поддержали национально-
освободительные движения. «Левые» же, подменяя вопрос о по-
литической самостоятельности наций вопросом об их экономи-
ческой самостоятельности, считали, что поскольку при импери-
ализме невозможна экономическая независимость, то невозможно
и право наций на самоопределение. «Левые» также, опираясь на
149 В. И. Ленин Поли. собр. соч., т. 10, стр 81.
150 В. И. Лен и н. Поли. собр. соч., т. 6, стр. 358.
151 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 24, стр. 124.
152 Там же
251
теорию «чистого» империализма, пытались доказать, что при им-
периализме нации якобы распадаются на составляющие их клас-
сы, национально-освободительные движения становятся невозмож-
ными, и, следовательно, право наций на самоопределение неосу-
ществимо при капитализме, а при социализме излишне. Вскрывая
несостоятельность этих доводов, В. И. Ленин отмечал, что хотя
трудящиеся знают и ценят преимущества крупного рынка и круп-
ного государства, они при капитализме часто вынуждены бывают
выступать за государственное обособление, когда национальный
гнет и национальные трения делают невыносимой совместную
жизнь разных наций. С другой стороны, чтобы не подпасть под
гнет более сильных и реакционных соседей, как отмечали К. Маркс
и В. И. Ленин, «развитие капитализма не обязательно пробуждает
к самостоятельной жизни все нации» 153. Национальные движения
в ряде случаев своей целью ставят не образование своей нацио-
нальной государственности, а создание лучших условий развития
в рамках данного многонационального государства.
Наконец, даже если остается определенная экономическая за-
висимость, она еще не делает политическую независимость излиш-
ней. В. И. Ленин показал, что в эпоху империализма даже круп-
ные государства могут быть в экономической зависимости от дру-
гих государств, но государственную самостоятельность нации нель-
зя смешивать с ее экономической зависимостью.
Вот почему по настоянию В. И. Ленина требование права наций
на самоопределение с 1903 года стало составной частью Програм-
мы РСДРП.
Выдвигая требование права наций на самоопределение, комму-
нисты выступают не за безусловное отделение их друг от друга,
а за предоставление всем нациям права самим решить: оставать-
ся в составе многонационального государства или отделяться от
пего.
В. И. Ленин неоднократно возвращался к мысли о том, что
вопрос о самоопределении наций коммунисты должны решать в
каждом отдельном случае совершенно самостоятельно, с точки зре-
ния интересов всего общественного развития и интересов клас-
совой борьбы пролетариата за социализм. Он постоянно подчер-
кивал, что «обвинять сторонников свободы самоопределения, т. е.
свободы отделения, — писал Лепин, — в поощрении сепаратизма —
такая же глупость и такое же лицемерие, как обвинять сторонников
свободы развода в поощрении разрушения семейных связей» 154.
Безусловно отвергал Ленин одно: даже малейшую поддержку
стремлению к привилегиям со стороны любой нации, в том числе со
стороны бывших угнетенных наций.
Право наций на самоопределение необходимо в интересах ра-
бочего класса как угнетаемых, так и угнетающих наций. Если
В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 25, стр. 301—302.
154 Там же, стр. 286.
252
марксова формула: «не может быть свободным народ, угнетающий
другие народы»— напоминает об опасности развращения рабочих
угнетающих нации, часть которых из-за крох, достающихся на
их долю от сверхприбылей капиталистов, нередко попадает в
фарватер политики своей национальной буржуазии, то большевики
в новых условиях, выдвигая лозунг права на самоопределение,
боролись против демагогического использования этого лозунга
буржуазией, пытавшейся в своих классовых интересах разъединить
трудящихся различных национальностей. Право наций на самооп-
ределение есть один из вопросов демократии, и его выдвигает про-
летариат потому, что он не может победить иначе, как осуществляя
демократию полностью, потому что без него невозможно обеспе-
чить полную солидарность рабочих разных наций, их действитель-
ное демократическое сближение.
Разъясняя диалектическую постановку вопроса о самоопределе-
нии нации в резолюции совещания РСДРП 1913 года, В. И. Ленин
писал: «Есть люди, которым кажется «противоречивым», что
эта резолюция в 4-м пункте, признавая право на самоопределение,
на отделение, как будто бы «дает» максимум национализму (на
деле в признании права на самоопределение всех наций есть мак-
симум демократизма и минимум национализма),— а в пункте 5-ом
предостерегает рабочих против националистических лозунгов ка-
кой бы то ни было буржуазии и требует единства и слияния ра-
бочих всех наций в интернационально-единых пролетарских орга-
низациях. Но видеть здесь «противоречие» могут лишь совсем
плоские умы...» 155.
В. И. Ленин считал, что только указанным путем можно прео-
долеть недоверие и вражду между нациями, обеспечить их интер-
национальную дружбу. Он считал, что политика национальной
розни, угнетения наций, противопоставления их интересов есть по-
литика систематического развращения народного сознания. «Мы
требуем, — писал В. И. Ленин, — свободы самоопределения, т. е.
независимости, т. е. свободы отделения угнетенных наций не по-
тому, чтобы мы мечтали о хозяйственном раздроблении или об иде-
але мелких государств, а, наоборот, потому, что мы хотим круп-
ных государств и сближения, даже слияния, наций, но на истинно
демократической, истинно интернационалистской базе, немысли-
мой без свободы отделения» 156.
Большевики отстаивали право наций на самоопределение, ибо
в этом видели верный путь к ликвидации веками воспитанного
эксплуататорами недоверия национальностей друг к другу и осо-
бенно недоверия со стороны наций угнетаемых к нациям угнета-
ющим. Коммунисты руководствовались ленинским указанием, что
в своей гражданской войне против буржуазии надо соединять и
сливать народы не силой рубля, не силой дубья, а добровольным
155 В И. Л е н и и. Полн собр. соч., т. 25, стр. 299.
156 В. II. Лен и н. Полн. собр. соч., т. 27, стр. 68.
253
согласием. Интересы демократии и социализма требуют как мож-
но более тесного союза наций. Но путь к этому лежит через сво-
бодное, добровольное объединение народов.
Право на политическое самоопределение еще при капитализме
важно для развития классового сознания трудящихся и как одно
из демократических условий развития их классовой борьбы. «Чем
полнее, — писал «Лепин, — национальное равноправие (оно не пол-
но без свободы отделения), тем яснее рабочим угнетенной нации,
что дело в капитализме, а не в бесправии» 157.
Особо подчеркивал В. II. «Ленин значение политического само-
определения наций для судеб социализма. Он указывал, что «не
может быть социалистическим пролетариат, мирящийся с малей-
шим насилием «его» нации над другими нациями» 158. При этом,
чтобы не оставлять никаких лазеек для извращенного толкования
самоопределения наций в духе культурно-национальной автономии,
В. И. «Ленин в написанном им в апреле — мае 1917 года «Проекте
изменений теоретической, политической и некоторых других частей
программы» предложил редакцию § 9 принятой II съездом РСДРП
Программы, гласящей: «.Право на самоопределение за всеми на-
циями, входящими в состав государства», изменить следующим об-
разом: «Право на свободное отделение и на образование своего
государства за всеми нациями, входящими в состав государства.
Республика русского народа должна привлекать к себе другие
народы или народности не насилием, а исключительно доброволь-
ным соглашением на создание общего государства. Единство и
братский союз рабочих всех стран не мирятся ни с прямым, ни
с косвенным насилием над другими народностями» 159.
Таким образом, у Маркса, Энгельса и «Ленина мы находим ис-
ключительно четкую постановку вопроса о значении связи нации
и государства. Основоположники марксизма-ленинизма постоянно
подчеркивали, что по сравнению с «рабочим вопросом» подчинен-
ное значение национального вопроса не подлежит сомнению. Вме-
сте с тем они показали, что и социальный вопрос не решается без
решения национального вопроса. Последний, конечно, тоже есть
социальный вопрос. Но когда говорят о соотношении социального
и национального, имеют в виду то, что национальный вопрос со-
ставляет лишь подчиненную часть. В то время как решение этого
главного вопроса означает переход от капитализма к социализму,
решение национального вопроса как части общего вопроса поли-
тической демократии возможно еще в рамках капитализма, хотя
полное и последовательное свое разрешение он получает при со-
циализме. II в том и в другом случаях основным условием реше-
ния национального вопроса выступает право наций на самоопреде-
ление, понимаемое как свобода на добровольный выбор форм госу-
157 В II. Ленин. Поли. собр. соч., т 30, стр 126—127.
158 В. II. Лен н п. Поли. собр. соч., т. 26, стр. 329
159 В. II Ленин. Поли собр. соч., т. 32, стр. 154, 142.
251
дарственного устройства, вплоть до создания своего собственного
независимого государства.
Политическое самоопределение народов постоянно и всесторон-
не обосновывается Лениным не как самоцель, а как подспорье
прогресса с точки зрения интересов всего общественного развития
и интересов классовой борьбы пролетариата за социализм. Вместе
с тем В. И. Ленин требует не допускать и тени недооценки нацио-
нального вопроса в целом и связей проблем нации и государства —
значения национального государственного устройства народов
в особенности.
Диалектическая постановка В. И. Лениным вопроса о само-
определении наций, об органической связи национального и со-
циального вопросов, проблемы нации и государства сыграли вы-
дающуюся роль в социалистическом и национальном строительстве
многонационального Советского государства.
Ленинский программный лозунг о праве наций на самоопреде-
ление помогает всем народам мира объединять в гармоническое
целое свои социальные и национальные устремления и двигаться
по пути национального и социального прогресса.
Образование национальных государств на капиталистической
основе еще не есть возникновение подлинных отечеств трудящихся.
Последние получают пока лишь национальную арену классовой
борьбы, посредством которой они добиваются победы социализма,
создания своего действительного отечества. Исторической необхо-
димостью становится преобразование наций, возникших как про-
дукт буржуазных связей и отношений, в социалистические.
ГЛАВА V
СОЦИАЛИЗМ
И РАЗВИТИЕ НАЦИЙ
£2 оциальная сущность нации и национальные отношения пре-
терпевают коренные качественные изменения в период перехо-
да от капитализма к социализму. Националь вопрос, как пред-
видели основоположники марксизма-ленинизма, получает свое под-
линное решение в ходе социалистической революции и строитель-
ства социализма.
О возможности решения национального вопроса при капита-
лизме В. И. Ленин говорил только в определенном смысле, имея
в виду период борьбы буржуазии против феодальной раздроблен-
ности, за национальную консолидацию и образование националь-
но-однородных государств. Он допускал возможность создания
равноправных отношений между различными национальностями
внутри отдельных стран, какие были созданы в свое время в Швей
царии, Бельгии. «...Есть только одно решение национального вопро-
са, (поскольку вообще возможно его решение в мире капитализ-
ма, мире наживы, грызни и эксплуатации) —писал В. И. Ленин,—
и это решение — последовательный демократизм»1. В наше время
империализм, повернувший по всем линиям от политической демо-
кратии к реакции, обострил и национальные отношения, усилил
национальный гнет. Современный капитализм показывает свою
полную неспособность решить национальный вопрос. Об этом сви-
детельствуют обострение национального вопроса, многочисленные
трагические события ограбления и эксплуатации, насилия в капи-
талистическом мире, начиная от Северной Ирландии и кончая
югом Африки. С повой силой подтверждаются слова В. И. Ленина
о том, что «империализм есть эпоха угнетения наций на новой
исторической основе» 2.
Национальный вопрос свое настоящее решение получил в ходе
Великой Октябрьской социалистической революции и социалисти-
1 В. И Ленин. Поли. собр. соч., т. 24, стр. 118.
2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 27, стр. 440.
17* 2Г«
ческого строительства в самой многонациональной стране мира —
в России, являвшейся до революции тюрьмой пародов.
«В пашей многонациональной стране национальный вопрос вы-
ступал как один из коренных вопросов строительства социалисти-
ческого общества. От его правильного решения во многом зависела
судьба нового строя. Только Коммунистическая партия, выражаю-
щая насущные ишересы рабочего класса, всех трудящихся, про-
водящая ленинскую национальную политику, могла сплотить все
нации и народности в единое интернациональное братство и на-
править их усилия на создание нового общества. Она с честью вы-
полнила эту историческую задачу потому, что неуклонно руковод-
ствовалась теорией марксизма-ленинизма» 3.
1.
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НАЦИЙ
КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ НАЦИИ
Обосновывая ней юежность и необходимость социалистической
революции, основоположники марксизма-ленинизма указывали на
io, что капиталистические производственные отношения господст-
ва и подчинения порождаю! не только социальные, ио и нацио-
нальные антагонизмы, национальный гнет, расовую и националь-
ную дискриминацию, захватнические войны и что покончить со
всем этим может лишь социалистическое общество, в котором
вместе с радением социальных антагонизмов падут и националь-
ные антагонизмы.
В ленинской теории социалистической революции националь-
ный вопрос занимает большое место. «Революция пролетариата,—
писал Ленни,— будет эпохой целого ряда битв но всем фронтам,
т. с. по всем вопросам экономическим и политическим, в том числе
национальным»4. Социалистические преобразования обществен-
ных классов п групп, наций и народностей В. II. .Венин считал
внутренне связанными процессами разрушения всей системы экс-
плуатации, частнособственнического уклада и утверждения соци-
ально экономического, идейно-политического и шп ер национально-
го единива пародов
Знаменагельно, что со времени Великой Октябрьской социа-
листической революции, когда взаимные отношения народов в мире
определялись борьбой империализма против советского движения,
национальный вопрос в многонациональной Советской стране ре-
шался под шамепем пролетарского интернационализма, требую-
О подготовке к 50 ктпю образования Сотом Советских Социалистических
Республик. Постановление ЦК КИСС от 21 фст-раля 1972 гопа» М Полит-
и <дат, 1972. стр 7-8.
В II Ленни. Поли, собр соч , т. 51, стр. 161
2G0
щсго «подчинения ингересов пролетарской борьбы в одной стране
интересам этой борьбы во всемирном масштабе...»5.
.Бшипизм главным в национальном вопросе считает объедине-
ние трудящихся независимо от их национальности. Для решения
национального вопроса требуется: 1) ликвидация национального
гнета, установление полного политического равноправия всех на-
родов; 2) налаживание и развитие братского сотрудничества и
дружбы пародов; 3) выравнивание уровней экономического и
культурного развития всех национальностей, достижение их фак-
тического равенства.
Все эти задачи, как предвидели основоположники марксизма-
ленинизма, получают свое подлинное решение при социализме.
Строительство социализма в СССР, а впоследствии и в ряде
других стран мира подтвердило, что, действительно, нации, воз-
никшие как неизбежная форма общественного развития в эпоху
складывания капиталистических экономических отношений, со
времени пролетарской революции становятся па путь социалисти-
ческих преобразований и сами превращаются в новую форму со-
циалистического развития народов, их экономики и культуры.
Великая Октябрьская социалистическая революция открыла
путь к экономическому, политическому и культурному развитию
многочисленных наций и народностей бывшей царской России.
В отличие от социально неоднородных наций, возникших бла
годаря объединению капиталистическими экономическими связя-
ми различных племен и народностей, социалистические нации и
народности6 развиваются па базе уже существующих наций и на-
родностей. Более того, при социализме папин, собственно, не воз-
никают, а преобразуются. Преобразуются в социалистические на
пни и народности и ранее не развившиеся в нацию народности.
Поэтому марксизм-ленинизм считает, что социалистические папин
строятся из наличного материала, сохраняя преемственную связь
со всем прогрессивным прошлым и отвергая реакционное и от-
жившее. Социалистические нации служат могучим фактором об-
щественного прогресса, поскольку вместо обособления и вражды
наций начинается эра их дружбы и сотрудничества, сближения
и интернационального единения.
В период формирования коммунистических общественных от-
ношений люди вплоть до зрелого коммунизма еще сохраняют оп-
5 В И Л с п и л Поли. собр. соч., т. 41, стр 166.
е В условиях социально-экономического, политическою и и к ^логическою един-
ства всею советского народа различия между нациями и народностям» носят
непринципиальный характер Имеющиеся некоторые некоренные различия,
связанные с относительной малочисленностью населения народности, необходн
мо учитывать в экономическом и культурном строительстве Во всем оста н
ном, сушеств..ом. народности и нации схожи И тс и другие живчт в усло-
виях безраздельною югнодства соцналистнче» кич производстве иных отпоит
нпй, и те н другие являются национальностями единого советскою народа.
Поэтому то, что будет сказано о социалистических нациях, в панной мере
относится п к социалистическим народностям
261
ределенные национальные особенности. Поэтому область нацио-
нальных отношений остается важной и при строительстве комму-
низма. В свою очередь коммунистическое строительство, начиная
с социалистической революции, постоянно вносит коренные каче-
ственные изменения в положение и духовный облик наций и в их
взаимоотношения, все больше сближая нации и подготовляя их
слияние в единое безнациональное человечество. В этом отноше-
нии представляет огромный теоретический и практический интерес
опыт строительства социализма, а теперь и коммунизма в СССР
Более ста наций и народностей составляют дружескую советскую
семью. Преобразовав в ходе строительства социализма и комму-
низма свои общественные отношения, народы Советского Союза
утвердили в многонациональной стране также новые националь-
ные отношения, основанные на принципах социалистического ин-
тернационализма.
Поскольку по своей сущности нации при социализме корен-
ным образом отличаются от наций капиталистического общества,
поскольку современные социалистические нации не возникли вновь
и не являются простым продолжением прежней национальной
общности, а стали таковыми в результате социалистического пре-
образования наций и народностей, сформировавшихся в буржуаз-
ную эпоху, рассмотрение закономерностей и путей становления
и развития социалистических наций представляет теоретический
и практический интерес.
Самоопределение наций
в ходе социалистической революции.
Единство национальной
и союзной государственности
Решающим условием преобразования наций, состоящих из
враждебных классов, в социалистические являются пролетарская
революция, установление диктатуры рабочего класса. Уже в пер-
вые дни Октябрьской революции в России было законодательно
оформлено равноправие наций, отменены национальные привиле-
гии, национальный гнет.
Советская власть, самая демократическая и интернациональ-
ная пи своей природе, стала политической основой социалистиче-
ского развития наций и народностей. Важнейшим фактором их
сплочения стало последовательное отстаивание ленинцами права
наций на самоопределение и оказание им помощи в организации
своей национальной государственности.
В антикоммунистической литературе нередко можно встретить
нелепые утверждения о якобы недооценке В. И. Лениным нацио-
нального вопроса. Так, например, А. Д. Лоу — сотрудник Русского
исследовательского центра Колумбийского университета, которого
журнал «The American Historical Review» рекомендует как «теоре-
тика», заслуживающего внимания всех изучающих русский ком-
262
мунизм и национализм, пишет: «Ленин относится без всякого энту-
зиазма к^ национальному государству и к национальности»7
Почтенный «теоретик» утверждает, таким образом, нечто проти-
воположное действительной позиции Ленина, что становится оче-
видным для каждого, кто обращается к ленинским трудам и прак-
тике национального строительства в СССР.
В четвертой главе мы уже видели, какое огромное внимание
уделял В. И. Ленин вопросам национально-государственного стро-
ительства еще до социалистической революции. Накануне Ок-
тябрьской революции (16 мая 1917 года) Ленин писал: «Партия
требует широкой областной автономии, отмены надзора сверху,
отмены обязательного государственного языка и определения
границ самоуправляющихся и автономных областей на основании
учета самим местным населением хозяйственных и бытовых усло-
вий, национального состава населения и т. п.» 8.
Подчеркивая огромное политическое и практическое значение
последовательного соблюдения права наций на самоопределение,
Ленин раскрыл его историко-экономическое и политическое содер-
жание. В работе «К пересмотру партийной программы» (октябрь
1917 г.) Ленин писал: «Вместо слова самоопределение, много
раз подававшего повод к кривотолкам, я ставлю совершенно точ-
ное понятие: «право на свободное отделение» 9. Он вновь разъяс-
няет, что решение национального вопроса в конечном счете свя-
зано с объединением трудящихся всех национальностей, и ком-
мунисты в интересах демократии и социализма выступают за
соединение, а не разделение народов. Но эта цель достижима
добровольным соглашением, а не насилием. «Мы хотим,-— пишет
Ленин,— свободного соединения и потому мы обязаны признать
свободу отделения (без свободы отделения соединение не может
быть названо свободным)... Недоверие надо рассеять делами, а не
словами» 10.
Направленная гением Ленина Великая Октябрьская социали-
стическая революция разбила цепи национального гнета, провоз-
гласила и обеспечила подлинное право наций на самоопределе-
ние. Оно стало внутригосударственной конституционной нормой
и внешнеполитическим принципом Советского государства, что
было закреплено в первых же документах Октябрьской револю-
ции— в Декрете о мире (8 ноября 1917 г.) и Декларации прав
народов России (15 ноября 1917 г.), в Обращении Советского
правительства к послам держав с предложением немедленного
перемирия и открытия мирных переговоров (21 ноября), а также
в Конституциях РСФСР, СССР и союзных республик.
Идеологи капитализма уже в то время, желая ослабить при-
тягательную силу ленинской национальной политики, стали утвер-
’ A. D. Low. Lenin on the Question of Nationality N. Y., 1958, p 31.
4 В 11 Ленин. Поли. coop, соч., т. 31, стр. 440
9 В II Ленин. Поли. собр. соч., т. 34, стр. 378—379.
10 Там же.
263
ждать, что право нации на самоопределение якобы коммунистами
понимается не как право народа, а как право только пролетариа-
та. К этому лживому тезису антикоммунисты не устают прибе-
гать до наших дней. Так, Ян Либрих пишет: «Большевики хотели
подменить волю народа волей пролетариата» и. Факты же говорят
о том, что уже в Программе РСДРП, написанной Лениным и при-
нятой на II съезде в 1903 году, наряду с требованием диктатуры
пролетариата было выдвинуто и требование права наций на само-
определение.
Именно Ленин резко критиковал левых социал-демократов,
сводивших право наций на самоопределение к самоопределению
только рабочего класса и отвергавших необходимость националь-
ных государственных границ в будущей социалистической России
(см. Поли. собр. соч., т. 38, стр. 156—160; т. 31, стр. 431 и др.).
В. II. Ленин действительно говорил, что марксистов «интере-
сует прежде всего и более всего самоопределение пролетариата
внутри наций» 12. Но этим он подчеркивал лишь известную марк-
систскую мысль, что с конституирования пролетариата в нацио-
нальную силу начинается его борьба за отстранение буржуазии
от руководства нацией, за организацию действительного единства
нации «посредством уничтожения той государственной власти,
которая выдавала себя за воплощение этого единства, но хотела
быть независимой от нации, над нею стоящей» 13.
Неоднократные напоминания Ленина о том, что «любое демо-
кратическое требование (в том числе и самоопределение) для
сознательных рабочих подчинено высшим интересам социализма»14,
интересам классовой борьбы пролетариата |5, ничего общего не
имеют с подменой самоопределения нации самоопределением тру-
дящихся. Наоборот, Ленин подчеркивал, что «откинуть самоопре-
деление наций и поставить самоопределение трудящихся совер-
шенно неправильно, потому что такая постановка не считается
с тем, с какими трудностями, каким извилистым путем идет диф-
ференциация внутри наций»16. Раскрытие характера и степени
этой дифференциации Лепин считал важной теоретической про-
блемой и уделял ей большое внимание в ходе социалистической
революции.
Отвечая Н. Бухарину, возражавшему против права наций па
самоопределение на том основании, что, мол, ни с чем не сооб-
разно, чтобы пролетарии признавали право на самоопределение
какой-то презренной буржуазии, В. II. Ленин на VIII съезде
РКП (б) говорил: «Нет, извините, это сообразно с тем, что есть.
” Jan Li brae h. The Rise of the Soviet Empire. Pall Mall Press. London.
1965, p. 12
12 В. II Лепи и. Поли. собр. соч., т. 25, стр. 292.
13 К. ДА а р к с п Ф. Энгельс. Соч., т. 17, стр. 344
и В. II Л е н.п н. Поли. собр. соч., т. 30, стр. 108.
15 См. В. II. Лепин. Поли. собр. соч., т. 7, стр. 235.
16 В. 11. Л с н и и. Поли. собр. соч., т. 38, стр. 160.
264
Если вы это выкинете, у вас получится фантазия. Вы ссылаетесь
на процесс дифференциации, происходящий в недрах нации, на
процесс отделения пролетариата от буржуазии. Но посмотрим еще,
как пойдет эта дифференциация»17. В. II. Ленин считал дифферен-
циацию пролетариата от буржуазных элементов необходимым и
неизбежным процессом. Но указывал, что она произошла еще не
во всех нациях и что в таких случаях надо дождаться социального
развития данной нации. Дождаться не значит пассивно выжидать.
Надо пропагандировать дифференциацию нации, содействовать
этому процессу, но не забегать вперед, не подменять право нации
на самоопределение лозунгом самоопределения трудящихся.
В. И. Ленин разъяснял эту свою мысль на примерах Финлян-
дии и Польши, широкие массы которых поддавались соци-
ал-оборончеству, социал-патриотизму, верили буржуазной пропа-
ганде, что великороссы хотят продолжить свое господство, при-
крывая его названием коммунизма. В этих условиях, говорил
Ленин, когда большинство нации требует государственного отде-
ления, хотя это и не в интересах нации, оно выражает волю
нации. С ней надо считаться, выжидая время, когда воля нации
будет точно выражать интересы трудящихся.
Следуя ленинским указаниям, Совнарком РСФСР в декабре
1917 года, как только Финляндский сейм принял декларацию
об объявлении Финляндии независимым государством, признал
государственную независимость Финляндии в противоположность
аннексионистской политике царизма, а также Временного прави-
тельства, разогнавшего 31 июля 1917 г. Финляндский сейм с его
социал-демократическим большинством.
В. И. Ленин, рассказывая делегатам VIII съезда РКП (б) о
сцене передачи грамоты независимости Финляндии представителю
финской буржуазии — реакционнейшему деятелю Свинхувуду.
вспоминал: «Он мне любезно жал руку, мы говорили комплимен-
ты. Как это было нехорошо! Но это нужно было сделать, потому
что тогда эта буржуазия обманывала народ, обманывала трудя-
щиеся массы тем, что москали, шовинисты, великороссы хотят
задушить финнов. Надо было это сделать» 18. Таково ленинское
понимание права наций на самоопределение, и это понимание
было закреплено в Программе партии, принятой VIII съездом
РКП (б). В пункт четвертый раздела «В области национальных
отношений» Программы вошла написанная Лениным следующая
вставка: «В вопросе о том, кто является носителем воли нации
к отделению, РКП стоит на исторически классовой точке зрения,
считаясь с тем, на какой ступени ее исторического развития стоит
данная нация: на пути от средневековья к буржуазной демократии
или от буржуазной демократии к советской или пролетарской де-
мократии и т. п.» *9.
17 В. II Ленин. Поли собр. соч., т. 38, стр 136.
18 Там же, стр. 158.
18 Там же, стр. 112.
265
Таким образом, в тех случаях, когда социальная дифферен-
циация нации оказывается еще недостаточной и большинство на-
ции идет за господствующими классами, Ленин считал, что согла-
сие на государственное отделение все же будет политическим вы-
игрышем во имя будущего сближения народов. Он требовал в ре-
шении национального вопроса проявлять величайшую осторож-
ность и осмотрительность, учитывать историю и конкретные пути
развития каждой из стран. Другое дело, что большевики, выдви-
гая лозунг о праве наций па самоопределение, пе рассматривали
его как абсолют, как самоцель, а стремились к тому, чтобы этот
лозунг служил социальным, а следовательно, и национальным ин-
тересам трудящихся. Перед большевистской партией, взявшей
власть в огромной многонациональной стране, встала задача, как
быть, чтобы предотвратить попытку свергнутых эксплуататорских
классов использовать право наций на самоопределение против
пролетариата, всего трудового народа. Ведь в период гражданской
войны царско-буржуазная контрреволюция и ее националистиче-
ские партии, спекулируя на священном праве наций на самоопре-
деление, хотели оторвать ряд народов от революционной России
и снова поработить их. Дело доходило до того, что, например,
Украинская Рада пыталась представить контрреволюционные бес-
чинства как проявление народного самоопределения. На арену
выступили новоявленные «самоопределители» народов Украины,
Донщипы, Кавказа и др. В этих условиях большевики, разумеется,
должны были бороться и боролись против демагогического ис-
пользования лозунга самоопределения буржуазией, пытавшейся
в своих классовых интересах разъединить трудящихся различных
национальностей.
Выдвигая лозунг о праве наций на самоопределение, больше-
вики боролись против тех, кто ослаблял, затушевывал классовую
борьбу. Они поставили этот лозунг на службу делу освобожде-
ния рабочего класса. На стадии буржуазно-демократической рево-
люции большевики выдвигали этот лозунг как требование, связан-
ное с решением аграрного вопроса и демократизации страны. На
этапе социалистической революции этот лозунг выдвигался уже
как требование одной из форм социалистической демократии, осу-
ществляемой победившим пролетариатом. Исходя из того, что
основной смысл права наций на самоопределение в том, чтобы
способствовать национальному развитию по пути мира, демокра-
тии и социализма, большевики добивались не только завоевания
права па самоопределение для наций, но и стремились к тому,
чтобы желание использовать это право соответствовало классовым
интересам пролетариата, трудящихся.
Учение Ленина о праве наций на самоопределение и советский
опыт его триумфального воплощения на практике имеют огром-
ное международное значение в современную эпоху бурного возра-
стания национального самосознания народов Азии, Африки и Ла-
тинской Америки, их стремления к созданию своей национальной
2G6
государственности. Империалисты часто жонглируют принципом
права наций на самоопределение с тем, чтобы разжечь нацио-
нальную и племенную рознь, внести раскол в ряды национально-
освободительного движения, дискредитировать демократическую
суть этого права и вновь привязать народы к империалистической
колеснице. Международное Совещание коммунистических и рабо-
чих партий 1969 года в своем итоговом документе указало, что
в условиях социальной дифференциации в освободившихся стра-
нах и обострения классовой борьбы против империализма «путь
решения задач национального развития и социального прогресса,
действенного отпора проискам неоколониализма — это активиза-
ция народных масс, повышение роли пролетариата, крестьянства,
сплочение трудящейся молодежи, студенчества, интеллигенции, го-
родских средних слоев, демократических армейских кругов, всех
патриотических прогрессивных сил» 20.
Империалисты, извращая подлинный смысл права наций на
самоопределение, пытаются использовать его также для прикры-
тия своих планов свержения социалистического строя, например,
в ГДР, ДРВ и КНДР. Контрреволюция в Венгрии (1956 год),
события в Чехословакии (1968 год) со всей очевидностью показа-
ли, что империалистические «поборники» права наций на само-
определение в действительности делают все для ликвидации суве-
ренитетов народов, их социалистического самоопределения. В по-
нимании западногерманских реваншистов, например, право наций
на самоопределение означает лишь поглощение, захват социали-
стической ГДР со стороны империалистической ФРГ. Такая трак-
товка самоопределения наций есть подмена социально-классового
вопроса этнически-национальным, ибо раскол Германии совершил-
ся на социальной, а не на этнической основе. Попытки использо-
вания принципа права наций на самоопределение для объединения
империализма с социализмом абсурдны в своей основе. И совре-
менное международное право признает, что самоопределение на-
ции — это не просто право на самостоятельное существование, но
и право на выбор желаемого общественно-политического строя.
Если трудящиеся ГДР, свободные от экономического и идеологи-
ческого давления германского империализма, избрали социалисти-
ческую систему общественного, государственного строя, то ясно,
что их воля, как воля нации ГДР, выразилась совершенно четко
и определенно. В этих условиях стремление реваншистских кру-
гов ФРГ навязать свою социальную систему ГДР является не
соблюдением права наций на самоопределение, а, наоборот, поку-
шением на него, извращением его духа и смысла.
Высшая форма политического самоопределения нации прояв-
ляется как раз тогда, когда она меняет свою социальную сущ-
ность, поднимается на более высокую ступень в своем обществен-
20 «Международное Совещание коммунистических и рабочих партий». Прага,
1969, стр. 30.
267
ном развитии. Растущее принципиальное согласие населения со
своей политической системой, постоянная поддержка своему социа-
листическому государству — вот что создает подлинное националь-
ное единство.
Только социалистическое самоопределение наций открывает
путь к их добровольному объединению и братскому сотрудниче-
ству.
Сплочение советских республик, как предвидел Ленин, стало
необходимостью для всех народов, вставших на социалистический
путь развития, как для защиты завоеваний революции, так и для
совместного решения творческих задач строительства социализма.
В объединении трудящихся независимо от их национальности ог-
ромную роль сыграло осуществление ленинского плана федера-
тивного государственного устройства различных наций и народ-
ностей.
В. И. Ленин был принципиальным сторонником демократиче-
ски централизованного крупного государства, однако он допускал
возможность разных форм национально-государственного устрой-
ства в зависимости от конкретных условий развития той или иной
страны после победы социалистической революции. Ленин считал,
что автономия народностей не поведет к децентрализации, а, на-
оборот, лучше сцементирует их связи. Проходившее под руковод-
ством Ленина Поронинское совещание ЦК РСДРП (1913 год)
выдвинуло требование широкой областной автономии (взамен тре-
бования областного самоуправления), которой центральное пра-
вительство должно было представлять ряд законодательных прав,
а не только культурные и экономико-административные функции,
какими располагало областное самоуправление. Ленин считал, что
в определенных условиях, особенно если правящей партией много-
национального государства будет Коммунистическая партия, ин-
тернационалистская по своей сущности и составу, то и федерация
не будет противоречить демократическому централизму.
Исходя из опыта федерации буржуазных государств (посколь-
ку другого опыта не было) Маркс, Энгельс и Ленин высказывали
свое отрицательное отношение к федерации, но не считали ее
неприемлемой при любых обстоятельствах. Они выступали против
федерации, когда она преподносилась буржуазно-националистиче-
скими и оппортунистическими элементами в условиях, при кото
рых федерация могла лишь усилить национальную грызню. Одна
ко это не мешало основоположникам марксизма-ленинизма в дру-
гих условиях, исходя из особо сложившихся национальных взаи-
моотношений в той или иной стране, признавать допустимость
или даже целесообразность федерации и на буржуазной основе.
В. II. Ленин отмечает, что К. Маркс, например, признавал целе-
сообразность федерации по отношению к Ирландии. Ф. Энгельс
признавал федеративную республику шагом вперед даже в Англии,
где национальный вопрос, казалось бы, давно изжит. Сам Ленин
в 1913 году писал: «Создание объединенных национальных госу-
268
дарств на Балканах, свержение гнета местных феодалов, оконча-
тельное освобождение балканских крестьян всяческих националь-
ностей от помещичьего ига, — такова была историческая задача,
стоявшая перед балканскими народами.
Эгу задачу балканские народы могли решить вдесятеро легче,
чем теперь, и с жертвами, во сто раз меньшими, — устройством
федеративной балканской республики» 2I.
Одобрение Лениным гибкой тактики Маркса и Энгельса, а
также его собственные высказывания о приемлемости при опре-
деленных условиях буржуазной федерации свидетельствуют о том,
что классики марксизма-ленинизма не отвергали федерацию без-
условно, раз и навсегда, при любых обстоятельствах. Они были
против буржуазно-бюрократического централизма, а также против
анархистского, прудонистского федерализма, но не против феде-
рализма на основе добровольного демократического централизма.
После Великой Октябрьской социалистической революции, в
ходе советского строительства, когда ранее угнетенные народы
проявили стремление создать свою национальную государствен-
ность и вместе с тем вступить в союз с Советской Россией, Ленин
выдвинул форму федеративного объединения национальностей как
программное требование в национальной политике большевистской
партии.
Идеологи буржуазии пытаются найти «противоречие» между
тем, что Ленин обосновал и защищал право нации на самоопреде-
ление, и тем, что он же стал создателем многонационального госу-
дарства — СССР. На деле здесь нет никакого «противоречия».
Наоборот, образование СССР явилось самым ярким примером
осуществления права наций на самоопределение. Добровольное
вхождение советских республик в Союз ССР есть неоспоримое
свидетельство суверенного выражения воли свободных народов.
Образование СССР было теоретически обосновано В. И. Лениным
и практически осуществлено революционным творчеством всех
советских народов во главе с рабочим классом, под руковод-
ством ленинской партии. Интересы всех народов России требо-
вали, чтобы многонациональное Российское государство остава-
лось единым, не распадалось на мелкие государства. Поэтому
В. И. Ленин до Февральской революции 1917 года выступает
в своих работах против федерализма, партикуляризма, за унитар
ное централизованное государство, подчеркивая при этом, что, во
первых, нельзя смешивать демократический централизм, предпо
лагающий местное самоуправление и автономию, с бюрократичен
ским централизмом, связанным с произволом, а во-вторых,
в определенных исторических условиях может быть допустимi[ ф
дерализм. «При прочих равных условиях, писал . • • ’
сознательный пролетариат всегда будет отстаивать °"
ное государство»22, «крупные государства гораздо у
21 В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 23, стр. 38.
22 В. И. Леи и п. Полн. собр. соч., т. 24, стр. 143
69
мелкие, могут решить задачи экономического прогресса и задачи
борьбы пролетариата с буржуазией» 23.
В условиях, когда трудящиеся всех национальностей вели осво-
бодительную борьбу под руководством большевиков, требование
федерализации вело к распаду России как общей арены, на кото-
рой объединялись все потоки революционного движения. Федера-
лизация тогда усилила бы позиции буржуазии национальных ок-
раин, оторвав трудящихся от передового революционного движе-
ния русского пролетариата.
Ленинское «отстаивание крупного государства», однако, не име-
ло ничего общего с царским «держать и не пущать». В. И. Ленин,
характеризуя царскую Россию как «тюрьму народов», раз-
работал совершенно новую программу добровольного, свободного
союза народов. Обеспечить такой союз было призвано больше-
вистское программное требование права наций на самоопределе-
ние вплоть до государственного отделения. В. II. Ленин ставил
вопрос ясно и четко: мы, безусловно, за единство народов, но
чтобы они пошли с открытой душой на свободный союз, их следует
убедить в том, что никто не добивается этого силой, что объеди-
нение в интересах самих народов. Лозунг «право наций на само-
определение» В. И. Ленин часто сравнивал с правом на развод,
агитация за которое вовсе не есть агитация за развод.
Февральская революция, двоевластие создали такую ситуацию,
когда политика Временного правительства, пытавшегося насиль-
ственно удержать народы в составе России, давала обратные ре-
зультаты. Надвигалась опасность распада единого государства.
В этих условиях большевики во главе с В. II. Лениным, которых
шовинисты, контрреволюционеры всех мастей обвиняли в том, что
они своей политикой якобы разваливают единую Россию, высту-
пили с единственно научной программой объединения народов.
В. И. Ленин в период подготовки и осуществления социалистиче-
ской революции (февраль — октябрь 1917 г.) говорил о том, что
в новых условиях России федерация не только допустима, но и це-
лесообразна. После же .Великой Октябрьской революции
В. И. Ленин разработал программу федеративного устройства
единого многонационального государства в борьбе как против
сепаратистских тенденций, так и против сторонников так называе-
мой автономизации всех советских республик, т. е. их непосредст-
венного включения в РСФСР.
Таким образом, взгляды В. II. Ленина на принципы создания
многонационального государства нового типа развивались в ходе
изменения социальной обстановки. II это замечательный пример
исторического, классового подхода к решению общественных про-
блем. Великий диалектик В. И. Ленин рассматривает федерацию
в капиталистическом обществе как негодный тип связей народов
и лишь в определенных ситуациях считает ее целесообразной.
23 В. И. Ленин. Поли, собр соч., т. 25, стр. 70.
270
В период двоевластия в России (1917 год) он считает федерацию
уже целесообразным средством удержания крупного государства
от развала. После же Октябрьской революции анализ совершенно
новой обстановки приводит его к выводу, что теперь федерация
не только целесообразная, но и обязательная, необходимая форма
государственного устройства многонациональной страны.
В. II. Ленин исходит из того, что утверждение в России Советов
как формы государственной власти, самой демократической и ин-
тернационалистской по своей природе, позволяет объединить
вокруг рабочего класса трудящихся всех национальностей.
Как известно, нации и народности бывшей Российской империи
не поддались националистическому обману своих бывших эксплуа-
таторов и пошли за большевиками. Они самоопределились, со-
храняя в той или иной форме братские узы между собой. В этом
была выражена воля наций и народностей России.
Ленинизм не только теоретически обосновал историко-эконо-
мическое содержание права наций на самоопределение, но и дал
образец последовательного проведения его в жизнь на практике
первой в мире социалистической страны.
Диалектическая постановка Лениным вопроса о самоопределе-
нии наций, об органической связи национального и социального
вопросов, проблем нации и государства сыграла выдающуюся
роль в социалистическом строительстве многонациональной Рос-
сии.
Неукоснительное претворение в жизнь провозглашенных Ок-
тябрьской революцией незыблемых принципов равенства и суве-
ренитета народов, права наций па самоопределение, отмены всех
и всяких национальных и национально-религиозных привилегий
и ограничений, свободного развития национальных меньшинств и
этнографических групп обеспечило добровольное объединение сво-
бодных и равноправных наций и народностей в дружную семью.
Сбылось предвидение В. И. Ленина, который еще в апреле
1917 года в работе «Задачи пролетариата в нашей революции-»
писал: «Чем демократичнее будет республика российская, чем
успешнее организуется она в республику Советов рабочих и кре-
стьянских депутатов, тем более могуча будет сила добровольного
притяжения к такой республике трудящихся масс всех нации»24.
Практика социалистического строительства подтвердила, что
именно социализм создаст все условия для образования и разви
тия национальной государственности, которая не отдаляет, а, на
оборот, сближает нации и народности друг с другом. В этом
деле огромную роль сыграло осуществление ленинского плана ав-
тономного и федеративного государственного устройства различ
ных народностей и наций бывшей царской России.
Признание федеративного устройства государства нашло свое
полное выражение в «Декларации прав трудящегося и эксплуа-
24 В. II. Л е и и п. Поли. собр. соч., т. 31, стр. 168.
271
тируемого народа», написанной В. II. Лениным в начале января
1918 г. и вошедшей затем в Основной закон Советской Респуб-
лики.
VIII съезд РКП (б) закрепил ленинские положения о федера-
ции в Программе партии, в которой, отмечая цели коммунистов —
сблизить трудящихся разных национальностей для совместной ре-
волюционной борьбы за свержение помещиков и буржуазии, до-
биться полного равноправия наций, записано: «В тех же целях,
как одну из переходных форм на пути к полному единству, партия
выставляет федеративное объединение государств, организован-
ных по советскому типу» 25.
Когда на территории бывшей Российской империи возник це-
лый ряд новых советских социалистических республик, которые
установили между собой различные формы связей, В. II. Ленин
самым пристальным образом стал изучать этот новый опыт. Он
пришел к выводу, что все прежние формы связей советских рес-
публик в новой обстановке недостаточны, и теоретически обосно-
вал необходимость федеративного государственного союза совет-
ских республик. В июне 1920 года В. И. Ленин в «Первоначаль-
ном наброске тезисов по национальному и колониальному вопро-
сам», составленных для второго конгресса Коммунистического Ин-
тернационала, писал: «Признавая федерацию переходной формой
к полному единству, необходимо стремиться к более и более тес-
ному федеративному союзу, имея в виду, во-первых, невозмож-
ность отстоять существование советских республик, окруженных
несравненно более могущественными в военном отношении импе-
риалистскими державами всего мира, без теснейшего союза
советских республик; во-вторых, необходимость тесного экономи-
ческого союза советских республик, без чего неосуществимо вос-
становление разрушенных империализмом производительных сил
и обеспечение благосостояния трудящихся; в-третьих, тенденцию
к созданию единого, по общему плану регулируемого пролетариа-
том всех наций, всемирного хозяйства как целого, каковая тенден-
ция вполне явственно обнаружена уже при капитализме и безус-
ловно подлежит дальнейшему развитию и полному завершению
при социализме»26.
Разрабатывая вопрос о принципах, формах и путях федера-
тивного устройства Советского государства на основе анализа всей
истории каждой из народностей и наций, Ленин предложил две
формы федерации. Для народов, ранее не имевших своей госу-
дарственности, Ленин выдвинул идею объединения в социалисти-
ческую федерацию на правах автономии. Составляющие такую
федерацию автономные республики и области являются государст-
венными образованиями, которым предоставлено право самостоя-
25 «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», т 2.
М., Политиздат. 1970, стр. 45.
26 В. II Л с п ии. Поли. собр. соч., т. 41, стр. 164.
272
тельного осуществления государственной власти в пределах, опре-
деляемых высшими органами власти федеративной республики
при участии представителей автономных республик и областей.
Советская федерация автономных республик и областей строится
также на основе демократического централизма, который в отли-
чие от бездушного бюрократического централизма капиталисти-
ческих стран «не только не исключает местного самоуправления
с автономией областей, отличающихся особыми хозяйственными и
бытовыми условиями, особым национальным составом населения
и т. п., а, напротив, необходимо требует и того и другого»27. Пер-
вой такой федерацией стала Российская Социалистическая Фе-
деративная Советская Республика (РСФСР). Объединившиеся в
этой федерации башкиры, татары, удмурты, чуваши и некоторые
другие народы бывшей царской России создали при помощи рус-
ского пролетариата свою социалистическую государственность.
По-иному должен был решаться вопрос об объединении РСФСР
и других советских республик, имеющих большие традиции нацио-
нального государственного существования. Ленин выдвинул план
объединения их в Союз Советских Социалистических Республик
(СССР) на федеративных началах. Он отверг как националисти-
ческую идею «конфедерации» этих республик, так и план их «авто-
номизации», т. е. включения их в состав РСФСР, что могло спо-
собствовать возрождению великодержавно-шовинистических наст-
роений и былого недоверия угнетенных наций к России 28.
Ленин считал, что опыт РСФСР необходимо учесть, но не с
тем, чтобы в нее включить другие самостоятельные республики.
Наоборот, все они должны вступить в новый союз, новую
федерацию —в СССР29. В плане же «автономизации» игнориро-
вались конкретно-исторические условия развития тех или иных
народов и механически распространялись на них принципы авто-
номии. Это было существенным различием, ибо только развитие
национальной государственности одних народов в форме федера-
ции на правах автономии, а других в форме союзной федерации
могло преодолеть недоверие между народами и ускори' ь их все-
стороннее сближение.
Ленинская национальная политика привела к тому, что совет-
ские национальные республики сами проявили инициативу к тес-
ному объединению, и в 1922 году был создан Союз Советских
Социалистических Республик. Образование СССР явилось всемир
но-историческим событием по своей политической значимости в
социально-экономическим последствиям. Жизнь показала, что в
советской федерации действительно гармонически сочетаются тре
бования интернационалистского единства и национального суве-
ренитета. Вошедшие в Советский Союз нации получили равные
27 в. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 24. стр. 144.
28 См В. И. Ленин Поли. собр. соч., т 45, стр. 356—362
29 См. там же, стр. 211.
1R 273
lo С. Т. Калтахчян
права и условия для своего национального развития. Развивая
свою национальную государственность, они, однако, самоопреде-
лились как союзные, а не обособленные государства, ибо благо-
даря объединению советских республик их суверенитет не только
не ущемлялся, а, наоборот, стал действительно прочным, охраняе-
мым от империалистических хищников всей мощью Союза ССР.
Империалистам, конечно, не нравится, что, как они выража-
ются, «СССР есть наиболее интегрированное и централизованное
государство из существовавших в мире», и они называют совет-
ский патриотизм «советским национализмом». Сближение и тес-
ный союз советских наций представляются им не как победа ин-
тернационализма, а как «новый тип интегрального национализ-
ма»30. Интернационализм в представлении империалистов — это
обособленное развитие наций, становящихся поодиночке легкой
добычей интернационального капитала. Советские нации отвергли
этот пагубный путь. Они наряду со своей национальной государ-
ственностью создали и укрепляют Союз Советских Социалистиче-
ских Республик на основе демократического централизма.
Опыт советского национального государственного строительства
показал, что формы государственности могут быть различные31,
что в условиях социалистической демократии ие может быть абсо-
лютизации принципа «национальности» с его требованием выде-
ления каждой пации в обособленное государство. Сущность на-
ционального суверенитета заключается не в обязательном госу-
дарственном отделении любой нации, а в свободе выбора желаемой
ей формы государственного бытия. Советские нации знают по
своему опыту, что суверенитет каждой из них лучше реализуется
и гарантируется именно в братской многонациональной семье, и
прилагают все усилия для развития и укрепления своего Союзного
государства. Расцвет государственности национальной и общесо-
юзной, укрепление национального суверенитета и сближение на-
ций в СССР — взаимообусловленные процессы. Так, политической
основой новых национальных отношений равноправия, сближения
и дружбы народов СССР стал советский государственный строй,
советская демократия.
Выравнивание уровней экономического
и культурного развития наций
Политическое равноправие наций само по себе не может обе-
спечить их преобразование в социалистические. Решающим усло-
вием изменения социальной сущности нации является перестройка
30 F. Barghoorn. Soviet Russian nationalism N. Y„ 1956, p. 4. Oxford Uni
versity Press.
al Подробно об этом см.: «Многонациональное советское государство». М., По
литиздат, 1972; «Ленинизм и национальный вопрос в современных условиях».
Издание второе. М., Политиздат, 1974; Э. В Т а д е в о с я и. Советская нацио-
нальная государственность Пзд-во МГУ. 1972.
274
экономики на социалистических началах. Советские республики
могли существовать и обеспечить социалистическое развитие на-
ций и национальных отношений, создав адекватную новому поли-
тическому строю экономику. Народы России унаследовали от бур-
жуазно-помещичьего строя чрезвычайно низкие уровни экономиче-
ского и культурного развития. К тому же эти уровни были весьма
различны. Поэтому социально-экономические преобразования пе-
реходного периода осуществлялись в тесной связи с борьбой за
ликвидацию хозяйственной и культурной отсталости народов.
В свою очередь эти преобразования стали основой нового типа
межнациональных отношений.
Усиливая общественную собственность на средства производ-
ства, пролетариат выполняет великую историческую миссию — при-
водит в соответствие общественный характер производства с фор-
мой собственности на средства этого производства и тем самым
создает условия для функционирования закономерностей, внутрен-
не присущих социализму. На смену имманентных капитализму от-
ношений господства и угнетения между людьми, классами, наро-
дами приходят новые отношения-—равенства, дружбы, сотрудни-
чества и братской взаимопомощи.
По мере распространения социалистической собственности на-
чинает действовать такая специфическая закономерность социали-
стического развития наций, как выравнивание уровней их полити-
ческого, экономического и культурного развития. При этом вырав-
нивание осуществляется не путем механического усреднения пока-
зателей, а на базе общего развития, обеспечивающего темпы роста
всех отставших национальностей. Выравнивать уровень развития
всех наций и народностей — значит добиться господства социали-
стических производственных отношений во всех областях народ-
ного хозяйства; близких показателей производительности труда
и жизненного уровня населения; равенства национального дохода
па душу населения.
Ленинская партия, придавая принципиально важное значение
решению проблемы выравнивания уже в начале революции, в ре-
шениях X и XII съездов особо подчеркивала, что первейшей зада-
чей является «последовательная ликвидация всех остатков нацио-
нального неравенства во всех отраслях общественной и хозяйст-
венной жизни и, прежде всего, планомерное насаждение промыш-
ленности па окраинах путем переноса фабрик к источникам
сырья»32. В соответствии с этим республикам Закавказья, Сред-
ней Азии и Казахстану были безвозмездно переданы многие фаб-
рики и заводы, туда были направлены инженерно-технические ра-
ботники, квалифицированные рабочие и специалисты, ученые, пре-
подаватели, работники культуры. Бюджеты ряда союзных респуб-
лик в течение многих лет покрывались в своей расходной части
главным образом за счет дотаций из общесоюзного бюджета.
32 «КПСС в резолюциях и решениях...», т. 2, стр. 253.
18*
275
Центральные промышленные районы и отдельные предприятия
брали шефство над предприятиями в национальных окраинах, ор-
ганизовывали у себя подготовку национальных рабочих и техни-
ческих кадров.
Коммунистическая партия и Советское государство с первых
дней победы революции приняли энергичные меры для развития
социалистической экономики всех наций и народностей. Благодаря
братской помощи развитых наций отставшим в экономическом и
культурном развитии нациям и народностям в кратчайший исто-
рический срок в национальных республиках, областях и краях
выросли новые города, индустриальные центры, были созданы
национальные кадры квалифицированных рабочих. Коллективиза-
ция укрепила союз рабочего класса и крестьянства как в каждой
нации, так и в масштабе всего СССР. Во всех сферах народного
хозяйства победил социалистический способ производства. Обще-
ственная собственность на средства производства, социалистиче-
ская система хозяйства стали экономической основой равнопра-
вия, расцвета и сближения народов СССР.
В условиях современного этапа общего кризиса капитализма
и ликвидации остатков колониальной системы империализма осо-
бую актуальность приобретает опыт социалистического развития
тех народов СССР, которые пришли к социализму, минуя капи-
тализм, и добились колоссальных успехов благодаря бескорыстной
и эффективной помощи более развитых братских народов, особен-
но русского народа.
Чтобы представить сложность и грандиозность решения этой
задачи, достаточно вспомнить, что среди населения бывшей цар-
ской России около 25 миллионов человек составляли народы, со-
хранившие в большинстве случаев кочевое скотоводческое хозяй-
ство и патриархально-родовой быт. Например, северные народы —
ненцы, ханты, манси, чукчи и другие жили родо-племенными груп-
пами, они по существу не прошли даже феодальной стадии разви-
тия. При феодальном строе жили народы Северного Кавказа, а
также таджики, казахи, киргизы, каракалпаки и др. Перед побе-
дившим пролетариатом России впервые в истории встала задача
практического осуществления перехода к социализму народов, не
прошедших стадии капитализма. На возможность такого перехода
указывал еще К. Маркс, подчеркивая, что капитализм не является
тем единственно возможным путем к социализму, «по которому
роковым образом обречены идти все народы...»33.
Решающий вклад в теоретическую постановку и практическое
осуществление вопроса о переходе к социализму отставших в со-
циально-экономическом отношении народов принадлежит В. И. Ле-
нину. Такую возможность и необходимость В. И. Ленин связывал
с тем, что «с помощью пролетариата передовых стран отсталые
страны могут перейти к советскому строю и через определенные
33 К. Маркс и ф. Энгельс. Соч., т. 19, стр. 120.
276
ступени развития — к коммунизму, минуя капиталистическую ста-
дию развития» 34.
Такую перспективу не допускали лидеры II Интернационала.
Ван Кооль, например, уверенно заявлял: «Гипотеза Маркса, что
некоторые страны могут, хотя бы отчасти, миновать капиталисти-
ческий период своей экономической эволюции, не осуществилась.
Первобытные народы придут к цивилизации, лишь пройдя эту
Голгофу»35. И хотя исторический опыт успешного социалистиче-
ского развития отсталых в прошлом народов СССР, а также опыт
некапиталистического развития МНР давно доказали несостоя-
тельность этого и ему подобных утверждений, их продолжают уп-
рямо повторять современные буржуазные идеологи и ревизиони-
сты. Стремясь сохранить развивающиеся страны в сфере мирового
капиталистического хозяйства как объект эксплуатации со сторо-
ны империалистических государств, некоторые предприимчивые
буржуазные специалисты ссылаются даже на марксистскую тео-
рию общественно-экономической формации в качестве доказатель-
ства невозможности некапиталистического пути развития. Абсолю-
тизируя верное положение о последовательности смен формации,
антикоммунисты игнорируют не только указания марксизма-лени-
низма на условия, позволяющие отставшим народам развиваться,
минуя капитализм, но даже исторические факты, подтверждаю-
щие истинность этих указаний. Без устали повторяется тезис о
том, что «родовая культура должна пройти через феодализм, ка-
питализм, а затем уже социализм» 36, а бесспорный факт успешного
социалистического развития, например, народов Средней Азии
объявляется случайностью. В действительности все произошло так,
как научно предвидел В. II. Ленин.
Ведя ожесточенную борьбу с буржуазией города и деревни
центральных районов, пролетариат оказывал поддержку и руко-
водил борьбой трудящихся национальных окраин с местными экс-
плуататорами— феодалами, представителями родо-племенной вер-
хушки. Успех этой борьбы во многом определялся и материаль-
ной поддержкой центра. Преодоление социально-экономического
отставания народов окраин бывшей царской России являлось пред-
метом неослабного внимания победившего пролетариата. Об этом
свидетельствуют решения X и XII партийных съездов. Выше уже
приводилась выдержка из резолюции X съезда РКП (б) 37.
Резолюция XII съезда РКП (б) еще раз подчеркнула, что пре-
одолеть фактическое неравенство «можно лишь путем действи-
тельной и длительной помощи русского пролетариата отсталым
народам Союза в деле их хозяйственного и культурного преуспея-
ния. Помощь эта должна в первую очередь выразиться в принятии
ряда практических мер по образованию в республиках ранее угне-
34 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 41, стр. 246
35 Цит по: «Коммунист», 1966. № 1, стр. 114.
14 Ph. Spratt. A New Look at Marx. London, 1957, pp. 47—48.
37 «КПСС в резолюциях и решениях...», т. 2, стр. 253.
277
тенных национальностей промышленных очагов с максимальным
привлечением местного населения»38.
В соответствии с указанными решениями народам националь-
ных окраин бывшей царской России оказывалась самая разнооб-
разная помощь вплоть до прямого перераспределения обществен-
ных средств в пользу этих народов.
Даже Украина в начале двадцатых годов покрывала сама
менее 40 процентов расходной части своего бюджета. Вплоть до
середины 30-х годов расходы республик Средней Азии и Казах-
стана значительно превышали доходы, что было возможно благо-
даря систематическим дотациям из союзного бюджета. Денежная
и материальная помощь сочеталась с различными формами об-
мена опытом, сотрудничеством в подготовке кадров и повышении
их квалификации. Громадная помощь рабочим классом центра
была оказана при проведении коллективизации сельского хозяй-
ства в национальных республиках, которые получали не только
технику и инвентарь, но и квалифицированную техническую кон-
сультацию.
Все это и другие многочисленные подобные факты широко
известны. Поэтому антикоммунистам приходится либо извращать
их, либо давать им такое объяснение, которое заставило бы усом-
ниться в бескорыстном характере помощи центра окраинам. Так,
Б. Майснер, делая вид, что объективно оценивает факты, утверж-
дает, что в первый период существования Советской власти дейст-
вительно господствовала «интернационалистская целевая установ-
ка», которая уже в годы гражданской войны сменилась советским
патриотизмом, трансформировавшимся затем в «советский импе-
риализм»39. Грубая попытка противопоставить политику первых
лет революции политике последующего периода разбивается опять
же фактами самой действительности. Как в первый период рево-
люции, так и в период образования СССР и все последующие
без исключения годы судьбы народов нерусских национальностей
были неразрывно связаны с судьбой русского пролетариата, про-
водившего по отношению к этим народам последовательную ин-
тернационалистскую политику.
В годы, когда решались задачи восстановления разрушенной
во время гражданской войны экономики, окраины страны были
включены в единую систему народного хозяйства, и уже в то
время закладывались основы рационального размещения произ-
водительных сил с учетом задачи ускоренного развития отсталых
в экономическом отношении районов. Бескорыстная помощь брат-
ским народам, включающая и мероприятия по созданию базы для
крупной промышленности в национальных окраинах, оказала по-
ложительное воздействие на темпы социально-экономических пре-
образований: национализации основных средств производства, про-
38 «КПСС в резолюциях и решениях...», т. 2, стр. 438.
,9 В. Meissner. Lenin und das Selbstbestimmungsrecht der Volker. «Osteu-
ropa». Stuttgart, Ilf. 4, S. 259.
278
ведения земельной, земельно-водной реформ, обеспечивших фак-
тическую национализацию земли.
Указанные мероприятия создали необходимые предпосылки для
социалистических преобразований и прежде всего создали усло-
вия для социалистического кооперирования мелких производите-
лей. Все это способствовало ликвидации хозяйственной и культур-
ной отсталости целых народов. В свою очередь мероприятия, на-
правленные на ликвидацию сложившегося при царизме неравен-
ства между отдельными народами, предопределяли успех социа-
листических преобразований, создания и развития нового типа
межнациональных отношений. Обеспечивая равенство всех трудя-
щихся по отношению к средствам производства, общественная
собственность освободила их от всех видов социальной зависимо-
сти и национального угнетения, породила общность политических
и экономических интересов наций и народностей.
Буржуазные пропагандисты стремятся любыми средствами дис-
кредитировать привлекательный для развивающихся стран опыт
успешного промышленного развития отставших в прошлом наро-
дов. Будучи не в силах отрицать сам факт разительных успехов
в промышленном развитии, например, республик Средней Азии,
антикоммунисты, ставя факты с ног на голову, пытаются дока-
зать, что индустриализация явилась средством колонизации наро-
дов Средней Азии, что те рабочие центральных районов России,
которые туда прибыли, выполняли не свой интернациональный
долг, а были «носителями колониализма». Ими подбрасывается
лживая версия о «неэквивалентности» экономического обмена, о
том, что в период индустриализации осуществлялась «перекачка
национальных богатств в пользу центра» и т. п. Вопреки измыш-
лениям антикоммунистов перераспределение средств из общесоюз-
ного бюджета осуществлялось в пользу национальных республик,
поскольку претворялся в жизнь ленинский план рационального
размещения производительных сил, преодоления отсталости на-
циональных окраин. Весьма примечательно, что именно бывшая
угнетающая нация, став на социалистический путь развития, ока-
зала огромную помощь отставшим в экономическом и культурном
развитии народам стать с нею на один уровень и вместе двигаться
по пути коммунистического строительства.
Русский народ с честью выполнил свой интернациональный
долг, последовательно реализуя одно из важнейших программных
положений ленинизма по национальному вопросу — об интерна-
ционализме большой нации, который «должен состоять не только
в соблюдении формального равенства наций, но и в таком неравен-
стве, которое возмещало бы со стороны нации угнетающей, нации
большой, то неравенство, которое складывается в жизни факти-
чески» 40.
«о в. И. Ленин. Поли. собр. соч., т 45, стр. 359.
279
Русский рабочий класс, русский народ пошли на временные
жертвы и совершили поистине самый благородный высокий под-
виг во имя преодоления отсталости национальных окраин. «По
существу, это был славный подвиг целого класса, целого народа,
совершенный во имя интернационализма. И его, этот подвиг, ни-
когда не забудут все народы нашей Родины» 41.
Большую роль в преодолении отсталости национальных окраин
сыграла научная организация экономики всей страны. В «Наброс-
ке плана научно-технических работ» В. И. Ленин указывает, что
необходимо «рациональное размещение промышленности в России
с точки зрения близости сырья и возможности наименьшей потери
труда при переходе от обработки сырья ко всем последовательным
стадиям обработки полуфабрикатов вплоть до получения готового
продукта»42. Эти указания легли в основу экономической поли-
тики партии. Их реализация способствовала росту экономической
мощи республик, укреплению их взаимозависимости на демокра-
тической основе. В. И. Ленин указывал, что принцип демократи-
ческого централизма обусловлен уже самим характером крупного
машинного производства, но проведение его в жизнь становится
возможным только в условиях социалистического производства.
Чтобы реализовать созданные на основе социалистического обоб-
ществления возможности использования демократического центра-
лизма в отношениях между центром и окраинами, необходимо
укрепление экономики окраин как базы для проявления местной
хозяйственной инициативы. Необходимо было поэтому обеспечить
преодоление их хозяйственной и культурной отсталости. Только
на этой основе можно было обеспечить единство централизма и
демократии. В первоначальном варианте статьи «Очередные задачи
Советской власти» В. II. Ленин писал: «...централизм, понятый в
действительно демократическом смысле, предполагает в первый
раз историей созданную возможность полного и беспрепятствен-
ного развития не только местных особенностей, но и местного по-
чина, местной инициативы, разнообразия путей, приемов и средств
движения к общей цели»43. При этом В. И. Ленин неоднократно
подчеркивал, что демократизм, ложно понятый, без сочетания
с разумным централизмом, неизбежно приводит к развязыванию
чуждых социализму стихийных тенденций, местничеству, национа-
лизму, а в конечном счете к ущемлению и национальных инте-
ресов.
Содержание сложившихся в результате социалистических пре-
образований в нашей стране отношений между центром и респуб-
ликами также подвергается грубым искажениям со стороны анти-
коммунизма. Скрывается, что только демократический централизм
41 Л И. Брежнев. Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 4 М., Политиздат.
1974, стр. 51.
42 В. И. Лени и. Поли. собр. соч., т. 36, стр. 228.
43 Там же, стр. 152.
280
может обеспечить и, как показывает советский опыт, обеспечи-
вает гармонию в отношениях между национальностями, делает
всех тружеников социалистического общества интернационали-
стами.
Чтобы воспитать миллионы трудящихся масс в духе интерна-
ционализма и сделать их активными строителями жизни, необхо-
димо было также резко поднять их культурный уровень. Поэтому
в неразрывной связи с созданием социалистической экономики
была совершена культурная революция. Содержанием ее являет-
ся ликвидация повсеместно неграмотности, повышение культурно-
образовательного уровня всего населения, вовлечение народных
масс в активное творчество в области духовной жизни. Культур-
ная революция есть качественное преобразование всей культуры,
духовной жизни народов на социалистических началах и ликви-
дация их фактического культурного неравенства.
В ходе культурной революции духовные ценности прошлого
не отбрасываются. Переработка, переосмысление их идейного
содержания с позиций рабочего класса позволяют использовать
исторические достижения для создания новой социалистической
национальной культуры. Последняя вырастает из общих, единых
основ — экономической, социальной, политической и идейной жиз-
ни нации.
Ленинизм требует классового подхода к духовным ценностям
любой нации. Отделяя прогрессивное от реакционного, научное
от отжившего, он решительно выступает против буржуазно-на-
ционалистических концепций «единого потока» в развитии куль-
туры.
«...Мы,— писал Ленин,— из каждой национальной культуры бе-
рем только ее демократические и ее социалистические элементы,
берем их только и безусловно в противовес буржуазной культуре,
буржуазному национализму каждой нации» 44.
В результате осуществления ленинского плана культурной ре-
волюции в СССР во всех республиках ликвидирована неграмот-
ность, созданы национальные кадры интеллигенции. Всем народам
открыт широкий доступ к просвещению и культуре. Небывалыми
темпами развиваются наука и техника. Достигнут подлинным
распнет искусства и литературы, в национальных формах стала
развиваться социалистическая культура, происходит культурнОк
сближение народов. Ликвидированы раздвоенность культуры,
духовного облика, присущих нациям, состоящим из враждебных
классов. Социализм создал необходимые условия для активного
участия трудящихся всех национальностей в развитии науки, тех-
ники, культуры. Идеино-теоретическои основой развития и сближе-
ния наций стал марксизм-ленинизм.
Так, победа социализма в экономике, социально-политической,
культурной жизни наций и народностей СССР преобразила их
44 В. И. Лени и. Полн. собр. соч., т. 24, стр. 121.
281
в качественно новые, социалистические нации и народности. Прин-
ципиально важно, что такие крупные народности, как казахи,
киргизы, туркмены, чуваши и ряд других, с помощью русского
народа развились в социалистические нации, минуя в своем исто-
рическом развитии стадию капитализма. Это — блестящее практи-
ческое подтверждение марксистского положения о возможности
перехода к социализму народностей, не прошедших стадию капи-
тализма. Оно имеет громадное значение для выбора путей даль-
нейшего исторического развития освободившимися странами.
Образование социалистических наций — явление всемирно-исто-
рического значения. Впервые в истории образовались нации но-
вого типа, в корне отличные от наций капиталистического обще-
ства по своей экономической основе, классовой структуре, куль-
турному развитию и духовному облику.
2.
НАЦИИ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ ПОБЕДИВШЕГО СОЦИАЛИЗМА
И НА ЕГО ЗРЕЛОЙ СТАДИИ
Победа социализма вносит коренные качественные изменения
в жизнь и облик наций и народностей. Меняется их социальная
сущность, появляются новые признаки нации, наполняются социа-
листическим, интернациональным содержанием и смыслом также
прежние признаки. Нации и народности проходят определенные
этапы процесса развития в соответствии с уровнем зрелости социа-
листического общества.
Общая характеристика социалистических наций.
Тенденции в их развитии
С ликвидацией эксплуататорских классов возникает прочная
основа социальной однородности каждой нации и народности, они
состоят только из трудящихся классов и групп: рабоиих, коопера-
тивного крестьянства, социалистической интеллигенции. Рабочий
класс выступает костяком и цементирующей основой социалистиче-
ских наций, а марксистско-ленинская партия, являясь их руководя
щей силой, воспитывает трудящихся в духе пролетарского, со-
циалистического интернационализма.
С победой социализма нация, сохраняя в основном свои этни-
ческие признаки, в корне меняет свой социальный тип, она стано-
вится социалистической по своей экономической основе, классовой
структуре, культурному развитию, духовному облику.
Революционные изменения всей социально-экономической, по-
литической и духовной жизни вырабатывают социалистическое на-
циональное самосознание, социалистическое мышление и поведе-
ние, развивающиеся под постоянно возрастающим воздействием
•282
марксизма-ленинизма. Преобразование наций буржуазного обще-
ства в социалистические входит в содержание мирового револю-
ционного процесса эпохи перехода от капитализма к социализму.
Социалистическая нация характеризуется своими широкими и глу-
бокими интернациональными связями с другими нациями стран
социализма, со всемирной классовой борьбой социализма против
капитализма. Самыми существенными из черт социалистических
наций являются их братское сотрудничество и взаимопомощь на
основе принципов социалистического интернационализма, развитие
их новых интернациональных общностей, таких, как советский
народ, социалистическое содружество народов. Все это требует
дать наряду с общим определением нации также дифференциро-
ванные определения различным социальным типам наций.
Социалистическую нацию, например, нельзя рассматривать как
простое продолжение прежней национальной общности. У нее, ко-
нечно, сохраняются общность территории, языка, другие этниче-
ские особенности (хотя и они развиваются на качественно новой
основе), но появляются принципиально новые качества: общность
экономических и социально-политических интересов, общие черты
духовного облика, а также всевозрастающее интернациональное
единство экономической, социально-политической и культурной
жизни.
Социалистическая нация — это выросшая из нации или народ-
ности капиталистического общества в процессе ликвидации капи-
тализма и победы социализма новая социальная общность людей,
у которой сохранились определенные этнические особенности ее
прежней национальной общности, но в корне преобразился на со-
циалистических, интернациональных началах весь уклад политиче-
ской, социально-экономической и духовной жизни45.
Образовавшаяся из различных племен и народностей новая
этническая общность характеризует лишь одну особенность наций
и народностей, их национальность. Этнические характеристики на-
ции необходимо учитывать в национальной политике, особенно
в культурном строительстве, но преувеличение роли этнического
в нации, отрыв его от социального смазывают социальную сущность
нации, сводят эту сущность к естественно-природным факторам.
Ленинизм раскрыл реакционную суть проповедей надклассового
единства ^ации, игнорирования диалектики классовых и нацио-
нальных отношений, решающей роли рабочего класса и социализ-
ма в развитии самой нации, в создании ее подлинного единства.
Нация, конечно, является определенной формой развития обще-
45 Данное определение социалистической нации, а также положения, развивае-
мые на стр. 74, 91, 122, 168—176, 267, 282—286 (концепции о различии поня-
тий «нация» и «национальность», о возникновении двух германских наций),
были поддержаны в ГДР (А. К о s i n g, W. Schmidt Nation und Natio-
nalist in der DDR. «News Deutschland», 15/16 Februar 1975, S. 10; Theore-
tische Problem der Entwicklung der sozialistischen Nation in der DDR. «Deut-
sche Zeitschrift file Philosophic», 2—75; Zur Herausbildung der sozialistischen
Nation in der DDR. «Einheit», 2—74),
283
ства, но движущей силой этого развития являются народные мас-
гы и прежде всего рабочий класс. Последний после социалистиче-
ской революции под руководством марксистско-ленинской партии
обеспечивает преобразование наций и народностей в социалистиче-
ские и их дальнейшее развитие.
Этот процесс, завершившийся в СССР, а ныне происходящий
в других странах социализма, показывает коренные изменения
сущности нации. Особенно наглядным в этом отношении является
опыт развития двух наций на территории бывшей единой Германии.
Развитие нации в условиях ГДР и ФРГ делает совершенно оче-
видным, что решающим фактором определения сущности и облика
нации становятся социальные моменты, перед которыми отступают
даже такие общности нации, какими являются языковая и быв-
шая территориальная общности. Почему и постановка вопроса о
воссоединении этих двух противоположных по своей социальной
сущности наций в прежних пределах и социальной системе не
имеет никакой реальной почвы. Если бы ГДР и ФРГ представляли
одну нацию, то претензии реваншистов на «особые внутригерман-
ские отношения» имели бы основание. Между тем, как говорилось
в Отчетном докладе ЦК VIII съезду СЕПГ, «совершенно очевидно,
что вся болтовня на Западе о так называемом «единстве немецкой
нации», о каком-то «особом» характере отношении между ГДР
и ФРГ должна помогать тем, чья политика по-прежнему направле-
на на подрыв общественных и экономических основ нашей рес-
публики» 46.
Таким образом, исходя из социальной сущности нации ясно, что
налицо формирование качественно новой социалистической немец-
кой нации. Немцы ГДР имеют определенные общие этнические
черты с немцами ФРГ, все они люди одной немецкой националь-
ности, но представители разных, более того, противоположных по
своей социальной сущности наций. Непонимание или игнорирование
различия понятий «нация» и «национальность» приводит к тому,
что внимание фиксируется на внешне бросающейся в глаза отно-
сительной непрерывности этнической истории и забывается или от-
водится на второй план главное, решающее, а именно то, что резко
прервалась непрерывность развития прежней сути нации, что по-
явилась нация нового социального типа.
У трудящихся ГДР появилось социалистическое отечество.
В ГДР в корне изменился исторический базис нации: изменилась
социально-классовая структура нации, ее ведущей, руководящей
силой стал рабочий класс, под руководством которого ликвидиро-
ваны эксплуататорские классы, насаждавшие шовинистическую и
националистическую идеологию, развились социалистически^ клас-
сы. Решающая роль во всем этом принадлежит, конечно, социали-
стическому государству, которое, став политической основой разви-
тия нации, подвело под нее новую социалистическую экечомиче-
46 Эрих Хонеккер. Отчет Центрального комитета VIII съезду Социалистиче-
ской единой партии Германии. М., Политиздат, 1971, стр. 32—33.
284
скую и идейно-теоретическую базу, обеспечило развитие культуры
социалистической по содержанию, национальной по форме, чем
также создало новую культурную общность.
Нация и государство не одно и то же, но нельзя отделять сущ-
ность нации от сущности национального государства. Есть нации,
не имеющие государства, но когда имеется государство, тем более
социалистическое, оно играет громадную роль в формировании на-
ции, выработке ее национального самосознания. Народ ГДР имеет
не просто сознание своей этнической принадлежности, а социали-
стическое национальное самосознание — осознание своего места
среди народов, своей политико-культурно-исторической ценности
п роли.
Пример ГДР воочию иллюстрирует ленинскую мысль о том, что
не только национальный вопрос, но и нация социально детермини-
рованы. Характер национальной общности, национальных чувств и
самосознания во многом зависит от социального типа государства,
от его политики. Коренная перестройка всей социально-экономиче-
ской, политической и духовной жизни в ГДР вырабатывает социа-
листическое национальное самосознание. Если учесть, что сердце-
виной патриотизма являются общественный строй, социальные за-
воевания, а высшей формой национального самосознания — само-
сознание идеологического и политического типов, то ясно, что про-
тивоположность социалистического национального государства
ГДР буржуазному государству ФРГ подчеркивает противополож-
ность социальной сущности наций ГДР и ФРГ. Социалистическое
государство ГДР явилось формой политической организации нации,
ее преобразования в социалистическую нацию.
Мифы об «общем происхождении», «общей крови», «общей ду-
ше» устойчивы и способны оказывать влияние на воображение
обывателей, на сознание и поведение людей. Однако объективная
реальность все больше убеждает в ошибочности сведения нацио-
нального самосознания к «чисто» этнической основе. Национализм
не национальное самосознание, а его извращение. Правители быв-
шей нацистской Германии мыслили не национальными, а импер-
скими категориями. Известно, что в прошлом нацисты, отождеств-
ляя национальность с нацией, рассматривали немецкие националь-
ные меньшинства любой страны как часть немецкой нации п на
этом основании систематически вмешивались во внутренние дела
государств, на территории которых уже много веков живут люди
немецкого происхождения.
Сторонники теории «единой немецкой нации» обычно ссылают-
ся на пример стойкости польского национального самосознания,
забывая при этом, что Польша боролась за восстановление своего
национального государства, а ГДР борется против опасности унич-
тожения реваншистами ФРГ государства немецкой социали-
стической нации, по праву представляющей будущее единство тру-
довой Германии. То, что процесс качественных изменений нации
еще продолжается и что прошло еще мало времени для полного
285
их осознания, ничего не меняет в сути объективного хода вещей.
Точно так же не меняется дело и от того, что в будущем реально
возможно образование единой социалистической немецкой нации.
Единство нации вообще становится действительным при социа-
лизме. Именно в условиях социализма нации приобретают подлин-
ную общность экономической жизни, которая не исчерпывается
только тем, что все классы и социальные группы связаны друг
с другом экономическими отношениями (это присуще и нациям
капиталистического общества); здесь возникает единство экономи-
ческих интересов всех трудящихся. Вместе с тем образуется интер-
национальная экономическая общность, объединяющая всех совет-
ских людей, независимо от национальности. Все национальные
республики СССР находятся в самой тесной экономической взаи-
мозависимости. Хозяйства всех республик составляют общую си-
стему народного хозяйства СССР, и в этой общей системе успеш-
но развивается экономика каждой из национальных республик.
Новое качество приобретает также общность территории как
условие существования и признак нации. Социалистические нации
имеют свою территорию с исторически сложившимися границами,
которые, однако, утрачивают свое прежнее значение обособляющих
отечества. В СССР, например, имеет место постоянное и всесторон-
нее общение между нациями, стремление разумно использовать
всю территорию страны как общее достояние всего советского
народа. Это не означает, что национальная территория вообще
теряет всякое значение. Жизнь и деятельность любой нации
развертывается на определенной территории. Коммунисты, всегда
бережно относящиеся к национальным чувствам, требовали обес-
печения таких условий, при которых национальная территория,
границы могли быть определены демократически, самим на-
селением.
В условиях социализма коренным образом меняется и нацио-
нальный характер людей. Вбирая в себя все прогрессивное, что
имелось в историческом прошлом нации, он формируется и разви-
вается в борьбе за строительство коммунизма. Все прогрессивное,
выработанное каждой нацией со временем становится достоянием
и других. Поэтому считать национальными чертами только те, ко-
торые отличают одну нацию от другой, значило бы представить
облик каждой нации намного беднее, чем он есть. Благодаря со-
циалистическому строю, в результате гигантской работы Комму-
нистической партии по проведению в жизнь ленинской националь-
ной политики национальный вопрос в СССР разрешен полностью.
Антикоммунисты берут под сомнение и это общеизвестное истори-
ческое достижение социализма в СССР. Широко пропагандируется
утверждение, что «национальная проблема в Советском Союзе да-
лека от разрешения»47. При этом умышленно путаются два раз-
47 «Problems of Communism». Sept. — Oct., 1967. Washington. Special issue
p. 131.
286
личных вопроса: решение национального вопроса как порождение
антагонистического капиталистического общества и систематиче-
ское решение тех вопросов, которые порождаются национальными
отношениями, пока существуют различные нации и народности.
Национальный вопрос в том значении, в каком он возник при
капитализме и существует поныне в буржуазном обществе, в СССР
давно уже не существует. Ленинская партия его решила в ходе
Октябрьской революции и социалистического строительства. Раз-
решение национального вопроса означает, что народы нашей стра-
ны обрели полное политическое равноправие, создали свою нацио-
нальную государственность, преодолели в основном различия в
уровнях экономического и культурного развития. Однако пока
существуют нации и народности, имеются и постоянно возникают
связанные с их жизнью и отношениями различные национальные
проблемы и задачи, как, например, нахождение наиболее правиль-
ных путей развития социалистических наций и народностей, борьба
против попыток ущемления прав «национальных меньшинств», про-
тив любых проявлений национализма и местничества, преодоление
извращенного проявления национальных чувств, воспитание социа-
листического интернационализма и т. д.
Ясно, что современные национальные проблемы Советского
Союза качественно иные, чем они были в период строительства со-
циализма, а тем более в начале социалистической революции.
Вступление СССР в период строительства коммунизма является но-
вым этапом в развитии национальных отношений. На этом этапе
вопросы развития наций и национальных отношений решаются на
более высоком уровне. Период коммунистического строительства
в национальных отношениях характеризуется более интенсивным
действием двух прогрессивных взаимосвязанных тенденций в раз-
витии наций и национальных отношений: происходит всесторонний
расцвет каждой нации и все большее сближение наций и народ-
ностей, усиление их взаимовлияния, взаимообогащения. Но все это
тогда означает, говорят антикоммунисты, «ассимиляцию», «дена-
ционализацию», «русификацию». Так, главный редактор книги
«Этнические меньшинства в Советском Союзе» Э. Гоулдхаген пи-
шет: «У большинства национальных меньшинств материальные
успехи как бы впечатляющими во многих случаях они ни были,
достигнуты за счет духовных и культурных ограничений и за счет
подавления черт их индивидуальности. Все они были подвержены
давлению русификации»48.
Другой антикоммунист Грей Ходнет цитирует положение Про-
граммы КПСС о том, что «при социализме нации расцветают и их
суверенитет укрепляется», и делает вывод: «Таким образом, руко-
водящие принципы национальной политики, разработанные
XXII съездом, оказались внутренне противоречивыми. Акцентируя
48 «Ethnic Minorities in the Soviet Union». Edited by Erich goldhagen. N. Y.
Washington, London, 1968, p. XIV.
2t7
процессы сближения, эти решения способствовали подготовке пар-
тии к тому, чтобы одобрить быстрее «слияние»49. Далее Ходиет
ищет принципиальное различие в постановке вопроса о расцвете
и сближении наций XXII и XXIII съездами КПСС. Он утверждает,
что на XXII съезде о сближении наций якобы говорилось в смысле
их слияния, а на XXIII съезде «расцвет» и «сближение» стали рас-
сматриваться как «равноценные, взаимосвязанные и параллельные
процессы, ведущие к плюралистической интеграции наций в рамках
прочно объединенного многонационального общества, а не к слия-
нию в единое этнически недифференцированное целое»50.
Откуда взял Ходнет указанные противоречия, известно одному
ему. Ни XXII, ни любой другой съезд КПСС не истолковывали
«расцвет и сближение наций» как «слияние в единое этнически не-
дифференцированное целое». С другой стороны, на XXIII съезде
никто не рассматривал «расцвет и сближение» как «равноценные
и параллельные процессы». Автор сам рассматривает эти процес-
сы «параллельными», чтобы найти «противоречия» в положении
Программы КПСС о том, что «при социализме нации расцветают
и их суверенитет укрепляется». В действительности расцвет и сбли-
жение наций не «параллельные» процессы. Они диалектически
взаимообусловливают друг друга. Не может быть подлинного рас-
цвета наций без их сближения и взаимообогащения, не произойдет
и подлинного сближения без развития каждой из наций.
Разрешение национального вопроса в СССР, связанное с рево-
люционной перестройкой всей совокупности общественных отноше-
ний людей на социалистических началах, естественно, породило
новые закономерности в развитии советских наций и народностей.
Благодаря братскому сотрудничеству и взаимопомощи все нации
и народности СССР стали развиваться свободно и всесторонне,
а с другой стороны, чем выше поднимается уровень развития эко-
номики и культуры каждой из них, тем глубже и разностороннее
становится взаимосвязь всех народов социалистической страны, тем
интенсивнее происходит процесс их сближения и взаимо-
обогащения.
Правда, следует отметить, что тенденции к национальному раз-
витию, с одной стороны, и к интернационализации экономики и
культуры — с другой, явственно проявились, как подчеркивал
Ленин, уже при капитализме, но характер проявления этих тенден-
ций и возможностей их реализации при капитализме и социализме
в корне отличны.
Указанные Лениным две тенденции особенно ясно и сильно про-
являются в современном капиталистическом мире. С одной сторо-
ны, во всем мире идет бурный процесс роста национального само-
сознания сотен миллионов людей. На путь самостоятельного на-
ционального развития встали десятки ранее зависимых угнетенных
♦9 «Problems of Communism», 1967, № 5, рр. 2—3.
50 «Problems of Communism», 1967, № 5.
288
народов. Как никогда, огромный размах приняла борьба против
всякого национального гнета. С другой стороны, современное раз-
витие экономики и культуры требует всемерного усиления интер-
национальных связей народов.
Однако при капитализме эти тенденции антагонистичны. Про-
тиворечия капитализма препятствуют как развитию национальной
жизни, так и созданию всемирного хозяйства, дружественных эко-
номических и культурных связей между народами.
Принципиально иное действие тенденций в развитии социали-
стических наций. «Две тенденции», действуя в обществе, где нет
национального гнета, уже не являются непримиримыми, взаимо-
исключающими, а теснее связаны и взаимообусловливают друг
друга: происходит всестороннее развитие, расцвет всех социали-
стических наций и сближение, усиление их взаимовлияния и
взаимообогащения.
Две тенденции в национальных отношениях при социализме
приобрели новое качество, их единство стало законом развития со-
циалистических наций. Действие этого закона становится все силь-
нее и ощутимее по мере развития социализма. «...Теснейшее един-
ство, всесторонний расцвет и неуклонное сближение всех наций
и народностей Советской страны определяются природой нашего
строя, выступают как объективная закономерность развития со-
циализма...» 51.
В зрелом социалистическом обществе нации и народности и их
отношения развиваются уже на прочной социалистической основе.
Сближение наций становится условием их расцвета, который обус-
ловлен интернационализацией экономики, политики и идеологии,
а также формированием интернациональных черт в культуре, ду-
ховного облика всех советских наций.
Происходящие в СССР процессы стирания классовых различий,
сближение умственного и физического труда, преодоление социаль-
но-экономических различий между городом и деревней усиливают
экономическую, культурную и идейную общность социалистиче-
ских наций и народностей, создают благоприятные условия для
искоренения пережитков национализма и формирования у всех со-
ветских людей научного, интернационалистического мировоззрения.
В свете уже сказанного становится ясно, что развитие наций и на-
циональных отношений при социализме выражается не в тенден-
циях, а во взаимосвязанных прогрессивных процессах развития
и сближения наций. При этом они имеют многосторонние связи
со всеми другими общественными процессами, происходящими
в СССР. Нельзя изобразить расцвет и сближение наций отгоро-
женными ни от этих процессов, ни тем более друг от друга и до-
пустить, что один из них начинается якобы там, где кончается
51 «О подготовке к 50-летию образования Союза Советских Социалистических
Республик. Постановление ЦК КПСС от 21 февраля 1972 г.». М., Политиздат,
1972, стр. 18.
19 С. Т. Калтахчян
289
другой, и что, следовательно, невозможно найти элементов после-
дующего в предыдущем. В действительности расцвет и сближение
наций образуют диалектическое единство, и в нем ведущей тен-
денцией всегда является сближение наций. Даже в первые годы
Советской власти, когда особенно большое внимание уделялось на-
циональному развитию, и тогда с точки зрения перспективы разви-
гия многонационального советского общества главной линией оста-
валось сближение наций. Ведущая роль этой тенденции будет ска-
зываться все больше и больше по мере приближения общества
к коммунизму. «...Начиная социалистические преобразования,— го-
ворил Ленин на седьмом экстренном съезде РКП (б),— мы должны
ясно поставить перед собой цель, к которой эти преобразования,
в конце концов, направлены, именно цель создания коммунистиче-
ского общества...»52.
Сближение наций в период строительства социализма и ком-
мунизма является естественноисторическим, но не стихийным
процессом.
КПСС в Программе наметила курс на дальнейшее развитие
социалистических наций и на реализацию ведущей тенденции —
к добровольному сближению их во всех областях жизни, к брат-
скому сотрудничеству на основе принципов социалистического ин-
тернационализма. Успешное решение этой двуединой задачи тре-
бует максимального и гармоничного сочетания национальных и
общесоюзных интересов во всех областях развития как республик,
гак и Союза ССР в целом, а это в свою очередь требует последо-
вательно научного руководства всеми социальными, в том числе
национальными, процессами в стране.
Этап развитого социализма, означающий вместе с тем период
коммунистического строительства, характеризуется более интен-
сивным взаимодействием двух прогрессивных тенденций в разви-
тии наций и национальных отношений: происходит всесторонний
расцвет каждой нации и все большее сближение наций, народно-
стей, усиление их взаимовлияния, взаимообогащения. Основой рас-
цвета и сближения наций является углубляющаяся экономическая
взаимозависимость всех национальных республик СССР.
Экономическая основа расцвета
и сближения наций 53
С победой социализма экономической основой равноправия,
расцвета и сближения наций становится общественная собствен-
ность на средства производства, безраздельно господствующая как
в промышленности, так и в сельском хозяйстве.
52 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 36, стр. 44.
33 В данном разделе использован соответствующий параграф книги Н. М. Кал-
тахчян, С. Т. Калтахчян. Ленинская теория нации и ее фальсификаторы.
М„ Политиздат, 1973. 1
290
Динамичный процесс социалистического развития наций и на-
циональных отношении проходит этапы в соответствии с достигае-
мой степенью зрелости производительных сил и производственных
отношений общества. Постановка проблемы прохождения социа-
лизмом различных ступеней развития в зависимости от достигну-
той зрелости своего социально-экономического содержания принад-
лежит В. И. Ленину. В его работах есть указания на «развитое
социалистическое общество»54. Героическими усилиями советского
народа ныне построено такое общество. В нем «достигла высокого
уровня развития общесоюзная экономика — взаимосвязанный на-
роднохозяйственный комплекс, включающий в себя народное хо-
зяйство республик и развивающийся по единому государственно-
му плану в интересах всей страны и каждой республики в от-
дельности...»55.
В условиях развитого социализма межнациональные экономи-
ческие отношения приобретают качественно новое содержание. Бо-
лее высокий уровень этих отношений объективно обусловлен эко-
номическим базисом развитого социалистического общества, для
которого характерным является высокоразвитая материально-тех-
ническая база, полное равенство всех трудящихся по отношению
к средствам производства независимо от их национальности. На
этой основе обеспечиваются единое централизованное управление
экономическими процессами, единый принцип распределения мате-
риальных благ.
Свою хозяйственную самостоятельность республики используют
не для создания замкнутых национальных экономик, что противо-
речило бы их собственным интересам, а для рационального и эф-
фективного использования местных ресурсов, включения этих ре-
сурсов в общий народнохозяйственный оборот. В СССР социали-
стическая экономическая интеграция стала прочной основой разви-
тия экономик всех союзных республик.
Общеизвестно, что по валовой промышленной продукции, по
выработке электроэнергии, пе говоря уже о культурном, медицин-
ском обслуживании, советские республики оставили далеко позади
не только соседние отставшие в своем капиталистическом развитии
страны, но и многие развитые капиталистические страны.
За полвека Существования Союза ССР объем промышленной
продукции Казахской ССР вырос в 600 раз, Таджикской ССР —
более чем в 500, Киргизской ССР — более чем в 400, РСФСР,
включавшей десятки отсталых национальных районов,— более чем
в 300, Узбекской — почти в 240, Украинской — в 176 раз. Такие же
высокие темпы развития и у других советских республик. Даже те
республики, которые и раньше не считались отсталыми, встав на
социалистический путь развития, сделали резкий скачок в своем
54 В. И. Лени н Поли. собр. соч., т. 40, стр. 104.
55 «О подготовке к 50-летию образования Союза Советских Социалистических
Республик. Постановление ЦК КПСС от 21 февраля 1972 года*, стр. 16
19*
291
развитии. Так, Латвия, Литва и Эстония, вступившие в Советский
Союз в 1940 году, увеличили объем своей промышленной продук-
ции по сравнению с указанным годом соответственно в 31, 32
и 37 раз.
Яркое свидетельство огромных успехов ранее угнетенных наций
дает и сравнительная таблица количества студентов на 10 тыс.
населения в семи капиталистических странах (развитых и отстав-
ших), с одной стороны, и в семи советских республиках, до рево-
люции вообще не имевших вузов,— с другой.
Капита т и- стичсскис страны Кол-во студентов на 10 тыс. населения Советские республики Кол-во сту- дентов на 10 тыс. насе- ления
Франция 88 Армянская ССР 220
Англия 63 Азербайджанская ССР 188
ФРГ 49 Казахская ССР 146
Турция 30 Киргизская ССР 150
Индия 28 Таджикская ССР 145
Пакистан 26 Туркменская ССР 130
Иран 14 Литовская ССР 176
Скрыть все это, когда гораздо более скромные достижения
в капиталистическом мире считаются «чудом», антикоммунисты не
могут, но они теперь все чаще пытаются доказать, что эти успехи
достигнуты благодаря не преимуществам социалистического строя
перед капиталистическим, а вследствие якобы тех сдвигов в раз-
витии общества, которые связаны с научно-техническим прогрессом
XX века вообще. Но почему тогда ничего похожего на успехи со-
ветских республик нет в соседних с ними капиталистических стра-
нах, существующих ведь тоже в XX веке?! Ответ на этот вопрос
один. Решающим реальным источником выдающихся успехов со-
ветских республик является социализм.
Только социализм мог обеспечить и обеспечил огромный скачок
народов, бывших на положении колоний царской России, от пат-
риархальщины п неграмотности к высотам науки, техники и куль-
туры. Образование общесоюзного народнохозяйственного комплек-
са, слияние экономических возможностей, ресурсов всех республик
ускоряют развитие каждой из них — и самой маленькой, и самой
крупной,— а следовательно, и всего Союза в целом. Социалистиче-
ские нации и народности кровно заинтересованы в рациональном
экономическом районировании, специализации и кооперировании
па основе социалистического разделения труда, в наилучшем СОВ-
292
местном использовании материальных и людских ресурсов всей
страны, в дальнейшем укреплении дружбы народов как животвор-
ного источника расцвета всех народов, необходимого условия наи-
более полной реализации исторических преимуществ социализма
перед капитализмом. Такова диалектика расцвета и сближения
наций, полной реализации исторических преимуществ социализма
перед капитализмом.
Выравнивание уровней развития республик действует не как
изолированная закономерность, а в общей системе закономерно-
стей социализма. В современных условиях процессы выравнива-
ния подчиняются полностью требованиям закона планомерного
развития социалистической экономики, являются инструментом ис-
пользования этого закона, средством установления научно обосно-
ванных пропорций в общесоюзном масштабе. Но сами эти пропор-
ции не являются конечной целью выравнивания, поскольку его
цель — в создании и использовании возможностей для наилучшего
удовлетворения растущих потребностей народов нашей страны.
Новая направленность процессов выравнивания в развитом социа-
листическом обществе стала возможной благодаря достигнутой
высокой степени развитости, экономической эффективности межна-
ционального разделения труда, что в свою очередь обусловлено
выполнением первой исторической задачи выравнивания — преодо-
лением унаследованных от прошлого глубоких диспропорций в
размещении и развитии производительных сил страны.
Отсталые в недалеком прошлом республики сегодня участвуют
в общесоюзном разделении труда и как потребители, и как произ-
водители сельскохозяйственной и, что особенно важно, промышлен-
ной продукции. Ныне экономика всех без исключения республик
включена в систему общесоюзного разделения труда и носит ин-
тернациональный характер. При этом в системе общественного
разделения труда сложились определенные экономические районы.
В основу экономического районирования легли объективные кри-
терии— природные условия, трудовые ресурсы, навыки населения,
сложившиеся исторически специализация и межрайонные связи
и т, д. Антикоммунисты пытаются провести параллель между спе-
циализацией в системе социалистического разделения труда и спе-
циализацией в системе капиталистического разделения труда, ука-
зывая, например, на хлопковое направление в сельском хозяйстве
республик Средней Азии. Однако специализация советских рес-
публик ничего общего не имеет с сырьевой специализацией в систе-
ме международного капиталистического разделения труда бывших
колоний и зависимых стран. Хлопковая специализация, например,
Среднеазиатских республик не только не препятствовала процессу
индустриализации, но дала ему мощный импульс, и в этом уже ко-
ренное отличие специализации при социализме, которая нс являет-
ся односторонней, уродливой, как это характерно для аграрных
стран, находящихся в сфере международного капиталистического
разделения труда.
293
В соответствии с ленинскими принципами размещения произ-
водительных сил индустриализация охватила прежде всего отрас-
ли, составляющие материально-техническую базу хлопководства:
производство хлопковых сеялок, хлопкоуборочных машин, культи-
ваторов, оборудования для землеройных работ, ирригации, удобре-
ний и т. д. Более того, Средняя Азия является не только хлопко-
производящим экономическим районом всесоюзного значения, но
и вторым по значению после Центра хлопкообрабатывающим рай-
оном. Наконец, Средняя Азия и Казахстан за годы Советской вла-
сти стали республиками большой нефти, химии и развитого маши-
ностроения— электротехнического, подъемно-транспортного и т. д.
Самые современные отрасли промышленности созданы в Грузии
и Азербайджане, во всех других республиках СССР. Белорусская
ССР, поднявшаяся при помощи всей страны из руин воины, заново
построила прекрасные города и села. Ее промышленность произ-
водит сегодня замечательные электронно-вычислительные машины,
тяжелые грузовики, современную радиоаппаратуру. Не только
союзные республики, но и автономные, такие; например, как Якут-
ская, Тувинская, Бурятская, ныне имеют развитое народное хозяй-
ство, осуществляют экономический обмен, обмен деятельностью
с другими республиками, областями и краями страны.
В условиях развитого социалистического общества создаются
самые благоприятные возможности для интенсивного проявления
двух взаимосвязанных процессов социалистического развития на-
ций — процессов к расцвету и сближению, которые в сфере эконо-
мики проявляются в качестве тенденций к комплексному развитию
хозяйства республик и тенденции к углублению специализации
между ними. Обе эти тенденции, действуя в неразрывном единстве,
обеспечивают осуществление ленинских принципов рационального
размещения производительных сил и достижение качественно бо-
лее высокой степени экономического сближения народов и наций
СССР. И та и другая тенденции отвечают ленинским принципам
размещения производства, так как обеспечивают его планомерное
размещение по всей стране с учетом необходимости наиболее эф-
фективного использования производственного аппарата, природных
и трудовых ресурсов всех республик и экономических районов
СССР, способствуют углублению разделения труда между ними,
приближению промышленности к источникам сырья и энергии, ис-
ходя из «возможности наименьшей потерн труда при переходе от
обработки сырья ко всем последовательным стадиям обработки
полуфабрикатов...» 56.
Специализация экономических районов и республик на произ-
водстве той продукции, которая является наиболее экономичной
и соответствующей местным условиям, улучшает народнохозяйст-
венную структуру, а развитие связанных со специализируемой про-
дукцией смежных отраслей ведет к комплексному развитию эконо-
50 В. II. Ле н и н. Поли. собр. соч., т. 36, стр. 228.
294
мики районов и республик. Вместе с тем эти экономики не простые
слагаемые общесоюзной экономики, а ее органически тесно взаимо-
действующие части.
Процессы комплексного формирования народнохозяйственных
структур районов и республик дополняются постепенным их сбли-
жением. Последнее ускоряется научно-техническим прогрессом, ко-
торый в соединении с преимуществами социализма оказывает мно-
гообразное воздействие на характер и развитие экономики районов
и республик. Открытие за последние годы крупных месторождений
нефти и природного газа в Поволжье, на Украине, в республиках
Средней Азии, Западной Сибири и западном Казахстане приобре-
тает важное значение не только ввиду улучшения топливного ба-
ланса страны, но и для развития системы магистральных нефте-
проводов и газопроводов, что в свою очередь дает толчок развитию
химической промышленности в несырьевых районах. Такое же зна-
чение имеет создание сверхдальних линий электропередач высоко-
го напряжения, обеспечивающее электроэнергией отдаленные рай-
оны страны, лишенные собственных энергоресурсов. Технический
прогресс, таким образом, стимулирует развитие новых отраслей
промышленности в отдаленных районах, способствует преодолению
односторонней специализации производства там, где она еще со-
хранилась, формирует современные социалистические народнохо-
зяйственные комплексы. Развитые комплексы народного хозяйства
республик органически включаются в систему общесоюзного раз-
деления труда. Единство народного хозяйства СССР обеспечивает-
ся планомерно, на основе учета закономерностей социализма. Оно
отвечает интересам всех советских наций и народностей, способст-
вует сближению уровней доходов трудящихся различных респуб-
лик и районов страны в целях усиления социально-экономической
однородности нашего общества.
В соответствии с социалистическим принципом распределения
по труду общество всегда в состоянии обеспечить материальное
стимулирование труда в неблагоприятных природных условиях.
Одним из путей к этому сближению служит применение системы
районных коэффициентов к заработной плате. Однако мероприятия
по сближению уровня жизни трудящихся не нацелены на обеспече-
ние недостижимой и ненужной одинаковости жизни в разных райо-
нах страны. Они преследуют лишь цель — обеспечить равные ма-
териальные условия для воспроизводства рабочей силы в неоди-
наковых по климату, природным условиям районах страны и куль-
турно-бытовому обслуживанию населения. «Между отдельными
странами, областями и даже местностями,— указывал Ф. Энгельс,—
всегда будет существовать известное неравенство в жизненных
условиях, которое можно будет свести до минимума, но никогда
не удастся устранить полностью»57.
Значение природных условий для воспроизводства рабочей си-
57 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 34, стр. 104.
295
лы связано с зависящей от этих условий структурой потребностей,
например жители Крайнего Севера нуждаются в более калорийном
питании, в теплой одежде, в дополнительном отоплении, чем жи-
тели Юга. Поэтому организация системы оплаты труда в соответ-
ствии с содержанием экономического закона распределения по тру-
ду построена не только на учете количества и качества труда, но
и условий этого труда. Таким образом, процесс сближения наций
и народностей страны требует большей дифференциации, чем это
было раньше, в системе оплаты труда, а также повышения уровня
научного обоснования этой дифференциации.
Общественный характер собственности на средства производ-
ства в масштабах всей страны обеспечивает единое централизован-
ное управление экономическими процессами, единый принцип
распределения материальных благ. В соответствии с социалистиче-
ским принципом распределения по труду общество всегда в состоя-
нии обеспечить материальное стимулирование труда в неблаго-
приятных природных условиях. Это обеспечивает единство обще-
народного интереса, состоящего в рациональном размещении про-
изводительных сил, промышленном освоении восточных и северных
районов страны.
Успешное функционирование развитого социалистического об-
щества в СССР создает непреодолимые трудности для фальсифи-
каторов социалистических национальных отношений, принуждает
их «совершенствоваться» на поприще антикоммунизма. В условиях
растущих связей между СССР и странами «третьего мира», пред-
ставители которых имеют возможность самостоятельно, своими
глазами увидеть, что может дать социализм отсталым народам,
хотя бы на примере развития республик Средней Азии, лживость
утверждений о «русском империализме», «колониализме» стано-
вится совершенно очевидной. Это вынуждает буржуазную совето-
логию к поискам новых методов и приемов фальсификаций теории
и практики социализма. Поэтому не приходится удивляться тем
поистине нелепым формам модификации антикоммунистических
построений, которые характерны для некоторых из них. В качестве
примера можно привести выдержки из одной статьи с крикливым
заголовком: «Москва против национальных меньшинств: тенден-
ции, ожидаемые в новом десятилетии», в которой разрабатывается
новый — демографический аспект фальсификации национальных
отношений при социализме. Автор статьи на первый взгляд как
будто отказывается от старых традиций фальсификации нацио-
нальных отношений в СССР. Он не доказывает ни эксплуатации
народов Средней Азии со стороны русского народа, ни колониаль-
ного характера их экономик. Напротив, он пишет, что «азиатское
население страны, поощряемое достаточным для пропитания запа-
сом продовольствия, улучшением медицинского обслуживания, при-
внесенного Россией, и менее озабоченное трудностями городской
жизни, западными ценностями процветания и политическими на-
строениями, испытывает беспрецедентный демографический
296
взрыв»58. Но в этом росте жизненного уровня и численности насе-
ления он надеется увидеть неразрешимую проблему, почву для
столкновения между «мусульманским» и «славянским» населением
СССР. И чтобы не оставалось сомнении в характере такого столк-
новения, автором делается следующий прогноз: «...Москва в конце
концов столкнется с проблемой, сходной с проблемой де Голля в
Алжире»59. Мнимая объективность автора плохо прикрывает
стремление извратить характер отношений между народами Совет-
ского Союза, приписать этим отношениям антагонистическую про-
тивоположность интересов, характерную для межнациональных от-
ношений при капитализме. Общность коренных интересов совет-
ского народа исключает антагонизм интересов отдельных его
народов. Ожидания конфликтов между отдельными народами на-
шей страны лишены какой-либо почвы. Быстрый рост численности
населения в Среднеазиатских республиках, как и некоторых се-
верокавказских народов, не только не противоречит интересам ка-
кого бы то ни было другого советского народа, а, наоборот, соот-
ветствует потребностям освоения малозаселенных громадных тер-
риторий на востоке нашей страны в интересах всего советского
народа.
Так, какой бы аспект отношений между народами нашей страны
не рассматривался представителями антикоммунизма в целях дис-
кредитации этих отношений, в любом случае предпринятые попыт-
ки в этом направлении оказываются бесперспективными. Тем не
менее положение обязывает, и антикоммунизм продолжает идеоло-
гическую борьбу против теории и практики социализма. При этом
преследуются далеко идущие цели — поставить под сомнение всю
систему социализма, принципы социалистического хозяйствования,
лишить социализм привлекательности для народов развивающихся
стран.
Все эти попытки тщетны, поскольку социализм предстает перед
народами как самый справедливый строй. Он обеспечивает един-
ство целей и действий трудящихся всех национальностей, их равно-
правное участие в управлении делами своего общества на основе
ленинского демократического централизма. В условиях развитого
* социализма применение принципа демократического централизма
в экономических отношениях предполагает развитие обеих его
сторон-—-и централизма и демократии. В соответствии с этим хо-
зяйственная реформа, укрепляя принцип централизма в планиро-
вании и экономическом руководстве, в то же время обеспечивает
условия для развития местной хозяйственной инициативы. Так, по
решению ЦК КПСС и Совета Министров СССР расширены права
союзных республик в области планирования, капитального строи-
тельства, финансирования труда и заработной платы. Эти меро-
58 «Bulletin» the Institute for the Study of the USSR — Munich, vol. XVII,.
October, 1970, № 10, p. 14.
69 Ibid, p. 16.
297
приятия продолжили линию на расширение прав союзных респуб-
лик, взятую XX съездом КПСС. В последующий после съезда
период Советы Министров союзных республик получили больше
самостоятельности в решении хозяйственных вопросов и планиро-
вания. В частности, они получили право утверждать планы произ-
водства и распределения всех видов промышленной продукции,
вырабатываемой предприятиями республиканских министерств, ве-
домств и промысловой кооперации. Значительное количество пред-
приятий перешло в республиканское подчинение, что повлекло за
собой увеличение числа союзно-республиканских министерств. Рас-
ширение хозяйственных прав союзных республик в соответствии
с дальнейшим развитием одной из сторон демократического цент-
рализма— демократии не является самоцелью. Оно необходимо
для успешного решения республиканских и общесоюзных задач в
единстве и потому осуществляется при соответствующем укрепле-
нии принципа централизма, поскольку именно централизм обеспе-
чивает реализацию заложенных в социалистической собственности
на средства производства единства и целостности социалистической
экономики.
Историческое превосходство социалистической собственности
над всеми формами частной собственности состоит в том, что она
органически соединяет в единое народнохозяйственное целое входя-
щие в это целое подразделения — экономические районы, респуб-
лики, отрасли, отдельные предприятия. Капиталистическая частная
собственность ставит объективно непреодолимые преграды опти-
мальному развитию народного хозяйства, допуская экономический
оптимум лишь в узких границах отдельных фирм. Хотя идеологи
капитализма пытаются представить в качестве наилучшего, един-
ственно возможного пути к экономическому оптимуму рыночное
взаимодействие «микрооптимумов», им это не удается. Никакая
буржуазная пропаганда не может скрыть имманентных капитализ-
му антагонистических противоречий между производителями, ко-
торые и проявляются самым неприглядным образом на рынке. На
это указывал еще К. Маркс в «Капитале» при анализе капитали-
стического воспроизводства. С неопровержимой логикой он пока-
зал, что условия «нормального хода как простого воспроизводства,
так и воспроизводства в расширенном масштабе... превращаются...
в столь же многочисленные возможности кризисов, так как равно-
весие— при стихийном характере этого производства — само яв-
ляется случайностью»60. Свойственные капитализму конкуренция и
анархия производства ведут в сторону, противоположную опти-
мальности.
Единство национальных социалистических экономик на основе
научно обоснованного централизованного планирования обеспечи-
вает обществу высокий экономический эффект. Это единство про-
является в условиях существования народнохозяйственных комп-
со К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 24, стр. 563
298
лексов республик, обладающих хозяйственной самостоятельностью.
Сочетание хозяйственной самостоятельности республик с обяза-
тельным для них централизованным планированием обеспечивает
демократический централизм, при правильном определении меры
сочетания обеих его сторон. Те широкие хозяйственные права, ко-
торыми располагают в настоящее время республики, используются
ими в соответствии с заложенными в экономическом базисе социа-
лизма закономерностями. Действие этих закономерностей имеет
общесоюзный характер. Поэтому свою хозяйственную самостоя-
тельность республики используют не для создания замкнутых на-
циональных экономик, что противоречило бы их собственным инте-
ресам, а для рационального и эффективного использования мест-
ных ресурсов, включения этих ресурсов в народнохозяйственный
оборот, что соответствует объективной тенденции развития произ-
водительных сил к интернационализации. В рамках общесоюзной
экономики эта интернационализация означает вовлечение местных
ресурсов в общесоюзный процесс воспроизводства, что отвечает
и национальным интересам данной республики, и общенародному
интересу, состоящему в обеспечении условий для беспрепятствен-
ного развития производительных сил в целях повышения уров-
ня всеобщего благосостояния советских людей всех национально-
стей .
Социализм на практике противопоставил капитализму новый
тип общественного разделения труда, осуществление которого при-
вело к созданию высокоинтегрированного, планомерно управляе-
мого народного хозяйства СССР. Успехи, достигнутые нациями
и народностями СССР в сфере экономики, уже пройденный ими
путь хозяйственного сближения, свидетельствуют о высоком уровне
их экономической интеграции.
Интеграцию принято рассматривать на уровне отдельных ре-
гионов в мировом социалистическом и мировом капиталистическом
хозяйствах, например в рамках СЭВ или в рамках «Общего рын-
ка». Однако как исторически, так и по уровню достигнутой степени
зрелости первый успешный опыт экономической интеграции наро-
дов и наций проделан Советским Союзом. Именно в СССР впер-
вые была создана объективная основа интеграции— социалистиче-
ское обобществление производства. На базе социалистического
обобществления стало возможным преодоление фактического не-
равенства между народами и нациями, что также является объек-
тивной предпосылкой интеграции. И если обобществление произ-
водства создает возможности интеграции, то претворение этой
возможности в действительность требует преодоления исторически
сложившегося разрыва в уровнях экономического развития между
нациями и народностями. Процесс сглаживания различий в уров-
нях экономического развития есть одновременно процесс создания
предпосылок интернационализации производства, которая является
материальной основой экономической интеграции. На первом этапе
выравнивания интернациональный характер социалистической эко-
299
номики проявляется специфически в форме помощи центра нацио-
нальным окраинам. Поэтому это предпосылка интернационализа-
ции производства, а не сама интернационализация, которая тре-
бует общественного разделения труда в масштабе всего народного
хозяйства. Второй этап выравнивания, связанный с совершенство-
ванием народнохозяйственных пропорций в соответствии с требо-
ванием экономического закона планомерного развития социалисти-
ческого хозяйства, представляет этап бурного роста производи-
тельных сил, их интернационализации. На этом этапе достижения
всех наций и народностей выступают как результат их объединен-
ного труда.
Углубляющееся на основе специализации и кооперирования
производства социалистическое разделение труда определяется
общесоюзным характером народного хозяйства. Трудящиеся любой
республики знают, что в каждом современном промышленном из-
делии воплощен труд многих коллективов различных республик
Союза ССР. Например, Минский автомобильный завод получает
комплектующие узлы и детали с 1240 предприятий, расположен-
ных во многих союзных республиках. Подобных примеров можно
привести сколько угодно.
Высокий уровень экономической интеграции в условиях разви-
того социализма определяется мощью его материально-технической
базы. Интернациональный характер последней как в период созда-
ния основ социализма, так и на этапе функционирования развитого
социализма полностью определяет интернациональную природу
экономических законов социализма. Их беспрепятственному функ-
ционированию в общесоюзном масштабе в решительной мере спо-
собствует отсутствие национально-государственной обособленности
общественной собственности на средства производства. Экономи-
ческая интеграция народов СССР не является межгосударственной,
она осуществляется в рамках Союза и является только межнацио-
нальной, поскольку существующая в двух формах социалистиче-
ская собственность на средства производства является единой как
по своему социально-экономическому содержанию, так и по при-
надлежности ее всему советскому народу. Интеграция экономики
СССР прежде всего проявляется в едином планировании, в единых
принципах ценообразования, применяемых союзными и республи-
канскими органами.
Успешный процесс выравнивания различных уровней экономи-
ческого развития республик обеспечивает единство действий эко-
номического закона распределения по труду и закона народонасе-
ления. Повсеместно в СССР осуществляется планомерное распре-
деление рабочей силы и обеспечивается полная занятость. Полная
занятость есть объективная закономерность социализма, наглядно
показывающая его историческое преимущество над капитализмом.
Социалистическое расширенное воспроизводство пе носит цикличе-
ского характера, как капиталистическое, не знает кризисов пере-
производства и по нуждается в резервной армии труда.
300
Отсутствие безработицы в СССР объективно обусловлено со-
держанием экономических законов социализма, действие которых
имеет одинаковую силу на всей территории страны, что еще раз
неопровержимо свидетельствует об уже достигнутой высокой сте-
пени фактического равенства народов СССР.
Делегаты XXIV съезда КПСС, с гордостью говоря о громадных
успехах своих народов, подчеркивали, что в достижениях любой
из республик живет совокупный труд всех народов СССР, торже-
ствует могучая сила социалистического интернационализма. Все
народы Советского Союза кровно заинтересованы в лучшем ис-
пользовании людских и материальных ресурсов СССР в целом,
а следовательно, в рациональном экономическом районировании
страны, специализации и кооперировании производства. Полно-
кровная экономическая жизнь всех республик Советского Союза
обеспечивается всесторонними хозяйственными взаимосвязями,
осуществляемыми на основе общесоюзного единого государствен-
ного плана и единой научно-технической политики. Единство инте-
ресов республик и страны в целом позволяет успешно решать за-
дачи в создании материально-технической базы коммунизма, а
успех в этой области в свою очередь служит прочной основой для
дальнейшего расцвета и сближения советских наций, народностей.
Укрепление социально-политического
единства наций,
развитие и взаимообогащение их культур
Безраздельное господство общественной собственности на сред-
ства производства создает прочную основу общности коренных ин-
тересов наций.
Ликвидация остатков эксплуататорских классов и внутренних
антисоциалистических сил, преодоление национализма, мелкобур-
жуазных тенденций приводят к возникновению социальной одно-
родности каждой нации и народности. Дружественные классы и
группы все более сближаются, растет и крепнет социально-полити-
ческое единство всего народа. Идя за рабочим классом, коопериро-
ванное крестьянство и социалистическая интеллигенция приобре-
тают и развивают свойственные ему прогрессивные черты. Соот-
ветственно и между социалистическими нациями стираются как
различия по соотношению общественных классов и групп, город-
ского и сельского населения, так и по уровню их социальной одно-
родности.
Социально-политическое единство социалистических нации не
ведет к потере или сужению их суверенитета, как клевещут анти-
коммунисты. В действительности, нации именно при социализме
имеют подлинный суверенитет. В. И. Ленин, характеризуя, напри-
мер, сущность Союза ССР, отмечал, что поскольку союз пародов,
основанный па равноправии и солидарности, служит укреплению
Советского государства, то он тем самым служит укреплению и су-
301
веренитета каждого вступающего в этот союз. Опыт первой страны
социализма наглядно показал, что добровольное вхождение совет-
ских республик в Союз ССР явилось ярким выражением их социа-
листического суверенитета и обеспечило его падежные гарантии.
Национальный суверенитет в социально-политическом плане
означает право наций устраивать свою социально-экономическую и
общественно-государственную жизнь так, как этого требуют под-
линные ее интересы, и прежде всего главный интерес — обеспечение
успешного движения к коммунизму.
Антикоммунисты нередко ссылаются па утверждения советских
людей о том, что границы национальных территорий в условиях
СССР теряют свое былое значение, как свидетельство якобы утра-
ты народами СССР своего суверенитета. Но это умышленное сме-
шение понятий. Границы национальных территорий четко очерчены
как раз в смысле осуществления национального суверенитета,
определения сферы самостоятельности и ответственности респуб-
лик при решении ими задач социально-политического, культурного
и экономического развития.
Другое дело, что эти границы не превращают республики в
обособленные отечества, они не нарушают целостности советского
Отечества, его общесоюзной экономики. Границы 'определяются,
как предвидел Лепин, «сообразно симпатиям населения». Но при
этом, предупреждал он, в территориальном распределении населе-
ния экономические интересы все больше будут занимать решающее
место. «...Национальный состав населения,— писал Ленин,— один
из важнейших экономических факторов, по не единственный и не
важнейший среди других... Поэтому целиком и исключительно ста-
новиться на почву «нациоиальио-территориалпстического» принци-
па марксисты пе должны»61.
Происходящее па основе углубления экономического и культур-
ного сотрудничества пародов возрастание многонациональное™
состава населения республик и областей является прогрессивным
процессом. Искусственные меры, направленные на прекращение
или замедление этого процесса, всегда оказывались и окажутся
тщетными, противоречащими поступательному ходу истории, эко-
номическому и социальному развитию народов.
Социалистическое разделение труда па основе,специализации
и интеграции экономики, расширение взаимного обмена кадрами
между национальными республиками все больше усиливают и
углубляют повседневное общение трудящихся различных наций во
всех областях жизни. В результате возрастает и укрепляется их
интернациональная общность.
Па основе, экономической и социально-политической общности
социалистических наций и народностей, развиваются интернацио-
налистические черты их характера, растет их духовная общность,
происходит дальнейшее сближение национальных культур. Соииа-
61 В. II. Лели п. Полл. собр. соч., т. 24, стр. 149.
302
диетические нации и народности, вбирая в себя все прогрессивное,
, что имелось в их историческом прошлом, формируют новые цен-
ности культуры, которые со временем становятся общим достоя-
нием всех народов.
Социализм ликвидирует раздвоенность культуры, духовного об-
лика, присущую нациям, состоящим из враждебных классов. На-
циональная культура только при социализме становится формой
проявления общечеловеческой культуры, служит народу и по свое-
му содержанию является интернациональной для всех трудящихся.
С преобразованием старых наций и народностей в социалисти-
ческие становятся закономерностью расцвет, сближение и взапмо-
обогащение культур. Идейно-теоретической основой духовной жиз-
ни социалистических наций является марксизм-ленинизм, социали-
стический интернационализм. В отличие от буржуазной идеологии,
противопоставляющей расы, нации, народности друг другу, марк-
сизм-ленинизм выражает как их общие интернациональные, так и
национально-специфические интересы.
Почти вся материальная культура, а также часть духовной
культуры носят интернациональный характер. Многообразнее про-
являются национальные особенности и их связь с интернациональ-
ным, общим для духовной жизни многих народов в искусстве. Ле-
нинизм теоретически доказал, а практика социалистического строи-
тельства подтвердила, что культура в условиях социализма сложит
народу и по своему содержанию является общей интернациональ-
ной для всех трудящихся.
Возможности взапмообогащения культур объективно сущест-
вуют в самом характере культуры. Культурный обмен между на-
родами в той пли иной степени происходит и происходит на всех
этапах истории, по в корне отличен по своему характеру при со-
циализме и при капитализме. Поскольку национальные отношения
при капитализме антагонистичны, то, несмотря на созданные капи-
тализмом некоторые условия для сближения культур различных
наций (преодоление национальной замкнутости), буржуазия угне-
тающих наций вместо сближения культур ведет политику их космо-
политизации. Она сперва выдаст свою культуру в качестве над-
классовой культуры собственной нации, а затем пытается распро-
странить ее и на другие нации теперь уже в качестве наднацио-
нальной привилегированной культуры. Национальный гнет, дис-
криминация культур угнетаемых наций, естественно, порождают со
стороны последних тенденции к национальной замкнутости, стрем
тонне сохранить «чистоту» своей культуры.
При социализме же развитие и сближение культур всех нации
выступают как новая историческая закономерность, порожденная
социалистическим способом производства. Культурное сближение
• углубляется в приобретает новое качество в силу развивающейся
при социализме социальной однородности, всестороннего братского
сотрудничества народов, их взаимопомощи и взаимообогапюння.
Только социализм создаст широкую основу для их взаимообогатцс-
30.3
ния, обеспечивая самые благоприятные условия для развития каж-
дой из них: всеобщее образование на родном языке, развитие выс-
шего образования, науки, литературы и искусства, рост националь-
ной интеллигенции. Взаимообогащение культур социалистических
наций и народностей усиливается по мере повышения их социаль-
ной однородности, по мере развития социалистических отношений
и постепенного перерастания их в коммунистические. Происходит
преодоление пережитков прошлого в сознании людей, воспитание
трудящихся в духе социалистического интернационализма, разви-
тие интернациональных основ их культурного облика. Этот про-
грессивный процесс наши идейные противники объявляют унифи-
кацией культур. Будучи не в состоянии скрыть выдающиеся успехи
наций и народностей СССР, антикоммунисты пытаются бросить
тень прежде всего на культурное строительство в союзных и авто-
номных республиках. Процесс бурного развития национальных
культур, когда интернациональные достижения становятся дости-
жением каждой из наций, антикоммунисты лживо объявляют де-
национализацией культуры, нивелировкой национальных разли-
чий, «молчаливой русификацией нерусских областей и населения».
Вот как «глубокомысленно» рассуждает А. Лоу: «Довольно трудно
представить себе,— пишет он,— культурное разнообразие, если все
национальные культуры являются «социалистическими по содер-
жанию» и если, как утверждается, на них оказывают влияние ра-
боты интернационального характера. Тогда «культурное разнооб-
разие» в основном сводится к чисто языковому разнообразию, а
«сокровища» отдельных национальных культур в действительности
топятся в море «социализма» и «интернационализма»62. В этом и
других подобных утверждениях не только отрицается факт расцве-
та национальных культур советских наций и народностей, но и
противопоставляются друг другу национальное, социалистическое
и интернациональное как несовместимые явления. Для «доказа-
тельства» этого лишенного всякого основания «положения» выстав-
ляется столь же несостоятельная посылка. Утверждается, что су-
ществует культурный релятивизм, а отсюда «культурный плюра-
лизм», согласно которому каждая культура ценна лишь своими
неповторимыми чертами, а потому все культуры (и самые отсталые,
архаичные, и самые развитые) равноценны, и нет смысла говорить
об их прогрессе и общечеловеческой основе. Чтобы оставаться на-
ционально-самобытными, нации должны беречь неповторимую
индивидуальность своих культур, избегать заимствований. Далее,
национальное сводится к националистическому, и борьба в социа-
листических странах против пережитков национализма в сознании
отдельных людей представляется как борьба за ликвидацию на-
циональных особенностей. Объективный процесс сближения наций
и их культур изображается как обеднение, растворение культур
малых наций в культуре большой нации (в СССР — русской). Не-
62 «The Russian Review», 1S63, vol. 22, № 1, p. 17.
304
состоятельность подобных утверждений изобличается самой
жизнью социалистических наций.
Еще при капитализме в культуре наций возникают демокра-
тические и социалистические элементы. Культура социалистиче-
ских наций есть продолжение и развитие этих элементов, но в
своем целостном виде опа возникает и развивается при социализ-
ме. Культура социалистических наций определяется их единой эко-
номикой и идеологией. Искусство к тому же имеет единый метод
художественного познания и отображения действительности — ме-
тод социалистического реализма. Сближение и взаимообогащение
культур ведут к росту многообразия жанров, стилей, различных
изобразительных средств. Высшие достижения культуры каждой
нации вместе с тем становятся достоянием других наций. Усиление
интернационального в национальном говорит не о том, что нацио-
нальное якобы приносится в жертву интернациональному, а о том,
что меняется, обогащается само содержание национального.
Поскольку антикоммунизм, говоря о нивелировке национальных
культур, в основном имеет в виду художественную культуру, в ко-
торой национальные особенности проявляются с большой отчетли-
востью, рассмотрим характер взаимодействия и взаимообогащения
в з>той области. Литература, живопись, музыка, театр, кино, хо-
реография, а также архитектура, декоративно-прикладное и про-
мышленное искусство, связанные с бытом людей, всесторонне от-
ражают реальною жизнь. Они художественно-образно отражают,
следовательно, и национальные формы жизни. Однако, если куль-
турный обмен между народами в той пли иной степени имеет место
на всех этапах истории, то при социализме он происходит особен-
но интенсивно. Социалистическая по содержанию, национальная
по форме культура советских наций все более включает в себя
общечеловеческие элементы культуры всех наций, все больше от-
ражает нарастание общности черт людей различных наций, общно-
сти их духовного облика.
Извращенно изображая этот процесс, антикоммунизм пред-
ставляет его как процесс денационализации, нивелировки культур.
Так, Э. Гудман ставит своей целью доказать, что формула «куль-
тура, национальная по форме, социалистическая по содержанию»
рассчитана па установление пределов дальнейшего развития на-
ционализма (читай национального.— С. К.) путем достижения
стандартизации идеологического содержания каждой культуры»63.
Более того, что «в то время как в 1925 году7 эта формула была на-
правлена вначале на объединение в одно целое содержания куль-
туры каждой нации, через десять лет она уже была направлена
также и на объединение форм национальных культур, включая в
первую очередь и прежде всего интеграцию национальных язы-
ков»64. Это не выводы из действительности, а сплошные вымыслы.
63 Е. R. Goodman. The Soviet Design for a World State. N. Y., 1960, p. 2fG.
Ibid.
20 с. t. Кал'тахчян
305
Совершенно к иным выводам приходят те, кто берет реальные фак-
ты и, теоретически осмысливая их, раскрывает суть и характер
сближения, интернационализации культур. Формула «социалисти-
ческая по содержанию, национальная по форме культура» сама по
себе еще не раскрывает соотношение национального п интернацио-
нального. Она еще не отвечает на такие вопросы, как: имеются ли
национальные элементы также в содержании и, наоборот, интер-
национальные элементы в форме национальной культуры? Что та-
кое «национальная форма», в какой зависимости находится она от
интернационального содержания и подлежит ли тоже интернацио-
нализации? Если нет зависимости национальной формы от социа-
листического содержания, то как быть тогда с диалектикой содер-
жания и формы, а если имеется необходимая зависимость, то как
взаимодействует национально-особенное с общесоциалистическим,
интернациональным содержанием? Эти вопросы в свою очередь
упираются опять в более общий вопрос: чем определяется нацио-
нальное своеобразие, как оно проявляет себя в национальных
культурах в социалистических условиях их растущего сближения
и взаимообогащения?
Эти вопросы занимали внимание участников прошедших за
последние годы оживленных дискуссий о национальном своеобра-
зии в художественной культуре (литературе и искусстве). Итоги
их свидетельствуют о том, что многих уже не удовлетворяют поис-
ки национального своеобразия культуры в национальном характе-
ре, а последнего в этой же национальной специфике. Было бы так-
же искусственно выдавать такой круг за причинно-следственные
связи. Хотя в отношении социалистических наций, состоящих из
дружественных классов, можно говорить об общности националь-
ного характера, последний все же сам должен быть объяснен
конкретными социально-экономическими и культурными, а так-
же историческими и природными условиями развития данной
нации.
Поскольку в социально-экономических и в значительной степе-
ни культурных условиях социалистических наций много общего, то
и в их характере имеется много общего. Природные и некоторые
исторические факторы обусловливают определенное национальное
своеобразие в характере, по не они являются решающими в опре-
делении облика нации, не говоря уже о том, что нередко наблюда-
лись немалые природные и исторически обусловленные бытовые
разнообразия в развитии различных районов внутри одной и той
же крупной нации. Но если художественная культура той или иной
нации выступает как бы формой познания и отражения всей сово-
купности жизненных условий развития данной нации, а с другой
стороны, сама, обладая относительной самостоятельностью, имеет
свое содержание и форму, то ясно, что как особенное, так и общее,
иначе говоря, как национальные, так и интернациональные элемен-
ты бытия социалистической нации отражаются в ее художествен-
ной культуре, причем как в содержании, так и в форме.
306
Иногда вместо раскрытия всей сложной диалектики понятия
«культура, социалистическая по содержанию, национальная по
форме» его рассматривают лишь в социальном плане, а для пони-
мания эстетической стороны культуры предлагают параллельное
ее исследование по формуле: только художественное содержание
и художественная форма. Такое искусственное анатомирование как
содержания, так и формы культуры лишь разрушает живые взаи-
мосвязи социального и эстетического в культуре, сложную диалек-
тику их взаимопроникновения. Конечно, внутренним стержнем ис-
кусства (как и культуры в целом) является мировоззрение, но это
не значит, что содержание искусства исчерпывается лишь его идей-
ной основой. Более того, и эта основа содержит все то (прекрасное,
возвышенное и т. п.), которое отображается категориями эстетики.
Героем социалистического искусства является социалистический
человек, а какой бы национальности он ни был, именно он дает
всем видам и жанрам искусства социалистическое содержание
своими новыми общественными связями и отношениями (в том чис-
ле эстетическим) к объективному миру.
Социалистическое содержание искусства отражается художни-
ком в свете марксистско-ленинского мировоззрения не вообще в ху-
дожественной форме, а в национально-художественных формах,
которые полностью соответствуют общественно-эстетическим идеа-
лам социализма. То, что и в эти формы проникает все больше ин-
тернациональных элементов, означает не расщепление формы на
национальное и художественное, а то, что интернациональное,
усваиваясь культурой данного народа, становится его националь-
ным достоянием, каким стало и само интернациональное коммуни-
стическое мировоззрение. Форма как внутренняя структура содер-
жания уже отображает социалистическую жизнь любой нации (на-
родности) в целом (а не по частям, каких-либо якобы механически
сосуществующих интернациональных и национальных элементов),
делая содержание завершенным, представляя действительность ор-
ганически целостно в единстве национального и интернационально-
го. Поскольку форма представляет собой объективные отношения
и взаимосвязи между структурными элементами содержания про-
изведения искусства (образами и характерами), то, естественно,
она выражает и национально-специфические стороны действитель-
ности.
Таким образом, в формуле «культура, социалистическая по со-
держанию, национальная по форме» под содержанием понимается
все внутреннее богатство культуры социалистической нации, а по-
тому оно не может выступать неким абстрактным социальным со-
держанием, независимым от творческого влияния национальной
культуры в целом. Неверно также делить форму на художествен-
ную и национальную, понимая первую как эстетическую, а вторую
как социологическую категорию, или понимать под формой некий
инструмент (пособие), позволяющий гармонизировать внешние
изобразительные средства с содержанием. Национальная форма не
20*
307
внешняя скорлупа содержания культуры. Социалистическое содер-
жание культуры вырабатывается всеми нациями, оно интернацио-
нально, но оно существует не отдельно от формы. Пока существуют
различные нации, социалистическое содержание организуется и
выражается различными национальными формами, которые при
всей своей относительной самостоятельности и большей консерва-
тивности также развиваются, совершенствуются, обогащаются
интернациональными элементами, под ведущим влиянием содер
жания. Диалектика содержания и формы означает их единство,
взаимодействие, ио и ие однозначную их взаимообусловленность,
сводящуюся в данном случае к утверждению, что поскольку форма
национальна, тб и содержание должно быть национальным.
Ошибаются тс, кто считает формулу «культура, социалистическая
по содержанию, национальная по форме» неприменимой к искусст-
ву, полагая, что она не эстетического, а политического порядка, и
взамен предлагают формулу «искусство национально и по форме
и по содержанию». В такой формуле недооценивается главный оп-
ределитель искусства в целом—общественно-экономическая фор-
мация. Игнорируется то, что искусство как форма общественного
сознания имеет социальную природу, оно есть единство познава-
тельного, идеологического и эстетического моментов и, следователь-
но, нельзя его рассматривать лпшь с эстетической стороны, не го-
воря уже о том, что и эстетика не замкнута в самой себе, она ты-
сячами нитей связана с другими формами общественного со-
знания.
Любое национальное искусство хотя и имеет своим предметным
содержанием главным образом национальное материальное окру-
жение, оно воплощает в себе весь мир н действительные отношения
людей в этом мире. Подлинное искусство, даже когда изображает
жизнь отдельного национального колхоза пли предприятия, рас-
крывает существенные события, придает им значение общечелове-
ческое, мировое.
Возрастание при социализме общности интересов, братских свя-
зей людей соответственно увеличивает интернациональную общ-
ность и духовной жизни социалистических наций, а следовательно,
общее в предметном содержании национального искусства. Что ка-
сается органически связанной с предметным содержанием глубин-
ной сущности искусства —его идейно-эмоционального содержания,
выражающего идеи, чувства, эстетические идеалы общества, то
ясно, что в нем общее, интернациональное занимает преобладаю-
щее место. Национальные элементы имеются главным образом в
чувствах художника. Если к сказанному еще добавить, что в ис-
кусстве социалистических наций обе стороны его содержания
(предметно-изобразительное и идейно-эмоциональное) связываются
воедино общностью мировоззрения и художественного метода со-
циалистического реализма художников всех наций, то тогда еще
очевиднее станет преобладание в содержании искусства социали-
стических наций общего, интернационального.
3(18
Принципы внутренней организации содержания национальной
культуры тоже берутся из общественного сознания, но здесь на-
циональная среда отбирает наиболее привычные из них, в большей
степени использует исторически сложившиеся и в прошлом и в на-
стоящем опыт и приемы художественного оформления содержания.
Национальная форма сохраняет свою относительную самостоя-
тельность, но только относительную. Она, так же как и любая
форма, подчиняется своему содержанию, а потому претерпевает
изменения в результате смен общественно-экономических форма-
ций в соответствии с изменениями художественного мышления
разных поколений. Форма по сравнению с содержанием, конечно,
отличается большей консервативностью, но последняя присуща не
форме «вообще», каковой не существует, а средствам, приемам и
схемам создания формы. Упрощенное понимание и применение этих
средств создают пе национальную форму, а лишь карикатуру
на нее.
Поверхностное понимание национальной формы приводит от-
дельных писателей к тому, что они, желая во что бы то ни стало
продемонстрировать исключительность национальной психологии
своих героев, окарикатуривают их. Они ищут национальные осо-
бенности героя во внешней экзотике, воскрешая ради нее даже
давно забытых шаманов. Против фольклорно-этнографического
понимания национального не раз выступали сами писатели. Об
этом, например, говорил на IV съезде писателей СССР советский
писатель М. Танк. Отметив, что «белорусская поэзия, нс теряя
своей самобытности, становится все более интеллектуальной и уни-
версальной», он с досадой добавил,— «хотя некоторые наши кри-
тики все еще причесывают ее под этакого деревенского паренька,
играющего на традиционной жалейке»65.
Художники, старающиеся держаться ближе к своему националь-
ному берегу, па самом деле удаляются от него, ибо в социалисти-
ческих нациях развились современные национальные особенности,
в которых произошли диалектическая переделка содержания,
сбрасывание отживших форм. Формы культуры социалистиче-
ских наций продолжают быть национальными, но не теми, которы-
ми они были в давно минувшие времена. Неприемлемыми для со-
циалистического искусства оказываются пе только реакционные,
по и просто устаревшие формы. Так. былины, бывшие в свое время
художественными творениями, стали звучать пародийно уже в пер
вые годы Советской власти, когда сказители, поощряемые отдель-
ными фольклористами, пытались темы новой социалистической
эпохи втиснуть в былинную форму.
Национальное развивается вместе с развитием общества, поэто-
му нельзя цепляться за все традиции, идеализировать их, если а
же они в свое время были прекрасны и полезны, но сейчас не
ходят к повой жизни. Социалистическая жизнь нации порождает
®5 «Литературная газета», 31 мая 1967 г., стр. 4.
309
нов}ю национальную культуру, которая сохраняет лишь перерабо-
танные элементы из прошлой культуры. В этой связи хорошо ска-
зано в стихотворении «Дары Колхиды» Ираклия Абашидзе:
Нет, я старины не пятнаю,
Но манит меня не она,
Отчизна!
Колхида родная!
Прекрасна твоя новизна! 66
Связывание национального только с древней, исконной почвой
имеет и свои гносеологические корни. Сперва игнорируется то
обстоятельство, что манеры, стилевые системы любой нации
в каждую эпоху тоже складываются не в чистом виде, а как
результат взаимовлияния культур разных народов. Затем один
из стилей, в данном случае патриархальный, возводится в сте-
пень всеобщего и неизменного закона, и любое отклонение от
него рассматривается как денационализация культуры. Конечно,
легче всего эталоном национального избрать один, патриархаль-
ный стиль и огульно отрицать национальный характер всего совре-
менного, но это есть «активная форма умственной лени». Разо-
браться в сложной динамике сущности национального куда труд-
нее и нужнее и важнее, чем простое отлучение от национального
всего современного.
Национальное своеобразие складывается, конечно, в течение
столетий, но оно развивается и обогащается вместе с обществен-
ным прогрессом, дающим ему новое содержание. Национально-
особенное в культуре и по своему удельному весу, и по качеству
определяется прежде всего дайной эпохой. Социалистическая куль-
тура не лишена национальных особенностей, но они, сохраняя
определенную преемственность с прогрессивными традициями
прошлого, в целом вырабатываются новыми жизненными усло-
виями. Ставить во главу угла старое в этих особенностях, разду-
вать его значение не в интересах ни практики, ни теории разви-
тия социалистических наций. В таком случае вместо сосредоточе-
ния своего внимания на проблемах создания социалистических
национальных традиций, утверждения новой психологии, воспи-
тания коммунистической морали, выработки советского характера,
в котором гармонически сочетаются национальное с интернацио-
нальным, мы за национальное сталп бы выдавать лишь этногра-
фическое.
Справедливость утверждения В. Г. Белинского о том, что
каждая эпоха рождает не только свои идеи, но п свои художест-
венные формы, с полной очевидностью демонстрирует советская
эпоха.
Все социалистические нации, опираясь на исторический опыт
своей и других наций, борются за создание ясных и богатых форм
национальной культуры, соответствующих новому ее содержанию.
66 «Грузинская советская поэзия». Тбилиси, 1954, стр. 50.
310
Народные массы, и в первую очередь молодежь, стремятся к со-
временным видам искусства, создают народные театры, кружки
живописи, музыки не потому, что не ценят красоты вчерашнего
искусства, а потому, что не хотят жить с повернутой назад го-
ловой и создают новую красоту, они предпочитают избам с разри-
сованными наличниками современные дома, ибо не хотят ради при-
верженности к вчерашнему лишиться современных достижений,
удобств жизни.
Духовный облик советского человека, настроенность души его
формируются главным образом новыми общественными условия-
ми жизни (общими для всех советских наций), современными со-
бытиями. На этом основании считать объективный процесс роста
и обогащения духовного мира советских людей как утерю ими
национальных особенностей абсурдно. Тщетно пытаются антиком-
мунисты убедить советских людей, что национальным является
только то, что идет из глубины веков, что, распрощаясь с отжив-
шей стариной, народы якобы теряют свой национальный облик.
Советские люди любой национальности глубоко убеждены в том,
что «национальное» также развивается, обогащается, принимает
новый облик. Они высоко ценят то, что социалистический харак-
тер искусства сказывается не только на идейной трактовке собы-
тий jix национальной жизни, но и на эстетических вкусах, творче-
ской манере художников всех советских национальностей.
Советские люди ведут борьбу против проникновения в литера-
туру и искусство произведений, искаженно отображающих социа-
листическую действительность, увлеченно воспевающих архаиче-
скую старину, давно отжившие обычаи и традиции. На XXIV съез-
де КПСС справедливо отмечалось, что спекуляции на уважитель-
ном отношении парода к прошлому, извращенное истолкование
национальной самобытности рассчитаны на то, чтобы провести
идею неклассовостп культуры, привить некритическое восприятье
прошлого, активизировать вредные пережитки, особенно среди мо-
лодежи, создавая почву для проникновения чуждых взглядов и
настроений. Отрицание классового содержания культуры, биолс
гическая трактовка национальной психологии, представление куль-
туры как особого, национально индивидуального царства идей и
ценностей, определяющих неповторимые устремления и цели каж-
дого народа, антикоммунизм использует против укрепления интер-
национальных основ национальных культур, их социалистического
содержания. Интернациональное, общесоветское изображается
«культурной и интеллектуальной русификацией» с подстрекатель-
ской целью вызвать подо :рптельность и вражду в отношении ве-
ликого русского народа, так много сделавш го для экономичен кою
и кхльтурного расцвета всех советских наций и народностей.
Советские люди любой национальности отвергают отжившие
наци шальные формы, как бы ни освящали их традициями Опп
соер лоточивают свое внимание на проблемах создания соилали-
стнч.ских национальных традиций, утверждения новой психоз >гищ
311
воспитания коммунистической морали, выработки советского на-
ционального характера. Появились новые эстетические критерии
и вкусы. Растет тяга к углубленным занятиям по всем современ-
ным видам и жанрам искусства. В каждом произведении социали-
стического реализма, отражающем советскую действитетьность,
можно видеть тесное переплетение национального с общесоветским.
В культуре нации отражается, безусловно, ее история, и совре-
менность находится с ней в преемственной связи, но все же, гово-
ря о национальном, мы берем его в первую очередь таким, каким
оно выглядит в настоящее время. А выглядят все советские нации
в наше время в сильной степени взапмообогащеиными культур-
ными достижениями. От этого национальные культуры не стано-
вятся на одно лицо, по они становятся похожими в своем богатст-
ве, разнообразии форм и стилей, не говоря уже о том, что у них
единое социалистическое содержание. Поэтому, когда характери-
зуют советскую культуру как единую в своем национальном мно-
гообразии, то нельзя забывать, что это многообразие проникло и
продолжает проникать в каждую национальную культуру. Если
не обращать внимание па такое сближение наций и их культур, то-
пришлось бы отказать в национальной принадлежности многим
современным произведениям литературы и искусства, что и делают
антикоммунисты.
В социалистической культуре национальное и интернациональ-
ное составляют не какое-то выдуманное «диалектическое равно-
весие», а диалектическое единство, в котором ведущей является
интернациональная сторона (в диалектическом единстве всегда
есть ведущая сторона). Единство коммунистического идеала, общ-
ность материальных условий развития социалистических наций
стали основой формирования также единого эстетического и эти-
ческого идеала.
Национальные формы социалистической культуры не являют-
ся неизменными, застывшими. Они также взаимодействуют и вза-
имообогащаются. Одни из них отживают как не соответствующие
новому, социалистическому содержанию и уровню развития об-
щей культуры, достигнутой данной нацией. Другие совершенству-
ются, освобождаются от всего устаревшего, примитивного. II на-
конец, новое содержание порождает и новые формы. Последние
тоже не лишены национального колорита, но они создаются благо-
даря отбору всего лучшего, передового, возвышенного из нацио-
нальных культур. Так, у среднеазиатских наций, дагестанских и
других народностей в условиях социалистического братского куль-
турного сотрудничества возникли и развились новые жанры и ви-
ды художественного творчества: роман, повесть, очерк, балет,
опера, хоровое и многоголосое пенне, симфоническая музыка, ки-
нематография, многие жанры изобразительного искусства: станко-
вая живопись и графика, скульптура и т. д. Новые формы и жан-
ры литературы и искусства, естественно, не уменьшили, а увели-
чили возможности всестороннего показа жизни своей нации пли
3’2
народности С другой стороны, эта жизнь стала близкой и понят-
ной и для других народов. Нельзя абсолютизировать какие-то
особые национальные формы, якобы понятные только данной на-
ции, как и нельзя игнорировать пли недооценивать национальную
форму, посредством которой широкие массы той или иной нации,
народности воспринимают и усваивают социалистическое содер-
жание культуры.
Утверждение «культура, социалистическая по содержанию, на-
циональная по форме и интернационалистская по своему духу и
характеру», ио сути дела, указывает на тот знаменательный "ис-
торический факт, что в корне изменился объект изображения лите-
ратуры, искусства — человек, его общественные отношения. Он
у всех советских наций и народностей стал социалистическим. Дол-
жно быть ясно поэтому, что в условиях, когда социалистическое
содержание культуры стало достоянием каждой нации, противо-
поставление национального содержания социалистическому содер-
жанию лишено всяких оснований. Единство национального и ин-
тернационального в культуре выражается, в частности, в том, что
социалистическое проникает в национальное, а национальное —
в социалистическое. Культурные традиции используются лишь в
той мере, в какой они соответствуют современному бытию социа-
листических наций. В ходе строительства коммунизма и его куль-
туры возникают и развиваются новые общесоветские традиции,
которые сближают и объединяют все советские нации и народно-
сти. укрепляют их духовную общность.
Самобытным в национальной культуре является все высоко-
талантливое, жизнеутверждающее, яркое, а не то, что якобы не
имеет сходства с другой национальной культурой. Кто же само-
бытность> культуры понимает в том смысле, что она якобы не носит
на себе влияния других культур, кто превращает национальное
своеобразие в самоцель, сосредоточивает свое внимание на отдель-
ных, подчас уже устаревших национальных особенностях быта,
нравов, обычаев, вольно или невольно ведет свою культуру к само-
изоляции, не выходит за рамки экзотики. «Самобытное» вообще
не есть понятие просто «национальное'-''. Самобытность художника
означает не изолированность его, а то, что он больше видит, боль-
ше вмещает в себя и связывает настоящее с прошлым и будущим,
открывает новые художественные духовные миры, показывает их
всеобщее значение. Неправильно видеть «самобытность» только в
натуралистических или жанровых отображениях национальной
действительности, как и неправильно ее выводить из какого то
«национального духа». Извращенное истолкование национальной
самобытности культуры, имеющей якобы корпи только в самой
себе, мешает развитию здоровых взаимоотношении нации, сужает
содержание «национального» в культуре, сводит его лишь к этно-
графическомм. „
Кто потагает что национальное в искусстве эт . »
что отличает одну нацию от другой, что является исключительной
315
принадлежностью данной нации, тот исключает из понятия «на-
циональное» самое главное — общечеловеческие элементы, тот сво-
дит национальное только к форме, иногда даже к случайным и
временным проявлениям формы и ставит эту форму выше содер-
жания. Самобытность не в мнимой независимости от посторонних
влияний. Наоборот, именно те народы ярко проявляли свою инди-
видуальность, самобытность, которые больше вбирали в себя и
перерабатывали «чужое», а не те, которые, по выражению
Н. Г. Чернышевского, исключительно заботясь о своей оригиналь-
ности, губили эту оригинальность.
В исторический опыт любого народа включаются и усвоенные
им достижения других народов. Исследование, выявление общего,
что имеется у различных наций, не умаляют их самобытности, а,
наоборот, помогают подчеркнуть то оригинальное, что создано на
основе общих достижений, те зерна, которые прибавлены к об-
щему данным народом. Только выявление как общего, так и осо-
бенного (а не единичного) у каждой нации позволяет составить
о ней правильное представление. Считать национальным то, что
принадлежит лишь данной нации и больше никому,— значит пред-
ставить эту нацию обедненной, не такой, какая она есть на самом
деле. Как произведения отдельных художников не являются «са-
мовыражением» своих творцов, творениями якобы «чистого созна-
ния» независимо от внешнего мира, так и искусство нации в целом,
говоря еще шире — ее культура, не является «самовыражением»
таинственного национального духа, потоком якобы имманентного
сознания нации. Культура каждой нации не создается совершенно
независимо от влияний культур других наций, как и не является
достоянием, доступным только для данной нации. Никогда не
было и не может быть наций и национальных культур, развиваю-
щихся независимо от влияний других наций и их культур. Это
тем более невозможно в условиях социалистического развития.
Пролетарский поэт Егише Чаренц, отмечая огромное значение
интернационального в национальном, говорил на I съезде Союза
советских писателей: «Велика роль национальных культур в об-
щей системе советского культурного строительства — националь-
ных г льтур, имея в виду пе только настоящее, но и прошлое их.
Но не забудем, товарищи, что роль эта может оказаться прием-
лемо и плодотворной лишь тогда, если мы рассмотрим их не
скво ;ь призму замкнутых «национальных культур». Я тоже как
армянский писатель принадлежу к «малой» народности н знаю,
чг) если я свою творческую деятельность психологически ограничу
р чи национальной замкнутости, сколь будет жалок ее диа-
паз< и сфера ее влияния. Я счастлив и чувствую себя частью
па родового потока человечества благодаря тому, что Октябрь-
ская революция изъяла из духовного поля моего зрения эту жал-
к io химеру национальных санеограниченностей» 61.
т’7 Литературная газета», 27 сентября 1967 г., стр 6.
314
де строительства социализма росли, а на его зрелой стадии
стали ьсе заметнее общие интернационалистские черты совет-
ских национальных культур. Их разнообразие от этого прогрес-
сивного процесса, отвечающего духу социализма и интересам всех
народов, не уменьшилось, а увеличилось. Социалистическое раз-
нообразие культур развивается, однако, не путем обособления
наций, а, наоборот, их совместным строительством основ комму-
нистической культуры, не знающей национальных барьеров.
Партия всегда придавала решающее значение развитию социа-
листического содержания культур народов СССР. В Программе
КПСС записано, что партия и впредь «будет содействовать их
дальнейшему7 взаимообогащенню и сближению, укреплению их
интернациональной основы и тем самым формированию будущей
единой общечеловеческой культуры коммунистического обще-
ства»68. На XXIV съезде КПСС представители всех республик
ярко показали, что продолжающаяся интенсификация обмена
культурными ценностями стала важным фактором расцвета (а не
обеднения, как трубят антикоммунисты) национальных культур,
их сближения и взаимообогащения.
Ленинизм придает особо важное значение развитию националь-
ных языков. Прогресс культуры любой нации во многом обуслов-
лен развитием ее языка. Ленин учил учитывать, что широкие мас-
сы населения приобщаются к культуре своей и других народов
и участвуют в ее дальнейшем развитии в первую очередь через
родной язык, как и то, что национальный гнет наиболее явственно,
острее и больнее чувствуется в гонениях на родной язык. Поэтому
большевистская партия постоянно и последовательно боролась за
полное равноправие языков всех народов, против принудительного
навязывания им языка господствующей нации.
В первой Программе РСДРП записано: «Право населения по-
лучать образование на родном языке, обеспечиваемое созданием
на счет государства и органов самоуправления необходимых для
этого школ; право каждого гражданина объясняться на родном
языке на собраниях; введение родного языка наравне с государ
ственным во всех местных общественных и государственных учреж
дениях»69. В дальнейшем В. И. Ленин выступал вообще против
выделения особого государственного языка. даи!1ппппапь
Пароды России, конечно, нуждались в знании межнац1^на^
ного языка и даже в условиях царизма проявляли “
овладевать русским языком. Однако у широких масс: этРьпогп
ние гасло из-за притеснении их родных языков и р У
насаждения вместо них государственного язь1ка-
Эту сторону’ дела игнорировали не только ч pi о своего
кодержавники, по и либералы. Последние д- 1 Р
68 Программа Коммунистической партии Советского Сок
1972, стр. 115 . .
ср «КПСС в резолюциях и решениях. т. 1, стр. >>
315
шовинизма ооосповывали неооходимость утверждения русского
языка в качестве государственного тем, что он велик, могуч и его
распространение будет в интересах всех народов России. Отвечая
либералам, В. II. Ленин писал: «Мы лучше вас знаем, что язык
Тургенева, Толстого, Добролюбова, Чернышевского — велик и мо-
гуч. Мы больше вас хотим, чтобы между угнетенными классами
всех без различия наций, населяющих Россию, установилось воз-
можно более тесное общение и братское единство. II мы, разумеет-
ся, стоим за то, чтобы каждый житель России имел возможность
научиться великому русскому языку.
Мы не хотим только одного: элемента принудительности. Мы
не хотим загонять в рай дубиной. Ибо, сколько красивых фраз
о «культуре» вы пи сказали бы, обязательный государственный
язык сопряжен с принуждением, вколачиванием. Мы думаем, что
великий и могучий русский язык не нуждается в том, чтобы кто
бы то ни было должен был изучать его из-под палки»70.
В тех случаях, когда вопрос о необходимости введения русского
языка в качестве государственного поднимали отдельные комму-
нисты, мотивируя это тем, что русский язык поможет развитию
нерусских национальностей, Лепин терпеливо разъяснял, что они
не учитывают решающую роль интернационализации экономики
в централизации больших государств и языков, а цепляются за
принудительные меры, которые, наоборот, вызовут психологиче-
скую реакцию против обязательного государственного (в данном
случае русского) языка. В. И. Лепин говорит о необходимости
учета психологического момента, особенно важного в националь-
ном вопросе, и подчеркивает: «По еще важнее экономика, чем
психология: в России уже есть капиталистическая экономика, де-
лающая русский язык необходимым»71.
В. II. Лепин считал, что выделение межнациональных мировых
языков является объективным и прогрессивным процессом, и имен-
но поэтому выступал против принудительных мер, якобы «ускоря-
ющих», а на самом деле тормозящих этот процесс. Насильственное
насаждение русского языка достойно «королевскому социализму».
«За государственный язык стоять позорно. Это полицейщина,—
писал В. II. Лепин.— Но проповедовать мелким нациям русский
язык — тут пет пи тени полицейщины»72.
Ленинские положения о полном равноправии всех языков по-
следовательно были реализованы после социалистической револю-
ции в России. Советская власть не только уничтожила всякие на-
циональные, и в том числе языковые, привилегии, ио и предпри-
няла конкретные меры по развитию языков пародов бывшей цар-
ской России. По разработанной X съездом партии программе были
исследованы и выяснены особенности фонетической системы, грам-
70 В. II. Лепин. Поли. собр. соч., т. 24. стр. 294—295.
71 В. II. Л еп п п. Поли. собр. соч., т. 48, стр. 234.
72 Там же, стр. 302.
316
мать еского строя и словарного состава бесписьменных языков
и более 40 пашюнальностен СССР впервые за всю свою историю
именно после Октябрьской революции, получили научно разрабо-
ап письменность на родном языке. Для них были составлены
орф афип, разработаны принципы терминологии различных от-
раслей знания.
Н V съезде писателей СССР с гордостью отмечалось, что
ныне литература Советского Союза выступает на 75 языках, в то
время как дореволюционная литература была лишь на 13 языках.
Если при царизме языки даже старописьменных крупных наций,
таких, например, как украинской, белорусской, грузинской, армян-
ской, имели очень ограниченные общественные функции, то в со-
ветский период для многих наций и народностей стало фактом
преподавание на родном языке в школах и вузах, издание самой
различной литературы, радио- и телевизионные передачи, ведение
научных исследований, государственных и общественных делит.д.
Вместе с тем не случайно, что именно в условиях социализма,
обеспечившего равноправие и свободное развитие наций и их язы-
ков, началось массовое добровольное изучение русского языка со-
ветскими людьми нерусских национальностей. По данным переписи
населения СССР 1970 года, русский язык назвали своим родным
языком 13 миллионов человек других национальностей. Кроме того,
41.9 миллиона человек назвали русский язык в качестве второго
языка, которым свободно владеют. Русский язык выполняет огром-
ную общественную функцию в качестве языка межнационального
общения. Он является незаменимым средством получения образо-
вания, особенно высшего образования гражданами малочисленных
народностей. Русский язык способствует обмену духовными цен-
ностями, укреплению взаимосвязей советских национальностей,
служит средством приобщения их к лучшим достижениям отечест-
венной и мировой культуры. Русский язык ныне стал одним из
общепризнанных мировых языков. Его изучают миллионы люден
и за рубежом, особенно в социалистических странах.
Успехи СССР, достигнутые в развитии национальных языков,
настолько ощутимы, что даже отдельные буржуазные ученые отме-
чают, что в Советском Союзе более чем в какой-либо другой стра-
не глубоко понимают всю важность изучения языков и их исполь-
зование. Так, Герцлер в работе «Социология языка» пишет. < Ком-
мунисты в СССР понимают, какую огромную роль играет язык как
средство воспитания»73. Однако такие признания в буржуазной
литературе встречаются не так часто. Наши идейные противники,
замалчивая факты возрождения и широкого развития нашюналь
пых языков при социализме и спекулируя па том, что одновремен-
но возрастает число нерусских людей, владеющих или овладеваю
тих русским языком, вопят о русификации нерусских народов
Жупел «языковой ассимиляции» стал одним из главных оруд
73 I. О. Hertzler. The Sociology of Language. N. Y„ 1965, p. 261
317
почти всех советологов в их борьбе за подрыв дружбы народов
СССР. В этих целях антикоммунисты не останавливаются ни пе-
ред чем. Так, Ярослав Былипский, адъюнкт-профессор политиче-
ских наук Делавэрского университета, подстрекательски заявляет:
«Самая большая слабость украинцев, по-моему, — это сохранение
на Украине полурусского характера крупных городов, которые ста-
новятся все более русскими в своей основе... Война продолжается
и ведется главным образом в области культуры, но это схровая
борьба, так как язык имеет решающее значение для многих при
имеющихся возможностях в сфере образования и экономики»74.
Более респектабельные буржуазные социологи подобные рас-
суждения одевают в сравнительно благопристойные одежды. На-
пример, упомянутый уже Элиот Гудман считает, что формула
«культура, национальная по форме, социалистическая по содержа-
нию», первоначально задуманная якобы для «стандартизации со-
держания каждой культуры... создала основу для ограничения раз-
вития и национальных форм, среди которых язык — наиболее важ-
ная форма»75.
Рассмотрение действительной языковой жизни в СССР опять
же изобличает всю фальшь выдумок антикоммунизма. Советская
, власть уничтожила всякие национальные, и в том числе языковые,
привилегии и создала все условия для свободного развития языков
народов бывшей царской России. Всему миру известен бурный
рост объема общественных функций национальных языков благо-
даря созданию широкой сети национальных школ, техникумов, ву-
зов, библиотек, театров и т. д. На каком же основании антикомму-
нисты твердят о русификации? На том, что народы СССР в своих
интересах все больше овладевают русским как межнациональным
’ языком? По во-первых, о русификации нельзя говорить уже пото-
му, что изучение русского языка сугубо добровольно, а во-вторых,
знание русского языка, как и любого другого языка, помогает, а
не мешает развитию национальной культуры и языка.
Э. Гудман сам признает, что «рождение заново различных на-
циональных языков в СССР явилось как бы благословением на-
циональных меньшинств»76. Но встревоженный тем, что «это часто
давало неожиданный результат увеличения значения русского язы-
ка среди нерусских пародов», он высказывает «страшное опасе-
ние» антикоммунизма, что таким путем «русский язык получит воз-
можность победы в мировом масштабе. Это создает определенные
возможности, что русский язык действительно станет будущим ми-
ровым языком, в случае, если советский режим будет иметь успех
в своих целях... Это означало бы, что весь мир станет огромной
русской нацией»77.
74 «Ethnic minorities in the Soviet Union#, edited by Erich Goldhagen. N. Y.—
Washington, 1968, p. 169.
76 F. R. Goodman. The Soviet Design foi a World State, p. 266.
76 Ibid., p. 272.
77 Ibid., p. 281.
3’.8
То, что последний вывод абсурден с научной точки зрения а
превращение того или иного языка в мировой язык никогда и ни-
кому не угрожало, не мешает ряду антикоммунистов фактам напе-
рекор твердить о якобы обеднении национальных языков в СССР
и даже об их ассимиляции. Если поверить некоторым антикомму-
нистам, то получается, что, например, узбекский язык хорошо раз-
вивался до революции, когда узбеки почти поголовно были негра-
мотными, па узбекским языке издавалась всего одна газета, не
было ни одного вуза или театра, ни одной массовой библиотеки.
II будто бы развитие этого языка почему-то затормозилось, когда
на узбекском языке стали выходить 123 газеты, книги с миллион-
ными тиражами, работают 3,5 тысячи массовых библиотек, множе-
ство театров и школ, а в 38 вузах республики учится в 1,8 раза
больше студентов, чем их обучалось во всех вузах дореволюцион-
ной России. Ясно, что все обстоит наоборот. Красноречивые факты
небывалого расцвета национальных языков, культурных, научных
очагов можно привести по любой республике, особенно в отноше-
нии ранее бесписьменных народов. Например, о каком упадке кир-
гизского языка можно говорить в годы Советской власти, если он
как письменный литературный язык возник лишь после Великой
Октябрьской социалистической революции и только тираж книг,
издаваемых на киргизском языке, от нуля до революции достиг в
1968 г. 2,9 миллиона. Как может тормозиться развитие этого языка,
когда именно в советское время на нем стало работать множество
школ, техникумов, вузов, профессиональных театров и т. д.
В СССР процветают и старописьменные и младописьменные
языки как благодаря развитию своих внутренних ресурсов, так и
благодаря тесному взаимодействию и взаимообогашенню, путем
заимствования необходимых языковых элементов.
Для эпохи социализма характерны не дифференциация языков
(образование диалектов) и не их интеграция в смысле слияния
языков, поглощения одних литературных языков другими, а заим-
ствования лексических или иных элементов из одних языков в дру-
гие. Вместе с тем «заимствования, занимая как бы нейтральное,
промежуточное положение, не исключают процессов дифференциа-
ции и интеграции, которые могут сопровождаться и почти всегда
сопровождаются заимствованиями»78. Процесс взапмообогащения
языков происходил во все времена. Чистых языков в мире нет. Так,
специалисты-лингвисты насчитывают заимствованных слов неанг-
лийском 60—70% его словарного фонда, в корейском более 75/о.
Одна треть лексического состава восточпороманскпх языков сла-
вянского происхождения.
Известно, что значительную часть прямых заимствовании со
ставляют иностранные слова, советпзмы, научно-технические, ли-
тературные и общественно-политические термины. «Забота» анти-
7” Ю. Д. Дешериев. Закономерности развития н взаимодействия лков
в советском обществе. М., «Наука», 1966. стр. Ю6.
319
коммунистов, националистов о «чистоте» национальных языков,
следовательно, направлена не на то, чтобы оберегать их от засоре-
ний надуманными, ненужными словами, а против прогрессивных
тенденций сближения некоторых языковых элементов, увеличения
интернационального фонда слов, терминов. В. И. Ленин, говоря о
чистоте, например, русского языка, протестовал против употребле-
ния иностранных слов без нужды, так как это затрудняло бы рас-
пространение грамотности и культуры среди народных масс. Но он
никогда не выступал против заимствования слов и терминов нуж-
ных, необходимых. При этом такие необходимые слова могут быть
заимствованы из любого языка. Вошли в русский язык, а через
него в другие языки такие заимствованные, например, из армян-
ского научно-технические термины, как ереваипт, севапит, наприт,
дитилен, гаиглероп и т. д. Особую и многостороннюю роль играет
в этом взаимообогащении русский язык, который используется на-
родами СССР как основное средство приобщения к русской и ми-
ровой культуре, в том числе к культуре всех пародов СССР.
В языках народов СССР используются как непосредственные за-
имствования из русского литературного языка, так и заимствова-
ния интернациональных терминов и слов из других языков пародов
СССР через посредство русского языка.
Антикоммунистам не нравится, что в нашей печати говорится
о том, что попытки некоторых лингвистов переводить на нацио-
нальные языки даже такие термины, как революция, Советы, ком-
мунизм, спутник п т. п., ставите подлинно интернациональными,
только обедняют интернациональный лексический фонд, рост ко-
торого является прогрессивным явлением. При этом они скрывают
аргументы советских языковедов, которые на различных совеща-
ниях и конференциях, посвященных закономерностям развития
языков в советскую эпоху, доказали, что заимствование языковых
элементов наряду с использованием внутренних ресурсов каждого
языка стало при социализме богатейшим источником развития
всех языков.
Совершенствованию и взаимообогащенпю подвержены все язы-
ки, и русский язык не составляет исключения. Наоборот, русский
язык один из наиболее восприимчивых к заимствованию слов, и
это его качество высоко ценили русские прогрессивные деятели.
Русский язык на всех этапах своего развития обогащался за счет
многочисленных заимствований из различных языков мира, в том
числе из структурно далеких от него тюркских, финно-угорских,
кавказских, прибалтийских и др. Заимствование из языков народов
СССР, обогащение за их счет вообще являются одной из особен-
ностей! развития русского языка. Известно, например, что Н. В. Го-
голь ввел в русский язык большое количество украинских слов.
Органично вплетал украинизмы в ткань русского языка и Павло
Тычина. С другой стороны, Т. Г. Шевченко, написавший ряд выдаю-
щихся произведений также на русском языке, обогатил достиже-
ниями последнего украинский литературный язык. Над сближс-
320
пнем белорусского языка с русским трудились выдающиеся бело-
русские писатели Янка Купала и Якуб Колос. Лингвисты считают
го если бы вообще были собраны все слова, заимствованные рус-
ским языком из других языков, то словарь из таких слов составил
бы много томов. Процесс взаимообогащения языков и культур,
естественно, оолсе интенсивно протекает в социалистических усло-
виях. Поэтому особенно сейчас стремление оберегать любой язык
от необходимых и полезных заимствований лишено научных осно-
ваний.
В СССР нет п ие может быть соперничества языков. При социа-
лизме, в условиях полного равноправия языков, любовь к родному
языку ничуть не мешает ценить и уважать другие языки, знать и
использовать языки межнациональные. Когда же ряд малочислен-
ных народностей, считая для себя более целесообразным другой
язык, переходит на него, неправильно утверждать, что с переменой
языка данная народность перестает быть сама собой. Как показы-
вает опыт, новый язык становится новой формой выражения всего
национального данной народности. Для нее родным языком стано-
вится этот новый язык.
В этих условиях заострять вопрос: на каком языке должен обу-
чаться представитель той или иной нации,— значило бы вторгаться
в сферу священных прав граждан и так или иначе нарушать их.
Некоторые буржуазные авторы, смешивая право с обязанностью,
говорят не о праве, а о долге граждан получить образование на
родном языке. Так, один из них пишет: в СССР «предполагается,
что граждане должны обучаться на своем родном языке, а на прак-
тике это не всегда так»7^. Конечно, это не всегда так, ибо гражда-
нам Советского Союза предоставлено право, а не вменено им в
обязанность обучаться на родном языке. Равноправие наций в
СССР помимо всего прочего заключается в том, что каждый гражда-
нин вечен обучаться или обучать своих детей на том языке, какой
он предпочитает. Если определенная часть родителей отдает своих
Детей в иноязычную школу: русскую, украинскую и т. д. (а теперь
и в специальные школы па иностранных языках), то это их право,
а любое давление (даже моральное) на их волю было бы таким же
нарушением ленинской политики национального равноправия, как
и принуждение непременно обучаться на другом, неродном языке.
Вместо соперничества языков в СССР происходит их взанмо
действие и взаимообогащенпс. Расширению общественных функции
национальных языков Коммунистическая партия придает ольшое
значение не только потому, что это есть один из показателей рав-
ноправного развития наций, но и нехотя главным ооразом пз того,
что именно развитие родного языка позволяет,широким’ м,~ '
напкратчайший срок поднять свой культурный ^Р ’
новые культурные ценности. Национальные языки играют исключи
-Р. Wohl. Now multinatiorbood wac born. «The Christian Science Moni-
tor». Boston, Sept.. 17, 1967, p. 9.
21 C. T. Кглтахчян
321
тельную роль в распространении и усвоении коммунистических
идей в нашей многонациональной стране. Чем более развитыми яв-
ляются национальные языки, тем они лучше обеспечивают расцвет
нации, ее культуры, а следовательно, тем большим будет вклад
данной нации в интернациональное развитие всех народов. Знание
же наряду с национальным языком и языка межнационального,
общения обеспечивает национальную культуру новым могучим
средством ее развития и выражения, усиливает взаимообогагцение
культур, расширяет и укрепляет их интернациональную основу.
Расцвет национальных языков в СССР настолько широко изве-
стен, что антикоммунисты, не смея отрицать очевидные факты,
пытаются бросить хотя бы тень на них. Так, Я. Орнштейн, призна-
вая, что количество публикаций на национальных языках в СССР
«впечатляюще», прибавляет: «Но мы не знаем, скотько из этих
книг в действительности покупается и читается»80. Трудно, конеч-
но, предположить, что автор не знает всему миру известные факты
о том, что в СССР больше, чем где либо, покупается и читается
книг, журналов и газет на всех национальных языках, но он, пре-
следуя определенную цель, пытается посеять хотя бы сомнения.
Далее он изображает объективно ограниченные возможности раз-
вития языков малочисленных народов как результат... политики.
Что касается новописьменных языков, пишет он, «их употребление
ограничивается, сводясь лишь к роли местного языка и к средству
ведения неофициальных бесед в группах, однородных по своему
составу. В то же время возможно своего рода демонстративное
употребление этих второстепенных языков, чтобы отвести обвине-
ния в том, что ленинская политика этимологического самоопреде-
ления выброшена за борт»81.
Все это — сущий вздор. В СССР никто искусственно не ограни-
чивает развитие какого бы то пи было языка. Все дело в том, что
в силу объективных причин расширение общественных функций
родного языка некоторых народностей оказывается недоступным.
Хотя и любой язык потенциально имеет безграничные возможности
к развитию, но для реализации их он должен иметь не только бла-
гоприятные социальные условия развития, но и определенный ми-
нимум своих носителей. Известно, что ряд народностей СССР на-
считывает всего несколько тысяч, а то и несколько сот человек на-
селения. Ясно, что иметь свои вузы, литературу и т. д. они не мо-
гут. Эти народности и национальные группы вообще не захотели
иметь своей письменности и охотно переходят на языки крупных
наций, становясь часто двуязычными82.
«Ethnik minorities in the Soviet Unim ». N. Y Washington — London,
1968. p. 136.
*’ Ibid., p. 134.
82 Критику встречающихся в пашей литературе ошибочных суждении о харак-
тере национальной культуры, а также о двуязычии в СССР' см.: М. И. К у-
л и чей к о. Национальные отношения в СССР п тенденции их развития. М,
«Мысль», 1972, стр. 406—409; А. П. С е р ц о в а. Социализм и развитие наций.
Нзд-во МГУ, 1973, стр. 165—166.
322
Билингвизм не чья-то выдумка, и он не насаждается искусствен-
но. Антикоммунисты не могут не знать, что рост двуязычия в СССР
и выделение основного типа его—знание национального языка
(в том числе русскими, живущими в национальных республиках) и
русского как межнационального — вызваны всесторонним сотруд-
ничеством социалистических народов, их экономическим и культур-
ным сближением. Но, как известно, положение обязывает, и анти-
коммунисты извращают истинную природу и значение двуязычия.
Любой язык, даже самый развитый, совершенствуется. Необхо-
димость в этом тем больше для языков межнационального обще-
ния, объем общественных функций которых постоянно возрастает.
Развитие языков является естественноисторпческпм процессом,
однако он протекает не стихийно. Специалисты-языковеды обоб-
щают все языковые процессы и работают над совершенствованием
языков. Правда, бывает и некоторое отставание. Так, уже не раз
было замечено и указано, что нет народа, который бы не страдал
от расхождения разговорного языка и письменных языков. Эти
расхождения настолько разительны, например, в английском и
французском языках, что даже сами французы и англичане при-
знают это «национальным бедствием». Своевременно не устраняет-
ся излишняя усложненность орфографии в ряде других языков,
что, конечно, не способствует легкому их усвоению, особенно ино-
странцами. Слова Вольтера: «Письмо — изображение голоса, чем
оно более похоже, тем оно лучше» — аристократы духа расцени-
вают как плебейское требование. Пуристы всех наций ревниво обе-
регают традиции формы языка, оплакивают «снижение» ее к уров-
ню разговорного языка, чем задерживают совершенствование язы-
ка и распространение грамотности.
Ф. Энгельс о критических замечаниях одного пуриста, немецко-
го эмигранта-социалиста о стиле II тома «Капитала» писал: «Тот
немецкий язык, от которого он (пурист.— С. К.) в восторге и кото-
рый нам вколачивали в школе, с его отвратительной конструкцией
периодов и со сказуемым, отодвинутым бесконечными предприда-
точнымп предложениями на 10 миль от подлежащего, в самый
хвост,—этот немецкий язык таков, что мне понадобилось тридцать
лет, чтобы отучиться от него. Этот бюрократический немецкий
язык школьных учителей, для которого Лессинг вообще ие сущест
вует, совершенно исчезает теперь даже в I ерманни» .
Русский язык также на разных этапах подвергался отдельным
изменениям. Реформа Петра I коснулась графики, а ученый и поэт
В. К. Треднаковский (1703-1769) обосновал уже необходимость
реформы орфографии русского языка, требуя писать «ио у'
т. е. па основе фонетического принципа. Но царское прав ’
противодействовавшее распространению грамотности и ку > УР
среди населения, не было заинтересовано снять излишшк . .
ценности русской орфографии. Только во второй половине
К. Маркс п Ф. Энгельс. Соч., т. 36, стр. 406.
323
21*
научио-педагогпчсскон общественностью был выдвинут не одг4ч
проект реформы русского письма, но при царизме они оставались
под спудом, если не считать отдельные частичные поправки.
Только Советское правительство во главе с В. И. Лениным уже
23 декабря 1917 года и 13 октября 1918 года декретировало рефор-
му как графики русского письма (удаление ненужных букв фиты,
ижицы, ятя), так и орфографии, отменив одни правила и облегчив
другие. Весьма примечательно, что Декрет Совнаркома о введении
новой орфографии начинался с указания на необходимость «облег-
чения широким массам усвоения русской грамоты и освобождения
школы от непроизводительного труда при изучении правописа-
ния...» 84.
В 1964 году в «Известиях» были опубликованы для обсуждения
новые «Предложения по усовершенствованию русской орфогра-
фии». Несмотря на то что эта работа еще не завершена, ход
обсуждения еще раз показал как необходимость систематического
усовершенствования любого языка, так и трудности, стоящие на
этом пути. Недостатком обсуждения «Предложений», на наш
взгляд, было то, что они критиковались не столько за их недорабо-
танное^, сколько с позиций субъективно-эстетического любования
привычным и отвержения всего кажущегося, в данный момент, не
«ласкающим глаз» и «режущим ухо». Не говоря уже о том, что
такой «эстетический» подход не служит Прогрессу языка, в обсуж-
дении не были затронуты важные социально-политические аспекты
облегчения изучения русского языка в наше время миллионными
массами людей нерусских национальностей.
Если учесть, что язык, как и любое общественное явление,
нуждается в постоянном улучшении, а еще и особое положение
языков межнационального общения, то станет ясным, что пробле-
мы их совершенствования, облегчения (а не упрощения) орфогра-
фии и т. д. систематически будут вставать перед динамически раз-
вивающимся обществом. Успешное решение этих проблем всегда
будет служить прогрессу.
В СССР созданы самые благоприятные условия для развития
национальных языков. Партия будет и в дальнейшем обеспечивать
свободное развитие языков народов на основе равноправия и взаи-
мообогащения, представлять полную свободу каждому граждани-
ну говорить, воспитывать и обучать своих детей на любом языке,
не деля языки на государственные и негосударственные, не до-
пуская никаких привилегий, ограничений или принуждений в упо-
треблении тех или иных языков.
С национальными особенностями языков и в целом различных
культур обычно связывают проявления национального характера.
1 В основе это верно, если имеются в виду именно национальные
особенности характера и но забывается, что все особенности — и
81 «Собрание узаконении и распоряжений Рабочего п крестьянского правитель-
ства», 1918, № 74, стр. 804.
324
культуры п характера в конечного счете своим источником име-
ют реальную жизнь.
Национальные особенности характера присуще и представите-
лям социалистических наций, народностей. Характер людей в со-
циалистическом обществе, следовательно, вырабатывается и опре-
деляется всей совокупностью их социалистических общественных
отношений. Национальные особенности он получает благодаря
специфике бытия различных наций, народностей, благодаря тому,
что национальные отношения являются составной частью общест-
венных отношений.
Таким образом, реально имеется не особый национальный ха-
рактер, а национальные особенности характера. Этим ничуть не
умаляется их значение. Учет национальных особенностей очень
важен для налаживания правильных взаимоотношений народов,
для их культурного строительства.
Национальные особенности характера, как и психологии, куль-
туры при социализме получают качественно новую основу для
своего развития. У советских наций, например, преобразилась
былая национальная действительность, преобразилось и нацио-
нальное самосознание. Появились новые представления, понятия,
нормы морали, новые традиции и обычаи. Характеры советских
людей, не теряя своих национальных особенностей, в главном, ос-
новном стали раскрываться в их социалистической, интернацио-
нальной общности.
Кто не замечает, что главным определителем характера совет-
ских людей, в том числе его национальных особенностей, являются
их современные социальные условия, тот вынужден искать особый
национальный характер и его основу в глубинной психологии, свя-
зывая последнюю с древними корнями развития того или иного
народа. Оговорки в подобных случаях о якобы признании «исто-
ричности национального характера» и отрицании его имманент-
ности только данной нации повисают в воздухе.
Конечно, природа, разные языки, ландшафты, песни, предания
прошлого накладывают сильный отпечаток на эмоциональный мир
людей, живущих в данной национальной среде. У них складыва-
ются свои образные представления, чуткость к осооому поэтиче-
скому языку. Национальные особенности характера, видимо, и на-
до искать в указанных и подобных своеобразных условиях жизни.
Но даже национальные особенности характера не состоят из эле-
ментов, присущих только данной нации. Видимо, это не совсем
ясно тем авторам, которые связывают те или иные качества
характера нации с якобы только ой присущей психологией, ак,
Л. Овчаренко в статье о современной белорусской прозе («Друж
ба народов», 1965, № 9) приписал герою «Альпийской баллады»
В. Быкова «чисто белорусскую скромность, даже застенчивость»,
отделяя, как удачно заметил В. Осксикии, скромного и застои
вого Ивана Терешку от нескромных, видимо, и иезасюичивых г[
св других национальных литератур.
325
Авторы социологического исследования национального харак-
тера русских (в Москве) и немцев (в Берлине), опубликованного
в «Неделе»85, включили в русский национальный характер даже
«любовь к детям» в отличие от характера немцев (у них этого ка-
чества не оказалось) и, видимо, от других наций.
Подобных примеров можно привести множество. Кому неясно,
что в национальном характере любой нации больше элементов
общих или сходных с национальным характером других наций, те,
включая в характер наилучшие человеческие качества (отрица-
тельным чертам почему-то отказывают в прописке на националь-
ной почве), такие, например, как гостеприимство, мужество и т.п.
вплоть до любви к детям, не задумываются над тем, что подобные
черты характера, собственно, являются не только национальными,
но и общечеловеческими 86.
Понимание того, что «национальное» в своей основе не есть
исключительное достояние той или иной нации, прояснит и то,
почему в социалистическом обществе особенно интенсивно проис-
ходит вхождение интернациональных черт характера в содержа-
ние национального характера.
Стремление отдельных авторов развести всех к своим нацио-
нальным берегам, вывести их национальный характер непременно
из якобы имманентной данному народу психологии, а не из всего
социально-исторического своеобразия (в том числе своеобразия
национальной среды) народной жизни приводит к тому, что наде-
ляют и социалистические нации отвлеченными моральными каче-
ствами, издревле присущими якобы данному народу.
Когда против такого подхода выступил литературный критик
В. Оскоцкпй и заявил, что «социалистическое, национальное и об-
щесоветское существуют неразрывно»87, другой критик Э. Ели-
гулашвили увидел в этом утверждении покушение на диалектику
формы и содержания и воскликнул: «... как-то неловко даже напо-
минать о том, что национальное — форма существования социали-
85 «Как мы знаем друг друга?» «Неделя», 9—15 мая 1965 г.. № 20. стр. 12. 13
и 17. Как сообщает редакция, в мае 1965 года репортеры «В1» в содружестве
с московскими журналистами из агентства печати «Новости» прошлись из
дома в дом по Вихертштрассе в Берлине и по улице Пушкина в Москве,
чтобы задать их жителям несколько заранее обусловленных вопросов. Резуль-
таты опубликованы без претензии на научные п социальные обобщения, как
оговорились авторы. Но они все же считают, что опубликованная таблица
ответов красноречива и «несомненно отражает паши знания о характерах
друг друга, сложившиеся на протяжении многих лет» (стр. 13), хотя в дей-
ствительности эти ответы («любовь к детям», «к танцам» и т. п. у русских,
«пунктуальность», «опрятность» и т. п. у немцев) отражают не национальный
характер этих народов, а ходячие мнения об их характерах.
Bfi Правда, в последнее время отдельные авторы уже утверждают, что нацио-
нально-особенное в характере следует видеть пе в самих чертах характера,
а в их своеобразном проявлении, например в особенностях гостеприимства
русского и груишского п т. д.
87 В. Оскоцкпй Литературный герои и его национальный характер. «Друж-
ба народов», 1966, К? 5, стр. 271
326
этического»88. Но здесь форма явно понимается как внешняя скор-
лупа, что ниче общего не имеет с диалектикой формы и содер-
жания. Мысль же о единстве социалистического и национального
не только не противоречит диалектическим связям содержания и
формы, но и хорошо показывает социалистическое в националь-
ном и национальное в социалистическом. Правильное понимание
такого единства сделало бы ясным, почему многие существенные
национальные черты определяются социально-историческими усло-
виями и невозможно считать их исключительным достоянием толь-
ко данной нации.
Нельзя определять «национальный характер» набором некото-
рого числа эпитетов, затем, указывая на соответствующие этим
эпитетам свойства героев того или иного произведения, думать,
что тем самым уже определили национальное своеобразие данного
произведения. Несостоятельность такого подхода доказывается
уже тем, что как раз этим путем мы обнаруживаем приложимость
приписываемых характеру той или иной нации черт всем другим
национальностям и теряем искомую специфику культуры. Неуди-
вительно поэтому, что такое положение вещей наводит исследова-
телей на мысль, что, видимо, лучше оставить в покое «неулови-
мый» самодовлеющий национальный характер и посмотреть, как
общечеловеческие черты проявляются каждый раз своеобразно
в зависимости от исторической жизни той или иной нации или
народности. Поскольку всякое отдельное, особенное есть так или
иначе общее, а последнее существует лишь в отдельном, через
отдельное, то ясно, что основные черты характера каждой нации
не только национальны, но и интернациональны. Отличие одной
нации от другой не в этих чертах, а в особенностях их проявления
благодаря специфике национальной среды, порождающей те или
иные оттенки эмоционального мира, определенный строй представ-
лений, поэтических образов. Все это имеет отношение главным
образом к национальной форме, а через нес к содержанию культу-
ры нации постольку, поскольку форма организует и выражает со-
держание. Более того, художественная форма, углубляя и разви-
вая художественное содержание, по сути дела, становится его
важной стороной. Социалистическое содержание как ведущее на-
чало в свою очепедь обусловливает не тотько развитие националь
ных форм, но и интернационализацию определенных их элементов.
Правильное понимание соотношения национального и интерна
Цпонального в культуре показывает, что как нет безнацпоналыюи
интернациональной культуры, так и нет подлинной национально!
культуры, нс выражающей интернационального содержания,
тому, не оспаривая реальности национальных особенностей 1 ‘
тсра, национальных чувств, национальных форм, их никак
66 э. Е л игу л а ш в п л п. Сколько будет дважды два? «Дружба народов»,
19С6, № 9, стр. 255.
327
превратить в замкнутых в самих себя реалии и не замечать их
органическую связь с интернациональным.
Итак, внимательный анализ сути формулы «социалистическая
по содержанию, национальная по форме культура» ясно показы-
вает, что она в своей основе верно отражает те коренные измене-
ния, которые произошли в бытии нации, а следовательно, и в пред-
мете и содержании национальных культур. Она не противоречит
диалектическому единству содержания и формы, поскольку социа-
листическое содержание и составляет суть бытия социалистических
наций, а национальная форма социалистического содержания
культуры в свою очередь не исчерпывается традиционными для
данной культуры средствами и приемами.
Каким бы богатым ни было классическое наследие, нельзя
жить на его иждивении, пользоваться лишь ранее найденными ху-
дожественными формами. Как показывает литовский критик
А. Бучис, и стилевые направления, например, новеллы зависят от
постоянно обновляющейся действительности. «Когда предметом
художественного исследования, — пишет он, — становится душев-
ная жизнь героя, сложный мир сто переживаний и привязанностей,
то он, этот мир, не может быть понят или освоен, если автор не
попытается обнаружить те, порою очень глубоко скрытые, каналы,
по которым в сознание героя проходят живые токи жизни. Проще
говоря, эта проблема сводится к обнаружению все той же соци-
альной природы чувств и поступков человека»89.
Именно живые родники социалистической жизни питают но-
вый социалистический национальный характер людей п создавае-
мых ими культур.
Культурное развитие всех социалистических наций, а следова-
тельно, всей социалистической культуры ускоряется тем, что ком-
мунистическая идейность цементирует духовное единство страны
социализма.
Ленинская политика обеспечивает расцвет национальных куль-
тур и укрепление их интернациональных основ не подчинением
культур малых наций культурам больших наций и не механиче-
ским их соединением, а созданием дифференцированных, наи-
более благоприятных условий для развития всех национальных
культур, для их органического взаимопроникновения и взаимообо-
гащения. Каждая из них, обогащаясь культурными достижениями,
в свою очередь вносит свой вклад в социалистическую культуру,
усиливая духовный потенциал всей мировой системы социализма.
Диалектика национального
и интернационального
Историческая основа национальною и интернационального од-
на и та же — возникновение и развитие капитализма и его револю-
89 А Б уч п с. Новая действительность — новая новелла. «Дружба пародов»,
1966, № 7, стр 265
328
ционное превращение в социализм. В эту эпоху соответственно
возникают буржуазные нации, которые с победой социализма пре-
вращаются в социалистические.
Раскрытие диалектики национального и интернационального
является одной из важнейших проблем ленинизма, ибо трудности
возрастают «в политике, где дело идет иногда о крайне сложных—
национальных и интернациональных — взаимоотношениях между
классами и партиями...»90.
Национальное и интернациональное существует нераздельно от
существования наций и народностей, а также друг от друга, хотя,
конечно, меняются условия и характер их проявления, их соотно-
шение в зависимости от социального типа наций. Только знание
их взаимосвязей позволяет использовать вклад каждой нации в
прогрессивное движение человечества и правильно применять
принципы марксизма и опыт международного движения к нацио-
нальным особенностям каждой отдельной страны.
«...Единство интернациональной тактики коммунистического ра-
бочего движения всех стран требует, — писал Ленин, — не устра-
нения разнообразия, не уничтожения национальных различий
(это — вздорная мечта для настоящего момента), а такого приме-
нения основных принципов коммунизма... которое бы правильно
видоизменяло эти принципы в частностях, правильно приспособля-
ло, применяло их к национальным и национально-государственным
различиям. Исследовать, изучить, отыскать, угадать, схватить на-
ционально-особенное, национально-специфическое в конкретных
подходах каждой страны к разрешению единой интернациональ-
ной задачи...» 91.
Интернационализм не только не противоречит национальным
интересам, ио, наоборот, является основой, главной предпосылкой
реализации этих интересов. Каждая нация или народность имеет
свои особенности и специфические интересы, более того, имеет
даже своп национальные формы классовой борьбы и рабочего,
революционного движения. Но всему этому никак нс противоречит
интернационализм, как и упомянутые формы борьбы нс противо
рсчат интернациональному, ибо «именно в этих формах можно^с
успехом отстаивать и международные интересы пролетариата» .
Национальное противопоставляют интернациональному только те,
кто под видом учета национальных особенностей становится на путь
отрицания общих закономерностей международного
циоиного процесса и строительства коммунистического оощ -
ства.
«...Развитие, — писал Антонио Грамши, идет к ПНТСР^Ц11°”^
•чизму, но отправной пункт является «национальным», и
отправного пункта п нужно исходить. Однако псрспскти
в. II Л с н и п. Поли. собр. соч., т. 41, стр. 52.
Тзм же сто 77
62 Г. Димитров. Избр. пропзв., т. 1. М, Госполптпздат,
1957, стр. 440.
329
ся интернациональной и не может не быть таковой. Поэтому необ-
ходимо точно изучить комбинацию национальных сил, которыми
интернациональный класс должен руководить и которые он дол-
жен развивать в соответствии с интернациональными перспектива-
ми и требованиями интернационального развития»93.
Интернационализм потому и является неотъемлемой составной
частью коммунистической идеологии, что без последовательного
проведения его принципов в жизнь нет теории и практики марк-
сизма-ленинизма вообще. Интернационализм представляет важ-
нейший устой деятельности марксистско-ленинских партий по обес-
печению единства национальных и интернациональных интересов
своих народов.
Ясно поэтому, что фальшиво утверждение о том, что интер-
национальное исключает национальное. Пролетарский интерна-
ционализм, выражая общность положения и интересов трудя-
щихся всего мира и являясь руководящим принципом теоретиче-
ской и практической деятельности мирового коммунистического
движения, не только не исключает национальные моменты, но един-
ственно является надежным ориентиром для правильного решения
проблемы сочетания национальных и интернациональных задач
всех народов. Именно пролетарский интернационализм обеспечи-
вает в общественном развитии единство его классового содер-
жания с национальной формой движения.
Уже происхождение термина «интернационализм» (inter —
между и natio — народ) показывает, что без национального не-
мыслимо интернациональное. Когда человечество станет безна-
циональным, отпадет необходимость и в интернационализме.
А пока имеются нации, то, как писал Ф. Энгельс, «интернацио-
нальный союз возможен только между нациями, чье существо-
вание, автономия и независимость во внутренних делах включа-
ются... в само понятие интернационализма»94.
Интернациональное (общее) существует не иначе как в нацио-
нальном (т. е. в единичном). Интернациональное представляет
собой наиболее существенную часть национального и обогащается
в конкретном бытии национального, становясь более содер-
жательным. С другой стороны, в национальном аккумулированы
и продолжают аккумулироваться интернациональные достиже-
ния. Нация развивается тем лучше, чем богаче усваивает интер-
национальное. Национальные интересы неразрывно связаны с
интернациональными интересами. Если даже в определенных,
конкретных условиях требуется подчинить национальные инте-
ресы пролетариата той или иной страны интернациональным ин-
тересам, т. с. общим, существенным, то в конечном счете выигры-
вают от этого подлинно национальные интересы также данной
страны.
93 А. Г р а м ш п. I hup. прошв., т. 3. 'V. ИЛ, 1959. стр. 235—23G.
94 К. Маркс и Ф. Энгельс Соч . т. 39, стр. 74.
330
Таким образом, национальное и интернациональное, будучи
неразрывными в своем существовании, никогда не противоречат
др>г другу, а, наоборот, развиваются в органической взаимо-
связи.
Теоретическую основу для правильного понимания соотноше-
ния национального и интернационального представляет ленин-
ское определение социальной сущности нации. В нем централь-
ными являются «(а) исторические условия» и «(|3) экономический
признак»90. Последние, в том числе особенности культуры и пси-
хологии, если только они не представляются националистически
извращенно, не обособляют национальное от интернационально-
го, не нарушают их единство. Специфическое содержание наци-
онального лишь напоминает о важности учета ленинского ука-
зания о том, что различные нации в силу своих особых истори-
ческих условий развития идут к одной и той же цели «в высшей
степени разнообразными зигзагами и тропинками». Однако глав-
ное, что подчеркивает Ленин, при всем разнообразии этих тропи-
нок то, что «разные нации идут одинаковой исторической доро-
гой...»96. И в этом — главное единство интересов всех наций.
Поэтому Ленин резко выступал против всякого стандарта и шаб-
лона в историческом развитии разных народов, но он же считал
опошлением диалектики превращение многообразия путей осу-
ществления идеалов марксизма, коммунизма в многообразие
«марксизмов» и изобретение особых «национальных социализ-
мов». Марксизм-ленинизм требует скрупулезного учета нацио-
нальных особенностей народов для облегчения их движения к
социализму, являвшегося интернациональным по своей природе.
Каким бы ни был своеобразным путь той или иной нации к со-
циализму, он не делает суть последнего национальной, не отме-
няет интернациональную сущность социализма, общие законо-
мерности его достижения и развития. Марксизм-ленинизм требу-
ет органического сочетания национального и интернационального
при ведущей роли последнего.
Если идеалистическое понимание нации как некой духовной
сущности внедряет и развивает в сознании людей и теологию и
психологию национализма, создает почву для подмены классовой
солидарности национальным «единством» антагонистических клас
сов, то ленинское историко-материалистическое истолкование
нации способств\ет развитию классового и национального само-
сознания трудящихся, пониманию ими единства своих нацио-
нальных и интернациональных интересов. В этих полях ленинизм
выступает как против игнорирования национальных особенно-
стей, связанных с Vровнем экономического и культурного разви-
тия, с историей досоциалистического развития той или иной стра-
®5 «Ленинский сборник XXX». стр 53.
«в В. И. Лени п Поли. собр. соч.. т. 38. стр. 181.
331
иы, так и против преувеличений, абсолютизации этих особенно-
стей, имеющих лишь относительно автономное значение.
Единство интернациональных и национальных интересов озна-
чает то, что отдельное (национальное) не существует иначе как
в той связи, которая ведет к общему (интернациональному), а
общее (интернациональное) существует лишь в отдельном (на-
циональном), через отдельное97 98.
Соответственно и пролетарский, социалистический интерна-
ционализм не существует вне сотрудничества, взаимопомощи ра-
бочих, трудящихся разных национальностей и целых стран, если
речь идет о странах социализма. Интернационализм живет и
развивается лишь на основе осознания всеми ими своих интер-
национальных связей, интернационального долга, интернацио-
нальной ответственности.
Современные антикоммунисты и ревизионисты, националисты
тщатся доказать, что выполнение трудящимися своего интерна-
ционального долга есть предательство интересов своей нации.
Между тем именно выполнение своего интернационального дол-
га способствует прогрессу всех национальных отрядов между-
народного революционного процесса.] Самоотверженный труд в
строительстве социализма и коммунизма в своей стране, борьба
за единство всего мирового революционного движения, помощь
революционным силам других стран примером, сочувствием, ма-
териально и т. д. — все это формы выражения содержания проле-
тарского, социалистического интернационализма.
Осуществляя их в единстве, трудящиеся выполняют свой
интернациональный и вместе с тем национальный долг. Вот, на-
пример, как записано в Программе КПСС: «уничтожить войны,
утвердить вечный мир на земле — историческая миссия комму-
низма»^ сохранение и упрочение мира диктуется националь-
ными интересами всех пародов, как строящих социализм и ком-
мунизм, так и борющихся за демократию, социализм и мир.
Здесь опять же сочетается национальная и интернациональная
ответственность рабочего класса всех трудящихся мира. Особен-
но велика ответственность коммунистических партий, социали-
стических государств в проведении «максимум осуществимого
в одной стране для развития, поддержки, пробуждения револю-
ции во всех странах» ".
Единство национального и интернационального наиболее от-
четливо проявляется в жизни социалистических наций. Оно оп-
ределяется общностью классовых интересов трудящихся, объек-
тивными процессами интернационализации производительных сил,
общими закономерностями становления и развития социалисти-
ческого общества, его соревнованием и противоборством с капи-
97 См. В. И. .И о п и п. 11оли. собр. соч., т. 29, стр. 318
98 Программа Коммунистической партии Советского Союза, стр. 58.
BS В. И. Л с и и и. Поли. собр. соч., т. 37, стр. 304.
332
тализмом, а также объективными потребностями развития миро-
вого революционного процесса. Отрыв национальных интересов
от интернациональных задач трудящихся всегда наносит вред их
интересам — и интернациональным и национальным.
В диалектическом единстве общественных явлений всегда
имеется ведущая сторона. В единстве интернационального и на-
ционального такой стороной является интернациональное. Доми-
нирующая роль интернационального (общего) по отношению к
национальному (особенному) вытекает из решающего значения
общих закономерностей строительства социализма, развития
социалистической системы, мирового революционного процесса.
Каждая нация, народность имеют определенные специфиче-
ские интересы, но ее национальные интересы в целом не замыка-
ются какой-то изолированной внутренней жизнью. В интересах
наций, народностей при социализме ведущим элементом является
социалистическое содержание, поскольку они развиваются на ос-
нове социалистического способа производства и под определяю-
щим влиянием марксистско-ленинской идеологии и политики.
Ошибочно допускать, что национальное представляет якобы
нечто внутреннее, а интернациональное — внешнее по отноше-
нию к развитию пролетарской революции, строительству социа-
лизма и коммунизма в данной стране. Это явный разрыв диалек-
тического единства, интернационального от национального,
общего от единичного. Национальные интересы реализуются в
единстве с интернациональными интересами. Поэтому нельзя
рассматривать интернационализм только как отношение к дру-
гим народам, а интернациональные интересы — лишь как внеш-
ние интересы. Интернациональные интересы неразрывно связаны
с внутренней жизнью наций, народностей. Интернациональные
интересы — это не только потребности различных межнациональ-
ных общностей, но и коренные потребности каждой нации.
народности.
Единство национальных и интернациональных интересов пе
есть, однако, их тождество. Если бы они совпадали во всем или
согласовывались автоматически, то не было бы и проблемы гар-
монического сочетания национальных и интернациональных ин-
тересов. Между тем такая проблема, связанная с тем, что интер-
национальный по своей сущности социализм развивается в различ
пых национальных формах, имеется и решается путем пр'
ния определенных жизненных противоречии в орь ппед-
разных точек зрения. Интернациональные нит р' ’ ин
ставляют также среднеарифметическую от па ни ь м т
тересов или их сумму. Такое рассмотрение Ш _ к0 своев
привести к мысли,’ что достаточно думать о Разв’] ‘ с
нации, и тем самым содружество социалистнче х етран уж
станет сильнее. Подобное огождеспскнпе пацпона
национальным фактически означает пр> Д вссг0 ВННма-
забвение интернационального долга. Сосредото тонне вс
333
ния на узкопонимаемом национальном, как показывает печальный
опыт маоистов, приводит к националистической деформации при-
роды социализма.
Ведущим в социалистических национальных интересах являет-
ся их интернациональное содержание, строительство новой
жизни. Последнее предполагает единство трудящихся в борьбе с
капитализмом. Поэтому национальный интерес не может быть
реализован без активного участия в решении интернациональных
задач. Кто занимает к ним нейтральную позицию, балансирует
между противоположными общественными системами, а еще
хуже —становится на путь раскола интернационального един-
ства социалистических стран, тот наносит огромный урон также
собственным национальным интересам.
Ленинизм отвергает и мелкобуржуазную иждивенческую пси-
хологию в межнациональных отношениях и концепции нацио-
нального автаркпзма. Строительство социализма требует «гар-
моничной национальной и интернациональной координации обще-
ственных форм производства» ’00.
В решении проблемы гармоничного сочетания национальных
и интернациональных интересов возникают определенные проти-
воречия. Одни из них имеют объективную основу (неодинаковый
уровень развития различных наций и, следовательно, неодинако-
вое участие в совместных мероприятиях социалистических
стран, в осуществлении экономической интеграции и т. д.), дру-
гие— субъективного порядка (ошибки, просчеты в политике пра-
вящей партии). Борьба иеаптагонистических противоречий меж-
ду интересами национальными и интернациональными — это не
столкновение несовместимых интересов. Она направлена на луч-
шее разрешение противоречий в общих интересах.
Содержание интернациональных и национальных интересов
объективно, оно не определяется субъективными решениями.
Однако гармоническое сочетание этих интересов во многом зави-
сит от субъективного фактора. Марксистско-ленинские партии
ставят своей задачей: научно познать причины и характер возни-
кающих противоречий и найти путь их преодоления. Историче-
ская практика социализма подтверждает вывод ленинизма о том,
что единство национальных и интернациональных интересов
социалистических наций и народностей, их всесторонний расцвет
и сближение определяются природой социализма, выступают как
объективная закономерность развития мировой системы социа-
лизма.
В социалистическом обществе расцвет и сближение наций
внутренне связанные процессы. Они ие протекают параллельно,
находясь в каком бы ни было равновесии, а диалектически взаимо-
обусловливают друг друга. При этом в их взаимодействии веду-
щим является сближение. При социализме вообще все происхо-
100 К- М арке п Ф. Энгель с. Соч., т. 17. стр. 553.
334
дящие общественные процессы диалектически взаимосвязаны. Они
вместе, во взаимодействии друг с другом создают и усиливают
экономическую, культурную и идейную общность социалистиче-
ских наций, и а родностеп, создают необходимые условия для
искоренения пережитков национализма и формирования у всех
трудящихся интернационалистического мировоззрения. 'Таким
образом, расцвет и сближение наций, народностей, находясь в диа-
лектическом единстве, обусловлены всеми социалистическими
преобразованиями. Неправильно представлять сближение наций
как пассивное следствие их расцвета и думать, что сначала якобы
происходит расцвет, а затем уже их сближение. Сам расцвет наций
немыслим без интернационализации всей их хозяйственной, поли-
тической и духовной жизни. Единство экономики, политики и идео-
логии, а также формирование интернационалистических черт в
культуре, духовном облике наций и народностей способствуют их
расцвету, а расцвет усиливает их взаимное сближение на основе
дружбы и братского сотрудничества.
Основой сближения наций является углубляющаяся их эконо-
мическая интеграция. В условиях развитого социалистического об-
щества создаются самые благоприятные возможности для интен-
сивного проявления двух взаимосвязанных тенденций социалисти-
ческого развития наций — тенденций к расцвету и сближению,
которые в сфере экономики проявляются в качестве тенденций к
комплексному развитию хозяйства республик и тенденции к углуб-
лению специализации между ними. Обе эти тенденции, действуя
в неразрывном единстве, обеспечивают осуществление ленинских
принципов рационального размещения производительных сил и
Достижение качественно более высокой ступени экономического
сближения народов и наций. Создается единый народнохозяйст-
венный комплекс, развивающийся по единому гос\дарственному
плану в интересах всей страны и каждой ее составной части в от-
дельности.
Создание оптимальных условий для сближения наций вовсе не
искусственное подталкивание естественного процесса. Содействие
объективному процессу и перепрыгивание через его необходимые
этапы — вещи различные. Любому объективному процессу можно
содействовать, а можно и противодействовать. Марксистско-ленин
ские партии содействуют расцвету социалистических нации и реа^
лпзации основы этого расцвета — ведущей тенденции к до роволь
ному сближению наций во всех областях жизни. Успешное Р
ние этой двуединой задачи требует последовательного -
руководства всеми социальными, в том числе наци н
процессами в стране. „„ rp-
Развитие социалистической жизни в националы! . ф р .
Дет ко все большему интернационалистическому очередь
Диетических наций, а всестороннее сближение 1 х ~
стимулирует расцвет национальной экономики и У' . -Р каждОй
ловиях социализма переплетаются национальны
335
страны с интересами всей их системы, прогрессирует социалисти-
ческий интернационализм, укрепляется социалистическое содру-
жество народов.
Рассмотрение новых закономерностей жизни социалистических
наций позволяет видеть пути и перспективы формирования и раз-
вития их интернациональной общности. В повседневной практике
социалистического строительства подчеркиваются в первую
очередь ближайшие задачи развития наций, но ставятся и решают-
ся они в соответствии с конечной коммунистической целью. Эту
цель, как бы она ни была далека, необходимо постоянно иметь в
виду, чтобы двигаться к ней целеустремленно, а не делать шаги
в сторону, а то и назад.
Ленинизм нс считает даже при капитализме преждевременным
искать в развитии наций элементы, предуказывающие на их буду-
щее слияние при коммунизме. В. И. Ленин систематически указы-
вал не только на цель коммунистов — построить безиациональное
коммунистическое общество, но и конкретно исследовал пути и
возможности достижения этой пели, постоянно подчеркивал, что
развитие закономерно идет и пойдет через сближение и единение
наций к их слиянию, преодолевая па этом пути все трудности.
Говоря о будущности наций, необходимо видеть все процессы,
происходящие уже сейчас, видеть, какими становятся нации
с каждым историческим этапом. Учитывая сравнительную отда-
ленность слияния наций в смысле их отмирания, процессы сбли-
жения и слияния наций практически можно считать разновремен-
ными. Но вместе с тем важно видеть внутреннюю связь этих про-
цессов, не считать, что только с окончанием сближения якобы воз-
никает слияние наций вдруг, внезапно и неизвестно откуда.
Не менее важно нс забывать и то, что ленинизм сближение и
слияние наций считает разпообъемнымп и разнохарактерными про-
цессами при капитализме, при социализме и при коммунизме,
хотя подчеркивает при этом связи между этими ступеньками раз-
вития сближения и слияния.
Когда В. II. Лепин в представленной 7-й конференции
РСДРП (б) резолюции по национальному вопросу писал, что
«интересы рабочего класса требуют слияния рабочих всех нацио-
нальностей» 101 102, а па VIII съезде РКП (б) в докладе о партийной
программе и в предлагаемом съезду проекте программы партии
подчеркнул, что «в национальном вопросе политика РКП, в отли-
чие от буржуазно-демократического провозглашения равенства
наций, неосуществимого при империализме, состоит в неуклонном
проведении сближения и слияния пролетариев и трудящихся масс
всех наций...»'°2, он под сближением и слиянием наций понимал,
конечно, не уничтожение национальных различий, а слияние тру-
дящихся всех наций в единые организации с едиными интересами
101 В. II. Ле п п п Поли, собр соч., т. 31, стр. 440.
102 В. II. Л с п п п. Поли. собр. соч., т. 38, стр. 94.
336
ДЛЯ совместной революционной борьбы за свержение буржуазии,
а затем совместного строительства социалистического общества’
Для этого требовалось преодоление мелконациональной узости,
замкнутости, обособленности, «проведение в жизнь сближения и
слияния рабочих и крестьян всех наций в их революционной
борьбе».
Однако В. И. Ленин не ограничивал понятие «слияние наций»
только достижением сплочения, интернациональной солидарности
и братства народов. Такое слияние наций при социализме являет-
ся лишь основой для дальнейшего их слияния в зрелом комму-
низме.
В. И. Ленин еще в 1913 году в «Критических заметках по наци-
ональному вопросу», борясь с «националистическим жупелом»
ассимиляторства» и отмечая прогрессивность процессов перемалы-
вания национальных различий в крупных городах уже при капита-
лизме103, писал: «Принцип буржуазного национализма — развитие
национальности вообще, отсюда исключительность буржуазного
национализма, отсюда безвыходная национальная грызня. Проле-
тариат же не только не берется отстоять национальное развитие
каждой нации, а, напротив, предостерегает массы от таких иллю-
зий, отстаивает самую полную свободу капиталистического обо-
рота, приветствует всякую ассимиляцию наций, за исключением
насильственной или опирающейся на привилегии» 104.
При социализме происходит единение, слияние наций в области
экономики, политики, идеологии, а также начинается и продол-
жается до полной победы коммунизма их сближение в сфере куль-
туры, быта, традиций, особенностей характера. Все это подтвер-
ждается практикой развития советских наций, которые уже имеют
общею социалистическую экономику, общую идеологию и полити-
ку. Конечно, то, что советские нации в самых решающих основах
общественного развития едины, не означает, что оставшуюся об-
ласть национальных различий можно считать малозначительной.
Нельзя искусственно форсировать полное слияние наций, не счи-
таясь с тем, что оно хотя и на базе расцвета и сближения наций
начинается уже при социализме, получает свое полное завершение
лишь при зрелом коммунизме. Но также было бы странно говорить
См. В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 24, стр. 126—127.
Ленинское учение о сближении и слиянии нации идеологи
постоянно извращают, изображая В. И. Ленина и его поел д гппиОпОГОв
никами насильственной ассимиляции. Один из америк объектив-
Грей Ходнет обвинил в ассимиляторстве и меня. С ПР ппотив пси-
ность он отмечает, что «Калтахчян объясняет своп в Р ияциональ
хологпческпх истолкований нации тем, что они ведут \ р>- ионалистскую
ному коммунизму», по, желая дискредитировать эту Р' м голо-
позицию и не имея что-либо противопоставить наши д м11ЛЯГорСкая
словно утверждает, что «методология Калтахчян » 4
J гд д „ „ . { what’s in a Nation? «РгоЫета of Commu-
методология» (Grey Hod nett. v\ nat s in a nauui
nism». Sept. —Oct., 1967. Washington, pp. b—14).
C. T. Калтахчян
337
о сближении советских наций в экономике, политике, идеологии,
ибо это было бы недооценкой уже достигнутого единства, общности
в этих областях. Необходимо различать полное слияние наций от
их частичных слияний в разных сферах жизни.
В ходе строительства коммунизма ускоряется процесс сбли-
жения наций. Однако полное слияние наций произойдет через их
длительное дружественное сотрудничество во всех сферах жизни,
через воспитание всех трудящихся в духе социалистического ин-
тернационализма. Процесс преодоления национальных различий
более длительный, чем процесс стирания классовых различий. Но
если неправильно мнение, согласно которому уже в ближайшем
обозримом будущем исчезнут всякие национальные различия, то
не менее ошибочна точка зрения, увековечивающая нации и наци-
ональные особенности.
Национально ограниченные люди, которые при любом упомина-
нии термина «слияние» применительно к периоду социализма при-
ходят в ужас, которые отрицают наличие даже отдельных элемен-
тов слияния наций в той или иной сфере, понимают «слияние»
только в его высшем выражении, как исчезновение всех нацио-
нальных (в том числе языковых, культурных) различий. Поэтому
они без труда отбрасывают любое упоминание «слияний» как
левацкий заскок. Такое метафизическое понимание термина «слия-
ние наций» чуждо ленинизму.
Лепин в периоды подготовки социалистической революции и
перехода от капитализма к социализму «слияние наций» рассмат-
ривал как преодоление национальной замкнутости и создание ин-
тернационального братского сотрудничества в различных органи-
зациях. На этом он не останавливался. Согласно ленинскому уче-
нию о нации и национальных отношениях в развитом социалисти-
ческом обществе достигается полное единство наций, народностей,
а на зрелой стадии коммунизма их полное слияние.
В опубликованной в сентябре 1917 года брошюре «Задачи про-
летариата в нашей революции (проект платформы пролетарской
партии)» В. II. Лепин уже подчеркивает, что слияние трудящихся
различных наций в братский союз в едином государстве — это еще
пе слияние наций, а только путь к нему. «Пролетарская партия,—
писал В. II. Лепин,— стремится к созданию возможно более круп-
ного государства, ибо это выгодно для трудящихся, она стремится
к сближению и дальнейшему слиянию наций, по этой цели опа хо-
чет достигнуть не насилием, а исключительно свободным, брат-
ским союзом рабочих и трудящихся масс всех наций» 10Ь.
После Великой Октябрьской социалистической революции
В. II. Лепин на VIII съезде РКП (б) в своем заключительном
слове по докладу о партийной программе (19 марта 1919 года)
критикует «левых» не за то, что они понимают слияние наций в
смысле достижения безпациоиалыюго человеческого общества, а
105 В II. Леи II п. Поли. собр. соч., т. 31, стр. 167.
338
за их путаницу в этапах этого процесса, за забегание вперед. По
поводу провозглашенного «левыми» лозунга «наций никаких не
нужно, а нужно объединение всех пролетариев» В. И. Ленин го-
ворил: «Конечно, это великолепная вещь, и это будет, только сов-
сем на иной стадии коммунистического развития» 106.
Таким образом, только конкретно-историческое понимание тер-
минов «сближение» и «слияние» наций позволяет видеть как внут-
реннюю связь между ними, так и характер и объем проявлений
процессов сближения и слияния народов различных национально-
стей на разных исторических этапах их развития. Ленин считал,
«что экономический расчет, равно как инстинкт и сознание интер-
национализма н демократизма, требует скорейшего сближения и
слияния всех наций в социалистическом обществе» 107.
106 В. II. Лени н. Поли. собр. соч, т. 38, стр. 181.
107 В. И. Лени и. Поли. собр. соч., т. 30, стр. 121.
339
22*
ГЛАВА VI
ВОЗНИКНОВЕНИЕ НОВЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ
ФОРМ ОБЩНОСТИ ЛЮДЕЙ
В. И. Ленин еще в 1914 году писал, что в противоположность ка-
питализму, отчуждающему нации друг от друга, социализм «творит
новые, высшие формы человеческого общежития, когда законные
потребности и прогрессивные стремления трудящихся масс всякой
национальности будут впервые удовлетворены в интернациональ-
ном единстве при условии уничтожения теперешних националь-
ных перегородок»
С победой социализма, по мере роста его производительных
сил все интенсивнее происходят процессы расцвета и сближения
наций, народностей. На этой основе возникают новые, более выс-
шего порядка, чем нация, формы общности людей. Ярким приме-
ром такой общности является советский народ, возникший как
обобщенный итог всестороннего социалистического развития наций
и народностей СССР, их экономического, политического и идеоло-
гического единства.
1. Советский народ —
новая историческая общность людей
Советский парод имеет славную историю и прекрасное буду-
щее. Он в чрезвычайно тяжелых условиях первым завоевал под-
линную свободу, стал полновластным хозяином своей страны, по-
строил первое в истории социалистическое общество и ныне, воз-
двигая величественное здание коммунизма, продолжает идти в аван-
гарде мирового социального прогресса. Вступая в завтрашний день
всего человечества, советский народ успешно выполняет свою все-
мирно-историческую миссию первопроходца и первооткрывателя.
В героической революционной борьбе и труде, на путях вели-
ких свершений происходило развитие советского народа. Он стал
* В. И. Ленин. Поля. собр. соч., т. 26, стр. 40.
340
новой устойчивой социальной и интернациональной общностью
советских людей. Вся экономическая, социально-политическая,
нравственная, эстетическая жизнь Страны Советов озарена бла-
городным светом дружбы и братства трудящихся всех народов.
Ныне советский народ — это сплоченный коллектив социалистиче-
ских тружеников города и деревни. Это вместе с тем единая друж-
ная семья свыше ста национальностей, уверенно строящих ком-
мунизм.
В ряду таких исторических форм общности людей, как племя,
народность, нация, советский народ представляет собой новую со-
циальную и интернациональную общность людей.
Родо-племенные общины основывались на кровнородственных
связях н представляли «естественную коллективность». Люди в
ней, как отмечали Маркс и Энгельс, были неотличимы друг от дру-
га, не оторвались еще от пуповины первобытной общности. Раз-
витие частной собственности, обмена, торговли разрушило родо-
племенные связи, породило классовое расслоение, и на этой основе
возникли народности, главным качеством которых стала не кол-
лективность, а обособленность, отчужденность различных классов,
групп, личностей. По мере развития классовых антагонизмов гос-
подствующие классы становятся тормозом для прогрессивного
развития народных масс и тем самым порывают с ними. В этот пе-
риод в понятие «народ» входят лишь трудящиеся массы. То же са-
мое мы наблюдаем в нации, когда в ней происходит резкая поляри-
зация интересов пролетариата и буржуазии.
В антагонистическом обществе понятие «народ» не охватывает
все население нации, не говоря уже о населении многонациональ-
ного государства, каким была, например, царская Россия. Упот-
реблявшееся раньше выражение «российский народ» не имело объ-
ективного основания. Российская империя, раздираемая классо-
выми и национальными антагонизмами, не составляла единого
народа.
Оппортунистическое крыло западноевропейской социал демо
кратии, эсеры и меньшевики в России вслед за идеологами у ржу а
зип подменяли классовое деление общества понятием «народ»,
представляя его некоей единой массой. Эту линию продолжают
и современные социал-реформисты и ревизионисты, доказывающие
существование якобы единого народа, национального еД1™ J
капиталистических странах. Основоположники марксизма _
ма всегда решительно выступали против мещапско-оппр у
ческого затушевывания классовых различии внутри „Япппями
совые антагонизмы порождают и антагонизмы ме^дУ должны
«Чтобы народы могли действительно °^Ъ^ДН1П1ТЬС нх ИНте-
быть общие интересы,— подчеркивал К. МаРкс- СУшеств¥Ю-
ресы могли быть общими, должны быть уничт У
о
щие отношения собственности...» .
2 К. Маркс и Ф. Э н г е л ь с. Соч., т. 4, стр. 371.
341
В ходе социалистической революции и строительства социа-
лизма в СССР эта всемирно-исторической значимости задача была
успешно решена.
Уничтожение капиталистической частной собственности, впер-
вые осуществленное в России, не только покончило с эксплуатаци-
ей человека человеком, но и одних народов другими, чем создало
необходимые предпосылки для образования единой интернацио-
нальной семьи народов СССР. Новая историческая общность лю-
дей— советский народ — складывалась прежде всего в результате
изменений в классовой структуре общества. Если в 1913 году в
составе населения царской России было рабочих и служащих
17 процентов (из них рабочих—14), крестьян-единоличников и
кустарей — 66,7, буржуа, помещиков, торговцев и кулаков—16,3,
то советское общество в настоящее время состоит из одних трудя-
щихся. Рабочих и служащих социалистических предприятий и уч-
реждений насчитывается 80 процентов (из них рабочих — более
55), колхозного крестьянства — 20 процентов.
Такая коренная перестройка классовой структуры общества
ускорила процесс сближения рабочего класса, крестьянства и тру-
довой интеллигенции. Возросла руководящая роль рабочего клас-
са. Он стал еще более организованным, постоянно повышается его
общеобразовательный и культурно-технический уровень. В резуль-
тате социалистического преобразования сельскою хозяйства было
преодолено основное различие между рабочим классом и крестьян-
ством в отношении к средствам производства. Коллективизация
изменила социальный облик крестьян, выработала у них новую,
коллективную психологию, сделала более прочным союз рабочих
и крестьян, являющийся социально-политической основой советско-
го народа. Кооперирование крестьян ликвидировало мелкобуржу-
азный в своей основе источник классовой ограниченности и на-
циональной замкнутости. Этому содействовало также создание со-
циалистической интеллигенции, формирующейся в основном из
среды рабочих и крестьян. В целом строительство социализма, как
и предвидел В. II. Ленин, представляло собой двуединый процесс
разрушения всей системы эксплуатации, частнособственнического
уклада и утверждения на их месте единого всенародного коллекти-
ва тружеников города и деревни. Перестройка классовой струк-
туры советского общества, утверждение на этой основе друже-
ственных классовых отношений показывают внутреннюю связь,
единство процессов социалистических преобразований как обще-
ственных классов, слоев, так и народностей и наций.
Советский народ — это образовавшаяся в результате социали-
стических преобразований и сближения трудящихся классов и сло-
ев, наций и народностей новая историческая социальная и интер-
национальная общность людей, имеющих общую Родину, террито-
рию, экономику, социалистическую по содержанию культуру,
федеративное общенародное государство и общую цель — построе-
ние коммунизма.
342
Советский народ представляет единый коллектив тружеников
города и деревни многонационального СССР и как субъект всей
социальной жизни Союза, его экономических, политических и дру-
гих общественных отношение в своей деятельности руководствует-
ся марксистско-ленинской идеологией, коммунистическими идеала-
ми рабочего класса, принципами пролетарского, социалистическо-
го интернационализма. Социалистический общественный строй по-
родил новую психологию, новый духовный облик советских людей
Языком межнационального общения является русский язык, объем
общественных функций которого непрерывно возрастает.
Образование новых исторических форм общности людей яв-
ляется результатом естественного развития социалистических на-
ций, прогресс которых немыслим без углубления их интернацио-
нального единства. Этот естественноисторический процесс, однако,
протекает не стихийно, а под направляющим воздействием мар-
ксистско-ленинских партий, интернациональных по своей сущности,
по своей идеологии и политике, по составу и строению.
В. И. Ленин отмечал, что в России интернациональный харак-
тер коммунистической партии был подчеркнут в самом ее назва-
нии. «Партия,— писал Ленин еще в мае 1905 года,— чтобы унич-
тожить всякую мысль о ее национальном характере, дала себе на-
именование не русской, а российской»3. Эта же особенность пар-
тии подчеркивается в новом ее наименовании: Коммунистическая
партия Советского Союза. КПСС выражает жизненные интересы
и революционную волю всего советского народа. Как партия науч-
ного коммунизма, как руководящее ядро всех общественных и го-
сударственных организаций СССР она направляет деятельность
всех советских людей, воспитывая их в духе советского патриотиз-
ма и социалистического интернационализма, укрепляет общность
советских людей во всех сферах жизни страны. Как говорится в
Уставе КПСС, «Коммунистическая партия, партия рабочего клас-
са, ныне стала партией всего советского народа».
Советский народ построил в СССР развитое социалистическое
общество, в котором сам совершенствуется как новая историческая
общность людей. В условиях зрелого социализма советский на-
род вступил в новый этап своего развития. Перерастание госу-
дарства диктатуры пролетариата в общенародное государство при-
вело к укреплению союза рабочего класса, крестьянства и тру-
довой интеллигенции. Это в свою очередь все с большей силой
сказывается на усилении тенденций, ведущих к дальнейшему раз-
витию социальной однородности советского народа. Советский
народ с его социально-экономическим, идейно-политическим и ин-
тернациональным единством представляет ныне высшую ступень
союза рабочего класса и крестьянства, содружества этих классов
и социалистической интеллигенции, дружбы и братства всех совет-
ских наций и народностей. В развитом социалистическом общест-
3 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т 10, стр. 267.
343
ве утвер гился социалистический интернационализм. Пролетарский
интернационализм впервые развился в социалистический интерна-
ционализм именно в СССР. Это значит, что отношения не только
пролетариев различных наций, по и крестьян, пнтеллш еиини, всех
трудящихся всех наций и народностей, целых государственных об-
разований от национальных республик до автономных областей
и краев стали строиться на базе интернационализма. Возникший
в СССР социалистический интернационализм явился, таким обра-
зом, дальнейшим развитием пролетарского интернационализма,
обогащением его новым социально-политическим содержанием, его
качественно более высоким уровнем. Социалистический интерна-
ционализм — это новый тип межнациональных отношений, склады-
вающийся и развивающийся па основе дружбы, полного равно-
правия, взаимоуважения, всестороннего братского сотрудничества,
политической, экономической, военной п культурной взаимопомо-
щи наций и народностей, вступивших па путь социалистического
развития. Иначе говоря, социалистический интернационализм сей-
час уже — реальный принцип строительства экономики, культуры,
быта, всего уклада жизни пародов СССР, он обеспечивает условия
для эффективной реализации преимуществ социализма, для все-
стороннего сближения наций и народностей.
Сплоченный социалистическим интернационализмом, советский
парод олицетворяет политическую, идеологическую, экономическую
и культурную общность всех наций и народностей СССР. Не заме-
тить интернационального содержания экономической, политиче-
ской и духовной общности пародов СССР значило бы недооценить,
принизить всемирно-историческое завоевание человечества в его
прогрессивном движении. Образование советского парода, безус-
ловно, есть ступень к образованию более широких интернацио-
нальных общностей людей, к будущему слиянию наций.
Советский парод как новая историческая общность оказывает
также все большее воздействие и па развитие социалистического
типа личности, на укрепление ее единства с обществом. Победив-
ший в пашей стране социализм избавил человека от его классовой
ограниченности, утвердил его общественную природу. Это, однако,
не означает, что в СССР произошла «нивелировка» личности, воз-
родилась ее «первобытная неразличимость», как пытаются изобра-
зить идеологи антикоммунизма. Социализм не обеднил личность,
а, наоборот, создал все условия для ее гармоничного, всесторон-
него развития. Поэтому усиление общности советских людей па
современном этапе коммунистического сiроптельства находится
в неразрывном единстве с формированием нового человека.
Правильное понимание сущности советского народа как повой
исторической общности людей, как могучего ускорителя социаль-
ного прогресса имеет большое теоретическое и практическое зна-
чение. В истолковании понятия «советский парод» встречаются
два крайних мнения. Одно из них сводится к тому, что он имеет
все признаки нации: общность экономики, территории, межпацио-
344
палыюго языка и духовного облика — и что его можно пазват!
«советской нацией». По другому мнению, «советский народ» пред-
ставляет собой лишь политическое, государственное объединение.
Оба эти мнения ошибочны.
«Специалисты» по антикоммунизму и антисоветизму упорно и
усердно распространяют эти ошибочные представления как бы в
синтезе. С одной стороны, советский народ изображается как про-
стая сумма различных наций и народностей, а с другой — утверж-
дается, что в Советском Союзе якобы искусственно разрабаты-
вается «доктрина» советского народа как некой «супернации», что
создастся какое-то национальное образование русского типа, по-
1 летающее и растворяющее все советские нации и народно-
сти. Все это — досужие вымыслы. Они легко отметаются фак-
тами.
У наций и народностей СССР, конечно, уже имеется и все
больше становится общесоветскнх, интернациональных черт. Это,
однако, не означает, что советский народ превращается в какую-
то новую нацию. Хотя советскому народу и свойственны опреде-
ленные черты, схожие с признаками нации (общность территории,
экономики, духовного облика), и в связи с этим стало правомер-
ным употребление таких понятий, как «национальные интересы
Советского государства», «общенациональная гордость советского
человека», он все же не является какой-то новой «интегральной су-
перпацией». Грубым искажением действительности является сравне-
ние образования единого советского народа с теми насильствен-
ными ассимиляционными процессами, которые происходят в \
ппталнстическом мире. В то время как империализмi
или даже уничтожает целые народы, в Советском < основе
ходят расцвет и сближение всех нации и наР^ утопической
социалистической демократии. Образование ио Ш1кРпипования
общности людей — советского народа — пе озпа ячыков К\ль-
паций, игнорирования национальных осо енио > ляю^ся не.
тур. Сохраняясь и развиваясь, нации и «Хппый вобпал в'себя
отъемлемыми частями советского народа, £ М)1ЧfCKOfi и ду-
то общее, устойчивое, равное, что имеет- наций Обеспечецне
ховной жизни каждой из социалист ' Союза ССР с
полного равноправия наций, сочетание принципы нацио-
иитересамп национальных республик - Х'^ва
иальпой политики КПСС и Советского го у сумма наций и
Вместе с тем советский народ не есть ХХеС^ац1Ю11алист-
иародпостей, а их единство с ? союз представляет не
скими чертами. Соответственно Сл0В^ТСнпб пастей ‘а Нх единство,
конгломерат национальных РеспУ6^’ " связаны друг с другом и
цельную систему, части которой т ом социалистическом об-
органичсски взаимодействуют, о р экономики, культуры
ществе обеспечен высокий уровень государственности,
п идеологии, единства союзной и |,а11 ' республнкн, края и об-
Все более многонациональными становятся рес у
345
ласти, города, предприятия, колхозы и совхозы. Растет число
смешанных браков. В СССР оно исчисляется миллионами. На ос-
нове демократического централизма и социалистического федера-
лизма происходит дальнейшее развитие союзной и национальной
государственности. Расширение компетенции республик создает
оптимальные условия для развития местного почина, творческой
деятельности масс и служит в конечном счете укреплению новой
исторической общности — советского народа.
Расширение прав республик в области законодательной, бюд-
жетной, руководства хозяйством, культурой и т. д. дает новые до-
казательства единства суверенитета центра и республик. Наряду
с расширением прав республик одновременно совершенствуются
формы централизованного руководства, демократический центра-
лизм, который в корне отличается от централизма бюрократиче-
ского именно тем, что он построен на демократическом союзе на-
ций и народностей.
Культура каждой советской нации, народности также выража-
ет национальное и интернациональное в диалектическом единст-
ве. Вся советская культура, являющаяся органическим сплавом
создаваемых всеми национальностями СССР духовных ценностей,
отражает борьбу советского народа за торжество социализма и
коммунизма, воспевает человека труда, проникнута духом интер-
национализма и дружбы народов, непримиримостью к эксплуата-
ции и национальному гнету, буржуазной идеологии и нацио-
нализму.
Советская культура — это «культура — социалистическая по
содержанию, по главному направлению своего развития, многооб-
разная по своим национальным формам и интернационалистская
по своему духу и характеру»4.
Таким образом, в любой сфере, и материальной и духовной,
жизни советского парода происходит ломка национальных пере-
городок, о прогрессивном значении которой неоднократно говорил
В. II. Лепин.
В процессе складывания и развития советского народа как
новой исторической общности людей возникли и наполнились бо-
лее глубоким содержанием понятия «советское Отечество», «совет-
ская Родина», «советский патриот», «советский характер», «совет-
ская экономика, советская культура», «советский образ жизни».
В этих понятиях национальное и интернациональное выступает в
единстве. Такие черты, как советский патриотизм и любовь к стра-
нам социализма, пролетарский, социалистический интернациона-
лизм, преданность делу коммунизма, коммунистическое отношение
к труду, высокое сознание общественного долга, коллективизм и
товарищеская взаимопомощь, социалистический гуманизм, непри-
миримость к национальной и расовой неприязни, к врагам ком-
1 Л- И. Брежнев. Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 4. М., Политиздат,
I974, стр. 59—60.
346
мунпзма, мира, дружбы и свободы народов, становятся достоянием
советских людей любой нации. Поскольку эти и другие подобные
им черты характера советских людей являются отражением но-
вых социалистических общественных отношений и формируются
всем строем общества, идущего к коммунизму, его марксистско-
ленинской идеологией, то ясно, что эти черты интернациональ-
ны. Но они вместе с тем стали новыми национальными чертами,
поскольку их носителями являются представители той или иной
национальности.
Таким образом, советские социалистические нации и народ-
ности, имея общую социалистическую Родину — Союз Советских
Социалистических Республик, общее социалистическое хозяйство,
общую социально-классовую структуру, общее марксистско-ленин-
ское мировоззрение и общую цель — построение коммунизма, все
больше развивают общечеловеческие интернациональные комму-
нистические черты в поведении, в быту, в психологии, а в едином
советском пароде аккумулируются достижения и ценные черты
всех наций и народностей. Представители любой нации СССР
с гордостью считают себя прежде всего советскими людьми. Это
сознание питает животворный советский патриотизм, выросший не
па почве «обособленных отечеств», а из совместного труда и борь-
бы «за социализм, как отечество, за Советскую республику, как
отряд всемирной армии социализма»5. У трудящихся СССР воз
никло общесоветское патриотическое чувство — общенациональная
советская гордость,— которое глубже и шире естественных нацио-
нальных чувств, питаемых в отношении своей нации, народности
в отдельности.
Развитие советского народа как новой исторической общности
обеспечивается всеми взаимосвязанными общественными процес-
сами, происходящими в СССР. В то же время осуществление каж-
дой из крупных социальных задач требует решения целого комп-
лекса других взаимосвязанных проблем.
В СССР нет уже отсталых национальных окраин, на их месте
выросли многочисленные промышленные и культурные центры, но
поскольку имеются еще следы былого фактического
партия последовательно решает задачу их полного устр'
Речь идет не о создании, конечно, одинаковой во всем экономики,
тем более культуры, а о создании равных У"1^
кого использования всеми нациями и народ ПРПаРТГЯ вопоосу
сов и возможностей. Поэтому особое внимание у пазви-
выработки научно обоснованных критериев °^п УР ебления
тия наций. Важно знать не только, каков УР тояпие ус-
материальных благ н услуг, но и„ктер „«пользования
ловни труда, а также объем, условия *7XlTHlLY
свободного от работы времени в разных ре у
5 В И. Лени н. Поли. собр. соч , т. 36, стр. 82.
317
К. Маркс и Ф. Энгельс не раз напоминали, что коммунизм
не состояние, а действительное движение. Образовавшаяся в СССР
новая историческая общность как олицетворение развивающегося
социализма движется к полной социальной однородности и полно-
му единству наций. Исходя из достигнутого уровня социалисти-
ческого развития трудящихся классов и слоев, наций и народно-
стей и из живой диалектики перерастания развитого социализма в
коммунизм, XXIV съезд КПСС выдвинул задачу: всемерно способ-
ствовать объективному процессу развития советского народа на ос-
нове дальнейшего сближения трудящихся классов и социальных
групп, умственного и физического труда, уровней производства,
культуры и быта в городе и деревне, а также сближения наций
и народностей. Взятый XXIV съездом КПСС курс на решительный
подъем благосостояния всего народа, на интенсивное сближение
условий труда и быта в городе и деревне рассчитан на создание
важнейших предпосылок для всестороннего гармонического разви-
тия всех советских людей, а следовательно, для укрепления и раз-
вития их социальной и интернациональной общности.
Для достижения полного единства наций необходимо также
окончательное преодоление любых националистических проявле-
ний, недопустимых в развитом социалистическом обществе.
В такой многонациональной стране, какой является СССР, особое
значение имеет дальнейшее упрочение дружбы народов, которая,
будучи замечательным результатом социализма, в свою очередь
стала животворным источником побед в коммунистическом строи-
тельстве, необходимым условием полной реализации исторических
преимуществ социализма перед капитализмом.
В борьбе за социализм и коммунизм КПСС вырастила поколе-
ния интернационалистов-ленинцев. СССР — первая многонацио-
нальная страна, в которой победила идеология интернационализ-
ма. Это подлинный переворот в общественном сознании миллионов
советских людей всех национальностей. Поэтому партия относится
особенно нетерпимо к любым проявлениям национальной огра-
ниченности. XXIV съезд КПСС еще раз подчеркнул огромное зна-
чение искоренения националистических тенденций для утвержде-
ния коммунистической морали и мировоззрения.
Создание материально-технической базы социализма и комму-
низма, последовательное проведение в жизнь ленинских принципов
в отношениях дружественных классов и социальных групп, наций
и народностей, своевременное разрешение иеантагоиистическнх
противоречий в их развитии и устранении встречающихся ошибок
создают необходимые условия для формирования человека — кол-
лективиста, интернационалиста, человека коммунистической нрав-
ственности, а следовательно, для укрепления и дальнейшего раз-
вития советского народа, а также для образования и развития
других новых исторических, интернациональных общностей
людей.
348
2. Мировая система социализма
и развитие социалистического интернационализма
С образованием мировой системы социализма расширился круг
народов, вовлеченных в процессы, ведущие к образованию новых
интернациональных общностей людей.
Установление в ряде стран социалистических производствен-
ных отношений явилось основой возникновения и развития наций
нового типа, их братского сотрудничества и взаимопомощи. Сту-
пень этого развития зависит от сроков и темпов социалистическо-
го строительства в разных странах социализма, от сложности усло-
вий, в которых решаются проблемы сближения наций, например
от того, какое историческое наследство в национальных отношени-
ях они получили. Главное в том, что социализм, если не извра-
щаются его принципы, всегда утверждает дружбу народов, их сбли-
жение и единство, ведет к образованию и развитию новых
интернациональных общностей людей. «Когда полвека тому назад
встал вопрос об объединении советских республик в единый Союз
ССР, В. II. Ленин указывал, что это объединение необходимо как
для того, чтобы выстоять перед военным натиском империализма,
защитить завоевания революции, так и для того, чтобы совместны-
ми усилиями более успешно решать мирные творческие задачи
строительства социализма.
В принципе то же самое относится и к братскому содружест-
ву суверенных социалистических государств, объединившихся в Вар-
шавском Договоре, в Совете Экономической Взаимопомощи»6.
Образование мировой системы социализма как экономического
и политического содружества свободных суверенных народов, строя-
щих повое общество, является таким же закономерным результа-
том социального прогресса, как в свое время было закономерным
образование мировой капиталистической системы с ее классовы-
ми и национальными антагонизмами. Как говорится в Программе
КПСС, «возникновение Союза Советских Социалистических ес
публик, а затем мировой системы социализма это начало истори-
ческого процесса всестороннего сближения народов»'.
Перед лицом агрессивного империалистического лагеря хкре
пился прежде всего политический и военный союз социалистиче
ских стран. Политическое сотрудничество, согласованные Д^ствия
этих стран как на международной арене, так и ввУтри W _
системы социализма призваны обеспечить наиболее rLRII1IM
условия для строительства социализма и коммунизма Глав! ым
центром координации внешнеполитической дея^ь папШ^Вского
циалистического содружества стала органи Р
Договора.
е Л. и Брежнев. Ленинским курсом
Программа Коммунистической партии
стр. 23.
Речи и статьи, т.
Советского Союза.
4, стр. 67—68
ДО., Политиздат.
349
Для развития мировой системы социализма, однако, было не-
достаточно добиться только военно-политического сотрудничества
Необходимо было также наладить, а затем постоянно расширять и
углублять экономическое сотрудничество братских стран как осно-
ву прогресса и сближения социалистических наций. Анализ эко-
номического сотрудничества стран социализма позволяет получить
представление о глубинных процессах складывания новой, еще бо-
лее широкой, чем в СССР, интернациональной общности социали-
стических наций и народностей.
Вначале экономические отношения европейских стран народ-
ной демократии между собой и СССР базировались на двусторон-
них соглашениях. К тому же в этих отношениях иногда наблюда-
лись тенденции к автаркии. Трудящиеся, естественно, не сразу, не
мановением волшебной палочки избавляются от националистиче-
ских предрассудков. И все же социалистическая революция, пред-
ставляющая собой коренной переворот в общественных отношени-
ях, обусловливает более или менее быстрый переворот и в психо-
логии и мышлении людей. Решающей здесь оказывается сама
основа развития и сближения народов, а следовательно, и социа-
листического интернационализма — социалистический способ про-
изводства, отношения сотрудничества и взаимопомощи.
Социалистические производственные отношения дают большой
простор для прогресса национальных производительных сил. Од-
нако для еще более мощного их развития в современных условиях
требуется международное разделение труда на основе специали-
зации и кооперирования производства. Объективная необходи-
мость такого разделения обусловливает вступление стран социа-
лизма в определенные производственные отношения между собой.
Эти международные отношения, будучи опосредованы через наци-
ональную политику руководящих органов социалистических госу-
дарств, являются вторичными, производными, перенесенными от
господствующих в каждой из стран социалистических производст-
венных отношений. Природа и тех и других отношений является
одинаково социалистической, но между ними имеются структур-
ные различия, в силу которых действие законов социализма в от-
дельных странах и в мировой социалистической системе не тожде-
ственно.
Общим для отдельных социалистических стран и для всей их
системы в целом является го, что закономерности социализма (две
взаимосвязанные прогрессивные тенденции в развитии социалисти-
ческих наций, углубление и расширение их сотрудничества и взаимо-
помощи, выравнивание уровней их экономического и культурного
развития и т. д.) действуют и в том и в другом случае. Но социа-
листические производственные отношения международного раз-
деления труда складываются путем сотрудничества ряда самостоя-
тельных коллективных собственников в лице суверенных социа-
листических государств. В результате производственная деятель-
ность отдельных стран планируется непосредственно их государ-
350
ственпыми органами, а производственная деятельность социали-
стического содружества стран —через координацию национальных
планов. Несмотря на это существенное различие, координация на-
циональных планов означает по существу начало общего планиро-
вания, которое получит развитие в будущем и уже сейчас стано-
вится основой прогресса экономики мировой системы социализма,
сближения социалистических наций, народностей. В Отчетном док-
ладе ЦК КПСС XXIV съезду КПСС говорилось: «Практика приве-
ла нас к общему выводу: необходимо углублять специализацию и
кооперацию производства, теснее увязывать народнохозяйственные
планы, словом, двигаться по пути экономической интеграции со-
циалистических государств» 8.
Объединение усилий социалистических стран дает возмож-
ность быстрее решать задачи всестороннего сближения социали-
стических наций, максимально сокращает сроки достижения их
фактического равенства и дает преимущество в экономическом
соревновании социализма с капитализмом. По мере экономическо-
го развития стран — членов СЭВ возрастает их помощь друг дру-
гу. Совместное изучение и решение важнейших научных и произ-
водственно-технических проблем, проведение соответствующих
международных совещаний и т. п. непосредственно включают в
сферу интернационального сотрудничества тысячи и тысячи ра-
ботников промышленности, сельского хозяйства, пауки и техники
стран —членов СЭВ.
Социалистическое международное разделение труда в противо-
положность капиталистическому строится на основе братского со-
трудничества и взаимопомощи, осуществляется сознатетьно и пла-
номерно в соответствии с жизненными интересами и задачами
гармонического и всестороннего развития всех стран социализма.
Это пе значит, однако, что национальные и интернациональные
интересы в мировой системе социализма согласовываются автома-
тически. Противоречия и трудности возникают уже потому, что
У суверенных социалистических государств различные уровни
экономического развития делают их не одинаково заинтересован-
ными в том или ином варианте международного социалистического
разделения труда. Но диалектика тут такова, что для эффективно
го подъема национальных производительных сил, а также преодо
ленпя противоречий между ними и уровнем международных социа
листических производственных отношений в свою очередь трс уется
расширение и углубление социалистического международного раз-
деления труда на основе специализации и кооперирования.
Обеспечение единства интересов в мировой системе социали
осуществляется не самотеком, а через сознательную де -
социалистических государств, которые нахчно определ -
методы и средства для разрешения возникающих пр Р ;
Так, например, производительность труда в некоторых сониа;
8 «Материалы XXIV съезда КПСС». М, Политиздат, 1972, стр. 9.
351
ческих странах отстает от других стран социализма в 2—3 раза.
Преодолению противоречий, возникающих на этой основе, призвана
служить всемерная электрификация как главное направление тех-
нического прогресса, комплексная механизация и автоматизация.
Этим объясняется то, что социалистические страны оказывают
друг другу большую научную и техническую помощь в сооружении
электростанций и энергосистем. Известно, что В. И. Ленин еще в
1921 году писал: «...современная передовая техника настоятельно
требует электрификации всей страны — и ряда соседних стран —
по одному плану...»9. Объединение энергосистем европейских со-
циалистических стран по кольцевой схеме стало действительностью
на нынешнем уровне развития социалистического содружества 10.
Единая энергосистема семи социалистических стран «Мир» уве-
личила энерговооруженность пользующихся ею стран. Возросли
и взаимные поставки электроэнергии, что позволяет ликвидиро-
вать аварийные простои и временные нехватки энергии. В послед-
ние годы развиваются также связи между Объединенной энергоси-
стемой (ОЭС) и энергосистемами соседних стран, ие входящих
в нее. Строятся новые линии электропередач. Запроектированная
параллельная работа ОЭС и Единой энергосистемы европей-
ской части СССР охватит огромную территорию от Урала до бере-
гов Дуная и Эльбы, расположенную в 4 разных поясах и имеющую
различные климатические условия. Это позволит перебрасывать
большие количества электроэнергии из одних стран и районов
в другие с учетом их потребностей в разные времена года и часы
суток.
Одной из больших проблем, затрагивающих в той или иной
степени интересы всех социалистических стран, является топливно-
сырьевая проблема. Она имеет многосторонние аспекты, и эффек-
тивное решение возникающих противоречий требует правильного
согласования национальных экономических интересов с общими
интересами всей мировой системы социализма.
Страны социализма в целом располагают богатыми и разно-
образными ресурсами всех видов сырья и топлива, но размещены
они неравномерно. Так, например, ВНР, ГДР, ЧССР имеют огра-
ниченный комплекс минеральных ресурсов и в большей степени
зависят от импорта. Но экспортировать топливо и сырье не всегда
выгодно, так как добывающая промышленность наиболее капита-
лоемка и фондоемка. К тому же 50% и более всех производствен-
ных затрат поглощают геологопоисковые и разведочные работы.
9 В. И. Лепи и. Поли. собр. соч., т. 44, стр. 280.
10 Директор научного фонда США, известный американский ученый д-р Гай-
форд Стивер заявил корреспонденту «Правды» в Вашингтоне: «Вы владеете
уникальным опытом создания линий электропередачи сверхвысокого напря-
жения на большие расстояния. Нам представляется интересным ваш опыт
объединения энергосистем. Вы продвинулись далеко вперед в создании круп-
ных установок с магпитогидродинамическими генераторами. Мы тоже по-
строили образцы таких генераторов, по они значительно уступают советским»
(«Правда», 17 мая 1973 г., стр. 5).
352
Более того, увеличение доли сырья в экспорте ухудшает его струк-
туру, увеличивает объем и емкость транспортировки и т. д. И тем
не менее страны—экспортеры сырья и топлива идут на это ибо
развитие добывающих производств является первейшим условием
прогресса каждой страны и всей системы социализма. В свою оче-
редь страны-импортеры идут на помощь странам-экспортерам,
предоставляя им дополнительные материально-технические ресур-
сы для расширения добычи нужных импортерам полезных ископа-
емых. Совместное строительство предприятий по добыче топлива
и сырья, строительство и рациональное размещение энергетиче-
ских объектов на территориях стран СЭВ, изыскание новых видов
энергоносителей, совместное использование ресурсов стали новой
формой экономического сотрудничества социалистических стран.
Рост экономической взаимозависимости стран — членов СЭВ
потребовал также дальнейшего прогресса финансовых связей, и с
1964 года начал функционировать Международный банк экономи-
ческого сотрудничества (Л1БЭС), цель которого — осуществлять
многосторонние расчеты в переводных рублях (международной
социалистической коллективной валюте), кредитование внешнетор-
говых операций, строительства, реконструкции и эксплуатации
промышленных предприятий, повышать действенность валютно-фи-
нансовых рычагов, способствующих углублению сотрудничества
между социалистическими странами, содействовать международ-
ному социалистическому разделению труда. Взаимный товарообо-
рот стран — членов МВЭС, измеряемый и оплачиваемый в пере-
водных рублях, уже в 1972 году превысил 40 миллиардов рублей.
В целях совершенствования международного кредита (долго-
срочного и среднесрочного) для решения задач экономической
интеграции стран — членов СЭВ в 1970 году создан Международ-
ный инвестиционный банк (МИБ). Переводной рубль, функциони-
рующий через МВЭС и МИБ, является самой надежной валютой
с твердым золотым содержанием (0,987412 грамма чистого золота)
и реальным товарным обеспечением.
Еще один пример. Сравнительно недавно не допускалось исполь-
зование на территории данной страны иностранных грузовых ваго-
нов, в результате чего возвращающийся порожняк зря перегружал
железнодорожные линии, напрасно расходовалось время, тяговая
сила. Теперь создан общий вагонный парк для нужд внешнетор-
говых перевозок всех стран — членов СЭВ. За время работы обще-
го парка грузовых вагонов улучшилась координация эксплуатаци
опной работы железных дорог социалистических стран, сэконом-
лены перевозочные средства, грузы стали перевозиться значитель-
но быстрее.
Интенсификация железнодорожных перевозок в свою очередь
потребовала централизованного управления ими, и в году
было создано в Праге бюро Общего парка грузовых вагонов, ко-
торое осуществляет связь с диспетчерскими пунктами железных
Дорог стран —членов СЭВ. В настоящее время развивается коопе-
23
С. Т. Калтахчян
353
рирование по перевозкам несколькими видами транспорта. Боль-
шие возможности открылись для кооперации работы железнодо-
рожного и речного транспорта иа Дунае.
Примеров возникновения подобных жизненных противоречий
роста и их преодоления можно привести множество. Принципиаль-
но важно, что они носят неантагонистический характер. По своей
природе ни одна страна социализма не может войти в антагони-
стические противоречия с другой социалистической страной. Не
социализм порождает антагонистические противоречия, а антисо-
циалистические силы вступают в антагонистические противоречия
с социализмом. Этим силам противостоит единство социалистиче-
ских стран, которое вместе с тем является основой разрешения
внутренних неантагонистпческпх противоречий.
Противоположную картину представляет капитализм. Объек-
тивная необходимость международного разделения труда, особен-
но в условиях научно-технической революции XX века, а также не-
обходимость решения больших общемировых проблем, затрагива-
ющих интересы многих народов, пробивает себе дорогу как в со-
циалистическом, так и в капиталистическом мире, но реализуется
ока иа принципиально различных основах. Природа капитали-
стических производственных отношений эксплуатации и угнетения
сказывается в рамках мировой капиталистической системы в от-
ношении уже целых наций. В то время как социалистическая инте-
грация способствует реализации закономерности сближения
и выравнивания уровней развития стран социализма, международ-
ное капиталистическое разделение труда приводит к углублению
неравенств уровней развития отдельных государств, к усиле-
нию уродливой, однобокой структуры экономики слаборазвитых
стран.
Конечно, объективная тенденция к интернационализации хозяй-
ственных взаимоотношений стран мира, даже независимо от их
социальных систем, диктуется необходимостью изучения и исполь-
зования ресурсов Мирового океана, охраны биосферы, освоения
космоса, решения крупнейших научно-технических задач, форми-
рования всемирной системы радио- и телевизионной связи, разра-
ботки международных стандартов и т. д. На такой стадии интер-
национализации производства, естественно, возникают и развива-
ются интеграционные процессы, однако они затрагивают интересы
классов, ограничиваются кругом однотипных государств, а харак-
тер и интенсивность интеграции зависят от социальной системы
интегрирующихся стран. Так, например, объективная тенденция
к интернационализации производства и определенная классовая
солидарность буржуазии позволяют капиталистическим государ-
ствам создавать общие органы экономического сотрудничества
и даже временно смягчить некоторые межгосударственные кон-
фликты. Но эти же органы неизбежно становятся еще одной аре-
ной, на которой развертываются противоречия империализма. По-
следний не может уничтожить порождаемую частной собственностью
351
жестокую конкуренцию и борьбу капиталистических стран друг
с другом. r
Империалисты тщатся выдавать, например, «Общий рынок»
(ЕЭС) за объединение народов Западной Европы, хотя в дейст-
вительности он является наднациональным органом финансовой
олигархии входящих в него капиталистических стран. ЕЭС пред-
ставляет собой не интернациональную общность народов, а классо-
вую общность магнатов, в которой сильные давят и эксплуатируют
слабых. «Общий рынок» — это общность монополий. Руководящие
органы ЕЭС — так называемая Ассамблея («Европейский парла-
мент») состоят из лиц, представляющих монополии. Через эти ор-
ганы империалисты выступают против коренных жизненных инте-
ресов народов от их же имени.
Объединение усилии различных стран даже на капиталистиче-
ской основе, конечно, дает некоторый простор для развития про-
изводительных сил, расширения производства. Идеологи капита-
лизма, умалчивая эксплуататорский характер ЕЭС и порожден-
ные им новые острые противоречия, нередко говорят и пишут
о наступлении якобы новой эры в развитии капитализма. В том
факте, что марксисты-ленинцы не прошли мимо такого значитель-
ного явления, как создание европейского «Общего рынка», некото-
рые идеологи капитализма умудрились видеть чуть ли не приня-
тие коммунистами буржуазной басни об изменении природы капи-
тализма. Нашлись даже авторы, которые стали упражняться
в критике якобы несостоятельности положений ленинской работы
«О лозунге Соединенных Штатов Европы». Так, пекий Ганс Брэк-
кер в статье «СЭВ и ЕЭС к вопросу о коммунистической критике
«Общего рынка», восторгаясь отдельными конъюнктурными успе-
хами монополий, объединенных в ЕЭС и признания их марксиста-
ми, писал: «Но нужно возвращаться к Ленину, который в 1915 г.
заявил, что Соединенные Штаты Европы в условиях капитализма
были бы невозможны или реакционны, чтобы во всей широте
оценить изменение представления о капитализме в Советском
Союзе...» **.
Манипуляции Брэккеров исключительно просты. Сперва ЕЭС
выдается не как объединение европейских монополии, а как объе-
динение европейских народов, и дальше уже отпадают всякие
трудности для любых фальсифицированных выводов. Теперь уже
Достаточно сослаться на то, что ЕЭС представляет значительную
реальность и что коммунисты признают эту реальность и даже
призывают не недооценивать ее, как станет ясно, что капитализм
уже не капитализм и что коммунистам ничего пе остается, как
примириться с этой действительностью.
Подлинная действительность, однако, совсем иная. Напомним,
что именно В. И. Ленин говорил о двух тенденциях развивающе-
гося капитализма в национальном вопросе, подчеркивая особенно
«Europa Archiv». Frankfurt, 1963, Nr. 3, S. 90.
ЗГ5
23*
усиление тенденции к интернационализации хозяйственной жизни.
Однако В. И. Ленин тут же показал, что капитализм в силу своей
эксплуататорской сущности парализует центростремительные
силы, отталкивает народные массы от капиталистической инте-
грации. Вскрывая противоречия капитализма империалистической
стадии, Ленин раскритиковал выдвинутый в Манифесте бернской
конференции заграничных секций РСДРП лозунг «Соединенные
Штаты Европы». В. И. Ленин писал: «С точки зрения экономиче-
ских условий империализма, т. е. вывоза капитала и раздела мира
«передовыми» и «цивилизованными» колониальными державами.
Соединенные Штаты Европы, при капитализме, либо невозможны,
либо реакционны» 12.
А как же быть с ЕЭС? Ведь оно реальность? Да, реальность,
но не та, за которую выдают Брэккеры, а та, которую предвидел
Ленин в той же работе «О лозунге Соединенных Штатов Европы».
«Конечно,— писал В. И. Ленин,— возможны временные соглашения
между капиталистами и между державами. В этом смысле воз-
можны и Соединенные Штаты Европы, как соглашение европейских
капиталистов... о чем? Только о том, как бы сообща давить соци-
ализм в Европе...» 13. ЕЭС возникло именно как соглашение тако-
го рода. Монополии пошли на создание единого фронта против
рабочего класса, против всех трудящихся, против социализма и
национально-освободительного движения. ЕЭС стало орудием
НАТО, его экономической базой. Сбылось, таким образом, предви-
дение Ленина, что объединение подобного рода будет реакционным.
Империалистический характер капиталистической интеграции
проявляется не только в противоречиях и острых схватках между
странами-участницами, но и в ее неспособности обеспечить бескри-
зисное развитие капиталистической экономики, в ее общей направ-
ленности против интересов трудящихся. И в этом смысле капита-
листы проявляют ту солидарность, о которой писал К. Маркс: «...ка-
питалисты, обнаруживая столь мало братских чувств при взаимной
конкуренции друг с другом, составляют в то же время поистине
масонское братство в борьбе с рабочим классом как целым»14.
Опыт западноевропейской интеграции в рамках «Общего рынка»
показывает стремление монополий Западной Европы решить наи-
более конфликтные проблемы интеграции за счет трудящихся.
Примером может служить программа повышения эффективности
сельскохозяйственного производства в интегрированной Западной
Европе, известная под названием «План Мансхолта», осуществле-
ние которой сделает безработными 5 млн. человек. Известно, какой
мощный протест вызвал этот план со стороны трудящихся.
Как было показано выше, подлинная экономическая интеграция
пародов стала возможной только при социализме, на основе обще-
12 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 26, стр. 352.
13 Там же, стр. 354.
14 К. Маркс и Ф Энгельс. Соч., т. 25, ч. I, стр. 217.
356
ственной социалистической собственности, которая по природе
своей интернациональна. Расцвет своей социалистической Родины,
блага, получаемые благодаря братскому сотрудничеству, создают
широкую твердую материальную основу для перековки отравлен-
ной в дореволюционный период национализмом психики миллионов
трудящихся. Материальные факторы выступают самыми вескими
аргументами в пользу социалистического интернационализма.
Конечно, и при наличии объективных условий формирование и уп-
рочение идеологии интернационализма не происходят стихийно.
Привнесение в сознание людей научного мировоззрения является
одной из важнейших задач марксистско-ленинских партий. Идео-
логическое, политическое и культурное сотрудничество на данном
этапе играет важнейшую роль в укреплении социалистического
содружества народов. И все же для восприятия и органического
усвоения идеологии интернационализма необходимую и самую бла-
гоприятную почву создает соответствующая материальная основа
и изменяющаяся под ее влиянием социальная психология. В атмо-
сфере братского сотрудничества и взаимопомощи даже люди, не
преодолевшие еще национальную ограниченность и национальный
эгоизм, все больше чувствуют, а идейное воспитание помогает им
глубоко осознать, что тенденции, например, к организации замк-
нутых хозяйственных комплексов ведут к снижению эффективно-
сти и замедлению темпов экономического развития страны, меша-
ют использовать рациональное международное разделение труда
как средство ускоренного прогресса национальной экономики. По-
нимание органической связи прогресса своей страны с таким
сотрудничеством уже создает важные социально-психологические
предпосылки для выхода за узконациональные рамки, для выра-
ботки социалистического патриотизма — патриотизма в отношении
всей мировой системы социализма, для укрепления социалистиче-
ского интернационализма. Эти глубинные процессы происходят
в первую очередь в области экономического сотрудничества социа-
листических наций.
Создание материально-технической базы коммунизма в СССР
и материально-технической базы социализма в других социалисти-
ческих странах тесно взаимосвязаны и по своему характеру и ко-
нечной цели представляют как бы одно грандиозное строительство
материально-технической базы будущего единого мирового социа-
листического хозяйства, которое обусловит коренные качествсннь е
изменения в базисе и надстройке, во всей структуре общества,
идущего к коммунизму. Наиболее ясно перспективы подобного
рода процессов можно выявить при анализе опыта взаимоотноше-
ний социалистических государств, образовавших в 1949 году овст
Экономической Взаимопомощи (СЭВ). Этот орган международно-
го социалистического сотрудничества, как показывае его деятель
иость, оказался эффективным инструментом, способствующем
расцвету и сближению наций и народностей стран —членов сгмэ,
развитию социалистического интернационализма.
357
Достигнутые странами СЭВ благодаря социалистическому ха-
рактеру производственных отношений высокий уровень развития
производительных сил и глубокие структурные изменения в сфере
производства и потребления позволили им разработать Комплекс-
ную программу дальнейшего углубления и совершенствования
сотрудничества и развития социалистической экономической инте-
грации. Такая интеграция, построенная на основе социалистиче-
ского интернационализма, открывая новые пути повышения эффек-
тивности общественного производства и подъема народного благо-
состояния, вместе с тем служит сплочению братских народов, ук-
реплению их социалистической общности.
Углубление международного социалистического разделения
труда на основе кооперирования и специализации производства
глубоко интернационализирует производство, что является объек-
тивной предпосылкой интеграции и в то же время формирования
национальных хозяйственных комплексов, прогрессивных структур-
ных изменений в них и в конечном счете повышения уровня эко-
номического развития каждой из стран социализма.
Усиление процессов экономического сотрудничества, сближение
стран мирового социалистического содружества потребовали про-
ведения в 60-х годах также глубоких качественных преобразова-
ний в национальных системах планирования и хозяйственного ру-
ководства. Хозяйственные реформы в странах СЭВ, несмотря на
некоторые различия в темпах, масштабах их осуществления, при-
вели к сближению принципов планирования и хозяйственного руко-
водства, рассчитанного на приспособление механизма планирова-
ния и управления экономикой к потребностям научно-технической
революции. Это очень важно, поскольку именно соединение науч-
но-технического прогресса с преимуществами социализма является
условием дальнейшего динамичного развития стран социализма.
Последнее в свою очередь создает предпосылки для совершенст-
вования механизма регулирования международного социалисти-
ческого разделения труда.
Прочным фундаментом формирования механизма экономиче-
ской интеграции социалистических стран стал более чем двадца-
тилетний опыт работы СЭВ. Без накопленного опыта работы уч-
реждений и организаций СЭВ была бы невозможна сама поста-
новка вопроса о социалистической экономической интеграции.
В ходе сотрудничества между странами в рамках СЭВ сложились
принципы совместной плановой деятельности этих стран в форме
координация их народнохозяйственных планов, представляющие
собой главный инструмент социалистической интеграции. Пере-
ход к политике экономической интеграции стран — членов СЭВ,
начатый ХХШ специальной сессией СЭВ в 1969 году, был подго-
товлен всем ходом экономического сотрудничества между этими
странами, достигнутой степенью их хозяйственного сближения,
глубиной и прочностью международного социалистического раз-
деления труда. Наметив курс на экономическую интеграцию,
358
ХХШ специальная сессия СЭВ поставила ряд проблем углубле-
ния взаимосвязей национальных хозяйств и подчеркнула: «Содру-
жество социалистических государств, спаянных общностью корен-
ных классовых интересов и целей и руководствующихся единой
идеологией марксизма-ленинизма, должно опираться на систему
прочного и устойчивого международного социалистического раз-
деления труда, обеспечившего тесное взаимодействие националь-
ных экономик стран — членов СЭВ». Сессия «подтвердила едино-
душное стремление стран — участниц к более тесному объедине-
нию их усилий в целях успешного решения задач строительства
социализма и коммунизма» 15.
В соответствии с принятым ХХШ сессией СЭВ курсом на
экономическую интеграцию была разработана и принята XXVсес
сиен СЭВ в 1971 году Комплексная программа дальнейшего уг-
лубления и совершенствования сотрудничества и развития социа-
листической экономической интеграции, ознаменовавшая собой
важную веху на пути развития содружества социалистических
государств. Вместе с тем само содержание Комплексной про-
граммы есть конкретное выражение сущности международных
социалистических отношений — отношений полного равенства и
товарищеской взаимопомощи. В Комплексной программе подчер-
кивается, что «социалистическая экономическая интеграция проис-
ходит на основе полной добровольности и не СО"РОВ^^СЯВ^:
давнем наднациональных органов,^ не затрагива т Р ости
реннего планирования, финансовой и Х03Расче гопиалисти-
организаций» 16. Реализация этого важного ПР пасшире-
ческой интеграции как раз максимально спос У
""ХГ^рвыГ шап, реализации Комплекс«=о под-
тверждают, что социалистическая интеграци в развитии
рос экономики, но и важный политич®с™ *ического содруже-
мировой системы социализма. Страны сох узконацио-
ства подходят к делу углубления «>трудничества ™ с у^онац^
иальных позиций, а на основе социалист сЭВ. Экономиче-
ма, заботясь о благе каждой из стран [ основе максималь-
ное сотрудничество последних развив_ скойэкономической
кого использования возможностей соц никем не изведанным
интеграции, являющейся новаторским ^У" н^Ства. Со-
на предыдущих ступенях развития че- соединяет преимуще-
циалистическая экономическая интегр Ц трхнической революции,
ства социализма с достижениями наУчн0’ на началах пол-
обеспечивая успешное сотрудничество Р и взаимной но-
вого равноправия, взаимного доверия, )
•еппета Экономической Взаимопомо-
15 «Коммюнике о ХХШ специальной ссссш
щи». «Правда», 27 апреля 1969 г„ йшего углубления и с?веШе^цшГстра11
«Комплексная программа дальни экономической ните р
трудничества и развития социалистической
членов СЭВ». М., Политиздат, 1У<1. I
359
мощи, на испытанных принципах социалистического интернацио-
нализма.
Ярким выражением успехов, достигнутых странами — членами
СЭВ, является динамичный рост национального дохода, который
уже в 1972 году в цетом по странам — членам СЭВ возрос по
сравнению с 1970 годом иа 11,6 процента, а прирост промышленно-
го производства в целом составил свыше 15 процентов, в то время
как в развитых капиталистических странах он равнялся 8,8 про-
цента. Обеспечено дальнейшее повышение благосостояния народов
стран — членов СЭВ. Увеличились реальные доходы на душу насе-
ления, возрос объем розничного товарооборота, продолжало рас-
ширяться жилищное строительство.
Вместе с тем, как было подчеркнуто участниками сессии,
главным итогом коллективной деятельности стран — членов СЭВ
является то, что из года в год растет могущество стран социа-
лизма, крепнет их сплоченность, их влияние на развитие собы-
тий в мире.
Содружество стран социализма уже сейчас представляет собой
не простую сумму государств с одинаковым социально-экономи-
ческим строем, а является новым, более широким единством на-
родов различных национальностей, имеющих общность социально-
экономических условий, политического устройства, основ куль-
туры и мировоззрения. В этой ситуации прогресс различных наций
и их сближение в рамках отдельных социалистических стран и в
масштабе мировой системы социализма оказываются взаимо-
обусловленными процессами. Глубинные процессы складывания
интернациональной общности людей в рамках мировой системы
социализма происходят, как мы видели, в первую очередь в обла-
сти экономического сотрудничества социалистических наций, но
братская дружба между народами социалистических стран ска-
зывается и в самом широком обмене духовными ценностями. Про-
исходит взаимообогащение их культур. Страны социализма широ-
ко практикуют сотрудничество по линии академий наук и вузов,
переводов литературных произведений, обмена кинофильмами и
телепередачами, театральными и другими исполнительскими кол-
лективами и т. д. Культурное сближение стран социализма про-
исходит закономерно на основе единства их экономической и по-
литической системы. Объективная необходимость культурной кон-
солидации стран социализма используется марксистско-ленински-
ми партиями для усиления духовной общности людей разных
наций. Социалистические нации по мере усиливающейся социаль-
ной однородности создают многообразную, но единую культуру.
Марксистско-ленинские партии социалистических стран на-
правляют свои усилия на максимальное использование историче-
ской закономерности всестороннего развития и сближения социа-
листических наций, на сплочение их в такую дружную семью, в
которой люди земли видели бы прообраз будущего мирового
сообщества народов.
360
ГЛАВА VII
БОРЬБА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА
С НАЦИОНАЛИЗМОМ - ВАЖНЕЙШЕЕ
УСЛОВИЕ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ
МИРОВОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРОЦЕССА
Марксизм-ленинизм, вскрыв объективные причины сближения
народов, показал, что пролетарский интернационализм является
следствием социально-экономических условий жизни пролетарка
та и вместе с тем представляет собой один из важнейших факто-
ров освобождения трудящихся и построения ими коммунистиче-
ского общества. Естественно поэтому, что марксизм-ленинизм ка
мировоззрение пролетариата органически включает в се я идео
логию пролетарского интернационализма. Призыв « рол т р
всех стран, соединяйтесь!», которым заканчивается[ « р^ем
Коммунистической партии», явился политическим1 ^наШ10иа_
идеи пролетарского интернационализма. «Буржуа Пенин________
лнзм и пролетарский интернационализм, писал • ‘ ’
вот два непримиримо-враждебные лозунга, COO™^L ра иВ'ы.
великим классовым лагерям всего капиталиста х на.
ражающие две политики (более того: два миросозерцания) в
циональном вопросе»
1. Происхождение и сущность национализма,
необходимость его искоренения
Вопрос о том, что такое национализм ”нтаресы
его социальная роль, волнует все кл , кчассов к национализ-
всех людей. Отношение антагонистиче _я как пр0Летариат, его
му, естественно, противоположно. В то Р за полное искоре-
авангард —Коммунистическая партия, ор раскрывают
некие всякого классового и националы! ец]Н0’ бороться про-
подлинную сущность национализма, чт ' предельно запуты-
ТПВ „его, буржуазия в лице своих^«"змаР использует его
вает вопрос о корнях и природе нац
'В. И. Лен и п. Поли. собр. соч., т. 24, стр. 123
361
для подмены классовой борьбы национальной. Для этой цели на-
ционализм рассматривается как естественное следствие существо-
вания наций. Сама нация возводится в вечную категорию, и вся
история человечества представляется постоянной борьбой, столк-
новением национализмов.
В буржуазных определениях национализма полностью исклю-
чается классовый момент и упор делается на якобы самостоятель-
но существующую национальную психологию и даже на биолого-
расовые различия. Националисты, игнорируя социальную сущ-
ность нации, выдвигают в ее определении производные от истори-
ческих условий развития некоторые общие черты или чувства,
часто извращенные к тому же господствующими классами. Под-
черкивается, что национализм «исходит из представлений о есте-
ственном единстве народа». При этом за национализм выдают та-
кие ничего общего с ним не имеющие общественные явления, как
естественная любовь к Родине, родному языку, культуре, стрем-
ление к защите своих национальных интересов, затем к ним до-
бавляют иррациональную веру в общность происхождения; ми-
стическую преданность раз навсегда определенно понимаемому
целому; веру в то, что индивидуумы живут только ради нации,
являющейся якобы целью в самой себе; пренебрежение или враж-
дебность по отношению к другим национальностям; стремление
к национальной власти, к господству над другими нациями и
т. п.2 И такую мешанину рассматривают как главные определи-
тели нации и вместе с тем национализма. В результате нацио-
нализм выступает как «простое выражение естественной и сти-
хийной солидарности, которое существует среди членов группы
людей, обладающих исторической и культурной традициями»3.
Опираясь на подобные внеклассовые истолкования национа-
лизма, антикоммунисты широко распространяют тезис о «всесиль-
ном вирусе национализма», который якобы фатально поражает
все народы независимо от их социального строя, тезис о том, что
национализм как зловредное начало заключен в самой человече-
ской природе, что «человечество переживает сейчас эпоху гло-
бального национализма»»4. Вместе с тем, как отмечает Э. А. Ваг-
рамов, национализм изображается как «состояние духа», витаю-
щее над мыслями и преодолевающее классовые интересы, симпа-
тии и антипатии» 5.
Ленинизм доказал полную научную несостоятельность подоб-
ных измышлений и вскрыл социальные и гносеологические корни
национализма.
2 «Nationalism: myth and reality». N. Y., 1955, p. 6. («Nationalism», 1963,
p. 249...).
’ «Nationalism in Canada». Toronto, N. Y., London, 1966, p. 47.
* A. P. Whitaker, D. C. Y о r d a n. Nationalism Contemporary Latin Ame-
rica. N. Y.. 1966, p. 1.
Б Э. А. Ваграмов. Национальный вопрос и буржуазная идеология. М.,
«Мысль», 1966, стр. 114.
362
Само по себе одностороннее раздувание этнических особенно-
стей, различии «мы» и «они», составляя гносеологические копни
этноцентризма, не порождает еще национализма. Этнические
предрассудки, существовавшие еще в первобытном обществе
(недоверие, настороженность, изоляция друг от друга) только в
классовом обществе закрепляются эксплуататорскими ’ классами
в психологии и идеологии народных масс. Уже в рабовладельче-
ском и феодальном обществах складываются исторические пред-
посылки национализма, его добуржуазпые разновидности (в ан-
тичности, например, деление на эллинов и варваров, римлян и
варваров, в средние века — феодально-клерикальные, феодально-
монархические типы национализма).
Указывая на различные проявления этноцентризма и докапи-
талистических форм национализма, которые, безусловно, повлия-
ли на формирование буржуазного национализма, необходимо,
однако, подчеркнуть, что последний в целом представляет новое
явление, порожденное капиталистической экономической форма-
цией. Стремление капитала к созданию единого национального
рынка, к монопольной эксплуатации отечественной рабочей силы,
а затем и к порабощению чужих народов, ограблению их бо-
гатств порождает буржуазный национализм и космополитизм.
Капитал, чтобы вернее обеспечить господство буржуазии так на-
зываемых «образцовых наций» над другими народами, проводит
политику разжигания национальной розни и расовой ненави-
сти, с одной стороны, и космополитического отрицания наций, на-
ционального суверенитета — с другой. Космополитический по
своей природе капитал все чаще выступает в наше время под
флагом международное™, выдавая международные монополисти-
ческие союзы, международную торговлю и иные связи за интер-
национализм. В действительности буржуазный национализм сего
изнанкой—-космополитизмом полностью исключает интернациона-
лизм. Национализм враждебен коренным интересам трудящихся.
Он выражает классовые интересы буржуазии. Будучи порожд
нием капиталистических отношений частной собственности и экс
плхатацни, национализм закрепляется идеологией капитализма,
созданным им образом жизни, быта, традиций.
Национализм — психология и идеология, мировоззрение а по
литика предпочтения одних наций другим, возвеличивание
нации, разжигание национальной розни и расовой ненависти.
Основным носителем и активным распространителем нац
нализма является буржуазия. Национализм в ее руках
ляет мощное оружие защиты и во внутренней и внешней ф*
ке своих классовых интересов, выдаваемых за общей
ные. Рост национализма в современных капиталистиче миповом
чах вызван обострением конкуренции монополи Нмпгпиали-
рынке за сферы прибыльного приложения ^апи1ал р енн0 с0.
стические монополии свою конкурентную борьбу ' вовлекая
провождают разжиганием шовинизма и нанион ,
363
в их тенета по возможности все больше населения своей нации
и в первую очередь мелкую буржуазию, которая в силу двойст-
венности своего социального положения (она и труженик и мелкий
собственник) легче и надолго попадает под влияние национали-
стической политики правящей буржуазии. Как труженик мелкий
буржуа (в том числе и крестьяне), конечно, ничего хорошего не
может ждать от национализма, но собственническая психология
мелкой буржуазии является благодатной почвой для вовлечения
ее в орбиту буржуазного национализма. Ленин неоднократно
указывал, что социально-экономические условия, порождающие
мелкого собственника со всеми его предрассудками, придают осо-
бую устойчивость национализму. При этом «чем более отсталой
является страна, тем сильнее в ней мелкое земледельческое про-
изводство, патриархальность и захолустность, неминуемо ведущие
к особой силе и устойчивости самых глубоких из мелкобуржуаз-
ных предрассудков, именно: предрассудков национального эгоиз-
ма, национальной ограниченности» 6.
Мелкобуржуазный национализм весьма сложен и противоре-
чив. Он отличается от национализма правящей буржуазии стрем-
лением защищать якобы интересы «средних слоев». Объективно
же мелкая буржуазия легко подвергается угару национализма
правящей буржуазии, становится ее союзницей. История знает
много подобных примеров. Но более разительным из них является
распространение фашизма среди взбесившихся от экономических
трудностей мелких буржуа в 20-х и 30-х годах XX века в Италии,
Германии, Испании, несмотря на то, что фашизм выражал (если
отбросить его беззастенчивую социальную демагогию) интересы
не мелкой буржуазии, а интересы наиболее агрессивной монопо-
листической буржуазии. Достаточно бывает буржуазии выдавать
свои интересы за общенациональные, как мелкая буржуазия не
только сама становится опорой буржуазного национализма, но и .
проводником его даже в среду рабочих. Природе пролетариата,
являющегося носителем интернационализма, национализм чужд.
Однако исторический опыт свидетельствует, что систематическим
и длительным внедрением национализма можно отравить его ядом
довольно широкие массы, в том числе некоторые слои рабочих.
Этого добились, например, прусские милитаристы и фашисты в
Германии в прошлом и добиваются националисты разного толка,
в том числе маоисты, сейчас. Вместе с тем развитие ГДР, народ
которой во главе с СЕПГ борется против любого проявления на-
ционализма, лишний раз доказывает, что национализм пе врож-
денное, а привитое чувство.
Разновидностей национализма много, начиная от фашизма, сио-
низма, апартеида, взявших на вооружение расизм, шовинизм, гео-
политику, космополитизм, и кончая национализмом утонченным,
прикрытым марксистской фразеологией, каким является, напри-
6 В. II. Ленин. Поли. собр. соч., т 41, стр. 168.
364
мер, культурно-национальная автономия. Национализм выступает
и как великодержавный шовинизм угнетающей нации, третирую-
щей другие нации, и как местный национализм угнетаемой нации,
выражающийся в стремлении к замкнутости и недоверии к другим
нациям.
Показательно, что носители любых форм национализма исходят
из идеологического представления о нации как некой духовной
общности. Наиболее полно раскрывается реакционность, опасность
идеалистической теории нации в фашизме и сионизме. Подобно то-
му, как немецкий фашизм рассматривал всех немцев избранной,
высшей нацией, сионистская концепция «всемирной еврейской на-
ции» также исходит из того, что евреи всего мира составляют осо-
бую богом избранную единую экстерриториальную нацию. Не слу-
чайно поэтому, что сионизм и фашизм роднят одна и та же чело-
веконенавистническая идеология и политика расизма и милитариз-
ма. Этому не помешало даже то обстоятельство, что и фашизм
и сионизм использовали другую разновидность национализма — ан-
тисемитизм в противоположных целях: фашизм для консолидации
всех немцев против евреев (как и других наций), а сионизм для
консолидации всех евреев мира в мифическую «всемирную еврей-
скую нацию», противопоставляя ее всем неевреям. Н фашизм и
сионизм заинтересованы в существовании антисемитизма как пита-
тельной почвы своей реакционной идеологии и политики.
Монополистический капитал порождает идеологию фашизма,
сионизма, апартеида, широко использует шовинизм и расизм для
травли целых национальностей и рас. Оборотной стороной нацио-
нализма является империалистический космополитизм, отвергаю-
щий нации и их независимость. Буржуазия под прикрытием разго-
воров об «общенациональных интересах» разжигает национальную
ненависть, готовит и развязывает захватнические войны. И самые
утонченные формы национализма приводят к национальной розни,
л порой и парализуют классовую борьбу пролетариата, трудящих-
ся за свои подлинные интересы. Поэтому «марксизм непримирим
с национализмом, будь он самый «справедливый», «чистень-
кий», тонкий и цивилизованный»7.
Этому четко и категорично высказанному положению Ленина
ничуть не противоречит такое его высказывание, как: «В каждом
буржуазном национализме угнетенной нации есть общедемократи-
ческое содержание против угнетения, и это-то содержание‘мы без-
условно поддерживаем, строго выделяя стремление к своей нацио-
нальной исключительности...»8. Ленин строго выделяет именно
то, что составляет ядовитое жало национализма, его суть. Что же
касается общедемократического содержания национально-освобо-
В. И Ленин. Поли. собр. соч., т. 24, стр. 131.
Об истории борьбы КПСС против национализма см.: В. Ь. М а л а п ч > к.
Исторический опыт КПСС по решению национального вопроса и развитию
национальных отношений в СССР. М.. «Высшая школа», 19/ , стр.
В И. Лен и п. Поли. собр. соч., т. 25, стр. 275—276.
365
дительных движений, то оно вовсе не относится к сущности
национализма. Употребление терминов «арабский национализм»,
«африканский национализм» и т. п. во многих случаях имеет очень
противоречивый смысл. Как было показано выше, бывают периоды
в национально-освободительных движениях, когда национализм уг-
нетенной нации выступает как программа национального возрож-
дения, самоутверждения, как идеология и политика борьбы против
империализма за политическую и экономическую независимость,
суверенитет и всестороннее развитие своей нации.
«Прогрессивно,— писал Ленин,— пробуждение масс от феодаль-
ной спячки, их борьба против всякого национального гнета, за
суверенность народа, за суверенность нации Отсюда безусловная
обязанность для марксиста отстаивать самый решительный и са-
мый последовательный демократизм во всех частях национального
вопроса. Это — задача, главным образом, отрицательная. А даль-
ше ее идти в поддержке национализма пролетариат не может, ибо
дальше начинается «позитивная» (положительная) деятельность
буржуазии, стремящейся к укреплению национализма»9. Ленин
предупреждал, что содействовать буржуазному национализму за
историческими рамками борьбы против феодализма, империализ-
ма, за национальную независимость — значит не видеть различия
между демократическим содержанием национализма и сущностью
последнего, «значит изменять пролетариату и становиться на сто-
рону буржуазии. Тут есть грань, которая часто бывает очень тон-
ка...» ,0. Имея в виду подобную ситуацию, Ленин, выступая на
II съезде коммунистических организаций народов Востока (ноябрь
1919 года), говорил: «Вам придется базироваться на том буржу-
азном национализме, который пробуждается у этих народов, и не
может не пробуждаться, и который имеет историческое оправда-
ние»11. Вместе с тем он подчеркивает важность разъяснения всем
эксплуатируемым массам, что их единственным надежным союз-
ником является международный пролетариат. Развивая эти мыс-
ли, Ленин в «Тезисах ко II Конгрессу Коммунистического Интер-
национала» указывал, что коммунисты должны «идти во времен-
ном союзе с буржуазной демократией колоний и отсталых стран,
но не сливаться с ней и безусловно охранять самостоятельность
пролетарского движения даже в самой зачаточной его форме» 12.
Ленин предостерегал от того, чтобы признание исторической
прогрессивности демократических элементов национализма прев-
ращалось в апологию национализма. Ленин отмечал, что грани
между буржуазным и мелкобуржуазным национализмом подвиж-
ны, и четко указывал: «Поскольку буржуазия нации угнетенной
борется с угнетающей, постольку мы всегда и во всяком случае и
е В. II. Ленин. Поли. собр. соч., т. 24, стр. 132.
10 Там же.
11 В. II. Л с н и п. Полн. собр. соч., т. 39, стр. 330
12 В. И. Л е п и н. Полн. собр. соч , т. 41, стр. 167.
366
решительнее всех за, ибо мы самые смелые и последовательные
враги ушетения. Поскольку буржуазия угнетенной нации стоит
за свой буржуазный национализм, мы против» ,3.
Пока буржуазия борется за общенациональные цели с ней воз-
можен и необходим союз, но этот союз становится не только лиш-
ним, но и вредным с теми буржуазными элементами, которые
выступают против интересов нации; современное историческое раз-
витие стран Латинской Америки, Африки и Азии отчетливо показы-
вает, что демократическое содержание национально-освободитель-
ных движении определяется прежде всего интересами трудящих-
ся классов и слоев. ^естественно поэтому, что общедемократическое
содержание «национализма» марксисты-ленинцы считают истори-
чески оправданным и поддерживают его там и тогда, где и когда
это содержание налицо, не забывая при этом о тех силах, которые
лишь временно прикрываются общедемократической борьбой и го-
товы предать подлинные интересы нации.
Поддержка коммунистами демократического содержания «на-
ционализма» угнетенных наций не исключает, а, наоборот, предпо-
лагает борьбу против буржуазного национализма как такового
Без преодоления националистического извращения национального
демократические силы не сумеют последовательно отстаивать пот-
шнные интересы нации.
Ленин отмечал, что «буржуазный и буржуазно-демократический
национализм, на словах признавая равноправие наций, на деле
отстаивает (часто тайком, за спиной народа) некоторые привпле
гни одной из наций и всегда стремится к достижению больших вы-
год для «своей» нации (т. е. для буржуазии своей нации), к раз-
делению и разграничению наций, к развитию национальной исклю-
чительности и т. д. Толкуя больше всего о «национальной культуре»,
подчеркивая то, что разделяет одну нацию от другой, бурж^аз
ный национализм разделяет рабочих разных наций и одурачи-
вает их «национальными лозунгами»14.
Эти строки, написанные Лениным в 1913 году, сохраняют свою
полную силу в наше время. Более того, они стали еще актуальнее
именно сейчас, в период, когда большинство колониальных с
обрело независимость и наступило время для переосмысливания
сути национализма, точнее, национальных интересов через при }
решения внутренних социальных проблем Необходимость тако
переосмысления признают многие прогрессивные деятел i
колониальных и зависимых стран. Вот что п"са-п’ на^1’ РгЯП1,
из политических деятелей Дагомеи Амтруаз А го в
ском журнале: «...национализм, который был Фа «ппьбы сон
течение всего периода героической освободитель! 1тано’внтся
ряжен с несомненной опасностью регресса, в ору.
фактором изоляции или когда он вырождается, р р
В. И. Лени и. Поли. собр. соч., т. 25, стр. 275
14 В И. Л е и и н. Полн. собр. соч., т. 24, стр 2
367
дне обмана для закабаления и эксплуатации народных масс пос-
ле провозглашения независимости.
В самом деле, если национальная независимость является сред-
ством, то высшей и непосредственной целью всякой настоящей не-
зависимости является политическое, экономическое и социальное
освобождение масс. Следовательно, недостаточно простой смены
национальности эксплуататора, чтобы эксплуатация рассматрива-
лась как проявление национального суверенитета, так же как недо-
статочно облечь тиранию в национальные формы, чтобы она пере-
стала быть тиранией»15 16.
Эксплуататорские классы в освободившихся от колониализма
странах, столкнувшись с необходимостью решать внутрисоциаль-
ные проблемы, все дальше отходят от демократических элементов,
нередко поощряют трайбализм (племенную рознь), общинно-рели-
гиозную замкнутость, лишь бы не дать развернуться классовой
борьбе, утрата демократических элементов буржуазией обнажает
ее национализм, его антидемократическую, антинациональную
сущность.
Бывает так, что антиимпериалистическая направленность на-
ционализма сочетается с шовинистической политикой господствую-
щих буржуазно-помещичьих классов в отношении соседних наро-
дов, а также гнетом различных этнографических групп у себя,
внутри страны. Таким двойственным является, например, нацио-
нализм во многих латиноамериканских странах. Этот национализм,
выступающий под знаменем «Аргентинидад», «Парагуайдад» и
т. д., построен на идее о нации как особой коллективной личности
и существовании у нее иррациональной души с исключительными
качествами. Он имеет тесные идейно-политические связи с фашиз-
мом 15 и весьма искусно используется империализмом для разоб-
щения народов Латиноамериканского континента, разжигания
вражды и конфликтов между ними.
Конечно, в некоторых разновидностях латиноамериканского
национализма имеется демократическое содержание17, но опять же
прогрессивно именно это содержание, а не сам национализм, ко-
торый по своей буржуазной сущности всегда враждебен интересам
всех народов и потому, как писал Ленин, «марксисты ведут реши-
тельную борьбу с национализмом во всех его видах...» 18.
Национализм особенно нетерпим в социалистических странах.
Он чужд природе социализма. Однако, несмотря на противоесте-
ственность национализма для коммунистической формации, он на
15 «Afriquc-nouvelle» du 27 yuin— I juillet 1968.
16 H. P A g о s t i. Nacion у cultura. Baenos Aires, 1949, p. 236.
17 Демократические, революционные силы в странах современной Латинской
Америки (как и в Африке и Азин) часто выступают под лозунгом «нацио-
нализма» или «революционного национализма», но во всех случаях револю-
ционным, прогрессивным выступает лишь антиимпериалистическое, демократи-
ческое содержание этого национализма.
18 В II. Л с и и и. Поли собр. соч., т. 24, стр. 236
368
первой, нпзше i ее фазе еще дает себя знать как пережиток капи-
тализма в сознании некоторых людей, приобретает новые спеин-
фпческие формы проявления.
Разжигание национальной розни и вражды между народами
стран социализма занимает важнейшее место в стратегии импе
риализма. Это объясняется изменением соотношения сил капита-
лизма и социализма в пользу последнего, невозможностью уничто-
жать его сплои п тем, что мировая система социализма стала ре-
шающей сплои в антиимпериалистической борьбе. Правда, крайне
равое крыло империализма наряду с применением тактики «опо-
ра па национализм» для разложения социализма не исключает
действии и с позиции силы, но большинство идеологов буржуазии
склоняется к тому, что основным средством борьбы против со-
цпа. гама в сложившихся в настоящее время условиях должно
служить всемерное разжигание национализма, стимулирование
создания обособленных друг от друга «социалистических» госу-
дарств под флагом «национального коммунизма».
Таким образом, империализм для разложения революционных
сил. недопущения их интернационального сплочения как в каждом
из потоков мирового революционного процесса, так и всех их друг
с другом всюду делает ставку на национализм. При этом исполь-
зуются все средства для внедрения националистических предрас-
судков в психологию широких кругов трудящихся, для получения
массовой аудитории, восприимчивой к идеологии и социальной
практике национализма господствующих классов. Буржуазные п
ревизионистские идеологи в целях оживления национализма боль-
ше всего прилагают усилия к тому, чтобы национальные чувства
превратить в националистические. Проповедуется консервация лю-
бых национальных форм, защита «культурного плюрализма».
С другой стороны, империализм широко использует изнаик
национализма — космополитизм. Идеологи современного империа-
лизма не только планируют экономическую, политическую и куль-
турную интеграцию народов капиталистических стран, но и меч-
тают о вовлечении в этот процесс социалистических паи й, [
рабатывают одновременно и связанно с концепциями «е i
индустриального общества» различные теории конвергенции капп
тализма и социализма. Игнорируя принципиальные отличия меж
ту ними (в области собственности, культуры, политики пт. д.),
защитники теорий конвергенции Р. Арон, 3. Бжезинским, , . о
и другие утверждают, что всюду якобы идут одинаковые пронес сь
ассимиляции и интеграции народностей и нации, ведущие ко Р
зованию единого интегрального общества, и что слияние пу
Ннализма и капитализма будет обеспечено
ГО во второе. Об СССР, например, У. Ростоу пишет «Ми можем
с полным основанием рассчитывать... на изменен!! р> Р Д’)р
ского общества в течение ближайших лет и десяти,
” W. Rastow The Dynamics of Soviet Society. N. Y , 1^2, pp 243 244.
C T Калтахчян
369
Идеологи империализма, конечно, прекрасно отдают себе от-
чет, что подобных закономерностей конверюнцпн не существует,
поэтому, выдавая желаемое за действительность, не уповают на
действие квазизаконов, а предлагают различные искусственные
меры для разложения социализма. Они лихорадочно мечутся в по-
исках альтернативы мировому социализму и изобретают различ-
ные теории «континуитета» форм политической организации обще-
ства и универсальности политико-правовых принципов, предлага-
ют рецепты объединения народов путем экономического, полити-
ческого и культурного слияния, игнорируя при этом непримиримые
классовые противоречия, раздирающие капиталистические страны,
а также противоположность капитализма н социализма.
Антикоммунисты больше всего надеются на якобы «особую
копвергептиость» духовного развития двух миров, на возможность
идейного перерождения трудящихся, в первую очередь молодежи,
социалистических стран, на их постепенную адаптацию к буржуаз-
ным духовным стандартам. Затушевывая классовые корни культу-
ры, идеологи капитализма всячески «обосновывают» теории «еди-
ною потока». По их мысли, «культурная конвергенция» вообще
происходит под воздействием неких «скрытых сил» и почему-то
эти «скрытые силы» действуют прямо противоположно коммуни-
стической идеологии. На поверку же «скрытыми силами» оказы-
ваются стремления монополистов выдавать свои цели и интересы
за «общенациональные», а затем, активно внедряя свою «культу-
ру» в общемировую, построить, например, на основе буржуазных
^культурных ценностей» единую общемировую цивилизацию Бо-
лее того, культура буржуазии, особенно американской, объявляет-
ся высшим достижением современной культуры, наследницей
«культурных традиций» всех истинных цивилизаций и предлагает-
ся в качестве образца всем пародам. Наиболее бесцеремонно ста-
вится вопрос о «западпизании» латиноамериканских стран с целью
сломать крепнущее в них национально-освободительное движение
и сделать Латинскую Америку экономическим, политическим
н культурным придатком США.
В отношении социалистических стран империализм усердно
применяет тактику «наведения мостов» и, разжигая национализм,
надеется идеологически и политически переродить их. Политики и
идеологи империализма, в частности, считают, что европейские
социалистические страны примкнут к капиталистическим странам
Европы потому, что все они сложились под воздействием запад-
ного христианства и у них развивается тоска по Европе, чувство
принадлежности к «западной цивилизации».
Сами империалисты, конечно, не очень верят в проповедуемую
ими ностальгию и социальную мимикрию и поэтому усиленно под-
талкивают «культурную» и иную «конвергенцию», экспортируют
духовную отраву. Особое внимание обращается на усиление в зия-
ния буржуазной культуры на жизнь социалистических стран. Про-
никновение буржуазной культуры в европейские страны социализ
370
ма по замыслу стратегов НАТО должно породить западное чувство
солидарности.
Словом, делается все для создания такой политической ситуа-
ции, при которой «тоска по Западу» заставит социалистические стра-
ны подвергнуться буржуазному перерождению. Как лучшее сред-
ство создания такой ситуации империалисты избрали разжигание
национализма, не без основания считая его тем «взрывчатым ве-
ществом, которое угрожает единству коммунизма». Так, с одной
стороны, делается все, чтобы дискредитировать национальный су-
веренитет, стремление народов к национальной свободе и независи-
мости, а с другой стороны, социалистическим странам внушается,
что если они разойдутся друг от друга, они могут рассчитывать на
западную интеграцию, где их национальные интересы встретят
«большее понимание, чем в Москве». «Запад должен,—пишет
Е. Майоника,— апеллировать к их национальному эгоизму — дру-
гого средства подтолкнуть их на путь интеграции (включения
в западный блок.— С. К.) нет»20.
Ведущие «научные» центры империалистической внешней по-
литики в настоящее время озабочены главным образом том, как
расшатать единство социалистических стран, «навести мосты» от
капитализма к социализму, с тем, чтобы переродить последних,
да и так повлиять на новые нации, чтобы они не пошли за социа-
лизмом, не оказались в социалистическом лагере. Если удастся
идеологическое перерождение социалистических стран, мечтают
империалисты, тогда и СССР станет на путь нацнонал-коммуннз-
ма, перед лицом полицентризма он якобы потеряет интерес к но-
вым революциям, произведет переоценку ценностей и займется
своими внутринациональными вопросами. При таком обороте дел
империалисты не против «социализма», лишь бы он был «нацио-
нальный», с национальным же, разумеется, вариантом марке и ма-
ленинизма.
Так, направляя все свои усилия на подкоп интернациональною
единства революционных сил мира и в первую очередь социали-
стического содружества, на то, чтобы отравленным оружием на
шюнализма ослабить способность народов к сопротивлению р1
мой агрессии, современный антикоммунизм, с одной стороны, про-
поведует космополитизм, а с другой - усиленно поощряет нацио-
нализм, в том числе в форме национал коммунизма, обвиняя под
личных марксистов-ленинцев в национальном нигилизме этих
целях широко используется «внеклассовое» понимание мани нал
ного единства.
Проблема национального единства, вошикшая еще в 1К1
формирования наций, является одной из острых ^оцпальпых Р
лем, стоящих перед всеми классами во все периоды п
пия и развития папин. На разных этапах общее венного р
‘"Ernst Majonica. Deutsche Aussenpolitik. W Koi I amor Vcrlag Stuttgart,
1965, S. 177.
371
24*
национальное единство выступает неодинаково, да и различные
классы вкладывают в него разное, иногда прямо противополож-
ное содержание. В период формирования наций, когда буржуазия,
борясь против феодализма, в известном смысле выражала интере-
сы народа, третьего сословия, национальное единство означало
консолидацию всех социальных слоев против феодальной раздроб-
ленности. Но в процессе дальнейшей дифференциации классовых
интересов в нации обозначилась четкая расстановка классовых
сил, противоположность интересов основных классов капитализма.
Поляризация этих интересов зашла так далеко, что она стала
обнаруживаться даже в общенациональных движениях, когда
единство нации должно, казалось бы, проявиться с особой силой.
«Понятие «общенациональная революция»,— писал В. II. Ленин,—
должно указывать марксисту на необходимость точного анализа
тех различных интересов различных, классов, которые сходятся на
известных, определенных, ограниченных общих задачах. Ни в ка-
ком случае не может служить это понятие для того, чтобы зату-
шевывать, заслонять изучение классовой борьбы в ходе той или
иной революции. Подобное употребление понятия «общенацио-
нальная революция» есть полный отказ от марксизма и возврат
к вульгарной фразе мелкобуржуазных демократов или мелкобур-
жуазных социалистов»21.
Националисты па том основании, что антагонизм классов не
означает распада нации, отрывают национальное самосознание от
классового сознания, выдают первое в качестве самостоятельной
надклассовой ценности, мешают трудящимся осознать свои нацио-
нальные интересы с классовых позиций. Между тем общность на-
ции (ее определенных признаков) и единство нации не одно и то
же. Вопрос о характере единства нации может и должен рассмат-
риваться с последовательно классовых позиций. Национальное
единство является действительным, когда составляющие данную
нацию классы в существенных вопросах социального развития
имеют общие интересы и задачи. Это достигается при социализме.
Характерные черты социалистических наций (см. раздел 2, гл. V)
свидетельствуют о том, что подлинное национальное единство
может быть только социалистическим и что оно не противоречит
интернациональному единству народов, но, наоборот, закономерно
предполагает его. Там же, где различные социальные классы име-
ют антагонистические интересы и преследуют противоположные
цели, может складываться национальное единство лишь в краткие
периоды и то па основе временно совпадающих ограниченных за-
дач. Широко пропагандируемое капитализмом единство нации
независимо от классовых антагонизмов носит мнимый характер.
Оно создается путем массового националистического извращения
национального самосознания трудящихся.
В извращении национального самосознания пособниками и со-
” В II Ленин Полн. собр. соч., т. 15, стр. 276—277.
372
юзнпкамп идеологов эксплуататорских классов выступают правые
и «левые» оппортунисты. Отрекаясь от классовой точки зрения
якобы из-за боязни оттолкнуть от себя широкие массы, оппорту-
нисты выступают за единство нации на основе сотрудничества
всех классов, превращают нацию в вечную и абсолютную цен-
ность. Оппортунисты на словах отрекаются от национализма,
даже шумно заявляют, что они интернационалисты, однако, как
доказал В. II. Ленин, «социал-национализм вырос из оппор-
тунизма, и именно этот последний дал ему силу»22 и что «сторон-
ник между народности, не являющийся самым последовательным
и решительным противником оппортунизма, есть мираж, не более
того» 23.
Национализм и оппортунизм выступают заодно и после социа-
листической революции; они только приспосабливаются к новым
условиям. Преобразование нации капиталистического общества в
социалистические, перековка психики миллионов трудящихся, дол-
го отравляющейся ядом национализма, происходят не сразу и не
стихийно. После победы социалистической революции наиболее
живучим пережитком капитализма остается национализм. Вместе
с тем давление остатков бывших эксплуататорских классов и на-
ционалистов, а также трудности социалистического строительства
порождают «левые» и правые оппортунистические течения. Уста-
навливается союз, единство национализма и оппортунизма, чем
искусно пользуется мировой империализм, стремясь расшатать, а
затем ликвидировать социализм.
Империализм в условиях роста и укрепления мировой системы
социализма не решается на прямой штурм, а выбирает тактику
«гибкого антикоммунизма», «тихой контрреволюции», «размягче-
ния, эрозии социализма». Для этой цели самыми подходящими си-
лами оказываются оппортунизм и национализм, которые извраща-
ют социалистическое национальное самосознание народных масс
своих стран.
Ревизионисты, затушевывая классовое в национальном, сперва
приспосабливают национализм к социализму, утверждая велел за
О. Бауэром, что главной целью социализма якобы является раз-
витие сущности нации, более четкая выработка ее коллективном
индивидуальности. Соответственно вместо интернациональною
единства социалистических нации выдвигается их простое ыкуще
ствование или их содружество наподобие «Британского содруже
ства наций». Когда реакции удается отравить довольно шир кие
массы националистическим ядом, начинается второй этап, приспо-
собление социализма к национализму. Широко пропагандирую
национальные варианты социализма, и призывы к национальном
22 в И Лен и н Полн. собр. соч., т. 26, стр. 151.
23 Там же, стр. 153. Крах II Интернационала накануне первой мировойi bow
полностью разоблачил шовинистическое нутро оппортунистов J1,?
В И. Ленин назвал «социал-шовинистами», считая, что этот термин точно .,
чем «социал-патриотизм», так как последний прикрапл ва« т э
373
единству более или менее открыто противопоставляются проле-
тарскому, социалистическому интернационализму.
В. II. Ленин предвидел, что с появлением новых социалисти-
ческих государств правый оппортунизм и левый экстремизм все
чаще будут блокироваться с национализмом и что они представят
особую опасность, если на определенном этапе из уклона отдель-
ных лиц и групп превратятся в основу политики правящей партии.
«^Борьба с этим злом, с наиболее закоренелыми мелкобуржуазны-
ми национальными предрассудками,— писал В. II. Ленин,— тем
более выдвигается на первый план, чем злободневнее становится
задача превращения диктатуры пролетариата из национальной
(т. е. существующей в одной стране и неспособной определять
всемирную политику) в интернациональную (т. е. диктатуру
пролетариата по крайней мере нескольких передовых стран, спо-
собную иметь решающее влияние на всю мировую политику)»24.
Печальный пример маоизма показывает, что националистиче-
ские тенденции потому и опасны, что они направлены на созда-
ние единства нации не на основе научного социализма, интерна-
ционального по своей сущности, а на основе таких проповедуемых
«левыми» и правыми ревизионистами «социализмов», которые
враждебны интернациональным и тем самым подлинно националь-
ным интересам народов. Маоизм, соединив в себе и «левый» и пра-
вый ревизионизм, стал на позиции оголтелого национализма и шо-
винизма, докатился до расистского восхваления народов одного
цвета кожи и одной системы письма. Маоисты разглагольствуют
об интернационализме и патриотизме, но на деле их политика
направлена против сплочения социалистических стран. Их аван-
тюристический курс «экспорта революции», даже ценой сотен
миллионов жизней, враждебен и интернациональным и нацио-
нальным интересам всех народов. Теория и политика маоизма
разрывают с марксизмом-ленинизмом не по частным вопросам, а
с его принципами, с коммунистическим воззрением в целом. Таков
в правый оппортунизм, который под видом «национального социа-
лизма» проповедует давно известный в истории «демократический
социализм» социал-демократического толка. Национализм пра-
вых, преподносимый в тоге патриотизма, также враждебен под-
линным национальным и интернациональным интересам народов.
Национализм современных «левых» и правых оппортунистов
еще раз подтверждает тезис В. И. Ленина о том, что «идейно-
политическое родство, связь, даже тождество оппортунизма и со-
циал-национализма не подлежит никакому сомнению»25.
Смыкание левого ревизионизма с правым ревизионизмом, а в
целом с антикоммунизмом происходит по логике развития оппор-
тунизма, как правого, так и «левого», поскольку оба ревизиони-
стских течения в национальном вопросе стоят на буржуазно-на-
24 В. И. Лепи и. Поли. собр. соч., т. 41, стр. 165.
25 В. И. Ле и и н. Поли. собр. соч., т. 26, стр. 151.
374
ционалистических позициях. Правые оппортунисты и левосектант-
ские догматики извращают сущность пролетарского, социалисти-
ческого интернационализма, игнорируют новый тип отношении
между социалистическими странами, их братское сотрудничество
и взаимопомощь.
Национализм в сочетании с оппортунизмом в революционном
движении особенно коварен, ибо прикрывается марксистско-ле-
нинской терминологией. При этом «левые» ревизионисты ратуют
якобы за наиболее «революционный социализм», а правые — за
более «справедливый социализм». В действительности и тот и дру-
гой «социализм» лишь расчищает путь для реставрации капита-
лизма.
Маоистские ультрареволюционеры своей политикой, направ-
ленной на перерождение социализма в КНР и подрыв содружества
стран социализма, дают особенно наглядный пример пособниче-
ства империализму. Маоизм взял под обстрел даже ленинское
положение о том, что социалистические страны окажут решаю-
щее воздействие на развитие мировой истории прежде всего сво-
ими хозяйственными успехами. В настоящее время маоизм откры-
то взял курс, смыкающийся с политикой самых реакционных им-
периалистических кругов. Он направлен на раскол всех револю-
ционных сил современности, и потому шовинизм и национализм
стали движущей пружиной всех действий маоистов.
Антикоммунизм, который усердно поощряет проявление и раз-
витие любых националистических тенденций в социалистических
странах, естественно, со всей силой ухватился за шовинистический
курс маоистов, сулящий им радужные перспективы подрыва един-
ства социалистических стран, самого социализма. Империалисты
откровенно заявляют, что для них, конечно, небезразлично, есть
ли сплоченный социалистический лагерь или его нет. Опп делают
все возможное, чтобы направить развитие социалистических стран
в русло национального коммунизма, если уж нельзя их сразу
свернуть к капитализму. Заодно буржуазным и теологам очень
хочется дискредитировать ненавистный им пролетарский интерна
ционализм, доказать, что природа человека такова, что вытравить
из него национализм не сумеет никакой социализм. Этим целям
хорошо служит маоистский национализм, который в глазах импе-
риалистов выглядит дискредитацией социализма, нош р
различные планы использования маоизма против социал 13 с
ответствии со старинной формулой: «вра> моего врага является
моим другом». Линия маоистского национализма трактуется анти-
коммунистами как закладка последнего камня в здание чисто
национального коммунизма, и они всячески поощряют маоизм,
считая что при его успехе «решающим фактором стала бы нацио-
нальная борьба за ‘господство... пролетарский интернационализм
был бы мертв»26.
26 е Majonica. Deutsche Aussenpolitik. W. Vcrlaf. .Stuttgart, 1965, S. 156.
375
Такова объективная роль национализма. Неудивительно поэто-
му, что империалистические, антикоммунистические круги на все
лады расхваливают всех тех, кто проповедует в социалистических
странах национальную обособленность, буржуазно-националисти-
ческое понимание единства нации. Они, например, с восторгом
встретили лозунг правых антисоциалистических сил в Чехосло-
вакии «о полном национальном единстве», в которое вкладывает-
ся якобы надклассовое, а по существу националистическое содер-
жание. В это мнимое национальное единство приглашались все
остатки эксплуататорских классов, бывшие буржуазные парла-
ментарии, нацисты, уголовные и государственные преступники,
объединившиеся в пресловутом «клубе 231» и ему подобных сбо-
рищах, а также разношерстные «лпберализаторы» социализма.
От имени нации стали говорить люди, которым в сущности
чужды подлинные национальные интересы, которые лили грязь на
историю социалистической Чехословакии, завоевания ее народа,
стремились под флагом «либерализации» повернуть нацию вспять
к капитализму. Мнимый характер этого национального единства
особенно четко проявлялся в том, что антисоциалистические силы
пытались отстранить от руководства обществом костяк и ведущую
силу нации — рабочий класс и его авангард — Коммунистическую
партию. Антисоциалистические силы, правые ревизионисты в Че-
хословакии третировали рабочий класс как «консервативную си-
лу», а руководство Коммунистической партии оспаривалось на
том «основании», что, как писал еженедельник «Литерарни листы»
9 мая 1968 года, «вряд ли демократизацию сможет обеспечить
партия, которая должна проводить не только национальную, ио
и интернациональную политику». В этом фальшивом противопо-
ставлении национального интернациональному как нельзя более
четко выступил истинный характер «демократической модели со-
циализма», ее буржуазно-националистическая сущность.
Национальное единство становится подлинным лишь в услови-
ях, когда есть социальные классы и группы с общими коренными
интересами, классы и группы, ставшие дружественными, пресле-
дующие общие цели укрепления и развития социализма. Контр-
революционеры, разумеется, думали пе о прогрессе и не о социа-
лизме, а о реставрации буржуазных порядков, и их цели были
прямо противоположны целям сил, верных научному социализму.
В подобных условиях становится необходимым прежде всего раз-
межевание в вопросе о национальном единстве, ибо одни понима-
ют его как призыв к объединению здоровых социалистических сил,
а другие — как призыв навязать стране антисоциалистический,
националистический курс. Когда, например, реакция в ЧССР, за-
хватив массовые средства информации, сумела отравить ядом на-
ционализма довольно широкие круги населения, особенно моло-
дежи, стало ясно, что призыв к национальному единству без чет-
кого указания — с кем и на какой основе — был на руку все той
же реакции. Если оппортунистам, антисоциалистическим силам
376
\ дается заразить массы оацпллами национализма, коммунистам
тем более необходимо размежеваться от ложных или двусмыслен-
ных лозунгов, от всяких колебании и шатаний, развивать социали-
стическое сознание народа, его решимость, твердость к созданию
действительного единства нации. «Марксистам вовсе не приста-
ло,— учил Ленин, — от классовых интересов (выраженных партий-
ной группировкой на выборах) апеллировать к минутному настрое-
нию... Рассуждать иначе — значит заменять выдержанную проле-
тарскую тактику беспринципной зависимостью от „настроения”» 27.
Надклассовое, мнимое национальное единство марксисты- ie-
нинцы отвергают, поскольку всякая подмена классового принципа
национальным, расовым, географическим подрывает сплоченность
трудящихся, отвлекает их от борьбы за свои социальные и под-
линные национальные интересы, облегчает наступление антиком-
мунизма на их социалистические завоевания. Ни одна коммуни-
стическая партия не может остаться подлинно марксистско-ленин-
ской и выполнять роль авангарда в строительстве и укреплении
социализма, если не создаст атмосферу нетерпимости к нацио-
нализму и не преодолеет его в своих собственных рядах. После-
довательная же борьба против национализма требует такой же
борьбы против как «левого», так и правого оппортунизма, бло-
кирующихся, как показывает исторический опыт, с национализ-
мом. Подлинное единство нации достижимо только на основе на-
учного социализма, принципов пролетарского, социалистическою
интернационализма.
Возникает законный вопрос: откуда берется национализм в со-
циалистическом мире? Ведь известно, что национализм порож-
дается капиталистическими отношениями частной собственности и
эксплуатации и что с падением классовых антагонизмов должны
пасть и национальные антагонизмы. На подобные вопросы отве-
тить простой ссылкой на отставание сознания от бытия, на пере-
житки капитализма в сознании людей без анализа действительно-
сти в ее конкретном историческом развитии нельзя. Такой ответ
б)дет недостаточным и неубедительным.
Правильность положения «Манифеста Коммунистической пар-
тии» о том, что вместе с антагонизмом классов падут и враждеб-
ные отношения наций, подтверждена уже опытом взаимоотноше-
27 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 15, стр. 279.
Большевистская партия во главе с Лепиным не раз показывала па практи-
ке что и как нужно сделать, чтобы трудящиеся осознавали своп классовые
интересы Так, когда в 1917 году в предоктябрьский период русский пролета-
риат был охвачен волной «революционного оборончества», большевики не
пошли за «настроением масс». Наоборот, они сумели лооороть психологию
национал-шовипизма и перевести рабочих на путь подлинного интернациона-
лизма. «На опыте массовой борьбы, под воздействием гениальных ленинских
Ипей — изобличительных обнаживших буржуазный ооман, и конструктивных,
указывающих куда и как идти, - в канун Октября совершился великим перс-
.’ом в с™а«ии масс» (Г. М. Гак. Октябрьская победа п революция в созпа-
нии масс. «Вопросы философии», 1968, № 10, стр. 4).
377
ний социалистических наций. Не подлежит сомнению, что природе
социализма чужд всякий национализм, и если в какой-либо социа-
листической стране поднимает голову национализм и даже полу-
чает господствующее положение, то в этом повинна не природа
социализма, а деформирующие ее «левые» и правые ревизиони-
сты. определенные антисоциалистические силы, которые в услови-
ях недостаточно развитых социалистических отношений воскре-
шают привычное националистическое наследство. В подобных слу-
чаях национализм может стать массовой п наиболее опасной для
социализма идеологией.
Сказанное не означает, что в социалистическом обществе на-
ционализм может иметь место благодаря только субъективным
факторам. При социализме имеются и объективные факторы, спо-
собствующие живучести националистических тенденций и укло-
нов. Однако эти факторы коренятся не в социализме как таковом
(интернациональном по своей сущности), а в его недостаточной
развитости или деформации. По мере развития и углубления
социалистических преобразований социализм все больше будет
освобождаться от чуждых ему элементов, в том числе от причин,
порождающих национализм.
Объективные факторы проявлений национализма в социалисти-
ческих странах связаны главным образом с их буржуазным прош-
лым, с тяжелым наследием враждебных отношений между нация-
ми. Они коренятся также в социальных условиях классов и групп,
не ставших еще вполне социалистическими. Степень преодо-
ления созданных ранее господствующими классами былой непри-
язни п недоверия между народами определяется уровнем зрело-
сти социализма в той или иной стране и во всей мировой системе
социализма в целом. Чем больше и дольше остаются в стране пос-
ле совершения в ней социалистической революции остатки экс-
плуататорских классов и мелкобуржуазных слоев, тем больше
объективных и субъективных источников, питающих национализм.
Наконец, националистические явления в социалистическом ми-
ре не просто пережитки, оставшиеся от уничтоженного буржуаз-
ного строя. Они всячески подогреваются извне политиками и про-
пагандистами живого буржуазного мира, стремящегося посредст-
вом национализма деформировать п приостановить процесс строи-
тельства социализма.
Объективные и субъективные причины проявлений национализ-
ма внутренне связаны друг с другом. Так, сохранение в сознании
или новое проникновение в сознание трудящихся стран социа-
лизма элементов буржуазной психологии и идеологии обусловле-
но как их дореволюционным прошлым, так и воздействием совре-
менного буржуазного мира.
Живучесть и цепкость национализма объясняются самыми раз-
личными причинами. Тут играет роль и отставание сознания от
нового, социалистического бытия, и буржуазная националистиче-
ская пропаганда. Источником оживления национализма могут
378
стать также извращения норм социалистической жизни: наруше-
ния енинских принципов равноправия народов в их экономиче-
ском и культурном развитии, социалистической демократии и за-
конности, особенно в политике подбора кадров, самовосхваление
и пренебрежение опытом братских народов, подмена социалисти-
ческ( го патриотизма мелкобуржуазным, узконациональным пат-
риот имом, отрывающим национальные интересы от интернацио-
нальных интересов, и т. д. При всем разнообразии источников
национализма его суть сводится к национальной розни, наруше-
нию ратства трудящихся. Какими бы ни были конкретные источ-
ники того или иного проявления национализма в социалистиче-
ском мире, он всегда является пережитком буржуазной психологии
н буржуазной идеологии.
К субъективным причинам относится и искаженное отражение
в сознании людей трудностей строительства социализма и новых
социалистических национальных отношений. В условиях социали-
стического строительства субъективной причиной национальных
уклонов выступает также слабая активность правящей комму-
нистической партии по интернациональному воспитанию трудя-
щихся. Отступления же отдельных групп, лиц или даже определен-
ного руководства коммунистической партии от марксизма-лени-
низма, пролетарского, социалистического интернационализма пря-
мым образом подогревают национализм и шовинизм.
Субъективные причины национализма в конечном счете явля-
ются порождением объективных причин, их отражением, но, воз-
никнув, они приобретают автономное, относительно самостоятель-
ное существование. Это, однако, не означает, что развитие нацио-
нализма фатально неизбежно в любой социалистической стране,
в которой преобладает мелкобуржуазное (крестьянское) населе-
ние, а в дореволюционный период в ней господствовал национа-
лизм и шовинизм эксплуататорских классов.
Продолжится ли развитие национализма после социалистиче-
ской революции или, наоборот, он постепенно будет преодолен и
исчезнет, зависит от силы, стойкости и последовательности в про-
ведении марксистско-ленинской интернационалистской политики
правящей в данной социалистической стране коммунистической
партии. В этом отношении очень показательно сравнение развития
СССР и КНР.
Как известно, Россия по составу населения была до соцвали
стической революции и ряд лет после нее по преимуществу кре-
стьянской, мелкобуржуазной страной. Национализм и шовинизм
в царской России поддерживались эксплуататорскими классами
па очень высоком уровне. Однако ленинская партия еще до рево-
люции сумела объединить в единых интернациональных организа-
циях многомиллионный российский пролетариат и поставить перед
ним всемирно-историческую задачу создания нового мира.
«Старому миру, миру национального угнетения, национальной
грызни или национального обособления.-писал Ленин,-рабочие
379
противопоставляют новый мир единства трудящихся всех наций,
в котором нет места ни для одной привилегии, ни для малейшего
угнетения человека человеком»28. Совершив социалистическую
революцию, российский пролетариат во главе с ленинской партией
сумел создать экономические, политические и идеологические ос-
новы дружбы свыше ста национальностей СССР, воспитать их
в духе пролетарского, социалистического интернационализма, в
духе дружбы и братства с другими социалистическими странами,
с трудящимися всего мира.
ЦК КПСС, подводя итоги достижений советских народов в де-
ле развития их интернационального братства, в постановлении
о подготовке к 50-летшо образования СССР вновь подчеркнул, что
и впредь благородная задача интернационального воспитания тру-
дящихся будет в центре внимания как важная сторона формиро-
вания коммунистического общественного сознания. «Интернацио-
налистское воспитание выступает как одна из центральных задач
। всех партийных, советских, хозяйственных, культурных и обще-
ственных организаций, всех наших кадров в центре и на местах,
в каждой республике, крае, области, в каждом коллективе. В этой
работе следует всесторонне использовать революционные, боевые
и трудовые традиции рабочего класса, трудящихся всех республик
Советского Союза, шире показывать, что дальнейшее развитие
I межнациональных отношений, укрепление дружбы народов, про-
цессы расцвета и сближения социалистических наций благотвор-
но влияют на все сферы жизни советского общества — экономику
и политику, идеологию и мораль, культуру и быт.
Долг каждого коммуниста — всемерно укреплять в массах со-
знание принадлежности к единой социалистической Родине, к ве-
ликой интернациональной армии строителей нового общества. Не-
обходимо и впредь настойчиво вести работу по воспитанию трудя-
щихся в духе глубокого уважения ко всем нациям и народностям,
непримиримости к пережиткам национализма и шовинизма, про-
явлениям местничества, обеспечить последовательно классовый,
строго научный подход к оценке истории народов» 29.
Такова была и остается ленинская национальная политика —
последовательно интернационалистская от начала до конца.
Совершенно другое положение сложилось в КНР. Застарелый
оппортунистический груз маоистов привел к тому, что они не
ориентировали Коммунистическую партию Китая на преодоление
укоренившегося веками национализма в стране, в которой преоб-
ладало крестьянское, мелкобуржуазное население. Наоборот, эко-
номические и иные трудности в Китае, созданные самим же мао-
истским руководством КПК, толкнули их в объятия «взбесившего-
ся мелкого буржуа». ДАаоисты не стали бороться против нациопа-
28 В. И. Л е п п и. Поли. собр. соч., т. 23, стр 150.
29 «О подготовке к 50-летию образования Союза Советских Социалистических
Республик. Постановление ПК КПСС». AV, Политиздат, 1972, стр. 25.
380
лизма, а, напротив, взяли его на вооружение, сделали его опорой
своей политики. В настоящее время великодержавный шовинизм
маоистов вышел уже за рамки национального уклона и стал содер-
жанием политического курса современного руководства КПК.
Национализм китайских руководителей в негативной форме
подтвердил ту истину, что нельзя быть последовательным маркси-
стом-ленинцем, порвав с пролетарским интернационализмом, яв-
ляющимся составной частью марксистско-ленинской идеологии,
как и нельзя быть последовательным интернационалистом, реви-
зуя марксизм-ленинизм. ЛТаоисты, культивируя сознание превос-
ходства какого-то особого национального духа, национального ха-
рактера китайцев и других азиатских народов, их якобы особой
революционности и т. д., окончательно погрязли в националист-
ском, расистском болоте. Их оппортунизм обосновывает и питает
национализм, а национализм питает п «оправдывает» их оппор-
тунистические позиции.
Оригинальное тут лишь то, что в то время как буржуазия За-
пада насаждает в массах чувство превосходства западных наций
над нациями Востока, маоистские, с позволения сказать, маркси-
сты стали насаждать чувство превосходства восточных наций над
нациями Запада. Но такой «национализм наоборот» ничуть не
перестает быть национализмом.
С позиций национализма и идеологии самодержавного культа
личности стали атаковывать марксизм-ленинизм, международное
коммунистическое движение китайские раскольники. Два культа:
культ китайской нации в духе велпкоханского шовинизма и культ
личности Мао тесно переплелись и стали основным оружием рас-
кольников мирового социализма, в реализации их особых нацио-
налистических, гегемонистских целей. При этом национализм обе-
регает культ личности от критики и придает ему особо зловещий
характер. Сперва величие и достоинства нации персонифицируют-
ся в определенной личности, а затем уже критика обожествленной
личности считается недопустимой, так как она изображается на-
ционалистами как оскорбление нации, как покушение иа нацио-
нальную святыню, на национальный престиж. Однако проповедь
маоистами национальной и расовой исключительности желтой
расы, их вздохи о «грядущем веке Китая» ничего общего не име-
ют не только с пролетарским интернационализмом, но и с комму-
нистическим понятием национальной гордости. Такой культ папин
равносилен культу национализма и шовншнма.
Разгул национализма и шовинизма в КНР (вндетсльствхст,
таким образом, не о том, что социализм якобы тоже порожтает
национализм, а о том, как в силу определенных условий социа-
лизм оказывается во власти национализма. Если национализм
приобретает господствующее положение в социалистической стра-
не. это уже явный показатель процесса перерождения природы
социализма в данной стране. Возрождение социализма в таких
случаях может быть обеспечено победой подлинных марксистов-
381
ленинцев над оппортунизмом, пролетарского интернационализма
над национализмом.
Отдельные же проявления национализма в тех или иных звень-
ях социалистического общества возможны и встречаются, посколь-
ку социализм не полностью свободен от родимых пятен капитализ-
ма. Последовательная и систематическая борьба против причин,
порождающих любые националистические тенденции, потому и не-
обходима, чтобы не дать нм превратиться в угроз}7 завоеваниям
социализма.
В коммунистическом движении, в мировой системе социализма
очень опасными являются правый и «левый» ревизионизм, особен-
но когда они связаны с проявлением национализма и гегемонизма.
Всякая подмена классового принципа национальным, расовым,
географическим подрывает сплоченность трудящихся, отвлекает
их от борьбы за свои социальные п подлинно национальные инте-
ресы, облегчает наступление антикоммунизма на их социалисти-
ческие завоевания. Вот почему в арсенале средств идеологических
диверсий против мировой системы социализма главным оружием
является националистическая идеология. Она служит опасным
средством для разложения интернациональных рядов трудя-
щихся. Национализм в определенных условиях может стать наи-
более массовой и наиболее опасной для социализма идеологией.
Ни одна коммунистическая партия не может остаться подлинно
марксистско-ленинской и выполнять роль авангарда в строитель-
стве социализма, если не создаст атмосферу нетерпимости к на-
ционализму и не преодолеет его в первую очередь в своих собст-
венных рядах. Последовательная борьба против национализма
требует такой же борьбы против «левого» п правого оппортуниз-
ма, блокирующихся с национализмом. Нельзя не учесть и то, что
ослабление борьбы против национализма в одной нации приво-
дит к его усилению в других нациях. Империалисты широко ис-
пользуют национализм, не брезгуя никакой ложью и клеветой,
чтобы подорвать дружбу народов, расколоть единство социалисти-
ческих наций.
2. Сущность пролетарского,
социалистического интернационализма,
неизбежность его победы над национализмом
Пролетарский интернационализм как антипод буржуазного
национализма возник из противоречий между капиталом и тру-
дом. Интернационализм рабочего класса определяется его поло-
жением в капиталистическом обществе. Он, таким образом, имеет
классово-социальное происхождение. Выражая общность положе-
ния и интересов рабочего класса различных стран, интернациона-
лизм гарантирует правильное решение его национальных и интер-
национальных задач, обеспечивает единство классового содержа-
ния и национальной формы общественного развития, является
382
главной предпосылкой реализации национальных интересов. Эти-
мология термина «интернационализм» (inter —между и natio —
народ) не раскрывает, конечно, его сущность. Вместе с тем не-
правильно выдавать за интернационализм создание различных
международных капиталистических союзов, трестов, конгломера-
тов. так сказать, интернационализацию капитала.
Интернационализм — это международная солидарность рабо-
чих, трудящихся различных национальностей и рас, проявляющая-
ся в психологии, идеологии и социальной практике.
В. II. Ленин во всей своей деятельности и в теории и в прак-
тике исходил из того, что существование и развитие пролетарско-
го интернационализма обусловлены объективными закономерно-
стями, что он не изобретение кабинетных теоретиков, оторванных
от реального движения, не временный преходящий лозунг, а объ-
ективная реальность, возникшая из характера, из сути освободи-
тельной борьбы пролетариата. Ленин писал, что объективные
корни интернационализма рабочего класса в том, что «(а) эконо-
мическое положение его (le salariat*) не национально, а интер-
национально; (Р) его классовый враг интернационален; (у) условия
его освобождения тоже; (6) интернациональное единство ра-
бочих важнее национального»30. В этих положениях сформулиро-
ваны основные факторы, определяющие природу и характер про-
летарского интернационализма.
При капитализме одинаковое классовое положение пролетари-
ата всех наций, общность их классовой борьбы н целей порожда-
ют психологию международной солидарности рабочих и всех экс
плуатнруемых. Пролетарский интернационализм выступает здесь
как чувство общности интересов, солидарности и братства трудя-
щихся всего мира. Научное осознание этой общности дает идеоло-
гия пролетарского интернационализма, выработанная марксиз-
мом-ленинизмом. Коммунистические и рабочие партии своей по-
литикой укрепляют международную солидарность, осуществляют
на практике дружбу и взаимную поддержку трудящихся в борьбе
против капитализма за построение бесклассового общества.
Поскольку пролетарский интернационализм п буржуазный на-
ционализм внутренне присущи соответственно пролетарской и бур
жуазной идеологиям, двум противоположным мировоззрениям и
представляют две противоположные политики в национальном
вопросе, между пролетарским интернационализмом и буржуазным
национализмом идет непрерывная и непримиримая борьба.
В современную эпоху острой борьбы социализма и капитализ-
ма, социалистической и буржуазной идеологий, антикоммунисти-
ческий и ревизионистский лагерь на все лады твердит о кри нее
пролетарского интернационализма. Оощая для всех их мысль вы-
ражена в следующих словах английского историка А. Тойнби
30 В. II. Ленин. Поли. собр. соч., т. 49, стр 324
{* система наемного труда —Ред.}.
383
«Национализм является самой сильной идеологией в мире, п ни-
какая другая идеология не сможет противостоять национализму,
если возникнет конфликт интересов». Он, собственно, и пытается
доказать, что такой конфликт неизбежен ввиду различных тради-
ций народов, что поэтому предсказанный Лениным естественный
союз между пролетариатом развитых стран и угнетенными масса-
ми Азии и Африки - неосуществим и т. д. «Коммунизм,— пишет
Тойнби,— не стал идеологической силой, объединяющей мир, как
это предсказывал Ленин. Коммунизм не стал самой сильной идео-
логией в современном мире. Он был побежден национализмом...»31.
Правда, сам Тойнби считает, что это нехорошо, ибо национализм
угрожает существованию человечества, но для предотвращения
этой угрозы свои надежды он возлагает на космополитическую
технократию, которая якобы победит и национализм и коммунизм.
При этом, во-первых, голословно отрицаются уже имеющиеся
огромные успехи пролетарского интернационализма и, во-вторых,
полностью игнорируется классовая основа отношений пародов.
ЕЗолее того, классовый анализ корней интернационализма и нацио-
нализма антикоммунисты выдают за недостаток марксизма-лени-
низма. Они пытаются увести трудящихся от понимания основной
причины национальных антагонизмов, объясняют последние
биологическими и психологическими причинами с тем, чтобы
увековечить их. Так, В. Коларз писал: «Ища корни национальных
антагонизмов в основном в классовой структуре человеческого
общества, коммунисты забывают о важности психологических и
моральных факторов, которые играют решающую роль в возник-
новении национальной враждебности. В особенности они игнори-
руют те иррациональные чувства национальной и расовой нена-
висти, которые составляют зловредное начало в человеке»32.
Все это совсем не так. Коммунисты не забывают о важности
психологических и моральных факторов, по они действительно
считают, что нет иррациональных чувств и потому для рационадь-
ного объяснения причин национальной и расовой ненависти ана-
лишруют классово-социальную структуру общества, интересы
.по (ей.
В. И. Ленин еще в 1894 году на ехидное замечание идеолога
русского народничества Михайловского о том, что «основанное
Марксом международное общество рабочих, организованное в це-
лях классовой борьбы, не помешало французским и немецким ра-
бочим резать и разорять друг друга», чем, дескать, и доказывает-
ся. что материализм не свел счетов «с демоном национального са-
молюбия и национальной ненависти», отвечал: «Такое утверждение
показывает со стороны критика грубейшее непонимание того, что
очень реальные интересы торговой и промышленной буржуазии
” * 1 he Impact of the Russian Revolution, 1917—1967». London, Oxford I nt-
versity Press, 1967, p. 6
\V К о I a r z. Communism and Colonialism. London, 1961, p. 137.
381
составляют главное основание этой ненависти и что толковать
о национальном чувстве, как самостоятельном факторе, значит
только замазывать сущность дела»33.
Психологию и идеологию, мировоззрение и социальную прак-
тику национализма В. И. Ленин объяснял объективными социаль-
ными условиями противоречий между трудом и капиталом, этой
же объективной основой он объяснял возникновение и развитие
пролетарского интернационализма.
Наличие объективных, постоянно действующих факторов, оп-
ределяющих и существование и значение пролетарского интерна-
ционализма, вовсе не означает, что сам он является чем-то раз
навсегда данным и неизменным. Возникнув на определенном эта-
пе борьбы трудящихся за свое социальное освобождение, он раз-
вивался с ростом этой борьбы. Одновременно обогатилось и углу-
билось содержание пролетарского интернационализма, возникли
новые формы его проявления.
Какая сила родилась в лице пролетарского интернационализ-
ма, буржуазия ясно ощутила, когда К. Маркс и Ф. Энгельс орга-
низовали I Интернационал (1864—1872 годы), который, по выра-
жению В. II. Ленина, «заложил фундамент международной органи-
зации рабочих для подготовки их революционного натиска па ка-
питал» 34.
Уже во времена Маркса и Энгельса интернационализм стал
развиваться как сотрудничество рабочих разных стран в борьбе
против капиталистической эксплуатации. Призыв к укреплению
этого сотрудничества, выраженный лозунгом: «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!», применительно к многонациональным госу-
дарствам означал также сплочение трудящихся разных нацио-
нальностей внутри страны за социальное и национальное осво-
бождение.
Дело интернационального сплочения пролетариата мира было
продолжено 11 Интернационалом. И даже его позорный крах в не-
гативной форме показал силу пролетарского интернационализма.
Крах II Интернационала доказал, как жестоко наказывается из-
мена интернационал пзму.
Пролетарский интернационализм продолжал развиваться в де-
ятельности ленинской партии, ставшей международным центром
революционных сил и приведшей к созданию 111 Интернационала.
Он праздновал свой первый триумф в Великой Октябрьской со-
циалистической революции. Идеология и политика пролетарского
интернационализма тесно связаны с ленинской теорией социали-
стической революции. Сила пролетарского интернационализма ска-
залась и в поддержке первой пролетарской власти мировым про-
летариатом, н в поддержке первой страной совпали !ма междуна-
родного революционного движения.
3 В И .Пении Поли, собр соч., т 1. стр. 154
>« В И Ленин По in собр соч . т ЗК. стр 302
3X5
25 с Т. Калтахчян
Когда в результате победы Октябрьской революции начался
подъем освободительной борьбы угнетенных народов и в связи с
этим значительно расширились международные задачи революци-
онного рабочего класса, В. И. Ленин говорил: «Мы, действитель-
но, выступаем теперь не только как представители пролетариев
всех стран, по и как представители угнетенных народов»35, и он
одобрил лозунг: «Пролетарии всех стран и угнетенные народы,
соединяйтесь!», с которым начал выходить в 1920 году журнал
«Народы Востока». «...С точки зрения теперешней политики,— го-
ворил В. И. Ленин,— это верно»36.
Отмечая, что вся мировая политика сосредоточивается вокруг
одного нейтрального пункта, именно борьбы всемирной буржуазии
против Советской Российской республики, В. II. Ленин делал вы-
вод о необходимости «вести политику осуществления самого тес-
ного союза всех национально- и колониально-освободительных
движений с Советской Россией, определяя формы этого союза со-
образно степени развития коммунистического движения среди
пролетариата каждой страны пли буржуазно-демократического
освободительного движения рабочих и крестьян в отсталых стра-
нах пли среди отсталых национальностей»37.
Выполняя эту, написанную В. II. Лениным полвека назад про-
грамму интернационального сплочения трех революционных сил,
международное коммунистическое движение добилось выдающих-
ся успехов. Новым триумфом пролетарского интернационализма
явилось образование мировой системы социализма, социалистиче-
ского содружества стран — членов Варшавского Договора и Со-
вета Экономической Взаимопомощи (СЭВ). Растут силы и влия-
ние коммунистов в капиталистических странах. Потерпел крах
колониализм и средн развивающихся стран, усиливается стрем-
ление идти по некапиталистическому пути.
Однако антикоммунизм перестал бы быть самим собой, при-
знав успехи пролетарского интернационализма. Наоборот, совре-
менный антикоммунизм прибегает к самым изощренным приемам
для борьбы против пролетарского интернационализма. Первый
прием, правда, самый странный — это просто обьявить вопреки
реальности пролетарский интернационализм уже исчезающим.
Империалисты и их идеологи, ссылаясь на определенные труд-
ности мирового революционного процесса, оживление национализ-
ма, который сами же разжигают, утверждают, что пролетарский
интернационализм якобы устарел и уступает место национализму.
Но, выдавая желаемое ia действительность, они обнаруживают
лишь своп страх перед солидарностью революционных сил.
В действительности, как отметил Генеральный секретарь Ком-
пар ши США товарищ Гесс Холл, «сам характер мирового разви-
3 В II .'I г п п п. Поли. собр. соч, т 42, стр. 71.
Там ас, ( тр 72.
В II ,’kiiiiu Поли собр соч., т 41, стр. 163 161
386
тия породил в массах антиимпериалистические настроения и тягу
к интернационализму. Триединый всемирный революционный про-
цесс является движущей силой, свежим источником интернациона-
лизма»38. Пролетарский интернационализм продолжает разви-
ваться вширь и вглубь в единстве всех трех потоков мирового
революционного процесса. Интернационализм проявляется в раз-
личных звеньях мирового революционного процесса разнообразно,
служа делу мира, демократии и социализма, делу освобожтения
порабощенных народов от капиталистического ига, эффективного
строительства социализма и коммунизма, делу сближения и слия-
ния всех наций и народностей в единое братство.
Ядром, главной силой в развитии интернационализма является
мировая система социализма — оплот мира и социального про-
гресса. В мировой системе социализма, как подчеркивалось на
XXIV съезде КПСС, при всех сложностях и трудностях верх берет
господствующая тенденция укрепления дружбы и сплоченности
братских стран социализма. Они помогают друг другу строить
новое общество, добиваться новых побед в борьбе за торжество
социализма и коммунизма.
С образованием мировой системы социализма взаимоотноше-
ния входящих в нее государств впервые стали строиться на основе
пролетарского интернационализма, расширились рамки социали-
стического интернационализма, возникшего впервые в СССР. Про-
летарский п социалистический интернационализм, конечно, родст-
венные явления, даже совпадающие по своей сущности, но все же
различаются по своему содержанию и социально-исторической ос-
нове. Пролетарский интернационализм отражает общность корен-
ных классовых интересов мирового пролетариата против капита-
листического угнетения, за победу социалистической революции.
В этом заинтересованы и дрхгие \ гнетенные, непролетарские мас-
сы, и они при правильном осуществлении гегемонии пролетариата
также сплачиваются под флагом пролетарского интернационализ-
ма, однако последний пробивает себе путь в ожесточенной борьбе
против всех государственных и иных органов буржуазии.
Совершенно иные условия создаются при социализме. Как мы
видели уже на примере пародов СССР, выражая коренные инте-
ресы победившего рабочего класса, всех трудящихся независимо
от их национальности, строящих новое общество, свободное от
всякого классового и национального гнета, социализм даст неогра
ничейный простор и глубину пролетарскому интернационализму,
который развивается при поддержке всех политических, общест-
венных органов самих трудящихся. Социалистическая основа про-
летарского интернационализма придает ему то повое качество,
которое выражается понятием «социалистический ннтернапно
папизм». Политическое и идеологическое сплочение рабочего
зв сМеждуиаро.тнос Совещание коммунистических н рабочих партий». Прага,
19G9, стр. 541—512
оу*
387
класса социалистических государств стало дополняться и обога-
щаться их экономическим сплочением.
Социалистический интернационализм выражает объективные
тенденции развития стран социализма, объективные потребности
самого мирового социализма, развитие которого может происхо-
дить и происходит на основе социалистического интернационализ-
ма— нового типа отношении между пародами, служащего спло-
чению социалистических народов в нерушимое братское содруже-
ство. Социалистический интернационализм выступает уже как
принцип строительства экономики, культуры, быта, всего уклада
жизни народов социалистического содружества. Социалистический
интернационализм — это их всестороннее сближение, он обеспе-
чивает условия эффективной реализации преимуществ социализ-
ма. Внимательное отношение к опыту каждой социалистической
страны, совместные поиски наиболее рациональных форм и мето-
дов социалистического строительства, братское сотрудничество и
взаимопомощь создают основу для расцвета каждой социалисти-
ческой нации и всей мировой системы в целом.
Во всех областях жизни — экономике, политике, культуре со-
циалистических наций, советского народа, мировой системы социа-
лизма— марксистско-ленинские партии руководствуются принци-
пами пролетарского, социалистического интернационализма, гар-
монически сочетающего общие классовые интересы трудящихся
с их национальными интересами.
Вместе с тем социалистический интернационализм продолжает
выражать суть пролетарского интернационализма. Защищая ин-
тересы мировой системы социализма — главного отряда междуна-
родных революционных сил, социалистический интернационализм
отстаивает коренные классовые интересы трудящихся всего мира.
Для победоносной борьбы за социализм и коммунизм необхо-
димо единство, сплочение всех социалистических наций и народ-
ностей, а не их обособление и раскол. Не «раскол», а потом
«сплочение», как утверждают фальшивые друзья диалектики, а
непрерывное укрепление единства мировой системы социализма яв-
ляется прочной основой успешного разрешения ее противоречий.
В то время как антагонистические противоречия исключают
друг друга во всем коренном и их борьба ведет к достижению
нового единства через разрушение существующего единства, борь-
ба неантагонистических противоречий развертывается в условиях
общности коренных интересов всех народов и направлена на лик-
видацию всего того, что их разъединяет, на всемерное укрепление
и развитие единства и братства всех социалистических нации на
новой, более высокой основе. Это развивающееся единство само
является условием развития.
Если в антагонистических обществах «борьба противополож-
ностей» означает столкновение между прогрессивными и реакцион-
ными силами, то в социалистическом обществе все братские социа-
листические страны на основе сотрудничества и взаимопомощи
388
сообща ведут борьбу против старого, за установление нового.
Борьба противоречий между социалистическими странами—это не
борьба несовместных интересов, а борьба за лучшее разрешение
противоречии в общих интересах. Отсюда усиление необходимости
использовать все национальные ресурсы и взаимопомощь для ус-
пешного разрешения противоречий и обеспечения общего подъема
при сочетании национальных и интернациональных интересов.
Представлять преодоление возникающих между социалистиче-
скими странами противоречий как борьбу между странами социа-
лизма, направленную на поражение одной из сторон, а не как
борьбу всех социалистических стран за лучшее разрешение этих
противоречий и укрепление единства в интересах каждого и всей
мировой системы социализма — значит или не понимать природы
социализма, или вести сознательную линию на разрушение един-
ства социалистических стран.
Нельзя абстрактно противопоставлять борьбу единству и на-
оборот. Сила мировой системы социализма в братском сотрудниче-
стве социалистических стран, в их нерушимом единстве, в котором
идет успешная борьба нового со старым. Полное вовлечение всех
общественных сил мировой системы социализма в борьбу за новое,
наиболее прогрессивное как раз свидетельствует об исторически
новой особенности действия закона единства и борьбы противопо-
ложностей в условиях социализма.
Осуществление принятых социалистическими странами решений
тоже происходит не без трудностей. Возникает проблема умелого
сочетания интересов национальных и интернациональных. Такое
требование уже значит, что эти интересы не всегда и не во всем
совпадают. Между ними имеются определенные противоречия, ко-
торые. с одной стороны, унаследованы от прошлой досоциалисти-
ческой жизни различных народов, а с другой стороны, обусловле-
ны самим ходом общественного развития, ведущего к мощному
подъему национальных производительных сил, которые в свою оче-
редь требуют установления соответствующих их уровню междуна-
родных социалистических производственных отношений. Решение
такой кардинальной проблемы, конечно, не обходится без борьбы
мнений, точек зрения, а в конечном счете борьбы нового со старым
(а иногда и различных новых тенденций друг с другом) за совер-
шенствование сотрудничества социалистических стран, которое в
свою очередь предполагает борьбу за лучшее сочетание националь-
ного и интернационального.
Каждая социалистическая страна глубоко заинтересована в
сотрудничестве, международном разделении тр\да. Непонимание
или даже отрицание значения интернационализации хозяйства те-
ми или иными руководителями не меняет объективного характера
потребностей современного национального производства в интер-
национальном сотрудничестве.
Объективные противоречия развития представляют вполне ес-
тественное явление. Правильное разрешение возникающих проти-
389
воречий и есть сознательное использование закона единства и боры
бы противоположностей как источника развития. Полнота созна-
тельного исторического творчества зависит от своевременного
разрешения противоречии. В эту полноту входит и сознательное
создание всех условий для того, чтобы национальные интересы
максимально совпадали с интернациональными. Создание таких
условий и является задачей всех стран социализма. Усиление их
экономической взаимозависимости создает важнейшие предпосыл-
ки для всестороннего сближения социалистических наций, народ-
ностей.
Мировое, общим планом руководимое хозяйство создается дол-
гим и кропотливым трудом. Необходимой его предпосылкой и ус-
ловием служат те реальные шаги по пути всестороннего политиче-
ского, культурного и экономического сотрудничества социалисти-
ческих наций, их сближения и сплочения, которые совершаются
уже сейчас.
Антикоммунизм, чтобы вбить клин между социалистическими
странами, старается изобразить их единство как ущемление их
суверенитета. Однако социалистический суверенитет в социаль-
но-политическом смысле выражается в развитии прогрессивного в
национальном, во внесении этого прогрессивного в дело сближе-
ния наций, в поступательном движении вперед всего человечества,
он враждебен национальной ограниченности и национальному эго-
изму. Национальная независимость тем более в условиях социа-
лизма не означает национального обособления, хозяйственной ав-
таркии, культурной замкнутости. Принцип суверенитета должен
способствовать социальному прогрессу, расцвету нации, а не задер-
живать ее развитие. Национальная независимость не исключает
экономическую взаимозависимость, культурное взаимообогащение.
Социалистическая общность государств демонстрирует свое превос-
ходство тем. что в ней нет антагонистических противоречий ин-
тересов, что она, обеспечивая добровольное единение народов, ни
в малейшей степени не ущемляет их суверенитета. Таким образом,
национальный суверенитет в социально-политическом плане озна-
чает право нации устраивать свое социально-экономическое и об-
щественно-государственное бытие так, как этого требуют подлин-
ные ее интересы. Главный интерес социалистических наций, народ-
ностей, естественно, обеспечение прогресса к коммунизму.
Всестороннее сотрудничество стран социализма не только не
делает национальный суверенитет «урезанным», а, наоборот, яв-
ляется лучшей формой его полной реализации. Сближение наций
мировой системы социализма неразрывно связано с укреплением
их суверенитета, так же как укрепление их суверенитета—со
сближением социалистических наций. Л1сждународное разделение
>руда на основе специализации и кооперирования, сотрудничество
и взаимопомощь стран социализма сближают социалистические на-
ции и укрепляют их суверенитет. Опыт содружества социалистиче-
ских стран показывает, что ие только проблему суверенитета, но и
390
многие другие национальные проблемы в каждой из них не могут
быть решены без их интернационального сплочения, без их согла-
сованных и координированных действий. Мировая система социа-
лизма выступает могучим фактором прогресса всех социалистиче-
ских стран, обеспечивает наиболее эффективное развитие нацио-
нальных экономик и культур, охраняет их социалистические завои
свания. «Сплоченность и тесное единство социалистических стран
являются верной гарантией национальной независимости и сувере-
нитета каждой социалистической страны»39.
Веское подтверждение действенности этих слов Декларации
Совещания представителей коммунистических и рабочих партий
1957 года мир получил в 1968 году, когда верные своему интерна-
циональному долгу социалистические страны помогли братской
Чехословакии отстоять свой социалистический национальный схве-
рснитет.
По поводу шума мировой реакции, «левых» и правых ревизио-
нистов о том, что акция пяти социалистических стран была нару-
шением чехословацкого суверенитета. Генеральный секретарь
Коммунистической партии США Гесс Холл справедливо заметил:
«Разве дело не обстоит наоборот, а именно: что эти страны дейст-
вуют в соответствии с положениями Варшавского пакта, что они
хотят помешать Чехословакии стать на путь, угрожающий не толь-
ко ее суверенитету, и в то же время защитить независимость дру-
гих социалистических стран, защитить мир и социализм? Если не
будет социализма, то какой независимостью будет обладать в дей-
ствительности Чехословакия?»40 Если бы страны социализма по-
слушались ревизионистов и «перешли через позицию «никаких свя
зсп» к позиции «никаких блоков», с них смогли поочередно сод
рать шкуру» 41.
Коммунистическая партия Чехословакии, глубоко проанализи-
ровав причины событий 1968 года в Чехословакии, вызванные
внутренними антисоциалистическими и ревизионистскими силами
при поддержке международной реакции, высоко оцепила интерна-
циональную помощь братских социалистических государств в от-
стаивании социализма в Чехословакии, ее подлинного сувере-
нитета.
В документе ЦК КПЧ «Уроки кризисного развития в Компар-
тии Чехословакии и обществе после XIII съезда КПЧ», принятом
в декабре 1970 года, говорится: «Вступление союзнических войск
пяти социалистических стран в Чехословакию было актом интерна-
циональной солидарности, отвечающим как обшим интересам че-
хословацких трудящихся, так и интересам международного рабо-
39 «Программные доку менты борьбы за мир, демократию и социализм». Ч,
Политиздат. 1964, стр 11. _
Гесс Холл. Выполнен ннтернацпональпыи долг Доклад национальному
комитету Коммунистической партии СИП, сделанный 31 августа 19ЬК г.
«Неделя», 22 сентября 1968 г., стр. 14
41 Там же, стр 15
39!
чего класса, социалистического содружества и классовым интере-
сам международного коммунистического движения»42. Первый сек-
ретарь ЦК КПЧ Густав Гусак подчеркивал, что указанная интер-
национальная помощь спасла Чехословакию «от гражданской вой-
ны, контрреволюции и помогла отстоять завоевания социализ-
ма» 43.
КПЧ боролась против империалистических сил, действовавших
из-за рубежа и антисоциалистических и оппортунистических сил
внутри страны, которые, стремясь разрушить социалистические ин-
тернациональные связи Чехословакии, ставили под удар ее подлин-
ную свободу и суверенитет. В этой борьбе народы Чехословакии не
были оставлены одинокими. Они получили действенную интерна-
циональную помощь на деле.
Интернационализм на деле предполагает осознание каждой
партией, находящейся у власти, своей ответственности за судьбы
движения в целом. Поиски «своего», чисто «национального» пути
к социализму и отрицание общих закономерностей его построения
губит и страну, и интернационализм, и социализм.
С образованием мировой системы социализма у народов рас-
ширилась сфера взаимной поддержки, материальной и моральной
помощи, всестороннего сотрудничества. Это главное. Только живая
практика всесторонних интернациональных связей способна вывес-
ти широкие массы из национальной ограниченности, основательно
поколебать националистические предрассудки и психологию наци-
онального эгоизма.
В. И. Ленин неоднократно предупреждал о необходимости про-
явить особую осторожность к национальным чувствам, требовал
учесть, что «разные нации идут одинаковой исторической дорогой,
но в высшей степени разнообразными зигзагами и тропинками...»44.
Вместе с тем В. И. Лепин подчеркивал, что коммунист во всех слу-
чаях «должен бороться против мелконациональной узости, замкну-
тости, обособленности, за учет целого и всеобщего, за подчинение
интересов частного интересам общего»45. В решении этой двуеди-
ной задачи марксисты-ленинцы конкретно оценивают разнообраз-
ные ситуации, чтобы создать самые благоприятные условия для
сближения наций, чтобы своевременно распознавать и разрешить
возникающие противоречия. Непонимание того, что пе может быть
абсолютной независимости наций от системы государств, в кото-
рой они существуют, а следовательно, недооценка решающего зна-
чения классово-социального в определении судеб нации, приводит
к преувеличению национальных особенностей в ущерб интерна-
ционализму. Поэтому подлинные марксистско-ленинские партии
придают решающее значение общим ленинским принципам реше-
и2 роки кризисного развития в Компартии Чехословакии и обществе после
\П1 съезда КПЧ». М„ Политиздат, 1971, стр. 45—46.
Приветствия XXIV съезду КПСС». М., Политиздат, 1971, стр. 65.
“ В. II Л о и в и. Поли. собр. соч., т. 38, стр. 184.
44 В. П. Ленин. Поли, собр соч, т. 30, стр 45.
392
ния национального вопроса. Вместе с тем, памяту я у казание Ленина
о том, что и общие принципы могут быть успешно реализованы
в конкретноисторической форме, с учетом специфических условий
различных наций, народностей, стран, коммунисты борются как
против абсолютизации национальных особенностей, так и против
их игнорирования. Такой подход позволяет марксистско-ленинским
партиям своевременно выявлять и националистические тенденции
и не давать им разрастись до серьезной опасности.
Международное Совещание коммунистических и рабочих пар-
тий 1969 года со всей силой подчеркнуло, что защита социализ-
ма— интернациональный долг коммунистов.
Возрастают роль и значение пролетарского интернационализма
также в цитаделях капитализма. Развернувшаяся классовая борь-
ба в развитых капиталистических странах нанесла удар по иллю-
зиям, распространяемым сторонниками неокапитализма и рефор-
мизма, и сделала очевидной необходимость укрепления единства
рабочего класса как в каждой стране, так и в интернациональном
масштабе, необходимость борьбы против попыток буржуазии за-
разить трудящихся колониальным шовинизмом или какой-либо
другой разновидностью национализма и расизма. Ленин научно
доказал, что империализм поставил на повестку дня социалисти-
ческую революцию, а победа ее «требует полнейшего доверия, тес-
нейшего братского союза и возможно большего единства револю-
ционных действий рабочего класса всех передовых стран»46. Это
указание Ленина остается в силе, и сто важность подтверждается
современной практикой общественного развития. Пролетарский ин-
тернационализм продолжает развиваться (а нс исчезает; в миро-
вом рабочем движении. Государственный капитализм — это, по вы-
ражению Ленина, соединение «гигантской силы монополин с ги
гантской силой государства в один механизм», нс ослабляет, а уси-
ливает эксплуатацию трудящихся. Как показывает ГЭС («Общий
рынок»), пролетарии разных национальностей все больше осозна-
ют, что освобождение рабочего класса и в конечном счете всех тру-
дящихся является «не местной, и пе национальной проблемой
В странах капитала пролетарский интернационализм представ-
ляет самое мощное оружие рабочего класса в его борьбе против,
капитализма. «Капитал есть сита международная. Чтобы ос по-
бедить, нужен международный союз рабочих, между народное брат-
ство их»47. Современные интеграционные процессы капиталисти-
ческого мира хотя и несколько укрепляют позиции капитала, вме-
сте с тем они, интернационализируя рынок труда и обостряя про-
тиворечия капитализма в международном масштабе, приводят к
росту идейно-политического общения национальных отрядов про-
лет ариа га, открывают новые возможности для развития междуна-
родного сотрудничества рабочего класса в борьбе против импери
4С В. И Л е и и и Поли. собр. соч., т. 38. стр 88.
47 В II. Ленин. Поли, собр соч., т 40, стр. 43.
зяз
ализма. Поскольку такое сотрудничество возможно только между
равными, то международное рабочее движение выступает солидар-
но с национально-освободительным движением, рассматривая уст-
ранение национального гнета основным условием всякого здорового
и свободного развития. Для рабочего класса стран развитого ка-
питализма особенно важна борьба против материальной, эконо-
мической основы (создаваемой выкачиванием монополиями сверх-
прибылей из колоний и зависимых стран) заражения пролетариата
метрополий колониальным шовинизмом. Такая борьба в странах
капитала усиливается, и на этой основе рабочий класс укрепляет
интернациональные связи с борцами национально-освободитель-
ного движения.
Осуществление русским пролетариатом во главе с ленинской
партией братского союза с бывшими угнетенными народами
дало наглядное доказательство тому, что сдружить народы мож-
но только последовательным претворением в жизнь принципов про-
летарского интернационализма. «Наш опыт,— писал Лепин,— соз-
дал в нас непреклонное убеждение, что только громадная внима-
тельность к интересам различных наций устраняет почву для кон-
фликтов, устраняет взаимное недоверие, устраняет опасение ка-
ких-нибудь интриг, создает тб доверие, в особенности рабочих и
крестьян, говорящих на разных языках, без которого ни мирные
отношения между народами, пи сколько-нибудь успешное развитие
всего того, что есть ценного в современной цивилизации, абсолют-
но невозможны»43.
В современных условиях, когда борьба против империализма
за национальное освобождение во многих странах перерастает в
борьбу против эксплуататорских отношений вообще, как феодаль-
ных, так и капиталистических, первостепенное значение приобре-
ло укрепление интернациональных связей отрядов национально-
освободительного движения между собой, а также их союза,
‘единства с рабочим движением и мировой системой социализма.
Взаимосвязь и взаимозависимость трех потоков мирового револю-
ционного процесса очевидны особенно в настоящее время. Именно
укрепление мирового социализма открыло перед ранее порабощен-
ными народами перспективу полного освобождения от классового
и национального гнета.
Само существование социалистических стран, а тем более их ин-
тернационалистская помощь освободившимся народам уже oipa-
ничивают эксплуататорские возможности монополий, вынуждают
их идти на уступки борющемуся за свои нрава пролетариату мет-
рополий и на установление новых экономических связей с бывши-
ми колониями, более выгодными для последних. Развитие же на-
ционально-освободительного движения в свою очередь подтачива-
ет, ослабляет силы империапнзма—общего врага всего мирового
революционного движения. Более того, современные иационально-
48 В. II Л с н н н Поли. собр. соч , т 43, стр. 240.
394
освободительные революции нередко ставят перед собой и решают
такие задачи, как подрыв экономического господства собственной
буржуазии. А это уже значит приступить к решению самой корен-
ной из социалистических задач, ибо, как говорил Ленин, «револю-
ционный класс, взявший власть, начал бы с того, чтобы подорвать
господство капиталистов, и предложил бы всем народам точные
условия мира, потому что если подрыва экономического господст-
ва капиталистов не будет, то получатся только бумажки»49. Ре-
шить же такую задачу без опоры на социалистические страны, на
их помощь, а также на интернациональную солидарность мирово-
го рабочего класса, разумеется, невозможно. Вот почему в ряде
стран Азии, Африки и Латинской Америки, вставших на некапита-
листический путь развития, т. е. на путь социалистической ориента-
ции, усилились и продолжают усиливаться интернациональные
связи между молодым пролетариатом, трудящимися этих стран
с рабочим классом, трудящимися стран социализма, с пролетариа-
том капиталистических государств. Эти интернациональные связи
облегчают и ускоряют решение общедемократических задач не во
имя буржуазии, а против нее, во имя социализма. При этом рево-
люционно-демократические силы нередко в своей деятельности все
больше убеждаются в верности пути, указанном научным социа-
лизмом. Они, опираясь на поддержку реального мирового социа-
лизма, все успешнее борются против политики неоколониализма,
за преодоление технико-экономической отсталости своих стран, а
также против сопротивления прогрессивным социальным преобра-
зованиям со стороны собственной мелкой буржуазии.
Необходимо отметить, что во многих развивающихся стра-
нах преобладает общинное, полуфеодальное и феодальное кресть-
янство. Оно, с одной стороны,— активная сила углубляющейся
национально-освободительной революции, а с другой—питательная
почва для деятельности левацких, авантюристических псевдоре-
волюционеров типа маоистов. Отсталая социальная структура:
немногочисленность и слабость пролетариата, преобладание
полупатриархальных и мелкобуржуазных масс,—конечно, затруд-
няет освоение трудящимися массами развивающихся стран идей
научного социализма, но тем более в этих условиях возрастает
роль интернационального единства всех потоков мирового револю-
ционного движения, чтобы дать отпор реакции, стремящейся по-
вернуть колесо истории вспять.
Такова действительность, и она показывает, что указанные
Лепиным корни интернационализма не только не исчезли, но еще
больше укрепились и разрослись. Огромное значение для укреп-
ления всего мирового революционного процесса имели три между-
народных Совещания коммунистических и рабочих партий. Эти
совещания, явившиеся повой формой укрепления и выражения ии-
49 В. И. Ле п и н. Поли собр. со i., т. 31. стр. 396 —397.
393
тернациопалыюй солидарности и единства коммунистов, дали мощ-
ный импульс развитию и сплоченности всех трех потоков мирового
революционного движения. Серьезные трудности, встретившиеся
за последние годы на пути этого движения, преодолеваются и
будут преодолены, ибо перспективные цели и интересы мировой
системы социализма, международного рабочего класса и нацио-
нально-освободительного движения являются общими и имеют
объективные живые корни.
Современный антикоммунизм, конечно, хорошо понимает цену
своих утверждении о якобы устарелости и немощи пролетарского
интернационализма и употребляет громадные усилия для его под-
рыва. Более продуманным приемом антикоммунизма для этой це-
ли служит противопоставление национального интернационально-
му. Все писания идеологов империализма о якобы зависимости
коммунистических партий от Москвы, об урезаиностн суверенитета
социалистических стран, о том, что интернациональное якобы уже
исключает национальное, рассчитаны на разжигание всюду нацио-
налистических страстей с тем, чтобы попытаться «интегрировать»
мировое коммунистическое движение в капиталистическую систе-
му. В этих целях широко внедряется в сознание трудящихся мелко-
буржуазное понимание патриотизма. В наше время борьба интер-
национализма против мелкобуржуазного национализма потому и
стала вновь актуальной, что этот национализм выступает в демо-
кратических одеждах и под флагом отстаивания независимости
своей нации, народности, сужает и мистифицирует понятие патри-
отизма, отрывает его от интернационализма, от социалистического
сознания. Мелкобуржуазный национализм сводит патриотизм
лишь к любви к «неповторимым» особенностям (в том числе при-
родным) своей нации, страны и утверждает, что независимость и
свобода каждой нации якобы подвергаются опасности не только
со стороны империализма, но и социализма. Всё это — умышлен-
ная путаница.
В. И. Ленин неоднократно подчеркивал, что сердцевиной пат-
риотизма, главным в его содержании является борьба за прогрес-
сивный общественный строй. Конечно, и яркие картины родной
природы, а также их изображение в искусстве вызывают теплые
человеческие чувства и настроения в национальной окраске. «Род-
ная улица», «родная березка» играют свою роль в патриотизме, но
не ими определяется суть патриотизма. Когда патриотизм выходит
из-под контроля социалистического сознания, оп становится голым,
узконациональным патриотизмом, оторванным от интернациона-
лизма. Такая подмена приводит к национальной ограниченности,
становится питательным источником национализма. И патриотизм
и интернационализм являются подлинными, если они находятся в
органическом единстве. Это единство при социализме становится
настолько наглядным, что сама борьба за социалистическую рево-
люцию и строительство социализма выступает потлинным проявле-
нием патриотизма.
396
После взятия власти трудящимися высшей формой борьбы за
интересы нации становится участие в строительстве социализма
и коммунизма. В этих условиях патриотизм по своему содержанию
сливается с социалистическим интернационализмом.
Мелкобуржуазный национализм активно поддерживается «левы-
ми» и правыми оппортунизмом, ревизионизмом, поскольку у них
общие классово-социальные корни, общая вражда к интернациона-
лизму. У них общее даже словесное признание интернациона-
лизма, при активной борьбе против пего на деле. Выступая против
подобных фальшивых интернационалистов, Ленин выдвинул как
первостепенную задачу борьбу за интернационализм на деле. Он
еще в апреле 1917 года в работе «Задачи пролетариата в нашей
революции», отметив, что «интернационализмом не клянется в на-
ши дни только ленивый», осудил праздничные прогулки по садам
интернационалистической словесности и требовал «противопоста-
вить ...интернационализм на деле интернационализму на словах».
«Интернационализм на деле.— писал В. II. Ленин в работе
«Задачи пролетариата в пашей революции»,— один и только один:
беззаветная работа над развитием революционного движения и
революционной борьбы в своей стране, поддержка (пропагандой,
сочувствием, материально) такой же борьбы, такой же линии, и
только ее одной, во всех без исключения странах»50. В. И. Ленин
здесь говорит об интернациональном долге и обязанностях проле-
тариата, содержание которых определяется требованиями развития
мировой социалистической революции. Но этот долг вытекает так-
же из интересов каждой нации.
Быть интернационалистом, писал Ленин,— значит «думать
не о своей только нации, а выше ее ставить интересы всех, их
всеобщую свободу и равноправие»51. Для Ленина слова «социа-
лист, революционный пролетарий, интернационалист» были синони-
мами52, ибо он не признавал пролетарской революционности без
подлинного интернационализма, как и считал, что нет и не может
быть интернационализма, оторванного от классовой борьбы проле-
тариата.
Естественно поэтому, что антипод революционности — оппор-
тунизм в свою очередь находится в единстве с антиподом интер-
национализма — национализмом. Как было показано выше, Ленин
вскрыл идейно-политическое родство, связь, даже тождество оп-
портунизма и соцнал-национализма и, доказав, что «социал-на-
ционализм вырос из оппортунизма, и именно этот последний дал
ему силу», разоблачил потуги оппортунистов выдавать себя за
международников. «Понятие «сторонник международное™»,— пи-
сал он,— лишено всякого содержания и всякого смысла, если вы
не разовьете его конкретно, и всякий шаг такого конкретного раз-
50 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 31, стр. 170.
51 В. 11. Лен и н. Поли. собр. соч., т. 30, стр. 44—45.
62 В. И. Ле н и н. Полн. собр. соч., т. 37, стр. 298.
397
вития будет перечислением признаков враждебности оппортуниз-
му». Показав, что оппортунисты нс против «международное™»,
они только за международное одобрение и международное согла-
шение оппортунистов. Лепин подчеркивал: «Сторонник междуна-
родности. не являющийся самым последовательным и решительным
противником оппортунизма, есть мираж, не более того»53.
Быть интернационалистом на деле означало для Лепина непри-
миримость борьбы со всеми отступлениями от принципов пролетар-
ского интернационализма и прежде всего с буржуазным национа-
лизмом. Различные проявления национализма в современный пе-
риод выдвигают альтернативу: или считаться с с\шествованием на-
ционализма, в смысле приспособить к нему социальное развитие,
а следовательно, и социализм; или считаться с ним по-ленински,
т. е. научно объяснив его, выработать продуманную политику це-
ленаправленной борьбы с ним. Для ленинцев бережное отношение
к национальным чувствам никогда ничегсу общею не имело с за-
игрыванием перед национализмом.
Националисты, чтобы создать благоприятную для себя обста-
новку, усердно подчеркивают ранимость национальных чувств.
Но в этом вопросе должна быть полная ясность. Одно дело нацио-
нальные чувства, а другое — национализм. Бережное отношение к
национальным чувствам54 не означает ослабления, а тем более
прекращения борьбы против национализма. Опасные национали-
стические тенденции в современном международном коммунистиче-
ском движении и мировой системе социализма с особой убедитель-
ностью показывают, какой огромный вред приносят прогрессивно-
му развитию человечества уступки национализму и оппортунизму,
примиренчество с ними.
В борьбе с национализмом необходимо учесть, что исчезнове-
ние его — длительный процесс. Необходимо иметь в виду, что на-
ционализм— самая прилипчивая болезнь буржуазного мира, кото-
рая гнездится в сознании некоторых людей и при социализме,
причем не только людей старшего поколения. Национализм зано-
сится как ядовитый посев также в еще неокрепшее сознание неко-
торой части молодежи. Как правильно отмечал один из организа-
торов латышской Компартии II. II. Стучка, наиболее опасная осо-
бенность националистической болезни состоит в том, что она мо-
жет одурманить самую светлую голову.
Освобождение рабочего класса и всех трудящихся от социаль-
ного и национального гнета, налаживание братского сотрудниче-
ства пародов в строительстве социализма и коммунизма тесно свя-
53 В. И. Л с л п п. Поли. собр. соч.. т. 2G. стр. 151. 153. 154.
54 Нелишне напомнить, что бывают ситуации, когда коммунистическое сознание
вступает в противоречие даже с национальными чувствами, и приходится, как
это было при решении вопроса о Брестском мире, идти на временное ущемле-
ние патриотических чувств во имя главного, интернационального, в котором
в конечном счете обеспечиваются коренные национальные интересы.
398
заиы с последовательным проведением в жизнь принципов проле-
тарского интернационализма.
Поскольку в авангарде мирового революционного процесса
идет содружество стран социализма, империализм старается раз-
рушить прежде всего именно это решающее звено интернациональ-
ных революционных сил. Поэтому в итоговом документе междуна-
родного Совещания коммунистических и рабочих партий 1969 года
специально подчеркивается, что «решительный отпор таким попыт-
кам— необходимая функция социалистического государства, опи-
рающегося на широкие народные массы, руководимые рабочим
классом и его коммунистическим авангардом»55.
Последовательное сближение социалистических стран, укреп-
ление единства мировой системы социализма — решающее условие
развития мирового революционного процесса в целом и потому за-
щита социализма — интернациональный долг коммунистов всего
мира. Эти выводы Совещания были подтверждены решениями
съездов, конференций, пленумов принявших в нем участие партий
и проводятся в жизнь.
В самих социалистических странах коммунистические, рабочие
партии ведут огромную работу по интернациональному воспитанию
трудящихся, считая, что окончательное искоренение национализма
и полная победа интернационализма являются необходимым усло-
вием для утверждения нового облика человека, его коммунистиче-
ской морали и мировоззрения, а следовательно, необходимым усло-
вием эффективного строительства социализма и коммунизма.
Конечно, потребуется немало времени и усилий, чтобы органи-
зовать в конце концов «единый мировой кооператив народов», что-
бы воспитать всех трудящихся в духе социалистического интер-
национализма, сделать их способными подняться над узконаци-
ональным горизонтом и «идти с открытой душой в этот единый
мировой кооператив»56. Мировое, общим планом руководимое хо-
зяйство создается длительным и кропотливым трудом. Необходи-
мой предпосылкой и условием служат те реальные шаги по пути
всестороннего сотрудничества социалистических наций, их сбли-
жения и сплочения, которые совершаются уже сейчас. Безусловно,
возникают и будут возникать и впредь диалектические противоре-
чия, и дело не в том, чтобы отрицать или абсолютизировать проти-
воречия в мировой системе социализма, а в том, чтобы своевремен-
но замечать их, научно проанализировать и принимать своевремен-
ные меры к их преодолению на основе марксизма-ленинизма, в
духе пролетарского интернационализма. Коммунисты пе могут
уклоняться от выполнения своих интернациональных обязанностей,
долга ссылками иа какие бы то ни было объективные трудности
(война, распространенность национализма среди своей нации
55 «Международное Совещание коммунистических и рабочих партий. Москва,
1969», стр. 22—23.
Ес В. И. Л еп и п. Поли. собр. соч., т. 37, стр 347.
399
и т. д.). Наоборот, Лепин требовал от коммунистов «уметь быть,
даже в самые трудные времена, интернационалистом па деле»57.
На этом проверяется подлинное лицо коммуниста.
В масштабе всего мирового революционного процесса интерна-
ционализм на деле в наше время — это выполнение революцион-
ными силами каждой страны своего интернационального долга, это
совместная координированная борьба всех трех потоков мирового
революционного движения за мир, демократию и социализм.
В современных условиях пролетарским интернационализм все
больше проявляет себя как неодолимая сила в международной де-
ятельности Советского Союза, социалистического содружества в
целом' в единстве марксистско-ленинских партий мира, в их сов-
местной борьбе за общие цели, против общего врага. Он приобре-
тает все большее значение в борьбе за сплочение всех антиимпери-
алистических сил современности.
Пролетарский интернационализм имеет объективные неистре-
бимые источники в революционном движении. Он выражает корен-
ные интересы всех наций и народностей. Его полная победа неиз-
бежна во всем мире.
Эта победа неизбежна, так как интернациональный по своей
природе социализм, ставший решающей силой современного об-
щественного развития, набирает сил все больше и больше.
Усиливается также сплоченность пролетариата капиталисти-
ческих стран. Интернационализм все больше проникает в самые
глубины социально-экономических отношений, в сферу материаль-
ного производства — самую решающую сферу человеческой дея-
тельности. Образование международных союзов монополий дела-
ет, как никогда раньше, настоятельно необходимым и неизбежным
противопоставление «интернациональному» капиталу единство на-
циональных отрядов пролетариата, организации их в интернацио-
нальные союзы.
Порукой победы пролетарского интернационализма является
и то, что он прошел великую историческую проверку, с ним связа-
ны всемирно-исторические победы, и то, что именно в наше время
все больше проникает в сознание трудящихся предостережение
К. Маркса о том, что «пренебрежительное отношение к братскому
союзу, который должен существовать между рабочими разных
стран и побуждать их в своей борьбе за освобождение крепко
стоять друг за друга, карается общим поражением их разрознен-
ных усилий» 58.
57 В. И. Ленин. Поли. собр. соч.. т 31, стр. 177.
66 К Маркс нФ Энгельс Соч . т. 16. стр. 10—11.
400
БУДУЩНОСТЬ НАЦИЙ
(ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)
и ациовалисты всех времен и народов утверждали и утвержда-
11 ют, что нация является вечной категорией и что национальные
различия не только не исчезнут никогда, но, наоборот, они будут
расти и углубляться.
Пробуждение ранее угнетенных народов к национальной жизни,
рост их национального самосознания, а тем более вспышка разно-
шерстного национализма в современном мире выдаются национа-
листами как «новые доказательства» в пользу «вечности» нацио-
нальной формы жизни человечества и якобы связанного с ней
национализма. Иногда под влияние этих «аргументов» попадают и
отдельные практически антинационалисты, но теоретически недо-
статочно вдумавшиеся в суть новых национальных явлении люди.
Более осторожные из них считают, что по крайней мере незачем
сейчас говорить о безнациональной будущности человечества,
поскольку до этого практически еще очень далеко.
Марксистско-ленинская наука раскрывает теоретическую несо-
стоятельность и практический вред как позиции националистов,
так и тех, кто нс хочет смотреть историческому процессу прямо
в лицо. Развитие и расцвет наций при социализме не только не
противоречат их будущему слиянию, но, наоборот, являются зако-
номерной подготовкой единства многообразия безнационального
человечества. Как бы ни была далека эта перспектива, ее надо
знать, чтобы не подменять научное управление национальными
процессами их стихийностью под предлогом, что они естественно-
исторические процессы.
Опыт строительства социализма и коммунизма, анализ истори-
ческих тенденций в развитии наций уже сейчас убедительно опро-
вергают «пророчества» националистов о вечном росте и углубле-
нии национальных различий и подтверждают научное предвидение
марксизма-ленинизма о сближении наций, о росте их интернациона-
листских черт, о постепенном складывании интернациональной
общности людей.
26 С. Т. Калтахчян
401
Как свидетельствует история и тенденция ее развития, нации
возникают в эпоху капитализма, развертывают все свои внутрен-
ние потенции в период строительства социализма и коммунизма
и сольются в зрелом коммунистическом обществе.
Марксизм-ленинизм не устанавливает конкретных сроков, ког-
да именно человечество вступит в зрелый коммунизм, и не требует
его детального описания, но он научно предвидит и считает прин-
ципиально важным показать, что такая стадия в развитии челове-
чества наступит закономерно. Отчетливое знание перспектив раз-
вития человечества особенно важно для социалистических стран,
общественные отношения которых, в том числе национальные отно-
шения, научно направляются к заранее известной цели.
«...Начиная социалистические преобразования,—писал Ленин,—
мы должны ясно поставить перед собой цель, к которой эти пре-
образования, в конце концов, направлены, именно цель создания
коммунистического общества...» *.
Научное управление обществом отвергает как правооппортунис-
тическое «движение — все, конечная цель —ничто», так и «лево»-
волюнтаристическое перескакивание через необходимые этапы на
пути движения к конечной цели. В данном случае для ленинизма
одинаково неприемлемо как искусственное форсирование слияния
наций, так и игнорирование того, что социалистические нации, рас-
цветая, все же двигаются к будущему слиянию друг с другом и
что, следовательно, надо не препятствовать, а, наоборот, содейст-
вовать всестороннему их сближению и единению.
В литературе чаще всего подчеркивается, что национальные
различия будут существовать еще долго, и это верно. Однако в
это утверждение необходимо внести уточнения. Ленин, говоря
о национальных различиях, прежде всего имел в виду различия в
экономических, политических и культурных условиях (и в послед-
них в смысле уровня) развития наций. Его слова о длительности
существования наций относились к различиям этнического поряд-
ка. Национальные особенности, понимаемые как этнические разли-
чия, действительно, сохранятся еще долго, а со временем могут по-
явиться и новые различия, национальные же особенности как раз-
личия в социально-экономических и культурных условиях развития
наций сглаживаются быстрее, особенно при социализме.
Но если даже культурные условия жизни наций сравнительно
быстро уравниваются, то национальные (этнические) различия в
самой культуре останутся очень долго, а еще дольше будут сущест-
вовать языковые различия.
Когда конкретно произойдет полное исчезновение национальных
различий (именно национальных, а не вообще различий), гадать
не стоит, по важно знать об этой перспективе, чтобы объективно
оцепить происходящие в национальной жизни перемены, искусст-
венно не ускорять и не замедлять ход естественных процессов.
1 В И. Л с и и п. Поли, собр соч., т. 36, стр. 44.
402
В жизни нередко встречаются два крайних отношения к пер-
спективе слияния наций. Одни национальные различия восприни-
мают как помехи в сближении наций и для ускорения совместного
движения народов к коммунизму, к их слиянию предлагают искус-
ственные меры форсированной ликвидации национальных разли-
чий. Другие горячатся не столько из-за того, что кто-то хочет по-
кончить со всеми национальными различиями уже сейчас, сколько
потому, что вообще допускается мысль об их исчезновении. В по-
добных случаях слияние наций понимается до крайности упрощен-
но, как бесследное растворение наций в более крупной нации, как
утерю национальных богатств духовной жизни, как нивелировку
культур.
Подобные представления беспочвенны. Ленин еще в 1915 году
писал, что свержение интернациональной буржуазии «ускорит в
громадных размерах падение всех и всяких национальных перего-
родок, не уменьшая этим, а в миллионы раз увеличивая «диффе-
ренцирование» человечества в смысле богатства и разнообразия
духовной жизни и идейных течений, стремлений, оттенков»2.
Сейчас, когда уже имеется опыт социалистического развития
наций и их культур, становится очевидным, что культурные богат-
ства становятся все более разнообразными и этот процесс будет
неуклонно сопровождать развитие цивилизации. Ясно поэтому, что
особенно несерьезно говорить о нивелировке культуры па зрелой
стадии коммунизма, открывающей неограниченные возможности
для всестороннего развития культуры, для ее многоцветия и поли-
фоничности.
Другое дело, что уже сейчас происходит, а по мерс прибли-
жения к зрелому коммунизму будет усиливаться процесс взаимо-
проникновения и взаимообогащения культур. Но считать увеличе-
ние схожести, похожести различных национальных культур их ни-
велировкой нет оснований. Ведь эта похожесть выражается не в
однообразии их культур, а в том, что все они становятся многооб-
разными. Народы обогащаются достижениями всех наций и даль-
ше, по-своему развиваются различные формы, жанры, стили и т. и.
литературы и искусства. Поэтому развитие национальных культур,
несущих все свои богатства в будущую общечеловеческую культу-
ру, предполагается самой природой коммунизма. Наконец, не ис-
чезнут и всякие этнические различия, а благодаря современным
средствам передвижения и участившимся общениям народов про-
изойдут в них новые изменения, появятся новые оттенки различий.
Беспокойство сторонников законсервирования национальных раз-
личий, следовательно, заключается в том, что различия хотя и не
исчезают, а даже еще более разнообразятся, они сперва теряют
свой традиционный, «исконно самобытный» характер, а в зрелом
коммунизме они вообще не будут считаться национальными раз-
личиями. Тут, как говорится, действительно ничем нельзя утешить
2 В. И Л с и п н Поли собр. соч.. т 26, стр. 281.
2G*
403
подобных консерваторов. Раз не будет нации, то различные особен-
ности в культуре, да и отдельные этнические особенности не будут
называться национальными. Но было бы по крайней мере странно
страшиться такой перспективы, когда многообразие культуры пе
исчезает, а, видоизменяясь и увеличиваясь, станет достоянием все-
го человечества.
Слияние наций — это нс бесследное растворение одних наций
в других, а образование общечеловеческого безпационального един-
ства, впитавшего в себя все непреходящие ценности, выработанные
всеми нациями. Многокрасочность культуры не исчезает, а еще
больше растет.
Есть, правда, среди национальных различий такие, которые
исчезнут вместе со своим разнообразием. Это языковые различия.
Языки действительно, развиваясь, идут от множества к единству.
В «Тезисах реферата по национальному вопросу» Ленин писал:
«...всемирным языком, может быть, будет английский, а может
быть, ф- русский...»3.
Один из прослушавших ленинский реферат, Е. Дидрикиль вспо-
минает, что В. II. Ленин заявил: «Вопрос о языке может быть раз-
решен в одной из двух плоскостей. Либо станет общим для всех на-
родов один из языков крупных культурных наций, либо все народы
усвоят себе три-четыре языка и будут владеть ими» 4.
Таким образом, В. II. Ленин ясно говорил, что человечество
будет обслуживаться одним или тремя-четырьмя языками. Положе-
ние это не меняется от того, что некоторое время, даже на высшей
стадии коммунизма, наряду с мировыми языками будут существо-
вать и национальные языки. Ясно, чго объем общественных функ-
ций последних беспрерывно будет сокращаться по мере расшире-
ния сферы действия мировых языков.
Выдвигается и такой довод: марксисты говорят о стирании та-
ких национальных различий, которые мешают сближению народов,
языковые различия пе из их числа, а потому незачем им исчезать.
Здесь следует видеть и понять два вопроса: 1) какова объек-
тивная роль различных языков в современной жизни, как следует
о г носиться к их развитию и 2) является ли необходимостью и же-
лательным многоязычие для человечества во все времена?
Национальные языки являются и еще долго будут незамени-
мым орудием культурного развития народов. Именно на этих язы-
ках создаются паши культурные ценности. Народы воспитываются
в коммунистическом духе па национальных языках, и, следователь-
но, они по мешают, а, наоборот, содействуют сближению наций,
коммунистическому строительству. Всем этим объясняется все то
огромное внимание, которое уделяется развитию национальных
языков в СССР. Однако, безусловно, отвергая эскапады не в меру
В II Ленин Поли собр. соч, т. 24, стр. 387.
4 «Молодая гвардия», 1921, № 3, стр. GG; или «О Ленине». Воспоминания, кп. 2.
М„ 1925, стр. 111.
404
спешащих поскорее покончить с языковыми различиями, вместе
с тем необходимо трезво оценивать как объем и значение конкрет-
но выполнимых функций различными языками, так и будущность
всех языков.
Нет основания видеть что-либо обидное в том, что, когда объ-
ективно оценивая объем общественных функций разных языков,
говорят об ограниченных возможностях тех или иных языков, имея
в виду малочисленность их носителей, а не их потенциальные воз-
можности. Впрочем, представители любой национальности сами
прекрасно отдают себе отчет в реальных возможностях своего язы-
ка, и, если говорить о такте, то следует иметь в виду, что нельзя
оскорблять людей, вынужденных переходить на двуязычие, а иног-
да и признающих официально своим родным языком второй язык.
Сентенциям и сетованиям, преждевременному оплакиванию тех
или иных языков советские языковеды противопоставляют законы
науки и жизни и требуют объективно оценивать роль различных
языков в развитии общества.
Если говорить о далекой перспективе, то и современные раз-
витые языки уступят свое место мировому языку. Множество язы-
ков исторически объяснимо. Каждый язык имеет все основания и
потенциальные возможности стать на уровне самых развитых язы-
ков и вместе с тем продолжать дальнейшее развитие. При таком
ходе истории человечество имело бы более 2500 развитых языков.
Есть немало людей, воспевающих подобное богатство многообра-
зия языков, однако история умнее любых, даже самых прекрасно-
душных желаний и ничего не делает без надобности.
Мощь человечества не увеличивается, а уменьшается от обилия
различных языков.
Можно понять людей, которые из-за любви к родному языку,
если и не отрицают перспективы образования общемирового языка,
то по крайней мере не любят говорить и слушать об этом. Можно
особенно понять поэтов, писателей, не мыслящих себя вне своего
языка, но страх их не имеет веских оснований, не только потому,
что перспектива образования мирового языка очень еще далека,
но и потому, что процесс перехода на несколько мировых языков,
а затем и на единый язык будет естественным, не болезненным,
а выкристаллизовавшийся единый язык, обогащенный всеми до-
стижениями языкового развития человечества, станет самой луч-
шей формой выражения мировой культуры, также впитавшей в се-
бя все достижения культурного развития человечества.
Это, разумеется, не означает, что уже наступило время сверты-
вания национальных языков и перехода к мировому языку. Нао-
борот, то, что само создание или выделение мирового языка будет
подготовлено расцветом и взаимообогашснисм существующих язы
ков и что сейчас надо заботиться о расцвете национальных язы-
ков,—это аксиома. Но думать, что человечество в выигрыше or
многоязычия и всегда будет хранить его — это чистейшая утопия.
Никогда ничего вс делается без нужды и без пользы.
405
То, что многоязычие не благо, что оно вызывает огромные труд-
ности в жизни, можно видеть из таких, например, подсчетов, сде-
ланных только в СССР: в Государственной библиотеке СССР им.
В. II. Лепина хранятся книги па 160 языках. Всесоюзный ин-
ститут научной и технической информации переводит и рефери-
рует статьи на 64 языках. Для перевода с пяти языков нужно
иметь 20 разных словарей, с десяти —уже 90, с пятидесяти —
2450 и т. д.
Движение языков от множественности к единству, безусловно,
удесятерит мощь человечества, не нанося никакого ущерба много-
образию его культурных достижений.
Интенсификация международных экономических, политических
и культурных связей уже сейчас вызвала к жизни ряд мировых и
межнациональных языков. Дальнейшая интернационализация жиз-
ни выработает со временем общемировой язык. Некоторое время
наряду с ними просуществуют и национальные языки. Для специ-
алистов и как памятники культуры, очевидно, будут сохранены
первоисточники, но совершенно невероятно, что в условиях интен-
сивнейшего развития науки и культуры целые массы людей позво-
лят себе такую роскошь, как трата времени 'на изучение различ-
ных языков, при наличии мирового языка, аккумулировавшего в
себе достоинства различных национальных языков и обладающего
высокой степенью информативности.
Обобщение лингвистами и социологами опыта языкового раз-
вития, особенно при социализме, дает некоторое основание указать
па два возможных пути возникновения в будущем единого миро-
вого языка. Таким языком могут быть выделенные демократиче-
ским путем от одного до трех-четырех из высокоразвитых языков,
которые к тому времени уже будут фактически выполнять функции
межнационального языка. При этом интернациональный фонд лек-
сики выделенного языка или языков, но всей вероятности, будет
расширен. Другим путем может быть создание всемирного языка.
Речь идет, конечно, не о создании таких языков, как воляпюк, эс-
перанто или алгол, а о научном обобщении в одном языке дости-
жении современных живых языков. Научный синтез в одном язы-
ке всего ценного, что имеется в существующих языках, нельзя счи-
тать утопией. Это будет сознательное ускорение естественного про-
цесса взаимообогащения, сближения и слияния языков.
Так обстоит дело и с языковыми различиями, которые хотя и
исчезнут позже других национальных различий, вызывают уже сей-
час острые споры и иногда крайние суждения.
Подводя теперь итоги в самой общей форме, можно констати-
ровать следующее: с развитием и расцветом всех социалнстическйх
наций, с укреплением социалистического содружества пародов бу-
дет достигнута полная социальная однородность всех наций и их
полное единство. Полное единство наций есть максимальное сбли-
жение, ио еще не слияние их. Слияние наций связано с исчезнове-
нием национальных различий.
406
На стадий полного единства нации хотя еще и сохраняются На-
циональные различия, но они будут менее существенными в жизни
людей. Даже различия в языке не будут чувствоваться в такой же
мере, как раньше, благодаря широкому использованию языков
межнационального общения. Решающими факторами в жизни
стран, строящих коммунизм, станет интернациональная общность
экономики, общественного строя, языков и культур.
Национальные различия исчезнут полностью, и наступит пе-
риод слияния наций, когда во всем мире прочно утвердится зре-
лое коммунистическое общество. Это будет общество без госу-
дарств, а следовательно, без государственных границ и националь-
ных территорий. Труженики коммунистического общества будут
людьми с общей, обогащенной достижениями всех наций духовной
культурой и языком. Определенное время наряду со всемирным
языком (или языками) будут существовать еще старые националь-
ные языки. Вместо национальных различий останутся лишь неко-
торые особенности жизни, быта и культуры, обусловленные геогра-
фическим климатическим своеобразием.
Полная победа коммунизма во всем мире создает уже все усло-
вия для добровольного слияния наций. Человек больше не будет
нуждаться во втором своем названии — национальности, он будет
просто человеком, членом всемирного человечества, имеющего еди-
ную экономику и единую по содержанию и языку богатейшую и
многообразную коммунистическую культуру.
Человечество идет к этой светлой перспективе долгим и трудным
путем борьбы сил прогресса с силами реакции, интернационализ-
ма с национализмом.
Несмотря на стремления империализма отравить сознание лю-
дей ядом национализма, неуклонно растут интернациональные си-
лы. Характер развития современной эпохи, определяемый миро-
вым революционным процессом, является интернациональным.
В интернациональном объединении революционных сил — источник
силы и непобедимости трудящихся всего мира.
ОГЛАВЛДНИ е
Введение ..................................................... d
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЕ
Глава I. РАСА И НАЦИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ОБЩНОСТИ
ЛЮДЕЙ ДО ОБРАЗОВАНИЯ НАЦИЙ................................. 17
1. Раса п нация.......................................... 18
2 Исторические общности людей до образования наций . . 23
Глава II. О НЕКОТОРЫХ НЕМАРКСИСТСКИХ КОНЦЕПЦИЯХ
НАЦИИ...................................................... 30
1. Критика психологических теорий нации, их социальных
и гносеологических корней.............................. 30
2. Революционные демократы о сущности нации и национальных
отношений.............................................. 46
Глава III. МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЕ ПОНЯТИЕ НАЦИИ , 63
1. К- Маркс, Ф. Энгельс и В. И. Ленни о сущности нации как
исторической формы общности людей............................ 63
2. Отношение основоположников марксизма-ленинизма к во-
просу об общности духовной жизни нации....................... 79
3. Вопрос о «психическом складе нации» в свете ленинской тео-
рии отражения и данных научной психологии .... 94
4. Национальный характер и национальная культура . . 119
Глава IV. УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИИ И ЕЕ ПРИЗНАКИ 152
I. Общность экономических связей............................. 153
2. Общность территории . . . . . 168
3. Общность языка ... . . . . 177
4. Национальное самосознание . . . . . 210
5. Государство как норма историческою развития наций 239
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
Глава V. СОЦИАЛИЗМ И РАЗВИТИЕ НАЦИЙ..........................
1. Социалистическая революция н преобразование наций капи-
талистического общества в социалистические пации
Самоопределение наций в ходе социалистической революции.
Единство национальной и союзной государственности
Выравнивание уровней экономического и культурного разви-
тия наций ..............................................
2 Нации и национальные отношения в условиях победившего
социализма и на его зрелой стадии ......................
Общая характеристика социалистических наций. Тенденции
в их ра звитии..........................................
Экономическая основа расцвета и сближения наций
Укрепление социально-политического единства наций, разви-
тие п взаимообогащение их культур.......................
Диалектика национального и интернационального ........
Глава VI. ВОЗНИКНОВЕНИЕ НОВЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ФОРМ
ОБЩНОСТИ ЛЮДЕЙ..................................
1 Советский народ—новая историческая общность людей
2 Мировая система социализма и развитие социалистического
интернационализма ......................................
Глава VII. БОРЬБА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА С НАЦИОНАЛИЗ-
МОМ — ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ МИ-
РОВОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРОЦЕССА
1 Происхождение и сущность национализма, необходимость
ею искоренения ......................
2 . Сущность пролетарского, социалистического интернационализ-
ма, неизбежность его победы над национализмом
Будущность нации (вместо заключения) .... ГГуТЯ.
\ А1 о
Ч v <
______________ \ nil К Д.
259
260
262
274
282
282
290
301
328
340
310
349
361
361
382
401