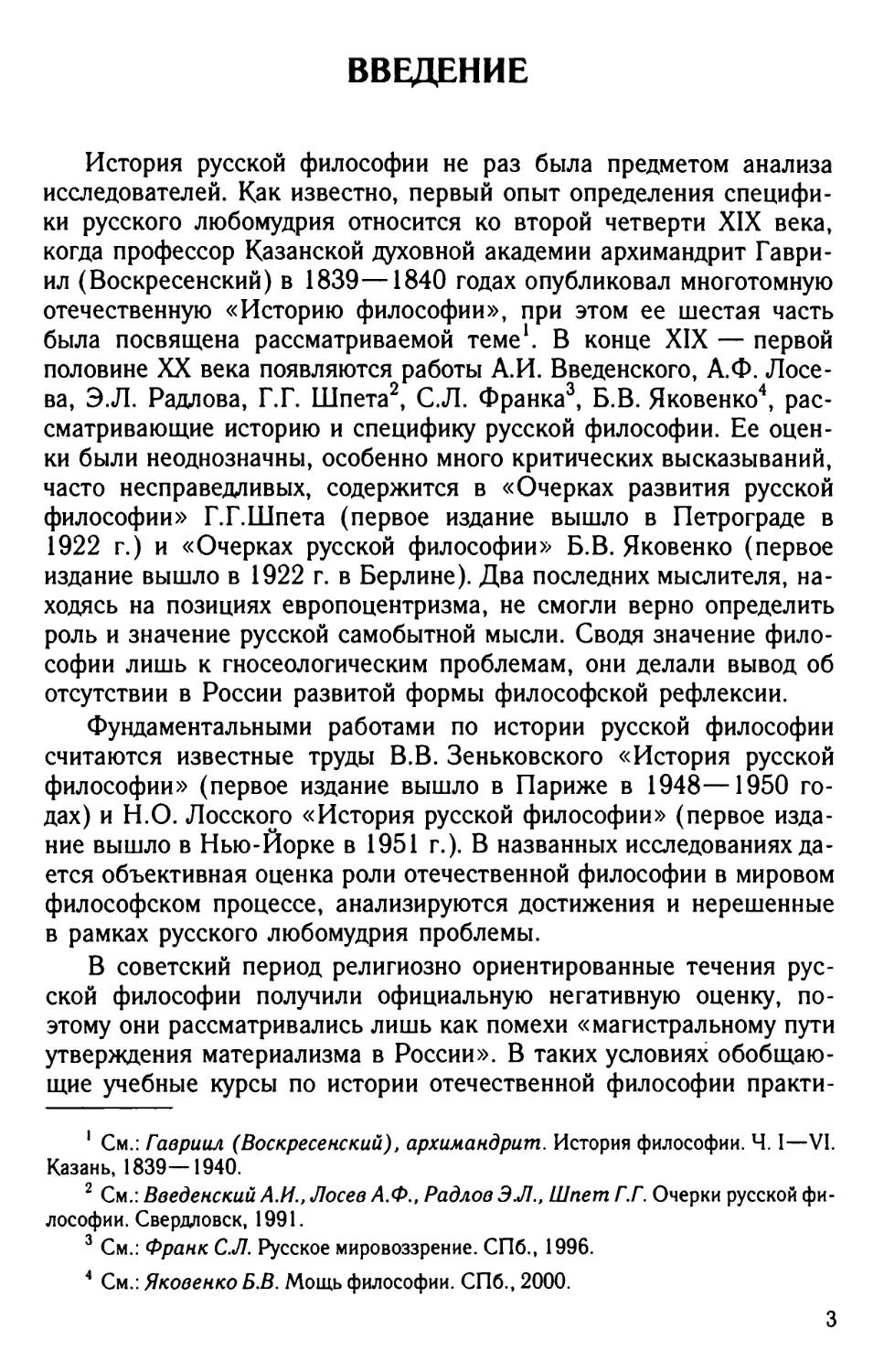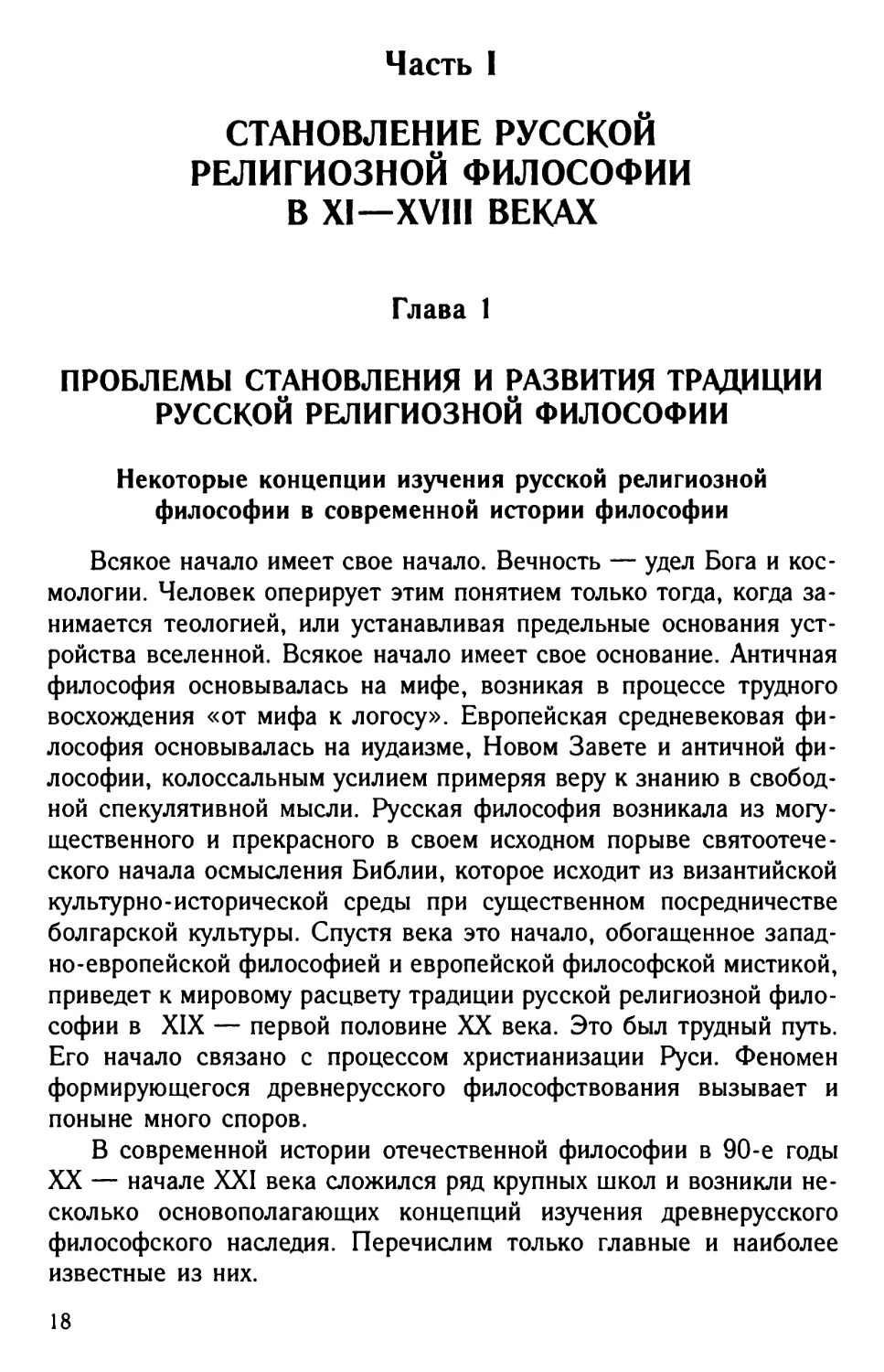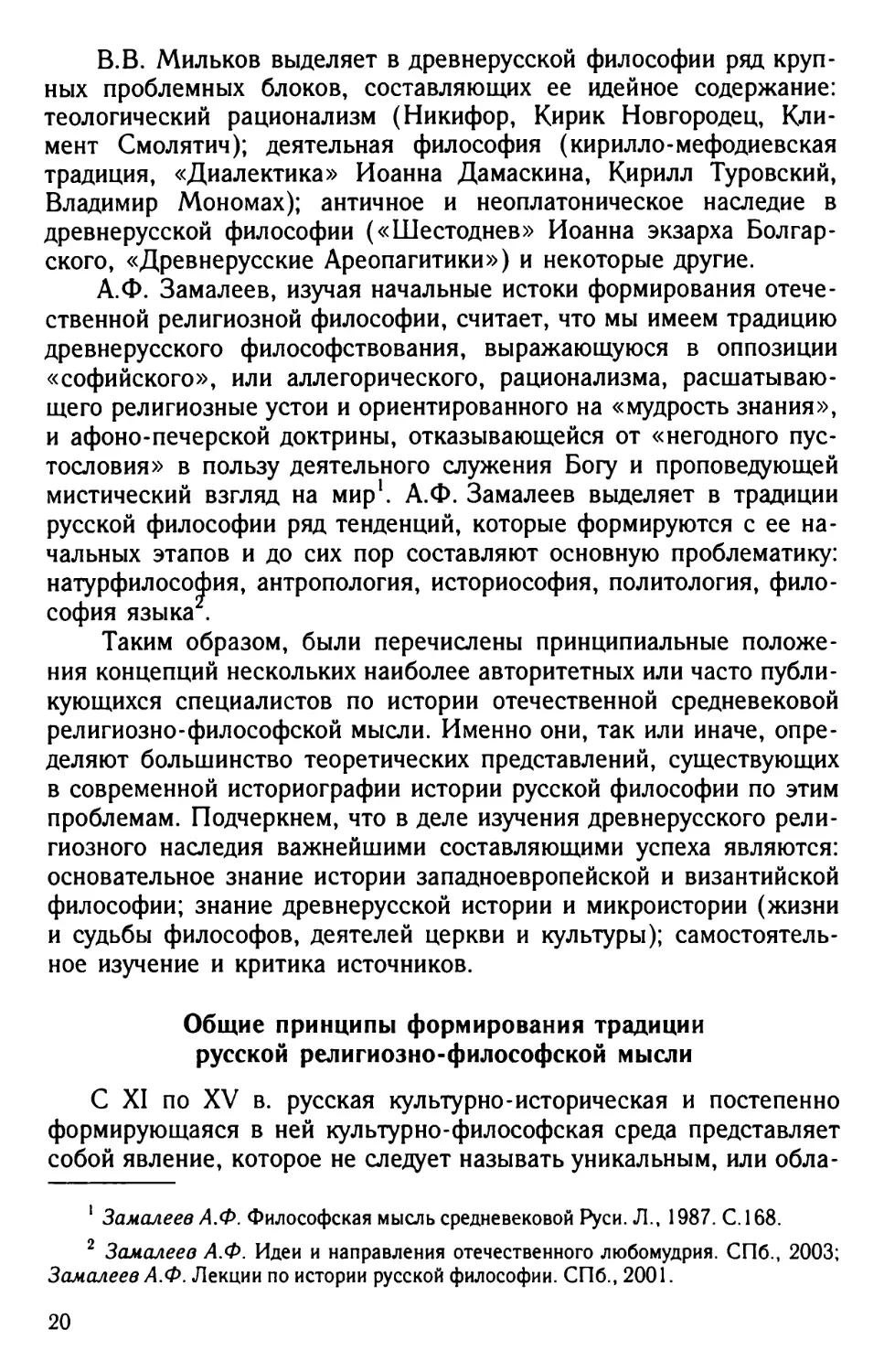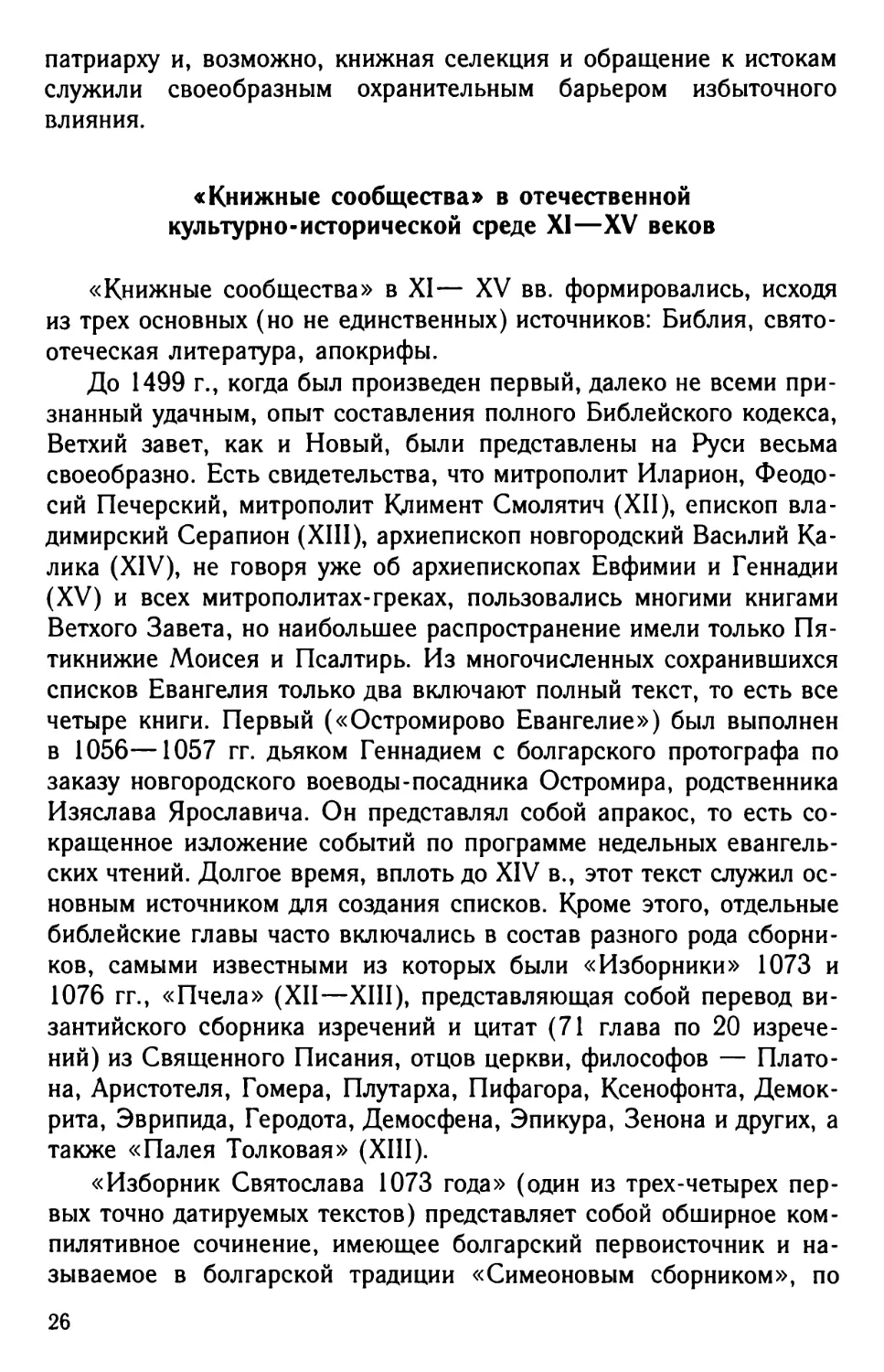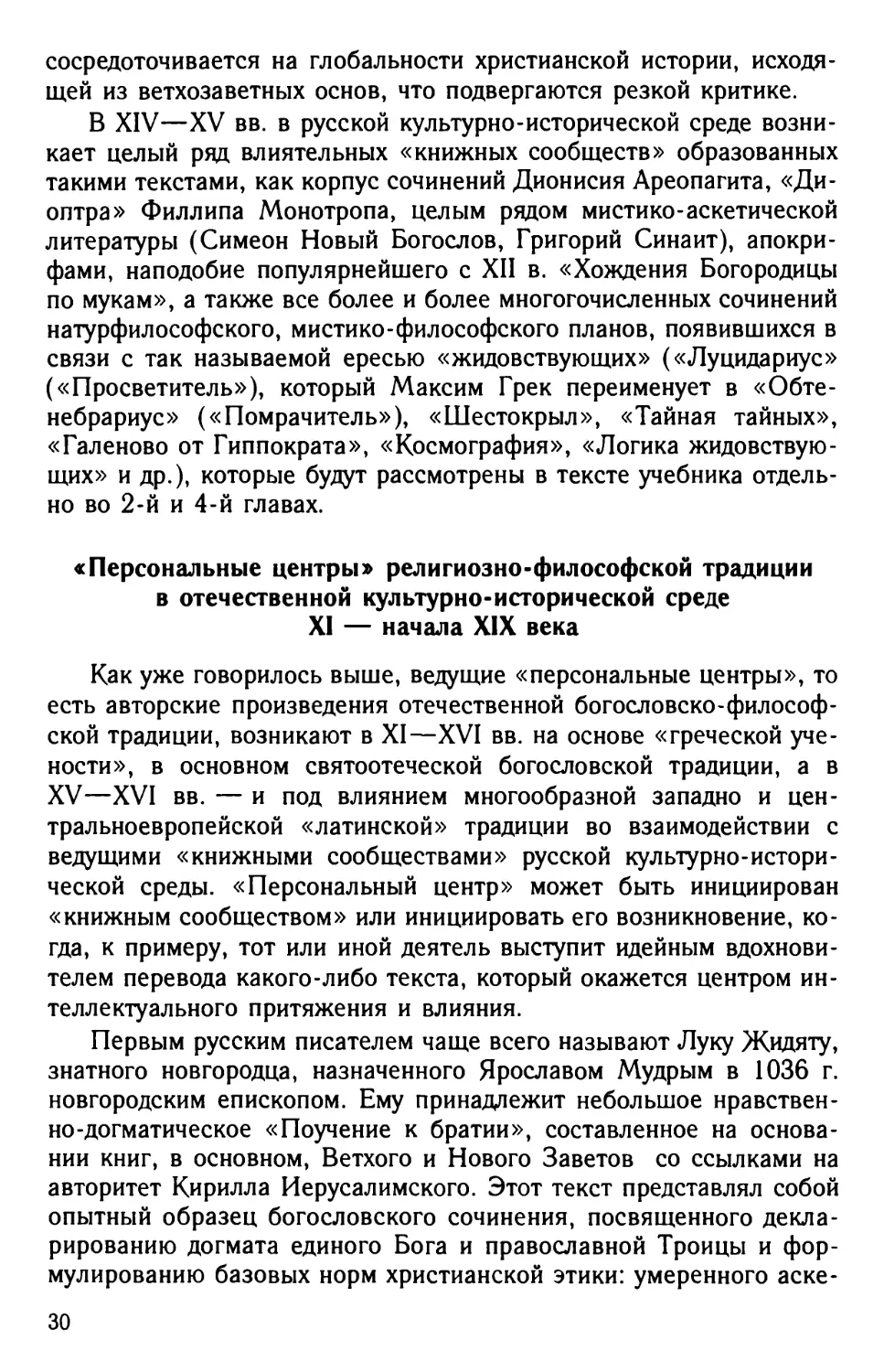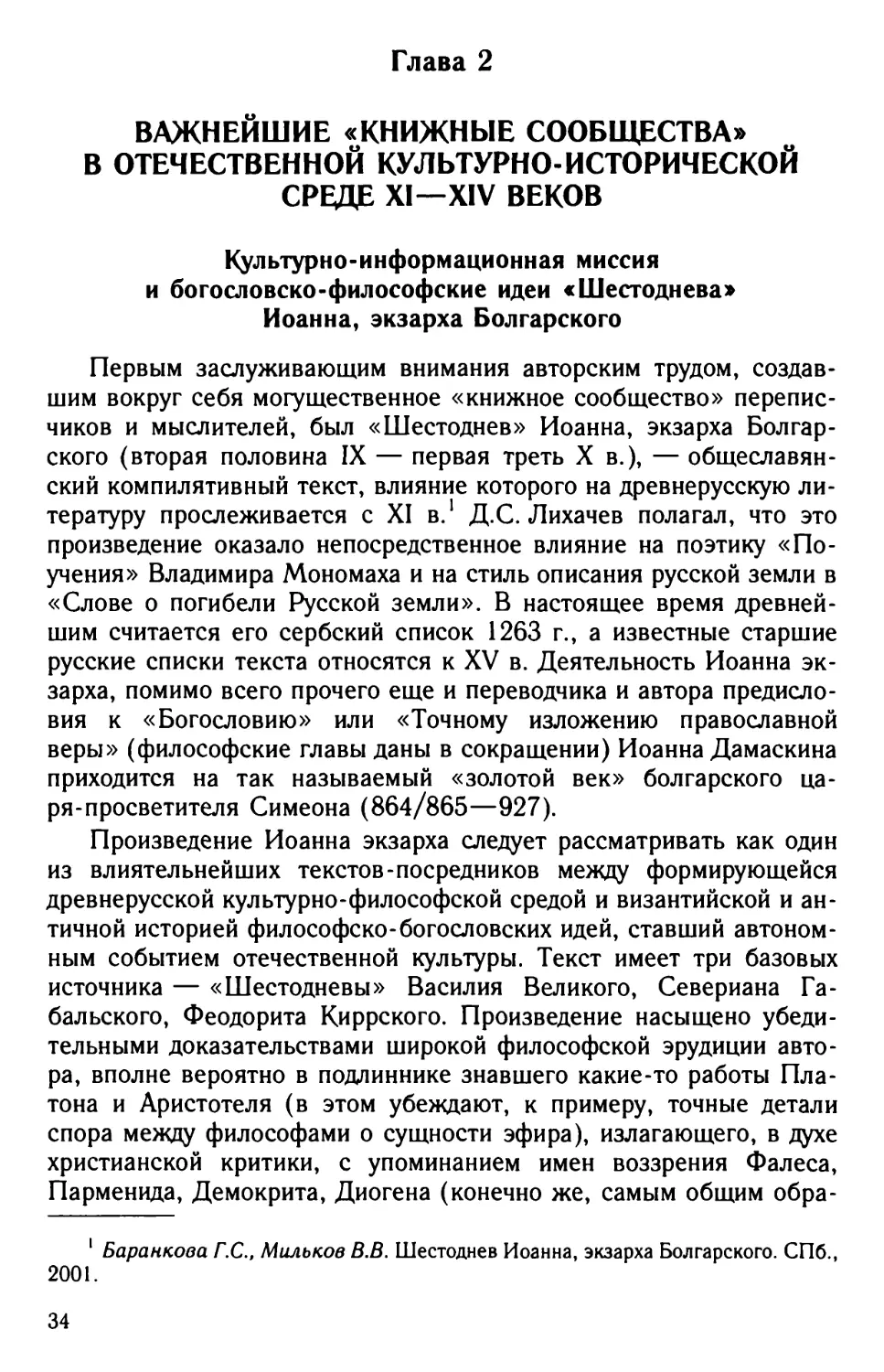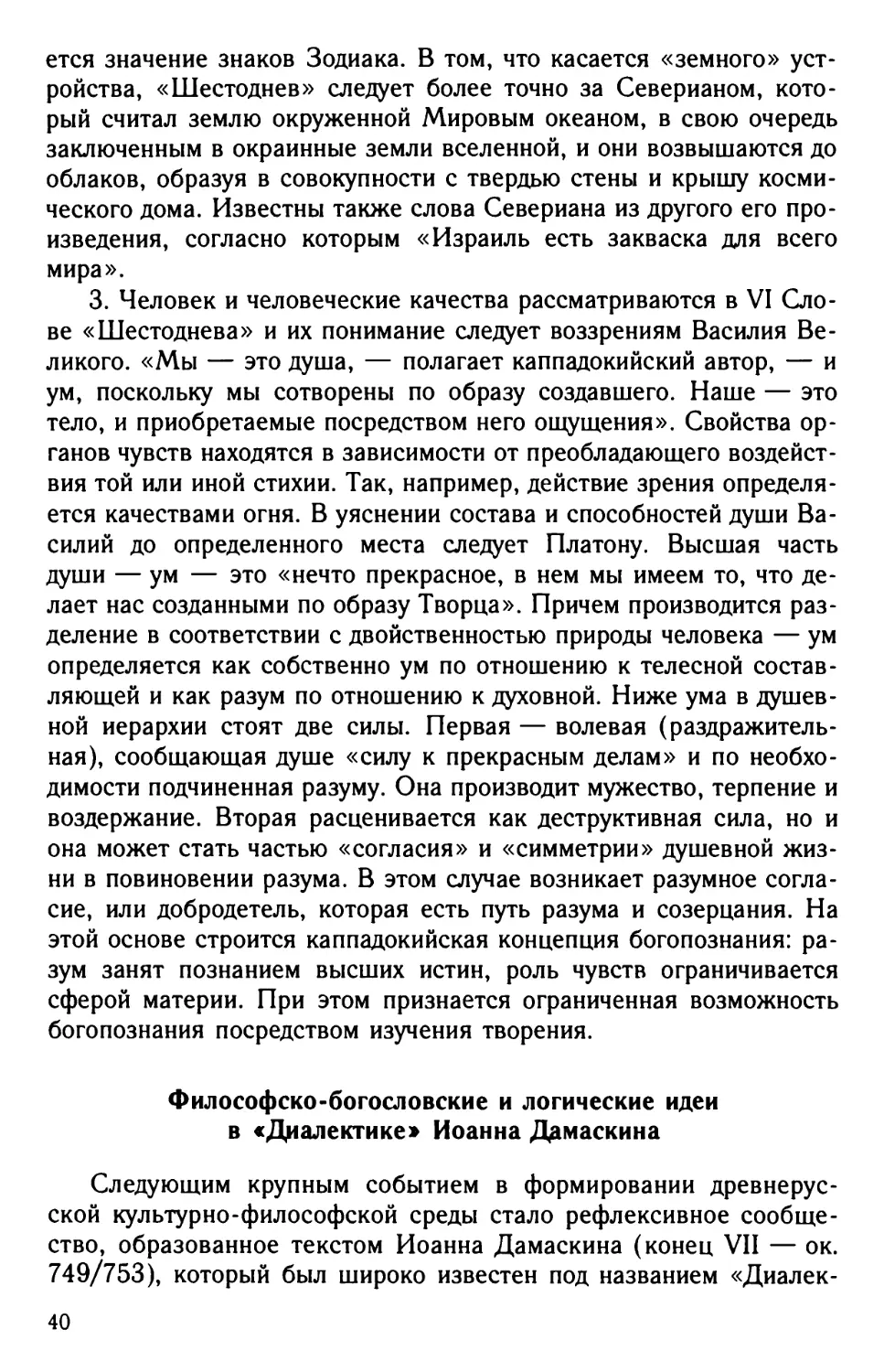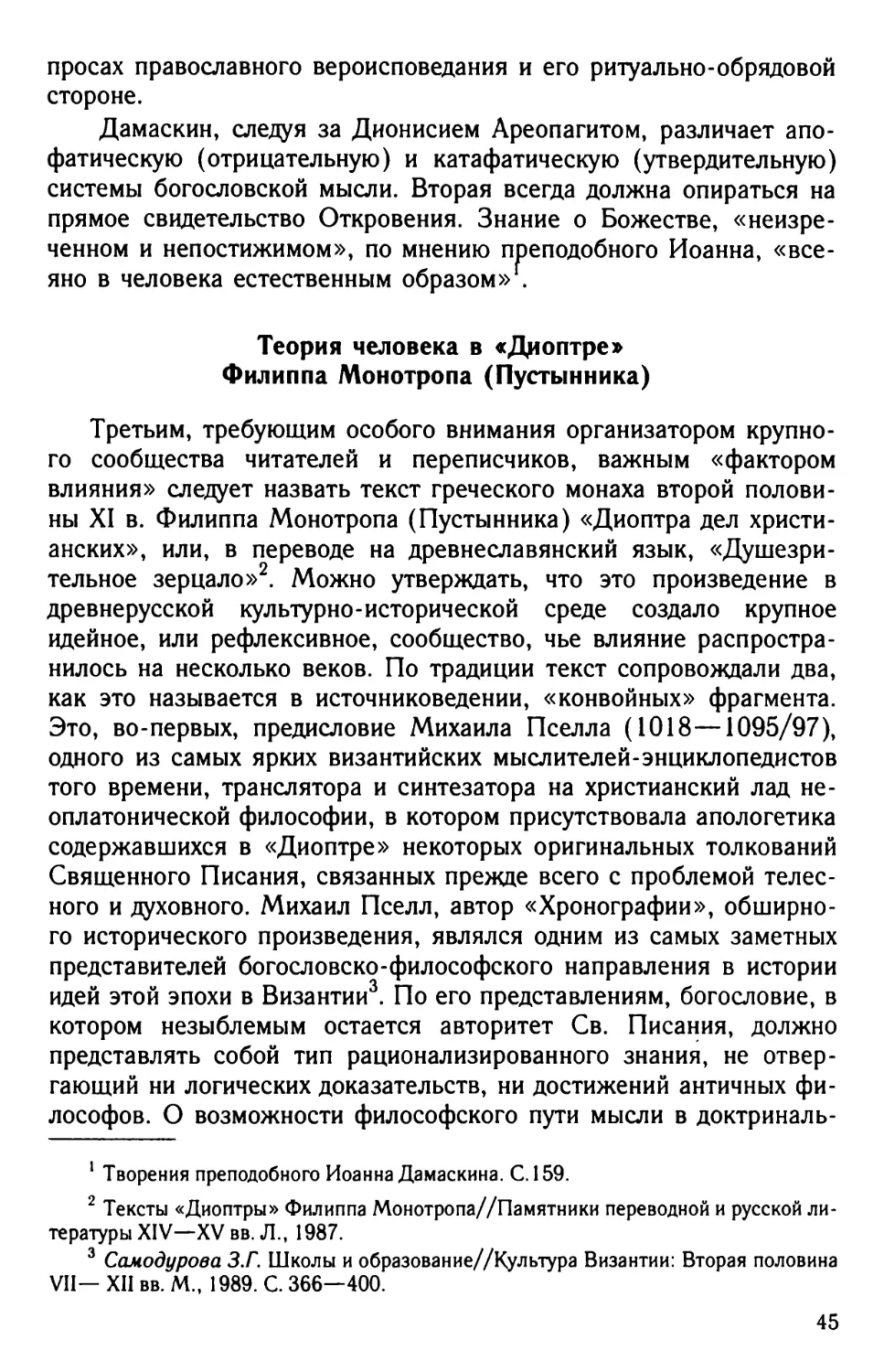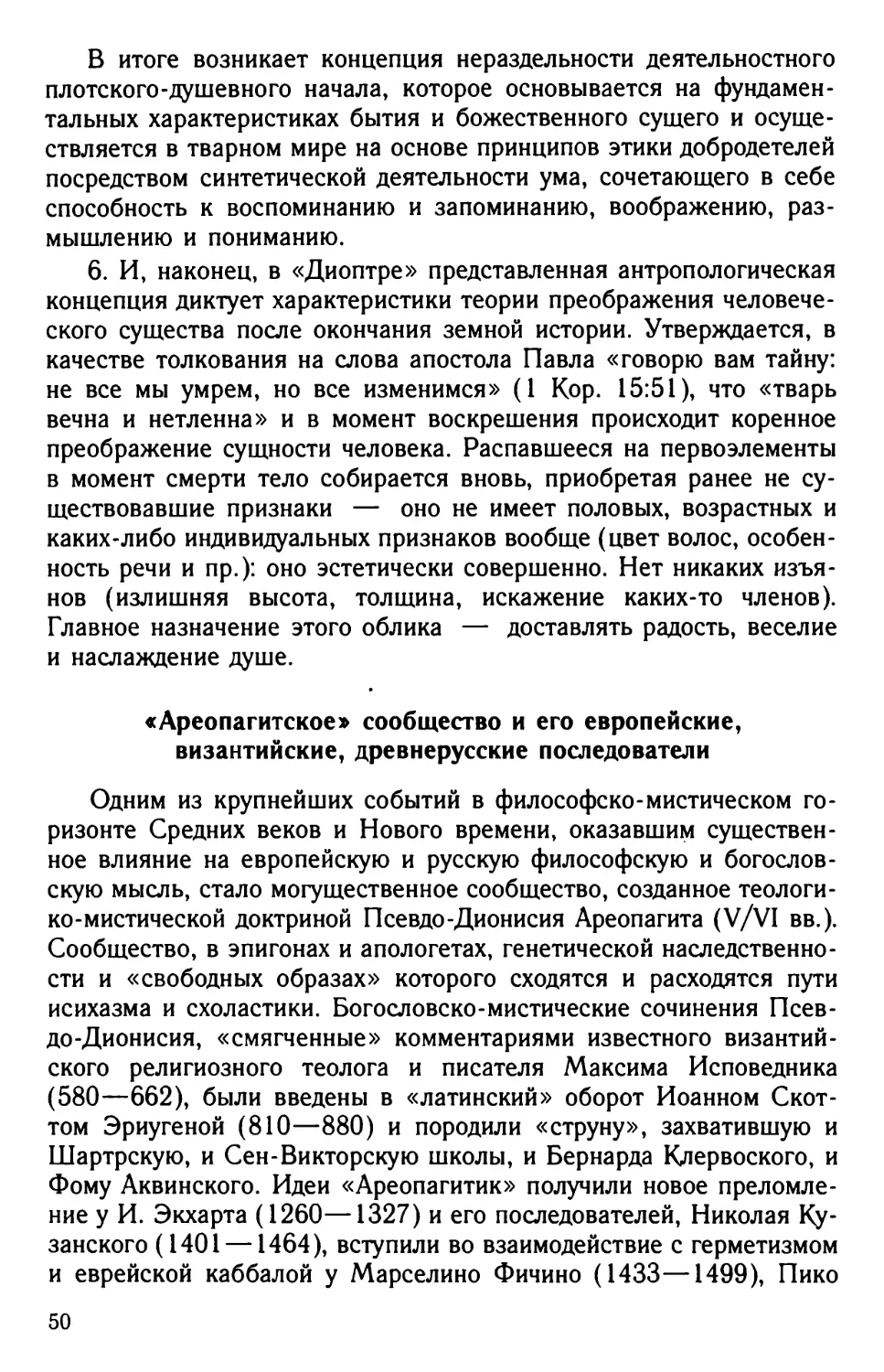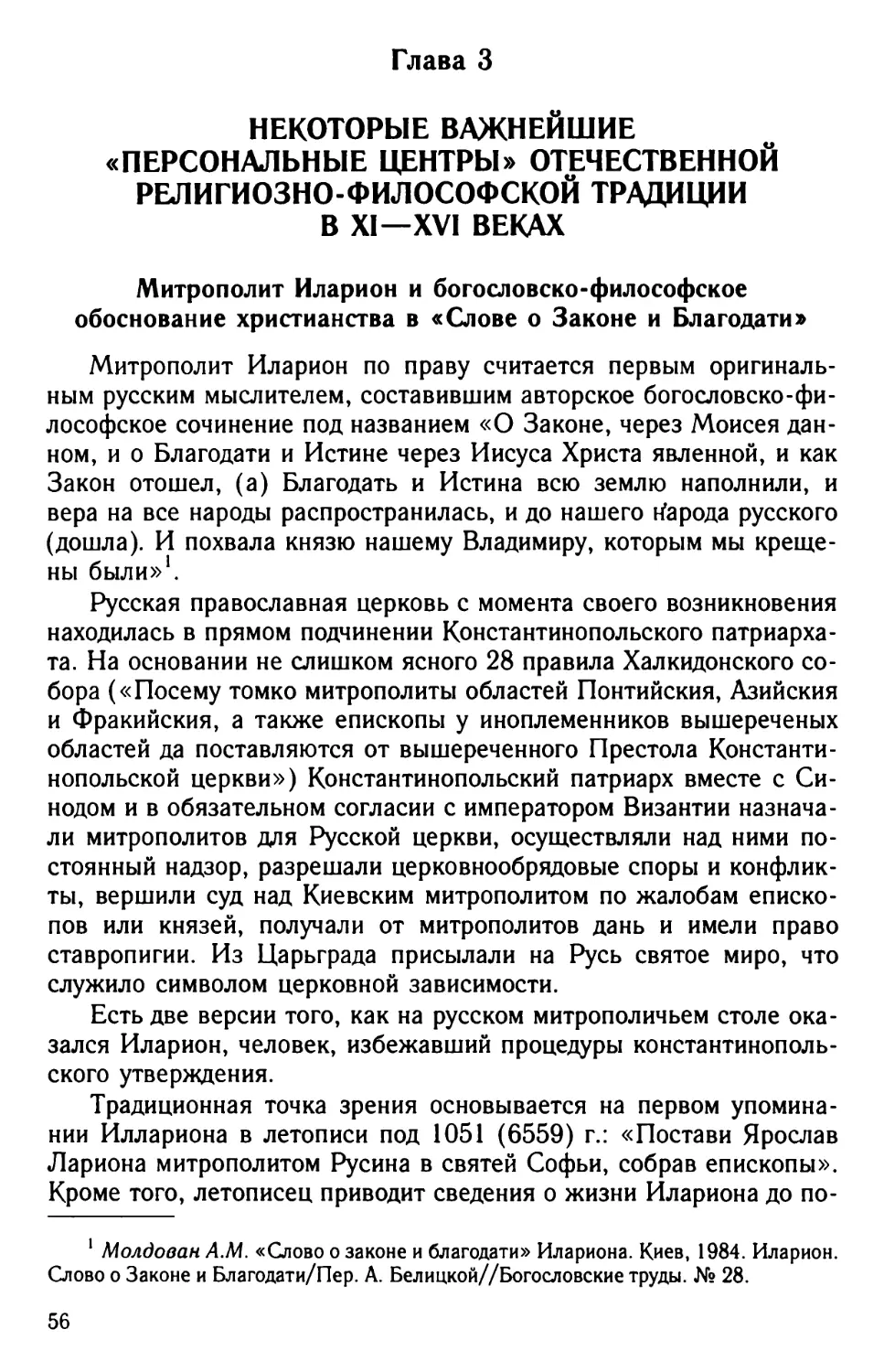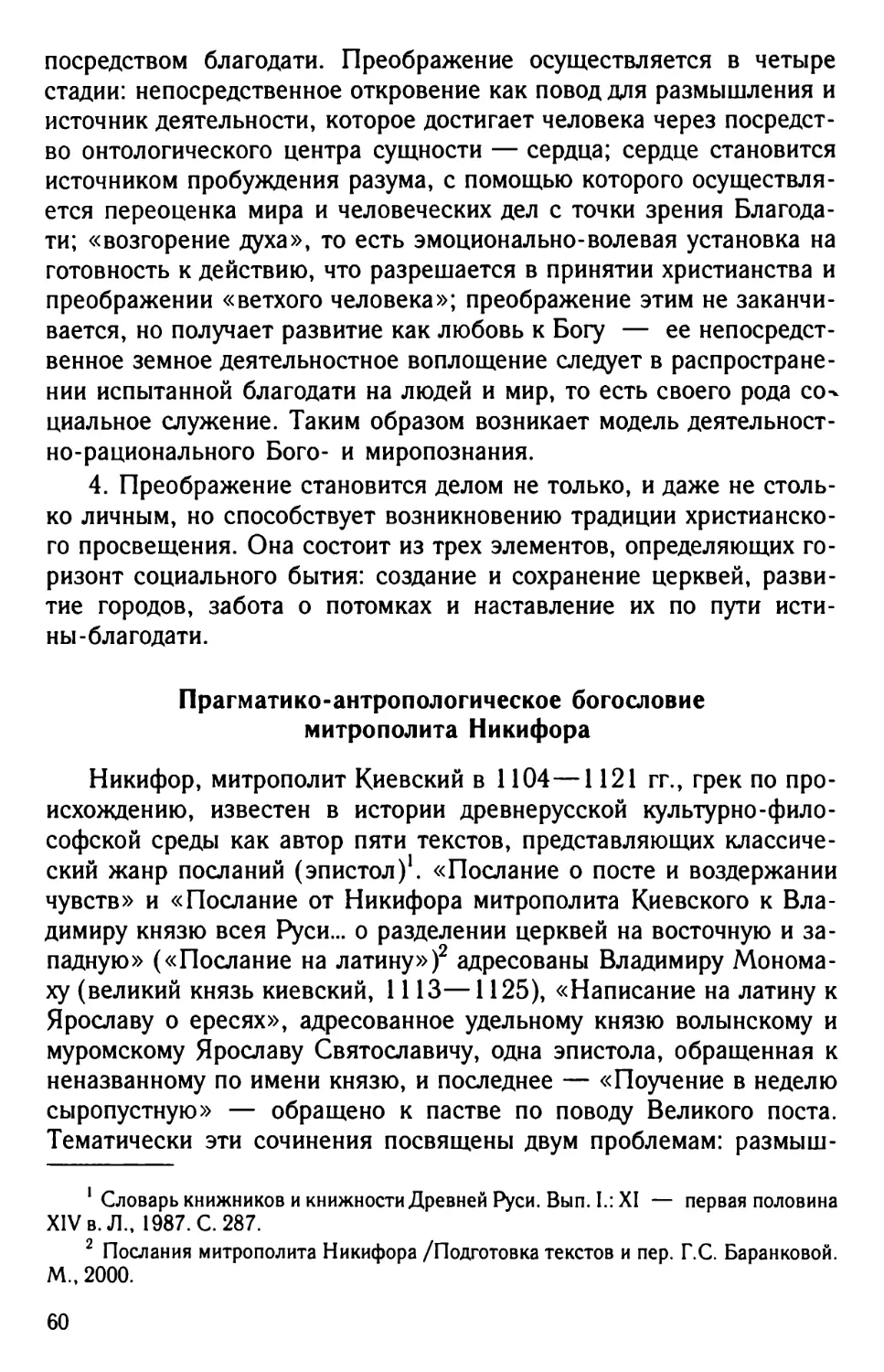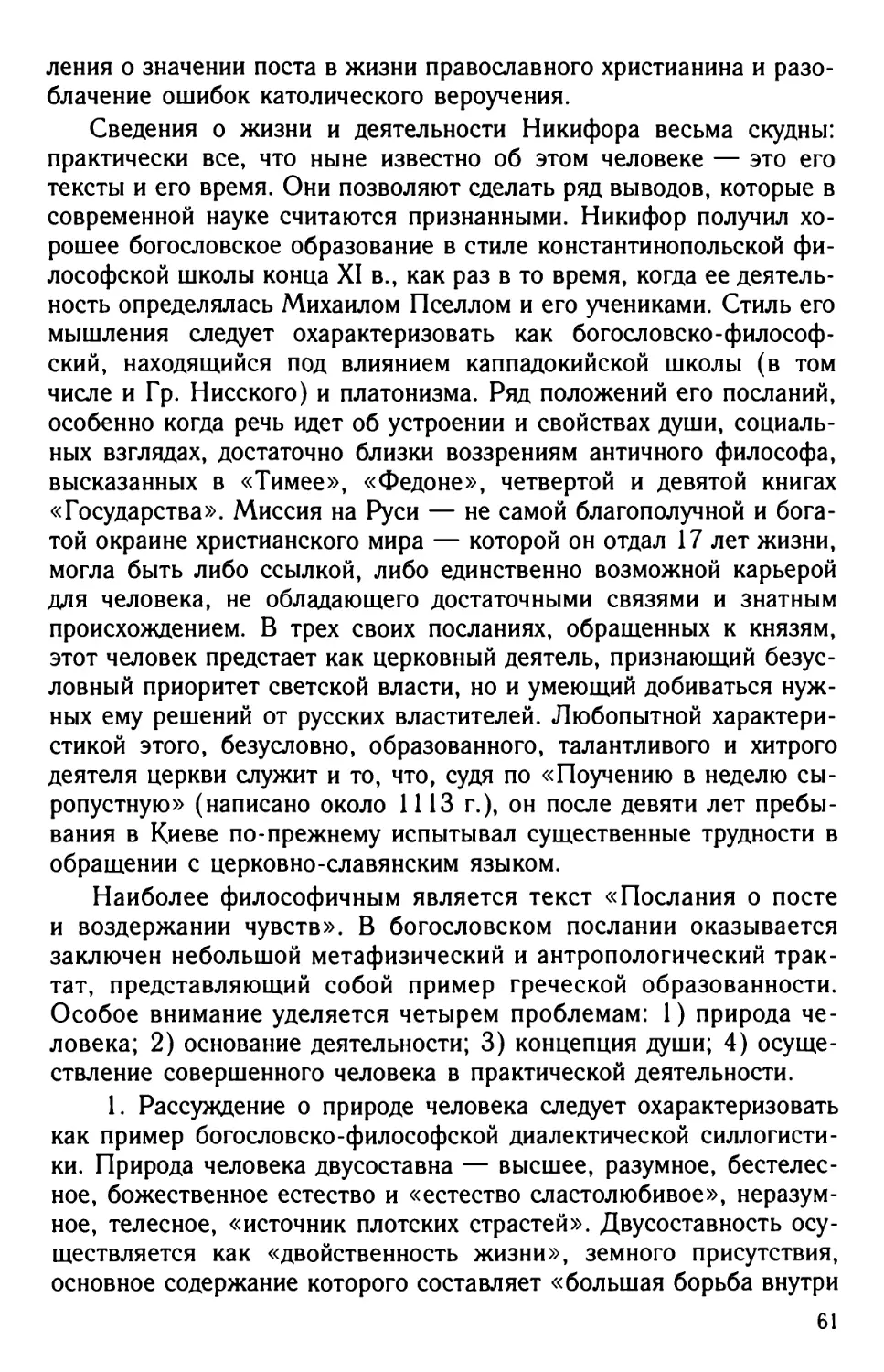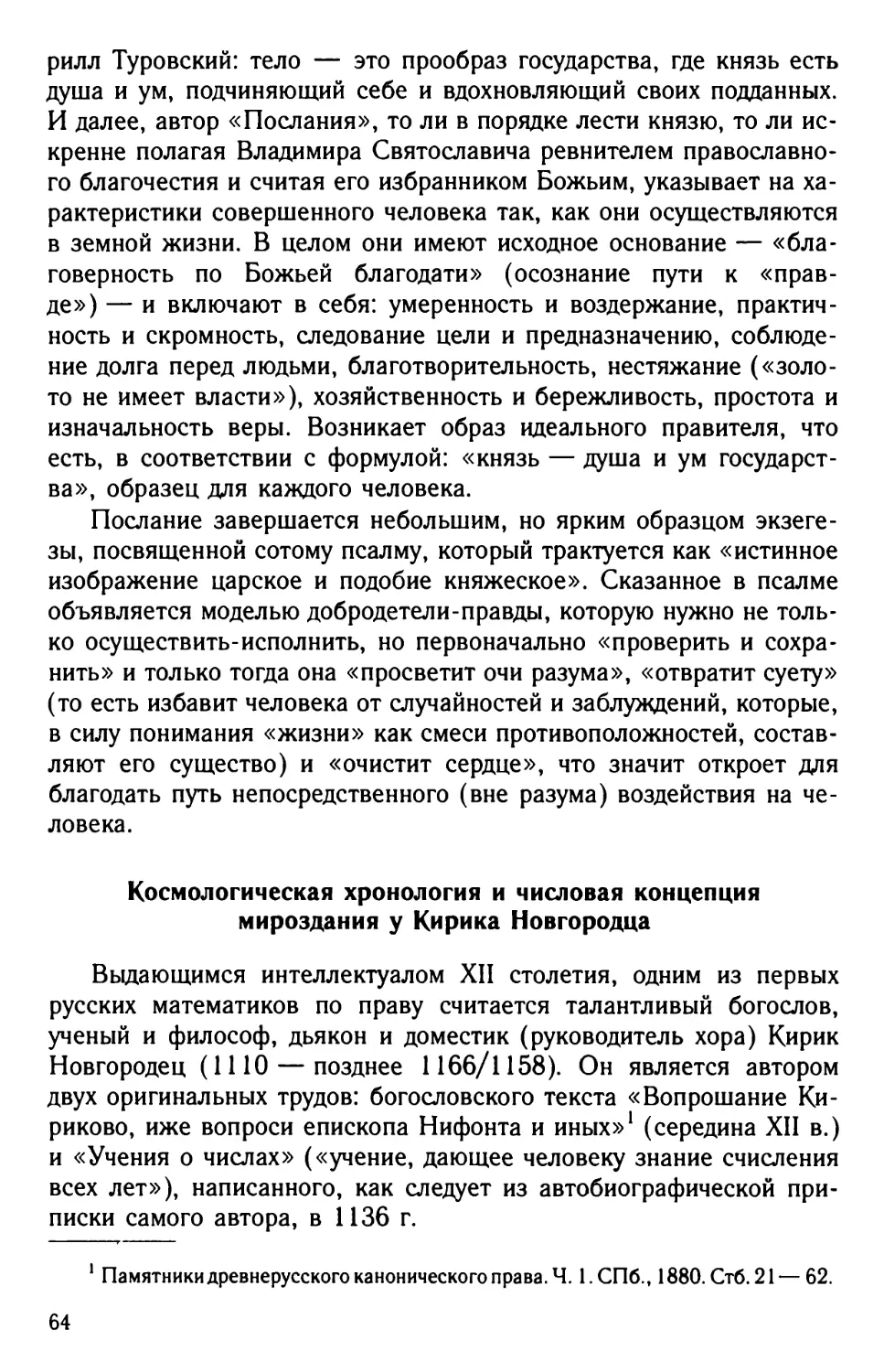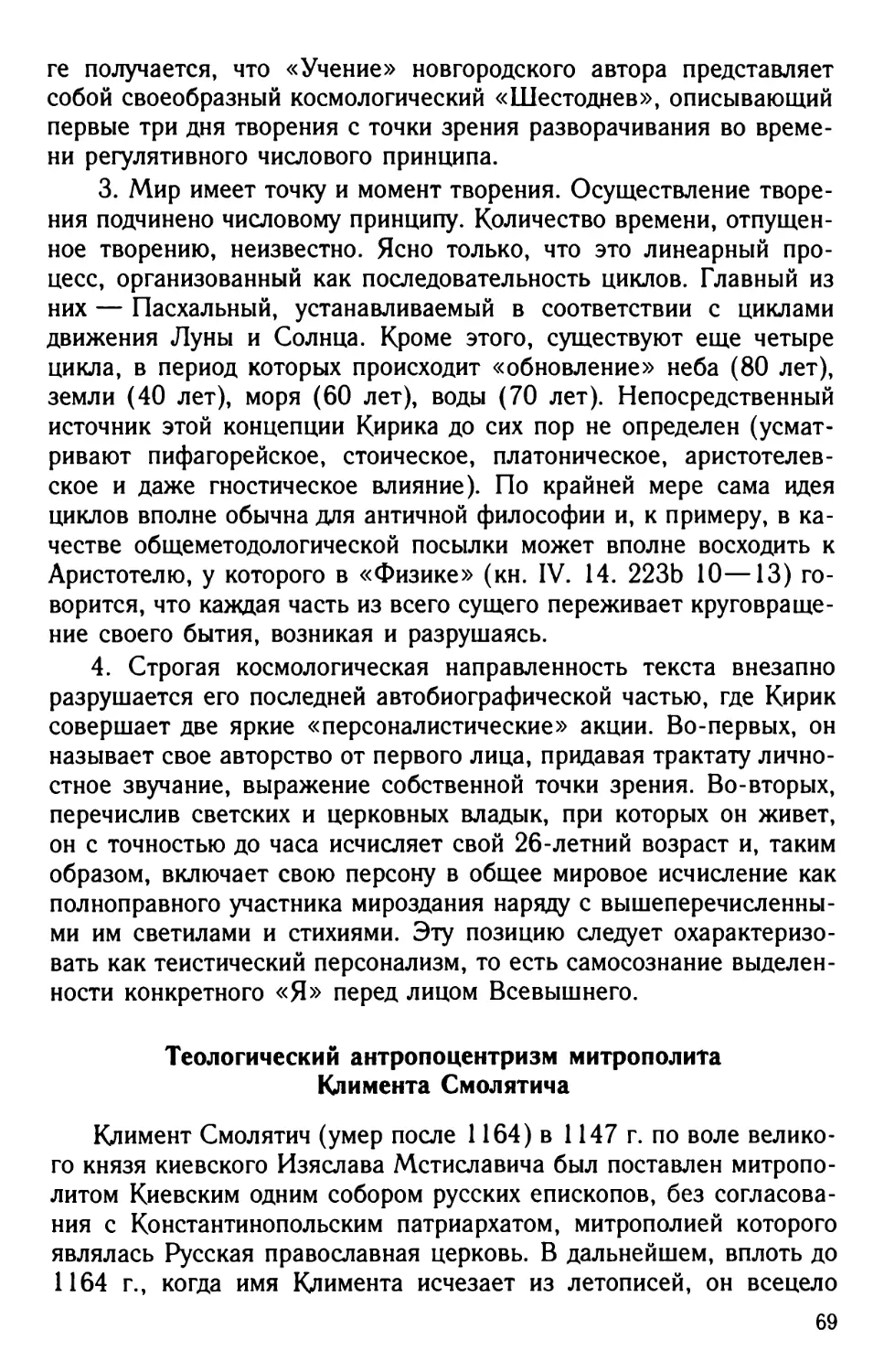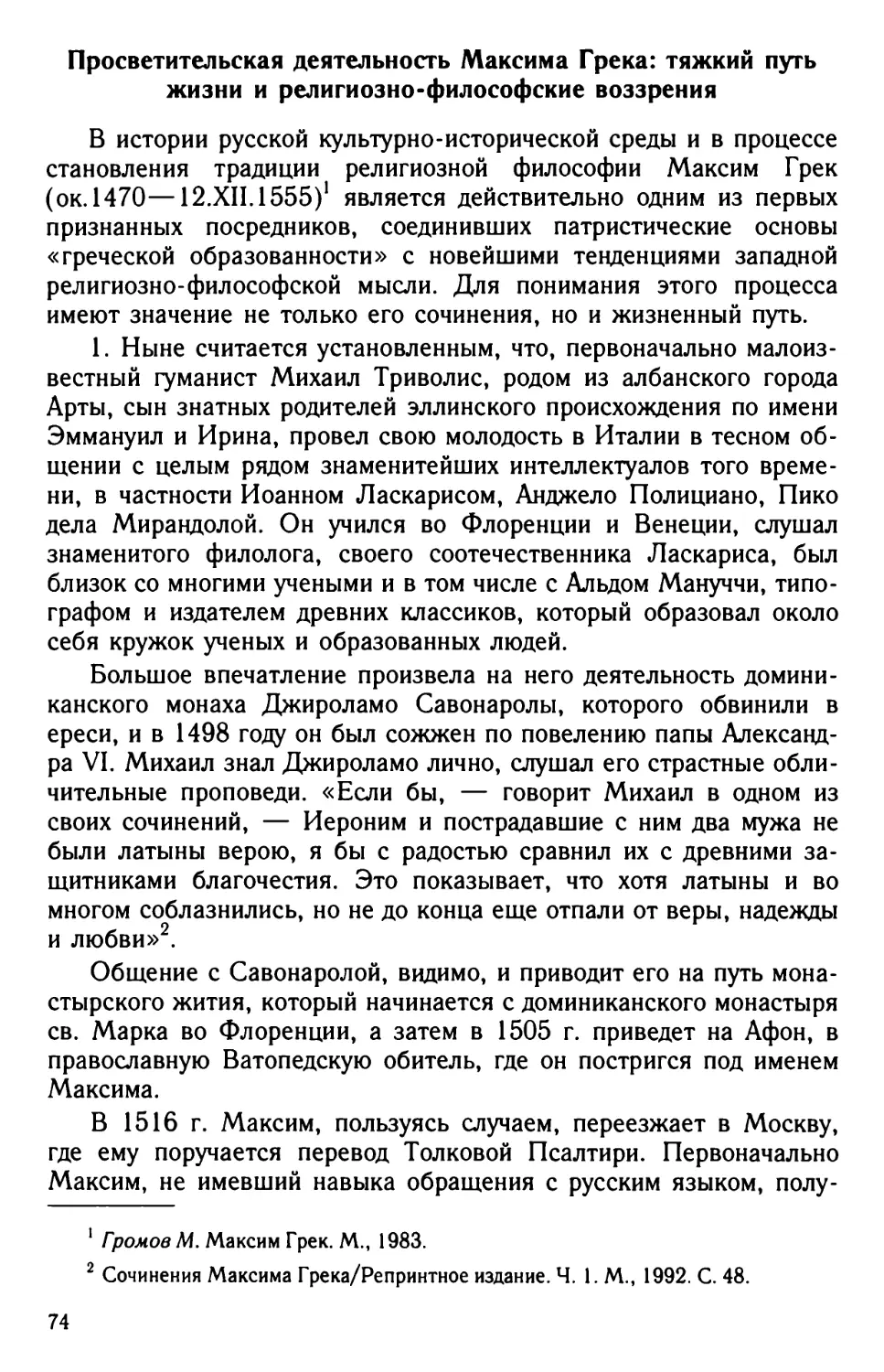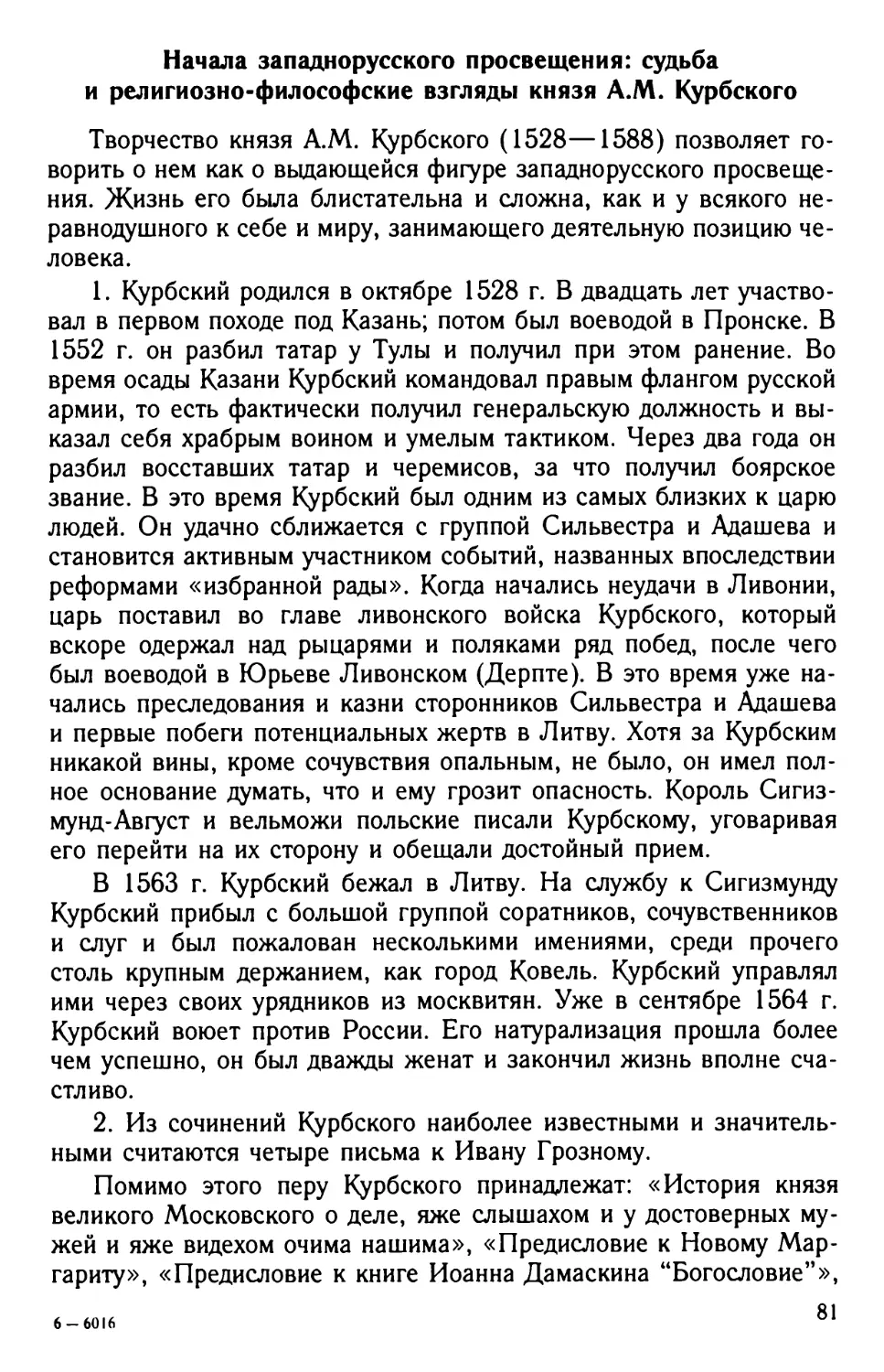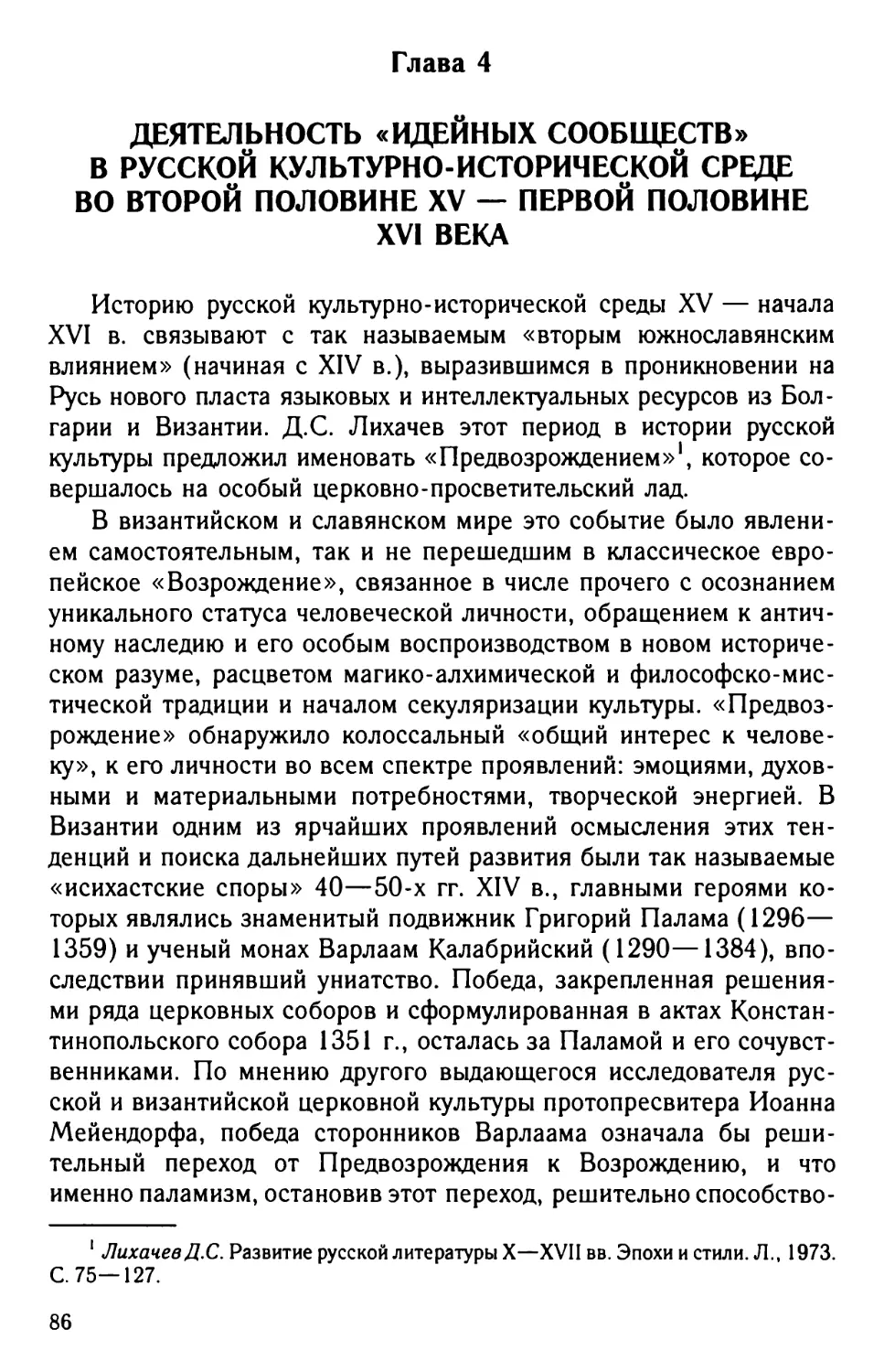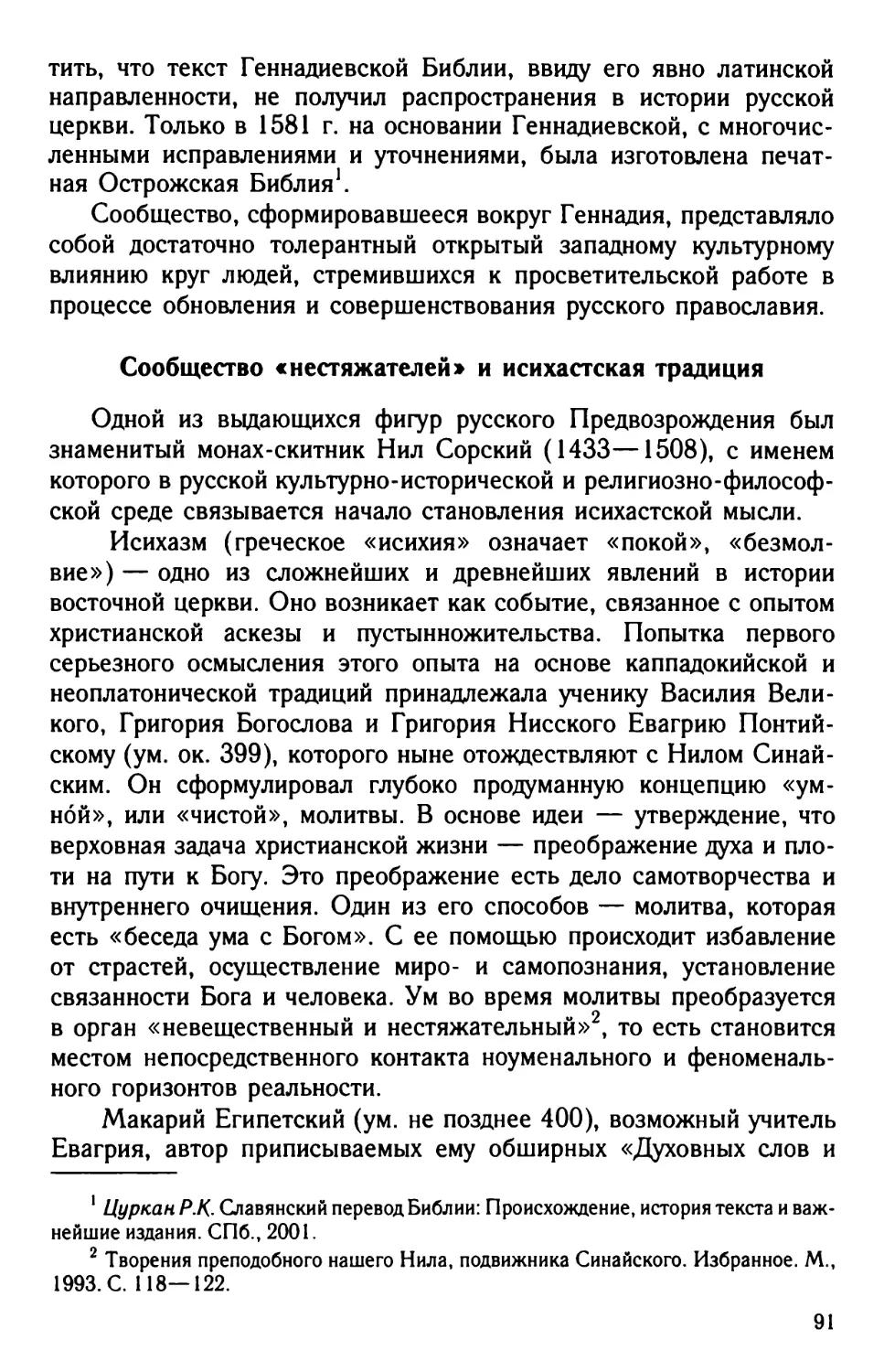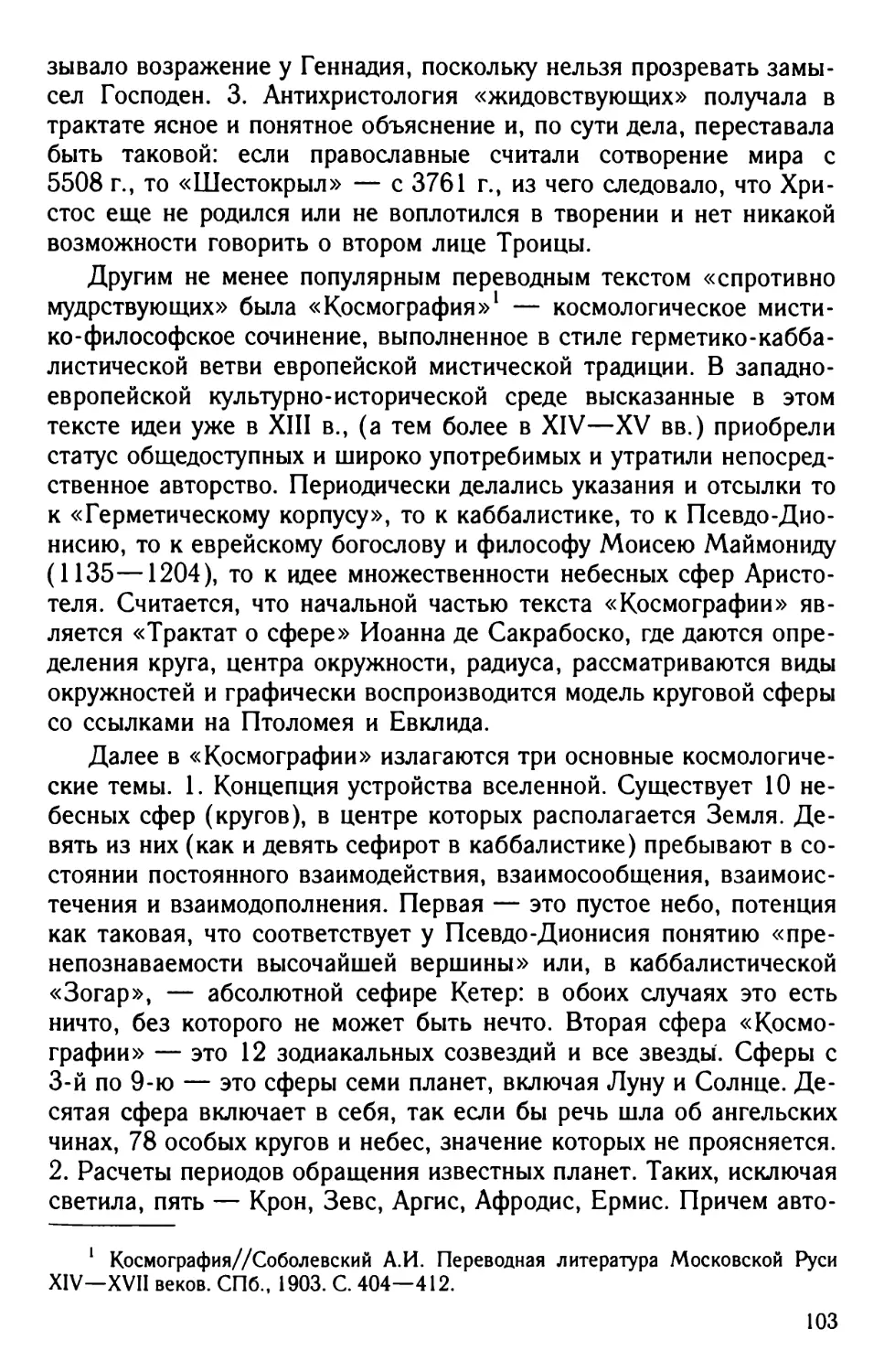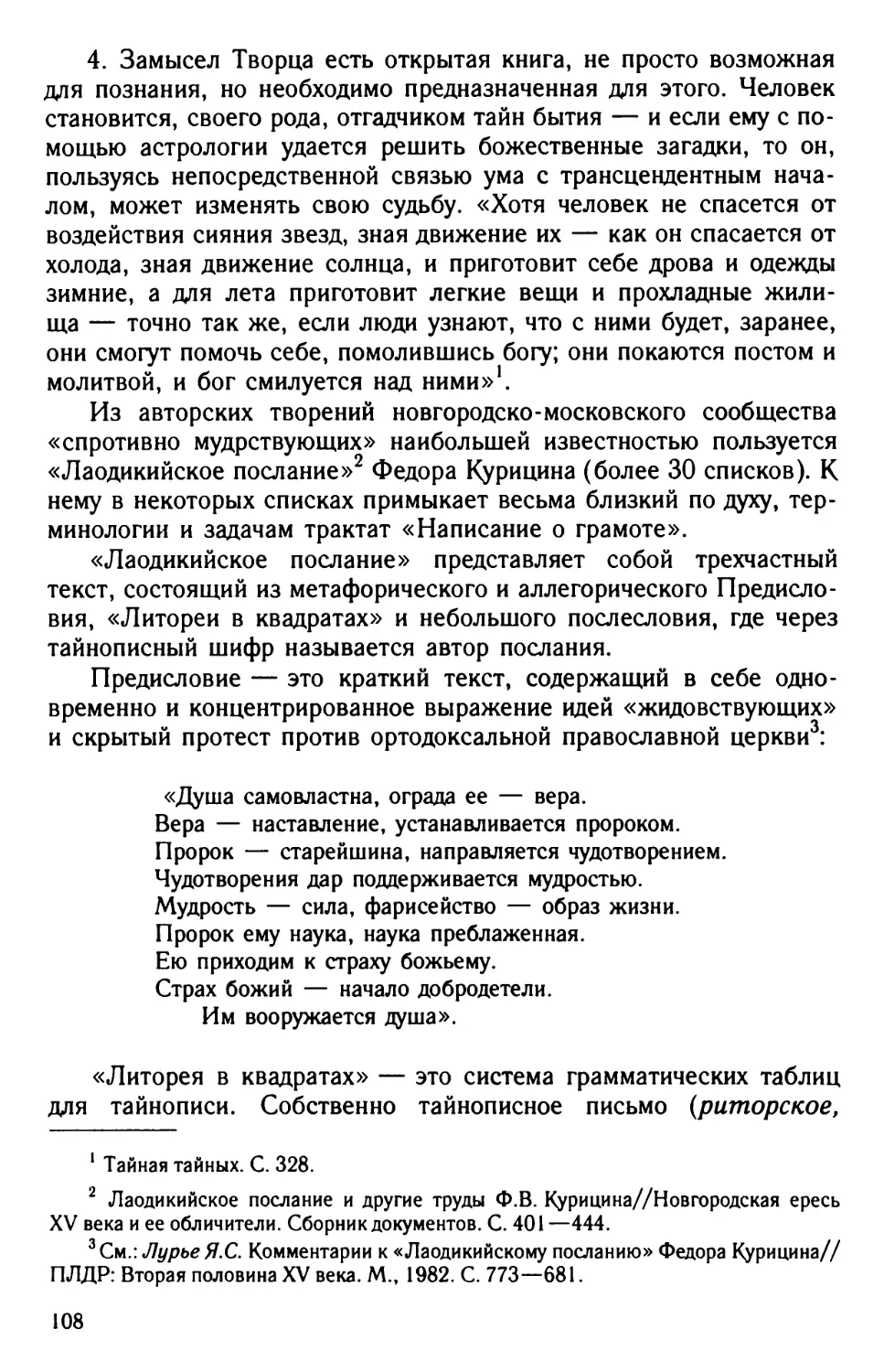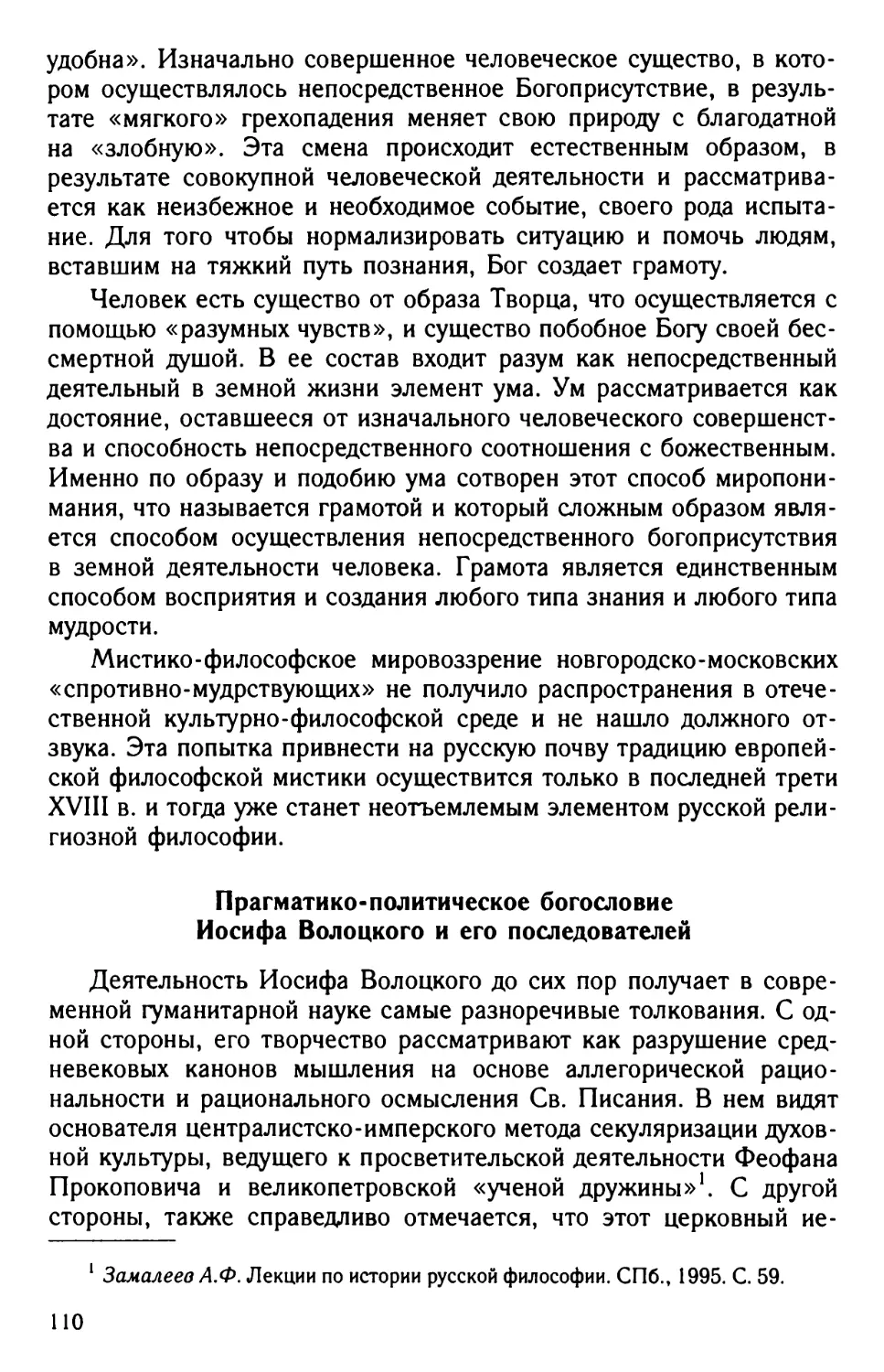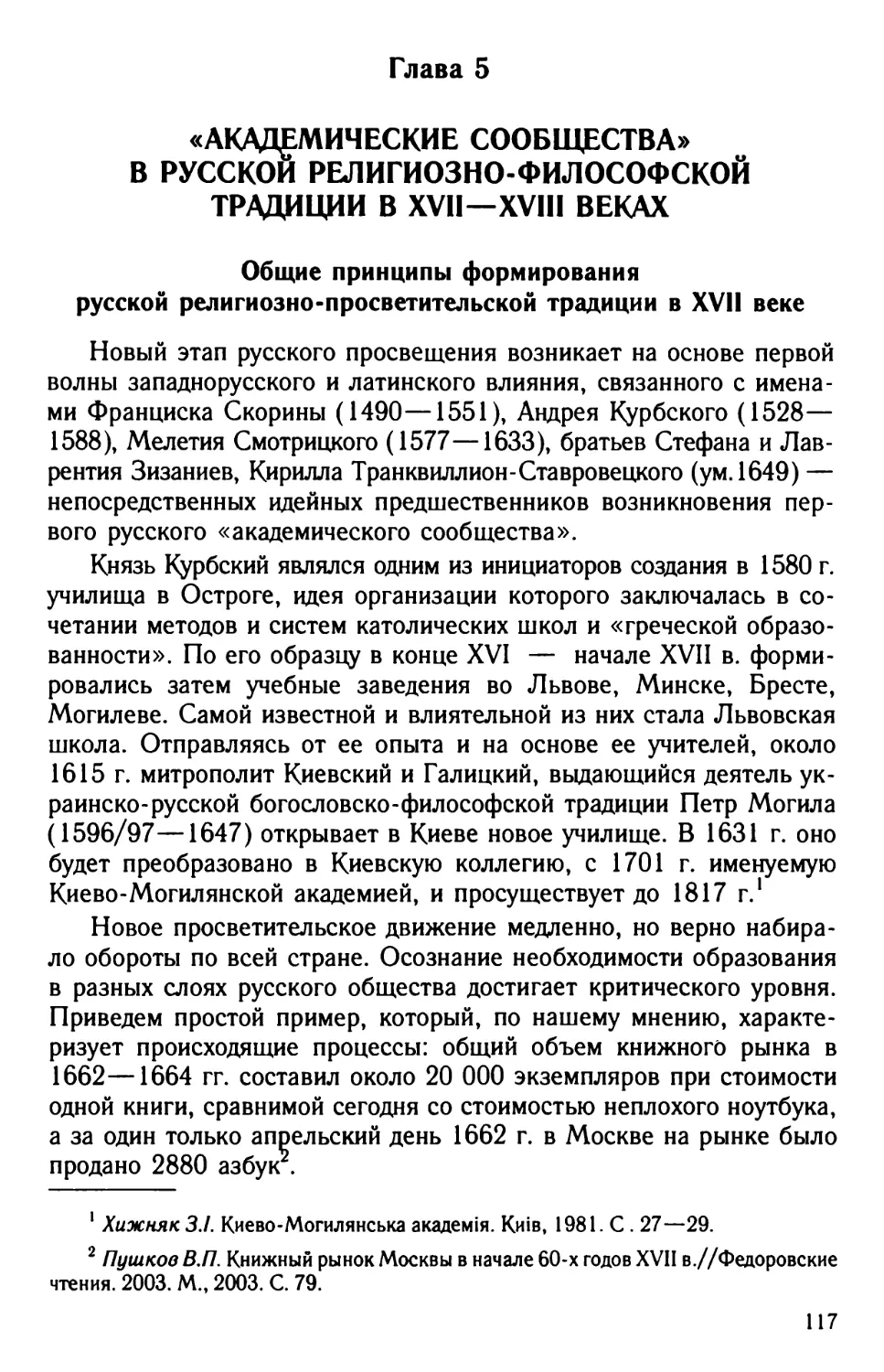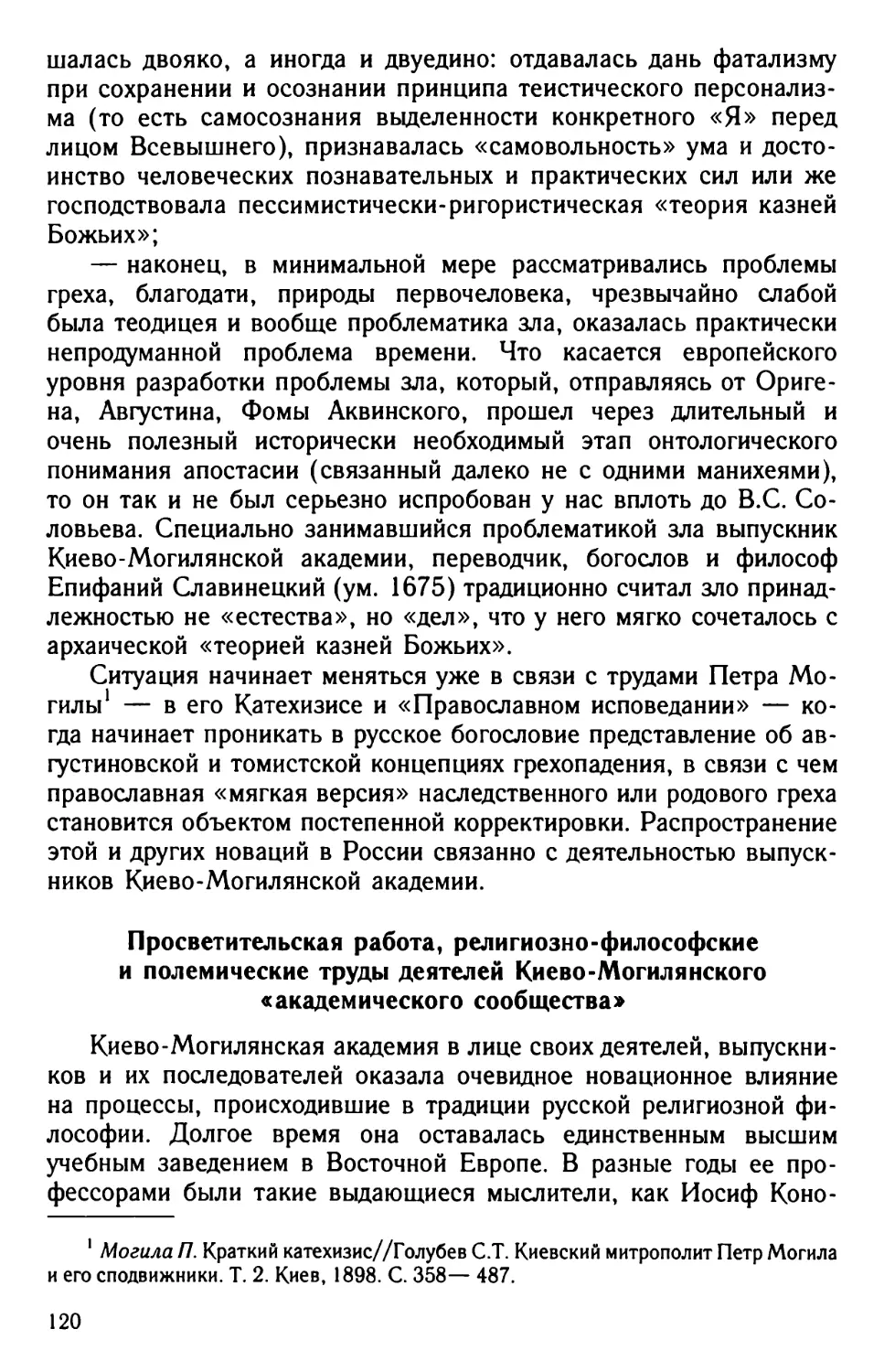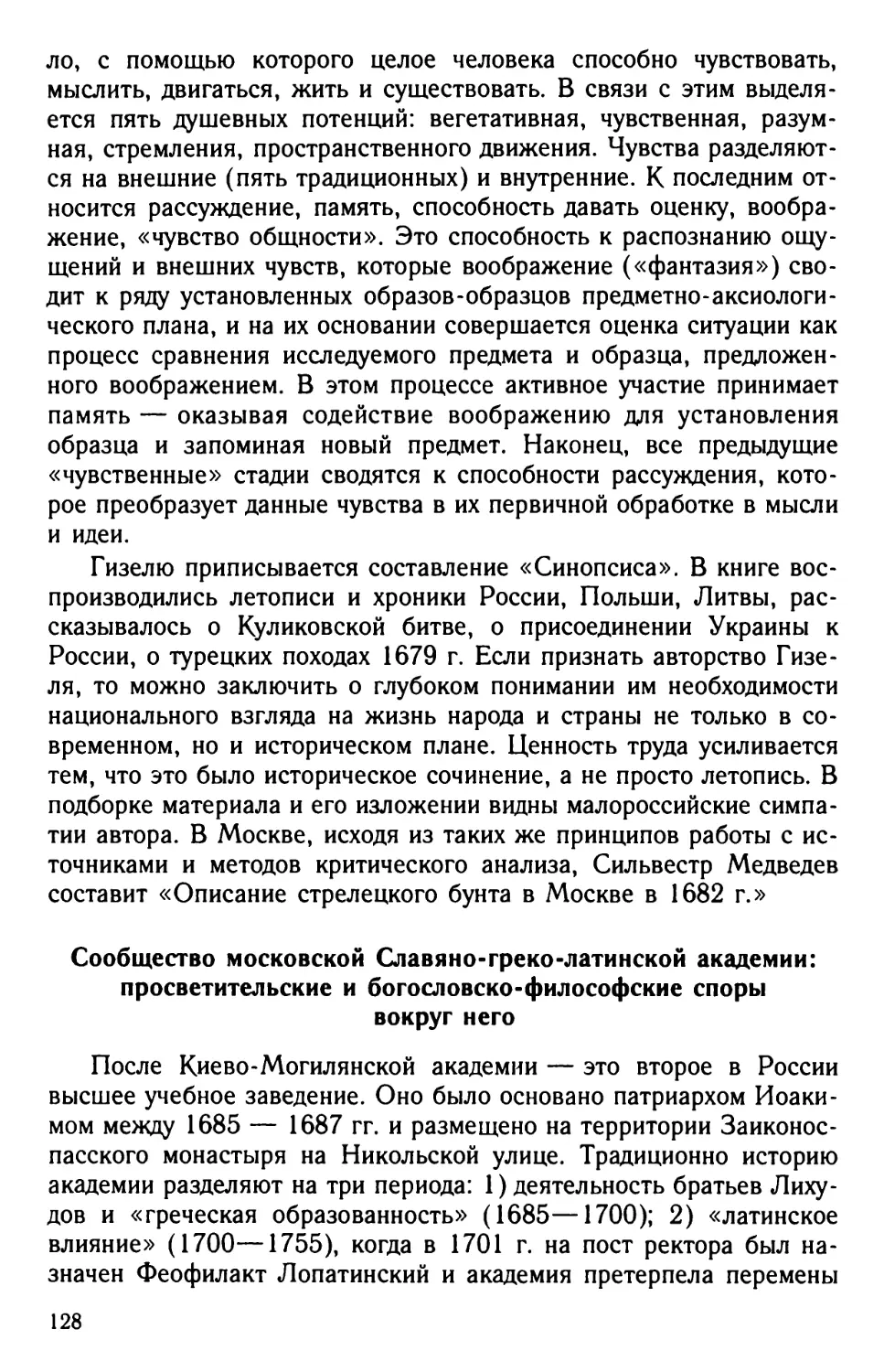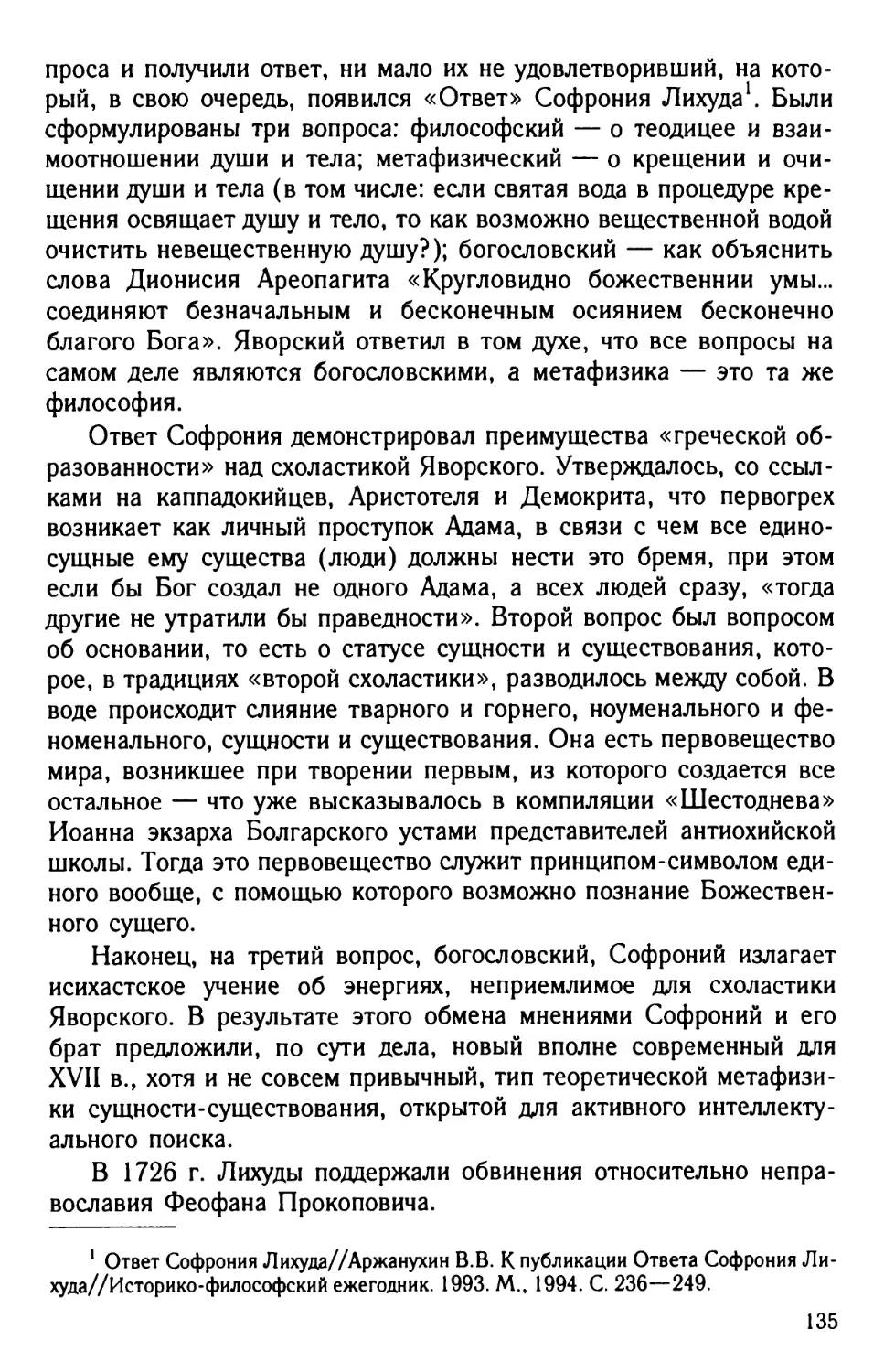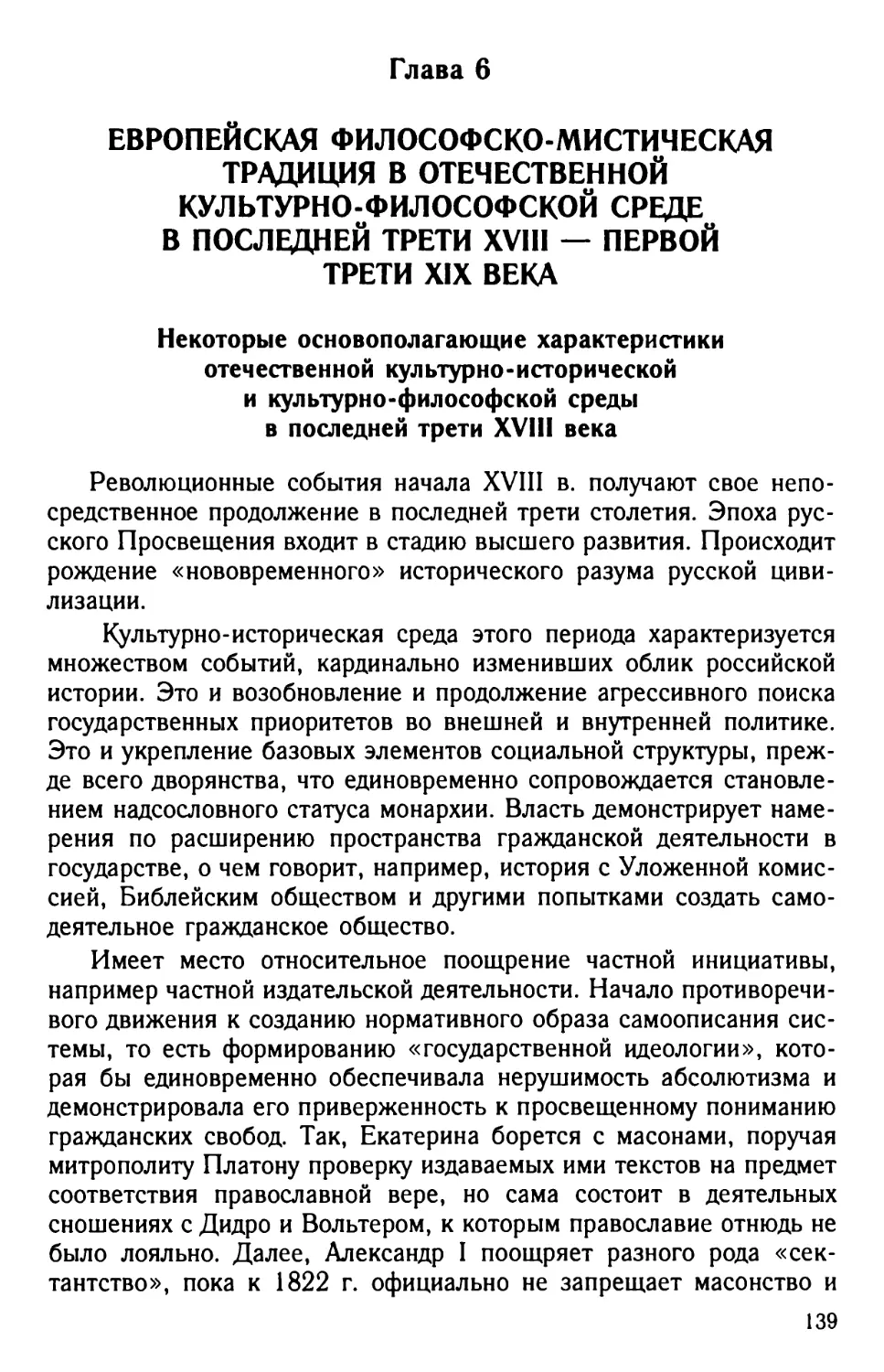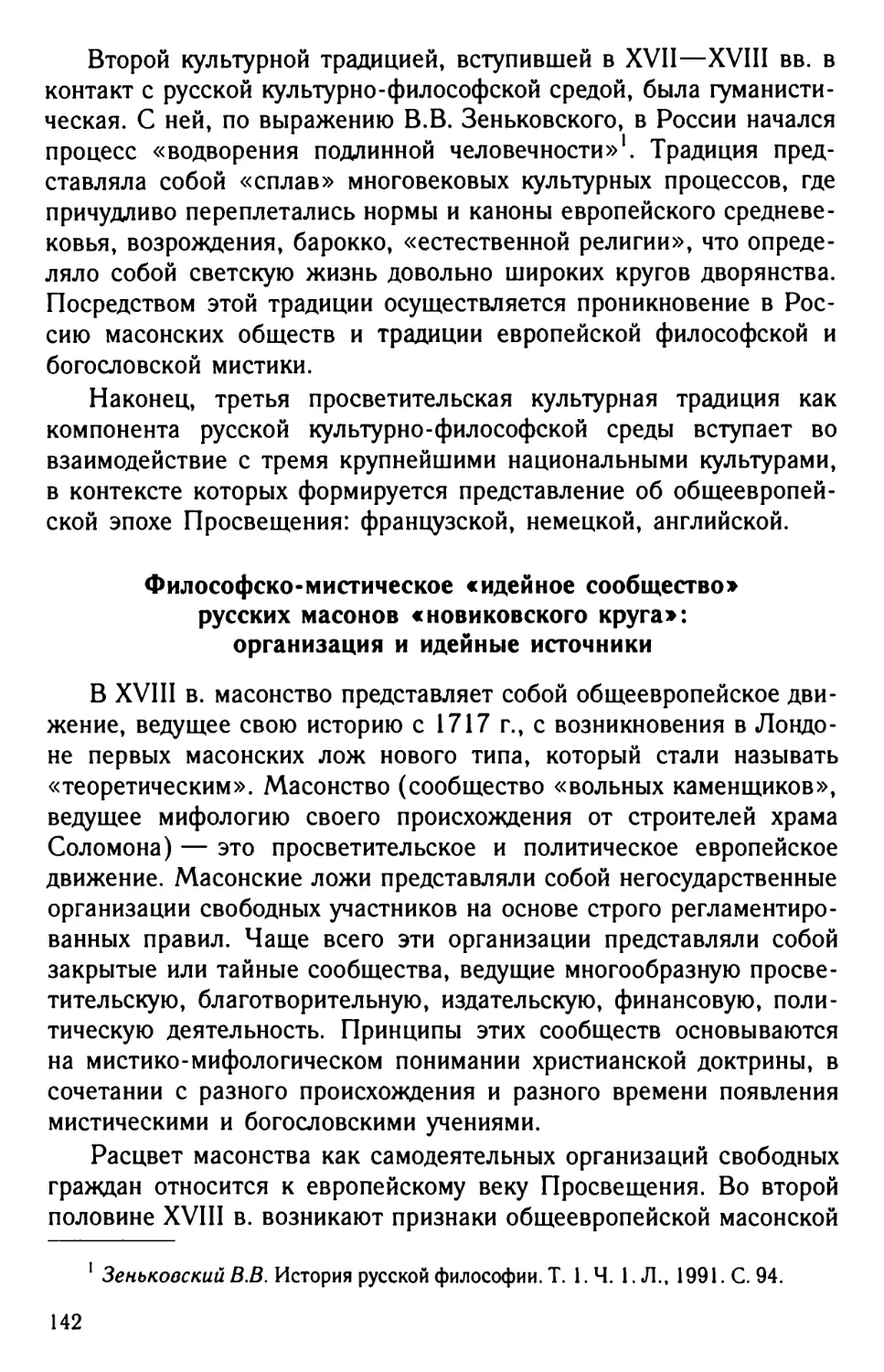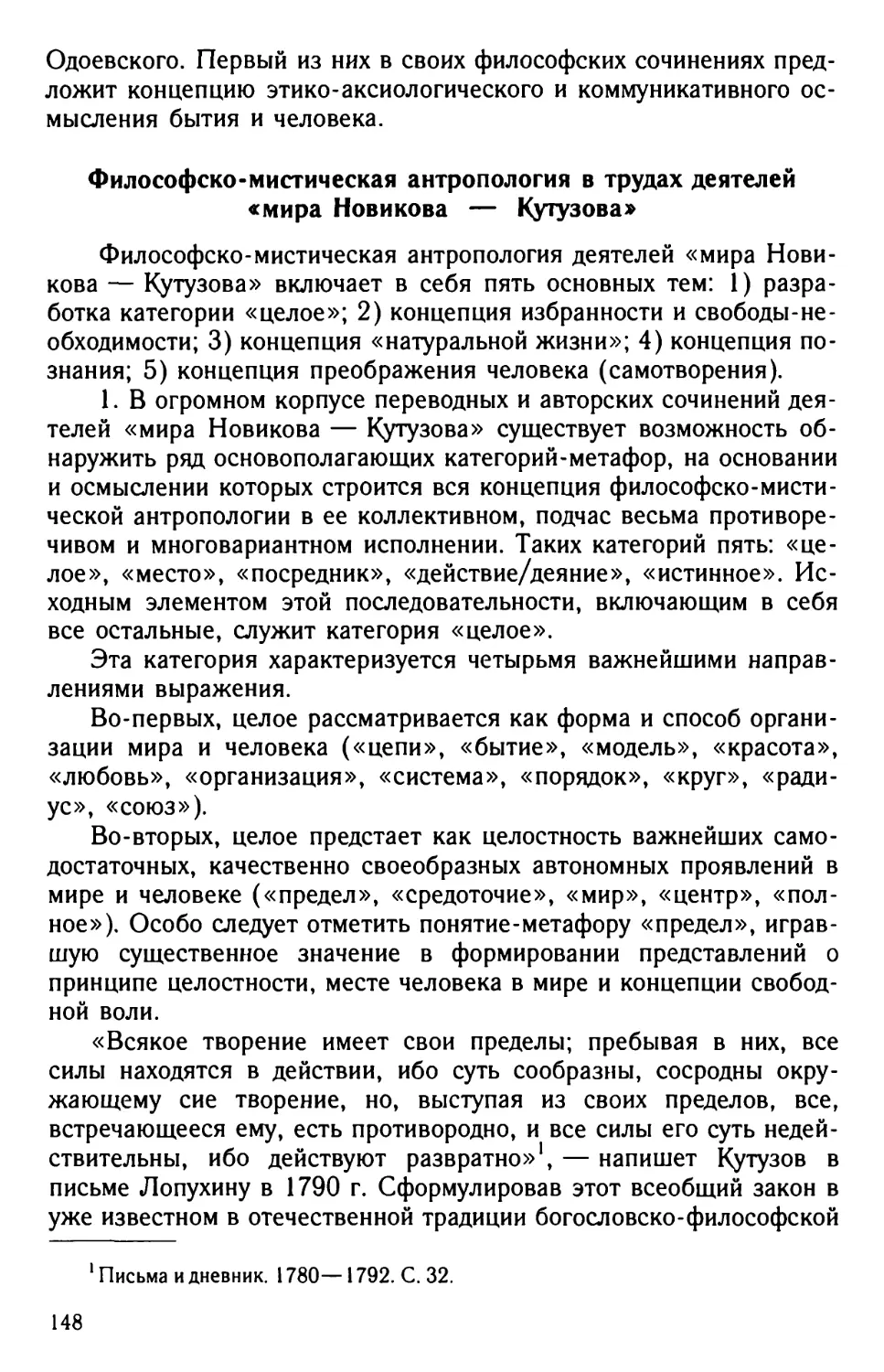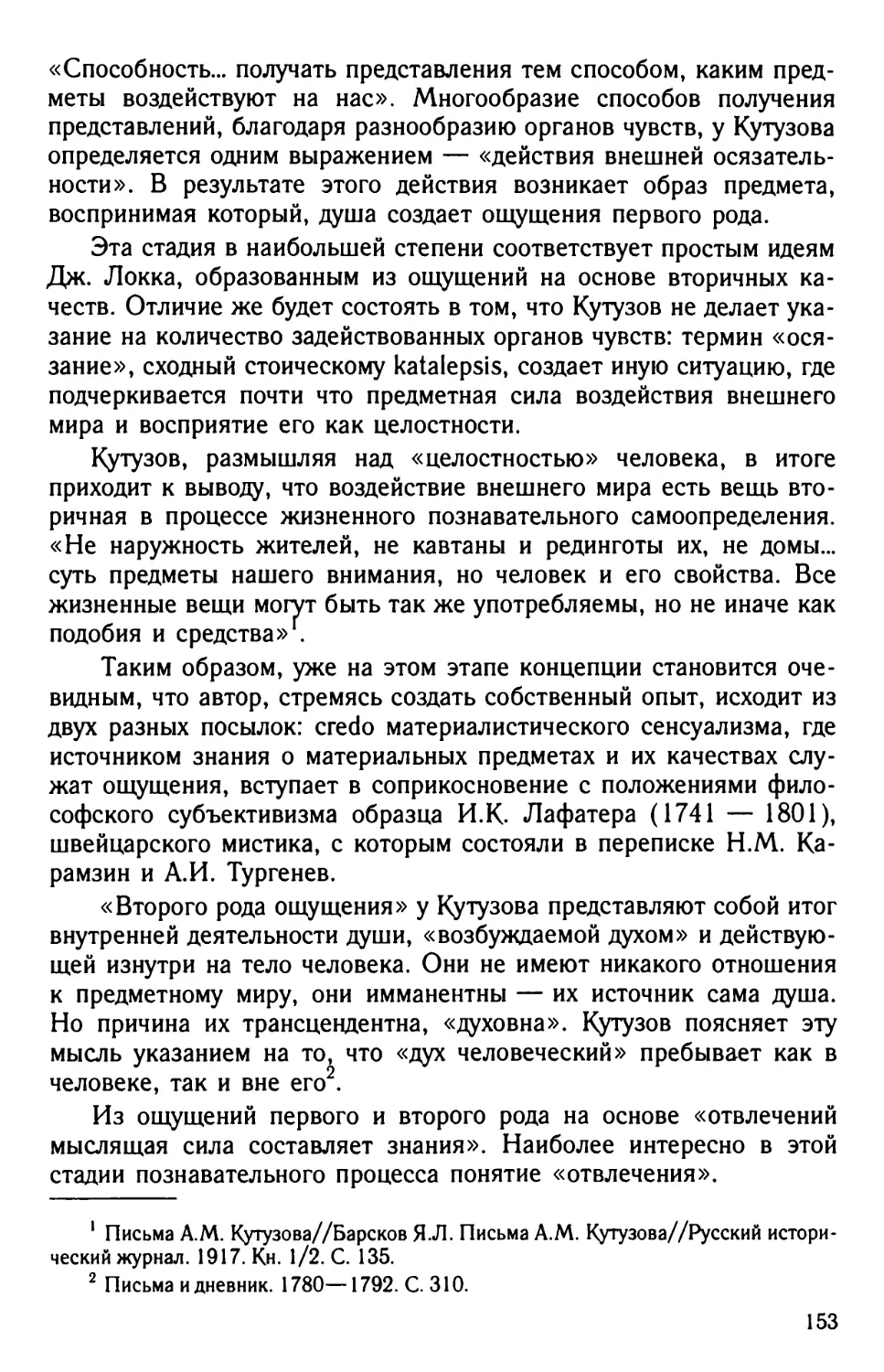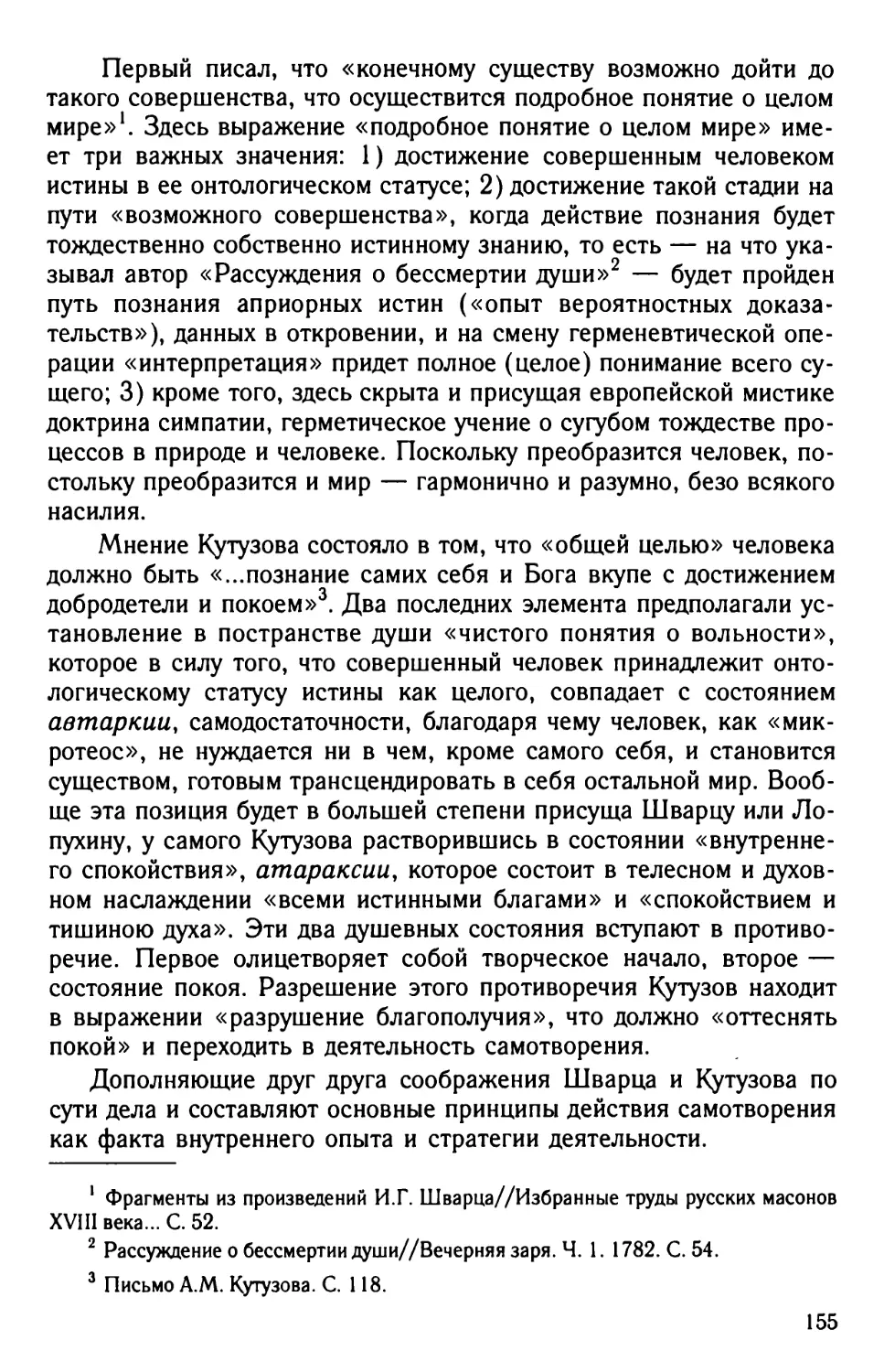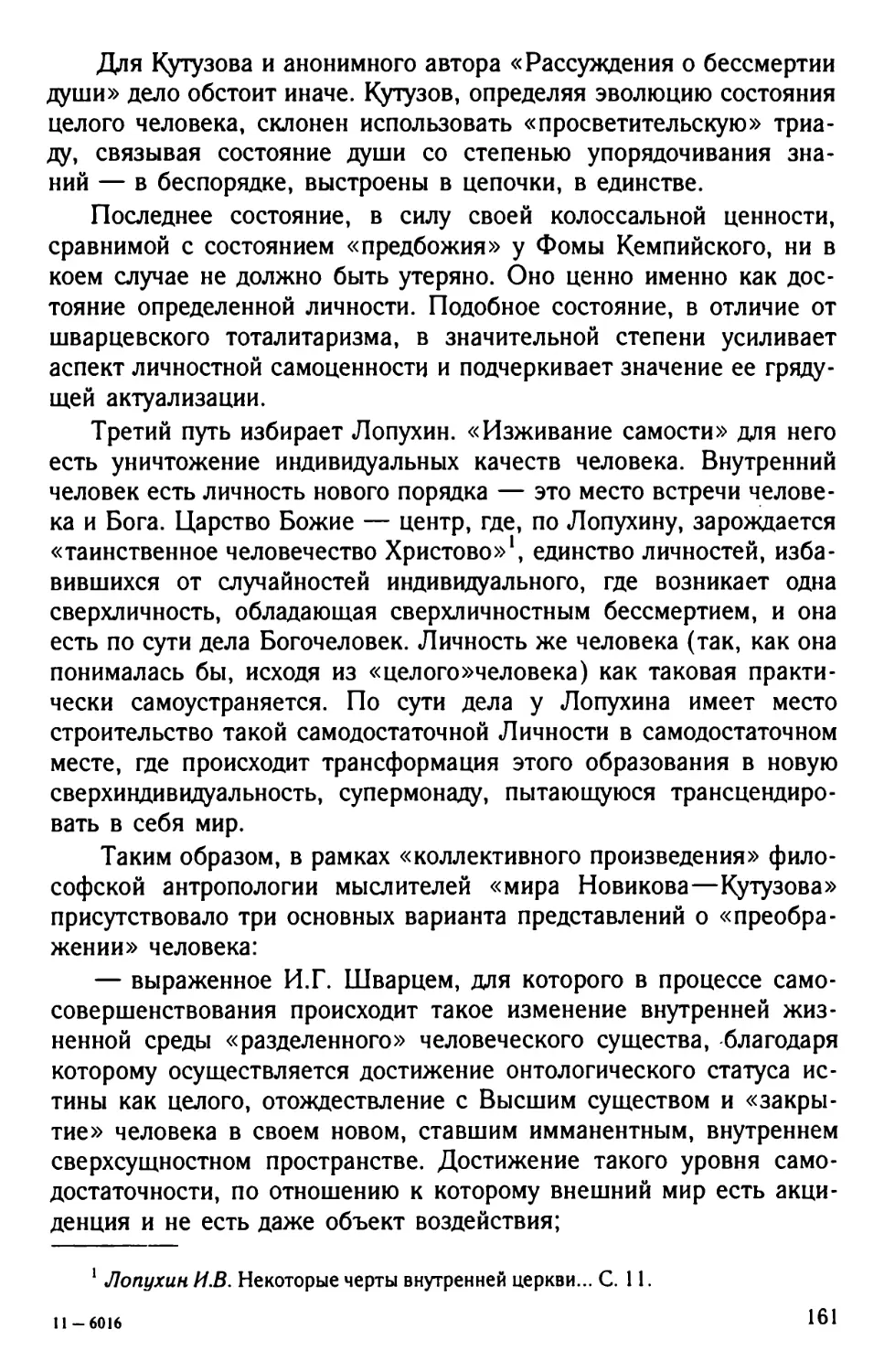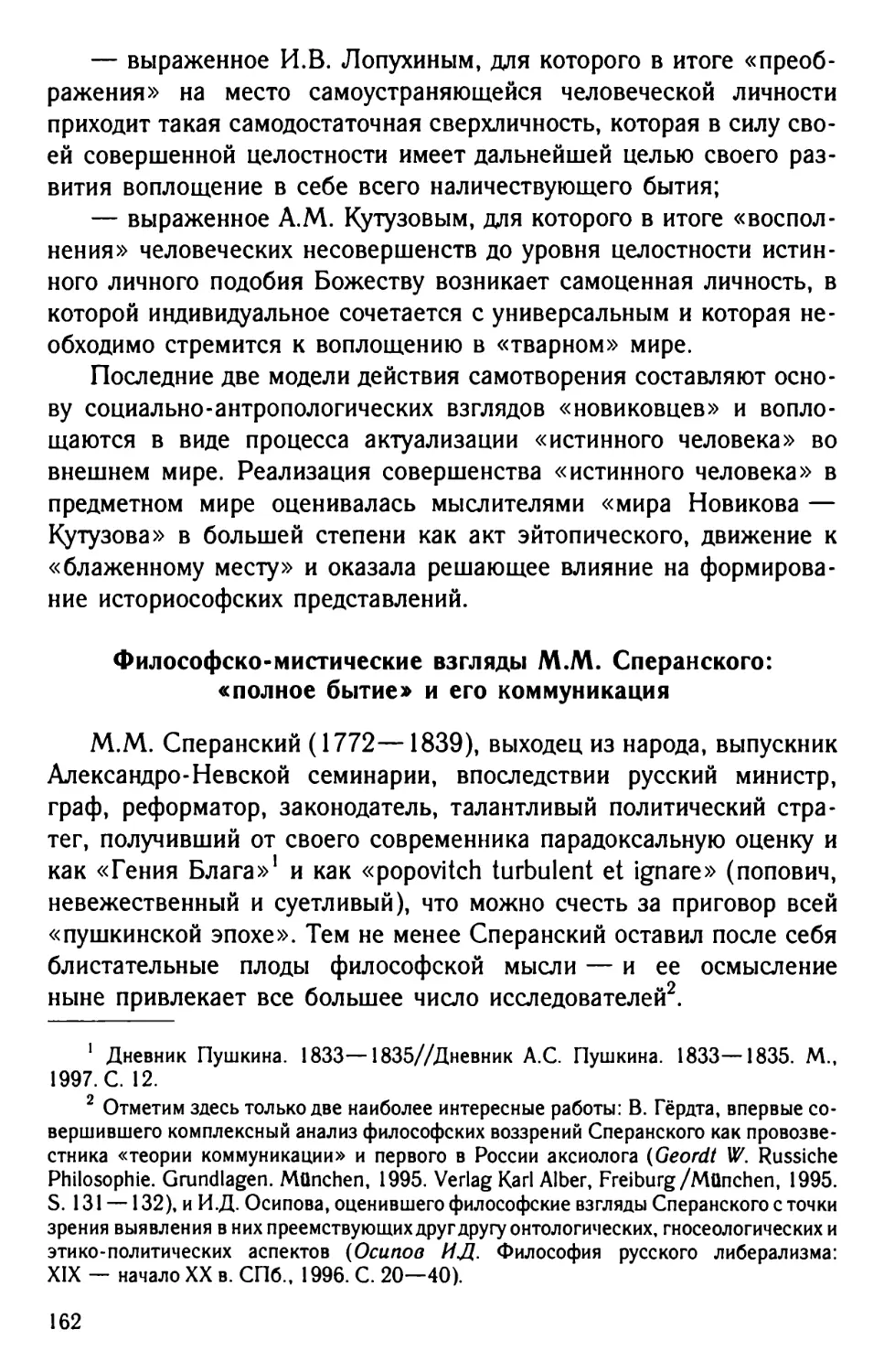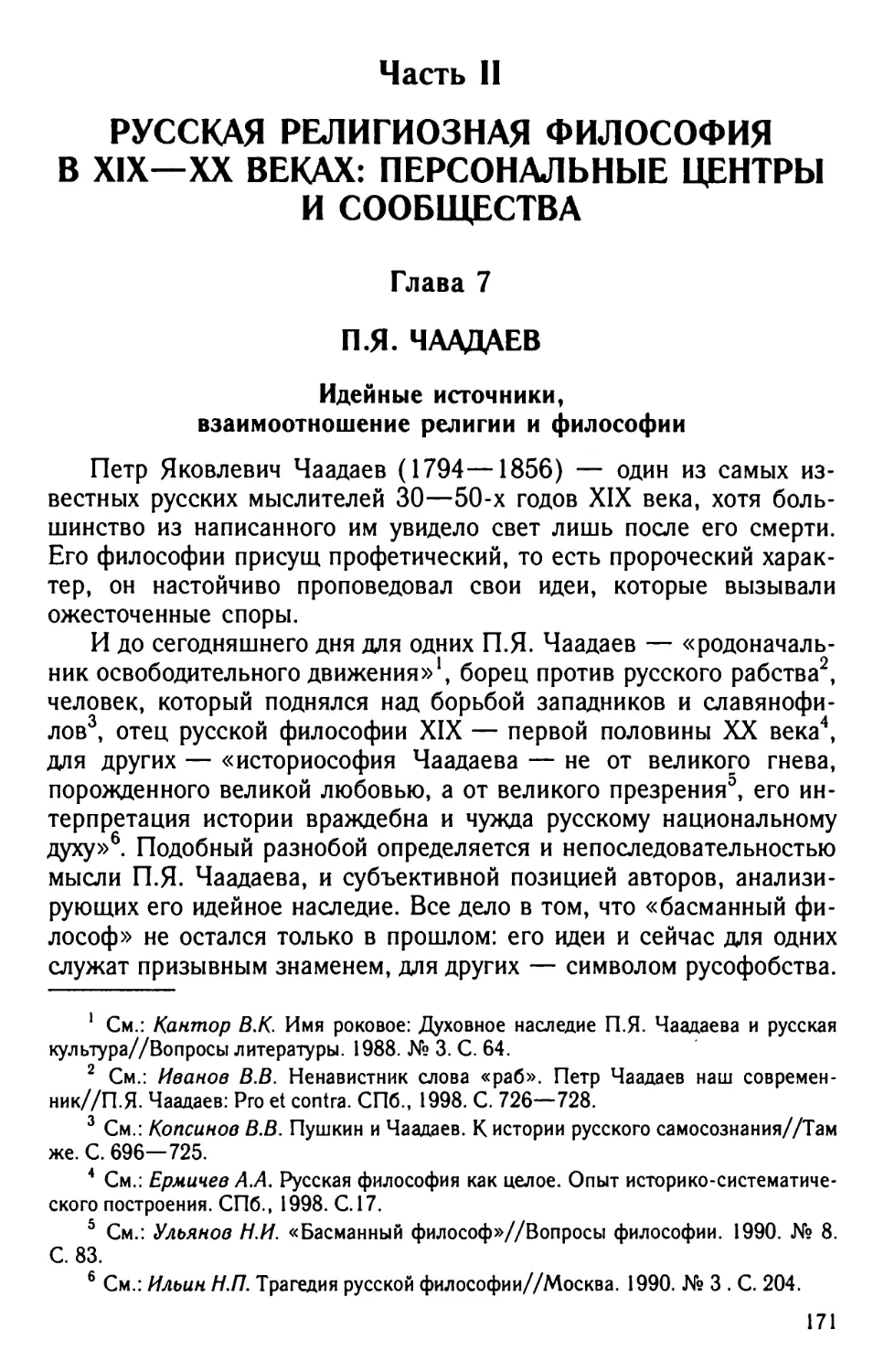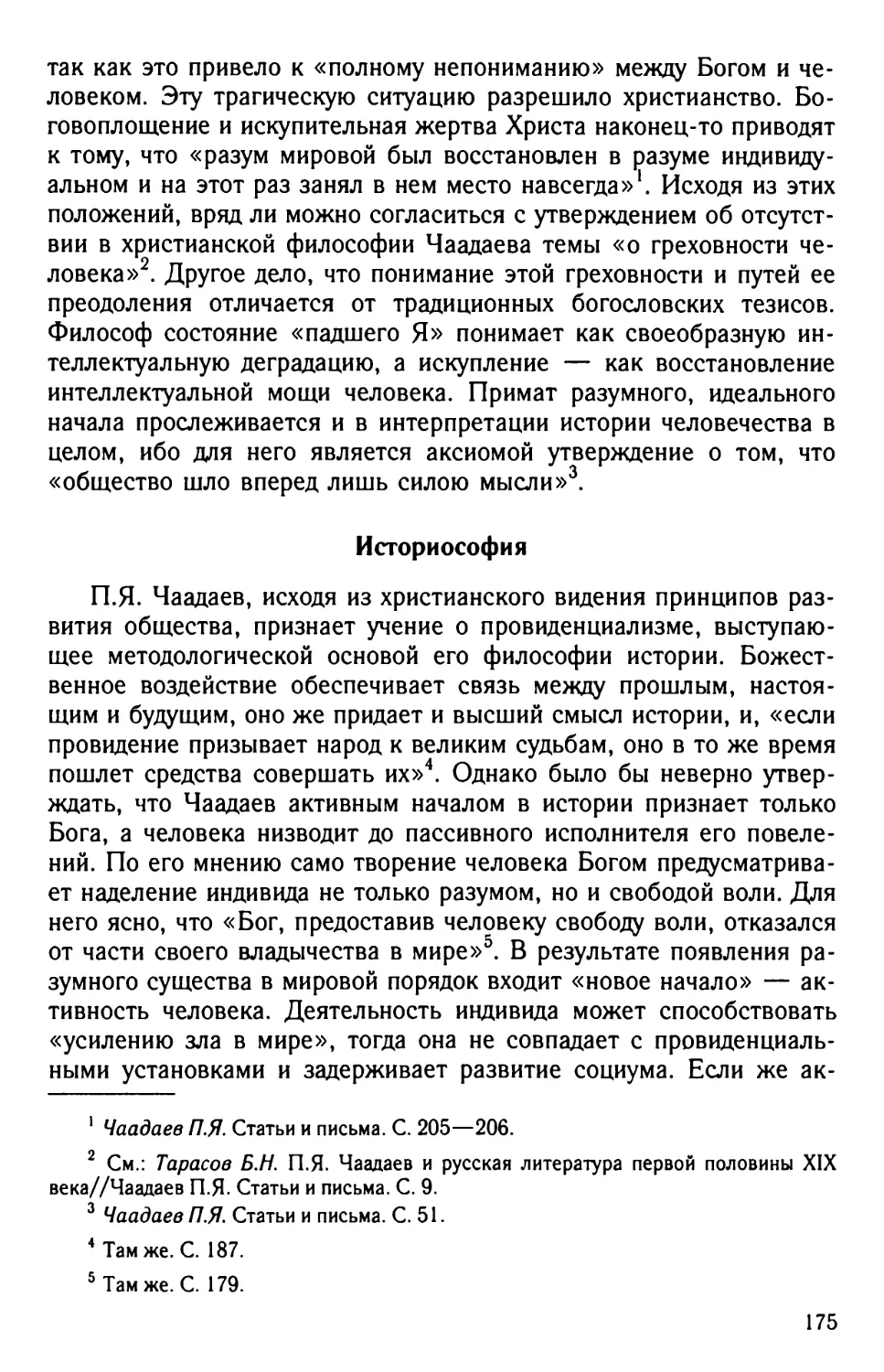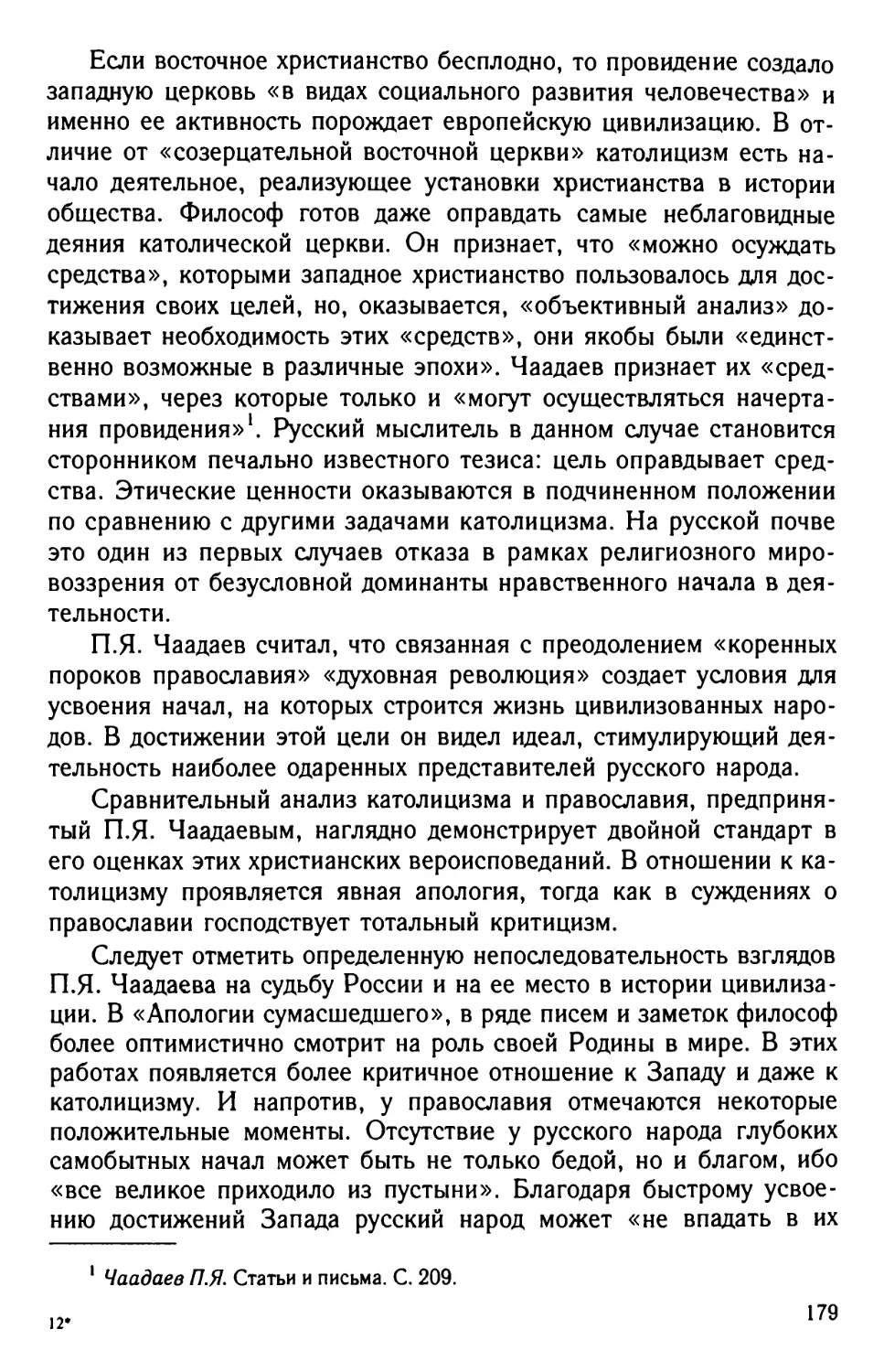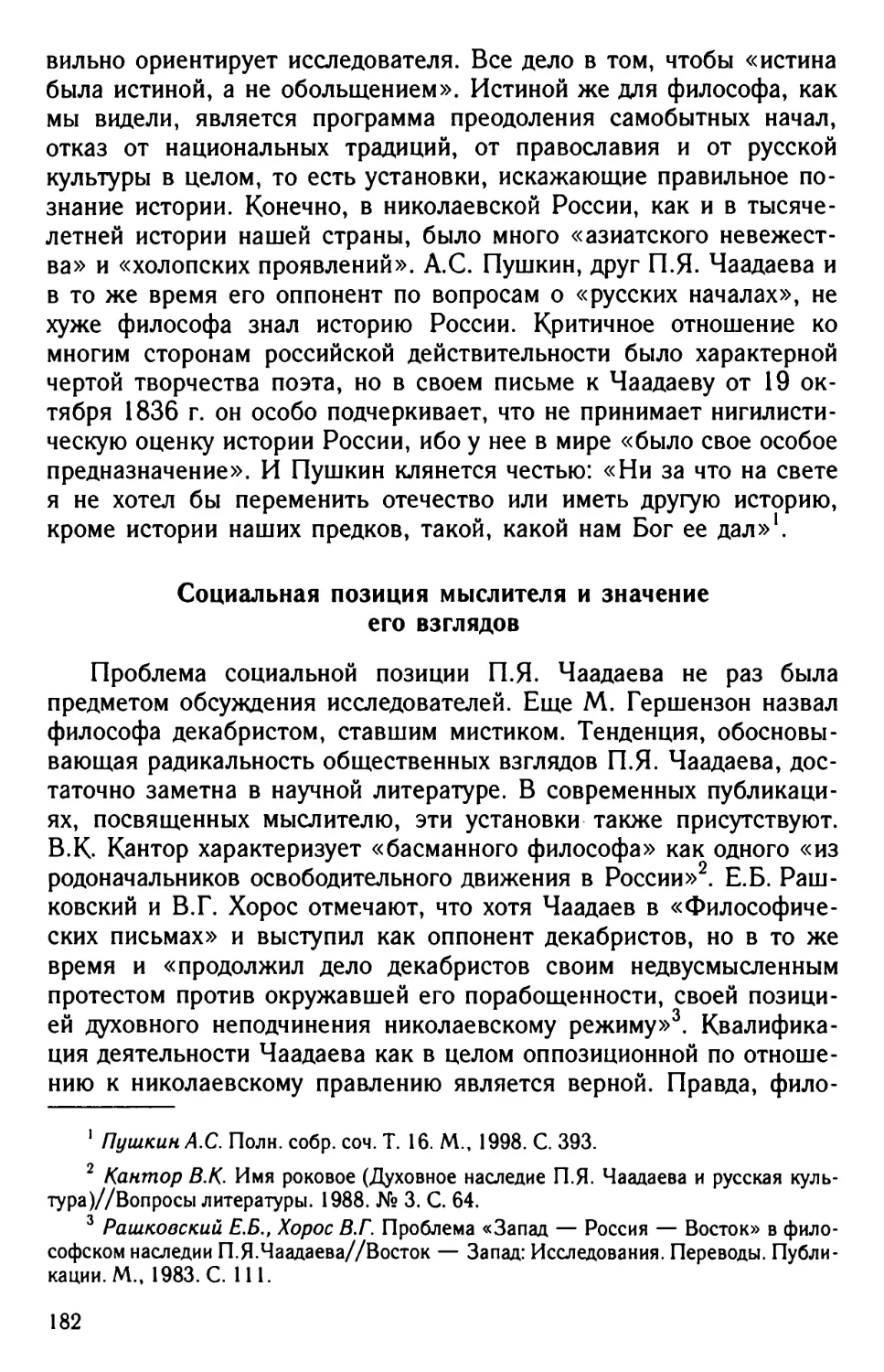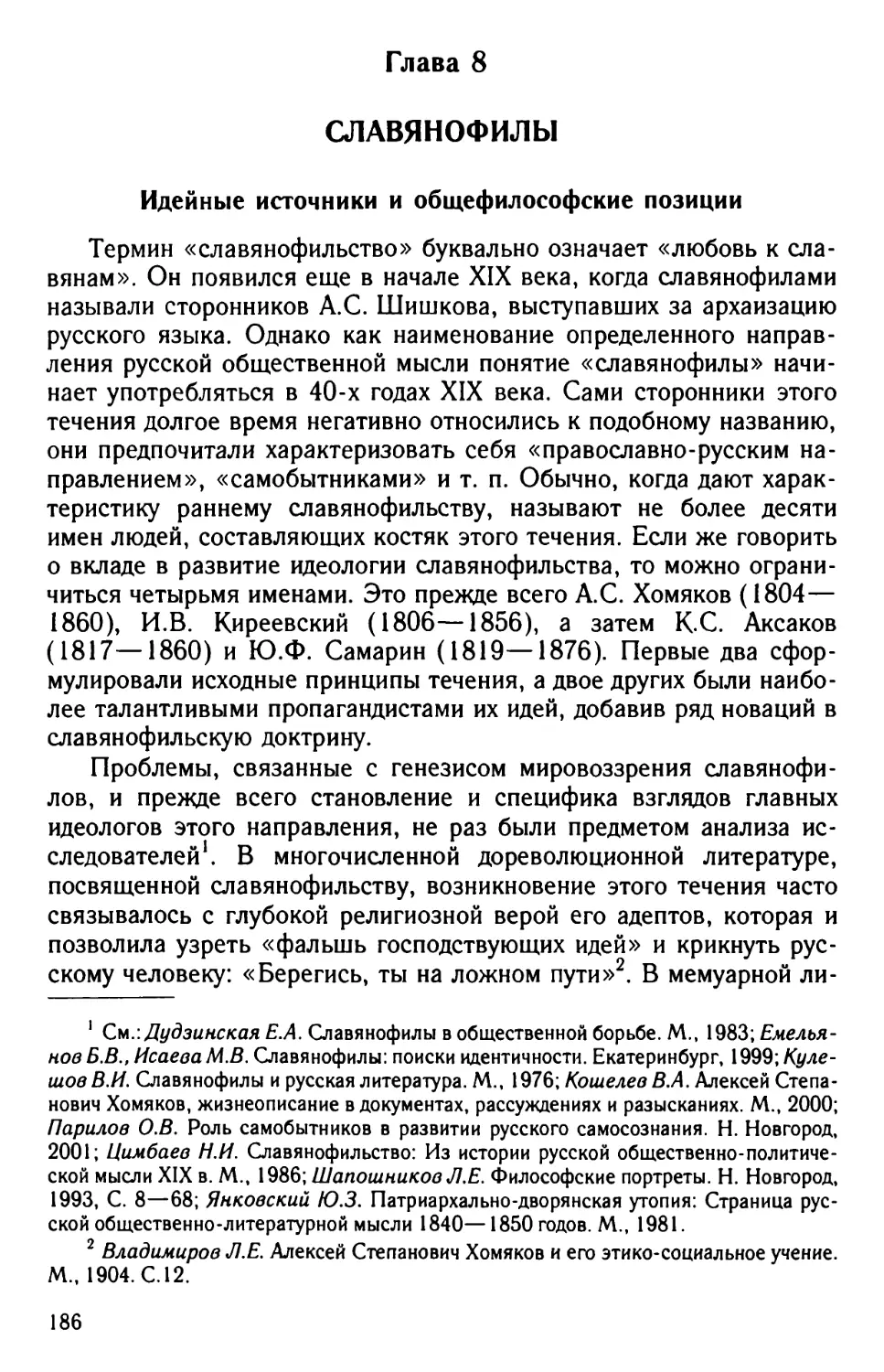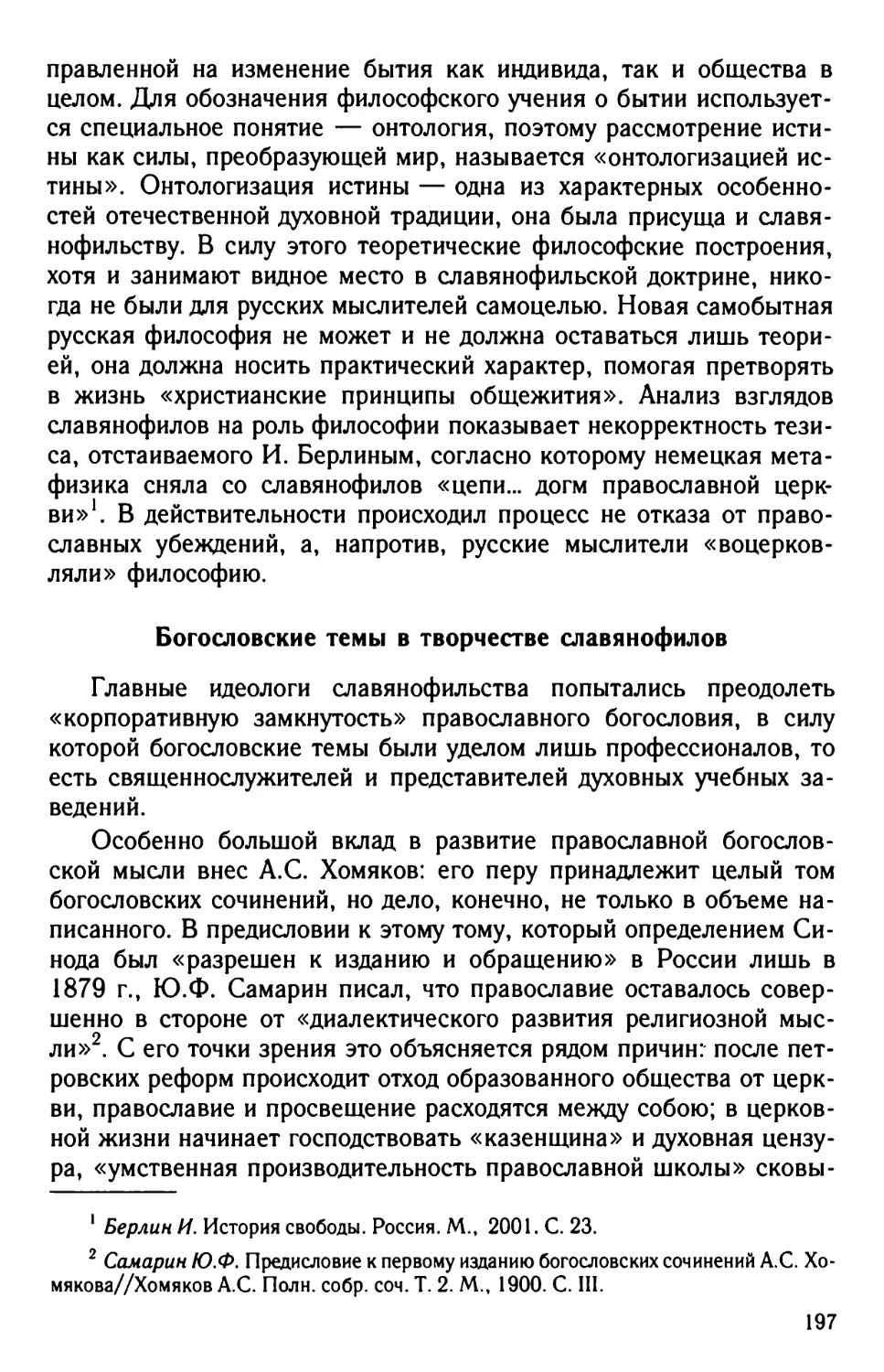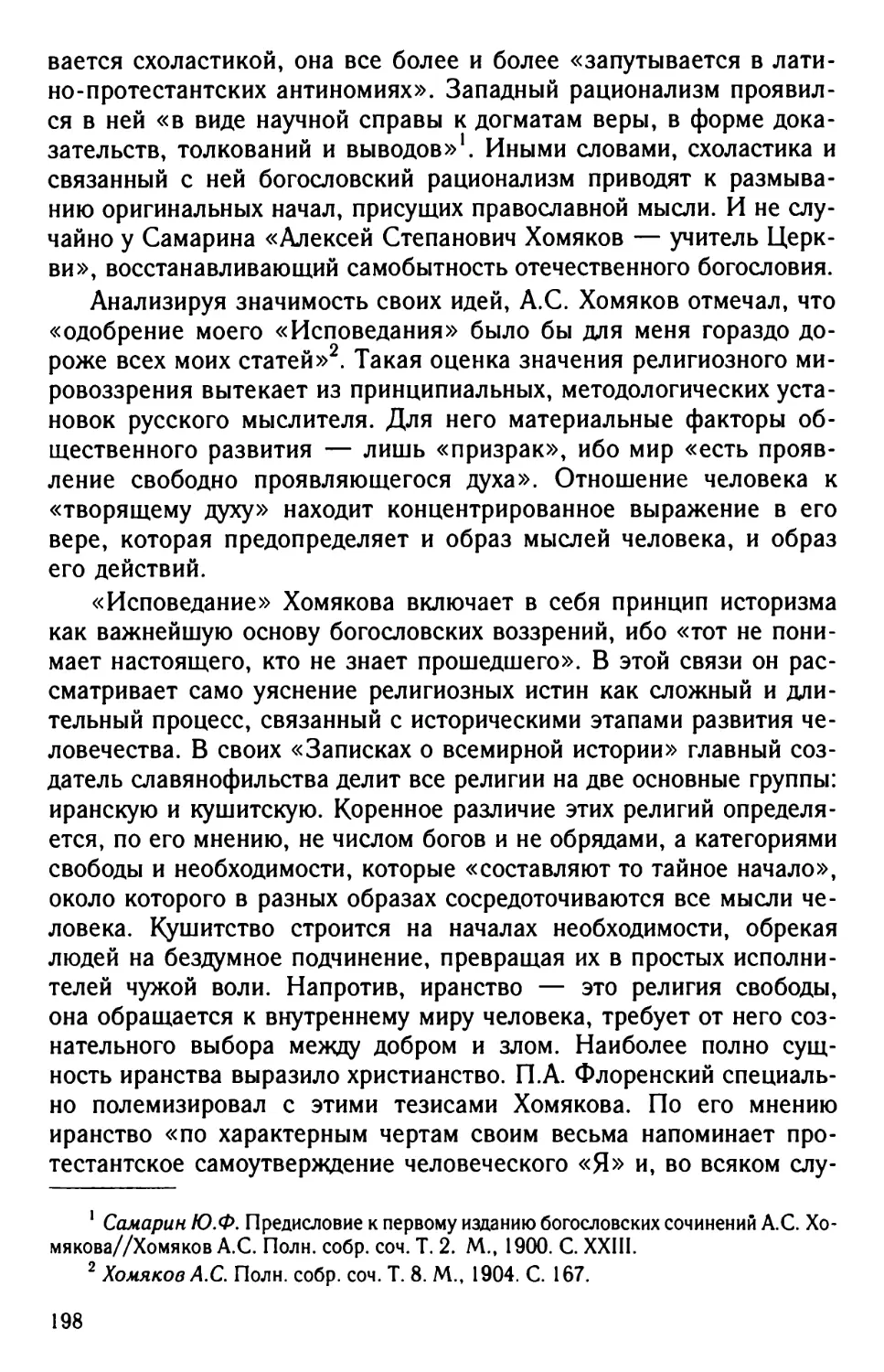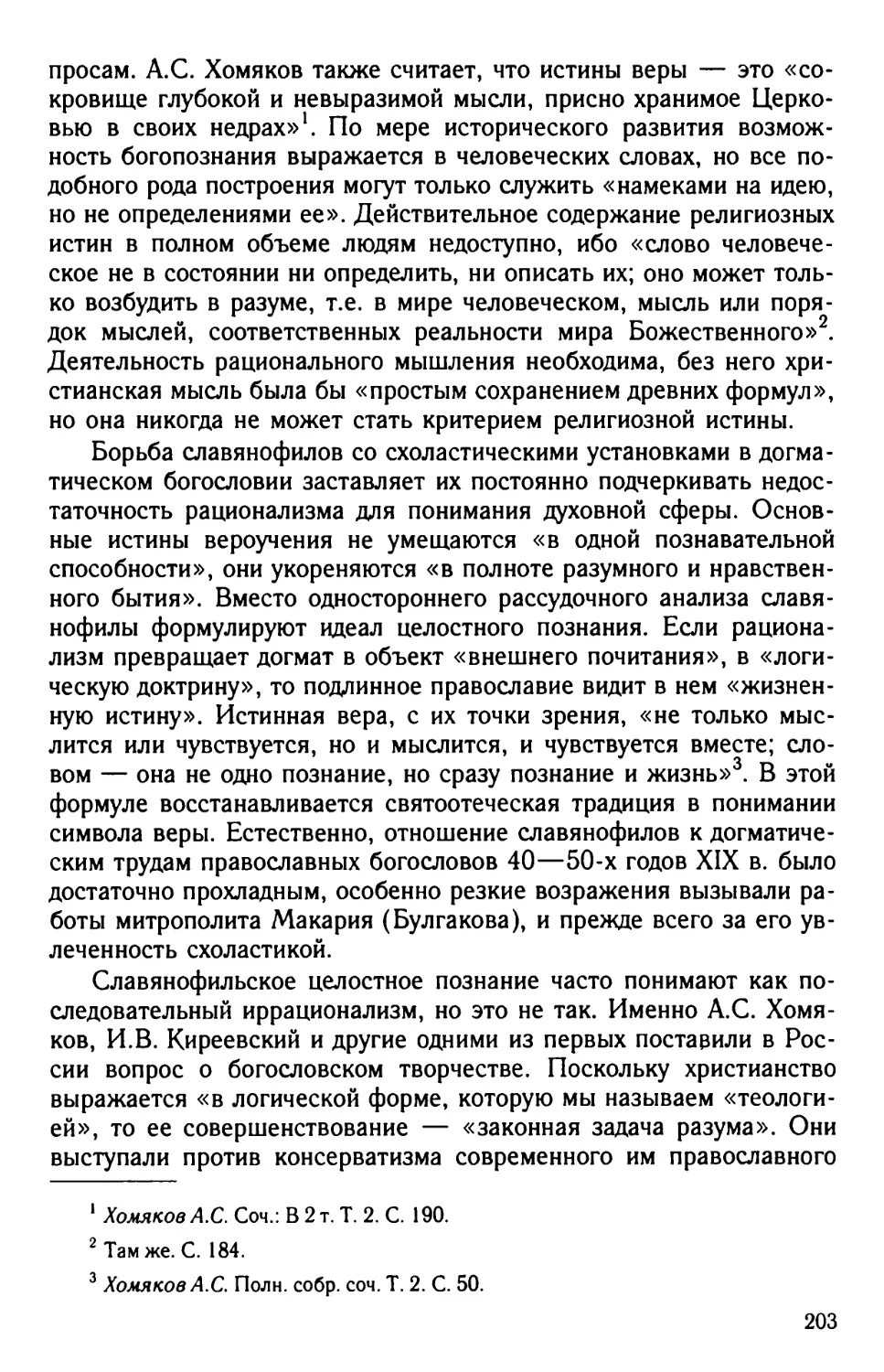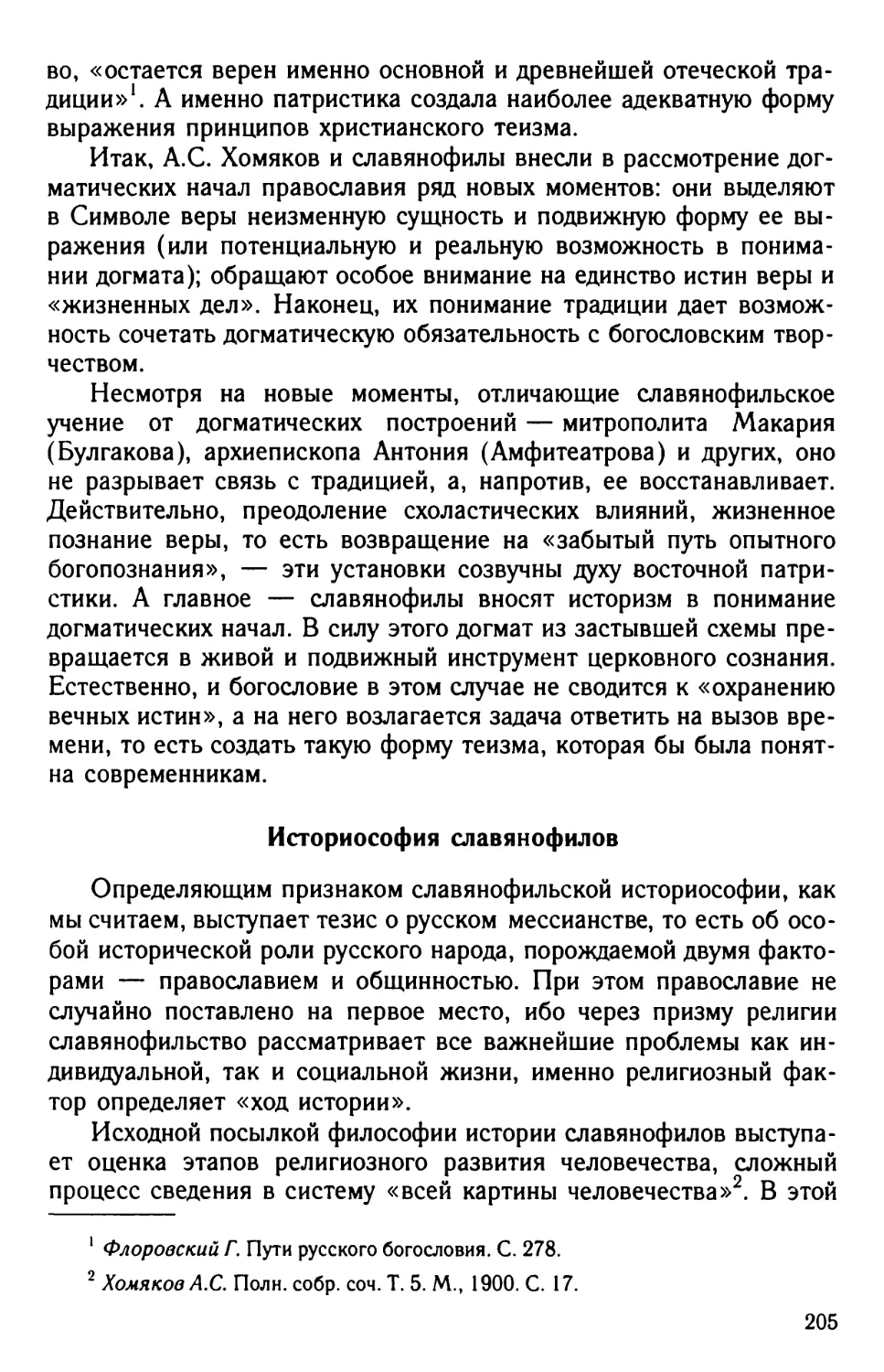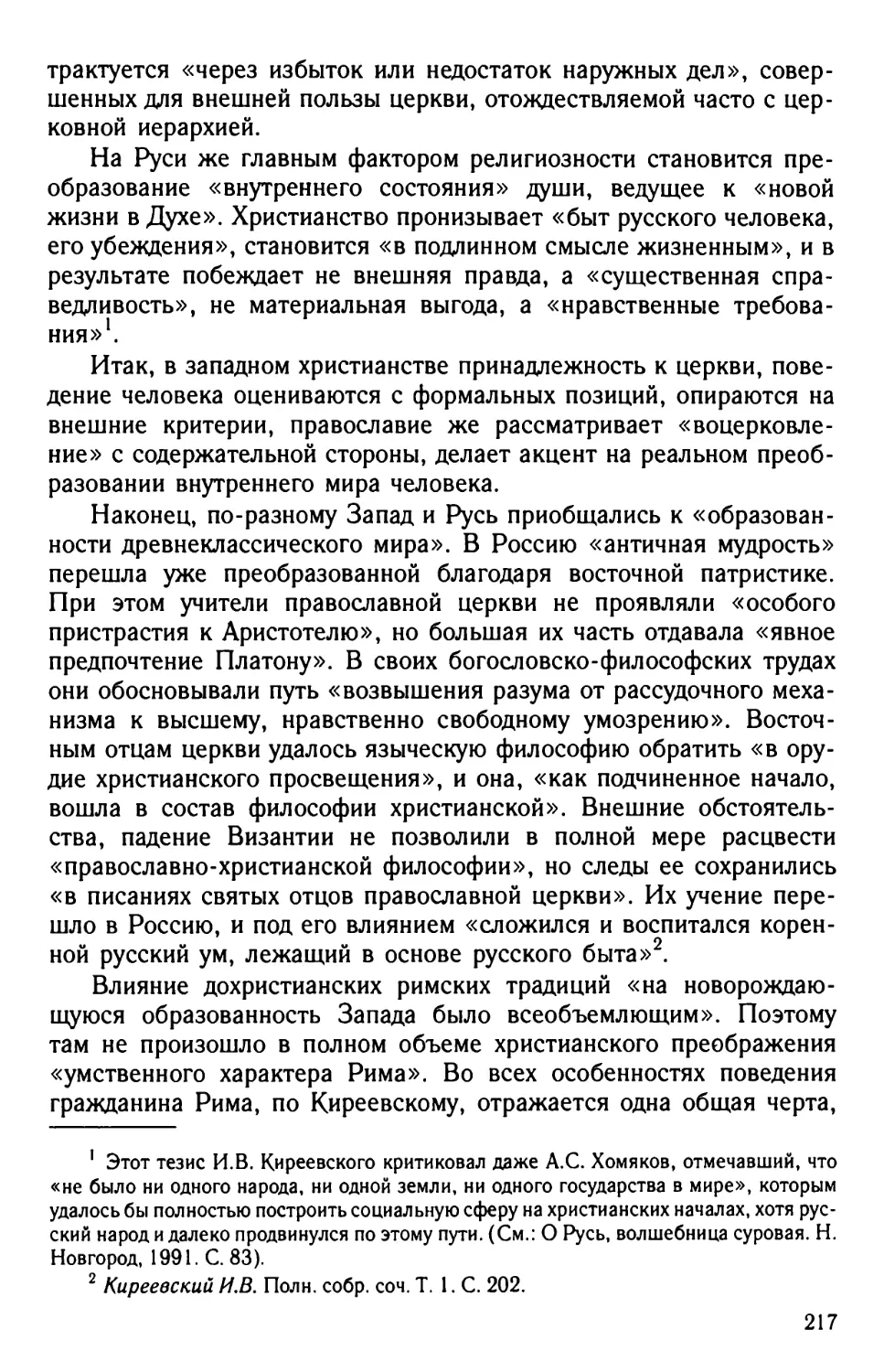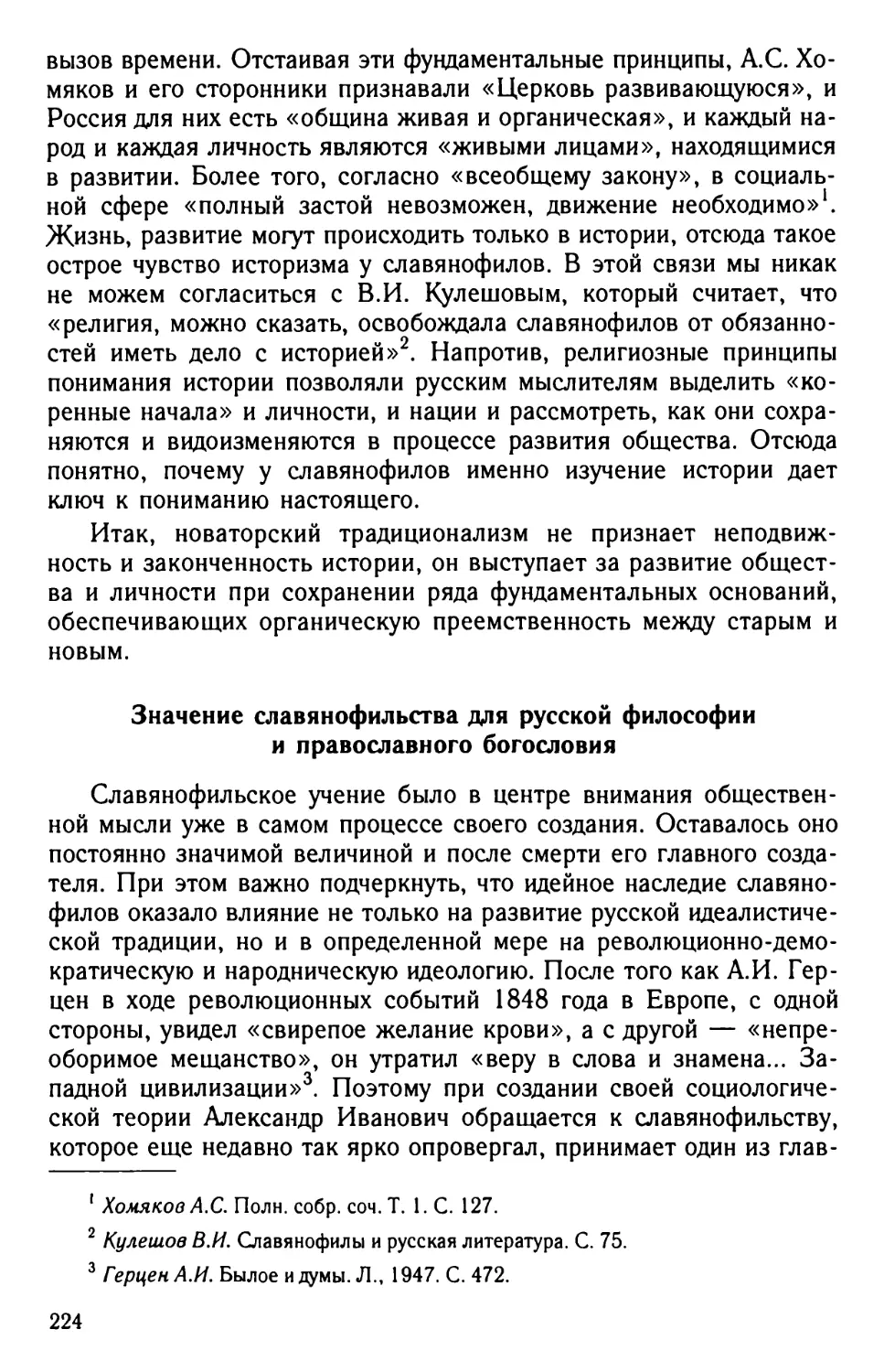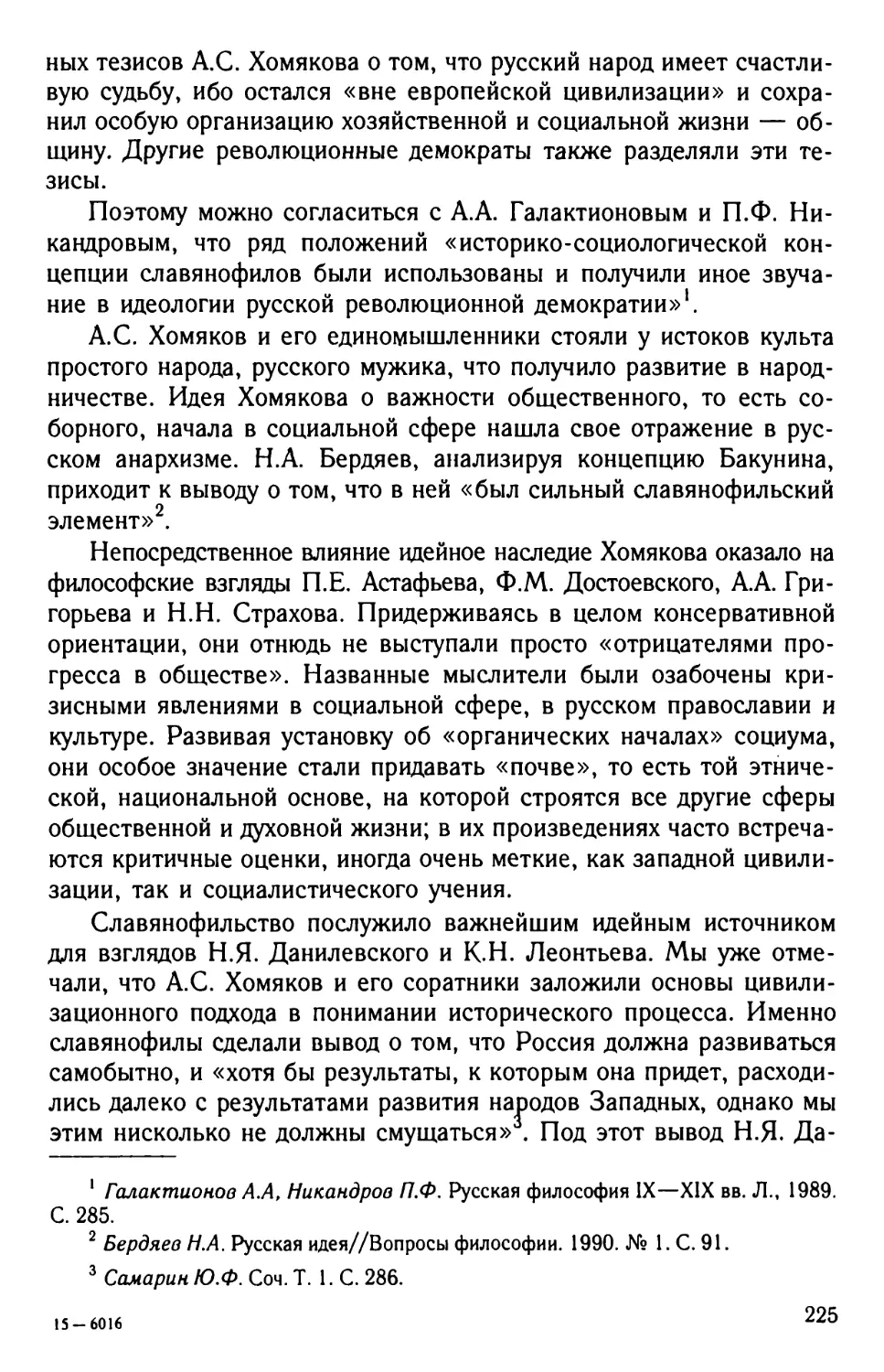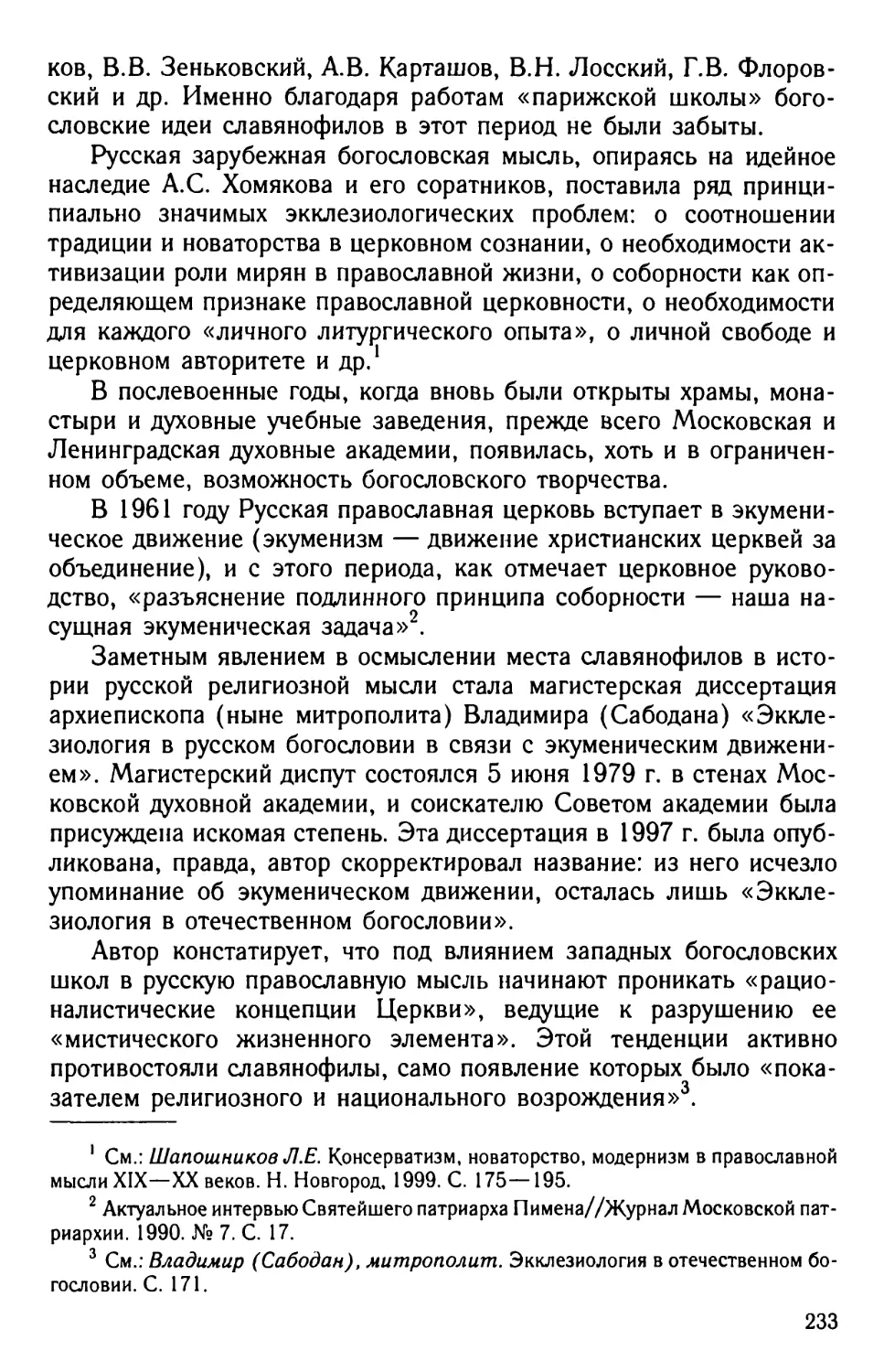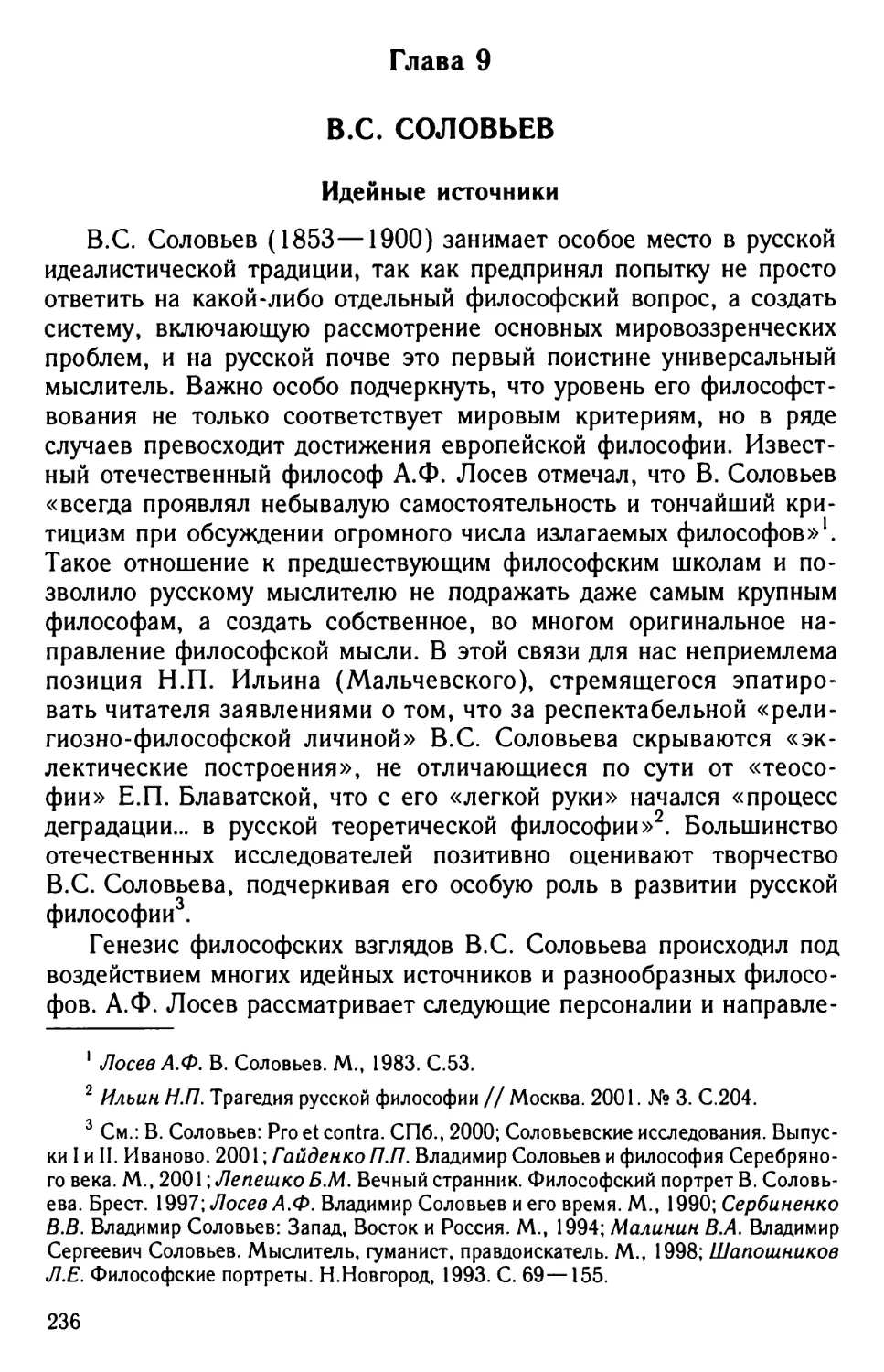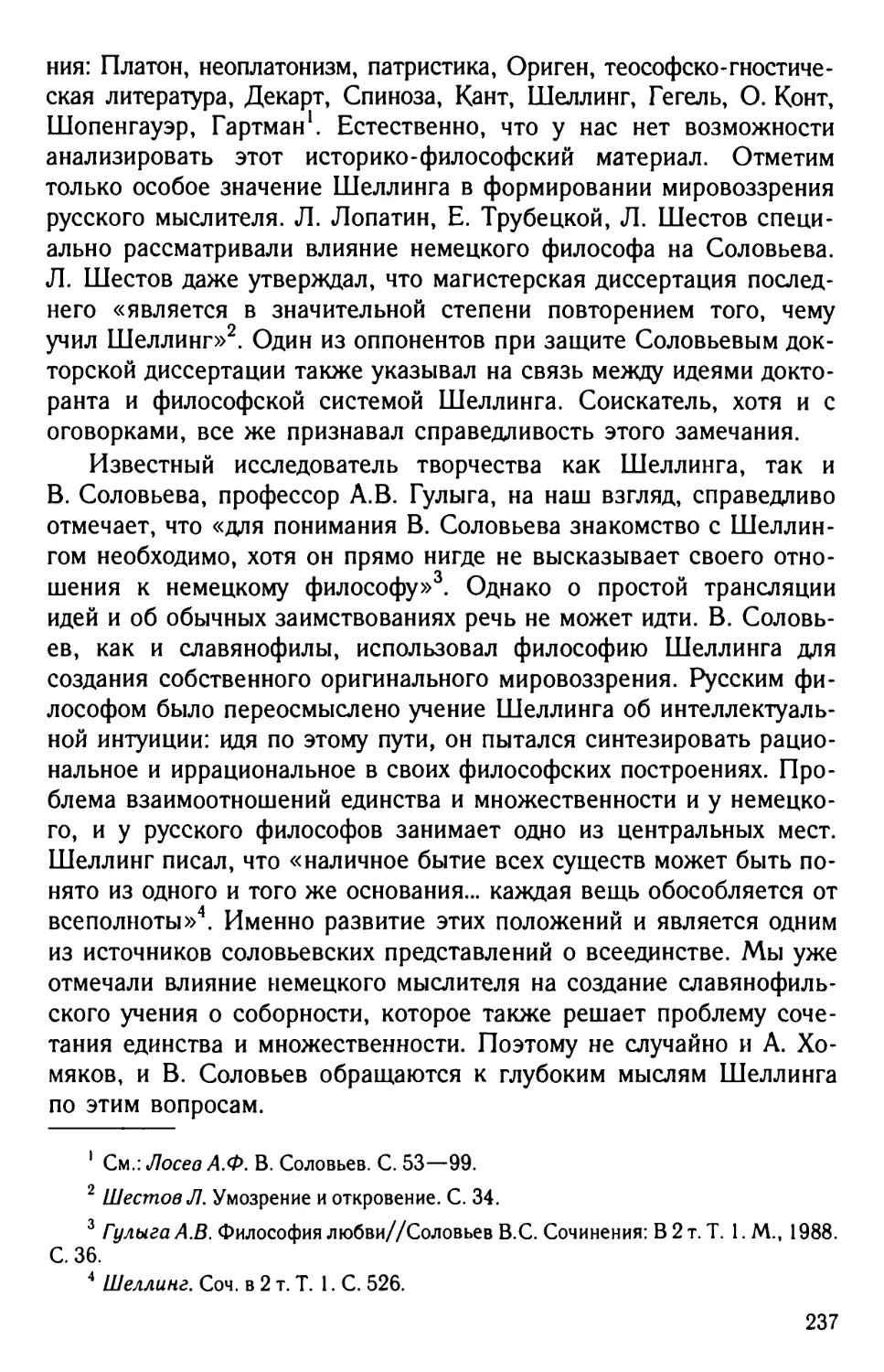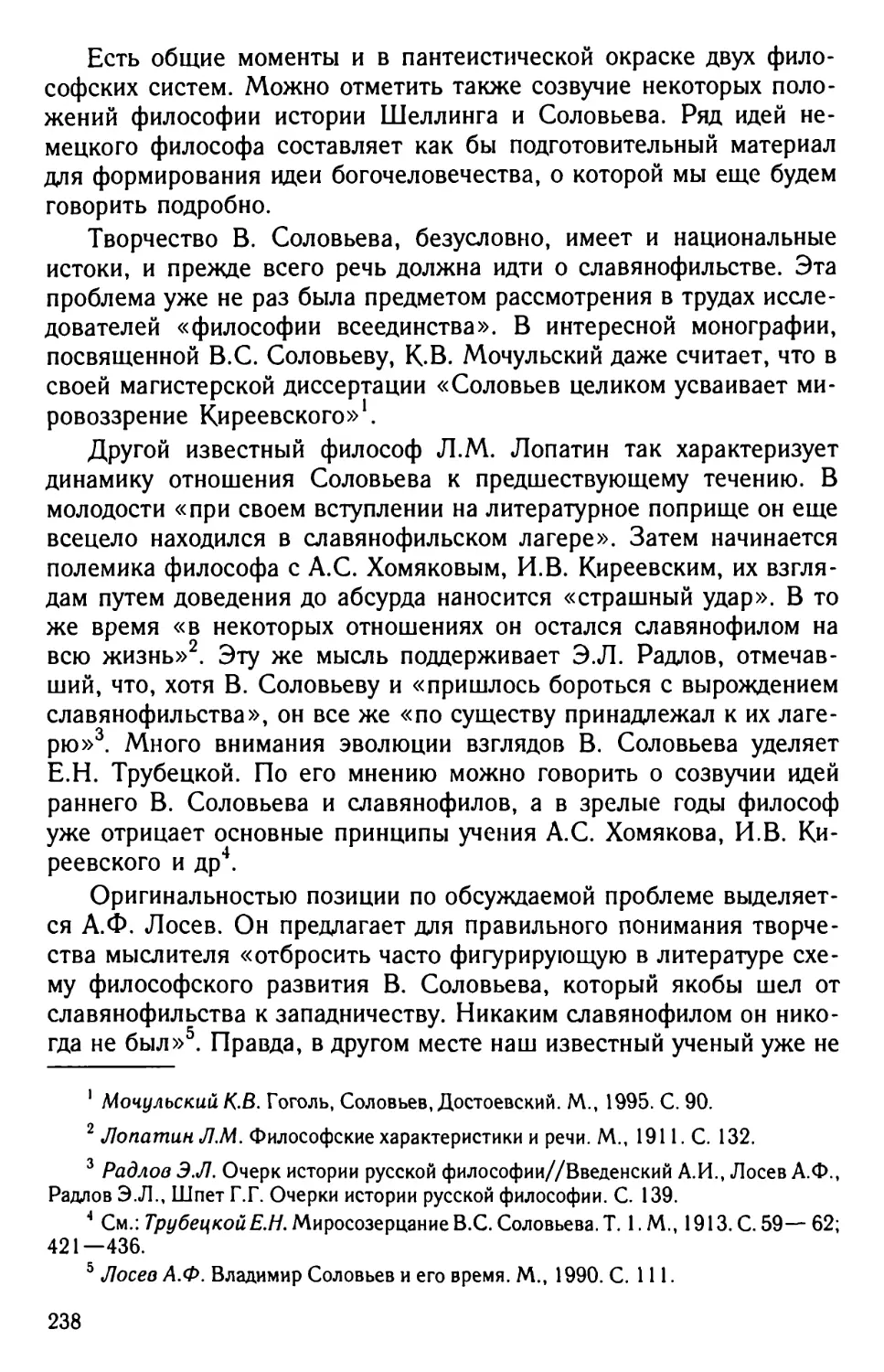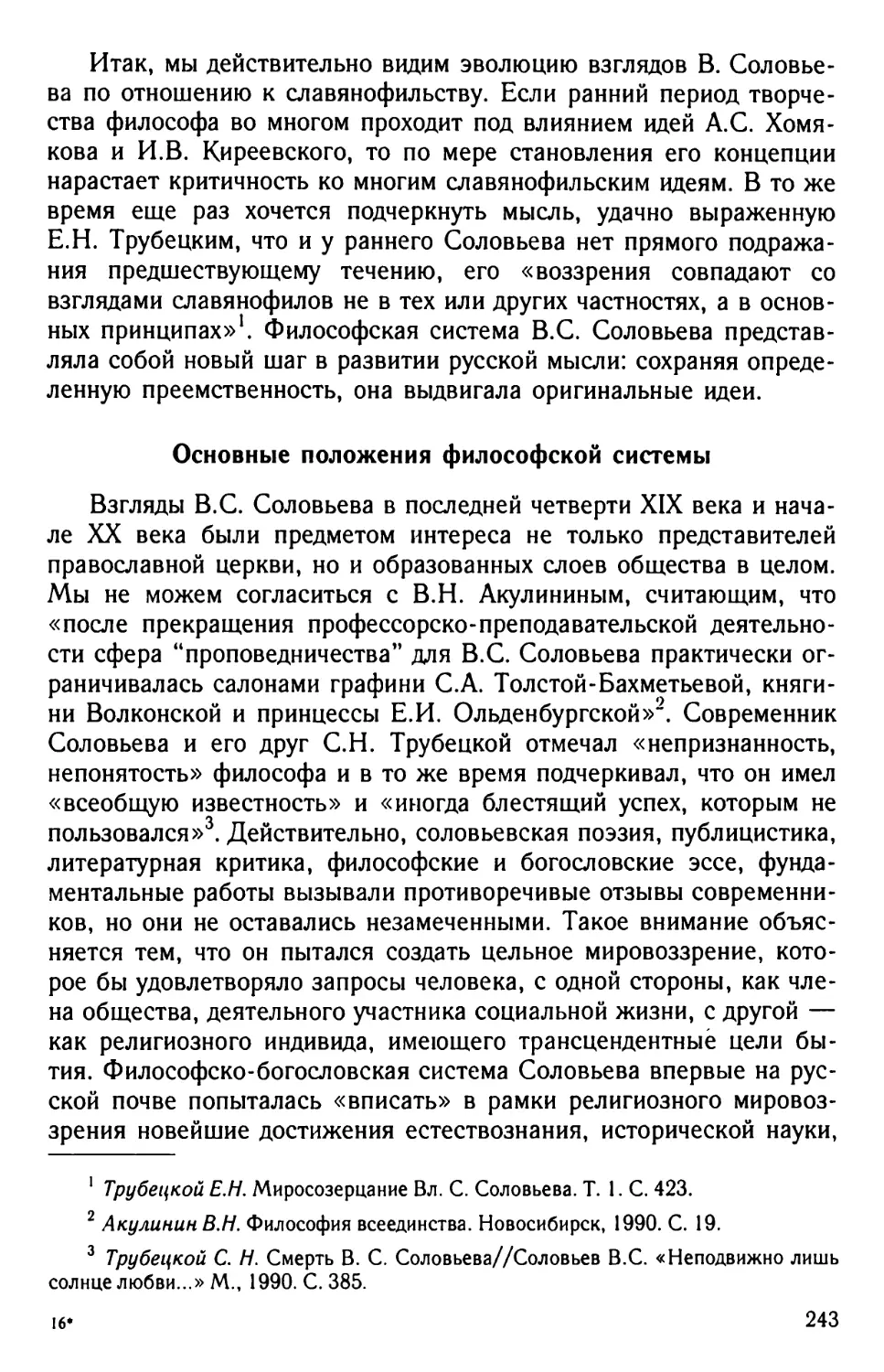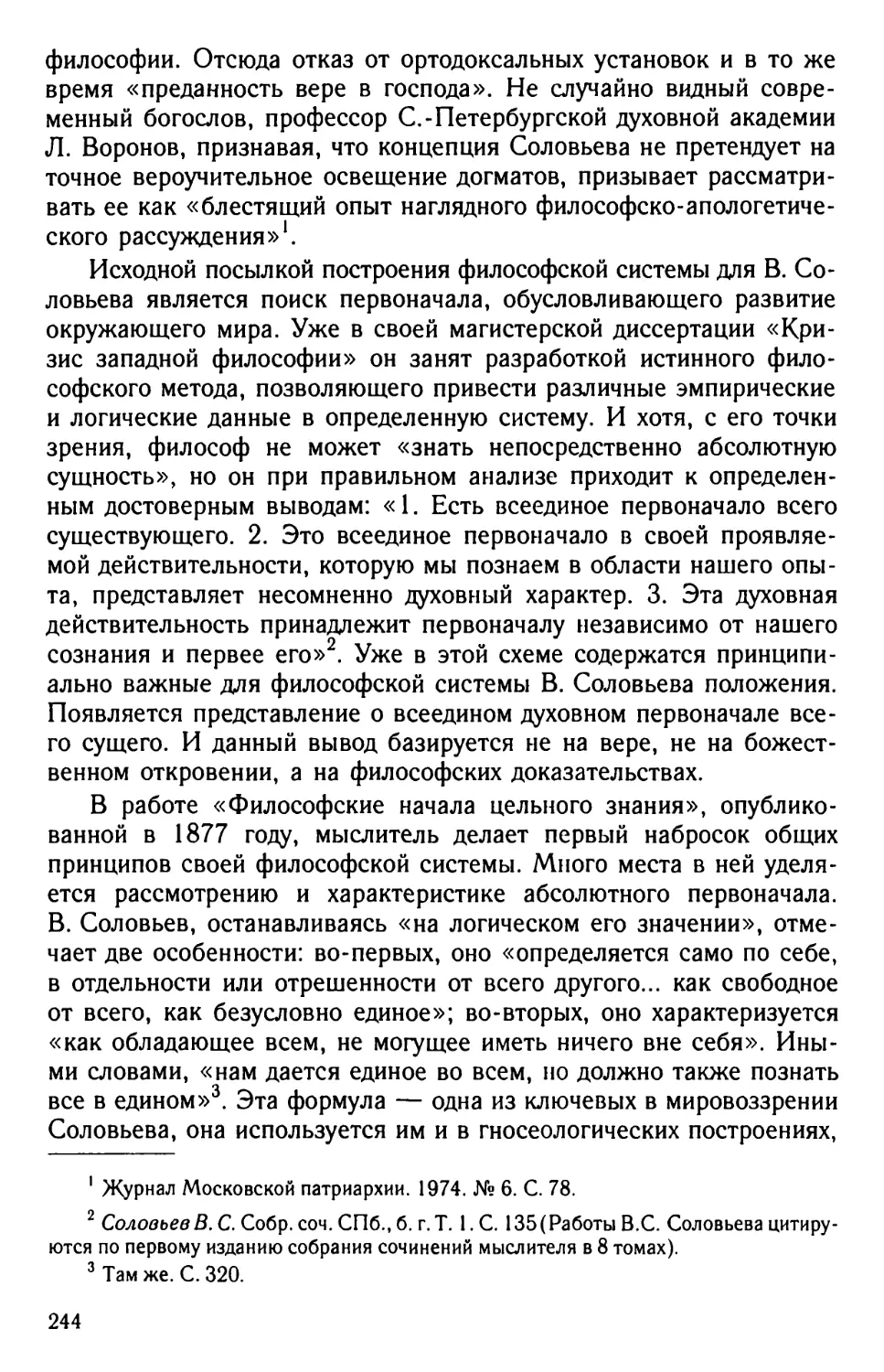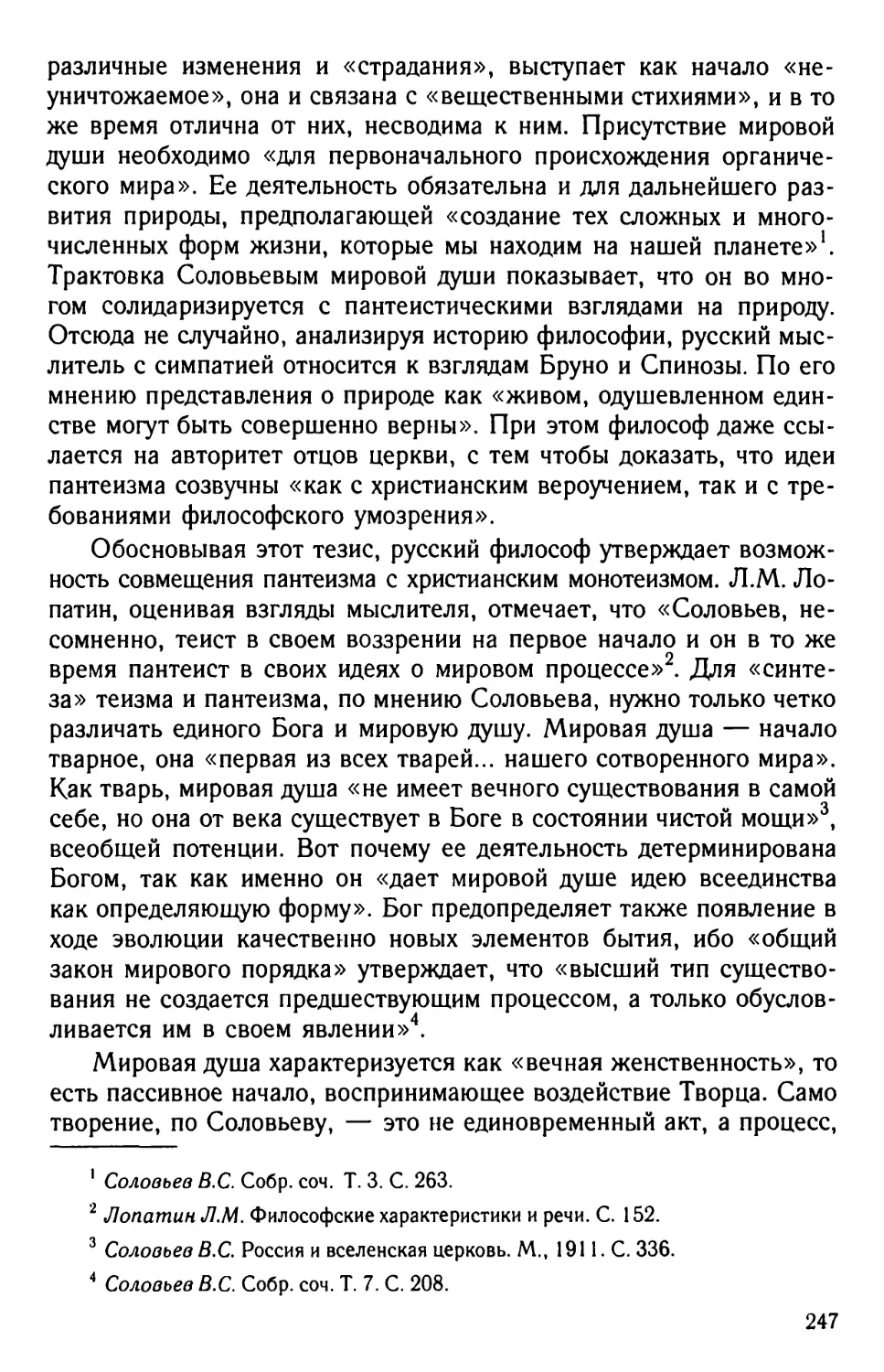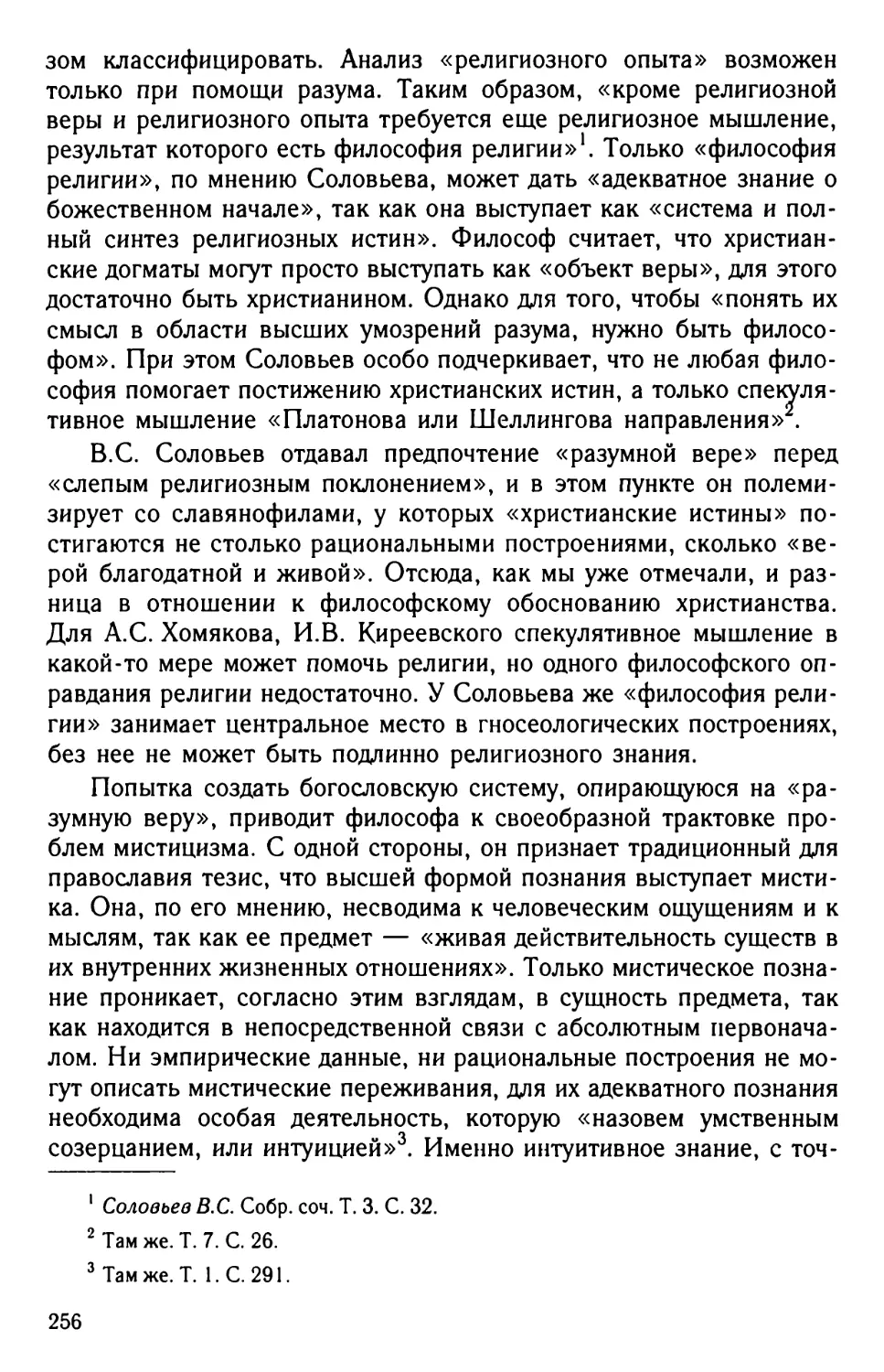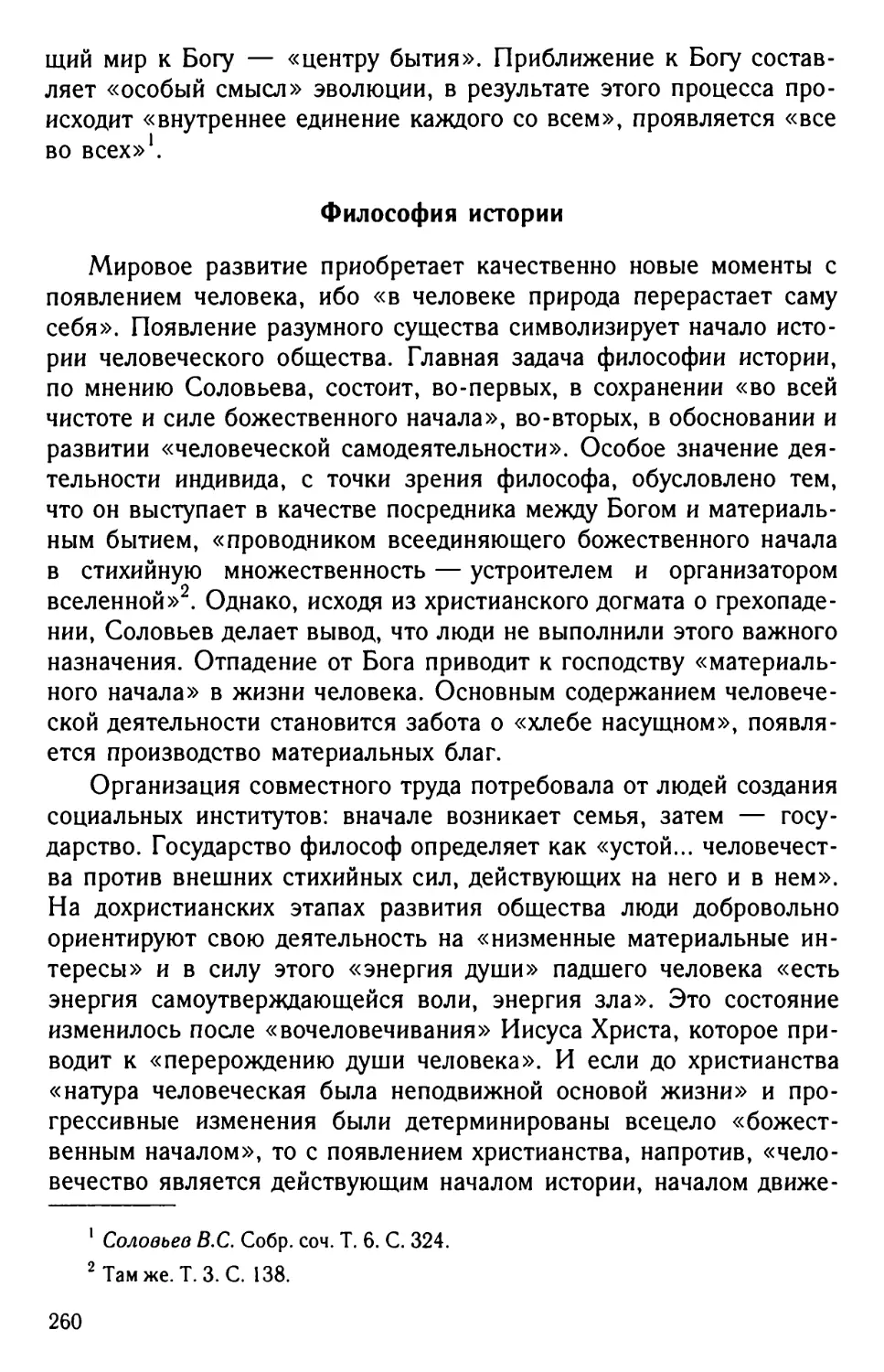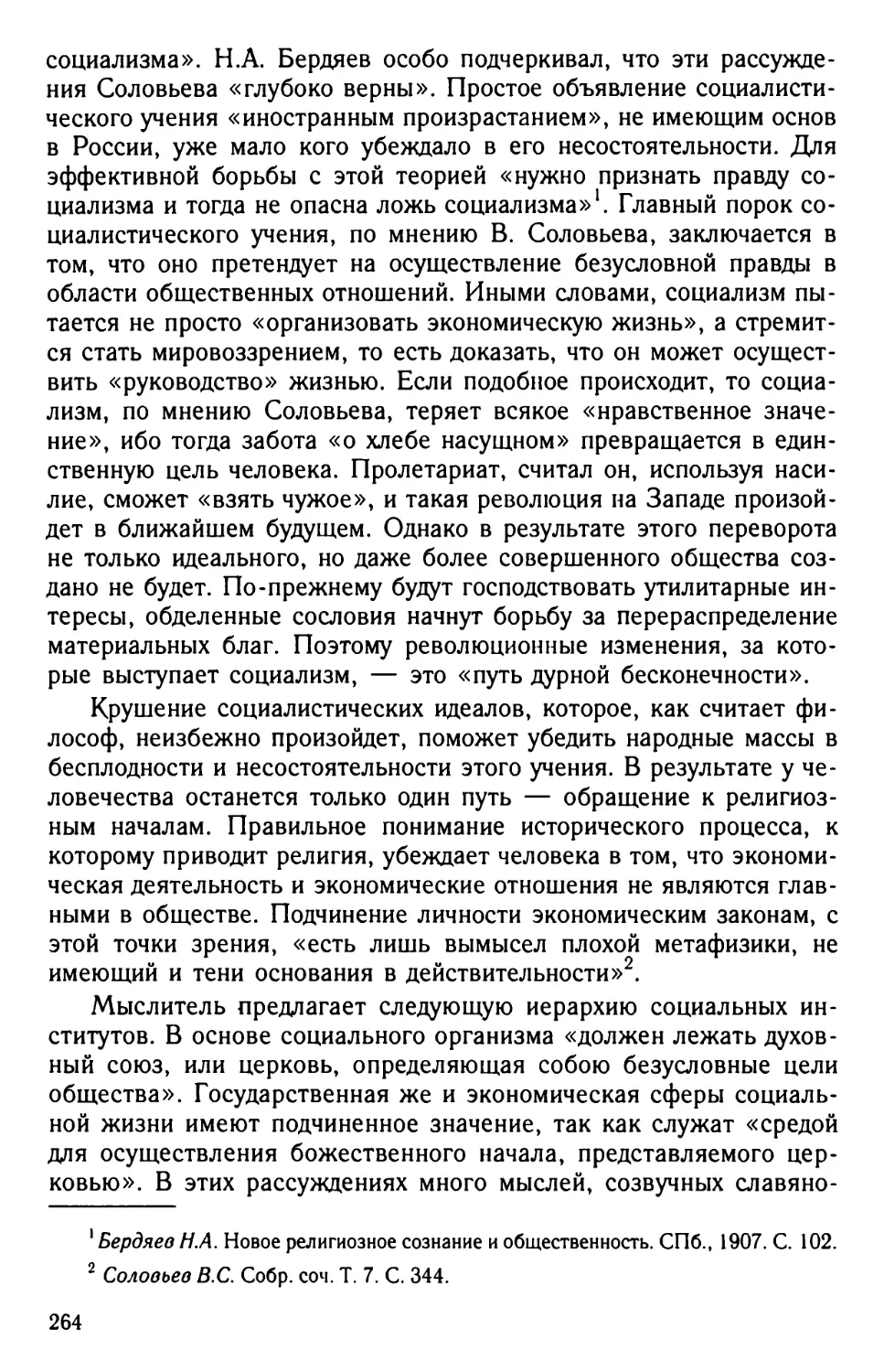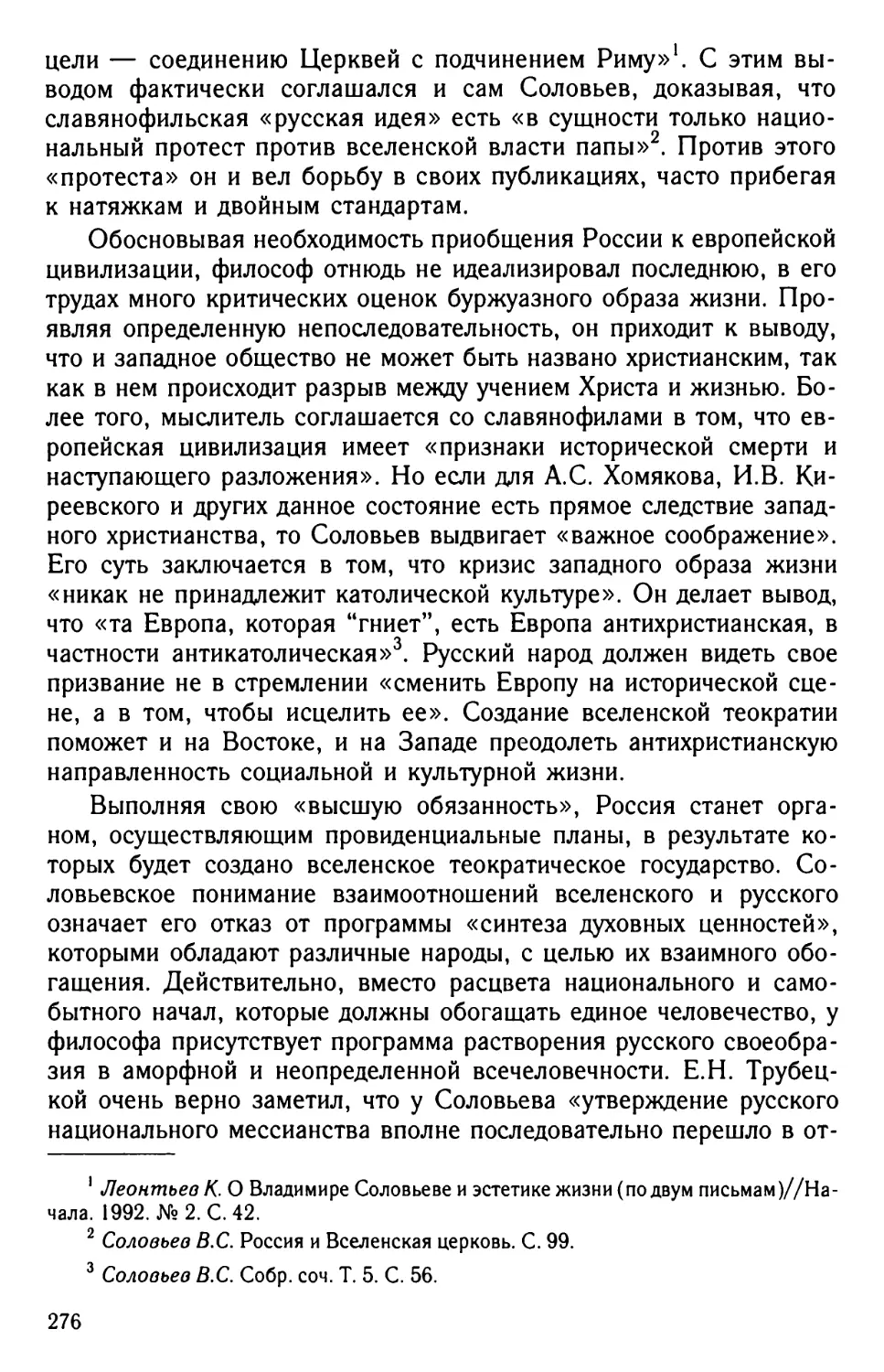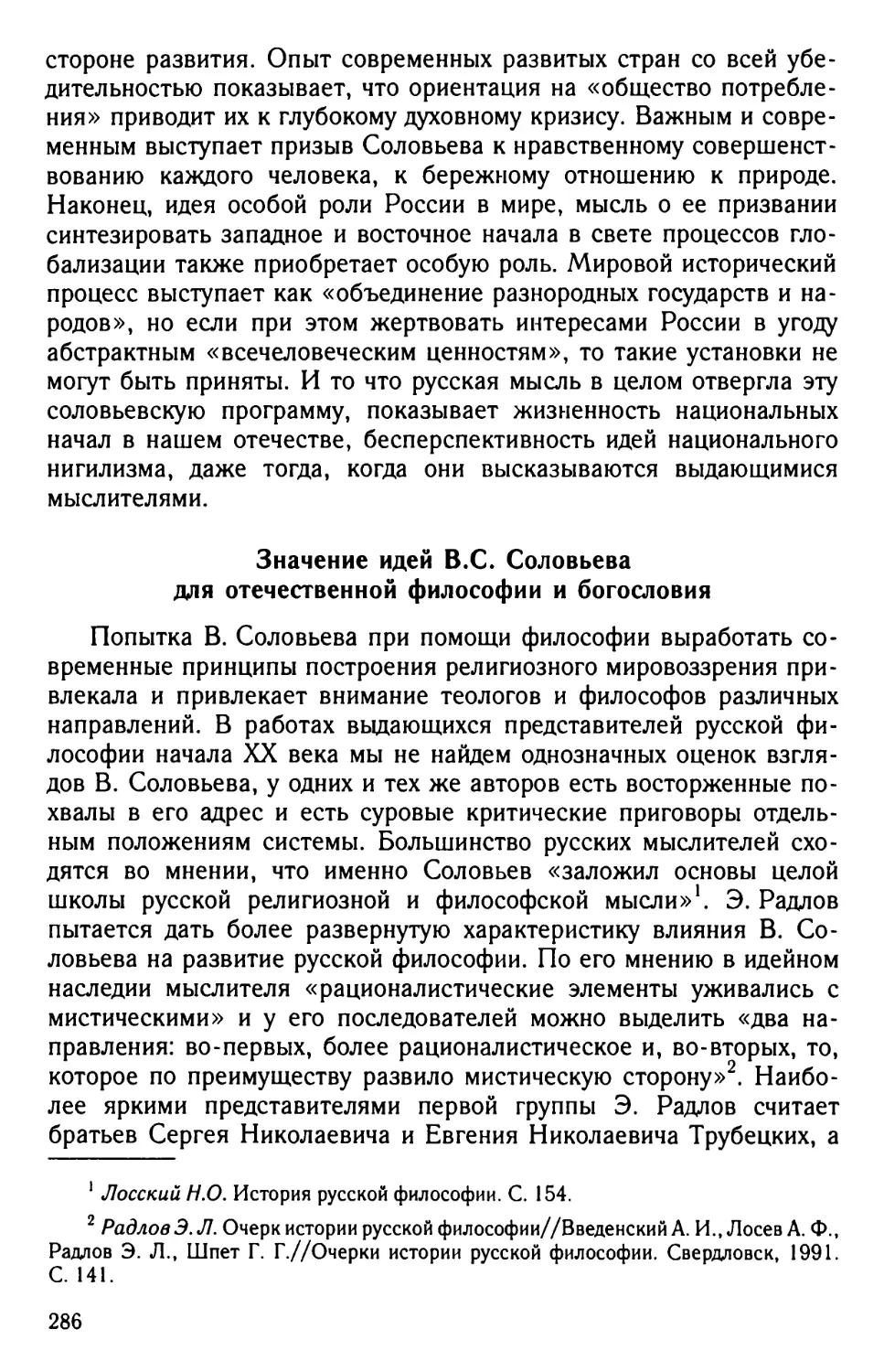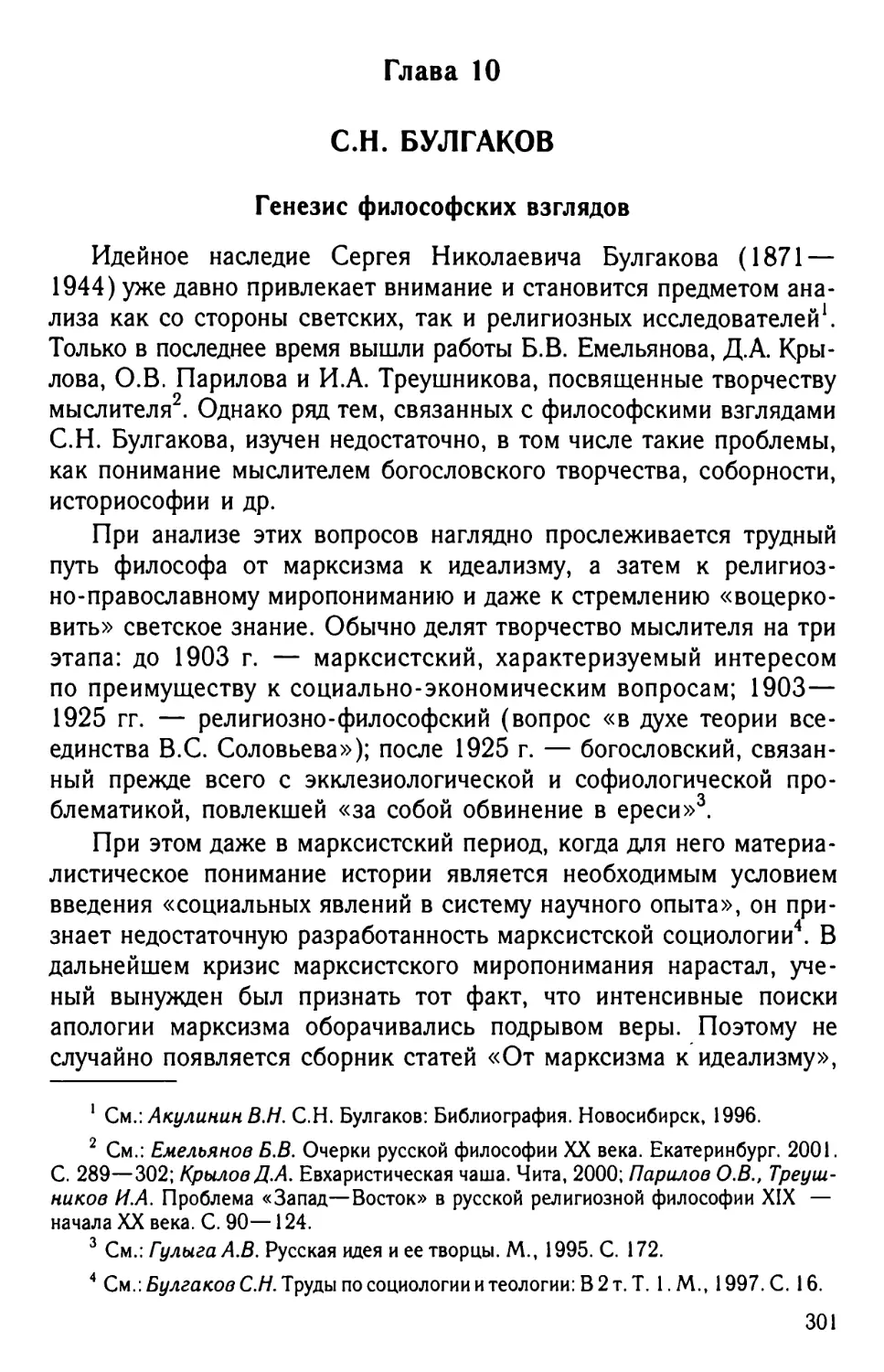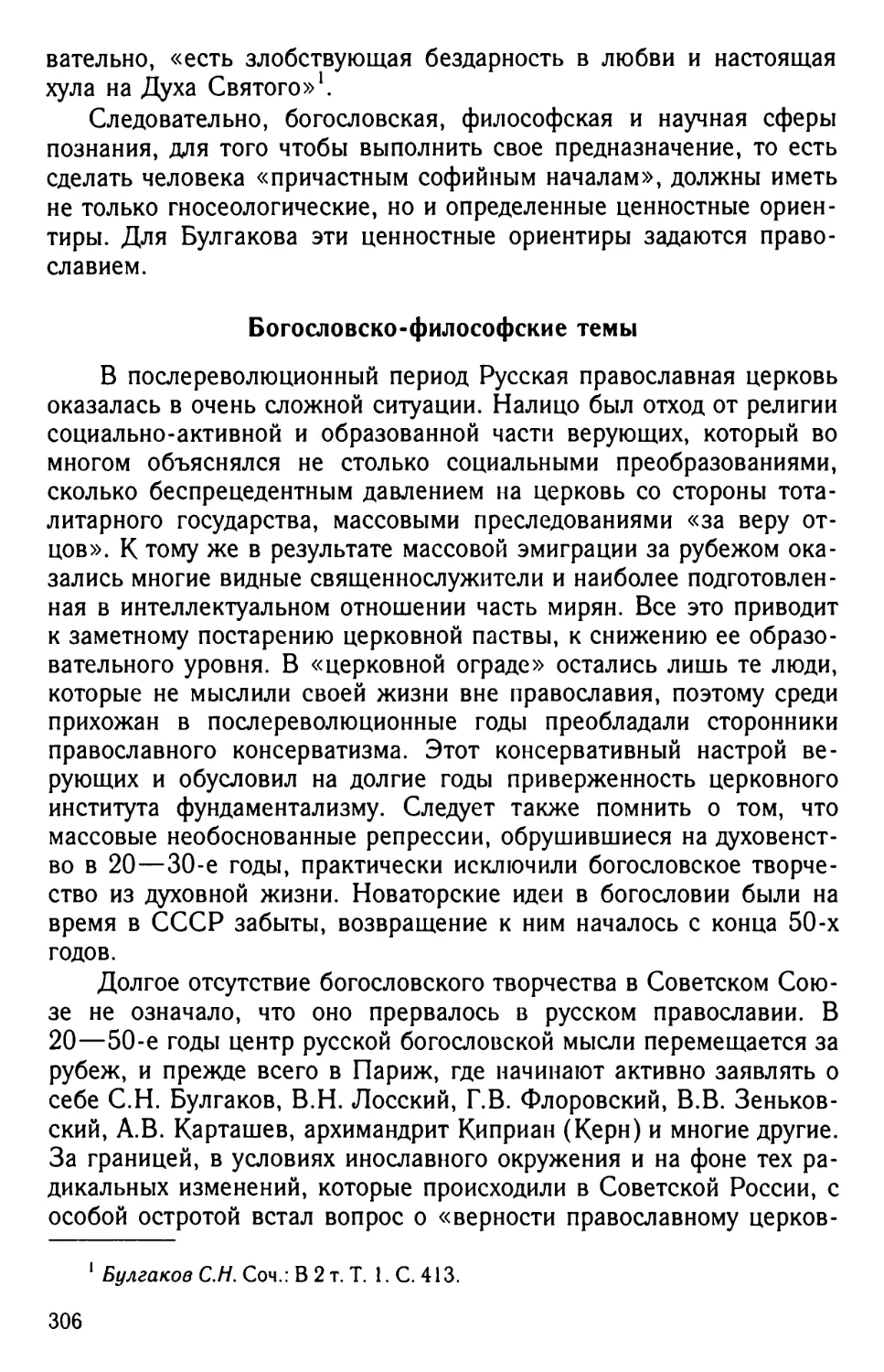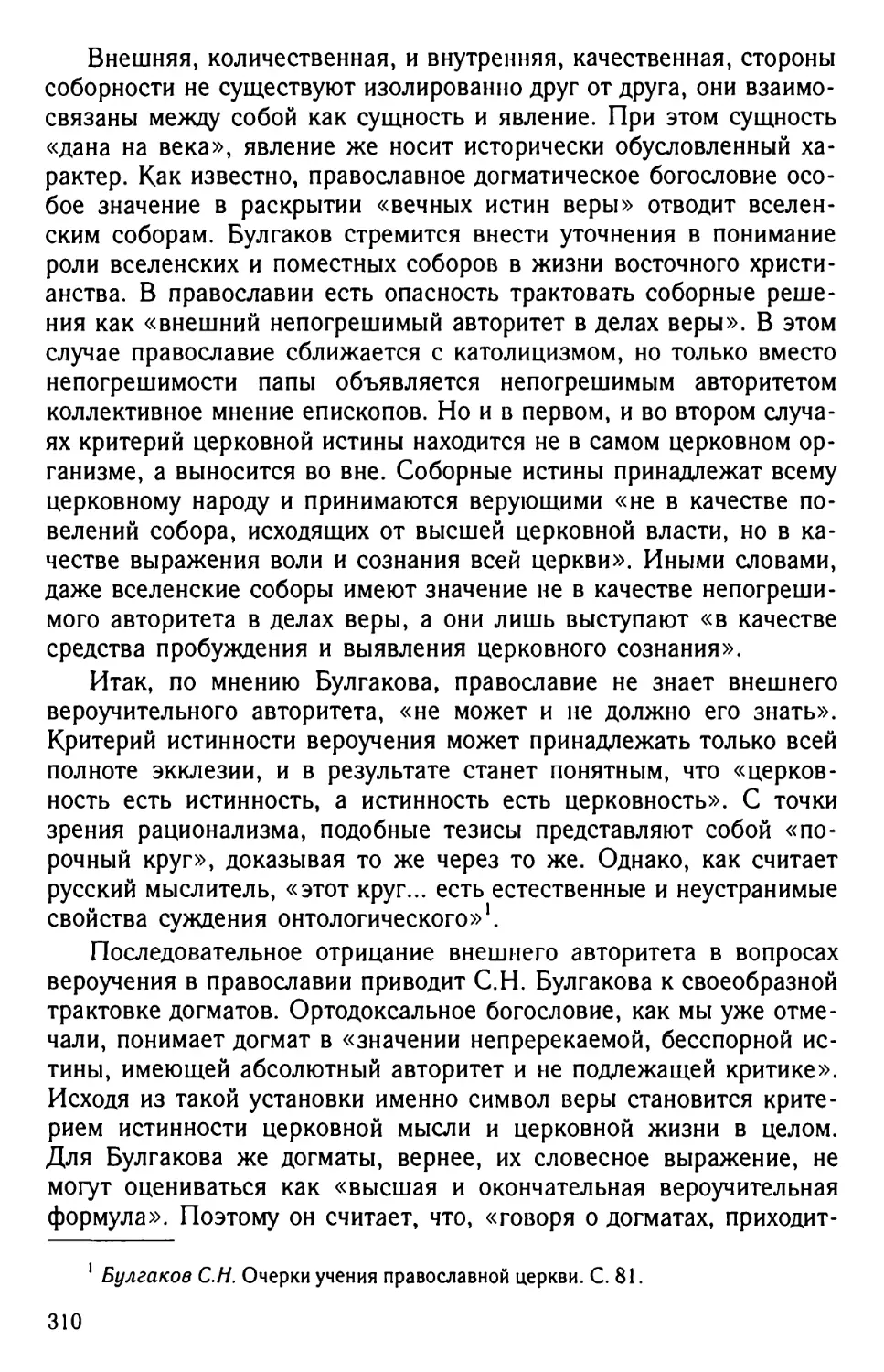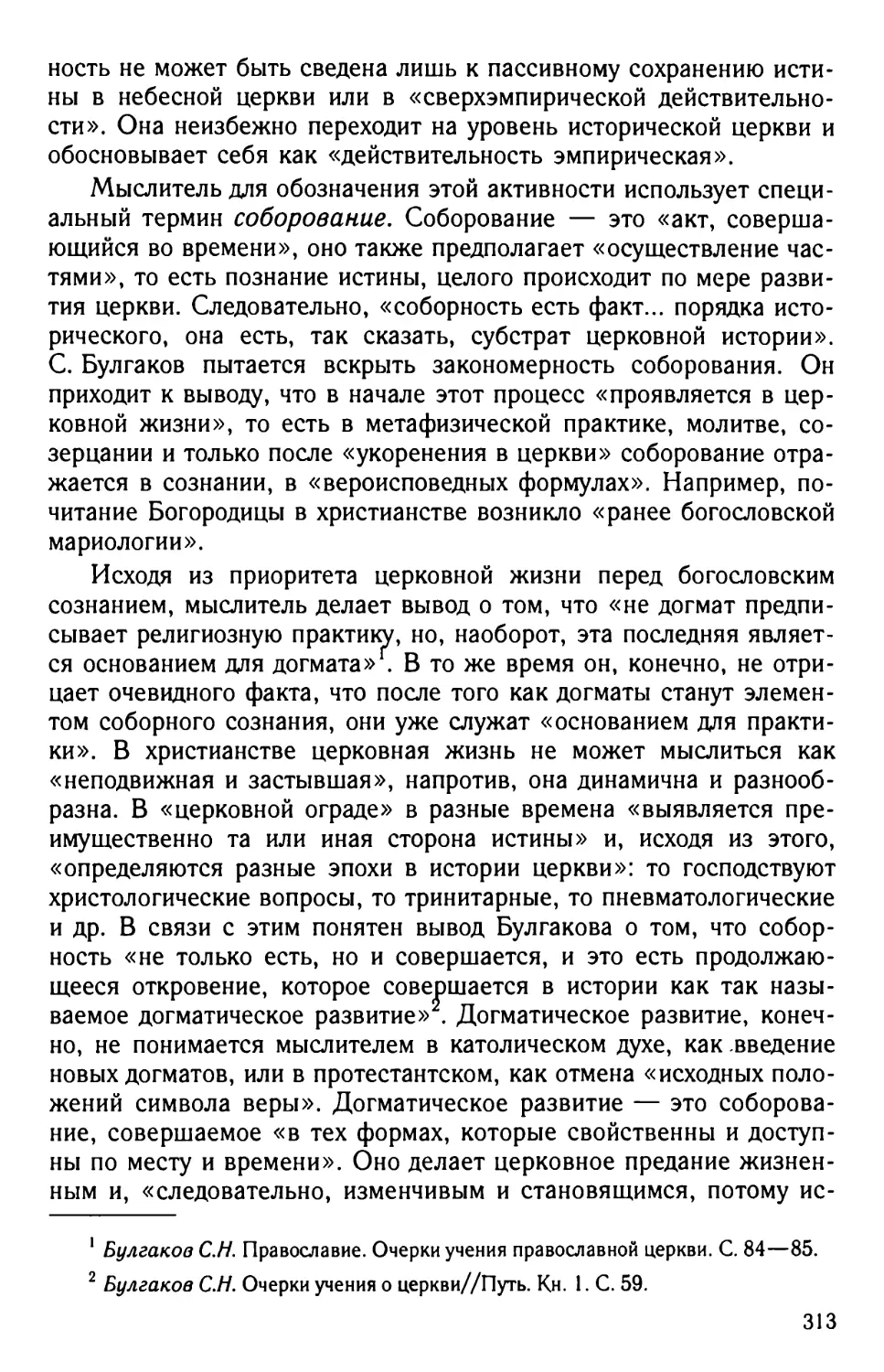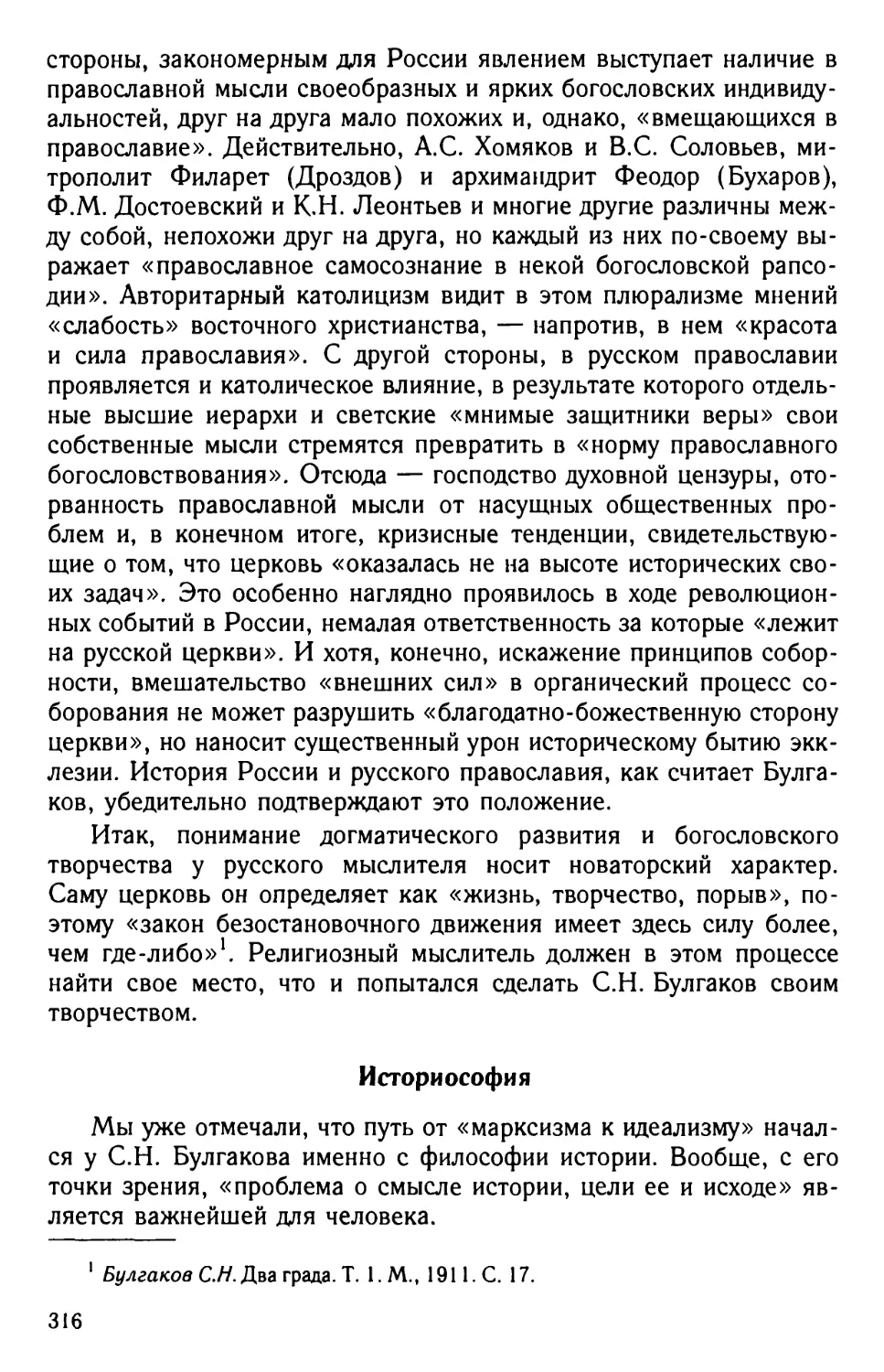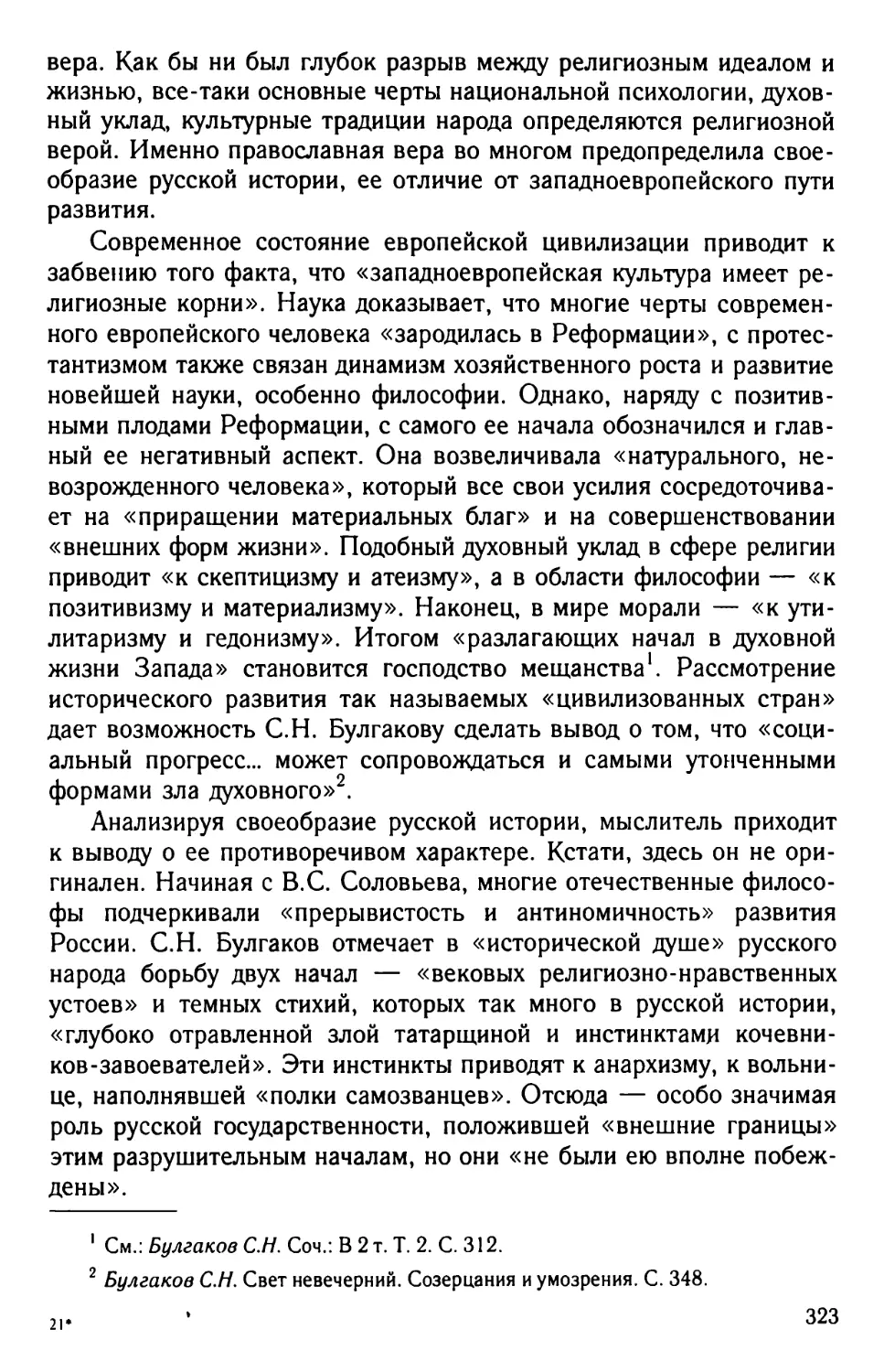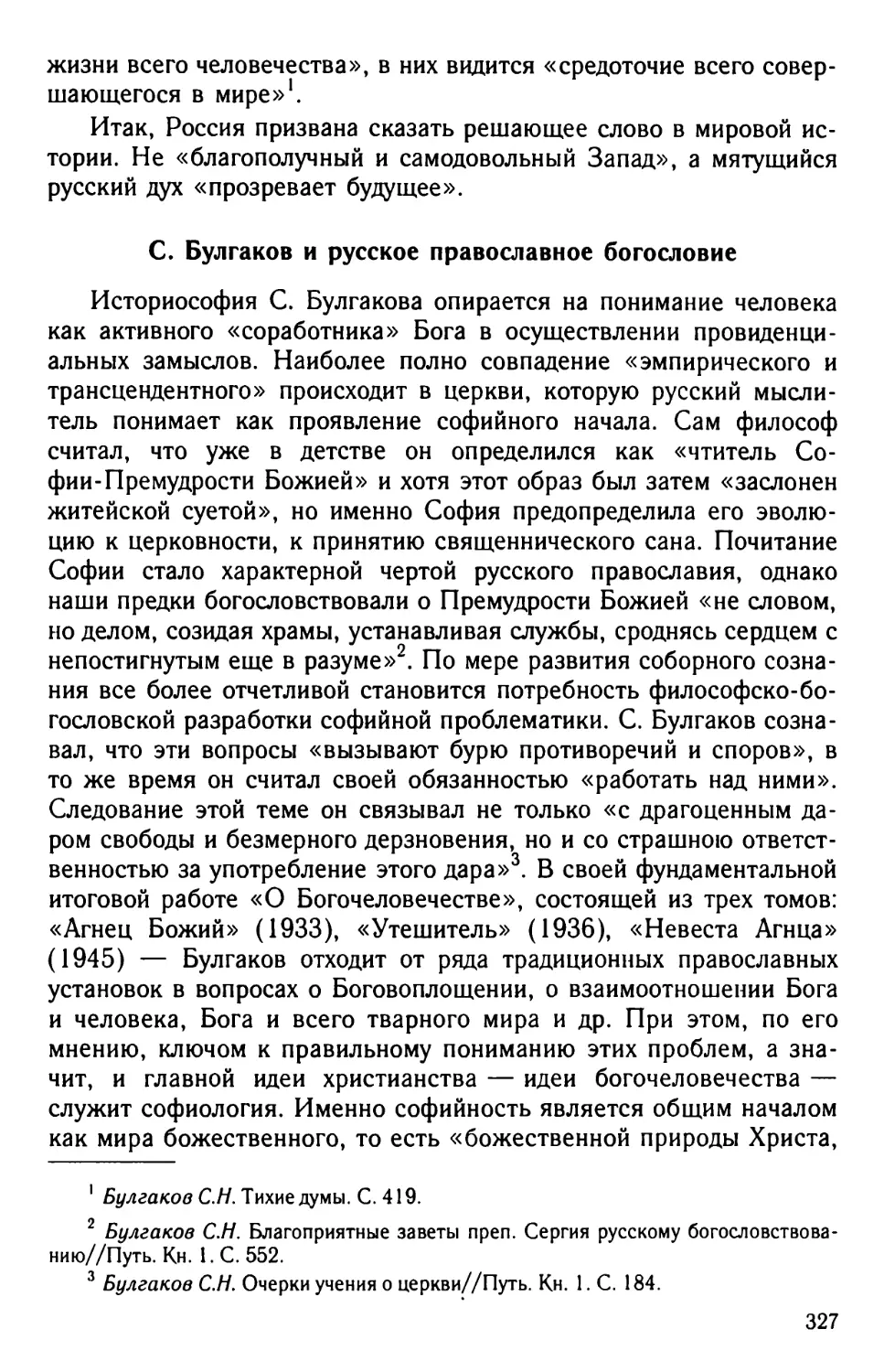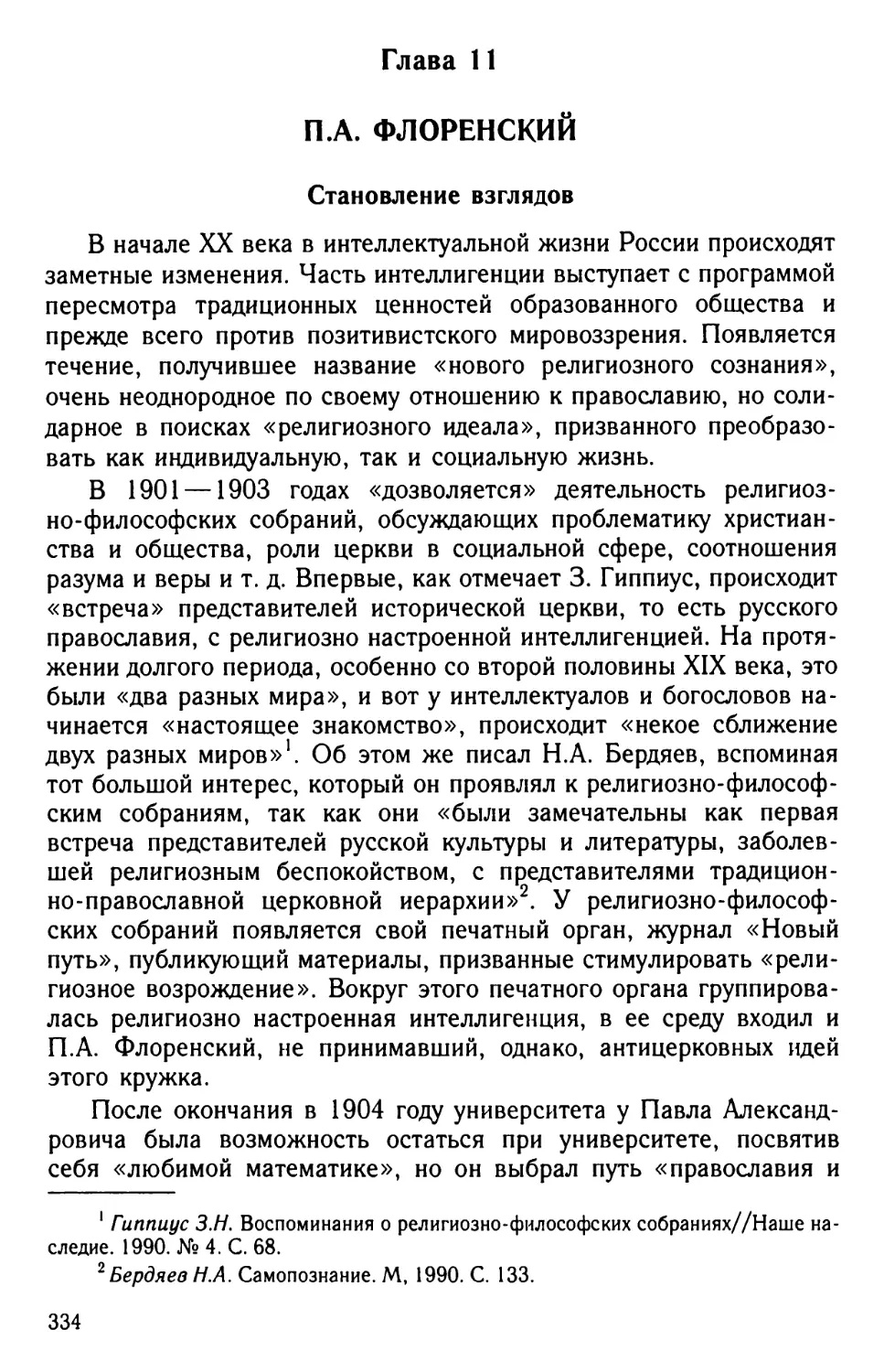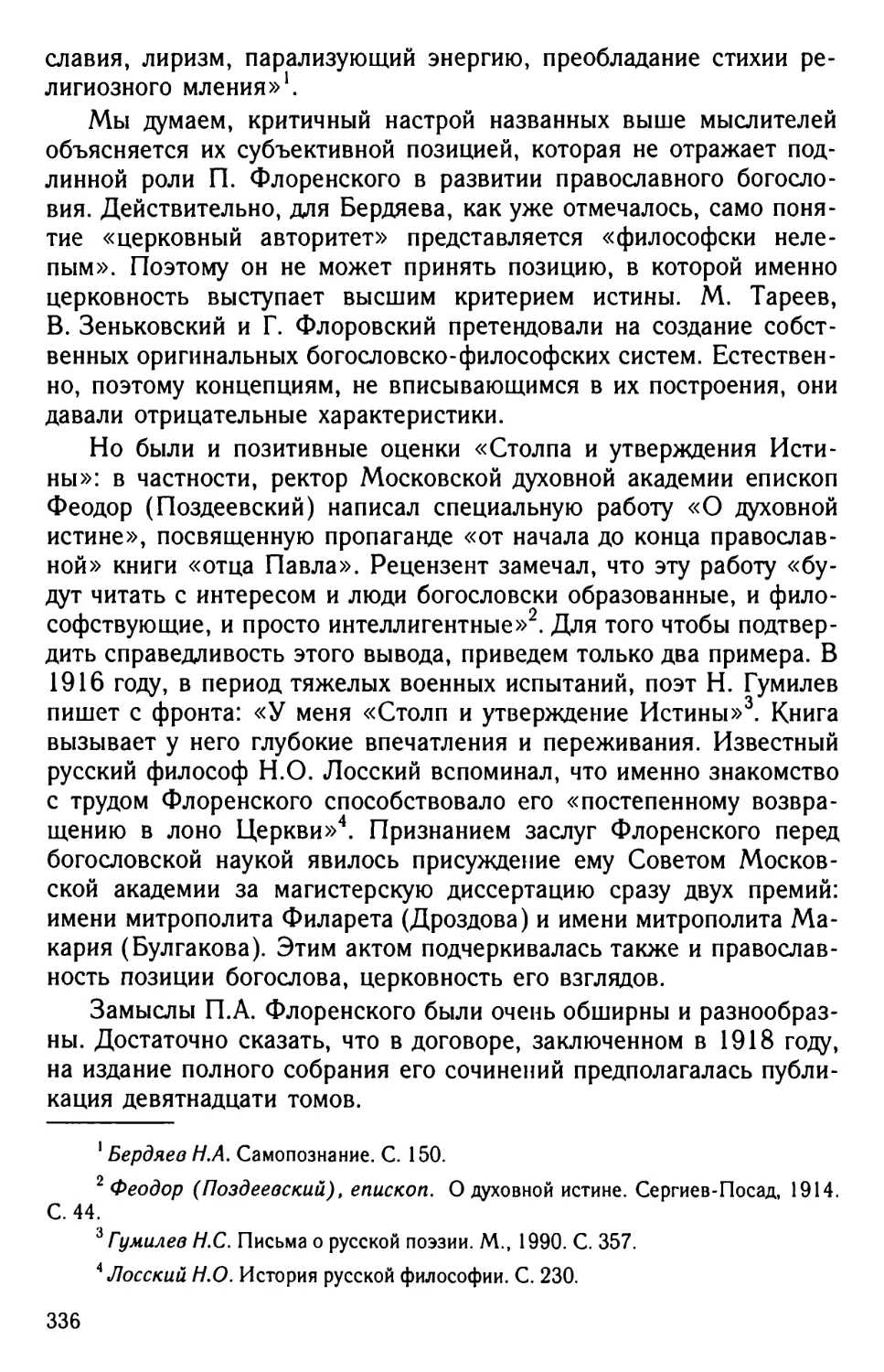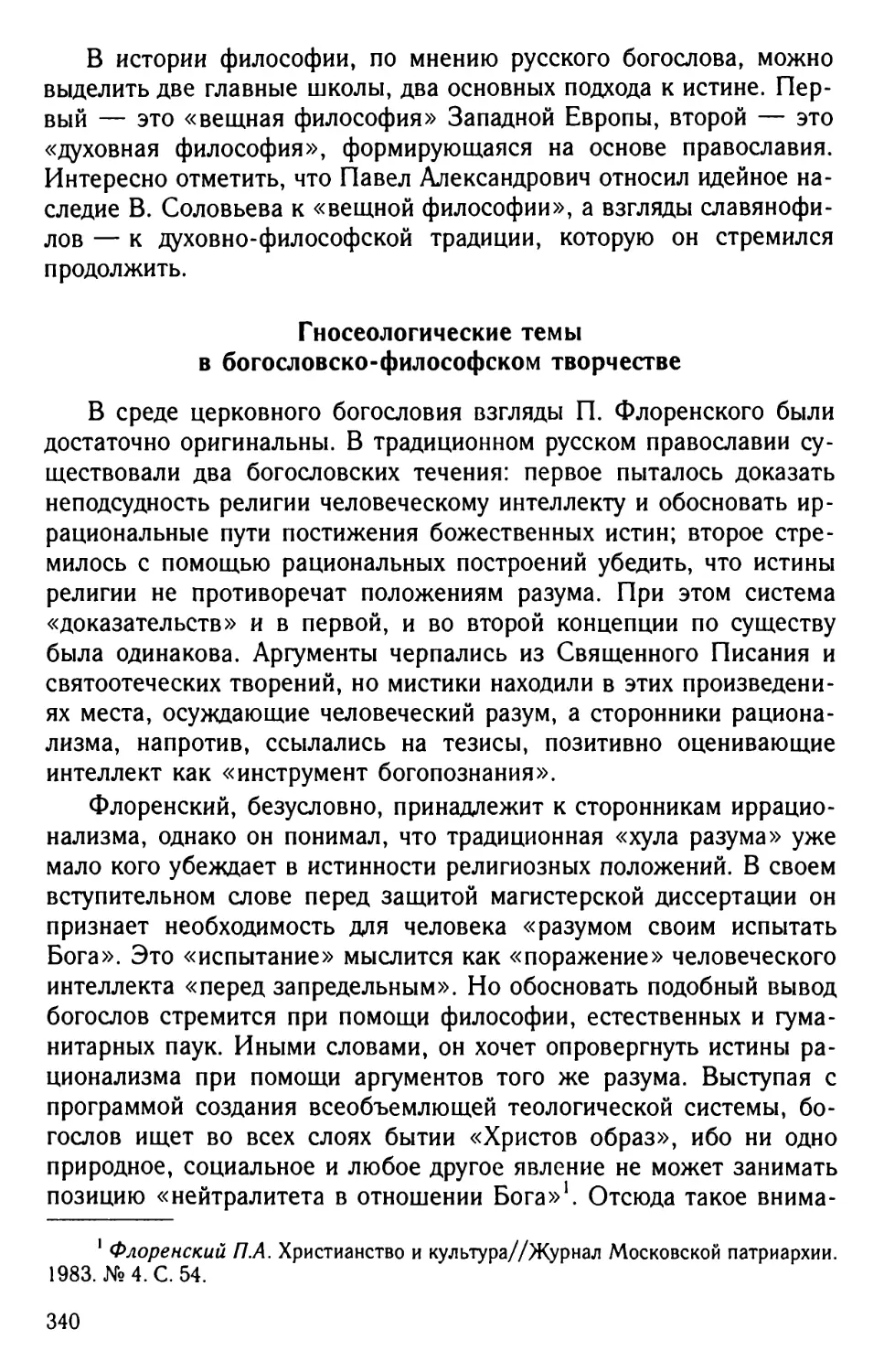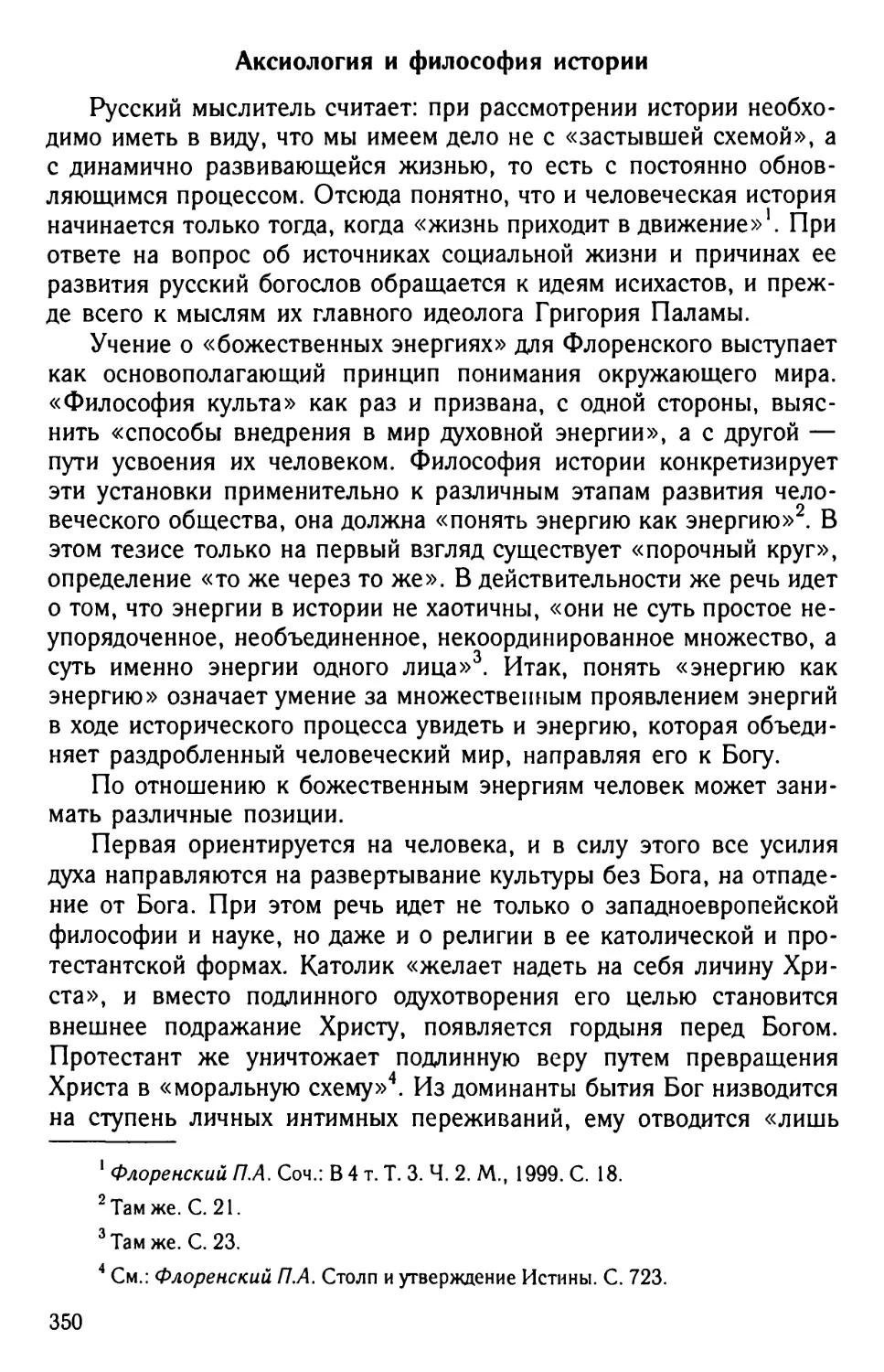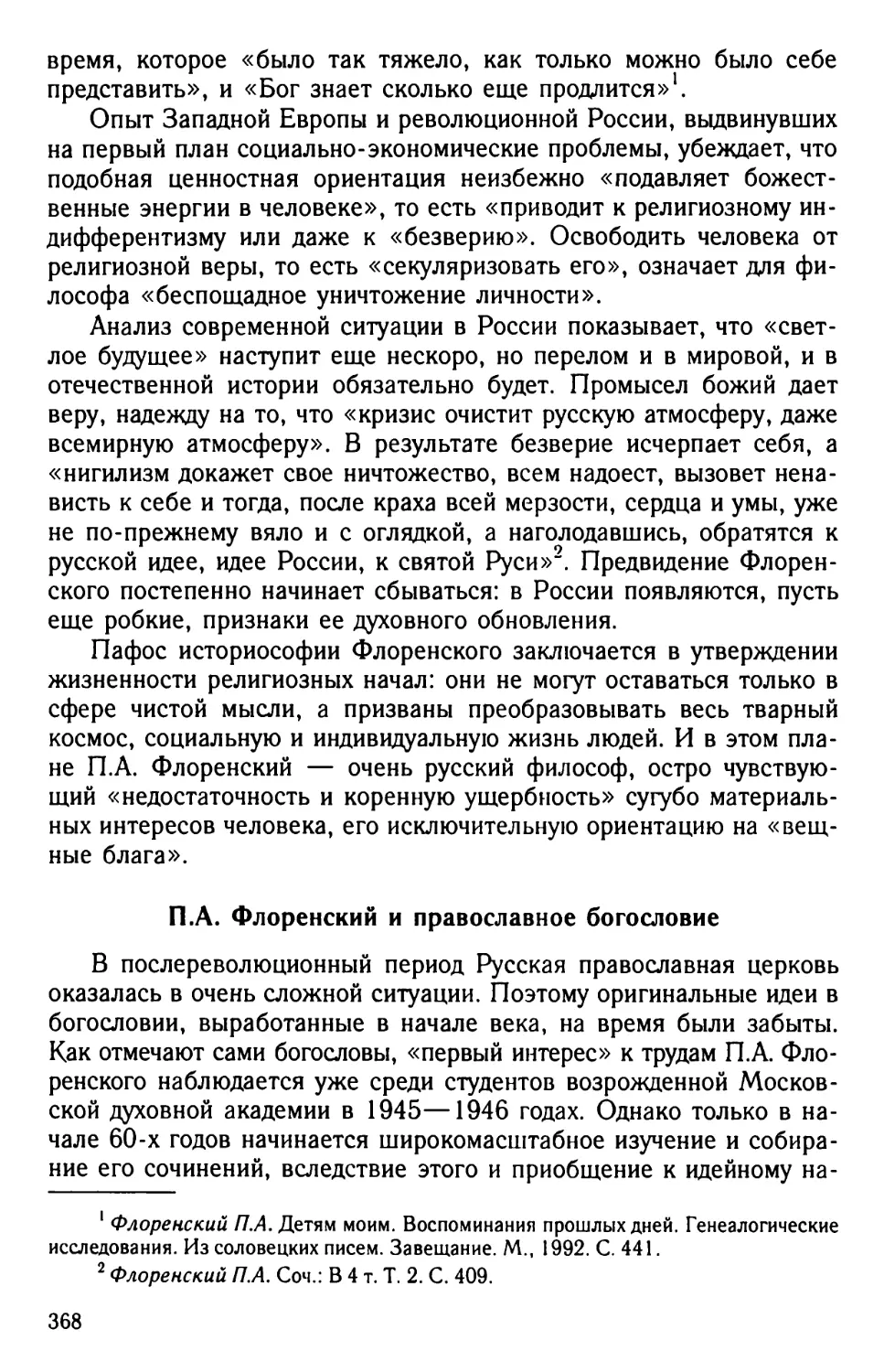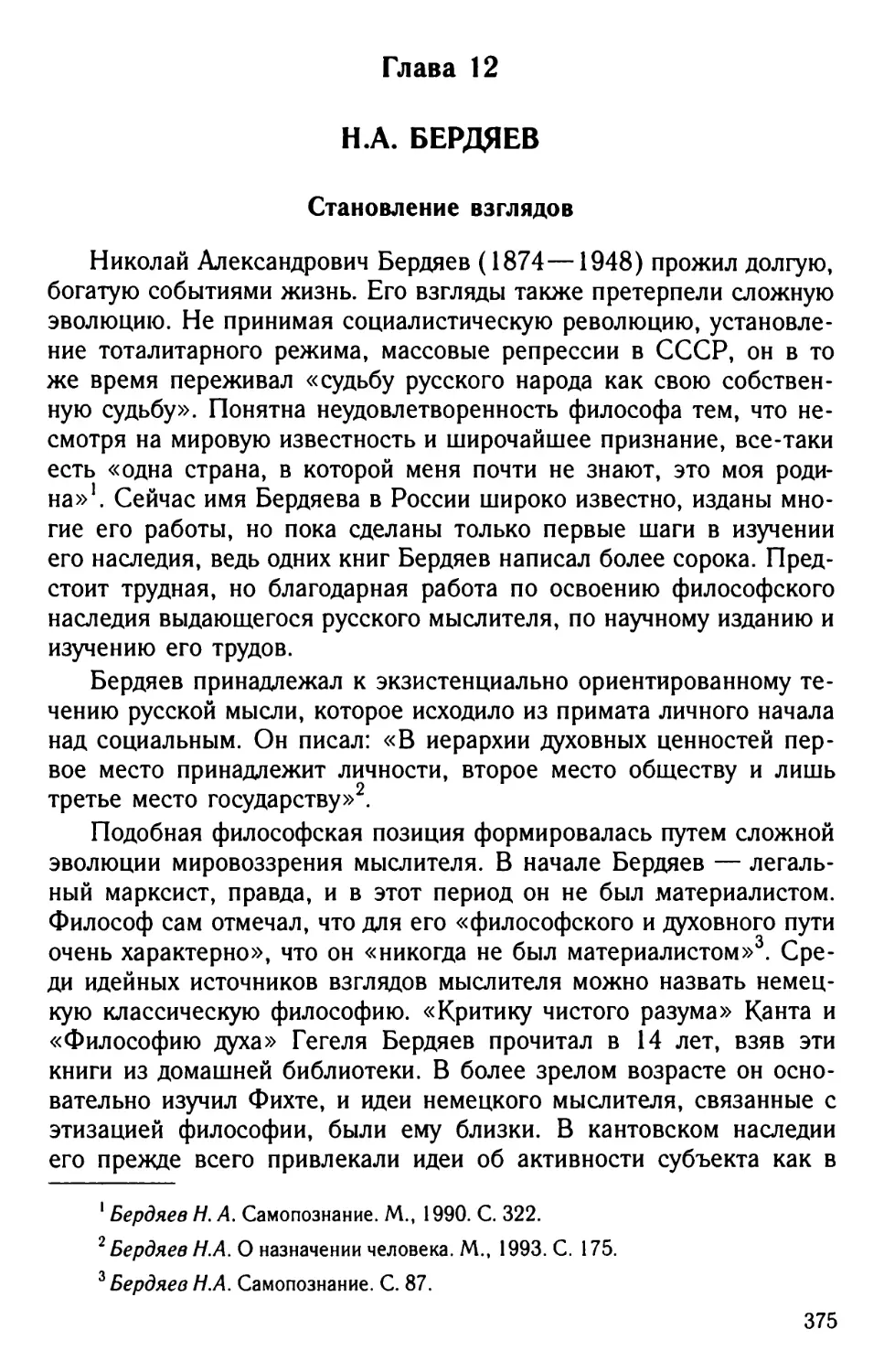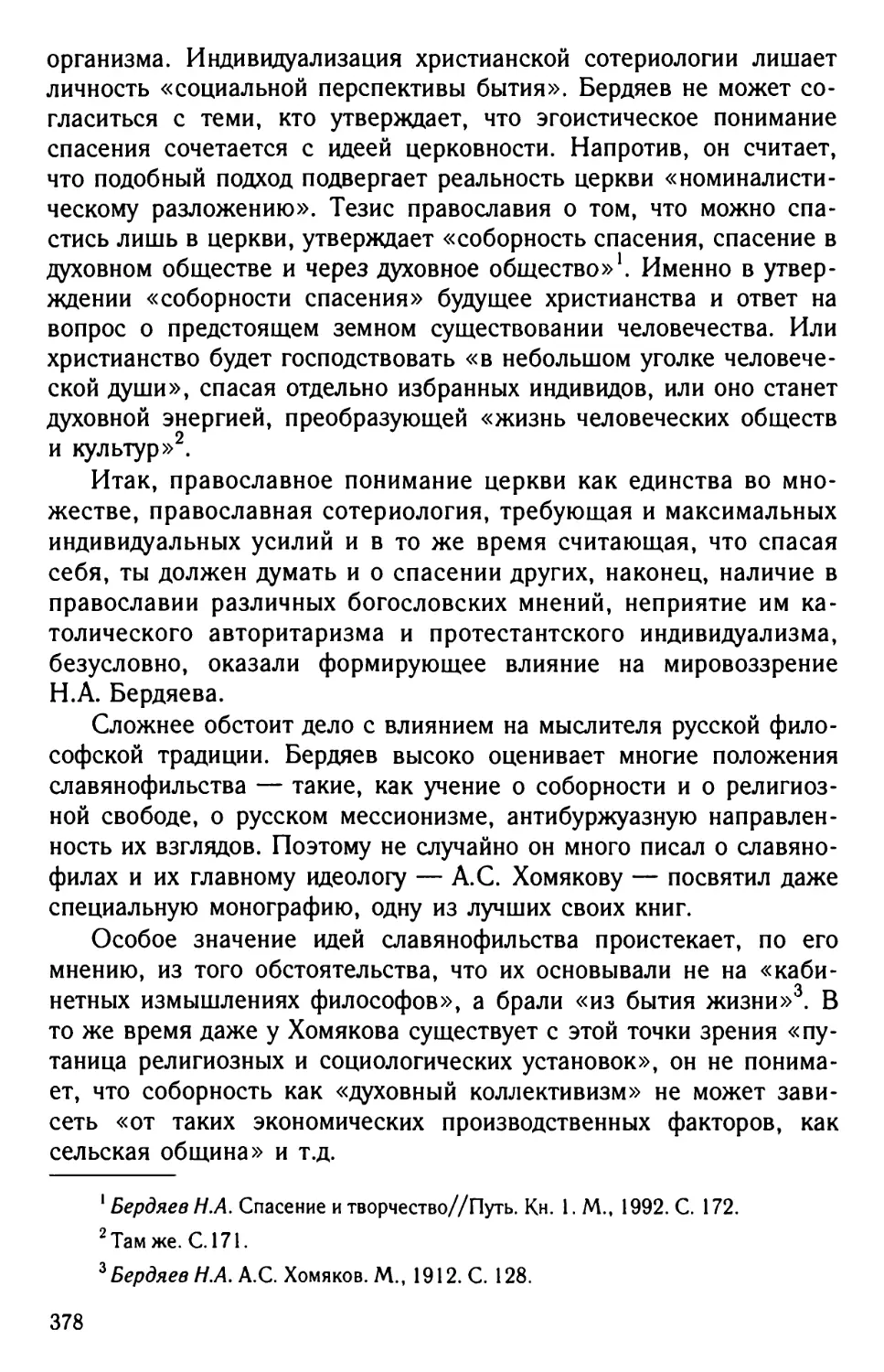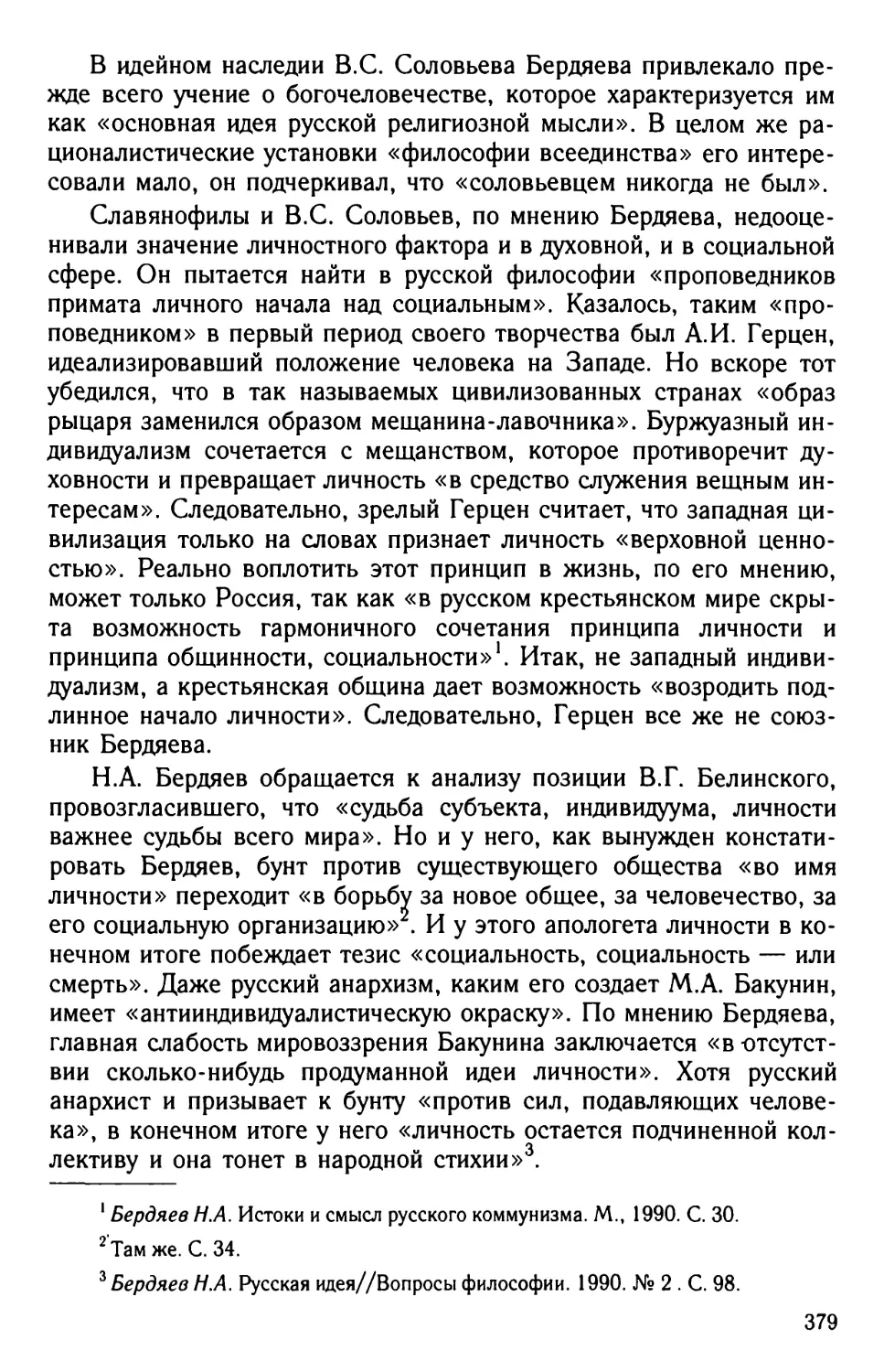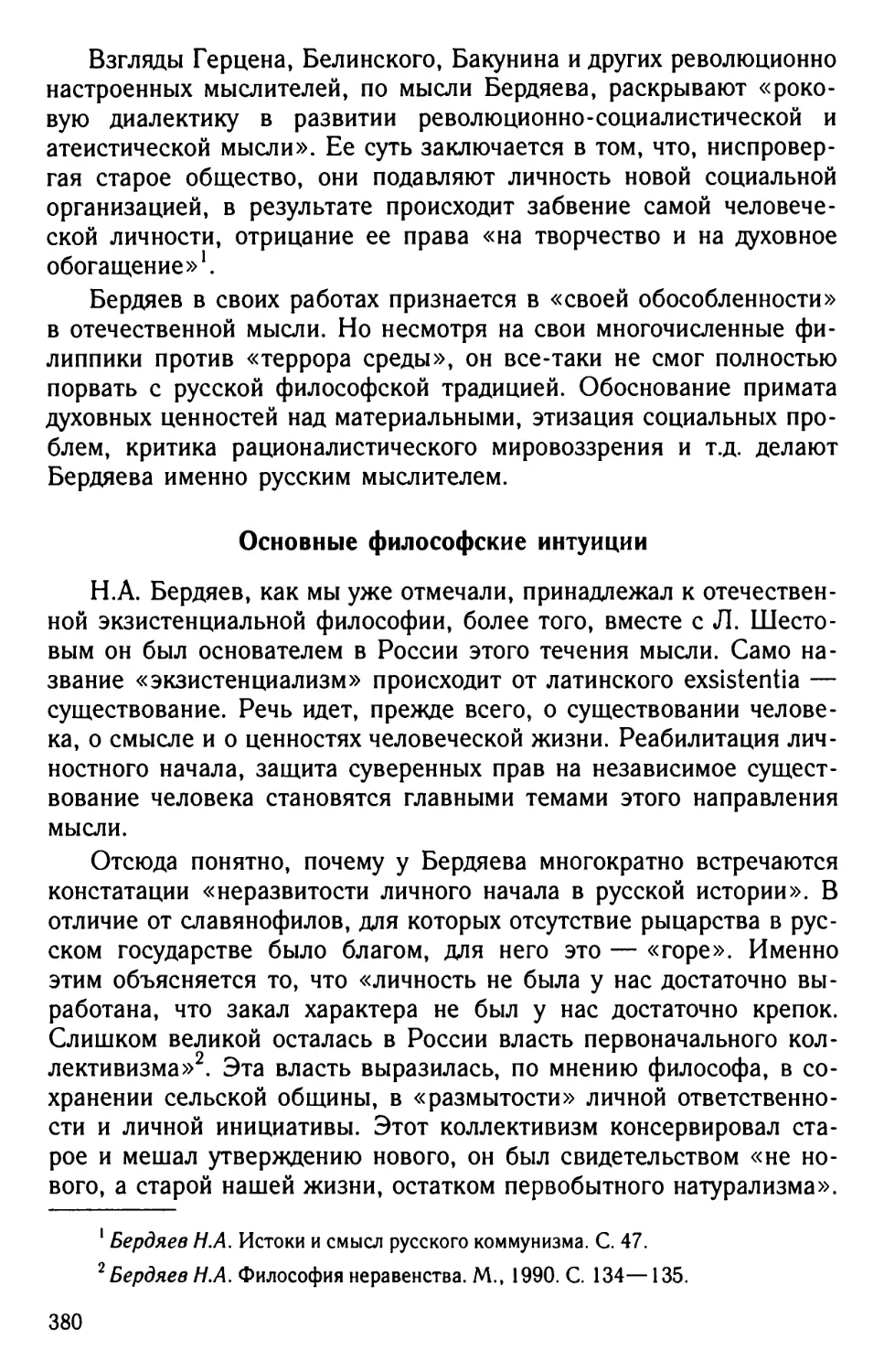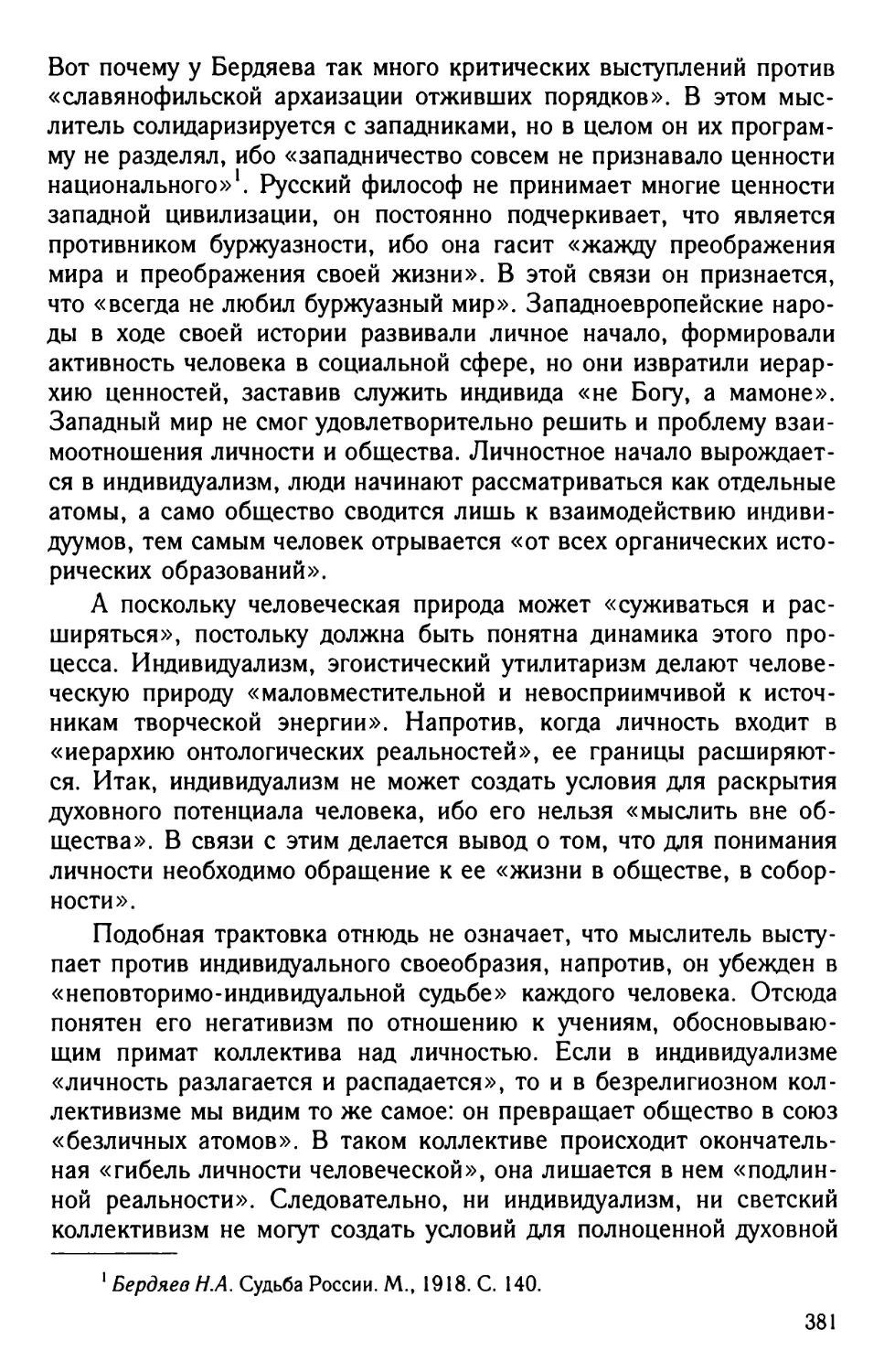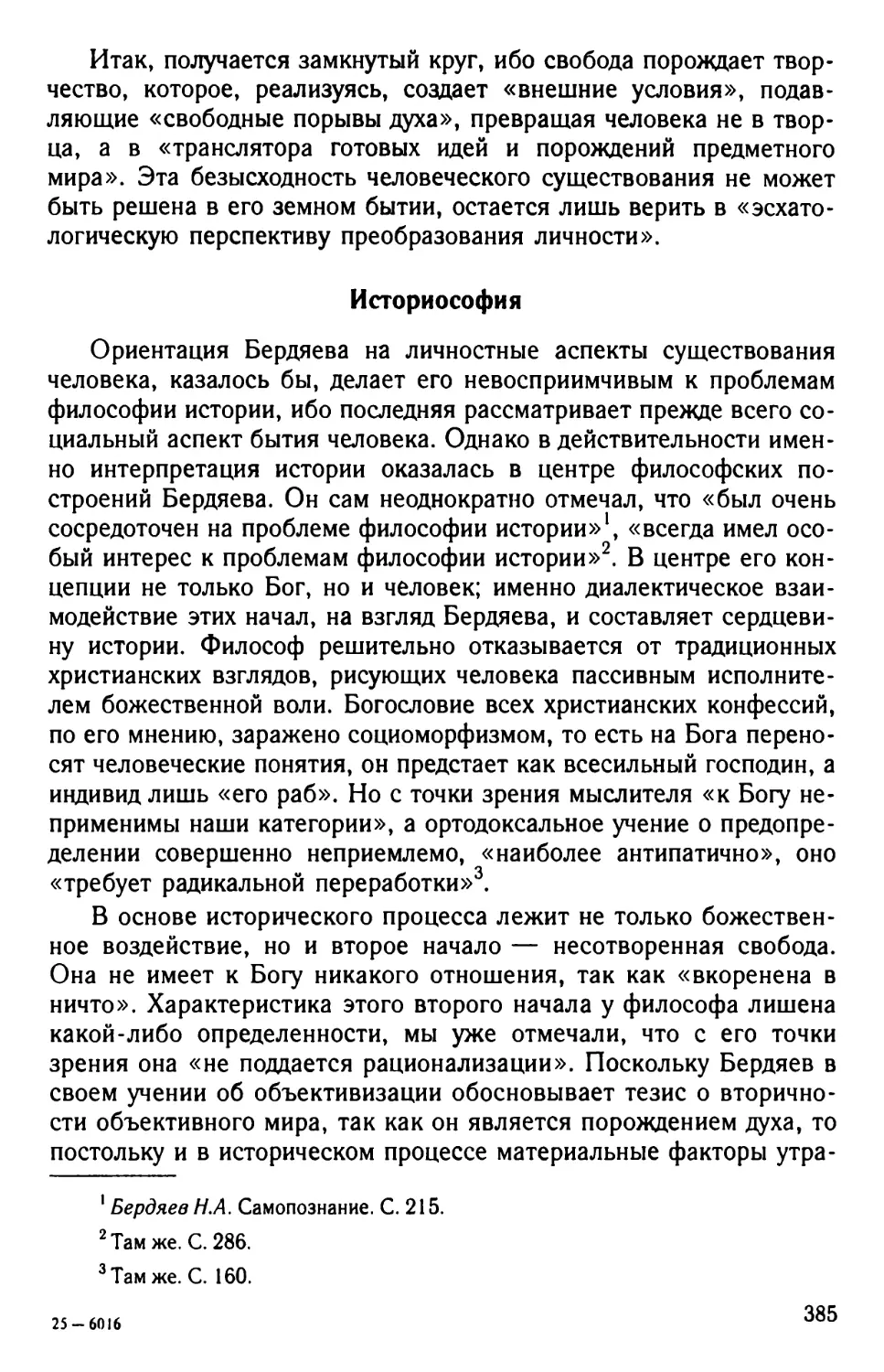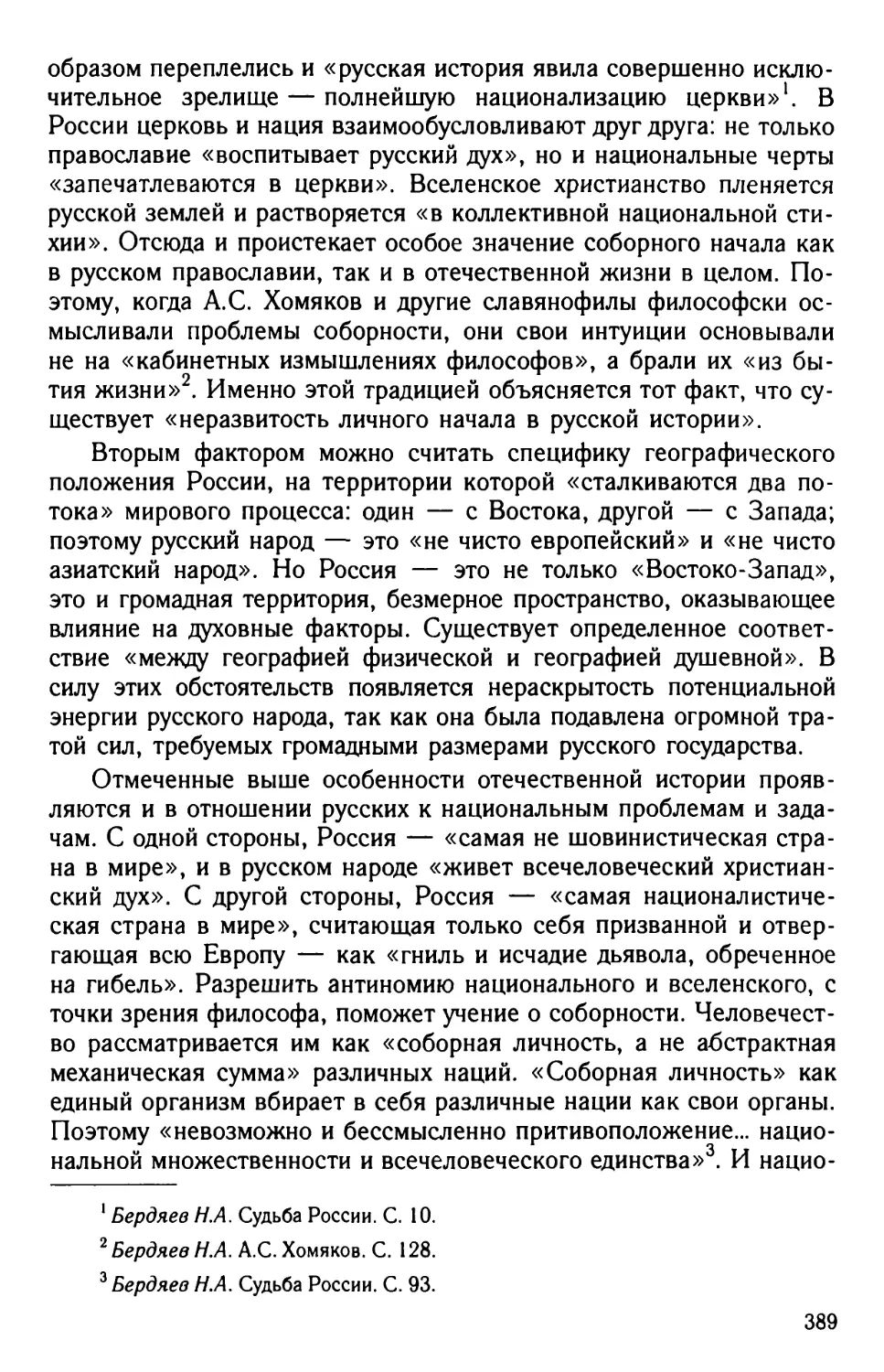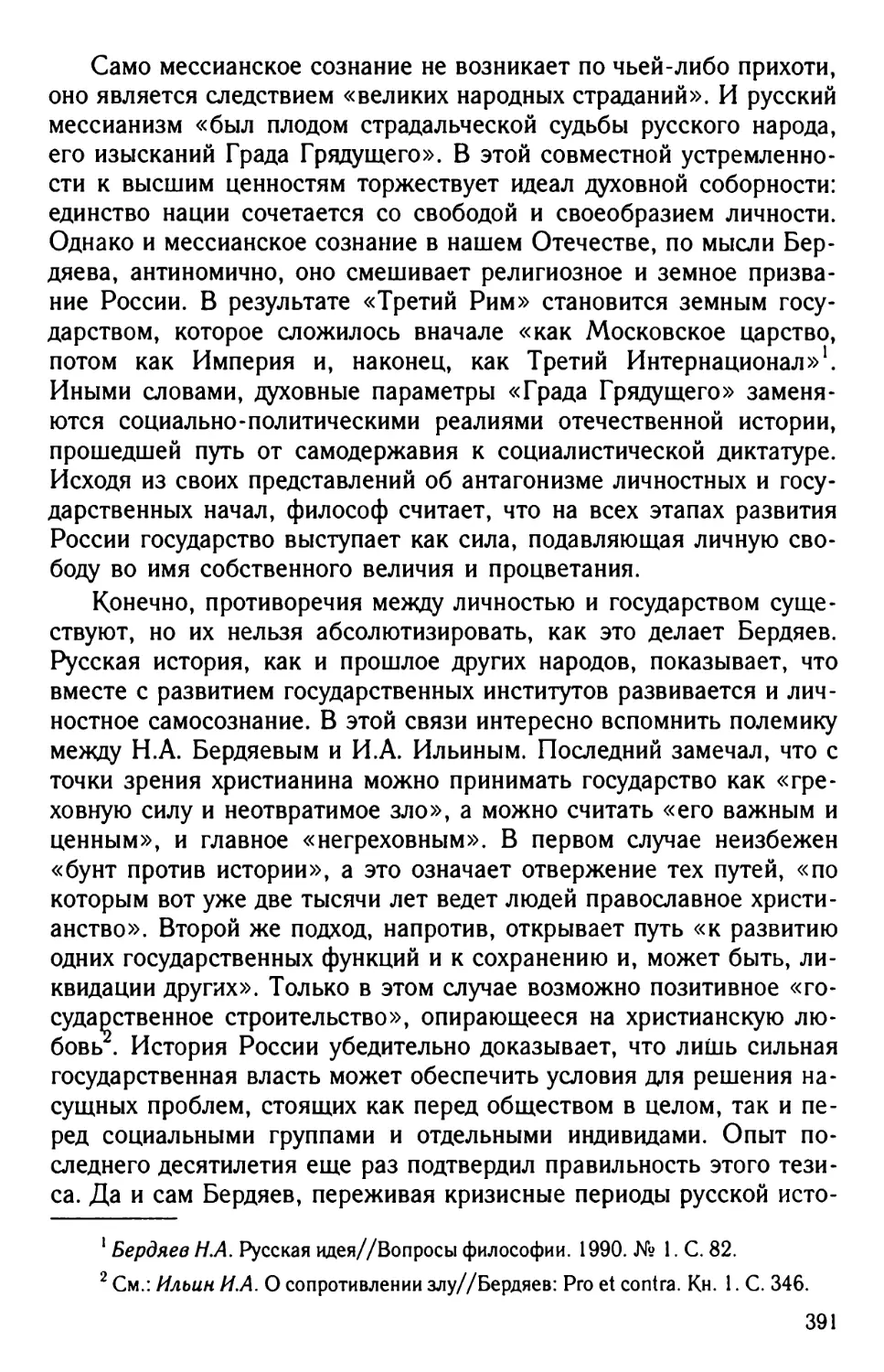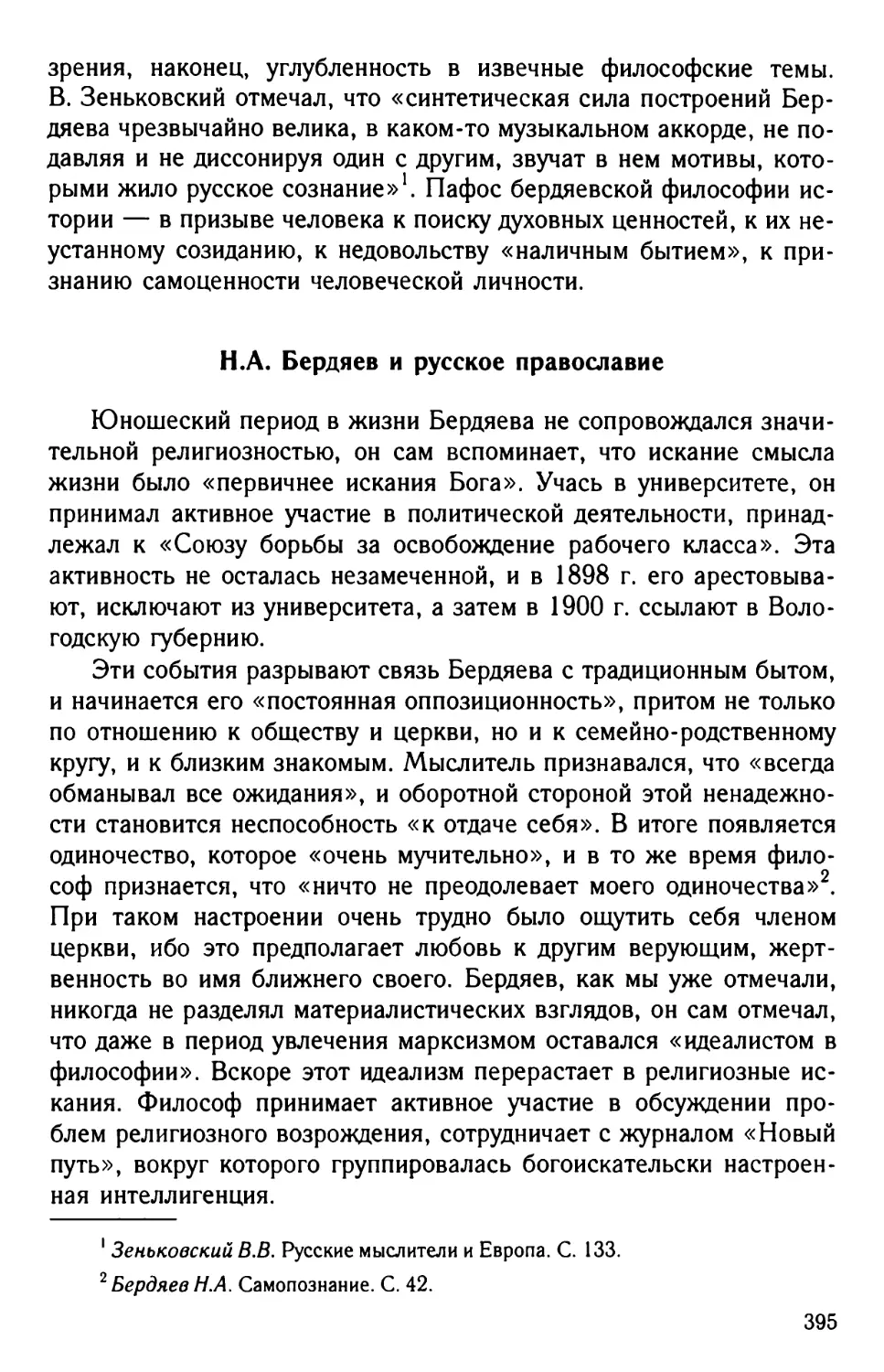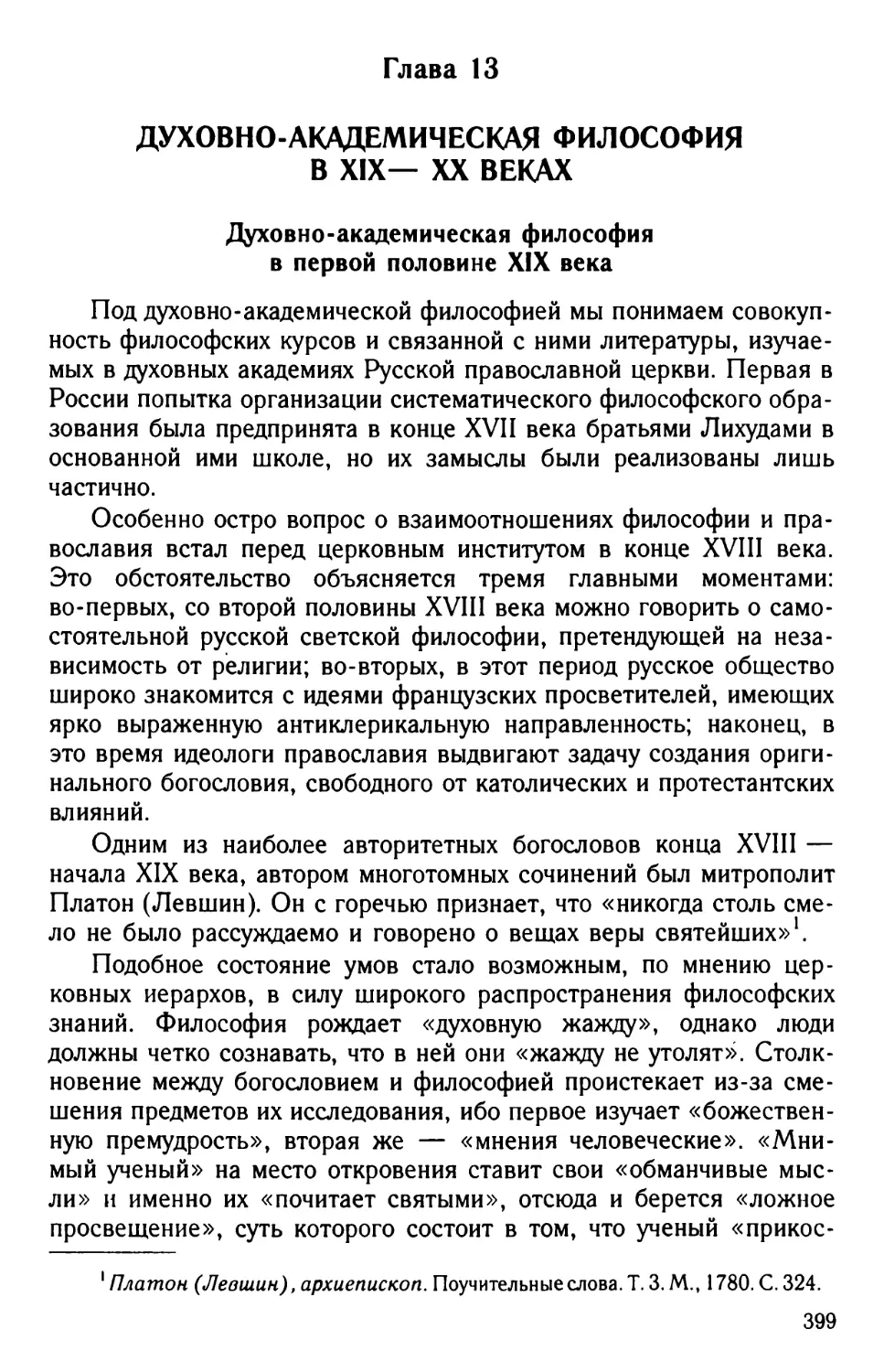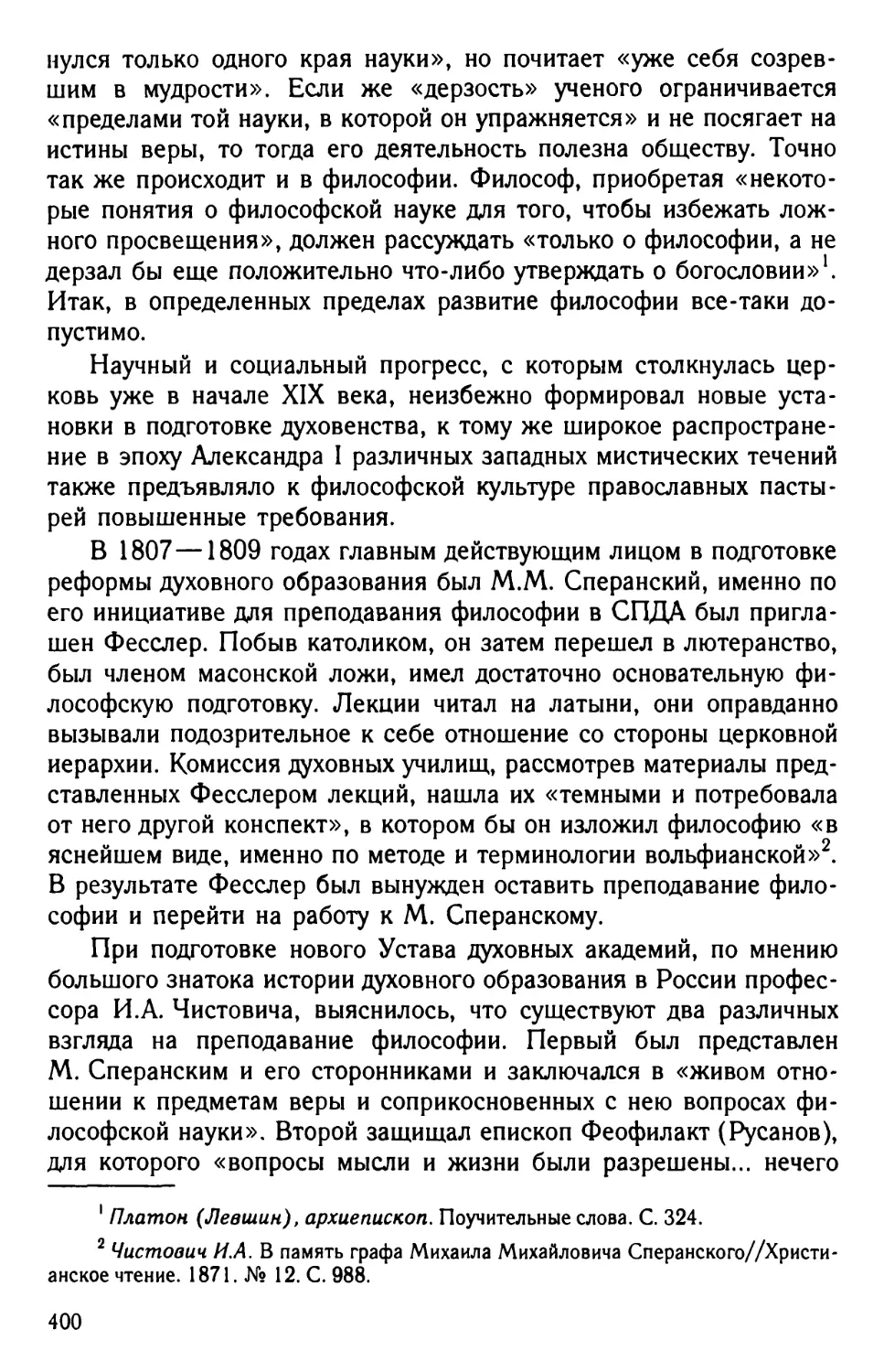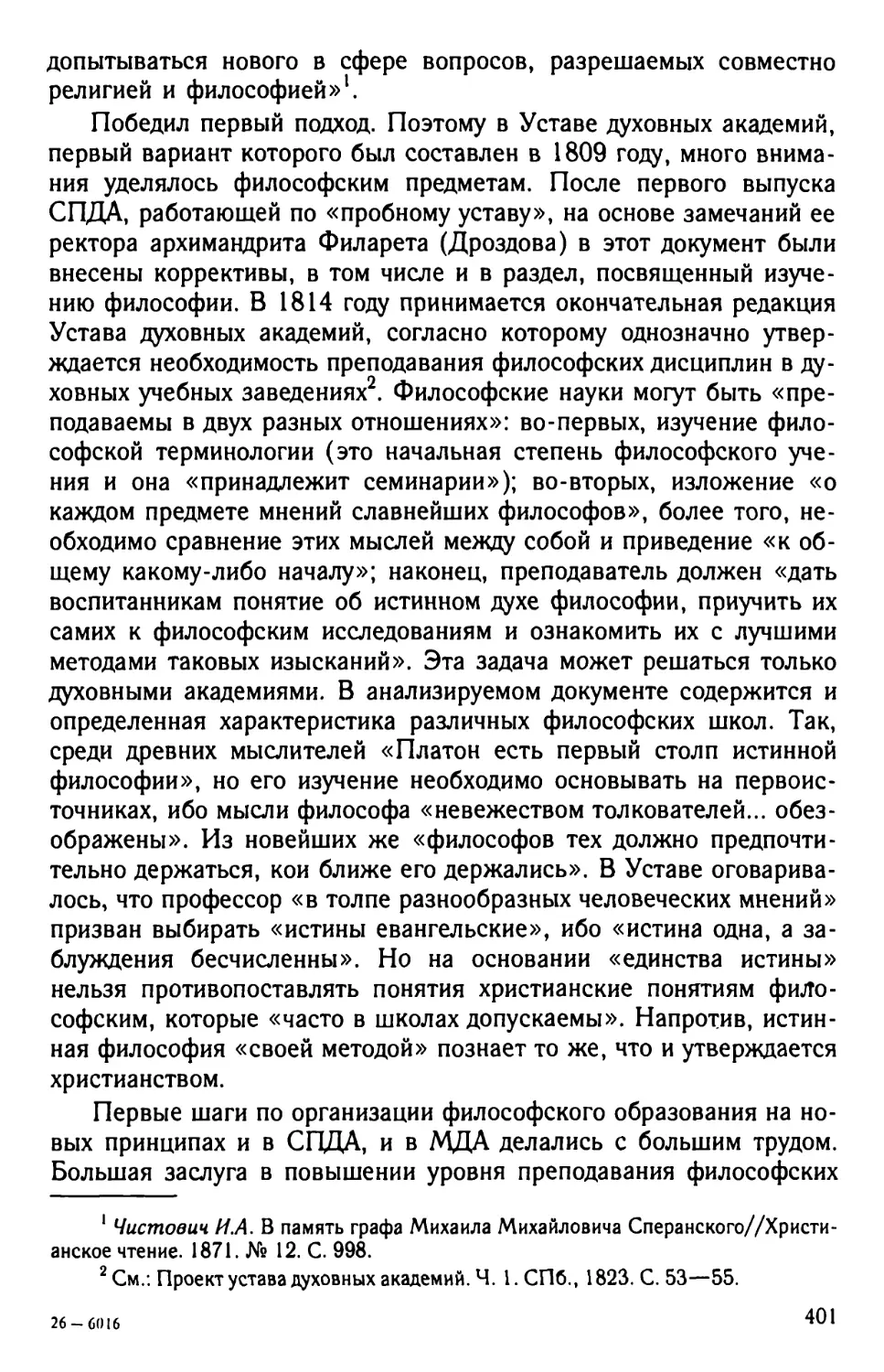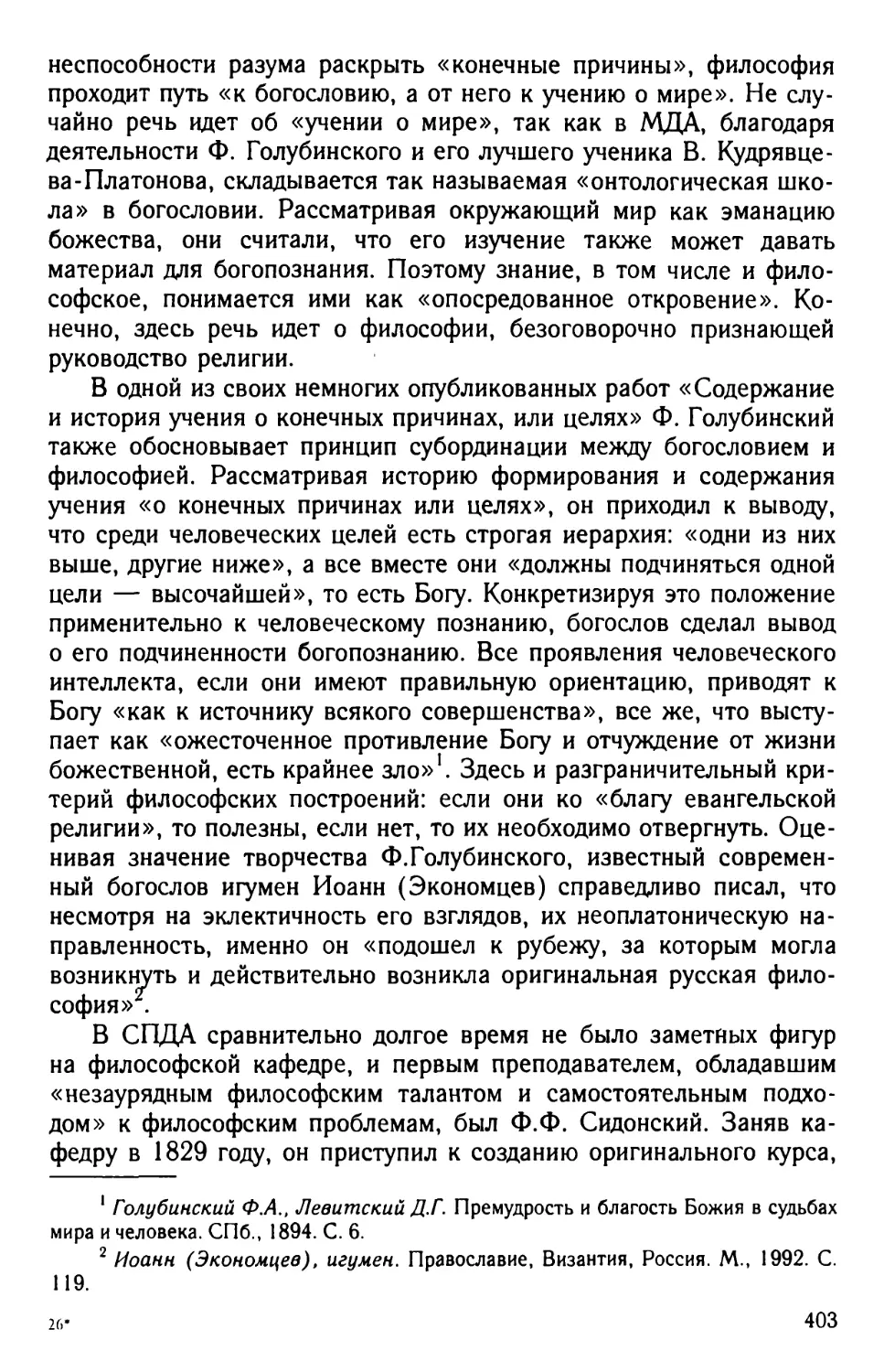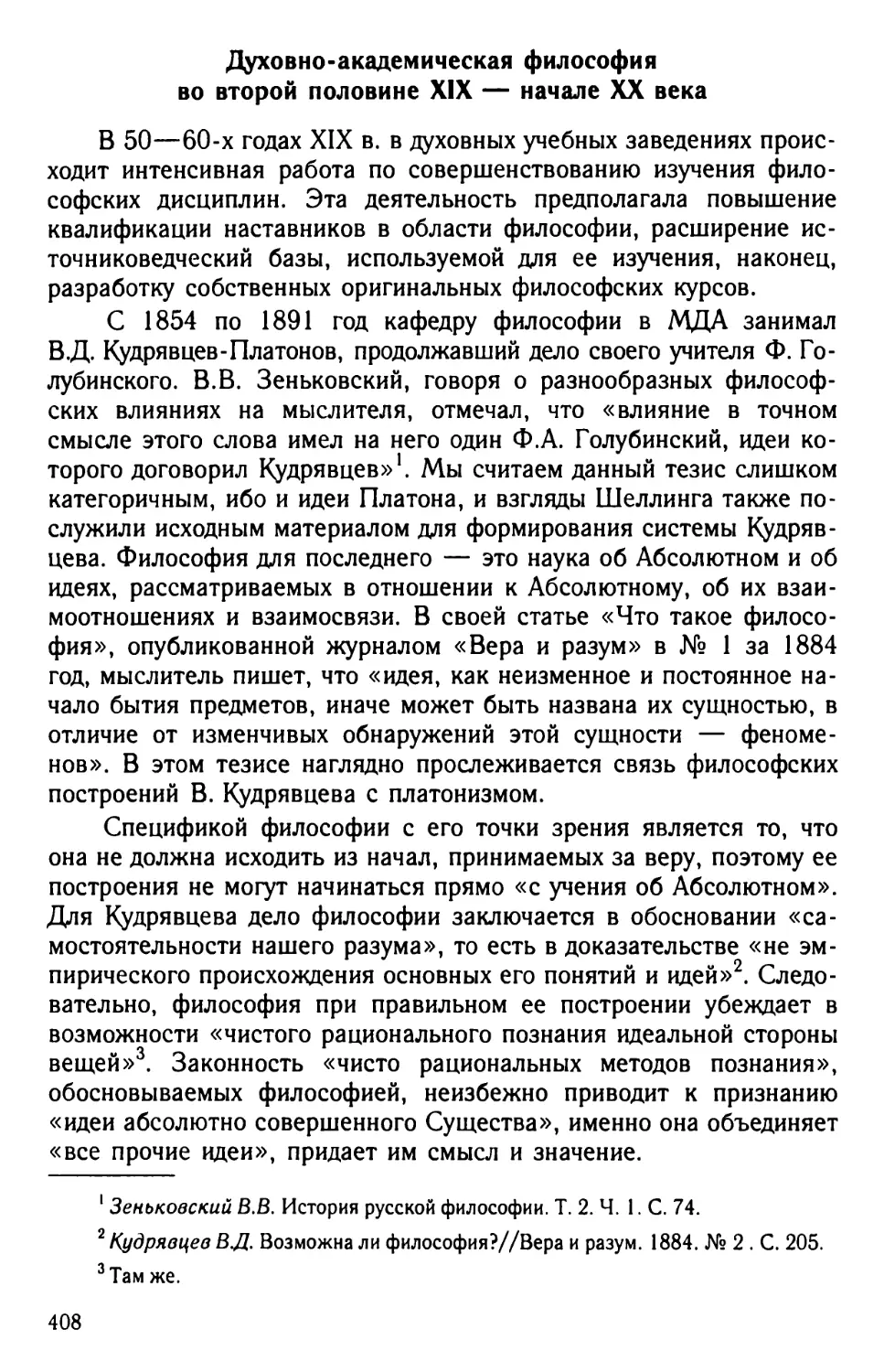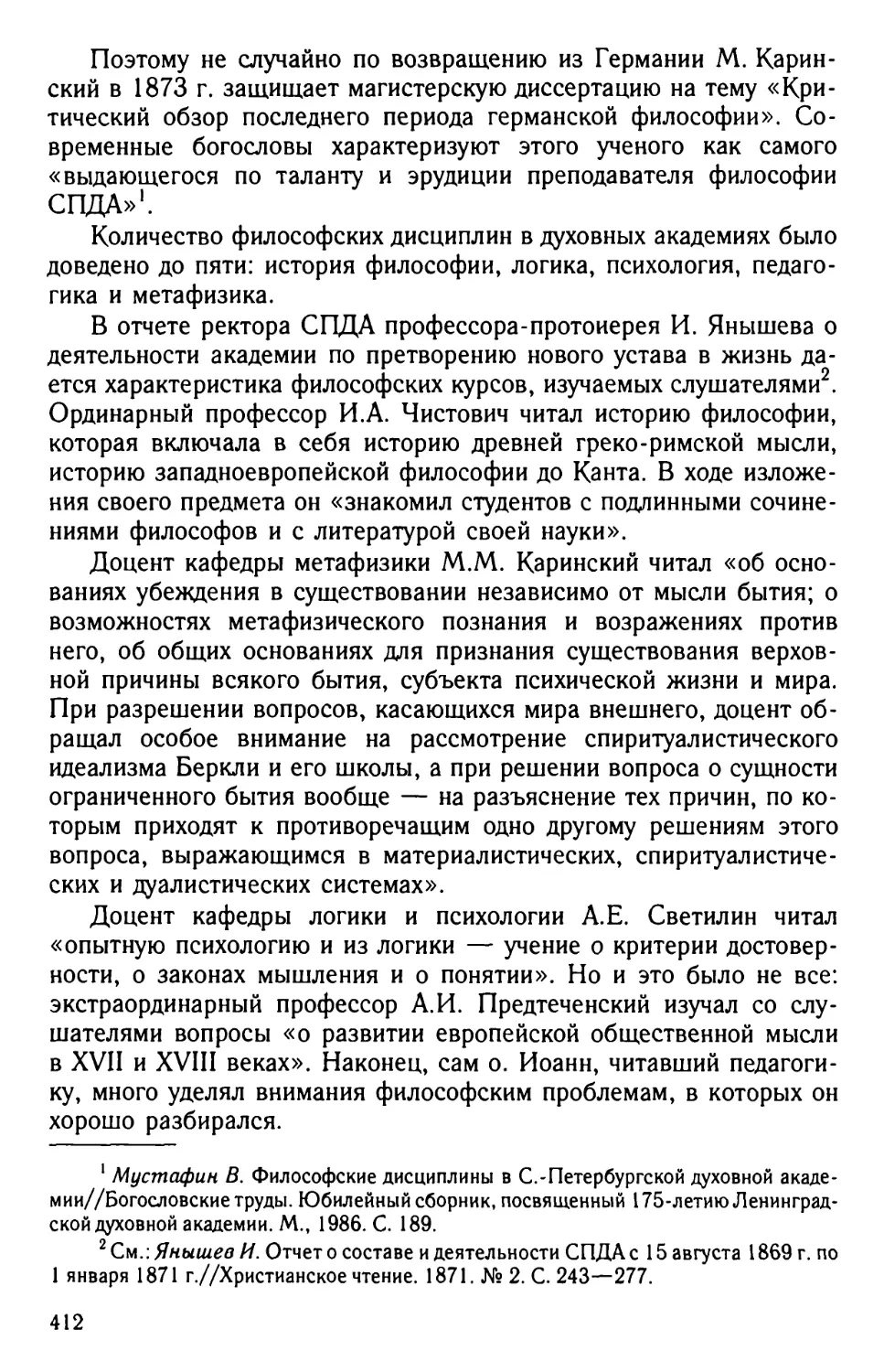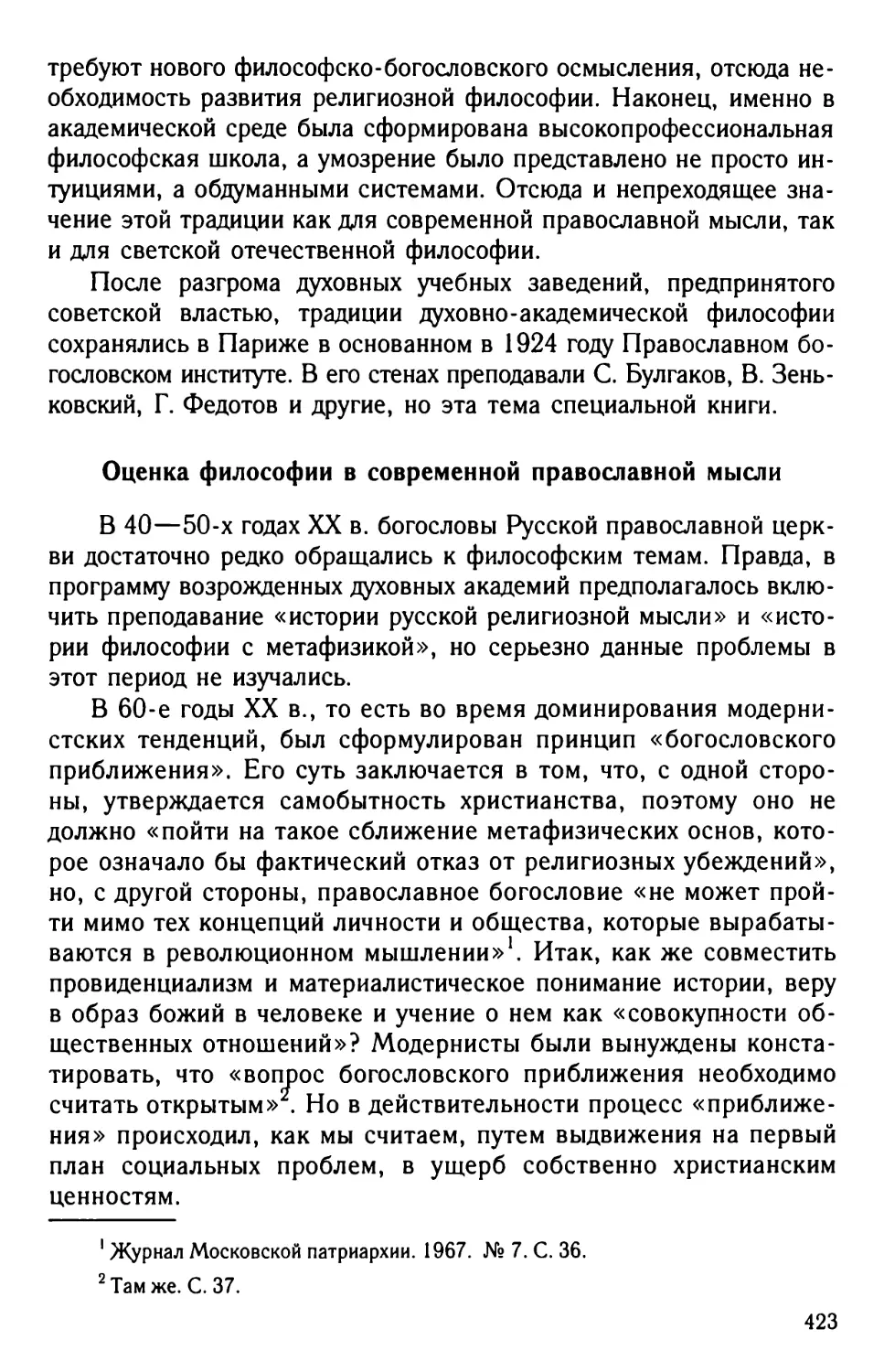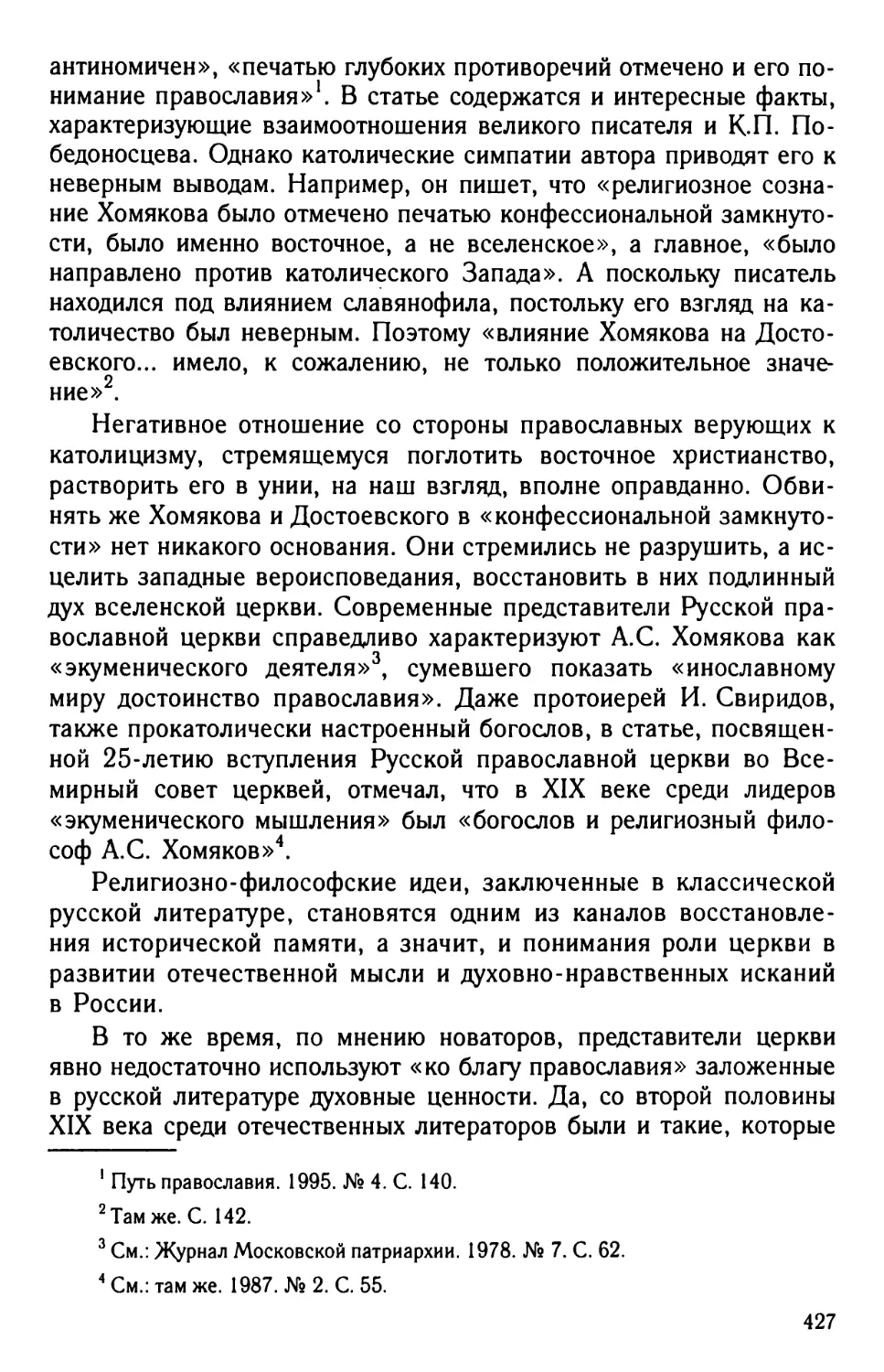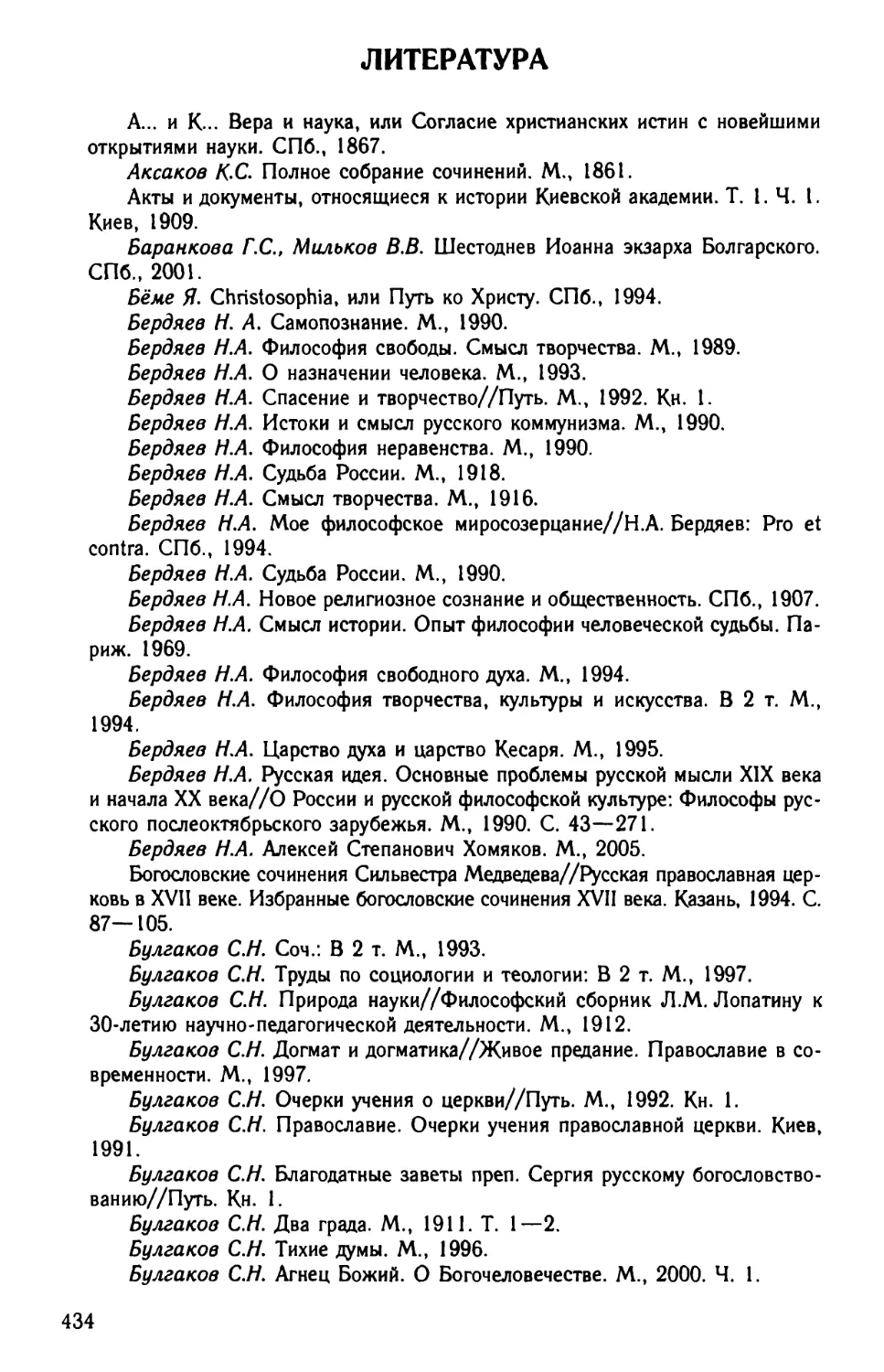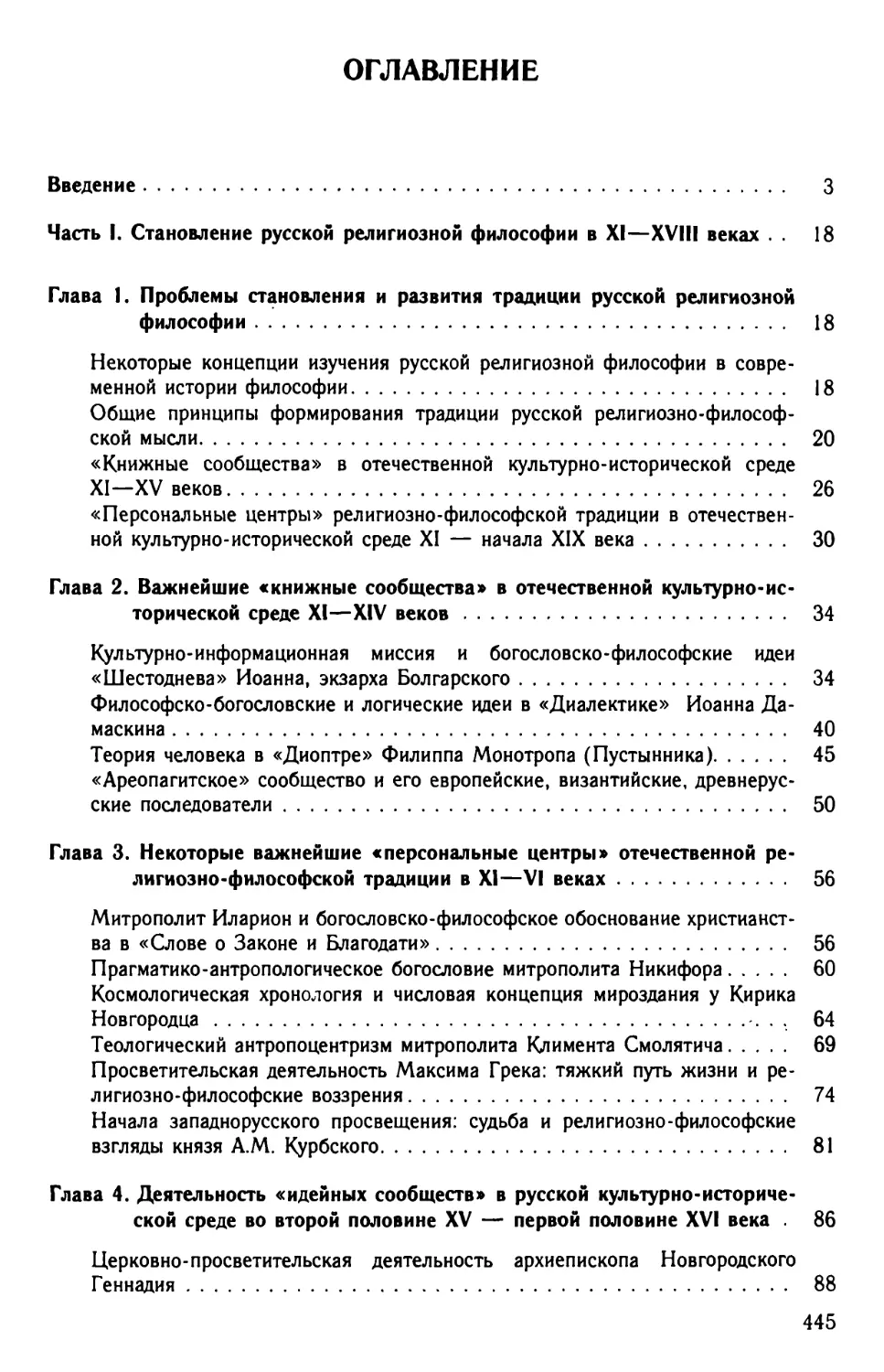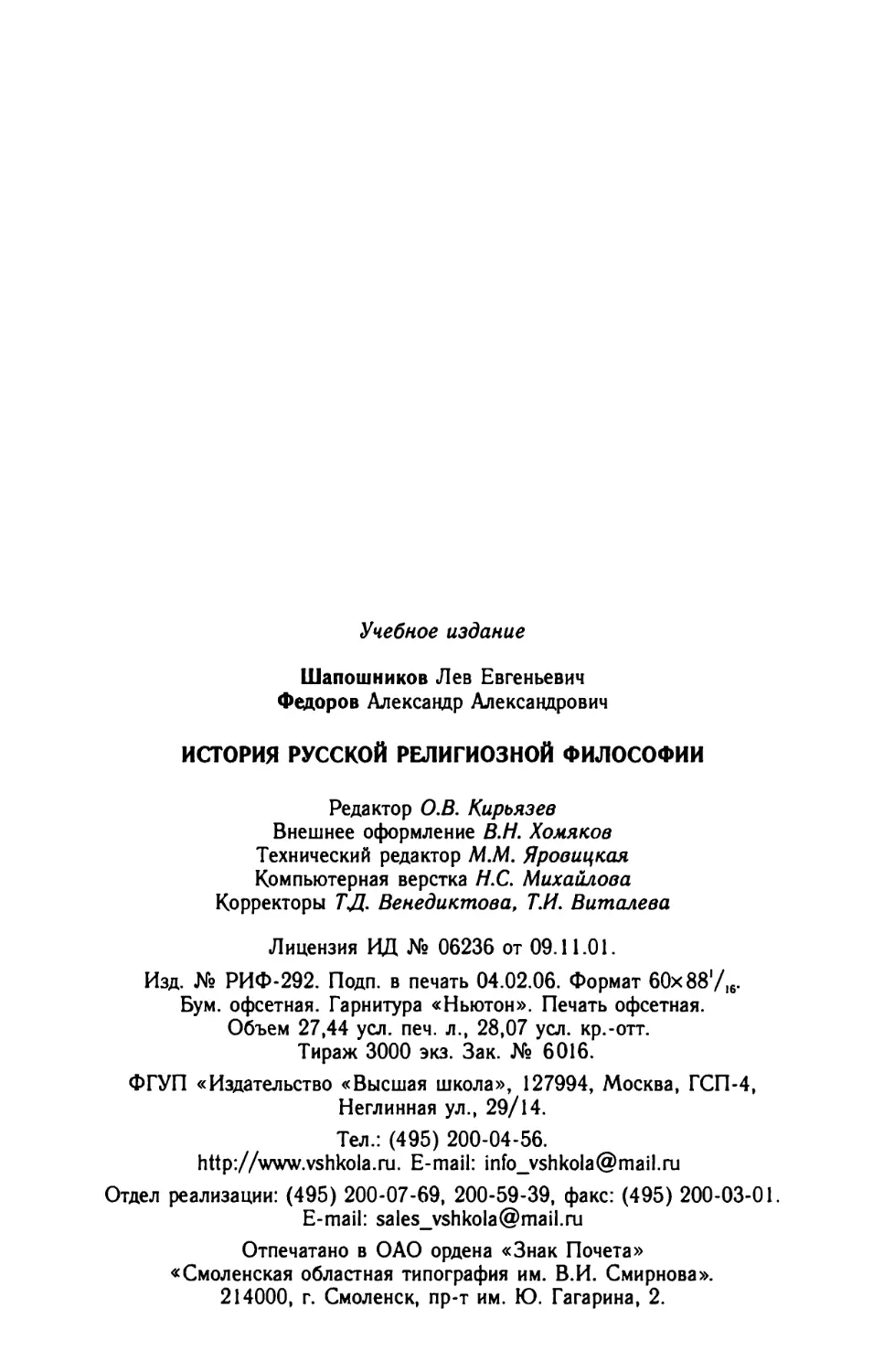Author: Федоров А.А. Шапошников Л.Е.
Tags: философия психология история философии религия история
ISBN: 5-06-005109-9
Year: 2006
Text
» История философии
Л.Е. Шапошников
A.A. Федоров
СТОРИЯ
РУССКОЙ
РЕЛИГИОЗНОЙ
ФИЛОСОФИИ
ВВЕДЕНИЕ
История русской философии не раз была предметом анализа
исследователей. Как известно, первый опыт определения
специфики русского любомудрия относится ко второй четверти XIX века,
когда профессор Казанской духовной академии архимандрит
Гавриил (Воскресенский) в 1839—1840 годах опубликовал многотомную
отечественную «Историю философии», при этом ее шестая часть
была посвящена рассматриваемой теме1. В конце XIX — первой
половине XX века появляются работы А.И. Введенского, А.Ф.
Лосева, Э.Л. Радлова, Г.Г. Шпета2, С.Л. Франка3, Б.В. Яковенко4,
рассматривающие историю и специфику русской философии. Ее
оценки были неоднозначны, особенно много критических высказываний,
часто несправедливых, содержится в «Очерках развития русской
философии» Г.Г.Шпета (первое издание вышло в Петрограде в
1922 г.) и «Очерках русской философии» Б.В. Яковенко (первое
издание вышло в 1922 г. в Берлине). Два последних мыслителя,
находясь на позициях европоцентризма, не смогли верно определить
роль и значение русской самобытной мысли. Сводя значение
философии лишь к гносеологическим проблемам, они делали вывод об
отсутствии в России развитой формы философской рефлексии.
Фундаментальными работами по истории русской философии
считаются известные труды В.В. Зеньковского «История русской
философии» (первое издание вышло в Париже в 1948—1950
годах) и Н.О. Лосского «История русской философии» (первое
издание вышло в Нью-Йорке в 1951 г.). В названных исследованиях
дается объективная оценка роли отечественной философии в мировом
философском процессе, анализируются достижения и нерешенные
в рамках русского любомудрия проблемы.
В советский период религиозно ориентированные течения
русской философии получили официальную негативную оценку,
поэтому они рассматривались лишь как помехи «магистральному пути
утверждения материализма в России». В таких условиях
обобщающие учебные курсы по истории отечественной философии практи-
1 См.: Гавриил (Воскресенский), архимандрит. История философии. Ч. I—VI.
Казань, 1839—1940.
2 См.: Введенский А.И., Лосев А.Ф., Радлов Э.Л., Шпет Г.Г. Очерки русской
философии. Свердловск, 1991.
3 См.: Франк С.Л. Русское мировоззрение. СПб., 1996.
4 См.: Яковенко Б.В. Мощь философии. СПб., 2000.
3
УДК 1 (161.1) (091)
ББК 87.3 (2)
Ш 24
Рецензенты: доктор философских наук, зав. кафедрой русской
философии МГУ М.А. Маслин; доктор философских наук, зав. кафедрой
истории русской философии РПГУ им. А.И. Герцена A.A. Грекалов.
В оформлении издания воспроизведены фрагменты произведений: на
переплете — «Пустынник» и «Философы» М.В. Нестерова, «Портрет Ф.М.
Достоевского» В.Г. Перова, «Синодальная типография» (фотография конца
XIX в.), «Что есть истина» H.H. Ге; на форзацах — «В московской гостиной
40-х годов» Б.М. Кустодиева, «Бал в Москве 20-х годов» Д.Н. Кардовского.
Шапошников Л.Е., Федоров A.A.
Ш 24 История русской религиозной философии. Учеб. пособие
для вузов/Л.Е. Шапошников, A.A. Федоров. — М.: Высш.
шк., 2006. — 447 с. (серия «История философии»).
ISBN 5-06-005109-9
В работе раскрывается становление русской религиозной философии с
древности до настоящего времени, прослеживается ее влияние на культурное
развитие России и ее философскую мысль. Особое внимание при этом
уделяется скрытому, подчас драматичному взаимодействию византийской традиции,
воспринятой с православием, и западноевропейской философской мысли.
, *Для студентов университетов, педвузов, аспирантов, всех
интересующихся 'историей русской философии.
УДК 1(161.1) (091)
ББК 87.3(2)
ISBN 5-06-005109-9 © ФГУП «Издательство «Высшая школа», 2006
Оригинал-макет данного издания является собственностью издательства
«Высшая школа», и его репродуцирование (воспроизведение) любым способом без
согласия издательства запрещается.
чески не издавались, исключением являются пособия A.A. Галак-
тионова и П.Ф. Никандрова: первое из них появилось в 1961 г., а
наиболее полный курс был издан в Ленинграде в 1989 г. под
названием «Русская философия IX—XIX вв.». Авторы, хотя и
придерживались марксистского взгляда на историко-философский процесс, в
то же время излагали и концепции русских идеалистов, конечно, с
критических позиций.
В последнее время появились достаточно многочисленные
учебные издания, посвященные истории русской философии. Назовем
лишь авторов, дающих целостный обзор развития отечественной
мысли: А.Ф. Замалеев, И.И. Евлампиев, А.И. Новиков, А.Д.
Сухов1, а также коллективный фундаментальный труд «История
русской философии» под редакцией профессора М.А. Маслина,
вышедший в Москве в 2001 г.
Названные книги в той или иной степени затрагивают и
историю русской религиозной философии, однако последняя, как
своеобразное проявление творческой мощи отечественных мыслителей,
ждет еще целостного анализа. Соотношение религиозных и
философских идей во взглядах того или иного мыслителя,
сосуществование догматической обязательности со стремлением к свободному
философскому исследованию, пути философизации православного
богословия, оценка идей русской религиозной философии
представителями официальной Церкви, взаимоотношение
духовно-академической и религиозно-философской традиции и другие важные
темы до сегодняшнего дня раскрыты явно недостаточно.
Среди многочисленных публикаций, анализирующих русскую
философскую традицию, существуют лишь два классических труда,
в центре внимания которых находится проблема взаимоотношений
православного богословия и отечественной философии. Это книги
профессоров H.H. Глубоковского «Русская богословская наука в ее
историческом развитии и новейшем состоянии» и Г.В. Флоровского
«Пути русского богословия»2. Изданные много лет назад, они не
могли учитывать изменения, произошедшие в православной мысли
за последние десятилетия. Авторы рассматриваемых книг, будучи
1 Замалеев А.Ф. Лекции по истории русской философии (XI—XX вв.). СПб., 2001 ;
Евлампиев И.И. История русской философии. М., 2002; Новиков А.И. История
русской философии. СПб., 1988; Сухов А.Д. Русская философия: пути развития (Очерки
теоретической истории). М., 1989.
2 См.: Флоровский Г.В. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991 (первое издание
вышло в Париже в 1937 г.); Глубоковский H.H. Русская богословская наука в ее
историческом развитии и новейшем состоянии. М., 1992 (первое издание вышло в Варшаве
в 1928 г.).
4
сами выдающимися представителями отечественного богословия,
дают видение развития духовной науки как бы «изнутри»: это
свидетельство не наблюдателей, а участников творческого процесса.
Поэтому их монографии обладают особой ценностью, но отсюда и
определенная субъективность оценок, соотнесение анализируемых
взглядов с собственными оригинальными позициями.
Изучение феномена «русская религиозная философия»
предполагает раскрытие этого понятия, выявление его специфики по
отношению к таким родственным явлениям, как «православная
мысль» и «православная философия». Наиболее общим понятием,
характеризующим отечественные интеллектуальные религиозные
традиции, на наш взгляд, является «православная мысль». Хотя,
конечно, православие не сводится только к интеллектуальному
уровню, более того, «православие показуется, а не доказуется», но
из этого не следует, что мыслительная деятельность является
чем-то второстепенным для восточного христианства. Напротив,
идеал цельного знания, отстаиваемый православием, предполагает
активную деятельность разума в качестве необходимого условия
познания христианских истин.
Понятие «православная мысль» достаточно объемно и не имеет
четкого определения, но можно выделить его широкое и узкое
значение. В первом случае к этому феномену духовной жизни
относятся православно ориентированные художественные произведения,
философские труды, социологические теории и другие формы
проявления духа. При этом формально создатели данных идей могут
расходиться с догматическими установками православия, как это
происходит у Л.Н. Толстого, H.A. Бердяева, В.В. Розанова и др.
Находясь «у церковных стен», эти и подобные им мыслители не
являются выразителями церковных взглядов, но в то же время само
их творчество укоренено в православную духовную традицию.
Понятие «православная мысль» употребляется и в узком
значении слова — как взгляды, вписывающиеся в контекст догматики,
церковной доктрины, то есть являющиеся собственно
православными. При этом следует подчеркнуть, что церковность не есть
одинаковость, ибо для православия и в сфере мысли характерно
признание принципа соборности, или «единства во множестве».
Исповедание символа веры составляет единую основу для богословия и
философских построений, но это единство не упраздняет
индивидуальных особенностей мыслителей, своеобразие их трактовки
мировоззренческих проблем. Поэтому в рамках православия могут
существовать такие разные мыслители, как A.C. Хомяков и П.С. Ка-
5
занский, П.А. Флоренский и М.М. Тареев, С.Н. Булгаков и В.Н. Лос-
ский и др.
Следовательно, русская религиозная философия — часть
«православной мысли», понимаемой в широком значении этого
термина. «Православная философия», ограничивая свои поиски
рамками церковности, относится к «православной мысли» в узком
ее понимании.
В православной мысли можно выделить различные течения: в
книге анализируются направления консерватизма, .новаторства и
модернизма, в которых по-разному формулируется отношение к
догматике, экклезиологии, социально-этическим проблемам, а
также к русской религиозной философии. Консерватизм — от
латинского conservo (охраняю, сохраняю) — выступает, как правило, под
лозунгом «неизменности церковных истин». Все плоды
человеческого ума «непрочны и относительны», истины же откровения даны
в готовом виде, и задача разума сводится к их охранению.
Богословский консерватизм фактически внеисторичен, он сохраняет
готовое и с принципиальных позиций отказывается от «приобретения
нового», созвучного духу времени.
И модернизм, и новаторство связаны с изменениями в
православии, однако даже этимология терминов показывает отличия этих
явлений. «Модернизм» происходит от французского moderne
(новейший, современный), «новаторство» — от латинского novatio
(обновление, изменение), то есть в первом случае речь идет о
чем-то новом, ранее не бывшем, во втором — об обновлении
существующего.
Отсюда понятно, что богословы-новаторы выступали за
сочетание традиции и современности, за богословский ответ на вызов
времени, опирающийся на православное предание;
богословы-модернисты, напротив, идут на разрыв с традицией, приспосабливаясь
к тем или иным модным социальным доктринам, они «выпадают из
контекста предания».
Консерватизм, новаторство и модернизм существуют в рамках
православной мысли не как застывшие, окаменевшие его части, их
соотношение динамично изменяется. Одним из важнейших
показателей значимости вышеназванных тенденций выступает отношение
богословия к философии. Негативное отношение к философским
построениям, а следовательно, и желание максимально ограничить
их влияние в рамках православной мысли характерно для
консерватизма. Напротив, новаторство одобряет философизацию
богословия. Правда, здесь существует опасность превращение богословия
6
в философскую доктрину, — подобные явления свойственны
модернизму. В целом же философизация богословия — это путь
развития православной мысли, и не случайно многие интересные ее
представители из церковного лагеря (В.И. Несмелое, М.М. Тареев
и П.А. Флоренский) стремились к «воцерковлению философии».
Поскольку к русской религиозной философии можно отнести
многие десятки имен, то любое учебное пособие должно исходить
из определенных критериев отбора персоналий. Для нас таковыми
являются сочетание оригинальности мысли с ее близостью к
православной традиции; наличие в творчестве мыслителя не просто
религиозных идей, но и его обращение к философскому осмыслению
богословских тем; роль философа в развитии отечественного
любомудрия и значимость его идей для духовной жизни современной
России; наконец, имеет значение и то, насколько полно
исследовано творчество того или иного мыслителя. Конечно, при выборе
персоналий и тем не удается избежать в полной мере субъективных
симпатий и антипатий, но без авторской позиции невозможно
обойтись в сфере гуманитарного знания.
При анализе отечественной религиозной философии важно
преодолеть два стереотипа, устойчиво присутствующих в
историко-философских изысканиях. Первый, как мы уже отмечали, связан с
европоцентризмом, сводящим историю философии к истории
Западной Европы. Для примера сошлемся на популярного во второй
половине XIX века немецкого ученого Карла Шмидта. Рассматривая
Византийскую церковь, он приходит к выводу об отсутствии в ее
недрах какого-либо творческого начала, ибо «всеобщий характер
духовной деятельности отличался механическим трудом и мумиепо-
добною косностью». Принятие православия некоторыми
славянскими и русским народами, с этой точки зрения, приводит их к
застою в сфере мысли, ибо на славянской почве христианство
«лишено было того плодотворного влияния, какое проявило оно в среде
западноевропейских народов»1. Естественно, исходя из такой
трактовки православия, следует признать, что ничего «творчески
оригинального» в истории русской религиозной философии создано быть
не может, все сводится лишь к эпигонству. Следует отметить, что
не только иностранцы, но и ряд отечественных мыслителей
отрицали какие-то особенности русской философии, сводя ее сущность к
подражанию западным школам. Еще П.Я. Чаадаев в письме к
Шеллингу замечал, что в России часть образованного общества «в
жажде новых знаний поспешила приобщиться к этой готовой мудро-
1 Шмидт К. История педагогики. Т.2. М., 1879. С.91.
7
сти»1, то есть к немецкой классической философии.
Самостоятельная же «умственная работа» в русском обществе, по его мнению,
отсутствует. Конечно, в современных условиях форма изложения
приведенных взглядов трансформировалась, но ее суть осталась
неизменной — русскую философскую традицию пытаются
представить как отклонение от магистрального пути развития
человеческой мысли, как «бесплодную утопию», зовущую «в никуда».
Достаточно в этой связи обратиться лишь к одному примеру, к статье
Е.В. Барабанова «Русская философия и кризис идентичности»,
опубликованной в 1991 году в журнале «Вопросы философии». Он
утверждает, что в современных условиях «идеологические и
утопические парадигмы русского философского мышления обретают
вторую жизнь». В результате, по его мнению, происходит возвращение
философии «к застарелому неврозу своеобразия. Симптомы его все
те же: ксенофобия, страх и нетерпимость по отношению к
инакомыслию, тавтология, проективизм, сверхценные идеи, бред
национального величия, бред преследования, подозрительность к
возможностям переоценок, уверенность в обладании ответами на все
вопросы, религиозный обскурантизм»2. Естественно, каждый
ученый имеет право отстаивать свою точку зрения, но поражает то,
что все ниспровергатели русской философии претендуют не на что
иное, как на истину в последней инстанции, их обличительные
выводы категоричны и безапелляционны. В.В. Зеньковский
справедливо отметил, что подобные выводы покоятся «на некоей
нарочитой недоброжелательности к русской мысли» и сводятся «к
намеренному желанию ее унизить» .
Тема специфики русской философии, ее познавательных и
социальных функций является, по сути, неисчерпаемой. При этом
очень важно, какой ценностной ориентации придерживается
ученый, анализирующий историю отечественной философии. П.А.
Флоренский специально отмечал, что в отличие от естествознания,
имеющего дело с «тезисом более или менее безразличным для
духовной культуры», в исторических науках и науках о культуре
предметом изучения выступает духовная ценность, «в охранении или в
ниспровержении которой каждый непременно заинтересован, так
или иначе»4. Поэтому философ, позитивно относящийся к русской
1 Чаадаев П.Я. Статьи и письма. М., 1989. С.277.
2 Барабанов Е.В. Русская философия и кризис идентичности//Вопросы
философии. 1991. №8. Cl 16.
3 Зеньковский В.В. История русской философии. Т. 1. Ч.1., Л., 1991. С. 18.
4 Флоренский П.А. Столп и утверждение Истины. М., 1914. С.545.
8
философии, найдет в ней совершенно противоположные черты, в
отличие от приведенных выше. Действительно, национальным
философским исканиям свойственны следующие черты:
свободомыслие, открытость к иным культурам, чувство общности всех людей,
независимо от их национальной принадлежности, обличение
пороков национализма, протест против нарушения прав личности,
защита общечеловеческих ценностей, критичное отношение к
собственным философским достижениям. Важно, чтобы различные
ценностные ориентации не приводили людей, их придерживающихся, к
враждебности и озлобленности друг к другу. Навешивание
ярлыков, обвинения «в политической близорукости», в национализме и
мракобесии не приближают нас к постижению Истины. Проблемы
русской религиозной философии — это вечные вопросы, которые
волновали и будут волновать россиян, и обсуждать их нужно
корректно, уважительно относясь к иным позициям. Важно, чтобы
дискуссия опиралась не на внешнее, формальное знакомство с
идейным наследием отечественной мысли, а базировалась на
сущностном, внутреннем ее постижении.
Второй стереотип связан с просветительской традицией,
рассматривающей эпоху Средневековья как время «мрачного и
тусклого существования», как своеобразный «летаргический сон
интеллекта». Большой знаток истории культуры М.М. Бахтин отмечал,
что культура Средневековья во многом «осталась нераскрытой до
конца», так как ее явления «изучались в свете культурных,
эстетических и литературных норм нового времени, то есть мерились не
своею мерою, а чуждыми им мерами нового времени»1. Отсюда
вытекает пренебрежительное отношение к философской традиции,
сформировавшейся в рамках Русской православной церкви.
Христианский универсализм, обращенность к людям всех наций
не отменяет национальных компонентов, имеющихся в реальной
церковной жизни. Следовательно, историческое бытие религии
неизбежно связано с историей того или иного этноса. В этой связи
встает проблема органической или неорганической религии для
каждого народа. Не останавливаясь на этой важной проблеме
подробно, отметим лишь признаки, присущие, на наш взгляд,
органической религии.
Органическая религия является духовной основой, на базе
которой формируются особенности национальной психологии,
культуры, этические и эстетические установки этноса. Одним словом,
1 Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и
Ренессанса. М., 1990. С.24.
9
она во многом предопределяет менталитет той или иной нации.
Органическая религия на всех этапах истории данного народа, после
ее принятия, оказывает существенное влияние на процесс развития
общества, она даже в самых неблагоприятных для нее условиях
остается значимой величиной для нации. Органическая религия
выступает важной интегрирующей силой для этноса, она сплачивает
его на основе традиций, сохраняет и развивает национальное
самосознание.
Для русских органической религией является православие, в
силу этого история отечественного философствования неотделима
от истории русского православия. Естественно поэтому, что
особенности православия наложили отпечаток на русскую
философскую традицию, которого нет в философских школах,
ориентирующихся на западное христианство, ибо оба эти направления имеют
ряд принципиальных отличий друг от друга.
Поскольку идейной основой отечественного философствования
является восточное христианство, постольку именно
взаимоотношение любомудрия с православием, которое носило различный
характер в ходе истории, и определяет периодизацию русской
религиозной философии.
Первый этап (XI—XVII вв.) — русская средневековая
философия — проходил под доминантным влиянием православных
установок; второй этап — XVIII в. — первая треть XIX века, в этот
период появляется самостоятельная светская философия, прежде всего
как часть просветительской идеологии, оппозиционной по
отношению к исторической Церкви; третий этап — XIX в. — первая
половина XX века. Он характеризуется созданием самобытной русской
религиозной философии, опирающейся на синтез православной
традиции с высокоразвитыми формами философского мышления;
наконец, современная религиозная философия, представленная
прежде всего как православная философия. Ниже мы более
подробно остановимся на характеристике обозначенных вех в развитии
отечественного любомудрия.
Восточное христианство отказалось от «развития» символа
веры путем введения новых догматов. Если на Западе качественное
развитие вероучения достигалось путем выработки новых
теологических положений, а для этого необходимы были рациональные
построения, то на Востоке — путем углубления в содержание уже
имеющегося символа веры, которое не может опираться лишь на
разум. Это обстоятельство накладывает существенный отпечаток на
стиль мышления. Католическая схоластика признает гармонию
веры и разума, для нее богословские истины «сверхразумны», но
10
«не противоразумны». Философия становится важным
инструментом богопознания, выделяется в специфическую форму знания.
Восточная богословская традиция, как мы уже отмечали, исходит из
того, что догматические истины не могут быть адекватно выражены
в рациональной форме. Православие «показуется, но не доказует-
ся». Этот же «показ» предполагает обращение не столько к разуму
человека, сколько к его сердцу, которое понимается как
«средоточие духовной жизни». Исходя из этого, философия не выделяется в
особую, самостоятельную сферу знания, но она присутствует как
важный элемент не только в богословской, житийной, но и
светской литературе.
Академик Д.С. Лихачев отмечал, что на начальных этапах
своего развития русскую литературу отличает «отсутствие строго
определенных границ между произведениями, между жанрами, между
литературой и другими искусствами»1. Поэтому не специальные
философские трактаты отражают уровень развития философии, а
вся совокупность интеллектуальной деятельности. Эта особенность
сохраняется и в более позднее время, в период, когда появляется
профессиональная философия. Можно согласиться с С.Л.
Франком, что «собственной формой русского философского творчества
выступает свободно написанная статья, которая крайне редко
посвящена определенной философской теме и обыкновенно пишется
«по поводу», связанному с какой-либо новой проблемой
исторической, политической и литературной жизни, и в то же время
затрагивает глубокие и важные мировоззренческие вопросы»2. Более
того, философские идеи излагаются не только в словесной форме.
В русской традиции важнейшее значение приобретает
«символическое» выражение мыслей путем иконописи, храмовой архитектуры,
литургического творчества. Икона оценивается как «умозрение в
красках», храм — как «застывшая мысль», наконец, духовная
музыка — как «гармония мысли, слова и звуков». Обратим
внимание: везде присутствует «мысль», имеющая важное
мировоззренческое значение, философское звучание. Итак, диффузия
философских идей, отсутствие долгое время у философии самостоятельного
статуса — одна из специфических черт отечественного
философствования.
Важнейшей разграничительной чертой православия и
католицизма выступает сотериология, то есть учение о спасении.
Западное христианство, опираясь на Римское право, разработало юриди-
1 Лихачев Д.С. Великое наследие. М., 1979. С.23.
2 Франк С.Л. Русское мировоззрение. СПб., 1996. С. 151.
11
ческую теорию спасения. Бог выступает в виде судьи, а
человек — подсудимого, который оправдывается перед Творцом
добрыми делами. Была строгая градация «добрых дел», и нравственное
богословие католической церкви выработало и рационально
обосновало программу поведения индивида. Последовательно
руководствуясь юридическими нормами «satisfactio» (удовлетворения)
человеком Бога, католические богословы приходят к учению о
«сокровищнице добрых дел», которые оставили Церкви Христос, Дева
Мария и святые. Эти «сверхдолжные дела» служат основой для
индульгенций, освобождающих тех, кто их приобрел, «и от вины, и от
наказания». Тем самым закрепляется разрыв между словом
(христианскими нормами) и делом (жизнью верующего).
Иными словами, религиозные истины опосредованно влияли на
деятельность людей. По мере эволюции церковного сознания
представления о «добрых делах» в западном христианстве изменяются.
Религиозная и социальная сферы все более обособляются друг от
друга, наконец, появляется гуманизм, поставивший в центр своих
идей проблему самоутверждения человека на земле. Теоцентризм
уступает место антропоцентризму, религия же превращается в
«один из элементов культуры». С появлением протестантизма,
который, по словам М. Вебера, выступает с программой «расколдо-
вания мира», эта тенденция становится еще более заметной. Эти
объективные обстоятельства нашли свое отражение в
западноевропейской философской традиции. Разрыв между христианским
вероучением и реальной жизнью трансформируется в ней в господство
теоретических построений, и метафизика становится «знанием для
себя самой».
Православное учение о спасении исходит из понимания
нравственного совершенствования как процесса «обожения», то есть
преображения человека. Индивид не просто разумом познает «истины
откровения», но он «входит в истину». Отсюда понятно, что истина
носит не только гносеологический, но и онтологический характер,
то есть она не может оставаться лишь в сфере теории, она
«причастная бытию». Стремление к онтологизации истины особенно
усилилось на Руси в период знакомства с исихазмом, то есть с XIV
века. На Руси к исихазму принадлежали такие выдающиеся
церковные и политические деятели, как Сергий Радонежский, Нил Сор-
ский, Папсий Величковский, его влияние испытали великие
художники-иконописцы Феофан Грек и Андрей Рублев.
Проблемы взаимоотношения исихазма и русской культуры, иси-
хазма и русской философской традиции будут рассмотрены
специально. Мы хотим только подчеркнуть, что Г. Палама и его ученики
12
обращались с призывом к активной «духовной работе», требовали
от каждого предельного напряжения сил. Все дело в том, что
божественные энергии создают объективную основу одухотворенности,
они выступают как потенция, возможность духовной жизни. Однако
эта возможность становится действительностью только при
наличии субъективных усилий человека, «чрез его благую волю».
Именно благодаря «сочетанию» божественных и человеческих
усилий индивид может стать как бы «живой истиной». Следовательно,
в русском православии между усвоением нравственных норм и
нравственной жизнью нет никакого разрыва. Более того, праведная
жизнь может предшествовать любым теоретическим нормам, она
сама есть высшая норма. Нравственность утверждается не столько
проповедью, сколько личным примером, который получил название
«подвига». В связи с этим божественные истины начинают
трактоваться не только как «правильное изложение божественной воли»,
но и как «жизнь по воле», то есть как жизнь по «правде божьей».
Эти установки отразились и в философских исканиях —
социально-нравственная философия и философия истории становятся
доминантными темами русской мысли. Итак, онтологизация истины
является характерной чертой отечественного философствования.
Одной из разграничительных линий между православием и
католицизмом является различное отношение к природе, к космосу в
целом. В христианстве встречаются и переплетаются две
тенденции, по-разному трактующие отношение индивида к окружающему
миру. Первая — ветхозаветная, рассматривающая человека как
«хозяина твари», как повелителя растительного и животного
миров. Вторая — новозаветная, делающая акцент на необходимости
любви к окружающему миру. Приобретая христианские качества,
спасая свою душу, люди тем самым и тварь делают сопричастной
вечной жизни. Как в Ветхом, так и Новом Завете четко проводится
мысль об ответственности человека за «братьев наших меньших»,
но если в первом случае она обусловлена идеей «владычества», то
во втором случае — практикой любви к твари. Западное
христианство усваивает ветхозаветную традицию: в нем индивид и природа
противостоят друг другу. Активность людей и прежде всего их
интеллектуальные способности призваны подчинить низший уровень
высшему, разумному началу. Католическая традиция
устанавливает жесткую иерархию «ступеней совершенства», господствующую
в мире. Природа, животный мир, язычники, христиане, ангелы,
Бог — основные ступени этой градации. Причем данная иерархия
подчеркивает, что, чем дальше от природы, тем ближе к Богу, а
значит, тем совершенней бытие. Поэтому на Западе долгое время
13
не понимали эстетического значения природного начала, там
сохранялось равнодушие к красоте тварного космоса. По отношению к
природе утверждается утилитарный подход, она начинает
рассматриваться как средство удовлетворения материальных потребностей
человека, лишается самоценности.
Иной была ситуация в русской православной традиции,
опирающейся на новозаветный принцип любви к природному миру. Эта
традиция была дополнена языческими представлениями восточных
славян о единстве человека и природы. В результате природа, плоть
получают сакральное значение, причем подобный подход не
проявляется лишь «в теории», но он закрепляется и в обрядовой
практике. Не только природа, не только человек, его история, но и сама
религия начинают оцениваться с эстетической точки зрения. Не
случайно послы князя Владимира, «испытывающие веры»,
отвергли западное богослужение, не увидев в нем «красоты никакой». И,
напротив, византийское богослужение приводит их в восторг, так
как «не знали — на небе или на земле мы: ибо нет на земле
такого зрелища и красоты такой». И далее эта тема снова усиливается:
по мнению послов, они не смогут «забыть красоты той, ибо
каждый, кто вкусит сладкого, не возьмет потом горького»1.
Знакомство с исихазмом, идеи синергизма также способствуют
эстетизации окружающего мира. Энергийное присутствие Бога в
тварном космосе делает последний сопричастным божественной
красоте. Эстетическое отношение к природе, к человеческому
обществу порождают в России особую значимость искусства,
художественного способа познания мира. Выражая эту тенденцию,
A.C. Хомяков считал, что «чувство художника есть внутреннее чутье
истины человеческой, которая ни обмануть, ни обмануться не
может»2. Подобные утверждения верно характеризуют русскую
духовную традицию, в которой часто, как уже отмечалось, философские
интуиции выражались в «поэтических прозрениях»,
литературно-критических статьях, романах, дневниках и т.д. Особая
значимость эстетического опыта, чувство восхищения прекрасным миром
отразились и в софиологии, и в идее богочеловечества, и в русском
космизме.
Итак, эстетизм — характерная особенность русского
философствования, противостоящая западноевропейскому утилитаризму.
Наконец, последняя проблема, на которой хотелось бы
остановиться, характеризуя специфику русского философствования. За-
1 Повесть временных лет. (Лаврентьевская летопись.) Арзамас, 1993. С.97.
2 Хомяков A.C. Поли. собр. соч. Т.5. Мм 1900. С.31.
14
падное христианство в силу ярко выраженной рационалистической
струи имеет четкие формулировки большинства религиозных
положений. Богословские споры, уточняющие те или иные положения
церковного учения, проходили в понятийной сфере и апеллировали
к разуму. После того как они утверждались папским решением, они
приобретали статус «непогрешимых истин», которые надо было
безусловно принимать. Православие в силу выраженных
иррациональных тенденций и благодаря тому, что ни один иерарх не
обладал правом на «абсолютный авторитет в вопросах веры», не имело
по многим важным проблемам однозначных определений. Такая
ситуация, с одной стороны, приводила к разнообразным мнениям в
рамках церковного богословия, а с другой — аргументом в
истинности того или иного тезиса становится не логическая
доказательность, подкрепленная внешним авторитетом, а его
распространенность в «церковной ограде». Так возникает «соборный характер»
русского мышления; его развитию способствовали также
географические факторы и особенности российской истории1.
Как мы покажем, в истории русской философии особая заслуга
в осмыслении проблем соборности останется за A.C. Хомяковым,
но сама идея «единства во множестве» имеет глубокие корни в
церковном и национальном сознании. Православная церковь в идеале
стремилась не только объединить в единое целое людей, но и
сохранить при этом индивидуальные особенности верующих, правда, в
реальной социальной практике Церкви идеал соборности часто не
достигался.
Объективные различия между духовными традициями Западной
Европы и России приводят к разным подходам в понимании роли
личности в общественном развитии. К.С. Аксаков, подчеркивая
особенности западноевропейской истории, писал, что там «все
эффект, все картинка, и, вместе, личное самолюбие на первом
плане»2. В нашем отечестве индивидуализм не получил заметного
развития и личностное начало исторического процесса не так ярко
выражено, как на Западе.
Эти различия дали пишу для утверждений, что «русский
народ — это народ рабов, безропотно покоряющийся власти». Уже
немецкий дипломат С. Герберштейн, посетивший Россию в начале
XVI в., в своих «Записках о Московских делах» писал о русских,
1 См.: Шапошников Л.Е. Философия соборности. Очерки русского самосознания.
СПб., 1996.
2 Письма СТ., КС. и С.А. Аксаковых к И.С. Тургеневу//Русское обозрение. 1894.
Сентябрь. С.29.
15
что они находят «больше удовольствия в рабстве, нежели в
свободе». Этот тезис стал ключевым в различных русофобских
концепциях. Активно он распространяется и в современном мире. Причем
интересно отметить, что, начиная с П.Я. Чаадаева, его
пропагандировали не только иностранцы, но и «русские по имени», которых
Ф. Глинка назвал «пасынками России».
Однако объективный анализ отечественной истории показывает
полную несостоятельность данного утверждения. В этой книге
обосновывается тезис о том, что соборность не устраняет
индивидуальных особенностей личности, более того, принятие какого-либо
положения за соборную истину требует от человека, «вошедшего в
истину», максимальных усилий по ее реализации.
Переломные моменты в истории России, умение русского
народа при самых неблагоприятных условиях сохранять самобытность и
своеобразие дают возможность добросовестным западным
исследователям делать правильный вывод о том, что «тезис о рабской
психологии — один из мифов о России, укоренившийся в западном, да
и не только западном сознании»1. Да, определенная недооценка
личностного начала нашла свое отражение в отечественном
богословии и философском творчестве. Особенно ярко примат
социального над индивидуальным проявился в революционно
ориентированных течениях русской мысли, для которых достижение
общественного блага — высшая цель. Однако по мере развития русской
философии, особенно в конце XIX — начале XX века, начинается
все более широкое осознание значения личностного фактора в
социальной сфере, ставится задача возрождения истинного
«соборного духа», не уничтожающего «индивидуальные черты».
К сожалению, понимание соборности в условиях социализма,
как еще отмечал Н. Бердяев, стало радикально непохоже на то,
которое «искали у нас люди XIX и начала XX века». Он видит в этом
«иронию судьбы». Единство возводится в ранг абсолюта, не
допускающего никакой множественности, а цементирующей силой
становится принуждение. В современных условиях нам грозит поток
«множественности», разрушающей всякое единство. На передний
план часто выходят групповые и индивидуальные интересы. Для
преодоления центробежных устремлений надо возрождать дух
подлинной соборности, и обращение к идейному наследию
православной мысли, безусловно, поможет этому процессу.
1 Люкс Л. Россия между Западом и Востоком. М., 1993. С. 18.
16
Итак, диффузность, онтологизм, эстетизм и соборность — это
характерные черты отечественного философствования, в них
отразились особенности православия, его отличия от западного
христианства. Любые социальные преобразования, стремящиеся к
стабилизации общества, к тому, чтобы стать постоянно действующими
величинами в социальной сфере, должны учитывать эти традиции.
Попрание принципов социальной справедливости, насаждение
«духа личной отдельности», ориентация на приоритет
материальных ценностей перед духовными не имеют долгосрочной
перспективы в России.
Часть I
СТАНОВЛЕНИЕ РУССКОЙ
РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ
В XI—XVIII ВЕКАХ
Глава 1
ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТРАДИЦИИ
РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ
Некоторые концепции изучения русской религиозной
философии в современной истории философии
Всякое начало имеет свое начало. Вечность — удел Бога и
космологии. Человек оперирует этим понятием только тогда, когда
занимается теологией, или устанавливая предельные основания
устройства вселенной. Всякое начало имеет свое основание. Античная
философия основывалась на мифе, возникая в процессе трудного
восхождения «от мифа к логосу». Европейская средневековая
философия основывалась на иудаизме, Новом Завете и античной
философии, колоссальным усилием примеряя веру к знанию в
свободной спекулятивной мысли. Русская философия возникала из
могущественного и прекрасного в своем исходном порыве
святоотеческого начала осмысления Библии, которое исходит из византийской
культурно-исторической среды при существенном посредничестве
болгарской культуры. Спустя века это начало, обогащенное
западно-европейской философией и европейской философской мистикой,
приведет к мировому расцвету традиции русской религиозной
философии в XIX — первой половине XX века. Это был трудный путь.
Его начало связано с процессом христианизации Руси. Феномен
формирующегося древнерусского философствования вызывает и
поныне много споров.
В современной истории отечественной философии в 90-е годы
XX — начале XXI века сложился ряд крупных школ и возникли
несколько основополагающих концепций изучения древнерусского
философского наследия. Перечислим только главные и наиболее
известные из них.
18
M.H. Громов1 рассматривает «древнерусскую мудрость» как
«европейскую философскую мысль восточно-христианского
православного типа» и выделяет пять периодов ее развития: 1) X—
XI вв. — смена языческого типа мировоззрения христианским и
внедрение богословских и философских представлений; 2) XII—
XIII вв. — раннесредневековая русская философия как
сложившееся явление; 3) XIV—XV вв. — стадия количественной аккумуляции
наследия и новые переводы; 4) XVI в. — апогей развития
средневековой философской мысли; 5) XVII в. — начало замены
«древнерусского типа мышления» новоевропейским, размывание
средневековых «канонов» культуры, барочное влияние.
В.В. Мильков и группа его единомышленников к настоящему
времени проделали огромную работу по новым переводам и
комментированию древнерусского религиозно-философского наследия.
Среди прочих выпущены в свет фундаментальные издания «Шес-
тоднева» Иоанна, экзарха Болгарского, «Палеи Толковой»,
«Посланий» митрополита Никифора, «Древнерусские Ареопагитики» и др.
В.В. Мильков2 указывает на две основных тенденции в
древнерусской философской мысли. Одна из них развивалась под
воздействием определения философии, данного славянским
просветителем Константином-Кириллом Философом, которая «ориентировала
на испытание бытия, раскрывающего перед познающим субъектом
все сферы мира». В свою очередь, такая установка включается и в
традицию каппадокийской богословской школы, благосклонно
относящейся к античному философскому наследию. Вторая
тенденция, имея исток в «антифилософской» антиохийской богословской
школе, была представлена на Руси влиятельными определениями
философии, которые предложил последний крупный деятель
восточной патристики Иоанн Дамаскин. Они были ориентированы не на
свободное познание и преображение бытия, но на «узнавание знаний
уже сформулированных в христианской доктрине, полученных в
готовом виде». Исходя из этих посылок на Руси формируется «мисти-
ко-аскетическое, антиинтеллектуальное понимание философии».
1 Громов М.Н. Своеобразие древнерусской философской мысли//Громов М.Н.
Мильков В.В. Идейные течения древнерусской мысли. СПб., 2001 ; Громов М.Н.
История русской философской мысли//История философии. Запад — Россия — Восток.
Кн. l.M.,2000.
'Мальков В.В. Основные направления древнерусской мысли//Громов М.Н.,
Мильков В.В. Идейные течения древнерусской мысли. СПб., 2№\. Мильков В.В.,
Абрамов А.И. Становление философской мысли на Руси (XI — XVII вв.)//История
русской философии. М., 2001.
19
В.В. Мильков выделяет в древнерусской философии ряд
крупных проблемных блоков, составляющих ее идейное содержание:
теологический рационализм (Никифор, Кирик Новгородец,
Климент Смолятич); деятельная философия (кирилло-мефодиевская
традиция, «Диалектика» Иоанна Дамаскина, Кирилл Туровский,
Владимир Мономах); античное и неоплатоническое наследие в
древнерусской философии («Шестоднев» Иоанна экзарха
Болгарского, «Древнерусские Ареопагитики») и некоторые другие.
А.Ф. Замалеев, изучая начальные истоки формирования
отечественной религиозной философии, считает, что мы имеем традицию
древнерусского философствования, выражающуюся в оппозиции
«софийского», или аллегорического, рационализма,
расшатывающего религиозные устои и ориентированного на «мудрость знания»,
и афоно-печерской доктрины, отказывающейся от «негодного
пустословия» в пользу деятельного служения Богу и проповедующей
мистический взгляд на мир1. А.Ф. Замалеев выделяет в традиции
русской философии ряд тенденций, которые формируются с ее
начальных этапов и до сих пор составляют основную проблематику:
натурфилософия, антропология, историософия, политология,
философия языка .
Таким образом, были перечислены принципиальные
положения концепций нескольких наиболее авторитетных или часто
публикующихся специалистов по истории отечественной средневековой
религиозно-философской мысли. Именно они, так или иначе,
определяют большинство теоретических представлений, существующих
в современной историографии истории русской философии по этим
проблемам. Подчеркнем, что в деле изучения древнерусского
религиозного наследия важнейшими составляющими успеха являются:
основательное знание истории западноевропейской и византийской
философии; знание древнерусской истории и микроистории (жизни
и судьбы философов, деятелей церкви и культуры);
самостоятельное изучение и критика источников.
Общие принципы формирования традиции
русской религиозно-философской мысли
С XI по XV в. русская культурно-историческая и постепенно
формирующаяся в ней культурно-философская среда представляет
собой явление, которое не следует называть уникальным, или обла-
1 Замалеев А.Ф. Философская мысль средневековой Руси. Л., 1987. С. 168.
2 Замалеев А.Ф. Идеи и направления отечественного любомудрия. СПб., 2003;
Замалеев А.Ф. Лекции по истории русской философии. СПб., 2001.
20
дающим какими-то неповторимыми характеристиками. Происходил
широко известный процесс трудного становления высокой
интеллектуальной культуры, связанный с трансляцией источников из
Византии как региона-матрицы, посредством ряда славянских культур,
опережавших Русь по времени в христианском просвещении
(Болгарское царство). Этот процесс рецепции обладал четырьмя
характеристиками, усиливающими его сложность и неравновесность: 1)
русско-болгарская культурная рецепция; 2) формирование
«книжных сообществ» и «персональных центров»; 3) аутентичность
системы «автор — традиция»; 4) селекция византийской патристиче-
ской и богословско-философской литературы.
1. Роль болгарской книжной и религиозной культуры как
культуры-посредника обеспечивалась в том числе и необходимостью
контроля за сохранением идеологической, культурной и
автокефальной самобытности по отношению к ориентированной на
политические и христианско-просветительные процессы на Руси
византийской цивилизации. Болгария принимает христианство из Византии
в 864—865 гг., при царе Борисе (852—889), то есть на четверть
века раньше, чем Русь. Приблизительно в это же время кирил-
ло-мефодиевская славянская церковь вытесняется из Моравии, и
центр славянского христианского просвещения переходит в
Болгарию, где начинают действовать ученики Кирилла и Мефодия.
Регулярные культурно-просветительные контакты с Русью начинаются
уже после ее формального крещения в 988/990 гг. и протекают
«накопительным» способом. В «Повести временных лет»
справедливо говориться, что Владимир Святославич посеял семена
«просвещения», а в эпоху Ярослава Мудрого наступила пора пожинать
плоды в виде «книжного учения». Действительно, XII в. — время
сильнейшего влияния болгарской литературы на Киевскую Русь.
После периода начальной христианизации и осуществления
крестильных походов, после первоначального решения проблемы
культовых сооружений и кадров священнослужителей — возникает
точка критического значения, момент, когда появляются первые
отечественные христианские книжники, переводчики и писатели
(Лука Жидята, Иларион, Феодосии Печерский) и острая
потребность в насыщении пустоты культурно-исторического
пространства близкой по языку и уже комментированной литературой — так
появляются тексты «Изборника 1073 г.», «Шестоднева» Иоанна
экзарха Болгарского, «Хроник» Иоанна Малалы, а затем и «Палеи
Толковой», «Пчелы», «Диоптры» Филиппа Пустынника,
«Диалектики» Иоанна Дамаскина, корпус сочинений Дионисия Ареопа-
гита и др.
21
Корпус переводных (в подавляющем большинстве — с
греческого) сочинений составил ту фундаментальную основу, на которой
развивались средневековые болгарская, русская (то есть до конца
XIII в. — восточнославянская в целом), сербская, отчасти
хорватская и чешская литературы. Система литературных жанров и форм,
сложившихся в Византии, культуре-матрице, ко времени
христианизации славян определила облик славянских литератур в рамках
этой жанровой системы за редким исключением таким, как
абсолютно оригинальный жанр древнерусских летописей. В истории
славянских переводов с греческого языка есть рубежная
граница — XIII—XIV вв.: в XIV и XV вв. появляется большой объем
новых переводов, выполненных как в Константинополе и на Афоне,
так и в самих славянских странах. В целом существует такая
статистика — славянских рукописных книг до рубежа XIII—XIV вв.
включительно во всем мире (включая фрагменты и отрывки)
сохранилось менее тысячи, причем 40% от общего числа составляют
Евангелие, Апостол и Псалтирь1.
2. Возникает следующая ситуация: первоначально
культурно-религиозная и религиозно-философская традиция начинает
складываться как сложное сочетание двух взаимодополняющих
типов книжной деятельности.
Во-первых, это «книжные сообщества» — сообщества,
образуемые книжниками, переводчиками, сочинителями,
компиляторами и читателями, которые группируются вокруг одного или
нескольких текстов, переписывают их, обмениваются ими,
высказывают свои мысли по поводу прочитанного. Эти тексты поступают из
Византии или Болгарии и становятся своеобразными культурными
центрами притяжения, наподобие культовых сооружений. Такие
«книжные сообщества» могут существовать веками, пересекаться
друг с другом, объединяться, конфликтовать. На их основе
возникают первые на Руси «книжные институты» — созданный Ярославом
Мудрым в 1037 г. при киевской Софии библиотечно-писцовый
центр; библиотечно-писцовый центр в Новгороде Великом, на
основе многовековой традиции которого сформируется в XV в. «ген-
надиевский литературный кружок»; книжный центр
Кирилло-Белозерского и Волоколамского монастырей. С конца X по XIII в. на
Руси обращалось свыше 140 тысяч книг нескольких сот названий2.
Иванов С.А., ТуриловАА. Переводная литература у южных и восточных славян в
эпоху раннего Средневековья//Очерки истории культуры славян. М., 1996. С. 278.
2 Сапунов Б.В. Книга в России в XI — XII вв. Л., 1978; Глухое AT. Русь книжная.
М., 1979.
22
Исходя из их традиций, а также на основе книжных центров в
Москве, Пскове и рада других возникают в конце XV — середине XVI в.
«обобщающие книжные предприятия»1.
Следующим этапом развития «книжных сообществ»,
начавшимся на Руси гораздо позже, чем в Европе, будет уже
книгопечатание. О начале этого процесса сказано в «Послесловии» Ивана
Фёдорова к Московскому Апостолу 1564 г., где он сообщает про
личное повеление Ивана Грозного, который задумал «изложити пе-
чатныя книги, яко же в греках, и в Венецы, и во Фрягии, и в
прочих языцех, дабы впредь святые книги изложилися праведно»2.
Причем этот процесс затем прервался на довольно долгий срок,
поскольку против книгопечатания решительно выступили некоторые
влиятельные представители духовного сословия, и Иван Фёдоров
был вынужден отправиться на Волынь, а его соратник Петр Мсти-
славец — в Вильно.
Во-вторых, это «персональные центры», авторские
произведения, созданные в отечественной культурно-исторической среде на
основе «греческой учености», а в XV—XVIII вв. и под влиянием
западно и центральноевропейской «латинской» традиции во
взаимодействии с ведущими «книжными сообществами». Они
возникают в контексте «книжных сообществ» и находятся с ними в
постоянной взаимосвязи и взаимообогащении. Это взаимодействие в
XV—XVII вв. становится причиной создания крупных
институциональных «идейных сообществ», особенно ярко проявившихся в
церковно-религиозных сообществах «геннадиевского кружка»,
«иосифлян», религиозном сообществе «нестяжателей», мисти-
ко-философском сообществе «спротивно мудрствующих»,
традиционно именуемых «ересью жидовствующих» (вторая половина XV —
начало XVI в.).
Эти общественные институты оказывают существеннейшее
значение на формирование традиции русской религиозной философии.
На их основе возникают первые в России основательные
религиозно-философские школы, «академические сообщества» (основанные
в 1632 и в 1685 гг. Киево-Могилянская и
Славяно-греко-латинская академии). Они положат начало фундаментальному
направлению русской религиозно-философской традиции —
духовно-академическому философствованию, когда на основе Устава духовных
академий 1809 г. в России были сформированы четыре духовные
1 Розов H.H. Книга в России в XV веке. Л., 1981. С. 27.
2 Послесловия к изданиям Ивана Фёдорова//Памятники литературы Древней
Руси: Середина XVI века. М., 1985. С. 288.
23
академии — Санкт-Петербургская (1809), Московская (1814),
восходящая к Спавяно-греко-латинской, Киевская, восходящая к
Киево-Могилянской академии и Казанская (1842).
История «идейных сообществ» продолжается и в XVIII в. в
виде двух оригинальных явлений отечественной
культурно-исторической среды, оказавших заметное влияние на формирование
традиции религиозной философии: школы «ученого монашества» под
руководством митрополита Платона (Левшина), сложившейся в
1755—1814 гг., исходя из «академического сообщества»
Славяно-греко-латинской академии; философско-мистического
сообщества, возникшего в конце 80-х годов XVIII века в контексте «нови-
ковского круга» московских масонов, являвшегося русской ветвью
европейской философско-мистической традиции Средних веков и
Нового времени и оказавшего существенное влияние на идейные
течения периода «александровского мистицизма».
3. Проблема аутентичности системы «автор — традиция»
заключается в вопросе, который часто звучит в связи с формулой
«древнерусская философская мысль»: можно ли считать, к
примеру, киевских митрополитов Илариона, Никифора, Климента Смоля-
тича и других деятелями русского богословско-философского
движения? Особенно второго из них, Никифора, автора нескольких
написанных в Киеве «Посланий», грека по происхождению, который
получил образование в Константинополе и долгое время не мог
выучить церковно-славянский?
Вполне очевидно, что процесс формирования отечественной
культурно-исторической и культурно-философской среды в Средние
века проходил в неизбежной зависимости от византийской
культуры и существующего в ней определенного типа «греческой
образованности». Также очевидно, что культурно-исторический тип
русо-славянского язычества, традиции языка и истории базовых
этносов Руси не предложили фундаментальной мифологической основы
и развитого типа рефлексии, на основании которых было бы
возможно создание оригинальной интеллектуальной традиции.
Единственным возможным источником культурно-просветительской и
культурно-философской традиции была византийская культура,
которую и осваивает Киевская Русь. В этой связи творческие события
«книжных сообществ» и «персональных центров», происходившие
в контексте этого адаптационно-просветительского процесса,
должны быть поняты именно как события созидания отечественной
богословско-философской культурной традиции. Никифор, будучи
греком по происхождению и по образованию, создает тексты посла-
24
ний, исходя из потребностей древнерусской культуры и в
единственно возможной, понятной и принятой византийско-русской
традиции мысли, опираясь на Библию и восточную патристику.
4. Существует проблема селекции византийской патристической
и богословско-философской литературы. Идейное влияние
светской византийской литературы XI—XIII вв. на
культурно-историческую среду древнерусского общества было незначительным в
сравнении с тем подавляющим влиянием, которое оказывала литература
богословско-философских школ периода патристики (IV—VII вв.) и
периода первых семи Вселенских соборов (325—787). Это
объясняется четырьмя причинами.
Во-первых, русская культурно-философская среда, не имея
самостоятельной традиции обращения с античной классической и
эллинистической философской мыслью, естественным образом,
отправляясь от опыта византийской культуры-матрицы и болгарской
культуры-реципиента, обращается к признанному первоисточнику
толкований библейских текстов — каппадокийской (Василий
Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский, Иоанн Дамаскин и
пр.), антиохийской (Иоанн Златоуст и др.), новоалександрийской
(Афанасий Александрийский и др.) и мистико-аскетической (Ефрем
Сирин, Иоанн Синайский «Лествичник», Дорофей Газский, Исаак
Сирин и др.) традициям. Во-вторых, в этот период в Византии
происходят регулярные и острые споры, смысл которых сводился к
ограничению влияния античной философии на богословскую мысль.
Критике и гонениям подверглись основные
философско-богословские авторитеты этого времени: Михаил Пселл, Иоанн Итал, Ни-
кифор Влеммид.
В-третьих, подавляющее большинство греческих современников
русских деятелей XI—XIII вв. рассматривали, в соответствии с
имперскими идеологическими традициями Византии, новообращенные
христианские народы как разновидность «варваров». Так что
вполне объяснимо, почему имя Михаила Пселла не было известно
просвещенному русскому книжнику. «Племя русских варваров
изначально и по сей день питает бешеную ненависть в отношении
греческой игемонии... изобретая по поводу или без повода нелепые
обвинения, они создают из них предлог для войны против нас»1, —
писал Пселл в своей «Хронографии». В-четвертых, русское
сообщество книжников и великокняжеский стол отлично осознавали
зависимость христианского просвещения от Византии и подчиненное
положение русской церкви по отношению к Константинопольскому
Источники по этногенезу, культуре и ранней государственной истории древних
славян. Киев, 1988. С. 418.
25
патриарху и, возможно, книжная селекция и обращение к истокам
служили своеобразным охранительным барьером избыточного
влияния.
«Книжные сообщества» в отечественной
культурно-исторической среде XI—XV веков
«Книжные сообщества» в XI— XV вв. формировались, исходя
из трех основных (но не единственных) источников: Библия,
святоотеческая литература, апокрифы.
До 1499 г., когда был произведен первый, далеко не всеми
признанный удачным, опыт составления полного Библейского кодекса,
Ветхий завет, как и Новый, были представлены на Руси весьма
своеобразно. Есть свидетельства, что митрополит Иларион,
Феодосии Печерский, митрополит Климент Смолятич (XII), епископ
владимирский Серапион (XIII), архиепископ новгородский Василий
Калика (XIV), не говоря уже об архиепископах Евфимии и Геннадии
(XV) и всех митрополитах-греках, пользовались многими книгами
Ветхого Завета, но наибольшее распространение имели только
Пятикнижие Моисея и Псалтирь. Из многочисленных сохранившихся
списков Евангелия только два включают полный текст, то есть все
четыре книги. Первый («Остромирово Евангелие») был выполнен
в 1056—1057 гг. дьяком Геннадием с болгарского протографа по
заказу новгородского воеводы-посадника Остромира, родственника
Изяслава Ярославича. Он представлял собой апракос, то есть
сокращенное изложение событий по программе недельных
евангельских чтений. Долгое время, вплоть до XIV в., этот текст служил
основным источником для создания списков. Кроме этого, отдельные
библейские главы часто включались в состав разного рода
сборников, самыми известными из которых были «Изборники» 1073 и
1076 гг., «Пчела» (XII—XIII), представляющая собой перевод
византийского сборника изречений и цитат (71 глава по 20
изречений) из Священного Писания, отцов церкви, философов —
Платона, Аристотеля, Гомера, Плутарха, Пифагора, Ксенофонта,
Демокрита, Эврипида, Геродота, Демосфена, Эпикура, Зенона и других, а
также «Палея Толковая» (XIII).
«Изборник Святослава 1073 года» (один из трех-четырех
первых точно датируемых текстов) представляет собой обширное
компилятивное сочинение, имеющее болгарский первоисточник и
называемое в болгарской традиции «Симеоновым сборником», по
26
имени царя Симеона, время правления которого называют
«золотым веком» болгарской литературы. В свою очередь, болгарский
текст представляет собой перевод с греческого протографа. Это
корпус фрагментов из трудов апологетов и отцов церкви, среди
которых отдается предпочтение представителям каппадокийской
богословской школы. В состав «Изборника» входили тексты следующих
авторов, им принадлежащие или им приписываемые: Августин,
Анастасий Синайский, Афанасий Александрийский, Василий
Великий, Георгий Хировоск, Григорий Богослов, Григорий Нисский,
Дионисий Ареопагит, Евсевий Памфил, Ефрем Сирин, Иоанн Да-
маскин, Иоанн Златоуст, Иоанн Лествичник, Иосиф Плеусиот,
Ириней Лугдонский, Иустин Философ, Кирилл Александрийский,
Кирилл Иерусалимский, Максим Исповедник, Марк Чернец,
Михаил Синкелл, Нил Синаит, Олимпиодор, Ориген, Палладий, Севир
Антиохейский, Тит Вострский, Феодорит Раифский1. Обращает на
себя внимание, что тексты Феодорита Раифского, представителя
антиохийской школы, Георгия Хировоска (был представлен его
трактат по поэтике «О образах», где объяснялись 27 поэтических
тропов, в том числе аллегория, инверсия, гипербола) и еще
нескольких других авторов известны только по переводу «Изборника
1073 г.»2.
Тексты, которые приписывались Максиму Исповеднику и Фео-
дориту Раифскому представляли собой подборку логических статей.
Они имели один и тот же общий источник с логическим разделом
«Диалектики» Иоанна Дамаскина — «Категории» Аристотеля и
комментарии к ним Порфирия и Аммония — и являлись
единственным источником логических знаний на Руси вплоть до XVII в. Дело
не исправили и логические штудии еврейского философа и теолога
М. Маймонида, переведенные во второй половине XV в. и не
востребованные в русской культуре.
Подборка авторов этого сборника вполне отвечала
современным требованиям византийской богословско-философской
традиции. В текстах формулировался принцип провиденциализма,
исключительности человека в творении, учение о стихиях, концепция
целостности бестелесной души, принцип противоречивого статуса
разума, способного, с одной стороны, к пониманию божественных
истин, но с другой — предназначенного лишь для познания
материального мира.
1 Изборник Святослава 1073 г. Факсимильное издание. М., 1983.
2 Грицевкая ИМ. Индексы истинных книг. СПб., 2003. С. 111.
27
«Изборник 1076 года»1 (рукопись сохранилась в единственном
экземпляре) также представляет собой сборник переводных
греческих и оригинальных русских текстов, отличаясь от первого
«Изборника» преобладающей праксеологической направленностью и
наличием неканонических мотивов. Авторами-составителями
считаются некто Иоанн (предполагается, что ему принадлежит авторство
нескольких анонимных статей), образованный книжник,
пользовавшийся библиотекой Ярослава Мудрого, и его неизвестный
соратник2. В состав «Изборника» среди многих прочих входят
произведения Василия Великого, Афанасия Александрийского, Анастасия
Синаита, Нила Синайского, Иоанна Златоуста, Иоанна Лествични-
ка, причем многие статьи названы одними именами, а на деле —
принадлежат другим авторам.
Идейное содержание произведения отличают следующие
основные положения: 1 ) мягкое отношение к возможным
погрешностям в толковании христианской доктрины и отсутствие
нетерпимости; 2) неприятие так называемой «теории казней Божьих»,
убежденность в возможности выбора пути спасения и пропаганда
необходимости «добрых дел» (нищелюбие, умеренность,
благотворительность, миролюбие и пр.) и доброты вообще; 3) убежденность в
том, что вера, внутренне переживаемая каждым человеком, есть
предпочтительный путь истинного христианина, в отличие от
внешнего благочестия3; 4) допущение непосредственного общения с
Богом в молитве, понимания очищения постом как ступени к
преображению, осмысление исповеди перед избранным человеком как
исповеди перед Всевышним4 — именно об этом будут говорить в
XV в. участники сообщества «спротивно мудрствующих», которых
традиционно именуют «ересью жидовствующих»; 5) мудрость как
достояние и Бога и человека5, причем полагается, что
ноуменальное присутствует в людях как Дух Божий во плоти Христа.
Подлинной мудростью обладает истинно верующий человек, и такая
мудрость воспринимается как жизнь в Боге. Божественная мудрость,
традиционно персонифицируемая как София (Логос-Христос,
Богородица), рассматривалась как мудрость, присутствующая в людях
1 Изборник 1076 года. М., 1076.
2 Бондарь СВ. Философско-мировоззренческое содержание «Изборников» 1073
и 1076 годов. Киев, 1990. С. 48, 66.
3 Изборник 1076 года. С. 699.
4 Там же. С. 631.
5 Там же. С. 309, 407.
28
вообще, во всем человечестве ; 6) отождествление предначертанно-
сти судьбы с промыслом Бога, который постоянно контролирует все
происходящие в мире процессы, но и отсутствие проповеди
покорности и смирения; 7) приравнивание воли земного властителя к
воле Бога, поскольку властитель рассматривается как проводник
промысла — идея, весьма созвучная «Посланиям» митрополита
Никифора.
«Палея Толковая»2 — грандиозный энциклопедический труд,
происхождение которого не ясно: возможно, что это перевод с
греческого, или — оригинальный славянский текст, существовавший
уже до написания «Повести временных лет». В нем представлена
самая разнообразная проблематика: космогенез и натурфилософия,
антропология (сотворение человека и устройство человеческого
тела), концепция ноуменального, бестелесного мира, теория
стихий, точки зрения на понимание физических явлений и природных
процессов, христианская история человечества (особенно
библейский период с антииудейскими комментариями в апокрифическом
варианте). В этом сборнике отражено становление начальных форм
теоретического мышления в богословско-философском контексте.
В его состав входят: пространное изложение книг Ветхого
Завета, причем многие из них в апокрифической редакции, «Шестод-
невные» тексты Василия Великого, Севериана Габальского, Епи-
фания Кипрского, родственные сочинению Иоанна экзарха
Болгарского, тексты Мефодия Патарского, Козьмы Нидикоплова
(единственный труд по географии, переведенный славянами с IX по
XIII в.), Ефрема Сирина, фрагменты «Точного изложения
православной веры» Иоанна Дамаскина и др. Влияние ряда
апокрифических источников проявилось в специфике онтологико-антропологи-
ческих представлений, сформулированных в «Палее» и схожих
«Изборнику 1076 года»: Божество трансцендентно и имманентно
миру и человеку. Космогенез представлен в соединении
противоречивых позиций: присутствуют как аристотелевско-птоломеевская
геоцентрическая модель мира, которую разделяли каппадокийцы,
так и примитивная космология антиохийской традиции, где
вселенная — это дом с плоской Землей и небесной крышей.
Историософия «Палеи», которая схожа с концепцией митрополита Илариона,
1 Изборник 1076 года. С. 421.
2 Палея Толковая/Пер.и комм. А.М. Камчатанов, В.В. Мильков, СМ.
Полянский. М., 2002.
29
сосредоточивается на глобальности христианской истории,
исходящей из ветхозаветных основ, что подвергаются резкой критике.
В XIV—XV вв. в русской культурно-исторической среде
возникает целый ряд влиятельных «книжных сообществ» образованных
такими текстами, как корпус сочинений Дионисия Ареопагита,
«Диоптра» Филлипа Монотропа, целым рядом мистико-аскетической
литературы (Симеон Новый Богослов, Григорий Синаит),
апокрифами, наподобие популярнейшего с XII в. «Хождения Богородицы
по мукам», а также все более и более многогочисленных сочинений
натурфилософского, мистико-философского планов, появившихся в
связи с так называемой ересью «жидовствующих» («Луцидариус»
(«Просветитель»), который Максим Грек переименует в «Обте-
небрариус» («Помрачитель»), «Шестокрыл», «Тайная тайных»,
«Галеново от Гиппократа», «Космография», «Логика
жидовствующих» и др.), которые будут рассмотрены в тексте учебника
отдельно во 2-й и 4-й главах.
«Персональные центры» религиозно-философской традиции
в отечественной культурно-исторической среде
XI — начала XIX века
Как уже говорилось выше, ведущие «персональные центры», то
есть авторские произведения отечественной богословско-философ-
ской традиции, возникают в XI—XVI вв. на основе «греческой
учености», в основном святоотеческой богословской традиции, а в
XV—XVI вв. — и под влиянием многообразной западно и цен-
тральноевропейской «латинской» традиции во взаимодействии с
ведущими «книжными сообществами» русской
культурно-исторической среды. «Персональный центр» может быть инициирован
«книжным сообществом» или инициировать его возникновение,
когда, к примеру, тот или иной деятель выступит идейным
вдохновителем перевода какого-либо текста, который окажется центром
интеллектуального притяжения и влияния.
Первым русским писателем чаще всего называют Луку Жидяту,
знатного новгородца, назначенного Ярославом Мудрым в 1036 г.
новгородским епископом. Ему принадлежит небольшое
нравственно-догматическое «Поучение к братии», составленное на
основании книг, в основном, Ветхого и Нового Заветов со ссылками на
авторитет Кирилла Иерусалимского. Этот текст представлял собой
опытный образец богословского сочинения, посвященного
декларированию догмата единого Бога и православной Троицы и
формулированию базовых норм христианской этики: умеренного аске-
30
тизма и нестяжательства, нищелюбия, отчуждения от мира, любви
к ближнему.
В конце 40-х — начале 50-х годов XI века киевский
митрополит Иларион создает «Слово о Законе и Благодати»,
представляющее собой краткий богословско-философский трактат, в центре
внимания которого находится вопрос об основаниях христианской
веры и христианского устроения мироистории. Это было
великолепное произведение греческой образованности, созданное на Руси,
с которого традиционно ведут отсчет авторской богословско-фило-
софской мысли в отечественной культурно-философской традиции.
Период расцвета богословско-философской литературы на Руси
относится к XII в. и возобновится с полной силой только в XV в. В
XII в. на Руси появляется плеяда знаменитых писателей,
оставивших после себя образцы оригинального литературного
богословского и богословско-философского творчества: великий князь
киевский Владимир Мономах (1117—1125), автор
назидательно-философского «Поучения», один из самых талантливых и успешных
правителей на Руси за все время ее существования; Кирик Новгородец
(1110—1156/58), один из первых русских математиков,
талантливый богослов, ученый и философ; митрополит Климент Смолятич
(ум. после 1164), человек высокой греческой образованности,
хорошо знакомый с какими-то разделами античной философии и
культуры; блестящий полемист и богослов, автор более 40
дошедших до нас (26 считаются подлинными) поучений и посланий
епископ Кирилл Туровский (ум. после 1182).
В XIII—XIV вв., в период цивилизационного кризиса,
связанного с нашествием монголо-татар, русская богословско-философская
традиция приходит в упадок. Из известных имен следует отметить
только двоих: Серапион (епископ Владимирский, 1274—1275),
автор пяти поучений, в которых нашла концентрированное
выражение так называемая «теория казней Божьих»; Василий Калика
(архиепископ Новгородский, 1331 —1352), автор оригинального
«Послания о рае».
В XV—XVI вв. русская культурно-историческая среда
переживает бурный подъем. Из тогда уже многочисленных «персональных
центров» особое внимание привлекают: интеллектуальный лидер
«идейного сообщества» новгородско-московских еретиков
посольский дьяк Федор Курицин (ум. до 1500), автор мистико-граммати-
ческого «Лаодикийского послания»; лидеры «идейных сообществ»
архиепископ Геннадий, игумен Иосиф Волоцкий, Нил Сор-
ский — деятельность и труды каждого из них внесли весомый вклад
в историю русской богословско-философской мысли; знаменитый
31
деятель русского Просвещения, сочувственник «нестяжателей»,
гуманист и афонский послушник, человек энциклопедической
образованности Максим Грек (1470—1556), оставивший после себя
огромное литературное наследство и погибший в русском церковном
заточении; выдающийся деятель западнорусского Просвещения,
ученик Максима Грека, государственный деятель, переводчик,
публицист и философ князь A.M. Курбский (1528—1588).
В истории России XVII в., с его уникальной по своим
принципам, но оказавшейся нежизнеспособной сословно-представитель-
ской монархией, связан с двумя противоположными тенденциями:
расколом в Русской православной церкви и активным
становлением «латинского» просвещения. Это время породило
противоречивый ряд оригинальных личностей и мыслителей, в том числе:
выдающегося деятеля русского раскола, самобытного
богослова-философа протопопа Аввакума (1621 —1682); философа и
политолога, сторонника панславизма, хорвата по национальности Юрия
Крижанича (1617—1683), пятнадцать лет проведшего в ссылке в
Тамбове, где и написал свои самые известные произведения
(«Политика», «Толкование исторических пророчеств», «О промысле
Божьем»); главу русской «латинской партии», философа, врача,
талантливого педагога, томиста и иезуита, астролога и алхимика
Симеона Полоцкого (1629—1680), автора «Рифмологиона»,
«Жезла правления», «Катехизиса», «Вертограда многоцветного»;
плеяды деятелей «академического сообщества», профессоров Кие-
во-Могилянской академии — Иннокентия Гизеля, Ионникия Голя-
товского, Лазаря Барановича, Стефана Яворского; братьев
Иннокентия (1633—1717) и Софрония Лихудров (1652—1730), с чьей
деятельностью связан первый этап работы
Славяно-греко-латинской академии, автора многочисленных полемически-философских
произведений.
В XVIII веке русское Просвещение вступает в полную силу.
Русская религиозная философия постепенно становится одним из
горизонтов общеевропейского философского дела, получает
мощный стимул развития и выходит на новый уровень коммуникации и
осмысления идей. Среди многочисленных деятелей русской
культурно-исторической среды этого времени наибольшее значение для
судьбы русской философско-теологической культуры имеют:
идеолог петровского Просвещения, религиозный философ Феофан Про-
копович (1681 —1736); самобытный и оригинальный украинский
философ-мистик Г.С. Сковорода (1722—1794); лидер «идейного
сообщества» «ученых монахов» и ведущий деятель
«академического сообщества», мистик-философ митрополит Московский Платон
32
(Левшин, 1737—1812); интеллектуальные лидеры философско -
мистического сообщества русских масонов «новиковского круга»
Н.И. Новиков (1744—1818), A.M. Кутузов (1749—1797), И.В.
Лопухин (1756—1816), просветители, переводчики, организаторы
типографий и печатных изданий, авторы оригинальных философских,
богословских и философско-мистических сочинений; граф М.М.
Сперанский (1772—1839), выдающийся государственный деятель,
автор политических и философско-мистических сочинений,
оригинальный аксиолог и создатель концепции коммуникации; князь
В.Ф.Одоевский (1803/04— 1869), русский шеллингианец, автор
философско-мистической антропологии, писатель и оригинальный
человек.
Далее в 3, 4, 5 и 6 главах будут рассмотрены некоторые из
наиболее значительных и оригинальных персональных центров
традиции отечественной религиозной философии.
Глава 2
ВАЖНЕЙШИЕ «КНИЖНЫЕ СООБЩЕСТВА»
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ
СРЕДЕ XI—XIV ВЕКОВ
Культурно-информационная миссия
и богословско-философские идеи «Шестоднева»
Иоанна, экзарха Болгарского
Первым заслуживающим внимания авторским трудом,
создавшим вокруг себя могущественное «книжное сообщество»
переписчиков и мыслителей, был «Шестоднев» Иоанна, экзарха
Болгарского (вторая половина IX — первая треть X в.), —
общеславянский компилятивный текст, влияние которого на древнерусскую
литературу прослеживается с XI в.1 Д.С.Лихачев полагал, что это
произведение оказало непосредственное влияние на поэтику
«Поучения» Владимира Мономаха и на стиль описания русской земли в
«Слове о погибели Русской земли». В настоящее время
древнейшим считается его сербский список 1263 г., а известные старшие
русские списки текста относятся к XV в. Деятельность Иоанна
экзарха, помимо всего прочего еще и переводчика и автора
предисловия к «Богословию» или «Точному изложению православной
веры» (философские главы даны в сокращении) Иоанна Дамаскина
приходится на так называемый «золотой век» болгарского
царя-просветителя Симеона (864/865—927).
Произведение Иоанна экзарха следует рассматривать как один
из влиятельнейших текстов-посредников между формирующейся
древнерусской культурно-философской средой и византийской и
античной историей философско-богословских идей, ставший
автономным событием отечественной культуры. Текст имеет три базовых
источника — «Шестодневы» Василия Великого, Севериана Га-
бальского, Феодорита Киррского. Произведение насыщено
убедительными доказательствами широкой философской эрудиции
автора, вполне вероятно в подлиннике знавшего какие-то работы
Платона и Аристотеля (в этом убеждают, к примеру, точные детали
спора между философами о сущности эфира), излагающего, в духе
христианской критики, с упоминанием имен воззрения Фалеса,
Парменида, Демокрита, Диогена (конечно же, самым общим обра-
1 Баранкова Г.С, Мальков В.В. Шестоднев Иоанна, экзарха Болгарского. СПб.,
2001.
34
зом), или воспроизводя безымянно взгляды Анаксимена, Анакси-
мандра, Анаксагора, Эмпедокла.
Термин «гексамерон» (шестоднев) впервые был использован в
сочинениях создателя метода аллегорического толкования Библии,
автора корпуса «Аллегорический комментарий к Библии» Филона
Александрийского (ок. 20 г. до н.э. — ок. 50 г. н.э.). Сам же шестод-
невный жанр возникает во втором веке христианской эры и его
родоначальником считается Феофан Антиохейский. Это
специфический жанр богословской литературы, в центре внимания которого
находится проблема истолкования Книги Бытия (в основном 1-й и
2-й глав), что сопровождается разделением материала по числу
дней творения на шесть частей. По сути дела шестодневный текст
самых разных авторов представляет собой развернутый
комментарий вещей, событий и процессов тварного мира (теории форм
Земли, объяснение атмосферных явлений, описание свойств и
устройства минералов, растений, пресмыкающихся, рыб, млекопитающих,
человека) с привлечением сведений из античных источников и
учетом естественно-научных достижений текущего исторического
времени. Исходной для «Шестоднева» любой из богословско-фило-
софских традиций являлась тема творения, основанного на
принципе креации как создания сущего Божьей волей из ничто.
Первый из «Шестодневов», имеющих фундаментальное
значение для всего восточного христианства, был создан епископом Кес-
сарии Каппадокийской Василием Великим (329—379). Прочие
«Шестодневы», которых современной науке известно 125, в той
или иной степени подчинены его влиянию. Василий, широко
образованный человек, великолепный ритор, тонкий стилист,
обучавшийся в Константинополе и Афинах, написал свой «Шестоднев» в
форме одиннадцати свободных по форме бесед о творении мира
вообще, о первоначальной неустроенной Земле, о тверди, о
собирании вод, о произведениях земли, о небесных светилах, о
пресмыкающихся, о птицах, о животных, о человеке. Этот текст,
фрагментарно знакомый русскому читателю через разного рода компиляции,
полностью на славянский язык был переведен в 1665 г. Епифанием
Славинецким. Василий Великий, его друг Григорий Богослов и его
младший брат Григорий Нисский представляли собой центральные
фигуры каппадокийской богословской школы, которые в отличие от
антиохийской богословской школы (Иоанн Златоуст, Ефрем Сирин,
Севериан Гавальский, Феодорит Киррский) уделяли более
существенное внимание истолкованию античного философского наследия
в контексте формирующейся христианской интеллектуальной
традиции.
3*
35
Воззрения Василия Великого, знаменитого, пожалуй, прежде
всего как создателя основополагающего толкования догмата
троичности (формула «единая сущность и три ипостаси»), высказанные
им в «Беседах на Шестоднев», на сущность и феномен творения и
природу мира, представляли собой стройную систему христианского
понимания мироморфизма. В ее основе лежат два основных тезиса.
Тезис нулевой точки — тварное бытие имеет Творца и начальный
момент творения, в который возникает время мира. Тезис
целостной разделенности — мир сотворяется как целое в один
непостижимо малый момент времени, Бог создал «целое небо и целую
землю — самую сущность, взятую вместе с формой»1, которые далее в
течение шестидневных сроков творения дискретными «вспышками»
разворачивают многообразие сущего из исходного образца. Причем
сам процесс творения имеет три стадии: первый день, что
«произведен особо» и «вне семидничного времени», вечный циклический
срок-символ пред-творения, когда целое уже есть, но еще не имеет
доступа на актуализацию, развертывание многообразия форм;
шесть дней стадиального творения; восьмой день, когда Бог
наполняет все уже существующее «благодатью света», «естественным
законом»2, благодаря которому и в соответствии с которым мир
будет развиваться до скончания веков.
Вторым крупным событием в «шестодневной традиции»,
объединяющей в себе разные богословские школы, был текст Севериа-
на, епископа Гавальского (умер в начале V в.), «Шесть речей о
мироздании». Он состоит из шести речей-бесед (особо
рассматривается седьмой день, когда совершилось грехопадение), имеет явную
зависимость по отношению к сочинению Василия, но в то же время
представляет собой вполне оригинальное произведение, несущее в
себе родовые черты антиохейской богословской школы:
буквалистское толкование Библии, выраженный богословско-мистический
иррационалистический взгляд на сущее и поиски компромисса
между философией и догмой при общей, хотя и не исключительной (что
касается прежде всего Севериана), антифилософской
направленности. Наконец, Иоанн экзарх предпринимает заимствования из работ
Феодорита Киррского (388/393—457/458), выдающегося экзегета,
автора толкований на все книги пророков, на Песнь песней, на все
послания апостола Павла, автора «Врачевания эллинских недугов»,
1 Св. Василий Великий. Беседы на Шестоднев//Св. Василий Великий. Избранные
сочинения и комментарии. СПб., 2003. С. 87.
2 Там же. С. 94.
36
последней из известных антиязыческих апологий и «Церковной
истории», особенно, когда касается вопросов богопознания по
соответствию творению.
Из этой совокупности заимствований возникает иногда глубоко
продуманная, а иногда весьма противоречивая и открытая для
сомнений и толкований авторская компиляция, выстроенная вокруг
трех проблем: 1) проблема принципов творения; 2) проблема
картины мира; 3) проблема природы человека.
1. Иоанн экзарх излагает теорию творения в соответствии со
своеобразным положением об основании процесса, что было
сформулировано в двух принципиальных тезисах Василия Великого,
которым чуть выше было дано название «тезис нулевой точки» и
«тезис целостной разделенности». Сложность заключается в том, что
автор исполнил свое произведение не как трактат,
долженствующий привести читателя к однородному пониманию темы, но как
своеобразное противоборство авторитетов, в которые вторгается
собственно авторская позиция. Именно так обстоит дело с
проблемой принципов творения, которая ставится как последовательность
вопросов о взаимосоотношении и взаимосвязанности
стихий-первоэлементов.
Традиционно в качестве основателя «теории стихий» называют
Эмпедокла (490—430 гг. до н.э.). Единственно истинными, считал
он, являются четыре вечные основания, называемые
«элементами», или «корнями всех вещей»: вода, воздух, земля, огонь —
качественно неизменные, способные объединяться и разъединяться
между собой сущности. Здесь следует отметить, что впервые
вопрос о сущностях, составляющих космос, был поставлен еще в
начале VII в. до н. э. неизвестным автором в «Трактате о седьмицах»,
исходящим больше из «мифа», чем из «логоса», где были указаны
семь элементов, из которых состоит мир. Далее представители
Милетской школы (в современной истории философии нет единого
мнения на этот счет) предприняли попытку обнаружить в сумме
субстанций (вода, апейрон, воздух и пр.) одну верховную,
установить иерархию, и, наконец, Эмпедокл предлагает свое решение (4-ча-
стная структура суммативной субстанции), которое затем станет
концептуальным элементом традиции и будет в дальнейшем широко
применяться, переосмысленное Аристотелем, в античности и,
христианизированное, в Средние века. Весьма любопытно отметить,
что традиционные сведения о теории стихий, проникающие на Русь
через списки «Изборника 1073 г.», «Палеи Толковой», «Диоптру»
в «Шестодневе» Иоанна дополняются довольно редким в
христианской литературе замечанием Севериана по поводу двойствен-
37
ности качеств стихий (огонь — теплота и сухость, земля —
сухость и холод, вода — влага и холод, воздух — влага и теплота),
которое восходит к трактату Аристотеля «О возникновении и
уничтожении».
Одной из черт «христианизации» теории стихий, применяемой
Иоанном экзархом в I Слове «Шестоднева» посредством Северна-
на Гавальского и Василия Великого (последний в точности следует
тезисам Аристотеля), является непосредственное отождествление
стихий с первотворениями (земля — стихия земли, водные
бездны — стихия воды, воздух и огонь — стихия второго неба) и
вполне очевидный отказ от античной идеи несотворенности
первоэлементов. Причем в тексте будут фигурировать и точка зрения
Василия Великого, сформулированная в тезисе «целостной разделенно-
сти», и мнение Севериана, согласно которому (в духе терминологии
Аристотеля) Бог не создавал одновременно вещество мира и
многообразие его форм, но «В первый день создал... вещество всего
созданного, а в другие дни создал образы (формы) созданного»1. Ясно
и четко, согласно «Категориям» Аристотеля, производится
разделение на сущности (качественно определенное бытие, первичные) и
свойства стихий (ипостаси, вторичные). Образованный читатель
«Шестоднева», таким образом, оказывался в контексте уже
знакомой ему по «Изборнику 1073 г.» истории логических статей этого
известного текста, которые приписывались Максиму Исповеднику
и Феодору Раифскому и восходили к комментариям на «Категории»
Порфирия и Аммония. Феодору принадлежит среди прочих
определение сущности как «вещи самобытной, не нуждающейся для
своего существования в чем-либо другом, то есть существующей в
себе, а не в ином, как случайное» .
Вопрос о составе и комбинаторике первоначального вещества
становится для Иоанна одним из принципиальных. Он решается на
протяжении I, II и III Слов «Шестоднева» и в многообразии точек
зрения остается открытым. Так, создание «тверди», второго
видимого неба (в отличие от «горнего» неба), что разделило воды
изначальных бездн на небесную и земную части, предлагается понимать
одновременно и в контексте антиохийской традиции (твердь как
загустевший из воды лед), и в контексте каппадокийской (Григорий
Нисский) — как возникшую из уплотнения огненно-водяного дыма.
Кроме того, словами Севериана, библейский тезис «да будет твердь
«Шестоднев» Иоанна, экзарха Болгарского, как памятник средневекового
философствования. М., 1991. С 133—134.
2 Златоструй: Древняя Русь X—XI вв. М., 1990. С. 253.
38
посреди воды... И создал Бог твердь» (Быт. 1: 6—7) передается
так: «Он составил из жидкого естества воды твердь»1. В
совокупности с такой же акцентацией на понимании водных бездн как
изначального, неоформившегося, включающего в себя не
обособленную от первовещества землю субстрата возникает впечатление, что
речь действительно идет о единой четырехчастной субстанции или
даже об универсальности водной стихии-первоначала. Но, если в
отношении вод и земли действительно можно говорить о
самотождественности, то в отношении двух других стихий дело обстоит
сложнее. В этом случае для Иоанна существенной становится
проблема эфира.
Сотворенное небо, «твердь», объемлет стихии воздуха и огня,
разлитые в виде эфира в качестве смеси в надземном пространстве.
Автор «Шестоднева» предпочитает предоставить существующий на
эту тему перечень ответов и разбрасывает их по всему тексту:
прямая цитата из трактата Аристотеля «О небе», который считал эфир
особым первоэлементом, сконцентрированным в окраинной части
вселенной; критика аристотелевской концепции Василием
Великим, отождествлявшим стихию огня с воздушным эфиром;
уточняющая идея Севериана об эфире, как свете; мнение Феодорита Кирр-
ского, в отличие от Василия и Севериана, считавшего эфир
первоосновой для ангелов, то есть как предшествующего творению.
2. Сотворенный мир имеет «хорошие сущность и порядок»,
«красота предназначается всему созданному», — говорится в III
Слове «Шестоднева». Мир тварного состоит в зависимости от
мира горнего, но при этом обладает самоценностью, красота
является его атрибутивным свойством, которое способствует
постижению замысла творения и самого Творца. При этом неоднократно
повторяется, что каждая вещь находится в своих пределах и
существует согласно своим законам.
Мироустройство мыслится в Шестодневе опять-таки в
сочетании положений антиохийской и каппадокийской традиций. Вслед за
Василием Великим Иоанн склонен принимать аристотелевско-пто-
ломеевскую концепцию вселенной. Во II Слове приводится
перечень всех известных сторонников идеи шарообразности земли и
сферического устройства вселенной; в соответствии с принципами
античной небесной и земной механики объясняются передвижение
светил по небосводу, течение рек, движение облаков, устанавлива-
' III Слово «Шестоднева» Иоанна экзарха Болгарского (Перевод Г.С. Баранко-
ва)//Громов М.Н., Мильков В.В. Идейные течения древнерусской мысли. СПб., 2001.
С. 467.
39
ется значение знаков Зодиака. В том, что касается «земного»
устройства, «Шестоднев» следует более точно за Северианом,
который считал землю окруженной Мировым океаном, в свою очередь
заключенным в окраинные земли вселенной, и они возвышаются до
облаков, образуя в совокупности с твердью стены и крышу
космического дома. Известны также слова Севериана из другого его
произведения, согласно которым «Израиль есть закваска для всего
мира».
3. Человек и человеческие качества рассматриваются в VI
Слове «Шестоднева» и их понимание следует воззрениям Василия
Великого. «Мы — это душа, — полагает каппадокийский автор, — и
ум, поскольку мы сотворены по образу создавшего. Наше — это
тело, и приобретаемые посредством него ощущения». Свойства
органов чувств находятся в зависимости от преобладающего
воздействия той или иной стихии. Так, например, действие зрения
определяется качествами огня. В уяснении состава и способностей души
Василий до определенного места следует Платону. Высшая часть
души — ум — это «нечто прекрасное, в нем мы имеем то, что
делает нас созданными по образу Творца». Причем производится
разделение в соответствии с двойственностью природы человека — ум
определяется как собственно ум по отношению к телесной
составляющей и как разум по отношению к духовной. Ниже ума в
душевной иерархии стоят две силы. Первая — волевая
(раздражительная), сообщающая душе «силу к прекрасным делам» и по
необходимости подчиненная разуму. Она производит мужество, терпение и
воздержание. Вторая расценивается как деструктивная сила, но и
она может стать частью «согласия» и «симметрии» душевной
жизни в повиновении разума. В этом случае возникает разумное
согласие, или добродетель, которая есть путь разума и созерцания. На
этой основе строится каппадокийская концепция богопознания:
разум занят познанием высших истин, роль чувств ограничивается
сферой материи. При этом признается ограниченная возможность
богопознания посредством изучения творения.
Философско-богословские и логические идеи
в «Диалектике* Иоанна Дамаскина
Следующим крупным событием в формировании
древнерусской культурно-философской среды стало рефлексивное
сообщество, образованное текстом Иоанна Дамаскина (конец VII — ок.
749/753), который был широко известен под названием «Диалек-
40
тика» . Этот сложноорганизованный текст становится участником
русской культуры с XIII—XIV вв. и получает широкое
распространение в XV—XVIII вв. На сегодняшний день известно более 200
его списков. Древнейший (сербский) список текста датируется
серединой XIV в. и был опубликован в 1969 г. исследователем Э.
Байером с параллельным греческим текстом и немецким переводом.
Первое прямое свидетельство полного перевода «Диалектики» на
Руси относится к 1414 г. От XV в. до сегодняшнего дня дошло
шесть списков книги и ясные свидетельства того, что с этого
времени отдельные главы произведения преподобного Иоанна
регулярно встречаются в энциклопедических сборниках. Об
авторитетности творения Дамаскина свидетельствует тот факт, что оно в
середине XVI в. было внесено в энциклопедический свод «Великие
Минеи Четьи», составленный под руководством митрополита
Московского и всея Руси Макария (1481/1482—1563).
Об Иоанне Дамаскине следует сказать, что это — последний
крупный деятель эпохи греческой патристики. Ему приписываются
помимо богословских трудов еще несколько текстов —
«Священные параллели», «О правильном размышлении», «О Святой
Троице», сочинение против иконоборцев «Три слова против
порицающих иконы», а так же участие в составлении Октоиха (системы
музыкального восьмигласия), 64 канонов гимнов и церковных
песнопений, в связи с чем уже преподобный Феофан называл его, «по
изобильности в человеке сем благодати Святого Духа, льющейся по
его словам и жизни», «Златоструем».
«Диалектика», или «Философские главы» (греческий текст
известен в двух редакциях — краткой и пространной2), представляет
собой компилятивный трактат (68 кратких разделов)
логико-философского характера, содержащий в себе сведения трех типов: 1 )
изложение и краткое разъяснение категориального аппарата
классической метафизики аристотелевского образца (сущее, ипостась,
субстанция, форма, персона, количество, качество, положение,
место, время, обладание, противоположность, движение). Эта часть
текста составляется Дамаскиным на основе комментариев Аммония
Ермия из Александрии (вторая половина V в.), пожалуй, самого
крупного комментатора Аристотеля, автора разъяснений к
трактатам «Об истолковании», «Первой Аналитике» и, возможно, к «Ка-
1 Творения преподобного Иоанна Дамаскина. Источник знаний/Пер. и комм.
Д.Е. Афиногенова, A.A. Бронзова, А.И. Сагарды, Н.И. Сагарды. [Б.м.], 2002.
2 Гаврюшин Н.К. Премудрая святая диалектика. «Философские главы» Иоанна
Дамаскина на Руси. Н.Новгород, 2003. С. 15
41
тегориям»; 2) учение о предикабилиях (вид, род, различие,
сходство, свойство, случай), выстроенное на основе трактата «О пяти
гласах» Порфирия (III в.), ученика Плотина. Это учение построено
как истолкование типов сказуемых в суждениях (предикаты) и было
введено Аристотелем в трактате «Топика»; 3) краткое изложение
силлогистики, учения об умозоключениях (подлежащее, сказуемое,
имя, суждение, утверждение, отрицание, термин, посылка,
силлогизм); 4) шесть определений философии и система знаний — самая
знаменитая и комментируемая часть трактата Дамаскина, которая
так же представляет собой уточняющее заимствование из работ
Аммония Ермия и почти что точно (с минимальными дополнениями)
повторяет шесть определений философии, что содержатся в
трактате «Определение философии» армянского богослова и философа
Давида Анахта (конец V — начало VI вв.)1.
Философия определяется2 как: познание природы сущего, то
есть сущностей как таковых; познание божественных и
человеческих вещей, то есть ноуменального и феноменального, данного как
в сотворенном, так и в вечном; размышление о смысле смерти и
преуготовление к ней как к событию естественному и
произвольному; уподобление Богу как осуществление в практической жизни
трех фундаментальных добродетелей — справедливости, святости и
добра; универсальный источник и синтезатор всех искусств и наук
(в древнерусском тексте — «хитрость хитростей и художество
художеством»); любовь к мудрости, «любление премудрости», где
истинная Премудрость есть Бог, а истинная философия есть любовь к
Богу.
Философия разделяется на теоретическую («зрительное»
любомудрие) и практическую («деятельное» любомудрие). Первая
включает в себя: знание «богословное», занятое рассмотрением
горнего ноуменального невещественного мира и Бога; знание «ес-
тествословное» (физиологию), изучающее природу вещественного
материального мира; знание «учительное» математику,
занимающее срединное положение между первым и вторым, вещественным
и невещественным, притом, что число мыслится как универсальный
определитель, распространенный как в ноуменальном, так и в
феноменальном. Причем в математике, в соответствии с латинским
образцом artes liberals, выделяются четыре раздела,
соответствующие составу квадривиума — движение звезд, арифметика,
гармония (музыка), геометрия («землемерное художество»). Практиче-
1 Давид Анахт. Сочинения. M., 1975. С.52.
2 Творения преподобного Иоанна Дамаскина. С.117—119.
42
екая философия представляет собой нормативно-регулятивную
систему индивидуального, семейного и общественного поведения и
жизнеустройства и, в соответствии с аристотелевской традицией,
разделяется на этику («обычайное»), экономику
(«домостроительное») и политику («градовое»).
Концепция «Диалектики» являет собой целостный метод
философского представления мира и знания о мире, который строится
на шести принципах: теистическая целесообразность
мироустройства, осуществленное Премудростью Божьей и представляющей
собой завершенное целое, устроенное по совершенным принципам;
наличие универсального способа познания, называемого
«любомудрием», основанного на диалектических, или логических, приемах
(разделительном, определительном, аналитическом,
доказательном); доверительно-любовное отношение к миру как проявлению
Премудрости, актуализации Божественного замысла, и самому Богу
как единому и единственному непознаваемому и недоступному
источнику-тайне бытия; ограниченность каждой вещи, включая
человека, установленными законами-пределами, в рамках которых
возможно и должно существовать и совершать деятельность;
специфика человеческой деятельности как создание и осуществление
нормативных предпосылок в стремлении к недостижимому идеалу
уподобления Богу; кардинальная и естественная ограниченность
человеческого бытия и признание особого статуса смерти как
переходного состояния.
В первой половине XVI в. митрополит московский Даниил
(вт. пол. XV в. — 1547 г.), последователь Иосифа Волоцкого,
книжник и догматик, первоначально игумен Волоколамского монастыря,
автор догматико-поучительного «Сборника» и более 30 Посланий и
Слов, оппонент Максима Грека и Вассиана Косого, предпринимает
редакцию «Диалектики», особенно в части определений
философии1. Дополнения носят нравственно-аскетический характер и
сводятся к четырем тезисам: 1 ) философствование возможно только в
пределах православной веры; 2) истинная философия направлена
на постижение духовных сущностей и противостоит плотскому
началу, что делает невозможным богопознание; 3) истинная
философия направлена на создание душевной чистоты, плотского
воздержания и «душеполезное спасение»; 4) истинная философия — это
«божественное делание», регулятивная система организации ума
ради достижения спасения: «Философия в мысленных трудах и по-
' Гаврюшин Н.К. Митрополит Даниил — редактор «Диалектики»//ТОДРЛ. Л.,
1988. Т.49. С. 358-361.
43
тах и подвигах божественное делание (умение), и устав, и чин
устанавливает, и слезы, и молитвы, и смирение, и также в уме богови-
дение, и ум к Богу устанавливает беспрестанно».
Далее, во второй половине XVI—XVII в. «Диалектика»
переписывалась как в прочтении Даниила, так и в авторской редакции.
По сути дела это были два разных текста: у Иоанна философия есть
спекулятивная система мысли, мировосприятия, миропостроения и
мироотношения богословско-философского плана; московский
митрополит предложил видеть в философии способ организации
аскетического «умного делания», отрицающий в данном конкретном
случае метод свободной философской рефлексии вообще и
неоправданно ограничивающий роль познания сотворенного мира и
философского мышления.
По замыслу Дамаскина, «Диалектика» входила в состав
обширного сочинения под общим названием «Источник знаний». Две
другие его части составляли «История ересей» («О ста ересях») и
«Точное изложение православной веры» (или «Небеса», или
«Богословие»). Последний текст составил Дамаскину европейскую
славу выдающегося догматолога восточной церкви. В 1151 г. по
поручению папы Евгения III (1144—1153) он был переведен на
латинский язык Бургундием Пизанским и уже на следующий год широко
использовался (более 30 прямых цитат) в известных и популярных
энциклопедических «Сентенциях» Петра Ломбардского (ум. 1160),
а затем и в сочинениях Фомы Аквинского (1221 —1274). Именно
благодаря Дамаскину в западноевропейской культуре началось
становление и укрепление формулы philosophia ancilla teologiae. На
Руси, менее популярный, чем «Диалектика», он к XVIII в. занимает
одно из ведущих мест в православной догматической системе.
«Точное изложение...» состоит из четырех книг. Первая
посвящена определению божественной сущности, доказательствам
существования Бога, определению его ипостасей, свойствам
божественной природы. Вторая книга кратко повествует о принципах
творения и мироустройстве и сосредоточена, начиная с главы 12 «О
человеке», на проблеме сущности и устройства человеческого
существа, душевных свойствах и силах, свободе воли и роли промысла
Божьего в жизни человека. Центральной темой третьей книги, в
соответствии с потребностями идущей к концу эпохи в истории
восточного христианства, которую иногда называют «христологиче-
ской», становится проблема определения сущности Божьего Сына
и его роли в устроении человеческой жизни. Наконец, четвертая
книга, продолжая проблематику третьей, сосредоточивается на во-
44
просах православного вероисповедания и его ритуально-обрядовой
стороне.
Дамаскин, следуя за Дионисием Ареопагитом, различает апо-
фатическую (отрицательную) и катафатическую (утвердительную)
системы богословской мысли. Вторая всегда должна опираться на
прямое свидетельство Откровения. Знание о Божестве,
«неизреченном и непостижимом», по мнению преподобного Иоанна,
«всеяно в человека естественным образом» .
Теория человека в «Диоптре»
Филиппа Монотропа (Пустынника)
Третьим, требующим особого внимания организатором
крупного сообщества читателей и переписчиков, важным «фактором
влияния» следует назвать текст греческого монаха второй
половины XI в. Филиппа Монотропа (Пустынника) «Диоптра дел
христианских», или, в переводе на древнеславянский язык, «Душезри-
тельное зерцало»2. Можно утверждать, что это произведение в
древнерусской культурно-исторической среде создало крупное
идейное, или рефлексивное, сообщество, чье влияние
распространилось на несколько веков. По традиции текст сопровождали два,
как это называется в источниковедении, «конвойных» фрагмента.
Это, во-первых, предисловие Михаила Пселла (1018—1095/97),
одного из самых ярких византийских мыслителей-энциклопедистов
того времени, транслятора и синтезатора на христианский лад
неоплатонической философии, в котором присутствовала апологетика
содержавшихся в «Диоптре» некоторых оригинальных толкований
Священного Писания, связанных прежде всего с проблемой
телесного и духовного. Михаил Пселл, автор «Хронографии»,
обширного исторического произведения, являлся одним из самых заметных
представителей богословско-философского направления в истории
идей этой эпохи в Византии3. По его представлениям, богословие, в
котором незыблемым остается авторитет Св. Писания, должно
представлять собой тип рационализированного знания, не
отвергающий ни логических доказательств, ни достижений античных
философов. О возможности философского пути мысли в доктриналь-
1 Творения преподобного Иоанна Дамаскина. С. 159.
2 Тексты «Диоптры» Филиппа Монотропа//Памятники переводной и русской
литературы XIV—XV вв. Л., 1987.
3 Самодурова З.Г. Школы и образование//Культура Византии: Вторая половина
VII— XII вв. М., 1989. С. 366—400.
45
ном богословии Пселл имел продолжительную дискуссию с
патриархом Кируларием, предавшим в 1054 г. анафеме кардинала Гум-
берта (вслед за чем последовала ответная анафема со стороны
папы Римского самого патриарха; эти события считаются началом
«великой схизмы»), из которой, судя по всему, вышел
победителем. Это достижение, относящееся к 1057—1059 гг. (время
правления императора Исаака Комнина), следует считать тактическим.
Для судеб философии в регионе византийского влияния не менее
существенным (но ни в коем случае не решающим) был собор
1082 г., на котором среди прочего решался вопрос о писаниях
Иоанна Итала, ученика Михаила. Его идеи были осуждены как
«латинская» ересь, а «эллинские учения» (по сути дела вся
платоновская традиция), особенно учение о бессмертии и перевоплощении
души, о предсуществовании души, о безначальности идеи и
материи, о «софистических словесах» (силлогистике) вообще, названы
«злочестивыми» в отличие от «благочестивых и православных».
Это был стандартный и обязательный доктринальный приговор
философской рефлексии как методу и философии, как стилю
мышления в рамках православного богословского дискурса: церковь
прежде всего должна была решить вопрос о создании несокрушимой
идеологии своей идентичности.
Второй конвойной частью «Диоптры» был «Плач и рыдание
инока грешного и странного, укоряющего Душу свою». В
современной историографии весьма обоснованно принято считать, что
«Плач» является неотъемлемым элементом «Диоптры». В нем
прояснялась авторская точка зрения на вопрос о взаимоотношении
плотского и душевного начала.
«Диоптра» была переведена на древнеславянский язык скорее
всего в Болгарии в середине XIV в., и с конца того же века
получила распространение на Руси. Одной из причин повышенного
интереса к этому тексту в современной науке является уникальная
статистика его распространения: 160 славянских списков с
преобладанием русских и устойчивый интерес к нему вплоть до XIX в.
Произведение Филиппа представляет собой стихотворный
диалог, который ведут между собой умудренная рабыня-Плоть и
довольно легкомысленная и малоопытная госпожа-Душа (в
славянском переводе текст становится прозаическим). По жанру — это
внедоктринальная религиозно-философская беллетристика,
исполненная в традиционном виде беседы. Основной проблематикой
текста является достаточно стройная и многоплановая
антропологическая концепция. Представляется возможным выделить в ней
46
шесть основных тем: 1) онтология человека; 2) теория стихий;
3) теория плоти; 4) теория души; 5) теория ума; 6) теория
преображения.
1. Человек есть специфическая отрасль бытия, расположенная
«посред» телесного и нетелесного, земного и небесного,
временного и бессмертного, словесного и бессловесного. Эти качества
находятся в состоянии нераздельной смеси и это «смешение» образует
онтологическую сущность «телесного животного» — человеческого
существа. Это существо чувствующее, мыслящее, одушевленное,
наделенное свободой воли; оно «обладает миром и царствует в
нём» по своему усмотрению, в контексте общего замысла творения
и в соответствии с пределами, устанавливаемыми Создателем.
2. Мир, над которым царствует человек, есть продукт креации,
творения из ничто волевым актом. Первоначально «от не сущих»
(из небытия) создаются четыре элемента («стихии») — воздух,
огонь, земля, вода. Все существующее создается Творцом
«посреди» них и «вины приет» (имеет причину, или, в более сильной
формулировке, «получает основание») от этих первоэлементов. Следуя
в контексте той же традиции, что и «Шестоднев» Иоанна экзарха
Болгарского, «Диоптра» осуществляет христианское прочтение
античного учения о первоэлементах, производя отождествление
первооснов-субстанций с качествами природных стихий.
3. Далее, следуя той же многовековой традиции, Филипп
Пустынник сообщает, что в мире первоначал действует принцип
соответствия, согласно которому каждой из стихий соотнесено
определенное качество — тепло, холод, влажность, сухость. Именно из
них творится человеческое тело и формируются четыре его
элементарных первоосновы, в соответствии с которыми, в свою очередь,
строятся все прочие элементы и состояния плоти: кровь, мокрота,
слизь, желчь.
Такая точка зрения на структуру человеческого тела была,
пожалуй, одной из самых распространенных и обоснованных с точки
зрения античного и средневекового естествознания, включенного в
контекст философско-религиозной мысли. Так, например, точно в
том же виде, что и Филипп, излагал теорию стихий состояний плоти
и Иоанн Дамаскин (ум. 753) в трактате «Точное изложение
православной веры»1. Очевидно, что так понимаемая физиология
восходит к сочинениям легендарного Гиппократа (460—370 гг. до н.э.), к
«Гиппократовскому корпусу», а именно к трактату «О природе
человека», автором которого был Поллибий, зять Гиппократа, где из-
1 Творения преподобного Иоанна Дамаскина. Источник знания. [Б.м.], 2002. С. 210.
47
лагается теория четырех состояний-жидкостей — крови, флегмы
(слизь, мокрота), желтой желчи и черной желчи. Затем Клавдий
Гален (ок. 129 — ок. 200), врач и философ, придворный медик
императоров Марка Аврелия и Коммода, в числе своих почти что ста
работ составляет текст под названием «Комментарий к
Гиппократу», который на протяжении следующих десяти веков (как и все
медицинское учение Галена, приобретшее характер догмы)
пользовался в Европе неизменной популярностью. Именно к нему
восходит древнерусский текст «Галеново на Гиппократа», в котором и
теория стихий, и теория состояний-жидкостей излагаются теми же
словами, что у Дамаскина и у Филиппа Монотропа. Автор
«Галенова на Гиппократа» неизвестен. Впервые его перевод на Руси
появляется в XV в. и известен в виде списков и фрагментарных
заимствований еще два столетия. Этот трактат представлял собой ряд
последовательных медико-гигиенических и диетологических
рекомендаций, исходящих из признания принципа глобального соответствия
природных внечеловеческих и внутриплотских процессов,
природных циклов, возрастных групп и характеристик здоровья и
болезней, макро- и микрокосма. Подобный тип произведений, вполне
обычный и малоприметный в контексте магико-алхимического
направления европейской философско-мистической традиции, на
Руси представлял довольно редкое явление, особенно если
рассмотреть некоторые подробности существования «Галеново от
Гиппократа» в отечественной культуре.
Его первый список входил в состав обширного
энциклопедического сборника из библиотеки Кирилла Белозерского (1337—
1427), известнейшего книжника, мыслителя и основателя Кирил-
ло-Белозерского монастыря (1397 г.), и пребывал там в разделе
«О земном устроении», рядом со статьями с изложением
геоцентрической космологии (где аристотелевско-птоломеевская модель
сочетается с идеей мирового яйца), развития человеческого
зародыша, причин землетрясений, природы облаков, грома, молнии,
истории об Океане, отделяющем землю от ада и рая, и пр. Вполне
вероятно, что эти тексты записаны самим Кириллом и представляют
собой прямой перевод с греческого, причем источником для отбора
большинства этих статей служит собрание фрагментов из трудов
Евстратия Никейского (1050—1120), ученика Иоанна Итала, о
философских пристрастиях которого говорилось чуть выше.
Позднее текст «Галеново от Гиппократа» был включен в официальную
энциклопедию митрополита Макария (1481/82—1563), наряду с
сочинениями Иоанна экзарха Болгарского и Иоанна Дамаскина.
48
Далее теория плоти у Филиппа Монотропа развивается в трех
основных направлениях: во-первых, тело это способ актуализации
души — эта «госпожа» и «владычица», по утверждению главного
героя диалога — Плоти, без телесности «не стоила бы и медяка».
Все душевные свойства (добро и зло, мудрость, безумие,
смышленость, разумность и простодушность) могут быть явлены только
посредством тела, и только плоть может поспособствовать душе в
столь важном и на первый взгляд «нетелесном» деле, как
прославление Бога. И здесь же вводится фактор нераздельности телесного
и бестелесного: плоть не может считаться греховной на том
основании, что она управляется душой и, следовательно, грех не имеет
плотской природы. Во-вторых, тело это способ деятельного
проявления человека, и, в-третьих, — способ наслаждения земными
благами. Важнейшей частью плоти Филипп называет мозг и, по
некоторому размышлению, добавляет к нему сердце.
4. Душа и плоть есть равновесные, взаимодополнительные
начала. Как следует из текста, Бог создает их вместе, одновременно,
одно не существует без другого («но вкупе ты и аз»), одно без
другого бесполезно и нецелесообразно. В соответствии с традицией в
«Диоптре» это передается так: в созданное из стихий тело
«вдыхается» (это пневматическое действие равно акту сотворения) душа и
возникает человек. Душа невещественна, обладает тремя
качествами — разум, гнев, желание, которые способны порождать три
действия — «помышление», «влечение», «ярость», и они, в свою
очередь, создают четыре главные добродетели, что есть нормативные
регулятивы человеческих действий: справедливость и мудрость —
первое, целомудрие — второе, а третье — мужество. Помимо
этого душа имеет пять чувств: ум и мысль, представление («слава») и
воображение, понимание. Бестелесное же в человеке вообще,
понимаемое как душевное, состоит из трех частей: ум, душа и слово,
находящихся между собой в соотношении, соответствующему
соотношению ипостасей в Троице — неразличие, нераздельность, не-
слиянность.
5. Действие ума в душе и человеке равносильно действию
божественной силы в тварном мире. Филипп перечисляет точки
зрения Аристотеля и Гиппократа (ум пребывает в сердце), Галена (ум
в мозге), Григория Нисского (ум во всем теле — «бестелесному
неописану бытии») и приходит к выводу, что для проявления ума в
человеке есть два органа — мозг и сердце. От их здоровья и
невредимости зависит — деятельный этот человек или нет. Свое влияние
ум осуществляет через три силы — «памятное», «мечтание»
(воображение), «размышление» (мышление).
4-6016 49
В итоге возникает концепция нераздельности деятельностного
плотского-душевного начала, которое основывается на
фундаментальных характеристиках бытия и божественного сущего и
осуществляется в тварном мире на основе принципов этики добродетелей
посредством синтетической деятельности ума, сочетающего в себе
способность к воспоминанию и запоминанию, воображению,
размышлению и пониманию.
6. И, наконец, в «Диоптре» представленная антропологическая
концепция диктует характеристики теории преображения
человеческого существа после окончания земной истории. Утверждается, в
качестве толкования на слова апостола Павла «говорю вам тайну:
не все мы умрем, но все изменимся» (1 Кор. 15:51), что «тварь
вечна и нетленна» и в момент воскрешения происходит коренное
преображение сущности человека. Распавшееся на первоэлементы
в момент смерти тело собирается вновь, приобретая ранее не
существовавшие признаки — оно не имеет половых, возрастных и
каких-либо индивидуальных признаков вообще (цвет волос,
особенность речи и пр.): оно эстетически совершенно. Нет никаких
изъянов (излишняя высота, толщина, искажение каких-то членов).
Главное назначение этого облика — доставлять радость, веселие
и наслаждение душе.
«Ареопагитское» сообщество и его европейские,
византийские, древнерусские последователи
Одним из крупнейших событий в философско-мистическом
горизонте Средних веков и Нового времени, оказавшим
существенное влияние на европейскую и русскую философскую и
богословскую мысль, стало могущественное сообщество, созданное теологи-
ко-мистической доктриной Псевдо-Дионисия Ареопагита (V/VI вв.).
Сообщество, в эпигонах и апологетах, генетической
наследственности и «свободных образах» которого сходятся и расходятся пути
исихазма и схоластики. Богословско-мистические сочинения
Псевдо-Дионисия, «смягченные» комментариями известного
византийского религиозного теолога и писателя Максима Исповедника
(580—662), были введены в «латинский» оборот Иоанном
Скоттом Эриугеной (810—880) и породили «струну», захватившую и
Шартрскую, и Сен-Викторскую школы, и Бернарда Клервоского, и
Фому Аквинского. Идеи «Ареопагитик» получили новое
преломление у И. Экхарта (1260—1327) и его последователей, Николая Ку-
занского (1401 —1464), вступили во взаимодействие с герметизмом
и еврейской каббалой у Марселино Фичино (1433—1499), Пико
50
делла Мирандолы (1463—1494), в сообществе
новгородско-московском «спротивно мудрствующих», которых называли ересью
«жидовствующих». Впоследствии это сообщество переживет
второе рождение через интуиции Николая Кузанского и немецкой
спекулятивной мистики, с одной стороны, — у С.Л. Франка, а с другой
стороны, — в диалектической теологии К. Барта (1886— 1968).
В характеристике возникновения «Ареопагитского корпуса»1
следует выделить два основных обстоятельства.
Во-первых, следует решить проблему происхождения текста.
Это — анонимное произведение. Настоящий автор скрыт за
именем легендарного персонажа. Им долгое время считался Дионисий,
первый христианский епископ Афин и член афинского Ареопага
(городской судебной коллегии), который жил в I в. и числился
учеником апостола Павла. Специфика языка, историческая тео- и
топонимика, заимствования из трактата Прокла (412—485)
«Первоосновы теологии» дают возможность датировать текст рубежом
V—VI вв. О сочинении Дионисия как об авторитетном источнике
впервые заговорили после Константинопольского собора 533 г.
Создать такой текст мог кто-нибудь из великих отцов церкви, но
даже если так и было — от него следовало отказаться: это
священная точка традиции. Такой степени напряженности и силы идеи
приходят в голову при соответствующем умонастроении легко, но
их включение в контекст теологизирования, выработка теофании
должны опираться на непререкаемость авторитета. Никто, кроме
овеянных, освященных легендами призраков-фантомов вроде
Дионисия из Ареопага или Гермеса Трисмегиста (один — встречался с
апостолом Павлом, другой — бог в Египте), не смог бы создать в
поле традиции область такого напряжения.
Основное содержание Ареопагитского корпуса составляют
четыре трактата: «О божественных именах», «О мистической
теологии», «О небесной иерархии», «О церковной иерархии». К ним
примыкают еще 10 посланий. Эти тексты получили необычайно
широкое распространение в христианском мире: в VIII в. они были
переведены на армянский язык, в IX в. — на латинский, в XI в. —
на грузинский, а в 1371 г. афонский инок Исайя по просьбе
митрополита Серрского Феодосия перевел их на славянский язык. В
своей работе Исайя опирался на греческий текст с комментариями
1 Из русскоязычной историографии лучшими, хотя и созданными из разных
соображений, остаются работы В.Н. Лосского и А.Ф. Лосева: Лосский В.О. Очерк
мистического богословия Восточной церкви//Мистическое богословие. Киев, 1991. С. 95—
260. Лосев А.Ф. Историческое значение Ареопагитик//Вопросы философии. 2000.
№3. С. 71—82.
4»
51
Максима Исповедника. Перевод, довольно часто пословный и по-
морфемный, создавался в течение 20 лет, ввиду крайней
неприспособленности славянского языка к спекулятивной философской
мысли. Всего сохранилось более 60 списков корпуса в переводе
Исайи. Русские списки появляются к XV в. и продолжают активно
распространяться до XVII в. включительно1.
Во-вторых, важна характеристика происхождения идейного
содержания «Ареопагитик». Проще всего пойти по пути «поиска
предтеч» и свести все дело к ряду очевидностей. Например, к тому,
что Корпус — это, безусловно, неоплатонические тексты, где
существуют прямые заимствования из «Первооснов теологии» Про-
кла, явные параллели с определениями красоты, идей,
божественного эроса, премудрости у Платона, чрезвычайно близкое к
Аристотелю определение философии, что в нем нашли очередное
воплощение идеи «т| осяосраагС» (отрицание) и «т| аяорроих»
(истечение) Плотина, «подтянутые» в христианское умозрение. Или же,
напротив, установить имманентный исток как событие самобытной
христианской мысли. Очевидно, что такое сочинение могло
возникнуть только в контексте святоотеческой традиции и должно быть
соотносимо с истоками исихазма, прежде всего с каппадокийской
традицией и ее пустынножительскими продолжателями. В.Н. Лос-
ский писал, что в Корпусе «неверно обязательно видеть... признак
эллинизации христианской мысли. Апофатизм (отрицательное
богословие, понимание Бога как отсутствие определений) как переход
за пределы всего, что связано с неизбежным концом всего тварно-
го, вписан в саму парадоксальность христианского
Богооткровения»2. Кроме того, возможно следовать принципу французского
исследователя Р. Роке и реконструировать исток ареопагитики из
суммы следствий: так, скажем, идея небесной иерархии испытала
на себе «вполне осознанное и узнаваемое»3 влияние герметических
сочинений и т.д.
Во всяком случае, все это заставляет рассмотреть Корпус как
уникальное событие рождения нового, происшествие целого,
состоящего не из прошлых фрагментов, но подчиненного
беспрецедентной инновации. У Плотина единение с Богом есть «атгАсота»,
опрощение, потому что Он — прост; в герметике — это
воссоздание себя до собственной начальной сущности, поскольку чело-
См. перевод и комментарии древнерусского варианта корпуса: Макаров А.И.,
Мильков В.В., Смирнова А.А. Древнерусские Ареопагитики. М., 2002.
2 Лосский В.Н. По образу и подобию. М., 1995. С. 27.
3 RoquesR. L' univers dionysien. P., 1954. С. 27.
52
век — «третий сын» Бога; у Псевдо-Дионисия итог восхождения к
Богу может быть выражен словом «GeIcùcuÇ», обожение,
принципиально новое состояние соединения с беспредельно большим и
благим, чем все, что есть и чем все, что можно выразить.
Это особенное мироощущение сверхполноты сущего
актуального и потенциального, когда, словами А.Ф. Лосева, нет теории
символа (или теории эроса), но есть «эпоха символов»1, создает
единственный умеренный опыт того, как путем мистико-философской
рефлексии обнаружить Бога — не в овладении, как в исихазме, не
как сущее, но как событие присутствия. Концепция
Псевдо-Дионисия строится на трех парадоксах, не имеющих целью быть
разрешенными в себе.
Первый парадокс — апофатический. Все превышающая
Причина (как видимого, так и умственного) есть многоименное «все во
всем» и есть «анонимность» (О божественных именах. 1,7)2
потому, что есть все и «ничем из сущего не является, но все из Него
происходит, как Он Сам Себя разъясняет» (Комментарий Максима
Исповедника. О бож. им. 1,7. № 64). Эта Причина «не есть дух в
известном нам смысле, не сыновство, не отцовство, ни что-либо
другое из доступного нашему или чьему-нибудь из сущего
восприятию» (О мистическом богословии. 5). Это положение имеет свою
долгую историю. Максим Исповедник, комментируя его, укажет,
что Причина не есть что-то «в нашем понимании», в области
«подлежащего нашему ведению». Николай Кузанский создаст из этой
апофегмы Псевдо-Дионисия концепт «non alius», неиное, и увидит
возможность посредством его перейти от «отрицания» и
«утверждения» к «совпадению»3.
Причина всего, продолжает Псевдо-Дионисий, «Ничто из того,
что не есть, и ничто из того, что есть... определения и отрицания
строятся нами того ради, что существуют после нее, а ее самое мы
не утверждаем и не отрицаем... она совершенна совершенством
всякого превыше обозначения и суть единственная Причина всего, и ее
превосходство... выше всякого отрицания» (О мистич. богосл. 5).
Тогда Бог есть там, где нет того, что есть, и нет того, что не
есть. Бог есть нет, которое неразлично для «есть» и «не-есть» —
1 Лосев А.Ф. Историческое значение Ареопагитик... С. 77, 80.
2 Цит. т. Дионисий Ареопагит. О Божественных именах. О мистическом
богословии. (С комментариями Максима Исповедника)/Изд. 2. Подготовка Г.М. Порохова.
Тексты на древнегреческом, переводы с древнегреческого. СПб., 1995.
3 Николай Кузанский. О предположениях//Николай Кузанский. Соч.: В 2 т. Т. 1.
М., 1979. С. 389.
53
это, вероятно, и есть подлинная характеристика непознаваемого
Мрака божественной сущности. В поиске определения такой
ситуации Дионисий в ряде случаев будет говорить о
«сверх-непознаваемой» или «пренепознаваемой» (uTiEpdyvcoaxov) природе Бога (О
мистическом богословии 1,1; О божественных именах I 4; I 5; II 4).
Второй парадокс — апоройтический. Бог представлен как
«единения» (Evasia) и «различения» (ôiaKpiasiÇ). Первые —
непроницаемые, никому не сообщаемые сущности. Вторые — энергии
сущности, как говорит Максим Исповедник, «неизреченные воссияния
и исхождения»1, они познаваемы, сообщаемы в творение, словом,
воспринимаемы в инобытии. Причем сущность и ее энергия
нераздельны. Они различны как проявленное и непроявленное,
познаваемое и непознаваемое, тайное и явное, но они не сочетаются как
причина и следствие, как несотворенное и сотворенное — они есть
одно и то же, энергия не отделима от своей сущности. Возникает
парадокс, это не антиномия, как существование противных
положений, равных по идентичности, но их присутствие одна в другой вне
противоречия как неразличное.
Третий парадокс — символа. С одной стороны, он порождается
двумя основополагающими парадоксами; с другой стороны, он
включает их в себя. Символ есть способность сверхсущего являть
себя в мире тварном. Эта способность впоследствии в поле фило-
софско-мистической традиции будет выражаться в идее симпатии,
идее сигнатур, концепции симпатической магии. Сверхсущее может
являться само по себе, как апофатическое — и это, по сути дела,
есть явление целого-как-целого. Сверхсущее может являть себя
как апоройтическое, целого-как-разделенного в благе, свете,
красоте, любви, истине, в том, что в схоластике будет названо транс-
ценденталиями. Наконец, сверхсущее являет себя в
частях-как-целом, мириадах вещей, где апоройа дифференцировано и
присутствует с разной интенсивностью (дом, камень, колесница и т.д.). Во
всех трех проявлениях имя вещи, денотат и смысл имени слиты
воедино, нераздельны, неразличны, образуя целое. В случае час-
тей-как-целом возникает потребность в толковании как философ-
ско-мистической рефлексии посредством апофатического или апо-
ройтического, как это Псевдо-Дионисий делает на примере чаши,
пищи, питья, пиршества и веселия как символизации Софии.
Тогда возникает ситуация, когда нет возможности назвать
что-либо, не приводя в движение всю символическую иерархию —
1 Максим Исповедник. Комментарий. Дионисий Ареопагит. О божеств, имен. 2,4.
№29.
54
обнаруживается неразличное как «внутреннее» всего сущего,
сверхсущего, не-сущего и сверх-не-сущего. Это целое
«неразличия» будет пытаться осмыслить в первой четверти XIV в.
знаменитый немецкий мистик мейстер И. Экхарт в идее «ничто», основания
которого берут начало в различении Бога и Божества1. Бытийст-
венный статус этих сверхсущностей вполне возможно,
устанавливая преемственность с основателем «ареопагитского» сообщества
философско-мистической традиции, выразить так: Божество Экхар-
та есть Бог «первого парадокса», а Бог Экхарта есть Бог «второго
парадокса» Corpus Areopagiticum.
Учение Экхарта обнаруживает любопытный эффект: в весьма
важных деталях, существенных выводах оно оказывается
чрезвычайно схожим исихастским положениям «нераздельного различия»
Гр. Паламы (1296—1359), времени «Триад в защиту священнобез-
молствующих», тем более что речь в обоих случаях идет о первой
половине XIV в. Чем очевиднее оказываются сходства, тем
явственнее вырисовываются расхождения, позволившие сверх-апофа-
тике «ареопагитского» сообщества воплотиться в энергичную,
поражающую своими метаморфозами самостоятельную систему
европейской истории идей, и приведшие энергийную антропологию
исихастской доктрины к самопоглощению, герметизации и, в
попытке нового современного возрождения, довольно агрессивной
самообороне.
1 См. об этом: Eckchart Meister. Deutshe Predigten und Traktaten. Hrsg. und übrs.
von J. Quint. München, 1963. S. 138.
Глава 3
НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЕЙШИЕ
«ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ» ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ ТРАДИЦИИ
В XI—XVI ВЕКАХ
Митрополит Иларион и богословско-философское
обоснование христианства в «Слове о Законе и Благодати»
Митрополит Иларион по праву считается первым
оригинальным русским мыслителем, составившим авторское
богословско-философское сочинение под названием «О Законе, через Моисея
данном, и о Благодати и Истине через Иисуса Христа явленной, и как
Закон отошел, (а) Благодать и Истина всю землю наполнили, и
вера на все народы распространилась, и до нашего Народа русского
(дошла). И похвала князю нашему Владимиру, которым мы
крещены были»1.
Русская православная церковь с момента своего возникновения
находилась в прямом подчинении Константинопольского
патриархата. На основании не слишком ясного 28 правила Халкидонского
собора («Посему томко митрополиты областей Понтийския, Азийския
и Фракийския, а также епископы у иноплеменников вышереченых
областей да поставляются от вышереченного Престола
Константинопольской церкви») Константинопольский патриарх вместе с
Синодом и в обязательном согласии с императором Византии
назначали митрополитов для Русской церкви, осуществляли над ними
постоянный надзор, разрешали церковнообрядовые споры и
конфликты, вершили суд над Киевским митрополитом по жалобам
епископов или князей, получали от митрополитов дань и имели право
ставропигии. Из Царьграда присылали на Русь святое миро, что
служило символом церковной зависимости.
Есть две версии того, как на русском митрополичьем столе
оказался Иларион, человек, избежавший процедуры
константинопольского утверждения.
Традиционная точка зрения основывается на первом
упоминании Иллариона в летописи под 1051 (6559) г.: «Постави Ярослав
Лариона митрополитом Русина в святей Софьи, собрав епископы».
Кроме того, летописец приводит сведения о жизни Илариона до по-
1 Молдован A.M. «Слово о законе и благодати» Илариона. Киев, 1984. Иларион.
Слово о Законе и Благодати/Пер. А. Белицкой//Богословские труды. № 28.
56
ставления митрополитом и сообщает, что он, «муж благ, книжен и
постник», был пресвитером придворной церкви Св. Апостолов в
с. Берестове под Киевом и «хожаше с Берестоваю на Днепр, на
холм, где ныне ветхый манастырь Печерьскый, ту молитву творяше.
Бе бо ту лес велик. Ископа печерку малу, двусажену, и привходя с
Берестового, отпеваше часы и молящееся ту Богу втайне»1.
Вторая версия, окончательно оформившаяся к 90-м годам XX в.,
предполагает, что Илларион стал митрополитом в 1044 г., в период
военного конфликта между Русью и Византией, когда прибытие
константинопольского ставленника было невозможно.
Последовавшее восстановление мира и длительные переговоры заставили
Константинополь признать законность избрания русского митрополита
на соборе 1051 г. Последняя дата получила распространение в
летописях, поглотив первую2.
В 1054 г. после смерти Ярослава Мудрого Иларион либо был
смещен со своего поста, либо добровольно удалился в Киево-Пе-
черский монастырь, основателем которого он и считается.
Существует также давняя не очень убедительная гипотеза, что Иларион и
игумен Киево-Печерского монастыря Нестор Великий — одно и то
же лицо.
Точная дата написания «Слова» неизвестна. Имеется
предположение, что оно было произнесено 26 марта 1049 г. в честь
завершения постройки оборонительных сооружений вокруг Киева.
Помимо «Слова» Илариону принадлежат еще два небольших
текста — «Молитва» и «Исповедание веры», чрезвычайно близких по
стилю и содержанию к первому тексту (до сих пор в церковных
публикациях их считают частью текста «Слова»). В тексте Иларио-
на выделяются четыре группы проблем: 1)
богословско-философская концепция исторического процесса, включая анализ различий
между верой и обычаями иудеев и христиан; 2) тринитралогия и
христология; 3) преображение как богопознание; 4) концепция
традиции христианского просвещения.
1. История человечества рассматривается как процесс теоан-
тропономии, то есть способа и метода осуществления Божьей
провиденциальной воли в мире и характера следования ей человека.
Иларион называет три типа религиозной деятельности —
языческий (капища — идолы — бесы), иудейский (вода — Закон —
обрезание), христианский (церкви — иконы — крест — Благодать — Ис-
1 Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т. 1.СП6., 1846. С. 67.
2 Брюсова ВТ. Когда и где был поставлен митрополитом Иларион?//Герменевти-
ка древнегреческой литературы. Сб. 1.XI—XVI века. М., 1989. С. 41—51.
57
тина). Второй и третий олицетворяют собой два типа теоантропоно-
мии и две стадии человеческой истории.
Первый тип-стадия представляет собой пропедевтическую,
переходную, испытательную ступень («предтечу»), исходя из которой
должен был возникнуть второй истинный тип-стадия; так же как и
первый, второй тип станет исходной точкой («служителем») для
прекращения земной и возникновения горней истории —
«будущего века жизни нетленной».
Первый тип-стадия отождествляется с иудаизмом. Это —
первый тип договора (завета) между Богом и человеком, основанный
на принципе Моисеева «закона» и дающего не спасение, а только
«оправдание». Оправдание есть сила закона, посредством которой
обустраивается и доставляет радость земная жизнь. Иларион
утверждает, с одной стороны, что «закон» есть «тень, а не истина»,
отсутствие подлинной свободы, вообще состояние несовершенное. В
то же время автор, указывает, что тот народ, которому этот закон
был дан, имел возможность на его основе и в силу содержащейся в
нем свободы привести человека к крещению, то есть к
христианству, и полагает, что евреи не только не воспользовались данной им
(и только им) свободой, но и злоупотребили ей. В результате таких
сентенций Илариона за десять веков существования текста
неоднократно обвиняли в антисемитизме. Объяснений такой позиции
киевского митрополита может быть два: либо он занимался особым
типом богословского теоретизирования и ставил себе задачу
обнаружить уникальные исключительные характеристики христианской
веры ценой любых усилий, в том числе и совершенно искренне
рассматривая иудаизм как несамодостаточный подготовительный
этап; либо Иларион действительно вел полемику с традиционно
мощной иудейской общиной Киева и в этом случае был по своей
должности обязан составить агрессивную и жесткую прохристиан-
скую апологию.
Второй тип-стадия есть христианство. На смену Закону как
ограниченной и частной, испытательной и опытной Божьей провиден-
ции приходит Благодать: «Закон раньше был, и вознесся в малом, и
отошел; вера же христианская, явившись после, больше первого
стала и распространилась среди многих народов»1. Иларион
выделяет три основных характеристики этого периода земной истории
осуществления замысла Творца. Во-первых, в период пребывания
Христа в человеческом теле действие Благодати существовало
только как потенциальность. Это был медиальный, промежуточный
Иларион. Слово о Законе и Благодати. С. 55.
58
этап, в который произошла окончательная подготовка к вторжению
в мир Нового Завета. Во-вторых, вместе с Благодатью все
человечество получает свободу, «полную истину», обладающую
универсальным характером: она наполняет всю землю, устанавливает
«равенство» языков и народов и включает Русь во всемирную историю
христианских народов. В-третьих, земная христианская история
состоит в процессе христианского просвещения под управлением
Благодати, в контексте которой Бог выглядит как могущественный
и человеколюбивый источник добрых дел и гарант спасения, не
настаивающий на воздаянии за грехи и лишь требующий от человека
следования общеисторическому замыслу. Эта концепция отвергает
весьма популярную на Руси (особенно в эпохи кризисов и
потрясений) так называемую «теорию казней Божьих».
2. Тринитаризм Илариона вполне обычен и вписывается в
общецерковную догматику Никейского символа и его интерпретации
в каппадокийской традиции, которая накануне своего завершения в
последней трети VIII в., формально связанного с творчеством
Иоанна Дамаскина, в своей догматической части как раз решала
вопрос о единосущности Троицы, и особенно о двуединой природе
Бога-Сына. Величие Бога не имеет ни начала, ни конца, как и не
следует в Св.Троице искать точно определенное: не следует соединять
в единосущном то, что раздельно, и не следует отделять то, что
едино. Возникает принцип неразличия, который ложится в основу хри-
стологии.
Христология Илариона исходит из тезиса о том, что Христос
есть «Совершенный человек по вочеловечиванию, а не призрак, но
(и) совершенный Бог по Божеству, а не простой человек, явивший
на земле Божественное и человеческое»1. Возможно этот тезис, за
которым следуют 17 оппозиций, демонстрирующих как
человеческую (рожденный, тварный, плотский, дитя человеческое, слабый,
простой, обыкновенный, подвластный искушениям, смертный и пр.),
так и божественную (вечный, нетварный, нетелесный, царь мира,
беспредельно могущественный, величественный, сын Божий,
непобедимый, милосердный и пр.) сущность Бога-Сына, является
основой, на которой Иларион формулирует свою «похвалу» князю
Владимиру Святому.
3. Предки Владимира, как и он сам, будучи по рождению
язычниками, тем не менее смогли создать великую страну. В
определенный момент времени князь переживает преображение, которое
делает его элементом Божественного провидения, осуществляемого
Иларион. Слово о Законе и Благодати. С. 57.
59
посредством благодати. Преображение осуществляется в четыре
стадии: непосредственное откровение как повод для размышления и
источник деятельности, которое достигает человека через
посредство онтологического центра сущности — сердца; сердце становится
источником пробуждения разума, с помощью которого
осуществляется переоценка мира и человеческих дел с точки зрения
Благодати; «возгорение духа», то есть эмоционально-волевая установка на
готовность к действию, что разрешается в принятии христианства и
преображении «ветхого человека»; преображение этим не
заканчивается, но получает развитие как любовь к Богу — ее
непосредственное земное деятельностное воплощение следует в
распространении испытанной благодати на людей и мир, то есть своего рода
социальное служение. Таким образом возникает модель деятельност-
но-рационального Бого- и миропознания.
4. Преображение становится делом не только, и даже не
столько личным, но способствует возникновению традиции
христианского просвещения. Она состоит из трех элементов, определяющих
горизонт социального бытия: создание и сохранение церквей,
развитие городов, забота о потомках и наставление их по пути
истины-благодати.
Прагматико-антропологическое богословие
митрополита Никифора
Никифор, митрополит Киевский в 1104—1121 гг., грек по
происхождению, известен в истории древнерусской
культурно-философской среды как автор пяти текстов, представляющих
классический жанр посланий (эпистол)1. «Послание о посте и воздержании
чувств» и «Послание от Никифора митрополита Киевского к
Владимиру князю всея Руси... о разделении церквей на восточную и
западную» («Послание на латину»)2 адресованы Владимиру
Мономаху (великий князь киевский, 1113—1125), «Написание на латину к
Ярославу о ересях», адресованное удельному князю волынскому и
муромскому Ярославу Святославичу, одна эпистола, обращенная к
неназванному по имени князю, и последнее — «Поучение в неделю
сыропустную» — обращено к пастве по поводу Великого поста.
Тематически эти сочинения посвящены двум проблемам: размыш-
1 Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. I.: XI — первая половина
XIV в. Л., 1987. С. 287.
2 Послания митрополита Никифора /Подготовка текстов и пер. Г.С. Баранковой.
М., 2000.
60
ления о значении поста в жизни православного христианина и
разоблачение ошибок католического вероучения.
Сведения о жизни и деятельности Никифора весьма скудны:
практически все, что ныне известно об этом человеке — это его
тексты и его время. Они позволяют сделать ряд выводов, которые в
современной науке считаются признанными. Никифор получил
хорошее богословское образование в стиле константинопольской
философской школы конца XI в., как раз в то время, когда ее
деятельность определялась Михаилом Пселлом и его учениками. Стиль его
мышления следует охарактеризовать как богословско-философ-
ский, находящийся под влиянием каппадокийской школы (в том
числе и Гр. Нисского) и платонизма. Ряд положений его посланий,
особенно когда речь идет об устроении и свойствах души,
социальных взглядах, достаточно близки воззрениям античного философа,
высказанных в «Тимее», «Федоне», четвертой и девятой книгах
«Государства». Миссия на Руси — не самой благополучной и
богатой окраине христианского мира — которой он отдал 17 лет жизни,
могла быть либо ссылкой, либо единственно возможной карьерой
для человека, не обладающего достаточными связями и знатным
происхождением. В трех своих посланиях, обращенных к князям,
этот человек предстает как церковный деятель, признающий
безусловный приоритет светской власти, но и умеющий добиваться
нужных ему решений от русских властителей. Любопытной
характеристикой этого, безусловно, образованного, талантливого и хитрого
деятеля церкви служит и то, что, судя по «Поучению в неделю
сыропустную» (написано около 1113 г.), он после девяти лет
пребывания в Киеве по-прежнему испытывал существенные трудности в
обращении с церковно-славянским языком.
Наиболее философичным является текст «Послания о посте
и воздержании чувств». В богословском послании оказывается
заключен небольшой метафизический и антропологический
трактат, представляющий собой пример греческой образованности.
Особое внимание уделяется четырем проблемам: 1) природа
человека; 2) основание деятельности; 3) концепция души; 4)
осуществление совершенного человека в практической деятельности.
1. Рассуждение о природе человека следует охарактеризовать
как пример богословско-философской диалектической
силлогистики. Природа человека двусоставна — высшее, разумное,
бестелесное, божественное естество и «естество сластолюбивое»,
неразумное, телесное, «источник плотских страстей». Двусоставность
осуществляется как «двойственность жизни», земного присутствия,
основное содержание которого составляет «большая борьба внутри
61
нас», конфликт духа и плоти. Эта ситуация определяет человека
как существо нестабильное, чья жизнь полна не только опасностей
и искушений со стороны плотского начала, но и драматичной
неопределенности. Она заключается не только в том, что нет полной
уверенности в победе духа, но и в том, что «большая борьба» как
разъединяет, так и объединяет — целое жизни создает эффект
трагического смешения, смеси духа и плоти. Этот эффект
оказывается обладающим универсальным действием: точно в такой же
оппозиции-смешении находятся добро и зло, воля Божья и воля
человеческая.
2. Отсюда для Никифора следует важность темы поста.
Обнаруживается, что пост есть один из важнейших методов укрощения
страстей, а «обуздание» вообще есть «первое благо». В итоге
происходит стабилизация целого под названием «жизнь»,
заключающаяся отнюдь не в торжестве духа над плотью, но в правильности
выбора деятельности, верного определения повода деятельности.
«Мир получает [душа], который в нас, когда мы повелеваем, говоря
«Мир всем!»1 Это положение становится положением об
основании и повторяется в ином виде еще трижды: когда Никифор
говорит о разумном, чувственном и волевом выборе пути к Богу.
Пост не нужен и бесполезен, если не понимать силу поста.
Этот постулат теологического рационализма усиливается
концепцией основания («источников») добродетелей и добра и зла.
Возникает рассуждение, предмет которого занимал целую плеяду
европейских мыслителей — Оригена, каппадокийцев, Августина, Фому Ак-
винского, Гильберта Порретанского, Иоанна Дунса Скотта,
московского митрополита Платона, A.C. Хомякова и других: что
первично — вера или дело? Ответ Никифора таков. В мире, исходя из
универсальности принципа двусоставности, «неотделимо зло от
добра», «смешено зло с добродетелями», одно и то же дело может
быть обращено как на благо, так и во зло. Главное — это
основание, исходя из которого совершается поступок. Если разум
человека настроен на «правду», то и дело принесет благо; в противном
случае человек «уклоняется» на путь злобы. Что такое правда? Это
есть вера в Бога и следование его примеру. Но даже праведник
может заблуждаться. Рецепт киевского митрополита таков —
«внимай себе», «слову и делу своему».
Никифор утверждает: есть единственно истинный образец
божественного действия, ведущего к благу, данный Христом;
следование ему возможно только в процессе самоосознания своего пути —
1 Послания митрополита Никифора. С. 76.
62
выбор уже сделан и осознан для мира Божьим Сыном, но каждый
должен этот выбор сделать и пережить совершенно
самостоятельно. Действительно, Бог «издалеча проразуме и предповеле» судьбу
мира и человека, но это не значит, что в мире существует жесткая
предопределенность событий. Творец только открывает и назначает
путь — каждый выбирает, следовать ему или нет. Еще существует
и «наше повеление», в силу которого происходит согласие с
замыслом Божьим или отклонение от него.
3. Бестелесное есть духовное. Духовное состоит из души и
сердца. О последнем Никифор говорит невнятно, но очевидно —
через сердце Бог действует в человеке: «человек исследует
видимое, а Бог смотрит в сердце»1. Душа, в соответствии с
платонической концепцией, которую в более мягком варианте воспроизводит,
к примеру, Гр. Нисский, состоит из трех частей: «словесной»
(разумной), «яростной» (чувственной), «желанной» (волевой).
Разум есть отличительное свойство человека. С помощью него
человек «познает» небо и «все остальное», то есть все
сотворенное, включая ноуменальное и горнее (ангелов). Эта возможность
познания есть путь «понимания» Бога. Если разум настроен на
«правду», то его силы вполне достаточно для этого «понимания»
данного Творцом откровения, которое постоянно присутствует в
мире, поскольку Бог есть устроитель и предопределитель всего
сущего всех времен.
Чувства и воля могут быть направлены как к Богу, так и быть
противны ему. В первом случае они есть «усердие к Богу и месть
врагам Божьим», «желание к Богу». Во втором — злоба и зависть.
Истинная вера — это сражение; вера стоит мира — Никифор,
исходя из библейских примеров, приходит к выводу, что убийство
именем Божьим и по убеждению в своей правоте есть дело истины.
Совокупность, называемая душой, расположена в голове (вопрос о
топологии душевного, как мы помним, внимательно изучался
Филиппом Монотропом) и имеет коммуникативный фактор в виде ума.
Как и Иоанн Дамаскин, Никифор полагает, что ум — это «око
светлое» и посредством него душа наполняет все тело «силой
своей». В соответствии с этим — зрение из пяти видов чувств
единственное полностью истинное и добродетельное.
4. Душа бесплотна и осуществляет себя в практических
действиях через «слуг, воевод и наставников», то есть через органы
чувств. На этом основании у Никифора возникает социоантропо-
морфистская аналогия, которую впоследствии будет разделять Ки-
Послания митрополита Никифора. С. 81.
63
рилл Туровский: тело — это прообраз государства, где князь есть
душа и ум, подчиняющий себе и вдохновляющий своих подданных.
И далее, автор «Послания», то ли в порядке лести князю, то ли
искренне полагая Владимира Святославича ревнителем
православного благочестия и считая его избранником Божьим, указывает на
характеристики совершенного человека так, как они осуществляются
в земной жизни. В целом они имеют исходное основание — «бла-
говерность по Божьей благодати» (осознание пути к
«правде») — и включают в себя: умеренность и воздержание,
практичность и скромность, следование цели и предназначению,
соблюдение долга перед людьми, благотворительность, нестяжание
(«золото не имеет власти»), хозяйственность и бережливость, простота и
изначальность веры. Возникает образ идеального правителя, что
есть, в соответствии с формулой: «князь — душа и ум
государства», образец для каждого человека.
Послание завершается небольшим, но ярким образцом
экзегезы, посвященной сотому псалму, который трактуется как «истинное
изображение царское и подобие княжеское». Сказанное в псалме
объявляется моделью добродетели-правды, которую нужно не
только осуществить-исполнить, но первоначально «проверить и
сохранить» и только тогда она «просветит очи разума», «отвратит суету»
(то есть избавит человека от случайностей и заблуждений, которые,
в силу понимания «жизни» как смеси противоположностей,
составляют его существо) и «очистит сердце», что значит откроет для
благодать путь непосредственного (вне разума) воздействия на
человека.
Космологическая хронология и числовая концепция
мироздания у Кирика Новгородца
Выдающимся интеллектуалом XII столетия, одним из первых
русских математиков по праву считается талантливый богослов,
ученый и философ, дьякон и доместик (руководитель хора) Кирик
Новгородец (1110 — позднее 1166/1158). Он является автором
двух оригинальных трудов: богословского текста «Вопрошание Ки-
риково, иже вопроси епископа Нифонта и иных»1 (середина XII в.)
и «Учения о числах» («учение, дающее человеку знание счисления
всех лет»), написанного, как следует из автобиографической
приписки самого автора, в 1136 г.
1 Памятники древнерусского канонического права. Ч. 1.СП6., 1880. Об. 21 — 62.
64
Жизнь Кирика связана с новгородским Антониевым
монастырем, который в 1106 г. по благословению епископа Никиты
основал на свои собственные средства приверженец греческой веры
Антоний Римлянин (ум. 1147). Этот человек прибывает в Новгород
(по легенде, средством передвижения служил кусок скалы) с
группой единомышленников, что связывают с общеевропейскими
гонениями римского престола и лично папы римского Григория VII
(1015/20—1085) на ирландское монашество1, к числу которого,
вероятно, и принадлежали эмигранты. Кирик принадлежал к
первому поколению послушников, получивших хорошее и
разностороннее образование от прибывших из Европы монахов и, обладая от
природы разнообразными талантами, к 40-м годам текущего века
становится заметной и притом вполне самостоятельной фигурой
новгородской церковной и интеллектуальной жизни.
Новгород Великий в период между 1117—1158 гг. пережил
революционное преобразование своего политического устройства и
статуса: в это время, совпавшее с жизнью Кирика, происходит
становление принципов и институтов независимой Новгородской
республики, происходит расцвет церковного и городского
строительства (новый каменный кремль, заложенный Мстиславом Великим в
1116 г., Никольский собор, собор Рождества Богородицы в Анто-
ниевом монастыре, Георгиевский собор в Юрьевом монастыре,
церкви Ивана на Опоках и Успенья на торгу). После того как
новгородский князь Мстислав, сын Владимира Мономаха, по
требованию отца уезжает в 1117 г. в Киев, в Новгороде устанавливается
порядок вольного избрания князей, притом, что все средства
управления сосредоточиваются в руках посадников, избираемых с 1130 г.
только из жителей города. Коренные изменения происходят и в
новгородской церкви. Начиная с прихода на епископскую кафедру
будущего собеседника Кирика Нифонта (епископ ИЗО—1156),
заметно укрепляется ее политическое влияние, а идеологическая
позиция приобретает агрессивные и воинственные черты, в связи с
чем, как это и следует из «Вопрошания Кирикова», уделяется
особое внимание усилению внутрицерковной вертикали власти,
требованию жестких исполнений церковных обрядов со стороны паствы,
искоренению двоеверия в новгородском регионе, борьбе с
латинством и ересями. Наконец, формальным рубежом новгородского
«церковного переворота» следует считать избрание епископом
игумена Аркажского Аркадия решением вечевого собрания 1158 г.
1 Кузьмин А.Г. Падение Перуна. М., 1988. С. 170—171.
«Вопрошание» Кирика характеризуется двояко. С одной
стороны — это высокопрофессиональный богословский труд,
произведение канонического права, которое в последствии довольно часто
включалось в русские Кормчие книги (древнейший список текста
как раз и сохранился в Новгородской Кормчей книге XIII в.). Оно
выполнено в жанре вопросов-ответов, которые Кирик обращает в
основном к епископу Нифонту, а также митрополиту Клименту
Смолятичу (в 1147 г. Нифонт со свитой, в состав которой входил и
Кирик, ездил в Киев, чтобы препятствовать избранию Климента на
митрополичий стол) и сменившему в 1158 г. Нифонта Аркадию.
Интересным штрихом, характеризующим особую независимую
позицию Кирика, является то, что он позволял себе продолжать
беседы с Климентом даже после того, как Нифонт по повелению
киевских князя и митрополита был отправлен в заточение, и продолжил
свое общение с Нифонтом после его освобождения. Как богослов и
каноник, Кирик демонстрирует великолепное знание как восточных,
так и западных доктринальных текстов (в частности, покаянного
права), проявляет осведомленность о неизвестных русским
иерархам церкви богословских текстах, умело обсуждает
регламентированные уставные церковные правила.
С другой стороны, труд Кирика являет многообразную и
разностороннюю, почти что энциклопедическую картину новгородской
церковной и светской жизни. Сведения из его текста можно
объединить в три большие группы. Во-первых, проблемы церковного
строительства: в Новгороде по прежнему остро стояли вопросы
крещения, причащения, перехода из латинской веры в православие;
осуществлялись регулярные паломничества в Иерусалим.
Во-вторых, «книжный круг» новгородских богословов: сообщается об
особом внимании в новгородской богословской среде к сочинениям
Василия Великого, Иоанна Постника, Тимофея Александрийского;
хотя и вскользь, но обсуждается с Нифонтом и присутствие в
новгородской культурной среде разнообразных апокрифов. В-третьих,
проблемы мирской этики: вопросы, связанные с рождением,
неверностью в браке, наследственными правами детей, предписанием
хоронить покойника до захода солнца, широким употреблением
берестяных грамот (в новгородском обществе порицались люди,
которые, к примеру, обращались с ними небрежно или случайно
наступали на них), пищей новгородцев и т.д.
Таким образом, текст «Вопрошания», не имея прямого
отношения к религиозно-философской традиции, дает обширные сведения
об интеллектуальном климате культурно-исторической среды одного
из самых просвещенных русских городов домонгольского периода.
66
Второй текст Кирика, «Учение о числах» (древнейший список
XVI в.) представляет собой небольшой трактат о правилах
исчисления календарного и астрономического времени. Работа написана в
известном жанре «семитысячника», календарного текста, который
появился в-славянской культуре уже в IX в., а в XI в. из Болгарии в
разных вариантах проникли на Русь. В «Учении» выделяют пять
частей: 1) о счете времени; 2) об основах календаря; 3) о «понов-
лении стихий»; 4) о дробных делениях часа, которая считается
поздней вставкой; 5) автобиографическая приписка, благодаря
которой и существует возможность установить авторство Кирика.
Притом что первая и вторая части носят компилятивный
характер и придуманы явно не Кириком, тем не менее в них чувствуется
твердая и оригинальная авторская работа. Ее важнейшей
характеристикой является то, что, в отличие от всех других подобных ка-
лендарно-хронологических текстов-исчислений, Кирик дает
безошибочные математические расчеты. Все они исходят из одной
цифры — времени сотворения мира, от которого в момент
написания текста шел 6644 год — и устанавливают количество
прошедших с той поры лет, месяцев, дней, часов, а также правила расчета
и определения индикта, лунного и солнечного круга для
пасхального календаря, указывают точное число месяцев, недель, дней, часов
в обычном и високосном годах. Помимо точности расчетов
творческое отношение Кирика к этой традиционной части всех календар-
но-астрономических исчислений демонстрируют и два не имеющие
аналогов в древнерусской письменности и, по всей видимости, им
же и созданных неологизма — «промузгы» (вероятно, от
греческого «промустес» — люди, имеющие право первого слова, мудрецы)
и «числолюбци» (любители расчетов, математики).
Третья часть текста представляет собой четыре фрагмента, в
которых сообщается, через какие временные промежутки
происходит обновление четырех стихий — неба, земли, моря и воды. Это
оригинальная авторская вставка в текст о правилах исчисления
придает всему маленькому трактату статус
религиозно-философского произведения. Его концептуальная основа содержит в себе
четыре идеи: 1 ) принцип осуществления сотворенности; 2)
космология; 3) принцип цикличности; 4) теистическая персоналистичность.
1. Осуществление сотворенности интересует Кирика только как
космологический процесс. Мир создан Богом как единое целое и
включает в себя четыре совокупные космологические величины:
1 Кирик Новгородец. Учение о числах/Пер. P.A. Симонова//Громов М.Н., Миль-
ков В.В. Идейные течения древнерусской мысли. СПб., 2001. С. 400 — 411.
5*
67
небо, землю, видимое («всю видимую тварь») и время. Это
сотворенное может быть исчислено, то есть выражено через
последовательность числовых стратификации, где числовая закономерность
(предмет деятельности «числолюбцев») есть регулятивный элемент
творения, внесенный в него Богом для обеспечения закономерности
в устройстве мира. Называются две крупнейшие числовые
стратификации: «века мира» (их 6 от момента сотворения и еще 644 года
текущего седьмого века) и «большой круг» (цикл повторяемости
христианской Пасхи — их было 12 и прошло 260 лет 13-го).
Большой круг рассчитывается как произведение циклов двух
«светил великих» (Быт. 1: 16) — 28-летнего солнечного и
19-летнего лунного.
«Числовой принцип» устройства вселенной, сформулированный
Кириком, найдет дальнейшее неожиданное этико-онтологическое
продолжение и осмысление в русской религиозно-философской
мысли в XVII в. В анонимной статье «О счислении кругов времени
и поновлении стихий» утверждается: «множества числа дерзнух ис-
числити всего, еже под Леты бываемое, и тлению подпадаемое, и
начало имущее и корень — всяко может и числом описоватися.
Едина же не описуется любовь, ниже числом изчитается. Несть бо
меры доброте ея, неизмерима бездна, неиспытана глубина, несказа-
на высота, недоведомо величество ее»1.
2. Исходя из принципа осуществления сотворенности, Кирик
формулирует фундаментальную космологическую схему.
Действительно, перечисляя основные стихии, которые в христианском
прочтении и антиохийской и каппадокийской традиций (как это
продемонстрировано в «Шестодневе» Иоанна экзарха Болгарского)
отождествлялись с первоэлементами античной натурфилософии
(земля, вода, воздух, огонь), Кирик называет только небо, землю, моря
и воды. Причем, как это следует из числовой стратификации
«большого круга», в небесной части мироздания важнейшими для него
являются солнце и луна, а расчет количества часов ведется
отдельно для дня и ночи и специально упоминается так называемый
«косой час», разделяющий исчисление дневного и ночного времени.
Единственным точным эквивалентом всей этой последовательности
(небо земля, моря, воды, солнце, луна, день, ночь и их разделение)
будет Библия, первая книга Моисеева «Бытие», глава 1, стихи
1 —17. За исключением 11 —12 стихов, где говорится о сотворении
живой природы, которая космологию Кирика не интересует. В ито-
1 Гаврюшин Н.К. «Поновление стихий» в древнерусской книжности//Отечествен-
ная общественная мысль эпохи средневековья. Киев, 1988. С. 212.
68
ге получается, что «Учение» новгородского автора представляет
собой своеобразный космологический «Шестоднев», описывающий
первые три дня творения с точки зрения разворачивания во
времени регулятивного числового принципа.
3. Мир имеет точку и момент творения. Осуществление
творения подчинено числовому принципу. Количество времени,
отпущенное творению, неизвестно. Ясно только, что это линеарный
процесс, организованный как последовательность циклов. Главный из
них — Пасхальный, устанавливаемый в соответствии с циклами
движения Луны и Солнца. Кроме этого, существуют еще четыре
цикла, в период которых происходит «обновление» неба (80 лет),
земли (40 лет), моря (60 лет), воды (70 лет). Непосредственный
источник этой концепции Кирика до сих пор не определен
(усматривают пифагорейское, стоическое, платоническое,
аристотелевское и даже гностическое влияние). По крайней мере сама идея
циклов вполне обычна для античной философии и, к примеру, в
качестве общеметодологической посылки может вполне восходить к
Аристотелю, у которого в «Физике» (кн. IV. 14. 223Ь 10—13)
говорится, что каждая часть из всего сущего переживает
круговращение своего бытия, возникая и разрушаясь.
4. Строгая космологическая направленность текста внезапно
разрушается его последней автобиографической частью, где Кирик
совершает две яркие « персонал истические» акции. Во-первых, он
называет свое авторство от первого лица, придавая трактату
личностное звучание, выражение собственной точки зрения. Во-вторых,
перечислив светских и церковных владык, при которых он живет,
он с точностью до часа исчисляет свой 26-летний возраст и, таким
образом, включает свою персону в общее мировое исчисление как
полноправного участника мироздания наряду с
вышеперечисленными им светилами и стихиями. Эту позицию следует
охарактеризовать как теистический персонализм, то есть самосознание выделен-
ности конкретного «Я» перед лицом Всевышнего.
Теологический антропоцентризм митрополита
Климента Смолятича
Климент Смолятич (умер после 1164) в 1147 г. по воле
великого князя киевского Изяслава Мстиславича был поставлен
митрополитом Киевским одним собором русских епископов, без
согласования с Константинопольским патриархатом, митрополией которого
являлась Русская православная церковь. В дальнейшем, вплоть до
1164 г., когда имя Климента исчезает из летописей, он всецело
69
разделяет политическую судьбу своих покровителей, князей
старшей линии дома мономаховичей, сыновей Мстислава Великого,
внуков Владимира Мономаха — Изяслава и Ростислава Мстисла-
вичей. Основной интригой того времени, развернувшейся вокруг
великого киевского княжения, было противостояние Изяслава и
его дяди, младшего сына Мономаха, Юрия Владимировича
Долгорукого. Эти два князя-родственника на протяжении восьми лет в
затяжной междусобной войне с привлечением громадных людских
ресурсов из галичского, черниговского, смоленского княжеств, а
также из Венгрии и Польши, оспаривали друг у друга право
занимать стол в Киеве. Дважды, в 1149 и в 1154 гг., митрополит
Климент был вынужден бежать из Киева, чтобы не пасть жертвой в
борьбе двух княжеских корпораций. В период 1155—1157 гг.,
когда великим князем в Киеве наконец-то стал Юрий, Климент был
смещен с митрополичьего престола вновь прибывшим из
Константинополя митрополитом-греком Константином по канону
официальной процедурой, сопровождаемой проклятием и запретом к
служению не только его самого, но и рукоположенных им когда-либо
священников и дьяконов. Еще дважды — в 1158 г., после смерти
Изяслава и отказа его сына Андрея Боголюбского принять на себя
великое княжение Киевское, и в 1163 г., после смерти
митрополита Константина, Климент имел возможность вернуться на
митрополичий престол в Киеве, но судьба распорядилась иначе, и после
1164 г. его имя больше не упоминается в летописях, в одной из
которых к стандартной характеристике «книжник и философ», что
часто давалась просвещенным церковным деятелям, оставившим
после себя какие-либо литературные произведения или
покровительствовавшим летописанию, церквостроительству и иным куль-
турносозидательным делам, было добавлено весьма
лестное — «якоже в Русской земле не бяшеть».
Единственным известным текстом Климента является
«Послание к смоленскому пресвитеру Фоме»1, сопровождаемое
«разъяснениями» некого монаха Афанасия, отделить которые от творения
киевского митрополита невозможно. Творение Климента — это
небольшое оригинальное произведение, написанное по поводу
обвинений в пристрастии к античной философии и «изложении»
Гомера, Аристотеля и Платона. Любопытной характеристикой апологии
русского иерарха является то, что он, не отрицая ни знакомства с
перечисленными древнегреческими авторами, ни факта «изложе-
1 Послание, написано Климентом, митрополитом русским, Фоме пресвитеру,
истолковано Афанасием Мнихом//Златоструй. М., 1990. С. 180—190.
70
ния» их идей, сообщает Фоме, что «ежели и писал, то не тебе, а
князю, да и то не часто». Действительно, в условиях становления
отечественной христианской традиции античная культура
воспринималась как языческая, и славянские книжники ориентировались
преимущественно на классиков греческой церковной литературы. В
споре двух древнерусских представителей греческой
образованности — Климента и Фомы — присутствует такая мысль: ссылки на
«еллинских» философов недопустимы при общении духовных лиц,
но уместны при общении с князем. Исследователи предполагают,
что «усвоение античной культурной традиции было характерно
именно для светской княжеской культуры»1.
Весьма важно и то, что Климент и Фома, по сути дела,
обсуждают не что иное, как образованность славянскую. Так, Климент
сообщает, что в его окружении есть люди, владеющие так
называемой схедографией, высшим курсом грамматики в греческом
образовании, когда заучиваются упражнения на каждую букву алфавита.
Речь в «Послании» ведется о 24 буквах греческого алфавита, но
при этом ведется обсуждение умения писать по церковнославянски.
Такое представление о едином «еллино-славенским языке» прочно
входит в представление древнерусских книжников. В XVI—XVII вв.
даже появляются описания этого единого языка — «Грамматика»,
изданная во Львове в 1591 г., и рукописный букварь,
приписываемый братьям Лихудам.
В «Послании» Климента выделяют две части: оригинальное
авторское начало и компиляция богословско-антропологического и
философского содержания на основе Св. Писания и трудов
представителей каппадокийской и антиохийской школ: Феодорита Кирр-
ского, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста,
«Шестоднева» Иоанна экзарха Болгарского, «Диалектики» Иоанна
Дамаскина. В идейном содержании текста обращают на себя
внимание три основных темы: 1) принцип цели-полезности; 2) принцип
ограниченной предопределенности; 3) принцип человеческой
телеологической самоопределенности.
1. «Все устраивается, поддерживается и преуспевается силой
Божьей, ибо нет другой помощи, кроме Божьей, и другой силы,
кроме силы Божественной». Мироздание во всей целостности,
каждая из составляющих его вещей не только создаются, но и
постоянно «поддерживаются» Божественным присутствием. Это
присутствие осуществляется не непосредственно, но как «сила», своего
1 Успенский Б.А. Краткий очерк истории русского литературного языка (XI—
XIX вв.). М., 1994. С. 29.
71
рода, действие-энергия. Идея силы со времен возникновения кап-
падокийской школы рассматривалась в том же ключе, как она
будет пониматься в исихазме Гр. Паламы: «к нам нисходят Его
энергии-действия, а Его сущность остается неприступной»1.
Все сотворенное силой Божьей является сотворенным по
принципу цели-полезности, поскольку «ничего не сотворил Господь без
строя и ничего у него не презренно». Каждая вещь, существо,
включая человека, занимает свое определенное место, выполняет
предназначенные ей функции и находится в состоянии
предопределенности своего существования. Так Климент с помощью каппадо-
кийцев выражает идею установленного предела-ограничения,
свойственную каждой вещи, знакомую со времен Аристотеля. В
качестве доказательства «промысла Божьего» он приводит несколько
примеров, в частности «морское животное ехион»,
целесообразность существования которого заключается в предупреждении
кораблей во время бури о прибрежных скалах. Таким образом,
возникает мироздание, подчиненное принципу жесткого
провиденциального детерминизма.
Целесообразность мироустройства и принцип цел и-полезности
реализуется и в обращении Бога с человеком. Климент особенно
отмечает два положения. Во-первых, так же как и митрополит Ни-
кифор, он полагает, что Бог «премудро управляет и устрояет наше
спасение». Это означает, что христианская модель истории
человеческой жизни реализуется у Климента по принципу
предопределенности, но не более того. Бог, ввиду особого соотношения с
человеком, гарантирует ему спасение при соблюдении принципа
цели-полезности, то есть если человек, как и другие существа и вещи,
занимает отведенное ему место и выполняет предназначенные
функции. Но Бог лишь «вкладывает понимание своей премудрости в
человека», но отнюдь не принуждает следовать ей. Такое поведение
попросту целесообразно и естественно и, что называется,
«энергетически оправданно». Хотя далее Климент оговаривается, что Бог
«каждому человеку повелевает так, как хочет». И, таким образом,
не просто человек как совокупность человеческого вообще, но
именно «каждый» находится в поле зрения высших сил-действий,
«поддерживается и преуспевается» ими.
2. Климент продолжает развивать эту мысль и склоняется к
убеждению отсутствия в мироздании раз и навсегда установленного
божественного предопределения: существует возможность повли-
1 Св. Василий Великий. Письмо 234//Св.Василий Великий. Избранные труды и
послания. М., 1996.
72
ять на «промысел» Бога. Очевидно, что способа этих «влияний»
два. Первый — это неподчинение и самоопределение, что автор не
рассматривает, поскольку это путь Люцифера, хотя косвенно и
признает возможность такого пути. Это нарушение пределов,
данных человеку, и разрушение принципа цели-полезности. Второй
способ заключается в молитве-мольбе, обращенной к Богу. В
пример приводится ряд случаев христианской истории, среди которых
самый яркий — пример с Григорием Богословом. Он, по всей
видимости, подчиняясь замыслу силы Божьей, должен был погибнуть
при кораблекрушении на пути в Афины. Но, обратившись с жаркой
молитвой к Создателю, сумел повлиять на свою судьбу, и был
оставлен в живых. Тогда, принимая это положение Климента, следует
утверждать, что в этой схеме мироздания есть, во-первых,
«промысел» Бога, возникший, как и мир, как и время, в начальный момент
творения и содержащий в себе судьбы всего и каждого из всех, и,
во-вторых, «поддержание» Бога, который, в заботе об этом мире
способен изменять свой собственный предустановленный
промысел. Единственным существом, которое способно убедить Бога в
необходимости перемен, является человек.
3. Человек создан по образу и подобию Бога. Важнейшими его
составляющими являются ум (разум и рассудительность), слово,
душа, тело, обладающее чувствами. Особенно важно для Климента
подчеркнуть исключительность двух уникальных характеристик
человека, которые, вероятно, и осуществляют человеческое богопо-
добие. Во-первых, настойчиво подчеркивается, что человек наделен
«даром слова», что является способом миропонимания, мироос-
мысления и движения к пониманию Бога. Во-вторых, подобно тому,
как Бог может «действовать» человеком, то есть делать его
проводником своей силы, так и человек наделен способностью
«действовать» всеми земными творениями божьими. Мир сотворен на
пользу человеку, любое из творений предназначено к исполнению
принципа цели-полезности ради человека: «огонь — вещество,
сотворенное Богом на службу умному и рассудительному, одаренному
словом человеку». Таким образом, человек, действуя в мире и
соблюдая принцип цел и-полезности, сам оказывается элементом
божественных сил и проводником их энергий-действий. Именно
поэтому, считает Климент, довершая до логического конца свою идею
теологического антропоцентризма, для человека лучше всего
«помышлять особенно о Боге, совет и премудрость которого наш ум
нимало постигнуть не может», но вполне может стать элементом
божественной силы.
73
Просветительская деятельность Максима Грека: тяжкий путь
жизни и религиозно-философские воззрения
В истории русской культурно-исторической среды и в процессе
становления традиции религиозной философии Максим Грек
(ок.1470—12.XII.1555)1 является действительно одним из первых
признанных посредников, соединивших патристические основы
«греческой образованности» с новейшими тенденциями западной
религиозно-философской мысли. Для понимания этого процесса
имеют значение не только его сочинения, но и жизненный путь.
1. Ныне считается установленным, что, первоначально
малоизвестный гуманист Михаил Триволис, родом из албанского города
Арты, сын знатных родителей эллинского происхождения по имени
Эммануил и Ирина, провел свою молодость в Италии в тесном
общении с целым рядом знаменитейших интеллектуалов того
времени, в частности Иоанном Ласкарисом, Анджело Полициано, Пико
дела Мирандолой. Он учился во Флоренции и Венеции, слушал
знаменитого филолога, своего соотечественника Ласкариса, был
близок со многими учеными и в том числе с Альдом Мануччи,
типографом и издателем древних классиков, который образовал около
себя кружок ученых и образованных людей.
Большое впечатление произвела на него деятельность
доминиканского монаха Джироламо Савонаролы, которого обвинили в
ереси, и в 1498 году он был сожжен по повелению папы
Александра VI. Михаил знал Джироламо лично, слушал его страстные
обличительные проповеди. «Если бы, — говорит Михаил в одном из
своих сочинений, — Иероним и пострадавшие с ним два мужа не
были латыны верою, я бы с радостью сравнил их с древними
защитниками благочестия. Это показывает, что хотя латыны и во
многом соблазнились, но не до конца еще отпали от веры, надежды
и любви»2.
Общение с Савонаролой, видимо, и приводит его на путь
монастырского жития, который начинается с доминиканского монастыря
св. Марка во Флоренции, а затем в 1505 г. приведет на Афон, в
православную Ватопедскую обитель, где он постригся под именем
Максима.
В 1516 г. Максим, пользуясь случаем, переезжает в Москву,
где ему поручается перевод Толковой Псалтири. Первоначально
Максим, не имевший навыка обращения с русским языком, полу-
1 Громов М. Максим Грек. М., 1983.
2 Сочинения Максима Грека/Репринтное издание. Ч. 1. М., 1992. С. 48.
74
чил в помощники двух образованных людей: известного
переводчика, участника составления «Великих Миней Четьей» Димитрия
Герасимова и Власия, переводчика и дипломата. Оба знали по-латы-
ни, и Максим переводил им с греческого на латинский, а они
писали по-славянски. Для письма приставлены были к ним иноки Сер-
гиевой Лавры: Силуан и Михаил Медоварцев. В 1518 г. (по другим
сведениям, около 1522 г.) Максим окончил свой труд. Помимо
Псалтири он перевел несколько толкований на Деяния апостолов и
представил свою работу великому князю с посланием, в котором
излагались общие принципы переводческого метода и отношения к
священным текстам в процессе их перевода-интерпретации (так
называемая «грамматическая» теория перевода). Затем он просил
отпустить его на Афон вместе со своими спутниками. Василий
Иванович отпустил спутников, пославши с ними и богатую милостыню
на Афон, но Максима удержал, поручив переводы и исправление
других книг.
Познакомившись и сблизившись с последователем «идейного
сообщества» «нестяжателей» князем-иноком Вассианом
Патрикеевым, автором антииосифлянской «Кормчей книги» (1517), Максим
принимает участие в обсуждении насущных проблем русской жизни
того времени, занимает активную позицию не только опытного
«книжника», переводчика и писателя-философа, но и талантливого
и по началу бесстрашного обличителя нравов русского духовенства
и власть придержащих, радикально придерживаясь
«нестяжательской» линии. Что и дало повод для ложных обвинений.
В феврале 1525 года Максим Грек был вовлечен в
следственное дело политического характера. Его обвиняли в сношениях с
опальными людьми Иваном Беклемишевым-Берсенем и Федором
Жареным, которые, находясь одно время в фаворе у Василия III,
действительно нашли с Максимом много точек соприкосновения во
взглядах и на политическое устройство, и на проблему войны, и на
вопрос о «нестяжании». Спустя некоторое время Беклемишева и
дьяка Жареного казнили, а Максима обвинили в сношении с
турецким послом Скиндером. Его уличали в том, что он называл
великого князя Василия гонителем и мучителем, порицал за то, что
Василий предал землю свою татарскому хану на расхищение, и
предсказывал, что если на Москву пойдут турки, то московский государь из
трусости обяжется или платить дань, или убежит.
В итоге Василий III предал его суду духовного собора под
председательством митрополита Даниила и на этом соборе
присутствовал сам. Максима обвиняли в порче богослужебных книг и выводи-
75
ли из слов, отысканных в его переводе, еретические мнения, находя
важным то, что он вместо: «Христос седе одесную Отца» написал
«седев одесную Отца»1. Максим не признал себя виновным. В
1525 г. Максим Грек был сослан в Иосифов Волоколамский
монастырь под надзор старца Тихона Лелкова. Так как нестяжательская
проповедь Максима к тому времени была уже широко известна на
Руси, то в оплоте «иосифлянства» его содержали умышленно
дурно. «Меня морили дымом, морозом и голодом за грехи мои премно-
гие, а не за какую-нибудь ересь», — писал он2.
Отправляя Максима в монастырь, собор обязал его никого не
учить, никому не писать, ни от кого не принимать писем и велел
отобрать привезенные им с собой греческие книги. Но Максим не
думал каяться и признавать себя виновным, продолжал писать
послания с прежним обличительным характером. Это вызвало
против него новый соборный суд в 1531 году. На этот раз, кроме
прежнего вопроса «о седении одесную Отца», его обвиняли в том,
будто он в переводе Жития Св. Богородицы Метафраста
употребил выражение, заключающее смысл хулы на Св. Богородицу, что
он приказал «загладить» (выбросить) из Деяний апостольских
разговор апостола Филиппа с кажеником (Деян. VIII: 37) и, кроме
того, еще из богослужебной книги велел «загладить» отпуск
троицкой вечерни3. Максим от всего этого отпирался и уверял, что
никогда не имел еретических мнений, какие на него взваливали.
На Максима между прочим показывал его бывший писец Медо-
варцев и, желая оправдать себя самого, выражался, что «на него
дрожь великая нападала», когда Максим велел заглаживать слова
«троицкого отпуста». Все это были не более как наветы
недоброжелателей. Характер всего суда ясно свидетельствует именно о
таком положении дел: таким образом, на том же суде Максима
обвиняли в «волхвовании», показывали на него, «будто он
хвалился, что все знает, где что делается»; будто говорил, что «на
нем нет ни единого греха»; будто хвалился «еллинскими и
жидовскими хитростями и чернокнижными волхвованиями», будто, при
посредстве волшебных эллинских хитростей, писал водкой на
своих ладонях и протягивал ладони, волхвуя против великого князя и
других лиц4.
1 Сочинения Максима Грека/Репринтное издание. Ч. 2. М., 1992. С. 117.
2 Там же. С. 95.
3 Там же. С. 119.
4 Там же. С. 121.
76
Если в этом суде было что-нибудь справедливого, то разве то,
что Максим действительно укорял монастыри в любостяжании,
порицал русское духовенство, выбросил из Символа веры выражение
«истинного» о Св. Духе (чего действительно не было в греческом
подлиннике, хотя Максим в этом на первый раз и не признался
из-за боязни осуждения) и, наконец, то, что Максим находил
нужным, чтобы русские митрополиты ставились с патриаршего
благословения. По поводу последнего вопроса Максим объяснил: «Я
спрашивал, зачем митрополиты русские не ставятся по-прежнему
патриархами? Мне сказали, что патриарх дал благословенную
грамоту на то, чтоб русский митрополит ставился по избранию своих
епископов, но я этой грамоты не видал»1. И здесь Максим был
опять-таки прав. Несмотря на сознание своей правоты, Максим
думал покорностью смягчить свою судьбу; он, по собственному
выражению, «падал трижды ниц перед собором» и признавал себя
виновным, но не более как в «неких малых описях». Самоунижение
не помогло ему. Его в том же 1531 г. отослали в оковах в новое
заточение, в Тверской Отрочь-монастырь. Несчастный узник
находился там двадцать два года. Напрасно он присылал исповедание
своей веры, доказывал, что он вовсе не еретик, сознавался, что мог
ошибаться невольно, делая описки, или по забывчивости, или по
скорби, или, наконец, от «излишнего винопития»; уверял, что он не
враг русской державы и десять раз в день молится за государя.
Лишь на рубеже 50-х годов его переводят в Троице-Сергиев
монастырь, где в декабре 1555 г. он и умирает.
2. Сочинения Максима Грека, если учитывать «грамматические
заметки», включают в себя три отдела: экзегетические, полеми-
ко-богословские — против латинян, лютеран, магометан, иудеев,
армян и язычников («эллинские прелести») и
нравственно-обличительные.
Помимо книг Священного Писания и толкований на них он
переводит также сочинения Василия Великого, Григория Богослова,
Иоанна Златоуста, жития из агиографического сборника Симеона
Метафраста. Максиму принадлежит сочинение «Толкование
именам по алфавиту», которое будет использовано составителями
«Азбуковников».
Из оригинальных сочинений Максиму принадлежат
публицистические произведения, доказывающие, в частности,
недопустимость монастырского землевладения («Стязание о известном
иноческом жительстве», «Слово душеполезно зело внимающим ему» и
1 Сочинения Максима Грека. 4.2. С. 211.
77
др.). В других сочинениях М. Грек раскрывает свои взгляды на
государственную власть («Главы поучительны начальствующим
правоверно», «Слово, пространно излагающе с жалостию нестроения
и безчиния царей и властей последнего жития», написанное после
смерти Василия III: Россию символизирует здесь жена, сидящая
при пути в черной одежде вдовицы и окруженная дикими зверями).
Все сочинения Максима Грека написаны в строгом
соответствии с правилами риторического и грамматического искусства. Он
развивает свои мысли в четкой логической последовательности,
аргументируя каждое положение. В ряде сочинений Максим
выступает против астрологии и всяческого суеверия («Слово противу
тщащихся звездозрением предрицати о будущих...») и против
апокрифической литературы, в частности против апокрифического
«Сказания Афродитиана». Значительное место среди публицистического
наследия Максима занимают его сочинения, направленные против
неправославных христиан (католиков, лютеран, армян), а также
против представителей других религий — иудеев, магометан,
эллинов-язычников. Особенно ожесточенно спорит он с придворным
медиком Василия III Николаем Булевым, выступавшим за соединение
православной и католической церквей.
3. Из оригинальных концептуальных построений Максима
Грека, имеющих отношение собственно к философской мысли,
отметим два: 1) концепцию основания человеческого существа и 2)
концепцию основания социальной власти.
1. Человек есть создание Бога, его образ и подобие.
Важнейшим атрибутом этого подобия и, в прочных традициях итальянского
Возрождения, сущностным качеством собственно человека
является способность «самовластия»1. Она понимается, во-первых, как
божественный дар, предопределенный принцип, дарованный
Создателем, во-вторых, бремя человеческой жизни, то есть способность
и даже принуждение самоопределения, в котором не на кого
опереться и некого винить в ошибках, кроме себя. Бог выпускает
человека в мир, ожидает его после смерти, но участвует в событиях
жизни человека не слишком охотно, только в том случае, если
человек его об этом будет «молить». Бог дает широчайшие
возможности и образец следования — остальное полностью зависит от
живущего.
В человеке выделяются три фундаментальные силы,
формирующие его жизнь: воля, вера, разум. Для того чтобы правильно
1 Послание к некоторому князю//Сочинения Максима Грека/Репринтное издание.
Ч. 1.М.. 1992. С. 217.
78
распорядиться своей жизнью, он должен обеспечить их согласное
действование. Воля есть уникальная способность
«самовластвования». Чтобы реализовать ее на благо себе и другим, по образцу
Христа, и не склониться на путь заблуждений и греха, следует
выработать систему ясных ценностных ориентиров. Для этого нужен
как разум, дающий способность «внешнего диалектического
ведения», так и вера, что есть «боговдохновленная философия»1.
Первый дает возможность «внешнего учительства», разнообразного
мирского знания; вторая — возможность непосредственного
восприятия ноуменальной истины. Вера помогает разуму и руководит
им, но разум обогащает веру и необходим для осознания базового
жизненного инстинкта — «самовластия».
Вообще, в таком виде концепция основания человеческого
существа могла появиться в то время в России только в творениях
человека, впитавшего в себя дух и знание европейского гуманизма.
В своих самых общих основаниях, отредактированных
православной ортодоксией, она совпадает с концепцией человека у Пико дела
Мирандолы.
Пико, разворачивая эту тему, понимает человека в контексте
мистико-философской традиции «Герметического корпуса», что
становится одной из основ возрожденческой апологии
человеческого: это единосущный сын Божий, совершенный именно своей
уникальной незавершенностью. Это существо незаконченное,
«творчески неопределенное, стоящее в центре мира»2. «Новый Сын»
потребен, чтобы придать смысл тварному и оценить его красоту.
Причем важно отметить, что если для всех творений существует
«узаконенный предел», то человек не стеснен никакими пределами,
он — «свободный мастер», который будет вынужден в своей
неопределенной свободе сам себя достраивать, досоздавать.
Человек — это уникальное сочетание возможностей, концентрат
вероятностей, каждую из которых (или все вместе) он способен
воплотить в действительность — стать растением, животным, небесным
существом, ангелом. Или же — возвратиться к «начальной
единичности», единству с Богом в «божественном мраке» Отца.
Концепция Максима Грека смягчает этот герметический гимн
человеческого всемогущества в русле православной традиции, как
и должно быть у мыслителя, который, будучи гуманистом, стано-
1 Послание к некоторому князю//Сочинения Максима Грека/Репринтное издание.
Ч. 1.М., 1992. С. 219.
2 Pico délia Mirandola G. De hominis dignitate. CD-version de l'Université Paris-VIII
[1998]. P. 37.
79
вится афонским монахом, а затем 20 лет сидит в русской тюрьме и
ищет для «самовластия» опору во всемогуществе веры.
2. В тексте под названием «Слово, пространно излагающе с
жалостию нестроения и безчиния царей и властей последнего
жития» в аллегорическом образе одинокой неутешно плачущей вдовы
Максим Грек изображает Русское государство. Облаченная в
черные одежды, она сидит в пустыне, окруженная львами, медведями,
волками и лисицами. После долгих и настойчивых просьб женщина
называет путнику свое имя и рассказывает о причине печали. Ее
зовут «Василия-царство». В скорбь и уныние повергло ее
недостойное правление, когда цари делаются мучителями, когда
властолюбцы и сластолюбцы пытаются подчинить Василию-царство себе.
Сам автор так разъясняет смысл своей аллегории. Пустыня и дикие
звери означают последний «окаянный» век, когда нет уже
благочестивых правителей, а нынешние властелины заботятся только об
увеличении своих пределов и ради этого устремляются на
кровопролитие. Так Грек обличает правительственные «смуты» 30-х гг.
XVI в., когда, воспользовавшись малолетством Грозного, боярство
расхищало государственное имущество и пыталось вернуть
утраченные привилегии.
При этом значение «Слова» простирается далее
конкретно-политических проблем: Максим Грек ставит вопрос о
необходимости разумного управления государством без кровопролитий,
жестокости и лихоимства. «Где вселится действительный страх
господень, оттуда исчезает радость»1, — пишет Максим Грек. Он
считает царскую власть, так же как и власть церкви,
божественным даром и развивает идею их тесного союза. Задача
священства — духовное просвещение; задача царства — оборона
государства, «устроение мирной жизни». Царь должен править на основе
правды и справедливости. Максим Грек выдвигает этико-полити-
ческую идею нравственной ответственности царя перед Богом за
судьбы своей страны и подданных. Опора царя — «боярство и
воинство», которые должны награждаться исключительно щедро,
без всякой экономии средств и даже при необходимости в ущерб
другим статьям расходов. Так Максим Грек разрабатывает
программу компромисса между двумя борющимися за власть
группами господствующего класса. Этот компромисс попытаются
осуществить в период правления «избранной рады» и на некоторое
время достигнут успеха.
1 Сочинения Максима Грека. Ч. 2. С. 215.
80
Начала западнорусского просвещения: судьба
и религиозно-философские взгляды князя A.M. Курбского
Творчество князя А.М. Курбского (1528—1588) позволяет
говорить о нем как о выдающейся фигуре западнорусского
просвещения. Жизнь его была блистательна и сложна, как и у всякого
неравнодушного к себе и миру, занимающего деятельную позицию
человека.
1. Курбский родился в октябре 1528 г. В двадцать лет
участвовал в первом походе под Казань; потом был воеводой в Пронске. В
1552 г. он разбил татар у Тулы и получил при этом ранение. Во
время осады Казани Курбский командовал правым флангом русской
армии, то есть фактически получил генеральскую должность и
выказал себя храбрым воином и умелым тактиком. Через два года он
разбил восставших татар и черемисов, за что получил боярское
звание. В это время Курбский был одним из самых близких к царю
людей. Он удачно сближается с группой Сильвестра и Адашева и
становится активным участником событий, названных впоследствии
реформами «избранной рады». Когда начались неудачи в Ливонии,
царь поставил во главе ливонского войска Курбского, который
вскоре одержал над рыцарями и поляками ряд побед, после чего
был воеводой в Юрьеве Ливонском (Дерпте). В это время уже
начались преследования и казни сторонников Сильвестра и Адашева
и первые побеги потенциальных жертв в Литву. Хотя за Курбским
никакой вины, кроме сочувствия опальным, не было, он имел
полное основание думать, что и ему грозит опасность. Король Сигиз-
мунд-Август и вельможи польские писали Курбскому, уговаривая
его перейти на их сторону и обещали достойный прием.
В 1563 г. Курбский бежал в Литву. На службу к Сигизмунду
Курбский прибыл с большой группой соратников, сочувственников
и слуг и был пожалован несколькими имениями, среди прочего
столь крупным держанием, как город Ковель. Курбский управлял
ими через своих урядников из москвитян. Уже в сентябре 1564 г.
Курбский воюет против России. Его натурализация прошла более
чем успешно, он был дважды женат и закончил жизнь вполне
счастливо.
2. Из сочинений Курбского наиболее известными и
значительными считаются четыре письма к Ивану Грозному.
Помимо этого перу Курбского принадлежат: «История князя
великого Московского о деле, яже слышахом и у достоверных
мужей и яже видехом очима нашима», «Предисловие к Новому
Маргариту», «Предисловие к книге Иоанна Дамаскина "Богословие"»,
6-6016 °1
а также «сказы» — примечания к переводам из Златоуста и Дама-
скина. Кроме того, он является автором компиляции «История
Флорентийского собора» и ряда других небольших сочинений.
Из переводческих работ князя наиболее известны следующие:
«Диалектика» и другие сочинения Дамаскина, некоторые из
сочинений Псевдо-Дионисия Ареопагита, Григория Богослова, Василия
Великого, отрывки из Евсевия Памфила и Цицерона (в одном из
писем к Грозному).
Переводческая деятельность Курбского начинается с
сочинений Иоанна Златоуста, из которых составляется сборник «Новый
Маргарит». «Маргариты» (греч. «жемчужины») — традиционный
жанр экзегезы, представляющий из себя сборники цитат,
изречений, бесед и сказаний. Творение Курбского совершенно
оригинально. Оно состоит из ста глав — 94 из них являются переводами
текстов Златоуста, а, кроме того, присутствуют: Предисловие
Курбского ко всему сборнику, авторские сочинения «О знаках
книжных» и «Сказ», а также два «Жития» Златоуста и полный каталог
его сочинений. Отличительной чертой этого сборника является его
светский или даже секулярный характер — Курбский
подчеркивает, что приложение его ученых занятий заключается не в «монаше-
ствовании» и «успасении», но в «разумении» и «узнавании», то
есть носит всецело просветительный характер.
Из таких же соображений составлен и перевод «Диалектики»
Иоанна Дамаскина и предпринята попытка перевода его
«Богословия». Обращают на себя внимание три подробности работы
Курбского. Во-первых, в тексте имеются ряд авторских вставок сугубо
философского содержания. Во-вторых, на полях приведено
большое количество уточняющих и разъяснительных комментариев, так,
к примеру, упоминание Дамаскиным Парменида приводит
Курбского к необходимости составления небольшой энциклопедической
справки, в которой говорится, что Парменид «мнил все бытие
вечно и недвижимо» и так далее. В-третьих, автор перевода приложил
достаточно усилий для того, чтобы произвести перевод целой
группы логико-философских понятий, как то: «воображение»
переводится как «образ» или «кумир», «уподобление» — как «мерило»,
«аргумент» — как «свидетельство», «ипостас» — как «состав»,
«стихиа» — как «элемент» и пр.1
3. Выше всего Курбский ставит авторитет Библии и отцов
церкви. Это, однако, не мешает ему уважать и светские, или «шляхет-
1 Архангельский А. Очерки из истории западно-русской литературы 16—17 вв./
Репринтное издание. Харьков, 1992. С. 24—31.
82
ные», науки — грамматику, риторику, диалектику, «естественную
философию» (физику и пр.), «нравонаказательную философию»
(этику) и знание «круга небесного обращения» (астрономию).
По убеждению Курбского, государственные бедствия
происходят от пренебрежения к учению, а государства, где словесное
образование твердо поставлено, не только не гибнут, но
расширяются и иноверных в христианство обращают (как испанцы — Новый
Свет). Курбский разделяет с Максимом Греком нелюбовь к
«иосифлянам», к монахам, которые «стяжания почали любити»; они
в его глазах «воистину всяких катов (палачей) горши». Обличая
невежество современной ему Руси и охотно признавая, что в
новом его отечестве «наука более распространена и в большем
почете», Курбский гордится чистотой веры своих природных
сограждан, упрекает католиков за их нечестивые нововведения и
шатания и умышленно не хочет отделять от них протестантов, хотя и
осведомлен относительно деяний Лютера, религиозных войн,
возникших вследствие его проповеди и иконоборства протестантских
сект. Отдельно пишет он о чистоте и «звонкости» «славянского»,
то есть русского языка, и противопоставляет его «польской бар-
барии».
Пожалуй, одним из самых оригинальных и интеллектуально
насыщенных сочинений Курбского являются его «сказы», примечания
к переводу «Диалектики» Иоанна Дамаскина, своего рода
философствование «ad marginem» со всеми недостатками и
преимуществами жанра. На их основе можно выявить довольно ясную фило-
софско-антропологическую и логико-философскую
последовательность рассуждений.
1. Концепция ума. Человеческий ум представляет собой
универсальный орган-процесс, способный объединять в себе все
многообразие мироздания. В своем единстве он разделяется на две
части: ум «зрительный», созерцательный — способность
«помышления», то есть спекулятивного мышления, благодаря которой
человек может изучать «бесплотное»; ум «делательный», практический,
способность «рассуждения», то есть анализа эмпирических данных,
основанных на двух типах информационных потоков —
«чувственном» и «сердечном». Если чувственный поток дает уму суммы
ощущений и представлений, то сердечный —
эмоционально-интуитивные ориентиры, на основании которых ум вырабатывает программу
«управления». «Делательный» ум становится опорой для
«мысленного», то есть своего рода практического разума, абсолютно
естественного в своем происхождении, возникающего из внутренней
потребности человеческого существа. Именно благодаря такому
6*
83
акту «произволения» человек обладает свободой воли, не просто
имея ее как данность, но самостоятельно вырабатывая ее. При
этом для Курбского существует серьезная проблема осознания
единства «чувственной» и «созерцательной» частей ума. Если
первая производит практический разум, способность волевого
осознанного целенаправленного и целесообразного воздействия на
эмпирическую реальность, то вторая, как это представляется из
замечаний, сделанных «в сказах», есть особая самодостаточная
способность теоретического мышления. Их единство является
неравновесным, доставляет человеку больше проблем, чем достижений, но
в то же время такое незавершенное соединение является
отличительной чертой человеческого существа.
2. Концепция человеческой жизни. Вслед за трактатом
Аристотеля «О душе», где душа, в зависимости от жизненного этапа,
определяется как питающаяся, чувствующая, разумная, Курбский
выделяет три части целого, которое носит название «жизни», то
есть «человеческого» как процессуального единства плотского и
духовного. Это, во-первых, часть «колеблющаяся», телесная,
которой свойственно «растительное» движение, во-вторых,
«чувствительная», которой свойственно движение «по месту», в-третьих,
«мысленная», наивысшая в человеке, и ей свойственно «вольное и
самовластное» движение «по естеству». Последнее движение
создает волю к практическому действию. Причем Курбский настойчиво
подчеркивает, что происхождение «самовластности» человека есть
процесс естественный, проистекающий из природы вещей, то есть
предустановленный в порядке развития мироздания.
В отличие от Аристотеля, в конечном итоге сводившего все
части человеческого существа в единое целое, образующее
ум-интеллект, Курбский скорее настроен искать объяснения для
невозможности этого единства как гармоничного и совершенного. Он видит в
человеке несовершенство, считает его «естественным» и ищет
возможности им воспользоваться ради достижения пользы.
3. Концепция целого-разделенного. Один из самых
знаменитых «сказов» Курбского — «Сказание о дереве; древу Порфирия
новонарочитое уподобление»1, непосредственно введенный в текст
дамаскинской «Диалектики». Этот «сказ», как считают
исследователи, сыграл значительную роль в истории отечественной логики,
становлении теории классификации и систематизации.
Действительно, в небольшом, отчасти компилятивном, отчасти авторском
1 Гаврюшин Н.К. Научное наследие A.M. Курбского//Памятники науки и техники.
1984. М., 1986. С. 210—236.
84
тексте представлена взаимозависимая схема ряда общих философ -
ско-логических категорий, связанных с процессом обобщения в его
элементарной форме, как восхождения от видового к родовому, и
категориями разделенности и единства. Весьма ценным и
превосходно дополняющим этот «сказ» является другой краткий, на этот
раз полностью компилятивный пассаж Курбского «Толкование на
таблицу категорий». Это — весьма ясное изложение правил
известного «логического квадрата», ценное для отечественных
логико-философских знаний тем, что впервые на русском языке
появляются необходимые для определения отношений пропозиционирова-
ния понятий термины «противности» и «подпротивности». Только в
середине XX в. их постепенно вытеснят латинские «контрарность»
и «субконтрарность».
Итак, в «Сказании о дереве» Курбский предлагает троякую
деффиницию человека. Человек есть целое, состоящее из четырех
частей — разумной, чувственной, душевной, телесной. Эти части,
взаимодействуя между собой самым активным образом, никогда не
достигают состояния нераздельного единства. В этом суммативном
единстве выделяется особый коммуникативный фактор,
позволяющий определить атрибутивное человеческое качество, на основании
которого устанавливается определение его сущности — «человек
есть зверь разумный». И, наконец, устанавливается, что сумматив-
ное четырехчастное целое, где одна из частей формирует принцип
основания всего целого (то есть едва ли не является больше всего
целого), в процессе жизнедеятельности существует как дихотомия
«разумное и неразумное».
В итоге этой трехчастной композиции — концепций ума,
жизни, целого-разделенного — возникает достаточно продуманное и
целостное представление о противоречивости человеческой
природы и связанных с ней преимуществ и недостатков, которыми
человек отличается от всех других созданий.
Завершая этот раздел, следует еще раз особо сказать о
просветительской деятельности князя Курбского. Он являлся одним из
инициаторов создания в 1580 г. училища в Остроге, по образцу
которого формировались затем учебные заведения во Львове,
Минске, Бресте, Могилеве.
Глава 4
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ИДЕЙНЫХ СООБЩЕСТВ»
В РУССКОЙ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДР
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XV — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ
XVI ВЕКА
Историю русской культурно-исторической среды XV — начала
XVI в. связывают с так называемым «вторым южнославянским
влиянием» (начиная с XIV в.), выразившимся в проникновении на
Русь нового пласта языковых и интеллектуальных ресурсов из
Болгарии и Византии. Д.С. Лихачев этот период в истории русской
культуры предложил именовать «Предвозрождением»1, которое
совершалось на особый церковно-просветительский лад.
В византийском и славянском мире это событие было
явлением самостоятельным, так и не перешедшим в классическое
европейское «Возрождение», связанное в числе прочего с осознанием
уникального статуса человеческой личности, обращением к
античному наследию и его особым воспроизводством в новом
историческом разуме, расцветом магико-алхимической и философско-мис-
тической традиции и началом секуляризации культуры. «Предвоз-
рождение» обнаружило колоссальный «общий интерес к
человеку», к его личности во всем спектре проявлений: эмоциями,
духовными и материальными потребностями, творческой энергией. В
Византии одним из ярчайших проявлений осмысления этих
тенденций и поиска дальнейших путей развития были так называемые
«исихастские споры» 40—50-х гг. XIV в., главными героями
которых являлись знаменитый подвижник Григорий Палама (1296—
1359) и ученый монах Варлаам Калабрийский (1290—1384),
впоследствии принявший униатство. Победа, закрепленная
решениями ряда церковных соборов и сформулированная в актах
Константинопольского собора 1351 г., осталась за Паламой и его сочувст-
венниками. По мнению другого выдающегося исследователя
русской и византийской церковной культуры протопресвитера Иоанна
Мейендорфа, победа сторонников Варлаама означала бы
решительный переход от Предвозрождения к Возрождению, и что
именно паламизм, остановив этот переход, решительно способство-
1 Лихачев Д.С. Развитие русской литературы X—XVII вв. Эпохи и стили. Л., 1973.
С. 75—127.
86
вал тому, что и византийская, и восточноевропейская культура
остались культурой Предвозрождения1.
Действительно, в истории русской культурно-исторической
среды можно выделить особый период, ограничив его двумя
событиями — 1469 г. (начало переговоров о браке Ивана III с Софьей Па-
леолог) и 1539 г. (бегство из России Петрока Малого, последнего
крупного итальянского зодчего, прибывшего в Москву на волне
«обращения к Западу»). В этот период на Руси возникает
атмосфера обостренного интеллектуального и общекультурного поиска,
привнесенная «итальянской волной» или возникшая в автономии
отечественной культуры, полная множества свершений. Приезд
выдающихся итальянских архитекторов и мастеров строительного дела
(Аристотель Фиорованти, Старый и Новый Алевизы, Пьетро-Анто-
нио Солари, братья Фрязины, Петрок Малый). Строительство
огромного количества грандиозных сооружений в Москве, включая
общекремлевскую застройку, Успенский собор, Архангельсий собор,
Грановитую палату. Основание Ивангорода, первого русского «окна
в Европу». Первые попытки завести кириллическое книгопечатание
на Руси (Б. Готан) или за ее пределами, в Кракове (Ш. Фиоль)2.
Создание первого в России полного библейского кодекса и т.д.
Во второй половине XV в. в русской культурно-исторической
среде сложились четыре крупных «идейных сообщества», которые
исключительным образом определяли состояние
религиозно-философских поисков: «литературный кружок» новгородского
архиепископа Геннадия, сотрудничающий с кругом Софии Палеолог и
обращенный к западному опыту; круг « нестяжателей »-исихастов во
главе с Нилом Сорским, положивших теоретическое начало исихаз-
му в России; новгородско-московский круг «спротивно
мудрствующих», или «жидовствующих», которые предложили первый в
России опыт осмысления европейской, Средних веков и эпохи
Возрождения, философско-мистической традиции; «иосифлянский» во
главе с Иосифом Волоцким прагматико-богословский круг, создавший
новый тип церковно-государственной идеологии.
Для русского духовенства Византия была на протяжении веков
ведущим авторитетом в вопросах политики, религии и философии.
Признание после событий 1453 г. константинопольским
патриархом верховенства папы поразило русских иерархов и обострило
интерес к католическому Западу. Присутствие греков-униатов в Мо-
1 Мейендорф И.Ф. О византийском исихазме и его роли в культурном и
историческом развитии Восточной Европы в XIV В.//ТОДРЛ. Т. XXIX. Л., 1973. С. 291.
2 Нелшровский E.JI. Начало славянского книгопечатания. М., 1971. С. 269.
87
скве облегчило наметившийся поворот. Поглощенные спорами с
еретиками, ортодоксы впервые увидели в католиках не врагов, но
союзников. Появление при московском дворе влиятельных
итальянских купцов, медиков, архитекторов довершило дело. Получает
объяснение один из интереснейших феноменов эпохи Ивана III —
наметившийся поворот общества лицом к католическому Западу.
Церковно-просветительская деятельность
архиепископа Новгородского Геннадия
Геннадий, в миру Гонзов (ум. 1505), будучи архимандритом
кремлевского Чудова монастыря, в 1484 г. был назначен по
указанию Ивана III архиепископом в Новгороде и самим же царем в
1504 г. подвергнут опале ввиду несогласия по поводу
покровительства великокняжеского стола новгородским еретикам.
Деятельность Геннадия, которого, ввиду его интереса к делам и трудам
католической церкви, называют «латинистом»1, должна быть
охарактеризована как «церковно-просветительская». Она включает в
себя три главных направления: 1 ) поощрение и осуществление
активных русско-«латинских» связей; 2) создание «геннадиевского
литературного кружка» и организация перевода Библии; 3)
литературные и организационные антиеретические труды, о которых будет
сказано в связи с ересью «жидовствующих».
1. Супруга Ивана III Софья Палеолог привнесла в
отечественную культурно-историческую среду заметное влияние западных
идей. В юности она пользовалась покровительством папского
престола. Ее воспитателем был грек Виссарион, убежденный
сторонник Флорентийской унии. Самыми влиятельными лицами при дворе
Софьи в Москве были униаты братья Юрий и Дмитрий Траханио-
ты. Софья и ее греческое окружение настойчиво искали опору
среди епископов ортодоксального направления и нашли ее в лице
архиепископа Геннадия.
В конце XV в. христианский мир жил в ожидании «конца
света». Геннадию пришлось вести долгий богословский спор с
новгородскими еретиками, скептически относившимися к идее «второго
пришествия», которое ортодоксы ждали конкретно в 1492 г.
(7000 г. от сотворения мира). После первой победы над еретиками
на соборе 1490 г. Геннадий обратился за разъяснениями к братьям
Траханиотам и вскоре получил от Дмитрия «Послание о летах седь-
1 К вопросу о «латинстве» геннадиевского литературного кружка//Исследования
и материалы по древнерусской литературе. Вып. 1. М., 1961.
88
мой тысящи». Ученый грек не разделял «заблуждений» еретиков,
но все же тактично предупреждал архиепископа: «Никто не весть
числа веку».
В 1489—1491 гг. на Русь был приглашен ученый медик из
Любека Никола Булев (сер. XV в. — 1548). Булев должен был помочь
московитам в составлении новых Пасхалий. Иван III оценил его
познания и сделал придворным врачом. Правоверный католик, Булев
отстаивал идею церковной унии и выступал рьяным противником
ереси. Находясь на службе у Геннадия, доктор перевел с
латинского языка сочинение Самуила Евреина против иудаизма.
Благодаря посредничеству Ю. Траханиота Геннадий вступил в
контакт с имперским послом, прибывшим на Русь в 1490 г., и
получил у него подробную информацию о преследовании тайных
иудеев в Испании. В «Речи посла цесарева» присутствует известная
записка архиепископа, в которой он предлагал «казнити, жечи и ве-
шати» отступников православной веры по примеру католического
«шпанского короля».
Геннадий Гонзов был едва ли не первым из московитов,
проявивших настойчивый интерес к книгопечатанию. По его заданию
Ю. Траханиот в 1492—1493 гг. пригласил в Новгород любекского
первопечатника Б. Готана. Благодаря посредничеству греков, Готан
был принят на службу к архиепископу, а привезенные им
книги — Библия и Псалтирь — поступили в распоряжение софийских
книжников. Русь могла воспринять крупнейшее достижение
западной цивилизации — книгопечатание, но Готану не удалось
осуществить свой проект. По сведениям поздней любекской хроники,
русские власти сначала осыпали печатника милостями, но позднее
отобрали все имущество, а самого утопили в реке.
2. Более удачными оказались литературные начинания
Геннадия. При Софийском доме издавна существовали богатейшая на
Руси библиотека и книжная мастерская со штатом книжников,
переводчиков и писцов. Среди софийских книжников выделялись двое
братьев — архидьякон Софийского собора Герасим Поповка и
Дмитрий Герасимов (ок.1465 — после 1536). Будущий знаменитый
дипломат Дмитрий Герасимов родился, по всей видимости, в
Новгороде и получил образование в одной из школ Ливонии, благодаря
чему овладел немецким и латинским языками. В ранней молодости
он перевел на русский язык латинскую грамматику Доната, что
показывает уровень его образованности. Герасимов начал карьеру как
переписчик владычной мастерской, которую возглавлял его брат —
архидьякон Герасим Поповка. В 1492 г. в мастерской была
перебелена так называемая Геннадиевская Библия — полный свод биб-
89
лейских книг в переводе на славянский язык. На первом листе
Библии имеется запись о том, что рукопись изготовлена в Новгород
де Великом на архиепископском дворе «повелением архидиакона
инока Герасима Поповки» дьяками Василием Иерусалимским,
Гридей Исповедницким и Клементом Архангельским. Библия была едва
ли не самой значительной русской книгой XV в. и включала не
только давно известные, но и впервые выполненные переводы
библейских книг.
Видимо именно греки внушили архиепископу Геннадию мысль
о возможности сотрудничества с католиками в работе над
священными текстами. Начав работу над Библией, Геннадий пригласил на
службу в Софийский дом Вениамина, доминиканского монаха из
Хорватии. «Презвитер паче же мних обители святого Доминика,
именем Веньямин, родом Словении, а верою латынянин», был, по
его собственным словам, знатоком латинского языка и «фряжска».
Вениамину принадлежала ведущая роль в составлении
новгородского библейского свода. Примечательно, что доминиканец
целиком ориентировался на латинские рукописи, часть из которых он
привез с собой. По наблюдению Г. Флоровского, составители
библейского свода «ни к греческим рукописям, ни даже к греческим
изданиям в Новгороде не обращались», но использовали Вульгату в
латинском оригинале и чешском переводе. Наиболее образованные
книжники Вениамин и Дмитрий Герасимов при составлении
комментария к библейским текстам широко использовали немецкий
энциклопедический словарь Рейхлина, выдержавший в Европе до
1504 г. 25 изданий.
Важным поводом к составлению единого Библейского свода
Нового и Ветхого Завета являлась и полемика с новгородскими
еретиками. На момент начала деятельности Геннадия на посту
архиепископа в России не имелось полного свода основного
христианского текста. Предварительный анализ ситуации показал, что на
Руси на исходе шестого века христианской эпохи были неизвестны
не только многочисленные фрагменты, но и целые книги
ветхозаветных текстов: первая и вторая Паралипоменон, первые три книги
Ездры, книги Неемиа, Товит. Премудрости Соломона, первая и
вторая Маккавеев, а также фрагменты из Есфири, Иеремеи, Иезе-
кииля. В тексте Геннадиевской Библии оставлено без перевода
большое количество латинских слов, предисловие и
объяснительные статьи носят характер схоластических толкований.
Организация такого крупного и важного интеллектуального
мероприятия являлась выдающимся событием в формировании
русской культурно-философской среды. Тем не менее следует отме-
90
тить, что текст Геннадиевской Библии, ввиду его явно латинской
направленности, не получил распространения в истории русской
церкви. Только в 1581 г. на основании Геннадиевской, с
многочисленными исправлениями и уточнениями, была изготовлена
печатная Острожская Библия1.
Сообщество, сформировавшееся вокруг Геннадия, представляло
собой достаточно толерантный открытый западному культурному
влиянию круг людей, стремившихся к просветительской работе в
процессе обновления и совершенствования русского православия.
Сообщество «нестяжателей» и исихастская традиция
Одной из выдающихся фигур русского Предвозрождения был
знаменитый монах-скитник Нил Сорский (1433—1508), с именем
которого в русской культурно-исторической и
религиозно-философской среде связывается начало становления исихастской мысли.
Исихазм (греческое «исихия» означает «покой»,
«безмолвие») — одно из сложнейших и древнейших явлений в истории
восточной церкви. Оно возникает как событие, связанное с опытом
христианской аскезы и пустынножительства. Попытка первого
серьезного осмысления этого опыта на основе каппадокийской и
неоплатонической традиций принадлежала ученику Василия
Великого, Григория Богослова и Григория Нисского Евагрию Понтий-
скому (ум. ок. 399), которого ныне отождествляют с Нилом
Синайским. Он сформулировал глубоко продуманную концепцию
«умной», или «чистой», молитвы. В основе идеи — утверждение, что
верховная задача христианской жизни — преображение духа и
плоти на пути к Богу. Это преображение есть дело самотворчества и
внутреннего очищения. Один из его способов — молитва, которая
есть «беседа ума с Богом». С ее помощью происходит избавление
от страстей, осуществление миро- и самопознания, установление
связанности Бога и человека. Ум во время молитвы преобразуется
в орган «невещественный и нестяжательный»2, то есть становится
местом непосредственного контакта ноуменального и
феноменального горизонтов реальности.
Макарий Египетский (ум. не позднее 400), возможный учитель
Евагрия, автор приписываемых ему обширных «Духовных слов и
1 ЦурканР.К. Славянский перевод Библии: Происхождение, история текста и
важнейшие издания. СПб., 2001.
2 Творения преподобного нашего Нила, подвижника Синайского. Избранное. М.,
1993. С. 118—122.
91
посланий» (так называемый «Макарьевский корпус» ), дополняет
концепцию «умной молитвы» мистикой сердца, когда деятельность
ума, осуществляющего восхождение к Богу, должна проходить чег
рез центр человеческой сущности — сердце — формировать
восхождение миро- и богопознания как «сердечное знание и сердечное
чувство». Важнейшим в мистике Макария было то, что сердце
рассматривалось как центр, объединяющий в себе как телесное, так и
духовное.
Далее, исходя из этих учений в VI—VIII вв. складывается и
закрепляется теория и практика Иисусовой молитвы. С начала этого
периода центром распространения исихазма становится основанный
императором Юстинианом монастырь на Синайской горе. Одним из
его деятелей был Иоанн Лествичник (ок. 580—650),
утверждавший, что имя Иисусово должно «прилепиться к дыханию», в связи
с чем формируется психосоматический метод молитвы у исихастов.
Иоанн одним из первых ясно сформулировал стадиальную
последовательность (лестницу) телесного и духовного преображения.
Наконец, величайший восточно-христианский мистик Симеон Новый
Богослов (949—1022) предложил уникальный анализ своего опыта
преображения и общения с Богом, выделив в «умной молитве»
шесть основных этапов: покаяние, уничижение, отчаяние и
создание в сердце пустоты, для того чтобы туда мог войти Бог; боговиде-
ние, то есть ощущение себя под властью и призрением Творца;
божественный свет, в который превращается сердечная человеческая
бездна; экстаз, открывающий для человека возможность, используя
непосредственный контакт с ноуменальным божественным миром,
самому стать божеством; бесстрастие, то есть смирение этой
гордыни; обожение, как коренное телесно-духовное преображение
человека2.
В XIV в. исихазм переживает новый этап развития, связанный
с именем Григория Паламы3 и его дискуссией с Варлаамом Калаб-
рийским по поводу Фаворского света и проблемы телесности.
Смысл концепции Паламы, который, как позже и Нил Сорский,
стал монахом на Афоне, а затем и активным деятелем этого
православного центра, переживающего весну исихастского обновления,
состоит в следующем.
1 Новое издание с комментариями-монографией А.Г. Дунаева: Преподобный Ма-
карий Египетский. Духовные слова и послания/Подготовка А.Г. Дунаева. М., 2002.
2 Преподобный Симеон Новый Богослов. Избранные творения. СПб., 1994.
С. 81 —154.
3 Св. Григорий Палама. Триады в защиту священнобезмолвствующих/Пер. и
комм. В. Вениаминов. М., 2003. С. 57—158.
92
Во-первых, Бог, несозданный, безначальный, непознаваемый и
неучаствующий в творении по сущности, постоянно деятелен и
открыт для всякого существа посредством энергий, которые он
непостижимым образом распространяет на весь мир. Концептуальные
основы этой идеи содержатся у Аристотеля, в неоплатонизме,
который, включая Платона, Палама резко критикует, и у
Псевдо-Дионисия Ареопагита.
Во-вторых, существует единство действия ипостасей в Троице,
то есть единство их действия и сущности, из чего следует, что эти
энергии есть единовременно сущее от сущности Бога, но при этом
не сам Бог: сущность и сущностная природная энергия, что
«различаются без расхождения». Этот парадокс следовал из трех
источников: личной мистической практики, каппадокийской традиции
(особенно от Василия Великого и Григория Нисского) и ареопагитского
корпуса.
В-третьих, энергия есть «нетварная и природная благодать и
озарение», исходящие «неисходно» от божественной сущности. К
ней можно приобщиться через постоянную молитву.
В-четвертых, молитва должна создать эффект чистой сердечной
любви-знания Бога и дать приобщение к энергиям Божьим, что
есть начальный акт обожения. Причем энергии обоживают не
только ум, но и тело, внешнюю плоть, следовательно, тело исключается
из порядка вещей и не может быть воспринято как элемент тварно-
го. Эта последняя мысль, также следовавшая из раннеисихастской
традиции, была кардинально важной для русских
«нестяжателей »-исихастов: она обосновывала причины ненужности
монастырям, предназначенным для осуществления обожения, имущества,
церквам — ритуального золота и даже устанавливала своеобразное
сближение с требованиями новгородских еретиков отказаться от
иконопочитания. Действительно, как можно изобразить святого (не
говоря о Боге), если в обожении нетварными энергиями земная
плоть «сжигается», становится просто иной.
В-пятых, евангельским свидетельством и единосущным
символом Божьих энергий становится «нетварный Свет Преображения
Христова». Приобщение к нему истинно только тогда, когда
захватывает не только ум, но и все тело.
Мистико-аскетические настроения на Руси, которые
вписываются в многовековую традицию исихастской мысли, известны были
со времен Феодосия Печерского, затем получили новый толчок и
обновление в деяниях Сергия Радонежского и его последователей.
Исихазм как теоретическое учение стал достоянием русской
религиозной мысли благодаря Нилу Сорскому. Нил не касался темы
93
«Фаворского света» и не цитировал паламистские сочинения. Он не
был паламитом, и его исихазм невозможно полностью
отождествить с какой-то одной из византийских школ. «Исихия» Нила
восходила к опыту древних византийских монахов-отшельников и к
идеям продолжателя их дела Григория Синаита. В центре
монашеской жизни, по Нилу, стоит молитва как средство борьбы с
искушениями и греховными помыслами, тщеславием и гордыней.
Ответом на соблазны является создаваемый посредством кардинальной
перестройки внутреннего мира на основе глубочайшего чувства
собственной греховности прорыв к преображению человека-как-це-
лого с помощью «умного делания», «сокрушения», «слезного
дара». Приняв монашество в Кирилло-Белозерском монастыре, он
совершил путешествие на Восток, в Палестину, Константинополь и
на Афон, где пробыл особенно долго. Именно афонской традиции
монашества он был больше всего обязан своим мистико-нестяжа-
тельским принципам. По возвращении на родину (между 1473 и
1489 г.) Нил основывает скит, собирая около себя
немногочисленных последователей, «которые его были нрава», и, предавшись
замкнутой, уединенной жизни, интересуется почти исключительно
книжными занятиями.
Идеи аскетизма и исихастского «умного делания» не
препятствовали Нилу и его последователям в ясном и открытом выражении
своей церковно-гражданской позиции. В деле о новгородских
еретиках и Нил Сорский, и его сочувственники придерживались
достаточно терпимых взглядов, чем большинство тогдашних русских
иерархов, с Геннадием Новгородским и Иосифом Волоцким во главе.
На соборе 1490 г., разбиравшем дело еретиков, где первоначально
сложилось мнение, что всех еретиков «сожещи достоить» —
возможно именно под воздействием позиции Нила и его соратников
собор ограничивается лишь тем, что проклинает трех
попов-еретиков, лишает их сана и отсылает обратно в Новгород. Важнейшим
фактом жизни Нила Сорского был его протест против
землевладельческих прав монастырей, на соборе 1503 г. в Москве. Когда
собор уже близился к концу, Нил Сорский, поддерживаемый
другими кирилло-белозерскими старцами, поднял вопрос о монастырских
имениях, равнявшихся в то время трети всей государственной
территории и бывших причиной деморализации монашества.
Ревностным борцом за идею Нила Сорского выступил его ближайший
ученик, князь-инок Вассиан Патрикеев. Это противостояние
закончилось поражением «нестяжателей».
94
Творческое наследие Нила Сорского включает в себя ряд
посланий, небольшое «Предание ученикам», обширный
монастырский устав, покаянную молитву и предсмертное завещание.
Важнейшие из них — послания и устав: первые служат как бы
дополнением к последнему. Литературным источником сочинений Нила
Сорского был целый ряд патристических писателей, с творениями
которых он познакомился особенно во время пребывания своего на
Афоне; ближайшее влияние на него имели сочинения Иоанна Кас-
сиана Римлянина, Евагрия Понтийского (Нила Синайского),
Исаака Сирина, Ефрема Сирина, Макария Египетского, Иоанна Лест-
вичника, Максима Исповедника, Симеона Нового Богослова,
Григория Синаита — представители многовековой мистико-аскети-
ческой и богословско-мистической традиций.
Иночество, по мнению Нила, должно быть духовным; оно
требует не умерщвления плоти, а духовного преображения.
Фундаментальная основа подвига самопреображения — не плоть, а мысль в
сердце, умное делание или сердечное знание. Инок может и должен
питать и поддерживать тело «по потребе без мала», даже «упокой-
вать его в мале», снисходя к физическим слабостям, болезни,
старости. Нил Сорский вообще противник всякой «внешности»
(возможно, это одна из причин его терпимости по отношению к
новгородским «спротивно мудрствующим»), считает излишним иметь в
храмах дорогие сосуды, золотые или серебряные, украшать церкви;
церковь должна иметь только необходимое. Нищета есть
подлинный путь для достижения идеала духовной жизни. «Очисти келью
твою, — писал Нил Сорский, — и скудость вещей научит тя
воздержанию. Возлюби нищету, и нестяжание, и смирение». Монахам
надлежит жить в нищете и кормиться плодами своих трудов.
«Телесное» служит приготовлением к погружению в духовную жизнь.
«Телесное» подобно листьям, тогда как духовная жизнь — плоды
дерева. Без «умного делания» телесное — «лишь сухие сосцы»1.
Концепция «умного делания» у Нила в общих чертах совпадает
с идеями Симеона Нового Богослова, но содержит один особый
раздел, связанный с конфликтом внешнего и внутреннего в
осуществлении в мире человеческого существа.
Внешний мир, «досаждая душе» с помощью чувств,
преобразуется в уме в «помысл прост», элементарные идеи-образы. Это
«прилог», этически нейтральная стадия эмпирического знания.
«Принятие помысла», то есть рефлексия над элементарными идея-
1 Преподобного Нила Сорского Предание ученикам своим о жительстве скитском.
М., 1849. С. 54.
95
ми-образами есть стадия «сочетания», то есть
эмоционально-волевого осмысления опытных данных с помощью воли. Здесь
обнаруживается, что возможно движение мысли как по пути чистого бо-
гопознания, так и по пути «сложения», то есть включения всей
целостности души в рефлексию над идеями-образами, прошедшими
волевую адаптацию к конкретному человеку. Отсюда следует
«пленение», то есть сосредоточение души исключительно на данных
внешнего опыта и задачах, диктуемых внешним миром, и затем
«страсть» — любовь к земному и человеческому. Итогом этого
является «нрав» человека, его этос, который становится первым
пунктом преодоления на пути к обожению. Обожение, «исхожде-
ние» внешнего ради внутреннего есть подвиг1.
Нил требует от человека не механического послушания, а
сознательности в подвиге, деятельности «с рассмотрением» и «вся с
рассуждением творити». Личная воля инока и каждого человека
должна подчиняться, по взгляду Нила, только авторитету
«божественных писаний», которые следует изучать и «испытывать». Это
должно сопровождаться селективно-критическим отношением к
изобилию многовекового литературного наследия и сочинениям
современных авторов: «писания многа, но не вся божественна»,
следовательно, на них не стоит терять времени. Любопытно, что Нил,
продолжая переписывать книги, подвергает списываемый материал
идейному цензурированию. Он списывает «с разных списков, тщася
обрести правый», и старается исправить, «елико возможно его
худому разуму». Если иное место ему кажется «неправым», а
исправить непочему, Нил оставляет в рукописи пробел, с заметкой на
полях: «от зде в списках не право», или: «аще где, в ином
переводе, обрящется известнейше сего, тамо да чтется»2, оставляя
пустыми иногда целые страницы.
Традиция сообщества « нестяжателей »-исихастов получает свое
продолжение в политических сочинениях Вассиана Патрикеева (ок.
1470—1531), политико-назидательных текстах игумена
Троице-Сергиева монастыря Артемия Троицкого, масштабном
творчестве Максима Грека (1470—1556), затем, в XVIII в., усилиями
преподобного Пассия Величковского и его последователей
возрождаются традиции русского старчества и начинается деятельность Оп-
тиной пустыни. Эта работа продолжалась как в XIX, так и в XX в.
Следует отметить переводческую, систематизаторскую и мисти-
ко-аскетическую деятельность Игнатия Брянчанинова (1807—
1 Нил Сорский. Предание о жительстве скитском. М., 1997. С. 73—79.
2 Там же. С. 107.
96
1867), обобщающую деятельность по подготовке пятитомного
текста «Добротолюбия» Феофана Затворника (1815—1894), а также
продолжение исихастского дела в творчестве и жизни русских
афонских подвижников св. Силуана Афонского (1886—1983) и его
ученика игумена Софрония (1896—1993).
В 90-х гг. XX в. попытка осмысления опыта исихастской
традиции и обоснования на ее основе оригинального философского
метода была предпринята С.С. Хоружим1 и его сторонниками. Они
предлагают расценивать исихазм как единственно верную
православную философию, аккумилируюшую в себе достижения
западноевропейских, восточных и русских философских и мистических
доктрин. Хоружий выделяет особую структуру исихастского сознания
(борьба со страстями — исихия — сведение ума в сердце —
непрестанная молитва — бесстрастие — чистая молитва) и
указывает на ее трансцендентально-энергийную деятельностную структуру,
позволяющую определять фундаментальную основу бытия.
Новгородско- московское мисти ко -философское
сообщество «спротивно мудрствующих» («жидовствующих»):
история возникновения и основные характеристики
Крупнейшее событие отечественной культурно-философской
среды конца XV—XVI в., получившее название ереси «жидовст-
вующих», представляло собой новгородско-московское сообщество
«спротивно мудрствующих»2 и, возникнув в Новгороде Великом и
обнаруженное архиепископом новгородским Геннадием, включало
значительное число известных в России лиц и широкий круг
сочувствующих. В число «жидовствующих» (этот термин закрепился
благодаря Иосифу Волоцкому, исходя из первоначального
обвинения в «иудействе», данного Геннадием), в частности, входили:
думный дьяк Федор Курицин (ум. до 1500), известный как крупнейший
идеолог сообщества, автор «Лаодикийского послания», юрьевский
архимандрит Кассиан, протоиереи Алексий и Денис, руководившие
двумя главными храмами страны (Успенским и Архангельским),
протопоп Софийского собора в Новгороде Гавриил. Выражали
сочувствие и оказывали поддержку «спротивно мудрствующим»
митрополит Зосима (1491 —1494), жена и впоследствии вдова Ивана
1 Хоружий С.С. Диптих безмолвия. М., 1991 ; Хоружий С.С. К феноменологии
аскезы. М., 1998; Хоружий С.С. О старом и новом. СПб., 2000.
2 Это наименование используется в анонимном «Слове на ересь новгородских
еретиков, глаголющих, что не подобает на иконах писать Святую и Единосущную Троицу».
7-6016 97
Молодого, сына и соправителя Ивана III, Елена Волшанка, ее сын
Дмитрий, так же как и его отец бывший соправителем великого
князя и первый на Руси властитель, венчанный на
великокняжеский престол. Предполагается, что князь Дмитрий был
ставленником сообщества «спротивно мудрствующих» и это было одной из
причин того, что после поражения еретиков, их осуждения на
соборе лета — осени 1503 г. и казни вождей в декабре 1504 г, он
был подвергнут опале со стороны избранного преемником Ивана
III Василия III, заключен «в железа» и умер в заточении в
феврале 1509 г. Кроме того, определенное покровительство и защиту
новгородско-московскому сообществу оказывал и сам великий
князь Московский, которого уже в начале 90-х гг. XV в. называли
«царем всея Руси». Иван III — вряд ли он вдавался в тонкости
христологического, тринитаристского и космологического споров
между ортодоксами и еретиками, но очевидно, что настроения и
влияние сообщества «спротивно мудрствующих» оказывали
поддержку «нестяжательским» настроениям великокняжеской власти
и некоторое время способствовали ограничению деятельности
«иосифлян».
Мировоззрение «спротивно мудрствующих» характеризуют две
группы трудов. Во-первых, это переводы, вероятнее всего с латыни
и, возможно, с еврейского, сделанные участниками сообщества или
их идейными сочувственниками. Наиболее интересны из них четыре
текста: «Тайная тайных», «Шестокрыл», «Космография», «Логика
жидовствующих». Геннадий в одном из своих посланий, кроме того,
сообщает, что «жидовствующие» располагают текстами Афанасия
Александрийского, библейскими книгами Бытия, Царств,
Пророков, Притчами неканонических переводов, греческого драматурга
Меандра, Дионисия Ареопагита. Во-вторых, это ряд оригинальных
авторских творений еретиков, среди которых особого внимания
заслуживают труды Федора Курицина «Лаодикийское послание» и
примыкающее к нему «Написание о грамоте» и «Сказание о муть-
янском воеводе Дракуле».
Термин «жидовствующие», введенный Иосифом Волоцким для
характристики сообщества, произволен и является, скорее, доктри-
нально-охранительным ярлыком, чем точной характеристикой
воззрений «спротивно мудрствующих». Уже Геннадий, обнаруживший
эту ересь в Новгороде в связи с ожидающимся по православной
хронологии в 1492 г. концом света, в 1487 и 1489 гг. в посланиях к
единомышленникам Иосафу Ростовскому и Прохору Сарскому
указывает, что в иудейских настроениях еретиков присутствуют месса-
98
лианская и маркианская ересь1. Иосиф, в своем «Просветителе,
или Обличении ереси жидовствующих» добавит к этим
характеристикам еще и саддукейство. Три перечисленных иерархами
еретических движения, два из которых — саддукейство и маркианство —
действительно непосредственно соотносятся с иудаизмом, имеют
особый взгляд на две фундаментальные догматические проблемы
христианской религии: христологию и тринитаризм.
Саддукейство (родоначальник — Садок) возникло во II в. до н.э.
и еще существовало в I в. н.э. Исходя из толкования иудейского
Пятикнижия, представители этого течения максимально ясно и
остро выразили свои взгляды именно в полемике с христианством:
общие антитринитарные настроения сопровождались утверждением,
что Яхве есть Бог живых, тогда как Христос — Бог мертвых. Мар-
киане (родоначальник — Маркион, I в. н.э.) известны своим
синагогальным переводом Библии на греческий язык, на который, как и
комментарии к нему, действительно ориентировались «жидовст-
вующие», отвергая, таким образом, признанный в христианском
мире перевод Библии 72 толковниками («Септуагинта»). По
крайней мере Геннадий в послании к Иосафу называет ведущих марки-
ан-переводчиков (Акиллу, Симмаха и Феодонта) в качестве
авторитетных для русских еретиков авторов. Мессалианство (в переводе с
сирийского означает «молящиеся») возникло в Сирии около
360—370 гг., имело иудейские, манихейские и евстафианские (Ев-
стафий Севастийский, сторонник экстремального монашеского
ригоризма, учитель Василия Великого) корни. Среди важнейших
составляющих настоящего мессалианского учения выделяются:
сущность каждого человека после первогреха находится во владении
демона; изгнание демона осуществляется личной молитвой;
сущность освобожденного человека переходит под власть Св. Духа,
который дает ему силу бесстрастия, совершенство, способность
видеть грех и благодать в земной жизни; пренебрежение церковными
молитвой, таинствами и учением о церкви вообще2. Иоанн Дама-
скин считал мессалиан влиятельной и опасной ересью и уделил им
в своих «Ста ересях» самое большое внимание. Там он среди
прочего указывает, что мессалиане настаивали на непосредствен-
1 Новгородская ересь XV века и ее обличители. Сборник документов. Новгород
Великий, 2003. С. 111, 118, 122, 137.
2 См.: Дунаев А.Г. Предисловие к русскому переводу слов и посланий «Макариев-
ского корпуса» первого типа//Преподобный Макарий Египетский. Духовные слова и
послания. М., 2002. С. 185—193.
7*
99
но-личном постоянном присутствии Христа в душе и каждом
совершаемом действии1.
Новгородско-московская ересь, поддерживая специфику
понимания проблем, сформулированных в саддукействе, маркианстве и
мессалианстве, тем не менее не сводит свое
религиозно-философское мировидение к уже известным еретическим движениям, но
вносит во многовековое дело «спротивно мудрствующих» свой
весомый вклад. Это сообщество представляло собой русский
компонент могущественной европейской философско-мистической
традиции, переживавшей в периоды позднего Средневековья,
Возрождения и раннего Нового времени апогей своего роста и расцвета.
Если говорить точно, то новгородские еретики оказались втянуты
буквально «с середины» в сложную историю и обширный
родственный круг одного из влиятельнейших сообществ мистической
традиции, которое имеет название «герметизма». Его источник в
трактатах «Герметического Свода» и «Асклепии». Это исходные тексты
высокого герметизма, сформировавшиеся в позднеэллинистическую
эпоху (III — IV вв.). Дальнейшее развитие эта история получает в
эпоху Возрождения, когда в середине XV в. эти трактаты были
переведены Марселино Фичино на латинский язык и получили
осмысление и новое прочтение в антропологических проектах Джаноццо
Манетти (1396—1459), Джовани Пико делла Мирандолы (1463—
1494), Лодовико Лаццерелли (1450—1500),
мистико-платонических интерпретациях Фичино, спекулятивно-алхимических
концепциях знаменитого немецкого философа-мистика Парацельса.
Особой и полностью самостоятельной ветвью этого сообщества
являлась его «герметико-каббалистическая линия», связанная с
проникновением в Западную Европу с латинскими переводами
достижений средневековой арабо-иудейской философско-мистической
мысли (например, работ Моисея Маймонида, «Логика» которого
войдет в состав так называемой «Логики жидовствующих», разных
популярных компилятивных текстов, наподобие «Тайной тайных»),
основных текстов каббалистического учения и обширными и
разнообразными их осмыслениями в контексте христианской
философской мистики. Наиболее удачным и известным был трактат Пико
делла Мирандолы под названием «Гептапл».
Настоящая история взаимодействия русской
культурно-философской среды с европейской мистической традицией начнется в
последней трети XVIII в. и будет продолжаться в русской филосо-
1 Творения преподобного Иоанна Дамаскина. Источник знания. М., 2002. С.136—
140.
100
фии вплоть до середины XX в. В конце же XV в. в
новгородско-московском сообществе «спротивно мудрствующих» на основании
многообразных и оригинальных источников возникает сложноорга-
низованная последовательность идей, складывающаяся в
достаточно целостное и ясное религиозно-философское мировоззрение. Оно
характеризуется шестью основными принципами. 1. Принцип
ветхозаветного монотеизма: признание единственно существующим
Богом Бога Ветхого Завета и отказ от тринитарной концепции.
2. Принцип антихристологии: отрицание богочеловеческой природы
Христа и доказательство его несуществования, что ведет к утрате
смысла важнейших элементов христинского обряда —
причащения и иконопочитания образа Спасителя. 3. Принцип
самоопределенности: божественный промысел рассматривается с
антипровиденциальных позиций. Утверждается, что осуществление замысла
Творца в творении есть процесс вероятностный и человек
принимает в нем полноправное участие в качестве как проводника, так и
испытателя Божьей воли. Из этого положения делались два важных
вывода: человек обладает свободой воли, ему доступно постижение
будущего; посмертное воздаяние отсутствует и следует
сосредоточиться исключительно на истинном осуществлении земной жизни.
4. Принцип моноэлемента: оригинальная и вполне логичная
трактовка 1-й главы книги Бытия, согласно которой в порядке
сотворения мира существовала универсальная субстанция — вода, из
которой были сотворены земля и небо и все остальное. 5. Принцип
поливерсности божества, который имел определенный оттенок
пантеизма или же восходил к убеждению Псевдо-Дионисия «Бога
нигде же нет, а везде есть»: Творец вездесущ, многообразен,
бестелесен, неопределен, то есть являет себя постоянно и единовременно в
самых разных регионах сущего в порядке самых разных образов.
Действительно, эта идея вполне согласуется с концепцией богопро-
явленности в тварном трактатов Псевдо-Дионисия. Но Бог
трактата «О божественных именах» являет себя в сущем в порядке
воплощения эманаций-энергий, тогда как у русских «спротивно
мудрствующих» речь идет о явлениях непосредственной божественной
сущности вне всяких посредников в любой тварной вещи или
существе. 6. Принцип полисферичности: надземная часть мироздания
представляет собой многоярусные небеса, находящиеся в
постоянном взаимодействии, что согласуется с текстами «Герметического
корпуса» и популярным в европейской мистической традиции
натуралистическим толкованием принципов еврейского учения Сефирот
(сфер-ступеней саморазвертывания божества и восхождения
человека к божеству), составляющего один из двух основных элементов
101
каббалы. Доктрина о сефиротах изложена в «Сефер Йецирах»
(Книга о творении) и начинает свою европейскую историю в XIII в.
с написанного в Испании мистического трактата «Зогар». Эта
ветвь каббалы называется «Путь сефирот».
Характеристика основных переводных и авторских трудов
сообщества «спротивно мудрствующих» («жидовствующих»)
Рассмотрим, каким образом эти принципы воплощались в
переводных и авторских сочинениях сообщества новгородских
вольнодумцев. История началась с того, что архиепископ Геннадий
несколько лет дискутировал с протопопом Алексеем и его сочувствен-
никами по поводу надвигающегося по православным пасхалиям в
1492 г. (7000 г. от сотворения мира) конца света и Страшного суда.
Еретики отвергали возможность этого события, ссылаясь, в
частности, на расчеты тарасконского еврейского ученого астролога
Эммануила бар Якова (Иммануил бен Якоби). Архиепископу пришлось
самому обратиться к сочинению бар Якова, и он немедленно
обнаружил там иудейскую ересь. Речь шла о трактате «Шестокрыл»1.
Это астрономический и астрологический маги ко-гадательный
трактат, состоящий из шести глав, которые представляют собой
последовательность календарных расчетов с таблицей для определения
положения светил. Исчисление хронологии, в отличие от
христианских пасхалий и в соответствии с арабо-еврейской
натурфилософской традицией, основывалось на лунном календаре.
Идейное содержание этого довольно заурядного и обычного в
контексте европейской мистической традиции сочинения состояло в
следующих положениях. 1. Открытая последовательность
временного счета, что не только снимало саму возможность рассуждений о
конце света, но явным образом устанавливало полную
самодостаточность земной жизни и творения в целом, поскольку полностью
снимало принцип финализма. Этот последний служил в
ортодоксальном христианстве важной составляющей представления об
осмысленности жизни как ступени к грядущему нетварному
совершенству. 2. Возможность предопределения и предпонимания
событий творения и замысла Творца, то есть способность человека
распоряжаться земным миром и, при должном рациональном усилии,
предотвращать возможные негативные последствия природных
явлений. Так, одним из достоинств таблицы и расчетов «Шестокры-
ла» была возможность определять по ним даты затмений, что вы-
1 Шестокрыл//Соболевский А.И. Переводная литература Московской Руси
XIV— XVII веков. СПб., 1903. С. 413—417.
102
зывало возражение у Геннадия, поскольку нельзя прозревать
замысел Господен. 3. Антихристология «жидовствующих» получала в
трактате ясное и понятное объяснение и, по сути дела, переставала
быть таковой: если православные считали сотворение мира с
5508 г., то «Шестокрыл» — с 3761 г., из чего следовало, что
Христос еще не родился или не воплотился в творении и нет никакой
возможности говорить о втором лице Троицы.
Другим не менее популярным переводным текстом «спротивно
мудрствующих» была «Космография»1 — космологическое мисти-
ко-философское сочинение, выполненное в стиле герметико-кабба-
листической ветви европейской мистической традиции. В
западноевропейской культурно-исторической среде высказанные в этом
тексте идеи уже в XIII в., (а тем более в XIV—XV вв.) приобрели
статус общедоступных и широко употребимых и утратили
непосредственное авторство. Периодически делались указания и отсылки то
к «Герметическому корпусу», то к каббалистике, то к
Псевдо-Дионисию, то к еврейскому богослову и философу Моисею Маймониду
(1135—1204), то к идее множественности небесных сфер
Аристотеля. Считается, что начальной частью текста «Космографии»
является «Трактат о сфере» Иоанна де Сакрабоско, где даются
определения круга, центра окружности, радиуса, рассматриваются виды
окружностей и графически воспроизводится модель круговой сферы
со ссылками на Птоломея и Евклида.
Далее в «Космографии» излагаются три основные
космологические темы. 1. Концепция устройства вселенной. Существует 10
небесных сфер (кругов), в центре которых располагается Земля.
Девять из них (как и девять сефирот в каббалистике) пребывают в
состоянии постоянного взаимодействия, взаимосообщения,
взаимоистечения и взаимодополнения. Первая — это пустое небо, потенция
как таковая, что соответствует у Псевдо-Дионисия понятию «пре-
непознаваемости высочайшей вершины» или, в каббалистической
«Зогар», — абсолютной сефире Кетер: в обоих случаях это есть
ничто, без которого не может быть нечто. Вторая сфера
«Космографии» — это 12 зодиакальных созвездий и все звезды. Сферы с
3-й по 9-ю — это сферы семи планет, включая Луну и Солнце.
Десятая сфера включает в себя, так если бы речь шла об ангельских
чинах, 78 особых кругов и небес, значение которых не проясняется.
2. Расчеты периодов обращения известных планет. Таких, исключая
светила, пять — Крон, Зевс, Аргис, Афродис, Ермис. Причем авто-
1 Космография//Соболевский А.И. Переводная литература Московской Руси
XIV—XVII веков. СПб., 1903. С. 404—412.
103
ры текста сообщают в некоторых случаях и размеры небесных
тел — указывается, например, что Земля в 166 раз меньше
Солнца. Кроме того, как и в «Шестокрыле» даются расчеты периодов
затмений. 3. Элементарное строение мира. Творение состоит из
четырех элементов: земля, вода, ветер, возникающий от земли, влага,
производимая от взаимодействия земли, воды и ветра, тепло, от
которого возникает огонь, определяемый как «колесо ветру». Таким
образом, в «Космографии» возникает динамическая модель
вселенной, в которой все части сообщаются друг с другом, находятся в
постоянном движении, превращении и изменении. Но подобно тому,
как в небесах существует самодостаточный неизменный исток,
человек способен с помощью наблюдений и рационального познания
обнаруживать правила этого движения и пользоваться ими. Именно
с таких позиций в европейской мистической традиции начиналась
возрожденческая магия и формировалась алхимическая традиция.
«Логика жидовствующих»1 — двусоставный переводной
логический трактат. Первая часть текста — сокращенная «Логика»
Моисея Маймонида («Миллот ха-хиггайон»), написанная им в
юности, и из-за своей простоты и преимущественно практиче-
ско-религиозной направленности получившая широкое
распространение в Европе. Маймонид с самого начала своей
интеллектуальной карьеры готовился выступить как галахист, то есть человек
занимающийся разъяснением и толкованием религиозно-юридических
предписаний жизни иудейских общин. Именно такова его
посмертная слава в еврейском мире. Важнейшими его работами считаются
«Мишне Тора» и «Путеводитель рассеянных», которые, как и
ранний логический трактат, исходят из синтеза иудаизма и аристоте-
лизма с элементами неоплатонизма. Вторая часть текста («Логика
Авиасафа») — фрагмент «Стремления философов» выдающегося
арабского мыслителя и философа Аль-Газали (1059—1111),
написанная им в противовес аристотелизму ибн-Рушда и Аль-Фараби.
Обе части «Логики жидовствующих», написанные в оригинале
на арабском, переводились, возможно, на древнерусский с
еврейского языка. Идейное содержание «Логики» Маймонида
составляют четыре группы размышлений: уровни познания (чувственное,
рациональное, пророческое); учение о терминах и предложениях;
правила доказательства и классификации суждений; общие
представления о правилах поиска и критериях истины. Работа представ-
1 Логика жидовствующих//Соболевский А.И. Переводная литература Московской
Руси XIV—XVII веков. СПб., 1903. С. 401 —404. Логика Авиасафа//Неверов С.Л.
Логика иудействующих/Университетские известия. Киев, 1909. № 8. С. 41—62.
104
ляет собой образец арабо-иудейской аристотелевской схоластики и
исходит из разрешения противоречий в Торе в пользу веры и в
ущерб разуму и символического толкования первоисточника.
«Логика Авиасафа» сосредоточивается на четырех основных темах:
источник познаний — божественное как основание любого типа
религиозной или научной концепции; персональное
посредничество — осуществление традиции знания и веры в земном бытии
осуществляется через посредство конкретных личностей — ученых и
пророков; теория избранного — пророк обладает исключительной
возможностью непосредственного восприятия озарения и его
толкования в пределах, установленных провиденциально; система
мудрости — перечень «путных» дисциплин и приемов, которые
составляют основу всех знаний (математика, геометрия, астрономия), и
указание, что логика является средством правильности
размышления и доказательства, способна привести к познанию частной
истины (ее основа также пророческая, полученная через откровение),
тогда как абсолютная истина полагается недоступной.
В целом история «Логики жидовствующих» в отечественной
культурно-философской среде может быть охарактеризована
следующими положениями: 1. Этот текст предлагал иную традицию
логико-философского и логико-религиозного осмысления
познавательной деятельности человека и системы знаний, чем та, что
сложилась благодаря логическим статьям «Изборника» и
«Диалектике» Иоанна Дамаскина. В пространстве древнерусского языка не
было ни опыта, ни достаточных семантических средств в переводе
сложной логико-религиозной терминологии, которая сложилась в
двуязычии арабо-иудейской культуры, исходя из греческих
источников и их латинских интерпретаций. В результате переводы и Май-
монида и Аль-Газали получились неудовлетворительные. Оба
текста наполнены терминами, возникшими в процессе
«автоматического перевода», когда при затруднениях в понимании слова
создаются произвольные неологизмы, вроде «егдачества», «куклярства»,
«мечествования». 2. Концептуальные основания «пророческой
логики», сложное сочетание иудаизма, аристотелизма,
неоплатонизма, ее исходившее из трех культурных традиций своеобразие
оказались не востребованы и не поняты в русской
культурно-философской среде.
«Тайная тайных», псевдоаристотелевский текст, возникший в
круге новгородских «спротивно мудрствующих» имел давнюю
историю и европейскую славу. Это сложная компиляция из сочинений
греческих, сирийских и арабских авторов. Она включает
рассуждения о качествах, необходимых царю, и представляет собой своего
105
рода сборник советов, что дает Аристотель Александру
Македонскому, посвящая его в высшие тайны своего учения и методы
управления людьми. Исходя из этого, трактат в средневековой
Европе считался творением Аристотеля и имел одним из
русскоязычных названий «Аристотелевские врата». В тексте приводятся
советы по формированию и организации работы государственного
совета, министров, судей, военоначальников и наилучшему
упорядочиванию рабочего дня царя с пользой для его здоровья и долголетия.
Описываются времена года и даются медицинские советы, как в
разное время лечить разные недуги. Предлагаются наилучшие
диеты, рассматривается польза и вред от вин и бань, приводятся
рецепты лекарств, предлагается очерк физиогномики. В последней
главе повествуется о тайнах астрологии, приворотных снадобьях,
силе драгоценных камней.
Текст был написан на арабском языке сирийцем или греком
Юханном ибн Эль-Батриком (ум. 815), известным переводчиком и
врачом. Особенностью трактата, с которым столкнулась русская
культура, было то, что в период с начала XII — первой половины
XIII в. он был полностью переведен на латинский язык и стал
неотъемлемым элементом одной из ветвей европейской мистической
традиции. Это случилось благодаря Рождеру Бэкону (1210/14 —
после 1292), который, считая текст подлинной работой Аристотеля,
снабдил его мистическо-философским толкованием в духе
астрологического герметизма.
«Тайная тайных» в русской культуре появилась в сокращенном
варианте (8 глав из 10), видимо, как перевод латинской редакции,
на что указывает, к примеру, то, что латинский вариант так же
содержал значительные сокращения магико-астрологических глав и
перенос раздела по физиогномике из второй главы (так в арабском
оригинале) в конец всего текста1.
В идейном содержании текста особое внимание привлекают
четыре концепции: 1) концепция ума; 2) концепция человека; 3)
концепция добра — зла; 4) концепция познания.
1. Творение мира и человека есть идентичный процесс. И в том
и в другом случае, в соответствии с принципом тождества макро- и
микрокосмов, оно начинается с того, что Бог создает ум, духовную
сущность, «совершеннейшую и основательнейшую». Это
своеобразный прообраз всего сущего, в соответствии с характеристиками
и потребностями которой создается природа («плоть чувственная»).
Непосредственная сущность ума становится источником создания
' Secretum Secretomm/Hgs. V. Laeiter et P. Dzeimer. Köln, 1998. S. 29—54.
106
души, определяемой как «самовластная подданная». Она
становится посредником между умом и «чувственной плотью», находясь с
ней в нерасторжимой субстанциональной связи. «И сделал он
плоть, как землю, и ум, как царя, а душа — как правитель ездит по
земле, заботится о состоянии ее». В результате возникает
органическая система элементов: ум — душа — плоть, состояние каждого
из которых зависит от состояния двух других. Ум — есть
пророческий «самовластный» инструмент, способный непосредственно к
восприятию откровения и познанию с его помощью мироустройства
и человека. В этой связи он определяется как «образ правды», где
правда — это регулятивный принцип мироустройства как единого
замысла закона, устроенного целесообразно и практично.
2. «Человек первый среди всех живых существ по чести, а
последний среди всех по времени сотворения; в один час он сотворен,
в один час и погибнет»1. Это уникальное существо, совершенная
вершина мироздания. Но совершенство заключается не в идеально
организованном по принципам истины внутреннем мире, а в
сочетании в человеке свойств всех живых существ: храбрости льва и
трусости зайца, щедрости петуха и скупости пса, драчливости и
хитрости лисицы и простоты овцы, гордости павлина и блудливости
страуса и т.д. Источником человеческого существования и
причиной существования поливерсности внутреннего мира являются
звезды — посредник между замыслом Творца и его
осуществлением в творении. Именно поэтому астрология становится
важнейшей наукой.
3. «Соотношение зла и добра разделяется на четыре рода:
первый — добро совершенное; второй — зло совершенное; третий —
мало зла и много добра; четвертый — мало добра и много зла. Из
них первый — не кто иной, как Бог; второй — и несотворено, и
нет его; третий — добро его; четвертый — зло. Поэтому делай так
дело свое, чтобы в нем было мало зла, а много добра»2. Таким
образом, «Тайная тайных» высказывает тезис, согласно которому
трансцендентное начало монистично — есть только абсолютно
истинный и сверхблагой Бог, заключающий в себе как атрибуты
доброе и злое, то что также именуется Любовь Божья и Гнев Божий.
Зла вообще в абсолюте не существует. Совершенное добро Творца
как единое целое содержит в себе нераздельность доброго-злого и
этим определяет единодвойственность природы человека и мира.
1 Тайная тайных//Новгородская ересь XV века и ее обличители. Сборник
документов. С. 319.
2 Там же. С. 327.
107
4. Замысел Творца есть открытая книга, не просто возможная
для познания, но необходимо предназначенная для этого. Человек
становится, своего рода, отгадчиком тайн бытия — и если ему с
помощью астрологии удается решить божественные загадки, то он,
пользуясь непосредственной связью ума с трансцендентным
началом, может изменять свою судьбу. «Хотя человек не спасется от
воздействия сияния звезд, зная движение их — как он спасается от
холода, зная движение солнца, и приготовит себе дрова и одежды
зимние, а для лета приготовит легкие вещи и прохладные
жилища — точно так же, если люди узнают, что с ними будет, заранее,
они смогут помочь себе, помолившись богу; они покаются постом и
молитвой, и бог смилуется над ними»1.
Из авторских творений новгородско-московского сообщества
«спротивно мудрствующих» наибольшей известностью пользуется
«Лаодикийское послание»2 Федора Курицина (более 30 списков). К
нему в некоторых списках примыкает весьма близкий по духу,
терминологии и задачам трактат «Написание о грамоте».
«Лаодикийское послание» представляет собой трехчастный
текст, состоящий из метафорического и аллегорического
Предисловия, «Литореи в квадратах» и небольшого послесловия, где через
тайнописный шифр называется автор послания.
Предисловие — это краткий текст, содержащий в себе
одновременно и концентрированное выражение идей «жидовствующих»
и скрытый протест против ортодоксальной православной церкви3:
«Душа самовластна, ограда ее — вера.
Вера — наставление, устанавливается пророком.
Пророк — старейшина, направляется чудотворением.
Чудотворения дар поддерживается мудростью.
Мудрость — сила, фарисейство — образ жизни.
Пророк ему наука, наука преблаженная.
Ею приходим к страху божьему.
Страх божий — начало добродетели.
Им вооружается душа».
«Литорея в квадратах» — это система грамматических таблиц
для тайнописи. Собственно тайнописное письмо (риторское,
1 Тайная тайных. С. 328.
2 Лаодикийское послание и другие труды Ф.В. Курицина//Новгородская ересь
XV века и ее обличители. Сборник документов. С. 401 —444.
3 См.: Лурье Я.С. Комментарии к «Лаодикийскому посланию» Федора Курицина//
ПЛДР: Вторая половина XV века. М., 1982. С. 773—681.
108
риторийское письмо, ритория, литорея, как его называли в
России XV—XVII вв.) состоит в замене одних букв славянской
азбуки другими греческими или славянскими по известной системе.
Начало литорейной таблицы Курицина таково:
Начальное имя человек, приклад, ело- Начало столпом, отрикаль. вария.
во. царь, апостроф, закрытая, вария.
I душа, сила, женскому имени свершение | плоть сила |
В первом отделении указано, что буква «а» начинает собою
слово: «человек» (греч. dvGpomoÇ), что она оканчивает собою
имена женского рода, что она — «приклад», «душа» = гласная, что
над нею могут быть «сила» = ударение и значки: «апостроф»,
«вария», что ей соответствует в тайнописи буква *F. Во втором
отделении буква «б» названа: «начало столпом» = начальная из
согласных букв; она — «плоть» = согласная: ей соответствует в
тайнописи буква Ç. И так далее.
Любопытно, что и «Лаодикийское послание» и «Написание о
грамоте» в духе возрожденческой каббалистики рассматривают
гласные буквы как души («приклады»), а согласные — как плоть
(«столпы»). Их соединение есть соединение души и тела, «склад —
оживление... Тело — приуготовление, а душа — совершение, и
обоими обретается разум». Эта форма деятельности также была
вполне обычной в контексте европейской мистической традиции.
Пожалуй, самым известным в Европе был тайнописный мисти-
ко-философский текст друга и ученика Генриха Агриппы фон Нет-
тесхейма (1486—1535) Иоганна Тритемия, аббата Шпаннгеймско-
го бенедиктинского монастыря. Он занимался стеганографией
(разработка методов криптографии), весьма плодотворной и
перспективной отрасли герметики, «искусством строить сокровенные
мысли в слова так, чтобы обнажалась душа, но и так, чтобы сие было
доступно лишь тем, кто для меня больше, чем слушатель, но друг и
достойный соратник»1.
«Написание о грамоте»2 включает в себя три главы: «Что есть
грамота и что ее строение», «Что прежде бысть, грамота ли от ума
строена или ум от грамоты строен», «Какова есть грамота и коль
1 Steganografia, hoc est ars peroccultam scripturam animi sui voluntatem absentibus
aperiendi certa [1606]. CD-version. [Lion] 1998. P. 24.
2 Написание о грамоте//Вопросы истории религии и атеизма. Вып. 3. М., 1956.
С. 373—376.
109
удобна». Изначально совершенное человеческое существо, в
котором осуществлялось непосредственное Богоприсутствие, в
результате «мягкого» грехопадения меняет свою природу с благодатной
на «злобную». Эта смена происходит естественным образом, в
результате совокупной человеческой деятельности и
рассматривается как неизбежное и необходимое событие, своего рода
испытание. Для того чтобы нормализировать ситуацию и помочь людям,
вставшим на тяжкий путь познания, Бог создает грамоту.
Человек есть существо от образа Творца, что осуществляется с
помощью «разумных чувств», и существо побобное Богу своей
бессмертной душой. В ее состав входит разум как непосредственный
деятельный в земной жизни элемент ума. Ум рассматривается как
достояние, оставшееся от изначального человеческого
совершенства и способность непосредственного соотношения с божественным.
Именно по образу и подобию ума сотворен этот способ
миропонимания, что называется грамотой и который сложным образом
является способом осуществления непосредственного богоприсутствия
в земной деятельности человека. Грамота является единственным
способом восприятия и создания любого типа знания и любого типа
мудрости.
Мистико-философское мировоззрение новгородско-московских
«спротивно-мудрствующих» не получило распространения в
отечественной культурно-философской среде и не нашло должного
отзвука. Эта попытка привнести на русскую почву традицию
европейской философской мистики осуществится только в последней трети
XVIII в. и тогда уже станет неотъемлемым элементом русской
религиозной философии.
Прагмати ко-политическое богословие
Иосифа Волоцкого и его последователей
Деятельность Иосифа Волоцкого до сих пор получает в
современной гуманитарной науке самые разноречивые толкования. С
одной стороны, его творчество рассматривают как разрушение
средневековых канонов мышления на основе аллегорической
рациональности и рационального осмысления Св. Писания. В нем видят
основателя централистско-имперского метода секуляризации
духовной культуры, ведущего к просветительской деятельности Феофана
Прокоповича и великопетровской «ученой дружины»1. С другой
стороны, также справедливо отмечается, что этот церковный ие-
1 ЗамалеевА.Ф. Лекции по истории русской философии. СПб., 1995. С. 59.
110
рарх и представляемое им движение в силу присущих им
политизации, формализма, обмирщения заложили основу будущего кризиса
православной духовности в XVII—XVIII вв1.
Иосиф Волоцкий (1439/40—1515), в миру Иван Санин,
родился в Волоколамске. В 1459 г. он принял монашество в обители
старца Пафнутия в Боровском монастыре и в последствии стал его
преемником. Пафнутьев монастырь был семейной обителью
Ивана III. В 1479 г. Иосиф покинул Боровск и уехал в родной
Волоколамск, столицу удельного князя Бориса Васильевича. Там он
основал Волоколамский монастырь. Так же как и его будущий оппонент
Нил Сорский, Иосиф отвергал стяжательство как средство личного
обогащения. Но он решительно отстаивал богатства монастырской
общины, видя в этих богатствах средство милосердия и
благотворительности. В Волоколамском монастыре с наибольшей полнотой
были осуществлены принципы киновии (общинножительства)
иноков. Иосиф полагал, что обители надлежало принимать в дар от
состоятельных людей «села» и деньги, чтобы призревать нищих. Это
правило было для Иосифа руководством к действию. При частых
неурожаях Иосифо-Волоколамский монастырь раздавал хлеб
тысячам обедневших крестьян и нищих, спасая их от голодной смерти.
«Киновий» Иосифо-Волоколамского монастыря был большим
достижением для своего времени.
Обитель отражала особенности личности своего основателя. В
аскезе, как понимал ее игумен, главным было не умерщвление
плоти, а строгость выполнения предписаний на основе дисциплины и
уставного благочестия. Милостыня раздавалась не из сострадания,
но из необходимости исполнения христианского долга. Усилия
членов общины были направлены на поддержание внешнего
благочестия и безусловного послушания. Иноки находились под неусыпным
наблюдением игумена и старательно следили друг за другом,
монастырская дисциплина сглаживала личные особенности, приучала к
гибкости и податливости. Ученики Иосифа усвоили и довели до
крайних пределов такую черту своего учителя, как начетничество.
«Всем страстям мати — мнение — второе падение» — так
сформулировал свое кредо один из учеников Волоцкого. «Мнение» есть
свободная внедоктринальная ошибочная мысль, которая ведет к
новому грехопадению. Лучший способ обеспечить весомость тексту
или суждению — сослаться на авторитет: Писание и отцов церкви.
Суть христианства виделась не в познании и размышлении, а в уст-
1 M иль ков В.В. Основные направления древнерусской мысли//Идейные течения
древнерусской мысли. СПб., 2001. С. 316.
111
ройстве жизни в соответствие с догматически истолкованными
священными текстами.
Главный труд Иосифа Волоцкого, оставившего после себя
более сотни посланий и сочинений, — это богословский
полемический трактат «Просветитель, или Обличение ереси жидовствую-
щих»1 (1494—1506 гг.). «Просветитель» представляет собой
масштабный текст, состоящий из 7 Слов. Главными задачами трактата
являются: опровержение ереси новгородско-московского
сообщества, которое, благодаря Иосифу, и получило наименование «жи-
довствующих»; разъяснение основных догматических постулатов
православия. Проблемное поле, в котором написан этот текст,
состоит из четырех элементов. Во-первых, триниталогическая
проблематика, чему посвящены первое и пятое Слово: обоснование на
основе аллегорического рационализма, Библии и отцов церкви
существования единосущной Троицы и ее ипостасей, а также ее
изображения на иконах. Во-вторых, христологическая проблематика
(Слова 2—4), то есть анализ богочеловеческой природы Христа,
воскрешения и спасения, определение своеобразной
феноменологии Богоявления и разрешение вопроса о внешнем человеческом
христоподобии. В-третьих, ритуалогическая проблематика (Слова
6—7), то есть обоснование необходимости поклонения
«рукотворным вещам» — святым иконам и кресту. В-четвертых,
нравственно-политическая проблематика, то есть обоснование христианской
этики в отношениях людей друг с другом и подчинения царской
власти (Слово 7).
В идейном содержании трактата, которое удачно дополняется и
разъясняется в ряде посланий Иосифа, особенно в «Слове об
осуждении еретиков»2 и «Послании княгине Голицыной», сугубо
важными представляются три главных темы: 1) атрибуты
Божественной сущности; 2) феноменология явления Христа; 3) христианское
обоснование политической этики.
1. Бог определяется как, во-первых, бесплотный, несозданный,
нерожденный, непознаваемый, «непознаваемо родивший» Слово
(Христа) и «износивший» Дух — ипостаси «истинные, живые» и
нераздельные с первоосновой. Во-вторых, Бог способен являть
себя «многоразлично» во всем сущем и в каждом из сущего — об
этом будут говорить и в новгородско-московской ереси, в отличие
«Просветитель» преподобного Иосифа Волоцкого. Издание
Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. М., 1993.
2 Слово об осуждении еретиков Иосифа Волоцкого//Памятники литературы
Древней Руси: Конец XV — первая половина XVI в. М„ 1984. С. 324—349.
112
от Иосифа, точно устанавливая предмет определения «многоразли-
чия». Иосиф, безусловно, имеет ввиду явленность Бога в мире как
образ и символ, придавая, однако же, своим высказываниям форму
пантеистической мысли. Еретики склонялись, скорее, к явленности
по сущности, то есть непосредственному вторжению
Божественности в тварный объект. Обоснование позиции более убедительно
выглядит у последних, поскольку читаемые и переводимые ими
сочинения содержали неоплатонистскую основу и могли
способствовать корректному выражению учения об эманации.
В-третьих, Бог сочетает в себе гнев и любовь. Это положение,
также присутствовавшее у «жидовствующих», но только в
контексте идеи синтеза добра — зла в божественных сверхдобре и
сверхблаге, Иосиф толкует премудрость Божью как сочетание в Боге
премудрости и коварства. Вочеловечивание рассматривается как
акт «прехыщрения» Люцифера. Бог действует способами,
неведомыми человеку, которые кажутся ему обманом, но в итоге все
равно приведут к истинному благу.
2. Божественная сущность абсолютно непознаваема. Христос
по отцу есть Бог, по матери — человек. Следовательно,
божественная сущность Христа также непостижима, и евангельские
тексты представляют собой лишь человеческую точку зрения на
познаваемую, человеческую сущность Бога-Сына. Далее, противореча
изначальному постулату 1 Слова о единосущной Троице, Иосиф
указывает, что Христос в тварном мире по своей феноменологии,
явленности не есть Бог, но только трансляция его сущности в
человеческом носителе, ради исполнения миссии Спасения.
Актуализация Троицы в творении, таким образом, происходит не
атрибутивно, по ноуменальной божественной сущности, но лишь
феноменально, как форма «многоразличия» божественных проявлений.
Безусловно, что человек создан по образу и подобию Божьему
по принципу триипостасного параллелизма: душа подобна Отцу,
слово — Сыну, ум, как аллегория их нераздельности, подобен
Духу. Кроме того, Иосиф, тяготеющий к формализму и точности,
устанавливает то, что у Фомы Аквинского называлось «фазисом
отличия». Указывая на ограниченность восприятия божественной
природы Христа, Иосиф указывает, что ряд дел Иисусовых был
совершен по Моисееву закону и православный христианин не должен
следовать им — обрезание, субботствование и пр. Так же как
существуют дела, которых Бог-Сын не делал, но следует делать
истинному христианину. Что содержало в себе отказ от идеи
подражательства Христу.
8-6016 ИЗ
3. Царская власть есть власть божественная. Московский
государь лишь внешностью подобен человеку, а власть получает в
качестве признания своей исключительной избранности. Это служит
тому, что повиновение монарху должно быть безусловным как у
светских людей, так и духовных. Монарх обладает от Бога
«милостью, судом, властью и попечением» над всеми православными
людьми и институтами. Московский царь является «государем всея
Руси» и ему должно подчиняться всем от удельного князя и
митрополита до последнего нищего. Это подчинение должно
осуществляться именно «по своей воле», так как в противном случае это
будет восстанием против божественной воли. Исходя из этой
посылки, Иосиф устанавливает некоторые новые характеристики
концепции казней Божьих. Божий суд не вершится только при жизни
провидением Божьим и после смерти, но еще и тождественен с судом
царским и церковным — и наказание следует такое же суровое:
«стяжание церковное — суть Божье стяжание».
Таким образом, в «Просветителе» сформулирована
прагматическая концепция теологии как основания для практических
политических, церковных и обыденных действий и поступков.
В контексте «иосифлянского» сообщества в первой половине
XVI в. получила распространение и некоторое время оставалась
фактором влияния государственной идеологии
религиозно-политическая идея, известная под названием «Москва — третий Рим».
Одним из ее непосредственных предшественников был митрополит
Зосима (1491 —1494), окончивший свою церковную карьеру
обвинением в причастности к новгородско-московской ереси.
Предприняв попытку составления новой православной пасхальной
хронологии (предыдущая распространялась до 1492 г.), он в Предисловии к
Псахалии (1492) установит провиденциальную преемственность
между Царьградом как Новым Римом царя Константина, деяниями
Владимира Святого, которого называет вторым Константином, и
Ивана III. Последний именуется «государем и самодержцем всея
Руси», «новым Константином», а Москва — новым
Константинополем1.
Окончательная формулировка идеи принадлежит старцу
псковского Елизарова монастыря Филофею (ок.1465—1542). Она
сформулирована им в двух посланиях — царю Василию III (помимо
прочего, ставятся проблемы нравов и статуса псковских
монастырей и проблемы Пскова, связанные с ликвидацией республиканец-
Послания и Слова иерархов Русской Православной Церкви XV—XVII веков.
Томск, 1998.
114
го строя) и в более подробном виде в Послании Михаилу Мунехину
(сентябрь 1527 г. — март 1528 г.)1. Провиденциальные основания
концепции Филофея состоят в утверждении предопределенности
события тройной преемственности: на смену старому Риму
приходит новый православный Царьград; после его падения в 1453 г.
эстафету истинного христианства навсегда принимает Москва, где
правит «единственный во всей поднебесной христианский царь». И
далее, исходя из вселенских задач православия и ныне актуальных
проблем, Филофей указывает три главные задачи царской власти:
способствование миссионерской деятельности церкви;
попечительство в духовных делах и контроль за назначением епископов;
контроль за нравами в церкви и искоренение гомосексуализма в
монастырях.
Прагматико-политическое богословие нашло свое продолжение
в творчестве и деяниях двух последователей Иосифа Волоцкого —
митрополита всея Руси Даниила, о своеобразной редакции
«Диалектики» Дамаскина которого уже говорилось, и митрополита всея
Руси Макария (1481/82—1536).
Даниил, преемник Иосифа на посту игумена Волоколамского
монастыря, оранизатор осуждения на соборах 1525 и 1531 гг.
Максима Грека и Вассиана Патрикеева, в своих известных ныне 16
словах и 18 посланиях сформулировал четыре группы идей в
контексте идеологии сообщества «иосифлян»2: божественное
происхождение власти великого князя, способного в этой связи
гарантировать «праведность и справедливость» правителей;
общечеловеческая и гуманитарная миссия общежительной монастырской
деятельности, выражающаяся в благотворительности и укреплении
статуса идеала исполнения веры; нравственно-охранительное
назначение веры, которая должна стать основной добродетелью и
регулятором всех поступков, причем Даниил в этом вопросе проявил
себя как талантливый сатирик, изобразивший дурные нравы самых
разных сословий русского общества; основательность и ценность
традиции — его. труды полны тщательно продуманных ссылок не
только на Писание и отцов восточной церкви, но и на патерики,
хроники, сочинения Геннадия, Иосифа Волоцкого, Максима Грека,
а также «Слово о Законе и Благодати» митрополита Иллариона.
1 Послания старца Филофея//Памятники литературы Древней Руси: Конец XV —
начало XVI века. С. 436—450.
2 ЖмакинВ. Митрополит Даниил и его сочинения. М., 1881. С. 97—118;
Поучение Даниила, митрополита всея Руси/Пер. и комм. Н.В. Понырко//ПЛДР: Конец
XV — пер. пол. XVI века. М., 1984. С. 520—533, 749—750.
8*
115
Второй крупный деятель сообщества «иосифлян» митрополит
Макарий (в течение 16 лет — архиепископ Новгорода и Пскова,
22 года, с 1542 г. — митрополит Московский) внес огромный
вклад в дело христианского просвещения русского общества.
Опираясь на традиции «геннадиевского кружка» и постоянные связи с
крупнейшим в России книгописным центром
Иосифо-Волоколамского монастыря, осуществил свой замысел собрать воедино «все
чтомые» на Руси книги и осуществил подготовку грандиозного
12-томного книжного свода для чтения в порядке церковного
календаря — Великие Минеи Четьи (1541). Этот текст, как следует
из предисловия к нему самого Макария, писался в Новгороде на
протяжении 12 лет. К созданию энциклопедии были привлечены
широкие круги русских писателей, переводчиков, книжников, как
самых известных и опытных, так и авторов одного сочинения,
составленного как раз для Миней: Зиновий Отенский, Лев Филолог,
В.М. Тучков, Ермолай-Еразм, Дмитрий Герасимов, пресвитер Илья,
Василий Варлаам и др1. В основу грандиозного проекта были
положены минейные сборники раннего времени, статьи из Пролога и
Торжественника и огромное количество новых материалов —
русские и переводные жития святых, полные тексты патериков,
библейские книги, слова, поучения и сочинения отцов церкви (
сборники «Златоуст», «Златоструй», «Маргарит»), «Тактион» Никона
Черногорца, полный текст «Диалектики» Иоанна Дамаскина,
разнообразные сказания, хождения, уставы, грамоты, Кормчая книга и
ряд апокрифов.
Подводя итоги деятельности сообщества «иосифлян», следует
отметить, что именно этот круг единомышленников,
представлявший консервативно-изоляционистскую ветвь
церковно-просветительного движения, вышел победителем из конфликта с
сообществами новгородско-московских «спротивно мудрствующих» и «не-
стяжателей» и взаимодействия с «латинствующим» « Геннадиев-
ским кружком».
1 См.: Гаерюшин Н.К. Первая русская энциклопедия//Памятники науки и техники:
1982—1983. М., 1984. С. 119—130.
Глава 5
«АКАДЕМИЧЕСКИЕ СООБЩЕСТВА»
В РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ
ТРАДИЦИИ В XVII—XVIII ВЕКАХ
Общие принципы формирования
русской религиозно-просветительской традиции в XVII веке
Новый этап русского просвещения возникает на основе первой
волны западнорусского и латинского влияния, связанного с
именами Франциска Скорины (1490—1551), Андрея Курбского (1528—
1588), Мелетия Смотрицкого (1577—1633), братьев Стефана и
Лаврентия Зизаниев, Кирилла Транквиллион-Ставровецкого (ум. 1649) —
непосредственных идейных предшественников возникновения
первого русского «академического сообщества».
Князь Курбский являлся одним из инициаторов создания в 1580 г.
училища в Остроге, идея организации которого заключалась в
сочетании методов и систем католических школ и «греческой
образованности». По его образцу в конце XVI — начале XVII в.
формировались затем учебные заведения во Львове, Минске, Бресте,
Могилеве. Самой известной и влиятельной из них стала Львовская
школа. Отправляясь от ее опыта и на основе ее учителей, около
1615 г. митрополит Киевский и Галицкий, выдающийся деятель
украинско-русской богословско-философской традиции Петр Могила
(1596/97—1647) открывает в Киеве новое училище. В 1631 г. оно
будет преобразовано в Киевскую коллегию, с 1701 г. именуемую
Киево-Могилянской академией, и просуществует до 1817 г.1
Новое просветительское движение медленно, но верно
набирало обороты по всей стране. Осознание необходимости образования
в разных слоях русского общества достигает критического уровня.
Приведем простой пример, который, по нашему мнению,
характеризует происходящие процессы: общий объем книжного рынка в
1662—1664 гг. составил около 20 000 экземпляров при стоимости
одной книги, сравнимой сегодня со стоимостью неплохого ноутбука,
а за один только апрельский день 1662 г. в Москве на рынке было
продано 2880 азбук .
1 ХижнякЗ.1. Киево-Могилянська академЕя. Киев, 1981. С. 27—29.
2 Пушков В.П. Книжный рынок Москвы в начале 60-х годов XVII в.//Федоровские
чтения. 2003. Мм 2003. С. 79.
117
В 1633 г. патриарх Филарет Никитич учредил при Чудовом
монастыре в Москве Греко-латинскую школу. В конце 30-х гг. Петр
Могила обращался к царю Михаилу Федоровичу с просьбой
соорудить в Москве монастырь, в котором бы братья Киево-Печерского
монастыря учили людей разного звания грамоте. В конце 40-х гг.
окольничий Ф.М. Ртищев основал в Москве при церкви Св. Андрея
Преображенский монастырь, куда были приглашены 30 иноков с
Украины. В том же монастыре некоторое время спустя была
основана Андреевская школа, в которую из Киево-Могилянской
академии приезжали преподавать философию, риторику, греческую и
славянскую грамматику Епифаний Славинецкий, Арсений Сатанов-
ский, Дамаскин Птицкий.
Усилия, направленные на организацию нового типа церковно-
просветительской работы, удваиваются во второй половине XVII в.,
после 1652—1658 гг., на которые приходятся патриаршеская
деятельность Никона и начало раскола Русской православной церкви.
Довольно быстро стало ясно, что именно религиозное содержание и
формы раскола вызывают в обществе и культурно-исторической
традиции острейшую идейную борьбу. Раскольники, лидером и
вдохновителем которых был протопоп Аввакум, боролись с
никонианской властью прежде всего в силу ее отступления и отказа от
«старой веры», то есть некоторых установившихся стереотипов и
архетипов, которые образовали особый этос. В этих условиях еще
более остро, чем во второй половине XV — начале XVI в. в связи
со взаимодействием и конфликтом четырех «идейных сообществ»,
вновь встала проблема истинного понимания догматов, священных
книг, святоотеческой традиции, решений соборов — эта была
потребность в формировании твердой и жесткой системы
самоописания церковной идеологии, способной противостоять любой критике
извне и изнутри. Это было тем более важно, что появилась
обширная раскольничья литература, позиция которой была отнюдь не
оборонительная, а критика никонианской церкви и
государственного строя — отнюдь не мягкой и корректной. Только Аввакум,
выдающийся оригинальный и самобытный богослов-л итератор, за 15
лет своего заточения в земляном срубе, которое закончилось в
1682 г. сожжением заживо, сумел написать и переслать на волю 80
своих произведений, имевших явный общественный резонанс; его
житие разошлось более чем в 100 списках.
Кроме того, сама специфика русской культурно-исторической
традиции обладала достаточно весомой инерционностью, которую
славянский мыслитель-философ Юрий Крижанич (1617—1683)
весьма эффектно называл «мудроборческая ересь»: просвещение
118
вызывает отказ от веры, и этот основополагающий тезис всех
сторонников «традиции» мог приобретать самые странные формы —
от полного отрицания философского и научного познания до
требования ограниченного распространения грамотности.
К середине XVII в. Россия уже имела первые опыты
просветительской работы, связанной с влиянием западнославянской и
западноевропейской мысли. В последнем случае единственный
масштабный эксперимент такого рода — попытка включения
европейской философско-мистической традиции в русскую религиозную
культуру в сообществе новгородско-московских «спротивно
мудрствующих» — закончился неудачей. А вот адаптационные
варианты, связанные с западнославянским посредничеством, так же как
когда-то в случае с русско-бол га рекой рецепцией в Киевской Руси,
оказались не только жизнеспособными, но и стали фактором
влияния в традиции русской религиозной философии.
Русская богословская традиция, начиная с XI и вплоть до
середины XVII в., несмотря на разницу исторических времен, так или
иначе была сосредоточенна на одних и тех же фундаментальных для
православной традиции проблемных темах:
— проблема двоеверия или ереси, в чем бы они не
выражались — в «двоеверной среде» русской раннехристианской эпохи,
противостоянии вышедшему из нее сообществу стригольников, в
казусе «жидовствующих», в западнорусском влиянии, в расколе;
— «латинство», с древнейших времен, с момента «великой
схизмы» 1054 г. вплоть до сегодняшнего дня;
— триниталогия и христология, то есть обсуждение, как
правило, в русле каппадокийской традиции статуса единосущности
Святой Троицы и выяснение принципов сочетания двух природ во
Христе;
— ритуалогия, то есть проблема почитания священной утвари,
особенно святых икон, статус их иерофании (проявления
божественности), о чем только в XVI—XVII вв. писали и Иосиф Волоц-
кий, и Максим Грек, и Евфимий Чудовский, и Симон Ушаков, а
также — извечный камень преткновения всего христианского мира,
а особенно русской церкви — система обряда и принципы
отправления культового ритуала. Особой темой в рамках проблематики
был то разгорающийся, то затухающий спор о пресуществлении
Святых Даров. С новой силой он будет продолжаться и в XVII в.;
— провиденциализм, тема, представленная весьма
значительным числом толкований, которые, впрочем, редко отличались
оригинальностью, но все-таки, в соответствии с общехристианской
традицией, сводились к вопросу о свободе воли. Проблематика ре-
119
шалась двояко, а иногда и двуедино: отдавалась дань фатализму
при сохранении и осознании принципа теистического
персонализма (то есть самосознания выделенности конкретного «Я» перед
лицом Всевышнего), признавалась «самовольность» ума и
достоинство человеческих познавательных и практических сил или же
господствовала пессимистически-ригористическая «теория казней
Божьих»;
— наконец, в минимальной мере рассматривались проблемы
греха, благодати, природы первочеловека, чрезвычайно слабой
была теодицея и вообще проблематика зла, оказалась практически
непродуманной проблема времени. Что касается европейского
уровня разработки проблемы зла, который, отправляясь от Ориге-
на, Августина, Фомы Аквинского, прошел через длительный и
очень полезный исторически необходимый этап онтологического
понимания апостасии (связанный далеко не с одними манихеями),
то он так и не был серьезно испробован у нас вплоть до B.C.
Соловьева. Специально занимавшийся проблематикой зла выпускник
Киево-Могилянской академии, переводчик, богослов и философ
Епифаний Славинецкий (ум. 1675) традиционно считал зло
принадлежностью не «естества», но «дел», что у него мягко сочеталось с
архаической «теорией казней Божьих».
Ситуация начинает меняться уже в связи с трудами Петра
Могилы1 — в его Катехизисе и «Православном исповедании» —
когда начинает проникать в русское богословие представление об ав-
густиновской и томистской концепциях грехопадения, в связи с чем
православная «мягкая версия» наследственного или родового греха
становится объектом постепенной корректировки. Распространение
этой и других новаций в России связанно с деятельностью
выпускников Киево-Могилянской академии.
Просветительская работа, религиозно-философские
и полемические труды деятелей Киево-Могилянского
«академического сообщества»
Киево-Могилянская академия в лице своих деятелей,
выпускников и их последователей оказала очевидное новационное влияние
на процессы, происходившие в традиции русской религиозной
философии. Долгое время она оставалась единственным высшим
учебным заведением в Восточной Европе. В разные годы ее
профессорами были такие выдающиеся мыслители, как Иосиф Коно-
1 Могила П. Краткий катехизис//Голубев СТ. Киевский митрополит Петр Могила
и его сподвижники. Т. 2. Киев, 1898. С. 358— 487.
120
нович-Гробацкий (ум. 1653), Иннокентий Гизель ( ок. 1600—
1683), Иоанникий Голятовский (1620—1688), Лазарь Баранович
(1620—1693), Варлаам Ясинский (ум. 1707), Иосиф Кроковский
(ум. 1718), Стефан Яворский (1658—1722), Феофан Прокопович
(1681 —1736). В последствии значительная группа преподавателей
примет участие в деятельности второго российского
«академического сообщества» — Славяно-греко-латинской академии. Особую
известность приобрели Феофан Прокопович, оригинальный
богослов-философ, идеолог реформ Петра Великого, и Стефан
Яворский, долгое время бывший местоблюстителем патриаршего
престола. Около года студентом академии был М.В. Ломоносов.
В Киево-Могилянской академии преподавались латинский,
греческий и древнееврейский языки, риторика, философия,
психология, а также математика, астрономия, механика и медицина. Кроме
того, здесь разрабатывалась и преподавалась этика, которой
пытались придать статус праксеологической дисциплины, базирующейся
на методах естествознания. В близком соответствии с идеями
Иоанна Дамаскина, опирающегося в свою очередь на Аристотеля,
этика подразделялась на монастику (нравственные регулятивы
индивида), экономику (способы организации хозяйства), политику
(организация государственной деятельности).
В архивах Украины выявлены 127 курсов риторики и 172 курса
философии1, прочитанных в стенах академии. Их общий настрой
характеризуется как синтез христианского неоплатонизма с аристо-
телизмом при определенном влиянии классического томизма и
некоторых идей «второй схоластики». Одним из самых известных
являлся курс 1693—1694 гг. «Agonium philosophicum»
(Философское состязание) Стефана Яворского2. Это добротные латинские
философские лекции, испытавшие на себе некоторое влияние
«второй схоластики» (хотя, конечно, такого анализа «ens reale»
(реально сущего), как у Франсиско Суареса (1548—1617), ведущего
деятеля этого движения, там нет) — обновленческого движения в
томизме, принятого в качестве официального после Тридентского
собора (1536 г. окончание). На этом же соборе среди прочего были
приняты догматы о непогрешимости папы, чистилище, первородном
грехе.
1 Стратий ЯМ., ЛитвиновВ.Д., Андрушко В.А. Описание курсов философии и
риторики профессоров Киево-Могилянской академии. Киев, 1982.
2 Латинские рукописи профессоров Киево-Могилянской академии.
Львов—Варшава, 2000. С. 71—94.
121
Это новосхоластическое «влияние» следует признать
очевидным, но все-таки весьма условным. Достаточно обратиться к
знаменитым «Метафизическим рассуждениям» Суареса, как разница в
принципах изложения идей станет очевидной . В курсе Яворского
философия подразделяется на диалектику, метафизику, логику и
физику. В разделе о метафизике он вплотную приближается к
спекуляциям Суареса и, не предлагая своего оригинального решения
проблемы понимания «ens reale ut sic» (реально сущее как
таковое), тем не менее формулирует достаточно ясную концепцию
единичного бытия вещи. Оно есть целое, не сводимое к материальному
или формальному началу, то есть материя и форма не исчерпывают
состояния вещи как целого. Единство целого, в точном
соответствии с программой Суареса, есть вообще трансцендентальный
атрибут, отличный от индивидуального и формального единства
конкретных вещей. А вот далее у Яворского получается, что акт и
потенция, как и единство, есть трансценденталии — атрибуты вещи,
стоящие над категориями субстанция, количество, качество, место
и др., чего быть не может.
Материя и форма у Яворского есть равноправные принципы
природных вещей, где форма представляет собой возможность
актуализации. Форма «овещняет» материю, позволяет ей
актуализироваться; поскольку материя есть, в свою очередь, «матрица форм,
субстрат трансформаций», то она не сводима к установленным
формам. Она сама способна порождать новые формы,
обусловливая, таким образом, противоречие самой природы вещей. Неунич-
тожимость этого противоречия порождает «тяготение» материи к
формам, и это делает ее безначальной и вечной.
Кроме того, Яворского считают первым в отечественной
культурно-философской традиции автором курса психологии2.
Одним из типичных деятелей «академического сообщества»,
представляющим, так сказать, его среднюю величину, был
профессор философии и богословия, ректор Киево-Братской коллегии
(1650—1658), а с 1657 г.—черниговский архиепископ Лазарь
Баранович (1620—1693) — писатель, политический и церковный
деятель. Он занимал активную гражданскую позицию, чему немало
способствовал статус ректора единственного в стране высшего
учебного заведения, и выступал за союз Украины с Россией,
боролся против униатов и католичества в юго-западной России. В русле
1 См.напр.: Шмонин Д.В. Фокус метафизики. Порядок бытия и опыт познания в
философии Франсиско Суареса. СПБ., 2002.
2 Латинские рукописи профессоров Киево-Могилянской академии. С. 18, 204.
122
своих политических предпочтений он в письмах к русскому царю
определял значение украинского народа как «охранного бойца на
пути османов и татар».
Богословско-философские взгляды Лазаря Барановича в
сравнении с Яворским не являлись чем-то исключительным,
оригинальным или даже самостоятельным. Они походили на «философ-
ско-теологическую» программу преподавания и служили именно
такой цели — это был синтез философии Аристотеля с
христианской религиозностью. Получив образование в Киево-Братской
коллегии, он был типичным представителем тогдашней
восточно-схоластической образованности.
Место Лазаря Барановича в отечественной
культурно-исторической среде определяется его заслугами в развитии просвещения.
Он — несомненный глава религиозно-просветительского
движения на Украине. Баранович постоянно занимался делами Киевской
коллегии, а в начале 70-х годов организовал типографию в
Новгороде-Сиверском (в 1679 г. перенесена в Чернигов), где издал около
пятидесяти богослужебных и литературных произведений на цер-
ковно-славянском, польском и латинском языках. Многие деятели
тогдашней духовности получили образование благодаря его
поддержке, были подвигнуты на труды его настояниями. Он заботился
также о сохранении и развитии народных сил и народных средств
самообразования.
Лазарю Барановичу принадлежат два сборника проповедей —
«Меч духовный» (1666, 1686) и «Трубы словес проповедных»
(1674, 1679). Предмет проповедей — религиозно-нравственные
наставления, отличающиеся строгостью и призывом к аскетизму,
проповеди «Меча» проводят прямой положительный нравственный
закон, в «Трубах» воспроизводятся эпизоды из житий святых. По
форме эти проповеди выдержаны в духе схоластических правил.
Здесь нет ни разъяснения догматов, ни практических наставлений;
молитвы, включенные в них, представляют собой простое
прославление Бога. Многие исследователи высказывались отрицательно о
достоинствах проповедей Лазаря Барановича, однако это не
снимает вопрос об их значении для развития русской духовности, по
крайней мере, в свете сравнения их с проповедями, изданными в
тот же период в Москве.
Безусловно, оригинален Лазарь Баранович в своем
стихотворном творчестве и полемических сочинениях.
В 1671 г. он издал «Лютню Аполлона» (на польском языке),
включающую в себя более тысячи стихотворений. Большая часть
из них посвящена прославлению Бога, пресвятой Девы, ангелов и
123
святых, но есть и стихотворения, содержащие характеристики
народного быта и посвященные патриотической теме. Ряд
стихотворений говорит о деятельной любви к ближнему, о милосердии.
Полемическую направленность имели книги «Новая мера
старой веры» (на польском; 1676, 1679) и «О приключении жизни
человеческой» (на польском; 1678, 1680). В этих работах были
представлены позиции православия по следующим вопросам: о главе
церкви, об исхождении Святого Духа и др. Лазарь Баранович
предостерегал от рациональных толкований догматов веры, что
свидетельствует о нем как о типичном представителе
восточнославянской схоластики. Примечательно его стремление придать полемике
научный, академический характер. В этом отношении он
представлял то крыло русской религиозной образованности, к которому
принадлежали Симеон Полоцкий и Сильвестр Медведев1.
Другой известный деятель «академического сообщества» —
Иоанникий Голятовский (1620—1688), выпускник Киево-Братской
коллегии, впоследствии был преподавателем и ректором. После
разорения Киева в 1668 г. — игумен, затем архимандрит
черниговского Елецкого монастыря.
Книга Голятовского «Ключ разумения» (1659, 1660, 1665)
включала в себя проповеди, а в качестве приложения к ней был
добавлен учебник гомилетики «Наука албо способ зложения казаня», то
есть наука составления проповеди2. В этой книге кратко
объяснялись тонкости схоластической проповеди, раскрывалась ее
структура, правила выбора формы, были указаны источники содержания.
Голятовский советовал читать книги и в качестве источников
собственных трудов называл десятки авторов самых различных времен и
направлений (Юстин, Ориген, Августин Блаженный, Фома Аквин-
ский, Иоанн Дуне Скотт, Жан Боден и др.) Проповеди,
помещенные в «Ключе разумения», имели догматический характер. В
соответствии с традициями католической проповеди Голятовский
выделял в Священном Писании четыре смысла: литературный,
моральный, аллегорический (касается земной церкви) и аналогический
(относится к церкви небесной). Проповеди содержали сведения по
«естественной истории» и космологии, а также классические
элементы схоластического дискурса3.
1 Сумцов Н.Ф. К истории южнорусской литературы 17 столетия. Вып. 1. Лазарь
Баранович. Харьков, 1884.
2 Голятовский I. Ключ розумшня.Кшв, 1985.
3 См.: Корзо МЛ. Образ человека в проповеди XVII века. М., 2000.
124
Если в «Ключе разумения» национальное содержание не нашло
отражения, то в последующих сочинениях Голятовского оно ярко
выражено как борьба за основной элемент украинской и русской
народности того периода — православие. Главными объектами
полемики стали униаты, католики, иудеи и мусульмане.
Борьбе с униатами посвящена написанная на польском в 1676 г.
«Беседа белоцерковская», где Голятовский доказывал, что глава
церкви — Христос, а не папа.
В конце 70-х годов возникла полемика в связи с вышедшей в
Вильно книгой католического писателя Павла Боймы,
утверждавшего, что православие не есть древняя вера. С ответом выступили
Лазарь Баранович («Новая мера старой веры», 1676) и Иоанникий
Голятовский («Stary kosciol», 1676)1. Последний доказывал, что
православная церковь более древняя, так как раньше римляне
придерживались тождественного с православием взгляда на исхожде-
ние Святого Духа. В ответ на возражения, последовавшие с
«латинской» стороны, Голятовский издал в 1683 г. книгу
«Фундаменты, на которых латинники утверждают единство Руси с Римом». В
ней доказывалось, что во время крещения Руси греки не
признавали главенства папы, что галицкий князь Даниил, преподобные
Антоний и Феодосии, митрополиты московские Петр и Алексей строго
хранили православие. Приводились также многочисленные факты
притеснений и гонений на православие на Польской и Литовской
землях.
Весьма любопытную картину процесса складывания украинской
идентичности, главным образом в религиозной форме, дает борьба
Голятовского против иудаизма. Осознание необходимости единства,
целостности украинского, а более широко — восточнославянского
народа шло путем его самоопределения как народа православного.
Потребность и форма такого самоопределения диктовались
влияниями не только внешними, но и внутренними. В XVII в. резко
обострились отношения автохтонного населения с еврейской общиной,
эти трения захватили, в частности, и идеологическую сферу с
появлением на Ближнем Востоке еврейского лжемессии Сабефа. В
1669 году Голятовский издал книгу «Мессия правдивый», в
которой приводил многочисленные «факты» злостных действий иудеев в
отношении христианской церкви. Правда, его аргументация была
чисто «теоретической», она исходила исключительно из
католических источников. В отличие от польских авторов, много писавших
1 Избранное из сочинений архимандрита И. Голятовского. Варшава, 1867. С.
87—99.
125
на эту тему, Голятовский не требовал жестких мер для обращения
евреев в христианство.
Против мусульман Голятовским были изданы книги «Лебедь»
(1679) и «Alkoran Mahomena» (1683). В первой из них
проводилась идея о необходимости единения славянских народов, включая
польский, для отпора туркам, во второй — опровергались
основные положения Корана.
Кроме названных сочинений Иоанникию Голятовскому
принадлежит книга «Небо новое, с новыми звездами сотворенное» (1665,
1677, 1699), в которой были собраны легенды о чудесах
Богоматери. Произведения «Алфавит» (1681) и «София Мудрость»
направлены против ариан и других еретиков, в число которых попали
Платон, Демокрит, Ксенофонт, Макиавелли и др. Совершенно
схоластический характер имела книга «Души людей умерших» (1687).
Большинство книг Голятовского были изданы на польском
языке в Чернигове в типографии, основанной Лазарем Барановичем1.
Иоанникий Голятовский был, возможно, одним из наиболее
образованных писателей Украины XVII столетия. Просветительское и
идейное значение его сочинений было заметно для современников.
Однако на примере Голятовского обнаруживалось и то
обстоятельство, что философская и общественная мысль тогдашней
Малороссии значительно локализировалась, и ее влияние на мысль
Московского государства являлось опосредованным и незначительным. Ни
одна из проблем, поднятых Голятовским, не была жизненной для
русской (великорусской) мысли, а значит, и воздействие его
взглядов на современников (через киевскую образованность), как и на
последующую мысль (через украинскую философскую культуру
XVIII века, наиболее ярким представителем которой был Г.
Сковорода) было не очень значительным.
Наконец последний деятель сообщества, о котором следует
сказать особо — Иннокентий Гизель (1600—1683) — выходец из
Пруссии, профессор и ректор Коллегии, автор философского курса.
В свое время П. Могила отправлял его в Европу для подготовки к
преподаванию в коллегии. С 1656 г. занимал высокий пост
архимандрита Киево-Печерской лавры.
В отечественной культурно-исторической среде он проявил себя
как талантливый просветитель, философ-схоласт, активный
защитник православия и полемист. Благодаря своим знаниям, твердости
в вере и мягкому характеру пользовался большим авторитетом у
1 Сумцов Н.Ф. Иоанникий Голятовский. К истории южнорусской литературы
XVII в.//Киевская старина. 1884. № 8.
126
современников, в том числе у московского правительства.
Отстаивал автономию украинского духовенства. Философский курс
(«Opus totius philosophiae») существует поныне в рукописном виде.
По структуре он вполне близок разработке Яворского и включает в
себя диалектику, логику, физику и метафизику. В нем
затрагивались также и богословские вопросы. Общие вопросы распадались
на более частные, например, «о свойствах божественных вообще»,
«о простоте Божией», «есть ли в ангелах субстанциональный
состав» и др.
«Мир человека с Богом» (1669, 1671) считается самым
значительным сочинением Гизеля. Это единственный опыт так
называемого «казуистического богословия» в России XVII в. Хотя Гизель
защищал православие и не ссылался на латинских авторов,
позиция, изложенная в этом трактате, соответствует схоластической
учености. Основной предмет трактата — таинство покаяния. По
представлениям схоластиков, каждый обряд должен возникать и
развиваться из одного положения. Таким образом, уничтожались
непостижимость и свобода Божией благодати в каждом таинстве,
на чем настаивала восточная церковь. Гизель различал во всех
таинствах материю и форму. В философском отношении представляет
интерес рассмотрение отношения человека к греху. Живой человек
не приносится в жертву абсолютному долгу, есть грехи смертные,
простительные, невольные, а в некоторых случаях нарушение
церковных правил вообще не является грехом. В учении о покаянии
Гизеля нашло отражение гуманистическое отношение к человеку, в
особенности к «бедным и нищим», что роднит его взгляды со
взглядами Симеона Полоцкого1.
Более ясное представление об его философской позиции дает
текст, получивший название «Трактат о душе» . Деистический по
своим идейным позициям, он представляет собой попытку на уже
известной основе, которая близка к построениям «второй
схоластики», обосновать антропологическую систему с особым упором на
пневматологию — учение о душе. Как и Яворский, Гизель считает
материю и форму нерасторжимыми атрибутами вещи. Душа, как
особая communion (общность), commercium (общение), образует
compositium (совокупность) материального и формального начала и
становится «формацией образования природного тела», или
«формой органического тела». Возникает единое «управляющее» нача-
1 СумцовН.Ф. История южнорусской литературы в 17 столетии. Вып. 3.
Иннокентий Гизель. Киев, 1884.
2 Латинские рукописи профессоров Киево-Могилянской академии. С. 301 —314.
127
ло, с помощью которого целое человека способно чувствовать,
мыслить, двигаться, жить и существовать. В связи с этим
выделяется пять душевных потенций: вегетативная, чувственная,
разумная, стремления, пространственного движения. Чувства
разделяются на внешние (пять традиционных) и внутренние. К последним
относится рассуждение, память, способность давать оценку,
воображение, «чувство общности». Это способность к распознанию
ощущений и внешних чувств, которые воображение («фантазия»)
сводит к ряду установленных образов-образцов
предметно-аксиологического плана, и на их основании совершается оценка ситуации как
процесс сравнения исследуемого предмета и образца,
предложенного воображением. В этом процессе активное участие принимает
память — оказывая содействие воображению для установления
образца и запоминая новый предмет. Наконец, все предыдущие
«чувственные» стадии сводятся к способности рассуждения,
которое преобразует данные чувства в их первичной обработке в мысли
и идеи.
Гизелю приписывается составление «Синопсиса». В книге
воспроизводились летописи и хроники России, Польши, Литвы,
рассказывалось о Куликовской битве, о присоединении Украины к
России, о турецких походах 1679 г. Если признать авторство Гизе-
ля, то можно заключить о глубоком понимании им необходимости
национального взгляда на жизнь народа и страны не только в
современном, но и историческом плане. Ценность труда усиливается
тем, что это было историческое сочинение, а не просто летопись. В
подборке материала и его изложении видны малороссийские
симпатии автора. В Москве, исходя из таких же принципов работы с
источниками и методов критического анализа, Сильвестр Медведев
составит «Описание стрелецкого бунта в Москве в 1682 г.»
Сообщество московской Славяно-греко-латинской академии:
просветительские и богословско-философские споры
вокруг него
После Киево-Могилянской академии — это второе в России
высшее учебное заведение. Оно было основано патриархом Иоаки-
мом между 1685 — 1687 гг. и размещено на территории Заиконос-
пасского монастыря на Никольской улице. Традиционно историю
академии разделяют на три периода: 1 ) деятельность братьев Лиху-
дов и «греческая образованность» (1685—1700); 2) «латинское
влияние» (1700—1755), когда в 1701 г. на пост ректора был
назначен Феофилакт Лопатинский и академия претерпела перемены
128
по образцу Киево-Могилянской академии; 3) реформация учебных
курсов и деятельность (с 1775 г.) митрополита Платона и его
соратников.
С момента своего возникновения академия оказалась в центре
«просветительских» и богословских споров. Начиналась новая
эпоха. В обществе все более осознавалось особое и отнюдь не
блистательное положение России по отношению к остальной Европе.
Стремление к «вестернизации» как аккумулированию опыта
европейской культурно-исторической и культурно-философской среды
становилось все более настойчивым. Во второй половине XVII в.
речь шла прежде всего о способах и методах обновления
просветительской политики: наконец-то признать европейские стандарты
образованности хотя бы в качестве средства обновления
образовательной стратегии или все-таки искать резервы в традиционных
способах «греческой образованности».
1. Открытие академии в Москве могло быть совсем другим.
Существовал проект просветителя и философа-богослова
Сильвестра Медведева (1641 —1691), настоятеля Заиконоспасского
монастыря, после смерти Симеона Полоцкого возглавлявшего русскую
западническую («латинствуюшую») партию. В 1685 г. он составил
устав академии и вручил его царевне Софье. В нем была
предложена модель религиозно-светского образовательного учереждения,
основанного на преподавании философии, риторики, богословия и
большого корпуса естественных и точных наук.
О Медведеве, весьма достойной и талантливой фигуре русского
просвещения в XVII в., который своими делами и мыслями
предполагал события петровских времен, следует сказать подробно.
Сильвестр Медведев (Семен Агафоникович Медведев) помимо
того, что был настоятелем Заиконоспасского монастыря, также
занимал должность справщика Печатного двора. Можно
заключить, что Сильвестр уже в молодости много читал, был знаком с
образованностью, выходящей за пределы традиционной «русской
книжности», и интересовался теоретическими вопросами веры.
Свою карьеру он начинал с должности подьячего в приказе
Тайных дел. После открытия Симеоном Полоцким в Москве
Спасского училища стал его учеником. В училище изучал латынь,
риторику, поэтику, богословие, историю и философию. Был известным
библиофилом, к концу жизни собравшим библиотеку более чем в
600 книг. В нее входили сочинения Августина, Оригена, Василия
Великого, Иоанна Златоуста, Тертуллиана, Иоанна Дамаскина и
других богословов; из философских книг следует назвать «Поэти-
9-6016 129
ку» и «Аналитики» Аристотеля, труды Сенеки и Цицерона .
Сильвестр читал и писал на трех языках, помимо русского —
латинском, греческом и польском.
В 1674 г. в Путивльской пустыне Сильвестр Медведев принял
монашество, а по возвращении в Москву стал секретарем у
Симеона Полоцкого. Сильвестр пользовался покровительством царя
Федора Алексеевича и царевны Софьи Алексеевны, что обеспечивало
ему видное место в тогдашнем обществе. При Заиконоспасском
монастыре была открыта школа, которой руководил Сильвестр. Он
подал проект академии Софье. Однако с прибытием в Москву
братьев Лихудов, пользовавшихся покровительством патриарха,
просветительская деятельность Сильвестра Медведева была
приостановлена.
В начале 80-х годов, как и Лихуды, он участвовал в полемике
по богословским вопросам с Яном Белободским, отстаивая
позицию православия против протестантов и католиков.
В начавшемся по приезде в Москву братьев Лихудов споре о
пресуществлении святых Даров, разделившем русских богословов
на два лагеря — сторонников греческой и латинской трактовок
таинств, возглавил «латинскую» партию. Этот спор по чисто
богословской проблеме приобрел в той конкретной обстановке более
широкий характер. Он превратился в широкий общественный
диспут об основаниях и путях развития отечественной
культурно-исторической среды. Сильвестр Медведев и его сочувственники не были
людьми, стремившимися насаждать в России католичество,
напротив, они являлись не менее ревностными приверженцами
православия, чем их противники. Речь шла не о судьбах православия, а о
судьбах религиозного просвещения, о необходимости культурного
общения с Западом, наконец, признании его достижений в
богословии и науке. Позиция «греческой» партии в данном случае была
более ортодоксальной, она превращала русскую богословскую
мысль в элемент традиции, участь которого — следование образцу
и его сохранение.
Первым сочинением Сильвестра Медведева в начавшейся
полемике была «Книга, глаголемая Хлеб животный» (1687),
написанная в катехизической форме — в форме вопросов ученика и
ответов на них. В ответ на распространявшиеся сторонниками
«греческой» партии «тетрадки» и «Опровержение католического учения о
пресуществлении» Евфимия Сильвестр написал «Книгу о Манне
Хлеба животного...». После выхода «Акоса» братьев Лихудов Силь-
1 Прозоровский А. Силивестр Медведев. Его жизнь и деятельность. М., 1896. С. 24.
130
вестр сочинил в опровержении этой книги «Известие истинное
православным...» (1688). В «Манне» он защищал латинское
мнение о пресуществлении. Восточная церковь порицалась за то, что
она уделяет больше внимание молитвам, чем словам Иисуса
Христа. В названных книгах Сильвестр Медведев показал свою
исключительную богословскую образованность. Он же обвинил Лихудов
в коварных замыслах относительно православной веры1.
Благодаря усилиям патриарха Иоакима и Евфимия Сильвестр
был устранен от участия в организации Академии в Москве, а
позже — и от места справщика Печатного двора.
Полемика по религиозным и культурным вопросам с самого
начала переплелась с острой политической борьбой. «Греки»
опирались на консервативные, традиционные силы в Москве, фактически
они отстаивали духовную изоляцию России от более развитого
Запада и защищали старинный русско-византийский уклад жизни.
«Латинники» были носителями новых веяний в культуре,
предшественниками русских «западников». За спиной Сильвестра
Медведева стояли царевна Софья, князь Голицын. Объективно его
взгляды мог бы впоследствии разделять Петр I. Но в тогдашней
политической борьбе, когда юный Петр был носителем старинного
русского уклада, Сильвестр оказался в составе противной Петру партии и
после падения Софьи был казнен в 1691 году по обвинению в
«чернокнижии».
Сильвестр составил первый в России библиографический труд
«Описание книг патриаршей библиотеки». Он оставил после себя
значительную переписку личного и церковного порядка. Ему
принадлежат стихотворения, некоторые из которых не являются
плодом риторических упражнений, но отмечены художественностью.
Идейно-философские основания воззрений Сильвестра
Медведева близки взглядам Симеона Полоцкого. Однако, в отличие от
Симеона, мировоззрение Сильвестра было более конкретным,
более национальным. Включенность Сильвестра в полемику и
политическую борьбу, его положение ученика и последователя Симеона
Полоцкого внесли в религиозное мировоззрение новые веяния.
Полемика связывает Сильвестра Медведева с пониманием судеб
страны и культуры, она ярко окрашена в эмоциональном отношении, у
нее широкий философский фон. В этой полемике скрыты проблемы
последующей русской философии: сознание универсальности куль-
1 Богословские сочинения Сильвестра Медведева//Русская православная церковь
в XVII веке. Избранные богословские сочинения XVII века. Казань, 1994. С. 87— 105.
9*
131
туры, признание прав разума в делах веры и высокого ее значения
в жизни человека, поиск истинного понимания веры.
2. В 1686 г. при открытии московской академии правительница
царевна Софья предпочла стать на сторону ортодоксов в лице
патриарха Иоакима. Партию Иоакима, пользуясь термином Крижани-
ча, следует назвать «мудроборствующей», то есть занимающейся
охранительной селекцией знания с точки зрения идеала «греческой
образованности».
Устав академии представлял собой нормативный текст, из
которого было ясно: на «академическое сообщество», то есть круг
людей, как формально так и неформально причастных к делу
церковного просвещения по заданной модели, возлагалась не только
функция церковного просвещения в рамках традиции «греческой
образованности», но и ставилась задача формирования прочного
идеологического образа самоописания церковной доктрины
вообще. К преподаванию допускались только «ревностные» и
благочестивые православные учителя; вменялось в обязанность следить
за настроениями приезжающих в Москву иностранцев, которым в
случае «хулы» на православие грозили ссылкой на Терек и в
Сибирь; иноверцев, принявших православие, полагалось держать под
строжайшим контролем — такие люди, несмотря на их любые
заслуги в области просвещения, не имели права преподавать в
академии1.
Учебный процесс в академии был организован по девяти
классам: первый — «аналогия», класс чтения, «приготовительный»,
где учили азбуку, славянское письмо, читали «Часослов» и
«Псалтирь»; второй и третий — «фара» и «инфима», где добавлялось
изучение латыни; четвертый — «грамматический» — завершение
изучения славянской и латинской грамматики и основы географии,
истории, арифметики, катехизиса; пятый — «синтаксим», был
связан с углубленным изучением латыни и составлении
самостоятельных сочинений на исторические темы; шестой — «пиитический»,
где изучались поэтика и риторика; в седьмом — «греческом» —
изучался греческий язык; в восьмом и девятом изучались
философия и богословие. Лекции преподавателей требовалось заучивать
наизусть. Учебники еще только вводились в оборот в
незначительном количестве2.
Смирнов С.К. История Московской славяно-греко-латинской академии. М.,
1885; Каптерев П.Ф. История русской педагогики. Изд. 2. Пг., 1915. С. 134—138.
2 Смирнов С.К. История Московской славяно-греко-латинской академии. С. 214.
132
До 1694 г. академией руководили братья Лихуды. Влияние их
понимания просветительского процесса сохранялось вплоть до
1700 г. Иоанникий (1633—1717) и Софроний (1653—1730)
Лихуды по прибытии в Москву в 1685 г. провели успешный диспут с
Яном Белобоцким о времени пресуществления Святых Даров, и
были назначены наставниками в открывающуюся Духовную
академию. Первоначально преподавали грамматику в школе
Богоявленского монастыря. Их авторству принадлежит краткий учебник
грамматики на греческом языке и, возможно, любопытный, оставшийся
в рукописи бетский букварь, в котором излагался единый «елли-
но-славенский язык». После постройки здания Академии перевели
туда свою школу.
В марте 1690 г. Софроний начал преподавание логики, а затем
курса естественной философии и пиитики. В риторике, логике и
физике он ориентировался на авторитет Аристотеля. Все учебники
по основным разделам тогдашней философии были написаны Лиху-
дами в соответствии с схоластическими правилами. При этом они
остерегались «всякого мудрования, несогласного с религией и
православием». Правда, иногда Софроний по-иному, чем в
схоластических школах, понимал задачи науки. Например, цель риторики он
усматривал в воспитании людей с честным направлением, с
сознательными убеждениями, любовью к истине. «Риторика, — говорил
он, — есть река великого ума...»
В начавшемся споре о пресуществлении Святых Даров Лихуды
занимали сторону Евфимия и патриарха Иоакима. Они оказали
содействие в подготовке «Опровержения латинского учения о
пресуществлении» Евфимия и в переводе им творений Симеона Селун-
ского. В 1687 г. закончили сочинение «Акос, или Врачевание, про-
тивополагание ядовитым угрызениям совести». «Акос» Лихудов и
«Манна» Сильвестра Медведева — главные сочинения полемики.
«Акос» был изложен в форме вопросов и ответов учителя.
Православное учение о евхаристии ставилось в связь с общим понятием о
таинстве. Лихуды находили противоречия в католических взглядах
на это таинство, именно к последним был близок Сильвестр
Медведев и поддерживавшие его «малороссияне». Догматическое
исследование Лихудов дополнялось историческим и филологическим
анализом. Лихуды показали идентичность святоотеческого учения
о времени пресуществления верованиям древнерусской церкви.
Доводы «Акоса» подробно опровергались Сильвестром
Медведевым в «Известии истинном». Медведев немалые усилия прилагал
не только к опровержению книги, но и к дискредитации своих
противников.
133
В 1690 г. Софроний Лихуд закончил книгу «Диалоги, или Ме-
чец духовный», содержащую обличения латинства. Это было самое
фундаментальное к тому времени опровержение латинства по
вопросам о главенстве папы, о таинствах крещения и евхаристии, о
Страшном Суде и о воскресении, о чистилище, о непорочном
зачатии, исхождении святого Духа и т.д. Труд Софрония устанавливал
точную грань между восточными и западными церквами по многим
пунктами вероучения. Существует предположение, что братья Ли-
худы участвовали в составлении «Остна» и «Щита веры», в
последний, кстати, были включены «Акос» и «Мечец духовный».
Лихуды считали, что без знания греческого языка невозможно
настоящим образом изучить Священное Писание и творения отцов
церкви. Однако при этом латинский язык они не отвергали.
В начале 90-х годов авторитет Лихудов в глазах правительства
и руководства церкви ослабел, а в 1694 г. они были отстранены от
Академии. Среди причин их отставки можно назвать и корыстные
действия братьев, и сомнительные заявления Иоанникия во время
его пребывания в Риме, и продолжающуюся идейную борьбу.
После отставки братья занимались частным обучением и
составлением церковных проповедей. В 1698 г. они были удалены в
Новоспасский монастырь, а в 1704 г. посланы в Новгород. В это
время Лихуды выступали против увлечения протестанским
рационализмом и маловерием. С этой целью ими были написаны «Лю-
торские ереси» и «Слово о предопределении». В философском
разделе последнего Лихуды защищали свободу воли и
индивидуальность человека перед лицом необходимости предопределения. Они
приводили свидетельства из античных философов о том, что
признание свободы воли человека совсем не свидетельствует об
изменяемости естества Божия. В самом утверждении о безусловном
предопределении Лихуды находили противоречие, поскольку в
таком случае и образование мира не должно быть признано
следствием действия свободной всемогущей воли и благости. Признание
безусловного предопределения ведет к пантеизму.
Лихуды приняли участия в составлении «Лексикона треязычно-
го, сиречь речений славенских, еллиногреческих и латинских
сокровища» Федора Поликарпова (изд. 1704 г.).
В 1711 г. они, видимо, ради «морального удовлетворения»
вступили в спор с местоблюстителем патриаршего престола,
представителем Киево-Могилянского «академического сообщества»
Стефаном Яворским (в 1700 г. он отказался возвратить их в
Москву) по поводу метафизики богословия. Братья задали ему три во-
134
проса и получили ответ, ни мало их не удовлетворивший, на
который, в свою очередь, появился «Ответ» Софрония Лихуда1. Были
сформулированы три вопроса: философский — о теодицее и
взаимоотношении души и тела; метафизический — о крещении и
очищении души и тела (в том числе: если святая вода в процедуре
крещения освящает душу и тело, то как возможно вещественной водой
очистить невещественную душу?); богословский — как объяснить
слова Дионисия Ареопагита «Кругловидно божественнии умы...
соединяют безначальным и бесконечным осиянием бесконечно
благого Бога». Яворский ответил в том духе, что все вопросы на
самом деле являются богословскими, а метафизика — это та же
философия.
Ответ Софрония демонстрировал преимущества «греческой
образованности» над схоластикой Яворского. Утверждалось, со
ссылками на каппадокийцев, Аристотеля и Демокрита, что первогрех
возникает как личный проступок Адама, в связи с чем все
единосущные ему существа (люди) должны нести это бремя, при этом
если бы Бог создал не одного Адама, а всех людей сразу, «тогда
другие не утратили бы праведности». Второй вопрос был вопросом
об основании, то есть о статусе сущности и существования,
которое, в традициях «второй схоластики», разводилось между собой. В
воде происходит слияние тварного и горнего, ноуменального и
феноменального, сущности и существования. Она есть первовещество
мира, возникшее при творении первым, из которого создается все
остальное — что уже высказывалось в компиляции «Шестоднева»
Иоанна экзарха Болгарского устами представителей антиохийской
школы. Тогда это первовещество служит принципом-символом
единого вообще, с помощью которого возможно познание
Божественного сущего.
Наконец, на третий вопрос, богословский, Софроний излагает
исихастское учение об энергиях, неприемлимое для схоластики
Яворского. В результате этого обмена мнениями Софроний и его
брат предложили, по сути дела, новый вполне современный для
XVII в., хотя и не совсем привычный, тип теоретической
метафизики сущности-существования, открытой для активного
интеллектуального поиска.
В 1726 г. Лихуды поддержали обвинения относительно
неправославия Феофана Прокоповича.
1 Ответ Софрония Лихуда//Аржанухин В.В. К публикации Ответа Софрония Ли-
худа//Историко-философский ежегодник. 1993. М., 1994. С. 236—249.
135
После смерти Иоанникия Софроний продолжал учительствовать
в Новгородской греческой школе, был настоятелем монастыря.
3. В первой четверти XVIII века русская православная церковь
переживает коренные преобразования, навсегда изменившие ее
облик. После смерти в 1701 г. патриарха Адриана Петр I
отказывается от идеи избрания нового главы церкви и назначает
местоблюстителем патриаршего престола Стефана Яворского. Яворский
поручает Феофану Прокоповичу, участнику, как и он сам, киевского
«академического сообщества» и бывшему ректору Киево-Могилянской
академии, подготовить новое положение о статусе и управлении
церковью. Так появился «Духовный регламент», утвержденный
царем 14 февраля 1721 г. Вместо патриаршества учреждалась
Духовная коллегия, главой которой был назначен Стефан Яворский
(обер-прокурор Св. Синода), первым вице-консулом — Феодосии
Яновский, а вторым, но не последним по значению, — Феофан
Прокопович.
«Духовный регламент» содержал проект Академии с
восьмилетним обучением. Там предполагалось преподавать: грамматику,
географию, историю, арифметику, геометрию, логику, диалектику,
риторику, физику, метафизику, историю политики, богословие.
В такой обстановке грядущих перемен начинает свою
деятельность в московском «академическом сообществе» Феофилакт Ло-
патинский (ум. 1741), выпускник Киево-Могилянской академии,
после окончания которой он продолжал обучение в Польше,
Италии и Германии. С 1701 г. он начинает преобразование
Московской академии по «киевскому» образцу. Официально назначенный
ректором, он обращается в Синод с посланием, в котором
указывает, что «В славено-латинских де Московских школах мало
учителей, и ко учению философии весьма никого нет» и просит прислать
из Киева преподавателей философии, истории и политики Г. Кон-
цевича, Г. Копецкого, С. Мигалевича, И. Рудзинского1. Синод
удовлетворяет его просьбу и делает эту практику постоянной —
приглашения преподавателей киевского «академического
сообщества» осуществлялись в 1723, 1724, 1728, 1732 и 1733 гг.
Феофилакт Лопатинский с 1704 по 1706 гг. читал в
московской академии курс философских лекций. По мнению Лопатинско-
го, все существующие философские школы разделяются на два
направления. Первое — академическое, к которому он причисляет
Сократа и всю скептическую традицию. Они не доверяют «челове-
1 Акты и документы, относящиеся к истории Киевской академии. Т. 1. 4.1. Киев,
1909. С. 39.
136
ческому уму... и открыто заявляют о непознаваемости всего
сущего». Второе — догматическое (Милетская школа, эпикурейцы,
Платон, Аристотель), опирающееся на способности разума и
полагающее возможным познание любой сущности.
Кроме того, в истории философского знания он выделял три
основных школы, в зависимости от решения вопроса о том, какие
атрибуты принимают участие в формировании единичной вещи:
монистов, дуалистов и атомистов (плюралистов). К последним он
относит Галилея, Гассенди, Декарта. Кроме того, в своем
натурфилософском курсе Лопатинский отводил особое место
космологическим учениям, излагая их три — Птоломея, Коперника, Тихо
Браге — признавая совершенным последнее. Вообще, Лопатинский
выступил как талантливый систематизатор. Его работа
«Диалектика» содержит оригинальный философский лексикон, в котором
определяется значение 141 базовой философской категории, включая
материю, форму, абстрактность, конкретность, сущность,
существование. При всем этом Лопатинский замечает, что «совершенной
философии не только не существует, но и нет ни малейшей
естественной возможности для ее возникновения»1.
Философия и богословие по своей предметной области
занимаются разными отраслями знания, но, направляя и осуществляя
познавательные процессы, взаимодополняют друг друга. Философия
подразделяется на логику, натурфилософию, метафизику,
пневматику, естествознание («метереология») и математику, или, по
другой его классификации, — на теоретическую (физика, метафизика,
математика) и практическую (логика, этика). Таким образом, речь
идет об универсальной системе познания, включающей в себя все
типы научной деятельности. Философия определяется как знание
сущего ноуменального и феноменального, которое достигается
разумом.
Фундаментальной проблемой, в соответствии с принципами
«второй схоластики», являлся вопрос о сущем как таковом,
актуализированный до проблемы единичного бытия. Здесь Лопатинский
не оригинален и весьма близок Яворскому, полагая началом
«природного тела» соединство материи и формы.
Во второй половине XVIII в. в московском «академическом
сообществе» в соответствии с философской модой того времени
усиливается влияние философии Лейбница и Вольфа в интерпретации
Г. Винклера и Ф. Баумейстера.
1 Феофилакт Лопатинский. Избранные философские сочинения. М., 1997. С. 197.
137
С 1775 г. начинается новый этап в истории московской
Славяно-греко-латинской академии. Он связан с деятельностью ее
выпускника, одного из крупнейших богословов-философов, получившего
европейское признание, митрополита Московского Платона (Лев-
шина). Платон (1737—1812) был интеллектуальным лидером
крупного и оригинального «идейного сообщества», называемого
школа «ученого монашества»1. В него среди прочих входили
следующие деятели церкви и богословы-философы: Феофилакт
Горский (ум. 1788), Евгений Булгар (1715—1806), Амвросий Победов
(1742—1818), Евгений Блоховитинов (1767—1837), Тихон
Задонский (1724—1783), ректор московской академии, издатель
собрания сочинений Платона, епископ Нижегородский и Алатырский Да-
маскин Семен-Руднев (1737—1795), восстановитель Оптиной
пустыни Паисий Величковский (1722—1795).
Это «идейное сообщество», в сумме трудов своих участников
создавшее оригинальное мистико-философское учение (в одном из
своих латинских писем Платон назовет его «doctrina Russorum»),
по своему значению в истории русской религиозной философии
представляет уникальное явление, выходящее далеко за пределы
московского «академического сообщества», но во многом от него
питающегося.
1 Калитин П.В. Уравнение русской идеи. М., 2002.
Глава 6
ЕВРОПЕЙСКАЯ ФИЛОСОФСКО-МИСТИЧЕСКАЯ
ТРАДИЦИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
КУЛЬТУРНО-ФИЛОСОФСКОЙ СРЕДЕ
В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XVIII — ПЕРВОЙ
ТРЕТИ XIX ВЕКА
Некоторые основополагающие характеристики
отечественной культурно-исторической
и культурно-философской среды
в последней трети XVIII века
Революционные события начала XVIII в. получают свое
непосредственное продолжение в последней трети столетия. Эпоха
русского Просвещения входит в стадию высшего развития. Происходит
рождение «нововременного» исторического разума русской
цивилизации.
Культурно-историческая среда этого периода характеризуется
множеством событий, кардинально изменивших облик российской
истории. Это и возобновление и продолжение агрессивного поиска
государственных приоритетов во внешней и внутренней политике.
Это и укрепление базовых элементов социальной структуры,
прежде всего дворянства, что единовременно сопровождается
становлением надсословного статуса монархии. Власть демонстрирует
намерения по расширению пространства гражданской деятельности в
государстве, о чем говорит, например, история с Уложенной
комиссией, Библейским обществом и другими попытками создать
самодеятельное гражданское общество.
Имеет место относительное поощрение частной инициативы,
например частной издательской деятельности. Начало
противоречивого движения к созданию нормативного образа самоописания
системы, то есть формированию «государственной идеологии»,
которая бы единовременно обеспечивала нерушимость абсолютизма и
демонстрировала его приверженность к просвещенному пониманию
гражданских свобод. Так, Екатерина борется с масонами, поручая
митрополиту Платону проверку издаваемых ими текстов на предмет
соответствия православной вере, но сама состоит в деятельных
сношениях с Дидро и Вольтером, к которым православие отнюдь не
было лояльно. Далее, Александр I поощряет разного рода
«сектантство», пока к 1822 г. официально не запрещает масонство и
139
прочие «экспортные» сообщества. Полным ходом идет процесс
развития светского образования и науки. 21 октября 1783 года
состоялось открытие Российской академии наук. Начиная с 1764 г.,
осуществляется процесс секуляризации, в числе прочего
приведший к тому, что из 954 монастырей были закрыты 754.
Итоги этой эпохе в первой трети XIX в. подведут П.Я. Чаадаев,
A.C. Пушкин, Н.М. Карамзин и М.М. Сперанский. Чаадаев
напишет по поводу речи Николая I в Польше (1833): «...роковая
страница нашей истории, написанная рукой Петра Великого, разорвана;
мы, слава Богу, больше не принадлежим к Европе: итак, с этого
дня наша вселенская миссия началась... в данном случае само
Провидение говорило устами монарха»1. Пушкин в 1836 г. в черновике
письма к Чаадаеву заявит свое знаменитое: «...правительство все
еще единственный европеец в России» — и потом продолжит
дальше: «И сколь бы грубо и цинично оно ни было, от него зависело бы
стать сто раз хуже»2. Это значит, что власть такова, какой хочет
быть, история длится так, как того хочет власть — судьба бытия
русского исторического разума поглощена волей властителя,
устроившего так, что «мы... больше не принадлежим Европе», а он сам
«единственный европеец в России».
«Петр Великий, — пишет Карамзин, — соединив нас с
Европой и показав выгоды просвещения, ненадолго унизил народную
гордость русских. Мы взглянули... на Европу и одним взором
присвоили себе плоды долговременных плодов ее»3. Ему вторит
Сперанский: «... в общем счете времени успехи в России идут
несравненно быстрее, нежели шли они в те же эпохи в других
государствах»4. Два чрезвычайно интересных замечания современников:
первый говорит о том, что за последнюю треть XVIII в. русский
исторический разум был поставлен в условия принужденной
аккумуляции всей полноты истории европейской цивилизации и
успешно справился с этой задачей. Второй вовсе заявляет, что
сейчас, в первую треть XIX столетия, в России другая эпоха, другое
историческое время, нежели в Европе, а еще точнее — «другие
эпохи», их смешение-смещение. В этом изобилии и новизне мира
действительно появляется чувство, что, как говорит Фауст в рома-
1 Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма. Т. 2. М., 1991.
С. 99.
2 Пушкин A.C. Письма// Пушкин A.C. Собр.соч.: В Ют. Т. 10. М., 1978. С. 51.
3 Карамзин Н.М. О любви к отечеству и народной гордости//Карамзин Н.М.
Избранные статьи и письма. М., 1982. С. 96.
4 Сперанский М.М. Проекты и записки. М.; Л., 1961. С. 51.
140
не В.Ф. Одоевского «Русские ночи»: «Девятнадцатый век
принадлежит России»1.
Многообразие культурно-философской среды русского
исторического разума к началу последней трети XVIII в. характеризуется
как сосуществование и взаимопересечение трех различных
культурных традиций: православной, гуманистической, просветительской.
Действительно, православная культурная традиция есть та
основа, в формах и категориях которой не только проживало и
мыслило себя подавляющее большинство населения, но в чьих рамках
формировались все основополагающие, глубинные рубежи топики
русской культуры. Структура этой основы, «православной
духовности», синтез жизненного опыта, посредством которого субъект
осуществляется в мире, складывается по крайней мере из трех
измерений.
1. Официальная церковная доктрина, т.е. система
самореференции общественного института, гарантирующего его идентичность.
Процесс ее формирования начинается с полной силой именно в
конце XVIII — первой трети XIX в. и продолжается вплоть до
сегодняшнего времени, приобретая завершенные черты лишь в
решениях трех последних архиерейских соборов.
2. Особое измерение феномена «православной духовности»
составляет исихазм, мистико-богословское основание православной
доктрины. В XVIII в., как особый духовный стиль, свободный от
церковной идеологии, он переживает оригинальное возрождение в
деятельности «ученого монашества» митрополита Платона,
возрождается в монашеской деятельности Тихона Задонского, Паисия
Величковского, старцев Оптиной пустыни и сохраняется далее в
феномене старчества.
3. «Православная духовность» как доминанта отечественной
культурно-философской среды сильнейшим образом повлияла на
судьбу религиозной философии в XIX в. от славянофилов до
Соловьева. Во многом именно при ее определяющем влиянии
складывается посредническая среда, где строятся сложные
взаимоотношения богословской мысли и философской рефлексии. Именно в этой
посреднической среде и существует тот особый вид рациональности,
основывающейся не на силлогистике, а на аллегорезе,
символическом параллелизме2, в последней трети XVIII в. постепенно уступая
место, а иногда и объединяясь с рационализмом метафорическим.
1 Одоевский В.Ф. Русские ночи//Одоевский В.Ф. Русские ночи. 4338 год.
Фрагменты. Письма. [Б.м.]. Catedral PR, 2000. CD-версия. С. 470.
2 См.:ЗамалеевА.Ф. Философская мысль в средневековой Руси. Л., 1987. С. 168.
141
Второй культурной традицией, вступившей в XVII—XVIII вв. в
контакт с русской культурно-философской средой, была
гуманистическая. С ней, по выражению В.В. Зеньковского, в России начался
процесс «водворения подлинной человечности»1. Традиция
представляла собой «сплав» многовековых культурных процессов, где
причудливо переплетались нормы и каноны европейского
средневековья, возрождения, барокко, «естественной религии», что
определяло собой светскую жизнь довольно широких кругов дворянства.
Посредством этой традиции осуществляется проникновение в
Россию масонских обществ и традиции европейской философской и
богословской мистики.
Наконец, третья просветительская культурная традиция как
компонента русской культурно-философской среды вступает во
взаимодействие с тремя крупнейшими национальными культурами,
в контексте которых формируется представление об
общеевропейской эпохе Просвещения: французской, немецкой, английской.
Философско-мистическое «идейное сообщество»
русских масонов «новиковского круга»:
организация и идейные источники
В XVIII в. масонство представляет собой общеевропейское
движение, ведущее свою историю с 1717 г., с возникновения в
Лондоне первых масонских лож нового типа, который стали называть
«теоретическим». Масонство (сообщество «вольных каменщиков»,
ведущее мифологию своего происхождения от строителей храма
Соломона) — это просветительское и политическое европейское
движение. Масонские ложи представляли собой негосударственные
организации свободных участников на основе строго
регламентированных правил. Чаще всего эти организации представляли собой
закрытые или тайные сообщества, ведущие многообразную
просветительскую, благотворительную, издательскую, финансовую,
политическую деятельность. Принципы этих сообществ основываются
на мистико-мифологическом понимании христианской доктрины, в
сочетании с разного происхождения и разного времени появления
мистическими и богословскими учениями.
Расцвет масонства как самодеятельных организаций свободных
граждан относится к европейскому веку Просвещения. Во второй
половине XVIII в. возникают признаки общеевропейской масонской
1 Зеньковский В.В. История русской философии. Т. 1.4. 1. Л., 1991. С. 94.
142
организации, куда Россия была принята в качестве восьмой
провинции масонского мира.
В России первая ложа «английского образца» появилась в
1731 г. В последней трети XVIII в. российское общество
переживает период увлечения масонством, который в разных формах
продлится до 1822 г., до официального запрещения масонства
Александром I (который являлся формальным главой масонских
организаций в России). Причиной запрета было весьма справедливое
подозрение императора об излишней политизации лож и
возможной угрозы их деятельности для власти. Ранее попытку прекратить
деятельность лож предпринимала в 1792 г. Екатерина Великая.
В 1779—1784 гг. в Москве сложился «новиковский круг»
(термин В.О. Ключевского) масонов, в состав которого входили: 1)
Педагогическая семинария и Дружеское ученое общество (1779—
1785), организованные И.Г. Шварцем и Н.И. Новиковым,
Типографическая компания (1784—1792), созданная Новиковым и
Шварцем при поддержке ряда пайщиков (И.П. Тургенев, СИ. Гамалея,
A.M. Кутузов, И.В. Лопухин, М.М. Херасков и др.); 2) Гаупт-Ди-
ректория VIII провинции масонского мира, как стала называться
Россия с 1782 г. после общеевропейского масонского конгресса в
Вильгельмсбадене; 3) ложи «Трех знамен» (мастер стула П.П.
Татищев), «Озириса» (кн. H.H. Трубецкой), «Лаокоона» (Н.И.
Новиков), «Сфинкса» (кн. Г.П. Гагарин); 4) созданная Новиковым в
1782—1783 гг. «Тайная сиенциорическая ложа Гармонии», куда
входили прежде всего деятели Дружеского общества и
Типографической компании.
Вообще, в последней трети XVIII в. сложились два
«заключенных» друг в друга типа русского масонства — профессиональные
масонские деятели, функционеры административного центра (Га-
упт-Директории) VIII провинции масонского мира (князья
Долгорукие, Трубецкие и др.) и сообщество масонов-мистиков,
объединенное вокруг Дружеского общества, Типографической компании и
«Гармонии». Первому типу в начале XIX в. наследуют союз лож
Великой Астреи и союз Великой Провинциальной ложи, иначе
говоря, все окологосударственное масонство александровской эпохи.
Второй тип более важен и интересен с точки зрения истории
русской философии. Ю.М. Лотман, тщательно изучивший
творческую ситуацию, сложившуюся в «новиковском круге» в 80-е гг.,
был склонен выделять в нем микросообщество — «мир
Новикова — Кутузова»1. В культурном, организационном и философ-
1 Лотман Ю.М. Сотворение Карамзина. М., 1987. С. 41.
143
ско-мистическом пространстве, замкнутом этими двумя наиболее
авторитетными именами, речь идет о группе единомышленников,
философов-мистиков, посвятивших себя
литературно-философским и мистико-философским занятиям: Н.И. Новиков (1744—
1818), А.М. Кутузов (1749—1797), СИ. Гамалея (1743—1822),
И.В.Лопухин (1756—1816), И.П. Тургенев (1752—1807), И.Е. Шварц
(1751 — 1784), М.М. Херасков (1733—1807), A.A. Петров (?—
1793), молодой Н.М. Карамзин и ряд близких к этому кругу людей.
Эта группа в своих личных, «книжных», идейных связях не только
видится неотъемлемой частью русского философского процесса,
но его необходимым институциональным звеном, организующим
центром — с мощной, крупнейшей в стране издательской базой, с
первыми философскими журналами, хорошо организованным
переводческим делом, что обогатило русскую культуру фрагментами
переводов или целыми текстами Платона, Климента
Александрийского, Оригена, Сенеки, Цицерона, Теофраста, Марка Аврелия,
Паскаля, Вольтера, Спинозы, Э. Юнга, Ф. Клопштока, Гёте и
многих других.
Периодические издания — «Утренний свет» (1777—1780),
«Московское ежемесячное издание» (1781), «Вечерняя заря»
(1782), «Покоящийся трудолюбец» (1784—1785), публикуемые
«новиковцами», были действительно первыми в России
философскими журналами, творческой лабораторией, где находили
отражение самые разные точки зрения.
Следует также отметить влияние, оказанное деятелями «мира
Новикова — Кутузова» на характер гуманитарного образования в
Московском университете в 1780—1820 гг. Именно там начал
свою деятельность в Москве Новиков, сняв в аренду на десять лет
университетскую типографию, именно там (в том числе и там)
Шварц читал свои лекции, посвященные не только философии
знаменитого немецкого мистика Я. Бёме (1575 — 1624), но и
критическому разбору сочинений Лейбница, Вольфа, Гельвеция, Руссо.
С 1778 г. куратором Московского университета являлся М.М.
Херасков, поэт и драматург, один из оригинальных сочинителей
мистической литературы. Позже, с воцарением на престоле Павла I,
этот пост занял другой известный масон и философ-мистик,
переводчик и литератор И.П. Тургенев, основавший в 1798—1800 гг.
Университетский пансион.
В той или иной степени творческий философско-литературный
процесс, происходивший в «мире Новикова — Кутузова», оказал
влияние на Н.М. Карамзина и А.Н. Радищева. Ю. Лотман считал,
144
что своей историософской концепцией Карамзин «обязан
масонам»1. Что касается А.Н. Радищева, то его отношения с
масонством связаны с его длительной перепиской с A.M. Кутузовым,
другом, «сочувствен ни ком» и идейным оппонентом; переписка не
сохранилась, но немногие уцелевшие письма Кутузова к Радищеву,
царящая в них философско-антропологическая напряженность,
действительно позволяют предположить, что это был один из
выдающихся памятников общественно-философской мысли.
Университетский пансион еще долго будет оставаться
«рассадником» философского просвещения и мистико-философских
настроений в российском обществе. Стоит только открыть
«Утреннюю зарю», издававшийся в 1800—1808 гг. сборник «трудов
воспитанников Университетского пансиона», где среди постоянных
авторов были В.А. Жуковский, А.И. и Н.И. Тургеневы, как
становится ясным процесс трансляции концептуальных оснований из «мира
Новикова — Кутузова» в «эпоху александровского мистицизма»:
цитаты из Эдуарда Юнга, как английские, так и в переводе 1787 г.
Кутузова, цитаты из Пордеджа в переводе Тургенева, цитаты из
Фридриха Клопштока, которого переводил Кутузов, подражания
«Кадму и Гармонии» Хераскова, ссылки на Юнга-Штиллинга,
цитаты из Гёте — конгломерат сентиментализма, классицизма, пред-
романтизма и мистицизма.
В том же пансионе учился В.Ф. Одоевский, что, бесспорно,
способствовало складыванию его философских пристрастий, «лю-
бомудрской» деятельности и, вероятно, напомнило после 1827 г. о
Сен-Мартене, Эккартсгаузене, Юнге-Штиллинге, Баадере. Тем
более что директором пансиона в годы его учебы был Прокопович-Ан-
тонский, идейный наследник и хранитель рукописей И.Г. Шварца.
Этот последний оказал решающее личное влияние на молодого
А.Ф. Лабзина (1766—1825), одного из самых ярких
деятелей-организаторов «александровского мистицизма», издателя весьма
популярного «Сионского вестника», переводчика Эккартсгаузена и
Юнга-Штиллинга. Наверное единственный, кто никак не касался
Университета, был М.М. Сперанский. Но в 1804 г. он знакомится с
сенатором Лопухиным, активным и самостоятельным
мыслителем-«новиковцем», который оказывает ему помощь в мистико-фи-
1 Лотман ЮМ. Идея исторического развития в русской литературе конца
XVIII — начала XIX в.//Проблемы историзма в русской литературе: конец XVIII —
начало XIX B.//XVIII век. Сб., 13. Л., 1981. С. 88.
2 Избранные сочинения из Утренней зари. Труды Воспитанников
Университетского пансиона в 2-х частях. Ч. I. М.: Университетская тип., 1809. С. 32—37 и пр.
10-6016
145
лософском «образовании» посредством Сен-Мартена, Беме, Фене-
лона, что не мешает будущему графу, выпускнику Петербургской
духовной академии, читать отцов церкви.
Если говорить об источниках формирования
философско-мистических взглядов сообщества, то для «мира Новикова —
Кутузова» будут особо важны немецкие мистики Парацельс, В. Вейгель,
Я. Бёме, французский мистик XVIII в. Л.К. де Сен-Мартен.
Заметно влияние Фомы Кемпийского и И. Арндта, безусловно влияние
Э. Юнга (1681 —1775), автора «Плача... или Ночных
размышлений», одного из первых опытов «кладбищенского»
сентиментализма в поэзии, Ф.Г. Клопштока (1724—1803), с его эпической
«Мессиадой», писателей «Бури и натиска» (1767—1780). «Нови-
ковцев», знакомых с произведениями Гердера, Гёте, Лессинга,
Ленца (последний долго жил в Москве в доме Типографической
компании вместе с Карамзиным, Петровым, Кутузовым и
Тургеневым), в творчестве германских писателей привлекали прежде всего
идеи глубокой чувствительности, внесословной ценности человека,
провозглашение культа «оригинального гения».
Из соотношений с собственно философской европейской
традицией следует назвать стоические влияния, как непосредственные,
так и через Арндта и Мейсона, особенно в плане концепций диви-
нации, «стоического мудреца», установки на самопознание; М.
Мендельсон, Ш. Бонне, Лейбниц, Вольф, а помимо них, возможно,
Локк и Кондильяк, наибольшее влияние оказали на A.M. Кутузова,
который в 1764—1767 гг. учился в Лейпцигском университете, а в
1788—1797 гг. жил в Германии. Интересно оценить некоторые
особенности идейных контактов с просветителями, прежде всего с
Руссо. Своеобразное воспрятие его идей часто вело к превращению
концепции автора «Du Contract Social» в пространство
эксперимента, переосмысления его идей и испытания своих. Так, Лопухин,
в молодости увлекавшийся французскими просветителями, в 80—
90-е гг. трансформирует политическое учение Руссо в
религиозно-нравственное, рассматривая свободу исключительно как свободу
воли или противопоставляя учению о «естественном равенстве»
метафизический аргумент о невозможности существования двух
абсолютно тождественных объектов1. Причем резкая критика
просветителей в письмах участников сообщества, рассчитанных на
цензуру, сводилась по сути дела к весьма разумным аргументам против
тех мыслителей, которые, по мнению русских философов-мистиков,
1 Лопухин И.В. Замечания на известную книгу Руссову. М., 1809. С. 5;
Лопухин И.В. Излияния сердца, чтущего благость единоначалия. М., 1794. С. 35.
146
нарушают принципы «надлежащего познания» — именно поэтому
письмо-памфлет Кутузова (1790)1 является довольно остроумной
философской пародией и на «Осадную башню, штурмующих небо»
Д. Дидро, и на «Небесные тайны» шведского мистика Э. Сведен -
борга.
Что касается М.М. Сперанского, то представляется
возможным влияние И. Фихте на философско-мистичекую рефлексию
русского мыслителя, и, вероятно, оно создает исходные посылки всего
дискурса, что составлялся под влиянием Сен-Мартена, Бёме, Фомы
Кемпийского, которого он с удовольствием переводил и издал уже
шестым изданием в России в 1821 г., исихастских мотивов в лице
Симеона Нового Богослова и отцов восточной церкви
преимущественно IV в. Точно так же как влияние Сен-Мартена, Эккартсгаузе-
на, Баадера, Балланша, Ламенне, отчасти Григория Синаита и
Симеона Нового Богослова у Одоевского всегда будет исходить либо
из преодоления, либо из продолжения философских построений
Шеллинга. Одоевский к началу 30-х гг. обладал достаточно
обширными, хотя и бессистемными знаниями о мистической и
алхимической традициях, в его сочинениях этого периода фигурируют имена
Альберта Великого, Парацельса, Василия Валентина, Раймона
Луллия2.
В последней трети XVIII — начале XIX в. в русской
культурно-философской среде формируется, оригинальное сообщество
европейской мистической традиции3. Его характеризует создание
«коллективного произведения» философско-мистической
антропологии «мира Новикова — Кутузова». Главной темой рассуждений
стала проблема человека: выработка критериев «предела»
человека, концепция человека целого-как-целого и
целого-как-разделенного и пути преображения. Важнейшим итогом коллективных
усилий единомышленников и сочувственников философов-мистиков
«новиковского круга» было создание системы основных понятий и
концептуальных элементов, которая послужит исходным
пространством деятельности для периода «александровского мистицизма» и
повлияет, в частности, на философскую позицию Сперанского и
1 Барское Я.Л. Переписка московских масонов XVIII-ro века. 1780— 1792 гг. Пг.,
1915. С. 61—62.
2 См. напр.: Каталог библиотеки В.Ф. Одоевского. М., 1988; Одоевский В.Ф.
Пестрые сказки. СПб., 1996. С. 9—17; Одоевский В.Ф. Русские ночи, 4338 год.
Фрагменты. Письма. [Б.м.]. Catedral PR, 2000. CD-версия С. 81—88.
3 См. подробнее: Федоров A.A. Европейская мистическая традиция и русская
философская мысль (последняя треть XVIII — первая треть XIX века). Н.Новгород, 2001.
ю*
147
Одоевского. Первый из них в своих философских сочинениях
предложит концепцию этико-аксиологического и коммуникативного
осмысления бытия и человека.
Философско-мистическая антропология в трудах деятелей
«мира Новикова — Кутузова»
Философско-мистическая антропология деятелей «мира
Новикова — Кутузова» включает в себя пять основных тем: 1)
разработка категории «целое»; 2) концепция избранности и
свободы-необходимости; 3) концепция «натуральной жизни»; 4) концепция
познания; 5) концепция преображения человека (самотворения).
1. В огромном корпусе переводных и авторских сочинений
деятелей «мира Новикова — Кутузова» существует возможность
обнаружить ряд основополагающих категорий-метафор, на основании
и осмыслении которых строится вся концепция философско-мисти-
ческой антропологии в ее коллективном, подчас весьма
противоречивом и многовариантном исполнении. Таких категорий пять:
«целое», «место», «посредник», «действие/деяние», «истинное».
Исходным элементом этой последовательности, включающим в себя
все остальные, служит категория «целое».
Эта категория характеризуется четырьмя важнейшими
направлениями выражения.
Во-первых, целое рассматривается как форма и способ
организации мира и человека («цепи», «бытие», «модель», «красота»,
«любовь», «организация», «система», «порядок», «круг»,
«радиус», «союз»).
Во-вторых, целое предстает как целостность важнейших
самодостаточных, качественно своеобразных автономных проявлений в
мире и человеке («предел», «средоточие», «мир», «центр»,
«полное»). Особо следует отметить понятие-метафору «предел»,
игравшую существенное значение в формировании представлений о
принципе целостности, месте человека в мире и концепции
свободной воли.
«Всякое творение имеет свои пределы; пребывая в них, все
силы находятся в действии, ибо суть сообразны, сосродны
окружающему сие творение, но, выступая из своих пределов, все,
встречающееся ему, есть противородно, и все силы его суть
недействительны, ибо действуют развратно»1, — напишет Кутузов в
письме Лопухину в 1790 г. Сформулировав этот всеобщий закон в
уже известном в отечественной традиции богословско-философской
1 Письма и дневник. 1780— i 792. С. 32.
148
мысли со времен Климента Смолятича стиле каппадокийской
традиции, Кутузов превратит его в принцип основания концепции
человека. Собственно идея «предела» представляла собой критерий
самоидентичности человеческого существа, на основании которого
появилась возможность рассуждать о «целом человеке» как целом
независимо от идеи эволюции от человека внешнего ко
внутреннему. Участниками сообщества рассматривалась «всеобщность
предела», рамок, в которых всякое существование находит свою
целесообразность (= пользу = цел ое-как-целое), которая занимала их
прежде всего в плане «предела человека», установления границ, в
которых человек существует по истине и способен реализовать
свою сущность.
Именно в контексте этой проблематики в сочинениях деятелей
«мира Новикова — Кутузова» формулировалось представление о
свободе-необходимости существования «целого человека».
В-третьих, целое осмысливается как полезное для человека и
мира. Эта характеристика, формулируемая, например, Шварцем
(«все, что в мире есть, все служит к его (человека — авт.)
пользе...»1) или Новиковым (мир создан на пользу человека; человек
есть «цельность» и польза всех вещей мира) своим основным
элементом «польза (= цель = мир)» служит одной из важнейших
характеристик концептуального элемента «действие» и является
основой этической концепции у Шварца, Сперанского и эстетической
у Одоевского.
Лопухин и Кутузов также сосредоточиваются на «деятельном»
аспекте пользы как «целого». Так речь идет о полезном не только
как «действительном деянии», но и о пользе как мере,
целесообразности существования человека, соответствовании его действий
«истинным намерениям»2. Кутузов, кроме того, обращается к идее
«собственной пользы», формируя на ее основе концепцию заботы
о самом себеу как одного из существенных элементов действия
самотворения и основы рационального поведения в любой форме
активной жизни, стремящейся отвечать принципу «духовной
рациональности».
В-четвертых, целое-как-разделенное. Это находит выражение у
«новиковцев» в идее совмещения в современном человеке как
целом внешнего, разделенного, и внутреннего, собственно целого.
«Разделенность» должна быть преодолена в процессе самотворе-
1 Лекции И.Е. Шварца «О трех познаниях: любопытном, полезном и приятном//
РОРНБ.0.111.Л.51об.
2 Письма и дневник. 1780— 1792. С. 35, 58.
149
ния, который представляет собой последовательность стадий
преображения личности.
2. A.M. Кутузов сводит многочисленность характеристик
человека и его положения в мире к одному определению — как
«существа свободного», то есть пребывающего в «пределе человека» и
занимающего предназначенное ему место по «сродственному
закону» в «целом мире». Во взаимодействии «целого человека» с
миром горним особенно важен момент представления об избранности
«целого человека».
В статье «О достоинстве человека...» Н.И. Новиков
формулирует четыре тезиса: природа человека проистекает от Бога и им
сохраняется; Бог вложил в человека разумную душу; этой разумной
душой, руководствуясь свободной волей, человек сам
«употребляет» свою природу; Бог не сотворил больше ни одного такого же
совершенного существа, как человек: «он поступил как мудрый
строитель». «Богу было бы возможно произвести другие
бесчисленные творения: бесконечно многие иные от нас отменные люди
суть возможны (...) мы должны для... себя великой честию почитать
и тем гордиться, что Бог нас из многих других возможных веществ
в человеков избрал, человеками создал...»
Таким образом, утверждается: 1 ) что Бог, имея в своем
распоряжении бесконечное множество вариантов создания человека,
предпочел сделать именно таким, каков он есть — «образом и
подобием» в качестве целого макропоантропоса и 2) что Бог, имея
возможность допустить в созданном им мире единовременное
присутствие бесконечного множества совершенных существ, счел
необходимым создать только одного человека, превосходящего по
своим качествам все иные творения.
В этом как раз и проявляется идея целесообразной
«избранности» человека перед лицом беспредельных возможностей
сотворившего его Высшего существа. Эта «избранность» должна привести к
возникновению у человека «самоуважения», не переходящего в
тщеславие, и неотъемлемого чувства ответственности перед
Творцом, выдавшем человеку своего рода «кредит»
уникальности-целостности.
Кутузов в своих сочинениях не разделял понятия «свободы» и
«свободы воли», но проявлял, как позже и Сперанский, особенным
образом понимание свободы и свободы выбора.
1 Новиков Н.И. О достоинстве человека в отношениях к Богу и миру//Утренний
свет. 1777. Ч. 1.С.27.
150
Первое состоит в повиновении законам, которые одинаковы и
для натуры, и для «целого человека», и для государства, и для
императрицы — и представляли собой высшую предопределенную
необходимость. Второе состоит в достижении единства желаний для
определения цели в ситуации выбора.
Сочетание свободы воли и свободы выбора состоит в
«избавлении от случайного» и выборе позиции «стоического мудреца»,
который свободен потому, что его желания не противоречат
происходящим событиям. Зная, что произойдет, он ограничивает свои
желания, делает их «предельными».
Так в концепции Кутузова возникает «чистое понятие о
вольности», целостное единство свободы воли, свободы выбора, ожидае-
мости любых событий и принятия их как блага. Последние два
компонента достижимы лишь посредством работы разума, что
существенным образом отличает предел человека от предела других
творений — он есть деятельный предел самотворения. Как раз на этом
основании исчисляется то звено, которое соединяет образы
«целого» и «разделенного» человека.
Осуществляя «чистое понятие о вольности», целый человек,
таким образом, производит творческую работу в своем пределе,
высвобождая необходимость предела в истине как действии и слиянии
«своей» свободы с необходимостью «своего» предела.
3. Вопрос, который в 1787 г. так волновал молодого Карамзина
и который лежит в основе не только пневматологии «новиковцев»,
но и существен для этики сентиментализма и сенсуалистического
материализма: «Каким образом душа наша соединена с телом,
тогда как они из совершенно различных стихий?»1 — решался
русскими философами-мистиками двояким образом.
Человек есть не «соединение», но единство души и тела,
близкое не столько неоплатонической формуле «единство без
смешения» сколько к понятию Парацельса «mixtum», «смешанной
субстанции». Соединение души и тела есть акт мистического действия;
в его результате возникает качественно новое произведение, не
сравнимое ни с миром горним, ни с миром тварным — «целый
человек» в аспекте своей жизни.
«Как при всяком соединении двух вещей бывает также
соединение и сообщение тех качеств, которыми оные вещи одарены и
отсюда происходит нечто третье, которое прежде соединения ни к
одному приложимо быть не может: то же самое происходит и при со-
1 Переписка Карамзина с Лафатером. 1786—1790//Карамзин Н.М. Письма
русского путешественника. Л., 1987. С. 468.
151
единении с телом, ибо происходит оттуда натуральная жизнь,
которой прежде не было»1.
При общности этой посылки содержание «натуральной жизни»
понимается по-разному.
Возникают две «оппозиционные» линии: Шварца — Гамалеи и
Новикова — Кутузова. В первом случае жизнь человеческая есть
«временное наше пребывание на земле... училище или воспитали-
ще, через которое человек способным становится ощутить цель,
для которой он сотворен». Целью человеческой жизни в этом
случае будет смерть, которую Шварц понимает в контексте
интерпретации «метафизики света» Я. Бёме. Смерть в этом случае есть
«...переменение организации или перехождение из одной жизни в
другую»2.
В отличие от Шварца, Новиков, Лопухин, Кутузов, в духе
Аврелия Августина, склонны более к эвдемонистскому определению
жизни как «сокровища»3, которым человеку предназначено
наслаждаться по той причине, что этот мир, а следовательно, и
«натуральная жизнь» созданы Богом для человека и ради человека и есть
совершенны и прекрасны для тех, кто сумел осуществить «чистое
понятие о вольности», проживание себя в своем пределе.
В этом случае в сокровищнице жизни происходит реализация
«единого бытия» (выражение Лопухина) «целого человека» как
человека совершенного.
4. Оригинальная концепция познания на основе решения
проблемы взаимодействия в триаде «дух — душа — тело» была
предложена Кутузовым в письмах к Тургеневу и Лопухину ( 1788 и
1790 гг.)4 и заслуживает особого внимания.
Душа, по Кутузову, представляет собой пространство
внутреннего мира, где происходят все мыслительные процессы и куда
стекаются ощущения. Последние бывают двух видов.
«Первого рода» ощущения представляют собой итог действия
«чувствования». Определение чувственности у Кутузова находится
в контексте классического кантовского понимания апперцепции:
1 Произведения анонимных авторов «Вечерней зари»// Избранные труды русских
масонов XVIII века: Н.И. Новиков, A.M. Кутузов, СИ. Гамалея, И.Г. Шварц, И.П.
Тургенев, И.В. Лопухин и другие.Общество ложи «Лаокоон». [Ташкент], 1996. С. 41.
2 Лекции И.Е. Шварца. Л. 43.
3 Письма и дневник. 1780— 1792. С. 21.
4 Письма A.M. Кутузова И.П. Тургеневу//Лотман Ю.М., Фурсенко В.В. «Сочув-
ственник». А.Н. Радищева, A.M. Кутузов и его письма к И.П. Тургеневу//Учен. зап.
Тартусского госуниверситета. Вып. 139. Тарту, 1963. Письма и дневник. 1780—1792.
С. 61—62.
152
«Способность... получать представления тем способом, каким
предметы воздействуют на нас». Многообразие способов получения
представлений, благодаря разнообразию органов чувств, у Кутузова
определяется одним выражением — «действия внешней
осязательности». В результате этого действия возникает образ предмета,
воспринимая который, душа создает ощущения первого рода.
Эта стадия в наибольшей степени соответствует простым идеям
Дж. Локка, образованным из ощущений на основе вторичных
качеств. Отличие же будет состоять в том, что Кутузов не делает
указание на количество задействованных органов чувств: термин
«осязание», сходный стоическому katalepsis, создает иную ситуацию, где
подчеркивается почти что предметная сила воздействия внешнего
мира и восприятие его как целостности.
Кутузов, размышляя над «целостностью» человека, в итоге
приходит к выводу, что воздействие внешнего мира есть вещь
вторичная в процессе жизненного познавательного самоопределения.
«Не наружность жителей, не кавтаны и рединготы их, не домы...
суть предметы нашего внимания, но человек и его свойства. Все
жизненные вещи могут быть так же употребляемы, но не иначе как
подобия и средства» .
Таким образом, уже на этом этапе концепции становится
очевидным, что автор, стремясь создать собственный опыт, исходит из
двух разных посылок: credo материалистического сенсуализма, где
источником знания о материальных предметах и их качествах
служат ощущения, вступает в соприкосновение с положениями
философского субъективизма образца И.К. Лафатера (1741 — 1801),
швейцарского мистика, с которым состояли в переписке Н.М.
Карамзин и А.И. Тургенев.
«Второго рода ощущения» у Кутузова представляют собой итог
внутренней деятельности души, «возбуждаемой духом» и
действующей изнутри на тело человека. Они не имеют никакого отношения
к предметному миру, они имманентны — их источник сама душа.
Но причина их трансцендентна, «духовна». Кутузов поясняет эту
мысль указанием на то, что «дух человеческий» пребывает как в
человеке, так и вне его2.
Из ощущений первого и второго рода на основе «отвлечений
мыслящая сила составляет знания». Наиболее интересно в этой
стадии познавательного процесса понятие «отвлечения».
1 Письма А.М. Кутузова//Барсков Я.Л. Письма A.M. Кутузова//Русский
исторический журнал. 1917. Кн. 1/2. С. 135.
2 Письма и дневник. 1780— 1792. С. 310.
153
Во-первых, это ментальные конструкции, из которых «разум
зиждет другие знания», иначе говоря — матрицы знаний. Во-вторых,
это элементы, составляющие объектное содержание мыслей.
В-третьих, их производство из ощущений связано с неким
процессом селекции, о котором Кутузов говорит довольно невнятно. Но в
более позднем письме к Тургеневу он употребляет такое
выражение: «схемы и силы наших ощущений»1, которые лежат в основе
«употребления» знаний, а значит, дают возможность понимать
«отвлечения» как своего рода элемент формализации ощущений,
составление схемы. Тогда отвлечения, характеризующиеся как схема,
будут выполнять роль и содержателя формальных условий
познавательной деятельности.
Мыслящая сила, итогом которой являются мысли (скорее
всего, комплексные образования из отвлечений, выполняющих роль
схемы), составляет из отвлечений (как матриц) «...нечто новое,
которое бывает... совсем непохоже на полученное сею нашей силой»2.
Стадия «составления», присущая и простым идеям Локка,
возникающим из рефлексии и ощущений, с большей степенью
вероятности коррелируется с качественным сопоставлением-сравнением
Кондильяка.
Мыслящая сила, которая, собственно, и есть разум,
производит «новое»: под этим термином подразумеваются знания человека.
По «линии отвлечений» (в значении матрицы знаний и
формальной схемы) и по «характеру пользования» знаниями проходит
граница между людьми.
Человек, по Кутузову, в своем развитии переживает три
стадии — в обратном порядке: знания находятся в «едином порядке»,
знания «выстроены в несколько цепочек», знания «лежат кучей».
Последняя стадия представляет собой продукт незавершенного или
неудавшегося процесса «составления» отвлечений.
5. В среде философов-мистиков «мира Новикова — Кутузова»
сложились по крайней мере три способа размышлений о процессе
самотворения: ритуально-символический, мистико-символический,
философско-символический.
Структурно-смысловые границы этой проблемной области
лучше всего выразить посредством мнений Шварца и Кутузова в тех
случаях, когда они собственно размышляют о итоговых целях
действия самотворения.
1 Письмо А.М. Кутузова//Лотман Ю.М. Неизвестное письмо А.М. Кутузова И.П. Тур-
геневу//Учен. зап. Тартусского госуниверситета. Вып. 209. Тарту, 1968. С. 139.
2 Письма A.M. Кутузова И.П. Тургеневу. С. 312.
154
Первый писал, что «конечному существу возможно дойти до
такого совершенства, что осуществится подробное понятие о целом
мире»1. Здесь выражение «подробное понятие о целом мире»
имеет три важных значения: 1) достижение совершенным человеком
истины в ее онтологическом статусе; 2) достижение такой стадии на
пути «возможного совершенства», когда действие познания будет
тождественно собственно истинному знанию, то есть — на что
указывал автор «Рассуждения о бессмертии души»2 — будет пройден
путь познания априорных истин («опыт вероятностных
доказательств»), данных в откровении, и на смену герменевтической
операции «интерпретация» придет полное (целое) понимание всего
сущего; 3) кроме того, здесь скрыта и присущая европейской мистике
доктрина симпатии, герметическое учение о сугубом тождестве
процессов в природе и человеке. Поскольку преобразится человек,
постольку преобразится и мир — гармонично и разумно, безо всякого
насилия.
Мнение Кутузова состояло в том, что «общей целью» человека
должно быть «...познание самих себя и Бога вкупе с достижением
добродетели и покоем»3. Два последних элемента предполагали
установление в постранстве души «чистого понятия о вольности»,
которое в силу того, что совершенный человек принадлежит
онтологическому статусу истины как целого, совпадает с состоянием
автаркии, самодостаточности, благодаря чему человек, как «мик-
ротеос», не нуждается ни в чем, кроме самого себя, и становится
существом, готовым трансцендировать в себя остальной мир.
Вообще эта позиция будет в большей степени присуща Шварцу или
Лопухину, у самого Кутузова растворившись в состоянии
«внутреннего спокойствия», атараксии, которое состоит в телесном и
духовном наслаждении «всеми истинными благами» и «спокойствием и
тишиною духа». Эти два душевных состояния вступают в
противоречие. Первое олицетворяет собой творческое начало, второе —
состояние покоя. Разрешение этого противоречия Кутузов находит
в выражении «разрушение благополучия», что должно «оттеснять
покой» и переходить в деятельность самотворения.
Дополняющие друг друга соображения Шварца и Кутузова по
сути дела и составляют основные принципы действия самотворения
как факта внутреннего опыта и стратегии деятельности.
1 Фрагменты из произведений И.Г. Шварца//Избранные труды русских масонов
XVIII века... С. 52.
2 Рассуждение о бессмертии души//Вечерняя заря. Ч. 1. 1782. С. 54.
3 Письмо A.M. Кутузова. С. 118.
155
Итак, задача действия самотворения в «коллективном
произведении» «мира Новикова — Кутузова» заключалась в сотворении
целого (истинного, совершенного) человека. Он как существо
естественное, то есть находящееся в базовых «пределах» мироздания,
должен был осуществить ненасильственное преобразование
окружающего мира.
В действии самотворения, как идеально-теоретической модели,
представляется возможным выделить пять стадий: 1) «преуготовле-
ние» — предварительный этап, присутствующий в сочинениях всех
без исключения членов «мира Новикова — Кутузова», но
получивший различные интерпретации; 2) «уединение», заключающее акт
«познания самого себя»; 3) «самоотвержение», наилучшим
образом и на достаточно высоком теоретическом уровне описанная
Лопухиным; 4) «преображение», как итоговая трансформация
пространства души и возникновение «нового», присутствующая в трех
вариантах — реализация «креста внутреннего» у Лопухина,
отчасти Гамалеи, «восполнение» у Кутузова, Тургенева и Хераскова,
«переменение организации» в рамках концепции метафизики света
у Шварца, отчасти Гамалеи; 5) осуществление внутреннего
(истинного) человека в реальном мире.
Стадия «преуготовления» получила наиболее полное и
концептуально завершенное выражение у двух авторов «новиковского
круга» — Шварца и Кутузова.
Для Кутузова «преуготовление» имеет четыре основные цели:
достижение спокойствия перед будущим; достижение меры между
состояниями счастия и несчастия; «строгое исследование самого
себя», своих жизненных потенций и силы воли; «снискание
свободы». Общее основание действия «преуготовления» автор
формулирует таким, кстати сказать, антикьеркегоровским образом: «Я
нахожу тесную связь между временностью и вечностью и думаю, что
цепь всецелого непрерывна» и «Временность есть земля,
человек — деятель, деяния — семена, а будущее — плоды». При этом,
несмотря на библейский пафос в мотивации действия, само по себе
оно является разовидностью прогностики, перспективного анализа
возможных жизненных ситуаций.
Собственно, итогом первых трех этапов действия
«преуготовления» является «...уничтожение всех случайностей, не
принадлежащих истинному существу человека». Под этим подразумеваются
состояния счастия и несчастия, предвосхищение и воображение,
страх перед будущим и пр., то есть все частные чувственные моти-
156
вы. Отделяя себя от них, человек «избегает умножения своей
сущности» и в этом освобождении от случайного происходит своего
рода «ориентирование» его души на «снискание свободы».
Проблема «преуготовления» — это проблема рационального
как одного из высших родов познания. В этом положении
угадывается чрезвычайно сильный «стоический» мотив, связанный с
концепцией мудреца.
«Преуготовленный» человек, по Кутузову, есть человек
деятельно ориентированный на понимание того, что свобода от
внешних обстоятельств возможна только в достижении «чистого понятия
о вольности», которое есть добродетель.
Совсем иначе к пониманию стадии «преуготовления» подходит
Шварц. Для него оно, по сути дела, тождественно всей земной
жизни и включает в себя: всю сумму «опытов добра и зла», через
которую должен пройти человек; этап «просвещения»,
содержащий в себе действие познания натуры, наук, искусств,
самопознания (т.е. понимания опытов добра и зла) и предварительного,
насколько это возможно в тварном мире, избавления от «скверны».
Вероятно, наиболее точно сущность шварцевского понимания
«преуготовления» можно выразить словами автора «Рассуждения
о бессмертии души»: «главная проблема будущего — вопрос
бессмертия».
Стадия «уединения» рассматривается как двоякий процесс —
уединение «внешнее», что чаще всего отождествляется с «мнимым
покоем», и уединение «внутреннее».
Кутузов и Лопухин рассматривают уединение, то есть такое
состояние пространства души, чьи предпосылки сформировались на
стадии «преуготовления», как особого рода мистико-символический
топос, «нравственную больницу». Это место, где посредством
направленности к «истинному средоточию» (истине как действию),
посредством многочисленно повторяющихся духовных упражнений
(молитва, благотворительность, деятельность на благо отечества),
возможно изживание порока и создание условий, необходимых и
достаточных для достижения добродетели как «чистого понятия о
вольности».
Эта стадия имела весьма мало общего с просветительской
«робинзонадой», но была близка идеалам монашеского общежития,
киновии.
«Анахорет, — замечал Лопухин, — по собственному плану
таковым сделавшийся, есть тунеядец... и безвинно может удалиться
от общества только тот, кто сие может сделать, не наруша ни еди-
157
ного обязательства с оным» . Уединение может быть оправдано
лишь как этап действия самотворения. Человек, тем более
«истинный человек», не может не иметь обязательств перед обществом и
по завершению своего преображения и в силу «истинной
вольности» должен снова возвратиться в него. Эта идея будет переосмыс-
ленна и Сперанским, и Одоевским.
На стадии «уединения» человек переживает последний из
подготовительных этапов, предшествующих стадии «преображения» —
этап «самоотвержения».
По Лопухину и Гамалее, этот этап заключается в истреблении
(«умертвлении») через «пособие духа любви» внешнего «ветхого»
человека. Для описания этого процесса Гамалея использует два
термина — собственно «самоотвержение» и «смирение».
Концепция Лопухина, имеющая свой исток прежде всего в идеях Фомы
Кемпийского, более интересна.
Стадия «самоотвержения» включает в себя два этапа —
«глубокое самоотвержение» и «отвержение самого самоотвержения».
Собственно оба этапа имеют одну и ту же цель —
способствовать «таинственному умерщвлению... греховного человека»2, что
понимается как избавление от собственности, что есть собь,
«случайности», отягощающие жизнь. Второй этап — «отвержение
самого самоотвержения», состоит в том, чтобы избавить
очищающегося человека от соблазна «самоуслаждения», когда — в зримом
пафосе принесения жертвы самотворения — возникает опасность
к обретению в собственность самого процесса «самоотвержения».
Речь шла о том, что в самообновляющейся натуре человека, или,
пользуясь терминологией Лопухина, в которой он совпадает с
митрополитом Платоном, в «смиренной крестом натуре», происходит
таинство зачатия нового небесного человека.
Четвертая стадия — самотворения — итоговая трансформация
пространства души и возникновение нового — существовала в трех
основных проектах (Лопухин, Кутузов, Шварц).
Для Лопухина итоговая трансформация человеческого
существа есть акт единовременного мистического действия. Своего рода
чудо, когда прежний человек «растопляется... и изглаживает
нечистоту свою» и на его месте происходит рождение духа, души и тела
Лопухин И.В. Некоторые черты о внутренней церкви, о едином пути истины и о
различных путях заблуждения и гибели с присовокуплением краткого изображения
качества должностей истинного христианина. СПб., Печат. в Имп. тип., 1798. С. 42.
2 Лопухин И.В. Некоторые черты внутренней церкви... С. 42.
158
«прозрачной светлости» нового человека. Единовременность,
практическая моментальность заключительного акта связана с тем, что
«духовное семя» открывает в «преуготовленной» душе мистический
центр, место, где происходит совмещение внутреннего мира
человека с «Царством Божьим»1. Речь идет о том, чтобы в пространстве
«мирского» обнаружить точку (у Лопухина, Гамалеи, Кутузова,
Сперанского — это сердце), через которую возможен переход в
пространство «священного».
Заключительным этапом этого процесса, совмещения с
Царством Божьим, является этап «изживания своего Я, образа
самости»2, всего того «случайного», что составляет индивидуальные
свойства человека.
Кутузов, применяя для характеристики действия
«преображения» термин «восполнение», подчеркивает его библейский
контекст («восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых»:
Кол. 1:24; Притч. 22:8; 2 Кор. 8:14). Дело состоит в том, что
необходимо «восполнить свои несовершенства и ограниченность своих
сил»3, которая все равно будет ощущаться даже в
«преуготовленной» душе, актом сверхестественного события — силой Духа,
«преображающей» внутренний мир человека. Временные границы
этого акта у Кутузова не определены — они могут занять время,
сравнимое с жизнью многих поколений людей.
В варианте Шварца процесс преображения связан со смертью
человека. Это есть «переменение организации», переход из одной
жизни в другую, когда человек очищается от «мертвенности» с
помощью «средства, данного нам» (последование жизни Христа) для
того, чтобы свое телесно-материальное и душевно-телесное
преобразовать в «вечную и нетленную материю света»4. Причем Шварц
особо указывает на действие своего рода закона сохранения
материи: «материя света» как потенция содержится в «материи
костей». Дело состоит в том, как и каким образом она освободится в
момент смерти. Эта тема впоследствии будет интересовать
Одоевского в рамках его натурфилософской «новой науки», когда он в
разных текстах говорит о «произведении вещества от невеществен-
1 Лопухин ИВ. Некоторые черты внутренней церкви... С. 55—76.
2 Там же. С. 53.
3 Письма и дневник. 1780— 1792. С. 211.
4 Лекции И.Е. Шварца... 44 об.
159
ной силы»1 или, в духе Л. Окена (1779—1851), рассуждает о
способности электричества превращать одно тело в другое.
Собственно во всех трех вариантах «преображения» авторы
исходят из мысли, что обращение человека существует в форме
разрыва и изменения внутри собственного «Я» и представляет собой
род транссубъективации.
Для Шварца бытие личностно само по себе в силу того, что,
как писал Бёме, «Лишь во Христе Бог существует как личность».
Но при этом под термином «Я» он понимает душу человека как
целое, где происходит работа по преображению внешнего человека во
внутреннего. Два эти состояния есть стадии одного процесса, части
одного Я, где внешний человек истребляется как целое, а
внутренний рождается и развивается как целое внутри целого.
В этом контексте Шварца больше всего интересовало
изменение «целого» человека, нежели эволюция его
личных-индивидуальных качеств. Это изменение целого в концепции автора связано с
тремя энергийными состояниями «преображаемого» человека: 1)
началами «света натуры», что есть «истинная potentia activa,
делающая человека магом», «истинным знатоком натуры» — стадия,
которую вполне можно обозначить как герметическую; 2) началами
«света душевного». Это — «influentia divina», почти что свет
Фаворский — обладать им может только «истинный христианин»,
стадия ареопагитская; 3) началами «света божественного». Это —
состояние истинного человека. На этой стадии преображения, что
есть попытка построения персонального мира в стиле Бёме,
человек может «беседовать с Богом как с другом» и ему доступно
пребывание в онтологическом статусе истины как целом2.
Высшая стадия преображения у Шварца есть, таким образом,
стадия усвоения нового, такого изменения структуры субъекта, что
«сливает» его с объектом, отождествляет с состоянием Высшего
существа и дает возможность ощутить божественность как
естественное состояние «целого человека». Можно утверждать, что
Шварц видел в этом «слиянии» состояние полной самодостаточо-
сти — такое совершенство, которое уже не нуждается ни в какой
актуализации, поскольку — в силу целостного совершенства —
само есть и субъект, и объект, и предикат, и мир в целом.
1 Одоевский В.Ф. Фрагменты отдельных произведений «петербургского
периода »//Одоевский В.Ф. Русские ночи... С. 551.
2 См.: Разные замечания покойного Шварца//РО РНБ.0.112. Л. 6 об. — 7 об.,
10—Юоб.
160
Для Кутузова и анонимного автора «Рассуждения о бессмертии
души» дело обстоит иначе. Кутузов, определяя эволюцию состояния
целого человека, склонен использовать «просветительскую»
триаду, связывая состояние души со степенью упорядочивания
знаний — в беспорядке, выстроены в цепочки, в единстве.
Последнее состояние, в силу своей колоссальной ценности,
сравнимой с состоянием «предбожия» у Фомы Кемпийского, ни в
коем случае не должно быть утеряно. Оно ценно именно как
достояние определенной личности. Подобное состояние, в отличие от
шварцевского тоталитаризма, в значительной степени усиливает
аспект личностной самоценности и подчеркивает значение ее
грядущей актуализации.
Третий путь избирает Лопухин. «Изживание самости» для него
есть уничтожение индивидуальных качеств человека. Внутренний
человек есть личность нового порядка — это место встречи
человека и Бога. Царство Божие — центр, где, по Лопухину, зарождается
«таинственное человечество Христово»1, единство личностей,
избавившихся от случайностей индивидуального, где возникает одна
сверхличность, обладающая сверхличностным бессмертием, и она
есть по сути дела Богочеловек. Личность же человека (так, как она
понималась бы, исходя из «целого»человека) как таковая
практически самоустраняется. По сути дела у Лопухина имеет место
строительство такой самодостаточной Личности в самодостаточном
месте, где происходит трансформация этого образования в новую
сверхиндивидуальность, супермонаду, пытающуюся трансцендиро-
вать в себя мир.
Таким образом, в рамках «коллективного произведения»
философской антропологии мыслителей «мира Новикова—Кутузова»
присутствовало три основных варианта представлений о
«преображении» человека:
— выраженное И.Г. Шварцем, для которого в процессе
самосовершенствования происходит такое изменение внутренней
жизненной среды «разделенного» человеческого существа, благодаря
которому осуществляется достижение онтологического статуса
истины как целого, отождествление с Высшим существом и
«закрытие» человека в своем новом, ставшим имманентным, внутреннем
сверхсущностном пространстве. Достижение такого уровня
самодостаточности, по отношению к которому внешний мир есть
акциденция и не есть даже объект воздействия;
1 Лопухин ИВ. Некоторые черты внутренней церкви... С. 11.
11-6016 161
— выраженное И.В. Лопухиным, для которого в итоге
«преображения» на место самоустраняющейся человеческой личности
приходит такая самодостаточная сверхличность, которая в силу
своей совершенной целостности имеет дальнейшей целью своего
развития воплощение в себе всего наличествующего бытия;
— выраженное A.M. Кутузовым, для которого в итоге
«восполнения» человеческих несовершенств до уровня целостности
истинного личного подобия Божеству возникает самоценная личность, в
которой индивидуальное сочетается с универсальным и которая
необходимо стремится к воплощению в «тварном» мире.
Последние две модели действия самотворения составляют
основу социально-антропологических взглядов «новиковцев» и
воплощаются в виде процесса актуализации «истинного человека» во
внешнем мире. Реализация совершенства «истинного человека» в
предметном мире оценивалась мыслителями «мира Новикова —
Кутузова» в большей степени как акт эйтопического, движение к
«блаженному месту» и оказала решающее влияние на
формирование историософских представлений.
Философско-мистические взгляды М.М. Сперанского:
«полное бытие» и его коммуникация
М.М. Сперанский (1772—1839), выходец из народа, выпускник
Александро-Невской семинарии, впоследствии русский министр,
граф, реформатор, законодатель, талантливый политический
стратег, получивший от своего современника парадоксальную оценку и
как «Гения Блага»1 и как «popovitch turbulent et ignare» (попович,
невежественный и суетливый), что можно счесть за приговор всей
«пушкинской эпохе». Тем не менее Сперанский оставил после себя
блистательные плоды философской мысли — и ее осмысление
ныне привлекает все большее число исследователей2.
1 Дневник Пушкина. 1833— 1835//Дневник A.C. Пушкина. 1833—1835. М.,
1997. С. 12.
2 Отметим здесь только две наиболее интересные работы: В. Гердта, впервые
совершившего комплексный анализ философских воззрений Сперанского как
провозвестника «теории коммуникации» и первого в России аксиолога (Geordt W. Russiche
Philosophic Grundlagen. München, 1995. Verlag Karl Alber, Freiburg/München, 1995.
S. 131 —132), и И.Д. Осипова, оценившего философские взгляды Сперанского с точки
зрения выявления в них преемствующих друг другу онтологических, гносеологических и
этико-политических аспектов (Осипов ИЛ. Философия русского либерализма:
XIX — начало XX в. СПб., 1996. С. 20—40).
162
Его философская концепция характеризуется тремя основными
положениями. Во-первых, принадлежность Сперанского к
парадигме, как это называет П.П. Гайденко, «метафизики
относительности»1, или « функционал истской онтологии»2, что рассматривается
в качестве одной из главнейших характеристик философии эпохи
Нового времени.
Во-вторых, учение философа существует в контексте
европейской мистической традиции Средних веков и Нового времени.
Сперанский, впитывая в себя итоги деятельности философско-мистиче-
ской традиции за предшествующее тысячелетие, во многом через
посредство «мира Новикова—Кутузова», под узнаваемым и
парадоксальным влиянием Фихте, Шеллинга, Симеона Нового
Богослова и исихастских мотивов создает свою оригинальную философ-
ско-мистическую концепцию.
В-третьих, пристальное внимание русского философа к статусу
человека в бытии.
1. Для Сперанского ключевой идеей построения философской
концепции является идея «целого», представленная таким образом,
чтобы, с одной стороны, показать его внутреннюю динамику
сохранения-развития в частях, с другой стороны, обнаружить такие его
свойства, что позволят отличить от него «разделенное», то есть
«тварный» мир. Для Сперанского эти построения воплощаются в
понятии «бытия полного», которое, в свою очередь, может быть
выражено понятием «нравственного мира». Сперанский
разворачивает свое понимание всецелости мира посредством четырех
уровней бытия3: предсущественного, абсолютного и всеобщего бытия
в Боге-Отце; существенного, бытия в «общем союзе» в Сыне Бо-
жием, откуда берет свой исток концепция «первоосновных союзов»
как коммуникационной сети, наброшенной на мир; мысленного,
или суетного, источник которого внутри человека; явленного,
абсолютно разделенное, отстоящее от трех первых уровней и
имеющее основу даже вне человека. Причем каждый уровень бытия
имеет свои «пределы».
«Пределы» у Сперанского есть фундаментальное отношение —
категория, ради которой существует человек. Есть пределы
нравственного мира, и их нарушение, как и нарушение «пределов челове-
1 Гайденко П.П. Волюнтативная метафизика и новоевропейская культура//Три
подхода к изучению культуры/Под ред. В.В. Иванова. М., 1997. С. 73.
2 RombachH. Substanz, System, Struktur. München, 1965. Bd. 1. S. 162.
3 Сперанский M.M. Бытие предсущественное, существенное, суетное, мыслен-
ное//ОР РНБ. Ф. 731. Ед. хр. 629.
и*
163
ка», приводит к глобальному кризису идентичности и
«расторжению первообразных союзов», то есть к разрушению всеобщей
коммуникативной сети и, вероятно, целого-как-целого. Но есть и
пределы, которые следует разрушать. И это относится к ограничениям
сферы «отдельного бытия», возникшего в итоге первогреха.
2. В философском мире Михаила Сперанского бытие следует за
действием: чтобы стать бытием, над сущим должно быть
произведено действие «сравнения» или «уравнения». «Есть», пишет
Сперанский, равнозначительно выражению: «я сознаю равенство двух
сущих»1, что значит сделать их бытийствование процессом
нравственного мира, преодолеть их разорванность, «узреть» в них целое,
то есть составить их в действии «нравственных сил», основы
божественной деятельности.
Мир Сперанского — это система взаимодействия
постоянных и релятивных величин, континуальных и дискретных процессов,
которые образуют целое мира. Из фундаментальных величин
особенно важны четыре: «предел», «правда», «союз», «долг», чья
процессуальность осуществляется в «нравственном» мире и
является деятельностью восхождения к «предсущественному» бытию,
то есть абсолютному целому. Несмотря на то что первые три
категории представляются более масштабными и универсальными,
именно последняя — «долг» — в полной мере способна передать
«расстановку сил» в концепции Сперанского и продемонстрировать
соотношение целого и человеческого.
Человек в этом мире есть система барьеров, мембран,
фильтров для разделения и упорядочивания системы взаимодействия
целого, многочисленных сил-действий мира (физических, умственных,
нравственных, где последние распадаются на силы воли и силы
совести, существующие сами по себе и сталкивающиеся в человеке).
Человек это не только арена борьбы бытия «устроенного», то есть
гармонично-объединенного и «хаотического»^ возникшего после
первогреха как беспредельно-разделенное, и «В нем все кипит
жизнью отдельного, все хочет быть для себя, всем повелевать,
никто никому не подчиняется, все враждуют и злобствуют»2. Человек
еще и такое средство для сил целого, с помощью которого «мир
физический проходит к одухотворению. Без него он вечно был бы
осужден быть миром вещественным»3.
1 Сперанский М.М. Быть и существовать//РО РНБ. Ф. 731. Ед. хр. 617.
2 Сперанский М.М. Бытие хаотическое и созданное//РО РНБ. Ф. 731. Ед. хр. 631.
3 Сперанский М.М. Философия// РО РНБ. Ф. 731. Ед. хр. 625.
164
3. Нравственный мир у Сперанского есть то, что,
воспользовавшись словами В.Ф. Одоевского, называется «основанием всех
оснований». Если в умственном и физическом мирах вещи лишь
существуют в своих явлениях, то в нравственном они бытийствуют.
Нравственный мир, или «бытие нравственное», находится в
состоянии гармонической определенности, неразличия, сообщаясь с
«хаотическим» бытием с помощью человека. Именно в итоге этого
сообщения возникают три уровня нравственного мира: «бытие
отдельное», где господствует самолюбие и личность, «бытие
союзное», или «полное», где господствуют любовь и общение, «бытие
срединное», где осуществляется соединение первого и второго
уровней.
Первый уровень есть стадия предельного различения,
возникшего в итоге первогреха. Второй — стадия «неразличного»,
трансцендентный идеал, к которому должен стремиться тварный мир и
который через человека выражается в идее предела, нравственного
и естественного закона. Причем автор этого философско-мистиче-
ского проекта особо подчеркивает, что в «нравственном мире нет
деяний средних», только те, что там возможны (абсолютно
нравственные с точки зрения этого мира), либо те, что там невозможны и
оцениваются для мира человека как «худая нравственность»1.
Третий уровень нравственного мира — собственно мир
человека, различения неразличия, характеризуемый Сперанским в
стиле парацельсовской mixti, смеси, как «смешение из обоих»2, то
есть двух первых уровней, где реализуется «союз взаимопомощи»
между отдельными личностями и именно этот мир есть основа для
политического законотворчества в историческом
пространстве-времени.
Уровень «отдельного» нуждается в преображении, и оно может
быть осуществлено через преодоление «личного». Концепцию
преодоления Сперанский называет «восходящим путем
совершенствования»3 и обосновывает как процесс «освобождения» отдельного
бытия от его пределов, что само по себе значит движение к
«полному», неразличному бытию. Осуществить это может только
человек в итоге трех этапов: 1) очищение и «приготовление» ума и
1 Сперанский ММ. Руководство к познанию законов. СПб., 1845. С. 3.
2 Сперанский ММ. Понятие добра и пользы//Катетов И.В. Граф М.М.
Сперанский как религиозный мыслитель. Казань, 1889. С. 348.
3 Сперанский ММ. Бытие полное, ограниченное, союзное и отдельное//РО РНБ.
Ф.731.Ед.хр.627.
165
сердца, в том числе и с помощью молитвы; 2) суд над собой как
реализация долга; 3) событие мистического озарения, или «прямого
общения с Богом».
Второй этап является, пожалуй, самым важным. Он происходит
как динамичное пространственно-временное образование, где,
словами Я. Бёме, осуществляется «умерщвление своего Я», но не ради
уничтожения, а чтобы «насладиться покоем в самом себе»1. Этот
процесс происходит как актуализация с помощью человека всей
«полноты» нравственного мира, как выполнение долговых
обязательств.
4. Уровень «полного», или «союзного», бытия есть по сути дела
сфера нравственного мира, где все сущее находится в процессе
континуальной коммуникации, а коммуникативным фактором
является «правда» как ипостась божественного. Полное бытие состоит
из трех «союзов»: 1) человека с самим собой, что предполагает
трансцендентное единство настоящего и прошлого, временного и
вечного, и возникновение, таким образом, в этой темпоральной
определенности структуры трансцендентального «Я» — и это в
большой степени схоже с «искусством стягивать» время Мейстера Эк-
харта, но у Сперанского никакого «временного разрыва» и выхода
в вечность здесь не возникает; 2) людей друг с другом, где автор
настаивает на том, что человек — это только составная часть
человечества, личное есть лишь девальвация общего и «чем больше
человек отходит от себя и погружается во всеобщее, тем он
честнее... то есть свободнее»2; 3) людей с Богом как всеобщим
коммуникатором нравственного мира самого по себе.
Эти три уровня «коммуникативного действования» порождают
три соответствующих обязанности, которые Сперанский называет
«обязанностями первородных союзов» и их «сохранение» и
«укрепление» является долгом человека. Причем исполнение этого долга
есть «предустановление»3 человека на земле.
5. Долг, понятый как сохранение и удержание коммуникативной
сети нравственного мира, то есть, по сути дела, целостности
(пределов) целого-как-целого, есть лишь выражение своего рода эти-
ко-онтологического принципа. В соответствии с ним существует вся
сеть коммуникаций — она создается им, сохраняется им и сам этот
1 Бёме Я. Christosophia, или Путь ко Христу. СПб., 1994. С. 145.
2 Сперанский ММ. Честь и свобода одно и то же//В память графа М.М.
Сперанского ( 1772— 1871 )/ Под ред. В.В. Бычкова. СПб., 1872. С. 789.
3 Сперанский ММ. Руководство к познанию законов... С. 2.
166
принцип служит источником любого действия в ней, что у
Сперанского выражается метафорической категорией «правда».
Действительно, она есть: 1) основание нравственного порядка; 2) «правда
совести», то есть то, на основе чего производится оценка (суд)
соответствия деяний человека долгу перед первородными союзами;
3) сила творения, что способна переводить «существующее»,
отдельное в «бытийствующе», «полное», взаимодействующее,
коммуникационное в порядке сравнения; 4) сила преображения. «Правда
уравнивает две силы противоположные: личность и общение,
самолюбие и любовь, и потому-то она называется aequum»1. Действие
«уравнения» здесь есть то, что в заметке «Быть и существовать»
Сперанский называет «сравнением». Это лишение сущего его
«отдельности» и перерождение в элемент нравственного мира. И в
этом перерождении создается «неразличие», не просто совмещение
характеристик противоположных миров, отдельного и полного, а
именно поглощение первого во втором, ради чего автор использует
термин-метафору «aequum» — это и «правда», и «ровное
место»; 5) регулятор внешних и внутрених сил, которые борются в
человеческом мире, «смешанном бытии», или, как это называет
сам Сперанский — «посредник истинного примирения»; 6)
сила, охраняющая союзное бытие от «вторжения» бытия личного;
7) «высший и всеобщий нравственный и естественный закон» —
универсальный предел и источник всяких добродетелей и, наконец,
8) это такое событие иерофании, проявления священного в мире
человека, откуда берет свой путь «лестница нравственного
достоинства».
6. Тогда долг человека в этой нравственной коммуникационной
сети будет строиться в иерархии трех уровней: 1 ) долг,
реализуемый в «смешанном бытии», то есть в историческом
пространстве-времени мира, и заключающийся в долге законам, что
уплачивается повиновением, долге этическом, что выплачивается «вкусом»,
и долге истине, который осуществляется деяниями в «пределах
разума»2. Здесь раскрывается понимание, что «высшая степень
свободы — сковывать себя»3 и есть исполнение долга как общественного
закона, сохранения в пределах, и путь к государственному
устройству, обозначаемому как «истинная монархия»; 2) долг, в соответст-
1 Сперанский ММ. Руководство к познанию законов... С. 5.
2 Сперанский ММ. Свобода//В память графа М.М. Сперанского... С. 871.
3 Сперанский ММ. Свобода, произвольная неволя//РО РНБ. Ф. 731. Ед. хр. 694.
167
вии с которым человек является средством осуществления всей
полноты «правды» как всеобщего нравственного закона; 3)долг, в
соответствии с которым человек должен следовать по пути
нравственного совершенствования к «прямому общению с Богом».
7. Событие мистического озарения как «прямого общения с
Богом» у Сперанского есть экстремальный выход не только из
тварного, различающегося мира, но, вероятно, и
непосредственный трансцендентный скачок в область божественного мрака. При
этом «коммуникационная сеть» нравственного мира не
разрывается, как в исихастском деянии обожения, но скорее,
«вытягивается» вслед за деятелем так, как это выглядит в традициях немецкой
спекулятивной мистики. Так же выглядит и сам процесс
мистического озарения у Сперанского: его ход, онтологизация созерцания
выполнены действительно в манере Григория Паламы. Тогда как
его итоги, спокойная констатация «состояния благодати» более
напоминает «веру в достигаемое спасение» немецкого мистика
Себастиана Франка (1499—1542). Действительно, у
Сперанского, вслед за напряженным провалом в «сумрак веры» неожиданно
следует не прикосновение к нетварному, то есть к Творцу
вечности, к Богу, но всего лишь состояние прикосновения к вечности,
звучание «внутреннего слова» как «состояние благодати». Тогда
трансцендирование здесь не достигает трансцендентного, но лишь
полагает его.
Процесс мистического озарения у Сперанского, как он описан
в письме к Ф.И. Цейеру1, осуществляется в четыре стадии: 1)
установление интенциальности персонального мира, то есть
волюнтаристский акт, когда свободная воля на пути освобождения от
пределов ограниченного, хаотического бытия переживает отказ
человека от всех других стремлений и «кротко держится за
представление о Боге»; 2) переход от «молитвы умной», рефлексии,
рассуждения о Боге к «созерцательной молитве», образу
заключающегося в человеке Царства Божьего, внутреннего слова; 3)
эскалация созерцания как процесса трансцендирования, то, что
Григорий Палама называет «разумение сверх ума»2, когда в
персональном мире идет процесс самоуничтожения уже не только
«внешнего», но и, как у Экхарта, «внутреннего»; 4) онтологиза-
1 Сперанский ММ. Письма к Ф.И. Цейеру // Русский архив. 1870. Т. 8. № 1 —3.
Стлб. 176—177.
2 Григорий Палама. Триады в защиту священнобезмолствующих/Пер. В. Венья-
минова [В.В. Бибихина]. М., 1995. III, 1, 36.
168
ция созерцания как достижения трансцендентного места, «ничто»,
«вступление в сумрак веры».
Это последнее есть такое место «ничто», где мистик занимается
тем, как говорит Сперанский, что «ждет всякого света непосред-
стивенно свыше и, если упорствуешь в этом ожидании, то свет
нисходит и Царствие Божие раскрывается». И здесь этот путь
внезапно обрывается. Создается впечатление, что хотя «двери отверза-
ны», русский мистик не решается войти в них, ограничиваясь
только состоянием, как прикосновением к неразличию неразличия. Не
решается, или не может — для этого необходимо освободиться от
неразличного, то есть, в терминологии Сперанского, от
«нравственного мира», так как это делает Экхарт, когда производит
«уничтожение Бога», прежде чем достичь «глубины глубин».
Сопротивление нравственного мира, возвращающее
испытавшего прикосновение благодати опять в «срединное бытие»
(человеческий мир), имеет еще и тот смысл, что такой путь
индивидуального спасения, как разрыв в тварном времени-пространстве с точки
зрения «целого», не есть полное исполнение человеческого долга.
Человек, в силу первогреха, ответствен за целое-как-целое,
следовательно, он должен рассчитаться за кредит на всех уровнях
нравственной коммуникационной сети — принести пользу в своем
отечестве, затем способствовать реализации универсального закона
правды и только потом, обладая погашенной долговой квитанцией,
выполнить последнее обязательство перед всеобщим и — во имя
целого — в преображении отказаться от самого себя.
Таким образом, у Сперанского возникает концепция
преображения человека ради целого, что заключается в исполнении
нравственного долга перед бытием и последовательном изживании своих
индивидуальных особенностей. И эта идея, идея жертвования
собственным ради коллективного, как показал прошедший век,
обладает не менее высокой энергетикой, часто понимаемой превратно и,
возможно, рассуждая о проблеме глобализации, до конца еще не
реализованной.
Подводя итоги этой главе, следует заметить, что усилиями
деятелей «мира Новикова — Кутузова», наследующих им М.М.
Сперанского и В.Ф. Одоевского европейская философская мистика
получает в отечественной философской мысли собственное
автономное существование, с одной стороны, продолжая целостность
мистической традиции, как одно из оригинальных ее сообществ, а с
другой — превратившись в явление, имманентное русской культур-
169
но-языковой среде, развивающееся особым образом, независимым
от матрицы. Это значительным образом окажет влияние на
формирование философской позиции B.C. Соловьева и приведет к тому,
что в первой половине XX в. возникнет одна из вершин
европейской философско-мистической традиции вообще — проект
«антиномического монодуализма» С.Л. Франка и экзистенциальная
диалектика H.A. Бердяева.
Часть II
РУССКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ
В XIX—XX ВЕКАХ: ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
И СООБЩЕСТВА
Глава 7
П.Я. ЧААДАЕВ
Идейные источники,
взаимоотношение религии и философии
Петр Яковлевич Чаадаев (1794—1856) — один из самых
известных русских мыслителей 30—50-х годов XIX века, хотя
большинство из написанного им увидело свет лишь после его смерти.
Его философии присущ профетический, то есть пророческий
характер, он настойчиво проповедовал свои идеи, которые вызывали
ожесточенные споры.
И до сегодняшнего дня для одних П.Я. Чаадаев —
«родоначальник освободительного движения»1, борец против русского рабства2,
человек, который поднялся над борьбой западников и
славянофилов3, отец русской философии XIX — первой половины XX века4,
для других — «историософия Чаадаева — не от великого гнева,
порожденного великой любовью, а от великого презрения0, его
интерпретация истории враждебна и чужда русскому национальному
духу»6. Подобный разнобой определяется и непоследовательностью
мысли П.Я. Чаадаева, и субъективной позицией авторов,
анализирующих его идейное наследие. Все дело в том, что «басманный
философ» не остался только в прошлом: его идеи и сейчас для одних
служат призывным знаменем, для других — символом русофобства.
1 См.: Кантор В.К. Имя роковое: Духовное наследие П.Я. Чаадаева и русская
культура//Вопросы литературы. 1988. № 3. С. 64.
2 См.: Иванов В.В. Ненавистник слова «раб». Петр Чаадаев наш современ-
ник//П.Я. Чаадаев: Pro et contra. СПб., 1998. С. 726—728.
3 См.: Копейное В.В. Пушкин и Чаадаев. К истории русского самосознания//Там
же. С 696—725.
4 См.: Ермичев A.A. Русская философия как целое. Опыт историко-систематиче-
ского построения. СПб., 1998. С. 17.
5 См.: Ульянов ИМ. «Басманный философ»//Вопросы философии. 1990. № 8.
С. 83.
6 См.: Ильин Н.П. Трагедия русской философии//Москва. 1990. № 3 . С. 204.
171
Приступая к собственному осмыслению важнейших
мировоззренческих проблем, П.Я. Чаадаев был в достаточной мере знаком
с историей философии, с западными богословскими школами.
Среди разнообразных идейных источников, переосмысливая которые он
создал собственную концепцию, можно выделить идеи таких
французских консервативных мыслителей, как П. Балланш, Л. Бональд,
Ж. де Местр и Ф. Шатобриан. Однако в генезисе взглядов
Чаадаева все же особое место принадлежит философской системе
Шеллинга. Сам он вспоминает, что, находясь в 1825 году в Карлсбаде,
познакомился с Шеллингом и имел возможность часто беседовать с
немецким мыслителем на философские темы. Идеи Шеллинга
заинтересовали мыслителя, он тщательно изучает его произведения,
между ними происходит даже обмен письмами. Шеллинг очень
высоко оценивал уровень философского развития П.Я. Чаадаева,
характеризуя его как самого замечательного из всех известных ему
русских.
Чаадаева в шеллингианстве привлекает прежде всего попытка
синтеза религиозного и философского элементов. Шеллинг в
письме к русскому мыслителю, характеризуя философию
откровения, утверждает, что это такая система мысли, которая излагает
свои идеи, «не насилуя философии и христианства»1. Но и для
Чаадаева «с первой же минуты» его философствования важнейшей
задачей умственной работы становится создание религиозной
философии. Последнюю можно разработать лишь при условии «слияния
философии и религии», именно в этой сфере «лежит и главный
интерес человечества»2.
Проблема «Чаадаев и христианство» для понимания его
философии одна из основных. Эта тема была не раз предметом
обсуждения как в классических трудах В.В. Зеньковского, И.О. Лосского,
Г.В. Флоровского, посвященных истории русской философии, так и
в работах советских исследователей.
Корифеи отечественной мысли отмечали, что «мировоззрение
Чаадаева носит ярко выраженный религиозный характер» , его
система является христианской философией и можно говорить, что
она содержит «богословское построение по вопросам философии
истории, философии культуры»4. Но возникает проблема: как соче-
1 Чаадаев П.Я. Статьи и письма. М., 1989. С. 510.
2 Там же. С. 225.
3 Лосский И.О. История русской философии. М., 1991. С. 769.
4 Зенькооский В.В. История русской философии. Т. 1.4. 1. Л., 1991. С. 167.
172
тается религиозность мыслителя с церковностью, то есть с
догматической определенностью его взглядов. Н. Лосский вообще
обходит этот вопрос молчанием, для В. Зеньковского «нет никакого
основания заподозрить церковность Чаадаева», более того, эта
церковность носит православный характер, так как философ «никогда
не рвал с православием»1. На наш взгляд, этот вывод не основан
на анализе действительной позиции Чаадаева, а, скорее, отражает
желание Зеньковского, чем подлинные реалии. Г. Флоровский
совершенно прав, отмечая, что у Чаадаева, «этого апологета Римской
теократии, в мировоззрении всего меньше именно церковности»2.
При этом экклезиология восточного христианства вызывала у него
особо отрицательное отношение.
В советской литературе долгое время господствующей точкой
зрения на религиозность Чаадаева была позиция, изложенная
З.А. Каменским в очерке, посвященном Чаадаеву, в «Философской
энциклопедии». Он, с одной стороны, признает формирующее
значение религиозных идей в системе мыслителя, но с другой —
утверждает, что «интерес Чаадаева к религиозной идее, к
католической литературе никогда не становился для него самоцелью, но
всегда был лишь одним из средств решения социальных и философ-
ско-психологических проблем»3. Эту же точку зрения
поддерживают и В.Г. Хорос, и В.К. Кантор в своих статьях, посвященных
анализу взглядов мыслителя4. Известный исследователь творчества
Чаадаева, издатель его трудов Б.Н. Тарасов справедливо
подчеркивает, что подобное «укорачивание» христианских начал искажает
подлинную позицию отечественного философа5. Возражения З.А.
Каменского на статью Б.Н. Тарасова, на наш взгляд, звучат
неубедительно, так как они доказывают лишь нецерковный,
неортодоксальный характер религиозных воззрений Петра Яковлевича . Да,
«церковная обязательность» в сфере теоретических построений была
чужда Чаадаеву, но в то же время именно христианство выступает в
1 Зеньковский В.В. История русской философии. Т. 1.4. 1. С. 168.,
2 Флоровский Г.В. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991. С. 247.
3 Каменский ЗА. Чаадаев П.Я.//Философская энциклопедия. М., 1970. Т. 5. С. 470.
4 См.: Хорос В.Г. Из неопубликованного наследия П.Я. Чаадаева//Вопросы
философии. 1983. № 12. С. 27; КанторВ.К. Имя роковое (Духовное наследие П.Я.
Чаадаева и русская культура)//Вопросы литературы. 1988. № 3. С. 72.
5См.: Тарасов Б.Н. Пространство мысли Петра Чаадаева//Литературная газета.
1992. 11 марта.
6 См.: Каменский З.А. О современных прочтениях П.Я. Чаадаева//Вопросы
философии. 1992. № 12. С. 136—138.
173
его взглядах не только ключом к пониманию социальных и
мировоззренческих проблем, но и главной силой их разрешения. Хотя
П.Я. Чаадаев не раз демонстрировал свое позитивное отношение к
католицизму и считал это направление христианства наиболее
истинным, все-таки он не был ортодоксальным католиком.
Достаточно вспомнить его рассуждения об ангелах, учение о которых, по его
мнению, «не есть догмат веры». Более того, он задает вопрос:
«Человек, созданный по образу божию, может ли законно признавать
существа превыше себя?» И отвечает: «Не думаю»1. Русский
мыслитель критикует тех богословов-догматиков, для которых «мир не
шагнул вперед». Если и для католицизма, и для православия
догматические положения выражают саму сущность веры, то для
философа «догмат по природе неподвижен и неподатлив». С его точки
зрения сторонник сведения христианства только к незыблемым
положениям превращается в «прислужника догмата», которому
«дозволено оставаться вечно пригвожденным к своему «обязательному
верованию».
П.Я. Чаадаев не принимает положения богословского
иррационализма о том, что вера недоступна разуму. Он не разделяет
позицию тех богословов, которые считают, будто уму можно проникнуть
в религиозную сферу «лишь под условием самоупразднения». По
его мнению религиозная вера всегда предполагает наличие
определенного знания, а последнее может быть получено лишь при
помощи разума. Более того, Чаадаев переосмысливает идею философии
тождества Шеллинга и приходит к выводу, что «подлинное
тождество существует не между нашим разумом и природой, но между
нашим разумом и другим разумом. Вот как нужно понимать теорию
абсолютного тождества»2. Исходя из этого тезиса, Чаадаев
утверждает идею гармонии веры и разума, а значит, религии и науки.
Философ считает: и та, и другая учат познавать Абсолютный разум,
но если первая познает Бога в сущности», то вторая — «в его
деяниях». И если гносеологический процесс протекает правильно, то
«обе в конце концов приходят к Богу»3.
Придавая особое значение соотношению бесконечного и
конечного разума, философ по-своему трактует грехопадение людей и его
последствия. Благодаря свободной природе человека его
индивидуальный ум «должен был обособиться, оторваться от всемирного
разума». Последствия этого для индивида были самые негативные,
1 Чаадаев П.Я. Статьи и письма. С. 168.
2 Там же. С. 193.
3 Там же. С. 181.
174
так как это привело к «полному непониманию» между Богом и
человеком. Эту трагическую ситуацию разрешило христианство. Бо-
говоплощение и искупительная жертва Христа наконец-то приводят
к тому, что «разум мировой был восстановлен в разуме
индивидуальном и на этот раз занял в нем место навсегда»1. Исходя из этих
положений, вряд ли можно согласиться с утверждением об
отсутствии в христианской философии Чаадаева темы «о греховности
человека»2. Другое дело, что понимание этой греховности и путей ее
преодоления отличается от традиционных богословских тезисов.
Философ состояние «падшего Я» понимает как своеобразную
интеллектуальную деградацию, а искупление — как восстановление
интеллектуальной мощи человека. Примат разумного, идеального
начала прослеживается и в интерпретации истории человечества в
целом, ибо для него является аксиомой утверждение о том, что
«общество шло вперед лишь силою мысли»3.
Историософия
П.Я. Чаадаев, исходя из христианского видения принципов
развития общества, признает учение о провиденциализме,
выступающее методологической основой его философии истории.
Божественное воздействие обеспечивает связь между прошлым,
настоящим и будущим, оно же придает и высший смысл истории, и, «если
провидение призывает народ к великим судьбам, оно в то же время
пошлет средства совершать их»4. Однако было бы неверно
утверждать, что Чаадаев активным началом в истории признает только
Бога, а человека низводит до пассивного исполнителя его
повелений. По его мнению само творение человека Богом
предусматривает наделение индивида не только разумом, но и свободой воли. Для
него ясно, что «Бог, предоставив человеку свободу воли, отказался
от части своего владычества в мире»0. В результате появления
разумного существа в мировой порядок входит «новое начало» —
активность человека. Деятельность индивида может способствовать
«усилению зла в мире», тогда она не совпадает с
провиденциальными установками и задерживает развитие социума. Если же ак-
1 Чаадаев П.Я. Статьи и письма. С. 205—206.
2 См.: Тарасов Б.Н. П.Я. Чаадаев и русская литература первой половины XIX
века//Чаадаев П.Я. Статьи и письма. С. 9.
3 Чаадаев П.Я. Статьи и письма. С. 51.
4 Там же. С. 187.
5 Там же. С. 179.
175
тивность человека направлена «ко благу», то есть осуществляет в
обществе божественные замыслы, она ускоряет прогресс.
Высшей целью общественного развития, отражающей
подлинные устремления человечества, выступает Царство Божие. Царство
Божие понималось теологами как царство небесное и радикально
противопоставлялось всем земным ценностям. Русский мыслитель,
напротив, считает, что призывать к наступлению царства небесного
бессмысленно, так как власть Бога на небе никогда не
прерывалась. Человечество же должно «ежечасно взывать к нему о
пришествии царствия его на земле»1. Царство Божие устанавливается в
земном общежитии путем гармонизации божественной и
человеческой активности. К тому же для философа неприемлема позиция
тех церковных «учителей», которые рассматривают христианство
лишь как религию, воздействующую на отдельную личность, и
считают, что «до общества и всего человечества ему нет дела».
Благотворное влияние христианских идей на социальный организм,
согласно этим убеждениям, происходит «по недосмотру». Подобные
тезисы, по мнению Чаадаева, могут быть охарактеризованы как
«точка зрения чрезмерного и непросвещенного аскетизма»2. Идея
Царства Божия — идея социальная и требует постоянной работы
по развитию общества. У философа содержится плодотворная
мысль о том, что как индивидуальный, так и социальный идеалы
выступают мощным стимулом человеческой деятельности; причем и
индивид, и общество на пути к «абсолютному совершенству»
проходят «все те маленькие совершенства, на которые могут притязать
люди»3. Представления о социальном и индивидуальном идеалах
зависят от религиозных убеждений индивида. Следовательно, именно
религия играет главную роль в историческом процессе, она
предопределяет и судьбу народов, и жизнь отдельной человеческой
личности.
Эти общие установки своей философии истории П.Я. Чаадаев
применяет, обращаясь к анализу прошлого России, ее настоящего
и будущего. Он хочет провести сравнение русской судьбы и судьбы
европейских народов и, исходя из этого, дать рекомендации по
совершенствованию российской действительности. Подобный
замысел и делает П.Я. Чаадаева одним из родоначальников русской
религиозной философии, парадокс же этой ситуации состоит в том,
что сам мыслитель, как мы увидим, с принципиальных позиций от-
1 Чаадаев П.Я. Статьи и письма. С. 179.
2 Там же. С. 180.
3 Там же. С. 186.
176
рицает возможность появления самобытной философии в России.
Уже в своем первом «Философическом письме» Чаадаев
сформулировал один из центральных тезисов своей системы. По его
мнению, мы, русские, «не принадлежим ни к Западу, ни к Востоку, и у
нас нет традиций ни того, ни другого. Стоя как бы вне времени, мы
не были затронуты всемирным воспитанием человеческого рода»1.
Оторванность от европейской цивилизации, от европейского
просвещения, по мысли философа, лишает русский народ подлинной
истории. Если период становления государств в Западной Европе
был эпохой «сильных ощущений, широких замыслов, великих
страстей народных», то в России эта эпоха была «заполнена тусклым и
мрачным существованием, лишенным силы и энергии».
Западноевропейские народы создают великие культурные ценности, а у
нашего народа не найдется «ни одного почтенного памятника».
Преемственность исторического развития на Западе создает органическую
связь между прошлым, настоящим и будущим, общество идет от
одной вершины к другой. Россия же живет «одним настоящим в
самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди
мертвого застоя»2. Приговор вынесен, над Россией произнесено
своеобразное надгробное слово.
Откуда же проистекает такая печальная судьба русского
народа? Она, по мнению Чаадаева, обусловлена двумя главными
факторами: православием и географическим положением России. После
раскола христианства на западную и восточную церкви провидение
определило им в истории различную роль. На Востоке церковь
становится «аскетической и созерцательной», доводящей «покорность
до крайности», и «она всячески стремилась себя ограничить:
преклонить колена перед всеми государями»3. Именно православие
переносит свойственные ему черты на русский народ, так как он
образован «всецело под влиянием религии». Отсюда в русском
характере рабская покорность царю и «полное равнодушие к природе
той власти, которая им управляет»4. Более того, рабским
сознанием проникнуты не только крепостные крестьяне, но и высшие
классы. В сознании народа в целом господствуют начала «неотвратимо
неподвижные», «безнадежно нерушимые» и т. д. Даже тогда, когда
иностранцы отмечают в русских какие-либо положительные качест-
1 Чаадаев П.Я. Статьи и письма. С. 41.
2 Там же. С. 42—43.
3 Там же С. 210.
4 Там же. С. 204.
12-6016
177
ва, они не понимают их природу, им недоступна их правильная
оценка. Например, часто говорится об отваге русских, но,
оказывается, безразличие к житейским опасностям проистекает от полного
равнодушия «к добру и злу, к истине и ко лжи»1. Наконец, народ в
России неспособен «к углублению и настойчивости», он часто не
доводит начатое дело до конца, и поэтому его деятельность по
большей части малоэффективна.
Отрицательное воздействие религии углубляется
географическим фактором. «Элемент географический», по мнению Чаадаева,
также выступает «образующим началом» русского народа.
Огромные пространства, рассеянность людей «во всех направлениях» и
«обособленность отдельных сознаний» лишают русское общество
той среды, в которой только и могут проходить «логическое
развитие мысли» и возникать «порывы души» к разнообразным
улучшениям жизни. Эти условия предопределяют отсутствие в России
интеллектуальных центров, то есть «тех очагов, в которых
сосредоточились бы живые силы страны, где созревали бы идеи, откуда по
всей поверхности Земли излучалось бы плодотворное начало»2.
Следовательно, в обществе нет великих идей, объединяющих
«внушительные массы умов», а это приводит к тому, что русский
народ — лишь «любопытная страница физической географии». Он
выступает как «важнейший фактор в политике и последний из
факторов жизни духовной»3.
Если русский народ не мог выработать собственных духовных
ценностей и на их основе создать высокую материальную и
интеллектуальную культуру, то ему один путь — путь заимствования
западных идей и материальных достижений. Для этого нужно прежде
всего, преодолеть «слабость нашей веры или несовершенство
наших догматов», державших Россию в стороне от общего
европейского развития. В православии «кончилось царство идей», оно
заменено царством «грубого факта и обряда», — в результате
восточный культ целиком замыкается «в своих бесплодных обрядно-
стях»4. Своеобразие восточного христианства делает его
невосприимчивым к «плодотворным идеям» западных вероисповеданий.
Поэтому «совершенствование православия» фактически означает для
Чаадаева отказ от основополагающих принципов этой религии.
1 Чаадаев П.Я. Статьи и письма. С. 46.
2 Там же. С. 189.
3 Там же. С. 190.
4 Там же. С. 387.
178
Если восточное христианство бесплодно, то провидение создало
западную церковь «в видах социального развития человечества» и
именно ее активность порождает европейскую цивилизацию. В
отличие от «созерцательной восточной церкви» католицизм есть
начало деятельное, реализующее установки христианства в истории
общества. Философ готов даже оправдать самые неблаговидные
деяния католической церкви. Он признает, что «можно осуждать
средства», которыми западное христианство пользовалось для
достижения своих целей, но, оказывается, «объективный анализ»
доказывает необходимость этих «средств», они якобы были
«единственно возможные в различные эпохи». Чаадаев признает их
«средствами», через которые только и «могут осуществляться
начертания провидения»1. Русский мыслитель в данном случае становится
сторонником печально известного тезиса: цель оправдывает
средства. Этические ценности оказываются в подчиненном положении
по сравнению с другими задачами католицизма. На русской почве
это один из первых случаев отказа в рамках религиозного
мировоззрения от безусловной доминанты нравственного начала в
деятельности.
П.Я. Чаадаев считал, что связанная с преодолением «коренных
пороков православия» «духовная революция» создает условия для
усвоения начал, на которых строится жизнь цивилизованных
народов. В достижении этой цели он видел идеал, стимулирующий
деятельность наиболее одаренных представителей русского народа.
Сравнительный анализ католицизма и православия,
предпринятый П.Я. Чаадаевым, наглядно демонстрирует двойной стандарт в
его оценках этих христианских вероисповеданий. В отношении к
католицизму проявляется явная апология, тогда как в суждениях о
православии господствует тотальный критицизм.
Следует отметить определенную непоследовательность взглядов
П.Я. Чаадаева на судьбу России и на ее место в истории
цивилизации. В «Апологии сумасшедшего», в ряде писем и заметок философ
более оптимистично смотрит на роль своей Родины в мире. В этих
работах появляется более критичное отношение к Западу и даже к
католицизму. И напротив, у православия отмечаются некоторые
положительные моменты. Отсутствие у русского народа глубоких
самобытных начал может быть не только бедой, но и благом, ибо
«все великое приходило из пустыни». Благодаря быстрому
усвоению достижений Запада русский народ может «не впадать в их
1 Чаадаев П.Я. Статьи и письма. С. 209.
ошибки, в их заблуждения и суеверия». Россия пришла в семью
цивилизованных народов «после других» для того, чтобы «делать
лучше их»1. В силу этого русские люди призваны «ответить на
важнейшие вопросы, какие занимают человечество».
В этих словах присутствуют мысли, перекликающиеся со
взглядами славянофилов. Известно высказывание философа,
содержащееся в письме к одному из идеологов славянофильства Ю.Ф.
Самарину о том, что «разница в наших взглядах была не так глубока,
как мы думали»2. Русский богослов и философ В. Зеньковский
даже считает возможным говорить об отражении в творчестве
Чаадаева «славянофильской веры в особый путь России»3. Мы думаем,
что можно говорить лишь о формальном совпадении
славянофильского тезиса о мессианской роли России и ее особом пути с чаада-
евской позицией. В действительности же принципиальные
установки Чаадаева и славянофилов были всегда противоположны. A.C.
Хомяков, И.В. Киреевский и другие обосновывали великую
будущность России на путях развития самобытных начал, а Чаадаев
всегда выступал за их преодоление, за отказ от национальных истоков.
Даже в «Апологии сумасшедшего» он подчеркивал, что Петр
Великий в прошлом России имел «только лист белой бумаги и своей
сильной рукой написал на нем слова Европа и Запад»4. Именно с
этого времени у русского народа повляется надежда на великую
будущность, ибо западная культура «заполняет пустоту наших душ».
В 50-е годы XIX века тенденции национального нигилизма во
взглядах Чаадаева даже усиливаются. Достаточно вспомнить его
статью, написанную в 1854 году от имени француза и полную
негативных оценок своей Родины.
Чаадаевский анализ прошлого русского народа, хотя иногда и
содержит верные наблюдения, в целом не отражает подлинной
истории Отечества. Мы согласны с Н.И. Ульяновым, отметившим
предвзятость взглядов Чаадаева на Россию: он «мстил» русской
жизни «не как человек европейского просвещения, а как
католик»5, хотя формально русский мыслитель никогда не вступал в
лоно Римской церкви.
1 Чаадаев П.Я. Статьи и письма. С. 157.
2 Там же. С. 309.
3 Зеньковский В.В. Русские мыслители и Европа. Париж, 1955. С. 75.
4 Чаадаев П.Я. Статьи и письма. С. 151.
5 Ульянов Н.И. «Басманный философ»//Вопросы философии. 1990. № 8. С. 83.
180
Философ пренебрежительно оценивал любое оригинальное
явление, не соответствующее западноевропейским образцам, как
проявление варварства, деградации и т.д. Известный отечественный
мыслитель А.Д. Градовский, которого трудно упрекнуть в
необъективности, справедливо замечал, что на примере П.Я. Чаадаева
хорошо видна «крайность западничества», которая заключается не
только в критике самобытных особенностей русского народа, но и
«в отрицании его способности сделать что-либо без полного
заимствования всех начал чуждой культуры, без отречения от самого
себя»1. Бесплодность подобных установок при рассмотрении
исторического процесса и культурного развития с позиций
современного знания очевидны.
Чаадаев неоднократно заявлял о своей любви к Родине. В
письме к Ю.Ф. Самарину он в 1846 году отмечал: «Я любил мою
страну по-своему, вот и все, и прослыть за ненавистника России
было мне тяжелее, нежели я могу вам выразить»2. Но эта любовь,
по мнению философа, должна быть требовательной: она не может
мириться с недостатками, вообще со всем, что мешает развитию
России. Бичевать пороки русского общества — в этом и
проявляется любовь к отечеству «в его интересах, а не в своих
собственных». Во многих работах, посвященных творчеству мыслителя,
исследователи соглашаются с его аргументацией и считают философа
истинным патриотом. Вот как об этом пишет H.A. Бердяев: «Мысли
Чаадаева о русской истории, о прошлом России выражены с
глубокой болью, это крик отчаяния человека, любящего свою родину»3.
Есть и противоположная точка зрения на этот вопрос, наиболее
полно сформулированная Н.И. Ульяновым. Он писал, что Чаадаев
перешел через «роковую черту» и его «историософия не от
великого гнева, порожденного великой любовью, а от великого презрения.
Не об исцелении прокаженного тут речь, а об изгнании его в
пустыню»4. Мы также считаем, что в философии истории Чаадаева
все-таки преобладают мотивы национального нигилизма. В
«Апологии сумасшедшего» он утверждает, что любовь к отечеству —
«прекрасная вещь», но «есть еще нечто более прекрасное — это
любовь к истине»5. С этим тезисом можно согласиться, он пра-
1 Градовский АД. Соч. СПб., 2001. С. 302.
2 Чаадаев П.Я. Статьи и письма. С. 309.
3 Бердяев H.A. Русская идея//Вопросы философии. 1990. № 1. С. 96.
4 Ульянов Н.И. «Басманный философ »//Вопросы философии. 1990. № 8. С. 83.
5 Чаадаев П.Я. Статьи и письма. С. 147—148.
181
вильно ориентирует исследователя. Все дело в том, чтобы «истина
была истиной, а не обольщением». Истиной же для философа, как
мы видели, является программа преодоления самобытных начал,
отказ от национальных традиций, от православия и от русской
культуры в целом, то есть установки, искажающие правильное
познание истории. Конечно, в николаевской России, как и в
тысячелетней истории нашей страны, было много «азиатского
невежества» и «холопских проявлений». A.C. Пушкин, друг П.Я. Чаадаева и
в то же время его оппонент по вопросам о «русских началах», не
хуже философа знал историю России. Критичное отношение ко
многим сторонам российской действительности было характерной
чертой творчества поэта, но в своем письме к Чаадаеву от 19
октября 1836 г. он особо подчеркивает, что не принимает
нигилистическую оценку истории России, ибо у нее в мире «было свое особое
предназначение». И Пушкин клянется честью: «Ни за что на свете
я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю,
кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал»1.
Социальная позиция мыслителя и значение
его взглядов
Проблема социальной позиции П.Я. Чаадаева не раз была
предметом обсуждения исследователей. Еще М. Гершензон назвал
философа декабристом, ставшим мистиком. Тенденция,
обосновывающая радикальность общественных взглядов П.Я. Чаадаева,
достаточно заметна в научной литературе. В современных
публикациях, посвященных мыслителю, эти установки также присутствуют.
В.К. Кантор характеризует «басманного философа» как одного «из
родоначальников освободительного движения в России»2. Е.Б. Раш-
ковский и В.Г. Хорос отмечают, что хотя Чаадаев в
«Философических письмах» и выступил как оппонент декабристов, но в то же
время и «продолжил дело декабристов своим недвусмысленным
протестом против окружавшей его порабощенности, своей
позицией духовного неподчинения николаевскому режиму»3.
Квалификация деятельности Чаадаева как в целом оппозиционной по
отношению к николаевскому правлению является верной. Правда, фило-
1 Пушкин A.C. Поли. собр. соч. Т. 16. М., 1998. С. 393.
2 Кантор В.К. Имя роковое (Духовное наследие П.Я. Чаадаева и русская
культурам/Вопросы литературы. 1988. № 3. С. 64.
3 Рашковский Е.Б., Хорос ВТ. Проблема «Запад — Россия — Восток» в
философском наследии П.Я.Чаадаева//Восток — Запад: Исследования. Переводы.
Публикации. М., 1983. С. 111.
182
соф был непоследователен и иногда демонстрировал лояльность к
властям. Он подметил действительный недостаток русского
общества — его «изумительную странность» сваливать «всю вину на
правительство», а самому пребывать в гордом самодовольстве.
Мыслитель вскрывал пороки высшего общества, показывал
«коренные недостатки» нашего социального быта. После восстания
декабристов, охарактеризованного им как «громадное несчастье»,
«роковое потрясение», он выступает против каких-либо
насильственных переворотов в социальной сфере. Более того, его
философия истории утверждает, что «всегда интересы рождались из
убеждений», а политические революции выступают, «в сущности,
духовными революциями»1.
Чаадаева вряд ли можно назвать родоначальником
освободительного движения, продолжателем дела декабристов. Дворянские
революционеры предлагали радикальные общественные
преобразования, а русский мыслитель выступает с программой духовного
переустройства общества. Оппозиционность же по отношению к
николаевскому режиму была свойственна не только Чаадаеву, но и
славянофилам, и западникам, то есть течениям, сформировавшимся
в России в 30—50-е годы XIX в. Эти направления русской мысли
объединяли философов с различными социально-политическими
взглядами. П.Я. Чаадаев, как справедливо отмечал Б.Н. Тарасов,
придерживался «консервативно-либеральной ориентации»2,
которая также была свойственна A.C. Хомякову, И.В. Киреевскому и
другим славянофилам. Сближать либерального консерватора П.Я.
Чаадаева с декабристами было бы некорректно: у него принципиально
иные установки во взглядах на пути и средства развития общества,
в которых нет места революционным потрясениям.
Чаадаев создает своеобразный вариант религиозно-социального
утопизма. Как мы уже отмечали, по его мнению усвоение идей
подлинного христианства изменит душу народа, а значит, и
направление его мысли и деятельности. Приобщение к этим истинам
выступает главным условием социального прогресса — все остальное
носит производный, зависимый характер.
Проповедь Чаадаева о необходимости преодоления
«национальных утопий» имела определенный успех у представителей
образованного слоя русского общества. В смягченном виде она была
усвоена западниками, но были и более последовательные выводы из
1 Чаадаев П.Я. Статьи и письма. С. 309.
2 См.: Тарасов Б.Н. «Преподаватель с подвижной кафедры». Новое и забытое о
П.Я. Чаадаеве и его современниках//Литературная учеба. 1988. № 2. С. 50.
183
этих тезисов. Образованный, обладающий большими
способностями, князь И.С. Гагарин изменяет «вере отцов» и принимает
католичество, эмигрировав из России. Биограф Чаадаева М.И.
Жихарев аргументированно связывает этот переворот в мировоззрении
Гагарина с влиянием философа. Русский аристократ сам публично
признавался, что «перешел в римское исповедание, обращенный
Чаадаевым»1. Став католиком, Гагарин вместе со своими
единомышленниками планирует возвратиться в Россию, чтобы стать «во
главе русских иезуитов».
Современники Чаадаева и более поздние исследователи его
творчества отмечали «печальность и самобытность» его фигуры,
трагичность его судьбы, невостребованность таланта философа, но
деятельность мыслителя не пропала даром, не оказалась
бесплодной. Главной заслугой, на наш взгляд, является пробуждение
всеобщего интереса к судьбам России, возрождение чувства
национального достоинства, выступавшего реакцией на его
нигилистическое отношение к русской истории. Оценивая роль П.Я. Чаадаева,
его идейный оппонент A.C. Хомяков писал, что в то время, когда
«мысль погружалась в тяжкий и невольный сон, он особенно был
дорог тем, что он и сам бодрствовал, и других побуждал»2.
Нельзя согласиться с исследователями (и прежде всего с Н.И.
Ульяновым), отказывающими Чаадаеву в какой-либо оригинальности,
утверждающими, что его «провинциальная», «эклектическая
философия... представляет в наши дни чисто исторический интерес»3. В
то же время мы не можем принять и позицию A.A. Ермичева,
который абсолютизирует сходство между философией Чаадаева и
философией Серебряного века и на этом основании превращает «бас-
манного философа» в «отца русской философии XIX — первой
половины XX века»4. В действительности между философией
Чаадаева и философскими интуициями начала XX века существуют
принципиальные различия.
Чаадаев находится на позициях гносеологического оптимизма,
его философия по содержанию глубоко рационалистична. Он даже
пытается, как мы уже отмечали, переосмыслить известную
«философию тождества» Шеллинга в плане того, что «подлинное
тождество» существует не между нашим разумом и природой, но между
1 Русское общество 30-х годов XIX века: Мемуары современников. М., 1989. С. 119.
2 Хомяков A.C. О старом и новом. М., 1988. С. 340.
3 Ульянов Н.И. «Басманный философ»//Вопросы философии. 1990. № 8. С. 78.
4 См.: Ермичев A.A. Русская философия как целое. Опыт историко-систематиче-
ского построения. С. 17.
184
нашим разумом и другим разумом», в силу этого «правильная
организация познания» должна приносить «знание сущего». У него
даже вера «не что иное, как момент или период человеческого
знания, не более того». Доминантная тема философии Серебряного
века — это преодоление рационализма; не случайно в это время
достаточно многочисленны работы, направленные против
гносеологии Канта. В этом плане гносеологические установки Чаадаева и
иррациональные интуиции философов начала XX века вряд ли
могут совпадать.
Историософские взгляды Чаадаева исходят из оптимистического
виденья перспектив развития человечества, у него даже конец
истории не «есть просто гибель человечества, а восстановление его
природы». Философия истории духовного ренессанса глубоко
пессимистична: это «философия конца света», обосновывающая
крушение веры «в так называемый прогресс человечества».
Наконец, следует иметь в виду, что произведения Чаадаева
долгое время не были широко известны. По авторитетному
свидетельству E.H. Трубецкого, даже B.C. Соловьев, специально
интересовавшийся историей русской философии, «в 70-х годах еще не был
знаком с Чаадаевым»1. Только издание М. Гершензона в 1913—
1914 гг. делает идейное наследие «басманного философа»
достоянием широкого круга мыслителей. Отсюда ясно: быть отцом
русской философии, когда твоих идей не знали, наверное, достаточно
трудно. Общепринятая точка зрения, утверждающая, что идейным
вдохновителем духовного ренессанса в России был B.C. Соловьев,
нам кажется более убедительной.
Мы думаем, что прав известный немецкий исследователь
русской философии В. Гердт, отметивший, что заслугой Чаадаева
является то, что он одним из первых поставил важнейший для
русской философии вопрос: «существование России в Европе или
Европы в России»2. И это делает его наследие актуальным в
наши дни.
1 Трубецкой ЕЛ. Миросозерцание B.C. Соловьева. Т. 1. М., 1913. С. 71.
2 Goerdt W. Russische Philosophie Zugang und Durchblicke. Freiburg-München,
1984. S. 266.
Глава 8
СЛАВЯНОФИЛЫ
Идейные источники и общефилософские позиции
Термин «славянофильство» буквально означает «любовь к
славянам». Он появился еще в начале XIX века, когда славянофилами
называли сторонников A.C. Шишкова, выступавших за архаизацию
русского языка. Однако как наименование определенного
направления русской общественной мысли понятие «славянофилы»
начинает употребляться в 40-х годах XIX века. Сами сторонники этого
течения долгое время негативно относились к подобному названию,
они предпочитали характеризовать себя «православно-русским
направлением», «самобытниками» и т. п. Обычно, когда дают
характеристику раннему славянофильству, называют не более десяти
имен людей, составляющих костяк этого течения. Если же говорить
о вкладе в развитие идеологии славянофильства, то можно
ограничиться четырьмя именами. Это прежде всего A.C. Хомяков (1804—
1860), И.В. Киреевский (1806—1856), а затем К.С. Аксаков
(1817—1860) и Ю.Ф. Самарин (1819—1876). Первые два
сформулировали исходные принципы течения, а двое других были
наиболее талантливыми пропагандистами их идей, добавив ряд новаций в
славянофильскую доктрину.
Проблемы, связанные с генезисом мировоззрения
славянофилов, и прежде всего становление и специфика взглядов главных
идеологов этого направления, не раз были предметом анализа
исследователей1. В многочисленной дореволюционной литературе,
посвященной славянофильству, возникновение этого течения часто
связывалось с глубокой религиозной верой его адептов, которая и
позволила узреть «фальшь господствующих идей» и крикнуть
русскому человеку: «Берегись, ты на ложном пути»2. В мемуарной ли-
1 См.: Дудзинская ЕЛ. Славянофилы в общественной борьбе. М., 1983;
Емельянов Б.В., Исаева М.В. Славянофилы: поиски идентичности. Екатеринбург, 1999;
Кулешов В.И. Славянофилы и русская литература. М., 1976; Кошелев В.А. Алексей
Степанович Хомяков, жизнеописание в документах, рассуждениях и разысканиях. М., 2000;
Парилов О.В. Роль самобытников в развитии русского самосознания. Н. Новгород,
2001; Цимбаев Н.И. Славянофильство: Из истории русской
общественно-политической мысли XIX в. М., 1986; Шапошников Л.Е. Философские портреты. Н. Новгород,
1993, С. 8—68; Янковский ЮЗ. Патриархально-дворянская утопия: Страница
русской общественно-литературной мысли 1840—1850 годов. М., 1981.
2 Владимиров Л.Е. Алексей Степанович Хомяков и его эти ко-социальное учение.
М., 1904. С. 12.
186
тературе можно встретить утверждение, что Хомяков и в ранней
молодости был уже славянофилом, а А.И. Кошелев добавляет, что
он знал Хомякова 37 лет и «основные его убеждения 1823 года
остались те же, что и в 1860 г.».
С подобными взглядами нельзя согласиться. Конечно,
проблемы будущего России волновали Хомякова еще в юношеские годы, с
детства он был «православно твердым», но славянофильские
принципы были выработаны им в середине 30-х годов XIX в. — вначале
в его поэтическом творчестве, а затем, в 1839 г., появляется
известная статья «О старом и новом»1. Это уточнение важно для
более правильного понимания места славянофильства в идейной
борьбе в России не только в 40-е, но и в 30-е годы XIX в.
Следует напомнить читателю, что выработка основополагающих
принципов славянофильского учения велась в сложной
общественной ситуации. С одной стороны, николаевский режим, сводящий
патриотизм к преданности бюрократической системе. С другой —
распространение в 30-е годы антирусских настроений в Западной
Европе, принимавших «характер подлинной русофобии».
Появились теоретики (в их число входил, в частности, А. Мицкевич),
доказывающие неславянское происхождение русского народа, якобы
состоящего из «финских и татарских стихий». Такая установка
имела четко выраженную политическую цель — ослабить влияние
России на европейскую жизнь, вывести русских из семьи
цивилизованных народов.
Славянофилы пытались построить свою систему, опираясь на
принципы религиозного мировоззрения, и среди идейных
источников их взглядов можно прежде всего выделить православие. В
истории России православие теснейшим образом было связано с
народным бытом и народными традициями, оно неотделимо от многих
сторон национальной культуры и русской мысли. В рамках Русской
православной церкви было сформулировано учение о мессианской
роли русского народа, о его религиозной исключительности, отсюда
понятно, почему именно православная идеология явилась одним из
важнейших идейных источников взглядов славянофилов. Усвоение
основных православных принципов выработало у них определенное
отношение к важнейшим проблемам современной им жизни. Это
усвоение шло не путем механического включения религиозных идей
в философскую систему, а представляло собой творческий процесс
философизации религиозных положений.
1 См.: Шапошников Л.£. A.C. Хомяков: человек и мыслитель. Н. Новгород, 2004.
С. 12—15.
187
Другим главным идейным источником взглядов славянофилов
была немецкая классическая философия, и прежде всего труды
Гегеля и Шеллинга. Они отдали должное «огромным заслугам
Гегеля на поприще философии», но для них многие положения этой
системы были «несостоятельны от начала до конца». Н.П. Колю-
панов не без основания замечает, что Хомяков прежде всего
«сосредоточил свои критические возражения на Гегеле»1. Особенно
много полемики вызывали гносеологические построения немецкого
философа. A.C. Хомяков и другие славянофилы не принимали его
рационализма, стремления лишь при помощи разума объяснить
проблемы знания и исторического развития. Критикуя Гегеля с
позиций религиозного мировоззрения, они в то же время сумели
подметить наиболее слабые моменты его системы, а именно разрыв
субъективной и объективной диалектики. Гегель, по их мнению,
постоянно принимает «движение понятия в личном понимании за
тождественное с самой действительностью»2. Отрывая познание от
объективного мира, немецкий философ, как считал Хомяков,
«отстраняет сущее», то есть в его системе нет места «творящему
духу», так как «само понятие, в своей полнейшей отвлеченности,
должно было все возродить из собственных недр»3. Если же
субстратом не является Бог, то на его место неизбежно будет
«поставлено вещество». Поэтому «крайний идеализм», то есть
гегельянство, как пророчески предвидели славянофилы, неизбежно приводит
к материализму.
Негативно славянофилы оценивали и многие положения
гегелевской философии истории, требуя над ней строгого суда, так как
она «сбила с толку многих даровитых и достойных подвижников
исторической науки»4. В своей статье «Мнение русских об
иностранцах» Хомяков специально останавливается на анализе гегелевской
философии истории. Немецкий философ стремился «создать
историю, соответствующую требованию человеческого разума», но
вместо этого создал лишь «систематический призрак», в котором
«мнимая необходимость служит только маскою, за которую
прячется неограниченный произвол ученого систематика». Все дело в том,
что Гегель «понял историю наизворот»: он за «существенное
объявляет современное состояние общества», а все развитие социума
1 Колюпанов Н.П. Очерк философской системы славянофилов//Русское
обозрение 1894. №9. С. 85.
2 Хомяков A.C. Поли. собр. соч. Т. 1. М., 1911. С. 294.
3 Там же. С. 261—265.
4 Там же. С. 143.
188
рассматривается лишь как «необходимое стремление» к
настоящему. Иными словами, не история объясняет современность, а,
напротив, современность как бы «предопределяет исторический
путь». Немецкий философ рассматривал историю как
диалектический процесс, в результате которого происходит отрицание старого
и появление нового. У славянофилов же главным двигателем
русской истории выступает не борьба, а согласие, приводящее к
созданию «органического общества», причем для последнего любой
скачок, резкий перелом в развитии означает измену «жизненным,
плодотворным началам».
Отрицая в целом взгляд Гегеля на исторический процесс,
славянофилы в то же время принимали его мысль о том, что «план
провидения» реализуется через взаимодействие «отдельных
народных духов»1. Однако если для немецкого мыслителя вершиной
всемирного развития выступает «германский дух», а славянству
отводилась незавидная роль статистов в историческом процессе, то для
них подобное германофильство неприемлемо. Поэтому, восприняв
отдельные положения философии истории Гегеля, славянофилы их
использовали для обоснования грядущего лидерства славянского
духа.
Другим представителем немецкой классической философии,
который оказал даже большее влияние на генезис славянофильских
идей, чем Гегель, был Шеллинг. Следует отметить, что проблемы
взаимоотношения философии Шеллинга и идеологии
славянофильства неоднократно были предметом внимания исследователей. При
этом высказывались достаточно противоречивые суждения. Так,
например, Л. Шестов считал, будто «славянофилы пересадили
Шеллинга на русскую почву, пересадили его целиком, каким он был, с
тем чувством благоговейной преданности, с каким в России всегда
относились к заграничным произрастаниям»2. А такой видный
представитель русской религиозной философии, как Е. Трубецкой,
утверждал, что A.C. Хомяков был знаком с идеями Шеллинга «более
через Киреевского, нежели непосредственно»3. Г.В. Флоровский
также считает, что «влияние Шеллинга на Хомякова вряд ли было
значительным»4. Эти подходы не отражают истинного положения
дел: славянофильство не было простым шеллингианством, но в то
1 Гегель. Соч. Т. 3. М., 1956. С. 329.
2 Шестов Л. Умозрение и откровение. Париж, 1964. С. 37.
3 Трубецкой E.H. Миросозерцание Ел. Соловьева. Т. 1. М., 1913. С. 55.
4 Флоровский Г.В. Пути русского богословия. С. 273.
189
же время И.В. Киреевский и A.C. Хомяков внимательно изучали
труды немецкого философа; в своих письмах Алексей Степанович
не раз признавался: «Читаю Шеллинга». Да и без этих признаний
анализ его идейного наследия дает право сделать вывод о глубоких
познаниях русского мыслителя в шеллинговской философии и о ее
влиянии на его взгляды.
Большое значение для становления гносеологических воззрений
славянофилов имело учение Шеллинга об интеллектуальной
интуиции. Последняя, по мысли немецкого философа, дает высшее
знание, не нуждающееся «ни в каких доказательствах, выводах,
вообще в опосредовании через понятия»1. Однако, противореча самому
себе, Шеллинг в то же время считает, что поскольку
интеллектуальное созерцание не может быть «уловлено доказательством», то
оно должно постулироваться. Постулат же требует методов
рациональной философии, так как тут необходимы «чисто теоретические
построения». Подобное же своеобразное сочетание
иррационального и рационального моментов в познании характерно и для
славянофилов.
Много внимания Шеллинг уделил проблеме соотношения
единого и множественного. Немецкий мыслитель, исходя из общих
установок своей системы, считал, что все существующее «обладает
единством, из которого оно произошло»2. При этом, чем ближе
вещь, явление к «единству», тем оно совершеннее, и —
напротив — обособление от всеполноты подавляет «стремление
вернуться к единству всего», а значит, и обрести идеал. Анализ
взаимоотношений единства и множественности приводит философа к
выводу, что «каждому дано свое особенное время, чтобы оно в
множестве было единым и в бесконечности — конечным»3. Задачей
философии, причем очень трудной и доступной лишь узкому кругу
мыслителей, и является, по мнению Шеллинга, выделение
«божественного, то есть единого, начала в наличном бытии всех существ».
Подобная программа была близка славянофилам, не случайно
A.C. Хомяков называл немецкого философа «воссоздателем
цельного духа».
Существенное влияние на взгляды славянофилов оказала и
философия истории Шеллинга. Последний рассматривал
исторический процесс как итог деятельности божественного провидения и
1 Шеллинг. Система трансцендентального идеализма. Л., 1936. С. 51.
2 Шеллинг. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М., 1987. С. 533.
3 Там же. С. 542.
190
активности людей. При этом акцент делался на то, что «единый
дух» направляет развитие общества не помимо индивида, а,
напротив, «через всех». В силу этого люди становятся его соавторами в
деле «созидания целого». Понятно поэтому, что особое значение
приобретает в историческом процессе направленность
человеческой воли. Совпадение божественной и человеческой воли
приводит общество к «органическому развитию», которое есть
«постепенно обнаруживающее себя откровение Абсолюта»1.
Однако, хотя охарактеризованные выше элементы
шеллинговской интерпретации истории и занимают достаточно видное место в
построениях славянофилов, все же нельзя считать их учение
простым подражательством. Они не приемлют «гносеологический
аристократизм» Шеллинга, согласно которому подлинное знание
доступно лишь немногим избранным, напротив, носителем истины у
них выступает «соборное» сознание. Центральным элементом в
согласовании божественной и человеческой воли у немецкого
мыслителя является правовое государство, а у русских философов —
обновленная православная церковь и т.д. Интересно отметить, что
Н. Бердяев относит к заслугам славянофилов как раз то, что,
используя систему Шеллинга, где преобладает «философский
момент», они создали концепцию, в которой «религиозный момент
был... сильнее философского»2.
Определенное влияние на лидера славянофильства A.C.
Хомякова оказали богословские идеи Запада: в частности, и В. Зеньков-
ский, и Г. Флоровский называют имя известного католического
богослова Меллера. В. Соловьев говорит о созвучии идей русского
мыслителя и «французских традиционалистов» (имеется в виду
Л. Бональд и Ф. Ламенне). Заканчивая краткий анализ идейных
источников славянофильства, следует особо подчеркнуть мысль
Г. Флоровского о том, что «не всякое влияние есть... зависимость,
и зависимость не означает прямого заимствования — "влияние"
может быть и от обратного»3. Развивая эту идею, известный
современный исследователь русской философской традиции С.С. Хору-
жий, на наш взгляд, удачно сравнивает становление самобытной
отечественной мысли с развитием патристики. Последняя
использовала античную философию для создания оригинального
христианского богословия. Точно так же русские философы опирались на
1 Шеллинг. Система трансцендентального идеализма. С. 356.
2 Бердяев H.A. Алексей Степанович Хомяков. М., 1912. С. 125.
3 Флоровский Г.В. Пути русского богословия. С. 274.
191
западноевропейскую духовную традицию, содержащую
«высокоразвитые способы философствования», но не просто транслировали
ее, а на этой базе создавали «новое течение мысли» .
В этой связи мы не можем согласиться с позицией A.M.
Пескова, утверждающего, что немецкая философия была не просто
идейным источником взглядов славянофилов, а, «используя понятие
психологии, можно сказать, что мы имеем дело со своего рода
германским комплексом»2. В подтверждение своей точки зрения он
приводит два аргумента: во-первых, «бесконечные обсуждения
вопроса» о необходимости преодоления немецкого рационализма и
перехода на позиции «православно-русского любомудрия»;
во-вторых, этот комплекс обнаруживает себя в превращении «немецкого
типа философствования в символ западноевропейского духа». Мы
думаем, что поскольку немецкая классическая философия в первой
половине XIX в., безусловно, была высшей формой
западноевропейской мысли, то постольку именно она выражала наиболее полно
в этот период суть западного спекулятивного мышления, а ее
преодоление было необходимым условием создания самобытного
любомудрия.
Поэтому постоянное возвращение славянофилов к теме
немецкой философии, на наш взгляд, было необходимым условием
творческой работы по выработке собственного мировоззрения, а никак
не проявлением «германского комплекса».
Итак, A.C. Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. Аксаков, Ю.Ф.
Самарин не были просто эпигонами, им удалось выработать во
многом оригинальные религиозно-философские и социологические
взгляды, получившие название славянофильства. Определяющим
признаком этого течения, на наш взгляд, выступает тезис о русском
мессианстве, то есть об особой исторической роли русского народа,
порождаемый двумя факторами — «православием» и «общинно-
стью». При этом православие не случайно поставлено на первое
место, ибо через призму религии славянофильство рассматривает
все важнейшие проблемы как индивидуальной, так и социальной
жизни.
Славянофилы формально не примыкали ни к одной из
философских школ: конечно, они не признавали материализм,
характеризуя это течение как «упадок философского духа», но и сущест-
1 См.:Хоружий С.С. Философский процесс в России как встреча философии и пра-
вославия//Вопросы философии. 1991. № 5. С. 34.
2 Песков A.M. Германский комплекс славянофилов//Россия и Германия: Опыт
философского диалога. М., 1993. С. 56.
192
вующие формы идеализма ими полностью не принимались.
Наиболее существенный вклад в выработку философских принципов
славянофильства внесли A.C. Хомяков и И.В. Киреевский. Исходной
посылкой философского анализа окружающей действительности
выступает у Хомякова констатация того факта, что «мир является
разуму как вещество в пространстве и как сила во времени».
Однако вещество, или материя, «перед мыслью утрачивает
самостоятельность», ибо выступает «произведением или проявлением, а
никак уж не началом силы». Время также есть «сила в ее развитии»,
а пространство — «в ее сочетаниях»1.
Итак, в основе бытия лежит не материя, а сила, которая
понимается разумом как «начало изменяемости мировых явлений».
Естественно, встает вопрос об источниках этой силы. Алексей
Степанович при решении этой проблемы особо подчеркивает, что ее
начал «нельзя искать в субъекте». Индивидуальное, или «частное,
начало» не может «итожиться в бесконечное» и всеобщее,
напротив, оно должно получать свой источник от всеобщего. Поэтому он
делает вывод, что «сила или причина бытия каждого явления
заключается во «всем»2. «Все», с точки зрения Хомякова, содержит
ряд характеристик, принципиально отличающих его от мира
явлений. Во-первых, ему присуща свобода; во-вторых, разумность —
это свободная мысль; в-третьих, воля — это «волящий разум».
Этими чертами может обладать только Бог, «Все» лишь его другое
название. «Разумная воля», или «волящий разум», выступает
источником силы, а значит, и предопределяет всякое явление. В
приведенных выше рассуждениях предугаданы многие положения
«философии всеединства», которая стала достаточно стройной
системой благодаря трудам В. Соловьева.
A.C. Хомяков понимает мир как результат деятельности
«разумной воли», то есть как «образ единого духа». Поэтому познать
действительность можно лишь при условии приобщения к «сфере
духовного». Главным недостатком гносеологических построений
немецкой классической философии, по мнению славянофилов, было
то, что она исповедует познание «без действительности, как
отвлечение». В этом абстрагировании проявляется рационализм,
преувеличение значения схематического познания, которое в конечном
итоге сводится к «бесконечной, утомительной игре понятий». В
результате в западном философском мышлении исчезает и «живое,
1 См.: Хомяков A.C. Поли. собр. соч. Т. 1. С. 321—322.
2 Там же. С. 331.
13-6016
193
цельное понимание внутренней духовной жизни и живое,
непредупрежденное созерцание внешней природы»1. Итак, вместо
цельного познания западная мысль предлагает в качестве идеала знания
абстрактно-логическую схему, которая примитивизирует сложный
духовный мир. Так появляется неполное, искаженное
представление об истине, ибо «познаваемое в своей полноте есть полный
образ духа»2. Полный «образ духа» во всей полноте человеку в
принципе недоступен, так как «дух познаваемый не проникает вполне» в
сущность познаваемого, хотя цельное познание и улавливает
«элементы Истины». Из этого не следует, что славянофилы находились
на позициях агностицизма. Вслед за Кантом Хомяков разделяет
познаваемую действительность на мир сущностей и мир явлений, но
если у немецкого философа между этими ступенями познания
лежит непроходимая граница, то у Хомякова они взаимопроникают
друг в друга. Единство сущности и явления обусловлено их единой
основой, то есть «духовной силой». На уровне сущности «сила»
выступает «в смысле закона изменения явлений», на уровне
явления она вторгается в материальный мир, в «мир вещества».
Следовательно, в познании человек имеет дело с двумя родами истин:
первые характеризуют сущность, вторые — явление. Истины
первого порядка находятся «по ту сторону рассудка» и выступают не
как итог спекулятивного мышления, а как «непосредственное,
живое и безусловное знание». С его точки зрения, подобное знание
«следует назвать верою», оно гораздо выше знаний, полученных
путем «отвлеченного рационального анализа». Особое значение в
познавательном процессе, по мнению русского мыслителя, имеет
воля. Воля выступает как особая сила разума, в то же время
понятие о ней «дается человеку извне». Сама воля «не переходит в
образ познаваемый», принадлежа к «области допредметной», но
именно она определяет отношение человека «к предметам, способы
познания». Если воля имеет благую направленность и исходит из
признания действительности как «образа духа», то она возвышает
человека, приводит его к озарению, к «живознанию». Если же
«воля» поддерживает мысль о всесилии разума, то у человека
появляется несбыточная надежда «своими силами достичь
совершенства и полноты развития». Такая самоуверенность неизбежно
вызывает господство «утилитарных начал», и отсюда — «презрение
1 Киреевский ИВ. Критика и эстетика. М., 1979. С. 268.
2 Хомяков A.C. Поли. собр. соч. Т. 1. С. 273.
194
всякого мышления, не ведущего к материальным выгодам». Воля
теснейшим образом связана со свободой, а значит, и с
нравственным выбором личности, она имеет «вседержавность» в сфере
морали. Воля каждого отдельного человека не обладает полнотой, она
несовершенна, как несовершенны и его разум, и его поведение.
Высшие истины доступны лишь интеллекту, находящемуся «в
полном нравственном согласии со всесущим разумом», но такое
состояние для индивидуального сознания недостижимо, оно
свойственно лишь «всецелой полноте» человечества. Индивидуализм,
отрывающий человека от духовной целостности, сопровождается
деградацией лучших человеческих качеств, напротив — «в
самозабвении находит он прибыток расширяющейся жизни»1.
Следовательно, и философские идеи, относящиеся к сущностному уровню, а
значит, связанные с «жизнью духа», недоступны «отдельному
разуму»: он тут «бессилен и бесплоден». Иными словами, соборный
характер мышления должен проявляться не только в церкви, но и в
философии, однако при этом «разумность церкви является высшею
возможностью разумности человечества»2.
Славянофилы, исходя из идеи субординации различных
проявлений соборности, приходят к выводу, что философское мышление
полезно лишь постольку, поскольку не стремится господствовать
над религией. Если же происходит выдвижение философии на
передний план, то соборное сознание подменяется рассудочными
идеями. В этом случае философия превращается в самоцель и не
помогает религии, а заменяет ее собой. Именно с подобной
программой выступал до своего «обращения» в славянофильство
Ю.Ф. Самарин. При подготовке своей диссертации «Стефан
Яворский и Феофан Прокопович» он ставил задачу «оправдать
православие философией Гегеля». Более того, для него тогда
религия не выступала главным фактором в развитии духа, так как он
считал «высшим моментом» в его становлении философию. Эти
взгляды получили резко негативную оценку со стороны ведущего
идеолога славянофильства, подчеркивающего служебный характер
философии по отношению к религии. Она, с его точки зрения, не
чужда божественным истинам, но составляет по отношению к ним
«низшую стихию». Ее задача сводится к обеспечению
«переходного движения» человеческого разума «из области веры к
многообразию мысли бытовой». Философия, как и в целом человеческий
1 Хомяков A.C. Поли. собр. соч. Т. 1. С. 270.
2 Там же. С. 281.
13*
195
разум, может «полноту своего существования находить только в
вере»1. Правда, речь идет о вере, очищенной от суеверий и не
стоящей в стороне от «развития религиозной мысли».
В то же время славянофилы подвергли критике
распространенный в консервативном православном богословии тезис об
антагонизме религии и философии. С их точки зрения те, кто отвергает
философию ради спасения «вечных истин», более «самих
философов вредят убеждениям религиозным». Все дело в том, что
философские проблемы не являются чем-то второстепенным, а входят в
«неистребимые потребности человеческого мышления».
Философия играет важную методологическую роль в познании, ибо она,
как подчеркивает И.В. Киреевский, не просто одна из наук, а
«общий итог и общее основание всех наук и проводник между ними и
верою»2.
Итак, философия у славянофилов выступает необходимым
проявлением человеческого разума. Ее главная задача сводится к
подчинению рассудочных положений соборным истинам, тем самым
она гармонизирует эти начала человеческой жизни. Рациональное
должно функционировать только в пределах, предписываемых ему
соборными установками, то есть не претендовать на решение
«коренных вопросов» как для личности, так и для социума в целом.
Следовательно, славянофильское учение о соборности не отрицает
разума как инструмента познания, но устанавливает субординацию
между верой и человеческим мышлением. Господствующее
настроение славянофильской философии — это иррациональные
интуиции, но они существуют рядом с рациональными положениями.
Поэтому, на наш взгляд, квалификация славянофильства как
последовательного иррационализма некорректна.
Идеи Хомякова об особом значении волевого начала и в мире, и
в сфере познания делают его концепцию созвучной учению
Шопенгауэра, хотя, как справедливо подчеркивал Н.П. Колюпанов,
взгляды русского мыслителя были разработаны «совершенно
самостоятельно и не заимствованы у последнего»3. Особое внимание
Хомякова к волевому фактору объясняется тем, что для него, как и для
других славянофилов, истина не может оставаться лишь в сфере
теории, она должна быть воплощена в жизнь. Ее реализация
зависит от волевых усилий, лежащих в основе деятельности людей, на-
1 Хомяков A.C. Поли. собр. соч. Т. 1. С. 262.
2 Киреевский И.В. Поли. собр. соч. Т. 1. М., 1911. С. 252.
3 Колюпанов Н.П. Очерк философской системы славянофилов//Русское
обозрение. 1894. № 11. С. 61.
196
правленной на изменение бытия как индивида, так и общества в
целом. Для обозначения философского учения о бытии
используется специальное понятие — онтология, поэтому рассмотрение
истины как силы, преобразующей мир, называется «онтологизацией
истины». Онтологизация истины — одна из характерных
особенностей отечественной духовной традиции, она была присуща и
славянофильству. В силу этого теоретические философские построения,
хотя и занимают видное место в славянофильской доктрине,
никогда не были для русских мыслителей самоцелью. Новая самобытная
русская философия не может и не должна оставаться лишь
теорией, она должна носить практический характер, помогая претворять
в жизнь «христианские принципы общежития». Анализ взглядов
славянофилов на роль философии показывает некорректность
тезиса, отстаиваемого И. Берлиным, согласно которому немецкая
метафизика сняла со славянофилов «цепи... догм православной
церкви»1. В действительности происходил процесс не отказа от
православных убеждений, а, напротив, русские мыслители «воцерков-
ляли» философию.
Богословские темы в творчестве славянофилов
Главные идеологи славянофильства попытались преодолеть
«корпоративную замкнутость» православного богословия, в силу
которой богословские темы были уделом лишь профессионалов, то
есть священнослужителей и представителей духовных учебных
заведений.
Особенно большой вклад в развитие православной
богословской мысли внес A.C. Хомяков: его перу принадлежит целый том
богословских сочинений, но дело, конечно, не только в объеме
написанного. В предисловии к этому тому, который определением
Синода был «разрешен к изданию и обращению» в России лишь в
1879 г., Ю.Ф. Самарин писал, что православие оставалось
совершенно в стороне от «диалектического развития религиозной
мысли»2. С его точки зрения это объясняется рядом причин: после
петровских реформ происходит отход образованного общества от
церкви, православие и просвещение расходятся между собою; в
церковной жизни начинает господствовать «казенщина» и духовная
цензура, «умственная производительность православной школы» сковы-
1 Берлин И. История свободы. Россия. М., 2001. С. 23.
2 Самарин Ю.Ф. Предисловие к первому изданию богословских сочинений A.C. Хо-
мякова//Хомяков A.C. Полн. собр. соч. Т. 2. М., 1900. С. III.
197
вается схоластикой, она все более и более «запутывается в лати-
но-протестантских антиномиях». Западный рационализм
проявился в ней «в виде научной справы к догматам веры, в форме
доказательств, толкований и выводов»1. Иными словами, схоластика и
связанный с ней богословский рационализм приводят к
размыванию оригинальных начал, присущих православной мысли. И не
случайно у Самарина «Алексей Степанович Хомяков — учитель
Церкви», восстанавливающий самобытность отечественного богословия.
Анализируя значимость своих идей, A.C. Хомяков отмечал, что
«одобрение моего «Исповедания» было бы для меня гораздо
дороже всех моих статей»2. Такая оценка значения религиозного
мировоззрения вытекает из принципиальных, методологических
установок русского мыслителя. Для него материальные факторы
общественного развития — лишь «призрак», ибо мир «есть
проявление свободно проявляющегося духа». Отношение человека к
«творящему духу» находит концентрированное выражение в его
вере, которая предопределяет и образ мыслей человека, и образ
его действий.
«Исповедание» Хомякова включает в себя принцип историзма
как важнейшую основу богословских воззрений, ибо «тот не
понимает настоящего, кто не знает прошедшего». В этой связи он
рассматривает само уяснение религиозных истин как сложный и
длительный процесс, связанный с историческими этапами развития
человечества. В своих «Записках о всемирной истории» главный
создатель славянофильства делит все религии на две основные группы:
иранскую и кушитскую. Коренное различие этих религий
определяется, по его мнению, не числом богов и не обрядами, а категориями
свободы и необходимости, которые «составляют то тайное начало»,
около которого в разных образах сосредоточиваются все мысли
человека. Кушитство строится на началах необходимости, обрекая
людей на бездумное подчинение, превращая их в простых
исполнителей чужой воли. Напротив, иранство — это религия свободы,
она обращается к внутреннему миру человека, требует от него
сознательного выбора между добром и злом. Наиболее полно
сущность иранства выразило христианство. П.А. Флоренский
специально полемизировал с этими тезисами Хомякова. По его мнению
иранство «по характерным чертам своим весьма напоминает
протестантское самоутверждение человеческого «Я» и, во всяком слу-
1 Самарин Ю.Ф. Предисловие к первому изданию богословских сочинений A.C.
Хомякова/Дом я ко в A.C. Поли. собр. соч. Т. 2. М., 1900. С. XXIII.
2 Хомяков A.C. Полн. собр. соч. Т. 8. М., 1904. С. 167.
198
чае, не ближе к православию, чем кушитство» . Думается, что все
же Флоренский в своих критических замечаниях не совсем прав,
ибо для Алексея Степановича свобода и необходимость не являются
свойствами отдельного индивида, как в протестантизме. В.В. Зеньков-
ский справедливо писал, что у Хомякова «свобода принадлежит
Церкви как целому, а вовсе не каждому члену Церкви в
отдельности»2. Поэтому славянофильское понимание свободы отнюдь не
разрушает церковности. Да, в истории иранства, как признается
Хомяков, не раз «духовность терялась в совершенной
неопределенности и переходила из религии в простую потребность религиозного
чувства; форма исчезала»3. По мере развития иранского начала эти
недостатки преодолевались, особенно это стало заметно в «эпоху
крутого перелома», то есть после появления христианства и
деятельности вселенских соборов.
Определение статуса вселенских соборов у Хомякова и других
славянофилов связано с решением вопроса о соотношении Писания
и Предания.
Священное Писание, то есть слово Божие, сообщает
«основные данные», являющиеся для «души вне всякого сомнения» и
выступающие основой веры. Однако сколь бы ни было «велико
участие Духа Божия в книге Священного Писания, эта книга все-таки
произведение человеческое, по крайней мере по наружности»4.
Отсюда понятно, что Библия «не имеет очерченных границ», то есть
ее положения допускают различные толкования. Это особенно ясно
на примере протестантов, искажающих Писание, ибо каждый
начинает понимать и толковать его «по своему произволу». В силу
этого они теряют «живой смысл» Библии и, «удержав книгу, утратили
Писание».
Для A.C. Хомякова Библия «не есть книга написанная», ибо то,
что написано, «только видимая оболочка». Писание — это «книга
мыслимая», она есть «мысль общины, или Церкви». Поэтому
философ убежден, что тот, «кто отрицает Церковь, тот осуждает на
смерть Библию»5. Католицизм, если оценивать его позицию по
формальным критериям, сохраняет и Писание, и Предание, но в
действительности он «потерял Истину». Все дело в том, что «Пре-
1 Флоренский П.А. Около Хомякова (критические заметки). Сергиев Посад, 1916.
С. 22.
2 Зеньковский В.В. История русской философии. Т. 1.4. 1. С. 203.
3 Хомяков A.C. Поли. собр. соч. Т. 5. С. 289.
4 Хомяков A.C. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1994. С. 79.
5 Там же. С. 116—117.
199
дание есть полнейшее развитие единства, основанного на взаимной
любви», а католицизм отверг этот принцип, разрушил «живое
общение» западного и восточного христианства. Римский престол
осознал себя «совершеннолетним и заговорил от своего имени,
пренебрегая чужим мнением, не требуя ни совета его, ни согласия
в делах веры»1. В результате божественное Предание заменяется
«человеческим мнением», его боговдохновенность теряется, а
вместо нее на первый план выходят «истины», провозглашенные папой
Римским.
По мнению славянофилов, правильное понимание сути
христианского вероучения сохранило только вселенское православие,
считающее, что божественное откровение проявляется в двух формах,
ибо «Писание не иное что, как Предание писаное, а Предание не
иное что, как Писание живущее» . Исходя из данного понимания,
эти столпы христианства не могут рассматриваться вне
исторического процесса, ибо «мысль Церкви в настоящую минуту и мысль
ее в минувших веках есть непрерывное Откровение»3. В этой связи
становится понятным отрицательное отношение славянофилов к
«омертвению Предания», к исключению его из реалий церковной
жизни.
Предание отражает историю христианства, полную
драматических событий. В первые три века своего существования оно
преследовалось «ненавистью народов и кесарей», против него
ополчилась «вооруженная софизмами лжефилософия», но в результате
новая религия сумела завоевать империю. В этот период, как
считает Хомяков, вера была прежде всего следствием «мистического
дара», но после превращения христианства в государственную,
массовую религию потребовали «от веры точности логического
выражения». Эта задача была решена первыми двумя вселенскими
соборами, принявшими символ веры и тем самым «спасшими
христианское учение». Для русского мыслителя «символ Никее-Кон-
стантинопольский — полное и совершенное исповедание Церкви,
из которого она ничего исключить и к которому ничего прибавить
не позволяет»4. Такая оценка догматических начал показывает,
какое большое значение русские мыслители придавали православной
традиции.
1 Хомяков A.C. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 255.
2 Там же. С. 47.
3 Там же. С. 184.
4 Хомяков A.C. Поли. собр. соч. Т. 2. С. 9—10.
200
Интересно отметить, что П.Я. Чаадаев был антиподом
славянофилов не только в области историософии, но и в отношении к
христианским догматам. Для него «догмат по природе неподвижен и
неподатлив» и тот, кто стремится свести христианство к этим
«незыблемым началам», превращается в «прислужника догмата»,
оставаясь «вечно пригвожденным к своему обязательному
верованию»1. Такой подход к оценке символа веры опирается, по мнению
славянофилов, на искаженное, внеисторическое понимание
Предания.
Мы уже отмечали, что бытие церковной мысли славянофилы
рассматривают как «непрерывное Откровение». Следовательно,
проблема догматического развития для них является одной из
основных вероучительных тем.
Объясняя свою позицию по данному вопросу, И.В.
Киреевский обращает внимание на то, что историческая церковь
«постоянно приводит к своему сознанию вечную, неисчерпаемую
истину». Этот процесс происходит во времени, следовательно,
«мы... исповедуем Церковь развивающуюся». Суть этого
развития не в «изобретении новых догматов» или «в отрицании
положений символа веры», а в том, что «каждый догмат заключает в
себе живое начало, зародыш», прорастающий «только в почве
Церкви, то есть переходя в сознание людей»2. Киреевский
понимает догматическое развитие как реализацию внутренней
потенции вероучения в ходе истории. Зародыш становится все более
мощным растением, и в силу этого верующие понимают
догматические начала «согласно церковному разуму». Иными словами,
осознание догматических истин рассматривается И.В. Киреевским
сквозь призму категорий «возможность» и «действительность».
Деятельность божественной благодати создает для людей
возможность богопознания. Эта возможность по мере исторического
процесса становится действительностью, но полностью реализоваться
в земном бытии она не может.
Ю.Ф. Самарин решает проблему догматического развития
несколько иначе. Соглашаясь с тем, что не могут появляться новые
догматы и искажаться Никее-Константинопольский символ веры,
он обращает внимание на роль «исторической обстановки» в
понимании догматических начал. Поэтому «догмат не изменяется, но
логическое формулирование догмата и определение отношений его к
1 Чаадаев П.Я. Статьи и письма. М., 1989. С. 195.
2 Киреевский И.В. Поли. собр. соч. Т. 2. М., 1911. С. 291.
201
другим учениям — задача церковной науки»1. Следовательно,
богословие должно, исходя из «обстоятельств, места и времени»,
излагать вечные истины веры в новой форме, созвучной изменениям,
происходящим «во всех отраслях человеческого развития, в науке,
в художестве, в практических применениях». Ю.Ф. Самарин
объясняет догматическое развитие через категории формы и содержания:
неизменное содержание веры в ходе исторического процесса
требует новой формы изложения.
В своих взглядах A.C. Хомяков пытается синтезировать подходы
И.В. Киреевского и Ю.Ф. Самарина. Он подчеркивает, что само
понятие догматического развития «крайне неточно» выражает
умственное движение, связанное с историей догмата. С точки зрения
мыслителя «все тайны веры были открыты Церкви Христовой от
самого ее основания». Однако он категорически не согласен с
теми, кто на этом основании делает вывод о ненужности
«последующей работы», напротив, он убежден в необходимости
деятельности, продолжающейся во все века, по усвоению истин
Откровения. Истины веры неизменны, но выражение их «не может не
изменяться сообразно с развитием аналитического слововыражения и
с характером умственных приемов каждой эпохи»2. Следовательно,
историзм в понимании догматов требует новой формы изложения,
соответствующей запросам времени. В этом пункте взгляды A.C.
Хомякова и Ю.Ф. Самарина совпадают.
Однако A.C. Хомяков особо подчеркивает, что
совершенствование формы выражения догматических начал осуществляется
постоянно, ибо она «по самому существу всегда недостаточна». По его
мнению тот, кто принял бы «аналитическое движение в церковной
терминологии за развитие Церкви, тем самым погрузился бы в
рационализм»3. Но опасность подобного рода сохраняется, ибо
«научное движение церковной терминологии» приводит к «выражению
истины в формулах более строгих и более определенных». В этой
связи легко усвоение догматических начал свести к деятельности
разума, ищущего «логическую аргументацию для веры».
Поэтому A.C. Хомяков, для того чтобы более точно представить
роль человеческого мышления в уяснении догматов, прибегает для
анализа этих проблем к категориям возможности и
действительности, то есть ему не чужда позиция И.В. Киреевского по данным во-
1 Самарин Ю.Ф. Предисловие к первому изданию богословских сочинений A.C. Хо-
мякова//Хомяков A.C. Поли. собр. соч. Т. 2. С. VII.
2 Хомяков A.C. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 188.
3 Там же. С. 189.
202
просам. A.C. Хомяков также считает, что истины веры — это
«сокровище глубокой и невыразимой мысли, присно хранимое
Церковью в своих недрах»1. По мере исторического развития
возможность богопознания выражается в человеческих словах, но все
подобного рода построения могут только служить «намеками на идею,
но не определениями ее». Действительное содержание религиозных
истин в полном объеме людям недоступно, ибо «слово
человеческое не в состоянии ни определить, ни описать их; оно может
только возбудить в разуме, т.е. в мире человеческом, мысль или
порядок мыслей, соответственных реальности мира Божественного»2.
Деятельность рационального мышления необходима, без него
христианская мысль была бы «простым сохранением древних формул»,
но она никогда не может стать критерием религиозной истины.
Борьба славянофилов со схоластическими установками в
догматическом богословии заставляет их постоянно подчеркивать
недостаточность рационализма для понимания духовной сферы.
Основные истины вероучения не умещаются «в одной познавательной
способности», они укореняются «в полноте разумного и
нравственного бытия». Вместо одностороннего рассудочного анализа
славянофилы формулируют идеал целостного познания. Если
рационализм превращает догмат в объект «внешнего почитания», в
«логическую доктрину», то подлинное православие видит в нем
«жизненную истину». Истинная вера, с их точки зрения, «не только
мыслится или чувствуется, но и мыслится, и чувствуется вместе;
словом — она не одно познание, но сразу познание и жизнь»3. В этой
формуле восстанавливается святоотеческая традиция в понимании
символа веры. Естественно, отношение славянофилов к
догматическим трудам православных богословов 40—50-х годов XIX в. было
достаточно прохладным, особенно резкие возражения вызывали
работы митрополита Макария (Булгакова), и прежде всего за его
увлеченность схоластикой.
Славянофильское целостное познание часто понимают как
последовательный иррационализм, но это не так. Именно A.C.
Хомяков, И.В. Киреевский и другие одними из первых постарили в
России вопрос о богословском творчестве. Поскольку христианство
выражается «в логической форме, которую мы называем
«теологией», то ее совершенствование — «законная задача разума». Они
выступали против консерватизма современного им православного
1 Хомяков A.C. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 190.
2 Там же. С. 184.
3 Хомяков A.C. Поли. собр. соч. Т. 2. С. 50.
203
духовенства, отрицавшего всякую оригинальную богословскую
мысль. По их мнению в религиозной сфере много таких положений,
по которым церковь своего мнения не сформировала, и каждый
верующий вправе сам высказаться по этим проблемам. Более того,
как подчеркивал A.C. Хомяков, апостолы свободное исследование
веры «даже вменяли в обязанность»1.
В этой связи встает задача определения соотношения свободы
богословского исследования и догматической обязательности.
История церкви свидетельствует о том, что религиозные мыслители
«свободно вносят в общий труд дань своих более или менее
удачных усилий», при этом, встав на путь творчества, они «не знают
над собою никакого внешнего авторитета». Но, отвергая
принуждение как путь к «единству в вере», славянофилы не приемлют и
понимание богословского творчества как «опознания разногласий». В
этом случае церковь превращается «в пустой звук», в собрание
людей «разнообразных убеждений». Следовательно, «разумная
свобода» есть не анархическая борьба «всех против всех», свое
оправдание она находит в «единомыслии с Церковью».
Анализ богословских воззрений славянофилов показывает, что
они стремятся синтезировать догматическую обязательность с
богословским творчеством. В этой связи мы никак не можем
согласиться с позицией современного польского исследователя Пшебинда
Бжегожа, который считает, что хотя «история русского теизма в
XIX в. начинается с Чаадаева, Киреевского и Хомякова»2, но
адекватно это учение якобы мог выразить лишь «басманный философ».
С его точки зрения Чаадаев сумел «реализовать теизм в его
натуральном значении» в силу того, что «принял
консервативно-христианскую систему ценностей более в духе Билланша и Бональда,
чем как-то связанную с православием»3.
Славянофилы же создали «имманентный» вариант теизма,
лишающий «человека возможности осуществить
индивидуально-коллективный акт восхождения к подлинности бытия Божьего»4. В
действительности именно Чаадаев с его адогматизмом, с отказом от
православного Предания, с преобладающим рационализмом
отходит от принципов теизма. В то же время A.C. Хомяков, как
справедливо подчеркивает Г. Флоровский, несмотря на свое новаторст-
1 Хомяков A.C. Поли. собр. соч. Т. 2. С. 53.
2 Przebinda G. Ob Czaadajewa do Bierdiajewa. Sporo boga i czlowika w mysli rosyjskiej
(1832—1922). Krakow, 1998. S. 94.
3 Там же. С 101.
4 Там же. С. 54.
204
во, «остается верен именно основной и древнейшей отеческой
традиции»1. А именно патристика создала наиболее адекватную форму
выражения принципов христианского теизма.
Итак, A.C. Хомяков и славянофилы внесли в рассмотрение
догматических начал православия ряд новых моментов: они выделяют
в Символе веры неизменную сущность и подвижную форму ее
выражения (или потенциальную и реальную возможность в
понимании догмата); обращают особое внимание на единство истин веры и
«жизненных дел». Наконец, их понимание традиции дает
возможность сочетать догматическую обязательность с богословским
творчеством.
Несмотря на новые моменты, отличающие славянофильское
учение от догматических построений — митрополита Макария
(Булгакова), архиепископа Антония (Амфитеатрова) и других, оно
не разрывает связь с традицией, а, напротив, ее восстанавливает.
Действительно, преодоление схоластических влияний, жизненное
познание веры, то есть возвращение на «забытый путь опытного
богопознания», — эти установки созвучны духу восточной
патристики. А главное — славянофилы вносят историзм в понимание
догматических начал. В силу этого догмат из застывшей схемы
превращается в живой и подвижный инструмент церковного сознания.
Естественно, и богословие в этом случае не сводится к «охранению
вечных истин», а на него возлагается задача ответить на вызов
времени, то есть создать такую форму теизма, которая бы была
понятна современникам.
Историософия славянофилов
Определяющим признаком славянофильской историософии, как
мы считаем, выступает тезис о русском мессианстве, то есть об
особой исторической роли русского народа, порождаемой двумя
факторами — православием и общинностью. При этом православие не
случайно поставлено на первое место, ибо через призму религии
славянофильство рассматривает все важнейшие проблемы как
индивидуальной, так и социальной жизни, именно религиозный
фактор определяет «ход истории».
Исходной посылкой философии истории славянофилов
выступает оценка этапов религиозного развития человечества, сложный
процесс сведения в систему «всей картины человечества»2. В этой
1 Флоровский Г. Пути русского богословия. С. 278.
2 Хомяков A.C. Поли. собр. соч. Т. 5. М., 1900. С. 17.
205
связи возникает проблема оценки различных направлений
христианства. Важнейшим критерием при этом становится принцип
гармоничного сочетания «свободы и необходимости» или
индивидуальных религиозных представлений и обязательных для всех
церковных догматов. При решении этих задач, как мы увидим, и было
выработано славянофильское учение о соборности.
Итак, русские мыслители вопрос об истинной вере сводят к
уяснению того, какое направление христианства — православие,
католицизм или протестантизм — наиболее адекватно выражает
сущность евангельской религии. Вот почему идеологи
славянофильства так много места в своих работах отводят рассмотрению
основных направлений христианства. Сложность оценки того или
иного вероисповедания, по их мнению, заключается в том, что
религиозное учение познается не рассудочно, а жизненно. Благодаря
этому и проявляется вера, которая знаменует «присутствие Духа
истины в нас самих». Этот подход неизбежно сопровождается
признанием решающего значения «мистических озарений» в
религиозном познании, что порождает опасность субъективного
истолкования христианства. Низведение же религиозных убеждений «на
степень субъективных воззрений, чаяний, предположений равносильно
не простому игнорированию, а самому радикальному отрицанию
Откровения»1. Для того чтобы преодолеть эту опасность,
необходима гармонизация «единого» церковного начала с индивидуальной
религиозностью членов церковного организма.
Католики, как считали славянофилы, «гармонизацию единства
и множественности» свели к безусловному авторитету «единства».
Власть папы сделалась «последним основанием веры», и народ, то
есть рядовой мирянин, «не должен был мыслить, не должен был
даже читать Божественного писания»2. В силу этого в католицизме
сложилось нетерпимое отношение к «самостоятельному
человеческому мышлению». Почти все выдающиеся мыслители в той или
иной форме преследовались католической церковью. Узурпация
власти Римским папой привела также и к извращению символа
веры. «Вселенская непогрешимость», основанная на решениях
первых всехристианских соборов, отвергается введением новых
догматов. Тем самым, как подчеркивают русские мыслители,
нарушается критерий «религиозной истинности», ибо новые положения
вероучения не вытекают «органически» из Священного Писания и
церковного Предания.
1 Самарин Ю.Ф. Соч. Т. 6. М., 1887. С. 416.
2 Киреевский И.В. Поли. собр. соч. Т. 1. М., 1911. С. 229.
206
Закономерной реакцией на отсутствие в католицизме
«церковной свободы» является, по мнению славянофилов, появление
протестантизма. Главным объектом критики со стороны протестантов
становится католическое понимание единства. Отвергая власть
папы, подавляющую индивидуальную религиозность, реформаторы
христианства впадают в другую крайность, выдвигая на первый
план внутреннее проявление религиозных чувств. Протестантизм,
как отмечает A.C. Хомяков, «держится такой свободы, при которой
совершенно исчезает единство Церкви»1. Индивидуализация
христианства также неизбежно ведет к извращению вероучения, «к
отрицанию догмата как живого предания». Вместо авторитета церкви
у протестантов появляется авторитет разума, начинает
господствовать философский рационализм. Несмотря на формальное различие
между католицизмом и протестантизмом, в них, с точки зрения
русских мыслителей, много общего. Прежде всего их сближает поиск
внешних критериев истинности религии: у одних это папа, у
других — собственный разум. В этой связи — господство утилитарных
начал в западных вероисповеданиях, их направленность к «земным
целям». Все это приводит к тому, что католики и протестанты
«судят о вещах небесных как о вещах земных»2. Подвергнув критике
католицизм и протестантизм, славянофилы выдвинули тезис о том,
что только православие гармонизирует церковные и
индивидуальные начала. Главным достоинством православной церкви, по их
убеждению, является сохранение в «чистоте христианского
вероучения». Только православный Восток исповедует символ Ни-
кее-Константинопольский, из которого истинная церковь «ничего
исключить и к которому ничего прибавить не позволяет»3. Для
выработки гармоничного сочетания индивидуального и церковного
необходимо обратиться к учению о соборности.
Следует напомнить, что соборность является одной из
характеристик церкви, включенной в православный символ веры. Его
девятый член формулируется следующим образом: «Верую во единую,
святую, соборную и апостольскую Церковь». Хомяков особо
подчеркивает, что учителя православные остановились — при
переводе символа веры на славянский язык — на слове «соборный».
Однако понимание соборности долгое время не имело адекватной
философской формы выражения. Это был принцип церковной и
социальной жизни, который оказывал существенное влияние на форми-
1 Хомяков A.C. Поли. собр. соч. Т. 2. М., 1900. С. 112.
2 Там же. С. 108.
3 Там же. С. 9—10.
207
рование отечественной духовной традиции. Само его появление
связано с отличием восточного христианства от католицизма. Все
дело в том, что если западное христианство — в силу ярко
выраженной рационалистической струи — имело четкие формулировки
большинства религиозных установок и богословские споры,
уточняющие те или иные положения церковного учения, проходили там
«в понятийной сфере», апеллируя к разуму каждого человека, то
православие (в силу преобладания 'иррациональных тенденций в
богословии) по многим важным проблемам не имело однозначных,
четко сформулированных определений. Такая ситуация, с одной
стороны, приводила к разнообразным мнениям в рамках церковного
богословия, а с другой — аргументом в истинности того или иного
тезиса становилась не логическая доказательность, а его
распространенность в «церковной ограде». К тому же в православии в
отличие от католицизма нет первосвященника, которому бы уже в
силу должности приписывалась непогрешимость. Патриарх —
первый среди равных по благодати архиереев, и высшим авторитетом в
делах веры было соборное решение. Так возникает особое значение
коллективного, соборного начала в определении истины. Кроме
восточно-христианских и национальных истоков учение о
соборности опиралось также на идейное наследие Шеллинга. Немецкий
мыслитель, исходя из общих установок своей системы, считал, что
все существующее «обладает единством, из которого оно
произошло»1. При этом чем ближе явление к «единству», тем оно
совершеннее, и, напротив, обособление от всеполноты подавляет
«стремление вернуться к единству всего», а значит, и обрести
идеал. Анализ взаимоотношений единства и множественности приводит
философа к выводу, что «каждому дано свое особенное время,
чтобы оно в множестве было единым и в бесконечности —
конечным»2. Задачей философии, причем очень трудной и доступной
лишь узкому кругу мыслителей, и является, по мнению Шеллинга,
выделение «божественного, то есть единого, начала в наличном
бытии всех существ». Подобная программа была близка
славянофилам, не случайно A.C. Хомяков называл Шеллинга «воссоздате-
лем цельного духа».
Наиболее полно учение о соборности было раскрыто в работах
A.C. Хомякова. В противовес католицизму и протестантизму он
считает неприемлемым рассмотрение церкви как союза мирян и
клира, основанного на «внешнем авторитете», ибо сама экклесия
1 Шеллинг. Сочинения: В 2 т. Т. 1.М., 1987. С. 533.
2 Там же. С. 542.
208
не может рассматриваться как «множество лиц в их личной
отдельности»1. Церковное единение предполагает качественные
характеристики и не должно ограничиваться количественными
показателями. Важнейшей чертой качественной стороны жизни церковной
общины выступает «углубленность ее членов в истину».
Для славянофилов принципиально важны два момента:
во-первых, истина не принадлежит избранным, она — достояние всех тех,
кто «вошел в церковную ограду»; во-вторых, приобщение к истине
не может быть насильственным, так как «всякое верование... есть
акт свободы»2. Отвергая принуждение как путь к единству,
славянофилы ищут более эффективное средство, способное сплотить
церковь. Таким средством, по их мнению, может быть только
любовь, характеризуемая при этом не только как этическая категория,
но и как сущностная сила, обеспечивающая «за людьми познание
безусловной истины»3. Наиболее адекватно выразить сочетание
имманентного единства, основанного на свободе и любви, может,
по мнению A.C. Хомякова, только слово «соборный». Оно
выражает «идею собрания», притом не только видимого, но и
«существующего потенциально без внешнего соединения. Это единство во
множестве»4.
Анализируя церковные критерии соборности, A.C. Хомяков
приходит к выводу, что они проистекают от «духа Божия»,
живущего в церкви и «умудряющего ее». Само проявление этого духа
многообразно: он выступает «в писании, в предании и в деле».
Следовательно, соборность является как «дар благодати, даруемый
свыше», — это внутреннее основание «непогрешимости соборного
сознания». Внешним же критерием соборности выступает принятие
тех или иных религиозных положений «всем церковным народом».
Изложенное понимание христианских истин критиковалось
православными богословами прежде всего за «преувеличение значения
человеческих начал в жизни церкви». Мы думаем, что нельзя
упрекать Хомякова в абсолютизации внешних критериев соборности.
Все дело в том, что для него «церковный народ», то есть видимая
церковь, живет по христианским принципам лишь постольку,
поскольку подчиняется церкви невидимой, небесной и «соглашается
служить ее проявлениям». Поэтому внутренний критерий соборно-
1 Хомяков A.C. Поли. собр. соч. Т. 2. С. 3.
2 Там же. С. 43.
3 Там же. С. 108.
4 Хомяков A.C. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 242.
14-6016
209
сти, связанный с Духом Святым, и внешний ее критерий,
опирающийся на «единомыслие церковных чад», не противостоят, а
взаимодополняют друг друга.
Исходя из этого понятно, что церковь мистическая и
историческая связаны между собой. Реальная церковная практика никогда
полностью не воплощает идеалов церкви небесной, но именно в
силу этой взаимосвязи христианское учение «становится
жизненным». Оно изменяет не только душу индивида, но и его отношения
с другими людьми, то есть социальную сферу, так как «благодать
веры неотделима от святости жизни». В этой связи отметим, на
наш взгляд, спорную позицию С.С. Хоружия. Известный философ
считает, что учение Хомякова о соборности «оказалось по существу
раскрытием одного главного вывода, вывода о благодатной и
сверхэмпирической природе Соборного Единства», в нем идет речь о
«Церкви мистической и невидимой»1. Мы уже отмечали, что нет
непроходимой границы между церковью мистической и земной, но,
более того, A.C. Хомяков был убежден, что соединение человека со
Христом «тогда лишь получает свой венец, когда оно
осуществляется в реальном мире, в принципе общежития»2.
Итак, «единство во множестве» выступает определяющим
признаком соборности, позволяющим выделить этот феномен из
мира других духовных образований. В свою очередь, соборность
становится у славянофилов критерием правильности религиозной
веры и основанной на ней церковной жизни, имеющей в их
концепции определяющее значение для всех других сфер
человеческой деятельности.
Учение о соборности привлекало и до сегодняшнего дня
привлекает многих философов, причем в оценках его значимости для
русской философии можно выделить две крайние точки зрения. Так,
Н.П. Ильин (Мальчевский) относит соборность к идеям и
принципам, «лишь промелькнувшим в истории русской мысли»3.
Полемизируя с нашей монографией «Философия соборности. Очерки
русского самосознания» (СПб., 1996), в которых мы доказываем, что
учение о соборности является одной из важнейших тем для
отечественной философии и духовной традиции в целом, Н.П. Ильин
заявляет, что у A.C. Хомякова «слово "соборность" практически не
встречается в собственно-философских работах». Кроме того,
Л.Е. Шапошников вынужден признать, что нет специальных тру-
1 Хоружий С.С. После перерыва. Пути русской философии. СПб., 1994. С. 23.
2 Хомяков A.C. Поли. собр. соч. Т. 2. С. 225.
3 Ильин Н.П. Трагедия русской философии//Москва, 2001. № 4. С. 209—210.
210
дов, посвященных соборности, ни у В.В. Розанова, ни у П.А.
Флоренского, и потому ему «приходится прибегать к постоянным
натяжкам и оговоркам»1. Хочется возразить оппоненту и напомнить,
что Хомяков считал, что слово «соборный» «содержит в себе целое
исповедание веры»2. Именно с позиций православной веры
основатель славянофильства вырабатывал свои философские построения,
которые реализуют соборные принципы. Отсутствие у В.В.
Розанова и П.А. Флоренского специальных трудов, раскрывающих
проблему «единства во множестве», не означает, что они не признают
учения о соборности. Если взять на вооружение подход,
отстаиваемый Н.П. Ильиным, согласно которому лишь наличие специальной
работы, посвященной тому или иному учению, свидетельствует о
его признании тем или иным философом, то получится абсурд.
Например, если у теолога нет специальных работ по догматическому
богословию, то, следовательно, он не разделяет Символ веры, а
если философ не написал специальных трактатов по проблемам
познания, то, следовательно, ему чужда гносеологическая
проблематика и т.д. В.В. Розанов и П.А. Флоренский философствовали в
«ритме соборности», решая с позиций этого учения многие темы,
именно об этом идет речь в нашей монографии.
Другой подход к пониманию роли соборности, на наш взгляд,
наиболее полно представлен профессором В.И. Холодным3. Он
справедливо отмечает, что A.C. Хомяков пытался «увидеть
соборное самопонимание во всех сферах жизнедеятельности: внутреннем
мире человека, вечностных (общечеловеческих) и этнических
традициях, общинном быте русского крестьянства и православной
«церковной ограде». Можно согласиться и с тем, что «соборное
самопонимание» оказало существенное влияние на отечественную
культуру, и прежде всего на русскую литературу XIX—XX вв.
Однако в трактовке исследователя «соборность представляет собой
человеческий вариант субстанции — первоначала всего
существующего». Это понятие становится для него «магическим
символом», в котором синтезируются «все аксиологические архетипы» и
т.п. С этими выводами едва ли можно согласиться. Учение о
соборности — одна из доминантных тем русской философии, в которой
нашли отражение православные традиции, особенности нашего на-
1 Ильин Н.П. Трагедия русской философии//Москва, 2001. № 4. С. 210.
2 Хомяков A.C. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 242—243.
3 См.: Холодный В.Н. A.C. Хомяков — дилетант и провидец постхристианского
завета//Вопросы философии. 2001. № 8. С. 145—156.
ционального самосознания и самобытной культуры, — именно в
этом плане оно нам и интересно.
Итак, «единство во множестве» выступает определяющим
признаком соборности, позволяющим выделить этот феномен из мира
других духовных образований. В свою очередь, соборность
становится у славянофилов критерием оценки исторического процесса,
важнейшим элементом их философии истории.
Славянофилы справедливо отмечали, что у многих
историографов прошлое «превратилось в бесконечное множество
подробностей» и за этим обилием фактического материала «пропало всякое
единство»1. Подлинным же предметом истории является
«отыскание общих начал», ибо все мелкие явления получают свой
«характер и окраску от целого». Какие же, с их точки зрения, общие
начала детерминируют «неотвратимую логику истории». Будучи
глубоко верующими людьми, идеологи славянофильства не могли
отказаться от одного из основных положений христианского
вероучения — провиденциализма. В своих работах они неоднократно
подчеркивали, что «нельзя по справедливости не признать путей
промысла в общем ходе истории»2. Дух Божий, «живущий в
совокупности церковной», и направляет общественное развитие. Но сам
этот дух, по принципу соборности, «проявляется во множестве», то
есть в действиях отдельных людей.
Идея соборности, как считали славянофилы, дает возможность
совместить провиденциализм с активностью человека. Они
утверждали, что «ничто не искажает так настоящего понимания
истории», как представление о том, что все события общественной
жизни являются «в виде неминуемого результата высших законов
разумной необходимости»3. Подобная позиция, по их мнению,
оборачивается «преступным пренебрежением к человеческим
способностям». Человек — «существо деятельное», поэтому он должен
«напрягать все Богом данные силы, не требуя от него чудес и
исключений из общих законов»4. Реальный исторический процесс —
это всегда совокупность «действий свободы человеческой и воли
всемирной». При таком понимании «божественная воля»
выступает в виде объективных законов развития общества, которые
проявляются через деятельность людей. Сами же чудеса трактуются не
1 Холмков A.C. Поли. собр. соч. Т. 5. С. 42.
2 Там же. Т. 2. С. 42.
3 Киреевский И.В. Поли. собр. соч. Т. 1. С. 244.
4 Хомяков A.C. Поли. собр. соч. Т. 8. С. 136.
212
как «нарушение общих законов», а как «проявление силы, о
которой вы еще не имеете полного знания»1. Исследователь же, для
того чтобы понять ход истории, не должен ограничиваться ссылкой
на божественную волю, а обязан изучать деятельность людей. Для
славянофилов именно народ является «единственным и постоянным
действователем истории», и потому A.C. Хомяков и К.С. Аксаков
выступали с критикой исторических работ Н.М. Карамзина и
СМ. Соловьева, поскольку те воспринимали народ как «пассивный
человеческий материал»2. Тем более для славянофилов были
неприемлемы господствующие церковные взгляды на роль народных
масс в истории. A.C. Хомяков отмечал, что призывы церкви
«смиренно ждать милостей божьих» во многом объясняются позицией
правительства, которое хорошо понимает «практическую выгоду
религии... в особенности по отношению к низшим слоям народа» .
В работах славянофилов часто употребляются термины «народ»
и «народность». Вообще тема «славянофилы и народ» — одна из
центральных при оценке этого течения. Славянофильское
понимание народа встречало и встречает полярные оценки. Если для
Чаадаева идея народности — пример «разнузданного патриотизма»,
ведущего страну к гибели, то для Розанова, напротив, —
проявление движения к «приобретению мировой роли, мирового значения
России». Ведущие идеологи славянофильства осознавали значение
правильного определения понятия «русский народ». И.В.
Киреевский признал, что его «московские друзья» трактуют народность
«совершенно различно»4. Однако определенные противоречия в
понимании того, что есть народ, существовали не только между
отдельными славянофилами. Так, H.A. Бердяев отмечает, что
«Хомяков в своем учении о национальном призвании постоянно
смешивает точку зрения религиозно-мистическую с точкой зрения
научно-исторической» .
Действительно, с одной стороны, славянофилы как бы
абстрагируются от исторических реалий, рассматривая народ как некий
постоянный «набор идеальных качеств», то есть выделяя некую
неизменную «духовную сущность», субстанцией которой выступает
православие и общинность. Но, с другой стороны, у русских мысли-
1 Хомяков A.C. Поли. собр. соч. Т. 8. С. 339.
2 См. там же. Т. 3. С. 272; Аксаков К.С. Поли. собр. соч. Т. 1. М., 1861. С. 254.
3 Хомяков A.C. Поли. собр. соч. Т. 2. С. 141.
4 Киреевский И.В. Поли. собр. соч. Т. 2. М., 1911. С. 247.
5 Бердяев H.A. Алексей Степанович Хомяков. М., 1912. С. 210.
213
телей много места занимает анализ конкретного, современного им
русского народа, основой которого выступает крестьянство. И не
случайно славянофилы так резко выступили против попыток
представить русского крестьянина каким-то бессмысленным и почти
«бессловесным животным». Более того, ощущение реальной связи
с народом для каждого человека, если он «не хочет создать вокруг
себя пустыню», совершенно обязательно. Для Хомякова народ —
«не условное» понятие, ибо речь идет о народе, «создавшем
страну», с которым «срослась вся моя жизнь, все мое духовное
существование, вся целостность моей человеческой деятельности». При
этом именно народ, а не аристократия, не «образованное
общество» является носителем лучших нравственных качеств. К.С.
Аксаков в одном из писем отмечал, что «русский человек или, лучше,
русский крестьянин есть в существенных своих проявлениях,
действиях и словах такой великий наставник и проповедник истины и
добра христианского учения, который убедит всякого, кажется, кто
упрямо не заткнет ушей»1.
Можно согласиться с Н.И. Казаковым, отметившим, что «если
ученые и писатели 30-х годов XIX века были увлечены идеей
народности в ее, так сказать, абстрактно-философском аспекте, то
славянофилы перенесли это увлечение на живых носителей идеи
народности, на простой народ, и в особенности русское
крестьянство»2. Первыми же в советской философской литературе,
указавшими на связь славянофильского понимания народности с
«трудящимся населением страны», были A.A. Галактионов и П.Ф. Никандров3.
A.C. Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. Аксаков, Ю.Ф. Самарин
принадлежали к дворянской элите России, но на этом основании
нельзя делать вывод, что «в славянофильстве прозвучал голос
именно "интеллигенции", а никак не голос "народа"»4. Да, конечно,
представители этого течения были интеллигентами, прошедшими
«через искус и соблазн европеизма», усвоившими многие
культурные ценности, недоступные простому народу. Однако, понимая
трагичность разрыва между культурным слоем и народом, они
пытались выступить своеобразной связующей силой между этими соци-
1 Письма СТ., К.С. и И.С. Аксаковых к И.С. Тургеневу//Русское обозрение. 1894.
Сентябрь. С. 19.
2 Казаков Н.И. Об одной идеологической формуле николаевской эпохи//Контекст
1989. М., 1989. С. 13.
3 См.: Галактионов A.A., Никандров П.Ф. Славянофильство, его национальные
истоки и место в истории русской мысли//Вопросы философии. 1966. № 6. С. 125.
4 Флоровский Г.В. Пути русского богословия. С. 253.
214
альными группами. Славянофилы ощущали себя именно
представителями народа, своеобразным «народным гласом» в образованном
обществе, и важно подчеркнуть искреннее желание славянофилов
«послужить народным интересам».
Исходя из тезиса о решающей роли соборного сознания в
истории, славянофилы рассматривают и деятельность великих
людей. По их мнению нельзя «все величие многовековых подвигов и
трудов народных приписать одному человеку, хотя бы и
гениальному»1. Ни один человек, как бы велик он ни был, не может быть
«полным представителем своего народа», то есть выразить все его
чаяния и стремления. Значение «исторического деятеля» зависит от
того, «какие потребности народа и насколько полно он восполнил».
В этом совпадении деятельности великих людей с народными
стремлениями и содержится возможность «дальнейшего развития
истории».
Такое понимание роли личности в истории приводит
славянофилов к своеобразной оценке самодержавия. Они считали, что
монархия — лучшая форма правления для России. В то же время, по их
мнению, царь получает свою власть не от Бога, а от народа «путем
избрания на царство». Например, первый представитель династии
Романовых, отмечает A.C. Хомяков, не отличался какими-то
особыми способностями, но в Михаиле Россия «видела... человека,
которого избрала сама, с полным сознанием и волею»2.
Для того чтобы оправдать свое предназначение, самодержец
должен «действовать в интересах всей Русской земли». Однако
«государь, как и всякий человек, может впасть в заблуждение»,
тогда политика монарха расходится с народными чаяниями. Подобная
ситуация наступает в том случае, когда «не все сословия в равной
степени пользуются его покровительством». Высшие слои
общества, преследуя свои корыстные интересы, ставят крестьянство «вне
закона». В России произошла деформация самодержавного
принципа, ибо «дворянство разлучило простой народ с царем»3.
Отмечая особенности славянофильской трактовки самодержавия, H.A.
Бердяев даже полагает, что она выступает «своеобразной формой
отрицания государства»4, содержит определенный анархический
элемент.
1 Аксаков КС. Поли. собр. соч. Т. 1. С. 166.
2 Хомяков A.C. Поли. собр. соч. Т. 1. С. 55.
3 Самарин Ю.Ф. Соч. Т. 2. М., 1887. С. 3.
4 Бердяев H.A. Судьба России. М., 1918. С. 4.
215
Анализ русских традиций, образа жизни россиян приводит
славянофилов к выводу об их принципиальных отличиях от
аналогичных феноменов западной цивилизации. Об этом писали A.C.
Хомяков, К.С. Аксаков, Ю.Ф. Самарин, но наиболее системно эти
различия, на наш взгляд, показал И.В. Киреевский. Они, с его точки
зрения, обусловлены следующими факторами: этническими
особенностями восточных славян и путями формирования у них
государства, различной формой проникновения христианства в эти народы,
наконец, способами передачи «образованности древнеклассическо-
го мира».
В узких границах Западной Европы происходит смешение
различных племен, между которыми царит «дух враждебности». Само
государство на Западе является следствием завоевания одного
народа другим. Поэтому «европейские общества, основанные
насилием... должны были развить в себе не общественный дух, но дух
личной отдельности»1. В России же государство возникает
вследствие «органического развития славянского племени». С самого
начала ведущую роль в русском обществе играет община, «так
называемые миры», и человек, «принадлежа миру», согласовывал
свое поведение как в общественной, так и в частной жизни с
«традиционным и однообразным обычаем». Отсюда понятно, что
на Руси мало была известна «личная самобытность, основа
западного развития».
Значимые отличия между Западом и Россией, по мнению
И.В. Киреевского, существовали и в путях их христианизации. На
Западе, в Римской империи, сформировались прочные языческие
традиции, притом не только на уровне обычая, но и в сфере
интеллекта; долгое время к новой религии враждебно относились
императоры, вследствие этого приобщение к евангельским истинам
было «длительным и мучительным процессом». Напротив,
христианство, «проникнув в Россию, не встретило в ней тех громадных
затруднений, с какими должно было бороться в землях, пропитанных
римской образованностью»2. Следуя традициям римского права,
западное христианство выдвигает на первый план формальный
критерий приобщенности к церкви, который берет верх над сущностной
стороной церковной жизни. С точки зрения католицизма единство
церкви сводится к «наружному единству епископов», ее
святость — к «непогрешимости Римского папы», проблема спасения
1 Киреевский И.В. Поли. собр. соч. Т. 1. М., 1911. С. 192.
2 Там же. С. 185.
216
трактуется «через избыток или недостаток наружных дел»,
совершенных для внешней пользы церкви, отождествляемой часто с
церковной иерархией.
На Руси же главным фактором религиозности становится
преобразование «внутреннего состояния» души, ведущее к «новой
жизни в Духе». Христианство пронизывает «быт русского человека,
его убеждения», становится «в подлинном смысле жизненным», и в
результате побеждает не внешняя правда, а «существенная
справедливость», не материальная выгода, а «нравственные
требования»1.
Итак, в западном христианстве принадлежность к церкви,
поведение человека оцениваются с формальных позиций, опираются на
внешние критерии, православие же рассматривает «воцерковле-
ние» с содержательной стороны, делает акцент на реальном
преобразовании внутреннего мира человека.
Наконец, по-разному Запад и Русь приобщались к
«образованности древнеклассического мира». В Россию «античная мудрость»
перешла уже преобразованной благодаря восточной патристике.
При этом учители православной церкви не проявляли «особого
пристрастия к Аристотелю», но большая их часть отдавала «явное
предпочтение Платону». В своих богословско-философских трудах
они обосновывали путь «возвышения разума от рассудочного
механизма к высшему, нравственно свободному умозрению».
Восточным отцам церкви удалось языческую философию обратить «в
орудие христианского просвещения», и она, «как подчиненное начало,
вошла в состав философии христианской». Внешние
обстоятельства, падение Византии не позволили в полной мере расцвести
«православно-христианской философии», но следы ее сохранились
«в писаниях святых отцов православной церкви». Их учение
перешло в Россию, и под его влиянием «сложился и воспитался
коренной русский ум, лежащий в основе русского быта»2.
Влияние дохристианских римских традиций «на новорождаю-
шуюся образованность Запада было всеобъемлющим». Поэтому
там не произошло в полном объеме христианского преображения
«умственного характера Рима». Во всех особенностях поведения
гражданина Рима, по Киреевскому, отражается одна общая черта,
1 Этот тезис И.В. Киреевского критиковал даже A.C. Хомяков, отмечавший, что
«не было ни одного народа, ни одной земли, ни одного государства в мире», которым
удалось бы полностью построить социальную сферу на христианских началах, хотя
русский народ и далеко продвинулся по этому пути. (См.: О Русь, волшебница суровая. Н.
Новгород, 1991. С. 83).
2 Киреевский И.В. Поли. собр. соч. Т. 1. С. 202.
217
состоящая в том, что «наружная стройность его логических
понятий была для него существеннее самой существенности». Не
случайно в западном богословии непререкаемым авторитетом
становится Аристотель, ибо и у древнегреческого философа, и у
западных теологов «духовное убеждение» искало себе оправдания «в
рассудочном силлогизме». И если приверженность римского мира
«к наружному сцеплению понятий» все-таки в какой-то мере
сдерживалась в тот период, когда существовало единое вселенское
христианство, то после его раскола формальная рассудочность
окончательно подчиняет себе все проявления религиозной жизни. Более
того, отпадение Рима от кафолической церкви было обусловлено
господством рационализма в западном мышлении, ибо введение
новых догматов оправдывалось не вселенским церковным преданием,
а «единственно логическими выводами западных богословов».
Эти различия обусловливают принципиальные отличия
православного и католического способов мышления. Восточные
мыслители, стремясь к истине, заботятся «прежде всего о правильности
внутреннего состояния мыслящего духа; западные — более о
внешней связи понятий». Восточные богословы для осознания «полноты
истины ищут внутренней цельности разума», при которой
отдельные способности духа «сливаются в одно живое и высшее
единство»; западные, напротив, считают возможным достижение полной
истины лишь через разделение «сил ума, самодвижно действующих
в своей одинокой отдельности»1.
Итак, славянофилы вслед за П.Я. Чаадаевым признавали
своеобразие отечественной истории, отличие российской цивилизации
от западной, но для них данные факты не «громадное несчастье», а,
напротив, «провиденциальное благо».
Россия, опираясь на «православную духовную основу», идет
своим путем, который должен привести ее к мировому лидерству.
Это высокое предназначение России необходимо осознать ее
гражданам, ибо «право, данное историей народу, есть обязанность,
налагаемая на каждого из ее членов».
Кроме православия вторым главным фактором,
обеспечивающим органическое развитие России, является сельская община.
Это объясняется тем, что православие породило специфическую
социальную организацию — сельскую общину. A.C. Хомяков в
1849 году в своих заметках «О сельской общине» изложил
основные славянофильские тезисы по этому вопросу, подводя
своеобразный итог разработке этой темы.
1 Киреевский И.В. Поли. собр. соч. Т. 1. С. 201.
218
Сельская община, по его мнению, сочетает в себе два начала:
хозяйственное и нравственное. В хозяйственной области община,
или мир, выступает главным организатором сельскохозяйственного
труда: каждому «предоставляют работу по душе». Мир решает
вопросы вознаграждения за работу, заключает сделки с помещиком,
несет ответственность за исполнение государственных повинностей.
В изображении славянофилов экономическая деятельность общины
предстает как гармоническое сочетание личных и общественных
интересов, а все члены общины выступают по отношению друг к другу
как «товарищи и пайщики». Однако, сами будучи крупными
помещиками, они на практике имели дело с крестьянами и вынуждены
были признать, что при устройстве общины проявляется
«зависимость бедных от богатых». Естественно, ни о каких товарищеских
взаимоотношениях между членами общины говорить не приходится.
К тому же крепостные крестьяне находились в полной зависимости
от произвола помещика.
Ранние славянофилы, особенно A.C. Хомяков и Ю.Ф. Самарин,
резко осуждали крепостное право. В своей большой работе «О
крепостном состоянии и о переходе из него к гражданской
свободе», которая распространялась нелегально, Ю.Ф. Самарин
называет «рабство крестьян» главным злом, препятствующим делу
«существенного улучшения в чем бы то ни было»1.
Точно так же и при рассмотрении нравственного значения
сельской общины идеологи славянофилов признают разрыв между
«возможностью и действительностью». «Мир» содержит потенции,
которые могут формировать у его членов потребность в
общественной деятельности, готовность постоять за общие интересы,
патриотизм, честность и т.п. Возникновение подобных качеств происходит
не сознательно, а «инстинктивно», путем следования древним
религиозным обычаям и традициям. Усвоение правил общежития
является показателем жизненности общества, его крепости и
здоровья. Нравственный соборный климат общины противостоит в
концепциях славянофилов антагонизму «личного и общественного» в
буржуазных странах. Но столкновение с реальной российской
действительностью опять заставляет A.C. Хомякова, И.В.
Киреевского, К.С. Аксакова и Ю.Ф. Самарина признавать, что и общинное
устройство никоим образом не устраняет аморализм, народные
бедствия, различные злоупотребления и т. д.
1 Самарин Ю.Ф. Соч. Т. 2. С. 19.
219
В середине XIX века в общину все настойчивее начинают
проникать капиталистические элементы, и даже славянофилы
вынуждены были констатировать существенную разницу между
«идеальным общинным бытом» и реальной жизнью крестьян. Это
противоречие, как они считали, проистекало от деятельности государства.
Хотя внутренние мероприятия правительства и не смогли
полностью ликвидировать общину и она «есть одно уцелевшее
гражданское учреждение всей русской истории», все же бюрократизм во
многом подорвал ее жизнеспособность. Особенно много вреда
принесли общинному устройству реформы Петра I. Преобразователь
России не понимал, что русский быт «органически возникает из
местных потребностей и характера народного»1, и поэтому пытался
его разрушить. Перенесение на русскую почву иностранных
порядков привело к расколу общества на антагонистические группы,
оторвало привилегированные слои от народа и т.д. В связи с этим, по
мнению славянофилов, необходимо возродить «коренные начала
русской жизни». Однако они стремились доказать, что отнюдь не
предлагают простую реставрацию допетровских порядков. A.C.
Хомяков в письме к своему соратнику прямо его предупреждал:
«Отстрани всякую мысль о том, будто возвращение к старине
сделалось нашей мечтою»2. С его точки зрения необходимо при
проведении социального переустройства учитывать и современные
достижения в области науки, промышленности, образования и т. д. Но в
то же время эти «достижения» не должны извращать
«органических начал в обществе». И если Петр «захотел втолкнуть Русь на
путь Запада», то славянофилы выступали за восстановление
русского «образа жизни»3. Последний неизбежно связан с
традиционным бытом, с прошедшей историей. В славянофильском
социальном идеале соединяются «элементы старины» и новейшие
технические достижения в сфере «благоустройства земной жизни».
Основываясь на принципиальной установке, что община в
социальной жизни выступает как «истинное начало, которому уже не
предстоит найти нечто себя высшее»4, славянофилы требовали
сделать «общинный принцип всеобъемлющим». Для этой цели A.C.
Хомяков предлагал создавать общины в промышленности.
Земледельческая и промышленная общины «находятся во взаимном согла-
1 Хомяков A.C. Поли. собр. соч. Т. 3. С. 64.
2 Там же. С. 462.
3 Аксаков К.С. Поли. собр. соч. Т. 1. С. 24.
4 Там же. С. 291.
220
сии», ибо одна без другой не могут успешно развиваться.
Общинное устройство должно быть положено также в основу
государственной жизни, оно заменит собою «мерзость административности в
России». По мере распространения «общинного принципа», по
мнению славянофилов, в обществе все более будет господствовать
«дух соборности». Ведущим принципом социальных отношений
станет «самоотречение каждого в пользу всех». Благодаря этому в
«единый поток сольются» религиозные и социальные устремления
людей. В результате будет выполнена «задача нашей внутренней
истории», определяемая «как просветление народного общинного
начала общинным церковным». В этой социальной программе нет
места революционным выступлениям: вовлечение «русского
мужика» в социальные конфликты считалось недопустимым. В одном из
писем И.В. Киреевский признается, что боится движения народных
масс, ибо это породит «небывалый антагонизм между сословиями и
тогда чем это кончится, страшно подумать»1. Поэтому социальное
переустройство должно проходить «медленно и едва заметно».
Никакие реформы, с точки зрения славянофилов, не могут насадить
«дух любви к ближнему», это невозможно без внутреннего
перерождения человека. Положительные же изменения в душе человека
возможны только на путях усвоения православных истин, и главные
надежды славянофилов на лучшее будущее «заключаются в одном
слове: христианство»2.
Взгляды A.C. Хомякова, И.В. Киреевского, К.С. Аксакова и
Ю.Ф. Самарина на исторический процесс обычно характеризуют
как своеобразный вариант утопизма. Достаточно вспомнить
известную работу польского философа А. Валицкого «В кругу
консервативной утопии» или уже упоминаемую нами монографию
украинского ученого Ю. Янковского «Патриархально-дворянская утопия»,
чтобы это подтвердить. Более того, А. Валицкий считает утопизм
общей характеристикой русской мысли середины XIX в., ибо
именно он «определял уровень сближения обоих типов мировоззрения»,
то есть славянофильства и западничества3. С тезисом о том, что и
западничество, и славянофильство содержали элементы утопизма,
можно согласиться. Однако он их отнюдь не сближал, ибо его
направленность в обоих течениях была различна.
1 Киреевский ИВ. Поли. собр. соч. Т. 2. С. 253.
2 Хомяков A.C. Поли. собр. соч. Т. 3. С. 335.
3 Walicki A. W kregu konserwatywnej utopii. Warszawa, 1964. S. 363.
221
Если утопизм западничества сводился к трансляции
западноевропейских ценностей, которые сами по себе должны были разре-
шить все отечественные проблемы, то славянофильский утопизм
был направлен прежде всего на поиски альтернатив западному пути
развития. Поэтому наряду с несбыточными идеями во взглядах
славянофилов была представлена реальная программа, осуществление
которой способствовало органическому развитию России.
Действительно, вместо буржуазного парламентаризма
предлагается иерархия самоуправляемых общин — от сельского мира до
Земского собора. При этом сохраняется и принцип единоначалия, и
принцип учета общественного мнения: «Государству —
неограниченное право действия и закона, земле (общинам. — Л.Ш.) —
полное право мнения и слова»1. Вместо пролетаризации населения,
свободного от всякой собственности, славянофилы предлагали
создать условия для сохранения собственности у крестьян и
артельщиков. При этом государство должно проводить активную кредитную
политику, направленную на поддержку мелкого частника. Наконец,
секуляризации западного общества, господству в нем вещных
интересов противопоставляется социум, в котором преобладают
духовные ценности, при этом православные начала органически
соединяются с просвещением и с гражданскими свободами личности.
Как видно из изложенной программы, взгляды славянофилов в
известной мере носили оппозиционный характер по отношению к
николаевскому режиму. Некоторые исследователи на Западе, и в
частности американский ученый Э. Глизон, утверждают, что
поскольку в России не было развитой буржуазии, носителем идей
«политического рационализма» выступает династия Романовых.
Славянофилы же представляли «аристократическую
контрреволюционность» и «реально являлись оппозиционной силой»2.
Мы не можем принять подобную оценку. Славянофилы,
действительно, оценивали существующий строй не с позиций будущего, а
с позиций прошлого «золотого века», но их социальная программа
не может быть названа «программой аристократии». Согласимся с
H.A. Бердяевым, что «все славянофильское мышление было
враждебно аристократизму»3. Нельзя отождествлять взгляды
славянофилов с теорией «официальной народности». Этот термин
благодаря трудам А.Н. Пыпина прочно вошел в светскую научную литера-
1 Аксаков К.С. Поли. собр. соч. Т. 1. М., 1861. С. 296.
2 GleasonA. European and Moscovite: Ivan Kireyevsky and the origins of Slavophilism.
Cambridge (Mass): Harvard univ. press., 1972. P. 170.
3 Бердяев H.A. Русская идея//Вопросы философии. 1990. № 1. С. 103.
222
туру. Но сейчас есть достаточно веские аргументы, доказывающие,
что ученый искусственно сконструировал эту теорию из
разнородных компонентов1. «Народность» же в 30—50-е годы понималась
как призыв «к развитию и утверждению самобытной русской
культуры», она включала «в себя тогда и идею патриотизма». В этом
контексте славянофилы были пропагандистами идеи народности.
Ряд представителей титулованной знати и некоторые
правительственные чиновники увидели в славянофильской концепции
«восточную формулу революционной идеи» и призывали царя к
репрессиям против «православных социалистов». Подозрительность
властей была так велика, что московский генерал-губернатор
A.A. Закревский в своем секретном донесении шефу жандармов
писал: «По разным слухам и негласным дознаниям можно
предположить, что так называемые славянофилы составляют у нас тайное
политическое общество, вредное по своему составу и началам»2.
Однако не следует переоценивать оппозиционность взглядов
A.C. Хомякова, И.В. Киреевского, К.С. Аксакова и Ю.Ф.
Самарина: они были своеобразными новаторами-традиционалистами.
Общим местом является квалификация славянофилов как
традиционалистов. Однако у сторонников традиции отношение к
прошлому может быть различно. Консервативные (от лат. conservo —
охраняю, сохраняю) традиционалисты выступают за сохранение
некоего «вечного набора» готовых истин как в сфере социальных, так
и религиозных отношений. Это течение фактически внеисторично,
оно сохраняет готовое и с принципиальных позиций отказывается
от «приобретения нового», созвучного духу времени. Сама
традиция понимается им с финалистских позиций — как раз и навсегда
сформулированное, законченное учение или определенные
неизменные положения. Задача сторонников традиции в этом случае
сводится лишь к ее трансляции и охранению от любых «внешних
покушений».
Естественно, славянофилы не были сторонниками подобных
взглядов. Не случайно В. Лясковский отмечает, что «подлинные
консерваторы всегда их (славянофилов. —Л.Ш.) считали
либералами, только другого сорта»3. Мы думаем, что их позицию можно
охарактеризовать как новаторский (от лат. novatio — обновление,
изменение) традиционализм. Они понимают традицию не как
мумифицированную, а как живую, развивающуюся, отвечающую на
2 Цит. по: Лясковский В. Алексей Степанович Хомяков. Его жизнь и сочинения.
М., 1897. С. 40.
3 Лясковский В. Алексей Степанович Хомяков. Его жизнь и сочинения. С. 3.
223
вызов времени. Отстаивая эти фундаментальные принципы, A.C.
Хомяков и его сторонники признавали «Церковь развивающуюся», и
Россия для них есть «община живая и органическая», и каждый
народ и каждая личность являются «живыми лицами», находящимися
в развитии. Более того, согласно «всеобщему закону», в
социальной сфере «полный застой невозможен, движение необходимо»1.
Жизнь, развитие могут происходить только в истории, отсюда такое
острое чувство историзма у славянофилов. В этой связи мы никак
не можем согласиться с В.И. Кулешовым, который считает, что
«религия, можно сказать, освобождала славянофилов от
обязанностей иметь дело с историей»2. Напротив, религиозные принципы
понимания истории позволяли русским мыслителям выделить
«коренные начала» и личности, и нации и рассмотреть, как они
сохраняются и видоизменяются в процессе развития общества. Отсюда
понятно, почему у славянофилов именно изучение истории дает
ключ к пониманию настоящего.
Итак, новаторский традиционализм не признает
неподвижность и законченность истории, он выступает за развитие
общества и личности при сохранении ряда фундаментальных оснований,
обеспечивающих органическую преемственность между старым и
новым.
Значение славянофильства для русской философии
и православного богословия
Славянофильское учение было в центре внимания
общественной мысли уже в самом процессе своего создания. Оставалось оно
постоянно значимой величиной и после смерти его главного
создателя. При этом важно подчеркнуть, что идейное наследие
славянофилов оказало влияние не только на развитие русской
идеалистической традиции, но и в определенной мере на
революционно-демократическую и народническую идеологию. После того как А.И.
Герцен в ходе революционных событий 1848 года в Европе, с одной
стороны, увидел «свирепое желание крови», а с другой —
«непреоборимое мещанство», он утратил «веру в слова и знамена...
Западной цивилизации»3. Поэтому при создании своей
социологической теории Александр Иванович обращается к славянофильству,
которое еще недавно так ярко опровергал, принимает один из глав-
1 Хомяков A.C. Поли. собр. соч. Т. 1. С. 127.
2 Кулешов В.И. Славянофилы и русская литература. С. 75.
3 Герцен А.И. Былое и думы. Л., 1947. С. 472.
224
ных тезисов A.C. Хомякова о том, что русский народ имеет
счастливую судьбу, ибо остался «вне европейской цивилизации» и
сохранил особую организацию хозяйственной и социальной жизни —
общину. Другие революционные демократы также разделяли эти
тезисы.
Поэтому можно согласиться с A.A. Галактионовым и П.Ф. Ни-
кандровым, что ряд положений «историко-социологической
концепции славянофилов были использованы и получили иное
звучание в идеологии русской революционной демократии»1.
A.C. Хомяков и его единомышленники стояли у истоков культа
простого народа, русского мужика, что получило развитие в
народничестве. Идея Хомякова о важности общественного, то есть
соборного, начала в социальной сфере нашла свое отражение в
русском анархизме. H.A. Бердяев, анализируя концепцию Бакунина,
приходит к выводу о том, что в ней «был сильный славянофильский
элемент»2.
Непосредственное влияние идейное наследие Хомякова оказало на
философские взгляды П.Е. Астафьева, Ф.М. Достоевского, A.A.
Григорьева и H.H. Страхова. Придерживаясь в целом консервативной
ориентации, они отнюдь не выступали просто «отрицателями
прогресса в обществе». Названные мыслители были озабочены
кризисными явлениями в социальной сфере, в русском православии и
культуре. Развивая установку об «органических началах» социума,
они особое значение стали придавать «почве», то есть той
этнической, национальной основе, на которой строятся все другие сферы
общественной и духовной жизни; в их произведениях часто
встречаются критичные оценки, иногда очень меткие, как западной
цивилизации, так и социалистического учения.
Славянофильство послужило важнейшим идейным источником
для взглядов Н.Я. Данилевского и К.Н. Леонтьева. Мы уже
отмечали, что A.C. Хомяков и его соратники заложили основы цивили-
зационного подхода в понимании исторического процесса. Именно
славянофилы сделали вывод о том, что Россия должна развиваться
самобытно, и «хотя бы результаты, к которым она придет,
расходились далеко с результатами развития народов Западных, однако мы
этим нисколько не должны смущаться» . Под этот вывод Н.Я. Да-
1 Галактионов АЛ, Никандров П.Ф. Русская философия IX—XIX вв. Л., 1989.
С. 285.
2 Бердяев H.A. Русская идея//Вопросы философии. 1990. № 1. С. 91.
3 Самарин Ю.Ф. Соч. Т. 1. С. 286.
15-6016 225
нилевский подвел определенную научную теорию, опирающуюся на
естественнонаучные представления о развитии живого
организма, — так появилось учение о культурно-исторических типах.
Проблема «славянофилы и Леонтьев» до сегодняшнего дня
является дискуссионной, но даже наиболее последовательный
защитник тезиса об антагонизме леонтьевских и славянофильских
взглядов H.A. Бердяев признает, что идеи Леонтьева явились «на почве
упадка и разложения славянофильства»1. То, что славянофильские
идеи якобы приходили в упадок, это дань H.A. Бердяева
«либеральному духу», влиянию которого он был подвержен, нас же
интересует констатация связи Леонтьева со славянофильством. Да и сам
Константин Николаевич в письме к И.И. Фуделю, несмотря на ряд
критических высказываний в адрес A.C. Хомякова, И.В.
Киреевского и др., признается, что вышел «из славянофильства»2. Н.Я.
Данилевский и К.Н. Леонтьев продолжали линию славянофилов,
направленную на борьбу с европоцентризмом, на отождествление
общечеловеческого с западноевропейским, и поэтому были
союзниками A.C. Хомякова и др.
Особое значение в определении влияния славянофилов на
русскую философию имеет их отношение к взглядам B.C. Соловьева,
но об этом мы будем говорить специально. Здесь же отметим, что
если ранний период творчества философа во многом проходит под
влиянием идей A.C. Хомякова и И.В. Киреевского, то по мере
становления его концепции нарастает критичность ко многим
славянофильским идеям. В то же время еще раз хочется подчеркнуть
мысль, удачно выраженную E.H. Трубецким, что и у раннего
Соловьева нет прямого подражания предшествующему течению, его
«воззрения совпадают со взглядами славянофилов не в тех или
других частностях, а в основных принципах»3. Философская система
B.C. Соловьева представляла собой новый шаг в развитии русской
мысли; сохраняя определенную преемственность, она выдвигала
оригинальные идеи.
Влияние философского наследия A.C. Хомякова и других
славянофилов отчетливо проявляется в идейных исканиях мыслителей
Серебряного века. Несмотря на большое количество
разнообразных проблем, обсуждаемых русскими философами начала XX века,
безусловно, одной из доминантных тем этого времени являются
Бердяев НА. Константин Леонтьев (Очерк из истории русской религиозной
мысли )//Н. А. Бердяев о русской философии. Свердловск, 1991. С. 238.
2 См.: Леонтьев — наш современник. СПб., 1993. С. 264.
3 Трубецкой E.H. Миросозерцание Вл. С. Соловьева. Т. 1. С. 423.
226
особенности познания. Как познать истину? Как постигнуть
религиозный Абсолют? Эти проблемы находились в центре внимания
русских мыслителей. Как отмечал С.Л. Франк, «обычные формы
познания нас не удовлетворяют»1. Ставится задача выработки новой
философской системы, принципиально отличающейся от
европейских рационалистических философских школ, которая бы
опиралась на национальные интеллектуальные традиции. Первыми же,
кто пытался преодолеть на русской почве односторонность
рационализма и эмпиризма, были славянофилы. Именно они стоят
у истоков нового гносеологического направления, опирающегося
на «жизненно-интуитивное постижение бытия», утверждающего
«сверхрассудочность духовной жизни».
Задав вопрос, что есть истина, русская религиозная философия
начала XX века не нашла на него однозначного ответа. Истина и
интуитивно дана, и рационально невыразима, она антиномична, но
она и «едина в Абсолютном», философия — это и путь к истине, но
это и дорога к неизвестности. Ведущим мотивом философских
интуиции становится поиск цельного познания, преодолевающего
одностороннюю рассудочность, при которой сложное разлагается на
простое, а непонятное за счет примитивизации становится
общедоступным. Такие операции в «сфере духа» обесценивают
неповторимость каждой человеческой личности, усредняют мотивы и цели
поведения людей. Сфера же духовного часто несводима к
элементарным материальным потребностям, она очень сложное
образование, содержащее разнообразные духовные ценности, трудно
вписываемые в строгие логические формулы.
Следовательно, общая направленность гносеологических
исканий философии Серебряного века идет в русле славянофильских
идей — на преодоление диктата западноевропейской
рациональности и на выработку идеала цельного знания, синтезирующего
идеальное с реальным.
Большое значение для развития русской философии в начале
XX века имели и историософские идеи A.C. Хомякова и
славянофилов. Обострение социально-политических противоречий в мире,
Первая мировая война, кризис западной системы ценностей, и
прежде всего европейского гуманизма, который «исчерпал, изжил
себя», со всей остротой ставят перед Россией вопрос о выборе
пути. При ответе на него многие представители философии
Серебряного века, такие как В.В. Розанов, П.А. Флоренский, С.Н. Булга-
1 Франк С.Л. Русское мировоззрение. СПб., 1996. С. 156.
15*
227
ков, В.Ф. Эрн и другие, солидаризируются со славянофильскими
взглядами.
Славянофильство служило не только важным идейным
источником при рассмотрении антиномии «Запад и Россия», одна из
основных интуиции А. Хомякова — учение о соборности — также
становится для многих видных отечественных философов одной из
приоритетных тем: в особенности С.Н. Трубецкому, В.В. Розанову,
H.A. Бердяеву, С.Н. Булгакову, П.А. Флоренскому, В.И. Иванову
удалось найти оригинальные подходы к освещению данной
проблемы1. В революционно ориентированных течениях русской мысли,
для которых достижение общественного блага — высшая цель,
доминировало социальное, превращающее личности лишь в средство
достижения социального идеала. Следовательно, соборность в этом
случае трансформируется в коллективизм, нивелирующий
личностные качества человека. В то же время отечественные западники
усваивали идею примата индивидуального над социальным, но данная
установка приводит к атомизации социума, к превалированию
эгоистических интересов и — в конечном итоге — к потере
перспективы развития индивида2. Представители философии Серебряного
века при помощи учения о соборности вслед за славянофилами
стремились гармонизировать индивидуальное и социальное. Если
западная мыслительная традиция по причине свойственного ей
схематизма противопоставляет эти феномены, то в русской философии
они синтезируются именно благодаря принципу «единства во
множестве».
Существенное влияние славянофильские идеи оказали и на
развитие церковной мысли.
Взгляды славянофилов с самого начала своего возникновения
привлекали к себе пристальное внимание представителей
церковного института, ряд профессоров духовных академий выступили
против них с резкой полемикой. Особенно усердствовали в
обличении богословских воззрений A.C. Хомякова профессора
Московской духовной академии A.B. Горский и П.С. Казанский. В
1900 г. в журнале «Богословский вестник» была опубликована
переписка между ними, относящаяся к середине XIX века.
Инициатором обсуждения богословских сочинений главного идеолога
славянофильства выступил П.С. Казанский, стремящийся убедить
См.: Шапошников Л.Е. Философия соборности: Очерки русского самосознания.
СПб., 1996.
2 См.: Бабихин В.В. Новый ренессанс. М., 1998.
228
A.B. Горского в необходимости написать специальный труд,
обличающий это учение. Хотя эта идея не была реализована, но в
архиве A.B. Горского после его смерти нашли материалы,
содержащие критические оценки взглядов A.C. Хомякова. Главным
объектом критики становится творческий подход славянофилов к
развитию богословской мысли. Историческое рассмотрение догматов
оценивается П.С. Казанским как «право понимать и толковать
Писание, как вздумается»1. Точно так же и A.B. Горский главным
недостатком богословских воззрений A.C. Хомякова считает «чувство
свободы», ибо «ему ни власть, ни закон, ни символ — ничего не
препятствует»2. В результате вместо церковного предания под
влиянием философии главного идеолога славянофильства увлекает
«сила собственного его рассуждения».
Следовательно, представители профессорской корпорации
духовных академий отрицают в этот период возможность
богословского творчества, сводя его «к субъективным искажениям
православного предания». Итоговый вывод полемики со
славянофильским пониманием богословия сформулировал П.С. Казанский,
считавший, что «нужно отрешиться совсем от наших понятий о
Церкви, чтобы стать на точку зрения Хомякова»3. Естественно,
подобные взгляды представляют, по мнению П.С. Казанского и A.B.
Горского, опасность «для верующих русских людей», и их нужно
ограждать от влияния славянофильства. Комментируя эту полемику,
известный богослов профессор А.П. Лебедев особо отмечал заслуги
Горского, который «победоносно опровергал учение о Церкви
мнимого русского богослова Хомякова» . Можно согласиться с Г. Фло-
ровским, писавшим, что даже A.B. Горский, «один из лучших
тогдашних богословов», не понял взглядов A.C. Хомякова, ибо для
него, как и его коллег, «контекст современной западноевропейской
науки был более привычен»5. Отсюда и проистекают его
«неубедительные и непроницательные замечания на статьи Хомякова». По
убеждению представителей «школьного богословия», учение о
церкви не может использовать философские идеи.
1 Богословский вестник. 1900. Ноябрь. С. 519.
2 Там же. С. 519.
3 Там же. С. 515.
4 Вера и Церковь. 1900. № 8. С. 430.
5 Флоровский Г.В. Пути русского богословия. С. 284.
229
Однако, несмотря на политику церковного руководства, уже «в
60-х годах влияние Хомякова ясно чувствуется и в стенах духовной
школы»1.
Принципиально важное значение в плане пересмотра
отношения представителей Русской православной церкви к богословскому
наследию славянофильства имеет статья профессора
Санкт-Петербургской духовной академии Н.И. Барсова «Новый метод в
богословии», опубликованная в 1869 году в журнале «Христианское
чтение», и работа протоиерея, профессора кафедры церковной
истории Московского университета A.M. Иванцова-Платонова
«Несколько слов о богословских сочинениях A.C. Хомякова»,
вышедшая в журнале «Православное обозрение» за 1869 г.
И Н. Барсов, и А. Иванцов-Платонов подчеркивали значимость
идей Хомякова для образованного общества, ибо они преодолевали
традиционный скепсис интеллигенции по отношению к церкви и по
крайней мере формировали «серьезное отношение к вопросу
религиозному».
Однако позитивное отношение к славянофильскому
богословскому наследию утверждалось достаточно трудно.
Распространенными были взгляды, четко сформулированные профессором
Киевской духовной академии В.Ф. Певницким в том же 1869 г. в его
«Речи о судьбах богословской науки в нашем отечестве»2. Отдавая
должное богословской эрудиции A.C. Хомякова, отмечая
оригинальность славянофильских подходов к предметам веры, не
вмещающихся в школьные схемы, богослов в то же время не считает
славянофилов «главными выразителями нашего
православно-религиозного сознания». По его мнению обращенность русских
мыслителей к философии, преувеличение ими значения народного,
соборного начала в религиозных вопросах рождает опасения, как бы
православие не стало пониматься «как философская или общественная
доктрина». Поэтому профессор делает вывод, что «дальнейшее
движение нашей науки», то есть богословия, не следует связывать
со славянофильскими идеями.
Подобное мнение отражало официальную позицию церковного
руководства. Не случайно в определении Святейшего синода от
1879 г., разрешающем к изданию и обращению в России
богословских сочинений A.C. Хомякова, сказано о том, что в них встречают -
1 Флоровский Г.В. Пути русского богословия. С. 285.
2 См.: Певницкий В.Ф. Речь о судьбах богословской науки в нашем отечестве//
Труды КДА. 1869. Ноябрь—декабрь. С. 199—204.
230
ся многочисленные неточности, искажающие православное
богословие. Синод считал, что они «произошли от неполучения автором
специального богословского образования».
Однако подобные заявления отнюдь «не ограждали» читающую
публику от славянофильских трудов, напротив, с конца XIX в.
интерес к богословскому наследию A.C. Хомякова возрастает. В этом
плане весьма показательной является позиция редакции «Трудов
Киевской духовной академии», в которых с 1898 г. начинает
публиковаться объемный труд профессора В.З. Завитневича «Алексей
Степанович Хомяков». Три книги этого сочинения составили
вместе 1728 страниц текста. Хотя и Завитневич признавал, что
главный идеолог славянофилов «не был профессиональным
богословом»1, он в то же время считает его вклад в развитие православной
мысли «бесценным». Особо отмечаются заслуги Хомякова в
установлении правильного взаимоотношения религии и философии.
Первым условием присоединения к славянофильскому кружку, как
считал профессор Киевской духовной академии, «было отречение
от гегельянства». И если у философов (как русских, так и
западных) часто построения «выходили за предел веры», то «у Хомякова
философская метафизика неразлучно связана... с метафизикой
христианскою, или догматикою»2. Последовательное проведение
«догматических принципов» в сфере гносеологии и философии
позволило, по мнению богослова, славянофилам создать такую
философско-религиозную систему, которая, во-первых, «устанавливает
совершенно твердую точку для соглашения знания с верою» и,
во-вторых, обосновывает, что «характер... истории
обусловливается характером веры. Она — мера и причина... прогресса, регресса
и усыпления».
Позитивные оценки богословского наследия славянофилов в
конце XIX — начале XX века начинают все более утверждаться
среди профессорско-преподавательской корпорации духовных
академий. В этой среде рождаются высказывания, что православную
экклезиологию нельзя представить без трудов A.C. Хомякова.
Интересно отметить, что видный современный богослов митрополит
Владимир (Сабодан), анализируя работы известных экклезиологов
этого периода профессоров А.Д. Беляева и Е.П. Аквилонова,
приходит к выводу, что в этих трудах «через митрополита Филарета,
А. Хомякова и других русская философская мысль сознавала свою
независимость от западных рационалистических богословских кон-
1 Завитневич В.З. Алексей Степанович Хомяков. Т. 1. Кн. 2. Киев, 1902. С. 966.
2 Там же. Т. 2. Киев, 1913. С. XI—XII.
231
цепций» . Именно Е.П. Аквилонов в своей известной магистерской
диссертации (которую из-за сопротивления консервативной
иерархии ему пришлось защищать дважды), рассматривая становление
«православно-научной экклезиологии», называет A.C. Хомякова,
наряду с митрополитом Филаретом (Дроздовым), ее основателем2.
В этой связи становится понятным, почему в стенах МДА
начинается серьезное изучение славянофильских трудов: в начале XX в.
славянофильству было посвящено восемь кандидатских сочинений,
из них три — непосредственно A.C. Хомякову. Интересными
работами являлись сочинения И. Грацинского «И.В. Киреевский как
родоначальник славянофильства», Н. Михайловского
«Богословские воззрения A.C. Хомякова», В. Херсонского «Этико-социаль-
ная теория A.C. Хомякова» и др.
В начале XX века славянофильские идеи становятся не только
предметом теоретического изучения и осмысления, они
превращаются в руководящие установки при обосновании программы
церковных реформ, речь прежде всего идет об учении о соборности и о
необходимости повышения активности мирян в церковной жизни.
Октябрьская революция застала Русскую православную
церковь врасплох, материалы Поместного собора 1917—1918 гг. ярко
свидетельствуют об этом. Не случайно на Соборе неоднократно
отмечалось, что события в России «свидетельствуют о банкротстве
православия»3. Одним из главных обстоятельств, приведших
церковь к кризису, явилось ее «пленение государством», превращение
в «часть государственного механизма» или, иными словами,
нарушение «соборных начал в церковном управлении». На соборных
заседаниях неоднократно цитировались славянофильские
положения: прежде всего их предупреждения об опасности
бюрократизации церкви и учение о соборности. Можно даже сказать, что
программа «восстановления соборных начал в жизни Церкви»
становится одной из ведущих соборных тем.
В послереволюционный период были закрыты духовные
семинарии и академии, запрещены церковные издания, многие
богословы репрессированы. В этих условиях богословское творчество в
СССР становится невозможным и его центр перемещается в
Париж, где трудились такие выдающиеся богословы, как С.Н. Булга-
1 Владимир (Сабодан), митрополит. Экклезиология в отечественном
богословии. Киев, 1997. С. 226.
2 См.: Аквилонов Е.П. Церковь. Научное определение Церкви и апостольское
учение о ней как теле Христовом. СПб., 1894. С. 54—57.
3 Прибавления к церковным ведомостям. 1918. № 1. С. 3.
232
ков, В.В. Зеньковский, A.B. Карташов, В.Н. Лосский, Г.В. Флоров-
ский и др. Именно благодаря работам «парижской школы»
богословские идеи славянофилов в этот период не были забыты.
Русская зарубежная богословская мысль, опираясь на идейное
наследие A.C. Хомякова и его соратников, поставила ряд
принципиально значимых экклезиологических проблем: о соотношении
традиции и новаторства в церковном сознании, о необходимости
активизации роли мирян в православной жизни, о соборности как
определяющем признаке православной церковности, о необходимости
для каждого «личного литургического опыта», о личной свободе и
церковном авторитете и др.1
В послевоенные годы, когда вновь были открыты храмы,
монастыри и духовные учебные заведения, прежде всего Московская и
Ленинградская духовные академии, появилась, хоть и в
ограниченном объеме, возможность богословского творчества.
В 1961 году Русская православная церковь вступает в
экуменическое движение (экуменизм — движение христианских церквей за
объединение), и с этого периода, как отмечает церковное
руководство, «разъяснение подлинного принципа соборности — наша
насущная экуменическая задача»2.
Заметным явлением в осмыслении места славянофилов в
истории русской религиозной мысли стала магистерская диссертация
архиепископа (ныне митрополита) Владимира (Сабодана) «Эккле-
зиология в русском богословии в связи с экуменическим
движением». Магистерский диспут состоялся 5 июня 1979 г. в стенах
Московской духовной академии, и соискателю Советом академии была
присуждена искомая степень. Эта диссертация в 1997 г. была
опубликована, правда, автор скорректировал название: из него исчезло
упоминание об экуменическом движении, осталась лишь «Эккле-
зиология в отечественном богословии».
Автор констатирует, что под влиянием западных богословских
школ в русскую православную мысль начинают проникать
«рационалистические концепции Церкви», ведущие к разрушению ее
«мистического жизненного элемента». Этой тенденции активно
противостояли славянофилы, само появление которых было
«показателем религиозного и национального возрождения»3.
1 См.: Шапошников Л.Е. Консерватизм, новаторство, модернизм в православной
мысли XIX—XX веков. Н. Новгород, 1999. С. 175—195.
2 Актуальное интервью Святейшего патриарха Пимена//Журнал Московской
патриархии. 1990. №7. С. 17.
3 См.: Владимир (Сабодан), митрополит. Экклезиология в отечественном
богословии. С. 171.
233
Для отечественной православной традиции большое значение
при определении роли в ней того или иного мыслителя имеет его
оценка предстоятелем церкви. В этом плане весьма показательным
является интервью патриарха Пимена (Извекова) итальянскому
журналисту Алчесте Сантини1. На вопрос корреспондента: «Живет
ли богословие "соборности" в Русской православной церкви или
его уже нет?» — Его Святейшество отвечал, что «соборность» —
одна из центральных и неизменных характеристик церкви и в этом
качестве никак и ни при каких обстоятельствах не может быть
«фактом прошлого». Однако из этого не следует, что человеческие
представления об этом свойстве церкви остаются неизменными.
Патриарх Пимен отметил, что «богословская рефлексия над этим
фактом стала характерной для русской православной мысли с
30—40-х годов XIX века». Он особо подчеркнул, что учение о
соборности получило «яркое выражение в трудах A.C. Хомякова».
Высказанные им идеи «прочно вошли в русское богословие», более
того, и в XX столетии тема соборности «не потеряла своей
актуальности» и даже «получает все большее и большее значение».
Приведенные выше оценки богословского творчества A.C. Хомякова не
только являются официальным признанием его заслуг перед
православием, но и содержат стимул к изучению идейного наследия
главного идеолога славянофильства.
Однако, как подчеркивает в своем докладе «Богословские
воззрения славянофилов» профессор МДА А.И. Осипов2, до
«оптимистических слов» при характеристике знакомства современных
богословов с идеями A.C. Хомякова, И.В. Киреевского и других еще
далеко. С его точки зрения «никто так мало не известен в нашей
церковной, школьно-богословской и даже учено-богословской среде,
как они». Конечно, богослов имеет в виду не сами имена, которые
часто произносятся, а сущностные постижения славянофильских
мыслей.
В выступлениях ведущих деятелей современного русского
православия неоднократно подчеркивалась мысль о том, что Россия не
должна слепо копировать чужой опыт или, как говорили
славянофилы, «не должна встать на путь подражательства». Патриарх
Алексий (Ридигер) напоминает, что «многие зарубежные круги не
устояли перед искушением» использовать период радикальных пе-
1 См.: Актуальное интервью Святейшего патриарха Пимена//Журнал Московской
патриархии. 1990. № 7. С. 17—26.
2 См.: Осипов А.И. Богословские воззрения славянофилов//Журнал Московской
патриархии. 1994. № 6. С. 75—84.
234
ремен в России для того, чтобы навязать чуждые ей идеи и лишить
ее «самостоятельной роли в построении новой европейской и
глобальной архитектуры»1. Подобные попытки вызывали резкое
неприятие россиян, активизировали их стремление к сохранению
«самобытного мировосприятия», традиционной системы ценностей, к
защите национальных интересов. Но, как подчеркивает Его
Святейшество, «Россия никогда не ограничивала свою миссию
узконациональными рамками». Она должна занять свое достойное место в
процессах глобализации, способствуя «предотвращению
глобальных нестроений».
Итак, анализ православного богословия показывает, что в его
рамках происходили сложные процессы, связанные с пересмотром
оценок идейного наследия A.C. Хомякова и его единомышленников:
от неприятия к изучению и активному использованию — такой, на
наш взгляд, путь прошла отечественная церковная мысль по
отношению к славянофильству. И этот путь не закончен, так как
славянофильское видение экклезиологических, гносеологических,
историософских проблем не только не устаревает, а, напротив,
становится все значимее.
Сейчас церковь действует в условиях быстро меняющегося
общества, в период выбора пути развития, на фоне беспрецедентного
давления западного христианства на российских граждан.
Следовательно, Русской православной церкви необходимо отвечать на
вызов времени, необходимо не просто констатировать «социальные
нестроения» и «западную религиозную экспансию», а предлагать
реальную программу преодоления этих отрицательных явлений.
Идейное наследие A.C. Хомякова и славянофильства в целом дает
обширный материал для выработки эффективной и действенной
православной мысли. Конечно, православие — это религия
предания, но последнее должно быть живым и развивающимся, а для
этого — обогащаться достижениями богословия, религиозной
философии, исторической науки и т.д. Славянофильство как раз и
представляет такой феномен, который способствует творческой
эволюции предания при сохранении его фундаментальных,
вневременных оснований.
1 Алексий (Ридигер). Столетие трагедий, столетие надежд//Православие идухов-
ное возрождение России. Екатеринбург, 2003. С. 18.
Глава 9
B.C. СОЛОВЬЕВ
Идейные источники
B.C. Соловьев (1853—1900) занимает особое место в русской
идеалистической традиции, так как предпринял попытку не просто
ответить на какой-либо отдельный философский вопрос, а создать
систему, включающую рассмотрение основных мировоззренческих
проблем, и на русской почве это первый поистине универсальный
мыслитель. Важно особо подчеркнуть, что уровень его
философствования не только соответствует мировым критериям, но в ряде
случаев превосходит достижения европейской философии.
Известный отечественный философ А.Ф. Лосев отмечал, что В. Соловьев
«всегда проявлял небывалую самостоятельность и тончайший
критицизм при обсуждении огромного числа излагаемых философов»1.
Такое отношение к предшествующим философским школам и
позволило русскому мыслителю не подражать даже самым крупным
философам, а создать собственное, во многом оригинальное
направление философской мысли. В этой связи для нас неприемлема
позиция Н.П. Ильина (Мальчевского), стремящегося
эпатировать читателя заявлениями о том, что за респектабельной
«религиозно-философской личиной» B.C. Соловьева скрываются
«эклектические построения», не отличающиеся по сути от
«теософии» Е.П. Блаватской, что с его «легкой руки» начался «процесс
деградации... в русской теоретической философии»2. Большинство
отечественных исследователей позитивно оценивают творчество
B.C. Соловьева, подчеркивая его особую роль в развитии русской
философии3.
Генезис философских взглядов B.C. Соловьева происходил под
воздействием многих идейных источников и разнообразных
философов. А.Ф. Лосев рассматривает следующие персоналии и направле-
1 Лосев А.Ф. В. Соловьев. М., 1983. С.53.
2 Ильин Н.П. Трагедия русской философии // Москва. 2001. № 3. С.204.
3 См.: В. Соловьев: Pro et contra. СПб., 2000; Соловьевские исследования.
Выпуски I и II. Иваново. 2001 ; Гайденко П.П. Владимир Соловьев и философия
Серебряного века. М., 200\;ЛепешкоБ.М. Вечный странник. Философский портрет В.
Соловьева. Брест. 1997; Лосев А.Ф. Владимир Соловьев и его время. М., 1990; Сербиненко
В.В. Владимир Соловьев: Запад, Восток и Россия. М., 1994; Малинин В.А. Владимир
Сергеевич Соловьев. Мыслитель, гуманист, правдоискатель. М., 1998; Шапошников
Л.Е. Философские портреты. Н.Новгород, 1993. С. 69—155.
236
ния: Платон, неоплатонизм, патристика, Ориген,
теософско-гностическая литература, Декарт, Спиноза, Кант, Шеллинг, Гегель, О. Конт,
Шопенгауэр, Гартман1. Естественно, что у нас нет возможности
анализировать этот историко-философский материал. Отметим
только особое значение Шеллинга в формировании мировоззрения
русского мыслителя. Л. Лопатин, Е. Трубецкой, Л. Шестов
специально рассматривали влияние немецкого философа на Соловьева.
Л. Шестов даже утверждал, что магистерская диссертация
последнего «является в значительной степени повторением того, чему
учил Шеллинг»2. Один из оппонентов при защите Соловьевым
докторской диссертации также указывал на связь между идеями
докторанта и философской системой Шеллинга. Соискатель, хотя и с
оговорками, все же признавал справедливость этого замечания.
Известный исследователь творчества как Шеллинга, так и
B. Соловьева, профессор A.B. Гулыга, на наш взгляд, справедливо
отмечает, что «для понимания В. Соловьева знакомство с
Шеллингом необходимо, хотя он прямо нигде не высказывает своего
отношения к немецкому философу»3. Однако о простой трансляции
идей и об обычных заимствованиях речь не может идти. В.
Соловьев, как и славянофилы, использовал философию Шеллинга для
создания собственного оригинального мировоззрения. Русским
философом было переосмыслено учение Шеллинга об
интеллектуальной интуиции: идя по этому пути, он пытался синтезировать
рациональное и иррациональное в своих философских построениях.
Проблема взаимоотношений единства и множественности и у
немецкого, и у русского философов занимает одно из центральных мест.
Шеллинг писал, что «наличное бытие всех существ может быть
понято из одного и того же основания... каждая вещь обособляется от
всеполноты»4. Именно развитие этих положений и является одним
из источников соловьевских представлений о всеединстве. Мы уже
отмечали влияние немецкого мыслителя на создание
славянофильского учения о соборности, которое также решает проблему
сочетания единства и множественности. Поэтому не случайно и А.
Хомяков, и В. Соловьев обращаются к глубоким мыслям Шеллинга
по этим вопросам.
1 См.: Лосев А.Ф. В. Соловьев. С. 53—99.
2 Шестов Л. Умозрение и откровение. С. 34.
3 Гулыга A.B. Философия любви//Соловьев B.C. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М., 1988.
C. 36.
4 Шеллинг. Соч. в 2 т. Т. 1. С. 526.
237
Есть общие моменты и в пантеистической окраске двух
философских систем. Можно отметить также созвучие некоторых
положений философии истории Шеллинга и Соловьева. Ряд идей
немецкого философа составляет как бы подготовительный материал
для формирования идеи богочеловечества, о которой мы еще будем
говорить подробно.
Творчество В. Соловьева, безусловно, имеет и национальные
истоки, и прежде всего речь должна идти о славянофильстве. Эта
проблема уже не раз была предметом рассмотрения в трудах
исследователей «философии всеединства». В интересной монографии,
посвященной B.C. Соловьеву, К.В. Мочульский даже считает, что в
своей магистерской диссертации «Соловьев целиком усваивает
мировоззрение Киреевского»1.
Другой известный философ Л.М. Лопатин так характеризует
динамику отношения Соловьева к предшествующему течению. В
молодости «при своем вступлении на литературное поприще он еще
всецело находился в славянофильском лагере». Затем начинается
полемика философа с A.C. Хомяковым, И.В. Киреевским, их
взглядам путем доведения до абсурда наносится «страшный удар». В то
же время «в некоторых отношениях он остался славянофилом на
всю жизнь»2. Эту же мысль поддерживает Э.Л. Радлов,
отмечавший, что, хотя В. Соловьеву и «пришлось бороться с вырождением
славянофильства», он все же «по существу принадлежал к их
лагерю»3. Много внимания эволюции взглядов В. Соловьева уделяет
E.H. Трубецкой. По его мнению можно говорить о созвучии идей
раннего В. Соловьева и славянофилов, а в зрелые годы философ
уже отрицает основные принципы учения A.C. Хомякова, И.В.
Киреевского и др4.
Оригинальностью позиции по обсуждаемой проблеме
выделяется А.Ф. Лосев. Он предлагает для правильного понимания
творчества мыслителя «отбросить часто фигурирующую в литературе
схему философского развития В. Соловьева, который якобы шел от
славянофильства к западничеству. Никаким славянофилом он
никогда не был»5. Правда, в другом месте наш известный ученый уже не
1 Мочульский К.В. Гоголь, Соловьев, Достоевский. М., 1995. С. 90.
2 Лопатин Л.М. Философские характеристики и речи. М., 1911. С. 132.
3 Радлов Э.Л. Очерк истории русской философии//Введенский А.И., Лосев А.Ф.,
Радлов Э.Л., Шпет Г.Г. Очерки истории русской философии. С. 139.
4 См.: Трубецкой E.H. Миросозерцание B.C. Соловьева. Т. 1.М., 1913. С. 59—62;
421—436.
5 Лосев А.Ф. Владимир Соловьев и его время. М., 1990. С. 111.
238
так категоричен и признает, что характеристика эволюции взглядов
Соловьева как разрыва с «прежним славянофильством» содержит
«в себе некоторые правильные черты». Однако акцент все-таки
делается на то, что данная схема идейного становления философа
«отнюдь не может проводиться безоговорочно, а во многом
является даже и просто неверной»1. Мы все же не можем согласиться с
этим утверждением и подтверждающей его аргументацией одного
из крупнейших наших философов.
Попытаемся доказать, почему именно взгляды славянофилов
занимают особое место в становлении философии В. Соловьева.
Уже в первом печатном произведении «Мифологический процесс в
древнем язычестве», которое появилось в 1873 году, философ
солидаризируется с A.C. Хомяковым, утверждая, что жизнь
определяется всецело одним началом — религиозным верованием. Эта
мысль неоднократно повторялась автором в других сочинениях.
Классификация религий в системе B.C. Соловьева, хотя в ней и
появляются новые моменты, в целом исходит из хомяковского
критерия, разделяющего религиозную веру по категориям свободы и
необходимости. Он и сам признавался, что не без помощи идей
Хомякова строил ход «религиозного развития в главных его моментах»2.
Наиболее отчетливо эти моменты он изложил в своем докладе «Три
силы», с которым выступил в канун русско-турецкой войны 1877—
1878 годов в Обществе любителей российской словесности.
Соловьев утверждал, что с начала истории три коренные религиозные
силы управляли человеческим развитием. Первая сила стремится
подчинить личность «одному верховному началу». Она не оставляет
человеку выбора, лишает его индивидуальных черт, стремясь
«смешать и слить все многообразие частных форм». Наиболее яркое
выражение эта сила получила в исламе.
Вторая сила противоположна первой. Она стремится «размыть
единство» и дать «свободу частным формам жизни, свободу лицу и
его деятельности». Такая индивидуализация обесценивает «общие
начала», лишает людей подлинных идеалов, превращает жизнь
человека в эгоистическую погоню за различными благами, в
господство анархии. Подобная сила получила развитие на католическом и
протестантском Западе.
Оба эти начала, по мнению философа, сближает
односторонность, они лишены цельности и поэтому имеют «отрицательный
характер». Если бы только эти силы «управляли» историей человече-
1 Лосев А.Ф. Владимир Соловьев и его время. М., 1990. С. 243.
2 Соловьев B.C. Собр. соч. СПб., б. г. Т. 1. С. 5.
239
ства, то в ней «ничего не было бы, кроме вражды и борьбы», они
неспособны привести к «положительному содержанию». Однако на
будущее человечества можно смотреть с оптимизмом, поскольку
есть третья сила, лишенная односторонности и выступающая как
гармоничное сочетание общего и индивидуального, свободы и
необходимости. Именно она примиряет «высшее начало» с множеством
«частных форм» и приводит разнородные элементы к «высшему
единству». Носителем этой силы может быть лишь народ,
обладающий «всецелой верой в действительность божьего мира». Соловьев
вслед за славянофилами утверждал, что такие качества
«несомненно принадлежат племенному характеру славянства, в особенности
же национальному характеру русского народа»1.
По мнению философа, основной заслугой славянофильства
является признание православия за «высшее начало народной
жизни». Именно благодаря этой идее они «положили истинное
основание нашему национальному сознанию»2. И, хотя здесь В. Соловьев
критикует современную ему православную церковь прежде всего
«за застой в области духовной науки», считая, что русское
богословие «держится исключительно на определениях и формулах VII и
VIII веков, как будто с тех пор ничего не произошло» , все-таки
философ убежден, что Восток сохранил «истину Христову... в душе
своих народов». Этот факт и предопределяет мессианскую роль
России, так как ее «великое историческое призвание» есть
призвание «религиозное в высшем смысле этого слова»4. Можно
согласиться с Е. Трубецким, что соловьевское понимание
предназначения русского народа в мировой истории, сама задача «великого
синтеза была, несомненно, предвосхищена славянофилами»5. От
себя добавим, что в действительности этого «синтеза» в программе
Соловьева не было, но об этом мы еще будем говорить.
Ранний В. Соловьев вслед за славянофилами констатировал
раскол русского общества на образованный слой и народ.
Европейское просвещение, по его мнению, «состоит в отрицании всякого
духовного, нравственного начала», и оно в таком виде не нужно
русскому народу. Напомним, что для A.C. Хомякова, И.В.
Киреевского и их соратников восстановить «цельность общества» возмож-
1 Соловьев B.C. Собр. соч. СПб., б. г. Т. 1. С. 224.
2 Там же. Т. 5. С. 55.
3 Там же. Т. 3. С. 215.
4 Там же. T. 1.С.225.
5 Трубецкой E.H. Миросозерцание B.C. Соловьева. Т. 1. С. 69.
240
но лишь на путях религиозного обращения «умственного класса»,
то есть обогатив его «чистым источником древней православной
веры своего народа»1.
В. Соловьев также призывает интеллигенцию постараться
«восстановить в себе русский народный характер». А этого можно
достичь путем освобождения «от той житейской дряни, которая
наполняет наше сердце». Взамен образованное общество должно
«свободно и разумно уверовать в другую высшую
действительность»2.
Важное значение в религиозном возрождении славянофилы
отводили соединению «православных убеждений с просвещением».
Подобный тезис близок Соловьеву. При этом славянофилы
подчеркивали, что ни католицизм, ни протестантизм не могут
гармонизировать веру и разум, ибо в первом случае все живут «по разумению
папы», объявленного непогрешимым, во втором — «по разумению
каждого», и это ведет к потере общей веры. А.Ф. Лосев приводит в
пример содержание неопубликованной рукописи В. Соловьева,
написанной в 1876 году. В этой работе философ критикует папство,
которое «вместо того, чтобы очиститься от крови и грязи»,
объявляет «себя непогрешимым», и протестантизм, который «хочет
верить и не верит больше»3. В этой критике явно просматривается
созвучие в отношении к христианским направлениям славянофилов
и раннего В. Соловьева, когда нет еще и речи об апологии
католицизма, появившейся в зрелых работах мыслителя.
Наконец, славянофилы последовательно критиковали позицию,
сводящую философию и богословие лишь к теоретическим
положениям. С их точки зрения «наша эпоха» зовет и требует их
«практического применения». Поэтому и философия, и богословие должны
приводить к «истинной вере», а она выступает как «живая» или
«творящая дело»4. Отсюда и особая роль церкви в социальной
сфере, так как только в ее рамках формируются подлинные
религиозные убеждения. Соловьев также солидаризируется с этой
позицией. Он неоднократно подчеркивал, что усвоение философских и
«христианских истин» не может быть только «субъективным
процессом», вызывающим внутреннее перерождение индивида. Это
«обращение» неизбежно сопровождается изменением социальных
1 Киреевский И.В. Поли. собр. соч. Т. 1. С. 221.
2 Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 1. С. 225.
3 Лосев А.Ф. Владимир Соловьев и его время. С. 211.
4 Хомяков A.C. Поли. собр. соч. Т. 2. С. 18.
отношений, ибо сама «церковь есть всемирная организация
истинной жизни»1.
Соловьев, как и славянофилы, приходит к выводу о том, что
Русская православная церковь, обладая истиной, не осуществила
ее во «внешней действительности», не дала ей реального
выражения, не создала христианской культуры. Однако ответы на вопрос,
почему это произошло, у них различны.
Несмотря на многие отмеченные нами сходные черты в
мировоззрении славянофилов и раннего В. Соловьева, его нельзя
рассматривать в этот период лишь в качестве апологета этого течения.
СМ. Лукьянов справедливо отмечает, что «строго правоверным
славянофилом Соловьев не был уже в момент своего первого
публичного выступления»2, то есть в 1874 году. Если у славянофилов
разум должен подчиняться вере, то у философа с самых первых
работ речь идет о синтезе этих начал. Отсюда и различное отношение
к философии. У славянофилов это лишь «момент в развитии»
человеческого духа, обеспечивающий «переходное движение»
человеческого разума из области веры к многообразию «мысли бытовой».
Она «низшая стихия» по сравнению с истинами веры. Для
Соловьева — уже в период становления его взглядов — именно
философия занимает центральное место в правильной ориентации
человеческого разума и всей деятельности индивида.
По мере становления «философии всеединства» расхождения
со старым славянофильством увеличиваются. Соловьев не
приемлет идеализацию допетровской России, община выступает в его
системе как «архаический пережиток», наконец, его идея
вселенской теократии отрицала многие тезисы славянофильства.
Появляются у Соловьева и новые акценты в трактовке той высшей
цели, к которой должно стремиться человечество.
Славянофильская доктрина трактует духовный прогресс как возвращение к
идеалу, который находится не в будущем, а в прошлом. Поэтому, с
этой точки зрения позитивные изменения в духовной сфере не
приводят к торжеству нового, а, напротив, возрождают духовные
основания традиционного русского общества. При этом
славянофилы, конечно, не отрицали необходимость научного и
технического прогресса, но он носит в их концепции подчиненный
характер по отношению к религиозному развитию. B.C. Соловьев
подобные взгляды на развитие не принимал, называя славянофилов
«археологическими либералами».
1 Соловьев B.C. Собр. соч. СПб., б. г. Т. 4. С. 228.
2 Лукьянов СМ. О Вл. Соловьеве в его молодые годы. СПб., 1918. Кн. 1. С. 401.
242
Итак, мы действительно видим эволюцию взглядов В.
Соловьева по отношению к славянофильству. Если ранний период
творчества философа во многом проходит под влиянием идей A.C.
Хомякова и И.В. Киреевского, то по мере становления его концепции
нарастает критичность ко многим славянофильским идеям. В то же
время еще раз хочется подчеркнуть мысль, удачно выраженную
E.H. Трубецким, что и у раннего Соловьева нет прямого
подражания предшествующему течению, его «воззрения совпадают со
взглядами славянофилов не в тех или других частностях, а в
основных принципах»1. Философская система B.C. Соловьева
представляла собой новый шаг в развитии русской мысли: сохраняя
определенную преемственность, она выдвигала оригинальные идеи.
Основные положения философской системы
Взгляды B.C. Соловьева в последней четверти XIX века и
начале XX века были предметом интереса не только представителей
православной церкви, но и образованных слоев общества в целом.
Мы не можем согласиться с В.Н. Акулининым, считающим, что
«после прекращения профессорско-преподавательской
деятельности сфера "проповедничества" для B.C. Соловьева практически
ограничивалась салонами графини С.А. Толстой-Бахметьевой,
княгини Волконской и принцессы Е.И. Ольденбургской»1. Современник
Соловьева и его друг С.Н. Трубецкой отмечал «непризнанность,
непонятость» философа и в то же время подчеркивал, что он имел
«всеобщую известность» и «иногда блестящий успех, которым не
пользовался»3. Действительно, соловьевская поэзия, публицистика,
литературная критика, философские и богословские эссе,
фундаментальные работы вызывали противоречивые отзывы
современников, но они не оставались незамеченными. Такое внимание
объясняется тем, что он пытался создать цельное мировоззрение,
которое бы удовлетворяло запросы человека, с одной стороны, как
члена общества, деятельного участника социальной жизни, с другой —
как религиозного индивида, имеющего трансцендентные цели
бытия. Философско-богословская система Соловьева впервые на
русской почве попыталась «вписать» в рамки религиозного
мировоззрения новейшие достижения естествознания, исторической науки,
1 Трубецкой E.H. Миросозерцание Вл. С. Соловьева. Т. 1. С. 423.
2 АкулининВ.Н. Философия всеединства. Новосибирск, 1990. С. 19.
3 Трубецкой С. Н. Смерть В. С. Соловьева//Соловьев B.C. «Неподвижно лишь
солнце любви...» М., 1990. С. 385.
16* 243
философии. Отсюда отказ от ортодоксальных установок и в то же
время «преданность вере в господа». Не случайно видный
современный богослов, профессор С.-Петербургской духовной академии
Л. Воронов, признавая, что концепция Соловьева не претендует на
точное вероучительное освещение догматов, призывает
рассматривать ее как «блестящий опыт наглядного философско-апологетиче-
ского рассуждения»1.
Исходной посылкой построения философской системы для В.
Соловьева является поиск первоначала, обусловливающего развитие
окружающего мира. Уже в своей магистерской диссертации
«Кризис западной философии» он занят разработкой истинного
философского метода, позволяющего привести различные эмпирические
и логические данные в определенную систему. И хотя, с его точки
зрения, философ не может «знать непосредственно абсолютную
сущность», но он при правильном анализе приходит к
определенным достоверным выводам: «1. Есть всеединое первоначало всего
существующего. 2. Это всеединое первоначало в своей
проявляемой действительности, которую мы познаем в области нашего
опыта, представляет несомненно духовный характер. 3. Эта духовная
действительность принадлежит первоначалу независимо от нашего
сознания и первее его»2. Уже в этой схеме содержатся
принципиально важные для философской системы В. Соловьева положения.
Появляется представление о всеедином духовном первоначале
всего сущего. И данный вывод базируется не на вере, не на
божественном откровении, а на философских доказательствах.
В работе «Философские начала цельного знания»,
опубликованной в 1877 году, мыслитель делает первый набросок общих
принципов своей философской системы. Много места в ней
уделяется рассмотрению и характеристике абсолютного первоначала.
В. Соловьев, останавливаясь «на логическом его значении»,
отмечает две особенности: во-первых, оно «определяется само по себе,
в отдельности или отрешенности от всего другого... как свободное
от всего, как безусловно единое»; во-вторых, оно характеризуется
«как обладающее всем, не могущее иметь ничего вне себя».
Иными словами, «нам дается единое во всем, но должно также познать
все в едином»3. Эта формула — одна из ключевых в мировоззрении
Соловьева, она используется им и в гносеологических построениях,
1 Журнал Московской патриархии. 1974. № 6. С. 78.
2 СоловьевВ. С. Собр. соч. СПб., б. г. Т. 1.С. 135(Работы B.C. Соловьева
цитируются по первому изданию собрания сочинений мыслителя в 8 томах).
3 Там же. С. 320.
244
и при анализе природных процессов, и при рассмотрении
философии истории. Очень важно также отметить, что наряду с понятием
«всеединства» философ использует понятие «истинного или
положительного всеединства». Тем самым он хочет подчеркнуть, что
выступает против «отрицательного единства», то есть такого,
которое отрицает всякую множественность, подавляя «входящие в него
элементы». «Положительное всеединство», напротив, не
исключает множественности, а единообразное проявляется в
многообразных качествах, единое существует «в пользу всех». Концепция
«положительного всеединства», на наш взгляд, развивает
славянофильскую идею «соборности». Напомним, что A.C. Хомяков, давая
определение соборности, также подчеркивал необходимость
гармонизации единства и множественности. Однако если у славянофилов
реализация принципа соборности ограничивалась церковной и
социальной сферами, то у Соловьева «положительное всеединство»
приобретает всеохватывающее — не только земное, но и
космическое — значение. Низшие и высшие уровни бытия взаимосвязаны,
так как «низшее обнаруживает тяготение к своему высшему», а
каждое высшее «вбирает в себя низшее». Поэтому мировой процесс
не может ограничиться лишь земными перспективами, он
предполагает «собирание вселенной».
Отсюда понятно, что проблемы становления вселенной и
истории человечества занимают важное место во взглядах Соловьева.
Детерминантой развития природных и социальных процессов
выступают в его системе сверхъестественные силы. «Абсолютное
первоначало», «всеединый дух», «всеобщее существо»,
«космический ум» и другие названия используются мыслителем для
обозначения божественного начала. Бог у него лишен антропоморфных
черт, а понимание этого образа в виде человека, с его точки
зрения, присуще лишь «низшим формам религий языческих»1.
В системе философа Бог выступает как «существо
сверхличное», особая «органическая сила», действующая в мире,
«неоднородная с вещественными стихиями». «Органическая сила»
распадается на множество «элементарных сущностей», или «причин
вечных и неизменных», которые лежат в основании всякого предмета
или явления. Эти «элементарные сущности» он называет атомами,
которые своими различными колебаниями и составляют реальный
мир. Сами атомы Соловьев трактует в духе неоплатонизма как осо-
1 Правда, здесь нужно заметить, что речь не идет об Иисусе Христе, «вочелове-
чивание» которого рассматривается как специфическая форма божественного
откровения.
245
бые эманации Божества, поэтому они в его концепции выступают в
виде монад, то есть «живых элементарных существ» или «идей».
При этом философ подчеркивает, что «идеи» — не произведение
нашей абстрактной мысли, а «совершенно определенные,
особенные формы метафизических существ». Каждая «идея» обладает
определенной силой, что делает их «деятельными существами».
Следовательно, действительность нельзя рассматривать в «застывших
формах», самый общий признак всего живущего «состоит в
последовательных изменениях»1. Все монады «внутренне между собой
связаны», так как причастны одной высшей, всеобъемлющей идее.
Определяя эту идею, Соловьев считает, что она может выступать
только как «безусловная благость или любовь». Любовь
приобретает у мыслителя онтологический характер, она является
божественным началом, гарантирующим «внутреннее единство»,
обеспечивающим стремление к «всеединству», или к Богу как «особому
центру бытия».
Трактовка любви как божественной энергии, обеспечивающей
позитивное развитие мира, также развивает славянофильское
понимание этого феномена. Мы уже отмечали, что для славянофилов
именно любовь предопределяет торжество соборных начал и в
церкви, и в обществе, она гарантирует в конечном итоге единство
человечества.
Однако если у славянофилов были лишь элементы диалектики в
понимании взаимодействия Бога и мира, то у В. Соловьева
диалектический метод становится важнейшим элементом его системы.
Ему удается органически совместить религиозное мировоззрение с
диалектикой. Он приходит к выводу, что окружающий мир не
может рассматриваться как «совершенное создание, непосредственно
исходящее из творческой воли одного божественного художника»2.
Для правильного понимания творения, по мнению Соловьева, мало
признавать абсолютное существо, надо еще постигнуть антиномич-
ность трансцендентного мира, так как «само абсолютное, чтобы
быть таковым, требует другого не абсолютного: единое, чтобы быть
всем, требует многого»3. Поэтому он наряду с «абсолютно сущим»
вводит понятие «мировая душа». Основным признаком мировой
души является энергия, которая одухотворяет все существующее,
поэтому «жизнь есть самое общее и всеобъемлющее название для
полноты действительности везде и во всем». Душа, несмотря на
1 Соловьев B.C. Собр. соч. СПб., б. г. Т. 3. С. 26
2 Там же. Т. 6. С. 51.
3 Там же.
246
различные изменения и «страдания», выступает как начало
«неуничтожаемое», она и связана с «вещественными стихиями», и в то
же время отлична от них, несводима к ним. Присутствие мировой
души необходимо «для первоначального происхождения
органического мира». Ее деятельность обязательна и для дальнейшего
развития природы, предполагающей «создание тех сложных и
многочисленных форм жизни, которые мы находим на нашей планете»1.
Трактовка Соловьевым мировой души показывает, что он во
многом солидаризируется с пантеистическими взглядами на природу.
Отсюда не случайно, анализируя историю философии, русский
мыслитель с симпатией относится к взглядам Бруно и Спинозы. По его
мнению представления о природе как «живом, одушевленном
единстве могут быть совершенно верны». При этом философ даже
ссылается на авторитет отцов церкви, с тем чтобы доказать, что идеи
пантеизма созвучны «как с христианским вероучением, так и с
требованиями философского умозрения».
Обосновывая этот тезис, русский философ утверждает
возможность совмещения пантеизма с христианским монотеизмом. Л.М.
Лопатин, оценивая взгляды мыслителя, отмечает, что «Соловьев,
несомненно, теист в своем воззрении на первое начало и он в то же
время пантеист в своих идеях о мировом процессе»2. Для
«синтеза» теизма и пантеизма, по мнению Соловьева, нужно только четко
различать единого Бога и мировую душу. Мировая душа — начало
тварное, она «первая из всех тварей... нашего сотворенного мира».
Как тварь, мировая душа «не имеет вечного существования в самой
себе, но она от века существует в Боге в состоянии чистой мощи»3,
всеобщей потенции. Вот почему ее деятельность детерминирована
Богом, так как именно он «дает мировой душе идею всеединства
как определяющую форму». Бог предопределяет также появление в
ходе эволюции качественно новых элементов бытия, ибо «общий
закон мирового порядка» утверждает, что «высший тип
существования не создается предшествующим процессом, а только
обусловливается им в своем явлении»4.
Мировая душа характеризуется как «вечная женственность», то
есть пассивное начало, воспринимающее воздействие Творца. Само
творение, по Соловьеву, — это не единовременный акт, а процесс,
1 Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 3. С. 263.
2 Лопатин Л.М. Философские характеристики и речи. С. 152.
3 Соловьев B.C. Россия и вселенская церковь. М., 1911. С. 336.
4 Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 7. С. 208.
247
в результате которого Бог через мировую душу создает «сложное и
великолепное тело нашей вселенной». Включение в мировой
процесс «женского начала» получило дальнейшее развитие в
религиозно-философских исканиях в России начала XX века. Не случайно
Н. Бердяев, критично относясь ко многим положениям «философии
всеединства», высоко оценивал соловьевские представления о
«вечной женственности», заявляя об их «огромном значении»1.
Однако Абсолютное первоначало и мировая душа не
исчерпывают соловьевских представлений о мировом процессе; важнейшим
элементом последнего выступает также София. Учение о Софии
B. Соловьева подробно рассмотрено А.Ф. Лосевым2. Он указывает
на десять аспектов понимания Софии философом, которые в
иерархическом порядке располагаются следующим образом:
«абсолютный, богочеловеческий, космологический, антропологический,
универсально-феминистический, эстетически-теоретический,
интимно-романтический, магический, национально-русский и
эсхатологический». Нам важно отметить, что соловьевское учение о Софии
соединяет в себе три ее разных понимания. Во-первых, София как
«элемент Божества», как «тело Божие». В этом плане она отлична
от мировой души, так как не является тварным началом. И если
мировая душа обеспечивает многообразие окружающего мира, его
множественность, то божественная София, напротив, направляет
его к единству, к всеобщности3. При этом В. Соловьев пытается
защититься от обвинений в том, что он своим учением о Софии
вводит в Троииу четвертую ипостась. С его точки зрения говорить о
Софии как о «существенном элементе Божества — не значит...
вводить новых богов»4. Бог-Сын, то есть Иисус Христос, согласно
христианской традиции, является Логосом, «смыслом тварного
мира». В этом плане, когда Христос отождествляется с Софией, то
речь идет о нем как члене Троицы, а не как о богочеловеке.
Христос-София — особое божественное воздействие,
обеспечивающее эволюцию мира к единому первоначалу.
Во-вторых, София понимается как богочеловечество, то есть
соединяет в себе как божественное, так и тварное начало.
Христос-София в этом значении уже не просто одна из ипостасей
Троицы, а «вочеловеченный» Бог-Сын. Богочеловеческая София у
1 См.: Бердяев H.A. Новое религиозное сознание и общественность. СПб., 1907.
C. 216—217.
2 См.: Лосев А.Ф. Владимир Соловьев и его время. С. 209—266.
3См.: Соловьев B.C. Россия и Вселенская церковь. С. 329—340.
4 Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 3. С. 106.
248
Соловьева находит свое проявление и в Деве Марии, ибо ее
посредством премудрость Божия также воплощается в человеке и в
мире в целом. Божественно тварная София реализуется и в
мистической церкви как «теле христовом». Эта церковь, соединяя тварь
с Богом, гарантирует преобразование «небожественного мира».
Наконец, тварно-нетварная София воплощается в идеальном
человечестве, характеризуемом как «истинное, чистое и полное»,
благодаря его деятельности «небеса низойдут на землю».
Подводя итог, можно сделать вывод, что Христос, Богородица,
мистическая церковь и идеальное человечество способствуют
реализации в мире премудрости Божьей, соединяющей с Богом «все,
что есть». В идеале именно благодаря богочеловеческому процессу
мир должен стать «полным воплощением Божественной
премудрости», чтобы «все было Богом»1.
В-третьих, София понимается как тварное начало. Ее
проявлением выступает мировая душа в той ее части, которая стремится к
единому первоначалу. И если божественная София и мировая
душа — два разных образования, то тварная София — это и есть
«живая душа природы и вселенной»2. Тварная София находит свое
проявление в исторической церкви и в реальном человечестве. Со-
фийность выступает здесь не явно, она часто оказывается
подавленной греховными устремлениями человека. Однако идеальные
порывы людей, их духовную энергию, обеспечивающую связь
между тварью и Богом, никогда полностью подавить не удается.
Между божественной, божественно-тварной и тварной
Софиями у Соловьева существует диалектическая связь. Само
рассмотрение Софии в трех разных значениях строится на диалектической
триаде: тезис — Божественная София; антитезис — тварная
София; синтез — Божественно-тварная София. Подобная трактовка
принципиально важна для B.C. Соловьева, так как показывает
неразрывную связь божественного и тварного мира, идеальной и
материальной сфер жизни. В третьей речи, посвященной памяти
Ф.М. Достоевского, философ особо отмечает отношение писателя
к природе, он «понимал и любил землю и все земное, верил в
чистоту, святость и красоту материи». И в этом, по мнению
Соловьева, нет ничего греховного, такой материализм соответствует
христианской идее, ибо христианство содержит мысль о «воплощении
божественного начала в природной жизни через свободный подвиг
человека», оно призывает и к вере в Бога, и к вере в «Бого-мате-
1 Соловьев B.C. Россия и Вселенская церковь. С. 330.
2 Соловьев B.C. Собр. соч. СПб., б. г. Т. 8. С. 240.
249
рию (Богородицу)». В подобной трактовке материального мира и
природы не только проявляются пантеистические тенденции в
мировоззрении В. Соловьева, но и содержится понимание важности
этих начал в жизни человека и общества.
С представлениями В. Соловьева о мировом процессе тесно
связаны его гносеологические построения. Русский философ не
просто разрабатывает определенные принципы теории познания, а
претендует на создание единственно верной концепции. Поэтому
уже в своей магистерской диссертации В. Соловьев обращается к
историко-философскому материалу с целью показа
несостоятельности всех предшествующих гносеологических теорий. По его
мнению начало западноевропейской философии можно отнести к
периоду, когда для некоторых «отдельных лиц учение католической
церкви перестало соответствовать их собственному мышлению»'.
Поэтому начинается разрыв между разумом и авторитетом, между
знанием и верою. Этот процесс прошел три основные этапа: на
первом — разум, безусловно, подчинялся авторитету церкви; на
втором — преобладают попытки примирить церковную доктрину с
рационалистическими построениями; наконец, на третьем этапе это
«примирение» оборачивается «признанием исключительных прав
разума».
Словом, развитие человеческого мышления, как доказывает
Соловьев, приводит к тому, что в новое время дуализм между разумом
и верою перестает быть главной проблемой и на первый план
выходит дуализм «между разумом и природою». Начинается борьба
между рационализмом и сенсуализмом. Однако ни одно из этих
течений победить не может, так как ни то, ни другое, как считает
Соловьев, не обладает полнотой истины. Рационализм, наиболее ярко
раскрывшийся в системе Гегеля, приводит в конечном итоге к
отрицанию идеальных начал, к появлению материализма. Сенсуализм
вырождается в субъективный идеализм, в результате которого
«внешнее вещественное бытие теряет всю свою
самостоятельность, будучи признано только представлением». Бесконечные
философские споры приводят к тому, что западноевропейские
мыслители успокаиваются «на отрицательном результате позитивизма,
признавшего решение высших вопросов мысли безусловно
невозможным и самою их постановку нелепою»2.
B.C. Соловьев приводит достаточно убедительные доводы,
показывающие несостоятельность позитивистских претензий на
возможность избежать постановки мировоззренческих вопросов. С его
1 Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 1. С. 46.
2 Там же. С. 236.
250
выводом о том, что без решения «мировых проблем» не может
быть никакой истинной философии, можно согласиться. Поэтому
для преодоления кризиса западноевропейского мышления
философия должна обратиться к «новой метафизике». Вслед за И.В.
Киреевским В. Соловьев считает, что новая философия не может
основываться только на традициях европейского умозрения, а должна
стремиться соединить логическое совершенство западной формы
мышления с полнотой содержания «духовных созерцаний Востока».
В результате подобного слияния появится философия, которая, с
одной стороны, опирается на данные положительной науки, а с
другой — «подает руку религии»1.
Образец подобного синтеза Соловьев решил показать в своей
работе «Философские начала цельного знания». Все многообразие
человеческого знания, с его точки зрения, можно разделить на три
сферы. В первой главный интерес принадлежит «материальной
истинности, образующей так называемую положительную науку», во
второй предметом познания выступают общие принципы,
«имеющие в виду преимущественно логическое совершенство или
истинность формальную», которые составляют отвлеченную философию;
в третьей сфере содержится знание об «абсолютной реальности»,
размышления по этому поводу образуют теологию. Все
предшествующие теории познания, по мнению Соловьева, не обладали
цельным знанием и носили односторонний характер, возводя в абсолют
или реальный эмпирический факт, или общую рационалистическую
идею, или представления о трансцендентном мире. Каждая из
односторонних концепций пытается поглотить другую, отсюда
происходит борьба между теологией, философией и положительной наукой,
а единое некогда человеческое познание распадается на
враждебные области. Философия цельного знания, или «свободная
теософия», которую стремится создать B.C. Соловьев, исходит из
признания необходимости развития как науки, так и философии и
теологии. Они при правильном «органическом взгляде» не
противоречат друг другу, а взаимодополняют, ибо первая «дает необходимую
материальную основу всякому знанию, вторая сообщает,ему
идеальную форму, в третьей получает оно абсолютное содержание и
верховную цель»2. Уже в этой схеме прослеживается
субординация, которую устанавливает философ между наукой, философией и
теологией. Безусловное превосходство отдается религиозным
построениям, так как для него только абсолютное первоначало «сооб-
1 Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 1. С. 143.
2 Там же. С. 236.
251
щает настоящий смысл и значение как идеям философии, так и
фактам науки, без чего первые являются пустой формой, а вторые
безразличным материалом»1. Однако надо отметить, что для
Соловьева христианство «в своем общем воззрении исходит из
платонизма»2. Поэтому в этой религии теология с самого начала имела
философскую форму выражения. Более того, с его точки зрения
именно философия освобождает христианскую истину от
исторических наслоений, искажающих ее, она соединяет божественное и
человеческое в богочеловеческий процесс. Следовательно,
«верховная цель», содержащаяся в теологии, раскрывается при помощи
философии, правда, речь идет о любомудрии, признающем
религиозные ценности, но об этом мы еще будем говорить более
подробно. Отношение к религии служит не только разграничительным
критерием истинной и ложной философии, но оно определяет:
является наука истинной или ложной.
Построение первой базируется на «ее тесном внутреннем союзе
с теологией и философией, как высшими членами одного
умственного организма»3. Вторая основывается на материализме, который
исходит из двух основных посылок: все существующее состоит «из
силы и материи», все совершается по «непреложным законам». По
мнению философа, эти положения, «несомненно, истинны по своей
общности», но они не дают основания отрицать «действительность
и самостоятельность духовных сил». Поэтому выводы
материалистически науки, игнорирующие «высшее начало», не являются
доказательными, а «есть только произвольное верование».
Материализм прав, когда утверждает, что «жизнь человека в мире есть
природный процесс... игра естественных сил». Но он неправ, ненаучен,
нелогичен, когда забывает, что эта игра предполагает играющих, то
есть трансцендентную, разумную «безусловную личность».
Опасность материализма, как считает Соловьев, заключается прежде
всего в том, что он содержит отдельные верные положения, но,
говоря об истине, он «не говорит всей истины». Поэтому борьба с
материализмом, по его мнению, предполагает тщательное изучение
этого течения, с тем чтобы показать несостоятельность его
мировоззренческих выводов. На примере отношения B.C. Соловьева к
материализму видно, что в его концепции критика этого течения
носит более взвешенный характер. В отличие от славянофилов, для
которых любая теория, отрицающая Бога, является «никудышной
1 Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 1. С. 237.
2 Там же. Т. 2. С. 382.
3 Там же. T. 1.С222.
252
философией», «болезнью ума» и т. п., он признает определенные
позитивные моменты в материалистическом учении. Более того,
философ утверждает, что развитие материализма в какой-то мере
полезно «христианской истине», так как восстанавливает «права
земного», отвергнутые «односторонним спиритуализмом и
идеализмом». Однако, оценивая материализм в целом, он характеризует
его как упадок философии, а его распространение, особенно в
естественнонаучной форме во второй половине XIX века, рассматривает
как духовный регресс, временное «возвращение назад». В
изображении Соловьева материалистическое понимание окружающего
мира выступает как одно из ложных начал, которое не может
удовлетворить разум и повергает мир человеческий «в то состояние
умственного разлада, в котором он доселе находится»1.
Другое дело — наука, признающая верховное руководство
религии. Подобные научные построения, по мнению философа, не
только обладают «достоверными данными», но они также не
поддерживают «ложных выводов», получаемых на основе этих фактов
материалистическими учениями. Исходя из этих установок,
Соловьев пытается трактовать важнейшие естественнонаучные проблемы.
Так, например, он признает, что формированием научного взгляда
на природу «мы обязаны... естествоиспытателям, и во главе их
великому Дарвину»2. Философ критикует работы Н.Я. Данилевского,
содержащие резко негативную оценку эволюционной теории. По
его мнению «такая разрушительная критика», «голословное
отрицание» научных данных не может удовлетворить образованного
человека. Необходимо дать позитивное изложение вопросов
происхождения растительного и животного царства. Это «положительное
объяснение» и предлагает Соловьев.
С одной стороны, он солидаризируется с научной точкой зрения,
признавая, что развитие органического мира, появление
человека — это длительный процесс. Более того, философ отрицательно
относится к библейской картине мира, утверждающей
одновременность божественного акта творения. С его точки зрения «слепой
буквализм» в толковании Библии встречается только в «кругах,
заведомо чуждающихся науки». Традиционная, вербальная экзегетика
приводит к «нелепым и смешным» выводам, вредящим
религиозному мировоззрению. Поэтому следует обратить внимание не на
внешнюю, формальную сторону библейского изложения, а
проникать «во внутренний смысл Библии», понимать, что «в ней дейст-
1 Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 2. С. 1.
2 Там же. Т. 6. С. 56.
253
вительно есть существенного» . С этих позиций, до понимания
«внутреннего содержания» Священного Писания еще не доросло и
православное богословие. Представители последнего, стоя в
стороне от достижений западной экзегетики, занимаются тавтологией, то
есть доказывают боговдохновенность Библии «отдельными
текстами Писания, утверждающими эту боговдохновенность». Самым же
существенным в «богооткровенной книге» является идея Бога, во
имя сохранения которой, как считал Соловьев, нужно пересмотреть
консервативное понимание Библии.
Следует подчеркнуть, что философ имеет и отличную от науки
«другую сторону», так как в целом он не приемлет безрелигиозную
картину мира. В его произведениях мы встречаем многочисленные
утверждения о недостаточности одних научных исследований для
объяснения эволюции природного мира. Естествоиспытатели верно
подчеркивают особую роль земли и воды в появлении жизни, но
они, по мнению Соловьева, забывают в своих выводах самое
главное: земля и вода лишь «по слову Божию и выводят из себя все
живущее». Точно так же представители науки справедливо
отмечают, что антропогенез теснейшим образом связан с развитием
природы, но они упускают из виду, что явление «разумного сознания
произошло в природе... но не от природы, а от того разума,
который изначала устроил саму природу» . При этом философ пытался
доказать, что вера в божественное творение мира нисколько не
отрицает эволюционного учения. Эволюцию, с его точки зрения, и
«нельзя отрицать, она есть факт». Но он считал, что надо
негативно относиться ко всем попыткам науки ответить на вопрос, почему
происходит развитие природы. Эта проблема не только не должна
решаться учеными, но они не могут даже ставить подобные
вопросы. Предметом науки в системе Соловьева является описание
«вещества и силы», но что такое, «в сущности, вещество и сила —
этот вопрос не входит в ее задачу»3.
Итак, выступая за развитие научного знания и искренне
стремясь к развитию науки в России, философ сводит ее задачи к
анализу фактов, оставляя решение мировоззренческих проблем за
теологией. С его точки зрения наука никогда не приведет человека к
решению главной гносеологической проблемы — пониманию
«смысла вселенной». Источником высших истин является религия,
божественное откровение. Любая попытка человеческого разума по-
1 Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 6. С. 542.
2 Там же. С. 476.
3 Там же. Т. 3. С. 22.
254
строить систему, отвергающую «божественное начало», по мнению
B.C. Соловьева, «есть явление ненормальное». Следовательно,
B.C. Соловьев отдает предпочтение религиозным началам перед
чисто научным знанием. Он неоднократно подчеркивал, что для
него, как и для каждого верующего, «слово Божие вернее всех
человеческих соображений» и религиозные истины «дороже всех
земных интересов»1.
Однако «христианские истины» в системе философа, как мы
уже отмечали, заметно отличаются от положений традиционного
православного богословия. Само божественное откровение B.C.
Соловьев понимает не как одновременный акт, а как длительный
процесс, проходящий три этапа. Первый — «естественное или
непосредственное откровение», которое нашло свое выражение в
обожествлении природы, то есть в политеизме. На втором этапе
«религиозное начало открывается в своем различии и
противоположности с природой, как ее отрицание». Этот период философ
называет «отрицательным откровением», примером которого является
буддизм. Наконец, третья ступень, когда «божественное начало
последовательно открывается в своем собственном содержании», —
это «положительное откровение», выразившееся в христианстве.
Путем использования гегелевской триады философ обосновывает
принцип «богословского развития». Каждому этапу
«божественного откровения» соответствует определенный этап человеческого
осмысления «высшего начала».
Уже в этой схеме видно, что B.C. Соловьев особую роль в
уяснении «религиозных истин» отводит разуму, при помощи которого
и происходит все более полное «постижение божества». И не
случайно первым «положительным фазисом религиозного откровения»
в его концепции выступает греческий идеализм, прежде всего
философская система Платона, хотя, с точки зрения философа,
рациональные доказательства бытия бога «не могут дать безусловной
достоверности», ибо для рассудка существование высшего начала
«только вероятности или условные истины». В то же время на
основании этих, как считает B.C. Соловьев, верных положений
нельзя делать вывод, будто вера противоположна разуму, а
рациональные построения только мешают «постижению религиозного
откровения». Утверждая существование божественного начала «актом
веры», индивид тем самым вступает на путь «религиозной жизни»,
у него появляются религиозные представления и переживания. Эти
«опытные данные» человек пытается понять, определенным обра-
1 Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 3. С. 200.
255
зом классифицировать. Анализ «религиозного опыта» возможен
только при помощи разума. Таким образом, «кроме религиозной
веры и религиозного опыта требуется еще религиозное мышление,
результат которого есть философия религии»1. Только «философия
религии», по мнению Соловьева, может дать «адекватное знание о
божественном начале», так как она выступает как «система и
полный синтез религиозных истин». Философ считает, что
христианские догматы могут просто выступать как «объект веры», для этого
достаточно быть христианином. Однако для того, чтобы «понять их
смысл в области высших умозрений разума, нужно быть
философом». При этом Соловьев особо подчеркивает, что не любая
философия помогает постижению христианских истин, а только
спекулятивное мышление «Платонова или Шеллингова направления» .
B.C. Соловьев отдавал предпочтение «разумной вере» перед
«слепым религиозным поклонением», и в этом пункте он
полемизирует со славянофилами, у которых «христианские истины»
постигаются не столько рациональными построениями, сколько
«верой благодатной и живой». Отсюда, как мы уже отмечали, и
разница в отношении к философскому обоснованию христианства.
Для A.C. Хомякова, И.В. Киреевского спекулятивное мышление в
какой-то мере может помочь религии, но одного философского
оправдания религии недостаточно. У Соловьева же «философия
религии» занимает центральное место в гносеологических построениях,
без нее не может быть подлинно религиозного знания.
Попытка создать богословскую систему, опирающуюся на
«разумную веру», приводит философа к своеобразной трактовке
проблем мистицизма. С одной стороны, он признает традиционный для
православия тезис, что высшей формой познания выступает
мистика. Она, по его мнению, несводима к человеческим ощущениям и к
мыслям, так как ее предмет — «живая действительность существ в
их внутренних жизненных отношениях». Только мистическое
познание проникает, согласно этим взглядам, в сущность предмета, так
как находится в непосредственной связи с абсолютным
первоначалом. Ни эмпирические данные, ни рациональные построения не
могут описать мистические переживания, для их адекватного познания
необходима особая деятельность, которую «назовем умственным
созерцанием, или интуицией»3. Именно интуитивное знание, с точ-
1 Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 3. С. 32.
2 Там же. Т. 7. С. 26.
3 Там же. T. 1.С.291.
256
ки зрения философа, является самым важным и имеет
первостепенное значение для человека.
На первый взгляд, мы видим отказ Соловьева от рационализма.
Действительно, если интуиция «составляет настоящую форму
цельного знания», то зачем же тогда философия религии? Это
противоречие философ пытается разрешить при помощи потенциальных
возможностей интуитивного знания и того реального уровня
интуиции, который доступен человеку. По его мнению «действительная
связь между идеями... и непосредственное созерцание этой связи и
цельности» доступно только взору, находящемуся в абсолютном
центре бытия, то есть Богу, для человека же «возможно только
вторичное, рефлективное, чисто логическое познание
трансцендентных отношений»1.
Поэтому если ортодоксальное богословие и иррациональные
формы религиозной философии рассматривают мистицизм,
мистическую интуицию как нечто «сверхразумное», «таинственное и
невыразимое», то у Соловьева мистический элемент составляет
«особый предмет умственной деятельности», он «двигается в идеях и
мыслях». Любые попытки ограничить богопознание мистическими
видениями приводят к господству «исключительного мистицизма».
Последний же сводит все предметное, идеальное содержание
знания «к субъективному призраку человеческого ума, что, очевидно,
приводит к отрицанию всякой философии, к безусловному
скептицизму»2. Следовательно, с точки зрения философа, мистицизм
лишь дает уверенность в существовании трансцендентного мира, но
религиозное познание не может удовлетвориться этим выводом.
Ответы на свои вопросы, основанные только на религиозных
данных, человеческий ум воспринимает «как нечто внешнее и чуждое».
Поэтому мистические переживания должны «подвергнуться
рефлексии разума, получить оправдание логического мышления»3.
Итак, Соловьев даже мистицизм пытается соединить с
рационализмом. Подобные установки, как мы увидим ниже, получили резко
отрицательную оценку последующих, более иррационально
настроенных представителей русской религиозной философии. Для
Соловьева же принципиально важно доказать, что «тонкий, сложный
процесс мысли» может убедить индивида в гармонии веры и
интеллекта, ибо, с этой точки зрения, разум «нисколько не противоречит
истинному богопочитанию».
1 Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 1. С. 239.
2 Там же. С. 238.
3 Там же. С. 280.
17-6016
257
Исследователи философского наследия Соловьева уже не раз
подчеркивали, что его гносеологические построения имеют
«практическую направленность». Действительно, мыслитель в своих
произведениях, как мы уже отмечали, солидаризируясь со
славянофилами, утверждал, что философия — это не только теория, но
«жизненное дело». Наиболее концентрированный ответ на вопрос, что
же дает философия человечеству, содержится во вступительной
лекции «Исторические дела философии», прочитанной Соловьевым
в 1880 г. в Петербургском университете. С его точки зрения
решить эту проблему не так просто, ибо если другие науки приносят
«явные плоды», то влияние философии на общество не так
наглядно. Действительно, можно согласиться с рассуждениями философа,
что естествознание и связанные с его развитием технические
достижения умножают «удобства внешней жизни человека»;
юридические и исторические науки содействуют «прогрессу общественных и
политических отношений между людьми». Но при более
внимательном анализе развития общества выясняется и огромная роль
философии в его прогрессе. Человек, по Соловьеву, выступает в двух
основных качествах: как разумная личность и как «существо
чувственное и материальное». Историческое христианство, опираясь на
церковный авторитет, подавляло человеческий разум, формировало
аскетически пренебрежительное отношение к материальным
потребностям людей. Рациональная философия от Декарта до Гегеля
способствовала развитию «разумной силы» человека, она
освободила интеллект из догматического плена. Философский
материализм восстановил отвергнутые «односторонним спиритуализмом»
права материи, и индивид «познал и полюбил материальную
природу». Формально оба этих течения выступают как враждебные
религии силы, но в действительности они были «ко благу христианской
истине». Ибо «философия, осуществляя собственно человеческое
начало в человеке, тем самым служит и божественному, и
материальному началу, вводя и то и другое в форму свободной
человечности»1. Итак, философия, согласно взглядам Соловьева, выступает
своеобразным посредником между материальным и божественным
миром, более того, именно она должна раскрывать динамику
взаимодействия этих миров, то есть пути их развития.
Естественно, проблемы космогонии и истории занимают важное
место во взглядах Соловьева. Мыслитель уже во введении к работе
«Философские начала цельного знания» отмечает, что философия,
«имеющая притязания на общий интерес», с необходимостью
1 Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 2. С. 386.
258
должна ответить на «вопрос о цели существования». Его же
решение предполагает рассмотрение проблемы развития, так как и
вселенная, и история не могут быть правильно поняты «вне
эволюции». Развитие ставит проблемы развивающегося субъекта, а он не
может быть безусловно простой и единичной субстанцией,
последняя исключает «возможность какого бы то ни было изменения, а
следовательно, и развития». Не является субъектом развития и
«механический агрегат элементов», в нем нет внутреннего
взаимодействия составляющих его частей. По мнению философа,
подлежащим развитию выступает «только единое существо, содержащее
в себе множественность элементов, внутренне между собою
связанных, то есть живой организм»1. Само развитие проходит ряд
необходимых моментов, составляющих диалектическую триаду. В этой
триаде тезисом является «внешнее единство», когда элементы
организма связаны между собою «чисто внешним образом»;
антитезисом выступает процесс «обособления или выделения» членов
организма, они приобретают известную самостоятельность; наконец,
синтезом будет свободное и внутреннее соединение распавшихся
частей, в этом состоянии они «поддерживают и восполняют друг
друга в силу своей внутренней солидарности».
Данная триада является для Соловьева универсальной, под нее
подводятся и духовное развитие, и становление вселенной, и
исторический процесс. Исследователи творчества B.C. Соловьева по-
разному оценивают его приверженность схематизму, некоторые
видят в этом проявление схоластики, сдерживающей творческую
мысль. Например, В. Зеньковский писал, что склонность
мыслителя «к широким обобщениям и часто даже к схематизму
ослабляет ценность его построений»2. Напротив, А.Ф. Лосев считал, что
соловьевское преклонение перед схемой, его приверженность
триадической диалектике нигде не задерживала «живую текучесть
мысли и была бы чем-то насильственным»3. Мы думаем,
последняя оценка более верно характеризует особенности
философствования В. Соловьева.
Не останавливаясь подробно на анализе космогонических
воззрений B.C. Соловьева, отметим только, что для него «творение»
мира есть диалектический процесс, который приближает окружаю-
1 Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 1. С. 228.
2 Зеньковский В.В. Русские мыслители и Европа. Париж, 1955. С. 251.
3 Лосев А.Ф. Владимир Соловьев и его время. С. 262.
щий мир к Богу — «центру бытия». Приближение к Богу
составляет «особый смысл» эволюции, в результате этого процесса
происходит «внутреннее единение каждого со всем», проявляется «все
во всех»1.
Философия истории
Мировое развитие приобретает качественно новые моменты с
появлением человека, ибо «в человеке природа перерастает саму
себя». Появление разумного существа символизирует начало
истории человеческого общества. Главная задача философии истории,
по мнению Соловьева, состоит, во-первых, в сохранении «во всей
чистоте и силе божественного начала», во-вторых, в обосновании и
развитии «человеческой самодеятельности». Особое значение
деятельности индивида, с точки зрения философа, обусловлено тем,
что он выступает в качестве посредника между Богом и
материальным бытием, «проводником всеединяющего божественного начала
в стихийную множественность — устроителем и организатором
вселенной»2. Однако, исходя из христианского догмата о
грехопадении, Соловьев делает вывод, что люди не выполнили этого важного
назначения. Отпадение от Бога приводит к господству
«материального начала» в жизни человека. Основным содержанием
человеческой деятельности становится забота о «хлебе насущном»,
появляется производство материальных благ.
Организация совместного труда потребовала от людей создания
социальных институтов: вначале возникает семья, затем —
государство. Государство философ определяет как «устой...
человечества против внешних стихийных сил, действующих на него и в нем».
На дохристианских этапах развития общества люди добровольно
ориентируют свою деятельность на «низменные материальные
интересы» и в силу этого «энергия души» падшего человека «есть
энергия самоутверждающейся воли, энергия зла». Это состояние
изменилось после «вочеловечивания» Иисуса Христа, которое
приводит к «перерождению души человека». И если до христианства
«натура человеческая была неподвижной основой жизни» и
прогрессивные изменения были детерминированы всецело
«божественным началом», то с появлением христианства, напротив,
«человечество является действующим началом истории, началом движе-
1 Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 6. С. 324.
2 Там же. Т. 3. С. 138.
260
ния, прогресса». Поэтому именно с «Боговоплощения» особое
значение приобретает в историческом процессе «София», которая
является связующим звеном между Творцом и творением, придает
всему историческому процессу «высшую разумность и смысл».
Достаточно сложным в концепции философа является
соотношение Софии и церкви. В главном их функции совпадают: они
соединяют «божественное и человеческое». Однако если учение о
Софии делает акцент на активности божественного начала, которое
«нисходит до человека», то трактовка церкви, напротив, обращает
внимание на активность индивида, благодаря которой он «восходит
до божества». Само это «восхождение», как считает философ,
нельзя понимать в духе «пассивного Богопочитания», так как оно с
необходимостью приводит к «активному богодействию», то есть к
совместной деятельности Бога и человека по пересозданию мира.
Рассмотрение проблемы взаимодействия божественного и
человеческого элементов в историческом процессе дает возможность
философу сформулировать одно из главных положений своей
системы — идею богочеловечества. Концепция богочеловечества, как
и софиология, также строится на триадической формуле. Тезисом и
антитезисом выступают совершенный бог и грешный человек, но их
антиномичность преодолевается благодаря боговоплощению.
Синтезом божественного и человеческого является Иисус Христос,
который согласно христианской догматике и полный Бог, и полный
человек. Его образ служит не только идеалом, к которому
стремится индивид, но и высшей целью общества в целом, так как
человечество в ходе развития должно все более одухотворяться
божественными началами. Человек и Бог для Соловьева своеобразные
партнеры в осуществлении истории. Все дело в том, что Бог
действует не помимо людей, а через человека, он претворяет
провиденциальные планы лишь благодаря активности индивида. Поэтому,
хотя человек и является «ведомым», он все же необходимый
«созидающий элемент» исторического процесса.
Признание значения деятельности людей в области
общественных отношений предполагает обоснование цели их деятельности в
истории. В качестве социального идеала в соловьевской философии
истории выступает Царство Божие, учение о котором, по мнению
философа, составляет центральную идею Евангелия. Соловьев
пытается в своих построениях совместить различные аспекты
христианских взглядов на «Царство Божие», так как в Новом Завете оно
понимается в трех разных смыслах: в эсхатологическом — как
«царство славы» божественного всемогущества, в духовном —
особое состояние души, «мир с Богом», в социальном — специфи-
261
ческая форма общества. Современное Соловьеву православное
богословие при рассмотрении Царства Божия делало акцент прежде
всего на том, что оно выступает как индивидуальная
характеристика духовного состояния индивида, обеспечивающего спасение. При
таком понимании Царство Божие лишалось каких-либо социальных
черт и противопоставлялось всем «мирским помыслам и
потребностям». Поэтому для консервативно настроенных богословов
наиболее созвучным евангельским идеалам является средневековое
общество, в котором единственной духовной пищей было
христианское вероучение. Для Соловьева подобное понимание Царства
Божия неприемлемо. По его мнению в эпоху Средневековья
происходит извращение христианства: оно вырождается в
«односторонний спиритуализм». Религия в это время утрачивает свою
жизненность, в обществе начинает господствовать «отвлеченная вера в
непонятные предметы». Грубой подделкой под христианство, с
точки зрения философа, выступают и те богословские взгляды,
которые связывают Царство Божие лишь с эсхатологической
перспективой, всецело зависящей от воли Бога. В этом случае человеку
отводится лишь пассивная роль наблюдателя, а вся его задача
ограничивается только тем, чтобы «бездейственно ждать грядущего
окончательного откровения».
Однако самым большим искажением учения о Царстве Божием,
как считал философ, являются попытки представить его лишь в
качестве совершенной организации земной жизни. В этом случае
царство Божие утрачивает определяющие духовные черты, происходит
забвение религиозных ценностей. В силу этого Соловьев постоянно
подчеркивал, что полнота естественной жизни всецело
определяется отношением к Богу и возможна для человечества лишь через
соединение «с полнотою Божества».
Подвергая критике односторонние концепции Царства Божия,
он претендует на авторство учения, устраняющего все «кажущиеся
противоречия между внутренним и внешним характером Царства
Божия, между постепенностью и внезапностью его
осуществления»1. Эти антиномии философ пытается разрешить путем
соединения традиционных христианских взглядов с идеей развития.
Царство Божие, как считает философ, не может рассматриваться в
статичном состоянии, его параметры постоянно изменяются. Так,
субъективный процесс спасения, то есть созидание Царства Божия
в душе индивида, с необходимостью сопровождается объективным
процессом — трансформацией социального организма. Отстаивая
1 Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 6. С. 30.
262
принцип провиденциализма, Соловьев утверждает, что
христианский социальный идеал создается прежде всего на небесах, «в
вечной божественной идее». Но осуществляться он должен не в
трансцендентном, а в земном мире, следовательно, его рост
«предполагает деятельное участие индивидуальных сил». Однако было бы
неверно думать, что в системе философа между религиозной и
социальной сферой, между небесным и земным существует какое-либо
равноправие. Для него не вызывает сомнения тезис, согласно
которому «спасение души есть окончательная цель, а организация
наилучших социальных порядков для общего блага есть одно из
необходимых средств для этой цели»1. Точно так же и исторический
процесс, хотя и есть явление важное и необходимое, не может
иметь самостоятельного значения, а выступает лишь как нечто
«относительное, подчиненное высшей цели». Исходя из подобной
субординации, философ считает, что базисом Царства Божия должна
быть религиозная вера, ибо, с его точки зрения, только
«религиозное начало является как единственно действительное
осуществление свободы, равенства и братства». Если же социальный идеал
покоится на естественных земных началах, то «попытки к его
реализации только утверждают и умножают уже господствующее в
мире зло и безумие» .
Типичным примером безрелигиозного общества является, по
мнению B.C. Соловьева, западная цивилизация. Она провозгласила
права человека на свободу, равенство и братство, но эти «три
слова так и остались пустыми словами». Так называемая
«демократия» на самом деле приводит к «плутократии», ибо народ
управляет лишь формально, фактически же верховная власть принадлежит
богатой буржуазии. Вслед за славянофилами философ отмечает
негативное влияние буржуазных отношений на нравственность. В
мире капитала личность оценивается не по шкале «духовного
богатства», а по величине ее материального состояния.
Неравномерное распределение богатства, нищета одних и роскошь других
порождают антагонистические противоречия между капиталом и трудом,
которые находят свое отражение в социалистическом учении.
Главный лозунг социализма, по мнению В. Соловьева, — требование
«равномерности материального благосостояния» — можно
осуществить, передав богатства «из рук меньшинства в руки народного
большинства». Социализм как организация материальной жизни
имеет много привлекательного, существует определенная «правда
1 Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 5. С. 331.
2 Там же. Т. 3. С. 192.
263
социализма». H.A. Бердяев особо подчеркивал, что эти
рассуждения Соловьева «глубоко верны». Простое объявление
социалистического учения «иностранным произрастанием», не имеющим основ
в России, уже мало кого убеждало в его несостоятельности. Для
эффективной борьбы с этой теорией «нужно признать правду
социализма и тогда не опасна ложь социализма»1. Главный порок
социалистического учения, по мнению В. Соловьева, заключается в
том, что оно претендует на осуществление безусловной правды в
области общественных отношений. Иными словами, социализм
пытается не просто «организовать экономическую жизнь», а
стремится стать мировоззрением, то есть доказать, что он может
осуществить «руководство» жизнью. Если подобное происходит, то
социализм, по мнению Соловьева, теряет всякое «нравственное
значение», ибо тогда забота «о хлебе насущном» превращается в
единственную цель человека. Пролетариат, считал он, используя
насилие, сможет «взять чужое», и такая революция на Западе
произойдет в ближайшем будущем. Однако в результате этого переворота
не только идеального, но даже более совершенного общества
создано не будет. По-прежнему будут господствовать утилитарные
интересы, обделенные сословия начнут борьбу за перераспределение
материальных благ. Поэтому революционные изменения, за
которые выступает социализм, — это «путь дурной бесконечности».
Крушение социалистических идеалов, которое, как считает
философ, неизбежно произойдет, поможет убедить народные массы в
бесплодности и несостоятельности этого учения. В результате у
человечества останется только один путь — обращение к
религиозным началам. Правильное понимание исторического процесса, к
которому приводит религия, убеждает человека в том, что
экономическая деятельность и экономические отношения не являются
главными в обществе. Подчинение личности экономическим законам, с
этой точки зрения, «есть лишь вымысел плохой метафизики, не
имеющий и тени основания в действительности»2.
Мыслитель предлагает следующую иерархию социальных
институтов. В основе социального организма «должен лежать
духовный союз, или церковь, определяющая собою безусловные цели
общества». Государственная же и экономическая сферы
социальной жизни имеют подчиненное значение, так как служат «средой
для осуществления божественного начала, представляемого
церковью». В этих рассуждениях много мыслей, созвучных славяно-
1 Бердяев H.A. Новое религиозное сознание и общественность. СПб., 1907. С. 102.
2 Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 7. С. 344.
264
фильскому социальному идеалу, однако пути его достижения у
A.C. Хомякова, И.В. Киреевского и их соратников радикально
отличаются от взглядов B.C. Соловьева, но об этом мы будем
говорить специально.
B.C. Соловьев остро чувствовал кризисные явления в религии.
Одно из своих основных произведений «Чтение о богочеловечест-
ве» он начинает с парадоксального на первый взгляд утверждения:
«Я говорю, что отвергающие религию в настоящее время правы...»1
Ибо современное христианство — «вещь жалкая», оно не играет
роли «господствующего начала», «центра духовного тяготения».
Подлинная же религия должна определять «все существенное в
том, что человек делает, познает и производит». С его точки зрения
общественный прогресс возможен лишь на путях религиозного
возрождения. Из всех религий В. Соловьев отдает безусловное
предпочтение христианству; аргументируя эту точку зрения, философ
опять прибегает к диалектической триаде. Первое пробуждение
человеческого духа, как он считает, происходит на Востоке, в
буддизме. Выработав идею совершенного Бога, эта религия требует от
человека «уничтожения своего я». На Западе, в Древней Греции,
напротив, выдвигается на передний план поиск «совершенного
человека», который заслоняет Бога. Наконец, появляется христианство,
выступающее синтезом этих начал, ибо оно «есть откровение
совершенного Бога в совершенном человеке»2.
Историческое бытие христианства приводит к тому, что под
влиянием языческих начал искажаются заложенные в нем истины,
единая религия распадается на три направления: православие,
католицизм, протестантизм, а этот раскол вызывает ослабление бого-
человеческой основы евангельской религии. В Византии, приняв на
словах «идею христианского царства», отказались «от нее на
деле». Языческая жизнь была не преобразована, а лишь покрыта
«внешним покровом христианских догматов и священнодействий».
Причиной падения Византии была не какая-то «материальная
сила», а неправильное понимание народом христианства.
Религиозные истины были «только предметом их умственного признания и
обрядового почитания, а не движущим началом жизни»3. В
восточном христианстве идеалом святости становится монах, отшельник,
то есть человек, до минимума сокративший свою связь с «грешным
миром». Этот идеал, как считал Соловьев, неправильно ориентиро-
1 Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 3. С. 1.
2 Там же. Т. 4. С. 26.
3 Там же. Т. 5. С. 514.
265
вал духовную активность людей, ибо был «по своему существу
односторонне аскетическим и не мог двигать вперед общественную
нравственность»'. Особенностью православия является также его
полная зависимость от государства, которое в Византии «оказалось
сильнее церкви». Происходит обожествление царской власти, но
византийские монархи часто не выражали христианские интересы.
Вместо того чтобы «языческое государство» преобразовывать в
христианское, они саму идею «христианского царства понизили до
уровня самодовлеющей государственности». В конечном итоге
Византия, сохраняя религиозную истину, сделала ее абстрактной: она
все более «забывала о человеке», то есть о конкретном
исполнителе христианских положений. В силу этого происходит ее сближение
с дохристианскими «верованиями Востока», не сумевшими создать
«деятельной религии».
Католический Запад развивался иным путем, и положение
церкви здесь радикально отличалось от ее роли в Византии.
Отсутствие сильной государственной власти способствовало возвышению
западного христианства, оно получает «огромную силу». Особое
значение для выработки специфических черт католицизма, по
мнению философа, имела христианизация германских варваров. Этот
процесс не мог изменить «внутренней самобытности» этих племен,
они вносят в церковь «сознание безусловной свободы и значение
лица». Анализ католицизма приводит Соловьева к выводу, что это
направление христианства развивает в человеке деятельное начало
и тем самым способствует утверждению Царства Божия на земле.
Философ с подобострастием относился к католицизму,
идеализировал его историю, выдвигал на первый план позитивное влияние
этой религии на общественный прогресс. Однако и он не мог не
отметить, что на Западе начинает утверждаться «историческая
односторонность». Она проявлялась прежде всего в том, что духовные
начала человеческой жизни заменяются «внешними формами»
цивилизации. Достигая материального благополучия, делая свой быт
все более удобным, люди при этом часто теряли «высший смысл
жизни». В итоге на Западе, помня о человеке, «все более и более
забывали о Боге»2. Особенно это наглядно, с точки зрения
мыслителя, проявилось в протестантизме, в рамках которого
сформировался утилитарный подход к христианству, ориентирующий
человека прежде всего на решение земных задач. Данное направление
религии, провозглашая «мнимую духовную свободу», в действитель-
1 Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 5. С. 147.
2 Там же. Т. 8. С. 114.
266
ности освобождает человека «от всякой истины и святости» .
Иными словами, в западных вероисповеданиях возрождаются
дохристианские представления древнегреческой религии, происходит
возвышение человека за счет умаления значения Бога.
Россия приняла восточное христианство, и поэтому многие
недостатки Византии ей также свойственны. В таких работах, как
«Византизм и Россия», «Россия и вселенская церковь», в статьях,
посвященных национальной проблематике, в ряде писем Соловьев
«изобличает» существующую Русскую православную церковь. При
этом иногда этот обличительный пафос доходит до нигилизма.
Философ считает, что казенное православие «умирает и разлагается»,
русская церковь «покинута духом истины» и т. д. Подобная
разрушительная критика не соответствовала действительной роли
православия в истории России, и у самого философа есть признание
«огромных заслуг» восточного христианства в жизни русского народа.
Однако в 80-е годы XIX века В. Соловьев именно в Русской
православной церкви видел одно из главных препятствий в
осуществлении планов воссоздания вселенского христианства, отсюда и этот
гиперкритический настрой.
Итак, все три главные христианские направления не избежали
«односторонности» в понимании религиозных истин, правда, в
разной степени. Предпочтение В. Соловьевым все же отдается
католицизму, но важно отметить его принципиальный вывод о том, что
любое вероисповедание не может в отдельности претендовать на
полную истину, необходим их синтез.
В. Соловьев хорошо осознавал разницу между идеальным
христианством и его историческими реалиями, проявляемыми в
церковных организациях. Само земное существование церкви антино-
мично: так, она и «не от мира сего», и в то же время действует в
обществе. Философ подчеркивает, что «жизнь церкви есть средняя
между Божьей и природной»2. Отсюда понятны трудности,
возникающие с дефиницией сущности церковного организма. По мнению
мыслителя, в русском православном богословии «мы не найдем
определения церкви в ее истинной идее»3. Первыми в России, кто
попытался преодолеть схоластические тенденции в экклезиологии,
были славянофилы, особое значение в выработке нового взгляда на
церковь, как считал В. Соловьев, имели труды A.C. Хомякова.
1 Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 5. С. 59.
2 Там же Т. 4. С. 229.
3 Там же. С. 221.
267
В. Соловьев позитивно оценивает славянофильскую экклезио-
логию, он считает ее высшим достижением «понимание вселенской
церкви как живого существенного единства». Приобщение к этой
идее русского религиозного сознания «есть главная и
неотъемлемая заслуга славянофильства»1. Однако именно по церковным
вопросам у Соловьева происходит полемика как с ранними
славянофилами, так и с их последователями. Одной из ведущих тем этого
ожесточенного спора выступает проблема критерия истинности
церковного учения. У славянофилов таким критерием выступает
соборное сознание, выразившееся в Никее-Царьградском символе
веры и в решениях первых вселенских соборов. Отклонение от этих
основ изменяет «внутренний смысл» христианского вероучения,
ведет к искажению религиозных истин. Из всех христианских
направлений только православие сохранило преданность «вселенской
непогрешимости» и исповедание церкви, основанное на символе
веры. Следовательно, восстановление «духа истины» и создание
вселенской церкви возможно лишь на путях принятия православия
всеми христианами. В этом выводе, по мнению В. Соловьева, и
кроется главная ошибка A.C. Хомякова и его соратников. Они не
хотели видеть положительных сторон в католицизме и
протестантизме, доказывая, что «значение единой и вселенской церкви
принадлежит исключительно нам, нашему вероисповедному
обществу»2. Не приемлет философ и славянофильские рассуждения о
соборности как наиболее адекватном способе выражения
религиозной истины. С его точки зрения «соборное начало само по себе
есть начало человеческое» и, следовательно, «не может быть
предметом веры»3. Наконец, Соловьев не принимает также
славянофильские утверждения о недоступности соборных истин
логическому мышлению, об их «неподсудности человеческому разуму».
Напротив, свободное обсуждение богословами христианских догматов,
аргументированная полемика «по всем спорным пунктам между
восточною и западною церковью» приведут к церковному
соглашению между вероисповеданиями. Слепо же верить «в соборное
начало никто не обязан», только синтез конфессий приведет к
обновлению христианства, к появлению истинной вселенской церкви.
Вселенская христианская община не только обращает людей к
Богу, спасает их души, она преобразует все социальные отношения,
«приближает общество к Царству Божию». В этом плане церковь
1 Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 4. С. 223.
2 Там же. С. 224.
3 Там же. Т. 5. С. 63.
268
выступает за «общественный идеал», а его достижение «требует
одухотворения всего государственного и общественного строя». Эту
задачу она может решить только путем подчинения себе всех
«мирских элементов», и прежде всего государства, то есть путем
создания теократического общественного устройства. Основы теократии
Соловьев ищет в деятельности Иисуса Христа. Богочеловек
органически сочетал в себе «начало трех властей»: священнической,
царской и пророческой. Как священник, он был носителем
«святыни и великой тайны божией»; как царю мира, Христу присуща
«власть надо всем низшим творением»; пророческий дар
проявлялся в предвидении «грядущего совершенства».
Церковь является «телом Христовым» и в силу этого должна
содержать ряд свойств, присущих Богочеловеку, в том числе и
«начало трех властей». Однако природный человек извратил эти
качества, так как он «оказался священником, осквернившим святыню,
царем, потерявшим власть, и пророком, изменившим своему
призванию»1. Греховность людей проявилась и в исторической церкви:
само существование христианских направлений — это следствие
искажения трех «подлинных достоинств Христа». В католицизме
произошло сосредоточение всех вокруг первосвященника, в
православии во всех сферах доминирует царское начало, в
протестантизме индивидуализм извращает «пророческое начало».
Восстановление подлинной церковной жизни будет сопровождаться
гармонизацией в ее недрах трех богочеловеческих качеств. Власть
священническая должна носить «всечеловеческий» характер, наиболее полно
этому идеалу соответствует положение римского папы. Царская
власть также, преодолевая национальную ограниченность, будет
служить «сверхнародному единству», а подходящим материалом для
создания такой структуры является российская монархия. Синтез
папской и царской власти приведет и к восстановлению
пророческого дара, так как только единый первосвященник и царь «может
быть и единым истинным пророком» .
Теократическое государство, по мысли Соловьева, сможет
синтезировать три необходимые для человеческого существования
стороны: религиозную, политическую и социальную. Собственно
религиозная сфера «имеет своим теократическим органом...
первосвященника; сфера политическая... — царя», наконец, «социальная
жизнь народа имеет свой теократический орган в лице пророка, то
есть свободного проповедника и учителя». В конечном итоге перво-
1 Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 4. С. 534.
2 Там же. С. 542.
269
священнику принадлежит авторитет, «основанный на предании»,
царю — власть, «утвержденная на законе», пророк же «пользуется
свободой личного почина»1. Органическое слияние трех
вышеназванных качеств и будет означать торжество богочеловеческих
начал в истории.
Итак, строительным материалом для всемирного
теократического государства должны послужить «вселенский принцип»
католицизма и «самодержавный принцип» Российской империи.
Вселенская теократия, по мнению Соловьева, не может быть
достигнута насильственными методами. Если социалисты требуют
революционного «низведения всех к одному чисто материальному
уровню сытых и самодовольных рабочих», то церковь призывает к
духовному подвигу, к «нравственному возрождению», «к жизни по
вере». Христианство осуждает «произвольные искания»
социального идеала, оно выступает за добровольное принятие «живой и
цельной истины», заключенной в Евангелиях. Соединение
христианства с жизнью — одна из главных задач вселенской церкви, ибо она
сама есть «новая форма человечества». Поэтому христианская
церковь, «преобразовывая общество и государство на
религиозных началах», выступает проявлением Царства Божия, его
движущей силой.
Особая роль в развитии теократических принципов, по мнению
Соловьева, принадлежит России. Он признает, что почва, на
которой возникли у него мысли об особой роли русского народа в
истории, была подготовлена славянофилами. Вот что писал философ по
этому поводу: «Славянофилы, — с которыми у меня общая
идеальная почва и которых я считаю невольными пророками церковного
соединения, — славянофилы всегда утверждали, что Россия
обладает своею всемирно-историческою идеею. Эта идея, по их
убеждению, имеет священный характер, и ее осуществление должно яснее
и полнее возродить в жизни мира ту вечную истину, которая
изначала хранится в церкви Христовой» . Мы уже отмечали, что в
отличие от A.C. Хомякова и И.В. Киреевского, выступающих за
«торжество вселенского православия», В. Соловьев отстаивает
программу синтеза православной духовности с «деятельным началом»
католицизма. Эту задачу может решить только Россия, так как она,
с одной стороны, принадлежит христианскому Востоку, но с
другой — после Петра уже усвоила и идеи европейской цивилизации.
К тому же, с этой точки зрения, особое провиденциальное значение
1 Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 4. С. 145.
2 Там же. С. 236.
270
русского народа делает для него главной жизненной целью
«соединение вселенского христианства», поэтому исторической
обязанностью России выступает борьба «за процесс интеграции или
исцеления разделенного человечества»1.
Особая роль русского народа в мировой цивилизации, то есть
«русская идея», обусловлена спецификой отечественной истории.
Она делится, по мнению Соловьева, на три главных периода:
Киевская Русь, Московское царство, Россия после реформ Петра
Великого. Во времена складывания древнерусского государства
произошло принципиально важное событие, «великий подвиг
народного духа — призвание варягов». Этот факт свидетельствует, по
мысли Соловьева, о том, что «родоначальники нашей истории»
осознали недостатки, свойственные славянам, такие как «склонность к
розни и междоусобицам, неспособность к единству, порядку и
организации»2. Но мало было признать «несовершенство своего
племени», надо было еще найти решимость противодействовать этим
отрицательным качествам. Опираясь на «внутреннюю силу», нельзя
было достигнуть позитивного результата: об этом свидетельствует
судьба некоторых западнославянских племен, которые не смогли
создать государства и были завоеваны и поглощены чужеземцами.
Наши же далекие предки сумели сказать «великое слово народного
самосознания и самоотречения: «Земля наша велика и обильна, но
порядка в ней нет, придите владеть и княжить нами». Формально
люди, призывавшие чужую власть, «отреклись от своей родной
земли». Но реально, как подчеркивал B.C. Соловьев, они
совершили нравственный подвиг, положив начало русскому государству. В
связи с этим русские всегда должны помнить, что они как «народ
спасены от гибели не национальным эгоизмом и самомнением, а
национальным самоотречением».
В период существования Киевской Руси происходит важнейшее
событие всей отечественной истории — принятие христианства.
Однако Соловьев считал, что в отличие от призвания варягов
данный факт — «не столько подвиг национального духа, сколько
прямое действие благодати и Промысла Божия»3. Христианизация
древнерусского государства способствовала развитию в
национальном самосознании идей «христианского универсализма». Тем
самым оно «отреклось от языческого обособления» и уже рассматри-
1 Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 5. С. 111.
2 Там же. С. 26.
3 Там же. С. 26.
271
вало себя как «составную часть единого человечества»,
приобщаясь к его «всемирно-исторической судьбе». Находясь между
Западной Европой и Византией, Киевская Русь смогла преодолеть
«односторонние и преходящие формы» этих культур. Вообще, по мнению
В. Соловьева, в сравнении с другими странами «тогдашняя Россия
представляла наименее препятствий к образованию христианской
общественности»1. Иными словами, у древнерусского государства
были реальные возможности соединить христианские принципы с
жизнью.
Однако неблагоприятные внешние условия,
татаро-монгольское нашествие не позволили реализовать эту возможность. На
первый план выходит не борьба за реализацию христианских
идеалов, а «борьба за существование, за физическое сохранение
народа». Московская Русь ценой огромного напряжения сил создает
мощное государство, побеждает внешних врагов. Но, отдаваясь
этой «национально-политической задаче», русский народ, как
считает философ, сильную государственную власть принимает «за
самую цель своей исторической жизни», и тем самым религиозные
задачи подменяются «чисто земными притязаниями на
политическое могущество». Этому процессу способствовало также и
влияние «разлагающейся Византии». По убеждению мыслителя,
именно странствующие греческие монахи «в оплату за московское
жалованье подарили Москве титул третьего Рима». В результате в
Московском царстве утверждаются «притязания на
исключительное значение в христианском мире», а в русском национальном
самосознании начинают господствовать идеи об обособленности
Руси от западного христианского мира, развивается
«национальная гордость и эгоизм». Положения христианского универсализма
на русской почве были искажены, происходит разрыв с духовными
ценностями Киевской Руси. Названные выше «грехи русского
народа», хотя и были «в значительной степени грехами
невольными», так как порождались внешними историческими
обстоятельствами, все же, по мысли Соловьева, приводят к тому, что в
Московском государстве сложился «духовный и жизненный строй,
который никак нельзя назвать истинно христианским». Наблюдается
разрыв православия с народной жизнью, с общественной
нравственностью, оно сводится к «формальной религиозности». И хотя в
народном сознании сохранилось понятие об индивидуальном
нравственном подвиге, но «главное условие для нравственного про-
1 Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 5. С. 22.
272
гресса, — именно деятельная религия, идеал общественной
правды, — отсутствовало вполне»1.
После присоединения Украины к русскому царству процесс
государственного объединения завершился. Следовательно,
«внешняя задача» русской истории была решена. Поэтому именно с
середины XVII века, в царствование Алексея Михайловича, со всей
остротой встал вопрос «о призвании русского народа». На него
пытались ответить старообрядцы (девиз которых гласил: «До нас
положено, лежи оно так во веки веков») и патриарх Никон со своими
«запоздалыми притязаниями беспочвенного клерикализма».
Однако, как считает Соловьев, оба этих бесперспективных начала не
смогли взять «в свои руки дальнейшие исторические судьбы нашего
народа», эту задачу решил «сам носитель государственной власти»,
то есть Петр Великий. Он, с одной стороны, «не имел ясного
сознания» о целях христианского государства, его личные качества
также были небезупречны с христианской точки зрения. Но, с
другой стороны, именно Петр «всем своим существом почувствовал,
что в данную историческую минуту нужно было сделать для
России». Программа петровских реформ — это программа
приобщения страны к «всемирно-историческому движению человечества»,
это преодоление национальной замкнутости и обособленности,
наконец, отказ от «духовного бесплодия», которое было следствием
изолированности русского ума от европейских интеллектуальных
достижений. Перед русским народом, как считал Соловьев, стояла
альтернатива: или «путь национального самодовольства, косности и
смерти», или «путь самосознания, совершенствования и жизни».
Петр I, а значит, вместе с ним и Россия избрали этот второй
вариант развития. Исходя из этих положений, Соловьев приходит к
выводу о том, что вопреки «всякой видимости реформа Петра
Великого имела, в сущности, глубоко христианский характер, ибо была
основана на нравственно-религиозном акте национального
самоосуждения»2.
Итак, анализ прошлого России, предпринятый В. Соловьевым,
должен убедить, что периоды наивысшего достижения связаны с
«духовным подвигом национального самоотречения», ярчайшим
проявлением которого было призвание варягов и реформы Петра I.
Напротив, самые мрачные страницы истории русского государства
наступали в эпоху «торжества национального эгоизма»,
сопровождающегося забвением христианского универсализма. Эти принци-
1 Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 5. С. 147.
2 Там же. С. 160.
18-6016
273
пиальные тезисы были положены В. Соловьевым в основу
полемики, которую он развернул как с идеями старого славянофильства, так
и со взглядами Н.Я. Данилевского, К.Н. Леонтьева и H.H. Страхова,
отстаивающих тезис о необходимости самобытного пути развития
для России.
Национальные движения, с точки зрения философа, выступают
в двух формах. Первая — как «требование международной
справедливости», главным условием которой является право наций на
самоопределение. В данном случае национальные стремления в
какой-то мере оправданны, ибо «все народности имеют равное право
на самостоятельное существование и развитие»1. Но и в таком
проявлении «национальной стихии» есть определенная опасность,
связанная с превращением земных задач «в высшую единственную
цель народной деятельности». Подобная деформация национальных
задач неизбежно ведет к забвению «вселенской христианской
истины». Вторая форма национального движения обычно свойственна
тем народам, которые имеют уже стабильные этнические
образования, обладают государственной независимостью. Поддаваясь
«возбуждению национального чувства», эти этносы впадают в
«беспредельное самомнение и самодовольство», у них появляется «тупое
презрение и вражда к чужому», они в своих поступках исходят из
«принципов национального эгоизма». Любой народ, выступающий
за реальное, а не формальное следование христианским идеям,
должен преодолеть подобные проявления национализма.
В нашем отечестве, по мнению Соловьева, существует
опасность развития национализма второго рода. Первыми, кто начинал
обосновывать особую роль России в мире, были A.C. Хомяков,
И.В. Киреевский, КХ. Аксаков и Ю.Ф. Самарин. Славянофильская
вера в самобытный путь развития русского народа сочеталась с
убеждением, что Европа «отживает свой век, сказала свое
последнее слово, сделала свое дело, и теперь судьба мира должна перейти
к славянству с Россией во главе»2. Совершенно иной точкой зрения
на европейскую цивилизацию руководствовались западники. Они
были убеждены «в безусловном достоинстве и вселенском значении
европейской культуры» и предлагали России направить все силы к
«усвоению этих общечеловеческих достижений». В. Соловьев
особо подчеркивает, что нельзя обвинять западников «в какой-то
оторванности от народа, в отсутствии национальных чувств», ибо они
свой патриотический долг видели в европеизации России, находя в
1 Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 5. С. 22.
2 Там же. С. 54.
274
этом «высшее благо народа». Мыслитель в 80-е годы XIX в.
переходит на позиции западников, их установки ему близки, взгляды же
славянофилов вызывают у него активное неприятие. Он убежден в
благотворном влиянии европейской цивилизации на Россию, и «зло
русской жизни», по его мнению, заключается именно в том, что «у
нас было слишком мало европейского содержания, а не в том, что у
нас было слишком много европейских форм»1.
Славянофильская позиция, отрицающая эти тезисы, согласно
взглядам Соловьева, неверно ориентирует национальное
самосознание. Однако у Хомякова и его друзей, как считает мыслитель,
существует «смягченная форма национального эгоизма», так как они
не отвергали всемирной истории и признавали «хотя лишь в
отвлеченном принципе солидарность всего человечества». Этих
смягчающих моментов нет у «торжествующего ныне площадного
патриотизма и национализма», идеи которого наиболее ярко выразил, по
убеждению В. Соловьева, известный отечественный мыслитель
Н.Я. Данилевский в труде «Россия и Европа».
Данилевский не просто констатировал своеобразие России, он
предпринял попытку подвести под свои тезисы определенное
философское обоснование. И хотя В. Соловьев категорично заявлял, что
«в этом споре из-за России последнее слово во всяком случае
должно остаться за мной», все было не так просто и однозначно.
Не случайно теория локальных цивилизаций получила достаточно
широкое распространение на Западе. Европоцентризм, ставящий
знак равенства между европейским и общечеловеческим, негативно
оценивающий новое явление, если оно не соответствует
европейским образцам, показал свою односторонность.
К. Леоньтев замечал, что при всех своих симпатиях к
Соловьеву, он негативно относится к его полемике со славянофилами
(имеются в виду не только А. Хомяков, И. Киреевский, но также
Н. Данилевский и Н. Страхов), ибо «недоволен самим
направлением, недоволен злорадным и ядовитым тоном, несомненной
наглостью подтасовок» . Если не обращать внимания на излишнюю
резкость высказываний К. Леонтьева, то он по существу прав,
подчеркивая, что питательной почвой, на которой выросли эти
идейные споры, было убеждение Соловьева, что «самобытность
национального духа нашего и утверждение наших от Запада
государственных и бытовых особенностей помешает его главной
1 Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 5. С. 166.
2 Леонтьев К. О Владимире Соловьеве и эстетике жизни (по двум
письмами/Начала. 1992. №2. С. 42.
18*
275
цели — соединению Церквей с подчинением Риму»1. С этим
выводом фактически соглашался и сам Соловьев, доказывая, что
славянофильская «русская идея» есть «в сущности только
национальный протест против вселенской власти папы»2. Против этого
«протеста» он и вел борьбу в своих публикациях, часто прибегая
к натяжкам и двойным стандартам.
Обосновывая необходимость приобщения России к европейской
цивилизации, философ отнюдь не идеализировал последнюю, в его
трудах много критических оценок буржуазного образа жизни.
Проявляя определенную непоследовательность, он приходит к выводу,
что и западное общество не может быть названо христианским, так
как в нем происходит разрыв между учением Христа и жизнью.
Более того, мыслитель соглашается со славянофилами в том, что
европейская цивилизация имеет «признаки исторической смерти и
наступающего разложения». Но если для A.C. Хомякова, И.В.
Киреевского и других данное состояние есть прямое следствие
западного христианства, то Соловьев выдвигает «важное соображение».
Его суть заключается в том, что кризис западного образа жизни
«никак не принадлежит католической культуре». Он делает вывод,
что «та Европа, которая "гниет", есть Европа антихристианская, в
частности антикатолическая»3. Русский народ должен видеть свое
призвание не в стремлении «сменить Европу на исторической
сцене, а в том, чтобы исцелить ее». Создание вселенской теократии
поможет и на Востоке, и на Западе преодолеть антихристианскую
направленность социальной и культурной жизни.
Выполняя свою «высшую обязанность», Россия станет
органом, осуществляющим провиденциальные планы, в результате
которых будет создано вселенское теократическое государство. Со-
ловьевское понимание взаимоотношений вселенского и русского
означает его отказ от программы «синтеза духовных ценностей»,
которыми обладают различные народы, с целью их взаимного
обогащения. Действительно, вместо расцвета национального и
самобытного начал, которые должны обогащать единое человечество, у
философа присутствует программа растворения русского
своеобразия в аморфной и неопределенной всечеловечности. E.H.
Трубецкой очень верно заметил, что у Соловьева «утверждение русского
национального мессианства вполне последовательно перешло в от-
1 Леонтьев К. О Владимире Соловьеве и эстетике жизни (по двум
письмами/Начала. 1992. №2. С. 42.
2 Соловьев B.C. Россия и Вселенская церковь. С. 99.
3 Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 5. С. 56.
276
рицание всяких особенных черт русской народности»1. Тем самым
нивелируется национальная множественность во имя вселенской
теократии, в которой будет господствовать «свободное
единомыслие, взаимная братская любовь» и т.д. И это несмотря на то,
что в этом сверхнациональном образовании вся полнота власти
принадлежит монарху, а церковь будет осуществлять духовную
диктатуру. При этом Соловьев отрицал всякие обвинения его
концепции в утопизме: для него вселенская теократия исходит из
«реальных посылок». Однако утопичность построений философа
становилась очевидной, когда его просили описать «в конкретных
чертах идеальное общество». С его точки зрения нельзя требовать
«определенного и адекватного представления об окончательном
состоянии человечества», так как подобная конкретность «никому
недоступна».
Даже последователи В. Соловьева отмечали безжизненность его
социального идеала. E.H. Трубецкой специально подчеркнул, что
«демократическая теократия» — самая неосуществимая изо всех
утопий»2. Реальная социальная практика также не
демонстрировала нарастания «сил любви и единения». Поэтому соловьевские
идеи о теократическом обществе не имели «отзвука в русской
душе» и мыслитель «остался здесь совершенно одинок»3.
В. Соловьев, постоянно подчеркивая доминирующее значение
церкви в общественном прогрессе, отнюдь не отрицал и других
факторов социального развития. Сам исторический процесс, по его
мнению, имеет важную закономерность, состоящую в том, что он
совершается все более и более при деятельном участии человека.
Возрастание роли личности в истории ставит проблему
взаимодействия ее с обществом. Для русского философа характерным
является убеждение, что «человек — существо социальное»4, только в
обществе индивид может реализовать «полноту естественной
жизни». Но Соловьев не приемлет марксистский взгляд на человека
как «совокупность общественных отношений». Подобный тезис
можно отнести лишь к «слабой личности», пассивно
воспринимающей жизненную среду, которая отливает ее «в свою данную
фактическую форму». Если же речь идет о «сильной личности», то
существующие общественные отношения вызывают у нее «противодей-
1 Трубецкой E.H. Миросозерцание B.C. Соловьева. Т. 1. С. 71.
2 Там же. Т. 2. С. 10.
3 Зеньковский В.В. Русские мыслители и Европа. С. 261.
4 Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 6. С. 301.
277
ствие и борьбу». В результате общественная среда изменяется, и в
конечном итоге это приводит «к повышению ее уровня, то есть к
общественному прогрессу»1. Принципиально важно для Соловьева
рассмотрение общества как «дополнения или расширения
личности», поэтому развитие общественного организма начинается с
совершенствования индивида.
Итак, между личностью и обществом существует
диалектическая связь, и «личное совершенствование может быть отделено от
общественного прогресса только на словах, а не на деле»2. Но
доминируют в прогрессивных изменениях все же усилия «личностных
деятелей».
Фундаментальным вопросом для религиозного мировоззрения
выступает проблема роли неверующих в историческом процессе.
Ортодоксальное русское богословие считало, что «безверие с
необходимостью порождает злую волю» и является лишь источником
регрессивного воздействия на общество. А поскольку
социально-материальный прогресс и религиозно-нравственное развитие
«не только могут не совпадать друг с другом, но могут расходиться
между собой чуть не до противоположности»3, постольку
неверующие, даже внося свой вклад в «благоустройство земной жизни»,
все же не служат христианским целям. Иначе эту проблему решает
B. Соловьев. Для него социальный и умственный прогресс
последних веков «совершился в духе человеколюбия и справедливости, то
есть в духе Христовом»4. При этом нельзя отрицать того факта, что
были «христиане по имени», не участвовавшие в этих позитивных
изменениях, а значит, изменившие «делу Христа». Но были люди,
«производившие этот прогресс и не признававшие себя
христианами». Следовательно, неверующие могут действовать «в пользу
истинного христианства». Формальная принадлежность к
христианской религии, соблюдение внешних обрядов еще не гарантирует
прогрессивности человеческих устремлений. И если в обществе
«христианские преобразования были сделаны неверующими, то тем
хуже для верующих» . В этой позиции В. Соловьева проявляется и
его свободомыслие, и его убежденность в том, что истинная вера
«без дела мертва». Для него, как уже отмечалось, христианство
1 Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 6. С. 313.
2 Там же.
3 Николин И. Курс основного богословия или апологетики. Сергиев Посад. 1910.
C. 70.
4 Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 6. С. 357.
5 Там же.
278
имеет социальную направленность и его значение определяется
интенсификацией позитивных общественных изменений.
Признание социального прогресса приводило богослова к
отрицанию положений «теологии порядка», пронизанной
проповедью «охранительно-житейского смирения». Соловьев считает, что
христианство никак не может согласиться, будто развитие земного
общества приведет к таким жизненным устоям, которые «стали
окончательно и во всех отношениях». Формы жизни людей
«слагались во времени и на земле», и этот процесс продолжается,
следовательно, верующие должны «работать» над их
совершенствованием. Русский философ констатирует, что «многие
проповедники исторического прогресса» понимали под ним лишь
«самоусовершенствование человека без Бога и против Бога». Поэтому в
богословских кругах различных конфессий существовало
негативное отношение к этим взглядам. Однако для Соловьева
совершенно ясна уязвимость такой позиции и «вздорность выводов» о том,
что «сами идеи развития и прогресса имеют какой-то
атеистический и антихристианский характер». Концепция всеединства,
распространяющая «процесс интеграции» не только на человеческое
общество, но и на природный и космический мир, доказывает: эти
положения «суть специфически христианские»1. Естественно, что
с позиций религиозного эволюционизма нуждалась в
преобразованиях и российская действительность. У философа достаточно
много и прямой критики России конца XIX века, но еще больше
призывов к реформам, приближающим к осуществлению в обществе
христианских начал.
Анализируя политическую жизнь России, он приходит к выводу,
что ее основа заключается «в царском единовластии и в
единодушной привязанности народа к царю»2. В этом, с его точки зрения,
проявляется «великая сила» политического строя русского
государства. Но в этом государстве есть и «великая слабость»: она
заключается в том, что «между царем и народом нет в настоящее время
ничего крепкого, нет хорошо организованного и
дисциплинированного общества, нет правящего класса»3. Дворяне и чиновники,
составляющие верхний слой общества, не являются «верными
проводниками» народных интересов, напротив, они заботятся только
об удовлетворении своих корыстных потребностей. Данные рассуж-
1 Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 6. С. 305.
2 Там же. Т. 4. С. 160.
3 Там же.
279
дения созвучны славянофильским мыслям о дворянстве. Но если
славянофилы считали необходимым для восстановления
правильной политической жизни возродить дух допетровских порядков, то
В. Соловьев выступает за решительное следование «линии
великого преобразователя» (имеется в виду император Александр II).
Реформы шестидесятых годов XIX века разрушили традиционный
гражданский строй и создали условия для «предприимчивого и
деятельного промышленного класса», которого еще в России нет. С
его появлением мыслитель связывает также преобразования в
сельской жизни, ибо «село не живет без города». Пока же
«экономическая деятельность нашей сельской общины определяется
вековой рутиной»1. Преодолеть экономическую и культурную
отсталость Россия, «предоставленная самой себе», не сможет: отстаивая
тезисы западников, Соловьев утверждает, что, лишь заимствуя
достижения европейской цивилизации, она встанет на путь «истинного
прогресса».
Мыслитель считал, что одной из важнейших целей
государственной политики является создание для людей «внешних условий»,
обеспечивающих им достойное существование. К этим «внешним
условиям» он относил не только обладание «средствами
существования», то есть пищей, одеждой, жилищем, но и «достаточный
физический отдых», который бы не только восстанавливал силы, но и
создавал условия для «духовного совершенствования». Под
«духовным совершенствованием» Соловьев понимал и «внутреннее
религиозное развитие», и нравственное поведение в обществе.
Человек — не только «внутренняя форма для добра», но он должен его
реализовать и «во вне», проявить в любви к ближним. При этом
особое значение имеет для индивида свобода выбора, его
сознательное следование нравственным целям. Стремление «показать
добро как правду, то есть как единственный правый, верный себе
путь жизни во всем и до конца — для всех, кто решится
предпочесть его», — приводит философа к созданию фундаментального
труда «Оправдание добра. Нравственная философия». Анализ
этических воззрений мыслителя предполагает специальные обширные
исследования2. Мы же отметим, что Соловьев призывал человека
признавать «за всеми другими безусловное значение или
ценность». Поэтому он осуждал ложь учений, провозглашавших, что
«общественные учреждения и интересы имеют верховное,
решающее значение сами по себе». Нравственным будет лишь общество,
1 Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 4. С. 160.
2 См.: ГулыгаА.В. Поиски абсолюта//Новый мир. 1987, № 10. С. 245—253; его
же. Философия любви//Соловьев В. Соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1988. С. 33—46.
280
обеспечивающее «безусловное значение лица». А для этого
«никакой человек, ни при каких условиях и ни при какой причине не
может рассматриваться как только средство или орудие ни для блага
другого лица, ни для блага известной группы лиц, ни для так
называемого "общественного блага"»1. Отсюда гуманистическая
направленность и этики Соловьева, и его философской системы в
целом. Действительно, и идея богочеловечества, и трактовка
Царства Божия исходит из суверенных прав личности, из того, что она
цель мировой эволюции и через ее активность осуществляются
цели «низших царств». Можно согласиться с H.A. Бердяевым,
отмечающим стремление Соловьева «религиозно осмыслить опыт
гуманизма»2.
Наконец, важным фактором совершенствования общественного
организма Соловьев провозглашал изменение отношения к
природе. Справедливо подметив хищнический характер буржуазного
использования богатств окружающей среды, основывающийся на
убеждении «после нас хоть потоп», он предостерегает цивилизацию
от «ужасающих последствий» этого варварства. Мыслитель
рассматривает проявления этого «варварства» и в России. Он
отмечает бездумную рубку лесов, без которых «наша огромная
континентальная равнина обратится в бесплодную пустыню». Его беспокоит
истощение почвы, означающее «гибель России». В. Соловьев
вводит понятие «ложной цивилизации», то есть такой, которая
«превращает средство в цель, из орудия делает идола и для удобства
некоторых приносит в жертву то, что необходимо для всех»3.
Философ с болью подчеркивает «беззащитность природы» и в то же
время ее огромное значение для человеческого существования.
Нравственное сознание требует признания обязанностей человека
по отношению к «материальной природе вообще». Отношение
человека к природе в ходе исторического процесса выражается в
следующих формах: «подчинение ей», «борьба с нею и
эксплуатация ее», наконец, «ухаживание за нею для себя и для нее».
Господствующая вторая форма должна быть заменена третьей. Для
достижения этой цели философ предлагает реализовать на
практике христианские заповеди о любви к «божественному
творению». Уяснение христианских истин и приведет, с его точки
зрения, к возможности осуществить «нравственную организацию
материальной жизни».
1 Соловьев B.C. Соч.: В 2 т. Т. 1. С. 68.
2 Бердяев H.A. Русская идея//Вопросы философии. 1990. № 1. С. 124.
3 Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 4. С. 160.
281
Анализ взглядов В. Соловьева на общественное развитие будет
неполон, если мы обойдем вниманием последнюю книгу мыслителя
«Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории. Со
включением краткой повести об Антихристе и с приложениями».
Замысел этой работы относится к 1896—1897 годам, а ее
публикация была осуществлена в 1899—1900 годах. В предисловии к
«Трем разговорам...» В. Соловьев отмечал, что у него появилась
«около двух лет тому назад особая перемена в душевном
настроении». Она была связана и с личными мотивами, ухудшением
здоровья, и с общественными процессами, происходящими в России
(речь прежде всего идет об отказе от реформаторского курса
Александра II), наконец, с международной обстановкой: мы имеем в
виду обострение межгосударственных противоречий. Главной темой
«Трех разговоров» становится проблема зла и смысла истории. По
мнению философа, «вопрос о зле важен для всех»1 и его решение
сводится к двум основным ответам. Первый рассматривает зло
только как «естественный недостаток», исчезающий по мере роста
добра. Второй характеризует зло как «действительную силу»,
владеющую миром, и для борьбы с нею «нужно иметь точку опоры в
ином порядке бытия». Первая концепция связана с
оптимистическим взглядом на историю, она опирается на веру в
духовно-нравственные и творческие способности человека. Большинство трудов
Соловьева, как мы уже отмечали, обосновывали именно эту точку
зрения. Цель его философствования состояла в показе того, что
«исторический процесс есть долгий и трудный переход от звероче-
ловечества к богочеловечеству»2. Однако в своей последней книге
философ все более склоняется ко второй точке зрения на зло. Он
отмечает, что само по себе прогрессивное развитие общества,
достижения человека в различных сферах деятельности не уничтожают
зла. Более того, исторический процесс свидетельствует о
превалировании злого начала над добрым. Для философа ярким
подтверждением этого тезиса является поразительная неудача «дела
Христа в истории».
Соловьев пытается философски осмыслить зло: оно, с его точки
зрения, проявляется не только в отсутствии добра, но и «в
положительном сопротивлении и перевесе низших качеств над высшими во
всех областях бытия»3. Формы проявления зла разнообразны. Оно
бывает индивидуальным, когда «низшая сторона человека, скотские
1 Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 8. С. 453.
2 Там же. Т. 7. С. 186.
3 Там же. Т. 8. С. 54.
282
и зверские страсти противятся лучшим стремлениям души и
осиливают их в огромном большинстве людей». Есть зло общественное,
заключающееся в том, что «людская толпа... противится усилиям
немногих лучших людей и одолевает их». Имеется зло физическое,
высшим его проявлением выступает смерть.
Итак, земное существование человека, история цивилизации не
могут преодолеть «торжества злых сил», более того, сам земной
прогресс, то есть «заметный ускоренный прогресс, есть всегда
симптом конца»1. Речь идет о конце всемирной истории. Отсюда
понятен вывод мыслителя о том, что «всякая прогрессивная культурная
деятельность ни к чему, что она бесцельна и бессмысленна» .
Подобное разочарование приводит и к отказу от оптимистических
взглядов на исторический процесс, проповедь идей социального
развития сменяется призывами к ожиданию конца света, ибо
только в результате эсхатологического переворота произойдет победа
добра над злом. Современное человечество уже начинает
характеризоваться Соловьевым как «больной старик», а всемирная
история рассматривается им лишь как подготовка к потустороннему
Царству Божию.
Очень интересный материал, характеризующий взгляд В.
Соловьева на будущее человечества, содержит его «Краткая повесть
об Антихристе». Она начинается с утверждения, что двадцатый век
был «эпохою последних великих войн, междоусобий и
переворотов»3. В начале торжествует панмонголизм и все европейские
государства попадают в зависимость от японо-китайской империи. Над
Европой на целые полвека устанавливается «новое монгольское
иго». Общими силами европейские народы освобождаются от
завоевателей, традиционный политический строй, опирающийся на
отдельные нации и разъединенные государства, «теряет свое
значение». В результате всех этих процессов Европа в XXI веке
предстает как «союз более или менее демократических государств —
европейские соединенные штаты»4. В духовной сфере в этот период
происходят противоречивые явления: с одной стороны, наблюдается
«решительное падение теоретического материализма» и
человечество навсегда перерастает «эту ступень философского
младенчества». Но, с другой стороны, оно также «переросло и младенческую
1 Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 8. С. 524.
2 Там же. С. 537.
3 Там же. С. 556.
4 Там же. С. 560.
283
способность наивной, безотчетной веры». Многие положения
традиционного богословия перестают «уже учить и в начальных
школах». Из этого не следует, что все мыслящие люди уверовали в
Бога, по-прежнему большинство из них являются «вовсе
неверующими». Немногие же оставшиеся верующие «все по необходимости
становятся и мыслящими»1.
Среди верующих появляется замечательный человек —
«великий мыслитель, писатель и общественный деятель». Однако
гордыня и безмерное честолюбие приводят это лицо к убеждению, что
«Я — второй Бог» и единственный в своем роде сын божий.
Осознание им своего «высшего достоинства» не приближает к благу,
напротив, он предпочитает себя Христу, его захватывает дух
богоборчества. «Великий человек» становится не наследником Бога, а
последователем дьявола, преемником его злой силы. Под влиянием
этой силы он пишет книгу «Открытый путь к вселенскому миру и
благоденствию», восторженно встреченную людьми. «Грядущий
человек» избирается пожизненным президентом Европейских
соединенных штатов. Среди людей воцаряется мир, решаются
социально-экономические вопросы, устанавливается «самое основное
равенство — равенство всеобщей сытости». Но толпа требовала не
только пищи, но и зрелищ, удовлетворения определенных духовных
запросов. И тогда после решения политических и социальных
вопросов на авансцену выступают религиозные проблемы. Христиан в
это время осталось всего сорок пять миллионов человек, но,
потеряв в количестве, они «выиграли в качестве». Разногласия между
различными христианскими конфессиями хоть и не были
преодолены полностью, но «значительно смягчились». Папство было
изгнано из Рима и нашло убежище в Петербурге, «под условием
воздерживаться от пропаганды здесь, внутри страны». Англиканство
соединилось с католичеством, православие — со старообрядчеством,
«протестантизм очистился от своих крайних отрицательных
тенденций», так как их сторонники открыто перешли к религиозному
индифферентизму и неверию.
Новый правитель мира созывает вселенский собор в
Иерусалиме и вопрошает христиан: «Чем мог бы я вас осчастливить?» Он
предлагает многие блага верующим, и большинство участников
собора поддерживают эту программу; и лишь наиболее прозорливые
христианские руководители требуют у него исповедания веры в
Иисуса Христа. Он отказывается, и тогда они убеждаются в том, что
1 Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 8. С. 560.
284
правитель — слуга дьявола, а не Бога. Дьявольские силы убивают
вождей католической и православной церквей, а во главе
христианства «великий человек» ставит своего сподвижника.
Устраивается грандиозное празднество для народа, толпа была
в восторге и веселилась несколько дней. Бог оживляет убитых
христианских руководителей, истинные верующие объединяются и
удаляются в пустыню. Против правителя выступают и некоторые
евреи, начавшие с ним смертельную схватку. Заканчивается повесть
гибелью Антихриста в результате божественного вмешательства и
появлением Иисуса Христа в царском одеянии. Евреи, которые
жили «не расчетами и вожделениями Маммона», а силой своей
мессианской веры, и истинные христиане «воцарились с Христом
на тысячу лет». Весь исторический процесс рассматривается
философом в его последней работе как подготовка к явлению
Антихриста, а конец истории сопровождается «прославлением и крушением
этой злой силы».
Важно отметить, что не активность людей приводит к
реализации христианских начал в жизни общества, а вмешательство
сверхъестественных сил. Действительно, казалось бы, решены все те
вопросы, к которым ранее призывал В. Соловьев, рассматривая
историю как богочеловеческий процесс. Появилось «вселенское
государство», установлена социальная справедливость, исчезла
враждебность между христианскими направлениями, происходит синтез
веры и знания, торжествует «разумная вера». Но вместо
объединения людей с божественным миром наблюдается отпадение
общества от евангельских истин. Человечество активно помогает злому
началу, поклоняясь в массе своей Антихристу, а не Троице.
Следовательно, решение земных проблем не приводит к одухотворению
как отдельной личности, так и социума в целом. Для мыслителя в
«Трех разговорах» ясно, что хотя в истории еще «много будет
болтовни и суетни», но она в своем земном измерении во многом
утрачивает всякий смысл. Историческая драма «уже давно написана вся
до конца, и ни зрителям, ни актерам ничего в ней переменить не
позволено»1. В этом выводе и содержится главный смысл
последней книги философа.
Несмотря на элементы утопизма и пессимизма, концепция
исторического развития В. Соловьева содержит много актуальных
идей. Прежде всего весомо звучит предостережение философа от
опасности сведения прогресса лишь к социально-экономической
1 Соловьев B.C. Собр. соч. Т. 8. С. 582.
285
стороне развития. Опыт современных развитых стран со всей
убедительностью показывает, что ориентация на «общество
потребления» приводит их к глубокому духовному кризису. Важным и
современным выступает призыв Соловьева к нравственному
совершенствованию каждого человека, к бережному отношению к природе.
Наконец, идея особой роли России в мире, мысль о ее призвании
синтезировать западное и восточное начала в свете процессов
глобализации также приобретает особую роль. Мировой исторический
процесс выступает как «объединение разнородных государств и
народов», но если при этом жертвовать интересами России в угоду
абстрактным «всечеловеческим ценностям», то такие установки не
могут быть приняты. И то что русская мысль в целом отвергла эту
соловьевскую программу, показывает жизненность национальных
начал в нашем отечестве, бесперспективность идей национального
нигилизма, даже тогда, когда они высказываются выдающимися
мыслителями.
Значение идей B.C. Соловьева
для отечественной философии и богословия
Попытка В. Соловьева при помощи философии выработать
современные принципы построения религиозного мировоззрения
привлекала и привлекает внимание теологов и философов различных
направлений. В работах выдающихся представителей русской
философии начала XX века мы не найдем однозначных оценок
взглядов В. Соловьева, у одних и тех же авторов есть восторженные
похвалы в его адрес и есть суровые критические приговоры
отдельным положениям системы. Большинство русских мыслителей
сходятся во мнении, что именно Соловьев «заложил основы целой
школы русской религиозной и философской мысли»1. Э. Радлов
пытается дать более развернутую характеристику влияния В.
Соловьева на развитие русской философии. По его мнению в идейном
наследии мыслителя «рационалистические элементы уживались с
мистическими» и у его последователей можно выделить «два
направления: во-первых, более рационалистическое и, во-вторых, то,
которое по преимуществу развило мистическую сторону»2.
Наиболее яркими представителями первой группы Э. Радлов считает
братьев Сергея Николаевича и Евгения Николаевича Трубецких, а
1 Лосский Н.О. История русской философии. С. 154.
2 Радлов Э. Л. Очерк истории русской философии//Введенский А. И., Лосев А. Ф.,
Радлов Э. Л., Шпет Г. Г.//Очерки истории русской философии. Свердловск, 1991.
С. 141.
286
второй группы — С.H. Булгакова. Однако такое деление, на наш
взгляд, не имеет достаточного обоснования, ибо и у названных
философов мистическое и рациональное теснейшим образом
переплетаются. Рационалистические построения В. Соловьева
критиковались не только С. Булгаковым, но и Е. Трубецким.
Другой устоявшейся историко-философской схемой является
рассмотрение наследия В. Соловьева как основы для формирования
течения, получившего название «философия всеединства». К этой
школе русской мысли можно отнести взгляды братьев Трубецких,
С.Н. Булгакова, Л.П. Красавина, П.А. Флоренского и С.Л. Франка.
Безусловно, такой подход оправдан и исходит из реалий развития
философии в России. Однако не следует забывать о существенных
индивидуальных особенностях каждого из вышеназванных
мыслителей, они на практике демонстрировали принцип «единство во
множестве». E.H. Трубецкой по этому поводу заметил, что было
«единство между спорящими», то есть такое, которое не исключало
«индивидуальной самостоятельности каждого из нас»1.
B.C. Соловьев оказал влияние не только на сторонников
«философии всеединства», воздействие его идей прослеживается и у
мыслителей, выступающих с других позиций, — это H.A. Бердяев,
Л.М. Лопатин, Н.О. Лосский, В.Ф. Эрн и др.
Попытаемся очень кратко остановиться на оценках соловьев-
ских подходов к проблемам взаимоотношений религии и
философии, веры и знания, понимания истории, даваемых философами
Серебряного века. По их мнению особое значение В. Соловьева
определяется тем, что в его интеллектуальных исканиях «мы
найдем прообраз всей нашей умственной жизни последних лет»2.
Философ начал свое творчество в условиях, когда, с одной стороны,
среди образованных слоев общества господствовали идеи, дающие
о «задачах философии... самые превратные представления». С
другой стороны, православное богословие, заботясь о сохранении
неизменности догматов, превратило их «в мертвую букву, оторванную
от жизни и философии». Придавая религии «разумную форму»,
синтезируя разум и веру, мыслитель создает оригинальную
философскую систему, раскрывающую «богатство и жизненную силу
основных догматов христианства»3. Своим творчеством он снимает
1 Трубецкой E.H. Миросозерцание B.C. Соловьева. Т. 1.
2 Трубецкой E.H. Возвращение к философии//Философский сборник Л.М.
Лопатину к 30-летию научно-педагогической деятельности. М., 1912. С. 5.
3 Лосский Н. О. История русской философии. С. 107.
287
оппозицию между религией и наукой. Это становится возможным в
силу того, что «Соловьев очень уважал естествознание и хорошо
знал естественные науки»1. В России он первым дает религиозное
осмысление идеи эволюции, показывая «христианское
происхождение принципа развития». Отстаивая религиозное мировоззрение,
философ, по мнению русских идеалистов, подверг принципиальной
критике материалистические теории, и «в его сочинениях нет более
ярких и убедительных страниц»2.
Однако наряду с положительной оценкой соловьевского синтеза
религии и философии мы встречаем в работах мыслителей
Серебряного века и другие суждения. Взгляды на систему В. Соловьева
во многом зависят от отношения философов к православию.
Действительно, должно ли религиозное творчество «вписываться» в
догматические рамки или оно полностью зависит от «субъективных
порывов духа»? Церковность — критерий истины или «пелена»,
мешающая ее постигнуть и т.д. Проповедниками религиозной
свободы на русской почве были прежде всего Н. Бердяев и Л. Шестов.
Н. Бердяев считал, что Соловьев в развитии религиозной
философии занимает двойственную позицию, так как он принадлежит и
к старому религиозному сознанию, и в нем «много нового и
пророческого». Отсюда и непоследовательность мыслителя по
отношению к религиозным исканиям. Он то является «свободным
мыслителем, свободным исследователем» религиозных истин, то
выступает «апологетом и традиционалистом, поклоняющимся авторитету
веры отцов». Само же понятие «церковный авторитет» для
молодого Бердяева представляется «философски нелепым», так как
приверженность догматическому началу «отрицает дальнейший
религиозный процесс в мире»3.
Л. Шестов также признает определенные заслуги В. Соловьева
в развитии религиозного сознания. Более того, с его точки зрения,
именно Соловьев «был первым русским религиозным
философом»4. Мысль философа, его духовная сущность «рвались к Богу»,
но порыв к трансцендентному может реализовываться в двух
различных формах: путем «пророческого вдохновения» либо путем
«разумного, или, как говорят, философского искания». Для нового
1 Лопатин Л.М. Философские характеристики и речи. С. 153.
2 Там же. С. 155.
3 Бердяев Н. А. Новое религиозное сознание и общественность. С. XXIII.
4 Шестов Л. Умозрение и откровение. С. 26.
288
понимания религии, «не скованного церковными рамками»,
приемлема первая форма, приводящая к духовным озарениям и
мистическим интуициям. Однако Соловьев выбрал вторую. В результате
религия «начинает оправдываться перед философией» и попадает
«в западню». Суд разума над христианством заканчивается тем, что
Соловьев «свой собственный разум, свое понятие о добре,
нисколько не колеблясь, ставит на место Бога. И это называется
религиозной философией»1.
Н. Бердяев, Л. Шестов не приемлют соловьевский синтез
религии и философии, при котором первенствующее значение отдается
умозрительным построениям. В плане гармонизации религиозных и
философских начал, по мнению Н. Бердяева, ближе к истине были
славянофилы. Они осознали, что «лишь религиозно, а не
философски» достижим универсальный синтез веры и знания. В соловьев-
ской же концепции чувствуется «отрыжка гегельянства и
склонность к... рационализму»2.
Негативные оценки соловьевского «примата разума над верой»
встречаются у большинства философов Серебряного века. Даже в
апологетической по замыслу работе Е. Трубецкого
«Миросозерцание B.C. Соловьева» автор не может простить последнему
чрезмерной «рационалистической струи», упрекая его за преувеличение
значения интеллектуальных построений в религиозной сфере. В
результате у философа «исчезает грань между логическим
мышлением и положительным откровением», и тем самым он впадает в
ересь, пытаясь «рационализировать веру, сделать ее тайны
общепонятными, естественными»3. Вообще творцы «нового
религиозного сознания» утверждали, что направление философии Соловьева
«было примирительное и синтезирующее». Отсюда поиски
гносеологических компромиссов, стремление сделать религиозную истину
рационально доступной, все это приводит к одному результату —
«самодержавию разума».
Критическое отношение многих выдающихся представителей
русской философии начала XX века к рационализму не означает
бесплодности их исканий. Следует подчеркнуть, что долгое время
господствующее в советской философии тотально негативное
отношение к иррационализму было неверным. Оно диктовалось не
логикой философского развития, а «привходящими моментами», вы-
1 Шестов Л. Умозрение и откровение. С. 3.
2 Бердяев H.A. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989. С. 20.
3 Трубецкой E.H. Миросозерцание B.C. Соловьева. Т. 1. С. 323.
19-6016
289
званными «партийным руководством идеологической сферой». У
русских идеалистов мистические интуиции сочетались с
интересными наблюдениями о процессе познания, о природе человека, о
мотивах его поведения, о противоречивом развитии культуры, о
неоднозначном влиянии общества на индивида и т. д. Критическая
оценка рационализма объясняется кризисными явлениями,
охватившими традиционное религиозное мировоззрение. Даже сами творцы
«нового религиозного сознания» признавали, что господство
рационализма или мистицизма в религиозной идеологии определяется
реальными земными причинами. Так, анализируя историю
католицизма, Л. Шестов приходит к выводу, что период расцвета этого
течения есть вместе с тем и «торжество Аристотеля», то есть его
рационалистических идей, приспособленных Фомой Аквинским к
интересам католической церкви. Время же распада и упадка
католичества было «наиболее неблагоприятным для великого философа»:
в эти периоды господствует мистицизм1. Однако главным в
развитии религии большинство представителей
религиозно-идеалистической философии считали «пророческие озарения», «мистические
прорывы» в религиозном сознании личности. Конечно,
индивидуальные особенности того или иного мыслителя, степень его
религиозности имеют большое значение для направленности философских
исканий. Однако господствующая тенденция в философии — а в
начале XX века в России это был иррационализм — определяется
социальным фоном, окружающим мыслителей. Речь прежде всего
идет о первой русской революции, отчетливо показавшей слабость
господствующей идеологической системы, неспособной увлечь за
собой широкие народные массы. С. Н. Булгаков с горечью отмечал,
что интеллектуальная элита России выдумала «себе химеру
несуществующего народа... И это делалось ведь в течение целого века,
притом же лучшими умами нации, ее мозгом»2. Сложилась
ситуация, при которой «осмысление тайн русской души» не
воспринималось большинством русских. Философско-религиозные искания
остались уделом небольшой группы интеллигенции. Крушение
«разумных начал» для русских философов происходит прежде
всего в силу того, что народные массы проявили «склонность к
бунту» и показали неспособность к постепенной работе по
улучшению общества. Все содержание революционных выступлений
«исчерпывалось одним отрицанием», и в этом «отразилось» наше об-
1 См.: Шестов Л. Sola fide — только верою. Париж, 1966. С. 92.
2 Булгаков С.Н. На пиру богов//Наше наследие. 1991. № 1. С. 78.
290
щественное убожество, «обнажились роковые наши народные
недостатки»1.
Передавая атмосферу того времени, видный представитель
«нового религиозного сознания» С. Франк следующим образом
описывает эволюцию своей позиции и взглядов
единомышленников. Вначале они принадлежали к кружку легального марксизма и
исходили из «социалистической веры», строящейся на
рациональных основаниях и призывающей к спасению человечества «через
радикальный общественный переворот». Однако события 1905—
1907 годов показали нигилизм социал-демократии, выразившийся
«в пренебрежении к абсолютным ценностям, в отвержении
духовных основ бытия». Мыслящие люди, напуганные ростом влияния
пролетарской идеологии, «начали прозревать ее опасность». Этим
сознанием опасности и «был определен наш переход от
«марксизма» сначала к несколько туманному «идеализму», а потом к
положительной христианской вере»2. Религиозная же вера
принципиально отличается от «ущербной» рационалистической веры,
неспособной адекватно отразить «подлинную глубину реальности».
Естественно, что с этих позиций рационалистические построения В.
Соловьева утрачивают свое значение.
Много внимания мыслители Серебряного века уделяли
философии истории В. Соловьева. Темы Софии, богочеловечества,
теократии, введенные в русскую религиозную мысль Соловьевым,
становятся предметом широкого обсуждения. В вопросах понимания
истории в православном богословии царил «крайний
провиденциализм», при котором человек воспринимался как «пассивный
материал божественного воздействия». Социальная проблематика
«оказалась вне церковной ограды», и — как следствие этого
положения — происходило падение влияния религии на общество.
Именно В. Соловьев, по мнению В. Розанова, вслед за A.C.
Хомяковым «начал выводить русскую мысль к подлинным темам
религии, разрушая царящий вокруг религии формализм»3. Благодаря
трудам философа становится понятным «значительность
религиозных вещей» не только для богословия, но и для общества в целом.
Русские мыслители отмечали, что Соловьев унаследовал от отца
«чрезвычайное чувство истории, глубокое созерцание ее единства».
Это позволяет ему «через призму истории» рассматривать основ-
1 Трубецкой E.H. Миросозерцание B.C. Соловьева. Т. 2. С. 382—383.
2 Франк С.Л. Свет во тьме. Опыт христианской этики и социальной философии.
Париж, 1949. С. 13.
3 Розанов В.В. Несовместимые контрасты жития. М., 1990. С. 374.
19*
291
ные идеи своей системы. Поэтому и центральный тезис его
философии, исходя из которого «он строит свое мировоззрение, понятие
Богочеловечества раскрывается им как понятие по существу
историческое»1. В. Соловьеву принадлежит ведущая роль в
преодолении «исторического провинциализма» и в обосновании общей
судьбы человечества. Он покончил с «исключительным восточничест-
вом», показал, что «Россия не может определить себя как Восток».
Выполняя свою историческую роль, она «должна сознавать себя и
Западом, Востоко-Западом, соединителем двух миров, а не
разделителем»2.
Мыслители начала века подчеркивали, что «философия
всеединства» претендует на возрождение духа вселенского
христианства, преодолевшего конфессиональную замкнутость и
обособленность. Однако, несмотря на христианский универсализм, Соловьев
в то же время — подлинно национальный философ. Этой проблеме
русские идеалисты начала XX века уделяют много внимания. Они
отмечают, что одной из центральных тем творчества Соловьева
выступает роль России в мировом процессе, так как она призвана
осуществить на земле «правду Божию». При этом для философа
характерна, как и для русской мысли в целом, этизация социальных
и гносеологических проблем, ибо в его мыслях «правда — истина
совершенно не отделяется от правды — справедливости»3. И
славянофилы, и Соловьев обосновывали мессианскую роль русского
народа, но делали это по-разному. Отсюда и разнобой в оценках
этих мессианских исканий со стороны идеологов «нового
религиозного сознания». Если для Бердяева «философия всеединства»
делает шаг вперед по сравнению со старым славянофильством, так
как освобождает христианский дух «из плена у национальной
стихии»4, то для В.В. Розанова претензии Соловьева на то, чтобы
нанести «смертельный удар славянофильству», были беспочвенны.
E.H. Трубецкой доказывал отсутствие подлинного синтеза
национальных и вселенских начал как у A.C. Хомякова и И.В.
Киреевского, так и у В. Соловьева.
Славянофильство впадало в «односторонность», выраженную в
«преувеличении своего» и в отождествлении «вселенского и
русского», а философ приходил к другой крайности. Концепция «поло-
1 Зеньковский В.В. Русские мыслители и Европа. С. 240.
2 Бердяев Н. А. Судьба России. М., 1918. С. 22.
3 Трубецкой E.H. Возвращение к философии//Философский сборник Л.М.
Лопатину к 30-летию научно-педагогической деятельности. С. 4.
4 Бердяев H.A. Судьба России. СП.
292
жительного всеединства», провозглашая приоритет
«всечеловеческого» над национальным, приводит к отрицанию «всяких
особенных черт русской народности». Русский мессианизм Соловьева
осуществляется путем отказа от национальных традиций, от русской
культуры, от всего русского уклада жизни. Но тем самым «у него
славянофильство перешло в свое противоположное: универсализм
его понимания русской национальной задачи сближает его с
антиподом славянофильства — Чаадаевым», хотя о прямом влиянии
последнего на Соловьева в период формирования основных
принципов «философии всеединства», то есть в 70-е годы XIX века,
говорить нельзя. В это время Соловьев еще не был знаком с
работами «басманного философа», и тем не менее «первый является
несомненным продолжателем второго»1. Вывод Е. Трубецкого,
безусловно, имеет под собой серьезные основания, следует вспомнить
еще и католические симпатии обоих мыслителей.
В соловьевском понимании истории представители «нового
религиозного сознания» отмечают особое внимание к человеческой
личности, стремление «освободить человеческую активность».
Оптимистическая оценка возможностей человека в осуществлении
«нравственных задач общества» придает его философии
антропоцентрическую направленность. Провозглашая «человека вершиной
творения», Соловьев утверждает, что «возрождение мира
совершено богом совместно с человеком, который также выразил
божественную идею гуманности»2. Последователи философа отмечали
также его негативное отношение к бездуховности западной
цивилизации, так как она освобожденного богом человека «делает рабом
машины». В России Соловьев вел последовательную борьбу «за
свободу личности и свободу совести, за нравственные принципы в
жизни общества и государства»3.
Однако, признавая «большое достоинство» соловьевского
понимания истории, корифеи русского идеализма все же не
принимали многие его идеи. Социальные взгляды мыслителя
сформировались в либеральное царствование Александра II, когда в России
царила вера в прогресс и счастливое будущее. Понятно, что
«духовная структура знаменитой реформационной эпохи была в
значительной степени и у Соловьева»4, но она не сочеталась с кризисны-
1 Трубецкой E.H. Миросозерцание B.C. Соловьева. Т. 1. С. 71.
2 Лосский И.О. История русской философии. С. 118.
3 Трубецкой С.Н. Смерть B.C. Соловьева//Соловьев B.C. «Неподвижно лишь
солнце любви...» С. 386.
4 Розанов В.В. Несовместимые контрасты жития. С. 369.
293
ми явлениями русского общества начала XX века. Вместо попыток
философа соединить земное и небесное на первый план выходит
отрицательное отношение к социальной проблематике. Предметом
философии истории объявляется не столько реальный
исторический процесс, сколько потустороннее существование, она
трактуется как «философия конца света». Методологической установкой
подобной философии истории выступает тезис об антагонизме
божественного и человеческого существования. Поэтому эти сферы
«находятся в обратном отношении друг к другу, так что каждая из
них может жить и развиваться не иначе как за счет другой»1.
Непонимание этого положения, с этой точки зрения, и послужило
источником всех заблуждений Соловьева. Вместо критичной оценки
возможностей человека философ проповедует веру в его
созидательные способности. Любое же самоутверждение индивида в земной
сфере «ведет к иссяканию творческих сил». Отсюда, по мнению
представителей «нового религиозного сознания», вытекает задача
формирования у личности «адекватной оценки своих
возможностей». Эта правильная оценка для них заключается в убеждении,
что в человеческой судьбе, «в сущности, все не удалось и есть
основание думать, что никогда и не будет удаваться»2.
Переоценка возможностей человека ведет и к трансформации
представлений о социальном идеале, и философы начала века
настойчиво пропагандировали «крушение веры в так называемый
"прогресс" человечества». Будущее они воспринимают трагически,
чувствуя, что «мы как бы висим над бездной, в которую обречены
провалиться», а идеал общественного устройства мыслители
видели в возрождении «нового средневековья». И если для Соловьева
эпоха феодализма — аскетическое извращение христианства, то
для них «ночь нового средневековья» — желанное торжество
возрожденного религиозного сознания. Отсюда понятен тот интерес,
который уже с конца XIX века представители
религиозно-идеалистической философии проявляли к эпохе средних веков. В 1892
году появляется работа Е. Трубецкого, посвященная анализу
общественного идеала католицизма в V веке. Обосновывая выбор темы,
автор отмечает, что это время представляет особый интерес, так
как «впервые ясно обосновывается облик средневековой...
теократии»3. Анализу религиозности зрелого феодализма посвящен ряд
1 Трубецкой E.H. Миросозерцание B.C. Соловьева. Т. 2. С. 392.
2 Бердяев H.A. Смысл истории. Опыт философии человеческой судьбы. Париж.
1969. С. 237.
3 Трубецкой E.H. Религиозно-общественный идеал западного христианства в V
веке. Миросозерцание блаженного Августина. М. 1892. С. VII.
294
работ Л. Карсавина, которого особенно интересовал XIII век, ибо
этот период выступает как «последний момент подъема
средневековой религиозности»1. Причем следует подчеркнуть, что по мере
нарастания кризиса существующего строя в России растет и апология
«нового средневековья» в среде философов. Но они, понимая, что
в современных условиях торжество тотальной религиозности
невозможно, связывают надежды на «духовную революцию» с
эсхатологическим переворотом. Е. Трубецкой так образно сформулировал
эту идею: «Чтобы жить со Христом, человечество должно и умереть
со Христом»2.
Кризисные явления современного им общества русские
мыслители начинают рассматривать как конец земного существования, а
философия прогресса заменяется в их построениях «философией
конца». Наиболее созвучна этим настроениям была последняя
работа Соловьева «Три разговора». Не случайно она оценивалась
ими как высшее достижение философа, в котором он наконец
отказывается от пустых умозрительных построений, ибо «какая-то
сила... "понесла" его к юродству пророков и апостолов»3.
Позитивные и негативные оценки тех или иных аспектов
идейного наследия В. Соловьева творцами русского идеализма начала
XX века могут приводиться до бесконечности. С.Н. Трубецкой
правильно подметил, что «в учении В. Соловьева каждый мог найти
нечто свое. И вместе каждый, сверх своего, находил в нем и много
другого, чуждого себе, казавшегося несовместимым»4. Этот тезис
относится не только к философам и богословам, влияние
мыслителя затронуло определенные круги интеллигенции, особенно
творческой. Среди последней выделяются имена А. Блока, А. Белого,
В. Иванова. Белый посвятил философу даже специальное
стихотворение, которое так и называется — «Владимир Соловьев».
Обращаясь в нем к памяти мыслителя, он писал: «Спокойно почивай;
огонь твоей лампадки нам сумрак озарит». «Философия
всеединства» для названных поэтов становится своеобразной
методологической основой восприятия мира и в этом плане «озаряет сумрак».
В этом пособии мы сознательно обходили вопрос о поэтическом
творчестве В. Соловьева и о его влиянии на русское общество.
1 Карсавин Л.П. Основы средневековой религиозности в XII—XIII веках
преимущественно в Италии. СПб., 1915. С. 18.
2 Трубецкой Е. И. Миросозерцание B.C. Соловьева. Т. 2. С. 384.
3 Шестов Л. Умозрение и откровение. С. 90.
4 Трубецкой С.Н. Смерть B.C. Соловьева//Соловьев B.C. «Неподвижно лишь
солнце любви...» С. 386.
295
Хотя и в стихах он говорил о «труднейших вопросах, тревожащих
мысль человека», все же это предмет специального анализа.
Отношение философов Серебряного века к интеллектуальным
исканиям В. Соловьева показывает, что они пророчески
почувствовали трагичность предстоящего века, предсказав в мистической
форме и истребительные войны, и тоталитарные режимы,
уничтожившие миллионы человеческих жизней, и разрушение среды
обитания.
Идейное наследие B.C. Соловьева активно обсуждалось не
только светскими мыслителями, оно оказало заметное влияние и на
развитие русского православного богословия. Появление трудов
B.C. Соловьева было враждебно встречено представителями
официальной церкви. Философ испытывал цензурные притеснения, его
обвиняли в «угодничестве перед наукой», в «бездумном
преклонении перед прогрессом» и т. д. Даже в начале XX века
«эволюционное развитие всей мировой жизни» объявлялось консерваторами
лжеучением, «несогласным с Библией». Следование этим
принципам, как они считали, приводит лишь к замене «христианского
символа веры символом эволюционным», и эта погоня за современной
наукой не имеет для религии «никакого положительного
содержания». Однако все попытки ортодоксов защитить «православную
мысль от предвзятых идей философии» оказались неудачными.
Широкая популяризация идей Соловьева связана с именами
А. Булгакова, А. Введенского, С. Глаголева, П. Линицкого, Д. Мир-
това, П. Светлова, В. Экземплярского и др. Провозгласив себя
сторонниками обновления православия, обосновывая «христианский
динамизм», эти богословы особое значение стали придавать поиску
аргументов в пользу гармонии веры и разума, а также обоснованию
тезисов о решающем влиянии православия на позитивное
обновление общества. Необходимость перемен в богословии особенно
остро ощущалась в духовных учебных заведениях, и не случайно
именно преподаватели последних составили основное ядро нового
богословия. Они в противовес консерватизму начинают позитивно
оценивать идейное наследие В. Соловьева. Мыслитель
характеризуется как «выдающийся... самый популярный представитель русской
философской мысли за последние четверть века»1. При этом
отмечается, что все думающие люди признают не только важность
«философии цельного знания» для настоящего, но и актуальность этой
системы для будущего, ибо «чем дальше будет идти время, тем зна-
1 Христианское чтение. 1900, № 10. С. 620.
296
чение Соловьева будет возрастать»1. К особой заслуге философа
представители либерально-обновленческого богословия относили
его способность соединить «высочайший интеллект» с религиозной
верой. В период распространения в России среди образованных
слоев позитивизма и материализма, в атмосфере кризисных
явлений, охвативших православную церковь, Владимир Соловьев не
поддался «антихристианским настроениям». Такая позиция, как
отмечал известный богослов профессор А. Бронзов, «делает ему
честь, особенно в наше гнилое время»2. По мнению богословов
данного течения, произведения Соловьева «важны для
православной мысли в силу того, что в них дан пример синтеза религиозного
и философского начал в одной системе». Правда, этот синтез часто
«не согласовывается с православной догматикой», так как
философские установки господствуют над богословскими взглядами.
Ярким примером двойственного отношения к идейному
наследию Соловьева выступает позиция известного богослова
профессора П.Я. Светлова. Для него не вызывает сомнения тот факт, что
«Соловьевым много сделано для духовной науки, но могло быть
сделано и гораздо больше в более благоприятных условиях
литературно-богословской деятельности»3. Позитивная сторона соловьев-
ских воззрений проявляется прежде всего в социальной сфере, а
собственно «метафизический элемент» для богословия имеет
«незначительную ценность». Соловьев, с этой точки зрения, не может
правильно разграничить сферы чистого мышления и веры, внося
«спекулятивный метод в богословие»4. В результате появляются
рационалистические построения, опирающиеся на диалектику с ее
«всегда напрасными потугами» решить разумом религиозные
вопросы. П.Я. Светлов делает вывод, что опыт «спекулятивного
богословия», предложенный Соловьевым, не относится к его заслугам
перед церковью.
Итак, новаторское течение в богословии, развивавшееся в
предреволюционный период, принимало в наследии Соловьева
прежде всего идеи о роли церкви в общественном прогрессе, учение о
Царстве Божием, о необходимости философских построений для
защиты религии. В то же время, как уже отмечалось, их не
устраивал рационализм «философии всеединства». В этом пункте прояв-
1 Вера и разум. 1902. № 10. С. 408.
2 Христианское чтение. 1900. № U.C. 759.
3 Светлов П.Я. Идея Царства Божия в ее значении для христианского
миросозерцания. Сергиев-Посад, 1904. С. 455.
4 Там же. С. 398.
297
ляется созвучие позиций представителей церкви и творцов «нового
религиозного сознания». К «предвзятым идеям» философа
богословы относили также элементы пантеизма, необоснованное
увлечение «эволюционными идеями», «преувеличение социального
начала в жизни индивидуальной», «чрезмерный» социальный
оптимизм раннего В. Соловьева, его «католические симпатии». В
дореволюционное время идеи В. Соловьева стали важным элементом в
церковном богословии, способствовали его обновлению. После
октября 1917 года, как уже говорилось выше, богословское
творчество становится в России невозможным. Только в конце 50-х —
начале 60-х годов вновь начинает пробуждаться в богословских
кругах интерес к русской религиозной философии, в том числе и ко
взглядам В. Соловьева. Однако в 60-е годы изучение и
использование идейного наследия В. Соловьева было весьма поверхностным.
Более фундаментальное овладение «философией всеединства»
начнется в 70-е и особенно в 80-е годы XX века.
Наиболее развернутая оценка взглядов B.C. Соловьева в
современном православии принадлежит митрополиту Владимиру (Сабо-
дану)1. Мы уже отмечали его диссертацию «Экклезиология в
отечественном богословии», когда рассматривали философию
славянофильства. Владыка соглашается с тем, что В. Соловьев — самый
крупный русский религиозный философ XIX в., так как его «фило-
софско-богословские построения приобрели широкий размах,
разносторонность и в известной мере систематичность». Синтез
религиозных и философских начал позволил мыслителю создать
своеобразную антропологию, выразившуюся в учении о богочеловечестве,
и концепцию положительного всеединства, то есть «полной
свободы составных частей в совершенном единстве целого». Находясь на
вершинах современного ему знания, философ сумел приблизить «к
секулярному мышлению содержание христианской веры». По
мнению митрополита Владимира, мыслитель на русской почве «одним
из первых... выдвинул идею христианской культуры и дал
обоснование идеалов свободы и общественности». Тем самым он
подготавливал религиозное обращение интеллигенции, получившее
название «русского религиозного ренессанса XX века».
В то же время иерарх Русской православной церкви отмечает и
недостатки «философии всеединства». Вызывают возражения
следующие моменты: «теория догматического развития Церкви»,
разрывающая с православным преданием; идея вселенской теократии,
1 См.: Владимир (Сабодан). Экклезиология в отечественном богословии. С. 228—
258.
298
которая с самого начала «была чуждой, неприемлемой для
православного сознания»; методология анализа также «слишком
подвержена рационализму», наконец, в отличие от святых отцов, которых
«он плохо знал, Соловьев не имеет благоговейного трепета и
живого переживания таинства веры». И все же известный современный
богослов в заключение характеризует религиозно-философское
творчество мыслителя как одну «из последних духовных вершин
XIX века», и вместе с тем оно «было окном, из которого веял ветер
грядущего».
В последнее время, в связи с более четким выделением в
рамках православного богословия течений модернизма, новаторства и
консерватизма, идейное наследие В. Соловьева подвергается
жесткой критике со стороны последнего направления. Его обвиняют в
том, что он заложил своим учением основы программы модернизма,
отвергающего историческое христианство и «всю святоотеческую
традицию Церкви». Вместо религии спасения философ и его
последователи, как считают консерваторы, пропагандируют «некую
новую "харизматическую религию" философского, социального и
культурного творчества» .
В этом же духе написана и книга И.Г. Федорова «Владимир
Соловьев и православие»2, изданная по благословлению епископа
Мурманского и Мончегорского Симона (Гетя). Автор заявляет, что
целью его труда является «рассмотрение религиозно-философской
деятельности Соловьева сообразно с современными православными
воззрениями». Он прежде всего выражает удивление, что со
стороны православных богословов до сегодняшнего дня раздаются
положительные суждения об идейном наследии основателя «философии
всеединства». При этом если данная позиция
либерально-православных философов и богословов первой половины XX века еще
может быть как-то понята, ибо они «не смогли увидеть истинное
лицо экуменизма и модернизма», то в современных условиях, как
считает И.Г. Федоров, «суть экуменизма и обновленчества
становится очевидной подавляющему числу православных христиан, и
ссылки православных богословов на философские труды Соловьева
в качестве положительного примера являются совершенно
необоснованными». В итоге автор приходит к радикальному выводу о том,
что творчество B.C. Соловьева, за исключением последнего
эсхатологического периода, имеет «глубоко антихристианскую, прикры-
1 Современное обновленчество — протестантизм «восточного обряда». М.,
1996. С. 5.
2 См.: Федоров И.Г. Владимир Соловьев и православие. М., 2000.
299
тую наукообразием направленность», оно носит «ярко выраженный
антиправославный характер».
Однако в целом такая категоричная оценка не является
господствующей в современном православном богословии. Понимание
творения как продолжающегося процесса в ходе постоянной
эволюции мира, развития истории — как богочеловеческого
взаимодействия, трактовка церкви как динамичного организма, имеющего
космические аспекты, показывает заметное влияние взглядов
Соловьева на православную мысль.
В то же время представители Московской патриархии
отмечают, что ряд идей Соловьева не отвечает критериям «строгого
православного начала». Но критичное отношение к отдельным
положениям философско-богословской системы В. Соловьева не имеет
ничего общего с тотальным отрицанием его взглядов. «Философия
всеединства» не только служит стимулом богословского
творчества, она помогает, как считают современные богословы, и диалогу с
«внецерковным миром». В этой связи заслуживает внимания
позиция официального руководства Русской православной церкви по
отношению к предшествующему идейному наследию. В материалах
Юбилейного Архиерейского собора отмечалась необходимость
тщательного изучения идей религиозных мыслителей XIX — начала
XX века, ибо в этот период православное богословие в России
переживало расцвет. Собор также сделал вывод «о необходимости
развивать культуру научной дискуссии». В результате дух
непримиримой партийности должен «уступить место конструктивному
диалогу научных школ и направлений»1. Исходя из этих установок, и
отношение к идейному наследию B.C. Соловьева должно быть
взвешенным, то есть, отвергая неприемлемые для православия
воззрения, богословы в то же время должны внимательно изучать то,
что может быть «воцерковлено» и синтезировано с православными
«ответами на вызов мира».
Филарет (Вахромеев), митрополит. Доклад председателя синодальной
богословской комиссии Русской православной церкви//Сборник документов и материалов
Юбилейного Архиерейского собора Русской православной церкви. Москва. 13—16
августа 2000 г. Н. Новгород, 2000. С. 67.
Глава 10
С.Н. БУЛГАКОВ
Генезис философских взглядов
Идейное наследие Сергея Николаевича Булгакова (1871 —
1944) уже давно привлекает внимание и становится предметом
анализа как со стороны светских, так и религиозных исследователей1.
Только в последнее время вышли работы Б.В. Емельянова, Д.А.
Крылова, О.В. Парилова и И.А. Треушникова, посвященные творчеству
мыслителя2. Однако ряд тем, связанных с философскими взглядами
С.Н. Булгакова, изучен недостаточно, в том числе такие проблемы,
как понимание мыслителем богословского творчества, соборности,
историософии и др.
При анализе этих вопросов наглядно прослеживается трудный
путь философа от марксизма к идеализму, а затем к
религиозно-православному миропониманию и даже к стремлению «воцерко-
вить» светское знание. Обычно делят творчество мыслителя на три
этапа: до 1903 г. — марксистский, характеризуемый интересом
по преимуществу к социально-экономическим вопросам; 1903—
1925 гг. — религиозно-философский (вопрос «в духе теории
всеединства B.C. Соловьева»); после 1925 г. — богословский,
связанный прежде всего с экклезиологической и софиологической
проблематикой, повлекшей «за собой обвинение в ереси»3.
При этом даже в марксистский период, когда для него
материалистическое понимание истории является необходимым условием
введения «социальных явлений в систему научного опыта», он
признает недостаточную разработанность марксистской социологии4. В
дальнейшем кризис марксистского миропонимания нарастал,
ученый вынужден был признать тот факт, что интенсивные поиски
апологии марксизма оборачивались подрывом веры. Поэтому не
случайно появляется сборник статей «От марксизма к идеализму»,
1 См.: Акулинин В.Н. С.Н. Булгаков: Библиография. Новосибирск, 1996.
2 См.: Емельянов Б.В. Очерки русской философии XX века. Екатеринбург. 2001.
С. 289—302; Крылов ДА. Евхаристическая чаша. Чита, 2000; Парилов О.В., Треуш-
ников И.А. Проблема «Запад—Восток» в русской религиозной философии XIX —
начала XX века. С. 90—124.
3 См.: ГулыгаА.В. Русская идея и ее творцы. М., 1995. С. 172.
4 См.: Булгаков С.Н. Труды по социологии и теологии: В 2 т. Т. 1.М., 1997. С. 16.
301
в котором он публикует принципиально важную для себя работу
«Основные проблемы теории прогресса».
В названной статье Булгаков последовательно выступает
против позитивистского и материалистического мировоззрения, ибо
человек не может удовлетвориться одной точной наукой, так как
потребность в «метафизике и религии неустранимы и никогда не
устранялись из жизни человека»1. Переоценка мировоззренческих
позиций сопровождалась у С. Булгакова двумя принципиальными
выводами относительно человеческой истории. По его мнению,
во-первых, невозможно установить исторические закономерности, в
логических категориях описать исторический процесс; во-вторых,
вера в абсолютный смысл земной жизни человечества приводит к
порочному кругу, ибо «мы стремимся придать смысл своему
существованию через других, а другие через нас; вся аргументация
держится в воздухе»2.
Исходя из этих принципиальных установок, С. Булгаков
формулирует предмет «метафизики истории»: она «является раскрытием
абсолютного в относительном, она стремится увидеть, как вечное
сияние абсолюта отражается в органической рамке пространства и
времени»3.
Итак, философ начал отход от марксизма и материализма в
области интерпретации истории и лишь затем принципы
религиозно-идеалистического мировоззрения распространил на онтологию и
гносеологию.
Разделяя общие положения философии всеединства,
выработанные В. Соловьевым, мыслитель приходит к выводу, что
существует своеобразный «физический коммунизм бытия», так как
«физически все находит себя или есть во всем, каждый атом
мироздания связан со всей вселенной»4. Одной из наиболее жгучих и
трудных проблем в философии является вопрос о соотношении единой
природы духа и многоликого мира. Иными словами, необходимо
объяснить, как в бытии сочетается единство и множественность,
духовная общность и неповторимая индивидуальность. Не
останавливаясь подробно на онтологии С.Н. Булгакова, отметим, что
«способность природы к единообразию во множестве» он объясняет
при помощи софиологии. Мир предстает как «художественное вос-
1 Булгаков С.Н. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1993. С. 51.
2 Там же. С. 65.
3 Там же. С. 76.
4 Там же. Т. 1.С. 109.
302
произведение предвечных идей, существующих в Премудрости Бо-
жией», она — «идеальная модель для воспроизведения». Софий -
ность мира и человечества подчеркивает единый источник всего
существующего, которым выступает Абсолют или Бог. В то же время
реализация софийных начал требует максимального раскрытия
«потенций, заложенных в твари». Мыслитель особо подчеркивает,
что индивидуальность, как сила обособляющая, как особый луч в
сиянии «умного света» Софии, не противоречит идее целого,
дающего место свободному развитию своих частей. В результате
приведенных выше рассуждений философ приходит к выводу, что
«единство осуществляется только во множестве». Конечно, это
единство уловимо не сразу, так как мир «в своей эмпирической
действительности лишь потенциально софиен, актуально же
хаотичен». Но несмотря на то что законом жизни является «борьба и
дисгармония», все же и в этом своем состоянии космос «сохраняет
свою связность». Именно в силу этого и стало возможным
появление в «хаотической стихии» носителя софийных, единящих
начал — человека. С.Н. Булгаков вслед за B.C. Соловьевым считает
индивида «проводником всеединяющего божественного начала в
стихийную множественность». Однако и в самой человеческой
природе также проявляется «болезнь бытия», так как она в своей
«индивидуальной и самостной стихии» вырывается «из своего софий-
ного единства». Именно этот процесс отрыва личности от «своего
софийного корня» и предопределяет специфику человеческого
познания. Целью гносеологических построений в науке и философии
является стремление к истине. Однако истина в действительности
не есть «предмет теоретического знания», последнее улавливает
лишь ее часть. Поэтому в природе научного знания «есть одна
основная и неустранимая антиномия: все научное знание только и
может существовать в предположении истины», но вместе с тем оно
дробит ее «на множество частных, специальных истин, или между
собой несовместимых, или же, чаще всего, просто не имеющих
между собою никакого соотношения, взаимно чуждых»1. «Жизненная
действительность» не вмещается в научные теории, более того,
научно понимать жизнь — «значит механически ее истолковывать,
значит превращать организмы в машины». Сам по себе рассудок не
рождает новых научных идей, «владея уже рожденным»,
следовательно, «он бухгалтер мысли, но не ее творец»2. Сама возможность
1 Булгаков С.Н. Природа науки//Философский сборник к 30-летию
научно-педагогической деятельности Л.М.Лопатина. М., 1912. С. 11.
2 Там же. С. 47.
303
человека «приобщиться к Истине» обосновывается Булгаковым
идеей Шеллинга о тождестве субъекта и объекта познания. Вслед
за немецким философом он считает, что полное совпадение объекта
и субъекта познания возможно только в Абсолюте. Если бы
человек мог бы «сплошь постигать бытие мира разумом», то в этом
случае «он сам был бы богом или вполне сливался бы с Богом,
творящим мир»1.
Однако частичное тождество объекта и субъекта познания
возможно, и тогда для богослова, философа или художника
«приоткрывается Истина». Но это «приоткрытие» опирается не на
«бухгалтерскую деятельность рассудка». Оно основывается на
«непосредственном созерцании», на «интуитивных прозрениях, на
способности «ясновидения поверх разумений данности или глубже
нее»2. Познающий субъект должен стать сопричастным «софийно-
му сознанию» — это и есть процесс «овладения Истиной»,
который не может опираться лишь на отдельные познавательные
способности человека. Приобщение к истине является итогом
«цельного познания», синтезирующего веру, разум и чувства и в силу
этого делающего возможным преодоление «безжизненных
абстрактных формул», заменяя их «организм-идеями».
Итак, идеалом знания у Булгакова выступает не рациональная
система, опирающаяся на аргументы рассудка, а синтезированное
образование, стремящееся соединить реальное с идеальным,
рассудочное с эмпирическим, материальное с трансцендентным. В
рамках философского мышления выразить в логических,
непротиворечивых понятиях суть «организм-идеи» невозможно и поэтому
«разум закономерно упирается в антиномии»3. Антиномизм
философских построений отнюдь не должен порождать скептицизм, ибо
философия не уничтожается, а лишь занимает «принадлежащее ей
место, освобождаясь от ложных притязаний». В этой связи
Булгаков подчеркивает неприемлемость западноевропейской
мыслительной традиции, ставящей «философию выше религии».
Правильная субординация между ними заключается в том, что
«религия, как откровение, как учение не рационалистическое, но
догматическое или миротворческое, предшествует философии и
постольку стоит выше нее»4.
1 Булгаков С.Н. Соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1993. С. 328.
2 Булгаков С.Н. Природа науки//Философский сборник к 30-летию
научно-педагогической деятельности Л.М. Лопатина. С. 48.
3 Булгаков С.Н. Соч.: В 2 т. Т. 1. С. 327.
4 Там же. С. 328.
304
Критикуя претензии рационализма на абсолютную истину,
русский мыслитель в то же время не отрицает значения науки для
общества. С его точки зрения, наука находит свое оправдание, если ее
рассматривать как «общественный трудовой процесс»,
направленный к получению знаний, нужных для существования человека.
Материалистический взгляд на знание как на простое отражение
объективного мира, по мнению Булгакова, «совершенно не
соответствует действительности». Процесс познания, как мы уже
отмечали, для мыслителя — это «постоянное стремление к
осуществлению тождества субъекта и объекта», и только благодаря
активности субъекта происходит переход «потенциального в актуальное, в
выявляемую связь вещей». И мир, и человек выступают как «дети
Софии», но именно за индивидом сохраняется познавательная
активность, которая в силу этого имеет антропологическую
направленность. Само научное знание обладает двумя свойствами:
во-первых, оно логично, то есть имеет рациональное обоснование и
во-вторых, оно хозяйственно, то есть имеет практическую пользу. В
этой связи развитие научного познания необходимо для улучшения
«внешних условий человеческого существования». Но наука по
природе своей не может претендовать на решение главных
мировоззренческих проблем, стоящих перед человеком, то есть
«разрешение сверхнаучных и вненаучных вопросов».
Итак, по мнению С.Н. Булгакова, существуют три главные
сферы человеческого познания: религиозная, философская и научная.
Между ними прослеживается четкая субординация, если двигаться
снизу вверх (по пути восхождения), то это путь от науки через
философию к религии. Провозглашая идеалом знания «организм-идеи»,
русский мыслитель продолжает свойственную отечественной
традиции онтологизацию истины.
Онтологические и гносеологические параметры истины, с этой
точки зрения, теснейшим образом связаны между собой, так как
познание есть творчество, изменяющее бытие индивида. Насколько
истинность «свершается через любовь», настолько следование
ложным установкам базируется на себялюбии, «которое имеет
много разных проявлений от холодности до враждебности и
ненависти». В этой связи становится понятным существование особых
качеств познания, исходящих из субъекта, «из его здоровья или
нездоровья». Здоровье проявляется в любви, объединяющей
«единство многих, дающих знание вне себя», нездоровье выступает в
отрицании другого Я, в эгоистическом индивидуализме. При этом
эгоистическое самоутверждение есть не только психологическое
состояние человека, но оно связано с его ноуменальной основой и, следо-
20-6016
305
вательно, «есть злобствующая бездарность в любви и настоящая
хула на Духа Святого»1.
Следовательно, богословская, философская и научная сферы
познания, для того чтобы выполнить свое предназначение, то есть
сделать человека «причастным софийным началам», должны иметь
не только гносеологические, но и определенные ценностные
ориентиры. Для Булгакова эти ценностные ориентиры задаются
православием.
Богословско-философские темы
В послереволюционный период Русская православная церковь
оказалась в очень сложной ситуации. Налицо был отход от религии
социально-активной и образованной части верующих, который во
многом объяснялся не столько социальными преобразованиями,
сколько беспрецедентным давлением на церковь со стороны
тоталитарного государства, массовыми преследованиями «за веру
отцов». К тому же в результате массовой эмиграции за рубежом
оказались многие видные священнослужители и наиболее
подготовленная в интеллектуальном отношении часть мирян. Все это приводит
к заметному постарению церковной паствы, к снижению ее
образовательного уровня. В «церковной ограде» остались лишь те люди,
которые не мыслили своей жизни вне православия, поэтому среди
прихожан в послереволюционные годы преобладали сторонники
православного консерватизма. Этот консервативный настрой
верующих и обусловил на долгие годы приверженность церковного
института фундаментализму. Следует также помнить о том, что
массовые необоснованные репрессии, обрушившиеся на
духовенство в 20—30-е годы, практически исключили богословское
творчество из духовной жизни. Новаторские идеи в богословии были на
время в СССР забыты, возвращение к ним началось с конца 50-х
годов.
Долгое отсутствие богословского творчества в Советском
Союзе не означало, что оно прервалось в русском православии. В
20—50-е годы центр русской богословской мысли перемещается за
рубеж, и прежде всего в Париж, где начинают активно заявлять о
себе С.Н. Булгаков, В.Н. Лосский, Г.В. Флоровский, В.В. Зеньков-
ский, A.B. Карташев, архимандрит Киприан (Керн) и многие другие.
За границей, в условиях инославного окружения и на фоне тех
радикальных изменений, которые происходили в Советской России, с
особой остротой встал вопрос о «верности православному церков-
1 Булгаков С.Н. Соч.: В 2 т. Т. 1. С. 413.
306
ному преданию». При ответе на него все соглашались с тем, что
надо обратиться к указанию апостола Павла, призывающего:
«Итак, братия, стойте и держитесь предания, которым вы научены»
(2 Фес. 2:15). Но сразу возникает проблема, что значит «держитесь
предания»?
При ее решении в зарубежной православной мысли выявились
два подхода, отнюдь не новые для церковного богословия. В первом
случае предание понимается как «хранилище веры» (depositium
fidei), то есть утверждается его неподвижный и неизменный
характер. Во втором случае предание понимается «как живущее и
развивающееся в истории» учение. Оно как бы «переводится на язык
разных ее эпох». Большинство известных русских богословов,
оказавшихся в эмиграции, ориентировались на понимание традиции не
как «вечно застывшей формы», а как динамично развивающейся
христианской мысли, так как «предание не только хранится, но и
творится, ибо живет».
Наиболее последовательно принцип творческого отношения к
преданию проявился в богословских построениях С. Булгакова. С
его точки зрения, отечественные догматики претендуют на
«выражение полноты православного учения», однако в действительности
символ веры не может охватить всех сторон вероучения, ибо по
многим важнейшим вопросам «излагаются лишь богословские
доктрины, распространенные мнения, во всяком случае не догматы, а
теологемы» . Теологема, или теологумен, то есть частное
богословское мнение, не должна претендовать на безошибочность и
всеобщую обязательность. Поэтому в православии «область догматики
не совпадает с наличными догматами, она значительно шире».
Следовательно, догматика должна опираться не только на символ веры,
но она может «восполняться из других источников, помимо прямых
и обязательных догматических определений»2. Процесс
«восполнения» предполагает догматические искания, то есть борьбу
богословских мнений, которая «существовала во все времена,
существует и теперь». В связи с этим возникает несколько вопросов:
главный — о критериях богословской истины, о догматическом
развитии, о соотношении догматизма и богословского творчества.
С.Н. Булгаков глубоко изучал эти проблемы, он понимал, что
вопрос об истинности того или иного церковного положения, то
есть «вопрос о непогрешительном авторитете Церкви представляет
1 Булгаков С.Н. Догмат и доплатикй//Живое предание. Православие в
современности. М., 1997. С. 8.
2 Там же. С. 9.
20*
307
собой исключительную трудность в постановке и обсуждении и,
может быть, невозможность для окончательного теоретического
разрешения»1. Католики с их стремлением к «формальной ясности»
приписывают высший авторитет в вопросах вероучения римскому
папе, объявив его непогрешимым. Протестантизм же «есть
религия возгордившейся личности», в нем человек стремится «найти
свое обоснование в себе и только в себе», он хочет только «для
себя и через себя стать церковью». Булгаков подчеркивает, что
протестантизм оказывается «эго-папизмом, в котором каждый...
хочет быть для себя папой, притязая, следовательно, на
непогрешимость в делах веры»2. Критика католицизма и протестантизма у
русского мыслителя во многом опирается на аргументы,
выдвинутые A.C. Хомяковым. И вывод о том, что папизм и протестантизм,
несмотря на формальные различия, в сущности схожи между собой,
у них совпадает.
Это созвучие наблюдается и при оценке православия, не
случайно Булгаков отмечает, что «отчетливая и радикальная
постановка вопроса о вероучительном авторитете в православии
принадлежит Хомякову, вписавшему этим свое имя неизгладимо в историю
православного богословствования»3. Вслед за славянофилами он
считает соборность высшим проявлением религиозного сознания,
определяя ее как «единство во множестве». Более того, для него
соборность и истинность совпадают, ибо быть соборным — значит
«быть в истине, а потому и познавать ее». Соборные принципы,
наиболее адекватно выраженные в православии, противостоят как
католическому авторитаризму, так и протестантскому
индивидуализму. Поэтому игнорирование соборности при рассмотрении
догматических исканий равносильно «радикальному непониманию
православной церковности».
Сложность в раскрытии церковной соборности состоит в том,
что «понятия языка не вполне выражают сущность познаваемого»,
к тому же проявления «единства во множестве» в религиозной
сфере многообразно. Наиболее общей классификацией церковной
соборности, по мнению С. Булгакова, является выделение в ней
двух сторон: внешней, количественной, и внутренней, качественной.
Внешнее понимание соборности обращает внимание на связь
церкви с соборами, то есть «определяет церковь как содержащую уче-
1 Булгаков С.Н. Очерки учения о церкви//Путь. М., 1992. Кн. 1. С. 177.
2 Там же. С. 180.
3 Там же. С. 177.
308
ние всеселенских и поместных соборов». Оно также подчеркивает
мысль о том, что «церковь собирает, включает в себя все народы и
простирается на всю вселенную»1. Поскольку и соборы, и
география распространения христианства зависят от исторических
условий, от «высоты духовных запросов эпохи», то внешнее проявление
соборности обусловлено «человеческим фактором».
Внутренне в определении соборности делается акцент на то, что
она «причастна Истине, живет в Истине». Эта истина имеет
трансцендентный характер, она не зависит ни от каких внешних условий
человеческой жизни. Качественная сторона соборности своим
основанием имеет учение о Троице: Бог един и в то же время
существует в трех ипостасях, каждая из которых обладает индивидуальными
качествами. «Единство во множестве» находит в Троице свое
наиболее полное, абсолютное выражение, поэтому «Святая Троица
есть предвечная соборность»2. В ней содержится «вся полнота
самораскрытия» и в то же время вся «полнота единства». При этом
«в Святой Троице совершается то, что невместимо для тварного
сознания», так как выразить в понятиях ее идею, раскрыть ее
содержание невозможно. Для Булгакова соборность является
свойством, уходящим в «самые недра церковной жизни», и в этой связи к
ней нельзя приобщиться при помощи рационалистических
построений. При определении соборных истин необходимо преодолеть
«абстрактно-рассудочное понятие об истине», противопоставление
субъекта и объекта познания. Православная духовная традиция
подчеркивает, что «Истина есть норма бытия, и лишь потом норма
сознания». Только при таком подходе можно правильно понять
евангельское положение о церкви как «столпе и утверждении
истины». Поэтому познание соборных истин означает прежде всего
«жизнь в истине, пребывание в истине, словом, не
отвлеченно-теоретическое познавание, но конкретно-религиозное бытие»3. Такой
подход делает понятной существенную связь соборности и
онтологизма — двух характернейших особенностей русского менталитета.
Та истина, которая не преобразует бытие, не может быть названа
соборной, и, напротив, «укорененность истины в церковный народ»
свидетельствует о ее соборном характере.
1 Булгаков С.Н. Православие. Очерки учения православной церкви. Киев, 1991.
С. 76.
2 Булгаков С.Н. Благодатные заветы преп. Сергия русскому богословствова-
нию//Путь. Кн. I.C. 546.
3 Булгаков С.Н. Православие. Очерки учения православной церкви. С. 79.
309
Внешняя, количественная, и внутренняя, качественная, стороны
соборности не существуют изолированно друг от друга, они
взаимосвязаны между собой как сущность и явление. При этом сущность
«дана на века», явление же носит исторически обусловленный
характер. Как известно, православное догматическое богословие
особое значение в раскрытии «вечных истин веры» отводит
вселенским соборам. Булгаков стремится внести уточнения в понимание
роли вселенских и поместных соборов в жизни восточного
христианства. В православии есть опасность трактовать соборные
решения как «внешний непогрешимый авторитет в делах веры». В этом
случае православие сближается с католицизмом, но только вместо
непогрешимости папы объявляется непогрешимым авторитетом
коллективное мнение епископов. Но и в первом, и во втором
случаях критерий церковной истины находится не в самом церковном
организме, а выносится во вне. Соборные истины принадлежат всему
церковному народу и принимаются верующими «не в качестве
повелений собора, исходящих от высшей церковной власти, но в
качестве выражения воли и сознания всей церкви». Иными словами,
даже вселенские соборы имеют значение не в качестве
непогрешимого авторитета в делах веры, а они лишь выступают «в качестве
средства пробуждения и выявления церковного сознания».
Итак, по мнению Булгакова, православие не знает внешнего
вероучительного авторитета, «не может и не должно его знать».
Критерий истинности вероучения может принадлежать только всей
полноте экклезии, и в результате станет понятным, что
«церковность есть истинность, а истинность есть церковность». С точки
зрения рационализма, подобные тезисы представляют собой
«порочный круг», доказывая то же через то же. Однако, как считает
русский мыслитель, «этот круг... есть естественные и неустранимые
свойства суждения онтологического»1.
Последовательное отрицание внешнего авторитета в вопросах
вероучения в православии приводит С.Н. Булгакова к своеобразной
трактовке догматов. Ортодоксальное богословие, как мы уже
отмечали, понимает догмат в «значении непререкаемой, бесспорной
истины, имеющей абсолютный авторитет и не подлежащей критике».
Исходя из такой установки именно символ веры становится
критерием истинности церковной мысли и церковной жизни в целом.
Для Булгакова же догматы, вернее, их словесное выражение, не
могут оцениваться как «высшая и окончательная вероучительная
формула». Поэтому он считает, что, «говоря о догматах, приходит-
Булгаков С.Н. Очерки учения православной церкви. С. 81.
310
ся иметь в виду не истинность тех или иных формулировок и
определений (которые имеют производное и чисто служебное значение),
а правильность или неправильность того переживания, которое
положено в его основу»1. Фактически речь идет о принижении
догматического начала в церкви. В этом плане Булгаков как бы
продолжает линию М. Тареева, который декларировал первичность
«мистического опыта верующего субъекта» перед догматическими
установками. Следовательно, и для Тареева, и для Булгакова
догматические формулировки «образуют сферу вторичных явлений»,
однако если у первого они опираются на «индивидуальный духовный
опыт», то у второго — на соборные, общецерковные начала.
Исходя из такого понимания значения догматических начал для
религиозной жизни, Булгаков считает, что сама догматика должна стать
наукой, свидетельствующей «о содержании религиозной жизни, ее
внутренних фактов и самоопределений»2. Сам же «догматический
инвентарь», то есть внешняя форма выражения истин веры, хотя и
должен изучаться, но нельзя преувеличивать его значение в
религиозной сфере. К тому же, как уже говорилось выше, для мыслителя
догматы не могут претендовать «на полное выражение церковного
самосознания», они лишь его часть. Поэтому «соборность
церковная неизмеримо богаче по содержанию всего того, что выявлено... в
церковном учении»3. Булгаков в качестве примера наличия
«церковных достоверностей», не имеющих догматических
формулировок, называет культ Богородицы, почитания святых, отношение
церкви к жизни, культуре, творчеству и многое другое.
В изложенном подходе есть определенная опасность, так как он
содержит возможность субъективных искажений православного
вероучения. Действительно, если нет «догматической ясности и
определенности», то появляется соблазн навязать церкви какое-либо
индивидуальное или групповое мнение, «не являющееся
благодатным». Не случайно церковная традиция, признавая факт отсутствия
по многим вопросам догматических формулировок, в то же время
всегда подчеркивала необходимость соотносить все явления
церковной жизни с догматическими началами. Церковное предание
становится таковым лишь тогда, когда согласуется с
догматическими установками, вытекает из них.
1 Булгаков С.Н. Очерки учения о церкви//Путь. Кн. 1. С. 178.
2 Булгаков С.Н. Догмат и догматика//Живое предание. Православие в
современности. С. 21.
3 Булгаков С.Н. Православие. Очерки учения православной церкви. С. 83.
311
Философ сам понимал определенную уязвимость своих
положений с церковной точки зрения. Он признает, что «православие не
может не быть Церковью предания», а значит, оно свое богатство
«хочет свято соблюдать, свято чтить, сохранять». К этому
богатству относятся прежде всего «основные истины веры», то есть
догматы. Но Булгаков считает, что если православие сведет сохранение
своего духовного богатства к «законченно-категорической форме»,
то тогда наступит «оцепенение церковной мысли». По его мнению,
«догмат не только статичен в своей данности, но и динамичен в
своей заданности или в своем развитии»1. Догматическое развитие
проявляется как в раскрытии истин веры в истории, так и в их
уразумении в живом церковном опыте, своеобразном для каждого
верующего. Поэтому принятие догматических истин в православии
должно быть не внешним, навязанным церковной иерархией, а
«внутренне свободным». Церковное предание, хотя и находится
«вне нас», является выразителем «совокупного церковного
сознания». Следовательно, оно «свободно подчиняет себе всякого, кто
также причастен этому сознанию». Поэтому свобода верующего
«необходимо должна быть соединена с церковной дисциплиной и
послушанием»2. Булгаков в этом плане продолжает линию
Хомякова, у которого, как мы уже отмечали, свободное принятие
церковной истины требует церковности, то есть оправдание своей свободы
верующий находит в следовании церковным установкам.
Итак, в отличие от католического авторитаризма и
протестантского «личного произвола» православие предлагает «свободное
избрание истины», и тем самым преодолевается ограниченность
индивидуального сознания, возникает качественно новое состояние —
многоединство. Иными словами, соборные истины «трансцендент-
ны индивиду как таковому», но они становятся для него
«имманентными после воцерковления», а значит, и обязательными для
исполнения.
Наконец, анализ проблем догматического развития неизбежно
затрагивает вопросы соотношения устойчивости и изменчивости в
вероучении, взаимодействия церковной традиции и богословского
творчества. Церковная соборность, как мы выяснили, согласно
взглядам С. Булгакова, содержит ноуменальный и феноменальный
уровни. Первый уровень является фактом мистического порядка, он
связан с деятельностью Троицы. Но внутренняя, сущностная собор-
1 Булгаков С.Н. Догмат и доплатика//Живое предание. Православие в
современности. С. 20.
2 Булгаков С.Н. Очерки учения о церкви//Путь. Кн. 1. С. 179.
312
ность не может быть сведена лишь к пассивному сохранению
истины в небесной церкви или в «сверхэмпирической
действительности». Она неизбежно переходит на уровень исторической церкви и
обосновывает себя как «действительность эмпирическая».
Мыслитель для обозначения этой активности использует
специальный термин соборование. Соборование — это «акт,
совершающийся во времени», оно также предполагает «осуществление
частями», то есть познание истины, целого происходит по мере
развития церкви. Следовательно, «соборность есть факт... порядка
исторического, она есть, так сказать, субстрат церковной истории».
С. Булгаков пытается вскрыть закономерность соборования. Он
приходит к выводу, что в начале этот процесс «проявляется в
церковной жизни», то есть в метафизической практике, молитве,
созерцании и только после «укоренения в церкви» соборование
отражается в сознании, в «вероисповедных формулах». Например,
почитание Богородицы в христианстве возникло «ранее богословской
мариологии».
Исходя из приоритета церковной жизни перед богословским
сознанием, мыслитель делает вывод о том, что «не догмат
предписывает религиозную практику, но, наоборот, эта последняя
является основанием для догмата» . В то же время он, конечно, не
отрицает очевидного факта, что после того как догматы станут
элементом соборного сознания, они уже служат «основанием для
практики». В христианстве церковная жизнь не может мыслиться как
«неподвижная и застывшая», напротив, она динамична и
разнообразна. В «церковной ограде» в разные времена «выявляется
преимущественно та или иная сторона истины» и, исходя из этого,
«определяются разные эпохи в истории церкви»: то господствуют
христологические вопросы, то тринитарные, то пневматологические
и др. В связи с этим понятен вывод Булгакова о том, что
соборность «не только есть, но и совершается, и это есть
продолжающееся откровение, которое совершается в истории как так
называемое догматическое развитие» . Догматическое развитие,
конечно, не понимается мыслителем в католическом духе, как введение
новых догматов, или в протестантском, как отмена «исходных
положений символа веры». Догматическое развитие — это
соборование, совершаемое «в тех формах, которые свойственны и
доступны по месту и времени». Оно делает церковное предание
жизненным и, «следовательно, изменчивым и становящимся, потому ис-
1 Булгаков С.Н. Православие. Очерки учения православной церкви. С. 84—85.
2 Булгаков С.Н. Очерки учения о церкви//Путь. Кн. 1. С. 59.
313
тинная экклезия никогда не может быть мертвой охранительницей
преданий».
Соборование, или «живая соборность», связывает церковь с
«местом», то есть с той или иной страной и народом, ее
населяющим, и «временем», то есть с историческими реалиями и судьбами
этносов. Отсюда понятно, что на феноменальном уровне
соборность приобретает национальную окраску, в ней отражается мен-
тальность того или иного народа.
Подобное понимание предания, естественно, накладывает
отпечаток и на отношение к богословскому творчеству. Для Булгакова
богословие — это также проявление соборования. Роль
богословской мысли в истории христианства церковь официально оценила,
возвеличив человеческие усилия в этой сфере как «подвиг отцов
церкви и вселенских ее учителей». Русский мыслитель
подчеркивает, что «дела вселенских соборов», то есть принятие соборных
решений, судьбоносных для евангельской религии, были бы
«неосуществимы без наличия этих богословских усилий». Однако роль
богословия не исчерпывается эпохой учителей церкви, так как
«потребность в богословствовании, опирающемся на все доступные
средства научного исследования, была налицо во все времена».
В то же время богословское творчество может терять характер
соборования, когда превращается в богословскую науку,
обслуживающую римского папу, или становится лишь продуктом
человеческого разума, делаясь «научным христианством», последнее
происходит в протестантизме. Богословие, конечно, должно отличаться
личным характером — это индивидуальное самосознание церкви,
но оно не может быть «своеличным».
Исходя из этих установок можно прийти к выводу, что
богословие антиномично, оно «новое, живое, творческое» явление,
несущее на себе личностный отпечаток: но оно и «церковное,
неразрывно связанное с соборным опытом». Новая богословская мысль
стремится себя «оправдать, обосновать, раскрыть» на основе
церковного предания. Согласованность с преданием выступает как
«внутренняя норма для личного церковного самосознания».
Схоластическое богословие католицизма и теологический рационализм
протестантизма отмеченное противоречие не могут «органически
разрешить». В первом случае оно решается за счет «дисциплины
мысли», в результате которой индивидуальное творчество лишь
обслуживает «строго выработанную и согласованную богословскую
доктрину». Во втором случае теология лишается «корней в
церковной почве» и превращается в «личный произвол». В отличие от
этих двух стилей религиозного мышления православие имеет «не
314
столько богословие, сколько богословствование, не доктрину, а
скорее "созерцание и умозрение", вдохновения религиозного
опыта, не укладывающиеся ни в какие заранее данные рамки и
свободные в своей жизненной напряженности. Это вечно
непрекращающийся рассказ о постоянно осуществляемом церковном опыте,
полном свободы и вдохновения» . Поэтому в православии различные
богословские мнения органично сочетаются с их включенностью в
соборное сознание, ведь и сама соборность — это «единство во
множестве». Динамика правильной церковной жизни закономерно
включает в себя и личное богословствование, и стремление его
оправдать сверхличным соборным сознанием. Итак, С.Н. Булгаков
трактует богословствование как проявление феноменального
уровня соборности, как постоянно продолжающееся соборование.
Исходя из этого, понятны требования философа к православной
мысли: «не быть застывшей», а выражать себя «на языке
современности и для современного сознания». Верность преданию не есть
«бегство от нового», но «искание старого в новом, постижение
живой связи с ним». Мыслитель призывает православных богословов
«покончить с предрассудком, по которому новое является
синонимом нецерковного»2.
Наконец, развитие православного богословия определяется не
только «внутренней историей восточной церкви», большое
значение в этом процессе имеет соприкосновение восточного
христианства с богословскими идеями Запада. Соборование дает
возможность увидеть «зерна истины» и в тех направлениях христианства,
которые лишены «евхаристического общения с православием». Не
копирование и не подражание, а творческая переработка в
православном духе достижений западной теологии «сулит богатое и
прекрасное будущее православному богословию»3.
Поскольку соборование, или богословствование, связывает
церковь с «местом и временем», постольку она неотделима от
географических и исторических реалий, от судеб того или иного
народа. Следовательно, на феноменальном уровне соборность с
необходимостью приобретает национальный колорит. Условия «места и
времени» могут извратить соборные начала, но могут и
способствовать их развитию. Булгаков в качестве примера приводит «антино-
мичный опыт» становления отечественного богословия. С одной
1 Булгаков С.Н. Очерки учения о церкви//Путь. Кн. 1. С. 180.
2 Булгаков С.Н. Догмат и догматика//Живое предание. Православие в
современности. С. 19.
3 Булгаков С.Н. Православие. Очерки учения православной церкви. С. 108.
315
стороны, закономерным для России явлением выступает наличие в
православной мысли своеобразных и ярких богословских
индивидуальностей, друг на друга мало похожих и, однако, «вмещающихся в
православие». Действительно, A.C. Хомяков и B.C. Соловьев,
митрополит Филарет (Дроздов) и архимандрит Феодор (Бухаров),
Ф.М. Достоевский и К.Н. Леонтьев и многие другие различны
между собой, непохожи друг на друга, но каждый из них по-своему
выражает «православное самосознание в некой богословской
рапсодии». Авторитарный католицизм видит в этом плюрализме мнений
«слабость» восточного христианства, — напротив, в нем «красота
и сила православия». С другой стороны, в русском православии
проявляется и католическое влияние, в результате которого
отдельные высшие иерархи и светские «мнимые защитники веры» свои
собственные мысли стремятся превратить в «норму православного
богословствования». Отсюда — господство духовной цензуры,
оторванность православной мысли от насущных общественных
проблем и, в конечном итоге, кризисные тенденции,
свидетельствующие о том, что церковь «оказалась не на высоте исторических
своих задач». Это особенно наглядно проявилось в ходе
революционных событий в России, немалая ответственность за которые «лежит
на русской церкви». И хотя, конечно, искажение принципов
соборности, вмешательство «внешних сил» в органический процесс
соборования не может разрушить «благодатно-божественную сторону
церкви», но наносит существенный урон историческому бытию экк-
лезии. История России и русского православия, как считает
Булгаков, убедительно подтверждают это положение.
Итак, понимание догматического развития и богословского
творчества у русского мыслителя носит новаторский характер.
Саму церковь он определяет как «жизнь, творчество, порыв»,
поэтому «закон безостановочного движения имеет здесь силу более,
чем где-либо»1. Религиозный мыслитель должен в этом процессе
найти свое место, что и попытался сделать С.Н. Булгаков своим
творчеством.
Историософия
Мы уже отмечали, что путь от «марксизма к идеализму»
начался у С.Н. Булгакова именно с философии истории. Вообще, с его
точки зрения, «проблема о смысле истории, цели ее и исходе»
является важнейшей для человека.
1 Булгаков С.Н. Два града. Т. 1. М., 1911. С. 17.
316
Для определения направленности той или иной теории истории
большое значение имеют ее представления о социальном идеале. В
этой связи возможна двоякая ориентация в понимании последнего.
В первом случае развитие общества рассматривается как процесс,
«ведущий к достижению некоторой предельной, однако истории
еще имманентной и ее силами достигаемой цели»1. Эту ориентацию
С.Н. Булгаков называет хилиастической, заимствуя этот термин из
учения о тысячелетнем царстве Христа на земле, при котором
прекратятся все человеческие бедствия и лишения. Мыслитель
подчеркивает, что хилиастичной может быть не только религиозная
концепция, но и нерелигиозная, то есть философская,
культурологическая и социалистическая. Но их всех сближает понимание
исторического процесса как постепенного приближения к
социальному идеалу, который выступает отдаленной, но все-таки
«исторически видимой» перспективой. При таком подходе складывается
антиномичный характер отношения к целям истории. С одной
стороны, социальный идеал находится в рамках «исторического
горизонта», но, с другой стороны, он оказывается недостаточным и
«постоянно уходит от нас» при всякой попытке приближения к нему.
К тому же и сами параметры социального идеала в ходе
общественного развития изменяются, ибо они связаны с «формой нашего
эмпирического существования». Поэтому хилиастические
установки не дают нам органического понимания истории, убеждая, что
«не цельность, а разорванность, постоянное движение во времени
составляют наш удел»2.
Тезисы о противоречивой природе земного социального идеала,
об относительном характере земных ценностей, созидаемых в ходе
социального прогресса, неизбежно подводят к выводу об «условном
характере истины вообще». Для С.Н. Булгакова становится
очевидным, что «ноумен истории, ее действительное абсолютное
содержание, может раскрыться за ее пределами»3.
Итак, если для мыслителя периода его перехода от марксизма к
идеализму предметом философии истории выступает «раскрытие
абсолютного в относительном», то есть земное развитие
человечества, то для послевеховского Булгакова философия истории
превращается в историософию, переносящую смысл человеческого
развития «за пределы эмпирического времени».
1 Булгаков С.Н. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 387.
2 Там же.
3 Там же. С. 388.
317
В этой связи именно вторая ориентация социального идеала,
которая связывает его реализацию с эсхатологическим
переворотом, привлекает мыслителя. Смысл истории, с его точки зрения,
можно понять, лишь рассматривая судьбу человечества как
божественное дело, как сверхприродное вмешательство «в мировую
жизнь с разрывом тонкой ткани имманентного»1.
Укорененность в человеческом сознании эсхатологических
представлений основана на знании индивида о конечности своего
существования, он не может не думать «о предстоящем ему уходе из
этого мира». И если материалистическое понимание мира и
истории рассматривает личную смерть «как переход к небытию», а
мировой процесс как «вечное круговращение», то «из религиозной
философии должен быть сделан вывод совершенно иного
содержания». При этом он зависит и от характера религии, ибо очевидно,
что те или иные «эсхатологические представления тесно связаны с
общим метафизическим учением о Боге и мире и представляют
собою более или менее последовательный, более или менее
решительный вывод из посылок религиозной онтологии»2.
В этой связи существует не только отличие между иудейскими,
христианскими и исламскими представлениями о конце света, но и
в рамках христианства обозначены конфессиональные особенности
эсхатологических представлений. В библейских подходах к ответу
на вопрос о «будущей жизни мира», по мнению С. Булгакова,
можно выделить три разных позиции3. Первая связана с начальным
этапом становления евангельской религии и заключается в том, что
«будущего нет, ибо вообще нет времени, уже наступил последний
час истории». Вторая основывается на убеждении, согласно
которому после Пятидесятницы «история Церкви внутренне закончена,
хотя внешне и продолжается». Поэтому «церковь уже имеет в себе
полноту своих свершений» и «недопустимо ожидать еще нового
откровения». Наконец, третья позиция состоит в признании того
факта, что история «еще внутренне не окончена, а потому и история
Церкви еще имеет перед собой новое нераскрытое будущее».
Обозначенные позиции являются не только достоянием
внутреннего мира верующего человека, они формируют его отношение
к обществу, его «поведение в миру». В первом случае ожидание
скорого конца света приводит к «бегству из истории». Особенно
1 Булгаков С.Н. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 389.
2 Там же. С. 390.
3 См.: Булгаков С.Н. Православие. Очерки учения православной церкви. Киев,
1991. С. 214—226.
318
ярко, по мнению С. Булгакова, эта «эсхатологическая паника»
проявилась в русском расколе, хотя и отделившемся «официально от
Церкви, однако в своем духовном укладе сохранившем дух
православной церковности». Во втором случае побеждает формализация
церковной жизни, при которой внешние параметры «церковного
здания закрывают собой небесный свод». Католическое учение о
папе, олицетворяющем для верующего «и настоящее, и
прошедшее, и будущее», а также византийская эпоха церковной истории,
претендующая на «окончательное определение под куполом
императорской власти», приводят к постепенному разделению
сакрального и светского. Динамизм мирской жизни не вмещается в
застывшее и законченное здание церкви, которое наряду с вечным
содержит много «условного и относительного». В результате
мировоззрение верующих приобретает двойственный характер. Религия
становится руководством для семейно-бытовой сферы жизни
индивида, ее же роль в социальных отношениях, политике, культуре и
других областях все более и более сужается.
В третьем случае верующий понимает, что история
продолжается, а значит, уместнее думать «не о конце, но скорее о начале
истории»: не «убегать от истории», не замыкаться в «своем внутреннем
мире», а активно влиять на развитие общества. Именно такую
установку С. Булгаков определяет как «положительное чувство
истории». Стержнем его выступает «жажда действительного
раскрытия» всех возможностей человеческого и мирового бытия ранее
наступления его конца. И в этом случае никому не дано знать время
второго пришествия Иисуса Христа, но эта неизвестность при
«положительном чувстве истории» не отменяет «необходимости и
обязанности жить — ответственно и сознательно».
Сложность в разработке христианской философии истории
заключается в том, что догматическая ясность внесена только в
направленность человеческой истории, определена ее
эсхатологическая перспектива. В то же время учение об эсхатологии выражает
только «часть церковного самосознания» по проблемам истории,
ибо «отношение Церкви к жизни, культуре, творчеству... не имеет в
православии догматического определения»1. Следовательно,
православное понимание истории может и должно допускать
богословское творчество, но ему необходимо соответствовать критериям
церковной соборности2.
1 Булгаков СИ. Православие. Очерки учения православной церкви. С. 83.
2 См.: Шапошников Л.Е. Философия соборности. СПб., 1996. С. 90—110.
319
С.H. Булгаков решает главные проблемы философии истории в
рамках софиологии, центральной темой которой является «вопрос
об отношении Бога и мира, или — что по существу является тем
же самым — Бога и человека»1.
Человек рождается в результате «акта божественного
всемогущества», но становится он «самим собой лишь через свободное
свое произволение», осознавая и определяя свое собственное
существо». Однако в силу человеческой свободы возможно «ложное
самоопределение личности», и тогда она в своей «индивидуальной и
самостной стихии» вырывается «из своего софийного единства».
Историческое человечество существует как смена поколений,
между которыми «кипит индивидуальная, или классовая, или
национальная борьба». Подобная раздробленность имеет «свои корни
в мировом грехопадении», в котором заключаются многие
особенности исторического процесса. Утрачивая связь с Богом, люди тем
самым разрушают и единство между собой, полагая основой своей
активности эгоистические интересы. История общества дает право
сделать пессимистический вывод о том, что софийность
человечества осуществляется «едва ощутимыми намеками», и видеть в
развитии человечества «торжество гармонии» — значит «обнаруживать
слепоту и глухоту душевную». Но человеческая история, хотя и
является «в своей основе трагедией», вместе с тем «есть
творчество», в результате которого происходит выявление потенциальных
качеств личности или «некое самотворение человека».
Индивид в результате грехопадения хотя и нарушает софийное
единство мира, но при этом не отрывается «от своего софийного
корня». Отсюда — противоречивость истории, сложное
переплетение в ней центростремительных сил, объединяющих людей с
духовной первоосновой, и центробежных сил, разъединяющих общество
на враждебные друг другу группы. Антиномичность истории, по
мнению С.Н. Булгакова, порождает в самом христианстве два
крайних полюса, ложных в своей однородности по отношению к
миру, — это дуализм и пантеизм. Первый устанавливает между
Богом и миром «непроходимую пропасть» и тем упраздняет богочело-
вечество, второй, напротив, принимает мир «таковым, какой он
есть, и фактически обоготворяет его». Последовательное
проведение в социальной жизни дуалистических принципов призвано
«оглушить, запугать человечество, убедить его, что Христос ушел из
мира, его оставив». Это чувство богооставленности побуждает
«просто бежать — фактически или духовно, аскетически или бого-
1 Булгаков С.Н. Тихие думы. М., 1996. С. 264.
320
словски — из этого мира... ибо мир только и существует для
аскетического его отвержения»1. Пантеизм же «обмирщает»
социальную сферу, устанавливается «рабство этому миру», в результате
общество «все больше и больше отвращается от такого
христианства и объявляет себя и свою жизнь самоцелью»2. Для русского
мыслителя совершенно ясно, что обе эти позиции приводят к
падению авторитета христианства, последнее же все более и более в
современном мире лишь «следует за жизнью, но не руководит ей».
Основой правильного понимания взаимоотношений Бога и
мира, с точки зрения С.Н. Булгакова, может быть только Халки-
донский догмат о «совершенном единении божественного и
человеческого во Христе», то есть идея богочеловечества. Однако христо-
логия Халкидонского собора, по его мнению, дает решение вопроса
о соединении божественной и человеческой природы «с
отрицательной стороны» — «нераздельно, неслиянно, неизменно,
непревратно». Положительный же ответ — «халкидонское да» — может
дать «учение о Премудрости Божией», отсюда понятно, почему
Булгаков в своей историософии «совершенно решительно и
открыто опирается на софиологию»3.
Софиология, безусловно, признает, что тварный мир —
«создание Божие», необходимое «самооткровение Бога», а не просто
случайное и «произвольное измышление». Это самооткровение «есть
божественная София, образ которой и есть основание мира как
тварной Софии». В силу этого мир не только сотворен, но «он и
вовсе не сотворен, ибо в своем первообразе, в своей идее, он вечно
есть в Боге»4. Само творение мира понимается мыслителем не как
единовременный акт, а как «во всей вечности длящееся творческое
отношение Бога к творению». При этом божественный промысел
действует на историю в основном не «чрез вмешательство извне»,
а «изнутри самого мира», то есть «чрез свободу тварных существ»,
и прежде всего посредством индивида. Поэтому именно человек
есть «логос мира и, говоря принципиально, нет и не может быть в
мире ничего, что не было бы человечно, на что бы не мог
распространяться человек своим познанием, чувством и волею»5. Но если
до Христа активность людей была направлена на поиск «высших
1 Булгаков С.Н. Агнец Божий. О Богочеловечестве. Ч. 1. М., 2000. С. 19.
2 Булгаков С.Н. Тихие думы. С. 270.
3 Булгаков С.Н. Агнец Божий. О Богочеловечестве. Ч. 1. С. 16.
4 Там же. С. 186.
5 Там же. С. 164.
21-6016
321
начал» в природе и в себе самом и тем самым не могла создать
подлинную основу для богообщения (оно было доступно для
«немногих избранных»), то с «вочеловечиванием» Иисуса Христа,
которое, по мнению мыслителя, было предопределено еще до
сотворения мира», начинается принципиально новый этап истории
человечества, так как становится возможным «приведение воли
человека с действиями и мыслью Божией». В силу этого С.Н. Булгаков
понимает боговоплощение как «акт нового творения мира»1.
Появление в мире христианства придает истории смысл, но не
отменяет ее трагичности. Трагичность многолика: она проявляется
и в смертности человеческого тела, и в «пленении миром», и в
«покорности суете», в результате которой жизнь становится
«пустой и лишенной целесообразности». Развитие человечества — это
смена поколений, и в этом смысле оно «представляет собой,
конечно, некое пожирание детьми отцов», но именно «в чередовании
поколений возникает история как конкретное время»2. Исторический
процесс не сводится к простой смене одних индивидов другими,
человечество проявляется не только в отдельных лицах, но и как
семья, племя, народ, нация. Подобная «окачественность общества» с
особой остротой ставит вопрос «о материнском месте», то есть о
точке, определяющей принадлежность индивида к семье и нации.
Единство «места и времени» для индивида означает не только его
причастность «эмпирическому бытию», но и вместе с тем
принадлежность к определенной иерархической структуре. Иерархическая
структура общества понимается С.Н. Булгаковым не столько в
классовом структурировании, сколько в наборе индивидуальных
социальных ролей для каждого человека. На первый взгляд,
исторические судьбы индивидов, семей, народов «слагаются из
случайностей», но в действительности они могли возникнуть только в
определенном месте и в определенное время, так как «имеют свою
основу в сверхвременном бытии», то есть в Премудрости Божией.
Историческое время и историческая самобытность, связанные с
«материнским местом», неизбежно делают предметом
историософии рассмотрение судеб народов, своеобразия исторического пути
той или иной нации. С.Н. Булгаков признает, что развитие
общества определяется многими факторами: «стихийной
хозяйственностью», этнографическими особенностями народа, его
географическим положением, но главным среди них является религиозная
1 Булгаков С.Н. Агнец Божий. О Богочеловечестве. Ч. 1. С. 195.
2 Булгаков С.Н. Свет невечерний: Созерцание и умозрение. М., 1994. С. 301.
322
вера. Как бы ни был глубок разрыв между религиозным идеалом и
жизнью, все-таки основные черты национальной психологии,
духовный уклад, культурные традиции народа определяются религиозной
верой. Именно православная вера во многом предопределила
своеобразие русской истории, ее отличие от западноевропейского пути
развития.
Современное состояние европейской цивилизации приводит к
забвению того факта, что «западноевропейская культура имеет
религиозные корни». Наука доказывает, что многие черты
современного европейского человека «зародилась в Реформации», с
протестантизмом также связан динамизм хозяйственного роста и развитие
новейшей науки, особенно философии. Однако, наряду с
позитивными плодами Реформации, с самого ее начала обозначился и
главный ее негативный аспект. Она возвеличивала «натурального, не-
возрожденного человека», который все свои усилия
сосредоточивает на «приращении материальных благ» и на совершенствовании
«внешних форм жизни». Подобный духовный уклад в сфере религии
приводит «к скептицизму и атеизму», а в области философии — «к
позитивизму и материализму». Наконец, в мире морали — «к
утилитаризму и гедонизму». Итогом «разлагающих начал в духовной
жизни Запада» становится господство мещанства1. Рассмотрение
исторического развития так называемых «цивилизованных стран»
дает возможность С.Н. Булгакову сделать вывод о том, что
«социальный прогресс... может сопровождаться и самыми утонченными
формами зла духовного»2.
Анализируя своеобразие русской истории, мыслитель приходит
к выводу о ее противоречивом характере. Кстати, здесь он не
оригинален. Начиная с B.C. Соловьева, многие отечественные
философы подчеркивали «прерывистость и антиномичность» развития
России. С.Н. Булгаков отмечает в «исторической душе» русского
народа борьбу двух начал — «вековых религиозно-нравственных
устоев» и темных стихий, которых так много в русской истории,
«глубоко отравленной злой татарщиной и инстинктами
кочевников-завоевателей». Эти инстинкты приводят к анархизму, к
вольнице, наполнявшей «полки самозванцев». Отсюда — особо значимая
роль русской государственности, положившей «внешние границы»
этим разрушительным началам, но они «не были ею вполне
побеждены».
1 См.: Булгаков С.Н. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 312.
2 Булгаков С.Н. Свет невечерний. Созерцания и умозрения. С. 348.
323
Условия «места и времени» могут задерживать историческое
развитие, а могут его стимулировать. В этом плане, по мнению
мыслителя, особенно интересно в российском прошлом время
Сергия Радонежского.
На Руси в XIV в. господствует самая мрачная ее эпоха —
период татаро-монгольского ига, когда наступает время «умственного,
духовного одичания», а образованность «испытывает паралич». В
эту же историческую эпоху западный мир «переживает еще
небывалый подъем и напор творческих сил», высокого развития
достигает католическая богословская мысль, расцветают университеты.
Сравнение Руси и Запада было явно не в пользу нашего отечества.
Успехи католического мира делали взгляд на Россию еще более
«мрачным и тягостным». Однако интеллектуальный прогресс в
католицизме часто не сочетался с прогрессом духовным, и это
«трагическое противоречие» подготавливало «катастрофы
Реформации». Напротив, на Руси в это же самое время появляется
преподобный Сергий, который становится «воспитателем русского
народа, его пастухом и духовным вождем». В возрасте 23 лет Сергий
вместе со своим братом Стефаном сооружает деревянную церковь,
и «это был будущий Троицкий собор будущей Троице-Сергиевой
лавры». Булгаков отмечает, что «посвящение храма во имя св.
Троицы не может почитаться обычным и принятым на Руси до
преп. Сергия»1. Этот акт можно расценивать как «новшество и
дерзновение». С человеческой точки зрения он не совсем понятен,
ибо деревенский юноша выбирает не только важнейший догмат
христианства, но и «самый таинственный и трудный» для
постижения. Выходит вроде бы «вопиющая несообразность». Но это
противоречие преодолевается, если от «внешнего восприятия факта» мы
перейдем к «внутреннему его пониманию». Становится ясным, что
кроме «схоластически-спекулятивного постижения догмата»,
которое является следствием изучения теоретического богословия, есть
и путь «опытного веденья о пресвятой Троице», проявляющегося в
силу особой духовной одаренности того или иного человека. В связи
с этим мы приходим к парадоксальному — с точки зрения
рационального мышления — выводу о том, что все интеллектуальные
достижения западной культуры не дали даже «одного такого
сокровища, какое было послано Богом земле русской в преподобном
Сергие»2. Преподобный Сергий, узрев духовным зрением «собор-
Булгаков С.Н. Благодатные заветы преп. Сергия русскому богословствова-
нию//Путь. Кн. 1.С. 543.
2 Там же.
324
ность Троицы», сам совершил «подвиг соборности», жертвенно
живя для других. Возрождая монастырскую жизнь, «воцерковляя
народ русский», «собирая души православные в единство», он
положил начало «Сергиевской эпохе в истории русского духа и
творчества». «Сергиевская эпоха» при всем своем противоречивом
характере создала великую нацию и великую державу, более того,
«русская душа... избалована величием своей истории,
грандиозностью своего национально-исторического процесса»1.
Не вдаваясь в оценки тех или иных важных для нашего
отечества исторических событий, которых много в творчестве мыслителя,
отметим, что его постоянно волновал вопрос «Запад и Россия».
Уже в ранней своей работе «Душевная драма Герцена» С.Н.
Булгаков выделял возможность «троякого отношения» русских к
ценностям западной цивилизации2. Первое воззрение наиболее четко
было сформулировано П.Я. Чаадаевым, и «Чаадаевский привкус»
присутствует у современных западников — у одних явно, а у других
в скрытой форме. Суть этих взглядов состоит в том, что у русского
народа отрицаются «всякие культурные способности», а само его
существование рассматривается как «печальная ошибка природы».
Второе воззрение базируется на представлении о единстве
всемирной истории, и поэтому утверждается, что Россия «должна
повторить хотя и с индивидуальными, но не существенными
отклонениями» путь Запада. Наиболее последовательно эти взгляды
реализуются в «космополитическом марксизме», который акцентирует
внимание лишь на «классовых и имущественных различиях» как
людей, так и государств в целом. Наконец, третья позиция исходит
из того, что наряду с общими «материальными сторонами
культурной жизни» существуют самобытные, своеобразные черты
народного духа, которые должны реализоваться в истории. Согласно этим
взглядам нация, которая лишь «усваивала внешнюю культуру
других и на этом останавливалась», не может быть не только великой,
но и даже в подлинном смысле культурной. Булгаков убежден, что
каждый народ, не формально, а реально выходящий «на поприще
цивилизации, может сказать действительно новое слово,
восполнить пробелы существующего, быть творцом, а не учеником». Он,
безусловно, был убежден, что Россия способна и должна иметь
великую будущность, более того, для него «вера в творческие силы
своего народа» выступает критерием русскости, она «естественно и
необходимо существует у каждого русского».
1 Булгаков С.Н. Тихие думы. С. 364.
2 См.: Булгаков С.Н. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 120—121.
325
Эта вера сохранялась мыслителем и после трагического
перерыва в становлении «Сергиевской эпохи», связанного с
Октябрьской революцией. Революцию Булгаков, с одной стороны,
воспринимает как катастрофу, в результате которой «Россия изменила
своему призванию, стала его недостойна»1. С другой стороны,
революционные события — это как бы «негатив русского позитива».
Революция при «всех своих ужасах» не принимает «европейского
мещанства», которое омертвляет «богатство духовной жизни»,
превращая людей «в самодовольных, сытых, счастливых эгоистов».
Русский большевизм тем и привлекателен для народа, что он «ведь
тоже хочет православного царства, только по социалистическому
вероисповеданию»2. В этой связи становятся понятны и гонения на
православие, ибо революционеры не могут рядом со своей
«высшей религией» терпеть другие, так как это оскорбляет их
«социалистическое благочестие». При этом революцию сделали не только
большевики, но она была «совершена помимо всяких
революционеров самим царем»3. Альтернативой революции выступал идущий
от славянофильства культурный консерватизм, опирающийся на
«почвенность и верность преданию», но он, отрицая нигилизм, не
был преодолением данного течения. Его истина заключалась в
этернизации прошедшего, и поэтому консерваторы «жили
прошлым, если только не в прошлом». Самого же мыслителя
привлекало будущее как «новое рождение», к нему «рвалась и рвется, его
знает душа», и отсюда созвучие с революционным настроением
русского большевизма. С.Н. Булгаков так пишет об этом:
«Отрицая всеми силами души революционность как мировоззрение и
программу, я остаюсь и, вероятно, навсегда останусь
"революционером" в смысле мироощущения»4.
Трагедия русской революции, как мы уже отмечали, не
поколебала веру мыслителя в великую будущность России. В свете своих
историософских взглядов, постигая «важные главы и темы»
истории, он приходит к выводу, что среди них есть две важнейшие.
«Россия — родина и судьбы Израиля». Жизнь этих народов, то
есть русских и евреев, полна страшных и роковых страниц, но
каждая из них «по-своему знаменует их исключительное значение... в
1 Булгаков С.Н. На пиру богов. Pro et contra. Современные диалоги//Вехи. Из
глубины. М., 1991. С. 294.
2 Там же. С. 309.
3 Булгаков С.Н. Тихие думы. С. 332.
4 Там же. С. 344.
326
жизни всего человечества», в них видится «средоточие всего
совершающегося в мире»1.
Итак, Россия призвана сказать решающее слово в мировой
истории. Не «благополучный и самодовольный Запад», а мятущийся
русский дух «прозревает будущее».
С. Булгаков и русское православное богословие
Историософия С. Булгакова опирается на понимание человека
как активного «соработника» Бога в осуществлении
провиденциальных замыслов. Наиболее полно совпадение «эмпирического и
трансцендентного» происходит в церкви, которую русский
мыслитель понимает как проявление софийного начала. Сам философ
считал, что уже в детстве он определился как «чтитель
Софии-Премудрости Божией» и хотя этот образ был затем «заслонен
житейской суетой», но именно София предопределила его
эволюцию к церковности, к принятию священнического сана. Почитание
Софии стало характерной чертой русского православия, однако
наши предки богословствовали о Премудрости Божией «не словом,
но делом, созидая храмы, устанавливая службы, сроднясь сердцем с
непостигнутым еще в разуме»2. По мере развития соборного
сознания все более отчетливой становится потребность философско-бо-
гословской разработки софийной проблематики. С. Булгаков
сознавал, что эти вопросы «вызывают бурю противоречий и споров», в
то же время он считал своей обязанностью «работать над ними».
Следование этой теме он связывал не только «с драгоценным
даром свободы и безмерного дерзновения, но и со страшною
ответственностью за употребление этого дара»3. В своей фундаментальной
итоговой работе «О Богочеловечестве», состоящей из трех томов:
«Агнец Божий» (1933), «Утешитель» (1936), «Невеста Агнца»
(1945) — Булгаков отходит от ряда традиционных православных
установок в вопросах о Боговоплощении, о взаимоотношении Бога
и человека, Бога и всего тварного мира и др. При этом, по его
мнению, ключом к правильному пониманию этих проблем, а
значит, и главной идеи христианства — идеи богочеловечества —
служит софиология. Именно софийность является общим началом
как мира божественного, то есть «божественной природы Христа,
1 Булгаков С.Н. Тихие думы. С. 419.
2 Булгаков С.Н. Благоприятные заветы преп. Сергия русскому богословствова-
нию//Путь. Кн. 1. С. 552.
3 Булгаков С.Н. Очерки учения о церкви//Путь. Кн. 1. С. 184.
327
так и мира тварного, то есть его человеческой природы». Эта
единая основа делает возможным движение навстречу друг к другу
«Бога и твари», причем активность в этом процессе принадлежит
обоим началам.
Стремление к творческому преображению через церковь всей
«исторической жизнедеятельности» приводит С.Н. Булгакова в
1923 г. к воссозданию братства Святой Софии1. В уставе братства
особо подчеркивается, что его главная задача состоит «в
обращении на служение православной Церкви преимущественно мирян-
ских культурных сил». Достижение этой цели предполагает, в
частности, «объединение и организацию их труда на ниве церковно-об-
щественной». В это братство входили ведущие религиозные
мыслители русского зарубежья, такие как H.A. Бердяев, В.В. Зеньковский,
A.B. Карташев, Н.О. Лосский, Г.В. Флоровский и др.
Однако ряд положений софиологии, защищаемых С.Н.
Булгаковым, вызвал негативную реакцию богословско-церковных кругов.
Наиболее критично воспринимались идеи о том, что боговоплоще-
ние есть акт «нового творения мира», которое включено «в
предвечный совет Божий о мире», о том, что Христос — это
«предвечный человек», понимание истории как процесса «тварного
становления Софии». Особенно непримиримую позицию заняли
митрополит Сергий (Страгородский), архиепископ Серафим (Соболев) и
известный православный богослов В.Н. Лосский. Первое
официальное осуждение позиции С.Н. Булгакова содержится в
«Послании архиерейского синода Русской Православной Церкви за
границей от 18 (31) марта 1927 года». В этом документе софиология
характеризуется как учение, которое «совершенно чуждо и
Апостольскому преданию, и древле-святоотеческому учению»2. Но на этой
характеристике архиерейский синод не остановился, в своем
Определении от 17 (30) октября он характеризует софиологию как
«еретическое учение».
Митрополит Сергий также выступил со специальным Указом от
11 (24) августа 1935 г., осуждающим софиологические искания
мыслителя. С его точки зрения, Булгаков претендует на то, чтобы
сделать дальнейший шаг в развитии христианского учения
«сравнительно с так называемой школьной догматикой». Однако, хотя он и
оперирует терминами и понятиями, обычными в православной
догматике, его учение не может быть названо церковным. Более того,
1 См.: Исследования по истории русской мысли. Ежегодник за 1997. СПб., 1997.
С. 99—133.
2 Там же. С. 119.
328
богословская система Булгакова «настолько самостоятельна, что
может или заменить учение церкви, или уступить ему, но слиться с
ним не может»1. Как известно, Булгаков написал специальную
«Докладную записку митрополиту Евлогию» по поводу этого Указа.
В ней он заявляет, что отнюдь не считает свою «систему
непогрешимой, она нуждается в обсуждении». Но вместо этого последовал
резкий акт осуждения, который «не соответствует духу
православной соборности и носит характер католического притязания на
иерархическую непогрешительность». Даже Н.О. Лосский,
поддерживающий своего сына Владимира в полемике с Булгаковым,
вынужден был признать, что, «поторопившись с указом, митрополит
Сергий совершил ошибку»2. К тому же глава Русской православной
церкви не был лично знаком с софиологическими работами
мыслителя, вся информация основывалась на очерке учения,
составленном А. Ставровским, и отзыве В. Лосского. Последний также
выступил со специальной работой, критикующей оправдательную
«Докладную записку» Булгакова и обосновывающей правомерность
действий митрополита Сергия. При этом В. Лосский не был
консерватором, для него также характерно стремление к
богословскому творчеству, но софиология воспринимается им как разрыв с
православной традицией, как «ослепление ума». Эта позиция
грешит излишней категоричностью, полемичность преобладает над
содержательным анализом взглядов С.Н. Булгакова.
Однако по мере развития церковного сознания, в ходе
становления новых богословских тем отношение представителей
официальной церкви к взглядам С. Булгакова изменяется.
Уже в 60-е годы нашего века в церковной печати имя С.
Булгакова начинает упоминаться не только в отрицательном, но и в
положительном контексте. Многовариантность оценок творчества
о. Сергия сохраняется и в настоящее время. В статье, посвященной
памяти В.Н. Лосского, архиепископ Брюссельский и Бельгийский
Василий (Кривошеий) подчеркивает его правоту в споре с
Булгаковым: В. Лосский свои православные идеи противопоставлял
«расплывчатости и путанице "софиологических" течений русской
религиозной философии»3.
1 Указ Московской патриархии преосвященному митрополиту Литовскому и Ви-
ленскому Елеферию//Лосский В.Н. Спор о Софии. Статьи разных лет. Приложение.
С. 80.
2 Лосский Н.О. Воспоминания. Жизнь и философский путь. СПб., 1994. С. 292.
3 Василий (Кривошеий), архиепископ. Памяти Владимира Лосского//Богослов-
ские труды. Сб. 26. М., 1985. С. 157.
329
Но в Московской духовной академии в 1979 году состоялась
защита кандидатского сочинения П. Игумнова на тему «Богословские
воззрения протоиерея Сергия Булгакова». Эта работа получила
положительные отзывы со стороны представителей профессорской
корпорации академии, а ее автор был оставлен в ней работать
преподавателем. Более того, через десять лет после этой защиты в
Журнале Московской патриархии публикуется глава из названной
диссертации. За эти десять лет молодой богослов П. Игумнов
принимает монашество, становится архимандритом Платоном,
профессором Московской духовной академии. Согласно его взглядам,
острота софиологических споров проистекала во многом из-за того,
что «митрополит Сергий не имел возможности полностью изучить
сочинения протоиерея Сергия, был знаком с ними только по
выпискам». Если же оценивать взгляды Булгакова в целом, то они
не только «не предосудительны, но и похвальны» в той части,
которая углубляет процесс развития «подлинно богословского
сознания». Более того, взгляды митрополита Сергия и В. Лосского, с
одной стороны, и концепция С. Булгакова, с другой, «содержат
общую принципиальную православную точку зрения». Иными
словами, и то и другое мнение не противоречит соборному
сознанию церкви, столкновения происходят из-за «уклонения в
крайности». Поэтому и «знаменитый спор о Софии», исходя из этих
установок, «имел объективное положительное значение». Да, в
богословском творчестве протоиерея Сергия преобладает «динамика
поиска, новизна проблематики», в связи с этим в его интуициях
встречаются недостаточно богословски оформленные положения.
По мнению современного идеолога православия, задача богословия
состоит «не только в том, чтобы выявлять ошибки и заблуждения в
воззрениях своих предшественников, но и в том, чтобы уметь
находить в их творчестве все лучшее, объективно ценное для
богословской науки»1.
В магистерской диссертации митрополита Владимира (Сабода-
на) также много внимания уделено творчеству С.Н. Булгакова2. Он
характеризуется как выразитель «новых дерзновенных вопрошаний
и чаяний, пастырской тревоги и ответственности за судьбы
христианского мира». В анализируемой работе особый акцент при оценке
взглядов мыслителя делается на том, что несмотря на «дух свобо-
Игумнов П. Христология. Опыт раскрытия онтологического смысла Боговопло-
щения в богословии протоиерея Сергия Булгакова//Журнал Московской патриархии.
1989. № 10. С. 70.
2 См.: Владимир (Сабодан), митрополит. Экклезиология в отечественном
богословии. С. 356—409.
330
ды», который иногда брал верх над традицией, о. Сергий
принадлежит «многоликому единому православному миру». Даже самые
спорные части богословского наследия мыслителя, к которым
относятся софиология и экклезиология, не могут рассматриваться как
еретические, ибо относятся к теологуменам, то есть частным
богословским мнениям. Митрополит Владимир подчеркивает, что во
взглядах С. Булгакова, хотя и непривычно, но все же «зазвучал
голос вечно живого Предания». Церковный иерарх считает, что тео-
логумены вполне допустимы, ибо относятся к нерешенным доктри-
нальным проблемам и не затрагивают принятых вселенским
православием догматов. В целом же его диссертация обосновывает
вывод, что невозможно «представить современное свидетельство о
православии без о. Сергия Булгакова».
В этом же духе выдержан и обширный материал,
подготовленный монахиней Еленой, посвященный творческому пути о. Сергия,
к сорокапятилетию со дня его кончины. В официальном журнале
Московской патриархии публикуется интеллектуальная биография
С. Булгакова, составленная дьяконом А. Мумриковым. Последний
особо подчеркивает связь мыслителя с Русской православной
церковью. Вообще религиозная и богословская проблематика, по
мнению современного богослова, доминировала в творчестве
Булгакова не случайно: из более чем четырехсот работ большая часть
«носит богословский характер». При этом уровень богословствования
о. Сергия квалифицируется как высшее проявление православной
мысли. Например, его известный труд «Свет невечерний»
оценивается следующим образом: «Эта книга (вместе со «Столпом и
утверждением Истины» отца Павла Флоренского) считалась самым
значительным трудом русской религиозной философии»1. Отмечается
особая роль мыслителя в выполнении «миссии свидетельства
святой православной веры» в среде западного христианства. В целом
он характеризуется как «замечательный русский философ и
богослов». В этом же журнале предпринята публикация обширной
главы из книги С. Булгакова «Православие. Очерки учения
православной церкви», которая посвящена рассмотрению экклезиологи-
ческих проблем2. А ведь еще недавно именно экклезиология отца
Сергия, тесно связанная с его учением о Софии, была одним из
главных объектов консервативной богословской критики.
Мумриков А. «Ты, Свет Невечерний, нас осияй». К 45-летию со дня кончины
протоиерея Сергия Булгакова//Журнал Московской патриархии. 1989. № 10. С. 70.
2 См.: Журнал Московской патриархии. 1989. № 1. С. 71—74; № 12. С. 67—73;
1990, № 1.С. 79—73.
331
Примечательным фактом является также появление статьи
дьякона Г. Зяблицева «Богословие протоиерея Сергия Булгакова и
античная философия». Ее автор соглашается с тем, что софиологиче-
ские рассуждения Булгакова нарушают традиции православного бо-
гословствования и поэтому «их суровую оценку в "Указе
Московской патриархии"... следует признать заслуженной». Однако
богословское наследие мыслителя, с его точки зрения, «софиологией
далеко не исчерпывается». Непреходящее значение взглядов о.
Сергия заключается в том, что он «дерзновенно поставил
неразрешенные богословские проблемы» и «своими вопрошениями»
стимулировал развитие православной мысли1. Эта же идея подчеркивается
и в журнале «Путь православия», в котором позитивно
характеризуется «уникальное, монументальное творчество Сергея
Булгакова». Более того, в этом печатном органе Отдела религиозного
образования и катехизации Московского патриархата взгляды
мыслителя оцениваются как «самый зрелый и законченный плод русской
софиологии», вызвавший «горячую полемику». Осуждение этого
раздела богословствования Булгакова отсутствует, напротив, с
симпатией говорится о позиции Н. Бердяева, посчитавшего
«необходимым защитить свободу богословского мнения о. Сергия»2.
Наконец, «Журнал Московской патриархии» включил проповедь С.
Булгакова, посвященную одному из самых почитаемых святых, в
«Венок преподобному Сергию» . Подобные примеры можно было бы и
продолжить.
Итак, и в недалекой истории, и в современных условиях
историософия С.Н. Булгакова, как и все его творчество, оценивается
представителями различных церковных кругов неоднозначно.
Консерваторы настаивают на том, что взгляды мыслителя составляют
«опасную ересь», ведущую к размыванию тринитарного догмата и к
появлению «четвертой ипостаси», место которой занимает София.
Они считают, что о. Сергий в своих сочинениях «вопреки
святоотеческой традиции православного богословия стал
продолжателем модернистских взглядов и идей Вл. Соловьева». Поэтому
закономерно, что учение С. Булгакова «осуждено православными
богословами и признано еретическим»4.
См.: Зяблицев Г. Богословие протоиерея Сергия Булгакова и античная филосо-
фия//Журнал Московской патриархии, 1992. № 7. С. 57.
2 Жернакова Н. H.A. Бердяев и значение религиозно-философского журнала
«Путь»//Путь православия. 1993. № 2. С. 113.
3 См.: Журнал Московской патриархии, 1992. № 7. С. 2—3.
4 Современное обновленчество — протестантизм «восточного обряда». С. 7.
332
Напротив, модернисты относят к «особым заслугам» С.Н.
Булгакова то, что он вместе с другими софиологами «вдохнул жизнь» в
догматические определения, «выведя их из векового плена
школьного богословия на простор богословской актуальности»1. Сама же
полемика объясняется или слепой приверженностью ряда иерархов
школьному богословию, или «банальной политической
конъюнктурой», а ее предмет даже «не стоит написания кандидатской
диссертации»2. Такой подход страдает явным упрощением сложных
богословских тем и не может быть назван плодотворным.
На наш взгляд, наиболее адекватно церковную точку зрения на
идейное наследие С.Н. Булгакова выражают богословы-новаторы.
Избегая крайностей консерватизма и модернизма, они, с одной
стороны, подчеркивают, что идеи о. Сергия «во многом относятся к
области богословских мнений (теологуменов)», возможность
которых признается православным преданием при условии, что они не
могут претендовать «на церковную всеобщность и обязательность».
С другой стороны, отмечается, что учение мыслителя
способствовало «пробуждению углубленного богословского интереса к
нерешенным доктринальным проблемам и вызвало плодотворные споры»3.
Мы согласны с тем, что в целом творчество о. Сергия,
включающее и его экклезиологические и историософские взгляды,
вписывается в соборное сознание церкви, хотя в отдельных случаях
оно и выходило за рамки ортодоксальных взглядов.
1 Иннокентий (Павлов), игумен. Вместо предисловия//Булгаков С.Н. Агнец
Божий. О Богочеловечестве. Ч. 1. С. 11.
2 Там же. С. 12.
3 Владимир (Сабодан), митрополит. Экклезиология в отечественном
богословии. С. 357.
Глава 11
П.А. ФЛОРЕНСКИЙ
Становление взглядов
В начале XX века в интеллектуальной жизни России происходят
заметные изменения. Часть интеллигенции выступает с программой
пересмотра традиционных ценностей образованного общества и
прежде всего против позитивистского мировоззрения. Появляется
течение, получившее название «нового религиозного сознания»,
очень неоднородное по своему отношению к православию, но
солидарное в поисках «религиозного идеала», призванного
преобразовать как индивидуальную, так и социальную жизнь.
В 1901 —1903 годах «дозволяется» деятельность
религиозно-философских собраний, обсуждающих проблематику
христианства и общества, роли церкви в социальной сфере, соотношения
разума и веры и т. д. Впервые, как отмечает 3. Гиппиус, происходит
«встреча» представителей исторической церкви, то есть русского
православия, с религиозно настроенной интеллигенцией. На
протяжении долгого периода, особенно со второй половины XIX века, это
были «два разных мира», и вот у интеллектуалов и богословов
начинается «настоящее знакомство», происходит «некое сближение
двух разных миров»1. Об этом же писал H.A. Бердяев, вспоминая
тот большой интерес, который он проявлял к
религиозно-философским собраниям, так как они «были замечательны как первая
встреча представителей русской культуры и литературы,
заболевшей религиозным беспокойством, с представителями
традиционно-православной церковной иерархии»2. У
религиозно-философских собраний появляется свой печатный орган, журнал «Новый
путь», публикующий материалы, призванные стимулировать
«религиозное возрождение». Вокруг этого печатного органа
группировалась религиозно настроенная интеллигенция, в ее среду входил и
П.А. Флоренский, не принимавший, однако, антицерковных идей
этого кружка.
После окончания в 1904 году университета у Павла
Александровича была возможность остаться при университете, посвятив
себя «любимой математике», но он выбрал путь «православия и
1 Гиппиус З.Н. Воспоминания о религиозно-философских собраниях//Наше
наследие. 1990. №4. С. 68.
2 Бердяев H.A. Самопознание. М, 1990. С. 133.
334
именно церковности», поступив в Московскую духовную академию.
Годы учебы в академии совпали по времени с первой русской
революцией. Флоренский не разделял взглядов социал-демократов,
находясь на позициях монархизма. Но это ему не помешало проявить
гражданское мужество и выступить в 1906 г. в храме Московской
академии с проповедью «Вопль крови». В ней резко осуждается
самодержавие, господствующие классы, которые под видом «умире-
ния» крестьян и рабочих расстреливают «людей, не имущих куска
хлеба», и это делают живущие «за счет их трудов». В 1911 году
доцент Московской духовной академии становится священником, к
этому сану он всегда относился трепетно, видя в нем особое
призвание, особое служение людям. Признанием авторитета
Флоренского явилось назначение его на должность редактора одного из
лучших духовных журналов — «Богословского вестника». Он
активно работает над магистерской диссертацией «О духовной
истине» и после ее защиты и утверждения в 1914 г. в звании магистра
получает должность экстраординарного профессора в Московской
духовной академии. В этом же году в полном объеме публикуется
самый известный труд богослова «Столп и утверждение Истины»,
ранее выходили фрагменты этого фундаментального исследования
как материалы магистерской диссертации. Это произведение
получило неоднозначную оценку и в церкви, и в
религиозно-философских кругах. Профессор Московской духовной академии М.М. Таре-
ев отмечал, что эта книга «не имеет ни одной черты христианской
философии: это не что иное, как спиритическая философия»1.
Такие известные православные богословы, как Г.В. Флоровский и
В.В. Зеньковский, также в целом относились к работе Флоренского
скорее отрицательно, чем положительно. Для первого Флоренский
остается «чужд православному миру» в силу своей увлеченности
платонизмом, а для второго он хотя и «хочет быть верным
традиции», но при «церковности формы содержание у него бесспорно
часто слагалось вовсе не из того, что хранит в себе церковь»2.
Отрицательно о «Столпе и утверждении Истины» отозвался в своей
публикации «Стилизованное православие» H.A. Бердяев. В одной
из своих последних работ «Самопознание» он опять возвращается
к оценке этой книги. По его мнению, в ней «чувствовалась
меланхолия осени, падающих осенних листьев... Чувствовалась при
большой одаренности большая слабость, бессильная борьба с
сомнением, искусственная и стилизованная защита консервативного право-
1 Богословский вестник. 1917. Август — Сентябрь. С. 214.
2 Зеньковский В.В. История русской философии. Т. 2. Ч. 2. С. 188.
335
славия, лиризм, парализующий энергию, преобладание стихии
религиозного мления»1.
Мы думаем, критичный настрой названных выше мыслителей
объясняется их субъективной позицией, которая не отражает
подлинной роли П. Флоренского в развитии православного
богословия. Действительно, для Бердяева, как уже отмечалось, само
понятие «церковный авторитет» представляется «философски
нелепым». Поэтому он не может принять позицию, в которой именно
церковность выступает высшим критерием истины. М. Тареев,
B. Зеньковский и Г. Флоровский претендовали на создание
собственных оригинальных богословско-философских систем.
Естественно, поэтому концепциям, не вписывающимся в их построения, они
давали отрицательные характеристики.
Но были и позитивные оценки «Столпа и утверждения
Истины»: в частности, ректор Московской духовной академии епископ
Феодор (Поздеевский) написал специальную работу «О духовной
истине», посвященную пропаганде «от начала до конца
православной» книги «отца Павла». Рецензент замечал, что эту работу
«будут читать с интересом и люди богословски образованные, и
философствующие, и просто интеллигентные»2. Для того чтобы
подтвердить справедливость этого вывода, приведем только два примера. В
1916 году, в период тяжелых военных испытаний, поэт Н. Гумилев
пишет с фронта: «У меня «Столп и утверждение Истины»3. Книга
вызывает у него глубокие впечатления и переживания. Известный
русский философ Н.О. Лосский вспоминал, что именно знакомство
с трудом Флоренского способствовало его «постепенному
возвращению в лоно Церкви»4. Признанием заслуг Флоренского перед
богословской наукой явилось присуждение ему Советом
Московской академии за магистерскую диссертацию сразу двух премий:
имени митрополита Филарета (Дроздова) и имени митрополита Ма-
кария (Булгакова). Этим актом подчеркивалась также и православ-
ность позиции богослова, церковность его взглядов.
Замыслы П.А. Флоренского были очень обширны и
разнообразны. Достаточно сказать, что в договоре, заключенном в 1918 году,
на издание полного собрания его сочинений предполагалась
публикация девятнадцати томов.
1 Бердяев H.A. Самопознание. С. 150.
2 Феодор (Поздеевский), епископ. О духовной истине. Сергиев-Посад, 1914.
C. 44.
3 Гумилев Н.С. Письма о русской поэзии. М., 1990. С. 357.
4 Лосский Н.О. История русской философии. С. 230.
336
После Октябрьской революции Флоренский так формулирует
свою позицию: с одной стороны, «развиваемое мною
научно-философское миропонимание не совпадает с вульгарным толкованием
коммунизма», но с другой — за время республики «старался
добросовестно делать на государственной службе свое дело»1. Мы
думаем, под «вульгарным толкованием коммунизма» имеются в виду
прежде всего следующие моменты: стремление к изобилию
материальных благ, распределяемых на основе уравнительного принципа;
игнорирование духовных ценностей и традиций как главной сферы
человеческой жизни; наконец, тоталитаризм, отвергающий права
человека, в том числе и право на религиозную веру.
Активность Павла Александровича в годы советской власти
поражает своим размахом. Он работает в комиссии по охране
памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры. Этот
монастырь был ему очень дорог, не случайно он долгое время жил с
семьей недалеко от него. При этом Флоренский ставил задачу не
только сохранения лавры как религиозного центра и исторического
памятника, но и предлагал на ее основе создать целый ряд научных
и учебных заведений, способствующих развитию национальной
культуры.
П.А. Флоренский занимается научно-исследовательской
работой в системе Главэлектро ВСНХ, преподает во ВХУТЕМАСе,
пишет фундаментальный труд «Диэлектрики и их техническое
применение». Много времени занимает редактирование «Технической
энциклопедии» и написание более ста статей для нее.
В 1933 году П.А. Флоренский был арестован, необоснованно
осужден на десять лет и отправлен в восточносибирский лагерь
«Свободный». Но и здесь он не бросает научной работы,
занимается проблемами мерзлоты, а после перевода на Соловецкие острова
конструирует оборудование для переработки морских водорослей.
В 1937 году обрывается всякая связь Флоренского с внешним
миром, и только недавно мы узнали, что он погиб в это время.
Московский городской суд в 1958 году полностью реабилитировал
нашего выдающегося соотечественника.
Личность П.А. Флоренского, на первый взгляд, состоит из
противоречивых устремлений, не связанных между собой ориентацией.
Действительно, энциклопедическая ученость и убежденная
православная вера, стремление сакрализовать культуру и выдающийся
вклад в развитие светского знания, монархические убеждения и
решительное осуждение насилия со стороны господствующих классов,
1 Литературная газета. 1989. 5 июня.
22-6016
337
неприятие идеалов социалистической революции и активное
сотрудничество с новой властью, бескомпромиссное отстаивание
своих убеждений и христианское смирение. Но все эти противоречия
удивительным образом в сознании и поведении Павла
Александровича сливались в гармоничное единство. Известный русский
философ С.Н. Булгаков сравнивал образ Флоренского с произведением
искусства, так органичен, целостен и устойчив он был. Учение
A.C. Хомякова и его сторонников о соборности как «единстве во
множестве» нашло во Флоренском реальное воплощение,
идеальные черты в его образе стали наглядно конкретными. Наконец,
надо отметить особое отношение Флоренского к России. Очень
хорошо об этом сказал его друг С.Н. Булгаков: «Отцу Павлу было
органически свойственно чувство родины». Поэтому он не выехал
за границу, где его ждала блестящая научная карьера. Жизнь как
бы предложила Павлу Александровичу «выбор между Соловками и
Парижем, но он избрал... родину, хотя то были и Соловки, он
восхотел до конца разделить судьбу со своим народом»1. Среди
идейных источников, оказавших влияние на формирование взглядов
П. Флоренского, можно отметить философию Платона,
неоплатонизм, то есть своеобразный тип развития античной философии,
начавшийся в III в. новой эры и сосредоточивший свое внимание на
проблемах богопознания, взаимодействия единого бога и
множественного мира. Существенное значение для мировоззрения русского
богослова имело учение исихазма. Сам этот термин произошел от
греческого слова, обозначающего отрешенность, покой, безмолвие.
Исихазмом стали называть общественно-политическое и
богословское движение, возникшее в Византии в XIV веке. Ведущим
идеологом этого течения выступил Григорий Палама (1296—1359). Он
различал недоступную божественную сущность и божественные
энергии, которые могут воспринимать преображенные религиозной
верой люди. Для этого «преображения» необходимы «аскетические
подвиги», «молитвенное усердие», «духовная сосредоточенность»,
«мистические озарения» и т. д. Приобщенный к божественным
энергиям человек становится святым, то есть «светоносным». Этот
«свет» изменяет даже внешний облик индивида, а его поведение
становится «синергичным» богу, то есть божественная и
человеческая энергии совпадают.
Развитие взглядов П. Флоренского происходило и под влиянием
русской философской традиции. Прежде всего следует назвать ду-
1 Булгаков С.Н. Священник Павел Флоренский//Философская и
социологическая мысль. 1990. № 4. С. 107.
338
ховно-академическую философию, представленную профессорами
Московской духовной академии Ф.А. Голубинским и В.Д.
Кудрявцевым-Платоновым, а также славянофилов и B.C. Соловьева.
Ф.А. Голубинский и В.Д. Кудрявцев-Платонов рассматривали
окружающий мир как божественное творение, изучая которое мы
познаем и творца. Поэтому знание, в том числе и философское,
понимается в виде «опосредованного откровения», приводящего
разум к Богу. Эта мысль близка философским интуициям
Флоренского.
Со славянофилами богослова сближало прежде всего особое
отношение к православию как основе национального самосознания.
Он солидарен с A.C. Хомяковым и другими в том, что «все русское
у нас затирается», и относит себя к направлению, стремящемуся «к
церковности и к самобытности народной»1. Мыслитель принимает
тезис славянофилов о недоступности религиозных истин
рассудочному анализу, ибо «православие показуется, но не доказуется».
Близко ему славянофильское стремление преобразовать русскую
жизнь на православных началах. Не случайно в книге «Столп и
утверждение Истины» он пишет, что «читатель, вероятно, не
преминет заметить значительного сродства теоретических идей
славянофильства с идеями предлагаемой книги»2. Однако П.А. Флоренский
даже славянофилов упрекал за «гегелевскую заразу», то есть за
рационалистические тенденции в их философских построениях.
Идейное наследие В. Соловьева, как уже подчеркивалось, было
в центре внимания философских исканий в России в начале XX века.
Оказало оно определенно влияние и на становление богослов-
ско-философских взглядов П.А. Флоренского. Богослов принимает
соловьевскую идею о «всеединстве», то есть мысль о том, что
«божественное начало не есть только единое, но и все не есть только
индивидуальное, но и всеобъемлющее существо». Но если В.
Соловьев пытается в своей философской системе синтезировать
теологию и философию, снять оппозицию между верой и разумом, то
для Флоренского такая позиция неприемлема. С его точки зрения
компромиссы между религиозным и светским в конечном итоге
вредят православию, поэтому он заявляет, что выступает «против
примирительной философии В. Соловьева»3.
1 Переписка П.А. Флоренского и В.А. Кожевникова//Вопросы философии. 1991.
№ 6. С. 47.
2 Флоренский ПА. Столп и утверждение Истины. С. 608.
3 Там же. С. 612.
22*
339
В истории философии, по мнению русского богослова, можно
выделить две главные школы, два основных подхода к истине.
Первый — это «вещная философия» Западной Европы, второй — это
«духовная философия», формирующаяся на основе православия.
Интересно отметить, что Павел Александрович относил идейное
наследие В. Соловьева к «вещной философии», а взгляды
славянофилов — к духовно-философской традиции, которую он стремился
продолжить.
Гносеологические темы
в богословско-философском творчестве
В среде церковного богословия взгляды П. Флоренского были
достаточно оригинальны. В традиционном русском православии
существовали два богословских течения: первое пыталось доказать
неподсудность религии человеческому интеллекту и обосновать
иррациональные пути постижения божественных истин; второе
стремилось с помощью рациональных построений убедить, что истины
религии не противоречат положениям разума. При этом система
«доказательств» и в первой, и во второй концепции по существу
была одинакова. Аргументы черпались из Священного Писания и
святоотеческих творений, но мистики находили в этих
произведениях места, осуждающие человеческий разум, а сторонники
рационализма, напротив, ссылались на тезисы, позитивно оценивающие
интеллект как «инструмент богопознания».
Флоренский, безусловно, принадлежит к сторонникам
иррационализма, однако он понимал, что традиционная «хула разума» уже
мало кого убеждает в истинности религиозных положений. В своем
вступительном слове перед защитой магистерской диссертации он
признает необходимость для человека «разумом своим испытать
Бога». Это «испытание» мыслится как «поражение» человеческого
интеллекта «перед запредельным». Но обосновать подобный вывод
богослов стремится при помощи философии, естественных и
гуманитарных паук. Иными словами, он хочет опровергнуть истины
рационализма при помощи аргументов того же разума. Выступая с
программой создания всеобъемлющей теологической системы,
богослов ищет во всех слоях бытии «Христов образ», ибо ни одно
природное, социальное и любое другое явление не может занимать
позицию «нейтралитета в отношении Бога»1. Отсюда такое внима-
1 Флоренский П.А. Христианство и культура//Журиал Московской патриархии.
1983. №4. С. 54.
340
ние к различным сферам деятельности человека, поистине
энциклопедическая образованность.
Схоластическое богословие, как считал Флоренский,
стремилось при помощи теории двойственной истины разделить научные и
религиозные положения, такая программа — своего рода
«поминки по христианству». С его точки зрения никакой плюрализм при
определении истины недопустим, и в силу этого философские,
научные, искусствоведческие изыскания не только не противоречат
религии, но и сами дают материал, подтверждающий правильность
религиозных положений. Поэтому он даже православное
понимание догматов считал уместным сравнивать с математическими
построениями «так называемых иррациональных чисел». Более того,
для него сами по себе, вне связи с «христоцентрической
устремленностью» философия, наука, искусство не могут быть «признаваемы
самодовлеющими сущностями», они имеют значение лишь
постольку, поскольку их можно преобразовать в христианском духе, то есть
сделать «духоносными».
В своих основных работах: «Смысл идеализма», «Пределы
гносеологии», «Столп и утверждение Истины» — Флоренский решает
прежде всего гносеологические проблемы, стремясь ответить на
вопрос: «Как возможно истинное познание?» В результате
правильного понимания природы знания человек должен «сделаться
мудрым, ибо для такового не злоба дня распростирается на
вечность, а вечность смотрит из глубины злобы дня»1.
Анализируя специфику развития философии, П. Флоренский
приходит к выводу, что в XIX веке она сосредоточивала внимание
на «критике знания», в XX веке, чтобы продвинуться вперед,
необходимо производить «критику методов знания». Отсюда такое
внимание к гносеологии Канта, из которой вышло большинство
методологических установок европейской философии. В 1909 г.
появляется работа П. Флоренского «Космологические антиномии И.
Канта», много места критическому анализу идей немецкого мыслителя
отводится и в других его трудах. Особенно концентрированно
отношение богослова к Канту выражено в лекции «Культ и
философия», прочитанной в первой половине 1918 г. в Москве и
опубликованной только в 1977 г. Флоренский считал, что «нет системы
более уклончиво скользкой, более "лицемерной" и более
"лукавой", нежели философия Канта»2. Ибо этот мыслитель пытался до-
1 Флоренский ПА. Пределы гносеологии//Богословский вестник. 1913. Январь —
Апрель. С. 174.
2 Флоренский ПА. Из богословского наследия//Богословские труды. Сб. № 17.
М., 1977. С. 122.
341
казать, «будто познание возможно вне и помимо Бога». Суть его
философии богослов определяет как проповедь «автономии»,
согласно которой не высшее существо, а индивид рассматривается
как «безусловный центр мироздания». Отсюда, с точки зрения
мыслителя, перед философией «богоцентризма» встает трудная
задача — преодоление кантовского «эгоцентризма».
Негативно относясь к основным принципам философии Канта,
богослов в то же время подчеркивал, что в отдельных, частных
вопросах он дает правильные указания и при их решении имеет
«несомненные заслуги». Речь, прежде всего, идет о кантовском учении
об антиномиях. Антиномиями философии называются противоречия
между суждениями, которые одинаково доказуемы. Иными словами,
оба суждения имеют равные права на существование, хотя они
утверждают противоположные тезисы. Как известно, немецкий
философ считал, что неизбежные противоречия появляются в
человеческом разуме вследствие того, что понятия абсолютного,
бесконечного, применимые лишь к миру «вещей в себе», используются в
«мире явлений», в котором все конечно и относительно. Русский
мыслитель стремился учение об антиномиях применить к оценке
религиозной сферы жизни человека и процесса познания.
Соглашаясь, что рассудочная вера — «крамола против Бога»,
богослов в то же время осознавал опасность иррационализма «для
идеи церковности». Он отмечал, что ложный мистицизм может
привести к «имманентизму», выводящему религию лишь из своих
внутренних ощущений. Поэтому для него главной задачей
христианской философии, с одной стороны, выступает обоснование значения
для церковной жизни «духовного творчества», «мистического
созерцания», но с другой — она должна вырабатывать критерий
истинности «живого религиозного опыта». Двойственная природа
богословия обусловлена антиномичностью самого процесса богопо-
знания, который имманентен и трансцендентен, субъективен и
объективен. Более того, если высшая форма познания содержит
неизбежные противоречия, то и в низших этажах знания они
закономерны, ибо одно предопределяет другое. Исходя из этого, П.
Флоренский делает вывод, что вообще всякое познание антиномично,
так как не может обойтись без раздвоения на субъект (кто познает)
и объект (что познается). Это раздвоение приводит одни
философские школы к попыткам строить гносеологические системы, исходя
из признания первичности объекта, а другие, напротив, исходят из
субъективного момента знания. П. Флоренский в своей работе
«Пределы гносеологии» достаточно квалифицированно показывает
односторонность как сенсуализма, то есть учения, выводящего зна-
342
ния из ощущений, так и рационализма, выводящего знания из
разума. По его мнению знание носит субъектно-объектный характер,
то есть принадлежит как субъекту, так и объекту. Однако объект в
его концепции — не объективный мир, а «бессознательное
знание», заложенное в духе. Поэтому знание — достояние субъекта,
хотя и находится «вне его». Задачей субъекта является
«выделение» этого потенциального знания, поэтому «знание состоит из
бесконечного ряда рефлексивных, обращающих на себя актов»1.
Но откуда же берется это «потенциальное знание»? Решить эту
проблему, с точки зрения Флоренского, можно лишь в том случае,
когда теория познания выйдет за «тесные рамки» ограниченного
человеческого разума и «окунется в сверх-эмпирическую природу
личности».
В результате этого станет ясно, что познание — это
«припоминание того, что видела душа до своего рождения, в горнем мире»2, —
в этом Флоренский солидарен с Платоном. При этом он хочет
решительным образом отмежеваться от философских учений о
единстве познающего субъекта и объекта, и прежде всего от концепции
Шеллинга. Русский богослов считал, что любые попытки
философского определения единства субъекта и объекта познания обречены
на неудачу, так как они в конечном счете сводятся к выработке
понятий, но оно в них невыразимо, — именно к этому в своей
философии и стремился немецкий мыслитель. Для правильного
понимания тождества необходимо усвоить истину, согласно которой
познавательный процесс можно выразить лишь символами, а не
понятиями.
Вообще учение о символах занимает видное место в идейном
наследии богослова. Символ выступает в этой концепции как
«коренная характеристика», противостоящая абстрактным схемам,
он — единство общего и индивидуального, реального и идеального.
Инструментом «символического познания» является интуиция,
приводящая к выявлению непосредственной сущности, к
самоочевидности познаваемого. Именно благодаря «духовному
созерцанию» божественная реальность воплощается в «символическое
тело... приспособленное к нашей — земной, затемненной, —
способности познания»3. При этом Флоренский настойчиво
подчеркивал, что его учение о «мистической интуиции» носит церковный, а
х Флоренский П Л. Пределы гносеологии//Богословский вестник. 1913. Январь —
Апрель. С. 153.
2 Там же. С. 174.
3 Флоренский П.А. Столп и утверждение Истины. С. 566.
343
не философский характер. Этот тезис еще раз находит наглядное
подтверждение в полемике Флоренского с представителями
философского интуитивизма. Богослов считает, что
философы-интуитивисты обосновывают свою теорию, опираясь на «иррациональность
естественной жизни как биологического явления». Христианская
же философская традиция, к которой он относит и свои воззрения,
вскрывает подлинный источник интуиции, появляющейся у
личности по мере ее одухотворения и приобщения к «церковным
началам», то есть как итог усилий «над собой ради любви к Истине».
Мыслитель отрицает обвинения в том, что он призывает к «бегству
от разума». Более того, с этой точки зрения вся его система
направлена на выяснение вопроса: «Как и в силу чего принимает
философа Небо?» Естественно, что последний не может обойтись без
признания «реальной силы разума». Все дело в том, что для
богослова существует принципиальное различие между разумом и
рассудком. Рассудок характеризуется им как «болезненный разум»,
противостоящий религии. Отсюда делается вывод, что разум
«погибает в своей сущей форме, форме рассудка»1. Его спасение
возможно только на путях познания «духовной истины».
Богослов вслед за Соловьевым рассматривает развитие
человеческой мысли как поиски подлинного божества. Поэтому и
язычество стоит не вне религии — это «искаженное отражение истинной
веры». Однако если у Соловьева индивид именно при помощи
разума поднимается по ступенькам богопознания, то у Флоренского
греховность людей не позволяет им усвоить правильный образ
божества. Только под непосредственным воздействием
сверхъестественной реальности человек способен при помощи интуиции понять,
что «Истина есть единая сущность в трех ипостасях».
Следовательно, у богослова не разум открывает учение о Троице, а она сама
нисходит к людям в виде откровения. Соловьевское понимание
богопознания, по мнению философа, приводит к тому, что в его
концепции «не самообосновывающееся Живое Триединство — начало
и основание всего, а субстанция»2, выявляемая при помощи
рассудочного анализа. Выдвижение на первый план философских
проблем побуждает Соловьева к поискам адекватного выражения
своих идей, поэтому его система — «тонко рационалистическая по
своей форме». Процесс же подлинного богопознания для
Флоренского имеет дело не с рассудочно достигаемой, а конкретно созер-
1 Флоренский ПА. Разум и диалектика//Богословский вестник. 1914. Сентябрь —
Декабрь. С. 91.
2 Флоренский ПА. Столп и утверждение Истины. С. 775.
344
цаемой реальностью, так как истина человеку «открывается
непосредственно». Не случайно, согласно его взглядам, в религии
духовное зрение «срастается... с понятием знания или ведения»1. Но
тогда возникает вопрос, зачем же человеку философия, если она не
дает познания истины? Богослов осознавал определенную
противоречивость своих тезисов: обращаясь к читателям «Столпа и
утверждения Истины», он отмечал, что, с одной стороны, здесь
провозглашается «невозможность дедукции троичности», с другой —
разрабатываемые вопросы содержат попытку на это выведение.
Выход из этой ситуации Флоренский находит в учении об анти-
номичности познания. Поскольку истина — это «единство
противоположного», то она всегда и «интуитивно конкретна», и разумна.
Без усилий разума «Истина является не более как слепою
данностью». Но он всегда подчеркивал, что речь идет не о «падшем», а
об «очищенном» разуме. Одним из его признаков, как мы уже
отмечали, является отказ от «болезненной рассудочности», другим
же — «церковность». Благодаря последней отделяется в мысли
истина от лжи и «отсеиваются верные от неверных». Следовательно,
«спасение» разума в сфере теоретической мыслится богословом
как соответствие его положений церковным истинам. Но все дело в
том, что «церковность», как считает Флоренский, никакими
теориями «не уловима и не определима». Он полемизирует с
католическими и протестантскими богословами, ибо они хотят свести
церковность к внешним признакам. В первом случае их усилия
концентрируются вокруг «определенной должности», то есть римского
папы, во втором — в «вероисповедной формуле», то есть в
евангельском тексте. И там и тут церковность превращается в некую
абстракцию, так как «решающим является понятие».
Православная же традиция при характеристике церковной жизни не выясняет
«чего-либо отчетливого», даже у святых «облечь знание» в ясные
и понятные формулировки «не хватает... сил».
Флоренский в своей критике протестантизма и католицизма во
многом солидарен со славянофилами и разделяет их аргументы. Он
поддерживает тезис Хомякова о том, что истинная «Церковь не
доказывает себя... но свидетельствует собою». Но если православие
невыразимо в теоретических схемах, то какова же роль разума в
церковной жизни? Все дело в том, что божественный мир не
вмещается «в узкие рамки земного бытия» и дан разуму как
«бесконечная система актов, синтезированных в единицу», то есть как
1 Флоренский ПА. Смысл идеализма//В память столетия ( 1814— 1914)
Императорской Московской духовной академии. Сергиев-Посад. 1915. Ч. 2. С. 113.
345
«единство во множестве», сущность которого рационально
невыразима. Поэтому, согласно его убеждениям, для того чтобы быть,
разум должен «опознавать» эти противоречия «божественного и
тварного», но разрешить их он не может. Отсюда вытекает, что
«антиномическая деятельность разума не только желанна сама по
себе, по и, безусловно, необходима»1. Если же религиозные идеи
излагаются в категориях рассудка и их стремятся
рационалистически обосновать, то тогда они низводятся на уровень «вещных»
положений, вера теряет смысл. Поэтому духовная философия, по
мнению богослова, не должна заниматься бесплодными попытками
установить гармонию между разумом и верой. Примером
неудачного разрешения проблем взаимоотношения секулярного и
религиозного знания, по убеждению философа, была соловьевская
«философия всеединства». Желая отмежеваться от ее идей, он в книге
«Столп и утверждение Истины» специально подчеркивает, что все
его сочинение выступает «по духу антиномичности» против
рациональной философии В. Соловьева.
Последовательно защищая мистическое познание, Флоренский,
как мы уже отмечали, не мог не видеть его опасности для идеи
«церковности». С его точки зрения «узнавание Бога» начинается с
«волевого акта веры», направленного на непосредственное
общение с «миром иным», но он в то же время неоднократно
подчеркивал, что «одной мистической одаренности мало для спасения».
Более того, «естественный», то есть внецерковный, мистицизм
лишается у богослова какого-либо «благодатного значения». Трудность
в разрешении вопросов богопознания заключается в том, что
каждая личность по-своему приходит к Богу, так как у нее «своя
организующая сила, своя форма откровения». В то же время у всех тех,
кто «пришел к Богу и обрел свое благо», с необходимостью есть и
«общие знания», «обязательные пункты». Эту «общность» П.
Флоренский обосновывает, опираясь на гносеологические воззрения
Платона, и прежде всего на его учение «о врожденных идеях», —
вообще для него платонизм является «мировоззрением, наиболее
подходящим к религии»2. «Врожденные идеи» сообщаются душе в
трансцендентной сфере, а поскольку божественный мир один,
постольку все люди познают одну и ту же божественную реальность,
наиболее адекватно воплотившуюся в Троице: именно догмат о
Троице, по мнению богослова, предопределяет и все другие поло-
1 Флоренский ПА. Из богословского наспедия//Богословские труды. Сб. № 17.
С. 104.
2 Флоренский ПА. Смысл идеализма//В сб.: В память столетия (1814—1914)
Императорской Московской духовной академии. Ч. 2. С. 43.
346
жения вероучения, на нем строится символ веры. Христианские
догматы, согласно его взглядам, выступают в качестве «высшего
авторитета», направляющего религиозный опыт. Теории,
ориентирующиеся на земную сферу, придерживающиеся
рационалистических установок, приходят к выводу об их человеческой природе.
Главным аргументом этих взглядов является указание на
логическую противоречивость догматов: действительно, Бог един и
выступает в трех лицах; грех и случаен, и закономерен и т.д. Более того,
как доказала библейская критика, и сама «Священная книга полна
антиномиями». Но, оказывается, для людей, ориентированных на
«мир горний», эти «противоречия именно и доказывают
божественность Священного Писания и догматов»1.
Следовательно, антиномизм характеризуется богословом не
только как необходимое условие существования «очищенного»
разума, но и рассматривается как доказательство реальности
божественного мира. Только на высших ступенях духовного познания, по
его убеждению, индивид освобождается от «земных уз», и тогда
возможен синтез антиномий, догматы утрачивают свою
противоречивость. Но источником этого нового знания уже является не
разум, а сердце. Познать разумом — значит «опознать
противоречия», уразуметь сердцем — значит «понять всецело». Способность
к «сердечному знанию», как считает философ, появляется в
результате «пресуществления человека», его «обожения». Отсюда
процесс богопознания для Флоренского, как мы уже отмечали, есть акт
не только гносеологический, но и онтологический, не только
идеальный, но и реальный.
Провозглашая вслед за A.C. Хомяковым и И.В. Киреевским и
другими антагонизм западноевропейской и восточной философских
традиций, богослов стремится найти новые аргументы,
подчеркивающие их несовместимость. Как известно, славянофилы
противопоставляли «жизненную» восточную мудрость «мертвящему»
рационализму Запада, при этом акцент делался на различие в методах
познания. У Флоренского же речь идет не только о методологии, но
и об особой «русской истине». Согласно его взглядам, если
идеалом знания у европейских мыслителей выступает соответствие
истины «законам разума», то у русского народа является «Истина
как существо живое по преимуществу»2. В основе западной
гносеологии лежат в конечном итоге утилитарные начала, в базисе вос-
1 Флоренский ПА. Столп и утверждение Истины. С. 504.
2 Там же. С. 17.
347
точной — «духовные стремления». Отсюда итогом западного
познания в лучшем случае бывает развитие светской культуры, целью же
православия может быть только «духовная жизнь», или спасение.
Учение о «живой Истине», или о Троице, по мнению
Флоренского, показывает «общий корень религии и философии».
Поскольку в этом догмате основные темы идеализма «звучат
предельно отчетливо», постольку «в нем преодолевается исконная проти-
воборственность той и другой»1. Иначе говоря, философия и
богословие гармонизируются, превращаясь в инструмент «опознания
высшей реальности». «Подлинная», с этой точки зрения,
философия должна безоговорочно преодолеть «позитивный стиль
мышления» и избавиться от «интеллигентского антирелигиозного
мировоззрения». Духовный кризис буржуазного общества,
религиозно-духовные искания в России начала XX века позитивно
оцениваются Флоренским, так как свидетельствуют о «прозрении»
человечества, скидывающего «с пьедестала отвлеченное мировоззрение
Нового времени». В свете новейших философских построений,
основывающихся на убеждении о «реальности божественного мира»,
становится все более очевидным, что философская мысль не
должна «разрушать порывы духа к идеальному».
Наиболее ярким примером подобного «разрушения связи» с
Абсолютом являются для Флоренского концепции материализма и
позитивизма, у него даже дьявол выступает в образе позитивиста.
Ориентируясь на человеческую жажду познания,
материалистически ориентированная философия культивирует желание все
рационально определить, «никогда не останавливаясь и не полагая себе
границы, бесцельно и безыдеально идти все вперед, чтобы
становиться «как боги», чтобы имитировать Бога количеством
познаний»2. Такое искушение, по мнению богослова, всегда приводит к
деградации личности, к бесцельной растрате ее духовных сил.
Следовательно, философу необходимо в каждый момент истории
«ограничить» свои запросы в выявлении нового знания. Из этого не
следует, будто Флоренский выступал против прогресса науки и
философии. Все дело в том, что в каждый исторический момент
интеллектуального развития человечества есть потребность не просто в
получении нового знания, но и во «внутренней организации», в
приведении «к цельности» уже имеющегося познавательного мате-
1 Флоренский П.А. Разум идиалектика//Богословский вестник. 1914. Сентябрь —
Декабрь. С. 92.
2 Флоренский ПА. Антоний романа и Антоний предания. С. 28.
348
риала. Органическое развитие науки, по мнению философа, требует
прерывности, или аритмологии, рассматриваемой им как
«всеобщая закономерность»1.
Итак, Флоренский поставил вопрос: «Как спасается
философ?» Главной доминантной мыслью его ответа становится
призыв к «обличению вечного во временном», к удовлетворению
«идеальных запросов духа». Иными словами, философ спасается, когда
его мысль становится духовной, а это возможно лишь в «церковной
ограде». Именно церковность выступает тем пристанищем, «где
усмиряются притязания рассудка, где великий покой нисходит в
разум».
Гносеологические воззрения Флоренского носят, по сравнению
с идейным наследием славянофильства и особенно с соловьевским
вариантом «философии всеединства», более монистический
характер. Богослов гораздо последовательнее отвергал «низшие»
разумные начала во имя «высших» религиозных ценностей. Отсюда и
понятно его критическое отношение к элементам рационализма как у
славянофилов, так и у Соловьева.
Беспомощность рациональных построений в сфере религиозной
жизни не означает, по мнению богослова, что у церкви нет
«средств защиты». Первой и важнейшей позицией христианской
философии является обоснование «связи мира земного и
небесного». Если спекулятивное мышление не может выполнить эти
задачи, то остается лишь один путь — обращение к воплощению
«горнего мира в наших конкретных символах», то есть к религиозному
культу. Поэтому, с этой точки зрения, предметом подлинной
философии выступает «созерцание и переживание трансцендентного
мира». Следовательно, как считает Флоренский, она «не может
существовать иначе, как философией культа»2. Своими
богословскими построениями он пытается выработать исходные принципы
«философии культа». Последняя понимается им как универсальная
система, характеризующая весь «тварный мир», ибо она, обнимает
не только человека, но и «существ как выше людей стоящих, так и
ниже»3. Именно в рамках «философии культа» и были выработаны
Флоренским основные принципы понимания истории.
1 См.: Половинкин СМ. П.А.Флоренский: Логос против хаоса. М. 1989.
2 Флоренский ПА. Из богословского наследия//Богословские труды. Сб. № 17.
С. 124.
3 Там же. С. 230.
349
Аксиология и философия истории
Русский мыслитель считает: при рассмотрении истории
необходимо иметь в виду, что мы имеем дело не с «застывшей схемой», а
с динамично развивающейся жизнью, то есть с постоянно
обновляющимся процессом. Отсюда понятно, что и человеческая история
начинается только тогда, когда «жизнь приходит в движение»1. При
ответе на вопрос об источниках социальной жизни и причинах ее
развития русский богослов обращается к идеям исихастов, и
прежде всего к мыслям их главного идеолога Григория Паламы.
Учение о «божественных энергиях» для Флоренского выступает
как основополагающий принцип понимания окружающего мира.
«Философия культа» как раз и призвана, с одной стороны,
выяснить «способы внедрения в мир духовной энергии», а с другой —
пути усвоения их человеком. Философия истории конкретизирует
эти установки применительно к различным этапам развития
человеческого общества, она должна «понять энергию как энергию»2. В
этом тезисе только на первый взгляд существует «порочный круг»,
определение «то же через то же». В действительности же речь идет
о том, что энергии в истории не хаотичны, «они не суть простое
неупорядоченное, необъединенное, некоординированное множество, а
суть именно энергии одного лица»3. Итак, понять «энергию как
энергию» означает умение за множественным проявлением энергий
в ходе исторического процесса увидеть и энергию, которая
объединяет раздробленный человеческий мир, направляя его к Богу.
По отношению к божественным энергиям человек может
занимать различные позиции.
Первая ориентируется на человека, и в силу этого все усилия
духа направляются на развертывание культуры без Бога, на
отпадение от Бога. При этом речь идет не только о западноевропейской
философии и науке, но даже и о религии в ее католической и
протестантской формах. Католик «желает надеть на себя личину
Христа», и вместо подлинного одухотворения его целью становится
внешнее подражание Христу, появляется гордыня перед Богом.
Протестант же уничтожает подлинную веру путем превращения
Христа в «моральную схему»4. Из доминанты бытия Бог низводится
на ступень личных интимных переживаний, ему отводится «лишь
1 Флоренский П.А. Соч.: В 4 т. Т. 3.4.2. М., 1999. С. 18.
2 Там же. С. 21.
3 Там же. С. 23.
4 См.: Флоренский ПА. Столп и утверждение Истины. С. 723.
350
один уголок в жизни». И в первом, и во втором случае человек
стремится «занять не подобающее ему место», то есть обосновать
свою независимость, «автономию от Абсолютного существа». Ав-
тономизм не только разрушает соборную природу церкви, но он
приводит к распадению начал «внутренней жизни: святыня,
красота, добро, польза не только не образуют единого целого, и даже и в
мыслях не подлежат теперь слиянию»1.
Все трансформации современной западноевропейской мысли
Флоренский связывает с именем Канта. Именно в Канте
ориентировка на автономизм, на разрыв человека с трансцендентным
«сознала себя», и оттого из его философии выросла вся европейская
мысль, все движения Европы, не только философские, но
религиозные и научные и так далее, образующие своею совокупностью
«гуманизм»2. Единственной реальностью выступает индивид,
поставленный «в безусловный центр мироздания», вместо Бога
идеалом становится «самообожествивший себя человек». Подобное
развитие западноевропейской культуры разрушает подлинное
единство людей, ибо оно может опираться только на абсолютные
ценности. При этом нетрудно объединить человечество, как считает
философ, «в некоторой гуманистической пустоте», но тем самым не
будет преодолен «духовный атомизм» и «Я не выйдет за пределы
своего эгоистического обособления». Вместо действенной любви в
таком секулярном обществе будут речи о любви, которые не
затрагивают глубинных основ социальных отношений. В основе
гуманистического альтруизма, с этой точки зрения, «лежит либо карьера,
тщеславие и гордость, либо слабонервность и истерическая
внушаемость при виде страданий»3.
Ориентировка на человека и связанный с ним автономизм
свойственна прежде всего интеллигенции. Образованный слой в силу
своей профессиональной специализации отворачивается от идеала
цельного знания, и тем самым коренные человеческие проблемы
заменяются случайными вопросами, «въедающимися в сознание» и
разрушающими связь индивида со всем миром. Вместо
удовлетворенности результатами своей деятельности у интеллигенции
рождается «скепсис», разочарование в своем народе, и в результате она
не в состоянии правильно осознать «своего назначения в историче-
1 Флоренский ПА. Оправдание космоса. СПб., 1994. С. 33.
2 См.: Флоренский П.А. Из богословского наследия//Богословские труды. Сб.
№ 17. С. 131.
3 Там же. С. 87.
351
ском процессе» . В лучшем случае антропоцентризм приводит к
появлению «душевного, а не духовного человека», между которыми
существует фундаментальное различие, хотя внешняя форма их
поведения может и совпадать. Но мотивы их действия принципиально
различны: душевного человека «внешние обстоятельства»
заставляют соблюдать законы и моральные нормы. Но он, утверждая
«ось мира в себе и своих прихотях», безусловно сорвался бы к
преступлениям и аморализму без «сдерживающей их цепи». Духовный
же человек, исходя из богоцентрической ориентации, «делается
уже сознательным проводником Божественных сил», его
внутренние убеждения становятся основой его добродетели2.
Итак, ориентировка духа на индивида неизбежно приводит к ав-
тономизму, разрушающему союз Бога и человека, разлагающему
подлинное единство людей в обществе, наконец, заменяющему
подлинную духовность «душевностью». Следствием эгоцентризма
неизбежно выступает секуляризация, в результате которой из религии
«выпадают» различные стороны человеческой жизни. Более того, в
современных условиях, согласно этим взглядам, развитие светской
философии и науки, а также «размывание религиозного сознания»
сопровождаются пересмотром «основных истин религиозной
онтологии», определяющих и христианское понимание истории.
В результате происходит забвение высших ценностей, и вместо
подлинной веры индивид начинает «поклоняться идолам».
Опасность последних заключается в их способности принимать вид
«духовных сокровищ» и тем самым легко вводить людей в
заблуждение. Поэтому «духовная философия», частью которой выступает
историософия, должна, как считает богослов, разоблачать эту
имитацию, показывая подделку под трансцендентное.
Второе понимание ценностей ориентирует человеческий дух,
концентрирует его усилия на божественной сущности. В этом
случае предметом веры выступает «не дело рук человеческих, а
высшая реальность — горний мир». И если земная установка, по этим
убеждениям, дает проекцию человеческой деятельности лишь на
«плоскость», то религиозная ориентирует на «духовную высоту, на
высший идеал». Пути достижения этого «идеала» Флоренский
трактовал в духе православной аскетики. Последняя понимала
духовное совершенствование как «подвиг», «лотовый труд»,
следствием которого выступает «обожение» человека. Этот длительный
1 Флоренский П.А. Оправдание космоса. СПб., 1994. С. 138.
2 См. там же. С. 138—139.
352
процесс «духовного роста» включает диалектическую борьбу «сил
греха и сил благодати». Для Флоренского истинный христианин не
может довольствоваться правилом «избегай заблуждений», он
должен «жить в духе», а это «требует дерзновения, требует риска, а не
просто уклонения от дурного»1. В конечном итоге правильная
ориентация человеческих помыслов и человеческой деятельности
должна сопровождаться процессом «внедрения в мир
божественный». Отсюда понятно, что познание не может оставаться только
на уровне интеллектуальных положений, истинное знание «прича-
стно бытию». Онтологизм, по мнению философа, выступает «как
основное и характерное положение всей русской... философии». С
таким выводом можно согласиться: действительно, отечественная
философская традиция рассматривает истину как «правду жизни»,
как силу, изменяющую бытие людей. Отсюда понятно, почему
Флоренский, говоря о «направлении мысли, защитником коего
хотелось бы мне быть», называет его «конкретным идеализмом». Сам
термин мыслитель заимствует у С.Н. Трубецкого, который
обосновал правомерность его употребления в своей работе «Основы
идеализма».
«Конкретный идеализм» применительно к историческому
познанию утверждает единство гносеологического и аксиологического
подходов. Если естествознание имеет дело «с тезисом более или
менее безразличным для духовной культуры», то в дисциплинах
исторических исследователь соприкасается «с духовной ценностью, в
сохранении или в ниспровержении которой каждый непременно
заинтересован, — так или иначе»2. Поэтому Флоренский был
убежден в возрастающем значении изучения прошлого для церкви, ибо
неверие перенесло центр своих нападок на христианство из
философии «в область истории».
Философия истории не только интерпретирует прошедшее, но и
защищает или опровергает определенную систему духовных
ценностей. Но само понимание этих «духовных ценностей» не
определяется с этой точки зрения исторической наукой, ибо — в
принципе — интерпретация прошедших веков опирается на одни и те же
приемы: они «одинаковы, ибо одинаково устроение ума
человеческого». Различие же обусловлено «верами», лежащими в основе
ценностных ориентации. У одного исследователя «вера в сей
преходящий мир», у другого же «вера в иной, вечный духовный мир».
Следовательно, не сами факты истории, а принадлежность к церкви
1 Флоренский ПА. Соч.: В 4 т. Т. 1. С. 525.
2 Флоренский ПА. Столп и утверждение Истины. М., 1990. С. 545.
23-6016 353
или борьба с церковностью «дают решающий поворот нашим
историческим убеждениям и тем определяют весь уклад научной
мысли»1. Для Флоренского сформировать правильный взгляд на
прошлое можно только в рамках православной традиции. Последняя
неотделима от библейской интерпретации истории, согласно
которой грехопадение, боговоплощение и «конец света» являются
важнейшими ее вехами. При этом если два первых стали
«объективными факторами истории, ее «онтологией», то последнее еще
предстоит, и «не дано знать точной даты этого события». Однако
поскольку оно неотвратимо и может произойти в любой кризисный
период, то люди «должны серьезно относиться к эсхатологической
эпохе» .
В райском состоянии первые люди, по мнению мыслителя,
непосредственно воспринимали «божественные энергии»,
человеческая деятельность была как бы их продолжением, но после
грехопадения усвоение трансцендентного воздействия уже происходит
«во времени и пространстве». Время показывает «многообразие
личного», а пространство — «многообразие общественного».
Следовательно, между «божественными энергиями» и человеком с
этой точки зрения могут стоять как индивидуальные особенности,
так и социальные условия жизни личности. При этом Бог,
оставаясь всемогущим по отношению к человеку, все же «не принуждает
тварь, а убеждает». Следовательно, согласно этим взглядам,
историософия должна особое внимание обратить на анализ различных
проявлений активности индивида, с тем чтобы правильно
разграничивать богоугодную деятельность от антихристианской.
Создавая классификацию человеческой деятельности, богослов
во многом исходит из идей В. Соловьева, изложенных им в работе
«Философские начала цельного знания». Последний выделял в
жизни личности три сферы — творчества, знания, практической
деятельности. При этом первенствующее значение во всех этих
областях должно принадлежать религии, которая и «связывает
абсолютное первоначало с обществом».
П. Флоренский, исходя из этих методологических установок,
также сводит человеческую деятельность к трем основным формам.
Первая — теоретическая, или мировоззренческая, следствием
которой является «совокупность понятий о мире, нравственности,
праве, Боге — вообще обо всем». Вторая — практическая, или
хозяйственная, деятельность, в результате которой создается «сово-
1 Флоренский ПА. Столп и утверждение Истины. С. 549.
2 Флоренский ПА. Соч.: В 4 т. Т. 3. Ч. 2. С. 390.
354
купность орудий производства, внешняя материально-утилитарная
культура». Наконец, литургическая, или культовая, деятельность,
то есть «производящая святыни».
Важнейшей методологической проблемой философии истории,
по мнению богослова, является решение вопроса «какая
деятельность первична». Если исходной деятельностью объявляется
теоретическая, то тогда появляется схема, согласно которой вначале
«придумывается что надо», а потом этот «проект... якобы
осуществляется». Такое решение приводит к появлению идеологов,
которые строят жизнь «по кабинетно-придуманным схемам». Идеоло-
гизм усматривает в многообразии жизни лишь простые проявления
теоретических построений разума, то есть он рано или поздно
вырождается в бездушный рационализм. Подобный подход приводит к
«культу великих людей», способствующему самообожествлению
человека, превращению его в «единственное сокровище». В
результате нарушается органическое сочетание человеческих
способностей, все они поглощаются рассудком. Общество распадается на
«героев истории, творцов мысли» и серую массу, призванную
осуществлять «великие замыслы». Не случайно эта теория в XVIII веке
закончилась во Франции террором, при помощи которого
революционеры пожелали «единичными мгновениями перестроить всю
жизнь, до дна, по выдуманным схемам»1.
Этот подход для Флоренского неприемлем. Однако еще
большим искажением реального положения вещей с его точки зрения
является признание в качестве основополагающей практической,
хозяйственной деятельности людей. В этом случае мировоззрение
есть «лишь оправдание задним числом уже создавшегося
экономического строя». Мысль превращается в «обслуживающий аппарат»
экономических изменений, а все многообразие духовной жизни
сводится только к «экономическим потребностям масс», при
пониженном «до последней степени чувстве ценности и силы личности»2.
Русский мыслитель, как и другие представители философского
ренессанса в России начала XX века, почувствовал опасность,
грозящую религиозным духовным ценностям со стороны
большевистского учения. Провозгласив растущее «значение масс», социализм
превращает личность в средство достижения «всеобщего
благополучия». В результате же отдельный человек становится
инструментом, обслуживающим определенные классовые интересы. Флорен-
1 Флоренский П.А. Из богословского наследия//Богословские труды. Сб. 17.
С. 109.
2 Там же. С. НО.
23*
355
ский особый акцент делает на критике основополагающего тезиса
исторического материализма о том, что общественное бытие
определяет общественное сознание. Материалистическое понимание
истории с его точки зрения приводит к выводу, что возможно
«произведение вещей без смысла», а объективный идеализм,
напротив, все сводит к выработке «смыслов, всячески лишенных
реальности».
Отвергнув материализм и идеализм, он предлагает свое
понимание деятельности. По мнению мыслителя, первичной,
определяющей активностью в обществе является культовая практика.
Именно в религиозных обрядах диалектически решается вопрос о
соединении идеального и реального, вещного и бестелесного, так
как литургические символы являются следствием теоретической и
практической деятельности. В то же время в религиозной
активности наиболее адекватно выражаются «высшие потенции индивида»,
«сокровенность его бытия», поэтому сам «человек есть homo
liturgus»1. Отсюда, если оценивать различные виды деятельности
человека по формальным признакам, можно прийти к выводу, что у
них «разные основания»; если же вскрыть их сущность, то они,
«хотя и блудные», все же остаются «священными, иерархическими,
духовными». Именно сакральная деятельность, по Флоренскому,
была «материнским лоном» для производственной, научной,
эстетической сфер жизни человека. Их можно представить в виде
«отслоившейся шелухи культа», подобно «сухой кожице луковичного
растения». В результате этих рассуждений богослов приходит к
выводу, что «вся жизнь определяется своего рода обрядом,
воплощенной религией»2.
Признание решающего значения религии в истории приводит
П. Флоренского к выводу, что отношение к религиозным ценностям
должно быть критерием «истинности различных сфер человеческой
деятельности». Именно в свете этого критерия русские
православные мыслители должны с «дружелюбием объединенной работы»
трудиться «над уяснением себе церковного понимания жизни и
мира»3.
Исходя из православного учения богослов разделяет
существующий мир на духовную и плотскую сферы, а трактовка их
взаимоотношений исходит не только из религиозных установок, но стре-
1 Флоренский П.А. Из богословского наследия//Богословские труды. Сб. 17.
С. 107.
2 Там же. С. ПО.
3 Флоренский ПА. Соч.: В 4 т. Т. 2. М., 1996. С. 345.
356
мится к удовлетворению «основных запросов всей философии».
Вслед за Соловьевым он, как и С.Н. Булгаков, при объяснении
взаимодействия «идеального и реального бытия» прибегает к
помощи софиологии. Эта тема так сильно интересовала Флоренского,
что им планировалось написание специальной большой работы о
Софии. Анализируя соловьевские воззрения на «премудрость бо-
жию», богослов приходит к выводу об их неясности, ибо, с одной
стороны, София отождествляется с мировой душой, с другой — это
«два различных лица». Подобная «неясность» проистекает, как
считает мыслитель, из приверженности Соловьева к
рационалистической традиции: то, о чем он учит, «несомненно примыкает... к
спиноизму, к шеллингианству». Как известно, и Спиноза, и
Шеллинг, стремясь совместить философские и религиозные идеи,
пришли к пантеизму. Для Флоренского также совершенно ясно,
что, следуя за вышеназванными философами, Соловьев
окрашивает идею Софии «резко пантеистическими тонами», но такое ее
понимание «не является православным». Однако сама идея
«божественной премудрости» для него «не находится в противоречии ни с
библейским учением, ни со святоотеческим истолкованием
последнего»1. Христианский монотеизм, с его точки зрения, вполне
совмещается с учением о Софии.
Разъясняя учение о Троице, он убеждает читателей «Столпа и
утверждения Истины» в особом мистическом значении числа
три — оно «имманентно Истине». Следовательно, ипостасей
только три, никакой четвертой быть не может. Но, определяя Софию,
Флоренский считает, что она входит в «жизнь божественной
Троицы», так как «это четвертый ипостасный элемент». Разрешая
отмеченное противоречие, мыслитель подчеркивает, что
«премудрость божия» — это тварная ипостась, она «не образует
божественное единство», но с ее помощью «тварь входит в общение» с
этим «единством». София не есть «самое Божество», но она не
является тем, что «мы обычно называем тварью». Премудрость
божия находится «на идеальной границе между божественною энер-
гиею и тварною пассивностью» . Она «первое и тончайшее
произведение» божественной деятельности. София имеет в себе два
начала: одно связано с тем, что она стоит у истоков творения и в этом
плане выступает в виде «перво-твари, или перво-материи».
Поэтому София — это «великий корень» твари, связывающий ее с
Богом, придающий ей «безусловную ценность».
1 Флоренский ПА. Столп и утверждение Истины. С. 332.
2 ФлоренскийПЛ. Иконостас//Избранные труды по искусству. М., 1993. С. 314.
357
Следовательно, первое начало Софии созерцается как
«произведение божественного творчества», как энергия, идущая «от Бога
по направлению в ничто». Реализуя божественный замысел, София
превращает «ничто» в живое многообразие мира, в этом плане она
есть «творческая любовь Божия к тварному космосу». Второе
начало Софии уже связано с существованием твари, в этом контексте
она рассматривается как «идеальная личность мира», «духовность
твари», ее «Ангел-Хранитель». «Премудрость Божия» понимается
тогда как стремление сотворенного мира к своему духовному
первоисточнику, она созерцается «от мира по направлению к Богу».
София при этом распадается на «множество элементов,
одухотворяющих тварь». Идеальное в человеке, то есть «образ божий», и есть
проявление софийности, ее «реализация во множественности».
Более того, в ней «ничто не теряет своей индивидуальности», она
«многоединое существо». В силу приобщенности к «премудрости
божией» тварь приобретает способность к «творчеству и
художеству», к святости, то есть к «красоте духовной».
Софиология служила для Флоренского источником особого
отношения к окружающему миру, так как он не только творение, но и
воплощение божественной энергии. Отсюда проистекает
благоговейная любовь к твари, она рассматривается «как самобытное и
страждущее прекрасное» и в то же время «загрязненное
существо». С этой точки зрения только христианство «породило
невиданную ранее влюбленность в тварь» . Можно согласиться с В. Зень-
ковским в том, что Флоренский «с большой силой поставил
проблему "софийности мира" — и это останется за ним». Его
рассуждения о тварном космосе содержат идеи «подлинного и глубокого
космизма, который особенно запечатлелся в Православии» .
Единая софийная основа природы и истории заставляет
по-новому взглянуть на взаимодействие этих сфер. Традиционное
богословие рассматривает взаимоотношения природы и истории как
двух изолированных миров — существует «две книги Божия
откровения: Природа, возглавляемая Небом, и История, возглавляемая
Библиею»3. Природная область характеризуется стихийным
бытием, отсутствием личного творчества, напротив, человеческая
история полна смысла и Библия есть «Книга Смысла». В ходе
исторического процесса реализуется творческое начало человека, его
способность к «культурному творчеству», его «соработничество Богу»,
1 Флоренский П.А. Столп и утверждение Истины. С. 288.
2 Зеньковский В.В. История русской философии. Т. 2. Ч. 2. С. 198.
3 Флоренский П.А. Соч.: В 4 т. Т. 3. Ч. 1. М., 1999. С. 375.
358
ибо именно «Бог есть центр и источник культуры». Признавая ан-
тиномичность природы и истории, стихийности и разумности,
Флоренский в то же время подчеркивает, что «они существуют не вне
друг друга», а лишь друг с другом. Исторический процесс сопряжен
с культурным творчеством, но сама культура никогда «не дается
нам без стихийной подосновы своей». Следовательно, человек как
исторический деятель «не творит из ничего», но «лишь образует и
преобразует стихийное»1.
История имеет смысл, в котором реализуются
провиденциальные замыслы Творца, но означает ли это, что она закономерна, что
исторические явления обладают «всеобщностью и
необходимостью»? При ответе на этот вопрос П.А. Флоренский обращается к
известной работе Г. Риккерта «Науки о природе и науки о
культуре», в которой немецкий философ обосновывает наличие двух
разных методов познания. Науки о природе опираются на
генерализирующий метод, науки о культуре используют
индивидуализирующий метод2.
Русский мыслитель также считает, что естественные науки
стремятся обосновать суждения, относящиеся не к одному случаю,
а ко всем подобным случаям, то есть они «генерализируют».
Напротив, история и в целом науки о культуре имеют дело с
«неповторимой единицей», поэтому в них «нет речи о всеобщем».
Итак, «история имеет предметом своим не законы, а единичное,
она не обобщает, а обособляет — не генерализирует, а
индивидуализирует»3.
Естественно, что такой подход приводит к вопросу: является ли
история наукой и возможна ли философия истории? Критерием
научности в естествознании является соответствие выдвигаемых
положений «всеобщим и общезначимым закономерностям». История,
исходя из такого критерия, не является наукой, так как
«принципиально отвертывается от закономерностей». Правда, существует
мнение, что и в истории действуют законы статистики, можно
измерить те или иные социологические параметры общества. Для
Флоренского это «монотонная сторона истории», которая не может
быть предметом философии истории, ибо не проникает в сущность
исторического. Более того, мыслитель считает, что «общество
подчиняется законам статистики и социологии постольку, поскольку
1 Флоренский ПА. Соч.: В 4 т. Т. 3. Ч. 1. С. 375.
2 См.: Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М., 1998. С. 69, 75.
3 Флоренский ПА. Соч.: В 4 т. Т. 3. Ч. 2. С. 13.
359
оно прозябает, а не живет». Иными словами, в этом случае
исторический процесс вырождается в быт, в скучную повседневность, там
же, где «наступает история, — там отменяются эти мертвые
закономерности»1. Богатство человеческого прошлого не может
уместиться в какие-либо статистические, социологические или
экономические схемы. Развитие общества приводит к появлению
«исторического нового», ранее не бывшего, а значит, и не изученного.
Следовательно, предметом истории и философии истории является
«процесс, а не застой, рост, а не неподвижность, жизнь, а не
смерть»2.
Подобное понимание предмета истории, на наш взгляд,
убедительно показывает определенную некорректность вывода С.С. Хо-
ружия о приверженности Флоренского «статической онтологии».
По мнению исследователя, он «систематически устраняет все
динамические представления, изобретательно заменяя их
статическими»3. Философия истории Флоренского, напротив, убеждает в
динамичном видении им процесса развития социума.
Отрицание исторических закономерностей не означает
отрицания смысла истории, существует «живое единство культуры»,
опирающееся на «единство целей, царство целей, возглавляемое
Целью всех целей, Богом»4. Следовательно, история телеологична, в
ней прослеживается иерархия целей, которую и должна изучать
историософия. В этой связи становится понятным, что если объекты
природы взаимодействуют на основе закономерностей, то единство
культуры и истории достигается «через целеустремленность».
Поэтому гуманитарные науки, «объединены не только не меньше, но
даже гораздо глубже, чем науки о природе»0. При этом они
являются именно науками, ибо «не распыляются в беспредельности и
случайности своих предметов», а стремятся понять «высшую задачу
культуры», ее сокровенный смысл.
Историософия может не только выявить общий смысл мировой
истории, опираясь на правильно понятый «иерархизм целей», но
исходя из него, и дать оценку деятельности людей, направленной на
развитие идеального общества, а вернее, «отметить известные
схемы, которые более или менее были реализованы в соответственных
' Флоренский ПА. Соч.: В 4 т. Т. 3. Ч. 2. С. 17.
2 Там же. С. 18.
ъХоружий С.С. После перерыва. Пути русской философии. С. 129.
4 Флоренский ПА. Соч.: В 4 т. Т. 3. Ч. 2. С. 23.
5 Там же. С. 24.
360
явлениях истории»1. Эти схемы сводятся к двум антиномичным
социальным идеалам: к теократии и к анархии. Теократия — при
полном ее развитии — определяет всю жизнь людей «изнутри,
подчиняя ее вселенской правде», при этом каждое сословие занимает
свою иерархическую нишу, выполняя свое социальное служение.
П. Флоренский солидаризируется с К.Н. Леонтьевым, также
утверждая, что «общая черта иерархического строя — внутренняя
стройность, многообразность в единстве»2. Анархизм, напротив,
при своем последовательном развитии ведет к человекобожию, при
нем человеческая жизнь «определяется извне столкновениями
отдельных интересов», он ищет «лишь одно единство» — «гармонию
эгоизмов». Типические характеристики «анархического строя —
внутренняя нестройность, однообразность в дробности»3. Анархизм
в понимании Флоренского обладает многими чертами
западноевропейского демократического общества. Исходя из этих оценок
понятно, что теократия есть «безусловно желанный строй общества»,
но он не осуществим в земной истории, ибо у людей существует
«любовь ко злу». Только в результате эсхатологического
переворота может установиться подлинное «Бого-правление», ибо тогда
произойдет «качественное изменение природы человека и формы
его жизни»4.
Хотя идеальная форма человеческого общества в земных
условиях недостижима, из этого не следует, что люди не должны
стремиться к «нормальной организации» социальной сферы жизни.
Важное значение в уяснении взглядов П. Флоренского на
«нормальную организацию» общества имеет его работа
«Предполагаемое государственное устройство в будущем»5. Она относится к
1933 году, то есть к периоду, когда мыслитель находился в
заключении, и поэтому ее содержание в какой-то мере «приспособлено к
задачам следствия». Однако можно согласиться с игуменом
Андроником (Трубачевым), отметившим, что философ в своем трактате
попытался «высказать и свои истинные взгляды на целый ряд
вопросов государственного развития»6. В анализируемой публикации
Флоренский следующим образом определяет суть «разумного госу-
1 Флоренский U.A. Соч.: В 4 т. Т. 1. С. 196.
2 Там же. С. 198.
3 Там же.
4 Там же. С 204.
5 См. там же. Т. 2. С. 647—681.
6Тамже.С804.
361
дарства»: она состоит в способности «сочетать свободу проявления
данных сил отдельных людей и групп с необходимостью направлять
целое к задачам, неактуальным индивидуальному интересу». Иными
словами, государство должно реализовывать принцип «единства во
множестве» или «многообразности в единстве». Но этот принцип
является со времен славянофилов критерием соборного устройства
общества. Соборность, как известно, с одной стороны, не допускает
«размывания целого», атомизации социальной сферы, но, с другой
стороны, она выступает и против «разложения личности», против
превращения ее в «простой придаток целого». Отсюда понятно, что
для Флоренского неприемлемы и «бюрократический абсолютизм»,
нивелирующий множественность, и «демократический анархизм»,
разлагающий целое. Реализация принципа соборности, по мнению
мыслителя, возможна при разделении задач государства на
формальные и содержательные. Первые концентрируются в
политической сфере, которая требует предельной централизации, а значит, и
верховного единоначалия. Никакие представительные формы
правления «не смогут вывести человечество из тупиков и болот», они
приводят к параличу воли, и только «лицо, обладающее интуицией
будущей культуры, лицо пророческого склада» способно открыть
новый период истории. При этом правитель государства несет
ответственность за государственные решения, но принимает он их на
основе коллективного разума, совещаясь столько, сколько это
необходимо, с «наиболее осведомленными и заслуживающими
доверия гражданами».
Вторая сфера государственной жизни, составляющая ее
содержание, слагается «из богатства индивидуальных, групповых,
массовых проявлений человеческой активности», — к этим проявлениям
относится национальное своеобразие народов, населяющих Россию.
Разнообразие народных культур, традиций дает возможность
государству иметь «такое богатство характеров, интересов жизни...
экономических преимуществ, которых не может быть при монотонном,
однообразном населении». Индивидуализация возможна также в
сфере экономики, просвещения, искусства, религии и т.д.
Например, допускается разнообразие типов школ, программ и способов
обучения, а общегосударственной инспекции следует следить лишь
за их соответствием «некоторому четко выраженному минимуму
необходимых требований». При этом, давая современное образование
ученикам, школа не должна забывать о воспитании, более того, оно
должно «быть поставлено на первое место». В результате дети,
окончившие школу, будут обладать физическим и духовным
здоровьем, им необходимо не только усвоить знания, но и овладеть
362
приемами их практической реализации. Последовательная
децентрализация (с вытекающей из нее конкуренцией) должна быть
осуществлена в сельском хозяйстве и промышленности. В этих сферах
действуют хозяйственные организации различных видов
собственности. При этом особое значение приобретает как в сельском
хозяйстве, так и в промышленности качество производимой
продукции, рациональное использование природных ресурсов. Решающее
значение в прогрессивном развитии производственной сферы
принадлежит технике, уровень которой обусловлен научными
достижениями. В этой связи понятно, что государство должно иметь четкую
программу «рациональной постановки научного исследования».
Исходя из общих установок на «децентрализацию
культурно-экономической жизни» следует шире развивать провинциальные научные
центры. Формулируя задачи, которые требуют научного решения,
правительство «не должно приказывать творчеству», но бережно
сохранять научную индивидуальность.
Особое значение для государства имеет поиск творческих
личностей, способных возглавить тот или иной участок
хозяйственной, культурной, политической деятельности. Решение данной
задачи сложно по двум причинам: во-первых, «творческая
личность — явление редкое... и выискивать ее надо по крупицам»,
во-вторых, массовое сознание часто не имеет способности
правильно оценить творческую личность, ибо она «чаще всего
замкнута в себе, угловата, мало приспособлена к тому, что называется
общественной деятельностью». Отсюда понятно, что для
выявления творческих личностей государству необходим индивидуальный
подход к человеку, продуманная система оценок его способностей.
И даже это не избавляет от ошибок, ибо «творческая личность, как
некоторое новое явление в мире, никогда не может быть загодя
установлена с гарантией». Наконец, еще один важный аспект этой
темы: способности человека не зависят от его сословной или
классовой принадлежности, их обладатели могут быть «в любой
общественной среде». Поэтому и искать творческую личность надо
всюду, «под покровом всякой деятельности». «Разумное государство»,
определяя свой исторический путь, не может просто копировать
«заграничные модели», так как «условия нашей страны иные», —
оно должно разрабатывать самобытную, индивидуальную
программу развития. Более того, государству необходимо создать такие
внешние и внутренние условия, при которых бы оно не «нуждалось
во внешнем мире и по возможности не вмешивалось бы в него».
Подобный изоляционизм способен будет оградить Россию от разла-
363
гающего влияния «ядовитой» буржуазной культуры. В то же время
сношения с Западом должны поддерживаться с целью изучения его
научно-технических достижений, следует «чутко присматриваться к
заграничному опыту».
Целью предлагаемых преобразований выступает
интенсификация социально-экономического развития России, опирающаяся на
«баланс наличных исторических сил». Этот «баланс» не
предполагает какой-либо реставрации дореволюционных порядков,
напротив, он указывает на необходимость отказа от элементов прошлого,
переставших быть «исторически реальными». Катаклизмы, которые
пережила страна, «развал российской истории» необходимо
загладить «стабильным и спокойным ростом в предстоящие годы». В
число приоритетных задач государства должна входить и «забота о
быте». Без быта нет «вкуса жизни», он определяет самочувствие
граждан, их здоровье, работоспособность, патриотизм, все это
можно назвать одним словом — «тонус жизни». Государству ни в
коем случае не нужно заниматься «унификацией, нивелировкой
быта», напротив, ему следует стремиться к сохранению его
«богатства и разнообразия». Одной из важных сторон бытового уклада
является религиозность человека, определяющая своеобразие
«внутренней жизни личности». Государство провозглашает
принципы свободы совести, допуская «свободу религиозной и
антирелигиозной пропаганды». Исторический опыт России показывает, что,
когда «религию навязывают, от нее отворачиваются», но из этого
факта не следует, что государственный индифферентизм по
отношению к конфессиям является идеалом. Православие будет
преодолевать переживаемый кризис, и именно от него через несколько лет
следует ожидать «рост молодых побегов». Тогда государство
должно будет определиться с «конфессиональными расчетами», ибо
«оно нуждается в религиозном углублении жизни и будет ждать
такового». Конечно, в религиозных вопросах Флоренский в силу
особой активности в 30-е годы XX века «воинствующих безбожников»
и репрессивного аппарата должен был проявлять особую
сдержанность и недосказанность.
Оценивая в целом трактат «Предполагаемое государственное
устройство в будущем», можно отметить, что он продолжает
консервативную линию отечественной философии истории,
обнаруживая особенно много созвучий со взглядами К.Н. Леонтьева. В то же
время консервативные принципы сочетаются с современными
задачами общества, со стремлением максимально развить способности
людей, их индивидуальные особенности. Преобразования в сфере
364
сельского хозяйства и промышленности, в науке и культуре не
только не консервируют отжившее, а, наоборот, призваны
способствовать динамичному прогрессу России.
Да, мыслитель выступает за запрет оппозиционных, точно так
же, как и лояльных, по отношению к власти партий, ибо и те и
другие «разлагают государственный строй»; он сторонник жесткой
централизованной власти. С точки зрения буржуазной демократии
эти тезисы, безусловно, реакционны, с позиции же отечественной
традиции они подчеркивают особую роль государственного начала в
социальной сфере. Как показывает опыт последнего десятилетия,
многопартийность сама по себе не является ни гарантом
демократического развития социума, ни эффективным средством
прогрессивных преобразований. Поэтому мы не можем согласиться с
выводом уважаемого профессора А.Ф. Замалеева о том, что
«политическая философия Флоренского была во всех отношениях не
только консервативна, но и реакционна»1. Реакционность выступает за
этернизацию исторически отживших порядков, она видит в
общественном развитии лишь деструктивные начала, ее идеал в прошлом,
а не в будущем. Эти признаки не только не свойственны взглядам
Флоренского, но он выступает с их последовательной критикой.
Сама же форма правления, открытость или закрытость страны к
международным контактам не могут служить исчерпывающим
критерием прогрессивности или реакционности того или иного
государственного устройства.
Важную часть историософского наследия П.А. Флоренского
составляет интерпретация истории России, опирающаяся во многом
на славянофильское учение. Со славянофилами богослова
сближало прежде всего особое отношение к православию как основе
национального самосознания. Он солидарен с A.C. Хомяковым и его
соратниками в том, что «все русское у нас затирается», и относит
себя к направлению, стремящемуся «к церковности и к
самобытности народной»2. Близко ему славянофильское стремление
преобразовать русскую жизнь на православных началах. Не случайно в
книге «Столп и утверждение Истины» он пишет: «Читатель,
вероятно, не преминет заметить значительного сродства теоретических
идей славянофильства с идеями предлагаемой книги»3.
1 Замалеев А.Ф. Лекции по истории русской философии. СПб., 2001. С. 340.
2 Переписка П.А. Флоренского и В.А. Кожевникова//Вопросы философии. 1991.
№ 6. С. 47.
3 Флоренский П.А. Столп и утверждение Истины. С. 608.
365
Флоренский вслед за славянофилами также считает, что на
Руси «христианство попадает в души младенческие, и все
дальнейшее возрастание их, все внутреннее их устроение совершалось под
прямым водительством Церкви»1. Однако, развивая
славянофильские тезисы, Флоренский делает новые акценты при оценке
последствий христианизации Древней Руси, объясняя специфический путь
России не только принятием православия, но и особым
покровительством Софии. Решающим историческим событием с этой точки
зрения выступает строительство софийных храмов и появление
впервые на Руси ее иконы, ставшей «народной святыней» и
«покровительницей новопросвещенного народа».
Однако софийность — это лишь один из принципов
православной русской культуры, сформировавшейся в Киевской Руси, он
раскрывается «под знаком идеи о божественной восприимчивости
мира». Вторым принципом отечественной культуры является
«догматический и художественный символ Пресвятой Троицы». Он
начинает доминировать в московский и петербургский периоды
русской истории, то есть на этапе «оформления народа в государство».
На первый план выходит уже другая идея — «о воплощающемся,
превышемирном начале ценности»2. Эти две основные идеи
русского духа, по мнению мыслителя, приводят к выдвижению в центр
жизни «духовных ценностей», религиозные проблемы начинают
доминировать над всеми другими вопросами, в том числе и
социальными. Отсюда понятно, почему в России «церковность входит в
жизнь, пропитывает собою весь быт, делается неразрывной частью
народного характера»3.
Существенный удар по православному образу жизни нанесли
реформы Петра I: они «разорили православный быт», оторвали от
него так называемое «образованное общество», и с этого момента
начинается раздвоение народного и интеллигентского сознания.
Укорененность в православную церковность дает возможность
народной душе, в отличие от интеллигентского сознания, сохранить
органичность и целостность. Русский богослов подчеркивает, что
«знание крестьянина — цельное, органически слитное, нужное ему
знание, выросшее из души его; интеллигентное же знание
раздроблено, но большей частью органически вовсе не нужно ему, внешне
1 Флоренский ПА. Столп и утверждение Истины. С. 772.
2 См.: Флоренский ПА. Троице-Сергиева лавра и Россия//0, Русь, волшебница
суровая. Н. Новгород, 1991. С. 215.
3 Флоренский ПА. Соч.: В 4 т. Т. 1. С. 641.
366
взято им на себя»1. Сторонники европоцентризма, утверждающие,
что «существует только одна культура — европейская», обвиняют
русское крестьянство «в бескультурности, дикости и суевериях».
Однако для Флоренского совершенно очевидна ложность подобного
тезиса, он справедливо отмечает, что «православный православен
не только в догматах, и, может быть, менее всего в них», а в том,
что он «сын православной культуры».
Православная культура опирается на три главные сферы —
«Церковь, быт, природа». В православии отсутствует резкое
разделение на клир и мирян, и «верующий народ и есть Церковь»;
другая сторона православной церковности — «перевес культа, и в
частности обряда, над учением». Быт у русского крестьянина также
строится на церковных началах, но если в храме он «по
возможности забывает свое человеческое», то вне храма «на первое место
выступает человеческое, которое ищет у Бога благословения
себе»2. Наконец, третья сфера, к которой религиозно относится
русский народ, — это природа. С ней крестьянин живет одной
жизнью, и «отношения его к природе то любовны, нежны и
проникновенны, то исполнены странной жути, смятения и ужаса, порою же
властны и своевольны»3. В начале XX века, по мнению
Флоренского, происходит интенсивное разложение православной культуры.
Разделяя консервативные принципы, он считал, что «гнилостными
организмами», способствующими этому процессу, являются
технический прогресс, «освободительные идеи и газетчина»4. Особо
следует подчеркнуть внимание мыслителя к роли средств массовой
информации, к их способности «деформировать народное сознание»,
навязать ему поклонение идолам, а не идеалам. Он предупреждал,
что «в известных случаях слова могут быть насыщены диавольской
энергией»5.
Флоренский остро чувствовал и переживал гибель
традиционной России: «движение культурной истории» не только меняет
образ жизни людей, но и «ломает православие». Не случайно
философ признавался, что глубоко осознал «тщету дел человеческих»,
притом не только в индивидуальной, но и в социальной сфере. Об
этом, как считает мыслитель, свидетельствует и революционное
1 Флоренский U.A. Оправдание космоса. С. 33—34.
2 Флоренский П.А. Соч.: В 4 т. Т. 1. С. 651.
3 Флоренский ПА. Оправдание космоса. С. 34.
4 Флоренский U.A. Соч.: В 4 т. Т. 1. С. 664.
5 Там же. С. 692.
367
время, которое «было так тяжело, как только можно было себе
представить», и «Бог знает сколько еще продлится»1.
Опыт Западной Европы и революционной России, выдвинувших
на первый план социально-экономические проблемы, убеждает, что
подобная ценностная ориентация неизбежно «подавляет
божественные энергии в человеке», то есть «приводит к религиозному
индифферентизму или даже к «безверию». Освободить человека от
религиозной веры, то есть «секуляризовать его», означает для
философа «беспощадное уничтожение личности».
Анализ современной ситуации в России показывает, что
«светлое будущее» наступит еще нескоро, но перелом и в мировой, и в
отечественной истории обязательно будет. Промысел божий дает
веру, надежду на то, что «кризис очистит русскую атмосферу, даже
всемирную атмосферу». В результате безверие исчерпает себя, а
«нигилизм докажет свое ничтожество, всем надоест, вызовет
ненависть к себе и тогда, после краха всей мерзости, сердца и умы, уже
не по-прежнему вяло и с оглядкой, а наголодавшись, обратятся к
русской идее, идее России, к святой Руси»2. Предвидение
Флоренского постепенно начинает сбываться: в России появляются, пусть
еще робкие, признаки ее духовного обновления.
Пафос историософии Флоренского заключается в утверждении
жизненности религиозных начал: они не могут оставаться только в
сфере чистой мысли, а призваны преобразовывать весь тварный
космос, социальную и индивидуальную жизнь людей. И в этом
плане П.А. Флоренский — очень русский философ, остро
чувствующий «недостаточность и коренную ущербность» сугубо
материальных интересов человека, его исключительную ориентацию на
«вещные блага».
П.А. Флоренский и православное богословие
В послереволюционный период Русская православная церковь
оказалась в очень сложной ситуации. Поэтому оригинальные идеи в
богословии, выработанные в начале века, на время были забыты.
Как отмечают сами богословы, «первый интерес» к трудам П.А.
Флоренского наблюдается уже среди студентов возрожденной
Московской духовной академии в 1945—1946 годах. Однако только в
начале 60-х годов начинается широкомасштабное изучение и
собирание его сочинений, вследствие этого и приобщение к идейному на-
Флоренский П.А. Детям моим. Воспоминания прошлых дней. Генеалогические
исследования. Из соловецких писем. Завещание. М., 1992. С. 441.
2 Флоренский П.А. Соч.: В 4 т. Т. 2. С. 409.
368
следию Флоренского «стало более интенсивным» . Но даже в этот
период взгляды богослова еще не оказывали заметного влияния на
развитие православной мысли. Процесс модернизации,
предпринятый идеологами церкви, сопровождался проповедью «разумной
веры», требованиями «сознательного усвоения религиозных
истин». Однако эти взгляды вскоре начали беспокоить
ортодоксальных служителей культа, так как модернизированная православная
идеология все более сводилась к чуждым национальному
самосознанию схоластическим построениям. Православные богословы со
всей очевидностью поняли, что «вера, основанная на разуме»,
находится под постоянной «угрозой быть отвергнутой самим
разумом»2. Поэтому в 70-е годы богословы начинают все чаще
признавать, что рациональная интерпретация богословия давно исчерпала
себя, «обнажив не только свою глубокую недостаточность, но и
принципиальную ошибочность»3. Раздается критика теологических
концепций, пытающихся «взглянуть на факты и явления
современного мира с позиций... философско-умозрительных», при этом
собственно религиозная проблематика остается в стороне и на первый
план выходят практические социальные вопросы. Такое богословие
нуждается в «православной корректировке», заключающейся в
ориентации человека «прежде всего на богообщение», на
«духовное делание», на «стяжание даров Святого Духа». Ставится задача
преодоления схоластических влияний на современную
богословскую мысль и возрождения «подлинного православного взгляда на
богопознание», которое является, с богословской точки зрения,
«центральной проблемой всей человеческой жизни».
Особое место в разработке православной гносеологии, по
мнению идеологов современного православия, принадлежит П.
Флоренскому. Именно в силу этого, как отмечалось в 1982 году на
заседаниях, посвященных столетию со дня его рождения, в
Московской и Ленинградской духовных академиях труды богослова
«чрезвычайно актуальны». Флоренский, подчеркивалось в выступлениях
на юбилее, не обращен в прошлое, напротив, он «предвосхитил и
разрешил немало проблем, поставленных секуляризованным сознанием в
новое время»4. В религиозных изданиях в 70—80-е годы XX века
начинается публикация его трудов, идейное наследие мыслителя
1 Журнал Московской патриархии. 1982. № 4. С. 12.
2 Там же. 1972. № 2. С. 64.
3Там же.
4Тамже. 1982. №4. С. 11.
24-6016
369
становится предметом специальных богословских исследований.
Только в Московской духовной академии было защищено
несколько богословских диссертаций, посвященных анализу его воззрений.
Отметим следующие из них: И. Свиридов «Гносеология
священника Павла Флоренского» (Загорск, 1980, рукопись); П. Вишневский
«Богословско-эстетические воззрения священника Павла
Флоренского» (Загорск, 1981, рукопись); иеромонах Андроник (Трубачев)
«Священник Павел Флоренский. Личность, жизнь и творчество»
(Загорск, 1984, рукопись).
Сегодняшние богословы особо подчеркивают отличие П.
Флоренского от представителей «школьного», то есть схоластического,
богословия. Последние занимались «внешней», а не внутренней
стороной исследуемых вопросов, сводя их к логической схеме,
игнорирующей «мистический элемент». Гносеологические же
построения Флоренского есть «попытка философского осмысления задач
религиозного опознания в христианском опыте». Он подходит к
анализу религиозных истин «изнутри», из «глубин церковной
жизни». Такая позиция, как считают богословы, является прямым
продолжением «дела славянофилов», защищавших «живой
религиозный опыт» как источник познания. Вообще следует отметить
стремление нынешних идеологов православия подчеркнуть единство
между славянофилами и Флоренским. И. Свиридов в своей
диссертации специально отмечает, что работу Павла Александровича
«Около Хомякова», в которой негативно оцениваются некоторые
тезисы русского мыслителя, ни в коем случае нельзя воспринимать
«как антиславянофильский манифест», а следует рассматривать
лишь как «критику отдельных моментов, в целом
малосущественных»1. Эту же идею развивает в своем кандидатском сочинении
внук П. Флоренского иеромонах (ныне игумен) Андроник
(Трубачев). По его мнению, разногласия отца Павла с A.C. Хомяковым не
влияют на его «общую оценку славянофильства как символа
русского самосознания». В итоге A.C. Хомяков и П. Флоренский
рассматриваются сегодня как «верные чада православной церкви»,
много сделавшие для развития богословской мысли.
Высокую оценку получает сейчас стремление Флоренского при
анализе проблем богопознания использовать философские
достижения» и «диалектический метод». В русской философской
традиции, как считают представители церкви, можно выделить два
подхода к выработке систем религиозной философии. Первый состоит
«во внедрении догматических принципов в философию», второй
1 Свиридов И. Гносеология священника Павла Флоренского. Рукопись. С. 15.
370
опирается на противоположный процесс, когда «философские
принципы вводятся в богословие». Последний путь приводит к
выдвижению на первый план философских проблем и в конечном
итоге наносит вред религии. Подобный пример, с их точки зрения,
продемонстрировало большинство представителей «религиозного
ренессанса» начала XX века. В силу преобладания философского
элемента их «концепция страдала отсутствием четких критериев в
понимании отношений Абсолюта и космоса», возникала «расплыв-
чивость и путаница» в трактовке церкви и критериев
«правильности религиозного опыта». Флоренский же принадлежит к первому
лагерю в понимании соотношения религиозных и философских
начал. Поэтому в его работах никогда «не было подмены
существенных богословских понятий философскими». Труды отца Павла, по
мнению иеромонаха Андроника, «не позволяют отнести их ни к
собственно богословию, ни к философии. Это христианская
философия, сложившаяся в русле богословия Русской православной
церкви»1. Церковность Флоренского предопределила негативное
отношение к его философским интуициям со стороны ряда русских
философов начала XX века, и особенно Н. Бердяева. Публикации
последнего, направленные против «Столпа и утверждения
Истины», характеризуются современными богословами как проявления
«несдержанной злости» оскорбленного «нового религиозного
сознания»2.
Выпады же Г. Флоровского против Павла Александровича
рассматриваются в общем контексте оценки его работы «Пути
русского богословия». В этом труде «он мало кого "помиловал" в истории
русского богословия, что во многом снижает объективность оценок
в его книге»3.
Рассматривая возможность применения в богословии
«диалектического метода», теологи отмечают, что философов, пусть и
религиозно настроенных, он все же приводит к «умозрительным
выводам», к беспредметным надеждам разумом проникнуть в
сущность религиозных истин. Совершенно иначе подходит к вопросам
диалектики Флоренский. У него «диалектический метод» не
сводится к рассмотрению при помощи разума нагромождений «да» и
«нет», а служит средством обнаружения «высшего единства», вы-
1 Андроник (Трубачев), иеромонах. Священник Павел Флоренский. Личность,
жизнь и творчество. Рукопись. С. 176.
2 См.: Свиридов И. Гносеология священника Павла Флоренского. Рукопись. С. 8.
3Журнал Московской патриархии. 1989. № 4. С. 65.
рабатывает «жизненный импульс» к общению «со Святым духом в
церковной ограде».
К заслугам Флоренского современные идеологи православия
относят и «энциклопедичность его работ», проявляющуюся в том,
что при создании христианской гносеологии он «смело обращается
к различным сферам знания». При этом особо отмечается вторич-
ность «научных увлечений» богослова, так как «сама широта и все-
охватность его научных интересов истекает из богословия»1.
Нынешние церковные деятели вслед за Флоренским заявляют о
служебных, подчиненных функциях секулярного знания по отношению
к религиозным истинам. Отсюда понятно, что их привлекает
стремление богослова «воцерковить светское знание». В обосновании
этой программы, в показе ее эффективности и заключается, с их
точки зрения, одно из важнейших достижений гносеологии
Флоренского, так как она продемонстрировала «обреченность» научных
атак на религию.
В то же время богословские круги Московской патриархии
постоянно подчеркивают, что они не отвергают разум как
«инструмент познания». Обоснование этого тезиса во многом черпается из
трудов П.А. Флоренского. Вслед за философом богословы
разделяют понятия «цельного разума» и разума, существующего в
«рассудочно-рациональной форме».
С их точки зрения человеческий ум не может адекватно
воспринимать религиозные истины лишь в том случае, когда он мыслит «в
категориях рационалистического секулярного мышления». Другое
дело — «цельный, или исцеленный, разум», руководствующийся в
своей деятельности установками веры. Поэтому в основе
церковного богословия должно лежать «цельное знание, достигаемое
приведением разума в послушание в вере». Подобное «послушание»
удовлетворяет высшим интеллектуальным запросам личности, ибо
возводит «ум к предельной высоте богословия, какой является
ведение пресвятой Троицы»2. В результате приобщения к Богу
возникает «мистическое единение между ним и человеком», происходит
«преображение личности». Следовательно, православная
гносеология с необходимостью имеет «сотериологический аспект», то есть
связана со спасением души. Между «правильным богопознанием и
духовностью личности», приводящей к загробному воздаянию,
существует неразрывная связь. Отсюда и сегодняшние богословы
1 Журнал Московской патриархии. 1982. № 5. С. 73.
2Тамже. 1984. №8. С. 21.
372
признают «глубокий онтологизм», содержащийся в церковном
мышлении. Более того, с их точки зрения именно «священник
Павел Флоренский дает строгое и исчерпывающее обоснование того,
что апостольское определение церкви есть определение
онтологическое»1.
Итак, даже краткий анализ современного православного
богословия показывает существенное влияние на него идейного
наследия П.А. Флоренского. Проблемы богопознания, православной
духовности, философии культа, культурологии разрабатываются под
непосредственным воздействием трудов русского мыслителя. При
этом священнослужители подчеркивают, что интерес к работам
П. Флоренского «постоянно увеличивается», так как «его слово о
Боге чрезвычайно актуально и действенно»2. Следовательно,
творчество о. Павла не обращено в прошлое, его значение для
богословия будет все более и более возрастать.
Однако в современном православном богословии встречаются и
критические оценки творчества о. Павла. Речь прежде всего идет о
софиологии, которая характеризуется как «направление
модернизма», разрывающее связь с православным преданием. В результате
в традицию православного богословия необоснованно вводится
«учение гностического характера». Но в целом такие резко
критические оценки П.А. Флоренского современной православной мысли
несвойственны.
Митрополит Владимир (Сабодан), на наш взгляд, выразил
наиболее распространенную точку зрения на наследие о. Павла,
существующую в сегодняшней православной мысли. П.А. Флоренский
критикуется за чрезмерную «вовлеченность в платоновскую
традицию», за «софийные устои», приводящие к недооценке христоло-
гии. В то же время отмечается, что взгляды о. Павла имеют
«несомненную научно-богословскую и религиозную ценность»3.
Исследования, посвященные Флоренскому, как у нас в стране,
так и за рубежом, будут выходить вновь и вновь. Подобное
внимание обусловлено тем, что философ стремился преодолеть
бездуховность в человеке, он призывал его «собирать прежде всего
духовные богатства», последовательно отстаивал приоритет духовных
ценностей перед материальными благами.
1 Журнал Московской патриархии. 1987. № 3. С. 73.
2 Там же. 1982. №7. С. 24.
3 Владимир (Сабодан), митрополит. Экклезиология в отечественном
богословии. С. 295.
373
В то время, когда «официальная церковь повторяла старое, а
интеллигенты отошли от веры», Флоренский «искал новых путей в
вере»1, сумев сочетать церковность с интеллектуальным
творчеством и высочайшей культурой. А.Ф. Лосев, конечно, прав,
утверждая, что в исканиях Павла Александровича выражено «отчаяние
перед наступлением нового века», однако, несмотря на «чувство
катастрофичности», он был убежден в великой будущности России.
Конечно, Флоренский, как и всякий исследователь, не может
претендовать на истину в последней инстанции, он и сам критично
относился к своим работам, отмечая, что «недостаточно выполнил
те задания, которые себе поставил». Но, безусловно, он один из
интереснейших отечественных мыслителей. Один из тех, о ком, как
подчеркивал С.Н. Булгаков, «история будет писать
"жизнеописание", если не "житие"»2.
1 Бибихин В.В. Из рассказов А.Ф. Лосева//Вопросы философии. 1992. № 10.
С. 141.
2 Неопубликованные письма С.Н. Булгакова к В.В. Розанову//Вопросы
философии. 1992. № 10. С. 153.
Глава 12
H.A. БЕРДЯЕВ
Становление взглядов
Николай Александрович Бердяев (1874—1948) прожил долгую,
богатую событиями жизнь. Его взгляды также претерпели сложную
эволюцию. Не принимая социалистическую революцию,
установление тоталитарного режима, массовые репрессии в СССР, он в то
же время переживал «судьбу русского народа как свою
собственную судьбу». Понятна неудовлетворенность философа тем, что
несмотря на мировую известность и широчайшее признание, все-таки
есть «одна страна, в которой меня почти не знают, это моя
родина»1. Сейчас имя Бердяева в России широко известно, изданы
многие его работы, но пока сделаны только первые шаги в изучении
его наследия, ведь одних книг Бердяев написал более сорока.
Предстоит трудная, но благодарная работа по освоению философского
наследия выдающегося русского мыслителя, по научному изданию и
изучению его трудов.
Бердяев принадлежал к экзистенциально ориентированному
течению русской мысли, которое исходило из примата личного начала
над социальным. Он писал: «В иерархии духовных ценностей
первое место принадлежит личности, второе место обществу и лишь
третье место государству»2.
Подобная философская позиция формировалась путем сложной
эволюции мировоззрения мыслителя. В начале Бердяев —
легальный марксист, правда, и в этот период он не был материалистом.
Философ сам отмечал, что для его «философского и духовного пути
очень характерно», что он «никогда не был материалистом»3.
Среди идейных источников взглядов мыслителя можно назвать
немецкую классическую философию. «Критику чистого разума» Канта и
«Философию духа» Гегеля Бердяев прочитал в 14 лет, взяв эти
книги из домашней библиотеки. В более зрелом возрасте он
основательно изучил Фихте, и идеи немецкого мыслителя, связанные с
этизацией философии, были ему близки. В кантовском наследии
его прежде всего привлекали идеи об активности субъекта как в
1 Бердяев Н. А. Самопознание. М., 1990. С. 322.
2 Бердяев НА. О назначении человека. М., 1993. С. 175.
3 Бердяев H.A. Самопознание. С. 87.
375
познавательной, так и в этической сферах, а также отношение к
человеку как к цели, а не как средству для кого-либо. Отсюда
становится понятным заявление философа о том, что он «более всего
прошел школу Канта», хотя мыслитель «никогда не был человеком
школы»1. К числу идейных источников взглядов Бердяева можно
отнести и таких «личностно ориентированных» мыслителей, как
Августин, Паскаль, Шопенгауэр, Кьеркегор и Ницше. Однако речь
идет не о заимствованих, а о творческом переосмыслении
антропологических тем, содержащихся в трудах этих корифеев западной
философии.
Несмотря на оригинальность экзистенциальных установок для
русской философской традиции, взгляды Бердяева имеют и
отечественную идейную основу, речь прежде всего идет о православной
духовной традиции.
Критично оценивая католицизм, протестантизм и даже
православие, Бердяев все же, безусловно, отдавал предпочтение
восточному христианству. Несмотря на то что протестантская
индивидуализация христианства «формально отвечает духу экзистенциальной
философии», он ее не приемлет. Мыслитель подчеркивает, что
«русская идея христианской свободы» принципиально отличается
от «мысли протестантской». Если в последней личная свобода в
«делах веры» выступает как непримиримый антагонист
авторитаризму католицизма, то православная проблема свободы «ставится
совсем не в противоположение церковного авторитета и
индивидуализма»2. Органическое понимание церкви, выраженное в
соборности, снимает антиномию индивидуализма и авторитаризма.
Для западноевропейского сознания учение о соборности
труднодоступно и в силу того, что оно «почти непередаваемо на
иностранных языках», и по причине схематизма «мысли протестантской и
католической, всегда склонной к противоположению авторитета и
индивидуума»3.
Русская духовная традиция не сводит христианскую свободу
лишь к борьбе «за права индивидуума, защищающегося и
разграничивающегося с другими индивидуумами», то есть она не
ограничивается формальными и бессодержательными ее
характеристиками. Отечественной мыслью, по мнению Бердяева, «проблема
свободы ставится на большей глубине».
1 Бердяев H.A. Самопознание. С. 58.
2 Там же. С. 19.
3Тамже. С. 13—14.
376
Действительно, если индивид «добровольно входит в церковную
ограду», тогда «церковь не может быть для него внешним
авторитетом». В этом случае свобода трактуется не как «формальное
право», а как содержание человеческой деятельности, «как
обязанность христианина». Поэтому в русской мысли и жизни «свобода
есть бремя и тягота, которую нужно нести во имя высшего
достоинства и богоподобия человека»1. Подобные установки не могут быть
«понятны индивидуалистически», их реализация требует
определенного отношения к другим людям, ибо без этого невозможно
«осознание своих обязанностей». Само превращение человека в
личность предполагает «другие личности и сообщество личностей».
Однако как же быть с одной из главных позиций Бердяева,
утверждающей антагонизм личности и общества, свободы и социума?
Ведь это он последовательно выступает против «тирании общества
и общественного мнения над духовной жизнью личности и над
свободой ее нравственных оценок». Однако с его точки зрения
«врагом личности является общество, а не общность, не соборность».
Социум воспринимается как «внешняя среда», ограничивающая
личность, соборность же есть «органическое развитие» внутренних,
сущностных потенций человека. Создать подобную «соборную
среду» в рамках секулярного общества невозможно, она доступна для
человека только в подлинной церкви Христовой, вмещающей «в
себя личность человека и свободу человека»2. Вся сложность
достижения этой цели заключается в том, что сама церковь в реальном
историческом процессе может быть «понята двояко», с одной
стороны, она выступает как «духовная соборность», с которой «я
соединяюсь в свободе», но, с другой стороны, как экклезия и
«социально организованная историческая группировка, способная
внешне насиловать мою совесть и лишать мои нравственные черты
характера чистоты, свободы и первородности, то есть быть
«общественным мнением»3.
Доминантной темой христианства является сотериология, то
есть учение о спасении, которое по-разному понимается
различными конфессиями. Для Бердяева неприемлем «трансцендентный
эгоизм», сводящий задачи христиан лишь к индивидуальному, личному
спасению. Эта концепция разрушает «интегральное», соборное
понимание церкви, истощает духовные творческие силы церковного
1 Бердяев H.A. О назначении человека. С. 65.
2 Бердяев H.A. Философия неравенства. С. 187.
3 Бердяев H.A. О назначении человека. С. 151.
377
организма. Индивидуализация христианской сотериологии лишает
личность «социальной перспективы бытия». Бердяев не может
согласиться с теми, кто утверждает, что эгоистическое понимание
спасения сочетается с идеей церковности. Напротив, он считает,
что подобный подход подвергает реальность церкви
«номиналистическому разложению». Тезис православия о том, что можно
спастись лишь в церкви, утверждает «соборность спасения, спасение в
духовном обществе и через духовное общество»1. Именно в
утверждении «соборности спасения» будущее христианства и ответ на
вопрос о предстоящем земном существовании человечества. Или
христианство будет господствовать «в небольшом уголке
человеческой души», спасая отдельно избранных индивидов, или оно станет
духовной энергией, преобразующей «жизнь человеческих обществ
и культур»2.
Итак, православное понимание церкви как единства во
множестве, православная сотериология, требующая и максимальных
индивидуальных усилий и в то же время считающая, что спасая
себя, ты должен думать и о спасении других, наконец, наличие в
православии различных богословских мнений, неприятие им
католического авторитаризма и протестантского индивидуализма,
безусловно, оказали формирующее влияние на мировоззрение
H.A. Бердяева.
Сложнее обстоит дело с влиянием на мыслителя русской
философской традиции. Бердяев высоко оценивает многие положения
славянофильства — такие, как учение о соборности и о
религиозной свободе, о русском мессионизме, антибуржуазную
направленность их взглядов. Поэтому не случайно он много писал о
славянофилах и их главному идеологу — A.C. Хомякову — посвятил даже
специальную монографию, одну из лучших своих книг.
Особое значение идей славянофильства проистекает, по его
мнению, из того обстоятельства, что их основывали не на
«кабинетных измышлениях философов», а брали «из бытия жизни»3. В
то же время даже у Хомякова существует с этой точки зрения
«путаница религиозных и социологических установок», он не
понимает, что соборность как «духовный коллективизм» не может
зависеть «от таких экономических производственных факторов, как
сельская община» и т.д.
1 Бердяев H.A. Спасение и творчество//Путь. Кн. 1. М., 1992. С. 172.
2 Там же. С. 171.
3 Бердяев H.A. A.C. Хомяков. М., 1912. С. 128.
378
В идейном наследии B.C. Соловьева Бердяева привлекало
прежде всего учение о богочеловечестве, которое характеризуется им
как «основная идея русской религиозной мысли». В целом же
рационалистические установки «философии всеединства» его
интересовали мало, он подчеркивал, что «соловьевцем никогда не был».
Славянофилы и B.C. Соловьев, по мнению Бердяева,
недооценивали значение личностного фактора и в духовной, и в социальной
сфере. Он пытается найти в русской философии «проповедников
примата личного начала над социальным». Казалось, таким
«проповедником» в первый период своего творчества был А.И. Герцен,
идеализировавший положение человека на Западе. Но вскоре тот
убедился, что в так называемых цивилизованных странах «образ
рыцаря заменился образом мещанина-лавочника». Буржуазный
индивидуализм сочетается с мещанством, которое противоречит
духовности и превращает личность «в средство служения вещным
интересам». Следовательно, зрелый Герцен считает, что западная
цивилизация только на словах признает личность «верховной
ценностью». Реально воплотить этот принцип в жизнь, по его мнению,
может только Россия, так как «в русском крестьянском мире
скрыта возможность гармоничного сочетания принципа личности и
принципа общинности, социальности»1. Итак, не западный
индивидуализм, а крестьянская община дает возможность «возродить
подлинное начало личности». Следовательно, Герцен все же не
союзник Бердяева.
H.A. Бердяев обращается к анализу позиции В.Г. Белинского,
провозгласившего, что «судьба субъекта, индивидуума, личности
важнее судьбы всего мира». Но и у него, как вынужден
констатировать Бердяев, бунт против существующего общества «во имя
личности» переходит «в борьбу за новое общее, за человечество, за
его социальную организацию» . И у этого апологета личности в
конечном итоге побеждает тезис «социальность, социальность — или
смерть». Даже русский анархизм, каким его создает М.А. Бакунин,
имеет «антииндивидуалистическую окраску». По мнению Бердяева,
главная слабость мировоззрения Бакунина заключается
«в-отсутствии сколько-нибудь продуманной идеи личности». Хотя русский
анархист и призывает к бунту «против сил, подавляющих
человека», в конечном итоге у него «личность остается подчиненной
коллективу и она тонет в народной стихии»3.
1 Бердяев H.A. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 30.
2 Там же. С. 34.
3 Бердяев H.A. Русская идея//Вопросы философии. 1990. № 2 . С. 98.
379
Взгляды Герцена, Белинского, Бакунина и других революционно
настроенных мыслителей, по мысли Бердяева, раскрывают
«роковую диалектику в развитии революционно-социалистической и
атеистической мысли». Ее суть заключается в том, что,
ниспровергая старое общество, они подавляют личность новой социальной
организацией, в результате происходит забвение самой
человеческой личности, отрицание ее права «на творчество и на духовное
обогащение»1.
Бердяев в своих работах признается в «своей обособленности»
в отечественной мысли. Но несмотря на свои многочисленные
филиппики против «террора среды», он все-таки не смог полностью
порвать с русской философской традицией. Обоснование примата
духовных ценностей над материальными, этизация социальных
проблем, критика рационалистического мировоззрения и т.д. делают
Бердяева именно русским мыслителем.
Основные философские интуиции
H.A. Бердяев, как мы уже отмечали, принадлежал к
отечественной экзистенциальной философии, более того, вместе с Л.
Шестовым он был основателем в России этого течения мысли. Само
название «экзистенциализм» происходит от латинского exsistentia —
существование. Речь идет, прежде всего, о существовании
человека, о смысле и о ценностях человеческой жизни. Реабилитация
личностного начала, защита суверенных прав на независимое
существование человека становятся главными темами этого направления
мысли.
Отсюда понятно, почему у Бердяева многократно встречаются
констатации «неразвитости личного начала в русской истории». В
отличие от славянофилов, для которых отсутствие рыцарства в
русском государстве было благом, для него это — «горе». Именно
этим объясняется то, что «личность не была у нас достаточно
выработана, что закал характера не был у нас достаточно крепок.
Слишком великой осталась в России власть первоначального
коллективизма»2. Эта власть выразилась, по мнению философа, в
сохранении сельской общины, в «размытости» личной
ответственности и личной инициативы. Этот коллективизм консервировал
старое и мешал утверждению нового, он был свидетельством «не
нового, а старой нашей жизни, остатком первобытного натурализма».
1 Бердяев H.A. Истоки и смысл русского коммунизма. С. 47.
2 Бердяев H.A. Философия неравенства. М., 1990. С. 134—135.
380
Вот почему у Бердяева так много критических выступлений против
«славянофильской архаизации отживших порядков». В этом
мыслитель солидаризируется с западниками, но в целом он их
программу не разделял, ибо «западничество совсем не признавало ценности
национального»1. Русский философ не принимает многие ценности
западной цивилизации, он постоянно подчеркивает, что является
противником буржуазности, ибо она гасит «жажду преображения
мира и преображения своей жизни». В этой связи он признается,
что «всегда не любил буржуазный мир». Западноевропейские
народы в ходе своей истории развивали личное начало, формировали
активность человека в социальной сфере, но они извратили
иерархию ценностей, заставив служить индивида «не Богу, а мамоне».
Западный мир не смог удовлетворительно решить и проблему
взаимоотношения личности и общества. Личностное начало
вырождается в индивидуализм, люди начинают рассматриваться как отдельные
атомы, а само общество сводится лишь к взаимодействию
индивидуумов, тем самым человек отрывается «от всех органических
исторических образований».
А поскольку человеческая природа может «суживаться и
расширяться», постольку должна быть понятна динамика этого
процесса. Индивидуализм, эгоистический утилитаризм делают
человеческую природу «маловместительной и невосприимчивой к
источникам творческой энергии». Напротив, когда личность входит в
«иерархию онтологических реальностей», ее границы
расширяются. Итак, индивидуализм не может создать условия для раскрытия
духовного потенциала человека, ибо его нельзя «мыслить вне
общества». В связи с этим делается вывод о том, что для понимания
личности необходимо обращение к ее «жизни в обществе, в
соборности».
Подобная трактовка отнюдь не означает, что мыслитель
выступает против индивидуального своеобразия, напротив, он убежден в
«неповторимо-индивидуальной судьбе» каждого человека. Отсюда
понятен его негативизм по отношению к учениям,
обосновывающим примат коллектива над личностью. Если в индивидуализме
«личность разлагается и распадается», то и в безрелигиозном
коллективизме мы видим то же самое: он превращает общество в союз
«безличных атомов». В таком коллективе происходит
окончательная «гибель личности человеческой», она лишается в нем
«подлинной реальности». Следовательно, ни индивидуализм, ни светский
коллективизм не могут создать условий для полноценной духовной
1 Бердяев НА. Судьба России. Мм 1918. С. 140.
381
жизни личности. Для преодоления этих негативных тенденций
социальная сфера должна строиться по иерархическому принципу, и
взаимоотношения между людьми должны быть иерархическими.
Иерархизм предполагает неравенство, деление на высших и
низших, но это не должно пугать, так как только неравенство
выступает «источником всякого творческого движения в мире».
Неравенство предполагает дифференциацию, содержит многообразие, оно
противоположно обезличиванию человека, его нивелированию.
Поэтому «никакая личность в иерархии личностей не уничтожается и
не губит никакой личности, но восполняет и обогащает»1. В связи с
этим становится понятным, что полноценность индивида «связана»
не с индивидуализмом и не с безликим коллективизмом, а с
универсализмом.
Отмечая специфику экзистенциальной философии, Н. Бердяев
подчеркивает, что она есть «выражение моей личной судьбы», но в
то же время «судьба моя должна выражать и судьбу мира и
человека». Но цель будет достижима не при переходе «от
индивидуального к общему», а лишь при условии раскрытия «универсального в
индивидуальном»2.
Итак, предметом философии должно стать и рассмотрение
индивидуальных особенностей человека, и вместе с тем выделение
«универсального» в каждой отдельной личности.
Задача эта крайне сложная и, как считал философ, до конца не
выполнимая. Противоречие между универсальным и
индивидуальным базируется на еще более фундаментальном противоречии
между свободой и творчеством, с одной стороны, и процессом
объективизации — с другой. В основе мира, как считает Н. Бердяев, лежат
два начала — божественное воздействие и несотворенная свобода,
которая не имеет к Богу никакого отношения, так как «вкоренена в
ничто». Характеристика этого второго начала у философа лишена
определенности, он признается, что «существование несотворенной
свободы... в сущности означает признание тайны, не допускающей
рационализации»3. В то же время эта свобода служит для
мыслителя основой, объясняющей не только «возникновение зла в мире»,
но и творчество нового, «небывшего». Свобода и творчество
выступают основополагающими категориями его философии.
Мыслитель с гордостью заявлял: «Меня называют философом свободы».
Рассматривая понятие свободы, он приходит к выводу о ее индетер-
1 Бердяев НА. Философия неравенства. С. 59.
2 Бердяев НА. О назначении человека. С. 254.
3 Бердяев НА. Самопознание. С. 164.
382
минированное™, она не есть «создание необходимости». Более
того, Бердяев кладет свободу, а не бытие в основу своих
философских интуиции. Свобода первична и определяет как состояние
человеческого духа, так и «формы падшего бытия». Сама свобода
распадается на два вида проявления: первый — уже упоминаемая
нами несотворенная способность человека «принять или отринуть
истину»; второй — свобода, проистекающая из благодати, из
«истины божественного мира». Главные исторические события в
жизни человечества как раз и проистекают из соотношения и
взаимодействия этих «свобод». Первый человек, пользуясь несотворенной
свободой, отверг божественную истину и «подчинил себя падшему
ангелу». В результате «падения высшего иерархического центра
природы» происходит «падение всей природы, всех низших ее
ступеней». Дух становится «плененным материей», и человек как
природное существо «скован необходимостью», он «бессилен
освободить себя из плена и рабства, вернуться к божественным своим
истокам»1. К этим «истокам» падшего человека может приобщить
только «абсолютный, божественный человек», то есть Иисус
Христос. В этом мыслитель и видит главный смысл христианского
откровения.
После боговоплощения на первый план выходит благодатная
свобода, совместная деятельность Бога и человека, а история все
более становится богочеловеческим процессом, то есть итогом
сотрудничества Бога и человека. Бердяев, как мы уже отмечали,
считал, что из всего наследия Соловьева наиболее близка ему была
идея богочеловечества. С этой идеей связано бердяевское учение о
творчестве. Свобода — это не только независимость «личности
изнутри», она есть «творческая сила», не просто выбор между
добром и злом, но «созидание добра и зла». По Бердяеву, творчество
предопределено не материальным, объективным миром, а
личностным фактором, свободой личности, ее духом, преодолевающим
«законы необходимости». Сложность в раскрытии человеческого
творчества заключается прежде всего в том, что в «Евангелии нет ни
одного слова о творчестве» и в деле творчества «человек
предоставлен как бы самому себе, оставлен с собой, не имеет прямой
помощи свыше»2. Если бы пути творчества были предопределены и
указаны Богом, то вместо него «было бы послушание». Такое
рассмотрение творчества приводит Бердяева к столкновению с
христианской идеей греховности человека, с требованиями христианского
1 Бердяев H.A. Смысл творчества. М., 1916. С. 74.
2 Там же. С. 91.
383
смирения. Подобное понимание христианства с его точки зрения
порождено тем, что историческая церковь постоянно отрекается от
свободы духа «во имя благ мира и мирового господства». В
действительности подлинное христианство не устанавливает никаких
«безошибочных критериев в религиозной жизни», так как оно
понимается не как «обоготворение буквы Писания» и не как
«символические формы богопочитания», а как творчество. С этим связаны
многочисленные столкновения Бердяева с протестантскими и
католическими теологами и даже с православными богословами. Хотя с
его точки зрения православие «гораздо менее определимо, чем
католичество и протестантизм», Бердяев считал это обстоятельство
преимуществом православия и видел в этом его большую свободу1.
Бердяевская трактовка творчества по-новому ставит проблему
взаимоотношений Бога и человека. Сама возможность творчества
появляется у личности в силу присутствия в ней «образа
Божьего», как следствие того, что «человек вкоренен в Бога». Однако в
творчестве присутствует как бы «двойное рождение», не только в
человеке «рождается Бог», но происходит «рождение человека в
Боге». Бог нуждается в «творческом ответе человека», он ждет от
него «откровения творчества»2. Творческий процесс не есть
преобразование «наличной материи», напротив, он предполагает
победу «над тяжестью мира». Творчество имеет опору в «свободном
духе», а не в объективном мире, поэтому «творчество всегда есть
переход от небытия к бытию, то есть творения из ничего.
Творчество из ничего есть творчество из свободы»3. Этот акт по природе
антиномичен, ибо существует непреодолимое противоречие между
творческим замыслом и его осуществлением. Идеальные
стремления «свободного духа» требуют «нового порядка существования,
жаждут царства Божия», но вместо этого, благодаря
объективации в сфере познания, дух подчиняется «логической
общеобязательности», в социальной сфере в результате объективации
«создаются книги, статуи, картины, социальные институты, машины,
культурные ценности», так как человек не может «избавиться» от
предметного мира. Итогом становится то, что
«объективированное общество» подавляет личность, она перестает быть
свободной, а значит — творческой.
1 См.: Бердяев H.A. Самопознание. С. 163.
2 Бердяев H.A. Смысл творчества. С. 92.
3 Бердяев H.A. Мое философское миросозерцание//Н.А. Бердяев: Pro et contra.
СПб., 1994. С. 25.
384
Итак, получается замкнутый круг, ибо свобода порождает
творчество, которое, реализуясь, создает «внешние условия»,
подавляющие «свободные порывы духа», превращая человека не в
творца, а в «транслятора готовых идей и порождений предметного
мира». Эта безысходность человеческого существования не может
быть решена в его земном бытии, остается лишь верить в
«эсхатологическую перспективу преобразования личности».
Историософия
Ориентация Бердяева на личностные аспекты существования
человека, казалось бы, делает его невосприимчивым к проблемам
философии истории, ибо последняя рассматривает прежде всего
социальный аспект бытия человека. Однако в действительности
именно интерпретация истории оказалась в центре философских
построений Бердяева. Он сам неоднократно отмечал, что «был очень
сосредоточен на проблеме философии истории»1, «всегда имел
особый интерес к проблемам философии истории»2. В центре его
концепции не только Бог, но и человек; именно диалектическое
взаимодействие этих начал, на взгляд Бердяева, и составляет
сердцевину истории. Философ решительно отказывается от традиционных
христианских взглядов, рисующих человека пассивным
исполнителем божественной воли. Богословие всех христианских конфессий,
по его мнению, заражено социоморфизмом, то есть на Бога
переносят человеческие понятия, он предстает как всесильный господин, а
индивид лишь «его раб». Но с точки зрения мыслителя «к Богу
неприменимы наши категории», а ортодоксальное учение о
предопределении совершенно неприемлемо, «наиболее антипатично», оно
«требует радикальной переработки»3.
В основе исторического процесса лежит не только
божественное воздействие, но и второе начало — несотворенная свобода.
Она не имеет к Богу никакого отношения, так как «вкоренена в
ничто». Характеристика этого второго начала у философа лишена
какой-либо определенности, мы уже отмечали, что с его точки
зрения она «не поддается рационализации». Поскольку Бердяев в
своем учении об объективизации обосновывает тезис о вторично-
сти объективного мира, так как он является порождением духа, то
постольку и в историческом процессе материальные факторы утра-
1 Бердяев H.A. Самопознание. С. 215.
2 Там же. С. 286.
3 Там же. С. 160.
25-6016
385
чивают свое значение, перестают быть определяющими, так как
являются «в последнем счете духовною силою» и имеют духовный
фундамент, идеальную основу. Философия истории предметом
своего познания имеет, с этой точки зрения, «духовную
действительность», она есть «наука о духе, приобщающая нас к тайнам
духовной жизни»1. Эти «тайны» не поддаются понятийным
дефинициям, а возможны лишь их интуитивные постижения, опирающиеся
на духовный опыт. Историческое время, свобода и необходимость,
свобода и благодать, смысл истории — все эти проблемы не
могут быть «окончательно решены», они «неизъяснимы в земной
жизни».
Одна из главных историософских интуиции Бердяева, так
сказать, «сквозная тема» его творчества — это учение о цели
исторического развития. Она не может быть реализована путем
эволюции, постепенного улучшения земного существования людей; по
мнению философа, «бесконечный прогресс бессмыслен». Сама
человеческая история антиномична, ибо в ней «все не удается и
вместе с тем история имеет смысл». Противоречия истории
разрешаются лишь благодаря идее «исторического конца, завершенности
земной жизни». Подлинная философия истории не есть
«философия эмпирической действительности», она имеет «своим объектом
загробное существование». Или, иначе говоря, «история должна
иметь конец, смысл истории связан с эсхатологией»2. Бердяевская
трактовка конца света существеннейшим образом отличалась от
христианской традиции. Мыслитель отрицает понимание
эсхатологии как единовременной «катастрофы земного существования», он
солидарен с В. Соловьевым, что это длительный процесс, в
котором необходимо участие человека. Он также отрицает идею о
вечных адских муках, о разделении людей в конце истории на
праведников и грешников. С его точки зрения «существование вечного
ада означало бы самое сильное опровержение существования Бога,
самый сильный аргумент безбожия»3.
Эсхатологический переворот в жизни людей — это итог
«свободы и благодати», так как Царство Божие связывается и с
откровением Святого духа, и с активностью личности, подготавливающей
условия для «одухотворения твари». Конец земного существования
1 Бердяев H.A. Смысл истории. Париж, 1969. С. 22.
2 Бердяев H.A. Мое философское миросозерцание//Философские науки. 1990.
№ 6. С. 88.
3Бердяев Н. А. Самопознание. С. 286.
386
связывается мыслителем с победой творческой свободы над
необходимостью, с торжеством вечной жизни над смертью.
Эти методологические установки Н. Бердяев применяет к
интерпретации истории России, к анализу «русской идеи». Данной
теме философ посвятил несколько монографий, так как для него
ясно, что «загадка России и ее исторической судьбы была загадкой
философии истории»1.
В одной из первых работ, посвященных этой проблеме, при
анализе взглядов главного идеолога славянофильства A.C.
Хомякова он приходит к выводу о необходимости уяснения понятия
«нация», без которого не может быть построена никакая философия
истории2. В среде атеистически и материалистически настроенной
русской интеллигенции с его точки зрения идея народа как нации
оказалась извращенной и «разбилась на социальные классы и
группы». По Бердяеву, ни момент социальный, ни признаки
государственные и расовые не дают определения нации. Вообще «нация —
рационально неопределима», она «есть реальность порядка
мистического». Через нацию осуществляется связь «небесной и земной
истории», «божественной благодати и человеческой активности». В
этой «связи» особое значение приобретает та роль, которую
должно сыграть то или иное национальное образование в реализации
провиденциальных установок. Каждый народ в истории имеет свою,
особую, миссию, соответствующую своеобразию его
индивидуальных черт, этот миссионизм носит локальный характер и ограничен
земными задачами. Но лишь очень немногие нации имеют не
только специфическую миссию в истории, но и претендуют на
мессианскую роль в мире. Мессианизм «происходит от Мессии, а
миссионизм — от миссии». Отсюда понятно, что мессианизм претендует
на исключительное призвание, на «призвание религиозное и
вселенское по своему значению». Анализ истории должен ответить на
вопрос, является ли русский народ народом-мессией или нет. Эту
проблему в отечественной философии поставили впервые Чаадаев
и славянофилы, и Бердяев утверждает, что он наследует «традицию
славянофилов и западников, Чаадаева и Хомякова»3, при этом
называются и другие имена, занимавшие полярные позиции в вопросе
о русском призвании. И надо сказать, действительно, во взглядах
философа причудливо переплетаются, смешиваются,
синтезируются различные подходы к судьбе России и ее истории. Но Бердяев
1 Бердяев H.A. A.C. Хомяков. С. 286.
2 См. там же. С. 208—230.
3 Бердяев H.A. Самопознание. С. 10.
25*
387
никогда не занимал позиции национального нигилизма, и можно
согласиться с В. Зеньковским в том, что «Бердяев по-новому
развивает знакомую нам тему об особом историческом пути России»1.
Ответ на вопрос о судьбе России, о ее роли в мировой истории
не может ограничиваться лишь анализом факторов, связанных с
социальной сферой жизни человека. Он предполагает переход от
научно-позитивистского мировоззрения к религиозно-мистическому
уровню понимания исторических явлений. Этот уровень позволяет
не только понять, «чем эмпирически была Россия», но и решить
вопрос о том, что «замыслил Творец о России». Русская история,
по мнению Бердяева, во многом объясняется тем, что «два
противоположных начала легли в основу формации русской души:
природная, языческая дионисическая стихия и аскетически монашеское
православие»2. Именно этими началами предопределена особая
роль русской нации, но, осознавая интуитивно свое призвание,
Россия считается неразгаданной, ибо ее душа «не покрывается
никакими доктринами» . Констатируя бессилие рациональных построений
при анализе отечественной философии истории, мыслитель все же
пытается дать свое виденье истории русского народа.
Бердяев полемизирует со славянофилами и соглашается с
Чаадаевым в том, что в «нашей истории нельзя найти органического
единства». Он видит «пять разных России», сменявших друг друга:
это Киевская Русь; Русь периода монголо-татарского ига,
Московская Русь, Россия Петра I и, наконец, «новая советская Россия»4.
Московский период оценивается как наименее плодотворный в
русской истории, по своему типу «азиатско-татарский». Самый
значительный этап связан с петербургским периодом, в котором
«наиболее раскрылся творческий гений русского народа». Период
же после 1917 года характеризуется мыслителем негативно,
прежде всего за тоталитаризм, за подавление личной свободы.
Прерывистость в историческом развитии России сочетается
еще с двумя факторами, сыгравшими основополагающую роль для
ее развития. Во-первых, с особым значением религиозного начала,
ибо православие оказало формирующее влияние на историю
русского народа, на выработку «русской идеи». В ходе становления
русского этноса национальные и религиозные начала теснейшим
1 ЗеньковскийВ.В. Русские мыслители и Европа. М., 1997. С. 136.
2 Бердяев H.A. Русская идея//Вопросы философии. 1990. № 1. С. 78.
3 Бердяев H.A. Судьба России. М., 1990. С. 3.
4 Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. Париж, 1955. С. 7.
388
образом переплелись и «русская история явила совершенно
исключительное зрелище — полнейшую национализацию церкви»1. В
России церковь и нация взаимообусловливают друг друга: не только
православие «воспитывает русский дух», но и национальные черты
«запечатлеваются в церкви». Вселенское христианство пленяется
русской землей и растворяется «в коллективной национальной
стихии». Отсюда и проистекает особое значение соборного начала как
в русском православии, так и в отечественной жизни в целом.
Поэтому, когда A.C. Хомяков и другие славянофилы философски
осмысливали проблемы соборности, они свои интуиции основывали
не на «кабинетных измышлениях философов», а брали их «из
бытия жизни»2. Именно этой традицией объясняется тот факт, что
существует «неразвитость личного начала в русской истории».
Вторым фактором можно считать специфику географического
положения России, на территории которой «сталкиваются два
потока» мирового процесса: один — с Востока, другой — с Запада;
поэтому русский народ — это «не чисто европейский» и «не чисто
азиатский народ». Но Россия — это не только «Востоко-Запад»,
это и громадная территория, безмерное пространство, оказывающее
влияние на духовные факторы. Существует определенное
соответствие «между географией физической и географией душевной». В
силу этих обстоятельств появляется нераскрытость потенциальной
энергии русского народа, так как она была подавлена огромной
тратой сил, требуемых громадными размерами русского государства.
Отмеченные выше особенности отечественной истории
проявляются и в отношении русских к национальным проблемам и
задачам. С одной стороны, Россия — «самая не шовинистическая
страна в мире», и в русском народе «живет всечеловеческий
христианский дух». С другой стороны, Россия — «самая
националистическая страна в мире», считающая только себя призванной и
отвергающая всю Европу — как «гниль и исчадие дьявола, обреченное
на гибель». Разрешить антиномию национального и вселенского, с
точки зрения философа, поможет учение о соборности.
Человечество рассматривается им как «соборная личность, а не абстрактная
механическая сумма» различных наций. «Соборная личность» как
единый организм вбирает в себя различные нации как свои органы.
Поэтому «невозможно и бессмысленно притивоположение...
национальной множественности и всечеловеческого единства»3. И нацио-
1 Бердяев H.A. Судьба России. С. 10.
2 Бердяев H.A. A.C. Хомяков. С. 128.
3 Бердяев H.A. Судьба России. С. 93.
389
нализм, и космополитизм искажают национальное призвание, так
как первый ведет к «обособлению народа», к рабской зависимости
от тех или иных «внешних форм жизни», к самодовольству и
самомнению, к презрению к другим этносам. В конечном итоге он
подрывает веру «в силу русского духа», в его творческие возможности.
Второй «топит нацию» под лозунгами «всечеловеческого
братства», все богатство человечества низводится до безликих
абстракций, многоцветный иерархизм заменяется «однообразной
серостью». Подобная программа преодоления национальных различий
есть «жажда угашения целого мира ценностей и богатства».
Подлинное объединение человечества происходит через
«мучительную, болезненную» борьбу наций и их культур. Вершины
национального творчества приобретают вселенское значение,
национальный гений возводит «национальное до общечеловеческого
статуса». При этом «можно и должно мыслить исчезновение классов и
принудительных государств в совершенном человечестве, но
невозможно мыслить исчезновение национальностей»1. И даже в
совершенно новом бытии, качественно отличном от земной истории, то
есть в Царстве Божием, Бердяев допускает сохранение
«индивидуальностей национальных». Установки, вытекающие из понимания
человечества как «соборной личности», подчеркивают, что только
развитие национального компонента культуры, образования,
гуманитарных наук поможет приобщиться и к общечеловеческим
ценностям. Это — творческая сторона национального самосознания, и
любая попытка поставить на первое место
«отвлеченно-человеческое» оборачивается застоем в духовной сфере. Ибо культура
никогда не будет наднациональной, она «всегда
конкретно-человеческая, то есть национальная, индивидуально-народная и лишь в
таком своем качестве восходящая до общечеловечности»2.
Особое значение национальной проблематики для России, как
мы уже отмечали, объясняется тем, что у русского народа есть
мессианское сознание. В русской истории оно сформировалось после
падения Византийской империи, когда появилась идея о «Москве
как третьем Риме». Этот программный тезис подчеркивал, что
«русское, Московское царство остается единственно православным
царством в мире и что русский народ — единственный носитель
православной веры»3.
1 Бердяев H.A. Судьба России. С. 37.
2 Там же. С. 96.
3 Бердяев H.A. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 9.
390
Само мессианское сознание не возникает по чьей-либо прихоти,
оно является следствием «великих народных страданий». И русский
мессианизм «был плодом страдальческой судьбы русского народа,
его изысканий Града Грядущего». В этой совместной
устремленности к высшим ценностям торжествует идеал духовной соборности:
единство нации сочетается со свободой и своеобразием личности.
Однако и мессианское сознание в нашем Отечестве, по мысли
Бердяева, антиномично, оно смешивает религиозное и земное
призвание России. В результате «Третий Рим» становится земным
государством, которое сложилось вначале «как Московское царство,
потом как Империя и, наконец, как Третий Интернационал»1.
Иными словами, духовные параметры «Града Грядущего»
заменяются социально-политическими реалиями отечественной истории,
прошедшей путь от самодержавия к социалистической диктатуре.
Исходя из своих представлений об антагонизме личностных и
государственных начал, философ считает, что на всех этапах развития
России государство выступает как сила, подавляющая личную
свободу во имя собственного величия и процветания.
Конечно, противоречия между личностью и государством
существуют, но их нельзя абсолютизировать, как это делает Бердяев.
Русская история, как и прошлое других народов, показывает, что
вместе с развитием государственных институтов развивается и
личностное самосознание. В этой связи интересно вспомнить полемику
между H.A. Бердяевым и И.А. Ильиным. Последний замечал, что с
точки зрения христианина можно принимать государство как
«греховную силу и неотвратимое зло», а можно считать «его важным и
ценным», и главное «негреховным». В первом случае неизбежен
«бунт против истории», а это означает отвержение тех путей, «по
которым вот уже две тысячи лет ведет людей православное
христианство». Второй же подход, напротив, открывает путь «к развитию
одних государственных функций и к сохранению и, может быть,
ликвидации других». Только в этом случае возможно позитивное
«государственное строительство», опирающееся на христианскую
любовь . История России убедительно доказывает, что лишь сильная
государственная власть может обеспечить условия для решения
насущных проблем, стоящих как перед обществом в целом, так и
перед социальными группами и отдельными индивидами. Опыт
последнего десятилетия еще раз подтвердил правильность этого
тезиса. Да и сам Бердяев, переживая кризисные периоды русской исто-
1 Бердяев H.A. Русская идея//Вопросы философии. 1990. № 1. С. 82.
2 См.: Ильин И.А. О сопротивлении злу//Бердяев: Pro et contra. Кн. 1. С. 346.
391
рии, приходил к правильному пониманию того, что «нельзя
расшатывать исторические основы русского государства»1.
Анализируя историю отечества, мыслитель подчеркивает, что
наряду с «эмпирической Россией» необходимо обращаться и к
«трансцендентным ее измерениям», то есть к тому, что «замыслил
творец о России», или к идее русского народа, и тогда станет
ясным определяющее значение поиска Царства Божия, «жажда
новой безгрешной жизни», полное торжество которой возможно
только в эсхатологической перспективе. Именно эсхатологичность
и связанное с этим неприятие «града земного» имеет доминантное
значение в русской истории, выступает катализатором расколов в
русском обществе. Здесь и противопоставление интеллигенции и
народа, столкновение между государственной властью и
образованным слоем, между официальной церковью и народной верой и т.п.
Наконец, именно по поводу социального идеала произошло
разделение мыслящих людей на славянофилов и западников. Если
первые утверждали «своеобразный тип русской культуры на почве
восточного православия», то вторые, напротив, стремились
преодолеть эти самобытные начала, они совсем не признавали
национальных ценностей. В XX веке эти течения, по мнению Бердяева,
изжили себя: оба они были провинциальны, но славянофилы отстаивали
«провинциально-замкнутую жизнь России», а западники
«провинциально-замкнутую жизнь Европы». Мировые войны, революции,
технический прогресс рождают сознание «всечеловеческого
единства». В этой связи «культура перестанет быть столь исключительно
европейской и станет мировой, универсальной»2. Универсальное
сознание на новом уровне синтезирует славянофильство и
западничество, поэтому Россия осознает себя не Западом и не Востоком, а
«Востоко-Западом, соединителем двух миров, а не разделителем»3.
По форме этот тезис созвучен идеям B.C. Соловьева, однако если у
последнего по существу универсалистский синтез заменяется
поглощением русской самобытности Западом, потерей Россией
национальной и религиозной независимости, то Бердяев с подобной
программой не согласен. Он справедливо замечает, что «призыв
забыть о России» и служить человечеству, ориентируясь лишь на
некие общечеловеческие ценности, «ничего не значит, это —
пустой призыв». Мы уже отмечали приверженность мыслителя идее
сохранения национальной самобытности России, и очень современ-
1 Бердяев НА. Судьба России. С. IV.
2 Там же. С. 19.
3 Там же. С. 22.
392
но звучит его предупреждение защитникам «наднациональных
интересов» о том, что «космополитическое отрицание России во имя
человечества есть ограбление человечества»1.
Выступая за сохранение и развитие национального
самосознания, философ отнюдь не идеализировал русский народ. Антиномич-
ные начала русской души предопределили сложное переплетение не
просто противоречивых, а часто взаимоисключающих черт в
русском народе. Бердяев перечисляет следующие из них: «деспотизм,
гипертрофия государства и анархизм, вольность; жестокость,
склонность к насилию и доброта, человечность, мягкость; обрядо-
верие и искание правды; индивидуализм, обостренное сознание
личности и безличный коллективизм; национализм, самохвальство
и универсализм, всечеловечность; эсхатологически-мессианская
религиозность и внешнее благочестие; искание Бога и воинствующее
безбожие; смирение и наглость, рабство и бунт»2. Эти
противоречивые качества стремились примирить своей политикой государство
и церковь, но они обращали внимание лишь на внешнюю сторону
народной жизни, не проникая в ее суть.
В результате в Российской империи создано «было внешнее
принудительное единство, но внутреннего единства не было». В
этих условиях в деле внутреннего умиротворения общества особую
роль призвана играть интеллигенция, но она оказалась как бы
«раздавленной» двумя противоположными силами —
самодержавием и «темной народной массой». Отсутствие свободной
политической деятельности, с одной стороны, и резкая
неудовлетворенность социальным положением трудящихся, и прежде всего
мужика, — с другой, вызывает у «культурного слоя» особую
социальную мечтательность. В результате происходит роковое для судеб
России смешение ценностей, и русская душа «принимает
относительное за абсолютное, частное за универсальное», вместо
идеальных устремлений начинает господствовать идолопоклонство. В
итоге на первый план выдвигается новая религия — марксизм.
Бердяев настаивает на том, что марксизм не только научная и
политическая доктрина, но и вера, и «на этом основана сила». Используя
«религиозную тотальность» русской души, В.И. Ленин и его
сторонники создают специфический русский вариант марксизма,
опирающийся на мессианское сознание народа. Торжество марксизма в
России воспринимается философом как гибель идеалов русской
интеллигенции и разрушение принципов гуманизма. В самой комму-
1 Бердяев H.A. Судьба России. С. 100.
2 Бердяев H.A. Русская идея//Вопросы философии. 1990. № 1. С. 78—79.
393
нистической идее на русской почве сохраняется «религиозная
формация», но «вместо Третьего Рима в России удалось осуществить
Третий Интернационал, и на Третий Интернационал перешли
многие черты Третьего Рима»1.
Бердяев чутко уловил, что тоталитарный социализм враждебен
свободе личности, ибо в нем человек «приковывается к
принудительно организованной и принудительно урегулированной жизни»2.
Философ отнюдь не считал, что идеальным устройством общества
выступает капитализм. Он находит много «бесчеловечных» черт в
буржуазном образе жизни, в «буржуазно-серединной культуре».
Буржуазность квалифицируется им как примитивизация духовных
потребностей, как превращение человека в простого потребителя.
Философ не только солидарен с А.И. Герценом, который
«оттолкнулся от мещанства Запада», но подчеркивает, что у него для
разочарования в западном образе жизни имеется «еще больше
оснований»3. Несмотря на радикальную критику советского социализма,
мыслитель подчеркивал свою симпатию к социалистической идее. В
одной из последних своих книг, в «Самопознании», он писал: «Я
сторонник социализма, но мой социализм персоналистический, не
авторитарный, не допускающий примата общества над личностью,
исходящий от духовной ценности каждого человека, потому что он
свободный дух, личность, образ Божий»4.
Конечно, в философском наследии Бердяева много мифологиз-
мов, антиномий, субъективизма, он сам часто сетовал, что «его
плохо понимают». Современный исследователь творчества
мыслителя Е.В. Барабанов в своей интересной статье делает вывод, что
религиозно-философское толкование Бердяевым «русской идеи»
связывает нас с «миром гностического сознания, обреченного на
подмену собственно философского знания авторитарным
"учением", имитирующим философию»5. Этот вывод справедлив только
отчасти, ибо в творчестве русского философа много «собственно
философских достижений», а его влияние на развитие западной
философии общепризнанно. В философских интуициях мыслителя
есть определенная целостность, завершенность, пророческие про-
1 Бердяев H.A. Истоки и смысл русского коммунизма. С. 118.
2 Бердяев H.A. Смысл истории. С. 202.
3 Там же. С. 272.
4 Там же. С. 226—227.
0 Барабанов Е. Русская идея в эсхатологической перспективе//Вопросы
философии. 1990. №8. С. 73.
394
зрения, наконец, углубленность в извечные философские темы.
В. Зеньковский отмечал, что «синтетическая сила построений
Бердяева чрезвычайно велика, в каком-то музыкальном аккорде, не
подавляя и не диссонируя один с другим, звучат в нем мотивы,
которыми жило русское сознание»1. Пафос бердяевской философии
истории — в призыве человека к поиску духовных ценностей, к их
неустанному созиданию, к недовольству «наличным бытием», к
признанию самоценности человеческой личности.
H.A. Бердяев и русское православие
Юношеский период в жизни Бердяева не сопровождался
значительной религиозностью, он сам вспоминает, что искание смысла
жизни было «первичнее искания Бога». Учась в университете, он
принимал активное участие в политической деятельности,
принадлежал к «Союзу борьбы за освобождение рабочего класса». Эта
активность не осталась незамеченной, и в 1898 г. его
арестовывают, исключают из университета, а затем в 1900 г. ссылают в
Вологодскую губернию.
Эти события разрывают связь Бердяева с традиционным бытом,
и начинается его «постоянная оппозиционность», притом не только
по отношению к обществу и церкви, но и к семейно-родственному
кругу, и к близким знакомым. Мыслитель признавался, что «всегда
обманывал все ожидания», и оборотной стороной этой
ненадежности становится неспособность «к отдаче себя». В итоге появляется
одиночество, которое «очень мучительно», и в то же время
философ признается, что «ничто не преодолевает моего одиночества»2.
При таком настроении очень трудно было ощутить себя членом
церкви, ибо это предполагает любовь к другим верующим,
жертвенность во имя ближнего своего. Бердяев, как мы уже отмечали,
никогда не разделял материалистических взглядов, он сам отмечал,
что даже в период увлечения марксизмом оставался «идеалистом в
философии». Вскоре этот идеализм перерастает в религиозные
искания. Философ принимает активное участие в обсуждении
проблем религиозного возрождения, сотрудничает с журналом «Новый
путь», вокруг которого группировалась богоискательски
настроенная интеллигенция.
1 Зеньковский В.В. Русские мыслители и Европа. С. 133.
2 Бердяев H.A. Самопознание. С. 42.
395
После поражения первой русской революции Н. Бердяев
переезжает в Москву, сближается при помощи С. Булгакова с
православно настроенной интеллигенцией — «самой сердцевиной
русского православия». Он принимает активное участие в религиозных
исканиях представителей «образованного общества», которые с его
легкой руки получили название «новое религиозное сознание».
Одним из самых заметных явлений этого этапа интеллектуальной
жизни России становится сборник «Вехи», активным создателем
которого был и Бердяев. В своей программной статье, помещенной в
этом издании, «Философская истина и интеллигентская правда» он
приходит к выводу о том, что надежда на будущность русского
народа связана с верой в его духовное возрождение, предполагающее
преодоление атеистичности интеллигентского сознания и
возвращение к «традиции универсальной и национальной»1. Ратуя за
«укрепление» национальных устоев, философ в то же время весьма
критично относится к современному ему православию, выступающему
основой отечественной духовной традиции. В этом проявляется ан-
тиномичность философских построений, присущая Бердяеву. В
работах мыслителя начала XX века особо выделяется антицерковная
направленность: он «изобличает» сходящую с исторической сцены
«старую омертвелую Церковь». Отжившие формы христианства
должна заменить новая религиозная эпоха, восстанавливающая
«жизненность и универсальность религиозных начал». Философ
безоговорочно причисляет себя к этой зарождающейся «духовной
формации» и подчеркивает антагонизм «нового религиозного
сознания» и традиционного христианства. Первое строится на
«свободе и творческом порыве», второе — на догматизме, который «в
сущности отрицает дальнейший религиозный процесс в мире»2.
Н. Бердяев отрицательно относился ко многим признанным
богословским авторитетам, а апологетическое богословие, по его
мнению, превратилось «в мертвую дисциплину, в навязанное
воспоминание о былой религиозности»3.
В период борьбы официальной церкви с движением имяслав-
цев, которое выступило со своеобразным, несколько отличным от
традиционных взглядов пониманием соотношения Бога и его имени,
а также со своей специфической трактовкой значения культовых
действий, Бердяев встает на защиту имяславцев и пишет статью
1 Вехи. Из глубины. М., 1991. С. 29.
2Бердяев H.A. Новое религиозное сознание и общественность. СПб., 1907.
С. XXIII.
3 Там же. С. IX.
396
«Гасители Духа», направленную против Синода. Философ
вспоминает, что номер газеты с этой публикацией конфисковали, а он сам
был отдан под суд «по статье о богохульстве, которая карала
вечным поселением в Сибири». Но судебное разбирательство было
отложено ввиду начавшейся войны, а затем революция «прекратила
это дело».
В то же время Бердяев сохранил верность патриарху Тихону в
период обновленческого раскола Церкви в первые годы советской
власти, хотя, казалось бы, обновленческие лозунги, связанные с
идеями радикального реформирования православия, должны были
быть ему близки. Но факт остается фактом, с обновленцами он
сотрудничать отказался. Бердяев остался верен Русской православной
церкви и в период пребывания в Париже, в тот момент, когда
большинство русских православных верующих перешли под
юрисдикцию Константинопольского патриарха.
Не случайно в своих последних работах «Русская идея» и
«Самопознание» философ много места уделяет своему отношению к
православию. Констатируя тот факт, что он принадлежал к «крайне
левому» течению в русской религиозной философии, которое
неизбежно носило оппозиционный характер по отношению к
ортодоксальному богословию, Бердяев стремится подчеркнуть, что его
критичность не означает разрыва с Русской православной церковью.
Он настойчиво доказывает, что его «связь с православной
Церковью... никогда не порывалась вполне»1: «связи с православной
Церковью не теряю и не хочу терять»2. Можно привести и другие
подобные примеры.
Публикации Бердяева вызывали оживленную полемику в
церковных кругах, они справедливо задавали вопрос философу: «С
Русской ли Вы церковью или против нее». При этом однозначного
ответа не получалось: например, один из выдающихся русских
православных богословов XX века архимандрит Киприан (Керн) в
рецензии на посмертно вышедшую книгу Бердяева «Самопознание»,
с одной стороны, признает правоту мыслителя в критике некоторых
сторон исторического бытия православной церкви. Но, с другой
стороны, по мысли о. Киприана, убежденность философа только в
своей правоте не дает ему возможности «приобщиться к церковной
полноте»3. Следовательно, мыслитель в рамках религиозных
исканий нередко подходил к границам церковности, отсюда его неспо-
1 Бердяев НА. Самопознание. (Опыт философской автобиографии). С. 191.
2 Бердяев НА. Русская идея//Вопросы философии. 1990. № 2. С. 148.
3 H.A. Бердяев: Pro et contra. Кн. 1. С. 449.
397
собность ощущать всю полноту церковной жизни. Однако из этого
не следует, что он вообще был «вне церковной ограды».
Сегодняшние православные богословы также не имеют
однозначной оценки творчества Н. Бердяева. В известной книге
иеромонаха Серафима (Роуза) «Православие и религия будущего»
утверждается, что «Николай Бердяев ни в какое нормальное время не
считался бы православным христианином». А его оценка как
православного философа с этой точки зрения проистекает из-за
«религиозного невежества нашего времени»1. В то же время существуют
и радикально противоположные характеристики мыслителя.
Священник Г. Кочетков в статье «Гений Бердяева и Церковь»2
сравнивает его ни больше ни меньше с православными святыми. Автор
считает, что русский философ является прямым продолжателем
последнего великого православного отца... св. Григория Паламы». В
силу этого Бердяев должен быть «признан церковью как один из
величайших защитников и проповедников ее учения». Обе эти
крайние точки зрения, на наш взгляд, не отражают подлинного
значения Бердяева в истории русской религиозной философии.
Мыслитель, несмотря на все сложности и периоды «трагического
непонимания», не перешел роковой рубеж, ставящий его вне
православия. Он «блудный сын», но все-таки ощущающий свою связь с
отечественной духовной традицией, с православно ориентированной
мыслью. Правы те представители Русской православной церкви,
которые считают, что, несмотря на «фундаментальные
заблуждения», идейное наследие философа «сегодня многое может сказать
православному миру»3. Поэтому нигилистическое и
апологетическое отношение к Бердяеву должно уступить место серьезному и
объективному изучению его трудов.
С. 528.
1 Серафим (Роуз), иеромонах. Православие и религия будущего. М., 1992. С. 17.
2 См.: Кочетков Г. Гений Бердяева и Церковь//Православная община. 1992. № 2.
3 Московский церковный вестник. 1990. № 18. С. 8.
Глава 13
ДУХОВНО-АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
В XIX— XX ВЕКАХ
Духовно-академическая философия
в первой половине XIX века
Под духовно-академической философией мы понимаем
совокупность философских курсов и связанной с ними литературы,
изучаемых в духовных академиях Русской православной церкви. Первая в
России попытка организации систематического философского
образования была предпринята в конце XVII века братьями Лихудами в
основанной ими школе, но их замыслы были реализованы лишь
частично.
Особенно остро вопрос о взаимоотношениях философии и
православия встал перед церковным институтом в конце XVIII века.
Это обстоятельство объясняется тремя главными моментами:
во-первых, со второй половины XVIII века можно говорить о
самостоятельной русской светской философии, претендующей на
независимость от религии; во-вторых, в этот период русское общество
широко знакомится с идеями французских просветителей, имеющих
ярко выраженную антиклерикальную направленность; наконец, в
это время идеологи православия выдвигают задачу создания
оригинального богословия, свободного от католических и протестантских
влияний.
Одним из наиболее авторитетных богословов конца XVIII —
начала XIX века, автором многотомных сочинений был митрополит
Платон (Левшин). Он с горечью признает, что «никогда столь
смело не было рассуждаемо и говорено о вещах веры святейших»1.
Подобное состояние умов стало возможным, по мнению
церковных иерархов, в силу широкого распространения философских
знаний. Философия рождает «духовную жажду», однако люди
должны четко сознавать, что в ней они «жажду не утолят».
Столкновение между богословием и философией проистекает из-за
смешения предметов их исследования, ибо первое изучает
«божественную премудрость», вторая же — «мнения человеческие».
«Мнимый ученый» на место откровения ставит свои «обманчивые
мысли» и именно их «почитает святыми», отсюда и берется «ложное
просвещение», суть которого состоит в том, что ученый «прикос-
1 Платон (Левшин), архиепископ. Поучительные слова. Т. 3. М., 1780. С. 324.
399
нулся только одного края науки», но почитает «уже себя
созревшим в мудрости». Если же «дерзость» ученого ограничивается
«пределами той науки, в которой он упражняется» и не посягает на
истины веры, то тогда его деятельность полезна обществу. Точно
так же происходит и в философии. Философ, приобретая
«некоторые понятия о философской науке для того, чтобы избежать
ложного просвещения», должен рассуждать «только о философии, а не
дерзал бы еще положительно что-либо утверждать о богословии»1.
Итак, в определенных пределах развитие философии все-таки
допустимо.
Научный и социальный прогресс, с которым столкнулась
церковь уже в начале XIX века, неизбежно формировал новые
установки в подготовке духовенства, к тому же широкое
распространение в эпоху Александра I различных западных мистических течений
также предъявляло к философской культуре православных
пастырей повышенные требования.
В 1807—1809 годах главным действующим лицом в подготовке
реформы духовного образования был М.М. Сперанский, именно по
его инициативе для преподавания философии в СПДА был
приглашен Фесслер. Побыв католиком, он затем перешел в лютеранство,
был членом масонской ложи, имел достаточно основательную
философскую подготовку. Лекции читал на латыни, они оправданно
вызывали подозрительное к себе отношение со стороны церковной
иерархии. Комиссия духовных училищ, рассмотрев материалы
представленных Фесслером лекций, нашла их «темными и потребовала
от него другой конспект», в котором бы он изложил философию «в
яснейшем виде, именно по методе и терминологии вольфианской»2.
В результате Фесслер был вынужден оставить преподавание
философии и перейти на работу к М. Сперанскому.
При подготовке нового Устава духовных академий, по мнению
большого знатока истории духовного образования в России
профессора И.А. Чистовича, выяснилось, что существуют два различных
взгляда на преподавание философии. Первый был представлен
М. Сперанским и его сторонниками и заключался в «живом
отношении к предметам веры и соприкосновенных с нею вопросах
философской науки». Второй защищал епископ Феофилакт (Русанов),
для которого «вопросы мысли и жизни были разрешены... нечего
1 Платон (Левшин), архиепископ. Поучительные слова. С. 324.
2 Чистович И.А. В память графа Михаила Михайловича Сперанского//Христи-
анское чтение. 1871. № 12. С. 988.
400
допытываться нового в сфере вопросов, разрешаемых совместно
религией и философией»1.
Победил первый подход. Поэтому в Уставе духовных академий,
первый вариант которого был составлен в 1809 году, много
внимания уделялось философским предметам. После первого выпуска
СПДА, работающей по «пробному уставу», на основе замечаний ее
ректора архимандрита Филарета (Дроздова) в этот документ были
внесены коррективы, в том числе и в раздел, посвященный
изучению философии. В 1814 году принимается окончательная редакция
Устава духовных академий, согласно которому однозначно
утверждается необходимость преподавания философских дисциплин в
духовных учебных заведениях2. Философские науки могут быть
«преподаваемы в двух разных отношениях»: во-первых, изучение
философской терминологии (это начальная степень философского
учения и она «принадлежит семинарии»); во-вторых, изложение «о
каждом предмете мнений славнейших философов», более того,
необходимо сравнение этих мыслей между собой и приведение «к
общему какому-либо началу»; наконец, преподаватель должен «дать
воспитанникам понятие об истинном духе философии, приучить их
самих к философским исследованиям и ознакомить их с лучшими
методами таковых изысканий». Эта задача может решаться только
духовными академиями. В анализируемом документе содержится и
определенная характеристика различных философских школ. Так,
среди древних мыслителей «Платон есть первый столп истинной
философии», но его изучение необходимо основывать на
первоисточниках, ибо мысли философа «невежеством толкователей...
обезображены». Из новейших же «философов тех должно
предпочтительно держаться, кои ближе его держались». В Уставе
оговаривалось, что профессор «в толпе разнообразных человеческих мнений»
призван выбирать «истины евангельские», ибо «истина одна, а
заблуждения бесчисленны». Но на основании «единства истины»
нельзя противопоставлять понятия христианские понятиям
философским, которые «часто в школах допускаемы». Напротив,
истинная философия «своей методой» познает то же, что и утверждается
христианством.
Первые шаги по организации философского образования на
новых принципах и в СПДА, и в МДА делались с большим трудом.
Большая заслуга в повышении уровня преподавания философских
1 Чистович ИЛ. В память графа Михаила Михайловича Сперанского//Христи-
анское чтение. 1871. № 12. С. 998.
2 См.: Проект устава духовных академий. Ч. 1. СПб., 1823. С. 53—55.
26-6016
401
наук в этих учебных заведениях принадлежит митрополиту
Филарету (Дроздову)1. Как ректор СПДА, он принимал непосредственное
участие в разработке читаемых в ней философских курсов, а как
член комиссии духовных училищ, осуществлял и «ревизию» МДА.
Первым преподавателем философии в реформированной
Московской академии был И.К. Носов, читавший курс на основе трудов
Бруккера и Карпе. Филарет нашел подобное преподавание еще «не
преобразованным», гораздо более высокой оценки удостоился
преемник Носова по кафедре философии В.И. Кутневич, фигура очень
противоречивая. Попытки последнего «подружить философию с
откровенной религией» были поддержаны владыкой2, но именно
Кутневич, будучи обер-священником армии и флота, фигурировал
среди главных организаторов «в устранении Сидонского из академии»,
но об этом мы будем говорить специально.
Одним из главных недостатков в преподавании философии в
духовных учебных заведениях было отсутствие оригинальных
отечественных курсов. В воспоминаниях профессора Д.И. Ростиславлева
отмечается, что в семинариях руководствовались Баумейстером, а в
академиях — Винклером; по его мнению, «это было хуже, нежели
если б вовсе было уничтожено преподавание философии». Все дело
в том, что если бы философия не изучалась, то студенты «не знали
бы, о чем говорит эта наука, тогда как Баумейстер и Винклер
пробуждали отвращение к ней»3.
С 1824 года в течение 30 лет кафедру философии в МДА
занимал Ф.А. Голубинский, который начал читать свой собственный
курс философии. Профессор почти не оставил после себя печатных
трудов, характер его лекций известен по опубликованным
студенческим конспектам4. Пафос преподавания Голубинского — это
преодоление «раскола между верой и разумом», ибо «цель философии
возбудить в человеке нужду в искании божественной мудрости».
Между истинами веры и истинами разума существует не
антагонизм, а определенная субординация. Бог как «абсолютное и
бесконечное» существо не может быть адекватно познан «низшими
способностями», то есть чувством и разумом. Поэтому, убедившись в
1 См.: Шохин В. Святитель Филарет, митрополит Московский и «школа
верующего разума» в русской философии//Вестник РХД. 1997. № 1. С. 82—108.
2 См.: Филарет (Дроздов), митрополит. Собрание мнений и отзывов. Т. 1.
СПб., 1885. С. 408.
3 Ростиславлев Д.И. Петербургская духовная академия до графа Протасова//
Вестник Европы. 1872. Т. 5. С. 179.
4 См.: Лекции по философии профессора МДА Ф.А. Голубинского. Вып. I—IV.
М., 1884—1886.
402
неспособности разума раскрыть «конечные причины», философия
проходит путь «к богословию, а от него к учению о мире». Не
случайно речь идет об «учении о мире», так как в МДА, благодаря
деятельности Ф. Голубинского и его лучшего ученика В.
Кудрявцева-Платонова, складывается так называемая «онтологическая
школа» в богословии. Рассматривая окружающий мир как эманацию
божества, они считали, что его изучение также может давать
материал для богопознания. Поэтому знание, в том числе и
философское, понимается ими как «опосредованное откровение».
Конечно, здесь речь идет о философии, безоговорочно признающей
руководство религии.
В одной из своих немногих опубликованных работ «Содержание
и история учения о конечных причинах, или целях» Ф. Голубинский
также обосновывает принцип субординации между богословием и
философией. Рассматривая историю формирования и содержания
учения «о конечных причинах или целях», он приходил к выводу,
что среди человеческих целей есть строгая иерархия: «одни из них
выше, другие ниже», а все вместе они «должны подчиняться одной
цели — высочайшей», то есть Богу. Конкретизируя это положение
применительно к человеческому познанию, богослов сделал вывод
о его подчиненности богопознанию. Все проявления человеческого
интеллекта, если они имеют правильную ориентацию, приводят к
Богу «как к источнику всякого совершенства», все же, что
выступает как «ожесточенное противление Богу и отчуждение от жизни
божественной, есть крайнее зло»1. Здесь и разграничительный
критерий философских построений: если они ко «благу евангельской
религии», то полезны, если нет, то их необходимо отвергнуть.
Оценивая значение творчества Ф.Голубинского, известный
современный богослов игумен Иоанн (Экономцев) справедливо писал, что
несмотря на эклектичность его взглядов, их неоплатоническую
направленность, именно он «подошел к рубежу, за которым могла
возникнуть и действительно возникла оригинальная русская
философия» .
В СПДА сравнительно долгое время не было заметных фигур
на философской кафедре, и первым преподавателем, обладавшим
«незаурядным философским талантом и самостоятельным
подходом» к философским проблемам, был Ф.Ф. Сидонский. Заняв
кафедру в 1829 году, он приступил к созданию оригинального курса,
Голубинский Ф.А., Левитский Д.Г. Премудрость и благость Божия в судьбах
мира и человека. СПб., 1894. С. 6.
2 Иоанн (Экономцев), игумен. Православие, Византия, Россия. М., 1992. С.
119.
26*
403
который под названием «Введение в науку философию» был
опубликован в 1833 году. В предисловии автор констатирует, что в
нашем Отечестве «слабо изучение философии», а самостоятельных
трудов «по сей отрасли умственных изысканий почти и вовсе не
видно»1. В то же время становится очевидным, что русское
общество не может удовлетвориться лишь заимствованиями «умственных
произведений» Запада. Западноевропейские философские идеи
следует переосмыслить с тем, чтобы они смогли «принять новую
благороднейшую форму. Гений славян должен со временем и на
них положить печать своего величия»2. Молодой священник (а ему
в это время было всего 28 лет) формулирует еще задолго до
славянофилов задачу создания оригинальной русской философии. Сам
Ф. Сидонский не был свободен от влияния немецкого идеализма, но
даже такой строгий судья, как Г.Г. Шпет, признавал, что его труд
«не простая компиляция и положительно лучшая книга по
философии из появившихся в России до 1833 года»3. Для о. Феодора
неприемлемы два крайних подхода к соотношению разума и веры,
суть которых заключается в следующем: в первом утверждается,
что разуму «нет никакого места в делах религии, здесь место одной
веры», во втором, напротив, доказывается «слепость веры»,
поэтому «должно руководствоваться умом и одним умом»4. Уже
наличие этих точек зрения показывает сложность во взаимоотношенях
богословия и философии, углубленный же анализ темы убеждает,
что «в области человеческого ведения нет ничего запутаннее того
отношения, в каком должен быть поставлен ум к истинам,
преданным в виде откровенных»5. Пафос книги Ф. Сидонского
заключается в том, что он стремится «объяснить всю важность философии»,
но не любой, а лишь той, которая имеет «истинную и должную
постановку». Выделяя в философии три основных раздела:
гносеологию, космологию и этику, — он признает важное ее значение в
«определении законов, по каким должна направляться наша
человеческая деятельность». Иными словами, философия не просто
наука, она обладает методологическими функциями. Однако сама
по себе, только опираясь на «естественный разум», она не может
выполнить своего предназначения. При правильном направлении
1 Сидонский Ф.Ф. Введение в науку философию. СПб., 1833. С.III.
2 Там же. С. V.
3 Введенский А.И., Лосев А.Ф., Радлов Э.А., Шпет Г.Г. Очерки истории русской
философии. Свердловск, 1991. С. 373.
4 Сидонский Ф.Ф. Введение в науку философию. С. 270.
5 Там же. С. 278.
404
философская мысль с неизбежностью «убеждается в
справедливости требований веры». Итоговым выводом рассуждений о. Феодора
является тезис, согласно которому «вера нужна уму, она помогает
ему, и ум нужен вере, он развивает ее, проясняет наше
человеческое сознание Божественного»1.
После выхода в свет «Введения в науку философию» Сидон-
ский отнюдь «не почивал на лаврах»; напротив, была создана
комиссия для оценки этого сочинения, в которую вошел и будущий
его преемник по кафедре философии В.Н. Карпов. Но основными
противниками талантливого ученого стали ректор СПДА Венедикт
(Григорович) и уже упоминаемый нами В.И. Кутневич. Последний
считал себя крупным специалистом в области философии, хотя «не
оставил решительно никаких печатных проявлений своего
философствования»2. В результате предвзятого подхода Сидонский был
«уличен в неправославии» и у него отобрали кафедру философии,
вскоре он вынужден был покинуть академию3. Но тем самым не
был перечеркнут тот след, который оставил о. Феодор в истории
русской философии. Профессор СПДА И.А. Чистович,
преподававший в 60-е годы XIX в. историю философии, отмечал, что книга
Сидонского стремилась «объяснить достойным образом всю
важность философских задач». Тем самым она опровергала
утвердившиеся в обществе «недоразумения и вкоренившиеся предрассудки
на счет философии»4. Наша оценка вполне совпадает с
приведенным выше мнением.
С 1833 года на кафедре философии СПДА стал работать
В.Н. Карпов, автор известного сочинения «Введение в
философию». Карпов — выпускник Киевской духовной академии, где
изучал философию под руководством И.М. Скворцова. Г. Шпет со
свойственным ему критицизмом считает последнего философом
«мало одаренным», не любившим углубляться «в содержание
философских изысканий»5. Однако с таким выводом вряд ли можно
согласиться. Занимая кафедру философии с 1819 по 1839 год,
Скворцов воспитал целую плеяду известных философов. Доста-
1 Сидонский Ф.Ф. Введение в науку философию. С. 278.
2 Ростиславлев Д.И. Петербургская духовная академия до графа Протасо-
ва//Вестник Европы. 1872. Т.5. С. 179.
3 См.: Августин (Никитин), архимандрит. Протоиерей Федор Сидонский —
философ и богослов//Вече. СПб., 1996. С. 29—51.
4 Чистович И.А. История С.-Петербургской духовной академии. С. 293.
5Введенский А.И., Лосев А.Ф., Радлов Э.А., Шпет ГТ. Очерки истории русской
философии. С. 406.
405
точно назвать имена С.С. Гогоцкого, И.Г. Михневича и других,
внесших вклад в развитие отечественной мысли. Сошлемся также
на авторитетное мнение архимандрита Гавриила (Воскресенского),
считавшего, что «в голове Карпова носилось много высоких
истин; но он не знал, что с ними делать». И только Скворцов научил
молодого философа «дать им форму, подвергнуть их критике,
утвердить их на началах»1.
В.Н. Карпов в своей книге открыто заявляет, что предлагает
читателям собственные «мысли о философии и об образе
систематического ее развития»2. Рассматривая отношения человека и
мира, философ приходит к выводу о том, что индивид «может
трояким образом входить в мир», а именно: через ощущения, через
«идеи» и через «духовное созерцание». Ощущения характеризуют
чувственную сторону мира, «идеи» — его мыслимые параметры, а
«духовное созерцание» связывают с Абсолютом. Подход Карпова
получил название «философского синтетизма», так как он
стремился не обособить способности индивида, не противопоставить
идеальное материальному, а «все сложить в одно». В результате и
наука, и философия, и религия сольются «в один аккорд, в одну
священную песнь Всевышнему»3.
Естественно, с этих позиций в служении высшей Истине
находит свое место и философия, поэтому Карпов никак не может
согласиться с негативными оценками философской мысли. По его
мнению, когда говорят, что «философия положительно вредна, то
разумеют, конечно, не науку, но того или другого ее деятеля, такую
или другую частную систему»4. Следует также напомнить
подвижническую деятельность Карпова по переводу и изданию Платона.
Не останавливаясь подробно на анализе взглядов мыслителя, а
отсылая интересующегося читателя к интересной работе
архимандрита Августина (Никитина)5, отметим лишь, что его попытка создать
цельное мировоззрение путем синтеза разнородных, но не
антагонистических начал стала одной из ведущих тем русской философии.
В анализируемый период развитие философской мысли шло не
только в столичных академиях, мы уже упоминали плодотворную
1 Гавриил (Воскресенский), архимандрит. История философии. Ч. VI. Казань,
1840. С. 149.
2 Карпов В.Н. Введение в философию. СПб., 1840. С. VI.
3 Там же. С. 133.
4 Там же.
5 См.: Августин (Никитин), архимандрит. Василий Карпов. Очерк жизни и
деятельности//Вече. 1998. № 11. С. 59—97.
406
деятельность в этом направлении Киевской духовной академии,
были подвижники этой науки и в Казани. Профессор Казанской
духовной академии архимандрит Гавриил (Воскресенский) в
1839—1840-х годах опубликовал первую отечественную «Историю
философии», при этом ее 6-я часть была посвящена русскому
любомудрию. Определяя задачи истории философии, о. Гавриил
считает, что она должна правильно определять «как заслуги
философов, так равно их заблуждения и недостатки». При этом данные
объективные оценки нужны не сами по себе, а «дабы путем учения
достигнуть мудрости»1. Анализируя западноевропейскую традицию,
богослов приходит к выводу, что, несмотря на прошлые
достижения, она не может удовлетворить потребности русского ума, ибо
полна «односторонностей и заблуждений».
Архимандрит Гавриил попытался раскрыть специфику
национальных философских школ, в том числе и особенности русской
философской традиции. Русский человек, по его мнению, «до
бесконечности привержен к вере», отсюда особая роль православия в
развитии отечественной философии. Вообще русский ум
«покорился уму беспредельному», и в силу этого религиозные ценности в
России занимают «первенствующее место». В анализе
взаимоотношений религии и философии у архимандрита Гавриила наблюдается
определенный антиномизм, ибо, с одной стороны, философия и
религия «существуют, не смешиваясь», но, с другой — «в душе
истинного философа религия и философия соединены совершенно»2.
Появление фундаментального труда архимандрита Гавриила
свидетельствовало о динамичном развитии духовной академической
философии в России.
Благодаря деятельности Ф. Голубинского, Ф. Сидонского, В.
Карпова, архимандрита Гавриила и других был создан прочный
фундамент для изучения философских дисциплин в духовных учебных
заведениях. Можно согласиться с Э.А. Радловым в том, что
существует внутреннее родство между философией славянофильства и
духовно-академической философией, ибо «у тех и других религиозный
интерес занимает центральное место»3. Следовательно,
академическая традиция также является одним из важнейших источников
формирования самобытной русской философии.
1 Гавриил (Воскресенский), архимандрит. История философии. Ч. 1. С. 3.
2 Там же. С. 7.
3 Введенский А.И., Лосев А.Ф., Радлов Э.А., Шпет Г.Г. Очерки истории русской
философии. С. 125.
407
Духовно-академическая философия
во второй половине XIX — начале XX века
В 50—60-х годах XIX в. в духовных учебных заведениях
происходит интенсивная работа по совершенствованию изучения
философских дисциплин. Эта деятельность предполагала повышение
квалификации наставников в области философии, расширение
источниковедческий базы, используемой для ее изучения, наконец,
разработку собственных оригинальных философских курсов.
С 1854 по 1891 год кафедру философии в МДА занимал
В.Д. Кудрявцев-Платонов, продолжавший дело своего учителя Ф. Го-
лубинского. В.В. Зеньковский, говоря о разнообразных
философских влияниях на мыслителя, отмечал, что «влияние в точном
смысле этого слова имел на него один Ф.А. Голубинский, идеи
которого договорил Кудрявцев»1. Мы считаем данный тезис слишком
категоричным, ибо и идеи Платона, и взгляды Шеллинга также
послужили исходным материалом для формирования системы
Кудрявцева. Философия для последнего — это наука об Абсолютном и об
идеях, рассматриваемых в отношении к Абсолютному, об их
взаимоотношениях и взаимосвязи. В своей статье «Что такое
философия», опубликованной журналом «Вера и разум» в № 1 за 1884
год, мыслитель пишет, что «идея, как неизменное и постоянное
начало бытия предметов, иначе может быть названа их сущностью, в
отличие от изменчивых обнаружений этой сущности —
феноменов». В этом тезисе наглядно прослеживается связь философских
построений В. Кудрявцева с платонизмом.
Спецификой философии с его точки зрения является то, что
она не должна исходить из начал, принимаемых за веру, поэтому ее
построения не могут начинаться прямо «с учения об Абсолютном».
Для Кудрявцева дело философии заключается в обосновании
«самостоятельности нашего разума», то есть в доказательстве «не
эмпирического происхождения основных его понятий и идей»2.
Следовательно, философия при правильном ее построении убеждает в
возможности «чистого рационального познания идеальной стороны
вещей»3. Законность «чисто рациональных методов познания»,
обосновываемых философией, неизбежно приводит к признанию
«идеи абсолютно совершенного Существа», именно она объединяет
«все прочие идеи», придает им смысл и значение.
1 Зеньковский В.В. История русской философии. Т. 2. Ч. 1. С. 74.
2 Кудрявцев В.Д. Возможна ли философия?//Вера и разум. 1884. № 2 . С. 205.
3 Там же.
408
В. Кудрявцев, признавая, что существует несводимость друг к
другу материи и духа, все же считает возможным отыскать «пути их
примирения». Начало, «объединяющее обе стороны бытия», не
может быть найдено «в самом же мировом бытии», необходимо
выйти за его пределы и искать единство «в существе, отличном от
мира». В этом тезисе присутствуют мысли, созвучные философским
взглядам Шеллинга.
Кудрявцев назвал свою концепцию «трансцендентальным
монизмом», вслед за Шеллингом понимая ее как «систему всего
знания», опирающуюся на «непреложные принципы» и
распространяющуюся «на все возможные проблемы»1. Однако В. Зеньков-
ский был прав, когда замечал двусмысленность понятия
«трансцендентальный». Так как оно «имеет определенный смысл и не может
быть оторвано от той гносеологической концепции, которая
запечатлена в этом термине»2.
В. Кудрявцев сознательно ставит перед собой задачу
философского обоснования теизма, поэтому проблема взаимоотношения
религии и философии для него является одной из основных. Он, с
одной стороны, считает, что влияние религии на философию не
должно быть «деспотическим давлением», стесняющим свободу
«этого мышления». Но с другой — столкновение философии с
христианством Кудрявцев рассматривает как «уклонение ее от
прямого пути». Профессор предупреждает, что «люди, готовые
заменить религиозные убеждения философскими, забывают о
существенных свойствах всякого человеческого знания, его
ограниченности»3. Правильная постановка философского мышления
приводит его к союзу с религией, оно помогает «раскрывать то, что
дается христианской верой». Современные богословы высоко
оценивают творчество В. Кудрявцева-Платонова. Так, архимандрит
Иннокентий (Просвирнин) считает его выдающимся
представителем «онтологической школы» в русском богословии, которую
отличало «особенное сознание или даже ощущение присутствия
Бога в мире»4. А игумен Иоанн (Экономцев) подчеркивает, что
попытка профессора «создать целостную систему христианского
православного миропонимания, в центре которого находится поня-
1 См.: Шеллинг. Сочинения: В 2 т. Т. 1.М., 1987. С. 228.
2 Зеньковский В.В. История русской философии. Т. 2. Ч. 1. С. 84.
3 Кудрявцев В Д. Нужна ли философия?//Вера и разум. 1884. № 5. С. 459.
4 Журнал Московской патриархии. 1982. № 4. С. 65.
409
тие абсолютного бытия, оказалась плодотворной» .
Кудрявцев-Платонов оказал существенное влияние на формирование
оригинального русского философствования. Среди его учеников были А.И.
Введенский, H.H. Глубоковский, М.Д. Муретов, П.Я. Светлов и др.
Наконец, следует отметить и роль философа в становлении
взглядов B.C. Соловьева.
В 50-х годах XIX века философские курсы в Киевской
духовной академии читал П.Д. Юркевич, в Санкт-Петербургской —
И.А. Чистович, то есть люди, оставившие заметный след в
истории отечественной мысли. В своей статье «О значении
философии в мире языческом и христианском», имеющей
методологическое значение, И.А. Чистович формулирует две задачи
философского мышления: во-первых, оно должно истину христианского
учения «выразить в форме, соответствующей понятиям человека
XIX века»2; во-вторых, «философия тогда и только тогда будет
верна своему назначению, когда поставит для себя последнюю
цель — служить христианской религии»3. Решение этих задач
требует высокой философской культуры со стороны
священнослужителей и особенно от преподавателей этой дисциплины в
духовных учебных заведениях.
Обоснованию «возрастающего значения» философии для
православия посвящена также книга анонимных авторов «Вера и
наука, или Согласие христианских истин с новейшими открытиями
науки», изданная в 1867 году в Петербурге. Интересно отметить, что
данный труд получил одобрение цензора архимандрита Фотия и
«благословение епископа Смоленского Антония». Авторы
провозглашают, что книга написана для того верующего, который бы
желал доказательств веры не столько церковных, «сколько
философических»4. В рассматриваемой работе настойчиво проводится мысль
о необходимости философской апологии православия, но
последовательно отрицаются материалистические философские школы и
даже те идеалистические построения, которые «слишком
превозносят человеческий ум» и отвергают «сферу таинственного и
непостижимого». Для того чтобы философия была совместима с право-
1 Иоанн (Экономцев), игумен. Православие, Византия, Россия. С. 120.
2 Чистович ИЛ. О значении философии в мире языческом и христианском//Жур-
нал Министерства народного просвещения. 1856. № 9—10. С. 95.
3 Там же. С. 96.
4 А... и К... Вера и наука, или Согласие христианских истин с новейшими
открытиями науки. СПб., 1867. С. 1.
410
славной верой, она должна признавать следующие истины: «бытие
Бога, Творца вселенной, бессмертие души, необходимость и
достоверность божественного откровения в Священном Писании,
пришествие в мир Искупителя — Сына Божия и правду единой
вселенской Церкви Христовой»1.
Изучение философских дисциплин в духовных учебных
заведениях находилось под строгим контролем академического и
синодального начальства. Однако положение философии в духовных
академиях в рассматриваемый период было значительно более
благоприятное, чем в университетах. По инициативе Николая I
министр народного просвещения П.А. Ширинский-Шихматов
произвел в середине века ревизию изучения философии студентами. В
своем докладе он отмечал, что многие философские идеи «не
соответствуют видам правительства», поэтому объем изучения
философии был значительно сокращен. В университетах остались только
две философские дисциплины: логика и психология2.
В 1869 году, отражая потребности быстро меняющегося
общества, утверждается новый Устав духовных учебных заведений. Он,
в частности, предусматривал расширение объема преподавания
философских дисциплин. В духовных академиях вводятся новые
предметы — метафизика и педагогика. Следует подчеркнуть, что
педагогика в то время была неотделима от философской
проблематики, она рассматривалась как часть «христианского
воспитания» и была отнесена к кафедре нравственного богословия. Во
всех духовных академиях создаются кафедры метафизики, которые
замещались наиболее «подготовленными в данном предмете
наставниками». При этом учебные заведения шли даже на то, чтобы
командировать преподавателей вновь открытой кафедры
метафизики за границу. Так, доцент кафедры метафизики СПДА М.М.
Карийский получил 4,5 тысячи рублей для годичной командировки в
Германию. Находясь с апреля 1871 г. по апрель 1872 г. в этой
стране, он должен был по заданию Совета академии «доставить
из-за границы сведения о состоянии изучаемой им науки», а также
соображения по их применению «к дальнейшему преподаванию...
метафизики в академии»3.
1 А... и К... Вера и наука, или Согласие христианских истин с новейшими
открытиями науки. С. 10.
2 См.: Емельянов Б.В., Судаков В.В. Источниковедение истории русской
общественной мысли первой половины XIX века. Свердловск, 1985. С. 77.
3 Христианское чтение. 1871. № 9. С. 30.
411
Поэтому не случайно по возвращению из Германии М.
Карийский в 1873 г. защищает магистерскую диссертацию на тему
«Критический обзор последнего периода германской философии».
Современные богословы характеризуют этого ученого как самого
«выдающегося по таланту и эрудиции преподавателя философии
СПДА»1.
Количество философских дисциплин в духовных академиях было
доведено до пяти: история философии, логика, психология,
педагогика и метафизика.
В отчете ректора СПДА профессора-протоиерея И. Янышева о
деятельности академии по претворению нового устава в жизнь
дается характеристика философских курсов, изучаемых слушателями2.
Ординарный профессор И.А. Чистович читал историю философии,
которая включала в себя историю древней греко-римской мысли,
историю западноевропейской философии до Канта. В ходе
изложения своего предмета он «знакомил студентов с подлинными
сочинениями философов и с литературой своей науки».
Доцент кафедры метафизики М.М. Каринский читал «об
основаниях убеждения в существовании независимо от мысли бытия; о
возможностях метафизического познания и возражениях против
него, об общих основаниях для признания существования
верховной причины всякого бытия, субъекта психической жизни и мира.
При разрешении вопросов, касающихся мира внешнего, доцент
обращал особое внимание на рассмотрение спиритуалистического
идеализма Беркли и его школы, а при решении вопроса о сущности
ограниченного бытия вообще — на разъяснение тех причин, по
которым приходят к противоречащим одно другому решениям этого
вопроса, выражающимся в материалистических,
спиритуалистических и дуалистических системах».
Доцент кафедры логики и психологии А.Е. Светилин читал
«опытную психологию и из логики — учение о критерии
достоверности, о законах мышления и о понятии». Но и это было не все:
экстраординарный профессор А.И. Предтеченский изучал со
слушателями вопросы «о развитии европейской общественной мысли
в XVII и XVIII веках». Наконец, сам о. Иоанн, читавший
педагогику, много уделял внимания философским проблемам, в которых он
хорошо разбирался.
Мустафин В. Философские дисциплины в С.-Петербургской духовной акаде-
мии//Богословские труды. Юбилейный сборник, посвященный 175-летию
Ленинградской духовной академии. М., 1986. С. 189.
2 См.: Янышев И. Отчет о составе и деятельности СПДА с 15 августа 1869 г. по
1 января 1871 г.//Христианское чтение. 1871. № 2. С. 243—277.
412
Итак, даже краткий анализ читаемых философских курсов в
СПДА убеждает в фундаментальности подготовки слушателей по
этим дисциплинам. Если же еще вспомнить о библиотеке,
насчитывающей в 1871 г. 34 297 единиц хранения1, среди которых широко
были представлены труды классиков мировой философии, причем
как на языке оригинала, так и в переводах, то становится
очевидным наличие благоприятных условий в стенах академии для
изучения этой науки.
Устав 1869 г. не только способствовал повышению
эффективности деятельности духовных академий, он стимулировал и
активность семинарий, требуя от них повышения уровня подготовки
слушателей, в том числе и по светским дисциплинам. В этом плане
очень интересен учебник по философии для семинарий,
подготовленный М.А. Остроумовым, первое его издание вышло в 1877 г., а
второе — в 1879 г. Автор специализировался на изучении истории
философской мысли и в 1886 г. защитил магистерскую
диссертацию на тему «История философии в ее отношении к Откровению:
Взгляд на условия исторического развития философии».
Учебник М. Остроумова содержит много интересного
историко-философского материала, а открывается он введением «О
философии вообще», в котором автор формулирует исходные
методологические принципы понимания этой науки, определяет ее
взаимоотношения с религией и человеческой практикой. Он считает, что
«философия есть наука о бытии в его целом, изъясняющая его из
абсолютного основания с целью образовать миросозерцание,
рассудочное и систематическое по форме, истинное и достоверное по
содержанию»2. Если предмет философии отличается всеобщностью,
она изучает «бытие в его целом составе», то предмет других наук
«ограничен известной областью бытия». Отсюда понятно, что
результаты частных наук «получают свой настоящий смысл только в
философии», она выполняет методологическую роль по отношению
к ним.
М. Остроумов считает, что потребность в философствовании
является органической для человека и коренится в свойствах его
духа, в «стремлении к отысканию истины». Поскольку истина
как для философии, так и для религии одна, то встает вопрос о
их взаимоотношениях. Открывая одну и ту же истину о Боге,
1 Новый устав повышал статус академической библиотеки, так, если до его
принятия на ее финансирование выделялось 642 рубля, то в 1870 г. — уже 1600 рублей
(См.: Христианское чтение. 1871. № 2. С. 273).
2 Остроумов M. Обзор философских учений. М., 1879. С. 1.
413
мире и человеке, религия и философия облекают свои выводы в
«разные формы мировоззрения». Первая «основывается на
непосредственном веровании сердца», вторая — «на рассудочной
достоверности». Отсюда вытекает принципиальный вывод, что
«ни философия не может заменить собою религию, ни религия —
философию»1. Удовлетворяя «законные потребности
человеческого духа», они «не должны также и подчиняться друг другу». Из
этого тезиса, конечно, не вытекает вывод об их антагонизме, ибо
частные мнения тех или иных мыслителей, враждебные религии,
«не могут быть постоянными свойствами философии». Поэтому их
взаимодействие должно быть «взаимно благотворно», ибо
«религиозное верование укажет философии пути ее исследований,
философия укрепит и прояснит верование, отделив его от суеверия и
заблуждения»2.
М. Остроумов последовательно выступает за
профессионализацию философии, осуждает дилетантизм в сфере метафизики. Он
проявляется в двух основных формах: во-первых, в попытках
ученых в области конкретных наук своими рассуждениями заменить
философию — этого «требует, например, позитивизм»; во-вторых,
в стремлении людей из сферы литературы и искусства решить
«теоретические вопросы умозрения», но «творчество философское
никогда не должно превращаться в художественное, потому что они
совершенно разной природы»3. Последнее положение направлено и
против славянофильского утверждения о приоритете
художественного познания над рационаольным.
Философия, по мысли автора учебника, решает не только
теоретические задачи, но вырабатывает «руководительные начала
человеческой деятельности». Последовательно отстаивая приоритет
духовных факторов в развитии общества, Остроумов в то же время
не отрицает и значение материальной сферы жизни человека.
Философия, помогая «всестороннему раскрытию умственного или
интеллектуального гения народа», вместе с тем способствует
«изменению форм практической жизни, которое следует необходимо за
изменением миросозерцания»4. В этой связи понятно, что силы,
заинтересованные в прогрессе общества, должны быть сторонниками
«процветания философии». Все предубеждения против этой науки
1 Остроумов М. Обзор философских учений. С. 7.
2 Там же.
3 Там же. С. 8.
4 Там же. С. 9.
414
«основаны на недоразумении, на неправильном понимании
существа и задач ее»1.
Итак, даже краткое рассмотрение методологических установок,
представленных в учебнике М. Остроумова, показывает их
зрелость и высокий теоретический уровень. Усвоение их слушателями
семинарий, безусловно, способствовало формированию у них
философской культуры. И если даже в начале XX века профессор
Г.И. Челпанов делал вывод о том, что в средней светской школе
систематическое изучение философии отсутствует, а в
университетах существует «ненормальная постановка... преподавания
философии»2, то эти упреки в адрес духовных учебных заведений делать
было нельзя.
Во второй половине XIX века в России сложились два основных
течения религиозной философии. Первое было представлено
светскими мыслителями — славянофилами и B.C. Соловьевым,
второе — духовно-академической традицией. Оба эти направления
существовали не изолированно друг от друга, хотя и сохраняли
свои специфические черты. Следует отметить, что светские
мыслители ряд проблем ставили в более радикальной форме,
высказывали более смелые мысли, ибо не были так жестко скованы
академической дисциплиной и духовной цензурой. В то же время
именно с B.C. Соловьева берет начало тенденция, суть которой
сводится к «подмене существенных богословских понятий
философскими». Иными словами, он стоит у истоков того течения
русской религиозной мысли, которое отдает предпочтение философии
перед богословием3.
Развитие духовно-академической философии шло в тесном
взаимодействии со славянофильским учением и «философией
всеединства» В. Соловьева, а также западноевропейской философской
традицией. Однако это направление мысли не было эпигонством,
его создатели предприняли творческий синтез различных
философских школ с целью выработки органического христианского
мировоззрения. Выступая по поводу празднования 20-летия пребывания
А.И. Введенского во главе кафедры философии МДА, С.С:
Глаголев отмечал, что в католических университетах теперь изучается
философия Фомы Аквинского. По его мнению, это выдающийся
мыслитель, сумевший «осветить философию богословским
светом», но он не завидует при этом Западу. В России в духовных
1 Остроумов М. Обзор философских учений. СП.
2 Челпанов Г. Введение в философию. М., 1916. С. VII.
3 См.: Шапошников JJ.E. Философские портреты. С. 69—155.
415
школах «преподается философия Голубинского, Кудрявцева и
Введенского, она дает то единое, которое нужно на потребу». Более
того, «немного теперь имеется мест на земном шаре, где бы
существовали философские школы. Московская академия — одно из
таких мест»1. Эти слова можно отнести ко всей
духовно-академической традиции как школе «верующего разума».
Духовно-академическая философия достигает наивысшей
ступени своего развития в конце XIX — начале XX века. Именно тогда
особенно ярко обнаруживается оригинальность взглядов
представителей этого течения. Достаточно назвать имена профессора А.И.
Введенского, более 20 лет возглавлявшего кафедру философии в МДА,
в этой же академии работали уже неоднократно нами упоминаемые
П.А. Флоренский и М.М. Тареев, наконец, профессор МДА по
кафедре апологетики С.С. Глаголев, круг интересов которого
составляла философская проблематика. В С.-Петербургской духовной
академии не было такого блестящего созвездия имен, но и здесь
преподавали Д.П. Миртов, B.C. Серебрянников и, конечно,
иеромонах (впоследствии епископ) Михаил (Грибановский). Последнему
принадлежит знаменитая формула-задание, согласно которой
«догматы величайшей абсолютной религии должны быть величайшей,
истиннейшей философией». В Киевской духовной академии
философию преподавал знаток Платона П.И. Линицкий, там же
трудился и известный историограф русской философии В.З. Завитневич,
а также В. Экземплярский, внесший вклад в разработку
социального учения церкви. Казанская духовная академия представлена
епископом Никанором (Бровковичем) и профессором В.И. Несме-
ловым.
Творчество каждого из упомянутых выше мыслителей
заслуживает специального рассмотрения, мы же остановимся только на
анализе взглядов Виктора Ивановича Несмелова, одного из самых
оригинальных представителей православной философии. Большая
часть его жизни связана с Казанской духовной академией, после
успешного окончания которой он был оставлен в ее стенах для
подготовки магистерской диссертации. В 1887 г. состоялась защита этой
научной работы на тему: «Догматическая система св. Григория
Нисского». Изучение патристики способствовало пробуждению
интереса у молодого богослова к проблемам антропологии,
соотношению веры и разума. После утверждения в звании магистра
Несмелое в 1888 г. становится профессором академии по кафедре мета-
1 Двадцатилетний юбилей профессора МДА А.И. Введенского//Богословский
вестник. 1912. Январь — февраль. С. 32.
416
физики, кроме чтения лекций по философии он активно продолжает
заниматься научным творчеством и создает главный свой труд —
фундаментальную двухтомную «Науку о человеке». Первый том
этого сочинения увидел свет в 1898 г., второй — в 1903 г., после
этого Несмелое публиковался крайне редко, следует отметить лишь
работу «Вера и знание с точки зрения гносеологии», вышедшую в
1913 г.
Традиционное православное богословие рассматривало процесс
постижения духовного мира «как откровение Бога человеку», то
есть богопознание шло «сверху вниз». Несмелое же идет в
противоположном направлении, то есть «снизу вверх»: для него
совершенно ясно, что «последнее основание истины нельзя отыскать вне
человека». По его мнению, «внешний мир, конечно, существует»,
но все дело в том, что наше знание об этом «не является
объективным», то есть независимым от познающего субъекта. Несмелое
считает, что «ощущение и представление суть мои собственные
состояния и, следовательно, они говорят мне не о том, что существует
вне меня, а только о том, что существует во мне самом»1.
Человек не только порождает «сферу знания», но и создает
«весь объективный мир бытия». В связи с этим богослов вступает
в полемику с Кантом, критикуя его за допущение «вещей в себе»,
за идею ноуменального мира, независимого от человека. Тем самым
с его точки зрения немецкий философ «вопреки своему
собственному желанию... открыл самые широкие двери метафизики
материализма»2. Несмелое же считал, что «процесс развития
человеческой жизни» не может рассматриваться как итог влияния
социальной среды, как действие факторов, находящихся вне человека.
Бытие индивида есть собственно процесс развития человеческого
духа с «переводом продуктов этого развития на практику жизни».
Жизнь человека проходит в «двух разных мирах»: первый —
чувственный, или физический, второй — сверхчувственный, или
духовный. Каждая из сфер познается специфическими методами.
Особое внимание к методологии познания появилось у богослова
под влиянием воззрений неокантианцев. Используя их идеи, он
стремится доказать, что рационалистические приемы познания
неприменимы к исследованию духовной области. С его точки зрения
говорить о ее рассудочном постижении — значит «говорить
вопиющую нелепость»3. Другое дело — физическая область, в которой
1 Несмелое В.И. Наука о человеке. Т. 1. Казань, 1905. С. 127.
2 Там же. С. 126.
3 Там же. С. 266.
27-6016
417
может быть для человека много неизвестного, но нет «ничего
загадочного». По мере развития научного познания в природе все
меньше остается «неизвестного», в то же время сфера «загадочного»
нисколько не уменьшается. Она заключается в том, что
человеческая мысль не может понять природу человека без «решительного
противоречия» всем данным условиям его существования.
Подобное «противоречие» происходит в силу того, что идеальные
стремления индивида не обусловливаются ни материальными условиями
его жизни, не создаются они и «в каких-нибудь абстракциях
мысли». Именно в силу реальности идеальных устремлений личности, а
высшим их проявлением является «идея Бога», по мнению Несме-
лова, и утверждается «объективное существования верховной
личности», ибо только ее бытие может их объяснить. Все стремление
философов «отыскать» бога вне индивида обречены на неудачу,
ибо «мир не подобен богу». Религия, как считает Несмелое, не
может быть «сообщена человеку извне, а может возникнуть только в
самом человеке»1. Принципиальное отличие христианства от всех
других религий и заключается в его особом отношении к индивиду.
Религиозное сознание «вне Христа» основывается на «вере
человека в общение с богом», а сущность христианства проявляется в
идее «союза между богом и человеком». В приведенных
рассуждениях есть определенное созвучие с некоторыми положениями
философии Л. Фейербаха. Н. Бердяев и П. Флоренский справедливо
отмечали, что Несмелое использует идею немецкого мыслителя об
«антропологической тайне религии» для защиты христианства.
Согласно убеждениям В. Несмелова, «неподсудность»
идеальных, или религиозных, представлений рациональным приемам
познания ставит задачу выработки особого метода постижения
«духовных истин». Этот метод исходит, по его мнению, из факта
«живого отношения к Богу», или из «реального переживания»
общения со сверхъестественным. Появляющиеся в результате этого
«мистические прозрения» и выступают средством познания
«истинной мудрости». Критерием этого нового знания не могут быть
какие-то абстрактные схемы, оно «проверяется жизненно».
Поскольку жизнь человека протекает в «двух разных мирах»,
постольку именно от его свободного выбора будет зависеть, какие
именно ценности — материальные или духовные — он
предпочтет. В этой свободе выбора находит проявление нравственная воля
человека, которая представляет собой поразительное чудо для
мира. Именно в сфере морали происходит высшее проявление
1 Несмелое В.И. Наука о человеке. Т. 2. Казань, 1907. С. 135.
418
«творческого духа» личности. Свобода и творчество неразрывно
связаны, так как «пассивное сознание» лишь «переживает
известные выражения жизни». Свободная же личность уже «творит все
содержание жизни», и человек «становится тем, чем он желает
быть и чем стремится быть». Свобода воли предполагает
ответственность людей за свои поступки; если они хотят направить «волю
ко благу», то должны «свое хотение» подчинить «нравственным
правилам жизни». Однако многие представители человечества в
основу своей деятельности положили «не духовное, а плотское
начало». В этом случае происходит «подавление и извращение»
духовных стремлений, появляется возможность «духовного
служения злу»1.
Индивид, реально, а не формально приобщенный к
религиозным истинам, по мнению богослова, не может удовлетвориться
поисками только «счастливых условий» физического существования.
При этом Несмелое не осуждает само стремление к «земному
благополучию», но оно должно быть средством для более высокой
цели, подчинено задачам «оправдания своих стремлений к вечно
пребывающей жизни, подобной жизни Бога»2.
Исходя из этих установок, Несмелое формирует программу
философских построений. Они с его точки зрения должны
поддерживать «стремление индивида к богоподобию». Понятно, что
философия, согласно этим взглядам, не может ориентироваться на
природную сферу жизни человека, а значит, и использовать методы
научного познания, так как «перевести философию на почву науки
значит то же самое, что и прямо уничтожить ее»3. Предметом
философии может быть, как считает Несмелое, только духовная сфера, а
ее основой выступает содержание религиозных верований
человека. Противопоставление же философии и религии — это, по его
убеждению, «дикая нелепость», уходящая корнями в
«схоластическое недомыслие». Философия неизбежно «является естественным
врагом религиозного суеверия, но именно только суеверия, а не
самой религии». Все попытки консерваторов «запретить» философию
продиктованы не интересами православия, а ложными
установками, извращающими смысл евангельской религии. Враждебной
христианству силой выступает не философия, а лишь ее
«материалистические верования», неизбежно вырождающиеся в «суеверия».
Извращенные формы религии, как и извращенные формы филосо-
1 Несмелое В.И. Наука о человеке. Т. 2. С. 211.
2 Там же. T. 1.С.277.
3 Там же. С. 302.
27*
419
фии, должны быть преодолены. Истинная «любовь к мудрости» у
богослова связана со «спиритуалистическим определением
личности», неизбежно приводящим к теизму. Поэтому для
«действительного существования христианства» и для «действительного
осуществления истинной философии... необходимо соединение
откровения и философии». Только благодаря философии человек может
«увидеть в христианстве единственный путь к подлинному
оправданию своего назначения в мире»1.
По Несмелову, проблема взаимоотношения философии и
православия не является чем-то второстепенным, напротив, это одна
из основных богословских тем. В анализируемой богословской
системе предпринята фундаментальная попытка синтеза в рамках
церковного богословия философских и религиозных начал. Можно
согласиться с епископом Феодором (Поздеевским), отмечавшим, что
книга Флоренского «Столп и утверждение Истины» дополняет
сказанное «в книге профессора Несмелова "Наука о человеке", но в
другом плане исполнения» . Действительно, в обоих трудах
человеку предлагается «разумом своим испытать Бога» и через
философию еще «более уверовать в откровение», но в одном случае эта
программа реализуется исходя из принципов «философии
всеединства», в другом — из идей экзистенциальной философии.
В.И. Несмелое стоит у истоков отечественного
экзистенциализма, не случайно H.A. Бердяев, анализируя генезис своих идей,
подчеркивал огромное значение, которое имела для него книга
Несмелова «Наука о человеке», так как в ней были мысли,
соответствующие его «коренному антропоцентризму»3. Творчество богослова
оказало влияние и на развитие церковных православных взглядов.
Архиепископ (ныне митрополит) Кирилл (Гундяев), рассматривая
историю русского богословия, приходит к выводу, что в конце
XIX в. в церковной мысли «возник совершенно новый метод,
отличный как от схоластики, так и от патристики». Наиболее ярко
«он отразился в трудах В.И. Несмелова, который пытался развить
антропологическое богословие, исходя из внутреннего опыта»4.
Отсюда и непреходящее значение его трудов для современного
православия.
1 Несмелое В.И. Наука о человеке. Т. 1. С. 314.
2 Феодор (Поздеевский), епископ. О духовной Истине. Сергиев Посад, 1914. С. 43.
3 Бердяев H.A. Самопознание. С. 149.
А Журнал Московской патриархии. 1987. № 9. С. 13.
420
В начале XX века в интеллектуальной жизни России происходят
заметные изменения. Часть интеллигенции выступает с программой
пересмотра традиционных ценностей образованного общества, и
прежде всего против позитивистского мировоззрения. Появляется
течение, получившее название «нового религиозного сознания»,
очень неоднородное по своему отношению к православию, но
солидарное в поисках «религиозного идеала», призванного
преобразовать как индивидуальную, так и социальную жизнь.
В 1901 —1903 годах «дозволяется» деятельность
Петербургских религиозно-философских собраний, обсуждающих
проблематику христианства и общества, роли церкви в социальной сфере,
соотношения разума и веры, православия и философии и т.д.
Впервые, как отмечает 3. Гиппиус, происходит «встреча»
представителей исторической церкви, то есть русского православия, с
религиозно настроенной интеллигенцией. На протяжении долгого
периода, особенно со второй половины XIX века, это были «два разных
мира», и вот у интеллектуалов и богословов начинается
«настоящее знакомство», происходит «некое сближение двух разных
миров»1. Об этом же писал H.A. Бердяев, вспоминая тот большой
интерес, который он проявлял к религиозно-философским собраниям,
так как они «были замечательны как первая встреча
представителей русской культуры и литературы, заболевшей религиозным
беспокойством, с представителями традиционно-православной
церковной иерархии»2. У религиозно-философских собраний появляется
свой печатный орган, журнал «Новый путь», публикующий
материалы, призванные стимулировать «религиозное возрождение».
Интерес образованного общества к религиозной проблематике,
поиски «национальной формы выражения русского самосознания»,
научно-технический и социальный прогресс повышали статус
философии в обществе. Можно говорить о возрастающем влиянии
философских идей на православное богословие, о процессе его фило-
софизации. Весьма показательной в этом плане явилась
вступительная лекция в Московской духовной академии, прочитанная
профессором А.И. Введенским, «Власть над умами». Он отмечает,
что философская проблематика находится сейчас в центре
внимания общества, так как «слишком ценный здесь предмет спора»3.
1 Гиппиус З.Н. Воспоминания о религиозно-философских собраниях//Наше
наследие. 1990. №4. С. 68.
2 Бердяев H.A. Самопознание. С. 133.
3 Введенский А.И. Власть над умами//Христианин. 1908. Ноябрь — декабрь.
С. 787.
421
Поэтому богословие, игнорирующее философские искания, не
может быть эффективным средством воздействия на «мыслящее
общество». Еще в более категоричной форме эти мысли выражены в
статье С.С. Глаголева «Философия и свобода». По его мнению, и
богословие, и философия имеют один и тот же предмет — «истину
высшую и всеобъемлющую». Следовательно, теология и по
способу построения, и по способу мышления может рассматриваться как
«частная метафизическая система». При таком подходе
«богословие по существу есть философия религии»1. Публикуются
специальные работы о полезности преподавания философских наук в
духовных учебных заведениях. В богословских изданиях появляются
философские разделы, призванные удовлетворить «стремление
развитого ума к исканию истины». Создается даже специальное
пособие по апологетическому богословию П. Линицкого «Значение
философии для богословия». Критикуя тезис консерваторов, согласно
которому «всякая философия опасна для веры», автор считает его
следствием неверного понимания «соотношения веры и разума».
Философия и религия противоположны по критериям истины, так
как первая «выводит свои категории из разума», вторая
«обосновывает свои положения верой». Однако из этого правильного, по
его мнению, тезиса не следует, будто они антагонисты. Хотя
философское исследование само по себе «не производит веру», но оно
может ее «поддержать, укрепить, защитить и оправдать».
Философию «по всей справедливости следовало бы назвать... помощницей
богословия»2. П. Линицкий, как считали новаторски настроенные
богословы, весьма убедительно обосновал этот тезис. В рецензии
на книгу отмечалось, что «при такой философской постановке
богословских вопросов всякому действительно становится очевидною
важность философии для богословия»3.
Итак, духовно-академическая философия предложила свои
подходы к решению проблемы веры и разума путем синтеза
философии и богословия, при «верховном начале истин Откровения». В
рамках этого течения была предпринята удачная попытка филосо-
физации православного богословия с целью ответа на вызов
времени. Оно обосновало тезис, согласно которому православные
истины, оставаясь неизменными по сути, в каждую историческую эпоху
1 Глаголев С.С. Философия и свобода//В память столетия (1814—1914)
Императорской Московской духовной академии. Сергиев Посад, 1915. Ч. 1. С. 152.
2 Линицкий П. Значение философии для богословия//Труды Киевской духовной
академии. 1903. №9. С. 116.
3 Миссионерское обозрение. 1904. № 6. С. 712.
422
требуют нового философско-богословского осмысления, отсюда
необходимость развития религиозной философии. Наконец, именно в
академической среде была сформирована высокопрофессиональная
философская школа, а умозрение было представлено не просто ин-
туициями, а обдуманными системами. Отсюда и непреходящее
значение этой традиции как для современной православной мысли, так
и для светской отечественной философии.
После разгрома духовных учебных заведений, предпринятого
советской властью, традиции духовно-академической философии
сохранялись в Париже в основанном в 1924 году Православном
богословском институте. В его стенах преподавали С. Булгаков, В. Зень-
ковский, Г. Федотов и другие, но эта тема специальной книги.
Оценка философии в современной православной мысли
В 40—50-х годах XX в. богословы Русской православной
церкви достаточно редко обращались к философским темам. Правда, в
программу возрожденных духовных академий предполагалось
включить преподавание «истории русской религиозной мысли» и
«истории философии с метафизикой», но серьезно данные проблемы в
этот период не изучались.
В 60-е годы XX в., то есть во время доминирования
модернистских тенденций, был сформулирован принцип «богословского
приближения». Его суть заключается в том, что, с одной
стороны, утверждается самобытность христианства, поэтому оно не
должно «пойти на такое сближение метафизических основ,
которое означало бы фактический отказ от религиозных убеждений»,
но, с другой стороны, православное богословие «не может
пройти мимо тех концепций личности и общества, которые
вырабатываются в революционном мышлении»1. Итак, как же совместить
провиденциализм и материалистическое понимание истории, веру
в образ божий в человеке и учение о нем как «совокупности
общественных отношений»? Модернисты были вынуждены
констатировать, что «вопрос богословского приближения необходимо
считать открытым» . Но в действительности процесс
«приближения» происходил, как мы считаем, путем выдвижения на первый
план социальных проблем, в ущерб собственно христианским
ценностям.
1 Журнал Московской патриархии. 1967. № 7. С. 36.
2 Там же. С. 37.
423
После Поместного собора 1971 г. были внесены коррективы в
богословские установки, начинается период доминирования
новаторских подходов, в том числе и к проблеме взаимодействия
религии и философии. Она, по мнению богословов, должна изучаться по
двум направлениям. Первое — историческое, рассматривающее роль
философии в становлении христианского вероучения и, напротив,
роль христианства в стимуляции философского мышления. Эта
проблема решается не только применительно к вселенской церкви,
но и локализуется рамками истории русского православия.
Второе — современное, акцентирующее внимание на том, что теологи
должны «использовать философию, ее терминологию как один из
важных инструментов для наиболее полного раскрытия
богословских истин»1.
Современные идеологи Русской православной церкви,
рассматривая историю взаимодействия христианства и философии,
приходят к выводу об особом значении патристики в этом процессе.
Отцы церкви смогли в своих богословских построениях при
помощи «воцерковленной античной философии» объяснить в доступной
форме многие положения евангельской религии, наглядно
выразившиеся в христианской догматике. Со страниц богословских изданий
раздаются настойчивые призывы к овладению и активному
использованию методологических идей патристики. Современные
православные богословы соглашаются с тем, что нужно «следовать
отцам только в творчестве, не в подражании».
Православное богословие, как считает архиепископ Михаил
(Чуб), не может опираться на крайние тенденции в патристике,
выраженные в идеях Тертуллиана, у которого «критика заблуждений
древних философов имела своим результатом самое радикальное
осуждение возможностей человеческого разума», или его антипода
Оригена, который «своим чрезмерным увлечением схемами
греческой философии сделал возможным проникновение антицерковных
тенденций в богословие»2.
Владыка Михаил подготовил магистерскую диссертацию,
посвященную св. Мефодию, где он рассматривает не только его
творчество, но и проблемы патристики в целом, а также ее влияние на
русскую православную мысль. Архиепископ Михаил подчеркивает,
что проблема «воцерковления философии» не была случайной, она
выражала насущные потребности христианской экклезии. Отвергая
1 Журнал Московской патриархии. 1978. № 6. С. 55.
2 Михаил (Чуб), архиепископ. Святой священномученик Мефодий и его бого-
словие//Богословские труды. М., 1973. Сб. № 10. С. 7.
424
крайности, православные отцы церкви сформулировали
«патриотический метод» по отношению к умозрению, его суть состоит в
постоянном контроле истин «философии принципиальными
установками, основанными на данных Священного Писания и церковного
предания»1.
Рассматривая исторический аспект союза философии и
богословия, теологи в последнее время много внимания уделяют его
формированию на русской почве. Они подчеркивают, что только
благодаря «крещению» и приобщению к восточной патристике
русский народ усвоил философские термины и понятия, неизвестные
ему ранее. Однако в то же время богословы признают, что даже в
XVI веке «у большинства русских грамотных людей преобладало
крайне недоверчивое отношение к древним писателям»2 (имеются в
виду представители античной философии). Затем в XVII—XVIII
веках в России начинает господствовать подражание западной
схоластике, и это также не способствовало гармонизации философских и
богословских начал.
Изучение исторического аспекта взаимодействия православия с
философией дает возможность выявить особую роль русской
религиозной философии в создании оригинального православного
богословия в России. Именно с середины XIX века начинается, по
мнению богословов, «плодотворное сотрудничество» между светской
религиозно-философской мыслью и преподавателями духовных
учебных заведений. В центре внимания современных богословов
находится идейное наследие славянофилов и B.C. Соловьева, С.Н.
Булгакова, H.A. Бердяева, П.А. Флоренского и др.
В соответствующих главах, посвященных этим мыслителям, мы
подробно останавливались на современной богословской оценке их
взглядов, поэтому не будем повторяться.
Интересно подчеркнуть еще одну особенность взаимодействия
в истории России православия и философии. Современные
богословы констатируют особую роль в этом процессе русской
литературы, называются имена A.C. Пушкина, Н.В. Гоголя, Н.С.
Лескова, Л.Н. Толстого и др. Первое же место отдается Ф.М.
Достоевскому, творчество которого произвело «духовную революцию».
Идейное наследие этого писателя для судеб церкви было во многом
пророческим, поэтому необходимо богословское осмысление его
1 Михаил (Чуб), архиепископ. Предание Церкви и богословие св. Мефодия //
Богословские труды. М., 1975. Сб. 14. С. 135.
2 Иванов А.И. Максим Грек как ученый на фоне современной ему русской образо-
ванности//Богословские труды. М., 1976. Сб. № 16. С. 161.
425
идей. Только за последнее время богословами много сделано для
рассмотрения взаимоотношения Достоевского и православной
церкви. В 1984 году в Московской духовной академии подготовлено
Е. Лазаревым кандидатское сочинение
«Религиозно-антропологические воззрения Ф.М. Достоевского», в этой же академии
профессором А.И. Осиповым создано учебное пособие для студентов
«Ф.М. Достоевский и христианство». В религиозной печати
опубликован ряд статей, среди них выделяется работа
исследовательского характера Г. Украинского «Святитель Игнатий Брянчанинов
и образ старца Зосимы у Ф.М. Достоевского», появившаяся в
шестом номере «Журнала Московской патриархии» за 1989 год. А
также статья В. Никитина «К.П. Победоносцев и Ф.М. Достоевский:
между западниками и славянофилами» в журнале «Путь
православия» за 1995 г. (№ 4). А.И. Осипов подчеркивает, что великий
русский писатель, пройдя «через труднейшую борьбу к истинной вере
во Христа», как бы «заново открыл для мира христианство». Е.
Лазарев специально останавливается на анализе критического
отношения Достоевского к церкви и считает, что оно «имеет
определенную правду». Но в целом писатель, как отмечает богослов, стоит
«на православной точке зрения» и верен «православной
традиции»1. И хотя Достоевский не был богословом и никогда себя
«таковым не считал», он исследовал «религиозное отношение к
жизни» и создал особое понимание человека, «целую духовную
философию». Эти духовные искания стимулировали движение к
«идеальному христианину», выражающему в концентрированном виде
лучшие народные стремления «к святости и правде». Оценивая
деятельность Поместного собора Русской православной церкви в
1988 году по канонизации ряда новых православных святых, в том
числе Игнатия Брянчанинова, Паисия Величковского и Амвросия
Оптинского, современный богослов связывает данный факт с
религиозными исканиями Достоевского. По его мнению это «была по
сути «канонизация» того христианского идеала, который Ф.М.
Достоевский вывел в образе старца Зосимы»2. Понятно, что, с этой
точки зрения, история формирования союза православия и
философии должна быть обогащена и идеями классической русской
литературы.
Редактор журнала «Путь православия» В. Никитин
справедливо подчеркивает, что образ мыслей Ф.М. Достоевского «насквозь
1 Лазарев Е. Религиозно-антропологические воззрения Ф.М. Достоевского.
Загорск, 1984. Рукопись. С. 34.
2 Журнал Московской патриархии. 1989. № 6. С. 73.
426
антиномичен», «печатью глубоких противоречий отмечено и его
понимание православия»1. В статье содержатся и интересные факты,
характеризующие взаимоотношения великого писателя и К.П.
Победоносцева. Однако католические симпатии автора приводят его к
неверным выводам. Например, он пишет, что «религиозное
сознание Хомякова было отмечено печатью конфессиональной
замкнутости, было именно восточное, а не вселенское», а главное, «было
направлено против католического Запада». А поскольку писатель
находился под влиянием славянофила, постольку его взгляд на
католичество был неверным. Поэтому «влияние Хомякова на
Достоевского... имело, к сожалению, не только положительное
значение»2.
Негативное отношение со стороны православных верующих к
католицизму, стремящемуся поглотить восточное христианство,
растворить его в унии, на наш взгляд, вполне оправданно.
Обвинять же Хомякова и Достоевского в «конфессиональной
замкнутости» нет никакого основания. Они стремились не разрушить, а
исцелить западные вероисповедания, восстановить в них подлинный
дух вселенской церкви. Современные представители Русской
православной церкви справедливо характеризуют A.C. Хомякова как
«экуменического деятеля»3, сумевшего показать «инославному
миру достоинство православия». Даже протоиерей И. Свиридов,
также прокатолически настроенный богослов, в статье,
посвященной 25-летию вступления Русской православной церкви во
Всемирный совет церквей, отмечал, что в XIX веке среди лидеров
«экуменического мышления» был «богослов и религиозный
философ A.C. Хомяков»4.
Религиозно-философские идеи, заключенные в классической
русской литературе, становятся одним из каналов
восстановления исторической памяти, а значит, и понимания роли церкви в
развитии отечественной мысли и духовно-нравственных исканий
в России.
В то же время, по мнению новаторов, представители церкви
явно недостаточно используют «ко благу православия» заложенные
в русской литературе духовные ценности. Да, со второй половины
XIX века среди отечественных литераторов были и такие, которые
1 Путь православия. 1995. № 4. С. 140.
2 Там же. С. 142.
3 См.: Журнал Московской патриархии. 1978. № 7. С. 62.
4 См.: там же. 1987. № 2. С. 55.
427
выступали с «богоборческой проповедью». Но большинство
русских писателей «сеяли добрые семена в душах людей». Поэтому,
как считает патриарх Алексий (Ридигер), православной мысли
«надлежит заново и непредвзято осмыслить место и роль
национальной культуры и литературы»1.
Исторический аспект взаимодействия православия и философии
теснейшим образом оказывается связан с современным процессом
философизации богословия. История христианской церкви, процесс
становления и развития православной мысли с этой точки зрения
помогают уяснить роль экклезии в современном мире и значение
богословия и философии для раскрытия вечных христианских
истин. У христианской философии, как считает преподаватель
Ленинградской духовной академии протоиерей В. Мустафин, сегодня три
главные цели: во-первых, «объяснять и рационально обосновывать
важнейшие моменты христианского вероучения»; во-вторых, давать
«христианскую оценку тех или иных проблем, непрерывно
возникающих в человеческом обществе»; в-третьих, «теоретически
излагать христианское миросозерцание ради научения ему других»2. Эти
задачи только отчасти решены современными идеологами русского
православия, так как православная мысль не «встала еще на
уровень церковных требований».
Православное богословие в начале века достигло мировых
высот, ведущие западные теологи, например Гарнак, «изучали русский
язык специально для того, чтобы читать в подлиннике работы
наших ученых». Разгром духовных учебных заведений в
послереволюционные годы, уничтожение богословских кадров и книг привело к
«угасанию церковной мысли». Все обоснование христианского
вероучения сводилось к «верности традиционным истинам». Только в
последнее время появились стимулы для развития
религиозно-философской мысли в России. К ним относятся следующие:
религиозное возрождение, наблюдаемое в обществе, рост профессиональной
подготовки богословов, освоение идейного наследия прошлого,
новое положение церкви в обществе.
Особая сложность в развитии богословия, по мнению богослов-
ско-церковных кругов Московской патриархии, состоит в том, что
оно является индивидуальным творчеством и в то же время должно
1 Журнал Московской патриархии. 1998. № 3. С. 23.
2 Мустафин В. Философские дисциплины в С.-Петербургской духовной акаде-
мии//Богословские труды: Сборник, посвященный 175-летию Ленинградской
духовной академии. С. 187.
428
«дышать воздухом предания». Отсюда особые требования к
представителям богословской науки. Прежде всего они должны
обладать высокими духовно-нравственными качествами, богословской и
научной эрудицией, то есть быть по крайней мере на «уровне
богословского сознания данного периода в жизни Церкви».
Ведущие идеологи православия считают, что и вторая цель
христианской философии — «обращения к миру» — также пока еще
не реализована. Несмотря на отдельные достижения современной
теологии в целом, «разрыв между богословской мыслью и
современностью преодолен не был». Давались часто правильные
подходы к тем или иным актуальным проблемам, но не было их
«осмысления с позиций церковной жизни». Подобная ситуация
складывалась из-за абсолютизации «внешних богословских форм»,
проистекала из изолированности теологии от других сфер знания. Опыт
развития святоотеческого богословия, традиции русской
религиозной философии помогают внести коррективы в понимание
соотношения богословия и философии. Они составляют «единую
христианскую мысль», которая должна становиться «все более
контекстуальной», то есть включать «христианское осмысление проблем, с
которыми сталкивается современный человек»1. Это «христианское
осмысление» опирается не только на церковное самосознание, но
и на широкий спектр достижений светской культуры. Правда,
соборный разум всегда позволяет сохранить субординацию
светского и религиозного, подчиняя низшее, безрелигиозное начало
высшему — сакральному видению мира.
Ситуация, складывающаяся в современном обществе,
напоминает, по мнению богословов, те процессы, которые происходили в
России в начале XX века. Традиционное, господствующее
интеллигентское мировоззрение, имевшее антирелигиозную
направленность, переживает глубокий кризис, все больше появляется людей,
вступающих «на путь религиозных исканий».
Архиепископ Александр (Тимофеев) специально рассматривал
ситуацию, связанную с религиозным подъемом в обществе,
призывал церковь овладеть этим процессом, внести в него «строго
православное начало»2. Однако это можно сделать лишь при условии
возрождения православной апологетической мысли. Только за
последнее время появились труды архиепископа Михаила (Мудьюги-
на), епископа Василия (Родзянко), профессора МДА А.И. Оси-
1 Московский церковный вестник. 1989. № 17. С. 3.
2 Журнал Московской патриархии. 1990. № 2. С. 41.
429
пова1, посвященные ответам «на недоуменные вопросы
сегодняшнего дня». При этом ставится задача объяснять образованному
человеку самые трудные проблемы — «и научно, и философски, и
православно».
Наконец, третья задача христианской философии — «научение
других» — также находится еще в процессе решения. Для ее
реализации, как считают церковные круги, необходимо перестроить
деятельность по подготовке богословских кадров, с тем, чтобы они были
восприимчивы к запросам, которые «общество обращает к церкви».
В последнее время в связи с обострением борьбы между
модернистской и консервативной тенденциями в богословии вопрос об
отношении православия и философии выдвигается на одно из
первых мест. Модернисты в религиозно-философских исканиях начала
XX века хотят найти оправдание своим действиям, направленным
на разрыв с православным преданием. Неообновленцы обращаются
к идейному наследию С.Н. Булгакова, Г.П. Федотова, A.B. Карта-
шева и особенно о. Н. Афанасьева и о. А. Шмемана2. Серьезные
исследователи отмечают, что у модернистов происходит
примитивизация взглядов вышеназванных мыслителей. Сошлемся на
авторитетное мнение протоиерея В. Асмуса о том, что идеология,
защищаемая А. Борисовым и Г. Кочетковым, «не идентична богословию
о. Николая Афанасьева или о. Александра Шмемана и т.д.»3 Но
религиозно-философское «обоснование» необходимо модернистам
прежде всего для поиска «нового критерия для истин веры».
Естественно, если место православного предания занимает религиозная
философия, то происходит «потеря православной идентичности».
Однако и другое крайнее течение, то есть консерватизм, хотя
формально и выступает под лозунгом верности преданию,
фактически омертвляет его, сводя к внешней форме, служа «букве, а не
духу». В предисловии к сборнику «Современное обновленчество —
протестантизм "восточного обряда" и в самих его статьях
последовательно осуждается «философизация православного богословия».
Обосновывая положения богословского консерватизма, данное
издание выступает с негативной оценкой русской
религиозно-философской традиции. Резкой критике подверглись представители со-
фиологии, такие, как B.C. Соловьев, С.Н. Булгаков и П.А. Флорен-
1 См.: Михаил (Мудьюгин), архиепископ. Введение в основное богословие. М.,
1995; Василий (Родзянко), епископ. Теория распада вселенной и вера отцов. М.,
1996; Осипов А.И. Путь разума в поисках истины. М., 2002.
2 См.: ШапошниковЛ.Е. Консерватизм, новаторство и модернизм в православной
мысли XIX—XX веков. С. 217—273.
3 Асмус В. Предание и единство церкви//Единство церкви. М., 1996. С. 236.
430
ский. При этом ничего не говорится о позитивном характере их
взглядов, а лишь отмечается, что они «пытались в своих работах
модернизировать святоотеческую традицию православного
богословия»1.
Рассуждая о «пленении» богословия философией, о том, что
модернисты стремятся заменить предание
религиозно-философскими учениями, они фактически сводят роль богословия к трансляции
прошлого опыта. Последовательный консерватизм приводит к
изоляции от современного общества, от его тревог и забот. Вот как об
этом писал архимандрит Константин (Зайцев): «В отличие от
окружающего нас мира мы — чада православной России, живем
идеалами прошлого и наглухо отчуждены от окружающей нас
безбожной среды»2. В уходе православия от мира заинтересованы лишь те
силы, которые стремятся навязать России чуждые ей ценности.
Можно согласиться с А. Кураевым о глубоко ошибочной позиции
кругов, заверяющих, будто в православии нет философского
элемента, а значит, рациональных «аргументов, с помощью которых
мы могли бы обосновать свою веру». Конечно, в области
философии нельзя выдвинуть «аргументы, обладающие математической
точностью». Но патристическая философская традиция, к которой
принадлежат и представители русской религиозной мысли,
призвана показать, что «христианство внутренне логично, что оно может
оправдать свое понимание Бога, мира и человека»3.
В современных условиях православная мысль должна давать
ответы на экологические, демографические проблемы, оценивать
результаты научно-технического прогресса, разрабатывать
принципы отношения к обществу. Естественно, без обращения к
отечественной религиозной философии, без выработки современных
православно-философских концепций для решения этих задач не
обойтись.
Руководство Московской патриархии по отношению к
отечественному философскому наследию занимает взвешенную позицию. В
докладе епископа Тихона (Емельянова), председателя
издательского совета Московского патриархата и главного редактора
издательства Московской патриархии, посвященном анализу современного
православного книгоиздания, отмечается интерес, проявляемый
обществом к духовному наследию «русского религиозно-философско-
1 Современное обновленчество — протестантизм «восточного обряда».
Предисловие. С. 7.
2 Церковь о государстве. СПб., 1993. С. 63.
3 КураевА. Христианская философия и пантеизм. М., 1997. С. 10.
431
го ренессанса начала XX века». Он называет имена П.А.
Флоренского, С.Н. Булгакова, A.B. Карташева, Н.О. Лосского, H.A.
Бердяева, труды которых широко издаются. Владыка считает, что «все
они исповедовали себя православными христианами, во многих
областях внесли существенный вклад в русскую православную
мысль»1. В то же время эти авторы «порой высказывали и спорные
мысли», относящиеся к частным богословским мнениям. Поэтому
использовать на этих книгах гриф: «Печатается по
благословению...» (Святейшего патриарха, правящего архиерея или
издательского совета Московского патриархата) неуместно. Подобный гриф
не только «свидетельство о православности книги, но... по
существу, согласие благословляющей инстанции с ее содержанием».
Наличие спорных моментов в работах представителей русской
религиозной философии не означает негативного к ним отношения.
Епископ Тихон (Емельянов) специально подчеркивает, что «издавать их
труды необходимо, не оставляя это дело на откуп не церковным
издательствам»2.
В материалах Юбилейного Архиерейского собора, в
выступлении патриарха Алексия (Ридигера) подчеркивалось, что существует
сложность свидетельства Церкви в мире, ибо она, с одной стороны,
«приносит неизменную Истину Христову», но с другой стороны,
экклезия призвана возвещать ее в «контексте динамично
развивающейся государственной и общественной жизни»3. Добиться этой
цели можно только путем развития соборной православной мысли.
Не случайно в последнее десятилетие стали проводиться
общецерковные богословские конференции, уже состоялись такие форумы,
как «Православное богословие на пороге третьего тысячелетия» и
«Православное учение о Церкви».
В своем слове на открытии конференции «Православное учение
о Церкви» патриарх Алексий (Ридигер) отметил ряд задач, стоящих
перед современным богословием. Это и продолжение диалога со
светской наукой, и «творческое осмысление трудов выдающихся
православных богословов XX века», и осмысление живой связи
«исторически изменчивого и неизменного» в экклезиологии и др.4
О необходимости для современной богословской науки опираться
на «лучшие достижения прошлого» говорил и основной докладчик
1 Журнал Московской патриархии. 1998. № 3. С. 32.
2 Там же.
3 Сборник документов и материалов Юбилейного Архиерейского собора Русской
православной церкви. Москва, 13—16 августа 2000. Н. Новгород, 2000. С. 42.
4 См.: Журнал Московской патриархии. 2003. № U.C. 52—53.
432
на данной конференции митрополит Филарет (Вахромеев). Он
особо подчеркнул необходимость диалога между философами и
богословами «по вопросам, представляющим общий интерес»1.
Итак, суть новаторской позиции по отношению к русской
религиозно-философской традиции заключается в позитивной оценке ее
вклада в развитие православной мысли. Данный вывод не означает,
что все идеи этого течения должны быть безоговорочно приняты
современным богословием. Оно призвано отделить правильные, с
точки зрения соборного разума, тезисы, от субъективных
положений, порывающих с традицией.
Философия же, в целом, оценивается новаторами как
важнейший «инструмент искания истины», и если в ее основу будут
положены «теистические посылки», то тогда она «приводит человека к
исходному пункту религиозного миропонимания — постулированию
Абсолюта, Бога и необходимости принятия религиозного "метода"
Его постижения»2. Следовательно, философский элемент
органично должен входить в современное церковное сознание, выполняя в
нем присущую ему роль. Именно новаторское течение в
богословии, на наш взгляд, при решении проблемы взаимодействия
философии и богословия занимает позицию, наиболее соответствующую
интересам церкви.
? 7 л * /
1 См.: Журнал Московской патриархии. 2003. № U.C. 54.
2 Осипов AM. Путь разума в поисках истины. С. 190.
28-6016
ЛИТЕРАТУРА
А... и К... Вера и наука, или Согласие христианских истин с новейшими
открытиями науки. СПб., 1867.
Аксаков К.С. Полное собрание сочинений. Мм 1861.
Акты и документы, относящиеся к истории Киевской академии. Т. 1.4. I.
Киев, 1909.
Баранкова Г.С., Мильков В.В. Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского.
СПб., 2001.
Бёме Я. Christosophia, или Путь ко Христу. СПб., 1994.
Бердяев Н. А. Самопознание. М., 1990.
Бердяев H.A. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989.
Бердяев H.A. О назначении человека. М., 1993.
Бердяев H.A. Спасение и творчество//Путь. М., 1992. Кн. 1.
Бердяев H.A. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990.
Бердяев H.A. Философия неравенства. М., 1990.
Бердяев H.A. Судьба России. М., 1918.
Бердяев H.A. Смысл творчества. М., 1916.
Бердяев H.A. Мое философское миросозерцание//Н.А. Бердяев: Pro et
contra. СПб., 1994.
Бердяев H.A. Судьба России. М., 1990.
Бердяев H.A. Новое религиозное сознание и общественность. СПб., 1907.
Бердяев НА. Смысл истории. Опыт философии человеческой судьбы.
Париж. 1969.
Бердяев H.A. Философия свободного духа. М., 1994.
Бердяев H.A. Философия творчества, культуры и искусства. В 2 т. М.,
1994.
Бердяев НА. Царство духа и царство Кесаря. М., 1995.
Бердяев НА. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века
и начала XX века//0 России и русской философской культуре: Философы
русского послеоктябрьского зарубежья. М., 1990. С. 43—271.
Бердяев НА. Алексей Степанович Хомяков. М., 2005.
Богословские сочинения Сильвестра Медведева//Русская православная
церковь в XVII веке. Избранные богословские сочинения XVII века. Казань, 1994. С.
87—105.
Булгаков С.Н. Соч.: В 2 т. М., 1993.
Булгаков С.Н. Труды по социологии и теологии: В 2 т. М., 1997.
Булгаков С.Н. Природа науки//Философский сборник Л.М. Лопатину к
30-летию научно-педагогической деятельности. М., 1912.
Булгаков С.Н. Догмат и догматика//Живое предание. Православие в
современности. М., 1997.
Булгаков С.Н. Очерки учения о церкви//Путь. М., 1992. Кн. 1.
Булгаков С.Н. Православие. Очерки учения православной церкви. Киев,
1991.
Булгаков С.Н. Благодатные заветы преп. Сергия русскому богословство-
ванию//Путь. Кн. 1.
Булгаков С.Н. Два града. М., 1911. Т. 1—2.
Булгаков С.Н. Тихие думы. М., 1996.
Булгаков С.Н. Агнец Божий. О Богочеловечестве. М., 2000. Ч. 1.
434
Булгаков С.Н. Свет невечерний: Созерцание и умозрение. М., 1994.
Булгаков С.Н. На пиру богов. Pro et contra. Современные диалоги//Вехи.
Из глубины. М., 1991.
Булгаков С.Н. Философия имени. СПб., 1998.
Василий Великий. Избранные сочинения и комментарии. СПб., 2003.
Василий Великий. Избранные труды и послания. М., 1996.
Василий (Родзянко), епископ. Теория распада вселенной и вера отцов.
М., 1996.
Введенский А.И. Власть над умами//Христианин. 1908. Ноябрь —
декабрь.
Введенский А.И. Статьи по философии. СПб., 1996.
Вышеславцев Б.П. Сердце в христианской и индийской мистике//Вопро-
сы философии. 1990. № 4.
Гавриил (Воскресенский), архимандрит. История философии. Ч. I—
VI. Казань, 1839—1840.
Глаголев С.С. Философия и свобода//В память столетия (1814—1914)
Императорской Московской духовной академии. Сергиев Посад, 1915. Ч. 1.
Григорий Палама. Триады в защиту священнобезмолствующих/Пер. и
комм. В.Вениаминов. М., 2003.
Давид Анахт. Сочинения. М., 1975.
Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991.
Дионисий Ареопагит. О Божественных именах. О мистическом богосло-
вии/Изд. 2-е. Подготовка Г.М. Порохова. Тексты на древнегреческом,
переводы с древнегреческого. СПб., 1995.
Древнерусские ареопагитики//Макаров А.И., Мильков В.В., Смирнова A.A.
Древнерусские ареопагитики. М., 2002.
Златоструй: Древняя Русь X—XI вв. М., 1990.
Феодор (Поздеевский), епископ. О духовной истине. Сергиев Посад.
1914.
Иванов Вяч. И. Родное и вселенское. М., 1994.
Игумнов П. Христология. Опыт раскрытия онтологического смысла Бого-
воплощения в богословии протоиерея Сергия Булгакова//Журнал
Московской патриархии. 1989. № 10.
Изборник 1076 года. М., 1076.
Изборник Святослава 1073 г. Факсимильное издание. М., 1983.
Избранное из сочинений архимандрита И. Голятовского. Варшава, 1867.
Избранные произведения русских мыслителей второй половины XVIII в.:
В 2 т. М., 1952.
Избранные сочинения из «Утренней зари». Труды Воспитанников
Университетского пансиона в 2-х частях. М., Университетская тип., 1809. Ч. 1.
Иларион. Слово о Законе и Благодати//Богословские труды. № 28.
Ильин И.А. Аксиомы религиозного опыта. М., 1993.
Источники по этногенезу, культуре и ранней государственной истории
древних славян. Киев, 1988.
Карамзин ИМ. О любви к отечеству и народной гордости//Карамзин
Н.М. Избранные статьи и письма. М., 1982.
Карпов В.Н. Введение в философию. СПб., 1840.
Киреевский ИЗ. Критика и эстетика. М., 1979.
Киреевский И.В. Поли. собр. соч. М., 1911.
28*
435
Кирик Новгородец. Вопрошание Кириково, иже вопроси епископа
Нифонта и иных//Памятники древнерусского канонического права. СПб., 1880.
Ч. 1.
Кирик Новгородец. Учение о числах/Пер. P.A. Симонова//Громов М.Н.,
Мильков В.В. Идейные течения древнерусской мысли. СПб., 2001.
Космография//Соболевский А.И. Переводная литература Московской Руси
XIV— XVII веков. СПб., 1903.
Кудрявцев В.Д. Возможна ли философия?//Вера и разум. 1884. № 2
Кудрявцев В.Д. Нужна ли философия?//Вера и разум. 1884. № 5.
Лаодикийское послание и другие труды Ф.В. Курицина//Новгородская
ересь XV века и ее обличители. Сборник документов. CD-ves. Новгород
Великий — Рига, 2003.
Латинские рукописи профессоров Киево-Могилянской академии. Львов;
Варшава, 2000.
Лекции И.Е. Шварца «О трех познаниях: любопытном, полезном и прият-
ном//РО РНБ.0.111.
Лекции по философии профессора МДА Ф.А. Голубинского. М.,
1884—1886. Вып. I—IV.
Лопатин Л.М. Аксиомы философии. М., 1996.
Лопухин И.В. Замечания на известную книгу Руссову. М., 1809.
Лопухин И.В. Излияния сердца, чтущего благость единоночалия. М.,
1794.
Лопухин И.В. Некоторые черты о внутренней церкви, о едином пути
истины и о различных путях заблуждения и гибели с присовокуплением краткого
изображения качества должностей истинного христианина. СПб., Печат. в
Имп. тип., 1798.
Леонтьев КН. Восток, Россия, Славянство. М., 1996.
Линицкий П. Значение философии для богословия/Друды Киевской
духовной академии. 1903. № 9.
Логика Авиасафа//Неверов С.Л. Логика иудействующих//Университет-
ские известия. Киев, 1909. № 8. С. 41—62.
Логика жидовствующих//Соболевский А.И. Переводная литература
Московской Руси XIV — XVII веков. СПб., 1903. С. 401—414.
Лосский И.О. Бог и мировое зло. М., 1994.
Лосский И.О. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция.
М., 1995.
Михаил (Мудьюгин), архиепископ. Введение в основное богословие.
М., 1995.
Могила П. Краткий катехизис// Голубев СТ. Киевский митрополит Петр
Могила и его сподвижники. Т. 2. Киев, 1898. С. 358 — 487.
Мудрое слово Древней Руси (XI—XVII вв.). М., 1989.
Написание о грамоте//Вопросы истории религии и атеизма. Вып. 3. М.,
1956.
Неопубликованные письма С.Н. Булгакова к В.В. Розанову//Вопросы
философии. 1992. № 10. С. 153.
Несмелое В.И. Наука о человеке. Казань, 1905. Т. 1—2.
Новгородская ересь XV века и ее обличители. Сборник документов.
CD-ves. Новгород Великий; Рига, 2003.
Новиков Н.И. О достоинстве человека в отношениях к Богу и миру//Ут-
ренний свет. 1777. Ч. 1. С. 27.
Одоевский В.Ф. Пестрые сказки. СПБ., 1996.
436
Одоевский В.Ф. Русские ночи. Л., 1975.
Одоевский В.Ф. Русские ночи. 4338 год. Фрагменты. Письма. [Б.м.].
Catedral PR, 2000. CD-версия.
Остроумов M. Обзор философских учений. М., 1879.
Ответ Софрония Лихуда//Аржанухин В.В. К публикации Ответа Софро-
ния Лихуда// Историко-философский ежегодник. 1993. М., 1994. С. 236—
249.
Палея Толковая/Пер. и комм. А.М. Камчатанов, В.В. Мильков, СМ.
Полянский. М., 2002.
Переписка Карамзина с Лафатером. 1786—1790//Карамзин Н.М.
Письма русского путешественника. Л., 1987. С. 468.
Переписка П.А. Флоренского и В.А. Кожевиикова//Вопросы философии.
1991. № 6. С. 47.
Письма Семена Франка к Людвигу Бинсвангеру//Логос. 1992. № 3.
Письма СТ., К.С и СА. Аксаковых к И.С Тургеневу//Русское
обозрение. 1894. Сентябрь.
Письма A.M. Кутузова И.П. Тургеневу//Лотман Ю.М., Фурсенко В.В.
«Сочувственник» А.Н. Радищеа. A.M. Кутузов и его письма к И.П. Тургене-
ву//Учен. зап. Тартусского госуниверситета. Вып. 139. Тарту, 1963.
Письма и дневник. 1780—1792// Барсков Я.Л. Переписка московских
масонов XVIII века. 1780—1792 гг. Пг., 1915.
Письма A.M. Кутузова//Барсков Я.Л. Письма А.М. Кутузова//Русский
исторический журнал. 1917. Кн. 1/2.
Письмо A.M. Кутузова//Лотман Ю.М. Неизвестное письмо A.M.
Кутузова И.П. Тургеневу//Учен. за п.Тартусского госуниверситета. Вып. 209. Тарту,
1968.
Платон (Левшин), архиепископ. Поучительные слова. М., 1780.
Повесть временных лет. (Лаврентьевская летопись). Арзамас, 1993.
Послание, написано Климентом, митрополитом русским, Фоме
пресвитеру, истолковано Афанасием Мнихом//Златоструй. М., 1990.
Послания и Слова иерархов Русской Православной Церкви XV—XVII
веков. Томск, 1998.
Послания митрополита Никифора /Подготовка текстов и пер. Г.С Баран-
ковой. М., ИФ РАН, 2000.
Послания старца Филофея//Памятники литературы Древней Руси: Конец
XV — начало XVI века. С. 436 — 450.
Послесловия к изданиям Ивана Федорова//Памятники литературы
Древней Руси: Середина XVI века. М., 1985. С. 288.
Поучение Даниила, митрополита всея Руси/Пер. и комм. Н.В. Поныр-
ко//ПЛДР: Конец XV — пер. пол. XVI века. М., 1984.
Преподобного Нила Сорского Предание ученикам своим о жительстве
скитском. М., 1849. С. 54.
Преподобный Макарий Египетский. Духовные слова и
послания/Подготовка А.Г. Дунаева. М., 2002.
Преподобный Симеон Новый Богослов. Избранные творения. СПб.,
1994. С. 81 —154.
Проект устава духовных академий. СПб., 1823. Ч. 1.
Произведения анонимных авторов «Вечерней зари»//Избранные труды
русских масонов XVIII века: Н.И. Новиков, A.M. Кутузов, СИ. Гамалея,
И.Г. Шварц, И.П. Тургенев, И.В. Лопухин и др. [Ташкент], Общество ложи
«Лаокоон», 1996.
437
«Просветитель» преподобного Иосифа Волоцкого. Издание Спасо-Пре-
ображенского Валаамского монастыря. М., 1993.
Разные замечания покойного Шварца//РО РНБ.0.112.
Рассуждение о бессмертии души//Вечерняя заря. 1782. Ч. 1.
Русская философия второй половины XVIII в. Хрестоматия. Свердловск,
1990.
Самарин Ю.Ф. Предисловие к первому изданию богословских сочинений
A.C. Хомякова//Хомяков A.C. Поли. собр. соч. Т. 2. М., 1900.
Сборник документов и материалов Юбилейного Архиерейского собора
Русской православной церкви. Москва, 13—16 августа 2000. Н. Новгород,
2000.
Сидонский Ф.Ф. Введение в науку философию. СПб., 1833.
Сковорода Г. Соч.: В 2 т. М., 1973.
Слово об осуждении еретиков Иосифа Волоцкого//Памятники
литературы Древней Руси: Конец XV — первая половина XVI в. М., 1984. С.
324—349.
Слово о законе и благодати//Молдован A.M. «Слово о законе и
благодати» Илариона. Киев, 1984.
Соловьев B.C. Соч.: В 2 т. М., 1989.
Соловьев B.C. Собр. соч. СПб., б.г. Т. 1 —10.
Соловьев В. С. Россия и вселенская церковь. M., 1911.
Соловьев В. Соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1988.
Сочинения Максима Грека. В 2-х частях. Репринтное издание. М., 1992.
Сперанский ММ. Бытие предсущественное, существенное, суетное, мыс-
ленное//ОР РНБ. Ф. 731. Ед. хр. 629.
Сперанский М.М. Быть и существовать//РО РНБ. Ф. 731. Ед. хр. 617.
Сперанский ММ. Бытие хаотическое и созданное//РО РНБ. Ф. 731. Ед.
хр. 631.
Сперанский ММ. Философия//РО РНБ. Ф. 731. Ед. хр. 625.
Сперанский ММ. Руководство к познанию законов. СПб., 1845.
Сперанский ММ. Понятие добра и пользы//Катетов И.В. Граф М.М.
Сперанский как религиозный мыслитель. Казань, 1889.
Сперанский ММ. Бытие полное, ограниченное, союзное и отдельное//РО
РНБ. Ф. 731. Ед. хр. 627.
Сперанский ММ. Честь и свобода одно и то же//В память графа
М.М.Сперанского (1772—1871)/ Под ред. В.В. Бычкова. СПб., 1872. С. 789.
Сперанский М.М. Свобода, произвольная неволя//РО РНБ. Ф. 731. Ед.
хр. 694.
Сперанский М.М. Письма к Ф.И. Цейеру//Русский архив. 1870. Т.8.
№ 1—3.
Сперанский М.М. Проекты и записки. М.; Л., 1961.
Тайная тайных//Новгородская ересь XV века и ее обличители. Сборник
документов. CD-ves. Новгород Великий; Рига, 2003.
Творения преподобного Иоанна Дамаскина. Источник знаний/Пер. и
комм. Д.Е. Афиногенова, A.A. Бронзова, А.И. Сагарды, Н.И. Сагарды. [Б.м.],
Индрик, 2002.
Творения преподобного нашего Нила, подвижника Синайского.
Избранное. М., 1993.
Тексты «Диотры» Филиппа Монотропа//Памятники переводной и
русской литературы XIV—XV вв. Л., 1987.
438
Ill Слово «Шестоднева» Иоанна экзарха Болгарского (Перевод Г.С. Ба-
ранкова)//Громов М.Н., Мильков В.В. Идейные течения древнерусской
мысли. СПб., РХГИ, 2001.
Трубецкой E.H. Миросозерцание B.C. Соловьева: В 2 т. М., 1995.
Трубецкой E.H. Смысл жизни. М., 1994.
Трубецкой E.H. Соч. М., 1994.
Феодор (Поздеевский), епископ. О духовной Истине. Сергиев Посад,
1914.
Феофилакт Лопатинский. Избранные философские сочинения. М.,
1997.
Филарет (Дроздов), митрополит. Собрание мнений и отзывов. СПб.,
1885. Т. 1.
Флоренский П.А. Соч.: В 4 т. М., 1994—1999.
Флоренский П.А. Христианство и культура//Журнал Московской
патриархии. 1983. № 4.
Флоренский U.A. Пределы гносеологии//Богословский вестник. 1913.
Январь — апрель.
Флоренский П.А. Из богословского наследия// Богословские труды. М.,
1977. Сб. № 17.
Флоренский П. А. Разум и диалектика//Богословский вестник. 1914.
Сентябрь — декабрь.
Флоренский U.A. Смысл идеализма//В память столетия (1814—1914)
Императорской Московской духовной академии. Ч. 2. Сергиев Посад. 1915.
Флоренский П.А. Разум и диалектика//Богословский вестник 1914.
Сентябрь — Декабрь.
Половинкин СМ. П.А. Флоренский: Логос против хаоса. М. 1989.
Флоренский П. А. Оправдание космоса. СПб., 1994.
Флоренский U.A. Троице-Сергиева лавра и Россия//0, Русь, волшебница
суровая. Н. Новгород, 1991.
Флоренский П.А. Детям моим. Воспоминания прошлых дней.
Генеалогические исследования. Из соловецких писем. Завещание. М., 1992.
Франк C.JI. Русское мировоззрение. СПб., 1996.
Франк C.J1. Философия и жизнь. Этюды и наброски по философии
культуры. СПб., 1910.
Хомяков A.C. О старом и новом. М., 1988.
Хомяков A.C. Поли. собр. соч. Т. 1—5. М., 1911.
Хомяков А. С. Соч.: В 2 т. М., 1994.
Хрестоматия по древнерусской литературе. М., 1988.
Чаадаев П.Я. Статьи и письма. М., 1989. С. 277.
Челпанов Г. Введение в философию. М., 1916.
Чистович H.A. О значении философии в мире языческом и
христианском// Журнал Министерства народного просвещения. 1856. № 9—10.
Шеллинг Ф. Соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1987.
Шестокрыл//Соболевский А.И. Переводная литература Московской Руси
XIV—XVII веков. СПб., 1903.
Августин (Никитин), архимандрит. Василий Карпов. Очерк жизни и
деятельности//Вече. 1998. № п. с. 59—97.
Августин (Никитин), архимандрит. Протоиерей Федор Сидон-
ский — философ и богослов//Вече. СПб., 1996. С. 29—51.
Акулинин В.Н. С.Н.Булгаков: Библиография. Новосибирск, 1996.
439
Акулинин В.Н. Философия всеединства. Новосибирск, 1990.
Архангельский А. Очерки из истории западно-русской литературы
16—17 вв. Репринтное издание. Харьков, 1992.
Барабанов Е.В. Русская философия и кризис идентичности//Вопросы
философии. 1991. № 8. С. 116.
Бондарь СВ. Философско-мировоззренческое содержание «Изборников»
1073 и 1076 годов. Киев, 1990.
Брюсова ВТ. Когда и где был поставлен митрополитом Илларион?//Гер-
меневтика древнегреческой литературы. Сб. 1. XI—XVI века. М., 1989. С.
41—51.
Введенский А.И., Лосев А.Ф., Радлов Э.Л., Шпет Г.Г. Очерки русской
философии. Свердловск, 1991.
Владимир (Сабодан), митрополит. Экклезиология в отечественном
богословии. К-, 1997.
В. Соловьев: Pro et contra. СПб., 2000.
Гаврюшин Н.К. Митрополит Даниил — редактор «Диалектики»//ТОДРЛ.
Л., 1988. Т. 49.
Гаврюшин Н.К Научное наследие A.M. Курбского//Памятники науки и
техники. 1984. М., 1986. С. 210 — 236.
Гаврюшин Н.К. Первая русская энциклопедия//Памятники науки и
техники: 1982—1983. М., 1984. С. 119—130.
Гаврюшин Н.К. «Поновление стихий» в древнерусской книжности//Оте-
чественная общественная мысль эпохи средневековья. Киев, 1988.
Гаврюшин Н.К Премудрая святая диалектика. «Философские главы»
Иоанна Дамаскина на Руси. Н. Новгород, 2003.
Гайденко П.П. Владимир Соловьев и философия Серебряного века. М.,
2001.
Гайденко П.П. Волюнтативная метафизика и новоевропейская
культур а//Три подхода к изучению культуры/Под ред. В.В. Иванова. М., МГУ,
1997.
Галактионов А.А, Никандров П.Ф. Русская философия IX—XIX вв. Л.,
1989.
Громов М. Максим Грек. М.: Мысль, 1983.
Глубоковский H.H. Русская богословская наука в ее историческом
развитии и новейшем состоянии. М., 1992.
Глухое А.Г. Русь книжная. М., 1979.
Грицевкая ИМ. Индексы истинных книг. СПб., 2003.
Громов М.Н. История русской философской мысли//История философии.
Запад — Россия — Восток. Кн.1. М., 2000.
Громов М.Н. Своеобразие древнерусской философской мысли//Гро-
мов М.Н., Мильков В.В. Идейные течения древнерусской мысли. СПб., 2001.
Дудзинская Е.А. Славянофилы в общественной борьбе. М., 1983.
Жернакова H.A. Бердяев и значение религиозно-философского журнала
«Путь»//Путь православия. 1993. № 2.
Жмакин В. Митрополит Даниил и его сочинения. М., 1881.
Дунаев А.Г. Предисловие к русскому переводу слов и посланий «Макари-
евского корпуса» первого типа//Преподобный Макарий Египетский.
Духовные слова и послания. М., 2002.
Завитневич В.З. Алексей Степанович Хомяков. Т. 1. Кн. 1—2. Киев, 1902.
440
Завитневич В.З. Алексей Степанович Хомяков. Киев, 1913. Т. 2.
Замалеев А.Ф. Лекции по истории русской философии (XI—XX вв.).
СПб., 2001.
Замалеев А.Ф. Философская мысль средневековой Руси. Л., 1987.
Замалеев А.Ф. Идеи и направления отечественного любомудрия. СПб.,
2003.
Зеньковский В.В. История русской философии. Т. 1—2. Л., 1991.
Зеньковский В.В. Русские мыслители и Европа. Париж, 1955.
Зяблицев Г. Богословие протоиерея Сергия Булгакова и античная фило-
софия//Журнал Московской патриархии, 1992, № 7.
Евлампиев И.И. История русской философии. М., 2002.
Емельянов В.В. Очерки русской философии XX века. Екатеринбург. 2001.
Емельянов Б.В., Исаева М.В. Славянофилы: поиски идентичности.
Екатеринбург, 1999.
Ермичев A.A. Русская философия как целое. Опыт историко-систематиче-
ского построения. СПб., 1998.
Иванов А.И. Максим Грек как ученый на фоне современной ему русской
образованности//Богословские труды. М., 1976. Сб. № 16.
Иванов В.В. Ненавистник слова «раб». Петр Чаадаев наш современ-
ник//П.Я. Чаадаев: Pro et contra. СПб., 1998.
Иванов CA., Турилов A.A. Переводная литература у южных и восточных
славян в эпоху раннего Средневековья//Очерки истории культуры славян. М.,
1996.
Иоанн (Экономцев), игумен. Православие, Византия, Россия. М., 1992.
Калитпин П.В. Уравнение русской идеи. М., 2002.
Каменский З.А. О современных прочтениях П.Я. Чаадаева//Вопросы
философии. 1992. № 12.
Кантор В.К. Имя роковое/Духовное наследие П.Я. Чаадаева и русская
культура//Вопросы литературы. 1988. № 3.
Каптерев П.Ф. История русской педегогики. Изд. 2. Пг., 1915.
К вопросу о «латинстве» геннадиевского литературного кружка//Иссле-
дования и материалы по древнерусской литературе. Вып. 1. М., 1961.
Леонтьев К О Владимире Соловьеве и эстетике жизни (по двум пись-
мам)//Начала. 1992. № 2. С. 42.
Корзо М.А. Образ человека в проповеди XVII века. М., 2000.
Кошелев В.А. Алексей Степанович Хомяков, жизнеописание в документах,
рассуждениях и разысканиях. М., 2000.
Кузьмин А.Г. Падение Перуна. М., 1988.
Кулешов В.И. Славянофилы и русская литература. М., 1976.
Кураев А. Христианская философия и пантеизм. М., 1997.
Лазарев Е. Религиозно-антропологические воззрения Ф.М. Достоевского.
Загорск, 1984. Рукопись.
Леонтьев — наш современник. СПб., 1993.
Лепешко Б.М. Вечный странник. Философский портрет В. Соловьева.
Брест. 1997.
Лихачев U.C. Великое наследие. М., 1979.
Лихачев Д.С. Развитие русской литературы X—XVII вв. Эпохи и стили.
Л., 1973.
Лосев А.Ф. Владимир Соловьев и его время. М., 1990.
441
Лосев А.Ф. Историческое значение Ареопагитик//Вопросы философии.
2000. № 3. С. 71—82.
Лосский В.О. Очерк мистического богословия Восточной церкви//Мисти-
ческое богословие. Киев, 1991.
Лосский И.О. История русской философии. М., 1991.
Лосский В.Н. По образу и подобию. М., 1995.
Лотман Ю.М. Идея исторического развития в русской литературе конца
XVIII — начала XIX в.//Проблемы историзма в русской литературе: конец
XVIII — начало XIX B.//XVIII век. Сб. 13. Л., 1981.
Лотман Ю.М. Сотворение Карамзина. М., 1987.
Лукьянов СМ. О Вл. Соловьеве в его молодые годы. СПб., 1918. Кн.1.
Лурье Я.С. Комментарии к «Лаодикийскому посланию» Федора Курици-
на// ПЛДР: Вторая половина XV века. М., 1982. С. 673—681.
Люкс Л. Россия между Западом и Востоком. М., 1993.
Малинин В А. Владимир Сергеевич Соловьев. Мыслитель, гуманист,
правдоискатель. М., 1998.
Мейендорф И.Ф. О византийском исихазме и его роли в культурном и
историческом развитии Восточной Европы в XIV В.//ТОДРЛ. Т. XXIX. Л., 1973.
С. 291.
Мильков В.В. Основные направления древнерусской мысли//Громов М.Н.,
Мильков В.В. Идейные течения древнерусской мысли. СПб., 2001.
Мильков В.В., Абрамов А.И. Становление философской мысли на Руси
(XI— XVII вв.)//История русской философии. М., 2001.
Мочульский К.В. Гоголь, Соловьев, Достоевский. М., 1995.
Мумриков А. «Ты, Свет Невечерний, нас осияй». К 45-летию со дня
кончины протоиерея Сергия Булгакова//Журнал Московской патриархии. 1989.
No 10.
Мустафин В. Философские дисциплины в С.-Петербургской духовной
академии//Богословские труды. Юбилейный сборник, посвященный
175-летию Ленинградской духовной академии.
Немировский Е.Л. Начало славянского книгопечатания. М., 1971.
Новиков AM. История русской философии. СПб., 1988.
Осипов А.И. Путь разума в поисках истины. М., 2002.
Осипов ИД. Философия русского либерализма: XIX — начало XX в.
СПб., 1996.
Парилов О.В. Роль самобытников в развитии русского самосознания.
Н.Новгород, 2001.
Прозоровский А. Силивестр Медведев. Его жизнь и деятельность. М.,
1896.
Пушков В.П. Книжный рынок Москвы в начале 60-х годов XVII в.//Федо-
ровские чтения. 2003. М., 2003.
Розов H.H. Книга в России в XV веке. Л., 1981.
Ростиславлев Д.И. Петербургская духовная академия до графа Протасо-
ва//Вестник Европы. 1872. Т.5. С. 179.
Русское общество 30-х годов XIX века: Мемуары современников. М.,
1989.
Самодурова З.Г. Школы и образование//Культура Византии: Вторая
половина VII—XII вв. М., 1989.
Сапунов Б.В. Книга в России в XI—XII вв. Л., 1978.
Сербиненко В.В. Владимир Соловьев: Запад, Восток и Россия. М., 1994.
442
Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. I.: XI — первая
половина XIV в. Л., 1987.
Стпратий Я.М., Литвинов ВД., Андрушко В.А. Описание курсов
философии и риторики профессоров Киево-Могилянской академии. Киев, 1982.
Сумцов Н.Ф. Иоанникий Галятовский. К истории южнорусской
литературы XVII в.//Киевская старина. 1884. № 8.
Смирнов С.К. История Московской славяно-греко-латинской академии.
М., 1885.
Сумцов Н.Ф. К истории южнорусской литературы 17 столетия. Вып. 1.
Лазарь Баранович. Харьков, 1884.
Сухов АД. Русская философия: пути развития (Очерки теоретической
истории). М., 1989.
Ульянов Н.И. «Басманный философ»//Вопросы философии. 1990. № 8.
С. 83.
Успенский Б.А. Краткий очерк истории русского литературного языка
(XI— XIX вв.). М., 1994.
Шапошников Л.Е. Консерватизм, новаторство, модернизм в
православной мысли XIX—XX веков.
Шапошников Л.Е. Философия соборности. Очерки русского
самосознания.
Шапошников Л.Е. Философские портреты. Н. Новгород, 1993.
Шапошников Л.Е. A.C. Хомяков: человек и мыслитель. Н. Новгород,
2004.
Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского как памятник средневекового
философствования. М., 1991.
Шохин В. Святитель Филарет, митрополит Московский и «школа
верующего разума» в русской философии//Вестник РХД. 1997. № 1. С. 82—108.
Федоров A.A. Европейская мистическая традиция и русская философская
мысль (последняя треть XVIII — первая треть XIX века). Н. Новгород, НГЦ,
2001.
Федоров A.A. Традиция немецкой спекулятивной мистики в европейской и
русской истории идей. Рига, 2003.
Федоров И.Г. Владимир Соловьев и православие. М., 2000.
Флоровский Г.В. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991.
Холодный В.Н. A.C. Хомяков — дилетант и провидец постхристианского
завета//Вопросы философии. 2001. № 8. С. 145—156.
Хорос ВТ. Из неопубликованного наследия П.Я. Чаадаева//Вопросы
философии. 1983. № 12.
Хоружий С.С. Диптих безмолвия. М., 1991.
Хоружий С.С. К феноменологии аскезы. М., 1998.
Хоружий С.С. О старом и новом. СПб., 2000.
Цимбаев Н.И. Славянофильство: Из истории русской
общественно-политической мысли XIX в. М., 1986.
Цуркан Р.К. Славянский перевод Библии: Происхождение, история текста
и важнейшие издания. СПб., 2001.
Яковенко Б.В. Мощь философии. СПб., 2000.
Янковский Ю.З. Патриархально-дворянская утопия: Страница русской
общественно-литературной мысли 1840—1850 годов. М., 1981.
Хижняк 3.1. Киево-Могилянська академЕя. Кшв, 1981.
443
Geordt W. Russiche Philosophic Grundlagen. München, 1995. Verlag Karl
Alber, Freiburg/München, 1995.
Goerdt W. Russische Philosophie Zugang und Durchblicke. Freiburg-
München. 1984.
Gleason A. European and Moscovite: Ivan Kireyevsky and the origins of
Slavophilism. Cambridge (Mass): Harvard univ. press., 1972.
Przebinda G. Ob Czaadajewa do Bierdiajewa. Spor о boga i czlowika w mysli
rosyjskiej (1832—1922). Krakow, 1998. S. 94.
Walicki A. W kregu konserwatywnej utopii. Warszawa, 1964.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение 3
Часть I. Становление русской религиозной философии в XI—XVIII веках . . 18
Глава 1. Проблемы становления и развития традиции русской религиозной
философии 18
Некоторые концепции изучения русской религиозной философии в
современной истории философии 18
Общие принципы формирования традиции русской
религиозно-философской мысли 20
«Книжные сообщества» в отечественной культурно-исторической среде
XI—XV веков 26
«Персональные центры» религиозно-философской традиции в
отечественной культурно-исторической среде XI — начала XIX века 30
Глава 2. Важнейшие «книжные сообщества» в отечественной
культурно-исторической среде XI—XIV веков 34
Культурно-информационная миссия и богословско-философские идеи
«Шестоднева» Иоанна, экзарха Болгарского 34
Философско-богословские и логические идеи в «Диалектике» Иоанна Да-
маскина 40
Теория человека в «Диоптре» Филиппа Монотропа (Пустынника) 45
«Ареопагитское» сообщество и его европейские, византийские,
древнерусские последователи 50
Глава 3. Некоторые важнейшие «персональные центры» отечественной
религиозно-философской традиции в XI—VI веках 56
Митрополит Иларион и богословско-философское обоснование
христианства в «Слове о Законе и Благодати» 56
Прагматико-антропологическое богословие митрополита Никифора 60
Космологическая хронология и числовая концепция мироздания у Кирика
Новгородца -. . . 64
Теологический антропоцентризм митрополита Климента Смолятича 69
Просветительская деятельность Максима Грека: тяжкий путь жизни и
религиозно-философские воззрения 74
Начала западнорусского просвещения: судьба и религиозно-философские
взгляды князя A.M. Курбского 81
Глава 4. Деятельность «идейных сообществ» в русской
культурно-исторической среде во второй половине XV — первой половине XVI века . 86
Церковно-просветительская деятельность архиепископа Новгородского
Геннадия 88
445
Сообщество «нестяжателей» и исихастская традиция 91
Hовгородско-московское мистико-философское сообщество «спротивно
мудрствующих» («жидовствующих»): история возникновения и основные
характеристики 97
Характеристика основных переводных и авторских трудов сообщества
«спротивно мудрствующих» («жидовствующих») 102
Прагматико-политическое богословие Иосифа Волоцкого и его
последователей 110
Глава 5. «Академические сообщества» в русской религиозно-философской
традиции в XVII—XVIII веках 117
Общие принципы формирования русской религиозно-просветительской
традиции в XVII веке 117
Просветительская работа, религиозно-философские и полемические труды
деятелей Киево-Могилянского «академического сообщества» 120
Сообщество московской Славяно-греко-латинской академии:
просветительские и богословско-философские споры вокруг него 128
Глава 6. Европейская философско-мистическая традиция в отечественной
культурно-философской среде в последней трети XVIII — первой
трети XIX века 139
Некоторые основополагающие характеристики отечественной
культурно-исторической и культурно-философской среды в последней трети XVIII
века 139
Философско-мистическое «идейное сообщество» русских масонов «нови-
ковского круга»: организация и идейные источники 142
Философско-мистическая антропология в трудах деятелей «мира
Новикова — Кутузова» 148
Философско-мистические взгляды М.М. Сперанского: «полное бытие» и
его коммуникация 162
Часть II. Русская религиозная философия в XIX—XX веках: персональные
центры и сообщества 171
Глава 7. П.Я. Чаадаев 171
Идейные источники, взаимоотношение религии и философии 171
Историософия 175
Социальная позиция мыслителя и значение его взглядов 182
Глава 8. Славянофилы 186
Идейные источники и общефилософские позиции 186
Богословские темы в творчестве славянофилов 197
Историософия славянофилов 205
Значение славянофильства для русской философии и православного
богословия 224
446
Глава 9. B.C. Соловьев 236
Идейные источники 236
Основные положения философской системы 243
Философия истории 260
Значение идей B.C. Соловьева для отечественной философии и богословия 286
Глава 10. С.Н. Булгаков 301
Генезис философских взглядов 301
Богословско-философские темы 306
Историософия 316
С. Булгаков и русское православное богословие 327
Глава 11. П.А. Флоренский 334
Становление взглядов 334
Гносеологические темы в богословско-философском творчестве 340
Аксиология и философия истории 350
П.А. Флоренский и православное богословие 368
Глава 12. H.A. Бердяев 375
Становление взглядов 375
Основные философские интуиции 380
Историософия 385
H.A. Бердяев и русское православие 395
Глава 13. Духовно-академическая философия в XIX—XX веках 399
Духовно-академическая философия в первой половине XIX века 399
Духовно-академическая философия во второй половине XIX — начале XX
века 408
Оценка философии в современной православной мысли 423
Литература 434
Учебное издание
Шапошников Лев Евгеньевич
Федоров Александр Александрович
ИСТОРИЯ РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ