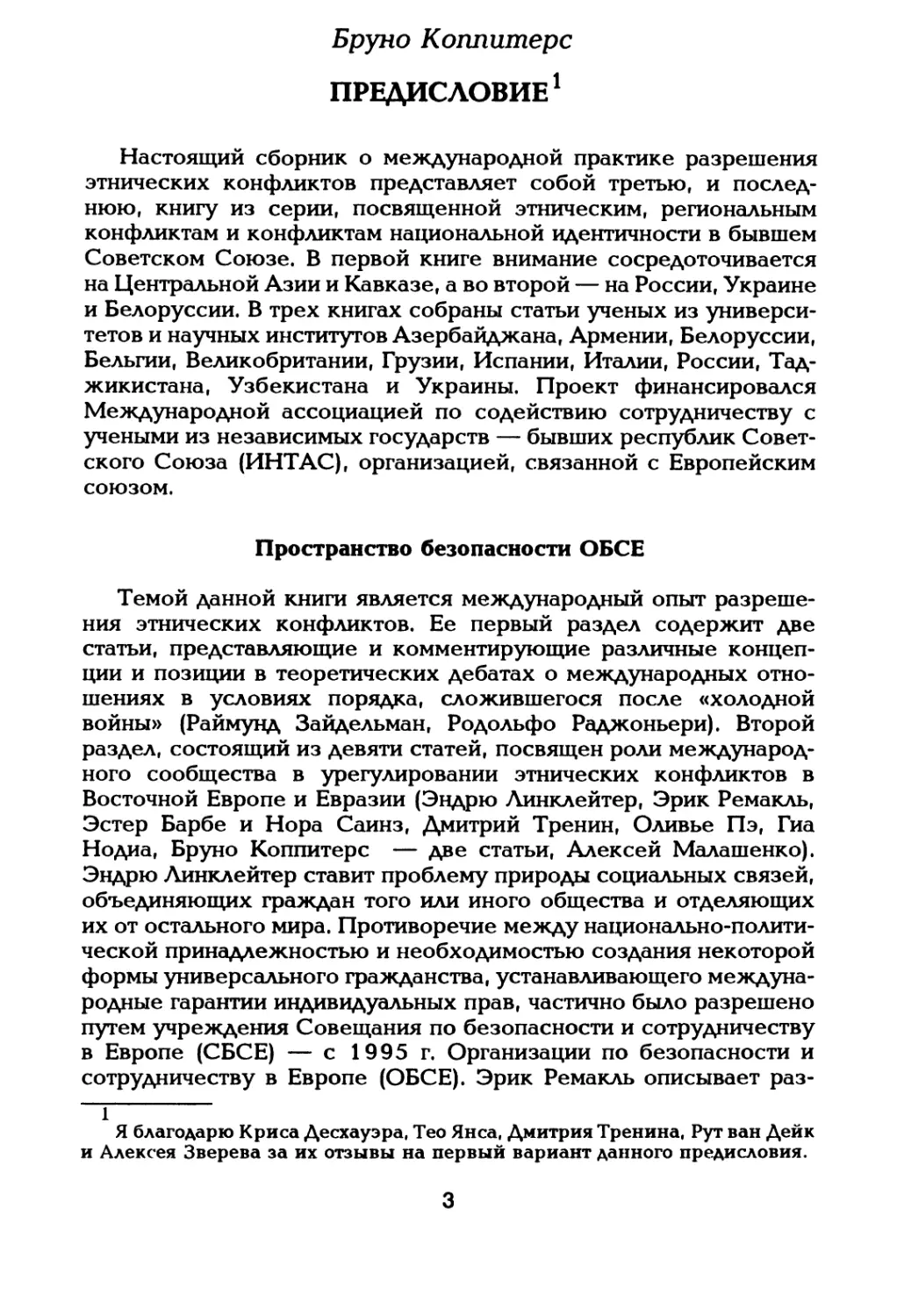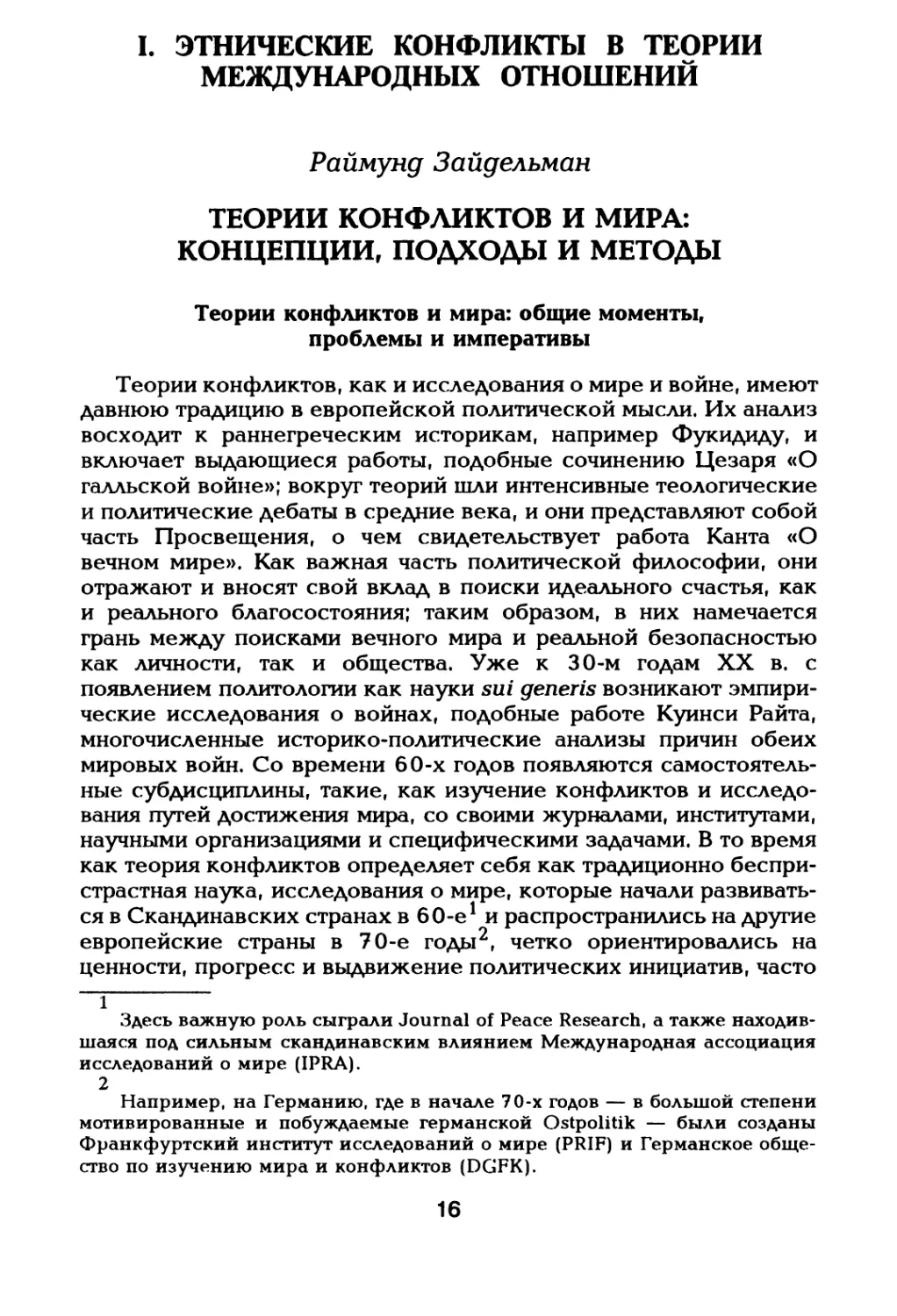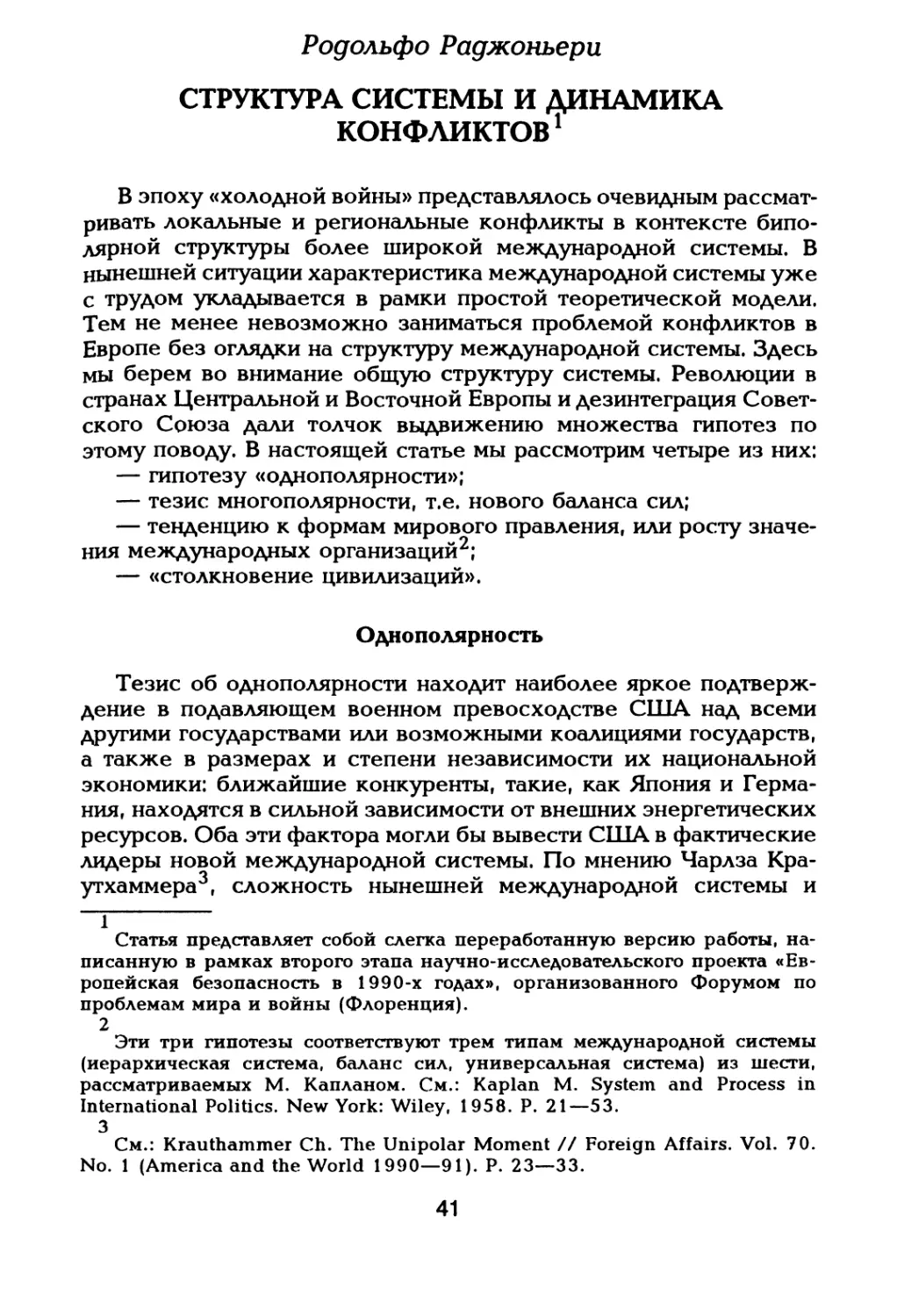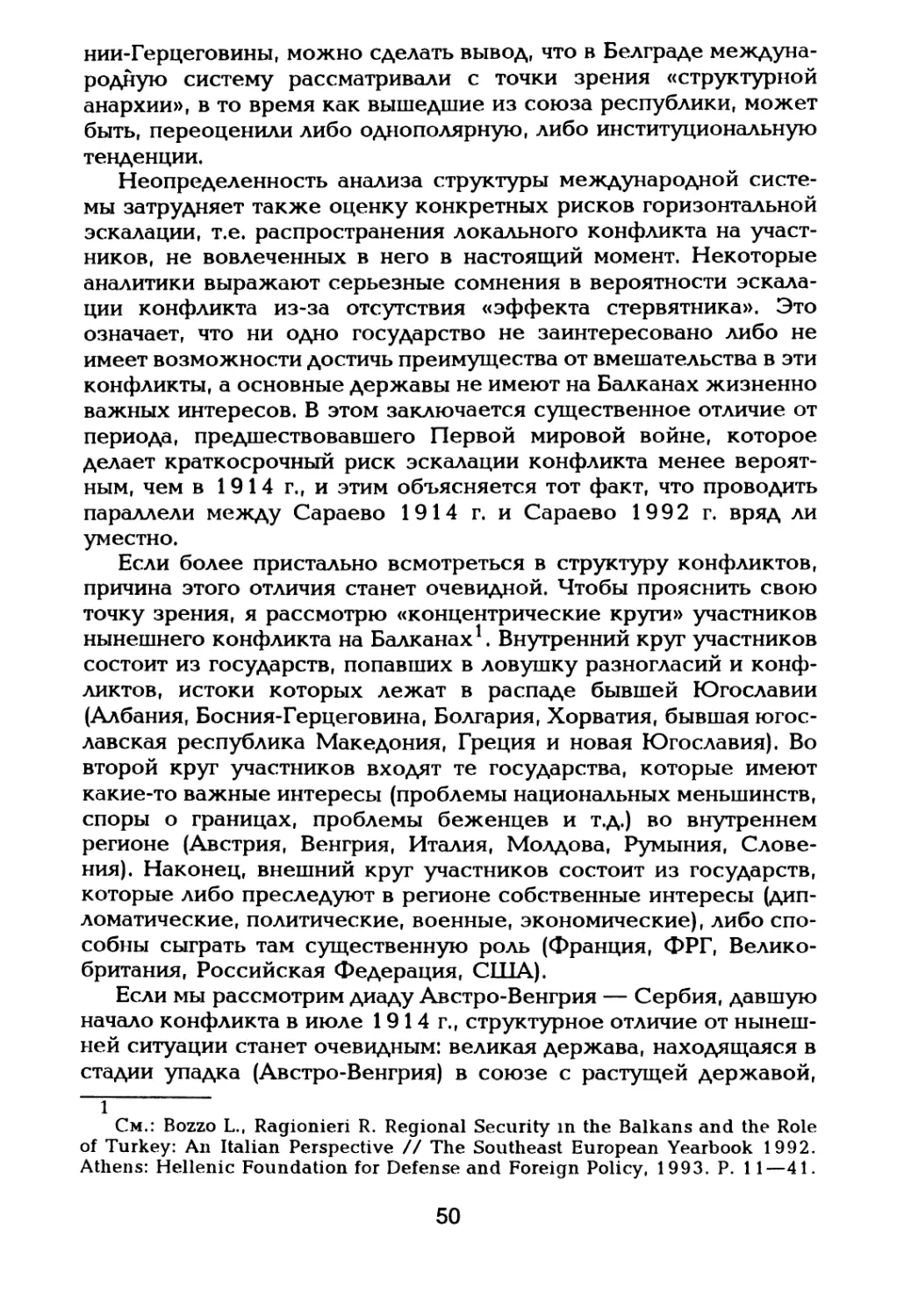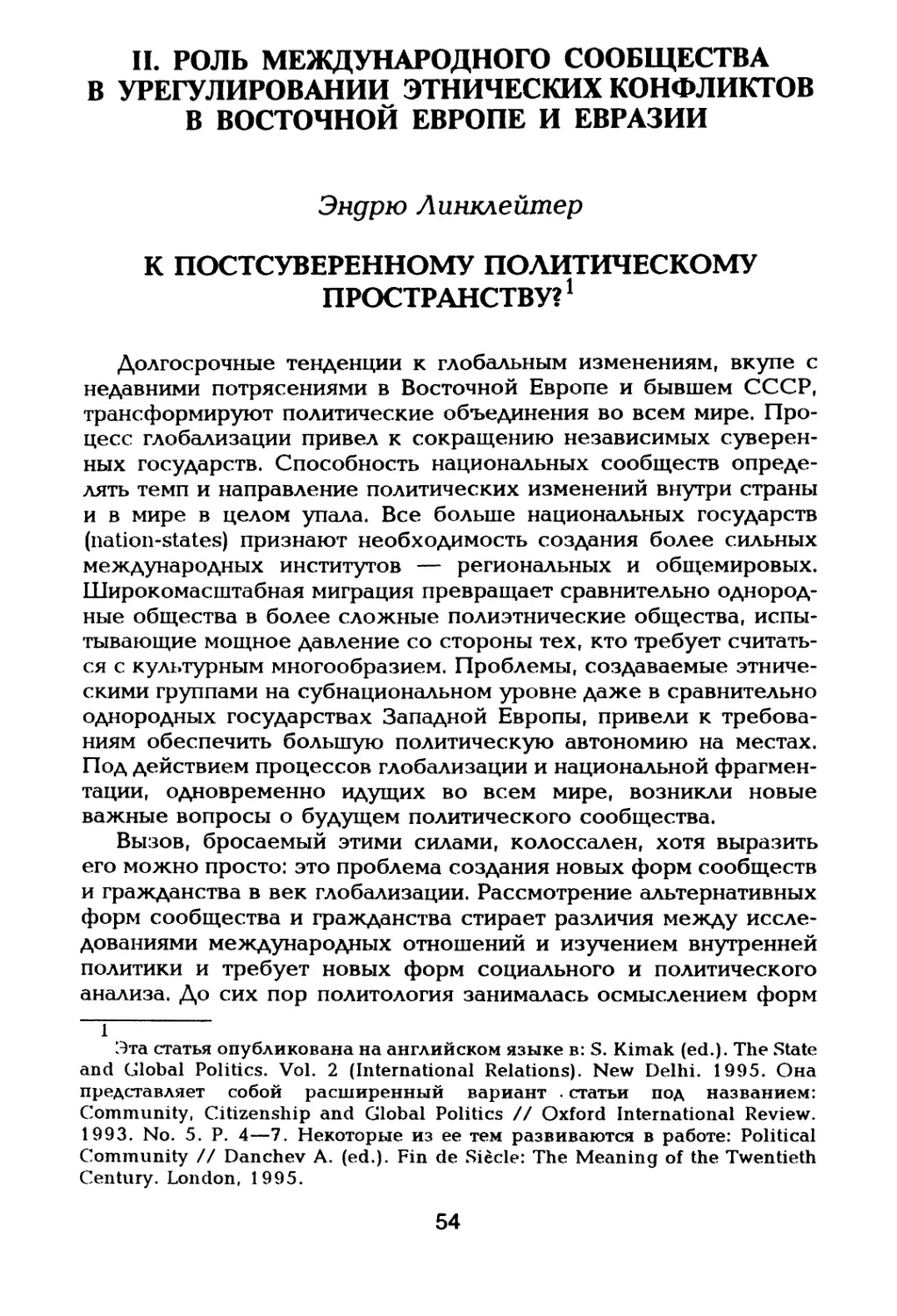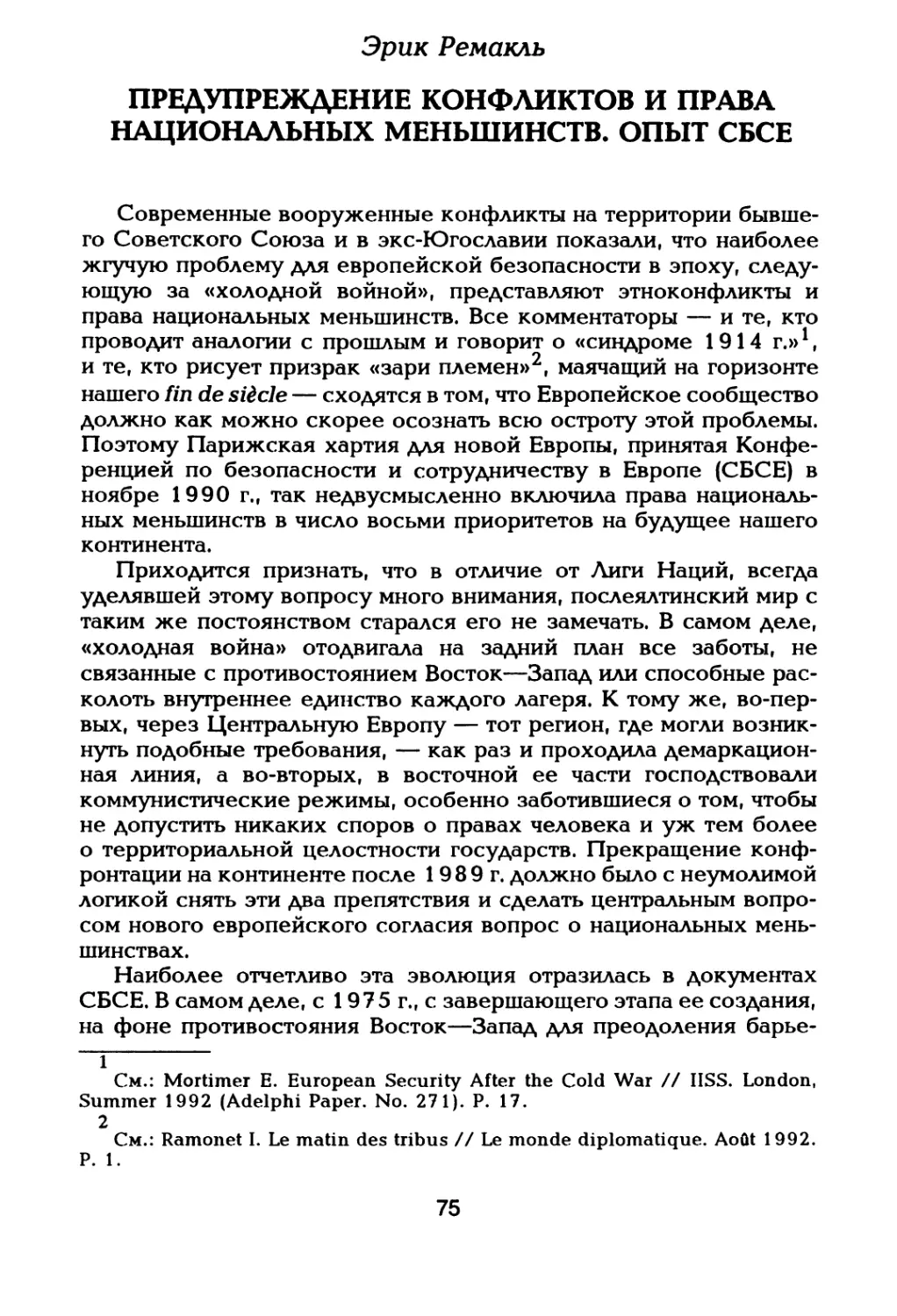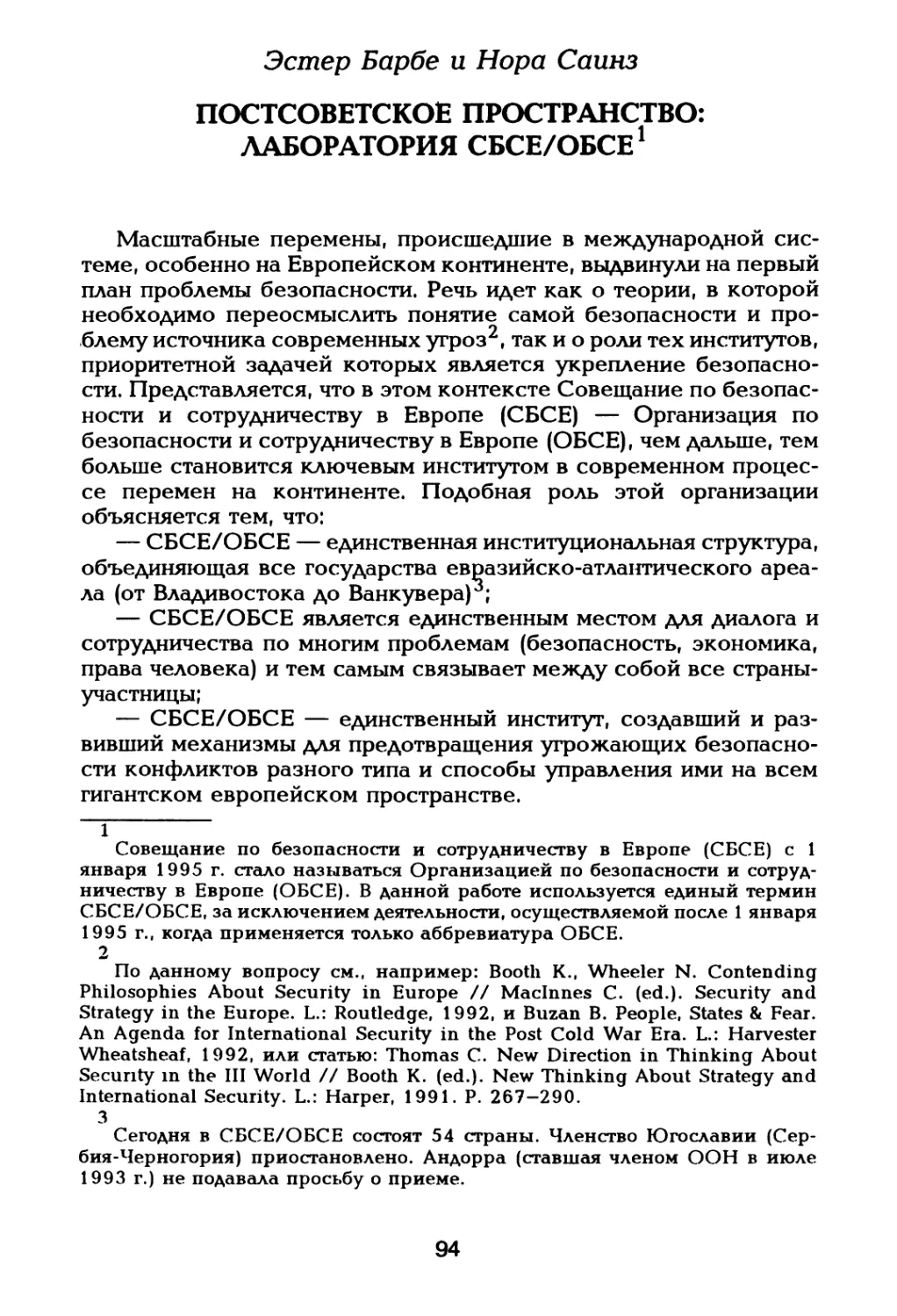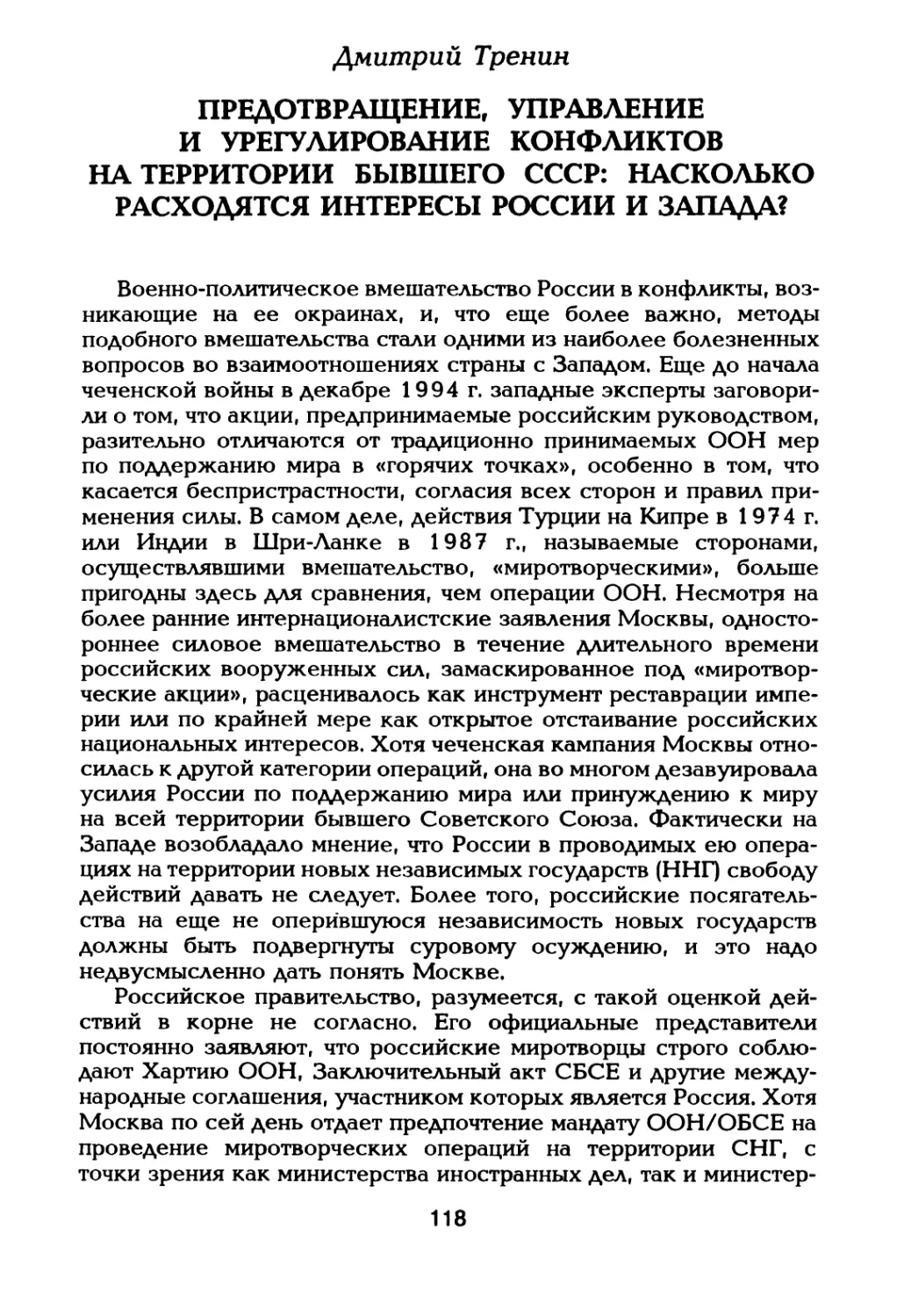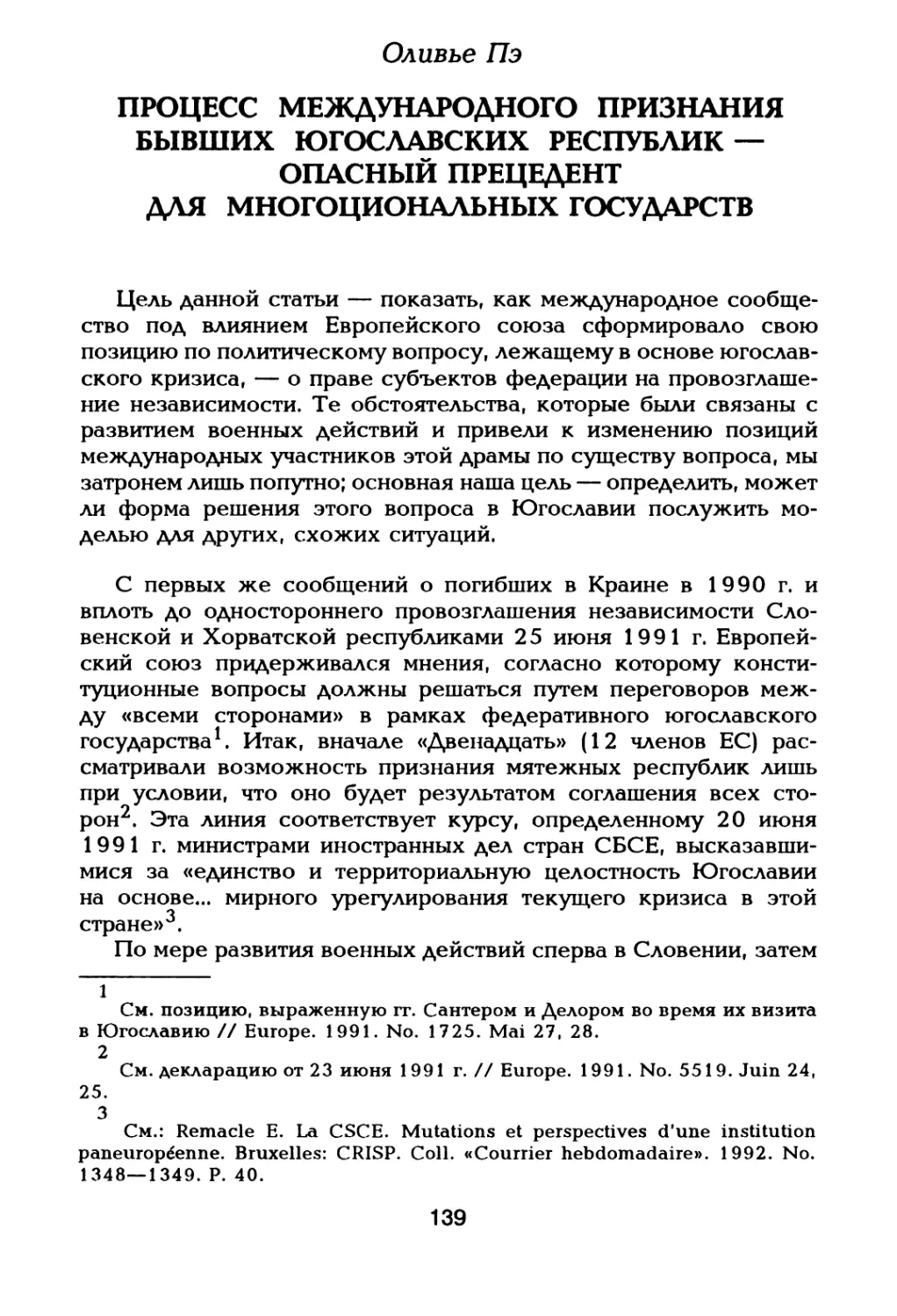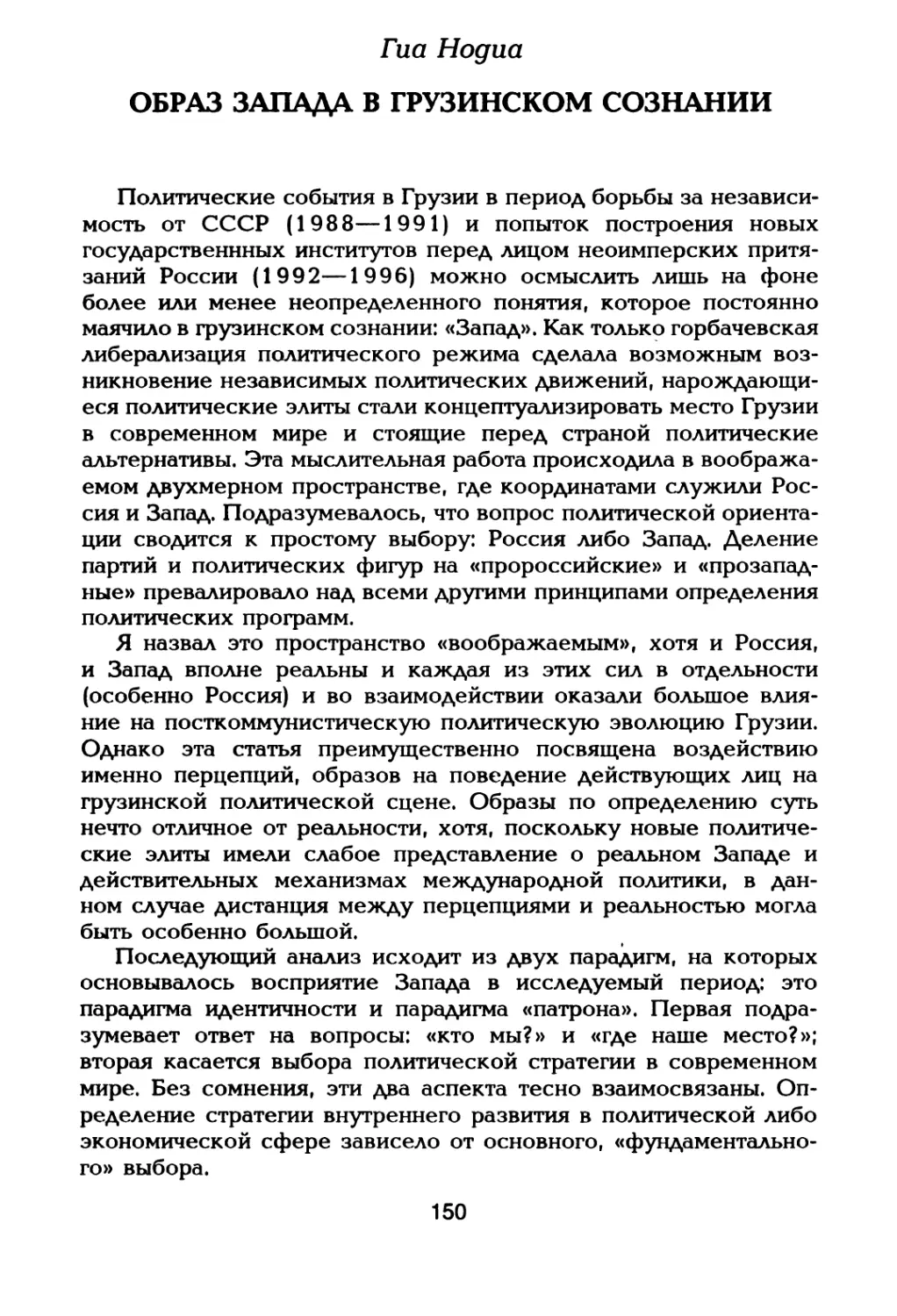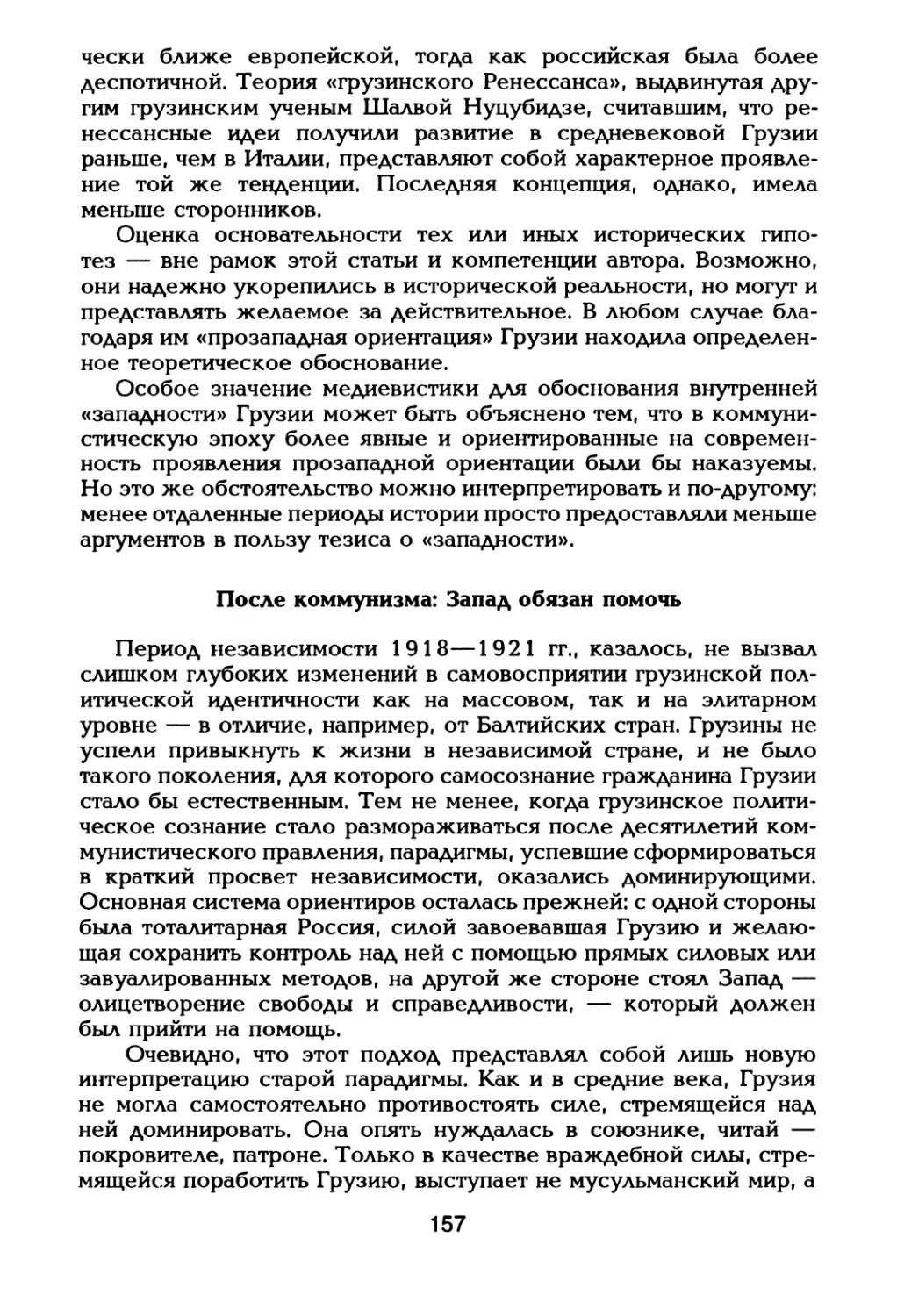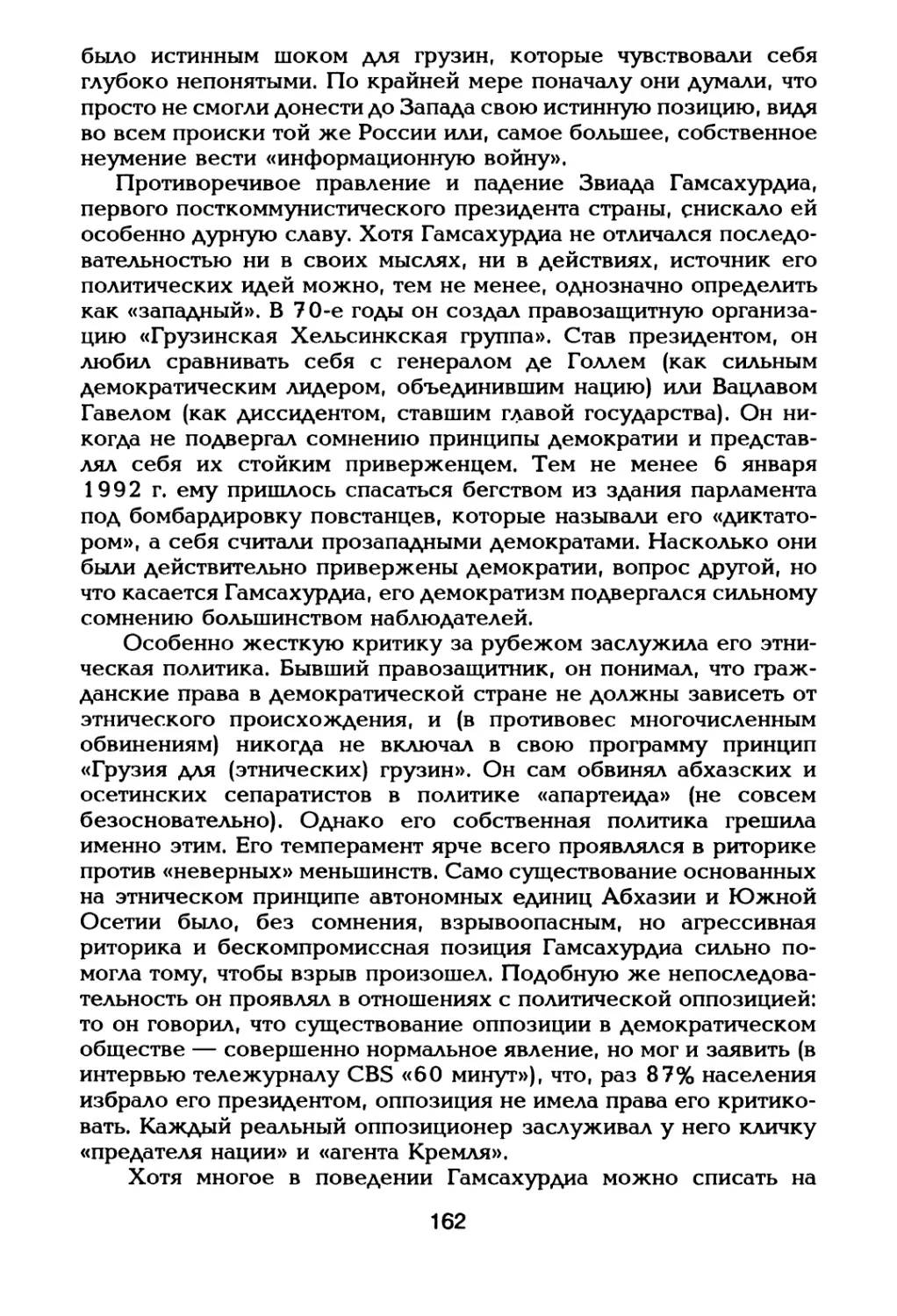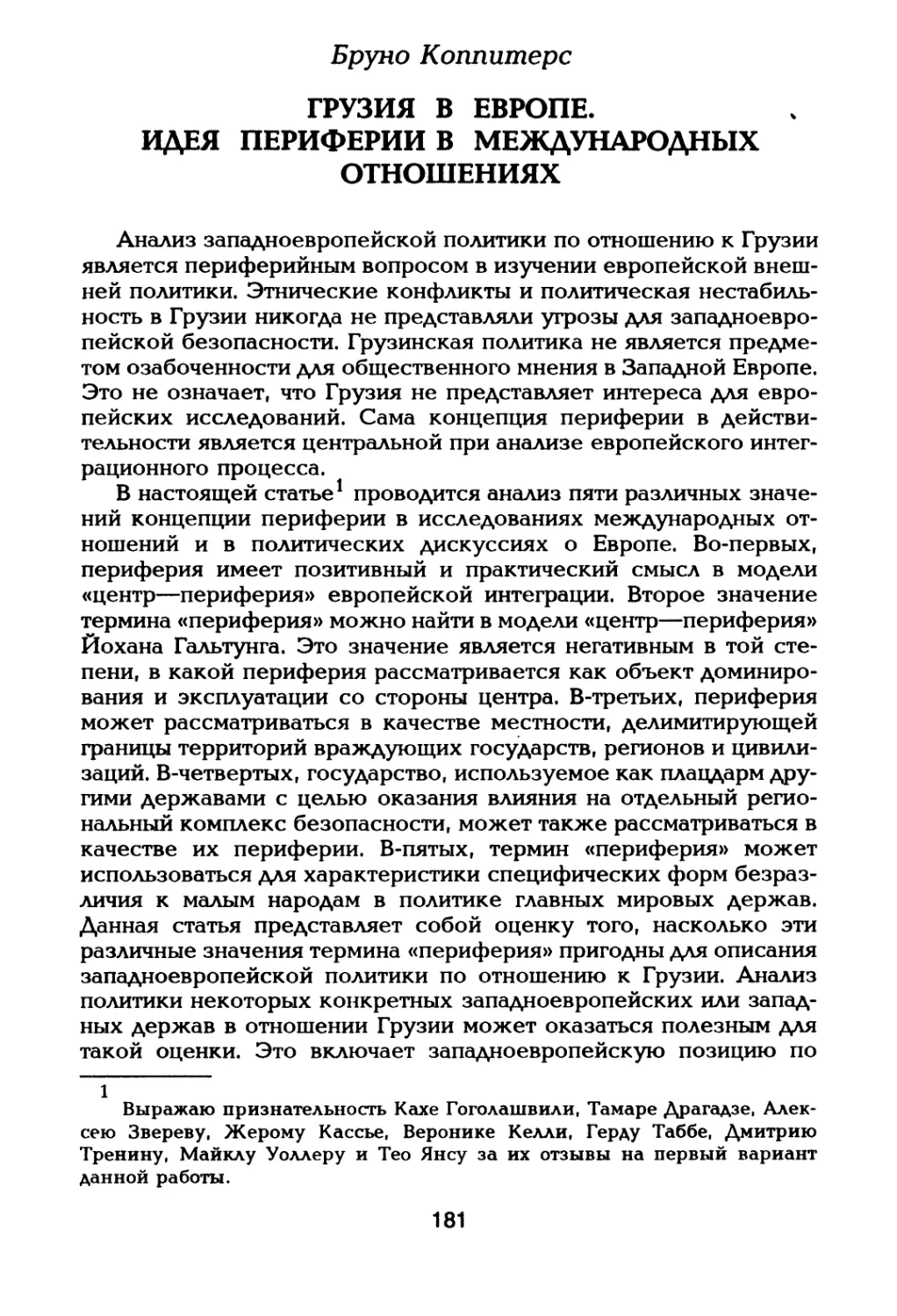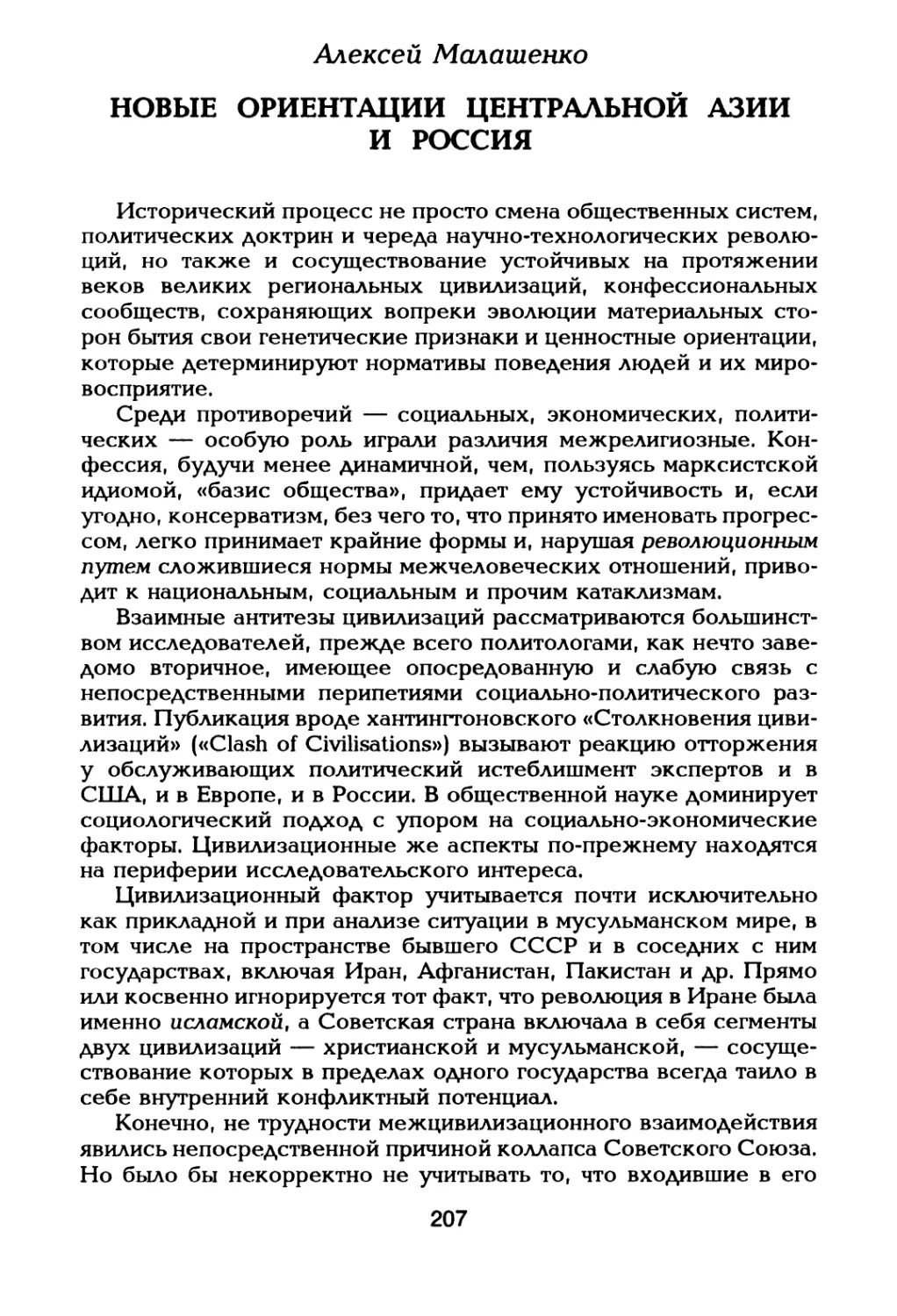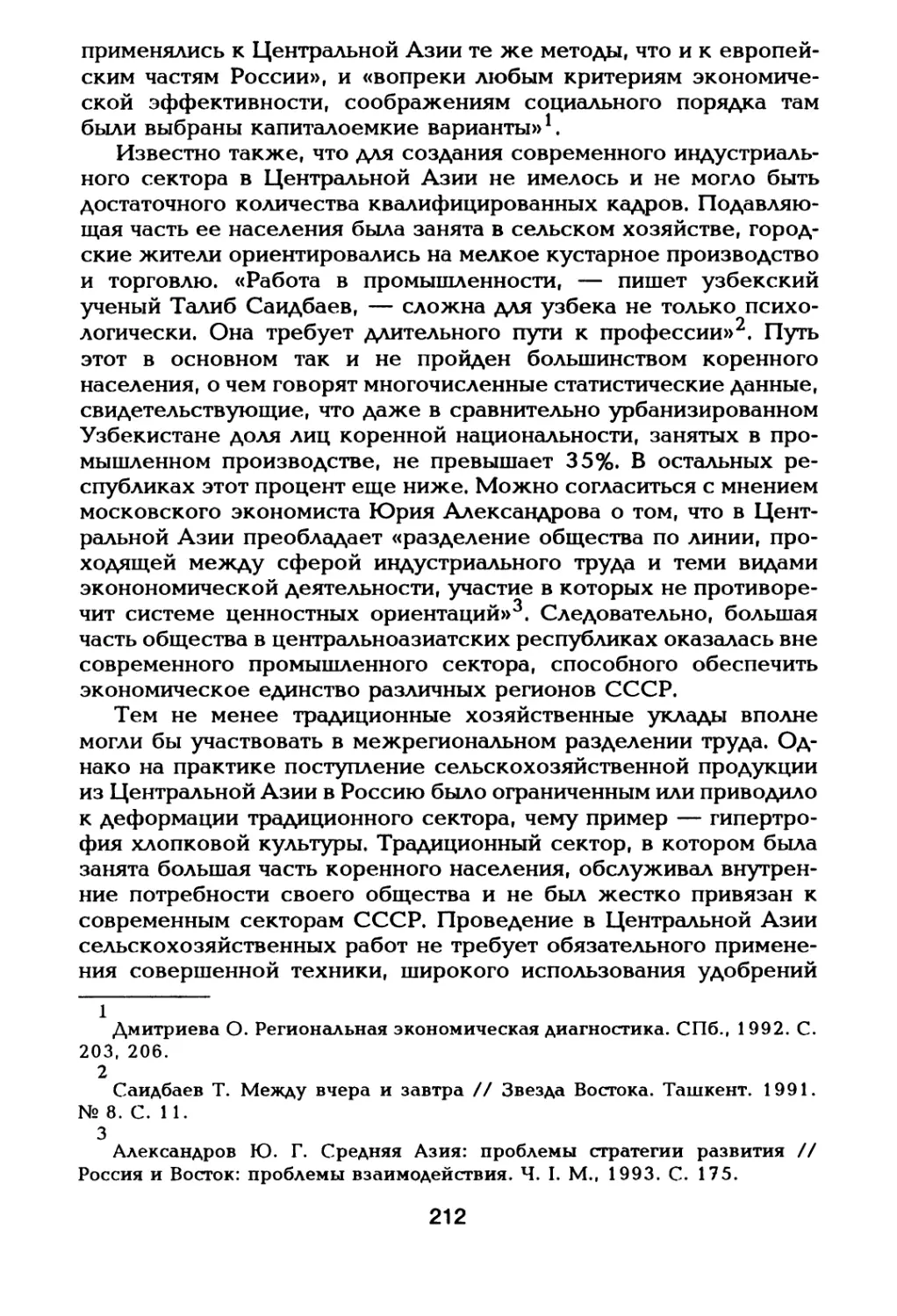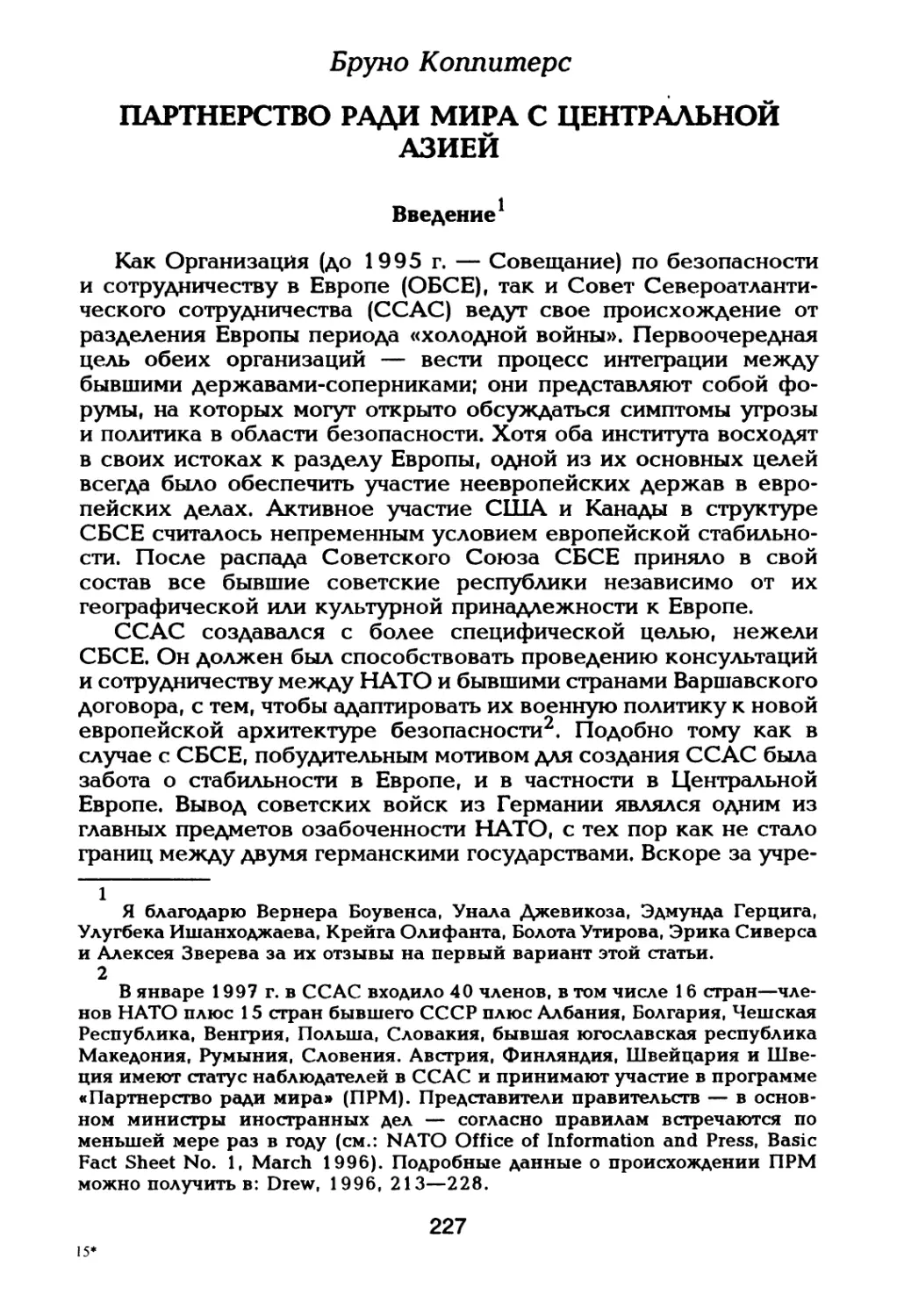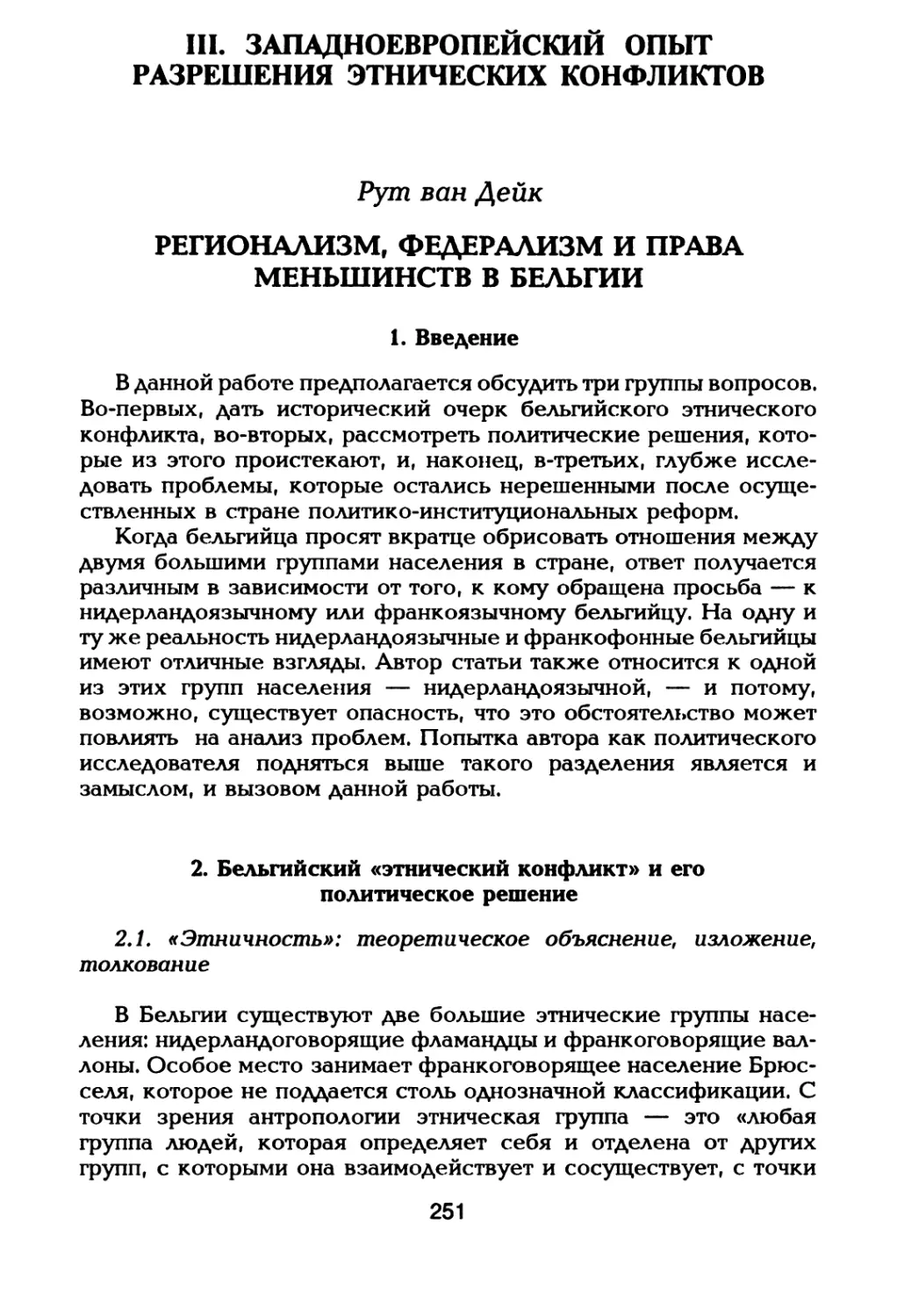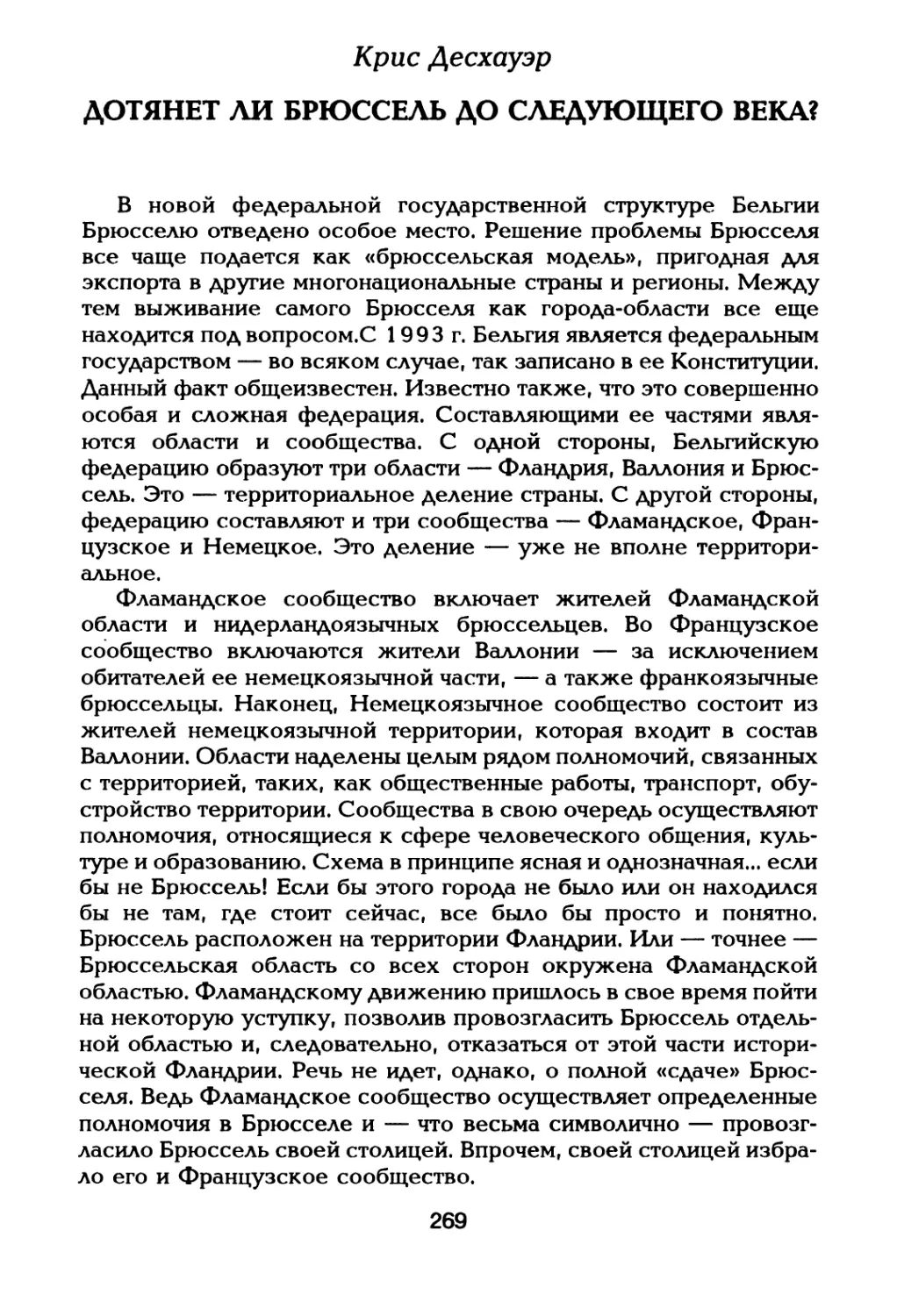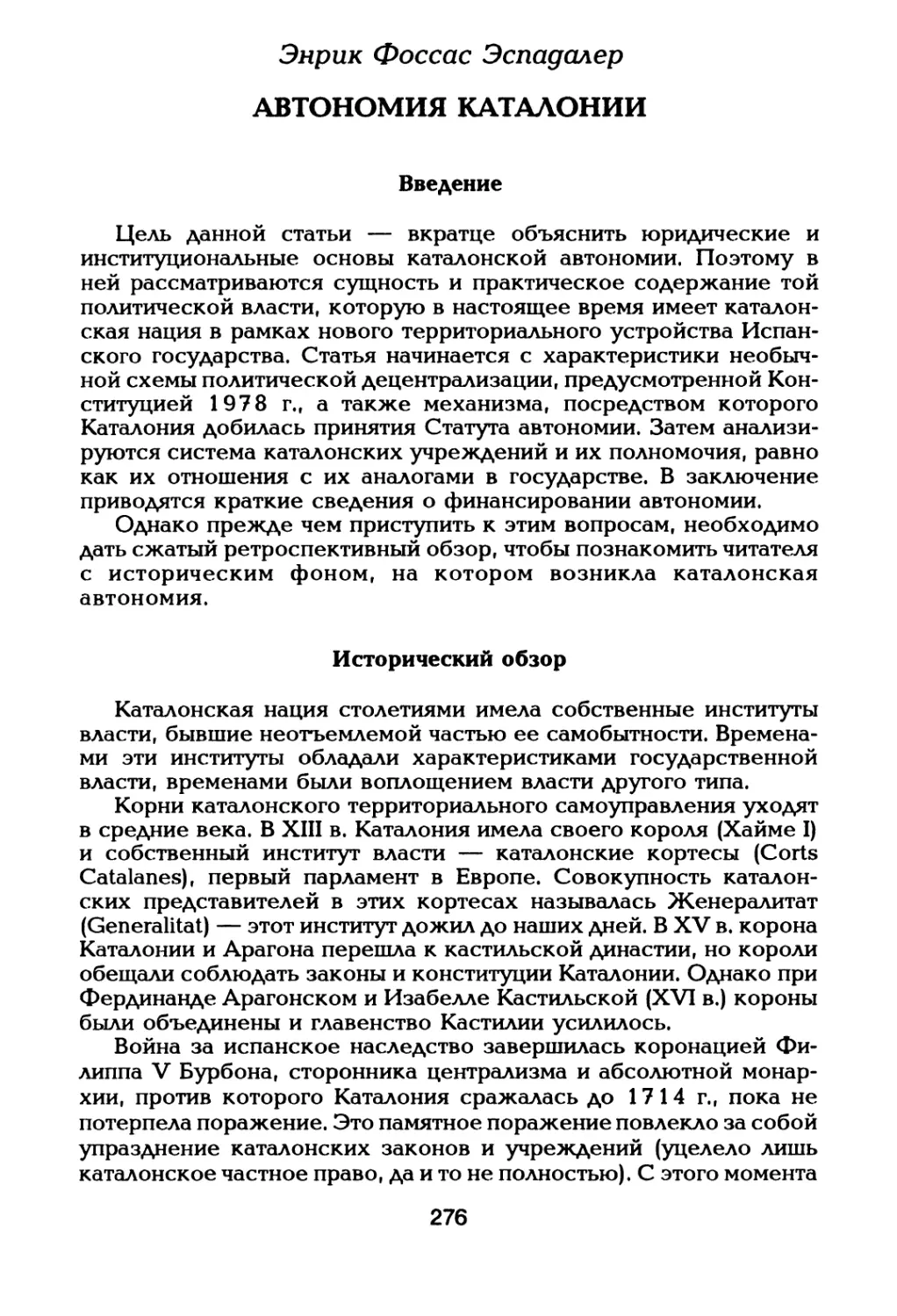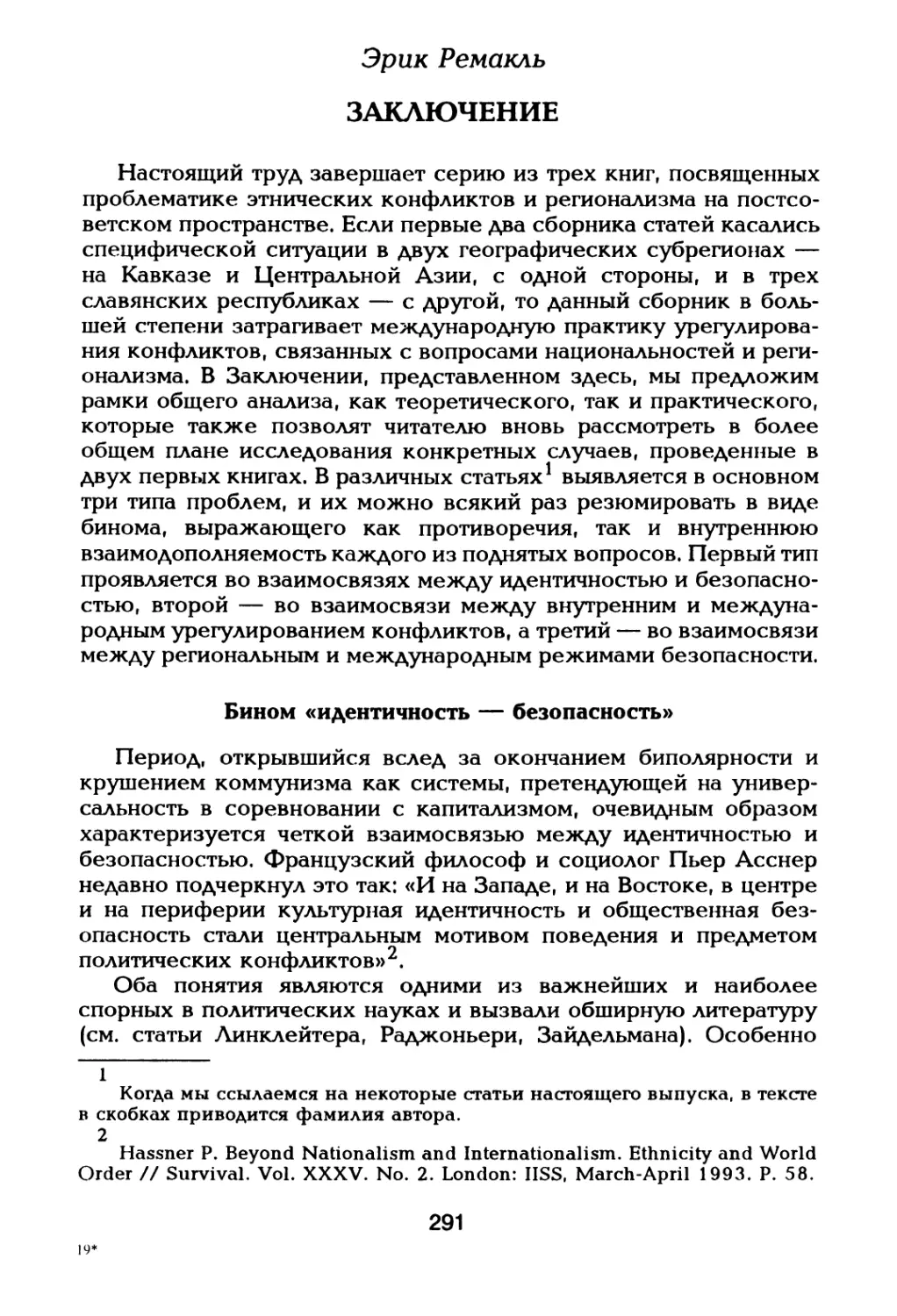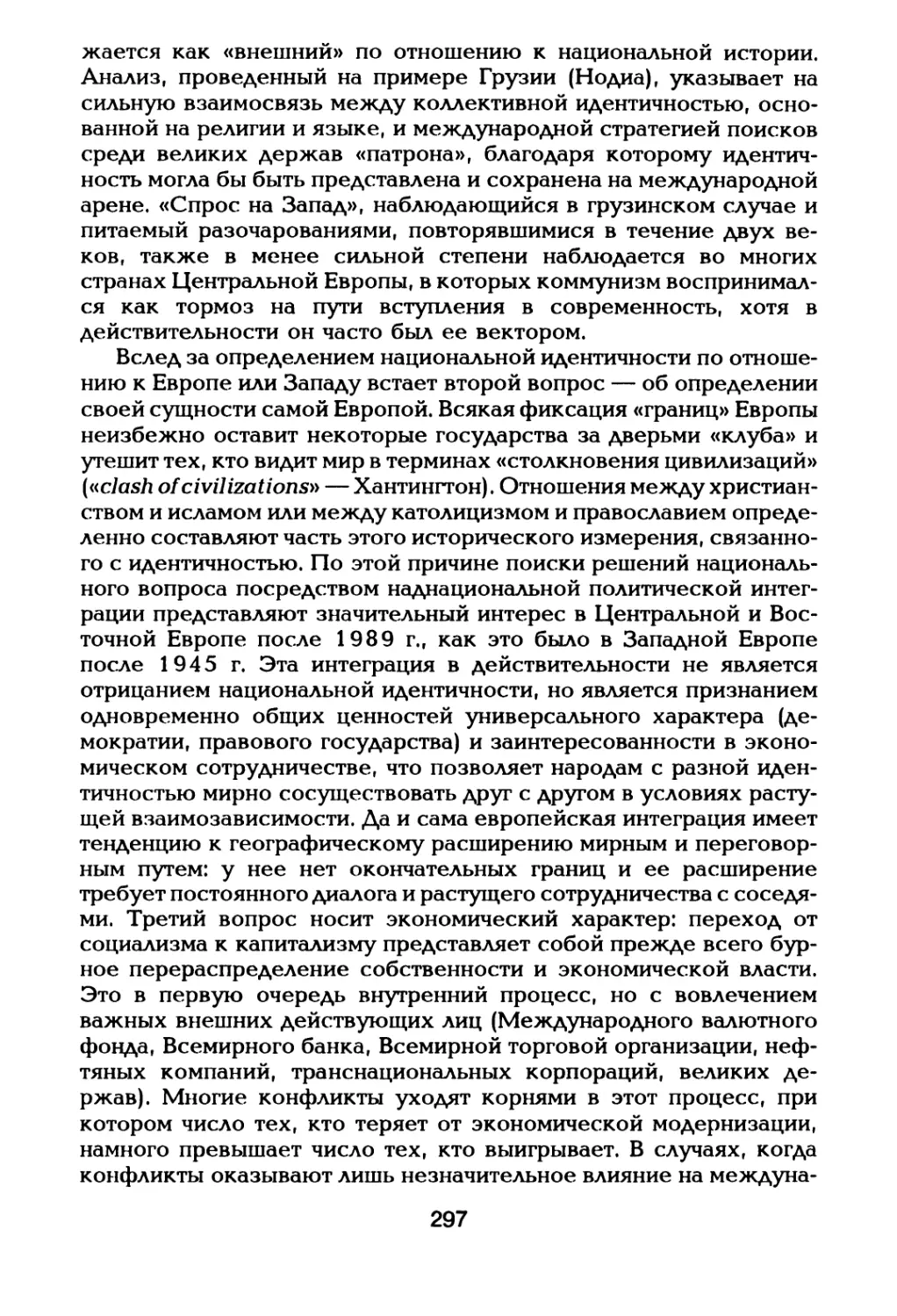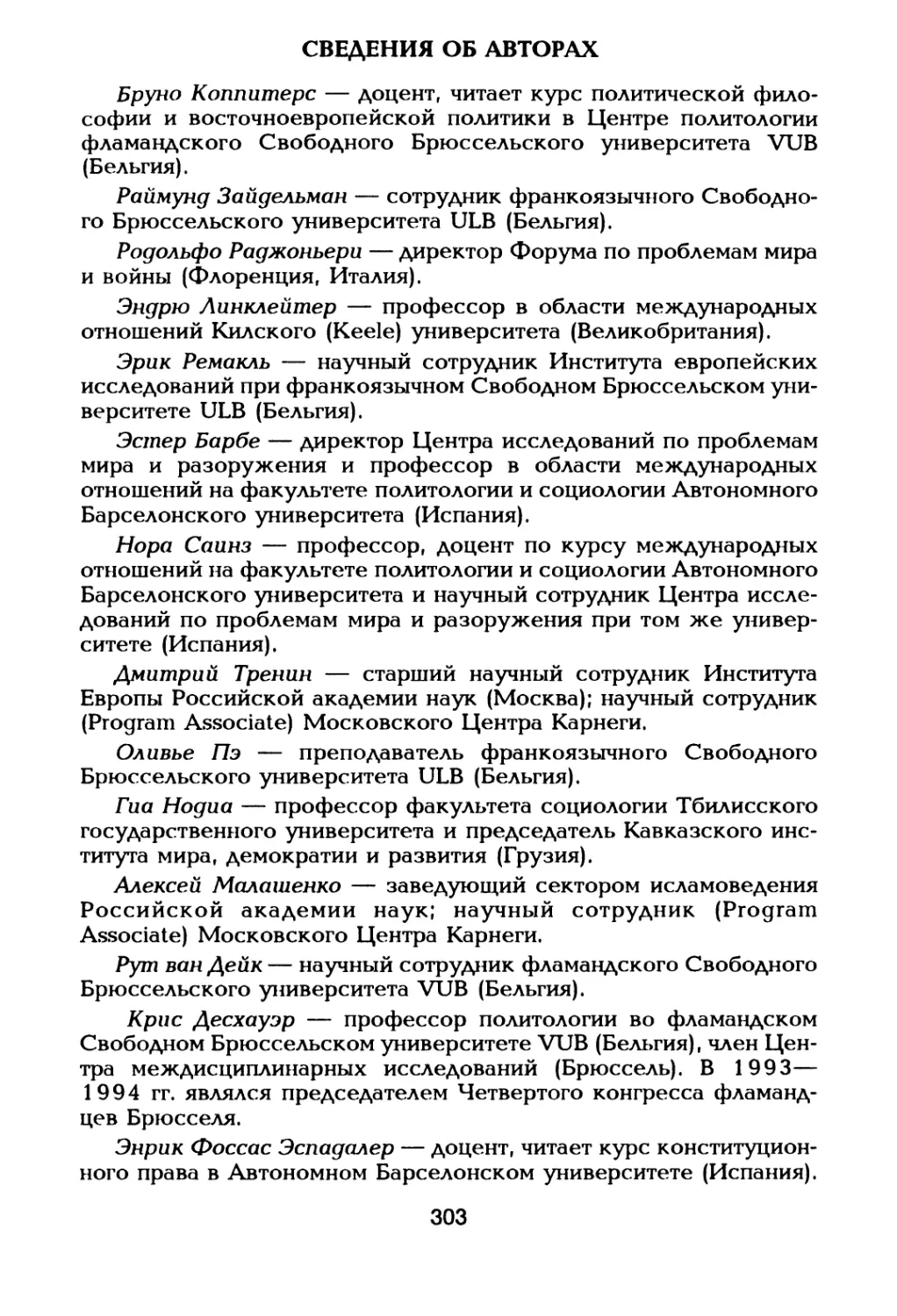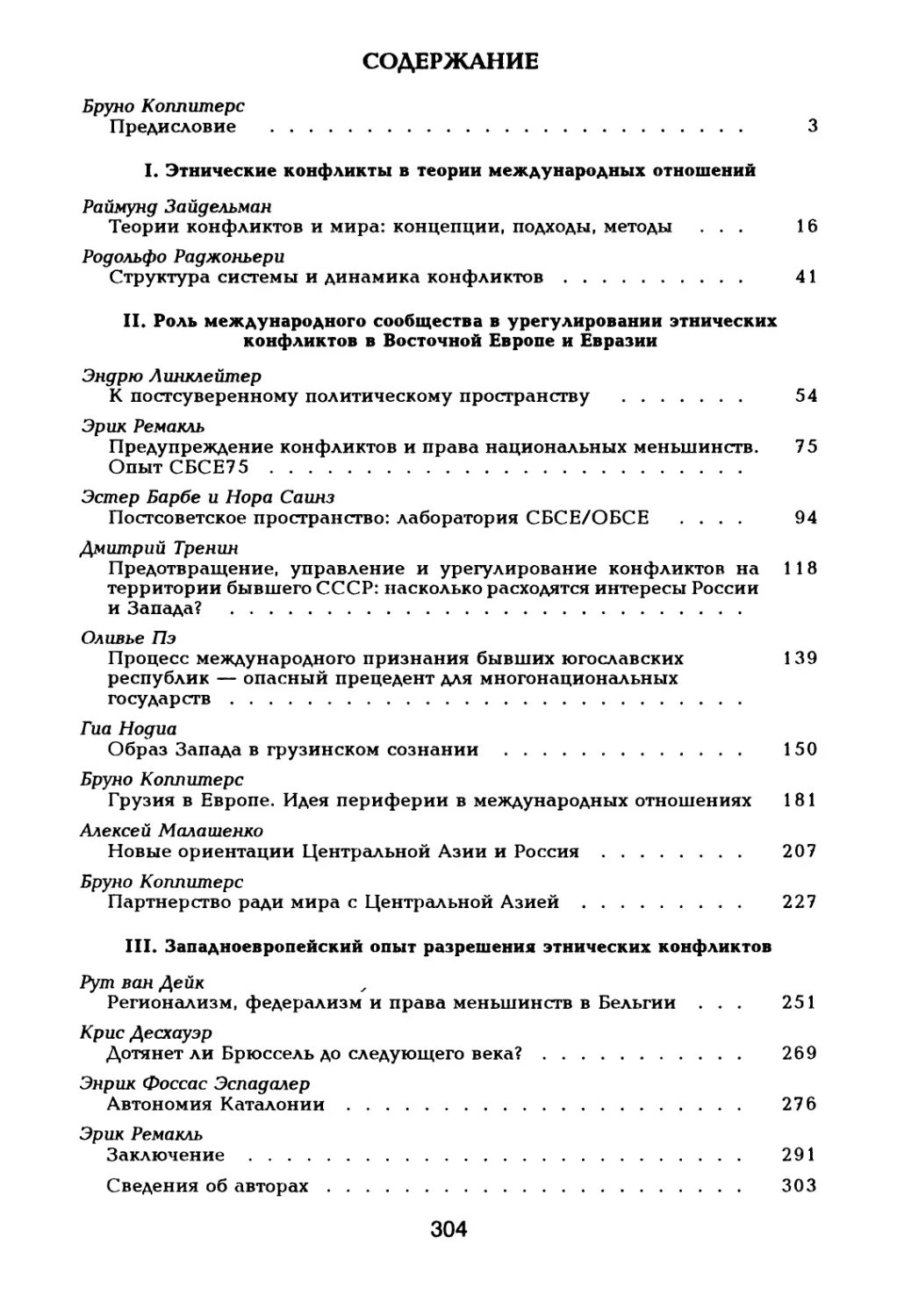Author: Коппитерс Б. Зверев А. Ремакль Э.
Tags: национальные отношения национальная политика национально-освободительное движение религия политика экономика этнография военное дело войны история войн издательство весь мир
ISBN: 5-7777-0022-5
Year: 1997
ЭТНИЧЕСКИЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ
В ЕВРАЗИИ
Книга 3
международный опыт
РАЗРЕШЕНИЯ ЭТНИЧЕСКИХ
КОНФЛИКТОВ
Общая редакция: Б.Коппитерс, Э.Ремакль, А.Зверев
ИЗДАТЕЛЬСТВО Москва 1997
ББК 66.5 (2 Рос) Этн 91
Редактор А.П. Фоменко
Этн 91 Этнические и региональные конфликты в Евразии: в 3 кн.: Кн. 3 Международный опыт разрешения этнических конфлик- тов/Общ. ред. Б. Коппитерс, Э. Ремакль, А. Зверев. — М.: Издательство «Весь Мир», 1997. — 304 с.
В этом сборнике собраны материалы, отражающие стремление международного сообщества, западных ученых предотвратить расползание этнических и региональных конфликтов за рамки национальных границ, а главное — поделиться опытом в прогнозировании вспышек национальной напряженности, устранить причины их возникновения.
Э
08101000000—068 8А7 (03)—97
без объявл.
ББК 66.5 (2 Рос)
ЭТНИЧЕСКИЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ В ЕВРАЗИИ: В 3 КНИГАХ
Книга 3
Международный опыт разрешения этнических конфликтов
Редактор А.П. Фоменко Художественный редактор В.К. Кузнецов Технический редактор Н.А. Кузнецова
JIP № 064365 от 26.12.95. Подписано в печать 02.07.97.
Формат 60 х 90 1/16. Усл. печ. л. 19,0. Усл. кр.-отт. 19,5. Тираж 2000 экз.
Зак. № 1814
ТОО Издательство «Весь Мир»
101831 Москва-Центр, Колпачный пер., 9-а
Отпечатано на ОАО «Можайский полиграфический комбинат» 143200 Можайск, ул. Мира, 93.
Качество печати соответствует качеству представленных издательством диапозитивов
ISBN 5-7777-0022-5
© Коллектив авторов, 1997
© Издательство «Весь Мир», 1997
Бруно Коппитерс ПРЕДИСЛОВИЕ1
Настоящий сборник о международной практике разрешения этнических конфликтов представляет собой третью, и последнюю, книгу из серии, посвященной этническим, региональным конфликтам и конфликтам национальной идентичности в бывшем Советском Союзе. В первой книге внимание сосредоточивается на Центральной Азии и Кавказе, а во второй — на России, Украине и Белоруссии. В трех книгах собраны статьи ученых из университетов и научных институтов Азербайджана, Армении, Белоруссии, Бельгии, Великобритании, Грузии, Испании, Италии, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Проект финансировался Международной ассоциацией по содействию сотрудничеству с учеными из независимых государств — бывших республик Советского Союза (ИНТАС), организацией, связанной с Европейским союзом.
Пространство безопасности ОБСЕ
Темой данной книги является международный опыт разрешения этнических конфликтов. Ее первый раздел содержит две статьи, представляющие и комментирующие различные концепции и позиции в теоретических дебатах о международных отношениях в условиях порядка, сложившегося после «холодной войны» (Раймунд Зайдельман, Родольфо Раджоньери). Второй раздел, состоящий из девяти статей, посвящен роли международного сообщества в урегулировании этнических конфликтов в Восточной Европе и Евразии (Эндрю Линклейтер, Эрик Ремакль, Эстер Барбе и Нора Саинз, Дмитрий Тренин, Оливье Пэ, Гиа Нодиа, Бруно Коппитерс — две статьи, Алексей Малашенко). Эндрю Линклейтер ставит проблему природы социальных связей, объединяющих граждан того или иного общества и отделяющих их от остального мира. Противоречие между национально-политической принадлежностью и необходимостью создания некоторой формы универсального гражданства, устанавливающего международные гарантии индивидуальных прав, частично было разрешено путем учреждения Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) — с 1995 г. Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Эрик Ремакль описывает раз- 1 Я благодарю Криса Десхауэра, Тео Янса, Дмитрия Тренина, Рут ван Дейк и Алексея Зверева за их отзывы на первый вариант данного предисловия.
3
личные этапы в истории защиты национальных меньшинств со стороны СБСЕ со времени создания этой организации в 1975 г. Эстер Барбе и Нора Саинз разбирают политику СБСЕ/ОБСЕ в Прибалтийских государствах, Грузии, Молдове, Таджикистане, Нагорном Карабахе, Украине и Чечне. Интересы российской и западной безопасности в бывшем Советском Союзе в сравнительной перспективе анализируются Дмитрием Трениным. Западная политика в отношении Восточной Европы после крушения коммунизма находится в фокусе работ Оливье Пэ, Гиа Нодиа и Бруно Коппитерса. О. Пэ анализирует правовые и политические проблемы, связанные с западноевропейской политикой признания независимости Словении, Хорватии и Боснии-Герцеговины. Г. Нодиа объясняет, почему грузины на протяжении всей своей истории ориентировались на Запад и рассматривали себя более близкими Западу, чем любые из их соседей. Б. Коппитерс представляет значение понятия периферии в западноевропейской политике по отношению к Грузии. Основным фокусом его работы является западная позиция в отношении региона, который она не считает, в противоположность грузинскому пониманию своей национальной идентичности, частью Европы. Алексей Малашенко рассматривает меняющуюся ориентацию государств Центральной Азии и их отношения с Россией, а Б. Коппитерс анализирует контакты между НАТО и центральноазиатскими государствами в рамках программы «Партнерство ради мира». Еще один раздел этой книги посвящен западноевропейскому опыту разрешения этнических конфликтов. В отличие от австрийской или германской формы федерализма Бельгия является федеративным государством, основанным на этническом плюриформизме (ethnic pluriformity). Подобный этнический плюриформизм существует также и в Испании, которая, однако, еще не может рассматриваться в качестве федеративного государства, несмотря на предоставление широкой автономии своим регионам. Трансформация Бельгии от централизованного к федеративному государству анализируется с точки зрения политологии в работах Рут ван Дейк и Криса Десхауэра. Энрик Фоссас Эспадалер разъясняет функционирование институтов Каталонии в сопоставлении с центральными государственными институтами Испании с точки зрения конституционного права.
За исключением работ Дмитрия Тренина, Алексея Малашенко и Гии Нодиа, все работы настоящей третьей книги написаны западными исследователями, в отличие от первых двух книг, где почти все авторы из бывшего СССР. Одной из главных целей проекта было установление новых связей между университетами и исследовательскими центрами из Западной Европы и бывшего Советского Союза с целью сбора научного материала для совме4
стной публикации как на русском, так и на английском языках. Встает законный вопрос: имеет ли смысл начинать исследование и собирать материал для публикации по столь отличным друг от друга регионам евразийского пространства, охватываемого ОБСЕ? Этнические, региональные конфликты и конфликты национальной идентичности в постсоветском пространстве и в Западной Европе действительно принимают очень различные формы как с точки зрения международных отношений, так и с точки зрения внутренней политики. Как констатируется в работе Родольфо Раджоньери, «холодная война» оказала глобализирующее воздействие на структуры безопасности, в то время как ее окончание привело к регионализации мировой системы. Такая регионализация международных отношений привносит во внешнюю политику эффект фрагментации. Творцы внешней политики при формировании своих приоритетов в первую очередь принимают во внимание региональные интересы. Однако при анализе региональной безопасности всегда присутствует глобальная перспектива. Например, в чисто региональном плане правительствам Центральной Азии и Закавказья не приходится рассматривать проблему расширения НАТО как основополагающую для интересов их безопасности. В противоположность всем другим членам ОБСЕ территориальная экспансия натовского альянса или милитаризация границ между Восточной и Центральной Европой непосредственно не затрагивает государства Центральной Азии и Закавказья. Их попытка привлечь западный капитал и найти определенный баланс между интересами безопасности России и Запада заставляет их, однако, вырабатывать перспективу за пределами своих региональных рамок. Косвенное влияние расширения НАТО на российскую политику в отношении Центральной Азии или на создание новых военных альянсов опосредованно воздействует на их собственную региональную политику. В этом смысле, теоретические дискуссии о характеристиках новой международной системы, возникшей после «холодной войны», — как это анализируется в двух первых статьях данной книги — применимы для анализа всех регионов Евразии.
Национальные меньшинства и международное сообщество
Все этнические конфликты в бывшем Советском Союзе, которые приняли насильственную форму, имеют ясное международное измерение. Существование национальных меньшинств, которые могут пользоваться поддержкой со стороны своих сородичей за границей, активное вмешательство внешних сил во внутренние региональные конфликты и опасность расползания этнических конфликтов за пределы национальных границ 5
рассматривались в качестве объективных факторов, дающих основания для международной озабоченности и активной вовлеченности таких международных институтов безопасности, как ОБСЕ или ООН. В Западной Европе этнические конфликты, за исключением Корсики, также имеют международное измерение (конфликт в Северной Ирландии прямо затрагивает Ирландскую Республику, а конфликт в Стране Басков — соседнюю Францию), но никогда не рассматривались международными организациями как угроза международной безопасности. Все западноевропейские правительства отвергли бы посреднические усилия международных организаций в этнических конфликтах на их территории как незаконное вмешательство во внутренние дела. Ввиду этого работы Э. Ремакля, Э. Барбе и Н. Саинз сосредоточивают внимание исключительно на ситуации в бывшем СССР, Центральной и Южной Европе.
Пассивность таких международных организаций, как ОБСЕ, Совет Европы или ООН, в отношении насильственных конфликтов в Северной Ирландии или в Стране Басков не означает, что западные правительства не осознают последствий политики этих организаций и принятия международных конвенций и положений относительно защиты национальных меньшинств для их собственной национальной политики. Рамочная конвенция по защите национальных меньшинств, принятая по решению Совета Европы, была подписана 1 февраля 1996 г. 31 государством из 38. За этим первым шагом по принятию конвенции последовала ее ратификация национальными парламентами всех подписавших ее государств. Конвенция имеет — если двенадцать государств ее ратифицируют — обязательную силу для государств, которые ее подписали. Лишь четыре государства — Испания, Румыния, Словакия, Венгрия — завершили в феврале 1996 г. всю процедуру принятия конвенции1. Во всех этих четырех государствах проблема национальных меньшинств находится в центре политической жизни. Конвенция устанавливает обязательство принимать меры по сохранению культуры и защите самобытности национальных меньшинств, их религии, языков и традиций, обеспечивать им доступ к средствам массовой информации и т.п. Мало вероятно, что Турция, вовлеченная в гражданскую войну со своим курдским меньшинством, и Греция, где проживает большая албанская община, ратифицируют конвенцию. Франция считает даже цель конвенции — защищать национальные меньшинства — несовместимой с ее собственной конституцией. Французская конституция не признает существования различных национальностей и “Т
См.: Le Soir. 1996. February. 24/25.
6
признает лишь французское «национальное сообщество» и отдельных французских граждан. Несмотря на французскую позицию, России пришлось взять на себя официальное обязательство присоединиться к этой конвенции прежде, чем в феврале 1996 г. ее приняли в качестве 39-го члена Совета Европы.
Следующий мотив рассматривать этнический, региональный конфликт и конфликт национальной идентичности в более широких рамках, нежели рамки отдельного региона, — это мотив нормативный.
Окончание «холодной войны» понимается как конец разделения Европы и начало появления новой европейской идентичности. Статья Эндрю Линклейтера посвящена задаче разработки нормативного видения политической организации и гражданства, выходящего за пределы границ Европы. Э. Линклейтер доказывает, что космополитическая перспектива не обязательно будет «бесформенной» в смысле национальной идентичности или даже противостоящей этнической, национальной или религиозной идентичности. Этническая и религиозная принадлежность должна и может быть сбалансирована космополитическим идеалом. Определение такой новой концепции гражданства требует наличия элементарного понятия о различных дефинициях этнической и национальной идентичности, существующих в разных частях Европы и Евразии. Б. Коппитерс и Г. Нодиа констатируют, что западноевропейское и грузинское понимание своей политической культуры слишком далеки друг от друга, чтобы рассматривать космополитическое или даже европейское гражданство в качестве реальности сегодняшнего дня. Такая форма гражданства остается далеким идеалом. Однако в своей статье об СБСЕ/ОБСЕ Э. Ремакль показывает, что документы и политика этой организации в отношении национальных меньшинств отражают специфические моменты в' истории «холодной войны» и после нее. Документы, принятые в 90-х годах XX в., показывают явный прогресс политической воли в деле предоставления правовой защиты меньшинствам по сравнению с документами 70-х и 80-х годов. В соответствии с этим анализом можно увидеть прогресс в правовой защите национальных меньшинств на всем евразийском пространстве, которое в настоящее время охватывает ОБСЕ. Это может рассматриваться как положительный признак возникающего космополитического определения гражданства.
Интеграция и дезинтеграция в Европе
Идея единства Европы является одной из старейших идей западной цивилизации. Она наполнена как религиозным, так и 7
светским содержанием. Раньше она идентифицировалась с христианством, а позже с Просвещением, не теряя своей символической силы на протяжении этого процесса. Со времен Макиавелли она неуклонно развивалась в направлении светской концепции, в которой понятие христианства постепенно заменялось идеями свободы и цивилизации, указывая на контраст с другими континентами, все еще «погрязшими во тьме»1. Самоосознание Европы в качестве цивилизации, защищающей универсальные ценности — ценности, которые не признают политических границ, — благоприятствовало интеграционному процессу. Успех этого процесса в Европе — даже если некоторые государства и остаются неподатливыми к созданию европейского федеративного государства и лишь немногие западно- или североевропейские страны остаются вне Европейского союза — в значительной степени был обязан такой имеющей глубокие культурные корни объединяющей идее, которая была способна скрепить институциональный процесс экономической и политической интеграции.
Такая интерпретация важности культурного самосознания Европы для европейского интеграционного процесса не должна рассматриваться как идеалистическая. Идеи и идеалы действительно не являются достаточными факторами для объяснения истории европейской интеграции, но самосознание Европы должно быть принято во внимание как детерминирующий фактор в интеграционном процессе. Самоосознание Европы как объединенной цивилизационной области принадлежит к «мировым имиджам» («Weltanschauungen», букв, «мировоззрения»), прокладывающим путь, по которому осуществляются действия человека, подталкиваемые динамикой материальных и идеологических интересов2. Это самоосознание может также рассматриваться как принадлежащее к тому, что Теда Скокпол и Роджерс Брубейкер называют «культурными идиомами», манерой мышления и разговора, которые вносят вклад в коллективную идентификацию3. В противоположность идеологиям («системам идей, выдвигаемых как самоосознаваемые политические аргументы идентифицируемыми политическими актерами») культурные идиомы как способ мышления и суждений о политике и обществе имеют «более См.: Den Boer Р. Europe to 1914: the Making of an Idea // Wilson K., van derDussenJ. (eds.).The History of the Idea of Europe. London/New York, 1995. P. 58, 64.
2
См. упоминание Брубейкером социологии религий Макса Вебера в: Brubaker R. Citizenship and Nationhood in France and Germany. Cambridge/Mass. and London, 1994. P. 17.
3
Об этом см.: Ibid. P. 162-163.
8
длительное, более анонимное и менее ангажированное существование». Культурная идиома составляет политическую реальность, так как она культурно опосредует выражение материальных интересов. Самопонимание Европы как цивилизационного единства благоприятствует, например, политической стратегии европейской интеграции, поскольку идея европейского единства рассматривается в качестве решения основной политической и экономической проблемы и как способствующая удовлетворению интересов всех вовлеченных наций.
Политический императив создания европейского единства всегда присутствовал как в Западной, так и в Восточной Европе. В России эта идея создала линию разделения между политическими течениями (западники и славянофилы). Утопическая перспектива интеграции всех стран Европы на основе их производительных сил была основополагающей для марксизма и большевизма. В Первой мировой войне большевики видели не опровержение необходимости объединения рабочего движения в Европе, а, наоборот, мощный аргумент в пользу создания мировой социалистической системы, которая покончит с тысячелетней европейской междоусобицей1. Создание Советского Союза рассматривалось в качестве первого шага к установлению диктатуры пролетариата в остальной части Европы и мира.
Вторая мировая война не интерпретировалась как окончательное эмпирическое опровержение пригодности этой идеи единства Европы. Как и в случаях всех предшествующих европейских войн, этот новый опыт национализма не нанес окончательного удара, но укрепил этический императив преодоления ее разделения путем радикальной реорганизации европейской политической архитектуры. В 50-х годах было выдвинуто несколько инициатив по созданию основы интеграционного процесса между Германией и другими западноевропейскими государствами. Наиболее успешным было создание Европейского экономического сообщества по Римскому договору, подписанному 25 марта 1957 г. В Восточной Европе интеграция Восточной Германии в объединенную экономическую и военную систему под руководством Советского Союза была также легитимирована необходимостью преодоления зол национализма и капитализма, которые привели одну часть Европы в состояние войны с другой. Даже если идеологические программы, преобладающие в Западной и Восточной Европе, и “I
О «еврофильской» идее о том, что объединенное европейское государство покончило бы со всеми войнами в Европе, см.: Smith A. Nations and Nationalism in a Global Era. Cambridge: Polity Press, 1995. P. 116—146.
9
были несовместимы, все же и ту и другую можно было считать универсалистской1.
В период разрядки, несмотря на разделение Европейского континента «холодной войной», надежда на создание определенной формы единства через мирное сосуществование и даже через определенную конвергенцию между двумя системами была характерной для самосознания политических лидеров по обе стороны Берлинской стены. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, созданное для преодоления военного разделения Европы политическими, экономическими рычагами и посредством идеи о правах человека, свидетельствовало о силе осознания Европой самой себя как цивилизационного единства. Примерно через пятнадцать лет конец деления Европы на два военных блока придал новый импульс всем организациям, созданным для установления общеевропейских рамок сотрудничества (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совет Европы). Однако окончание «холодной войны» не означало, что разделенность Европы может быть преодолена. Определенное число восточноевропейских стран — включая Россию — было лишено перспективы интеграции в Европейский союз и в НАТО. Новые институциональные механизмы, созданные обеими организациями для налаживания лучших связей со странами, которые не рассматриваются в качестве перспективных членов (Европейский союз ведет переговоры о заключении соглашений о партнерстве и сотрудничестве, а члены НАТО выдвинули инициативу «Партнерство ради мира» с государствами, которые не имеют шансов войти в эту организацию), не отменяют этих новых форм разделения Европейского континента, а свидетельствуют о том, что идея Европы лишь с трудом может быть совместима с реальностями исключения или маргинализации.
Работы Э. Ремакля, Э. Барбе и Н. Саинз о политике СБСЕ/ОБ- СЕ свидетельствуют о растущем влиянии этой организации на национальную политику стран-участниц. Однако идея интеграции Европы оказывает также эффект фрагментации на международную политику. Некоторые статьи этого сборника анализируют дезинтеграционные последствия реализации идеи Европы для существующих национальных государств. Э. Линклейтер обращает внимание читателей как на существующие в Великобритании страхи в связи с тем, что национальная самобытность и суверенная власть будут потеряны в федеральной Европе, так и на надежду некоторых шотландских националистов на то, что “I
См.: Waever О. Europe since 1945: Crisis to Renewal // Wilson K., van der Dussen J. (eds.). Op. cit. P. 163.
10
Европа может помочь им выразить шотландскую национальную идентичность и получить политическую власть. Схожие ожидания существуют во Фландрии или Каталонии относительно создания «Европы регионов». В своей статье в данной книге Крис Десхауэр считает, что идея Европейского союза, в котором Фландрия может независимо от бельгийского государства обрести свой суверенитет, далека от возможности ее реализации в ближайшем будущем. Со второй половины 80-х годов региональные власти в Испании, Бельгии и Германии, где относительная доля властных полномочий дана регионам, тем не менее оказывали все большее давление на свои собственные правительства и на европейские институты с целью институционализации их участия в европейском процессе принятия решений. Маастрихтским договором (февраль 1992 г.) был создан «Комитет регионов».
Перестроить Европейский союз по региональному принципу не так-то легко. В Европейском союзе федеральные государства соседствуют с централизованными, что исключает общее определение региона и его компетенции. Голландские провинции, немецкие земли, французские, итальянские, бельгийские и другие европейские регионы имеют также очень разную численность населения. Проект Европейского союза, который включал бы не национальные, а «региональные государства» в качестве его членов, не имеет для своей реализации достаточной основы в нынешней институциональной реальности .
В Западной Европе субнациональные единицы стараются преодолеть ограничения национального государства, укрепляя свои позиции в процессе строительства европейского сверхгосударства. В Восточной Европе, где националистическая мобилизация совершенно иного типа имела целью восстановление национального суверенитета, идея Европы также играет видную роль. Основной мотивацией сил, сделавших возможным распад СЭВ, Варшавского договора и даже Советского Союза, было ожидание того, что такие шаги могут облегчить их интеграцию в Европу. Звиад Гамсахурдиа, лидер грузинского национально-освободительного движения, был глубоко убежден в том, что независимость от России и Советского Союза позволила бы Грузии стать частью Европы. Такие идеи, быть может, были иллюзорными, но иллюзии такого рода смогли революционизировать пол-Европы.
Не стоит переоценивать дезинтегрирующее и фрагментирующее воздействие идеи европейской супернации на “1
См.: Van Overbeke Р. Regional Integration in Europe and the Subsidiarity Principle / Master thesis in European Politics, Cultures and Societies. Vrije Universiteit Brussel, 1996; Engel C., Van Ginderachter J. Trends in Regional and Local Government in the European Community. Leuven, 1993. P. 11-50.
11
существующие государства как в Восточной, так и в Западной Европе. Регионы и малые нации могут укрепить свои политические позиции, но это не означает того, что они смогут стать действительным субъектом международных отношений. Ни Каталония, ни Фландрия не смогут возникнуть в результате процесса дезинтеграции своих государств в качестве экономически или даже политически суверенных стран: создание валютного союза в Европе предполагает создание европейского центрального банка и единых финансов, а создание политического союза в Европе предполагает формирование общей внешней и оборонной политики. Малые страны Закавказья или Центральной Азии находятся в совершенно других условиях: они все еще слишком зависимы от России, чтобы рассматриваться в качестве полностью суверенных государств.
Федерализм в Западной Европе
Третий раздел — «Западноевропейский опыт разрешения этнических конфликтов» — представлен тремя работами о федеральном государственном устройстве в Западной Европе. Рут ван Дейк, Крис Десхауэр и Энрик Фоссас Эспадалер описывают этот опыт на примерах Бельгии и Каталонии. Опыт этих государственных образований весьма специфичен в западноевропейском контексте, и их внутреннее устройство определенно не рассматривается как самое стабильное. Бельгийская федеральная и испанская «квазифедеральная» структуры слишком недавнего происхождения и не прошли испытания временем. Не исключено, что оба государства смогут перейти к конфедеративному устройству. Более стабильные и — если стабильность определена как центральная политическая ценность — более успешные случаи федерализма можно найти в странах, где, в противоположность Испании и Бельгии, одна центральная этническая группа (в Федеративной Республике Германии) или ее большой фрагмент (в Соединенных Штатах) поддерживает чувство солидарности среди различных федеральных структур1. Бельгийский федеральный и испанский «квазифедеральный» механизмы могут, однако, оказаться более интересными для восточноевропейских читателей, чем федеральные механизмы, присущие, например, послевоенной Германии. Весь федеральный опыт Восточной Европы приобретался в многоэтнических государствах в процессе поисков ответа на легитимные требования национальных меньшинств иметь свою собственную родину (как в Бельгии и
См.: Smith A. Op. cit. Р. 119.
12
Испании), а не в странах с одной центральной этнической группой, где ставилась цель децентрализации политической власти (как в Федеративной Республике Германии).
Конституционные перепалки в Восточной Европе и в СНГ предполагают, что «иностранные модели» приемлемы лишь тогда, когда их механизмы соответствуют местным историческим условиям и усиливают или легитимируют власть и политику существующего политического руководства. Установление президентских систем во всех странах СНГ сопровождалось, например, повышенным интересом к американской президентской модели. Западноевропейские парламентские системы не казались подходящими для достижения политической стабильности в период драматических социальных и экономических перемен или для легитимации власти нового политического руководства страны.
Ни Бельгия, ни Испания не представлены здесь как модель для подражания. Оба типа регулирования этнических конфликтов слишком различны даже для того, чтобы рассматриваться в качестве моделей друг для друга. Авторы дают широкую картину конкретных исторических условий, в которых возникли оба опыта. В противоположность Бельгии, где существует определенный баланс между двумя главными национальностями, требующий определенной формы симметрии, Испания состоит из нескольких регионов и национальностей, имеющих различный численный и экономический вес, что делает возможным создание «асимметричных» форм устройства между центром и регионами. Испанское государство не может быть моделью для Бельгии, а бельгийский федерализм не может представить образец для Испании.
К. Десхауэр указывает на возникший в последнее время интерес к изучению «брюссельской модели» у ученых Южной Африки и Израиля. Их внимание фокусируется на преимуществах нетерриториальных федеральных принципов при создании политических структур, которые смогут гарантировать автономию различных национальных культур без создания новых территориальных границ. Нетерриториальный принцип не является, однако, «западным» принципом. Он был введен в научную литературу Отто Бауэром и другими австромарксистами и был связан с определенным, ограниченным историческим опытом, а именно опытом Австро-Венгерской империи.
Бауэр был убежден в том, что ввиду наличия смешанного населения на значительной части территории Австро-Венгерской империи необходимо было найти федеральное решение, которое учитывало бы политические и культурные права каждой национальности этих регионов. Он предложил для данных регионов такую форму федерализма, согласно которой некоторые государственные структуры создавались бы по нетерриториальному прин13
ципу, возглавлялись представителями тех или иных национальных общин региона и в их компетенцию входила бы в первую очередь культурная политика национальности этого края.
Несколько государственных учреждений такого рода могли бы сосуществовать в одном и том же регионе. Параллельно этим учреждениям, основанным не на территориальном принципе, институты, созданные по территориальному принципу, ведали бы в первую очередь экономическими вопросами. Руководство этими институтами избиралось бы всеми гражданами региона независимо от их национальной принадлежности.
Такие смешанные формы федеративного устройства существовали бы лишь в регионах со значительными этническими меньшинствами. В других регионах продолжали бы существовать классические федеральные институты, основанные на территориальном принципе.
Австромарксистское решение национального вопроса вызывало большой интерес в грузинских политических кругах до 1918г. Ранние произведения Сталина по национальному вопросу, в которых он упоминал территорию как один из главных объективных атрибутов нации, в значительной степени были полемическим опровержением австромарксистской теории. Этот нетерриториальный принцип удостоился слишком малого внимания в странах СНГ. В нескольких случаях правительства отказывались рассматривать требования национальных меньшинств создать автономные политические структуры, так как они опасались, что новые территориальные подразделения увеличат риск сепаратистских движений. Они считали, что требования политической автономии не обязательно должны иметь территориальную привязку.
После крушения коммунизма в Восточной Европе бельгийская федеральная система, как и некоторые другие западные федеральные системы, была предложена в качестве модели для Восточной Европы. Предполагалось, что бельгийские федеральные принципы будут пригодны для Чехословакии. Существование в обеих странах двух основных национальностей диктовало необходимость найти симметричные федеральные решения. Так как чехословацкий федерализм не пережил процесса демократизации и страна раскололась на два государства, то чехословацкий пример, наоборот, теперь используется фламандскими сепаратистами как модель мирного разделения федеративного государства. Кроме того, эта попытка использования политического опыта одной страны в качестве примера для другой должна рассматриваться как упрощенная. Одной из причин того, почему Бельгия не примет «чехословацкой модели», является, как доказывает К. Десхауэр в своей работе, трудность разделения
14
Брюсселя и его смешанного населения по территориальному принципу. Использование нетерриториального принципа возможно в рамках единого федерального государства, но никогда не использовалось для определения суверенитета двух независимых государств.
Бельгийская модель является предметом интересных споров в Испании. Согласно Ф.А. Маркосу Марину, близкому к нынешнему главе правительства Хосе М. Аснару, и Хосе Мостерину, исключительное использование фламандского или французского языка во Фландрии и в Валлонии следует считать «тоталитарной» политикой, при которой коллективные права имеют приоритет над принципом индивидуальной свободы. Однако каталонский автор Франсеск Вальверду не думает, что понятие «тоталитаризм» подходит для описания лингвистической политики Бельгии. С его точки зрения, политика последней, проводимая во Фландрии и в Валлонии, двух ее основных регионах, не отличается, например, от политики Дании или Португалии, где также лишь один язык принят в качестве официального. Никто не стал бы считать эти две последние страны тоталитарными, и не было бы никакого смысла иначе подходить к федеральным единицам. Ф. Вальверду считает Брюссель, третий бельгийский регион наряду с Фландрией и. Валлонией, территорией, на которой действуют принципы «демократического апартеида». Он использует термин «апартеид» для обозначения полного разделения культурных, образовательных и социальных институтов по лингвистическому принципу (такого разделения не существует в Каталонии), а термин «демократический апартеид» — для указания на то, что каждый индивидуум, живущий на территории Брюсселя, имеет полную индивидуальную свободу выбирать свой лингвистический режим1. Такие споры демонстрируют, что не существует универсальных федеральных моделей, но что сравнительный анализ функционирования федеральных систем в очень разных условиях интересен с точки зрения оценки существующих политических альтернатив.
1
Об этой дискуссии см.: Vallverdu F. Рог un bilinguismo equilibrado // El Pais. 1996. Julio 17.
15
I. ЭТНИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ В ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Раймунд Зайдельман
ТЕОРИИ КОНФЛИКТОВ И МИРА: КОНЦЕПЦИИ, ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ
Теории конфликтов и мира: общие моменты, проблемы и императивы
Теории конфликтов, как и исследования о мире и войне, имеют давнюю традицию в европейской политической мысли. Их анализ восходит к раннегреческим историкам, например Фукидиду, и включает выдающиеся работы, подобные сочинению Цезаря «О галльской войне»; вокруг теорий шли интенсивные теологические и политические дебаты в средние века, и они представляют собой часть Просвещения, о чем свидетельствует работа Канта «О вечном мире». Как важная часть политической философии, они отражают и вносят свой вклад в поиски идеального счастья, как и реального благосостояния; таким образом, в них намечается грань между поисками вечного мира и реальной безопасностью как личности, так и общества. Уже к 30-м годам XX в. с появлением политологии как науки sui generis возникают эмпирические исследования о войнах, подобные работе Куинси Райта, многочисленные историко-политические анализы причин обеих мировых войн. Со времени 60-х годов появляются самостоятельные субдисциплины, такие, как изучение конфликтов и исследования путей достижения мира, со своими журналами, институтами, научными организациями и специфическими задачами. В то время как теория конфликтов определяет себя как традиционно беспристрастная наука, исследования о мире, которые начали развиваться в Скандинавских странах в 60-е1 и распространились на другие европейские страны в 70-е годы* 2, четко ориентировались на ценности, прогресс и выдвижение политических инициатив, часто Здесь важную роль сыграли Journal of Peace Research, а также находившаяся под сильным скандинавским влиянием Международная ассоциация исследований о мире (IPRA).
2
Например, на Германию, где в начале 70-х годов — в большой степени мотивированные и побуждаемые германской Ostpolitik — были созданы Франкфуртский институт исследований о мире (PRIF) и Германское общество по изучению мира и конфликтов (DGFK).
16
апеллировали к теологической и философской традиции Европы и воспринимали себя как вклад в дело мира.
Теории конфликтов и мира часто конкурировали и продолжают конкурировать друг с другом, искали и продолжают искать свое лицо в академическом изоляционизме, а порой даже пытались создавать академическую монополию. Так, существовала тенденция не придавать значения их фундаментальной нормативной, а также эмпирической взаимосвязи и, более того, степени переплетения их проблематики. Таким образом, объективно — равно как и политически — необходимое сотрудничество между ними, а также с другими дисциплинами было редким явлением и часто налаживалось слишком поздно, чтобы воздействовать на политику или содействовать миротворчеству. К тому же существующие требования к междисциплинарному подходу часто сводятся к кумулятивному би- или мультидисциплинарному подходу или просто игнорируются. А связанный с политикой подход часто сводится к академическому критическому фундаментализму, низводящему все конкретные исследования и предложения к политическому алиби для статус-кво или к апологетическому разъяснению задним числом необходимости той или иной политики. Вообще говоря, сталкиваясь с такими позициями, европейская политика и политические элиты1 часто не видели ни причины, ни какой-либо необходимости вступать в диалог или принимать советы от них. Хотя в 70-е годы политика разрядки и исследования о мире были «объективными союзниками», они все же не проявляли желания сотрудничать. И в то время как основное направление европейских исследований о мире не смогло наладить сотрудничества с правительствами, парламентами и партиями, ему также не удалось сделаться союзником или по крайней мере установить взаимодействие с движениями за мир, противостоявшими традиционной политике в конце 70-х и в начале 80-х годов. Раздираемые разногласиями изнутри, оттесненные на обочину в прошлом и все более испытывающие потерю к себе политического интереса, исследования о мире совершили крутой поворот. Покончив как с теоретическими, так и с нормативными дискуссиями о характере мира и безопасности, их авторы вновь открыли для себя эмпирический прагматизм и сосредоточились на конкретике, например на разоружении, контроле над вооружениями и мерах по укреплению доверия, давая таким образом сообществу тех, кто занимается вопросами безопасности, ценные данные и содействие взамен своей прежней политической направленности. В наши дни, “1
Для политической системы США характерно то, что она намного лучше пользуется своим академическим потенциалом.
17
2 1814
после того как признанная наука о конфликтах и мире сосредоточилась в основном на проблемах Востока и Запада — а также Севера и Юга, составляющих совершенно отдельную сферу — и в особенности на ядерном вопросе в период конфликта Восток— Запад, эти дисциплины столкнулись с внезапным отсутствием политического лица и тем. Это впервые в исследованиях о мире со времени 70-х годов привело к творческому кризису. Исследования о мире в настоящее время находятся в процессе переосмысления, ищут новые темы, заново определяют научно-исследовательскую проблематику и добиваются новой легитимации. Даже критически важная, но забытая дискуссия о том, может ли — и если да, то в какой степени — мир быть установлен военными средствами (т.е. вся дискуссия о поддержании мира и миротворчестве применительно к реалиям второй войны в Персидском заливе, войны в Югославии и событиям в Сомали), вновь оживилась и может положить начало новым теоретическим, равно как и нормативным открытиям.
Для понимания сущности исследований о конфликтах и мире, правильного восприятия внутриакадемических дебатов об этой переориентации, а также дискуссии между академическими учеными и политиками о будущей роли таких дисциплин для обществ, часть которых они составляют, здесь следует сделать четыре общих замечания.
Во-первых, как упоминалось выше, нынешние исследования или исследования нынешних конфликтов должны обогатиться, с одной стороны, историческими данными о конфликтах как в Европе, так и за ее пределами, а с другой — идеями и результатами изучения прошлого, включая те, что порой рассматриваются как донаучные. Сочинения древнегреческих и древнеримских авторов, а также трактаты о богословских спорах в средние века могли бы расширить аналитический фокус и помочь преодолению традиционной фиксации на нации-государстве, если бы мы на опыте Римской империи, Священной Римской империи, Габсбургской монархии учились тому, как подходить к разрешению конфликтов внутри обществ и между ними. Такая переоценка истории и уроков прошлого помогает избегать скрытой тенденциозности в современной науке о конфликтах (конфликтологии), или по крайней мере стимулирует размышления об этом. Тенденциозность проявляется, например, в рассуждениях о том, что общества должны быть организованы в национальные государства, определяемые по территориальному признаку, или в более расхожих тезисах о том, что после окончания конфликта Восток—Запад национальные государства в Восточной Европе должны быть сохранены, чтобы обеспечить большую стабильность Запада.
18
Во-вторых, и это становится очевидным при практическом применении вышеназванных идей, исследования о конфликтах и мире в особенности отражают две фундаментальные социофило- софские традиции — реалистическую и идеалистическую — в европейском мышлении, которые соперничали друг с другом, накладывались друг на друга и взаимно друг друга подкрепляли. С одной стороны, реалистический взгляд стремился понять властный аспект конфликтов, а также порядки и структуры, их сдерживающие; с другой стороны, идеалистический взгляд сосредоточивался на ценностном аспекте конфликтов и постепенных изменениях. Рассматривая эти две линии мышления как бы в диалектическом переплетении, следует установить взаимосвязь между идеями Макиавелли о способе управления государством и утопической моделью идеала Кампанеллы. Это, например, означает, что политически эффективный современный европейский порядок должен не только признавать принцип существования конфликтов, но и сочетать это с потребностями мира и безопасности.
В-третьих, развитие этих дисциплин является не только ориентированным вовнутрь, т.е. руководствуется научно-академическими критериями или образцами, но связано с общественной дискуссией, политическими заботами общества и процессами обучения масс и элит. Эта связь между исследованиями конфликтов и мира и политическими событиями во «внешнем» мире становится очевидной, если посмотреть на развитие исследований о мире в 60-е и 70-е годы. Удалось ли исследованиям о мире воздействовать на политику или нет — объективно они составляли определенное дополнение к политическим мероприятиям. Их авторы не только касались цены и риска военного конфликта Восток—Запад, но и хотели использовать разрядку для того, чтобы решить эти проблемы — или по крайней мере лучше контролировать их. Нынешний кризис идентичности и легитимности признанных исследований о мире точно отражает проблемы нынешних политических элит в Европе и перестройки их мышления после окончания конфликта между Востоком и Западом.
В-четвертых, исследования о конфликтах и мире должны быть четко увязаны с общей идеей общественного развития. Опять же реалисты часто рассматривают конфликты, применение военной силы и доминирующую роль нации-государства как «естественные», т.е., в сущности, незыблемые. Сторонники крайних взглядов определяют роль конфликтов и войны в дарвиновском духе, т.е. как здоровое очистительное средство, законное средство перемен, необходимое для исторического развития. Идеалисты, однако, исходят из того, что общества в принципе способны учиться и в качестве одного из важных шагов в таком историческом процессе обучения они могут научиться использовать ненасильст19
венные механизмы как средство замены войн и других типов военных конфликтов. И вновь такая апелляция к глубинному постижению общества важна как для анализа, так и для политических шагов. Введение моделей интеграции ЕС в целях изменения меж- и внутригосударственных политических структур и моделей конфликтов на пути к общеевропейскому порядку основано как раз на данном понятии: о том, что даже в ныне ренационализирующейся Восточной Европе интеграция, объединение и — в то же самое время и в результате этого — умиротворение в принципе достижимы.
Один из процессов интеллектуального обучения ядерного века и особенно политики разрядки заключается в том, что мир не только продукт нормативного мышления или благое пожелание, но состояние, соответствующее коренным интересам как отдельных обществ, так и мирового сообщества. Эта взаимосвязь между моралью и интересами не изменилась после окончания ядерной конфронтации между Востоком и Западом. Очевидно — даже в отношении политической нестабильности в бывшем Советском Союзе, — что после окончания конфликта Восток—Запад опасность преднамеренного, как и случайного, обмена ядерными ударами значительно снизилась, однако она продолжает существовать, и если вспомнить о худших сценариях распространения ядерного оружия, то она может стать даже большей, чем в период ядерной гегемонии США и СССР. И вновь: являемся ли мы сторонниками подхода Руссо или Гоббса, — вопрос не в том, желателен ли мир или возможен ли он, но в том, как его достичь.
Концепция конфликта: от конфликта к миру
Хотя исследования о конфликтах и мире рассматривают одни и те же проблемы, их специальные и разные подходы привели к различным, но взаимодополняющим результатам по вопросу об основополагающем определении конфликта и мира. Таким образом, нижеследующая дискуссия по поводу концепции конфликта может в основном пользоваться исследованиями о конфликтах, в то время как концепцию мира можно объяснять со ссылками на исследования о мире. Однако в соответствии с гипотезой, лежащей в основе этих статей, — о том, что нужен более обобщающий подход для достижения новой новаторской динамики в исследованиях о конфликтах и мире и что в рамках этого обобщения необходимо разработать более всесторонний взгляд, т.е. связать друг с другом как подходы дисциплины о мире, так и подходы конфликтологии, — следует коснуться также и трех других взаимосвязей, которые часто не замечались в прошлом.
20
Во-первых, и конфликты, и мир как состояния взаимосвязи между политическими единицами, например национальными государствами, могут быть объяснены и разрешены только в том случае, если традиционное разделение на внутреннюю и внешнюю политику будет заменено концепцией, в которой также будут взаимосвязаны различные уровни анализа1, включая различные секторы общества. Это особенно верно в отношении растущей международной взаимозависимости, регионализации и глобализации вкупе с также растущей «медиазацией» — расширением и углублением роли средств массовой информации (СМИ) в динамике конфликтов2.
Во-вторых, столь же опасно отделение друг от друга внешней, экономической и военной политики. Конфликты «чисто» политического, экономического, военного или иного характера встречаются редко; в большинстве случаев мы находим смешение причин. Идея о том, что мир и безопасность имеют политическое, экономическое, военное, социокультурное и т.п. «измерение», должна вдохновить аналитика на поиски взаимосвязей между этими измерениями. В особенности если обратиться к анализу динамики конфликтов, как в плане их эскалации, так и в плане их разрешения, часто можно обнаружить характерный эффект подпитки между, например, экономическим и военным измерениями: войны не только характеризуются боевыми действиями, но и имеют огромные политические и экономические последствия, как ожидаемые, так и непредвиденные.
В-третьих, в реальной политике очень редко проявляется, вопреки распространенным представлениям, антагонизм между конфликтами и сотрудничеством в отношениях между обществами или внутри одного общества. В большинстве случаев — и даже в конфликтах с высокой степенью эскалации — налицо и конфликт, и сотрудничество; в некоторых случаях конфликты рождают консенсус, каким бы ограниченным он ни был. Это значит, что при анализе конфликтов должна изучаться взаимосвязь между сотрудничеством и конфликтами, а также что урегулирование конфликтов и миротворчество должны пользоваться существующим открытым или молчаливым консенсусом между конфликтующими сторонами.
Окончание конфликта между Востоком и Западом представляет собой пример того, как действуют эти три императива. Во-первых, разрядка, равно как и политика ОБСЕ четко увязывали —I
Подробнее об этом см. в работе Р. Раджоньери в настоящем томе.
2
Управление СМИ американскими военными во время второй войны в Персидском заливе служат одним из примеров политического — и военного — влияния современных СМИ, особенно телевидения.
21
внешнюю политику и внутренние изменения, стремясь к снижению угрозы извне и поощрению внутренних реформ. Во-вторых, концепция и реальность политики разрядки и политики ОБСЕ были основаны на стратегии широкого размаха, устанавливавшей связь между безопасностью и политическим и экономическим сотрудничеством. Именно новое открытие политических и экономических средств осуществления целей безопасности сделало разрядку столь успешной и явилось первым шагом в процессе урегулирования конфликта Восток—Запад. И в-третьих, свойственное разрядке сочетание инициатив и санкций — от сооружения газопроводов до решения НАТО об «улице с двусторонним движением», — а также специфическое разделение труда между США и западноевропейцами в деле разрядки стимулировали процесс обучения советских элит.
Конфликт
Хотя исследования о конфликтах и мире требуют признания их своеобразия, основанного на различных подходах и ценностных установках, они все же взаимосвязаны не только в общем, как подчеркивалось выше, но и в специфике, если определять мир как состояние либо порядок (внутри общества и/или между обществами, организованными ныне как национальные государства), который на деле исключает войну, и если определять войну как вид конфликтного поведения. Теперь, чтобы суммировать развитие теории конфликтов и избежать необходимости припоминания каждого шага в этом развитии1, концепцию конфликтов, коль скоро она в наши дни доминирует в научных исследованиях, можно вкратце изложить с помощью следующей аргументации из четырех пунктов.
Во-первых, конфликт большей частью — и справедливо — определяется как результат несовместимых интересов заинтересованных актеров. Его особенности с точки зрения характера спорных вопросов, интенсивности конфликтного поведения и экстенсивности его размаха зависят от степени несовместимости или исключительности интересов, а также политической релевантности последних. Существуют интересы не только вещественного (substantial) свойства — территориальные приобретения, экономические преимущества или военно-стратегические выгоды, — но —I
См.: Link W. Der Ost-West-Konflikt. Die Organisation der internationalen Beziehungen im 20. Jahrhundert. Stuttgart: Kohlhammer, 1980. Хотя эта работа несколько устарела, но по своему теоретическому и методологическому подходу все еще может служить интересным примером современных всесторонних исследований о конфликтах.
22
и позиционного характера. Позиция связана со структурой власти и местом отдельного актера в рамках такой структуры. Будучи как субъектом, так и объектом властных структур или порядков, позиционные приобретения или потери могут быть важными интересами как таковые или в сочетании с интересами вещественного характера. Хотя существует разница в целях и средствах между позиционными и вещественными интересами, они, тем не менее, взаимосвязаны. И эта взаимосвязь позволяет получить прямой аналитический доступ к властным структурам через исследования стремлений к удовлетворению вещественных интересов, привнося таким образом реалистические подходы в анализ. Такой градуированный и взаимодополняющий подход не только дает возможность лучшего «измерения» интересов, равно как и их «иерархизации» и «инструментализации», но и открывает пути к стратегиям разрешения конфликтов, основанным на сбалансированных пакетных сделках, компенсации асимметричных интересов и постепенном нахождении компромисса, включая разработку формул общих интересов. В дополнение к этому он вводит идею властных структур и окон возможностей в эмпирический анализ конкретных интересов, т.е. дает возможность систематического обобщения и введения более высоких уровней анализа. Таким образом, он представляет ценность как для детального эмпирического и систематического анализа, так и для политических рецептов.
Во-вторых, конфликт рассматривается в объективных и субъективных терминах. Структурные конфликты или конфликтные потенциалы являются результатом отмеченной выше разницы интересов, они существуют объективно — даже если задействованные актеры об этом не подозревают. Если и когда актеры осознают такие объективные конфликтные потенциалы — а это политический процесс, т.е. зависимый от конкретных политических приоритетов, политических интересов и политической динамики, — и решают определить их как политические проблемы либо активно, либо более реактивно, объективный потенциал ведет — или, скорее, может вести — к конфликтным политическим шагам. Субъективное восприятие тем самым преображает объективный конфликт в манифестный, актуальный или «открытый» конфликт, определяемый конкретными мерами, такими, как военные, политические или экономические действия, в поддержку собственных интересов в противовес интересам другого актера. В итоге конфликт есть результат потенциала и его политической актуализации, иными словами, конфликт окончательно оформляется как манифестным конфликтным поведением, так и конфликтным потенциалом. Проведение такого разграничения между потенциальным и манифестным конфликтами опять же имеет как 23
аналитическую, так и политическую релевантность. Оно дает возможность поиска возможных конфликтов задолго до их возникновения, т.е. придает анализу конфликтов роль политического раннего предупреждения, оно подчеркивает релевантность субъективного фактора (который, по определению, открыт для влияния), сдержанности и функциональной эквивалентности и дает ясно понять, что отсутствие конфликтного поведения или прекращение открытого конфликта не обязательно означает разрешение самого конфликта, подвергая, таким образом, сомнению традиционные политические мероприятия по контролю над конфликтными ситуациями.
В-третьих, конфликт — это еще и вопрос конфликтного поведения. Введение поведенческих аспектов (как отдельных и с логической точки зрения «равных» категории интереса) не только обосновывается тем фактом, что конфликтные проявления, по определению, выражаются в поведенческих категориях, но также и тем, что, несмотря на приведенный выше логический аргумент, политическая реальность показывает, что манифестный конфликт возникает даже без значительных конфликтных потенциалов, т.е. без конфликтующих интересов. Назвав это «метаконфликтом», конфликтология должна была или признать свои методологические границы при определении этих созвездий интересов, которые составляют конфликтный потенциал, или искать другие объяснения. Следовательно, несовместимые интересы рассматриваются теперь не как «единственная», но как лишь «одна» из причин конфликтного поведения. Другой причиной является поведенческая динамика, т.е. конфликтная динамика, основанная на цепочках взаимодействия (interaction chains), петлях обратной связи (feed-back loops) и процессах эскалации, в которой поведенческая динамика доминирует над моделью конфликта, в то время как лежащие в основе интересы или вещественные цели конфликта играют подчиненную роль или маргинализуются в конфликтной динамике. Действительно ли и в какой степени конфликт является конфликтом и/или метаконфликтом, зависит от конкретного случая. Первая мировая война, например, рассматривается как классическая (конфликт по поводу положения в созвездии европейских держав со всеми экономическими, политическими и военностратегическими последствиями, которые подразумеваются) и несет в себе типические характеристики метаконфликта, если объяснить ее возникновение (более или менее нечаянное соскальзывание на путь войны вследствие модели взаимодействия, ведущей к политической и неконтролируемой эскалации). И вновь: привнесение поведенческого аспекта дает возможность дальнейшей классификации, дифференциации политических мер контроля. Таким образом, выявление объема и глубины ущерба, а также 24
соотношения затрат, риска и выигрыша от применения различных инструментов конфликтного поведения — в международном конфликте перечень инструментов варьируется от дипломатических, экономических до военных средств или их комбинации (в случае военных средств — от простой угрозы обычными вооружениями до угрозы нанесения ядерного удара) становится дополнительным шагом при анализе конфликтов.
Наконец, в-четвертых, ориентация данной аргументации на актера должна быть дополнена анализом системы. Как упоминалось ранее, актеры являются не только субъектами международной политики, включая конфликты, но также и объектами. Это означает не только то, что актер А является объектом потому, что актер Б начинает конфликтовать с ним, но и то, что основная модель конфликтного поведения, определения интересов и стремлений к их удовлетворению, а также формирования политики обоих актеров в большой степени детерминирована или находится под влиянием системы, частью которой (вольно или невольно) является данный актер. Следовательно, некоторые системы — региональные, секторальные, сферы спорных вопросов и т.д. — являются более конфликтогенными по сравнению с другими благодаря своим специфическим структурам и поведенческим моделям актеров, которые в свою очередь и отражают, и формируют эти структуры. Учет этих структур, моделей и динамики системы существенно важен для понимания и разрешения конфликтов. Сам этот анализ взаимосвязи между актером и системой привел к идее дилеммы безопасности актера — национального государства в сегодняшнем международном порядке — и далее к идее структурного принуждения даже явно несогласных актеров к принятию системной динамики и, наконец, к идее интеграции, федерализации и объединения (например, в Европе), с тем чтобы наметить лучшие пути контроля и управления конфликтом.
В итоге этот аналитический подход означает, что, когда анализ конфликта сосредоточивается сначала на интересах, восприятиях, выборе вариантов инструментария и поведении актеров, а затем на системе, в которой действуют актеры конфликта, разрешение конфликтов должно обязательно являться процессом, направленным на выработку или функционирование в рамках существующей большой стратегии, постепенно охватывающей все эти четыре фактора поведения заинтересованных актеров в дополнение к системе или подсистеме, в которой фактически происходит конфликт. С точки зрения практической политики это дает своего рода справочный перечень факторов, на которые нужно обращать внимание, стремясь найти адекватное решение проблемы.
25
Мир
Что касается исследований о мире, то подобная аргументация неудовлетворительна. В ней отсутствует прогрессивная перспектива, необходимая в условиях, которые исследователи мира рассматривали как ситуацию «последней минуты», порой эксплуатируя затаенные страхи перед катастрофическими событиями: от ядерной войны и массовой иммиграции иностранцев до экологического краха. В дебатах о мире и конфликтах специфический вклад исследований о мире заключается в развитии концепции насилия, а также идеи и определения мира.
Введение концепции насилия в качестве составной части при анализе конфликтов сначала наталкивает на мысль сфокусировать анализ конфликтного поведения на насилии. Поиски насилия или прямого ограничения или нарушения воли, благосостояния или общей идентичности индивида, группы и/или национального государства позволили аналитикам упорядочить разное конфликтное поведение и применение различных инструментов или вариантов в виде четкой иерархии. Это было правомерно и имело смысл в ситуации, когда ядерная катастрофа как предельная форма насилия казалась сильнейшей угрозой, которой поэтому следовало избегать любой ценой. Иерархизация насилия дала возможность не только установить порядок в различных формах, путях, степенях интенсивности и размахе насилия, но и сравнить различные виды конфликтного поведения, т.е. используемые при этом инструменты и варианты, например политику военного вмешательства или экономических стимулов, важных для развития и легитимации политики разрядки в противовес традиционной политике конфронтации и сдерживания.
Затем был сделан второй шаг — обращение к аспектам интересов и системы. Исследования о мире — и особенно «критические» — разработали разграничение между фактическим (actual) и структурным насилием. В то время как манифестное конфликтное поведение может представлять собой фактическое насилие, структурное насилие обнаруживается в структурах, которые несправедливы или дискриминируют некоторых актеров. Другими словами, утверждалось, что такие структуры порождают насилие ввиду присущего им распределения власти или связанной с ним реализации интересов. В соответствии с традиционной «левой» политической платформой это привело к тому, что традиционно повышенное внимание конфликтологии к проблемам противостояния Востока и Запада дополнилось таким же вниманием к вопросам антагонизма между Севером и Югом. Исследователи мира полагали, что этот антагонизм является самым ярким примером структурного насилия.
26
Третьим результатом фокусировки анализа конфликтов на насилии были сознательные поиски ненасильственных реакций на применение насилия в манифестных конфликтах. В то время как концепции общественной защиты и гражданского неповиновения, как и обращение к ненасильственным стратегиям Ганди, играли лишь маргинальную роль, идея выработки непровоцирующих ответов, мер по деэскалации и снижению напряженности в конфликтах, а также по предотвращению конфликтов оказали значительное влияние на разрядку, контроль над вооружениями и политику разоружения.
Аналитическую ценность открытия категории насилия не следует расценивать как бесполезную на том основании, что в этой дискуссии в общественных кругах доминируют упрощенные баталии между фундаменталистами (или пацифистами) и реалистами (или людьми, считающими законным применение насилия для поддержания порядка). Таков был в последнее время фон дискуссии о поддержании мира силами ООН. Как только дебаты перемещаются от общего к конкретному, т.е. отдельным случаям, насилие (и стратегии по его преодолению) становится более сложной и динамичной проблемой, при которой вопрос «насилие: да или нет» сменяется вопросом: «что, в какой степени, когда и какое насилие имеет место», а также «какое встречное насилие эффективно или как оно может быть легитимировано».
Хотя использование категории насилия ведет серьезного аналитика, и особенно того, кто разрабатывает политические решения, к более дифференцированному пониманию проблемы, принятие концепции мира имеет более общий эффект. Оно вновь открывает путь к обобщению или обретению заново «большой» идеи, которая часто теряется из виду в эмпирической или казусно ориентированной конфликтологии. По сравнению с концепцией конфликта идея мира ориентирована на ценности и цели. Она воспринимает реальность как в целом поддающуюся и подлежащую улучшению, а мир — как необходимое и легитимное состояние общества, которого нужно достичь, и как ясную обязанность науки и политики продвигать вперед дело мира. Как таковая концепция мира способствовала не только распределению по категориям тех или иных порядков и/или политики актеров, включая сравнение различных порядков и моделей, но и созданию нравственного императива для общества1.
В этом мировоззрении три аспекта имеют особое значение.
Выдающимся примером дефиниции и операционализации современной концепции мира все еще является работа: Czempjel О. Friedensstrategien. System wandel durch Internazionale Organisationen, Demokratisierung und Wirtschaft, Schoningh, Paderborn, 1986.
27
Во-первых, исследования о мире — подобно конфликтологии — воспринимают мир как технократическую необходимость, так как рентабельность мирного урегулирования конфликтов, измеряемая в совокупных политических, экономических и военных затратах1, «дешевле» немирных решений. Во-вторых, и в дополнение к этой «технократической» рациональности, исследования о мире — в данном случае в противоречии с конфликтологией — рассматривают немирные решения как нелегитимные или направленные против основных человеческих ценностей. И в-третьих, исследования о мире подразумевают, что мир не только абстрактная или утопическая идея, но может быть претворен в жизнь благодаря операциональному понятию миротворчества. И вновь постепенность, реформизм и вера в исторический прогресс или политическое обучение являются важнейшими элементами такого понимания мира.
При такой открытой мирной ориентации исследования о мире должны операционализировать идею мира. В этом плане разработана концепция негативного и позитивного мира, что опять же не только дало возможность проведения более совершенного анализа, но имело и значительную предписывающую функцию. Негативный мир — это подход, направленный на минимизацию, сокращение, преодоление и т.д. как способности, так и желания применять насилие в конфликтах. Если применить концепцию иерархии насилия, это значит, что следует избегать непосредственного применения вначале обычных, а затем ядерных вооружений и других видов оружия массового поражения; в духе имплицитного градуализма исследований о мире это означало вначале установление контроля за ядерным потенциалом, а затем его сокращение и т.п. В то время как в рамках исследований о мире в период европейских выступлений в защиту мира, например в середине 50-х, 60-х и 70-х годах и особенно в 1979—1983 гг., сторонники фундаменталистских взглядов требовали одностороннего разоружения, революционных решений и политики неподчинения согласованным решениям НАТО, реалистичный градуализм контроля над вооружениями, возобладавший в Европе в конце 70-х годов, как выяснилось, добился большего успеха в выдвижении конкретных и приемлемых идей для политических решений.
Понятие затрат, постоянно используемое в политике, редко определяется, анализируется и оценивается в политологии. Однако в сравнении с традиционным понятием затрат, применяемым в экономике, политические затраты являются не только рациональными затратами, которые сравнительно легко рассчитать, но и затратами на контроль, удержание, расширение власти и т.п. Они часто обладают высокой степенью «иррациональности», которая — если принять идею власти как сущность политики — имеет, как вскоре оказывается, свою специфическую рациональность.
28
Позитивный мир должен восприниматься как необходимое дополнение к негативному миру. Там, где негативный мир стремится ликвидировать все инструменты и варианты насилия, позитивный мир стремится создать такую политику, механизмы и структуры, которые не только на деле исключают способность и волю к применению насилия, но и создают такие сочетания интересов или такие процессы гармонизации интересов, при которых конфликты либо не возникают, либо разрешаются на самой ранней стадии. Интеграция Западной Европы после 1945г., политика разрядки в 60-е и 70-е годы и процесс СБСЕ с момента своего начала в 70-е гг. — все это примеры политики, основанной на идее позитивного мира. И не случайно, что урегулирование ближневосточного конфликта рассматривается не только как прекращение насилия, но и как установление «позитивных» моделей, т.е. ориентированных на консенсус и вырабатывающих консенсус, опирающихся на общие интересы и формирование наднациональных структур. Сходным образом многие модели компромиссов для снятия конфронтации Севера и Юга основаны на идее о том, что создание справедливых экономических и политических условий, в том числе Нового Мирового Порядка, при котором такая договоренность о глобальном равенстве шансов будет действительно соблюдаться, не только способствует политической деэскалации и новой стабилизации всемирной системы, но и является условием процессов всеобщего разоружения.
Несмотря на тупиковые подходы фундаменталистского эскапизма и революционного романтизма в исследованиях о мире, последние внесли значительный вклад не только в дело лучшего анализа, но и в лучшее разрешение конфликтов. Они принесли с собой четкий фокус, базирующуюся на ценностях иерархию политических инструментов и вариантов действия, более широкое и более политическое понимание военного конфликтного поведения. Они выработали новые идеи, например идею позитивного мира, и поставили на повестку дня исследований и политики конфликты между Севером и Югом.
Вопреки кардинальным расхождениям с конфликтологией по поводу роли ценностей в науке и роли науки в своих обществах исследования о мире, тем не менее, доказали, что являются существенным дополнением к конфликтологии, не только вдохнув новую жизнь в изучение конфликтов, но и обогатив арсенал политики.
Подходы: от моно- к дополняющей мультикаузальности
Родившись в тени признанной политической науки, теории конфликтов и мира не только извлекли пользу из теоретических, концептуальных и методологических успехов, уже достигнутых 29
во все более совершенствующейся дисциплине международных отношений, но также еще раз подтвердили и уточнили уже существующие знания. Хотя конфликтные исследования — и особенно американских ученых — претендовали на то, что они составляют нечто совершенно новое и неизвестное и поэтому нередко игнорировали уже существующую концептуализацию или пренебрегали ею, а исследования о мире — и особенно их критическая составляющая — сами пытались порвать с традиционной политологией, обе эти дисциплины имплицитно использовали или эксплицитно заново изобретали подходы, хорошо известные и в европейских, и в американских общественных науках. Как с точки зрения исторического развития, так и с точки зрения аналитической ценности можно выделить четыре аналитически и политически релевантных подхода: структурный, функциональный, поведенческий и подход к процессу принятия решений. Обсуждение их ниже в отдельности не дело принципа; мы поступаем так лишь для ясности изложения. Из вышеприведенных определений конфликта и мира следует, что каждый из этих подходов позволяет нам сосредоточиться на отдельном аспекте, элементе и измерении отдельного конфликта или класса конфликтов, но составляет лишь одно, но не единственное концептуальное условие.
Другими словами, анализ конфликтов понимается — как и в общественных науках вообще — как поиск более чем одной причины. Лишь мультикаузальное объяснение дает достаточное разнообразие объяснений, и вдобавок к этому оно должно быть всесторонним, т.е. должно выявить, взвесить и связать друг с другом различные отдельные причины. Это, однако, можно сделать лишь тогда, когда используется более чем один подход.
Структурный подход
Структурный подход предполагает, что политика и политические решения являются результатом структур, детерминирующих сущность, качество и диапазон действия или бездействия. Структуры рассматриваются как сравнительно независимые от политического времени, режима или актера. Однако они не являются вечными, естественными или трансцендентально данными, но представляют собой результат конкретных политических действий своих или внешних актеров во временном цикле, будучи таким образом открытыми для перемен, обычно перемен относительных (перемены могут считаться результатом как кумулятивных, неуклонных или взаимодополняющих действий, так и внезапных срывов, когда либо превышены способности к адаптации, либо уро30
вень давления стал выше способности системы адекватно отреагировать на изменения, эти проблемы порождающие).
Политические структуры являются как продуктом, так и причиной интересов. По традиции структурный подход фокусируется в первую очередь на интересах, а затем конструирует системы или структуры интересов. Поэтому он особенно привлекателен для анализа конфликтов. Во-первых, его особое внимание к интересам делает структурный анализ особенно плодотворным для понимания конфликтов, коль скоро они вызваны негативным вмешательством в сферу чьих-либо интересов. Во-вторых, особый фокус структурного анализа на взаимосвязи между вещественными интересами и властными структурами позволяет в полной мере использовать как концепцию насилия, так и концепцию мира, т.е. разработать структуру с минимумом насильственной власти как в ее реальной (actual) форме, так и в структуре как таковой. В-третьих, присущий ему поиск основополагающих структур (basic frameworks) — как синхронически, так и диахронически обобщающих — особенно применим к тем из них, чьи интересы заключаются в усвоении уроков и в определении специфического и общего аспекта конкретных казусов конфликта.
Поэтому неудивительно, что структурные подходы нашли применение в исследованиях и о конфликтах, и о мире, способствуя не только широкому распространению взглядов о структурной релевантности конфликта между Востоком и Западом, но и общих идей о роли конфликтов в формировании как международных, так и внутринациональных структур и политических порядков. Идея дилеммы безопасности, а также характеристика международного порядка как системы организованного отсутствия мира (non-реасе) являются важными результатами структурного анализа. Хотя различные идейные школы предлагали разные модели структур — например, в спорах о том, являлись ли модели конфликтов в Советском Союзе в большей степени результатом идеологических или властных интересов, — они все же были едины в том, что лежащие в основе структуры существуют, определяют или по крайней мере сильно влияют на проводимую политику, а искусство — или наука — политологии состоит именно в том, чтобы обнаружить эти структуры и показать, как и в какой степени они работают.
Функциональный подход
Несмотря на все аналитические заслуги структурного подхода, наука о международных отношениях в целом и анализ конфликтов в частности нередко сталкивались с двумя ограничениями, присущими структурному анализу.
31
Во-первых, во многих анализах, в которых применялся этот подход, появлялась скрытая тенденция к гармонии; поиски совершенной структуры обесценивали идею перемен. Для анализа конфликтов это означало, что будет недооценена конфликтная динамика; для исследований о мире это означало, что не будет введено понятие прогресса. Не случайно, например, структуралисты определяли такие национальные государства, как ГДР и Советский Союз, как стабильные, со всеми вытекавшими из этого их политическими рекомендациями по отношению к этим странам, ибо они считали хорошо организованные и эффективно управляемые политические системы этих стран незыблемыми1. События показали, что структурная стабильность была сильно переоценена, а внутренние — и структурные — противоречия недооценены. С точки зрения дефиниции конфликта структурный анализ в своих поисках «совершенной» структуры упустил из виду воздействие конфликтных потенциалов.
Второй недостаток структурного анализа особенно проявился в анализе конфликтов и мира, когда стало ясно, что контроль над вооружениями не смог заполнить брешь между структурной необходимостью или требованием контроля над вооружениями и разоружения, с одной стороны, и политической неспособностью следовать такой объективной необходимости — с другой (хотя политические элиты — по крайней мере с 70-х годов — субъективно осознавали ее). Таким образом, структурный анализ сумел определить рамки конкретных политических действий, но не смог объяснить поведение конкретных актеров или политические модели. В то время как ограниченная объяснительная вариантность структурного анализа казалась терпимой при анализе «обычных» вопросов, она считалась неудовлетворительной в случаях, подобных конфликту Восток—Запад, с его потенциальным вариантом ядерной войны и всемирного самоубийства. Наконец, политические события 80-х годов возбудили дополнительные сомнения относительно действенности структурного подхода. Переломные политические события, например двойное нулевое решение в переговорах по ракетам средней дальности, мирная революция в ГДР и объединение Германии и, наконец, распад Советского Союза, казалось, демонстрировали, что в критических случаях структуры ломались намного легче и быстрее, чем предполагалось.
Напомним читателю политическую дилемму разрядки: с одной стороны, она была направлена на укрепление стабильности в отношении к восточному партнеру, чтобы контролировать военную конфронтацию и приступить к совместной политике, а с другой — она подрывала эту внутриполитическую стабильность благодаря своей концепции перемен, например через посредство прав человека и т.п.
32
Функциональный подход как будто бы преодолел концептуальные недостатки, оставшиеся от структурного анализа. Свойственные ему искания взаимосвязей различных факторов — и компонентов структур, — а также моделей взаимодействия на различных уровнях обобщения позволили сфокусировать внимание на динамике, диалектике преемственности и перемен, равно как и на прогрессе или регрессе, если ввести идею исторической зрелости.
Вследствие этого функциональный анализ, во-первых, подчеркивал функциональную взаимосвязь политики как деятельности (politics) и как отдельных мероприятий (policies), а также политических порядков. Для конфликтологии это означало введение анализа целей и средств, расчетов затрат, риска и выигрыша и применение концепций функциональной рациональности. Для исследований о мире это открыло дорогу для поисков функциональных эквивалентов насильственным конфликтным решениям и для идей позитивного мира, общей безопасности и динамики снижения напряженности. Во-вторых, функциональный анализ сосредоточился на проблеме той вариантности политического действия, которую не мог объяснить структурный анализ, т.е. каждодневной конкретной политической деятельности. Давая функционалистские объяснения проблемам, начиная от гонки вооружений до амбиций сверхбезопасности и советских ракет средней дальности, функциональный анализ обогатил и расширил структурный подход и оказался особенно ценным в деле объяснения и прогнозирования политических перемен.
Таким образом — особенно в европейских исследованиях о конфликтах и мире — структурно-функционалистский подход был разработан именно для преодоления ограничений структурного и функционального анализа путем их сочетания. И вновь концепция интересов показала свою ценность; она явилась недостающим звеном между структурами и актерами и дополнила анализ конфликтов подходом к взаимосвязанным потенциальному и манифестному конфликтам.
Подход к процессу принятия решений
В рамках этого брачного союза между структуралистами и функционалистами анализ принятия решений приобрел значимость для исследований о конфликтах и мире, особенно когда аналитики искали генезис конфликтов и вырабатывали их решения. Как упоминалось выше, потенциальный конфликт становится манифестным, когда актеры осознают несовместимость интересов.
Этот процесс осознания, определения проблемы, выбора вариантов и осуществления курса является в первую очередь делом политических элит, владеющих полномочиями на принятие таких 33
3- 1814
решений. Как концептуальная разновидность функционализма, подход к процессу принятия решений требует микроанализа ключевого шага в возникновении конфликта. Его релевантность становится очевидной не только при анализе представлений и заблуждений, включая лежащие в его основе исторические и функциональные модели, но и при изучении переговоров, столь важных для управления конфликтом и его урегулирования. Хотя исследования процесса принятия решений часто характеризуются тенденцией, связанной с вышеотмеченной проблемой уровня анализа — они недооценивают интерактивный характер конфликта и динамики разрешения конфликта и переоценивают компетентность, легитимность и свободу действия национального руководства, — подход к процессу принятия решений все же расширил структурно-функциональный анализ двояким образом: он определил принятие решений как процесс, в котором национальные интересы (следует напомнить читателю, что национальное государство все еще является доминирующим актером в международных отношениях и что правительствам национальных государств — если они хотят оставаться у власти — в первую очередь приходится искать внутреннюю, а не международную поддержку) операционализируются в политические действия в соответствии с некоторыми моделями, условиями и механизмами. Данный подход открыл пути для международного взаимодействия и особенно анализа переговоров. Во многих исследованиях по контролю над вооружениями особенно подчеркивались преимущества этого подхода в объяснительном плане; аналитикам конфликтов он показал генезис конкретных политических мероприятий, как, например, вооружение вообще и ядерное вооружение или разоружение в частности; исследователям мира он позволил воспользоваться идеей о рациональности-иррациональности при принятии решений, о различии между ценностно ориентированной политикой и политикой, ориентированной на интересы, и о развитии идей обучения миру в целях изменения моделей и структур конкретного процесса принятия решений.
Поведенческий подход
В то время как подход к процессу принятия решений имплицитно основан как на функциональном, так и на структурном анализе, поведенческий подход определенно является подвидом функционализма. Разработанный и почитаемый главным образом в США, он фокусировался на интерактивном аспекте формирования международных и внутристрановых конфликтов. Отражая долгую и своеобразную традицию, для которой характерна безотчетная неприязнь к критической теории и ценностно ориенти-
34
рованному анализу вообще, и определяя себя как альтернативу структуралистскому взгляду, поведенческий подход был отмечен тремя достижениями.
Во-первых, он обратил особое внимание на специфическую разновидность манифестного конфликта: конфликт без причин или конфликты, в которых различия интересов являются или становятся второстепенными, тогда как эскалация, интенсификация, расширение и дальнейшее пренебрежение нормами — т.е. конфликтное поведение — становятся доминирующими источниками их динамики. Когда структуралисты характеризуют подобный акцент как неспособность или нежелание бихевиористов выявлять скрытые интересы, им, тем не менее, приходится признать, что поведенческая динамика играет важную роль (во многих конфликтах) и обогащает как функциональный анализ, так и анализ, основанный на процессе принятия решений. И вновь югославский кризис служит примером того, как легко и быстро поведенческая динамика может возобладать над давно утвердившимися моделями и даже структурами.
Во-вторых, теории — или, вернее, теоремы — стимула и ответа, игры и системной динамики вызвали появление ряда интересных эмпирических исследований, таких, как системный анализ событий и ядерного сдерживания, а также подвели к началу моделирования. То, что в большинстве случаев в этих анализах недоставало необходимых теоретических пре- и пострефлексий, а результаты часто бывали наивными или тривиальными, не означает, что они не имели даже для структурно-функционального подхода некоторых полезных и стимулирующих функций.
В-третьих, эти бихевиористы благодаря своему увлечению манифестными действиями и потребностям моделирования собрали многочисленные данные, и это опять же не следует недооценивать в плане анализа конфликтов. Синхронические или диахронические, межнациональные или внутринациональные, специализирующиеся на видах деятельности или характеристиках, бихевиористы (в основном американские) выпускали справочники и сборники данных, включавшие предложения по их организации или классификации по измерениям и т.п., которые полезны даже для структуралистов. Они полезны не с точки зрения своих антитеоретических подходов или своей переоценки квантификации, но с точки зрения практического использования огромной базы данных. Однако тот факт, что все эти исследования и модели описывали, а не объясняли конфликты, что большая часть собранных данных и обобщений оказалась или теоретически, или эмпирически необоснованной и что даже методики причинного и имитационного моделирования не стали адекватными инструментами для серьезного политического консультирования, является 35
не только следствием имплицитных ограничений бихевиоризма. Если и конфликтолог, и исследователь мира погрузятся в детали этих работ, они внезапно столкнутся с фундаментальным отсутствием точных, надежных, правдивых и сравнимых данных и со столь же фундаментальным отсутствием точных понятий, а также с крайним недостатком методов для измерения, оценки и нахождения взаимосвязи между различными факторами, причинами, структурами или функциями, относящимися как к конфликту, так и к миру.
Методы
Исследования о конфликтах и о мире не только отражают общее развитие методологии в изучении международных отношений, но и рассматриваются как научные сферы, в которых подверглись дальнейшему развитию специфические методы. В соответствии с традиционным — и сомнительным — делением на качественный и количественный анализ исследования о конфликтах и о мире пошли в разных направлениях.
В 60-е и 70-е годы исследователи конфликтов часто стремились к применению и совершенствованию количественных методов, надеясь добиться фундаментального прорыва в анализах, ориентированных на точность, и рекомендациях рационального политического выбора. Увлеченные потенциалом новых методов обработки данных и апеллируя к бихевиористским традициям и открытию усовершенствованной методологии в общественных науках США, исследования о конфликтах стали одной из субдисциплин, в которой сгруппировались сторонники количественных методов. В этом отношении выдвинулось три количественных подхода. Для изучения ядерного сдерживания и тактики переговоров актера с актером применялась системная теория игр. Она пыталась объяснить важные аспекты конфликта Восток—Запад и заявляла о том, что предлагает рационализированные модели политической деятельности. Но, будучи глубоко укорененной в бихевиористской психологии, теория игр так и не избавилась от своего коренного методологического недостатка, который заключался в том, что теория игр не смогла совместить свои редукционистские рабочие методики с намного более сложной и динамичной политической реальностью. Компьютеризованный факторный анализ1 (как синхронический, так и диахронический) впервые позволил вести обработку данных в широких масштабах и создал “I
Типичным примером этого подхода и мышления, лежащего в его основе, является работа: Rummel R.J. Applied Factor Analysis. Evanston: Northwestern University Press, 1970.
36
ряд агрегаций данных всемирных конфликтов, определяющих «измерения» конфликтов. Описательное и причинное моделирование, основанное на различных статистических приемах, позволило (также благодаря применению компьютеров) проводить сложную и динамическую имитацию, которая была опять же призвана обеспечить не только политическое прогнозирование, но и детальные расчеты политической эффективности на единицу затрат и выбор вариантов.
В принципе такое моделирование и имитация казались перспективными: если бы можно было разработать обсчитанную модель национального государства, региона или комплекса взаимодействия и сымитировать различные гипотетические входные данные в модель, то стало бы возможным оптимизировать как образцы моделей, так и поведение актеров. Тем самым рационализация политики и разработка оптимального решения конфликта казались возможными. Но в действительности как надежность, так и правдивость моделей — от тех, что были использованы в исследованиях Римского клуба до более сложных, например GLOBUS, — страдали от значительных недочетов: пришлось ввести слишком много эмпирических, но недоказанных гипотез и допустить слишком много системных погрешностей. Как и в экономике, моделирование и имитация конфликтов в большей мере превратились в академическое приключение, чем в применимую науку. Непредвзятые читатели таких анализов после изучения их результатов чувствовали себя столь же запутавшимися, как и раньше, — только на более высоком уровне изощренности. В итоге количественный анализ не дал больше, чем его входные данные; и до тех пор пока эти входные данные вводились при большей частью бихевиористском понимании процессов и пока количественные аналитики сбрасывали со счетов подробные теоретические размышления как академическую лирику, эти методы не могли оправдать завышенных ожиданий тех, кто их применял.
Однако качественные исследования как о конфликтах, так и о мире превратились либо в высокоабстрактное теоретизирование о глобальном порядке, взаимосвязи между миром и войной и общем насильственном характере власти, либо в детальные исследования на конкретных примерах об отдельных аспектах конфликтов, например между Востоком и Западом или Севером и Югом, или об отдельных исторических и нынешних конфликтах. Авторов этих исследований не привлекала задача нахождения отсутствующего звена, т.е. обобщение эмпирических исследований отдельных казусов или поиски системных аспектов некоторых видов конфликта, некоторых групп актеров или некоторых порядков.
37
Сторонники критической теории мира либо шли по стопам европейских традиций критической теории, мало интересуясь эмпирической проверкой, либо как одержимые погружались в детали конкретного «несправедливого» случая, в котором надо было занять позицию одной из сторон. По понятным причинам поглощенные проблемами милитаризированного конфликта Восток—Запад, авторы, работавшие в области как конфликтологии, так и «реалистических» исследований о мире, сосредоточили внимание на вопросах гонки вооружений, распространении вооружений и сдерживании, пренебрегая конфликтами ниже этого порога, такими, как конфликты внутри и между обществами, ныне бушующие в Восточной Европе.
Исследования о конфликтах и мире: дисциплина на стадии младенчества
Таким образом, хотя исследования о конфликтах и о мире разработали серию общих идей по поводу определения и ряд общих подходов к изучению конфликтов, на более операциональном уровне они все еще находятся на младенческой стадии. Насилие не может быть адекватно измерено, а различные его формы не удается сопоставить друг с другом. Даже такие известные взгляды, насчет которых достигнут полный консенсус, как взаимосвязь между конфликтом и сотрудничеством, между экономикой и политикой или между экономическими и военными опорами власти, становятся сомнительными, когда мы хотим использовать их в эмпирических исследованиях. Еще более тревожит то, что увяла общетеоретическая дискуссия, шедшая в 70-е годы. Восьмидесятые годы принесли с собой множество казусных исследований, но не продолжение базисных теоретических или обобщающих работ. Исчезли даже горячие методологические дебаты 70-х годов между поборниками количественного и качественного анализа, вследствие чего вновь создалось гетто для первых из них, намеревавшихся перенести научные открытия, подобные тем, которые Ньютон и другие привнесли в механику, в общественные науки. В общем и целом исследования о конфликтах и о мире не только делают первые шаги, но и могут быть сравнимы с космической физикой: много накопленных знаний, но нет систематического ответа на вопросы. Хуже того, их изоляция друг от друга и интеллектуальный апартеид представляют собой плюрализм без последствий, но остается лишь то утешение, что никто не мешает спокойствию друг друга и все считают, что только они владеют истиной, хотя недовольны, что их не слушают другие.
Такая критическая оценка более чем двух десятилетий исследований о конфликтах и о мире не должна упускать из виду как 38
позитивные явления в прошлом, так и окно возможностей, создаваемое их нынешним интеллектуальным, а также политическим кризисом. В отдельных областях, большей частью не замеченных аналитиками основного течения, исследования о конфликтах и о мире принесли интересные и многообещающие результаты. В сфере контроля над вооружениями — несмотря на все теоретические и политические ограничения — можно отметить множество концепций, подходов, эмпирических результатов и ценных политических рекомендаций, которые имеют значение не только для продолжения контроля над вооружениями, разоружения и мер укрепления военного доверия между Востоком и Западом, но и во многих других регионах, например на Ближнем Востоке, Центральной Америке и Дальнем Востоке, где операциональные концепции демилитаризации редки, хотя политическая воля к продвижению мирного процесса уже наметилась. В области исследований разрядки реполитизация международных отношений не только привела к появлению важных и всесторонних анализов и политических «больших стратегий», но часто способствовала политическому прогрессу. Это опя*й> же имело значение не только для европейского мирного строительства, но и стало важным ориентиром для неевропейской регионализации1. Кроме того и несмотря на многие свои проблемы, исследования Север—Юг способствовали определению стратегий позитивного мира в том, что касается современной концепции интегрированного развития. И вновь это имеет ограниченное общее, но большое частное значение. Таким образом, существует ряд областей, вопросов и тем, в которых исследования о конфликтах и о мире накопили элементы, на базе которых можно ожидать оживления всестороннего или «большого» анализа.
В связи с нынешними терзаниями исследователей конфликтов и мира по поводу проблем Югославии, Сомали, бывшего Советского Союза и других текущих милитаризованных конфликтов, существующий в наши дни кризис легитимности и компетентности исследований о конфликтах и мире, их способности внести лепту в политическое решение подобных проблем можно рассматривать как окно возможностей для переоценки прошлых и нынешних концепций, методов и результатов, чтобы вновь оживить и новаторски реорганизовать эту особую дисциплину. Обращение к прошлому, к взаимосвязи между реализмом и идеализмом и к роли политической науки для общества и в обществе, покой которого все еще тревожит объективно ненужное насилие и в “1
См., например, попытки усвоить уроки процесса ОБСЕ применительно к Центральной Америке, ОАЕ, Ближнем Востоку, а в последнее время — к АСЕАН и Дальнем Востоку.
39
котором можно было бы достигнуть гораздо более высокого уровня негативного и позитивного мира впридачу к большей и «более дешевой» безопасности, может способствовать подобному новаторству. Однако такой аналитический и политический прогресс требует не только самокритичной оценки дисциплины в целом и ее организации, но и возврата к более общему, всестороннему и целостному теоретическому подходу. Старые и новые требования к политологии, и особенно к сегодняшним исследованиям о конфликтах и о мире, состоят не столько в накоплении данных, подробном изучении отдельных стран, намеренном или нечаянном академическом изоляционизме и т.п., сколько в нахождении всестороннего ответа, интегрирующего реализм и идеализм, прошлые и будущие результаты в различных областях и дисциплинах и политический анализ со здравыми, законосообразными и рациональными предложениями о более оптимальных политических шагах и действиях.
Родольфо Раджонъери
СТРУКТУРА СИСТЕМЫ И ДИНАМИКА КОНФЛИКТОВ1
В эпоху «холодной войны» представлялось очевидным рассматривать локальные и региональные конфликты в контексте биполярной структуры более широкой международной системы. В нынешней ситуации характеристика международной системы уже с трудом укладывается в рамки простой теоретической модели. Тем не менее невозможно заниматься проблемой конфликтов в Европе без оглядки на структуру международной системы. Здесь мы берем во внимание общую структуру системы. Революции в странах Центральной и Восточной Европы и дезинтеграция Советского Союза дали толчок выдвижению множества гипотез по этому поводу. В настоящей статье мы рассмотрим четыре из них:
— гипотезу «однополярности»;
— тезис многополярности, т.е. нового баланса сил;
— тенденцию к формам мирового правления, или росту значения международных организаций2;
— «столкновение цивилизаций».
Однополярность
Тезис об однополярности находит наиболее яркое подтверждение в подавляющем военном превосходстве США над всеми другими государствами или возможными коалициями государств, а также в размерах и степени независимости их национальной экономики: ближайшие конкуренты, такие, как Япония и Германия, находятся в сильной зависимости от внешних энергетических ресурсов. Оба эти фактора могли бы вывести США в фактические лидеры новой международной системы. По мнению Чарлза Кра- утхаммера3, сложность нынешней международной системы и “1
Статья представляет собой слегка переработанную версию работы, написанную в рамках второго этапа научно-исследовательского проекта «Европейская безопасность в 1990-х годах», организованного Форумом по проблемам мира и войны (Флоренция).
2
Эти три гипотезы соответствуют трем типам международной системы (иерархическая система, баланс сил, универсальная система) из шести, рассматриваемых М. Капланом. См.: Kaplan М. System and Process in International Politics. New York: Wiley, 1958. P. 21—53.
3
Cm.: Krauthammer Ch. The Unipolar Moment // Foreign Affairs. Vol. 70. No. 1 (America and the World 1990—91). P. 23—33.
41
очевидная неоднородность ее участников с точки зрения ценностей, стандартов поведения и целей оставляют нам только две возможности — однополярность или хаос.
Сторонники и критики глобальной гегемонии США полагали, что война в Персидском заливе предоставила неопровержимые доказательства их точки зрения. Казалось, что лидерство США, проявленное в период этого кризиса и военных действий, станет моделью нового управления мировой системой. Этот анализ совершенно не учитывал хитросплетение региональных и глобальных интересов, которое и сделало возможным интервенцию и войну против Ирака. Более того, казалось, что настал момент для претворения в жизнь предложения президента Джорджа Буша о «новом мировом порядке», который следовало построить на гегемонии США и в институциональных рамках ООН. Следующий шаг в этом направлении, как представлялось, был воплощен в планах Пентагона по выработке военной стратегии США после окончания «холодной войны», стратегии, нацеленной на то, чтобы не допустить возникновения какой-либо новой военной державы, способной оспаривать первенство США.
Реальность международной политики сегодня доказала необоснованность этих предположений. Политика США в югославском кризисе с достаточной очевидностью продемонстрировала, что реальная роль лидера в мировых делах им не по плечу: США осуществили открытое военное вмешательство на Балканах только тогда, когда проблемы, которые могли бы быть связаны с войной на суше, были в основном сняты хорватско-боснийским наступлением летом 1995 г. (проведенным при поддержке США) и когда военная интервенция сил США и НАТО могла в сравнительно короткие сроки придать ситуации некоторую определенность с хорошими перспективами дипломатического разрешения конфликта. В общем, представляется, что США не имеют ни желания, ни реальных сил, чтобы эффективно справляться с управлением международной системой и решать ее самые горячие вопросы. Это связано с уменьшающейся относительной ролью США, и тот факт, что они являются наиболее мощной военной державой и единственной мировой сверхдержавой, не подразумевает автоматически их способности и готовности править международной системой.
Баланс сил
Этот неореалистический прогноз эволюции международной системы предполагает возрождение национальных государств, невзирая на все пророчества об их упадке. В своей экстремальной версии он рассматривает возрождение старой модели силовой 42
политики в Европе и мире1 2. Более поздние (и менее жесткие) аналитические прогнозы, используя исторические аналогии и неореалистические теории, предполагают выдвижение Японии (и, возможно, Германии) в качестве мировых держав. Это изменение расстановки сил в международной системе повлечет за собой создание многополярной структуры военного баланса сил. В таком мире нельзя не принимать во внимание возможность войн, даже если кажется вероятным, что «конфликт между великими державами разыдэается скорее на экономическом, а не на военном поле действий» .
Многополярная структура в прямом смысле этого слова, т.е. многополярный баланс сил, вряд ли адекватно отражает существующую ныне международную систему. Семь основных экономических держав решают — или пытаются решать — свои проблемы на саммитах Большой семерки. Этот факт, однако, не означает, что существует «мировое правление», так как по многим общим вопросам и по вопросам региональных конфликтов державы, во-первых, не приходят к согласию, а во-вторых, не способны претворять в жизнь решения на любом уровне. Тем не менее глобального геополитического соперничества в настоящее время, видимо, не намечается. Так, представляется маловероятным, что произойдет процесс эскалации, аналогичный тому, который привел к Первой мировой войне.
Институциональная гипотеза
Согласно данному прогнозу, международные организации в будущем будут иметь все большее значение, и это воспрепятствует возрождению силового соперничества, способному дать толчок новому витку гонки вооружений и глобальным конфликтам. Здесь принимались во внимание различные гипотезы. Например, Ричард Роузкранс предложил «новое Согласие» держав (Concert of Powers), т.е. коалицию крупнейших экономических и военных держав с широкими договоренностями по идеологическим и политическим принципам; участники коалиции будут стараться привлечь на свою сторону более мелкие страны, не могущие в комплексе уравновесить собой эту группу3.
“I
См.: Mearsheimer J. Back to the Future: Instability in Europe After the Cold War // International Security. Vol. 15. No. 1 (Summer 1990). P. 5—56.
2
Layne C. The Unipolar Illusion // International Security. Vol. 17. No. 4 (Spring 1993).
3
Cm.: Rosecrance R. A New Concert of Powers // Foreign Affairs. Vol. 71. No. 2 (Spring 1992). P. 64—82.
43
Те ученые, которые сосредоточивают свое внимание на повышении роли международных организаций, скорее высказывают свои надежды и предложения, чем дают убедительный анализ сложившейся международной системы. Тем не менее имеющаяся сеть международных организаций делает неразумным для государств возвращение к чистой политике силы, как предполагают теоретики-реалисты. Такой подход, хотя он и не пренебрегает возможными негативными последствиями изменений в международной системе, делает акцент на важную роль международных организаций в уменьшении неопределенности на мировой арене путем стабилизации ожиданий сторон и, таким образом, укрепления сотрудничества между ними. Другими словами, основная роль организаций — это смягчение логики «дилеммы безопасности», которая, по мнению реалистов, пронизывает собой международные отношения.
Столкновение цивилизаций
Эту гипотезу выдвинул Сэмюэл Хантингтон1, и она скорее применима к конфликтам в международной системе, чем к ее структуре. Согласно этой гипотезе, в ближайшие годы основным источником конфликтов будет столкновение культур. Это исходное предположение не означает, что родство цивилизаций целиком заменит другие «родственные связи» или что цивилизации станут единственными действующими силами на международной арене. Тем не менее, по Хантингтону, два фактора здесь наиболее существенны. Во-первых, представители разных цивилизаций имеют различные воззрения на базовые связи и отношения (Бог — личность, личность — общество и т.д.) и эти различия не исчезнут легко и быстро. Во-вторых, растущие взаимосвязи, значительно облегчившиеся в современном мире, усиливают осознание собственной цивилизации и ее отличие от других. Благодаря этим двум факторам установки, способные разжечь конфликт, разрастаются быстрее, чем могут быть созданы механизмы регулирования и разрешения конфликтов, нацеленные на их сдерживание, по крайней мере в краткосрочной перспективе2.
—1
См.: Huntington S. The Clash of Civilizations // Foreign Affairs. Vol. 72. No. 3 (Summer 1993). P. 22—49. Критику гипотезы Хантингтона см.: Ajami F. The Summoning // Foreign Affairs. Vol. 72. No. 4 (September/October 1993). P. 2—9.
2
Сходная точка зрения, хотя и с совершенно другой исходной позиции, представлена Йоханом Гальтунгом (см.: Galtung J. Western Civilization: Anatomy and Pathology // Alternative. Vol. 7. No. 2 (Fall 1981). P. 145—170).
44
Слабая сторона этой гипотезы, хотя и побуждающая к размышлению, — это чрезмерная сплоченность, которую она, по всей видимости, приписывает цивилизациям. Например, критики отмечают большое количество внутренних делений в исламе. Более того, идея глобальной конфронтации между (гипотетическим) конфуцианско-исламским блоком и Западом имеет серьезный недостаток не только потому, что с трудом можно рассматривать эти цивилизации как интегрирующие — каковыми были идеологии в течение нынешнего столетия, — но и по двум другим причинам. Во-первых, «доказательства», которые приводит Хантингтон (военное сотрудничество, общие позиции в международных организациях и форумах), можно использовать для подтверждения наличия массы различных гипотетических союзов в международной системе. Во-вторых, выбор конфронтационной установки, подсказанный подобными идеями, может стать самоосуществляющимся, так как может противопоставить даже не желающих того «конфуцианских» и «исламских» деятелей Европе и США. Условные гипотезы, типологии и конструкции будущей идеальной международной системы должны быть сопоставлены с определенными характеристиками существующего мира, которые не были должным образом учтены авторами классических трудов по международным отношениям. В настоящее время нам необходимо более тщательно учесть различные формы сил и осложняющие факторы.
Различные формы сил и их неравномерное распределение
Случаи, когда экономически сильная держава обладала незначительной военной силой, в истории весьма редки. Даже Венецианская республика и Соединенные провинции Нидерландов были вынуждены так или иначе создавать и поддерживать необходимую армию для защиты своих экономических интересов. Напротив, случаи, когда великая военная держава имела сравнительно слабую экономическую базу, встречались чаще. Когда война считалась нормальным (и часто наиболее эффективным) средством разрешения межгосударственных противоречий и споров, считалось также логичным «приспосабливать» военную мощь таким образом, чтобы дать политическим и экономическим устремлениям надлежащие средства их осуществления.
Оценить перспективы основных держав (кроме США) трудно. В то время как в прошлые века укрепление военной машины считалось одной из обычных прерогатив держав, в настоящее время легитимность подобных средств подвергается почти повсеместному сомнению. Много говорилось и о восстановлении законности военных действий как средства разрешения международ45
ных споров (война в Персидском заливе и в бывшей Югославии). Я, скорее, склонен считать, что для западных держав война приемлема только в том случае, если фактически боевые действия не ведутся, и это доказывает тот факт, что даже крупный контингент сил ООН, находившийся в Боснии-Герцеговине, не вмешался в события, что общества с развитой демократией и высоким уровнем жизни не допускают возможности больших потерь в личном составе. Таким образом, в настоящий момент процесс широкомасштабной гонки вооружений воспринимается как несущий гораздо большую угрозу и приносящий гораздо меньше плодов, чем в прошлом. Вывод: представляется, что ведущие экономические державы гораздо меньше заинтересованы в том, чтобы тратить соответствующую часть своего бюджета на создание значительных вооруженных сил, чем то было раньше. Поэтому трудно говорить о соответствующем «балансе сил». Напротив, представляется вполне вероятным, что различные формы сил и в дальнейшем будут распределяться неравномерно.
Сложность и неоднородность международной системы
Если мы хотим использовать модель баланса сил, то следующая трудность, с которой мы столкнемся, — это растущая неоднородность международной системы. Во-первых, нельзя пройти мимо самого факта увеличения числа ее участников. В международной системе золотого века баланса сил было примерно пять держав и небольшое число второстепенных участников. Сейчас число основных участников около десяти. Более того, необходимо принимать во внимание и их культурную неоднородность. В век исторических балансов сил (Италия XV в. или крупные европейские державы в период от подписания Вестфальского мира до Первой мировой войны) действующие лица на мировой арене отличались высокой степенью однородности культуры. Этот аспект был четко выделен классическими мыслителями-реалистами, такими, как Раймон Арон и Ганс Дж. Моргентау1. В настоящее время, несмотря на риторику о «мировой деревне» и нивелирующую силу международных средств массовой информации, весьма сомнительно, что крупные и средние державы разделяют общие ценности и цели. Этот важный момент был отмечен в статье Хантингтона, несмотря на его чрезмерный детерминизм при определении линий раздела между цивилизациями и конфликтных тенденций в мировой политике. Следующий аспект сложности нынешней мировой системы — это возможные претенденты на роль ниспро-
“I
См.: Morgenthau Н. Politics Among Nations. The Struggle For Power and Peace (6th ed.). New York: Knopf, 1985. P. 233—240.
46
вергателей мирового порядка. В XIX и XX вв. они всегда были из европейских стран. Несмотря на этот факт, попытка национал-социалистической Германии навязать миру новый порядок, нарушающий общепринятые принципы мировой политики, вызвала всеобщую войну, после того как межвоенная дипломатия и попытки мирного урегулирования оказались несостоятельными.
В нынешней ситуации сторона, оспаривающая фактическую расстановку экономических и военных сил, может использовать стратегию Хомейни или Саддама1, т.е. либо отстаивать свою абсолютную «инакость» с точки зрения культуры и норм межгосударственного поведения, как Хомейни, либо пытаться бросить вызов военно-политической гегемонии крупнейших держав в стратегически жизненно важных регионах, как Саддам Хусейн. Еще одна угроза, обусловленная различием культур, связана с массовой миграцией населения стран «третьего мира» в развитые страны. В то время как второй фактор можно рассматривать с точки зрения реалистической традиции, «хомейнистский» и иммиграционный сценарии не вписываются в рамки традиционных теорий международных отношений, вращающихся вокруг государственного суверенитета.
Еще одна характерная черта современной международной системы, обусловливающая ее сложность, — это так называемая регионализация системы2 3. Это прежде всего означает дробление глобальных структур безопасности, характерных для эпохи «холодной войны» . Согласно этой гипотезе, мы имеем «центральную коалицию» государств, которые не чувствуют угрозы со стороны других государств. В эту коалицию входят страны Атлантического сообщества (НАТО) и Япония, не испытывающие реальной угрозы со стороны других государств, даже тех, которые не входят в коалицию. Региональные подсистемы, такие, как Ближний Восток или СНГ, лишь частично связаны с этим центральным регионом: в отличие от периода «холодной войны» представления о безопасности основных участников международной системы не оказывают непосредственного воздействия на модели безопасности и конфликтов в периферийных подсистемах.
“1
См.: Wallerstein I. The World System After The Cold War // Journal of Peace Research. Vol. 30. No. 1 (February 1993). P. 1—6.
2
Cm.: Buzan B. The Interdependence of Security and Economic Issues, в: New World Order // Stubbs R. , Underhill G. Political Economy and the Changing Global Order. London: Macmillan, 1994. P. 89—102.
3
Интересно, что «структура безопасности», согласно этой гипотезе, идет к раздроблению, регионализации, в то время как структура производства, финансов и знаний подвержена усиливающемуся процессу глобализации.
47
Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что транснациональная взаимозависимость, различные виды сил и сложность международной системы делают определение сил и интересов, равно как и вытекающие из этого прогнозы, гораздо менее надежными, чем в прошлом. Государствам—участникам международной системы становится все труднее четко отграничить свои собственные интересы от интересов других участников (как государств, так и не государств). Например, судьбы Германии и Франции внутри ЕС настолько сильно взаимосвязаны, что Бундесбанк защищает французский франк так, как если бы это была германская денежная единица. Это вовсе не означает, что так называемая франко-германская ось останется стабильной, несмотря на любые пертурбации, но пересмотр германской или французской внешней политики с точки зрения чисто национальных интересов, вероятно, стоил бы очень дорого1.
Более того, приведенные выше факторы делают невозможным возврат в мир абсолютных суверенитетов. Даже если такой мир когда-то и существовал, представляется маловероятным вновь вернуться в него.
Если посмотреть на ситуацию более реалистично, то можно ожидать сочетания роста значения международных организаций и взаимодействия балансов различных типов сил2. В этом мире дифференцированных сил порождающий конфликты разнобой ценностей делает прогнозы и оценки кризисов и конфликтов все более трудным и тонким делом.
Динамика конфликтов
Утверждение, что развал коммунизма и перемены в международной системе открыли новую фазу конфликтов, ожесточенность и длительность которых не смогло предвидеть большинство ученых и политиков, стало почти трюизмом. Динамика конфликтов в бывших коммунистических странах вскрывает характерный механизм позитивной обратной связи между локальными причинами и изменениями в международной системе. Выше мы уже в общих чертах показали, как социальные и политиНе следует забывать, что слово «необратимый» не означает, что «нечто нельзя повернуть вспять или отменить»: в классической термодинамике трансформация называется необратимой, если обратная трансформация невозможна в изолированной системе. Степень энтропии не уменьшается в изолированной системе, но может уменьшаться в системах, которые не являются изолированными!
2
См.: Nye J. What New World Order // Foreign Affairs. Vol. 71. No. 2 (Spring 1992). P. 83—96.
48
ческие структуры явились причиной этнических конфликтов в странах Восточной Европы и бывшем Советском Союзе. Даже если эти конфликты и не были инициирующим фактором окончательного кризиса коммунизма, после них этот кризис приобрел уже необратимый характер. В свою очередь ослабление советского контроля в Восточной Европе, распад самого Советского Союза и последующее падение биполярной системы уничтожили те факторы, которые сдерживали конфликтное поведение. В бывшем советском блоке таким фактором был фактический и прямой контроль, в то время как в Югославии мы столкнулись с последствиями как идеологического крушения коммунизма, так и исчезновения внешней угрозы — советской военной мощи, которая в большой степени предопределяла югославскую внешнюю политику и политику безопасности после Второй мировой войны и, возможно, была одной из причин сохранения национального единства1.
Все еще неопределенная структура международной системы, вкратце описанная в предыдущем параграфе, стала еще одним фактором, способствующим неразберихе. Если рассмотреть идеальные типы международной системы, кратко описанные выше, нетрудно понять, что осознание возможности преобладания во внешней политике главных участников международной системы неопределенности и/или ренационализации внешней политики толкает остальных участников к более рискованному поведению. Когда Саддам Хусейн решил оккупировать Кувейт, он рассчитывал на то, что США, крупнейшие европейские державы и его противники в арабском мире не создадут коалицию против него. В данном случае он недооценил гегемонию США и осознание угрозы, вызванное его политикой. Возможно, на то же рассчитывала националистическая (бывшая коммунистическая) верхушка в Белграде. Во втором случае прогноз оказался ближе к действительности еще и из-за серьезного несовпадения интересов и традиционных установок внутри союза западных стран, а также особой и более активной роли России. В любом случае различные представления о структуре международной системы способствовали возникновению конфликта, а возможно, и его эскалации. Если сравнить представления сербской элиты с представлениями элит Словении, Хорватии или мусульманской общины БосПосле столкновений в Косово в 1 991 г., Стане Доланц, член президиума правящей партии от Словении, заявил журналистам, что народы Югославии могут воевать друг с другом, но в случае нападения противника извне они будут противостоять ему все как один. Один из журналистов поинтересовался, что будет, если нападения извне не случится. См.: Pirjevec J. Il giorno di San Vito. Jugoslavia 1918—1992. Torino: Nuova ERI, 1993.
49
4 1814
нии-Герцеговины, можно сделать вывод, что в Белграде международную систему рассматривали с точки зрения «структурной анархии», в то время как вышедшие из союза республики, может быть, переоценили либо однополярную, либо институциональную тенденции.
Неопределенность анализа структуры международной системы затрудняет также оценку конкретных рисков горизонтальной эскалации, т.е. распространения локального конфликта на участников, не вовлеченных в него в настоящий момент. Некоторые аналитики выражают серьезные сомнения в вероятности эскалации конфликта из-за отсутствия «эффекта стервятника». Это означает, что ни одно государство не заинтересовано либо не имеет возможности достичь преимущества от вмешательства в эти конфликты, а основные державы не имеют на Балканах жизненно важных интересов. В этом заключается существенное отличие от периода, предшествовавшего Первой мировой войне, которое делает краткосрочный риск эскалации конфликта менее вероятным, чем в 1914 г., и этим объясняется тот факт, что проводить параллели между Сараево 1914 г. и Сараево 1992 г. вряд ли уместно.
Если более пристально всмотреться в структуру конфликтов, причина этого отличия станет очевидной. Чтобы прояснить свою точку зрения, я рассмотрю «концентрические круги» участников нынешнего конфликта на Балканах1. Внутренний круг участников состоит из государств, попавших в ловушку разногласий и конфликтов, истоки которых лежат в распаде бывшей Югославии (Албания, Босния-Герцеговина, Болгария, Хорватия, бывшая югославская республика Македония, Греция и новая Югославия). Во второй круг участников входят те государства, которые имеют какие-то важные интересы (проблемы национальных меньшинств, споры о границах, проблемы беженцев и т.д.) во внутреннем регионе (Австрия, Венгрия, Италия, Молдова, Румыния, Словения). Наконец, внешний круг участников состоит из государств, которые либо преследуют в регионе собственные интересы (дипломатические, политические, военные, экономические), либо способны сыграть там существенную роль (Франция, ФРГ, Великобритания, Российская Федерация, США).
Если мы рассмотрим диаду Австро-Венгрия — Сербия, давшую начало конфликта в июле 1914 г., структурное отличие от нынешней ситуации станет очевидным: великая держава, находящаяся в стадии упадка (Австро-Венгрия) в союзе с растущей державой, “1
См.: Bozzo L., Ragionieri R. Regional Security in the Balkans and the Role of Turkey: An Italian Perspective // The Southeast European Yearbook 1992. Athens: Hellenic Foundation for Defense and Foreign Policy, 1993. P. 11—41.
50
претендующей на изменение мирового порядка (Германия), была непосредственно вовлечена в конфликт; с другой стороны, Сербия была связана с Россией, а через нее с Францией и Великобританией, гегемония которой была близка к закату.
Не так было в случае конфликта, происшедшего вследствие распада Югославии, даже если бы можно было усмотреть здесь четкие коалиционные модели. Более того, вряд ли возможно увидеть модель образца 1 914 г. и в других конфликтах в Центральной и Восточной Европе, как на Балканах, так и в СНГ. Так, горизонтальная эскалация конфликтов в этих регионах расценивается как маловероятная, по крайней мере в кратко- и среднесрочной перспективе. Тем не менее было бы заблуждением заключать из этого, что эти проблемы носят только локальный характер и что они не представляют угрозы общеевропейской безопасности. Напротив, необходимо учитывать следующие факторы:
а) экономические и социальные проблемы;
б) распространение «локальных» конфликтов;
в) беженцы;
г) угроза подрыва доверия к европейским институтам, а следовательно, и стабильности существующей институциональной и структурной конфигурации европейской безопасности.
В начале 90-х годов XX в. можно было думать, что все перечисленные факторы могут оказаться смертельно переплетенными в кошмарном сценарии примерно следующего содержания. Экономические и социальные проблемы, а также свобода эмиграции, с одной стороны, войны и даже страх перед возникновением новых силовых конфликтов — с другой, вызывают рост эмиграционного потока на Запад из стран Центральной и Восточной Европы и СНГ. Больше того, нельзя забывать, что иммиграция из Магриба, Египта и Сахельской Африки не уменьшается. Это внешнее давление вкупе с экономическим кризисом в Западной Европе (никоим образом не облегченным процессом объединения Германии) вызывает к жизни протекционистскую и ограничительную иммиграционную политику, имеющую обратную связь с экономическими и социальными условиями в странах Центральной и Восточной Европы и СНГ. В то же время серьезные проблемы, с которыми сталкиваются международные организации в своем стремлении эффективно влиять на возникающие конфликты, приводят к обострению кризиса этих институтов. В частности, процесс политической интеграции в Европе из-за перечисленных трудностей зашел в тупик и, кажется, застопорился. Более того, так называемый процесс ренационализации западно51
4*
европейской внешней политики, т.е. попытка пересмотреть свою внешнюю политику и вести ее с позиции чисто национальных интересов, подпитывается двумя вышеуказанными процессами (миграциями и тупиком европейской политической интеграции). Нетрудно увидеть, что для Германии нестабильность в странах Центральной и Восточной Европы и европейской части СНГ представляет гораздо более непосредственную угрозу. Таким образом, активная экономическая роль Германии в бывших коммунистических странах соответствует интересам безопасности Германии даже в краткосрочном плане (ослабление миграционного давления и понижение вероятности конфликтов), в то же время эта роль может вызвать подозрения в том, что Германия вновь собирается играть первую скрипку в европейской политике (динамика дилеммы безопасности).
Подозрения и расхождения ближайших интересов могут усилить тенденции к ренационализации внешней политики и политики безопасности и, соответственно, стагнацию или даже откат назад процесса европейской интеграции. При худшем — или по крайней мере неблагоприятном — развитии событий мы можем столкнуться с двумя последствиями:
а) станет почти невозможно остановить или даже контролировать горизонтальную эскалацию насилия;
б) мало-помалу политика силы и идеи о международных отношениях как играх с нулевым знаменателем могут усилиться с соответствующим ослаблением роли посредничества или сотрудничества в международных институтах.
Тем не менее не далее чем в 1996 г. война в Боснии-Герцего- вине, хотя и чрезвычайно кровопролитная, была впервые ограничена в масштабах, а затем, по крайней мере временно, остановлена. Более того, другие возможные насильственные конфликты не разразились. Несомненно, важным фактором здесь был негативный пример войны во всей бывшей Югославии. Ни отделение, ни крайний национализм, казалось, не сулили заманчивых альтернатив. Окончательная победа Хорватии была достигнута весьма высокой ценой, а сербская элита не смогла достигнуть своих главных целей. К тому же все вовлеченные в войну стороны оказались — по крайней мере формально — в международной изоляции. Наряду с воздействием этого предостерегающего примера экономическая ситуация (относительно более благоприятная, чем мог предсказать наиболее пессимистично настроенный ум) и политическая стабилизация способствовали тому, что динамика как возникновения, так и эскалации конфликтов пошла на спад. Связи с Западом и его институтами, Европейским союзом и, в ряде случаев, с НАТО теперь привлекают восточноевропейские и Балканские страны гораздо сильнее, чем национализм. Это 52
также вызвано устойчивостью международных, и в особенности европейских, институтов. Эволюция этих институтов шла не по оптимальному пути, но они не утратили своего значения, как это предсказывали иные реалисты.
Это не означает, что существующая международная система — и европейская подсистема в особенности — является абсолютно стабильной и что сценарий эскалации полностью исключен. Тем не менее перспективы после происшедших в международной системе перемен кажутся не такими мрачными, какими они были пару лет назад.
II. РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА В УРЕГУЛИРОВАНИИ ЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ
В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ И ЕВРАЗИИ
Эндрю Линклейтер
К ПОСТСУВЕРЕННОМУ ПОЛИТИЧЕСКОМУ ПРОСТРАНСТВУ?1
Долгосрочные тенденции к глобальным изменениям, вкупе с недавними потрясениями в Восточной Европе и бывшем СССР, трансформируют политические объединения во всем мире. Процесс глобализации привел к сокращению независимых суверенных государств. Способность национальных сообществ определять темп и направление политических изменений внутри страны и в мире в целом упала. Все больше национальных государств (nation-states) признают необходимость создания более сильных международных институтов — региональных и общемировых. Широкомасштабная миграция превращает сравнительно однородные общества в более сложные полиэтнические общества, испытывающие мощное давление со стороны тех, кто требует считаться с культурным многообразием. Проблемы, создаваемые этническими группами на субнациональном уровне даже в сравнительно однородных государствах Западной Европы, привели к требованиям обеспечить большую политическую автономию на местах. Под действием процессов глобализации и национальной фрагментации, одновременно идущих во всем мире, возникли новые важные вопросы о будущем политического сообщества.
Вызов, бросаемый этими силами, колоссален, хотя выразить его можно просто: это проблема создания новых форм сообществ и гражданства в век глобализации. Рассмотрение альтернативных форм сообщества и гражданства стирает различия между исследованиями международных отношений и изучением внутренней политики и требует новых форм социального и политического анализа. До сих пор политология занималась осмыслением форм “I
Эта статья опубликована на английском языке в: S. Kimak (ed.). The State and Global Politics. Vol. 2 (International Relations). New Delhi. 1995. Она представляет собой расширенный вариант . статьи под названием: Community, Citizenship and Global Politics // Oxford International Review. 1993. No. 5. P. 4—7. Некоторые из ее тем развиваются в работе: Political Community // Danchev A. (ed.). Fin de Siecle: The Meaning of the Twentieth Century. London, 1995.
54
политических связей внутри замкнутых сообществ, а наука о международных отношениях — способами взаимодействия этих замкнутых сообществ друг с другом. Фундаментальный вопрос о том, как возникает эта замкнутость и как она изменяется во времени, не исследовала ни та ни другая наука1. Не было и достаточно глубоких исследований природы социальных связей, одновременно объединяющих членов общества и отделяющих их от всего остального мира. В контексте глобализации и дробления наций природа этой социальной связи стала центральной проблемой социально-политического анализа.
Такой способ анализа меняет традиционное отношение между политологией и наукой о международных отношениях. Слишком часто эти две области исследования считались непересекающими- ся. Исследователи часто считали, что нормой внутриполитической жизни является тесное сотрудничество — там существуют безопасность и доверие, а нормой межгосударственных отношений является потенциальная конфликтность — там нет безопасности и господствует принцип «каждый за себя». Нормативный анализ вопроса о том, как лучше организовать общество, имеет в политологии длительную историю. А в науке о международных отношениях нормативный анализ, отвечающий на вопрос, как сделать отношения между отдельными государствами более справедливыми, считался занятием утопическим и второстепенным по сравнению с главной задачей — объяснять мир, как он есть. Нормативные исследования стали центральными для науки о международных отношениях, когда аналитики заметили, что контраст между национальным сообществом и межнациональной анархией проведен слишком резко. Вопросы о возможности лучших форм политического сообщества и гражданства обычно ограничивались сферой внутренней политики. Но в современном мире эти вопросы на наших глазах возникают на уровне международной политики и затрагивают судьбы человечества в целом.
Исследования международных отношений медленно освобождались от прежних представлений о неизменности мировой политики. Неудивительно, что в промежутке между двумя войнами и в эпоху «холодной войны» эта дисциплина сосредоточилась на стратегическом соревновании, хотя даже тогда нормативным вопросам международной политической жизни уделялось гораздо меньше внимания, чем они заслуживали. Конфликты эпохи, наступившей после «холодной войны», показывают, что многие из тем, исследовавшихся реалистами, сохраняют свое важное значение.
“I
См.: Devetak R. Incomplete States: The Theory and Practice of Statecraft // Macmillan G., Linklater A. (eds.). Boundaries in Question: New Directions in International Relations. London, 1995.
55
Однако их концепция дискретного мира, основанного на отношениях между отдельными унитарными государствами, уже неприемлема, как и их вера в то, что этот мир неизменен и застрахован от фундаментальных политических перемен.
Эти аксиомы уже не годятся, потому что изменениям подверглась традиционная основная единица международных отношений — суверенное национальное государство. Во многих национальных государствах на карту поставлены сами принципы политической жизни — этнические группы и группы мигрантов оспаривают господствующие представления о природе и целях политического сообщества. Политика культурной и религиозной идентичности рождает новые вызовы для политических сообществ, а ксенофобия создает новые угрозы для политической стабильности. Под давлением различных конкурирующих между собой сил, порожденным процессом глобализации, все общества вынуждены рассматривать новые принципы мировой политики, пригодные, помимо всего прочего, для решения глобальных экологических и экономических вызовов. Возникает новая проблема: как может приверженность этнической или религиозной группе уживаться с космополитизмом в современную эпоху? Чтобы противостоять сужению политических горизонтов, столь очевидному во многих частях мира, космополитические умонастроения нуждаются в здоровой защите; но космополитизм не следует противопоставлять попыткам субнациональных групп и групп мигрантов по-новому переписать общественный договор (contrat social) с национальным государством. Одновременное действие факторов глобализации и раздробленности требует новых моделей политической организации и новых концепций политического сообщества, которые установят равновесие между приверженностью к этническим и религиозным общинам и космополитическим идеалом. Чтобы заново определить отношения между субнациональными, национальным и транснациональным измерениями человеческого существования, нужны новые концепции гражданства.
Переосмысление понятия о государстве
Многие из традиционных подходов к международным отношениям не могут справиться с этой проблемой. Некоторые из них — например, неореализм — рассматривают государство просто как данность; на самом деле теория государства в них просто отсутствует. Неореализм исходит из того, что мир разделен на замкнутые общины, и анализирует их якобы неизменную борьбу между собой за безопасность и власть. Наиболее выпукло этот подход сформулирован в «Теории международной политики» К. Уолца, в 56
которой доказывается, что международная анархия заставляет все государства действовать удивительно схожим образом1. Самый убедительный контраргумент на это утверждение состоит в том, что эта анархия вовсе не обрекает государства на бесконечное участие в конкуренции и конфликтах и не исключает возможности фундаментальных изменений в международных отношениях. На отсутствие систематической защиты их безопасности государства могут реагировать самым разным способом. Одни государства обеспечивают свою безопасность, создавая угрозу для безопасности соседей; другие пытаются согласовывать со своими противниками эквивалентные уровни безопасности и незащищенности; третьи создают со своими соседями объединения для взаимного обеспечения безопасности, чтобы избежать применения силы в будущих спорах. То есть все зависит от того, какой выбор сделает государство, как оно осуществит свои ограниченные, но вполне реальные возможности действовать по собственному усмотрению. Поэтому в 8 0-х годах XX в. среди ученых-международников, так же как среди социологов и политологов, наблюдался рост интереса к тому, чтобы заново осмыслить роль государства, вернув его в центр дискуссии2.
В таком контексте возвращение к осмыслению роли государства имеет особое значение. Его цель — выяснить, какими видят свои обязанности по отношению к «чужакам» правительства и население в целом и какими, по их мнению, эти обязанности должны быть. Выяснить это надо для того, чтобы понять, как социальные связи, объединяющие граждан государства, формируют их поведение по отношению к «несвоим». Эту основную тему можно проиллюстрировать различными национальными реакциями на проблему беженцев. Такие реакции показывают, как члены общества относятся к чужакам: как к жертвам угнетения, заслуживающим убежища, или как к угрозе социальному порядку, национальной идентичности и т.д. Однако их реакции на появление беженцев говорят не только об их отношении к иностранцам, но и о них самих и о том, каким они видят свое общество.
Рассмотрим случай Германии — ее решение пересмотреть раздел 2 (2) Основного закона, где сказано, что лица, подвергающиеся политическим преследованиям, имеют право на убежище. Этот раздел Конституции свидетельствовал о намерении Германии “I
См.: Waltz К. The Theory of International Politics. Reading (Massachusetts), 1979.
2
См., в частности, работы Теды Скокпол (Т. Skocpol), Чарлза Тилли (Ch. Tilly), Питера Ивенса (Р. Evans).
57
быть «примерным гражданином» сообщества государств, сложившегося после Второй мировой войны. Массовый наплыв беженцев из Восточной Европы в последнее время привел федеральное правительство к решению ограничить их прием. Но в свете жестокостей, совершаемых в стране по отношению к членам турецкой общины, многие ставят под вопрос законы о гражданстве, дающие преимущества этническим немцам за пределами Германии перед потомками мигрантов, проживающими в стране. Как национальное государство Германию глубоко затрагивают три основных вопроса об обществе и гражданстве, с которыми сталкиваются все национальные государства. Первый: кому должен быть разрешен доступ в такое государство? Уолзер называет это распределением права на жительство внутри общества (distribution of membership)1. Второй: должно ли предоставляться полное гражданство тем, кто уже допущен в такое государство? (Мы можем назвать это распределением права на гражданство — distribution of citizenship.) Третий: вносит ли национальное государство достойный вклад во всемирные усилия по расселению беженцев? (Мы можем назвать это распределением глобальной ответственности.)
Не только Германии приходиться бороться с проблемой беженцев, хотя там эти вопросы стоят, как нигде, остро. Во многих обществах былые представления о природе общества оказываются под сомнением в условиях, когда субнациональные группы, организации мигрантов и коренные народы подчеркивают, что для них традиционные представления сообщества граждан имеют меньшее значение, чем для членов доминирующей культурной группы. Во всем мире все чаще раздаются политические требования в поддержку плюрализма культур. Дело Рушди в Великобритании иллюстрирует некую более широкую тенденцию, когда членам доминирующей общины предлагают переосмыслить прежние априорные представления об исламе, задуматься о таких отечественных установлениях, как закон о богохульстве, и пересмотреть свое отношение к иностранным державам, политическую приверженность которым сильно проявляют мигранты. Такое развитие событий бросает вызов многим традиционным представлениям о природе и целях политического сообщества.
На события влияют и те национальные сообщества, в которых настоятельно стоит вопрос о будущих целях и предпочтительной идентичности. Мы имеем в виду европейскую проблему: должны ли национальные государства стать частью федеративной политической системы, с новым, не национальным, а европейским лиСм.: Walzer М. Spheres of Justice. London, 1983.
58
цом? В Великобритании, например, в некоторых политических кругах опасаются потери национальной самобытности и суверенитета ради интересов далекой Европы. С другой стороны, некоторые члены субнациональных групп в Великобритании, в том числе многие шотландские националисты, обращают свои взгляды к Европе, надеясь, что она поможет им вернуть утраченные прерогативы и выразить свою политическую самобытность. Некоторые считают, что после «холодной войны» Европа должна расширить свою глобальную ответственность — взять на себя оказание гуманитарной помощи жертвам образования новых государств в бывших социалистических странах — например, в Югославии. Голод и крушение политического порядка в Сомали и Руанде также вынуждают государства брать на себя более широкие глобальные обязательства. Современные глобальные проблемы — в том числе мировая нищета и деградация окружающей среды — вынуждают их задавать себе вопрос: готовы ли они поступиться принципом, по которому они должны в первую очередь заботиться об интересах своих сограждан?
Как мы уже говорили, политические сообщества по-разному решают проблему своей безопасности. Их подход к проблемам приема в свои ряды новых членов, гражданства и обязательств перед мировым сообществом тоже бывает разным — от глубоко ксенофобского до более космополитического. Эти аспекты национальных сообществ, явно подверженные изменениям, до сих пор не получили адекватного анализа при исследовании международных отношений. Необходимость осмысления проблемы войны в XX столетии привела к тому, что особое внимание уделялось не изменениям, а преемственности, не возможностям нахождения справедливого глобального устройства, а препятствиям на этом пути. В результате мы получили в наследство недостаточный анализ того, насколько сильным может быть чувство национальной исключительности, как социальные связи объединяют и разъединяют людей, и отсутствие качественных разработок на тему о том, каким образом переделать эти связи, чтобы создать новые отношения между субнациональным, национальным и международным уровнями. Вот почему так важно заново рассмотреть понятие о государстве.
Меняющийся контекст государственной власти
Современное государство определяют три монопольные прерогативы. Во-первых, государство требует себе монопольного права на осуществление контроля над механизмами насилия. Его легитимность зависит от его способности сохранять мир в обществе и защищать свои владения от угрозы физического насилия и 59
военного вторжения. Во-вторых, государство претендует на право монопольного контроля над налогообложением. Сперва оно претендовало на это право, чтобы финансировать государственный бюрократический аппарат и регулярную армию. В последнее время это право обосновывается тем, что государство обязано перераспределять долю национального дохода для поддержания здравоохранения, образования и обеспечения благосостояния своих граждан. То, что государство взяло на себя эту обязанность, является второй причиной его относительного успеха как политического сообщества. И в-третьих, государство претендует на право определять приоритеты в том, что касается политической приверженности и лояльности. Первоначально оно заявляло об этом своем праве, чтобы быть уверенным, что в случае войны народ сохранит ему верность.
Государства не часто пытались полностью уничтожить субнациональную идентичность и приверженность наднациональным ценностям. За исключением таких государств, как нацистская Германия, современные государства являются добровольными и добросовестными членами сообщества государств и учитывают мнение тех, кто взывает к общности всего человечества, хотя понятия более широкого сообщества и считались чем-то второстепенным. И тем не менее в XX в. вопросы о распределении права на жительство, права на гражданство и международных обязательствах государства решались в основном с позиции национализма; не последней причиной тому была постоянная угроза войны.
До какой степени монополия государства в этих вопросах теряет сейчас свое значение? Будут ли государства отвечать на вопросы о распределении права на жительство, права на гражданство и о международных обязательствах в более интернационалистическом духе? Монополия государства на контроль над механизмами насилия не уменьшилась, хотя оно, чем дальше, тем больше нуждается в поддержании порядка и наблюдении за ним силами международных контингентов в дополнение к усилиям, осуществляемым в рамках своей юрисдикции. Ответственность государства перед международным сообществом за то, как именно оно использует свои силовые ведомства и вооруженные силы, в наш век возросла. Нормы, определяющие права человека, свидетельствуют о росте международного конституционализма; об этом же свидетельствуют и усилия, направленные на то, чтобы ограничить применение силы национальной самообороной или участием в коллективном отпоре агрессору. Как показали события в Сомали, потребность в более сильных международных миротворческих силах поднимает трудные вопросы о субординации и подотчетности. Грань между гуманитарными обязательствами и 60
неоколониализмом, безусловно, не является такой уж простой и общепризнанной. И однако, современные дискуссии о гуманитарном вмешательстве вызываются все более распространенными представлениями о том, что государства должны стать «добропорядочными гражданами» сообщества государств и человечества в целом.
Один из основных вопросов, связанных с монополией государства на контроль над средствами насилия, — является ли примирение (pacification) ведущих держав поворотным пунктом в развитии международного сообщества? Примирение имеет три аспекта. Во-первых, после длительного периода, в течение которого война была основным элементом государственного строительства, во многих современных государствах наблюдается четкая тенденция к переходу правления к людям невоенным. Процент находящегося под ружьем населения устойчиво падал на протяжении всего столетия1. Во-вторых, войны между великими державами теперь происходят реже, и они в гораздо меньшей степени связаны с территориальными захватами, чем раньше, хотя и стали гораздо более смертоносными по своим последствиям2. В-третьих, что чрезвычайно важно, в пределах западного сообщества безопасности эти разрушительные войны, вероятно, ныне ушли в прошлое.
Эта анахроничность войн между основными индустриальными державами в период после 1945 г., которую многие считают великой трансформацией нашей эпохи, объясняется несколькими причинами. Некоторые подчеркивают сдвиги в моральном сознании, благодаря которым война считается такой же формой варварского принуждения, как и рабство3. Другие делают акцент на расцвет торгового государства, вовлеченного в механизмы мировой торговли и инвестиций и находящегося в полной уверенности, что экономический выигрыш можно получить при отсутствии (более того, только при отсутствии) обременительных территориальных захватов4. Третьи выделяют сдерживающую роль ядерной революции, отмечая, что современные народы предпочитают молниеносный удар затяжной войне, всегда исходя из того, что —1
См.: Tilly С. Coercion, Capital and European States: AD 980 — 1992. London, 1992. P. 123 etc.
2
Cm.: Ibid. P. 67.
3
Cm.: Mueller J. Retreat from Doomsday: the Obsolescence of Major War. New York, 1989.
4
Cm.: Rosecrance R. The Risk of the Trading State: Commerce and Conquest in the Modern World. New York, 1986.
61
конфликты будут происходить на безопасном расстоянии от их территории1.
Сочетание этих причин привело во второй половине века к повышению ответственности современных индустриальных государств перед мировым сообществом за применение насилия. Вероятные последствия того факта, что большие войны ушли в прошлое, глубоки, если учесть, что гибель за родину до сих пор была одной из главных движущих сил, сплачивающих национальные общества. Если фактор силы утратит свое былое значение в международной политической жизни, то государству будет труднее поддерживать сплоченность общества. Государство еще оставляет за собой контроль за инструментами насилия, но один из факторов, благодаря которому поддерживалась монолитность суверенных сообществ, ослабевает, особенно на Западе.
Подобные тенденции не являются универсальными. Предположение о том, что западный опыт государственного строительства будет заимствован всеми странами, оказалось ошибочным. Постколониальные государства унаследовали чрезмерно разросшиеся административные инфраструктуры, огромный военный потенциал и низкую конкурентоспособность урбанизированной экономики. Во многих странах власть находится в руках военных. Другие государства, свободные от внешней угрозы, сохраняют мощные вооруженные силы в целях подавления недовольства внутри страны. Таково наследство современных национальных государств во многих регионах мира.
В том, что касается мира, будущее международного сообщества отчасти зависит от того, как миролюбивые государства будут влиять на государственное строительство в более автократических, нестабильных и опасных районах. До сих пор нет ответа на многие жизненно важные вопросы об отношениях между более мирными и менее мирными зонами: сможет ли сообщество государств достичь четкого консенсуса об условиях, при которых можно прибегать к международному вооруженному вмешательству; будут ли предприниматься коллективные действия, чтобы предупреждать запугивание и угнетение государствами своих подданных; сможет ли содружество государств противодействовать режимам, пренебрегающим международными правовыми нормами, в получении ими доступа к средствам массового уничтожения и примет ли содружество наций эффективные меры, исключающие насильственное изменение государственных границ? Эти вопросы, связанные с надлежащим распределением См.: Mearshenner J. Back to the Future: Instability in Europe after the Cold War // International Security. 1990. No. 15. P. 5—56.
62
глобальной ответственности в современном международном сообществе, поднимают в свою очередь важные вопросы, связанные с суверенитетом, невмешательством во внутренние дела и стандартами легитимности в этом сообществе.
Право взимать налоги по-прежнему остается за государством, хотя во многих европейских странах, например в Испании, на обладание этой прерогативой претендуют сильные регионы. В будущем неизбежно возникнет давление в пользу того, чтобы разрешить международным организациям непосредственно взимать налоги, избавив их от зависимости от непостоянной доброй воли стран-участниц. Более того, глобализация подорвала изолированность национальных государств. Впечатляющим примером того, как вследствие растущей глобализации экономики, транснационального производства и мобильности колоссальных резервов международного капитала снизилась значимость государственной монополии на налогообложение, служит «налоговый рай» для иностранного капитала. Государства в основном сохраняют за собой монопольное право на взимание налогов и на распределение значительной части национального дохода, но глобализация означает, что замкнутые общества теперь уже не будут воспроизводиться.
Помимо экономического влияния на функцию насилия, глобализация имеет важные последствия для «культуры насилия» в основных промышленных государствах. В XV и XVI вв. воинственные государства не смогли создать в Европе единую империю, которая была бы в состоянии контролировать систему торговых путей между географически далеко разбросанными городами1. Впоследствии державы-гегемоны создали заморские империи, управляя периферийными регионами, но не смогли подчинить себе центр (core) — европейские метрополии. Но даже этой гегемонии наступил конец, когда капиталы стали перетекать в регионы с дешевой рабочей силой, подрывая тем самым экономический фундамент военной мощи метрополий. В нашем столетии глобализация привела к еще большей диффузии экономической мощи, создав могущественные центры индустрии в некогда периферийных регионах и лишая всякого основания идеи, лежащие в основе имперских завоеваний. Когда великие державы говорят о целях политического сообщества, в их лексиконе уже не фигурирует применение силы для создания заморских империй. Прежние системы государств уничтожались империями, но вполне возможно, что нынешняя система государств будет первой системой, которая эволюционирует к постсуверенному устройству путем не "~1
См.: Tilly. Op. cit. Р. 52.
63
войны, а мира. Значение границ между национальными государствами может стать менее важным, чем между умиротворенным и неумиротворенным миром или между мировой нищетой и мировым богатством.
Суть препятствий на пути более глубоких изменений ясна. Государственная монополия на контроль над орудиями насилия и на право налогообложения не претерпит более существенных ограничений, если одновременно не будет изменений в обязательствах гражданина перед государством и обществом. В конце XX в. способность государства контролировать самосознание человека ослабла, как минимум, по трем причинам. Во-первых, современные общества подвергаются все нарастающему давлению в сторону отказа от представлений о том, что государство должно выражать интересы одной, господствующей нации. Политические движения коренных народов и национальных меньшинств демонстрируют резкое неприятие национал-ассимиляционистских идеологий во всем мире. Во-вторых, эти общества сейчас связаны глобальными коммуникационными и информационными системами, воплощающими собой новые формы социокультурного влияния. Это приводит к разнообразным последствиям. Во многих обществах, притом самых разных, одни элиты и массы с жадностью впитывают «космополитическую культуру современности»1, а другие — категорически противятся гомогенизирующему или вестернизирующему влиянию глобализации. В одном и том же обществе сосуществуют группы, требующие культурной изоляции, и группы, выступающие за большую открытость этого общества перед внешним миром. Во многих обществах это приводит к острой борьбе за характер связей, объединяющих членов одного общества, и за степень их изолированности от внешнего мира, и в обозримом будущем эта борьба, наверное, продолжится. В- третьих, процессы глобализации затрагивают государства, которые стоят перед болезненными проблемами выбора своей будущей роли в региональных организациях. Политические дебаты о степени региональной интеграции еще резче подчеркивают трудность достижения общего консенсуса по все более запутанному вопросу о современном и будущем значении национальной самобытности. По этим причинам государства в настоящее время проигрывают в борьбе за право определять и регулировать обязательства гражданина перед государством и за его самосознание.
Короче говоря, стойкость субнациональных культур, уход в прошлое войн между индустриальными державами и отпечаток “1
См.: Bull Н., Watson A. (eds.). The Expansion of International Society. Oxford, 1984. P. 435.
64
глобализации, который несут на себе и элитарная мысль, и массовая культура, приводят к тому, что в самосознании людей общество не отождествляется только с суверенитетом государства. Каковы бы ни были межнациональная вражда и этнические «чистки» в бывшей Югославии, долгосрочная тенденция в международных отношениях направлена на создание поликультурных обществ, вписанных в глубокие структуры глобальных экономических и политических взаимозависимостей, — обществ, связанных между собой современной космополитической культурой. Поскольку грани между внутренней и международной политикой ныне стираются, анализ каждой из этих сфер потребует рассмотрения сходных вопросов — вопросов о меняющейся природе социальных связей в менее сплоченных и менее изолированных обществах, возникших в современном мире.
Общество и космополис
Наше столетие подходит к концу, и воистину настало время сформулировать новые принципы политической жизни, порывающие с тиранией понятия о государстве1. Во многих государствах мы видим поразительную тенденцию: связи между гражданами и государством ослабевают, что создает возможность для появления различных форм общества, при которых возрастает значение субнациональных и транснациональных лояльностей и идентичностей; выразители последних приобретают все больше мест в представительных органах, а их голос звучит все громче и громче. Хотя существует понимание — и по мере того как столетие приближается к концу, оно, может быть, даже растет — всей хрупкости, даже обреченности современных политических общностей; ощущение открытости будущего сейчас значительно сильнее, чем в прошлые десятилетия. К концу века судьба политической общности зависит от исхода противоборства между действиями, ведущими к культурной самоизоляции, и усилиями сделать социальное устройство общества открытым как для субнациональных, так и для транснациональных устремлений. В результате современная система государств стоит на распутье, и это побуждает нас к систематическому переосмыслению природы политической общности. Но вследствие традиционного невнимания к нормативному анализу международных отношений налицо отсутствие глобальных концепций, охватывающих мировое сообщество в целом.
~I
См.: Bull Н. The Anarchical Society: a Study of Order in World Politics. London. 1979. P. 267.
65
5 1814
Один из возможных вариантов такой концептуализации начинается с осмысления конфликта между космополитизмом и коммунитаризмом (communitarianism) и устремлен к высшему синтезу1, В последние годы космополитизм подвергается критике: многие отрицают существование общечеловеческих моральных ценностей. Кое-кто доказывает, что основная политическая ценность, за которую стоит бороться, — это принадлежность к некоему сообществу людей, имеющему свои верования и традиции, отличающие его от других сообществ. Сторонники этих взглядов считают, что глобализация угрожает плюрализму и многообразию сообществ. Стремление к космополитичной политической общности отвергается ими.
Любовь к своей общине может доходить до проявлений ксенофобии в вопросах предоставления права на жительство, права гражданства и ответственности перед мировым сообществом. Воссоздание распадающейся общности путем размахивания национальной символикой, которую не считают своей ни мигранты, ни национальные меньшинства, не имеет морального оправдания, а пренебрежение моральными обязательствами по отношению к «несвоим» — слишком дорогая цена за сплочение собственных граждан. Пользование благами, которые дает община, должно воспитывать уважение к другим общинам, а не такую разновидность космополитизма, сторонники которой надеются, что все национальные различия со временем отомрут. От государств и субнациональных групп требуются действия, а не просто восхищение различиями культур. Именно поэтому от потенциальных членов Совета Европы требуют сделать заявление о принятии на себя обязательства по защите национальных меньшинств. Признается, что националистические умонастроения имеют право на существование, но при условии, что в полиэтнических государствах будут введены конституционных гарантии для национальных меньшинств. Таким образом, коммунитаризм и космополитизм могли бы уравновешивать друг друга.
Необходимо срочно создавать новые международные структуры, для того чтобы государства могли координировать свои подходы к основным глобальным проблемам — таким, как деградация окружающей среды. Космополитический принцип, согласно которому каждый человек, независимо от расы, вероисповедания, пола и национальности, должен иметь один, и только один, голос, должен быть в центре дискуссий о будущем политического сообщества в современном мире. В данном контексте, когда мы
“Л
См.: Brown С. International Relations Theory: New Normative Approaches. London, 1992.
66
говорим о космополитизме, мы имеем в виду не какой-либо из существующих моральных кодексов или образ жизни, который якобы должен стать образцом для подражания, а процедуры разрешения споров между различными группами, которые могли бы стать приемлемыми для всех. Космополитический идеал предполагает, что проблемы политического устройства человечества должны решаться в процессе диалога, от которого никто не может быть априорно отстранен. С точки зрения дискурсивной этики (а данная статья с этих позиций и написана) принципы политической жизни могут быть законными только тогда, если они одобрены — или могли бы быть одобрены — всеми, кого они могут затронуть1. Это и есть кардинальный аспект идеи мирового гражданства.
Переосмысление понятия о гражданстве
Современные попытки найти компромисс между коммунитаризмом и космополитизмом включают в себя идею о том, что общества должны быть ответственны перед мировым сообществом за свое обращение с национальными меньшинствами; из этой идеи вытекает следующий принцип: представители национальных меньшинств должны иметь возможность подавать жалобы на государство в международные суды. Сюда же относятся и аргументы о возможности преодоления дефицита демократии в Западной Европе с помощью представительства отдельных местностей (регионов) в европейских политических организациях. Предполагают, что с помощью Комитета регионов Европейский союз станет тем механизмом, посредством которого местная самобытность сможет обрести большее представительство и большее число голосов. Эта тема имеет прямое отношение к понятию о гражданстве, традиционно включающего в себя переплетение социальных, экономических и политических прав, с помощью которых члены общества могут оказывать давление на свои правительства.
Представительство национальных меньшинств в региональных организациях может привести к расширению понятия «гражданство», гарантируя социальные и культурные права в постсуверенном демократическом устройстве. Попытки сконструировать постсуверенные концепции гражданства направлены на более полное удовлетворение как прав личности, так и интересов тех культурных групп, к которым может принадлежать эта личность. Современные трактаты о космополитической демократии, доказывающие, что глобализация приводит к уменьшению значения См.: Habermas J. Moral Consciousness and Communicative Action. Massachusetts, 1990.
67
5*
национального гражданства, тоже видят в международных структурах средство защиты индивидуума от злоупотребления властей или от внешних сил, от которых его раньше защищало суверенное национальное государство1. Ясно, что с ростом глобализации и уязвимости общества со стороны внешних сил, находящихся за пределами его границ и неподвластных демократическому контролю, значение и выгоды национального гражданства стали уменьшаться; отсюда и потребность в расширении прав на гражданство в условиях постсуверенитета. Развитие событий в Западной Европе представляет собой важный шаг в этом направлении. В Договоре о Европейском союзе сказано, что «каждый человек, имеющий гражданство какой-либо из Стран-Участниц, является гражданином Союза». Согласно этому положению, каждый гражданин ЕС имеет «право свободно перемещаться и проживать в пределах территории Стран-Участниц, право (с конца 1994 г.) голосовать и выдвигать свою кандидатуру на местных выборах (для граждан ЕС, проживающих за пределами своей страны), такое же право голосовать и выдвигать свою кандидатуру на выборах в Европейский Парламент, право на дипломатическую защиту со стороны любой из Стран-Участниц (если сам он находится за пределами ЕС), право обращаться в Европейский Парламент или к омбудсмену ЕС, назначаемому Парламентом»2.
Самое трудное сейчас — разработать новые формы сообщества, придающие гражданству смысл и назначение, идущие дальше достижений современного суверенного государства. Гражданство — ключевое понятие современного политического сообщества, ибо оно определяет то общее, что есть у его членов, и то, что отличает их от всех других. На нем держались и держатся те формы тесного сотрудничества, которые характерны для современного государства и которых еще не может заменить ни одна из других форм политической организации, влияющих на жизнь миллионов людей. Гражданство существовало в пределах национальных границ, поскольку альтернативного устройства не существовало. В XVIII—XIX вв. государство набирало силы, и субнациональные группы стояли перед выбором — бороться ли за сохранение своей власти в местах проживания или смириться с реальностью централистского государства и бороться за демократизацию национальных политических структур. Геополитическая борьба, способствовавшая развитию не конфедеративных, а ценСм.: Held D. Democracy: From City States to a Cosmopolitan Order? // Held D. (ed.). Prospects for Democracy. Cambridge, 1993.
2
Цит. no: Wise M., Gibb R. Single Market to Social Europe: the European Community m the 1990s. Essex, 1993. P. 309—310.
68
трализованных государств, разрешила дилемму в пользу второго. Так в XIX в. гражданство стало означать двустороннюю связь между индивидуумом и государством1. Гражданство было единым для всех. Претензии на то, что меньшинствам могли бы быть предоставлены права на особое гражданство или вообще на транснациональное гражданство, не поощрялись.
В современных государствах гражданство имеет большое значение, поскольку оно включает в себя целый ряд безусловно важных индивидуальных прав человека — юридических, политических и экономических2. Многие из важнейших политических баталий современности велись за то, чтобы распространить гражданские права на притесняемые группы населения — рабочий класс, этнические и расовые меньшинства, женщин. Однако понятие о гражданстве было одновременно слишком универсалистским и слишком партикуляристским: слишком универсалистским, поскольку не учитывало потребностей национальных меньшинств и коренных народов, и слишком партикуляристским, поскольку большей частью игнорировало интересы неграждан. Утверждение о том, что гражданство слишком универсально, означает, что современным обществам придется заново выработать принципы политической общности, с должным учетом конкретных потребностей более слабых культур. Этот тезис особенно энергично выдвигается в связи с неблагоприятной ситуацией, в которой оказываются коренные народы, когда границы обитания общины явно не совпадают с политическими границами. Этот тезис предполагает, что коренные народы должны иметь право ограничивать въезд на свою территорию, а также ограничивать права представителей большинства на больший политический голос и на приобретение собственности3.
Разрыв с господствующими представлениями о национальном гражданстве ради признания различий между группами, населяющими современное государство, — это одно измерение реструктуризации современного общества. Не менее важная тема — создание универсального гражданства, дающего международные гарантии соблюдению индивидуальных и коллективных прав. Как было отмечено выше, концепция космополитической демократии предполагает, что демократические права граждан должны теперь осуществляться через региональные политические структуры.
См.: Mann М. The Sources of Social Power. Vol. 2: The Rise of Classes and Nation-States. Cambridge, 1993. P. 250—251, 354.
2
Cm.: Marshall T. H. Class, Citizenship and Social Development. Westport (Connecticut), 1973.
3
Cm.: Kymlicka W. Liberalism, Community and Culture. Oxford, 1989.
69
Аналогично из тезиса о том, что субнациональные группы должны иметь возможность подавать жалобы на государство в международные учреждения, вытекает другая сторона транснационального гражданства. Следует подчеркнуть, что в этом контексте универсализация прав на гражданство в рамках международных организаций и партикуляризация прав на гражданство в государстве для обеспечения представительства культур различных меньшинств могут идти рука об руку. Новое понятие о гражданстве создаст возможность для преобразования социальных связей, изменения традиционных представлений об отношениях между внутренним и внешним и возникновения новых форм политической организации1.
Выше основной упор был сделан на предоставляемые гражданством права, но не следует забывать, что гражданство предполагает и обязанности. Хотя обычно мы употребляем выражение «примерный гражданин», чтобы одобрить достойное поведение какого-нибудь индивидуума, уже известны прецеденты, когда о государстве, выполняющем свои глобальные обязательства, отзывались в весьма схожих выражениях2. Эти прецеденты касаются обязательств государства по отношению к сообществу государств и человечеству. Создание новых типов гражданства, с тем чтобы такая приверженность более широким сообществам стала глубже, — задача сложная, и не в последнюю очередь из-за огромных культурных различий между отдельными частями мира и большой разницей в политических и экономических интересах между миром богатства и миром нищеты.
Во многих обществах связи между гражданином и государством, может быть, и ослабевают, но нет оснований полагать, что основным результатом этого процесса будет рост интернационализма. Глобализация может способствовать взаимопониманию благодаря распространению информации о других культурах, но может приводить к увеличению экономического неравенства и антагонизма культур различных групп населения. На Западе глобализацию часто приветствовали как силу, освобождающую человека из плена провинциальных культур и порождающую чувство принадлежности к культуре космополитической. Факты свидетельствуют, что глобализация не приведет к созданию единого мира с единой культурой, равно справедливой для всех. Стоит “Л
См.: Linklater A. What Is a Good International Citizen? // Keal P. (ed.). Ethics and Foreign Policy. Sydney, 1992; Walker R. B. J. Inside/Outside: International Relations as Political Theory. Cambridge, 1993.
2
Cm.: Linklater A. Op. cit. См. также мою работу: Men and Citizens in the Theory of International Relations (2nd ed.). London, 1990.
70
вспомнить, что выдвигавшаяся стоиками концепция всемирной общины, которая должна была прийти на смену обреченному греческому полису, не имела успеха потому, что их видение всемирной общины не находило поддержки в сколько-нибудь широко распространенном понимании идеи «жизни, в которой участвуют все»1. Глобализация может укрепить мнение о том, что жизнь, в которой участвуют все, — это как раз жизнь отдельной нации или религиозной общины. Неравномерное экономическое развитие может оживить национальные привязанности, ибо неимущие ищут в государстве защиту от негативных последствий глобализации. Страх перед культурным империализмом, борьба с импортной продукцией и беспокойство по поводу наплыва больших масс мигрантов и беженцев — вот те мощные силы, которые поддерживают традиционный образ общины.
Один из самых важных аспектов глобализации связан с тем, что Хантингтон называет отношениями между Западом и остальным миром2. Если кто-нибудь думает, что глобализация означает, что различные общества вовлечены в глобальные процессы, одинаково влияющие на все эти общества, то он заблуждается. Глобализация служит распространению западных образов, символов и ценностей через транснациональные средства массовой информации и рекламные агентства, но в то же время подвергает экономику западных стран мощной конкуренции, возникающей в результате бурного экономического роста в таких регионах, как Юго-Восточная Азия. На протяжении многих столетий Запад считал, что он воплощает собой ту нормативную цель, которую незападные общества должны принять в качестве собственной цели. В XIX и XX вв. многие на Западе были уверены, что их долг — готовить незападные народы к вхождению в сообщество государств. В эпоху деколонизации многие полагали, что национализм — это в основе своей восстание народов, стремящихся к единой цели и проходящих схожие пути экономического и политического развития. Такие представления до сих пор еще не изжиты, но удивительно то, как старомодно они теперь выглядят.
С отстранением неевропейских народов от международного сообщества во многом покончено, и тенденция к большему культурному многообразию международной системы теперь неоспорима. Та стадия послеколониальной истории, когда многим каза~1
См.: Wolin S. Politics and Vision: Continuity and Innovation in Western Political Thought. London, 1961. P. 434.
2
Cm.: Huntington S. The Clash of Civilizations // Foreign Affairs. Vol. 72. No. 3 (Summer 1993): P. 22—43.
71
лось, что националистические восстания — это восстания народов, мечтающих жить по единым принципам, по-видимому, закончилась1. Западная Европа, возможно, является лабораторией, где идет эксперимент по созданию постсуверенных политических сообществ, в которых субнациональные, национальные и транснациональные принадлежность и интересы обретут больший политический голос, но трудно себе представить, что такие модели сообществ будут развиваться в других регионах или возникать в глобальных масштабах. Политический баланс между различными лояльностями понятен, когда группы принадлежат к одной цивилизации, а жизненный уровень у них сопоставим; но там, где речь идет о резких культурных различиях и существенных экономическом и политическом неравенстве, такой баланс представить трудно. В этом контексте основная трудность — придать идее интернационализма содержание, вытекающее из признания необходимости справедливого отношения между цивилизациями в постъевропейском сообществе государств2.
На вопрос о том, каким образом сильные государства и регионы мира могут стать добропорядочными гражданами международного сообщества, ответы бывают разные. Некоторые ставят акценты на том, что ключевым элементом международной гражданской добропорядочности государств должно стать растущее в наши дни признание того, что люди повсеместно не должны страдать от голода3. Другие ставят на первый план необходимость помочь «обанкротившемуся государству» или прийти на помощь жертвам нарушений прав человека или геноцида4. Третьи подчеркивают необходимость борьбы за международную экономическую справедливость и передачи технологий для ограничения ущерба, наносимого природной среде экономическим развитием. Ни один из этих вопросов не может рассматриваться отдельно от вопроса о культуре. Сильные государства и регионы, стремящиеся способствовать установлению международной социальной справедливости, могут быть обвинены в безразличном отношении к См.: Bull Н., Watson A. Op. cit.
2
См.: Brown С. The Modern Requirement: Reflections on Normative International Theory in a Post-European World // Millennium. 1988. No. 17. P. 339—348.
3
Cm.: Vincent R. J. Human Rights and International Relations. Cambridge, 1986.
4
Cm.: Helman G. B., Ratner S. R. Saving Failed States // Foreign Policy. 1992. No. 89. P. 3—20; Vincent R.J. Op. cit.; Hoffman M. Agency, Identity and Intervention // Forbes I., Hoffman M. (eds.). Political Theory, International Relations and the Ethics of Intervention. London, 1993.
72
чужим культурам. Западу необходимо отказаться от представлений о превосходстве западной культуры и от этноцентрических интерпретаций чужих культур как «ориентализм»1. Какими бы существенными ни были достижения Запада в том, что касается разработки ныне распространенных понятий о правах человека и демократии, Запад часто попадал впросак из-за недооценки различия культур и нередко бывал враждебен к таким различиям. Западу, как и другим цивилизациям, не хватает умения разговаривать со всеми на равных, хотя о необходимости большей терпимости к культурным различиям сейчас много говорят2. Поэтому так важна наметившаяся в некоторых регионах тенденция к отходу от национал-ассимиляционистских идеологий в сторону подлинно поликультурного общества. Она обещает нам в будущем общества, восприимчивые к культурному измерению международных отношений и лучше подготовленные к тому, чтобы облачиться в мантию доброго гражданина международного сообщества постсуверенной эры.
Выводы
На исходе XX в., для того чтобы жить цивилизованно, людям по-прежнему требуются государства, но государства, уже ревниво не защищающие свои традиционные права от малейшего посягательства, более терпимые к субнациональным группам, сознающие ценность различных форм жизни и уже не склонные противиться росту транснациональных политических лояльностей. В наше время другим политическим ассоциациям недостает организационных возможностей государства, но может статься, что они станут его соперниками в этом важном отношении и в конечном счете заменят его собой. В любом случае крепнущие субнациональные и транснациональные ориентации — это те основы, на которых могут быть выстроены будущие организационные структуры.
Кое-кто может усомниться, захочет ли государство передать власть от суверенного центра субнациональным и транснациональным структурам. Но чего бы ни хотели центральные правительства, логика глобализации и фрагментации уже изменила условия их деятельности и подорвала значение их традиционных монопольных полномочий. Окончательный ответ на вопрос —I
См.: Said Е. Orientalism. New York, 1978.
2
См.: Brown С. Op. cit.; Shapcott R. Conversation and Co-existence: Gadamer and the Interpretation of International Society // Millennium. 1994. No. 23. P. 57—83.
73
о том, сможет ли государство помешать росту новых политических лояльностей и средоточий власти, возможно, будет получен не сразу. А пока что перед политической теорией стоит задача — отстоять новое видение государства, первоочередной функцией которого — субнациональной, национальной и транснациональной — будет поддержка равновесия между членами разных общин.
Отличаясь от государства прошлого, постсуверенное государство сохраняет за собой одну важную этическую функцию. Всюду, где существуют многообразные общины с различной идентичностью, с неизбежностью возникают конфликты лояльности. Одна из целей политики — разрядить эту напряженность. Посредничество между разными концепциями гражданского долга и поддержание баланса между различными нормами морали изначально считаются одной из главных задач государства. Суверенное государство издавна ассоциируется с задачей уравновешивания различных приверженностей в жизни отдельного национального общества. По-видимому, самой идее нации ничто не грозит — она выживет, но не следует ожидать, что национальные общности сохранят ту свободу действий, которая им была свойственна в прошлом. В мире, где набирают силу проявления субнациональной лояльности, а проявления транснациональной лояльности также не утрачивают привлекательности, функцией государства должна быть гармонизация растущего разнообразия этических сфер, пересекающих субнациональные, национальные и космополитические рамки человеческого существования. Избавившись от худших сторон национализма и суверенитета, государство сможет по-прежнему играть положительную роль в международных делах. Но нам необходимы новые представления о политической организации, чтобы переосмысление понятий гражданства и сообщества, происходящее теперь повсюду в мире, получило четкое направление. В этом контексте особое место должно быть отведено представлениям о постсуверенном политическом сообществе.
Эрик Ремакль
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОНФЛИКТОВ И ПРАВА НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ. ОПЫТ СБСЕ
Современные вооруженные конфликты на территории бывшего Советского Союза и в экс-Югославии показали, что наиболее жгучую проблему для европейской безопасности в эпоху, следующую за «холодной войной», представляют этноконфликты и права национальных меньшинств. Все комментаторы — и те, кто проводит аналогии с прошлым и говорит о «синдроме 1914 г.»1, и те, кто рисует призрак «зари племен»2, маячащий на горизонте нашего fin de siicle — сходятся в том, что Европейское сообщество должно как можно скорее осознать всю остроту этой проблемы. Поэтому Парижская хартия для новой Европы, принятая Конференцией по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в ноябре 1990 г., так недвусмысленно включила права национальных меньшинств в число восьми приоритетов на будущее нашего континента.
Приходится признать, что в отличие от Лиги Наций, всегда уделявшей этому вопросу много внимания, послеялтинский мир с таким же постоянством старался его не замечать. В самом деле, «холодная война» отодвигала на задний план все заботы, не связанные с противостоянием Восток—Запад или способные расколоть внутреннее единство каждого лагеря. К тому же, во-первых, через Центральную Европу — тот регион, где могли возникнуть подобные требования, — как раз и проходила демаркационная линия, а во-вторых, в восточной ее части господствовали коммунистические режимы, особенно заботившиеся о том, чтобы не допустить никаких споров о правах человека и уж тем более о территориальной целостности государств. Прекращение конфронтации на континенте после 1989г. должно было с неумолимой логикой снять эти два препятствия и сделать центральным вопросом нового европейского согласия вопрос о национальных меньшинствах.
Наиболее отчетливо эта эволюция отразилась в документах СБСЕ. В самом деле, с 1975 г., с завершающего этапа ее создания, на фоне противостояния Восток—Запад для преодоления барье“1
См.: Mortimer Е. European Security After the Cold War // IISS. London, Summer 1992 (Adelphi Paper. No. 271). P. 17.
2
Cm.: Ramonet I. Le matin des tribus // Le monde diplomatique. AoOt 1992. P. 1.
75
ров, воздвигнутых этим противостоянием, СБСЕ в 1990 г. превратилось в горнило, где выковывается европейское примирение. Если сначала вопрос о национальных меньшинствах рассматривался там в самой упрощенной формулировке, то постепенно он стал привлекать к себе более пристальное внимание, а сегодня стал одним из основных пунктов дискуссий этой организации.
Осторожные выражения Заключительного акта Хельсинкского совещания
В документе, легшем в основу процесса СБСЕ, — в Заключительном акте Хельсинкского совещания, подписанном 1 августа 1975 г. главами государств и правительств тридцати пяти стран— участниц, — национальные меньшинства упоминаются три раза. В той части Заключительного акта, которая озаглавлена «Декларация о принципах, регулирующих взаимные отношения стран-участниц», часто называемой «Десять заповедей СБСЕ» (по числу изложенных в ней принципов)1, в параграфе 4 принципа VII о «соблюдении прав человека и основных свобод, в том числе свободы мысли, совести, вероисповедания и убеждений» о национальных меньшинствах говорится следующее:
«Страны-участницы, на территории которых имеются национальные меньшинства, соблюдают права лиц, принадлежащих к этим меньшинствам, на равенство перед законом, предоставляют им полную возможность практически пользоваться правами человека и свободами и таким образом защищают их законные интересы в этой сфере».
Как неоднократно подчеркивали разные авторы2, в Заключительном акте была намеренно принята такая расплывчатая и мало к чему обязывающая формулировка, наподобие формулировки о праве народов на самоопределение. Во-первых, она не дает определения понятия национального меньшинства, предоставляя это самим государствам, из чего следует, что этот текст может относиться только к признанным, а не ко всем существующим меньшинствам. Это была уступка некоторым государствам, в частности франкистской Испании, очень сдержанным во всем, что касается национальных меньшинств. Во-вторых, ясно, что речь идет о правах лиц, принадлежащих к национальным меныпинст- См.: Ghebali V.-Y. La Diplomatie de la D£tente. La CSCE 1973—1989. Bruxelles: Bruylant, 1990.
2
Cm.: Ermacora F. Rights of Minorities and Self-Determination in the Framework of the CSCE // Bloed A., Van Dijk P. (eds.). The Human Dimension of the Helsinki Process. The Vienna Follow-up Meeting and its Aftermath. Dordrecht/Boston/London: Martinus Nijhoff, 1991. P. 197—206; Ghebali V.-Y. Op. cit. P. 88.
76
вам, а не о коллективных правах, на которые национальные меньшинства могли бы претендовать в качестве групп. Здесь заявляется лишь о защите прав человека, а не о конкретной защите прав национальных меньшинств, за что выступала в то время Югославия. Наконец, термины, используемые в принципе VII Заключительного акта, не допускают интерпретации, которую позволяет статья 27 Международного пакта о гражданских и политических правах; если в этой статье говорится об «этнических, религиозных или языковых меньшинствах», то принцип VII предпочитает менее четкий термин — «национальные меньшинства» 1.
Два других параграфа Заключительного акта, завершающие собой разделы «третьей корзины», относящиеся к культуре и к образованию, тоже составлены в крайне расплывчатых выражениях, ибо в них — по просьбе Испании — употребляется выражение «национальные меньшинства или региональные культуры» и говорится просто о вкладе этих меньшинств в межправительственное сотрудничество в этих областях. Если в этом и можно усмотреть намек на признание национальных меньшинств в качестве групп2, то это, безусловно, робкий намек, ограниченный двумя областями и к тому же смягченный добавлением выражения «региональные культуры».
Итак, Заключительный акт Хельсинкского совещания свидетельствует о крайней осторожности стран—участниц СБСЕ в том, что касается признания национальных меньшинств, и еще большей осторожности — в том, что касается их возможных коллективных прав. Непринудительный юридический характер Заключительного акта и несовершенство его терминологии в этом вопросе делают его, безусловно, менее релевантным документом, чем статья 2 7 Международного пакта о гражданских и политических правах. На последующих встречах в Белграде (1977—1978) и Мадриде (1980—1983) СБСЕ не рассматривало каких-либо модификаций в этом вопросе. Более того, оно не посвятило этому вопросу ни одной из девяти тематических конференций или встреч экспертов, ~1
Еще до того применение этой формулировки в статье 14 Европейской конвенции прав человека уже привело к затруднениям, связанным с ее толкованием, в Совете Европы (см.: Capotorti F. 6tude des droits des personnes appartenant aux minorit£s ethniques, religieuses et linguistiques, doc. ONU. E/CN4/Sub.2/384/Rev. 1, 1979; Ergec R. L’impact de la Convention europeenne des droits de I'homme // La Protection des Minoritds et les Droits de Г Homme. Bruxelles: Institut d'&udes europdennes et Institut international des Droits de 1'Homme. 4 octobre 1991. P. 21—27; Ermacora F. Op. cit. P. 204; Sohn L. The Rights of Minorities // Henkin L. (ed.). The International Bill of Rights. New York, 1981. P. 274 etc.).
2
Такова интерпретация Феликса Эрмакоры (см.: Ermacora F. Op. cit. P. 204).
77
проводившихся между 1978 и 1986 гг. Только на третьей встрече, в Вене (1986—1989), под совокупным влиянием перестройки и определенных требований национальных меньшинств возникли новые политические тенденции, благоприятствовавшие расширению прав этих меньшинств.
И в самом деле, именно на встрече в Вене в повестку дня СБСЕ было включено два самых спорных и щекотливых вопроса, касавшихся прав национальных меньшинств. Вопрос о венгерском национальном меньшинстве в Румынии касался двух стран Варшавского договора, чьи политические расхождения по поводу демократии и правового государства становились все более явными. Что до вопроса о тюркоязычном меньшинстве в Болгарии, то он позволял западным странам резко критиковать политику одной из тех соцстран, которые крайне медлили с принятием конкретных мер по перестройке в национальном вопросе. Итак, очень быстро наметилось совпадение позиций между Югославией, выступавшей за предоставление прямых прав национальным меньшинствам, группой западных стран, выступавших за усиление механизмов защиты прав человека и за изоляцию наиболее консервативных восточных стран, и Венгрией, стремившейся к скорейшему сближению с Западом и беспокоившейся о признании прав своих меньшинств за границей1. Эта тема стала поводом для беспрецедентного случая в СБСЕ — внесения в 1987 г. «межгруппового» предложения2, благодаря тому что Венгрия поддержала западное и югославское предложения3.
Заключительный документ Венской встречи, принятый 15 января, вводит два существенных новшества в эту тему. С одной стороны, в нем говорится о защите «этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности» национальных меньшинств4, что не может быть истолковано иначе, как признание этих меньшинств в качестве групп, притом не менее широкое, чем в статье 27 Международного пакта о гражданских и политических правах. С другой стороны, он распространяет на «лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам или региональным культурам», и толкует в их пользу положения, касающиеся межБолее подробно см.: Ghebali V.-Y. Op. cit. Р. 310—313, 361—362; Lehne S., Neuhold H. The Role of the Neutral and Non-Aligned Countries in the Vienna Meeting // Bloed A., Van Dijk P. (eds.). Op. cit. P. 30—53.
2
До 1990 г. страны—участницы СБСЕ делились на три группы: западную группу (НАТО + ЕЭС), государства Варшавского договора, нейтральные и неприсоединившиеся страны.
3
См.: Memento d£fense-desarmement 1988 // Bruxelles: GRIP, 1988. P. 61.
4
См.: параграфы 18 и 19 главы, относящейся к «первой корзине».
78
личностных контактов (эмиграция и поездки за границу) и получения информации1. Кроме того, он укрепляет права этих лиц в том, что касается культуры и образования, дополняя собой робкие положения Заключительного акта2. Таким образом, эти положения распространяют индивидуальные права, связанные с принадлежностью к национальному меньшинству, на все содержание «третьей корзины». Рикошетом эти права попали в созданный Венским документом механизм так называемого человеческого измерения СБСЕ, который предусматривает запросы об информации и обмен информацией, а также двусторонние встречи по вопросам, относящимся к человеческому измерению, — как по общей ситуации, так и по конкретным случаям. Кроме того, в Венском документе говорилось, что будут проведены три сессии Конференции по человеческому измерению3, посвященные общей оценке ситуации в этой области, оценке конкретных процедур механизма человеческого измерения, обсуждению этих данных и повышению эффективности механизмов. Таким образом, он создавал — хотя прямо об этом не говорилось — возможность регулярного рассмотрения вопросов, связанных с правами национальных меньшинств. Такая возможность должна была вскоре привести к более широкому обсуждению коллективных прав меньшинств.
Именно это и произошло на первой сессии Конференции по человеческому измерению в Париже 30 мая—23 июня 1989 г.4, где проблемы венгерского меньшинства в Румынии и тюркоязычного в Болгарии вновь стали предметом оживленных споров. София в ответ поставила вопрос о судьбе курдского меньшинства в Турции. В Париже, кроме того, поступило несколько предложений, касающихся прав меньшинств, в частности венгерское предложение о защите национальных меньшинств и покровительстве национальным меньшинствам и предложение Турции, касающееся миграции лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам5. Но конференция не смогла принять эти предложения, поскольку по ряду причин вынуждена была отказаться от какого-либо заключительного документа; этими причинами были слишком короткий “1
См.: параграфы 31 и 45 главы, относящейся к «третьей корзине».
2
См.: параграфы 59 и 68 главы, относящейся к «третьей корзине».
3
В 1989 г. в Париже, в 1990 г. в Копенгагене ив 1991 г. в Москве.
4
Ghebali V.-Y. La conference sur la dimension humaine de la CSCE // Paris: D£fense nationale, 1989. Novembre. P. 103—116.
5
Как раз в то время, когда в Париже проходила конференция, у турецкой границы скопилось 50 тыс. тюркоязычных граждан, изгнанных из Болгарии.
79
срок, истекший после окончания Венской встречи, сомнения политиков в будущем перестройки и отказ Румынии выполнять обязательства, принятые в Вене.
Копенгагенский документ — качественный скачок
Падение Берлинской стены, возникновение многопартийных систем и постепенное устранение компартий от власти в Центральной и Восточной Европе, а также институционализация СБСЕ после 1989 г. ускорили тенденцию к пересмотру и расширению прав национальных меньшинств — как индивидуальных, так и коллективных. Вторая сессия Конференции по человеческому измерению, проходившая в Копенгагене с 5 по 29 июня 1990 г., сделала поистине качественный скачок в этой области1. Из пяти глав заключительной декларации вопросу национальных меньшинств посвящена целая глава2, что свидетельствует о том, насколько важной считалась эта проблематика с политической точки зрения, а также о желании не смешивать впредь этот вопрос с вопросом об индивидуальных правах. К тому же одна из четырех неофициальных рабочих групп, созданных для подготовки этой конференции, целиком посвятила работу только этому вопросу3. Такая подготовка уже свидетельствовала о нарастающих разногласиях по этому вопросу не только между восточными странами, но уже и между западными, что привело к возникновению в СБСЕ необычных коалиций — таких, как коалиция центральноевропейских стран, сгруппировавшихся по инициативе итальянского министра иностранных дел Джанни ди Микелиса, в «пятиугольник» («pentagonale») (Австрия, Венгрия, Италия, Чехословакия, Югославия), и коалиция стран, сдержанно относящихся к какому бы то ни было признанию коллективных прав этих меньшинств (Болгария, Греция, Испания, Румыния, Франция).
Именно между этими двумя группами стран и наблюдалось самое ожесточенное противостояние на Копенгагенской конференции. Италия, поддерживаемая четырьмя своими партнерами по «pentagonale», выступила там с предложением о «хартии прав» “I
См.: Bloed A. A New CSCE Human Rights 'Catalogue': the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension of the CSCE // Bloed A. & Van Dijk P. (eds.). Op. cit. P. 54—73; Ghebali V.-Y. Le thdme des droits de 1'homme dans le processus de la Conference sur la securit£ et la cooperation en Europe // Труды коллоквиума «Le Noyau Intangible des Droits de 1’Homme». Fribourg; Editions universitaires, 1991. P. 173—195.
2
Глава I посвящена правовому государству, глава II — индивидуальным правам, глава III — демократическим институтам, глава IV — национальным меньшинствам, глава V — механизму человеческого измерения.
3
См.: Bloed A. Op. cit. Р. 58.
80
национальных меньшинств, предоставлявшей последним гарантии в трех случаях1:
— в случае многонациональных государств, в которых федеральные или конфедеральные структуры позволят осуществлять самоопределение народов без изменения границ2;
— в случае этнических групп, составляющих меньшинство в своем государстве, но большинство в каком-либо другом регионе, им полагалось право на довольно существенную автономию;
— в случае этнических, лингвистических или религиозных групп, составляющих меньшинство в своем собственном регионе, они получали гарантии сохранения самобытности, языка, религии и культуры.
Принятию этого предложения воспрепятствовали Болгария, Греция, Румыния и Франция; кроме того, им удалось добиться того, что эта часть декларации сформулирована в мало к чему обязывающих выражениях3, а также оговорки в параграфе 37:
«Ни одно из настоящих обязательств не может быть истолковано как дающее какое бы то ни было право на какую бы то ни было деятельность или какое бы то ни было действие, противоречащее целям и принципам Хартии Объединенных Наций, другим обязательствам, вытекающим из международного права, или положениям Заключительного акта, включая принцип территориальной целостности государств»4.
И тем не менее Копенгагенский документ содержит ряд положений и обязательств, сгруппированных в 12 подробных, развернутых разделов, свидетельствующих об оживлении интереса к этой теме. По словам одного из экспертов по человеческому измерению СБСЕ, проф. Арье Блуда из Утрехтского университета, ему не известен «никакой другой межправительственный документ, относящийся к национальным меньшинствам, который мог “I
См.: Nouvelles atlantiques // Bruxelles: Agence Europe. 1990. No 2227. Mai 30. P. 3.
2
Это положение было задумано, в частности, для того, чтобы позволить провести административно-территориальную реорганизацию в Югославии так, чтобы она не привела к ее распаду.
3
Например, «примут, если будут на то основания» (параграф 31), «будут стараться» (34 и 40.4), «принимают к сведению» (35), «признают важность» (36), «рассмотрят возможность» (38 и 40.7), «рассмотрят» (параграф 40.6).
4
В своей разъяснительной декларации (declaration interpretative) Греция сформулировала свою приверженность принципу территориальной целостности государств; Болгария также выступила с разъяснительной декларацией, содержание которой сводилось к тому, что на тюркоязычное меньшинство обязательства Копенгагенского документа не распространяются (см.: Bloed A. Op. cit. Р. 68—69 и прим. 34—35).
81
6 1814
бы выдержать сравнение с Копенгагенским документом»1. Документ, в частности, утверждает в своем параграфе 30 взаимозависимость между правами меньшинств и демократичностью политической системы, а также роль неправительственных организаций, «включая политические партии, профсоюзы, правозащитные организации и религиозные объединения», в «поиске решений проблем, касающихся национальных меньшинств»2.
Центральное место в разделе занимает параграф 32, ибо в нем сформулировано следующее: «Принадлежность к национальному меньшинству — это вопрос свободного выбора, и этот выбор не может повлечь за собой никаких невыгод». Другими словами, вопрос о том, имеются ли в государстве национальные меньшинства, решает не государство, а индивидуумы, требующие, чтобы их признали представителями национальных меньшинств; как видим, это положение — явно обратное формулировке принципа VII Заключительного акта. Эта новая формулировка позволяет к тому же обойти очень спорный вопрос об определении национального меньшинства и сохранить критерий индивидуальной принадлежности, упоминая, однако, и коллективные права. В продолжении параграфа 32 последние, впрочем, сформулированы очень широко: «Лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, имеют право свободно выражать, сохранять и развивать свою этническую, культурную, языковую или религиозную самобытность, сохранять и развивать свою культуру во всех ее формах, в безопасности от всяких покушений на насильственную ассимиляцию».
Речь идет о праве лиц, принадлежащих к меньшинствам, свободно пользоваться своим родным языком как в частной жизни, так и публично, создавать и сохранять свои собственные учебные учреждения, организации и ассоциации, исповедовать свою религию и соблюдать ее обряды, а также осуществлять религиозное обучение на своем родном языке, устанавливать и поддерживать свободные контакты между собой в своей стране, а также за границей, с гражданами других государств, распространять информацию на своем родном языке, обмениваться такой информацией и иметь к ней доступ, создавать и сохранять организации и ассоциации в своей стране, а также участвовать в деятельности международных неправительственных организаций. То, что права эти носят одновременно индивидуальный и коллективный характер, неоспоримо явствует из заключительного абзаца —1
Ibid. Р. 67.
2
Это первое однозначное упоминание роли неправительственных организаций в этой сфере.
82
параграфа 32: «Лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, могут осуществлять свои права и пользоваться ими индивидуально или вместе с другими членами своих групп. Пользование или использование этими правами не может повлечь за собой никаких невыгод по отношению к лицу, принадлежащему к национальному меньшинству».
Кроме обязательств, принятых на себя странами—участницами в следующих параграфах, — обеспечивать соблюдение этих прав, защищать их и расширять, в том числе о создании «местной или автономной администрации»1, — они приняли и новую для СБСЕ декларацию, осудив «ясно и недвусмысленно тоталитаризм, расовую и национальную вражду, антисемитизм, ксенофобию и любую дискриминацию против кого бы то ни было, так же как и любые преследования по религиозным и идеологическим причинам. В этом контексте они признают и специфические проблемы рома (цыган)»2.
Итак, никто не может оспорить масштабность‘достижений Копенгагенского документа, но выше мы уже подчеркнули и его ограниченность, и его пробелы. Провал итальянского предложения о хартии прав национальных меньшинств и потребность в более глубоком диалоге по этому вопросу между европейскими государствами означали, что для продолжения этого процесса понадобится специальная встреча, посвященная национальным меньшинствам. Швейцарский министр Рене Фельбер, глава федерального департамента иностранных дел, предложил в Копенгагене созвать конференцию СБСЕ, посвященную этой тематике3. Но Копенгагенский документ сообщает только о рассмотрении «возможности созвать встречу экспертов, чтобы приступить к углубленному обсуждению вопроса о национальных меньшинствах»4, не называя при этом ни даты, ни места, ни процедуры созыва такой встречи. Эти проволочки, вызванные негативной реакцией Франции, показывают, с каким трудом рождалось понимание неотложности проблем, связанных с вопросом национальных меньшинств. Мы еще будем спрашивать себя, в какой степени эти проволочки виноваты в том, что в Югославии разразилась война, а Чехо-Словацкая Федеративная Республика распалась.
“I
Параграф 35.
2
Параграф 40.
3
См.: Widmer Р. Le defi des minorites nationales en Europe. Paris: La Trimestre du Monde. 1-er trimestre 1992. P. 211—218.
4
2-й абзац параграфа 39.
83
6*
От Парижской хартии до югославской войны
Собравшись 19—21 ноября 1990 г. в Париже, с тем чтобы официально положить конец противостоянию в Европе и набросать в общих чертах структуру общеевропейских институтов для периода, наступившего после «холодной войны», главы государств и правительств государств—членов СБСЕ уделили особое внимание новым проблемам, поставленным в повестку дня безопасностью континента. И одним из главных вызовов этой безопасности предстал перед ними вопрос о национальных меньшинствах. Принятая по этому поводу Парижская хартия для новой Европы утверждает в своей вступительной декларации, озаглавленной «Новая эра демократии, мира и единства», что «этническая, культурная, языковая и религиозная самобытность (identity национальных меньшинств будет защищена» и что «лица, принадлежащие к этим меньшинствам, имеют право выражать, сохранять и развивать эту самобытность без какой-либо дискриминации и при полном равенстве перед законом». Что касается восьми «направлений на будущее», сформулированных в Хартии, то в том, что касается человеческого измерения, они включили еще один, длинный параграф, подтверждающий принципы Копенгагенского документа о правах национальных меньшинств, в частности об их взаимосвязи с наличием демократической политической структуры. Кроме того, страны—участницы признали «драгоценный вклад национальных меньшинств в жизнь наших обществ» и еще раз подтвердили свою «решимость бороться со всеми формами расовой или национальной вражды, антисемитизма, ксенофобии и дискриминации по отношению к любому человеку, а также с преследованиями по религиозным или идеологическим мотивам». Главным результатом этого подтверждения копенгагенских принципов стало то, что оно дало повод участникам Парижского саммита СБСЕ созвать встречу экспертов по национальным меньшинствам в Женеве (1 —19 июля 1991 г.). Главы государств и правительств оправдывали созыв этой встречи такими словами: «Сознавая необходимость и неотложность наращивания сотрудничества в том, что касается национальных меньшинств...»1 Эта неотложность стала еще более очевидной 25 июня 1991 г., когда, за неделю до начала Женевской встречи, объявили о своей независимости Словения и Хорватия — и это несмотря на угрозы “1
На включении пункта о созыве этой встречи в Парижскую хартию настояла Швейцария на чрезвычайной встрече министров иностранных дел государств СБСЕ, проходившей вне рамок Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 1 октября 1990 г. (см.: Widmer Р. Op. cit. Р. 214).
84
непризнания этого факта Советом СБСЕ, прозвучавшие на его заседаниях в Берлине 19—20 июня1.
Итак, встреча экспертов в Женеве, первая встреча СБСЕ, посвященная этой теме2, происходила в обстановке начала войны в Югославии. На этой встрече три комиссии работали по трем мандатам, сформулированным в Парижской хартии. Первая комиссия, которой было поручено обменяться взглядами на практический опыт защиты национальных меньшинств государственными и международными структурами, составила перечень усилий, предпринимавшихся каждым из государств в этой области3. Вторая комиссия дала оценку выполнению соответствующих обязательств СБСЕ — в частности, констатировала, что в политике Болгарии по отношению к тюркоязычному меньшинству произошли позитивные изменения, а в политике Румынии по отношению к венгерскому меньшинству остаются неприемлемые элементы4. Наконец, работа Третьей комиссии, получившей мандат на выработку новых мер для улучшения выполнения обязательств СБСЕ, дала в основном три ощутимых результата. Во-первых, участники Женевской встречи договорились о том, что проблемы, связанные с национальными меньшинствами, «не представляют собой исключительно внутреннего дела каждого государства»5. Во-вторых, отчет рекомендует информировать Бюро СБСЕ по вопросам свободных выборов6 обо всех всенародных выборах, в том числе на региональном и местном уровнях, в частности в регионах, где живут национальные меньшинства, и посылать на них наблюдателей7. И наконец, был ”1
См. об этом нашу статью: La CSCE et la Communaute du Monde // Paris, 1-er trimestre 1992. P. 219—233.
2
Показательно, что заключительный отчет был составлен делегациями стран—членов НАТО и ЕЭС: это свидетельствует, во-первых, о том, что группа стран Варшавского договора перестала существовать, во-вторых, о расколе в группе нейтральных и неприсоединившихся стран и, в-третьих, о специфичности этого вопроса, при обсуждении которого линия раскола проходила совсем не так, как при обсуждении других вопросов тематики СБСЕ.
3
См. параграф 7 раздела IV Женевского документа.
4
См.: Widmer Р. Op. cit. Р. 216.
5
Параграф 3 раздела II Женевского документа.
6
Это Бюро, находящееся в Варшаве, было учреждено Парижской хартией. После пражского совещания СБСЕ, проходившего в январе 1992 г., оно было переименовано в Бюро демократических институтов и прав человека.
7
См. параграф 5 раздела III Женевского документа.
85
подчеркнут интерес к сотрудничеству, невзирая на государственные границы . Принятый в Женеве документ грешит в основном по двум пунктам* 2. С одной стороны, он не упоминает прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, в языковом и образовательном плане, хотя с тех пор, как был принят Заключительный акт, эти вопросы возведены в ранг принципов. С другой стороны, он не предлагает конкретного механизма защиты3, несмотря на то что к тому моменту поступило три предложения — от нейтральных и неприсоединивших- ся стран, от «pentagonale» и от Соединенных Штатов.
Такой механизм был в конце концов принят на третьей сессии Конференции по человеческому измерению, проходившей в Москве 10 сентября—4 октября 1991 г., послужившей поводом для существенного укрепления механизма человеческого измерения и недвусмысленного его распространения на «защиту и расширение прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам»4. Постановления, принятые в Москве для укрепления механизма человеческого измерения, сводились в основном к учреждению нового инструмента: миссий экспертов (по приглашению или с согласия государства, в которое направляется миссия) и миссий наблюдателей (СБСЕ может официально назначать такие миссии даже без учета мнения государства, куда направляется миссия), которые могут расследовать положение на местах и участвовать в решении проблемы, связанной с несоблюдением принятых обязательств по человеческому измерению в рамках СБСЕ5.
Из всех учрежденных с этой целью миссий самым наглядным примером того, какую роль может играть СБСЕ в выявлении нарушений прав меньшинств, являются миссии, посланные на территорию бывшей Югославии. Первую миссию наблюдателей Комитет старших должностных лиц СБСЕ (Comity des Hants “1
См. параграф 4 раздела VII Женевского документа.
2
См.: Widmer Р. Op. cit. Р. 216—217.
3
См. также размышления на эту тему Сильвио Маркус-Хельмонса: Marcus-Helmons S. Les droits des minorit£s et la lib re circulation des personnes: limites et contraintes // CSCE: Results and Prospects. Труды коллоквиума, организованного Центром оборонных исследований, Брюссель, 14—15 февраля 1991 г. Р. 165—173.
4
Параграф 37 Московского документа.
5
См. параграфы 3—16 Московского документа. См. также комментарий В.-И. Гебали: Ghebali V.-Y. La CSCE a la recherche de son rdle dans la nouvelle Europe? // Editions de 1'UniversiU de Bruxelles, 1992. P. 64—65.
86
Fonctionnaires de la CSCE)1 постановил создать с 22 октября 19 9 2 г. по предложению Соединенных Штатов; миссия работала во всех республиках бывшей Югославии, в том числе в Воеводине и в Косово, с 12 февраля 1991 до 10 января 1992 г., а также накануне выборов 31 мая 1992 г. Эта миссия, состоявшая из представителей варшавского Бюро по вопросам свободных выборов2, Европейского сообщества и Конференции по Югославии, представила два доклада в Комитет старших должностных лиц, в Совет СБСЕ и лорду Каррингтону, председателю Конференции по Югославии3. Докладчик, посол Лукино Кортезе, директор варшавского Бюро по вопросам свободных выборов, особо подчеркнул трудности, с которыми столкнулись национальные меньшинства во время конфликта4. Другой миссии СБСЕ было поручено побывать с 27 мая по 2 июня в Белграде и Косово, на этот раз в соответствии с механизмом по наблюдению за необычными видами военных действий, которое обеспечивалось Консультативным комитетом Центра по предотвращению конфликтов в Вене5. Докладчик, канадский посол Дэвид Пил, подчеркнул связь между военной напряженностью в этом регионе и наличием скрытой конфронтации между албанским большинством и сербской администрацией6, впервые указав, что механизмы СБСЕ, относящиеся к вопросам безопасности, могут позволить и отслеживание проблем национальных меньшинств. Наконец, о положении албанского, мусульманского и венгерского меньшинств в регионах Косово, Санджака и Воеводины (все три — на территории Сербии) прямо говорилось на саммите глав государств и правительств СБСЕ, Он состоит из представителей министров иностранных дел государств— членов СБСЕ. Имеет право принимать политические решения между созывами Совета СБСЕ.
2
И действительно, Московский документ (2-й абзац параграфа 4) предусматривает сотрудничество между различными институтами для проведения миссий экспертов и наблюдателей: «Таким образом, институты СБСЕ будут, в случае необходимости, оказывать надлежащую поддержку такой миссии».
3
См.: Ghebali V.-Y. La crise yougoslave devant la CSCE // M£langes a la memoire du Professeur Apollis. Paris: Pedone, 1992.
4
Cm.: CSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights. Activities Report // Warsaw. 1992. May 1.
5
О Центре по предотвращению конфликтов и механизме по наблюдению за необычными военными действиями, созданном Венским документом 1990 г. о мерах доверия и безопасности, см.: Ghebali V.-Y. Une institution еигорёеппе nouvelle: le Centre de la CSCE sur la prevention des conflicts en Europe. Paris: Le Trimestre du Monde, 1-er trimestre 1991. P. 123—129.
6 Cm.: CSCE Helsinki ’92. Helsinki. 1992. No. 4. Juin. P. 8.
87
проходившем 9—10 июля 1992 г. в Хельсинки, и саммит высказался за то, чтобы послать миссии в эти три региона1; эти миссии выехали лишь в октябре 1992 г., когда вероятность взрыва в этих регионах и последующей интернационализации конфликта резко возросла2.
Итак, югославский кризис представляет собой — наряду с войной в Нагорном Карабахе, о которой мы тут не будем говорить, — первое, опытное поле для опробования новой роли СБСЕ в том, что касается защиты прав национальных меньшинств, грустное поле. Из всего этого можно извлечь три урока. Первый — о том, что «измерения» безопасности и прав человека, влияющие на проблемы национальных меньшинств, тесно взаимосвязаны; следовательно, необходимо увязывать между собой постановления и учреждения СБСЕ, относящиеся к мерам доверия и безопасности (механизм, касающийся необычных видов военных действий, миротворческие операции, Центр по предотвращению конфликтов) и к человеческому измерению (механизм человеческого измерения, Бюро демократических институтов и прав человека). Второй урок: основной задачей СБСЕ в этой области, помимо разработки общих принципов, может стать посылка миссий экспертов и наблюдателей, деятельность которых будет дополнять собой деятельность миссий Европейского союза3 или Комиссии ООН по правам человека4; из этих миссий может впоследствии вырасти международная система защиты прав меньшинств. И наконец, случай Югославии показывает, что действия СБСЕ чаще всего оказываются запоздалыми и неэффективными, а значит, институты СБСЕ нуждаются в укреплении. Некоторые решения, принятые Хельсинкским саммитом 9—10 июля 1992 г., позволяют надеяться на такого рода изменения.
Превентивная дипломатия и национальные меньшинства
После того как Генеральный секретарь ООН Бутрос Бутрос- Гали опубликовал свою «Программу мира», основным лозунгом политических подходов, ставящих своей целью мир и безопас“I
См.: Заявление о югославском кризисе. Хельсинки, июнь 1992 г., параграф 5.
2
См.: Lutard С. Vojovodine, Sandjak, Kosovo. Le feu sous la cendre en Yougoslavie // Le Monde diplomatique. Paris. 1992. Novembre. P. 23.
3
Как, например, миссии по расследованию событий (missions d'enqu€te), посланные им в Турецкий Курдистан.
4
Как в случае Югославии, где миссии представителя ООН Тадеуша Мазовецкого чередовались с миссиями СБСЕ.
88
ность в Европе после окончания «холодной войны», стала «превентивная дипломатия». Хельсинкский саммит СБСЕ попытался, в качестве региональной организации ООН, наладить такую дипломатию в рамках главы VII Хартии. С этой целью было предпринято несколько инициатив:
— учреждение Хельсинкским саммитом, по предложению Нидерландов, поста Верховного комиссара по национальным меньшинствам; этот пост был доверен бывшему нидерландскому министру иностранных дел Максу ван дер Стулу;
— посылка трех долгосрочных миссий в те районы Сербии, где имеются трудноразрешимые проблемы с национальными меньшинствами1: в Косово (население на 90% состоит из албанцев), Санджак (большинство населения — так называемой мусульманской национальности) и Воеводину (более 15% населения составляет венгерское меньшинство) (сентябрь 1992 — июнь 1993 г.);
— посылка миссии наблюдателей в Македонию (с сентября 1992 г.)2, для того чтобы предотвратить распространение конфликта на эту страну и скоординировать свои действия с 1 ООО «голубых касок», введенных туда с той же целью3;
— посылка в марте 1993 г. еще двух миссий, в Эстонию и Латвию, для поиска мирного решения проблемы русскоязычного населения, проживающего в этих двух Балтийских государствах.
Пост Верховного комиссара по делам национальных меньшинств был задуман как совершенно новый институт СБСЕ, как «инструмент для предупреждения конфликтов на возможно более ранней стадии»4. Его функции прямо связаны с «измерением безопасности» проблемы национальных меньшинств, поскольку он вмешивается, «когда напряженность, связанная с проблемами национальных меньшинств, грозит перерасти в конфликт в зоне “1
18 гражданских лиц и 1 военный. Их миссия прервалась, после того как Сербия 15 июня 1993 г. в одностороннем порядке приняла решение не продлевать их визы.
2
3 гражданских лиц и 5 военных.
3
Примерно 700 «голубых касок» из Северной Европы и 300 американцев (единственные наземные силы США, задействованные в числе 25 000 «голубых касок» миротворческих сил ООН в бывшей Югославии). Ввод «голубых касок» ООН в Македонию с превентивной целью — случай беспрецедентный. Вспомним, что в ноябре 1992 г. боснийский президент Изетбегович попросил ввести войска в Боснию-Герцеговину с подобной же целью — для предупреждения конфликта. Никто ему не ответил.
4
Хельсинкские постановления, глава II, параграф 2.
89
СБСЕ, угрожающий миру, стабильности или отношениям между государствами-участниками», но упоминается и человеческое измерение, поскольку он может пользоваться помощью варшавского Бюро демократических институтов и прав человека1. Его полномочия не распространяются на индивидуальные случаи, уже охватываемые механизмом человеческого измерения2; это еще одно подтверждение коллективного характера прав национальных меньшинств.
Действуя под эгидой Комитета старших должностных лиц и Совета СБСЕ, Верховный комиссар может предпринимать четыре вида действий в нарастающей степени в зависимости от создавшейся ситуации.
Он может:
— получать и собирать всевозможную информацию по проблемам национальных меньшинств, в том числе и от неправительственных организаций, а также специальные доклады от непосредственно заинтересованных сторон; единственное ограничение для такого сбора информации касается организаций, практикующих или публично оправдывающих терроризм или насилие3;
— проводить опросы на местах для оценки ситуации4; он может использовать эти опросы для того, чтобы стимулировать диалог, доверие и сотрудничество между сторонами;
Верховного комиссара могут сопровождать эксперты в случае: — если он констатирует prima facie угрозу потенциального конфликта; он может поднять тревогу, и в результате этот пункт будет включен в повестку дня КСДЛ; Верховный комиссар доложит Комитету причины объявления тревоги5;
— если необходимо рекомендовать быстрые действия, чтобы установить новые контакты и приступить к новым консультациям на основе мандата, который должет будет сформулировать КСДЛ.
Итак, деятельность Верховного комиссара СБСЕ по делам См. там же, глава I, параграф 23, и глава II, параграф 10.
2
См. там же, глава III, параграф 5с.
3
См. там же, глава II, параграф 25.
4
Только с согласия того государства, о котором идет речь. Если государство откажется допустить эту миссию, Верховный комиссар сообщает об этом Комитету старших должностных лиц (КСДЛ). Можно предположить, что в таком случае последний примет решение о посылке миссии наблюдателей.
5
Если какое-либо государство сочтет, что необходимо срочно созвать КСДЛ, оно может задействовать механизм срочного созыва, созданный на Берлинском совещании в июне 1991 г., позволяющий созыв Комитета по просьбе тринадцати государств не позднее чем через несколько дней.
90
национальных меньшинств вписывается в более широкий подход, с помощью которого эта паневропейская организация пытается играть первую роль в предотвращении новых конфликтов, не будучи в силах урегулировать уже возникшие (в бывшей Югославии, Грузии, Нагорном Карабахе, Таджикистане)1. Для предотвращения конфликтов необходимо, в частности, рассматривать безопасность и права человека как взаимозависящие проблемы. Защита индивидуальных прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, становится одной из составляющих политики глобальной безопасности. Поэтому первые инициативы Верховного комиссара сконцентрированы на нескольких ситуациях, в которых статус национальных меньшинств угрожал стать проблемой не только с точки зрения прав человека, но и с точки зрения безопасности: Балтийские государства (в особенности Латвия и Эстония), словацко-венгерские отношения, Румыния, Македония, Албания и цыгане2. В каждой из этих проблем М. ван дер Стул старался сформулировать следующие основные принципы:
— важность сношений и диалога между всеми действующими лицами, которые только могут найтись, — особенно между каким- нибудь департаментом, специально занимающимся вопросом национальных меньшинств, и омбудсменом или посредником, выполняющим такие же функции;
— необходимость участия в урегулировании напряженности по вопросу меньшинств всех заинтересованных лиц, что требует наличия эффективных открытых демократических институтов;
— интеграция меньшинств в более широкое общество в рамках государства на основе признания права меньшинств на самобытность.
Мы пока что видели лишь первые шаги деятельности Верховного комиссара, но уже сегодня мы можем сделать три вывода:
— с одной стороны, создание такого института было необходимо, а то влияние, которое он имел на смягчение напряженности между эстонцами и русскими, свидетельствует о его полезности;
— с другой стороны, законные права национальных меньшинств не должны приводить к пересмотру государственных границ; как показали югославские события, любые категорические требования в этом направлении могут лишь ослаблять без“I
См.: Lucas М. (ed.). The CSCE in the 1990s: Constructing European Security and Cooperation. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1993.
2
См. выступление M. ван дер Стула на совещании, посвященном выполнению соглашений по человеческому измерению в Варшаве 28—29 сентября 1993 г.
91
опасность Европы; единственное реалистическое мирное решение лежит на пути постепенного стирания границ в целях строительства единой Европы;
— наконец, деятельность СБСЕ рискует оказаться ограниченной, если оно не сможет передать эстафету на другие уровни, а именно если Совет Европы не примет юридически обязывающую конвенцию1, а Европейский союз не будет смелее вмешиваться в экономические и социальные решения, позволяющие смягчать напряженность на местах. Первостепенный приоритет в этом плане следует, по-видимому, отдать напряженности между словаками и венграми; неясно, принесет ли Пакт стабильности, о котором шли переговоры (по инициативе французского премьер-министра Балладюра), все необходимые решения для этой проблемы .
Как бы то ни было, учреждение поста Верховного комиссара по национальным меньшинствам представляет собой кульминационную точку почти двадцатилетней эволюции, восходящей к первым югославским предложениям на эту тему во время подготовительных консультаций при редактировании Заключительного акта Хельсинкского совещания в 1973 г. Во-первых, само содержание понятия прав национальных меньшинств эволюционировало в сторону расширения и постепенного согласования с духом статьи 2 7 Международного пакта о гражданских и политических правах. Во-вторых, за этим понятием, сначала понимавшимся как относящееся исключительно к индивидуальным правам, стали все более и более явно признавать коллективное измерение. В-треть- их, это коллективное измерение стало пониматься прежде всего как «измерение безопасности», дополняющее собой проблематику «человеческого измерения», больше воспринимавшуюся как проблематика индивидуальных прав. В-четвертых, формулировке прав меньшинств и обязательств государств в этой области был посвящен беспрецедентно подробный документ на Копенгагенской сессии Конференции по человеческому измерению в 1990 г. В-пятых, государства—члены СБСЕ согласились считать, что права национальных меньшинств, как и права человека, не являются сугубо внутренним делом. В-шестых, появились механизмы защиты прав меньшинств — механизм человеческого измерения, созданный в Вене в 1989 г. и закрепленный в Москве в 1991 г., * 2
“I
В этом духе был составлен дополнительный протокол к Европейской конвенции прав человека, но единодушия среди государств—членов Совета Европы достичь не удалось.
2
См.: Ghebali V.-Y. Le lancement de la Conference sur le Pacte de Stability en Europe. Paris: Defence nationale, 1994. Octob re.
92
полностью применимый к защите прав меньшинств, и пост Верховного комиссара по делам национальных меньшинств, учрежденный в Хельсинки в 1992 г. Гибкость этих механизмов позволяет частично обходить неповоротливые процедуры принятия решений, основанные на консенсусе1, поскольку, чтобы привести их в движение, достаточно инициативы ограниченного числа государств в первом случае и одного Верховного комиссара — во втором. Наконец, все эти постановления и учреждения удалось применить конкретно, на практике — в случае Балтийских государств и войны в Югославии, в частности чтобы предупредить распространение вооруженного конфликта на регионы Македонии, Косово, Санджака и Воеводины.
1
Или на «консенсусе минус один», позволяющем со времен Парижского совещания (январь 1992 г.) принимать решения без согласия государства, о котором идет речь в решении.
Эстер Барбе и Нора Саинз
ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО:
ЛАБОРАТОРИЯ СБСЕ/ОБСЕ1
Масштабные перемены, происшедшие в международной системе, особенно на Европейском континенте, выдвинули на первый план проблемы безопасности. Речь идет как о теории, в которой необходимо переосмыслить понятие самой безопасности и проблему источника современных угроз* 2 3, так и о роли тех институтов, приоритетной задачей которых является укрепление безопасности. Представляется, что в этом контексте Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), чем дальше, тем больше становится ключевым институтом в современном процессе перемен на континенте. Подобная роль этой организации объясняется тем, что:
— СБСЕ/ОБСЕ — единственная институциональная структура, объединяющая все государства евразийско-атлантического ареала (от Владивостока до Ванкувера)^;
— СБСЕ/ОБСЕ является единственным местом для диалога и сотрудничества по многим проблемам (безопасность, экономика, права человека) и тем самым связывает между собой все страны- участницы;
— СБСЕ/ОБСЕ — единственный институт, создавший и развивший механизмы для предотвращения угрожающих безопасности конфликтов разного типа и способы управления ими на всем гигантском европейском пространстве.
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) с 1 января 1995 г. стало называться Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В данной работе используется единый термин СБСЕ/ОБСЕ, за исключением деятельности, осуществляемой после 1 января 1995 г., когда применяется только аббревиатура ОБСЕ.
2
По данному вопросу см., например: Booth К., Wheeler N. Contending Philosophies About Security in Europe // Maclnnes C. (ed.). Security and Strategy in the Europe. L.: Routledge, 1992, и Buzan B. People, States & Fear. An Agenda for International Security in the Post Cold War Era. L.: Harvester Wheatsheaf, 1992, или статью: Thomas C. New Direction in Thinking About Security in the III World // Booth K. (ed.). New Thinking About Strategy and International Security. L.: Harper, 1991. P. 267-290.
3
Сегодня в СБСЕ/ОБСЕ состоят 54 страны. Членство Югославии (Сер- бия-Черногория) приостановлено. Андорра (ставшая членом ООН в июле 1993 г.) не подавала просьбу о приеме.
94
Целью данной работы является изучение именно этого последнего аспекта — превентивной дипломатии — и ее применения в постсоветском пространстве. Выбор данного региона не случаен. Включение республик исчезнувшего Советского Союза в СБСЕ/ОБСЕ оказало серьезное воздействие на структуру и функционирование организации.
Прежде всего с точки зрения структуры СБСЕ/ОБСЕ вхождение бывших советских республик обернулось, во-первых, эффектным ростом количества участников — ныне это 54 государства; во-вторых, трансформацией пространства СБСЕ/ОБСЕ из прежнего, евроатлантического в новое — евразийско-атлантическое. Одновременно заметно ухудшилось функционирование СБСЕ/ОБСЕ. Действительно, большое число участников, неопытность «новичков» в европейских делах и их собственные специфические проблемы — все это влияет на такие важные аспекты деятельности организации, как механизм принятия решений (они принимаются более медленно) и уровень представительства (молодые государства не в состоянии нести расходы на дипломатический аппарат)1.
В контексте отмеченных перемен данная работа сфокусирована на теме превентивной дипломатии в постсоветском пространстве. Такая формулировка темы подводит нас к следующим вопросам:
1. Существующие в рамках СБСЕ/ОБСЕ методы превентивной дипломатии и инструменты управления кризисами.
2. Применение этих методов и инструментов в случае конфликтов и кризисов, возникших в постсоветском пространстве.
3. В качестве заключения: оценка степени функциональности и пределов использования вышеназванных методов.
1. Новое в рамках СБСЕ/ОБСЕ — механизмы и инструменты превентивной дипломатии
В 1989 г., после исчезновения Берлинской стены, СБСЕ/ОБСЕ упрочило свою позицию уникального общеевропейского форума. Наряду с ЕС, НАТО и Советом Европы Совещание превратилось в один из ориентиров институционального оформления новой “I
Что касается отношений СБСЕ/ОБСЕ и новых республик постсоветского пространства, см.: Zagorski A. The CSCE and the Euro-Asian Challenge // Lucas M.R. (ed.). The CSCE in the 1990s: Constructing Security and Cooperation. Baden-Baden: Inst, for Peace and Security Policy at the University of Hamburg, 1993. P. 279—292.
95
Европы1, особенно со времени подписания Парижской хартии для новой Европы2.
Югославский кризис оказался первым вызовом, с которым столкнулось СБСЕ/ОБСЕ после подписания вышеупомянутой Хартии3. Война, возникшая на территории бывшей Югославии, стала испытанием эффективности Совещания как общеевропейского института безопасности. Ограниченные ресурсы СБСЕ/ОБСЕ не позволили новому институту осуществить действенное вмешательство в процесс управления этим кризисом. Это подтолкнуло, особенно после Хельсинки II (июль 1992 г.), появление новых инструментов, с упором на методы превентивной дипломатии.
Структура превентивной дипломатии СБСЕ/ОБСЕ выстраивается в зависимости от самого конфликта, иными словами, на основе тех фаз (возникновение — развитие), через которые конфликт проходит. С учетом конфликтного процесса в целом и в связи с ролью каждой фазы, порождающей проблему в рамках сферы действия ОБСЕ, Организация использует различные инструменты, т.е. средства, адекватные фазам предотвращения, управления и разрешения конфликта мирным путем. Эти инструменты применяются на этапах раннего предупреждения о ситуации, которая может перерасти в кризис, предотвращения конфликта и управления кризисом (см. таблицу в конце статьи).
— На первом этапе, раннего предупреждения, основным инструментом СБСЕ/ОБСЕ являются политические консультации, которые проводятся как в рамках структур СБСЕ/ОБСЕ, так и его Т
Относительно проектов и возможных сценариев архитектуры Новой Европы существует большая аналитическая литература. Среди прочих упомянем: Attina F. Instituzioni Multilateral! е Scenario della Politica Europea degli anni novanta. Catania: Dipatimento di Studi Politici, 1993; Barbe E., Grasa K. La Comunitat Europea i la Nova Europa. Barselona: Ed. Bofill, 1992; Hyde Price A. European Security Beyond the Cold War. L.: Sage, 1991.
2
Парижская хартия, нацеленная на утверждение демократии, мира и единства на континенте, обогатила СБСЕ рядом структур и институтов. Институциональные рамки, определенные Хартией, включали: Секретариат, Центр по предотвращению конфликтов, Бюро по вопросам свободных выборов, позднее преобразованное в Бюро по демократическим институтам и правам человека. Были созданы также механизмы политических консультаций: Совет министров, Комитет старших должностных лиц (КСДЛ), Совещание глав государств или правительств и регулярное проведение Совещаний по контролю.
3
Подход СБСЕ/ОБСЕ к югославскому конфликту затронут в работах: Remacle Е. La CSCE et la Communaut£ europdenne face an conflit yougoslave // Le Trimestre du Monde, 1992, ler Trimestre. P. 219—233, idem. Yugoslav Crisis as a Test Case for CSCE's Role in Conflict Prevention and Crisis Managment // Lucas M.R. Op. cit. P. 109—124.
96
постоянно действующих институтов1. Что касается структур, то наиболее важным средством оценки в рамках процесса СБСЕ/ОБСЕ являются Совещания по преемственности или продолжению, как это показали встречи Хельсинки II (июль 1992 г.)2 и в Будапеште (декабрь 1994 г.)3. Важно также указать на специализированные встречи по вопросам безопасности (меры по поддержанию доверия и безопасности [МПДБ])4 и по проблемам человеческого измерения (механизм по человеческому измерению)5, поскольку именно на них оценивается выполнение обязательств СБСЕ/ОБСЕ. Регулярные консультации, ставшие практикой в СБСЕ/ОБСЕ после принятия Парижской хартии, дополняют описание структуры раннего предупреждения в рамках организации6.
Политические консультации, которые ведутся в рамках структур Совещания и которые представляют собой раннее выявление конфликтов, таковы: Совещания СБСЕ по контролю, встречи, проводимые в рамках Совещания, и постоянные консультации, организуемые с момента создания СБСЕ (1990).
2 Более подробную информацию по этому вопросу см. в статье: Ghebali V.Y. Las decisiones de la Reuni6n de la cumbre de la CSCE en Helsinki (julio 1992) representaron un paso adelante // Revista de la OTAN. 1992. Agosto. P. 3—8.
3 Cm.: CSCE Budapest Document 1994. Towards a Genuine Partnership in a New Era.
4 С точки зрения безопасности важнейшим инструментом раннего предупреждения являются меры по поддержанию доверия и безопасности, которые со времени Хельсинки II обсуждаются на Форуме по сотрудничеству в вопросах безопасности. Эти меры являются и ориентирами в деле укрепления доверия и безопасности и выражением обязанности государств воздерживаться от использования угроз или применения силы в отношениях друг с другом. Механизм МПДБ был использован в качестве индикатора раннего оповещения о назревающем в Югославии военном конфликте. Отказ Белграда в декабре 1991 г. предоставить данные о размещении войск свидетельствовал о производимой им перегруппировке сил и о его потенциально агрессивных намерениях (см.: Hoynck W. La CSCE potencia su capacidad en la prevencion de conflictos //Revista de la OTAN. 1994. Abvil. P. 16—22).
3 Именно так после Венского совещания (1986—1989) стала именоваться совокупность решений по проблемам человеческого измерения. Развитию этого механизма были посвящены конференции в Париже (1989), Копенгагене (1990) и Москве (1991).
6На основе Парижской хартии, решений Хельсинки II, а также Стокгольмского (декабрь 1992 г.) и Римского (декабрь 1993 г.) совещаний и Будапештской встречи по контролю (1994) были учреждены следующие механизмы политических консультаций: Высший совет, на котором лежит главная ответственность по раннему предупреждению и выявлению проблем, возникающих в зоне действия ОБСЕ; Постоянный комитет, единственный регулярно действующий механизм консультаций. Обратившись к председателю Совета министров СБСЕ/ОБСЕ, любое государство может поставить на обсуждение тот или иной вопрос, в качестве ли непосредственного участника конфликта с какой-либо страной или же как один из свидетелей разногласий между странами (см.: Documento de Helsinki II. Cap. Ill, parag. 5; CSCE Budapest Document 1994. Decisiones 1, parags 16—24).
97
7 1814
— Среди институциональных инструментов СБСЕ/ОБСЕ в сфере раннего оповещения выделяются консультации, проводимые Верховным комиссаром СБСЕ/ОБСЕ по делам национальных меньшинств, Генеральным секретарем, а также Бюро по демократическим институтам и правам человека, Центром по предотвращению конфликтов и Парламентской ассамблеей. Верховный комиссар по делам национальных меньшинств является одной из ключевых фигур при выявлении проблем, которые могут породить конфликты. За три года, истекшие с момента создания этого поста, была проведена значительная работа. К концу 1995 г. Верховный комиссар работал в Албании, Казахстане, Киргизии, Эстонии, Македонии, Венгрии, Словакии, Латвии, Румынии, Украине, изучал положение цыган в сфере действия СБСЕ/ОБСЕ1. Хотя в функции Генерального секретаря СБСЕ/ОБСЕ входит прежде всего текущее управление делами, подобные полномочия превращают его в один из инструментов раннего выявления конфликтных проблем, тем более что он может действовать как представитель Председателя Совета министров СБСЕ. Показывая свой интерес к инициированию и развитию политических консультаций и контактов с недавно принятыми в состав СБСЕ/ОБСЕ государствами, в 1994 г. Генеральный секретарь посетил пять стран Центральной Азии (Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан). То же самое можно сказать и об активности других институтов, действия которых дополняли деятельность организации в указанной области2.
Относительно деятельности Верховного комиссара см.: Chigas D. Bridging the Gap Between Theory and Practice: CSCE High Commissioner on National Minorities // Helsinki Monitor, 1994, vol. 5, No. 13. P. 27—41, и aagman R. The High Commissioner on National Minorities. An Analysis of the Mandate and the Institutional Context // Bloed A. (ed.). The Challenges of Change: The Helsinki Summit of the CSCE and Its Aftermath. Dordrecht/Boston/London: Martinus Nijhoff Publishers, 1994. P. 95—111.
2Бюро по демократическим институтам и правам человека оказывает поддержку деятельности Верховного комиссара по делам национальных меньшинств, предоставляя имеющиеся в распоряжении Бюро средства и информацию о положении национальных меньшинств; Центр по предупреждению конфликтов (ЦПК), через свой Консультативный комитет, ныне упраздненный с передачей функций, прежде всего МПДБ, создает возможность для артикуляции механизмов консультаций и сотрудничества относительно необычно высокой военной активности; наконец, Парламентская ассамблея, евразийско-атлантический парламентский форум, позволяет обсуждать ситуации, потенциально чреватые кризисом. Относительно роли ЦПК см.: Ghebali V.Y. Une institution еигорёеппе nouvelle: le Centre de la CSCE pour la ргёvention des conflicts en Europe // Le Trimestre du Monde, 1991, 1 trim. P.123—129; Greco E. The Role of the Conflict Prevention Centre in the Security System of the CSCE // Helsinki Monitor. 1994. Vol. 5, No. 11. P. 5—15. Относительно роли Парламентской ассамблеи СБСЕ/ОБСЕ в евроатлантическом регионе см.: ВагЬё Е., Sainz N. The CSCE-Assembly as a Stabilizer of Peace / Kuper E. (ed.). Parliamentarism in International Relations (готовится к печати).
98
Важным инструментом в этой области, причем за пределами формальных рамок СБСЕ, служат неправительственные организации (НПО), которые дополняют собой деятельность Совещания1. Особенную активность они проявляют в плане проведения семинаров и встреч по проблемам человеческого измерения. Здесь следует упомянуть участие 7 1 неправительственной организации в семинаре о положении цыган (сентябрь 1994 г.). Часть этих семинаров проводится в Азии2, что облегчает контакты между местными НПО, связанными с проблематикой человеческого измерения, и занятыми тем же правительственными чиновниками и экспертами.
— В области предотвращения конфликтов существуют различные средства, с помощью которых может действовать СБСЕ/ОБСЕ. Как механизмы, работающие в сфере безопасности* 3 и гуманитарных проблем4, так и действия, осуществляемые Верховным *В числе примеров НПО, деятельность которых весьма близка к целям хельсинкского процесса, назовем Ассамблею граждан Хельсинки и Женщин Хельсинки.
п
^Например: Семинар по вопросам человеческого измерения, Алматы, апрель 1994 г.
3Отстаивая безопасность, СБСЕ использует два основных механизма. Одним из них является Венский механизм относительно неконвенциональных видов военной активности (1990), основной задачей которого является уменьшение риска в зоне СБСЕ. Именно благодаря наличию данного механизма через ЦПК, СБСЕ направило в Косово миссию военных наблюдателей, цель которых состояла в том, чтобы информировать о ситуации в этом регионе. Другим инструментом является Берлинский механизм (1991), предусматривающий меры на случай чрезвычайных ситуаций. Берлинский механизм был задействован в югославском конфликте и после обострения конфликта в Нагорном Карабахе. В апреле 1993 г. состоялась чрезвычайная встреча Комитета старших должностных лиц, проведенная в соответствии с документом Берлинского совещания, приложение 2, о чрезвычайных ситуациях. Опираясь на поддержку Албании, Германии, Бельгии, Боснии, Дании, Испании, Франции, Греции, Венгрии, Ирландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Португалии, Великобритании и Турции, Азербайджан потребовал привести в действие механизм консультаций и сотрудничества по вопросам чрезвычайных ситуаций (CSCE/3-EM/Diario. 1993. 26 de abril). На Совещании по контролю в Будапеште (1994) был принят «Кодекс поведения приименительно к военно-политическим аспектам безопасности», в котором предложены нормы ответственного и ориентированного на сотрудничество поведения в сфере безопасности (см.: Budapest Document, Decisiones IV).
4Что касается прав человека, то СБСЕ/ОБСЕ использует Московский механизм (1991), позволяющий изучать и рассматривать положение дел в этой области. Управление данным механизмом возложено на Бюро по демократическим институтам и правам человека СБСЕ/ОБСЕ. С момента своего возникновения данный механизм использовался для изучения гуманитарных проблем на территории бывшей Югославии, Эстонии и Молдовы. В случае с Эстонией Московский механизм, по просьбе этой страны, был приведен в действие, чтобы определить соответствие эстонского законодательства общепринятым нормам прав человека (декабрь 1992 г.). В Молдове, также по инициативе самой страны, механизм был задействован для изучения молдавского законодательства и положения с правами этнических меньшинств (январь—февраль 1993 г.).
99
комиссаром по делам национальных меньшинств (который к функции раннего предупреждения добавляет и функцию предотвращения конфликтов), Председателем Совета министров СБСЕ/ОБСЕ* и миссиями по изучению и информированию, являются поистине краеугольными камнями превентивной демократии.
Важнейшим инструментом в деле предотвращения конфликтов являются миссии СБСЕ/ОБСЕ, в обязанности которых входят наблюдение и сбор информации о кризисе или конфликте на месте. Полномочия, состав и способ действий этих миссий позволяют им проявлять большую гибкость в своих действиях. Они превратились в наиболее используемый инструмент. В 1993 г. было организовано восемь таких миссий, в 1994 г. — девять, пятнадцать продолжали действовать ив 1995 г. Полномочия всех миссий были продлены до 3 1 декабря 1995 г. Миссии СБСЕ/ОБСЕ сотрудничают с представителями других международных организаций: Организацией Объединенных Наций (Абхазия и Таджикистан), Советом Европы (Латвия), ЕС (республики бывшей Югославии) и т.д. Все миссии, действующие на территории стран — членов СНГ, координируют свою дипломатическую деятельность с посредническими усилиями Российской Федерации. На данный момент миссии действуют в Грузии, Молдавии, Таджикистане, Эстонии, Латвии и Украине.
Наконец, следует хотя бы вкратце упомянуть о специальном механизме по урегулированию разногласий мирными средствами, соглашения по которому находятся в процессе ратификации* 2.
— В области управления кризисом практика СБСЕ/ОБСЕ, относящаяся к нашей теме, позволяет говорить о миссиях по сбору информации и изучению ситуации, специальных группах контроля, миссиях по поддержанию мира и миссиях по сотрудничеству с другими международными организациями. Миссии по связи и информации, наряду с работой по предотвращению конфликта, осуществляют вмешательство и в управление кризисом. Миссии, образованные на основе консенсуса внутри Высшего Председатель Совета министров СБСЕ/ОБСЕ является ключевой фигурой в вопросах превентивного вмешательства в конфликтную ситуацию. Он или его личный представитель, которого он назначает особо, должны информировать о мерах, принятых ввиду кризиса или конфликта, Высший совет и Постоянный комитет СБСЕ/ОБСЕ. В этой сфере Председатель Совета СБСЕ/ОБСЕ делает очень много. В качестве примера можно указать на посещение им Грузии, Азербайджана и Армении (1993 г.).
2
Конвенция о применении и арбитраже СБСЕ/ОБСЕ, принятая в ходе Стокгольмского совещания (декабрь 1992 г.), была подписана 34 странами и ратифицирована к декабрю 1994 г. 12 странами.
100
совета или Консультативного комитета Центра по предотвращению конфликтов1, призваны собрать информацию на месте событий, составить конфиденциальный отчет и представить его для обсуждения в рамках Высшего совета или Центра по предотвращению конфликтов. Примером использования данного инструмента может служить миссия, направленная в Нагорный Карабах в начале 1992 г. Отчет миссии инициировал самый настоящий «план» мирного урегулирования кризиса2, о чем будет сказано ниже. Другим специфическим инструментом является создание специальных групп кризисного управления3, в задачу которых входят поддержка и консультирование высших органов СБСЕ/ОБСЕ (Высший совет, Постоянный комитет, Председатель Совета министров) по всем аспектам кризиса, с связи с которым они были созданы. Для обеспечения эффективной работы специальных групп в их состав входят представители ограниченного числа стран (не более 12), включая страны руководящей «тройки» Совещания. В рамках СБСЕ/ОБСЕ действует подобная группа, так называемая Минская группа, призванная управлять конфликтом в Нагорном Карабахе4. Наиболее важной составляющей механизмов СБСЕ/ОБСЕ по управлению кризисом являются миссии по поддержанию мира, которые на практике еще не начали действовать5. Совещание может предпринимать действия по поддержанию мира — от создания миссий по наблюдению и сдерживанию до развертывания вооруженных сил — в случае как внутреннего, так и межгосударственного конфликта. Возможное “1
Создание этих миссий не препятствует деятельности других миссий, которые могут быть созданы в соответствии с Московским документом относительно вопросов человеческого измерения (см.: Documento de Helsinki II, Cap III, parag. 13).
2
О документе «Предварительный доклад миссии наблюдателей о ситуации в Нагорном Карабахе» см.: CSCE/7-CSO/Diario. No. 2. Anexo 1.
3 Documento de Helsinki II, Cap III, parag. 9.
4
Относительно деятельности этой группы подробнее см.: Ghebali V.Y. Op. cit. Р. 6—7; Ghebali V.Y. The First Arms Control Agreements of the CSCE: Achievements of the Forum for Security Cooperation Between Helsinki and Budapest // Helsinki Monitor. 1994. Vol. 5/ No. 13. P. 63—68. Формирование группы по урегулированию нагорно-карабахского кризиса было решено в ходе первой внеплановой встречи Совета СБСЕ/ОБСЕ в Хельсинки в июле 1992 г. Из государств СБСЕ/ОБСЕ, своих представителей в эту группу направили Германия, Армения, Азербайджан, Беларусь, Чехия, Словакия, США, Франция, Италия, Российская Федерация, Швеция и Турция.
5
В этом смысле Будапештская встреча по контролю (1994) изучала возможность развертывания многонациональных сил в зоне нагорно-карабахского конфликта (см.: Budapest Document, Decisiones II, parag. 4, 5).
101
использование этого инструмента в постсоветском пространстве породило серьезную полемику в рамках СБСЕ. Наконец, вклад СБСЕ/ОБСЕ в управление кризисом проявляется в поддержке действий других организаций. Так, через миссии по поддержке санкций СБСЕ Совещание сотрудничает с наблюдательными миссиями Европейского союза на территории бывшей Югославии. Таким же образом осуществляется сотрудничество с Организацией Объединенных Наций, НАТО и Европейским союзом в миссиях по поддержанию санкций, действующих в странах—соседях нынешней Югославии (Сербия-Черногория).
2. Превентивная дипломатия в постсоветском пространстве.
От Хельсинки (июль 1992 г.) к Будапешту (декабрь 1995 г.)
Начиная с Совещания в Хельсинки (июль 1992 г.) и до заседания Совета в Будапеште (декабрь 1995 г.) СБСЕ/ОБСЕ провело важную деятельность в постсоветском пространстве. Отсюда истоки научного интереса к взаимосвязи между СБСЕ/ОБСЕ и превентивной дипломатией. Данная работа посвящена рассмотрению как раз этого пересечения.
Как уже говорилось в начале статьи, включение бывших советских республик в состав СБСЕ/ОБСЕ означало изменения как в составе Совещания, так и в практике его функционирования. В то же время участие этих новых государств, в части которых имели место вооруженные конфликты или этническая напряженность, чреватая новыми конфликтами, послужило «стимулом» для создания и развития структур превентивной дипломатии в рамках Совещания. Открытые и латентные конфликты в постсоветском пространстве побудили рассматривать его в качестве региона повышенного риска во всей евроатлантической зоне1. Отсюда возникает необходимость создать и запустить механизм по выявлению ситуаций высокого риска, способный обеспечить стабильность в регионе, предотвратить кризис или управлять им. Поэтому Конец «холодной войны» привел к изменению характера рисков, угрожающих безопасности в Европе. Теперь опасность нестабильности исходит от Балкан, Центрально-Восточной Европы, Средиземноморья и зоны бывшего СССР, причем именно здесь наблюдается максимальная угроза безопасности. И это не случайно: население постсоветского пространства составляет 300 млн. человек, здесь проживает более 150 наций, экономика находится в тяжелейшем состоянии, армии весьма многочисленны; наконец, множество этнических конфликтов и политика РФ — все это объясняет важность региона для европейской безопасности. Относительно связи проблемы европейской безопасности с бывшим СССР см.: Medvedev S. Security Risks in Russia and the CIS: A Case Study // The International Spectator. 1994. Vol XXIX. No. 11. Jan.-March. P. 53—87.
102
мы можем утверждать, что существует процесс длительного взаимодействия между, с одной стороны, регионом как источником проблем и опасных ситуаций и, с другой — СБСЕ/ОБСЕ как институтом, обеспечивающим механизмы предотвращения и контроля этих проблем и ситуаций1.
В качестве общеевропейской организации по обеспечению безопасности, наделенной функциями превентивной дипломатии, СБСЕ/ОБСЕ применяло различные инструменты по раннему выявлению ситуаций, способных перерасти в конфликт, по их предупреждению и по управлению кризисом в постсоветском пространстве, превратившись таким образом в подлинную «лабораторию» опыта и проверки превентивной дипломатии в эру после «холодной войны».
Чтобы проследить, как осуществлялись эти дипломатические методы, мы рассмотрим интересующие нас вопросы на следующих примерах: 1) государства Балтии; 2) Грузия; 3) Молдова; 4) Таджикистан; 5) Украина; 6) Нагорный Карабах и 7) Чечня. В большинстве случаев действовали и использовались различные инструменты выявления и предупреждения кризисов и управления ими. Так, например, политические консультации дополнялись деятельностью наблюдательных миссий, а последняя — работой Верховного комиссара по делам национальных меньшинств, которая поддерживалась инфраструктурой Бюро демократических институтов и прав человека.
2.1. Государства Балтии
Проблема государств Балтии возникла в СБСЕ/ОБСЕ в 1992 г. в ходе встречи Хельсинки II2. На этой встрече обсуждалось два вопроса, касавшиеся сферы ответственности СБСЕ/ОБСЕ. С одной стороны, проблема вывода иностранных — российских — войск с территории Литвы, Латвии и Эстонии. С другой — проблема неавтохтонных общин, проживающих на территории Эстонии и Латвии.
Первая проблема — присутствие российских (ранее советских) воинских подразделений на территории Балтийских государств — создавала очаг постоянной напряженности в регионе, угрожавший безопасности в сфере действия СБСЕ/ОБСЕ. Ис“I
Детальное исследование проблемы проделано в: Hulburt Н. Russia, the OSCE and European Security Architecture // Helsinki Monitor. 1995. Vol. 6. No. 2. P. 5—20.
2
Cm.: Documento de Helsinki II. Los desafios del Cambio. Declaraci6n, parag. 15.
103
пользуя в ходе Хельсинкской встречи 1992 г. такой инструмент раннего обнаружения конфликтов, как политические консультации двух сторон, вовлеченных в эту конфликтную ситуацию, удалось достичь мирного ее разрешения. СБСЕ/ОБСЕ положило начало переговорам, в результате которых были заключены двусторонние соглашения между РФ и каждым из государств Балтии, причем СБСЕ/ОБСЕ стало гарантом их выполнения. В тексты соглашений были включены графики быстрого, упорядоченного и полного вывода иностранных войск с территории Литвы, Латвии и Эстонии.
В Литве имели место некоторые задержки с выполнением графика вывода, что побудило Вильнюс обратиться к СБСЕ/ОБСЕ с просьбой более активно контролировать реализацию достигнутых соглашений1. Вопрос был решен. Полный вывод российских войск из Литвы был осуществлен в августе 1993 г.
В случае Эстонии Москва и Таллин вели переговоры о выводе войск в увязке с вопросом о предоставлении эстонским правительством социальных гарантий отставным российским военнослужащим2. Увязка этих двух проблем превратила СБСЕ/ОБСЕ не только в гаранта двустороннего российско-эстонского соглашения о выводе войск (завершившегося в августе 1994 г.), но и предоставила Совещанию функцию надзора за выполнением достигнутых договоренностей3.
В случае с Латвией выполнение заключенных соглашений столкнулось с куда большими трудностями. Российская Федерация и Латвия в апреле 1994 г. подписали четыре соглашения относительно вывода иностранных войск с территории Латвии, прав отставных российских военнослужащих, закрытия радара в Скрунде, прав некоренных этнических общин. Однако выполнение этих соглашений натолкнулось на ряд возражений российской стороны относительно эвакуации военного объекта в Скрунде. Выполнение соглашений, в которых затрагивались судьба радиолокационной станции в Скрунде и вопросы социального обеспечения российских отставников, проживающих в Латвии, ~1
См. заявление Литвы, смысл которого сводился к тому, что СБСЕ/ОБСЕ должно быть более активным в выполнении соглашений о выводе российских войск (CSCE/17-CSO/Diario. No. 11. 1992. Noviembre).
2
Делегация Эстонии в ходе 25-ой встречи Комитета старших должностных лиц (март 1994 г.) формально протестовала против позиции Российской Федерации увязать вывод российских войск с территории Эстонии с вопросами иного характера (см.: CSCE/25-CSO/Diario N 3, punto 6).
3
См.: CSCE. Secretario General. Informe Anual de 1994 sobre las Actividades de la CSCE. Viena, noviembre 1994. P. 9.
104
потребовало дополнительных действий со стороны СБСЕ/ОБСЕ. В этой связи в июне 1994 г. Постоянный комитет назначил двух представителей Совещания, уполномочив каждого из них наблюдать за выполнением соответствующего соглашения. Эти представители работали в тесном контакте с миссией СБСЕ/ОБСЕ в Латвии, связанной с вопросами прав неавтохтонных общин, живущих в Балтийских государствах. Этой последней проблемы мы коснемся чуть ниже. Наиболее деликатная тема — радар в Скрун- де — вызвала подписание нового российско-латвийского договора под патронажем ОБСЕ в мае 1995 г. Россия взяла на себя обязательства по беспрепятственному разрешению инспекций в течение того времени, пока радар вывозится (с мая по декабрь 1995 г.)1.
Второй вопрос — наличие неавтохтонных общин в государствах Балтии — побуждает использовать как инструменты раннего оповещения о потенциальных конфликтах, так и механизмы их предотвращения в Эстонии и Латвии. По инициативе эстонской стороны Стокгольмское совещание СБСЕ (декабрь 1992 г.) решило направить в Эстонию миссию, цель которой — содействие интеграции и большему взаимопониманию общин, проживающих в этой балтийской стране2. В полномочия этой миссии входит как изучение вопроса о правах человека, так и оказание помощи властям Эстонии в согласовании принципа прав человека и законов страны о гражданстве. Деятельность миссии прошла два этапа. На первом этапе, имевшем информационный характер, были установлены контакты с компетентными властями, особенно с теми, кто ведал вопросами гражданства, миграции, языковыми вопросами, а также с представителями русскоязычного сообщества и неправительственными организациями, занимающимися данными проблемами. На втором этапе, который имел технический характер, миссия посвятила себя делу помощи и консультирования по вопросам статуса этнических общин в Эстонии, прав и обязанностей их членов. Полномочия этой миссии были трижды — в 1993, 1 994 и 1 995 гг. — продлены, с тем чтобы она могла содействовать процессу принятия законодательства о гражданстве. Основываясь на концепции глобального и неделимого характера безопасности, деятельность миссии СБСЕ/ОБСЕ была поддержана Верховным комиссаром по делам национальных меньшинств, Бюро демократических институтов и прав человека, а также Советом Европы. Совместная деятельность этих институтов ~1
См.: OSCE/21-CP/Diario.
2
О мандате миссии СБСЕ в Эстонии, о ее целях и деятельности см.: OSCE/19-CSO/Diario. No. 2. Anexo 2.
105
направлена, в частности, на создание «системы обучения языку для неавтохтонов», проживающих в Эстонии1. Примером стал семинар, организованный миссией ОБСЕ в апреле 1995 г., с целью углубления взаимопонимания и интеграции неавтохтонных общин страны. Все эти мероприятия облегчили принятие закона о гражданстве в духе ОБСЕ2.
В Латвии миссия СБСЕ/ОБСЕ, учрежденная также по инициативе самой латвийской стороны, начала работу в конце 1993 г.3 В данном случае в задачи миссии входили наблюдение за решением вопросов гражданства и консультирование властей по этим вопросам. Особенностью работы миссии стал сбор и обработка информации о конкретных спорных случаях, связанных с данной проблемой (изучено почти 1000 случаев). Миссия СБСЕ/ОБСЕ совместно с Верховным комиссаром по делам национальных меньшинств занята рассмотрением случаев, возникших в результате жестких и произвольных действий латвийской администрации в отношении граждан, уроженцев и неуроженцев страны. Сегодня СБСЕ/ОБСЕ консультирует власти при разработке нового закона о гражданстве. С целью гарантировать полное выполнение соглашений, достигнутых в рамках СБСЕ/ОБСЕ, в 1994 г. миссия получила новый мандат — информировать о ходе вывода российских войск с латвийской территории4.
Случай Балтийских государств дает наиболее яркий пример того, как можно обнаружить напряженность и уменьшить опасность конфликта, используя механизмы раннего выявления и предотвращения конфликтных ситуаций.
2.2. Грузия
Грузия стала одним из первых государств, в котором СБСЕ/ОБСЕ применило на практике механизмы предупреждения конфликтов и управления кризисом, созданные в ходе встречи Хельсинки-!!. Доклад личного представителя Председателя Совета Подробнее о деятельности миссии СБСЕ/ОБСЕ в Эстонии см.: The Mission to Estonia: An Overview // CSCE-Newsletter. 1994. Vol 1. No. 12. Marzo. P. 2; Report of the CSCE ODIHR Mission on the Study of Estonian Legislation // Helsinki Monitor, 1993. Vol. 4. No. 11. P. 63—75.
2
Cm.: OSCE. Secretario General Informe Anual 1995 sobre las Actividades de la OSCE. Viena, 1995. Noviembre. P. 13—14.
3
Миссия СБСЕ/ОБСЕ в Латвии была создана решением встречи КСДЛ в сентябре 1993 г. (CSCE/23-CSO/Diario. No. 3. Апехо 3).
4
Детали о работе миссий СБСЕ/ОБСЕ в государствах Балтии можно найти в: CSCE. Informe annual 1994. Р. 8—10, и Lucas М. Op. cit. Р. 18—19.
106
министров СБСЕ/ОБСЕ содержал информацию о трудной ситуации, в которой оказалась Республика Грузия (гражданская война, кризис в Южной Осетии и конфликт в Абхазии). Со своей стороны правительство Грузии, действуя в соответствии с рекомендациями Консультативного комитета Центра по предотвращению конфликтов, попросило о направлении наблюдателей СБСЕ/ОБСЕ в регион. Как следствие, СБСЕ/ОБСЕ решило содействовать переговорам между сторонами для достижения мирного политического урегулирования конфликтов1.
Для содействия переговорному процессу в Грузии была создана миссия СБСЕ/ОБСЕ. Она начала работу в декабре 1992 г. В ее полномочия входили исследования проблемы конфликтов как в Южной Осетии, так и в Абхазии. На практике деятельность миссии сосредоточилась на конфликте в Южной Осетии, тогда как ситуацией в Абхазии в большей мере занимались представители ООН2. Первоначально миссия стремилась установить диалог со всеми сторонами, участвующими в осетино-грузинском конфликте, а также создать широкое политическое пространство для примирения сторон. Однако ввиду быстрого ухудшения ситуации не только в Южной Осетии, но и в остальных районах Грузии (обострение в ней гражданской войны) миссия стала в своих действиях исходить из более широких полномочий, действуя во имя обеспечения территориальной целостности и суверенитета республики3. Этот расширенный мандат позволил миссии СБСЕ/ОБСЕ охватить широкий круг вопросов, затрагивающих различные стороны проблемы безопасности. Так, в плане человеческого измерения речь шла о таких целях, как содействие правам человека, помощь в установлении демократических институтов; в военно-политическом плане — создание миссий наблюдателей за выполнением соглашений между конфликтующими сторонами4.
~1
См.: CSCE/17-CSO/Diario. No. 12. Anexo 2. Noviembre 1992.
2
В случае Абхазии, как это следует из докладов Генерального секретаря ОБСЕ, Совещание отводит основную роль ООН. Тем не менее ОБСЕ усилила в Абхазии свою гуманитарную деятельность (см.: CSCE. Informe annual 1995. Р. 8—9).
3
См.: Decisiones de la Reunion del Consejo de Roma (diciembre 1993), 1.2.
4
В июне 1992 г. стороны, участвовавшие в южноосетинском конфликте, договорились о перемирии, что было закреплено Сочинским соглашением. В результате этого соглашения было решено создать четырехсторонние силы по поддержанию мира (с участием контингентов Грузии, России, Южной и Северной Осетии). Для осуществления контроля за действиями этих сил миссия СБСЕ/ОБСЕ увеличила численность своего персонала с 6 до 17 человек (9 гражданских лиц и 8 военных).
107
Это расширение полномочий затронуло также сотрудничество миссии с другими организациями, побуждая СБСЕ/ОБСЕ взять на себя дополнительные обязанности и по абхазскому вопросу. Так, на 23-й конференции КСДЛ (сентябрь 1993 г.) подчеркивалась необходимость более активного сотрудничества с ООН с учетом того, что СБСЕ/ОБСЕ должно содействовать усилиям Организации Объединенных Наций в Абхазии, в том числе и посредством включения некоторых членов миссии СБСЕ/ОБСЕ в состав миссии наблюдателей ООН в Грузии1. Как в Южной Осетии, так и в Абхазии процесс политического урегулирования конфликта идет медленно. В обоих случаях основным препятствием является упорное нежелание противоборствующих сторон позитивно обсуждать тот или иной тип автономии, который эти регионы получат в составе Грузии2. В марте 1995 г. ОБСЕ созвала «круглый стол» представителей грузин и осетин по проблеме поиска путей решения конфликта, но обсуждение закончилось безрезультатно3.
Параллельно с деятельностью миссии СБСЕ/ОБСЕ группа экспертов Бюро по демократическим институтам и правам человека сотрудничала с представителями властных структур Грузии в деле редактирования Конституции страны, рассматривая эту работу как содействие правам человека и становлению демократических институтов. Конституция была принята 29 августа 1995 г., не решив проблемы территориального устройства страны (статуса регионов Южной Осетии и Абхазии).
2.3. Молдова
В апреле 1992 г. Российская Федерация подняла в рамках КСДЛ4 вопрос о конфликтной ситуации в Приднестровском ре~1
См.: CSCE/23-CSO/Diario. No. 2. Апехо.
2
Хотя миссия СБСЕ/ОБСЕ активизировала свои контакты с властными структурами в Тбилиси, Цхинвали и Москве, ей так и не удалось договорится о том, какой тип автономии в составе Грузии получит Южная Осетия. В случае Абхазии эксперты миссии СБСЕ/ОБСЕ представили проект ее особого статуса в рамках союза с Грузией или в составе Грузинской федерации. Судя по всему, грузинская сторона положительно оценивает этот проект (см.: CSCE. Informe Annual 1994. Р. 6).
3
См.: CSCE. Informe General 1995. P. 8—9.
4
См.: CSCE/10-CSO/Diario (29 de abril 1992). Punto 6.
108
гионе Республики Молдова1, а также о том, что СБСЕ/ОБСЕ необходимо вмешаться в этот конфликт для обеспечения его мирного урегулирования. После визита в зону конфликта личного представителя Председателя Совета министров СБСЕ/ОБСЕ и его доклада было решено направить миссию СБСЕ/ОБСЕ в Республику Молдова2. Начавшая свою работу в апреле 1993 г. миссия СБСЕ/ОБСЕ с постоянно действующим представительством в Тирасполе (с апреля 1995 г.) имеет две основные задачи: способствовать прочному политическому урегулированию, укрепляющему независимость и суверенитет Республики Молдова, и добиться соглашения относительно статуса, предоставляемого Приднестровью.
Деятельность миссии СБСЕ/ОБСЕ по реализации названных задач охватывает широчайший спектр вопросов, как в сфере человеческого измерения, так и в области безопасности. С точки зрения прав человека одной из главных тем является положение русского и гагаузского меньшинств на молдавской территории. Миссия СБСЕ/ОБСЕ приступила к сбору информации по данной проблеме, с тем чтобы на втором этапе приступить к посредничеству между враждующими сторонами с упором на права человека3. В области безопасности миссия СБСЕ/ОБСЕ выступает в качестве третьей стороны, участвовавшей в подписании общей декларации президента Молдовы и лидера Приднестровья, в которой они обязываются искать мирное и всестороннее решение существующих проблем4. Важным элементом нестабильности в зоне конфликта является размещение в ней частей 14-й армии России. Благодаря посредническим действиям СБСЕ/ОБСЕ Молдова и Российская Федерация договоРоссийская Федерация выступила с призывом уважать перемирие в зоне Приднестровья и прилегающих районах и соблюдать соглашения, заключенные «Четверкой» (Молдова, Российская Федерация, Румыния, Украина) в рамках СНГ, которые предусматривают роспуск военных формирований, участвующих в конфликте.
2
См.: CSCE/19-CSO/Diario. No. 3. Anexo 3 (febrero de 1993).
3
См.: Lukas M. Op. cit. P. 23.
4
Эту декларацию 28 апреля 1994 г. подписали Мирча Снегур от Молдовы и Игорь Смирнов от Приднестровья. В качестве гарантов выступили глава миссии СБСЕ/ОБСЕ и специальный представитель президента России. Однако важнейшей проблемой остается будущий конституционный статус Приднестровья в составе Молдовы.
109
рились в августе 1994 г. о выводе этих войск с территории Молдовы в течение трех лет1 2.
Итак, СБСЕ/ОБСЕ выступило в качестве посредника в конфликте и одновременно как гарант соглашений. Достигнутые компромиссы укрепляют независимость Молдовы, обеспечивают вывод иностранных войск с ее территории (тема, рассматривавшаяся на Совещании по контролю в Будапеште) и содействуют уваже- 9 нию прав ее меньшинств .
2.4. Таджикистан
Вопросы, связанные с положением в Таджикистане (русские меньшинства, вооруженные группировки), были поставлены в повестку обсуждения СБСЕ/ОБСЕ в соответствии с решением, принятым на Стокгольмском совещании (декабрь 1 992 г.) и в ответ на обращения представителей Таджикистана и Казахстана3. Миссия СБСЕ/ОБСЕ начала свою работу в Таджикистане в феврале 1994 г., обосновавшись в столице Таджикистана Душанбе.
В соответствии со своим мандатом миссия должна «установить контакты с политическими и региональными силами для облегчения диалога и роста доверия между ними» и «побудить их принять нормы и принципы СБСЕ/ОБСЕ»4. Действуя в соответствии с этими задачами, миссия сосредоточилась на содействии установлению и развитию законных и демократических политических процессов и институтов. Тесно сотрудничая с Бюро демократических институтов и прав человека, миссия консультировала власти Таджикистана по поводу выработки новой Конституции. В своих первых отчетах миссия сообщила о трудностях, с которыми она столкнулась, стремясь наладить эффективное сотрудничество с В ходе своей 27-й встречи КСДЛ от имени СБСЕ/ОБСЕ заявил о поддержке быстрого, упорядоченного, безусловного и полного вывода войск, обратившись к договаривающимся сторонам с призывом приблизить срок завершения всей операции (см.: CSCT/27-CSO/Diario. No. 13. Апехо 3 (junio 1994).
2
Эти соглашения так или иначе удовлетворили все стороны. Молдавское правительство обязалось уважать права меньшинств, в особенности русского населения Приднестровья, при условии, что будет уважаться суверенитет республики как таковой, а российские войска будут выведены с ее территории (см.: CSCE. Informe Annual 1994. Р. 6—7).
3
См.: CSCE/19-CSO/Diario. No. 3. Апехо 3 (febrero 1993). Таджикистан выступил с такой просьбой 30 декабря 1992 г., а Казахстан — 19 января 1993 г.
4
Decisiones de la Reunion del Consejo de Roma, 4.2.
110
правительственными и парламентскими органами Таджикистана. В этой связи следует отметить, что СБСЕ/ОБСЕ не участвовало в качестве наблюдателя на выборах в феврале 1995 г., так как таджикские власти не выполнили рекомендаций Парламентской ассамблеи Совещания. В Таджикистане СБСЕ/ОБСЕ сотрудничает с ООН, действуя в качестве наблюдателя на внутритаджикских переговорах между правительством и вооруженной оппозицией, начатых по инициативе ООН.
2.5. Украина
Используя инструменты раннего оповещения и управления кризисом, СБСЕ/ОБСЕ приняло решение создать свою миссию на Украине1. Она была направлена туда в ноябре 1994 г. и имела двоякую задачу. Прежде всего, ей надлежало оказать поддержку группе экспертов СБСЕ/ОБСЕ по конституционным и экономическим аспектам проблемы Автономной республики Крым. С другой стороны, она должна была собирать информацию о положении дел с правами меньшинств, проживающих в этой республике. Со своей стороны Верховный комиссар СБСЕ/ОБСЕ по делам национальных меньшинств нанес визит на Украину, проведя там ряд встреч с государственными руководителями, региональными лидерами и представителями меньшинств. Результатом этих консультаций стала рекомендация Верховного комиссара о необходимости принятия мер, способных успокоить русское население Крыма, внушить ему мысль о том, что его страхи в отношении политики «украинизации» несостоятельны2. В рамках этого подхода в мае 1995 г. в Локарно (Швейцария) был организован «круглый стол» между представителями сторон, где был рассмотрен будущий статус Крыма как автономной территории в составе Украины.
2.6. Нагорный Карабах
Конфликт в Нагорном Карабахе является одной из ключевых проблем для СБСЕ/ОБСЕ, представляя собой наиболее важный пример управления конфликтом. Для управления нагорно-караНа 27-й встрече КС ДА, в июне 1994 г., Комитет выразил свою глубокую озабоченность событиями, происходящими в Республике Крым. В ответ на обращение Украины Комитет призвал решать эту проблему мирными средствами и в соответствии с принципами СБСЕ/ОБСЕ (см.: CSCE /27— CSO/Diario. No. 3. Anexo 3.
2
См.: CSCE. Informe Annual 1994. P. 8.
111
бахским кризисом СБСЕ/ОБСЕ использовало все свои ресурсы, за исключением такого инструмента, как операции по поддержанию мира. Совещание направляло сюда миссии наблюдателей, прибегало к инструменту политических консультаций, как это было на специальной встрече Совета министров СБСЕ/ОБСЕ и его Председателя, к чрезвычайным механизмам и созданию специально в связи с данным кризисом временной группы.
В феврале 1992 г., на 7-й встрече КСДЛ, обсуждался доклад миссии наблюдателей СБСЕ/ОБСЕ о ситуации в Нагорном Карабахе1. Исходя из рекомендаций доклада, КСДЛ предложил вовлеченным в конфликт сторонам установить перемирие на фронтах и приступить к переговорам в рамках СБСЕ/ОБСЕ. Для гарантии безопасности в зоне конфликта было предложено личное участие Председателя Совета министров СБСЕ/ОБСЕ в переговорах. Обострение конфликта побудило КСДЛ настаивать на проведении внеочередного заседания Совета СБСЕ/ОБСЕ, которое состоялось в Хельсинки в марте 1992 г. На этом заседании КСДЛ рекомендовал Совету провести конференцию по Нагорному Карабаху под эгидой СБСЕ/ОБСЕ. Задачей этого форума, названного Минской группой, стало содействие постоянному диалогу и переговорам в целях мирного урегулирования кризиса2. Вместе с тем Комитет старших должностных лиц рекомендовал Председателю Совета министров СБСЕ/ОБСЕ направить в зону конфликта миссию для переговоров о перемирии и изучения возможностей размещения здесь наблюдателей.
Благодаря Минской группе СБСЕ/ОБСЕ было решено разработать график использования мер, связанных с разрешением конфликта, и в первую очередь по реализации резолюций 822 и 835, принятых Советом Безопасности ООН. (Как известно, ООН и СБСЕ/ОБСЕ активно сотрудничают друг с другом в вопросе урегулирования карабахского конфликта).
Работа группы была нацелена на переговоры относительно комплексного мирного плана, который соединит в себе в качестве единого документа уже достигнутые частные соглашения. Задача, которую оказалось трудно осуществить из-за сложности согласования усилий СБСЕ/ОБСЕ и Российской Федерации3, имевшей См.: Informe Provisional de la Misidn de Relatores sobre la situacidn en Nagorno-Karabaj // CSCE/7-CSO/Diario. No. 2. Anexo 1.
2
CSCT/8-CSO/Diario. Anexo 2. В апреле 1992 г., на 10-й встрече КСДЛ, было принято решение о созыве этой конференции (см.: CSCT/10- CSO/Diario. Anexo 5).
3
См.: CSCE. Informe Annual 1994. P. 12.
112
свои цели и свою особую концепцию «поддержания мира»1. Интерес СБСЕ/ОБСЕ в разрешении конфликта очевиден, если принять во внимание, что это единственный случай, когда организация предполагает направить в зону конфликта многонациональные силы по поддержанию мира, что было санкционировано Советом Безопасности ООН. Вопрос обсуждался на Совещании по контролю в Будапеште. Некоторые сомнения вызывает то, что многонациональные силы окажутся перед фактом присутствия здесь российских войск. Проблема эта весьма деликатна и находится в процессе изучения (в рамках ответственности руководителей Минской группы и ОБСЕ).
2.7. Чечня
События в Чечне придают новые аспекты деятельности СБСЕ/ОБСЕ. Во-первых, мы имеем дело с внутренним конфликтом, касающимся Российской Федерации. Во-вторых, это первый случай, который имеет отношение к Кодексу поведения, инструменту раннего предупреждения конфликтов, созданному в 1994 г. на Совещании по контролю в Будапеште. Кодекс предполагает укрепление сотрудничества в сфере безопасности путем распространения в государствах—участниках ОБСЕ определенных норм поведения. Помимо всего прочего Кодекс должен гарантировать, что государства—участники не прибегают к использованию вооруженных сил против собственного 9 населения .
Принятие Кодекса на встрече в Будапеште совпало по времени с бомбардировкой Грозного российской авиацией. Обычно для введения Кодекса в действие достаточно запроса только одного * 2
”1
С этой точки зрения некоторые авторы утверждают, что основная проблема, с которой должна столкнуться традиционная концепция «поддержания мира» международными организациями, является той же, что и в случае с Российской Федерацией. Традиционно «поддержание мира» основывалось на вмешательстве третьей стороны для прекращения военных действий между сторонами, и не только Москва проводит двусмысленную политику в этом конфликте.
2
Применение Кодекса в чеченском случае было взвешенным, т.е. он применялся из-за нарушения, а не из-за невыполнения его статей всеми участниками конфликта; не только в том, что касается российских вооруженных сил, но также и при нарушении прав, рассматриваемых в контексте человеческого измерения, чеченскими повстанцами (см.: Lucas М. The War in Chechenia and the OSCE Code of Conduct // Helsinki Monitor. 1995. Vol. 6. No. 2. P. 53).
113
8 1814
государства; в случае Чечни механизм был запущен по просьбе Германии, Франции и Греции1 2.
Механизм Кодекса поведения — сначала требование дать объяснения, затем принятие признаваемых адекватными мер — дал ОБСЕ повод направить в Чечню группу содействия. Характер sui generis этого инструмента вызван российским отказом принять миссию ОБСЕ традиционного типа2. Группа преследовала цель прекратить военные действия, содействовать уважению прав человека, как русских, так и чеченцев, найти мирное решение конфликта, которое сочетало бы принципы ОБСЕ и интересы Российской Федерации. Деятельность группы, преимущественно наблюдательная, была сильно осложнена покушением на ее руководителя в октябре 1995 г. Среди результатов работы группы необходимо отметить ее участие в соглашении о прекращении военных действий, подписанном в июле 1995 г. российским командованием и представителями генерала Дудаева, которое систематически нарушалось. Таким образом, единственной заслугой ОБСЕ в Чечне является ее уникальность в качестве единственной международной организации, представленной в этом конфликте. Это же придает ей характер наблюдателя, лишенного эффективного влияния на события.
3. Вместо заключения. Оценка инструментов превентивной дипломатии и управления кризисом, применявшихся в постсоветском пространстве
Сегодня, идя по горячим следам событий, трудно оценить механизмы превентивной дипломатии и управления кризисом, созданные СБСЕ/ОБСЕ и использованные, в частности, в постсоветском пространстве. Среди других причин нам, очевидно, недостает исторической перспективы. И все же данная работа позволяет предложить ряд соображений относительно представленных здесь инструментов (раннее оповещение, предотвращение конфликтов, управление кризисом) на основе опыта, который нам дает деятельность СБСЕ/ОБСЕ в постсоветском пространстве.
Начнем с нескольких общих замечаний относительно указанных инструментов. Во-первых, следует напомнить о том, что мы располагаем весьма малым по времени опытом — ведь лишь начиная с Хельсинки II появились формальные структуры превентивной дипломатии. Таким образом, у нас есть опыт всего лишь трех лет.
Во-вторых, эти структуры превентивной дипломатии характери~I
El Pais, 1996. Епего 8. Р. 2.
2
См.: Bloed A. OSCE Faces Violent Crises //Helsinki Monitor. 1995. Vol. 6. No. 2. P. 53.
114
зуются множественностью и разнообразием. Это объясняется стремлением СБСЕ/ОБСЕ контролировать конфликт на всех его этапах, начиная от его латентного состояния и до крайнего проявления (использования силы), включая прохождение кризисной ситуации. Все это позволяет нам говорить о структуре, которая имеет до двадцати различных форм действия, применение которых возможно на различных уровнях конфликта. Отсюда, в порядке прогноза, можно обозначить две вероятные тенденции: одну позитивную, которая опирается на гибкость множественных и разнообразных механизмов, способных приспособиться к любой ситуации; другую — негативную, проистекающую из запутанности и неэффективности в силу сложности созданной СБСЕ машины.
В-третьих, с точки зрения используемого метода механизмы СБСЕ/ОБСЕ характеризуются своей двойственностью. Так, можно говорить об оригинальных инструментах, подобных институту Верховного комиссара СБСЕ/ОБСЕ по делам национальных меньшинств, но также и о том, что «ничто не ново в этом мире». Иными словами, СБСЕ/ОБСЕ воспроизводит, но в меньшем масштабе, методы, уже опробованные другими международными организациями (в особенности ООН). В качестве примера сошлемся на технологию, используемую миссиями.
В-четвертых, рассмотренные здесь инструменты имеют двоякое происхождение. Одни из них родились благодаря формализации методов превентивной дипломатии (Хельсинки II). Другие, напротив, являются образчиком непрерывности развития СБСЕ/ОБСЕ со времен «холодной войны», «неформального» характера встреч по контролю, которые сохраняют живым прежний дух СБСЕ/ОБСЕ. В этом плане можно отметить, что Будапештская встреча в декабре 1994 г. определила стимулирующие ограничения для тех акций, которые впоследствии были предприняты СБСЕ/ОБСЕ в Чечне.
Что касается применения данных инструментов в постсоветском пространстве, то мы вынуждены ограничиться лишь предварительными замечаниями (не забудем об отсутствующей у нас исторической перспективе).
Прежде всего, имея в виду результаты, необходимо отметить существование двух миров в постсоветском пространстве. Так, сами результаты деятельности СБСЕ/ОБСЕ позволяют нам провести различие между Балтийскими государствами и другими бывшими советскими республиками. В первом случае мы можем говорить о конкретных результатах и исполняемых соглашениях. В этом плане действия, осуществленные в Литве, являются лучшим примером упорядоченного перехода (от советской республики к суверенному государству) в том, что касается отношений с Россией.
Хотя аналогичный процесс протекал в Эстонии и Латвии не столь успешно, тем не менее и там прогресс налицо. Все это подводит нас к констатации двух фактов. С одной стороны, 115
специфика стран Балтии (западная политическая культура, исторический опыт, балтийская геополитика и т.д.) способствовала рассматриваемому процессу. С другой стороны, усилия СБСЕ/ОБСЕ по урегулированию отношений между Россией и государствами Балтии попали на благодатную почву — речь идет об относительном стремлении сторон к разрешению конфликтов между ними. В этом смысле пример государств Балтии являет прямую противоположность конфликту в Нагорном Карабахе, где умножение механизмов СБСЕ/ОБСЕ наталкивается на недостаток обоюдной воли сторон прийти к согласию. Здесь возникает неизбежный вопрос: до каких пор СБСЕ/ОБСЕ будет оставаться наблюдателем процесса, имеющего собственную динамику?
Далее, использование механизмов СБСЕ/ОБСЕ на постсоветском пространстве обнаружило, что его наиболее активным миротворческим инструментом стал Верховный комиссар по делам национальных меньшинств. Об этом свидетельствуют попытки решения проблем русского меньшинства на Украине или же языковых проблем в Эстонии и Латвии.
И наконец, использование инструментов СБСЕ/ОБСЕ в постсоветском пространстве порождает серьезную политическую проблему. Не зря во всех документах ОБСЕ содержится упоминание об особой роли Российской Федерации во всем постсоветском пространстве. Немыслимо представить посылку какой-либо миссии, которая не рассчитывает на поддержку России или формирование без нее любых сил по поддержанию мира в государстве—члене СНГ. Другими словами, присутствие СБСЕ/ОБСЕ в постсоветском пространстве может быть интерпретировано Москвой как утрата контроля, объективируемого через существование русских меньшинств в новых государствах, и открытие двери для прихода соперничающих держав в регион (наиболее очевидный пример — Турция, к которой можно присовокупить, за пределами ОБСЕ, Иран). С другой стороны, западные страны заняли реалистическую и весьма прагматичную позицию (защита национального суверенитета в случае Чечни, понимание стратегических проблем, которые Грузия или Чечня представляет для России, например с точки зрения энергетики, и т.д.). Эта позиция была вновь подтверждена приемом России в Совет Европы. Российское лидерство и западный прагматизм противостоят группе государств в период их внутренней консолидации и приспособления к международной системе, начинающегося с пересмотра их отношений с Москвой.
В целом же привычная медлительность методов работы, применяемых ОБСЕ с самого начала, кажется, подтверждается сюжетами, о которых здесь шла речь. Исключением служат те случаи (страны Балтии), когда «историческое решение» было настойчивым требованием международной системы.
116
Структура превентивной дипломатии СБСЕ/ОБСЕ
РАННЕЕ ОПОВЕЩЕНИЕ о ситуациях, которые могут привести к кризису
Периодические политические консультации
Структуры
СБСЕ/ОБСЕ
Совещания по контролю
Встречи по определенным вопросам:
— Безопасность (МПДБ) — Человеческое
измерение
Регулярные консультации:
— Совет министров — Высший совет — Постоянный
комитет
— Председатель Совета министров
Институты
Институты-посты:
— Верховный комиссар по делам национальных меньшинств
— Генеральный секретарь
Институты:
— Бюро по демократическим институтам и правам человека
— Центр по предотвращению конфликтов
— Парламентская ассамблея
— Секретариат
НГО
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТОВ
Механизмы
ОБСЕ/ОБСЕ
Безопасность:
— Венский механизм
— Берлинский механизм
— Человеческое измерение:
— Московский механизм
Кодекс поведения
Собственно инструменты
— Верховный комиссар по делам национальных меньшинств
— Председатель Совета министров
— Миссии по изучению ситуации и по подготовке доклада
УПРАВЛЕНИЕ КРИЗИСОМ
Миссии по изучению ситуации и по подготовке доклада
Специальные временные группы управления
Миссии поддержания мира
Миссии поддержки деятельности других международных организаций
117
Дмитрий Тренин
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО СССР: НАСКОЛЬКО РАСХОДЯТСЯ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ И ЗАПАДА?
Военно-политическое вмешательство России в конфликты, возникающие на ее окраинах, и, что еще более важно, методы подобного вмешательства стали одними из наиболее болезненных вопросов во взаимоотношениях страны с Западом. Еще до начала чеченской войны в декабре 1994 г. западные эксперты заговорили о том, что акции, предпринимаемые российским руководством, разительно отличаются от традиционно принимаемых ООН мер по поддержанию мира в «горячих точках», особенно в том, что касается беспристрастности, согласия всех сторон и правил применения силы. В самом деле, действия Турции на Кипре в 1974 г. или Индии в Шри-Ланке в 1987 г., называемые сторонами, осуществлявшими вмешательство, «миротворческими», больше пригодны здесь для сравнения, чем операции ООН. Несмотря на более ранние интернационалистские заявления Москвы, одностороннее силовое вмешательство в течение длительного времени российских вооруженных сил, замаскированное под «миротворческие акции», расценивалось как инструмент реставрации империи или по крайней мере как открытое отстаивание российских национальных интересов. Хотя чеченская кампания Москвы относилась к другой категории операций, она во многом дезавуировала усилия России по поддержанию мира или принуждению к миру на всей территории бывшего Советского Союза. Фактически на Западе возобладало мнение, что России в проводимых ею операциях на территории новых независимых государств (ННГ) свободу действий давать не следует. Более того, российские посягательства на еще не оперившуюся независимость новых государств должны быть подвергнуты суровому осуждению, и это надо недвусмысленно дать понять Москве.
Российское правительство, разумеется, с такой оценкой действий в корне не согласно. Его официальные представители постоянно заявляют, что российские миротворцы строго соблюдают Хартию ООН, Заключительный акт СБСЕ и другие международные соглашения, участником которых является Россия. Хотя Москва по сей день отдает предпочтение мандату ООН/ОБСЕ на проведение миротворческих операций на территории СНГ, с точки зрения как министерства иностранных дел, так и министер118
ства обороны РФ, никаких других официальных подтверждений легитимности акций России в принципе не требуется, коль скоро они предпринимаются под эгидой СНГ как регионального соглашения. За несколько лет до начала войны в Чечне и заключения Дейтонских мирных соглашений Москва даже позволяла себе утверждать, что проводимые ею операции более эффективны, чем операции ООН. Действительно, после прибытия российских миротворцев в Южную Осетию и Приднестровье в середине 1992 г. боевые действия в этих регионах прекратились, а введение чуть позже в том же году российских вооруженных сил (ВС) в Таджикистан привело если не к окончанию гражданской войны, то к существенному снижению разгула насилия в этой бывшей советской республике. Все эти факты свидетельствовали в пользу России, особенно если сопоставить их с результатами миротворческих усилий ООН в 1992—1995 гг. в Сомали или Боснии. Основа миротворчества, как бы заявляла Москва, в том, чтобы заставить замолчать ружья оппонентов: остановка кровопролития необходима для стабильности, и нет иной силы, кроме России, равно как и нет такой международной организации, которая смогла бы достичь этого.
В конкретных вопросах российские дипломаты подчеркивали тот факт, что их страна, располагая более глубокими, уникальными знаниями конфликтов в бывших советских республиках, творчески отвечает на все вызовы эпохи, последовавшей за окончанием «холодной войны». Они также указывали, что основная задача «традиционного» миротворчества, заключавшася в попытке найти выход из тупика «холодной войны», в течение десятилетий пара- лизовывала ООН. Что же касается проблемы более широкого применения силы со стороны миротворцев, то пересмотр классических принципов ООН в этой области идет уже давно, а в свете проведенных НАТО в 1995 г. операций по принуждению к миру в бывшей Югославии российский подход, заключавшийся в «использовании средств войны для поддержания мира»1, нисколько не был уникальным. Относительно аргумента о беспристрастности россияне не замедлили отметить, что вооруженные силы (ВС) западного альянса в Боснии гораздо охотнее применяли силу с целью остановить наступательные действия сербов, чем в случае аналогичных акций со стороны хорватов или мусульман. Россияне также гордились тем, что «особые отношения», сложившиеся у них с жителями постсоветских республик, позволяли время от времени превращать сами враждующие стороны в «миротворцев», 1
Козырев А. С мечом миротворца // Московские новости. 1994. № 36. 4—11 сентября.
119
действующих в компании с российскими ВС, что, безусловно, следовало признать еще одним потрясающим новшеством в миротворческой практике.
Все это, тем не менее, не производит особого впечатления на критиков действий россиян в этой области. Они отказываются понять, как Россия может оставаться беспристрастной если не по отношению к сторонам конфликта, то по крайней мере по отношению к интересам самой России. Они сомневаются в том, всегда ли имеется согласие всех сторон и насколько оно подлинно. И по крайней мере в некоторых случаях они подозревают, что присутствие российских ВС в зоне конфликта является частью проблемы, а не ее решением. Эволюция российской внешней политики от либерального интернационализма, характеризовавшего ее в 1991 —1992 гг., к «просвещенному патриотизму» на основе национальных интересов, пришедшему ему на смену в 1993— 1994 гг., а затем к «реальной политике» подтвердила их предположения о том, что стратегия России по отношению к окраинам заключается в восстановлении значительной доли существовавшего прежде военно-политического контроля над ними. Даже бессодержательные политические эскапады, подобно мартовскому 1996 г. голосованию в Думе о денонсации прежней парламентской резолюции, ратифицировавшей Беловежские соглашения о роспуске СССР, рассматриваются ими как прелюдия к реставрации в России имперского мышления.
Со своей стороны представители российской политической элиты уверены в том, что реальный спор между ними и Западом (под которым в данной статье понимаются США и страны Европейского союза; Турция, в силу особенностей географического положения страны, ее интересов и роли, должна рассматриваться отдельно) идет не столько о соблюдении ряда согласованных принципов или существовании международного мандата (здесь они жалуются на «двойные стандарты»)1, сколько о борьбе за влияние в возникающих геополитических регионах новой Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии* 2. По их мнению, Запад всячески противится какой бы то ни было новой интеграции между ННГ и Россией, интеграции, которая, с точки зрения большинства россиян, естественна и исторически неизбежна.
Об эффективности государственной власти в России. Ежегодное послание Президента России. Раздел 1.5 // Российская газета. 1995. 17 февраля. С. 5.
2
См., например: Россия — СНГ: нуждается ли в корректировке позиция Запада? Доклад Службы внешней разведки России (СВР) // Красная звезда. 1994. 28 сентября. С. 3.
120
Политика ведущих западных стран, как они полагают, направлена на сдерживание усилий России занять свое законное место в качестве великой державы. Традиционные геополитические воззрения вновь воцарились в России, формируя посткоммунистический менталитет ее элиты.
В этой связи интернационализация миротворческих акций в постсоветском регионе зачастую рассматривается на Западе как полезный инструмент ограничения влияния России в странах, считающихся жизненно важными для нее. Лежащий в основе этой концепции тезис прост: те, кто играет роль миротворца (а невзирая на название соответствующих международных организаций, ими будут являться великие державы, в большинстве случаев — США), приобретут политический контроль над зоной конфликта, который они, скорее, будут укреплять, и не откажутся от него в процессе постконфликтного урегулирования. Соответственно Россия, которая чувствует себя крайне слабой, будет de facto исключена из числа влиятельных держав и отброшена назад. Но в таком случае воинская часть какой-либо из стран НАТО, даже если она наденет голубые каски ООН, будучи развернута на территории бывшего СССР, будет восприниматься почти как символ «иностранной оккупации». На самом же деле наблюдается явное нежелание международных организаций, таких, как ООН и ОБСЕ, равно как и отдельных стран Запада, вмешиваться в процесс постсоветского миротворчества. Многие, хотя и не все, страхи россиян рассеяли «низкий уровень» представительства наблюдательных миссий ООН в Абхазии и Таджикистане и еще более ограниченный характер усилий ОБСЕ в Нагорном Карабахе, Южной Осетии и Молдавии.
Таким образом, мы видим, что всякого рода интернационализация была либо весьма поверхностной, либо отсутствовала вовсе. Фактически без какой-либо серьезной помощи или конкуренции Россия продолжала играть роль единственного миротворца в бывшем СССР, используя СНГ как суррогат международной организации. В то же время критика действий Москвы продолжалась и привела к длительной отсрочке принятия России в Совет Европы (это произошло лишь в начале 1996 г.). Конечно, брутальная война в Чечне явственно показала разительный контраст если не между декларациями, то между практическими действиями, предпринимаемыми российскими властями, и общепризнанными международными нормами. Однако, оставляя в стороне принципы и приоритеты, действительно ли «коренные» интересы России и Запада столь диаметрально противоположны в том, что касается разрешения конфликтов в странах СНГ? Целью этой статьи является анализ интересов национальной безопасности, стоящих как за российским миротворчеством, так и за отношением к нему 121
западных стран. В статье предпринимается попытка установить, существует ли (и если да, то в какой мере) общность в сфере этих интересов и каким образом могут (если могут вообще) быть устранены существующие противоречия, не допуская, чтобы бывшие советские республики превратились в функциональный эквивалент Центральной Европы периода после окончания Второй мировой войны.
♦ ♦ ♦
Страна посылает своих солдат в бой в том случае, если считаются затронутыми ее национальные интересы. Россия — лучший пример справедливости этого тезиса. Москва отправила одного гражданского полицейского в Сомали и одного на Гаити, послав при этом около 16 тыс. миротворцев в различные части бывшего СССР (для сравнения — в бывшую Югославию было отправлено 1200 человек). Когда в Москве решили, что события в Чечне угрожают целостности Федерации, российские лидеры были готовы заплатить любую цену, чтобы помешать этому. В будущем российская военная активность, направленная на «стабилизацию» периферии РФ, должна еще более возрасти, невзирая на неизбежные людские потери и финансовое бремя.
С момента распада СССР россияне стали называть бывшие республики, ставшие независимыми государствами, «ближним зарубежьем». Это показное желание примириться с новой и неожиданной реальностью вызвало глубокие подозрения Запада в связи, как он полагает, с неоимпериалистическим подтекстом, присутствующим в смысловом значении избранного термина. На самом деле Москва первоначально не обращала никакого внимания на своих ближайших соседей. Медленно и с трудом она наконец осознала, что 25 млн. этнических русских (составляющих около 1/б населения самой РФ), ставших в одночасье национальными меньшинствами в новообразованных государствах, будут давить тяжелым грузом на любую проводимую Москвой внешнюю политику. Ни одно российское правительство не сможет оставаться безучастным к судьбе русской диаспоры1.
Действительно, эта цифра символична во многих отношениях. Здесь и незаконченность постсоветского деления, и сложности процессов национального и государственного строительства, и необходимость новой самоидентификации России, и многое другое. Открытые границы между РФ и новыми независимыми госу1
См., например, выступление президента Ельцина в ООН // Красная звезда. 1994. 28 сентября. С. 3.
122
дарствами облегчают распространение конфликтов на территорию самой России (например, с Кавказа). В течение трех лет после распада СССР России пришлось принять более 2 млн. вынужденных переселенцев и беженцев из ННГ1. Существующие (как до последнего времени с Эстонией и Латвией) или потенциальные территориальные споры между Россией и некоторыми из ННГ еще более усугубляют картину.
«Агрессивный национализм» в бывшем СССР, заявляют российские лидеры своим западным коллегам, является угрозой национальной безопасности как России, так и западных стран. В целом это справедливо, однако непосредственная опасность для двух сторон разнится весьма значительно. Перед Северной Америкой и Западной Европой стоят проблемы не менее серьезные, причем территориально конфликтные зоны расположены намного ближе к метрополии, чем Абхазия или Таджикистан к Москве. Гораздо больше Запад заботит сама Россия и направленность происходящих в ней изменений. Иными словами, «агрессивный национализм» в отдаленных районах бывшего СССР, возможно, неприятен, но российский неоимпериализм значительно неприятнее.
Было бы несправедливо, однако, предположить, что господствующие в западной политике воззрения начисто игнорируют российские интересы в бывших союзных республиках. Скорее, можно сказать, что Запад предпочитает ограничить роль России, чтобы предотвратить любое воссоздание «империи». Так, Россия может по праву стремиться быть «первой среди равных», но всякая попытка Москвы «выкроить сферу влияния», не допуская туда остальных, будет встречена в штыки.
Это весьма интересный поворот в развитии событий, поскольку ранее, до распада СССР, что стало совершеннейшей неожиданностью едва ли не для всех на Западе, западные страны не проявляли никакого видимого интереса к делам союзных республик, которые в последние несколько десятилетий считались находящимися вне пределов досягаемости для внешнего мира. Конфликты, сопутствовавшие распаду СССР, ослабление контроля над бывшими республиками со стороны Москвы неизбежно вели к большему вовлечению как России, так и внешних сил и институтов в дела ННГ под флагом борьбы за упрочение стабильности.
Всеохватывающая концепция укрепления стабильности, одним из инструментов которой является собственно миротворчество, включает в себя предотвращение конфликтов, управление 1
См. интервью Татьяны Регент (главы Федеральной миграционной службы) газете «Красная звезда» 7 февраля 1995 г. С. 2.
123
ими и их урегулирование. В дальнейшем мы проанализируем интересы Запада и России, лежащие в основе их попыток предотвратить многочисленные конфликты, возникающие в постсоветском пространстве, взять в свои руки управление ими и их урегулирование.
Предотвращение конфликтов
Предотвращение распространения ядерного оружия и обеспечение ядерной безопасности
С точки зрения стран Запада, особенно США, наибольшее беспокойство вызывают конфликты, связанные с ослаблением контроля над ядерным арсеналом бывшего СССР. До конца 1991 г. это было достаточным основанием для желательности сохранения единства Советского Союза. Опасность представлял тот факт, что в случае распада страны контроль над советским ядерным оружием как стратегического, так и тактического назначения, рассредоточенным по республикам бывшего СССР, перейдет в руки их руководителей, что разрушит систему его нераспространения. Другая, еще более пугающая, опасность была связана с тем, что эти государства—преемники СССР могли в свою очередь раздробиться на еще более мелкие образования, погрузившись в хаос.
Для России было не менее важно не допустить распространения ядерного оружия на постсоветской территории и сохранить свой контроль над ним. РФ, провозгласившая себя единственным наследником ядерной мощи СССР, приняла ряд мер по изъятию ядерного оружия и материалов из всех районов действительных и потенциальных конфликтов; она сумела сохранить единство управления стратегическими ядерными силами.
Таким образом, позиции России и стран Запада изначально совпадали в главном: распространения ядерного оружия в бывшем СССР допустить нельзя; весь ядерный арсенал бывшего СССР должен был перейти в руки России. Учитывая позиции трех ННГ (особенно Украины), на территории которых располагалось ядер- ное оружие и которые собирались использовать этот факт в качестве козырной карты на своих переговорах как с Россией, так и со странами Запада, задача представлялась отнюдь не простой. Лиссабонский протокол от 23 апреля 1992 г. к договору о стратегических наступательных вооружениях и Будапештские соглашения от 5 декабря 1994 г. юридически разрешили эту проблему, но значительно больше времени и сил потребуется для полной ликвидации угрозы, возникшей в результате первого в истории распада ядерной сверхдержавы.
124
Тройственное сотрудничество (РФ—США—ННГ) оказалось успешным: Белоруссия, Казахстан и Украина присоединились к Договору о нераспространии ядерного оружия в качестве безъядерных государств. Однако россияне могут еще пожалеть о том, что в результате США стали признанным третьим партнером во всех стратегических дискуссиях между Москвой и Киевом и — правда, в гораздо меньшей степени — между Москвой и Алма- Атой. Лишь Минск стал в конце концов тяготеть к Москве. Россия испытывает двойственные чувства: гарантии безопасности со стороны США и Великобритании оказались нужны, чтобы убедить ННГ отказаться от размещения ядерного оружия на своей территории, и в то же время они вызывают раздражение, поскольку подразумевают наличие некоего противовеса российской мощи.
Что же до распространенной на Западе озабоченности тем, что в России, равно как и в других странах СНГ, ослаб внутренний контроль за ядерными материалами, то это привело как к развитию сотрудничества между Россией и странами Запада, так и к появлению некоторых трений между ними. В то время как Запад не вполне верит в способность нынешней России полностью контролировать запасы собственных расщепляющихся материалов, Москва опасается попыток поставить весь российский атомный комплекс, сердце своей системы национальной безопасности, под международный контроль, точнее, под контроль США. Тот факт, что страны Большой семерки провели в апреле 1996 г. совместный с Россией саммит по вопросам ядерной безопасности в Москве, тем не менее, показывает, что стимулы к кооперации в этой области могут оказаться весомее указанных выше предпосылок к конфронтации. Об этом же свидетельствует и общность подходов России и стран Запада к ядерному вопросу, проявившаяся в том, что принцип нераспространения был зафиксирован еще до апрельской 1995 г. конференции по проверке Договора о нераспространении ядерного оружия и что процесс перемещения всего ядерного арсенала бывшего СССР на территорию России ныне близок к завершению. Укрепление ядерной безопасности стало одним из пунктов повестки дня продолжающихся переговоров на высшем уровне между Россией и странами Большой семерки. Тем не менее, несмотря на широкий спектр достигнутых договоренностей, в будущем следует уделять постоянное внимание этим вопросам, чтобы начавшийся процесс приобрел необратимый характер.
Осторожность Запада перед перспективой российско-украинского столкновения, являвшейся широко обсуждаемой темой в 1992 г., проистекала из ясного понимания того факта, что, если бы меры по предотвращению конфликта не принесли желаемого результата, «ядерное измерение» возможного кризиса 125
не оставляло сомнений в том, что разгоревшийся конфликт представлял бы огромную опасность для Европы и Северной Америки, предотвратить которую было бы чрезвычайно трудно. Предпринятые США попытки посредничества между двумя крупнейшими государствами—преемниками СССР имели, тем не менее, и иной аспект, более связанный с общими геополитическими соображениями.
Сохранение нового геополитического статус-кво
После того как распад СССР стал свершившимся фактом, Запад осознал, что его интересам отвечает упрочение нового плюралистического геополитического устройства в постсоветском пространстве. Это новый элемент, поскольку даже в разгар «холодной войны» действительное расчленение СССР никогда не рассматривалось им в качестве политической цели. В настоящее время сохранение нового статус-кво, т.е. предотвращение воссоединения (особенно насильственного) бывших советских республик или их частей в рамках великой России, является важной внешнеполитической задачей. В этой связи представляется жизненно необходимым сохранение независимости Украины. Но здесь возможна, по-видимому, и пугающая крайность — это перспектива распада России, Украины или Казахстана под действием регионального сепаратизма, возникающего на почве экономического недовольства.
В России прежняя тенденция бросить бывшие республики на произвол судьбы сменилась вновь обнаруженным интересом к главным образом двусторонней или выборочной интеграции с «ближайшими соседями». Попутно решается вопрос об их примирении. С 1993 г. Москва стремилась добиться международного признания СНГ. Повышение статуса все еще бездействующего Договора о коллективной безопасности, подписанного в Ташкенте в мае 1992 г., традиционно считается лучшим способом предотвращения конфликтов между ними (как территориальных, так и приграничных). Договор обязывал подписавшие его стороны (т.е. Россию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Таджикистан, Армению, а также впоследствии присоединившуюся к Договору Белоруссию) тесно сотрудничать в области безопасности, но он далеко не является соглашением о создании полномасштабного оборонительного союза. В рамках этого Договора не было образовано совместных ВС и общего командования, за исключением по большей части символических коллективных миротворческих сил в Таджикистане, в состав которых включены российская дивизия, узбекский батальон и киргизская рота. Вне Центральной Азии роль Договора минимальна: Армения безуспешно пыталась ис126
пользовать Договор для разрешения карабахского конфликта; в Белоруссии проявляется сильное нежелание того, чтобы ее войска использовались в операциях за пределами республики. Однако важнее всего было то, что Россия нашла более эффективным и гораздо менее дорогостоящим вести дела с каждым из новых независимых государств в отдельности.
Принимая во внимание процесс расширения НАТО на восток, запутывающий и отравляющий отношения между НАТО и Россией, расширение сферы действия Договора часто упоминается как одна из «контрмер», которую Москва может принять в ответ на присоединение Польши и других центральноевропейских стран к западному военному альянсу. В свою очередь для Запада новая и по большей части символическая редакция возглавляемого Москвой альянса, являющегося продолжением Варшавского договора, рассматривалась бы как подтверждение силы российского имперского инстинкта.
Для России успех национального строительства в ННГ имеет несомненную ценность. Распад СССР явился следствием желания российской политической элиты избавиться от необходимости дотирования экономики союзных республик.
Близость к краху любого из новых государств, даже таких маленьких, как Таджикистан или Грузия, влекла бы за собой немедленные и весьма тягостные для России последствия. Посредством огромных субсидий (17 млрд. долл, только в 1993 г., по сведениям тогдашнего министра финансов Бориса Федорова) Россия внесла весомый вклад в становление независимости этих государств, в том числе и Украины, снабжая ее энергией. Для безопасности России нет большей угрозы, чем распад Украины. Присоединение к России любой из стран СНГ или даже отколовшейся провинции, подобной Абхазии или Приднестровью, обошлось бы слишком дорого. В настоящее время Белоруссия, подписавшая в апреле 1996 г. договор о создании «сообщества» с Россией, возможно, является единственным исключением. Ко всему этому процессу образования новых государств Москва может, однако, относиться положительно только в том случае, если ННГ остаются дружественными и уважают интересы России. По всему СНГ Россия взяла на себя обязанность сохранять свое «традиционное и прямое влияние». С одной стороны, Запад не может не учитывать стабилизирующий потенциал СНГ, особенно в таких регионах своей далекой периферии, кцк Кавказ и Центральная Азия. С другой — он обеспокоен, так как рассматривает решимость России использовать прикрытие Сообщества для восстановления контроля над ННГ и превращения Договора о коллективной безопасности во второе издание Варшавского договора. В той мере, в какой миротворчество рассматривается как 127
орудие для достижения этой цели, оно остается спорным вопросом между Россией и Западом.
Прибалтика и Калининград
Западные интересы в новых независимых государствах неоднородны по качеству и уровню. По мере удаления их территориального расположения от Европы интерес к ним падает. Принятие Эстонии, Латвии и Литвы в Совет Европы явилось знаком признания этих стран частью расширяющегося на восток Запада, к чему они сами и стремились. Конфликт между Россией и любой из Прибалтийских стран неминуемо вызовет резкую и серьезную конфронтацию между Москвой и Западом, в которой проигравшей стороной, безусловно, окажется российская. Чтобы предотвратить такое развитие событий и окончательно гарантировать независимость этих трех стран, были приложены все мыслимые усилия, способствовавшие максимальному ускорению вывода российских войск из Литвы, Латвии, Эстонии (завершен в 1993 г. из первой из них ив 1994 г. из двух других). Подразумеваемые гарантии безопасности (хотя и в весьма мягкой форме ассоциативного членства в Западноевропейском союзе и членства в программе «Партнерство ради мира» — то и другое с 1994 г.) призваны развеять какие-либо ирредентистские амбиции в России. В то же время некоторое внимание уделялось положению национальных меньшинств и соблюдению прав человека в самих странах Балтии. Это делалось для того, чтобы, с одной стороны, утихомирить местное русскоязычное население, а с другой — не дать Москве повода вмешаться во внутренние дела этих государств.
Признав независимость Эстонии, Латвии и Литвы без всяческих оговорок и условий — даже о статусе русскоязычного меньшинства в этих республиках, — Россия в конечном итоге оставила безуспешные попытки связать этот вопрос с проблемой вывода войск с территории республик. На самом деле присутствие российских войск, действовавшее как раздражитель в Прибалтийских республиках, для самой Москвы являлось скорее помехой, чем козырной картой. Через два с половиной года после распада СССР (а отнюдь не через 6—7 лет, как предполагалось изначально) российские ВС покинули Прибалтику. Чтобы подсластить пилюлю, США ассигновали порядка 100 млн. долл, в программу строительства домов для офицеров выведенных из Прибалтики частей. Было выполнено и другое важное для России условие: радарная станция раннего оповещения в Скрунде (Латвия) была сдана в аренду России на 5 лет. Москва со своей стороны никак не поддержала сепаратистские настроения русско128
язычного населения Прибалтики: несмотря на многие «сходства» с Приднестровьем, никакого «Принаровья» в Северо-Восточной Эстонии не появилось. Демонстрируя просвещенный интернационализм, Москва приняла решение представить дело о российских меньшинствах на рассмотрение ООН, СБСЕ/ОБСЕ и Совета Европы. Кроме того, сдерживающее воздействие скандинавов на своих соседей на другом берегу Балтики способствовало (по крайней мере вплоть до настоящего момента) успешному предотвращению конфликта.
Калининград, первый в истории России анклав, привлекает к себе отнюдь не меньшее внимание, но по другим причинам. Дело не в том, что бывшая Северо-Восточная Пруссия становится функциональным аналогом Западного Берлина времен «холодной войны», — просто неспособность России достаточно быстро перестроить экономику региона может привести к внутренней социально-политической дестабилизации Калининграда, что в свою очередь повлечет за собой рост сепаратистских настроений в регионе, а это может иметь опасные международные последствия.
Предотвращение конфликта в Балтийском регионе изначально обязано своим успехом сдержанности и взвешенности позиций потенциальных антагонистов. Очевидно, что ставки для обеих сторон весьма высоки. Ростки потенциальных конфликтов, тем не менее, пока не вырваны с корнем. Следовательно, задачей политиков в настоящее время является сдерживание их развития.
Украина
В то время как защита независимости Прибалтики политически и эмоционально важна, именно независимость Украины является наилучшей гарантией недопущения реставрации Российской империи в Европе. Именно поэтому Киев получил заверения об уважении суверенитета и территориальной (Крым, Севастополь) целостности Украины. Хотя это нельзя назвать гарантией безопасности, определенное сдерживающее воздействие подобные гарантии имеют. С успехом выполнив свою миссию в деле об урегулировании конфликта вокруг ядерного вооружения, Вашингтон и впредь надеется сыграть роль посредника в вопросах статуса Крыма и будущего Черноморского флота, что вызывает растущее раздражение в Москве.
Ддя России Украина представляет важность, как никакая другая страна. Конфликт между двумя крупнейшими государствами— преемниками СССР или даже крупный внутренний конфликт на Украине означает для России катастрофу. Поскольку большинство нынешних бед Украины имеет экономические корни, у России не 129
9-1814
остается выбора, кроме как продолжать фактически субсидировать ближайшего соседа, в то же время продолжая поиски путей усиления сотрудничества в сфере экономики. Западная помощь Украине полезна, но одновременно построение «бастиона на Днепре» как первой линии обороны Европы против России носит серьезно дестабилизирующий характер.
Белоруссия
Запад смотрит на Белоруссию гораздо более спокойно, чем на южного соседа этой республики. Для правительств большинства западноевропейских стран Белоруссия не более чем российский сателлит, который рано или поздно найдет дорогу к Москве. Часто говорится, что российско-белорусские отношения, закрепленные в договоре 1996 г., являются образцовыми в СНГ. Однако скорее их следует рассматривать как уникальные. Даже нынешний политический союз между Москвой и Минском, при условии, что он будет добровольным, не расценивается как повод для озабоченности. Стратегически именно Белоруссия, а не Украина наиболее важна для Москвы, поскольку именно она расположена на столбовой дороге из России в остальную часть Европы.
Молдавия
Молдавия, где с середины 1992 г. действует заключенное при посредничестве Москвы перемирие, рассматривается как пробный камень дальнейшей российской экспансии, особенно в направлении Балкан. Вывод российских войск (до 1995 г. называвшихся 14-й армией) из Приднестровья считается, в особенности США, необходимым условием разрешения конфликта. Иными словами, в Молдавии конфликт надо не предотвращать, а урегулировать. С точки зрения России, попытка объединения Молдавии и Румынии (в настоящее время маловероятная, но широко обсуждавшаяся в 1992—1993 гг.) спровоцирует серьезный кризис, если Приднестровью не будет разрешено выйти из этого союза. Хотя Москва согласилась в 1994 г. вывести свои войска в трехлетний срок после ратификации документа (по сей день не происшедшей), она тем временем продолжает считать пребывание российских ВС в регионе стабилизирующим фактором.
Кавказ
На Кавказе кризис следует также урегулировать — предотвращать его уже поздно. В то время как после начала событий в Чечне Москва пыталась предотвратить всеобщее восстание на Северном Кавказе, Закавказье стало буферной зоной между
130
Россией и Турцией/Ираном. В качестве другого примера предотвращения кризиса следует привести Аджарию, которая остается единственной частью Грузии, фактически не контролируемой Тбилиси, в которой не происходило вооруженных столкновений. Взаимоотношения между батумскими властями и местным российским гарнизоном, согласно имеющимся сведениям, достаточно тесные и стабильные. Две из пяти российских военных баз, которые получат официальный статус в Грузии — одна в Батуми, а другая в Ахалкалаки, районе, населенном армянами, — в самом деле способны выполнить задачу предотвращения кризиса. Историческая область — Лезгистан, расположенный по обе стороны российско-азербайджанской границы, — может быть приведена в качестве еще одного примера. В то время как националистические силы в Москве видят в нем инструмент давления на Баку, российское правительство действует весьма осмотрительно, опасаясь дестабилизации в Дагестане — республике в составе России, граничащей с Азербайджаном и Чечней.
С точки зрения России, ее позиции на Кавказе подвергаются серьезной угрозе, и она скорее станет их отстаивать, а не оставлять. Пример тому — отношение Москвы к фланговым ограничениям по Договору об обычных вооружениях в Европе. Интересно отметить коренное отличие между позицией Вашингтона и большинства европейских держав, с одной стороны, и Анкары — с другой, относительно реакции на требование России пересмотреть фланговые ограничения в сторону повышения численности войск. Запад, интересы безопасности которого не слишком сильно задеты южными фланговыми ограничениями, проявил понимание и был готов повлиять на турок, своих союзников, чтобы удовлетворить требования русских. Внутриполитические перемены в Турции, особенно после парламентских выборов 1995 г., обострили дурные предчувствия Запада относительно того, что Турция, вместо того чтобы присоединиться к Европе, может обратиться к исламскому фундаментализму и выйти из НАТО. Если это произойдет, взаимоотношения между Турцией, США и Россией могут измениться до неузнаваемости.
Казахстан
Над Казахстаном потенциально может нависнуть серьезная опасность в связи с демографической ситуацией в республике. Конфликт между Россией и Казахстаном по вопросу о северных территориях, где соотношение русского и казахского населения составляет 3:1, имел бы все признаки конфронтации между христианами и мусульманами. Кроме территориальных проблем, исключительное значение имеют и проблемы гражданства. Пока 131
9*
что Москва и Алма-Ата подтвердили свое признание существующих границ и пришли к компромиссу по вопросу о гражданстве, избегая двойного подданства, но предельно ускорив и упростив процедуру смены казахстанского гражданства на российское и наоборот. В то время как президент Казахстана Нурсултан Назарбаев остается горячим приверженцем идеи Евразийского союза, идею которого он выдвинул еше в 1994 г., как мягко конфедеративного и более децентрализованного образования, призванного прийти на смену СНГ, обе страны подошли к заключению стратегического союза. В марте 1996 г. Казахстан подписал договор о более тесном сотрудничестве и интеграции с Россией, Белоруссией и Киргизией.
Остальная часть Центральной Азии к югу от Казахстана представляет собой стратегически важный регион, где встречаются интересы России, Китая и мусульманского мира. Он богат прежде всего энергетическими ресурсами, такими, как газ и нефть, но остается потенциально наиболее взрывоопасным в бывшем Советском Союзе — настоящим пороховым погребом. Пограничные споры и проблемы национальных меньшинств, межклановые войны и социальное недовольство, вызов господствующему авторитаризму со стороны религиозных и демократических движений, права на землю и воду создают весьма взрывоопасную смесь. Далеко не всем государствам, существующим в данный момент в регионе, суждена долгая жизнь. Судьба Афганистана должна послужить им серьезным предупреждением.
Разумеется, Россию крайне заботит судьба и благосостояние 6 млн. этнических русских, проживающих к югу от Урала и Сибири. Тем не менее у Москвы нет средств на обеспечение их интеграции в российское общество, если большинство из них решит вернуться на земли своих предков в течение короткого срока. Поэтому, чтобы предотвратить нашествие беженцев, с которым может не справиться ее система социального обеспечения, Россия в интересах стабильности поддерживает пост/нео- коммунистические режимы, находящиеся у власти в этом регионе. Запад сделал тот же выбор, хотя и по другим причинам.
Управление конфликтами
К середине 1992 г. стало очевидно, что ни одно государство или группа государств не желает серьезно и беспристрастно заниматься урегулированием кризисов в бывшем советском пространстве даже согласно мандату. Все, кроме России, которая, отнюдь не будучи беспристрастной, всегда готова принять в этом участие. В начале 1993 г. Россия неоднократно официально обращалась с просьбой признать ее в качестве главного миротвор132
ца на территории СНГ, в частности, она добивалась получения мандата OOH/СБСЕ на свои миссии при соответствующем материальном обеспечении.
Обычно отмечается, что заинтересованность России в управлении конфликтами в бывшем Советском Союзе проистекает из необходимости сдерживать волны насилия в соседних государствах. Часто упоминается об отсутствии границ между бывшими советскими республиками, что облегчает просачивание боевиков, о необходимости защиты русскоязычного населения в зонах конфликтов и желании избежать огромного притока беженцев и т.д.
Действительно, границы между раздираемыми конфликтами странами СНГ более прозрачны, чем того требуют интересы национальной безопасности. Превращение былых административных границ в укрепленные государственные границы со всей соответствующей инфраструктурой необычайно дорого для бюджета: согласно официальным российским данным, стоимость 1 км государственной границы составляет порядка 500 тыс. долл. Кроме того, демаркация границ может привести к новым конфликтам там, где этнические общины, проживающие в приграничных районах, окажутся физически разделенными (к примеру, лезгины на границе России и Азербайджана, русские в Южной Сибири и Северном Казахстане и т.п.)1. Вместе с тем Россия не видит альтернативы укреплению границ с государствами Прибалтики и Кавказа.
Однако эти соображения не касаются Центральноазиатского региона. Российско-казахстанская граница протяженностью 6000 км является длиннейшей в Евразии. Россия пытается найти способ закрытия внешних, а не внутренних границ СНГ. Хотя это желание «выделяет» геостратегическое пространство России, стабилизирующая роль российских пограничных войск в Армении, Грузии, Туркмении, Таджикистане и Киргизии очевидна.
Что касается внутренних границ, т.е. границ между государствами Содружества, недопущения насильственного их передела, то в этом вопросе позиции России и Запада в целом сходятся. Будучи непризнанными, такие самопровозглашенные образования, как Абхазия, Нагорный Карабах, Южная Осетия, Приднестровье, пытаются найти общий язык с Крымом, Татарстаном, Башкортостаном, которые остаются также проблемными регионами. Всякая удачная попытка отделения территории в любом ННГ будет иметь серьезные последствия для России, которой пришлось вести войну за сохранение Чечни в составе Федерации. В
См.: Доклад СВР// Красная звезда. 1994. 28 сентября. С. 3. 133
последнем случае Запад согласился с принципом территориальной целостности, хотя и осудил методы, использованные Москвой для его поддержания. В целом после распада СССР Запад не заинтересован в дальнейшей дезинтеграции. Оспаривание нерушимости границ внутри ОБСЕ еще более подорвет стабильность и в конце концов приведет к балканизации всей Европы.
Остановить исламский экстремизм, подобный таджикскому, — в достижении этой цели интересы России и Запада опять-таки совпадают. В то же время, если Запад, особенно США, содействует усилению позиций Турции как на Кавказе, так и в Центральной Азии в качестве противовеса Ирану, Россия делает как раз противоположное. Чтобы нейтрализовать Анкару, Москва достигла взаимопонимания с Ираном, также ставшим крупнейшим покупателем продукции российской военной промышленности и атомно-энергетического комплекса. В то время как некоторые россияне говорят о превращении Ирана в союзника против Запада, коренные интересы России требуют сдерживания Тегерана, недопущения его слишком сильного внедрения в Кавказский и Центральноазиатский регионы, принятия мер к тому, чтобы он не спровоцировал новый региональный кризис в Персидском заливе.
Борьба с терроризмом, противодействие нелегальной торговле оружием и наркотиками обычно описываются как основные задачи российских миротворцев. В принципе это совпадает с интересами Запада. В действительности вплоть до середины 1995 г. терроризм, связанный с конфликтами, оставался локализованным. Однако, когда чеченские террористы начали осуществлять массированные захваты заложниковс значение этого фактора возросло. Распространение чеченского терроризма на территорию Турции придало конфликту международное измерение. Со времени анти- террористического саммита в Шарм-аш-Шейхе в 1996 г. Россия и Запад, пусть и в принципиальном плане, стали более громко заявлять о необходимости координации своих действий в борьбе с терроризмом.
Что касается оружия, то большая его часть перемещается в постсоветских пределах, и Россия не способна должным образом проконтролировать этот процесс, равно как и предотвратить расползание разного вида вооружений, особенно на Кавказе. Неразбериха, возникшая к концу существования СССР, привела к ряду тайных сделок и просто захватов военных складов, как правило, при попустительстве, а порою с санкции российских официальных лиц. Поставки оружия и боеприпасов воюющим сторонам (как это было в Абхазии, Карабахе, да и в Чечне) являются еще одной проблемой постсоветского поведения России. Вряд ли, однако, Россия одна несет за это вину. Украина и 134
страны Балтии также часто упоминаются как ответственные за нелегальную торговлю оружием.
Торговле наркотиками способствует таджикский конфликт, но пограничные войска в Таджикистане и миротворцы едва ли в состоянии остановить поток наркотиков из Афганистана в Москву и Санкт-Петербург через неконтролируемую Горно-Бадахшан- скую автономную область. Были даже голословные утверждения о том, что транспортная авиация, принадлежащая миротворческому контингенту и российским пограничникам, регулярно используется для доставки опиума в Центральную Россию1.
Необходимость осуществления миротворчества в СНГ побудила россиян предпринять попытки воспользоваться Ташкентским договором как основой для совместных операций. Первоначально не добившись успеха, они смогли осенью 1993 г. развернуть первую и пока единственную миротворческую операцию СНГ в Таджикистане. Мандат ООН на ввод этого контингента был истребован, но не получен. Запад не видел смысла награждать Москву за силовую защиту ее собственных интересов. В то же время утверждалось, что «не в интересах России допускать присутствие военных контингентов третьих стран на территории постсоветских государств», даже как миротворцев* 2. Хотя впоследствии эта формулировка была смягчена, в частности применительно к Нагорному Карабаху, изменение касалось формы, а не содержания. Российское миротворчество всецело связано с поддержанием нового регионального баланса, особенно в Закавказье и Центральной Азии. По словам тогдашнего министра иностранных дел Андрея Козырева, «любые планы создания чьих-либо сфер влияния путем “вытеснения” России на постсоветском пространстве и безнадежны, и опасны»3. Никакого вакуума силы допущено не будет, предупреждают российские официальные лица, ибо такой вакуум «неизбежно осложнил бы военно-стратегическое положение России и неизбежно был бы заполнен силами, недружественными к России»4. Тем временем грань между миротворцами и регулярными российскими войсками часто размыта. Это тревожит западных наблюдателей, но в глазах российских военных такие акции, как посылка войск в Нагорный Кара~1
См. интервью генерал-майора Геннадия Блинова, заместителя министра внутренних дел Таджикистана, газете «Сегодня» 2 сентября 1994 г.
2
См.: Елагин В. Российское военное присутствие: правовой статус // Сегодня. 1994. 2 марта.
3
Козырев А. Указ. соч.
4
Елагин В. Указ. соч.
135
бах в 1988 г., меры по прекращению этнических столкновений в Центральной Азии в 1989—1990 гг. и чеченская операция 1994—1996 гг.1, представляют собой «миротворчество».
Этот бесхитростный взгдяд подчеркивает коренное различие, существующее между Россией и Западом относительно методов ведения политики. Миротворчество, при котором подчеркивается «особая роль» российской армии как единственной силы, способной принести хоть какой-то порядок в районы конфликтов, помогло заложить правовую основу для постоянного присутствия российских вооруженных сил на территории новых независимых государств. В 1992 г. Южная Осетия стала первой территорией бывшего СССР, куда вернулись российские войска, на этот раз в качестве сил по поддержанию мира. В 1993 г. Министерство обороны РФ объявило о своем намерении создать 27 или 28 военных баз в новых государствах. В сентябре того же года 201-я мотострелковая дивизия в Таджикистане превратилась в костяк коллективного миротворческого контингента СНГ. По февральскому 1994 г. протоколу с Грузией, позднее преобразованному в договор, Россия получила то, к чему она стремилась с момента распада СССР, а именно права на военные базы в Вазиани, Ахалкалаки и Батуми. Российские части в Абхазии будут по-прежнему размещены в Сухуми и Гудауте. Ратификация договора грузинским парламентом, однако, поставлена в зависимость от оказания Россией давления на абхазское руководство, с тем чтобы оно признало, что Абхазия находится в составе Грузии. В Молдавии предложения Москвы Кишиневу о постоянной дислокации 14-й армии, а затем о превращении ее в миротворческий контингент были все же отклонены. Опасаясь того, что российские войска, когда они прибудут как единственная сила для поддержания мира, больше не уйдут, Азербайджан настаивал на том, чтобы русские являлись частью международных сил.
Запад в целом испытывает симпатию к тем, кто, подобно Молдавии или Азербайджану, не желает пребывания российских войск на своей территории, ибо начиная с 1992 г. он проявляет озабоченность тем, что российские подразделения в различных конфликтных зонах не полностью контролируются Москвой. Чеченский конфликт лишь подтвердил эту озабоченность. Не стоит, однако, во всем винить военных: встревоженность российских властей по поводу примеров самоуправства и неподчинения разСм. интервью генерал-полковника Евгения Подколзина, командующего воздушно-десантными войсками, газете «Советская Россия» 23 февраля 1995 г.
136
бивается о несогласованность действий в самой Москве, которая делает центральное правительство опасно недееспособным. Что еще важнее, бесконтрольное участие военных в конфликтах укрепляет именно те тенденции и элементы в России, которые Запад находит наиболее опасными для своих интересов. Авторитарное русское государство, особенно если ему удастся добиться процветания экономики, может явиться наименее желательным сценарием для многих на Западе.
Урегулирование конфликтов
В плане окончательного урегулирования конфликтов достижений крайне мало. Весной 1995 г. в Гагаузии, населенном тюрками районе Южной Молдавии, достигнуто конституционное урегулирование в составе молдавского государства. Прочие кризисы оказались гораздо труднее разрешимыми. Как показал мирный процесс в Нагорном Карабахе, само урегулирование оказывается оттесненным на второй план по сравнению с той ролью, которую намерены играть в регионе будущие миротворцы, прежде всего Россия, США и Турция. Конкуренция за обладание нефтяными и газовыми ресурсами Каспийского бассейна стала наиболее существенным фактором в новой версии «великой игры».
Заключение
Таким образом, параллельный анализ российского миротворчества в бывшем СССР и интересов, движущих российской и западной политикой в отношении конфликтов, на его территории вскрывает глубокую убежденность России в том, что ее национальная безопасность зависит от успеха или неудачи ее усилий восстановить стратегический и до некоторой степени политический контроль над зонами конфликтов, особенно на Кавказе и в Центральной Азии. Тенденции в российской внешней политике ясно указывают на то, что ее внимание постепенно сосредоточивается на отношениях с государствами СНГ. Символично, что Евгений Примаков, сменивший Андрея Козырева на посту министра иностранных дел в январе 1996 г., решил посетить новые независимые государства прежде, чем направился в страны «дальнего зарубежья».
Запад, более озабоченный конфликтным потенциалом в новой Восточной Европе, в общем удовлетворен тем, что Россия, по-видимому, надолго занята на пространстве к югу от своих границ. Критика методов Москвы не ослабляет готовности позволить России делать то, что она хочет, вновь разыгрывая игры XIX в., — на этот раз главным образом против региональных незападных 137
партнеров. Хотя Россия, пожалуй, может позволить себе игнорировать эту критику, она не может ожидать помощи или содействия от Запада. Интересы часто параллельны, но нет общего дела. Единственной базой взаимодействия теперь является не общность идей, а совпадение интересов. Так, интернационализация миротворчества становится предпочтительней, хотя и является более трудным вариантом. Несмотря на то что первоначальные ожидания не оправдались, ее можно и нужно продолжать. Одобрение Советом Безопасности ООН операции СНГ в Абхазии (1994) и присутствие наблюдателей ООН в Таджикистане вводят определенные стандарты и помогают крепить доверие. Примером же трудностей может служить тот факт, что, в то время как российское правительство допустило миссию ОБСЕ в Чечню в 1995 г., оно отказало в приезде группе представителей Совета Европы, который приостановил вступление России в эту организацию.
Миротворчество ОБСЕ, однако, принципиально не должно ограничиваться одним только постсоветским пространством. Сотрудничество России и НАТО в рамках международных сил (IFOR) в Боснии и Герцеговине дает шанс построения основ партнерства вокруг практически осуществимой совместной миссии. В то же время новый раздел Европы по западной границе стран СНГ, если он станет реальностью, вполне может привести к созданию двух «миротворческих режимов»: на западе с центром в НАТО и на востоке, возглавляемом Россией/СНГ. Хотя некоторым подобный раздел может показаться стабилизирующим фактором, тем не менее вследствие изоляционистского характера такого устройства это скорее послужит интересам консервативных или изоляционистских групп правящих элит, нежели коренным интересам безопасности как России, так и Запада. В ситуации, когда интересы национальной безопасности вновь оттесняют на второй план блоковые или идеологические интересы, миротворчество не следует предоставлять единственной державе или тесно сплоченному альянсу. Россия как крупнейшая национальная сила в Евразии, вероятно, вернется к своей традиционной роли и в этом качестве будет время от времени иметь конфликты с другими державами. США и страны Европейского союза будут, несмотря на все общие ценности и принципы, все более преследовать свои собственные цели. Однако в отличие от периода «холодной войны» в этой новой среде нет игры с нулевой суммой; эти конфликты интересов поддаются регулированию.
Оливье Пэ
ПРОЦЕСС МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ БЫВШИХ ЮГОСЛАВСКИХ РЕСПУБЛИК — ОПАСНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ ДЛЯ МНОГОЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ
Цель данной статьи — показать, как международное сообщество под влиянием Европейского союза сформировало свою позицию по политическому вопросу, лежащему в основе югославского кризиса, — о праве субъектов федерации на провозглашение независимости. Те обстоятельства, которые были связаны с развитием военных действий и привели к изменению позиций международных участников этой драмы по существу вопроса, мы затронем лишь попутно; основная наша цель — определить, может ли форма решения этого вопроса в Югославии послужить моделью для других, схожих ситуаций.
С первых же сообщений о погибших в Крайне в 1990 г. и вплоть до одностороннего провозглашения независимости Словенской и Хорватской республиками 2 5 июня 1991 г. Европейский союз придерживался мнения, согласно которому конституционные вопросы должны решаться путем переговоров между «всеми сторонами» в рамках федеративного югославского государства1. Итак, вначале «Двенадцать» (12 членов ЕС) рассматривали возможность признания мятежных республик лишь при условии, что оно будет результатом соглашения всех сторон2. Эта линия соответствует курсу, определенному 20 июня 1991 г. министрами иностранных дел стран СБСЕ, высказавшимися за «единство и территориальную целостность Югославии на основе... мирного урегулирования текущего кризиса в этой стране»3.
По мере развития военных действий сперва в Словении, затем См. позицию, выраженную гг. Сантером и Делором во время их визита в Югославию // Europe. 1991. No. 1725. Mai 27, 28.
2
См. декларацию от 23 июня 1991 г. // Europe. 1991. No. 5519. Juin 24, 25.
3
См.: Remacle Е. La CSCE. Mutations et perspectives d'une institution paneuropdenne. Bruxelles: CRISP. Coll. «Courrier hebdomadaire». 1992. No. 1348—1349. P. 40.
139
в Хорватии и, наконец, в Боснии-Герцеговине, европейская позиция эволюционировала в направлении условного и избирательного признания независимости федеральных республик, входивших в югославское государство.
Принципы Брионского консенсуса
Предложив в начале июля 1991 г. первый план мирного урегулирования1, «Двенадцать» положили в основу урегулирования два принципа, касающиеся как политических требований сторон, так и средств их реализации. Во-первых, право югославских народов самим определять свое будущее должно было осуществляться в соответствии с нормами международного права, в том числе с нормами, относящимися к территориальной целостности государств2. По сложившейся традиции, это право толковалось только в пользу народов, борющихся против колониального, расового или иностранного господства; в данном случае им пользовались, исходя из новых посылок. С помощью этой подмены понятий Европейский союз узаконил свое вмешательство в конфликт, который уже нельзя было рассматривать просто как внутреннее дело югославского государства, ибо речь шла о выполнении международного обязательства, причем не какого-нибудь второстепенного3. Во-вторых, ни одна односторонняя акция, в особенности с применением насилия, не подлежит одобрению. И в этом случае общий принцип международного права также получает новое толкование: запрет на применение силы, обычно ограничивающийся межгосударственными отношениями, распространяется на внутригосударственные4. Именно на этом основании, например, «Двенадцать» объявили «незаконной» военную помощь, предоставленную федеральными войсками «нерегулярным» формированиям хорватских сербов. Соответственно, принципом нерушимости границ, классическим следствием принципа Текст Брионского соглашения от 7 июля 1991 г. опубликован в: Europe Documents. 1991. No. 1725. Juillet 16.
2
Выражение «право югославских народов» само по себе оригинально, ибо до этого говорили, например, о праве алжирского народа, а не о праве французских народов.
3
Право народов на самоопределение — одна из немногих международных норм, пользующихся всеобщим признанием и регулярно подтверждаемых (см.: Salmon J. Vers 1'adoption d'un principe de legitimite democratique? // Association Droit des gens. A la recherche du nouvel ordre mondial. Tome I — Le droit international a I’dpreuve. Bruxelles: Complexe, 1993. P. 59—87).
4
См. декларацию от 27 августа 1991 г. в: Europe. 1991. No. 5555. AoQt 29.
140
неприменения силы, обосновывали теперь и отказ признавать какие бы то ни было насильственные изменения внутренних государственных границ1.
Оригинальность Брионского консенсуса в том, что под прикрытием разговоров об «открытом» решении, достигаемом в результате открытых переговоров, европейцы считают равно законными требования унитаристов и сторонников отделения и равно незаконными любые односторонние акции, в том числе с применением силы. Все это очень далеко от классической концепции «священной непререкаемости» государственного суверенитета, против которой сражается, например, Бернар Кушнер. Сама структура государства, прежде считавшаяся сугубо внутренним делом, становится ныне предметом международного интереса.
Гаагская идея конфедерации
После того как 8 октября 1991 г. истек срок моратория на провозглашение независимости и война в Хорватии вспыхнула с новой силой, «Двенадцать» активизируют свою посредническую деятельность, пользуясь постоянно действующей мирной конференцией в Гааге. Сперва им удается добиться, чтобы все республики согласились рассмотреть «перспективу признания независимости республик, [ее] желающих»'2. Признав затем право республик на независимость и порекомендовав предоставить особый статус тем общинам, которые составляют большинство в определенных регионах, но в масштабах республик являются меньшинствами, «Двенадцать» придут к тому, что предложат заменить федеративное государство конфедерацией суверенных государств3.
Теперь международное право, по-видимому, начинает одерживать верх над принципом неприкосновенности границ. «Двенадцать», кажется, признают, что право на самоопределение республик предполагает и право на отделение, поскольку Югославия перестала бы существовать в качестве государства. Связь между республиками из внутригосударственной стала бы межгосударственной; на практике это означало бы, что республики признаются См. заявления Комитета старших должностных лиц СБСЕ, воспроизведенные в статье: Ghebali V.-Y. La crise yougoslave devant la CSCE // M£langes Appolis. Paris: Pedone, 1992. P. 218.
2
См. миротворческий план от 4 октября 1991 г. в: Le Monde. 1991. Octobre 6, 7.
3
См. миротворческий план от 18 октября 1991 г. в: Le Monde. 1991. Octobre 20, 21.
141
полноправными субъектами международного права, а «Югославия» становится межгосударственной структурой вроде Бенилюкса или... Европейского союза.
Фактическое признание отделения словенцев и хорватов
После того как 8 ноября 1991 г. Европейский союз принял серию экономических санкций против Югославии, основной виновницей неурегулирования конфликта все более и более явственно выглядит Сербия: она не только единственная республика, отвергшая конфедеративное решение проблемы, но еще и захватывает федеральную власть с помощью «конституционного переворота»1 и не задумываясь бомбит хорватские города с несербским населением, такие, как Дубровник. Поэтому «Двенадцать», уточнив, что будут приняты «положительные, компенсирующие меры по отношению к тем сторонам, которые мирным образом способствуют глобальному политическому урегулированию на основе предложений Европейского сообщества»2, постановили (2 декабря) предоставить экономические льготы Словении, Хорватии, Македонии и Боснии-Герцеговине. С этого момента Европейский союз de facto относится к республикам как к отдельным субъектам международного права. Трансформация этой фактической ситуации в юридическую будет осуществляться благодаря юридической окраске, которую ей придала комиссия Бадентера — нечто вроде третейского суда, составленного из председателей пяти европейских конституционных судов, — которой было поручено давать мирной конференции свои рекомендации по возникающим правовым вопросам. Все юридические рассуждения, обосновывающие эту эволюцию, исходят из двух постулатов3.
1) «Социалистическая Федеративная Республика Югославия находится в процессе распада».
Выдвигаются хилые доводы: четыре республики из шести заявили о желании быть независимыми; состав и функционирова1
Созвав в одностороннем порядке федеральное собрание, «сербский блок» воспользовался отсутствием других делегаций (словенская делегация фактически покинула зал заседаний), чтобы присвоить себе всю полноту Центральной югославской власти. Новая скупщина узаконила военное вмешательство югославской армии в конфликт и изгнала представителей Словении из федеральных структур.
2
См. декларацию по Югославии (Rome: CPE. 1991. Novembre 8).
3
См. рекомендации No. 1 и 3 Комиссии Бадентера. Рекомендации No. 1—7 опубликованы в: Revue gendrale de droit international public. 1992. P. 264 et ss.
142
ние федеральных органов больше не отвечают критериям участия и представительства, свойственным федеральному государству; федеральные власти (как и власти республик) продемонстрировали неспособность соблюдать различные соглашения о прекращении огня, т.е. поддерживать порядок на югославской территории.
2) «Республикам надлежит урегулировать проблемы наследования государственной власти, которые может породить этот процесс».
Было бы тщетно пытаться найти какую-нибудь мотивировку этого постулата в трудах Комиссии. И тем не менее, видит Бог, эта логическая ошибка стала кардинальным фактором в выработке решения, в конце концов принятого «Двенадцатью».
В самом деле, раз комиссары-арбитры постановили, что наследницами распущенной федерации призваны быть только бывшие федеральные республики, им остается только применить классические принципы территориального status quo и uti possidetis и объявить, что границы, предоставленные республикам конституцией 1974 г., приобретают характер «границ, защищенных международным правом». И вот логическое следствие: поскольку право на самоопределение ни при каких условиях не влечет за собой права на изменение границ, существовавших на момент провозглашения независимости, сербские общины Боснии и Бос- нии-Герцеговины — признанные, однако, югославской конституцией «государствообразующими нациями» (nations constitutives) — оказываются лишенными права на создание собственного государства.
Эти общины, квалифицируемые как «меньшинства», а не как «народы», пользуются лишь «правом на признание идентичности», которое может, однако, включать в себя на основе соглашений между заинтересованными государствами право на выбор в пользу сербского гражданства.
Профессор международного права Жан Сальмон приходит в связи с этим к резкому заключению: «Поражает отсутствие мотивировки. Произвольные утверждения, волевые решения... Все рассуждение основано на постулате, что государства, возникающие при распаде Югославии, — это государства в терминах международного права. (Исходный) постулат представляет собой логическую ошибку. При этом замалчивается истинная проблема. Имели ли республики право на отделение без согласия Югославии или всех республик, как это произошло в СССР?»1
Кроме того, мы готовы поспорить с кем угодно, что вопреки 1
Salmon J. Reconnaissance d'Etats // Revue beige de droit international. 1992. No. 1. P. 206.
143
утверждениям Комиссии Бадентера ее решение противоречило югославской конституции 1974 г. Если статья 5 действительно утверждала, что никто не может посягать на границы республик без их согласия, то статья 1 вообще признавала право на самоопределение только за «государствообразующими нациями», а не за республиками1.
Юридическое признание отделения словенцев и хорватов
16 декабря 1991 г. «Двенадцать» принимают «Основные направления» мер по признанию новых государств, поставив ряд условий, касающихся демократической формы правления, уважения прав меньшинств, нерушимости границ и возобновления соответствующих обязательств по разоружению* 2. В тот же день они договорились «признать независимость всех югославских республик», которые ее желают, в соответствии с обязательствами, содержащимися в «Основных направлениях», при условии, что республики согласятся предоставить особый статус национальным меньшинствам. «Двенадцать» уточняют, что «это решение вступит в силу 15 января 1992 г.» и что по поводу просьб о признании независимости будет заслушиваться мнение Комиссии Бадентера. Не дожидаясь исхода официальной процедуры, Германия признает Словению и Хорватию 2 3 декабря 1991 г., задав таким образом тон поведению остальных членов Европейского союза по отношению к этим двум республикам.
Итак, полный поворот курса. Через полгода после начала войны «Двенадцать» признают то, что, по крайней мере на первых порах, было расколом, и решают вопрос о будущем югославского государства так, как этого хотели сторонники независимости. Тот факт, что хорватское государство не могло эффективно контролировать всю территорию, на которую оно претендовало, не очень повлиял на мотировки европейцев, которые таким образом отступили еще один раз от классического международного права. Необходимо подчеркнуть, что ООН — как, впрочем, и Соединенные Штаты — не поддержала в этом отношении Европейский союз. Так, в докладе, опубликованном в середине декабря, тогдашний Генеральный секретарь Хавьер Перес де Куэльяр писал: «[Я] глубоко опасаюсь, что поспешное, выборочное признание некоторых югославских республик может привести лишь к расСм.: Interethnic Conflicts and War in Former Yugoslavia. Belgrade: Institute for European Studies, 1992. P. 32—37.
2
Тексты, упомянутые в данном разделе, опубликованы в: Salmon J. Op. cit.
144
пространению текущего конфликта и к дальнейшему обострению и без того взрывоопасной ситуации, в частности в Боснии-Герце- говине и Македонии. В самом деле, это могло бы повлечь серьезные последствия для всего балканского региона»1. В конечном итоге Объединенные Нации тоже признают «свершившийся факт», ибо 22 мая 1992 г. Словения и Хорватия вступят в ООН.
Признание Боснии-Герцеговины
Когда боснийское правительство направило в Комиссию Ба- дентера просьбу о признании, Комиссия сочла, что желание населения Боснии-Герцеговины образовать независимое государство не установлено полностью2. В результате она рекомендовала провести референдум о самоопределении наподобие тех, которые состоялись в Словении и Хорватии, несмотря на то что, «по конституции [боснийской], для провозглашения независимости требовался консенсус трех национальностей»3. Организованный в конце февраля 1992 г., этот опрос населения, бойкотировавшийся сербской общиной, показал почти полное единодушие участников — в пользу независимости. На другой день после голосования сербы воздвигнут первые баррикады — какая вспышка насилия за этим последовала, известно всем.
Вернувшись к роли посредника, Европейский союз предложил, чтобы урегулирование конфликта между унитаристскими устремлениями хорватско-мусульманского правительства и сепаратистскими требованиями сербов не отразились на суверенитете бывшей югославской республики Боснии-Герцеговины4. Срочно занявшись формулированием точного конституционного решения, «Двенадцать» предложили сторонам план «кантонизации»5. Увы, после того как все стороны в принципе согласились с этим планом, боснийские сербы его отвергли. 6 апреля европейцы, а за ними и американцы признали независимость Боснии-Герцеговины — в тот ~1
Отрывок из доклада, процитированный в: Le Soir. Bruxelles. 1991. D^cembre 14—15. О позиции Объединенных Наций по поводу распада Югославии см. нашу монографию: L’ONU et security Internationale. Bruxelles: GRIP, coll. «Le dossiers du GRIP», No. 174. Octobre 1992. P. 41—45.
2
См. рекомендацию No. 4 Комиссии Бадентера.
3
См. интервью Бадентера в: Le Soir. 1992. Septembre 26—27.
4
См. совместную декларацию Соединенных Штатов и Европейского сообщества (Lisbonne: CPE, 10 mars 1992).
5
См. декларацию о принципах новых конституционных решений в Боснии-Герцеговине (Sarajevo: CPE, 18 mars 1992).
145
10 1814
самый момент, когда боснийское правительство теряло контроль над основными частями территории, на которую оно претендовало.
С тех пор Босния-Герцеговина стала членом ООН (22 мая 1992 г.), а международным планам мирного урегулирования, которые должны были положить конец конфликту, не посягая на государственные границы, соответствующие бывшей югославской республике Боснии-Герцеговине, уже и счет потерян. Один только «план Оуэна—Столтенберга», зародившийся из сербскохорватского предложения, включал в себя раздел Боснии-Герце- говины на несколько суверенных государств, но он был отвергнут американцами1.
Статус Македонии и сербско-черногорской федерации
Для полноты картины упомянем о судьбе, ожидавшей две другие территории бывшего югославского государства: прежнюю югославскую Республику Македонию и новую Федеративную Республику Югославию, состоящую из югославских республик Сербии и Черногории.
Несмотря на положительное заключение Комиссии Бадентера2, «Двенадцать» под давлением Греции долго отказывались признать новое государство, пришедшее на смену бывшей югославской Республике Македонии3. Все же было найдено временное решение, «заморозившее» один из источников разногласий, а именно вопрос о названии нового государства. Таким образом, Македония была принята в ООН и признана многими европейскими государствами под временным названием «бывшая югославская Республика Македония» (FYROM, от английской аббревиатуры)4. Однако окончательное решение еще не найдено, хотя греко-македонские переговоры по этому вопросу все еще продолжаются. Тут будет уместно подчеркнуть, что согласно международному праву, всякое государство обычно вправе выбирать себе
1
Что касается различных планов, выработанных международной общественностью, чтобы положить конец вооруженному конфликту в Боснии- Герцеговине, позволим себе отослать читателя к одной из наших статей, которая должна появиться в «GRIP — informations», посвященной ООН; под заглавием «Ех-Yougoslavie: le si difficile £quilibre entre la paix, 1’humanitaire et la justice».
2
См. рекомендацию No. 6 Комиссии Бадентера.
3
См. декларацию о признании Македонии (Guimaraes: CPE, 1992. Mai 1—2).
4
См. резолюцию Совета Безопасности No. 817 (1993) от 7 апреля 1993
146
какое угодно название (как и его официальный перевод на иностранные языки)1.
Что касается «новой Югославии», то ООН, под давлением «Двенадцати», отказалась признать ее право автоматически стать правопреемницей бывшего югославского государства2, тогда как такое право было признано, например, за Россией как правопреемницей СССР или за Пакистаном, несмотря на отделение Бангладеш. Юридические основания этого решения до сих пор неясны. Судя по трудам Комиссии Бадентера, отказ был, видимо, обусловлен двумя причинами3:
1) после того как югославское государство распалось, образовавшиеся в результате новые государственные образования должны считаться новыми государствами;
2) в таком случае новая Югославия могла бы считаться единственной преемницей прежней Югославии только с согласия всех новых государственных образований, созданных после распада этого государства.
Это решение, также далеко не безупречное с точки зрения международного права4, должно было воспрепятствовать новой Югославии стать членом ООН; в настоящее время такой шаг с ее стороны все равно не увенчался бы успехом, поскольку это государство обвиняют в агрессивности5.
Опасный прецедент для многонациональных государств
Действуя скорее de lege fertnda, чем de lege lata, «Двенадцать» утвердили вехи не новых юридических принципов, а скорее новых применений традиционных общих принципов. Способствуя пересмотру классической концепции национального суверенитета, юридические казусы, порожденью европейцами, создают тенденцию к уменьшению власти государства в сфере его внутренних дел, даже когда речь идет о самом его существовании.
Нас больше всего интересует юридический сдвиг, связанный
1
См.: Suy Е. De UNO-resoluties en hun toepassing // Peacekeeping Operations. Colloque des 8—9 fevrier 1993. Bruxelles: Centre d’etudes de ddfense. P. 139—140.
2
См. резолюцию Совета Безопасности No. 817 (1993) от 7 апреля 1 993 г.
3
См. рекомендации No. 8, 9 и 10 Комиссии Бадентера, воспроизведенные в: Journal еигорёеп de droit international. 1993. Vol. 4. No. 1. P. 85—91.
4
Cm.: Salmon J. Op. cit. P. 205—206.
5
См. прения перед принятием резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 23 сентября 1992 г.
ю*
147
с судьбой, ожидающей федеральные государства, само существование которых ставится под вопрос входящими в них федеральными субъектами. Имеют ли федеральные единицы право выходить из государственных структур, в которые они входят? «Двенадцать» ни разу не захотели дать четкого положительного ответа на этот вопрос. Однако если присмотреться поближе, то мы всякий раз с неизбежностью наблюдаем одну и ту же картину: с одной стороны, решения о признании односторонне провозглашенной независимости выносились в пользу только федеральных субъектов (даже если они, как современная Босния-Герцеговина, не соответствовали какому-либо однородному географическому целому, существовавшему до создания федеративного государства); с другой стороны, односторонне провозглашенная независимость не признавалась, если исходила от этнической группы как таковой.
Применив по-новому принцип международного права, «Двенадцать» тут же сочли необходимым ограничить его... существующими федеративными образованиями. Значит, в данном случае понятие «народ» соответствует территории, а не этнической единице. Может быть, это и есть предпосылки объявленного кое-кем наступления эры пост-(или много) национальных государств? 1
Если добиться независимости в одностороннем порядке удалось только субъектам федерации, то «Двенадцать», тем не менее, сформулировали определенные условия, необходимые для этого: согласие признать своими границами внутренние границы, недвусмысленное волеизъявление населения (четко определен способ: общенародный референдум о самоопределении, организованный в масштабах всей федеративной единицы), отсутствие нормального функционирования федеральных органов. Предполагается, что в таких условиях федеративное государство «идет к распаду» и на смену ему придут его федеральные единицы.
Осмелимся сделать вывод: если половина федеративных единиц, входящих в какое-нибудь государство, потребует независимости и предпримет соответствующие действия, государство распадается ipso facto. Отсюда в свою очередь следует, что сегодня на международной арене есть два вида государств: унитарные государства с централизованной властью (Франция, Великобритания), которые не могут быть расчленены в результате односторонних действий, и федеративные государства с регионализованной властью (Швейцария, Бельгия, Канада, Германия), которые как раз 1
См., например. Fontaine J. L'identitd beige est-elle post-nationale? // La Revue nouvelle (Bruxelles). 1993. Mars. P. 110—111.
148
могут1. Налицо угроза того, что воспоминание о таком решении могло бы, по словам Жана Сальмона, заставить «пойти на попятный те государства, которые собрались решать какие-либо проблемы своих меньшинств с помощью федерализма»2.
Было бы, как минимум, парадоксально, если бы способ, которым современный Европейский союз хотел исправить «эксцессы» национального суверенитета, привел к усилению самой что ни на есть абсолютной концепции национального суверенитета в качестве бесплатного приложения к централизации власти...3 Помимо всего прочего, подобное следствие вступило бы вразрез с усилиями международного сообщества, и в частности «Двенадцати», по разрешению конфликта в Боснии-Герцеговине на федеративной основе.
1
См.: Rich R. Recognition of States: the Collapse of Yugoslavia and the Soviet Union //Journal europden de droit international. 1993. Vol. 4. No. 1. P. 60—63.
2
Cm.: Salmon J. Op. cit. P. 208.
3
*Игра слов: фр. excds означает «эксцесс» и «чрезмерное количество». — Прим, перев.
Гиа Нодиа
ОБРАЗ ЗАПАДА В ГРУЗИНСКОМ СОЗНАНИИ
Политические события в Грузии в период борьбы за независимость от СССР (1988—1991) и попыток построения новых государственнных институтов перед лицом неоимперских притязаний России (1992—1996) можно осмыслить лишь на фоне более или менее неопределенного понятия, которое постоянно маячило в грузинском сознании: «Запад». Как только горбачевская либерализация политического режима сделала возможным возникновение независимых политических движений, нарождающиеся политические элиты стали концептуализировать место Грузии в современном мире и стоящие перед страной политические альтернативы. Эта мыслительная работа происходила в воображаемом двухмерном пространстве, где координатами служили Россия и Запад. Подразумевалось, что вопрос политической ориентации сводится к простому выбору: Россия либо Запад. Деление партий и политических фигур на «пророссийские» и «прозападные» превалировало над всеми другими принципами определения политических программ.
Я назвал это пространство «воображаемым», хотя и Россия, и Запад вполне реальны и каждая из этих сил в отдельности (особенно Россия) и во взаимодействии оказали большое влияние на посткоммунистическую политическую эволюцию Грузии. Однако эта статья преимущественно посвящена воздействию именно перцепций, образов на поведение действующих лиц на грузинской политической сцене. Образы по определению суть нечто отличное от реальности, хотя, поскольку новые политические элиты имели слабое представление о реальном Западе и действительных механизмах международной политики, в данном случае дистанция между перцепциями и реальностью могла быть особенно большой.
Последующий анализ исходит из двух парадигм, на которых основывалось восприятие Запада в исследуемый период: это парадигма идентичности и парадигма «патрона». Первая подразумевает ответ на вопросы: «кто мы?» и «где наше место?»; вторая касается выбора политической стратегии в современном мире. Без сомнения, эти два аспекта тесно взаимосвязаны. Определение стратегии внутреннего развития в политической либо экономической сфере зависело от основного, «фундаментального» выбора.
150
Истоки «прозападной ориентации» Грузии
На протяжении веков самочувствование грузинской идентичности (выраженное на уровне культурных и отчасти политических элит) определялось представлением «наше место не здесь». Это означало, что, хотя весь средневековый период Грузия была политически вовлечена в мусульманский мир (в особенности в его арабский, персидский и турецкий сегменты), а в 1801 г. оказалась частью Российской империи, все это рассматривалось как происходящее против ее воли и, что особенно важно, глубинного чувства идентичности. Грузии просто не повезло с соседями. Соответственно, должен был быть какой-то культурно-географический ориентир, «центр добра и надежды», контрастирующий с неприглядностью неудачных соседей. «На самом деле» место Грузии было в этом «центре добра», поэтому обретение ее истинной самости было возможно лишь через установление надлежащей связи с этим центром. Начиная с XIX в. в глазах грузинской элиты центр добра и самости был представлен в образе Запада, или Европы (в большинстве случаев эти два термина — «Европа» и «Запад» — использовались как равноценные, игнорируя различия между европейской и американской моделями «западности» как второстепенные). Таким образом, подрузамевалось, что базовый проект Грузии состоял в наведении мостов на Запад и в вестернизации ее самой, что одновременно означало возвращение к истинной самости.
Вместе с тем эта парадигма идентичности была привязана к другой, более практической: поиску надлежащего покровителя. Грузии попались не просто неприятные соседи: последние были прежде всего намного сильнее и к тому же проявляли экспансионистские наклонности. В XI—XII вв. Грузинское царство контролировало территорию между Черным и Каспийским морями, и в современных терминах ее можно было определить как внушающую уважение региональную державу (или небольшого размера империю, которая включала в себя сегодняшнюю Армению, Азербайджан и часть Турции). После поражения от монголов в начале XIII в. грузинская история вплоть до XIX в. в основном сводилась к нескончаемой борьбе за существование, в которой ей приходилось противостоять попыткам Ирана и Турции установить над ней контроль. Ее стратегия в этой борьбе заключалась в том, чтобы противопоставить одного экспансионистского соседа другому. Стратегия оказалась относительно успешной. Стране удалось отстоять свою самобытность (маркированную в основном через христианство, а также язык) и престол (хотя главенствующая династия распалась на несколько ветвей, каждая из которых самостоятельно выясняла отношения с Оттоманской и Персид151
ской империями). Но этот относительный успех был куплен ценой постоянного напряжения, периодических опустошительных нашествий и обреченности на «отсталость» (т.е. изоляцию от тенденции модернизации). Поэтому постепенно усилилась ориентация на альтернативную стратегию — поиск надлежащего покровителя.
Естественно, лигитимность покровителя зависела от того, как Грузия определяла собственную идентичность. Грузия осмысляла себя, конечно, как христианскую страну, а ее функция или миссия концептуализировалась как «форпост христианства», назначенный провидением защитить истинную веру на Кавказе (в борьбе с мусульманами, стремящимися к прямо противоположному — исламизации этого же региона). Неравная борьба не могла продолжаться бесконечно. Рано или поздно «большой» христианский мир должен был прийти на помощь. На практике, конечно, это был бы не «христианский мир» в целом, а определенная держава. В течение всего позднего* средневековья наиболее очевидным кандидатом на эту роль казалась Россия: во-первых, сосед, во-вторых, не просто христианская, но единоверно-православная страна. Известна целая серия попыток грузинских царей обрести покровительство России в борьбе против мусульманских соседей. Тем не менее до конца XVIII в. Россия к этим попыткам интереса не проявляла: динамика расширения империи еще не позволяла включить Кавказ в повестку дня. Наконец в 17 8 3 г. был подписан договор между Россией и Грузией (точнее, Восточной Грузией), согласно которому Грузия уступала суверенитет во внешней политике в обмен на защиту от Персии. Трон, средоточие грузинской государственности, сохранялся. Как оказалось, однако, российская интерпретация покровительства коренным образом отличалась от ожиданий Грузии. В 1795 г. Россия палец о палец не ударила, чтобы защитить Грузию от опустошающего персидского нашествия, спровоцированного вышеуказанным договором. С тех пор грузины так и не отделались от горького подозрения, что Россией руководил умысел еще более ослабить Грузию, чтобы облегчить последующий шаг, сделанный в 1801 г.: в одностороннем порядке аннексировать страну, объявив ее одной из своих провинций.
Покровитель пришел, но совсем не такой, каким его ожидали. Россия принесла мир и гарантировала сохранение христианской идентичности Грузии. Она также объединила разрозненные княжества, а относительно мягкая политика некоторых ее наместников даже способствовала развитию грузинской культуры1. Она 1
См.: Rhinelander A., Prince Michael Vorontsov: Viceroy to the Tsar. McGill: Queens University Press, 1990.
152
же, однако, и обманула Грузию, лишив ее политической самостоятельности, а в дальнейшем создав угрозу и ее культурной самобытности. В результате у грузинских элит развилось глубоко амбивалентное отношение к России, сохраняющееся до сих пор. С одной стороны, грузины благодарны России за то, что она помогла «физическому выживанию» нации (которому, по широко распространенному мнению, угрожали постоянные опустошительные войны), вывела страну из зоны влияния мусульманского мира (который рассматривался не только как культурно чуждый, но и «отсталый») и приблизила ее к современной цивилизации. С другой стороны, Россия была врагом свободы и угрозой самобытности страны. Антироссийский заговор группы грузинских аристократов (они были арестованы до того, как успели начать действовать) в 1832 г. стал наиболее известным проявлением этого протеста.
До XIX в. идея Запада играла лишь периферийную роль в грузинских политических дискуссиях. Стратегическое мышление в основном вращалось в треугольнике Россия — Персия — Оттоманская империя. В географических терминах выбор фундаментальной ориентации, скорее, выражался в измерении Север — Юг: христианский Север, мусульманский Юг. Тем не менее в грузинской истории начала XVIII в. был эпизод, напоминающий «прозападную ориентацию» последних лет. В это время грузинский писатель и лексикограф Сулхан-Саба Орбелиани возглавил движение за обращение Грузии в католичество в надежде, что у западных стран будет больше желания покровительствовать католической Грузии. Он даже нанес визит Людовику XIV, но безуспешно. Дома он подвергся обструкции православной церкви. Как бы то ни было, но пара католических деревень в Южной Грузии осталась напоминанием возможной вестернизации страны. Орбелиани остался одним из героев в национальном пантеоне, хотя его идея и не нашла многочисленных последователей. В 60-х годах нашего века поэт Мухран Мачавариани, позднее ставший активным сторонником первого грузинского президента Звиада Гамсахурдиа, написал на тему визита Орбелиани к равнодушному французскому монарху популярную балладу, символизирующую невнимание Запада к грузинским просьбам о покровительстве.
Когда новые поколения грузинских интеллектуалов приобщились через учебу в российских университетах к западному политическому мышлению Нового времени, они разделили общую приверженность российской интеллигенции либеральным идеям. Однако дорога западного либерализма разветвлялась. Большинство грузинской элиты последовало эволюции российских либералов в направлении различных версий социализма, устанавливая независимые контакты с западными левыми и обретая влиятель153
ные позиции в общероссийском социалистическом движении. Нико Николадзе, первая выдающаяся фигура этого направления, встречался с самим Марксом. Но была и другая альтернатива, так и не развившаяся в собственно России, — западный либеральный национализм. Грузины стали примерять современную западную парадигму нации, взяв в качестве моделей национально-освободительные движения Запада. Илья Чавчавадзе, видный общественный деятель, писатель и банкир, стал духовным лидером грузинского национального возрождения. Однако до российской революции 1917 г. либеральный национализм Чавчавадзе так и не занял доминирующего положения в политическом дискурсе. Националисты составляли меньшинство среди образованного класса, они были слишком немногочисленными и не осмеливались выдвигать лозунга полной независимости. Их повестка дня концентрировалась на сохранении культурной самобытности; лишь в начале XX в. они начали выдвигать требования автономии в рамках Российской империи.
Таким образом, несмотря на рост культурного национализма, большая часть грузинской интеллигенции не отличалась от российской в смысле приверженности социализму. Не существовало отдельной грузинской социалистической партии, и большинство социалистов первоначально не поддерживали национальных идей. Можно сказать, как и считают многие в Грузии, что, избрав социалистическую идеологию, грузинская элита пошла по стопам российской; но она последовала лишь одной, прозападной тенденции в российской интеллигенции. Для Грузии прозападная ориентация не означала отдаления от России, и наоборот. Но в отличие от России в Грузии не было почвеннической антизападной реакции типа славянофильства.
Большевистская революция принесла с собой разрыв. Большевизм был российской ересью, противостоящей основному направлению западной социал-демократии. Этот потенциал мог не быть заметен с самого начала, но в дальнейшем большевики сделали эту ересь краеугольным камнем для построения новой антизападной цивилизации. Не признав большевистского переворота и сохранив верность классической западной версии социал- демократии, грузинские меньшевики практически предпочли Запад России. Пародоксально, но именно им — тем, кого националисты так часто упрекали за игнорирование «национального вопроса», т.е. невыдвижение лозунга независимости, — выпала доля не только встать во главе первой грузинской независимой республики, но и создать современную парадигму национальной ориентации. Провозгласив независимость в мае 1918 г., они искали гарантов этой независимости на Западе (в лице Германии или Великобритании). В конце концов Грузия предпочла Германию, 154
поскольку та проявила большую заинтересованность в Грузии и, казалось, была близка к победе в войне. В этом Грузия просчиталась; но более важным было рождение новой парадигмы: в силу внутреннего развития Грузия стремится отделиться от тоталитарной России и стать частью демократического Запада. Последний был обязан обеспечить гарантии безопасности и демократии в противовес имперским притязаниям России. Стремление Грузии обрести членство Лиги Наций стало основным элементом ее попыток обрести эти гарантии. В 1921 г., когда красная Россия вернула Грузию при помощи военной силы, Запад не помог. Однако помощи от него, без сомнения, ждали, и эти ожидания (несмотря на внутреннюю готовность к разочарованиям) стали стабильным элементом грузинского политического мышления.
Именно в это время начала развиваться идеология культурнопсихологической «западности» Грузии в противовес азиатско-деспотической природе России. Согласно этой точке зрения, индивидуализм и свободолюбие грузин резко контрастировали с российским коллективизмом, эгалитаризмом и традициями рабства; таким образом, политическая подчиненность Грузии России вступала в противоречие с грузинским национальным характером1.
В условиях коммунистаческого правления грузины имели мало шансов устанавливать контакты с Западом. Тем не менее идея, что Грузия принадлежит Западу в отличие от России, продолжала подспудно развиваться. Конечно, подобные мысли не могли высказываться открыто, и в Грузии не было достаточно сильного диссидентского движения, которое смогло бы оказать серьезное влияние на общественное мнение. Но частичное смягчение тоталитарного пресса в постсталинский период дало возможность теории внутренней грузинской «западное™» завоевать определенное влияние в интеллектуальных кругах. Как стало ясно в дальнейшем, именно эта идея оказалась идеологическим обоснованием для по крайней мере одного из течений в оппозиционном антикоммунистическом движении.
Тезис о внутренней «западности» Грузии нашел обоснование в исследованиях грузинских историков Ивана Джавахишвили, 1
Вот что писал в это время грузинский эссеист, получивший французское образование: «Наш острый субъективизм неведом русским. По сообщениям историков, древние славяне отрубали головы своим одержавшим победы военачальникам: они не могли принять индивидуальности, возвышающейся над средним уровнем. Склонность к однообразию и монотонности с тех пор осталась характерной для русских... Мы никогда не примиримся с этим своеобразным эгалитаризмом и централизмом. Но и наши соседи не приемлют нашего субъективизма. Поэтому духовно мы всегда останемся чужды друг другу» (Кикодзе Г. Эровнули энергиа (Национальная энергия). Тбилиси: Изд-во Гр. Цхакая, 1919. С. 161 —162).
155
Нико Бердзенишвили, Симона Джанашиа, а позднее был развит историками последующих поколений1. Они описывали социально-экономическую эволюцию грузинского общества в средневековый период. Поскольку они писали во времена Сталина, им было трудно проводить параллели с западными исследованиями и делать выводы о близости средневековых обществ Запада и Грузии. Эти параллели проводились уже их учениками, работавшими в постсталинскую эпоху. Согласно этим исследованиям, вплоть до золотого века Грузии XI—XII вв. эволюция грузинского общества проявляла близкое сходство с «классическим феодализмом» Центральной и Восточной Франции. Это сходство было окрещено «параллельной эволюцией», причем в Грузии процессы опережали западные примерно на один или два века. Сходные признаки включали в себя частное землевладение (неизвестное в азиатских деспотиях), социальную структуру, существование крупных феодальных сеньорий с соответствующим иммунитетом и т.д. Однако начиная с XII в. параллельные линии разошлись. На Западе средневековая система крепостничества начала ослабляться вместе с развитием городов, торговли, представительных институтов и т.д. В Грузии некоторое движение в этом направлении в конце XII в. вызвало трения в отношениях между монархией и аристократией, и именно поэтому находящаяся в разгаре кризиса страна не смогла отразить первое, еще не столь мощное монгольское нашествие. С тех пор она сбилась с пути и оказалась в порочном кругу: бесконечные войны с монголами, персами и турками не оставляли сил для внутреннего развития, отсутствие же последнего уменьшало возможности отсталой страны эффективно противостоять нашествиям. Согласно терминологии Н. Бердзенишвили, страна оказалась в периодах тупика (XIII—XV вв.) и стагнации (XVI—XVII вв.). Тем не менее сохранявшиеся признаки «западности» — христианство и частное землевладение — помогли сохранить собственную идентичность даже под сильным давлением.
Вне зависимости от того, насколько знакомы были с этами теориями интеллигенты, не входившие в узкий круг историков-медиевистов, само существование подобных воззрений придавало больше веса «прозападной ориентации»: ведь в истории искали основания для определения собственной идентачноста. Эти теории не обязательно подразумевали контраст между грузинским и российским средневековыми обществами, но многие грузинские интеллектуалы считали, что феодальная система Грузии тапологи- 1
Пониманию этого вопроса я во многом обязан беседам с профессором Тбилисского университета Давидом Нинидзе.
156
чески ближе европейской, тогда как российская была более деспотичной. Теория «грузинского Ренессанса», выдвинутая другим грузинским ученым Шалвой Нуцубидзе, считавшим, что ренессансные идеи получили развитие в средневековой Грузии раньше, чем в Италии, представляют собой характерное проявление той же тенденции. Последняя концепция, однако, имела меньше сторонников.
Оценка основательности тех или иных исторических гипотез — вне рамок этой статьи и компетенции автора. Возможно, они надежно укорепились в исторической реальности, но могут и представлять желаемое за действительное. В любом случае благодаря им «прозападная ориентация» Грузии находила определенное теоретическое обоснование.
Особое значение медиевистики для обоснования внутренней «западности» Грузии может быть объяснено тем, что в коммунистическую эпоху более явные и ориентированные на современность проявления прозападной ориентации были бы наказуемы. Но это же обстоятельство можно интерпретировать и по-другому: менее отдаленные периоды истории просто предоставляли меньше аргументов в пользу тезиса о «западности».
После коммунизма: Запад обязан помочь
Период независимости 1918—1921 гг., казалось, не вызвал слишком глубоких изменений в самовосприятии грузинской политической идентичности как на массовом, так и на элитарном уровне — в отличие, например, от Балтийских стран. Грузины не успели привыкнуть к жизни в независимой стране, и не было такого поколения, для которого самосознание гражданина Грузии стало бы естественным. Тем не менее, когда грузинское политическое сознание стало размораживаться после десятилетий коммунистического правления, парадигмы, успевшие сформироваться в краткий просвет независимости, оказались доминирующими. Основная система ориентиров осталась прежней: с одной стороны была тоталитарная Россия, силой завоевавшая Грузию и желающая сохранить контроль над ней с помощью прямых силовых или завуалированных методов, на другой же стороне стоял Запад — олицетворение свободы и справедливости, — который должен был прийти на помощь.
Очевидно, что этот подход представлял собой лишь новую интерпретацию старой парадигмы. Как и в средние века, Грузия не могла самостоятельно противостоять силе, стремящейся над ней доминировать. Она опять нуждалась в союзнике, читай — покровителе, патроне. Только в качестве враждебной силы, стремящейся поработить Грузию, выступает не мусульманский мир, а 157
Россия, тогда как ее прежнюю роль естественного союзника/по- кровителя играет Запад. Хотя Грузия начала определять свой фундаментальный выбор в измерении «Запад—Россия» лишь после большевистской революции, более глубокая, парадигматическая уверенность в том, что спасение от злого соседа должно прийти от сильного и благожелательного покровителя, без сомнения — средневекового происхождения. Помня, что представление о внутренней «западности» Грузии тоже главным образом основано на медиевистских исследованиях, комбинация объявленной «прозападной ориентации» в текущей политике с фактически средневековой интерпретацией международных отношений стала характерной особенностью грузинской политической мысли на целый период.
Одним из выводов из вышеописанного подхода, широко разделяемого грузинским национальным движением, особенно на раннем его этапе, было то, что Запад морально обязан помочь Грузии. Во-первых, Запад должен заботиться о Грузии, поскольку она ему внутренне принадлежит: заботясь о Грузии, Запад заботится о самом себе. Во-вторых, в отличие от России Запад виделся олицетворением справедливости, он, по определению, обязан был поддерживать справедливые требования, а стремление Грузии к независимости было, без сомнения, справедливо. Запад рассматривался как объективный арбитр, который к тому же обладал властью осуществлять собственный приговор. Если он не помогал Грузии, значит либо были плохи определенные западные политики, либо Западу приходилось идти на временные компромиссы с Россией, либо в конкретный момент ему было не до Грузии. Но в принципе моральный долг оставался в силе, и от Запада ожидалось по крайней мере сочувствие устремлениям Грузии — к независимости, а затем к территориальной целостности.
Эта наивная вера в Запад проявилась в фетишизации «международного права». С самого начала в грузинском национально-освободительном движении доминировало крыло, которое называло себя «непримиримой» или «радикальной» оппозицией. «Радикальность» здесь означала не легитимацию вооруженных методов борьбы (на деле радикалы в конце концов привели Грузию к периоду смуты и насилия, но это насилие никогда не было направлено на объявленную главным врагом «имперскую Россию»). Эта оппозиция исходила из того, что, поскольку Грузия была присоединена к России против ее воли, все существующие государственные институты представляли собой «оккупационные силы», значит, любое сотрудничество с ними (например, участие в официальных выборах) было аморально и политически неприемлемо и никакие советские законы не могли быть признаны обязательными. Независимая Грузинская республика 1918— 158
1921 гг., признанная в свое время частью великих держав, рассматривалась как юридически все еще действительная единица «с точки зрения международного права». Эта символически существующая независимость была принята за стратегическую основу, на которой следовало надстраивать все будущие завоевания. Отсюда первая заповедь философии радикалов: не делать ничего, что поставило бы под сомнение «признанную международным правом независимость». Стратегия «народных фронтов» Балтийских стран: прийти к власти через «советские выборы», а затем продвигать дело независимости при помощи институтов, легитимность которых Москва не смогла бы поставить под сомнение, — означала для оппозиции презренный «коллаборационизм», подрывающий этот священный принцип1.
Критиковать эту позицию с точки зрения политического реализма проще простого. Лидеры «непримиримых» терпеть не могли вопроса, как именно они собирались достичь независимости. Уже сама постановка вопроса отдавала для них «коллаборационизмом». Как и полагается радикалам, на самом деле они и не преследовали конкретных политических целей, а просто выражали инфантильный протест против существующего положения вещей. Но если стратегическая ориентация исключительно на «международное право» и имела какой-то рациональный смысл, то он состоял в надежде на западную помощь. Радикальные движения родились из советской диссидентской практики, тактика которой строилась на том, что выражение протеста увидит западный репортер и оно станет достоянием гласности через западные средства массовой информации, прежде всего радиостанции («Голос Америки», Радио «Свобода», Би-Би-Си и т.д.). Поскольку советские власти действительно избегали такого рода гласности, тактика была до определенной степени успешной. Когда радикальные националисты говорили «мы признаем только международное, а не советское право», они как бы посылали на Запад двойной сигнал: во-первых, «мы разделяем ваши ценности» и, во-вторых, «вы должны нас поддержать» — ибо что такое Запад, если он не поддержит «международное право»? Акции гражданского неповиновения — единственные законные методы борьбы, признаваемые радикальной оппозицией, — были направлены на подрыв коммунистического правления и, по крайней мере на эзотерическом уровне «непримиримых» стратегов, имели целью моральный нажим на Запад: если мы проявляем решимость и готовы на жертвы, ваше невмешательство аморально.
—I
Подробнее см.: Nodia G. Georgia’s Identity Crisis // Journal of Democracy. 1995. No. 1. P. 104—116.
159
Массовый мирный многодневный митинг в начале апреля 1989 г. с радикальными антикоммунистическими и национально- освободительными лозунгами был пиком кампании «радикалов». Побоище, учиненное советскими войсками 9 апреля, в результате которого было убито 20 человек, в основном молодых девушек и женщин, обернулось моральной победой для лидеров «непримиримых» и переломным пунктом в борьбе Грузии за независимость. В результате коммунистический режим внутренне сломался и утратил остатки легитимности, передав фактическую власть радикалам из национально-освободительного движения. Этот эпизод внес лепту в делигитимацию советской коммунистической диктатуры в целом: общественные протесты против тбилисского побоища привели к так называемому тбилисскому синдрому, т.е. страху применять силу против антикоммунистических и антисоветских движений. Тем не менее поначалу организаторы митинга имели довольно туманное представление о том, что они собирались делать и как долго митинг должен был продолжаться. Всем было ясно, что, поскольку Грузия была частью Советского Союза, там не могло случиться то, что позже получило название «бархатной революции», и даже радикальные лидеры не питали иллюзий на этот счет. Хотя энтузиазм радикально-освободительного движения доминировал в городе, многие выражали сомнения в продуманности акции. На эту критику существовал эзотерический ответ: незадолго до начала акции американские сенаторы Хелмс и Уилсон инициировали слушания по грузинскому вопросу, в результате которых легитимность инкорпорации Грузии в СССР в 1921 г. подверглась сомнению. Тбилисский митинг должен был оказать давление на эти слушания, посылая сигнал американским политикам, что Грузия действительно чувствовала себя оккупированной и насильственно аннексированной коммунистической Россией и что она в этом смысле не отличалась от стран Балтии.
Поиски и ожидания западной поддержки не были единственным проявлением «прозападной ориентации» Грузии. Грузия должна была заимствовать модели государственности исключительно от Запада, и единственной наличной моделью виделось демократическое национальное государство. Само собой разумелось, что, во-первых, Грузия должна была стать независимым государством (если Франция или Румыния независимы, почему таковой не должна была стать Грузия) и, во-вторых, независимая Грузия стала бы демократическим государством с рыночным хозяйством (будучи «западной» страной по своей сути, получив возможность беспрепятственного развития, она начала бы действительно походить на другие западные страны).
Ни один из этих вопросов (независимости и демократии) так и не стал предметом серьезной публичной дискуссии. Это не 160
означало, что никто не сомневался в перспективах грузинской независимости или что общество было глубоко привержено демократическим ценностям. Просто не существовало другого языка для выражения политических ценностей и устремлений. Как только коммунизм был отвергнут (по крайней мере идеологически), не осталось никакого другого ориентира, кроме современного Запада.
Гамсахурдиа: первое разочарование
Вскоре после провозглашения независимости общий настрой в пользу западной демократии и рыночной экономики подвергся суровому испытанию. «Прозападные» националисты преуспели в определении общих целей, но реальное развитие событий оказалось не слишком соответствующим их же видению западных идеалов. Корень проблем оказался не в коммунистическо-имперском «центре» — последний сам по себе обнаружил склонность к распаду, — но во внутренней политической динамике, в частности в политической национальной реакции определенных меньшинств (а именно осетин и абхазов) на стремление Грузии к независимости и в проявившемся расколе между различными фракциями национального движения. Новая элита постаралась свести оба ряда проблем к советско-российским провокациям. Эти обвинения были далеко не беспочвенными, поскольку «центр» имел прямой интерес (и способность) усугубить трудности стремящихся к независимости республик через разжигание там внутренних конфликтов. Но вне зависимости от того, были эти проблемы инспирированными извне или произросшими на родной почве (ядро истины есть в обоих утверждениях), они требовали решения, и грузинская элита не смогла подобрать к ним ключ. Вскоре страна стала ареной продолжительных этнотерриториаль- ных войн и гражданских столкновений.
Кроме того, что эти конфликты препятствовали построению нового государства и подорвали доверие к национально-освободительному движению, они разрушили международную репутацию Грузии. Запад не просто не выполнил предполагаемых обязательств и не подал Грузии руку помощи, но действительно повернулся к ней спиной. Дело было не только в том, что Запад не хотел осложнять положение Горбачева, поддерживая националистов на окраинах: этот аргумент был приложим ко всем стремящимся к независимости советским республикам. Грузия получила самую уничижительную западную прессу. Большинство публикаций (многие из них потом перепечатывались в Грузии) представляли грузинские события как нечто фантасмагорическое, а взгляды новой политической элиты — как смесь безумия и фашизма. Это 161
11 1814
было истинным шоком для грузин, которые чувствовали себя глубоко непонятыми. По крайней мере поначалу они думали, что просто не смогли донести до Запада свою истинную позицию, видя во всем происки той же России или, самое большее, собственное неумение вести «информационную войну».
Противоречивое правление и падение Звиада Гамсахурдиа, первого посткоммунистического президента страны, снискало ей особенно дурную славу. Хотя Гамсахурдиа не отличался последовательностью ни в своих мыслях, ни в действиях, источник его политических идей можно, тем не менее, однозначно определить как «западный». В 70-е годы он создал правозащитную организацию «Грузинская Хельсинкская группа». Став президентом, он любил сравнивать себя с генералом де Голлем (как сильным демократическим лидером, объединившим нацию) или Вацлавом Гавелом (как диссидентом, ставшим главой государства). Он никогда не подвергал сомнению принципы демократии и представлял себя их стойким приверженцем. Тем не менее 6 января 1992 г. ему пришлось спасаться бегством из здания парламента под бомбардировку повстанцев, которые называли его «диктатором», а себя считали прозападными демократами. Насколько они были действительно привержены демократии, вопрос другой, но что касается Гамсахурдиа, его демократизм подвергался сильному сомнению большинством наблюдателей.
Особенно жесткую критику за рубежом заслужила его этническая политика. Бывший правозащитник, он понимал, что гражданские права в демократической стране не должны зависеть от этнического происхождения, и (в противовес многочисленным обвинениям) никогда не включал в свою программу принцип «Грузия для (этнических) грузин». Он сам обвинял абхазских и осетинских сепаратистов в политике «апартеида» (не совсем безосновательно). Однако его собственная политика грешила именно этим. Его темперамент ярче всего проявлялся в риторике против «неверных» меньшинств. Само существование основанных на этническом принципе автономных единиц Абхазии и Южной Осетии было, без сомнения, взрывоопасным, но агрессивная риторика и бескомпромиссная позиция Гамсахурдиа сильно помогла тому, чтобы взрыв произошел. Подобную же непоследовательность он проявлял в отношениях с политической оппозицией: то он говорил, что существование оппозиции в демократическом обществе — совершенно нормальное явление, но мог и заявить (в интервью тележурналу CBS «60 минут»), что, раз 87% населения избрало его президентом, оппозиция не имела права его критиковать. Каждый реальный оппозиционер заслуживал у него кличку «предателя нации» и «агента Кремля».
Хотя многое в поведении Гамсахурдиа можно списать на
162
личные причуды, его противоречивость во многом выражала вышеописанный конфликт между общей (и в определенной мере искренней) приверженностью западным демократическим принципам и чрезвычайно незападным модусом политического действия. Период национально-освободительного движения с его кульминацией в закончившемся крахом правлении Гамсахурдиа обнажил глубокий разрыв между идеальным самопредставлением нации, сложившимся в период, когда Грузия была лишена возможности независимого действия, и теми видами политического поведения, к которым реальные грузины оказались готовы или не готовы. Утерянными оказались даже те политические навыки, которые нация проявила в период независимости 1918—192 1 гг. Политическое мышление, будучи в плену мифологии, игнорировало реальность. Язык, на котором изъяснялись новые политики, был причудливой смесью, изготовленной из национализма XIX в. и советского марксизма.
Распад наивного представления о «западности» Грузии и следующий за ним кризис идентичности могли подтолкнуть страну к движению в различных направлениях: либо в сторону переосмысления ориентации Грузии через развитие не- или антизападной, почвеннической концепции «грузинскости»; либо к попытке самокоррекции, после чего последовала бы вторая попытка навести мосты на Запад. В последний период правления Гамсахурдиа, когда он почувствовал себя окончательно отвергнутым Западом, некоторые из его последователей действительно начали склоняться к первому направлению — почвенническому. С тех пор как чеченский сепаратист Дудаев стал единственным другом Гамсахурдиа на международной арене, в центре его идеологии оказалась идея «иберо-кавказской солидарности». Она основывалась на гипотезе о племенной и лингвистической связи между грузинами и группой кавказских народов (чеченцев, абхазов, адыгейцев и других, исключая тюркоязычные народы, осетин, а также южнокавказских соседей Грузии — армян и азербайджанцев). Эта идея, типологически близкая пангерманскому или панславистскому движениям XIX в., допускала определенную альтернативу западническим притязаниям Грузии. Она не предполагала однозначно антизападной направленности, но, культивируя архаические трайбалистские традиции, эмоционально и психологически контрастировала с западнически-либеральными тенденциями интеллектуальной элиты.
Второе направление, возникшее в стане Гамсахурдиа, пыталось укоренить свою идеологию в фундаменталистской версии православного христианства, причем большинство цитат шло из сочинений жестко антизападного крыла русских богословов начала века. Параноидальные видения о всемирном масонском 163
н*
заговоре сделали грузинских фундаменталистов трудноотличимыми от русских националистов. Однако они никогда не заявляли о своей солидарности с последними: парадоксальным образом Россия осталась врагом, но острие антироссийских настроений было направлено на находящихся у власти западников, в частности Горбачева и Ельцина. Вражда между двумя российскими лидерами считалась лишь внешним прикрытием антигрузинского заговора, лидерство в котором приписывалось обычно Эдуарду Шеварднадзе, а в числе соучастников фигурировали такие фигуры, как Буш, Бейкер и Геншер.
Обе эти тенденции несли в себе мощный потенциал антизападных настроений. Тем не менее Гамсахурдиа и его сторонники и здесь не были последовательны. Вышеописанные взгляды живы и сейчас, но они так и не развились в более или менее связную доктрину или движение. Они остались чем-то вроде эмоционального фона, но не стали фундаментом идеологии. Гамсахурдиа и его сторонники всегда основывали свои претензии на демократической легитимности всенародно избранного президента и парламента. Критике подвергались определенные действия западных правительств, но не западные принципы. В частности, правительство США часто ругали за применение двойного стандарта к Гаити и Грузии, двум странам, где всенародно избранные президенты были свергнуты вооруженным путем. «Масонский заговор» тоже понимался весьма узко: поражение нелюбимого Буша первоначально зародило надежды, что свободный от масонской напасти Клинтон поступит как и под- абает американскому президенту, т.е. отвергнет «хунту» Шеварднадзе и поможет законному правительству вернуть власть1. Даже разочаровавшись в этих надеждах, звиадисты не обязательно стали антизападниками.
Звиадисты остаются влиятельной силой, так, что если в Грузии суждено усилиться антизападным настроениям, их среда может оказаться к ним достаточно восприимчивой. До сих пор, однако, можно говорить лишь о тенденциях, а не о сколько-нибудь связной доктрине или мощном движении.
1
Вот что сказал Гамсахурдиа газете «Картули азри» за несколько дней до инаугурации Клинтона: «В Европе и Америке есть силы, которые могут помочь нам восстановить легитимность и справедливость в Грузии. До сих пор они были парализованы давлением со стороны администрации Буша» (Цхра интервиу сакартвелос республикис президент звиад гамсахурдиастан (Девять интервью с президентом Республики Грузия Звиадом Гамсахурдиа). Тбилиси, 1995).
164
Шеварднадзе: Запад как несостоявшийся спаситель
Описать идеологию или политическую ориентацию тех, кто пришел к власти, свергнув противоречивого, но легитимного правителя, нелегко. Коалицию мало что объединяло, кроме неприятия Гамсахурдиа и убеждения, что для его удаления были допустимы крайние меры. На этой основе объединились либеральные интеллектуалы, жаждущие независимости националисты, настроенная на реставрацию коммунистическая номенклатура и «романтические разбойники». Какие бы интересы и чувства ни двигали каждой из этих групп, никакое восстание не возможно без заявки на легитимность. В данном случае заявка эта однозначно основывалась на идее демократии. Переворот представлял себя как народное восстание за демократию и против диктатуры или «провинциального фашизма», как был позднее заклеймен режим Гамсахурдиа.
Но если покинуть сферу идеологических ярлыков, следует помнить, что режим Гамсахурдиа «погорел» прежде всего из-за раскола в его собственном лагере. Первый удар исходил от его же бывших соратников, и у каждого из них могли быть для этого всевозможные личные мотивы. Но один из самых важных политических мотивов заключался в том, что в нем видели неудачника, который настроил против себя Запад — единственного потенциального союзника Грузии, на которого она возлагала большие надежды в борьбе за независимость. Хотя восстанием непосредственно руководил Тенгиз Китовани, скульптор, превратившийся в военного командира, другие ведущие отступники в той или иной мере были связаны с внешней политикой: премьер-министр, министр иностранных дел, председатель парламентского комитета по иностранным делам. Эти люди непосредственно знали о том, что Запад отверг Грузию. И они не без оснований полагали, что с такой визитной карточкой, как Гамсахурдиа, у Грузии и не было никаких шансов на международное признание.
Это объясняет и то, почему победившая коалиция решила пригласить Эдуарда Шеварднадзе, бывшего коммунистического лидера Грузии и министра иностранных дел СССР, на роль нового лидера. Многие бывшие коммунисты вернулись на свои посты в посткоммунистических странах, и возвращение Шеварднадзе можно было бы рассматривать как одно из (первых) проявлений этой тенденции. Извлекая выгоду из распространенной ностальгии по относительно упорядоченной и обеспеченной жизни, они принесли с собой имидж компетентности в управлении и стабильности после периода стремительных перемен, а иногда и смуты. Гамсахурдиа определил возвращение Шеварднадзе как коммунистическую контрреволюцию, и в этом есть доля истины: комму165
нистическая номенклатура приветствовала переворот как, по крайней мере частичное, восстановление ее легитимности, тогда как для существенной части населения Шеварднадзе олицетворял прошлую стабильность и надежду на возвращение к ней. Но в его случае было бы упрощением полностью сводить смысл возвращения к элементу реставрации. Шеварднадзе не получал власти от ностальгически настроенного народа; его пригласили, приветствовали или по меньшей мере приняли различные политические силы антикоммунистической и прозападной направленности. Ему ставили в заслугу не столько опыт коммунистического руководителя, сколько вклад в разрушение коммунистической системы. Основная причина, по которой Шеварднадзе получил широкую поддержку как лидер независимой и некоммунистической Грузии, было представление о нем как о единственном лидере, способном наладить отношения с Западом. Уж его-то западные лидеры не будут подолгу держать в своих приемных, как Людовик XIV Сулхан-Саба Орбелиани.
В фигуре Шеварднадзе старая мечта о покровительстве Запада нашла близкое к совершенству воплощение. Его не просто хорошо знали на Западе; это был человек, которому Запад был обязан за вклад в распад своего главного врага. К «моральному долгу» Запада поддержать справедливое требование независимости Грузии, таким образом, добавлялся личный долг Запада ее лидеру. В политической культуре, где политические союзы представлялись, с одной стороны, в виде средневекового типа дружеских связей между князьями, а с другой — клиентелистских отношений, хорошо знакомых из коммунистического опыта, международная известность Шеварднадзе и его личные отношения с западными лидерами не могли не создать почву для огромных нереалистичных ожиданий. Выражаясь словами его сторонника, он был единственным человеком на Кавказе, который мог запросто взять телефонную трубку и позвонить американскому президенту. Более мощный символ личной власти трудно было себе представить. Благодаря Шеварднадзе Грузию отделяла от независимости и процветания лишь пара телефонных звонков.
Уровень наивности мог меняться у разных сторонников Шеварднадзе, но имидж единственного политика, способного обеспечить признание и помощь Запада, стал краеугольным камнем его в других отношениях весьма зыбкой легитимности. Без этого военные руководители типа Китовани и Иоселиани никогда бы добровольно не разделили власть с виртуозом политической интриги — кем, как они хорошо знали, являлся Шеварднадзе. Им было ясно, что с Шеварднадзе во главе их режим имел несравненно больше шансов на признание Запада, и они намеревались оставить его лишь номинальным лидером страны, отдав ему лишь 166
сферу внешней политики. Они понимали, что Шеварднадзе вряд ли примирился бы с ролью марионетки, но надеялись, что находящийся в их руках контроль над «борцами за демократию» (т.е. обретшими официальный статус полувоенными формированиями) окажется достаточным для ограничения его амбиций. И конечно же им трудно было себе представить, что его неблагодарность в конце концов дойдет до того, чтобы посадить обоих за решетку. Как это часто бывает с последователями школы реальной политики (Realpolitik), они трагическим образом недооценили фактор легитимности.
Сразу по возвращении Шеварднадзе, казалось, приступил к выполнению обещаний. В Тбилиси начали появляться такие международные знаменитости, как Джеймс Бейкер и Ганс-Дитрих Геншер, открывались западные посольства, Грузия стала членом ООН, полилась гуманитарная помощь. Если считать приоритетом наведение мостов на Запад, Грузии, без сомнения, крупно повезло с Шеварднадзе. Она получила от Запада, особенно США, Германии, Евросоюза, огромное количество гуманитарной помощи, и без нее стране было бы очень трудно пережить смутное время анархии и войн. Сторонники Шеварднадзе вполне могли нажимать на то, что без него уровень помощи был бы намного ниже (все равно никто не мог этого проверить, не удалив Шеварднадзе). Ожидали, однако, большего. Гуманитарная помощь — это хорошо; однако прежде всего Запад — могущественный и благосклонный покровитель — должен был защитить Грузию и гарантировать ее безопасность перед лицом той силы, от которой исходил основной вызов ее независимости, — России.
Вот эти надежды Запад и Шеварднадзе не могли оправдать. Россия действительно создала угрозу независимости и целостности Грузии — не непосредственно, а через поддержку сепаратистских сил сначала в Южной Осетии, а затем в Абхазии. Война в Абхазии, начавшаяся в августе 1 992 и закончившаяся в сентябре 1993 г. разгромным поражением правительственных сил Шеварднадзе, была самым драматическим моментом в новейшей грузинской истории. Грузия потеряла существенную часть своей территории, сотни тысяч людей стали беженцами, а в последующем ей пришлось уступить нажиму России, вступив в СНГ и узаконив российские военные базы на своей территории, что многие восприняли как фактическую потерю суверенитета. Запад не сделал ничего для предотвращения этого. Представленный наблюдателями ООН, он действительно лишь наблюдал, оставив Грузию наедине со своими проблемами.
В чем же было дело? Почему Запад не помог? Разница в ответах на этот вопрос отличала друг от друга два течения политической мысли, определявшие в 1992—1995 гг. ход гру167
зинских дискуссий. Друг другу противостояли, с одной стороны, сторонники Шеварднадзе, а с другой — его антироссийская и националистическая оппозиция. С точки зрения последней, два лагеря разделяла соответственно «пророссийская» и «прозападная» ориентации. Шеварднадзе обвинялся либо в том, что был недостаточно прозападным, либо (в более радикальной версии) в пророссийской (и, следовательно, антизападной) политике. Он так и не преодолел своего коммунистического прошлого (когда запомнился фразой, что в Грузии солнце восходит с Севера) и так и не поверил в независимость Грузии. Запад не помог Шеварднадзе потому, что тот на самом деле не слишком искал этой помощи. Ему не удалось однозначно продемонстрировать свою прозападную ориентацию, он так и не сказал, что в действительности в Абхазии с Грузией воевала Россия, и так и не попросил Запад помочь в борьбе с российской интервенцией. Шеварднадзе никогда не говорил ясно, чего он хочет от Запада, потому Запад его не понял и не смог адекватно отреагировать на ситуацию в Грузии.
Однако сам Шеварднадзе и его сторонники никоим образом не соглашались на ярлык пророссийских политиков. С их точки зрения, на самом деле друг другу противостояли прагматичные реалисты (т.е. они сами) и безответственная, некомпетентная и/или популистская оппозиция. Запад не помог потому, что произошло новое разделение мира между сверхдержавами, в результате которого Запад неформально признал Грузию частью российской сферы влияния. Грузия могла определять свою политику, лишь исходя из этого прискорбного обстоятельства. Ей было дано только делать различие между двумя Россиями: хорошей (демократической, прозападной) и плохой (реакционной, «красно-коричневой», коммунистической). Единственная надежда заключалась в том, что «хорошая» Россия победит и грузинам удастся настроить ее в свою пользу. Хотя в частном порядке обычно соглашались, что, когда дело касается отношения к Грузии, «две России» не слишком друг от друга отличаются. Но все равно, надо было проводить это различие по крайней мере внешне, поскольку таким образом Грузия как бы подыгрывала Западу. Ведь именно Запад, испугавшись красно-коричневой реакции, поддерживал Ельцина, что бы тот ни делал. Придерживаясь формулы «двух Россий», Грузия пыталась убить двух зайцев: завоевать благосклонность действующего российского правительства и дать понять Западу, что она готова была играть в его политическую игру.
В этом смысле то, что, с точки зрения оппозиции, было пророссийской политикой, фактически можно было представить как, по сути дела, прозападную стратегию. Политика лояльности к России или ее задабривания не имела ничего общего с отрицанием западных моделей построения государства и экономических 168
реформ. В этом Россия не могла служить альтернативой, поскольку она и сама пыталась реформироваться, следуя тем же моделям. Лояльность России была приемлема постольку, поскольку она сама была демократической и прозападной. В своих отношениях к северному соседу Грузии приходилось придерживаться политики Запада, и на самом деле «пророссийский» импульс проистекал именно оттуда. В своем подходе ко всему посткоммунистическому миру, и особенно новым независимым государствам, Запад считал абсолютным приоритетом не создавать дополнительных проблем развитию демократии в России, и если для этой цели полезно было закрыть глаза на российский экспансионизм на Кавказе, дав таким образом возможность неоимпериалистам выпустить немного пара, то почему бы и нет. Уступки Шеварднадзе России, включавшие в себя воздерживание от демонстрации слишком прозападной позиции, совершенно не ухудшили его отношений с западными лидерами.
«Пророссийская ориентация»: аспект самоуничижения
Однако представлять «пророссийскую» тенденцию в грузинской политике как чисто прагматически мотивированный политический выбор, никак не затрагивающий базовых прозападных установок, было бы правильно только отчасти. У поворота «назад к России» была и гораздо более глубокая и искренняя сторона, корни и значение которой я постараюсь проанализировать в этой части статьи. Различие между «прагматическим» и «искренним», каким бы глубоким оно ни было, здесь, скорее, аналитично. Оно никогда не было артикулировано настолько, чтобы привести к разделению политических позиций, и не так-то просто четко отделить друг от друга носителей прагматичного подхода «меньшего зла» и тех, кто на самом деле верил, что «мы ничего не сможем достичь без России». Линия есть, но она разделяет скорее индивидумов, нежели партии и группы.
По-настоящему пророссийские (и потенциально антизападные) настроения основывались на чувстве самоуничижения. Несколько лет глубоких внутренних потрясений и хаоса, свидетельства явной политической незрелости, образы нравственного упадка, особенно резкое ухудшение экономической ситуации посеяли среди грузин глубокие сомнения в собственной политической и экономической состоятельности. Сам Шеварднадзе явно не был защищен от этих настроений. В сентябре 1993 г., в самый тяжелый период посткоммунистической государственности Грузии, когда ему пришлось одновременно иметь дело с эскалацией сепаратистской войны в Абхазии, восстанием сторонников Гамсахурдиа в Западной Грузии и возможным разрывом с Джабой Иоселиани и 169
его «Мхедриони» — основной поддерживающей его военной силой, — он сказал собравшимся сторонникам, что «сейчас понял, почему Ираклий подписал договор с Россией». Через пару недель деморализованным остаткам того, что называло себя грузинской армией, пришлось убегать из Абхазии вместе со всеми этническими грузинами, оставляя оружие прогамсахурдиевским повстанцам (звиадистам). Звиадисты наступали в сторону Тбилиси, и растерянные правительственные войска не были способны на серьезное противодействие. Однако и у звиадистов, по-видимому, не хватало сил для окончательной победы. Их ненавидела слишком большая часть населения, и они запятнали себя скрытым сотрудничеством с абхазскими сепаратистами против Шеварднадзе. Страна явно была на пороге распада.
В этих условиях Шеварднадзе пришлось поступиться своей гордостью и принять от России помощь всего через несколько дней после того, как поддерживаемые Россией сепаратисты вытеснили грузин из Абхазии. За эту помощь пришлось заплатить вступлением в СНГ и дальнейшими уступками геополитическим притязаниям России. После этого все изменилось, как по мановению волшебной палочки. Русским не пришлось даже воевать: простого знания того, что они были теперь на стороне Шеварднадзе, вида российских танков (переданных грузинской армии, но, по-видимому, обслуживаемых российскими военными) и особенно кораблей российского Черноморского флота, пришвартовавшихся в порту Поти, было достаточно для того, чтобы деморализовать звиадистов и обеспечить быструю, легкую и окончательную победу правительственным войскам. Сегодня, когда война в Чечне прояснила истинные возможности российской армии, подобный эффект трудно понять. Но в то время миф российского могущества был очень даже жив и настолько владел умами, что мог оказать решающее влияние на развитие событий.
Этот момент оказался поворотным в посткоммунистической истории Грузии и, если смотреть на него с сегодняшней перспективы, без сомнения, стал началом выздоровления. Да, Абхазия была потеряна (возможно, навсегда), а более чем двести тысяч отчаявшихся беженцев надо было расселить и утихомирить. Но война кончилась, и вместе с ней начала убывать сила разгромленных полувоенных формирований. Шеварднадзе начал консолидировать свою власть, основывась главным образом на полиции и используя популярный (и вполне своевременный) лозунг борьбы против преступности. Процесс был завершен после неудавшейся попытки покушения на жизнь Шеварднадзе в августе 1995 г., которую он использовал, чтобы посадить в тюрьму последних из своих вооруженных противников. Таким образом, ему удалось выполнить первое и минимальное условие, делающее государство 170
государством: установить монополию на легитимное использование силы.
Но осенью 1993 г. все воспринималось по-другому. Господствовало чувство унизительного поражения — вполне адекватное реальности. Речь шла не просто о проигрыше войны превосходящему по силам противнику (как я уже сказал, в Грузии войну в Абхазии рассматривали как войну с Россией), но об окончательном крушении национального проекта. Несмотря на внешнюю проекцию вины на Россию, подрыв веры в состоятельность Грузии как государства начался уже в период хаоса и беспорядка. «Эс вин вкопилварт — видите, какими (плохими) мы оказались» стало ключевой фразой, выражающей самочувствие нации. Утверждение, что в «глубинном смысле» Грузия — это европейская нация, которой лишь Россия мешает действительно стать частью Запада и быть принятой в НАТО и Евросоюз, было бы теперь встречено с глубоким скептицизмом любым, кроме кучки упрямых «радикальных» националистов. Вступление в СНГ — что трезвый наблюдатель расценил бы как символический акт, сам по себе никак не влекущий потерю независимости, — был воспринят всем политическим спектром как начало конца, как сдача на милость России, за которой постепенно последовал бы отказ от остальных элементов грузинской независимости. Вступление в СНГ можно было сравнить с потерей женщиной невинности: если уж она раз уступила непристойным притязаниям, в дальнейшем ей обеспечена карьера шлюхи.
Но капитуляция означала и прекращение напряжения. Грузии больше не надо было воевать. Более того, раз уж Россия вновь завладела Грузией, она будет теперь о ней заботиться. Дороги починят, зарплаты приравняют к российским (весьма низким по западным стандартам, но намного большим, чем в Грузии), потекут эшелоны, нагруженные маслом и сахаром. Эти ожидания не интеллектуальные проекции автора этих строк: некоторые про- СНГовские политики вещали подобное с экранов телевизоров и большая часть публики верила, что будет именно так.
С точки зрения сторонников этой позиции, «прозападная» ориентация была одним из проявлений наивности незрелых и безответственных националистов, на которых теперь возлагалась вина за все несчастья Грузии. Какой там Запад? Разве вы не видите, что они продали нас России? В конце концов, что у нас общего с этими аккуратными, но холодными европейцами? Шеварднадзе столько для них сделал, а как они ответили на его проникновенные просьбы? И можете вы себе представить, что мы, грузины, когда-нибудь станем столь же упорядоченными и законопослушными, как они? Нам на роду написано быть вместе с (ну хорошо, под) русскими, и нам следует это признать. И они 171
совсем не так плохи, если к ним хорошо относиться. Если их хорошенько поить и кормить, можно от них немалого добиться, и их женщины всегда с удовольствием занимались с нами любовью. Да, они нас жестоко наказали, но мы это заслужили. Кто на их месте не сделал бы того же самого? И вообще, кто эти хваленые американцы и немцы, как не хорошо накормленные русские?
Это пораженческое в своей сути умонастроение ни в коей мере не было агрессивно антизападным. Оно во многом разделялось не одним представителем культурной элиты, которые придерживались достаточно прозападных ценностей, но не верили в способность Грузии чего-то самостоятельно добиться. Для них пророссийская ориентация была лишь продолжением элитарного скептицизма по отношению к своему «отсталому» или «азиатскому» народу. Они лучше чувствовали себя с европеизированной российской интеллигенцией, чем с собственной «чернью».
Люди, чьи взгляды можно описать как «пророссийские», обычно не проявляли никакого интереса к «славянофильской» (теперь «евразийской») историософии, исповедующей особую роль России. «Пророссийская» позиция не подразумевала приверженность каким-либо позитивным ценностям, веру в то, что «российская идея» или «российский путь» обладает каким-либо внутренним преимуществом, в силу которого Грузии следует отдать им предпочтение. Она попросту означала отказ от собственной политической индивидуальности, веру в то, что у Грузии на самом деле нет никакого выбора, ей следует лишь подчиниться судьбе, которая уделила ей место в фарватере России. Это не означало, однако, отказа от этнических грузинских черт: просто фокус «грузинско- сти» должен был переместиться с политики на сохранение культурных традиций, в особенности тех, что представлены в ритуалах винопития («ра дагврчениа — что нам еще осталось?» — такова была ключевая фраза, выражающая этот настрой).
Но, как я уже сказал, если «пророссийский» подход развить в последовательную идеологию, он мог также стать и антизападным. Несмотря на отдельные отклонения в звиадистской среде, ориентация на независимость и Запад всегда составляла в Грузии части одного и того же идеологического пакета. Альтернативный пакет состоял из «пророссийских» настроений и ностальгии по коммунизму. На массовом уровне «пророссийскость» означала стремление к реставрации. Это был всего лишь аспект ностальгии по стабильному и безопасному прошлому — общая черта посткоммунистических режимов, понятным образом более сильная в странах, где расставание с коммунистической системой давалось особенно тяжело. Наиболее активными поборниками пророссий- ского подхода были директора предприятий старого стиля, видевшие в «восстановлении экономических связей с Россией» пана172
цею от экономического кризиса, с вступлением в рублевую зону в качестве первого шага. Предположительно в этом им удалось убедить и Шеварднадзе, по крайней мере на время. Но они не проявили никакого понимания изменений, происшедших в российской экономике с тех пор, как по вине «безответственных националистов» контакты были прерваны. Они — и их слушатели — представляли себе, что связи будут восстановлены в прежнем виде, когда они были основаны на подкупе соответствующих чиновников в Госснабе и Госплане. «Восстановление связей» могло означать лишь реставрацию всей стоящей за ними политико-экономической системы, в ином случае это выражение было просто лишено смысла.
Короче говоря, пророссийские настроения могли выстроиться в стройную доктрину, лишь развившись в неокоммунизм. Несмотря на все обвинения оппозиции, человеком, который прошел этот путь до конца, оказался отнюдь не Шеварднадзе. Последний, в конце концов, обманул ожидания пророссийских неокоммунистов, польстившись на обещания Международного валютного фонда и Всемирного банка и даже в новых условиях продолжив игру в геополитический баланс (между Западом и Россией). Но действительно неокоммунистическая альтернатива тоже получила развитие, и к осенним выборам 1995 г. именно она стала главным соперником Шеварднадзе. Неокоммунисты объединились вокруг кандидатуры Джумбера Патиашвили, последнего лидера упорядоченно-коммунистической Грузии, чья карьера бесславно закончилась побоищем 9 апреля 1989 г. Он получил лишь 1 9 против 74% голосов у Шеварднадзе, но, если бы не сильное давление на избирателей со стороны местных властей и возможные фальсификации, соотношение могло быть и другим (хотя большинство комментаторов сходятся на том, что Шеварднадзе все же остался бы победителем)1. Впрочем, Патиашвили в качестве альтернативного лидера явно не хватало харизмы. Возможно, неокоммунистам следовало больше надеяться на Игоря Георгадзе, молодого и амбициозного шефа службы безопасности, который (по крайней мере, так считают грузинские власти) решил пойти кратчайшим путем к власти для себя и пророссийской партии, организовав попытку переворота в августе 1995 г. После того как Шеварднадзе остался жив, ему пришлось скрыться в стране, к которой он хотел привести всю Грузию.
Неокоммунизм, без сомнения, является самой серьезной альтернативой прозападной ориентации Грузии. Но, будучи антиза1
См.: Parliamentary and Presidential Elections in Georgia, November 1995: Report from Election Monitoring Program. Tbilisi: Meridian Publishers, 1996.
173
падным течением в идеологическом и геополитическом смыслах, эмоционально он в отличие от российского аналога таковым не является. Расставание с коммунизмом не связано для грузин с переживаниями по поводу потери статуса супердержавы: для них неокоммунизм действительно связан с коммунизмом, т.е. воспоминаниями о мирном, безопасном и относительно благополучном существовании в условиях коммунистического режима, и с трудностями приспособления к рыночным реформам.
Во многом потому, что неокоммунистическим настроениям недостает элемента идентичности, они остаются в основном анти- или неэлитарным феноменом. Во время предвыборной кампании неокоммунистам было очень трудно найти людей, способных членораздельно выразить их идеи. Более молодые и современные представители бывшей партийной и интеллигентской номенклатуры, которые тоже не прочь были сыграть на популярной ностальгии, предпочитали называть себя социал-демократами западного типа и свысока смотрели на пророссийских неокоммунистов.
Сейчас можно лишь фантазировать о том, как подействовало бы на Грузию возвращение к власти коммунистов в России. Ожидалось, что это подбодрило бы их грузинских коллег и придало бы им больше надежд и уверенности в себе — но в конечном счете могло способствовать большему отчуждению Грузии от России. Грузины, возможно, и испытывают определенную благодарность России за то, что в некоторые периоды истории она способствовала модернизации (т.е. вестернизации) страны. Но грузинские элиты вряд ли с удовольствием последовали бы за Россией в обратном направлении.
Наконец-то они пришли: МВФ и трубопровод
Какие бы глубокие разногласия ни вызывало отношение к России, одно ясно: Россия не оправдала ожиданий — ни позитивных ни негативных, — которые были у сторонников и противников этого шага в момент вступления Грузии в СНГ. Помощь Шеварднадзе против звиадистских повстанцев осталась единственным эпизодом, когда Россия оказала очевидное влияние на события. Хозяйственные связи в старом понятии «восстановить» не удалось, но не было установлено и сколько-нибудь значимых новых экономических контактов. Россия почти отсутствовала на грузинском рынке, на котором доминировали турецкие, иранские, китайские, болгарские, греческие и другие товары. Ничего не поступило и в виде помощи. Разговоры о вступлении в «рублевую зону» утихли сами собой. Если Россия действительно хотела доминировать в Грузии и остальном СНГ, ей нужно было восстановить рублевую зону, и многие постсоветские страны готовы были туда 174
войти, но она этого не сделала, и имела веские на то основания: не хотела разрушать собственную экономику. Россия принудила Шеварднадзе подписать договоры о защите «границ СНГ» с Турцией, о размещении военных баз в Грузии, но таким образом было лишь узаконено уже существующее положение. В ответ от России ожидали, что она откажется от поддержки своей предполагаемой марионетки — лидера абхазских сепаратистов Ардзинбы, и вернет Абхазию.
На самом деле соглашения с Россией привели лишь к закреплению статус-кво, т.е. Абхазия осталась в руках сепаратистов, очищенной от (этнических) грузин. В Грузии как таковой жизнь улучшилась, прежде всего потому, что полиции удалось нейтрализовать полувоенные формирования, что было сделано без всякой помощи России. Если Россия и заслуживала признательности, то лишь за то, что больше не старалась подорвать стабильность Грузии (или занималась этим менее интенсивно). В общем-то, для Грузии это было немалым приобретением в обмен на уступки. Но пророссийская партия ждала гораздо большего. Россия наказала Грузию, как ревнивый глава семейства (или главарь мафии), которым пренебрегли или к которому проявили неблагодарность; но после того как блудный сын возвратился, она не выполнила функции благосклонного патрона.
Насколько бы искренне ни верил Шеварднадзе в способность и желание умиротворенной России решить грузинские проблемы, вскоре он получил другое предложение, от которого не мог отказаться: кредиты МВФ и Всемирного банка, правда под обязательства решительных перемен в экономической политике. Начиная с весны 1994 г. руководство экономической политикой Грузии постепенно перешло к МВФ и Всемирному банку. Вместо «вступления в рублевую зону» и «восстановления экономических связей» все заговорили о стабилизации национальной валюты через ужесточение финансовой политики, приватизацию и т.д. Новый курс стал показательным примером того, насколько успешным может быть лидерство МВФ: гиперинфляция была побеждена, новая национальная валюта, лари, введенная осенью 1995 г., вытеснила российский рубль (до того доминировавший на грузинском рынке) за какую-то неделю и с тех пор сохраняет невероятную стабильность, экономическая жизнь начала оживляться, надежды на инвестиции стали выглядеть более реалистичными и кое-где появились даже сами инвестиции (хоть и в небольшом количестве). В сравнении с полной и, казалось, безнадежной катастрофой 1 992—1993 гг. этот поворот казался чудом.
Хотя действия международных институтов (естественно, они всегда воспринимались как одно из воплощений Запада) были в основном ограничены сферой фискальной и макроэкономической 175
политики, они идеально попадали в архетипический образ благосклонного (западного) покровителя, и это чрезвычайно важно для понимания их успеха. Никто не сомневался в могуществе этих организаций: их ресурсы казались неистощимыми в сравнении со смехотворным бюджетом Грузинской Республики, они были строги, требовали соблюдения определенных правил, но подразумевалось, что их строгость в конечном счете полезна подопечному. Они олицетворяли строгость и могущество, как и подобает настоящему патрону, заинтересованному в благосостоянии клиентов.
Совершенно ясно, почему прозападные демократы приняли новую политику с распростертыми объятиями. Однако не многим из них пришлось участвовать в ее осуществлении. Сменив политику, Шеварднадзе не слишком беспокоился о смене политиков: если не считать нескольких человек, которые не пользовались большой властью и, по-видимому, не относились к числу его фаворитов, в кабинете доминировали те же самые аппаратчики и директора коммунистического разлива, которые лишь недавно продвигали идею «восстановления связей». Они были политически более приемлемы для Шеварднадзе, чем националистическая оппозиция, зовущая к более резкой и очевидной смене ориентации с России на Запад. Если некоторые теоретики перехода к демократии говорят о «демократии без демократов», Грузия была примером рыночных реформ без рыночников — или почти без них. Однако эти аппаратчики и директора, которые никогда не верили в рынок и которым не могло нравиться то, что навязывали им МВФ и Всемирный банк, тем не менее по-настоящему не сопротивлялись их давлению. Они не знали, как это сделать, поскольку структурно фактор МВФ полностью вписывался в привычный им образ экономического руководства. Наученные следовать указаниям Высшего Руководства, они никогда и не пытались осмыслить какую-либо концепцию экономической политики. Для них МВФ был новым Госпланом. Конечно, они знали, что Руководство следует обманывать, как только оно отвернется в другую сторону, ему следует предлагать взятки, но что касается общей линии экономической политики, в этом надо следовать инструкциям (по-русски они назывались «директивами», в случае с МВФ и Всемирным банком величаются «рекомендациями», но какое значение имеют слова?). Бюджет страны опять, по сути дела, составлялся в другом месте, это было знакомо и комфортно. Жаль было, конечно, что новые люди говорили на другом языке и это осложняло общение с ними старым чиновникам, — но жизнь меняется, надо приноравливаться.
Стабилизация экономики под покровительством МВФ сделала возможным осуществление другой мечты — или по крайней мере приблизила ее осуществление. Речь идет о включении Грузии в 176
международную систему нефтепроводов. Как только Шеварднадзе вернулся в Грузию, он заговорил о том, что страну надо сделать транзитным путем между Востоком и Западом, Европой и Азией. В частности, Грузия — очевидный кандидат для проведения по ее территории нефтепровода, через который транспортируют на Запад каспийскую нефть с контролируемых Азербайджаном месторождений. В принципе Грузия может претендовать и на участие в транзите нефти с месторождения Тенгиз в Казахстане. Пока страна оставалась в состоянии постоянной смуты, никто всерьез не принимал ее предложений. Вместе со стабилизацией в Грузии и, параллельно с этим, развертыванием гражданской войны в Чечне, находящейся на альтернативной линии нефтепровода через северокавказскую часть России, привлекательность грузинского варианта стала расти. В октябре 1995 г. международный консорциум, ведающий каспийской нефтью, принял политически компромиссное решение использовать как российский, так и грузинский пути, отдав приоритет первому как требующему меньших начальных инвестиций. В марте 1996 г. Алиев и Шеварднадзе, президенты Азербайджана и Грузии, подписали соглашение о строительстве нефтепровода от каспийских месторождений до поселка Супса на Черноморском побережье Грузии (частично используя маршрут старого нефтепровода, который заканчивался южнее Супсы, в Батуми). В декабре 1995 г. Грузию посетил президент компании «Шеврон»; это было признаком того, что транспортировка через Грузию казахстанской нефти тоже может стать предметом обсуждения.
Как бы эти нефтепроводные дела ни развивались в дальнейшем, сам факт, что Грузии удалось убедить Запад (представленный в данном случае нефтяными компаниями), что она достаточно стабильна и надежна для того, чтобы доверить ее территории столь драгоценный продукт, как нефть, можно считать наиболее важным достижением, дающим надежду на будущее экономическое благосостояние. Однако, кроме чисто экономического аспекта, проблема нефтепровода приобрела особую популярность и в силу своих геополитических импликаций. Это арена соперничества России и Запада. Россия жестко противостоит прокладке нефтепровода через Грузию не столько потому, что боится потерять соответствующие доходы, сколько потому, что видит в осуществлении этого проекта конец своему доминированию в Закавказье (которое в таком случае станет Южным Кавказом). Если проект нефтепровода материализуется, это означает, что наконец-то Запад пришел на Кавказ и у него появилась к этому месту более актуальная привязка, чем общее христианское наследство. Цели, к которым стремился Сулхан-Саба Орбелиани, будут, таким образом, достигнуты без обращения в католицизм.
177
12 1814
Все это объясняет, почему перспектива нефтепровода не вызвала в Грузии иной реакции, кроме энтузиазма. Тут очевиден контраст с советским проектом транскавказской железной дороги из России в Иран через Грузию, который вызвал в 1987 г. шквал протестов, ставших первым эпизодом национально-освободительного движения. Дело не в том, что нефтепровод выгоднее железной дороги (никто таких подсчетов не делал) или что у грузин в большей степени развилось чувство экономической рациональности (хотя последнее само по себе правильно). Железная дорога еще больше привязала бы Грузию к России, тогда как нефтепровод обещает привязать ее к Западу. Проект транскавказской железной дороги с Россией вызвал бы меньше протестов в 1996, чем в 1987 г., но недовольство все же было бы существенным.
В случае с нефтепроводом ни у кого (кроме, может быть, некоторых из антишеварднадзевских коммунистов) возражений не возникает. Даже «зеленые», возглавлявшие протесты в 1 987 г., стали теперь лидерами ведущей прошеварднадзевской партии и пропагандируют решение о нефтепроводе как крупный внешнеполитический успех. Если можно в этой связи говорить о каких-то негативных эмоциях, то это лишь страх того, что мечта слишком прекрасна, чтобы оказаться былью, и Россия все равно не даст ей осуществиться.
Пусть Запад пришел. Но что это такое?
Западное присутствие чувствуется в Грузии больше, чем когда-либо в истории (за исключением короткого периода после Первой мировой войны, когда здесь стояли британские войска). МВФ ведает экономическими реформами, тогда как надежды на будущее процветание связываются с перспективами нефтепровода и возможных западных инвестиций. Открываются западные магазины. На все еще скудном рынке рабочих мест западные посольства, международные организации и неправительственные организации оказались самыми привлекательными работодателями, и существует надежда, что за ними в гораздо более широком масштабе последуют западные компании. Несмотря на все решения о российских базах, молодые люди предпочитают учить английский, а не русский как язык карьеры.
Но поскольку западное присутствие становится реальностью, миф Запада обречен на крушение. Вера во внутреннюю «запад- ность» грузин, проистекающая из христианского наследства или врожденного индивидуализма, уже стала сомнительной. Теперь мало шансов на выживание осталось и у образа Запада, который обязан быть благосклонным покровителем Грузии.
178
Более прямое столкновение с Западом обнажит основное противоречие между теоретически прозападной ориентацией Грузии и чрезвычайно незападными установками, лежащими в ее корне. Идея Запада как идея Нового Времени пошла дальше своей средневековой предшественницы — идеи христианского мира, хотя в ее цивилизованных интерпретациях связь сохраняется. Идея Запада прежде всего укоренена в идеале свободного, автономного, самодостаточного человеческого индивида. «Прозападная» ориентация же Грузии, напротив, была основана на весьма незападной идее иждивенчества.
Энтузиазм по поводу проекта нефтепровода подразумевает — и может усилить — видение паразитического благосостояния при щедром покровителе, когда Грузия живет, не слишком напрягаясь, с транзитных поступлений. Имея в виду традиции бюрократизированного и коррумпированного государства, весомое количество доходов в государственную казну (если они появятся), поступающих вне всяких взаимоотношений с собственным народом, может существенным образом препятствовать социальной и политической эволюции в направлении действительной вестернизации, как показывает пример многих богатых нефтью государств. Если государство действительно сможет извлекать достаточно большую прибыль из нефтепроводного бизнеса, у него будет больше шансов сохранить незападную патерналистскую модель самого себя как защитника и кормильца своих перманентно инфантильных граждан. Понимание того, что «прозападная ориентация» означает прежде всего освоение западных ценностей самодостаточности, инициативы, законопослушности, трудовой дисциплины и т.д., а не вступление под покровительство Запада в обмен на верность ему, лишь начинает пролагать путь в сознание грузин. Возможно, опыт выживания в условиях полного распада коммунистического государства на самом деле больше помог этому пониманию (пусть не всегда артикулированному в четкие идеологические формулы), чем навязанная МВФ политика затягивания поясов (хотя последнее влияние тоже сыграло свою роль). Грузия вышла из продолжавшегося несколько лет кошмара политически и экономически более состоятельной, относительно демократической и более независимой, чем можно было предположить пару лет назад. Она пережила свой тяжелый урок, и теперь ее «прозападная ориентация» имеет шанс выйти из мира мифологии и мечтательства.
Легко это не дается. Естественным образом частью процесса будут различные формы антизападной реакции. Сейчас можно только догадываться, каким именно образом эта реакция проявится. Можно предсказать усиление описанных выше и уже существующих, но недостаточно развитых тенденций: культурно-религи179
озное почвенничество, с одной стороны, и неокоммунистическая реакция — с другой. В этих случаях противостояние будет во многом развиваться по дихотомии элита — массы (особенно это касается неокоммунистической реакции). Вряд ли подобное движение будет популярно на элитном уровне; последнее также означает, что, если случатся новые потрясения, элиты вряд ли разрешат открыто российскому неокоммунизму или почвенническому национализму антизападного типа оказывать слишком большое влияние на определение политических идей. В последнее время прозвучали и голоса за единение с Россией на основе единого православного наследия (естественно, для того, чтобы противостоять натиску МВФ, турецкого капитала и других сатанинских сил). По хантингтоновской модели «борьбы цивилизаций», им полагалось бы определять идеологическую ориентацию Грузии1. Однако пока среди сторонников этого направления ни одной более или менее масштабной фигуры не появилось.
С другой стороны, есть и признаки того, что недовольство образом «бездушного капиталистического Запада», представленного в данном случае МВФ и Всемирным банком, т.е. типом экономической политики, которую поддерживают эти организации (этот образ может быть еще более усилен в будущем присутствием нефтяных или других западных корпораций), может выразиться через распространение леволиберальных идеологий, характерных для самого (пост)модернистского Запада. Имеются в виду как классическая социал-демократия, так и более маргинальные движения. Недавно созданное объединение «Левый центр», претендующее стать основным центром оппозиции, собирается заполнить именно эту нишу. В этом случае антизападные чувства окажутся ориентированными на западные же модели, что сделает их вполне приемлемыми для элиты, которая не хочет выглядеть антизападной в этнокультурном смысле. Поэтому от более элитарных и «прогрессивных» грузинских антизападников можно ожидать сближения с западной «культурой противостояния» — и это было бы лишь одним из аспектов вестернизации.
1
См.: Huntington S. The Clash of Civilizations? // Foreign Affairs. 1993. Vol. 72. No. 3. P. 22—49.
Бруно Коппитерс
ГРУЗИЯ В ЕВРОПЕ.
ИДЕЯ ПЕРИФЕРИИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Анализ западноевропейской политики по отношению к Грузии является периферийным вопросом в изучении европейской внешней политики. Этнические конфликты и политическая нестабильность в Грузии никогда не представляли угрозы для западноевропейской безопасности. Грузинская политика не является предметом озабоченности для общественного мнения в Западной Европе. Это не означает, что Грузия не представляет интереса для европейских исследований. Сама концепция периферии в действительности является центральной при анализе европейского интеграционного процесса.
В настоящей статье1 проводится анализ пяти различных значений концепции периферии в исследованиях международных отношений и в политических дискуссиях о Европе. Во-первых, периферия имеет позитивный и практический смысл в модели «центр—периферия» европейской интеграции. Второе значение термина «периферия» можно найти в модели «центр—периферия» Йохана Гальтунга. Это значение является негативным в той степени, в какой периферия рассматривается как объект доминирования и эксплуатации со стороны центра. В-третьих, периферия может рассматриваться в качестве местности, делимитирующей границы территорий враждующих государств, регионов и цивилизаций. В-четвертых, государство, используемое как плацдарм другими державами с целью оказания влияния на отдельный региональный комплекс безопасности, может также рассматриваться в качестве их периферии. В-пятых, термин «периферия» может использоваться для характеристики специфических форм безразличия к малым народам в политике главных мировых держав. Данная статья представляет собой оценку того, насколько эти различные значения термина «периферия» пригодны для описания западноевропейской политики по отношению к Грузии. Анализ политики некоторых конкретных западноевропейских или западных держав в отношении Грузии может оказаться полезным для такой оценки. Это включает западноевропейскую позицию по 1
Выражаю признательность Кахе Гоголашвили, Тамаре Драгадзе, Алексею Звереву, Жерому Кассье, Веронике Келли, Герду Таббе, Дмитрию Тренину, Майклу Уоллеру и Тео Янсу за их отзывы на первый вариант данной работы.
181
отношению к грузинскому движению за независимость, к этническим и гражданским войнам в Грузии, а также программы технической и гуманитарной помощи, оказываемой Европейским союзом Грузии.
«Центр—периферия» как модель европейской интеграции
Термин «периферия» не обязательно имеет негативное значение. Это существенный элемент идеи европейской интеграции. Традиционно объединение Европы мыслилось по модели «центр— периферия». Эта модель предназначалась для разрешения кардинального противоречия между реальным процессом европейской интеграции, охватывающим только меньшинство европейских наций, и идеалом европейского объединения, объемлющим весь континент. В соответствии с моделью «центр—периферия» строительство Европы следует понимать как результат процесса, который начинался с центра и постепенно захватывал значительные районы периферии Европейского континента. Под центром имеются в виду настоящие участники европейского интеграционного процесса, а под периферией — его будущие участники1. Периферия Европы должна постепенно слиться с ее центром и включиться в общий процесс принятия решений. Модель «центр— периферия» является частью дискуссий о европейской идентичности, так как она предполагает, что все европейские страны рано или поздно войдут в сообщество стран, защищающих европейские ценности и интересы общей безопасности. Идея европейской идентичности лежит в основе процесса институционального объединения в Европе и противоречит священной идее национального суверенитета* 2.
Процесс объединения был начат некоторыми западноевропейскими странами в 50-х годах XX в. Центр Европы успешно инкорпорировал с тех пор значительную часть южной и северной периферии Европы и в настоящее время ведет процесс включения в ближайшем будущем в свой состав частей Цент~1
В литературе, посвященной европейской интеграции, проводится различие между центральными и периферийными членами Европейского союза. Использование термина «периферия» применительно к таким членам ЕС, как Испания, Португалия и Греция, показывает, что формальное членство в общих структурах, принимающих решения, недостаточно для устранения кардинальных различий между участниками интеграционного процесса.
2
См.: Smith A.D. National Identity and the Idea of European Identity // International Affairs. 1992. Vol. 68. No. 1. P. 55—76; о модели «центр—периферия» у «мифотворцев европейской идеи» см.: Ibid. Р. 74.
182
ральной и Восточной Европы. Тот факт, что практическая и идеологическая обоснованность модели «центр—периферия» была подтверждена успехами интеграционного процесса в Европе, не означает того, что будущее объединение Европы будет ввиду этого продолжаться в соответствии с изначальным идеологическим содержанием этой модели. Возможность расширения Европейского союза за счет некоторых стран Южной, Восточной и Центральной Европы не предполагает того, что все остальные части европейской периферии на какой-то стадии обязательно примут участие в будущем объединительном процессе. Мало вероятно, что коренное противоречие между претензией Европейского союза представлять судьбу Европы и фактом того, что он представляет исключительно ее богатую часть, разрешится в будущем.
В 1 992 г. в документах Европейского сообщества содержалась следующая классификация постсоветской Европы1: во-первых, европейский центр вместе с ЕС и Европейской экономической зоной; во-вторых, регион PHARE (Польша, Венгрия, Болгария, Чехословакия, Албания, Румыния, Эстония, Латвия, Литва и Словения) и Средиземноморье; в-третьих, регион недавно образовавшихся республик СНГ в Евразии. В 1996 г. невозможно оценить, какая из восточно- и центральноевропейских стран сможет в близком будущем быть интегрированной в центр Европейского сообщества. Информационный бюллетень о PHARE, опубликованный в 1996 г., рассматривает модель «центр—периферия» как все еще пригодную для Центральной и Восточной Европы. «С 1945 по 1989 г. страны Центральной и Восточной Европы были отрезаны от магистрального течения европейского развития, замкнуты в системе централизованного политического и экономического контроля. Сейчас они желают вновь занять свое центральное место в культуре и цивилизации Европы и воссоединиться с экономиками и обществами Европы. Они стоят перед вызовом: перестроить свою экономику, чтобы угнаться за теми изменениями, которые имели место в Западной Европе за последние полве1
См.: Janning J.( Ochmann С. Beyond Europhoria. Political and Economic Relations Between the East and the West in Europe // Ehrhart H.-G., Kreikemeyer A., Zagorski A.V. (eds.). The Former Soviet Union and European Security: Between Integration and Re-Nationalization. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft. 1993. P. 159; Lippert B. Questions and Scenarios on EC-CIS Republics’ Relations — An Outline on the Political Dimension // Ibid. P. 138. Программа под названием «Акция в Польше и Венгрии по реструктурированию экономики» («Poland and Hungary Action for Restructuring of the Economy», PHARE) вступила в действие в январе 1990 г. для этих двух стран, а впоследствии была расширена.
183
ка»1. Подобного положения не найти в бюллетенях ЕС по программе TACIS, посвященной передаче «ноу-хау» в целях содействия экономической трансформации и развитию демократии в странах СНГ (Новых независимых государствах, как их называют в документах ЕС) и Монголии2. Внешняя политика Европейского союза не делает каких-либо принципиальных различий между странами Закавказья, которые считают себя европейскими, и странами Центральной Азии. Шанс Грузии полностью интегрироваться в Европейский союз может рассматриваться как нулевой. Значение периферии в соответствии с моделью европейской интеграции «центр—периферия» неприменимо к положению Грузии в Европе.
Модель «центр—периферия» Йохана Гальтунга
Первое значение периферии может характеризоваться как позитивное, практическое и идеологическое. Значение «периферии» в модели Йохана Гальтунга «центр—периферия»3 является негативным и теоретическим. Модель Гальтунга принадлежала к многочисленным в 60-е и 70-е годы попыткам концептуализировать зависимость «третьего мира» от Западной Европы и США. В противоположность марксистскому подходу Гальтунг не рассматривает империализм в качестве особой исторической стадии капитализма. Он представляет свою концепцию отношений «центр—периферия» как «структурную теорию империализма». Как идеальный тип модель «центр—периферия» должна иметь эвристическую функцию для понимания основополагающей структуры всех империй на протяжении истории.
Гальтунг констатирует, что мир состоял и состоит из центральных и периферийных наций и что каждая нация в свою очередь имеет центр и периферию. Под империализмом следует понимать особый тип доминирования, в котором центр Периферии используется центром Центра в качестве плацдарма с целью установления гармонии интересов между обоими, тогда как существует дисгармония интересов между периферией центральной нации и периферией периферийной нации. Дисгармония интересов (инте1
European Commission. PHARE Information Office, What is PHARE? A European Union Initiative for Economic Integration with Central and Eastern European Countries. Brussels, 1996. P. 1.
2
См., например: European Commission, TACIS Annual Report 1994. Brussels, 1995.
3
Cm.: Galtung J. A Structural Theory of Imperialism // Journal of Peace Research. 1971. No. 2. P. 81 — 117.
184
ресы в целом определены как материальные и нематериальные жизненные условия) является большей внутри Периферии, чем внутри Центра. Центр периферийной нации служит, к примеру, в качестве передаточного моста для обеспечения Центра сырьем, тогда как побочным результатом добычи сырья для развития Периферии является — в худшем случае — всего лишь образование ямы в грунте.
Неравномерный обмен ценностями имеет место не только в экономической области. В отличие от ленинской и других экономических дефиниций империализма Й. Гальтунг выделяет его различные типы: империализм может быть экономическим, политическим, военным, коммуникационным или культурным. При империализме политического типа нация Центра дает Периферии модели принятия решений, а при империализме культурного типа — культурные модели. Разделение труда, где Периферия производит события, которые Центр обращает в новости, рассматривается в качестве примера коммуникационного империализма. При всех типах империализма Центр устанавливает монопольную позицию в своей вертикальной связи с периферийными нациями, препятствуя взаимодействию между ними.
Так как отношения между империями носят характер конкуренции, периферийные нации могут стараться затянуть конфликт между разными центрами с целью извлечения наибольшей выгоды. Гальтунг не считает, что такая стратегия может изменить основополагающую структуру империализма. Она может вести к некоторым модификациям в структуре вертикального взаимодействия, но без каких-либо изменений по сути феодальных отношений. Гальтунг выдвигает более оптимальную стратегию структурного изменения системы международного доминирования. Он считает, что горизонтализация отношений Центра и Периферии — разделение труда и обмен продуктами на более равных условиях, сокращение вертикального взаимодействия и большая опора на себя при определении предпочтений периферийных наций — представляет собой первую стратегию структурного изменения систем международного доминирования. Вторая стратегия состоит в дефеодализации международных отношений, включая развитие жизнеспособных организаций периферийных стран.
Целью этого краткого синтеза концепции империализма Галь- тунга является не оценка ее ценности как систематической теории, а лишь оценка того, насколько определение, что «Грузия находится на периферии Европы», может быть понято в соответствии с моделью Гальтунга «центр—периферия». На первый взгляд взаимоотношения между Западной Европой и Грузией легко могли бы быть определены — в различных аспектах — как отношения зависимости, характерные для имперской структуры 185
«центр—периферия». Постольку поскольку дело касается политического и культурного типов империализма — при которых модели центра внедряются на периферии — Грузия могла бы легко быть названа хорошим примером периферии в гальтунговском значении этого слова. Идеализация европейской демократии и культуры действительно имеет длительную историю в Грузии, даже если Конституция Грузии 1995 г. и демонстрирует большую увлеченность президентской моделью США.
Однако нетрудно увидеть, что такая характеристика периферийного положения Грузии довольно поверхностна и не учитывает важные аспекты зависимости Грузии от Европы. Во-первых, Западная Европа выработала универсалистский подход к политике и культуре, который выходит за пределы каждого отдельного отношения «центр—периферия». Западноевропейский центр рассматривает собственную модель цивилизации как освободительную для своей периферии. Этот позитивный взгляд на отношения «центр—периферия» — в противовес гальтунговской и любой другой теории империализма — был, в частности, доминирующим в дискуссиях, касающихся вступления Грузии и других бывших советских республик в Совет Европы.
Во-вторых, подход Гальтунга к отношениям «центр—периферия» пренебрегает идеей свободного выбора, заменяя ее понятием опоры на себя. Гальтунг защищает структурную теорию, так как не всегда можно считать, что участники осознают свои собственные реальные интересы. Альтернатива между добровольным и недобровольным принятием политических и культурных моделей должна, однако, рассматриваться как более фундаментальная, чем гальтунговская альтернатива между зависимостью от иностранных моделей и созданием самой Периферией доморощенных моделей с опорой на собственные силы. Если бы мы, к примеру, сравнили отношения между Грузией и Россией/Советским Союзом, с одной стороны, и отношения между Грузией и Западной Европой — с другой, то Гальтунг охарактеризовал бы и те и другие как империализм политического и культурного типов, подчеркивая сходство между обеими формами зависимости от иностранной модели. Однако существует коренное различие между навязыванием модели Россией/Советским Союзом и выбором, сделанным подавляющим большинством грузинского общественного мнения в пользу западной политической модели. Сам этот выбор может быть объяснен реакцией против зависимости. Идеализация Западной Европы грузинской интеллигенцией в XIX и XX вв. является в значительной степени следствием ее отказа от российской и советской «имперской» политической и культурной моделей.
Понятие свободного политического выбора слишком важно, чтобы пренебрегать им при анализе отношений зависимости, 186
существующих в постсоветском мире. Это не означает, что нужно переоценивать сознательную рациональность социальных участников или что социальные последствия этого выбора соответствуют политическим намерениям. Движение Грузии за независимость стремилось порвать все связи с Советским Союзом с целью облегчения ее интеграции в Европу. Этническая вражда и прекращение экономических связей с Россией привели к полному упадку экономической жизни после обретения независимости. Неясно, насколько новые связи между Грузией и мировым рынком смогут привести к экономическому оживлению страны. С экономической точки зрения Грузия не имеет стратегического значения для Западной Европы как поставщик сырья или как рынок потребительских товаров. Однако она занимает стратегическое положение на Черном море, так как может обеспечить один из маршрутов нефтепроводов от Каспийского моря. При обнаруженных 40 млрд, баррелей нефтяных запасов и от 100 до 200 млрд, ожидаемых в будущем Каспийское море и окружающий регион считаются одним из крупнейших будущих поставщиков энергии в Западную Европу (Кувейт имеет 97 млрд, баррелей обнаруженных запасов нефти)1. Возможность транспортировки нефти с огромного Тенгизского месторождения в Казахстане через Азербайджан и Грузию принимается во внимание при переговорах с нефтяными компаниями. Согласно первоначальному проекту с участием компании «Шеврон», мало вероятно, что Грузия получит какой-либо значительный доход от транзитных поступлений до начала следующего века, так как в обмен на финансирование нефтепровода компания добивается резкого сокращения концессионных тарифов на 30 лет2. В отдаленной перспективе ожидается позитивный побочный эффект для всей грузинской экономики. Сейчас слишком рано оценивать, насколько стратегическое положение Грузии может способствовать установлению гармонии экономических интересов между Грузией и Западной Европой. Вопрос о том, может ли характеризоваться их взаимосвязь как экономический тип империализма, согласно теории Гальтунга, остается открытым.
Легче оценить другие последствия выбора Грузии в пользу независимости и рыночной экономики, например в области образования. До независимости уровень грузинской экономики был намного ниже уровня Западной Европы по ВВП на душу населения и другим экономическим показателям, но стандарты образования в Грузии были относительно высоки. Учебные программы и обо1
См: The Economist. 1996. May 4.
2
См: Tehran Times. 1996. January 20.
187
рудование были часто устарелыми, широко распространенной в системе образования была коррупция, но некоторые показатели, такие как число лет обучения в школе и грамотность среди взрослых, были сравнимы с западноевропейскими1. После получения независимости система образования оказалась в состоянии упадка, прежде всего вследствие недостаточных ассигнований. В районах гражданской междуусобицы школы разрушены или используются для размещения перемещенных лиц. Многие учителя оставили работу из-за низкой зарплаты. Школы закрываются зимой из-за отсутствия отопления. Учебные материалы недостаточны или недоступны для родителей. Лишь недавно появившиеся частные и немногие государственные школы, которые получают помощь от западных партнеров, могли в последние годы обеспечивать качество обучения2. Совершенно невероятно, чтобы грузинское правительство смогло мобилизовать достаточные ресурсы с целью поддержания образования на том же уровне, на котором оно находилось при советской власти. Частные же инициативы в области образования кажутся неспособными повернуть эту тенденцию вспять. Оплата обучения, как правило, слишком высока для населения, страдающего от экономической разрухи. Это значит, что Советская Грузия, несмотря на ее антизападную ориентацию, по-видимому, сумела создать систему образования, ряд показателей которой сравним с западноевропейской системой, в то время как новый режим, несмотря на свою западную ориентацию, усилил образовательный разрыв между Грузией и Западной Европой.
Гальтунг подчеркивает монопольную позицию Центра в его вертикальном взаимодействии с периферийными нациями и отсутствие взаимодействия между самими периферийными нациями как основную структурную характеристику империализма. Этот тип односторонних отношений между периферийными нациями был в самом деле характерным для многих колониальных и неоколониальных режимов. При советской власти все союзные республики Закавказья были тесно связаны с Москвой, в то время как их связи с соседними государствами региона находились в полном небрежении. Советская политика не была нацелена на экономическую интеграцию Кавказа как самостоятельного региона. Экономические связи между Грузией, Турцией и Ираном были прерваны в течение всего советского периода, несмотря на См: Scott W., Tarkhan-Mouravi G. Government of the Republic of Georgia/United Nations Development Programme. Human Development Report. Georgia 1995. Tbilisi, 1995. P. 10, 27.
2
Cm: Ibid. P. 30.
188
географическую близость этих стран. Пройдет много лет, прежде чем Грузия сможет преодолеть последствия этой советской политики.
Правительство Шеварднадзе предприняло важные инициативы с целью восстановления торговых отношений с соседними странами. Турция уже заменила Россию в качестве ее основного торгового партнера, поскольку в 1994 г. 25% всей внешней торговли Грузии приходилось на Турцию, в то время как лишь 16% — на Россию. В 1995 г. торговля с Турцией возросла до 32%, тогда как торговля с Россией сократилась до 9%^ Членство Грузии в Организации экономического сотрудничества (ОЭС) было бы дальнейшим шагом в нормализации ее экономических отношений с соседними странами. В эту региональную организацию, в которой принимают участие Иран, Пакистан, Турция, пять центральноазиатских государств и Азербайджан, не входят Россия и западные государства. Прием Грузии и Армении в ОЭС (членство Армении, вероятно, потребовало бы урегулирования нагорно-карабахского конфликта) может считаться важным шагом в свете стратегии создания организаций «периферийных» наций, отстаиваемой Гальтунгом. Идея «Кавказского дома», которая в течение всего XX в. наполнялась различными группировками региона противоречивым политическим содержанием, могла бы — в случае если бы она не исключала какой-либо кавказской страны из своего проекта региональной интеграции — вписаться в эту стратегию.
Франция и США установили интенсивные дипломатические связи с Арменией, Германия имеет предпочтительные связи с Грузией* 2, а Великобритания — с Азербайджаном. Несмотря на различную степень дипломатического присутствия в различных закавказских столицах, ни одно из западных правительств и ни один из институтов не стремится иметь исключительные связи или тормозить взаимную интеграцию трех государств. Такая империалистическая политика противоречила бы заинтересованности Запада в создании безопасных путей для транспортировки нефти от См. статью Александра Кухианидзе об армянском и азербайджанском меньшинствах в Грузии, публикуемую в первой книге данной серии.
2
Для Германии признание роли Шеварднадзе в процессе воссоединения Германии кажется более важным, чем просто экономические расчеты, касающиеся энергетических ресурсов. Кристиан Шмидт-Хойер, журналист из «Ди Цайт», критиковал контраст между преувеличенной важностью, придававшейся германским правительством посольству в Тбилиси, и нехваткой дипломатического персонала в германском представительстве в Баку, несмотря на большую экономическую значимость последнего (см.: Schmidt- Hauer Ch. Alter Reich turn, neues Wunder // Die Zeit. 1995. Mai 26. S. 10).
189
Каспийского моря в западном направлении. Политический и экономический подход Европейского союза к региону заключается в том, он поддерживает проекты интеграции между Азербайджаном, Грузией и Арменией. Развитие транзитного пути между Черным и Каспийским морями, Центральной Азией и кавказскими странами с целью оптимального использования транспортных магистралей рассматривалось как приоритет в программе TACIS на 1992 г. Европейский союз рассматривает более активный диалог между закавказскими государствами, с соседними странами и с ОЭС в качестве одного из главных средств ускорения процесса их реконструкции.
Может ли периферийная позиция Грузии в Европе быть понята в соответствии со значением, данным понятию «периферия» в структурной теории империализма Гальтунга? Эта теория, несмотря на ее претензию быть внеисторичной, основана на анализе капиталистической системы в период «холодной войны» и представляется неприемлемой для анализа новых взаимозависимо- стей, создавшихся в результате исчезновения советской системы. Применение модели Гальтунга «центр—периферия» к сегодняшней Грузии неспособно подтвердить значимость универсальных норм и моделей, осознанного выбора, сделанного грузинским народом в пользу того, чтобы быть частью западного мира, и обдуманного целостного подхода к кавказскому региону со стороны западных правительств. Это не означает, что периферийная позиция Грузии не должна анализироваться как позиция зависимости или что ее выбор в пользу Европы приводит к гармонии интересов между Центром и Периферией. Анализ Гальтунга был одной из наиболее систематизированных и концептуально отточенных теорий империализма, обсуждавшихся в 70-е годы XX в. Подобная теоретическая дискуссия о ценности термина «империализм» (сегодня используемого исключительно в качестве идеологического понятия на Западе для осуждения российской политики, а в России — для осуждения западной политики) едва ли нужна для анализа новых отношений «центр—периферия» в Европе после прекращения существования Советского Союза.
Периферия как место исключения и конфронтации
Периферию можно понимать как место исключения и конфронтации между различными странами, альянсами и цивилизациями. В этом смысле граница государства, делимитирующая территорию, над которой оно осуществляет свой суверенитет, является составным элементом его идентичности. Граница страны может даже рассматриваться ее населением как священная. Согласно 190
теории справедливой войны, ее оборона является достаточным мотивом для использования силы.
Аналогия между границами национального государства и границами региона недвусмысленно используется для легитимации русской концепции «ближнего зарубежья». Границы между союзными республиками в советский период были административными линиями, не имевшими стратегического военного значения. Россия после распада СССР подчеркивала свое законное право на защиту специфических и исключительных интересов безопасности в бывших союзных республиках. Вовлеченность других держав в «ближнее зарубежье» рассматривалась как угроза безопасности. Москва провела переговоры с рядом стран СНГ (Казахстаном, Киргизией, Туркменией, Грузией и Арменией) об установлении пограничных постов на границе бывшего Советского Союза. С российской точки зрения, Грузия находится на периферии ее зоны безопасности. Термин «периферия» относится к линии, где другие державы исключены.
Это значение периферии как места конфронтации может быть использовано в применении к европейским границам в той мере, в какой Европа рассматривается как образующая отдельную цивилизационную единицу. Сэмюэл Хантингтон предсказывал, что «важнейшие конфликты будущего будут иметь место вдоль линий культурного разлома, отделяющих ... цивилизации одну от другой»1. Цивилизации рассматриваются Хантингтоном как широчайшие уровни культурной идентичности, определяемые партикуляристским способом «как общими объективными элементами, такими, как язык, история, религия, обычаи, институты, так и субъективной самоидентификацией народа»2. Он считает всплески насилия между ингушами и осетинами, между азербайджанцами и армянами и размещение российских войск на Кавказе с целью обеспечения безопасности российских южных границ от турецкой угрозы различными формами нынешних столкновений между цивилизациями3.
Дэн Дайнер защищает схожий тезис, когда констатирует, что понимание цивилизациями самих себя происходит на периферии посредством их оппозиции другим цивилизациям. Восточный вопрос XIX в., который был поднят тогда, когда упадок Оттоманской империи дал другим мировым державам возможность подогнать 1
Huntington S.P. The Clash of Civilizations? // Foreign Affairs. Summer 1993. P. 25.
2
Ibid. P. 24.
3
Cm.: Ibid. P. 33.
191
баланс сил (balance of power) под свою выгоду, отражал такой конфликт между западным христианством, восточным христианством и исламом. Нынешние конфликты на Кавказе и на Балканах подобным же образом рассматриваются как воссоздающие культурную идентичность1.
Считалось, что судьба Европы и идея европейской идентичности поставлены на карту на Балканах. Но в западноевропейских дискуссиях о необходимости военной интервенции понятие цивилизации использовалось в очень отличающемся от Хантингтона и Дайнера смысле. В противоположность своему историческому и партикуляристскому определению цивилизации общественное мнение в Европе рассматривало универсалистскую идею прав человека как составляющую основу европейской цивилизации. Акты войны и этнической чистки в бывшей Югославии не интерпретировались как выражение столкновения между отдельными цивилизациями, а ощущались как проявление столкновения между цивилизацией и варварством. Французские писатели Бернар Анри-Леви и Андре Глюксман подчеркивали необходимость для западноевропейских держав военного вмешательства с целью противостояния вопиющим нарушениям прав человека в конфликте, происходившем не на периферии, а в сердце Европы. А. Глюксман составил избирательную платформу к французским выборам в Европейский парламент в июне 1994 г. с целью привлечь внимание французской общественности к войне в бывшей Югославии. Платформа называлась «Европа начинается в Сараево». Сараево не было на периферии Европы.
Хантингтон и Дайнер представляют конфликты на Кавказе, вовлекающие этнические группы с различным религиозным и культурным просхождением, между азербайджанцами и армянами и между осетинами и ингушами как подтверждение их тезиса о том, что столкновение цивилизаций происходит на периферии Европы. Может ли западная политика по отношению к Грузии интерпретироваться в рамках столкновения между цивилизациями, в котором поставлены на карту цивилизационные ценности? И Звиад Гамсахурдиа, и его преемник Эдуард Шеварднадзе действительно неоднократно требовали западной поддержки, утверждая, что судьба западной цивилизации была поставлена на карту на Кавказе. Они могли основывать эту интерпретацию на традиционном самосознании грузинской интеллигенции. Грузинская элита всегда подчеркивала принадлежность грузинской национальной культуры к европейской цивилизации. Грузия наряду 1
См.: Diner D. Die Wiederkehr der Orientalischen Frage // Die Zeit. 1995. September 1. S. 54.
192
с Арменией была первым государством, в котором христианство было введено в качестве государственной религии. Постольку поскольку христианские ценности считаются необходимым компонентом европейской идентичности, можно было говорить, что Грузия внесла значительный вклад в западную цивилизацию1. В отличие от археологического определения идея цивилизации, как она использовалась грузинской интеллигенцией, имела далеко идущие нормативные и политические последствия. Однако аргумент, согласно которому европейская идентичность уходит своими изначальными корнями в отдаленное прошлое и имеет общие религиозные начала, не нашел большой поддержки у европейского общественного мнения. Это сделало возможным предоставление Грузии статуса специального гостя в Совете Европы, но не оказывает большого влияния на западноевропейскую политику в отношении Грузии.
Этнические конфликты в Грузии не рассматривались в качестве цивилизационной проблемы в Западной Европе. В отличие от гражданской войны в бывшей Югославии грузинские войны не были главной темой при освещении новостей западными агентствами. Комментарии в газетах подчеркивали неспособность правительств как Гамсахурдиа, так и Шеварднадзе найти компромисс с этническими меньшинствами. Взятие Сухуми силами абхазских сепаратистов, тысячи жертв среди гражданских лиц и изгнание более чем 200 тыс. беженцев описывались средствами массовой информации как трагическое следствие неспособности Шеварднадзе контролировать радикальные грузинские военизированные группировки и как русское вмешательство в дела Грузии. Интервью грузинского генерала Каркарашвили, заявившего, что он лично был готов послать 100 тыс. солдат на смерть с целью убить 80 тыс. абхазов (иными словами, фактически все абхазское население), широко распространялось в западных средствах массовой информации2. Западные правительства осуждали нарушение территориальной целостности грузинского государства, но Великий князь Георгий Шервашидзе, последний наследник абхазского трона, однажды заявил, что трагедия Грузии заключалась в том, что она не смогла оставаться впереди европейской цивилизации: «Wenn uns das Schicksal nicht so heimgesucht hatte, waren wir heute weiter als Europa. Denn als der Apostel Andreas uns hier die Lehre Christus predigte, hiillten sich in Europa die Duken in Felle und gingen mit Spiessen in der Hand auf die Jagd» («Если бы не превратности судьбы, мы бы опередили Европу. Когда нам здесь апостол Андрей проповедовал учение Христа, в Европе вожди носили шкуры и ходили на охоту с копьем в руке») цит. по: Gelaschwili N. Georgien. Ein Paradies in Triimmern. Berlin: Aufbau Verlag, 1993. S. 66).
2
Cm.: Ibid. S. 164.
193
13 1814
такие официальные заявления не оказывали какого-либо влияния на общественное мнение. В отличие от бывшей Югославии Европа не имела нравственной позиции, которую она считала себя обязанной защищать на Кавказе.
О европейской цивилизация речь шла при обсуждении вопроса о предоставлении Грузии статуса специального гостя в Совете Европы, но не так, как это предсказала бы теория Хантингтона. С географической точки зрения ни одно из закавказских государств не принадлежит к Европе. Но так как было признано, что Грузия и Армения принадлежат к европейской цивилизации и представляют ее составную часть, то заявка Азербайджана на предоставление ему статуса гостя в этой организации не могла быть отвергнута, чтобы не создавать новых цивилизационных линий разлома в Закавказье. Совет Европы придерживался мнения, что, ввиду их культурной близости с Европой, Армения, Азербайджан и Грузия могли бы все втроем подать заявления о приеме в членство при условии, что они проявят ясное желание считаться частью Европы и разделять ее основные ценности1. В мае 1996 г. Грузии был предоставлен статус специального гостя в Совете Европы, и 14 июля 1996 г. она направила официальную заявку на вступление в его члены2.
Периферия как плацдарм
Функция плацдарма для западных интересов в конкретном регионе в течение и после «холодной войны» традиционно отводилась Израилю и Турции. Членство Турции в НАТО было легитимировано ее ролью в качестве бастиона против коммунистической экспансии. После распада Советского Союза турецкое правительство стало представлять себя как центр тюркской цивилизации, простирающейся от Средиземноморья вплоть до китайской границы, и как плацдарм для западных экономических и политических интересов с целью проникновения в Закавказье и Центральную Азию. После достижения независимости Армения воспринималась — с опасениями — другими региональными державами в качестве возможного плацдарма для западных интере-
См.: Tarschys D. The Council of Europe: the Challenge of Enlargement // The World Today. 1995. April. P. 62. Согласно информационному бюллетеню, опубликованному 29 февраля 1996 г. управлением секретаря ассамблеи, статус специального гостя в Парламентской ассамблее Совета Европы был предоставлен Армении и на его получение поданы заявки Азербайджаном и Грузией. В качестве следующего шага эти страны могли просить полного членства в Совете Европы.
2
См.: OMRI Daily Digest I. 1996. No. 135. July 15.
194
сов в регионе, примерно так же, как Израиль на Ближнем Востоке. Однако это опасение не подтвердилось, так как Армения поддерживала осторожный баланс между Россией, Западом и даже Ираном. Грузия не смогла поддерживать такой баланс. Она надеялась укрепить свои экономические и даже военные связи с Западом — Шеварднадзе пытался в 1 9 9 2— 19 9 3 гг. убедить своих западных партнеров создать пояс «демократических стран» вокруг России, — но, когда эти надежды не были осуществлены, ему пришлось признать Россию в качестве доминирующей державы в регионе. Ни с экономической, ни с военной точки зрения периферийная позиция Грузии в Европе не может мыслиться как плацдарм для западных интересов.
Благожелательное безразличие
Одним из первых обратил внимание на безразличие Запада к конфликтам на Кавказе Джон Ле Карре в своем романе «Наша игра». Он полагает, что ради безопасности Россия и Запад якобы согласились не принимать мер для прекращения массовых убийств на периферии бывшего Советского Союза. «Вопрос детки Тэтчер Маршии: почему Запад отказался признать Гамсахурдиа после того, как он был законно избран? Зачем, как только Шеварднадзе был поставлен как марионетка Москвы, не только признали маленького хама, но и закрыли глаза на его геноцид абхазов, мингрелов и скольких других? Ответ, дорогая детка Тэтчер Мар- шиа ... это Хорошие Старые Парни собрались вместе на обеих сторонах Атлантики и договорились, что права меньшинств могут серьезно угрожать мировому здоровью...» г Роман Ле Карре повествует о поисках британским отставным шпионом Ларри (в эпоху «холодной войны») нового поля боя в постсоветском мире и о его поддержке борьбы ингушей против их угнетателей — осетин и русских. Поле боя Ларри есть моральное поле боя, моральный протест против равнодушия Запада и его соучастия с другим «Хорошим Старым Парнем». Судьба ингушей является для него примером всех других проигранных сражений нашего мира в период после «холодной войны». Гнев Ларри является также выражением его негодования по поводу лицемерия Запада и предательства им всех своих ценностей эпохи «холодной войны», за которые он сражался (шпионил). «Случайно ингуши послужили примером, вскрывшим все самое подлое о нашем мире после “холодной войны”. Всю “холодную войну” мы на Западе хвастали о том, что мы защищаем обиженного против обидчика. Хвастов~~1
Le Carre J. Our Game. London: Knopf, 1995. P. 209.
195
IV
ство это было жуткой ложью. Снова и снова на протяжении “холодной войны” и после нее Запад становился на сторону обидчика ради того, что мы называем стабильностью, к отчаянию тех самых людей, которых мы, по нашим утверждениям, защищали»1.
Понятие индифферентности у Дж. Ле Карре определено лишь негативно. Запад равнодушен к судьбе меньшинств, поскольку договоренности эпохи после окончания «холодной войны» и его стремление к поддержанию стабильности в Советском Союзе, а затем в России не основаны на моральных принципах. «Хорошие Старые Парни» имеют циничное представление о мировых событиях. На последующих страницах западная индифферентность в отношении Грузии будет проанализирована иначе. Западная политика не исключала и не исключает доброй воли. В противовес убеждениям шпиона Ларри у Ле Карре международный порядок основан не на моральных, а на политических и правовых принципах. Западная индифферентность может рассматриваться как позитивная, так как она основывается не на негативном критерии — отсутствии морального стандарта, — а на политических и правовых критериях.
Позитивная форма индифферентности является основополагающей для либеральной позиции Западной Европы в мировой политике. Каждая нация рассматривается как носитель полной ответственности за свою собственную судьбу. Патерналистская позиция может лишь затруднить ее свободное развитие. Мировое сообщество, однако, может предоставить каждой нации стабильные международно-правовые рамки, которые могут сберечь ее ресурсы для достижения благосостояния и благополучия. Западная индифферентность не исключает, например, возможности предоставления некоторым странам политических и правовых гарантий безопасности — как в случае с планами расширения НАТО — или обеспечения их гуманитарной, технической и другой помощью.
Что же касается судьбы меньшинств в отдельных государствах, то международное сообщество будет вмешиваться только тогда, когда главными державами мира это будет считаться политически подходящим и если это правомочно с точки зрения международного права. Ни политических, ни правовых предпосылок для этого не существовало в большинстве этнических конфликтов, имевших место на территории бывшего Советского Союза. Вопреки морали Ларри ингушско-осетинский конфликт 1992 г. рассматривался как внутреннее дело России. Западная Европа заинтересована в урегулировании конфликтов на Кавказе, но — в противовес интерпретации шпиона Ларри — не «претендует на защиту» ингушей и многих других кавказских национальностей.
1
Ibid. Р. 212.
196
Грузия имеет маргинальное значение для Западной Европы, и это отражается в политике, которая может быть охарактеризована как благожелательное безразличие. Это можно продемонстрировать на примере двух случаев. Первый относится к западноевропейской политике в отношении борьбы Грузии за независимость и гражданских войн вплоть до поражения Грузии в Абхазии и ее компромисса с Россией. Война, как часто на протяжении истории констатировалось историками и философами, есть главное доказательство мощи государства. В войне против абхазских сепаратистов Грузии пришлось мобилизовать все свои внутренние и внешние ресурсы. Полная дезорганизация государства и полная зависимость правительства Шеварднадзе от полувоенных и полу- криминальных группировок показали, что ему не хватало внутреннего суверенитета. Грузинское правительство также не смогло мобилизовать внешнюю поддержку с целью противодействия российским и абхазским силам. Война доказала, что Западная Европа — вопреки некоторым официальным заявлениям, сделанным в предыдущие годы, — имела лишь маргинальный интерес к этой стране.
Грузия провозгласила свою независимость в марте 1991 г.1 В мае Звиад Гамсахурдиа был избран президентом 87% голосов. Его националистическая идеология имела европейский привкус. Независимость означала независимость от Советского Союза. Идея Европы дала грузинскому национально-освободительному движению международную перспективу. Однако Запад не оказал какой-либо существенной помощи движениям за независимость в советских республиках. Балтийские государства могли рассчитывать на некоторые заявления поддержки со стороны западных правительств, но что касается других государств, Западная Европа и США демонстрировали большее доверие проектам федеральных реформ Горбачева, чем националистическим движениям. Летом 1991 г. президент Гамсахурдиа опубликовал очень эмоциональное официальное заявление, в котором он бурно атаковал президента Буша за его поддержку планов Горбачева демократизировать советскую федерацию. Он назвал эту политику капитуляцией перед тоталитаризмом* 2.
~~1
О нижеследующем см.: Zverev А/, Coppieters В. Verloren evenwicht. Georgie tussen Rusland en het Westen // Oost-Europa Verkenningen. 1994. August. No. 134. P. 38—47; Zverev A. Ethnic Conflicts in the Caucasus // Coppieters B. (ed.). Contested Borders in the Caucasus. Brussels: VUBPRESS, 1996. P. 13—71. Русский вариант см.: Зверев А. Этнические границы на Кавказе // Спорные границы на Кавказе (под ред. Б. Коппитерса). М.: Весь мир. 1996. С. 10—76.
2
См.: Сакартвелос Республика. 1991. 9 августа. Обзор позиции Грузии по отношению к Западу см. в: Кухианидзе А. Грузинские средства массовой информации о западной политике, 1994 (рукопись).
197
Федеральная политика Горбачева провалилась. После распада советского государства в декабре 1991 г. западные страны сконцентрировали свое внимание на политической борьбе в новой независимой России. Вначале только Прибалтийские республики и ядерные страны — Белоруссия, Казахстан и Украина — удостоились внимания Запада. Политика в отношении Грузии не была даже дружественной. Режим Гамсахурдиа изображался западными средствами массовой информации как авторитарный и репрессивный по отношению к оппозиционным движениям и этническим меньшинствам. Особое беспокойство вызывал конфликт в Южной Осетии, который вспыхнул в 1989 г. Конфронтационная политика Гамсахурдиа в отношении России не совпадала с западной поддержкой политики реформ Ельцина. Западные правительства даже отказывались от дипломатического признания Грузии. Они оценивали политическую ситуацию в Грузии как нестабильную и предпочитали следовать политике «выжидай и наблюдай».
Президент Гамсахурдиа был отстранен от власти в январе 1992 г. Шеварднадзе вернулся в Тбилиси в марте. Грузинское общественное мнение ожидало, что дружественные отношения бывшего советского министра иностранных дел с западными правительствами — в частности, с Германией и США — дадут стране больше гарантий возможности проведения ею независимого курса. Западные правительства надеялись, что Шеварднадзе сможет покончить с гражданскими и этническими неурядицами в стране, возродить экономику и установить контроль над многими полувоенными и криминальными группировками. Шеварднадзе проводил активную политику баланса между Россией и Западом. В 1 9 9 2 г. он говорил об укреплении связей с НАТО. Западные правительства никогда не заявляли, что такая политика баланса не была реалистичной, — напротив.
Когда Ганс-Дитрих Геншер, непосредственно перед его отставкой с поста министра иностранных дел Германии, прибыл в Грузию в апреле 1992 г., чтобы поддержать своего «старого друга» Шеварднадзе и обсудить возможности оказания Германией и Европейским сообществом помощи стране, он заявил, что «Европа никогда не бросит Грузию на произвол судьбы»1. На встрече с Шеварднадзе Геншер напомнил о неудачных попытках европейских держав в прошлом поддержать грузинскую незави~1
Сакартвелос Республика. 1992. 14 апреля. В своих воспоминаниях Геншер не упоминает о неоднократных переговорах, которые он имел с Шеварднадзе относительно возможной западной помощи израненной войной Грузии. О Грузии см.: Genscher H.-D. Erinnerungen. Berlin: Siedler Verlag, 1995. S. 996—998.
198
симость и заявил, что «Грузия всегда ориентировалась на Европу. Дважды она жестоко разочаровывалась, когда ожидала помощи от европейских стран. Этого не произойдет в третий раз». Геншер обращался к Шеварднадзе: «Германия и Грузия являются двумя частями Европы, которые преодолевают военную и политическую конфронтацию. Сегодня мы закладываем основы тесного сотрудничества между нашими странами, направленные на мир в Европе» 1. В грузинских средствах массовой информации подчеркивалась взаимная заинтересованность Германии и Грузии в освобождении страны от оккупации российскими войсками. Согласно газете «Дрони», Геншер сказал, что Германия благосклонно отнесется к вступлению Грузии в Европейское сообщество при условии, что в ней установится стабильная демократия, уважающая права национальных меньшинств2. Такие заявления широко освещались в грузинской прессе и укрепляли иллюзии грузинского общественного мнения относительно масштабов западной поддержки. Это сделало примирение с Москвой более трудным, поскольку рассматривалось грузинским населением как ненужное и нелегитимное 3.
Шеварднадзе был убежден, что Запад был способен проводить активную военную политику на Кавказе. Он заявлял в августе 1992 г., что «если российские войска могут быть в Грузии, то почему здесь не может быть войск НАТО?»4. В июне 1993 г., во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, он просил альянс принять активное участие в разрешении конфликта между Сакартвелос Республика. 1992. 14 апреля. Переведено Александром Кухианидзе.
2
См.: Дрони. 1992. 18 апреля.
3
Трудно оценить, в какой степени германское и американское правительства действительно давали твердые обещания поддержать независимость Грузии или же такие заявления были предназначены исключительно для поддержки позиции Шеварднадзе в глазах грузинского общественного мнения. Согласно интервью автора с членами президентского аппарата Шеварднадзе весной 1993 г., Запад действительно давал твердые и далеко идущие обещания поддержать независимость Грузии. Западные дипломаты, проинтервьюированные автором, подтвердили, что эмоциональные заявления наподобие тех, что делал Геншер, были довольно обычными для иностранных визитеров и что, по их мнению, Шеварднадзе как опытный политик не должен был принимать эти слова за чистую монету. Какими бы ни были реальные обязательства различных сторон, слова Геншера укрепили убежденность грузин в том, что разрыв с Россией был и необходим, и реален. Они также мешали Шеварднадзе идти против общественного мнения с целью поиска компромисса с российскими интересами в регионе.
4
Die Zeit. 1992. August 21.
199
грузинами и абхазами1. В августе 1 993 г. он допускал ограниченную военную роль американцев на Кавказе, особенно в области подготовки военного персонала2. Группа «зеленых беретов» из специальных сил армии США, как сообщалось, вела подготовку охранников для высших должностных лиц Грузии. Убийство в августе 1993 г. Фреда Вудраффа, резидента ЦРУ в Тбилиси, интерпретировалось как знак американской вовлеченности на более высоком уровне. Согласно Шеварднадзе, американское присутствие не следовало рассматривать как проявление соперничества с Россией. Он настаивал на том, что какая-то форма сотрудничества между Россией и США была в высшей степени необходима. Выражая некоторое разочарование сотрудничеством, достигнутым его другом Бейкером, Шеварднадзе надеялся, что администрация Клинтона сделает больше для Грузии, чем предыдущая (республиканская) администрация, и что она поймет важность Кавказа для сохранения мира на Земле. Так как Россия была чувствительна к западному давлению — особенно со стороны президента Клинтона и канцлера Коля, — считалось, что Запад может оказаться полезным в деле урегулирования этнических конфликтов в Грузии.
Политика Шеварднадзе отражала предпочтения грузинского общественного мнения. Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного в июле 1993 г. газетой «Свободная Грузия», 34% населения считали Германию наиболее желанным стратегическим союзником для Грузии, в то время как 19% предпочитали США, 15 — Украину и 14% — Россию3. Согласно другому опросу, 65% респондентов поддерживали размещение войск ООН в Абхазии, 63 — войска НАТО, 26 — украинские войска и только 2% — российские войска4.
Война в Абхазии заставила Грузию совершить полную переориентацию своей внешней политики. Западная поддержка Грузии была крайне ограниченной. Западные правительства предприняли некоторые дипломатические инициативы в ООН и обратились с призывом к Москве остановить активное участие ее вооруженных сил в конфликте. Совет Безопасности ООН принял серию резолюций, в которых призывал к прекращению огня и осуждал абхазскую политику этнических чисток. В августе 1993 г. ООН решила послать в Абхазию миссию военных наблю1 См.: De Standaard. 1993. June 24.
2
Об этом и нижеследующем см.: The Independent. 1993. 23 August.
3
См.: Свободная Грузия. 1993. 3 июля.
4
Согласно грузинской телепрограмме «Тайм-аут» от 1 августа 1993 г.
200
дателей (UNOMIG). После падения Сухуми в сентябре 1993 г. и перехода его в руки абхазских сил она предписывала полное экономическое и военное эмбарго Абхазии. Президент Клинтон заверял Шеварднадзе в своей «полной поддержке» его руководства и обещал прислать больше продовольствия, палаток, одеял и одежды1. Такие рекомендации, резолюции и обещания гуманитарной помощи были явно недостаточны для отражения сил повстанцев. Более 200 тыс. грузинских беженцев покинули свои дома в Абхазии. Военное поражение оказалось шоком для грузинского общественного мнения. Оно внезапно поняло, что западной мечте пришел конец и что ему придется признать Россию как доминирующую силу в регионе. Шеварднадзе, который вплоть до падения Сухуми заявлял, что Запад мог направить миротворческие силы в Абхазию2, адаптировался к реальности, получив благодаря общественному мнению свободу рук для заключения компромисса с Россией.
Режиму Шеварднадзе угрожали не только абхазские сепаратисты, но и силы, которые оставались верны бывшему президенту Звиаду Гамсахурдиа. Звиадистские военные силы под водительством Лоти Кобалия развернули широкое наступление против правительственных войс, захватив черноморский порт Поти и угрожая войти в столицу. Шеварднадзе ясно понимал, что у него не было выбора. Он принял требования России, от которых так долго отказывался. В октябре 1993 г. было подписано соглашение, дающее законное право на размещение российских военных баз на территории Грузии (фактически бывших советских баз, находившихся под российским командованием с начала 1992 г.). Грузия вступила в СНГ. Баланс сил между правительственными и звиадистскими силами изменился в течение нескольких недель. Российские военные взяли под контроль стратегические дороги и оказали дальнейшую поддержку в отражении наступления звиа- дистов. Их восстание было успешно разгромлено.
Уступки Грузии России привели к значительной потере суверенитета, особенно в военной сфере. Такие уступки были неизбежны, так как российская армия казалась готовой путем поддержки антиправительственных сил довести дело до полного рачле- нения страны. В 1992 и 1993 гг. Грузия упустила возможность достичь лучших альтернатив на переговорах, особенно по вопросу о статусе Абхазии. Если бы было меньше иллюзий относительно предстоящей западной поддержки, это могло бы привести к 1
См.: International Herald Tribune. 1993. October 22.
2
См.: Le Monde. 1993. Octobre 1.
201
компромиссам как с Абхазией, так и с российскими военными на гораздо более ранней стадии.
Западные правительства оставались в основном пассивными в этом кризисе, и личная дружба между представителями внешнеполитических ведомств не играла существенной роли1. Уход Запада в тень, возможно, мотивировался его оценкой геополитической ситуации и опасениями спровоцировать Кремль или иным способом подвергнуть опасности курс российских реформ. По словам одного из советников Шеварднадзе, Билл Клинтон советовал грузинскому президенту примириться с нахождением в российской сфере влияния2. Западные правительства никогда не проявляли готовности послать свои войска в Грузию. В марте 1994 г. президент Клинтон заявил, что США склонны поддержать направление миротворческого контингента ООН в Абхазию, если воюющие стороны достигнут прогресса на мирных переговорах, но что американцы не будут включены в состав такого контингента3. В июле 1994 г. Совет Безопасности ООН расширил миссию наблюдателей ООН в Абхазии и поддержал размещение там российских войск номинально под эгидой СНГ4. Одновременно Совет Безопасности поддержал интервенцию на Гаити, предпринятую под руководством американцев. Можно сказать, что оба решения были основаны на соглашении по принципу quid pro quo (услуга за услугу)5.
Западные правительства отказались от участия в процессе урегулирования этнических конфликтов в Грузии, но выражали Личная дружба между Шеварднадзе и западными государственными деятелями не изменила зависимости Грузии от России, но она помогла привлечь гуманитарную помощь и даже инвестиционные проекты. По сообщениям, бывший госсекретарь США Джеймс Бейкер обеспечил поддержку проекта со стороны международных банков и нефтяных компаний в своем родном штате Техас (см.: Monitor. 1996. January 12). После ухода Геншера с поста министра иностранных дел Германия продолжала играть видную роль в деле экономической поддержки Грузии.
2
См.: Financial Times. 1993. October.
3
См.: Wall Street Journal (European edition). 1994. March 9.
4
Резолюция No. 937 (1994) «приветствует направление Российской Федерацией миротворческих сил и указания на то, что такие силы будут в дальнейшем направлены другими членами СНГ в ответ на просьбу сторон ...в сотрудничестве с UNOMIG, на основе процедур, изложенных в докладе Генерального секретаря от 12 июля 1994 г. и в соответствии с установившимися принципами и практикой Организации Объединенных Наций» (United Nations. Department of Public Information, The United Nations and the Situation in Georgia. Reference Paper. 1995. April. P. 32).
5
Cm.: De Standaard. 1994. August 3.
202
свое беспокойство укреплением российского влияния на Кавказе. Кроме Грузии, Армения также допустила российские военные базы на своей территории и достигла договоренности с министерством обороны России по вопросу о неприемлемости фланговых ограничений в районе, установленных Договором об обычных вооружениях в Европе. За исключением лишь Азербайджана и отколовшейся Чеченской республики, весь кавказский регион к началу 1994 г. прочно находился в российской сфере влияния.
В октябре 1995 г. Эдуард Шеварднадзе размышлял в телевизионном выступлении о радикальной смене внешней политики, произведенной его правительством два года назад. Он заявил, что у него не было иной альтернативы, кроме как найти компромисс с Россией, так как США отказали в помощи, предложив всего лишь несколько комплектов военной формы и медицинского оборудования «через нашего соотечественника Джона Шаликаш- вили» (председателя Объединенного комитета начальников штабов США). В деле восстановления своей территориальной целостности Грузия не могла «рассчитывать на серьезную помощь ни от кого, кроме России»1. Это не помешало Шеварднадзе устанавливать новые связи с Западом и Западной Европой. Он выступил против идеи создания блока во главе с Россией в противовес расширению НАТО. Были запланированы программы военного сотрудничества в рамках программы НАТО «Партнерство ради мира». Когда германский министр иностранных дел Клаус Кинкель прибыл в Тбилиси в январе 19 9 6 г. с новыми обещаниями помощи в знак «признания роли Шеварднадзе в осуществлении объединения Германии», Шеварднадзе попросил его, чтобы Германия выступила посредником в продолжающихся конфликтах между центральным правительством и отколовшимися регионами Абхазии и Южной Осетии. Кинкель отклонил просьбу2.
Другой иллюстрацией второстепенного значения Грузии для западноевропейской политики служат программы Европейского союза по Закавказью. Европейский союз не имеет специфически «европейских» установок относительно Грузии. Политика сотрудничества с Грузией вытекает из установок относительно всего региона. Самооценка Грузии как страны, принадлежащей к европейской культуре и истории, не принимается во внимание при определении приоритетов в Закавказье. Документ Европейской комиссии описывает весь регион как мост между Европой и Азией. Политика Европейского союза в отношении Грузии и двух 1
Monitor. 1995. October 2.
2
См.: OMRI Daily Digest I. 1996. No. 18. January 2, 25.
203
других закавказских государств1 в принципе не отличается от той, которая осуществляется в отношении Центральной Азии:
— способствовать стабильности, демократизации и защите прав человека, рассматриваемым как неразрывно связанные с экономической реформой;
— защищать интересы европейских компаний, участвующих в нефтяных контрактах; в будущем Европейский союз станет важнейшим потребителем каспийской нефти и газа;
— способствовать экологической безопасности (например, применительно к атомной электростанции Медзамор в Армении) и вести эксплуатацию нефтяных скважин Каспийского моря в соответствии с экологическими стандартами.
В экономической области ЕС потенциально является главным западным торговым партнером региона и источником инвестиционного капитала. ЕС остается важнейшим гуманитарным донором в регионе. В 1994 г. он осуществил в Закавказье одну из самых крупных из когда-либо осуществлявшихся программ продовольственной помощи. В 1993 г. ЕС предоставил Грузии в рамках программы поддержки 200 млн. долл., но в начале 1994 г. объявил о сокращении этой помощи на этот год до 70 млн.2
Малозаметная политическая роль Европейского союза в регионе в первые годы после распада Советского Союза была обусловлена не только заботой о том, чтобы не пробудить у России опасения в связи с активностью Запада у ее границ, но и неспособностью западноевропейских правительств сформулировать общую политическую линию в Закавказье, а также отсутствием финансовых средств на содержание больших дипломатических представительств ЕС во всех трех столицах этого региона. Однако европейские экономические интересы могут теперь благоприятствовать большей политической активности ЕС. Европейские компании должны добиться политической поддержки от своих правительств в конкуренции с американскими фирмами в Закавказье. Правда, неудача ЕС в оказании влияния на выбор путей нефтепровода может помешать европейским компаниям обосноваться в регионе.
Соглашения о партнерстве и сотрудничестве являются одним из главных инструментов ЕС для достижения своих целей. Соглашения со всеми тремя закавказскими республиками были подписаны в апреле 1996 г., причем главы государств согласились приехать в Люксембург для официального подписания. Развитие 1
См.: Commission Communication. Towards a European Union Strategy for Relations with the Transcaucasian Republics, 1995.
2
Cm.: Frankfurter Allgemeine Zeitung. 1994. Marz 9.
204
политических и торговых отношений между Грузией и ЕС и поддержка последним усилий Грузии по укреплению своей демократии были выделены в соглашении как одна из главных целей партнерства. Установление политического диалога благоприятствовало бы сотрудничеству по вопросам, относящимся к укреплению стабильности и безопасности в Европе.
В общей западноевропейской стратегии в Закавказье первостепенную роль играют азербайджанские энергетические богатства, Грузия же может предоставить транспортные возможности. Она имеет лучшие коммуникации с Западной Европой, чем Азербайджан и Армения. Она непосредственно прилегает к Турции, важность которой возросла с тех пор, как она вступила в Таможенный союз с ЕС. В первые годы независимости экономический упадок Грузии (оцениваемый Европейской комиссией в 80% ВНП с 1990 по 1994 г.) и состояние законности и порядка были хуже, чем в двух других закавказских государствах. Однако после применения суровых мер в отношении полувоенных и других криминальных группировок в 1994 и 1995 гг., принятия новой Конституции в августе 1 995 г. и радикальной денежной реформы в октябре 1995 г. грузинское руководство смогло создать основные условия для экономической реформы и иностранных капиталовложений.
Европейское сообщество предоставляет средства из фонда TACIS всем Новым независимым государствам, в том числе для консультирования по вопросам политики, развития правовых систем, на опытные проекты и развитие партнерства. Бюджет по всем бывшим советским республикам (за исключением Прибалтийских) в 1991 —1994 гг. составлял 1757 млн. ЭКЮ, из которых 591 млн. был затрачен на программы, включающие несколько стран1. Грузия получила 28 млн. ЭКЮ, меньше, чем центральноазиатские республики Казахстан (56 млн.), Киргизстан (20 млн.) и Узбекистан (35 млн.). Эти цифры помогают проиллюстрировать как добрую волю, так и индифферентность Европейского союза к ощущению Грузией самой себя как европейского государства.
Выводы
В данной работе были проанализированы различные значения понятия «периферия». Большинство из них непригодны для характеристики места Грузии на периферии Европы. Понятие «периферия», к примеру, содержится в модели «центр—периферия» европейской интеграции, где европейская периферия рассматриваСм.: TACIS Annual Report 1994. Op. cit.
205
ется как прогрессивно интегрируемая с центром. Грузия расположена рядом с Таможенным союзом между Турцией и Европейским союзом, но не имеет шансов стать однажды частью европейского центра. С другой стороны, Европейский союз не рассматривает Грузию как принадлежащую к Европе, но скорее как часть региона, служащего мостом между Европой и Азией. Европейский союз не проводит ни специфически грузинской политики, ни политики, которая признавала бы сложившийся в Грузии образ самой себя как европейской нации, но он защищает специфически европейские экономические интересы и общие («универсальные») западные ценности во всем регионе Закавказья. В этом отношении нет сущностного отличия от подхода США к этому региону, когда они поддерживают специфические экономические интересы и универсальные западные ценности. Вся проблематика европейской идентичности, которая была решающей для процесса европейской интеграции до падения Берлинской стены, а также и для политики независимости Грузии, отсутствует в нынешнем стратегическом подходе Европейского союза к Грузии. Западноевропейская политика в отношении Грузии в лучшем случае может быть описана как позиция благожелательного безразличия.
Алексей Малашенко
НОВЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И РОССИЯ
Исторический процесс не просто смена общественных систем, политических доктрин и череда научно-технологических революций, но также и сосуществование устойчивых на протяжении веков великих региональных цивилизаций, конфессиональных сообществ, сохраняющих вопреки эволюции материальных сторон бытия свои генетические признаки и ценностные ориентации, которые детерминируют нормативы поведения людей и их мировосприятие.
Среди противоречий — социальных, экономических, политических — особую роль играли различия межрелигиозные. Конфессия, будучи менее динамичной, чем, пользуясь марксистской идиомой, «базис общества», придает ему устойчивость и, если угодно, консерватизм, без чего то, что принято именовать прогрессом, легко принимает крайние формы и, нарушая революционным путем сложившиеся нормы межчеловеческих отношений, приводит к национальным, социальным и прочим катаклизмам.
Взаимные антитезы цивилизаций рассматриваются большинством исследователей, прежде всего политологами, как нечто заведомо вторичное, имеющее опосредованную и слабую связь с непосредственными перипетиями социально-политического развития. Публикация вроде хантингтоновского «Столкновения цивилизаций» («Clash of Civilisations») вызывают реакцию отторжения у обслуживающих политический истеблишмент экспертов и в США, и в Европе, и в России. В общественной науке доминирует социологический подход с упором на социально-экономические факторы. Цивилизационные же аспекты по-прежнему находятся на периферии исследовательского интереса.
Цивилизационный фактор учитывается почти исключительно как прикладной и при анализе ситуации в мусульманском мире, в том числе на пространстве бывшего СССР и в соседних с ним государствах, включая Иран, Афганистан, Пакистан и др. Прямо или косвенно игнорируется тот факт, что революция в Иране была именно исламской, а Советская страна включала в себя сегменты двух цивилизаций — христианской и мусульманской, — сосуществование которых в пределах одного государства всегда таило в себе внутренний конфликтный потенциал.
Конечно, не трудности межцивилизационного взаимодействия явились непосредственной причиной коллапса Советского Союза. Но было бы некорректно не учитывать то, что входившие в его 207
состав мусульманские территории были присоединены к России насильственно, а отношения между людьми на межличностном и общественном уровнях в значительной степени регламентировались в Центральной Азии исламской традицией, и потому эти земли в равной степени могли считаться как мусульманскими1, так и советскими. Точно так же было бы неверно игнорировать значение цивилизационного фактора при оценке перспектив интеграции государств бывшего СССР или более акцентированной ориентации новых государств Центральной Азией на мусульманский мир.
Представляется интересным мнение российского востоковеда Г.В. Милославского, который считает, что в рамках СССР «сложилась целостная цивилизационная система» и что «Центральная Азия находится в двух измерениях»2. Если вторая часть этого высказывания бесспорна, то первая, содержащая утверждение относительно образования в пределах Советского Союза некой новой цивилизационной системы, вызывает сомнения хотя бы в силу того, что, например, Эстония и Туркменистан ни по каким параметрам не могут быть включены в общую для них обеих цивилизацию (если, конечно, исходить из классических ее определений). Более справедливой представляется формулировка культуролога Бориса Ерасова, который считает, что советская система «была заменой (выделено мной. —А.М) того универсального порядка, который формируется цивилизацией, ее духовными и социальными структурами»3.
Мировой опыт показывает, что, как бы ни складывались социально-экономические отношения или политическая система в том или ином обществе, они при всей их значимости реализуются с обязательным учетом цивилизационных нормативов и не в силах разрушить исторически сложившуюся и опирающуюся на конфессиональную традицию цивилизационную константу, которая при любой деформации со стороны внешних и внутренних сил способна к саморегенерации. Цивилизационный фактор, увы, «не просчитывается» с помощью статистики и вряд ли может быть корректно и всесторонне описан в социологических категориях. Он является, с одной стороны, ландшафтом, на котором происхо~1
Эта проблема убедительно раскрыта этнологом С.П. Поляковым в работах: Традиционализм в современном среднеазиатском обществе. М., 1989; Историческая этнография Средней Азии и проблемы ареальной типологи- зации и периодизации: Научный доклад. М., 1993.
2
См.: Милославский Г. Интеграционный потенциал региона // Восток. 1996. № 5. С. 8.
3
Ерасов Б. Россия в центральноазиатском геокультурном комплексе // Россия и мусульманский мир». 1994. № 1. С. 6.
208
дит экономическое развитие и свершаются политические перипетии, а с другой — представляет собой набор устойчивых стереотипов и норм поведения, определяющих межличностные отношения. Попросту говоря, ислам не исчезает при любых экономических преобразованиях или под воздействием эволюции науки и технологии, точно так же, как и мусульмане всегда остаются мусульманами, т.е. сохраняют, разумеется с поправкой на эпоху, свой социокультурный стереотип.
В исламе этот стереотип более стабилен и, если можно так выразиться, «всепроникающ», во-первых, благодаря специфике ислама, в котором нет свойственного христианству жесткого деления на светское и духовное, а во-вторых, в силу того, что мусульманский мир в экономическом и научно-техническом отношениях оказался не столь продвинут вперед, как мир еврохристи- анский, и потому не испытал столь жесткого пресса перманентной модернизации.
Частью этого мира является регион Центральной Азии, в котором советские черты волею судеб оказались сочлененными с исламской традицией.
Отметим предварительно, что само понятие «Центральная Азия» как регион выглядит в немалой степени искусственным. В собственно географическом плане входящие в регион территории распадаются на три крупных анклава — северный, северо-восточный и южный, причем последний также весьма неоднороден. Лишь с большой степенью условности общим для всей территории геофизическим сегментом можно признать Арал (и Приаралье). Более органично сочетание гор Памира, речной системы и пустынь Узбекистана и Туркменистана, но зато они не соотносятся с северными землями.
Представляется, что у народов, населявших Центральную Азию, не было общего экономического начала: между кочевниками северного Казахстана, Туркменистана и оседлыми жителями остальных территорий не сложилось прочных системообразующих связей. Отличались и внешнеэкономические связи, ориентированные скорее вовне, а не вовнутрь региона. Логика наших рассуждений неожиданным образом подтверждается мнением российского тюрколога Сергея Кляшторного, который считал, что «в свое время перед Казахстаном (как конгломератом племен. — А.М.) было три альтернативы — туркестанская, китаецентристскай и российская1... и лишь одна из них имеет непосредственную привязку к Центральной Азии».
1
Кляшторный С. Геополитическая перспектива и цивилизационный выбор // Независимая газета. 1996. 24 декабря.
209
14 1814
Наконец, не существует устойчивых региональных границ у проживающих в Центральной Азии этносов. Нет никакого водораздела между «советскими» узбеками, таджиками, туркменами и их единоверцами из сопредельных южных и восточных стран — Афганистана, Ирана и Китая. Не может быть признаком единства региона и его конфессиональная принадлежность, ибо к мусульманскому миру относятся все страны к югу от Центральной Азии.
Разумеется, нельзя абсолютизировать внутрирегиональные различия, утверждая, что между странами и народами, населяющими Центральную Азию, вообще нет ничего общего. Да и большинство специалистов по-прежнему воспринимают и пытаются анализировать ее как экономическую и социокультурную общность, апеллируя к принадлежности большинства ее жителей к тюркским народам, некоторой схожести в историческом развитии и т.д. Однако главный акцент при оценке перспектив Центральной Азии исследователи делают прежде всего на то, что это постсоветский, или — шире — составлявший часть Российской империи, регион, что, по сути дела, и принимается за системообразующий признак ее единства.
В последнее время предпринимаются попытки преодолеть подобное восприятие Центральной Азии. В России этот вопрос пытается переосмыслить политолог Вячеслав Белокриницкий, который заменил дефиницию «Центральная Азия» термином «Центральноазиатский регион», включив в него, кроме бывших советских республик, Афганистан, Иран и Пакистан1. Его идея пока что не получила широкого распространения среди российских экспертов. Однако в любом случае она позволяет выйти за рамки привычных подходов и искать ключ к решению многих проблем бывшей советской Средней Азии, не только непосредственно внутри ее самой, но в сопредельных странах. Такой подход предполагает более интенсивное изучение двусторонних (или более) отношений как в границах Центральной Азии, так и за ее пределами, активизацию деятельности старых и вновь возникших группировок и организаций, таких, например, как Организация экономического сотрудничества (ОЭС), а также более адекватную оценку совокупности всех интеграционных и дезинтеграционных процессов той системы, в рамках которой новые государства, собственно говоря, и возникли.
Иногда ко всему этому добавляют в качестве общей проблемы «выбор пути развития». Однако данный вопрос каждое государ—1
См.: Белокриницкий В. Генезис и основные характеристики региона // Центральная Азия. Пути интеграции в мировое сообщество. М., 1995. С. 9—38.
210
ство решает самостоятельно; в некоторых случаях уже сегодня очевидно, что «выбор пути» любым из них увязывается не только и даже не столько с региональным сотрудничеством, но выходит за его пределы. Каждая страна решает эту проблему, сначала исходя из своих национально-государственных интересов, а уже затем — да и то далеко не всегда — учитывая свою принадлежность к региону. К тому же все страны Центральной Азии ориентируются на зарубежные модели развития.
С учетом всего сказанного выше, помня о многообразии социальной, экономической, политической жизни в Центральной Азии, попытаемся сосредоточить внимание на перспективах отношений ее стран с Россией, причем прежде всего с точки зрения влияния на эти отношения цивилизационного фактора. В данном случае мы не собираемся сводить этот фактор к религии, что в принципе допустимо, но накладывает на анализ понятные ограничения. Речь идет о том комплексе традиций, который вопреки трем главным движителям советской системы — индустриализации, коллективизации и культурной революции — все-таки сохранился и в деформированном виде постоянно воссоздавался и воссоздается как в социальных отношениях, так и в сознании людей.
По-своему проявляется он и в экономике.
В первой половине 90-х годов среди специалистов и политиков преобладало мнение, что именно экономика станет той сферой, с которой начнется и которая обеспечит реконструкцию полноценных отношений между Россией и Центральной Азией. Тема эта поднималась в публичных выступлениях российского премьера Виктора Черномырдина, президентов Акаева, Назарбаева, Каримова, Ниязова, поначалу искренне видевших в восстановлении экономических связей своих стран с РФ панацею от всех хозяйственных и финансовых трудностей. Более сдержанную позицию изначально заняли российские технократы, не забывающие, что именно на государства Центральной Азии приходится 37,65% (1995 г.) всего внешнего долга России. И погашать этот долг бывшие советские республики не торопятся, да и не в состоянии это сделать.
Вместе с тем очевидно и то, что интенсивное сотрудничество России и Центральной Азии таит в себе немалые скрытые опасности, поскольку консервирует низкий уровень существующих с советских времен технологий, производительности труда, качества произведенной продукции. Эти отношения являются формой продолжения тех связей, которые сложились между центром и периферией еще в советский период. Как известно, советская экономическая система создавалась без учета специфики среднеазиатского общества и функционировала как бы вне его. Экономист из Санкт-Петербурга Ольга Дмитриева пишет, что «в СССР 211
14*
применялись к Центральной Азии те же методы, что и к европейским частям России», и «вопреки любым критериям экономической эффективности, соображениям социального порядка там были выбраны капиталоемкие варианты»1.
Известно также, что для создания современного индустриального сектора в Центральной Азии не имелось и не могло быть достаточного количества квалифицированных кадров. Подавляющая часть ее населения была занята в сельском хозяйстве, городские жители ориентировались на мелкое кустарное производство и торговлю. «Работа в промышленности, — пишет узбекский ученый Талиб Саидбаев, — сложна для узбека не только психологически. Она требует длительного пути к профессии»2. Путь этот в основном так и не пройден большинством коренного населения, о чем говорят многочисленные статистические данные, свидетельствующие, что даже в сравнительно урбанизированном Узбекистане доля лиц коренной национальности, занятых в промышленном производстве, не превышает 35%. В остальных республиках этот процент еще ниже. Можно согласиться с мнением московского экономиста Юрия Александрова о том, что в Центральной Азии преобладает «разделение общества по линии, проходящей между сферой индустриального труда и теми видами эконономической деятельности, участие в которых не противоречит системе ценностных ориентаций»3. Следовательно, большая часть общества в центральноазиатских республиках оказалась вне современного промышленного сектора, способного обеспечить экономическое единство различных регионов СССР.
Тем не менее традиционные хозяйственные уклады вполне могли бы участвовать в межрегиональном разделении труда. Однако на практике поступление сельскохозяйственной продукции из Центральной Азии в Россию было ограниченным или приводило к деформации традиционного сектора, чему пример — гипертрофия хлопковой культуры. Традиционный сектор, в котором была занята большая часть коренного населения, обслуживал внутренние потребности своего общества и не был жестко привязан к современным секторам СССР. Проведение в Центральной Азии сельскохозяйственных работ не требует обязательного применения совершенной техники, широкого использования удобрений
1
Дмитриева О. Региональная экономическая диагностика. СПб., 1992. С. 203, 206.
2
Саидбаев Т. Между вчера и завтра // Звезда Востока. Ташкент. 1991. № 8. С. 11.
3
Александров Ю. Г. Средняя Азия: проблемы стратегии развития // Россия и Восток: проблемы взаимодействия. Ч. I. М., 1993. С. 175.
212
(неумелое использование гербицидов привело к тяжелейшим экологическим последствиям). Более того, модернизация традиционного сектора неизбежно вызывала и вызывает массовый рост безработицы (скрытой при советской власти), а следовательно, и социальную нестабильность.
Функционировавший в целом автономно от советской экономической системы, традиционный сектор явился материальной базой, на которой в центральноазиатском обществе зиждились традиционные поведенческие нормы и соответствующий им менталитет. И сегодня этот сектор экономики, оставаясь практически самодостаточным, не нуждается для поддержания своего существования в сохранении и развитии отношений с Россией. Даже если исходить из признания неизбежности развития экономических связей между Россией и Центральной Азией, все равно традиционные уклады, находящиеся на доиндустри- альной, патриархальной стадии своего развития, вряд ли будут в них инкорпорированы.
Можно предположить, что традиционный сектор в какой-то степени может стать фактором экономической интеграции с Россией при постепенном налаживании торговли, т.е. поставлять сельскохозяйственные продукты в обмен на российские товары. Однако и в этом случае возникают немалые сложности — транспорт, налогообложение и, наконец, высокая себестоимость российской промышленной продукции и ее низкое качество по сравнению с аналогичной продукцией из азиатских стран, например Китая, Турции, государств Юго-Восточной Азии. Повсеместное распространение дешевого азиатского ширпотреба оказывается фактором отторжения от России, демонстрируя превосходство над ней зарубежных, в том числе и мусульманских, стран. По мнению Александра Акимова, «проблема определения перспектив экономической интеграции России и Центральноазиатского региона... довольна сложна. Объективные предпосылки взаимодействия экономик слабы: нет общей экспортной специализации... нет структурной взаимодополняемости экономик; нет потребности в объединении рынков»1.
Также неспособна Россия показать странам Центральной Азии позитивный пример создания рыночной экономики. В этом плане, заметим, большую привлекательность для них представляет опыт Китая.
Тем не менее не экономика, роль которой в области российско-центральноазиатской интеграции амбивалентна, является 1
Акимов А. Россия — Центральная Азия: перспективы экономической интеграции // Азия и Африка сегодня. 1994. № 6.
213
безусловным фактором взаимного отчуждения. Главным здесь остается принадлежность России и Центральной Азии к различным цивилизациям. Известно, что этот тезис решительно оспаривается большинством политиков и ученых, которые, напротив, настаивают на том, что межцивилизационное общение ведет к взаимообогащению народов, способствует развитию их культур. При этом, однако, упускается из виду (как правило, сознательно) то обстоятельство, что именно исламо-христианское пограничье аккумулировало в себе конфликтный потенциал, чему подтверждением в том числе являются события, последовавшие за распадом двухполюсного мира. Обстановка непосредственно на конфессиональных рубежах между различными этносами и государствами была и остается напряженнее, чем на гипотетической границе межцивилизационного общения и взаимодействия, которая проходит по залам и аудиториям научных симпозиумов и политических форумов.
По Сэмюэлу Хантингтону, на северных рубежах «мусульманского региона» конфликт будет разворачиваться между православным и мусульманским населением1. К тому же, как замечает Борис Ерасов, «за советский период Россия не могла вести культурный диалог с высоким исламом»* 2. Причем в мусульманском Поволжье о таком диалоге речи вообще не могло идти, поскольку ислам здесь подавлялся почти столь же резко, сколь и православие. В Средней же Азии, где мусульмане составляли большинство и конфессиональная традиция обнаружила большую способность к сопротивлению, некое подобие «диалога» между советской властью и исламом все-таки состоялось.
В результате этого весьма специфического диалога была подавлена (частично уничтожена) местная духовная элита, мусульмане были оторваны от внешних очагов исламской традиции на Ближнем Востоке и изолированы от собратьев по вере, приостановлен процесс исламского реформаторства (джадидизма), разрушена система религиозного образования. Это привело к безусловному доминированию так называемого народного синкретического ислама, в котором собственно исламские нормы и традиции сплетались с доисламскими обычаями. Изжить этот народный ислам, бывший частью образа жизни коренного населения Центральной Азии, было не под силу даже коммунистам. Таким образом, ислам, сохранившись на бытовом уровне, остался одним из основных факторов, регулирующих отношения среди людей, а также между индивидом и общиной. Особенно характерно это ~1
Цит. по: Бизнес и политика. М., 1995. № 5. С. 62.
2
Ерасов Б. Указ. соч. С. 11.
214
для сельской местности, где сосредоточено большинство коренного населения. «Так как большая часть местного населения живет в сельской местности, сила религиозной культуры начинает сказываться в крупных городах, и особенно в педагогических институтах, куда поступают абитуриенты из села»1, — пишет американская исследовательница Иден Наби.
Здесь следует сказать и о том, что в первые годы после распада СССР и обретения бывшими советскими республиками независимости ислам и чувство этнической идентичности фактически представляли собой единый фактор. «Возникновение исламского ренессанса связано с ростом национализма и с медленно созревающим среди интеллигенции самосознанием, которое выразилось в возрождении исламских традиций»2.
Именно в это время у народов Центральной Азии проявилось неистребимое желание ощутить себя не как часть советского народа, а как «полноценную нацию, как конфессионально-культурную общность. «Ното tadjicus» и «homo uzbecus» призваны сменить «homo sovieticus», от которого им досталось тяжелое наследство»3 4. Исследователь из Турецкого агентства по международному сотрудничеству Гунден Пекер противопоставляет понятию «homo sovieticus» другое — «homo islamicus»*. Одновременно это явилось шагом в направлении межцивилизационного размежевания, принимавшего впоследствии самые разные, в отдельных случаях очень жестокие формы. Показательна в этом плане проблема выбора государственного языка, решение которой не завершено и по сей день. Изначально, с 90-х годов этот выбор не был детерминирован практическим расчетом, но имел в основном символическое значение.
В дискуссии о языковой приоритетности языка видится своеб- разное несфокусированное отражение спора о перспективах сотрудничества центральноазиатских государств с Россией и да1
Naby Е. The Emerging Central Asia. Ethnic and Religious Factions // Central Asia and the Caucasus after the Soviet Union. Domestic and International Dynamics / Ed. by Mohiaddin Mesbahi: University Press of Florida, 1994. P. 51.
2
Malashenko A. Islam versus Communism. The Experience of Coexistence // Russia's Muslim Frontiers. New Directions in Cross-Cultural Analysis. Edited by Dale F. Eickelman: Indiana University Press, 1993. P. 67.
3
Dudoignon S. Changements politiques et historiographie en Asie Centrale (Tadjikistan et Uzbekistan, 1987—1993)// Cahiers d'&udes sur la Mediterran^e orientale et le monde turco-iranien. Paris: CEMOTI. 1993. № 16. P. 117.
4
Cm.: Peker G. Islam: Myth or Reality in Central Asia // Eurasian Studies. Ankara, № 3. 1996. P. 75.
215
же в известном смысле — о воссоздании в том или ином виде СССР.
Интересно, что вопрос о реконструкции СССР или схожего с ним государственного образования практически никогда не затрагивался в социологических исследованиях. Как исключение упомянем проводившийся в 1994 г. в Казахстане независимым Институтом Гилера блиц-опрос, 80% участников которого заявили, что считают СССР «большим злом»1. Уместно вспомнить и негативную реакцию в Центральной Азии на принятое в феврале 1995 г. Государственной думой России решение об отмене Беловежских соглашений, в чем местные политики и средства массовой информации единодушно усмотрели претензию на возрождение СССР. Болезненное восприятие лидером Узбекистана — Исламом Каримовым — договора между Белоруссией и Россией о создании Сообщества суверенных республик, в частности, выразилось в том, что его аббревиатура (ССР) напоминает, по его мнению, «близкое сердцу некоторых авторов звучное название СССР»2.
Не встретила понимания у большинства и выдвинутая президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым идея Евразийского союза (ЕАС), которая, по мнению того же Каримова, «была изначально мертва»3. Негативно отнесся к ЕАС и президент Туркменистана Сапармурад Ниязов.
История с провалом ЕАС — еще один, и притом достаточно весомый, аргумент в пользу того, что Центральная Азия отнюдь не «монолитный регион», и интересы расположенных там государств, в том числе и их тяготении к России, далеко не всегда совпадают. Интерес к ЕАС президентов Казахстана и Киргизстана обусловлен прагматическими расчетами. Среди них — подспудный страх перед потенциальной экономической, а впоследствии, возможно, и иной экспансией Китая (в свою очередь мечтающего о стабилизации ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где на протяжении последних лет резко активизировалась исламо-уйгурская оппозиция, поддерживающая контакты с казахскими уйгурами).
Что касается скептицизма Каримова и Ниязова, то в основе его — надежда на собственные силы, а также на помощь со стороны зарубежных стран. Президент Туркменистана делает основную ставку на кажущиеся неисчерпаемыми ресурсы углево1
См.: Караван. Алматы, 1994. 1 1 ноября.
2
Народное слово. Ташкент, 1996. 13 апреля.
3
Независимая газета. 1994. 21 июня.
216
дородов, мечтая (или, как минимум, демонстрируя волю) превратить свою страну во «второй Кувейт». Расчет Узбекистана сложнее и строится на интенсивном развитии комплексных связей с целым рядом западных и восточных государств, а также на намерении (скорее явном, чем закамуфлированном) сыграть в Центральной Азии роль Туниса или даже Турции, которые в 60-е годы (таков был замысел западных политиков) должны были предстать перед общественным мнением Европы и Северной Америки как удачливые имитаторы Запада, т.е. выглядеть наиболее продвинутыми по пути энергичной, но вместе с тем и разумной вестернизации. Таким образом, ведущую роль играют здесь практические соображения, правда еще и подкрепленные идеологическими выкладками.
Нельзя забывать о том, что евразийская идея возникла и сформировалась в российской общественной мысли; она всегда исходила от России и отражала прежде всего ее государственные интересы, в частности стремление сохранить контроль над завоеванным и освоенным ею пространством. Мусульманам же — советским, российским — эта идея всегда была непонятна, чужда, во всяком случае, малознакома. В ограниченных масштабах она сегодня имеет сторонников среди части мусульманской культурной элиты России, а также русифицированной центральноазиатской интеллигенции1.
Если российские сторонники евразийства увидели в идее создания ЕАС возможность «предотвращения конфликта цивилизаций» и «попытку предотвратить новое отчуждение России и Азии»2, то для многих центральнозиатских политиков это, по сути, в первую очередь форма «собирания» Россией бывших республик СССР.
В то же время отметим неприемлемость евразийства для определенного направления в русской националистической оппозиции, выражая взгляды которого академик Никита Моисеев заметил, что Россия является самостоятельным социокультурным феноменом и что «если мы не Европа, то мы и не Азия»3. Сошлемся, наконец, на писателя Александра Солженицына, который настаивает на том, что «Центральная Азия нам чужда» (чем, Наиболее яркой фигурой среди мусульманских евразийцев, вне всякого сомнения, является руководитель Исламского центра Таухид философ Гейдар Джемаль, в начале 90-х годов бывший одним из создателей и участников всесоюзной Исламской партии возрождения.
2
Мясников В. Евразийская идея и ее перспективы // Бизнес и политика. М., 1995. № 5. С. 63.
3
Новая ежедневная газета. 1994. 4 марта.
217
заметим, заслужил ненависть русифицированной части коренной интеллигенции региона).
В известном смысле евразийская идея представляет собой антитезу как стремлению центральноазиатских государств к независимости от России, так и их жесткой ориентации на мусульманский мир, чего опасаются не только московские правители, но и их их vis-a-vis из оппозиции. Характер отношений России с мусульманскими соседями, стабильность (или кризисы) на южных ее границах в немалой степени влияют на ее положение в Европейском союзе, которое неизбежно претерпит изменения в связи с расширением НАТО на Восток. В свою очередь влиятельность России в Европе несомненно сказывается на ее авторитете в Центральной Азии. «За дипломатическим поражением России в конкуренции с НАТО, — пишет аналитик «Казахстанской правды», — просматривается сдача ее позиций в других сферах»1.
Осенью 1996 г. Россия попыталась поднять свой авторитет одновременно в глазах и Центральной Азии, и Европы, разыграв карту исламского фундаментализма. Когда в сентябре 1996 г. военизированное исламистское движение «Талибан» захватило столицу Афганистана Кабул и установило свой контроль над большей частью страны, создав угрозу распространения радикального ислама в северном направлении, Кремль предпринял энергичные меры, чтобы изобразить себя главным гарантом на пути потенциальной фундаменталистской экспансии. , В течение нескольких недель в сентябре — начале октября на первой волне страха перед талибами центральноазиатские государства действительно увидели в России сдерживающую их силу. Однако уже к концу 1996 г. страх перед талибами уступил место стремлению найти с ними компромисс. Тем более что движение «Талибан» было создано при участии министерства внутренних дел Пакистана и о его деятельности были информированы Соединенные Штаты. Акции талибов были согласованы (хотя документально это пока что подтвердить нельзя) с президентом Туркменистана Са- пармурадом Ниязовым: по контролируемой талибами афганской территории планируется прокладка газопровода Туркменистан— Пакистан, в которой участвуют также американская компания UNOCAL и саудовская «Delta Oil Company».
Рискнем высказать соображение, что после первого вызванного наступлением талибов шока правительства сопредельных с Афганистаном стран склонны рассматривать эти события, скорее, как «внутримусульманское дело». Особенно это характерно для
1
Тарков А. Расширение НАТО на Восток: необходимость или роковая ошибка // Казахстанская правда. Алматы, 1997. 25 февраля.
218
Узбекистана, который с конца 1996 г. почти в открытую выступает в качестве противовеса российскому влиянию на Памире и вокруг него. Как утверждает влиятельный среди таджикской оппозиции муфтий Акбар Тураджонзода, в Москве начинают опасаться Узбекистана как потенциального конкурента в борьбе за сферы влияния в регионе1.
Осознание центральноазиатскими государствами своей принадлежности к мусульманскому миру реализуется на практике неоднозначно. По замечанию американки Марты Брилл Олкотт, «среди сюрпризов, которые принесла с собой независимость Центральной Азии, было открытие того, что ислам в советское время оказался намного более распространен, чем ранее предполагалось»* 2. Различие в вероисповедании отдаляет Центральную Азию от России, создавая и расширяя культурную дистанцию между обеими крупнейшими цивилизационными анклавами бывшего СССР. В то же время ислам — лишь один, пусть даже и очень важный фактор, увеличения культурной и психологической дистанции. Среди других факторов назовем переориентацию исторической памяти коренных народов: они все острее ощущают себя завоеванными Россией, в то время как в самой России русские полагают себя завоевателями. Из недавней же исторической памяти стирается воспоминание об общей победе в Великой Отечественной войне (тем более что молодому поколению теперь не всегда понятно, чье отечество защищали их отцы). Происходит переоценка советского времени, все более воспринимаемого в обществе, в первую очередь среди молодежи, как трагическое.
Нельзя игнорировать и то, что можно определить как «психологическую усталость» от совместного проживания разных этносов и конфессиональных общин в общем государстве, которое к тому же за одними признавало право на старшинство, а другим отводило роль «младших братьев».
Особенно остро рост культурной дистанции чувствует коренная «русскообразованная» творческая интеллигенция, писатели, артисты, осознающие, что их творчество становится своего рода архаизмом, достоянием прошлого. Отголоски этой горечи слышатся в последних произведениях и особенно в публицистических статьях Олжаса Сулейменова, Чингиза Айтматова и других прозаиков и поэтов, чей талант раскрылся в советский период.
Необратимо увеличиваются и различия в системе и идеологии гуманитарного образования, где место советских коммунистиче—i
См.: Независимая газета. 1996. 30 октября.
2
Olcott М. Islam and Fundamentalism in Independent Central Asia. Conflicting Legacies / Ed. by Yaacov Ro'i. London, 1995. P. 21.
219
ских установок успешно занимают конфессиональные и национальные ориентиры.
Против притяжения к России действует растущее этническое сознание, которое при советской власти если не подавлялось, то, как минимум, игнорировалось, а теперь становится одним из ведущих векторов не только общественного менталитета, но и официальной идеологии центральноазиатских стран. «Национальная чувствительность у создателей новых независимых государств более высока, чем у их исторических предшественников в составе Российской империи и СССР»1.
Все это вместе взятое делает реакцию отторжения государств Центральной Азии от России естественной, в каком-то смысле неизбежной. Косвенно это подтверждается нарастающей волной эмиграции оттуда русскоязычного населения, которое на собственном примере не только ощущает «резкое повышение этнокультурной да станции, особенно между славянским и коренным населением»2, но также наблюдает ослабевающий здесь авторитет России, ее незаинтересованность и неспособность сохранять здесь свое былое влиятельное положение.
Придется признать, что и в дальнейшем, если не произойдет ничего чрезвычайного (а такое на постсоветском пространстве исключать никогда нельзя), дистанция между Россией и Центральной Азией будет возрастать, и для поколения, которое появилось на свет в 80-е годы, пребывание их родины в СССР и «особые отношения» с Россией окажутся историческим сновидением.
Ислам в этом феномене отторжения поставлен на первое место отнюдь не случайно. Вполне вероятно, что в какой-то момент Россию и некоторые государства Центральной Азии сильнее, чем сейчас, подтолкнут навстречу друг другу долгосрочные экономические интересы. Будет меняться энергия националистического накала, постепенно забудется комплекс неполноценности перед лицом былого «старшего брата». Сохранится — пусть и в ограниченных масштабах — взаимовлияние и взаимодействие культур, языковые различия частично будут преодолены с помощью перевода. В конце концов, чужой язык можно выучить. Различие же в конфессиях, при всем том, что в новейшее время оно преимущественно остается в тени социальных и этнополитических колАрапов А., Уманский Я. Центральная Азия и Россия: вызовы и ответы // Свободная мысль. Москва, 1994. № 5. С. 78.
2
Миграция русскоязычного населения из Центральной Азии: причины, следствия, перспективы / Под ред. Г. Витковской. Московский центр Карнеги. Carnegie Endowment for International Peace. Научные доклады. Вып. 11. М., 1996. С. 6.
220
лизий, наиболее фундаментально, и дистанция между конфессиями непреодолима. Диалог между конфессиями, который в 90-е годы с должной настойчивостью ведут как духовные лица, так и светские деятели, не означает стирания границ между ними; напротив, судя по всему, они не только не исчезают, но становятся более рельефными. В таком устойчивом обособлении видится реакция на формирование в мире «усредненной» культуры как ответ на универсализацию духовных ценностей.
Благодаря «исламскому ренессансу» будущему российскому руководству придется иметь дело с новым поколением центральноазиатских лидеров, которые уже не могут быть охарактеризованы как «постсоветские». Для грядущей правящей элиты, а в равной степени и оппозиции, которая будет действовать в обществе с иным, отличным от советского менталитетом, обращение к исламу станет не только инструментом политической интриги, но и одним из столпов собственных убеждений. Действуя в мусульманском обществе, они объективно (пусть в разной степени) окажутся носителями мусульманской политической традиции, которая включает в себя признание неразделенное™ светского и духовного начал, предрасположенность к «исламской теократии», авторитаризм. Они обратятся к близким для мусульман понятиям «исламская солидарность», «исламская экономика», «джихад» и т.п., которые вряд ли будут легко восприняты их российскими партнерами по диалогу.
Наконец, в Центральной Азии — как и в любой другой мусульманской стране — определенную, и притом, возможно, влиятельную, нишу займет политический ислам, или исламизм1. Уже в 90-е годы исламисты — заметная сила в Узбекистане, их влияние медленно, но неуклонно растет в Казахстане и особенно в Киргизстане, где весной 1995 г. на юге (в городах Баткен, Джалал-Абад, Ош) действовало несколько исламистских групп, требовавших от властей официального признания2. То же самое происходит в Таджикистане, где исламисты составляют основу объединенной оппозиции, добиваются мест в грядущей правящей коалиции и однажды уже побывали в правительстве. Следует 1
Мы сознательно абстрагируемся от вопроса о различиях в дефинициях — «исламизм», «исламский фундаментализм» и пр. Речь в данном контексте идет о деятельности исламских политических организаций, которые в поисках альтернативы еврохристианской модели социального развития провозглашают своей целью переустройство государства и общества по исламскому образцу и в своей деятельности максимально используют ислам как средство воздействия на общественное сознание и как орудие борьбы за власть.
2
См.: Слово Кыргызстана. Бишкек, 1995. 15 июля.
221
предвидеть возможность появления исламской оппозиции в сохранившем черты тоталитарной системы Туркменистане, где ислам может оказаться чуть ли ни единственной формой внутреннего протеста в обществе.
Опыт послевоенного исторического развития свидетельствует, что в мусульманских странах при провале социально-экономического развития массовое недовольство разочарованных властью людей находит выражение в апелляции к исламу. Так случилось в Иране на рубеже 70—80-х, в Судане — в конце 80-х, в Алжире — в начале 90-х годов. В этом ряду стоит и Турция, где на парламентских выборах 1995 г. наибольшее число голосов собрала исламистская Партия благоденствия.
Таким образом, исламисты способны достигнуть успехов даже в сильно вестернизированных государствах, претендующих на участие в политических организациях Европы. Так, начатая турецким реформатором Мустафой Кемалем Ататюрком и растянувшаяся на несколько десятилетий попытка интенсивной вестернизации мусульманского общества выявила ограниченность способности к трансформации его культурных и мировоззренческих стереотипов и обернулась ретрадиционализацией 90-х годов. Опыт Турции не может не заставить задуматься руководителей Центральной Азии, которые видят в ней оптимальный пример сочетания европейского опыта и мусульманской традиции. (Известны и высказывания лидера Партии благоденствия Неджметтина Эрба- кана относительно того, что Турция должна стать для Центральной Азии «гарантом истинного ислама».)
Конечно, абсолютизировать успехи исламистов нельзя. Важнее другое, а именно устойчиво нарастающее в последние два десятилетия присутствие исламистской тенденции в общественно-политической жизни мусульманского мира. С этой точки зрения политикам и экспертному корпусу в Центральной Азии имеет смысл отслеживать ситуации, когда на Ближнем Востоке светская власть привлекает исламистов к участию в коалиционных правительствах или в иных административных структурах.
Подобная возможность должна быть учтена и Россией, которой уже приходится иметь дело с Партией исламского возрождения Таджикистана. Исламски ориентированные политики со временем могут прийти в административные органы Узбекистана, других центральноазиатских государств. В известном смысле эту перспективу можно уподобить ситуации, когда доступ в правительство получают представители оппозиционных партий, например коммунистической, более всего его критикущей. В этом случае приходящей во власть оппозиции предлагаются наименее выигрышные посты, связанные с решением социальных проблем.
222
А ведь исламисты традиционно эксплуатируют как раз идею социальной справедливости.
Готова ли Россия к тому, что в будущем ей придется в той или иной форме на государственном уровне общаться с представителями исламистских сил? Несколько лет назад ответ на этот вопрос был почти однозначно негативен. Сегодня в российских правящих кругах произошел определенный сдвиг и к исламизму стали относиться как к естественной для мусульманского мира политической силе, вести диалог с которой можно и нужно, исходя из стратегических, экономических и каких угодно интересов России. Отношения России с политическим исламом более прагматичны, чем прежде, и в зависимости от ситуации он рассматривается Москвой и как противник, и как партнер. (Видится определенная преемственность относительно внешней политики СССР, который использовал в своих интересах и палестинских исламистов, и ливийского лидера Муаммара Каддафи, и даже пытался разыграть карту исламской революции в Иране.)
В свою очередь и исламские радикалы в середине 90-х годов, похоже, перестали видеть в России исключительно «сатану» и также готовы к диалогу с ней. Тем более важно это в условиях формирования в канун второго тысячелетия геополитической системы, в которой — при безусловном доминировании Запада и растущем влиянии Дальнего Востока, включая Китай, — перед мусульманским миром и Россией стоит реальная угроза оказаться на вторых ролях.
Вместе с тем возрождение в странах Центральной Азии ислама, апелляция на уровне официальной идеологии к исламской традиции совершенно не означают, что религия является единственным фактором в их внешних ориентациях. Здесь мы разделяем двойственную оценку значения ислама, даваемую американской исследовательницей Нэнси Любин, которая полагает, что люди в Центральной Азии стремятся построить «мир, где их исламское, этническое и культурное наследие воспринимается как главенствующее, что не мешает интеграции с более широким международным сообществом или ослаблению этнической напряженности внутри страны»1.
Очевидно, что «исламский фактор» — как совокупность конфессионально-культурного возрождения, апелляции к исламу местных политиков, активизация политического ислама — способствует обособлению Центральной Азии прежде всего, если не исключительно, от России и совершенно не является препятстви1
Lubin N. Islam and Ethnic Identity in Central Asia: A View from Below // Muslim Eurasia... P. 70.
223
ем для расширения ее контактов с остальным миром, в том числе с Западной Европой и США. Причины тому легкообъяснимы. Первая состоит в расчете на экономические выгоды от сотрудничества с развитыми государствами. Вторая обусловлена реакцией людей, особенно молодежи, на закрытость и идеологическую ксенофобию советского общества. Третья видится в стремлении правящего класса бывших советских республик занять подобающее место среди мировой политической элиты. Те же или почти те же причины можно назвать в связи с развитием отношений Центральной Азии с немусульманскими государствами Востока — Японией, Китаем, Южной Кореей (в последнем случае немаловажную роль играет проживающая в Центральноазиатском регионе корейская диаспора). Можно утверждать также, что народы Центральной Азии идентифицируют себя не только с мусульманским, но также и с «третьим миром», хотя ныне это понятие становится все более аморфным.
В ходе проведенных в Казахстане и Узбекистане социологических обследований большинство опрошенных высказались в пользу того, что за экономической помощью в первую очередь следует обращаться к Западу и Японии, а не к мусульманским странам1.
Даже сотрудничество с Турцией, которое, как казалось поначалу, должно было стать для Центральной Азии магистральным направлением, не принесло обеим сторонам ожидавшихся результатов. Очевидно, что в Центральной Азии рассчитывали скорее на финансовую и иную помощь, чем на полноценную кооперацию, к которой обе стороны не были готовы. Тем более что экономически Турция более ориентирована на Европу. Несостоятельной оказалась и идея сотрудничества под эгидой Турции тюркских народов. «Турция расстается с мечтой о Шелковом пути, призванном соединить Босфор с Великой Китайской стеной путем объединения всех турок»* 2.
Еще аморфнее связи с Ираном, который, во-первых, сам испытывает перманентные экономические трудности, а во-вторых, является в глазах центральноазиатских политиков источником революции, пусть и исламской, но все равно несущей своим соседям угрозу дестабилизации. Известно, что в 1995 г. из Туркменистана и Узбекистана было выслано несколько иранских проповедников радикального толка. С одной стороны, религиоз~1
Из 1000 опрошенных в пользу Запада и Японии высказалось в Узбекистане 519 и в Казахстане 423 человека; в пользу мусульманских стран — 66 (см.: Ibid.).
2
Киреев Н. Турция — путь в Европу или возвращение в Центральную Азию // Восток. 1996. № 5. С. 68.
224
ный радикализм Ирана сдерживает развитие его связей с центральноазиатскими государствами. Достаточно вспомнить о заявлениях лидеров Центральной Азии (Каримова, Назарбаева, Акаева) о том, что именно их государства являются барьерами, препятствующими распространению исламского фундаментализма. Таким образом, в ирано-центральноазиатских отношениях ислам причудливым образом оказывается фактором, сдерживающим их сближение, хотя в публичных выступлениях ведущих политиков и особенно духовенства подчеркивается конфессиональное единство региона.
С другой стороны, Иран предпринимает целенаправленные усилия по активизации внутрирегионального (в широком смысле) сотрудничества. Наиболее заметным успехом здесь стало строительство железной дороги Теджен—Серахс—Мешхед, участие Ирана в прокладке Трансазиатско-европейской оптико-волоконной линии связи.
Нельзя игнорировать и попытки стран Центральной Азии наладить межрегиональные контакты. Хотя и тут следует оговорить то обстоятельство, что взаимное тяготение определяется в большей степени практическими, а не идеологическими намерениями. Этот вопрос горячо обсуждается в ходе многочисленных деловых встреч и на страницах центральноазиатской печати. Но, как представляется, сформировать здесь более или менее устойчивые «поля притяжения» еще только предстоит.
Формирование новых ориентаций является, по существу, центральным вопросом для недавно образовавшихся государств Центральной Азии. Сегодня они стоят на перепутье, и та система связей, которую им удастся создать, в значительной степени определит модель их будущего развития.
Центральная Азии будет постепенно преодолевать свою советскость, и ее общество станет функционировать в соответствии с законами — пусть и деформированными — рыночной экономики с учетом специфики местных конфессиональных и этнокультурных традиций.
Утрата Центральной Азии своей главной общей черты — былой принадлежности к СССР — ведет к большей дифференциации региона на государственном уровне. Каждое государство озабочено прежде всего своими конкретными национальными интересами, все чаще выходящими, причем в различных направлениях, за пределы региона.
Общий региональный вопрос для всех государств Центральной Азии — ее отношения с Россией. В середине 90-х годов, несмотря на усилия Казахстана и Кыргызстана, наметилась тенденция отхода от России, интересы которой все чаще вступают в противоречие с внутренней и внешней политикой центральноазиатской 225
15 1814
элиты. Очевидно, эта тенденция будет нарастать вплоть до некоего момента, когда дальнейший отход от России может привести к нежелательным последствиям для самих этих государств. Речь идет, в частности, о нарушении баланса политических и экономических сил в Евразии, при котором может произойти «переподчинение» отдельных сегментов Центральной Азии Китаю, а других — более могущественным мусульманским соседям.
Устойчивым и «неконъюнктурным» фактором взаимного отчуждения России и Центральной Азии является их разная конфессиональная принадлежность. Исламо-христианская цивилизационная граница становится государственной границей. Однако при этом принадлежащие к разным цивилизациям страны имеют все шансы установить нормальные добрососедские отношения.
В остальном же сегодняшняя элита Центральной Азии, выбирая себе экономических партнеров и политических союзников, будет и впредь руководствоваться в первую очередь практическими соображениями, а не идеологемами, в том числе связанными с конфессиональной принадлежностью. Следовательно, формирующиеся и покуда недостаточно устойчивые ориентации в недалеком будущем могут быть изменены.
Однако вопреки прагматизму правительств на политику государств Центральной Азии безусловно будет оказывать влияние исламский фактор, о чем свидетельствует их принятие во все крупные международные мусульманские организации и их растущее влияние на «внутримусульманские» дела. Достаточно хотя бы упомянуть их членство в Организации Исламская конференция. Одновременно в этих странах набирает влияние исламское политическое движение, которое уже вмешивалось и еще не раз вмешается в их социально-политическую эволюцию, меняя нынешние ориентации и создавая новые.
Бруно Коппитерс
ПАРТНЕРСТВО РАДИ МИРА С ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИЕЙ
Введение1
Как Организация (до 1995 г. — Совещание) по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), так и Совет Североатлантического сотрудничества (ССАС) ведут свое происхождение от разделения Европы периода «холодной войны». Первоочередная цель обеих организаций — вести процесс интеграции между бывшими державами-соперниками; они представляют собой форумы, на которых могут открыто обсуждаться симптомы угрозы и политика в области безопасности. Хотя оба института восходят в своих истоках к разделу Европы, одной из их основных целей всегда было обеспечить участие неевропейских держав в европейских делах. Активное участие США и Канады в структуре СБСЕ считалось непременным условием европейской стабильности. После распада Советского Союза СБСЕ приняло в свой состав все бывшие советские республики независимо от их географической или культурной принадлежности к Европе.
ССАС создавался с более специфической целью, нежели СБСЕ. Он должен был способствовать проведению консультаций и сотрудничеству между НАТО и бывшими странами Варшавского договора, с тем, чтобы адаптировать их военную политику к новой европейской архитектуре безопасности2. Подобно тому как в случае с СБСЕ, побудительным мотивом для создания ССАС была забота о стабильности в Европе, и в частности в Центральной Европе. Вывод советских войск из Германии являлся одним из главных предметов озабоченности НАТО, с тех пор как не стало границ между двумя германскими государствами. Вскоре за учре~~1
Я благодарю Вернера Боувенса, Унала Джевикоза, Эдмунда Герцига, Улугбека Ишанходжаева, Крейга Олифанта, Болота Утирова, Эрика Сиверса и Алексея Зверева за их отзывы на первый вариант этой статьи.
2
В январе 1997 г. в ССАС входило 40 членов, в том числе 16 стран—членов НАТО плюс 15 стран бывшего СССР плюс Албания, Болгария, Чешская Республика, Венгрия, Польша, Словакия, бывшая югославская республика Македония, Румыния, Словения. Австрия, Финляндия, Швейцария и Швеция имеют статус наблюдателей в ССАС и принимают участие в программе «Партнерство ради мира» (ПРМ). Представители правительств — в основном министры иностранных дел — согласно правилам встречаются по меньшей мере раз в году (см.: NATO Office of Information and Press, Basic Fact Sheet No. 1, March 1996). Подробные данные о происхождении ПРМ можно получить в: Drew, 1996, 213—228.
227
15*
дительной конференцией ССАС, состоявшейся 20 декабря 1991 г., советский посол объявил о роспуске СССР. Поскольку все государства—преемники Советского Союза стали полноправными членами ССАС, он вопреки первоначальной цели превратился в консультативный орган, включающий страны, чьи коренные интересы безопасности находятся вдали от Европы.
Членство в ОБСЕ и ССАС не основывается на географическом или цивилизацйонном определении района безопасности. Члены как ОБСЕ, так и ССАС, географически расположенные либо на Американском континенте (США, Канада), либо в Азии (Грузия, Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркмения, Таджикистан), представляют собой сравнительно большую группу государств: около одной пятой из 55 членов ОБСЕ и одной четвертой из 40 членов ССАС1. Обе организации не ставят членство в зависимость от культурных и цивилизационных норм и ценностей, которые могут считаться специфически европейскими или атлантическими. Центральноазиатские государства автоматически стали членами СБСЕ и ССАС. Критерии для участия в СБСЕ/ОБСЕ и ССАС не должны, однако, рассматриваться как результат чисто исторических обстоятельств, как отсутствие четких критериев для определения того, какие новые независимые республики должны быть вовлечены в процесс интеграции с западным сообществом. Напротив, их следует рассматривать как сознательный политический замысел — создать новую архитектуру безопасности с участием всех стран, которые были активными противниками в эпоху «холодной войны».
Инициатива «Партнерства ради мира» (ПРМ) была задумана администрацией США и выдвинута НАТО на январском саммите 1994 г. Ее рассматривали — и критиковали — как способ разрешения противоречия между политикой включения и исключения (inclusive and exclusive policies), которую решила проводить НАТО в своем продвижении на Восток. НАТО предложила всем членам СБСЕ проводить мероприятия по военному сотрудничеству в рамках ССАС. В ПРМ видели инструмент, облегчающий интеграцию нейтральных и неприсоединившихся западно- и восточноевропейских стран в стратегию НАТО. Интеграция понималась как процесс дифференциации между перспективными и неперспективными партнерами в плане расширения НАТО. ПРМ облегчило бы укрупнение НАТО без полного исключения непер- * В
1
В случае Закавказья следует проводить различие между географическим и экономическим, политическим или культурным определением границ между Европой и Азией. Если придерживаться строго географического подхода, эти границы пролегают либо по Кума-Манычской впадине на Северном Кавказе, либо по Большому Кавказскому хребту. Выражаю благодарность Ревазу Гачечиладзе за эту информацию.
228
спективных членов из новой Европы и даже проложило бы путь к «особому углубленному диалогу» с Россией. ПРМ было направлено на расширение влияния НАТО не только на Восточную, но и на Западную Европу, убедив ряд западных нейтральных стран, таких, как Финляндия или Швейцария, сотрудничать с Североатлантическим альянсом1. Программа партнерства с Россией также будет способствовать развертыванию программ сотрудничества между отдельными членами НАТО и СНГ, без чего такое присутствие НАТО в ближнем зарубежье России обязательно вызвало бы гнев Москвы. Даже военное сотрудничество между отдельными членами НАТО и СНГ, которое было бы налажено вне рамок ПРМ, имело шанс быть терпимым Кремлем, а не рассматриваться как новая провокационная попытка расширить сферу влияния НАТО. Это также помогло бы НАТО в сборе разведданных о политике безопасности в СНГ, в информировании членов СНГ о своей собственной стратегии и воплощении в жизнь своих принципов поддержания мира в регионах, куда западные правительства не заинтересованы посылать собственные войска. ПРМ не ограничивается военной политикой. Сотрудничество также касается невоенных вопросов, таких, как стихийные бедствия и защита окружающей среды. Наконец, со временем ПРМ облегчила бы посредническую роль членов НАТО в конфликтах между партнерами по СНГ.
Структура ПРМ была связана с тогдашней структурой СБСЕ. Всем «способным и желающим» членам СБСЕ были предложены сферы военного сотрудничества, включая гласность в оборонной политике, демократический контроль за вооруженными силами, способность к взаимодействию (interoperability} с силами НАТО при проведении миссий по поддержанию мира и гуманитарных миссий, взаимные консультации в случае, если некоторые из участников ощутят серьезные угрозы своей территориальной целостности или политической независимости (см. библиографию в конце статьи — Borawski 1995: 233—234). В январе 1997 г. в ПРМ участвовали 2 7 стран, включая 1 6 стран НАТО.
Цели ССАС не связаны с конкретно-историческим пониманием Североатлантического альянса. Как и в случае ОБСЕ, ССАС не основан на историческом восприятии культурной идентичности. Гражданский контроль над военными, представляющий собой одно из проявлений самосознания НАТО как сообщества, основанного на демократических ценностях и включенного в ПРМ как одна из основных сфер военного сотрудничества, не считается основанным на специфически западном понимании законности, 1
Об общественной дискуссии в Швейцарии по поводу присоединения к программе партнерства см.: International Herald Tribune. 1996. March 15.
229
но является универсально значимым, даже если при его осуществлении приходится учитывать конкретно-исторические условия.
В какой мере подобные универсальные нормы и принципы могут считаться реальной основой для функционирования таких международных институтов безопасности, как ССАС и ПРМ? Не следует ли рассматривать их как слабый заменитель отсутствующего культурного и цивилизационного родства между их участниками? Реально ли надеяться на то, что внешняя и внутренняя политика правительств Центральной Азии будет ориентироваться на «универсальные» кодексы поведения, установленные западными правительствами? Или же консенсус между членами ССАС относительно демократических целей сотрудничества должен считаться мифом, полезным лишь для поддержания диалога и сохранения канала связи и обмена между странами с весьма различным цивилизационным укладом? Оливье Руа писал, что действия ОБСЕ в Центральной Азии основаны на молчаливо подразумеваемом принципе, что такой миф может быть эффективным в долгосрочной перспективе (Roy 1995). Должны ли мы считать, что ССАС и ПРМ, созданные как кооперативные системы отношений безопасности, направленные на создание стабильности на Евроазиатском континенте и задуманные в качестве подспорья ОБСЕ, основаны на подобном же мифе?
То, что динамика безопасности, существующая между членами ОБСЕ и ССАС и участниками ПРМ, не является единым комплексом безопасности, может служить вторым мотивом для сомнений в ее эффективности. Заботы их членов в области безопасности слишком далеки друг от друга, для того чтобы имело смысл считать ОБСЕ или ССАС институтами, основанными на потребностях формирования единого комплекса безопасности. Интересы национальной безопасности членов ОБСЕ или ССАС могут в большой мере рассматриваться как отдельные по отношению друг к другу, что с лихвой показали дискуссии о распространении НАТО на Восток или гражданские войны в Таджикистане и Грузии. Правительства стран Закавказья и Центральной Азии были по большей части безразличны к дискуссиям о членстве в НАТО государств Восточно-Центральной Европы, которое считают вопросом первостепенного значения страны—участницы НАТО, Восточно-Центральная Европа и Россия. Радикальное изменение военного баланса в Европе после конца «холодной войны» также не повлияло на восприятие безопасности центральноазиатскими правительствами. Ни одно из этих правительств не проявило ни малейшей склонности поддержать попытку России создать «контрблок» в противовес НАТО в рамках военного сотрудничества СНГ. Сравнительная индифферентность была также характерна для позиции Запада в отношении гражданских войн, происходивших в Грузии и Таджикистане. Опасность полного расчленения Таджикистана 230
и Грузии не рассматривалась подавляющим большинством членов СБСЕ/ОБСЕ как значительная угроза собственной безопасности. Они отказались от сколь-нибудь значительного вовлечения ОБСЕ в эти конфликты1.
В отличие от политики ОБСЕ в Центральной Азии эффективность ССАС и ПРМ в этом регионе под сомнение не ставилась. Ввиду огромных различий в восприятии угрозы и формировании политики безопасности между западными государствами и бывшими советскими республиками и ввиду ориентации ССАС в первую очередь на европейский комплекс безопасности центральноазиатские правительства поначалу даже с трудом понимали, почему страны НАТО ожидают от них участия во встречах ССАС. Их присоединение к ПРМ шло медленно, а Таджикистан не проявил (не смог проявить) вообще никакого интереса. Однако с тех пор, за исключением Таджикистана, все центральноазиатские страны разработали индивидуальные программы партнерства с НАТО (Coppieters and oths. 1996b: 28—29). Туркменистан, который держится в стороне от проектов региональной интеграции, выдвигаемых другими центральноазиатскими партнерами и проводит политику строгого нейтралитета как меры предосторожности от вовлечения в возглавляемые Россией военные организации или в региональные альянсы, в которых он играл бы лишь подчиненную роль2, даже оказался первой центральноазиатской страной, присоединившейся к ПРМ в мае 1994 г. (Oliphant 1996).
В сентябре 1996 г. Генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана считал ПРМ самой удачной программой военного сотрудничества в истории Европы3*. Благоприятные последствия ПРМ для установления системы совместной безопасности как в Восточной, так и в Западной Европе — участие нейтральной Швейцарии имеет в этом смысле более чем просто символическое значение, — вероятно, могут считаться крупными достижениями в плане этой оценки. Опыт, накопленный благодаря ПРМ в деле расширения НАТО на Восток, рассматривался как дополнение к «Средиземноморскому диалогу», начавшемуся весной 1995 г. с шестью странами Ближнего Востока и Северной Африки. Как и в случае с ПРМ, этот диалог с мусульманскими странами имеет целью 1
О западноевропейской политике в отношении Грузии см.: Coppieters and oths. (1997).
2
См.: Monitor. 1996. No. 78. April 19// Сервер Internet listserv isn (listserv @ ccl.kuleuven.ac.be); Независимая газета. 1996. 26 октября.
3
См.: Summary of the Speech by Mr. Javier Solana, Secretary General of NATO «NATO: Shaping Up for the Future» at the International Institute for Strategic Studies. London, 1996, September 19 // Всемирная паутина (World Wide Web). Домашняя страница http://www.nato.int/docu/speech /1996/ s960919b.htm.
231
распространение взглядов НАТО о сообществе безопасности и обсуждение предметов озабоченности в сфере безопасности1. НАТО проявила осторожность, избегая называть этот проект сотрудничества «южным вариантом» ПРМ — программы, которая ведет свое происхождение от раздела самой Европы и «не может быть всецело применимой к Средиземноморскому региону»2. Успех ПРМ побудил Атлантический альянс в декабре 1996 г. принять решение о создании Совета атлантического партнерства (САП)3, По заявлению американской администрации, САП будет открыт для всех членов ССАС и ПРМ и будет представлять собой «коллективный голос» ПРМ, что даст всем участникам новый единый механизм сотрудничества друг с другом, а не только непосредственно с НАТО4.
Проекты сотрудничества со странами Центральной Азии, вероятно, не отнесут к высоким достижениям. Центральная Азия почти не упоминалась на первом этапе дискуссий о ПРМ в конце 1993 — начале 1994 г.; но «второстепенный характер» этого сотрудничества в общей перестройке пространства безопасности ОБСЕ не лишает обоснованности суждение Соланы. Программы ПРМ с Центральной Азией следует рассматривать как сравнительно эффективное средство достижения общей стабильности в этой части южного фланга ОБСЕ, учитывая незначительность финансовых вложений в такие программы сотрудничества. Создание батальона из узбекских, казахских и киргизских войск численностью 500 человек, который предназначается для выполнения операций, проводимых под эгидой ООН и подготовка которого будет осуществляться в рамках ПРМ при американской поддержке5, не означает формирования контингента сил по поддержа1
См.: Address by Mr. Javier Solana, Secretary General of NATO at the Atlantic Treaty Association Assembly. Rome, 1996, November 4 // Всемирная паутина (World Wide Web). Домашняя страница http://www.nato.int/docu/speech/! 996/s961104a.htm.
2
Secretary General’s Speech at IEEI Conference. Lisbon, 1996, November 25. «NATO and the Development of the European Security and Defence Identity» // Всемирная паутина. Домашняя страница http://www.nato.int /docu/speech/1996/s961125a.htm.
3
См.: NACC Meeting, NATO Headquarters— 1996, December 11. Scenario and Speaking Notes for the Chairman // Всемирная паутина. Домашняя страница http://www.nato.int/speech/! 996/s96121 ly.htm
4
См.: Statement by Secretary of State Warren Christopher at the North Atlantic Cooperation. Council, 1996, December 11 // Всемирная паутина (World Wide Web). Домашняя страница http://www.nato.int/speech/1996/s96121 le.htm.
5
См.: Monitor. 1996. Vol. II. No. 68. April 5; No. 210. November 8 // Сервер Internet isn (listserv @ ccl.kuleuven.ac.be).
232
нию мира, который способен был бы остановить любые серьезные этнические конфликты в регионе, но в этом можно увидеть позитивный шаг к региональной интеграции военных сил двух основных центральноазиатских стран (Казахстана и Узбекистана), претендующих на ведущую роль в регионе. В этом можно также видеть шаг к укреплению суверенитета стран-участниц по отношению к России.
Сотрудничество НАТО со странами Центральной Азии должно рассматриваться как успешное еще в одном аспекте. В отличие от большей части других программ ПРМ оно не основано ни на ранее существовавших демократических нормах и ценностях, ни на общих интересах или восприятии безопасности. Общая идентичность и общее восприятие безопасности, однако, не являются обязательной предпосылкой для налаживания плодотворного военного сотрудничества или образования военных альянсов в новой Европе ОБСЕ. Сближение различных норм, ценностей, интересов и восприятий вполне может в определенной степени и в некоторых областях иметь место как результат эффективной и продуманной работы институтов безопасности и долгосрочных инициатив по сотрудничеству, примером чего является ПРМ.
Динамика безопасности, существующая между членами ОБСЕ и ССАС, не представляет собой единую систему. Ниже будет показано, что ОБСЕ и ССАС предлагают центральноазиатским государствам, чьи интересы и восприятие безопасности имеют мало общего с интересами и восприятием большинства других членов ОБСЕ или ССАС, полезный инструмент для проведения своей политики безопасности и для выражения своей национальной и региональной идентичности. «Главному молчаливо подразумеваемому принципу» ОБСЕ, согласно которому миф об общих ценностях, нормах и восприятии безопасности может быть эффективным в долгосрочном плане для создания стабильности в процессе национального строительства в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии, вторит внешнеполитический принцип центральноазиатских правительств, в соответствии с которым сотрудничество с Западной Европой может в длительной перспективе укрепить суверенитет и безопасность этих стран.
Доказательство данного тезиса будет иметь несколько ступеней. Во-первых, будет проведен анализ того, каким образом страны Центральной Азии составляют региональные комплексы безопасности, согласно определению Барри Бьюзена (Buzan 1991: 186—229; Coppieters 1996а: 193—204), вместе с Россией и другими соседними странами. Мы также исследуем, как отсутствие внутреннего суверенитета центральноазиатских государств ограничивает их внешний суверенитет, в первую очередь по отношению к России — основному участнику формирования 233
региональных комплексов безопасности. Во-вторых, мы увидим, как интересы и восприятие безопасности центральноазиатских стран, политические дефиниции их национальной и региональной идентичности, а также их политика в области региональной интеграции согласуются с их активным участием в ОБСЕ и ССАС. В-третьих, будет рассмотрено, в какой степени это участие определяется экономической и военной вовлеченностью Запада в Центральную Азию. Эта политика действительно играла определяющую роль в формировании региональных комплексов безопасности путем введения в действие локальных и внешних моделей конфликтов и сотрудничества.
Центральноазиатский комплекс безопасности
Ни члены ОБСЕ, ни участники ССАС не представляют собой самостоятельных региональных комплексов безопасности. Различные группы государств, составляющие региональные системы безопасности, тем не менее могут быть выделены в рамках обеих организаций. Эти группы государств, характеризуемые географической близостью и общими заботами о безопасности, достаточно тесно связаны, чтобы составить регион с определимыми границами. Это не значит, что границы между региональными образованиями не могут при определенных обстоятельствах подвергаться глубоким изменениям. Исчезновение советских границ способствовало в Центральной Азии установлению экономических, политических и культурных связей с соседними странами, чье воздействие на процесс создания региональных комплексов безопасности не следует недооценивать.
На своих юго-восточных границах Россия составляет региональный комплекс безопасности вместе с пятью центральноазиатскими государствами — Казахстаном, Узбекистаном, Киргизией, Таджикистаном и Туркменией и в определенной степени с Ираном, Афганистаном, Пакистаном и китайской провинцией Синьцзян. Следует проводить различие между этим теоретическим концептом комплекса безопасности и многочисленными попытками определить эту часть Азиатского континента, которую мы называем «Центральной Азией». Данный термин, созданный европейцами в XIX в. (Yapp 1994: 1 —10; Ferdinand 1994: 1), был заменен в советское время термином «Средняя Азия», включающим Узбекистан, Таджикистан, Киргизию и Туркмению, но исключающим Казахстан, в котором проживало намного более многочисленное русское население, чем во всех остальных азиатских республиках. Досоветский термин был восстановлен после кончины Советского Союза, что выражало надежду на то, что вертикальная форма политической и экономической интеграции будет 234
заменена горизонтальной. На центральноазиатском саммите, состоявшемся в январе 1993 г., главы государств Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении и Таджикистана договорились о восстановлении термина «Центральная Азия» для обозначения всех пяти стран (Dannreuther 1994: 42). Это изменение терминологии выражало желание всех участников установить связи между своими странами, которые до получения ими независимости были односторонне ориентированы в сторону центра.
В отличие от теоретического понятия «региональный комплекс безопасности» понятие «Центральная Азия» имеет политический смысл, как и многие другие концепты, которые использовались или используются для конкретных идеологических целей (как, например, турецкий концепт «Турана» или узбекский концепт «Великого Туркестана»). Пять центральноазиатских государств являются лишь частью центральноазиатского регионального комплекса безопасности, постольку поскольку мы определяем этот региональный комплекс безопасности как региональное образование, которое можно выделить из ряда других благодаря специфическим моделям безопасности, в которых страны, составляющие это образование, не могут реально рассматриваться отдельно друг от друга (Buzan 1991). Россия исключается из понятия «Центральноазиатский регион», но должна быть включена в понятие «центральноазиатский региональный комплекс безопасности», так как ее безопасность в значительной степени зависит от безопасности ее южного фланга, а провести четкие границы безопасности в казахских степях невозможно (Olcott 1995: 362; Lange 1994: 11 —14).
Россия как основной преемник советской империи действительно входит во все три комплекса безопасности, которые возникли на территории Советского Союза1. Географическая близость России к этим регионам, расквартирование там ее войск и наличие значительных по численности русских меньшинств, живущих в соседних странах, — вот некоторые из основных факторов, определяющих ее принадлежность к кавказскому и * В
~~1
В рамках ССАС можно выделить три региональных образования. Кроме центральноазиатского комплекса безопасности, Россия, например, составляет на своих западных границах региональный комплекс безопасности с Украиной, Белоруссией, членами НАТО и перспективными членами в Восточно-Центральной Европе и Прибалтике. На своих южных границах Россия образует региональный комплекс безопасности вместе с тремя закавказскими республиками — Азербайджаном, Грузией и Арменией и частично с Ираном и Турцией. Российская концепция «ближнего зарубежья» на первый взгляд не делает никаких различий между отдельными региональными комплексами безопасности, в которых участвует Россия. Российская внешняя политика, однако, всегда учитывала специфические характеристики различных регионов.
235
центральноазиатскому региональным комплексам безопасности. Что касается третьего комплекса, то российское правительство использовало концепцию «ближнего зарубежья» для выражения подобной взаимозависимости всех своих соседей. Оно также выдвигает претензию на защиту гражданских прав всех представителей большой русской диаспоры. Самосознание России, согласно которому значительная часть ее истории имеет общие корни с ее соседями, также нельзя упускать из виду. В отличие от политического концепта «ближнего зарубежья» понятие «региональный комплекс безопасности» не содержит никакой легитимации вмешательства какой-либо страны в дела региона с целью защиты своих государственных интересов или исключения других стран из конкретной сферы влияния. Оно лишь означает, что налицо достаточно устойчивые отношения конфликта, протекции, подозрительности и страха внутри отдельной группы стран, чтобы ее можно было отграничить от других групп стран.
Цивилизационные связи не имеют первостепенного значения для определения региональных комплексов безопасности. Даже страны со сходными цивилизационными корнями не обязательно составляют общий комплекс безопасности, поскольку они не всегда могут ощущать, что у них есть общие интересы безопасности. Центральноазиатские правительства, например, не считают Азербайджан частью своего региона, несмотря на их общие мусульманские традиции. Они полагают, что их интересы безопасности связаны, особенно с экономической эксплуатацией ресурсов Каспийского моря, — но не настолько, чтобы проявлять озабоченность в плане безопасности, подобную той, какую испытывают в отношении друг друга или России.
Центральноазиатские государства участвуют в региональной динамике безопасности вместе с другими странами региона, такими, как Иран, Китай, Афганистан и Пакистан. Все эти страны не могут реально рассматривать свою национальную безопасность отдельно друг от друга. Связка между интересами безопасности центральноазиатских государств и такими же интересами соседних стран — Афганистана, Пакистана и Ирана — стала очевидной в ходе таджикской и афганской гражданских войн. Экономическое развитие всех стран, входящих в региональный комплекс безопасности, в основном зависит от возможности создания безопасных транспортных путей через регион и из него. Стабильность в Таджикистане и Афганистане является непременной предпосылкой для установления транспортных путей между Узбекистаном и пакистанским портом Карачи. Подобные же маршруты из Центральной Азии на западные рынки через Закавказье также непременно потребовали бы политического урегулирования всевозможных конфликтов в Кавказском регионе.
236
Озабоченность в сфере безопасности, ощущаемая Казахстаном, Узбекистаном, Киргизией, Таджикистаном и Туркменией в связи с Россией, основывается на защите как внутреннего, так и внешнего суверенитета. Центральноазиатским правительствам приходится одновременно решать задачи установления действенного контроля над собственным народом и заботиться о признании со стороны других сил в международном окружении (Beitz 1993: 236). Трансформация административных и в ряде случаев почти целиком фиктивных институтов советской эпохи в суверенные органы (Olcott 1995: 355) имеет преимущественно внутреннее измерение. Правительствам региона нужно следить за тем, чтобы их граждане не идентифицировали себя с соплеменниками или политическим руководством в сопредельных странах теснее, чем со своими согражданами и правительством (Franklin 1995:22). Это первичное условие внешнего суверенитета этих стран. При определении Центральноазиатского региона с точки зрения регионального комплекса безопасности анализ следует начинать с субнационального уровня, прежде чем переходить на национальный.
Таджикистан и Казахстан — это два государства Центральной Азии, испытывающие наибольшие трудности в деле создания интегрированных наций. В 1992 г. Таджикистан стал жертвой гражданской войны между различными региональными кланами. Казахстан представляет собой «страну меньшинств», в которой русское население, в основном живущее в северной части страны, составляло в 1989 г., по официальной переписи, 38%, а казахское — около 39,8% (Dannreuther 1994: 78). Эти цифры резко изменились после достижения независимости благодаря высокой русской эмиграции. Напряженность между различными регионами страны вызывается не только изменением этнического равновесия — и разногласиями между различными группировками внутри самой титульной нации, — но и значительным экономическим диспаритетом между промышленным Севером, в основном сельскохозяйственным Югом и западным регионом, богатым полезными ископаемыми. Различные регионы республики в большей степени интегрированы с соседними странами (особенно северная часть — с Россией), чем между собой. Дискриминационная политика, которую начали проводить в Казахстане после получения независимости, вызвала оппозицию со стороны небольших русских группировок, но не привела к политической дестабилизации страны.
Узбекистан этнически гораздо более однороден, чем Казахстан, даже если этническую идентичность трудно установить в стране, где основной язык у гражданина — русский, таджикский или узбекский — недостаточен для определения его национальности. В целях контроля за проявлениями региональной и этнической розни введена система губернаторов (хакимов), лично ото237
бранных президентом Каримовым (Dannreuther 1994: 32). Этнические конфликты, исламский фундаментализм и общественное недовольство, вызываемое политикой перехода к рынку, — вот три главные угрозы безопасности, с которыми, по собственному признанию, сталкиваются узбекские власти.
Согласно переписи 1989 г., титульная национальность Киргизии составляла 52,4% населения. Приходится также принимать во внимание традиционное напряжение между киргизами с Юга, живущими вокруг Ферганской долины, находящейся в Узбекистане, и киргизами из более индустриализированного Севера (Dannreuther 1994: 39). В южной Ошской области Киргизии в 1990 г. происходили жестокие столкновения между узбеками и киргизами.
Центральноазиатский комплекс безопасности частично охватывает Китай. Миграционные потоки из провинции Синьцзян в Киргизию и Казахстан воспринимаются как угроза обеими странами. Особенно Казахстан, пережив русскую миграцию, используемую как аргумент в территориальных притязаниях, опасается долговременных последствий для своей территориальной целостности от поселения китайских иммигрантов вдоль своих границ. Китай — лишь одно из многих ядерных государств, которыми окружены страны Центральной Азии. Ядерные испытания в Лобноре (Синьцзян), всего в нескольких сотнях километров от границы с Казахстаном и Киргизией, ощущаются как экологическая угроза.
Интересы военной безопасности Центральной Азии и «Партнерство ради мира»
Военная безопасность России на ее южных границах зависит от ее центральноазиатских соседей. Границы между союзными республиками в советское время не имели военного значения. Россия, ссылаясь на высокие затраты на реорганизацию своей обороны в случае оборудования новой международной границы, установила пограничные посты на границах СНГ в Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Туркмении. Ее войска дислоцируются во всех центральноазиатских республиках, кроме Узбекистана.
Распад Советского Союза оставил государствам Центральной Азии в наследство большой арсенал вооружений. Казахстан обладал ядерными базами, демонтажу которых способствовала по-ли- тика США и России. Ташкентский договор мая 1992 г. о коллективной безопасности предусматривал раздел военной техники бывшего СССР между республиками СНГ. В целях выполнения Договора об обычных вооружениях значительное их количество было переведено на восток от Урала. То, что центральноазиатские государства обладали военной техникой, не означало, что они имели современные армии. Офицерский корпус в бывшем СССР в основном комплектовался из русских. За весь советский период 238
только три казаха окончили Академию Генерального штаба. Даже если большое число русских офицеров осталось в Центральной Азии, местным правительствам приходилось решать трудную задачу: модернизировать свои войска, не впадая при этом в полную зависимость от России. Программа ПРМ — особенно при условии ее дополнения другими военными соглашениями, например с США, Турцией и Германией, — служит цели укрепления центральноазиатских национальных армий. Западные правительства, к примеру, обеспечивают подготовку их военного персонала, тогда как министерство обороны России испытывает большие финансовые трудности и ему становится все труднее вести бесплатное обучение военных кадров центральноазиатских государств1. Из числа 1 6 стран—членов НАТО США разработали крупнейшие индивидуальные программы, включая проведение обычных военных учений на территории обеих сторон, подготовку офицеров, планирование бюджета и сотрудничество по невоенным вопросам, таким, как стихийные бедствия и экологические катастрофы2 3. Казахстан открыл в сентябре 1996 г. военную академию, специализирующуюся на подготовке профессиональных армейских сержантов по американской модели; эта страна стала первой страной СНГ, в которой введена американская сержантская система как основа будущей профессиональной армии^.
В Казахстане имелось много предприятий ВПК, но, как и во всех других центральноазиатских странах, там не было полного цикла производства (Kortunov and oths. 1995; 302). Ряд членов НАТО ныне поставляют в эти страны военную технику и «ноу-хау» или даже, как в случае Узбекистана, сотрудничают в области военного 1
В феврале 1996 г. межведомственная комиссия правительства РФ по делам СНГ пришла к выводу, что дополнительное финансирование подготовки офицеров из стран СНГ «имеет стратегическое значение для России». Оно необходимо для того, чтобы превзойти по привлекательности западные военные академии и способствовать продаже российских вооружений в ближнее зарубежье. Российское министерство обороны сообщило, что военные училища были в состоянии принять 1 тыс. курсантов из стран СНГ, но предложило сократить эту программу подготовки офицеров. Причина этого не только нехватка финансов. Министерство сетовало на то, что курсанты из стран СНГ плохо говорят по-русски, имеют недостаточное образование, настаивают на соблюдении религиозных обрядов и порой совершают уголовные преступления ввиду отсутствия финансирования со стороны собственного правительства (см.: Monitor. 1996. Vol. II. Ыою 392. February 6).
2
См.: OMRI Daily Digest. 1996. No. 68. April 4; Monitor. 1996. 5 April // Сервер Internet listserv isn (listserv @ ccl .kuleuven.ac.be); OMRI Daily Digest. 1996. No. 72. April 11; OMRI Daily Digest. 1996. No. 69. April 5.
3
Cm.: Monitor. 1996. No. 167. September 10 // Сервер Internet listserv isn (listserv @ ccl.kuleuven.ac.be); OMRI Daily Digest. 1996. No. 177. September 12.
239
производства. Двусторонние программы военного сотрудничества между членами НАТО и центральноазиатскими странами осуществляются также вне рамок ПРМ. США образовали комитет по конверсии с Узбекистаном с целью перевести военное производство (например, заводы химических вооружений) на выпуск гражданской продукции1. Отдельные страны НАТО — и, в частности, США — предлагают значительную финансовую поддержку для подобных двусторонних кооперационных проектов. В отличие от российского представления о модернизации вооруженных сил стран Центральной Азии — реинтегрировать эти войска в структуру СНГ на первом этапе и укреплять их потенциал на втором — правительства Казахстана и Узбекистана видят в кооперации с ПРМ и ССАС возможность модернизации своих войск независимо от Москвы, что придает им больше рычагов на переговорах с Россией по координации военной политики. Киргизия избрала другой курс, подкрепляя свое сотрудничество в рамках ПРМ инициативами в невоенной сфере (например, в деле спасательных операций при стихийных бедствиях).
Российское присутствие во всех министерствах обороны в Центральной Азии считалось важнейшим препятствием для их сотрудничества с ПРМ. Подписание Россией в июне 1995 г. Индивидуальной программы партнерства (ИПП) показало, однако, что центральноазиатские правительства имели достаточную свободу действий, чтобы договариваться о собственных программах сотрудничества с НАТО. В январе 1996 г., еще до подписания ИПП, министр обороны Казахстана Алибек Касымов полагал, что армия его страны способна решить свои организационные проблемы, отчасти на основе последних соглашений внутри СНГ и программы ПРМ2.
Министры иностранных дел Казахстана, Узбекистана и Киргизии объявили о том, что их совместный миротворческий батальон,
1
См.: OMRI Daily Digest. 1995. No. 237. December 7; OMRI Daily Digest. 1996. No. 50. March 11; Monitor. 1996. No. 51. March 13; Monitor. 1996. No. 98. May 17 // Сервер Internet listserv isn (listserv @ ccl.kuleuven.ac.be).
2
Cm.: OMRI Daily Digest. 1996. No. 3. January 4; см. также заявление казахского министра иностранных дел Каната Саудабаева в 1994 г., что «Казахстан вынужден проводить свою внешнюю политику в контексте существующего баланса сил и интересов, когда некоторые государства становятся сильнее, а другие слабее и нет твердых гарантий, что зоны конфликтов или нестабильности не появятся в непосредственной близости от Казахстана и не поставят под угрозу его безопасность ... Чтобы улучшать международную ситуацию, укреплять стабильность и безопасность, крайне важно развивать международные контакты и сотрудничество. Роль международных организаций, включая НАТО, вряд ли можно поэтому переоценить» (Saudabayev К. Kazakhstan and NATO — Towards an Eurasian Security System // NATO's Sixteen Nations. 1994. No. 2. P. 33 цит. no: Blank (1995). P. 382.
240
который будет поставлен под командование ООН, будет проходить подготовку в рамках программы ПРМ1. В августе 1996 г. Казахстан инициировал создание собственной Каспийской фло¬
тилии. включившей 6 судов береговой охраны, подаренных США2. Значение такого рода военной поддержки для Казахстана,
ведущего трудные переговоры с Россией о международном статусе Каспийского моря, нельзя переоценить. Большую активность
в развитии проектов военного сотрудничества с различными центральноазиатскими государствами проявляет Турция. В сентябре 1996 г. меморандум о военном сотрудничестве был подписан между Турцией и Казахстаном3. Невоенные формы безопасности, такие, как защита окружающей среды, занимают важное место в индивидуальной программе ПРМ для Киргизии4.
Политика в сфере центральноазиатской идентичности и «Партнерство ради мира»
ССАС представляет собой форум для диалога по вопросам, касающимся безопасности. Можно ли теоретически осмыслить этот диалог между западными и центральноазиатскими концепциями региональной идентичности и региональной безопасности? Понятие «региональная идентичность» имеет важный культурный компонент, который включает в себя понятие «комплекс безопасности», поскольку устойчивые модели дружбы/вражды в концепции безопасности усиливаю культурные различия. Понятие «региональная идентичность» имеет более широкий смысл, чем термин «региональный комплекс безопасности», так как субъективное самоощущение нации относительно своего положения в конкретном международном окружении включает и заботу о безопасности, и «устоявшиеся отношения добрососедства, защиты, поддержки, подозрительности и страха».
Правительственная политика в области идентичности не обязательно совпадает с отдельными региональными границами безопасности. Турецкая концепция Турана, например, выражающая желание правительства Турции играть ведущую роль в регионе, включает обширное сообщество тюркоязычных народов Центральной Азии и Кавказа, исключая Грузию и Армению, и связы—1
См.: OMRI Daily Digest. 1996. No. 86. May 2.
2
См.: Monitor. 1996. No. 167. September 10 // Сервер Internet listserv isn (listserv@cc 1 .kuleuven.ac.be).
3
Cm.: OMRI Daily Digest. 1996. No. 173. September 6.
4
Cm.: OMRI Daily Digest. 1996. No. 68. April 4.
241
16 1814
вает между собой страны, принадлежащие к весьма различным комплексам безопасности.
По самоощущению своей национальной и региональной идентичности казахская культура является синтезом как европейской, так и азиатской исторических традиций. Это самоощущение, основанное на объективных исторических, этнических и экономических критериях, должно рассматриваться как выражение тревоги казахов в связи с тем, что их национальной идентичности может угрожать ассимиляционная китайская культура. Европейское измерение евроазиатской национальной идентичности мыслится как гарантия от возможности ассимиляции со стороны китайской культуры. Казахстан, в отличие от большинства других бывших союзных республик, никогда не мыслил «независимости» как «независимости от России», а, вступив в СНГ вместе с другими центральноазиатскими республиками в 1992г., был искренним поборником интеграции в рамках СНГ (Dannreuther 1 994: 45—46). Назарбаев отмечал, что его страна, особенно благодаря своему этническому составу, «связана с Россией не то что тысячами — миллионами нитей и миллионами человеческих судеб» (Dannreuther 1994: 9— 10). Как России, так и Казахстану приходится разрабатывать политическую стратегию в соответствии со своими общими интересами на Евразийском континенте (Ахмеджанов, Султангалиева 1995).
Не только представления политического руководства о безопасности, но и культурное самоощущение казахской интеллигенции нашли свое отражение в заявке о приеме Казахстана в Совет Европы и в предложениях президента Назарбаева о Евразийском союзе и азиатском варианте ОБСЕ. Ни одна из этих трех инициатив, призванная утвердить международный авторитет Казахстана, не дала значительных результатов. Несмотря на прием в Совет Европы таких «евроазиатских» стран, как Турция или Россия (в качестве членов), Грузии, Армении и Азербайджана (как будущих членов), заявка Казахстана имеет мало шансов когда-либо реализоваться.
Казахская идея о Евразийском союзе подразумевала превращение Содружества в конфедерацию, которая будет основана на принципе равноправия всех участников и при которой наднациональные институты будут наделены правом проведения экономической и оборонной политики. Это предложение было сочтено неприемлемым другими членами СНГ (Olcott 1995: 360). Казахстан также предложил создать азиатский вариант ОБСЕ, но это не вызвало энтузиазма у стран, приглашенных на форум Конференции по взаимодействию и мерам укрепления доверия в Азии (CICA) в феврале 1996 г.1
~1
См.: OMRI Daily Digest. 1996. No. 29. February 9.
242
Международные инициативы Узбекистана, не имеющего общих границ с Россией, но граничащего со всеми другими центральноазиатскими государствами, носят более региональный характер. Узбекское правительство попыталось использовать идею единства Центральноазиатского региона посредством создания «великого Туркестана». Эта идея подается как возможное решение проблемы разделения региона — наследия русской колониальной политики (Dannreuther 1995: 48). Эта идея может также способствовать укреплению национального самосознания среди различных национальностей, проживающих в Узбекистане. Президент Каримов все же поостерегся от интерпретации этой идеи как политической программы воссоединения региона, при котором были бы ликвидированы суверенные права всех центральноазиатских республик, но придает ей толкование межправительственной программы культурного сотрудничества1.
Казахстан, Киргизия и Узбекистан участвуют в региональных инициативах интеграции, имея в виду прежде всего экономические цели. Эти три страны создали Центральноазиатский союз в целях экономического и политического сотрудничества; как Казахстан, так и Киргизия являются, наряду с Россией и Белоруссией, участниками Договора четырех, заключенного в марте 1996 г. под эгидой Москвы.
Региональные концепции Узбекистана и Казахстана, в которых конкретные интересы национальной безопасности связаны со специфическими взглядами на историю и культуру региона, не мешают их активному участию в ОБСЕ и ССАС. Универсалистская идеология этих двух организаций по безопасности сравнительно индифферентна к какому-либо историческому или культурному самоощущению роли и места той или иной страны в том или ином регионе. ОБСЕ, например, не противоречит ни узбекской концепции великого Туркестана, ни казахской концепции Евразийского союза. Универсалистский подход к интересам национальной безопасности и идентичности государства, связывающий, например, — в случае ОБСЕ — процесс национального строительства с защитой прав меньшинств или — в случае ССАС — строительство национальной обороны с демократическим пониманием гражданского контроля над вооруженными силами, может, однако, привести к конфликтам с национальной идентичностью, определяемой сквозь призму культуры. Вызов, с которым сталкиваются такие институты, как ОБСЕ, состоит не в определении, но в См.: Interview of Roza Otunbayeva, Foreign Minister of Kyrghyzstan, Former Soviet Republic // Central Asia Political Discussion List. 1996. February 16 (Всемирная паутина. Сервер Cenasia@vml .mcgill).
243
16*
воплощении универсальных ценностей посредством правил поведения, обязательных для всех стран—участниц. Ценностные конфликты характерны для двусторонних отношений между центральноазиатскими и западными правительствами. Как США, так и страны—участницы Европейского союза считают демократизацию центральноазиатских политических структур и развитие правового государства основной гарантией стабильности, способствующей безопасным инвестициям в регион. Продление полномочий президента до конца века в Казахстане, Киргизии, Узбекистане и Туркменистане, позволившее обойти принцип регулярности выборов, было расценено как США, так и ЕС как шаг в неверном направлении1. Дипломатические трения имеют для центральноазиатских правительств гораздо меньшее значение, чем политические и военные возможности, предлагаемые ОБСЕ и ССАС. Оба института безопасности дают множество возможностей для дипломатических компромиссов. Союзники по НАТО обсудили со своими партнерами в ССАС необходимость установления демократического контроля над военной сферой. На своей встрече в декабре 1995 г. страны—участницы ССАС заявили, что демократический контроль над вооруженными силами составляет важнейший элемент любой зрелой демократии, признавая при этом, что национальная политика по проведению этой цели в жизнь вынуждена приспосабливаться к конкретным историческим обстоятельствам (Coppieters and oths. 1996b).
Западные правительства подвергали критике отсутствие парламентской демократии в Казахстане. Парламент, который был избран в 1996 г., действительно с трудом можно было назвать законодательным собранием. Такая разница во мнениях между Казахстаном и западными правительствами не помешала дальнейшей «вестернизации» страны. Перед открытием первой сессии новоизбранного парламента 2 сентября 1996 г. президент Назарбаев отстаивал необходимость более широкого использования английского языка в системе образования. Сам парламент призывали «скорректировать» таможенное и налоговое законодательство в целях привлечения большего объема западных инвестиций2.
Президент Киргизии Аскар Акаев учитывал, что Запад пристально наблюдает за увязкой политической демократизации с экономической реформой (Olcott 1996: 7, 18, 87). При встрече О политике Европейского союза в Центральной Азии см.: Commission Communication to the Council. The EU's Relations with the Newly Independent States of Central Asia. Executive Summary, 1995.
2
Cm.: Monitor. 1996. Vol. II. No. 162, September 3.
244
с президентом Джорджем Бушем в Вашингтоне осенью 1991 г. он цитировал Джефферсона и Джона Стюарта Милля и говорил о своей стране как об «азиатской Швейцарии», ссылаясь на ее демократические традиции и надеясь, что она заинтересует международные финансовые и промышленные круги. Посол Джума- кадыр Атабеков, советник президента Республики Кыргызстан, гордо заявлял в ноябре 1996 г., что официальные представители НАТО видят в его стране, «пожалуй, наиболее чуткого партнера из всех стран СНГ». В его представлении, демократические принципы, включая политику НАТО, направленную на содействие установлению гражданского контроля над вооруженными силами, соответствуют древним тюркским политическим институтам Киргизии, которая сохранила «разделение между военной и гражданской администрацией, выборы монархов, всеобщую мобилизацию в случае опасности извне и многое другое» (Atabekov 1996: 31—32).
Узбекский президент Ислам Каримов, чувствуя угрозу со стороны исламских и националистических движений, вначале категорически отвергал любую западную критику нарушений прав человека его режимом. Он прямо заявил тогдашнему госсекретарю США Джеймсу Бейкеру в ходе визита последнего в Ташкент в 1993 г., чтобы тот не вмешивался во внутренние дела страны, когда США рекомендовали Каримову вступить в диалог с подвергавшимися репрессиям оппозиционными группами и диссидентами (Dannreuther 1994: 34). Однако, желая привлечь в страну новые западные инвестиции и улучшить отношения с США, он изменил свою позицию, когда политическая ситуация в какой-то мере стабилизировалась. 29 августа 1996 г. президент Каримов, выступая перед олий маджлисом (узбекским парламентом), объявил, что его правительство выступает за демократию и сотрудничество с международными правозащитными организациями1. Конференция по правам человека в Узбекистане, проведенная под эгидой ОБСЕ в сентябре 1996 г. с участием официальных лиц, бывших диссидентов и неправительственных правозащитных организаций, была истолкована как еще один сигнал, говорящий о желании Узбекистана смягчить свой репрессивный имидж за границей2. Такие эффектные жрсты не считаются наблюдателями достаточными, чтобы гарантировать демократизацию политической жизни в Узбекистане, но все же они свидетельствуют о возможности эффективного внутреннего и западного нажима в ”1
См.: OMRI Daily Digest. 1996. No. 169. August 30.
2
См.: OMRI Daily Digest. 1996. No. 177. September 12.
245
пользу демократизации и создания правовой системы для обеспечения иностранных инвестиций1 2.
Роль Запада в центральнозиатском комплексе безопасности
Политика в отношении ближнего зарубежья, публично провозглашенная президентом Борисом Ельциным в начале 1993г., была основана на том положении, что Россия имеет исключительные интересы в соседних странах. Эта политика отрицала внешнее вмешательство со стороны Турции или Ирана, которые вместе претендовали на ведущую роль в Центральной Азии и на Кавказе. Иранская концепция рассматривает страны Центральной Азии как бывшие «провинции», составляющие единый Kulturgebiet (культурную область) с Ираном. Считается также, что единство Центральноазиатского и Кавказского регионов (Asiaye Markazi va Ghafghaz)^ основано на таких общих факторах, как единые интересы безопасности в районе Каспийского моря и членство этих стран в ЭКО (куда войдут Грузия и Армения, как только будет найдено хотя бы временное решение нагорно-карабахского конфликта).
В отличие от российской концепции ближнего зарубежья, турецкой концепции Турана, иранской — Центральной Азии и Кавказа или казахской — Евразийского союза, ни США, ни Европейский союз не разрабатывают свою политику в свете специфической региональной идеи, выходящей за рамки фактического существования пяти центральноазиатских государств.
Как у США, так и у Европейского союза есть интересы в регионе, особенно связанные с разработкой его обширных нефтегазовых ресурсов, политической стабильностью и прокладкой газопроводов из Казахстана и Азербайджана на мировые рынки. Движение капиталов на мировой рынок не сковано государственными границами. Даже если вовлеченность Запада в центр Азии еще не достигла такого уровня, чтобы он мог стать частью регионального комплекса безопасности, политика Запада в реги1
См.: The Economist. 1996. September 21; о политике США в отношении Узбекистана см.: Независимая газета. 1996. 27 сентября; OMRI Daily Digest I. 1996. No. 50. March 11.
2
На конференции по Центральной Азии и Кавказу, проходившей в январе 1996 г. в Тегеране и организованной Институтом политических и международных исследований, не проводилось никакой принципиальной разницы между обоими регионами. Доклады по различным регионам обсуждались в одних и тех же рабочих группах. Об иранской точке зрения см. двойной выпуск журнала: «The Iranian Journal of International Affairs, VI (3&4), статью «The Process of Development in Central Asia and the Caucasus».
246
оне активно формирует его внутреннюю структуру и внешние границы. ЕС имеет в Центральной Азии более широкие интересы, чем США, поскольку представляет собой важнейшего будущего потребителя энергоресурсов региона. В 1995 г. почти половина объема потребления импортированного газа странами ЕС приходилась на Россию, но они прогнозируют растущий спрос на энергоресурсы, который будет покрываться главным образом из месторождений в Азербайджане и Центральной Азии. Энергетическая политика Европейского союза уделяет больше внимания газовым, нежели нефтяным месторождениям региона1.
Проблема транспортировки сырья на мировой рынок не может, однако, быть решена без соглашений между центральноазиатскими производителями, западными инвесторами, Россией, Турцией и/или Ираном. Также по этой причине центральноазиатским правительствам нужно найти некоторый баланс между интересами соседних стран и возможностями, предлагаемыми не соседями. Организации по безопасности, подобные ОБСЕ и ССАС, в состав которых входят все перечисленные страны, за исключением Ирана, особенно привлекательны для центральноазиатских правительств. Они рассматривают оба института как фактор стабилизации конфликтующих интересов в своем регионе.
Партикулярные интересы и универсалистская риторика
Вопрос, поставленный во введении к настоящей статье: насколько универсальные нормы и принципы могут считаться реальной основой для функционирования таких международных институтов безопасности, как ССАС и ПРМ, — касается не только проблемы того, в какой степени можно ожидать, что страны без многолетних демократических традиций будут сотрудничать с западными странами. Он также затрагивает проблему: почему политика Европы, как и США, в сфере идентичности, направленная на защиту специфических экономических интересов и интересов безопасности, не выражена в партикуляристских категориях, как это имеет место с политикой в сфере идентичности, проводимой такими державами, как Россия, Иран или Турция? Согласно западному взгляду, демократические нормы, гражданские права и законность должны быть воплощены в жизнь во всех государствах, находящихся в пространстве ОБСЕ «от Ванкувера до Владивостока».
См.: Commission Communication to the Council. The EU’s Relations with the Newly Independent States of Central Asia, June 1995.
247
Западной универсалистской политике присущи специфические культурные средства выражения (cultural idioms). Роджер Брубейкер определил их как выражающие и в то же время составляющие идеальные и материальные интересы. Культурное средство выражения — это и способ мышления, и способ говорения о ценностных концептах, нередуцируемый вместе с тем к речевым актам. Конкретные культурные средства выражения подкрепляются (аге reinforced) и активируются специфической исторической и институциональной обстановкой (settings). Будучи подкреплены и активированы, они словесно оформляют и формируют политические суждения о том, что императивно и соответствует интересам государства.
Универсалистская риторика является частью самосознания Европы как высшей цивилизации, которая всегда была связана с повышенным интеллектуальным интересом к особой культуре своих колоний и с философией истории, выделяющей различные стадии мировой цивилизации (Den Boer 1993: 64—65). Западная концепция всеобщего прогресса посредством универсальной истории не исключает движения по кругу. Война, несоблюдение фундаментальных свобод, нарушения прав человека, агрессивный национализм, расизм, ксенофобия и межэтническая напряженность рассматриваются председателем ОБСЕ в 1996 г. — представителем Швейцарии как «появление нового варварства», представляющего значительную угрозу европейской безопасности после «расцвета фундаментальных свобод и прав человека в бывших коммунистических странах» (Cotti 1 996: 7—8). В универсалистском подходе не существует разницы между самосознанием Европы и самосознанием США — этой бывшей наиболее удачливой колонии Европы. Имеются лишь специфические европейские интересы безопасности, экономические интересы в Центральной Азии, которые в определенной степени отличаются от аналогичных интересов США, но не существует отдельной европейской политики идентичности.
В соответствии с западным самоощущением политика Запада как в области безопасности, так и в сфере идентичности основана на универсальных принципах и в то же время выражает особую общность ценностей и особое восприятие интересов безопасности, разделяемые нынешними и будущими членами НАТО. Это противоречие, возможно, поможет объяснить часто путаную терминологию, используемую при определении западноевропейской и американской политики безопасности в бывшем Советском Союзе и обозначении региона («европейская безопасность», «атлантическое партнерство», «евроатлантический район», «пространство ОБСЕ» и т.д.), который эта политика призвана обезопасить. Сходная путаница между универсалистской риторикой и особыми интересами безопасности может быть отмечена в терми248
нологии, применяемой при создании новых межстрановых институтов безопасности. Название «Совет атлантического партнерства», к участию в котором приглашаются члены ПРМ из Центральной Азии и Закавказья, является неплохим выражением того, каким видит Запад отношения между бывшей азиатской периферией СССР и новой системой международной безопасности.
Библиография
Ахмеджанов А., Султангалиева А. (1995). Идея Евразийского союза для СНГ и Казахстана (попытка реинтеграции постсоветского пространства на принципах партнерства) // Казахстан и мировое сообщество, 2, 1: 26—39.
Akiner S. (ed.) (1994), Political and Economic Trends in Central Asia, London, British Academic Press, 1994.
Atabekov D. (1996), 'The Kyrghyz Republic and NATO: A Formula for Cooperation', NATO Review, 44 (6): 30—33.
Beitz C.R. (1993), 'Sovereignty and Morality in International Affairs', in David Held (ed.), Political Theory Today, Polity Press, Cambridge.
Blank S. (1995), 'Energy, Economics and Security in Central Asia: Russia and its Rivals’, Central Asian Survey, 14 (3): 373—406.
Borawski J. (1995), 'Partnership for Peace and Beyond', International Affairs, 71(2): 233—246.
Buzan B. (1991), People, States and Fear. An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era, New York — London, Harvester Wheatsheaf.
Coppieters B. (1996a), 'Conclusions: The Caucasus as a Security Complex', in: Bruno Coppieters (ed.), Contested Borders in the Caucasus, Brussels, VUBPress, Brussels: 193—204.
Coppieters B, Bauwens W., De Cordier B., Nahavandy F. (1996b), 'The Central Asian Region in a New International Environment', Nato Review, 44 (5): 26—31.
Coppieters B. West European Policies Towards Georgia, готовится к публикации в: Coppieters В., Trenin D., Zverev A. (eds.) (1997), Commonwealth and Independence in Eurasia, London, Frank Cass.
Cotti F. (1996), 'The OSCE's increasing responsibilities in European security', NATO Review 44 (6): 7—12.
Dannreuther R. (1993—94), 'Russia, Central Asia and the Persian Gulf', Survival, 35 (4): 92—1 12.
Dannreuther R. (1994), Creating New States in Central Asia, Adelphi Papers 288, International Institute for Strategic Studies, Brassey's, London.
Dannreuther R. (1995), 'The Caspian Sea in International Politics', paper presented at the conference Oil and Caviar in the Caspian: A Balance of Power and a Balance of Interest, held in London, 23—24 February 1995, and organized by Menas Associates Ltd. and the Geopolitics and
249
International Boundaries Research Centre at London's School of Oriental and African Studies (SOAS), received by Internet.
Den Boer P. (1993), 'Europe to 1914: The Making of an Idea’, in: Wilson K., van der Dussen J. The History of the Idea of Europe, London and New York, Routledge: 13—82.
Drew N. (1996), 'NATO, NACC and the Partnership for Peace', in: Johnson, Archer, 213—228.
Ferdinand F. (1994), введение к его публикации The New Central Asia and its Neighbours, London, Pinter Publishers: 1—3.
Johnson L., Archer C., eds. (1996), Peacekeeping and the Role of Russia in Eurasia, Boulder — Oxford, Westview Press.
Franklin N. (1995), 'The Russian Diaspora in Kazakhstan', Russia & the Successor States Briefing Service, 3, 4: 22—35.
Kortunov A., Kulchik Y., Shoumikhin A. (1995), 'Military Structures in Kazakhstan: Aims, Parameters, and some Implications for Russia', Comparative Strategy, 14: 301—309.
Lange K. (1994), 'Intervention and Conflict Resolution in Central Asia’, Swords and Ploughshares, VIII, (2 & 3): 11 —14.
Menon R. (1995), 'In the Shadow of the Bear. Security in Post-Soviet Central Asia’, International Security, 20 (1): 149—181
Olcott M.B. (1995), 'Sovereignty and the «Near Abroad»', Orbis, Summer 1995: 353—367.
Olcott M.B. (1996), Central Asia's New States. Independence, Foreign Policy and Regional Security, United States Institute of Peace Press, Washington D.C., 1996.
Oliphant J.C. (1996), 'Partnership for Peace — A Progress Report', on line at gopher://marvin.nc3a.nato.int:70/00/secdef/csrc/g52txt.
Roy O. (1995), 'The Role of the OSCE in the Peace Process of Tajikistan, in: Sagdeev R.Z., Eisenhower S. (eds.) (1995).
Sagdeev R.Z., Eisenhower S. (eds.) (1995), Central Asia: Conflict, Resolution, and Change, 1995, published on line by The Center for Post-Soviet Studies on http:\www.intr.net/cpss/cabook.html.
Schatalina L. (1996), 'Sicherheitsprobleme der ehemaligen Sowjetrepubliken Zentralasiens', Oesterreichische Militaerische Zeitschrift, 1: 31—42.
Yapp M. (1994), 'Tradition and Change in Central Asia', in: Shirin Akiner (ed.) (1994): 1 — 10.
III. западноевропейский опыт РАЗРЕШЕНИЯ ЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ
Рут ван Дейк
РЕГИОНАЛИЗМ, ФЕДЕРАЛИЗМ И ПРАВА МЕНЬШИНСТВ В БЕЛЬГИИ
1. Введение
В данной работе предполагается обсудить три группы вопросов. Во-первых, дать исторический очерк бельгийского этнического конфликта, во-вторых, рассмотреть политические решения, которые из этого проистекают, и, наконец, в-третьих, глубже исследовать проблемы, которые остались нерешенными после осуществленных в стране политико-институциональных реформ.
Когда бельгийца просят вкратце обрисовать отношения между двумя большими группами населения в стране, ответ получается различным в зависимости от того, к кому обращена просьба — к нидерландоязычному или франкоязычному бельгийцу. На одну и ту же реальность нидерландоязычные и франкофонные бельгийцы имеют отличные взгляды. Автор статьи также относится к одной из этих групп населения — нидерландоязычной, — и потому, возможно, существует опасность, что это обстоятельство может повлиять на анализ проблем. Попытка автора как политического исследователя подняться выше такого разделения является и замыслом, и вызовом данной работы.
2. Бельгийский «этнический конфликт» и его политическое решение
2.1. «Этничность»: теоретическое объяснение, изложение, толкование
В Бельгии существуют две большие этнические группы населения: нидерландоговорящие фламандцы и франкоговорящие валлоны. Особое место занимает франкоговорящее население Брюсселя, которое не поддается столь однозначной классификации. С точки зрения антропологии этническая группа — это «любая группа людей, которая определяет себя и отделена от других групп, с которыми она взаимодействует и сосуществует, с точки 251
зрения определенного критерия или критериев, которые могут быть лингвистическими, расовыми или культурными»1. Изучение этнических групп предполагает поэтому прежде всего классификацию на базе того, что называется приписываемыми чертами. Данные черты — это те особенности личности (и, таким образом, группы, членом которой она является), которые мало или совсем не зависят от индивидуума. Примерами подобных приписываемых черт, которые трудно изменить, являются цвет кожи, язык, географическое происхождение, обычаи, привычки.
Индивидуумы не всегда и не обязательно осознают свою этническую принадлежность. Они могут физически выглядеть, думать и поступать, не осознавая своей (относительной) похожести и причастности к определенной группе. Джексон2 называет это «спящей» формой этнической принадлежности (этничности). Группа индивидуумов может неосознанно проявлять определенные приписываемые черты, которые объективно выделяют их именно в эту группу. Но эта «спящая» форма этнической принадлежности может быть мобилизована разными общественными и политическими целями. Правда, это означает не только то, что какое-то количество членов этнической категории сами начинают осознавать свою этническую принадлежность, но и то, что их сплачивают организационно. В этом процессе мобилизации «этнические» категории пробуждаются и трансформируются в этнические группы или этнонации.
Этнонация — это этническая группа, желающая иметь политический авторитет в стране, но не обладающая суверенитетом как таковым3. Этнонация превращается в нацию, когда этническая политика становится независимой. И хотя я в целом согласна с этой характеристикой, по моему мнению, Джексон все же мало считается с тем, что люди могут обладать этнической идентичностью и при этом не быть вовлечеными в политические процессы. Люди могут идентифицироваться со своей этнической категорией, т.е. сознавать свое (объективное или перцептивное) сходство без того, чтобы быть организованными для защиты и продвижения своих интересов по отношению к другой категории. Это возможно потому, что люди могут идентифицировать себя с определенной этнической категорией, не придавая слишком много значения этому членству. Отождествление себя с определенной этнической
1
Seymour-Smith Ch. Dictionary of Anthropology. New York: G.K. Hall & Co. 1986. P. 95.
2
Cm.: Jackson R.H. Ethnicity // Sartori G. (ed.). Social Science Concepts. A Systematic Analysis. London: Sage, 1984. P. 205—233.
3
Cm.: Ibid. 1984. P. 228.
252
категорией для многих может быть не более существенно, чем, например, отождествление себя с женским населением страны. Только когда этому членству придается очень большое значение, принадлежность к определенной этнической группе приобретает форму «этнонационализма» и «национализма».
2.2. Этническая идентификация и мобилизация в Бельгии: краткий исторический обзор
В Бельгии со времен провозглашения независимости проявляются две формы этнической идентификации и мобилизации, примеры чему мы видим и по сей день. Старейшим этническим движением является фламандское, которое ведет свое происхождение от движения за равноправие языка. В независимой Бельгии официальным языком был французский. В глазах франкоязычной элиты, которая управляла страной, фламандский/нидерландский язык представлял не только угрозу для только что завоеванного единства страны, но и якобы стоял на пути «прогресса». Французский был для них единственным подходящим языком для политики, экономики и науки; он же являлся и языком культуры. Фламандцы из средних слоев, которые умели читать и писать, выступали против дискриминации и требовали для фламандского языка места в общественной жизни. Это движение, в основе своей литературное, стало в первой половине XX в. настоящим фламандским национальным движением. Под влиянием демократизации общества и повышения уровня образования все больше фламандцев начали связывать свое социально-экономическое отставание с неравноправным статусом своего языка. Этническая приверженность (идентификация) проявилась в создании фламандских национальных партий и целого ряда обществ для защиты собственно фламандских интересов. Давление, которое этнические партии и движения оказывали на традиционные партии (католические, либеральные, социалистические), было настолько велико, что в 1962—1963 гг. фламандское движение выиграло важнейшую битву: нидерландский стал единственным официальным языком во Фландрии, французский — в Валлонии и немецкий — в небольших областях Восточной Бельгии. В Брюсселе в официальных учреждениях разрешалось пользоваться французским и фламандским языками. В частной жизни каждый имел право говорить на том языке, на котором пожелает.
Другая форма этнической принадлежности и мобилизации проявлялась с валлонской франкоязычной стороны. Она возникла
1
См.: Maddens В., Beerten R., Billiet J. О dierbaar Belgie? Het natiebewustzijn van Vlamingen en Walen. Leuven: IPSO, KUL, 1994. P. 11. 254
именно как реакция на только что описанный процесс фламандской идентификации и мобилизации и в то же время как следствие экономической отсталости валлонского региона.
Валлонское сознание всегда было неким смешением региональных и языковых элементов. Позиция местного валлонского движения по отношению к франкоговорящим жителям Брюсселя характеризовалась большей определенностью, что сохранилось до сего дня. Поиск равновесия между требованием большей автономии для Валлонии, с одной стороны, и поддержанием «солидарности» между валлонами и остальными франкоязычными бельгийцами (в Брюсселе и его окрестностях) — с другой, оказался делом непростым. Валлонское движение обеспокоено тем, что фламандцы могут занять доминирующую позицию. По численности населения валлоны всегда были меньшинством в Бельгии. Уступки требованиям фламандцев в конце XIX в. рассматривались как первый шаг на пути к будущему фламандскому господству. Поэтому неудивительно, что вначале лидеры валлонского движения столь сильно хотели сохранения централизованного унитарного франкоязычного бельгийского государства. Когда в 1919г. было введено всеобщее прямое избирательное право (один человек — один голос), валлонов охватил страх перед численным преимуществом фламандцев. По прошествии времени региональное направление в валлонском движении одержало верх. Его лидеры требовали большей автономии для Валлонии. Опасение доминирования Фландрии еще больше возросло после Второй мировой войны, когда Фландрия стала экономически более преуспевающим регионом. Тяжелая промышленность, которая была развита в Валлонии, устаревала, а инвестиции в новые технологии и отрасли промышленности делались в основном во Фландрии. В тех местах, где для приверженцев валлонского движения приоритетом еще оставалась франкоязычная солидарность, именно франкоязычные брюссельцы решительно поддержали интересы франкоязычных жителей. Особенно это характерно для периода после после 60-х годов. Франкоязычная партия была создана для того, чтобы защищать интересы франкоязычных брюссельцев («брюк- селуа»). Подавляющее большинство брюкселуа традиционно не говорило по-нидерландски, боясь потерять свое привилегированное положение во франкоязычной Бельгии. Начиная с 1962— 1963 гг., однако, необходимостью стала двуязычность, так как в располагавшейся в Брюсселе общенациональной администрации открылось большое количество вакансий. Поскольку большинство фламандцев говорили по-французски, а большинство франкофонов, напротив, не владели нидерландским, эта двуязычность была выгодна для фламандцев и невыгодна для франкоговорящих. До сих пор франкоязычные брюссельцы не устают говорить о важ255
ности объединения франкоязычных сил против того, что называется фламандским «доминированием».
2.3. Политическое решение бельгийского этнического конфликта: образование сообществ и областей
Только что мы увидели, что в Бельгии возникли две формы региональной этнической идентификации и мобилизации. Фламандское движение, возникшее ранее, требовало языковой и культурной автономии, т.е. положения, способствовавшего признанию и развитию собственного языка и культуры. Валлонское движение, как реакция на фламандское, требовало региональной автономии — самоуправления в социальных и экономических вопросах. Конечной целью было преодоление экономического кризиса в своем регионе. Следствием этой двойной динамики стало требование франкоязычных брюссельцев превратить их город в самостоятельную полноправную область.
Выполнение этих требований было проблематично из-за географического положения Брюсселя — внутри Фландрии. По мнению фламандцев, вся область, прилегающая к Брюсселю, должна стать неотъемлемой частью Фламандского сообщества. Валлоны не могут смириться с тем, что 800 тыс. франкофонов подпадут под управление фламандцев. По их мнению, Брюссель должен стать особой областью. Иначе говоря, фламандцы и валлоны стоят на противоположных позициях. При этом компромисс возможен, когда обе стороны идут на уступки, делая шаг навстречу друг другу. Единственным возможным вариантом разделения государства на сообщества является предоставление автономии языковым общинам (регионализация государства с предоставлением автономии областям). Так и случилось. В результате четырех следовавших друг за другом реформ государственной системы (1970/71, 1980/81, 1988 и 1993 гг.) Бельгия стала федеративным государством с тремя сообществами (Фламандским, Франкоязычным, Немецкоязычным) и тремя областями (Фламандской, Валлонской и Брюссельской).
Вопросы, в решении которых сообщества соответственно облечены полномочиями областей, особого рода. Области уполномочены заниматься целым рядом проблем, касающихся экономики и окружающей среды, проведения общественных работ, организации работы транспорта, поддержания общественного порядка и решения задач, связанных с местным самоуправлением. Сообщества, напротив, имеют полномочия, касающиеся культуры, образования и языка, а также личных дел граждан.
Бельгийский этнический конфликт был разрешен не только благодаря предоставлению автономии фламандцам и валлонам (франкоязычным) в решении вопросов, отнесенных к ведению 256
областей и языковых сообществ, но и посредством допущения в некоторой степени асимметрии в законодательных и исполнительных институтах. Фламандцы придают большее значение сообществу, неотъемлемую часть которого составляют фламандские жители Брюсселя (всего 3% всех фламандцев). Это означает, что брюссельские фламандцы почти не обладают законодательными полномочиями в вопросах, касающихся дел сообщества. С валлонской стороны, напротив, уделяется больше внимания областям, а именно Валлонской и Брюссельской. Когда в 1994 г. Валлонская область заимствовала у Франкоязычного сообщества большую часть полномочий, франкоязычные брюссельцы (17% всех франкоязычных в Бельгии) получили свои собственные законодательные полномочия по вопросам сообщества (ввиду того, что Брюссельская область была не уполномочена решать вопросы сообщества). Следствием всего этого явилось то, что Бельгия де-факто стала биполярным федеральным государством, в котором Фламандское сообщество и Валлонская область играют первые роли, а Брюссельская область и Немецкоязычное сообщество являются младшими составляющими.
3. Остающиеся «узкие места» в бельгийском федеральном устройстве: языковое меньшинство Брюсселя, столичная периферия и пограничная в языковом отношении территория
Двусоставная федерация, сменившая в Бельгии унитарное государство, создала основу для нормальных отношений между фламандцами и валлонами (франкофонами). Межэтнический конфликт при этом не нашел, однако, своего полного разрешения. Остается ряд «узких мест», которые могут быть опасными для существующей сегодня стабильности. Дело в том, что, хотя юридически все проблемы получили законные решения, по некоторым группам вопросов между фламандцами и франкофонами сохраняются разногласия. Более того, эти группы вопросов приобрели значение символов, и дискуссии вокруг них время от времени вызывают даже некоторое смятение. Кроме того, «узким местом» являются позиция фламандцев по отношению к Брюсселю и позиции франкофонов в области вокруг Брюсселя (так называемая периферия) и на языковой границе. Споры вызывает восприятие языковых меньшинств в соответствующих областях.
Каким же образом воспринимаются языковые меньшинства в этих областях обеими этническими группами? Выше уже отмечалось, что, как только речь заходит о языковых меньшинствах, понятие «демократия» приобретает разный смысл. Это — важнейшее открытие нашего исследования. Для узаконивания политики, проводимой по отношению к собственному и/или другому языковому сообществу, используются совершенно противоположные 257
17 1814
взгляды на сущность демократии. Иначе говоря, какого взгляда на демократию следует придерживаться в данный момент, зависит от того, каким образом воспринимается позиция собственной группы по отношению к другой.
Рассмотрим этот феномен подробнее.
Типизацию соответствующих взглядов на демократию мы делаем, основываясь на исследованиях Дж.Л. Талмона1. Этот историк противопоставляет два типа демократии, т.е. два взгляда на демократию, и эти крайние формы он называет соответственно либеральной и тоталитарной. Два взгляда на демократию могут быть рассмотрены как два полюса единого континуума, внутри которого можно представить себе огромное количество промежуточных позиций. Оба взгляда могут быть реализованы в той или иной степени. Следовательно, компромиссы возможны. Учитывая, что «тоталитарный полюс» в реальной жизни не встречается, в дальнейшем будем называть его «регулируемой демократией».
Обобщенно мы могли бы сказать, что оба взгляда исходят из идеала свободы, но затем идут разными путями. Согласно принципам «регулируемой демократии», человек несвободен, но должен быть освобожден. Смысл либерального взгляда на демократию, напротив, сводится к упору на свободу внутри политического процесса или рынка. Это относится, в частности, к процедурам принятия политических решений и к участию в политической жизни. Считается, что политический рынок должен быть полностью открытым для каждого, должна быть свободная, не сдерживаемая никакими рамками конкуренция. Ограничения ее не допускаются, потому что результат приемлем только тогда, когда конкуренция действительно свободна. Все должно иметь возможность происходить спонтанно. Согласно же принципу «регулируемой демократии», так называемая свободная конкуренция в условиях открытого, нерегулируемого политического рынка встречается нечасто, потому что в реальности участники политического рынка (процесса) не могут иметь равных шансов. Поэтому конкуренция изначально нечестна, и конечные результаты искажены. Подобной ситуации желательно избегать, вмешиваясь в нее где-то по пути, т.е. в ходе самого политического процесса. Правила политического рынка должны быть под контролем, чтобы честная конкуренция была возможна. Отсюда и сам термин «регулируемая демократия». Определенная форма законного регулирования абсолютно необходима, для того чтобы конкуренция могла проходить честным и справедливым образом.
1
См.: Talmon J.L. The Origins of Totalitarian Democracy. Harmondsworth: Penguin books, 1959.
258
3.1. Гордиев узел бельгийской политики: Брюссель и его периферия
Часто можно услышать выражение, что, если бы Брюссель находился не во Фландрии, не был окружен Фламандской областью, Бельгия давно бы раскололась надвое. Правда это или нет, данное высказывание указывает на проблемы края, вот уже более века находящегося в центре бельгийской этнической ситуации.
Когда-то Брюссель был небольшим, хотя и важным фламандским торговым городом, однако на протяжении последних двух веков его население постепенно «офранцуживалось». Речь идет о том, что под влиянием французского языка в низших слоях брюссельского общества произошел спонтанный языковой сдвиг — они перешли с фламандского языка на французский. Французский был к тому же единственным языком, обеспечивающим вертикальную социальную мобильность.
После 1830 г. (даты обретения Бельгией независимости) офранцуживание в официально моноязычной Бельгии являлось единственным способом продвижения в обществе. Под влиянием этого процесса фламандцы превратились в меньшинство в Брюсселе. Еще в 1846 г. только 3 1 % населения Брюсселя говорил по-французски; в 1947 г. по-французски говорил уже 71% жителей Брюсселя1. В настоящее время точно неизвестно, сколько фламандцев (нидерландоязычных) проживает в Брюсселе, так как после 1947 г. языковые переписи населения не проводятся* 2. Согласно оценкам, на 80—90% франкофонов здесь приходится 10—20% нидерландоязычных. Существует, однако, «серая зона» двуязычных брюссельцев, которые не хотят или не могут причисСм.: Fontein G. De zes faciliteitengemeenten, Brussel: Grammens, 1984. P. 48—50.
2
Установленная законом языковая перепись населения, которая проводится раз в десять лет, может привести к тому, что, вследствие «офранцуживания», провинции со вмешанным языковым составом населения должны будут отстаивать свои интересы во франкоязычной Бельгии. Когда в 1947 г. языковая перепись населения показала неутешительные для Фландрии результаты и фламандцы заявили о том, что они располагают доказательствами фальсифицирования итогов переписи, фламандское движение потребовало четкого определения языковых границ и официального выделения Брюсселя в качестве двуязычной области. Это было урегулировано языковыми законами 1962 и 1963 гг. С тех пор языковая перепись населения больше не проводилась. Это было на руку фламандцам, потому что в противном случае они потеряли бы часть своей территории, но это же вызвало и большое неудовольствие франкофонов, которые, имея доказательства официальной языковой переписи населения, без сомнения выступали бы за присоединение столичной периферии к официально двуязычному, но на деле с сильным преобладанием французского, Брюсселю.
259
17*
лить себя к той или иной этнической группе1. Процесс офранцуживания не остановился у столйчной городской черты. Территория Фландрии, прилегающая к Брюсселю, также подверглась определенному офранцуживанию. Этот процесс, происходящий на периферии Брюсселя, обусловлен миграцией сюда франкоязычных брюссельцев. Все больше людей покидают столицу, чтобы поселиться в зеленой зоне вокруг Брюсселя. Благодаря этому в расположенных здесь фламандских общинах резко возросло количество франкоязычных, которые к настоящему времени фактически уже составляют большинство.
Официально это не рассматривается как проблема, поскольку существуют соглашения как в отношении фламандского меньшинства в Брюсселе, так и в отношении франкоязычного населения Брюссельской периферии. Несмотря на то что это урегулирование признано фламандскими и франкоязычными политическими партиями, которые были вовлечены в переговорный процесс, приходится констатировать, что не все довольны сложившейся ситуацией. В дискуссии, которая ведется вокруг положения языковых меньшинств в Брюсселе и на его периферии, на передний план все чаще выходит вопрос о том, какой из форм демократии следует отдать предпочтение. Постольку поскольку это касается языковых меньшинств в Брюсселе и его окрестностях, франкоязычные придерживаются, скорее, либерального демократического взгляда, в то время как фламандцы больше склоняются к «регулируемой демократии».
Это преимущественно «либеральное» видение демократии франкоязычными предполагает, что в этом случае политические власти не могут заниматься регулированием предпочтения языка.
1
Переписи фламандцев и валлонов проводятся по географическому признаку, на основе количества граждан Бельгии во Фламандской или, соответственно, Валлонской областях. Это означает, что при проведении этой переписи не принимается во внимание присутствие языковых меньшинств в этих областях. В Брюсселе, где население смешанное, основываются на подсчетах, которые выводят из количества голосов, отданных соответственно за фламандскую или франкоязычную партии. Эти подсчеты по двум причинам могут считаться очень приблизительными. Во-первых, из-за так называемой серой зоны двуязычных брюссельцев. Во-вторых, нидерландо- язычные брюссельцы могут голосовать за франкоязычные партии, и наоборот. Во Фландрии и Валлонии это невозможно, потому что во Фландрии не действуют франкоязычные партии, а в Валлонии — фламандские. Таким образом, в Бельгии больше не существует единой партийной системы, а есть фламандская и валлонская/франкоязычная системы, которые полностью изолированы друг от друга. В Брюсселе, напротив, представлены две социалистические, две христианско-демократические, две либеральные, две «зеленые» и т.д. партии — и каждая во фламандском и франкоязычном вариантах.
260
На политическом рынке каждый должен свободно выбирать язык. Никакого контроля, никаких указаний свыше — вот что дает самый демократический подход.
Фламандцы обычно не соглашаются с этим, так как, по их мнению, свободный выбор приводит к сохранению и даже упрочению существующего неравенства. Свободное употребление языков в Брюсселе и на его периферии привело к массовому офранцуживанию фламандского населения именно из-за этой ситуации свободного рынка. Фламандский диалект, на котором говорило местное население, и даже стандартный нидерландский язык не смогли в этом столетии противостоять языку с более высоким статусом, каким был и остается французский. Конкуренция французского и фламандского/нидерландского языков была и продолжает оставаться неравной, поэтому результат (офранцуживание) не может быть приемлем. Из этого как раз и проистекает озабоченность фламандцев, стремящихся остановить процесс офранцуживания. Они считают, что этого можно добиться только регулированием, т.е. ограничением, употребления языков на официальном уровне. Франкоязычных следует обязать говорить по-нидерландски во Фландрии. Отчасти благодаря их демографическому перевесу и экономическому процветанию фламандцы определенно получили в 1962—1963 гг. то, что они хотели: одноязычность Фландрии (и Валлонии). Но они должны были пойти на компромисс: в смешанных языковых зонах, таких, как Брюссельская периферия, франкоязычные жители получили ряд языковых прав, которые получили название «языковые льготы». Франкоязычные, живущие в общинах, наделенных подобными льготами, имеют право отправлять своих детей во франкоязычные детские сады и начальные школы, полностью финансируемые Фламандским сообществом. Вся информация для населения в этих общинах должна осуществляться как на нидерландском, так и на французском языках. Франкоязычные имеют, кроме того, право получать ряд документов на французском языке или требовать их бесплатного перевода. Можно, таким образом, сказать, что как франкоязычные, так и нидерландоязычные жители нашли разумный компромисс. Это показывает, что применительно к Брюссельской периферии франкоязычные и нидерландоязычные сумели найти равновесие между «либеральным» взглядом, который теоретически не допускает ограничений, с одной стороны, и «регулируемым» видением, которое теоретически требует возможно большего регулирования законным образом, — с другой. Иными словами, ни одна из обеих групп населения здесь не доводит свои взгляды до крайности.
Официальным языковым урегулированием 1962—1963 гг. территория, которая сейчас является Брюссельской областью, 261
признана двуязычной. Учитывая неравный статус французского и нидерландского языков, это положение расценивается не в пользу фламандцев. Но в Брюсселе они имеют другую форму защиты: получая дополнительные средства, они создают собственную систему образования и сеть культурных организаций. Кроме того, в 1988 г. фламандцы получили гарантированное представительство в правительстве Брюссельской области. Несмотря на данные о том, что только одна шестая избирателей голосует за фламандские партии, фламандцы имеют в брюссельском правительстве столько же министров, сколько и франкоязычные, за исключением поста премьер-министра. В политической дискуссии, которая ведется в настоящий момент, этот паритет связывается с ситуацией в федеральном правительстве. Действительно, именно франкофоны из страха перед количественным перевесом фламандцев во всей Бельгии попросили — и получили — равное представительство в бельгийском федеральном правительстве. Таким образом, на федеральном уровне франкоязычные выступают за регулируемую демократию, а фламандцы склонны следовать либеральному ее видению. Это свидетельствует о том, что использование то одной, то другой точки зрения несет в себе определенный элемент стратегии. Именно стремясь использовать преимущества своей собственной группы населения, обе стороны часто изменяют свои концептуальные взгляды на противоположные.
Несмотря на готовность политических элит обеих групп населения к компромиссам, что проявилось в урегулировании проблем фламандского меньшинства в Брюсселе и франкоязычного населения в Брюссельской периферии во Фландрии, раздается все больше голосов в пользу следования (возвращения) к более жестким мерам. Что касается Брюссельской периферии, то часть франкоязычных продолжает высказываться либо за расширение полученных льгот на другие области, либо за присоединение этих областей к Брюсселю (двуязычной области). Конечно, там, где франкоязычные составляют абсолютное большинство в общине, население должно получить право высказываться по вопросу о присоединении к Брюсселю. То, что в настоящий момент у франкоязычного населения этого права нет, является совершенно «недемократичным». Подобная аргументация явно отражает либеральный взгляд на демократию. В то же время некоторые фламандские политики недавно высказывались за отмену языковых преимуществ для франкоязычных, что может привести к регулированию официального языкового употребления в полном объеме. Они полагают, что только обязательное употребление нидерландского языка на официальном уровне заставит всех ненидерландо- язычных выучить язык. Под ненидерландоязычными в настоящее время понимаются не только франкоязычные бельгийцы. В про262
цессе эволюции Брюсселя как столицы Европейского союза все больше граждан из других европейских стран обосновываются в зеленой зоне вокруг Брюсселя. Эти люди в большинстве своем владеют в качестве второго языка английским или французским; по-нидерландски они обычно не говорят. Опасность офранцуживания при этом становится неизбежной, как считают некоторые фламандцы. Теперь эта опасность исходит и от институтов Европы. По той же причине фламандское правительство сопротивляется предоставлению права голоса гражданам Европейского союза (ЕС), так как предполагается, что они в основном будут голосовать за местные франкоязычные партии. Франкоязычными это противодействие рассматривается как проявление тоталитаризма. Основываясь на том же самом предположении, они выступают за предоставление права голоса гражданам ЕС, по крайней мере в зоне Брюсселя. Развитие Евросоюза и связанная с этим демографическая эволюция Брюссельской периферии заставляют фламандцев бояться также распространения влияния английского языка, этого универсального языка общения граждан Европейского союза. Подразумевается, что эти граждане должны изучать нидерландский язык в том случае, если они живут во Фландрии и пользуются сферой общественных услуг, но этот процесс — спонтанный, а изучение языка потребует — в большей или меньшей степени — определенного принуждения. Степень принуждения при этом может быть различной. Существует небольшая группа экстремистски настроенных фламандцев, которые хотели бы запретить употребление любого другого языка, кроме нидерландского, в ряде «культурных» сфер, которые являются как бы пограничными между частной жизнью и общественной (воскресные церковные службы, региональное телевидение, местное радио и т.д.).
Фламандское меньшинство все чаще требует ограничения либерального подхода, практикуемого франкофонами. Речь здесь прежде всего идет о том, что гарантированное представительство фламандского меньшинства в брюссельском правительстве не всегда одобряется франкоязычными, тем более что число фламандцев в Брюсселе продолжает уменьшаться: об этом свидетельствует снижение числа голосов, поданных за фламандские партии в Брюсселе на последних областных выборах (13,7% в 1995 г. по сравнению с 14,7% в 1989 г.). Франкоязычные считают, что существующий паритет в брюссельском правительстве является недемократичным, если принять во внимание увеличивающийся демографический перевес франкоязычного населения. Фламандцы же, напротив, продолжают защищать эту форму «позитивной дискриминации», указывая, что и в прошлом, и сейчас брюссельские фламандцы подвергаются языковому натиску со стороны 263
франкофонов. Одновременно небольшое экстремистски настроенное меньшинство франкоязычных все еще мечет громы и молнии против «позитивно-дискриминационных» льгот, которыми пользуются нидерландоязычное образование и фламандские культурные организации в Брюсселе.
3.2. Область языковой границы и община Фурен
Естественно, что там, где языковые территории соприкасаются, какое-то количество общин имеет смешанное в языковом отношении население. Вскоре после того, как была установлена языковая граница между нидерландоязычной и франкоязычной областями, в ряде районов по обе стороны языковой границы жители получили в сфере образования и по отношению к общинной общественной администрации одинаковые языковые льготы, такие же, как и граждане Брюссельской периферии. Вообще говоря, в настоящее время не существует достойных упоминания проблем в этой неоднородной в языковом отношении зоне, кроме одной, которая касается общины, называемой Фурен (по-нидер- ландски) или Фурон (по-французски).
Франкоязычное население Фурена всегда протестовало против порядка, который был введен в этой общине правительством. В 1963 г. община была передана из провинции Льеж (расположенной во французской языковой зоне) в провинцию Лимбург (расположенную в нидерландской языковой области). Фурен/Фурон стал тогда де-юре нидерландоязычной общиной с языковыми льготами для франкоязычных, в то время как раньше он был франкоязычной общиной. Фурен — благодаря миграции и вследствие географического положения — всегда имел смешанное население. До провозглашения независимости Бельгии (в 1830 г.) Фурен/Фурон был частью единой большой провинции Лимбург, которая после обретения Бельгией независимости разделилась на две части (бельгийский Лимбург и нидерландский Лимбург). Фурен был географически отделен от (бельгийской) провинции Лимбург и с тех пор стал географически и политически частью провинции Льеж. Так продолжалось до 1963 г., когда этот район в качестве «национального компромисса» перешел от Валлонии к Фландрии, а одновременно другая, прежде фламандская община «переселилась» в Валлонию.
Вследствие этого франкоязычное население Фурена/Фурона стало меньшинством внутри нидерландской языковой области (Фландрии). В своей собственной общине, однако, они образуют хоть и незначительное, но все же большинство. Поэтому неудивительно, что местное франкоязычное население не могло согласиться с этим решением, которое было принято «в Брюсселе» без 264
согласования с ним, считая, что коль скоро в общине существует франкоязычное большинство, то обязательным для всех видов общественной и административной деятельности не может быть нйдерландский язык. Их радикальные представители вели себя все более воинственно: они требовали (и продолжают требовать до сих пор) возвращения их общины в провинцию Льеж. Фламандцы же отвергали это, поскольку они как юридически, так и фактически стали бы меньшинством — как во всей французской языковой области, так и в общине. Риторические высказывания, с которыми вновь выступают обе стороны, опять-таки сводятся к дискуссии вокруг демократии, т.е. к спору о том, какая ситуация явилась бы демократичной, а какая нет.
Франкоязычные, устами своего бывшего губернатора Ж. Ап- пара, высказывают следующие аргументы: «Когда я слышу, как фламандцы рассуждают о правах человека и выдвигают требования по поводу улучшения положения национальных меньшинств в Африке и Латинской Америке, мне приходит на ум, что они требуют для этих людей того, в чем отказывают населению своей собственной общины Фурен. Фламандцы говорят, что Фуреи — фламандский, однако большинство общины с этим не согласно. Если бы подобная ситуация разыгралась где-нибудь еще в мире, самые рьяные поборники фламандского движения были бы первыми, кто порицал бы ее... Таким образом, мы в Фурене живем в недемократической ситуации, и это я не могу принять»1. Ж. Аппар придерживается здесь явно либерального взгляда на демократию: местное большинство должно само свободно выбирать свою судьбу: так как большинство является франкоязычным, оно должно говорить на своем языке в общественных местах; если подобного не происходит, это является издевательством над демократической волей большинства населения.
Фламандцы, однако, припоминают самому Аппару то, что в период нахождения у власти он сам демонстрировал недемократическое отношение к языковой ситуации, отказываясь пользоваться нидерландским языком в общественной жизни, хотя и был обязан делать это, согласно национальному закону о языке, одобренному в том числе и франкоязычными партиями в федеральном правительстве. Для фламандцев же ситуация в небольшой общине Фурен/Фурон (4226 жителей, из которых 3601 — граждане Бельгии) стала символом того, что они воспринимают как постоянное нежелание франкоязычных жителей говорить по-нидерландски. Именно благодаря этому символу «проблема
1
Интервью Ж. Аппара, данное газете «Стандаард магазин». 1995. 23 мая. С. 9.
265
Фурена» перешагнула границы общины и стала национальной проблемой.
Под влиянием событий внутри Европейского союза «проблема Фурена» приобрела дополнительное измерение, и, что следует особенно отметить, обе языковые общины, кажется, собираются использовать совершенно иное видение демократии, чем то, которого они придерживались до сих пор. В случае если граждане ЕС получат право голоса на общинных выборах, присутствие нидерландоязычных в Фурене/Фуроне может сыграть на руку фламандцам, и на этот счет существует достаточно спекуляций. Другими словами, фламандцы надеются, что жители Фурена нидерландской национальности (566 человек, согласно переписи населения 1991 г., из 615 всех не-бельгийцев) будут голосовать на общинных выборах за фламандский, а не за франкоязычный список. Это мнение, пусть и с опасениями, разделяет, кажется, и франкоязычное население. Отсюда и это неиссякаемое рвение «возвратиться в Льеж».
Что действительно здесь наблюдается, так это то, что фламандцы и франкофоны в какой-то степени продолжают придерживаться своих первоначальных взглядов (соответственно: «Фурен должен оставаться фламандским» и «Фурон должен стать опять валлонским»), но легитимация, которую каждая из этнических групп придает этому, является совершенно новой. Фламандцы, по-видимому, склонны в данном случае придерживаться либерального взгляда, основываясь на предположении о достижении в будущем демографическим путем большинства нидерландоязычных (фламандцев и нидерландцев), отвергая эту возможность у периферии. Франкофоны же, как представляется, еще недостаточно ясно определились. С одной стороны, они продолжают оставаться ярыми приверженцами либерального толкования понятия демократии, но опасения, что интересы их собственного языкового сообщества из-за меняющихся демографических и политических обстоятельств окажутся под угрозой, ставят под сомнение это толкование.
4. Выводы
Вэл Лорвин совершенно справедливо назвал как-то бельгийскую этническую ситуацию «уникальным национальным треугольником с одним угнетенным большинством и двумя угнетенными меньшинствами»1. Как могло получиться, что одновременно, на Lorwin V.R. Belgium: Conflict and Compromise // McRae K.D. (ed.). Consociational Democracy: Political Accomodation in Segmented Societies. Toronto: McClleland and Stewart, 1994. P. 199.
266
одном и том же уровне, может находиться и численное большинство (фламандцы), которое чувствует себя угнетенным, и два численных меньшинства (валлоны и брюссельцы), которые то же самое думают в отношении себя? Ответ на этот вопрос, по моему мнению, отчасти заключается в самом понятии демократии. Ни среди ученых, ни среди политиков не существует единого мнения по поводу того, что же именно включает в себя понятие «демократия», поскольку каждый имеет собственное мнение по поводу того, чем является демократия или чем она должна быть. И это, в сущности, нормальное явление. Поэтому невозможно сказать, какое именно представление о демократии является «правильным». Вы можете придерживаться какой-то определенной точки зрения, основываясь на всевозможных убедительных аргументах, но это будет лишь ваше видение, ваше мнение, ваша точка зрения. Как фламандцы, так и валлоны/франкофоны защищают интересы своих собственных этнических групп и при этом, в зависимости от ситуации, развивают и используют то толкование, которое больше склоняется к типу «регулируемой демократии», то другое, которое ближе типу «либеральной демократии». Обе версии оказываются, таким образом, приемлемыми. Соглашаетесь ли вы с одной или же с другой стороной, зависит от того, какой исходной концепции вы придерживаетесь: свободы или регулирования.
Элитам обеих этнических групп все еще удается не доводить до крайности противоречия во взглядах, находя компромисс между ними. Этот компромисс, однако, не может полностью удовлетворить ни одну из сторон. Проведение языковой границы неизбежно должно было вызвать неудовольствие тех, кто «случайно» оказался проживающим по «чужую» сторону. Другими словами, проведение языковой границы и связанное с этим появление двух юридически «гомогенных в языковом отношении» областей неизбежно создают на практике языковые меньшинства из-за лингвистически гетерогенного характера пограничной территории. Так или иначе, в Бельгии относительная неудовлетворенность продолжает существовать именно благодаря тому, что ситуация стабилизировалась: с лингвистической точки зрения сегодня ни один из языков не представляет опасности для другого. Офранцуживание остановилось благодаря языковому законодательству, и крайне мало вероятно, что когда-нибудь будет возможно «онидерланди- вание» франкоязычного населения: статус французского языка слишком высок для этого. Кроме того, если раньше языковая и социально-экономическая границы совпадали, то теперь этого нет. Времена, когда только бедные говорили на одном из диалектов (фламандском или валлонском), а богатые — только по-французски, канули в прошлое. Стандартизированный нидерландский и французский стали языками межнационального общения всех 267
фламандцев и, соответственно, валлонов, бедных или богатых. Как в языковом, так и в социально-экономическом отношениях фламандцы и валлоны стали равны. Но именно из-за этого общего относительного равенства и сопутствующего ему равновесия сохраняется некоторая неудовлетворенность языковых меньшинств на микроуровне.
Более того, это существующее недовольство не решается федерализацией бельгийского государства. Другими словами, для языковых меньшинств, нидерландоязычного или франкоязычного, от этого ничего не изменилось. Соответственно из-за остающейся относительной неудовлетворенности кажущаяся такой стабильной бельгийская конструкция является потенциально неустойчивой. Эта потенциальная нестабильность и заключается в сегодняшней взаимной независимости позиции фламандского меньшинства в Брюсселе, с одной стороны, и позиции франкоговорящего меньшинства во Фламандской области, т.е. в Брюссельской периферии, — с другой. Во всяком случае, в сегодняшней дискуссии обе позиции связаны друг с другом. Компромиссы, которые регулируют положение обоих языковых меньшинств, именно потому и сработали, что они в конечном счете формируют сложное целое, состоящее из поддерживающих друг друга в равновесии договоренностей/условий. В случае одностороннего расторжения подобных договоренностей вся конструкция может развалиться. Поэтому как фламандское правительство, так и франкоязычное большинство в Брюссельской области должны способствовать тому, чтобы не доводить до обострения свое видение демократии, всячески поддерживая ныне существующие правила на благо каждого из меньшинств. Тем более что сегодня невозможно в одностороннем порядке изменить что-либо в этих правилах, так как в федеральном парламенте для этого требуется не только большинство в каждой языковой группе, но и общее квалифицированное большинство в 2/з голосов. Это положение закреплено конституционно. Ситуация же в целом приобрела столь символическое значение, что одного лишь намека на нежелание выполнять достигнутые договоренности достаточно, чтобы разогреть страсти. Одного лишь уважения к языковым меньшинствам недостаточно, чтобы завершить дискуссию. Нерешенных проблем еще хватает. Психологическая пропасть между фламандцами и валлонами/франкофонами существует, и она достаточно глубока. Еще предстоит расчистить путь от всех проявлений взаимного непонимания. Искреннее уважение друг к другу, в том числе и к языковым меньшинствам, является для этого непременным условием. Взаимное уважение и взаимопонимание должны всячески поощряться. То, каким образом это будет происходить, является уже темой другого исследования. Вся история Бельгии является историей умиротворения. Пусть она такой и останется.
268
Крис Десхауэр
ДОТЯНЕТ ЛИ БРЮССЕЛЬ ДО СЛЕДУЮЩЕГО ВЕКА?
В новой федеральной государственной структуре Бельгии Брюсселю отведено особое место. Решение проблемы Брюсселя все чаще подается как «брюссельская модель», пригодная для экспорта в другие многонациональные страны и регионы. Между тем выживание самого Брюсселя как города-области все еще находится под вопросом.С 1993 г. Бельгия является федеральным государством — во всяком случае, так записано в ее Конституции. Данный факт общеизвестен. Известно также, что это совершенно особая и сложная федерация. Составляющими ее частями являются области и сообщества. С одной стороны, Бельгийскую федерацию образуют три области — Фландрия, Валлония и Брюссель. Это — территориальное деление страны. С другой стороны, федерацию составляют и три сообщества — Фламандское, Французское и Немецкое. Это деление — уже не вполне территориальное.
Фламандское сообщество включает жителей Фламандской области и нидерландоязычных брюссельцев. Во Французское сообщество включаются жители Валлонии — за исключением обитателей ее немецкоязычной части, — а также франкоязычные брюссельцы. Наконец, Немецкоязычное сообщество состоит из жителей немецкоязычной территории, которая входит в состав Валлонии. Области наделены целым рядом полномочий, связанных с территорией, таких, как общественные работы, транспорт, обустройство территории. Сообщества в свою очередь осуществляют полномочия, относящиеся к сфере человеческого общения, культуре и образованию. Схема в принципе ясная и однозначная... если бы не Брюссель! Если бы этого города не было или он находился бы не там, где стоит сейчас, все было бы просто и понятно. Брюссель расположен на территории Фландрии. Или — точнее — Брюссельская область со всех сторон окружена Фламандской областью. Фламандскому движению пришлось в свое время пойти на некоторую уступку, позволив провозгласить Брюссель отдельной областью и, следовательно, отказаться от этой части исторической Фландрии. Речь не идет, однако, о полной «сдаче» Брюсселя. Ведь Фламандское сообщество осуществляет определенные полномочия в Брюсселе и — что весьма символично — провозгласило Брюссель своей столицей. Впрочем, своей столицей избрало его и Французское сообщество.
269
1. Брюссельская модель: автономия без территории
На территории Брюссельской области (чтобы несколько завуалировать фламандскую уступку, она официально называется «Брюссельская столичная область», а не просто область) проживают два сообщества: Фламандское и Французское. Каждое из них полномочно самостоятельно решать вопросы, связанные с жизнью лиц, составляющих данное сообщество. Так, сообщества имеют собственную систему образования, собственные культурные центры, собственные библиотеки — и все это на своем языке. Они должны совместно управлять Брюссельской областью (территорией). В институциональном отношении это осуществляется следующим образом. Население Брюсселя прямым голосованием избирает брюссельский Столичный совет, который является областным парламентом. При этом избирателю предлагаются одноязычные списки кандидатов либо на французском, либо на нидерландском языке. Двуязычных списков быть не может. Избиратель свободно выбирает язык. Таким образом, отсутствует субнациональность или общая национальность, при которой надо было бы специально регистрировать, кто к какому языковому сообществу принадлежит.
Итак, Столичный совет, сформированный на основе неизменно свободных выборов, автоматически состоит из двух языковых групп. В нынешнем составе Совета насчитывается 1 1 нидерландоязычных и 64 франкоязычных представителя.Совет избирает правительство из пяти членов. Двое из них должны представлять нидерландскую языковую группу, двое других — французскую, а премьер-министр выбирается большинством голосов в обеих группах. Решения правительства принимаются на основе консенсуса, что позволяет использовать административный нажим для предотвращения обострения конфликтов. Пятилетний опыт функционирования этой системы показывает, что она действительно эффективна.Обе языковые группы собираются также и отдельно и образуют соответственно фламандскую и французскую Комиссии сообщества. Комиссии осуществляют полномочия сообществ. Они имеют также правительство (официально оно называется коллегией), которое просто состоит из брюссельских столичных министров с соответствующим разделением языков. Комиссии сообщества управляют учреждениями сообществ в столице. Таким образом, оба сообщества пользуются определенной автономией, их параллельное существование и их различия формально признаются, и они могут найти способ для совместного управления городом, т.е. Брюссельской столичной областью.
Различия между областью и сообществом всегда были предметом бесконечных споров, которые, однако, позволили привлечь 270
интерес к проблеме Брюсселя и в результате привели к реформе государственного устройства Бельгии. Лишь немногие брюссельцы разбираются в тонкостях структуры политических учреждений, не говоря уже о принципах, согласно которым они устроены, что является серьезным минусом. Мы также упускаем из виду многочисленные детали и исключения из общих правил. Это относится и в целом к государственному устройству Бельгии — этой двойной федерации.
К этому, однако, следует добавить еще один элемент. Фландрия всегда стремилась к культурной автономии, к формированию своего сообщества. Фландрия отдает препочтение идее сообщества и организационно объединяет учреждения области и сообщества. Это означает, что существует и фламандский Совет (избранный в Фламандской области и дополненный нидерландо- говорящими представителями из брюссельского Совета), и фламандское правительство. Последнее занимается как проблемами области, так и проблемами сообществ. Брюссельцы не голосуют только в тех случаях, когда обсуждаются вопросы, относящиеся исключительно к Фламандской области. Нидерландоязычные брюссельцы относятся, таким образом, целиком к Фламандскому сообществу (в котором их доля составляет 3—4%), что находит отражение и в политических учреждениях. Валлоны, напротив, стремятся к автономии для Валлонской области. Она лежит вне Брюсселя и с ним никак не связана. Французское сообщество существует, таким образом, как бы отдельно от Французской области. Внутри Французского сообщества Брюссель располагает большим весом (его доля в населении составляет 17%), но при этом франкоязычные жители Брюсселя не валлоны. Это различие закреплено также институционально: и в Валлонской области, и во Французском сообществе имеется свой Совет и свое правительство. Наряду с этим франкоязычные жители Брюсселя пользуются широкой автономией. У французской Комиссии сообщества в Брюсселе больше полномочий, чем у Французского сообщества. Она может издавать собственные законы и, например, проводить иную политику в области образования, чем Валлония. С учетом всех этих хитросплетений и стоит задуматься над будущим Брюсселя.
С точки зрения умозрительной модели будущее Брюсселя выглядит привлекательно. В Южной Африке постоянно проявляют интерес к тому, как две культуры, из которых одна явно является культурой национального меньшинства, могут мирно сосуществовать, пользуясь необходимой культурной автономией, которая не привязана ни к конкретной территории — ведь в Брюсселе не существует никакой стены или демаркационной линии, — ни к какому-либо «субнациональному образо271
ванию». Не так давно этим вопросом заинтересовались и в Иерусалиме, к большой радости некоторых авторов «брюссельской модели». Если представить на минуту — хотя сделать это очень сложно, — что в Иерусалиме, как и в Брюсселе, воцарился мир, то можно обнаружить, что эти две модели довольно сравнимы. Обсуждается такой вариант решения проблемы Иерусалима, при котором этот город станет столицей одновременно нескольких государств (Израиля, Иордании и Палестины). Статус различных культур и религий будет сохранен, а городское управление станет автономным. И в качестве образца такого решения указывают на Брюссель.
2. Насколько автономным может быть город?
Брюссель стал полноправной областью и точно так же, как Фландрия и Валлония, облечен всеми полномочиями области. Для осуществления функций областного управления Брюссель также имеет собственные средства. Как и для двух других областей, эти средства состоят в значительной степени из федеральных дотаций, из сумм, поступающих из федеральных налогов, возвращаемых таким образом области; лишь небольшая часть средств складывается из собственных налогов.
Это и является ахиллесовой пятой Брюсселя. Он должен жить и выживать как область, в то время как он и меньше и больше, чем область. Меньше — так как территория его, естественно, меньше, чем территории двух других областей. Но Брюссель — это совершенно особая административная единица благодаря центральному положению и столичному статусу города. Брюссель — это экономический и финансовый центр всей страны. Здесь сосредоточена значительная часть национального богатства. Правда, те, кто занят приумножением этого богатства, обосновываются чаще всего не в самом городе, а в его зеленых пригородах. Аналогичные явления можно наблюдать в большинстве крупных европейских городов. Но для Брюсселя с его особым статусом в особой Бельгийской федерации это оборачивается подлинной драмой. Ведь зеленые пригороды Брюсселя не относятся к Брюсселю. Это уже Фландрия. Фламандские пригороды Брюсселя представляют собой самый богатый регион Фландрии. Для жителей этих пригородов — как, впрочем, и для жителей всей страны — Брюссель выполняет функции столицы, являясь крупнейшим транспортным узлом, местопребыванием посольств, штаб-квартиры НАТО и Европейского союза; на широких проспектах Брюсселя ежедневно устраиваются различные манифестации, здесь же празднуют победы толпы футбольных болельщиков; в Брюсселе принимают глав 272
государств и правительств, и он же служит убежищем для тех, кто оказывается на самом дне благополучного в целом общества. И все это Брюссель должен делать на свои собственные средства, выделяемые ему как области!
Брюссель — город, зажатый внутри его административных границ. Расширить эти границы так, чтобы они совпадали с реальными экономическими и социальными границами региона, немыслимо. Ведь Брюссель имеет статус двуязычия, а его фламандские пригороды и так уже уступили многие земли изначально фламандской общины столице, и перспектива окончательно потерять в них нидерландский язык в качестве основного многих пугает. Сегодняшние границы столицы, таким образом, неизменны. Фламандские пригороды Брюсселя живут сейчас под сильным французским влиянием. Но внутри этих границ Брюссель, очевидно, не сможет выжить, если не получит помощь от федеральных властей, от Фламандской области, а также и от Валлонской. Часть Валлонии, которая непосредственно примыкает к Брюсселю — Валлонский Брабант, — является также самым богатым районом Валлонии, и происходит это благодаря ориентации его населения на Брюссель.
3. Брюссель в независимой Фландрии?
Все подобные разговоры о Брюсселе питают дискуссию, которая постепенно разворачивается во Фландрии, — дискуссию о возможной независимости Фландрии. Идея раздела имущества и окончательного расторжения того, что называется «бельгийским браком двух народов», все больше воспринимается как нормальная и достойная обсуждения. Авторы некоторых комментариев в газете «Стандаард» и представители более радикального крыла Фламандского движения мечтают видеть Фландрию, которая не дает загнать себя в клетку и отказывается подчиниться строптивой и расточительной Валлонии, т.е. такую Фландрию, которая завоюет себе достойное место в пока еще мифической Европе регионов. Идея независимой Фландрии существует, однако, пока что только на бумаге. Она неразрывно связана с проблемой демаркации границы. Если бы не было Брюсселя или если бы Брюссель не имел ничего общего с Фландрией, было бы возможно рассмотреть спокойное разделение Бельгии по чехословацкому образцу. Но Брюссель лежит во Фландрии и от него зависит, чтобы Фландрия была тем, чем она хочет быть: сообществом, нацией нидерландоязычных жителей. Брюссель является здесь, следовательно, возмутителем спокойствия.
Независимая Фландрия могла бы «отпустить» Брюссель. Но Фламандское движение, которое всегда считало, что Брюссель 273
181814
никогда не захочет «отделиться», было сильно разочаровано, увидев, что Брюссель сумел превратиться в настоящую самостоятельную область. Он мог бы стать той ценой, которую можно было бы заплатить за компактную и однородную Фландрию. Но все же этой Фландрии пришлось бы отдать огромный город, процветающий и хорошо приспособленный для жизни центр многих культур, расположенный на границе романской и германской цивилизаций.
Альтернативная стратегия заключается в интегрировании Брюсселя в состав новой Фландрии, в рамках которой франкоязычные жители смогут сохранять свою культурную автономию. Эта идея основывается на том, что Брюссель как автономная область долго продержаться не сможет и что Брюссель, само собой разумеется, обратится к Фландрии — читай: к фламандским финансовым средствам, — чтобы выжить. По этой мысли, Брюссель — рано или поздно, — подобно спелому яблоку, упадет в руки Фландрии. Для большинства франкоговорящих это пугающая перспектива.
4. Брюссель и Европа
Между тем Брюссель становится также институциональной столицей Европы, «портом приписки» политических учреждений Европейского союза. Это делает Брюссель очень интернациональным городом. Почти треть жителей Брюсселя имеют небельгийское гражданство. Иностранное население наполовину состоит из «западников», т.е. граждан европейских государств. Присутствие этой группы лиц отражается на всех аспектах дебатов о судьбе Брюсселя. Именно западноевропейцы имеют склонность обосновываться в зеленых пригородах, опоясывающих Брюссель, и в них, этих пригородах, нидерландский язык испытывает давление со стороны не только французского, но и английского языков. Длительная борьба против последствий, вызываемых близостью Брюсселя, по-видимому, начинается с новой силой.
Европейская функция Брюсселя означает также дополнительные расходы и затраты. Речь идет, в частности, о приспособлении дорог и зданий, обеспечении охраны и безопасности. Вклад самой Европы в это дело незначителен. Поэтому федеральные власти Бельгии вынуждены сами решать проблемы, вытекающие из европейского присутствия в Брюсселе, из необходимости предоставления налоговых льгот европейским чиновникам, но компенсация затрат, которые несет Брюссель, явно недостаточна. Европа, таким образом, способствует не только обогащению Брюсселя как региона, но и все возрастающему обнищанию Брюсселя как области.
274
Присутствие в Брюсселе иммигрантов из незападных государств, преимущественно турок и марокканцев, также отражается на брюссельской ситуации. Как и в других больших городах, присутствие этих категорий лиц ведет к столкновениям и беспорядкам, хотя надо отметить, что они происходят достаточно редко. Этот фактор имеет важное значение и для языковой ситуации. Итальянцы и испанцы, относящиеся к предыдущей волне иммиграции, почти автоматически выбирают французский язык в качестве средства общения. Это же относится и к марокканцам, так как французский является языком, с которым они познакомились еще на родине; кроме того, французский явно доминирует в общественной жизни Брюсселя. Неудивительно в этой связи, что фламандско-брюссельская сторона предпринимает сознательные усилия, чтобы обучить иммигрантов также и нидерландскому языку, возможно, даже принять их во Фламандское сообщество.
5. Будущее Бельгии и будущее Брюсселя
Решением проблемы Брюсселя может быть завершена реформа системы государственного устройства Бельгии. Здесь возникает логически обоснованная, хотя и сложная новая конструкция, поскольку процесс осуществления реформы уже приобрел собственную динамику. Автономия, которую приобрели области и сообщества, подталкивает определенные силы — прежде всего во Фландрии — к стремлению достичь новых рубежей, а подчас и к очень самонадеянным мечтам о еще больших успехах. И ведущая роль в этих мечтах по-прежнему принадлежит Брюсселю. Речь может идти как о дальнейшем преобразовании Бельгийского государства, так и о его возможном разделении. Это, вероятно, и решит проблему Брюсселя. Итак, ключ к будущему Бельгии лежит в Брюсселе, а ключ к будущему Брюсселя — в Бельгии.
275
18*
Энрик Фоссас Эспадалер
АВТОНОМИЯ КАТАЛОНИИ
Введение
Цель данной статьи — вкратце объяснить юридические и институциональные основы каталонской автономии. Поэтому в ней рассматриваются сущность и практическое содержание той политической власти, которую в настоящее время имеет каталонская нация в рамках нового территориального устройства Испанского государства. Статья начинается с характеристики необычной схемы политической децентрализации, предусмотренной Конституцией 1978 г., а также механизма, посредством которого Каталония добилась принятия Статута автономии. Затем анализируются система каталонских учреждений и их полномочия, равно как их отношения с их аналогами в государстве. В заключение приводятся краткие сведения о финансировании автономии.
Однако прежде чем приступить к этим вопросам, необходимо дать сжатый ретроспективный обзор, чтобы познакомить читателя с историческим фоном, на котором возникла каталонская автономия.
Исторический обзор
Каталонская нация столетиями имела собственные институты власти, бывшие неотъемлемой частью ее самобытности. Временами эти институты обладали характеристиками государственной власти, временами были воплощением власти другого типа.
Корни каталонского территориального самоуправления уходят в средние века. В XIII в. Каталония имела своего короля (Хайме I) и собственный институт власти — каталонские кортесы (Corts Catalanes), первый парламент в Европе. Совокупность каталонских представителей в этих кортесах называлась Женералитат (Generalitat) — этот институт дожил до наших дней. В XV в. корона Каталонии и Арагона перешла к кастильской династии, но короли обещали соблюдать законы и конституции Каталонии. Однако при Фердинанде Арагонском и Изабелле Кастильской (XVI в.) короны были объединены и главенство Кастилии усилилось.
Война за испанское наследство завершилась коронацией Филиппа V Бурбона, сторонника централизма и абсолютной монархии, против которого Каталония сражалась до 1714 г., пока не потерпела поражение. Это памятное поражение повлекло за собой упразднение каталонских законов и учреждений (уцелело лишь каталонское частное право, да и то не полностью). С этого момента 276
история Каталонии представляет собой долгую борьбу за их восстановление, трудный процесс национального возрождения.
В середине XIX в. возникло движение за возрождение культуры (Renaixenca); одновременно возникли первые каталонские политические движения, выдвинувшие требования о восстановлении автономии. В последние годы прошлого столетия Испания, находившаяся под властью местных магнатов и централистской монархии Бурбонов, переживала состояние полного кризиса, в то время как Каталония, имевшая активную, предприимчивую буржуазию, испытывала экономический подъем и крепила завоевания своей промышленной революции, но не имела собственной политической власти.
В начале XX в. был сделан скромный шаг в сторону автономии — создание Манкомунитата (1914), представлявшего простое объединение четырех провинциальных советов (административных органов, созданных в 1833 г. в подражание французской централистской системе департаментов) с чисто административными целями. Тем не менее тон в нем задавали каталонское буржуазное политическое движение, харизматический лидер (Прат де ла Риба) и культурное движение «ноусентизм», ставившие перед собой вполне реалистические задачи национального возрождения.
Полное восстановление политических институтов стало, однако, реальностью во времена Второй испанской республики при демократической Конституции 1931 г., давшей Испании новое территориальное устройство (так называемое «интегральное государство»). Был утвержден Статут автономии 1932 г., восстанавливавший каталонский Женералитат, структуру самоуправления, состоявшую из президента, парламента, правительства и Верховного суда. Политику республиканского Женералитата определяли новая прогрессивно-националистическая сила (Esquerra Republicana) и два лидера, Франсеск Масиа (Francesc Macia) и Льюис Компанис (Lluis Companys), стремившиеся вести страну по пути прогресса. Эти несколько лет представляют собой один из самых светлых периодов истории Каталонии.
Переворот генерала Франко и поражение республиканских сил в драматической гражданской войне (1936—1939) привели к установлению в Испании на четыре мрачных десятилетия авторитарного фашистского режима, покончившего с правами и свободами правового государства. Франкистская диктатура создала абсолютно централизованное иерархическое государство, упразднила все каталонские правительственные учреждения, преследовала, арестовывала и изгоняла из страны каталонских активистов, подвергала жестоким репрессиям каталанский язык и каталонскую культуру, стремясь уничтожить историческую самобытность каталонской нации.
Со смертью генерала Франко в Испании начался так называе277
мый «демократический переход» — ненасильственный, безболезненный переход на базе «консенсуса» между силами режима и демократической оппозицией — от прежнего автократического государства к демократическому конституционному государству. В этих условиях произошло «временное» восстановление Жене- ралитата. Этот период, в течение которого возникли так называемые «предавтономии» (pre-autonomies), должен был завершиться вступлением в силу новой, демократической конституции.
Утверждение франкистскими кортесами закона о политической реформе (1976), вынесенного на всенародный референдум, позволило провести 15 июля 1977 г. первые со времен гражданской войны демократические выборы. Новый парламент начал работать над конституцией, и в стране начались новые, необычные процессы, кульминацией которых стало утверждение проекта конституции (октябрь 1978 г.). После того как испанский народ высказался за эту Конституцию, она вступила в силу (29 декабря 1978 г.).
Каталония в рамках испанской Конституции
Конституция 1978 г. ознаменовала собой новый этап в истории Испании. Во-первых, потому, что она порвала с испанской конституционной традицией, в которой господствовали нестабильность или вовсе отсутствие конституционализма и по которой конституция в монархическом государстве, где господствуют консервативные силы, утрачивает свое истинное назначение как юридический механизм ограничения власти и является политическим документом, которым король и парламент распоряжаются по своему усмотрению.
Во-вторых, она направила Испанию по пути европейского послевоенного демократического конституционализма, вобрав в себя самые передовые юридические и конституционные механизмы наших дней (например, сосредоточение конституционной юрисдикции в одном учреждении — Конституционном суде).
В-третьих, она установила новую структуру Испанского государства по новой политической схеме, направленной на урегулирование некоторых нерешенных проблем нашего исторически сложившегося конституционализма: а) формы государства — конституция определяет его как «социальное и демократическое правовое государство» (ст. 1.1); б) формы правительства, определяемого как «парламентская монархия» (ст. 1.2); в) новой формы территориальной организации политической власти, хотя конституция не дает ей никакого определения; эта форма известна как «государство автономий (самоуправляющихся сообществ)».
Это, безусловно, одна из главных новаций конституции, и направлена она на разрешение исторической необходимости — объединения всего национального и культурного многообразия 278
Испании в новую политическую единицу. В частности, это новое устройство должно удовлетворять целям политической автономии Каталонии и Страны Басков в рамках новой демократической конституции. Конституция создает для этого основы необычной схемы политической децентрализации — эту структуру трудно подогнать под какое-либо из существующих определений (федеральная, региональная, интегральная), — основанной на праве входящих в Испанию «национальностей и регионов» на автономию, но не в ущерб единству испанской нации и не в ущерб солидарности между ними (ст. 2). Новая форма территориального устройства (как мы уже сказали, не получившая никакого определения в конституции) предполагает вертикальное распределение государственной власти между центральными институтами власти (центром) и территориальными институтами (так называемыми communidades autonomas, автономными сообществами, АС).
Наряду с этими принципами автономии, единства и солидарности в основе конституционной схемы политической децентрализации лежит еще один принцип — принцип «ранжирования» (ordering), или принцип «ограниченной свободы», который и делает ее воистину необычной. В самом деле, чтобы конституция соответствовала различному положению и различным целям испанских национальностей и регионов, отцы-учредители не создали некой замкнутой, полной системы в самой конституции, а только заложили основы и учредили процедуры, позволяющие различным территориям, не выходя за рамки конституции, достигать той степени автономии, к которой они стремились. Если вы прочтете нашу конституцию, вы не найдете в ней никакого определения «автономного сообщества»; там не сказано, какие именно территории имеют право на автономию, не оговорены и конкретные права каждого АС. Конституция просто содержит абстрактные правила, определяющие границы территорий, имеющих право на автономию, и предоставляет им самим инициативу провозглашать себя автономными сообществами через утверждение статутов автономии. Это ясно сказано в ст. 143: «При осуществлении права на автономию, признаваемого в ст. 2, пограничные провинции с общими историческими, культурными и экономическими характеристиками, островные территории и провинции с исторически региональной самобытностью смогут получать автономию и провозглашать себя автономными сообществами в соответствии с положениями настоящего Акта и соответствующими Статутами».
Итак, в этом отношении конституция не представляет собой законченного целого, а потому, как уже утверждали некоторые авторы, в результате процесс территориального устройства затянулся, ибо она не определяет окончательно организацию государственной власти — не создает ни АС, ни «государства автономий». Столь необычайная конституционная система автономий a la carte («меню автономий») создает основы «регионализуемого государ279
ства» («regionable state») для перехода от старого унитарного, централистского государства через «процесс автономизации» к «составному государству» («composed state»).
Смысл и практическое содержание автономии
Автономия — таков основной структурный принцип, включенный в преамбулу конституции, которая определяет структуру государства, основанную на двух уровнях власти (центральной и автономной) и гарантирующую каждому из них свои полномочия, властные органы и ресурсы.
Автономия — это и гарантия самоуправления, предоставляемая конституцией (ст. 137) территориальным единицам, составляющим государство (муниципалитеты, провинции, АС). Однако автономия АС качественно выше чисто административной автономии провинций и муниципалитетов, ибо АС имеют политическую власть, присущую государству, а стало быть — законодательную власть. АС представляют собой территориальные единицы типа государств; природа их власти — конституционно-правовая; они могут принимать политические решения и осуществлять политическое руководство общиной, проживающей на их территории. Источник их власти не государство, а Конституция.
Право АС на самоуправление предполагает:
а) гарантии собственной политической системы для каждой общины, со своими учреждениями, действующими в пределах собственной юрисдикции независимо от общего курса государственных учреждений; это предполагает, как в случае Каталонии, право иметь свою собственную партийную систему, причем некоторые из этих партий могут учреждаться исключительно в границах сообщества;
б) право создавать свою собственную юридическую систему, интегрированную в систему законов государства как подсистема, т.е. право на систематизированный свод нормативных актов, регулирующих жизнь сообщества;
в) выработку собственной политики, т.е. возможность предпринимать политические действия в соответствии с решениями, принимаемыми правящим большинством в органах власти сообщества;
г) право участвовать в принятии государственных решений посредством различных процедур, обеспечивающих сотрудничество с центральной властью;
д) право иметь свои собственные экономические ресурсы для удовлетворения своих потребностей, т.е. право на финансовую автономию.
Статут автономии как основная институциональная норма
Как мы заметили выше, с одной стороны, процедура, посредством которой определенные территории провозглашают себя 280
автономными сообществами и достигают автономии, — это составление и утверждение Статута автономии. С другой стороны, конституция, руководствуясь вышеупомянутым принципом «ранжирования», предлагает разные пути для достижения автономии и разные пути получения статутов автономии. Для территорий, в прошлом проголосовавших на плебисците за проект Статута автономии и имевших в момент принятия конституции временный режим правления (Каталония, Страна Басков и Галисия), конституция предусматривает (2-е Временное положение) особую процедуру. Это означает, что в отличие от других территорий они могут проявить инициативу касательно получения автономии посредством простого соглашения большинства депутатов своих высших коллективных «предавтономных» органов.
После того как инициатива проявлена, конституция предусматривает для таких территорий ускоренную процедуру принятия Статута (ст. 151.2): парламентская ассамблея, формируемая из депутатов и сенаторов от провинций, входящих в территорию, желающую стать независимой, составляет проект; этот проект совместно обсуждают Конституционный комитет конгресса депутатов и делегация составившей его Ассамблеи; в результате пишется окончательный согласованный текст; после того как текст согласован, он выносится на референдум, и, если за него проголосует большинство жителей каждой провинции, текст должен был ратифицирован (без каких-либо поправок) большинством голосов на пленуме обеих палат парламента.
В день вступления в силу конституции Ассамблея каталонских членов испанского парламента представила Конгрессу депутатов свой проект Статута. После того как в рамках новой конституции состоялись первые всеобщие выборы (1 марта 1979 г.), проект был обсужден новым парламентом, и 13 августа 1979 г. был опубликован окончательный текст. 25 октября 1979 г. за него проголосовал каталонский электорат, и, после того как его ратифицировали обе палаты, король утвердил Статут автономии.
С этого момента Каталония, согласно испанской Конституции, стала «национальностью», воспользовавшейся своим конституционным правом на автономию и провозгласившей себя автономным сообществом.
Читатель, может быть, заметил, что процедура составления проектов статутов не только предоставляет инициативу «автономных требований» политическим силам территорий, желающих стать АС, но и существенно усиливает их участие в составлении Статута тем, что вводит элемент соглашения, на основании которого, как правило, и выбирается окончательный вариант.
Природа Статута автономии воистину двоякая: с одной стороны, он является парламентским законом — «органическим» законом, утвержденным законом («organic» или reinforced law), поскольку должен быть утвержден большинством голосов. Но с 281
другой стороны, в самой конституции сказано, что он является «основным институциональным законом для каждого АС» (ст. 147.1), т.е. законом учреждающим, организующим и регулирующим. Это закон, принятый при непосредственном участии народа и дающий жизнь новой политической организации, и в этом смысле он явно выполняет функцию конституции, хотя формально и не является таковой. В преамбуле Статута сказано, что Каталония провозглашает свое желание стать самоуправляющимся сообществом.
Таким образом, Статут — необычный органический закон, необычный как по процедуре составления, так и по своей функции, но еще и потому, что процедура его изменения должна определяться самим Статутом, и потому, что содержание его определено конституцией. Согласно конституции (ст. 141), статуты должны содержать в себе: а) название сообщества; б) определение его границ и территории; в) названия и организационную структуру его учреждений и г) их предполагаемые полномочия. Вот этот последний пункт мы и рассмотрим в следующих разделах.
Компетенции и их разграничение
Конституционная схема территориального устройства страны предусматривает разделение государственной власти по вертикали между центром и множеством территориальных единиц, гарантирующее каждой из них свою сферу компетенции через предоставление системы юрисдикции. Но данная схема в этом пункте имеет свои особенности. Говоря выше о принципе «ранжирования», мы сказали, что в соответствии с этим принципом доля политической власти, приходящаяся на каждое АС, не определяется самой конституцией, оно само должно определить ее в своем Статуте автономии, не выходя при этом за рамки конституции.
Вся утвержденная конституцией система распределения власти основана на двух перечнях и одном заключительном положении. В первом перечне (ст. 149.1) фигурируют вопросы, подпадающие под юрисдикцию государства; это 1) вопросы, непосредственно связанные с суверенитетом государства (гражданство, международные отношения, вооруженные силы, денежная система, таможенный режим); 2) некоторые отрасли права (коммерческое, уголовное и трудовое законодательство); 3) элементы, считающиеся интегрирующими факторами (общее экономическое планирование), и, кроме того, многие вопросы, являющиеся существенными для регулирования жизни страны (здравоохранение, юридическая система местных администраций, организация горнорудной промышленности, средства массовой информации). Второй перечень (ст. 148.1) называет компетенции, которые могут присвоить себе АС в своих статутах. Однако этот перечень — открытый, ибо АС, достигшие автономии по «ускоренной процедуре» (как, на282
пример, Каталония), могут присваивать себе некоторые правомочия, не фигурирующие в этом перечне, при условии, что они не будут пересекаться с компетенцией государства. Завершает эту систему следующее положение (на самом деле представляющее собой два положения): какие-либо правомочия, не предоставленные недвусмысленно государству, могут отойти к АС, если те включат их в свои статуты; в противном случае они отходят к государству.
Сложность возрастает, если учесть, что не существует единой системы распределения правомочий, а правомочия государства и АС сочетаются по каждому вопросу своим особым способом. В результате мы имеем компетенции разных типов: исключительные, соревновательные и дополняющие друг друга. Необходимо отметить, что наша система не основана на строгом разграничении объектов компетенции; в большинстве случаев один и тот же вопрос подпадает под юрисдикцию и государства, и АС (законодательная/исполнительная власть) или же вопросы дробятся по какому-нибудь критерию (скажем, территориальные воды и транспортные коммуникации).
Когда Каталония определяла пределы компетенции своей власти в Статуте автономии, она придерживалась процедуры «получения отсутствующего» в конституции, т.е. заполняла все пробелы, не заполненные компетенцией государства, — занимала места, не зарезервированные государством. Таким образом, она оставила в своей исключительной компетенции (хотя на практике это далеко не всегда можно назвать исключительной компетенцией) такие вопросы, как культура, научные исследования, недра, туризм, общественные работы, рыболовство, дороги, спорт, реклама, защита несовершеннолетних, фонды и ассоциации. В других вопросах она взяла на себя лишь исполнение государственных законов — пенитенциарного и трудового законодательства, законов об участии в международных выставках. И наконец, в таких важных вопросах, как промышленность, сельское хозяйство и торговля, полицейские силы, образование, средства массовой информации или здравоохранение, АС имеет власть, но всегда в рамках основных законов государства. Кроме того, отметим, что территориальное разделение власти не коснулось власти судебной, которая едина на всей территории государства.
Распределение компетенций, помимо приведения их в соответствие с конституцией и реализации Статута, имеет еще и третью функцию: передачу каждому сообществу служб, средств и персонала, необходимых для осуществления предполагаемых Статутом правомочий. Каталонский Статут предусматривал создание совместных паритетных комиссий из представителей центрального правительства и АС, заключающих соглашение в виде королевских декретов правительства (Reales Decretos del Gobiemo). Эта процедура длится уже много лет и все эти годы зависела от 283
степени политического взаимопонимания между правящими силами Каталонии и Мадрида.
Из всего вышеизложенного легко понять, что система распределения компетенций очень сложна и провести четкое разграничение между сферами правомочий Каталонии и государства очень трудно. Это обстоятельство, наряду с позицией правящих сил обоих уровней, привело к постоянным спорам. И поскольку в данной системе разрешение конфликтов по вопросам юрисдикции — дело Конституционного суда, его роль как арбитра, определяющего соответствующие сферы компетенции, всегда была решающей.
Учреждения Каталонии
Для АС, получивших автономию, как Каталония, по ускоренной процедуре, испанская Конституция предусматривает систему учреждений, в основе которой лежит законодательное собрание, избираемое всеобщим голосованием, правительственный совет, наделенный исполнительной властью и административными функциями, и президент, избираемый законодательным собранием из числа своих членов; президент председательствует на правительственном совете, является верховным представителем АС и постоянным представителем государства в сообществе.
В рамках этой схемы и в соответствии «с принципом ранжирования» Статут автономии и должен учредить названия, структуры и штаб-квартиры собственных учреждений АС.
Статут автономии Каталонии гласит, что «учреждение, в которое политически организовано каталонское самоуправление», — Женералитат; таким образом, Статут восстанавливает название, которым называлась политическая власть в Каталонии в былые времена. Но в то же время это учреждение объединяет в себе целую совокупность институтов: парламент, президентскую власть и исполнительный орган, т.е. правительство. Это и есть ядро каталонского самоуправления, вокруг которого вырастают другие институты, также предусмотренные Статутом. Эти три основных института учреждены Статутом и законом каталонского парламента от 1 982 г.
Из положений конституции и Статута легко понять, что каталонские институты взаимодействуют между собой по схеме, характерной для парламентской системы правления: единственный орган, избираемый непосредственно народом, выбирает и низлагает главу правительства, который не может управлять и оставаться на своем посту без доверия и поддержки большинства членов законодательной палаты. Рассмотрим эту схему.
Согласно Статуту (ст. 30), парламент представляет народ Каталонии и осуществляет законодательную власть, утверждает бюджет, стимулирует и контролирует политическую и правитель284
ственную деятельность. Он избирается на четыре года всеобщим, свободным, равным и прямым голосованием по системе пропорционального представительства. Выборы в парламент должны проводиться на основе закона о выборах, утверждаемого самим парламентом; закон этот до сих пор еще не принят, а до его принятия, в соответствии с Временным положением Статута, действует государственное законодательство.
Парламент Каталонии состоит из ста тридцати пяти членов, избираемых в четырех избирательных округах, соответствующих четырем каталонским провинциям: Барселоне, Таррагоне, Лериде и Жероне. Голосование проводится по спискам кандидатов, кандидаты в списках сгруппированы по блокам, избиратели не могут вносить в списки новые кандидатуры. Избирательная формула — пропорциональное представительство по системе наибольшего среднего, так называемая формула Д'Ондта (D'Hondt’s formula). Минимальный процент голосов, необходимых, чтобы получить представительство в парламенте, составляет 3% признанных действительными голосов в округе.
Организация и функционирование парламента определяются его устройством и воспроизводит классическую схему испанского парламента. Парламент (исп. камара) имеет своего президента, председательствующий совет и постоянную комиссию. Работа проходит на пленарных заседаниях и в комиссиях, в которых представлены все парламентские группы. Помимо выполнения законодательных и бюджетных функций, он составляет законопроекты, вносимые в парламент Испании, и может добиваться принятия законов центральным правительством.
Хотя парламент Каталонии успешно функционирует как законодательное и согласительное учреждение, с политической точки зрения это не самый главный из каталонских институтов. Причиной тому являются, во-первых, те же факторы, что обычно влияют на парламентские системы в современных государствах: «нормированный парламентаризм», политические партии, господство исполнительной власти в социальном государстве. Во-вторых, сказывается тенденция, общая для всех «составных государств» и их систем распределения полномочий, — тенденция к сосредоточению законодательной власти на уровне центра, тогда как исполнительная власть всегда передается территориальным единицам. Не следует забывать, что законодательную власть каталонского парламента иначе, как ограниченной, не назовешь. И в-третьих, несмотря на все статьи конституции и Статута, система власти в Каталонии имеет тенденцию функционировать скорее как полу- президентская, чем как парламентская.
Фактически президент Женералитата — во-первых и прежде всего — глава исполнительной власти, и в качестве такового он руководит деятельностью каталонского правительства и координирует ее. Но так как он является, во-вторых, еще и президентом 285
Женералитата в целом, т.е. института (или институтов) каталонского самоуправления, то в этом качестве он является верховным представителем всего этого института. В данном аспекте фигура президента приближается к фигуре главы государства — в том смысле, что он олицетворяет собой юридическую и политическую организацию АС, ее единство и преемственность. Наконец, в- третьих, президент — постоянный представитель Испанского государства в Каталонии, и в качестве такового, например, он обязан утверждать законы каталонского парламента именем короля.
Как мы уже говорили, президента избирает парламент из числа своих членов. Он должен представить свою правительственную программу и после дебатов получить квалифицированное большинство голосов при первом голосовании. Если он не соберет большинства голосов, то по истечении 4 8 часов он может просить повторных дебатов и повторного голосования, на котором ему будет достаточно простого большинства голосов.
Президент Женералитата, как и его правительство, несет политическую ответственность перед парламентом. К ответственности его можно привлечь двумя способами. Первый способ — «конструктивное» порицание, которое может быть вынесено одной десятой депутатов и на основании которого ставится на голосование вотум недоверия. Чтобы победить, альтернативный кандидат должен представить свою программу и добиться большинства в палате. Второй способ — это вотум о доверии, которого в исключительных случаях может требовать от парламента сам президент. Доверие выносится большинством голосов. Законодательная реформа 1985 г. дала президенту, в качестве противовеса, право заранее распускать палату, как это принято в некоторых странах с парламентскими режимами.
Правительство, или правительственный совет, — это коллегиальный орган, руководящий политической и административной деятельностью Женералитата. В число его функций входят разработка основных направлений деятельности правительства, работа над бюджетом, принятие законопроектов, законотворческая деятельность и назначение чиновников на высокие административные посты. Члены правительства назначаются и освобождаются от должности президентом Женералитата; каждый из них возглавляет какой-нибудь департамент. Различные правительства Каталонии с тех пор, как был утвержден ее Статут, состояли примерно из 1 2 департаментов: внутренних дел, юстиции, промышленности, образования, культуры, экономики, общественных работ, здравоохранения и соцобеспечения, торговли и туризма, сельского хозяйства, труда.
Такова в самых общих чертах схема организации институтов каталонского самоуправления. Она действительно отвечает критериям парламентской системы правления, но, как читатель уже, 286
наверное, заметил, содержит и элементы, сближающие ее с президентской системой. Во-первых, президент стоит над правительством — парламент избирает только президента, а затем уже сам президент назначает (и увольняет) себе советников, которым не может быть вынесен вотум недоверия. Во-вторых, его положение как представителя всего Женералитата делает его ответственным за все, что касается внешних сношений этого учреждения. В-третьих, власти у президента много потому, что функции исполнительной власти в АС несравнимо более важные, чем функции власти законодательной. И наконец (хотя, может быть, этот фактор и есть самый главный), при каталонской партийной системе преобладающая политическая партия, сплоченная и руководимая харизматической личностью, подчиняет себе и парламентское большинство, и правительство.
Вокруг ядра институтов самоуправления группируются и другие институты Женералитата, созданные на основе Статута. Вот некоторые из них: Cindic de Greuges, фигура, которую можно сравнить с омбудсменом; Консультативный совет, наделенный функциями юридической консультации и контроля; Sindicatura de Comptes, контролирующая финансовую деятельность учреждений.
Отношения с государством
В разработанной испанской конституцией схеме территориального устройства отсутствуют отношения главенства и подчинения между государством и Женералитатом Каталонии; конституция гарантирует последнему правомочия, которыми он пользуется свободно, по своему усмотрению, не выходя за рамки конституции и Статута. Итак, это отношения не главенства и подчинения, а интеграции и состязания. Тут нет системы контроля, существующей в чисто административных системах Ттри децентрализации власти. Законодательные акты Женералитата контролируются только Конституционным судом. Деятельность автономной администрации и ее нормативные акты находятся под состязательной юрисдикцией административных органов. Центральной государственной власти разрешено вмешиваться только в крайнем случае — если автономное сообщество нарушит конституцию, центральная власть может принять меры, чтобы заставить его эту конституцию соблюдать (ст. 155).
Наличие разных сфер юрисдикции создает почву для соперничества и конфликтов между государством и Женералитатом. Конфликты, связанные с полномочиями, предоставленными конституцией и Статутом, разрешаются Конституционным судом посредством специальной процедуры, называемой «конфликтом юрисдикций». Мы уже говорили, что этот способ до сих пор очень часто используется там, где надо разрешить политический спор в пользу юрисдикции одной из сторон.
287
Но наряду с этими «конфликтами юрисдикций» существуют и другие отношения с государством: Женералитат участвует в выработке государственных решений по двум каналам — через сенат и посредством законодательных инициатив. Первый канал состоит в том, что каталонский парламент назначает в сенат определенное количество сенаторов. По конституции, сенат — палата «территориального представительства», подобно второй палате в федеральных государствах. Однако его состав (членов, делегированных автономными сообществами, там очень немного) не соответствует этой идее. Вот почему, хотя парламент и структурирован в «неидеальную двухпалатную систему», механизм этот очень неэффективен, и уже давно есть предложение о его реформе. Второй канал участия состоит в том, что каталонский парламент может подавать законодательные предложения конгрессу депутатов или просить центральное правительство утвердить тот или иной законопроект.
Женералитат не только участвует в работе государственных учреждений, но и сотрудничает с ними. Эти отношения сотрудничества возникают прежде всего из системы распределения компетенций, как правило разрешающей вмешательство в какой-нибудь вопрос обеим властям, но с разными функциями, и из необходимости поддерживать связь и согласовывать действия. Существует целая сеть организаций и механизмов для координации действий и сотрудничества между государством и Женерали- татом по самым разным вопросам. В одних случаях в организациях представлены две стороны (комиссия государства и Женералита- та, Комитет безопасности), в других — это совместные организации с представительством всех АС. Это связано еще и с тем, что во многих случаях государство сохраняет в Каталонии свою администрацию, которая должна координировать свою деятельность с деятельностью автономной администрации.
Участие Женералитата (и вообще всех АС) в принятии государственных решений и создание прочных и эффективных механизмов сотрудничества (таких, какие имеются в современных неунитарных государствах) — вот две задачи, до сих пор не решенные в «государстве автономий».
Финансирование
В заключение нашего рассказа об автономии Каталонии вкратце коснемся финансовой стороны дела. Принцип автономии — основной связующий принцип нового территориального устройства государства — включает в себя возможность АС располагать экономическими средствами для реализации представленной им правомочности. Конституция гарантирует им для этого финансовую автономию «в соответствии с принципами координации с государственным казначейством и солидарности со всеми испан288
цами» (ст. 156) и устанавливает основные критерии, которым должна отвечать система финансовых ресурсов АС, предоставляя конкретизацию финансовой системы статутам и законам. Теоретически система, установленная Статутом Каталонии и LOFCA (Законом о финансировании АС), — «смешанная» система, по которой Женералитат имеет свою долю в государственных ресурсах, но может иметь и собственные источники поступлений, например от налогообложения.
Первая часть финансовых ресурсов состоит из причитающейся АС доли суммарного государственного дохода от прямых и косвенных налогов; в принципе эта доля оговаривается в результате соглашения, достигаемого на основе критериев, установленных в законе, хотя на практике этих критериев до сих пор не придерживались. Сюда относятся также следующие налоги, переданные государством Женералитату: чрезвычайный налог на состояния физических лиц, налоги на наследство, на передачу состояния и на предметы роскоши. Наконец, есть также поступления из так называемого Межтерриториального компенсационного фонда.
Вторая часть этих ресурсов состоит из надбавок к государственным налогам и, разумеется, из собственных налогов — местных и особых. Как мы уже говорили, система эта смешанная только теоретически, ибо на практике возможности Женералитата учреждать новые налоги существуют скорее теоретически, чем реально (до сих пор был учрежден только налог на азартные игры), а надбавки к уже существующим государственным налогам могут привести к резкому падению популярности Женералитата. Налоги, составляющие основной костяк системы налогообложения (подоходный налог, налоги с предпринимательских обществ, косвенные налоги в виде наценок), Женералитату не переданы. Таким образом, в каталонское казначейство поступает в основном то, что ему передает государство, так что финансовый баланс сводится с огромным дефицитом.
Выводы
Для любого специалиста по публичному праву и политологии совершенно очевидно, что сегодня Каталония имеет такие законодательные и политические институты, которые позволяют ее автономии ни в чем не уступать автономиям любых из субгосударственных единиц, входящих в состав неунитарных государств — будь то немецкие земли, итальянские административные области (regione), канадские провинции или бельгийские общины.
Точно так же можно сказать, что в настоящее время Каталония переживает один из наиболее продолжительных мирных периодов своей истории, пользуясь значительным самоуправлением в составе демократической Испании. В этом смысле опыт этих лет 289
19 1814
в том, что касается национального возрождения и степени удовлетворенности стремления каталонского народа к автономии, следует оценить положительно. Менее чем за пятнадцать лет наша нация восстановила свои исторические институты и находившиеся под угрозой исчезновения атрибуты национальной самобытности (в первую очередь язык); она имеет собственный парламент, свои политические движения, администрацию с более чем 80 тыс. служащих, бюджет более чем в 1 триллион песет и определенный выход за рубеж.
Несмотря на все это, в некоторых аспектах автономии до сих пор еще имеются нерешенные вопросы, которые отнюдь не являются неразрешимыми. Некоторые из них носят чисто законодательный и административный характер, и для их решения требуется только время, необходимое для структурной трансформации государства, вопрос территориального устройства которого конституция оставляет открытым, предоставляя тем самым решение об окончательном формировании его властных структур дальнейшей эволюции. Каталония — часть этого государства, и будущее ее автономии в огромной мере зависит от этой эволюции. Сегодня мы уже можем указать слабые точки в структуре «государственной автономии»: сложность системы распределения правомочности, до сих пор порождающая неразбериху; недостаточное участие в работе общегосударственных институтов; несогласованность и запутанность действий административных органов; необходимость рациональной и сбалансированной системы финансирования. И при этом не следует забывать о глубоких различиях между характеристиками различных АС и между стоящими перед ними целями.
Вот почему эти проблемы отнюдь не чисто технические, но и политические и культурные. Структура «государства автономий» (и ныне существующей автономии) зачастую выглядит недостаточной или малоподходящей для удовлетворения исторических требований Каталонии. Короче говоря, способна ли нынешняя структура вписать сильную политическую и культурную самобытность Каталонии в Испанское государство — еще вопрос. Это всегда было и до сих пор остается большим вопросом для автономии Каталонии.
Если мы теперь обратимся к перспективе на будущее, то я считаю, что гибкость системы автономий — это ее достоинство: она содержит в себе огромные потенциальные возможности, позволяя автономии эволюционировать в сторону расширения, т.е. добиться полного возрождения нации при мирном и эффективном многостороннем взаимодействии с государством в перспективе объединенной Европы.
Эрик Ремакль
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящий труд завершает серию из трех книг, посвященных проблематике этнических конфликтов и регионализма на постсоветском пространстве. Если первые два сборника статей касались специфической ситуации в двух географических субрегионах — на Кавказе и Центральной Азии, с одной стороны, и в трех славянских республиках — с другой, то данный сборник в большей степени затрагивает международную практику урегулирования конфликтов, связанных с вопросами национальностей и регионализма. В Заключении, представленном здесь, мы предложим рамки общего анализа, как теоретического, так и практического, которые также позволят читателю вновь рассмотреть в более общем плане исследования конкретных случаев, проведенные в двух первых книгах. В различных статьях1 выявляется в основном три типа проблем, и их можно всякий раз резюмировать в виде бинома, выражающего как противоречия, так и внутреннюю взаимодополняемость каждого из поднятых вопросов. Первый тип проявляется во взаимосвязях между идентичностью и безопасностью, второй — во взаимосвязи между внутренним и международным урегулированием конфликтов, а третий — во взаимосвязи между региональным и международным режимами безопасности.
Бином «идентичность — безопасность»
Период, открывшийся вслед за окончанием биполярности и крушением коммунизма как системы, претендующей на универсальность в соревновании с капитализмом, очевидным образом характеризуется четкой взаимосвязью между идентичностью и безопасностью. Французский философ и социолог Пьер Асснер недавно подчеркнул это так: «И на Западе, и на Востоке, в центре и на периферии культурная идентичность и общественная безопасность стали центральным мотивом поведения и предметом политических конфликтов»* 2.
Оба понятия являются одними из важнейших и наиболее спорных в политических науках и вызвали обширную литературу (см. статьи Линклейтера, Раджоньери, Зайдельмана). Особенно ~1
Когда мы ссылаемся на некоторые статьи настоящего выпуска, в тексте в скобках приводится фамилия автора.
2
Hassner Р. Beyond Nationalism and Internationalism. Ethnicity and World Order // Survival. Vol. XXXV. No. 2. London: IISS, March-April 1993. P. 58.
291
19*
важно понять их взаимосвязанность в исследованиях, посвященных урегулированию этнических и региональных конфликтов: этничность отсылает к идентичности человеческих общностей, тогда как конфликты между ними непосредственно затрагивают их безопасность. Это заставляет прилагать усилия для осмысления указанного бинома «идентичность — безопасность», если мы стремимся способствовать предотвращению, а также мирному и прочному разрешению подобных конфликтов. С этой целью следует прежде всего прояснить используемые концепции. Британский теоретик международных отношений Барри Бьюзен подчеркивает, что человеческие коллективы стремятся обеспечить свою безопасность в соответствии со своими опасениями внешних угроз, которые структурируют их идентичность. Он утверждает, что начиная с XVII в., т.е. с зарождения современного государства и современной системы международных отношений (Вестфальский мир 1648 г.), эта диада идентичности и безопасности политически обеспечивается государством, но это не означает, что государство представляет собой на вечные времена единственно возможную коллективную идентичность и единственный вектор безопасности политических общностей1. Исторически государство есть продукт человеческого строительства, а не внешняя реальность, налагаемая сверху на человеческие существа. Общий подход к безопасности, следовательно, не допускает ее автоматического и догматического привязывания к государству (и его границам). Поэтому мы не станем говорить о «национальной безопасности» или «национальном суверенитете», но предпочтем рассмотреть вопрос об «общественной безопасности» (societal security} человеческих групп.
Фактически «для общества выживание есть вопрос идентичности, поскольку это способ, которым оно сигнализирует об угрозах собственному существованию: если последние реализуются, мы больше не сможем жить как “мы”»2. Поэтому общественный подход связан не только с географическими границами государства как элементами структурирования общества, но и с культурной логикой отношения между «ними» и «нами»3, с рисками для безопасности, не ограниченными географически (миграции, окружающая среда, ядерные вещества), и с возможным появлением 1
См.: Buzan В. People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era. London: Harvester Wheatsheaf, 1991.
2
Waever O., Buzan B., Kelstrup M., Lemaitre P. Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe. London: Pinter Publishers, 1993. P. 25.
3
Cm.: Neumann L, Welsh J. The Other in European Self-Definition: An Addendum to the Literature on International Society // Review of International Studies. 1991. Vol. 17. No. 4. P. 327—348.
292
суб-, над- или транснациональных политических общностей, способных ответить на эти глобальные вызовы1.
Таким образом, признавая первостепенную роль государства в области безопасности в современную эпоху2, мы должны в теоретическом плане в первую очередь рассмотреть эволюцию представлений об идентичности у человеческих коллективов в различные эпохи, чтобы проанализировать системы безопасности, сменявшие друг друга в современной истории. Исходя из этой констатации, можно выявить четыре системы, по крайней мере на европейском континенте. Первая, окончательно сложившаяся со времени Вестфальского мира 1648г., порвала с многочисленными подданствами феодального строя: с многослойной (multi-layer) феодальной системой, где существует подданство одновременно перед местной политической властью (сеньором), перед эмбрионом национальной власти (королем) и двумя универсальными властями (церковью и императором), и заменяется вертикальной системой, где политические общества кристаллизуются вокруг одной власти, рационализированной и нерелигиозной, — власти государства, вписанного в определенные границы и являющегося единственным действующим лицом международных отношений3. Эта система — система «баланса власти» («balance of power»), где государство владеет одновременно суверенной властью в отношении индивидов внутри своих границ и могуществом в своих отношениях с другими государствами.
Власть и могущество (по-французски: pouvoir et puissance), впрочем, переводятся на английский язык одним словом «power», что, по-видимому, не случайно. Начиная с Французской революции 1789 г. устанавливается вторая европейская и мировая система, которая продолжает и укрепляет систему Вестфальского мира, — система национальных государств. Государство уже не только гарант безопасности граждан, живущих на его территории, — оно воплощает собой их идентичность как сознательного 1
См.: Buzan В. New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century // International Affairs. Vol. 67. No. 3. London: RIIA, 1991. P. 431—451.
2
Напомним, например, определение государства у немецкого социолога Макса Вебера как «территориально определяемое образование, внутри которого индивиды отказываются от применения силы в их отношениях и подчиняются приказаниям власти, осуществляемой заинтересованными лицами, которой отводится монополия на применение законного насилия» (Weber М. Wirtschaft und Gesellschaft. Tiibingen: J.С.В. Mohr, 1985 (первая публ. 1922 г.). S. 514).
3
См.: Bull Н., Watson A.N (eds.). The Expansion of International Society. Oxford: Oxford University Press, 1984.
293
и самоорганизующегося политического сообщества. Это рождение национализма, «политического принципа, утверждающего, что политическое и национальное единство должны совпадать, теории политической легитимности, требующей, чтобы этнические границы совпадали с политическими»1. Два варианта этого национализма будут характеризовать национальные государства в XIX и XX вв.: национализм Французской Республики, основанный на территории и гражданстве, и национализм, вдохновленный немецким философом Гердером, основанный на романтической тяге к общим культурным корням. Межгосударственная система, основанная на национальных государствах, базируется тем самым на гораздо более мощных коллективных идентичностях, нежели первоначальная Вестфальская система, так как каждое политическое сообщество полностью отождествляет себя с государством2. Отсюда следуют два важнейших изменения в международной системе.
С одной стороны, географические границы и историческая легитимность, т.е. две основы геополитики, становятся важнейшим, чуть ли не религиозным смыслом идентичности национальных государств. С другой стороны, способы ведения войны совершенствуются и вовлекают всю нацию как участника, а следовательно, и как жертву: войны мобилизуют целые нации во имя тоталитарного национализма или идеологии, распространяются на всю планету, ведутся с целью овладения морским и воздушным пространством, подпитываются техническим прогрессом современности, последним достижением которого, ставящим на карту само будущее человечества, является ядерное оружие. Именно с появлением в 1945 г. ядерного оружия возникает третья международная система, получившая название биполярности. В ней устанавливается новая диалектика — диалектика противостояния двух идеологических проектов с универсальными претензиями, которые оба родились на европейской почве и воплотились в организациях, зеркально отражавших друг друга, — Североатлантическом и Варшавском договорах, ЕЭС и СЭВ. Связь между идентичностью и безопасностью отныне основывалась не на национальных государствах, а на политико-идеологических блоках, безопасность которых обеспечивалась на демаркационной линии, разделявшей Германию. Параллельно предпринимаются также три международные попытки невоенного характера, ста1
Gellner Е. Nations and Nationalism. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
2
Cm.: Smith A. Nations and Nationalism in a Global Era. Cambridge: Polity Press, 1995. P. 54—56.
294
вившие целью мирное урегулирование конфликтов путем сотрудничества. Первой являлась политическая система сожительства наций внутри Советского Союза, а после 1945 г. — в Социалистической Федеративной Республики Югославии. Под тяжестью проблем, унаследованных от многонациональных империй XIX в., эта попытка потерпела крах после 1 989 г., в основном по причине недемократического характера системы и недооценки связи между национализмом, демократией и современностью (см. Предисловие Б. Коппитерса).
Вторая попытка, предпринятая исключительно в западном лагере, выразилась в создании Европейского сообщества. Ее идентичность, конечно, формируется лишь под защитой американского ядерного зонтика, но она представляет собой специфический политический проект, направленный на предотвращение войны путем экономической и политической интеграции ранее антагонистичных друг другу национальных государств, в особенности Франции и Германии. Наконец, сначала в 1 919 г. и вновь в 1945 г. разрабатывается универсальный проект коллективной безопасности, который был призван выйти за рамки традиционного «balance of power» и положить конец гегемонизму великих держав над малыми государствами: этот проект «интернациональной» или «космополитической» демократии в некотором роде завершал проект «наднациональной демократии», выдвигавшийся в масштабе Западной Европы1. Четвертая международная система современной эпохи — после 1989 г. — порывает с системой биполярности в той мере, в какой стремится устранить преобладание идеологической оппозиции между капитализмом и коммунизмом.
Тем самым новая система разрушает интернационалистское стремление к мирному урегулированию национального вопроса в обеих коммунистических федерациях — советской и югославской, которые уступают место новым национальным государствам, порой создаваемым на крови и слезах. Взамен этого она сохраняет универсалистские тенденции коллективной безопасности и «глобального управления» («global governance») — наднациональной демократии в рамках Европейского сообщества, а также воспроизводит культурные и национальные факторы как мощные элементы идентичности наряду с геополитикой многополярного «balance of power» и однополярными тенденциями американской сверхдержавы (Раджоньери).
1
По поводу концепции космополитической демократии см.: Held D., Archibugi D. (eds.). Cosmopolitan Democracy. Cambridge: Polity Press, 1995. Относительно концепции наднациональной демократии и ее артикуляции с международной демократией см.: Telo М. (ed.J. Democratic et construction еигорёеппе. Bruxelles: 6ditions de Г University de Bruxelles, 1995.
295
В этой новой системе речь, однако, уже не идет о простой конфронтации между абсолютными национальными суверенитетами. Интернационализм и регионализм (в смысле создания более широких политических и экономических ансамблей), равно как и утверждение субнациональных сообществ (этнических или иных меньшинств) или сообществ транснациональных (религий, социальных классов), накладываются на национализм и приводят к установлению такого соотношения между идентичностью и безопасностью, которое подразумевает взаимодействие между различными уровнями лояльностей, ценностей и интересов. Урегулирование современных конфликтов требует учета взаимозависимости между этими различными уровнями, в частности, с одной стороны, между внутренним и международным измерениями, а с другой — между уровнями региональным и универсальным.
Внутреннее и международное урегулирование
Идентичность (будь то национальная или иная) есть не только продукт самоутверждения в качестве политического сообщества по отношению к другим сообществам (Линклейтер, Ван Дейк), но и признания со стороны других, что, в частности, представляет собой важную политическую цель в плане легитимности на пространствах Югославии или бывшего СССР (Пэ). Эта идентичность (как показывает Линклейтер на примере Германии) связана с «членством» в политическом сообществе, с гражданством и с глобальными обязательствами. Несмотря на тенденции к глобализации, идентичность также проявляется в стремлении к определению географических границ и территории либо в мирной, переговорной форме (Германия, СССР, Чехословакия), либо в форме насильственной (Кавказ, Югославия). Следовательно, как внутренние, так и международные факторы играют важную роль в определении идентичности и в урегулировании этнических конфликтов.
Среди факторов, в которых смешиваются внутреннее и международное измерения, в особенности в бывшем СССР и вообще во всех странах, недавно освободившихя от коммунизма, заслуживают углубленной разработки три вопроса. Первым является вопрос об истории, или, скорее, о восприятии народами своей собственной истории и места, которое они занимают в мире (Weltanschau ипд).
В посткоммунистических странах это восприятие является особенно сложным, так как отчасти основывается на идеализированной докоммунистической мифологии, но оно не может также не касаться неоднозначных реалий, унаследованных от коммунистического периода, даже когда последний официально изобра296
жается как «внешний» по отношению к национальной истории. Анализ, проведенный на примере Грузии (Нодиа), указывает на сильную взаимосвязь между коллективной идентичностью, основанной на религии и языке, и международной стратегией поисков среди великих держав «патрона», благодаря которому идентичность могла бы быть представлена и сохранена на международной арене. «Спрос на Запад», наблюдающийся в грузинском случае и питаемый разочарованиями, повторявшимися в течение двух веков, также в менее сильной степени наблюдается во многих странах Центральной Европы, в которых коммунизм воспринимался как тормоз на пути вступления в современность, хотя в действительности он часто был ее вектором.
Вслед за определением национальной идентичности по отношению к Европе или Западу встает второй вопрос — об определении своей сущности самой Европой. Всякая фиксация «границ» Европы неизбежно оставит некоторые государства за дверьми «клуба» и утешит тех, кто видит мир в терминах «столкновения цивилизаций» («clash of civilizations» — Хантингтон). Отношения между христианством и исламом или между католицизмом и православием определенно составляют часть этого исторического измерения, связанного с идентичностью. По этой причине поиски решений национального вопроса посредством наднациональной политической интеграции представляют значительный интерес в Центральной и Восточной Европе после 1989 г., как это было в Западной Европе после 1945 г. Эта интеграция в действительности не является отрицанием национальной идентичности, но является признанием одновременно общих ценностей универсального характера (демократии, правового государства) и заинтересованности в экономическом сотрудничестве, что позволяет народам с разной идентичностью мирно сосуществовать друг с другом в условиях растущей взаимозависимости. Да и сама европейская интеграция имеет тенденцию к географическому расширению мирным и переговорным путем: у нее нет окончательных границ и ее расширение требует постоянного диалога и растущего сотрудничества с соседями. Третий вопрос носит экономический характер: переход от социализма к капитализму представляет собой прежде всего бурное перераспределение собственности и экономической власти. Это в первую очередь внутренний процесс, но с вовлечением важных внешних действующих лиц (Международного валютного фонда, Всемирного банка, Всемирной торговой организации, нефтяных компаний, транснациональных корпораций, великих держав). Многие конфликты уходят корнями в этот процесс, при котором число тех, кто теряет от экономической модернизации, намного превышает число тех, кто выигрывает. В случаях, когда конфликты оказывают лишь незначительное влияние на междуна297
родную ситуацию, большого риска их распространения на территорию соседних государств не существует. Роль «международного сообщества», в сущности, ограничивается сдерживанием (containment) конфликта и преодолением его последствий (особенно решением проблем беженцев). Задача «поддержания порядка» и «принуждения к миру», как правило, прямо или косвенно возлагается на региональную державу: Российская Федерация играла эту роль в большинстве конфликтов на территории бывшего СССР. Тем не менее, когда возникает более глобальная опасность — распространение ядерного оружия, подрыв снабжения нефтью и газом, геополитическое наступление ислама, — западный интерес к разрешению конфликтов возрастает, а подключение ряда международных организаций проявляется гораздо конкретнее.
Посредничество США между Россией и Украиной по ядерному вопросу и направление миссий ОБСЕ в Нагорный Карабах и Чечню — вот два наиболее ярких тому примера. Отношения между Западом и Россией в регионе все более напоминают взаимодополняющую игру между двумя формами периферизации: экономической и идеологической всех стран региона, включая Россию, по отношению к Западу (см. статью Коппитерса о Грузии); политической и военной — большей части бывших советских республик по отношению к России (кроме Украины, в определенной степени). Эта двойная периферизация иллюстрирует сравнительно большое сходство интересов между западными державами и Кремлем: российские войска в некотором роде служат для охраны нефтепроводов и защищают Запад против ислама в обмен на признание российской военной мощи и значительную экономическую поддержку (Тренин). Это разделение труда, способное удовлетворить обе стороны, пока в Москве остается у власти альянс либералов, военных и «Газпрома», может также представлять некоторый интерес для малых республик, которые приближаются к Западу через посредство и под «защитой» западнической России (Нодиа). Последний элемент, который следует здесь подчеркнуть, касается институциональных решений национального вопроса в регионах, где он может вызвать конфликты с применением насилия. Во внутреннем плане можно подумать прежде всего о более гибкой и более толерантной организации административной структуры государства.
Подобная реформа может одновременно коснуться элементов, связанных с территориальностью (региональный федерализм, децентрализация налогообложения), или культурной, лингвистической и общинной (communautaire) идентичности (персональный федерализм, автономия языковых или религиозных общин). Международные примеры способов внутреннего ненасильственного разрешения конфликтов, связанных с национальным вопросом, 298
весьма разнообразны, например бельгийский федерализм, при котором смешиваются территориальные и нетерриториальные аспекты (Десхауэр, Ван Дейк), или асимметричные формулы, как, например, испанские автономии (Фоссас Эспадалер). Но, по всей видимости, их трудно применить в ситуации постсоветских республик. Во-первых, последние охвачены глубоким экономическим кризисом, который затрудняет любую углубленную административную модификацию государства в условиях, когда бюджет последнего сокращается, а ссылки на необходимость вмешательства государственных органов и на полиэтничность часто воспринимаются как ностальгия по коммунистическому прошлому. Во-вторых, соответствующая реальность и история в разных странах глубоко различны: как можно, к примеру, говорить о федерализме там, где выдвигаются требования об отделении бывших автономных республик, или о культурной автономии тогда, когда сотни тысяч человек насильственно изгоняются в порядке заботы об этническом или религиозном «очищении»? Наконец, институциональные, конституционные или административные реформы не кажутся априорно надежными и чудотворными решениями: федерализм не помешал кровавому расчленению Югославии на базе, противоречащей внутреннему и международному праву (Пэ), а в таких государствах, как Бельгия, Канада или Индия, он рискует быть лишь переходной стадией к более или менее мирному разводу.
В международном плане большинство механизмов или институтов, сложившихся, в частности, в рамках Совета Европы (Линклейтер) или ОБСЕ (Барбе/Саинз, Ремакль), являются результатом стремления к укреплению прежде всего нормативных механизмов в пользу миноритарных групп (Верховный комиссар ОБСЕ, рамочная Конвенция Совета Европы, Пакт стабильности Европейского союза), тогда как политические и экономические реформы ослабляют центральную власть. Парадоксальным образом некоторые из этих механизмов не признаются самими западными странами: Бельгия, Франция, Греция и Турция отказываются подписать рамочную Конвенцию Совета Европы о национальных меньшинствах, так как считают, что на их территории не существует национальных меньшинств. Зато ратификация того же документа ставилась условием для вступления в Совет Европы таких стран, как Хорватия и Россия. Точно так же Пакт стабильности, который Европейский союз заставил подписать страны Центральной и Восточной Европы, обязал последние принять двусторонние соглашения о неприкосновенности границ и правах меньшинств, в то время как некоторые страны ЕС отвергают всякое вмешательство своих соседей в вопросы меньшинств и не урегулировали такие важные территориальные проблемы, как Северная Ирландия или Гибралтар. Как показал ряд статей настоящего сборника, 299
подобные нормативные режимы оказались полезными, в частности, для предотвращения вспышки или эскалации некоторых конфликтов (Барбе/Саинз, Раджоньери, Ремакль), но они, тем не менее, не дают окончательного урегулирования последних. Именно внутренняя социально-политическая и экономическая эволюция — поддержанная международными институтами — в первую очередь может дать возможность долгосрочной стабилизации, но последняя, тем не менее, не может быть навязана извне. Это также ставит вопрос о согласованности действий между региональными и международными организациями.
Региональные и международные режимы безопасности
Связь между глобализацией и регионализацией, или, иначе говоря, между мировой системой и региональными подсистемами, все более активно изучается в современной науке о международных отношениях, в частности в плане безопасности. Она вынуждает к постановке трех вопросов относительно международной практики разрешения этнических конфликтов.
Первый из них касается согласованности политики международных организаций в деле предотвращения конфликтов. Действительно, можно спросить себя, целесообразно ли, чтобы ООН, Совет Европы или ОБСЕ пытались предотвращать и разрешать вооруженные конфликты, если параллельно политика МВФ или Всемирного банка способствует дестабилизации тех же самых обществ путем слишком жесткой структурной перестройки, которая выливается в экономический эгоизм или националистический шовинизм. Предотвращение конфликтов должно, несомненно, стать также конкретной политической целью международных экономических и финансовых организаций. Ввиду этого последние должны быть более связаны в структурном плане с системой ООН и быть политически ответственны (accountable) перед эмбриональными органами мирового правительства. Тем самым укрепление согласованности между политикой в области безопасности и экономической политикой требует более мощных и более эффективных международных режимов в понимании доклада о «глобальном управлении», представленного по случаю 50-й годовщины ООН1. Та же проблема согласования целей налицо и в области координации между различными европейскими экономи1
См.: Наше глобальное соседство. Доклад Комиссии по глобальному управлению и сотрудничеству. Москва: Весь мир, 1996 (Our Global Neighbourhood. The Report of the Commission on Global Governance. Oxford: Oxford University Press, 1995).
300
ческими объединениями и организациями в сфере безопасности (СНГ, Совет Европы, ОЭСР, НАТО, ЕС, ЗЕС и т. п.).
Второй вопрос заключается в том, чтобы выяснить, должна ли универсальная организация, т.е. ООН, целиком делегировать свои обязанности региональным организациям? Такое решение дает некоторые выгоды, так как оно позволило бы ООН больше заниматься координацией и выдвижением политических инициатив, чем текущим урегулированием проблем, слишком многочисленных для нее. Это явилось бы также частичным ответом на бюрократизацию и бюджетный кризис ООН. Наконец, поиск решений велся бы на уровне, более близком к рассматриваемому региону. Например, для бедных континентов, таких, как Африка, наличие универсальной организации может быть желательным как проявление всемирной солидарности. Полезно также обеспечение беспристрастности в дипломатическом посредничестве или миротворческих операциях, что легче делается в рамках ООН, нежели в обстановке, когда требуется выдвижение на первый план региональных организаций. Однако реформирование ООН имело бы также и невыгодные стороны. Как могла бы ООН, например, проверить, что региональные организации точно соблюдают предоставленные им мандаты? Так, в Боснии между ООН и НАТО возникали многочисленные проблемы, а всемогущество России внутри СНГ мешает рассматривать последнее как региональную организацию.
Наконец, возникает и третий вопрос: не укрепляют ли в политическом плане международные режимы, установленные, по сути, западными странами и контролируемые ими, отношения между центром и периферией, которые уже существуют в области экономики между Западом и Востоком? Международные режимы никогда не используются для решения проблем западных стран, которые считают, что их внутренняя стабильность и конституционное устройство достаточны для мирного разрешения спорных вопросов. Эти режимы в некотором роде задуманы как инструмент перехода к правовому государству и политической стабилизации, как средство приобщения к «цивилизации», определяемой по преимуществу на Западе.
Однако западный мир не ограничивается определением правил игры в зависимости от демократических ценностей и цивилизованных норм взаимоотношений между государствами: он использует международные организации для защиты своих фундаментальных экономических и стратегических интересов. Указания на это можно найти в дебатах о роли ОБСЕ на Кавказе, о восстановлении мира в Боснии и о расширении НАТО на Центральную Европу. Существует риск того, что в порядке компенсации Запад оставит России «зону влияния» во всем бывшем СССР, 301
не слишком серьезно беспокоясь о правах народов и демократии. Это было бы курьезным возвратом к некоему геополитическому разделу Европы и к «реалистическому» цинизму, типичному для «balance of power», Поэтому отрадно отметить, что после 1989 г. между европейскими странами в рамках Совета Европы и ОБСЕ были разработаны нормативные документы высокой моральной и политической ценности. Эти документы представляют собой совместно выработанные кодексы поведения, служащие политическим барометром добрых отношений между государствами. Мероприятия различных региональных организаций также должны восприниматься как положительный шаг в сторону развития институциональной структуры по урегулированию конфликтов. Тем не менее, если признать, что общественная безопасность не ограничивается стабильностью межгосударственных границ, но затрагивает весь комплекс параметров, которые обеспечивают гражданам условия жизни в мире и с соблюдением человеческого достоинства, важно, чтобы подобная структура была не простым отражением геополитики государств, но гарантом общей и равной безопасности каждого из нас.
302
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Бруно Коппитерс — доцент, читает курс политической философии и восточноевропейской политики в Центре политологии фламандского Свободного Брюссельского университета VUB (Бельгия).
Раймунд Зайдельман — сотрудник франкоязычного Свободного Брюссельского университета ULB (Бельгия).
Родольфо Раджоньери — директор Форума по проблемам мира и войны (Флоренция, Италия).
Эндрю Линклейтер — профессор в области международных отношений Килского (Keele) университета (Великобритания).
Эрик Ремакль — научный сотрудник Института европейских исследований при франкоязычном Свободном Брюссельском университете ULB (Бельгия).
Эстер Барбе — директор Центра исследований по проблемам мира и разоружения и профессор в области международных отношений на факультете политологии и социологии Автономного Барселонского университета (Испания).
Нора Саинз — профессор, доцент по курсу международных отношений на факультете политологии и социологии Автономного Барселонского университета и научный сотрудник Центра исследований по проблемам мира и разоружения при том же университете (Испания).
Дмитрий Тренин — старший научный сотрудник Института Европы Российской академии наук (Москва); научный сотрудник (Program Associate) Московского Центра Карнеги.
Оливье Пэ — преподаватель франкоязычного Свободного Брюссельского университета ULB (Бельгия).
Гиа Нодиа — профессор факультета социологии Тбилисского государственного университета и председатель Кавказского института мира, демократии и развития (Грузия).
Алексей Малашенко — заведующий сектором исламоведения Российской академии наук; научный сотрудник (Program Associate) Московского Центра Карнеги.
Рут ван Дейк— научный сотрудник фламандского Свободного Брюссельского университета VUB (Бельгия).
Крис Десхауэр — профессор политологии во фламандском Свободном Брюссельском университете VUB (Бельгия), член Центра междисциплинарных исследований (Брюссель). В 1993— 1994 гг. являлся председателем Четвертого конгресса фламандцев Брюсселя.
Энрик Фоссас Эспадалер — доцент, читает курс конституционного права в Автономном Барселонском университете (Испания).
303
СОДЕРЖАНИЕ
Бруно Коппшперс Предисловие 3
I. Этнические конфликты в теории международных отношений
Раймунд Зайдельман
Теории конфликтов и мира: концепции, подходы, методы ... 16
Родольфо Раджоньери Структура системы и динамика конфликтов 41
II. Роль международного сообщества в урегулировании этнических конфликтов в Восточной Европе и Евразии
Эндрю Линклейтер К постсуверенному политическому пространству 54
Эрик Ремакль
Предупреждение конфликтов и права национальных меньшинств. 75
ОпытСБСЕ75
Эстер Барбе и Нора Саинз
Постсоветское пространство: лаборатория СБСЕ/ОБСЕ .... 94
Дмитрий Тренин
Предотвращение, управление и урегулирование конфликтов на 118 территории бывшего СССР: насколько расходятся интересы России и Запада?
Оливье Пэ
Процесс международного признания бывших югославских 139
республик — опасный прецедент для многонациональных государств
Гиа Нодиа Образ Запада в грузинском сознании 150
Бруно Коппитерс
Грузия в Европе. Идея периферии в международных отношениях 181
Алексей Малашенко
Новые ориентации Центральной Азии и Россия 207
Бруно Коппитерс Партнерство ради мира с Центральной Азией 227
III. Западноевропейский опыт разрешения этнических конфликтов
Рут ван Дейк
Регионализм, федерализм и права меньшинств в Бельгии ... 251
Крис Десхауэр Дотянет ли Брюссель до следующего века? 269
Энрик Фоссас Эспадалер Автономия Каталонии 276
Эрик Ремакль Заключение 291
Сведения об авторах 303
304