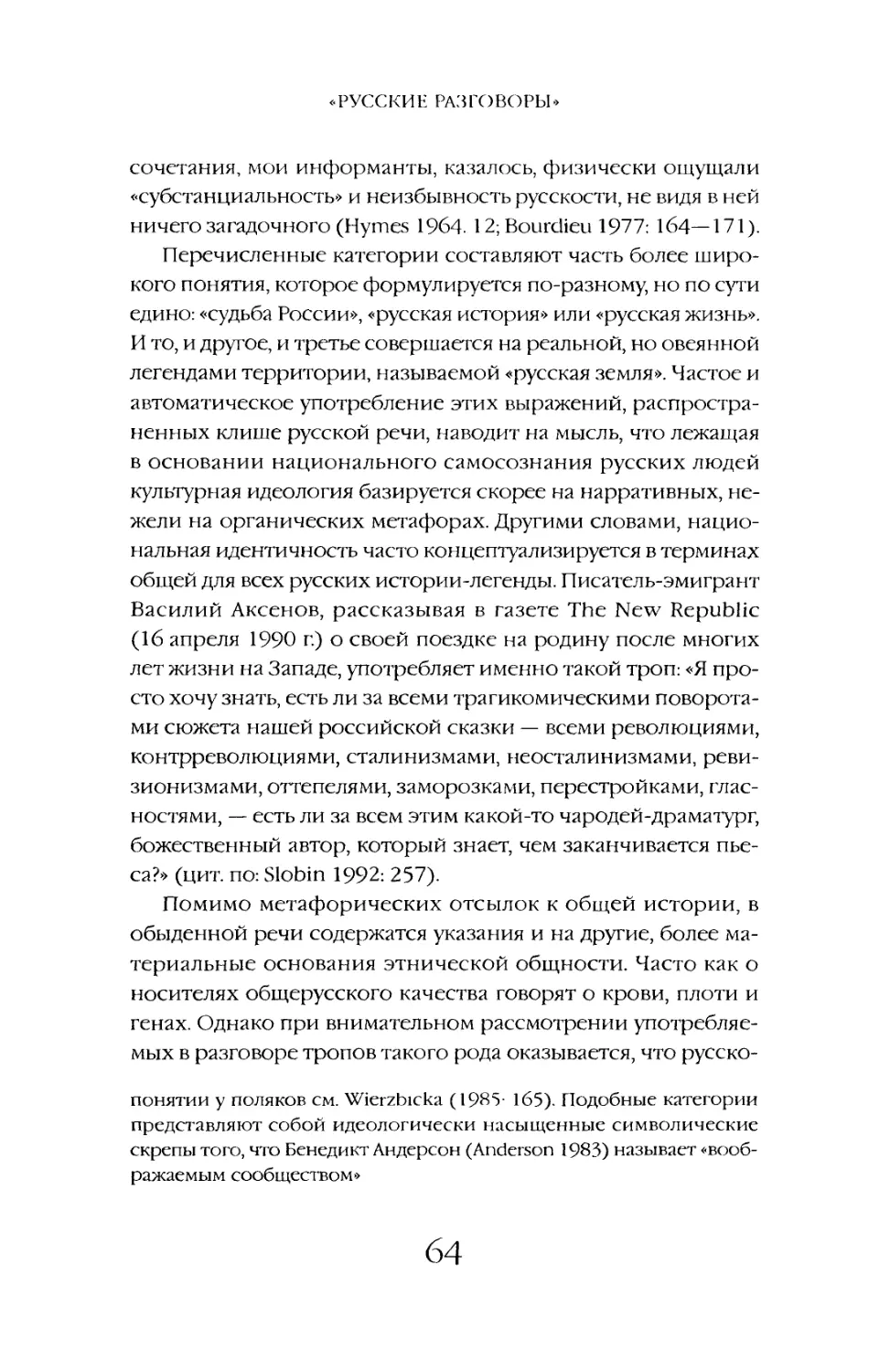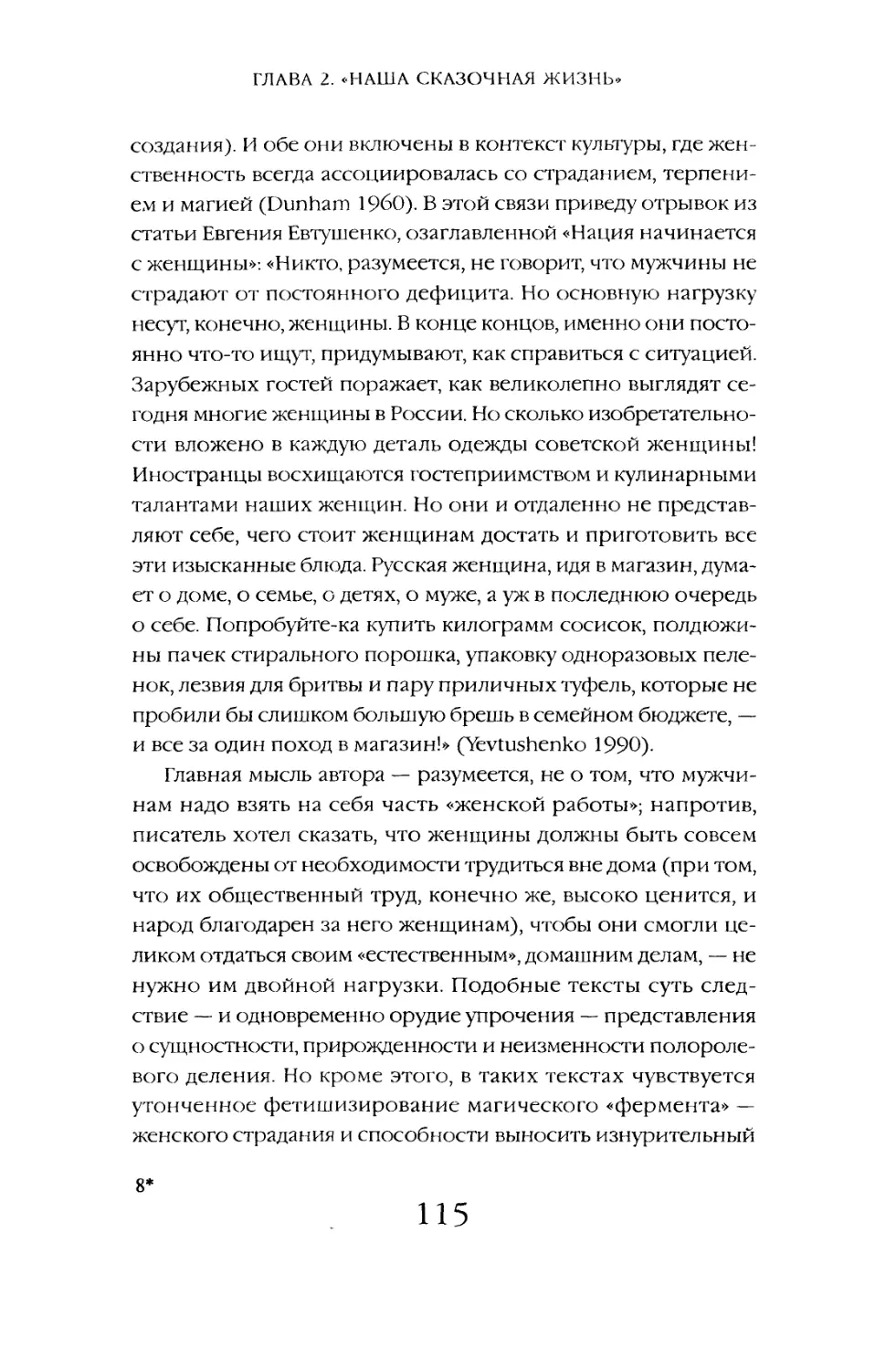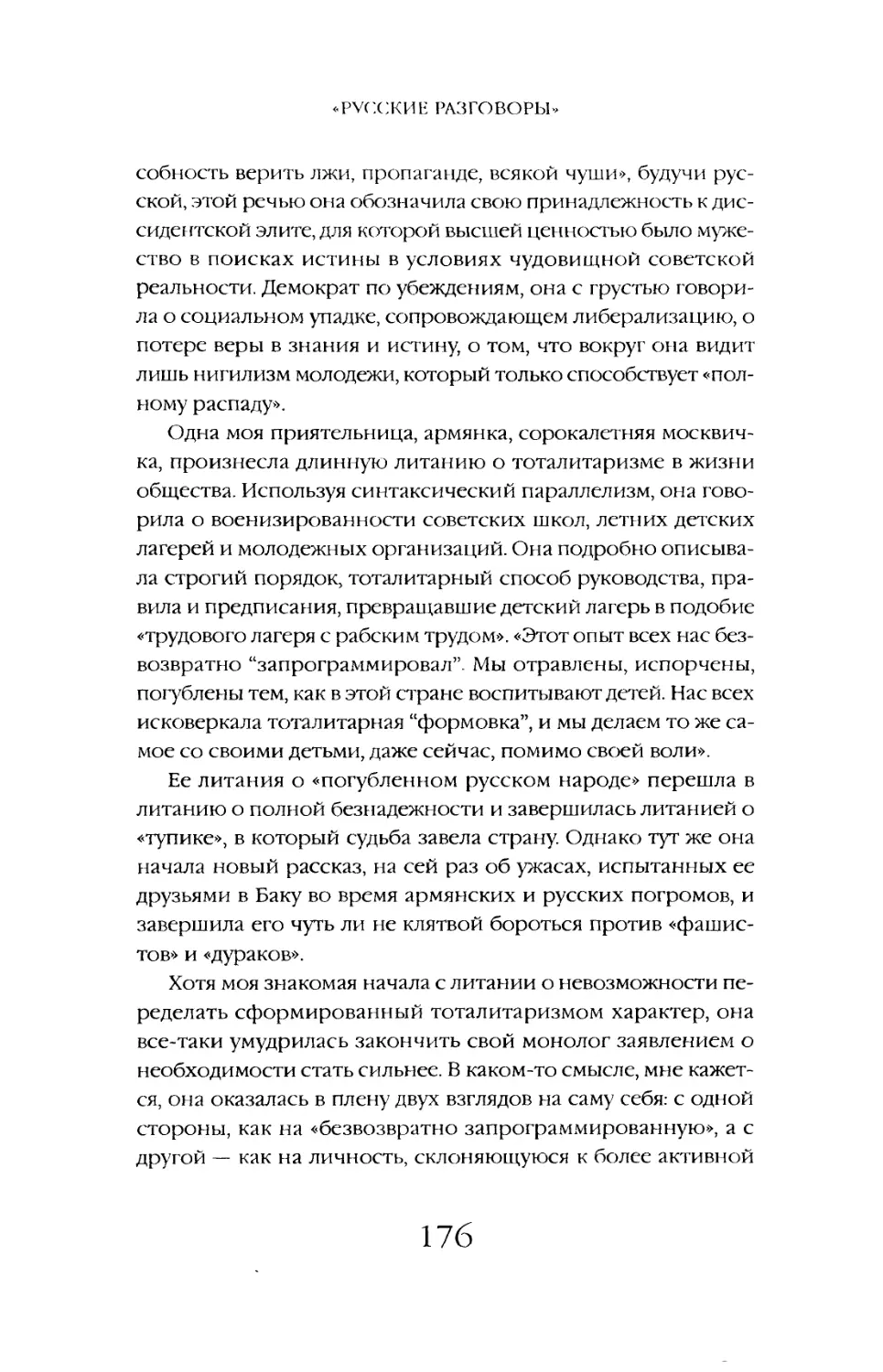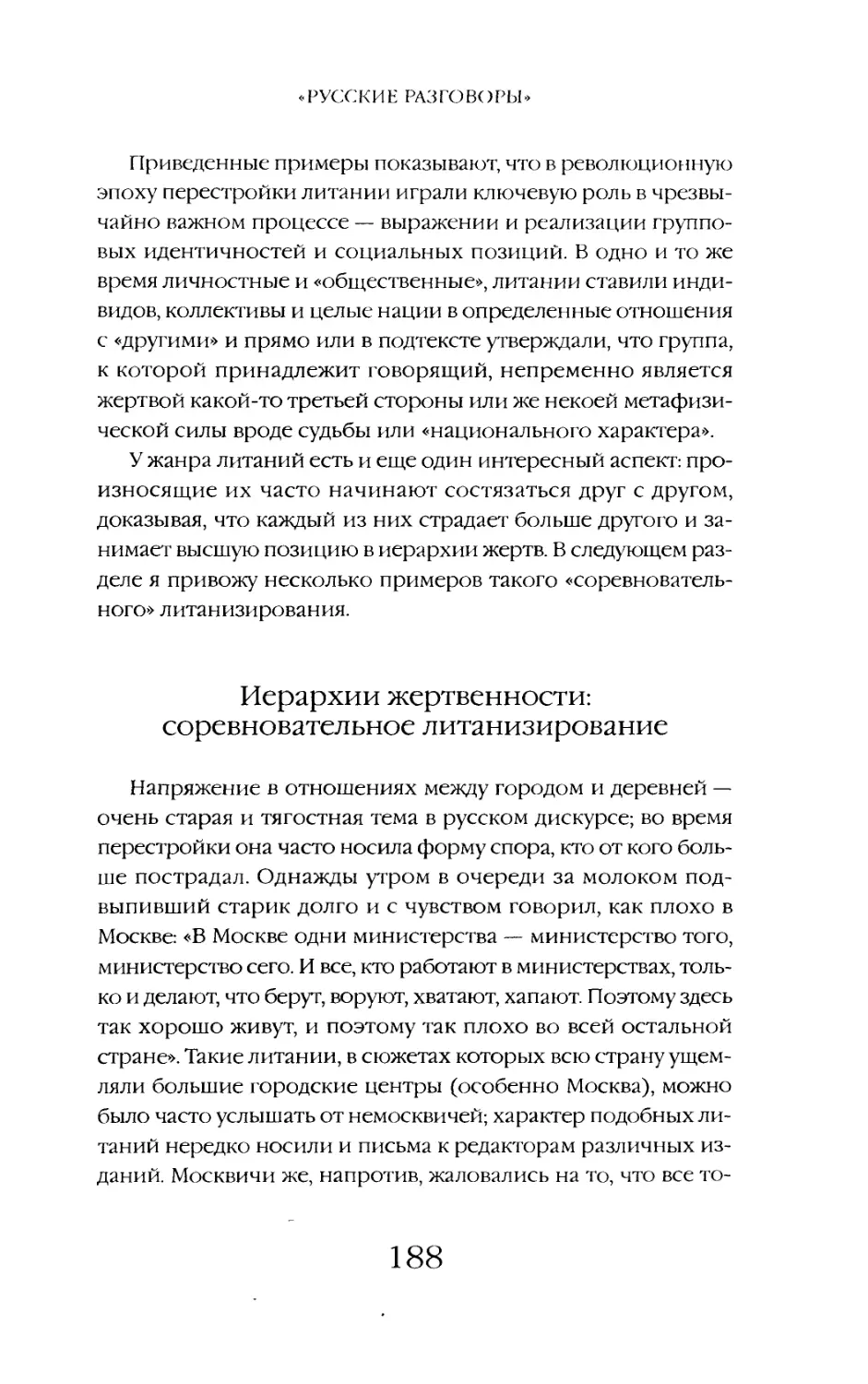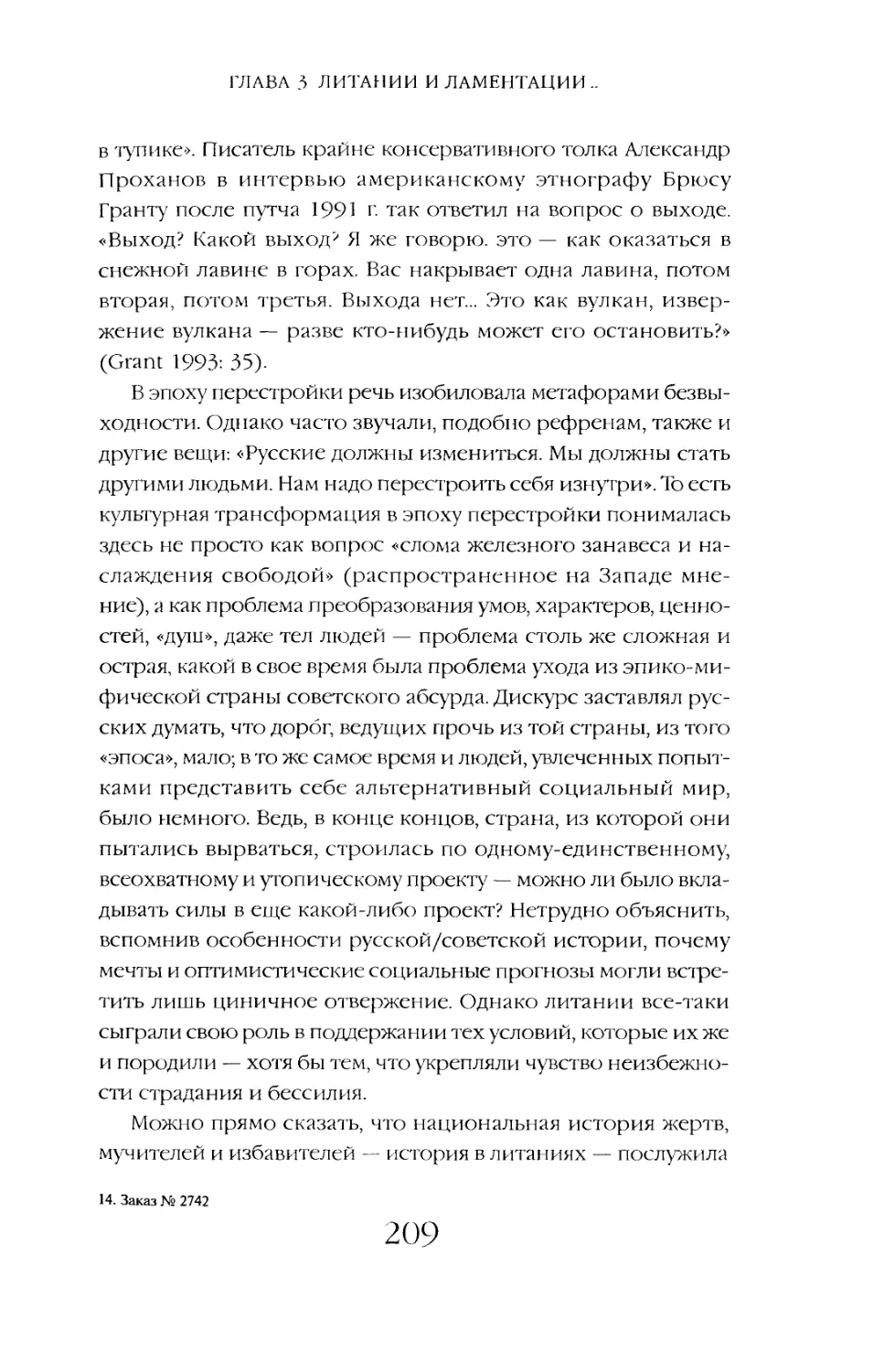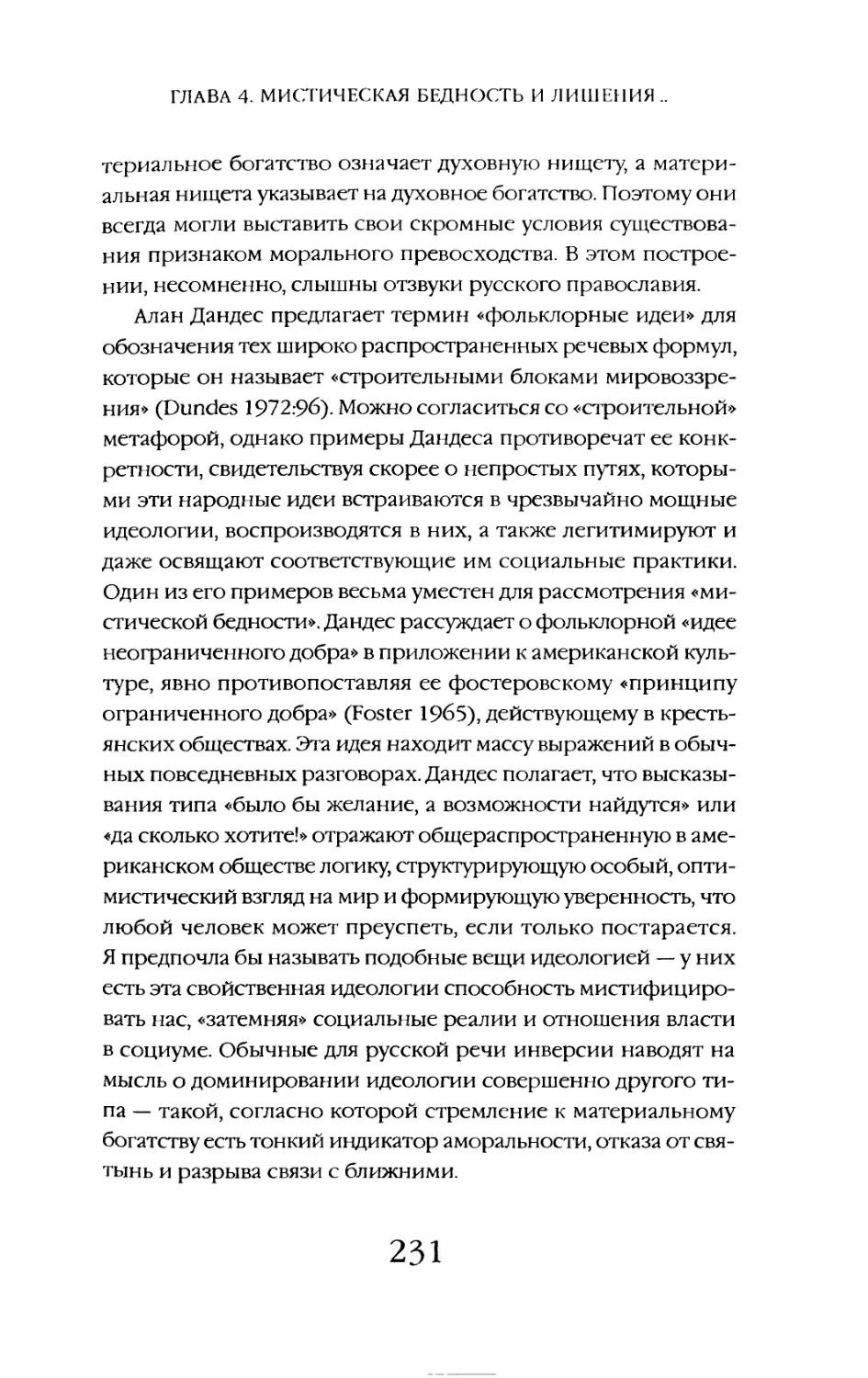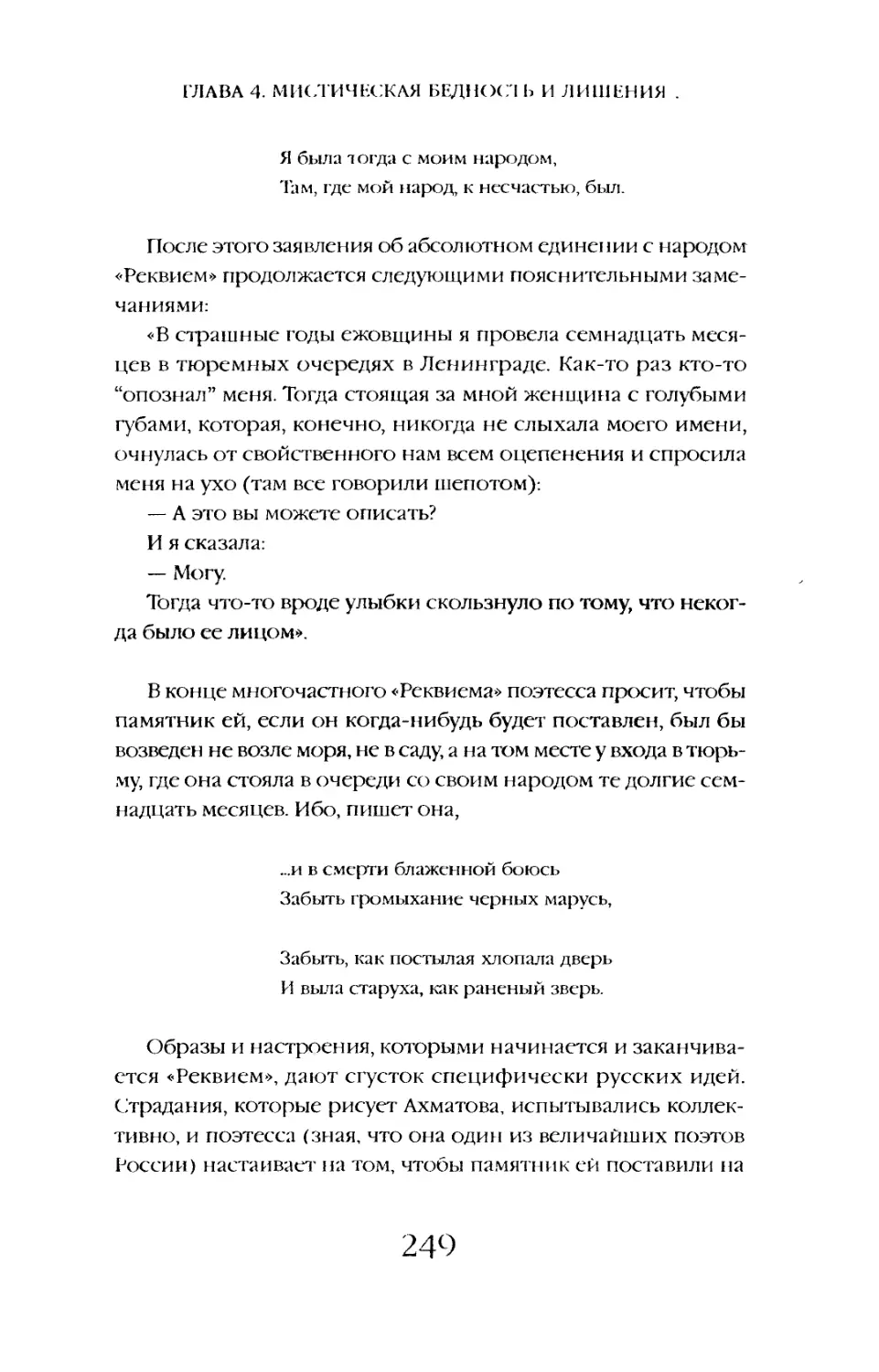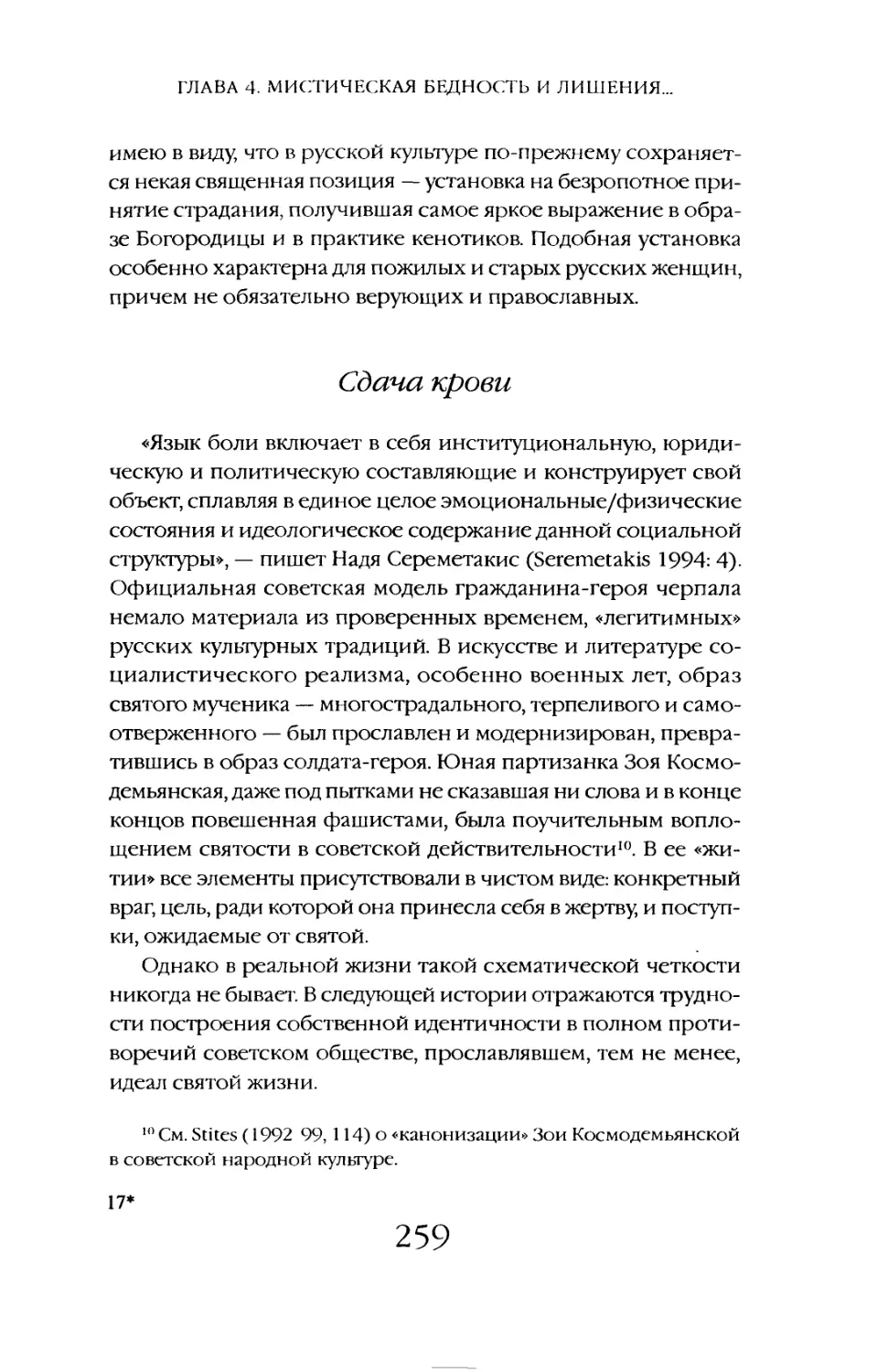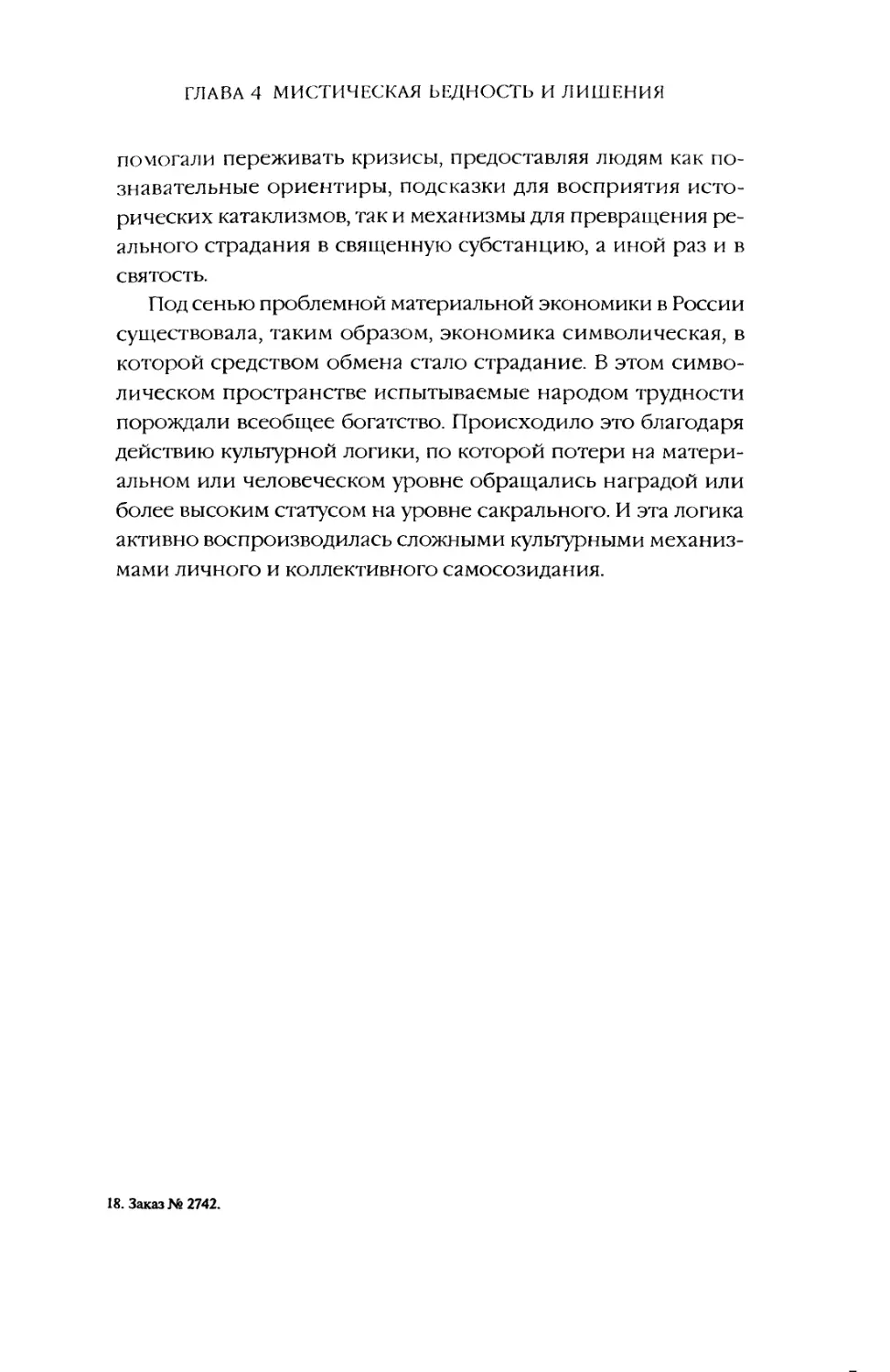Author: Рис Н.
Tags: историческая наука историография теория культуры культурология политология
ISBN: 86793-353-9
Year: 2005
Text
РУССКИЕ
РАЗГОВОРЫ
Культура и речевая повседневность
эпохи перестройки
Nancy Ries
RUSSIAN TALK
Culture and Conversation during Perestroika
Ithaca and London, 1997
Нэнси Рис
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
Культура и речевая повседневность
эпохи перестройки
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
МОСКВА • 2005
ББК 71.04
УДК 930 85
Р84
Редактор серии
И. Калинин
Рис Н.
Р 84 «Русские разговоры»: Культура и речевая по-
вседневность эпохи перестройки. Пер. с англ.
Н.Н. Кулаковой и В.Б. Гулиды. Предисл. И. Утехина. М.:
Новое литературное обозрение, 2005. — 368 с., ил.
Книга представляет собой перевод одного из недавних, вызвав-
ших бурный и благожелательный отклик в среде западных славистов
исследований, посвященных современной истории России. Его автор,
американский антрополог Нэнси Рис, сочетая социологическую и
антропологическую компетентность и эмоциональный стиль, описы-
вает повседневную жизнь перестроечной Москвы и других регионов
России. Материалом для ее исследования послужил «русский разго-
вор», спонтанное речевое общение, оформлявшее и одновременно
определявшее специфику рубежа 1980— 1990-х годов: те семиотиче-
ские, символические и социальные системы, которые принято обо-
значать понятием «культура» и за которыми стоят как навыки добы-
вания товаров в условиях их острого дефицита, так и представления
о нравственной норме.
ББК 71.04
УДК 930.85
ISBN-86793-353-9
Russian Talk: Culture and Conversation
during Perestroika, by Nancy Ries, originally
published by Cornell University Press
Copyright © 1997 by Cornell University
This edition is a translation authorized by the
original publisher.
© H. Кулакова Перевод с английского, 2005
© В. Гулида. Перевод с английского, 2005
© И. Утехин. Предисловие, 2005
© Новое литературное обозрение, 2005
Обратный перевод
разговоров с Нэнси Рис
Эта книга примечательна сразу в нескольких отношениях, а ее
появление на русском языке — своеобразный культурологи-
ческий эксперимент над нами, читателями. В особенности над
теми из нас, кто ничего об этой книге не слышал и не читал
оригинала. Эксперимент — даже не только потому, что книга
эта про все то, что мы видели, слышали и в чем участвовали: про
наши с вами разговоры, в которых отражается пресловутая за-
гадочная русская душа. Эксперимент — потому что это опыт
двойного перевода, и не только языкового, но и культурного. И
задача обратного культурного перевода в значительной мере
остается как раз читателю — в чем, собственно, и заключается
главное удовольствие от чтения «Русских разговоров».
Каждый текст содержит в себе образ аудитории. Появивша-
яся в 1997 году книга Нэнси Рис изначально предназначалась
интересующимся Россией западным интеллектуалам и при-
мкнувшему к ним кругу публики. Язык, стиль и композиция ра-
боты, факты и их интерпретация вполне соответствуют тако-
му предназначению: незаурядное литературное мастерство
автора в сочетании с отдельными деталями концептуального
аппарата современного (то есть уже после Гирца, Тернера и
Бурдье) антрополога стали залогом успеха книги. Книга ока-
залась заметным явлением, ее часто цитируют, на нее приня-
то ссылаться. И это признание вполне заслужено автором,
ведь погрузившись в экзотику перестроечной России — в
основном, впрочем, столицы Советского Союза, города Мос-
5
< РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
квы, — Нэнси Рис превратилась в чуткое ухо, внимающее раз-
говорам, широко открытые глаза и отзывчивое сердце. И ей
удалось не расплескав донести до своего читателя отблеск
эпохи кооперативов и талонов, молодого Жириновского, Чу-
мака, Кашпировского и МММ. В результате мы имеем сегодня
возможность наткнуться на какую-нибудь мелочь, оброненное
информантом слово, как натыкаешься, бывает, на забытый
вроде бы запах (скажем, советских столовских щей или «Нюи
де Ноэль» — кому что), и вспомнить все то, что мы на протя-
жении последнего десятилетия для себя самих незаметно, но
старательно вытесняли на периферию, в кажущееся небытие
бессознательного. А все потому, что испытанные тогда, теперь
уже давно, неуверенность и тревога оказались не переплавле-
ны в полезный жизненный материал в горниле осознания.
Иначе едва ли бы россияне встречали таким единодушным
одобрением реставрацию властной вертикали, которой отме-
чено начало XXI века.
Функционирование текста в новом контексте — в том чис-
ле смена целевой аудитории, с американской на российс-
кую, — открывает новые смыслы и перспективы, незапланиро-
ванные автором и не входившие в его намерения, а иногда
этим намерениям и противоречащие. С каким интересом мо-
жет читать эту книгу человек, сам отоваривавший в очередях
талоны и, само собой, подобно героям книги обсуждавший с
ближними подробности отоваривания? Из таких людей ни-
кому— тут, конечно, можно ошибаться, но никто больше
не написал пока такую книгу — в голову не пришло всерьез
коллекционировать и анализировать все эти подробности и
высказывания, искать за ними скрытый культурологический
смысл и особенности национального мировосприятия. А Нэн-
си Рис взялась за это дело с азартом. Взгляд иностранца бла-
годаря культурной дистанции и невовлеченности в события и
замечает, и анализирует незамечаемое изнутри. Недаром за-
писки иностранцев о России — и ценный источник, и всегда
занимательное чтение. Причем этот источник сведений рас-
6
ИЛЬЯ УТЕХИН. ОБРАТНЫЙ ПЕРЕВОД РАЗГОВОРОВ
сказывает не только о России, но и о самих иностранцах и о
специфике их взгляда: что они ищут, на что обращают внима-
ние, иначе — как устроена рецепция перестроечной России со
стороны сочувствующего американца.
Так что интересные наблюдения и детали, в которых мы
можем узнать себя, составляют только первый, поверхност-
ный слой. Уже и он вызывает у носителя описываемой культу-
ры побуждение спорить и объяснять эти наблюдения иначе,
чем автор, ведь представленная в книге реальность нами вос-
принимается не как чисто дискурсивная, а как близкая сердцу,
а потому неизбежно этимологизируется: мы знаем, откуда —
из школьного курса, детской литературы, кино, песен, да и из
самой жизни — растут корни тех или иных высказываний ин-
формантов Нэнси Рис. Это не означает, что Нэнси Рис этого
не знает, просто с ее точки зрения этимология деталей не так
уж и важна — ее больше занимает целостная картина и неожи-
данные схождения между современными разговорами и тра-
диционным фольклором.
Пытливый читатель обязан проникнуть глубже, не останав-
ливаясь на отслеживании эффекта, производимого разностью
культурных компетенций. Потому что и приводимый в книге
материал, и его интерпретация ставят важные для антрополо-
гической теории вопросы: о соотношении жизни и рассказов
о ней информантов, о жанрах устной речи, о взаимодействии
и взаимовлиянии информантов и исследователя. Задумаемся,
например, о том, что за материал собран автором.
Как это всегда бывает, в ходе полевой работы исследова-
тель оказывает нередуцируемое возмущающее воздействие на
объект наблюдения. По сути дела, разговоры, которые велись
с Нэнси и в ее присутствии, принадлежали к тому варианту
языка, который в социолингвистике носит название «регист-
ра разговора с иностранцами» (foreigner talk). Ведь с иност-
ранцами разговоры ведутся на особенном языке, даже если
этот язык —- наш родной русский, а иностранец по-русски
понимает. Так вот, даже если иностранец хорошо владеет рус-
7
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ*
ским языком, его русский собеседник упрощает и заостряет
свои мысли, выбирает, как ему кажется, особенно показатель-
ные темы, сюжеты и примеры. По форме такая речь чаще
всего реализует представления носителей языка о том, как
нужно сказать, чтобы собеседнику было проще понять. Содер-
жательно же информант нередко начинает как бы транслиро-
вать себя на экспорт, сознательно выстраивая образ себя и
своей культуры перед лицом собеседника. Получается красно-
речиво, ибо представления носителя культуры о том, как сле-
дует себя показать, ничуть не менее интересны, нежели его
спонтанное поведение. Преследует ли упомянутая подстрой-
ка речи информанта цель помочь иностранцу или является
попыткой сбить его с толку, запутать (что тоже вполне воз-
можная стратегия) — в любом случае это не совсем те разго-
воры, которые ведутся туземцами между собой и для себя.
Автор-антрополог, конечно, не настолько наивна, чтобы
всего этого не видеть, и достаточно искушена, чтобы попы-
таться включить все это в свою игру. Тому есть серьезные пред-
посылки. Последние десятилетия XX века принесли новые
подходы к речи информантов и отчасти сдвинули фокус ис-
следовательского интереса, так что здесь Нэнси Рис, обраща-
ясь к изучению не жизни людей или их реального поведения,
а того, о чем и как они говорят, движется внутри и со скоро-
стью довольно мощного и все ширящегося интеллектуально-
го потока. Рассказы людей о собственной жизни и повседнев-
ном опыте действительно обладают своими особенностями и
принадлежат к определенным речевым жанрам. Набор и фун-
кционирование этих жанров вполне могут оказаться специ-
фичными для той или иной культуры. Для того чтобы выявить
эти особенности и попытаться проникнуть в имплицитную и
самим рассказчиком чаще всего неосознаваемую логику, сто-
ящую за тематическим, риторическим, стилистическим и язы-
ковым построением рассказа, исследователь может пойти по
пути минимизации собственного участия в созидании смыс-
ла. Ведь если мы активно участвуем в диалоге и задаем вопро-
8
ИЛЬЯ УТЕХИН. ОБРАТНЫЙ ПЕРЕВОД РАЗГОВОРОВ
сы, то тем самым вносим свой вклад в осмысление предмета
разговора, транслируем свои готовые идеи. Когда же мы про-
сто внимательно слушаем и сопереживаем, но не направляем
ход диалога, рассказчик сам вынужден ткать свой текст, не
теряя его нитей. И тем самым порождать весь тот материал, из
которого исследователь потом сделает выводы о проявлени-
ях «идентичности» рассказчика, его дискурсивных стратеги-
ях — да и много о чем другом.
Как всякий инструмент, такой подход позволяет увидеть
что-то одно, неизбежно теряя из поля зрения что-то другое;
обоюдоострый метод отпускания вожжей чреват тем, что воз-
мущающее воздействие исследователя на предмет перестает
быть исследователю заметным. Оно никуда не делось от нас,
только мы больше его не контролируем. В этой ситуации, ка-
залось бы, в наиболее выгодной позиции оказывается иссле-
дователь, сам являющийся носителем изучаемой культуры: уча-
стники разговоров со «своим» не подстраиваются под него как
под «чужого», а внутренний, интроспективный опыт дает
иные, «чужому» недоступные основания для интерпретации.
Ему не нужно гадать о мотивациях информантов — у него са-
мого они такие же, только он, как исследователь, способен
взглянуть на них остраняющим взглядом. Кстати сказать, яр-
ким и убедительным образцом исследования разговоров с
подобной позиции являются записи Лидии Яковлевны Гинз-
бург. Причем те их них, что относятся ко времени ленинград-
ской блокады, интересно сопоставить с наблюдениями Нэнси
Рис еще и потому, что частично схожи и тематика разговоров,
и — конечно, лишь до некоторой степени — обстоятельства: и
в блокаду, и в период перестроечных очередей и талонов по-
вседневные обстоятельства вынуждали интеллигентов с голо-
вой погружаться в жизнеобеспечение, в быт — в ущерб соб-
ственно жизни, обычно быту противопоставляемой. Однако
записи Л.Я.Гинзбург — явление исключительное и одиноко
стоящее в пейзаже нашей интеллектуальной словесности. Ис-
следователь-абориген, конечно, «свой», и мотивации инфор-
9
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
мантов ему яснее, но — если он не страдает изощренным ин-
теллектуальным мазохизмом — его собственная мотивация
как исследователя отличается от мотивации исследователя-
чужака, а потому он едва ли обращается к таким сюжетом. Тут
не обойтись без иностранца.
В случае Нэнси Рис необходимым средством остранения
выступает не только культурная дистанция, но и антрополо-
гический инструментарий. Антропологически-фольклорис-
тическая машина способна преобразовывать наблюдения в
проинтерпретированные факты и выдавать их в том виде, ко-
торый позволяет типологическое сравнение. Сравнение с
чем-то подобным, вообще говоря, всегда необходимо, чтобы
узнать, что в явлении специфично. В книге про русские разго-
воры мы встречаем эпизодические сопоставления с культура-
ми бедуинов или малайцев, но не, скажем, с дискурсами дру-
гих исторических периодов или других социальных групп в
России, что поначалу озадачивает, но затем приглашает к раз-
мышлению о месте описываемых явлений в более широком
мировом контексте.
Все эти caveats кажутся уместными, чтобы предисловие до-
стойно выполнило свою функцию рамки, в которую вставля-
ется картина — рамки, оттеняющей неординарность и поучи-
тельность текста, позволяющего нам по-новому взглянуть на
самих себя, на наши разговоры и на нашу недавнюю историю.
Илья Утехин
Предисловие
к русскому изданию
События, разговоры, переживания, описанные в этой книге,
сегодня кажутся отошедшими в далекое прошлое. Время как
будто бы выкашивает в мировом социальном ландшафте ши-
рокие просеки, меняя общественный контекст. В русле этого,
не всегда прогрессивного, процесса «общественные догово-
ры» по многу раз радикально пересматриваются, культурные
ожидания меняются, появляются новые формы самовыраже-
ния, которые нередко вытесняют, но никогда целиком не раз-
рушают старые. Люди во всем мире, включая, разумеется, меня
саму, вместе с родными и друзьями пытаются не пропасть в
этом океане перемен, стараются удержаться на гребне их
стремительной волны. Все мы никак не выберемся из пере-
стройки. В этой книге я попыталась запечатлеть ряд моментов
и заострить внимание на некоторых парадоксальных аспек-
тах Перестройки — перестройки в России, бывшей тогда од-
ной из республик в составе Советского Союза.
Десять лет, прошедшие с той перестройки, я наблюдаю, как
культура моей собственной страны входит в такую же транс-
формационную фазу абсурдности, деструктивности, безжало-
стного отказа от социального и этического контракта и даже
от контракта со здравым смыслом. В России крики «Хаос! Пол-
ная разруха! Тупик! Кошмар! Ужас!» звучали особенно громко
в 1988, 1989, 1990-м годах. Российский читатель увидит в кни-
ге, как я подхожу к этим выразительным русским гиперболам.
Но должна сказать, что, работая над этим предисловием в ок-
11
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ »
тябре 2004 года, в собственном доме в штате Нью-Йорк, я по-
стоянно и с грустью повторяю эти слова, и то же делают
мои друзья и многие, многие граждане в США и во всем ми-
ре — и устно, и письменно, и в песнях, и в кинофильмах.
«Хаос». «Полная разруха». «Мы в ужасном тупике». «Какой кош-
мар». «Ужасно». Куда ни поглядишь, всюду, совсем близко —
гражданская война, война идеологий, милитаризация жизни.
И мы говорим, исходя из своих страхов.
Хотя и не так драматично и поэтически, как это делают
русские в своих разговорах. Я не романтизирую ламентации;
я знаю, что их следует изучать — в контексте многих других
форм дискурса, в контексте обыденной жизни — и не следует
фетишизировать. Я стараюсь этого не делать, однако, может
быть, это неизбежно. Но я и сегодня убеждена, что в ламента-
ции, в литании заключено нечто в культурном смысле весьма
существенное; они стенография социальной онтологии и они
же — человеческий вопль, сопровождающий историю потерь
и чрезвычайно болезненных перемен. Надеюсь, мне удалось в
какой-то степени передать настроение перестроечных ламен-
таций, — надеюсь не из-за ностальгии, а потому, что они со-
ставляли яркую и политически отнюдь не нейтральную часть
тогдашней ажитации. За время, прошедшее с выхода этой кни-
ги, я увидела, что мои интерпретативные опыты побудили
некоторых российских коллег к собственным герменевтиче-
ским изысканиям, — это дает автору наибольшее удовлетворе-
ние. Я знаю, что в своей книге я не «права» и не «неправа», — я
лишь мечтаю, что, благодаря написанному мною, у людей воз-
никнут такие вопросы, которые раньше, возможно, не прихо-
дили им в голову.
Время, когда писалась эта книга, кажется очень далеким.
Иных из моих российских друзей, коллег и знакомых — лю-
дей, оказавших на меня как на исследователя глубокое влия-
ние, — уже нет на свете; жизнь других кардинально изме-
нилась; некоторые уехали из России. Однако многие живут
практически так же, как десять лет назад, хотя в их жизни име-
12
ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
ют место и новые проблемы, появились новые притязания на
их сознание и личное время, новые ограничения свободы —
как и неведомые прежде радости.
Связь с российскими друзьями дает мне почувствовать, что
Россия — это мой собственный мир, несмотря ни на какие
потери и перемены в этой стране. Дистанция между мной и
Россией почти исчезла: я больше не испытываю той смеси
отстраненного изумления и наивности, которые обычно спа-
сают этнографов от чувства ужасной неловкости при анали-
зе культурных реалий других народов. Сейчас меня гораздо
труднее заставить говорить о России сколько-нибудь безапел-
ляционно. Все, что я пишу, защищено от категоричности моей
заинтересованностью, осторожностью оценок и многознач-
ностью интерпретации. Но при этом я надеюсь, что те благо-
говение, восхищение и любовь, которые я чувствую к России
и тем ее людям, которых мне довелось узнать, всегда ощуща-
ются в моих текстах. В России я была окружена такой заботой,
что если я в чем-то «права» в своих описаниях русской куль-
туры, то только благодаря людям, с которыми я общалась.
Мой особый долг благодарности — Н.Н. Кулаковой, с кото-
рой мы много обсуждали мою работу. Я была в Москве в 1997 г.,
когда вышла книга, и свои первые экземпляры я получила по
почте. Мы с Наташей сидели у нее на кухне, когда почтальон
принес их, и это был счастливый момент, увенчавший наш со-
вместный труд. В последующие годы Наталья (и Виктория Га-
лида из Санкт-Петербургского государственного университе-
та) самоотверженно трудились над переводом. И, хотя Наталья
всегда будет отрицать это, «Русский разговор» — в такой же
мере ее книга, в какой и моя, особенно теперь, когда она выхо-
дит в этом «тонко настроенном», верном оригиналу переводе.
Nancy Ries
Hamilton, NY USA
October 18,2004
Посвящается
моей матери, Фрэнсис Киман Рис,
памяти моего отца, Уильяма Алфреда Риса,
и Наташе, дорогому другу
Влюбляюсь в русские сказки. Говорят вам русским язы-
ком: собака разговаривала. Какой-нибудь святой ста-
ричок. Кентавр в овсах и осиннике, полкан, полкаша.
Антика. Абракадабра. Как тянется! Без конца! Какой во-
сторг! А Иванушка ногу не вытянет из завязки и трех
дорог...
Андрей Синявский. «Голос из хора»
Всякий, кого занимает вопрос, почему у каждого чело-
веческого сообщества свое миропонимание, как после-
днее воспринимается, сохраняется и становится общим
достоянием, должен прислушаться к речи, правящей
этим сообществом, прислушаться к разговорам.
Майкл Моэрман. «Говорящая культура»
ВВЕДЕНИЕ
Этнография начинается, пишут американские антро-
пологи К. Бэссо и Г. Селби, «с целенаправленной
попытки выявить и описать те символические сред-
ства, которыми члены общества пользуются для
осмысления и истолкования своего опыта» (Basso and Selby
1976: 3). Интерпретативная традиция в антропологии требу-
ет от исследователя раскрытия самих основ тех процессов,
посредством которых представители одного и того же сооб-
щества понимают и передают друг другу смысл явлений по-
вседневной действительности; обнаружения первоэлементов
тех систем — ритуальных, дискурсивных или же систем обще-
ственной практики, — которые выражают присущую данному
сообществу «особую манеру воображения реальности» (Geertz
1983; 173).
В основе своей строящееся на личном общении, на наблю-
дении за жизнью отдельных людей и их взаимодействием в
2*
19
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
разного рода малых группах, на внимании к способам, с помо-
щью которых люди описывают свой мир, этнографическое
исследование представляет собой «ремесленную работу по
обнаружению обобщенных принципов за локальными факта-
ми» (Geertz 1983; 167). Мост между «локальными фактами» и
«обобщенными принципами» является герменевтическим
мостом. Для его наведения требуется совершать многократное
челночное движение между отдельными нитями значений и
делать это, пока не станет видимым некий узор. Хотя для это-
го «узора» есть общепринятое название — культура, этот тер-
мин подобен стенографическому значку, отображающему, но
не раскрывающему понятие о многосложных, зыбких, пере-
менчивых системах кодов и символов, которыми люди пользу-
ются для индивидуального или коллективного самовыраже-
ния и самоутверждения.
Впервые я приехала в Россию в 1985 г., и первым челове-
ком, с которым мне довелось говорить, была моя соседка по
купе в транссибирском экспрессе, мчавшем на запад, в Моск-
ву, — Дуся. Еще красивая в свои шестьдесят с небольшим, си-
неглазая и золотоволосая Дуся направлялась из Якутска, в ко-
тором жила, в небольшую деревеньку в четырех часах езды к
северу от Красноярска — путешествие в три с половиной ты-
сячи километров в один конец, которое она, с пересадками, на
поездах и автобусах, проделывала за неделю. В той деревушке
в 1944 г. была похоронена ее мать, и сейчас Дуся совершала
свое ежегодное паломничество на могилу. Она везла с собой
связку искусственных цветов и собиралась дать денег кладби-
щенскому сторожу, чтобы тот присматривал за могилой; после
этого ей предстоял обратный путь в Якутск. Дуся много рас-
спрашивала меня об Америке и других странах, но в рассказах
о себе была сдержанна, от вопросов о политике и жизни в
СССР уклонялась. Наш разговор о Советском Союзе вращался,
в основном, вокруг разнообразия сибирской погоды.
В 1995 г. первым, у кого я, находясь в командировке в Яро-
славле, взяла интервью, оказался глава местной преступной
20
ВВЕДЕНИЕ
группировки. Один знакомый пригласил меня на обед в ком-
пании с неким «бизнесменом» по имени Алеша. Этот красивый
мужчина лет тридцати потряс меня своим ответом на вопрос,
каким бизнесом он занимается. «Я бандит», — сказал он с улыб-
кой, наслаждаясь произведенным эффектом. За обедом он
охотно делился знаниями о мафии в «новой России» и развле-
кал меня рассказами о своей последней «отсидке». Остаток дня
Алеша пригласил меня провести, объезжая вместе с ним на
машине его «клиентов», среди которых были и прежние пар-
тийные боссы, ныне — члены деловой элиты Ярославля.
Эти две встречи, разделенные десятью годами и тысячами
километров (и буквально, и символически), иллюстрируют тот
род общения, на основе которого сделано мое этнографичес-
кое исследование. Конечно, эти, как и все другие, знакомства
много значат для меня лично — как встречи с запоминающи-
мися людьми, — но они весьма значимы и в этнографическом
плане; их можно «расшифровать» или истолковать с разных
точек зрения — это двери, ведущие в лабиринты множества
систем: ценностных, идеологических, смысловых, систем лич-
ностных самоопределений и образов жизни. Скрытность Дуси
в 1985 г. и Алешина бравада в 1995-м говорят о многом: о раз-
личиях в поведении мужчин и женщин, о влиянии событий
прошлого на современность, о несхожести личных пристра-
стий и способов существования, о роли государства в жизни
отдельной личности, об огромных изменениях, произошед-
ших в обществе за это революционное десятилетие.
По таким встречам можно судить и о специфике (или, мо-
жет быть, странности?) этнографической работы. В том, в
какой точке общественной системы — особенно в такой ог-
ромной стране, как Россия, — оказывается исследователь, не-
избежно присутствует какая-то степень случайности. С Дусей
и Алешей я познакомилась при совершенно разных обстоя-
тельствах: с первой — просто потому, что мы оказались попут-
чицами в поезде, второй же был звеном в цепочке знакомых
между собой людей (друг приятеля одного из родственников
21
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ>
моего близкого друга), которые знали о моем желании встре-
титься с представителями деловых кругов
За то время, что я пробыла в России (а работала я, главным
образом, в Москве, хотя выезжала и в другие места и одно лето
провела в Ярославле), я не раз оказывалась перед проблемой
выбора темы и оптимального способа для сбора соответству-
ющего материала, я специально искала контактов с такими
людьми, которые, как я считала, могут поделиться важными
для меня догадками или же экспертными знаниями по инте-
ресовавшим меня вопросам. Но в конце концов получилось
так, что значительную долю материала для этнографического
исследования предоставили мне встречи с теми, самыми раз-
ными, людьми, с которыми меня просто свел случай. Целью
анализа и результатом интерпретации рассказов, которые я
слушала, разговоров, в которых я участвовала, наблюдений,
которые я делала, стало выявление в них определенных зако-
номерностей. параллелей, повторов, часто встречающихся
сопоставлений и противопоставлений, расхожих фраз, рас-
пространенных аргументов и т.п. Беседа и любой другой куль-
турный обмен, безусловно, представляют собой неповтори-
мый опыт человеческого общения, но этот опыт наполнен и
определенным культурным смыслом, который либо взаимопо-
нятен для общающихся, либо для каждого из собеседников —
свой, и тогда возможны расхождения в понимании и пред-
ставлении вещей, в поведении людей по отношению друг к
другу.
Для данной книги я отобрала некоторые из наблюдений и
историй, накопленных, главным образом, за девять москов-
ских месяцев 1989—1990 гг. Представляя их, я хочу сказать,
что это не бессистемные, единичные явления, а типичные для
заключительных лет перестройки примеры самовыражения
россиян Все эти тексты неизбежно несут на себе отпечаток
определенной культуры, как бы эфемерны и личностны они
ни были или как бы на их авторов ни влияло мое присутствие
22
ВВЕДЕНИЕ
Я не ставлю своей целью всестороннее социологическое
изучение процесса изменений в культуре и способах челове-
ческого самовыражения в России во время и после пере-
стройки Даже если бы подобное исследование было возмож-
но, его результаты устарели бы еще до его завершения. Моя
цель иная — на материале повседневных разговоров и прак-
тик показать, как в узловые, пусть подчас и разделенные це-
лыми эпохами, моменты истории судьбы россиян переклика-
ются между собой; из обыденных разговоров я хочу извлечь
и сформулировать те социальные и идеологические ориен-
тиры, которым говорящие следуют и которые они сами вос-
производят.
Моя основная теоретическая посылка состоит в том, что
спонтанное речевое общение (разговор) является главным
механизмом, посредством которого формируются и поддер-
живаются во времени идеологические и культурные уста-
новки. Я считаю, что речевой, дискурсивный мир не просто
отражает мир более «зримого» социального действия, но и
участвует в построении последнего; таким образом, в раз-
говоре в форме повествования или даже в форме мифа «за-
печатаны» модели осмысливания действительности и ценно-
стные системы, которые, образуя своего рода «формулы»
жизни данного сообщества, направляют и формируют жизнь
его отдельных членов («модели жизни и модели для жиз-
ни» — Geertz, 1973: 93; Rosaldo, 1986: 134). Рассказы, истории,
анекдоты, шутки, сетования, которые можно было слышать в
Москве в годы перестройки, являлись не только и не просто
реакцией на текущие события; они были — и я надеюсь это
показать — «типичны» и потому составляли существенный
элемент самих событий. Говорение — во всех видах и фор-
мах — есть ключевая составляющая производства социаль-
ных парадигм и практики и воспроизводства того, что часто
называют «русскостью»
Разумеется, есть бесчисленное множество способов «быть
русскими», что видно хотя бы по тому, как вели себя упомяну-
23
< РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
тые Дуся и Алеша; грандиозные же социальные сдвиги послед-
них лет отозвались разнообразными и поразительными изме-
нениями в сфере практик, отвечающих за культурную иден-
тичность. Однако существуют отчетливые и неподвластные
быстрым переменам семиотические коды, которые выступают
одним из важнейших механизмов дискурсивного воспроиз-
водства культуры и которые могут быть выявлены и изучены.
Это не означает, что такие коды представляют собой со-
циальные или культурные детерминанты; как выразился
Дмитрий Шалин во введении к своему сборнику блестящих и
тонких очерков по русской культуре, «хотя механизмы чело-
веческого понимания образуют систему, эта система никогда
не бывает полностью свободна от непоследовательности и
противоречивости» (Shalin, 1996:5). Я считаю, что эта мысль
должна прозвучать еще сильнее: семиотические или дискур-
сивные коды, называемые в совокупности «культурой», всегда,
на многих уровнях и различным образом оспариваются, ис-
пытывают взаимное сопротивление и даже противодействие.
В России за время, прошедшее с 1985 г., дискурсивные формы
«проверялись на прочность», в их системах наблюдались глу-
бочайшие сдвиги, и этот факт означает, что любая попытка
представить читателю современную российскую «речевую
действительность» может оказаться в какой-то степени «этно-
исторической» уже к моменту своей публикации.
Но сколь бы сильно реформы ни изменили Россию, важно
осознавать, что многим системам социальных институтов,
видам общественной практики и дискурсивным моделям
присущи долговечность и прочность. Поэтому я и пытаюсь
рассмотреть такие теоретические вопросы, как взаимосвязь
неизменности и переменчивости, диалектика социального
воспроизводства и революционных преобразований. То, как
люди справляются с этими процессами, также является пред-
метом изучения. Меня поразило, как замечательно мои рус-
ские друзья и знакомые выдерживали натиск обрушившихся
на них общественных трансформаций, как спокойно они
24
ВВЕДЕНИЕ
адаптировались к менявшимся обстоятельствам и учились
действовать по-новому, как естественно в их разговоры и рас-
сказы входил непривычный материал, отражавший реалии
переходного периода. В этой книге я хочу высказать предпо-
ложение, что переживать все эти революционные перемены
людям в значительной степени помогает постоянный обмен
рассказами о происходящих изменениях. Кроме того, я пыта-
юсь выявить в этих речевых действиях некие обязательные
нарративные конвенции, которые, по моему убеждению, и
обеспечивают российскому сообществу определенную сте-
пень культурной (а возможно, и психологической) преем-
ственности в условиях массированной, капитальной социаль-
но-политической реструктуризации.
И все же анализ представленных здесь примеров из рече-
вой практики не является моей конечной целью. Помимо
интерпретации самих рассказов я пытаюсь показать, какой
сложной, динамичной и подчас парадоксальной оказалась в
российской перестроечной действительности роль неко-
торых речевых жанров. Многие разговоры, в которых я участ-
вовала, и услышанные мной истории прямо или косвенно ка-
сались проблемы структуры и функционирования власти в
российском (советском) обществе, а также той пропасти, что
разделяет граждан, облеченных властью, и граждан, властью
не обладающих. Однако — что я и надеюсь доказать — не-
которым образом данная логика власти и безвластности в
России воспроизводится и поддерживается этими самыми жа-
лобами и рассказами, несущими заряд отрицательного отно-
шения к власти.
Экзистенциальный вопрос, подвигнувший меня на иссле-
дование, — тот же, что без конца задавали себе сами москви-
чи: почему российский опыт столь богат страданиями и неуда-
чами? В книге сделана попытка подойти одним из возможных
путей к разгадке этой глубочайшего (и возможно, неразреши-
мого) вопроса: может быть, само постоянное воспроизведе-
ние подобных риторических вопросов как раз и способству-
25
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
ет поддержанию социальных и культурных условий и инсти-
тутов, ответственных за неизбывное российское неблагополу-
чие? Таким образом, перед вами интерпретация некоторых
культурных текстов, опирающаяся на изучение таких проблем,
как социальная структура России, отношения власти, способы
сопротивления и воспроизводства социально-культурных
форм, трудности демократизации, а также парадоксы и потен-
циал социальных трансформаций.
Границы и методы
По необходимости достаточно узки как временные рамки,
так и социальный охват исследования. Оно как небольшая
коллекция культурологических «фотоснимков», в определен-
ный исторический момент запечатлевших определенные
формы самовыражения относительно небольшого числа жи-
телей Москвы. Я сознательно стремилась находить людей с
разным жизненным опытом и разными взглядами, однако
процесс исследования сложился так, что немалая часть этих
людей оказалась представителями московской интеллиген-
ции. Хотя термин «интеллигенция» весьма расплывчат, я ис-
пользую его в самом широком смысле — как совокупность
людей, имеющих образование выше среднего и занимающих-
ся умственным или близким к таковому трудом. Иными слова-
ми, мои информанты — это представители своего рода город-
ского «среднего класса», хотя и такое обозначение крайне
неопределенно в приложении к советской России (см. Balzer
1996, которая интригующе рассуждает на эту тему). С городс-
кими рабочими или с людьми, занимающимися сельским хо-
зяйством, я имела всего несколько встреч; с другой стороны,
и среди представителей «высшей» московской элиты у меня
было только двое знакомых.
Коллеги из Института этнологии и антропологии Россий-
ской академии наук (в то время — Института этнографии АН
26
ВВЕДЕНИЕ
СССР), друзья и информанты содействовали расширению
круга моих знакомств, представляя меня своим друзьям —
либо в неофициальной обстановке, либо на более формаль-
ных встречах. Многие говорили, что хотели бы показать мне
«настоящий народ», и приводили своих, как им казалось, «ис-
тинно русских» знакомых — заводских рабочих, колхозников
и людей физического труда вообще. Таким образом, я прошла
через множество социальных сфер и личных связей самых
разных моих знакомых.
Мы подошли сейчас к первостепенному по важности во-
просу об этничности, вопросу, не раз задававшемуся мне собе-
седниками, когда речь заходила о теме моего исследования.
Встреченные мною люди отличались по этническому проис-
хождению.- многие называли себя «чисто русскими», многие —
«чистокровными» евреями или, например, наполовину рус-
скими, а наполовину — армянами, грузинами, азербайджанца-
ми, узбеками, башкирами, казахами, бурятами или латышами.
Немало исследований специально фокусируется на безуслов-
но актуальной теме этнической идентичности и нарративных
средств ее выявления; но я, напротив, более склонна к поиску
общего в разных речевых стилях и системах референций, к
анализу того, как личные и локальные дискурсы встраиваются
в более широкие идеологические рамки данного общества в
целом. Единообразие речевой практики моих московских ин-
формантов было гораздо более очевидным, чем заявленные
ими этнические различия. Потому ли, что все они выросли в
одной языковой среде, или же это был результат влияния со-
ветской педагогики и единства советского образа жизни, или
просто таков был ситуационный выбор того, «как гово-
рить», — сказать сложно. Рассказы одной женщины, назвавшей
себя армянкой, в целом были идентичны рассказам «чисто»
русских. Более того, пожив в Москве, я с удивлением заметила,
что сама начала высказываться и жаловаться на жизнь в «рус-
ском стиле», хотя (пользуясь известным в русском и английс-
ком языках выражением) во мне нет «ни капли русской крови».
27
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
Возраст, политические убеждения, социально-экономичес-
кое положение моих информантов варьировались в широких
пределах: я брала интервью у партийных функционеров и
известных диссидентов, государственных чиновников и пред-
ставителей нарождавшегося класса бизнесменов, патриотов-
ветеранов и писателей-абсурдистов, философов с коммуни-
стическим мировоззрением и либеральных журналистов. Сре-
ди моих знакомых были люди явно высокопоставленные, они
имели хорошее жилье, машины, дачи — то, что полагается по
статусу, а были и такие, кто жил в однокомнатных квартирах,
ездил на метро и проводил лето в душном городе. Я довольно
хорошо узнала около ста человек, но так как со многими я об-
щалась в их семейном кругу или в контексте их профессио-
нальной деятельности, то фактически в ходе полевой работы я
контактировала с несколькими сотнями людей. Как это приня-
то в этнографической практике, я «замаскировала» своих ин-
формантов, чтобы их не узнали: изменила имена, в некоторых
случаях — род занятий или другие «особые приметы»
Когда я собиралась в Москву в сентябре 1989 г., я предпо-
лагала изучать локальные «конструкции русскости» и «русский
дискурс» в области политики, экономики и логики принятия
решений, особенно по вопросам советско-американских от-
ношений и «холодной войны». Никто не ожидал, что через два
месяца падет Берлинская стена, а вместе с ней — множество
прежних политических и социальных барьеров. Грандиозные
берлинские события ноября 1989 г. сильно отразились и на
моей собственной работе, потому что в тот момент я начала
понимать, что в России на самом деле не было никакой «куль-
туры “холодной войны”»; что в России, несмотря на ее колос-
сальную роль в мировой гонке ядерных вооружений, факти-
чески не сформировалось того мышления, которое, начиная
с 1945 г, держало западных граждан в страхе перед якобы не-
минуемой войной и вдохновляло всевозможные движения в
защиту мира. Берлинская стена рухнула, многие прежние узлы
международной напряженности развязывались на глазах, и я
шутила. «Приехала изучать русский взгляд на “холодную вой-
28
ВВЕДЕНИЕ
ну”, а она возьми и закончись», — после чего говорила с людь-
ми совсем о других вещах, которые в любом случае интересо-
вали моих собеседников куда больше. И хотя центральной
темой разговоров все равно были апокалипсические предви-
дения, это был уже не ядерный апокалипсис, а повседневная
действительность в эпоху ломки привычной жизни. По боль-
шей части говорили о перестройке, о том, что она сделала с
людьми и с историей страны. И я поступила, как часто посту-
пают этнографы: решила дать волю информантам и самим
указать мне на болевые точки своей жизни.
То, что программа, с которой я приехала в изучаемую стра-
ну, «рассыпалась», оказалось даже кстати, потому что я смогла
осознать значение именно тех проблем, которыми в результа-
те и занялась. При этом я никогда полностью не упускала из
виду свою первоначальную тему — отчасти потому, что она
послужила основанием моего приезда в Москву: визу и орга-
низационную поддержку я получила для изучения дискурса по
проблемам войны и мира в ядерную эпоху. Это позволило мне
проинтервьюировать людей, с которыми я никогда бы не
встретилась, будь моей целью «нарративы о власти и страда-
нии». Официальные интервью с военными, ветеранами войны,
журналистами, политиками, партийными функционерами
стали ценными источниками материала, связанного с контек-
стом интересующего меня дискурса.
Примерно треть представленного здесь материала была
получена в ходе специально организованных интервью; боль-
шинство их записано на магнитофонную пленку. Остальное —
это заметки о неформальных беседах с разными людьми: за
чаем в домашней обстановке, во время прогулок по городу или
поездок в метро, на встречах друзей, за праздничным столом
по случаю дней рождения или «красных дней календаря», на
чьей-нибудь скромной даче. Иногда у меня хватало «нахаль-
ства» достать магнитофон или блокнот, но обычно они отле-
живались неиспользованными в моей сумке — я не хотела сму-
щать людей. Едва расставшись с собеседником, я принималась
по свежим следам делать подробные записи услышанного.
29
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ >
Жизнь и работа в Москве
Резкость московских контрастов столь же велика, сколь и
сам город. Этот величественный продукт многовекового пла-
нирования, строительства и реконструкций, эта современная
метрополия с современной архитектурой, средоточие боль-
шой политики, промышленности, науки и культуры, в то же
самое время — (как отмечали на протяжении столетий ее го-
сти) «большая деревня», живая, неукротимая, беспорядочно
растущая, прячущая в своих недрах тысячи уголков, где мож-
но вести жизнь тихую и в каком-то смысле даже провин-
циальную. Жизнь в Москве и восхитительна, и утомительна.
Восхитительна, потому что вас поражают ее громадные
каменные здания, невообразимо широкие бульвары, феноме-
нально огромное и причудливо декорированное метро-, уто-
мительна — по той же самой причине: это город нечелове-
ческих масштабов, он не даст вам покоя, пока вы не сверне-
те с магистралей и не отдадитесь ритму его старых кривых
улочек и тихих дворов.
Арена масштабных государственных обрядов, Москва, как
вообще любой город, — это и место спонтанных, неофици-
альных, а порой и не вполне законных ритуалов повседневной
жизни. И, конечно же, в годы перестройки Москва стала сце-
ной, на которой развернулись важнейшие ритуалы перехода
к демократии, подготовившие среди прочего и уход в про-
шлое самого Советского Союза.
Я старалась быть вместе с участниками различных ритуа-
лов московской жизни — и суховатых государственных ме-
роприятий советского времени, и бурных митингов перестро-
ечной поры. Но больше всего времени я провела, исполняя
ритуалы неформальные: гуляла с друзьями по улицам (прогул-
ка — один из самых распространенных обычаев городской
жизни, так замечательно описанный Джоном Бушнеллом —
Bushnell, 1988), проводила часы в каком-нибудь из окраинных
лесопарков, еще больше — в заросших зеленью московских
дворах, болтая с соседями по скамейке или читая книгу; бро-
30
ВВЕДЕНИЕ
дила по магазинам, заглядывала в киоски — полюбопытство-
вать, что там продается, а что нет; глазела на ослепительные
витрины магазинов иностранной косметики или протискива-
лась в мелкие кооперативные магазинчики, во множестве по-
явившиеся в конце 80-х (см. об этом Воут 1994: 227); ездила
на метро в «Тысячу мелочей» или «Русские сувениры» — по-
смотреть, какие диковинки там продают; ходила по Арбату и
улице Горького (вернувшей себе дореволюционное назва-
ние — Тверская); посещала музеи и выставочные залы — по-
рой не столько ради экспозиции, сколько просто понаблю-
дать за людьми, согреться в холодную погоду или выпить
чашечку кофе (тогда музейные кафе были самыми уютными в
городе).
По вторникам и четвергам я наведывалась в Институт эт-
нографии, чтобы пообщаться с коллегами или уладить с на-
чальством какой-нибудь бюрократический вопрос. Бывало
так, что некоторое время человек десять, сидевших в комнате,
работали или тихо переговаривались, потом в какой-то мо-
мент раздавалось: «Попьем чайку?» — и все приходило в дви-
жение: один идет за водой со старым электрическим чайни-
ком, другой достает из шкафа разнокалиберные надтреснутые
чашки, третий расчищает для них место на столе. Часто кто-
то вытаскивал из сумки или портфеля какое-нибудь угоще-
ние — домашний пирог или что-нибудь сладкое, купленное по
дороге на работу; иногда ели экзотические дары иностранных
гостей. Все делилось поровну, но остатки отдавались сотруд-
ницам, у которых были маленькие дети. Встречи в Институте
составляли для меня один из важнейших еженедельных риту-
алов, я чувствовала, что это мой коллектив и мое место рабо-
ты. Друзья-коллеги всегда интересовались моими впечатлени-
ями, идеями и размышлениями. Регулярно общаясь с ними, я
как бы держала руку на пульсе московской жизни; часто наши
тихие, приглушенные разговоры превращались в мрачнова-
тые обсуждения все новых и новых тягот, которые приноси-
ли людям происходившие за окнами социальные преобразо-
вания.
31
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
Еще одним ритуалом моей полевой работы, который я ис-
полняла благоговейно, почти как религиозный (во многих
смыслах) обряд, были визиты к двадцатипятилетней поэтессе
Маше, с которой я познакомилась в 1988 г Маша жила с мате-
рью, Анной Александровной, на третьем этаже хрущевской
пятиэтажки, в паре автобусных остановок от метро «Текстиль-
щики» — довольно далеко от центра (Москва развивалась как
типичный средневековый город — наращивая кольца улиц
вокруг Кремля, поэтому к ней в прямом и метафорическом
смысле приложима логика центра и периферии).
Их скромная, но опрятная двухкомнатная квартира была
характерным московским жильем. Три-четыре часа моего ви-
зита проходили на крошечной кухоньке, где меня неизменно
угощали борщом с черным хлебом, салатом из капусты или
свеклы, жареной картошкой со сметаной, чаем или раствори-
мым кофе с домашними пирогами и вареньем. Все в этой кух-
не знало свое место, нигде не было ни пылинки, ни разу не
видела я ни одной немытой тарелки. По осени полки уставля-
лись «закрученными» яблоками и смородиной, на холодиль-
ник водружались огромные банки с солеными огурцами и
маринованными помидорами, в угол ставилось ведро кваше-
ной капусты. Все это можно было всю зиму покупать на рын-
ке, но Анна Александровна презирала бы себя, если бы не уме-
ла заготавливать такие вещи в домашних условиях (я, этого не
умеющая, навлекала на себя ее насмешки).
Маша с мамой живо интересовались всеми моими делами,
людьми, с которыми я общалась. Они получали неописуемое
удовольствие от моих ошибок в русском произношении и
скептически относились к моим идеям и поступкам. Времена-
ми на Анну Александровну находило лирическое настроение,
и тогда она уговаривала Машу попеть с ней украинские пес-
ни — песни ее детства, проведенного в деревне под Киевом;
напевные, грустные мелодии наполняли тесную кухню и то-
мили душу.
Побыв некоторое время с нами, Анна Александровна все-
гда уходила к себе в комнату, а мы с Машей продолжали раз-
32
ВВЕДЕНИЕ
говаривать. Маша щедро делилась со мной историями из сво-
ей жизни или из жизни своих друзей; иногда эти истории ка-
зались мне эпизодами из русских романов — такие они были
пронзительно-трагичные, — а порой они звучали как волшеб-
ные сказки. Я узнала о том, как когда-то Машу сглазила цыган-
ка за то, что девочка подала ей яблоко, а не деньги; у Маши
прекратились месячные, и только баптистский священник
смог освободить ее от злых чар. дал ее матери святой воды —
налить в чай и окропить Машино белье. Я узнала о Машином
отце, архитекторе, которого насмерть задавило троллейбусом,
когда Маша была еще ребенком.
Маша рассказывала и о своем бывшем муже, тоже поэте,- в
четырнадцатилетием возрасте он убежал из дома, от родите-
лей-алкоголиков, и отправился из родной сибирской деревни
в Москву. Ему пришлось работать ночным сторожем, чтобы
просто выжить. В двадцать пять лет он почувствовал, что по-
эзия — «единственное, что имеет для него значение в этом
мире», — от него уходит. Маша сказала, что все еще обожает
этого человека, но жить с ним не может, потому что он замк-
нулся в себе и стал невыносим. Однажды Маша рассказала, что
отец ее нового друга недавно зарезал свою жену в пьяной дра-
ке и теперь ждет суда. В другой раз я услышала, как один наш
с ней общий знакомый, поэт, но постарше, раздал все свои
деньги молодым художникам и теперь сидит в своей комму-
налке на хлебе и воде.
Часто Маша пересказывала мне большие куски из произве-
дений русских писателей или приводила примеры из истории,
когда хотела прояснить что-то в современной российской
действительности. Почти всегда она читала мне свои стихи.
Поэзия, говорила она, для нее высшая ценность, а свое пред-
назначенье она видит в том, чтобы выразить в стихах весь тра-
гизм и всю абсурдность русской жизни. Как завороженная,
внимала я ее поэтичному повествованию, не зная, где конча-
ется реальность и начинается искусство. Я стала восприни-
мать Машу как шамана, человека с даром проникновения в
суть вещей, который, погружая слушателей в поэтико-мифо-
3. Заказ № 2742.
33
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
логический мир, ведет их к пониманию культуры в самых глу-
бинных ее слоях. Машины истории выходили за рамки обы-
денного, да и сама ее жизнь была неординарна; но тем не ме-
нее и ее рассказы определялись культурными ориентирами и
символическими кодами, которые, несомненно, существовали
и за пределами ее кухни. Без общения с Машей многого в Рос-
сии я просто бы не увидела и не услышала.
У меня был и еще один проводник по московской жизни —
моя подруга Ольга; с ней у нас также был ритуал регулярных
встреч. Мы виделись несколько раз в неделю: вместе делали
какие-то дела, встречались в Институте этнографии, сидели у
нее дома, ходили на митинги и демонстрации. Она всегда зва-
ла меня с собой, и я вместе с ее семьей выезжала по выходным
на их дачу, посещала какие-то мероприятия в школе ее сына,
ходила в гости к ее друзьям и родственникам и таким образом
причащалась жизни типичной московской семьи.
Ольга, ее муж Михаил и их одиннадцатилетний сын Петр
жили в однокомнатной квартире в старой — центральной —
части Москвы. Их единственная комната напоминала гнездо,
выстланное слоями семейного имущества. Вещи вытесняли
обитателей, неуклонно сужая оставшееся им для передвиже-
ний пространство.
Ольга переехала в эту квартиру с родителями, когда ей
было двенадцать лет, а до того они жили в доме барачного
типа, где на четырнадцать семей была одна кухня и один туа-
лет — многие так жили в Москве в послевоенные годы. Когда
она вышла замуж, родителям удалось купить себе кооператив-
ную квартиру, а эту оставить Ольге с Мишей. Молодым неска-
занно повезло, что у них была своя квартира, хотя очень ско-
ро семья из нее явно «выросла».
Мы часами сидели на кухне за столом, заваленным книга-
ми, бумагами и кухонной утварью. Ольга кормила меня обыч-
ным семейным блюдом, которое я очень полюбила, — жаре-
ной или вареной картошкой с квашеной капустой с рынка и
черным хлебом. После этого мы пускались в долгие разгово-
34
ВВЕДЕНИЕ
ры, попивая чай и поглощая ложками малиновое или яблоч-
ное варенье.
Ольга была совсем другим шаманом — ироничным, муд-
рым, который внимательно выслушивает многословные тео-
ретизирования американской исследовательницы, ее толкова-
ние услышанных историй, ее выводы о русской жизни — и
затем изящно, несколькими точными словами опровергает
многое из только что сказанного, поправляет американку, ука-
зывает, что ею упущено в анализе русской ментальности, убе-
дительно демонстрирует богатство индивидуальности любого
информанта. Все годы нашего знакомства этот шаман пытал-
ся мягко подвести упрямого американского антрополога к
более тонкому и уважительному пониманию российского об-
щества.
Я старалась жить как обычная москвичка: не брала такси, а
ездила, как все, на метро; обходила стороной валютные мага-
зины, а покупки делала в государственных магазинах и на кол-
хозных рынках. Правда, по мере того как эти торговые точки
становились все более непредсказуемыми, я все-таки стала
прибегать к иностранным лавкам, где можно было приобрес-
ти хорошее вино, шоколад или что-нибудь по тогдашнему
времени экзотическое — консервированные ананасы, напри-
мер, пачку печенья или бутылку ликера — для подарков людям,
к которым шла в гости. Входя в такие магазины, я всегда испы-
тывала некоторое потрясение: в начале 1990-х они все еще
были редкостью, способной ошеломить простых москвичей
своей чистотой, переполненными полками и качественным
обслуживанием.
Официально я поселилась в гостинице «Академическая», у
метро «Октябрьская», но через пару месяцев с помощью це-
почки знакомых сумела снять небольшую квартиру в другой
части города, в районе «Сокола», в трех остановках метро от
центра. Раз в несколько дней я заходила в свой гостиничный
номер, чтобы разворошить нетронутую постель и поздоро-
ваться с горничной, которая иронически улыбалась, но ни
слова не говорила о моем обычном отсутствии.
3*
35
РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ
Квартира моя находилась в типичном доме брежневской
поры, в типичном жилом квартале Я узнала окрестную сферу
обслуживания и регулярно покупала лук, морковку, свеклу и
зелень у женщин, торгующих этими плодами своих огородов
с опрокинутых ящиков у станции метро. У меня теперь была
кухня (а не один только кипятильник и ужасный гостиничный
буфет), и я могла готовить для себя и иногда для друзей. Я ста-
ла более серьезно относиться к питанию, благодаря чему не
только узнала о сложностях добывания провизии в тот пери-
од, но и почувствовала себя участницей кружка, члены кото-
рого, делая покупки для своих семей, заодно покупали или
присматривали что-то, что, по их мнению, могло пригодить-
ся друзьям и знакомым.
Большинству обычных людей приходилось рассчитывать
на неформальную сеть родственников, друзей, знакомых и
коллег, чтобы восполнить «недостатки» официальной системы
распределения товаров, услуг или «доступа» к ним. Такая вза-
имопомощь характеризует родственные и дружеские отноше-
ния в большинстве индустриальных обществ, но в России (и
во всем коммунистическом мире) масштаб зависимости уров-
ня жизни от системы подобных обменов особенно впечатля-
ющ. Эти отношения обмена по большей части уже такие дав-
ние, что люди даже не обсуждают их; мои информанты, пока
я не задавала соответствующих вопросов, похоже, не отдава-
ли себе отчета в существовании такой модели взаимодействия.
Нередко в этих кружках участвовали и мы, иностранцы,
потому что мы могли — либо люди думали, что мы могли, —
достать или сделать что-то необыкновенное. Это «что-то» ва-
рьировалось от простой услуги типа отправки письма за гра-
ницу до такого сложного дела, как организация зарубежной
поездки ученого или бизнесмена, — а этого хотели многие в
Москве, когда перестройка отменила препятствия для выезда
из страны. Готовя свои этнографические встречи с инфор-
мантами, я всегда ожидала с их стороны просьб о каком-ни-
будь одолжении (мелком или крупном, осуществимом или
нет) и считала это частью нормального хода вещей; больше
ВВЕДЕНИЕ
того, благодаря этой практике я себя почувствовала «своей» в
кругу знакомых. Подчас люди с трудом верили, что мне в об-
мен на мою помощь нужно было всего лишь поговорить с
ними, побывать у них дома, увидеть, как они живут, а в осо-
бенности послушать, что они говорят, как спорят, шутят или
(что характерно) как жалуются на свое разочарование пере-
стройкой.
Их разговоры — со мной или друг с другом — нередко не-
сли с собой большую глубинную энергию и напряженность,
были наполнены сильным чувством Гуляли ли мы с кем-ни-
будь под ручку по бульвару у «Пушкинской», жались ли друг к
другу в переполненном вагоне метро или балансировали на
шатких табуретках за крошечными кухонными столами —
разговор создавал вокруг нас сакральное пространство, воз-
водил стену за пределами которой оставался весь мир, а внут-
ри были только мы, сплавленные воедино интенсивностью
чувств и яркой образностью речей Пусть это прозвучит ме-
лодраматично или покажется банальностью, но разговор для
большинства моих знакомых в Москве значит более всего на
свете — это момент обнажения души и освобождения от все-
го наносного.
Трудно сказать, сохранит ли устное общение свое значение
в бурной жизни посткоммунистической России; как сказал
мне один молодой художник в Ярославле в 1995 г, «нам неког-
да разговаривать — сейчас бы просто выжить».
Но в годы перестройки разговоры действительно были
эмоциональными, яркими и насыщенными энергией. Людям
хотелось высказываться и быть услышанными и понятыми.
Надеюсь, мне удалось в этой книге передать хотя бы часть
того, что я узнала. Пусть люди, впустившие меня в свою
жизнь, знают, что я восхищаюсь Россией, сочувствую ей,
люблю ее и что с этими чувствами я и взялась за свое иссле-
дование Больше всего на свете я желаю россиянам найти
свою собственную дорогу к процветанию и обрести то, что
видится им желанным
ИКРгпп
проекта «Артконструкция
Глава 1
РОССИЙСКАЯ «РЕЧЕВАЯ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ»
В ЭПОХУ ПЕРЕСТРОЙКИ
«Ну почему мы должны так жить, когда во
всем мире войдешь в любой магазин — и по-
купай хоть десять сортов колбасы и сколько
угодно сахару?»
«Стон» русской женщины, Москва, 1990 г.
последние годы перестройки Москва гудела от эха
глубоких, но безответных вопросов. Горькие сето-
вания по поводу жертв, принесенных страной во
имя коммунизма, а также апокалипсические карти-
ны будущего переполняли разговоры. Обнародование позор-
ных страниц истории не уступало по своему шокирующему
воздействию демонстрации ужасов современной преступно-
сти. Осуждение невероятной неразберихи, вызванной горба-
чевскими реформами, затмило жалобы на абсурдность пре-
жней советской жизни. По мере того как пустели прилавки
магазинов, разговоры приобретали все большую выразитель-
ность.
С сентября 1989 по май 1990 г. я наблюдала, как мои друзья
и знакомые боролись за выживание под обломками государ-
ственной системы. Еще я слушала, что они говорили о трудно-
стях, переживаемых страной, и о своих собственных тяготах.
В частных разговорах и в средствах массовой информации
46
ГЛАВА 1 РОССИЙСКАЯ «РЕЧЕВАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ»
циркулировала одна и та же комбинация трагических вопро-
сов, но по-разному сформулированных. Один из них, вопрос-
стон — «Ну почему мы так живем? Почему после стольких
страданий, жертв, потерь и надежд наша жизнь все равно так
трудна?» Как выразилась одна моя собеседница, «почему у нас
все так плохо?»
Другой центральный вопрос — «Куда мы идем?» — неволь-
но вызывал в воображении образ советского общества в виде
неуправляемой повозки, мчащейся по неверной дороге к не-
минуемой катастрофе. Красноречив отрывок из статьи в од-
ном из сентябрьских «Огоньков» за 1989 г. (№ 37, с. 1):
«“Куда мы идем!” — сегодня эти слова чаще произносят не
в вопросительном, а в восклицательном ключе. В них вклады-
вают, мягко говоря, недоумение по поводу того, что пере-
стройка приносит результаты, противоположные ожидаемым.
Вместо изобилия товаров — тотальный дефицит, вместо высо-
копроизводительного труда — забастовки, вместо стабильно-
сти — межнациональные и социальные конфликты...»
К осени 1989 г. из уст людей все чаще можно было услы-
шать о том, что путь, по которому следует общество, ведет в
тупик. Этой метафорой они выражали свое ощущение беспо-
мощности, сожаление о том, что горизонты, замаячившие
было перед ними на заре перестройки, снова исчезли из виду.
Поначалу подобные заявления о российских страданиях и
провале реформ казались мне естественной, нормальной
реакцией на муки прошлого, настоящего, а возможно, и бу-
дущего. К 1989 г. большинство людей в перестройке разуве-
рилось; характерные для ее раннего периода (примерно
1985—1988 гг.) ожидания скорого наступления свободы и
процветания выветрились; приближался конец советской вла-
сти (хотя ни стремительности, ни драматичности, с которыми
развалился Советский Союз, никто ожидать не мог). Партий-
ные лидеры с самого начала не сумели предложить рацио-
нальной стратегии реформ; столь же неумело реагировали
47
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
они и на непредвиденные результаты перестройки1. Мало
того, что возникли и постоянно усугублялись непосредствен-
ные материальные проблемы: не хватало продуктов и самых
необходимых товаров, коммунальные службы работали все
хуже, происходила новая бюрократизация государственной
системы, — реформы обрушили на людей еще и психологи-
ческие трудности. Хотя все наслаждались ширившейся свобо-
дой самовыражения и получения информации, однако безу-
держное ниспровержение общественных идеалов и всего, чем
народ так долго жил, сбивало с толку и дезориентировало. Но,
наверное, еще более неопределенным представлялось буду-
щее: на что оно будет похоже, что принесет — благополучие
всему народу или гражданскую войну? Было ясно — свою
1 Понятие «перестройка» впервые было сформулировано М.С. Гор-
бачевым в 1985 г. на апрельском пленуме ЦК КПСС. Горбачев пред-
полагал, что с перестройкой начнется период экономического уско-
рения и модернизации. Гласность и демократизация общества, о
которых говорилось на январском пленуме 1987 г., были призваны
обеспечить открытость всей системы управления государством. «Суть
перестройки именно в том и состоит, — писал Горбачев, — что она
соединяет социализм с демократией» (Горбачев 1987; 31). По поводу
того, возможно ли соединение социалистического государственного
планирования с рыночными механизмами, существует широкий
спектр мнений среди политологов и обществоведов как на Западе, так
и на Востоке. Я склонна согласиться с теми, кто, подобно М. Льюину
(Lewin 1988) и Б. Кербли (Kerblay 1989), считает, что в описываемый
период был момент, когда рационально продуманное соединение
социалистической и рыночной систем могло бы состояться. Огляды-
ваясь теперь назад, мы видим, что противоречивые идеологические
позиции и мощь непокоренной бюрократии не позволили лидерам
произвести эффективные структурные изменения, а растерянность и
топтание на месте привели к недовольству населения экономически-
ми мерами, столь негативно сказавшимися на его жизни. (См. также
Aslund 1989 и Goldman 1992). Однако не менее очевидно, что в неуда-
че перестройки, а также в том, с какими трудностями столкнулось
развитие постсоветской демократии, ключевую роль играли многие
факторы — структурные, социальные и культурные (см. Lewin 1995,
Jowitt 1992, Moskoff 1993 и мн. др.).
48
ГЛАВА 1 РОССИЙСКАЯ «РЕЧЕВАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ»
жизнь придется менять, но как и до какой степени? Многие
предчувствовали, что страданий — физических и духовных —
не избежать ни отдельным людям, ни всему обществу в целом.
Естественно поэтому, что люди не жалели слов, живописуя
свои разочарования и опасения. Неудивительно также, что, в
основном, они обсуждали трудности сегодняшней жизни. Мне
же из этих разговоров о бедности, страдании и абсурдности
хотелось узнать как можно больше о российской «политичес-
кой культуре». Кругом только и говорили, что о социальных
катаклизмах и собственной беспомощности, и мне никак не
удавалось направить мысли своих собеседников на поиски
конструктивных, с моей точки зрения, способов преодоления
трудностей текущего момента и внушить им более светлый
образ грядущего.
Существенно, что многие собранные мной примеры «рус-
ского разговора» принадлежат интеллигенции. Московская
интеллигенция всегда задавала тон в стране, была самой крас-
норечивой частью населения, а с приходом гласности рас-
крылась в этом качестве еще полнее. В период радикальных
социальных перемен Москва громко жаловалась, переживала,
отчаивалась или цинично комментировала происходящее.
Поневоле думалось: могуг ли в обществе произойти разумные
перемены, если те люди, которые, по идее, умеют и по своему
положению должны рационально и трезво формулировать
проблемы и оценивать возможности их решения, вместо это-
го вопиют об овладевших ими чувствах безнадежности, стра-
ха и возмущения, заражая и всех остальных этими эмоциями?
Как пишет Моше Льюин, «то, что часть интеллигенции и неко-
торые средства массовой информации внесли свой вклад в
распространение в обществе панических настроений, — нео-
споримо. Они, без сомнения, сыграли определенную роль в
опасном процессе подрыва доверия к новым институтам го-
сударственной власти, возникшим в ходе реформ... Можно
сказать, что в каком-то смысле они сами своим усердным про-
речением накликали на страну лавину бед» (Lewin 1995: 302).
4. Заказ № 2742.
49
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
Мне — американке с моей привитой культурой убежденно-
стью (может быть, и безосновательной!) в том, что каждый
гражданин обладает своей долей власти, — было странно и
неприятно внимать катастрофическому дискурсу2 моих дру-
зей и информантов в тот момент, когда в России открывались
небывалые возможности для позитивных общественных пре-
образований. Но в конце концов именно многочисленные
провалы попыток довести до сознания собеседников мое, ра-
дикально отличное от их, восприятие российских проблем
заставили меня обратить «этнографическое» внимание на те
дискурсивные моменты, которые эти неудачи и определяли.
Постепенно я осознала, что звучащие вокруг выражения
беспомощности и отчаяния парадигматичны, следуют опреде-
ленным моделям и обращаются к одному и тому же, довольно
узкому, набору символических референтов. Постоянно стал-
киваясь с таким модусом речи, я почувствовала желание иссле-
довать его происхождение и культурный смысл, подумать о
его разнообразном и подчас неожиданном воздействии на
социальную жизнь, попытаться описать роль языка в социаль-
2 Я использую термин «дискурс» в том же смысле, в каком его упо-
треблял Джоэл Шерцер в своем известном эссе (Sherzer 1987): «В
рамках моего исследовательского подхода к дискурсу последний
представляет собой наиболее общий и всеобъемлющий уровень лин-
гвистической формы, ее содержания и практического употребления.
Именно на этом положении я основываю свое утверждение, что дис-
курс и, особенно, процесс структурирования дискурса есть локус вза-
имодействия языка и культуры... Поскольку дискурс является во-
площением, фильтром, создателем, воссоздателем и передатчиком
культуры, постольку для проникновения в суть культуры следует изу-
чать реально производимые обществом и отдельными его членами
мифы, легенды, истории, разговоры и словесные поединки, составля-
ющие вербальную жизнь данного общества» (Sherzer 1987.- 306). Рабо-
та Шерцера, а также исследование Грегори Урбана (Urban 1991) по
мифологии и устному общению в Шокленге (Бразилия) содержат
важные методологические ориентиры для использования понятия
«дискурс» — конкретного и поддающегося фиксации — в качестве
фундамента культурологических исследований.
50
ГЛАВА 1 РОССИЙСКАЯ «РЕЧЕВАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ.
ном воспроизводстве вообще. Поначалу критическое, мое вос-
приятие этих разговоров изменилось, и я стала думать о них
как о части более широкого культурного ритуала, как о квинт-
эссенции порожденных перестройкой ритуальных процес-
сов. В них подчас в мифологической форме находили вы-
ражение неразрешимые противоречия российской действи-
тельности и проявлялись точки социальной напряженности.
Область функционирования ритуализованного дискурса
отнюдь не отделена от более ясно очерченных сфер поли-
тики, экономики, права, в которых бурно шли структурные
изменения; скорее наоборот-, ритуальные жалобы эпохи пере-
стройки оказывали на эти процессы свое собственное влия-
ние, придавали им определенный характер, незаметно, а иног-
да и не столь незаметно им противодействовали. То, что и как
говорила интеллигенция в годы перестройки, оказывало на
происходящее значительное с точки зрения культуры влия-
ние. Интеллигентский дискурс «препарировал» актуальные
проблемы, в результате чего интенсифицировалось их значе-
ние и усиливался общественный резонанс. К тому же, в соот-
ветствии с законами диалектики и диалога, чем громче звучал
голос отчаяния, тем сильнее раздавались голоса с иной инто-
нацией — те, что отвергали фаталистическое смирение и ро-
мантический популизм и энергично утверждали почти как
непререкаемую истину правомерность эгоистической заботы
о самом себе (такая установка быстро набрала силу, когда в
обществе появились представители нового среднего класса).
Одной из важнейших идеологических операций, произве-
денных перестроечными разговорами и жалобами, стало выс-
вечивание противостояния (материального или «метафизи-
ческого») различных социальных групп и попытка найти в
этом противостоянии объяснение трагичности российского/
советского опыта. В нарративах на эту тему противопоставля-
лись глупость, эгоизм и жестокость тех, кто находился у вла-
сти, и мудрость, великодушие и доброта, присущие, конечно
4*
51
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
же, простым людям из народа. Могли противополагаться без-
застенчивый «материализм» нарождающегося класса бизнес-
менов и духовные добродетели интеллигенции. И наоборот:
вина за отсталость российской экономики и общественной
жизни подчас возлагалась на массы — темные и косные; одно-
временно оплакивалась неспособность советской интелли-
генции помочь народу преодолеть «врожденные» отрицатель-
ные национальные черты.
Эти рассказы конструировали архетипический мир, в кото-
ром честный и порядочный писатель, которого не пускают в
сияющие чертоги Союза писателей, недоедающий и не имею-
щий приличного жилья, лишенный возможности приобщить-
ся к знанию великой литературы собственного народа, все же
остается верен своим духовным и эстетическим идеалам.
В этом мире изнуренные работой женщины-матери целиком
отдают себя дому и семье и, в конечном счете, держат на сво-
их плечах всю страну. В этом мире бедные крестьяне делятся
последней картофелиной с незнакомцем, находящимся в еще
большей нужде, чем они сами.
Сколь бы сентиментальными или идеалистичными ни ка-
зались такие наррации, они тем не менее вновь и вновь вос-
производили идеологию привычной — или неизбежной —
дихотомии «верхов» и «низов», богатых и бедных, сильных и
слабых, «их» и «нас», элиты и народа. Представляя себя и сво-
их друзей, знакомых, коллег, родственников и соседей в виде
аллегорических характеров и черпая материал из «реальной
жизни» — области трудного и даже болезненного материаль-
ного существования, московские «сказители» сотворяли свое-
образный русский мир — романтический, трагичный и мрач-
новато-комический.
Личные нарративы служили основой для самовосприятия
и презентации себя как людей, достойных уважения — даже
без обладания какой-либо властью или статусом. Ощущение
собственной значимости создавала тонкая инверсивная игра
с ценностями, планами и образами реальности, спускаемыми
52
ГЛАВА 1. РОССИЙСКАЯ «РЕЧЕВАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ»
сверху, из царства тотальной коммунистической власти. Таким
образом, распространенные типы разговоров играли ключе-
вую роль в поддержании символической иерархии ценностей,
представляющей собой инверсию практической иерархии
ценностей, которую заключал в себе российский социалисти-
ческий (а теперь все в большей степени и капиталистический)
дискурс. В убийственной иронии мужских анекдотов и на-
смешек и в трагически-торжественных жалобах женщин
скрывалось сопротивление: россияне противились усвоению
официальных идеалов и норм, структурировавших модели по-
вседневной жизни (и соответственно формировавших жиз-
ненный путь) и принесших населению столько проблем.
И если расслышать в речах подобные символические переста-
новки, почувствовать их глубинную логику и задуматься над
их значением, то, полагала я, можно до какой-то степени по-
нять и более широкий социальный контекст, в котором рож-
даются сегодняшние политические дискуссии и конфликты.
Дискурс и воспроизводство
социального контекста
Таким образом, в своей книге я концентрируюсь на изуче-
нии русского «речевого поля», в котором происходят важней-
шие процессы производства и взаимодействия культурных
смыслов и ценностей, причем я исхожу из того, что язык яв-
ляется важнейшим инструментом как реализации власти, так
и сопротивления ей. «Дискурс — это фронт борьбы. Это зона
боевых действий, динамическое языковое — прежде всего се-
мантическое — пространство, где возникают и оспаривают
друг у друга приоритет социально значимые смыслы» (Seidel
1985:44). Подобная мысль не раз формулировалась в рамках
социологии (см. Austin 19(52; Hymes 1974; Giddens 1984; Hanks
1987; Gal 1989; Bauman and Briggs 1990). По мнению Питера
Бэрка, «говорение есть форма делания .. язык представляет
53
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
собой активную силу в обществе, личное и групповое средство
контроля над людьми или противодействия такому контролю,
средство изменения общества или блокирования перемен,
утверждения культурных идентичностей или подавления по-
следних» (Burke 1993: 2 6).
Как же еще, в самом деле, создавался, оформлялся, поддер-
живался, подправлялся и «раскачивался» весь советский строй,
если не словесным путем — через дискуссии, дебаты, хвалеб-
ные, торжественные или критические выступления? В рамках
любой культуры люди (будь то крестьяне, рабочие, ученые,
чиновники, бизнесмены или политические лидеры) действу-
ют вполне определенным образом, потому что в дискурсе
проявляется смысл этих действий, устанавливаются их умест-
ность и оценка \ И наоборот (что весьма важно для понимания
советской/российской специфики), люди могут не делать
чего-то, отказываться (в какой бы то ни было форме) действо-
вать, потому что в «интерсубъективном, ментальном мире»
(Giddens 1984: 83), сотворенном и легитимизированном ми-
ром словесным, бездействие (или нестандартное действие)
становится осмысленным и, более того — наделяется цен-
ностью.
Я не отношу термин «ценность» к какой-то абстрактной
нравственной норме или к какому-нибудь религиозному либо
квазирелигиозному моральному кодексу. Напротив, в моем
представлении ценности составляют многомерное, изменчи-
вое, «своенравное» поле, где происходит непрекращающаяся
игра ценностных оппозиций, где они меняются местами и
полемизируют друг с другом (Smith 1982). По выражению
3 К примеру, ценности, связанные с новой для России идентично-
стью «бизнесмена», утвердились в российском менталитете в большой
степени благодаря дискурсивным средствам (как устным, так и пись-
менным), с помощью которых понятие бизнеса вошло в широкий
оборот и были показаны в привлекательном свете основные положи-
тельные стороны бизнеса — капиталистическая эффективность, при-
быльность, умелое управление, оптимистическое отношение к делу.
54
ГЛАВА 1 РОССИЙСКАЯ «РЕЧЕВАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ»
Нэнси Мунн, «ценность в таком смысле — это скорее нечто
общее и относительное, чем частное и абсолютное» (Munn
1986:8); иными словами, у ценности нет абсолютного показа-
теля, скорее можно говорить о том, что положительные и от-
рицательные ценности постоянно утверждают себя в про-
странстве символического измерения обыденной жизни и это
теснейшим образом связано с созданием личностных и кол-
лективных идентичностей.
Уже самые первые мои этнографические наблюдения при-
вели меня к заключению о том, что у русс ко говорящего сооб-
щества речевое общение представляет собой главную арену
производства социальных ценностей. Если в других обще-
ствах на первый план выходят иные виды практики, например
обмен ценными объектами или их разрушение (Weiner 1976;
Munn 1986; Kan 1990; Bataille 1985: 116—129), демонстратив-
ное потребление (Bourdieu 1984), участие в ритуалах (Sangren
1991), гостеприимство (March 1987) и проч., то в России до-
минирующей областью производства ценностей, безусловно,
является речь во всех ее формах и разновидностях. В какой-то
степени причиной тому — неразвитость остальных областей.
Я хочу сказать, что разговор — это не та деятельность, которая
описывает процесс создания ценностей, а та деятельность, в
рамках которой, в ходе которой и посредством которой на
деле создаются социальные ценности.
Речь во всех обществах играет существенную роль в каче-
стве локуса производства ценностей, но в России эта ее фун-
кция всегда была особенно важна. Вспомним постоянные упо-
минания «кухни» как места в высшей степени сакрального в
российском/советском обществе: на кухне за чашкой чая или
рюмкой водки люди могли говорить все, что думают, расска-
зывать все без утайки и открывать друг другу душу (см. Pesmen
1995 о сакральности этих коммуникативных форм коллектив-
ного взаимодействия). Конечно, советское государство мно-
гое сделало для сакрализации частных разговоров, потому что
в основном именно в такие моменты, вполголоса обмениваясь
55
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
словами, люди чувствовали себя с ь« йодными, честными и от-
крытыми. Но все же говорить, что межличностное общение
ценилось только за создаваемое им ощущение свободы от все-
видящего государственного ока, было бы упрощением и недо-
оценкой динамических взаимоотношений между частными
культурными мирами и могущественным государственным
аппаратом4.
Начиная с 1920-х годов лидеры страны прикладывали ог-
ромные усилия для выработки и контролирования систем
символов (Clark 1977; Dunham 1990; Lane 1981; Hellberg 1986;
Tumarkin 1991), а также культурных моделей, актуальных для
советского общества (Mead 1951; Redl 1964; Mikheyev 1989;
Attwood 1990), однако эти усилия имели лишь частичный ус-
пех. Какой бы плотной паутиной тоталитарного дискурса ни
был опутан человек, он все равно продолжает оставаться про-
дуктом, носителем и «пользователем» — а значит, и «воссозда-
телем» — тех культурных и языковых ресурсов, которыми на-
сквозь пропитана его жизнь. И не имеет большого значения,
колхозник это или недавний городской житель, большой уче-
ный, писатель-диссидент или национальный лидер (McAuley
1984: 30—34). Ведь и лидеры, и рядовые граждане общаются на
своем родном языке со всеми его метафорами, фигурами речи,
ключевыми символами, фольклорными ассоциациями, харак-
терными структурами и стилистическими приемами. То, что
вожди так старались внести изменения во все эти аспекты язы-
ковой системы — через поэтику революционного отрицания
(Stites 1989), или путем террора, репрессий, или с помощью
педагогики и вдалбливания в головы граждан пропагандист-
4 Другими важными областями производства социальных ценно-
стей в России являются ведение домашнего хозяйства и манера оде-
ваться у женщин (Dunham 1990) и «хулиганство» у мужчин. Следует
отметить, предваряя посвященную данной теме главу 2, что и здесь
разговор об этих вещах (рассказывание историй, жалобы) представ-
ляет собой основное средство выявления, развертывания и подтвер-
ждения заключенных в указанных практиках ценностей.
56
ГЛАВА 1. РОССИЙСКАЯ «РЕЧЕВАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ»
ских штампов, — говорит как раз о понимании руководством
решающей роли языка как политического ресурса.
Должно быть, читателю понятно: я сторонница идеи о том,
что культура эпохи социализма (и даже сталинская тоталитар-
ная культура) не смогла вытеснить собой или «вытравить» тра-
диционную русскую культуру, потому что сама была «скроена»,
насквозь «прошита» и сформирована этой самой культурой5.
«Сравнительное изучение коммунистических систем говорит
нам, — пишет Габриель Алмонд, — что политические культуры
плохо поддаются переделке. Самое изощренное политическое
движение, готовое манипулировать людьми, организовывать
общество, прививать гражданам свою идеологию и принуж-
дать их, будь у него возможность делать все это на протяжении
хотя бы одного поколения, кончит тем, что вместо того, что-
бы трансформировать что-либо, будет трансформировано
само» (Almond 1983; Brown 1984: 7).
Роберт Дэниелс в своих работах (см. Daniels 1962; 1985)
убедительно показывает, что коммунизм в Советском Союзе
был насквозь «русифицированным». Другой советолог, Роберт
Такер, настойчиво проводит мысль о том, что после револю-
ции 1917 г. в России утвердилась «некая смесь дореволюцион-
ной культуры с социокультурными инновациями, которые
революционный режим сумел внедрить в общество» (Tucker
1977: XVII). Такер утверждает, что в процессе наиболее глубо-
5 См. замечание Пьера Бурдье (Bourdieu and Wacquant 1992: 102)
по поводу заведомой ограниченности тоталитарных институтов.
Михаил Эпштейн (Epstein 1991: 72) выделяет в советской идеологии
несколько уровней — марксистско-ленинский, славянофильский,
просвещенческий, популистский, утопический и другие, — показы-
вая, что эта идеология, претендовавшая на положение системы-геге-
мона, представляла собой на самом деле «попурри» из разнообраз-
ных — и подчас противоположных по направленности — доктрин.
Прекрасную критику упрощенного взгляда на взаимоотношения
«официальных» и иных, куда менее четко очерченных культурных
идеологий читатель найдет у М. Маколи (McAuley 1984) и С. Буранта
(Burant 1987).
57
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
ких революционных преобразований любая новая система
«инкорпорирует в себя элементы национального культурного
прошлого, как это сделал, например, советский коммунизм в
1924 г., когда после смерти Ленина учредил официальный
культ вождя и выставил его мумию в мавзолее на Красной пло-
щади. Такое решение вызвало протесты ряда коммунистов,
увидевших в этом возрождение древнего обычая русской пра-
вославной церкви сохранять мощи святых для поклонения»
(1977: XVII).
На примере разного рода общественно значимых событий
и ритуалов в России как раз и можно увидеть эту способность
старого сохраняться или преображаться в рамках новой куль-
туры. В языке же повседневного общения мы можем наблю-
дать (вернее, слышать), как действует самый тонкий и все-
проникающий — и, может быть, самый мощный — механизм
воспроизводства культуры.
То, что я концентрируюсь на языке как на ключевом меха-
низме культурной репродукции, вовсе не означает стремления
выявить какую-то исконную, дореволюционную, «эссенциаль-
ную русскость» в речи современных россиян. Такой вещи, как
«сущностная» русскость, нет и быть не может. Культурные си-
стемы не столько «эссенциальны», сколько семиотичны. Куль-
тура — это «паутина значений» (Geertz 1973: 5), которая непре-
рывно свивается, развивается и свивается вновь и постоянно
вбирает в себя приносимые историей всевозможные переме-
ны и инновации. Языковые или любые иные способы выраже-
ния в культуре — это продукты бесконечно сложного взаимо-
действия причин и следствий — национально-исторических,
локальных, семейных и вообще исходящих из неизвестных
источников. Сколько-нибудь определенно установить, как эти
способы сформировались, почти невозможно. Как заметил
Стивен Сангрен, «очень трудно описать комплексную матри-
цу культурных и социальных институтов и пути, которыми она
осуществляет обратную связь., между причинами и следстви-
ями, превращая последние в первые» (Sangren 1987: 6).
58
ГЛАВА 1 РОССИЙСКАЯ «РЕЧЕВАЯ ДЕЙСТВИЕ ЕЛЬНОС ТБ».
Процесс коммуникации не прерывается никогда; любой
фрагмент разговора, например, возникает в ответ на пред-
шествующий фрагмент, но он также представляет собой не-
кую элементарную частицу, интегрирующую в себя значение,
структуру и ценностное измерение, и эта частица способна
повлиять на будущее (Bakhtin 1981, Ochs 1992 338). Соци-
альная жизнь, как говорит Э. Гидденс (Giddens 1984: 3), — это
«duree» [фр. «длительность»], «непрестанный поведенческий
поток», в котором каждому акту (в том числе — любому выска-
зыванию) отведена своя роль в бесконечном сотворении ре-
альности, и процесс этот имеет как сознательную сторону,
отражающую человеческую интенцию, так и сторону неосо-
знаваемую, отражающую культуру (Hymes 1964: 22—23)-
Когда, например, М.С. Горбачев в своих обращениях к со-
ветскому обществу прибегал к терминам родства, делал ли он
это сознательно, используя приемы советской пропаганды для
внушения людям чувства родственного единения (Clark 1977),
или просто говорил так, как принято говорить по-русски? Та-
кая образность была нужна ему, чтобы подогреть в слушателях
чувство близости друг к другу или же чтобы его самого вос-
принимали как главу советского «общества-семьи»? Употреб-
ление подобных тропов было просто данью общепринятой
метафорике русской речи, или же они специально применя-
лись для смягчения бунтарских настроений диссидентствую-
щих российских политиков и националистов в союзных рес-
публиках?
Я не ставила себе задачу измерить степень сознательности
говорящего при употреблении различных языковых средств
или же силу непосредственного воздействия какого-либо вы-
сказывания на ситуацию (бесполезно было бы даже пытаться
это сделать). Я хотела, с одной стороны, разобраться в культур-
ном смысле и дискурсивных структурах тех или иных выска-
зываний, а с другой — понять их социально-политические
истоки и их «резонанс» в социальной жизни.
Политические, социальные и экономические действия се-
редины горбачевской эпохи переплетались с действиями уст-
59
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
ними — историями, анекдотами, сказками, нерелигиозными
молитвами и сакраментальными вопросами. Поэтому разбор
подобных дискурсивных актов с их внутренней структурой,
смыслом и присущей им силой воздействия — это тоже спо-
соб анализа конфликтов, проблем и результатов перестройки.
Приведенные здесь примеры повседневного дискурса и
моделей поведения являются одновременно и созданиями, и
создателями русской идентичности и (советского) русского
общества — и поэтому должны быть изучены в обоих этих
проявлениях. Постоянно рассказывая истории о себе и своем
мире, люди воспроизводят те самые ценностные оппозиции
и иерархии, которые мыслятся ими как изначально присущие
этому миру, кажутся его «естественными» (Bourdieu 1977:
167—171; Giddens 1984:25) и неизменными структурами. Сле-
довательно, для понимания того, как этот мир был построен
когда-то и как он перестраивается теперь, необходимо по-
знать всепроникающие дискурсивные силы, этот мир про-
изведшие и продолжающие воспроизводить. А этнография
может предоставить надежные методологические и интерпре-
тативные средства для анализа дискурсивных практик.
Несмотря на то что социология уделяет все большее вни-
мание российской политической риторике (Urban 1994; An-
derson, Chervyakov and Parshin 1995), проблеме «общественно-
го мнения» в целом, семье и работе как сферам социального
воспроизводства (Yanowitch 1985; Field 1987; Millar 1987; Buck-
ley 1992; Edmondson 1992; Lewin 1988: 75—78), до сих пор по-
явилось очень мало аналитических работ, посвященных обы-
денной русской речи или индивидуальным наррациям. По
большей части к разговорам относятся как к материалу несу-
щественному, а то, что русские рассказывают о себе и своем
обществе, не считается достойным научного анализа. Пока
что есть лишь небольшая (хотя и все время пополняющаяся)
этнографическая коллекция «голосов» из современной Рос-
сии, а также исследований, интерпретирующих семантичес-
кие конструкции и структуры российской жизни (Wierzbicka
60
ГЛАВА I РОССИЙСКАЯ «РЕЧЕВАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ»
1989; Ries 1991, 1994; Dunn 1992; Pilkington 1994, Tumarkin
1994; Dickinson 1995; Pesmen 1995; Cushman 1995; Lempert
1996)b.
Сосредоточивая свое внимание на разговоре как на одном
из факторов культурной репродукции, мы можем отойти от
неуловимо-мистического понятия «национального характе-
ра», но при этом, желая дать объяснение регулярному появле-
нию одних и тех же феноменов человеческой общественной
жизни, вывести на передний план один из аспектов этого по-
нятия7. Вследствие того что истории, которые люди друг дру-
6 В ряде книг приводятся «голоса», зазвучавшие в период гласнос-
ти, но они едва ли принадлежат «простым» людям. Как правило, ци-
тируются представители интеллигенции или художественной элиты.
Пример тому — книга «Voices of Glasnost», которая представляет собой
сборник интервью с соратниками Горбачева по реформированию
страны. Тонкое и эмоциональное исследование «культа второй миро-
вой войны» в России, которое провела Нина Тумаркина (Tumarkin
1994), и социальная история Магнитогорска Стивена Коткина (Kotkin
1991) — вот две из тех немногих работ, где представлены наррации
представителей всех слоев общества. Есть еще интереснейшие пост-
перестроечные интервью Дэвида Мэндела с рабочими (Mandel 1994),
а также собранные (но не проанализированные) журналистами ин-
тервью с самыми разными людьми, например «Russian Voices» Тони
Паркера (Parker 1991), беседы Франсины Грей с советскими женщи-
нами (Gray 1989) и материалы Джона Эйнарсена в «Kyoto Journal»
(Einarsen 1995).
7 Главным недостатком исследований русского национального
характера является отсутствие у авторов даже попыток выявления
способов передачи и сохранения тех качеств (ценностей, установок
и т.п.), о которых они ведут речь. Не предлагая каких-либо теорий на
этот счет, авторы прибегают к расплывчатым и эфемерным поняти-
ям вроде «ментальности», как это делает, например, Дмитрий Михе-
ев (Mikheyev 1989)- Он начинает с критического обзора географичес-
ких, климатических, религиозных и иных (вроде способов пеленания
младенцев) объяснений русского национального характера и задает-
ся вопросом, не даст ли сочетание этих факторов искомого «ключа к
пониманию русских». Но затем Михеев выдвигает идею «ментально-
сти» в качестве ключевого понятия. «Ментальность, — пишет он, — в
61
<PVCCKMF РАЗГОВОРЫ»
гу рассказывают, состоят из всеми узнаваемых элементов (по-
тому что они, подобно сказкам, построены по определенно-
му структурному «плану» и оперируют набором конвенцио-
нальных деталей), регулярно употребляемые в речи категории
(такие, как «русский народ», «русская женщина», «русский ха-
рактер» или «русская душа») воспринимаются — и произнося-
щими эти словосочетания, и слушающими — как нечто «есте-
ственное» и сущностное8 Такое широко распространенное и
постоянное приписывание природе заслуги в создании кате-
горий, в действительности порожденных обществом, в нема-
лой степени объясняет представление об этничности как яв-
лении биологическом, генетическом или даже климатическом
(Pipes 1974) Ирония заключается в том, что само произнесе-
ние высказываний, «натурализирующих» или «материализи-
рующих» культурное воспроизводство, является куда более
значительной степени основывается на фундаментальных идеях об
окружающей среде, о жизни, о времени, которые закладываются в
раннем детстве, практически аналогично генетической информации,
и сохраняются у человека всю жизнь» Все рассуждения о формиро-
вании и распространении ментальности у Михеева ведутся с исполь-
зованием пассивного залога глаголов, что позволяет автору полнос-
тью избежать вопроса о путях возникновения и воспроизводства
ментальности или о ее составляющих К концу эссе сама менталь-
ность становится каузальным агентом, и так происходит почти во
всех дискуссиях о «национальном характере» (яркий пример тавто-
логического мышления см в Dick I960 637) Русскому национально-
му характеру посвящены также следующие работы Лихачев (1987),
Воск (1980), Glazov (1985), Goldman (1950), Gorer and Rickman (1950),
Hingley (1977), Kluckhohn (1962), Mead (1951) и Mead and Metraux
(1953)
8 Вот эта «натурализация», восприятие как «природного» того, что
на самом деле является лишь набором произвольных элементов, на-
деленных символической ценностью, составляет существеннейший
элемент репродуктивной мощи устной речи (см Bourdieu 1977 164—
167) Поразительно, но на основании того, что сами русские говорят
(серьезно или с иронией) о самих себе, некоторые журналисты и
ученые строят представление о <русском характере», как если бы он
был чем-то <вещественным»
62
I ЛАВА 1 РОСС ИЙСКАЯ <РЕЧЕВАЯ ДЕЙСТВЕ! ГЕЛ ВНОС I Ь>
реальным механизмом этого воспроизводства, чем биологи-
ческие факторы Так и русский разговор он сам успешно мас-
кирует, затушевывает и отчуждает от себя собственную куль-
турно-репродуктивную силу (Sangren 1991) Возможно, и
поэтому среди прочего обычные, повседневные разговоры
русских людей никогда не становились объектом изучения и
интерпретации" Живая речь ловко умеет отвлечь внимание от
того факта, что она сама есть активная действующая сила
Культура, народ, язык и характер:
местные представления
Познать структуру «русского дискурса» или содержание
конкретных разговоров едва ли возможно, не владея некото-
рыми фундаментальными, хотя часто и неопределенными,
многоплановыми понятиями Мои информанты энергично
возражали против употребления мною словосочетания «рус-
ская культура», утверждая, что русская культура была полнос-
тью уничтожена после революции 1917 г, однако сами они
нередко произносили «русский народ», «русский человек»,
«русская душа» или просто «мы, русские» Эти категории упо-
треблялись безо всяких объяснений или «примечаний» и
ощущались как нечто сущностное, естественное, очевидное и,
следовательно, объективное, реальное9 10 Произнося эти слово-
9 И российские, и западные исследователи русского фольклора,
литературы и языка умудряются обходить сферу повседневных раз-
говоров, избегая их анализа, хотя произвели немало стереотипных
представлений о живой русской речи (она-де весьма эмоциональна,
драматична, духовно и философски глубока и т п ) Более того, как
заметила Морин Перри (Регпе 1989 119), даже фольклор редко ис-
пользуется в качестве источника для понимания русской ментально-
сти (исключения в этом плане составляют Gibian 1990, 1991 и Sinyav-
skv 1984)
1110 русском понимании души см Wierzbicka (1989) и Pesmen
(1995), о понятии «народ> см Cherniavsky (1961), об аналогичном
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
сочетания, мои информанты, казалось, физически ощущали
«субстанциальность» и неизбывность русскости, не видя в ней
ничего загадочного (Hymes 1964. 12;Bourdieu 1977: 164—171).
Перечисленные категории составляют часть более широ-
кого понятия, которое формулируется по-разному, но по сути
едино: «судьба России», «русская история» или «русская жизнь».
И то, и другое, и третье совершается на реальной, но овеянной
легендами территории, называемой «русская земля». Частое и
автоматическое употребление этих выражений, распростра-
ненных клише русской речи, наводит на мысль, что лежащая
в основании национального самосознания русских людей
культурная идеология базируется скорее на нарративных, не-
жели на органических метафорах. Другими словами, нацио-
нальная идентичность часто концептуализируется в терминах
общей для всех русских истории-легенды. Писатель-эмигрант
Василий Аксенов, рассказывая в газете The New Republic
(16 апреля 1990 г.) о своей поездке на родину после многих
лет жизни на Западе, употребляет именно такой троп: «Я про-
сто хочу знать, есть ли за всеми трагикомическими поворота-
ми сюжета нашей российской сказки — всеми революциями,
контрреволюциями, сталинизмами, неосталинизмами, реви-
зионизмами, оттепелями, заморозками, перестройками, глас-
ностями, — есть ли за всем этим какой-то чародей-драматург,
божественный автор, который знает, чем заканчивается пье-
са?» (цит. по: Slobin 1992: 257).
Помимо метафорических отсылок к общей истории, в
обыденной речи содержатся указания и на другие, более ма-
териальные основания этнической общности. Часто как о
носителях общерусского качества говорят о крови, плоти и
генах. Однако при внимательном рассмотрении употребляе-
мых в разговоре тропов такого рода оказывается, что русско-
понятии у поляков см. Wierzbicka (1985- 165). Подобные категории
представляют собой идеологически насыщенные символические
скрепы того, что Бенедикт Андерсон (Anderson 1983) называет «вооб-
ражаемым сообществом»
64
ГЛАВА 1 РОССИЙСКАЯ «РЕЧЕВАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ»...
стью кровь, гены или плоть наделяет именно опыт физиче-
ской, телесной жизни в России, опыт российской жизни. По-
лучается, что русскость — это органическое качество, нечто
вроде «осадка», образующегося в результате «реакции» — про-
живания человеком своей жизни в контексте российской ис-
тории (см. Geertz 1983; 55—70). Но русскую историю часто
называют «кровавой»; это значит, что тело и история оказыва-
ют взаимное влияние друг на друга: телесные субстанции вли-
ваются в историю, а история проникает в тело. В духе такого
представления «кровь», это «свободно обмениваемое» метафо-
рическое вещество, нередко выступает в качестве определите-
ля принадлежности к русской культуре, одновременно являясь
одним из символических веществ в составе «сложной», «запу-
танной», но одновременно «богатой» русской истории.
Возникает вопрос: по мнению русских, русскими рождают-
ся или становятся? Кажется — и то и другое. Появившись здесь
на свет и став действующими лицами многогранного, много-
слойного, расцвеченного фантастическими красками эпиче-
ского сказания, которое и есть Россия, люди в той или иной
степени воплощают это сказание в своих собственных нар-
ративах, создаваемых из материала своих частных жизней, и
тем самым утверждают собственную культурную идентич-
ность и принадлежность к данному сообществу. Я поняла это
во время работы в Москве в 1992 и 1994 гг. По отзывам о тех,
кто уезжал из страны, или о тех, кто шел во власть, или о тех,
кто во время перестройки пытался заняться бизнесом, чтобы
подняться над своей (относительной) бедностью, чувствова-
лось, что люди видят во всех этих действиях некое отрицание
русскости. «Это не русские, не наши люди» — вот рефрен, ча-
сто мною слышанный. Такие граждане поступали вразрез с
требованиями русской жизни, заключенными в нарративных
структурах, можно сказать, «вычеркивали» себя из русской
традиции. Те же, чьи истории представляют собой подобаю-
ще структурированные главы, стихотворные строки или хотя
бы примечания к эпической саге о России, считали себя ча-
5. Заказ № 2742.
65
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
«Народ» — это также чрезвычайно выразительная и энер-
гичная традиция художественного творчества: песни, пляски,
обрядность, эпос, поэзия, изобразительное искусство. Но од-
новременно «народ» — это история войн и голода, покорно-
сти и унижения, стоической выносливости, бедности, утрат,
мучений и вымирания. В эпоху перестройки в слове «народ»
нередко слышалась обида: люди чувствовали, что их страдания
снова никого не трогают.
Вот это-то богатое символическое содержание слова «на-
род» и мешало мне употреблять его по отношению к населе-
нию России. Сказать «народ» значит не произнести некую на-
зывную категорию, но активизировать в сознании слушающих
всю историю народа, священное сказание о нем, а это, в свою
очередь, означает заявить не только о личном приятии этого
сказания, но и о своей принадлежности к народу — герою это-
го сказания. Вот почему в устах иностранца это слово для рус-
ского уха может прозвучать неискренне.
Парадигматический пример того, как понятие «народ»
разворачивается и резонирует в сознании аудитории, мне
попался в проспекте коммунистического журнала «Молодая
гвардия» в конце 1992 г. Там говорилось, что «Молодая гвар-
дия» — это бескомпромиссный разговор с читателями о судь-
бе народа, о многострадальной родине, уже разрушенной
«демократами», об истории и будущем отечества. Сказано
было также, что возрождение государственности, духовности
и культуры русского народа и всех народов бывшего много-
национального союза — это тема и «общая боль» постоян-
ных авторов журнала.
В этом кратком отрывке из издательского проспекта содер-
жались важнейшие метафорические выражения идентичнос-
ти народа: многострадальная родина-мать, отечество в исто-
рической перспективе и «дитя» — народ. Я как-то попросила
своего друга, философа, прокомментировать взаимосвязь
этих понятий. Вот что он (русский еврей) сказал (на безуко-
ризненном английском): «Родина — это, конечно, среда оби-
68
ГЛАВА 1 РОССИЙСКАЯ «РЕЧЕВАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ»
тания, природа, почва, но она как квашня, в которой происхо-
дит брожение, и она же — закваска. На ней и в ней вершится
история, рождаются легенды и возникают социальные цен-
ности. Народ происходит от этих двух вещей — родины и
истории. Народ — это как дух этих двух вещей, слившихся во-
едино. Но связь возникает не только с местом — все это про-
низывает поколения и превращается в источник энергии».
Какова же, спросила я, связь между человеком и народом,
как выражают себя эти две сущности? Мой друг задумался на
мгновение, а затем сказал: «Они связаны через душу». «Тогда
что же такое душа?» — допытывалась я.
«Душа есть некая врожденная способность чувствовать, что
правильно и что неправильно, и способность как-то покаять-
ся. В России считают, что у людей из народа эта способность
развита лучше, чем у тех, кто уже не есть часть народа, кто от-
делился от народа, стал интеллигентом или еще кем-то. Народ
живет еп masse и хранит свои традиции и обычаи, тогда как
отделившиеся от народа живут больше сами по себе, не чув-
ствуют себя обязанными чтить и соблюдать эти правила, де-
лают что хотят, осознают все это, но не тяготятся таким осо-
знанием; они, может быть, и понимают, что поступают непра-
вильно, но сильно не расстраиваются; люди же из народа в
таких случаях потеряли бы душевный покой. Душа — это еще
и способность глубоко чувствовать. Вы глубоко чувствуете, в
первую очередь, природу, красоту природы, свою близость к
ней, и вот это ощущение единения с окружающей природой
означает, что вы часть этой природы и что она сама есть вы-
ражение испытываемых вами чувств. Русские считают, что у
них душа есть, тогда как у других народов ее наличие сомни-
тельно. Русские обладают душой, потому что они нравствен-
ны. Быть нравственным не значит просто быть добрым и не-
жадным; нравственность — это некая связь между человеком,
общиной и природой. Такое чувство, что сам по себе ты не
много значишь, но ты часть общины, и через общину, через
природу ты приобретаешь вес; вот почему русские — такие
69
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
хорошие солдаты: они всегда, не задумываясь, жертвовали со-
бой во имя родины. Чувство индивидуальной значимости
ослаблено, но зато сильно чувство общинности — вот вам
душа, механизм всего этого. Душа — главным образом меха-
низм включения, может быть, не прямого включения, но при-
соединения себя к более широкому целому — народу».
Этот текст, излагающий одно из представлений о русско-
сти, показывает многогранность таких представлений; гово-
рит он и об уверенности в богатстве собственной идентично-
сти. И хотя интеллигенция может с презрением отзываться о
самом понятии «народ» — оно, дескать, лишь затертый, идео-
логически перегруженный штамп (кстати, аналогичный по за-
тертости понятию «интеллигенция»), хотя она может осыпать
народ такими эпитетами, как отсталый, невежественный, не-
культурный, грязный и т.п., но в некоторых контекстах те же
лица, тем не менее, прибегают к этому термину для самоиден-
тификации.
Язык — богатство и сила
Мои информанты часто провозглашали родной язык сво-
им наиважнейшим ресурсом. «Мы, может быть, и бедны, по
сравнению с вами, Западом, но зато наш русский язык будет
побогаче всех богатств» — так один историк выразился в раз-
говоре, темой которого были экономические трудности Рос-
сии. В подобных речах высокоразвитое (почти вызывающее)
чувство национальной гордости смешивается с отголосками
некоего «экономического самооправдания». Дискурс о богат-
стве русского языка зародился еще в XVIII в., когда Михаил
Ломоносов произносил свои патриотические афоризмы, и
поныне украшающие стены школьных классов н.
11 «Карл V, римский император, говаривал, что ишпанским языком
с Богом, французским — с друзьями, немецким — с неприятельми,
70
ГЛАВА 1 РОССИЙСКАЯ «РЕЧЕВАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ»
Неизвестно, существовало ли это изречение, исполненное
духа прославления русскости вообще, до его публичного про-
изнесения Ломоносовым. Как бы то ни было, у него есть «ро-
дословная», и его можно причислить к разряду тех вещей,
которые Алан Дандес (Dundes 1972) называет «народными
идеями».
Когда я слышала похвалы богатству русского языка, мне
казалось, что люди имеют в виду три вещи: во-первых, неко-
торые внутренние структурные черты языка — лексическую
точность, наличие склонения для существительных и при-
лагательных, гибкость синтаксиса, — позволяющие и легко
управляться с языковыми средствами, и предаваться языково-
му творчеству; во-вторых, поэтичность и лиризм, отчасти так-
же определяемые структурными свойствами (параллельные
склонения и спряжения нередко рифмуются), отчасти же зак-
люченные в интонациях; и в-третьих, практически неисчерпа-
емые запасы parole (Saussure 1959) 12- Подкрепленные высокой
ценностью, придаваемой языковому творчеству и изобрета-
тельности — тому, что Михаил Бахтин (Bakhtin 1981: 273) на-
зывал «разноречием», — первые два аспекта способствуют
постоянному развитию третьего, и о русском языке можно
италиянским — с женским полом говорить прилично. Но если бы он
российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы,
что им со всеми оными говорить пристойно, ибо нашел бы в нем ве-
ликолепие ишпанского, живость французского, крепость немецкого,
нежность италиянского, сверх того — богатство и сильную в изобра-
жениях краткость греческого и латинского языка» (Ломоносов 1952:
391).
12 Я употребляю термин parole для обозначения базового лексико-
на, а также совокупности метафор и других тропов, сравнений, пого-
ворок, пословиц, изречений, заклинаний, ругательств, непристойно-
стей, сказок, эпических сказаний, песен, баллад, стихотворений или
отдельных стихотворных строк, анекдотов, частушек, загадок, скоро-
говорок, сленговых выражений, цитат из пьес или кинофильмов,
официальных лозунгов и злых пародий на них и т.п., которые люди
узнают еще в детстве и которыми пользуются всю жизнь.
71
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
сказать, что он в высшей степени приспособлен к инноваци-
ям и к языковой игре15.
Любя свой parole, русские ценят также те особые оттенки
переживаний и нюансы смысла, которые передаются посред-
ством речи, этого резервуара культуры, как бы окружающего
человека теплом родного дома. Русские увлеченно смешивают
метафорические субстанции и часто говорят, что впитывают
весь этот материал (лексический, эмоциональный, идеоло-
гический) «с молоком матери» — чем не великолепная ме-
тафора физического и концептуального усвоения культуры?
Русские сами, как мне представляется, чувствуют и иносказа-
тельно утверждают, что этот подвижный транспортер культу-
ры — разговор (который, как уже не раз подчеркивалось, я
считаю фундаментальным механизмом культурного воспро-
изводства) и есть важнейшее средство внутринационального
взаимодействия.
Метафора «язык как богатство» имеет и социальный
смысл. Чтобы раскрыть его, надо поставить вопрос: что же
это за богатство? С одной стороны, есть такое лингвистичес-
кое богатство, которое может превращаться в буквальный,
материальный доход или же обеспечивать его обладателю
статус, известность, славу, открывать закрытые для других
15 История собирания продуктов русского языкового творчества и
их анализа длительна, обильна и полна выдающихся достижений.
XIX век отмечен работой трех светил — В. Даля, А. Афанасьева и Д. Са-
довникова; кроме них, поговорки, пословицы, сказки, загадки, песни,
анекдоты и плачи собирали тогда сотни энтузиастов. В начале ны-
нешнего века развитие русского формализма инспирировал струк-
турный анализ фольклорных жанров, а открытия Владимира Проппа
до сих пор остаются авторитетными в области изучения русских ска-
зок. В послевоенный период русские фольклористы выпустили сотни
сборников произведений устного творчества, проделали лексикогра-
фический анализ местных говоров и социальных диалектов. Разу-
меется, интенсивно изучалась и «рафинированная» родственница
фольклора — профессиональная литература Русская лингвистика (и
славянская лингвистика вообще) также имеет почтенную традицию.
72
ГЛАВА I РОССИЙСКАЯ «РЕЧЕВАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ»
двери, — прежде в России им наслаждались поэты и писате-
ли. Аналогичные возможности дает искусство слова полити-
кам. В этом смысле умение вызывать своей речью «правиль-
ный» резонанс можно считать своеобразным символическим
капиталом (о разных видах такого капитала пишут многие
исследователи: Bourdieu 1977: 186—187; 1991; Hanks 1987;
Brenneis 1988; Fairclough 1989; Grillo 1989; Irvine 1989; Burke
1993).
Но хотя в России, как и везде, существует «лингвистический
элитизм», там, однако, силен и «лингвистический эгалита-
ризм»: среди россиян распространено убеждение, что язык
принадлежит всем, кто на нем говорит (и вносит тем самым
свою лепту в его развитие), и, кроме того, что говорящие на
одном языке объединены в особый род национальной общно-
сти (Anderson 1983)-
Отрывок, принадлежащий перу известной современной
писательницы Татьяны Толстой, может послужить иллюстра-
цией подобной культурной идеологии. Она говорит (вос-
производя саму идею) о том, что язык есть наиважнейшая
форма власти, и в ее словах, как это ни парадоксально, од-
новременно звучат по этому поводу и ирония, и восхищен-
ное одобрение:
«Потрясающая точка зрения. Она объявляет приоритет
литературы над жизнью, мечты над реальностью, воображе-
ния над фактами. Она утверждает: жизнь — ничто, туман,
мираж, фата-моргана. Тогда как Слово, изреченное или напи-
санное, представляет собой силу пострашнее атомной. Это со-
вершенно русский взгляд на литературу, на Западе ему парал-
лели нет. И, похоже, все в России разделяют его — владыки и
рабы, цензоры и диссиденты, писатели и критики, либералы
и консерваторы. Кто произнес слово — совершил поступок.
Проявил силу и взял на себя ответственность. Он опасен. Он
свободен. Он разрушитель. Он соревнуется с самим Господом
Богом» (Tolstaya 1992: 34).
73
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
Жанры русского разговора
Несколькими абзацами выше я привела русский троп, сбли-
жающий «язык» и «молоко», теперь же я должна подчеркнуть,
что культурный смысл никогда не течет свободным потоком,
но «разливается» каждой культурой в соответствующие этому
смыслу «емкости». Разговор, как и литературные или фольк-
лорные произведения, ограничивают не только лексические
или синтаксические возможности языка, но и законы привыч-
ных, «определенных» ему жанров.
У каждого общества есть своя собственная система рече-
вых жанров, о чем пишут Дейл Хаймс, Гэри Госсен и Джоэл
Шерцер (Hymes 1964; Gossen 1972; Sherzer 1983:8—14). Одним
из путей изучения лингвистических ресурсов и языковой
практики того или иного общества может быть исследование
общих, родовых моделей, структурирующих, организующих и
характеризующих речь данного общества. Михаил Бахтин,
например, все время подчеркивал важность «этнографическо-
го» исследования речевых жанров (говоря даже о желательно-
сти остраненного взгляда наблюдателя, не принадлежащего к
данной общине)14.
Если морфология, грамматика, синтаксис, лексика структу-
рируют речепроизводство на уровне предложений, то жанры
придают форму более объемным единицам дискурса, обес-
печивают говорящих принятыми формами разговора и их
разновидностями. Структуры жанров не похожи на схемы
грамматических правил (как напоминает нам Н. Фэрклаф, не
следует считать, что между типами дискурса и конкретными
дискурсами существует механическая связь: Fairclough 1989:
31); скорее, они представляют собой некие модели и кон-
венции, прочно укорененные в языковой практике общества
14 Сам Бахтин так и не предпринял попытки изучить устную речь
с точки зрения этнографии, хотя неоднократно высказывал ценней-
шие мысли по этому поводу; см.- «Проблема речевых жанров» (Бахтин
1979).
74
ГЛАВА 1. РОССИЙСКАЯ «РЕЧЕВАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ»
благодаря многократному повторению По мнению Чарльза
Бриггса и Ричарда Бомана, «жанры можно рассматривать как
общепринятые, заданные, но вместе с тем весьма гибкие спо-
собы организации тех формальных средств и структур, кото-
рые представляют сложные комплексы референций в комму-
никативной практике конкретного общества» (Briggs and
Bauman 1992: 141).
Трудно решить, какой из аспектов речи положить в основу
системы классификации речевых (или фольклорных) жанров.
Бриггс и Боман справедливо вопрошают: «Какие черты могут
послужить адекватной базой для определения жанра — мор-
фологическая структура, содержание, функция, смысл, что-то
еще?» (Briggs and Bauman 1992: 137). Рут Финнеган приводит
различные признаки, посредством которых можно классифи-
цировать жанры: например, особенности стиля или формы,
содержание, функцию, ситуацию и контекст использования,
манеру исполнения, местные терминологии и таксономии, а
также характеристики места, времени и окружающей среды
(Finnegan 1992; 143—144). Исследовательница говорите «воз-
можности создания противоречащих друг другу, но при этом
одинаково правомерных классификаций» (Finnegan 1992:
145). Она предупреждает и о том, что «иногда мы имеем дело
с подвижной целью: возникают новые жанры, развиваются,
реинтерпретируются или подвергаются манипуляциям ста-
рые» (Finnegan 1992: 175).
Я сознательно гибко подхожу к классифицированию рус-
ской перестроечной речи: я создаю свою классификацию и по
тематическим, и по формальным, и по стилистическим, и по
исполнительским, и по контекстным признакам. Жанры и
сами не имеют четких очертаний, они неопределенны, «про-
теичны» и взаимопроникающи15. Это, однако, не мешает им
15 Фольклористы, чья работа вдохновила антропологов на поис-
ки жанров в обыденной речи, не раз высказывались относительно
принципов классификации фольклора (Finnegan 1992), причем мно-
75
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
быть мощными конститутивными и ограничительными сред-
ствами в процессе производства речевых единиц. В устном
общении (так же как и в литературе) жанры «держат форму»;
в них, как в сортировочных ячейках, хранятся различные эле-
менты культуры, идеологии, ценностных ориентаций. Жанры
входят в число главных из «встроенных» в любую культуру
конструкций, предназначенных для сохранения и воспроиз-
водства того, что с точки зрения данной культуры является
«правильным». Корректное употребление жанров речевого
общения служит поддержке действенности полоролевых (ген-
дерных) норм, знаков власти и статуса, других признаков лич-
ной идентичности (Ochs 1992). Мысль о значении такого рода
формальных характеристик культуры высказывает Арджун
Аппадурай: «Различные общества обладают особыми конфи-
гурациями, потому что сформировались каждое своим путем,
и не только на основе ценностей и верований, но и в рамках
своих собственных стилей и жанровых условностей» (Арра-
durai 1991: 18). В самом деле, ценности и верования каждого
общества надежно защищены и имеют силу именно благода-
ря тому, что на данном культурном пространстве «пользовате-
ли» соблюдают протоколы основных жанров общения — это
навык, который вырабатывается у говорящих автоматически
в процессе освоения языка.
Кроме того, совершенно очевидно, что жанры-ячейки, по-
мимо сберегания культурного материала, еще и преграждают
доступ к нему чужеродных элементов. Чужим идеологиям и
ценностям, доставляемым, кстати, тоже в своих собственных
жанровых «контейнерах», не так-то легко преодолеть культур-
гие не соглашаются с традиционными определениями. Так, Дэн Бен-
Амос (Ben-Amos 1976) критически относится к универсалистским
поискам, полагая, что жанры надо выделять в рамках конкретной
культуры; такому подходу посвящена и работа Алана Дандеса (Dundes
1980). Мне лично близко то, как Сандра Шталь (Stahl 1989) интерпре-
тирует собранные ею устные тексты, жанр которых она называет
«личным нарративом».
76
ГЛАВА 1. РОССИЙСКАЯ «РЕЧЕВАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ»
ные границы и внедриться в местные дискурсы. Точно так же,
как неправильные или странные грамматические конструк-
ции будут тотчас определены как «нерусские», в «нерусские»
попадут и необычные дискурсивные жанры. Много раз во вре-
мя разговора бывало так, что мои замечания полностью игно-
рировались собеседниками или же вызывали у них такую ми-
мическую реакцию, будто я сделала ужасную грамматическую
или фонетическую ошибку. Происходило то, что Терри Игл-
тон называет «прекращением прений»: «когда одни формы
сигнификации молчаливо исключаются, а другие утверждают-
ся на командных позициях» (Eagleton 199Е 194). Чем больше
я старалась «попасть» в нужный жанр, а не просто правильно
говорить, тем более равноправным участником разговора я
себя ощущала, тем полнее русские воспринимали меня как
«свою». Это не значит, конечно, что я могла донести до созна-
ния собеседников все, что хотела. Для перехода на «русский
разговор» мне надо было «отложить в сторону» какие-то клю-
чевые установки, подходы к решению жизненных проблем,
оценки, которые находят опору и поддержку в моих родных
американских жанрах, а в русских не находят.
Один типично американский жанр, который то и дело
«выскакивал» в моих разговорах, можно назвать «практичес-
кое решение проблемы»16. Например, когда говорили о не-
хватке продуктов (весьма популярная тема, тем более что про-
блема дефицита все усиливалась), я спрашивала, как вообще
устроена советская система снабжения населения продоволь-
ствием, потому что мне казалось полезным попытаться вооб-
разить себе (разумеется, весьма схематично) возможности ее
улучшения. В конце концов я поняла, что моим русским собе-
седникам такие вопросы представлялись неуместными. Им
интересней было «нагружать» и поражать друг друга все более
страшными рассказами о пустеющих полках и о том, каких
16 См. интересный комментарий Дандеса по поводу американской
идеологии «все проблемы можно решить», которую он называет од-
ной из «народных идей» (Dundes 1972: 100).
77
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
трудов стоит достать хоть что-нибудь Наши жанры не просто
расходились — они конфликтовали, и если бы мои собеседни-
ки серьезно настроились на мою «волну», их жанр был бы по-
просту вытеснен из диалога; чтобы не допустить этого, они
полностью игнорировали мои попытки повернуть ритуализо-
ванный разговор по-своему Конечно, в более прозаических
ситуациях решения насущных проблем повседневного суще-
ствования мои русские друзья проявляли чудеса изобретатель-
ности, до которых мне было куда как далеко. В каком-то смыс-
ле жалобы на перестроечные сложности становились для них
средством похвастаться собственной незаурядной способно-
стью не теряться и справляться с любыми трудностями.
В то время как некоторые — их немного — выделенные
мною жанровые единицы русской речи попадают в традици-
онные фольклорные разделы (пословицы, анекдоты), большая
часть примеров остается вне научных фольклористских клас-
сификаций и принятых категоризаций жанров В большин-
стве случаев русский человек затруднится назвать жанр тек-
стов, которые я привожу на этих страницах. Однако все же
представляется возможным дифференцировать эти речевые
произведения и распределить их по жанровым и тематичес-
ким моделям — моделям не менее действенным в качестве
средства структурирования и воспроизводства культурных
смыслов, знаков, установок и ценностей, чем традиционные
мифопоэтические жанры. К тому же, по ряду морфологи-
ческих, генетических, метонимических признаков можно
проследить связь между моими и традиционно признанными
жанрами. Элементы фольклора — характерные языковые
структуры, стилистические приемы, персонажи, темы, логика,
настроение — пусть и в скрытой и фрагментарной форме, но
всегда присутствуют в современной русской речи, как устной,
так и письменной. Больше того, без обращения к фольклор-
ным «предкам» и «родственникам» смысл многих речевых
произведений попросту останется закрытым
78
ГЛАВА 1 РОССИЙСКАЯ «РЕЧЕВАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ»
Таблица 1
Схематическая картина «русского разговора»
времен перестройки
«Официальная» власть
(жанры, ассоциируемые с высоким социальным статусом):
Многозначительное молчание
Коммунистическая риторика
Педантичная риторика Славословие Фарисейская риторика
Хула Приказания
Выговоры Дидактические пословицы Лозунги
Женские жанры | Мужские жанры
Сказание о России
Горестные пословицы и поговорки
Обвинения
Суеверные предостережения
«Завистливые» истории
Сетования
Истории о походах по магазинам
Истории о мужьях
Сплетни и слухи
Разговоры об ужасах перестройки
Разговоры о полной разрухе
Горестно-жалобные вопрошания
Литании* на тему страданий
Брань
Угрозы
Истории на тему «Мужчины опасны»
Хвастовство
Истории о «хулиганских выходках»
Истории о сексуальных
похождениях или о пьянках
Самовышучивание
Анекдоты о перестройке
Литании на тему абсурдности
Литании на тему «тупика»
«Жития святых»
«Неофициальная» власть
(жанры, ассоциируемые с низким социальным статусом)
* Слово «литания» происходит из церковного лексикона и означа-
ет жалобу, мольбу, молитву Автор называет «литанией» один из жанров
разговорной речи россиян См подробно об этом гл 3 (Прим не рев)
79
« РУСС КИЕ РАЗ ГОВОРЫ >
В выработанной мною схематической диаграмме про-
странства «русского разговора» эпохи перестройки «скелет»
системы жанров составляют две оси: горизонтальная — ген-
дерная, и вертикальная — ось власти. Местоположение жанров
на этих осях приблизительно, потому что темы, контекст, на-
строй конкретных речевых актов могут переместить жанр на
другую позицию. Тем не менее такой эскиз способен помочь
сориентироваться в сложных взаимосвязях реальных форм
речевого общения.
На вершине схемы — дискурсы «официальной» власти, ко-
торые во времена перестройки были представлены еще очень
широко. Ниже располагаются жанры, посредством которых
проявляет себя «неофициальная» власть: поговорки, прокля-
тия, брань, угрозы и т.д. Не всем пристали «властные» речи (от-
носящиеся к официальной или неофициальной власти) —
такие жанры были уместны лишь в устах людей, принадлежа-
щих к определенной категории, или в определенных контек-
стах. В то же время люди, научившиеся пользоваться ими, при-
обретали власть и привилегии для себя в ходе самого процесса
производства таких дискурсов (соответственно, из не владев-
ших этими жанрами мало кому удавалось добиться повыше-
ния статуса). Сказанное не означает, что приобщившиеся к
властным жанрам не обладали и другими формами социаль-
ного капитала, делавшими их позиции заведомо более силь-
ными по сравнению с остальными. Ясно, что статус и автори-
тет складываются из многих факторов, среди которых речь
могла не быть важнейшей детерминантой; но при утвержде-
нии и подтверждении власти и высокого положения она вы-
ступала одним из ключевых средств (ср. Urban 1994; Anderson,
Chervyakov, and Parshin 1995; Brenneis 1988; Grillo 1989; Hanks
1987; Irvine 1989; Fairclough 1989; Bourdieu 1991).
Гендерную маркировку жанров отражает горизонтальная
ось. Так, от мужчин необычно было слышать откровенные
литании (мужские литании маскировались под философские
или еще какие-нибудь рассуждения); женщины реже мужчин
80
ГЛАВА 1 РОССИЙСКАЯ « РЕЧЕВАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ» .
острили, язвили и вообще меньше иронизировали. В русском
разговоре действительно явно прослеживалась оппозиция
мужских (с преобладанием тона шутливости, ноншалант-
ности, хвастливости) и женских (отмеченных серьезностью,
словесной усложненностью, морализаторством) жанров.
Мужской разговор имел иронический «вектор», женский —
торжественно-серьезный. Но надо подчеркнуть тем не менее,
что эта модель то и дело переворачивалась,- я знала мужчин,
которые постоянно жаловались, и женщин, сделавших весе-
лую вульгарность своей визитной карточкой (Аллу Пугачеву и
ее многочисленных подражательниц можно считать архети-
пической версией таких женщин). Все же склонность к
иронии либо к торжественности в ее наиболее отчетливых
проявлениях, те. на полюсах оппозиции между (мужским) ци-
низмом и (женской) скорбью и печалью, можно характеризо-
вать как жанровую особенность разговора. Другими словами,
пол говорящих и тон разговора являются двумя параллельны-
ми (или, по выражению некоторых авторов, индексированны-
ми — Irvine 1989; Ochs 1992) системами дифференциации.
Значение взаимосвязи гендерных и жанровых аспектов речи
станет ясно из главы 2.
Жанр: сопротивление и воспроизводство
Культурные или идеологические оппозиции — те, напри-
мер, при помощи которых строятся полоролевые различия,
поддерживаются признаки обладания властью и статусом,
формируются ценности, — в актах говорения одновременно
и оспариваются, и воспроизводятся (Willis 1977). Любой тип
разговора можно считать полифункциональным по отноше-
нию к системе речевых жанров: во-первых, он строит и утвер-
ждает себя, занимая определенную позицию в системе жан-
ров; во-вторых, он отрицает ценность других позиций или же
«противится» их требованиям; наконец, он вновь «подтверж-
6. Заказ № 2742.
81
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
дает» собой структуру всей системы взаимоотношений раз-
личных жанров в целом. И так как в разговоре все это проис-
ходит одновременно, я не хотела бы выделять какой-либо из
этих аспектов — самосозидание, сопротивление или воспро-
изводство — как ведущий17.
Подчеркивая наличие элемента сопротивления в воспро-
изводстве и элемента воспроизводства в сопротивлении, я за-
нимаю свою собственную позицию в споре антропологов во-
круг проблемы сопротивления. Приятно было бы, конечно,
провозгласить несомненное присутствие сопротивления во
многих формах русского дискурса, но эмпирические на-
блюдения говорят о другом: воздействие этих форм нередко
гасится, проходя сквозь сеть рефлексивных и зачастую не-
предсказуемых эффектов. Более того, как утверждает Шерри
Ортнер в своем блестящем эссе об истории изучения сопро-
тивления, всерьез, по-настоящему дискурсы сопротивления
редки, потому что «власти предержащие часто что-то предла-
гают подвластным, — а иногда предлагают и многое (разуме-
ется, лишь в оплату своего пребывания у власти). Поэтому у
подчиненных всегда есть основания для двойственного отно-
шения к сопротивлению устоявшейся системе власти» (Ortner
1995: 175).
Жанры разговоров о мужских «безобразиях», «хулиган-
стве» — байки о драках и сексуальных похождениях, остроты,
иронизирование — на одном уровне являются средством по-
строения каких-то типов русской маскулинности, «русского
мужика», средством, позволяющим мужчине утвердить себя в
этом качестве. На другом уровне эти же жанры, разворачива-
ясь, противоборствуют с другими позициями в структуре жан-
ров, т.е. с властными жанрами, а также с женскими «серьезны-
ми» жанрами. На этом уровне жанры разговоров о мужских
|'7 См. об этом Bourdieu and Wacquant (1992: 79—83); тонкие заме-
чания о боли и о сопротивлении содержатся у Kleinman (1992); Harvey
(1993) пишет о диалектике воспроизводства бедности в сельских
районах США
82
ГЛАВА 1 РОССИЙСКАЯ «РЕЧЕВАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ»
«безобразиях» отрицали сразу несколько вещей- репрезента-
цию русского мира как «значительного» или «трагического»,
идею о подобающем мужчине (или советскому мужчине) по-
ведении и общепринятые (или же официальные) утверждения
о том, что ценность мужчины определяется его преданностью
работе и семье. Еще на одном уровне — уровне структурной
целостности конкретной системы жанров — жанры мужско-
го хулиганства представляют собой довольно устойчивые по-
зиции, относительно которых утверждают себя другие жанры;
т.е. мужские «хулиганские» жанры предоставляют властным
жанрам или женскому «пилению» материал, по отношению к
которому эти последние утверждают свой авторитет и форму-
лируют свои претензии. На этом, третьем, уровне дискурсы
определенного жанра способствуют установлению системы в
целом18.
Аналогичным образом преимущественно женские жанры
страдания — литании и «жития святых» — сопротивлялись
власти и реагировали на болезненность существования тем,
что дискурсивно трансформировали страдания от рук властей
в обладание статусом выше, чем тот, которым может наделить
власть. Эти жанры, в отличие от мужских, где бытовавшие
иерархии ценностей высмеивались или ниспровергались,
действовали путем инвертирования последних. Однако, как я
хочу показать в главах 3 и 4, все эти сопротивленческие жан-
ры парадоксальным образом в какой-то степени и, разумеет-
ся, непреднамеренно поддерживали ценность и могущество
тех самых структур, которые пытались опровергнуть.
Наконец, и властные жанры не просто выражали облада-
ние властью: они тоже постоянно и активно подавляли, от-
18 Хотя мое представление об относительности жанров как тако-
вых может показаться «бахтинианским», оно родилось все же скорее
в результате непосредственного наблюдения, чем из теоретических
размышлений. Тем не менее оно не противоречит концепциям Бах-
тина о высказывании, диалоге и интертекстуальности (Bakhtin 1984;
1986).
6*
83
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ>
рицали другие дискурсы, реагировали на их притязания и со-
противлялись попыткам свергнуть себя Тем самым и эти жан-
ры служили к «овеществлению» имевшейся структуры взаимо-
действия. Хотя может показаться, что подобная «расстановка
сил» между жанрами служит защите интересов властей, на са-
мом деле она часто приводит к обратным результатам. Пример
тому — речи М. Горбачева. Если западные слушатели восхища-
лись горбачевским умом и рационализмом, то у соотечествен-
ников, устававших от его многочасовых разглагольствований,
выработалась совершенно другая реакция. «Он любит поучать,
как сельская учительница», — сказал один мой знакомый. Этот
дидактизм вкупе с южнорусским выговором сделали из генсе-
ка мишень для насмешек и пародирования; к концу 1980-х го-
дов горбачевская манера говорить уже настолько раздражала
людей, что они не только не одобряли его высказываний, но
даже не желали их серьезно критиковать19.
И это была не просто реакция на конкретную личность.
Именно такая «сцепка» дидактизма властей, с одной стороны,
и скептической реакции народа на него, с другой, составля-
ла одну из тех черт российского (советского) общества, без
трансформирования которых перестройка не могла состо-
яться20. «Механизмы социального подъема, — пишет М. Лью-
19 Понятно, что речи Горбачева воспринимались бы с большим
доверием, если бы его реформы улучшили социально-экономичес-
кую обстановку, а поскольку в результате перестройки люди, вопре-
ки ожиданиям, стали жить хуже, пространные телевизионные выступ-
ления лидера вызывали, естественно, только досаду.
20 Мои информанты смутно догадывались, что в неуспехе пере-
стройки свою роль сыграло, среди прочего, и то, как они сами мыс-
лят (и говорят); свидетельством тому — грустные комментарии типа
«нам, русским, надо стать другими» или «мы должны изменить себя»,
многократно слышанные и читанные мною в ходе полевой работы.
Т. Иглтон (Eagleton 1991: 200) пишет о том, что, несмотря на слепую
и мощную способность идеологий воспроизводить самих себя, дис-
курс оставляет некоторое пространство для воображения «политики
эмансипации» Льюин (Lewin 1995- 293—332) описывает страсть мос-
84
ГЛАВА 1 РОССИЙСКАЯ «РЕЧЕВАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ».
ин (Lewin 1995: 309), — оказались заблокированы педантиз-
мом, иронией и пораженчеством», которые не давали разви-
ваться навыкам демократии и солидарности при решении
насущных проблем. Как разорвать эту цепь, как сделать, что-
бы в обществе распространились речевые жанры, лучше
приспособленные для поддержания демократических струк-
тур и демократических социальных отношений, — вопрос
чрезвычайной сложности. Но, безусловно, именно это де-
ло — замену идеологизированного дискурса дискурсом кри-
тически-конструктивным — должно поддерживать любое
прогрессивное социальное движение.
ковской интеллигенции заменять дискредитировавшие себя прежние
идеологии и дискурсы новыми (с элементами национализма, отрица-
ния всего и вся, прославления Запада, страха перед якобы неизбеж-
ной катастрофой и др.) — вместо того чтобы подходить к ним с пози-
ций рационального анализа; при этом автор справедливо указывает,
что «та же интеллигенция совершает немало достойных уважения
актов мужества, честности и интеллектуальной силы»
Чечня. Май 1995-
Жевйтельная резинка «Хот.
гуманитарная помощь банка «Менатеп
VoR.ca
Москва. Осень 2000 г. Мужчина и женщина
• •.......
Москва. Зима 2001. Пробуждение отца
Tw.
Глава 2
«НАША СКАЗОЧНАЯ
ЖИЗНЬ»:
повествовательные образы
России, ее женщин
и мужчин
Штампы — знаки искусства. Верстовые
столбы. Следуя им, жизнь, сама не замечая
того, превращается в легенду и сказку.
Андрей Синявский. «Голос из хора»
Лишь продукты пропитанья
вкус наш радуют подчас...
Но готовься жить заране
без ветчин и без колбас!
Без кондитерских изделий!
Без капусты! Без грибов!
Без лапши! Без вермишели!
Все проходит. Будь готов.
Из стихотворения Тимура Кибирова
Однажды (в 1990 г.) за чаем в небольшой компании
речь зашла о «полном развале» советского обще-
ства. Собеседники обменивались примерами не-
лепостей и беспорядка в российской жизни, а
кульминацией разговора стала фраза писателя Володи, кото-
рую он, весело блестя глазами, произнес с характерным пре-
зрительным смешком: «Знаешь, что такое Россия, Нэнси? Это
94
ГЛАВА 2 «НАША СКАЗОЧНАЯ ЖИЗНЬ»..
Анти-Диснейленд». Володя был доволен своей находкой —
образом страны как мифической земли, где все запрограмми-
ровано идти не так, гигантского «парка культуры», в котором
в качестве главного развлечения предлагаются разнообразные
неудобства, поломки и всеобщая неразбериха. Действительно,
в то время казалось, что для людей самым большим, хоть и
мрачным, удовольствием было вопрошать друг друга-. «Куда мы
катимся?» — после чего разворачивать захватывающе-жуткие
сценарии дальнейшего распада страны. Собственно, этим мы,
попивая чай, и занимались, когда Володя блеснул остроумной
метафорой.
Назвав Россию Анти-Диснейлендом, Володя выразил и еще
одно свое ощущение,- российский и американский миры в
корне противоположны, потому что базируются на противо-
стоящих друг другу культурных фикциях. Если Диснейленд
есть зримое воплощение пресловутого американского про-
цветания и убежденности в том, что жизнь может быть сплош-
ным удовольствием, тогда Анти-Диснейленд должен быть ме-
стом, где царят бедность, тяжкий труд и уныние. Для первого
подходит образ сказочного замка с башенками, для второго —
мрачной, перенаселенной коммуналки, где все ругаются из-за
вечно занятой ванной.
Образ Анти-Диснейленда несет в себе и намек на «выдуман-
ность» российского мира, и своим, и чужим нередко кажуще-
гося миром сказки, продуктом мифического мышления. Как
написала Зара Абдуллаева, «это пространство словно закол-
довано. Самые обычные дела здесь удаются с трудом, зато не-
вероятные осуществляются легко. Причинно-следственные
связи отменены, а здравый смысл не имеет цены. Поэтому “ум-
ные” зачастую оказываются в дураках, а “дураки” добиваются
успеха» *.
’ Цит.: Geertz С. Popular Culture 11 Russian Culture at the Crossroads:
Paradoxes of Post-Communist Consciousness I Ed. D. Shalin. Boulder, 1996.
(Перевод Зары Абдуллаевой.)
95
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
Русские часто произносят фразу «наша сказочная жизнь».
Даже об Октябрьской революции один журналист сказал-
«.. сказка так долго была популярна» («Огонек». 1989, № 36, с.1).
Писатели-сатирики от Салтыкова-Щедрина до Синявского
сумели развернуть подобные ощущения в целые абсурдистс-
ко-фантастические саги, многие из которых навевались уто-
пическими попытками государства, всегда грандиозными и
часто чудовищными, создать и упрочить фантастическую,
мифическую реальность (литература задолго до 1917 г. нача-
ла пародировать эти попытки).
Но и в обычных разговорах обычных людей российская
действительность подчас предстает в виде настоящей волшеб-
ной сказки. Есть масса широко бытующих образов, тем, стили-
стических приемов и жанровых форм, которые снабжают
коллективное воображение и обыденную речь средствами
создания нарративов сказочного типа, пассажей, словно при-
надлежащих сказке. Наполненные закодированными симво-
лами, они и становятся опорами того культурного мира, ко-
торый русские называют «наша сказочная жизнь» и который
они постоянно дискурсивно воспроизводят. Клиффорд Гирц
имеет в виду именно эти структуры, когда в эссе «Размытые
жанры» говорит о такой стороне социального действия, как
«многократное исполнение — вос-произведение и вос-чув-
ствование известных форм», и о «повторе формы, будто бы
поставленной на сцене самими зрителями и ими же разыгран-
ной» (Geertz 1983: 28, 30) К
А осью, вокруг которой все это развертывается, является
создание индивидуальной и групповой идентичности. Струк-
туры, формирующие социальный мир, принадлежат человеку;
локальные миры — это, можно сказать, побочные продукты
1 Правда, Гирц почему-то ничего не говорит о нарративах и дис-
курсах информантов и об их роли в «социальной драме»; он предпо-
читает заниматься не словами, но формой, воспроизводимой «теле-
сно». В русской культуре (и, по-видимому, в иных культурных средах
также) речь является важнейшим средством повторения формы
96
ГЛАВА 2. «НАША СКАЗОЧНАЯ ЖИЗНЬ» .
самосозидания людей. Как пишет Барбара Мейерхофф, «од-
ним из наиболее устойчивых, хотя и неуловимых способов
познания людьми самих себя является демонстрация самих
себя самим себе, производимая с помощью многочисленных
форм: рассказывая самим себе о происходящем, драматизируя
свои притязания через ритуалы и другие коллективные дей-
ствия, делая видимыми реальные и желаемые истины о себе и о
значимости своего существования посредством воображаемо-
го и перформативного производства» (Meyerhoff 1986: 261)2.
Наблюдения над русским разговором сосредоточены
именно на том, как творят и как представляют себя его «пер-
сонажи» — создатели и обитатели русского «Анти-Диснейлен-
да», часто будто бы шагнувшие прямо из сказочной страны
богатейшего русского фольклора.
Перестроечный эпос: «полнейший распад»
Однажды мартовским вечером 1990 г. мы с друзьями собра-
лись за праздничным столом; как часто бывало, разговоры о
«полной разрухе» почти вытеснили все другие темы. «Ты зна-
ешь, что сейчас в Калужской области все по карточкам?» — «У
меня родители в Киеве уже сами сажают картошку». — «Гово-
рят, теперь в колбасе одни пестициды, гормоны и чернобыль-
ская радиация; детям ее нельзя давать, а все равно покупают —
народ истосковался по мясу». — «Полная разруха». «Да, — ска-
зал один молодой человек, работавший на железной дороге. —
Я на работе слышал: приезжали какие-то японцы проверять
2 Долгосрочный советский проект под названием «созидание
нового советского человека» (Bauer 1952; Attwood 1990: 32—66), ак-
кумулировавший огромные социальные и научные ресурсы, можно
рассматривать как попытку создания нового мира путем реформиро-
вания эталона личности (хотя достижению этой цели препятствова-
ли и непоследовательные идеологические установки, и тоталитарные
средства).
7. Заказ № 2742.
97
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
наши железные дороги, посмотрели и сказали, что в жизни не
видели такого кошмара — насыпи сползают, рельсы в ужасном
состоянии Говорят ждите катастроф, особенно на ленинград-
ском направлении, оно особенно перегружено» «Да, — протя-
нул другой гость, — полнейший распад». В какой-то момент я
наивно попыталась втиснуться в эту литанию- «Что можно сде-
лать, чтобы все это исправить?» Мой вопрос был встречен
молчанием; тогда я не понимала ритуальной сущности подоб-
ной реакции.
Слова «полная разруха» и аналогичные фразы типа «пол-
ный развал» или «распад» постоянно звучали лейтмотивом
разговоров в кругу многих моих московских знакомых. «Пол-
ный распад» заключал в себе все, что рушилось в тогдашнем
российском обществе; это был дискурсивный знак эскалации
преступности, исчезновения товаров с прилавков магазинов,
экологических катастроф, падения производства, этнических
конфликтов на Кавказе, «деградации» искусства, распростра-
нения порнографии и других проявлений безнравственности,
которые видели повсюду. Хотя почву для разговоров такого
содержания в изобилии давали происходившие тогда переме-
ны и острота социальных проблем, но то, как люди говорили
друг с другом на эти темы, как расцвечивали свои повествова-
ния собственными эмоциями и деталями из личного опыта,
служило к созданию весьма специфического, сугубо местно-
го ощущения реальности. «Полная разруха» превратилась в
фольклорный жанр со своей структурой (литания), особым
общим настроем (предчувствие еще худшего), сосредоточен-
ностью на определенных темах (чем больше крови и ужасов,
тем лучше) и ожиданием определенной реакции со стороны
слушателей (встревоженное удивление). К тому же, эти исто-
рии объединяли людей одинаковым переживанием текущего
момента и давали им чувство общей судьбы
В конце 1980-х годов средства массовой информации как
безумные соревновались в показе тех самых ужасов, которые
98
ГЛАВА 2 «НАША СКАЗОЧНАЯ ЖИЗНЬ»
и были сердцевиной жанра «полная разруха» Таблоидные
новостные передачи, ставшие обычными на телевидении в те
годы, были почти ритуальными «перевертышами» допере-
строечных программ с их идеализацией советской жизни
В выпуске популярной передачи «Совершенно секретно» от
17 декабря 1990 г., например, показывали морг одной из боль-
ниц; беседы журналистах: врачами и рабочими перемежались
картинами наваленных на столах разлагающихся трупов. Ра-
бочие говорили, что температурные и санитарные условия
поддерживаются очень плохо и что крысы постоянно грызут
тела; вслед за этим шел кадр с крысами на прогнившем полу
коридора.
В марте 1990 г. программа «Взгляд» рассказывала о мос-
ковском зоопарке. Один из служащих поделился со зрителя-
ми услышанным как-то разговором посетителя с ребенком:
«Смотри, сынок, сколько мяса живьем ходит!» Следующим в
программе был сюжет о доме престарелых, куда подселили
каких-то правонарушителей, которые стали обирать и изби-
вать пожилых людей. Давали панораму лежащих в кроватях
стариков, настроение щемящей жалости создавали опреде-
ленные ракурсы и музыкальное сопровождение. Никто не го-
ворил слов «полная разруха», но подтекст был ясен. В конце
передачи комментатор многозначительно произнес,- «Вот к
чему мы идем, друзья».
В другой истории формата «полная разруха» типичное на-
гнетание ужасов сочеталось с ханжеским морализаторством,-
в новостях 11 декабря 1989 г. говорили об обмороженных ал-
коголиках, иллюстрируя рассказ крупными планами исцара-
панных, окровавленных, шелушащихся рук, носов и губ пья-
ниц, которые «отключились» на улицах во время сильных
морозов. «Как это вас угораздило? — спрашивал алкоголиков
журналист, и в вопросе явно слышалось, что пьянство амо-
рально, а пьяницы — жалкие личности — Вот до чего мы дош-
ли», — с чувством добавил ведущий, как будто желая сказать,
что до перестройки такого не было
7*
99
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
Повышенное внимание СМИ к социальным ужасам усили-
вало чувство надвигающейся катастрофы, которым были про-
питаны повседневные разговоры. Телевизионные сюжеты
моментально попадали в частные беседы, где переплетались с
реальным опытом говоривших; отчасти это способствовало
тому, что общенациональные проблемы начинали восприни-
маться как личные, непосредственно касающиеся данного
конкретного человека, а повествования о личных или семей-
ных трудностях превращались в эпические произведения, в
которых эхом звучала сама российская история.
Как-то раз мы беседовали с одной знакомой в ожидании
автобуса, и ее поэма о «полной разрухе» началась с темы пус-
тых прилавков. Постепенно к ним добавились различные кри-
зисные ситуации текущего дня; дальше — больше, и в конце
концов дело дошло до грядущей гибели мира от рук террори-
стов, имеющих доступ к советскому ядерному оружию. Завер-
шили мы с приятельницей этот разговор, хором восклицая
«Ужас!», «Какой кошмар!» и «Что делать?!».
Теми же восклицаниями встречались и типичные проявле-
ния беспорядка на городских улицах — драки, скандалы в оче-
редях, шатающиеся пьяные, мат без стеснения. Аналогичная
реакция возникала также при виде десятков старушек, тес-
ными рядами заполнявших подходы к станциям метро и пред-
лагавших прохожим купленные в магазине сигареты, воблу,
водку. Такая торговля превратилась во время перестройки в за-
метный социоэкономический феномен; ее называли «спекуля-
цией», но очевидная ненормальность этого явления тут же от-
носила его к следствиям «полной разрухи» и помещала в более
широкую картину социальной дезинтеграции. Все подобные
обсуждения сводились к тому, что Советский Союз погружает-
ся в хаос и анархию (два любимых слова эпохи перестройки).
Самое интересное — многие мои собеседники не выража-
ли беспокойства по поводу вероятности собственных страда-
ний в связи со всем этим; процесс обмена такими историями
сопровождался скорее радостным возбуждением, чем трево-
100
ГЛАВА 1 «НАША СКАЗОЧНАЯ ЖИЗНЬ»
гой. Волновались, главным образом, пожилые люди, отчасти
потому, что сознавали уязвимость своего положения, отчасти
потому, что все, что происходило в перестройку, в корне про-
тиворечило их ожиданиям, — перестройка просто-напросто
опрокинула их культурный мир. Люди помоложе, более защи-
щенные в социальном плане, к тому же впитавшие дух всепро-
никающей и не очень-то «подпольной» иронии 1970—1980-х,
наоборот, вели такие разговоры с каким-то болезненным удо-
вольствием. «Как далеко это, по-твоему, зайдет?» — пытали они
друг друга, а затем начинали наперебой воображать все более
страшные картины дальнейшего распада общества5.
Но все же любимой темой сказаний о «полной разрухе»
были магазины, потому что с ними жизнь людей связана са-
мым непосредственным образом. Во времена долгого бреж-
невского правления, теперь именуемого периодом застоя (до-
статочно одного этого слова, чтобы охарактеризовать целую
эпоху, окончившуюся лишь с приходом М.С. Горбачева), эко-
номика в целом развивалась очень медленно, но в московских
магазинах обычно водились товары повседневного спроса,
хотя иногда за ними и нужно было долго стоять. В период за-
стоя время от времени возникал дефицит тех или иных това-
ров, и люди старались делать какие-то запасы, чаще всего —
спичек, электрических лампочек, зубной пасты, туалетной бу-
маги, соли и сахара. Грянула перестройка, казалось бы, наци-
ональная экономическая система должна была вздохнуть с
облегчением — но вместо долгожданного изобилия вдруг на-
чались странные и досадные периоды дефицита всего и вся.
5 Сеансы рассказывания историй с устрашающим содержанием —
феномен, известный во многих культурах; его можно сравнить, на-
пример, с соревнованиями рассказчиков в различных обществах
Океании (ср. Brenneis and Myers 1984; Brenneis 1988). Здесь наблюда-
ется логика «интенсификации» (Luthi 1976), когда при каждой после-
дующей передаче истории страшные детали становятся все страшнее.
О подобных чертах устных культур говорит также и У. Онг (Ong 1981;
1982: 43-45).
101
<PV( ( КИЬ РАЗГОВОРЫ»
Вызывало их сочетание инфляции с падением производства
денег у людей стало больше, а того, что можно купить, —
меньше Начались — как у отдельных людей, так и у целых ре-
гионов — циклы панического приобретения, из-за которого
снабжение магазинов становилось еще более проблематич-
ным Чтобы поднять производство, правительство решило
применить к экономике «шоковую терапию» и в качестве од-
ной из мер объявило в конце весны 1990 г о подъеме рознич-
ных цен Народ стал запасаться еще активнее, а торговцы на-
чали придерживать товары в ожидании либерализации цен,
все это ухудшило и без того неважное положение
Чем меньше сахара, молока и мяса оставалось на прилавках
государственных магазинов, тем возбужденнее становились
разговоры людей Когда же в Москве ввели так называемые
«визитные карточки покупателя», люди совсем перестали
сдерживаться в разговорах о «полной разрухе» У меня было
впечатление, что одновременно с тревогой мои собеседники
испытывали экстаз оттого, что их «маленькие» жизни оказа-
лись затронутыми такой огромной экономической катастро-
фой, необходимость иметь карточку (а затем рассказывать о
том, как ею пришлось воспользоваться) как-то связывала их с
более абстрактными и широкими процессами социальных
сдвигов Я сказала бы, что люди чувствовали себя причастны-
ми к напряженной российской драме, представляемой ими
как нескончаемая череда катастроф и периодов хаоса
Как-то (апрельским днем 1990 г) я встретилась с одной
знакомой в коридоре одного учреждения и спросила у нее как
дела «Все в порядке, — заверила меня собеседница — Но в
какое время мы живем1 — Она говорила шепотом, как будто де-
лилась со мной каким-то секретом — Все хорошо, но поди
что-нибудь купи1 В какой магазин ни зайдешь — пусто Это
конец, не знаю, может быть, мы дошли до полной разрухи
Один знакомый рассказывал, как он зашел в магазин, а там —-
одни рыбные консервы, да еще отвратительные — даже пьян-
чуги не берут их на закуску Зато находчивые продавцы, кото-
102
ГЛАВА 2 <НАША СКАЗОЧНАЯ ЖИЗНЬ>
рым, разумеется, нечего делать на работе, развлекались — сло-
жили из этих тысяч банок целые Эйфелевы башни, пирамиды,
Великие Стены — целый мир, семь чудес света из банок с киль-
ками»
Она закончила описание этого сказочного места популяр-
ным рефреном «Такое возможно только в одной стране — у
нас в России»
Вероятно, все так и было московские супермаркеты, и ни-
когда-то не бывшие «супер», в 1989—1990 гг превратились в
какие-то фантастические места Забредя однажды в огромный
магазин, я не увидела в продаже ничего, кроме килограммовых
пачек соли, и хотя они не были сложены так затейливо, как в
вышеприведенном рассказе, но и здесь продавщицы постара-
лись придать витринам с картонными упаковками привлека-
тельный вид Если нечего продавать и покупать, то продавцы
и покупатели могут, по крайней мере, применить подручные
материалы (или сам недостаток оных) — от сказанных шепо-
том слов до пачек с солью или консервных банок — для созда-
ния «сказок», столь метко и остроумно говорящих об отсут-
ствии пригодных для еды субстанций
Но подобные сказки, рассказанные как вербальными, так и
визуальными средствами, не просто иллюстрировали плачев-
ное состояние магазинов Все они, в долговременном и более
общем плане, служили хроникой фантастически-ужасной
жизни мифической России, Володиного Анти-Диснейленда
Я думаю, что этот «Анти-Диснейленд» отмечен не меньшей
положительной культурной ценностью для русских, чем на-
стоящий Диснейленд для американцев Разумеется, эта цен-
ность не безоговорочна (в США тоже не все одобряют мифо-
логию Диснейленда) Но факт остается фактом во многих
слышанных мной рассказах Россия представала неким «про-
тивоположным» местом, антиутопией, зазеркальным про-
странством, не случайно же одно из самых распространенных
иронических прозвищ России/СССР — «страна чудес» Парал-
лельно часто произносится фраза «страна дураков» Вот эта-
юз
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
то символическая конструкция — со своей эпистемологичес-
кой традицией, с тысячами претворений в поэзии, прозе и
изобразительных искусствах, с бесчисленными незаписанны-
ми, но от этого не менее действенными фольклорными (уст-
ными) пересказами — и есть ценимый жанр как речи, так и
самой жизни, и инвестиции в его развитие всегда восприни-
маются весело и охотно. Я называю этот жанр «сказанием о
России». В нем немало трагических элементов, но его все
равно любят — за то, что оно захватывающе, ужасно, смешно,
удивительно и прекрасно. В словах одного известного те-
атрального критика (интервью 1994 г.) можно услышать
подтверждение такой интерпретации: «С одной стороны, за
границей русские побаиваются признаться в своей нацио-
нальной принадлежности, а с другой стороны, в душе они гор-
дятся тем, что они русские, что происходят из страны с такой
удивительной историей».
Рассказы о российских нелепостях вызывали у слушателей
сложный эмоциональный отклик. Мне представляется, что в
какой-то степени эта реакция была порождена самой привыч-
ностью жанра «сказания о России». Постоянное воспроизве-
дение жанра служит созданию как внутриличностной, так и
социальной гармонии, что немаловажно для связи между лич-
ным и общественным. Как пишет Пьер Бурдье, «один из фун-
даментальных результатов формирования габитуса есть со-
здание мира обыденности, наделенного объективностью,
которую обеспечивает консенсус по поводу смысла (sens) де-
ятельности и окружающего мира. Речь идет о гармонизации
опыта индивида и подкрепления, получаемого как индивидом,
так и окружающим миром через выражение — индивидуаль-
ное или коллективное (например, в форме праздников), имп-
ровизированное или запрограммированное (в словесных “об-
щих местах”, в поговорках) — такого же или аналогичного
опыта» (Bourdieu 1977: 80).
Мир повседневности может изображаться и как абсурдное,
глупое место. Но ведь можно представить себе, что и бессмыс-
104
ГЛАВА 2. «НАША СКАЗОЧНАЯ ЖИЗНЬ»..
лица, несообразность могут быть приятны и ценимы — в нар-
ративе, равно как и в жизни общества, — если они находят в
душах отклик как «свои» и культурно «специфические».
Это утверждение предполагает, что русские, как и все
остальные, — пленники своих речевых жанров: своей манеры
говорить о себе как о терпеливых или необузданных, рассуди-
тельных или бесшабашных; манеры представлять свой народ
как жестокий или доведенный до жестокости; манеры опи-
сывать пространство, называемое ими Россия, как страну
страдания и нелепости. Жанры именно такого представления
личности и нации были (и в большой степени остаются) клю-
чевыми в русском разговоре, конкретным механизмом пост-
роения, поддержания и воспроизводства общего духа и смыс-
ла русского социального мира. Жанры типа «полная разруха»
или «сказание об абсурде» выступают привычными (и нередко
весело-остроумными) посредниками между русскими утопи-
ческими мечтаниями и русской реальностью; они предостав-
ляют что-то вроде шаблона для описания абсурдной реально-
сти и дают людям возможность думать, действовать и жить
внутри этой абсурдной реальности.
«Сказание о России» — эпический абсурдистский жанр с
подвижными границами, легко впускающими в свои пределы
любой новый материал, — было той широко распространен-
ной и привычной нарративной формой, которая служила
культурной связью для самых разных людей; эта связь была
одной из прочнейших в сети коммуникативных обменов. Без-
мерно богатая абсурдистская традиция в русской литературе
подпитывает повседневные разговоры, в которых тоже спле-
тается эта сеть: люди непосредственно и с помощью отдель-
ных деталей проводят параллели между случаями из своей
жизни и гротескными историями, созданными Гоголем, Хар-
мсом, Булгаковым, Войновичем и многими другими литера-
торами.
Быть частью сети значит в своих личных нарративах все
время встраивать себя в более широкое, непрестанно творя-
105
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
щееся повествование. Это значит, что надо, чтобы циркулиро-
вали определенные базовые типы историй, анекдотов, ламен-
таций, примеров абсурда, чтобы рассказывание их не прекра-
щалось и чтобы не нарушалась их внутренняя морфология
(детали можно, как говорил известный исследователь русской
сказки В. Пропп, выбирать и варьировать). Текст — это во мно-
гих смыслах и контекст. Следующий раздел посвящен тем «ро-
довым» способам, какими русские включают себя в эпическое
«сказание о России» и, в частности, в его главу о перестройке.
Истории о героических походах по
магазинам и конструирование женского «я»
Гендерные представления воспитываются,
поддерживаются и трансформируются через
речь, особенно через те формы вербальной
практики членов социальной группы, кото-
рые многократно повторяются... Сколь бы
обыденными, прозаичными и лишенными
какой бы то ни было выразительности ни
казались разговоры, именно они являются
первейшим ресурсом в реализации гендер-
ной иерархии.
Элинор Оке. «Индекс гендера»
В ответ на стремительное исчезновение товаров возник
(или возродился) один из ярчайших жанров устного обще-
ния — «сказание о героическом походе в магазин». Было ясно,
что люди будут активно рассказывать друг другу свои ужасные
магазинные эпопеи.
Моя подруга Маша поведала мне, как она ездила по всей
Москве в поисках лекарства для матери:
«Сначала в Медведково — там нет. Потом на Ленинградский
проспект, там тоже ничего. Помчалась на Тушинскую и едва
106
ГЛАВА 2. «НАША СКАЗОЧНАЯ ЖИЗНЬ»
успела до закрытия. У них была одна-единственная упаковка.
Слава Богу, я ее схватила, но я валилась с ног от усталости и
злости. Вот так мы и живем теперь, носимся по городу, туда-
сюда, туда-сюда, за каждой мелочью».
Драматический тон ее рассказа, долгие паузы, вносившие
напряженное ожидание, упоминание каких-то отдаленных
(чужих, неприветливых) станций метро превращали этот бы-
товой эпизод в мифическое испытание, в легендарный поиск
сокровища. Такие истории я слышала то и дело. Острее всего
переживались поиски важного лекарства, детских вещей, мас-
ла, мяса, чая, шампанского ко дню рождения, стирального
порошка. Нарративная структура этих рассказов напоминала
модель построения сказки, присутствовали здесь также и не-
которые сказочные детали и эстетические приемы. В нижесле-
дующей истории все это еще видней.
Ее рассказала мне моя знакомая, американка Джули де
Щербинин, прожившая в России осень 1991 г. Она считала ее
парадигматической историей о дефиците, показывающей сте-
пень трудности жизни в современной России; для русских
сообщение таких фактов — привычный способ оценки со-
стояния общества4. Но эту быль можно прочитать как пара-
дигматическую и в другом смысле — как иллюстрацию рабо-
ты культуры, иллюстрацию того процесса превращения жиз-
ни в легенду благодаря непрерывному действию устоявшихся
форм, о котором говорил Синявский5.
4 Замечу в скобках, что этот эмоциональный рассказ в устах аме-
риканки — свидетельство того, как иностранцы, пожившие некоторое
время в России, начинают привыкать к русским речевым жанрам. Я
сама чем дольше жила в России, тем больше слышала в собственной
речи отголоски «русского разговора».
5 Обращение к «избитым» лингвистическим элементам и клише
нельзя считать безусловным признаком банальности речи. «Русский
человек до сих пор доверяет пословицам и не считает себя попугаем,
когда извлекает из памяти готовую к употреблению фольклорную
формулу и прилагает ее к конкретной ситуации», — пишет Джордж
107
<РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ >
Джули жила в одной семье в Ленинграде Однажды холод-
ным декабрьским утром старая бабушка, мать главы семьи,
вышла из дому с авоськой в руках Перевалило за полдень, а ее
все не было «Где бабушка’» — спросил кто-то «Пошла за саха-
ром», — был ответ Наконец под вечер бабушка появилась, неся
в авоське килограмм сахару Старушка девять часов стояла в
очереди, чтобы купить по своей продуктовой карточке кило
песку Весь вечер и весь следующий день американская гостья
слышала, как семья рассказывала эту историю по телефону
всем знакомым Те передавали ее своим друзьям и знакомым
«Бабушка целый день стояла в очереди»
Этими многочисленными рассказами бабушка была как бы
возведена в ранг святой, и этот подвиг6 — по сути, часть ее
нескончаемого ежедневного подвига — стал темой современ-
Гибиан (Gibian 1990 38) Центром одного из близких мне интеллиген-
тских кружков был видный ученый, который всегда мог к месту
вспомнить стихи, процитировать классика, рассказать исторический
случай или анекдот, привести пословицу или поговорку Все это сло-
весное богатство было у него постоянно наготове, и он щедро делился
им с окружающими Такая память и такое умение блеснуть словом в
подходящий момент весьма ценятся И наоборот люди часто прихо-
дят в восторг оттого, что какая-то ситуация или какой-то случай в
точности соответствуют известным пословицам или распространен-
ным речевым штампам Это говорит о том, что данная культура ценит
единство и неразрывность социального действия/ситуации и дискур-
сивных структур
6 Николай Рерих, вдохновенно прославляя русскую исключитель-
ность, писал в 1945 г «Ни один европейский язык не имеет слова, хотя
бы приблизительно соответствующего по значению [русскому слову
“подвиг”]» «Героизм, возвещаемый трубными звуками, не в состоянии
передать бессмертную, всезавершающую мысль, вложенную в русское
слово “подвиг” И как прекрасно это слово» (цит по Лихачев 1987,т 2
423) Это слово постоянно появляется в разговорах о магазинах и во-
обще о добывании чего бы то ни было и звучит либо иронически,
либо серьезно, либо иронически-серьезно Как-то осенью я поехала
с подругой к ней на дачу, чтобы до морозов собрать опавшие яблоки
Мы ехали в переполненной электричке, затем в автобусе, потом шли
пешком, собирали на холоде яблоки, укладывали их в рюкзаки и вез-
108
IЛАВА 2 <НАША СКАЗОЧНАЯ ЖИЗНЬ»
ного фольклорного сказания, очень русского по форме, на-
строению, деталям и смыслу
Приведу слова Марии Кравченко из ее монографии «Мир
русской волшебной сказки» (написанной в русле исследо-
ваний Владимира Проппа) «В сказке действие обычно начи-
нается с ухода героя (или героини) из дома Путешествие ге-
роя представляет собой нечто вроде оси повествования, в
пути он должен преодолеть много трудностей, выдержать,
обычно с помощью сверхъестественных сил, ряд испытаний
Герой преодолевает все преграды, добивается своей цели и
возвращается домой, чем сказка и заканчивается» (Kravchen-
ko 1987 80)7
История о бабушке в контексте всеобщего дефицита дей-
ствительно строилась вокруг такого путешествия или похода
Рассказ начинался именно с того элемента, который Пропп
называет первым (и инвариантным) действием, или «функци-
ей», сказки «Один из членов семьи отлучается из дома» (Пропп
ли на собственных спинах в Москву Перед дверью своей квартиры
подруга сказала «Мы совершили подвиг» Вознаграждены мы были
жареной картошкой, которую к нашему приходу приготовил ее муж
Эта история дает некоторое представление о значении слова «подвиг»
в современном употреблении См также поэтическую главу Н Тумар-
кин о подвигах Андрея Сахарова (Tumarkin 1990)
7 В «Морфологии волшебной сказки» В Пропп выдвигает на пер-
вый план ключевой структурирующий элемент — путешествие героя
См также Woisen (1969) о путешествии как элементе русской сказки
«Морфология» Проппа, первое структуралистское исследование на-
родных сказок, до сих пор считается основополагающим в фолькло-
ристике, его методология развивалась (и уточнялась) многими други-
ми учеными (см особенно Maranda и Kongas-Maranda 1971) Пропп
употребляет термин «функции» для обозначения ключевых действий,
которые способствуют развитию общей структуры в определенном
направлении и в этом смысле являются функциональными < Посто-
янными, устойчивыми элементами сказки служат функции действу-
ющих лиц, независимо от того, кем и как они выполняются Они об-
разуют основные составные части сказки Число функций, известных
волшебной сказке, ограничено» (Пропп 1998 21)
109
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
1998.24). Акт ухода вызван отсутствием какой-то вещи (вторая
группа функций, выделенных Проппом в сказке); в нашей ис-
тории эта вещь не называется, но на нужду в ней указывает тот
факт, что бабушка ушла с авоськой (характерное русское сло-
во!) Эти детали вызывали ассоциацию с известной фольклор-
ной присказкой «Пойду туда, не знаю куда, принесу то, не знаю
что». В том варианте, который рассказывался семьей, намере-
ние бабушки вначале не называлось, поэтому чем дольше она
отсутствовала и чем больше об этом говорилось, тем сильнее
становились недоумение и тревога (хотя понятно, что она
ушла что-то искать, но все-таки с ней могло случиться несча-
стье — слухов об ужасных преступлениях тогда было очень
много).
Наконец, после «перенесенного испытания» (еще одна из
пропповских центральных функций) бабушка с триумфом
возвратилась домой — именно так, с вариациями в деталях,
всегда заканчиваются сказки. История бабушки завершается
описанием ликования семьи по поводу ее благополучного
возвращения и выражением благоговейного восхищения ею.
Некоторые элементы этого повествования нуждаются в
комментариях. Данная история отличается от фольклорной
тем, что основное действие происходит, так сказать, за сценой;
нарративное пространство находится в квартире, из которой
бабушка ушла, а не перемещается вслед за героиней. Но бабуш-
кин подвиг понятен буквально всем: все знают, что такое оче-
редь, холод, карточки, надежда получить что-то и опасение,
что «перед тобой все кончится», лезущие без очереди «шишки»,
нахалы и просто проныры и, наконец, награда — вожделен-
ный дефицитный сахар.
Сахар действительно и в своем материальном виде, и сим-
волически — весьма ценный для российской жизни продукт.
Употребляемый для консервирования ягод и фруктов на зиму,
он также незаменим в изготовлении самогона — в сельской
местности его делают повсюду, и там он служит всеобщим эк-
110
ГЛАВА 2 «НАША СКАЗОЧНАЯ ЖИЗНЬ»
Бивалентом труда, более уважаемым и надежным, чем порой
бесполезные деньги8
Еще одно важное применение сахара — подслащивание
чая, этого неизменного, как и водка, спутника семейных или
иных застолий Во время войны говорили «Пить чай впри-
глядку», — с грустью констатируя, что сахара хватает только на
то, чтобы на него поглядеть, вкус же приходится лишь вооб-
ражать. Эта поговорка — точный образ, выражающий меру
голода и лишений в российском контексте.
Реальная история похода бабушки за сахаром так трогала
слушателей и столько раз рассказывалась членами ее семьи не
потому, что она была морфологически столь близка народной
сказке. Причина в том, что и сказки, и истории из реальной
жизни следуют одной и той же гибкой структуре, живучесть и
свежесть восприятия которой обеспечивает ее постоянное
присутствие как в русском разговоре (особенно в историях
жизни), так и в произведениях искусства различных видов и
жанров (художественная литература, поэзия, кино, популяр-
ная песня). В основе своей эта структура относится к тому
типу, который Шерил Ортнер называет «ключевым сценари-
ем», в этой структуре нарративно представлены «четкие спо-
собы действия, обеспечивающие корректное и успешное су-
ществование индивида в рамках данной культуры» (Ortner
1973: 1341). Почему и как смог сохраниться в России подоб-
8 Одним из непредусмотренных последствий горбачевской анти-
алкогольной кампании стало запасание народом огромных коли-
честв сахара для производства алкоголя. Вскоре после радикального
сокращения продаж алкогольных напитков сахар исчез с прилавков
магазинов Люди стали жаловаться, что нечем консервировать фрук-
ты, «чтобы обеспечить детей витаминами на зиму» На уровне симво-
лов мы имеем здесь конфликт мужского и женского — мужского пьян-
ства и женской заботы о пропитании, мужского продукта — водки, и
женского — консервированных ягод и фруктов Любопытно, что меж-
ду этими двумя сферами находится образ бабушки, которая и заго-
тавливает консервы, и — особенно в деревнях — гонит самогон на
продажу
111
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
ный сценарий, несмотря на непрекращающиеся глубокие
политические и социальные потрясения (революция, модер-
низация, урбанизация), — вопрос сложный. Я полагаю, что от-
части причина сохранности таких сценариев в том, что они
насквозь, сверху донизу, пропитывают и сами социальные ка-
таклизмы,- многие реальные события получают смысл, а то и
вообще становятся возможны именно благодаря этим сцена-
риям: в них подкрепляется ценность смирения и самопожер-
твования и высвечивается характерный modus vivendi — пре-
одоление бесконечных препятствий.
Остроту обсуждаемому событию добавляло также и то, что
нарратив о нем строился на базовом сакральном лексиконе
русской сказки, в который входят такие жизненно важные суб-
станции, как сахар, хлеб, соль, табак, чай, а также абстрактные,
но постоянно циркулирующие темы опасности, героизма,
терпения и надежды. Все это неделимые символические эле-
менты из числа тех, что конструируют «русскость», у каждо-
го — своя «археология», свои пласты значений и ассоциаций9.
Их совокупность представляет собой сокровищницу потенци-
ально неисчерпаемых семиотических комбинаций и приме-
нений. Семантической и семиотической насыщенности этого
набора способствует даже его количественная ограничен-
ность. Если богатство предполагает разнообразие — вещей,
технологий, пищи, одежды, развлечений и т.д., — то бедность
потому и бедность, что такое разнообразие отсутствует. Рус-
ские нарративы превращают это отсутствие разнообразия в
добродетельную простоту образа жизни. Нарратив с разверну-
тыми в нем ключевыми элементами возбуждает чувство со-
причастности описываемому, делает сюжет узнаваемым, близ-
ким — и заставляет ощутить волшебство сказки, волшебство,
9 Джудит Голдштейн подчеркивает ту же мысль, когда говорит о
«магических нарративах» иранских евреек: «Символическими связу-
ющими элементами в их рассказах выступают песты и ступы, сахар-
ные головы, ковры и предметы одежды... — предметы, с которыми
тесно связана их повседневная жизнь» (Goldstein 1986; 147).
112
ГЛАВА 2. «НАША СКАЗОЧНАЯ ЖИЗНЬ»...
которое даже XX век не смог ни рассеять, ни подавить. Как
пишет Джордж Гибиан, «сама привычность, “знакомость” рус-
ской сказки дает чувство эстетического удовольствия; порой
сказка служит для говорящих мнемоническим приемом. Это
всеобщее “приятие” сказки, ее “конвенциональность” и возвы-
шает ее над миром обыденной действительности, возносит
туда, где существует волшебство и где возможно все, — и это
главное» (Gibian 1956: 245).
Но что-то от характера сказки есть и у «сказания о России»:
конвенциональность, постоянная циркуляция небольшого
числа его основных элементов поднимает, как и сказка, опи-
сываемую в нем жизнь над уровнем обыденности. В рассказе
о хождении за сахаром бабушка перестала быть просто ба-
бушкой, но возвысилась до символического воплощения жен-
ской самоотверженности и выносливости, а само повествова-
ние превратилось в рассказ о чуде.
Вот еще одна история, где также можно увидеть нарра-
тивный взаимообмен между жанром сказки и рассказами о ре-
альной действительности. Во время одной из наших долгих
встреч за чаем моя подруга, поэтесса Маша, рассказала, как
незадолго до того она должна была встретиться в метро с од-
ной незнакомой женщиной, чтобы взять у нее какой-то сам-
издат.
«По телефону я спросила: “Как я вас узнаю?” Она говорит:
“На мне будет голубое пальто”. Я стою на платформе некото-
рое время и вдруг вижу голубое видение. По направлению ко
мне шла женщина, одетая во все голубое, ярко-голубое, с голо-
вы до ног: пальто цвета небесной лазури, точно такая же вяза-
ная шапка, голубые перчатки, сумка и даже сапоги — все небес-
но-голубое. У меня защемило сердце при виде ее, одетой с
такой скрупулезной тщательностью. Я никогда не забуду ее.
Должно быть, она буквально годами подбирала свой велико-
лепный ансамбль. Ты можешь себе представить, Нэнси, что
такое — одеваться в наших магазинах: это “бери, что дают”.
8. Заказ №2742.
из
<- РУСЛ: К11Е РАЗ ГОВС ) Р ы >
Нам приходилось так изощряться, чтобы купить пару модных
вещей. Больно было смотреть на эту женщину Она сказала,
что купила голубую сумку в ГДР во время своей единственной
заграничной поездки. Ее бабушка где-то нашла шерсть тако-
го же оттенка и связала ей шапку. Вот наша русская женщина».
Машина история звучала как вполне реальная и в то же
время совершенно невероятная. В ней слышались отголоски
традиционных верований в какие-то необыкновенные силы,
это был рассказ о тайне женского самосотворения, о магичес-
ком символизме цветов и предметов одежды, о могуществен-
ных помощниках вроде бабушек, способных из обрывков
шерсти связать великолепный головной убор. В то же самое
время, рассказывая, Маша сотворяла и свой собственный об-
раз — женщины, поэта, представителя русской культуры, ис-
полнителя рассказов. «Хороший рассказчик втягивает слуша-
теля не только в увлекательное путешествие вслед движению
сюжета,- участники как бы совместно исследуют также внут-
ренний мир, личность рассказчика», — пишет Сандра Сталь
(Stahl 1989: X).
Все элементы подобных историй значимы: передача руко-
писи (магического предмета), мифически-грандиозное место
действия (московское метро, где происходит много «под-
польных» событий); удивительная дама, при первом взгляде
кажущаяся сверхъестественным существом, но на поверку —
обычная русская женщина, способная на невероятную изоб-
ретательность и упорство, на подвиги. Именно из символичес-
ких деталей складываются для нас очертания конкретной лич-
ности и ее мира.
Среди прочего, обе приведенные истории повествуют о
том, что есть женщина и как формируется ее образ. Они про-
тивоположны в том смысле, что в них высвечиваются две ста-
дии жизни женщины, а также разные стороны русской жен-
ственности: одна история — о женском самопожертвовании,
другая — о создании собственного образа (или трудностях его
114
ГЛАВА 2. «НАША СКАЗОЧНАЯ ЖИЗНЬ»
создания). И обе они включены в контекст культуры, где жен-
ственность всегда ассоциировалась со страданием, терпени-
ем и магией (Dunham I960). В этой связи приведу отрывок из
статьи Евгения Евтушенко, озаглавленной «Нация начинается
с женщины»: «Никто, разумеется, не говорит, что мужчины не
страдают от постоянного дефицита. Но основную нагрузку
несут, конечно, женщины. В конце концов, именно они посто-
янно что-то ищут, придумывают, как справиться с ситуацией.
Зарубежных гостей поражает, как великолепно выглядят се-
годня многие женщины в России. Но сколько изобретательно-
сти вложено в каждую деталь одежды советской женщины!
Иностранцы восхищаются гостеприимством и кулинарными
талантами наших женщин. Но они и отдаленно не представ-
ляют себе, чего стоит женщинам достать и приготовить все
эти изысканные блюда. Русская женщина, идя в магазин, дума-
ет о доме, о семье, о детях, о муже, а уж в последнюю очередь
о себе. Попробуйте-ка купить килограмм сосисок, полдюжи-
ны пачек стирального порошка, упаковку одноразовых пеле-
нок, лезвия для бритвы и пару приличных туфель, которые не
пробили бы слишком большую брешь в семейном бюджете, —
и все за один поход в магазин!» Qfcvtushenko 1990).
Главная мысль автора — разумеется, не о том, что мужчи-
нам надо взять на себя часть «женской работы»; напротив,
писатель хотел сказать, что женщины должны быть совсем
освобождены от необходимости трудиться вне дома (при том,
что их общественный труд, конечно же, высоко ценится, и
народ благодарен за него женщинам), чтобы они смогли це-
ликом отдаться своим «естественным», домашним делам, — не
нужно им двойной нагрузки. Подобные тексты суть след-
ствие — и одновременно орудие упрочения — представления
о сущностности, прирожденности и неизменности полороле-
вого деления. Но кроме этого, в таких текстах чувствуется
утонченное фетишизирование магического «фермента» —
женского страдания и способности выносить изнурительный
81
115
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
труд; эта тема проходит через множество народных сказок10.
В них испытания, выпадающие на долю женщин, — это, глав-
ным образом, испытания на верность и на терпение: их на-
сильно выдают замуж за чудовищ, животных или злых царей.
Если женщины хранят верность и проявляют способность
раздобыть при минимуме возможностей какой-нибудь требу-
емый предмет, эти мужья превращаются в людей — красавцев
и богачей (см. об этом Kravchenko 1987: 170—179).
Через несколько месяцев после «Женщины в голубом»
Маша рассказала мне за чаем еще одну историю; поразитель-
но, но она в точности о том, чему сочувствует евтушенковский
текст (вряд ли читанный Машей). Маша рассказывала мне о
своем трехдневном пребывании в Венгрии, куда она была при-
глашена как молодой, но уже известный поэт и где она, по ее
словам, разрывалась между открывшейся вдруг перед ней воз-
можностью купить себе какие-то вещи и верностью своему
московскому дружескому кружку. Эпизод разглядывания вит-
рины магазина оказался у нее прямо-таки мифическим со-
бытием.
«Я стояла у витрины и не могла сдержать слез. Венгерских
денег, которые мне дали, хватило бы на пару сапог, но я поду-
мала о наших бедных людях, о своих подругах и поняла, что
не смогу купить себе сапоги, когда никто вокруг не может. И я
потратила все деньги на мелкие подарки вроде чая, мыла, ка-
рандашей и т.п. Конечно, я не могла не плакать при мысли о
наших русских женщинах, у которых никогда не будет таких
сапог».
10 Ею пропитана и русская литература. Авторы-мужчины полны
сострадания к тяжкой женской доле, но это чувство им подчас достав-
ляет и некоторое удовольствие. В «Кроткой» Достоевского герой выс-
казывает самую суть такого отношения: «...в моих глазах она была
так побеждена, была так унижена, так раздавлена, что я мучительно
жалел ее иногда, хотя мне при всем этом решительно нравилась иног-
да идея об ее унижении. Идея этого неравенства нашего нравилась...»
(Достоевский 1972—1990, т. 24: 25).
116
ГЛАВА 2 «НАША СКАЗОЧНАЯ ЖИЗНЬ»..
Каждый из приведенных выше текстов несет в себе призна-
ки того же мифического жанра женского подвига трагическо-
го или, по крайней мере, драматического самопожертвования
и стоицизма, к которому принадлежат и рассказы о хождени-
ях по магазинам. Это рассказы и о моральном самоутвержде-
нии женщин; они сильно напоминают волшебные сказки с их
непрерывными испытаниями героинь, доказывающих свою
духовную чистоту отречением от предметов или действий,
принесших бы им наибольшую выгоду Разумеется, не все
здесь так просто. Не покупая эти вожделенные сапоги, женщи-
на отказывается не просто от хорошей новой обуви. Одежда,
мода, умение из подручных материалов создать шарм, стиль,
красоту — это сфера художественного самовыражения мос-
ковской женщины, ее поэзия, ее коммуникативная практика,
действующая одновременно на разных семиотических уров-
нях и красноречиво говорящая об эпохе, о сдвигах в полити-
ке или в духовной сфере, о домашней экономике и о творчес-
ком сопротивлении жизненным условиям11. В России, стране
«зимней культуры», не иметь хороших сапог означает не иметь
одного из очень важных элементов для построения собствен-
ной идентичности. Обувь — это и классово маркированный
элемент: так, в старину говорили, что «крестьянин носит лап-
ти, чтобы барин мог носить хромовые сапоги».
Но на хождение по магазинам можно смотреть и по-друго-
му — как на любимое современное приключение, равно до-
ступное женщинам, мужчинам и даже детям (вопреки тому,
что утверждает мифологизирующий гимн Евтушенко, за по-
купками ходят не только женщины). В рассказах походы в
магазин нередко обретают черты невероятных подвигов —
столько для их успеха требуется выносливости, хитрости,
11 Я была поражена, услышав именно такую позицию в радиоин-
тервью женщин из Сараева, которые твердо решили «хорошо выгля-
деть», несмотря на осаду и нескончаемые обстрелы города, — это
была их личная форма сопротивления жестокостям войны (см. Dra-
kulic 1993).
117
< РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ >
изобретательности, «связей> Иногда, слушая разговоры о ма-
газинах, можно подумать что речь идет о каком-то виде
спорта Один мужчина говорил так <Мы чувствуем себя бога-
тырями, когда идем в магазин Идешь купить хлеба и ощуща-
ешь себя былинным героем, которому надо по пути убить мно-
го драконов Например, магазин, куда ты направляешься,
закрыт, хотя должен быть открыт Хождение за покупками —
это как мифическое путешествие Принес домой коробок спи-
чек — и ты герой»12 А одна москвичка утверждала, что ей нра-
вится «мирное стояние в очереди и предвкушение какой-ни-
будь добычи в конце пути»
Трудности жизнеобеспечения при советском строе предо-
ставляли обильный материал для дискурсивных путешествий
в любимую народом зону иронии Одна моя знакомая, Майя,
феминистка с острым языком и богатым чувством юмора, за-
сыпала меня длинными и страшно смешными историями о
том, как она пыталась добиться каких-то своих целей в заоб-
лачных сферах московской бюрократии и бизнеса Вот как
она рассказывала о женщинах-бюрократках и об их специфи-
ческих способах торможения «прогресса» (дело было во вре-
мя попытки организовать одну из первых в Москве феминис-
тских конференций)
«Вдруг она достает пудреницу, открывает ее и, сидя прямо
перед вами, начинает подкрашивать губы, не произнося при
этом ни слова Затем она переводит взор на вас, и вы понима-
ете, что попытка заставить ее прервать это занятие была бы
чистым безумием Или же она просто уставится на вас, толь-
1 ’ Важно подчеркнуть, что есть два разных вида хождения по ма-
газинам Женщины (матери или бабушки), находящиеся под вечным
прессингом необходимости добывать пропитание для своих семей и
вынужденные поэтому выстаивать долгие очереди в магазинах, ведут
себя совершенно иначе, чем те, кто в силу возраста пола или поло-
жения в семье может себе позволить ничего не < доставать > а просто
бродить по магазинам, натыкаясь время от времени на что-то по их
мнению стоящее
118
ГЛАВА 2 <НАША СКАЗОЧНАЯ ЖИЗНЬ>
ко женщины умеют смотреть этаким долгим, холодным, неми-
гающим взглядом Мужчины у нас тоже не сахар, но настоящие
тоталитаристы — это женщины, именно они поддерживают в
обществе статус-кво»
Тут Майя перешла к другой истории — о том, как она ре-
монтировала квартиру
«С мужчинами проще иметь дело Иногда нужна просто
бутылка Или несколько бутылок Примерно так я добилась
ремонта квартиры Она была страшно грязная Я ходила и хо-
дила в ЖЭК И вдруг, после небольшого “поощрения”, они яви-
лись с несколькими ведрами краски Цвет, конечно, был не
совсем тот, что мы хотели, но надо хватать, что дают Эта крас-
ка осталась у них от какого-то предыдущего ремонта Вот так
была покрашена моя квартира, цвет ты видишь Это абсурд, я
понимаю, но такова советская жизнь, абсурд за абсурдом, вся
жизнь — сплошной абсурд1 Зато не скучно1»
Все стены трехкомнатной квартиры Майи были выкраше-
ны одинаково — в яркий шафранно-желтый цвет Мы сидели
в сияющей свежей краской кухне, пили кофе, и Майя излагала
свои взгляды на абсурдность русской жизни, используя соб-
ственный опыт в качестве иллюстрации Но ее литании от-
личались от литаний других женщин своим жестким, иро-
ничным тоном и тем, что их фокусом была не столько болез-
ненная, сколько комическая сторона житейских трудностей
Возможно, что таким образом, привлекая иронию, люди хва-
стались своей способностью побеждать советскую бюрокра-
тию с помощью остроумия, уверенности в себе, терпения — и
водки
Как говорил мне один мужчина, «чувствуешь себя просто
оплеванным, когда, сколько ни бейся, ничего не можешь до-
стать» Это чувство подчас взрывало безмятежность россий-
ских очередей По популярности истории о ругани, драках и
ужасах стояния в очередях могли бы поспорить с историями
о женском долготерпении и о торжествующей радости по по-
воду успеха в «доставании» чего-либо
119
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
Одна из моих информанток, известная писательница фе-
министской направленности, по ходу литании о своей жизни
и жизни женщин в России вообще рассказала следующую ма-
газинную историю:
«Такие вещи случаются только со мной. Я пошла в мясной
магазин купить обрезков для своей несчастной собаки. Ты ведь
знаешь, как сейчас трудно кошкам и собакам, бедняжкам. Стою
в очереди и вдруг замечаю: на подносе в сторонке лежит куча
потрохов, на которые никто вроде не претендует. Я пошла и
стала собирать эти обрезки, и тут какая-то старуха, решив, что
я забираю хорошие куски, подняла крик да как заедет мне по
носу!»
Мне представляется, что «магазинные потасовки» — это
отдельный перформативный жанр. Однажды в районном уни-
вермаге я стала свидетельницей чего-то вроде небольшого
бунта. В продажу неожиданно «выбросили» крошечные венти-
ляторы на батарейках (причем дело было не летом), и, навер-
ное, не меньше сотни женщин, толкаясь, устремились за ними
к прилавку. Я стояла поодаль и наблюдала, изумленная страс-
тностью их желания приобрести этот вентилятор и силой
разочарования при объявлении о том, что все продано. Жен-
щины явно не поверили (обычно работники магазинов при-
прятывают часть товара для продажи своим родственникам и
знакомым) и начали кричать, ругаться, угрожать продавцам и
друг другу в выражениях чрезвычайно красочных (магазин-
ные перебранки — это тоже специфический жанр). В конце
концов вызвали милицию, и толпа успокоилась, получив от
милиционеров координаты магазинных начальников, кото-
рым можно написать жалобу.
Другой случай был в большом магазине на Калининском
проспекте, где мы с приятельницей стояли в очереди в винном
отделе. Практически стояли на месте, движения почти не ощу-
щалось Постепенно мы поняли, в чем дело: в начало очереди
все время проскальзывали крепкие молодые люди. Никто не
решался протестовать, но вдруг один пожилой мужчина взял
120
ГЛАВА 2 «НАША СКАЗОЧНАЯ ЖИЗНЬ»
и швырнул свою шляпу в очередного нахала. Молодые люди
кинулись в толпу разыскивать смельчака, а когда нашли, нача-
лась настоящая свалка.- люди толкались, кричали, по воздуху
летали пластиковые бутылки Продавец запустил коробкой в
строй бутылок на витрине, отчего те разлетелись и раскати-
лись; в этот момент люди бросились бежать, чувствуя, что «за-
пахло жареным»1 \
Оппозицию таким реальным сценам «магазинных бата-
лий» составляли фольклорные рассказы о терпеливом сто-
янии в очередях — аналогично тому, как зависти и жадности
противостояли справедливость и щедрость. Тем самым высве-
чивалась базовая ценностная оппозиция, которая становилась
еще отчетливее в другом жанре — рассказах о зависти.
Эта тема часто появлялась в разговорах о кооперативах.
Горбачев разрешил кооперативы в 1988 г., и в советские зако-
ны были внесены соответствующие изменении. Было позволе-
но создавать частные предприятия в таких сферах, как обще-
ственное питание, ремонт и обслуживание, традиционные
ремесла. Очень быстро кооперативы стали заметной частью
ландшафта московской жизни и горячей темой московского
разговора, развиваемой по большей части неодобрительно.
Кооперативщиков называли спекулянтами, стремительно обо-
гащавшимися на обмане простых граждан. Бесчестные дела
некоторых кооперативов (вроде кражи танков одним из них
и попытки сбыть их какой-то европейской фирме) подлива-
ли масла в огонь и подогревали общую неприязнь к коопера-
тивам, которые называли подозрительными, скользкими, ма-
фиозными предприятиями11 * * 14.
11 Даниил Хармс, писатель, умерший в 1942 году, прекрасно отра-
зил русский стиль восприятия подобных потасовок. В его рассказах
часто фигурируют очереди за сахаром и водкой. Произведения Ми-
хаила Зощенко также ярко живописуют этот феномен
14 Интересно, что у кооперативщиков сразу же возникла манера
представлять себя кастой людей честных, либеральных, дальновид-
ных, трудолюбивых и деловых Например, когда я искала квартиру,
121
< РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
Но подобные дискурсы были не чем иным, как видом само-
анализа, «областью пре-интерпретированного», по выраже-
нию Джона Томпсона (Thompson 1990: 21). Разговоров о том,
почему русские опорочили идею кооперативов, было не мень-
ше, чем разговоров, порочивших кооперативы (причем обе
темы часто звучали в одном и том же разговоре). Один из са-
мых распространенных трюизмов эпохи перестройки был
примерно таким: «Русский человек скорее сожжет всю дерев-
ню, чем позволит кому-то иметь больше других». Этот важней-
ший культурный тезис звучал везде и всюду, со всех трибун, с
иронией или как трагическая истина, из уст тех, кому не по
нраву была социальная уравниловка, и тех, кто защищал ее; но
больше всех так говорили те, кто, осуждая уравниловку, все же
не мог ей не сочувствовать, по крайней мере в некоторых кон-
текстах и ситуациях15.
В конце перестройки именно эта иррациональная страсть
к уравниловке фигурировала в качестве основного популяр-
ного объяснения российской экономической недоразвитос-
ти, саму же страсть объясняли завистливостью русских по
отношению к тем, чье благосостояние хотя бы на немного
больше, чем у других. Зависть якобы готова уничтожить все,
произведенное сверх «нормального» уровня, сверх того, что
есть у всех. «Если кто-то начинает жить лучше, — сказал один
один знакомый кооперативщик, помогавший мне, сказал о предпола-
гаемом квартирном хозяине: «Ему можно доверять, он кооператор».
Вскоре этот человек присвоил иную профессиональную идентич-
ность и вошел в соответствующую среду. Через некоторое время он
скрылся, прихватив большую сумму денег своего коллеги; полагаю, он
стал рассказывать о себе новую историю.
15 А. Дандес пишет: «Не следует думать, что все фольклорные идеи
данной культуры заведомо взаимоприемлемы в рамках некоей одно-
родной, гармоничной мировоззренческой матрицы» (Dundes 1972:
99). Он приводит в пример американскую социализацию, в рамках
которой наравне с ценностью, придаваемой «жесткой индивидуали-
стской модели», у детей воспитывается уважение демократического
принципа сотрудничества и подчинения меньшинства большинству.
122
ГЛАВА 2 «НАША СКАЗОЧНАЯ ЖИЗНЬ»
информант, — все тут же хотят его убить. Все хотят, чтобы он
был таким же бедным, как они, несмотря на то что он, возмож-
но, чем-то поделился с ними от щедрот своих. Это произой-
дет и с кооперативами. Сколько бы они ни старались улучшить
жизнь людям, предоставляя им разные нужные услуги, их
уничтожат, потому что русский человек не может вынести,
если кто-то становится богаче его. Русские удавят вас за мес-
то в автобусе, перережут глотку за место в очереди поближе к
прилавку!»
Так с помощью иронической гиперболы (а фразу «Русские
удавят за место в очереди» я слышала раз десять или двадцать
по разным поводам) люди иллюстрировали свое представле-
ние о силе и интенсивности русской зависти. Парадоксально,
но даже самим порицанием зависти в своих рассказах и анек-
дотах говорящие укрепляли ее, представляя естественной и
сущностной частью русскости, приправляя ею русский харак-
тер, который хотя и может, мол, показаться неприятным, но
все же остер и интересен; кажется, что русские чуть ли не гор-
дятся русской «бессмысленностью и беспощадностью»16. В
одном из любимых анекдотов это суммируется следующим
образом: джинн соглашается выполнить одно желание англи-
чанина, француза и русского. Англичанин захотел загородное
поместье, француз — любовь самых красивых женщин, а рус-
ский — чтобы у его соседа сгорел дом (или околела корова —
вариантов много).
Однажды в погожий, ясный день мы гуляли с другом по
улицам, и совершенно случайно у нас возник свой вариант
16 Есть русская поговорка — «рубить сук, на котором сидишь», ко-
торая часто появлялась на страницах газет в виде карикатур на темы
текущей политики и экономики. Можно упомянуть здесь известную
повесть Гоголя «Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифо-
ровичем». Антропологи оценят и тот факт, что в русской деревне про-
должает существовать вера в «порчу» См. Ivanits (1989), Lewin (1990),
Сахаров (1991) Уместно привести также мысль Тауссига, что «за-
вистливые» рассказы «исследуют имплицитное социальное знание»
(Taussig 1987: 394).
123
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
этой шутки. «Какой прекрасный день!» — сказала я. «Да, — ото-
звался он. — Нам бы еще парочку драк, два-три пожара и еще
чтобы у соседей сдохли собаки — вот это будет отличный де-
нек!»
«Завистливые» рассказы близки к жанру, который я назы-
ваю «плевать в кастрюлю соседа». Среди традиционных ска-
зок есть много таких, в которых соседи подсматривают друг
за другом, обманывают, хитрят, дерутся, мстят за разные мело-
чи вроде забредшего в огород козла. В современном русском
разговоре также присутствует жанр историй о плохих взаи-
моотношениях между соседями. Сколько мне приходилось их
слышать, они всегда рассказывались с огромным удоволь-
ствием; как бы в пику социалистической доктрине взаимопо-
мощи, доверия и бескорыстия, в этих историях утрированно
изображались драки, подслушивание, злословие и пересуды,
посягательство на чужое имущество и иные способы сделать
жизнь своих ближних невыносимой. Парадигматической в
этом жанре является история о том, как жители коммуналок
подсыпают перец, плюют или, в самом «сильном» варианте,
писают в стоящую на плите в общей кухне соседскую кастрю-
лю с супом. Такие истории смешили, потому что отвечали
расхожему представлению, будто в конфликтной ситуации
русскому приятней насолить ближнему, чем помириться с
ним. Одного информанта я спросила, как часто происходят
подобные безобразия и много ли народу этим занимается. Он
ответил: «Да все! Коммуналки и офисы — это же рассадники
ненависти!»17
17 И сейчас в Москве еще много коммунальных квартир, хотя жи-
вут в них в основном либо старики, либо разведенные, получившие
комнаты после размена жилплощади с бывшими супругами, либо
беженцы и алкоголики. Для довоенных поколений коммуналки были
нормой, сегодня совместное общежитие — скорее маргинальный
образ жизни. Что касается офисов, то мне приходилось слышать об
интригах и зависти в среде коллег по работе или даже наблюдать та-
ковые.
124
ГЛАВА 2. «НАША СКАЗОЧНАЯ ЖИЗНЬ»...
Подобные истории широко циркулировали — отчасти, я
полагаю, как способ опровергнуть пропагандистские штампы
о доброте советских людей и их неустанном духе сотрудни-
чества. Знать, что кто-то сделал зло своему недругу, было
приятной эгоистической фантазией, противостоявшей утопи-
ческим конструктам коммунализма, которые и сами могли
возникнуть в противовес характерной для крестьянской жиз-
ни мелкой вражде и зависти. Очевидно, что эти две идеи (ком-
мунализм и неприязненная разобщенность) и соответствую-
щие им виды практик давно вращаются по взаимозависимым
«культурным орбитам».
Хулиганские поступки, власть
и гендерные конструкции
По замечанию Зары Абдуллаевой, «“Дурак” в русских сказ-
ках хотя и не умный, зато мудрый. И лично для себя хитрый.
В “дураках” нет романтизма “умных”. Они мудры потому, что
довольны тем, что имеют. “Умные” ординарны и простодуш-
ны. А “дураки” всегда выпадают из нормы. И не потому толь-
ко, что ленивы. “Умные” скучно живут, работают, переживают,
что их облапошат. А “дураки” — весело, праздно и не по про-
писям. “Дурак” — созерцатель, самодостаточный философ —
идеальный фольклорный герой» (1996: 224—225).
Абдуллаева говорит о построении мужской идентичности,
образа-характера мужчины, встречающегося и в жизни, и в
русских сказках. Если хождение в магазины составляло осно-
ву историй, рассказываемых женщинами и о женщинах (жан-
ра, используемого для представления характера русских жен-
щин), то рассказы о «безобразиях», хулиганстве были жанром,
через который раскрывались, исследовались, функционирова-
ли идентичность и характер русского мужчины. Склонность к
совершению умеренно опасных хулиганских поступков вы-
ступала в русском разговоре ключевым признаком русской
125
<• РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
мужественности. Она была также и фикцией, своего рода од-
номерным определением реального мужского характера, при-
чем таким, которое наделялось ценностью и фигурировало во
многих жанрах В одном анекдоте, например, говорится:
«Что такое один русский? — Дурак.
А двое русских? — Драка.
А трое? — Очередь за водкой».
Конечно, речь идет о русских мужчинах. Первая строка
имеет двойственную импликацию, относясь как к леген-
дарной глупости (может быть, юродивости) русских, так и к
бытующему среди русских отрицательному отношению к
одинокому времяпрепровождению. Отсюда следует, что луч-
ше быть с другом — можно всласть подраться, — а еще лучше
с двумя друзьями, чтобы распить на троих бутылку водки
(можно — опять-таки после драки). Таким образом, в этих
трех фразах выражена «нормальная» мужская идентичность,
индивидуальная и коллективная: мужественность предполага-
ет дружбу, а дружбы не бывает без незлобивых пьяных драк
между друзьями.
Хотя мужчинам считается не совсем приличным обсуждать
при женщинах свое пьянство, хулиганство и сексуальные по-
хождения, разговоры на эти темы все же были популярны и
часто возникали в смешанных компаниях (в кругу близких
друзей-ровесников, на вечеринках, где подгулявшие мужчины
могли расхвастаться). Так, на одном приятельском сборище
мой знакомый, Толя, рассказывал, как он ходил в пивной бар.
Пивбары находятся в подвалах, пиво там подают в огромных
кружках, посетители стоят у высоких стоек. В этих залах, по-
хожих на пещеры, тесно, шумно, темно, грязно, дымно и сто-
ит сильный и кислый запах пива. Толя развлекал компанию
описанием того, как мужчины напиваются там, чтобы, как ему
казалось, они могли «спокойно» подраться, как кружки летали
по залу, как приятели беззлобно «давали друг другу в морду»,
падали на пол, поднимались, поддерживаемые собутыльника-
ми, пили еще, смеялись и снова вяло дрались. Рассказ казался
126
ГЛАВА 2. «НАША СКАЗОЧНАЯ ЖИЗНЬ»
утрированным, но преувеличение превращало этот нарратив
в эпическую поэму, в миф и свидетельствовало о том, что здесь
присутствовало нечто, данной культурой ценимое. Компания
слушала Толю с наслаждением, сопровождая взрывами хохо-
та его описания драк, размахивая руками и повторяя за ним:
«Ррраз по морде! Бац! Хрясь!» Толя позвал меня в следующий
раз пойти в пивбар вместе с ним, чтобы я увидела все своими
глазами; я его приглашением, правда, не воспользовалась. По-
мимо прочего, дерущихся пьяных мужчин (или же пьяных
женщин) можно было увидеть и на улицах. Полюбоваться
таким уличным представлением (с безопасного расстояния)
всегда собиралась толпа, при этом женщины ужасались и бор-
мотали что-то невнятное, а мужчины наблюдали с явным удо-
вольствием.
Сцены подобных потасовок стали привычными в совре-
менных кинофильмах (см., например, «Астенический синд-
ром» Киры Муратовой). Популярны в перестроечную пору
1989—1990 гг. были и фильмы о пьянках, случайных связях и
«антисоциальном» образе жизни («Черная роза — эмблема
печали, красная роза — эмблема любви» и «Такси-блюз», сре-
ди многих других, принадлежат к этому перестроечному
жанру).
На одном дне рождения мне случилось прослушать часо-
вой монолог о сексуальных похождениях. Его автор и герой,
эксцентричный писатель Андрей, сильно переигрывая в моем
присутствии, обильно уснащал свою речь яркими порногра-
фическими образами (что, в общем, было не характерно для
малопьющего Андрея). Он упрашивал одну из гостий пойти с
ним в другую комнату и возобновить свою половую жизнь
(она давно находилась в разводе). Он употреблял грубейшие
русские выражения. Сексуальная жизнь у него получалась од-
новременно и сакральной, и примитивно-животной; женское
лоно он то называл «центром вселенной», то ругал последни-
ми словами и низводил до элементарного инструмента удо-
вольствия. Он говорил:
127
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
«Я думаю, что самое важное в мире — это чистое удоволь-
ствие. Секс играет огромную роль в моей жизни. Еще в детс-
ком саду воспитательницы ругали меня за то, что я заглядывал
девочкам в трусики. Помню, я даже к воспитательнице в тру-
сики заглянул. Это космос, вагина — центр творения, сущность
бытия. Я настоящий бабник. Мне нужно иметь баб. Кстати, я
думаю, западные бабы, наверно, лучше наших русских дур,
наверно, знают всякие сексуальные штучки и позиции; наши
бабы в постели просто скучны. Бабы — богини, да, но они та-
кие грязные, такие страшные. Секс грязен, я люблю его, но он
такой низменный. Пить чай — вот это духовное занятие, мы
пьем чай только с теми, кто нам близок, — с коллегами, друзь-
ями. А секс — любую бабу можно трахнуть, любая сойдет».
Заметьте, что он противопоставляет как профанное и сак-
ральное сексуальные отношения и несексуальное общение (за
чаем), романтизируя в данном случае не рыцарскую любовь,
противоположную «сексу», а чувство товарищества.
На другой вечеринке я познакомилась с Николаем, убеж-
денным христианином, талантливым художником и участни-
ком диссидентских кружков. Он также был активным искате-
лем сексуальных и алкогольных удовольствий; от него и его
друзей я услышала немало историй о буйных попойках, орги-
ях, обменах партнерами, курортных связях, одни из которых
заканчивались браками, другие — нежелательными беремен-
ностями, третьи — драками любовников с возмущенными
мужьями. Мое изумление, а также то, что я не выражала нео-
добрения, подогревало пыл моих собеседников, которым до-
ставляло особое удовольствие рассказывать такие вещи аме-
риканке. Брат Николая с некоторым смущением поведал мне,
что после своих дебошей тот часто ходит в церковь, испове-
дуется батюшке, получает отпущение грехов и начинает все
сначала18. Такая альтерация — или внутренняя связанность —
18 Я нив коем случае не хочу сказать, что православные христиа-
не по большей части склонны к половой распущенности. Наоборот,
128
ГЛАВА 2. «НАША СКАЗОЧНАЯ ЖИЗНЬ»...
профанного и сакрального поведения архетипична в России,
так же как и в других культурах (хотя в каждой культуре она
принимает свои особые формы).
В апреле 1991 г., когда магазины все больше пустели и, в
частности, было трудно купить выпивку — тогда еще велась
антиалкогольная кампания Горбачева, — много разговоров
ходило о том, что же все-таки пьет народ. Я слышала расска-
зы об употреблении политуры, одеколона определенной мар-
ки и даже о коктейле со средством для чистки плит. Вопрос,
правдивы ли такие истории, не представлялся важным; куда
существеннее была присутствовавшая в этих разговорах смесь
отвращения, веселости и гордости за своих, за русских, без
колебаний идущих на рискованные эксперименты ради при-
вычной хмельной услады.
Истории об употреблении экзотических напитков (и их
рецепты) циркулировали особенно широко в годы войны и
ГУЛАГа. В 1970-х годах они получили новую жизнь на страни-
цах известного подпольного романа Венедикта Ерофеева
«Москва—Петушки». Читатели самиздата полюбили историю
о том, как вдребезги пьяный алкоголик пытается добраться из
Москвы в Петушки. В одной из сцен герой приводит свои ре-
цепты коктейлей с различными токсическими веществами.
большинство знакомых мне молодых верующих следует довольно
консервативным семейным нормам российско-советского общества,
близким к буржуазному идеалу умеренности. А многие верующие ис-
кренне пытаются претворить в собственную жизнь аскетические
нравственные требования православия. Однако наряду с этим извест-
ны предания о любовных похождениях священников, монахов и
иных «истинно верующих». Эта тема отражена как в современной
литературе, так и в фольклорной русской традиции. Среди «Русских
заветных сказок», собранных А.Н. Афанасьевым в середине XIX в. и
опубликованных в России в 1991 г, есть не меньше дюжины историй
о сластолюбии служителей церкви И хотя это сказки, а не реальные
истории, однако ясно, что они отражают известный российскому
крестьянству поведенческий комплекс и что с их помощью высмеи-
валось лицемерие власть имущих.
9. Заказ № 2742.
129
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
Эти рецепты не сильно отличались от реальных смесей, при-
нимавшихся алкоголиками за неимением иных напитков, по-
этому книжка и смешила, и вызывала у читателей глубокую
грусть.
«Теперь... я предлагаю вам коктейль “Сучий потрох”, напи-
ток, затмевающий все. Это уже не напиток — это музыка сфер.
Что самое прекрасное в мире? Борьба за освобождение чело-
вечества. А еще прекраснее вот что (записывайте):
Пиво жигулевское — 100 г.
Шампунь “Садко — богатый гость” — 30 г.
Резоль для очистки волос от перхоти — 70 г.
Клей БФ — 12 г.
Тормозная жидкость — 35 г.
Дезинсекталь для уничтожения мелких насекомых — 35 г.
Все это неделю настаивается на табаке сигарных сортов —
и подается к столу» (Ерофеев 1995: 75).
Литературные критики пишут, что бестолковое путеше-
ствие Ерофеева построено как крестный путь; герой-рассказ-
чик постоянно общается с ангелами (а также с батареей буты-
лок). Ясно, что автор таким образом прославляет вывернутую
наизнанку логику, столь хорошо знакомую российским чита-
телям, в которой прекрасное можно найти в безобразном,
возвышенное — в банальном, священное — в профанном. Это
повествование о целом ряде трансценденций: через свое без-
удержное питие и иные формы асоциального поведения ге-
рой Ерофеева выходит за тесные рамки не только повседнев-
ного существования, но и вообще всякой практичности и
целесообразности — особенно сообразности утопическим
целям государства.
В мае 1990 г. Венедикт Ерофеев в пятьдесят с небольшим
лет умер от рака горла; многие годы он пил, работал на случай-
ных работах и писал, пытаясь обрести мир в душе19. Его отпе-
19 В его письмах к сестре, опубликованных в журнале «Театр»
(1992, № 9), можно найти много любопытных биографических де-
талей.
130
ГЛАВА 2. «НАША СКАЗОЧНАЯ ЖИЗНЬ»...
вали по православному обряду, в Донском монастыре в Моск-
ве. Церковь, двор и часть улицы были заполнены его друзьями
и почитателями, благоговейно отстоявшими всю службу. По-
чему же эта сага о беспробудном, отчаянном, исступленном
пьянстве стала для стольких людей сакральным текстом, а ее
автор — «пророком» (при том что официально, напомню,
«Москва—Петушки» были опубликованы в самом конце жиз-
ни Ерофеева)?
Сакральное непослушание как поведенческий, равно как и
нарративный, жанр есть один из способов — очень популяр-
ный и повсеместно принятый — бросить вызов прагматизму
и материализму обыденной жизни и одновременно посмеять-
ся над «правильностью» (нередко доведенной до абсурда) го-
сударственных призывов и планов. Алкоголизм, конечно же, —
серьезная и даже трагическая социально-медицинская про-
блема России; в то же время как феномен нарративной/пове-
денческой сферы он дает неисчислимые возможности для
изощренного иронического сопротивления приземленной,
сугубо практической дисциплине в семье, коллективе и госу-
дарстве. С другой стороны, есть какая-то параллель между
фантастическими государственными проектами, подчас пре-
небрегающими законами самой природы, и невообразимыми
алкогольными запоями и даже целыми человеческими жизня-
ми, превращенными пьянством в сюрреалистическое суще-
ствование.
Хотя на первый взгляд недисциплинированность может
показаться исключительно мужской формой сопротивления,
на самом деле ею «пользуется» все население, которое в рас-
пущенности мужчин видит свидетельство неспособности ав-
торитарной системы и вообще идеологии утилитарной прак-
тичности до конца подавить или же переделать устоявшиеся
формы жизненной практики20. Ерофеевские тексты, пове-
20 У мужских «безобразий» существует женский «дубликат». Есть
женщины, которые открыто курят на улице, есть и такие, которые не
9*
131
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
ствующие об асоциальной жизни, находилась в русле богатой
русской традиции абсурдистской литературы. Его герой, анти-
под соцреалистического «советского человека», пьянчуга, ко-
торый никак не может найти дорогу домой, вызывал сочув-
ствие и улыбку у русских читателей, хотя одновременно и
коробил. И сам реальный Ерофеев бросал вызов официозу
сразу на трех фронтах, будучи верующим христианином, пья-
ницей и подпольным писателем; он олицетворял собой неви-
димую миру, загадочную и мятущуюся «русскую душу».
В официальном советском искусстве преобладал образ се-
рьезного, ответственного мужчины. Было бы преувеличением
сказать, что советская эстетическая диктатура и цензура не
позволяли ничего другого: из-за спины примерных высоко-
нравственных мужчин с квадратной челюстью и железной во-
лей всегда выглядывали другие, не такие «морально устойчи-
вые» (и более любопытные) архетипы. Усилия и средства в
пропаганду модели трезвого и серьезного мужского поведе-
ния были вложены огромные, и на самом деле, как это ни пара-
доксально, именно такой тип самопрезентации и самовоспри-
ятия преобладал в реальности; я хочу сказать, что почти все
мужчины, с которыми мне пришлось разговаривать, в расска-
скрывают своей привычки «погулять». Но женская твердость в мораль-
ных устоях всегда высоко ценилась в России на символическом и
духовном уровне, поэтому женские пьянство и распутство не так бро-
саются в глаза, как мужские. В художественных произведениях жен-
щин с таким поведением почти обязательно ждет трагический конец,
в то время как мужчины могут благополучно избежать последнего.
Вспомним, например, очень популярный в 1989—1990 гг. фильм «Ин-
тердевочка» о ленинградской валютной проститутке, ставшей женой
одного из своих клиентов и уехавшей с ним на его родину, в Швецию.
Там она страдает от скуки и депрессии, а дома ее мать, узнав о пре-
жнем занятии дочери, кончает с собой. Дочь по дороге на похороны
матери гибнет в автомобильной катастрофе. Согласно русской куль-
турной логике, эта молодая женщина поплатилась за свои сексуаль-
ные и алкогольные прегрешения, а также за то, что покинула свою
родную страну. Как сказала (в личном разговоре) Марджори Бэлзер,
самым первым прототипом «интердевочки» была Анна Каренина
132
ГЛАВА 2 «НАША СКАЗОЧНАЯ ЖИЗНЬ»...
зах о своей жизни и иных нарративах выражали искреннюю
приверженность своим семьям, работе, стране и трезвости.
Таким образом, вызывающее поведение не было для муж-
чин типичным способом бытия; скорее, периодические «эс-
капады» превращались в рассказах о них в символическое
средство утвердить свою автономию, почувствовать себя сво-
бодными личностями, борцами с социальным порядком. Тот
же человек, философ, который объяснял мне понятия «народ»
и «душа» (см. гл. 1), определил сферу «неправильного» поведе-
ния в целом — и особенно внебрачный секс — как «зону сво-
боды».
«В каком-то смысле супружеские измены считаются дозво-
ленными; это свободная область, где каждый может делать все,
что хочет, где можно проявлять инициативу, изобретатель-
ность, остроумие и т.п. Люди всегда этим интересовались, даже
пожилые женщины смеются шуткам и анекдотам на эту тему
(есть, например, масса анекдотов о том, как муж возвращает-
ся из командировки, а любовник жены прячется в самых нево-
образимых местах). Секс всегда считался свободной зоной,
даже в дореволюционной России: в крестьянском юморе пол-
но сексуальности и плутовства. Внебрачный секс является об-
ластью, куда человек может уйти и быть свободным, хоть на
часок, может урвать “незаконное” удовольствие. Получить от
жизни больше, чем ему положено».
Но, хотя пожилые женщины и могут посмеяться скабрез-
ным шуткам, бесспорно все же, что распущенность стоит в
символической, а подчас и в буквальной оппозиции к формам
контроля поведения, символизируемым и осуществляемым
женским населением зрелого возраста. Ряд распространен-
ных дискурсивных жанров можно отнести к преимуществен-
но женской рубрике «об общественном порядке», фокусируе-
мой на соблюдении правил поведения, с одной стороны, и на
поддержании традиционной системы культурных отличий, с
другой. «Женщины — орудия тоталитаризма в России, провод-
ники конформизма, — заявила одна информантка. — Управ-
133
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
ляя своими семьями железной рукой, они поддерживают тем
самым все социальное устройство». Русские часто говорили,
что женщины с помощью сплетен, упреков, отчитываний, но-
таций и других имеющихся в их распоряжении дискурсивных
механизмов, а также через свои должностные посты (чинов-
ничьи, педагогические, медицинские) сдерживают и контро-
лируют мужчин, остальных женщин и, разумеется, детей и тем
самым оказывают серьезнейшее влияние на формирование
общества в целом. В Москве я слышала немало примеров этих
жанров, подробный анализ вариаций и стилей которых по-
требовал бы отдельного исследования. Здесь же хотелось бы
прокомментировать лишь некоторые особенности таких дис-
курсов.
Часто женские упреки, порицания и наставления бывают
построены так, что в них содержатся указания на опреде-
ленные поведенческие нормы (а следовательно, и на жела-
тельность их выполнения). О «неправильно» ведущем себя
человеке говорят: «некультурный», «невоспитанный», «невы-
держанный». Одна женщина именно так отчитывала свою
маленькую внучку за то, что та не поблагодарила меня за сде-
ланный фотоснимок: «Кто у нас такой невоспитанный?»21
В общественных местах брань, невежливость (вроде нежела-
ния уступить в метро место пожилому человеку или громкие
разговоры), вызывающие позы, отклонения от гендерных
норм (например, курение женщины на улице) становились
для некоторых женщин поводом для открытого осуждения на-
рушителей. Сотни мелочей могли вызвать поток вышеуказан-
ных эпитетов из уст незнакомцев, и почти всегда — пожилых
женщин (хотя старики тоже могли обругать). В ситуации же,
когда кто-то лез без очереди, или в других столь же серьезных
случаях толпа могла буквально взорваться бранью, в которой
опять же первую скрипку играли пожилые женщины; иной раз
в этом жанре создавались настоящие шедевры.
21 В России есть поверье, что кадр засветится, если поблагодарить
за снимок; может быть, девчушка знала больше своей бабушки-*
134
ГЛАВА 2 «НАША СКАЗОЧНАЯ ЖИЗНЬ».
Пресловутая грубость русских продавщиц на самом деле
была одним из атрибутов жанра «ругани». Иностранцы, впер-
вые сталкивавшиеся с ней, считали, что, в отсутствие свобод-
ной рыночной конкуренции, у продавщиц просто нет стиму-
ла быть любезными с покупателями. В действительности же
распространенная манера продавщиц говорить с клиентом
была знаком принадлежности к определенной социальной
категории, экспрессивным жанром, составлявшим неотъем-
лемую часть всего комплекса «хождения в магазин». Дома, за
закрытыми дверями, поучения и выговоры делались также
женщинами, облеченными, надо понимать, обязанностью
определять и поддерживать рамки правильного, нормально-
го поведения.
Еще одну особенность женских «распеканий» и жалоб я
видела в том, что они часто вращались вокруг некоего идеаль-
ного социального порядка и что женщины как будто бы чув-
ствовали себя обязанными «приглядывать» за всем обществом
в целом. Из отдельных проступков отдельных личностей не-
редко делались выводы о разложении всего общества, о па-
дении морали, пренебрежении приличиями, предательстве
принципов, исчезновении духовности. Более подробно я
пишу об этом в разделе о женских литаниях (гл. 3); здесь же
важно отметить, что в женском дискурсе часто проглядывала
икона общественного «порядка», который охватывал все — от
чистоты в доме до повсеместно превозносимых (хотя и абст-
рактных) «духовных ценностей».
Эти принадлежавшие женщинам «нормативные» жанры
реализовывались на полурелигиозном языке, но при этом тес-
но смыкались с официальной советской пропагандой нрав-
ственности и благовоспитанности (по тону и языку тоже
почти религиозной). Жанры «плохого» поведения и соответ-
ствующих разговоров (маркированные как мужские) проти-
вополагались маркированным женским жанрам поддержания
порядка и нравственности.
В какой мере женские жанры были выражением или зна-
ком реальной власти в российском обществе (считающем себя
135
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ*
«патриархическим»’), сказать сложно Да, было множество шу-
ток, поговорок, пословиц и других дискурсивных механизмов,
с помощью которых обыгрывались странности, порожденные
сосуществованием разных форм или сфер социальной влас-
ти. Такое «разделение властей» часто воспринималось как за-
бавный парадокс на фоне древних абсолютистских «патриар-
хических» идеологий и традиционной веры в абсолютизм
российской «патриархичности» (а это разные вещи). Вот как
шутка, слышанная мною (с небольшими вариациями в дета-
лях) дважды от мужчин и один раз от женщины, представляет
эти культурные идеологии:
Женщина рассказывает подруге: «Я принимаю решения в
мелких, несерьезных вопросах — как нам организовать отдых,
делать ли обмен жилплощади, покупать ли машину. А мой муж
решает действительно важные семейные проблемы, как-то:
можно ли построить коммунизм в одной отдельно взятой
стране, следует ли объединяться двум Германиям?»
Соль здесь — в вопросе о том, в чем же состоит действи-
тельная власть как в семье, так и в государстве; здесь слышит-
ся также язвительное отношение к будто бы могущественным
мужчинам и ирония по поводу будто бы раболепных женщин
(какими их часто представляют как мужчины, так и женщины).
Категория «рассказы о мужьях» тоже отражает (и поддержива-
ет) парадоксальность представлений о мужчинах и женщинах.
Этот жанр непостижимым образом выражает одновременно
несколько женских настроений: недовольство, благодушие,
ироническую снисходительность и обреченную терпимость.
Маша, которая к концу моего пребывания в Москве вышла за-
муж за музыканта, так описывала свой быт:
* В сфере гендерной тематики термины patriarchy и matriarchy не
эквивалентны терминам «патриархат» и «матриархат» (относящимся
к принципам построения родовых групп в первобытном обществе),
а указывают на главенство одной или другой категории в гендерной
иерархии Для разграничения этих понятий в переводе применяют-
ся производные этих терминов — «патриархический» и «матриархи-
ческий» (Пром, перев)
136
ГЛАВА 2. «НАША СКАЗОЧНАЯ ЖИЗНЬ»
«Алеше его жизнь очень нравится, он ничего не хочет в ней
менять! По утрам его мама, которая живет в нашем же доме,
этажом выше, готовит ему кашу. Я поднимаюсь к ней на лиф-
те, забираю кашу и несу вниз. Мама ему стирает, а я хожу по
магазинам, готовлю ему обед, выполняю его поручения, бегаю
по всему городу — он ведь так занят в оркестре' У него психо-
логия маленького мальчика, он смотрит на свою жизнь как бы
со стороны, как бы не привязан к ней и почти что не участву-
ет в собственном существовании. Он как маленький мальчик».
Все это было рассказано мне весело и даже с оттенком удо-
вольствия — возможно, молодой жене Маше были приятны
пробудившиеся в ней материнские чувства и способности.
Другая женщина, Лара, средних лет, со смехом рассказывала о
том, как ее муж делает домашние дела,-
«Его приемы поистине изумительны, все у него продумано,
так что в конце концов он не делает по дому ничего. Если я
попрошу его о малейшей вещи — например, сходить в мага-
зин, — он может начать возмущаться, ругаться, кричать на
меня; я, чтобы прекратить это безобразие, иду сама. Чаще все-
го он просто ничего не делает, просто сидит и ждет, сам даже
поесть не может, и в конце концов я подаю ему еду, потому что
не могу выносить этого. Еще одна уловка.- он начинает что-то
делать, например чистить картошку, но чистит так, что кожу-
ра летает по всей кухне, а половина картошки оказывается в
мусорном ведре. Я не могу этого видеть и отнимаю у него нож.
Он такой хитрый! Знает, как сделать все по-своему, он царь, а
я ему служанка».
Сорокалетняя Елена, научный сотрудник, поделилась такой
осуждающе-шутливой историей:
«Мы были прогрессивной парой для 70-х — год прожили
вместе до свадьбы. Он был бесподобен,- сам готовил, держал
дом в безукоризненной чистоте — лапочка, одним словом.
Потом мы поженились, и на другой день после свадьбы он
вдруг совершенно забыл, даже как кипятить воду и жарить
яичницу, — и до сих пор никак не вспомнит»
137
« РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
То, что рассказала другая моя знакомая, Наталья, больше
походило на жалобу, хотя и было помещено в исторический
контекст:
«Здесь надо знать историю. Нынешнее взрослое поколение,
мое поколение, вырастили женщины, которые пережили вой-
ну и потеряли своих мужей. Для них мужчины — совершенно
бесценные существа, своих сыновей они воспитывали как
маленьких божков, отдавали им все, баловали их ужасно, сча-
стливые самим их присутствием на этой земле. Сейчас эти
сыновья стали мужьями, и они хотят, чтобы жены относились
к ним так же, как к ним относились их матери. Мой муж ухо-
дит на работу очень рано, а я работаю допоздна, но он требу-
ет, чтобы я вставала в шесть утра и готовила ему кофе. Если я
этого не делаю — например, просплю, — он обижается, не
разговаривает со мной, дуется целый день. Мы это обсуждали
тысячу раз, я говорила, что это трудно и не нужно. Предлага-
ла все готовить заранее с вечера, чтобы утром он только разо-
гревал свой завтрак. Но он и слушать меня не хочет».
Социолог Таня дала несколько иное историческое объяс-
нение таким взаимоотношениям:
«Советская жизнь сделала людей нелепыми. Советская
жизнь абсурдна, мы имели абсурд семьдесят лет. Особенно
ненормальны у нас мужчины, они совершенно исковерканы
системой. В конце концов, у женщины есть своя домашняя
жизнь, женщина может найти себя в заботе о доме, семье,
муже. Мужчины же лишены этого; зарабатывать для семьи, как
в любом нормальном обществе, они тоже не могут, потому что
система не позволяет им по-настоящему добиться чего-либо.
И они становятся просто жалкими, жалкими существами. Муж-
чины чувствуют себя прирученными животными, домашними
питомцами. Им в жизни нужен драматизм, и некоторые нахо-
дят его, тираня свои семьи. Это единственная доступная им
власть».
Все эти истории отражали и воспроизводили структуру
отношений между супругами, которую определяли не столько
138
ГЛАВА 2. «НАША СКАЗОЧНАЯ ЖИЗНЬ»..
патриархические или матриархические принципы, сколько
то, что можно назвать «материализмом». Обнажая внутрисе-
мейные отношения, эти дискурсивные миниатюры перевора-
чивали партриархичность с ног на голову: патриарх оказывал-
ся всего лишь избалованным ребенком (хотя и способным
отравить существование окружающим), чья жизнь вращается
вокруг отвечающей за все и вся, управляющей всем и вся, всю
себя отдающей семье матери. Такие истории, в форме ли про-
сто культурных клише, волшебных сказок или описаний
реального быта, циркулировали очень широко, через них вос-
производились определенные ожидания относительно пове-
дения и взаимоотношений мужчин и женщин22. К репродук-
ции этих норм на протяжении поколений служили даже их
высмеивание или осуждение (я уже писала об этом, см. Ries
1994). И в тех нарративах, где такие «неправильные» отноше-
ния объяснялись историческими обстоятельствами, они тоже
«узаконивались» и наделялись определенной ценностью, по-
тому что русские мужчины представали в них жертвами исто-
рии, а женщины — вечными «сторожами» и служительницами
этих жертв.
На протяжении веков мужчины тем или иным способом
«изымались» из обычной жизни всех слоев населения России.
Со времен Петра Великого до отмены крепостного права в
1861 г. крестьян могли «забрить» в армию (на срок до 25 лет, то
есть практически на всю жизнь). В дальнейшем сроки сокра-
щались, но призыв в армию, тем не менее, играл существенную
роль в жизни мужского населения (см. Bushnell 1985). На рубе-
же XIX и XX вв., когда началась индустриализация страны, мил-
22 Социологические исследования показывают широкую распро-
страненность подобных отношений в советском/российском обще-
стве. См., например, Lapidus (1980) и Porokhniuk and Shepeleva (1982).
Повесть Натальи Баранской «Неделя как неделя» (1969) рисует прон-
зительную картину жизни семейной женщины, изнемогающей под
бременем двойной трудовой нагрузки и мужской безответственности.
См. также Dunham (I960) и Sabiran (1964).
139
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
лионы крестьян отправились в города на фабрики, а их мате-
ри, жены и дети оставались в деревнях2\ еще больше мужчин
отняли войны, коллективизация (Fitzpatrick 1994:218), ссылки
и трудовые лагеря. Парадигма общества, основанного на веч-
ном и неизменном присутствии женщин и привычном отсут-
ствии (к тому же, с периодическим массовым уничтожением)
мужчин, а также нарративные жанры, присущие этой парадиг-
ме (выделяющие ее, оплакивающие или драматизирующие,
придающие ей ценность), имеют, таким образом, давнюю тра-
дицию. Многие русские народные песни — именно о смерти
или об уходе мужчины. Исполняемые от лица женщины, они
сочетают в себе плач и тоску по отсутствующему с обещания-
ми непоколебимой верности. (Разумеется, есть масса анекдо-
тов и сказок о женах, бегущих к любовнику, лишь только за
мужем закрывается дверь, — ни один сильный образ не остает-
ся без своего сатирического двойника.) Во многих историях,
рассказанных мне как женщинами, так и мужчинами, и в при-
нятой ими культурной установке чувствовалась связь с этим
ключевым сценарием, в котором мужчинам принадлежала
роль желанных, необходимых, хотя при этом зачастую оби-
женных (или же самих себя мучающих) пришельцев в симво-
лическом порядке женского общества, общества, созданного,
построенного и пронизанного женским трудом, женскими
разговорами и нуждами; я слышала, как женщины говорили,-
«построенном на женских костях» (а одна феминистка сказала
даже, что русские женщины «каннибализированы»).
В структурном, взаимоотносительном смысле «женское»
представало всеобъемлющим горизонтальным полем, слу-
жащим опорой редким, высоко ценимым возвышенностям,
символизирующим «мужское»23 24. Однако при том, что гори-
23 Многие женщины и дети также мигрировали в города, где тоже
работали на фабриках и в мастерских с потогонной системой труда,
жили в фабричных бараках и общежитиях (Glickman 1984).
24 Отголоски этого архетипического пространственного симво-
лизма можно видеть в русском фольклорном искусстве, например в
140
ГЛАВА 2. «НАША СКАЗОЧНАЯ ЖИЗНЬ»...
зонтальное/женское и вертикал ьное/мужское были взаимо-
дополняющими сферами власти и социальной активности,
нуждающимися друг в друге для соревновательного самоопре-
деления, в ином модусе они представляли собой арены нарра-
тивных сражений. Я уже отмечала, что в рассказах мужское
хулиганство обыгрывалось и смаковалось как социальный/
дискурсивный бунт против попыток «приручения» мужчин и
против упорядоченности выровненной женской сферы. Но,
как подразумевает Танина история, мужчины «безобразнича-
ют», лишь когда в обществе не происходит катаклизмов вро-
де революций или войн25. В рассказах о самих себе мужчины
«гуляют» — уходят из дома и тем самым поступают в соответ-
ствии с парадигматическим культурным сценарием. Главен-
ство легенды о женском жертвенном стоицизме мужчины
оспаривают тем, что своими «художествами» создают яркую
драму мужского экстремизма, мужской воинственности и
мужского отсутствия.
Частые упоминания исходящей от мужчин «опасности»
интенсифицировали образ «удалого молодца». Еще в самом
начале моей московской полевой работы один коллега на-
базовом мотиве традиционной русской вышивки — ромбе, поделен-
ном на четыре ромба меньшего размера. Это основной символ жен-
ского начала, поля, плодородной земли (мужские фигуры редко по-
являются в вышивке — тоже горизонтальном женском поле). Тот же
бинарный символизм виден в русских народных танцах, где женщи-
ны плавно движутся по горизонтальной плоскости, тогда как мужчи-
ны совершают множество высоких, замысловатых прыжков, подчер-
кивая, что вертикальное пространство принадлежит им. О роли этого
пространственного символизма в построении советских ритуалов см.
Hellberg 1986.
25 Связь между хулиганством и жертвенными потерями мужчин в
войнах укрепляет военный дискурс, в котором подчеркивается значе-
ние службы в армии для формирования личности мужчины Один
генерал в интервью подробно говорил мне о том, что служба в армии
есть «мужской университет» Этот образ имел широкое хождение в
СМИ
141
♦ РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
стойчиво советовал мне быть очень осторожной при интер-
вьюировании мужчин, потому что все русские мужчины на-
едине с женщиной якобы становятся опасными. Еще один мой
друг, который впоследствии стал моим мужем, тоже много раз
пытался отговорить меня встречаться с мужчинами. Однажды
он очень разволновался, узнав, что я собираюсь пойти к одно-
му женатому художнику. «Нет у него никакой жены! — кричал
он. — Художники очень сексуальны! Он обязательно будет к
тебе приставать!» Когда я ответила, что говорила с его женой
по телефону и поэтому никакой опасности нет, он сказал: «Ну
иди, если хочешь. Не слушаешь — получишь то, что заслужи-
ваешь». Поистине фольклорная формула — «запрет», в тер-
минологии Проппа. (Надо сказать, что я частенько нарушала
подобные запреты, и без неприятных последствий.) В не-
скольких интервью наедине со мной мужчины призывали
меня быть осторожной в подобной ситуации — не с ними
лично, но с их собратьями.
Хотя я никогда не сомневалась в том, что некоторые муж-
чины потенциально опасны (мне приходилось наблюдать
мужскую агрессивную настойчивость и даже бывать ее объек-
том), миф об опасности мужчин относился скорее к средствам
создания собственного образа, чем к реальному положению
вещей. Один мой знакомый красиво рассказывал, как он горяч,
страшен в гневе и непреклонен, когда дело касается его инте-
ресов: послушаешь — герой, грозный мститель. На самом деле,
по его поведению, он казался мне довольно робким челове-
ком. Но мифология опасного мужчины также позволяла мно-
гим выставлять себя мягкими, достойными доверия исключе-
ниями — весьма важная разновидность данного жанра.
Аналогичная и родственная этой мифология окружала об-
раз России, которая в одном из мифологических «ответвле-
ний» тоже представала грозной, хищной, жестокой и неисто-
вой. Эта «маскулинная» ипостась России в национальной
саморепрезентации противопоставлялась ее «фемининной»
142
ГЛАВА 2. «НАША СКАЗОЧНАЯ ЖИЗНЬ»...
ипостаси2*1. Легенды и мифы об устрашающем, «мужском» ха-
рактере России широко циркулировали как в прессе и на те-
левидении (подчас в утонченных формах), так и в устных пе-
редачах. Одна из репрезентаций касалась опасности, которую
Россия представляет для Запада; интересно, что в высказы-
вания на эту тему вплетались прежние, доперестроечные
официальные взгляды, идеи и образы национальной саморе-
презентации. В том беспорядочном монологе, который я ци-
тировала выше, писатель Андрей в какой-то момент заявил: «У
Запада есть все: еда, вещи, восхитительные женщины — поэто-
му он безумно боится СССР. Имея все и зная, что мы можем это
все уничтожить одним нажатием на кнопку, Запад отчаянно
ищет знаки наличия у нас гуманистической культуры. Поэто-
му КПСС и выдает их ему в виде поэзии, искусства, чтобы за-
падные люди успокоились... Но это все обман».
Включение «восхитительных женщин» в список того, что
«есть у Запада», говорит о соотнесенности этой речи о го-
сударстве с метафорикой сексуальной победы (либо с мета-
форикой уничтожения); в данном случае угрожает СССР, а
подвергается угрозе Запад. В Андреевом объяснении чувство-
валась двойственность: с одной стороны, он гордился масш-
табами этой угрозы, а с другой — откровенно презирал не-
гуманную и безжалостную КПСС. Тема опасности, которую
представляет СССР, возникала довольно часто и иногда трак-
товалась совершенно серьезно. Многие русские выражали
полную поддержку жесткой политике Маргарет Тэтчер и Ро-
26 Оба образа России, мужской и женский, были равно признаны,
активно использовались, будучи скорее культурно дополнительными,
чем противоречащими друг другу. Так, по отношению к России упо-
требляются два близкие по смыслу (но не полностью взаимозаменя-
емые) слова: родина и отечество. Слово «родина», несомненно, вызы-
вает более сентиментальные, ностальгические, даже трагические
ассоциации, тогда как «отечество» звучит тверже, «государственнее»
Интересный анализ употребления этих двух слов см. в: Cherniavsky
1961.
143
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ »
нальда Рейгана; некоторые утверждали, что такая твердая,
даже агрессивная позиция в отношении СССР остужала ядер-
ный пыл многих людей в самих западных странах. Ничто так
не льстит самолюбию и не подогревает представление о себе
самом как о грозном противнике, как опасливое отношение
со стороны сильного конкурента. Русский разговор (и част-
ный, и публичный) о решимости Запада противостоять «со-
ветской угрозе» как раз и был косвенным выражением высо-
кой оценки русскими своей силы и своей «удали».
Такая насмешливо-хвастливая саморепрезентация могла
строиться и на язвительных (однако не без оттенка гордости)
шутках об угрозе, которую Россия (СССР) представляет для
мирового порядка. Ходил целый ряд анекдотов о том, что бу-
дет в других странах, если там построить коммунизм, напри-
мер: «Что будет, если коммунисты придут в пустыню Сахару? —
Через несколько лет там будет дефицит песка» (см. Zand 1982:
25). Подобные шутки циркулировали на фоне пропагандист-
ского дискурса о роли Советского Союза как архитектора
настоящего мирового порядка и процветания, и на одном
уровне их можно рассматривать как средство политического
сопротивления. Однако на другом уровне они служили вос-
производству и прославлению образа русского мужчины/рус-
ского народа как сильного, опасного «ухаря», способного на-
творить бед, дай только ему волю, испортить и осквернить все
на своем пути.
Однако любая легенда и любой корпус легенд сосуще-
ствуют с легендами оппозиционного содержания. Как пишет
М. Люти (Luthi 1976: Зб4), «пословицы как бы провоцируют
поведение “с обратным знаком” или создание автопародий».
Историям о мужских выходках противостояли рассказы и
другие дискурсивные формы, в которых доминировали темы
мужской сдержанности. В долгом и ярком монологе упоми-
навшегося уже Андрея был пассаж, который стоял особняком
от его основных идей и самопрезентаций. «Жить надо по со-
вести, — заявил Андрей, — иначе ничего не получится». И да-
лее он рассказал следующее:
144
ГЛАВА 2 «НАША СКАЗОЧНАЯ ЖИЗНЬ»..
«У меня есть знакомый, прекрасный спортсмен, чемпион
по борьбе, здоровяк с широкой душой. Как-то он пошел в ре-
сторан со своей девушкой, красавицей, в которую был влюб-
лен, и с приятелем, тоже борцом. Там четверо пьяных, у кото-
рых чесались кулаки, сказали девушке какую-то грубость. Но
он не поддался на провокацию, не стал драться, зная, что од-
ним ударом сделает из всех четырех инвалидов на всю жизнь.
Он “проглотил” оскорбление, послушался своей совести.
А приятель тут же бросился в драку и, разумеется, покалечил
обидчиков. Девушка страшно возмутилась, что молодой чело-
век не бросился на защиту ее чести, и тут же ушла с его другом.
Но он не поступился самым важным — своей совестью. Имея
хоть каплю совести, можно чего-то добиться в жизни — в по-
эзии, в спорте, в чем угодно».
С первых слов можно было подумать, что эта история — об
очередном дебоше, но она свернула в сторону другого жан-
ра — русского эпоса о добрых великанах, странствующих по
просторам социума и проявляющих чудеса душевного благо-
родства. Это напоминает и сюжет каких-то соцреалистичес-
ких произведений, где осуждается антиобщественное поведе-
ние и где ему противопоставляется нечто более высокое и
благородное — сдержанная мужская сила.
Но однажды я услышала шутку, которая все эти высокие
материи переворачивает с ног на голову, низвергает пафос
мужского подвига в глубины иронии. Анекдот рассказал мне
один пожилой человек, которого я расспрашивала о его уча-
стии в Великой Отечественной войне, и таких анекдотов у
него было немало. «Кстати, о героизме. Я вспомнил анекдот,
который мы все время друг другу рассказывали.
Плывет баржа. На палубе женщина... и вдруг она падает за
борт. Все кричат: “Женщина за бортом! Она тонет!” Все кричат,
сочувствуют, но никто ничего не делает. И тут один мужчина
прыгает в воду и спасает женщину. Все хвалят его, благодарят,
чуть ли не качают.- “Вот молодец! Герой! Герой!” Когда мужчи-
не наконец удается вставить слово, он говорит: “Да подожди-
10. Заказ № 2742.
145
« русс: кие раз говор ы >
те вы со своим героизмом! Скажите лучше, кто столкнул меня
за борт?”».
Ситуация в этом анекдоте напоминает практику времен
войны, когда офицеры Советской армии стояли позади иду-
щих в наступление солдат и стреляли в тех, кто не мог себя
заставить идти вперед (часто на верную смерть), а потом про-
славляли героизм этих же солдат. В мирное время подобные
анекдоты высмеивают как официальный, так и частный дис-
курсы о ценности самопожертвования* 27.
Самопожертвование vs. распущенность:
женское vs. мужское?
Возвратимся к сказаниям о женской выносливости и само-
пожертвовании. Какие обобщения можно сделать о наррати-
вах, приведенных в этой главе?
Прежде всего подчеркнем, что рассказы, где прославляет-
ся мужская сдержанность (подобные рассказу о спортсмене),
встречались гораздо реже рассказов о мужской распущен-
ности или анекдотов, высмеивающих героизм. Как женскую
«завистливую» историю затмевает история о женской вынос-
ливости, так и история о герое соцреалистического типа оста-
ется в тени истории о вызывающем поведении мужчины.
Вырисовываются две группы социальных ценностей, взаимо-
связь которых можно отобразить следующим образом:
Порядок Терпение Великодушие Героизм
Хулиганство Строптивость Зависть Жульничество
27 Р. Тэрнстон показал, насколько распространены были такие анек-
доты в сталинскую эпоху (Thurnston 1991). Феликс Дрейцер в личном
разговоре заметил, что за борт-то упала женщина, т е. этот анекдот
показывает (и тем самым подкрепляет status quo), как на самом деле
«ценятся» женщины мужчинами. Дрейцер сделал интересные наблю-
дения по поводу русского юмора вообще (см Dreitser 1982; 1989).
146
ГЛАВА 2. «НАША СКАЗОЧНАЯ ЖИЗНЬ»...
На первый взгляд кажется, что мы можем определенно
назвать один из этих наборов ценностей социально конструк-
тивным, а другой — деструктивным. Но русский случай требу-
ет более нюансированного подхода, учитывающего механиз-
мы действия власти в российском/советском историческом
контексте. Качества, расположенные над чертой, соответству-
ют ценностям, прославляемым, пропагандируемым, прокла-
мируемым, освящаемым и декретируемым советской идеоло-
гией. Самым распространенным способом сохранить свою
личностную автономию при советском правлении было не
политическое диссидентство, получившее столько внимания
в западной прессе, а просто презрительное отношение к этим
ценностям, которыми народ закармливали посредством со-
ветской педагогики, вездесущих лозунгов и речей вождей. Так
что и хулиганство, и строптивость, и зависть, и жульничество
воспринимались если и не стопроцентно положительно, то,
во всяком случае, с сочувствием — как вносящие в жизнь све-
жую струю непосредственности и свободы. В терминах по-
лоролевых норм то, что в рассказах о женщинах было марки-
ровано позитивно (частотой встречаемости и эмфазой), в
рассказах о мужчинах имело отрицательную маркирован-
ность (редкость упоминания и умаление масштабов):
Женская терпеливость Мужское хулиганство
Женское хулиганство (зависть) Мужская терпеливость
(сдержанность)
Нарративы подчеркивали связь женщин с такими ценнос-
тями, как порядок, терпеливость, великодушие и героизм, и
тем самым усиливали их ассоциацию с официальными ценно-
стями, прославлявшими те же качества. А мужской разговор
обесценивал их и одновременно, по метонимической ассоци-
ации, развенчивал женскую власть, каким бы парадоксальным
это ни казалось. Разумеется, часто случалось и обратное.
10*
147
«PV( СКИЕ РАЗГОВОРЫ>
Можно предположить, что комплекс «хулиганства», недис-
циплинированности (рассматриваемый как два взаимопрони-
кающих и поддерживающих друг друга поля — поведение и
разговор) имеет ряд социальных последствий Оставляя за
скобками такой момент, как непосредственная опасность
пьянства на работе, истории о хулиганстве придают некий
едва уловимый оттенок сакральности всякого рода деятельно-
сти «несунов», отвинчиванию «казенных» гаек (вроде того, чем
занимался герой чеховского рассказа «Злоумышленник») и
вечному летаргическому равнодушию россиян к своим тру-
довым обязанностям. С одной стороны, все это можно рас-
сматривать как изобретательные стратегии выживания и со-
противления навязываемой государством дисциплине Но, с
другой стороны, с точки зрения макроэкономики вполне оче-
видна проблематичность такого способа преодоления житей-
ских трудностей. На протяжении всей российской истории, до
самой перестройки, государство всегда реагировало на эту
проблему применением тоталитарных средств, пытаясь пре-
вратить граждан в послушных и добросовестных производи-
телей материальных ценностей
В 1989—1990 гг. уже многие протестовали против откро-
венного прославления секса и пьяного разгула, ставших в
эпоху перестройки символами свободного поведения, и авгу-
стовский путч 1991 г. отчасти явился попыткой, среди проче-
го, загнать этого джинна обратно в бутылку социального
контроля.
Попытка, к счастью, не удалась, но вместо дисциплины,
высокой производительности труда и экономического раци-
онализма западного толка, которые, согласно всеобщим ожи-
даниям, должны были материализоваться сами собой, в пост-
советской России вдруг воцарилось и стало даже воспеваться
то, что я назвала бы «глубинным непослушанием» во всех его
формах — пьянстве, половой распущенности, азартных играх
и в жестокой (хотя и вызывающей интерес — при взгляде со
стороны) организованной преступности Работая в России в
148
ГЛАВА 2 «НАША СКАЗОЧНАЯ ЖИЗНЬ»
1994 И 1995 гг, я часто задумывалась над тем, в какой степени
прежний «комплекс непослушания» послужил источником
символического материала для развития некоторых типов
постсоветских идентичностей и видов практики Сотворяя
себя как русских женщин и русских мужчин, как надежных
или несерьезных людей, персонажей одной из интересней-
ших глав — главы о перестройке, не двигали ли люди историю
в будущее, производя материал для следующей главы своим
существованием в главе текущей, своими разговорами и рас-
сказами, своим интенсивным переживанием происходящего?
ИЮ
ТТЛ Ф<жс >37 ЭЭ72
ТТЛ 337 • 90
Москва. Осень 1991 г. Таганк
Где был
Сталин.
Шам была
'Победе.
Глава 3
ЛИТАНИИ
И ЛАМЕНТАЦИИ:
ДИСКУРСИВНОЕ
ИСКУССТВО СТРАДАНИЯ
Я думаю, самая главная, самая коренная ду-
ховная потребность русского народа есть
потребность страдания, всегдашнего и не-
утолимого, везде и во всем. Этою жаждою
страдания он, кажется, заражен искони веков.
Страдальческая струя проходит через всю
его историю, не от внешних только несчас-
тий и бедствий, а бьет ключом из самого сер-
дца народного. У русского народа даже в сча-
стье непременно есть часть страдания, иначе
счастье его для него неполно. Никогда, даже
в самые торжественные минуты его истории,
не имеет он гордого и торжествующего вида,
а лишь умиленный до страдания вид; он воз-
дыхает и относит славу свою к милости Гос-
пода. Страданием своим русский народ как
бы наслаждается.
Ф. Достоевский. «Дневник писателя»
У русских в сердце всегда есть место жалос-
ти к жертвам. Вы правы, говоря, что война
была величайшей катастрофой. Но о жертвах
этой катастрофы — миллионах и миллионах
убитых, о бесчисленных сиротах и вдовах —
мы всегда, да, всегда будем думать с любовью
и жалостью.
Слова пожилой москвички, приведенные
Н. Тумаркин в книге «Живые и мертвые»
(Tumarkin 1994)
158
ГЛАВА 3 ЛИТАНИИ И ЛАМЕНТАЦИИ
Мне представляется, что в годы перестройки дис-
курсивный жанр, названный мною «литанией»
(Ries 1991), занимал особое положение в рус-
ском разговоре. В литаниях содержались неко-
торые доминирующие точки зрения на происходившие тог-
да социальные трансформации; литании обеспечивали гово-
рящих важнейшими семиотическими кодами и оценочными
векторами, с помощью которых человеческое восприятие «об-
рабатывало» бурные события дня. Одновременно литании
осуществляли парадоксальную трансформацию ценностей:
страдание становилось заслугой, положение жертвы стяжало
уважение, утраты обращались в приобретения. В данной гла-
ве объектом рассмотрения станет литания как такой дискур-
сивный жанр, который, служа гражданам для оплакивания сво-
его бессилия и устраненности из политического процесса,
возможно, сам способствует сохранению такого положения.
Литании были «кирпичиками» многих разговоров, как
формальных, так и неформальных, в которых я участвовала
или которые услышала невзначай. Последнее важно, так как по
этим «подслушанным» разговорам я могла судить, насколько
мое — иностранки, американки, этнографа — присутствие
влияло на собеседников. Разумеется, мое участие в разговоре
давало себя знать: во многих случаях люди жаловались вооб-
ще или жаловались особенно рьяно именно потому, что перед
ними был заинтересованный слушатель из Америки. Мне были
небезразличны истории жизненных перипетий, я понимала
желание людей поделиться: когда всем одинаково плохо, труд-
но рассчитывать на внимание окружающих к своим пробле-
мам. Кроме того, в литаниях был запрятан едва уловимый при-
зыв о помощи, а американцы, с их огромными, по русским
представлениям, возможностями и ресурсами, казались есте-
ственным объектом такого призыва. Поэтому, конечно, мое
присутствие стимулировало потоки литаний, однако жанр
существовал и сам по себе — вся Москва того времени просто
гудела литаниями.
159
«РУССКИЕ РАЗ ГОВОР Ы »
Я слышала их в поездах метро, в автобусах и электричках,
на улицах, на встречах друзей и во время праздничных засто-
лий, на разнообразных собраниях самых разных групп, в те-
левизионных и радиопередачах, в театральных спектаклях,
художественных и документальных фильмах1, наконец, в зара-
нее написанных или импровизированных речах участников
политических митингов. Встречались они и в печатных тек-
стах: например, письма редакторам популярных журналов
вроде «Огонька» чаще всего принимали именно такую форму
(см. Riordan and Bridger 1992; Korotich 1990).
Жанр литании
Литании — это речевые периоды, в которых говорящий
излагает свои жалобы, обиды, тревоги по поводу разного рода
неприятностей, трудностей, несчастий, болезней, утрат, а в
конце произносит какую-нибудь обобщенно-фаталистичес-
кую фразу или горестный риторический вопрос (например,
«Ну почему у нас все так плохо?»). Завершить литанию может
и тяжкий вздох, выражающий разочарование и покорность
судьбе.
Однажды я пришла за интервью домой к шестидесятилет-
ней Наталье Викторовне, известному и уважаемому историку.
1 Приведу примеры таких публично исполненных литаний. 26 ян-
варя 1990 г. либеральная телевизионная программа «Взгляд» показа-
ла сюжет о том, как матери российских призывников окружили штаб
Вооруженных сил в Ставрополе и требовали возвращения своих сы-
новей; интервью этих женщин представляли собой именно литании
и ламентации. Пьеса Людмилы Петрушевской «Московский хор», ко-
торую впервые поставили только в годы перестройки, сплошь состо-
ит из литаний, причем Петрушевская с гениальным мастерством до-
водит их до абсурда. Фильмы Станислава Говорухина — например,
«Россия, которую мы потеряли» — это литании от начала и до конца.
К слову сказать, многие пьесы Чехова (которые я регулярно смотре-
ла в Москве) тоже полны литаний, что свидетельствует об устойчи-
вости этого речевого жанра во времени
160
ГЛАВА ЛИТАНИИ И ЛАМЕНТАЦИИ...
В квартире ее повсюду были книги. Она настояла на том. что-
бы я что-нибудь поела, и мы переместились в небольшую ку-
хоньку. Наталья Викторовна готовила салат и бутерброды с
плавленым сыром и по ходу дела говорила, а я сидела за кухон-
ным столом и слушала. Примерно полчаса она перечисляла
насущные проблемы России, вела речь о нехватке товаров и
продуктов, коррумпированности властей, росте преступнос-
ти, неумении русских работать, затем снова о дефиците. В ка-
кой-то момент она перестала резать капусту и, выразительно
размахивая ножом, сказала следующее:
«Вот такая у нас жизнь, настоящий театр абсурда. Такого не
может быть ни в одной цивилизованной стране, ни в Амери-
ке, нигде. Ты понимаешь, каково людям, когда нет аспирина,
нет инсулина? Мясо, что я последний раз видела в магазине,
было уже полусгнившее и по такой цене, что кто может его
себе позволить? Наша родина такая несчастная, такая не-
счастная».
После этого она начала все сначала, приводя новые яркие
примеры советской неэффективности и коррупции среди
чиновников, жалуясь на вызванный перестройкой упадок со-
циальной сферы и на гибель прежних ценностей. Литания
прекратилась, только когда я собралась уходить; Наталья Вик-
торовна пригласила меня приходить еще и на прощание ска-
зала,- «С моей пенсией я не могу угостить тебя получше, но так
приятно с кем-то поговорить. Ты не обыкновенная иностран-
ка — ты понимаешь российскую жизнь, понимаешь, как мы
живем».
Слышанные мною литании могли быть, вроде речей Ната-
льи Викторовны, долгими и подробными, построенными из
отдельных связанных с темой сегментов, причем составлять
такой сегмент могла и одна-единственная фраза. Например,
один ветеран войны, инженер лет под семьдесят, уверял меня,
что вообще-то он по натуре оптимист, верит в прогресс и
ожидает лучшего. Вдруг посреди разговора он на мгновение
задумался и сказал: «Но иногда поглядишь вокруг и увидишь
11. Заказ № 2742.
161
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
всю эту дикость, все это варварство, пьянство, разложение, эту
преступность... Да, трудно не потерять надежду». Он произнес
пять ключевых слов с типичной протяжной интонацией, под-
нимавшей такой комментарий до уровня литании.
Различные элементы литании обычно связывались друг с
другом посредством синтаксического параллелизма2 или по
тематическому сродству. Кроме литаний, произнесенных од-
ним говорящим, были и такие, которые звучали диалогически,
когда каждый из участников добавлял к разговору свой фраг-
мент. Русские литании могли произноситься с иронией или
даже нести элемент пародии на самих себя; подчас они ис-
пользовались и при изображении положительных элементов
социальной ситуации; но все эти образцы носили откровен-
ный характер жалобы, что можно считать основной каче-
ственной характеристикой данного жанра. Интонационно
разговорные литании приближались к трем известным жан-
рам русской речи: традиционному плачу (исключительно
женскому жанру), церковному молебну и поэтической декла-
мации. Как и перечисленные жанры, литании часто содержа-
ли поэтические каденции, имели речитативную двухтоновую
интонацию, рифмы и кольцевую композицию.
Кроме того, литании нередко звучали как мольба, хотя в
заключительные годы перестройки объект этой мольбы от-
нюдь не был очевиден; сам факт, что не к кому было обращать-
ся за спасением, тоже стал одной из трагических тем литаний.
Как видно, между религиозными и поэтическими жанрами и
обыденными литаниями существовала связь, но я назвала бы
ее скорее не генетической, а взаимно-усилительной в идеоло-
гическом, структурном и стилистическом планах.
- О структурирующей роли параллелизма в русской устной по-
эзии, песенном фольклоре, эпосе, плачах писал Р. Якобсон (Jakobson
1966). В литаниях, которые я здесь описываю как жанры спонтанной,
обыденной речи, вряд ли по простому совпадению используется тот
же самый связующий механизм, что и в изученных Якобсоном фоль-
клорных жанрах.
162
ГЛАВА 3. ЛИТАНИИ И ЛАМЕНТАЦИИ ..
Разговорные литании всегда отличались жалобным тоном
и соответствующим стилем, многие из них завершались рито-
рическими вопросами — характерным признаком плачей.
Откровенно «плачевыми» были те места в речи, где говорящий
начинал размышлять, комментируя собственную литанию в
том смысле, что она иллюстрирует трагедии и парадоксы ис-
тории, и задаваясь экзистенциальными вопросами: «Как такое
может быть? Почему нам так плохо? Почему в нашей жизни
так много страдания? Почему мы всегда оказываемся жертва-
ми? В чем наше спасение?» Такой переход к возвышенной ла-
ментации не всегда означал конец литании; нередко это было
высшей точкой, после которой заново начиналось перечисле-
ние несчастий.
Меня не покидало ощущение, что произнесение литаний
перед собеседником было чем-то вроде сакрального действа;
сдвигавшего дискурсивный контекст в другую плоскость, воз-
вышавшего простой разговор до уровня масштабного эпоса о
России и превращавшего это действо в часть самой горькой
российской драмы3. Даже однословные литании могли быть
фокусом и возвышающим элементом разговора или моноло-
га. Так, в рассказе о своей жизни, говоря о военном времени,
один человек произнес короткую литанию из созвучных и
рифмующихся слов: «Холод, зима, голод», — и эмоциональная
3 Я и ностальгию по Москве отчасти испытываю из-за тех эстети-
ческих и эмоциональных ощущений, которые доставляли мне лита-
нии. Слушая их, я нередко словно сама лично переживала жуткие, вот
сейчас происходящие, реальные трагедии российской жизни. Такое
же чувство было, по их словам, и у самих русских, когда они слушали
повести о страданиях. Можно даже сказать, что возможность испыты-
вать такого рода чувства составляла часть богатой русской идеологии
страдания, которую так хорошо охарактеризовал Достоевский. Редак-
тор «Огонька» сказал о грустных письмах, приходящих в журнал, что
они принадлежат «искусству боли» (Cerf and Albee 1990: 14; полнос-
тью цитату см. в Заключении). Интересный комментарий об экзаль-
тации, возбуждаемой русским разговором о страдании, делает Дани-
ель Ранкур-Лаферьер (Rancour-Laferriere 1995: 247).
11*
163
< pvt СКИЕ РАЗ! ОБОРЫ >
напряженность рассказа тотчас усилилась4 Наверное, точнее
всего будет сказать, что литании ритуализировали русскую
речь, и благодаря их появлению она часто переходила из пла-
на обычного разговора или нарратива в возвышенный план
ритуала
Литании создавали, хотя и на мгновение, то состояние ри-
туальной лиминальности, которое Виктор Тэрнер описывает
как «момент внутри и одновременно вне времени, внутри и
одновременно вне секулярной социальной структуры, когда
обнаруживается, пусть и на краткий миг, некое признание
(если не всегда в языке, то в символе) генерализованной соци-
альной связи, которой уже не существует и которой в то же
время еще предстоит раздробиться на множество структур-
ных связей» (Turner 1977 96)
«Генерализованная социальная связь», в одно и то же вре-
мя архаическая и такая живая, — это воображаемые узы, со-
единяющие людей в некую моральную общину — общину
страдания Как ритуальные заклинания, литании пробуждали
чувство принадлежности к общине и служили ключом к ее
дверям Одна деталь для иллюстрации начиная рассказ о лич-
ных проблемах или бедах в первом лице единственного чис-
ла, человек вдруг переходит на первое лицо множественного
числа и начинает оплакивать «наши» трудности, имея в виду
всю Россию, или всю интеллигенцию, или весь народ и тд ’
4 Этнограф Брюс Грант рассказал о похожей на эту литании, ко
торую он, находясь на полевой работе на о Сахалин примерно в то
же время, когда я была в Москве, услышал в телевизионных новостях
ведущий говорил о состоянии российского Дальнего Востока, пере-
числяя с соответствующей интонацией «холод, голод и разруху>
(Grant 1995 29)
’ Майкл Урбан говорит о таких же переходах от личного к обще-
му в дискурсе политиков в посткоммунистической России, он назы-
вает этот феномен «осцилляцией числа> и рассматривает эффект его
использования в политической риторике «Чередование единствен
ного и множественного числа местоимения первого лица — Я и Мы
164
ГЛАВА 3 ЛИТАНИИ И ЛАМЕНТАЦИИ
Люди могли отождествлять себя с различными группами
или социальными категориями В литаниях появлялись мно-
гие типы самоидентифицирования классы («мы, рабочие»,
«мы, интеллигенция»), профессии («мы, горняки», «мы, уче-
ные», «мы, учителя»), пол («мы, женщины» или, реже, <мы, муж-
чины»), возраст («мы, пенсионеры», «мы, молодежь»), более
или менее масштабные социальные события («мы, ветераны»,
«мы, жертвы Чернобыля», «мы, пострадавшие в железнодорож-
ной катастрофе в Свердловске») Эти категории часто слива-
лись или пересекались друг с другом, например — «ветераны
Великой Отечественной войны» принадлежали также и к стар-
шей возрастной группе Любая из категорий самоотождеств-
ления несла массу значений Так, когда «мы, женщины» произ-
носилось с определенной, знакомой всем интонацией, было
понятно, что речь идет о низком статусе в обществе, стоянии
в очередях, недовольстве мужьями, нищете, тревоге за детей и
о многих других тяготах положения русской женщины
Привычное, незаметное для самих говорящих использова-
ние стилистического приема синекдохи (Dundes 1972, Bour-
dieu 1977 167) действовало так, что рассказы о личных про-
блемах становились неотъемлемой частью коллективной саги,
но синекдоха производила и обратный эффект за разговором
о трудностях группы проглядывали трудности отдельного че-
ловека Таким образом, всего одна дискурсивная операция мог-
ла служить для определения одновременно нескольких иден-
тичностей индивида личной, коллективной, национальной, —
а также выражала взаимосвязь этих уровней самоидентифика-
ции В каком-то смысле люди, ритуализированно, через дис-
курс, «вызывая дух» различных групп, создавали их фактически
или, по крайней мере, конкретизировали их очертания
(в смысле народ) — позволяет говорящим рисовать себя выразителя-
ми людских чаяний и народной воли, а свои рецепты решения про-
блем — в точности отвечающими первостепенным национальным
интересам, при этом вместо убедительных аргументов используются
лозунги и броские фразы > (thban 1994 747)
165
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
Литании и культурная установка
Литании помогали создавать всем знакомое (и легко сте-
реотипизируемое или пародируемое) настроение, свою рус-
скую культурную установку (stance ’), диспозицию (Bourdieu
1977: 214) или манеру (mood) — (Geerts 1973: 94—95). Уста-
новка — это позиция, как физическая, так и «эмоциональная»,
выражающая определенные состояния, ожидания, точки зре-
ния, ценности или устремления. В частности, установка, на-
ходящая выражение в литаниях, — это обычно состояние
жертвы, состояние человека или коллектива, претерпевающе-
го страдание, обреченного страдать «во веки вечные». При-
чинять страдание может могущественная личность (в конце
1980-х годов таковыми представлялись Сталин и Горбачев),
чужая социальная группа и даже сама вселенная, в местных
представлениях — судьба, жизнь, вечная русская неустроен-
ность. Такая культурная установка была следствием идеологи-
ческого конструирования России как царства неизбежных
страданий, тирании, нелепости, лишений и потерь.
Хотя я пришла к выводу, что культурная установка жертвы
является главенствующей в русском дискурсе (и в других по-
веденческих проявлениях), я отнюдь не хочу сказать, что она
единственная; наоборот — она всегда находилась в диалоге с
другими ключевыми культурными позициями, каждая из кото-
рых утверждала другие формы ситуационной идентичности:
безграничной, иррациональной восторженности (позиция
«юродивого»), непоколебимого равнодушия (позиция бюро-
крата), стоической выносливости (позиция «бабушки») и т.д.
Антиподом литании как дискурсивной формы может быть
названо славословие — жанр лицемерных, самодовольных,
хвастливых речей, на которых была построена большая часть
Слово «stance» обозначает позу, стойку игрока, готового к удару
по мячу, в разных спортивных играх, а также отношение, позицию,
установку (Прим, перев.)
166
ГЛАВА 5 ЛИТАНИИ И ЛАМЕНТАЦИИ
коммунистической пропаганды, и многие другие жанры офи-
циального языка (например, особый стиль ведения экскурсий
советскими гидами) Вот некоторые из ключевых черт, харак-
теризующих диалектическую оппозиционность этих двух
жанров:
Литания/ламентация
возложение ответственности
на других/судьбу
фаталистичность,
преувеличение бессилия
тематика — утрата /
недостаток
преим. «женственность»
жанра, принадлежность
женщинам
ориентированность
на прошлое
печальный настрой
пессимистичность
Славословие
прославление себя /нации /
России
утопичность, преувеличение
могущества
тематика — приумножение /
талантливость
преим. «мужественность»
жанра, принадлежность
мужчинам
устремленность в будущее
воодушевление
оптимистичность
Если жанр славословия принадлежал по преимуществу к
дискурсу власти, был знаком идентификации с институтами
власти или близости к ним, то литания — это жанр, утвержда-
ющий невинность безвластных (которая парадоксальным об-
разом оборачивается формой моральной власти — я еще вер-
нусь к этой теме). Не будучи, за исключением особых случаев,
ни конфронтационной, ни целиком пассивной, литания выра-
жает коллективное недовольство граждан приниженным по-
ложением в обществе и обнажает обратную сторону «офици-
альной истории» (Scott 1990).
Поэтому неудивительно, что в 1989 и 1990 гг. литаний
практически не было слышно из уст людей, занимавших
сколько-нибудь значительные посты. Я работала в Москве
167
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
еще до распада СССР и поэтому имела возможность про-
интервьюировать немало представителей официальной
советской власти — государственных чиновников, военных,
политических деятелей, партийных функционеров. В этих
интервью литаний не звучало. Бывали моменты приподнятой
сентиментальности, например когда один ветеран войны
вспоминал прибытие американских джипов с шоколадом и
тушенкой. Были рассказы о личных утратах и потерях стра-
ны в войне, сожаления о запрете религии в Советской Рос-
сии и т.п. — т.е. те типы разговоров, которые в других об-
стоятельствах вылились бы в литании и ламентации, но в
описываемых случаях главенствовали другие жанры. В част-
ных разговорах официальные лица могли произнести ли-
танию, однако я не раз наблюдала — например, будучи у
кого-нибудь в гостях, — как люди с прочным социальным
статусом избегали участия в дружных сетованиях остальной
компании. Те же, кто постепенно терял или уже потерял та-
кой статус, например пенсионеры, могли много говорить,
используя форму литаний, и нередко о том, что нация мо-
рально деградировала в результате перестройки. Подобная
тенденция лишний раз показывает, что в целом литания/ла-
ментация ассоциируется с ущербным или утраченным фор-
мальным социальным статусом или властью.
Гендерные различия проявлялись в литаниях особым об-
разом. У мужчин литании звучали более иронично, чем у
женщин. Я полагаю, здесь отражается традиционное разделе-
ние «дискурсивного труда»; женщинам — жалоба, мужчи-
нам — острота6. К тому же, детали, окрашивавшие литании в
6 В дореволюционной России существовало немало четко разгра-
ниченных по полу жанровых и лексических форм. Так, плач был ис-
ключительно женским жанром; плачи могли исполняться професси-
ональными плакальщицами во время обрядов жизненного цикла (о
свадебных плачах см. Балашов 1985), в ситуациях личных утрат (по-
хоронные плачи), а также по поводу потерь, например, в войнах
168
ГЛАВА 3. ЛИТАНИИ И ЛАМЕНТАЦИИ ..
определенные тона, брались из символических и професси-
ональных сфер, традиционно считавшихся мужскими или
женскими. Если мужчины могли «литанизировать» на темы
политики, экономики, военных дел, то женщины обычно жа-
ловались на дефицит, на проблемы с детьми и на «неподдаю-
щихся» мужей.
Литании: темы и культурные позиции
В общем и целом фокусом литаний были человеческие
потери в прошлом, крупные социальные потрясения в насто-
ящее время и неопределенность (или неминуемость борьбы и
лишений) в будущем. Хотя эти сюжеты масштабны сами по
себе, диапазон составлявших их конкретных тем и деталей —
«кирпичиков» жанра — был относительно неширок. Когда
речь шла о прошлом, в литаниях оплакивались потери русско-
го народа во время революции, в сталинскую эпоху и/или в
годы Великой Отечественной войны — жертвы, которые пере-
стройка, казалось, обесценила. Часто люди сожалели о том,
что коммунистическая идеология и абсурдные советские про-
екты изуродовали множество человеческих жизней. Темами
литаний о современности были трудности и все новые безу-
мия жизни или же «моральный упадок» общества (преступ-
ность, насилие, апатия и т.п.). Литании на тему будущего про-
(Bazanov 1975). Тема гендерного разделения русского крестьянского
дискурса затронута В. Аникиным (Anikin 1975: 33) и Дж. Хауи (Howe
1991: 49—65). Во многих, хотя, разумеется, далеко не во всех, культу-
рах плач является специфически женским жанром (см., например,
Alexiou (1974), Caraveli-Chaves (1980), Seremetakis (1991) и Holst-
Warshaft (1992) о греческих плачах; Briggs (1992) о «женском вое» у
варао дельты Ориноко в Венесуэле и Grima (1992) о плачах пуштун-
ских женщин Пакистана). Плач явно связан с состоянием или ситуа-
цией бессилия, поэтому неудивительно, что он так часто становится
женской дискурсивной активностью
169
♦РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
износились по поводу явного тупика, в котором оказалась
страна, по поводу отсутствия ясного пути к лучшей жизни, к
более цивилизованному обществу, самые радикальные лита-
нии пророчили тотальный социальный апокалипсис, иногда
даже в глобальных масштабах. В разговорах литании могли
устанавливать связь между событиями прошлого, современно-
стью и будущим нации. Самым отчетливым в литаниях был
сложный комплекс тем об отношении к советской истории и
о степени и формах идентификации человека с социалисти-
ческим строем; большое разнообразие позиций наблюдалось
и в выражении мнений о перестроечных переменах.
Подобно любой форме разговора, каждая литания пред-
ставляла собой многогранное выражение идентичности и
мировоззрения говорящего. Нередко за простыми, незначи-
тельными деталями литаний стояли крупные социальные про-
блемы и различное отношение к этим проблемам. Например,
жалоба Натальи Викторовны на нехватку аспирина и инсули-
на сообщала о громадных масштабах лишений, которые вы-
пали на долю россиян во время перестройки. Моя собеседни-
ца связывала трудности сегодняшнего дня с исторической
судьбой своей родины и демонстрировала очень женскую
позицию сочувствия многострадальному народу, каким он
вырисовывался в ее дискурсе. Надо заметить, что, хотя она
жила просто и скромно и слыла глубоко порядочным челове-
ком, она принадлежала к элитной группе интеллигенции,
имевшей недоступные многим привилегии. Но по крайней
мере в пространстве своей литании она идентифицировала
себя с моральной общиной, состоящей из тех, кто страдает и
испытывает трудности, и таким образом стирала границу меж-
ду собственной социальной группой и русским народом в
целом. Как видим, даже малейшие детали литании передавали
целую палитру смыслов и свидетельствовали о многосложно-
сти сплава политических, социальных и нравственных пред-
ставлений говорящих.
170
ГЛАВА 3. ЛИТАНИИ И ЛАМЕНТАЦИИ
Социальная идентификация и указание
на виноватого через литанию
Можно выделить четыре основные линии социального
идентифицирования, которые маркировались и утверждались
в литаниях. Разумеется, деление это весьма схематично и
может затушевать непрерывно происходящее в реальных раз-
говорах (и часто непоследовательное) движение от одной по-
зиции к другой; за рамками остаются и подкатегории иденти-
фикации — по полу, профессии, территории и т.д. Однако
предлагаемая классификация все же показывает некоторые
общие модели социального группирования, которые отража-
ются и воспроизводятся жанром литании. Четыре типа лита-
ний, о которых я говорю, — «антисоветская», «просоветская»,
«популистская» и «русофильская». Эти обозначения не более
чем приблизительно связывают литании со сферами личност-
ных идентификаций, потому что, как известно, последним
изначально свойственна неустойчивость, множественность и
неоднозначность.
Антисоветские литании
Многие из слышанных мною литаний были проникнуты
гуманистическими идеями и «прозападными» настроениями;
такие литании чаще всего произносили представители либе-
ральной интеллигенции. Нередко их фокусом становились
темы абсурдности и трагичности советской жизни. «Жертва-
ми» в этих литаниях выступали абстрактные вещи — логика,
здравый смысл и права человека; народ мог быть представлен
в виде более конкретной жертвы, хотя чаще всего подчерки-
валось жертвенное положение творческой интеллигенции.
Абстрактным «злодеем» в данном жанре был сам комму-
нистический «проект», часто персонифицированный в обра-
171
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
зе Сталина, КГБ, милиции, аппаратчиков и вообще всех, кто
так или иначе поддерживал тоталитаризм; иногда здесь фигу-
рировал даже Ленин, однако по поводу меры его ответствен-
ности за трагедии советской истории было много разно-
гласий.
Хотя подобные литании всегда циркулировали в об-
ществе, и более всего среди интеллигенции, «взрыв» этого
жанра в сфере частных разговоров, свидетельницей кото-
рого я оказалась, вызвала лишь политика гласности, провоз-
глашенная впервые после короткой хрущевской «оттепели»
1960-х годов, а также публикация произведений о страшных
реалиях советской истории, в особенности сталинского пе-
риода. После довольно осторожного начала — появления в
1987 г. нескольких серьезных «ревизионистских» (и направ-
ленных против официальной советской историографии) ра-
бот, в 1988 г. хлынул бурный поток подобной литературы —
научной, автобиографической, художественной (подробно
этот процесс рассматривается в Nove 1989). Страстные об-
суждения прежде табуированных тем: сталинских репрессий,
коллективизации, ГУЛАГа, коррумпированности чиновников,
отсталости экономики — заполонили страницы самых изве-
стных и уважаемых литературных журналов («Нового мира»,
«Знамени», «Дружбы народов» и др.) и некоторых популяр-
ных журналов и газет («Огонька», «Московских новостей»,
«Литературной газеты»); внимание электронных СМИ к этим
темам тоже стремительно росло. Многие из выступлений
СМИ откровенно носили характер литаний, одни — мягких,
приглушенных, другие — страстных и эмоциональных. Не-
возможно передать, как горячо люди, особенно московская
интеллигенция, воспринимали эту открывшуюся им правду,
историю боли и страданий народа, с какой жадностью по-
глощали и обсуждали эти новые знания, как живо реагирова-
ли на них литаниями о своем собственном опыте. Приведу
всего несколько примеров.
172
ГЛАВА 3 ЛИТАНИИ И ЛАМЕНТАЦИИ
Однажды мы с другом были в театре, смотрели «Один день
Ивана Денисовича», и я спросила, как ему понравился спек-
такль.
«Мне кажется, он точно рисует нашу повседневную жизнь.
Конечно, условия здесь экстремальные, преувеличенные, но в
целом, по существу, это наше обыденное существование. Вы в
любой момент можете подвергнуться унижению, стать жерт-
вой произвола, глупости, жестокости. Я это испытывал всю
жизнь: в школе, в армии, на работе — всюду. Все наши соци-
альные отношения таковы. И мы запрограммированы воспри-
нимать этот садизм как нормальный и естественный. Этот
спектакль — прекрасная метафора всего нашего общества в
целом».
Хотя этот текст был произнесен спокойным тоном (в отли-
чие от большинства литаний, звучавших, как правило, более
экспрессивно), он показывает, как говорящие привязывали
свой личный опыт к более широкой социально-исторической
панораме. Мой друг поместил себя в метафорический ГУЛАГ,
где он в каком-то смысле был такой же жертвой тоталитарно-
го режима, как, например, Иван Денисович (или сам Солже-
ницын).
Куда более драматичными были литании моей подруги,
поэтессы Маши (возможно, из-за того, что исходили они от
женщины). При каждой нашей встрече в какой-то момент раз-
говора она глубоко вздыхала и начинала рассказывать о ка-
кой-нибудь очередной проблеме в своей жизни, причем все-
гда ставила ее в широкий социальный контекст. Обычно это
происходило спонтанно, но иногда я подталкивала ее каким-
нибудь вопросом или замечанием по ходу ее долгих и красоч-
ных монологов. Как-то я прочитала одно стихотворение Ах-
матовой и спросила, что она думает о нем.
«Ахматова? Ахматова? Ты думаешь, что раз она величайшая
поэтесса двадцатого века, я читала все ее стихи? Если я что и
прочитала, то только в самиздате. Я сама перепечатывала на
173
• РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
машинке все, что могла достать. Ты не понимаешь, Нэнси. Это
страна абсурда. В этой стране поэтам не разрешается читать
настоящую поэзию, художникам — видеть настоящее искусст-
во, музыкантам — слышать современную музыку. Здесь все не
так. Ты не можешь себе представить мою жизнь. Я пытаюсь
написать что-нибудь стоящее, что-то, что внесет хоть каплю
красоты в нашу жизнь. Но как мне это сделать? Откуда мне
знать, что красиво, когда от меня всю жизнь скрывали красоту
и видела я одно лишь уродство и лицемерие. Наша революция
была катастрофой. Солженицын прав,- это был триумф зла на
земле. Революция лишь позволила самым злым людям иметь
самую большую власть».
Я, в простоте душевной, попыталась поспорить с ней, гово-
ря, что если не в практике, то в идеалах социализма есть что-
то хорошее. Она ответила мне очень страстно:
«Как ты можешь говорить такое, когда у нас есть ГУЛАГ,
когда мы преследуем наших самых талантливых людей, таких
как Солженицын? Когда весь наш народ — это, по существу,
рабы, без души, без мозгов, без чувства красоты, правды, доб-
роты, человеческой порядочности? Революция разрушила
Россию. И сейчас я всю жизнь трачу на то, чтобы найти врача,
который бы меня вылечил. Со мной что-то не в порядке, я не
знаю что, это неуловимо. Я ходила к разным докторам, они
мне прописывают одно лекарство за другим, но ничего не
помогает. Может быть, у меня душа больна. Как можно выле-
чить душу? Как можно вылечить душу целого народа?»
Ее ламентация продолжалась еще долго, кружа вокруг од-
ной и той же темы, возвращаясь к популярной метафоре боль-
ного государства и необходимости лечить самое душу русско-
го народа. Как обычно в таких литаниях, Маша не предлагала
конкретного средства, но лишь говорила, что ситуация безна-
дежна, что «болезнь смертельна». Можно было заметить, как
менялись масштабы ее самоидентификации: сначала это была
она сама, затем творческая интеллигенция в целом, наконец,
174
ГЛАВА 3 ЛИТАНИИ И ЛАМЕНТАЦИИ..
они расширились до «всего народа». Пассивный залог, время
от времени употреблявшийся ею в этой литании, делал таким
же подвижным и образ «злодея».
Другая женщина, пожилая, дочь известного писателя, го-
раздо определенней обозначала интеллигенцию в качестве
жертвы, но возлагала ответственность за все произошедшее не
только на советскую систему, но и на русскую ментальность.
Елизавета Михайловна пыталась описать и объяснить мне ис-
ключительную природу русской ЖИЗНИ:
«Вам, людям Запада, не понять нашей жизни. Западные
средства массовой информации все искажают, пытаясь объяс-
нить нас рационально. Русская реальность построена на
абсурдах — экономических, общественных, даже научных
[ударные гласные в этом перечислении растягивались в харак-
терной для литаний манере. — HJP.]. Вся наша жизнь построе-
на на абсурде, на невозможном. Русская действительность
донельзя нелепа и несуразна. А наука! Советских ученых за-
ставляли следовать за мифическими героями науки, в прямо
противоположную сторону от западных научных открытий.
Например, много лет Лайнус Полинг был под запретом, то же
самое в биологии, генетике, в других отраслях. Истина просто
игнорировалась! Мы изобретали свою собственную истину!
Это и в жизни плохо, но когда это делается в науке... Как это
может быть? Это может быть потому, что русские всегда куль-
тивировали невежество и гордились своим невежеством, не-
знанием самых основных вещей. Русские очень склонны ве-
рить лжи, пропаганде, всякой чуши. Люди у нас глубоко не-
вежественны, не знают прежде всего своей собственной
истории. А сейчас... Я смотрю вокруг, я получаю много писем
и ясно вижу, что молодое поколение абсолютно нигилистич-
но, у него нет ценностей, абсолютно никаких. Я думаю, нас
ждет гражданская война и полный распад. Это кошмар».
Елизавета Михайловна связала в одно целое прошлое, на-
стоящее и будущее, обвиняя в советском абсурде русскую «спо-
175
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
собность верить лжи, пропаганде, всякой чуши», будучи рус-
ской, этой речью она обозначила свою принадлежность к дис-
сидентской элите, для которой высшей ценностью было муже-
ство в поисках истины в условиях чудовищной советской
реальности. Демократ по убеждениям, она с грустью говори-
ла о социальном упадке, сопровождающем либерализацию, о
потере веры в знания и истину, о том, что вокруг она видит
лишь нигилизм молодежи, который только способствует «пол-
ному распаду».
Одна моя приятельница, армянка, сорокалетняя москвич-
ка, произнесла длинную литанию о тоталитаризме в жизни
общества. Используя синтаксический параллелизм, она гово-
рила о военизированности советских школ, летних детских
лагерей и молодежных организаций. Она подробно описыва-
ла строгий порядок, тоталитарный способ руководства, пра-
вила и предписания, превращавшие детский лагерь в подобие
«трудового лагеря с рабским трудом». «Этот опыт всех нас без-
возвратно “запрограммировал”. Мы отравлены, испорчены,
погублены тем, как в этой стране воспитывают детей. Нас всех
исковеркала тоталитарная “формовка”, и мы делаем то же са-
мое со своими детьми, даже сейчас, помимо своей воли».
Ее литания о «погубленном русском народе» перешла в
литанию о полной безнадежности и завершилась литанией о
«тупике», в который судьба завела страну. Однако тут же она
начала новый рассказ, на сей раз об ужасах, испытанных ее
друзьями в Баку во время армянских и русских погромов, и
завершила его чуть ли не клятвой бороться против «фашис-
тов» и «дураков».
Хотя моя знакомая начала с литании о невозможности пе-
ределать сформированный тоталитаризмом характер, она
все-таки умудрилась закончить свой монолог заявлением о
необходимости стать сильнее. В каком-то смысле, мне кажет-
ся, она оказалась в плену двух взглядов на саму себя: с одной
стороны, как на «безвозвратно запрограммированную», а с
другой — как на личность, склоняющуюся к более активной
176
ГЛАВА 3 ЛИТАНИИ И ЛАМЕНТАЦИИ
жизненной позиции. Из подобных эпизодов я сделала вывод
о том, что литании не принадлежат к типу логического дис-
курса, подобно поэтическим или религиозным текстам, стро-
гой логики литании не предполагают. Литания представляет
собой выражение сложной и противоречивой идентичности
и локализации в культуре; ее «правда» выступает через проти-
воречиво-поэтический, а не логически выверенный язык.
Многие литании на тему «деградации России» обходились
без широкой политической перспективы. Нередко в них со-
держались указания на профессию говорящего, а сюжеты
фокусировались на магазинах. Однажды вечером я ехала с
концерта домой со знакомой парой в их машине, и они всю
дорогу потчевали меня литанией о профессиональных труд-
ностях музыкантов, каковыми оба являлись. Супруги жалова-
лись, что в условиях всесокрушающей перестройки, когда нет
ни вдохновения, ни приличных залов, стало очень трудно ра-
ботать творчески. Потом они перешли к литании о том, как
тяжело принимать решение об эмиграции, причем данная
литания, навеянная моим американским присутствием, была
явной попыткой оправдать свое желание уехать, попыткой
отделить себя от сотоварищей. Женщина повернулась ко мне
и с чувством произнесла:
«Ты знаешь, как мы унижены? Представь себе, музыкант,
художник ломает голову над тем, как бы ему достать какое-
нибудь новое произведение для исполнения или, скажем, ку-
пить ботинки. Или беспокоится о том, как ему раздобыть ку-
рицу, чтобы сварить в воскресенье суп. Что это за жизнь, тем
более для художника? Без конца думать о каком-то тощем
цыпленке. Это не жизнь, в таких условиях невозможно быть
артистом, вот почему мы хотим уехать».
Эта литания своеобразно оттеняла другие литании, в част-
ности о магазинах; в ней звучало некоторое недовольство пси-
хологическим состоянием общества, непрерывно жалующего-
ся на материальные трудности. Интересно, что одна и та же
реальность могла порождать совершенно различные реакции
12. Заказ № 2742.
177
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
и оценки. Например, в Машиной истории о «женщине в голу-
бом» материальный дефицит стал контекстом, в котором рас-
сказчица создала трогательный образ женщины, отнюдь не
униженной, а сохранившей умение быть красивой вопреки
всем трудностям.
Иногда некий конфликт разных уровней самоидентифика-
ции проявлялся в «магазинных» литаниях, произносимых
людьми помоложе и с более либеральными настроениями.
Примером такой внутренне противоречивой литании может
послужить речь удачливого кооперативщика Юры, в которой
он и его друзья представали то униженными, то торжествую-
щими. Сначала Юра пожаловался на «низкую сознательность»
тех, кто думал только о том, что бы им купить: «новый пиджак,
ботинки, курицу» (курица и вообще мясо были распростра-
ненными объектами в «магазинных» литаниях). По словам
Юры, он и такие, как он, все свободное время рыщут по горо-
ду в поисках чего-нибудь «стоящего»: мяса, кроссовок «Рибок»,
западных джинсов — «чего-нибудь, о чем люди на Западе даже
не задумываются, — идут в любой магазин и покупают что
понравится! Как мы добьемся чего-нибудь, если мы столько
времени проводим в хождении по магазинам?» Однако в сле-
дующей фразе его тон изменился, и он гордо заявил, что самое
дорогое, что у него есть, — это «ливайсы», которые из-за сил и
средств, вложенных в их покупку, стали «золотыми». Подоб-
ный дискурсивный сдвиг — с жалобы на трудности советской
жизни, из-за которых человек морально деградирует, к ра-
дости по поводу приобретения высокоценимых джинсов —
показывает, что одно и то же (затруднительное) положение
может быть маркировано как негативно, так и позитивно, в за-
висимости от того, какая сторона личности говорящего вы-
свечивается в данный момент.
Но, поведав о своих любимых джинсах, Юра все-таки вер-
нулся к тому, с чем постоянно сталкиваются кооперативщики:
«Хотя мы предоставляем нужные всем услуги, хотя все сча-
стливы, что к нам можно обратиться и мы все сделаем быстро,
без обмана, качественно, в отличие от услуг по-советски, ко-
178
ГЛАВА 3- ЛИТАНИИ И ЛАМЕНТАЦИИ
торых еще надо было десятилетиями ждать!.. Хотя мы нужны
и мы одни переделываем эту страну, нас все равно ненавидят,
называют проходимцами и ворами. И хотят нас извести. Они
считают, что обмануть нас, не заплатить за работу — это пра-
вильно и справедливо; они плюют нам в лицо, наговаривают
на нас властям. Чего мы добьемся в подобной ситуации? Здесь
невозможно честно работать. Коммунизм разрушил нашу спо-
собность работать. Люди не ценят добросовестную работу,
даже если она приносит им пользу. Мы, кооператоры, един-
ственные во всей стране честные и работящие люди».
Интересно, что через несколько месяцев после этого раз-
говора Юра украл несколько тысяч долларов у своего партне-
ра по кооперативу (тоже моего знакомого) и скрылся.
Просоветские/антиперестроечные
литании
У пожилых, особенно прошедших войну, людей, называю-
щих себя патриотами, был свой тип литаний. В этих литаниях,
часто мною слышанных, выражалось неодобрение перемен,
начатых в стране перестройкой; особенно горько оплакива-
лось решение перейти к рыночной экономике и пригласить
иностранных инвесторов («которые только разворуют ресур-
сы СССР и ничего не дадут взамен»); говорилось о «вреде»
кооперативов и осуждались все те, кто «хочет быстро разбо-
гатеть за счет народа». Пострадавшей стороной в таких лита-
ниях иногда выступали оставшиеся верными себе коммунис-
ты, но чаще ею был народ вообще — невинные, честные люди,
отдавшие всю свою жизнь построению светлого будущего,
которое теперь, по их мнению, бездумно разрушили Горбачев
и иже с ним.
Также в просоветских литаниях часто выражалось недо-
вольство тем, что в России, благодаря гласности, вдруг подня-
лась волна самообвинений. «Это [гражданская война, сталин-
12*
179
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
скис репрессии] было в прошлом. Надо оставить все это в по-
кое, — говорил один человек. — Сталин делал то, что было
необходимо, учитывая, сколько у СССР было врагов в то вре-
мя; мы не должны судить его с позиций сегодняшнего дня».
Зато просоветские литании объявляли «злодеями» Горбачева,
националистических лидеров прибалтийских и других рес-
публик, а после падения Берлинской стены и выхода восточ-
ноевропейских союзников из сферы московского влияния —
и «наших неблагодарных братьев в Восточной Европе, для
которых советский народ стольким пожертвовал». В образе
спасителя в этих литаниях иногда выступал Ленин, который
непременно привел бы людей к социализму, если бы только
они продолжали двигаться по намеченному им пути, а не на-
чали бы осмеивать вождя и культ его личности7. Поскольку в
период перестройки среди правоверных коммунистов на-
шлось не так уж много признанных харизматических лидеров,
избавителем от трудностей считать было некого; иногда,
впрочем, эта роль приписывалась Партии. Политические сим-
патии, выражавшиеся в просоветских литаниях, варьирова-
лись от яростно-коммунистических (даже сталинистских) до
вполне умеренных социалистических. Чем мягче звучала ли-
тания, тем реже на голову отрицательного героя (например,
Горбачева) призывались проклятия и угрозы.
«Полная разруха» была одним из самых частых рефренов в
таких литаниях. Ритуальное перечисление элементов разруша-
ющегося мира включало государство, дух коллективизма, со-
7 Главная «религия» советского периода — культ Ленина — подроб-
но рассматривается в книге Н. Тумаркин (Tumarkin 1983); об этом же
см. Lane 1981. В течение всего советского периода широко пародиро-
вался культ Ленина — в форме анекдотов, самодеятельных песен, в
литературе и искусстве андеграунда. В эпоху гласности многие из
произведений этого рода были опубликованы. Важно, однако, прово-
дить различие между пародированием культа Ленина и гораздо менее
распространенным пародированием самого Ленина. Разумеется, «ве-
рующие» не видели разницы между высмеиванием культа личности и
осмеянием самого человека.
180
ГЛАВА 3 ЛИТАНИИ И ЛАМЕНТАЦИИ
ветскую экономику, талант нации, социалистическое искусст-
во, мораль, мужество, порядок. Я бесчисленное множество раз
слышала (от одного или сразу от нескольких говорящих) лита-
нии, посвященные каждому из этих элементов «распадающей-
ся социальной ткани». Иногда элементы перечислялись абст-
рактно, иногда с подкреплением конкретными примерами.
Такую литанию я услышала на одном митинге в 1990 г. в
выступлении школьной «агитбригады». После долгой речи о
проблемах, связанных с накопленным в мире ядерным оружи-
ем, учительница, организатор мероприятия, объявила сценку
под названием «Бой преступности». Действие скетча, постав-
ленного по всем законам этого жанра, с использованием рек-
визита и костюмов, строилось вокруг серии откровенно ди-
дактических литаний, которые изрекла сама учительница.
Жалобным тоном она приводила статистику растущей в СССР
преступности и говорила о деградации общества и появлении
новых социальных свобод (параллелизм, несомненно, должен
был подчеркнуть взаимосвязь этих явлений); затем она произ-
несла краткий призыв к борьбе с преступностью, заявив, что
каждый ребенок может внести в эту борьбу свой вклад (тем,
например, что не станет бить камнями окна), после чего по-
просила детей рассказать какие-то личные случаи столкнове-
ний с преступностью. Выступили несколько школьников, и
потом учительница выдала типичную литанию о том, как
ужасны нынешние преступность, пьянство и недисциплини-
рованность, какой кошмар переживают сейчас люди и как
испортится молодое поколение, если сейчас же не будут при-
няты эффективные меры. Кульминацией мероприятия стал
музыкальный номер, в котором зрителям представили откро-
венную параллель между «растленными капиталистами-нэп-
манами» 1920-х годов и современными кооперативщиками и
дали понять, что к нынешней деградации имеют отношение
иностранные бизнесмены.
На самом деле эта литания была лишь слегка завуалирован-
ным осуждением идеи либерализации, которая, как подразу-
181
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
мевалось, и вызвала разброд и подрыв социального порядка.
К ответу призывались одновременно Горбачев, кооперативы и
западное влияние. Подобные литании были отнюдь не редко-
стью в описываемое время, они красноречиво говорили о на-
личии довольно консервативных установок в обществе, у тех
людей, которые предпочитали порядок и дисциплину «эксцес-
сам» свободы. Понятно, что такие люди в свое время глубоко
уверовали в необходимость строгого социального контроля,
а также в моральную распущенность Запада, о которой не пе-
реставая твердила советская пропаганда.
Подобные ориентации отразились и в короткой, но пла-
менной литании одного историка, «свежеиспеченного»
пенсионера: «Мы выехали на Запад и привезли к себе оттуда
жадность, агрессивность, зависть! Вот в чем источник сегод-
няшней ужасной ситуации. Кооперативщики — это спекулян-
ты и воры, как и все ваши западные бизнесмены». В том же духе
продолжила разговор и более молодая женщина: «Да, они все
стараются как можно быстрей разбогатеть, пока здесь еще не
все лопнуло».
«Популистские» литании
«Популистские» литании фокусировались на обобщенной
категории «народ», который представал как жертва, испокон
веков страдавшая от рук высших классов. Отношения между
народом и власть имущими рисовались как раз и навсегда
установленные, нерушимые и при этом несправедливые; но и
тут, как и в антисоветских литаниях, подразумевалось, что ка-
ким-то образом такое положение связано с русской менталь-
ностью или культурой. Существенно, что в этих литаниях тоже
не фигурировал никакой конкретный спаситель; нередко они
заканчивались ламентациями по поводу безнадежности соци-
альной ситуации, сравниваемой в таком случае с «тупиком»
182
ГЛАВА 3 ЛИТАНИИ И ЛАМЕНТАЦИИ
Литании этого типа чаще всего можно было услышать от
женщин. Начинали они с разговора об ужасной ситуации с
продовольствием и о том, как им трудно обеспечивать свои
семьи. Однажды за чаем одна женщина рассказала коллегам
по работе, что не смогла достать лекарство для своего сына.
Последовал хор сочувственных слов и обещаний поспраши-
вать это лекарство в своих районных аптеках. Затем кто-то
из присутствовавших рассказал о статье в «Известиях», где
объяснялось, что лекарства исчезли потому, что все фабрики
закрыли из-за загрязнения ими окружающей среды. Тогда за-
говорили все.
«Вот это наша страна, — сказала одна женщина, — наша
обычная тупость. Это безнадежно. Решая одну проблему, мы
создаем другую, затем следующую и так до бесконечности. Так
в России всегда. Логики нет ни в чем. А кто от этого страдает?
Народ страдает, особенно женщины и дети. Правители полу-
чают себе лекарства из-за границы, им-то все равно».
«Да, — поддержала ее другая, — это ужасно, это кошмар. Что
нам делать? Нам дали свободу слова, но нас освободили и от
всего остального — от еды, лекарств».
«И так всегда будет в России, — продолжила третья. — Это
безнадежно. Выхода нет. И будет все хуже и хуже».
«Нет! — заявила самая оптимистичная женщина. — Мы
должны ходить на демонстрации, а не сидеть дома и пассив-
но ждать улучшения!»
«Что это даст? — спросила первая. — Никто даже внимания
на нас не обратит. Все бесполезно».
В другой раз, в парке, мы с одним немолодым писателем
сидели на скамейке, и мой собеседник произнес длинную ли-
танию о русской жестокости и бестолковости:
«Посмотри на нашу историю. Она трагична, с самого нача-
ла. Татарское иго, Иван Грозный, Петр Великий — ты знаешь,
сколько людей погибло ради того, чтобы он построил Петер-
бург? Народ во всех этих проектах ничего не значит, просто
ничего, он как пыль. Русские всегда были только рабами. Мо-
жет быть, нам даже нравится наше рабство — оно снимает с
183
< РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
нас всякую ответственность. Потом — ужас революции, Граж-
данская война, русский против русского — ужасно. Только в
этой стране, только здесь, только русские могли так поступать
друг с другом. Сталин, ГУЛАГ, война — сколько миллионов по-
гибло из-за нашей тупости, полного безразличия к человечес-
кой жизни? Наши лидеры просто швыряли человеческие тела
на фронт, миллионами, строили из них заслон, втаптывали в
грязь. Никакой продуманности, никаких попыток сохранить
жизни. А сейчас? То же самое. Абсурдная горбачевская пере-
стройка. Зачем она? Посмотреть, сможем ли мы снова выжить
без еды, без самого необходимого даже для самой простой
жизни. Дайте нам тысячу лет, и все равно будет то же самое.
Это в наших генах. России никогда не стать цивилизованной
страной».
Такого рода речи я слышала десятки раз из уст людей са-
мых разных профессий и возрастов. Детали были в основном
одни и те же, хотя в целом литания могла быть окрашена либо
в жалобные, либо в горько-иронические тона, что чаще всего
определялось полом говорящего. Один знакомый любил уго-
щать меня рассказами о мучениях, которым его в разное вре-
мя подвергали всякие «садисты» — офицеры в армии, бю-
рократы, чиновники (он называл их «хулиганами»). Весело
рассказав очередную историю, он как-то вдруг переходил на
резкий тон и произносил рефрен о России вообще, причем
использовал довольно сильные выражения: «Эта проклятая,
дурацкая, е...я, ужасная страна. Тысячи лет этого е...го абсурда.
Никогда ничего не изменится».
Русофильские литании
Русофильские литании резко контрастировали с теми, о
которых мы только что говорили. В них Россия («Родина»)
прямо или косвенно представлялась многострадальной жер-
твой притеснителей нероссийского происхождения. Родина-
жертва описывалась через целую цепочку культурно значимых
184
ГЛАВА 3 ЛИТАНИИ И ЛАМЕНТАЦИИ
определений, звучавших еще выразительнее благодаря риф-
мующимся окончаниям женского рода: грустная, несчастная,
бедная, измученная, многострадальная, обманутая, беззащит-
ная, всепрощающая. Русский народ в этих литаниях, есте-
ственно, тоже выступал жертвой и удостаивался тех же эпи-
тетов. Находились и другие жертвы: русская православная
традиция, русский царь и его безвинно убиенная семья, рус-
ская земля, русское крестьянство, русский генетический фонд,
исторические святыни — все это хранилось в русофильской
кладовой жертвенности и страдания.
Список мучителей родины был так же велик и разнообра-
зен. Коммунизм и коммунисты стояли во главе его, за ними
шли безбожный Запад и нерусские народы Советского Союза
(особенно кавказцы); особых поношений удостаивались ев-
реи и сионисты. Самым заметным героем-спасителем России
в русофильских литаниях выступал Солженицын, но встреча-
лись в этой роли и другие писатели, художники и обществен-
ные деятели. (См. интересную работу К. Парте о возрождении
русофильских идентичностей в позднекоммунистической
России: Parthe 1997.)
Как-то вечером я слышала литанию этого типа по телеви-
зору, в концерте, где молодой певец классической русской (по
популярным представлениям) внешности, одетый в мундир
офицера царской армии, твердо расставив ноги, заложив руки,
будто связанные, за спину, со взором, устремленным вверх,
исполнял песню под названием «Россия» — длинную литанию
о трагической истории России со следующей концовкой.
Листая старую тетрадь
Расстрелянного генерала,
Я тщетно силился понять,
Как ты смогла себя отдать
На растерзание вандалам'.
* Песня И. Талькова. {Прим, перев )
185
< РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
Подобные ламентации служили одним из ключевых меха-
низмов, посредством которых русский национализм и соот-
ветствующая идентичность, в советские времена в некоторой
своей части подавлявшиеся, вновь «входят в обращение»; бе-
лый генерал-мученик в этой синекдохе олицетворял собой
саму Россию. Оплакивание «Матери-России», отдавшей себя на
растерзание «насильникам» (большевикам, евреям, а с недав-
него времени — западным капиталистам), заняло большое
место в современном националистическом дискурсе (ср. Жи-
риновский 1994).
Многочисленные националистические литании, в которых
во всех бедах советской эпохи или, наоборот, в развале Совет-
ского Союза обвинялись евреи, сионисты, заговор ЦРУ и ев-
рейства, вызывали у меня отвращение. Сейчас я сожалею, что
главным образом из-за этого неприязненного чувства я в Мос-
кве не занималась такими литаниями, хотя они могут (и долж-
ны) составить предмет целого отдельного исследования. Од-
нако позже, во время полевой работы в Ярославле в 1994 и
1995 гг., я обращала гораздо больше внимания на такие лита-
нии — отчасти потому, что они довольно часто появлялись в
тамошних разговорах, в том числе и у либеральной интелли-
генции.
Был и еще целый спектр тем в националистических ли-
таниях. Как-то я пошла в одну московскую школу на встречу
учащихся с группой школьников и учителей из Прибалтики.
В какой-то момент мы, взрослые, оставили школьников одних
и отправились в учительскую, где нам со всеми церемониями
был подан чай. Через некоторое время прибалтийские учите-
ля ушли, меня же уговорили остаться еще на чашечку. И тут
началась коллективная литания (обращенная ко мне) о том,
что учителя из прибалтийских республик, в то время активно
утверждавших свою независимость, не нуждались более в сво-
их московских компатриотах. «И это после всего, что мы для
них сделали», — печально сказала одна учительница, причем
186
ГЛАВА 3-ЛИТАНИИ И ЛАМЕНТАЦИИ
было неясно, кому же мы сделали столько хорошего — ее дру-
зьям-учителям или всей Прибалтике в целом. Для литаний это-
го типа характерно такое неразличение отдельных категорий
населения. Другая учительница подхватила тему и добавила ей
масштабности (Luthi 1976), упомянув сначала Прибалтику, а
затем перейдя к Восточной Европе (дело было через несколь-
ко месяцев после падения Берлинской стены и провозглаше-
ния восточноевропейскими странами своей независимости
от Советов): «Они должны нам, русским, компенсировать все,
что мы в них вложили. Мы так им помогали... столько лет...
столько наших сыновей, 150 тысяч или около того мы отдали
на защиту одних чехов... а сейчас они называют нас оккупан-
тами. Мы столько отдали, чтобы их освободить, а они отвора-
чиваются от нас и называют нас оккупантами».
Аналогичные литании — об отношениях Советского Союза
(или России) с другими странами и споры о том, кто принес
больше жертв ради этих отношений, можно было слышать и
в средствах массовой информации. Как-то во «Взгляде» пока-
зали сюжет о вылетающих из Шереметьева вьетнамцах, на-
вьюченных советскими товарами: игрушками, лекарствами и
проч., — и один из них, как будто защищаясь от вопросов ин-
тервьюера, сказал: «Мы хотим это все продать дома. Почему мы
должны чувствовать себя виноватыми?» Закадровый текст со-
стоял из перечисления (с интонацией литании) товаров, ко-
торые вьетнамцы собирались «экспортировать», и завершал-
ся выводом: «Их старшие братья сейчас тоже страдают, и им
эти вещи наверняка самим пригодились бы». В насыщенном
референтном поле данного заявления можно увидеть ссылку
на общее (и даже, в метафорическом плане, семейное) и тра-
диционное для русских и вьетнамцев «страдание», однако
здесь есть и дифференциация между угнетенными народа-
ми — «младшим» вьетнамским народом и «старшим» советс-
ким. Эта речь иллюстрирует также накопительскую менталь-
ность, закономерно развившуюся в контексте хронического
дефицита.
187
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
Приведенные примеры показывают, что в революционную
эпоху перестройки литании играли ключевую роль в чрезвы-
чайно важном процессе — выражении и реализации группо-
вых идентичностей и социальных позиций. В одно и то же
время личностные и «общественные», литании ставили инди-
видов, коллективы и целые нации в определенные отношения
с «другими» и прямо или в подтексте утверждали, что группа,
к которой принадлежит говорящий, непременно является
жертвой какой-то третьей стороны или же некоей метафизи-
ческой силы вроде судьбы или «национального характера».
У жанра литаний есть и еще один интересный аспект: про-
износящие их часто начинают состязаться друг с другом,
доказывая, что каждый из них страдает больше другого и за-
нимает высшую позицию в иерархии жертв. В следующем раз-
деле я привожу несколько примеров такого «соревнователь-
ного» литанизирования.
Иерархии жертвенности:
соревновательное литанизирование
Напряжение в отношениях между городом и деревней —
очень старая и тягостная тема в русском дискурсе; во время
перестройки она часто носила форму спора, кто от кого боль-
ше пострадал. Однажды утром в очереди за молоком под-
выпивший старик долго и с чувством говорил, как плохо в
Москве «В Москве одни министерства — министерство того,
министерство сего. И все, кто работают в министерствах, толь-
ко и делают, что берут, воруют, хватают, хапают. Поэтому здесь
так хорошо живут, и поэтому так плохо во всей остальной
стране». Такие литании, в сюжетах которых всю страну ущем-
ляли большие городские центры (особенно Москва), можно
было часто услышать от немосквичей; характер подобных ли-
таний нередко носили и письма к редакторам различных из-
даний. Москвичи же, напротив, жаловались на то, что все то-
188
ГЛАВА 3 ЛИТАНИИ И ЛАМЕНТАЦИИ.
вары в магазинах раскупают иногородние, толпами приезжа-
ющие в столицу. «Я знаю, что там сейчас трудно, — сказала
одна знакомая, — но мы тоже живем по карточкам. А провин-
ция теперь ничего не дает Москве. Там легче! У них есть зем-
ля, они могут себя прокормить. Что же они сюда повадились?»
На одном из заседаний незадолго до того образованного
феминистского научного центра мне довелось услышать це-
лую диалогическую серию состязательных литаний, в которой
развивалась в нескольких направлениях главная тема — тема
жертвенности; было видно также, как при помощи дискурсив-
ных средств разворачиваются различные сферы личностной
идентификации. Одна журналистка заявила: «В этой стране все
производится женщинами — дети, их воспитание... Ребенок
есть результат женского труда. А потом женщины отдают де-
тей, плоды своего труда, на войну, где их могут убить, или в
армию, где их могут покалечить. Вы, женщины, должны защи-
щать плоды своего труда. Вы производите солдат».
Другая участница ответила: «Мы считаем труд по производ-
ству детей трудом для самих себя. Поэтому этот труд должен
быть бесплатным».
«Государство отбирает у нас детей! — воскликнула пер-
вая. — Значит, до восемнадцати лет дети наши, а после этого
они принадлежат государству?»
«А что, если он женится и уйдет в другую семью?» — пари-
ровала вторая.
«Это уже его собственный выбор», — сказала журналистка.
Мужчина-журналист, присутствовавший на заседании, раз-
разился сердитой речью: «Неужели вам, москвичкам, не стыд-
но перед своими сестрами из других городов и сел? Вы смот-
рите со своей колокольни. Во всей остальной стране самый
тяжелый труд делают женщины. Восемьдесят процентов детей
в стране больны. Большинство семей живет в довоенных ста-
линских трущобах».
В ответ на мужчину обрушился шквал недовольства. Лю-
дям не нравится состоять в числе обвиняемых, даже если эта
189
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
«вина» — всего лишь быть москвичом Как и у всех, у русских
есть немало способов и «отвлекающих маневров» для отведе-
ния от себя каких бы то ни было обвинений — прервать
собеседника, проигнорировать сказанное, ответить вопро-
сом на вопрос и т.п.
Приведенный обмен репликами обнаружил несколько по-
лей идентификации. Поначалу журналистка говорила о жен-
щинах в третьем лице, как бы выступая в образе стороннего
радетеля о женских проблемах, затем она перешла на второе
лицо, как будто обращалась к женщинам напрямую; не встре-
тив же отклика, она немедленно переключилась на первое
лицо и влилась в ряды самоотверженных матерей Ее речь с
самого начала имела тон литании, а восклицание «государство
отбирает у нас детей!» было откровенной ламентацией.
Мужчина-журналист, в свою очередь, попытался снизить
значение жертв, приносимых москвичками, заговорив о еще
более трудной жизни женщин в других местах. Однако успе-
ха он не имел, так как собравшиеся дружно настаивали на том,
что именно они больше всех страдают от рук государства.
Одно из самых странных соревнований в литанизирова-
нии я наблюдала как-то в доме у своей знакомой, Варвары
Андреевны, шестидесятилетней преподавательницы марксиз-
ма-ленинизма, ветерана войны. Каждое из перечисленных
полей идентификации (возрастная группа, принадлежность к
верным марксистам-ленинцам, а также к ветеранам войны)
давало ей основание для соответствующих литаний. К обеду
были приглашены также двое ее аспирантов, Олег и Таня,
такие же, как она, твердые сторонники коммунистической
партии. Как только разговор зашел о потерях нации, собесед-
ники уже не отступали от этой темы (некоторым очень труд-
но отойти от настроя на литанию и сделать разговор более
легким; мужская ирония могла бы помочь, но в данном случае
об иронии говорить не приходилось). Завела литанию Варва-
ра Андреевна:
190
ГЛАВА S ЛИТАНИИ И ЛАМЕНТАЦИИ
«Наша страна столько недополучила из-за утраты интелли-
генции. Столько уехало до и после, и во время революции, и
перед войной. А сколько погибло на войне! Ты не можешь себе
представить, какая это потеря для нашей страны. Представля-
ешь, когда я вернулась с войны и пошла учиться в университет,
вместо профессора я увидела мальчика, просто мальчика. Дру-
гих преподавателей не было. Мальчик встал перед студентами,
открыл книгу по философии и начал нам читать, он просто
читал. Никакой не преподаватель, просто мальчик, читающий
по книге. Так мы учились. Никого не осталось, всех поубива-
ло на войне. Они все пошли добровольцами на фронт и погиб-
ли. Или попали в лагеря».
Тут вступил Олег: «Да, знаете, мне тридцать пять лет, и я
принадлежу к потерянному поколению. Мы все, люди моего
возраста, — потерянное поколение. Нас некому было учить,
передавать нам мудрость прошлого. Наши учителя старались
как могли, но столько было утеряно, мы действительно ощу-
щали недостаток знаний». Он еще некоторое время говорил о
том, как потеря старшего поколения сказывается на сегодняш-
ней жизни. В этой литании он как бы присваивал жертвы, при-
несенные другими, считал их своими собственными-, то же,
только тоньше, делала, не осознавая этого, и Варвара Андре-
евна. После Олега заговорила Таня, слегка изменив направле-
ние разговора: «Это все верно. Но вот сегодняшний день. Все
ломается, меняется, обесценивается. Все, что мы знаем. Я иду
в свою школу, где преподаю историю, и понятия не имею, что
сказать детям. И никто мне не подскажет, что нужно говорить.
Я учитель, не имеющий предмета». Затем мы перешли к теме
сталинских лагерей и потерь среди интеллигенции. Для срав-
нения я упомянула уничтожение евреев в нацистских лагерях,
но Варвара Андреевна резко оборвала меня:
«Нет, это совсем другое дело. Наши лагеря были куда хуже.
Понимаешь, нацисты убивали других людей, чужих. Они уби-
вали евреев и цыган А мы в советском ГУЛАГе — мы убивали
191
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ>
своих А это гораздо хуже — убивать своих Это нарушение
человеческой логики. Наши лагеря — явление пострашнее»
Говорящая была явно убеждена, что у советской интелли-
генции, с которой она себя ассоциировала, больше «законных
оснований» считаться жертвой. Примерно так же думала и еще
одна женщина, тоже ветеран войны. «В Германии столько ка-
ялись перед евреями, а перед другими, кто действительно по-
страдал от нацистов, например перед русскими, очень мало.
Мир безразличен к нашим страданиям». Подтекст здесь тот же:
внимание отнимается у одних пострадавших (или их вообще
игнорируют) и переносится на других пострадавших. Но тре-
буется не просто внимание — нужно признание, особое при-
знание, которого заслуживают лишь наиболее пострадавшие8.
Однажды я навещала женщину, на долю которой выпало
много весьма тяжелых и болезненных испытаний Наша
встреча произошла почти случайно: один общий знакомый
подумал, что я смогу чем-то помочь этой женщине (и я потом
старалась помочь, доставая ей лекарства и другие необходи-
мые вещи). Когда я впервые оказалась в ее двухкомнатной
квартире, она поначалу держалась несколько настороженно,
но моя искренняя заинтересованность ее судьбой, внимание
к ее рассказам и жалобам, по-видимому, растопили лед, и под
конец она даже обняла меня и несколько раз повторила, что
я «хорошая девочка» и что она хотела бы видеть меня еще.
Марии Федоровне было за семьдесят, и на протяжении
всей ее жизни, кроме детства, которое она считала счастли-
8 Бенедикт Грима описывает свой разговор с пуштунками, бежен-
ками из Афганистана в Пакистан Соперничество между афганками и
пакистанками в том, у кого больше ghatn — горя, потерь, тревог, от-
разилось в следующем ответе группы афганок в Пешаваре на упо-
минание антрополога о своем исследовании темы страдания: «Если
ты думаешь, что пакистанцам есть что сказать, то приходи лучше к
нам и послушай наши истории Наши женщины заставят тебя плакать
и умолять нас замолчать А что пакистанки знают о боли и страда-
нии’» Здесь мы видим нечто похожее на обсуждаемое нами россий-
ское соревнование в литанизировании (1992- 32)
192
ГЛАВА 3 ЛИТАНИИ И ЛАМЕНТАЦИИ
вым, советская действительность наносила ей удар за ударом
Ее мужа арестовали сразу после войны за участие в нефор-
мальном политическом дискуссионном кружке и сослали
Мария Федоровна отправилась за ним и девять лет, пока он
отбывал срок, прожила в тяжелых условиях сибирской дерев-
ни Раз или два в неделю она выстаивала очередь у тюремных
ворот, чтобы передать мужу что-то из еды и одежды, книги,
письма. По окончании срока они с огромными трудностями
вернулись в Москву. Муж начал публиковать философские ра-
боты, приобрел известность, а вместе с ней — непрошеное
внимание «компетентных органов». После многолетних пре-
следований, в совершенном отчаянии, он покинул Советский
Союз, не взяв с собой Марию Федоровну. Женщина надеялась,
что муж рано или поздно позовет ее, но шли годы, и она по-
няла, что ее бросили. Когда пришло это осознание, у нее слу-
чился нервный срыв, она отдалилась от друзей и жила затвор-
ницей многие годы. Муж ни разу не дал о себе знать И только
с приходом гласности, получив возможность обнародовать
свою историю, она обрела душевный покой. Мария Федоров-
на написала несколько статей о своей жизни, их напечатали,
и она почувствовала себя, как она выразилась, реабилитиро-
ванной Однако в момент нашей встречи Марии Федоровне
все равно жилось нелегко- получая небольшую пенсию, она
едва сводила концы с концами и страдала хронической болез-
нью, причинявшей ей боль и ограничивавшей движения.
Но это лишь «голый скелет» истории жизни Марии Федо-
ровны, а подробно она излагала мне ее целых семь часов. В то
время у нее жила гостья из Киева, подруга детства Елизавета
Дмитриевна. Она усадила меня на кухне, накормила, и обе
женщины стали по очереди рассказывать мне одну грустную
историю за другой. Они подсказывали друг другу детали, под-
черкивали какие-то моменты, все время припоминали что-то
по ходу дела, а я реагировала частыми сочувственными возгла-
сами («Страшно1», «Какой ужас1», «Кошмар» или просто «Ой»)
и глубокими вздохами Это обязательное сопровождение по-
13 Заказ №2742.
193
<• РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ•>
тока литаний, и такой способ участия в беседе незаметно для
меня самой выработался у меня за месяцы коммуникационно-
го опыта в России.
Марии Федоровне, судя по ее рассказам, собственная жизнь
казалась исключительно тяжелой, хотя о страданиях других
людей она тоже говорила. В литаниях о годах сибирской ссыл-
ки она и мужа включала в число жертв, виновниками же вы-
ступали сталинская система, лагерное начальство и веролом-
ные друзья. Но более всего ее литании касались того, что она
называла страданием вдвойне, — ухода мужа после всего, что
она ради него претерпела; она часто говорила вообще о тяже-
лом положении женщин в советской системе. Время от време-
ни в эту литанию вклинивалась Елизавета Дмитриевна, добав-
ляя свой опыт в перечень вспоминавшихся горестей и обид.
Эта сага о страданиях и жертвах, развернутая передо мной
в потоке литаний, была многослойной, многозвучной и разно-
направленной, давнее перемешивалось в ней с нынешним. Но
меня поразило, с каким горьким упорством Мария Федоров-
на держалась за прошедшие страдания, превращая их в живую
повесть о настоящем — повесть обо всех гранях страдания и
о бесконечности страдания вообще. «Ты видишь, какая это
жизнь, — не раз повторила она. — Как роман».
И действительно, в некотором смысле ее жизнь напомина-
ла роман (очень русский роман). Рассказ как бы заключал эту
жизнь в рамки литании. Короткие главы шли не в хронологи-
ческом, но в поэтическом порядке, развертываясь от одного
эпизода, в котором на долю героини выпадали потери и уни-
жения, к другому такому же. На роман эту жизнь делало похо-
жей и еще одно: она превратилась в нечто, чем можно опери-
ровать, взаимодействовать с миром (ср. Grima 1992; Abu-
Lughod 1986); вместе с фотографиями и газетными вырезка-
ми история собственной жизни составляла, по-видимому,
самое ценное имущество Марии Федоровны, нечто, принадле-
жавшее только ей и с каждым новым рассказыванием приоб-
ретавшее все большую ценность и глубину. Потери, лишения,
194
ГЛАВА 3- ЛИТАНИИ И ЛАМЕНТАЦИИ...
горести оказались единственным, чем в действительности
обладала Мария Федоровна (как и очень многие мои русские
знакомые) и что она могла предъявить обществу. Известность
мужа сделала ее страдания только значительнее — и «каче-
ственно», и «количественно», — однако именно эта масштаб-
ность страданий и позволяла ей считать себя архетипически
русской. С приходом гласности она стала превращаться из
persona non grata в личность с судьбой, заслуживающей, что-
бы — через литанию — о ней узнали другие. После 1985 г. к
Марии Федоровне за ее историей начали приходить журнали-
сты и писатели; она с гордостью показывала мне альбом с га-
зетными вырезками о себе. Она приобрела высокое место в
иерархии жертв и не очень охотно соглашалась признавать
аналогичные «заслуги» за другими. Когда я упомянула еще одну
знакомую мне женщину с необычайно трудной судьбой, Ма-
рия Федоровна небрежным отзывом постаралась приумень-
шить ее страдания. Моя собеседница явно «охраняла свою тер-
риторию» и свое положение в иерархии жертв; возможно,
этот статус оставался ее единственным утешением и компен-
сацией за горькую жизнь.
Социальная логика литаний
На уровне непосредственного общения литании предо-
ставляли людям средство донести друг до друга то, что их бо-
лее всего волновало в российской перестройке, в жизни и в
политике. То, что я назвала литаниями, — это скроенные по
свойственным конкретной культуре моделям манифестации
страха, беспокойства, разочарования, досады и других силь-
ных эмоций. Помимо этой функции, на другом уровне, лита-
нии служили для передачи целого спектра тонких и порой
противоречивых сигналов, позволяющих судить об идентич-
ности говорящего, о его мировоззрении, его личных устрем-
лениях и социальных ожиданиях. Однако литании были не
13*
195
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ>
просто способом говорить об этом мире, литании — также и
способ действовать-, другими словами, как и любые формы
речи, литании в одинаковой мере экспрессивны и инструмен-
тальны (Austin 1962). В конечном счете литании подтвержда-
ли существование некоторых фундаментальных социальных
диспозиций и ключевых логических структур русской культу-
ры и служили к их воспроизводству При рассмотрении соци-
альных функций и культурной значимости литаний можно
говорить о четырех характерных особенностях последних.
Прежде всего, ключевой темой этого жанра были могуще-
ство, сила, власть. Взаимоотношения могущественных сил
(персонифицированных или безличных) и бессильных
объектов (индивидов или коллективов) приложения этих сил
являлись фокусом перестроечных литаний. Литании недву-
смысленно делили российское общество на эти две фунда-
ментальные категории — жертв и злодеев (за которыми стоят
добро и зло) — и давали моральный комментарий к их взаи-
моотношениям.
Литания подразумевала среди прочего, что говорящий или
группа, от имени которой он выступает, морально выше дру-
гих, и это подразумеваемое превосходство определяется сте-
пенью интенсивности переносимого страдания или притес-
нения. Поэтому в литаниях всегда чувствовалось стремление
говорящего доказать, что он пострадал намного больше дру-
гих, и тем самым утвердить свою особую добродетель — до-
бродетель необладания властью в таком контексте, где власть
воспринимается как аморальная или недобрая.
Таким образом, в литаниях дискурсивно осуществлялась
тонкая операция «сведения баланса»: каждая литания произво-
дила своего рода моральную и социальную «калькуляцию»
описываемой ситуации, причем делала это так, что конкрет-
ный жизненный опыт или какая-то жизненная потеря обрета-
ли не только смысл (об этом пишут многие антропологи, на-
пример Evans-Pritchard 1937; Geertz 1973: 100—104), но и
196
ГЛАВА 3 ЛИТАНИИ И ЛАМЕНТАЦИИ
ценность, или даже наделяли говорящего какими-то символи-
ческими привилегиями.
В литаниях опыт страданий и потерь выступал критерием
моральной оценки и определения прав личности или группы.
Здесь приложима крестьянская логика «ограниченного добра»
(Foster 1965), которой можно объяснить характерное стрем-
ление говорящих выставить себя наиболее пострадавшими из
всех: страдания в жизни слишком много, а компенсация огра-
ничена, и на всех ее, конечно, не хватит9.
Литании показывали также способность говорящего (и
других таких же, как он) выдерживать все трудности, ниспо-
сылаемые ему обществом. В этом смысле литании очень близ-
ки историям о героических хождениях по магазинам и о
женской стойкости (темы предыдущей главы). Через литании
люди демонстрировали не только свой моральный статус, но
и ценимую культурой силу характера, выносливость, как пси-
хологическую, так и физическую. Если они еще живы, еще
могут действовать и даже добиваться каких-то успехов, вопре-
ки жестокости и глупости общества, это значит, что у них нео-
быкновенно крепкий организм, сильная воля и изобретатель-
ный ум.
Третья точка зрения позволяет увидеть в литании некую
форму мольбы. Утверждая священную правоту или моральную
доблесть отдельных людей и целых социальных групп, лита-
нии в то же самое время были ритуальными заклинаниями об
9 Рассказчик в известном произведении Солженицына «Матренин
двор» говорит: «Тут я понял, что плач над покойной не просто есть
плач, а своего рода политика» (Солженицын АИ. Рассказы. М., 1990.
С. 140). В этом рассказе разные родственники героини через ламен-
тации на ее похоронах объясняют собственную непричастность к ее
гибели и заявляют о своих правах на наследство. Тот психологичес-
кий функционализм, о котором так много говорит К. Гирц в своем
эссе «Религия как культурная система», на мой взгляд, заслоняет зна-
чение ряда других — в частности, «политических», по выражению Со-
лженицына, — операций, производимых в обществе дискурсом о
страдании
197
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
избавлении от дурной бесконечности российских неурядиц,
от пустых полок, от бедности, от авторитарных репрессий, от
ненужных страданий, от абсурда. То есть литания была свое-
го рода мольбой (совсем как церковные литании и ритуаль-
ные плачи), почти молитвенной рецитацией страданий и
потерь, обращенной к неведомому источнику надежды на из-
бавление. В литаниях люди пытались «выговорить» себе облег-
чение или долгожданный перелом в своей жизни. Какой бы
откровенный пессимизм или даже отчаяние ни звучали в ре-
чах, само произнесение жалоб подразумевало надежду, пусть
и очень смутную, на возможность изменений к лучшему. Мы к
этому еще вернемся.
К четвертому объяснению литаний меня подвели некото-
рые замечания русских друзей и коллег. На первый взгляд та-
кая интерпретация может показаться противоположной вы-
шеизложенным, но если мы вспомним, что в основе литаний
лежит озабоченность проблемой соотношения могущества и
невинности (во всех их обличьях), то станет ясно, что она не
столько противоречит остальным, сколько дополняет их.
Я не раз наблюдала, как люди, вполне обеспеченные, тоже
говорили литаниями, жалуясь, как все ужасно, как все безна-
дежно и т.п. И когда я выразила Ольге недоумение по поводу
подобных речей одной знакомой, казалось бы процветающей,
моя подруга усмехнулась: «Она не хочет, чтобы об ее благопо-
лучии знали, не хочет вызывать зависть или провоцировать
просьбы о помощи».
Я не очень расположена считать сокрытие успехов хитро-
стью; скорее мне казалось, что люди через литании пытались
перед самими собой и перед другими выставить себя «хоро-
шими людьми», живущими достаточно скромно, что идеоло-
гически всегда подразумевало высокую нравственность и че-
стность. К тому же, люди, возможно, не хотели вызывать в
других отрицательные эмоции, о чем в 1994 г. говорил мне ли-
тературовед Владимир:
198
ГЛАВА 3. ЛИТАНИИ И ЛАМЕНТАЦИИ...
«О твоей любимой теме — ламентациях. Их источник —
знаменитый плач Ярославны (из “Слова о полку Игореве”),
очень значимый культурно и повлиявший на многие вещи, на
театральные монологи и на стиль обычных жалоб: “О, как мне
плохо, нет денег, нет того, нет другого”. Подобные речи — это
как SOS: “Помогите мне, люди!” Но у них есть и камуфлирую-
щая функция, потому что, если ты ухитрился заиметь лишних
три доллара, ты не станешь об этом рассказывать, причем не
из-за предположительного русского лукавства, а потому, что
кто-то может устыдиться, что у него меньше, чем у тебя».
Такое сокрытие позитивного, возможно, имеет отношение
к традиционным верованиям, связанным с «нечистой силой»,
всегда готовой нарушить твои планы и помешать твоему сча-
стью10. Русские часто избегают делиться хорошими новостя-
ми из опасения накликать на себя какие-нибудь неприятнос-
ти. Одна знакомая несколько месяцев держала в кармане билет
в Америку, но сообщила своим коллегам о поездке только пе-
ред самым отъездом. На вопрос почему она просто ответила:
«Никогда не знаешь. Есть силы...» Я многих спрашивала, и все,
включая научных работников, считали, что моя знакомая пра-
ва, скрывая поездку до последнего, потому что «есть некие
силы» и рассказывать о хорошем — «слишком опасное дело».
Вслед за П. Сангреном (Sangren 1991) я думаю, что некоторые
из «нечистых сил» — это вполне реальные силы в советском
обществе, препятствовавшие гражданам в осуществлении их
индивидуальных планов и мечтаний.
Таким образом, литании производят сразу целый ряд куль-
турных операций. Они обозначают множественные поля
идентификации личности; в них провозглашаются моральная
чистота, прямодушие, невинность и невиновность — индиви-
дуальная или коллективная; они доказывают, что у безвласт-
ных хватает сил справляться с самыми большими трудностя-
10 Об этих и других верованиях, связанных с магией, см. Conrad
1989: 435 и Пархомов 1984.
199
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
ми; они выражают подспудную мольбу об избавлении от этих
трудностей; наконец, они отвлекают или обманывают «нечи-
стую силу» и дух зависти. Тем самым литании обнажают и вос-
производят важные идеологические парадигмы и способы
социальной ориентации.
Как и всякая мощная культурная практика, говорение лита-
ниями имело непредвиденные, незапланированные послед-
ствия, шедшие вразрез со многими открыто выражаемыми или
подразумеваемыми чаяниями говорящих. Каков бы ни был
немедленный социальный или культурный выигрыш от произ-
несения литаний, я считаю, что в конечном итоге этот речевой
жанр мог способствовать сохранению тех социальных усло-
вий, которые сам же и осуждал столь выразительно.
Незапланированные следствия
«литанизации» речи
В одном из своих недавних эссе Майкл Урбан рассуждает
о проблемах, порожденных, как он говорит, «политикой иден-
тичности» в посткоммунистической России. Анализируя кон-
фликты, приведшие к штурму Белого дома осенью 1993 г.,
Урбан замечает, что политический процесс в России того вре-
мени состоял в основном в навешивании на оппонентов (будь
то отдельные политики или целые партии) позорных яр-
лыков, превращавших этих «других» в демонов коммунизма,
коррупции или криминала, виновных во всех бедах России
прошлого и настоящего. Такая семиотическая атака сопро-
вождалась развертыванием различного рода юридического
«оружия» для доказательства преступного характера про-
тивника и для ее политического уничтожения. Подобные
дискурсы фактически «выхолащивали инструментально-стра-
тегические средства, применявшиеся, казалось бы, с целью
установления всеобщего взаимопонимания, достижения ком-
промисса и консенсуса» (Urban 1994: 739). «Прагматические
200
ГЛАВА 3. ЛИТАНИИ И ЛАМЕНТАЦИИ
ориентации, — пишет Урбан, — оказываются побежденными
мифическими понятиями, извлеченными из прошлого, и фра-
зеология антипатии, построенная на идеях по-разному пони-
маемой национальной идентичности, уничтожает возмож-
ность политического диалога» (Urban 1994: 737).
Логика политического дискурса, о которой говорит Ур-
бан, — в основе своей та же, что и логика, структурирующая
литании и ими же воспроизводимая. Это логика символичес-
кого конструирования «жертв» и «мучителей», невинных и
виноватых — логика или «фабула», не допускающая никакой
реальной возможности примирительного вмешательства в
противостояние сторон.
Урбан говорит о существовании более широкого культур-
ного поля — поля обыденной речи, — в контексте которой
разворачивается вышеописанная сильнодействующая поли-
тическая риторика. Я считаю, что именно литании (вместе с
родственными им типами дискурса) и образуют такое поле;
именно литании являются «рассеянным», но весьма мощным
орудием воспроизводства той деструктивной идеологической
парадигмы, которая в значительной мере определяет характер
современной российской политики. И хотя, как замечает Ур-
бан, при описании властных верхов русские «часто прибега-
ют к таким выражениям, как “политический театр абсурда”
или “политический зверинец”» (Urban 1994: 745), все-таки
привычное литанизирование незаметно, но упорно воспроиз-
водит глубинную логику этих построений — убежденность в
том, что между «хорошими нами» и «плохими ими» («своими»
и «чужими») пролегает бездна.
Такая идеологическая предпосылка, безусловно, препят-
ствует пониманию того, что социальные группы не существу-
ют вне зависимости друг от друга, и тем затрудняет многие
посреднические процессы в обществе, даже на местном или
межличностном уровне. Хотя в литаниях перестроечной поры
неизменно осуждалось кровопролитие в истории России и
выражалось надежду на то, что на этот раз страна избежит
201
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
гражданской войны, они, тем не менее, постоянно твердили о
насилии в сегодняшней политической борьбе как о реальной
угрозе. Именно так завершила свою литанию об интеллекту-
альном абсурде советской культуры Елизавета Михайловна: «Я
думаю, мы движемся к гражданской войне, к полной разрухе.
Это кошмар».
Парадокс заключается в том, что, когда дискурсы, подобные
литаниям, осуждают насилие, они в то же самое время укрепля-
ют убеждение в существовании в обществе глубочайших, не-
разрешимых социальных и политических противостояний.
Благодаря такому убеждению может быть оправдано то на-
силие, которое применил Ельцин в борьбе с Хасбулатовым и
парламентом в 1993 г. Я ни в коем случае не хочу сказать, что
подобные катаклизмы «накликиваются» повседневными раз-
говорами и что ведущие эти разговоры люди несут ответствен-
ность за «разруху» в стране, — причин здесь множество, и они
чрезвычайно сложны. Однако широкое и постоянное упо-
требление идеологических парадигм типа комплекса «жерт-
ва — мучитель» с его явно выраженной оценочной составляю-
щей, безусловно, вносит свою лепту в поддержание условий
для социальной дезынтеграции и проявлений насилия.
Литании могут также способствовать углублению того от-
чаяния граждан, сочетающегося порой с цинизмом, которое
гасит их желание участвовать в политическом процессе. По-
стоянно утверждая абсолютное бессилие говорящего (а зна-
чит — и той группы, «типичным представителем» которой он
является), литании еще больше укрепляют всеобщую убежден-
ность в тщетности и бесполезности любых попыток приду-
мать или хотя бы вообразить какие-либо, пусть частные и мел-
комасштабные, решения насущных проблем.
Как я уже говорила, пока я не начала понимать, что лита-
нии — это один из речевых жанров, способных воспроизво-
дить парадигмы мышления, я все пыталась противопоставить
им американские формы оптимистических (возможно, и наи-
вных) речей, но неизменно наталкивалась на энергичное со-
202
ГЛАВА 3 ЛИТАНИИ И ЛАМЕНТАЦИИ
противление. Иной раз люди игнорировали мои слова, но
чаще всего отвечали, что «это хорошо в демократическом/ци-
вилизованном обществе, но здесь, в России, это невозможно».
Сколько раз в ответ на жалобы женщин я пыталась убедить их,
что облегчить их положение могли бы формы протеста, при-
меняемые сторонниками феминизма. Почти всегда я слышала
в ответ: «Ты живешь в богатой стране, где женщинам гораздо
легче вести хозяйство. Мы не можем позволить себе роскошь
мечтать о славных идеалах женского освобождения. Это при-
вилегия женщин в буржуазных обществах». И хотя моя убеж-
денность, что это неверно, оставалась непоколебимой (есть
ведь немало свидетельств успеха социальных движений жен-
щин из бедных слоев во многих странах), моим аргументам в
большинстве случаев не удавалось прорваться сквозь идеоло-
гические баррикады, возведенные дискурсами ламентации,
утверждавшими тщетность усилий. Мне не раз говорили, что я
предлагаю утопические решения. Как выразилась одна жен-
щина, «мы до смерти устали от утопий, от революций. Мы
хотим просто жить здесь, хотим, чтобы нас оставили в покое,
и тихо жить своей жизнью», — на что я не нашла, что отве-
тить, — слишком уж веско прозвучало это горькое заявление.
Мистическое спасение
от социальных кризисов
Отвергая утопические решения социальных проблем, лю-
ди, тем не менее, время от времени начинали верить в магиче-
ские средства разрешения критических ситуаций. В некото-
рых литаниях наряду с «жертвой» и «мучителем» появлялась
еще одна архетипическая категория — «избавитель». «Избави-
тель» — человеческое существо или какая-то иная сущность —
действовал как уравнительная сила, примиряющая противоре-
чия, стирающая различия, восстанавливающая взлелеянное в
мечтах социальное единение и уничтожающая иерархию.
203
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
В описываемое время большую популярность приобрели ок-
культные науки — отчасти потому что ими наконец разреши-
ли заниматься открыто (в качестве одного из видов досуга).
Несколько раз за время полевой работы мне доводилось слы-
шать миф о возможности вмешательства сверхъестественных
сил в земную жизнь. Одна женщина рассказала мне о статье,
где прочитала, что экологический кризис плохо действует на
жителей параллельных миров четвертого измерения и что
скоро они вступят с нами в контакт, чтобы помочь нам спра-
виться с проблемой. На обеде по случаю первого открытого
празднования Рождества одна моя знакомая радостно сооб-
щила собравшимся о том, что западные астрологи начали изу-
чать русский язык, потому что в 1993 г. в районе Перми на свет
появится мессия, который спасет мир. Другая гостья, дочь
бывшего министра торговли, подтвердила, что слышала это и
тоже верит в такую возможность. Остальные выразили неко-
торое сомнение. Разумеется, подобные истории начинают
циркулировать во многих обществах в сложные периоды или
в ситуациях глубокого социального кризиса, когда трудно
поверить в эффективность более земных средств улучшения
положения.
Оригинальный способ спасения предлагал в то время че-
ловек по фамилии Кашпировский, психотерапевт, по телеви-
зору дававший зрителям «установку» на здоровье (я подробнее
остановлюсь на этом в следующей главе).
Через несколько месяцев слава Кашпировского померкла
(правда, через два года он сумел вновь завоевать популяр-
ность и стать депутатом Государственной думы), а вот вера в
другого спасителя, академика Андрея Сахарова, неуклонно
росла до самой его смерти в декабре 1989 г. В глазах народа
он получил статус мученика, о нем говорили как о един-
ственном, кто мог принести стране избавление. В интервью
мне один газетчик сказал: «Один Сахаров выступил против
нашего вторжения в Афганистан». «Один Сахаров принимал
204
ГЛАВА 3 ЛИТАНИИ И ЛАМЕНТАЦИИ.
всерьез феминистское движение», — говорила информантка-
феминистка. Вокруг только и слышалось: один Сахаров инте-
ресовался, один Сахаров понимал — проблемы бедных, инва-
лидов, стариков, чернобыльцев. Говорили, что Сахаров —
единственный, кому удалось бы провести социально-полити-
ческие реформы. В нем видели уникального человека — и
крупного ученого, и высоконравственную личность, и страс-
тотерпца одновременно. На похоронах десятки тысяч людей
самим своим многочасовым стоянием в очереди к его гробу
в страшную, промозглую стужу подчеркивали высокую цен-
ность личности Сахарова, его, а также своих собственных
страданий. Известный правозащитник Сергей Ковалев го-
ворил, что спасители рождаются очень редко, что Андрей
Дмитриевич не мог молчать — он был таким человеком, та-
ким родился. Он всегда говорил то, что думал, и делал то, что
говорил; у него не было выбора, в этом его дар. У каждой
страны есть свой святой, сказал Ковалев.
Из всех этих речей о Сахарове можно было понять, что
честность, совестливость и мудрость — качества врожденные
и только тот, кто наделен этими качествами в необыкновен-
ной степени, способен спасти общество. Слова Ковалева о том,
что у Сахарова не было выбора, что он был таким создан, что
его характер — это дар, говорят об эссенциалистском, «мате-
риальном» понимании личной идентичности и характера че-
ловека. Мне кажется, что подобные заявления непроизвольно
«узаконивали» чувство бессилия у «народа-жертвы». Говоря об
исключительной редкости праведников, они подтверждали
человеческое убеждение в том, что общество конституируют
две вещи — власть и безвластие (сила и бессилие), а «чрезвы-
чайные и полномочные» посредники между ними появляют-
ся крайне редко. При этом сам Сахаров мечтал совершенно о
другом для своей страны; с самого начала он боролся за де-
мократизацию общества, а не за канонизацию харизматичес-
ких праведников.
205
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
Р. Андресон, В. Червяков и П. Паршин (Anderson, Cher-
vyakov, Parshin 1995) утверждают, что для осуществления де-
мократических реформ требуется смена языка политических
лидеров, переход от «запудривания мозгов» и дидактики, ха-
рактерных для авторитарной риторики, к манере, более близ-
кой к обычной речи, с тем чтобы облегчить взаимопонимание
между лидерами и гражданами и посредством дискурсивных
способов уменьшить разрывы в вертикальной оси власти. Ис-
следователи отмечают, что от авторитарной риторики у насе-
ления появляется чувство, будто его лишают гражданских
прав,- малосодержательная (а подчас вообще бессмысленная)
риторика цинично «отгораживает» и отстраняет не понима-
ющих ее людей от политической сферы. В последние годы эти
авторы заметили позитивные перемены в области российской
политической речи — возможно, общественные деятели начи-
нают признавать необходимость взаимопонимания с масса-
ми. Экспериментальные данные показывают, что благодаря
этому увеличивается и активность избирателей.
Наверное, ясно, что подобный же процесс должен начать-
ся и за пределами официальной сферы. Меняется риторика
власти, вслед за этим и граждане (и гражданские активисты)
должны отходить от того языка, каким говорил Ковалев на
похоронах Сахарова, — языка, незаметно, но эффективно
укрепляющего дистанцию между правителями и рядовыми
членами общества.
Русская идентичность, страдание и эскапизм
Мне показалось знаменательным то, что, когда вышла в
русском переводе книга Нормана Винсента Пила «Сила пози-
тивного мышления», москвичи покупали и читали ее. Знако-
мые говорили мне, что книга интересная, но за этими заявле-
ниями начинались либо вздохи, либо шутливые комментарии.
Я поняла, что в данной культурной среде очень трудно осво-
206
ГЛАВА 3. ЛИТАНИИ И ЛАМЕНТАЦИИ...
ить умение мыслить позитивно. Шутки и вздохи были выраже-
нием признания мощи негативного мышления: люди давали
понять, что они уверены, что негативное мышление «задавит»
любые попытки научить их думать в положительном ключе.
Это не значит, что многие москвичи не старались изменить
свои взгляды на жизнь, а также и свою речь11. По всей Москве
в то время открывались курсы и проводились семинары по
выработке оптимизма и уверенности в себе, причем многие из
них строились по образцу западных программ «самоусовер-
шенствования» и «помощи самому себе». Но мне не раз прихо-
дилось слышать, с каким гордым разочарованием москвичи
отзывались о таких курсах: ожидаемых волшебных преобра-
жений личности не происходило, и люди оказывались после
них еще более обескураженными, хотя и обогащенными но-
вым материалом для литаний.
В апреле 1990 г. я некоторое время общалась с одной очень
умной и энергичной женщиной по имени Вера. Она одновре-
менно делала две карьеры: в министерстве, на довольно высо-
кой должности, и в качестве хозяйки кооператива. Несмотря
на свою интересную жизнь, она весьма цинично говорила о
трудностях страны:
«Думаю, лучшее, что могут сделать всеведущие консуль-
танты, — это сказать западным компаниям, чтобы не тратили
здесь время. Я-то вижу, как медленно все идет и как все не-
прочно. Я сама сначала работала как вол, а сейчас думаю: а
зачем? Стоит провернуть одно дельце на черном рынке — и
можешь спать целый год. Единственное, что надо делать сей-
час в СССР, — это спать. Я понимаю, что это реактивная де-
прессия. С другой стороны, Макдоналдсы, например, — это
позор-, они дают людям одним глазком увидеть то, чего у них
никогда не будет, колют им глаза их бедностью. Вот если бы
11 Интересно отметить в этой связи одну из странностей капита-
листической колонизации: открывавшиеся тогда Макдоналдсы обуча-
ли своих молодых сотрудников живому, бодрому поведению; среди
прочих вещей там учили, «как улыбаться».
207
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
всем нашим людям пожить на Западе немного, два-три года,
тогда бы все увидели, как можно жить, захотели бы того же и
сделали бы это здесь. Но если у кого есть такая возможность,
зачем им возвращаться? Надо просто уехать».
Внутренняя форма литании — одна из ключевых составля-
ющих ее социально-репродуктивной силы. Этот дискурс был
скорее круговым, чем линейным, скорее мифообразным, чем
прагматическим. Литании так и катились по своим наезжен-
ным колеям горя и несчастья, время от времени возносясь (с
помощью категории избавителя) в сферу трансцендентного
или в область утопии. Литании от утопических мечтаний от-
делял один шаг (пример — Верина идея о временном переез-
де на Западе), а вот перейти от литаний к речевым жанрам, в
которых жизнь (или политика, или экономика) представала
бы «проблемой, которая требует решения», говорящим было
не так-то просто. Литании легко поддавались пародированию,
но оказывались крепко защищенными от попыток противо-
поставить им иное видение советского/российского общества
или практические идеи постепенных социальных улучшений.
Получается, что литании давали говорящим идеологические
ориентиры и содержали структуры, служившие «направляю-
щими» для воображения. Они укрепляли и воспроизводили
убеждение, что российское общество состоит из раз и навсег-
да заданных наборов «злодеев» и «жертв» и что прогресс здесь
возможен только в форме либо мщения, либо ухода в транс-
цендентное.
Этот дискурсивный круг представлял собой один из соци-
альных лабиринтов, из которых в годы перестройки многие
мои русские друзья пытались выбраться. Это был «тупик», не
исчезавший отчасти благодаря тому, что его образ все время
возникал в соответствующих литаниях. Несколько вопросов-
ламентаций звучали в Москве постоянно: «Как нам избавить-
ся от всего этого? Где же выход? Кто укажет нам путь? От-
ветные формулы слышались столь же часто: «Выхода нет Мы
208
ГЛАВА 3 ЛИТАНИИ И ЛАМЕНТАЦИИ..
в тупике». Писатель крайне консервативного толка Александр
Проханов в интервью американскому этнографу Брюсу
Гранту7 после путча 1991 г. так ответил на вопрос о выходе.
«Выход? Какой выход' Я же говорю, это — как оказаться в
снежной лавине в горах. Вас накрывает одна лавина, потом
вторая, потом третья. Выхода нет... Это как вулкан, извер-
жение вулкана — разве кто-нибудь может его остановить?»
(Grant 1993: 35).
В эпоху перестройки речь изобиловала метафорами безвы-
ходности. Однако часто звучали, подобно рефренам, также и
другие вещи: «Русские должны измениться. Мы должны стать
другими людьми. Нам надо перестроить себя изнутри». То есть
культурная трансформация в эпоху7 перестройки понималась
здесь не просто как вопрос «слома железного занавеса и на-
слаждения свободой» (распространенное на Западе мне-
ние), а как проблема преобразования умов, характеров, ценно-
стей, «душ», даже тел людей — проблема столь же сложная и
острая, какой в свое время была проблема ухода из эпико-ми-
фической страны советского абсурда. Дискурс заставлял рус-
ских думать, что дорог, ведущих прочь из той страны, из того
«эпоса», мало; в то же самое время и людей, увлеченных попыт-
ками представить себе альтернативный социальный мир,
было немного. Ведь, в конце концов, страна, из которой они
пытались вырваться, строилась по одному-единственному,
всеохватному и утопическому проекту — можно ли было вкла-
дывать силы в еще какой-либо проект? Нетрудно объяснить,
вспомнив особенности русской/советской истории, почему
мечты и оптимистические социальные прогнозы могли встре-
тить лишь циничное отвержение. Однако литании все-таки
сыграли свою роль в поддержании тех условий, которые их же
и породили — хотя бы тем, что укрепляли чувство неизбежно-
сти страдания и бессилия.
Можно прямо сказать, что национальная история жертв,
мучителей и избавителей — история в литаниях — послужила
14. Заказ № 2742
209
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
таким дискурсивным механизмом, который облегчал осуще-
ствление авторитарных социальных отношений — тем, что
превращал упомянутые категории и их взаимоотношения в
нечто застывшее и неизменное. Представляя существующую
иерархию социальных категорий как «естественную» и неиз-
бежную, утверждая, что изменить положение вещей может
лишь магическое вмешательство личностей вроде Сахарова,
литании укрепляли саму иерархию, оправдывали, рациона-
лизируя их, эксплуатацию и структурное насилие. Придавая
состоянию бессилия качество почти материальное, много-
кратно повторяемые литании имели «побочный» эффект вос-
производства этого состояния. Фаталистический дискурс бес-
силия отдавал силу и власть тем, кто говорил языком силы и
власти, принимал соответствующую социальную позицию и
быстро заполнял образуемый литаниями дискурсивный ваку-
ум власти12. Таким образом, литании еще больше способство-
вали воспроизводству той самой ситуации и тех самых струк-
тур, которые они так эмоционально осуждали.
Приписывая обладание властью определенным социаль-
ным группам, литании, по сути дела, поддерживали их в этом
обладании; такая дискурсивная или символическая передача
власти была особенно заметна в ситуациях, когда литании
произносились в присутствии (или по адресу) тех могуще-
ственных личностей, которые олицетворяли собой «злодеев».
Важным элементом перестройки стали различные митинги, и
на многих из них, особенно на показываемых по телевизору,
звучали литании-мольбы. Как-то раз, например, показали од-
ного депутата Верховного Совета, который в пространной
литании о «полном распаде» советского общества, о росте
преступности и человеческой деградации, завершил ее обра-
12 В этой книге я лишь косвенно затрагиваю жанры дискурса вла-
сти. Но их изучение запланировано мною для дальнейшей работы,
поскольку они являются дополнительными к описанному здесь дис-
курсу безвластия и бессилия.
210
ГЛАВА 3. ЛИТАНИИ И ЛАМЕНТАЦИИ ..
щением к Горбачеву: «Просим вас, поднимите уровень культу-
ры и морали в нашей стране!» Другой депутат говорил о рос-
те межэтнического насилия и призывал Горбачева «установить
дружбу между разными народами». Независимо от того, на-
сколько реалистичны такие обращения, они ясно показывают
магическую веру во власть и в то, что она находится в руках
одного человека. Уставший от подобных воззваний и соци-
альных ожиданий Горбачев (который, конечно же, не был Ста-
линым, как бы ни нравилось ему положение всевластного гла-
вы государства) пожаловался в телевизионном выступлении
(25 мая 1990 г.), что «люди всегда хотят простых решений,
мечтают о скатерти-самобранке, которая все сделает безо вся-
ких усилий с их стороны»13.
На митингах часто выкрикивали речевку (в частных разго-
ворах она тоже появлялась) «Власть — народу», словно
власть — это некий материальный предмет, который можно
«передать», а не сложная система политических практик; Кен
Джоуитт называет подобные представления формой «(до)по-
литической речи» Qowitt 1992: 289). Безусловно, в метафоре
передачи власти есть доля истины — в том смысле, что суще-
ствуют реальные атрибуты власти: средства производства, до-
ступ к природным ресурсам, здания, организации и т.п., пере-
ход которых из одних рук в другие означает переход власти.
Но в 1989 и 1990 гг., когда призывали к передаче власти наро-
ду, о таких вещах не думали.
Все это показывает, что российское общество в то время
переживало противоречивый, сложный переходный момент:
и лидеры, и народ — и те, кто у власти, и безвластные — жаж-
дали реформ социальных отношений, но за неимением опы-
13 Кен Джоуитт пишет о склонности граждан социалистических
стран, приученных рассматривать Партию как всемогущую органи-
зацию, полагать, что в обществе все находится под ее контролем: «Со-
бытия не случаются, решения не принимаются, факты часто не при-
знаются до тех пор, пока им не будет разрешено случиться или быть
признанными» Qowitt 1992: 72).
14*
211
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
та демократии и из-за неумения отказаться от привычных
речевых жанров, сужавших возможности «политического во-
ображения», могли представить себе только лишь магические
средства для совершения желанной трансформации
Экзистенциальные трудности
и дискурсивные практики
Речь сущест вует не в вакууме. Рассмотренные в этой главе
жанры и дискурсы страдания и притеснений, разумеется, не
производятся и не воспроизводятся в стороне от тех соци-
альных структур, о которых говорят, к которым отсылают слу-
шателей. Не возникают они и самопроизвольно, вне сферы
культурных форм и социальных моделей. В данном разделе мы
обратимся к историческому контексту отношений власти в
России и выделим некоторые речевые жанры, которые могли
оказать влияние на эволюцию этих отношений.
Последнее время много изучаются социальные и психоло-
гические последствия пребывания человека в условиях подчи-
нения и собственного бессилия. Каковы бы ни были причины
такого состояния (авторитарное ли правление, колонизация,
порабощение, крепостничество, тюремное заключение или
менее явные — кастовая или классовая общественная структу-
ра, полоролевое деление) в реакции на него, практической
или дискурсивной, нередко наблюдаются определенные моде-
ли (Scott 1985: 1990)14.
Долгая история авторитарного правления и классового
неравенства в России, включая эпоху крепостничества, тянув-
шуюся чуть ли не до XX в., породила разнообразные формы
сопротивленческого дискурса. Дискурс, связанный с правовой
сферой: челобитные, прошения, петиции рабочих и крестьян
14 Любопытно, что в своем капитальном обзоре сопротивленчес-
кого дискурса Джеймс Скотт почти не упоминает жанры ламентации,
хотя они зафиксированы и хорошо изучены
212
ГЛАВА 3 ЛИТАНИИ И ЛАМЕНТАЦИИ
местным, региональным властям и самому царю по поводу
несправедливостей разного рода и непомерных поборов, —
представлял собой одну из прямых (и наилучшим образом
документированных) форм сопротивления Харуки Вада при-
водит типичную и весьма выразительную петицию, относящу-
юся к 1905 Г:
«Государь, мы, рабочие и жители города Санкт-Петербурга
разных сословий, обращаемся к тебе, государь, искать правду
и защиту Мы обнищали, нас угнетают, угнетают непосильным
трудом, над нами надругаются, в нас не признают людей, к нам
относятся как к рабам, которые должны терпеть свою горькую
участь и молчать... мы и терпели, но нас толкают все дальше в
омут нищеты, бесправия и невежества, нас душат деспотизм и
произвол, и мы задыхаемся. Нет больше сил, государь, настал
предел терпению. Для нас пришел тот страшный момент, ког-
да лучше смерть, чем продолжение невыносимых мук» (Рево-
люция 1905—1907 гг. в России. Документы и материалы. Нача-
ло первой русской революции — январь—март 1905 года. М.,
1955. С. 28. Цит. по: Wada 1979: 86).
Такие петиции говорили о последней надежде рабочих и
крестьян, не имевших доступа к другим, более реальным или
прагматическим, средствам улучшить свое положение, — они
апеллировали к милости «справедливого» царя, который, мни-
лось им, был всей душой за народ, но не знал истинной тяже-
сти его положения.
В своем интересном и насыщенном замечаниями теоре-
тического характера эссе Шейла Фитцпатрик (Fitzpatrick
1996) проанализировала ряд писем, направленных советски-
ми гражданами в органы государственной власти и лично Ста-
лину в 1930-е годы и принадлежащих в целом к тому же жан-
ру, что и аналогичные дореволюционные послания. Авторы
этих писем часто говорили о своем бесправии, о произволе
местных властей или начальников и о страхе перед ними, рас-
сказывали о насущных проблемах, описывали свое жалкое су-
ществование и чувство отчаяния.
213
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
Похожесть до- и послереволюционных петиций и писем
эпохи гласности в издания подобные «Огоньку» поразитель-
на. Не менее удивительно их сходство и с устными литаниями
и ламентациями, звучавшими в Москве в 1989—1990 гг.
У них — один язык, одни и те же метафоры и тропы (комплекс
«жертва — мучитель»), все они обращены в поисках справед-
ливости к некоей неопределенной или далекой (т.е. почти
мистической) силе.
Социальным структурам и обычаям своего времени соот-
ветствовали и два других старинных дискурсивных жанра.
Оба говорят языком жертв, в обоих «мучители» выступают
иногда в персонифицированной форме, а иногда — как сама
судьба или жизнь. Оба жанра выражают и воспроизводят чув-
ство беспомощности и повествуют о тщете всего и вся.
Первый из этих жанров — причитание, или плач. Плачи
ритуально исполнялись в трех случаях: на свадьбах, на похо-
ронах и при отъезде из деревни рекрутов на военную службу.
Метафорически насыщенные, плачи были построены по об-
разцу литаний и вели речь о том, как безотрадна станет жизнь
говорящих после ухода их близких. Обычно в плаче много раз
упоминается неминуемое расставание, нередко в форме во-
проса: «За что?» Например, в свадебных плачах девушка часто
вопрошает: «За что ты, матушка, отдаешь меня в чужую семью?»
Жертва в свадебных плачах — это невеста, а по сходству судь-
бы — и все молодые женщины, которым предстоит расстать-
ся с девичеством, покинуть родительский дом и отправиться
в дом к свекру. Мучителями поочередно выступали родители,
отдающие девушку, муж и его семья, уводящие ее и лишающие
ее беззаботного, счастливого девичества, и злая судьба, уготов-
ляющая молодой жене безрадостную долю (последнее можно
рассматривать как следствие патриархальной полоролевой и
брачной системы)15.
15 Д.М. Балашов в своем исследовании вологодской свадебной об-
рядности приводит богатую подборку плачей (Балашов 1985).
214
ГЛАВА 3 ЛИТАНИИ И ЛАМЕНТАЦИИ
В похоронных плачах категории мучителя и жертвы более
размыты, потому что плачущая то винит себя, что отпустила
человека на тот свет, то корит покойника, что покинул ее. Пла-
чи на проводах солдат обращают упреки большому миру,
забирающему молодого человека из родной деревни (на двад-
цатипятилетнюю военную службу); упреки подспудно на-
правляются и на царя, от чьего имени ведутся войны и призы-
ваются на службу солдаты. В плачах, относящихся ко Второй
мировой войне (собранных В.Г. Базановым — Bazanov 1975),
в роли злодеев четко выступают фашистские войска. Плачи по
уходящим на войну или погибшим солдатам показывают, что
по крайней мере в некоторых местностях Севера России этот
жанр сохранился и в советскую эпоху.
Близкородственными ритуальным плачевым циклам явля-
ются сотни народных песен, в которых переживается грусть
расставания или боль потери. Рисуются типичные обстоя-
тельства: уход солдат, выход дочери замуж, расставание с уми-
рающим; но самые пронзительные — и самые популярные —
песни посвящены расставанию любящих (в связи с войной,
смертью, нежеланным браком). Многие такие песни действи-
тельно исполнялись в стиле плача, с завыванием.
Параллельно плачам и разделяя с ними представление о
тщете существования и соответствующий язык, бытовал еще
один обширный комплекс русских фольклорных текстов —
песни, сказки и эпические произведения с темой горя или
«горя-злосчастья». «Женские» песни о горе были, по-видимо-
му, самыми ранними примерами этого жанра, дошедшими до
нас еще из дохристианской России (Лихачев 1985: 102). До
сих пор сохраняются многие варианты таких песен (приме-
ры, относящиеся к первой половине XX в., см. в: Ржига 1931).
Среди общих черт произведений этого жанра — структурный
параллелизм как основная синтаксическая форма и характер-
ные стилистические особенности; кроме того, они испол-
няются от первого лица (иногда явно женского, иногда наро-
чито без указания пола) и фокусируются на одной мысли:
215
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
героиню/героя преследует во времени или пространстве
«горе», часто в облике какого-либо человека. Нижеследующая
строфа выразительно передает основную формулу комплек-
са «горе».
Ох, девка, ты, девка красная!
Куда от горя ты ни бегала,
Нигде от горя не убегала!
Я от горя во чисто поле, —
А за мной горе бежит зайкою;
Я от горя во темны леса, —
А за мной горе с топором бежит;
Я от горя замуж пойду. —
А за мной горе малыми детками;
Я от горя во сыру землю, —
А за мной горе со лопатою...16
Преследовать женщину «горю» помогает умение менять
свое обличье, перенимать свойства животных, птиц и рыб,
добывать необходимые для успешного преследования пред-
меты и проникать в «зазоры», открывающиеся в переходные
моменты жизненного цикла (рождение, вступление в брак,
смерть).
В сказках у «горя» появляются еще более «человеческие»
характеристики (часто смешные, как и положено для жанра
народной сказки). Самое главное — оно умеет «прицепляться»
к человеку, особенно любит находить пьяниц в кабаках и при-
цепляться к ним на всю жизнь17. В самом деле, есть много
16 Цит по: Повесть о Горе-Злосчастии / Ред. Д.С Лихачев и Е И Ва-
неева. «Литературные памятники». Л.: Наука, 1985. С 70 Первые три
строчки — нечто вроде традиционного зачина, в котором героиня
обращается к себе в третьем лице Строка о детях напоминает обо
всех трудностях и трагедиях, связанных с материнством, она перекли-
кается с поговорками. «Маленькие детки — маленькие бедки Большие
детки — большие бедки» и «Не иметь детей — горе, иметь — двойное».
’ См «Горе» у Афанасьева (1985, 2 341)
216
ГЛАВА Л ЛИТАНИИ И ЛАМЕНТАЦИИ
мужских версий песен о злосчастии — обычно о том, которое
приносит пьянство и непочтительное отношение к родите-
лям В сказках, в которых, в отличие от песен, много иронии,
героям нередко удается хитростью заставить «горе» прыгнуть
в какую-нибудь дыру, которая затем накрепко заделывается.
Поразительно, но по сей день в России еще очень живо
представление о полуперсонифицированном Горе-Зло-
счастье: чего стоит почти неизменное «тьфу-тьфу-тьфу, чтоб
не сглазить» через левое плечо, сопровождающее рассказ че-
ловека о чем-либо хорошем или сулящем определенные жиз-
ненные перспективы.
Можно увидеть сложную непрерывную связь между тради-
ционными русскими плачами, комплексом Горя-Злосчастья и
современными литаниями, широко звучавшими в годы пере-
стройки. Концептуальные модели, по которым в старой Рос-
сии строился дискурс о мире, обнаруживают удивительное
сходство с соответствующими моделями современной рус-
ской речи. Ламентация, оплакивание оказывается тем же глав-
ным выражением того же основного мироощущения, которое
мы видим и во время перестройки, в конце XX в., и сто лет на-
зад; те же самые ценностные оппозиции определяют драмати-
ческое напряжение сегодняшнего разговора.
Таким образом, у традиционного плача и у нынешних ли-
таний о страдании — одни и те же средства выражения, один
и тот же способ концептуализирования экзистенциальных
проблем и сообщения о них окружающим. «Сильные» являют-
ся в виде природной стихии, в форме политической -органи-
зации или же в облике конкретного лидера, а их «жестокие
дела» составляют главный (даже фетишизируемый) элемент и
в плачах, и в фольклорном комплексе «горя-злосчастья», и в
современных литаниях. Столь же важное место в этих дискур-
сах занимают и изощренные, страстные описания пережитых
страданий. Подобно своим культурным предшественникам,
перестроечные литании ведут речь о структурах власти, в ко-
торых жертва и мучитель навсегда скованы одной цепью.
85
Из проекта «лртконстр
«Каждый имеет п/>.
на свободное ш
своих способное/^i-ri
и имущества для hpednpi
и иной не запрещенной закончи '
як> тонической деятельности»
НА* Л Е Ь
3
У МОЛ Я &
РА^ и. ь ог&
। К о п У-ЖМко
10 рч6~
ТтобЫ-^
го го зсе
РАЧи-МШ^
UH BAAUQA-
Jfocf^sa. Весна 2003 г. Новый Арбат. Колдун
Глава 4
МИСТИЧЕСКАЯ БЕДНОСТЬ
И ЛИШЕНИЯ,
ЗАКЛЮЧАЮЩИЕ
В СЕБЕ НАГРАДУ
Не слишком надеясь на перемены к лучшему
и не имея будущего, они сотворили себе ан-
тимир, изобретя свою собственную версию
«хорошей жизни».
Барбара Майерхофф. «Сочти наши дни»
Они были довольны, эти нищие люди' Они
были всем довольны, эти голые, босые, чест-
ные, родные!
Инна Варламова. «Тройка»
Сказки учат, что богатым быть опасно, а бед-
ным — выгодно. Так снимается дилемма
«иметь или не иметь»... Так в русской сказке
сильных и богатых побеждают бедные и вро-
де бы слабые.
Зара Абдуллаева. «Народная культура»
а страницах этой книги я уже говорила о том, что
пережитые человеком муки и утраты обеспечива-
ют ему в обществе некий моральный статус. Стра-
дание, облагороженное речью, может возвысить
личность в глазах окружающих и даже придать ей ореол свя-
тости. В России духовные достоинства всегда ассоциирова-
226
ГЛАВА 4 МИСТИЧЕСКАЯ БЕДНОСТЬ И ЛИШЕНИЯ...
лись с трудностями и бедностью, и эта связь неявным образом
отрицала эксплицитно утверждаемые представления о той
жизни, которую, предположительно, людям должно обеспе-
чить общество.
Выше я говорила об одной из причин, из-за которых, по
моему мнению, русским оказалось так трудно привести Рос-
сию в соответствие со своими идеалистическими представле-
ниями об обществе: они «застряли» между двумя нравствен-
ными мирами, один из которых есть место прагматических
ценностей и действий (описываемых, разумеется, в русском
духе), а в другом все перевернуто с ног на голову и действует
изнаночная логика, страдание благословенно, а потеря при-
быльна. Хотя мои информанты и жаловались на этот свой «не
такой» мир («Анти-Диснейленд»), любовь к нему и его особая
роль в процессе личного, коллективного и национального
самоидентифицирования русских были несомненны.
В данной главе к уже приведенным я добавлю новые иллю-
страции, для чего сначала рассмотрю примеры довольно пря-
молинейного выражения этой инвертированной логики, а
затем попытаюсь показать, каким образом история обычной
жизни претворяется в рассказ о возвышающем душу жизнен-
ном пути жертвенности и страдания.
Перевернутый мир
Трудно определить словами или подобрать «мерку» куль-
турной — и в особенности сакральной — ценности. Никто,
иначе как в целях пропаганды, не выступит вперед и не скажет:
«Вот наша самая большая ценность» или «Это мы ценим боль-
ше, а это меньше». В действительности то, что называют цен-
ностью, часто является второстепенным или «параллельным»
по отношению к другим явлениям; это то, о чем могут никог-
да не говорить или упоминают лишь вскользь, в разговоре
совсем на другую тему.
15*
227
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
В своей полевой работе я отмечала, что люди постоянно
говорят о трудностях, и этот факт был для меня первым ука-
занием на то, что здесь мы имеем дело с ценностью. По-
скольку чрезвычайные трудности существования были оче-
видны, рассказы об этих трудностях казались на первый
взгляд не более чем простым описанием обычной жизни.
Однако эти истории рассказывались возвышенно-поэтиче-
ским, чуть ли не ритуальным языком и были усилены щемя-
щими душу деталями, простота и регулярность появления
которых наводила на мысль об их фольклорных корнях.
Одни и те же сакральные предметы — «кирпичики» великого
множества историй — прямо-таки выделялись в отдельный
список: хлеб, колбаса, картошка, сапоги, яблоки, сахар, чай,
соль, спички, сигареты. Казалось, что это важнейшие, почти
одушевленные, колоссальных размеров предметы реквизита,
участвующие в спектакле, постоянно идущем на сцене неко-
его ментального театра1.
Эти волшебные истории, нередко разворачивавшиеся в
рамках литаний, содержали одну поразившую меня формулу,
которая, перевертывая официальные советские ценности (что
неудивительно), в то же время дерзко перевертывала ути-
литарные ценности как таковые. Эту формулу, произнося,
обычно даже не замечали, она выражалась незначительными
второстепенными репликами и шутками. Например, одна
женщина-историк после своей поездки по США наперекор
всеобщему, как ей казалось, восхищению Западом заявила: «Да-
да, у вас прекрасные, сияющие чистотой города, у вас небоск-
ребы, золото, серебро, богатство, вы такие организованные и
упорядоченные! Но через два дня, я вам говорю, я начинаю
1 В семантическом анализе ключевого русского термина «душа»
Анна Вежбицка замечает, что душа видится «внутренним духовным
театром, местом, где случаются такие события, какие никогда не смог-
ли бы произойти в мире неодушевленных вещей» (1989:51). Из этого
следует, что «душа» конструируется культурой как место, где происхо-
дят описываемые типы инверсий.
228
ГЛАВА 4 МИСТИЧЕСКАЯ БЕДНОСТЬ И ЛИШЕНИЯ
тосковать по неправильной Москве, по нашим неровным ули-
цам, по нашим кривым домам, по бестолковой, но нескучной
жизни, по живой, кипучей Москве — такой, какими ваши горо-
да никогда не будут».
Из этой же темы можно почерпнуть иллюстрацию некоей
приписываемой русскому характеру «кривизны» и неправиль-
ности. Как-то я сказала одному приятелю что-то о странности
расположения московских улиц (которые как бы разбегают-
ся во всех направлениях), и в ответ он произнес с горько-иро-
нической интонацией: «Ну, русские... чего же ты хочешь?..»
В таком же духе высказалась и чудаковатая пожилая жен-
щина Надежда, отвечая на мой вопрос, почему в русских горо-
дах всюду валяется строительный мусор: «А, это просто. Это
признак нашей антибуржуазности, — сказала она, одновре-
менно высмеивая и коммунистические лозунги, и советскую
манеру работать. — Аккуратность, порядок — это признаки
“контрреволюционной мелкобуржуазной ментальности”».
Как-то вечером мы с подругой, ожидая в метро поезда, го-
ворили о магазинах, и я в шутку спросила, не расстроились
ли бы люди, если бы вдруг случился дефицит дефицита. Под-
руга ответила, что, «конечно, раньше, при Брежневе, было
легче, можно было пойти в магазин, зная, что что-нибудь да
купишь. Но сейчас, безусловно, намного интересней. Что бы
мы делали без наших несчастий?» В другой раз я услышала от
одного человека такой шутливый пассаж: «Вы знаете, почему
в США больше самоубийств, чем в России? Потому что там
скучноХ Встанешь утром и точно знаешь, что сегодня с тобой
будет. А у нас все намного увлекательнее: сядешь на трамвай,
чтобы за двадцать минут доехать до работы, а приезжаешь
через два часа. Идешь покупать колбасу, а в магазине только
видеокассеты!»
Иногда эта нарочито игривая логическая инверсия прояв-
ляла себя более агрессивно и даже устрашающе. В мужских
разговорах популярен был черный юмор на тему о загублен-
229
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
ных в трудовых и военных лагерях миллионах жизней. Од-
нажды за ужином, услышав несколько язвительных анекдотов
на эту тему, я попросила сидевшего рядом мужчину объяс-
нить мне мотивацию шуток подобного рода. «А мы этим гор-
димся», — ухмыльнулся он. И как бы в шутку добавил: «Чем
больше, тем лучше. Мы гордимся нашими потерями, и осо-
бенно тем, как много самих себя нам удается погубить. Чем
больше нас умирает, тем больше мы гордимся». Данное заяв-
ление ясно показывает, что этот феномен — гордиться утра-
тами — порожден историей уничтожения русских как нации,
истории их саморазрушения, бедности и экономических ка-
таклизмов. Выразительные жалобы и плачи обо всем этом
способствовали формированию представления о России как
особой стране с особым народом. Процесс мифологизации,
хотя бы и через иронию, этих циклов бессмысленного на
вид саморазрушения есть разновидность культурной «глубин-
ной игры» русских, в которой чем больше то, что потеряно,
тем большей «значимостью оно наделяется» (Geertz 1973:
434). Как пишет Дейл Песмен, побывавший в Омске, где он
изучал «этнографию страдания», «на фоне всеобщей уверен-
ности, что все постоянно рушится и ухудшается и что всегда
будут только потери, кажется, что в любом парадоксе, в лю-
бой неурядице, во всяком мелком упоминании чего-то пло-
хого подразумеваются бездны, некая бесконечная перспекти-
ва» (Pesmen n.d.: 4)
Отражающийся во всем этом культурный потенциал стра-
даний и жестокости отнюдь не направлялся на прославление
ужасов реальной жизни — бедности, потерь, войн и автори-
тарного насилия. Я не замечала, чтобы в повседневной жизни
русские специально усугубляли свои трудности и отказыва-
лись от удобств — напротив, многие откровенно стремились
улучшить свое материальное положение. Но делали они это
под сенью известного набора дискурсов, согласно которым
«больше» есть «меньше», а «меньше» — это «больше», т.е. ма-
230
ГЛАВА 4. МИСТИЧЕСКАЯ БЕДНОСТЬ И ЛИШЕНИЯ ..
термальное богатство означает духовную нищету, а матери-
альная нищета указывает на духовное богатство. Поэтому они
всегда могли выставить свои скромные условия существова-
ния признаком морального превосходства. В этом построе-
нии, несомненно, слышны отзвуки русского православия.
Алан Дандес предлагает термин «фольклорные идеи» для
обозначения тех широко распространенных речевых формул,
которые он называет «строительными блоками мировоззре-
ния» (Dundes 1972:96). Можно согласиться со «строительной»
метафорой, однако примеры Дандеса противоречат ее конк-
ретности, свидетельствуя скорее о непростых путях, которы-
ми эти народные идеи встраиваются в чрезвычайно мощные
идеологии, воспроизводятся в них, а также легитимируют и
даже освящают соответствующие им социальные практики.
Один из его примеров весьма уместен для рассмотрения «ми-
стической бедности». Дандес рассуждает о фольклорной «идее
неограниченного добра» в приложении к американской куль-
туре, явно противопоставляя ее фостеровскому «принципу
ограниченного добра» (Foster 1965), действующему в кресть-
янских обществах. Эта идея находит массу выражений в обыч-
ных повседневных разговорах. Дандес полагает, что высказы-
вания типа «было бы желание, а возможности найдутся» или
«да сколько хотите!» отражают общераспространенную в аме-
риканском обществе логику, структурирующую особый, опти-
мистический взгляд на мир и формирующую уверенность, что
любой человек может преуспеть, если только постарается.
Я предпочла бы называть подобные вещи идеологией — у них
есть эта свойственная идеологии способность мистифициро-
вать нас, «затемняя» социальные реалии и отношения власти
в социуме. Обычные для русской речи инверсии наводят на
мысль о доминировании идеологии совершенно другого ти-
па — такой, согласно которой стремление к материальному
богатству есть тонкий индикатор аморальности, отказа от свя-
тынь и разрыва связи с ближними.
231
<РУ( ( КИЕ РА31 ОВОРЫ>
Материальная жизнь
и культурная самоидентификация
Один из отрывков трехчасовой истории жизни, которую я
записала на пленку, высвечивает упомянутую инверсию очень
ярко Рассказчик по имени Семен Аркадьевич, чья юность, в
1930-х годах, прошла в детских домах, мальчишкой сбежал на
фронт во время войны, спасаясь от голода, потом шесть лет
провел в лагере где-то в Восточной Сибири, откуда освободил-
ся только после смерти Сталина Мы сидели в <тихой гава-
ни) — на кухне его полученной с большим трудом московской
квартиры Я попросила его поделиться военными и лагерны-
ми историями, вспомнить о стране военного времени Исто-
рии следовали одна за другой, и все они были в основном о
еде (Почти во всех русских историях военного времени, а так-
же в литаниях и в общих разговорах еда постоянно оказыва-
лась в центре внимания ) В одной говорилось о том, как он
продал куртку за кусок колбасы, в другой — как он нашел < ма-
люсенькую, малюсенькую» морковку и какое для них с другом
это было счастье Помолчав задумчиво, он продолжал
«Вот что я заметил Доброта и человечность относятся к
культурному уровню в обратно пропорциональной зависимо-
сти Чем выше культура, чем больше богатство, я это знаю по
опыту, тем меньше человечности, человечности в смысле уме-
ния поделиться коркой хлеба, приютить чужого человека, на-
пример В войну, когда я скитался, я ходил по домам Раз по-
дошел к одной маленькой избушке Внутри натоплено Сидит
бедная-пребедная старушка, из еды у нее — одна картофели-
на Так вот она взяла эту последнюю картофелину, разрезала ее
и половину дала мне»
В этом рассказе о доброй старушке, который, возможно,
преувеличенная драматичность исполнения превратила в
миф, вновь ярко выявилась связь между святостью и бедно-
стью, обнаружилось внешне парадоксальное представление о
232
I ЛАВА 4 МИСГИЧЕ( КАЯ ЬЬДНОСЧЬ И ЛИШЕНИЯ
щедрости бедняков и проявилась культурная лотика о кото-
рой мы говорили выше духовное богатство ест ь коррелят бед-
ности в материальном смысле Мой собеседник говоря о со-
отношении доброты и богатства, даже применил звучащий
по-научному термин — <обратно пропорциональная зависи-
мость >
Завершив историю о старушке, он заговорил о второй ча-
сти этой пропорции
< Когда у человека всего много, он ничего не отдает, наобо-
рот, он хочет все больше и больше Странно Миллионеры,
например Какой миллионер подойдет к кому-нибудь и скажет
на тебе пару миллионов? А миллиардер и одну миллионную
часть своего богатства не отдаст Нет Я везде это замечал, в
любой ситуации Большие начальники, например, не имеют
понятия, не помнят, что такое — бороться с бедностью Когда
они были обыкновенными инженерами, они это понимали
Или сравним с ребятами в армии У некоторых есть родители,
они присылают им посылки, поддерживают их Но находится
самый бедный, у которого никого нет, никакой подмоги, и
именно он поделится с тобой табаком, поделится последней
сигаретой >
Я часто слышала подобные вещи в Москве И длинные ис-
тории, и краткие философские сентенции — в oi ромном ко-
личестве — свидетельствовали об убежденности людей в том,
что пока человек беден, он щедр, но стоит ему продвинуться
вверх по экономической лестнице и улучшить свое матери-
альное положение, как он тут же теряет эту щедрость, а ши-
’ Анализируя русскую крестьянскую мораль отзывчивость рус-
ских крестьян, Йован Хауи упоминает о традиции коллективной по-
мощи, описанной в XIX в народником Энгельгардтом Это описание
целиком совпадает с рассказом моего информанта <Сеюдня доели
последнюю буханку хлеба, от которой еще вчера отрезали по ку-
сочку для тех, кто стучался в дверь> Так что — <себе самую малость,
а от нее кусочек тому, кому вовсе нечего в рот положить) (Howe
1990 47)
233
< РУССКИЕ PA3I ОВОРЫ >
ре — духовность О людях, живущих вдали от больших горо-
дов, чаще всего говорили <Они беднее нас, но добрее»
Своеобразные построения на основе этой логики можно
было услышать и в среде творческой интеллигенции Как
сказал мне один писатель, «деньги — это так скучно' Мы с
друзьями, если у нас заводятся деньги, сразу стараемся их от-
дать Передаем друг другу, лишь бы отделаться» Несколько
серьезнее выразилась моя знакомая, вращавшаяся в музы-
кальной среде «Мы делимся всем, что у нас есть, ничего не
утаиваем Все мое — их, а все, что есть у них, — мое, даже
если этого и немного» Однако один из ее друзей-музыкантов
сказал мне, что эта женщина — скряга Вот вам конфликт
между культурной идентичностью человека и реальной соци-
альной практикой
В годы перестройки в России начали проявляться очерта-
ния своеобразной потребительской культуры с соответствую-
щей системой знаков социальных различий (Bourdieu 1984)
Многим, однако, не верилось в реальность этого процесса, и
конфликты и споры о ценностях в связи с коммерциализаци-
ей жизни приобрели в перестройку характер символической
практики3 На идеологической «повестке дня» эта проблема
3 Впрочем, этот конфликт ни в коей мере не был нов и в советс-
кие времена обсуждались вопросы материальной стороны жизни См
Stites (1989), о семиотике эгалитарной эстетики в период революции
и ее исчезновении в постреволюционный период В 1920-х годах в
период нэпа вновь появился потребитель, выставлявший напоказ
свое материальное благосостояние, а в 1930-е годы заново утверди-
лись формы потребления, положившие начало вполне современно-
му «вещизму» В Данэм (Dunham 1990) и С Бойм (Воут 1994) пока-
зывают, как при Сталине входили в жизнь и поощрялись ценности
среднего класса, они также подробно изучают семиотику «буржуазно-
го» домашнего уклада и потребления в советской жизни М Мэтьюз
(Matthews 1978), И Земцов (Zemtsov 1985) и Д Уиллис (Willis 1985)
предлагают очень интересные интерпретации использования поня-
тия < класс» в различных русских (советских) контекстах и историчес-
ких изменений в его содержании
234
ГЛАВА 4 МИСТИЧЕСКАЯ ЬЕДНОСП Ь И ЛИШЕНИЯ
особенно остро стояла в 1989—1990 гг открывались коопера-
тивы и началось горячее обсуждение вопроса, можно ли по-
зволить людям обогащаться
Во время перестройки в дискурсах о жилье наметилось две
тенденции В одном типе дискурса прославлялся свободный
рынок, причем все были помешаны на Америке, где, как счи-
талось, каждому доступен приличный домик, а если хочется
лучшего — пожалуйста, стремись и добивайся своей цели Дру-
гой дискурс характеризовала «зацикленность» на классовом
зле в России его печальные герои — рабочие, колхозники,
ветераны войны всю жизнь жили по советским правилам, а
сейчас, тем не менее, прозябали в жалких коммуналках и квар-
тирах без водопровода, в то время как хапуги из правящей
элиты за счет этих бесправных получали прекрасные кварти-
ры Парадокс ситуации состоял в том, что гласность, обнажив-
шая скрытую классовую структуру советского общества, впер-
вые позволила открыто говорить о свободном рынке как о
ценности, а о классовом расслоении как о законном положе-
нии вещей Столь разные воззрения на реальность были таин-
ственным образом объединены в утопическую фантазию о
демократической общественной справедливости, при кото-
рой в будущем каждый получит как минимум по двухкомнат-
ной квартире
При непосредственном восприятии подобные разговоры
наводили на мысль о понятии «нулевой суммы» — представле-
нии, которое часто приписывают крестьянам (Foster 1965,
Howe 1990) Суть его состоит в том, что сумма материальных
благ считается ограниченной, и всякий, кто стремится иметь
больше, тем самым отнимает некоторую их часть у других
Возмущение социальным расслоением в какой-то степени
объясняется именно этой идеей тот, кто не довольствуется
малым, опасен для самосознания (идентичности) и практики,
базирующихся на коллективизме Своей активностью слиш-
ком деловые давали понять, что советский образ жизни им не
235
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
подходит, что они заслуживают лучшего. Такие люди ставили
под сомнение тот самый образ жизни, который ранее не про-
сто устраивал многих, но и ценился — как жизнь простая, но
хорошая, без особых изысков, но своя, привычная. Новые
взгляды угрожали оборвать связующую нить между бедностью
и святостью, а это была та связь, на которой держались неко-
торые формы идентичности (и самоуважения) народа.
Отдельные личности, пытавшиеся выделиться социально и
экономически, представлялись разрушителями единства «на-
рода» — сложного образования, членов которого в массе ха-
рактеризовали, в ряду других признаков, похожесть характе-
ров, общий опыт — опыт простых человеческих радостей,
простые эстетические запросы, неприхотливый стиль жизни.
Когда в 1989 и 1990 гг. в Москве начали открываться дорогие
иностранные магазины, они породили у москвичей причудли-
вую смесь любопытства, ужаса, зависти — и безразличия: мос-
квичи не могли покупать эти товары (и возмущались тем, что,
пока это не запретили, в таких магазинах требовали иностран-
ную валюту). «Эти магазины не для нас, не для народа», — го-
варивал один мой знакомый не без гордости (хотя и не без
обиды), выразив в одной фразе не только то, что такие мага-
зины ему недоступны, но и то, что он принадлежит к числу тех,
кто может без них спокойно обойтись.
Рассчитывать всецело или почти всецело на себя — вот еще
один часто встречающийся в речах мотив, говорящий о бли-
зости к народу и о принятии народных идеалов и эстетики
бедности (а также характеризующий способы добывания
средств к существованию). Дача была центральным пунктом в
этой идеологии. В России дача есть отнюдь не место летнего
отдыха (по крайней мере, для взрослых), а скорее штаб-квар-
тира семейного самообеспечения и место обязательного еже-
годного очищения тела, души и ума от городского влияния4.
4 Я уже писала (Ries 1994: 246—249), что Советское государство, в
точности так же, как и отдельная семья, всегда полагалось на эффек-
236
ГЛАВА 4 МИСТИЧЕСКАЯ БЕДНОСТЬ И ЛИШЕНИЯ
Самоотверженная забота о земле, чуть ли не научный под-
ход к обработке почвы, рьяное консервирование урожая —
«закатывание», сушение, маринование, засолка — все, чем мно-
гие москвичи занимались на своих дачах (находящихся час-
то меньше чем в часе езды от города), конечно, имело большое
практическое значение, особенно в периоды дефицита про-
дуктов. Но люди, увлеченные этой деятельностью, подобно
завзятым огородникам в любом индустриальном обществе, на
символическом уровне также утверждают связь работы на зем-
ле с идеалами практичности, умелости, дисциплины и терпе-
ния. К тому же, такого рода деятельность символизирует связь,
частью, может быть, и надуманную, с простым, здоровым и
независимым крестьянским прошлым. Я поняла это, когда
побывала на даче у одной семьи. Отец (по профессии систем-
ный программист) водил меня по маленькому участку с гряд-
ками и деревьями, указывая при этом на множество предметов,
сделанных его собственными руками, по старинке, из подо-
бранных на улице материалов. На дворе красовались само-
дельные скамейки, столы, инструменты и игрушки. Он сам
соорудил деревенский колодец с воротом и к нему ведро, об-
нес участок забором. Что же это было, как не воплощение сим-
волической связи с традиционными крестьянскими идеалами,
как не гимн человеческой способности сотворить из ничего
целый мир!
Разные семьи проводили время на даче по-разному — кому
как хотелось, кто как мог и как считал нужным. Но большин-
ство отдавало много времени выращиванию овощей: картош-
ки, огурцов, помидоров, тыкв, лука, моркови, свеклы, капус-
ты — для собственного потребления. Выращивали и фрукты,
особенно яблоки, и всевозможные ягоды, которые потом в
тивность неофициальных стратегий выживания. То есть если бы на-
род не умел изыскивать всяческие лазейки в официальной системе и
не сооружал себе собственные системы обеспечения, государство не
просуществовало бы столько времени. И дачная деятельность в про-
цессе выживания играла ключевую роль.
237
<PVCCKHb РАЗГОВОРЫ»
большом количестве заготавливали на зиму Приемы и мето-
ды «натурального хозяйства» приобрели еще большее значе-
ние во время и в особенности после перестройки, когда начал-
ся дефицит продуктов и многие малообеспеченные люди
оказались просто перед угрозой голода Но гордость, с кото-
рой дачники показывали свои огороды, то, как тепло они гово-
рили о плодах своего труда — почти как о живых существах, —
их преданность такому образу жизни свидетельствовали о
символической ценности этой деятельности и о том, что без
нее они себя не мыслили Как сказала одна женщина, «там, в
верхах, в своем роскошном парламенте, пусть делают что хо-
тят, а народ выживет здесь, как всегда»
Превратившееся в ритуал привычное стояние в очередях
(по необходимости или без оной) — это еще один мощный
способ укрепления, в процессе жизнеобеспечения, чувства
принадлежности к народу Всегда существовали классы и ка-
тегории людей, чей статус в иерархии предоставлял им от-
дельный доступ к товарам, избавлявший их от стояния в оче-
редях, именно эта избавленность от очередей точно говорила,
что они не принадлежали к «народу» В тяжелые времена, в том
числе в годы перестройки, мучительный опыт вынужденного
стояния в очередях особенно наглядно служил ежедневной
демонстрацией выносливости человека и тем поддерживал
ощущение народного единства Несколько лет тому назад
(17 марта 1991 г) в газете «Нью-Йорк тайме» появилось со-
общение о том, как русские стояли за чем-то в очереди и не
уходили, даже когда их стали разгонять с помощью слезоточи-
вого газа Можно себе представить, что потом говорили участ-
ники инцидента и их знакомые вот, мол, до чего дошло поло-
жение с продуктами, но какой же стойкий и даже могучий у
нас народ — все ему нипочем1 Разумеется, к этому случаю мож-
но относиться и всерьез, и с иронией Объясняя, в ответ на
вопрос знакомой, свою приверженность календарям, ежед-
невникам, картам и прочим «органайзерам», я пошутила «Мо-
жет быть, мы, западные люди, пользуемся всем этим ради ду-
шевного спокойствия» И задала встречный вопрос «А что
238
ГЛАВА 4 МИСТИЧЕСКАЯ БЕДНОСТЬ И ЛИШЕНИЯ
русские делают для душевного спокойствия’» Женщина, не ко-
леблясь, ответила «Мы стоим в очередях1 Стоим в очередях, де-
лимся своими заботами, разговариваем о здоровье и чувству-
ем себя в этот момент коллективом, единым целым»
Через рассказы ли о всем знакомых ситуациях, через шут-
ки ли об очередях, но принятие необходимости терпеливо
переносить трудности рефлективно внушало людям эту горь-
кую ценность — ценность бедности и беспомощности В годы
экономического кризиса любое лишение, любое усугубление
трудностей, которые переносились с традиционным для на-
рода терпением, могли претворяться в ходе рассказывания в
материал для строительства собственной идентичности и об-
раза своей общины Несчастья и унижения расширяли челове-
ку возможности выхода на мифическую социальную сцену,
театральную декорацию разочарований, тревог, трудностей,
обид — путь к ощущению себя частью народа, к ощущению
священной русскости Многие перестроечные дискурсы дела-
ли народ главным героем на этой сцене, его антагонистами
были «все остальные» — все, у кого был статус, «допуск», власть,
родня, связи и богатство В зависимости от многих факторов,
включая честолюбивые замыслы и возможности данного мо-
мента, мои информанты могли либо идентифицировать себя
с этим мифическим народом, либо рискнуть дистанцировать-
ся от него
Хлеб и нарратив в опыте бедности
Хлеб не подчиняется министерским указам В конце
концов, он превыше их всех
Красная книга каравая, «Огонек», 27 июля 1991 г
В парадигме мистической бедности хлеб был той субстан-
цией, которая служила верной вехой на пути в сферу сакраль-
ной самоидентификации Наиглавнейшая субстанция, физи-
чески и метафорически связывающая народ воедино, хлеб
239
«РУСС КИЕ РАЗГОВОРЫ»
представал в речи силой, способной переворачивать соци-
альные ценности и возвышать народ над власть имущими.
Когда я приехала в Москву в начале сентября 1989 года, уже
многое исчезло с прилавков, но основные продукты русского
рациона (хлеб, масло, колбаса, сыр, чай, некоторые фрукты и
овощи, зерно и крупа) еще можно было купить в государствен-
ных магазинах. К тому времени, как я уезжала, в конце мая
1990 года, в Москве не было почти ничего (в провинции по-
ложение было еще хуже). И девятью месяцами раньше мясо и
рыбу трудно было достать, но сыр и даже сахар купить было
можно. В январе 1990-го сыр исчез и сахару не хватало даже
по карточкам, которые тогда же ввели. Магазинные полки за-
валили макаронами, детским питанием и солью. Но в марте—
апреле исчезло и это, и граждане начали говорить о новом
«абсурде»: им приходилось просить друзей, едущих за грани-
цу, привезти вместо сувениров макароны (надо заметить,
правда, что к тому времени у большинства уже были дома за-
пасы макарон и других продуктов).
Но уж хлеб-то должен был быть всегда — верный, честный
хлеб, всем равно дорогой (как говорится в пословице), хлеб
насущный, что не даст погибнуть. Хлеб был среди продуктов
особой категорией; в трудные времена все другое было изли-
шеством.
Но в начале апреля 1990-го полки булочных впервые нача-
ли пустеть еще до обеда. Люди целыми днями говорили об
исчезновении хлеба. Они ругали производителей, считая, что
те сознательно придерживают хлеб в ожидании повышения
цен. Мои старые знакомые, муж и жена, рассказали мне, что
они начали сушить хлеб и складывать его в пластиковые паке-
ты — на случай, если совсем пропадет. Последний раз люди
так запасали хлеб во время войны и политических репрессий,
и с тех пор осталось выражение «пора сухари сушить» — дес-
кать, беда неминуема. Во времена перестройки эти слова озна-
чали, что ситуация дошла до крайности и что начинается
240
ГЛАВА 4. МИСТИЧЕСКАЯ БЕДНОСТЬ И ЛИШЕНИЯ
настоящий культурный спектакль. Разговоры об исчезновении
хлеба, несмотря на ироническую ноту, были чрезвычайно зна-
чимы: они свидетельствовали о том, что вместе с нарастани-
ем реальной угрозы материальному существованию символи-
ческая интенсивность сегодняшней ситуации тоже росла и
достигала уровня, ставившего ее в один ряд со всеми прежни-
ми катаклизмами в российской истории.
Черно-белая фотография на обложке одного из номеров
журнала «Огонек» (27 июля 1991 г., а хлебный кризис начался
в 1990-м и длился довольно долго) может послужить приме-
ром образа, концентрирующего в себе материальное и симво-
лическое значение хлеба: за столом сидит старик, опершись
подбородком о ладонь и тревожно глядя в окошко. Перед ним,
наподобие скатерти, расстелена газета с хорошо видимым
названием — «Наша жизнь», а на газете лежат две краюхи хле-
ба. Над фотографией сверху заголовок: «Надежда на хлеб» (ко-
торый можно понять как «надежда — в хлебе» и «надежда
получить хлеб»). На фотографии старик, как весь народ, — по-
давленный заботами, но сдержанный; многострадальный, но
достойный уважения. Заголовок газеты — «Наша жизнь» —
связал воедино выживание народа и его самосознание с эти-
ми ломтями хлеба.
А вот еще рассказ, подтверждающий центральное положе-
ние хлеба в эпопее русского народа. Он взят из истории жиз-
ни Семена Аркадьевича, которого я уже цитировала. Начинаю
с длинного вступления, чтобы было понятней.
«Когда началась война, детские дома были эвакуированы, и
я был эвакуирован на барже “Осетия”. Почти сразу я сбежал.
Это было в 1941-м. К тому времени, как немцы были под Мос-
квой, я уже был в бегах. Иногда ездил на ступеньках вагонов.
Я всегда хотел есть, и мне надо было попасть на фронт как
можно скорее. Не для того, чтобы стрелять и кого-либо уби-
вать. Как животное, которое находит соль и лижет ее, так го-
лодный человек ищет и как-то находит еду. Я и стремился на
16. Заказ № 2742.
241
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
фронт, потому что там я бы как-нибудь нашел еду Я был весь
оборванный, истощенный и выжил только благодаря хоро-
шей наследственности, вопреки голоду и холоду Вначале я
попал на фронт под Орлом. Я хорошо помню, как познако-
мился с поваром дядей Пашей, и пока я там был, солдаты да-
вали мне пристанище, я жил с солдатами, прямо на передовой.
Я помню, как дядя Паша варил котел каши и котел супа. Он
варил на триста человек или, может быть, на двести, — не важ-
но, котел был очень большой. Но есть приходило двадцать-
двадцать пять человек, не больше. А суп был с тушенкой. Я ел,
ел и не мог наесться, а он все кормил и кормил меня. Я пробыл
у них несколько дней, а съел — уж не знаю сколько. Вот так...
Но я вам сейчас расскажу одну вещь, может быть, самое
важное, что я испытал за все это время. Как-то раз, прямо пе-
ред войной, я шел и увидел: на дороге валяется кусок хлеба. Это
был кусок белого батона, белый хлеб, не черный. Я тогда в оче-
редной раз убежал из детского дома. Голоден я не был, мне
казалось как-то неудобно поднимать его. Но была мысль: с
чего это вдруг хлеб валяется на дороге? А потом началась вой-
на. И всю войну этот кусок не выходил у меня из головы. И на
фронте, на передовой — все время тот кусок хлеба стоял пе-
ред моими глазами»5.
Фольклорный резонанс этой истории ясно указывает на
хлеб как на предмет, принадлежащий пограничному про-
странству между физическим и метафизическим мирами. Хлеб
был для Семена Аркадьевича символом испытанного им са-
мим голода, про который он вспоминал столько лет и кото-
рый и сейчас обозначал для него все пережитое. Голодные
видения о хлебе позволяли подняться над реальным голодом,
очутиться там, где свершается чудо выживания, являлись зна-
ком — знаком скрытой, а может быть, и сакральной силы.
5 Можно отметить, что валяющиеся на дороге предметы всегда
воспринимались как «порченые» или «заколдованные» (Ivanits 1989:
103). Я напоминаю об этом, чтобы показать, как в истории Семена
Аркадьевича находят отклик традиционные русские верования
242
ГЛАВА 4- МИСТИЧЕСКАЯ БЕДНОСТЬ И ЛИШЕНИЯ...
В разговорах времен перестройки тема войны возникала
постоянно, обозначая то время, когда весь народ, все люди
одинаково ощущали себя на краю гибели. Тот хлеб на дороге
был не только знаком, посланным грядущим временем потерь,
но и образом, с которым возвышенно соединилась и в кото-
ром воплотилась бесконечная народная выносливость. Вели-
кая Отечественная война остается для русских тем кризисным,
голодным временем, когда в стремлении к единой цели роди-
лась подлинная сплоченность народа, для которой не понадо-
билось ни террора, ни призывов сверху (см. Tumarkin 1991:
289).
Для нашей темы, однако, определяющим моментом являет-
ся то, что при сравнении периода перестройки и войны пер-
вая явно проигрывала. Однажды где-то на окраине Москвы
мне случилось ехать в такси вместе с весьма разговорчивым
человеком, который болтал с водителем, поглядывая на меня
в расчете на одобрение и не подозревая, что я не местная (а я
тихонько кивала головой). Мой попутчик подытожил разго-
вор словами, в которых нашла выражение уже не раз слышан-
ная мною мысль: «Москва сильно испоганилась за последние
годы... В войну было гораздо лучше. Все держались вместе.
Были в людях энтузиазм, энергия, душа была у людей... Теперь
же все думают только о том, как бы разбогатеть. Жизнь стала
неинтересная. Москва все свое величие растеряла».
Какова бы ни была специфика метафизического мира, от-
куда бы ни брались детали, все эти сюжеты и рассказы подчер-
кивают существование особой русской идеологии, согласно
которой лишения в осязаемом, материальном мире откры-
вают дверь в идеальный мир сакрального. В связи с этим я
припомнила мысль Элейн Скэрри: «Привилегированная про-
слойка, возможно, никогда не станет объяснять свое привиле-
гированное положение страданиями, голодом и унижениями
низших классов; скорее она отнесет его на счет фактора-по-
средника — недостатка у последних всякого рода земных ве-
16*
243
< РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ >
щей (собственности, знаний, честолюбия, таланта, блеска,
профессионализма и т.д.). Конечно, во многих случаях имен-
но страдания и голод лишают бедняков этих земных вещей, и
именно из-за их недостатка страдания и голод бывают скры-
ты от глаз общества» (Scarry 1985: 331).
Высшие классы, безусловно, воспринимают фактическую и
идеологическую реальность жизни беднейших слоев иначе,
чем сами бедняки; но логика Э. Скэрри тоже упускает из виду
нечто важное, а именно то, что символический мир беднейших
классов вполне может быть выстроен исключительно вокруг
чувства голода. Понятие «русский народ» во многих своих ас-
пектах сложилось, похоже, именно в повествованиях о стра-
дании и голоде. Безусловно, эта идентичность рождается не в
момент актуально переживаемого голода, а после хотя бы ча-
стичного его утоления; в рассказах и историях отражается не
непосредственное страдание, а воспоминание о нем или во-
ображение его спустя некоторое время. И однако это само-
ощущение культивировалось, тщательно отделывалось и фор-
мировало некий мир, противопоставленный материальному
миру, — мир, исторически и духовно богатый в той же степе-
ни, в какой беден был материальный мир его обитателей.
Это и есть мистическая нищета (или мистификация нище-
ты — можно сказать и так), которую антропологи столь часто
обнаруживают в крестьянских культурах. Перед нами ми-
фическая идея волшебного изобилия, появляющаяся при сни-
жении материального достатка, и особенно при снижении
этого достатка до нуля6. Эта разделяемая всеми бедность, то-
тальная материальная нищета представляла собой русский
культурный путь не просто в мир поэтической образности, но
в область изощренного мифотворчества, в мир метафизики.
6 Она кажется родственной той идеологии магической оздоравли-
вающей силы, порождаемой колониальной действительностью, не-
смотря на ее социальные уродства, которые описывает Майкл Таус-
сиг (Taussig 1987)
244
ГЛАВА 4 МИСТИЧЕСКАЯ БЕДНОСТЬ И ЛИШЕНИЯ
С помощью особой модальности речи, которую Клод Леви-
Стросс назвал bricolage (Levi-Strauss 1966: 16—36), многие на-
учились создавать нечто сложное и эстетически привлека-
тельное из скудных подручных материалов и делали это и при
сталинизме, и в годы войны, и во время хаоса и пустых полок
при перестройке. Они гордились своим умением сотворить
культурное вещество и материал из ничего — так в русских
народных сказках действовала скатерть-самобранка, которая
могла из воздуха устроить пир горой для голи да бедноты.
Один из аспектов самоидентификации народа как раз и стро-
ится на преклонении перед этой способностью наделять бо-
гатым смыслом такие малые материальные ресурсы, которые
«они» — элита, европейцы или любая другая группа, владею-
щая «вещами», — сочли бы просто ничтожными.
Самый главный из этих ресурсов — язык, ибо то, чего нель-
зя изменить в материальном мире, можно преобразить в речи.
В свете этой идеи можно по-другому взглянуть на приведен-
ное в первой главе высказывание: «По сравнению с вами, За-
падом, мы, может быть, и бедны, но наш язык богаче всех бо-
гатств». Я говорила, что дискурс, представляющий язык как
богатство, затемняет центральную роль языка в создании и
воспроизведении этнической или культурной идентичности.
Но представление о языке как богатстве содержит также и
мощный потенциал сопротивления: ведь язык есть неистощи-
мый ресурс, самая большая ценность — гораздо более значи-
тельная, чем осязаемое богатство в виде лимузинов, дач, обще-
ственного положения, которыми кто-то владеет. Повторяя
много раз эту мысль, люди как бы сопротивляются признанию
своей реальной бедности и удаленности от источника власти.
Понятие языка как богатства позволяет людям воображать
себя могучими обладателями самого важного общественного
ресурса и средства производства. Благодаря языку, народным
сказаниям и рассказам граждане могли ощущать себя ценной
частью оощества, которое, несмотря на семьдесят лет ком-
245
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
мунистической риторики о «священном» рабочем классе или
народе, так и не обеспечило их ни материальными условиями,
ни достойным политическим статусом, которые подтвердили
бы ценность этих категорий.
По существу, эта форма сопротивления мистифицировала
и скрывала реальные властные отношения в советском обще-
стве, таким образом отводя от них критику со стороны насе-
ления. Как ни привлекательна идеология эгалитарной сущно-
сти языка, но она помогает воспроизводить логику иерархии,
т.е. одно из оснований, на которых сама иерархия покоится.
«Жития святых»: совершенствование
искусства переносить боль
Обыденная жизнь находит свое продолже-
ние в Житии Святого, равно как и Житие Свя-
того находит свое продолжение в обыден-
ной жизни.
Валерий Петроченков.
Христианские мотивы в советской прозе
Наряду с парадигмой, которая ставит в один ряд матери-
альные трудности и моральное превосходство, была еще ме-
тонимическая парадигма, в которой страдания порождают
духовность и в которой чем больше человек страдает, тем он
лучше становится как человек вообще и как русский человек
в частности. Джеффри Хоскинг приводит разговор как раз об
этом: «В прошлом году я беседовал с двумя пятидесятилетними
писателями, людьми очень культурными, знатоками челове-
ческих душ. Они вполне серьезно заверяли меня, что совре-
менные молодые люди, не пережившие больших лишений и
трудностей, духовно опустошены, а их литературные опыты
вялы и легковесны» (Hosking 1991:69).
246
ГЛАВА 4 МИСТИЧЕСКАЯ БЕДНОСТЬ И ЛИШЕНИЯ...
Эта идея — ценности личности благодаря пережитым ею
лишениям — имеет своих реальных и мифических представи-
телей (и даже группы представителей), которые столь сильно,
столь драматично воплощали дух страдания и потерь, что
стали образами самой парадигмы и даже самого «Русского ска-
зания». Они — как «талисманы» русской добродетели, отража-
ющие святость народа и его моральный статус. Эти канони-
ческие представления могли выступать в образах персонажей
соцреалистических кинофильмов и книг, а также в официаль-
ном образе героя войны, который не противоречил и более
простой, народной версии. Во время перестройки подобные
образы создавались в живописи и фотографии; изображались,
например, пожилые женщины, чьи лица отмечены печатью
тяжких страданий, но освещены высшим внутренним светом.
Были даже изображения зэков с нимбом вокруг головы или в
позе распятого Иисуса Христа.
Образы этих «святых», освящающих «душу» народа, появля-
лись и в нарративе. В художественной литературе, издавав-
шейся в годы гласности, подобные типы нарративов вошли в
ряд ведущих жанров, продолжая одну из основных традиций
русской литературы7. Не ограничиваясь печатной продукци-
ей, подобные рассказы и в русском разговоре составили попу-
лярный жанр. Без малейшей иронии я определяю их как «жи-
тия святых», поскольку этот средневековый русский жанр
определяло такое же сочетание мифологических и сакраль-
ных характеристик.
Современные жития святых представляли собой рассказы,
истории жизни, центральными темами которых были страда-
ния и самопожертвование — так же, как в литаниях. Однако
при равной сфокусированности обоих жанров на страдании
7 См. роман Достоевского о «бедных людях», повести и рассказы
Горького; о лагерной жизни писали Шаламов, Синявский, Солжени-
цын («Матренин двор» и «Один день Ивана Денисовича» представля-
ют собой прекрасные примеры изображения святости бедных, стра-
дающих, «маленьких» представителей народа).
247
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
и жертвенности герой «жития» отличается тем, что отбрасы-
вает ореол мученичества и таким образом обретает новый
статус — святого или спасителя.
Фигура святого обеспечивает некую точку7 опоры, благода-
ря которой могут совершаться символические инверсии. По-
добно иконе в православном культе жизнь святого была и от-
ражением, и источником святости; это центральная точка
перехода в тот иной, перевернутый мир, о котором я уже го-
ворила. В житии святого темы литаний четко фокусировались,
при этом в них отражался и дух народной добродетели.
Памятуя о том, что жизнь подвижников была одним из цен-
тральных мотивов русской литературы, я хочу кратко рас-
смотреть творчество Анны Ахматовой, которая в XX в. была
одной из самых возвышенных подвижнических фигур, видев-
шей и лично пережившей все роковые события советской ис-
тории.
Ахматова и искусство испытывать
лишения
Не случайно и не удивительно, что Анна Ахматова являет
собой один из высочайших образов, с которыми ассоцииру-
ется женское страдание в России XX в. Ее лицо, изображенное
в профиль на знаменитых фотографиях и картинах, до сих
пор воспринимается как лицо женщины, перенесшей вели-
чайшие страдания, видевшей величайшее горе и помняшей о
том, что перенес ее народ и что она отразила в своей поэзии.
В своем поэтическом цикле «Реквием», изданном впервые уже
в период гласности, Ахматова создает образ современной свя-
той и погружает его в воды русской культуры. «Реквием» начи-
нается следующим эпиграфом:
Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл. —
24S
ГЛАВА 4. МИСТИЧЕСКАЯ БЕДНОСТЬ И ЛИШЕНИЯ .
Я была тогда с моим народом,
'Гам, где мой народ, к несчастью, был.
После этого заявления об абсолютном единении с народом
«Реквием» продолжается следующими пояснительными заме-
чаниями:
«В страшные годы ежовщины я провела семнадцать меся-
цев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то
“опознал” меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми
губами, которая, конечно, никогда не слыхала моего имени,
очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила
меня на ухо (там все говорили шепотом):
— А это вы можете описать?
И я сказала:
— Могу
Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что неког-
да было ее лицом».
В конце многочастного «Реквиема» поэтесса просит, чтобы
памятник ей, если он когда-нибудь будет поставлен, был бы
возведен не возле моря, не в саду, а на том месте у входа в тюрь-
му, где она стояла в очереди со своим народом те долгие сем-
надцать месяцев. Ибо, пишет она,
...и в смерти блаженной боюсь
Забыть громыхание черных марусь,
Забыть, как постылая хлопала дверь
И выла старуха, как раненый зверь.
Образы и настроения, которыми начинается и заканчива-
ется «Реквием», дают сгусток специфически русских идей.
Страдания, которые рисует Ахматова, испытывались коллек-
тивно, и поэтесса (зная, что она один из величайших поэтов
России) настаивает на том, чтобы памятник ей поставили на
249
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
том месте, которое воплощало для нее главный узел ее связи
со страданиями народа
Страдающее лицо в поэзии Ахматовой — женщина: сама
поэтесса, женщина с посиневшими губами, причитающая ста-
руха. В современных русских нарративах именно женщины
являются теми вместилищами муки и тоски, в которых сохра-
няется цельным сам дух страдания и жертвенности. Говоря об
Осипе Мандельштаме, одном из лучших поэтов России XX в.,
который был арестован и пропал в лагерях в конце 1930-х го-
дов и чьи стихи запомнила наизусть — и таким образом спас-
ла — его жена Надежда Яковлевна, Чарльз Айзенберг пишет:
«Роли универсализированы: мужчины погибают в борьбе, а
женщины повествуют об их борьбе, сохраняют память о них
и, как пишется в стихах, воскрешают их» (Isenberg 1987: 171).
В русской культуре, как и во многих других культурах, жан-
ры, связанные со страданием, жертвами и потерями, имеют
явную гендерную классификацию: с древнейших времен до
наших дней в плачах и литаниях женщины горюют о потере
мужчин. Эта модель настолько распространена и как истори-
ческий факт, и как символическая формула, что уже сам образ
одиноко сидящей со сложенными на коленях руками старой
женщины в платке, застывшей и неподвижной, несет дух по-
тери, молчаливого свидетельства: «Я видела это, я это пережи-
ла, я была там».
В устной форме, в отличие от литаний времен перестрой-
ки с их нотой отчаяния, жития святых создавались в торже-
ственных, даже умиротворенных тонах. Литании сотрясали
мир передаваемым ими ощущением ужаса, тогда как житие
святого успокаивало мир приятием его. В стихах Ахматовой
это успокоение воплощено в образе статуи, бронзовой фигу-
ры, глаза которой иногда источают беззвучные слезы.
Такие общеизвестные тексты, как стихи Ахматовой, были,
по терминологии Гйрца, «моделями» терпения и одновремен-
но «учебниками» терпения Этот дуализм наводит на мысль о
политическом эффекте таких текстов. Были ли они протестом
250
ГЛАВА 4 МИСТИЧЕСКАЯ БЕДНОСТЬ И ЛИШЕНИЯ
против угнетения, или они скорее отображали «претерпева-
ние» этого угнетения, за которым следовала сакрализация’
Рональд Хингли, анализируя жизнь и творчество четырех
великих и многострадальных поэтов XX в. — Ахматовой, Ман-
дельштама, Пастернака и Цветаевой, — так пишет о парадиг-
ме страдания и потери вообще: «Может быть, любому худож-
нику “чрезвычайно везет, если судьба посылает ему самые
тяжкие из возможных испытаний и оставляет при этом в жи-
вых” (Джон Берримен). Если так, то особенно повезло русским
поэтам — не считая, разумеется, тех, кого эти испытания все-
таки погубили, в некоторых случаях после того, как они в пол-
ной мере насладились годами нищеты, лишений и террора.
Эти “подарки судьбы” проливались на них столь щедро, что
Ахматова иногда говорила о “зависти” русских эмигрантов к
страданиям (как это по-русски!) тех, кто остался дома. Пере-
давая это замечание Ахматовой, вдова Мандельштама назвала
его вопиюще неточным. Ничего возвышенного, сказал она, в
страданиях ее мужа и ее собственных не было — были только
боль и ужас» (Hingly 1981: xiii).
Замечания Хингли не охватывают всей сложности этой
проблемы в той ее форме, которую олицетворяют русские
«святые», подобные Анне Ахматовой и Надежде Мандельштам.
И хотя у русских тема страдания и самопожертвования пре-
ломляется во множестве вариантов, сама эта многогранная
идеология страдания всегда играла важную роль в том, как
русские строили представление о себе и своей нации.
Самые неотложные нужды страны
Андрей, писатель лет под пятьдесят, разведенный, сказал
мне, что по доброй воле выбрал жизнь в бедности Он жил в
старом доме в самом центре Москвы, в коммунальной квар-
тире, и никогда не открывал единственного окна своей ком-
наты из-за шума и бензиновой гари от бесконечного потока
251
<• РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
машин на улице К дому надо было проходить через пятачок
двора посреди нескольких полуразрушенных двухэтажных
зданий постройки двухвековой давности. Чтобы добраться
до своей комнаты, Андрею приходилось отпирать множество
дверей и пробираться сквозь ряд проходных комнат. Поло-
вина закопченной прихожей выполняла роль кухни, где ви-
сел коммунальный телефон, а рядом были двери в ванную и
туалет, которыми кроме Андрея пользовались еще несколько
семей.
Сама же квадратная, почти кубическая, страшно запущен-
ная комната Андрея была чудным местом. От пола до потолка
стены покрывали бумажные артефакты: черно-белые фото-
графии Андрея и его друзей, вырезки из газет и журналов со
снимками знаменитостей (особенно музыкантов и поэтов),
рисунки на всевозможных носителях — салфетках, конвертах,
клочках бумаги; висели стихи, лозунги, карты, меню, гирлян-
ды и т.п. Множество разнообразных, по виду самодельных,
полок непостижимым образом держалось под тяжестью сотен
книг, альбомов с пластинками, магнитофонных пленок, пачек
исписанных листов бумаги, журналов и старых газет. В углу
около окна стояла раскладушка, посреди комнаты — три сну-
ла, два из которых использовались для сидения, а третий — в
качестве стола. Андрей вскипятил воду в электрическом чай-
нике, и мы попили чаю с принесенными мной конфетами.
Андрей мог бы уже много лет назад встать в очередь на
получение жилья и, возможно, получил бы по крайней мере
однокомнатную квартиру. Но он сам решил остаться здесь,
потому что, по его словам, есть много художников, живущих
очень трудно, которым он хотел бы помочь, и если бы он за-
нялся своими проблемами, это отвлекло бы его отдел его «уче-
ников и от нужд страны». «Как я моту думать о себе, когда наша
страна так больна? Когда творческие люди с трудом добыва-
ют кусок хлеба, чтобы есть и “пополнять энергию”, необходи-
мую им для создания песни или рассказа? Мой долг перед Рос-
252
ГЛАВА 4 МИСТИЧЕСКАЯ БЕД1ЮС1 Ь И ЛИШЕНИЯ
сией и духом творчества — посвятить им свою жизнь, сделать
хотя бы то немногое, что мне по силам»
В интервью, опубликованном спустя несколько лет, Андрей
выразил те же чувства:
«Много лет я искал для себя образ жизни. Что я говорю сво-
ему народу и своим детям статьями, стихами и песнями, кото-
рые я сочиняю? Что я должен говорить.-' Я нашел один ответ:
ты обязан выполнить свой долг... Я должен сделать все возмож-
ное для людей, которые творят... Вот мой долг. Даже одна се-
кунда, в которую я могу делать что-то для своего народа, при-
носит мне счастье. Я отдаю все свои силы, все свое время, все
свои деньги лучшим людям этой страны — и последним лю-
дям этой страны» («Kyoto Journal» 1992, №20).
Все семь лет, что я знала Андрея к моменту написания этой
книги, он жил в соответствии с этими культурными установка-
ми, где жертвование ради «людей» (иногда — всего «народа»,
иногда — сообщества творческой интеллигенции, к которой
он принадлежит) есть декларируемая ценность. Он практи-
чески не курил и не пил, питался просто, тратил очень мало на
себя, а все заработанные на разных проектах деньги вклады-
вал в поддержку своих собратьев. До перестройки он, несмот-
ря на недовольство властей, организовывал подпольные вы-
ступления музыкантов и поэтов, чтобы те имели возможность
обнародовать свое творчество; с приходом эпохи гласности
он столь же неустанно пропагандировал работу молодых ар-
тистов, нередко проявляя незаурядные организаторские спо-
собности.
Однажды я спросила о его молодых годах, и он ответил так:
«У меня было очень, очень трудное детство, очень трудное. Но
это неважно. Важно только то, что России сейчас трудно. Хотя
это и невозможно и все становится только хуже, мы должны
попытаться спасти то, что здесь осталось хорошего, красиво-
го, чистого и честного».
Подобно Ахматовой, Андрей создавал и поддерживал свою
идентичность, исповедуя идеал преодоления общего страда-
253
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
ния ради того, чтобы помочь народу выжить или выразить
себя. Вполне сознательно (потому что он, безусловно, тонко
понимает русскую культуру) Андрей строил свою жизнь в со-
ответствии с традициями аскетизма и самопожертвования,
уходящими корнями в русское православие; но сюда приме-
шивается и что-то от «кода юродивого» (Thompson 1987). Ан-
дрей часто говорил и делал вещи, бросавшие вызов нормам
общественной морали-, иной раз казалось, что его призва-
ние — это переходить границы, переворачивать логику, дохо-
дить до крайностей в творчестве и самопожертвовании. «До-
ходить до крайностей», похоже, составляет существенный
элемент модели «жития святого» в русской культуре, иллюст-
рацией чему может послужить следующая история.
Тысяча коржиков
К жанру «жития» нередко прибегают как обыватели, так и
творческие деятели, люди, сами известные лишь в узких кру-
гах (или вовсе неизвестные), но чьи истории передаются из
уст в уста, широко обсуждаются и на все лады переиначивают-
ся. Как-то я побывала в одной московской школе, где был му-
зей Великой Отечественной войны. Такие музеи были во мно-
гих советских школах,- власть широко поощряла увековечение
памяти о войне — это был способ воспитания патриотизма.
Хотя их создание преследовало интересы официальной вла-
сти, для людей, прошедших войну, подобные музеи были мес-
тами священными (так же воспринимались и всякие другие
формы увековечения памяти о войне).
Главную часть экспозиции музея в этой школе составляли
фотографии ветеранов (мужчин и женщин), сделанные во
время войны и сейчас, и снимки матерей, держащих фотогра-
фии своих погибших сыновей. Под фотографиями помеща-
лись аккуратно напечатанные на карточках истории жизни и
военной службы этих людей. Директор музея показала мне
254
ГЛАВА 4 МИСТИЧЕСКАЯ БЕДНОСТЬ И ЛИШЕНИЯ
альбом с фотографиями, на которых запечатлены различные
встречи, походы школьников-следопытов, собрания и мемо-
риальные церемонии с участием ветеранов, часто посещаю-
щих школу Она и сама прошла войну, и хотя сейчас она была
уже на пенсии, музей, по ее словам, оставался ее страстью и
смыслом жизни.
По музею меня водила Наталья, учительница и завуч; потом
она пригласила меня в свой кабинет на чашку чая. В тишине
и покое кабинета мы разговаривали о том, какое значение
имеет музей для школьников, и Наталья рассказала мне такую
историю.
«С нашей школой через совет ветеранов была связана одна
женщина, Ирина Ивановна. Она умерла в 1987 г. в возрасте
85 лет, но до самой смерти приходила к нам и рассказывала о
своей жизни, особенно о военном времени. У Ирины Иванов-
ны был муж и двое сыновей. После того как убили ее мужа и
старшего сына, она взяла второго сына, 1925 года рождения,
и пошла с ним в партизаны, и потом они вместе сражались
против нацистов. Однажды Ирину Ивановну ранило, и сын
три недели пробирался с ней через дремучий лес. (В этом ме-
сте повествование Натальи превратилось в литанию с харак-
терной интонацией.) Три недели он тащил ее на спине, через
леса, речки, он кормил ее и перевязывал рану, пока наконец
они каким-то чудом не добрались до своих. После этого он
пошел на фронт. Его убили перед самым концом войны»
Наталья взяла с полки большую книгу. Это был альбом, по-
священный жизни Ирины Ивановны, составленный группой
школьниц. Любовно украшенный ленточками, стрелочками и
каллиграфически написанными ярлычками, он лежал как свя-
тыня в Натальиных руках. Там были фотографии родителей
Ирины Ивановны, ее самой до войны, ее с сыном во время
войны, одетых в самодельные маскировочные накидки Потом
шли карты и схемы фронтовой зоны, на одной из схем стре-
лочкой и флажком указывалось место гибели ее сына (теперь
это территория Польши). На следующей странице в рамочке
255
< P VC .(.КИЕ РАЗ ГС ) ВС )РЫ >
из ленты была помещена фотокопия его последнего письма.
Несколько страниц посвящалось поездке Ирины Ивановны в
конце 1950-х годов в Польшу на могилу сына. Жила она на
очень скромные средства, а путешествие смогла совершить
только потому, что изучала польский язык и, победив на рай-
онной языковой олимпиаде, выиграла четырехдневную поез-
дку в Польшу. После войны Ирина Ивановна усыновила оси-
ротевшую девочку-подростка; фотографии ее с девочкой
также были в альбоме. На последнем снимке, незадолго до
смерти, Ирина Ивановна стоит среди учащихся школы. Мы с
Натальей рассматривали фотографии, ее голос дрожал, когда
она говорила:
«У нее была такая трудная жизнь, невообразимо трагиче-
ская. Но видели бы вы ее... Она была такая энергичная, такая
добрая. Она любила детей. Каждый год в день рождения сына
Ирина Ивановна пекла тысячу коржиков, приносила их сюда,
и мы всей школой отмечали эту дату... Она как будто пекла для
своего сына, дети же просто ели печенье, вы понимаете».
Наталья печально заметила, что теперь, без Ирины Иванов-
ны, дети, никогда ее не знавшие, как-то равнодушны и к аль-
бому, и ко всей этой истории8.
Но пока Ирина Ивановна была жива, школа ощущала себя
как бы обладательницей чудесной, священной «иконы» стра-
дания и самопожертвования. Ирина Ивановна испытывала в
жизни потерю за потерей, приносила жертву за жертвой и
отмечала это актами поминовения, похожими на жертвопри-
ношение. Жизнь этой женщины была не просто достойна
сострадания; она напоминала — по крайней мере, судя по
рассказам Натальи — именно житие святой, потому что, пове-
8 Н. Тумаркин (Tumarkin 1991) и Дж. Дикинсон (Dickinson 1995) в
связи с памятью о войне с грустью пишут о ширящемся разрыве по-
колений и о том, что дети и подростки часто с откровенным презре-
нием относятся к памятникам и мемориальным церемониям. Тумар-
кин пишет также о тех изменениях в отношении людей к войне,
которые принесли откровения эпохи гласности.
256
ГЛАВА 4 МИСТИЧЕСКАЯ БЕДНОСТЬ И ЛИШЕНИЯ...
ствуя о себе, Ирина Ивановна отвергала комплекс мучениче-
ства и представала перед слушателями личностью, претерпе-
вающей неимоверные страдания без слез и жалоб. Эта тысяча
коржиков была для нее средством перевести боль своей поте-
ри в прославление принесенной ее сыном жертвы. Даже само
выпекание коржиков, которое тоже можно считать своеобраз-
ной жертвой (муку, масло, яйца, сахар иной раз приходилось
«доставать», да и стоило это все недешево для пенсионерки),
предпринималось ею не в знак собственного страдания, а в
знак самопожертвования и своей способности возвыситься
над утратой.
Здесь можно увидеть христианский подтекст, хотя, воз-
можно, в данной истории и отсутствуют некоторые специ-
фически православные и русские элементы. Не углубляясь в
необычайно богатую тему русской церкви и православной
традиции, я хотела бы упомянуть две черты русского право-
славия, влияние которых сильно ощущается в русской культу-
ре и которые отражаются и в истории Ирины Ивановны.
Традиции русского православия
Первая из них — это кенотическая * традиция в правосла-
вии, подчеркивание непротивления Христа, не отказавшего-
ся от любви перед лицом смерти. Кенотики делали культ из
самоуничижения, страдания, жертвенности и непротивления
злу. Парадигматическое русское житие святого — это исто-
рия мученичества Бориса и Глеба, молодых сыновей князя
Владимира, крестившего Русь в 988 г. Борис и Глеб погибли
от рук своего старшего брата в ходе политической борьбы.
* Кеносис — в христианском учении означает снисхождение Бога
к миру, предполагающее самоуничижение Сына Божия. Идея кеноси-
са выражалась у христиан в терпеливом перенесении страданий, по
примеру Христа, «через уничижение перешедшего в славу» — см
Христианство. Энциклопедия. М.: БСЭ, 1995. Т. 3- С. 378. {Прим, перев)
17. Заказ № 2742.
257
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
Борис и Глеб после смерти были канонизированы, и вокруг
их фигур возникло целое направление религиозной прак-
тики. Его первым приверженцем и зачинателем соответству-
ющей традиции был киевский святой Феодосий. Георгий Фе-
дотов (Fedotov 1975: 110) утверждает, что культ процветал
(формально) почти девятьсот лет. Стремясь к идеалу, монахи
умерщвляли плоть строжайшим постом и другими способа-
ми и жили в нищете. Основными добродетелями в кенотизме
были «бедность, смирение и любовь в их совершенном и не-
делимом единстве» (Fedotov 128)9. Полная изумительных
драматических описаний чистоты и красоты двух невинных
братьев, история Бориса и Глеба концентрирует в себе пра-
вославные представления о Христовом самопожертвовании
и мученичестве.
Вторая важная традиция — поклонение Богоматери. Наи-
более известными, выразительными и почитаемыми из икон
русской церкви являются иконы Девы Марии. К ним обраща-
ются самые страстные мольбы, и они чаще других творят
чудеса. Печальный подвиг Богоматери — отдание на смерть
собственного сына, — ее нежное сочувствие страждущим и за-
ступничество за них перед Богом сделали ее едва ли не цен-
тральной фигурой русского православного культа и централь-
ным символом сакрального этоса православия.
Рассказ Натальи о жизни Ирины Ивановны был пронизан
эмоциями именно этого комплекса, эмоциями, пробуждаемы-
ми образом Богородицы с ее печальным, всевидящим, всепом-
нящим, заботливым состраданием. Во взаимоотношениях
Ирины Ивановны со школой также ощущались параллели с
христианской традицией: школа берегла и почитала «релик-
вии» этой женщины, а раздача коржиков сильно напомнила
мне обряд причастия. Я не хочу сказать, что Ирина Ивановна
или кто бы то ни было пытается изображать из себя святых; я
9 См. Ingham (1984) о «генеалогии» этой традиции. О жизни Бори-
са и Глеба см. «Избранные жития святых» (1992, т. 1)
258
ГЛАВА 4. МИСТИЧЕСКАЯ БЕДНОСТЬ И ЛИШЕНИЯ...
имею в виду, что в русской культуре по-прежнему сохраняет-
ся некая священная позиция — установка на безропотное при-
нятие страдания, получившая самое яркое выражение в обра-
зе Богородицы и в практике кенотиков. Подобная установка
особенно характерна для пожилых и старых русских женщин,
причем не обязательно верующих и православных.
Сдача крови
«Язык боли включает в себя институциональную, юриди-
ческую и политическую составляющие и конструирует свой
объект, сплавляя в единое целое эмоциональные/физические
состояния и идеологическое содержание данной социальной
структуры», — пишет Надя Сереметакис (Seremetakis 1994: 4).
Официальная советская модель гражданина-героя черпала
немало материала из проверенных временем, «легитимных»
русских культурных традиций. В искусстве и литературе со-
циалистического реализма, особенно военных лет, образ
святого мученика — многострадального, терпеливого и само-
отверженного — был прославлен и модернизирован, превра-
тившись в образ солдата-героя. Юная партизанка Зоя Космо-
демьянская, даже под пытками не сказавшая ни слова и в конце
концов повешенная фашистами, была поучительным вопло-
щением святости в советской действительности10. В ее «жи-
тии» все элементы присутствовали в чистом виде: конкретный
враг, цель, ради которой она принесла себя в жертву, и поступ-
ки, ожидаемые от святой.
Однако в реальной жизни такой схематической четкости
никогда не бывает. В следующей истории отражаются трудно-
сти построения собственной идентичности в полном проти-
воречий советском обществе, прославлявшем, тем не менее,
идеал святой жизни.
10 См. Stites (1992 99, 114) о «канонизации» Зои Космодемьянской
в советской народной культуре.
17*
259
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
Я брала интервью у Татьяны Васильевны, которая жила на
юге Москвы, в нескольких автобусных остановках от метро.
Она получила свою однокомнатную квартиру пять лет назад,
а до того сорок лет жила в коммуналке. Ее типичный дом был
в типичном для московских жилых домов состоянии. Обои в
комнате кое-где пузырились, отдельные паркетины в полу
шатались. Комната была большая, одну стену занимал само-
дельный стеллаж, не вмещавший огромного количества книг
и коробок; посередине комнаты стоял большой стол — на нем
Татьяна Васильевна делала свои ботанические зарисовки; в
«аппендиксе» — старый шкаф и кровать, у изножья которой на
тумбочке помещался телевизор. Квартира казалась уютной и
продуманно организованной, хотя и не очень ухоженной.
Биолог по образованию, Татьяна Васильевна после войны
стала заниматься иллюстрированием изданий по ботанике.
Она любила свою работу — зарисовывать, тщательно описы-
вать и классифицировать виды цветущих растений.
Несмотря на свой возраст — ей было далеко за шестьде-
сят — и плохое зрение, Татьяна Васильевна дважды в неделю,
а также по особым случаям ездила на автобусе и метро в свой
академический институт на заседания; зимой она ходила на
лыжах, а летом купалась в пруду около дома даже в холодную
погоду. Научная работа была ее страстью, своим пораженным
катарактой глазам она помогала лупой, через которую рас-
сматривала рисунки и фотографии собственноручно собран-
ных цветов.
Мы сидели на кухне, Татьяна Васильевна покормила меня
обедом. Она рассказала мне о недавно перенесенной глазной
операции, улучшившей ее зрение, поведала о том, как получи-
ла эту квартиру. Она говорила охотно, живо, придерживаясь
фактов. Мы перешли в комнату, продолжая разговор. Это была
наша вторая встреча; первую беседу Татьяна Васильевна по-
святила рассказам о своей молодости и университетских го-
дах, о своей службе медсестрой на Балтике во время войны.
Она стала говорить, а я не успела достать магнитофон. Она
260
ГЛАВА 4. МИСТИЧЕСКАЯ БЕДНОСТЬ И ЛИШЕНИЯ...
начала так драматично, что мне неловко было прерывать ее,
поэтому первую часть этих заметок я записала сразу же, как
только ушла от Татьяны Васильевны, уже в автобусе. Но в об-
щем рассказывала она спокойно, нейтрально, иногда даже
весело, хотя говорила о тяжелых вещах.
«Я всю неделю после нашей с вами встречи думала почему-
то, думала и не могла выбросить это из головы, и наконец по-
няла, почему у меня два раза в жизни, на войне, была истери-
ка. Я поняла, что оба раза это было в те дни, когда я сдавала
кровь.
Я служила в госпитале военно-морской базы. Раз я сдала
кровь утром, а вечер у меня был свободный, и я пошла на кон-
церт еще с двумя медсестрами. По дороге домой мы болтали,
смеялись, и я как-то проглядела шедшего нам навстречу стар-
шего по званию офицера и не отдала ему честь. Меня аресто-
вали и посадили на гауптвахту. Они сорвали с моих погон и
пилотки медицинские звездочки, заставили переодеться в
ужасное темное платье, дали мне в руки ведро с тряпкой и за-
ставили мыть полы. Со мной вместе мыли полы и другие аре-
стантки. В углу комнаты стояла стойка с оружием. За нами
никто не следил, и мы тоже не заметили, как одна из девушек
взяла винтовку, пошла в туалет, наставила ее на себя и выстре-
лила себе в живот. Я бросилась туда и прижалась к ней, пыта-
ясь остановить бившую фонтаном кровь. Когда приехала “ско-
рая помощь”, девушка была мертва. Я зарыдала и плакала, не
могла остановиться. На ночь они заперли меня в карцере.
У меня началась истерика. Всю ночь я плакала и кричала.
Утром я попросила, чтобы меня отвели к врачу; им было уже
не до меня, и они меня отпустили.
Второй раз у меня случилась истерика, когда умер один
мой пациент, мужчина с ожогом почти ста процентов поверх-
ности кожи. Истерики не было бы, если бы в тот день я тоже
не сдавала кровь. Я поняла, ожидая вас, что оба раза, когда у
меня была истерика, я накануне сдавала кровь. Я была не со-
всем в себе — вы же знаете, как ослабляет потеря крови.
261
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
Вы знаете, у Островского есть пьеса “Горячее сердце”. Это
замечательная пьеса, там есть купец — ужасный, жестокий,
пьяный деспот, но у него прекрасная дочь, преданная, хоро-
шая девушка. Она не захотела больше терпеть отцовский гнет
и ушла с паломниками, отец же, протрезвев, спрашивает: “Где
моя дочь?”, идет к градоначальнику и говорит: “Верни мне ее!
Пусть солдат приведет ее на веревке. Приведи мою дочь на
веревке”. И градоначальник отвечает: “Послушай, у тебя дочь-
невеста, молодая девушка, и ты хочешь, чтобы солдат привел
ее на веревке. Вот как мы, русские, уважаем друг друга!” И я
вспомнила, как они вели меня, молодую, здоровую женщину
двадцатипятилетнюю, и посадили на гауптвахту без всякого
повода. Вот так... Таковы армейские правила».
Хотя здесь немало элементов литании — противопоставле-
ние власти и безвластных людей, злодеев и жертв, — все же это
повествование — скорее в духе жития святого, потому что в
конечном итоге его определяет отношение приятия, а не яв-
ное или скрытое обвинение, составляющее основу литании.
Казалось, рассказывая свою историю, Татьяна Васильевна
хочет оправдать себя за прежние жалобы. Не раз в ходе рас-
сказа Татьяна Васильевна давала понять, как она расстроена
тем, что когда-то, четыре десятилетия назад, не сдержалась и
впала в отчаяние и истерику. Эта женщина всю жизнь следо-
вала характерным для российского социализма понятиям се-
рьезности и уважения к науке, и ее вера в такие ценности на-
ходила выражение в том, что она строго и скромно одевалась,
серьезно говорила, серьезно работала и жила. Стержневыми
знаками ее личности были преданность науке и родине, чело-
веческая надежность и некоторая андрогинность (нередкая у
военного поколения), отсутствие традиционной, богатой си-
стемы знаков принадлежности к женскому полу. Несмотря на
все это, Татьяна Васильевна дважды за годы войны не смогла
избежать нервного срыва, что противоречило ожидавшемуся
от нее общественному поведению — поведению непоколеби-
мого стоика, образ которого искусство военного соцреализ-
262
ГЛАВА 4 МИСТИЧЕСКАЯ БЕДНОСТЬ И ЛИШЕНИЯ...
ма наделило ореолом святости. Так что в данной истории жен-
щина передала свою реакцию на собственную неспособность
«как должно», по примеру святых, вынести тяжелые обстоя-
тельства.
Это был, однако, также и рассказ о самих событиях и о не-
проходящей обиде Татьяны Васильевны на произвол и жесто-
кость, свидетельницей которых она была. В одном нарративе
рассказчица поведала нам, по существу, три «вложенные» друг
в друга антитетичные истории: историю ее собственной стой-
кости и даже стоицизма, обрамляющую историю ее слабости
(«истерики»), которая, в свою очередь, обрамляет историю
несправедливости ее командиров.
Я рассматриваю этот рассказ как «житие святого», посколь-
ку он показывает силу страсти, с которой человек стремится
соответствовать идеалу — и в поступках, и в речи, — страсти,
которая заставляет человека даже через десятки лет после не-
забываемых событий задавать себе вопросы о себе самом, о
собственной идентичности. Вспоминая события, чтобы рас-
сказать о них, Татьяна Васильевна сформулировала объясне-
ние своему отступлению от «житийного» образа, навеянного
социалистическим реализмом-, она ведь сдавала кровь в то
утро — вот почему она плакала, когда умерла ее подруга. Если
бы не физическая слабость, естественная после сдачи крови,
она безропотно вытерпела бы любые наказания и унижения
от своих сотоварищей и осталась бы на высоте своего идеала
стойкости и терпения.
Рассказывая свою историю, Татьяна Васильевна не думала
о внешне идеальном образе; идеал существовал у нее внутри,
это была позиция трансцендентного спокойствия перед ли-
цом ужаса и силы (установка, которую может отобразить не-
кий телесный образ, некая поза тела). Эта история определен-
но показывает, насколько трудно бывает сохранять такую
позицию. Но Татьяне Васильевне и сегодня удавалось следо-
вать ей.- отбросив обвинительный настрой, Татьяна Васильев-
на оправдывала как отдельные личности, так и власть, припи-
263
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
сывая вину за все жуткие события рассказанной истории «ар-
мейским правилам», т.е. структуре.
Можно прокомментировать смысл еще одной детали в
этом рассказе: символическую связь между кровью и единени-
ем людей. Татьяна Васильевна объяснила свои нервные сры-
вы тем, что в те дни она сдавала кровь. В обоих случаях, одна-
ко, непосредственным фактором, повергавшим ее в истерику,
была физическая близость к двум людям, умиравшим от поте-
ри крови, а в одном случае кровь умирающей буквально зали-
ла ее саму. В воспоминаниях Татьяны Васильевны сдача соб-
ственной крови — своего рода жертва — слилась с жертвой
двоих людей, скончавшихся на ее руках.
Культурная история перевернутого мира
Подобно парадигме власти и безвластности, о которой го-
ворилось в предыдущей главе, идеология «мистической бедно-
сти» и святого долготерпения, вполне вероятно, возникла еще
в недрах иерархической, дуалистичной и в целом жестокой
социальной системы русского феодального общества. Еще со
времен Киевской Руси в России существовало два социальных
мира: ничтожно малые по численности «верхи» — элита (со
своей бюрократией и приспешниками), и огромные «низы» —
вначале крестьяне, а затем и городские рабочие. Почти целое
тысячелетие эти два мира зависели друг от друга и взаимодей-
ствовали, по крайней мере символически, как части оппози-
ции высокого/низкого, бедности/богатства, чистого/грязно-
го, знати/простонародья, эксплуататоров/эксплуатируемых,
властителей/подвластных.
Значение долгой российской истории состоит в том, что
это история глубинного социального дуализма — так можно
охарактеризовать взаимоотношения двух разных миров. Не-
смотря на общность многих элементов культуры этих классов
и их явную взаимозависимость, все аспекты их существования
264
ГЛАВА 4. МИСТИЧЕСКАЯ БЕДНОСТЬ И ЛИШЕНИЯ...
были пронизаны отношениями иерархии, а социальная и эко-
номическая практика отражала (и воспроизводила) различия
между ними. В конце концов различия стали казаться сущно-
стными, естественными и реальными: дифференцирующая
практика обеих групп кристаллизовала их, превратила в «ове-
ществленную идею» — «гипостазировала»11.
В процессе непосредственного созидания образа «себя» и
образа «другого» крестьянство и знать черпали из общего
«котла» орудий культуры: предметов, символов, материалов,
веществ, — по-разному, однако, применяя эти символические
орудия. Крестьянская загадка, одна из 2500, собранных фоль-
клористом Д.Н. Садовниковым в 1870-х, ярко и сжато демон-
стрирует известный процесс создания социальных различий
и в то же время выражает иронию по отношению ко всей
практике социальной иерархиизации. Через эту иронию со-
вершается мощная и концентрированная инверсия в иерар-
хии ценностей:
«Что мужик на землю кидает, а барин в карман кладет?» —
Ответ: «Сопли».
В перевернутом мире этой загадки чистоплотность пре-
вращается в неопрятность, благовоспитанность вызывает гад-
ливость, а высокое становится низким11 12. Это пример сопро-
тивления в сфере самоидентификации, распространенная
форма дискурсивной практики у крестьян. Русский фольклор
накопил важнейшие символические средства защиты кресть-
янского чувства своей коллективной ценности. В одной пес-
11 Подобная «сетка оппозиций» представляет собой, по словам
Пьера Бурдье, «матрицу общих мест, столь легко принимаемых по-
тому, что за ними стоит целый социальный порядок» (Bourdieu 1984:
468).
12 Как пишет Роберт Штамм, «веселая вульгарность бесправ-
ных — это оружие против претенциозности и лживости властите-
лей» (Stamm 1982:47, цитируется по Stallybrass and White 1986: 18.
См. также Bourdieu 1977: 44 об отношениях между правилами вежли-
вости и политикой).
265
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
не о горе-злосчастье поется «Нагому ходить — не стыдитися»
(Лихачев и Ванеева 1985- 41), т.е главное — гордиться своей
принадлежностью к крестьянам (или к народу), несмотря на
бедность и социальную приниженность1 \
В интересном исследовании по истории культуры Эва Том-
псон описала русских юродивых и проследила их происхож-
дение. Причудливого вида, иной раз полуголые, странного
поведения религиозные бродяги, которых как пророков почи-
тали и боялись в дореволюционной России, были живым во-
площением перевернутых ценностей: они действовали «по-ду-
рацки», чтобы показать свою мудрость, агрессивно — чтобы
выразить смирение, нечистоплотно — чтобы доказать чисто-
ту, насмешливо — чтобы выказать почтение (Thompson 1987:
16). Мысль Томпсон состоит в том, что институт юродивых
вызвал к жизни, а затем поддерживал парадоксальные струк-
туры русской ментальности (с. 184). К сожалению, это слиш-
ком упрощенный и детерминистский вывод из богатого и
интересного культурологического исследования. Главный
недостаток подхода Томпсон — в том, что среди структуриру-
ющих факторов в драме русской культуры она не рассматри-
вает классовое деление и не учитывает всеобъемлющую и
изощренную практику доминирования высших классов и эк-
сплуатации ими низших. Во всей работе почти не нашлось
места рассмотрению феномена крепостничества, что кажет-
ся серьезным упущением. При том что логика инвертирова-
ния ценностей, несомненно, представляла собой существен-
15 Стоит также упомянуть обширное исследование П. Сталлиб-
расса и А, Уайт (Stallybrass and White 1986), посвященное иерархиям
инверсии и сложным «возвращениям подавленного» в процессе вза-
имопроникновения буржуазной и крестьянской культур. Особое
внимание они уделяют телу человека как «площадке» и одновремен-
но источнику символизации социальной иерархии; авторов, впро-
чем, эта проблема интересовала с точки зрения того, как развиваю-
щаяся буржуазия европейских стран использовала отвращение ко
всему крестьянскому и пролетарскому при построении своего куль-
турного «я».
266
ГЛАВА 4 МИСТИЧЕСКАЯ БЕДНОСТЬ И ЛИШЕНИЯ
ный структурирующий механизм русской культуры, источник
этой логики не был произволен: им не могло бы стать поведе-
ние небольшой группы людей. Юродивые являлись лишь «ис-
полнителями» ритуального перевертывания ценностей, кото-
рое составляло часть самой системы классового неравенства:
оно было реакцией на символическое насилие (Bourdieu 1977:
190—197) — ключевую практику при создании и поддержа-
нии иерархии.
Символическое насилие — это насилие, которое заключе-
но во внешне нейтральной и кажущейся «естественной» прак-
тике социальной классификации и соответствующей оценки.
В России угнетение крестьянства «верхами» и государством
часто сопровождалось прямым физическим насилием; сим-
волическое же насилие, в конечном итоге гораздо более эф-
фективное, осуществлялось всеми элементами социального
организма: законами, детально разрабатывавшими систему
экономической оценки крепостных «душ»; практикой право-
славия, пропитанного идеей иерархичности, и жестоким по-
давлением дохристианских обычаев; забриванием в армию
(стравливавшим между собой крестьянские семьи, которые
начинали считаться, кто более достоин отсрочки); логикой
оброчных изъятий и различиями в рационе питания (что от-
разилось во многих крестьянских пословицах и поговорках,
например: «Рожь всех кормит без разбору, а пшеница разби-
рает»); использованием крепостных для «развлечения» (см.
Roosevelt 1991; Senelick 1991) и иными формами контроли-
рования жизни крестьянских семей или общин — контро-
лирования, в процессе которого гендерное неравенство (и
патриархальные обычаи в целом) пересекалось с классовой
иерархией и укрепляло ее.
В ответ на социальное и экономическое угнетение, как
показал Родни Богак (Bohac 1991), крестьяне изобрели мно-
гочисленные способы сопротивления: проволочки в работе,
жульничество, мелкое воровство, порчу имущества, чело-
267
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
битничество и т.д. (явное сходство со способами сопротив-
ления в советские времена). Но какова была их реакция на
символическое доминирование социальной иерархии?14 Ка-
кое сопротивление оказывали они ритуальному унижению
своего класса?
Изобилие крестьянских песен, баек, плачей, пословиц, за-
гадок, попевок, частушек, гаданий и других фольклорных
жанров говорит о двух основных моментах в ответе на этот
вопрос. Первое: сам масштаб и разнообразие форм устного
народного творчества указывают на его важность для кресть-
янской жизни. Верно, что любая культура порождает сказки,
поговорки, песни и другие изустно передаваемые тексты, но в
объеме «вложений» в этот вид общения наблюдаются большие
различия: в России устный разговор всегда был чрезвычайно
значим. Многочисленные русские тексты, будь то фольклор-
ные, литературные или исторические произведения, сви-
детельствуют о власти слова в России, священной и одно-
временно страшной власти. Говоря о силе слова, эти тексты,
безусловно, также поддерживают и воспроизводят ее.
Второе и самое важное: русский фольклор раскрывает ос-
новной механизм дискурсивного сопротивления — символи-
ческое инвертирование в крестьянской культуре принятой
иерархии ценностей. Ю.М. Соколов замечает по поводу народ-
ных быТОВЫХ ИСТОРИЙ:
«“Положительными” действующими лицами являются по
преимуществу умный или хитрый мужик, большей частью бед-
няк, работник, солдат, бурлак, горшечник, швец-портной, па-
14 Мне неизвестны работы, прямо обращенные к этой проблеме,
хотя подобное исследование стоило бы предпринять. Однако в ра-
ботах по смежной тематике были предложены интересные примеры
проявления крестьянского «символического сопротивления»: см., на-
пример, работу Майкла Чернявского по крестьянским мифам о царе
как добродетели (Cherniavsky 1961) и работу Мери Келли (Kelly
1990) о скрытых дохристианских мотивах в вышивке и изделиях из
ткани.
268
ГЛАВА 4 МИСТИЧЕСКАЯ БЕДНОСТЬ И ЛИШЕНИЯ
стух, купеческий сын, простая деревенская женщина или де-
вушка, хитрый вор, шут, а на другой стороне, “отрицательной”,
размещаются барин или барыня, генерал или генеральша, поп
или попадья, богатый купец, богатый мужик-кулак, скупец или
дурковатый пошехонец, просто дурак, свой же брат мужик или
черт, но лишенный какой-либо чудесности, а тем более вели-
чия» (Соколов 1941: 339).
Одной из основных идей народных сказок является инвер-
сия взглядов элиты на общественное положение и человече-
ское достоинство. Народные сказки приписывают положи-
тельную духовность носителям низкого социального статуса
и отрицательную — носителям высокого. Кроме того, как пи-
шет Морин Перри (Perrie 1989), в сказках изображаются раз-
ные варианты морального вознаграждения, в соответствии с
которыми умные крестьяне, хитрецы, а нередко и просто ду-
раки умудряются одержать верх над своими эксплуататорами
и выровнять социальные статусы. Все эти инверсии соверша-
ются в относительно безопасной форме устной речи15.
15 Для русского лубка характерно изображение такого же рода
инверсий, иной раз даже с оттенком угрозы. Джеймс Скотт описыва-
ет попавшие в руки царской полиции картинки, где бык убивает мяс-
ника (Scott 1990: 168). Бывали случаи, когда инверсии совершались
физически — в качестве ритуальной практики; см. работы Юрия Лот-
мана (Lotman 1984,234) и Катрионы Келли (Kelly 1990) об инверсиях
в русском кукольном театре. Сталлибрасс и Уайт приводят удивитель-
ные примеры «мира вверх тормашками», с перевернутыми отношени-
ями власти и доминирования, в европейском фольклорном изобра-
зительном искусстве-, резные или печатные картинки показывают, как
«свинья режет мясника, а осел стегает своего нагруженного хозяина,
как мыши преследуют кота, а слуга едет на лошади, за которой следу-
ет пеший царь» (Stallybrass and White 1986: 56—57). Антропологиче-
ская литература изобилует примерами символической инверсии: см.,
например, Марриот (Marriot 1955) о пиршествах Холи в Индии и раз-
нообразные эссе Б. Бабкок (Babcock 1978) Работа М. Бахтина о кар-
навале оказала огромное влияние на все исследования символиче-
ской инверсии.
269
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
Я полагаю, что сопротивление как содержание подобных
устных текстов наполнило средство передачи этого содержа-
ния — речевое общение — магической силой, придало ему
социальную значимость и сакральную ценность, ибо в комму-
никативном пространстве господствующим принципом была
правда, а «высокое» и «низкое» могли меняться местами.
«Хороший» деревенский мир конструировался в противо-
поставлении с «плохим», посягающим на него внешним ми-
ром. В народных сказках превозносился родной, окрестный,
тесный, нищий крестьянский мир, антитетичный чужому, рос-
кошествующему миру верхов. Заметим, что крестьянский мир
был бессилен не только перед помещиками, — чиновники,
церковники и купечество тоже покушались на него. В народ-
ных сказках эти группы часто пародировались, а их соци-
альная ценность перевертывалась.
Символические инверсии отнюдь не были исключитель-
ной принадлежностью крестьянского мира: русские писатели
и другие представители интеллигенции, особенно начиная с
эпохи Просвещения, прославляли высокую мораль крестьян-
ства и богатство крестьянской речи. Во многих произведени-
ях Пушкина, горячего поклонника и исследователя крестьян-
ского творчества, есть фольклорная примесь; немало стихов
и прозы навеял ему фольклор, с которым его, еще ребенка,
познакомила няня или который он впоследствии собирал сам.
В повестях и романах Достоевского часто восхваляется добро-
детель бедноты (хотя не скрывается и то, что крестьянство
может быть жестоким и беспощадным); переводя тему инвер-
сии в другие социальные контексты, многие произведения
Достоевского ставят в центр трансцендентную силу простых
людей, кротких и угнетаемых (наиболее очевидные приме-
ры — Соня и, в конечном счете, Раскольников в «Преступле-
нии и наказании», Мышкин в «Идиоте» и Алеша в «Братьях
Карамазовых»), Л. Толстой, особенно в своих поздних произ-
ведениях, настойчиво прославляет простые добродетели, са-
моотречение, страдание и веру в конечное торжество угнетен-
270
1ЛАВА 4 МИСТИЧЕСКАЯ БЕДНОСТЬ И ЛИШЕНИЯ
пых Подобная логика питалась христианской философией,
особенно у Достоевского и Толстого, но эта философия всег-
да находилась в диалогическом взаимодействии с доминиру-
ющими культурными темами
Во второй половине XIX в. в России развилось народниче-
ство — движение, участники которого (в основном разночин-
цы и интеллигенция) посвятили себя изучению крестьянства
и оказанию ему помощи, на что их вдохновляли собственные
(порой наивные) представления о крестьянской жизни. В тот
же период русские фольклористы записывали огромное коли-
чество образцов русского народного творчества.
Образы, концептуальные системы, приемы символической
инверсии, жанры, рожденные крестьянством, были, таким об-
разом, широко известны в русском обществе и питали собой
профессиональную литературу, академическую и политиче-
скую культуру. Как блестяще показал Ричард Стайтс (Stites
1989; 1992), в основе многих символических актов и ритуалов
русской революции лежали ценности и практика крестьян-
ско-пролетарской России, возвышенные до статуса сакраль-
ных. «Моральное превосходство бедных, столь ярко отра-
женное в фольклоре, — пишет этот автор, — становится цен-
тральным мифом революции» (1992: 23)-
Российская интеллигенция расточала похвалы народному
терпению, романтизировала страдания народа и, в общем,
развивала образ добродетельного бедняка и в до-, и в после-
революционное время, однако эти ценности всегда были
неотъемлемой частью образа народа, аспектом его самоиден-
тификации (хотя, несомненно, столь же часто пародирова-
лись, сколь и восхвалялись). Лишения, унижения, жестокое
обращение, нищета, притеснения со стороны «другого» мира,
страдания, нередко причиняемые деспотичным, абсурдным и
непредсказуемым применением закона и власти, — таков был
контекст существования русского крестьянства Из контек-
ста социального мира эти страдания превратились в глубин-
ное содержание крестьянского дискурса, в одну из основ кре-
271
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
стьянской идентичности, в один из «кирпичиков», могущих
послужить для создания индивидуальной или коллективной
идентичности. Возможно, именно таким путем страдание, как
бы это ни казалось невероятным, стало ценностью само по
себе.
Сакрализация страдания уже давно составляет сердцевину
понятия «народ» и входит в системы понятий, народ описыва-
ющих. Страдание во всех его формах являлось элементом не-
богатой крестьянской «собственности», личной или коллек-
тивной, и одним из источников моральной силы крестьянства.
Прочная традиция русского кенотизма, несомненно, под-
держивала и освящала эту черту и в крестьянстве, и в других
слоях общества. Однако я бы не приписывала, как делают мно-
гие русисты, крестьянское смирение христианской традиции.
Я бы сказала, что скорее особый тип русского православного
бытия и мышления возник и постоянно воссоздавался в диа-
лектическом взаимодействии с опытом других областей рус-
ской жизни и действующими там моделями.
Индустриализация и иные реорганизации советского пе-
риода добавили новые элементы — детали, повороты, пара-
доксы — в феномен народного страдания, но вряд ли измени-
ли его логику. Очень скоро после революции была перекроена
социальная иерархия. Хотя ее составляющие получили со-
вершенно новые обозначения — партия, номенклатура, на-
чальство, — по существу она в значительной степени была
воспроизведением иерархических структур и практики доре-
волюционного общества. Наряду с утверждением новой влас-
ти и иерархии, предоставившим широкие возможности для
выражения символической инверсии и сопротивления (и вы-
звавшим в них потребность), XX в. никак не способствовал
уменьшению страдания, а оно, в свою очередь, было опорой
системы идентичности, открытой всем социальным классам.
Вопреки диктату властного социального строя, навязывающе-
го свою систему самоидентификации и ценностей, старинные
способы самоидентифицирования диалектическим образом
272
ГЛАВА 4 МИСТИЧЕСКАЯ БЕДНОСТЬ И ЛИШЕНИЯ
помогали переживать кризисы, предоставляя людям как по-
знавательные ориентиры, подсказки для восприятия исто-
рических катаклизмов, так и механизмы для превращения ре-
ального страдания в священную субстанцию, а иной раз и в
святость.
Под сенью проблемной материальной экономики в России
существовала, таким образом, экономика символическая, в
которой средством обмена стало страдание. В этом симво-
лическом пространстве испытываемые народом трудности
порождали всеобщее богатство. Происходило это благодаря
действию культурной логики, по которой потери на матери-
альном или человеческом уровне обращались наградой или
более высоким статусом на уровне сакрального. И эта логика
активно воспроизводилась сложными культурными механиз-
мами личного и коллективного самосозидания.
18. Заказ №2742.
Петербург. Август 2004. Смеющийся сфинкс
Мордовия. Январь 2004 г. Зона пожизненного заключения
Заключение
РИТУАЛЫ И ПАРАДОКСЫ
ПЕРЕСТРОЙКИ
Когда Советский Союз наконец рухнул,
«обездоленному» советскому человеку ниче-
го, кроме песни (которая неизменно здесь
«жить помогала»), не осталось. В начале 90-х
умирали, как подкошенные, самые разные
мифы. Пройдет лет десять, и они наверняка
станут вновь оживать. Но тогда — на фоне
мифологической разрухи — телевизионные
экраны (компенсаторная акция!) заполони-
ли колдуны, астрологи и пройдохи-целители.
Самое комичное, что обыватели, как и пола-
гается, вперялись в их лица с надеждой. Как
это по-русски1
Мифы, каждый дурак знает, придают обще-
ственному сознанию стабильность. А «сказ-
ки» и чудо — удел случая и скрытых от по-
сторонних глаз авторитетов. Ликования, свя-
занные с испарением мифов, шли рука об
руку с ностальгией по утраченной «картине
мира». Не говоря о том, что без мифов не
только «трудно быть богом», но и жить, тру-
диться, не тужить.
Зара Абдуллаева. «Народная культура»
За годы, прошедшие с распада Советского Союза, на-
строения в Москве переменились. Тон и интенсив-
ность дискуссий снизились: разговоры потеряли
свой накал, а собеседники — свою «зацикленность».
Исчезла горячность, свойственная времени перестройки, хотя
напряжения сил, переживаний, суеты и стрессов здесь по-пре-
280
ЗАКЛЮЧЕНИЕ РИТУАЛЫ И ПАРАДОКСЫ ПЕРЕСТРОЙКИ
жнему было хоть отбавляй. Перемена же состояла в том, что
закончился ритуальный переходный период, а московская
жизнь, решительным образом изменившаяся, перешла в со-
стояние несколько странной нормальности — состояние не-
представимое во времена перестройки.
Для многих жизнь стала еще труднее, многие работали в
двух-трех местах, некоторые вообще не могли найти работу,
или им не платили зарплату; и все бились с экономическим и
психологическим стрессом, вызванным инфляцией1.
Тем временем под Москвой тут и там вырастали шикарные
дома красного кирпича и дачи нуворишей, столичные улицы
заполнялись мерседесами и джипами, а стрельба и разрывы
бомб в городе уже не были чем-то из ряда вон выходящим.
Несмотря на все это, из жалоб, упований и вопрошаний
ушла прежняя драматичность. Когда я спросила свою знако-
мую Ольгу об этом в 1994 г, она заметила с иронией: «Все эти
жалобы — роскошь, которую мы теперь не можем себе позво-
лить!» Меньше звучала и тема неколебимой священной общ-
ности, «народа», противостоящего всесильной власти госу-
дарства. Вместо этого многие утверждали, что они теперь
«хозяева своей жизни и судьбы». Этим как бы подкреплялась
мысль о том, что прежние жалобы отражали ощущение бесси-
лия в контексте жестких властных отношений в обществе.
Однако люди говорили и о растущем чувстве изолированно-
1 Британский социолог-экономист Ричард Роз, написавший на
основе статистических данных книгу о «разнообразных экономиках»
как стратегиях выживания, считает, что в нынешнее время боль-
шинство российских семей держится благодаря трем ресурсам: это
официально и «подпольно» оплачиваемый труд, домашние заготов-
ки съестных припасов и обмен трудом и услугами между друзьями и
родственниками (Роуз 1994: 48). Во время полевой работы в Москве
и Ярославле в 1992, 1994 и 1995 гг. я поражалась сложности и разно-
образию способов (легальных, полулегальных и нелегальных), благо-
даря которым люди выживали, а некоторые даже процветали Деталь-
ное этнографическое исследование этих практик еще ждет своей
очереди
281
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
сти в своей личной борьбе. С одной стороны, размыто чувство
принадлежности к народу, потому что ничего конкретного и
цельного для противопоставления ему больше нет; а с другой
стороны, разрушены типичные для советского периода проч-
ные сети личных связей, поскольку многим людям удалось
вырваться из капкана экономических и социальных трудно-
стей, для преодоления которых совместными усилиями эти
сети и строились. Жизнь не стала нормальной в смысле спо-
койствия или удобства, но во многих отношениях она прибли-
зилась к обычному уровню, т.е. обрела черты рутины и пред-
сказуемости.
Переходный период, переворот, революция, реструктури-
зация, реформа, кризис, коллапс — вот термины, которыми
характеризовалась перестройка. Конечно, перестройка и была
всем этим, однако пониманию многих ее процессов и резуль-
татов может помочь именно анализ ее в терминах ритуала.
Дело здесь не только в семантике. Если рассматривать пе-
рестройку как период интенсивной ритуализирующей дея-
тельности, то мы можем попытаться проникнуть в сущность
трансформаций и парадоксальных последствий этого перио-
да, воспользовавшись уже имеющимися знаниями феномено-
логии, структуры и действенности ритуала2.
Разумеется, моя интерпретация перестройки как крупно-
масштабного ритуала перехода в значительной степени зави-
сит от той «наблюдательной позиции», которую предоставля-
ло мне участие в социальной жизни и разговорах московской
интеллигенции. То есть я изучала то, какими путями шло сим-
волическое и ритуальное «постижение» перестройки, как о
ней говорили и как в ней участвовали представители данного
социального слоя. Наблюдение над широкими культурными
- О роли ритуала в революциях (на примере Франции, Америки,
Ирана, а также нацистской Германии) см. Kertzer 1988: 151 — 173- Ра-
бота Стайтса (Stites 1989) об утопическом фантазировании и экспе-
риментировании в период русской революции выявляет известные
ритуальные фазы и атрибуты: лиминальности, communitas, антиструк-
туры, мощный символический слой.
282
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. РИТУАЛЫ И ПАРАДОКСЫ ПЕРЕСТРОЙКИ
явлениями того времени, отражавшимися в том, как средства
массовой информации «подают» крупные политические со-
бытия, лишь добавляет мне убежденности, что подход к пере-
стройке как к ритуалу мог бы быть полезным и в более широ-
ком смысле. Исследование дискурса депутатов и их поведения
в российском парламенте — как, например, детальный анализ,
проделанный МДж. Аронофф (Aronoff 1977) политики партий
Израиля в начале 1970-х — позволило бы обнаружить в этой
сфере своеобразный комплекс символических и ритуальных
процедур. Аналогичным образом, тщательная текстуальная и
этнографическая работа с прессой, публицистикой и иной
интеллектуальной продукцией перестройки, по образцу пре-
красного исследования Катерины Вердери (Verdery 1991),
посвященного плодам националистической идеологии в Ру-
мынии периода позднего Чаушеску, была бы чрезвычайно
ценна для нашего понимания дискурса перестройки и его
политических последствий. Я же в своих размышлениях могу
лишь передать собственное ощущение того, как перестройка
переживалась «за кухонным столом», где ее ритуалы и испол-
нялись, и анализировались.
Стадии ритуала
Антрополог Виктор Тэрнер, исходя из известного опреде-
ления, которое Ван Геннеп дал фазам обряда перехода, описы-
вает три составные части структуры таких ритуалов: разрыв,
или отделение, фазу лиминальности и завершение (Turner
1967: 93—111). В перестройке явно различимы эти фазы, а
совокупность событий этого периода обнаруживает многие
качества, ассоциируемые с более привычными примерами
обрядов перехода. Антропология и другие социальные науки
склонны применять термин «ритуал» только по отношению к
дискретным, локализованным и циклично повторяющимся
церемониям и обрядам в малых социумах, а термин «револю-
ция» — к событиям макроуровня, захватывающим целые на-
283
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
ции; однако это противопоставление кажется мне надуман-
ным. Такие признаки ритуала, как инверсия (названная Тэрне-
ром «анти-структурой» — Turner 1982:44), акцентирование
перформативности и игры, интенсификация чувства едине-
ния — communitas — среди участников и символическое пред-
ставление социальных ценностей, конфликтов и разногласий,
отчетливо просматривались в российской перестройке.
Разрыв
Разрыв с прошлым произошел в 1985—1987 гг., когда гор-
бачевские реформы начали набирать размах. Была провозгла-
шена ориентация на гласность — прежде всего как способ
открыто критиковать верхи за своекорыстие и пристрастие к
партийным привилегиям, а также ради конструктивной оцен-
ки неэффективной советской экономики. Этот разрыв с со-
циальной практикой прошлого был вполне искренним и по-
настоящему действенным. Подстегнутый официальной дея-
тельностью М.С. Горбачева, он взрезал социальную ткань и
обнаружил широкое лиминальное пространство, в котором в
последующие несколько лет социальные нормы и структуры
выворачивались наизнанку и ставились с ног на голову драма-
тичнейшим образом. Разрыв означал, что наконец могло быть
высказано то, что ранее не высказывалось, могло быть сдела-
но то, что раньше не делалось, могло быть изменено то, что
прежде оставалось неизменным.
Лиминалъностъ
Изучение феноменологии ритуальной лиминальности
представляет собой центральную тему этнографии и антропо-
логической теории. Всеми признано, что ядром обряда пере-
хода является некий период, проведенный «вне времени» и вне
284
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. РИТУАЛЫ И ПАРАДОКСЫ ПЕРЕСТРОЙКИ
структуры, «состояние неопределенности и нерешительнос-
ти» (Handelman 1990:65), в котором системы культуры приот-
крываются для обозрения, перестановок и трансформаций.
Проигрываются и иногда инвертируются манифестации сак-
ральных идеологий; структурные противоречия и конфликты
(гендерные, социально-статусные, властных отношений и т.д.)
воспроизводятся в обряде и подвергаются публичному рас-
смотрению (Turner 1967:110; 1977; Geertz 1973:412—454). Все
сказанное не означает, однако, что ритуал разрешает указан-
ные выше конфликты: с помощью ритуала разными путями,
даже через инверсию, закрепляются глубинные структуриру-
ющие формы культурных систем (Gluckman 1974; Handelman
1990: 52). Хотя лиминальная ситуация создает ощущение
communitas — братства, равенства, символического уравнива-
ния статусов, — это временное явление, которое не может со-
храниться в системе при ее возврате к более или менее нор-
мальному состоянию (Mayerhoff 1975).
Лиминальный период перестройки продолжался несколь-
ко лет, примерно с 1988 по 1991 г, год путча. В течение это-
го времени, как и в более изученных и типичных ритуалах,
во всем российском (и в целом советском) обществе шли
ключевые символические процессы: прежде замаскирован-
ные структурирующие принципы, парадоксы, провалы и тра-
гедии советского общества предстали перед глазами людей,
которые их оплакали, а затем осудили; граждане отказались
от незыблемых советских форм участия в политической жиз-
ни и вышли на принадлежавшие прежде лишь официальным
властям городские пространства, организуя на них демонст-
рации и митинги (Истомин 1992); священные символы, иде-
ология и социальная практика советского общества — со все-
го были сорваны маски, все было отторгнуто и отвергнуто
«оптом». Поднимались на щит священные ценности народа,
и экзистенциальные темы и образы утопического спасения
либо, наоборот, окончательного краха заполнили социаль-
ное пространство.
285
<РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
Завершение
Завершение (или прекращение) периода перестройки ока-
залось стремительным, конкретным и видимым всему миру
Финалом перестройки, безусловно, стали августовский путч и
защита Белого дома Во время этих событий, Jinale перестрой-
ки, ход обычной жизни нарушился, в особенности у предста-
вителей либеральной интеллигенции (хотя бы потому, что
они целыми днями не отходили от радиоприемников и теле-
визоров), ключевые темы перестройки, новая практика и но-
вые идентичности обрели четкие очертания, разрыв между
народом и официальным государством был манифестирован
в ритуальной форме Народ, казалось, одержал полную побе-
ду над самыми могучими институтами советского государ-
ства — КПСС, армией и КГБ Когда несколькими месяцами поз-
же сам СССР прекратил свое существование, окончательно
завершилась также и перестройка Началась новая, пока что не
имевшая определения, а возможно, и вообще не поддающая-
ся определению эра российской социальной жизни
Материал этой книги составляет, в основном, дискурс сред-
него, лиминального периода перестройки, за которой я на-
блюдала, находясь в среде московской интеллигенции В по-
следующих разделах этот дискурс, а также иная культурная
информация анализируются с точки зрения концепции риту-
ала, предпринимается попытка объяснить, каким образом ри-
туальный характер описываемого материала делал его соци-
ально продуктивным, те революционным, и одновременно,
как ни парадоксально это звучит социально репродуктивным
Гласность: освобожденный разговор
MC Горбачев ввел политику гласности, главным образом,
ради повышения эффективности управленческой работы со-
ве гско! о правительства и поднятия производительноеги тру-
да, он считал необходимым расширить поток доступной на-
286
ЗАКЛЮЧЕНИЕ РИ1УАЛЫ И ПАРАДОКСЫ ПЕРН ТРОЙКИ
селению информации и усилить подотчетность власти наро-
ду В одной из ранних дискуссий о i ласности советский лидер
говорил о важности свободного общения для успеха соци-
альных перемен В своей книге «Перестройка и новое мышле-
ние» он пишет «Мы стремимся к гласности во всех сферах
жизни общества Люди должны знать и хорошее, и плохое, с
тем чтобы приумножить хорошее, а с плохим вести борьбу»
(Горбачев 1988 72)
Этим Горбачев хотел сказать, что вербальное формулиро-
вание социальных успехов и неудач является ключом к реше-
нию проблем По сути, это разновидность магического мыш-
ления — вера в то, что социальная критика способна изменит ь
социальную практику Хотя Горбачев, возможно, воспользо-
вался гласностью и разрешил ее проникновение во все сферы
советской жизни и истории по политическим причинам, то-
тальная инспекция каждого уголка этой жизни и истории в его
планы не входила Как пишет Льюин, «за горбачевским пере-
воротом сверху последовало мощное хаотичное движение
против системы снизу Когда начали слабеть механизмы кон-
троля, все беды и горести страны, копившиеся под тяжелым
колпаком монопольного властного режима, все людское отча-
яние, все обиды на пренебрежение со стороны властей и все,
что требовало срочного исправления, вышло на поверхность
безмерно фрустрировав общество и осложнив его жизнь Это
было неизбежно в данной ситуации и, более того, необходи-
мо страна должна была осознать свои проблемы глубоко и в
полной мере — так, как ранее она их не осознавала> (Lewin
1995 301)
Очень скоро, однако, главным в гласности стало обнародо-
вание все более и более мрачных истин, а их широкое обсуж-
дение оказалось основным модусом общественного дискурса
То, что начиналось как необходимый анализ глубокого кризи-
са советской экономики и страшной истории государства
быстро стало ритуальной практикой жалоб и оплакивания
всего связанноюс прошлым
287
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
Эти жанры подачи материала преобладали в СМИ, сопро-
вождая появление в печати запрещенных ранее книг сталин-
ского периода, в особенности произведений Солженицына,
Шаламова, Гроссмана о ГУЛАГе. Ведущие еженедельники «Мос-
ковские новости» и «Огонек» отдали свои страницы хронике
страданий, лишений и жестокостей сталинской эпохи. Мно-
гие телевизионные и документальные фильмы и интервью
строились вокруг литаний, перечислявших бесконечные тра-
гедии советской истории.
Обычные люди тоже начали рассказывать о своих траге-
диях. Некоторое представление об интенсивности этого про-
цесса дает Виталий Коротич в своем вступительном слове к
сборнику писем читателей редактору «Огонька», изданных в
переводе на английский язык,-
«Искусство переживать боль (я думал и писал об этом мно-
го раз) выше искусства быть счастливым. Боль всегда конкрет-
на. Болит ли у вас нога или рука, зуб или спина — вы понима-
ете причину своего страдания; вы понимаете ее не в каком-то
абстрактном смысле, а точно, конкретно. Большинство наших
писем — о боли. И о том, как пережить боль. Скоро их будет
чуть ли не 200 000 в год. А в начале 1986 г. их было от силы 20 в
день. Сейчас все переменилось. Открытость нашего общества,
его желание высказаться после десятилетий цензуры потряса-
ет. Люди пишут письма, задают вопросы и предлагают свои
собственные ответы» (Cerf and Albee 1990: 14).
Как заметил Коротич, за короткое время количество писем
«о боли» выросло с семи тысяч до двухсот тысяч в год. Многие
из этих писем содержали описания бытовых трудностей (пло-
хих жилищных условий, нехватки мяса, сахара, лекарств), жа-
лобы на недостаток сочувствия или поддержки, просьбы по-
мочь. Было огромное количество скорбных историй о личных
или семейных трагедиях, связанных со сталинизмом: историй
репрессий, казней, долгих лагерных сроков, ссылок, пропаж,
отречений и предательств и других неисчислимых жестоко-
стей того времени.
288
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. РИТУАЛЫ И ПАРАДОКСЫ ПЕРЕСТРОЙКИ
То. что людей неожиданно «прорвало» на пространные
литании, направляемые в печатные издания, отражало общий
«взрыв» этого дискурса среди населения. Такими литаниями
обычно тихо обменивались в частных разговорах, появление
же их в СМИ в виде публичного жанра добавило им энергии
и в личном общении, и частные разговоры стали, по крайней
мере на некоторое время, прямо-таки оргией литанизирова-
ния. Литании были замечены, выслушаны и приняты к «упо-
треблению» (и даже превращены в товар); в ответ они по-
родили другие литании, усиливавшие, оспаривавшие, допол-
нявшие и поддерживавшие первоначальные.
Это извержение литаний, в свою очередь, породило мета-
литании, которые комментировали сам факт всплеска этого
жанра. Как сказала одна женщина, стоявшая в очереди в гар-
дероб после спектакля «Один день Ивана Денисовича»: «Я сама
это все пережила. Неужели мне нужно все время об этом рас-
сказывать?»
Из кухонь и СМИ литании и причитания перешли в поли-
тику. Смотреть телевизионные репортажи о заседаниях Пер-
вого съезда депутатов или Московского городского совета в
1989 и 1990 гг. означало слушать бесконечные жалобы разной
тематики — фактически имело место непрерывное состяза-
ние жалоб. Представители различных регионов и партий по
очереди занимали трибуну и изливали на слушателей свои
несчастья, причем каждый претендовал на более высокую, по
сравнению с другими, позицию в иерархии жертв. Однажды
апрельским вечером 1990 г. во время заседания Московского
горсовета, которое передавали по телевизору, поднялась жен-
щина-депутат и рассказала, как ее избили на улице из-за ее
позиции по какому-то вопросу. Бесспорно, ее история была
ужасна и серьезна, и женщина говорила долго, ярко и во всех
подробностях о том, какие она получила повреждения и как
милиция не реагировала на событие. Положенное регламен-
том время выступления вышло, но завороженная аудитория
хотела слушать дальше, думая о том, как опасно быть депута-
том, как сложен процесс демократизации и как страшна мо-
19. Заказ № 2742.
289
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
жет быть мафия. Депутаты почти единогласно проголосовали
за то, чтобы дать оратору время закончить свой рассказ, хотя
председательствующий, тогдашний вице-мэр Сергей Станке-
вич, явно хотел вернуться к повестке дня. Ему не удалось пере-
ломить ход заседания в такой момент, когда ритуальный дис-
курс — литания — в умах депутатов перевешивал по важности
рациональное обсуждение насущных проблем и возможных
путей их решения. Здесь как нельзя более кстати вспомнить
работу Майкла Урбана (Urban 1994) о политике самоиденти-
фикации. Может быть, дело не столько в эстетической или
эмоциональной напряженности литаний, сколько в том, как
они используются при создании определенных политических
идентичностей и утверждении политической «чистоты» сво-
ей группы в отличие от «испорченности» других. Как указыва-
ет Льюин, «обнажение прошлых жестокостей, беззакония и
коррупции поначалу имело либерализующий эффект. Рассчи-
таться с безобразным прошлым, прокляв его и покаявшись,
нужно было, чтобы освободить души и умы граждан от наци-
онального кошмара. К сожалению, во многих кругах отрече-
ние вскоре превратилось в стратегию и в образ мысли, гово-
ривший о пристрастии к “негативизму”. За нескончаемым
списком жестокостей и несправедливостей сталинизма не
последовало их анализа» (Lewin 1995: 302).
Поток литаний, вскрывающих трагедии прошлого и опла-
кивающих их, произвел парадоксальный и совершенно дез-
ориентирующий эффект на население — обратный тому, ка-
кого ожидал Горбачев, начиная политику гласности. Эти от-
кровения вместо обновления советского общества лишь
прибавились к уже ставшему популярным осмеиванию всех
социалистических идеалов, а это, несомненно, способствова-
ло разрушению советской социальной системы как в той ее
части, от которой люди хотели избавиться, так и в той, кото-
рую они, может быть, желали сохранить. Трудно было избе-
жать размышлений о цели и смысле жертв и страданий совет-
ского периода. Многие литании посвящались широко теперь
известным историческим травмам и исторгали у говорящих
290
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. РИТУАЛЫ И ПАРАДОКСЫ ПЕРЕСТРОЙКИ
горестный вопрос «зачем?». Как сокрушенно спросила одна
пожилая женщина: «Зачем надо было столько страдать, чтобы
прийти к тому, что мы имеем сейчас? Страна разрушена, все
воюют друг с другом, никто не знает, что будет дальше. Неуже-
ли мы жертвовали своими жизнями ради вот этого?»
Вначале открытие официального, публичного простран-
ства для литаний было частью здорового компенсаторного
ритуала, необходимого для отрыва от прошлого и расстава-
ния с его мифами. «Излияние души» служило для пострадав-
ших ритуальным шагом к моральному выздоровлению. Лита-
нии как бы отпускали людям коллективный грех, давали выход
долго копившейся боли и разрушали авторитет всех советских
институтов (в действительности по-своему эффективных и
способных к преобразованиям). Однако рассказывание, рас-
пространение, неоднократное повторение историй о муках
также углубляло социальное разделение, усугубляло полити-
ческую апатию населения, усиливало у людей ощущение отча-
яния и тщетности усилий.
Абсурдность и негативизм
Наряду с литаниями и оплакиванием трагедии советского
народа из сферы частного общения в публичный дискурс на-
чали просачиваться рассказы и анекдоты о сюрреализме со-
ветской истории, об абсурдности и ужасах русской жизни.
Гласность стимулировала широкое обсуждение такого матери-
ала, и утопичность и нелепость все более утверждались в каче-
стве основной характеристики русской жизни; они преврати-
лись в ключевую тему российских СМИ и русского разговора.
Я прибегаю к термину «сюрреализм» для описания того
ощущения, которое мои информанты постоянно стремились
передать, — ощущения от жизни в обществе, где ни один эле-
мент не соответствовал тому, что о нем говорилось. Называли
они это по-разному: парадоксом, иронией, противоречиями,
отклонениями, несообразностями, расхождениями, непред-
19*
291
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
виденными результатами или абсурдом — любимым словом
моих информантов. Эти многочисленные социальные и логи-
ческие противоречия сплелись в такой плотный клубок, что
его почти невозможно было распутать даже на уровне дискур-
сивного анализа, не говоря уже о политической практике.
В тематике как публичных, так и частных речей преобла-
дали две категории парадоксов: к первой категории относит-
ся парадокс Советского государства с огромным количе-
ством его внутренних противоречий, ко второй — выросшая
на наших глазах, — парадокс перестройки, ее неожиданные
последствия и разочарование в ней.
Первая категория парадоксов предстала общественному
взору и начала обсуждаться с момента объявления гласности.
Более всего говорили о главном противоречии — между иде-
ологией и практикой, между мифами и реалиями советского
общества. Граждане стремились раскрыть и демистифициро-
вать то, что представлялось самой большой неожиданностью,
а именно: щедро сулившая всем равенство и достаток социа-
листическая революция создала государство, в котором, хотя
оно и назвало себя социалистическим, царили бедность и не-
равенство. С ходом перестройки этот парадокс (эта масса раз-
нообразных противоречий) стал центральной, даже фетиши-
зируемой темой российских средств массовой информации,
социальных наук и частных разговоров. Изысканная нюанси-
ровка рассмотрения и ламентаций по поводу этого парадок-
са составила второй ключевой аспект ритуала перестройки.
Короткое время в конце 1980-х годов можно было наблю-
дать, как обнародование противоречий советской истории и
привычная сакрализация социализма, Ленина и 1917 года шли
параллельно. Перестроечное иконоборчество некоторое вре-
мя сосуществовало с пиететом перед советским иконостасом.
В то время как лидеры новой критически настроенной прес-
сы — «Огонек», «Московские новости» и «Новый мир» — печа-
тали материалы о трагедиях и жертвах советского режима,
выставляли напоказ многочисленные примеры коррумпи-
рованности, лживости, некомпетентности партии и номенк-
292
ЗАКЛЮЧЕНИЕ РИТУАЛЫ И ПАРАДОКСЫ ПЕРЕСТРОЙКИ
латуры, описывали страдания и вымирание советского наро-
да, ортодоксальная часть прессы изо всех сил держалась за
символы коммунизма, оперируя образами пролетариата, тру-
дящихся масс и Великой Отечественной войны как оружием
в этом великом противостоянии. Так, например, в своей речи
8 мая 1990 г., накануне Дня победы, Горбачев в лирическом
ключе говорил о трагедиях военного времени, не связанных
с нашествием нацистов: о миллионах людей, умерших от го-
лода, эпидемий и замученных в советских лагерях. Советский
лидер попытался таким образом «перетянуть» на свою (офи-
циальную) сторону, обратить к своей пользе память о горе и
лишениях народа2’.
Но такая «экспроприация» народных страданий руковод-
ством страны теперь уже выглядела только как лицемерие.
Сама советская система полностью переместилась в концеп-
туальную рубрику «враг», чему способствовали широко обсуж-
даемые публикации о некомпетентности Сталина как руково-
дителя и о его готовности жертвовать людскими жизнями без
нужды, а также об ужасающей жестокости в современной Со-
ветской армии. Ритуалы, связанные с войной, и личные воспо-
минания (устные или печатные) получили новое измерение и
тему для сетований: теперь все проклинали советское прави-
тельство за его роль в несчастьях народа4. И как Горбачев ни
пытался объединиться с народом в этом вопросе, он опоздал:
дискурс осуждения уже закрепил в сознании населения идею,
которая отрицала за руководством страны способность до-
биться чего-либо хорошего, включая, что очень важно, и пе-
рестройку.
s См. книгу Н. Тумаркин, где она дает прекрасный анализ того, как,
благодаря гласности, было пересмотрено и снижено отношение к
Великой Отечественной войне и как эта десакрализация подейство-
вала на разные группы населения (Tumarkin 1994: 159—201).
4 Как ни странно, этот нюанс приглушил ощущение святости
жертв, принесенных в войну русским народом, но одновременно внес
в него свежий эмоциональный оттенок, потому что оказался новым
(или же подавляемым прежде) знанием о страдании.
293
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
В рамках «ритуала отрицательства» (меткое выражение
Льюина) разнообразные мифы советского социализма были
перевернуты и демонтированы в средствах массовой инфор-
мации. Миф об общественном порядке и безопасности ру-
шился под напором колоритных материалов о страшных пре-
ступлениях — при том что раньше преступность считалась
исключительно «чумой» Запада. Миф о любви к советской Ро-
дине отравляли репортажи о загрязнении окружающей среды.
Миф о плановом и контролируемом хозяйстве оспаривался
информацией об абсурднейшей, смехотворной, непроизводи-
тельной экономической деятельности. А миф о Партии как о
добром старшем брате, кладезе мудрости, образце справедли-
вости и ответственности разлетелся, когда под яростный об-
стрел СМИ попали партийные привилегии и злоупотребления
властью. Хотя некоторые из этих мифов уже давно осмеива-
лись, пародировались и признавались откровенной ложью,
публичное, ритуальное низведение с пьедестала официальных
притязаний государства привело к тому, что многие полнос-
тью потеряли веру в какие бы то ни было позитивные черты
советского режима. Это означало «полное отречение от всех
достижений послеоктябрьского (1917) периода» (Lewin 1995:
303) — периода, создавшего, несмотря на все ужасы и беды,
образованное, современное, стабильное общество с развитой
системой защиты и поддержки, на которую привыкло рассчи-
тывать население. А, как говорит Льюин, «бездумное отрече-
ние есть верное средство разрушения того, что работает, и за-
мены его тем, что не работает. Именно это произошло после
Октября 1917 г., причем в самом широком масштабе» (Lewin
1995: 325).
Стремительная и массовая потеря доверия к советской си-
стеме, спровоцированная мощной атакой на прежние мифы,
у многих усугубила цинизм и пассивность, которыми советс-
кое общество было поражено и раньше. Убежденность в нере-
альности улучшений, в бессилии отдельного человека и всего
народа стали ежедневным дискурсивным «хлебом насущным»
как в СМИ, так и в неформальном общении. Последние остат-
294
ЗАКЛЮЧЕНИЕ РИТУАЛЫ И ПАРАДОКСЫ ПЕРЕСТРОЙКИ
ки утопических мечтаний советского периода улетучились, и
всеми овладело настроение упадка, выразившееся в уподобле-
нии действительности «тупику». В начале 1990-х в Москве
только и говорили что о «тупике».
Несколькими годами ранее Горбачев, пользуясь расхожим
сравнением жизни с дорогой, говорил о доперестроечном
времени: «Мы думали, что управляем, а на самом деле... маши-
на едет не туда, куда думают те, кто сидит у руля» (Горбачев,
1988:18). По иронии судьбы, горбачевская перестройка пошла
не тем путем, каким он предполагал; гласность же, призванная
помочь «наладить» автомобиль государства, просто-напросто
завела его в тупик. Общаясь с людьми в 1989 и 1990 гг., я час-
то слышала жалобы на то, что перестройка, затеянная ради
повышения общественной дисциплины, производительности
труда, порядка и эффективности, в конце концов привела
лишь к «хаосу».
Перестроечный фольклор
СМИ изобиловали иллюстрациями многочисленных неле-
постей советской экономики. Однако их анализ часто страдал
расплывчатостью и «топтанием на месте». Видимо, оттого что
у писавших было мало журналистского опыта «разгребания
грязи», приводимые примеры абсурда не раскрывали конкрет-
ных причин их возникновения. Но характерные для пере-
строечного периода специфически «фольклорные» методы
подачи материала стоит продемонстрировать. Вот несколько
примеров из прессы.
В «Огоньке» от 2 сентября 1989 г. помещены рядом две
фотографии. На верхней — длинная очередь из женщин у
молочной палатки. На нижней — женщина с гримасой недо-
вольства выливает молоко из ведра в кормушку для свиней.
Комментарий таков: «Наш хозяйственный механизм порой
напоминает рассеянного чудака, который, подобно известно-
му герою, отправился в путешествие в отцепленном вагоне
295
«РУССКИЕ РЛЗГ(ЖОРЫ»
или вышел на улицу в разных ботинках Каких только порази-
тельных и загадочных чудес не преподносит наша удивитель-
ная действительность!
В городе Апшеронске благополучного и ухоженного Крас-
нодарского края по утрам выстраиваются длинные очереди за
молоком В одни руки отпускают дефицитного продукта не
более трех литров. Люди нервничают, ругаются. В том же Ап-
шеронском районе в поселке Средние Тубы десятки литров
молока скармливают свиньям. Из-за плохих дорог заготови-
тели обходят стороной отдаленные поселки. По этой же при-
чине в меню свинячьих обедов нередко поступают вполне
доброкачественные фрукты... И все-таки что же с нами проис-
ходит?»
В выпуске «Московских новостей» за 24 сентября 1989 г.
(с. 12) одна из статей начиналась так: «Горько, когда таджичка,
потерявшая здоровье на отравленных дефолиантами хлопко-
вых полях, лишена права купить в магазинах Риги или Таллин-
на маечку для внука, изготовленную из этого хлопка».
Хотя подобные истории — которых было множество в
годы перестройки и которые превратились тогда в своеобраз-
ный жанр — говорили о реальных проблемах, по своей струк-
туре и особенностям риторики они были скорее притчами,
обращенными ко всем сразу (ироническими антиподами ис-
торий о счастливых доярках в произведениях социалистичес-
кого реализма), нежели призывами к серьезному анализу или
активным действиям для решения этих проблем.
Смысл первого комментария, казалось бы, заключается в
том, чтобы подчеркнуть абсурдность очередей за молоком,
когда оно производится под боком и в достаточных количе-
ствах. Однако язык здесь почти фольклорный, а шкала ценно-
стей — традиционная. Молоко выступает магической субстан-
цией, женщина, выливающая его поросенку, наделена чертами
архетипической «деревенской бабы», а местные начальники
выставлены людьми равнодушными и ленивыми Фраза «Ка-
ких только поразительных и загадочных чудес не преподно-
сит нам наша удивительная действительность!» — типично
296
ЗАКЛЮЧЕНИЕ РИТУАЛЫ И ПАРАДОКСЫ ПЕРЕСТРОЙКИ
сказочная. Риторический вопрос в конце пассажа («Что с нами
происходит?») часто встречается в русских плачах.
Заметьте, что в обоих случаях не нашлось героя, который
бы спас положение; да и в других сагах перестроечного пери-
ода таких героев не находилось. Героями тут выступали жерт-
вы: многострадальный народ, стоящий в очереди за молоком,
или бедная бабушка, пытающаяся купить внуку майку.
Во втором примере пафоса было даже больше, поскольку
речь шла о конкретном человеке, о женщине, причем из наи-
более обездоленных — о сборщице хлопка. Может быть, это
апокрифическая история? Возможно, это быль и апокриф
одновременно. Во всяком случае, она принадлежала к харак-
терному типу историй, циркулировавших в те месяцы, когда
ужесточалась карточная система и в городских магазинах
продавцы припрятывали товары «для своих», из-за чего селя-
не, приезжая отовариваться в город, часто возвращались с
пустыми руками5.
Мы вновь имеем дело с фольклорными элементами: геро-
иня — самая бедная, самая невинная, самая многострадальная
фигура, которая чего-то хочет, конечно же, не для себя (маечку
для ребенка — типично фольклорная, альтруистическая цель).
Имплицитный злодей в этой истории — торговец, отказы-
вающийся продать женщине вещь, в которую вложен ее соб-
ственный труд. Здесь также скрыты посулы «воздаяния по де-
лам»: обездоленной жертве — спасение, алчному злодею (в
данном случае представителю определенной этнической
группы) — вечные муки. Наличие высшей справедливости
подразумевается в обеих историях. Но акцент делается на па-
фосе бедности, ценностью же — маркированной, выраженной
5 Ходило много разговоров о колхозах, где делают масло, но где у
самих колхозников масла на столах нет, и о производителях мяса, чьи
дети мяса не видят. Есть старинная русская поговорка, передающая
суть этого парадокса, — «сапожник без сапог». Заметка в «Московских
новостях» и множество подобных ей, в сущности, иллюстрируют эту7
поговорку.
297
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
подчеркнуто эмоционально, много раз названной и воспро-
изведенной, — остается страдание, испытываемое в священ-
ных условиях бедности и унижений, в условиях, возникших, в
свою очередь, из контекста невообразимой неэффективности,
абсурдности, глупости, жестокости, эксплуатации, экспропри-
ации и эгоистичности.
В этих дискурсах вопрос разумного обеспечения, который,
на первый взгляд, был предметом обеспокоенности авторов
статей, не стоял вовсе. В обоих сюжетах вопросы производ-
ства, обработки и распределения сельскохозяйственной про-
дукции были поставлены скорее в моральном, чем в практи-
ческом плане. В первом случае, например, проблема состояла
в том, что заготовители, по-видимому, считали ниже своего
достоинства терпеть неудобства путешествия по тряской до-
роге к отдаленным хозяйствам. Сопоставление фотографий
должно было сказать читателю, что ведро молока, отданное
поросенку, лучше бы получили люди в очереди (и издатель,
видимо, рассчитывал на то, что читатели сами отстаивают
очереди за молоком и резко отреагируют на вид драгоценной
жидкости, выливаемой свиньям). На самом деле недостатки
советского сельского хозяйства коренились в причинах сис-
темного, а не местного характера, и картинка, по-видимому,
язвительно намекала на современную экономическую систе-
му, в которой нет прямого обмена между производителем и
потребителем. Таким образом, мы имеем дело не с практичес-
ким, утилитарным типом дискурса о производстве и распре-
делении, где бы анализировался реальный, системный источ-
ник трудностей, а с дискурсом мифическим и моральным.
Предлагавшиеся решения тоже часто были мифически-
ми — без всякого реального учета даже самых очевидных по-
следствий. Одним сентябрьским вечером 1989 г по москов-
скому телевидению показали длинный сюжет о кожевенной
фабрике Под объективом видеокамер группа специалистов
водила по фабрике журналистов, показывая ямы, полные за-
пекшейся крови, оборудование и помещения, забрызганные
кровью, кучи грязи, над которыми роились мухи Двое рабо-
298
ЗАКЛЮЧЕНИЕ РИТУАЛЫ И ПАРАДОКСЫ ПЕРЕСТРОЙКИ
чих в ответ на расспросы поведали зрителям о некоторых
особенно жутких вещах, после чего их спросили, как они мо-
гут работать в таком месте и в таких условиях. Они объясни-
ли, что прилично зарабатывают, а к ужасам своей работы при-
выкли. Комментатор в студии живо, с чувством морального
превосходства выразил сомнение в том, что люди могут при-
выкнуть к такой жизни. Он назвал эту работу «нечеловеческой»
и заявил, что «подобные фабрики нужно либо модернизиро-
вать, либо закрывать».
Если журналисты хотели для своей страны экономическо-
го процветания («каждому — по курице в кастрюлю»), то такой
их дискурс был явно и фатально не тем средством, которое
действительно требовалось. Подобные речи, миллионы при-
меров которых звучали постоянно, превратились в важный
социальный фактор. Конечно, задачи, стоявшие перед Совет-
ским Союзом в 1980—1990 гг., были столь сложны, что мало
кто мог их полностью осознать, не говоря уже о том, чтобы
решить. Отчасти благодаря вновь обретенной свободе гово-
рить, людям показалось, что слова обладают магической цели-
тельной силой, и журналисты принялись либо сетовать на
проблемы, либо упиваться столь знакомой российской абсур-
дностью — вместо того чтобы тщательно анализировать соци-
альные кризисы6.
Ритуальная инверсия
и утопические образы Запада
Вместе с отрицанием всего советского пришло возвеличи-
вание всего, на чем прежде стояло позорное клеймо «капита-
листический Запад». Советские СМИ регулярно выставляли
напоказ примеры жестокости, несправедливости и противо-
речивости капиталистической системы, перестройка поменя-
6 Заметим, справедливости ради, что этим публичный дискурс и
СМИ грешат повсюду
299
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
ла минус на плюс- теперь показывали бедных в США, которым
оказывается медицинская помощь, и тут же — русских мате-
рей, горько жалующихся, что их тяжело больные дети не мо-
гут получить ни лекарств, ни необходимого лечения. Мифи-
ческие картины Запада (такие же односторонние, какими
были прежние демонстрации «ада» западной жизни) стали
орудием в атаке на мифологию социализма.
Я поняла это по многочисленным разговорам со своими
друзьями и знакомыми: говоря о проблемах советского обще-
ства, они часто спрашивали меня, существуют ли аналогичные
проблемы в США. Сколько я ни старалась объяснить проти-
воречия и сложности американского общества и проиллю-
стрировать их жизненными историями, я так и не смогла до-
биться настоящего понимания — меня как будто не слышали.
Популярное мифотворчество на тему западного изобилия
приняло форму некоего идеологического барьера (Eagleton
1991 194), который перекрывал путь для адекватного воспри-
ятия моих слов. Это явление, конечно, было не ново: и до пе-
рестройки в СССР бытовал мифический образ Запада, но он
существовал больше в анекдотах, слухах и диссидентских раз-
говорах. Однако в период гласности этот образ приобрел по-
чти официальный, защищенный от критики статус. Ритуаль-
ная инверсия потребовала смены советской идеологии на
диаметрально противоположную. Ключевым моментом здесь
является то, что речь идет именно о новой идеологии — т.е.
вещи столь же мистифицирующей, сколь и ее советские пред-
шественники. И в частных беседах, и в публичном общении
происходило, таким образом, «некритическое восприятие за-
падных моделей, основанное на недостаточном их знании, и
почти механический переход на позиции, противоположные
принятым в предшествующий период» (Lewin 1995: 303).
Эту смену идеологической модели можно было наблюдать
и в политике, и в экономике, но мне как этнографу она была
заметнее в сфере самоидентифицирования граждан. В то вре-
мя как стабильные советские идентичности — на уровне ин-
дивидуальности, группы и нации — критиковались и поверга-
чпп
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. РИТУАЛЫ И ПАРАДОКСЫ ПЕРЕСТРОЙКИ
лись в прах, возникали новые образы (королева красоты, ва-
лютная проститутка, бизнесмен, мафиозный босс) Неудиви-
тельно, что эти новые идентичности были смоделированы в
соответствии с архетипом американских «плохих парней»,
давно эксплуатировавшимся советской пропагандой в каче-
стве эмблемы капиталистического зла. Получилось, что вмес-
то «борьбы со злом», о которой мечтал Горбачев, гласность,
сама того не желая, способствовала принятию образа «зла» в
качестве эмблемы «добра» или, по крайней мере, свободы.
Привлекательность мафии для молодых российских мужчин
(и некоторых женщин) во время и после перестройки, с со-
путствующим ей расцветом преступности и мафиозной актив-
ности, отчасти объясняется, мне кажется, той скоростью, с
какой прежний образ советского человека лишался своей со-
циальной значимости, а противоположные ему образы напол-
нялись положительным содержанием и достоинством.
Разумеется, самой значительной инновацией в сфере пост-
роения идентичности была реабилитация образа человека,
начинающего делать свой бизнес — в какой бы то ни было
форме и с любой степенью законности. Власти предержащие
в массовом порядке покидали ряды коммунистической пар-
тии и переделывались в капиталистических предпринима-
телей, причем многие тайно или открыто переводили
собственность своих бывших предприятий в свою частную
собственность. Кооперативное движение 1988 г. дало начало
быстрому росту класса бизнесменов, ставшего во главе либе-
ральных экономических реформ. Мелкая торговля из неле-
гальной подпольной деятельности на черном рынке стала
профессией для многих молодых людей. Мафия, конгломерат
самых разных деятелей в хозяйственной сфере, резко усили-
ла контроль над определенными секторами экономики, а ее
присутствие и влияние стало очень заметным. Хоть мафию и
осуждали за жестокость, за ней все-таки шла некая ковбойская
слава: «крутые парни» и их дерзкие и опасные дела ассоции-
ровались с чем-то вроде переднего края капиталистического
п редпри ни мател ьства.
301
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
Идеи капитализма — иные из которых уже считались весь-
ма проблематичными на Западе — были приняты «оптом»
Внедрение рыночных отношений во все сектора экономики
многими рассматривалось как панацея, а социалистические
идеалы стали казаться лишь долго насаждавшимся пропаган-
дистским вздором. Захлестнутые потоком утопических карти-
нок «западного образа жизни», люди возмечтали разбогатеть
в одночасье и, прельстившись на рекламу, с готовностью вкла-
дывали свои денежки во всякого рода сомнительные предпри-
ятия, в финансовые пирамиды (вроде печально известной
МММ), которые во множестве процветали в начале 1990-х.
К тому же, эти операции стали магическим решением пробле-
мы инфляции и вопроса о том, что делать с быстро обесцени-
вающимися деньгами.
И однако, несмотря на все это, парадигма мистической бед-
ности, о которой я подробно говорила выше, осталась для
очень многих ведущей идеологией осмысления жизни. Она
позволяла людям трактовать свое экономическое положение
(и его ухудшение) как знак собственной высокой нравствен-
ности в условиях социальных и экономических трансформа-
ций, которые они не могли контролировать и в которых не
могли участвовать.
Ритуальное обновление архаичных форм
Существовал еще один богатый источник материала для
конструирования новой, «антисоветской» идентичности —
дореволюционная Россия. Многие обратили свои взоры к
прошлому и начали реанимировать канонические представ-
ления о людях старины. В 1990-х это было хорошо видно по
массовому, повальному выходу из КПСС и принятию многими
бывшими членами партии православного вероисповедания —
как будто бы они срочно обменивали один «значок легитим-
ности» на другой.
302
ЗАКЛЮЧЕНИЕ РИТУАЛЫ И ПАРАДОКСЫ ПЕРЕСТРОЙКИ
В третьей главе я описала рождественский ужин, на кото-
рый в январе 1990 г. меня пригласили знакомые. Все гости
впервые в своей жизни отмечали этот религиозный праздник.
У меня было ощущение, что меня пригласили просто как ре-
лигиозного человека, поскольку мои знакомые знали, что я
выросла в протестантской семье. Меня расспрашивали о том,
как Рождество празднуется в моей церкви и в моей семье; ка-
залось, присутствующие обретают от моих слов уверенность
в важности момента и значимости религиозной практики
вообще. Меня трогал их искренний интерес к религиозной
жизни, но в то же время я понимала, что они всеми силами пы-
таются заполнить недавно появившийся в их жизни идеоло-
гический вакуум, ища для себя новые идентичности при помо-
щи старых.
Религиозность также стала объектом коммерциализации,
судя по предметам культа, которые, после благоговейных те-
левизионных передач и выставок в музеях, появились на рын-
ках ремесленных изделий — в Измайловском парке, на Арба-
те, в киосках по городу. Всюду начали продаваться дешевые
копии икон, заменив собой вездесущие статуэтки, значки, от-
крытки и календарики с изображениями Ленина.
Однако были и более «гегемоничные» проявления этого
процесса, что видно по тому, как деятели образования, встав-
шие перед фактом отказа государства от коммунистического
воспитания в школе, немедленно и с большим энтузиазмом
заменили его новым, с упором на религиозные (православ-
ные) ценности и ритуалы. Запрещавшееся столько лет религи-
озное образование неожиданно вводится в некоторых госу-
дарственных школах, и ведутся даже разговоры о том, чтобы
повсеместно сделать его обязательной частью школьного
учебного плана. Люди чувствовали, что их вынуждают перехо-
дить от коммунистической религии назад к христианской —
так же, как и десятилетия назад, когда было приказано перей-
ти от поклонения Христу к поклонению Марксу. Это, конечно,
представляло большую проблему, поскольку бездумно повто-
ряло прежнее стремление опираться на одну-единственную
зоз
< РУСС К И Е РАЗ ГОВОРЫ»
идеологию, исключавшую плюрализм взглядов или религиоз-
но-культурных идентичностей.
Однако самой неприятной стороной этого процесса ин-
версии и замещения было распространение этнического
национализма. Советская идеология единства многонацио-
нального народа для многих индивидов и групп сменилась
выдвижением на первый план своей национальной идентич-
ности и утверждением приоритета этнических интересов
внутри чрезвычайно смешанного в этническом отношении
государства. Многие проявления этого процесса были поло-
жительными, например предоставление этническим мень-
шинствам возможности утвердить себя и оживить какие-то
элементы долго подавлявшейся культурной практики, включая
религиозные обычаи и обряды. Однако в последние годы
национализм обнаружил и свои гораздо более темные сторо-
ны. Поднял голову антисемитизм (который и прежде не слиш-
ком пресекался): злобные антиеврейские публикации, включая
старые нацистские трактаты, стали открыто продаваться на
улицах. Участились и интенсифицировались проявления не-
нависти к так называемым «черным» — главным образом кав-
казцам, привозящим товары на продажу в российские го-
рода, — что привело к принятию мер, ограничивающих их
деятельность. Я не могу сейчас уделить серьезное внимание
этой важнейшей проблеме, обусловленной многочисленными
и сложными причинами. Главная моя мысль заключается в
том, что в основе многих проявлений национализма в России
лежит желание отмежеваться от советского интернационализ-
ма (см. работу Urban 1994 о практике создания различных по-
литических идентичностей в противовес советским).
Все с той же мыслью перевернуть советскую идеологию
стали активно воскрешаться старомодные образы мужчин и
женщин вопреки идее равенства полов. Многие мои друзья
пустились фетишизировать мифическую буржуазную модель
гендерных отношений — как раз ту, против которой выступала
советская власть, считавшая женщин активной частью трудо-
вых ресурсов (Lapid us 1978; Sariban 1984; Ries 1994). В соответ-
304
ЗАКЛЮЧЕНИЕ РИТУАЛЫ И ПАРАДОКСЫ ПЕРЕСТРОЙКИ
ствии с новой моделью, женщина должна вернуться к своей
«естественной» роли устроительницы дома и матери и оста-
вить работу вне дома мужчинам. При том что для многих рос-
сийских женщин этот буржуазный идеал был частью их фан-
тазий об альтернативе знаменитой «двойной нагрузке» совет-
ской женщины, он также способствовал распространению
резко антифеминистской идеологии (Ерофеев 1993) и практи-
ки. В начале 1990-х в частных беседах, в СМИ, в политических
дискуссиях потоками лились заявления о том, что женщин
надо в обязательном порядке вернуть к их «естественным» до-
машним ролям жен и матерей и что патриархальность в доме
необходима для восстановления женской и семейной нрав-
ственности. Философ-феминистка Ольга Воронина пишет:
«Эта кампания началась горбачевским заявлением о необ-
ходимости вернуть женщинам их истинное, семейное пред-
назначение. Средства массовой информации подхватили сло-
ва лидера и, по старой привычке, восприняли их как “ценное
указание”. Страницы газет и журналов заполнились статьями
на “женскую” тему, однако по большей части такими, где защи-
щались патриархальные ценности. Даже “Домострой” (руко-
водство XVI в. по ведению домашнего хозяйства), в котором,
как известно, наилучшим способом воспитания жен и детей
провозглашается битье, начал пропагандироваться как памят-
ник национальной культуры» (1993: 97—98).
Восстанавливая некоторые из патриархальных ценностей,
перестройка, так сказать, узаконивала сегрегацию на рабочем
месте, и многие женщины, особенно молодые, были вытес-
нены на должности секретарш, канцелярских служащих, ад-
министраторов и прочих представителей обслуживающего
персонала. Хотя при найме на работу всегда учитывалась фи-
зическая привлекательность женщины, открыто это стало де-
латься именно в период перестройки (Khanga 1991). Реклам-
ные объявления в российских газетах приглашали на работу
привлекательных женщин с длинными ногами, с хорошей
фигурой и «без комплексов», что означало готовность выпол-
нять не только секретарские, но и сексуальные функции.
20. Заказ № 2742.
305
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ-,
Плакаты с эротической тематикой появились в продаже в
переходах метро и книжных киосках в 1990 г., и вскоре раз-
вился огромный рынок порнографии, полностью запрещен-
ной в советскую эпоху, хотя и тогда кое-что продавалось из-
под полы. Эта «сексуальная гласность», знак свободы от пре-
сного, асексуального коммунизма, способствовала не столько
сексуальному раскрепощению личности, сколько некоторой
перестройке в гендерных отношениях, сохранивших, однако,
свою иерархичность. Хотя наблюдалась значительная активи-
зация феминистской деятельности — в 1990 г. прошла первая
феминистская конференция в Москве, в том же году открыл-
ся первый Центр гендерных исследований, образовалось
большое количество женских объединений, и многие издания
стали печатать материалы на «женские» темы — «эти элемен-
ты, — как пишет Е. Гощило в одном своем недавнем эссе, — все
же представляют собой лишь крошечные очажки революци-
онных изменений, пока еще косметических, а не системных.
Весьма скромные, изолированные друг от друга движения
поглощаются контрпотоками, частью новыми и пришедшими
с Запада, а частью доморощенными, существующими с неза-
памятных времен» (Goscilo 1993: 240).
Появление, хотя и слабого, феминистского движения, по
существу, спровоцировало и «узаконило» антифеминистские
выступления на многих фронтах. Официальную советскую
идеологию женской эмансипации, в полной мере так и не ре-
ализованную на практике, обвинили — равно как мужчины,
так и женщины — в том, что она явилась причиной многих зол
советского общества, а потому от нее следовало отказаться,
как и от всего остального. Так что, хотя россияне перенимали
многие элементы западной жизни, идеи и практику фемини-
стского толка они воспринимали специфическим образом и,
подвергнув критике, отвергали.
В культурном и социальном хаосе, вызванном перестрой-
кой, патриархальность утверждала себя также в качестве поли-
тической идеологии. Многие начали выступать за «твердую
руку» в руководстве страной. «Пусть будет Сталин, но дайте
зоб
ЗАКЛЮЧЕНИЕ РИТУАЛЫ И ПАРАДОКСЫ ПЕРЕСТРОЙКИ
мне хлеба», — гласил один из плакатов на политическом ми-
тинге. Этот жутковатый мотив, хотя и не доминировал, все же
был довольно заметен и стал привычным в разговорах, на
митингах, в СМИ. Больше всего такое настроение характери-
зовало оказавшихся вдруг на обочине жизни пожилых людей
и рабочих, но в более завуалированной форме оно проявля-
лось и в разговорах интеллигенции.
В прессе и в частном общении люди бурно осуждали Гор-
бачева за его колебания и нерешительность, за неспособность,
как им казалось, удержать в стране социальный порядок. Граж-
дане превозносили свободу, демократизацию, децентрализа-
цию власти, но в то же время взывали к Горбачеву, прося лю-
бой ценой обуздать преступность, прекратить этническое
насилие, восстановить экономическую стабильность и пред-
отвратить разрушение системы социальной защиты. Полу-
чалось, что в своих речах люди, сами того не подозревая,
повторяли старые представления о магической силе патерна-
листской власти.
Литании о «полном развале» получили огромное распро-
странение. Они говорили о безнадежности, и в них фигуриро-
вало несколько образов: настоящее представлялось в образе
«тупика», а будущее — в еще более мрачной картине «граждан-
ской войны». История периода Гражданской войны (1918—
1921) с ее массовым террором, насилием, голодом и разрухой,
ставшая известной россиянам благодаря гласности, преврати-
лась в некую «матрицу» для разговоров о будущем России.
Настроение безнадежности подогревалось страшными исто-
риями о современных гражданских войнах (в то время — эт-
нических чистках в Армении и Азербайджане), которые об-
суждались в частном общении и в СМИ, и притоком в Москву
тысяч беженцев из районов конфликтов. Хотя открытых граж-
данских столкновений в России пока еще не случилось, люди
легко представляли себе их возможность и даже называли
«гражданской войной» те преступления и насилие, о которых
слышали и с которыми сталкивались в своем непосредствен-
ном окружении.
20*
307
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
Единственным выходом из хаоса многим виделось «маги-
ческое», тоталитаристское руководство7 Хаос я назвала бы
воображаемым — потому что, несмотря на бурные события и
огромные трудности жизни в новых социальных и экономи-
ческих условиях, Москва, собственно, выглядела вполне мир-
но. Как пишет Льюин, «при кризисе такого масштаба поража-
ет как раз относительное спокойствие и отсутствие массовых
беспорядков, хотя, если кризис продолжится, а отчаяние насе-
ления будет расти, события могут принять куда более драма-
тичный оборот» (Lewin 1995: 302). В обстановке растущего
отчаяния тех дней только власть внушала надежду.
Возродившаяся вновь фетишизация власти принимала по-
рой очень странные формы. В третьей главе я упомянула по-
явление на культурной сцене гипнотизера Кашпировского.
То, что делал Кашпировский, В. Тэрнер называет термином
orexis (Turner 1988: 91), т.е. попыткой через ритуал рекон-
струировать социальное «я» населения и разлаженные со-
циальные институты, не поддающиеся процедурам и иници-
ативам рационального бюрократического планирования.
Неслучайно Кашпировский появился в тот момент, когда ве-
ликие мечты о разумной перестройке начали исчезать, когда
либеральная интеллигенция и образованные слои буржуазии
стали открыто и всерьез подумывать об эмиграции, а угроза
тотального хаоса или гражданской войны становилась все
более явственной. На своих сеансах, длившихся по часу, Каш-
пировский, не мигая, стоял перед телекамерой и внушал зри-
телям: «Слушая меня, вы излечитесь от всех своих болезней.
Даже если вы спите, даже если вы не верите в меня, даже если
вы не понимаете по-русски... моя сила подействует на вас...
7 Разумеется, во всех обществах можно наблюдать поиск «волшеб-
ных» путей выхода из сложных социальных ситуаций. Насколько,
например, американская политическая риторика базируется на ра-
циональном анализе проблем и тщательно продуманных предложе-
ниях? Повсюду граждане готовы поверить в магическое разрешение
проблем, будь то рейгановские «Звездные войны» или «Контракт с
Америкой» Гингрича.
308
ЗАКЛЮЧЕНИЕ РИТУАЛЫ И ПАРАДОКСЫ ПЕРЕСТРОЙКИ
Вы излечитесь от диабета, сердечных недугов, близорукости,
депрессии, даже от облысения и лучевой болезни... вы броси-
те курить... Алкоголики излечатся от алкоголизма, а наше об-
щество сможет вновь обрести здоровье». Люди самой разной
социальной принадлежности и самых разных убеждений, в
том числе многие мои образованные, либеральные друзья,
садились перед телевизором, едва там появлялся знаменитый
психотерапевт. На следующий день все только и говорили
что о его целительной силе8.
Однажды в булочной, в очереди в кассу, я услышала такой
разговор. Молоденькая кассирша держалась рукой за щеку —
чувствовалось, что ей нехорошо. «Вы что, заболели?» — спро-
сила ее покупательница. «Нет, у меня зуб болит», — ответила
девушка. «Вам надо посмотреть Кашпировского». — «Да я вче-
ра смотрела». — «И не помогло?» — поразилась женщина.
«Нет», — грустно сказала обманувшаяся в своих надеждах кас-
сирша.
Еще один гипнотизер, Чумак, появился на телевидении
примерно в это же время; он предлагал людям во время своих
сеансов ставить возле телевизора сосуды с водой, продукты,
косметику, обещая, что они зарядятся целительной силой.
Одна моя молодая знакомая, биолог, действительно клала у
телевизора свои кремы для лица, ожидая повышения их эф-
фективности. Среди прочего Чумак говорил, что его гипноз не
действует на тех, кто употребляет алкоголь, — странное слия-
ние магии и антиалкогольной агитации.
Парадокс состоял в том, что для оздоровления страны эти
ритуалы предлагали вернуть ее в состояние, при котором на-
селение было склонно всей массой реагировать на действия
власти как на гипнотическую силу. На каком-то очень глубо-
ком уровне немигающий взгляд Кашпировского с телеэкрана
призывал: возвращайтесь к привычному состоянию транса,
8 Его сеансы напоминали в некотором смысле работу телепропо-
ведников в США, однако гипнотизировать свою аудиторию при по-
мощи радиоволн те, пожалуй, не пытались
309
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
ничего не изменится, ничего не получится, ничего не выйдет,
если мы не отдадимся гипнотической власти сегодняшнего
харизматического лидера. То, что Кашпировский был избран
депутатом Государственной думы, свидетельствует о проница-
емости границ между мистицизмом и политикой.
Даже фигура академика Андрея Сахарова попала в это цар-
ство магии. Еще при жизни он был вознесен со своего допере-
строечного положения «не-личности» (как высокомерно зая-
вила мне одна женщина в 1985 г., «он для нас не существует»)
на уровень символа высокой морали, и когда он умер в сере-
дине декабря 1989 г., за его гробом шли десятки тысяч людей.
Это было одно из крупнейших спонтанных собраний народа
в период перестройки. Вышагивая километры по глубокому
мокрому снегу под ледяным дождем, люди оплакивали смерть
человека, которого его инакомыслие сделало великим святым
(см. TUmarkin 1990). Известный ученый Д.С. Лихачев провоз-
гласил Сахарова пророком, человеком XXI в. и попросил у ве-
ликого современника прощения за то, что многие «из нас»
были лишь пассивными защитниками прав человека. Акаде-
мик Осипян назвал его «великим русским человеком» и «лич-
ностью, подобной Толстому», «подобной Ганди», и заявил, что
«человечество никогда его не забудет». Он сказал, прибегая к
метафоре родства, что Сахаров был «нам настоящим старшим
братом». Журналистка из «Московских новостей», охваченная
экстатическим чувством communitas, высказала надежду, что
«это начало великого объединения: самые разные люди под-
ходят к нам и обнимают нас».
Похороны Сахарова оказались массовым ритуалом созна-
тельного прославления ценностей демократии и прав челове-
ка. Многочисленные ораторы и плакаты призывали людей
равняться в своей жизни на Сахарова. На одном плакате, на-
пример, было написано: «Андрей Сахаров отдал свою жизнь за
народ. Что отдаст народ?» И все же в этом акте прославления
демократических ценностей Сахаров выступал как «един-
ственный», кто смог бы искупить все грехи общества, — тем
зю
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. РИТУАЛЫ И ПАРАДОКСЫ ПЕРЕСТРОЙКИ
самым усиливалась идеологическая зависимость от исключи-
тельной, харизматической силы, силы святости.
Ритуал политических митингов
Наверное, самыми яркими — и насыщенными ритуальной
магией в наибольшей степени — перестроечными ритуалами
были политические митинги и демонстрации. Для моих дру-
зей и информантов участие в митингах в поддержку демокра-
тизации было необходимо как обряд перехода от политичес-
кого бесправия к причастности к политическому процессу.
Овеянные ощущением риска (хотя реальной опасности, воз-
можно, и не было), митинги стали теми событиями, участни-
ки которых выступали как смелые и высоконравственные
люди. Самый большой митинг имел место 4 февраля 1990 г.,
когда тысячи людей собрались перед парком Горького и дви-
нулись к Манежной площади. Основная масса манифестантов
состояла из шедших под своими знаменами сторонников раз-
ных партий. Лозунги — на плакатах и в речах — страстно при-
зывали покончить с партийными привилегиями и нарушени-
ями прав человека, требовали расширения свободы прессы и
отмены 6-й статьи Конституции, критиковали профашистское
движение «Память», высмеивали Е. Лигачева, консерватора и
горбачевского оппонента. (Ходили, правда, слухи, что этот и
некоторые другие митинги были тайно организованы самим
Горбачевым.) Люди испытывали радостное возбуждение, живо
реагировали на проходившие рядом «параллельные» комму-
нистические и профашистские митинги и энергично спори-
ли с антагонистами — как, например, с сумасшедшим стари-
ком, который без конца бубнил: «Все вы — свора евреев и
жидов, евреев и жидов».
А.А. Истомин, московский этнограф, который принимал
участие во многих демонстрациях 1990 г., а в 1991 г. защищал
Белый дом, считает, что первые митинги были в некотором
роде массовой репетицией последующего, важнейшего для
зп
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
страны события Он отмечает в них ритуальное «чувство еди-
нения», переживаемое представителями разных слоев москов-
ского общества, даже всегдашними противниками — народом
и милицией, например. Он описывает митинговое настроение
как «атмосферу ухода от нормального времени и обстоя-
тельств в другое качество бытия», атмосферу, в которой рушат-
ся барьеры, воздвигнутые политикой и обыденной социаль-
ной практикой. Он описывает театрализованную, игровую,
ироническую сторону митингов, которая, по его мнению,
была ключевой в противопоставлении этой новой практики
стандартным формам советской политической жизни. Нако-
нец, он пишет, что в процессе формирования нового самосо-
знания людей митинги были центральными событиями, по-
зволяя «реализацию свободы выбора, открывая возможность
свободного индивидуального и коллективного созидания раз-
нообразных форм самостоятельных поступков» (Истомин
1992:60—61).
Самоотверженная, полная драматизма защита Белого дома
после путча стала магическим пиком всех вошедших в пере-
стройку обрядов, кульминационным завершением самого
ритуала перестройки. Она содержала все необходимые для за-
крытия этого ритуального периода элементы, и она дала лю-
дям, которые в течение трех дней, под дождем, на холоде и при
угрозе реальной опасности, «защищали» здание парламента,
возможность полностью, всей душой отдаться происходяще-
му. Это была «оргия» communitas — единения, состояния вза-
имного приятия и признания, особенно часто наблюдаемого
у участников обрядов перехода и ритуальных паломничеств
(Turner 1974: 231). Этнографы А.А. Бородатова и Л.А. Абрамян
(1992) описывают это эйфорическое чувство единения и
братства защитников, которые с радостью делились друг с
другом едой, сигаретами, одеждой и проч.., а также тот факт
(широко и с одобрением отмеченный в частных разговорах и
в СМИ), что защитники происходили из самых разных соци-
альных слоев и групп и чрезвычайно радовались этому (Джон
Б. Данлоп подробно, с разбивкой на социальные типы, опи-
312
ЗАКЛЮЧЕНИЕ РИТУАЛЫ И ПАРАДОКСЫ ПЕРЕСТРОЙКИ
сывает круг участников — Dunlop 1993' 218—524). Сама защи-
та называлась «моментом истины», «рождением народа», тем
событием, в котором проявились «честь» и «братство» и кото-
рое стало «победой». Бородатова и Абрамян замечают, что эти
слова, стершиеся от слишком частого употребления советской
пропагандой, вновь зазвучали искренне в устах участников
событий (1992: 56).
Потрясающая, мужественная защита Белого дома была,
несомненно, тем самым критическим событием, после кото-
рого гегемония советской власти не могла не пасть. Но, как это
часто бывает с участниками великих исторических моментов,
они (и их аналитики) остались намертво вписанными в дра-
му и славу этих героических моментов своей личной жизни и
жизни своей Родины. Многие, фетишизируя ритуал, в ходе
которого они преодолели свои страхи, вышли за рамки про-
шлых привычек и представлений о себе, так и не смогли осо-
знать труднейшие задачи, вставшие на очереди перед обще-
ством вслед за этими событиями9.
Праздничное чувство единения/сот/лл/л7?7ж защитников
затушевывает тот факт, что действующие лица принадлежали
к самым разным сегментам московского общества и являлись
выразителями самых различных интересов. Хотя все концен-
трировалось вокруг священной идеи «спасения демократии»,
у участников, несомненно, были разные представления о де-
мократии: этот ключевой, символический термин для одних
ассоциировался со свободным рынком, для других — со сво-
бодой слова, для третьих — с полной свободой от всяких со-
циальных ограничений вообще. Ритуальный опыт пережива-
9 Бородатова и Абрамян указывают, что, когда все закончилось,
защитники Белого дома, в особенности молодые, бродили вокруг, не
желая покидать место своего ритуального единения, и многие реши-
ли «быть вместе навсегда» (1992: 47). В работах Меййерхофф (Moor
and Meyrhoff 1975) описываются такие же чувства молодых людей
после Вудстока и во время студенческих волнений 1968 г. во Франции:
они тоже испытали трудности при возвращении к «структурирован-
ной» жизни и к обещанной работе по переделке общества.
313
<-РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
ния нескольких дней «тотальной свободы» — карнавала — за-
тмил необходимость (для любого общества) уравновешива-
ния несхожих интересов разных социальных слоев и типов и
создания условий для сосуществования всего спектра взгля-
дов, образов жизни и человеческих возможностей (Moor and
Meyrhoff 1975). Эта проблема представляет особенную слож-
ность в ситуации, складывающейся после крушения тотали-
тарного государственного аппарата. Защита Белого дома
никак не могла стать моделью разрешения этнических конф-
ликтов или социальных проблем (требования лишившихся
социальной защиты граждан вышли на первый план на парла-
ментских выборах 1993 г., когда В. Жириновский, выражая в
своей эксцентричной и устрашающей манере обиду и отчая-
ние народа, набрал 24 процента голосов избирателей).
За годы, прошедшие после неудавшегося переворота и
событий у Белого дома, я слышала рассказы о них многочис-
ленных очевидцев, как россиян, так и людей с Запада, присут-
ствовавших на сцене событий все или почти все время. Все
свидетельства содержали один и тот же решающий элемент-,
рассказчики говорили об этих днях как о самых важных днях
своей жизни; они по-настоящему гордились тем, что им дове-
лось участвовать в «защите российской демократии». В 1994 г.
мой университет пригласил двух российских политологов,
считающихся «просветителями по вопросам демократии».
Ожидалось, что они расскажут о своей непосредственной ра-
боте по «строительству демократии в сегодняшней России»,
но лекция вылилась исключительно в демонстрацию слайдов,
запечатлевших докладчиков во время защиты Белого дома: вот
они стоят под дождем, вот звонят по телефону, призывая дру-
зей прийти на Пресню, вот печатают, вывешивают или разда-
ют листовки со своими текстами о демократии, которые, по их
словам, «видел, может быть, сам Борис Ельцин!». Когда их спра-
шивали, что конкретно они делают после путча для построе-
ния демократии, они приходили в замешательство и постоян-
но возвращались к воспоминаниям о баррикадах. Казалось,
они были столь же обескуражены нашими настойчивыми
314
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. РИТУАЛЫ И ПАРАДОКСЫ ПЕРЕСТРОЙКИ
просьбами рассказать побольше о своей работе, сколь и мы
(студенты и преподаватели) — их уверенностью в том, что
нахождение на баррикадах и есть та самая работа.
Конечно, это всего лишь один пример, да и то возможно,
что данные молодые люди просто извлекали некоторую выго-
ду из своей причастности к историческому событию. В России
много смелых, преданных, образованных граждан, работаю-
щих ради осуществления социальных перемен и развития в
стране демократических процессов. И все же эта история —
показатель более общей тенденции (не только среди россиян,
но и вообще среди всех, кто выходит на митинги и демонст-
рации) — веры в то, что подобные ритуальные собрания спо-
собны магическим образом изменить баланс власти в обще-
стве. В 1994 и 1995 гг. я замечала, что люди уже начинают
высказываться о прошедшем пренебрежительно, поняв, что
старые формы неправедной власти и экономическое неравен-
ство опять становятся (или не переставали быть) нормой.
Ритуализованная защита российского Белого дома была,
несомненно, ключевым событием в распаде Советского госу-
дарства, но началось ли вслед за ней создание по-настоящему
демократических структур — остается под вопросом. Как пи-
шут о защите и последовавшем за ней времени Бородатова и
Абрамян, «праздник давно прошел, но если в традиционных
культурах народ после праздников возвращается к привыч-
ным делам обыденной жизни, то после нашего праздника не-
ясно, к чему возвращаться: старое разрушено, а новое еще не
построено» (Бородатова и Абрамян 1992: 57).
Ритуалы старого и построение нового
В своей книге о культурных и национальных идентичнос-
тях в «двух Берлинах» Джон Борнеман описывает реакцию
берлинцев на слом стены в 1989 г.:
«“Мы лишились дара речи”, — говорили многие западные и
восточные берлинцы; они все повторяли это, называя пережи-
315
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
тое 9 ноября “братанием” (Verbruderung), мгновенно возник-
шим чувством родства. “Мы лишились дара речи”, — повторя-
ли они, но за них говорило их молчание. Немцы, которые до
падения стены сосуществовали по обе ее стороны в сложных,
напряженных и тщательно регламентируемых отношениях,
вдруг, сами собой, все стали любящими братьями. Еще они
добавляли: “Это было ‘Wahnsinn!’” — безумие, буквально — су-
масшедшее чувство» (Borneman 1992: 315).
Когда пала стена, пишет Борнеман, «старые категории: За-
пад и Восток, коммунизм и капитализм, союзники и противни-
ки — потеряли свой смысл, их заменило не нуждающееся в
словах “братство”» (Borneman 1992:316). Благодаря сотти-
nitas, чувству единения, которым было пронизано это собы-
тие, такие мифические понятия, как братство, немецкое куль-
турное единство и свобода, захватили воображение людей и
выразились в экстатических формах; все чувствовали свою
общность, единение и ликование. Подчиняясь этому экстати-
ческому импульсу, восточные немцы весь следующий год хо-
дили на избирательные участки, где подтверждали свою при-
верженность идее единства, создавая тем самым легитимные
предпосылки для объединения государства.
Последствия этих необычайных событий были, однако, не
столь просты и однозначны. Миф объединения осел под тяже-
стью социальных и экономических трансформаций, из-за
которых восточные немцы стали многое терять — как в ма-
териальном, так и в символическом плане. В то время как За-
падная Германия экономически выиграла от объединения,
восточным немцам пришлось пережить девальвацию своей
валюты и своей идентичности, а их институты и обществен-
ные ресурсы оказались «колонизированными» западным ка-
питализмом (хотя Борнеман предпочитает называть этот
период реконструкцией — по аналогии с историей южных
штатов США после Гражданской войны). Борнеман пишет, что
вместо братства и равенства статусов «на восточную часть еще
и в следующем столетии будут постоянно смотреть как на вто-
роразрядную, менее “ценную” страну, в буквальном и в пере-
316
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. РИТУАЛЫ И ПАРАДОКСЫ ПЕРЕСТРОЙКИ
носном смысле свалку, причем не только для Германии, но и
для всей Западной Европы» (Borneman 1992: 332).
Параллели между двумя Германиями и Россией поразитель-
ны. В годы перестройки постоянно муссировались истории
унижений, потерь и страданий, испытанных при коммунисти-
ческом режиме. Со временем они оформились в некий пуб-
личный нарратив, весьма цельное повествование о русском
(советском) существовании как противостоянии между «ними
и нами», народом и государством. Сама цельность этого пове-
ствования, этой национальной эпопеи, чья сердцевина — иде-
ология мистической, высокоморальной, святой бедности, —
помогала людям воображать эту эпопею «перевернутой», меч-
тать о системной трансформации, которая восстановила бы
нравственный порядок и обеспечила экономическую стабиль-
ность. И мечта сбылась наконец на баррикадах перед Белым
домом, а момент наивысшего ликования как бы ознаменовал
победу народа, его долгожданный триумф, ликвидировавший
все оппозиции и структуры прошлого.
Вскоре, однако, стало ясно, что дело обстоит не совсем так.
Хотя российское общество сделалось гораздо более открытым
и радикально трансформировалось, во многом оно — все то
же общество, что было при и даже до советской власти. Мно-
гие из культурных и социальных институтов старого государ-
ства — те самые институты, которые мои информанты столь
яростно осуждали, — не изменились, хотя и подвергаются глу-
боким реформам, произошедшим в юридической, политиче-
ской и экономической сферах. Россия, как и раньше, иерар-
хически поделена на бедных и богатых, власть имущих и
подвластных, элиту и массы, хотя новые идеологии, при-
званные затушевывать смысл этого разделения, теперь носят
новые, капиталистические маски. Террор остается самым эф-
фективным орудием социального контроля, хотя действует
скорее через экономическую сферу (вездесущая мафия), чем
через политическую. Коррупция — по-прежнему основной
инструмент личного обогащения, и управленцы со своими
новыми подручными переводят бывшую госсобственность
317
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
под свой контроль, набивают кошельки и покупают дома в
заморских странах — нередко вполне легально, поскольку они
сами водили той невидимой рукой, которая писала позволяю-
щие это делать законы. Для многих выживание все еще зави-
сит от способности использовать или обходить официальную
систему, от бартера или заработков «на стороне», от воровства
на работе, от подношений за «услуги», входящие в служебные
обязанности, вообще от умения «выкручиваться», будь то с
помощью полулегальной торговли или дачного огорода.
Системы имеют тенденцию к воспроизведению самих се-
бя — мы знаем это по революциям в крупных обществах и
ритуальным восстаниям в небольших. Я все время думаю: а был
ли во время перестройки такой момент, когда могло осуще-
ствиться реальное превращение страны в демократическое
общество равных возможностей? Об этом мечтало большин-
ство тех, с кем я контактировала. Когда им случалось высказы-
ваться, они говорили о сообществе относительно равноправ-
ных граждан, живущих не на широкую ногу, как западный
средний класс, а попроще, поскромнее, ближе к тому, как они
привыкли, но в более открытом социуме с большей социаль-
ной защищенностью и большими возможностями. Наверное,
это было утопическое видение, цель, недостижимая и при са-
мых лучших условиях.
И все же надо отметить, что, какова бы ни была перспек-
тива осуществления этой мечты, дискурс и многие практики
времен перестройки были неадекватны возможности ее реа-
лизации и даже шли вразрез с нею; в качестве культурных ме-
ханизмов и реакций они едва ли были способны произвести
положительные перемены. Бурдье называет это «гистерезисом
габитуса... — структурным зазором, запаздыванием между воз-
можностями и готовностью воспользоваться ими — причи-
ной упущения возможностей и, в частности, причиной часто
наблюдаемой неспособности думать об исторических кризи-
сах иначе как в категориях восприятия и мышления прошло-
го, даже если это революционное прошлое» (Bourdieu 1977:83;
курсив мой. — HP.).
318
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. РИТУАЛЫ И ПАРАДОКСЫ ПЕРЕСТРОЙКИ
Ирония заключается в том, что во всех обществах, не толь-
ко в России, сами стратегии, с помощью которых люди справ-
ляются с трудностями, включая их мифологизацию в дискур-
се, могут одновременно порождать или позволять терпимое
отношение к росту трудностей. Из-за этого в России времен
перестройки провозглашенная цель — освобождение от по-
давляющей народ идеологии и социальной практики — была
потоплена в глубоких водах ритуалистического говорения.
По существу, ритуальным содержанием перестройки было
«вытаскивание на свет божий» противостояния между властью
и безвластием и выражение горькой печали по поводу этого
противостояния; либо, в других терминах, это была битва
между эгалитарными и иерархическими тенденциями в рос-
сийском обществе. Едва ли упомянутая оппозиция нашла свое
разрешение или исчезла во время перестройки. Скорее, она —
средствами культуры — воспроизводилась и получала под-
тверждение своей действенности, поскольку иная, рациональ-
ная и системная, модальность не была присуща местному об-
разу мысли и способам социального трансформирования.
Сетуя и причитая, жалуясь и рассказывая о своей мистической
бедности, люди еще крепче срастались с той самой позицией
пассивности, иронической отстраненности и жертвенности,
благодаря которой они во многом и не могут избавиться от
гнета властей и от страданий.
1990 г.
Эпилог
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ
ЗАМЕТКИ 1994 И 1995 ГЕ
Ничего не получается в действительности
так, как задумывалось и ожидалось, — это
банальное выражение жизненной реальнос-
ти подтверждается здесь в каждом отдельном
случае столь неукоснительно и с такой си-
лой, что становится понятным русский фа-
тализм.
Вальтер Беньямин. «Москва», 1927
Русский разговор заметно изменился со времен пере-
стройки, но это изменение похоже на развитие сю-
жета в длинном романе или на поэтические вариа-
ции в эпическом цикле. Рассказы и комментарии
отражают социальные и культурные преобразования, которые
произошли за это время; однако в нарративах о современной
жизни так или иначе постоянно присутствует прошлое. Здесь
я предлагаю подборку высказываний и отрывков из разгово-
ров, записанных мной во время полевых исследований в Рос-
сии летом 1994 и 1995 годов; пусть читатель сам увидит, как
отражаются в них новизна и преемственность.
Теперь нет политики, есть только «шмотки». Вот что имеет
значение в России сегодня. Одежда — это народный театр, это
внешнее выражение сокровенных людских интересов
Владимир, театральный критик (Москва, 1994)
324
ЭПИЛОГ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ 1994 И 1995 ГГ
Вообще жизнь сейчас надо наблюдать на «базарах» — на
толкучках и у ларьков Там действительно все интересно, там
можно увидеть фантазии нашего народа, его «вещизм», одер-
жимость вещами. Но не ходите без мужчины Там очень
опасно
Павел, историк (Москва, 1994)
Обслуживание в магазинах ужасное, не то что в Америке.
Правительству надо издать указ, чтобы в магазинах обслужи-
вали лучше. И рекламу на телевидении оно тоже должно сдер-
живать: рекламщики все стараются надуть нас, обмануть на-
род. Этого не должно быть. В Америке я такого вранья не
видел.
Миша, программист (Москва, 1994)
У нас убрали овощной базарчик, который был тут по сосед-
ству. Конечно, к концу дня там бывало грязно, никто не убирал.
Но сейчас стало еще хуже: магазин-то гораздо дальше.
Самый богатый человек в нашем городе — это молодой
парень, который раньше подвизался на черном рынке. В
1980 году его выгнали с работы и с квартиры «за спекуляцию».
Сейчас он самый богатый бизнесмен, у него дача, собствен-
ный дом, несколько машин, он разъезжает по городу в брони-
рованном автомобиле с вооруженной охраной.
Мой племянник — хороший мальчик, но он курит и торгу-
ет — а ему всего десять лет. У детей сегодня, мне кажется, в го-
лове только деньги. Когда я спросила его, что он думает об
одной девочке, очень симпатичной, из своего класса, в смыс-
ле — женился ли бы он на такой, он ответил: «Нет, она слиш-
ком бедная».
Света, воспитательница детского сада (Обнинск, 1994)
325
< РУС С КИЕ РАЗГОВОРЫ*
Я проработала 40 лет, а получаю т олько минимальную пен-
сию, которая, к тому же, нередко опаздывает месяца на два
Еще мне обидно, что тот, кто за всю жизнь работал, может
быть, всего несколько месяцев, получает столько же, сколько
и тот, кто проработал 40 лет Моей пенсии совсем не хватает
на жизнь Я не могу купить творогу — об этом не может быть
и речи Хотя от перестройки многого можно было ожидать
Я голосовала за Жириновского, хотя вначале он мне не нра-
вился После событий прошлого года я потеряла всякую веру
в политику Обидно и глупо, что другие страны отвернулись от
нас после всего, что Россия для них сделала Нам всем нравит-
ся эта новая свобода, но нужно же и совесть иметь1 Мне сим-
патичен премьер Черномырдин — он из рабочих и понимает
нас Россия сейчас переживает то, что Америка переживала во
время депрессии 30-х годов
Ирина Сергеевна, мать Светы (Обнинск, 1994)
Будущего у России нет, по крайней мере на ближайшие
20—30 лет Правительство не служит народу, оно выжимает из
него все возможное и обкрадывает его Наш мэр, губернатор,
что они делают’ Они ездят в экзотические страны — якобы
заключать сделки Едут в Португалию, Японию, Европу на день-
ги от наших налогов, останавливаются в дорогих отелях, едят
диковинную пищу, покупают подарки своим любовницам
Они и так живут как цари, но хотят еще большего Директор
нашей фабрики, у которого куча собственных денег, потребо-
вал, чтобы целую партию строительного леса, заготовленно-
го для фабрики, отдали ему на строительство дачи У них есть
все, но они хотят еще больше А у нас, хотя мы работали всю
жизнь, нет ничего
Анатолий Анатольевич, водитель, пенсионер
(Ярославль, 1995)
Женщины сейчас чрезвычайно унижены, им дают самую
плохую работу, не считаясь с их специальностью, отношение
к нам наплевательское Сейчас в моде раннее замужество Де-
326
М1ИЛО1 )1НО1РАФИЧЕ( КИЕ ЗАМЕТКИ 1994 И 1905 И
вушкам больше ничего не остается они надеются вый i и замуж
за бизнесмена и быть домохозяйками при богатом муже Рань-
ше девушки ждали лет до двадцати, а сейчас многие мои под-
руги уже в восемнадцать лет выходят замуж и заводят де гей А
потом начинается мужья теряют работу или зарабатывают
мало, потому что, если нормально работать, много не зарабо-
таешь Некоторые мои подруги гордятся icm, что проводят
время с бандитами утех много денег, они им покупают подар-
ки и водят по всяким престижным клубам Нормальной жиз-
ни нет Кто же захочет из кожи вон лезть в такой ситуации7
Анна, молодая художница и будущий модельер
(Ярославль, 1995)
Раньше я ненавидел свою работу, я просто работал по эс-
кизам, которые мне спускали сверху Но я жил хорошо, хоро-
шо питался, летом ездил отдыхать на море Сейчас я люблю
свою работу, есть интересные проекты, над которыми можно
работать Но денег работа не дает, жизнь становится непред-
сказуемой Я знаю, что могу стать бездомным, как многие
другие
Главный художник на небольшой обувной фабрике
(Ярославль, 1995)
Разговор с работниками частного продуктового магази-
на (Москва, 1994)
1-я работница Я работала 13 лет в другом магазине, там
было как в раю, коллектив очень дружный Но тот магазин за-
крылся По знакомству я попала сюда Здесь мы работаем на
свое будущее, я очень хочу здесь остаться и работать долго Но
очень страшно Что с нами будет, совершенно неясно у влас-
ти те же люди, что были прежде, они просто отказались от
своих партбилетов
2-я работница Народ разочарован, он хочет чего-то друго-
го Молодежь может перестроиться, но пожилые1 Только че-
рез два поколения здесь все наладится
327
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
1-я работница: Трудней всего приходится детям и стари-
кам. Особенно тяжело с лечением, за него сейчас приходится
платить очень большие деньги.
3-я работница: Нет, с этим сейчас лучше, меньше ограниче-
ний.
1-я работница: Нет, раньше было лучше. Тогда было спо-
койно, была перспектива, стабильность.
3-я работница: Наш магазин — это островок стабильности.
Хозяин требовательный, но не очень. У магазина свое обще-
житие.
1-я работница: Ситуация в стране ужасная. Люди совсем
бедны, и все нищают. Особенно ужасно, что кто получше из
молодежи — уезжают, здесь для них нет будущего.
Работник: Мы хотим работать так, чтобы разбогатеть, при-
обрести свой дом, дачу, машину и женщин.
3-я работница: Женщин-то у тебя и так хватает!
Работник: Да, и мне бы хотелось получше содержать их.
Вопрос: Почему в вашем магазине нет самообслуживания?
Женщины хором: Еще чего! Все разворуют!
1 -я бухгалтер: Современный бизнес и правительство при-
вели к тому, что многие люди потеряли последнюю совесть.
Они отравлены деньгами, деньги все уничтожили.
2-я бухгалтер: Немосквичи намного беднее в материальном
отношении, но намного добрей и честней.
Мы стараемся контролировать прессу, чтобы она не пуга-
ла людей. А то люди боятся за свои вклады, очень нервничают
сейчас из-за «МММ» и всего, что творится. Это делается легко,
так как пресса здесь несвободна, это не четвертая власть в го-
сударстве. Мы платим журналистам, они пишут нужный нам
материал, а народ верит печатному слову. Хотя трудно верить,
когда деньги идут постоянно от одних и тех же клиентов.
Странные люди: приходят, получают свои проценты, а потом
поворачиваются спиной к банку и клянут банкиров, обзывают
нас негодяями, так как уверены, что мы богатеем за счет их
328
ЭПИЛОГ. ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ 1994 И 1995 ГЕ
денег. Они получают 300% прибыли в год и называют нас не-
годяями.
Алексей, директор по общественным связям в банке
(Ярославль, 1995)
Знаете, как мой отец научил меня плавать? Он вывез меня
на лодке на середину реки и бросил за борт. Мне было пять лет.
Выплывай или тони. Конечно, я бил по воде руками и ногами
и каким-то образом добрался до берега, а взрослые стояли на
берегу и хохотали. Все пьяные. Так русские делают дела. У них
не хватает терпения делать все постепенно. Хотят мгновенно-
го успеха, ждут финансового чуда и не хотят работать терпе-
ливо, чтобы что-то создать. Все ожидают чуда, как в сказке.
Поэтому и в «МММ» верят, например. Не могут не верить. Они
даже в правительство верят как-то, верят, что порядок будет
восстановлен чудом и все станут богатыми. Именно поэтому
многие верят сумасшедшим обещаниям Жириновского. Они
думают, что наши проблемы могут быть решены в один день,
волшебным образом.
Николай, художник, 40 лет (Ярославль, 1995)
Русские не хотят работать. Это слишком хлопотно. Мой
друг уехал во Флориду и там жил с русскими эмигрантами. Он
сказал, что там прекрасно и все хорошо обеспечены, но он не
мог вынести тамошней жизни. Не было никакого покоя, теле-
фон все время звонил, на автоответчике всегда куча сообще-
ний, деловые звонки, на которые нужно было отвечать, слиш-
ком много суеты — чрезвычайно утомительно. Русским не
нужно это безумие. Хотя мы сейчас живем в бедности, мы
ждем, как всегда, чуда. Все бедные русские ожидают чуда, как
Иван-дурак из русской сказки, который всегда все делал невпо-
пад, а в конце удачно женился на принцессе. Правда, и в наше
время случаются чудеса. Один мой знакомый художник при-
вез свои картины в Москву и выставил в парке на продажу. Ту-
рист-итальянец влюбился в эти картины, привез их в Италию,
329
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
там устроил художнику турне, потратил на него миллионы. Он
вернулся с деньгами и купил квартиру в Москве.
Анна (Ярославль, 1995)
Зачем нам голосовать, когда выборы везде фальсифициру-
ются, а политические инстанции продажны? У нас наверху —
гигантская мафия, а нам остается только жить на прожиточ-
ный минимум и обходиться без политики.
Молодой рабочий хлебозавода (Ярославль, 1995)
Люди боятся голосовать за новую партию. Нынешние бю-
рократы уже наворовались на всю жизнь: деньги, предметы
роскоши — все у них есть, и им хорошо. А новая партия у вла-
сти? Она тоже захочет обогатиться. Поэтому люди предпочи-
тают имеющееся правительство новой власти, которой тоже
надо будет строить себе роскошные дачи, а значит — собирать
с людей новую дань.
Галина, экономист (Ярославль, 1995)
Мы, честные люди, всегда были бедными и сейчас бедны.
Неудивительно, что теперь никто не хочет жить честно. Если
ты живешь честно, то голодаешь; честные рабочие теперь
голодают. Прожиточный минимум сейчас, официально, —
полтора миллиона рублей на одного человека, а мы, пенсио-
неры, получаем сто пятьдесят тысяч, то есть в десять раз
меньше минимума. А воротилы и уголовные элементы бога-
теют за счет нас.
Виктория, учительница, пенсионерка,
работающая на полставки (Ярославль, 1995)
Так было, есть и будет всегда — огромная пропасть между
властью и народом, никакой связи между ними. «Народ» —
слово, лишенное для власти какого-либо смысла. Они ничего
не делают в парламенте, только пошучивают, а народ живет
сам по себе, как всегда.
Анна (Ярославль, 1995)
330
ЭПИЛОГ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ 1994 И 1995 ГГ
Коммунисты наперед знали все, что будет... Они знали еще
в восьмидесятом году, что последует: падение СССР и все
остальное Все они заранее спланировали и были готовы сме-
нить курс, готовы грабить всех подряд, лишь бы разбогатеть.
Все это было у них в руках задолго до того, как простые люди
начали хоть как-то понимать, что происходит. И всегда так
было. Верхушка держала нос по ветру. Они владели всей ин-
формацией и использовали ее для себя и друг для друга. И ка-
кое им дело до всех остальных, тех, кто туда не допущен!
Николай (Ярославль, 1995)
Я думаю, люди должны сами прокладывать свой жизнен-
ный путь, не завися ни от других людей, ни от правительства.
Мне никогда не нравилось, как жили мои родители, как они
верили в эту систему. Они все делали по правилам, а сейчас
они имеют жалкие крохи. Конечно, они жалуются, что сейчас
трудно, но тогда они отдавали все. Они получают свою мизер-
ную пенсию, абсолютно смешную сумму. И даже сейчас моя
мать на последние копейки постоянно покупает что-то для
моей сестры, хотя у той хорошая работа, она балетмейстер, а
муж у нее — военный с хорошим окладом. А отец с матерью
последнее тратят, чтобы ее побаловать подарочком. Я этого не
могу вынести, мне аж дурно от этого делается.
Бедные совсем обеднеют, старики все вымрут от нищеты
или болезней, а с ними вымрут и их идеи. Те же, кто имеют же-
лание выкарабкаться во что бы то ни стало, переживут эти
времена и достигнут процветания; слабые же либо просто
умрут, либо вернутся в деревню и будут выращивать картош-
ку, жить на отшибе, и постепенно, медленно, через поколение
примерно Россия дозреет, станет нормальной страной, как
ваша, где люди работают честно и слушаются закона, потому
что закон их защищает.
Павел, мелкий торговец (Ярославль, 1995)
331
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
Разговор с Алешей, веселым тридцатилетним мафиозо:
Вопрос: Что это значит — быть бандитом, что ты делаешь?
Алеша: «Крыши» делаю — защиту. Торговцы и спекулянты
вечно обманывают друг друга. Они одалживают деньги и исче-
зают с ними, они берут товар по накладной и не платят за него.
Они всегда, при малейшей возможности, готовы обжуливать
друг друга и «делать деньги». Товары воруются со складов и из
магазинов. Мы защищаем бизнесменов друг от друга. Мы га-
рантируем возврат долгов и возвращаем украденные вещи.
Наши партнеры и клиенты знают, кто защищает их, хорошая
ли у них «крыша». Хорошая «крыша» означает хороший бизнес.
Вопрос: Разве у всякого бизнеса есть «крыша»? Даже у ста-
рых бабок, которые торгуют картошкой и грибами на улице?
И школы и больницы тоже имеют «крыши»?
Алеша: «Крыши» для старых бабок нам делать неинтересно.
К ним вечно пристают уличные жулики и алкоголики. Поэтому
они просят наших ребят о защите. Они платят нам двадцать
или тридцать баксов в месяц, и мы присматриваем за ними, и
жулики знают, что лучше им не трогать старых бабок. А у школ
нет никаких «крыш», так как нет денежных дел. Люди нуждают-
ся в защите, когда в деле есть хоть какие-нибудь деньги. Мы не
ищем клиентов: они сами приходят к нам в поисках защиты.
Вопрос: Но ты вроде хороший парень. Каково тебе быть
бандитом?
Алексей: Бандиты всем известны своей честностью. Мы
защищаем наших клиентов от обмана, мы подтверждаем и за-
крепляем их контракты, отбираем долги для них, обеспечива-
ем определенные деловые связи. Они знают, что могут поло-
житься на нас. Я хотел бы, чтобы это был законный бизнес,
постоянное агентство по обслуживанию, как в Америке. Со
временем это утвердится и у нас.
Вопрос: Ты кого-нибудь убивал?
Алексей: Нет. Убийств практически очень мало, это и не
нужно. Хотя время от времени вспыхивают драки между раз-
личными бандами в городе. Мы стараемся держаться подаль-
332
ЭПИЛОГ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ 1994 И 1995 ГГ
ше от этого. У нас главное — дисциплина. Наши люди не долж-
ны много пить и даже курить. Желательно, чтобы они были
семейные, приличные зрелые люди.
Вопрос: А как милиция к вам относится?
Алексей: Милиция знает нас. Они знают всех бандитов в
городе, кто на кого работает, кого мы защищаем. Они знают
все. И они надеются на нас, потому что сами не могут гаран-
тировать порядок. У них нет ресурсов. Если бы не мы, везде и
во всем был бы хаос. Бизнесмены не в состоянии поддер-
живать в своих делах порядок. В большинстве своем они не-
цивилизованные люди — знаете русский народ? Настоящие
бизнесмены — это не те пижоны, которые разъезжают на мер-
седесах. Живут они очень скромно, высоко ценят семейные
ценности, не нуждаются в помпезных домах и шикарных
автомобилях. Это только выскочки хвастаются своим бо-
гатством.
Мы пытались купить новую квартиру. Нашли нескольких
агентов, они показали нам место, и мы дали задаток. А потом
они отказались дать нам квартиру и вернуть наш задаток. Все
было сплошным жульничеством. Мы стали искать, кто бы нам
помог вернуть наши деньги. Нашли «крышу», но их «крыша»
была сильней, и наша не смогла победить.
Ольга, учительница, и ее муж, Юрий,
бухгалтер с хорошей зарплатой (Ярославль, 1995)
Моя бывшая жена и ее любовник-бандит выгнали дочь из
дому. Они сказали, что утопят ее в проруби в Волге, если она
не уйдет. Женщины сегодня все развращены. Лиля просто не
хочет иметь ничего общего со своей дочерью. Она хочет пить,
иметь партнера для секса, путешествовать и веселиться с но-
выми друзьями-бандитами. Ну, я пошел к ней на квартиру и
стал колотить в дверь. Я сказал Лиле: «Надо разобраться», — но
это была ошибка: я забыл, что на бандитском жаргоне это
означает драку до победы. Ее любовник услышал и стал мне
333
<PVC ( KHL РА31ОВОРЫ>
угрожать ружьем, только через 4 часа я выбрался от гуда Мне
надо было успокоить их, и я вынужден был извиниться и ска-
зал, что ухожу Этого они и добивались они хотят, чтобы вы
показали свой страх перед ними чтобы признали что они
сильней «Знай наших» — самая важная фраза, которая означа-
ет «Я сильней тебя» Ну, я показал, что я это знаю Под конец
мы распили бутылку, он обнял меня и сказал «Я тебя уважаю
Ты хороший парень» Вот так я и выбрался оттуда живым
Николай (Ярославль, 1995)
Вы антрополог, да? Да Смотрите прямо мне в глаза Не от-
водите взгляда Я хочу убедиться, что вы говорите мне правду
Если вы не та, за кого себя выдаете, мы зальем вам ноги цемен-
том и бросим в Волгу
Бандитский босс из Белоруссии (Ярославль, 1995)
Надо мной шутят Гуляя вечером со знакомой девочкой-
подростком, я остановилась сфотографировать казино Двое
слегка подвыпивших рабочих проходят мимо нас, и один из
них игриво выпевает «За углом вас уже ждут, хотят аресто-
вать»
Москва, 1994
Теперь все сочиняют разные мифы Говорят, что русское
правительство работает на ЦРУ, или что все это масонский
заговор против России, или что евреи захватывают страну
Мои первые детские воспоминания — об убийса ве Кирова и
терроре, последовавшем за ним Нас в школе заставляли петь
такую песню «Мы били, бьем и будем бить врага» Но я пел
все три строчки со словом «не» Какой-то парень однажды
услышал это и сказал, что напишет донос и моих родителей
возьмут на заметку Потом нам отключили телефон что все-
гда было признаком скорого ареста Мы боялись, и я думал,
чао это из-за меня Но это было просто совпадение, и ниче-
334
И1ИЛОГ ЭТНОГРАФИЯ I (. КИ1 ЗАМЕТКИ 1994 И 1995 1Г
го не случилось Но подобные вещи порождают в вас глубо-
кое чувство ужаса которое остается на всю жизнь
Александр Михайлович, физик, пенсионер (Москва, 1994)
Надо просто принять Россию Нечего даже и пытаться по-
нять Россию Невозможно ее понять Если вы все же попробу-
ете, вы с ума сойдете
Илья, бывший директор школы, пенсионер
(Ярославль, 1995)
Я всей душой люблю свою страну, свою Родину Я не хочу
жить нигде в другом месте Это место, со всем его безумием,
загадочностью и непредсказуемостью, питает мою душу Я бы
умер в любом другом месте, не смог бы жить Но я не выношу
коррупции Все, у кого есть власть или деньги, продажные
Политики — вот она, наша мафия, все они настоящая мафия
Уличные бандиты, которых вы встречали, они, в основном, че-
стные работящие ребята Настоящая коррупция наверху, и
именно политики, сверху донизу, настоящие преступники Их
бы всех вывести и расстрелять Это единственный способ для
России стать чистой и цивилизованной страной Как Сталин
сделал Поставить наших лидеров к стенке и уничтожить Мы
им платим налоги, а они все кладут к себе в карман Я не про-
тив поддержки больных и пожилых, но думаю, что лучше всего
делать это самостоятельно дайте мне трех старушек, чтобы я
им помогал, и я буду с удовольствием им помогать' Напрямую1
Без вмешательства б го мафиозного правительства, которое
присваивает себе большую часть Вот так надо организовывать
нашу страну Я честный бизнесмен, и я аккуратно плачу нало-
ги, но я вижу на улицах старушек и знаю, что я лучше мог бы о
них позаботиться, дайте мне просто трех старушек, и я буду о
них заботиться до самой их смерти Еще одно дело, которое
меня «достает» как старики веруют и отдают последние копей-
ки церкви Они прямо счастливы отдать последние копейки на
восстановление местной церкви А священники разъезжают
335
<PVCCKMF РАЗГОВОРЫ>
потом на <мерседесах>' И тратят деньги которые верующие
старушки им отдали Нынешние священники — они тоже ма-
фия Богатеют с двух сторон от взносов людей, которые опять
хотят во что-то верить, и от огромных вложений официаль-
ных структур, которые пытаются показать свою «духовность >,
восстанавливая церкви И всюду, где есть такие деньги — кор-
рупция и зло
Павел (Ярославль, 1995)
Всем наплевать Все только стараются выжить А если попы-
таешься что-нибудь сделать, то отчаешься и бросишь Невоз-
можно Система слишком продажна, а те, кто у власти, и так ею
довольны, они выгоду получают от того, как все есть Значение
сейчас имеет только культ денег
Николай (Ярославль, 1995)
Мы разрушены морально Посмотрите, мужчины прилип-
ли к экранам телевизоров, а что они смотрят’ Все американ-
ские фильмы, которые раньше не показывали, особенно с во-
сточными боевыми искусствами В старых советских фильмах
была моральная основа, и это было неплохо По существу, ком-
мунистическая философия совпадала с христианской фило-
софией Единственная проблема была наверху, с руковод-
ством Они нам давали моральные указания, но сами мы для
них ничего не значили, мы «маленькие люди», а они роскоше-
ствовали за занавесом, вот это был настоящий железный зана-
вес, скрывавший их счастливую жизнь от нас Теперь все от-
крыто, и никому не стыдно Мы теперь все знаем, как оно там,
и все хотят разбогатеть и жить, как раньше жило наше руко-
водство, даже дети теперь совершенно развращены
Виктория (Ярославль, 1995)
Разговор с Андреем, писателем и покровителем молодых
художников (1994) Андрей поведал совершенно необычай-
336
ЭПИЛОГ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ 1994 И 1995 IT
ную историю о том, как один бизнесмен ценя старания Анд-
рея помочь начинающим подпольным художникам, подарил
ему хорошую однокомнатную квартиру, чтобы вызволить его
из коммуналки, в которой тот жил десятилетиями (см об этом
в гл 4) Через некоторое время я попросила Андрея объяснить
мне, почему в московских разговорах 1994 г было меньше
жалоб чем в предыдущие годы
«Вдруг в этой жизни, в которой русские были приучены
воспринимать бедность как нечто достойное, как признак
чистоты, нравственности — вдруг в этой жизни за рулем «мер-
седеса-бенца> или «линкольна» несется шестнадцатилетний
мальчишка, шестнадцатилетний’ И возникает вопрос когда он
успел заработать на «линкольн >’ А «линкольн» — дорогая ма-
шина' Каждый дурак понимает, что это означает он кого-то
убил, кого-то ограбил, участвовал в рэкете, в похищении ре-
бенка и тд Все понимают Где бы он их заработал’ Этот шест-
надцатилетка, у которого еще молоко на губах не обсохло
Люди видят такое и звереют Все понимают тяжелый труд, че-
стный труд теперь ничего не значит Вот парень, он служил,
прошел армию, войну, все, и вот он работает, получает мини-
мальную зарплату, на сегодняшний день — 20 000 рублей, а что
теперь 20 000’ Это один завтрак В месяц Это минимальная
зарплата, которую зарабатывают те, кто моет полы, они рабо-
тают не покладая рук, и они видят мальчишку на «мерседесе»
Философы, ученые получают 60 000 в месяц Это три завтра-
ка По-русски этому и названия нет Вот почему все такие ти-
хие Они могут выразить себя только молчанием, или ругаясь,
или пьянкой Даже художники не могут описать этот контраст
между двумя Россиями Даже юмор сникает Что можно сказать
о нашем новом мире’ Никто ничего сказать не может Но я
скажу вам когда большая компания вываливается на улицу,
новые русские идут толпой, и все они пьяные Они пили весь
день Я это видел своими глазами, на главной улице перед вся-
кими там новыми домами Наши новые богачи выходят из
22 Заказ №2742
337
< РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
сверкающих небоскребов в костюмах от Армани и падаки
спьяну в лужи в своих костюмах от Армани На работе они
только пьют. Они знают, что будущего ни для них, ни для нас
нет. Они живут в смертельном страхе, в смертельном стыде, и
чтобы забыться, пьют, пока не рухнут Вот в этом мире мы и
живем.
Я некоторое время торговал иконами, покупая их в дерев-
нях у старушек, которые и не знали их подлинной цены Но
затем я понял, что все, кто торговал иконами, кончали смер-
тью. Поэтому я начал просто раздавать их.
Николай (Ярославль, 1995)
Мы пытаемся найти наилучшие, экологически здоровые
способы использования природных ресурсов в сельской ме-
стности под Ярославлем и для этого собираем все заинтересо-
ванные стороны, начиная от высших правительственных чи-
новников до самых бедных старушек. Мы хотим, чтобы они
начали высказываться, и стараемся помочь им найти общую
почву. Опыт новый, необычный, непривычный для обеих
групп (и бабушек, и чиновников), так как никто из чиновни-
ков никогда не обращал ни малейшего внимания на стариков-
ские жалобы, а старушки, в свою очередь, никогда в глаза не
видели чиновников. Встречи идут часами, и каждый имеет воз-
можность высказаться. Методике проведения таких встреч нас
научили немцы. На одной встрече после длинной серии жалоб
и обвинений, исходивших от старушек, и серьезных заяв-
лений с государственной стороны все наконец достигли опре-
деленного взаимопонимания и успокоились. Обе группы
осознали, что не такие уж они антагонисты. А одна пожилая
женщина встала и со слезами в голосе сказала, что никак не
ожидала, что у высокого начальства те же опасения и заботы,
что и у нее.
Марина, этнограф (Ярославль, 1995)
338
ЭПИЛОГ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ 1994 И 1995 ГГ
Оживляемые магией знакомых культурных деталей, эти
постперестроечные повествования сохранили аромат «рус-
ского разговора». Эмоциональные, противоречивые и пара-
доксальные, они приоткрыли нам изменившийся и все же
неизменный мир Они приоткрыли мир, где разрыв между на-
родом и властью продолжает шириться и где для большинства
граждан нужда и борьба за выживание остаются реалиями
повседневной жизни. Они иллюстрируют также ту мощь, ко-
торой «абсурд» и «мистическая бедность» все еще обладают
как категории осмысления существования, как опорные поня-
тия «русского разговора» о жизни.
Библиография
Афанасьев АН 1985 Русские народные сказки М, «Наука»
Балашов ДМ 1985 Русская свадьба Свадебный обряд на Верх-
ней и Средней Кокшеньге и на Устюге (Тарногский район Воло-
годской области) М, «Современник»
Баранская Н 1969 Неделя как неделя «Новый мир>, 1969, № 11
С 23-55
Бахтин М М 1986 Проблема речевых жанров Литературно-
критические статьи М «Художественная литература»
БородатоваАА и Абрамян Л А 1992 Август 1991 Праздник, не
успевший развернуться «Этнографическое обозрение >, 1992, №3
С 47-58
Варламова И 1974 Тройка Две любви Повесть и рассказы М,
«Молодая гвардия»
Достоевский Ф М Кроткая Полное собрание сочинений Т 24
Л, «Наука»
Достоевский Ф М Дневник писателя //Там же Т 21 Л, «Наука»
Ерофеев Венедикт 1995 Москва-Петушки Оставьте мою
душу в покое М, «X ГС >
Ерофеев Виктор 1993 Очень женское «Что делать?» «Москов-
ские новости» 1993, №3
Гаков В 1989 Ультиматум ядерная война и безъядерный мир
в фантазиях и реальности М, Издательство политической лите-
ратуры
Горбачев М С 1988 Перестройка и новое мышление для нашей
страны и для всего мира М, Издательство политической литера-
туры
Жириновский В 1993 Последний бросок на юг М, ЛДПР
Избранные жития русских святых X—XV вв М, «Молодая гвар
дия», 1992
344
ЬИБЛИО! РАФИЯ
Истомин А А Революция, которая была праздником Этно-
графическое обозрение^ 1992, № 3 С 58—66
Лихачев ДС 1987 Заметки о русском Избранные работы в
Зтт Т 2 Л
Ломоносов МВ 1952 Российская грамматика Полное собра-
ние сочинений Т 7 М, Издательство Академии наук СССР
ПархомовЛ 1984 Бессмертные суеверия Новое русское слово
№ 8
Повесть о Горе-Злосчастье Ред Лихачев Д С и Ванеева Е И Л,
«Наука», 1985
Пропп В 1969 Морфология сказки М, «Наука»
Рис Н Гендерные стереотипы в современной России взгляд
американского этнографа // «Этнографическое обозрение», 1994,
№ 5
Ржига В 1931 Повесть и Горе-Злосчастье и песни о горе Мос-
ква «Славия»
Сахаров ИР 1991 Русское народное чернокнижие Москва
«Эврика»
Синявский А 1967 Голос из хора Абрам Терц Голос из хора
Лондон, «Стенвали»
Соколов ЮМ 1941 Русский фольклор
Солженицын А И 1990 Матренин двор Рассказы М
Чистов К В 1984 Русская народная поэзия Обрядовая поэзия
Л, «Художественная литература»
Abdullaeva, Zara 1996 «Popular Culture » In Russian Culture at the
Crossroads Paradoxes op Post-Communist Consciousness, ed Dmitry
Shalin Pp 209—238 Boulder, Colo Westview
Abu-Lughod, Lila 1986 Veiled Sentiments Honor and Poetry m a
Bedouin Society New York Oxford University Press
------ 1991 Writing against Culture In Recapturing Anthropology, ed
Richard Fox Pp 137—162 Santa Fe School of American Research
Press
Alexiou, Margaret 1974 The Ritual Lament in Creek Tradition Cam-
bridge Cambridge University Press
Almond, Gabriel A 1983 Communism and Political Culture The-
ory Comparative Politics, 16(1) 127 —138
Anderson, Benedict 1983 Imagined Communities Reflections on
the Origin and Spread op Nationalism London Verso
Anderson, Richard D, Valery I Chervyakov, and Pavel В Parshin
1995 Words Matter Linguistic Conditions for Democracy in Russia
Slavic Review 54 (4) 869—895
345
РУССКИЕ PA3I ОВОРЫ
Anikin VP 1975 On the Origin of Riddles \n The Study oj Russian
Folklore ed Felix J Oinas and Stephen Soudakoff P 25— 57 I he Hague
Mouton
Appadurai Aijun Frank J Korom and Margaret A Mills eds 1991
Gender Genre and Pou er in South Asian Expressive Traditions Phila
delphia I niverstty of Pennsylvania Press
Aronoff MJ 1977 Poiver and Ritual in the Israel Labor Party
A Study in Political Anthropology Assen/Amsterdam Van Gorcum
Aslund Anders 1989 Gorbachev s Struggle for Economic Reform
Ithaca Cornell University Press
Attwood Lynne 1990 The Neu Soviet Man and Woman Sex Role
Socialization in the USSR Bloomington Indiana University Press
Austin J L 1962 How to Do Things with Words Oxford Oxford
University Press
Babcock Barbara A ed 1978 The Reversible World Symbolic Inver
sion in Art and Society Ithaca Cornell University Press
Bakhtin Mikhail 1981 The Dialogic Imagination ed Michael
Holquist Translated by Caryl Emerson and Mtchael Holquist Austin
University of Texas Press
------- 1984 Problems oj Dostoei sky s Poetics edited and translated
from the Russian by Caryl Emerson Minneapolis linn eisity of Minne
sota Press
------- 1986 Speech Genres and Other Late Essays Austin University
of Texas Press
Balzer Harley ed 1996 Russia s Missing Middle Class The Projes
sions m Russian History Armonk N Y M E Sharpe
Balzer Marjorie Mandelstam ed 1992 Russian Traditional Culture
Religion Gender and Customary Law Armonk NY ME Sharpe
Bataille Georges 1985 Visions oj Excess Translated from the
French by Allan Stoekl Minneapolis University of Minnesota Press
Bauer Raymond A 1952 The Psychology of the Soviet Middle Elite
In Personality in Nature Society and Culture ed Clyde Kluckhohn
Henry A Murray and David Schneider P 633—650 New York Alfred
A Knopf
Bauman Richard 1986 Story Performance and Event Contextual
Studies oj Oral Narrative Cambridge Cambridge I niversity Press
Bauman Richard and Charles L Briggs 1990 Poetics and Perfor
mance as Critical Perspectives on Language and Social Life American
Revieu oj Anthropology 19 59—88
Bazanov VG 1975 Rites and Poetrv In The Study oj Russian Folk
lore ed Felix ] Oinas and Stephen Soudakoff P 123—134 The Hague
Mouton
346
ЬИЬЛИО! РАФИЯ
Belknap Robeit ed 1990 Russianness Studies on a Nation s Iden
tity in Honor of Rufus Mathen son Ann Arbor Mich Ardis
Ben Amos Dan 1976 Folklore Genres Austin University of Texas
Press
Benjamin Walter 1978 Moscow In Reflections Essays Aphorisms
Autobiographical Writings translated b} E Jephcort ed Petei Demetz
P 97—131 New York Schocken Books
Bock Philip К 1980 Continuities in Psychological Anthropology San
Francisco WH Freeman
Bohac Rodney 1991 Everyday Forms of Peasant Resistance Serf
Opposition to Gentry Extractions 1800—1861 In Peasant Economy
Culture and Politics of European Russia 1800—1921 ed Esther King
ston Mann and Timothy Mixter P 236—260 Princeton Princeton
University Press
Borneman John 1992 Belonging in the Two Berlins Kin State
Nation Cambridge Cambridge University Press
Bourdieu Pierre 1977 Outline of a Theory of Practice Translated
from the French by Richard Nice Cambridge Cambridge I niversity
Press
------ 1984 Distinction A Social Critique of the Judgement of Taste
Translated from the French by Richard Nice Cambridge Harvard Uni
versity Press
------ 1991 Language and Symbolic Power ed John В Thompson
Translated from the French by Gino Raymond and Matthew Adamson
Cambridge Harvard University Press
Bourdieu Pierre andLoicJD Wacquant 1992 An Invitation to
Reflexive Sociology Chicago University of Chicago Press
Boym Svetlana 1994 Commonplaces Mythologies of Everyday Life
in Russia Cambridge Harvard University Press
Brenneis Donald 1988 Telling Troubles Narrative Conflict and
Experience Anthropological Linguistics 30 (3) 279—291
Brenneis Donald and Fred R Myers eds 1984 Dangerous Words
Language and Politics in the Pacific Prospect Heights Ill Waveland
Press Inc
Briggs Charles L 1992 < Since I Am a Woman 1 Will Chastise My
Relatives Gender Reported Speech and (Re)production of Social Re
lations in Warao Ritual Wail ing> American Ethnologist 19 (2) 337—
361
Briggs Charles L and Richard Bauman 1992 Genre Intertextual
ity and Social Power Journal of Linguistic Anthropology 2 (2) 131—172
Brown Archie ed 1984 Political Culture and Communist Studies
Armonk NY ME Sharpe
347
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ>
Bucklev Mary 1992 Perestroika and Soviet Women Cambridge
Cambridge University Press
Buiant Stephen R 1987 The Influence of Russian Tradition on the
Political Style of the Soviet Elite Political Science Quarterly 102 (2)
259-272
Burke, Peter 1993 The Art oj Conversation Cambridge Polity Press
Bushnell, John 1985 Mutiny amid Repression Russian Soldiers in
the Revolution of 1905—1906 Bloomington Indiana University Press
------- 1988 Urban Leisure Culture in Post-Stalin Russia Stability as
a Social Problem'1 In Soviet Society and Culture Essays in Honor of Vera
S Dunham, ed Terry L Thompson and Richard Sheldon P 58—86
Boulder, Colo Westview
Caraveli-Chaves, Anna 1980 Bridge Between Worlds The Greek
Woman’s Lament as a Communicative Event Journal of American Folk-
lore 93 (April-June) 129—157
Cerf, Christopher, and Marina Albee, eds 1990 Small Fires Letters
From the Soviet People to Ogonyok Magazine, 1987—1990 New York
Simon and Schuster
Cherniavsky, Michael 1961 Tsar and People Studies in Russian
Myths New Haven Yale University Press
Clark, Katerina 1977 Utopian Anthropology as a Context for
Stalinist Literature In Stalinism Essays in Historical Interpretation, ed
Robert C Tucker P 180—198 New York W W Norton
Colton, Timothy J 1995 Moscow Governing the Socialist Metropo-
lis Cambridge Harvard University Press
Conrad, Joseph L 1989 Russian Ritual Incantations Tradition, Di-
versity, and Continuity Slavic and East European Journal 55 (3)
422-444
Cruikshank, Juhe 1990 Life Lived Like a Story Life Stones of Three
Yukon Native Elders Lincoln University of Nebraska Press
Cushman, Thomas 1995 Notes from Underground Rock Music
Counterculture in Russia Albany State University of New York Press
Daniels, Robert V 1962 The Nature of Communism New York Ran
dom House
------- 1985 Russia The Roots of Confrontation Cambridge Harvard
University Press
Degh, Linda 1976 Symbiosis of Joke and Legend A Case of Con-
versational Folklore In Folklore Today A Festschnftfor Richard M Dor-
son, ed Linda Degh, Henry Classic, and Felix J Oinas P 101- 123
Bloomington Indiana University Press
Denich, Bette 1994 Dismembering Yugoslavia Nationalist Ideol-
ogies and the Symbolic Revival of Genocide American Ethnologist 2
(2) 367-390
348
БИБЛИО! РАФИЯ
Dickinson, Jennifer 1995 Rebuilding the Blockade New liuthsm
Survival Narratives From Leningrad Anthropology of East Europe Re-
view 13 (2) 19—23
Dicks Henry V i960 Some Notes on the Russian National Char-
acter In The Transformation of Russian Society, ed Cyril F Black
P 636—651 Cambridge Harvard University Press
Diaitser Emil 1982 The Art of Storytelling in Contemporary Rus-
sian Satincal Folklore Slavic and Fast European Journal 26 (2) 2 33—
238
------ 1989 Soviet Underground Jokes as a Means of Popular Enter-
tainment Journal of Popular Culture 23(1) 117—126
Drakuhc, Slavenka 1993 The Balkan Express Fragments from the
Other Side of War New York W W Norton
Dundes, Alan 1972 Folk Ideas as Units of Worldview In Toward
New Perspectives in Folklore, ed Amenco Paredes and Richard Bauman
P 93—103 Austin University of Texas Press
------ 1980 Interpreting Folklore Bloomington Indiana University
Press
Dunham, Vera I960 The Strong Woman Motif In The Transforma-
tion of Russian Society, ed Cyril E Black P 459—482 Cambridge Har-
vard University Press
------ 1990 In Stalin’s Time Middleclass Values m Soviet Fiction
Durham, N C Duke University Press
Dunlop, John В 1993 The Rise of Russia and the Fall of the Soviet
Empire Princeton Princeton University Press
Dunn, Ethel 1992 They Don’t Pay Attention to Us The Russian
Peasant Today Russia and Her Neighbors Facts and Views on Daily Life
6 1—25
Eagleton, Terry 1991 Ideology An Introduction London Verso
Edmondson, Linda, ed 1992 Women and Society in Russia and the
Soviet Union Cambridge Cambridge University Press
Einarsen, John 1992 Voices from Moscow Kyoto Journal 20 P 13—
25
Epstein, Mikhail 1991 Relativistic Patterns in Totalitarian Thinking
An Inquiry into the Language of Soviet Ideology Washington, D C Ken
nan Institute Occasional Papers
Evans-Pritchard, E 1937 Witchcraft, Oracles, and Magic among the
Azande Oxford Oxford University Press
Fairclough, Norman 1989 Language and Power New York Long
man
Fedotov, George P 1975 The Russian Religious Mind Vol 1 Kiev
an Christianity Belmont, Mass Nordland
349
<РУ( С КИЕ РАЗГОВОРЫ»
Field, Mark G 1987 I he ( ontemporary Soviet Family Pioblems,
Issues, Perspectives In Soi let Society Under Gorbachev, ed Maurice
Friedberg and Heyward Isham P 3—29 Armonk, NY MF Sharpe
Finnegan Ruth 1992 Oral Traditions and the Verbal Aits A Guide
to Research Practices New York Routledge
Fitzpatrick, Sheila 1994 Stalin’s Peasants Resistance and Survival
in the Russian Village after C ollectwization Oxtoid Oxford Lniversity
Pi ess
------- 1996 Supplicants and Citizens Public Letter-Writing in Sovi-
et Russia in the 1930s Slavic Review 55 (1) 78—124
Foster, George M 1965 Peasant Society and the Image of Limited
Good American Anthropologist 65 (2) 293—315
Frierson, Cathy A 1993 Peasant Icons Representations of Rural
People in Late Nineteenth Century Russia NewYoik Oxtoid Universi-
ty Pi ess
Gal, Susan 1989 Language and Political Economy Annual Review
of Anthropology 18 145—167
Geertz, Clifford 1973 The Interpretation of Cultures New York
Basic Books
---- 1983 Local Knowledge New York Basic Books
Gibian, George 1956 Dostoevskij’s Use of Russian Folklore four-
nal of American Folklore 69 239—253
------- 1990 How Russian Proverbs Present the Russian National
Character In Russianness Studies on a Nation’s Identity in Honor of
Rufus Mathewson, ed Robert L Belknap P 38—43 Ann Arbor, Mich
Ardis
------- 1991 The Quest for Russian National Identity in Soviet Cul-
ture Today In The Search for Self-Definition in Russian Literature, ed
Ewa M Thompson P 1—20 Houston Rice University Press
Giddens, Anthony 1984 The Constitution of Society Berkeley Uni-
versity of California Press
Glazov, Yun 1985 The Russian Mind since Stalin’s Death Dordrecht,
Holland D Reidel Publishing Company
Glickman, Rose 1984 Russian Factory Women Workplace and So-
ciety 1880—1914 Berkeley University of California Press
Gluckman, Max 1954 Rituals of Rebellion in South-East Africa
Manchester Manchester University Press
Goldman, Irving 1950 Psychiatric Interpretations of Russian His-
tory American Slavic and East European Review 9 151 — 161
Goldman, Marshall I 1992 What Went Wrong with Perestroika New
York WW Norton
Goldstein, Judith L 1986 Iranian Jewish Women’s Magical Narra-
tives In Discourse and the Social Life of Meaning, ed Phyllis Pease
350
БИБЛИОГРАФИЯ
С hock and June R Wvman P 147—168 Washington Smithsonian
Institution Press
Gorer, Geoffrey and John Rickman 1950 The People of Great Rus-
sia New York Chanticleer
Goscilo, Helena 1993 Domostroika or Perestroika' The Construc-
tion of Womanhood in Soviet Culture Under Glasnost In Late Soviet
Culture From Perestroika to Novostroika, ed Thomas Lahusen and
Gene Kuperman P 233—256 Durham, NC Duke University Piess
Gossen, Gary H 1972 Chamula Genres ot Verbal Behavior In To-
ward New Perspectives in Folklore, ed Americo Paredes and Richaid
Bauman P 145—167 Austin University of Texas Press
Grant, Bruce 1993 Dirges for Soviets Past In Perilous States Con-
versations on Culture, Politics, and Nation, ed George E Marcus P 17—
52 Chicago University of Chicago Press
------- 1995 In the Soviet House oj Culture — A Century oj Perestroi
kas Princeton Prince-ton University Press
Gray, Francine du Plessix 1989 Soviet Women Walking the Tight-
rope New York Doubleday
Grille, Ralph 1989 Anthropology, Language, Politics W Social An-
thropology and the Politics oj Language, eA Ralph Grille P 1—24 Lon-
don Routledge
Gnma, Benedicte 1991 The Role ot Suffering in Women’s Perfor-
mance of Paxto In Gender, Genre, and Power in South Asian Expres-
sive Traditions, ed Arjun Appadurai, Frank J Korom, and Margaret
A Mills P 81 — 101 Philadelphia University of Pennsylvania Press
------- 1992 The Performance oj Emotion among Paxtun Women
Austin University of Texas Press
Hammer, Darrell P 1986 The USSR The Politics oj Oligarchy Boul-
der, Colo Westview Press
Handelman, Don 1990 Models and Mirrors Towards an Anthropo-
logy of Public Events Cambridge Cambridge University Press
Hanks, WF 1987 Discourse Genres in a Theory of Practice Ameri-
can Ethnologist 668—692
Harvey, David L 1993 Potter Addition Poverty, Family, and Kinship
in a Heartland Community New York Aldine
Hellberg, Elena 1986 Folklore, Might, and Glory On the Symbo
lism of Power Legitimation NordicJournal oj Soviet and East European
Studies 3 (2) 9—20
Hingley, Ronald 1977 The Russian Mind New York Scribner’s
------- 1981 Nightingale Fever Russian Poets in Revolution New York
Alfred A Knopt
Holst-Warshaft Gail 1992 Dangerous Voices Women’s Laments
and Greek Literature London Routledge
351
<РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ;
Hosking Geoffrey 1991 The Awakening of the Soviet Union Cam
bridge Harvard University Press
Howe, Jovan E 1991 The Peasant Mode of Production Tampere
Finland University of Tampere
Hubbs, Joanna 1988 Mother Russia The Feminine Myth in Russian
Culture Bloomington Indiana University Press
Humphrey, Caroline 1983 Karl Marx Collectn e Economy, Society,
and Religion in a Siberian Collective Farm Cambndge Cambridge
University Press
------- 1991 «Icebergs,» Barter, and the Mafia in Provincial Russia
Anthropology Today 7 (2) 10—13
Hymes, Dell 1964 Introduction Toward Ethnographies of Commu-
nication In Directions m Sociolinguistics, ed John Gumperz and Dell
Hymes P 1— 3 4 AmericanAnthropologist Special Publication CC(6) pt 2
—- 1974 Foundations in Sociolinguistics An Ethnographic Ap-
proach Philadelphia University of Pennsylvania Press
Ingham, Norman W 1984 The Martyred Princes and the Question
of Slavic Cultural Continuity in the Early Middle Ages In Medieval Rus-
sian Culture, ed Henrik Birnbaum and Michael S Flier P 31—53 Ber-
keley University of California Press
Irvine, Judith T 1989 When Talk Isn’t Cheap Language and Polit-
ical Economy American Ethnologist 16 (2) 248—267
Isenberg, Charles 1987 The Rhetoric of Nadezhda Mandelstam’s
Hope against Hope In New Studies in Russian Language and Literature,
ed Lisa Crone and Catherine V Chvany, pp 168—182 Columbus, Ohio
Slavica Publishers
Ivanits, Linda J 1989 Russian Folk Belief Armonk, NY ME Sharpe
Jakobson, Roman 1966 Grammatical Parallelism and Its Russian
Facet Language 42 (2) 399—422
Jowitt, Ken 1992 New World Disorder The Leninist Extinction Ber-
keley University of California Press
Kan, Sergei 1989 Symbolic Immortality The Tlinget Potlatch of the
Nineteenth Century Washington Smithsonian Institution Press
Kelly, Catriona 1990 Petrushka The Russian Carnival Puppet Thea-
tre Cambridge Cambridge University Press
Kelly, Mary 1990 Goddess Embroideries of Eastern Europe Winona,
Minn Northland
Kerblay, Basile 1989 Gorbachev’s Russia New York Pantheon
Books
Kerby, Anthony Paul 1991 Narrative and the Self Bloomington
Indiana University Press
Kertzer, David I 1988 Ritual, Politics, and Power New Haven Yale
University Press
352
БИБЛИОГРАФИЯ
Khanga Yelena 1991 No Matryoshkas Need Apply Neu York Times
November 25 1991
Kingston-Mann Esther and Timothy Mixtei eds 1991 Peasant
Economy, Culture, and Politics of European Russia 1800— 1921 Princ-
eton Princeton University Press
Kleinman, Arthur, 1992 Pain and Resistance The Delegitimation
and Relegitimation ol Local Woi Ids In Pam as Human Experience An
Anthropological Perspective, ed M Del Vecchio Good PE Brodwin,
В J Good and A Kleinman P 169—-197 Betkeley and Los Angeles Uni
versity of California Press
Kluckhohn, Clyde 1962 Recent Studies of the‘National Character’
of Great Russians In Culture and Behavior, ed Richard Kluckhohn
P 210—243 New York Free Press
Kon, Igor S 1989 The Psychology of Social Inertia In New Direc-
tions in Soviet Social Thought, ed Mun ay Ya no witch P 241—254 Ar-
monk, N Y M E Sharpe
Korotich, Vitaly, and Cathy Porter, eds 1990 The New Soviet Jour-
nalism The Best ojthe Soviet Weekly Ogonyok Boston Beacon Press
Kotkin, Stephen 1991 Steeltown, USSR Soviet Society in the Gor-
bachev Era Berkeley University of California Press
Kravchenko, Mana 1987 The World of the Russian Fairy Tale Bern,
Switzerland Peter Lang
Kuipers, Joel C 1986 Talking about Troubles Gender Differences
in Weyewa Speech Use American Ethnologist 13 (3) 448—462
Lane, Christel 1981 The Rites of Rulers Ritual in Industrial Society
-the Soviet Case Cambridge Cambridge University Press
Lapidus, Gail W 1978 Women in Soviet Society Equality Develop-
ment, and Social Change Berkeley University of California Press
Lapshov, В A 1992 Between the Philosophy of Poverty and the
Philosophy of Misery Herald of the USSR Academy of Sciences 62 (1)
35-46
Lavie, Smadar 1990 The Poetics of Military Occupation Berkeley
University of California Press
Leibovich, Anna Feldman 1995 The Russian Concept of Work Suf-
fering, Drama, and Tradition in Pre— and Post-Revolutionary Russia
Westport, Conn Praeger
Lempert, David 1996 Daily Life in a Crumbling Empire The Absorp-
tion of Russia into the World Economy New York Columbia University
Press
Levi-Strauss, Claude 1966 The Savage Mind Chicago University of
Chicago Press
Lewin Moshe 1988 The Gorbachev Phenomenon A Historical In
terpretation Berkeley Cahl University of California Pi ess
23 Заказ №2742
353
<РУС( КИЕ РА31ОВОРЫ>
-------- 1995 Russia —USSR —Russia The Drive and Drift of a Super
state New York New Pi ess
Lotrnan Jun and Bons Uspenskij 1984 The Semiotics oj Russian
Culture, ed Ann Shukman Ann Arbor Michigan Slavic Conti ibutions
Luthi, Max 1976 Goal-Orientation in Storytelling In Folklore To-
day A Festschrift for Richard M Dorson, ed Linda Degh Henry C lassie,
and Felix J Oinas P 357—369 Bloomington Indiana University Press
Mandel David 1994 Rabotyagi Perestroika and After Viewed prom
Below New York Monthly Review Press
Maranda, Pierre, and Elh Kongas Maranda 1971 Structural Analy-
sis of Oral Tradition Philadelphia University of Pennsylvania Press
March, Kathryn 1987 Hospitality, Women and the Efficacy of Beer
Food and Foodways 6 351—387
Marriott, McKim 1966 The Feast of Love Krishna Myths, Rites,
and Attitudes, ed Milton Singer P 200—212 Honolulu East-West Press
Center
Matthews, Mervyn 1978 Privilege tn the Soviet Union A Study oj
Elite Lijestyles under Communism London Alien and Unwin
McAuley, Mary 1984 «Political Culture and Communist Politics
One Step Forward, Two Steps Back <In Political Culture and Com-
munist Studies, ed Archie Brown P 13—39 Armonk, NY ME Sharpe
Mead, Margaret 1951 Soviet Attitudes toward Authority New York
McGraw Hill
-------- 1954 The Swaddling Hypothesis Its Reception American An-
thropologist 56 395—409
Mead, Margaret, and Rhoda Metraux 1953 The Study of Culture at
a Distance Chicago University of Chicago Press
Mikheyev, Dmitry 1989 The New Soviet Man Myth and Reality In
The Soviet Union and the Challenge oj the Future Vol 2 Economy and
Society, ed Alexander Shtromas and Morton A Kaplan P 634—647
New York Paragon
Millar, James R 1987 Politics, Work, and Daily Lije in the USSR A
Survey oj Former Soviet Citizens Cambridge Cambridge University
Press
Moerman, Michael 1988 Talking Culture Philadelphia University
of Pennsylvania Press
Moore, Sally Falk, and Barbara G Myerhoff, eds 1975 Symbol and
Politics tn Communal Ideology Ithaca Cornell University Press
Moskoff, William 1990 The Bread oj Affliction The Food Supply in
the USSR during World War II Cambndge Cambridge University Press
— 1993 Hard Times Impoverishment and Protest in the Perestroi-
ka Years, Armonk, N Y M E Sharpe
354
БИБЛ ИО! РАФИЯ
Motvl Alexander} 1990 Sovietology,Rationality,Nationality (от
mg to Grips with Nationalism in the USSR New York Columbia I nivei-
sity Press
Munn Nancy D 1986 The Fame of Gawa A Symbolic Study of Val-
ue Transformation in a Massim (Papua New Guinea) Society Cam-
bridge Cambridge University Press
Myerhoff, Barbara G 1975 Organization and Ecstasy Deliberate
and Accidental Communitas Among Huichol Indians and American
Youth In Symbol and Politics in Communal Ideology, ed Sally Falk
Moore and Barbara G Myerhoff P 33—67 Ithaca Cornell University
Press J
---- 1978 Number Our Days New York Simon and Schuster
------- 1986 «Life Not Death in Venice > Its Second Life In The An-
thropology of Experience, ed Victor W Turner and Edward M Bruner
P 261—287 Urbana University of Illinois Press
Move, Alec 1989 Glasnost’ in Action Cultural Renaissance in Rus-
sia Boston Unwin Hyman
Ochs, Elinor 1992 Indexing Gender In Rethinking Context Lan-
guage as an Interactive Phenomenon, ed Alessandro Duranti and
Charles Goodwin P 335—358 Cambridge Cambridge University Press
Oinas, Felix J 1984 Essays on Russian Folklore and Mythology Co-
lumbus, Ohio Slavica
Ong Walter J 1981 Fighting for Life Contest, Sexuality, and Con-
sciousness Amherst University of Massachusetts Press
------- 1982 Orality and Literacy The Technologizing of the Word
London Methuen
Ortner, Sherry В 1973 On Key Symbols American Anthropologist
75 1338-1346
------- 1995 Resistance and the Problem of Ethnographic Refusal
Comparative Studies of Society and History Ъ~! (1) 173—193 Cam-
bridge Cambridge University Press
Parker, Tony 1991 Russian Voices New York Henry Holt
Parthe, Kathleen 1997 The Empire Strikes Back How Right-Wing
Nationalists Tried to Recapture Russian Literature In Nationalities
Papers (forthcoming)
Peletz, Michael G 1997 «Ordinary Muslims» and Muslim Resurgents
in Contemporary Malaysia Notes on an Ambivalent Relationship In
Islam in an Era of Nation States Politics and Religious Renewal in South-
east Asia, ed Patricia Horvatich and Robert Hefner, Honolulu Univer-
sity of Hawaii Press
Perne Maureen 1989 Folklore as Evidence of Peasant Mentality
Social Attitudes and Values in Russian Popular Culture Russian Review
48(2) 119-143
23*
355
<РУС( КИЕ РАЗГОВОРЫ>
Pesmen Dale 1995 Standing Bottles Washing Deals and Drinking
<For the Soub in a Siberian City Anthropology of Fast Europe Revieu
13 (2) 65-75
— nd Suffering Public Transportation Depth and < The Russian
Soul>
Petrochenkov Valery 1990 Christian Patterns in Contemporaiv
Soviet Prose In Christianity and Russian Culture in Soviet Society, ed
Nicolai N Petiov P 119—142 Boulder Colo Westview
Pilkington Hilary 1994 RxxssvYsYoiith and its Culture London
Routledge
Pipes, Richard 1974 Russia Under the Old Regime London Weiden-
feld and Nicolson
Porokhniuk, V and M S Shepeleva 1982 How Working Women
Combine Work and Household Duties In Women, Work, and Family tn
the Soviet Union, ed Gail Lapidus P 267—276 Armonk, NY
ME Sharpe
Rancour-Lafernere Daniel 1995 The Slave Soul op Russia Moral
Masochism and the Cult op Suffering New York New York University
Press
Redl, Helen В, ed 1964 Soviet Educators on Soviet Education New
York Free Press
Ries, Nancy 1991 The Power of Negative Thinking Russian Talk
and the Reproduction of Mindset, Worldview, and Society Anthropol-
ogy of East Europe Revieu 10(2) 38—53
------- 1994 The Burden of Mythic Identity Russian Women at Odds
With Themselves In Feminist Nightmares Women at Odds, ed Susan
О Weisser and Jennifer Fleischner P 242—268 New York New York
University Press
Riordan, Jim, and Sue Bridger, eds 1992 Dear Comrade Editor
Readers' Letters to the Soviet Press under Perestroika Bloomington
Indiana University Press
Roosevelt, Priscilla 1991 Emerald Thrones and Living Statues
Theater and Theatricality on the Russian Estate Russian Review 50 (1)
1-23
Rosal do, Renato 1986 Ilongot Hunting as Story and Experience In
The Anthropology of Experience, ed Victor W Turner and EdwanJ
M Bruner P 97—138 Urbana University of Illinois Press
---- 1989 Culture and Truth Boston Beacon Press
Rose, Richard 1994 Getting By without Government Everyday Life
in Russia Daedalus 123 (3) 41—62
Sangren, P Steven 1987 History and Magical Power in a Chinese
Community Stanford Stanford University Press
356
БИБЛИОГРАФИЯ
------- 1991 The Dialectics ot Alienation Individuals and Collectiv
ities in C hinese Religion Man 26 (1) 67—86
Sariban Alia 1984 The Soviet Woman Support and Mainstay ot the
Regime In Women and Russia, ed Tatiana Mamonova P 205—213
Boston Beacon Press
Saussure, Ferdinand de 1959 Course in General Linguistics New
York Philosophical Library
Scarry, Elaine 1985 The Body in Pain The Making and Unmaking
oj the World New York Oxford University Press
Sco tt, James C 1985 Weapons of the Weak Everyday Forms of Peas-
ant Resistance New Haven Yale University Press
------- 1990 Domination and the Arts oj Resistance Hidden Tran-
scripts New Haven Yale University Press
Seidel, G 1985 Political Discourse Analysis In Handbook ojDis-
course Analysis, vol 4, ed T Van Dijk P 43—50 London Academic
Press
Senelick, Laurence 1991 The Erotic Bondage of Serf Theatre The
Russian Review 50 24—34
Seremetakis, Nadia 1991 The Last Word Women, Death, and Divi-
nation in Inner Mani Chicago University of Chicago Press
Shahn, Dmitri N, ed 1996 Russian Culture at the Crossroads Boul-
der, Colo Wesrview
Shanin, Teodor 1972 The Awkward Class Political Sociology oj
Peasantry in a Developing Society Russia 19Ю—1925 London Oxford
University Press
Sherzer, Joel 1983 Kuna Ways oj Speaking An Ethnographic Per-
spective Austin University of Texas Press
------- 1984 The Joke Inside the Joke Partisan Review 51 (3) 356—
366
------- 1987 A Discourse-Centered Approach to Language and Cul-
ture American Anthropologist 89 (2) 295—309
Slobin, Greta A 1992 Revolution Must Come First Reading V Ak-
senov’s Island oj Crimea In Nationalisms and Sexualities, ed Andrew
Parker, Mary Russo, Dons Somrner, and Patricia Yaeger P 246—263
New York Routledge
Smith, Barbara Herrnstein 1982 Contingencies oj Value Alternative
Perspectives for Critical Theory Cambridge Harvard University Press
Sokolov, Yu M 1971 Russian Folklore Translated from the Russian
by Cathaiine Ruth Smith Detroit Folklore Associates
Stahl Sandra Dolby 1989 Literary Folkloristics and the Personal
Narrative Bloomington Indiana University Press
Stallybrass, Peter and Alien White 1986 The Politics and Poetics oj
Transgression, Ithaca Cornell L niversity Pi ess
357
<РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ*
Stites Richard 1989 Revolutionary Dreams Utopian Vision and
Experimental Life in the Russian Resolution New York Oxford L niver
sity Press
------- 1992 Russian Popular Culture Entertainment and Society since
1900 Cambridge Cambridge University Press
Taussig, Michael 1987 Shamanism, Colonialism and the Wild Man
A Study tn Terror and Healing Chicago University of Chicago Press
Thompson, Ewa M 1987 Understanding Russia The Holy Fool in
Russian Culture Lanham, Md University Press of America
Thompson, John В 1984 Studies in the Theory of Ideology Berke-
ley University of California Press
------- 1990 Ideology and Modern Culture Stanford Stanford Uni
versity Press
Thurston, Robert W 1991 Social Dimensions of Stalinist Rule
Humor and Terror in the USSR, 1935—1941 Journal of Social History
24 541-562
Tolstaya, Tatyana 1992 Is There Hope for Pushkin s Children71 Wil-
son Quarterly, Winter 1992 121 — 130
Tucker, Robert C 1977 Stalinism and Comparative Communism
Introduction to Stalinism Essays in Historical Interpretation ed Rob-
ert C Tucker New York WW Norton
Tumarkin, Nina 1983 Lenin Lives1 The Cult of Lenin in the Soviet
Union Cambridge Harvard University Press
---- 1990 Truth Teller World Monitor, February 1990 22—23
------- 1991 The Invasion and War as Myth and Memory Soviet Union
18 (1) 277—296
------- 1994 The Living and the Dead The Rise and Fall of the Cult of
WWII in Russia New York Basic Books
Turner, Victor 1967 The Forest of Symbols Aspects of Ndembu Rit-
ual Ithaca Cornell University Press
------- 1974 Dramas, Fields, and Metaphors Symbolic Action in Hu-
man Society Ithaca Cornell University Press
------- 1977 The Ritual Process Structure and Anti-Structure Ithaca
Cornell University Press
------- 1982 From Ritual to Theatre The Human Seriousness of Play
New York PAJ Publications
------- 1988 The Anthropology of Performance New York PAJ Publi-
cations
Urban, Gregory 1991 A Discourse-centered Approach to Culture
Native South American Myths and Rituals Austin University of Texas
Press
Urban, Michael 1994 The Politics of Identity in Russia’s Post-Com-
munist Transition The Nation Against Itself Slavic Review 53 (3) 733—
765
358
БИБЛИОГРАФИЯ
Verdery, Catherine 1991 National Ideology under Socialism Iden-
tity and Cultural Politics in Ceausescu's Romania Berkeley University
of California Press
Voronina, Olga 1993 Soviet Patriarchy Past and Present Hypatia
8 (4) 97-112
Wada, Haruki 1979 The Inner World of Russian Peasants Annals
op the Institute op Social Science 82 61—93
Weiner, Annette В 1976 Women of Value, Men op Renown New
Perspectives on Trobnand Exchange Austin University of Texas Press
Wierzbicka, Anna 1985 Different Cultures, Different Languages,
Different Speech Acts poumal op Pragmatics 1985 (9) 145—178
------- 1989 Soul and Mind Linguistic Evidence for Ethnopsycholo-
gy and Cultural History American Anthropologist 91 (1) 41—58
Willis, David К 1985 KLASS How Russians Really Live New York
Avon
Willis, Paul E 1981 Learning to Labor How Working Class Kids Get
Working Classpobs New York Columbia University Press
Wosien, Maria-Gabriele 1969 The Russian Folk-Tale Some Struc-
tural and Thematic Aspects Munich Otto Sagner Yano witch, Murray,
ed 1989 New Directions in Soviet Social Thought Armonk, NY
M E Sharpe
Yevtushenko, Yevgeny 1990 A Nation Begins with Its Women In
Perestroika The Crunch Is Now, ed Lena Knshtoff and Eva Skelley
P313—321 Moscow Progress
Zand, Arie 1982 Political Pokes op Leningrad Austin, Texas Silver-
girl, Inc
Zemtsov, Ilya 1985 Private Lipe op the Soviet Elite Newark Crane
Russak
Zenkovsky, Serge A 1963 Medieval Russia’s Epics, Chronicles, and
Tales New York E P Dutton
/
Из проекта «Артконс шрукция
Ст. 52 «Права потерпевших от преступлений
и злоупотреблений властью охраняются законом.
Государство обеспечивает потерпевшим доступ
к правосудию и капнет цию причиненного ущерба»
Иллюстрации
Группа АЕС
(Т Арзамасова, Л. Евзович, Е. Святский) стр. 322—323
Сергей БРАТКОВ стр. 90—91
Сергей БУРАСОВСКИЙ стр. 40—41
Татьяна ДОРОНИНА стр. 321
Алексей ЗВЕРОЛОВЛЕВ стр. ЗбО
Анастасия КАРАНДАШОВА стр. 87, 88—89, 92—93,
219, 274-275, 320, 340
Сергей КОРМИХИН стр. 341, 2~1б—2~П
Сергей КУЗНЕЦОВ стр. 222—223
Вячеслав МИЗИН стр. 218
Экспозиция выставки «Москва-Берлин» стр 39
Анатолий ОСМОЛОВСКИЙ
при участии В. Маркова и А. Николаева стр. 15
Лев ПОВЗНЕР стр. 151
Лидия СЕМЕНЮК стр. 342—343
Олег СМИРНОВ стр. 16,42-43, 44—45, 86, 150, 156—157,
154—155, 220-221, 224—225, 278—279
Валерий ЩЕКОЛДИН стр. 14-15, 152—153, 361, Зб2—ЗбЗ
Издательство «Новое литературное обозрение»
благодарит за участие в подготовке этой книги
галерею САрт
в лице куратора проекта «Артконституция» Петра Войса,
а также кураторов фотораздела выставки «Москва-Берлин»
Сергея Бурасовского и Александра Лаврентьева
Оглавление
И. Утехин. Обратный перевод разговоров с Нэнси Рис.5
Предисловие к русскому изданию.....................11
Введение..........................................19
Глава 1. Российская «речевая действительность»
в эпоху перестройки............................46
Глава 2. «Наша сказочная жизнь»: повествовательные
образы России, ее женщин и мужчин..............94
Глава 3. Литании и ламентации: дискурсивное
искусство страдания...........................158
Глава 4- Мистическая бедность и лишения,
заключающие в себе награду....................226
Заключение. Ритуалы и парадоксы перестройки......280
Эпилог. Этнографические заметки 1994 и 1995 гг...324
Библиография.....................................344
Иллюстрации......................................364
Нэнси Рис
«РУССКИЕ РАЗГОВОРЫ»
Культура и речевая повседневность
эпохи перестройки
Редактор
И. Калинин
Дизайнер серии
Д. Черногаев
Дизайнер обложки
П.Конколович
Корректоры
Э. Корчагина, Е. Мохова
Компьютерная верстка
С. Пчелинцев
Налоговая льгота —
общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93,том 2;
953000 — книги, брошюры
ООО «Новое литературное обозрение»
Адрес редакции:
129626, Москва, И-626, а/я 55
Тел.: (095) 976-47-88
факс: 977-08-28
e-mail: real@nlo.magazine.ru
http: //www.nlo.magazine.ru
Формат60x90/16
Бумага офсетная № 1
Печ. л. 23- Заказ № 2742
Отпечатано с готовых диапозитивов
в ОАО «Чебоксарская типография № 1»
428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 15