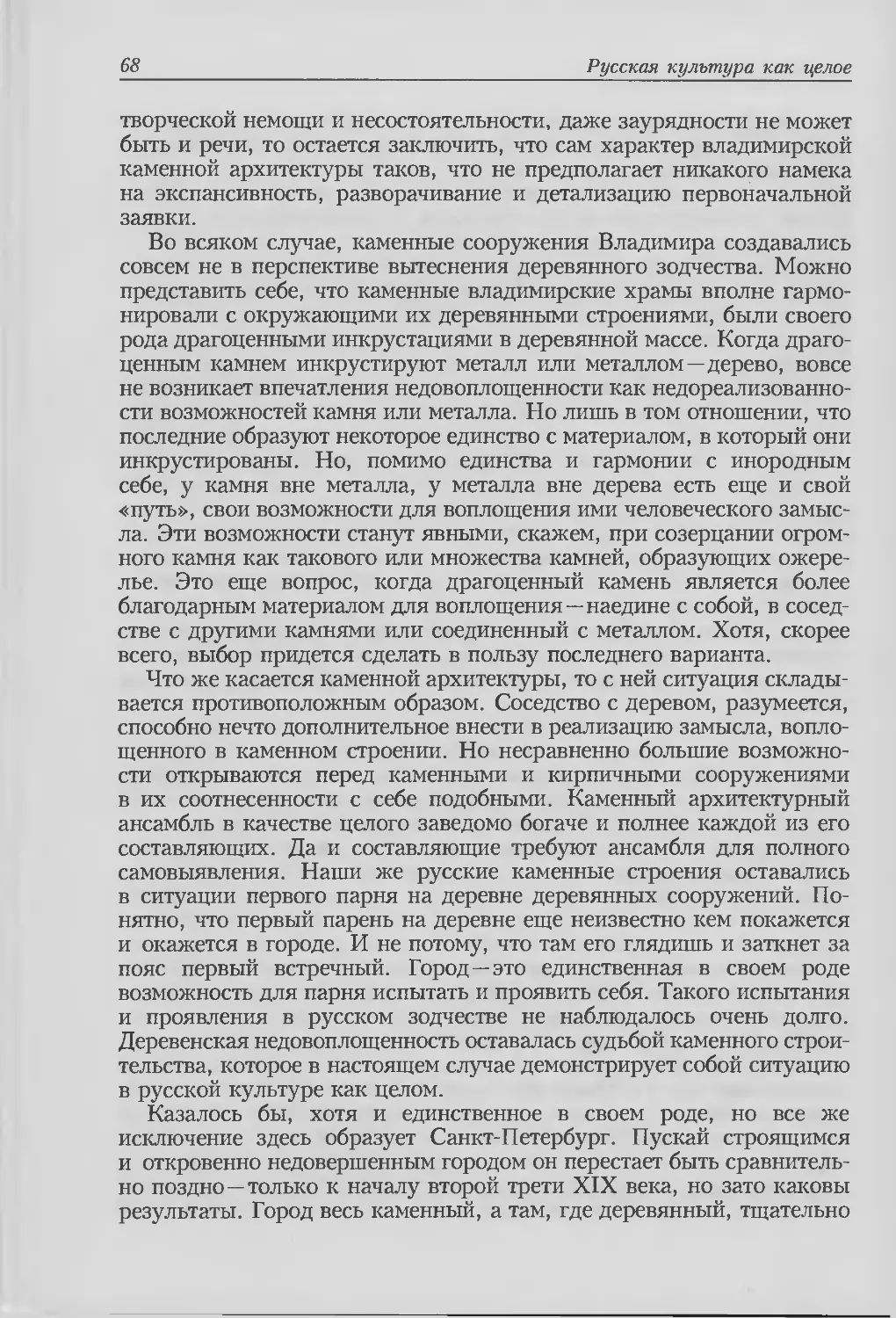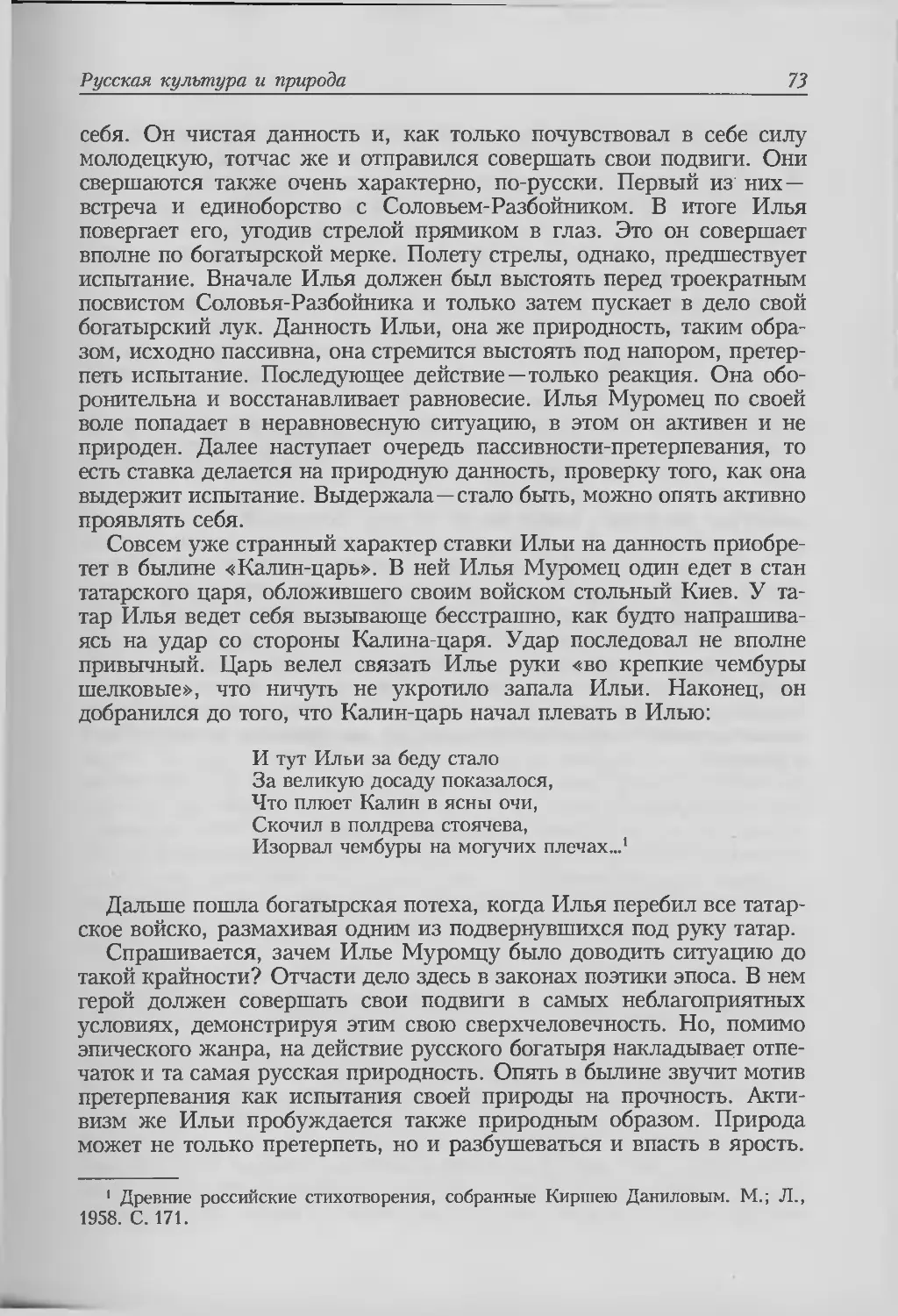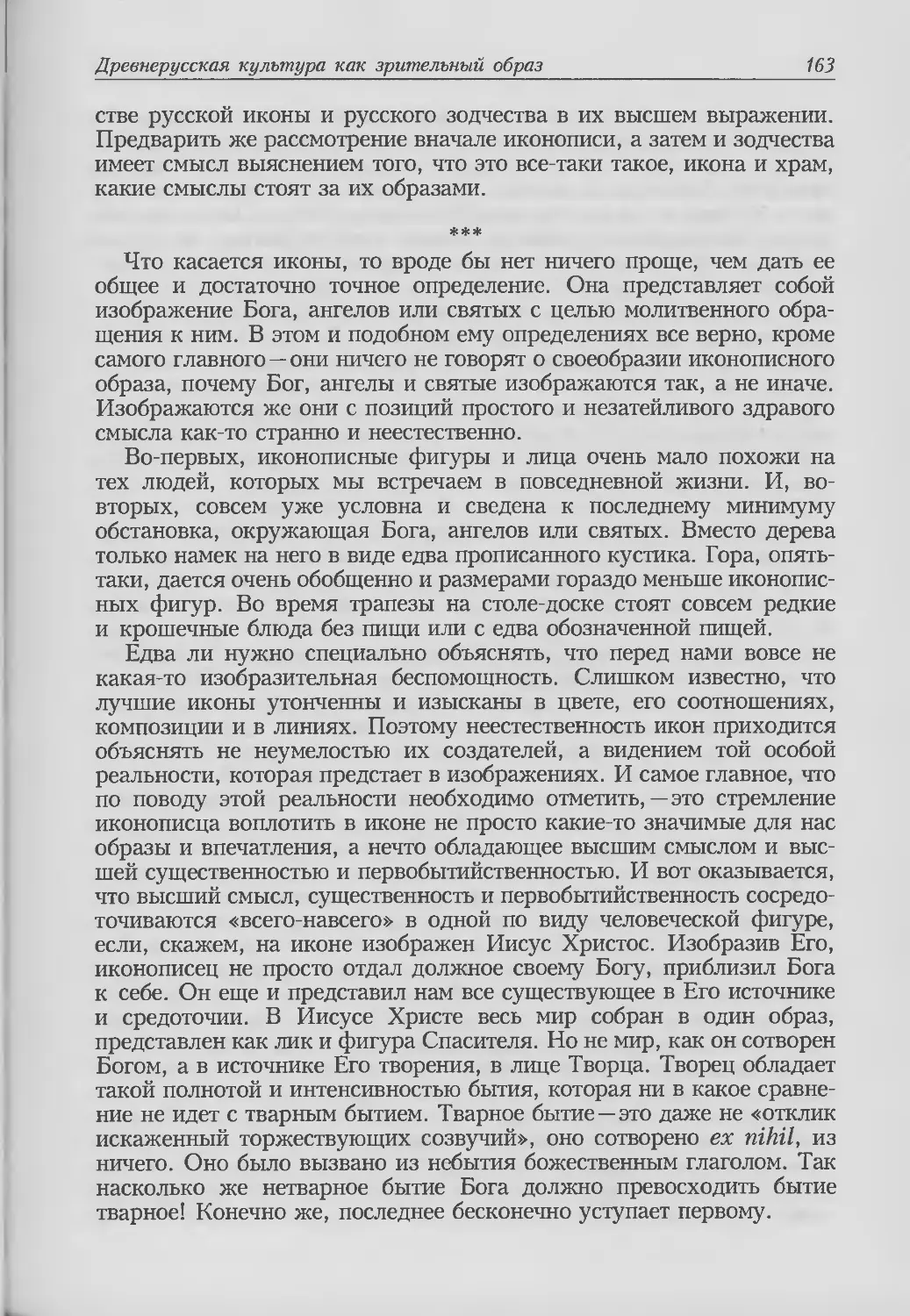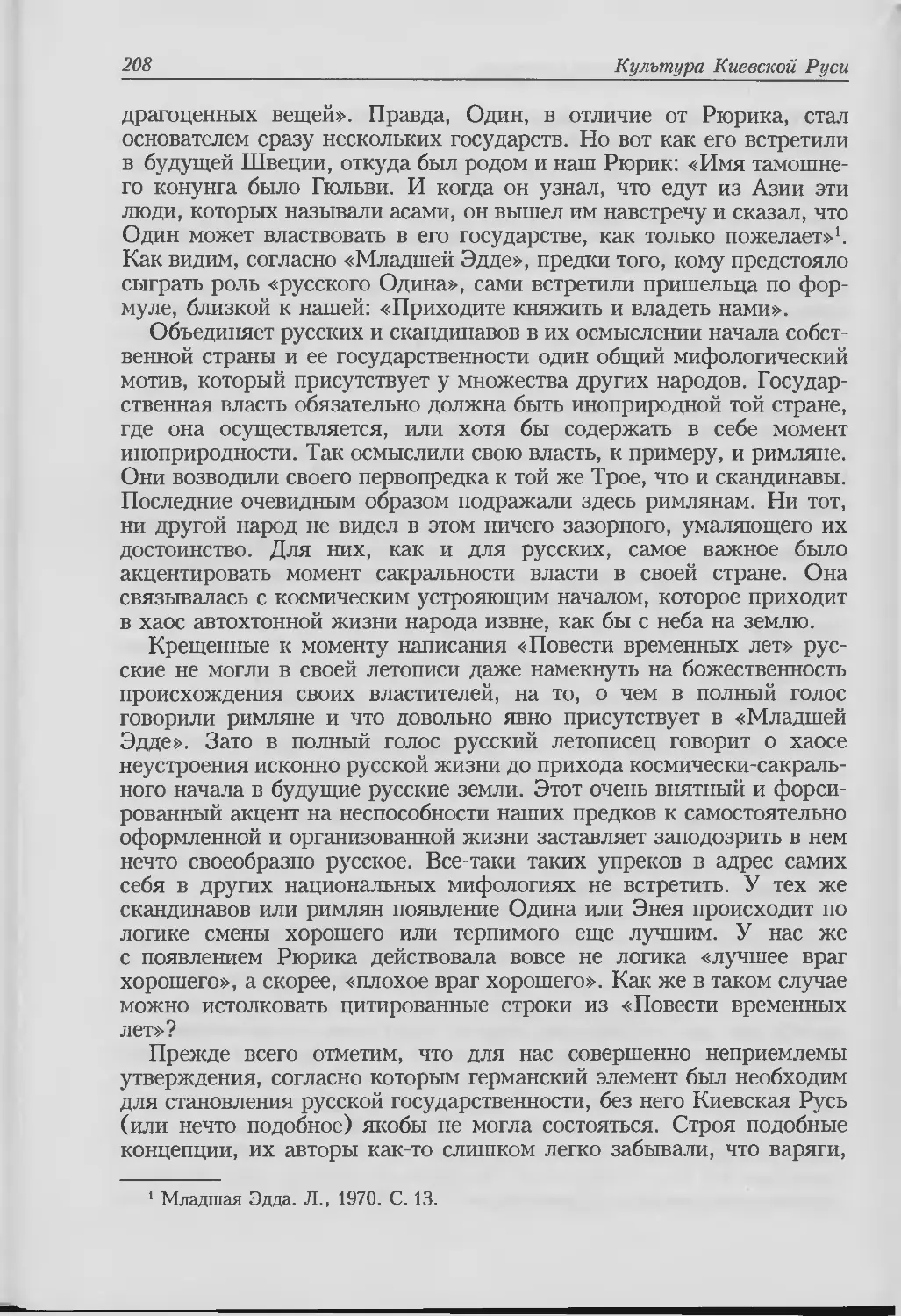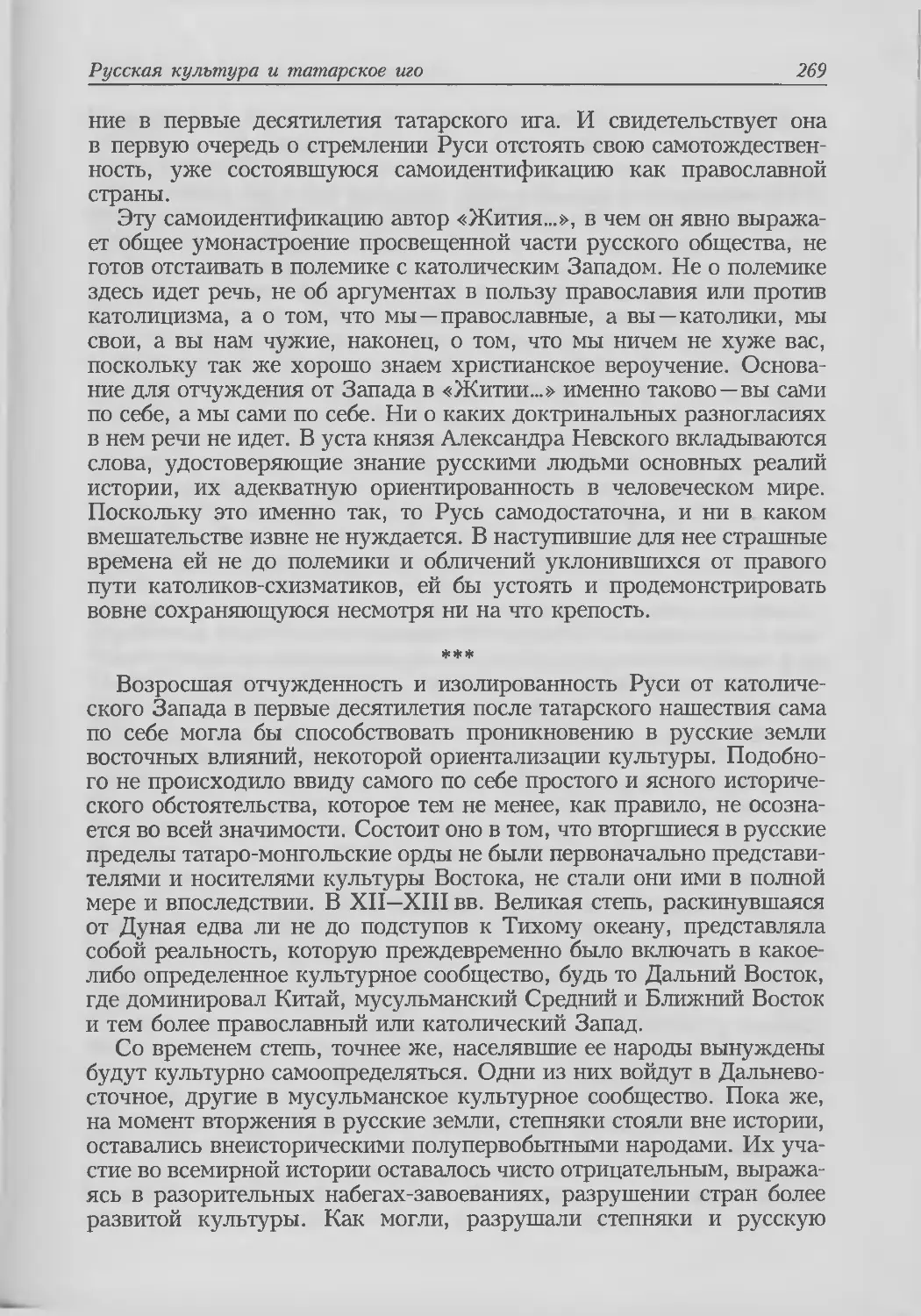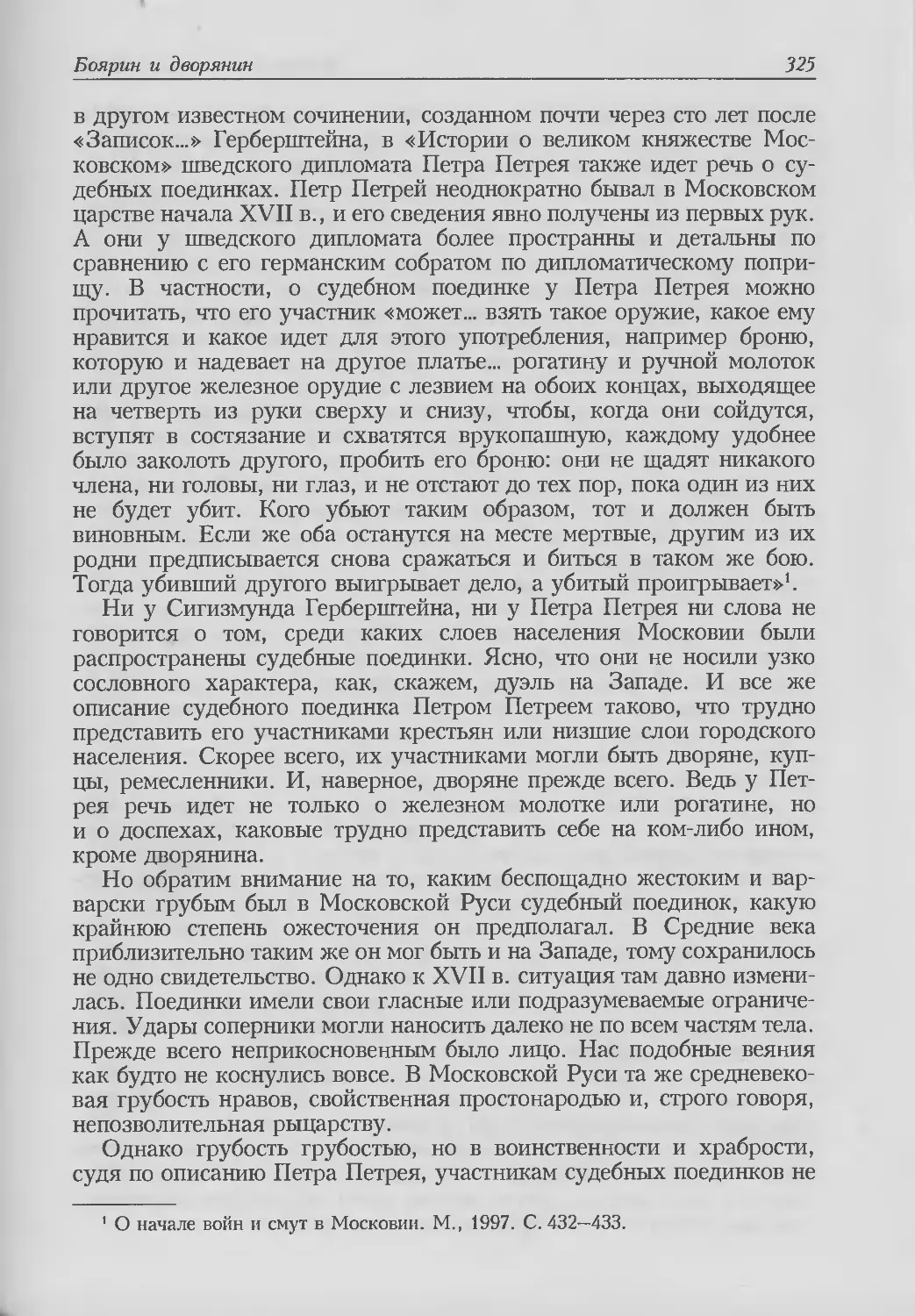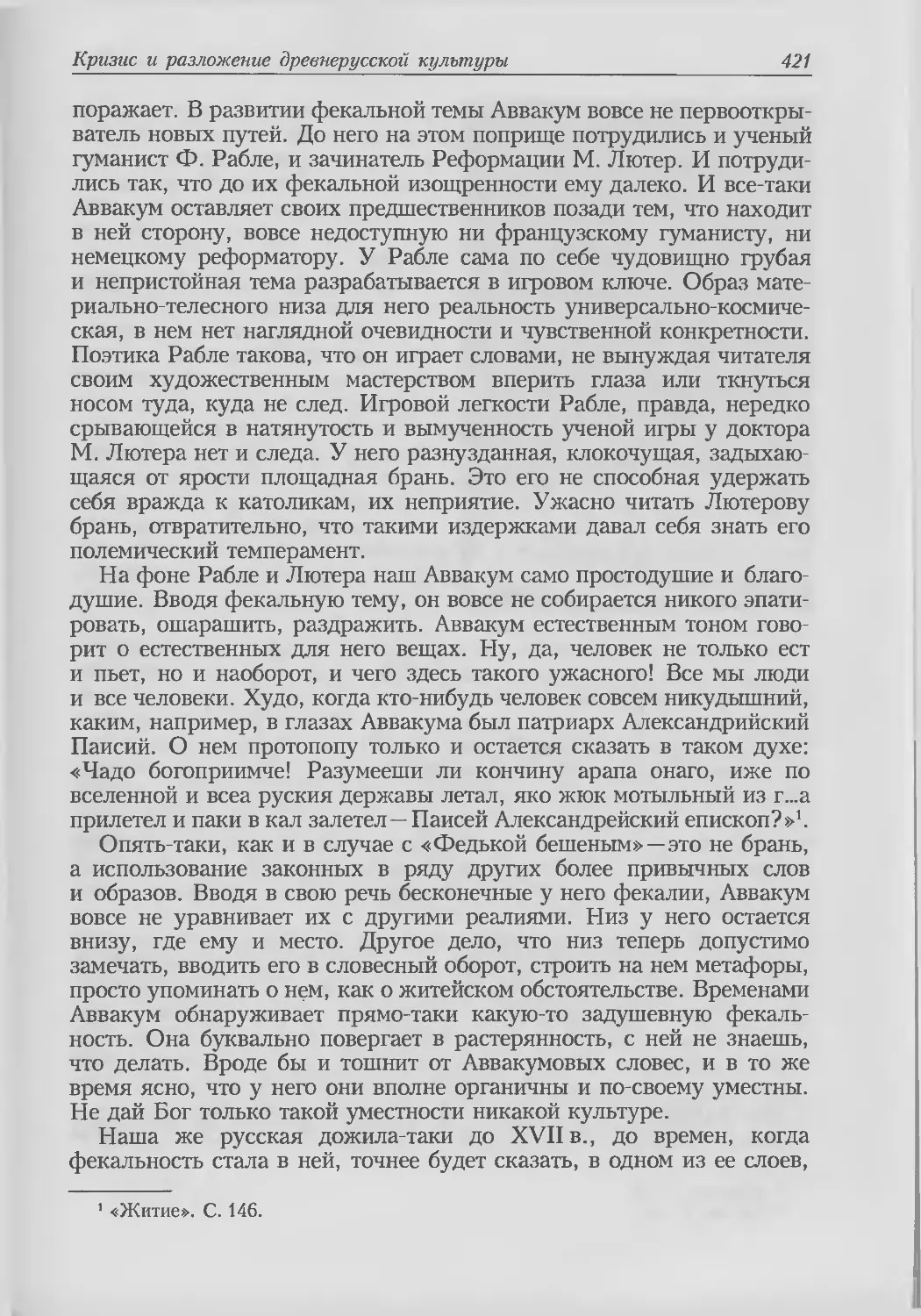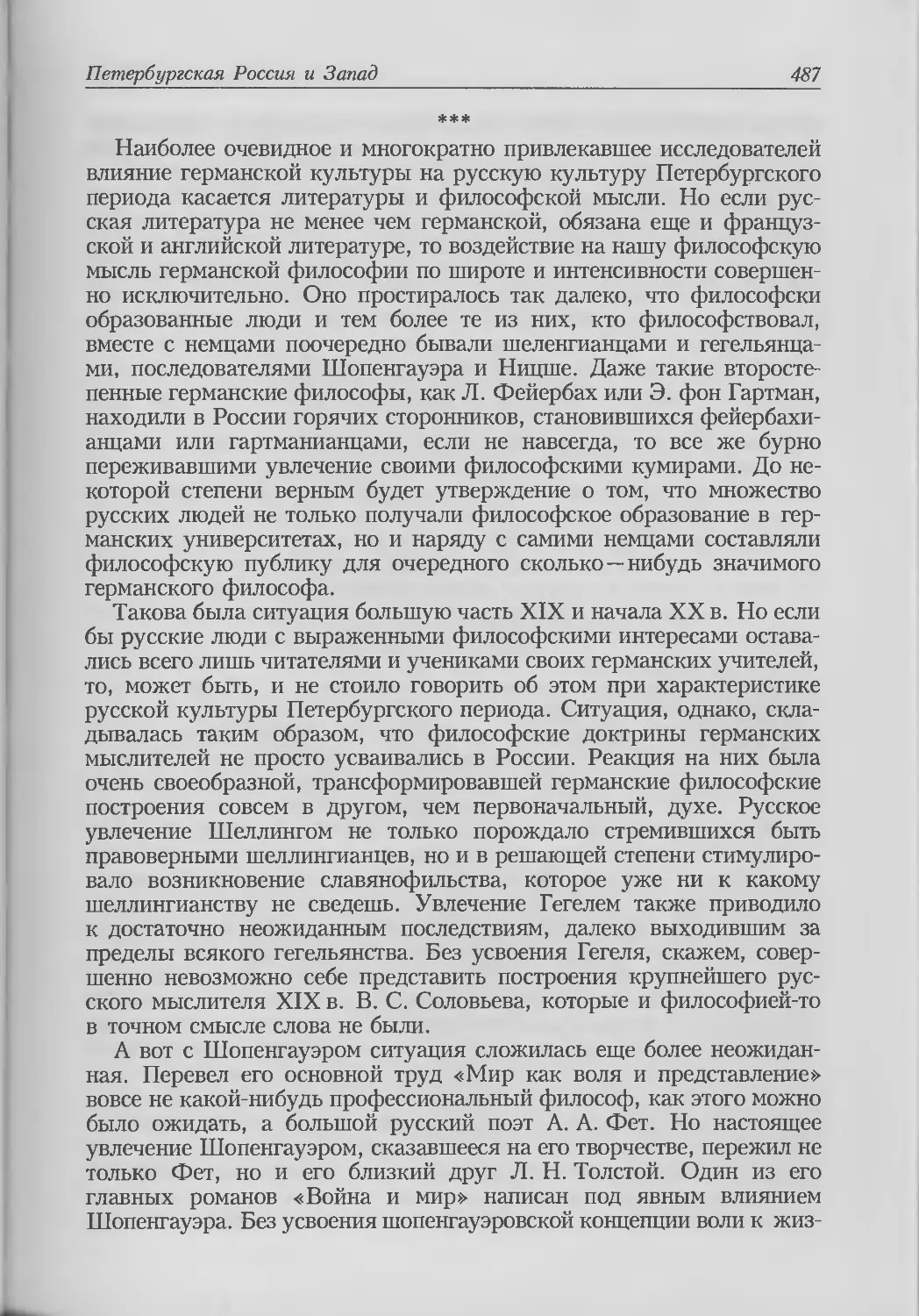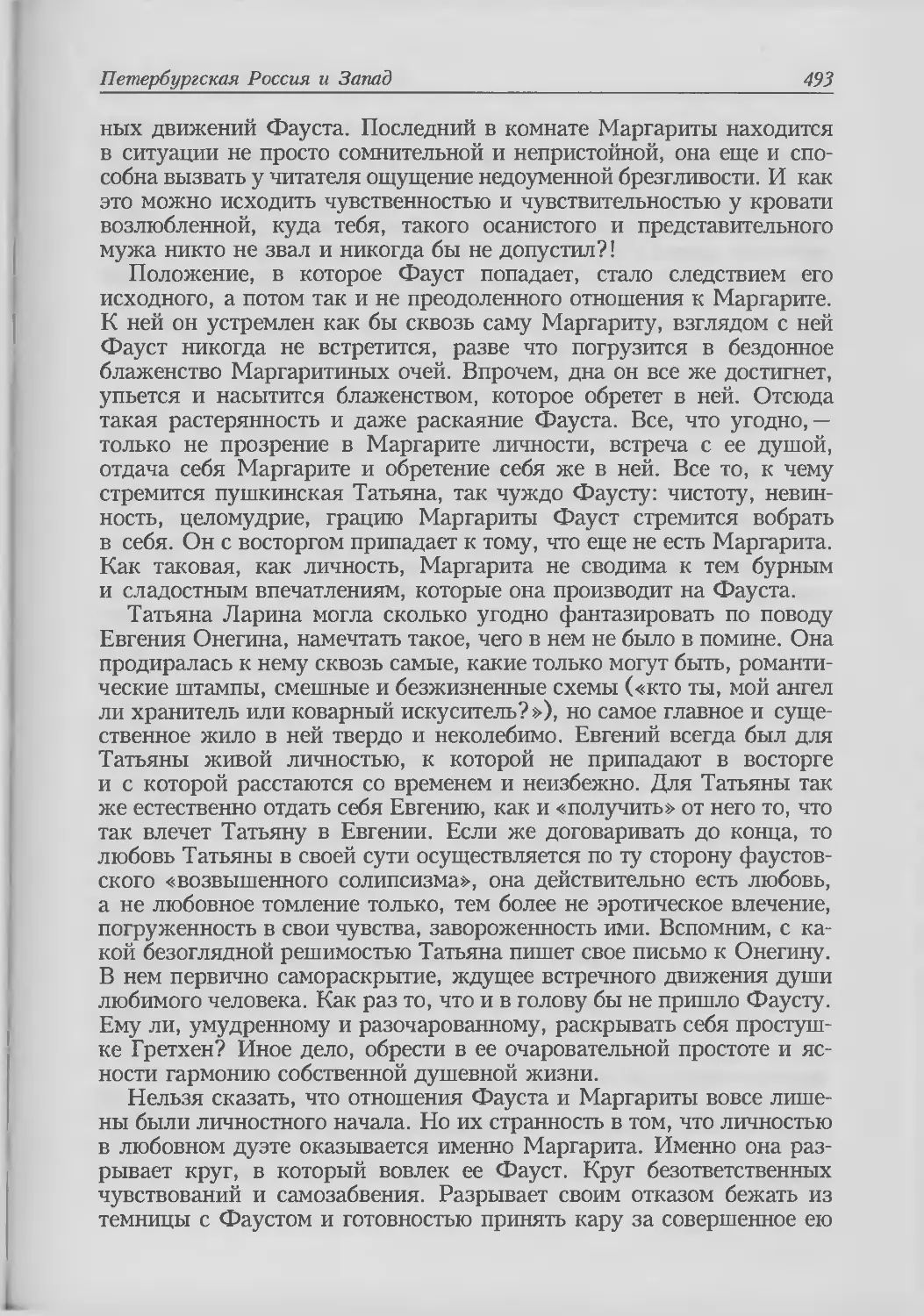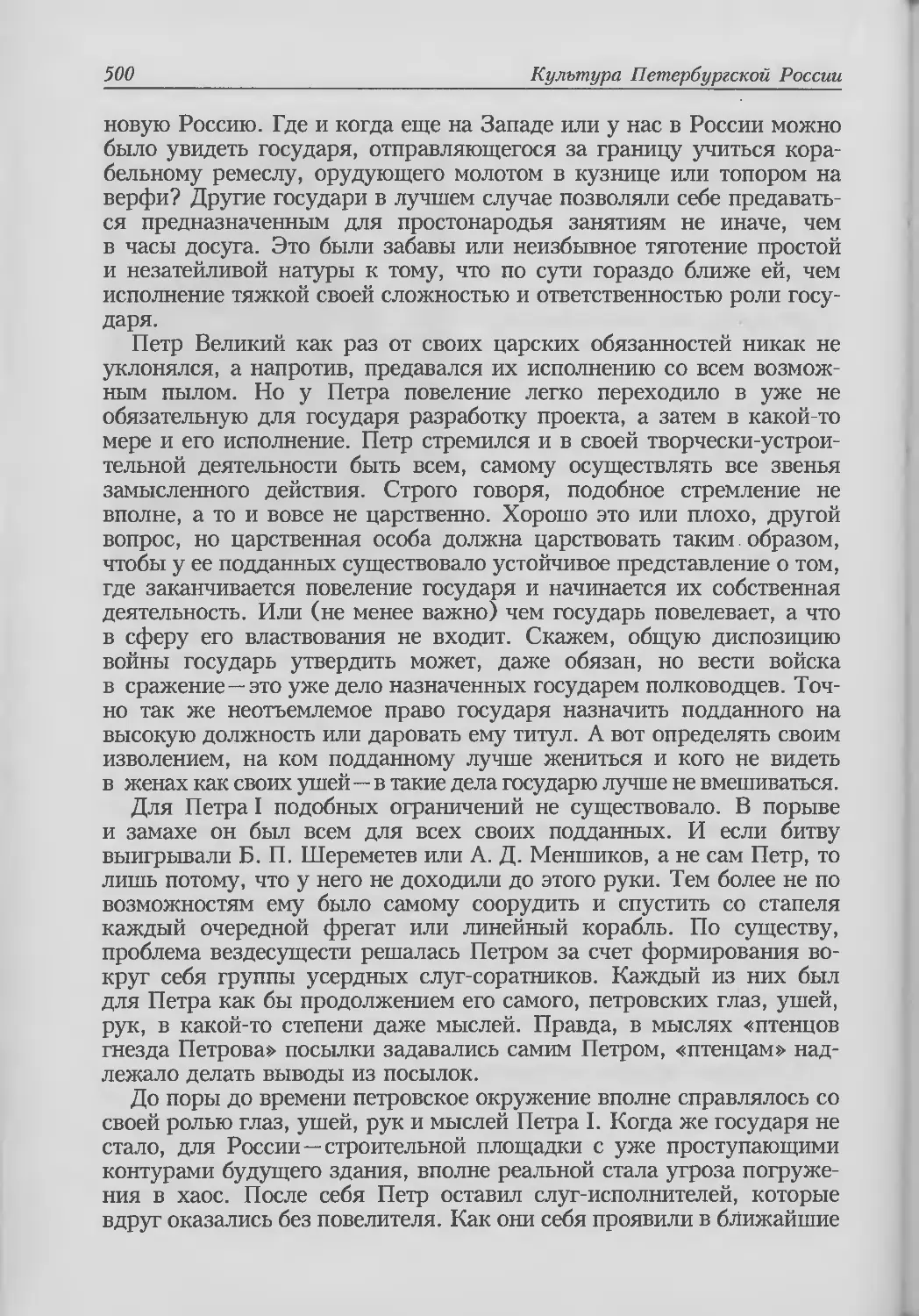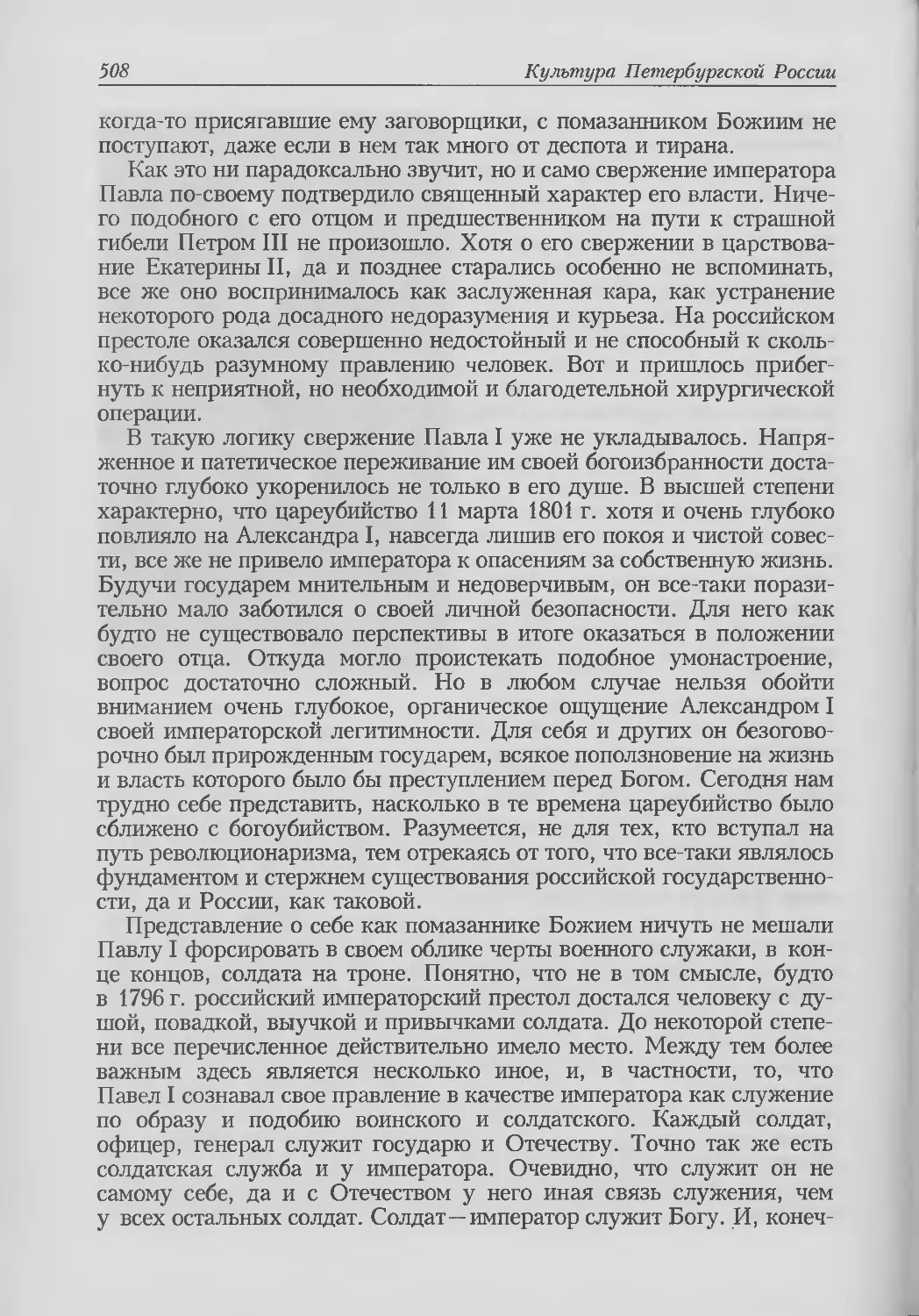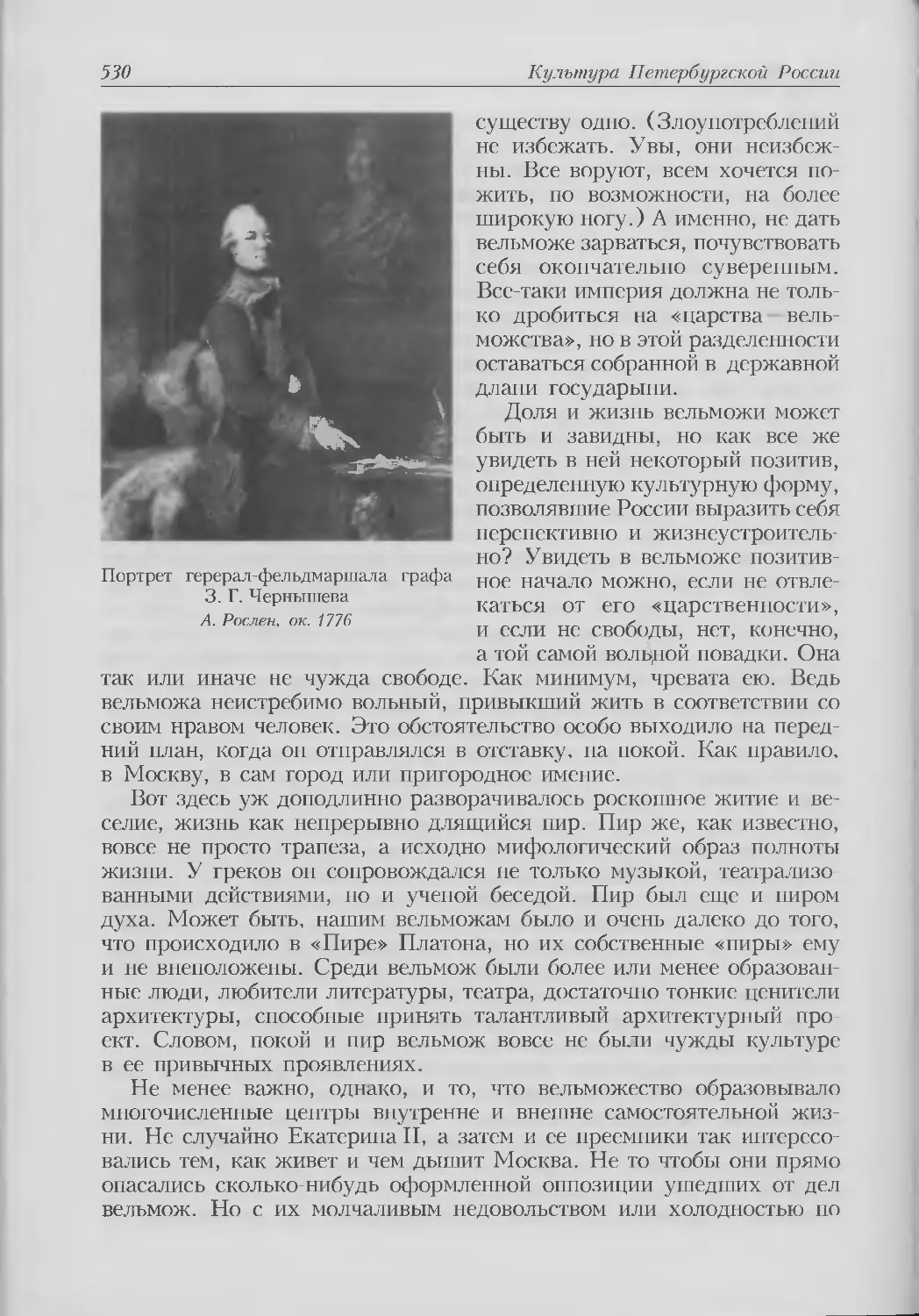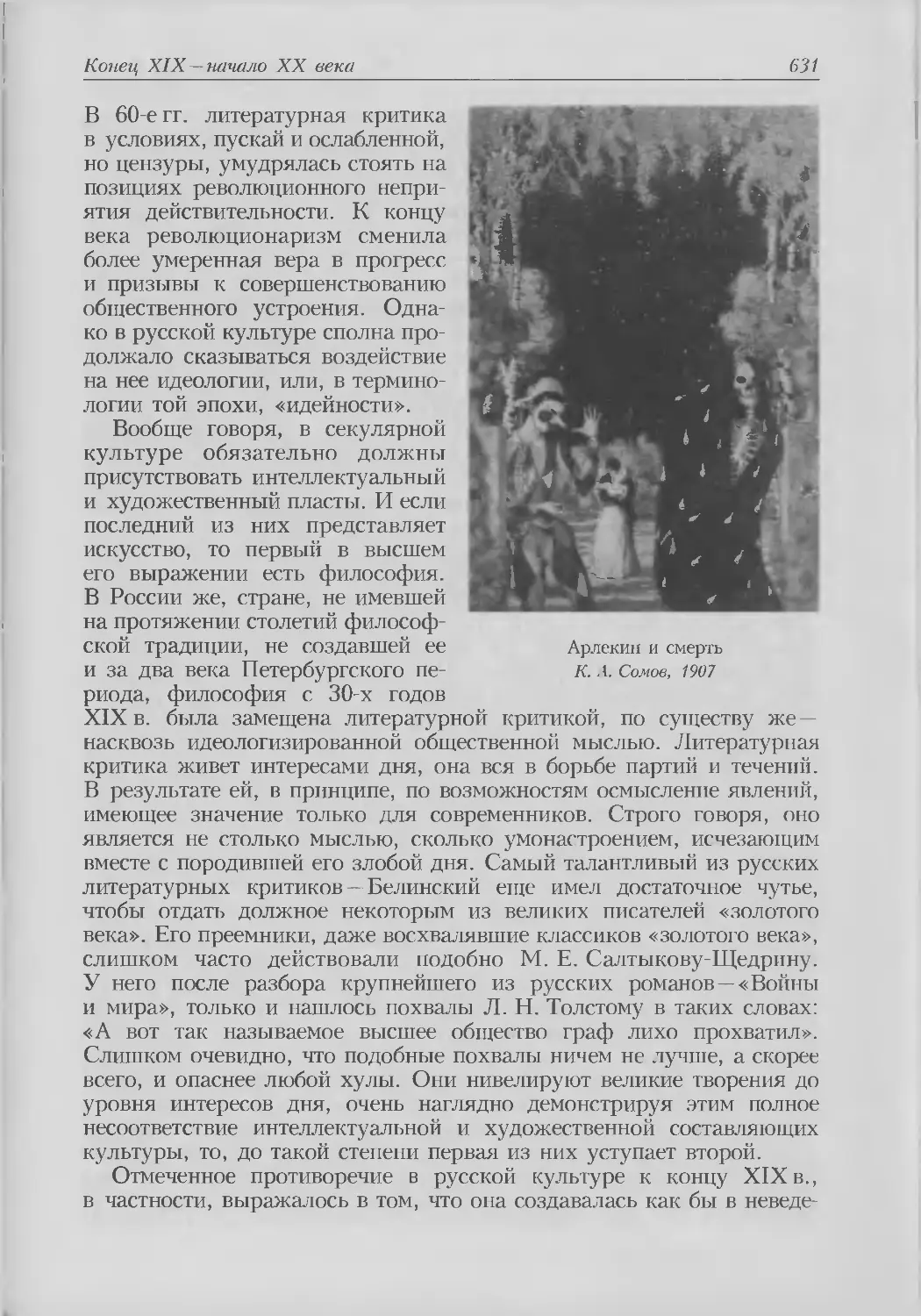Author: Сапронов П.А.
Tags: историческая наука историография русская культура культурология
ISBN: 5-93437-147-9
Year: 2005
Text
Автор книги, известный трудами по культурологии
и философии, свою новую работу посвящает истории
русской культуры со времени ее зарождения до
сегодняшних дней. Отличительной чертой настоящего
исследования является широта охвата исторического
материала, ярко выраженная концептуальность,
публицистический темперамент автора.
П. А. Сапронов свободно оперирует примерами из
древнерусской словесности, русской классической
литературы, мемуаров русских и иностранных авторов.
Анализируются также произведения изобразительного
искусства и архитектуры. Все это помогает проследить
тернистый путь развития русской культуры, ее
обращенность к Западу и Востоку, и вместе с тем,
нерастворимость ее национального своеобразия. Автор
последовательно применяет к русской культуре критерий
свободы, выясняя, в какой мере свобода была реальностью
русской истории и культуры.
Книга написана живым и увлекательным языком,
и читатель невольно проникается духом высокого
патриотизма и гордости, сопереживая событиям
отечественной истории.
П. А. Сапронов
Опыт осмысления
Санкт-Петербург
«Паритет»
2005
УДК 930 + 00
С19
Все права на данное издание принадлежат издательству «Пари-
тет». Воспроизведение материала в любой его форме возможно
только с письменного разрешения правообладателя. Попытки на-
рушения будут преследоваться по Закону РФ об авторском праве
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «КУЛЬТУРА РОССИИ»
(подпрограмма «Поддержка полиграфии и книгоиздания России»)
Сапронов П. А.
С19 Русская культура IX —ХХвв. Опыт осмысления. —СПб.: «Пари-
тет», 2005.— 704 с., ил.
ISBN 5-93437-147-9
Фундаментальное исследование о становлении и развитии русской культуры
на протяжении всей истории России
Издание расчитано на студентов высших учебных заведений в качестве учеб-
ного пособия, а также на широкие круги читателей, интересующихся истори-
ей отечественной культуры.
ISBN 5-93437-147-9
© П. А. Сапронов, 2004
© Ю. А. Хайретдинов, оформление, 2004
© Редакционная подготовка, издательство
«Паритет», 2004
Введение
Читателю, открывающему книгу с названием, подобным настояще-
му, сразу же приходится определяться с тем, какого рода текст он
держит в руках, и в зависимости от этого сосредоточить на нем вни-
мание или отложить до поры (или навсегда) в сторону. Такая книга
может быть учебным пособием, научно-популярным изданием, нако-
нец, исследованием с претензиями на научность или философичность.
Первые два случая при этом особых вопросов не вызывают. Все-
гда есть потребность в учебном пособии для изучения русской куль-
туры. Ведь далеко не во всех случаях обращающиеся к ней в состоя-
нии сразу приступить к штудированию научных статей и монографий.
Еще проще обстоит дело с научно-популярными изданиями. Для ог-
ромного большинства читателей, проявляющих интерес к русской куль-
туре, только они могут быть доступными, удовлетворять возникший
интерес, а не заглушить его тяжеловесностью, наукообразием или
просто незнакомыми понятиями без специального разъяснения ввод-
ными историческими реалиями и слишком изощренным ходом мысли.
Гораздо сложнее дело обстоит с книгами, которые в полной мере
не отнести ни к учебным пособиям, ни к научно-популярным работам,
с книгами-исследованиями, следующими ориентации на научность
и философичность. Здесь сразу же и неминуемо возникает сомнение:
имеет ли какой-то смысл создавать книгу о русской культуре в ее целом
в надежде избежать грубейших просчетов и легковесности, как мини-
мум, в некоторых разделах книги? Что-то давно не было слышно
о специалистах в русской истории и культуре, взятых в целом. Даже
лучшие авторы, с широким взглядом и склонностью к широкоохват-
ным обобщениям и сопоставлениям, все-таки делают не более чем
кратковременные «вылазки» за пределы своей специализации на оп-
4
Русская культура в XX веке
ределенной эпохе или области отечественной культуры. Что касается
историков, то время Соловьевых и Ключевских давно миновало. В об-
ласти же русской культуры их никогда и не было.
Признаюсь, что на подобные сомнения мне возразить нечего. Раз-
ве что указать на одно каверзное обстоятельство, связанное с созда-
нием работ по русской истории и культуре, впрочем не только русской,
а любой другой, не исключая и мировую.
Вроде бы совершенно очевидно, что в историческом знании, в том
числе и культурологическом, невозможно достигнуть серьезных ре-
зультатов, не будучи специалистом в своей относительно очень узкой
области. Даже такой блестящий и глубокий историк, каким был
Ж. Дюби, не просто сосредоточивал свои усилия на изучении фран-
цузского Средневековья, но и считал себя настоящим специалистом
прежде всего по французскому X —середине ХШ в. Приступая к на-
писанию своей книги «Средние века (987—1460). От Гуго Капета до
Жанны д’Арк»1, он счел необходимым это обстоятельство специаль-
но оговорить, так как в книге Ж. Дюби речь идет еще и о периоде
с XIII по XV в.
Не в том, конечно, дело, что французского исследователя ничего,
кроме IX—XII вв. не интересовало. Как раз наоборот, в его книгах
ощутим такой богатый и обширный контекст, который не может не
предполагать широкой осведомленности Дюби во всей французской,
а в значительной степени и вообще и западной истории. Однако для
него было бы недопустимым дилетантизмом стать не только читате-
лем исследований разного рода материалов за пределами XI—XII вв.,
но и автором, трактующим исторические реалии, состоявшиеся до
XI или после середины XIII в. Повторим, их он касается в контексте
своей обращенности к Франции XI—XIII в. или создавая популярную
работу для широкой публики.
Со всем необходимым пиететом относясь к творчеству одного из
крупнейших французских историков XX в., все же нельзя не задаться
вопросом: «Ну, хорошо, действительно серьезные исторические работы
могут возникнуть только под пером историков относительно узкой
специализации, однако создают-то ведь они историческое знание как
целое, возводят некоторое единое здание. Для кого же тогда строится
создаваемое ими? Не для себя же самих только?» Но тогда получает-
ся, что для читателя. Это он, бедняга, должен прочитывать глубокие
и блестящие исследования одно за другим и создавать в своей голове
историческую картину как целое. Никто тут читателю не помощник.
Во всяком случае, не историк—специалист в своей области.
В результате остается признать одно из двух. Или мы всерьез ве-
рим в возможность читателя превзойти историка в целостном пости-
1 Дюби Ж. Средние века (987—1460). От Гуго Капета до Жанны д’Арк. М., 2000.
С. 7. (далее: Дюби).
Введение
5
жении истории, или же заподозрить у историков-профессионалов не-
которого рода капитуляцию перед перспективами, ради которых
и существует историческое познание. Они едва ли не «пораженцы рода
человеческого», погружающие результаты своих изысканий в какую-
то неопределенность и бесструктурность.
Впрочем, для тех, кто не очень верит в сверхчеловеческие потен-
ции читателей исторических сочинений и кого не устраивает заведо-
мая фрагментарность результатов исторических изысканий, не скла-
дывающихся ни в какое подобие универсальной цельности, — для них
возможен, как мне представляется, третий путь. Разумеется, тоже не
безусловный, а, напротив, откровенно проблематичный по своим
ожидаемым результатам. Этот путь предполагает предоставление права
голоса читателю исторических сочинений и свидетельств. Он, читатель,
берет на себя смелость сделать все им прочитанное и худо-бедно ос-
мысленное некоторым единым текстом, книгой, которая не просто
представляет собой реакцию читателя на написанное не им, а в пер-
вую очередь является попыткой свести воедино разрозненное в дру-
гих сочинениях и свидетельствах, соотнести с собой как целым, со
своим «Я» историю как некоторое целое. Только тогда она будет для
него историей, а не историями, всякого рода бывальщинами, каждая
из которых существует сама по себе.
Слишком очевидно, в какое уязвимое положение ставит себя чита-
тель, отказывающийся быть только читателем и обнаруживающий
поползновение стать еще и «писателем». Упреки в дилетантизме—это
еще самые легкие упреки, которые его могут ожидать. Не знаю, как
насчет других, а обвинения, касающиеся дилетантизма, читателю-пи-
сателю отвести, хотя бы частично, не так уж трудно. Он не может быть
заведомо неизбежным ввиду того, что это вовсе не дилетантизм—стрем-
ление в меру своих сил увязать между собой, найти сходства в разли-
чиях всякого рода исторического материала. Если историки этим не
озабочены, не обнаруживают волю к целостности осмысления разно-
родного, то всякая попытка со стороны, не лишенная своей логики
и последовательности, становится правомерной. В конце концов «чи-
тателю», то есть тому, кто обращен к реалиям истории и культуры,
в нашем случае русской, прежде всего важно для себя разобраться
в многообразии исторической жизни, для себя решить нечто осново-
полагающее по ее поводу. Но если уж разбираться, то, наверное, с руч-
кой в руке и листом бумаги на столе. Так его разбирательства станут
более систематическими и последовательными, что-то придет на ум
и не ускользнет безвозвратно в потоке жизненных впечатлений, а бу-
дет зафиксировано, станет предпосылкой дальнейшего движения
мысли.
Понятно, что в позиции «читателя» при создании книги, посвящен-
ной русской культуре как целому, возможны промахи и недоработки
6
Русская культура в XX веке
автора в спектре от неточности и легковесности суждений до прома-
хов в конкретных логических ходах и построениях. Но такого рода
пустоты при всей их нежелательности не мешало бы воспринимать не
сами по себе, а с ясным осознанием того, что им не чуждо и жестко
профессиональное историческое знание, и не в нашей историографи-
ческой и историологической полупустыне, а там, где оно развивалось
интенсивно и в благоприятных условиях. В нем обнаруживаются мо-
менты несостоятельности и тогда, когда оно следует строгим профес-
сиональным критериям в своей обращенности к соответствующему
историческому фрагменту, и тогда, когда претендует на некоторый
универсализм.
Это обстоятельство, как минимум, оправдывает существование двух
подходов к историческому знанию. В нем должны быть представле-
ны «писатель »-исследователь, стремящийся соблюсти критерии исто-
рической научности в своем частном исследовании, и «читатель»,
предлагающий собственно читателю ту целостность, ее контур или даже
намек на нее, которые стали результатом сопряжения в своем уме
всего, известного ему по данной теме. В конце концов, и у историка,
профессионала в своей области, есть свой образ целого, в которое
входит изучаемый фрагмент. Это целое в чем-то предопределяет ре-
зультаты конкретно-исторической разработки. Но представим себе, что
такой историк попробует изложить на бумаге свое собственное пред-
ставление образа целого. Можно не сомневаться, что оно предстанет
недостаточно аргументированным, в чем-то недодуманным и легковес-
ным. Конечно, проще не подставлять себя под удары развертывани-
ем и рационализацией своих исходных представлений и интуитивных
догадок об истории в целом, но от этого они не станут полнее и ис-
тинней. Решившемуся же писать о целом, не мировой, разумеется,
а только отечественной истории, заранее приходится мириться с силь-
ной уязвимостью своей попытки. С тем, что к нему могут быть предъ-
явлены бесчисленные претензии, большую часть которых он, кстати
говоря, способен предъявить себе и сам, прекрасно сознавая всю меру
ограниченности своих возможностей в освещении такого потенциаль-
но бесконечного и неисчерпаемого предмета, которым является рус-
ская культура в ретроспективе ее тысячелетнего развития.
Поскольку же речь идет именно о русской культуре, будет совсем
не лишним предварительно охарактеризовать предмет предстоящего
рассмотрения. Его вовсе не надо понимать как одну из сфер челове-
ческой деятельности, как некоторый элемент русской жизни наряду
с другими. В том-то и дело, что изучение русской культуры по суще-
ству может касаться всего и вся, что стало русской историей, тем или
иным ее феноменом.
Никаких ограничений в обращении к историческим, точнее, к че-
ловеческим реалиям изучение русской культуры не предполагает, так
Введение
7
же как не предполагает их и изучение русской истории. И та и дру-
гая могут позволить себе быть одинаково универсальными и разно-
сторонними, решая свои задачи.
При этом речь вовсе не идет о совпадении изучения культуры
и истории, о различных словесных выражениях одной и той же ре-
альности. Сильно упрощая ситуацию, можно было бы сказать так: ис-
тория изучает в первую очередь происшедшие события, и только по-
этому тех, кто их совершил. Культурологию (историю культуры)
прежде всего интересуют субъекты исторического действия, те, кто за
этими действиями стоит, сами же события попадают в поле зрения
истории культуры лишь в той мере, в какой способны нечто прояснить
в субъектах, сделать их понятнее.
История, как таковая, тем самым динамична и событийна. История
культуры статична и тяготеет к рассмотрению не столько событий,
сколько их источников и предпосылок, находящихся в человеке, точ-
нее же, самого человека с его внутренним миром (душой) как подлин-
ной исторической реальностью. В конце концов, для истории культу-
ры события, поступки и деяния—это то, с чем она только и может
иметь дело. Только они опредмечены и доступны изучению. Но они
важны не сами по себе, а в той мере, в какой возвращают нас к сво-
ему источнику—человеку, потому что и культура, взятая как тако-
вая, —это некоторое динамическое единство внутреннего мира (души)
человека и ее выраженности вовне: в действиях и продуктах. При этом
от всякой другой человеческой реальности культура отличается тем,
что в ней происходит такого рода выражение (воплощение, опредме-
чивание), когда предметной реальностью становится нечто от челове-
ческой уникальности. Уникален, не сводим ни к кому другому и от-
дельный человек, и человеческие общности. Те из них, кто способен
воплотить себя в своей неповторимости, и образуют культуру, принад-
лежат к ней1.
Очевидно, что в нашем случае речь идет не о человеке как индиви-
де, а об определенных исторических общностях людей. На самом
высоком уровне такой общностью является русский народ, соотнесен-
ный с большим историческим временем своего более чем тысячелет-
него существования, но точно так же правомерно говорить и об общ-
ностях более низкого ранга. Скажем, о людях Киевской и Московской
Руси, так же как и Петербургской России1 2. Если в русской истории
1 По существу, в нашем понимании культурология очень близка к тому, как она
трактуется у «отца» культурфилософии О. Шпенглера в его знаменитом трактате «За-
кат Европы». С другой стороны, то, что представляет собой культурология в качест-
ве истории культуры, имеет прямое соответствие с «новой исторической школой» во
Франции с ее ориентацией на постижение прошлого с позицией ментальности неко-
гда живших людей.
2 Периодизация русской истории и культуры, которая имеет место в настоящей
книге, относится к числу давно устоявшихся, хотя и не общепризнанных.
8
Русская культура в XX веке
и культуре действительно существовали Киевская, Московская и Пе-
тербургская эпохи, то одним из свидетельств их реальности должно
быть то, что люди, жившие в эти эпохи, друг от друга отличались.
Одно дело русич киевской поры, другое—московит, и третье—русский
Петербургской России. Рассмотрение русской культуры предполага-
ет знакомство с каждой из этих коллективных исторических индиви-
дуальностей.
Но что значит познакомиться человеку с человеком? Ведь не про-
сто узнать, какая у него одежда, прическа, голос, походка, привычки
и реакции на определенные события. Подлинное знакомство предпо-
лагает осуществившуюся возможность заглянуть человеку в душу
и открыть ему свою. А это означает, что нам становится внятным, как
сам себя человек ощущает, как он относится к другим людям, суще-
ствует ли для него сверхчеловеческая реальность Бога и что она зна-
чит для человека. При всей многосмысленности и неопределенности
перечисленных признаков знакомства с человеком они, несомненно,
указывают на некоторое постижение не внешнего и поверхностного,
а собственно человеческого в человеке, его личностного ядра.
Не забудем только, что в нашем случае речь идет не о личностях-
индивидах, а о собирательных личностях, то есть о некоторой абст-
ракции. Абстракции, но не фикции, потому что людей данной эпохи
действительно многое объединяло поверх всякого рода различий
и несовместимостей. Опять-таки, не будь этого объединяющего, не
было бы и эпохи. Она стала бы такой же пустой абстракцией и фик-
цией, как и коллективная личность.
Слишком многое говорит в пользу того, что русские люди Киев-
ского, Московского или Петербургского периодов очень внятно
разнились между собой, были не только русскими, но еще и людьми
своего времени. Вряд ли они так уж легко поняли бы друг друга на
уровне слова, а главное, на уровне смыслов, довелись им встретиться
в некотором надвременном пространстве. Каждый из них действитель-
но далеко не во всем похож на другого по своим личностным харак-
теристикам, содержанием своей внутридушевной жизни и естествен-
ным для него поведенческим актам, так что к каждому из них нужно
еще пробиваться с целью знакомства и постижения. И вовсе не обя-
зательно к русичу, московиту или русскому из петербургской эпохи
как таковым.
Каждая эпоха при всей своей, впрочем, каждый раз относительной
целостности еще и дифференцирована внутри себя. В ней присутст-
вуют и заявляют себя разные культурно-исторические «персонажи» или
устойчивые типы индивидуального человеческого существования.
У той или иной эпохи набор этих персонажей свой. Одни из них ис-
торически уникальны, другие, хотя и трансформированно, сохраня-
ются от эпохи к эпохе.
Введение
9
Это обстоятельство будет нами учитываться при обращении к Ки-
евскому, Московскому и Петербургскому периодам русской истории
и культуры, о чем свидетельствует уже содержание книги. В ней ка-
ждому из главных персонажей соответствующей эпохи, уделен соот-
ветствующий раздел или его часть.
Особо следует сказать о наличии в книге глав, посвященных тем
областям культуры, которые традиционно относятся к культуре по
преимуществу. Это главы об изобразительном искусстве, словесности
и философской мысли. Они включены в книгу вовсе не для того, чтобы
дать неизбежно до предела краткий очерк соответствующего вида твор-
чества. Исполнение такой задачи заведомо было бы пустой тратой
времени. Нас же искусство, словесность, философская мысль интере-
суют как определенная реальность, характеризующая внутренний мир
русского человека.
Что в этом мире было такого своеобразного, собственно русского
в русском человеке—вот единственная задача, к решению которой
стремится в меру своих сил автор. Отсюда видимая фрагментарность
обращения к определенным памятникам и источникам. Тем не менее
это наиболее выразительные памятники и фрагменты в числе свиде-
тельств о русском человеке, хотя некоторые из них не обязательно
представляют самое совершенное и безусловное в русской культуре.
Так называемые «культурные достижения» и характерное для куль-
туры, указывающие на самое ее существо,—реальности, не всегда
совпадающие.
Как бы русская культура, взятая на всем протяжении ее существо-
вания, ни изменялась, какое бы разнообразие или противоречия ни
были ей присущи, поскольку она оставалась именно русской культу-
рой, нечто фундаментальное и непреходящее должно было объединять
ее разнообразные проявления. И не просто объединять, но быть вы-
явлено в процессе рассмотрения русской культуры. В противном случае
под взглядом исследователя она останется грудой фрагментов, неиз-
вестно почему помещенных под крышу одного понятия.
Конечно, это очень непростая задача—найти некоторую сквозную
линию и тему в тысячелетней культуре. Более того, даже обнаружив
ее, никогда нельзя быть уверенным в том, что найденная сквозная
линия и тема действительно в решающей степени важна для русской
культуры, сводит ее в некоторое единство и объясняет наиболее су-
щественное в ней. Но, с другой стороны, как иначе утвердить русскую
культуру в ее единстве, а не только в многообразии, как не рассыпать
книгу о ней на серию очерков, внутренне не связанных между собой?
Похоже, что никак. Мы попытаемся обнаружить в многообразии рус-
ской культуры некоторое единство за счет выделения ведущей и зна-
чимой темы в ней. Не то чтобы эта тема неизменно будет обнаружи-
ваться в каждой главе или параграфе книги, составлять ее жесткий
10
Русская культура в XX веке
стержень, несущий на себе всю конструкцию. Наша цель состоит в том,
чтобы вглядываться в очередную историческую реальность, не накла-
дывать на нее априорную схему, каждый раз подлежащую проверке
на новом материале, а дать этому материалу высказаться самому. На-
сколько в нем обнаруживается сквозная смысловая реальность русской
культуры, как правило, будет определяться уже после того, когда рас-
смотрение того или иного феномена завершено.
Сказанное между тем вовсе не означает, что у автора заранее не
заготовлено свое представление о сквозной и фундаментальной реаль-
ности, демонстрирующей наличие внутреннего единства в русской
культуре по ту сторону всякого рода трансформаций и преобразова-
ний. Такое представление есть и вскоре будет предъявлено читателю,
однако предварительно будет уместно продемонстрировать, хотя бы
на одном примере, уже осуществленные попытки постижения неизмен-
ной составляющей русской культуры, выражающей собой ее устойчи-
вое своеобразие и целостность.
Речь пойдет о достаточно известной и популярной на Западе, а у нас
в России недавно переведенной книге А. Безансона «Убиенный ца-
ревич. Русская культура и национальное сознание: закон и его на-
рушение». При этом единственно существенное для нас в ней—сам
принцип концептуальной выстроенности. Строится же книга А. Бе-
зансона на приложении к русской истории и культуре постулирован-
ного Фрейдом эдипова комплекса. По поводу эдипова комплекса А. Бе-
зансон, в частности, говорит: «...в конце концов, этот узел, этот
конфликт, если он существует, занимает центральное место в сущест-
вовании человека, во всяком случае, такое место в его детстве, кото-
рое является очагом памяти для взрослого, и он никогда этого не
забывает»1.
Поскольку же эдипов комплекс так значим для индивидуально-че-
ловеческого существования и к тому же человек определяется по от-
ношению к нему по-разному, почему бы не проверить вариант само-
определения внутри эдипова комплекса на русском материале. Причем
не индивидуально-биографическом, а на материале русской истории
и культуры.
Сказано—сделано, и А. Безансон последовательно и настойчиво
выявляет образы отца, матери, ребенка в самых заметных фигурах,
игравших ключевые роли на русской исторической сцене. Что в ре-
зультате из этого получилось, оставим в стороне. Отметим только, что
ход, предложенный автором «Убиенного царевича», убеждает он кого-
либо или нет, правомерен лишь при условии, что он, автор, сумеет
продемонстрировать подлинную реальность эдипова комплекса, его
1 Безансон А. Убиенный царевич. Русская культура и национальное сознание: закон*
и его нарушение. М., 1999. С. 8 (далее: Безансон).
Введение
11
укорененность в существе человеческих отношений и применимость его
равно в масштабах как семьи, так и страны и народа.
Поразительно, но сам А. Безансон в предисловии к своей работе
прямо заявляет: «Рассмотренные в этой книге тексты эдипов ключ не
„вскрывает", не выявляет раз и навсегда их единственный, подлин-
ный, глубинный смысл. Но он позволяет систематизировать тексты,
придав их набору узнаваемую конфигурацию, похожую на то, чем для
искушенного историка являются русская культура и русская история»1.
Как видим, авторские амбиции Безансона простираются не очень
далеко. Он готов довольствоваться не подлинным глубоким смыслом
русской истории и культуры, но какой-то странной и невнятной
«конфигурацией», подтверждающей уже известное в нашей истории
и культуре.
Насколько можно понять автора, он вводит в русский исторический
и культурный контекст эдипов комплекс с тем, чтобы русская исто-
рия и культура обнаружили возможность их психоаналитического
истолкования. Непонятным при этом остается, что же все-таки по-
настоящему подтверждено от проделанной Безансоном операции —
учение Фрейда и, в частности, его построения касательно эдипова
комплекса или же выявленный французским историком характер
русской истории и культуры. Ведь после прочтения книги Безансона
с равным правом можно сказать: «Смотрите, как конструктивно ра-
ботает эдипов комплекс на материале русской культуры». Или наобо-
рот: «Насколько же русская история свидетельствует о существовании
эдипова комплекса». Лучше, впрочем, не говорить ничего в подобном
духе, ввиду того, что эдипов комплекс—реальность настолько пробле-
матичная, он до такой степени запутывает простое и ясное, так же как
упрощает бесконечно сложное и глубокое, что лучше оставить его той
эпохе, в которую он был утвержден и его утверждение вызвало такой
живой и бурный отклик. Если уж Безансон связался с эдиповым
комплексом, сделал ставку на такую сомнительную реальность, то
и результаты его изысканий неизбежно будут сомнительны и пробле-
матичны. Не хочу сказать, что вовсе бессмысленны и неуместны, но
обращаться к этой реальности нужно с великой осторожностью, отчле-
няя в ней насмерть прикрепленное к эдипову комплексу от того, что
не теряет своего смысла вне всякой игры в комплексы с их инцеста-
ми, влечениями и соперничествами.
В связи с только что сказанным нельзя не отметить принципиаль-
ную и неизбывную ущербность любой попытки осмыслить русскую
историю и культуру как целое через призму определенной концепции.
Если даже она и придает им последовательность и единство, то навер-
няка за счет игнорирования или затенения одних моментов в русской
1 Безансон. С. 9.
12
Русская культура в XX веке
культуре и чрезмерного акцентирования других. Такова уж природа
универсальной концепции, что она представляет собой не более, чем
один из возможных, но сам по себе недостаточный и ущербный ра-
курс в рассмотрении сколько-нибудь многообразных и сложных яв-
лений.
Концепции такого рода, увы, только и могут строиться так, чтобы
«в них сливался с ответом вопрос». Это именно так, потому что «во-
прос» предопределяет характер ответа. Будь он положительным или
отрицательным, все равно ответ соответствует вопросу, последний же
всегда не вполне имманентен изучаемому предмету, так как исходит
не от самого предмета, а от того, кто познавательно обращен к нему.
Обращенный при этом стремится сделать так, чтобы вопрос вырастал
из глубины предмета. Однако в каждом случае он находит лишь та-
кую глубину, которая совпадает с собственной глубиной вопрошаю-
щего или близка ей.
Хотя бы частично избежать обозначенной трудности позволяет не
ставка на те или иные концептуальные построения, а опора на более
фундаментальные реальности человеческого самоощущения и мировос-
приятия. Так, если мы обратимся к восприятию западным человеком
своего исторического времени, то обнаружится, что расчленение на
Античность, Средние века и Новое время—это никакая не концепция,
а нечто более глубокое и существенное. Это способ временной ориен-
тации, имманентно характеризующей западного человека. Иначе ощу-
щать себя в историческом времени он способен лишь через самоотре-
чение или в безответственной игре первосмыслами культуры. Но точно
так же, если мы скажем, что ключевой и сквозной темой западной
истории и культуры, такой неотрывной от нее и составляющей самое
ее существо, является тема свободы, — в этом не будет никакой кон-
цептуальности, ничего от индивидуального предпочтения или индиви-
дуальных интеллектуальных усилий. Свобода—это сам западный че-
ловек, от нее он неотрывен, хочет он этого или нет. Потому он
и западный, что для него открыта реальность свободы.
На предмет этой самой реальности свободы для русской истории
и культуры и есть прямой смысл устроить им испытание и проверку.
В том, конечно, случае, если исходить из того, что русская история
и культура принадлежит Западу. Поскольку это обстоятельство несо-
мненно и легко подтверждается множеством исторических фактов
и достаточно очевидных соображений по их поводу, то наш тезис дол-
жен быть сформулирован таким образом: «Поскольку русская куль-
тура по своему характеру и существу западная, то в ней тема свобо-
ды, несомненно, проявилась достаточно внятно и вместе с тем на свой
лад, со своими русскими акцентами и нюансами. Эти акценты и ню-
ансы и будут свидетельствовать о своеобразии русской культуры в ее
фундаментальном единстве и целостности в качестве западной куль-
Введение
13
туры». Все-таки ответ на вопрос о том, какова она, русская свобода, —
это не разговор о случайном, привходящем и периферийном в нашей
истории и культуре. Свобода — реальность и тема фундаментальная
и стержневая. Какова его свобода, в чем ее своеобразие, таков и рус-
ский человек. Он такой, а не какой-нибудь другой, и только потом
выразил себя в многообразии, в том числе противоречивом, в отрече-
нии от себя, в поисках, блужданиях и срывах.
Ставка на свободу при обращении к русской истории и культуре
предполагает их постоянное сопряжение с реалиями западной истории
и культуры. Если тема свободы общезападная, то к нашей «русской
свободе» только и можно отнестись как к своеобразной вариации на
общезападную тему, тем самым своеобразие ее не в последнюю оче-
редь выявляется на общезападном фоне. Потому, по нашему мнению,
сопоставления и противопоставления Руси-России и остального Запада
не будут производить впечатления чего-то необязательного и обреме-
няющего изложение тяжеловесными привнесениями. Менее всего мы
стремимся к тому, чтобы Запад с его культурой воспринимался в ка-
честве некоторого эталона, от которого более или менее отклонилась
Русь-Россия. Запад, конечно, никакой не эталон, и все же тема сво-
боды заявлена на Западе гораздо мощней и разнообразней, чем у нас.
Этому нельзя не отдать должное, точно так же, как и не признать, что
«русская свобода» дополняет западную, что она выявляет никем бо-
лее не выраженное и тем оправдывает наше историческое существо-
вание.
Последнее из предварительных уточнений, которое автор считает
необходимым сделать во введении к своей книге, касается того, что
на него история и культура собственной страны и народа неизменно
производят впечатление некоторой заявки и обещания, которые только
заявкой и обещанием, разумеется, не остаются и все-таки очень явно
превалируют над осуществлением и воплощением. Если такое впечат-
ление верно, то в нем можно увидеть указание на некоторую несостоя-
тельность русской истории и культуры. Но можно признать их и за
способ нашего исторического и культурного бытия, в котором устрем-
ленность превалирует над достигнутым главным образом потому, что
сама эта устремленность, ее замах слишком непомерны и мало озабо-
чены наличными ресурсами.
Автору, безусловно, ближе вторая точка зрения на русскую исто-
рию и культуру. Для него поэтому констатация очередного разрыва
между заявкой-обещанием и осуществлением-воплощением—это не
оценка, а констатация. Хотя подобные констатации и могут создать
у читателя впечатление того, что он из раза в раз становится свидете-
лем одного и того же: опять русская культура до чего-то не дотяну-
ла, опять в ней не состоялось что-то, состоявшееся полно и разнооб-
разно в других западных культурах, и т. д. Такова уж Русь-Россия,
14 Русская культура в XX веке
что ее действительно «аршином общим не измерить», что «у ней осо-
бенная стать». Но, в отличие от произнесшего эти знаменитые слова
поэта, приходится констатировать, что не измеримая общим аршином,
со своей особенной статью Русь-Россия как-то не потрудилась или не
обнаружила в себе способности самой создать для себя «аршин», не-
которую внутреннюю мерку, позволяющую оценить себя и отдать
о себе отчет, глядя не со стороны и вместе с тем вполне трезво и от-
ветственно. Вот и приходится сопоставлять Русь-Россию с Западом
с неизбежным риском попасть не в тон, принять какую-нибудь нашу
драгоценную особенность за недотянутость, неудачу, тупик, блужда-
ние, и т. д. Остается утешить себя тем, что всякое непопадание в тон
проистекает от чего угодно, только не от равнодушия и тем более зло-
радства по отношению к своей истории и культуре.
Часть I
Русская культура как целое
Так или иначе в первой части настоящего исследования рассмат-
риваются проблемы, непосредственно связанные с типологией рус-
ской культуры или имеющие выходы на нее. В принципе, возможны
два подхода к типологии применительно к национальной культуре.
Первый предполагает выявление или уточнение того, как данная
национальная культура соотносится с другими национальными куль-
турами, какое место она занимает в некоторой суперэтнической
целостности. Второй отталкивается от того, что национальная куль-
тура подлежит типологизации еще изнутри, в свою очередь склады-
ваясь из определенных типов культуры. Взятые во времени, эти типы
культуры образуют еще и ее периоды. В этом случае типологизация
совпадает с периодизацией. Далее, хотя и в очень скромных преде-
лах, будут реализованы оба очерченных подхода к типологизации.
В первых трех главах—первый, в четвертой — второй подход.
Глава 1
Особенности исторического пути
Руси-России
Словосочетание, вынесенное в название настоящей главы, звучит
до такой степени узнаваемо и привычно, столько раз употреблялось
в самых разнообразных и разнородных текстах за последние 150—
170 лет, наконец, настолько «заболтано» и дискредитировало себя,
что еще надо решиться в очередной, тысячный раз ввести его в упот-
ребление. Моя решимость проистекает из того, что при известных и,
надо добавить, очень непритязательных первоначальных допущени-
ях в словосочетании «особенности исторического пути Руси-России»
нет ничего ни непомерно-претенциозного, ни пустого и эфемерного.
Одно из этих допущений сводится к тому, что у каждого из
исторических народов без исключения есть свой путь. Он может быть
пройден более или менее впечатляюще и успешно, может преждевре-
менно пресечься, однако «непутевых» народов не существует. Точнее
же будет сказать, что «непутевые» народы как раз и следует отнести
к неисторическим. То есть к тем, которые не оставили о себе памяти,
их не запомнили другие народы, не запомнили, то есть не осознали
себя, и они сами.
Разумеется, беспамятность и бессознательность любого народа
всегда относительна. Но если, скажем, некоторый народ отождеств-
лял себя с людьми, как таковыми, считая другие народы не вполне
людьми или вовсе не людьми, и к тому же не запечатлел своего
существования в письменном слове, передающемся от поколения
к поколению, то и относить его к историческим народам у нас нет
оснований. Все остальные, то есть исторические, народы, проходя
именно свой собственный путь, тем самым делают его особым. Не
обладай он своими собственными особенностями, его бы вообще не
было. Простейшая истина—невозможно не иметь своего жизненного
пути (биографии) и в то же время быть самим собой—неотменима
Особенности исторического пути Руси-России
17
как в отношении единичного человеческого существования, так и су-
ществования народа. Что касается последнего, то особенности его
исторического пути—это и есть его история. Поэтому применительно
к России словосочетание, вынесенное в название главы, могло бы
быть гораздо короче—«история Руси-России». Могло, если бы разго-
вор о своеобразии русской истории и культуры не нуждался в расста-
новке дополнительных акцентов. Тех акцентов, которые вряд ли
необходимы при обращении к историческому бытию других европей-
ских народов.
Совершенно очевидно, что каждый из них не менее индивидуален,
чем русский, и с таким же правом, как и последний, может претендо-
вать на пресловутую «самобытность». Однако индивидуальность,
особенность исторического пути, та же самая «самобытность» запад-
ных народов католически-протестантского культурного круга, суще-
ственно различающихся между собой, тем не менее позволяют гово-
рить об особенностях исторического пути России в некотором
своеобразном смысле. Применительно к западным народам есть осо-
бенности и особенности. На то они и западные народы, чтобы
образовывать не только многообразие, но и единство в многообразии.
Так вот это самое единство, в частности, может быть помыслено еще
и таким образом, что оно будет складываться из особенностей таких
западов, как католическо-протестантский и русский. Конечно же,
у нас нет ни малейших сомнений в разномасштабности двух упомя-
нутых величин. Слишком ясно, что католическо-протестантский мир
с его историей и культурой смотрится гигантом в сравнении с «пигме-
ем»—Русью-Россией. Однако и рослый атлет, и худощавый коро-
тышка-пигмей равно люди. Не включи Русь-Россию-«пигмея» в за-
падное человечество, католическо-протестантский Запад останется
неполным, недопроявленным и частичным. Пускай как часть он
и будет составлять львиную долю Запада, все равно это будет часть,
а не целое. Впрочем, Русь-Россия, разумеется, никакой не «пигмей».
Гораздо уместней в настоящем случае ее уподобление индивидуаль-
но-личностному существованию, тогда как католическо-протестант-
ского Запада—некоторому сообществу людей. Это сообщество все
равно не будет целым до тех пор, пока в него не включен каждый из
принадлежащих к нему индивидов. Один из них, Русь-Россию, нечто
отличает от других индивидов в значительно большей степени, чем
они различаются между собой. По существу, лишь это обстоятельст-
во делает особенности исторического пути Руси-России чем-то иным,
чем особенности, присущие Англии, Германии, Франции. Последние
при всей своей выраженности складываются в некоторое единство
и целостность помимо присутствия в ней русской составляющей. Как
никакую другую, ее можно соотносить не просто с теми же Англией,
Германией, Францией и т. д., ас ними, взятыми в качестве католиче-
ско-протестантского Запада, который в этом случае становится уже
не целым, а частью западной истории и культуры.
18
Русская культура как целое
Никаких преимуществ для русского народа из отмеченной ситуа-
ции вовсе не вытекает. Пускай оппозиция «Россия и Запад» несрав-
ненно более оправдана, чем оппозиция «Германия и Запад», «Фран-
ция и Запад» и т. д. Из того обстоятельства, что Русь-Россия отлична
от Германии, Франции или Англии существенней по сравнению
с отличиями между ними, было бы чрезмерно поспешным делать
выводы о нашей несравненной самобытности. Самобытность, то есть
самобытие, и особенность—реальности далеко не совпадающие. Вто-
рая из них может быть помыслена еще и как обособленность, отде-
ленность и, соответственно, внутренняя бедность замкнутого на себя
существования, лишенного преимуществ взаимодействия с его рас-
ширением собственных перспектив. Скажем, человек с выраженны-
ми физическими или умственными недостатками обособлен от других
членов своего сообщества более, чем остальные. Однако его обособ-
ленность в качестве особенности — это как раз недостаточность
и ущербность самобытности и самобытия.
Каковы же все-таки особенности исторического пути Руси-России,
тяготеет она к самобытности или ущербной обособленности—вопрос,
на который вряд ли уместно давать однозначный ответ не только
в настоящем вводном разделе книги, но и в ее итоговой части.
Аргументы в пользу одной из позиций в противовес другой потенци-
ально бесконечны в том случае, если специально заниматься их
отысканием. Поэтому гораздо конструктивнее было бы нечто иное,
а именно: вглядывание в русскую историю и культуру в поисках ее
особенностей, по возможности избегая оценок и приговоров по пово-
ду ее самобытности в качестве существа дела.
***
К существу же русской истории и культуры бесспорно относится
тот элементарно очевидный факт, что решающий импульс ее разви-
тия был дан христианизацией Руси, шедшей из Византии. У нас еще
не раз будет повод говорить о громадном несходстве между русской
и византийской культурой. В ряде случаев их просто необходимо
противопоставлять. Однако никакие несходства или противопостав-
ления не способны отменить или поколебать того фундаментального
обстоятельства, что, благодаря христианизации, с конца X в. Киев-
ская Русь вошла в тот культурный круг западных стран и народов,
центр которого был в Константинополе. Только с этого момента Русь
можно отнести к Западу, несмотря на то, что и ранее ее многое
роднило с другими европейскими народами, причем не с одними
славянами, но и с германцами.
Вполне очевидно, что христианизация Руси была едва ли не
предопределена. В действительности выбор веры Русью в лице князя
Владимира только и мог быть выбором между в ближайшей перспек-
тиве католическим Ветхим Римом и православным Новым Римом—
Константинополем. И все же несомненно и другое. Вне христианиза-
Особенности исторического пути Руси-России
19
ции Русь оставалась хотя и близкой к Западу и в своих существен-
ных проявлениях прямо западной страной, ее культурный и религи-
озный статусы оставались неустойчивыми, в чем-то даже беспомощ-
ными перед возможной экспансией других западных культур. Приняли
же ближайшие соседи восточных славян—хазары иудаизм, так от-
кровенно далекий и чуждый всему строю жизни степного тюркского
народа.
Можно тут вспомнить и венгров. Останься они навеки в Приура-
лье, невозможно представить для них иной перспективы, кроме
исламизации. Той перспективы, которой крещенные Ветхим Римом
католики-венгры упорно противостояли в промежутке между XV
и XVII столетиями. Католиками они проявили себя стойкими и вер-
ными. Выбор в пользу Запада венграми был сделан решительный
и необратимый, что с таким же основанием можно утверждать и по
поводу Руси-России, правда, в отличие от Венгрии, Русь примкнула
не к католическому, а к православному Западу. Какой из них был
«западнее» в те времена, об этом судить бессмысленно ввиду того,
что с времен разделения Римской империи на Западную и Восточную
Запад был в такой же степени един, как и двойствен. Когда Констан-
тин Великий переносил столицу на берега Босфора, не было так уж
очевидно, что Рим, этот центр империи-ойкумены, незыблемо фикси-
рован топографически. Ведь и у самого Рима на Тибре существовал
свой «первообраз» —Троя, по крайней мере в представлении самих
римлян. Ну а если так, то не была ли этим задана возможность
дальнейшего перемещения Рима в пространстве? Тем более, что
Новый Рим оказался несравненно ближе к перво-Риму—Трое по
сравнению с Ветхим Римом. От Босфора до Скамандра уже рукой
подать. Применительно к поздней Античности Рим в качестве импе-
рии и был тем, что позднее стали называть Западом или Европой.
Его такое легкое и естественное перемещение с Тибра на Босфор,
точнее же, раздвоение на Ветхий и Новый, тем самым демонстриро-
вало прежде всего «римскость» всей ойкумены, составлявшей импе-
рию. До известной степени ее центр мог быть утвержден где угодно
в пространстве от Британии до Евфрата, от Рейна и Дуная до
Сахары и Нильских порогов. В этом была бы своя, по-римски
последовательная логика.
Несколько иное дело с раздвоением Рима. В нем можно увидеть
и свидетельство трудности удержания Римом своего единства и даже
невозможность его полного осуществления. Наличие двух Римов —
несомненный знак двойственности и Рима, и империи. Но ведь Рима
же! А значит, речь нужно вести о двуединстве Запада, которое
никогда, несмотря ни на какое расхождение католического и право-
славного культурных миров, не приведет к полному распаду, так что
говорить о двух вариантах западной культуры, о двух Западах—
западном и восточном—станет бессмысленно. Оба они оставались
именно Западами. И, скажем, несомненное в каких-то проявлениях
20
Русская культура как целое
воздействие Востока в качестве исламского мира на Византию было
ничуть не значительней и существенней, чем на католические страны
Средневековья. И та и другие равно успешно включали в свое
самобытное целое различные элементы арабской культуры. В нашем
случае это очевидное обстоятельство важно в том отношении, что
позволяет с полным правом говорить о такой же исходной степени
западности Древней Руси, как, скажем, Англии, Германии, Фран-
ции. Степени, но не характере.
«Восточный Запад», к которому примкнула Русь в самом конце
X в., разительно отличается от «западного Запада» уже тем, что у
него не оказалось перспективы стабильного и длительного развития.
Вряд ли можно утверждать, что к X в. у Византии все лучшее было
позади. Нечто подобное целиком справедливо, пожалуй, только в от-
ношении византийской государственности, ее военного и политиче-
ского величия. По сравнению со временем Юстиниана Великого
границы Византийской империи и ее влияние на сопредельные стра-
ны теперь были относительно скромными и навсегда останутся тако-
выми. Более того, Византии предстояло неумолимое сокращение
территории, прерываемое только деятельностью отдельных выдаю-
щихся императоров и кратковременным подъемом византийской го-
сударственности. В конечном итоге Византия рухнула под длитель-
ным и неумолимым нажимом извне.
Для Руси-России взятие Константинополя в 1453 г. имело то
последствие, что им был поставлен под вопрос «выбор веры» конца
X в. Тогда Киевская Русь стала одной из составных частей «восточ-
ного Запада», вошла в определенное культурное сообщество. Теперь
от сообщества практически ничего не осталось. «Второй Рим» лежал
во прахе, другие страны православного культурного круга все без
исключения попали под власть магометанской Турции. Религиозные
и культурные связи с ними, конечно, не прекратились. Но говорить о
каком-либо подобии культурного сообщества там, где исчез его
жизненный центр, Новый Рим—Константинополь, а все его право-
славное окружение обречено на тяжкую борьбу за выживание, нет
никакого смысла. Теперь перед нами не культурный круг, а его
осколки. Один из них, Московская Русь, в прямую противополож-
ность остальному «восточному Западу» к моменту падения Констан-
тинополя не только не был повержен, но, напротив, набирал силы
в качестве православной державы.
Свой аналог османского завоевания мы пережили еще в ХШ в.
Для Руси-России оно оказалось преодолимым как раз к тому време-
ни, когда для остального православного мира наступало пятисотлет-
нее османское иго. Русь вроде бы стала счастливым исключением
в православном мире. Между тем «счастье» ее было очень условным
и относительным. Оказаться вне культурных сообществ во времена,
когда они давно сложились во всех регионах Евразии и в Северной
Африке, преодолевших свою первобытность, — участь вряд ли завид-
Особенности исторического пути Руси-России
21
ная. Теперь Руси предстояло быть самой для себя и культурным
сообществом, и культурным центром. Осколку только и оставалось
круглиться или изображать собой культурный круг.
Разразившаяся на Руси катастрофа или, как минимум, глубокий
и затяжной кризис культурного одиночества разительно выделяет
ее из ряда стран «западного Запада». К середине XV в. они уже
длительное время образовывали устойчивое культурное сообщество.
В прошлом (XII—XIII вв.) оно знало расцвет, теперь переживало
кризис, который, однако, обернулся кризисом роста, предвещавшим
еще один культурный подъем.
Никакая внешняя экспансия сколько-нибудь серьезно католиче-
скому Западу не угрожала, если не считать его балканскую окраину.
Экспансивен теперь был главным образом «западный Запад», в том
числе и по отношению к во многом чуждой ему православной Руси.
Впрочем, экспансия эта не была таким уж мощным и неуклонным
натиском. Хуже всего было взаимное отчуждение Руси и остального
Запада. Теперь уже не могло быть сосуществования двух культурных
миров или сообществ. До мирового сообщества Московская Русь
недотягивала, слишком скромными были ее внутренние возможно-
сти.
В XV в. сложилась по-своему парадоксальная ситуация. Остава-
ясь Западом, Русь представляла собой некоторое исключение из
правила, своего рода реликт одного из двух взаимодополняющих
Западов, чей взаимоупор, взаимодополнительность некогда составля-
ли целое западной культуры. Запад по-прежнему включал в себя
католическую (а вскоре католическо-протестантскую) и православ-
ную составляющие. Но, с другой стороны, какая же это Московская
Русь—составляющая, если ее влияние на остальной Запад отсутству-
ет и от него она стремится все более и более, хотя и не вполне
успешно, изолироваться?
Поскольку Русь в XV в. вовсе не ориентализируется, без нее
Запад как будто бы не полон и не довершен. Однако как быть тогда
с тем, что в Руси остальной Запад вовсе не нуждается, ее не знает
и не понимает, вполне органично складываясь в целостность в обра-
щенности на самого себя? Думаю, одним только образом—определив
культурное одиночество Московской Руси как исторический тупик,
как ту жизнь, которая, будучи обращена сама на себя, обречена на
умирание. Московской Руси, дай Бог, было бы продержаться самой
в своей «восточной западности», укрепить себя в ней. Сил на влия-
ние в отношении остального Запада у Московии решительно недоста-
вало. В общем-то их не хватило и на самоудержание.
Предотвратить необратимую культурную катастрофу и историче-
ское небытие можно было только за счет ориентализации, то есть
полного отказа от самой себя или же попытки сближения с «запад-
ным Западом», вхождения в его культурный круг. Поскольку в ко-
нечном счете произошло последнее, оно продемонстрировало не толь-
22
Русская культура как целое
ко неосуществимость перспективы одной Русью заменить некогда
обширный и разнообразный «восточный Запад», но и исходную
западность русской культуры. В XIX в. она вполне внятно осуществ-
ляет себя в ряду таких великих западных культур, как французская,
германская и английская, и вместе с тем Московская и Киевская Русь
не становятся для Петербургской России окончательно чуждой ре-
альностью.
***
Признание за Русью-Россией вытекающей из связи с Константино-
полем существенной особенности по сравнению со странами католи-
ческо-протестантского круга еще очень мало содержательно-конкрет-
но характеризует русскую культуру. В частности, культурное
одиночество и последующий выход из него—это реалии, скорее,
отрицательные, чем нечто утверждающие в русской культуре. Гово-
рить о них —значит ввести разговор в плоскость того, что не состоя-
лось на русской почве ввиду крушения Византии. Что же касается
прямого воздействия византийской культуры на русскую, то в пер-
вую очередь уместно остановиться на своеобразии отношений центра
и периферии на «восточном Западе». Если он и был культурным
сообществом, то жестко центрированным и субординированным. «За-
падный Запад» не знал и самого отдаленного подобия выделенности
и вознесенности одной страны и ее столицы по отношению ко всем
остальным странам культурного сообщества, такого естественного
для «восточного Запада». Разумеется, невозможно отрицать, что
неизменным духовным центром католического мира был Ветхий
Рим. Однако вовсе не Италия. И уже совсем она не в состоянии была
претендовать на роль центра империи-ойкумены, отводящую всем
остальным странам и народам удел периферии. Вспомним, что рим-
ский император на «западном Западе», пока он сохранял хотя бы
видимость претензии на безусловное преобладание над остальными
государями, только короновался в Риме, предварительно перепра-
вившись через Альпы и вскоре неизменно возвращаясь в свое герман-
ское отечество.
Византийско-константинопольская вознесенность над остальными
странами своего культурного круга менее всего означала какую-либо
подчиненность Киевской и тем более нарождающейся Московской
Руси византийскому императору. Она имела место ничуть не более,
чем зависимость, скажем, королей Арагона, Кастилии или Шотлан-
дии от римского императора. Тем более не приходится говорить даже
о тени какой-либо зависимости или неравенстве между французским
королем и римским императором. Известна формула, которой фран-
цузские короли выражали политику своего суверенитета: «император
в своем королевстве». Эту формулу короли других, менее блестящих
королевств могли и не употреблять. Но она была вполне применима
к большинству из них и, пускай молчаливо, подразумевалась.
Особенности исторического пути Руси-России
23
Иное дело Древняя Русь. Будучи в действительности совершенно
независимой от Византии в своей государственной жизни и даже
вступая с ней в конфликты, причем уже после христианизации, Русь
все же сознавала и признавала, что в мире, которому она принадле-
жит, есть только один царь и находится он вовсе не в Киеве или
каком-либо другом из главных русских городов, а в Царьграде-
Константинополе. В русских землях правили всего лишь князья или
великие князья. Вполне можно утверждать, что первоначально сла-
вянский князь по сути ничем не отличался от германского конунга.
И тот и другой в своей первобытной или полупервобытной данности
были царями, то есть властителями своего космически устроенного
мира, окруженного хаосом неустроения или недоустроения чужих
миров. Однако со временем германские конунги стали королями
стран «западного Запада», такого рода царственными особами, кото-
рые были совсем не склонны признавать над собой чью-либо более
высокую власть, пускай и утверждаемую не более чем декларативно.
Не так обстояло дело в Древней Руси. Ее князья, с одной стороны,
не знали никакого подобия вассалитета в отношениях с византийским
императором. Но была и другая сторона. Она состояла в том, что
русское слово «князь» в Древней Руси вовсе не ассоциировалось
с чьей-либо единичной персоной. В ней всегда существовали князья,
а не единственный князь. Их «княжескость» была принципиально
множественна. Быть князем означало принадлежать к роду и общно-
сти князей, а не персонифицировать собой единую и неделимую
царскую власть. В Византии она могла делиться, но только между
царствующим басилевсом и его прямым наследником-соправителем,
когда правитель выражал собой настоящее царственности, соправи-
тель же—прежде всего ее будущее. Никакого намека тем не менее на
род и корпорацию басилевсов в Византии не было именно потому,
что царственность здесь виделась во всей ее полноте и довершенности.
О Руси ничего подобного утверждать невозможно. Здесь князья
причастны царственности, но вовсе не цари. Таковыми они могли бы
быть, несмотря на свою множественность, только в языческом и,
соответственно, героическом мире, но не после принятия Русью
христианства и вхождения ее в «восточно-западный» культурный
круг. Теперь князья и вслед за ними все сколько-нибудь просвещен-
ные русские не могли не сознавать несоответствие каждого из непре-
рывно растущего множества князей достоинству и величию единст-
венного византийского царя. Ни в каких серьезных имперских
поползновениях русские князья вплоть до падения Константинополя
замечены не были. А это не может не означать хотя бы молчаливого
признания ими некоторой своей умаленности перед византийским
басилевсом, несмотря на свою полную военно-политическую и эконо-
мическую независимость от него.
Другие православные государи, к примеру сербские или болгар-
ские, по мере роста своего могущества, которое уже в силу их
24
Русская культура как целое
соседства с Византией неизбежно вело к ослаблению последней,
стремились выбиться в цари. Тем более или менее явно заменив
и заместив царя, сидевшего в Константинополе. Православный мир
если и знал, то в очень ослабленном виде ситуацию «императора
в своем королевстве». В людях жило сознание того, что императором
можно быть только в своей империи, а значит, и в своем Риме,
который плохо совместим с другими римами или исключает их.
Русские князья в подобные игры с самими собой и Византией не
играли. И не по какой-то там особой скромности и христианскому
самоумалению, а по причине живого ощущения собственной и своей
страны периферийности. В течение длительного времени Русь в цер-
ковном отношении была всего лишь одной из нескольких десятков
метрополий одного из четырех православных патриархатов. До паде-
ния Константинополя своим очень непритязательным местом в пра-
вославной иерархии Русь удовлетворялась точно так же, как и не-
притязательностью титулов своих правителей. Со временем эта
непритязательность окончательно обнажится. К примеру, тогда, ко-
гда само собой очевидным станет, что титул и сан великого князя
литовского, аналогичный русскому великокняжескому титулу и сану,
уступает тому, который носит властитель Польши. В Польше правил
король, великие же князья литовские совсем не прочь были бы стать
королями. Но вовсе не наоборот. Немыслимо стремление польских
королей повысить свой статут до великокняжеского.
Вряд ли за отсутствием притязаний русских князей на царскую
корону в восточно-западном смысле стояло одно ощущение перифе-
рийности Руси по отношению к Византии и Константинополю. То,
как воспринимали русские люди Византию и ее императора, позволя-
ет говорить еще и об известной отчужденности от них. Для русских
Константинополь не только был Царьградом и Римом, но еще и при-
надлежал грекам. Римское в значительной степени совпадало с грече-
ским. Но от этого греческое становилось римским, то есть ойкумени-
ческим, ничуть не больше, чем приватизировалось, усыхало до
этнического римское. Для русских греки—это учителя и наставники,
но еще и иноземцы, народ среди народов. В отличие от «восточного
Запада» «западный Запад» не знал такой же прикрепленности рим-
ского экуменического к этническому. С Римом не отождествлялась
равно ни Италия, ни Германия, хотя на территории последней
возникло государственное образование, со временем получившее на-
звание Священной Римской империи германской нации. Никакой
претензии на то, чтобы отождествить себя с римлянами, между тем,
германцы не выказывали. В «римскости» они видели свою миссию
народа «принцепса», если воспользоваться традиционным древне-
римским словосочетанием. У германцев в их собственных глазах
была миссия, роль, функция римлян в ее собственно имперской
составляющей. От этого «римлянами», то есть людьми католического
Запада, не переставали быть ни французы, ни англичане, ни даже
Особенности исторического пути Руси-России
25
какие-нибудь совсем уж периферийные португальцы или венгры. Де-
юре Римская империя на «западном Западе» никогда не прекращала
своего существования, объемля собой все страны и народы мира в их
противопоставленности антимиру язычества и схизмы. «Восточный
Запад» сохранил империю и де-юре, и де-факто, но, чем далее, тем
более имперское и собственно греческое сближались и совпадали, не
позволяя Древней Руси, будь у нее подобное стремление, ощутить
себя Римом, а русским людям—римлянами. Русь оставалась Русью,
римлянами же были греки. Тесная, неразрывная связь между теми
и другими все же существовала, но это была связь, скорее, родства,
чем единения. Точнее же будет сказать, что единение существовало
на уровне религиозном, родство же распространялось на культуру.
Киево-печерский монах мог чувствовать себя на Афоне в домашней
обстановке. Но ничего нет более далекого от действительности, чем
предположение о возможности для русского высокопросвещенного
монаха преподавать в высшей школе Константинополя. Для визан-
тийцев, да и на самом деле, русские оставались по сравнению с ними
детьми по уму, к тому же нас разъединял язык образованности,
несмотря на полную зависимость по этому пункту русских учеников
от учителей-византийцев. Любой составляющий его народ, не исклю-
чая такого отдаленного, как скажем, ирландцы, с самого начала
христианского «западного Запада» в лице своих клириков и монахов
был допущен в святая святых западной образованности и культуры.
На протяжении многих столетий так называемая национальная при-
надлежность и ученые штудии никак между собой не были связаны.
Нечто подобное Древней Руси оставалось вполне чуждо. Русскому
человеку нужно было стать вполне греком, лишь тогда он был своим
в «высокой» ученой культуре. Не будет большого преувеличения
в утверждении о том, что Древняя Русь была относительно обособле-
на от центра своего исконного культурного круга, а не только со
временем станет представителем особой исключительной западности
на фоне общности остального «западного Запада». В «восточном»
культурном сообществе в силу своеобразия его устроения нужно
было или быть византийцем, или не вполне принадлежать к сообще-
ству. Так что наша русская инакость в сравнении с остальным
Западом была подготовлена и существовала в своих гораздо более
мягких формах еще до наступления кризиса культурного одиночества.
***
На упомянутую инакость указывает еще одно решающее обстоя-
тельство исторического и культурного бытия Руси. Она была не
только географической окраиной Запада, таковой может быть при-
знана и Византия со времен успешного арабского и тем более турец-
кого натиска. Вплоть до XVIII в. Русь оставалась для Запада еще
и крайним форпостом на его восточном рубеже. Более или менее
успешно она сдерживала натиск с Востока. Отношения со степью для
26
Русская культура как целое
Руси большую часть ее исторического пути оставались вопросом
жизни и смерти. Такая действительно «пограничная» ситуация не
могла пройти для страны и народа даром, не обособив их от других
западных стран и народов. Запад, как таковой, в течение столетий
существовал в ситуации давления на него со стороны как географиче-
ского востока, так и Востока в культурно-историческом смысле. Уже
в V в. до Р. X. Восток проник в самую сердцевину еще только
нарождавшегося Запада—крошечную в пространстве Древнюю Гре-
цию. В VIII в. натиск Востока пришлось отражать в будущем самой
западной по местоположению и культуре стране—Франции, которая,
правда, тогда еще была полуварварским королевством франков.
Обыкновенно же натиск Востока и с Востока сдерживался окраинны-
ми державами. Практически все они в определенный момент не
смогли устоять под натиском и попадали под власть противника.
Падение оказалось необратимой реальностью для Византии.
А вот, скажем, страны, расположенные на противоположных кон-
цах Европы, — Испания и Русь-Россия, — хотя и находились длитель-
ное время под пятой Востока, все же смогли отстоять свою политиче-
скую независимость и культурную западность. Это сходство, впрочем,
не должно отодвигать на второй план и огромное различие между
Испанией и Русью-Россией. Для первой покорение означало ислами-
зацию первоначально почти всей территории, тогда как Русь целиком
сохранила у себя веру предков. Но с другой стороны, Русь признала
над собой верховенство Орды, Испания же в тех ее первоначально
очень незначительных частях, которые оставались незахваченными
врагом, оказывала ему упорное сопротивление. Применительно к ней
можно себе представить все что угодно, только не поездку короля
Кастилии, Леона, Арагоны, Наварры в Кордову для получения из
рук халифа королевского титула или его подтверждения. Испания
или растворялась в арабско-мусульманском мире, или же неукосни-
тельно противостояла ему.
Великая странность существования Руси под ордынским игом
состояла в том, что Орда не присоединила к себе русские земли.
Какие княжества составляли домонгольскую Русь, те и сохранились
после татаро-монгольского нашествия. Изменения здесь происходили
лишь в результате экспансии с Запада, а также внутрирусских
процессов. Особенно поражает то, что Орда сохраняла сложившуюся
до нее субординацию княжеской власти. Она решительно ничего не
имела против наличия общерусского великого княжения, пускай оно
и свелось к первенствованию в одной Северо-Восточной Руси. Воль-
но или невольно получалось так, что Русь по-прежнему образовыва-
ла свой особый мир с номинально первенствовавшим светским гла-
вой—великим князем и уже далеко не номинально возглавлявшим
духовную власть митрополитом. И все же этот мир каким-то стран-
ным и противоестественным образом входил в мир радикально чуж-
дой и враждебной ему Орды. Степень отчуждения Руси от последней
Особенности исторического пути Руси-России
27
ни в какое сравнение не идет с тем отчуждением, которое существова-
ло между Русью и Византией. Византия была учителем ученика-
Руси, за ней оставалось достоинство отцовства, хотя ребенок ей
достался строптивый и с трудом поддающийся воспитанию. Орда для
Руси всегда оставалась «проклятою Ордой», антимиром, начинав-
шимся в степи сразу же за русскими пределами. И тем не менее Русь
признавала, что в своей ставке—Сарае находился ордынский царь,
бывший царем еще и по отношению к Руси. Признание за ордынским
ханом царского достоинства, учитывая, что на Руси правили лишь
князья, не могло не означать, что ордынский царь таковым являлся
и для Руси. Хотя бы и в ограниченном смысле. Византийский баси-
левс для русских был царем уже потому, что они не думали с ним
равняться саном и не могли не ощущать его превосходства, тем более
что в Константинополе-Царьграде находился еще и верховный ду-
ховный пастырь русских — Константинопольский патриарх.
Все это, разумеется, ничуть не напоминает связи Руси с Ордой.
Но и в этом случае, поскольку Ордой правит именно царь, он не мог
не приниматься русскими еще и в качестве позитивного, устроитель-
ного начала. Царь всегда в чем-то космичен и сакрален. Им центри-
руется жизнь страны и народа, от него исходит высший на земле суд.
Каковы были ордынский царский суд и устроение, хорошо известно.
Но поневоле принимая их, Русь не могла в чем-то не отрекаться от
себя. Ее отречение вовсе не было уступкой Востоку, некоторой
ориентализацией культуры. Напомним, что Орда принимает ислам
только в начале XIV в., до этого оставаясь языческой. Но исламиза-
ция не сделала из нее сколько-нибудь внятную и последовательную
носительницу исламского духа. Идея священной войны—джихада,
скажем, оставалась вполне чуждой Орде. Для нее война с Русью,
набеги на ее земли и перманентный их грабеж вполне укладывались
в первобытную языческую схематику само- и мироощущения. Для
первобытного язычника мир чужих (племен, народов) был антими-
ром хаоса, всяческого неустроения и угрозы своему космически
устроенному миру. Поэтому война с чужими, их угнетение и подавле-
ние были внутренне оправданы и естественны. Признавать со сторо-
ны Руси власть, подобную ордынской, со всеми ее первобытно-
языческими реалиями не могло не быть актом известного
самоотрицания, не культурной переориентацией, а, скорее, провалом
в пустоту и небытие. Понятно, что в признании ордынской власти
в качестве царской русская культура не повергалась в чистое ничто.
Она оставалась русской культурой и в то же время получала привив-
ку небытия. Для обозначения складывавшейся ситуации существует
очень привычный и вместе с тем достаточно точный термин варвари-
зация.
Это, кажется, давно изжитый предрассудок, что варварство пред-
шествует культуре. Когда-то его с легким сердцем относили к перво-
бытности в качестве некоторого предкулыурного состояния. В дейст-
28
Русская культура как целое
вительности культуре предшествует не варварство, а культ как та же
самая культура, но осознающая собственным источником сферу са-
крального, усматривающая собственные импульсы исключительно
в этой сфере. По своей сути варварство есть посткультура, культура,
становящаяся ниже самой себя, движущаяся или приходящая к само-
отрицанию. Для Руси оно наступало не просто тогда, когда очеред-
ной русский князь получал ярлык на княжение или великое княже-
ние от ордынского хана-царя. Это действие выражало собой реальность
фундаментальную, имеющую едва ли не универсальное продолжение
в русской жизни. Представим себе: для Руси царственно-устроитель-
ное начало исходило из точно того же места, что и самые страшные
и разрушительные действия. Более того, недовершенная и частичная
царственность русских князей благословлялась едва ли не из самой
сердцевины небытия. В итоге царственность как устроительность не
могла не быть родственной самой страшной и всеобъемлющей разру-
хе. Если это не сползание в варварство, то что же?
Во второй половине XVI в. недоброй памяти царь Иван Василье-
вич совершил один шаг, который даже на фоне других чудачеств,
какими бы сбивающими с толку они ни были, все же поражает своей
странностью. Я имею в виду возведение Иваном IV на московский
трон татарского князя Симеона Бекбулатовича. Понятно, что ника-
кой реальной властью «царь» Симеон не обладал. Исследователи
легко обнаружили в «царствовании» Симеона Бекбулатовича дейст-
вие смехового и карнавального начала. С такой постановкой вопроса
остается согласиться. И все же смех смехом, но как-то ведь пришло
в голову нашему страшному и преступному царю, «царю Ироду»
спустя почти сто лет после окончания татарского ига возобновить,
пускай карнавальное, но все же татарское царствование над Русью.
Кривляясь, переворачивая и выворачивая наизнанку образ царской
власти, Иван IV не только кривлялся, переворачивал и выворачивал-
ся наизнанку. Он еще и добирался до существа и центра того, чем
была длительное время царская власть в пределах Руси.
Иван IV сознавал себя первым русским царем и помазанником
Божиим, но он же нюхом чуял тот дух небытия, который, несмотря
ни на что, исходил от царской власти. Татарская выучка не прошла
даром. Она сказалась в восприятии неотъемлемой от русской царст-
венности ее теневой стороны. Но разве образ царя не концентрирует
в себе всю жизнь и культуру страны, с которой он соотнесен, не
является самой этой жизнью и культурой, особым образом прелом-
ленной? Поскольку это именно так, в настоящем случае можно
и нужно говорить о царе с чертами небытия-варварства в стране,
слишком хорошо знающей по собственному опыту, что такое небытие
и варварство. Гораздо лучше, чем ее «западно-западные» ближайшие
и более отдаленные соседи.
Там варваризация находится у истоков возникновения западных
народов с их культурами. Она стала итогом разрушения Римской
Особенности исторического пути Руси-России
29
империи германцами, хлынувшими в ее пределы, прорвав оборони-
тельные сооружения на Рейне и Дунае. Варваризация при этом
коснулась и населения Pax Romana (Римского мира), и поселивших-
ся на его территории германцев. Варваризовалась не только поздне-
античная культура, но и полупервобытная культура древних герман-
цев. Варварство как отрицание более высоких форм жизни в пользу
более низких преобладало на «западном Западе» в промежутке
между VI и VIII вв. Постепенное его преодоление, несмотря ни на
какие откатные импульсы, было основной тенденцией развития «за-
падно-западной» культуры. У нас же, на русских землях, варвариза-
ция культуры разразилась на пути, все далее уводившем Русь от
собственной первобытности и полупервобытности. Она исказила наш
исторический путь, сделала его неустойчивым и проблематичным.
Прежде всего с варварским элементом как началом неустойчивости,
переменчивости, растерянности, безответности и невменяемости в рус-
ской душе связана и в определенной степени сливается с ним еще
одна особенность русского исторического пути. Я имею в виду его
пресловутый катастрофизм.
В самом деле, о катастрофизме русской истории кто только не
писал. Не заметить его или не согласиться с чужой констатацией
катастрофизма просто невозможно. Русская история и культура если
и образуют некую непрерывность, то она все же очень относительна
ввиду того, что Русь-Россия пережила несколько катаклизмов, из
которых она каждый раз выбиралась с трудом и сильно изменив-
шись. В высшей степени характерно при этом, что только первая
катастрофа—татаро-монгольское нашествие и последующее иго при-
шли на Русь извне. Позднейшие катастрофы: и опричнина со Смут-
ным временем, и петровские преобразования, и октябрьский перево-
рот 1917 г. с последующей Гражданской войной—это уже реальности,
возникшие внутри русской жизни, они наше собственное порожде-
ние. Не каждая из четырех катастроф была чистым отрицанием
Руси-России и ее культуры. Однако в каждой из них момент надви-
гающегося небытия неизменно присутствовал.
Татаро-монгольское нашествие и покорение Руси носили такие
крайние по своей безудержной жестокости формы, что под вопрос
было поставлено историческое бытие страны и народа. Длительное
время он сохранялся в ситуации длящегося крушения, когда некото-
рое восстановление сил, строя и лада жизни происходили как будто
для того, чтобы дать пищу неизменной жестокости и зверству. Жизнь
под татарским игом образовывала некоторый замкнутый круг. По-
скольку она была жизнью, возобновляющейся лишь для того, чтобы
захватчикам было на кого направить свои разрушительные и мертвя-
щие импульсы, то и существовала она не столько для самой себя,
сколько для противоположного ей небытия. Не будучи источником
татарского нашествия и ига, безмерно страдая от него, Русь невольно
еще и участвовала в разразившемся хаосе, воплощая его собой.
30
Русская культура как целое
Иными словами, катастрофа была реальностью и внешней, и внут-
ренней по отношению к Руси.
Следующая катастрофа—опричнина и Смутное время—стали уже
чисто внутренним явлением русской жизни. Особенно поражает
характер катастрофы, связанный с опричниной. Тем, в первую оче-
редь, что она стала подобием татарского нашествия и татарского ига.
Опричнина отличалась от них не размахом разрушений и жестоко-
сти, а тем, что «татарами» здесь стали сами русские люди. Теперь
Русь в лице царя и его опричников произвела завоевание самой себя
и установила собственное иго над собой. Произошло страшное и ди-
кое самоотчуждение Руси. В еще более широких масштабах оно
повторилось в русской Смуте начала XVII в. Сколько угодно можно
обнаруживать предпосылок и обстоятельств, толкнувших Русь в Смуту.
Как и в случае с опричниной, в ней останется некоторый и очень
существенный иррациональный остаток. И та и другая слишком
выбиваются из любой возможной логики и целесообразности. Оприч-
ниной и Смутой и логика, и целесообразность были отменены. Над
ними восторжествовала воля к бесформенности и распаду. Ни к ка-
ким противоречиям между социальными группами, ни к какой борь-
бе противоположно направленных интересов их не свести. Конечно
же, и противоречия и борьба имели место, но их носители и участни-
ки, будучи втянуты в конфликт, утратили всякий контроль над
событиями. Все поглотила бессмыслица происходящего.
На фоне предыдущих катастрофа петровских преобразований вы-
глядит как сам порядок и разумность. Петр Великий хорошо знал,
чего хочет и к чему стремится. Но и в его преобразованиях было
слишком многое от самоотрицания, от нежелания оставить Русь-
Россию самой собой. Крутые и резкие перемены в русской жизни не
могли стать полным отречением страны и народа от самого себя. Но
импульс самоотречения в петровских преобразованиях мощно давал
о себе знать. В это время произошла именно катастрофа Московской
Руси, за счет которой возникла Петербургская Россия, а вовсе не
переход от одной эпохи к другой.
Уже достаточно давно принято утверждать, что новизну петров-
ских преобразований нельзя преувеличивать, как это часто делали
русские историки (и не только они) в XIX в. На самом деле преобра-
зования рубежа XVII—XVIII вв. были подготовлены еще в царство-
вание Алексея Михайловича, а в чем-то по существу, и начались.
Наверное, в таком общем виде подобное утверждение вполне спра-
ведливо.
Скажем, в военном деле перемены были разительными еще до
Петра I. Наше войско очень многое заимствовало у европейских
армий. Да и иностранцев на русскую военную службу Алексей
Михайлович принимал едва ли менее охотно и масштабно, чем его
великий преемник. Однако нанимаемые Алексеем Михайловичем
иностранцы при этом жили своей замкнутой жизнью. Они придержи-
Особенности исторического пути Руси-России
31
вались своих западных обыкновений, вполне чуждых тому, чем жила
Московская Русь. Петр же вознамерился, и не без успеха, подтянуть
до немецкой слободы всю остальную Русь, во всяком случае, Русь
дворянскую и городскую. Согласимся, разница между отцом и сыном
здесь огромная. Алексей Михайлович не хотел никаких переворотов
и отречений. Как раз того, что было так близко душе Петра Велико-
го. Он вынес приговор Московской Руси и, насколько это было в его
силах, осуществил его. Осуществил не полностью. Опять-таки, если
возвращаться к критике взгляда на петровские преобразования, гос-
подствовавшего в XIX в., то нельзя не согласиться, хотя бы частич-
но, что большую часть XVIII в. многие традиции XVII в. не столько
были искоренены, сколько трансформированы или даже не более чем
декорированы на новый лад. Новизна, однако, была в самом глав-
ном—в новой устремленности культуры. Теперь она в своей основ-
ной тенденции равнялась не на свое прошлое, а на западное настоя-
щее. Согласиться сбрить бороды, надеть напудренные парики
и камзолы, прицепить шпаги и остаться душой в Московии было
в принципе невозможно. Катастрофа все-таки произошла. Пускай
она и не уничтожила всецело Московскую Русь, а только повергла
ее, обрекла на остаточное существование.
Прервем наше предварительное обращение к катастрофам русской
истории и культуры. Пока для нас важна не полнота их списка,
а само наличие и какая-то неизбывная прикрепленность катастроф
к нашему историческому бытию и культуре. Наряду с культурным
одиночеством и варварством русский катастрофизм придает особен-
ность нашему историческому пути по сравнению с «западным Запа-
дом». Однако до сих пор речь в настоящей главе шла, по существу,
исключительно о том, чего в русской истории и культуре недостает
в отличие от католическо-протестантского Запада. Ведь и культурное
одиночество, и варварство, и катастрофизм—это ограничители куль-
туры, то, что ставит ее под угрозу и открывает перед ней перспективу
ухода в небытие. Но тогда вырисовывается вполне однозначный
итог: особенности исторического пути Руси-России сводятся к ее
обособленности и отчужденности от Запада. С одним Западом—
восточным — она поневоле была вынуждена расстаться, до другого —
западного—недотягивает. Известную обособленность русская исто-
рия и культура действительно демонстрируют. А она всегда связана
с ограниченностью и узостью, нереализованностью того, что могло
бы состояться.
Чтобы заведомо не сводить особенности исторического пути Руси-
России к его ущербности, неполноте и недовоплощенности русской
культуры, необходимо указать на такое состоявшееся и утвердитель-
но-позитивное в культуре, которое присуще именно нам и которого
лишен вовсе или в такой же полноте «западный Запад». Подлинно
существенной и вместе с тем впрямую сопоставимой с западными
реалиями здесь была бы такая тема в культуре, которая, несомненно,
32
Русская культура как целое
является общезападной доминантой, определяя собой самые разные
жизненные реалии Запада, как такового, и в то же время нашла у нас
вполне своеобразную разработку. Совершенно несомненно, что такой
не просто темой среди прочих тем, а именно доминирующей и опре-
деляющей будет тема свободы. Вне ее ни Запад в целом, ни «запад-
ный Запад» в частности немыслимы. Как же обстоит дело со свобо-
дой на нашей, отечественной почве, об этом речь уже в следующей
главе.
Глава 2
Русская культура и свобода.
Предварительные замечания
Применительно к «западному Западу» давно уже утвердилось пред-
ставление о самой тесной связи свободы с индивидуальным самоут-
верждением, которое в новоевропейскую эпоху приобретает характер
индивидуализма. Индивидуализм не такая уж самоочевидная реаль-
ность, как это может показаться. Ограничимся, однако, указанием на
то, что в нем обязательно присутствует акцент на свободе в ее
обращенности на индивида. В том отношении, что в свободе человек
осуществляет себя не только автономно и ответственно, но и для себя
же. По принципу «мое действие должно иметь высшей целью меня
же». Другие при этом не исключаются, а напротив, даже подразуме-
ваются. По отношению к ним есть обязанности, долг и т. п. Тем не
менее в исполнении обязанностей, долга человек индивидуалистиче-
ской ориентации рассчитывает прийти к самому себе, занят собой
и определяющим все остальное результатом видит самого себя.
Хорошо это или плохо, но русский человек заявлял о себе на
протяжении тысячелетней истории страны и не как индивидуально
себя утверждающий и не как индивидуалист свободы. Точнее же
будет сказать, что он нередко бывал и тем и другим. Но это не был
для него путь свободы и самоутверждения, индивидуализм не обра-
зовывал на русской почве устойчивой культурной формы. В итоге
слишком многое оставалось от страсти, стихийного порыва и невме-
няемости. В конце концов «индивидуалистом» может быть признано
животное. Только его «индивидуализм» сводится к осуществлению
самости, такого «хочу», за которым ни в малейшей степени не стоит
ничего личностного.
Свобода в той мере, в какой она осуществлялась в пределах Руси-
России и была образованием автохтонным и органичным, имела
другой смысл, в ней было акцентировано совсем не то, что в западной
34
Русская культура как целое
свободе в ее средневековой и новоевропейской транскрипциях. До
известной степени русскую свободу можно противопоставить запад-
ной, но только при этом обязательным будет требование избежать
сворачивания на давно наезженную колею, когда западному индиви-
дуализму противоположна наша русская соборность. Не то, чтобы
она была вовсе чужда Руси-России, но тема соборности имеет в рус-
ском контексте двоякий смысл.
Соборность—это реальность церковной жизни. Говоря о соборно-
сти в церковном смысле, мы подразумеваем такие реалии, как «там
где двое или трое во имя Мое, там и Я с вами» (Иисус Христос) или
«всяческое во всех» (апостол Павел). Здесь соборность подразумева-
ет единение всего церковного народа, но обретаемое не просто друг
в друге, а, в первую очередь, через разомкнутость к Богу. О такой
соборности уместно говорить как о райском состоянии, вершинах
святости или же об участии в таинствах. По сути, соборность и есть
церковность. Вспомним, что по-гречески «церковь»—это экклесия,
то есть собрание. Так что пребывание в Церкви и есть соборность.
Однако слово это было выдвинуто на передний план и акцентировано
А. С. Хомяковым настолько, что в нем увидели чуть ли не открове-
ние, во всяком случае некоторый новый дополнительный смысл.
Совершенно не случайно оно впервые так громко, а главное, претен-
циозно прозвучало из славянофильских уст. Хомякову заявлять, что
Русь-Россия в своей подлинности и есть Церковь, означало бы
сильно хватить через край. Введение же образа соборности позволя-
ло вовремя остановиться при превознесении Руси. Видя в ней неко-
гда воплощенную соборность, Хомяков и указывал на ее глубинную
православность, если не прямо святость, отделяя этим от остального
православного мира по критерию первенствования и, самое главное,
противопоставляя Русь Западу. Запад в этом случае предстоял как
мир индивидуального самоутверждения. Соборная же Русь—в каче-
стве мира, в котором противоположенности индивидуального и обще-
го не существовало. Они органически переходили одно в другое.
В соборной Руси не подавлялась индивидуальность и в то же время
был положен незыблемый предел индивидуальному произволу. Тако-
ва была схематика А. С. Хомякова. Принять ее с чистым сердцем
можно было бы лишь при одном условии, а именно: закрывая глаза
на то, что свою соборность Хомяков намечтал, утверждая, с его точки
зрения, должное состояние Древней Руси как сущее. Отсюда воз-
можность противоположений или оппозиций западных и русских
реалий. Нам же закрывать глаза на то, что соборность в качестве
действительности русской истории и культуры—это дым, мечтание,
а индивидуализм—вполне конкретная и воплотившаяся в западной
культуре тема, было бы совершенно непозволительно.
Если в качестве русского эквивалента и транскрипции свободы
противополагать западной индивидуалистической свободе нечто дей-
ствительно состоявшееся и многократно выразившее себя, то обра-
Русская культура и свобода. Предварительные замечания
35
титься придется к реальности очень далекой от соборности и на этот
раз не мистической, а вполне посюсторонней. Первое приближение
к «нашей» свободе предполагает возобновление схематики, привыч-
ной и очевидной донельзя. Я имею в виду различение в свободе
«свободы для» и «свободы от». Очевидно, что любое свободное
действие содержит в себе как один, так и другой моменты. Однако
в индивидуалистической свободе акцентирован все-таки момент «для».
Ведь индивидуалистическое действие автономно, его источник в са-
мом индивиде, и вместе с тем это действие осуществляется для того,
в чем индивид видит свою цель.
Обратившись к «русской свободе», необходимо принять во внимание
ее не столько катафатическую (утвердительную), сколько апофатиче-
скую (отрицательную) направленность. Она состоит прежде всего
в обнаружении несводимости индивида к собственным воплощениям.
Русскому человеку в высшей степени свойственно и в Киевскую,
и в Московскую, и в Петербургскую эпоху ощущение того, что весь
его жизненный путь с его приобретениями, даже самыми несомненными
и значительными, — это если не прямо тщета, то во всяком случае не
то, с чем он намертво сросся, от чего не отрывен ни при каких об-
стоятельствах. В конце концов, в своей последней сути он голый че-
ловек на голой земле. В человеке далее неразложим он сам в своем
«я есть». Все остальное с него может быть совлечено собственными
усилиями или внешними обстоятельствами. Реализуя себя, человек
воплощает как бы не вполне себя. Сам он в своей последней сущест-
венности неотмирен. И Богу русский человек готов предъявить не
столько свои дела и даже не свою веру, а себя, как такового. Не
скажу, в полной растерянности и неопределенности, но все же
с вопросом: «Отчего это все сложилось так, как оно сложилось?» —
он сам, вот этот человек и весь мир, с которым он соотнесен. Во всем
этом есть какое-то недоумение и недоверие к воплощенному.
Западный человек обращен к Богу совсем не так. Мы сильно
упростим дело, если решим, что со своим самовоплощением и самосо-
зиданием своего мира он ищет своего оправдания перед Богом
и признания своих заслуг. Нечто подобное еще возможно. Но возмо-
жен и порыв веры, ощущающий тщету человеческого. Тогда достоин-
ство в глазах западного человека имеет сама устремленность к Богу
в сознании своего фундаментального и неизбывного недостоинства.
И в одном, и в другом случае все равно присутствует достаточно
чуждый русскому человеку активизм. Он-то предъявляет Богу не
дела, не веру и упование, а себя, как такового. Все, что русский
человек может произнести перед ликом Творца, укладывается в по-
добные слова: «Это я, Господи». От Бога ожидается не только суд,
но и снятие пронизывающего всю человеческую душу до самого ее
дна недоумения по поводу себя самой и всего остального. Человече-
ская свобода от всего и вся, подразумеваемая русским человеком,
должна быть наполнена Богом. Вот когда он услышит ангелов
36
Русская культура как целое
и увидит небо в алмазах, тогда наступит полнота и неизменность. Не
человеческой воплощенности и осуществленности, а скорее полнота,
позволим себе такой плеоназм, наполненности.
Будет не вполне точным утверждать, что «русская свобода» всегда
откровенно и внятно религиозна и выражает собой православный
опыт. Наверное, в настоящем случае имеет место нечто автохтонно-
русское. Оно определило собой свои русские акценты в православии,
но может обнаруживаться и за пределами непосредственно религиоз-
ного опыта. В частности, проговоренное не чуждо и отношениям
между людьми тогда, когда их соотнесенность с Богом не выходит на
передний план или вовсе не сознается. Знаменитая, в том числе
и печально, способность русского человека раскрыть душу, выло-
жить все, что в ней накопилось самого заветного, первому встречно-
му,—что это, как не освобождение, пускай и на короткое время, от
всего состоявшегося и осуществленного? Оно не удерживается в себе
как ноша. Может быть, тяжкий груз, но еще и долг и ответствен-
ность. В самораскрытии груз до некоторой степени перекладывается
на слушателя.
Главное же состоит в том, что раскрывающий душу своими излия-
ниями не отвечает за себя. Он замещает ответственность облегчением
души. Ответственность ведь предполагает бытие в постоянной готов-
ности ответить за себя перед ближним и Богом, а тут отвечать некому
и не за что. Ответ упрежден самоотстранением непрошенной испове-
ди. Задавать вопросы раскрывающему душу уместно лишь в целях
уточнения того, о чем идет речь. Оценки, суд здесь совершенно не
к месту. Если что и может оказаться уместным, когда рассказчик не
чрезмерно и подавляюще разговорчив, так это ответить ему встреч-
ным раскрытием души. Тогда произойдет уже обоюдное самоотстра-
нение и освобождение от себя. Два русских человека обретут свободу
по ту сторону прожитой ими жизни. В ней они не растворились, не
стали своим прошлым без остатка. Но и будущее не сулит ничего,
кроме новых самовоплощений, которые не станут тобой и за которые
лучше не отвечать, а, не дожидаясь вопросов, упредить ответ на них
ни к чему не обязывающим раскрытием души.
Более внятно тема свободы в ее русской транскрипции и с русски-
ми акцентами может быть выявлена при обращении к конкретным
текстам, за которыми стоит жизненный опыт того или иного русского
человека. Из всего многообразия текстов, соответствующих заявлен-
ной теме, целесообразным, наверное, будет выбрать достаточно раз-
нородные и к тому же представляющие различные эпохи русской
истории и культуры.
* * *
За Киевскую Русь в нашем случае отвечать будет один из ее самых
достойных представителей—Владимир Мономах. Он был князем не
только доблестным, но и преуспевшим во всех своих начинаниях
Русская культура и свобода. Предварительные замечания
37
и прославившимся так, как очень немногие князья Древней Руси.
К концу жизни Киевскому князю Владимиру Мономаху было чем
гордиться. Однако гордость в его знаменитом «Поучении» как раз
ощутима очень мало. Данное обстоятельство можно объяснить жан-
ром поучения. В нем непременно обязателен тон христианского
благочестия, предполагающий самоумаление поучающего. Для хри-
стианина существует лишь один подлинный наставник и учитель—
Бог. Поэтому всякое наставление и поучение стремится продемонст-
рировать не собственную мудрость их автора, а мудрость
Божественную.
Сам же наставник и учитель всего лишь посредник в передаче
Божественной мудрости. Он такой же грешник, как и наставляемые
им. Отсюда смирение поучающего. Таковым Владимир Мономах
выступает в своем «Поучении» множество раз. Но сквозь его тради-
ционное, ввиду своей обязательности еще и стилизованное смирение
и самоумаление у Владимира Мономаха проступает и другое. Какая-
то уж очень спокойная и бесстрастная констатация того, как жил, чем
занимался и что свершил за свою, по тем временам долгую жизнь
князь. А в его чрезвычайно динамичной и бурной жизни бывало
всякое.
Приступая к повествованию о своих деяниях Владимир Мономах
так обращается к читателям: «А теперь поведаю вам, дети мои,
о труде своем, как трудился я в разъездах и на охотах с тринадцати
лет»1. Далее в «Поучении» следуют упоминания того, куда ходил
князь походами. Были же они двоякого рода: направленными против
своих соперников—князей Рюрикова дома и против половцев. Тон,
которым Владимир Мономах рассказывает о том, что происходило во
время его походов, на удивление отстраненный. У него нет ни
раскаяния, ни сожалений, ни, напротив, довольства и радости от
содеянного. Он как будто стоит по ту сторону добра и зла. Но вряд
ли от какой-то странной для нас индифферентности и бесчувственно-
сти. Нет, Владимир Мономах смотрит на прожитую жизнь именно со
стороны. Что было, то было, и ничего тут не поделаешь. Остается
только вглядываться в прожитую жизнь, едва ли не удивляясь
случавшемуся в ней. Не удивляясь, конечно, но и не допуская даже
малейшего намека на то, что все могло бы быть иначе. Вот автор
«Поучения» вспоминает о своих отношениях с половецкими князья-
ми: «И миров заключил с половецкими князьями без одного два-
дцать, и при отце и без отца, а раздаривал много скота и много
одежды своей. И отпустил из оков лучших князей половецких
столько: Шару каневых двух братьев, Багу барсовых трех, Осеневых
братьев четырех, а всего других лучших князей сто. А самих князей
Бог живыми в руки давал: Коксусь с сыном, Аклан Бурчевич,
1 Поучение Владимира Мономаха//Изборник (Сборник произведений литерату-
ры Древней Руси). М., 1969. С. 157 (далее: Поучение Владимира Мономаха).
38
Русская культура как целое
таревский князь Азгулуй, и иных витязей молодых пятнадцать, этих
я, приведя живых, иссек и бросил в ту речку Сальню. А врозь
перебил в то время около двухсот лучших мужей»1.
Отчего Владимир Мономах одних половцев щадил и даже благо-
детельствовал им, других же беспощадно уничтожал, об этом у него
ни слова. Это явно для Мономаха не имеет особого значения, да
и забыть некогда существенные обстоятельства через столько лет
можно. Забыл Мономах мотивы своих действий или помнил, в лю-
бом случае они для него несущественны. Констатируя происшедшее,
из своего далека он вглядывается в себя приблизительно так же, как
вглядывался бы в чужого.
От себя Мономах отстранен и свободен. Но не в том смысле, что
счеты с собой сведены, что человек прошел трудный путь восхожде-
ния и преображения и теперь способен удивляться и недоумевать
тому, каким он был прежде. Эпическое спокойствие Владимира
Мономаха говорит о другом. Думаю, что не о каком-то бесчувствии
и безответственности, а о реалиях более приемлемых и отрадных.
В частности, и о способности оторваться от себя, не сливаясь со
своими поступками, быть значимей и реальней их. Мономахова
свобода где-то в промежутке, середине между восхождением-преоб-
ражением души и ее безответственностью-бесчувствием в отношении
себя. Во всяком случае, эта свобода дает ясность взгляда, она чужда
пристрастности к себе.
От происшедшего и содеянного Мономах не отворачивается, ка-
ким бы оно ни было. Хотя бы в этом отношении он дышит воздухом
свободы. Ему не нужно ни преуменьшать, ни преувеличивать свои
«труды». Мономахом найдена, а точнее, в нем органически присутст-
вует та мера человеческого, которая равно несводима ни к самоутвер-
ждению и самовозвеличиванию, ни к самоуничижению и рабству.
Между ними достигнута удивительная золотая середина, отодвигаю-
щая в стороны крайности человеческих порывов и состояний.
Примером сказанному могут быть такие строки «Поучения»: «А вот
как я трудился, охотясь: и пока сидел в Чернигове, и из Чернигова
выйдя, и до этого года—по сотне загонял и брал без трудов, не
считая другой охоты, вне Турова, где с отцом охотился на всякого
зверя.
А вот, что я в Чернигове делал: коней диких своими руками связал
я в пущах десять и двадцать, живых коней помимо того, разъезжая
по равнине, ловил своими руками тех же коней диких. Два тура
метали меня рогами вместе с конем, олень меня один бодал, а из двух
лосей один ногами топтал, другой рогами бодал. Вепрь у меня
с бедра меч сорвал, медведь мне у колена потник укусил, лютый
зверь вскочил ко мне на бедра и коня со мной опрокинул, а Бог
сохранил меня невредимым. И с коня много падал, голову себе
1 Поучение Владимира Мономаха. С. 163.
Русская культура и свобода. Предварительные замечания
39
дважды разбивал, и руки и ноги свои повреждал—в юности своей
повреждал, не дорожа жизнью своею, не щадя головы своей»1.
Владимир Мономах вроде бы не без гордости поведал читателям
о своих поистине царских и героических охотах. Но странное дело:
большая часть приведенного отрывка повествования посвящена не
тому, что Мономах делал с животными, а тому, что они с ним делали.
В центре его внимания не столько собственный напор и активизм,
сколько претерпевание. Второе дополняет и едва ли не перевешивает
первое. В результате же перед нами картина, далекая от безоглядно-
го и неизменно победоносного самоутверждения. Безоглядность
у Мономаха, может быть, и присутствует, но его охотничьи порывы
встречают достойный отпор. Мир зверей, на которых охотился князь,
не так уж податлив. Он еще как дает о себе знать Владимиру
Мономаху. Не случайно его рассказ о своих охотничьих подвигах
плавно переходит в повествование о действиях животных. Каждая из
сторон проявила себя с мощью и размахом. Отсюда впечатление
о том, что человеческое, каким бы доблестным оно ни было, имеет
свои пределы. Мономах вполне героически не щадил своей жизни, но
и жизнь в лице зверей не щадила его.
Итоговый же эффект вовсе не героичен, если под последним
понимать безусловное самоутверждение в гибели и вопреки ей. Сво-
бода покупается Мономахом иной ценой. Она в осознании им своей
человечности и одновременно пределов человеческого. Эти пределы
сознает не герой-сверхчеловек, утвердивший себя по ту сторону
человеческих возможностей, а человек же, но такой, который в пре-
делах человеческого смотрит на себя как из некоторой новой реаль-
ности. У Мономаха присутствует живое ощущение себя человеком
как таковым. Для князя высшие последние реалии воплотятся не
в нем самом и не через него.
Такую позицию легко сблизить с христианскими реалиями. И Мо-
номах дает для этого основания, когда поучает читателей в духе
традиционного и стандартного благочестия: «А мы что такое, люди
грешные и худые? Сегодня живы, а завтра мертвы, сегодня в славе
и чести, а завтра в гробу и забыты. Другие собранное нами раз-
делят»1 2. Подобные слова можно произнести, будучи вполне чуждым
их духу, не проникаясь ими и не выражая в них опыт пережитого.
Но вот перед нами фрагмент из обращения Владимира Мономаха
к своему непримиримому сопернику, Олегу Святославичу: «Если же
я лгу, то Бог мне судья и крест честной! Если же в том состоит грех
мой, что на тебя пошел к Чернигову из-за язычников, я в том каюсь,
о том я не раз братии своей говорил и еще Богу поведал, ибо
я человек»3.
1 Поучение Владимира Мономаха. С. 163.
2 Там же. С. 165.
3Там же. С. 167.
40
Русская культура как целое
На этот раз Мономах предстает перед нами в конкретной и жиз-
ненно важной для него ситуации. В ней ощущение своей человече-
ской малости и неправоты дается уже не так легко. Как-никак
уничижаться приходится перед лицом злейшего врага. Впрочем,
никакого унижения нет. Обращенное к врагу раскаяние содержит
в себе признание Мономахом греха перед Олегом. Да, он согрешил
перед ним, но не как худший перед лучшим, а как человек. Это
человеческое, слишком человеческое—грешить. В настоящем случае
грех на совести Владимира, значит, ему и каяться. И не только перед
Олегом, а прежде всего перед лицом Бога. Именно это обстоятельст-
во оставляет грех грехом и не приводит к самоотрицанию одного
князя, обращенного к другому.
Владимир Мономах свободен ввиду возможности отстраниться от
своих поступков, подобающих и неподобающих. Но этим он не
зачеркивает свою состоявшуюся жизнь, повергая ее в ничтожество
и сохраняя только реальность собственной личности в качестве заве-
домо бытийственно невоплотимого начала. Мономах отдает себя или
предполагает над собой суд Божий. Бог будет судить человека по
делам, стало быть, он воспринимает их всерьез. Предваряющее же
суд самоотстранение и освобождение от себя—это некоторое предва-
рение суда. Но человек ждет его не как зритель. От зрителя в нем
способность увидеть себя не включенным в собственные поступки.
Что же они значат, как к ним отнестись, знает во всей полноте один
только Бог. И может быть, суд его будет смягчен тем, что совершив-
ший эти поступки способен увидеть их без пристрастия, что они не
растворили в себе человека, сделав подсудимого безвозвратно погиб-
шей душой. Владимир Мономах—это живая душа, его свобода от
себя состоявшегося обещает такую встречу с Богом, которая положи-
тельно и во всей довершенности наполнит пока еще отрицательную
Мономахову свободу.
***
В пределах русской культуры ничего более противостоящего «По-
учению Владимира Мономаха», чем роман Ф. М. Достоевского «Иди-
от» наверняка помыслить невозможно. Кажется, их сопоставление
и даже противопоставление по чисто формальным моментам неиз-
бежно будет натяжкой или слишком откровенно претенциозной поту-
гой. Ведь, в принципе, противопоставить и сопоставить можно что
угодно и с чем угодно. Да только смысл какой-то в этом есть лишь
тогда, когда от сближения или противопоставления сопрягаемые
реальности взаимно проясняются или проясняют нечто третье. Риск-
нем предположить, что обращение к «Идиоту» Достоевского в сопря-
жении с «Поучением Владимира Мономаха» нечто дополнительно
выяснит и продемонстрирует касательно русской свободы. Во всяком
случае, послужит дополнительным аргументом в пользу действитель-
ности о ней уже заявленного.
Русская культура и свобода. Предварительные замечания
41
Собственно, во всем обширном романе нас будет касаться лишь
одна из его линий. И даже не линия, а ее завершение. Речь пойдет
о финальном эпизоде отношений князя Льва Николаевича Мышкина
и Парфена Рогожина. Этим людям только и встретиться бы случайно
в поезде и завести ту самую особую русскую беседу, в которой
«раскрывают душу» с тем, чтобы больше никогда друг друга не
увидеть и друг о друге не услышать. По Достоевскому все обернулось
совсем иначе. Вся их дальнейшая жизнь вплоть до безумия князя
и каторги Парфена оказалась связанной неразрывно. Намертво свя-
зала их Настасья Филипповна. Некоторое время они, хотя бы с внеш-
ней стороны, были каким-то подобием соперников. Во всяком случае,
мятущаяся душа Настасьи Филипповны попеременно рвалась то
к одному, то к другому. Выбор князя Льва Николаевича непременно
предполагал порыв к Парфену Рогожину, и, разумеется, наоборот.
Но вот Парфен наконец останавливает маятник. Удар ножом
в сердце кладет конец изнутри незавершимым метаниям Настасьи
Филипповны. Кто он теперь, Парфен Рогожин? Преступник, убий-
ца, поправший закон Божеский и человеческий? Куда, между тем,
направляется он из своего кабинета, где, прикрытая простыней (под
которой клеенка, чтобы не было трупного запаха), лежит убитая
Настасья Филипповна? Почему-то на поиски князя Льва Николаеви-
ча. И вовсе не затем, чтобы убить и его. Не может быть речи
и о раскаянии, очередном излиянии изболевшейся души. Какое тут
раскаяние, когда все так непоправимо ужасно, кто его примет и кому
оно теперь поможет? Парфен знает, и знает непреложно, тем знани-
ем, в котором не надо отдавать себе отчета, что князь, только он
один, все поймет. С ним убийца в самое страшное для него время не
будет один.
В этом своем знании Парфен не ошибется. Но ведь он-то только
что убил невесту Льва Николаевича, убежавшую от жениха из-под
венца. Странно это все до невозможности. Невозможное, однако,
осуществляется как нечто само собой разумеющееся. Разыскав князя,
Парфен приводит его в своей кабинет. Вспомним, зачем: «Ночь мы
здесь заночуем, вместе,—говорит, обращаясь к князю, убийца.—
Постели, окромя той, тут нет (на ней лежит труп Настасьи Филиппов-
ны. —Авт.), рядом и постелю, и тебе и мне, так чтобы вместе»1. Это
убийца-то, совершивший свое преступление всего только этим же
утром, вознамерился провести ночь рядом с женихом убитой и ее
телом! Парфена не просто тянет ко Льву Николаевичу, отчего «он
непременно хотел постлать теперь рядом». Когда постель была кое-
как устроена, Рогожин «подошел к князю, нежно и восторженно взял
его за руку, приподнял и подвел к постели...»* 2 Что-то же стоит за
'Достоевский Ф. М. Собр. соч. в 10 т. Т. 6. М., 1957. С. 688 (далее: Достоев-
ский).
2 Там же. С. 689.
42
Русская культура как целое
этим «нежно и восторженно»! Так же как и за поведением Льва
Николаевича. После того как Рогожин заснул на своем странном
ложе, «князь смотрел и ждал; время шло, начинало светать. Рогожин
изредка и вдруг начинал иногда бормотать, громко, резко и бессвяз-
но; начинал вскрикивать и смеяться; князь протягивал к нему тогда
свою дрожащую руку и тихо дотрогивался... до его волос, гладил их
и гладил его щеки... Между тем совсем рассвело; наконец, он прилег
на подушку, как бы совсем уже в бессилии и в отчаянии, и прижался
своим лицом к бледному и неподвижному лицу Рогожина...»1
Решить, что для Рогожина и Льва Николаевича никакого преступ-
ления не было, что не произошло ничего непоправимо ужасного,
у нас нет никаких оснований. Напротив, происшедшее убийство для
них все оттенило кромешным ужасом, оно так мистически ужасно,
что ни один, ни другой не способен смотреть на происшедшее. Князь
и Парфен льнут друг к другу в поисках, увы, уже невозможного
утешения. Теперь как будто нет убийцы, отнявшего невесту у жени-
ха. Перед лицом свершившегося оба они подавлены чем-то неизмери-
мо превосходящим их. Никакое человеческое действие не способно
ничего поправить. Да и каким может быть оно? Ну, осудят Парфена
Рогожина на пятнадцать лет каторги, понесет он свое немалое наказа-
ние. Какое это будет иметь отношение к тому, что произошло между
ним и Настасьей Филипповной в рогожинском кабинете? Какое-то,
наверное, будет, но в нем не предвидится ничего разрешающего
и отменяющего совершенное.
В душе Парфена Рогожина разгорается неугасимым пламенем
мысль о том, что для него все пропало и он совсем пропал. Пока
всякая попытка его раскаяния будет пустой и лживой потугой смяг-
чить ужас греха. Пока остается вглядываться в происшедшее в по-
пытке понять, действительно понять, что же произошло. Объяснять
это князю Льву Николаевичу не надо. У него можно попросить молча
помощи. Вдвоем вглядеться все же легче. Парфен прекрасно знает,
что князь ему поможет, чем сможет. Это такая чистая, ясная и от-
крытая душа. Само его присутствие у порога смерти хоть в чем-то
рассеивает надвигающийся мрак и морок. А если не рассеивает, то
дает возможность забыться, уйти в спасительное для организма
«воспаление мозга». Помощь же от князя приходит потому, что он
слишком знает, как непереносимо ужасно теперь Парфену, ему
несравненно хуже, чем Льву Николаевичу. Только к утру невмоготу
стало и самому князю, отчего он и «прижался своим лицом к бледно-
му и неподвижному лицу Рогожина», тем получив и от него поддержку.
Слишком это по-русски, встречать беду вместе. Как никто другой
на Западе, русский знает, насколько нехорошо быть человеку одно-
му. Теме «вместе» или хотя бы «вдвоем» еще придет свое время.
Пока же обратимся к свободе. Но о ней ли сейчас вспоминать, она ли
1 Достоевский. С. 691.
Русская культура и свобода. Предварительные замечания
43
идет на ум, когда читаешь заключительные страницы романа Досто-
евского? Понятно, что не она одна. И все-таки и она тоже.
Когда произошло то, что произошло, и Парфен Рогожин стал
убийцей существа, которое любил всеми силами своей темной души,
он, если воспользоваться традиционной и устойчивой для западного
человека формулой, проявил себя «рабом своих страстей». Да, фор-
мула более чем привычна и стандартна, но от этого вовсе не бессмыс-
ленна. Куда же еще рухнул убийца Парфен, как не в бездну
несвободы. Несвободен он был, убивая, несвободным оставался
и обуреваемый домыслами, которые терзали его душу. Далее же
говорить об одном лишь рабстве я бы поостерегся. Ведь стремление
Парфена найти князя и привести его в свой дом—это не только
полное доверие к способности князя понять все происшедшее. Это
еще и молчаливое предположение, что Рогожин-убийца и тот, кто
идет к князю, — не совсем один и тот же человек. Парфен ведет князя
в свой кабинет как будто для того, чтобы показать князю, что
натворил тот, другой Парфен. Здесь, конечно, не освобождение. Оно
ужаснуло бы нас своей легкостью, но и не полное растворение
в своей преступности. Князь Мышкин очень хорошо знает, что
Парфен не только преступник. И идет он домой уже не к преступни-
ку, а к тому Парфену—живой душе, которой нужно как-то пережить
свое преступление.
Для обоих случилось огромное и непоправимое несчастье, и уже не
так важно, кто его совершил. Важнее само происшествие, важнее,
наконец, сама Настасья Филипповна. Пребывание рядом с ее те-
лом—это ведь какая-то отчаянная и безумная попытка сделать быв-
шее небывшим: «Вот лежит она на рогожинской кровати, а тут под
самым боком устроимся мы, тоже ляжем и тоже уснем. Никого
к Настасье Филипповне не подпустим, так и будем лежать все трое.
Глядишь, там все как-нибудь и устроится».
Такая логика вовсе не чужда как Парфену, так и князю. Они
равно хотят одного, чтобы убийства как бы и не было, а если
Настасья Филипповна и заснула вечным сном, то и нам нужно
каким-то образом погрузиться в вечный сон. Тогда никто никого не
убивал, тогда придет освобождение от мрака случившегося.
Можно не сомневаться, что и Настасья Филипповна, будь она на
это способна, несмотря на свою смерть, тоже и так же поняла бы
ситуацию. Тогда их было бы трое, тех, кто бывшее делает небывшим,
изгоняет бывшее, отделяя себя от него. Пусть его, пускай оно уйдет
куда-то туда, откуда нет возврата.
Увы, свобода, воздухом которой дышат Парфен Рогожин и князь
Лев Николаевич, бессильна, она ничего не утверждает действием.
В ней только и есть отстранение от содеянного. В этой свободе
акцентирована способность человеческой души остаться живой, не-
смотря ни на что. В том числе и на ту смерть, которую она сама
несет. С этой свободой ничего не сделаешь, никак ее не уловишь,
44
Русская культура как целое
всецело растворив в рабстве и смерти греха. Но в ней, этой свободе,
зато и не преодолеть ни рабства, ни смерти. Каждый остается при
своем интересе. Рабство и смерть может забрать в человеке все, чем
бы он себя ни заявил и ни выразил. Свободу же, несмотря ни на что,
сохраняет сама человеческая душа. Душа бесконечно претерпеваю-
щая, но и обладающая бесконечными возможностями свободы от
претерпеваемого.
***
Легко создается впечатление, что «русская свобода» в ее невопло-
тимости бесконечно уступает западной свободе самоутверждения
и индивидуализма. Последняя заявила и обнаружила себя, создав
целый мир, настолько изобильный и плотный, что воплощенное в нем
буквально теснится, одно наступает и громоздится на другое, ищет
незанятого еще места, не найдя его, надстраивается над воплощен-
ным, перестраивает выстроенное и т. д. У нашего воплотившегося
мира и намека нет на западную плотность и изобильность. Тем
поразительнее, что при нашей бедности и беззаботности по части
воплощения созданное так часто близко к совершенству или открыва-
ет такую захватывающую дух и бесконечную перспективу. Более
весомый упрек «русской свободе» состоит, наверное, не в ее невопло-
тимости, а в том, как легко она срывается в хаос, загул, буйство
и бунт неизвестно против кого. Что есть, то есть, и тут будет о чем
поговорить в дальнейшем.
Но много слов можно было бы сказать, да они и сказаны, об
издержках западной свободы. Не касаясь ни одной из них в отдель-
ности, укажем все-таки на то, что свобода, акцентирующая автоном-
ное, из себя исходящее действие и его результат, который принимает-
ся, в том числе и в плане ответственности за него,—такая свобода
в принципе не может не тяготеть к некоторой застойности, узости
горизонта и самодовольству.
И потом, это вовсе не наша мысль, что-де вот есть русский человек
с его неизбывным ощущением дистанции ко всему воплощенно чело-
веческому и западный, осуществляющий себя как будто резкими
ударами топора, идущий напролом без всякого подозрения об отно-
сительности и условности всяческих человеческих воплощений. На
самом деле наше противоположение двух свобод—это предваритель-
ная схема, требующая уточнений и конкретизаций. Без них она очень
немногого стоит.
К «русской свободе» у нас еще будет повод не раз вернуться. Что
же касается свободы западной, то по ее поводу нужно сделать хотя
бы одно уточнение. Связано оно с образом Фауста, и прежде всего
с его гетевским воплощением. Отталкиваясь от этого образа, О. Шпенг-
лер, как известно, счел возможным обозначить всю западную культу-
ру как фаустовскую. Но Гете-то в Фаусте как раз и делает ударение
на его невоплотимости, бесконечной устремленности вдаль, когда все
Русская культура и свобода. Предварительные замечания
45
конечное и ставшее не только не удовлетворяет, но и оставляет
ощущение горечи и пустоты, инициирующее все новые порывы,
уводящие от уже воплощенного. Разве «фаустовская душа» в этом
никак не напоминает «русскую душу» с ее ничем не отменимой
невоплотимостью?
В том и дело, что есть невоплотимость и невоплотимость. Фауст
в своем порыве и в своей неудовлетворенности только и стремится
к полноте воплощения. Его муки от того, что вожделенная цель
каждый раз не достигается. Он настолько разуверился в возможно-
сти полноты воплощения, что готов сделать ставку на собственную
невоплотимость в бесконечно опасной и смертельной игре с Мефисто-
фелем. И что же, каждый из них выигрывает свою партию. Мефисто-
фель потому, что Фауст произнес-таки свое «Остановись, мгнове-
нье!». «Остановись» здесь означает, что вот она, достигнутая полнота
и блаженство, порывы и метания духа могут быть прекращены,
своими поисками и усилиями Фауст довершил себя в абсолютном
воплощении. Но не в проигрыше и Фауст. Ведь он как-никак
абсолютизировал свой порыв, воплотил свою невоплотимость.
Для русского ума и души игра, затеянная Мефистофелем и Фау-
стом, остается вполне чуждой уже потому, что русский человек не
ищет воплощения себя во всей своей полноте и безостаточности.
Договор русского Фауста с Мефистофелем был бы лишен всякого
смысла уже потому, что Мефистофелю было бы никак не искусить
Фауста воплощениями. Обрусев, последний заранее знал бы, что не
в свободе собственного поиска нужно искать полноту жизни. Сво-
бода наступает для русского человека менее всего в процессе осуще-
ствления того, к чему он стремится, и не в самом осуществлении
цели. Мефистофелю русский Фауст предъявил бы требование вполне
в духе известной руссокй сказки «поди туда, не знаю куда, принеси
то, не знаю что». Причем в итоге должна наступить вожделенная
полнота.
И не по возможности полноты и окончательности воплощения
тоскует русская душа, не от неосуществимости своих устремлений.
Не склонная рассчитывать на самое себя, она не ждет и помощника
себе. Фаусту Мефистофель все же соработник. Так, он всячески
помогает ему овладеть Маргаритой. Собственно, в их отношения он
не входит, всякие поползновения на этот счет получают резкий
и презрительный отпор Фауста.
Никакого отпора от русского Фауста быть не может уже потому,
что с дьяволом он договора не заключит. И не в боязни греха здесь
дело. На договор еще нужно решиться. Его заключение предполага-
ет, что ты очень хорошо знаешь, чего тебе нужно от жизни. Такого
рода знания русскому Фаусту как раз и недоставало бы. Доверять же
Мефистофелю не только исполнение желаний, но и сами желания—
это уж слишком. В результате договора с Мефистофелем Фауст
преобретает невиданную свободу самоосуществления, теперь в его
46
Русская культура как целое
распоряжении все мыслимые средства реализации своих целей в этом
мире.
«Неотмирность» русской свободы здесь ни при чем, поскольку она
предполагает не действие в мире, а принятие какого-то нового мира.
Он должен обнаружить себя как захватывающая дух полнота, кото-
рая безусловно вбирает в себя человека. Разумеется, ничего подобно-
го никакой Мефистофель русскому Фаусту предложить не может.
Состоявшийся разговор о «русской свободе»—это только подступ
к теме, к тому, что, в частности, лежит в основании особенностей
исторического пути Руси-России. Сам этот путь нам еще предстоит
рассмотреть более конкретно. Лишь тогда станут возможными итого-
вые характеристики русской культуры в аспекте ключевой для всего
Запада темы свободы.
Глава 3
Русская культура и природа
Поставленная в ряд других западных стран Русь-Россия буквально
поражает своими размерами. Причем о ее громадных размерах умест-
но говорить применительно лишь к одной территории. Население
Руси-России в сопоставлении ее с другими странами Запада вряд ли
способно поразить воображение. Скажем, в канун монгольского
нашествия, когда территория русских княжеств превышала террито-
рии самых крупных государственных образований в несколько раз,
совокупное население их, напротив, оставалось в несколько раз
меньшим по численности, чем, к примеру, население Французского
королевства.
Французские историки, оценивая число жителей Франции первой
трети XIII в., определяют его в промежутке между 20—23 миллиона-
ми человек. Последняя оценка, хотя и поддержанная таким автори-
тетным историком-медиевистом, как Ж. Дюби1, выглядит совсем уже
неправдоподобно и, похоже, преувеличена приблизительно в два
раза. Но если даже во Франции начала царствования Людовика
Святого проживало около 12 миллионов жителей при площади коро-
левства в 450 тысяч квадратных километров, то плотность ее населе-
ния не идет ни в какое сравнение с плотностью населения даже самых
заселенных русских княжеств. Вряд ли на территории Киевской
Руси накануне монгольского нашествия проживало более 3 миллио-
нов человек. Скорее всего, даже меньше. И это при том, что террито-
рия русских земель той поры приближалась к 2 миллионам квадрат-
ных километров. Конечно, сюда входил и почти безлюдный по
европейским меркам новгородско-русский север. Но и исключив его
из рассмотрения, все равно мы получим плотность населения в не-
1 Дюби. С. 331.
48
Русская культура как целое
сколько человек на квадратный километр, то есть на порядок ниже,
чем в той же Франции.
Ситуация сохранялась в своей основе такой же и в последующие
века. Так, население Московского царства XVII в. приближалось
уже к 10 миллионам человек. Но и территория его расширилась
неимоверно. Несмотря на потерю Западной и Юго-Западной Руси,
Московская Русь включила в себя пространства, несопоставимо бо-
лее обширные в сравнении с потерянными. Правда, многие миллио-
ны квадратных километров составляли Север и особенно Сибирь с их
более чем редким населением. Однако наряду с ними русскими
людьми осваивалось плодородное Среднее Поволжье с прилегающи-
ми землями, частично и лесостепь юга России. В результате, хотя
в хорошо обжитых и относительно плодородных землях плотность
населения по сравнению с временами Киевской Руси возросла в не-
сколько раз, она оставалась относительно очень незначительной. В то
время как во Франции Людовика XIV в среднем на квадратный
километр приходилось не менее 40 человек, в обжитых районах
Московской Руси оно нигде так и не достигло 10 человек.
Отмеченная географическая и демографическая реалия русской
жизни не могла не сказываться на самоощущении русского человека.
Для него природа, соотнесенность с ней заведомо не могли значить
совершенно то же самое, что для француза, итальянца или англича-
нина. Если проговаривать самое очевидное, то нельзя не отметить,
что плотность населения в несколько человек на квадратный кило-
метр создает совсем иной баланс между культурой и природой по
сравнению с плотностью в десятки человек на квадратный километр.
В первом случае природы будет несоизмеримо «больше», чем культу-
ры. Скажем, значительно реже и отдаленнее будут располагаться
друг от друга поселения, к тому же численность проживающих в них
людей так же не может не разниться и т. п.
Обратившись к доступной нам и очень приблизительной стати-
стике, мы обнаружим, что в Киевской Руси один только Киев с его
сорока тысячами жителей мог претендовать на статут очень крупного
по западным меркам XIII в. города. С двадцатитысячным Новго-
родом дело обстояло уже проблематичней. Конечно, и двадцать
тысяч не мало там, где средний город насчитывал всего несколько
тысяч жителей. Но, с другой стороны, на Западе XIII в. уже су-
ществовали стотысячный Лондон или Милан. В Париже, Неаполе,
Венеции проживало от ста пятидесяти до двухсот тысяч жителей. Вот
это действительно были города-«мегаполисы», с которыми наш Киев
не шел ни в какое сравнение. Его место было где-то поблизости
от провинциальных Руана, Лиона, Бордо, если брать только Фран-
цию. Да и то сказать, упомянутый Руан, хотя и может быть по-
ставлен рядом с Киевом, но исключительно как «старший брат». Все-
таки проживало в нем в полтора—два раза больше жителей, чем
в Киеве.
Русская культура и природа
49
О Московской и тем более промежуточной удельной Руси второй
половины XIII—XIV вв. нечего и говорить. Одна только Москва со
временем выбьется в огромные и по западным меркам города.
Но возьмем для примера долговременного соперника Москвы—
Тверь. В свое время у нее был шанс сделать Русь не Московской,
а Тверской. И что же, этот большой, один из главных на всей Руси
город во времена своего процветания едва ли имел более пяти—шести
тысяч жителей. На Западе с такими размерами не прославишься и не
станешь столицей крупного государства, определяющего судьбы боль-
шой страны.
Были, правда, исключения. К их числу относится Виттенберг.
В самом начале XVI в. он становится столицей курфюршества Сак-
сонского, в это время одного из крупнейших и влиятельнейших
княжеств Священной Римской империи германской нации. В качест-
ве своей столицы Виттенберг избрал курфюрст Фридрих Мудрый.
Но избирал себе столицу он из ряда городов с невысокой численно-
стью населения. Его относительно густо населенное и процветающее
государство отличалось тем, что в нем существовало множество
сравнительно небольших городов. По-настоящему крупные города
располагались в Швабии, Франконии, землях Нижней Саксонии, но
не в его стране. Вот Фридрих и сделал свой выбор из городов
с равными возможностями. Однако достаточно быстро государство
Фридриха Мудрого распалось на совсем уже незначительные образо-
вания, и о Виттенберге забыли бы все, кроме его жителей и ближай-
шего окружения города. Забыли, если бы Виттенберг не отметил
своим присутствием Мартин Лютер и не сделал его первым очагом
Реформации. Тверь, в отличие от Виттенберга, оставалась значитель-
ным и заметным русским городом и в Московской Руси, и в Петер-
бургской России, хотя ее население заметно не менялось вплоть до
XVIII в.
Незначительность населения русских городов сочеталась с их
чрезвычайной, по западным меркам, редкостью1. Расстояние между
городами Древней Руси, даже исключая Север и только еще осваи-
ваемый восток Поволжья, Заволжья, Урала и Сибири, как правило,
достигало многих десятков, а то и сотен километров. Крошечные
обычно города терялись в сельской, а в значительной своей части
и безлюдной местности. Так, вошедший в состав Руси очень рано (по
преданию, в Белозерске княжил еще брат Рюрика), Белозерский
край, а затем Белозерское княжество и снова край-уезд по своим
размерам приближался к 50 тысячам квадратных километров. Он не
был густо заселен, заметно уступая в этом отношении Ярославской
1 Любопытно, что варяги, жители совсем редко населенного Скандинавского
севера, где не было даже небольших городов, называли Русь Гардарикой—страной
городов. Знания варягов о Русской земле ограничивались водными путями, на
которых и размещались наиболее крупные поселения. Отсюда их оценка Руси,
невероятная для немца, итальянца, англичанина или француза.
50
Русская культура как целое
земле или Тверскому княжеству. Но и к безлюдному Северу Белозер-
ский край не отнесешь. Так вот, в этом краю и в киевские и в москов-
ские времена устойчиво существовал всего-то один город—Белоозеро
(с 1777 г. Белозерск).
Если посмотреть на отечественные карты удельной и Московской
Руси, то на них, правда, иногда указаны помимо Белоозера еще
и Устюжна, Железопольская, Кириллов, Белое Село, Волок Словин-
ский, Пошехонье. Но не стоит так уж доверять широко распростра-
ненным картам. Они сильно преувеличивают. В действительности
в качестве городов на них отмечают село вокруг монастыря (Кирил-
лов), погост и перевалочный пункт (Волок Словинский) и княже-
скую резиденцию (Белое Село). В какой-то мере на статут города
могли бы претендовать относительно поздно возникшие Пошехонье
и Устюжна. Однако их размеры настолько невелики, что даже по
очень скромным западным средневековым критериям их в лучшем
случае можно признать за нечто среднее между городом и селом.
А вот Белоозеро—крошечный, но город. Единственный, повторим,
в краю, который, между прочим, размерами с целое западное коро-
левство Богемию. В Богемии, правда, городов многие десятки. При-
чем в одной только столичной Праге жителей наберется заметно
больше, чем во всем Белоозерье.
Теперь вопрос о самых населенных и обильных городами местах.
Касается он упомянутой Твери и Тверского княжества. В соответст-
вии с письменными источниками и данными археологических раско-
пок на площади примерно 18 тысяч квадратных километров, где
устойчиво в течение почти двух с половиной столетий располагалось
Тверское княжество, находилось до 18 городов. Такая плотность
городской сети уже вполне сопоставима с западно-европейской. Ко-
нечно, не с такими местностями, как Фландрия, где при вдвое
меньшей территории городов было вдвое больше, чем в Тверском
княжестве.
Но если обратиться к северной Германии или Англии, то картина
окажется весьма схожей. Впрочем, только с внешней стороны, ввиду
того, что подавляющее большинство тверских городов —это укреп-
ленные места, с деревянной крепостью-острогом. Население же их
настолько незначительно, что его не приходится сравнивать с населе-
нием даже мелких западных городов. Несколько десятков домов
в остроге и окружающее его предместье—все же не город. Это скорее
некоторое подобие замка с окрестностями.
Действительно городов, пускай крошечных, в Тверском княжестве
было всего три—четыре. Среди них, помимо Твери, несомненны
Кашин, Зубцов, позднее, в XVв., Калязин, возможно, еще Клин
и Старица. На фоне западной, относительно мало населенной пери-
ферии, совсем немного. И в центральном Тверском княжестве часто-
та расположения городов оставалась в несколько раз меньшей, чем
допускал западный минимум.
Русская культура и природа
51
Обращение к сельским поселениям нимало не смягчает контраст-
ную противопоставленность Запада и России. Наши деревни и села
вплоть до XVIII в. были поразительно малы. Читая нашу классику
XIXв., мы сталкиваемся как с мелкими деревнями в несколько
домов, так и с крупными селами, где счет домов идет уже на сотни.
Никакого отношения подобная картина к Древней Руси не имеет.
Здесь деревней было поселение в несколько домов (3—5), а несколько
десятков жилых строений—это уже село, с церковью, губным старос-
той, ярмаркой, богатым по тем временам землевладельцем и т. д.
Крупных в современном смысле или по меркам XIX в. сельских
поселений Древняя Русь попросту не знала. Бескрайние пространст-
ва в сочетании с очень редким населением—это реальность, указание
на которую должно быть дополнено констатацией того, что Русь-
Россия на протяжении всей своей истории была вообще не соотнесена
или соотнесена по минимуму с морским и океанским пространством.
Крайний Север здесь не в счет не только в виду чрезвычайной даже
для Руси-России редкости его населения, а главным образом потому,
что Русь-Россия на Ледовитый океан не выходила. У его берегов она
заканчивалась. Ледовитый океан менее всего связывал Русь-Россию
с другими берегами и странами. Прежде всего, он, ввиду своей
суровости, был «концом света». Что касается Черного и Балтийского
морей, то одно из них отделяла от Руси степь—Дикое Поле, тогда
как побережье другого в части, прилегающей к Руси, было заселено
финскими племенами и к тому же постоянно находилось под угрозой
экспансии с Запада и даже отторгалось от русского государства.
О чисто сухопутном характере Руси-России не лишним было
напомнить с тем, чтобы подчеркнуть особую связанность русского
человека с землей, неотрывность от нее. Скажем, соседи Руси шведы
и норвежцы тоже жили на огромных и очень редко населенных
пространствах. Плотность населения в Швеции и, особенно, Норве-
гии была не более, а даже менее, чем в Руси-России. Есть у них
и свой Север, вплоть до Заполярья и далее. Но как шведы, так
и норвежцы были еще и народами моря. Это обстоятельство в корне
меняло их отношение к земле, делало невозможной такую же, как
у русских, прикрепленность к ней и растворенность в ее просторах.
Растворенности в пространствах суши у скандинавов препятст-
вовало наличие еще более необозримых морских пространств. В них
же раствориться можно лишь ценою гибели. Если море для того или
иного народа существует не только как запредельное суше, не как
реальность, обрамляющая «круг земной», из себя же представляю-
щая уже не вполне бытийствующий хаос,—в этом случае человек
вступает в борьбу с морской стихией. Ее он боится и почитает, но еще
и преодолевает на пределе собственных усилий. Природа в качестве
моря морехода собирает, обращает его не только к морю, но и к са-
мому себе. Очень важно и то обстоятельство, что море связывает
между собой народы и земли. Как бы устойчиво ни было в архаи-
52
Русская культура как целое
Собор Святого Петра в Риме
Фото, 1990-е г?..
ческом сознании представление о том, что мир и земля —это, прежде
всего, свой мир и своя земля, оно у «народов моря» не может
не размываться. Странничество и срастание со своей землей, раст-
воренность в ней в перспективе несовместимы. В нашей стране они
не просто имели место, но и определили собой характер русской
культуры.
* * *
Столетиями она создавалась в ощущении и предположении несо-
измеримости человека и природы. Природа для русского человека
настолько всеобъемлюща, что ее в лучшем случае допустимо слегка
разукрасить, не подправить, разумеется, а довершить. Можно лишь
культурой нечто подчеркнуть в природе, выдвинуть на передний
план, сделать более проясненным и отчетливым. Но не более. Понят-
но, что сказанное проще всего обнаружимо в архитектуре и всякого
рода оформлении и обрамлении природного ландшафта. И Киевская,
и Московская, и Петербургская эпохи, каждая по-своему, подтвер-
ждают сказанное.
Так, древнерусские церкви, равно киевские и московские, невоз-
можно представить в отвлечении от природного окружения. Они
существуют на фоне реки, озера, равнины или холмистой местности,
лесного массива или поля. Даже в тех случаях, когда церкви соотне-
сены между собой за счет близкого взаиморасположения, да еще
и окружены монастырскими стенами, все равно не возникает чисто
культурного пространства. В нем сохраняют свое присутствие трава.
Русская культура и природа
53
кустарники, деревья, некоторая
вольная прихотливость ландшаф-
та, не подчиняющегося налагае-
мой на него культурной форме.
Скорее форма подчиняется ему.
Сказанное станет вполне оче-
видным, стоит сопоставить рус-
ский монастырь с западным.
В последнем, если и присутствует
природа, то заключенная в узкие
и жесткие рамки дорожек, аллей,
газонов, террас и т. д. Невозмож-
но представить ничего более дале-
кого нашей церковной архи-
тектуре, чем главный храм
католического мира —собор Св.
Петра в Риме. Он оформляет со-
бой пространство, в котором
и намека не остается на природ
ность. В соборе акцентированы
грандиозный в своем величии фа-
Московский Кремль. Соборы
А. М. Васнецов, 1894
сад, необыкновенной легкости, простоты и вместе с тем пышности
купол и, разумеется, знаменитая берниниевская колоннада. Пребы-
вая на площади Св. Петра, ощущаешь себя в особом, целокупно
довершенном мире. Здесь и мысли не может возникнуть ни о какой
природе —настолько полна, насыщена смыслами и красноречива куль-
тура. Она вобрала в себя, растворила в себе и преобразила природ
ную данность. В мире собора Св. Петра природе было бы невозмож-
но заявить о себе. Деревьям —потому, чго есть колонны, колоннады
и порталы; пригорки не нужны, так как они сняты главным и остальны-
ми куполами собора, поле —какое там поле, если есть пространство
площади. А ведь оно не только бывшее поле, но и водная гладь
и даже нечто более легкое и разуплотненное, чем вода. Каким-то
чудом мастерства создателей собора он, несмотря на свою кажущуюся
тяжеловесность, ничуть не вдавлен в землю, не осел в нее, а,
наоборот, слегка парит. Такой эффект создается и плавным подъемом
поверхности площади в направлении собора, и такого рода располо-
женностью фасада и купола, что они, не теряя своей монументально-
сти, приобретают некоторую разуплотненность и воздушность. Точ
нее, пожалуй, будет сказать, что и фасад, и купол находятся по ту
сторону плотной вещественности и воздушной эфемерности. Они
воплощают собой смысл, который почти самодовлеет, не нуждаясь во
внешней выраженности, смысл и есть самое свое выражение. Камень,
из которого собор все-таки выстроен, как будто отказывается от
своей каменности. Он даже не служит смыслу, а пресуществляется
в него. Когда нечто подобное происходит, при чем же тут природа?
54
Русская культура как целое
Нам трудно представить себе
и живо ощутить пространство
у Софийского собора древнего
Киева. Иное дело —самый центр
Московского Кремля с его храма-
ми, в том числе величественным
Покровским собором и колоколь-
ней Ивана Великого. Все они при-
мыкают друг к другу достаточно
тесно, чтобы не оставить места
природе, не дать ей развернуться
в промежутках между строения-
ми. И все равно природа в центре
Кремля берет свое. Она обнару-
живает себя самим взаимораспо-
Гонцы. Ранним утром в Кремле.
Начало XVII в.
А. М. Васнецов, 1913
ложением храмов и колоколен. Они устроились с какой-то чисто
природной непосредственностью. Так, как располагаются друг по
отношению к другу могучие деревья, пригорки или холмы. Они
могут находиться в отдаленности одни от других, могут тесниться
и громоздиться, все равно никто не будет мешать соседу и тем более
подчинять себе или зачеркивать соседа.
Во всей этой природности деревьев, холмов, пригорков, храмов,
колоколен есть своя гармония. Но как она далека от гармонии собора
Св. Петра с его преображением мира! Конечно, мир тут преображает-
ся всего лишь в культуру, иначе преобразить его способен один
только Бог. И все-таки контраст с нашей церковной архитектурой
налицо, потому что русский человек, так же как и подчиняющийся
ритмам его жизни мастер-иностранец, природу в культуру преобра-
зить не стремится. С него довольно такого рода преображения, когда
природа и становится культурой и сохраняет свою природность.
Таковы соборы центра и средоточия Кремля, но в еще большей
степени таков Кремль в целом. Его невозможно себе представить
в отделенности от широкого простора, от неба в кудрявых облаках,
не застилающих солнце, от холма, на котором он расположен так, что
остается место для деревьев и даже сада, наконец, от Москвы-реки.
Образ Кремля, вошедший в наше сознание в советское безвреме-
нье, по сути имеет мало отношения к подлинному Кремлю. Достаточ-
но сказать, что большевиками был акцентирован вид на Кремль со
стороны Красной площади. Именно она превратилась в самый центр
Москвы и всей страны с ее «пупом земли», перемещающимся от
Мавзолея в дни революционных праздников, к Спасской башне —
на Новый год. В результате Кремль, к тому же закрытый или
ограниченный для посещения простыми смертными, в значительной
степени превратился в фон и декорацию собственно сцены. В нем
наиболее выраженными стали две башни, выходящие на Красную
площадь, и зубчатая стена. Вот оно, сочетание советской атрибутики
Русская культура и природа
Центральная площадь. Брюгге
Фото, 1997
(Мавзолей) и «вечности» (стена). «Вечность» при этом в буквальном
смысле принимала в свое лоно самых выдающихся из большевист-
ских вождей в виде урн с их прахом.
Между тем исходно и в течение столетий Москва центрировалась
вовсе не Красной площадью, а всем круглящимся Кремлем. А в са-
мом Кремле- его соборной площадью, куда прибывали для венчания
на царство русские цари, а затем и российские императоры. В пос
ледние годы центральность Кремля для Москвы частично, хотя, как
и положено нашему времени, еще и уродливо, восстановлена за счет
превращения Манежной площади в пешеходную зону. Теперь Кремль
опоясывается двумя площадями и уже не так уплощен и сведен
к величественному фону большевистского капища. Взятый же в це-
лом и, следовательно, рассматриваемый в некотором отдалении,
Кремль не только не оставляет впечатления растворенности и преоб-
раженности природы в культуре. Культура здесь и не доминирует,
задавая тон природе. Природе осталось слишком много неба, земли
и воды, в их независимом от человека бытии, чтобы говорить о чем-
либо подобном преображению или диктату над ней.
Вглядимся в зубчатые кремлевские стены: как они хрупки, едва ли
не декоративны благодаря сочетанию их высоты и угадываемой
толщины с протяженностью. А кремлевские башни? Главные из них
тянутся вверх слишком высоко по сравнению с диаметром. Стены не
подкрепляются башнями, даже их грозными выступами из толщи
56
Русская культура как целое
стен. Хрупкость стен только усиливает впечатление декоративности
башен. В отрыве от первых последние беззаботно красуются, как
будто забыв о своем прямом долге и назначении. Пока же башни
и стены сводят между собой счеты, не желая считаться друг с дру-
гом, природа живет своей независимой от них жизнью. Более того,
небо, земля, река вбирают в себя стены и башни, а заодно и храмы,
которые вовсе не замыкаются стенами и башнями в некоторое авто-
номное и, тем более, автаркическое пространство. Стенами и башня-
ми храмы лишь слегка обрамлены, оставляя им возможность пребы-
вать самим по себе. Сами же по себе они, как уже отмечалось,
впускают внутрь себя природу и, оставаясь культурой, в то же время
природны.
О кремлевских дворцах разговор особый. В Кремле дворцы поя-
вились сравнительно поздно и не в лучшие для архитектуры времена.
По масштабам Кремля они неестественно громадны и окончательно
сводят на нет поползновения на грозное величие стен и башен. Но
и сами они от этого не становятся ни грозными, ни величественными.
О кремлевских дворцах только и можно сказать, что они большие.
В Кремле они попали не в свою компанию, от этого то ли растеряны,
то ли развязны. Во всяком случае им не до того, чтобы оформить
в свои ритмы и смыслы окружающую природу.
Кремль, которому вполне чуждо властно-волевое начало в отноше-
нии природы и который находится с ней в неразрывной связи
и сродстве, несмотря на свою «культурность» легко может быть
противопоставлен собору Св. Петра в Риме еще и потому, что этот
собор осуществляет собой некоторый предел исканий западной души.
Он исключителен в своих достоинствах. Ну, а если обратиться
к обычной западной архитектуре и не к храму, а к городу в целом?
Скажем, к средневековому городу. Известно, что средневековые
города, в том числе и самые крупные и богатые из них, строились без
всякого плана. В них обязательно присутствовали узкие кривые
улочки. Дома на них могли быть многоэтажными, причем верхние
этажи противоположных сторон улицы, выступая из стен, почти
смыкались друг с другом. Городские площади, рыночные, ратушные,
соборные были очень невелики. Они тяготели к прямоугольности, но
никакой единой планировки не имели. Дома на площадях стояли без
всякого порядка—какой кому придет на ум создать. В результате
городская площадь могла получиться очень красивой, производить
впечатление вовсе не беспорядочности, а почти бесконечного разнооб-
разия. Таковы, к примеру, площади средневекового Брюсселя
и Брюгге, сохранившиеся по сей день с незначительными изменениями,
не колеблющими их общего характера. Эти площади поражают тем,
как может возникнуть такая необыкновенная красота без единой
и направляющей творческой воли, без хотя бы приблизительного
подобия единого замысла. Еще более сказанное приложимо к средне-
вековому городу в целом, весь немыслимый беспорядок его город-
Русская культура и природа
57
Вид дворцового ансамбля Версаля в 1772 г.
П.-Д. Мартен
ских и общественных зданий, храмов, стен с башнями часто несрав
ненно обаятельней расчисленной гармонии целого. Не подумаем
только, что в данном случае налицо преимущество присущей средне-
вековой архитектуре природности над растворяющей в себе и пресу
ществляющей в себе природу культурой. Средневековый город не
природен ни по присутствию в нем природы, ни по критерию захва
ченности ею. Он не противопоставляет природе таких чуждых ей
реалий, как симметрия и строгая правильность линий. Но от приро
ды средневековый город отъединен замкнутостью на себя. Он суть
человеческое жилье, некоторое внутреннее по отношению к внешне-
му — природе. Средневековый город не может не оставить впечатле-
ния того, что в нем люди живут своей, человеческой жизнью, не той,
что поле, лес, река, холмы или облака.
Непременная черта средневекового города —его уютность. Он бо-
лее или менее камерный, в нем есть своя теплота и задушевность.
Вряд ли средневековый город знать не хочет о природе. Она его
окружает, украшая так же, как и город ее украшает. Но в себя город
природу не впускает. В том числе и в буквальном смысле. Весь он
в Высокое и особенно Позднее Средневековье создан, оформлен
и обставлен искусственно. В нем природные элементы практически
так же неуместны, как и в жилых помещениях. Разве что на уровне
своих подобий горшку с цветами.
58
Русская культура как целое
Вид на Екатерининский дворец с центральной аллеи
Фото, 1985
Средневековый город только в лице собора, ратуши или замка
склонен определять своей сверхприродностью ландшафт, стремясь
превзойти природу красотой и великолепием, а главное —инакостью.
В целом в нем есть некоторая напоминающая природность бессозна-
тельность, беззаботность и бесцельность. Однако все это реалии,
в которых человек обнаруживает ограниченность результатов дейст-
вия прямо противоположных начал,—сознательности, заботливости
й целеустремленности. Сознательно строит свой дом средневековый
бюргер и хорошо знает, чего от него хочет. Сильно он озабочен
устроением надежной и устойчивой жизни. Вполне способен проек-
тировать свою жизнь и неуклонно движется к осуществлению своего
проекта. Другое дело, что результаты сознательности, заботливости,
целеустремленности и других подобных вещей не только демонстри-
руют преодолевание природы, но и увязают в ней.
* * *
Разнородность и даже противоположный характер соотнесенности
культуры и природы на Руси и в Западной Европе не были устране-
ны и в процессе вестернизации страны. Петербургская Россия по
ряду существенных моментов стала вполне однородной со своими
западными соседями, но только не по рассматриваемому пункту.
И русская архитектура XVIII в. это наглядно демонстрирует. Каза-
лось бы, она окончательно вошла в ритмы развития западной архи-
Русская культура и природа
59
тектуры, в ней представлены те же стили, что и на Западе. Однако
близость в данном случае не устраняет того, что у нас культура по-
прежнему сохраняет свою, как оказалось, неизбывную природность.
Для подтверждения сказанного обратимся к двум знаменитым
образцам дворцовой загородной архитектуры. Очевидно, что для
Запада ее высшим и непревзойденным образцом является Версаль.
Своеобразие Версаля состоит в том, что он и дворец, точнее дворцо-
вый комплекс, и парк. Они существуют нераздельно, как один
архитектурный ансамбль, в котором присутствует и собственно двор-
цовая и парковая архитектура. Это еще вопрос, что в Версале было
«архитектурней»—дворец или парк. Они одинаково тщательно и строго
спроектированы и выстроены. С той лишь разницей, что дворец
строили из камня, парк же—из растительности (деревьев, кустарни-
ка, трав, цветов) и воды (прудов, каналов, фонтанов).
Доминирует между тем в Версале все-таки дворец. Со стороны,
противоположной парку, он всецело исключает какую-либо природ-
ность. Здесь все подчинено строгой симметрии и создан особый
сверхприродный мир. Если и не такой совершенный, как на площади
Св. Петра в Риме, то все же блистательный и великолепный, очаро-
вывающий сочетанием стройности и легкости с устойчивостью и кре-
постью. Это действительно культура, а не природа потому, что все
здесь организовано в устремленности к одной особе, воплощающей
в себе не только человеческое совершенство (культуру), но и переша-
гивающей за грань человеческого в силу своей богоизбранности.
Сосредоточенность Версальского дворца на священной особе госуда-
ря подчеркнута прежде всего выступающими крыльями, нескольки-
ми уступами, сходящимися к центральной части здания. Здесь перед
нами ритм соотнесенности человеческого мира со своим земным
средоточием и источником благ и всяческого устроения.
Между тем при обращении к фасаду дворца, выходящему в парк,
перед нами возникает другая картина, дополняющая и углубляющая
впечатление от первой. Теперь дворец венчает собой парк, стройно
и величественно высится над ним. Главное же не в увенчании,
а в том, что от паркового фасада открывается вид на сам парк. Его
перспектива теряется вдали. И нам нельзя не ощутить всю громад-
ность парка. Это целый мир, но он строго и даже жестко организо-
ван. Над ним царит закон, диктуемый дворцом и из дворца, подчи-
няющий живую природу и близкую к ней переменчивую водную
стихию своей собственной мере. Она накладывается на раститель-
ность и на воду, вынуждая их отказаться от собственной раститель-
ной и водной воли. Настолько отказаться, что приходится выражать
собой нечто противоположное себе. Скажем, тогда, когда цветы
и низко подстриженные кустарники образуют собой геометрические
орнаменты, а деревья подчинены все той же геометрии конусов,
пирамид, шаров. Такой ансамбль, каким является Версаль, не только
не хочет оставить природу в покое, отгородившись от нее в своей
60
Русская культура как целое
Коломенский дворец
Гравюра Ф. Гильфердинга, 1790 е гг.
в ее бесконечной податливости и
сверхприродности-культуре. Ему
мало и демонстрации своего пре-
восходства над живущей по своей
воле природой. Весь мир должен
стать подчиненным продолжени-
ем дворца. Ведь его парк сплани-
рован так, как будто ничего поми-
мо него в мире нет, кроме разве
что дворца, тоже единственного и
всеобъемлющего строения, на фоне
которого все остальное уходит
в тень, разуплотняется и исчезает
из памяти. Версаль —это прямой
диктат природе в великолепной
и победительной убежденности
отсутствии у природы достойного
самобытия.
Наш Царскосельский дворец при всех своих очень внятных и очень
резких отличиях от Версальского все же не может не относиться
к нему как к первообразу. Не будь в конце XVII в. одного, никогда
бы в середине XVIII не возник другой. Пышностью и великолепием,
если не масштабом, царскосельский ансамбль вполне способен поспо-
рить с версальским. Во всяком случае он не менее царственен.
Первоначально царскосельский парк носил такой же регулярный
характер, как и версальский. Его регулярность частично можно
наблюдать и сегодня. Однако чего нет в русском дворце, так это
властной, диктующей по отношению к природе воли. Сам он, несмот-
ря на всю свою пышность, слишком бесплотный, легкий и воздуш-
ный. чтобы от него исходил какой-то напор. Возможно, Царскосель-
ский дворец горделив, а может быть, не идет далее сознания своей
необыкновенной красоты. В любом случае утверждать и продолжать
себя в природе (растениях и воде) ему не надо. Они сами уступают
дворцу первенство, устраивают себя не вровень, разумеется, с двор
цом, но так, чтобы быть достойным его продолжением.
В нашем случае имеет место содружество дворца и парка. Они
образуют целостный мир культуры. Природа и на этот раз подчини
ется культуре. Но в последней в то же время столько добродушия и,
несмотря ни на какую пышность, непритязательности и покоя, что
решительно никак не представить природу такой уж отличной от
культуры. Первая завершается в последней. Культура, в свою оче-
редь, помнит свое родство с природой. В лице дворца природа вышла
в люди, и ей нет нужды так уж противопоставлять себя остальной
природе, нет смысла не только ей диктовать свою волю, но и отгора-
живаться и уединяться от нее. Царскосельский дворец-парк вольгот-
но расположился на земле, так уселся на нее и осел на ней, что
ясно —он с землей в сродстве. Сама воздушность Царскосельского
Русская культура и природа
61
дворца—это истончившаяся и изощрившаяся природная жизнь. Дво-
рец, несомненно, уже не только природа, что-то в нем все-таки
природе недоступно и в ней нерастворимо. От этого родство природы
и культуры, их дружество приносит новые плоды и открывает новые
горизонты.
* **
Своеобразие соотнесенности русской культуры с природой с осо-
бой ясностью и отчетливостью выражено в неизменном на протяже-
нии столетий тяготении русского человека к дереву как строительно-
му материалу. Русь-Россия оставалась преимущественно деревянной
еще в конце XIXв., причем не только сельская, но и городская.
Конечно, нельзя закрывать глаза на то, что от века к веку на русских
пространствах появлялось все больше и больше выстроенных из
кирпича церквей, монастырей, дворцов, усадеб, присутственных зда-
ний и частных домов. Они в первую очередь бросались в глаза, а не
деревянные постройки. И все же чисто количественно созданное из
кирпича оставалось в ничтожном меньшинстве по сравнению с соз-
данным из дерева.
Устойчивое тяготение Руси-России к деревянным постройкам очень
легко объяснимо ее природными условиями. Равнинные, местами
лесные всхолмленные пространства страны до сравнительно недавне-
го времени были покрыты такими густыми, дремучими, нередко
и непроходимыми лесами, что более естественного материала для
строительства быть не могло. К тому же насколько Русь-Россия была
богата лесом, настолько же бедна камнем, легко поддающимся обра-
ботке.
Тем не менее соблазнительная простота объяснения «деревянно-
сти» Руси—во многом кажущаяся и совсем не тождественна убеди-
тельности. Она не вполне убеждает уже потому, что на Западе, тоже
были лесистые страны и местности, где с камнем обстояло ничуть не
лучше, чем у нас, что не мешало им достаточно давно предпочесть
каменное и кирпичное строительство деревянному. Таковы, напри-
мер, север Германии, Дания. Нет, разумеется, никакого сомнения
в том, что русская природа навязывала дерево русской культуре.
Однако представляется несомненным и другое: неизбывная привя-
занность русского человека к дереву, к созданию своего жилья
и всякого рода утвари и оборудования из дерева.
В принципе, кирпичное строительство не требовало от русских
людей таких уж непомерных усилий. Как-никак, глина очень часто
была под рукой, а обжиг кирпича—не такая уж сложная технология
даже для архаических культур. Примером, если не разъясняющим
ситуацию, то на что-то существенное указующим, может здесь слу-
жить Древний Египет. В этой стране грандиозные каменные соору-
жения возникали на основе более чем примитивной техники, и ка-
мень для них добывался с несравненно булыпими усилиями и затратами
62
Русская культура как целое
труда по сравнению с кирпичным производством в условиях Руси-
России. Между тем ничто не помешало древнеегипетской культуре
сосредоточиться на каменных строениях, тогда как подобной сосре-
доточенности на создании кирпичных, не говоря уже о каменных
сооружениях, у нас не было и следа. Касательно же дерева можно
отметить, что деревянное строительство уже ввиду особенностей его
материала не предполагает ни масштабности, ни тем более грандиоз-
ности строений. Из дерева создают нечто сподручное, соотносимое
с повседневно-человеческим, а если и выходящее за его рамки, то
такими реалиями, как декоративность, затейливость и т. п. В дереве
и через дерево человек менее всего способен выйти за пределы только
человеческого, заявить о своем сверхчеловеческом присутствии в ми-
ре или о пребывании в нем божественного в его внешней выраженно-
сти. Не будем забывать, что исходная мифологема дерева двоится.
С одной стороны, каждое дерево указывает на дерево деревьев—
Мировое Древо. Оно представляет собой мировую ось, весь мир,
взятый в аспекте его расчлененности и космической устроенности.
Но, с другой стороны, дерево—это не только Мировое Древо, оно
еще и связано с человеком. В ряде мифологий, как, скажем, сканди-
навской, боги прямо создают человека из дерева. В результате не
только человек деревянный, но и дерево человечно. Оно выражает
собой равно и макрокосм (Мировое Древо) и микрокосм (человека).
В любом случае люди и деревья—близкие родственники. Поэтому,
создав себе дом из дерева, русский человек укрывался в нем, как
в материнском лоне. Он сближал свою жизнь с деревьями не только
окруженный ими, но и соединенный, так сказать, с самой субстанци-
ей дерева. Связь с деревом заходила настолько далеко, что русский
человек ел деревянной ложкой из деревянной посуды, носил дере-
вянную обувь—лапти, спал на дереве ит. д. Дерево и окружало
человека, даже обволакивало его, и входило внутрь, как пища, при
поедании древесных плодов.
В такой близости к дереву, сродненности и слитности с ним важно
обратить внимание на отсутствие «пафоса дистанции». Когда дерево
есть и внутреннее и внешнее, уже одним этим обстоятельством
указывается на то, что человек до предела сроднился с окружающим
его миром, точнее, мир его не столько окружает, сколько становится
им самим. Поскольку происходит подобное очеловечивание дерева и,
соответственно, «одеревянивание» человека, у последнего не остается
некоторого автономного самобытия, такой реальности, в которой он
ощущал бы себя в своем особом мире. Деревянные сооружения
попросту невозможно противопоставить окружающему миру. У них
никогда не будет грандиозных масштабов, делающих строение несо-
измеримым с реалиями окружающего ландшафта.
Невозможно и резкое отличие форм и линии деревянного соору-
жения от всего окружающего. Для подобных замыслов существует
обработанный камень и кирпич. Исходно они так же природны, как
Русская культура и природа
63
и дерево. Но, во-первых, и тот, и другой более отчуждены от
человека по сравнению с деревом. Дерево живое и теплое и относи-
тельно легкое, чего не скажешь о камне или о кирпиче. Следователь-
но, ими и в них человек способен выразить не просто чуждое
человеческому, но превозмогающее его. И во-вторых, камень и кир-
пич почти бесконечно податливы всякого рода формообразованию,
тогда как возможности дерева здесь несопоставимо более ограниче-
ны. Благодаря этой своей податливости кирпич и камень способны
овнешнить и объективировать внутридушевную жизнь человека прак-
тически безгранично. Предстоя собственным сооружениям, он спосо-
бен вглядываться в себя осуществленного, удерживать свое застыв-
шее в камне и кирпиче душевное состояние. Теперь оно не так легко
и мимолетно, преходяще, бессознательно, каким могло бы оставаться.
Конечно, дерево тоже объективирует внутридушевное, в том числе
и моменты встречи души с Богом. Но насколько в дереве человеку
труднее оторваться от себя! Ведь деревянное сооружение и вообще
произведение требует меньше физических усилий и мастерства и нап-
ряжения души. В деревянном царстве так легко задремать и застыть
в невнятице и нерасчлененности душевной жизни, в привычном
однообразии того, что слишком соразмерно обыденно-человеческому.
Своя дрема, впрочем, подстерегает и каменно-кирпичный мир, не-
смотря на открытую для него перспективу монументальности, вопло-
щения сверхчеловечески-сакрального. Но это будет дрема и оцепене-
ние перед миром непостижимого и несоразмерного человеку величия
божественного мира, когда человеку остается падать ниц перед собст-
венными воплощениями, реагируя на них уже невнятными для себя
ритуальными формулами.
Каменно-кирпичный мир древневосточных и вообще восточных
культур, а по существу речь только что шла именно о нем, — это не та
реальность, через сопряжение-отталкивание от которой многое мож-
но понять в русской культуре с ее тяготением к дереву, в противопо-
ложность камню и кирпичу. Гораздо важнее здесь опыт западного
каменного и кирпичного строительства. Он же поражает не столько
своей грандиозной монументальностью (куда ей до египетских пира-
мид или месопотамских зиккуратов), а скорее тем, как долго и с не-
изменным упорством и постоянством западный человек обставлял
свою жизнь каменными сооружениями. Камень и кирпич на Западе
далеко не сразу оттеснили дерево и вышли на первое место. Еще
Высокое Средневековье знает изобильное присутствие дерева даже
в крупных городах. Однако здесь оно чем далее, тем менее заявляло
себя в своей деревянности, все более имитируя камень, пока практи-
чески не свелось к необходимому минимуму присутствия в каменно-
кирпичных постройках.
Очевидно, что каменные строения прочнее деревянных, значи-
тельно меньше страдают от пожаров, в качестве военных укреплений
их достоинства не идут ни в какое сравнение с деревянными строе-
64
Русская культура как целое
ниями. Но можно ли свести тяго-
тение Запада к камню к одной
практической целесообразности
или, скажем, указать на то об-
стоятельство, что в большинстве
западных стран от века к веку
лесов становилось все меньше,
а плотность населения увеличива-
лась? Похоже, что вряд ли все
было так просто и однозначно.
Потому, например, что в построй-
ках на Западе в эпоху и роман-
ской архитектуры, и готики, и ре-
нессанса, и классицизма, и барокко
Дом Сапожникова XVII—XVIII вв. ит. д. камень обыгрывался двояко,
в Гороховце Во-первых, с его помощью соз-
Фото, 1980-е гг. давался эффект плотности, тяже-
сти, массивности, мощи, непри-
ступности, грозного величия и могущества. При этом в камне не
просто выявлялись замеченные в нем потенции к выражению пере-
численных реалий. Он еще сплошь и рядом создавал их иллюзию или
форсировал те же тяжесть, плотность, мощь и т. д. художественными
средствами. Вторая тенденция к обыгрыванию камня носила прямо
противоположный характер. В этом случае камень и кирпич исполь-
зовались с тем, чтобы в них были как раз преодолены их очевидные
природные свойства. Тогда камень и кирпич создавали эффект легко-
сти, воздушности, устремленности ввысь и т. п. И та и другая
тенденции обнаружили себя на Западе во всей полноте и разнообра
зии. Камень и утверждал человека в его отъединенности от природы
и природности и возносил его над ней в сферу сакрального. Им
осуществлялось то, для чего у дерева заведомо меньше возможно-
стей, чем у камня.
До известного предела дерево тоже способно выразить собой
дистанцию между культурой и природой и соотнести человека со
сверхкультурной реальностью сакрального. В деревянных построй
ках, однако, человек преодолевает природность, не столько оставляя
ее в стороне или там, внизу, сколько освящает природу. Сохраняя
свое первенствование над ней, как это только и может быть в христи-
анской культуре, русский человек одновременно и отказывается от
этого первенства. Он действовал как сын, всем обязанный матери,
даже в том, в чем он преодолел мать-природу. Именно дерево
позволяло ему и жить своей человеческой, а значит, и устремленной
к Богу жизнью, и вместе с тем оставаться связанным с природой.
Вряд ли в этом случае обязательно имело место только смирение
перед природой. Сказывалась еще и растворенность в природе,
невозможность человеку помыслить и принять собственную жизнь
Русская культура и природа
65
Воскресенский монастырь Нового Иерусалима
Фото, 2000
автономно, утвердить над собой собственный закон или принять
закон Божественный во внятном и ответственном сознании его «неот-
мирности». Когда последнее все-таки случалось, то происшедшее
легко вырождалось в своеобразно русское странничество. Наподобие
бегунов, секты, члены которой от земли-природы бегали в букваль-
ном смысле слова. Здесь во всей полноте и крайности выражалась все
та же связанность с природой и неспособность признать за собой
право на властное, первенствующее, преобразующее, хотя бы уверен-
ное в своей человеческой особости, отношение к природе.
Это действительно поражает: до какой степени, как долго и неиз
менно русский человек оставался чужд кирпичу и камню. Правда,
хотя строили из них ничтожно мало, в результате создавались совер
шейные по архитектуре храмы. Об этих храмах речь еще впереди.
Пока же отметим, что их создание не отменяло самое широкое
распространение отчужденности от камня и каменного строительст-
ва. Особенно оно бросается в глаза при обращении к светским
зданиям и, в частности, жилым домам Древней Руси. Они по-
прежнему так же невелики, как и деревянные дома. Преимущества
камня по полноте возможностей сооружения больших зданий как
будто игнорируются. И потому эти относительно очень небольшие
здания часто строятся так, что каменность их вдруг подчеркивается
непомерной и совсем не обязательной толщиной стен, маленькими
оконцами, приземистостью. От некоторых из этих зданий остается
впечатление вырубленности из цельного куска камня. С тем, чтобы
66
Русская культура как целое
впоследствии прорубить окно в небольшое помещение, подавляемое
остающейся толщей и мощью камня. Когда смотришь на подобные
дома, приходит на ум мысль, что строились они с настороженностью
и недоверием к камню, через превозможение отчуждения от собст-
венной работы и ее цели.
Между тем, сохранилось множество свидетельств о том, с какой
быстротой, мастерством и ловкостью создавали русские люди дере-
вянные дома. На их фоне особенно характерно свидетельство Нико-
ласа Витсена, в 1664—1665 гг. находившегося в составе нидерланд-
ского посольства в Московии. Ему выпала редкая удача и для него
самого, и для нас, читателей, посетить опального патриарха Никона
в создаваемом под его руководством и надзором Новоиерусалимском
монастыре. В частности, Витсен обратил внимание на то, как строят
из кирпича в Московской Руси. Надо сказать, картина у Витсена
получилась безотрадная.
«Русские строят и отделывают, мастера поляки, а распоряжаются
немцы, — отмечает Витсен. — Известь не приготовляют, как требуется,
кирпич обожжен слишком мягко и рассыплется еще до окончания
строительства; ничего не покрывают и не берегут [от непогоды]; все
рамы и даже столбы, да и целые стены, обваливаются, поломаны
и портятся. Я советовал им все покрывать досками, лучше приготов-
лять известь, иначе не будет прочной работы. То, что в Иерусалиме
из мрамора, здесь из камня и кирпича. Каждую зиму недостроенное
здание теряет 1—2 фута, что можно было бы предотвратить, если бы
работу прикрывали. Коротко говоря, русские гораздо лучше умеют
использовать дерево, чем строить каменные дома...»1.
Приведенное описание слишком легко наводит на мысль о социа-
листической стройке, настолько очевидно, что строители Новоиеру-
салимского монастыря заняты не своим, знакомым и близким делом.
Вряд ли их согнали на строительство из-под палки. Но то, что за
строителями не стоит ни опыта, ни традиции, очевидно. В предшест-
вующие семьсот—восемьсот лет русские строители имели дело почти
исключительно с деревом.
* **
Ощущение русским человеком природы в качестве некоторой
всеобъемлющей реальности, как того, что бесконечно превосходит
его и вмещает в себя без остатка, производит впечатление неизменной
на протяжении столетий недовоплощенности русской культуры. В ней
человек заявляет о своем присутствии в мире, обращен к Богу,
обозначает его пребывание среди людей и вместе с тем человеческое
присутствие и обращенность к своему первоначалу—это только очерк
и намек на то, что потенциально содержится в русском человеке
1 Николас Витсен. Путешествие в Московию. 1664—1665. Дневник. СПб., 1996.
С. 180—181 (далее: Витсен).
Русская культура и природа
67
и могло бы состояться как опредмеченная реальность. Могло, но
почему-то не состоялось в своей полноте и развернутости. Было бы
слишком лестно для нашего национального чувства и вряд ли спра-
ведливо утверждать нечто подобное тому, что вот у нас в Руси-
России количественная недостаточность преобразованности природ-
ного ландшафта возмещалась качеством.
И все-таки известное несоответствие между одним и другим явно
имело место. Обратившись к Древней Руси, можно указать на при-
мер архитектурно-устроительной деятельности князя Андрея Бого-
любского. Известно, что он инициировал сооружения Успенского
и Дмитровского соборов во Владимире, знаменитых Золотых Ворот,
храма Покрова на Нерли и, наконец, своей резиденции в Боголюбове
с храмом и княжескими палатами. Приведенный список не так уж
мал, если учесть, что князь Андрей стал первым, кто решил оконча-
тельно и всерьез превратить Владимир в стольный город крупного
княжества, по существу вмещавшего в себя всю Северо-Восточную
Русь. Сказать, однако, что он изменил весь облик нового стольного
города и окрестностей, было бы преувеличением. Андрей Боголюб-
ский расставил вехи. Своими сооружениями он создал доминанты
столицы и всего княжества. Однако по-новому расставленные им
акценты так и остались акцентами. Нового культурного пространства
Андрей Боголюбский не создал. По-прежнему перед нами природа
в довершенности архитектурой и в тесном с ней сродстве и взаимной
продолженности и проникнутости природы в культуру, культуры
в природу.
Что особенно поражает, так это отсутствие продолжателей в ка-
менном строительстве во Владимире и его окрестностях в лице
преемников Андрея Боголюбского. И Всеволод Большое Гнездо,
и Юрий Всеволодович были едва ли не самыми могущественными
князьями во всей Руси. Кажется, средств на строительство из камня
и кирпича у них должно было хватать. И что же? Они вполне
довольствовались созданным их предшественником. Расширять и до-
вершать преемникам князя Андрея, на их взгляд, было почти нечего.
Заявка на столичность, некоторую избранность и вознесенность Вла-
димира уже состоялась, и для этого оказалось достаточно, по запад-
ным меркам, минимума усилий. Можно не сомневаться в том, что на
Западе сделанное Андреем Боголюбским стало бы только толчком,
который есть кому поддержать, развернуть и довершить.
И добро, если бы владимирское или околовладимирское строи-
тельство Андрея Боголюбского демонстрировало некоторую немощь
и несостоятельность. Вовсе нет. Каменные храмы Владимира—это,
говоря западным языком, шедевры. Лучшего русская архитектура
никогда не создаст. Обратим внимание, во Владимирском каменном
строительстве ни одного провала, никакой слабины и тем более
тщеты усилий. Все, буквально все построенное состоялось по самой
высшей, какая только может быть, мерке. Но поскольку ни о какой
68
Русская культура как целое
творческой немощи и несостоятельности, даже заурядности не может
быть и речи, то остается заключить, что сам характер владимирской
каменной архитектуры таков, что не предполагает никакого намека
на экспансивность, разворачивание и детализацию первоначальной
заявки.
Во всяком случае, каменные сооружения Владимира создавались
совсем не в перспективе вытеснения деревянного зодчества. Можно
представить себе, что каменные владимирские храмы вполне гармо-
нировали с окружающими их деревянными строениями, были своего
рода драгоценными инкрустациями в деревянной массе. Когда драго-
ценным камнем инкрустируют металл или металлом—дерево, вовсе
не возникает впечатления недовоплощенности как недореализованно-
сти возможностей камня или металла. Но лишь в том отношении, что
последние образуют некоторое единство с материалом, в который они
инкрустированы. Но, помимо единства и гармонии с инородным
себе, у камня вне металла, у металла вне дерева есть еще и свой
«путь», свои возможности для воплощения ими человеческого замыс-
ла. Эти возможности станут явными, скажем, при созерцании огром-
ного камня как такового или множества камней, образующих ожере-
лье. Это еще вопрос, когда драгоценный камень является более
благодарным материалом для воплощения—наедине с собой, в сосед-
стве с другими камнями или соединенный с металлом. Хотя, скорее
всего, выбор придется сделать в пользу последнего варианта.
Что же касается каменной архитектуры, то с ней ситуация склады-
вается противоположным образом. Соседство с деревом, разумеется,
способно нечто дополнительное внести в реализацию замысла, вопло-
щенного в каменном строении. Но несравненно большие возможно-
сти открываются перед каменными и кирпичными сооружениями
в их соотнесенности с себе подобными. Каменный архитектурный
ансамбль в качестве целого заведомо богаче и полнее каждой из его
составляющих. Да и составляющие требуют ансамбля для полного
самовыявления. Наши же русские каменные строения оставались
в ситуации первого парня на деревне деревянных сооружений. По-
нятно, что первый парень на деревне еще неизвестно кем покажется
и окажется в городе. И не потому, что там его глядишь и заткнет за
пояс первый встречный. Город—это единственная в своем роде
возможность для парня испытать и проявить себя. Такого испытания
и проявления в русском зодчестве не наблюдалось очень долго.
Деревенская недовоплощенность оставалась судьбой каменного строи-
тельства, которое в настоящем случае демонстрирует собой ситуацию
в русской культуре как целом.
Казалось бы, хотя и единственное в своем роде, но все же
исключение здесь образует Санкт-Петербург. Пускай строящимся
и откровенно недовершенным городом он перестает быть сравнитель-
но поздно—только к началу второй трети XIX века, но зато каковы
результаты. Город весь каменный, а там, где деревянный, тщательно
Русская культура и природа
69
Петербург. Стрелка Васильевского острова
Акварель неизв. художника, 1820-е г?..
упрятан за имитирующую каменность штукатурку; одета камнем
даже Нева. По поводу каменности Санкт-Петербурга и, в частности,
одетой камнем Невы у нас еще будет повод поговорить особо. Сейчас
же обратим внимание на обстоятельство, как кажется, не случайное.
Строго говоря, Петербург так и остался недостроенным. С возникно-
вением на Стрелке Васильевского острова здания биржи Тома де
Томона у города появилась стяжка. Нева стала, наконец, вполне
городской рекой, не только разъединяющей его, но в первую очередь
соединяющей во вселенски грандиозное целое. Теперь на одном
берегу —аскетически строгая Петропавловская крепость с ее скалой
собором, на другом — сказочно роскошный и утонченно изысканный
Зимний дворец. В промежутке между ними странный, но вовсе не
нелепый декор ростральных колонн, а за ними массивное, строгое
и серьезное дорическое здание биржи. Все на своем месте, где каж-
дый указывает на иное, и создается целостная и разнообразная
картина. Наконец, каменные строения встретились друг с другом,
образовав целое, да еще на таком экстремуме, на таком грандиозном
усилии превозможения не дерева, не равнины и леса, а необузданной
и динамически-могучей водной стихии.
Ничего не скажешь, главное, и в главном на берегах Невы,
в Петербурге состоялось. Ну, а не главное на фоне такого грандиоз-
ного порыва и прорыва, оно все-таки есть, я имею в виду то грустное
обстоятельство, что Петербург, в моменте выхода на Неву, так
и остался недовершен. Это легко обнаруживается, стоит нам, нахо-
дясь где-нибудь на Дворцовой набережной, перевести взгляд с Пе
тропавловской крепости слегка вправо, вверх по течению Невы.
Сегодня мы увидим там по-советски нелепое здание, а главным
образом, пустоту простора. Петербургу так и не хватило времени,
чтобы застроить набережные Петербургской, а частью Выборгской
стороны, выходящими к Неве зданиями, достойными хоть какой-то
70
Русская культура как целое
встречи с великолепием левого берега. Петербург дождался катастро-
фы своей, а заодно и русской истории, так и не потрудившись
воплотить себя до конца в пределах отпущенных ему возможностей.
В нем так и осталось нечто если не от предварительного эскиза
и контура, то и не от тщательно выполненной, хотя и не вполне
довершенной, работы. Скорее перед нами произведение, созданное
слегка небрежно. Вначале в захватывающем дух порыве, а когда он
начал иссякать—по принципу «абы кончить», делая вид, что труд
закончен, когда еще не так мало остается нуждающихся в отделке
элементов и деталей.
Не преодоленная за долгие столетия недовоплощенность русской
культуры, ее неготовность к над- и сверхприродному бытию имела
своей оборотной стороной разрушительные поползновения в отноше-
нии природы. Так и не преодолевший в камне дерево, русский
человек нещадно сводил леса с пространств вначале центральной
России, а затем и далее. О варварском отношении к лесу у нас
заговорили еще в XIX веке. Уже тогда немало писалось о пагубных
для крестьянского хозяйства последствиях массового и бездумного
сведения лесов. Для сколько-нибудь трезвого, непредубежденного
и вместе с тем заинтересованного взгляда сегодня леса в средней
европейской части России или сведены вовсе, или же сохранились их
жалкие фрагменты. То, что теперь называют лесом,— это не лес
в традиционном для русского человека смысле—это поросль, зарос-
ли1. Что-то промежуточное между пустошью и лесом, этакая косми-
ческая лысина, сменившая собой густую некогда шевелюру и все-
таки покрытая вторичным пушком, только оттеняющим эффект
облысения.
Не меньше поражает почти полное отсутствие у русского человека
заботы о природе на уровне ближайшего окружения его дома. Если
у него на дворе растет трава, то бесполезно искать специально
проложенной дорожки. Она будет просто протоптана. Все же осталь-
ное пространство двора, если оно не используется для хозяйственных
нужд, обязательно будет занято травой в проплешинах. Траве здесь
уготована борьба за существование с равнодушным к ней и не
замечающим ее человеком. Так жили русские люди на протяжении
столетий и с такой беззаботностью в отношении к природе вступили
в XX век с его небывалыми и невообразимыми ранее техническими
возможностями. Вооруженные техникой, мы обрушили ее на приро-
ду с таким напором, как будто ее всяческие ресурсы неисчерпаемы,
бери что и сколько хочешь, все равно запасы останутся у природы
немеренные. В результате в XX веке в хорошо обжитых пространст-
вах русский человек живет не просто на лысине, а на лысине
1 Во французском языке для происшедшего есть достаточно точное обозначение.
В нем различается собственно лес foret с могучими деревьями и bois заросль, роща,
именно то, что у нас осталось от лесов.
Русская культура и природа 71
изгаженной, развороченной и отравленной. Русская природность
подвела русского человека к грани так называемой «экологической
катастрофы». По существу, он уже переступил эту грань—и катаст-
рофа началась.
Было бы безумием винить в ней русскую культуру как таковую.
Тотальное обвинение в ее адрес легко может быть отведено тем
аргументом, что техника—западно- и новоевропейский продукт. На-
учно-техническая революция вызревала в недрах западной культуры.
Русская культура оказалась лишь восприимчивой к чужим достиже-
ниям, в лучшем случае развивала и усовершенствовала заимствован-
ное на стороне. Но зато и иммунитета к издержкам технического
прорыва у России оказалось значительно меньше по сравнению
с Западом.
Если свести дело к самой общей и заведомо упрощенной схеме,
можно сказать, что западный активизм в отношении к природе,
прежде чем стать научно-технической революцией, выработал опыт
первенствования культуры над природой, когда последняя включа-
лась в культуру как ее момент. Поле или пустошь, ставшие газоном,
не насиловались, а им придавалась новая, культурная форма. Лес,
ставший парком,—а леса начали становиться парками в Западной
Европе уже в XVII—XVIIIвв.,—этим не зачеркивался и не отменял-
ся—его жизнь перенаправлялась и корректировалась, ей задавались
человеческие ритмы. Нельзя сказать, чтобы Русь-Россия оставалась
вполне чуждой подобным реалиям. Но с ними сосуществовал, их
покрывал, а в конечном счете подавил совсем другой импульс. Он
основывался на комплексе ребенка, ощутившего себя взрослым,
упивающегося своей взрослостью и знать не желающего долга взрос-
лости. Ведь взросление ребенка означает еще и старение его матери.
Когда набирает силы один, обязательно слабеют силы другой. В дет-
стве русский человек засиделся. Опыт его прежней кротости, смире-
ния и любовного почитания природы ему самому показался прини-
женностью. Выйдя из утверждаемой культурой природности, из
растворенности в ней, предполагающей ее безусловную первичность,
русский человек оказался вне культуры. В том смысле, что новых,
собственно культурных форм преобразования природы русская куль-
тура так и не выработала.
***
Особый и на этот раз последний в пределах настоящей главы
аспект темы «культура и природа» может быть сформулирован так:
«природность как внутренняя душевная реальность жизни русского
человека». Очевидно при этом, что человек в своих внутренних или
внешних состояниях, деятельных и предметных проявлениях при-
надлежит культуре. Чистая, без примесей природность для него была
бы тождественна животности. Поэтому говоря о природности, на этот
раз уже не великих воплощений, а самого русского человека, я имею
72
Русская культура как целое
в виду природность не как таковую, а именно культуры. Присуща же
она русскому человеку ввиду того, что в нем на протяжении столетий
относительно очень слабо был выражен момент целенаправленного
самоформирования, упорной и методичной выделки души. Русский
человек слишком легко и охотно воспринимал себя как некоторую
данность, но гораздо труднее ему давалось отношение к себе как
заданности. Человеческая данность, то, каков он есть здесь и те-
перь,—это тоже культура. Но совпадает она с собой достаточно
парадоксально. Не будет никакой игрой в слова сказать, что культу-
ра существует адекватно себе не в данности человека себе, а в момент
и в процессе его выхода за свои пределы. По самому способу своего
бытия культура представляет собой переход от человеческой данно-
сти к заданности. Разумеется, такому переходу не был чужд и рус-
ский человек, но ощущал и ценил его в себе гораздо слабее, чем
данность.
Сказанное легко пояснить русским фольклором, и прежде всего
сказкой. Но сказку, тем не менее, лучше не трогать. Это такой уж
жанр фольклора, где происходит исполнение желаний, где герою дан
он сам, а затем все само дается в руки. В сказках, тем самым, сплошь
и рядом встречаются две данности—наличного и желаемого; между
ними нет настоящего перехода, а есть чудесное превращение одного
в другое. Иначе говоря, заданность совпадает с данностью, переходя
в нее без всяких усилий. Например, тогда, когда звучит знаменитое
Емелино: «По щучьему велению, по моему хотению». Здесь нет
самого главного—труда самопреодоления, отношения к себе как
жизненной задаче, над которой еще надо поработать.
Повторю, так происходит в сказке. А вот эпос—дело другое.
В эпосе действуют герои уже не в смысле персонажей, а люди-
сверхчеловеки, которые, так или иначе, заданы себе. Причем герой
задает себя себе как труднейшую и по-настоящему исполнимую лишь
в гибели задачу. Еще бы, герою предстоит собственными усилиями
сакрализовать себя, выйти из данной ему рождением сферы челове-
ческого в сферу божественного. В нашем настоящем эпосе героем
номер 1, самым популярным и необоримо-могучим был, разумеется,
Илья Муромец. Все другие герои, которых он встречал на своем
пути, неизменно, хотя и не все сразу, уступали Илье первенство.
В чем же его преимущество перед другими героями-богатырями?
Конечно, в силе и необоримости. Ни один из них не выдержит
поединка с Ильей Муромцем, настолько велика его сила. Таким уж
Илья уродился. Впрочем, и герои других эпосов силу себе не добыва-
ют, она им дается рождением или каким-нибудь чудесным образом.
Правда, наш Илья Муромец в своем Карачарове вначале тридцать
три года на печи сидел, вбирая в себя материнскую силу земли.
А потом и калики перехожие дали ему испить той же самой земной
силы из ковша. Как никакой другой герой, Илья в своем богатырстве
созревает как налитой колос. Он растет и крепчает как бы помимо
Русская культура и природа 73
себя. Он чистая данность и, как только почувствовал в себе силу
молодецкую, тотчас же и отправился совершать свои подвиги. Они
свершаются также очень характерно, по-русски. Первый из них—
встреча и единоборство с Соловьем-Разбойником. В итоге Илья
повергает его, угодив стрелой прямиком в глаз. Это он совершает
вполне по богатырской мерке. Полету стрелы, однако, предшествует
испытание. Вначале Илья должен был выстоять перед троекратным
посвистом Соловья-Разбойника и только затем пускает в дело свой
богатырский лук. Данность Ильи, она же природность, таким обра-
зом, исходно пассивна, она стремится выстоять под напором, претер-
петь испытание. Последующее действие—только реакция. Она обо-
ронительна и восстанавливает равновесие. Илья Муромец по своей
воле попадает в неравновесную ситуацию, в этом он активен и не
природен. Далее наступает очередь пассивности-претерпевания, то
есть ставка делается на природную данность, проверку того, как она
выдержит испытание. Выдержала—стало быть, можно опять активно
проявлять себя.
Совсем уже странный характер ставки Ильи на данность приобре-
тет в былине «Калин-царь». В ней Илья Муромец один едет в стан
татарского царя, обложившего своим войском стольный Киев. У та-
тар Илья ведет себя вызывающе бесстрашно, как будто напрашива-
ясь на удар со стороны Калина-царя. Удар последовал не вполне
привычный. Царь велел связать Илье руки «во крепкие чембуры
шелковые», что ничуть не укротило запала Ильи. Наконец, он
добранился до того, что Калин-царь начал плевать в Илью:
И тут Ильи за беду стало
За великую досаду показалося,
Что плюет Калин в ясны очи,
Скочил в полдрева стоячева,
Изорвал чембуры на могучих плечах...1
Дальше пошла богатырская потеха, когда Илья перебил все татар-
ское войско, размахивая одним из подвернувшихся под руку татар.
Спрашивается, зачем Илье Муромцу было доводить ситуацию до
такой крайности? Отчасти дело здесь в законах поэтики эпоса. В нем
герой должен совершать свои подвиги в самых неблагоприятных
условиях, демонстрируя этим свою сверхчеловечность. Но, помимо
эпического жанра, на действие русского богатыря накладывает отпе-
чаток и та самая русская природность. Опять в былине звучит мотив
претерпевания как испытания своей природы на прочность. Акти-
визм же Ильи пробуждается также природным образом. Природа
может не только претерпеть, но и разбушеваться и впасть в ярость.
1 Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. М.; Л.,
1958. С. 171.
14
Русская культура как целое
В любом случае она требует воздействия извне. В обращенности на
себя она покоится и бездействует. Менее всего я готов сказать, что
Илья Муромец только пассивен и реактивен, претерпевают и раз-
дражителен. Будь оно так, какой он тогда герой. Другое дело, что
героизм, а значит, и сверхприродность Ильи периодически выпадают
в природность. Он не в состоянии неизменно пребывать на голово-
кружительной высоте героического.
Для природности русской культуры возможно и другое обозначе-
ние-непосредственность. Она предполагает не просто спонтанное
самопроявление души, когда человек ни с того ни с сего действует
так, а не иначе. При этом он еще и готов вслушиваться и всматри-
ваться в себя. Но, как правило, post factum и менее всего в преддве-
рии действий. Последнее как раз не для него. Русский человек
ощущает, что у него есть нрав и этому нраву лучше не препятство-
вать—все равно он возьмет свое. Он таков, каков есть. Ввиду своей
непререкаемости и необоримости нрав вызывает у его носителя
известное уважение, каков бы он ни был: бешенный, скандальный,
непреодолимо вялый, упрямый, и т. д. Когда русский человек гово-
рит: «Ты меня знаешь»,—за этим утверждением стоит нечто особое.
Некий разговор двух по поводу третьего. Оба собеседника почти
равно бессильны совладать с этим «третьим». Он колом сидит в од-
ном из них, не поддаваясь никаким преобразовательным усилиям. Да
у русского человека никогда особенно и не было воли к таким
усилиям. Со своей внутридушевной природностью он считался, вре-
мя от времени давая ей волю не считаться ни с какой культурой.
О растворении природности в культуре, как правило, не могло быть
и речи.
Глава 4
К проблеме периодизации
русской культуры
Нет ничего более естественного, чем стремление любого, кто
осмысляет русскую историю и культуру, расчленить их на эпохи или
периоды. Между тем, производящим подобную процедуру далеко не
всегда до конца очевидна цель операции расчленения. Добро бы,
скажем, если бы расчленение означало попытку утвердить то, что на
самом деле перед нами не одна реальность, а несколько. Но периоди-
зация относится к такого рода расчленениям, которые предполагают
и выявление многообразия, и удержание единства некоторой реаль-
ности. В этом случае расчленение уже не разрыв, а различение,
дистинкция. И призвана она приблизить к нам предмет изучения,
сделать его более явным и понятным. Самые фундаментальные
и даже тотальные претензии различения претендуют на выявление
самого существа явления. В частности, когда Ф. Ницше заговорил
о том, что греческая культура—это соотнесенность двух начал—
аполонийского и дионисийского, тем самым он выразил претензию на
усмотрение в греческой культуре ее смыслового ядра или жизненного
нерва.
Впрочем, ницшевское расчленение было синхронным. Самой же
известной для отечественного читателя из числа фундаментальных
и тотальных претензий на субстанциальное расчленение историче-
ского процесса, то есть его периодизацию, остается марксистская
версия с ее выделением первобытно-общинного, рабовладельческого,
феодального, буржуазного и социалистического (коммунистическо-
го) общественного строя (формации культуры). Можно вспомнить
и другую, на этот раз гегелевскую, периодизацию всемирной исто-
рии, когда он выделял восточный, греческий, римский и Германский
миры, каждый из которых выражает собой вполне определенный
и конкретный момент самоосуществления Мирового духа. Вспом-
76
Русская культура как целое
ним, наконец, и другое: субстанциалистские и тотальные претензии
периодизаций достаточно давно не возобновляются, став прошлым
исторического знания или откровенно маргинальными опытами. На
сегодняшний день многие периодизации или устоялись, или же
ставят перед собой заведомо ограниченные цели не схватить явление
в его глубочайшем существе первореальности, а увидеть и понять его
в новом ракурсе.
Однако прежде, чем переходить непосредственно к периодизации
русской культуры, не лишним будет остановиться на том, что в пе-
риодизации истории и культуры для автора неприемлемо и, следова-
тельно, чего он попытается избежать. В частности, речь идет о подхо-
де к любому историческому образованию с позиций того, что оно
имеет свое начало, центральное звено и последнюю, завершающую
стадию. Мудрость трехдольного ритма хороша своей самоочевидно-
стью и предельной доступностью. Самое же поразительное состоит
в том, что она соблазняла не только простые души в их нехитрых
построениях, но и действительно великие умы. Достаточно в этой
связи вспомнить имя О. Шпенглера, который, несмотря на всю
изощренность своих построений и культурно-философских характе-
ристик, с непостижимой прямолинейностью расчленил культуры в со-
ответствии с трехдольным ритмом зарождения-расцвета-упадка. И это
при том, что Шпенглер настойчиво проводил мысль о наличии
у каждой культуры «своей собственной формы... своей собственной
идеи, собственных страстей, собственной жизни, желания и чувство-
вания и, наконец, собственной смерти...»1. Как раз акцентированное
им «собственное» на шпенглеровской периодизации и не отразилось.
Это у культурфилософа такого масштаба, как Шпенглер. О дру-
гих последователях трехдольного ритма нечего и говорить. Их на-
стойчивое акцентирование наличия в данной культуре или историче-
ском образовании начала, середины и конца тем более остается
никакой не периодизацией, а всего лишь простейшим приемом груп-
пировки исторических фактов и обстоятельств, очень мало что или
вообще ничего в изучаемом феномене не проясняющим. Скажем,
очень широкое распространение в обобщающих и частных работах
получило вычленение в той или иной культуре или ее отдельной
сфере архаики, классики и нисходящей линии (поздней стадии,
«осени» и т. п.). Возразить против подобной операции как будто
нечего. Кто станет отрицать, что возникшее во времени живое явле-
ние (растительное, животное, культурное), если не прервать его
извне, непременно уложится в трехдольный ритм. Вопрос только
в том, что наличие начала (архаики), расцвета и упадка может нам
сказать своеобразного именно вот об этом полевом цветке, дождевом
черве или зодчем. Ну, а если решительно ничего, то остается отне-
стись к трехдольному ритму как к реальности, несомненно имеющей
1 Шпенглер О. Закат Европы. М.; Пг., 1923. С. 20.
К проблеме периодизации русской культуры
11
место быть, как к тому, чему подчинено все живое, и вместе с тем
отдавать себе отчет во всей ограниченности возможностей усмотреть
через призму трехдольного ритма существо осмысляемой реальности.
Конечно, архаику с классикой или «осенью» лучше не путать. Но
точно так же нельзя не помнить о том, что есть архаика и архаика,
классика и классика, «осень» и «осень». Определив, какая перед ним
историческая или культурная стадия, исследователь свою работу
только начинает, а вовсе не выносит свой вердикт и не подводит итог.
В частности, для него начинаются и заботы о периодизации того, что
он изучает. Наверное, допустимо обозначить как периодизацию
и расчленение предмета изучения в трехдольном ритме. Но только
в этом случае она останется не более чем простейшей операцией
элементарного упорядочения эмпирического материала, наложением
одной и той же матрицы на в очередной раз уникальную реальность.
Чем не будет периодизация через использование трехдольного ритма
(не важно, в его обнаженной элементарности или в усложненных
вариантах), так это периодизацией истории и культуры.
***
Любая претензия на периодизацию-типологизацию предполагает
имманентное предмету изучения его расчленение. Конечно, выделе-
ние в некоторой культуре ее архаики, классики и «осени» имманент-
но ей. Но в такой имманентности нет самого главного—-своеобразия
изучаемой реальности, ее несводимость к иному. Пока расчленяемая
реальность уравнивается и нивелируется, а не заявляет себя в своем
самобытии.
Сказанное можно пояснить не совсем привычным в настоящем
контексте примером. Он имеет отношение к индивидуальной и личност-
ной реальности, к одному вполне конкретному и всем знакомому
человеку, Л. Н. Толстому. Как известно, он прожил 82 года, то есть
полную человеческую жизнь. Будь она несколько короче или продол-
жительнее, все равно в ней можно выделить основные периоды:
детство, отрочество, юность, зрелость, старость. То, что их пять, не
должно нас вводить в заблуждение по поводу трехдольности расчлене-
ния жизни Л. Н. Толстого, поскольку первые три ее периода легко
объединяются между собой в «архаику», а, скажем, во втором и третьем
при желании легко вычленить их собственную трехдольность. Все
дело здесь, однако, в том, что, обнаружив в жизни Толстого «архаику»,
«классику» и «осень», мы не усмотрим в них не только ничего
своеобразно толстовского, но даже и просто человеческого. В своих
«архаике», «классике» и «осени» Толстой—живое существо, не более.
Но выбран он был для примера не случайно. Я потревожил великую
тень не совсем всуе потому, что сам Лев Николаевич периодизировал
свою жизнь в одном из своих сочинений, и, разумеется, не констата-
цией наличия в его биографии «архаики», «классики» и «осени».
Периодизация у него своя, толстовская. Вот, как он ее строит.
78
Русская культура как целое
«Вспоминая так свою жизнь,—пишет Толстой,—то есть рассмат-
ривая ее с точки зрения добра и зла, которые я делал, я увидал, что
моя жизнь распадается на четыре периода: 1) тот чудный, в особен-
ности в сравнении с последующими, невинный, радостный, поэтиче-
ский период детства до 14 лет; потом второй, ужасный 20-летний
период грубой распущенности, служения честолюбию, тщеславию, и,
главное,— похоти; потом третий, 18-летний период от женитьбы до
моего духовного рождения, который с мирской точки зрения можно
бы назвать нравственным, так как в эти 18 лет я жил правильной,
честной семейной жизнью... но все интересы которого ограничивались
эгоистическими заботами о семье, об увеличении состояния, о приоб-
ретении литературного успеха и всякого рода удовольствиями.
И, наконец, четвертый, 20-летний период, в котором я живу
теперь и в котором надеюсь умереть и с точки зрения которого
я вижу все значение прошедшей жизни и которого я ни в чем не
желал бы изменить, кроме как в тех привычках зла, которые усвоены
мною в прошедшие периоды»1.
Толстовская «периодизация» собственной жизни ничего своеоб-
разно толстовского не содержит только по первому пункту. Выделяя
детство, Толстой констатирует свое полное совпадение с любым
другим человеком. Правда, осмысляя его как «невинное, радостное,
поэтическое», он все же отделяется от общечеловеческого ритма.
Таковым детство бывает не вообще, а в представлениях людей
сентиментального или романтического душевного настроя. Таковых
в Европе XVIII—XIX вв. существовало великое множество, но все же
на фоне всего населения, проживавшего в Европе этого времени,
сентименталисты и романтики составляли незначительное меньшин-
ство. А что говорить о большом историческом времени уже не веков,
а тысячелетий, взятом во всемирном историческом масштабе?
Таким образом, Толстой, выделяя детство в качестве периода
своей жизни, пока говорит не о себе исключительно, а относит себя
к определенному человеческому типу. Приблизительно такой же, как
и предыдущий, характер носит у Толстого выделение второго перио-
да своей жизни. Теперь он относит себя к достаточно распространен-
ному типу «прожигателей жизни», каковые являются для него вопло-
щенной безнравственностью. В своем третьем, зрелом периоде Толстой
остепенился и зажил «правильной семейной жизнью». Если бы все
дело этим кончилось, то периодизация толстовской жизни вполне
укладывалась в то, что предлагает нам европейский роман XVIII—
XIXвв., в первую очередь английский. И не только роман, но
и непосредственно жизненные реалии, которые он воспроизводил,
разумеется, не без схематизации. Резко индивидуализирует толстов-
скую периодизацию выделение еще и четвертого периода. Для Тол-
стого он стал не тем угасанием и одряхлением, какого был вправе
1 Толстой Л. Н. Собр. соч. в 20 т. Т. 14. М., 1964. С. 416.
К проблеме периодизации русской культуры
79
ожидать привыкший к расхожим схемам читатель. Четвертый период
начался для Толстого «духовным рождением», после которого для
него наступала новая молодая (но молодая в духе) жизнь.
Не то чтобы начало четвертого периода—это биографическая
реальность уникально толстовская. Вторичное рождение и преобра-
жение вполне укладываются в схематику жизненного пути христиа-
нина. Необычной ситуацию делает время, в котором жил Лев Нико-
лаевич. Оно менее всего предполагало некоторые жизненные
перевороты у человека, достигшего признания и славы, да еще на
шестом десятке лет своей жизни. Да и не о христианском в точном
смысле слова преображении нужно говорить применительно к Тол-
стому. В соответствии с его периодизацией можно выделить следую-
щие периоды биографии: первоначальной чистоты и невинности (1),
безнравственный (2), нравственно-эгоистический (3), нравственный
в собственном смысле слова (4). Не будем уточнять, что конкретно
стоит за толстовской подлинной нравственностью. Достаточно ска-
зать, что это так называемое «толстовство». Уже терминологически
оно прикреплено к своему источнику и выражает все своеобразие
жизненного пути Толстого. Самое же для нас существенное состоит
в том, что именно наличие в толстовской жизни четвертого периода
делает всю периодизацию отражающей уникальность жизненного
пути Толстого. Четвертый период освещает собой и в новом свете три
предшествующих периода, несмотря на то что они выстроены вполне
узнаваемо в контексте западной культуры XVIII—XIX вв.
Как бы ни была уязвима и по части логической стройности
и экзистенциальной убедительности периодизация Толстого, в глав-
ном она отвечает критерию имманентности. Перед нами в самом деле
расчленение на периоды не человеческой жизни вообще и даже не
жизни определенного рода людей, а той, которую прожил именно вот
этот конкретный человек. В рамках предварительно обозначенной
периодизации можно стройно и последовательно рассматривать дан-
ную человеческую жизнь еще и потому, что она устанавливает
переломные жизненные вехи, когда человек, оставаясь в своей осно-
ве самим собой, вместе с тем переходил в иное состояние.
***
Если вернуться от индивидуально-личностной реальности к реали-
ям культурно-историческим и обратиться к существующим и широко
признанным периодизациям, то очевидным станет, что они слишком
часто не имеют никакого отношения к критерию имманентности.
В частности, такое впечатление, во всяком случае на первый взгляд,
оставляет фундаментальное и ключевое для самоощущения нас, евро-
пейцев, расчленение западной истории и культуры на Античность,
Средние века и Новое время. В этом расчленении уж очень легко
угадывается трехдольный ритм, когда Античность представляет со-
бой начало, Средние века—середину, а Новое время—завершающий
80
Русская культура как целое
период существования Запада. Между тем, стоит вглядеться в логику
начала, середины и конца чуть-чуть попристальнее—и обнаружатся
очень странные и вряд ли приемлемые для западного человека вещи.
Так, относя Античность к началу, Средние века к середине, а Новое
время к концу, мы вроде бы обязаны говорить о первой как об
архаике, о вторых как о классике и о третьем как об «осени».
Вот тут и начинаются недоразумения. Ну, какая же Античность
архаика? Ведь ее так долго, и нельзя сказать, что вовсе безоснова-
тельно, относили к западной классике! А Средние века? Их то
клеймили в качестве знаменитых «темных веков», то превозносили,
но классикой, образцом они были только в мечтаниях некоторых
романтиков. Наконец, самое для нас главное и чувствительное—
отнесение Нового времени к «осени», закату, последней стадии
западной истории и культуры. Подобные настроения если и имеют
место, то оформились они только в XX в. Причем возникли они
в полном противоречии с обозначением эпохи последних четырех
столетий в качестве Нового времени. Если уж оно последнее, то
именовать его сразу же надо было Поздним или Старым временем.
Почему-то этого так и не произошло. И вряд ли по чьему-либо
недосмотру или невменяемости. И здесь нужно обратить внимание на
то существенное обстоятельство, что расчленение западной истории
на Античность, Средние века и Новое время—это не чья-либо кон-
цепция, которую специально разработал некий мыслитель, после чего
она получила широкое признание и распространение. В том и дело,
что взгляд на Запад через призму Античности, Средних веков и Но-
вого времени возник как бы сам собой. Сразу, пускай не для всех, но
для очень многих. И возник он в ощущении того, что мы, люди XV,
XVI вв., живем в реальности vita nuova (новой жизни), что жизнь
обновилась, возобновилась и помолодела.
Подобное ощущение было в истории культуры чем-то небывалым.
И языческая Античность, и христианское Средневековье каждый раз
по-своему исходили из того, что люди живут в конце времен. Конец
мог представляться более или менее отдаленным, но в любом случае
сегодняшнее время Старое. Молодым для язычников, неважно, пер-
вобытных или полу первобытных, оно было тогда, когда совершался
процесс теогонии и космогонии, когда бытийствовали одни только
боги. Сам факт появления людей свидетельствовал об одряхлении
космоса, перехода его в ущербное состояние. Горизонт будущего для
христианина, в отличие от язычника, распахнут. Но будущее для
него—это конец времен. Пока же после боговоплощения длятся
последние времена, могущие прерваться в соответствии с Промыслом
Божиим в любой момент.
То, что на протяжении тысячелетий прошлое относилось к молодо-
сти, а современность к старости мира, почему-то перестало устраи-
вать западного человека начиная с Возрождения. Осмыслив моло-
дым современный ему мир, он, разумеется, совсем не предполагал
К проблеме периодизации русской культуры
81
его движения обратным привычному—от старости к молодости. В этом
случае произошло нечто совсем иное. Состояло оно в переориентации
от восприятия прошлого как нерасчлененного к расчленению его на
два прошлых. На то, что потом назовут Античностью и Средними
веками. Нерасчлененным же прошлое может быть лишь тогда, когда
оно воспринимается в качестве своего собственного прошлого, точ-
нее, когда за ним предполагается один и тот же носитель. Детство,
юность, молодость—мое собственное прошлое, и только затем они
детство, юность и молодость. Вот эта первичность носителя по
отношению к историческому времени для ренессансного сознания
была разрушена. Он увидел прошлое уже не как непосредственно
свое, а в качестве родственного себе. Начала работать не логика
возрастов одной и той же жизни, а логика поколений родственников.
Поэтому, ощущая свое время vita nuova, не было никакой нужды
поворачивать время вспять от старости к молодости. Поскольку оно
принадлежит разным носителям и мирам, между которыми сохраня-
ется связь родства, то уместно уподобить Античность поколению
дедов, Средние века—отцов, а себя—Новое время—детей.
Возникновение нового восприятия исторического времени не мог-
ло не быть связано у западного человека с острым переживанием
и своей близости к прошлому и отрыва от него. Близость родства уже
не так наивна и непосредственна, как близость к самому себе.
Известно, что от себя не убежишь, от деда или отца убежать можно.
Первоначально в Ренессансе Запад пытался уйти от «отца» Средневе-
ковья и как можно теснее сблизиться с «дедом» Античностью. Потом
наступили времена во многом мнимой близости «деду», когда возник-
ла острая тревога по поводу отдаленности от «отца». Ее пережили
романтики, вдруг затосковавшие по Средним векам, как по утерян-
ной духовной родне. XX же век уже твердо усвоил, что Античность
и Средневековье равно близки ему и далеки от него. Потому главное
здесь—возобновление и удержание периодически ослабевающих род-
ственных связей.
Подобная позиция не просто жизненна и конструктивна, но только
и может устойчиво опираться на непоколебимую данность западному
сознанию трехдольного ритма собственной истории и культуры.
Ничем заменять их расчленение на Античность, Средние века и Но-
вое время не нужно и невозможно без того, чтобы Западу перестать
быть самим собой. Ведь наличие у него Античности, Средних веков
и Нового времени—это дело не только рефлексии по поводу самого
себя, это еще и фундаментальная ментальная структура, делающая
Запад тем, что он есть. Она строго имманентна исключительно
Западу. Всякие же попытки найти свои Античности, средневековья,
ренессансы и новые времена в любой незападной культуре носили
исключительно детски-простодушный характер игры в реалии, смысл
которых оставался недоступным игрокам.
82
Русская культура как целое
***
Применительно к русской истории и культуре, к которым, нако-
нец, пора непосредственно обратиться, прервав изложение соображе-
ний общего характера по поводу периодизации, можно выделить, по
сути, два подхода к рассматриваемой проблеме. Их разрабатывали
и исследовали очень заметные и влиятельные представители нашей
исторической науки. Но к каждому из них необходимо отнестись
всерьез прежде всего потому, что они, по крайней мере в своем
стремлении к периодизации, имманентны русской истории.
Первый подход реализован в работах крупнейших отечественных
историков последних десятилетий XIX—начала XX вв. В. О. Клю-
чевского и Н. П. Павлова-Сильванского. При всем несомненном раз-
личии между периодизациями каждого из них, в принципе, они
представляют собой две вариации одной и той же темы. Первая из
них более ранняя и менее проработанная, вторая фундаментально
обоснована, от чего они не становятся фундаментально отличными.
В своей периодизации русской истории В. О. Ключевский исходил
из наличия в ней четырех периодов. Каждый из периодов у него
достаточно определенно фиксирован на уровне хронологическом
и только частично—терминологически. Терминологическая опреде-
ленность у Ключевского присуща первому и второму периодам,
которые он обозначает, соответственно, как очередной и удельный.
Очередной период, по Ключевскому, характеризуется тем, что «Кня-
зья-родичи не являются постоянными, неподвижными владельцами
областей, доставшихся им по разделу: с каждой переменой в налич-
ном составе княжеской семьи идет передвижка, младшие родичи,
следовавшие за умершим, передвигались из волости в волость, с млад-
шего стола на старший. Это передвижение следовало известной
очереди, совершалось в таком же порядке старшинства князей, как
был произведен первый раздел. В этой очереди выражалась мысль
о нераздельности княжеского владения Русской землей: Ярославичи
владели ею, не разделяясь, а переделяясь, чередуясь по старшинст-
ву»1. Существовал очередной период в промежутке между серединой
XI и концом XIIв., после чего он сменяется удельным периодом.
«В удельном порядке носитель власти—лицо, а не народ, княжеское
владение становится раздельным и, не теряя верховных прав, соеди-
няется с правами частной личной собственности»1 2.
Пока в периодизации русской истории Ключевский выдерживает
последовательность, по крайней мере в одном отношении у него
введен единый критерий для соотнесения двух периодов: характер
владения князьями подвластными им землями. Когда же речь захо-
дит о третьем периоде, так четко обозначенном временем между
1 Ключевский В. О. Русская история. Полный курс лекций в трех книгах. Кн. 1.
М., 1993. С. 150 (далее: Ключевский).
2 Там же. С. 308.
К проблеме периодизации русской культуры
83
началом правления Ивана III
и избранием на царство Михаила
Федоровича Романова, Ключев-
ский, во-первых, называет его
«временем Московской Руси» и,
во-вторых, вводит дополнительный
критерий периодизации. Теперь он
указывает не только на характер
землевладения, но и обращается
к земледельческому сословию. По
Ключевскому, «основой народно-
го хозяйства в этом государстве
остается по-прежнему земледель-
ческий труд вольного крестьяни-
на, работающего на государствен-
ной или частной земле, но
государственная земля все более
переходит в руки нового военного
класса, создаваемого государством,
и вместе с тем все более стесняет-
ся свобода крестьянского труда,
заменяясь хозяйственной зависи-
мостью крестьянина от служилого
землевладельца»1.
В. О. Ключевский
Фото, 1895
Намечающиеся несостыковки периодизации Ключевского слиш-
ком очевидны, чтобы на них долго останавливаться. Укажем только
на то, что введение автором в свою периодизацию словосочетания
«Московская Русь» предполагает его или хотя бы нашу оглядку
назад с целью уточнения: а какой в сопоставляемой терминологии
была предшествующая очередная или удельная Русь? Киевской пер-
вую не назовешь хотя бы потому, что Киевское княжество возникло
не в середине XI, а в конце IX в. С удельным периодом вообще
непонятно, как быть. За ним никакого стольного города не просмат-
ривается, и Ключевский на него не указывает. Касательно же другого
обстоятельства — изменения характера землевладения и земледелия,
можно, наверное, договорить за Ключевского, что в землевладении
он смещает акцент с князей Рюриковичей на боярство и дворянство,
усматривая в них решающей значимости для данного периода фигу-
ры. Земледельцы же целиком зависают ввиду того, что на основании
«Русской истории» Ключевского чрезвычайно трудно судить о прин-
ципиальной разнице в положении крестьян в очередной и удельный
периоды. Если настаивать на их свободе, то, по Ключевскому,
вольным крестьянин оставался и в Московской Руси. Правда, в ней
«свобода крестьянского труда» «все более стеснялась» хозяйственной
1 Ключевский. С. 422.
84
Русская культура как целое
зависимостью. Но тогда, будучи последовательными, нам остается
признать Московскую Русь некоторым переходным периодом по
сравнению с предшествующей и последующей Русью, что явно не
входило в намерения автора.
Четвертый период русской истории Ключевским датирован так же
четко, как и предыдущие. Ему отведен промежуток между 1613
и 1855 гг. В правомерности такой периодизации позволяет усомнить-
ся в первую очередь то обстоятельство, что она как будто игнорирует
петровские преобразования, точнее, не считает их такими уж значи-
мыми и заслуживающими стать вехой периодизации. Согласиться
с чем-либо подобным можно лишь подчинившись неотразимой логи-
ке авторских аргументов. Этого как раз Ключевский предложить
читателю не в состоянии. Самым интересным у него является тезис
о «государевом тягле» или «разверстке повинностей», которые у ка-
ждого сословия свои, но неизменно обременительны. «Государево
тягло» или «разверстка повинностей» — это своего рода всеобщее
закрепощение. Только у различных сословий различна и крепость.
Крестьянин прикреплен к земле, дворянин—к службе ит. д. Этот
тезис Ключевского хорошо известен, во многом убеждает и не может
быть с порога отброшен, но только не с позиции периодизации
русской истории. Здесь он не срабатывает. В соответствии с собствен-
ной заявкой самого Ключевского, начиная с Петра III, когда с дво-
рянского сословия была снята обязательная служба, и Екатерины II,
с инсценированным ею введением дворянского самоуправления, дво-
рянство из общего тягла и разверстки выпадает. Тем более сказанное
применимо к XIX в. Неизменным за период между 1613 и 1855 гг.,
правда, остается крепостное право. И его наличие могло бы быть
серьезным аргументом в пользу периодизации Ключевского. Но
лишь при том условии, что критерий крепостного права был бы
соотнесен с докрепостным состоянием Руси. Поскольку этого у Клю-
чевского не происходит, то несостоятельным остается выделение им
четвертого периода русской истории. По-своему он не выдерживает
проверки ни по критерию землевладельца, ни по критерию земле-
дельца.
Периодизация русской истории, предлагаемая другим нашим круп-
нейшим историком Н. П. Павловым-Сильванским, уже не так хрупка
и эфемерна, чтобы рассыпаться от первого прикосновения, как это
было с периодизацией Ключевского. Однако именно в силу своей
большей крепости она позволяет сосредоточиться главным образом
на своем коренном изъяне, кстати говоря общем с изъяном периоди-
зации, предложенной знаменитым предшественником Павлова-Силь-
ванского. Однако прежде, чем рассматривать упомянутый изъян,
необходимо кратко остановиться на существе концепции, предложен-
ной Павловым-Сильванским. В соответствии с ней, «две переходные
эпохи, с их поворотными событиями 1169 и 1565 гг., делят русскую
историю на три периода, глубоко различающихся по господствую-
К проблеме периодизации русской культуры
85
щим в каждом из них началам
социального и государственного
строя»1. Речь у автора идет внача-
ле о взятии Киева войском Анд-
рея Боголюбского, за которым
последовал отказ Владимире-Суз-
дальского князя от занятия Киев-
ского престола, а затем об учреж-
дении опричнины Иваном
Грозным. Что же за периоды рус-
ской истории имеют своим водо-
разделом 1169 и 1565 гг.?
«В первом периоде, — отмечает
автор,—от доисторической древ-
ности до XII в., основным учреж-
дением является община или мир,
мирское самоуправление, начиная
с низших самоуправляющихся вер-
вей до высшего самоуправляюще-
гося союза: земли, племени, с пол-
новластным народным собранием,
вечем. Этот мирской строй идет
из глубокой древности, связываясь
ми; он сохраняется и в киевскую
Н. П. Павлов-Сильванский
Фото, 1900-е гг.
с древнейшими союзами родовы-
эпоху, когда пришлые князья со
своими дружинами и с посадниками являются элементом, наложен-
ным сверху на строй мирского самоуправления, и вече сохраняет
свою суверенную власть, призывая князей и изгоняя их, ,,указывая
им путь“»1 2.
Прервем ненадолго цитату из книги Павлова Сильванского «Фео-
дализм в России» с тем, чтобы обратить внимание на то обстоятельст-
во, что, в соответствии с его концепцией, возникновение Киевского
княжества и, шире, Руси ничего особенно существенного для русской
истории не значит. Появилась Русь или оставалась совокупностью
восточно-славянских племен, не так уж важно на фоне сохранивше-
гося в своей основе все того же социального строя. Он по-прежнему
был общинным или мирским.
«Во втором периоде, с XIII до половины XVI в.,— продолжает
Павлов Сильванский,— основное значение имеет крупное землевла-
дение, княжеская и боярская вотчина, или боярщина-сеньерия. Мир
ское самоуправление сохраняется в ослабленном значении; оно жи-
вет и под рукою боярина на его земле. Но центр тяжести отношений
переходит от мира к боярщине, к крупному землевладению, и на
1 Павлов-Сильванский Н. П. Феодализм в России. М., 1988. С. 148 (далее: Пав-
лов-Сильванский).
2 Там же. С. 148.
86 Русская культура как целое
основе его развивается удельный феодальный порядок». Прервав
цитату из книги Павлова-Сильванского, еще раз обратим внимание
на в принципе сходное с предыдущим обстоятельство. Феодальный
строй, а следовательно, и самое существо русской истории второго
периода оставалось, согласно автору, тем же, несмотря на катастро-
фу татаро-монгольского нашествия и последующее иго, несмотря на
разделение Руси на Великую, Малую и Белую Русь, несмотря,
наконец, на возвышение Москвы, приведшее еще к самому началу
XVI в. к объединению почти всех русских земель, не захваченных
Польшей и Литвой. Как минимум, тут есть над чем задуматься. Но
завершим, теперь уже без перерывов, затянувшееся цитирование.
«Наконец, в третьем периоде, XVI—XVIII и частью XIX в., основ-
ным учреждением является сословное государство. Этот период рас-
падается на две тесно связанные между собой половины: эпоху
московской сословной монархии и петербургского абсолютизма, на
основе того же сословного строя. В течение этих трех периодов
последовательно сменяют одно другое в качестве основных, преобла-
дающих над другими элементов порядка, три учреждения: 1) мир,
2) боярщина, 3) государство»1.
На этот раз Павлов-Сильванский расчленяет своим аналитическим
ножом русскую историю не так безусловно решительно и резко. Все-
таки «московская сословная монархия» и «петербургский абсолю-
тизм» для него не совсем одно и то же. Но поскольку они тем не
менее образуют один и тот же период, то в соответствии с Павловым-
Сильванским получается, что, скажем, Русь Ивана III и Ивана IV по
своей сути гораздо дальше отстоят друг от друга, чем Русь Алексея
Михайловича и Александра I. Вопрос только в том, что понимать
здесь под близостью. Для нашего автора она определяется социаль-
ным строем. Вначале он был общинным, затем феодальным и,
наконец, государственным.
Приняв это утверждение со всей лояльностью, все равно невоз-
можно будет удержаться от того, чтобы не задаться таким, например,
вопросом. Положим, для Руси-России действительно были характер-
ны три указанных социальных строя, и они составляют самое сущест-
во исторического процесса в нашей стране, но каким образом тогда
это существо выходило на поверхность истории, проявляло себя?
Ведь так называемая «сущность» потому и признается за таковую,
что определяет собой явление, она есть то же самое явление, но
взятое уже в своем единстве, а не в проистекающем из единства
многообразии, иначе говоря, сущность выражает себя в явлении.
Наш вопрос имеет смысл поставить уже ввиду того, что Русь
Ивана III и Ивана IV говорила одним и тем же языком, во всяком
случае писала на нем, очень сходно или одинаково одевалась, ориен-
тировалась в своем бытии на те же самые формы и нормы общежития
1 Павлов-Сильванский. С. 149.
К проблеме периодизации русской культуры
87
и т. п. Но представим себе боярина Ивана IV или Алексея Михайло-
вича, общающегося с членом Государственного Совета образца нача-
ла XIX века. Чего доброго, они вообще не поймут один другого.
И язык будет разный, и этикет, и круг понятий, и одеты они будут
так, что каждый другому покажется шутом гороховым. Едва ли
ситуация существенно изменится при встрече московского подьячего
с петербургским чиновником или стрелецкого начальника с участни-
ком кампании 1812—1813 гг. Конечно, различия между рядовым
стрельцом и солдатом и, тем более, крестьянами будут заметны
меньше. Но то же самое крестьянство—это реальность в значитель-
ной степени внеисторическая. Если ориентироваться прежде всего на
него при периодизации истории Руси-России или какой-нибудь дру-
гой страны, то с периодизацией неминуемо возникнут самые серьез-
ные затруднения, настолько устойчиво однообразна и статична кре-
стьянская жизнь.
Приведенные примеры сопоставления явлений, существовавших
в пределах одного и того же периода русской истории слишком легко
умножить, чтобы далее заниматься подобной процедурой. Каждый
из очередных примеров по-своему продемонстрирует одно и то же, не
только большую близость явлений, отнесенных Павловым-Сильван-
ским к различным периодам, но и их бьющее в глаза различие
в пределах одного и того же исторического периода. Самое же
главное состоит даже не в этом, а в том, что социальный строй, по
Павлову-Сильванскому, обнаруживает себя такой сущностью, кото-
рая не имеет своей продолженности в явлениях. Последние существу-
ют независимо от них, в то время как сущность замкнута на себя
в некотором подобии «вещи в себе». На уровне философских спеку-
ляций пропасть между «вещью в себе» и явлением еще как-то могла
быть приемлема, но только при условии, что «вещь в себе» не
определена. Познанная и определенная, «вещь в себе» уже есть нечто
иное. Она должна играть роль принципа, синтезирующего наличное
многообразие. В нашем же случае—придающего внутреннее единст-
во определенному периоду русской истории. Ничего подобного от
построений Павлова-Сильванского ожидать не приходится. Если его
община, боярщина и государство могли бы быть приняты, то лишь
в качестве реалий, сопрягаемых с другими реалиями русской исто-
рии, что-то в ней существенно выражающих, но вовсе не в качестве
субстанциальных начал исторического процесса.
***
Опыты построения периодизаций, причем далеко не только отече-
ственные, неизменно оставляют впечатление неудачи, если они ори-
ентированы на жесткую концептуальность и, в частности, на утвер-
ждение некоторого единого сущностного начала, лежащего в основании
исторических изменений. Вряд ли когда-нибудь удастся убедить всех
или хотя бы большинство историков в том, что история в качестве
88
Русская культура как целое
целого может быть сведена к некоторому единому основанию. Зара-
нее очевидно, что поскольку такое основание вводится (как, скажем,
у Павлова-Сильванского социальный строй), то оно будет соответст-
вовать вполне определенной исторической фактуре, объяснять ее,
оставаясь между тем чуждой или мало значимой для другой истори-
ческой фактуры. Иначе обстоит дело при обращении ко второму
подходу к периодизации истории, и, в частности, русской.
Это как раз тот подход, которому соответствует расчленение
западной истории на Античность, Средние века и Новое время. Как
уже отмечалось, за ним стоит не концепция, кем-то разработанная,
а своеобразное ощущение собственной истории западным человеком.
Это расчленение, тем самым не налагается на историю в качестве
некоторой отвлеченности и извлеченности из нее самой, а само
является устойчивым моментом этой истории. Не будь его, западная
история, по крайней мере новоевропейская, не могла бы состояться
так, как она состоялась. Сходным образом складывается ситуация
и с расчленением русской истории на Киевский, Московский и Пе-
тербургский периоды. Расчленение это так же подозрительно просто,
как и трехдольный ритм общезападного исторического процесса.
Подозрение здесь, однако, так же необходимо снять, как и в преды-
дущем случае.
Да, это вроде бы очень просто заметить, что русская история
и культура первоначально центрировалась Киевом, затем Москвой и,
наконец, Петербургом. Но, может быть, здесь перед нами все-таки
простота неотменимой очевидности, а не упрощение, абстрагирова-
ние от всякого рода исторической конкретики? Думаю, что однознач-
но верной будет именно первая постановка вопроса. Для русского
человека расчленение отечественной истории на Киевский, Москов-
ский и Петербургский периоды—способ ориентироваться в историче-
ском времени при помощи наиболее общих и фундаментальных
ориентиров. Иначе для него история Руси-России просто не склады-
вается, как не складывалась бы в целое общезападная история без
расчленения ее на Античность, Средневековье и Новое время. И по-
том, выделение у нас Киевского, Московского и Петербургского
периодов при ближайшем и сколько-нибудь внимательном рассмотре-
нии обнаруживает богатые возможности для понимания русской
истории и культуры в их своеобразии и существенности.
Ведь это совершенно не случайно, что история западных стран
и народов никогда не расчленялась по принципу наличия у них
различных столиц. Франция с тех пор, как ее столицей стал Париж,
никогда ее не меняла. И ничего нет нелепей, чем вообразить себе
какую-нибудь лионскую или бордосскую Францию наряду с париж-
ской. У нас невозможное для Франции—очевидная историческая
данность, обращаясь к которой, для начала нельзя не отметить, что
за ней стоит особая, не свойственная остальному Западу дискрет-
ность резко отличных друг от друга составляющих. Возникшая после
К проблеме периодизации русской культуры
89
крушения Киевской Московская Русь по ряду признаков продолжает
первую Русь, но в то же время и отличается от нее вплоть до
противоположности. То же самое можно сказать о Петербургской
России при ее сопоставлении с Московской Русью. Оба раза Русь-
Россия как бы разрушалась и собиралась из своих элементов заново.
При переходе от Киевского к Московскому периоду она изменила не
просто свой центр, но и очертания. Одни земли утеряла, другие
приобрела. Бывшая ее окраина стала ядром страны. Петербург,
в отличие от Москвы, не стал центром нового ядра России. Этого не
позволяла ни его пограничность, ни климат и почва окрестных
земель. Здесь произошло другое. Петербург стал воплощенной в про-
странстве метафорой устремленности страны к Западу. Порыв был
стремительным и резким. На Запад прорвалась не вся Россия,
а преимущественно верхи. Их и олицетворял пограничный Западу
Санкт-Петербург.
Вглядываясь в сопряженность основных периодов русской исто-
рии с определенной и каждый раз иной столицей, легко заметить, что
новые столицы начинались почти или целиком заново, а не за счет
переноса из одного крупного города в другой. Там, в Киевской Руси,
Москва была самым, какое только может быть, дремучим захолусть-
ем, и к тому же возникшим сравнительно очень поздно. Она росла
и расширялась по мере того, как Русь становилась Московской
Русью. О Петербурге нечего и говорить—он появился как знак того,
что русское царство стало Российской империей. Последнюю без
Петербурга можно себе представить еще меньше, чем Московскую
Русь без Москвы.
Не последним делом было и то, что Киев—город княжеский,
Москва—царский, а Санкт-Петербург—императорский. Образы кня-
зя, царя и императора не просто очень разные. Каждый раз они
персонифицировали собой и выражали на индивидуальном уровне
собственную страну. Каков князь—такова и Киевская Русь; каков
царь, такова и Московская Русь; каков император, такова и импера-
торская Россия.
С каждым из трех периодов отечественной истории у русского
человека связан свой ряд ассоциаций, образов, понятий. У каждого
из них свое, достаточно ярко выраженное лицо. Чтобы ощутить это,
не нужно никаких специальных и глубоких исторических изысканий.
Многое здесь прямо бьет в глаза. Достаточно при этом не забывать
элементарно очевидное. Три Руси—это не абстракция и отвлечение
от исторической конкретики, но и не нечто всякий раз самостоятель-
ное и замкнутое на себя. В Киевский, Московский и Петербургский
периоды русская история оставалась самой собой, все той же русской
историей. А если это так, то различие между периодами и само их
наличие не такая уж абсолютная данность. В чем-то киевский период
мало отличим или не отличим вовсе от московского, а московский —
от петербургского. Когда фиксируется их фундаментальная общ-
90
Русская культура как целое
ность, мы вправе сказать: не было никакой Киевской, Московской
или Петербургской Руси-России, а была одна и та же страна и народ.
Но, правда, с одной необходимой коррективой, подразумеваемой или
проговариваемой: той или иной Руси-России не было не вообще,
а в данном определенном отношении. Более всего здесь сбивает с толку
то, что некоторые явления одного периода русской истории сущест-
вуют и в другом, хотя и играют в них различную роль и по-разному
значимы. Нередко они в одном периоде зарождаются, в другом же
выходят на передний план или, наоборот, доживают в более поздний
период, тогда как их расцвет приходился на предыдущую эпоху.
Разговор о том, в чем состояло своеобразие каждого из периодов
русской истории и культуры, предстоит еще в последующих частях
книги, собственно, он и должен лишний раз продемонстрировать
правомерность выделения Киевского, Московского или Петербург-
ского периодов. Теперь же необходимо сделать два существенных
уточнения касательно периодизации.
Одно из них состоит в указании на то, что наряду с трехчленной
периодизацией возможна, и ничуть ей не противоречит, двухчлен-
ная. А именно известное разделение русской истории на древнюю
и новую. И, соответственно, Руси-России на Древнюю Русь и Рос-
сию. Очевидно, что под Древней Русью в настоящем случае понима-
ется реальность, включающая в себя как Киевскую, так и Москов-
скую Русь. Объединение последних двух одним именованием уместно
уже ввиду того, что Петербургская Россия развивалась в ритмах
Нового времени. Она пережила и свое Просвещение, и Романтизм,
и углубляющуюся секуляризацию, и, пускай запоздалый, промыш-
ленный переворот и т. д. Именно вхождение России в западный
культурный круг предопределило именование всей ее предшествую-
щей истории как древней, а самое ее—Древней Русью. Иногда,
впрочем, употребляется и словосочетание «Средневековая Русь».
Вряд ли оно всецело неправомерно, и все же рискованно и не вполне
точно. Во всяком случае, употребление этого словосочетания смазы-
вает различие между Русью и остальным Западом. Русь не входила
в Запад, как это было с Англией, Францией, Германией или Итали-
ей. Поэтому даже типологические сходства между ними и Русью не
должны создавать иллюзии несуществовавшей близости.
Более сложной представляется проблема периодизации, связанная
с переходом от Киевской Руси к Московской. Вполне очевидно, что
последняя вовсе не вызревала в недрах предыдущей. Ведь возвыше-
ние Москвы состоялось тогда, когда Киев давно уже превратился
в окраину Великого княжества Литовского. И вообще, о Киевской
Руси уместно говорить никак не позже татаро-монгольского нашест-
вия. Оно стало тем решающим событием, которое покончило с Киев-
ской Русью. Но в том и дело, что никакой другой период в русской
истории и культуре на смену Киевскому не пришел. Сменился он
исторической катастрофой и последующим безвременьем, которое
К проблеме периодизации русской культуры
91
длилось едва ли не до Куликовской битвы, то есть около 150 лет. Но
и первые десятилетия после сражения на Куликовом поле—это
период не столько собственно Московский, сколько становления
Руси в Московскую Русь. Безвременье как будто закончилось, но
и историческая эпоха еще не оформилась с достаточной определенно-
стью.
Вообще говоря, в безвременьи или наличии внеисторического
промежутка между двумя историческими периодами ничего исключи-
тельно русского нет. В общезападных масштабах на безвременье
приходится около 300 лет, с конца V до конца VIII в. Оно зияло
в промежутке между Античностью и Средними веками. Но, в отли-
чие от Руси, его не знала ни одна национальная культура Запада. Ни
французская, ни английская, ни германская, ни другая. У них
безвременье предшествовало складыванию национальных общностей.
Это обстоятельство особо подчеркивает сложность исторического
пути Руси-России, проблематичность самого ее существования в те-
чение почти полутора столетий. Во всяком случае, она должна найти
свое выражение в периодизации русской истории. Последняя же
приобретает такой вид, будучи взята в целом: Киевский период
(конец IX—первая треть XIII вв.)—безвременье (вторая треть XIII—
вторая половина XIVвв.)—Московская Русь (конец XV—конец
XVII вв.)—Петербургская Россия (XVIII—начало XXвв.)—безвре-
менье (20-е гг. XX—начало XXI вв.).
В приведенной периодизации в пояснении нуждается прежде всего
последнее ее звено, второе по счету наше русское безвременье и,
в частности, то, в какой мере о нем правомерно говорить. Более
подробное пояснение и аргументацию нам еще предстоит изложить
в соответствующей главе книги. Пока же укажем на совсем не слу-
чайное расчленение русской истории и культуры таким образом, что
они завершаются петербургским периодом. Пристегнуть к нему еще
и так называемый «советский период» если и находятся охотники, то
явно не те, чьи сочинения имеет какой-то смысл разбирать. Большую
часть XX в. русская история и культура не определяемы и не марки-
руемы соответствующим понятием или образом, несомненно ввиду
того, что в XX в. Россия надолго выпала из истории и культуры,
в том, разумеется, смысле, что никакой культуры в России не созда-
валось. При большевистском режиме не сложилось новой послепетер-
бургской культурной целостности.
Часть II
Культура Древней Руси
Глава 1
Древнерусская культура,
христианство, язычество
Тема «Древняя Русь и православие» не просто необъятна и мно-
гообразна. Вне прямого обращения к православию, без ближайшего
или опосредованного православного контекста о Древней Руси ска-
зать можно не многое, да и сказанное будет по большей части
поверхностным или невнятным. Поэтому православность древне-
русской культуры будет учитываться и конкретизироваться не только
в настоящей главе, но и во всей второй части книги. Настоящая же
глава посвящена преимущественно вопросу о том, какой стороной
православие входило в русскую культуру, становясь «русским пра-
вославием». Разумеется, не за счет какой-то фундаментальной
трансформации православного учения, противопоставившей его дру-
гим православным церквам или православию в целом. Мы будем
исходить из того, что на русской почве православие усваивалось со
своими неизбежными акцентами, что-то в нем выходило на передний
план, другое же оставалось на заднем плане или не актуализиро-
валось вовсе. Иными словами, «русское православие»—это то в пра-
вославном учении, что стало русским национальным опытом и на-
циональной культурой. Она, эта культура, в процессе своего
становления преодолевала собственные первобытно-языческие пред-
посылки, в чем-то уживалась с язычеством. Самое же знаменательное
состоит в том, что отношение между православием и язычеством
в древнерусской культуре не сводилось к обозначенным ситуациям,
порождая феномены, своеобразно сочетавшие в себе христианство
и язычество. Они, с культурологических позиций, представляют наи-
больший интерес.
Как и для ее западных соседей, для Руси крещение вовсе не
означало единственной, раз и навсегда состоявшейся христианиза-
ции. При всей значимости произошедшего в 988 г., в ближайшие
Древнерусская культура, христианство, язычество
93
и последующие годы, с этого вре-
мени начался процесс, который
длился столетиями. Христианство
постепенно проникало в народную
толщу, в души русских людей,
вытесняя предшествующее ему
язычество. Однако языческие
реалии так и остались соприсутст-
вующими христианству. Они
могли переосмысляться в хри-
стианском духе, могли сосуще-
ствовать с христианством или
оттесняться на периферию рели-
гиозной жизни. Изменения, кото-
Резьба Дмитриевского собора
во Владимире. 1199 г. Фрагмент
рые в этом случае происходили,
приблизительно соответствуют переходу от состояния христианизи-
рованного язычества к христианству, обремененному язычеством.
Если обратиться непосредственно к крещению Руси и последую
щим десятилетиям, то совершенно невозможным будет представить
себе ситуацию, когда новокрещенный с полной ясностью ума осозна-
вал всю противоположность и несовместимость между христианской
и языческой верой. Все, что могло первоначально происходить с кре-
щением, для огромного большинства русских людей—это признание
и приятие нового бога в качестве верховного божества. Его несовмес-
тимость с предшествующими богами осмыслялась как вражда к ним,
требование покориться ему, уйти в тень или совсем исчезнуть. Вновь
крещеному язычнику первоначально в принципе оставалось недос-
тупным представление о том, что признание Христа несовместимо
с верой в других богов. Когда представители Церкви называли их
бесами или демонами —это для вчерашнего язычника несколько по-
нятнее полного отрицания Перуна, Велеса или Ярилы. Ведь эти боги
некогда тоже вышли на передний план, оттеснив своих предшествен-
ников. Но из того, что в середине X в. древний русич поклонялся
Перуну, Велесу или Яриле, вовсе не следовало, что для него всякий
смысл утратило поклонение Роду или роженицам.
Самым архаичным пластом своей души наши отдаленные предки
по-прежнему были соотнесены с Родом и роженицами. Заслоненные
последующими богами, они неминуемо приобретали теневой и «ноч-
ной» характер, сближались с демоническими силами. К ним обраща-
лись тогда, когда «дневные» боги оказывались бессильными, или же
на всякий случай, по логике дополнительности.
Еще до всякой христианизации нашим далеким предкам был
знаком феномен, который обыкновенно обозначается в научной лите-
ратуре как двоеверие. В нем сочеталось поклонение богам архаиче-
ского, древнего и темного язычества, над которым надстраивалось
язычество более развитое, соответствующее далеко зашедшему про-
94
Культура Древней Руси
цессу индивидуации первобытных
и полу первобытных людей. Им не
было никакой необходимости чет-
ко и последовательно соотносить
между собой того же самого Рода
с Перуном, хотя оба претендова-
ли на статут высшей и последней
сакральной реальности. В преде-
лах мифа логически несовмести-
мое вполне уживается. Он допус-
кает, что и Род, и Перун —оба
верховные боги. Только образ ка-
ждого из них выходит на поверх-
ность из душевной глубины в раз-
личных ситуациях. Род, как это
следует из его имени, начало по-
Збручский идол. Камень, X в. рождающее. Понятно, что обра-
щение к нему уместно для земле-
дельца, когда он озабочен своим урожаем. Но вот этот же самый
земледелец выступает в качестве воина-ополченца в войске Игоря,
Святослава или Владимира до его крещения. Теперь уже не Род,
а Перун выходит на первый план, вытесняя разуплотнившегося,
исчезнувшего из души язычника бога. Нужно было обладать пока
еще не доступным русским людям единством самосознания, чтобы
задавать себе вопрос о том, как совместить поклонение Роду и в то же
время Перуну, как они соотнесены между собой и т. п. В общем-то,
на каком-то глубинном уровне они сливались и переходили друг
в друга, обозначая собой некоторую невнятную божественность.
Каждое обозначение при этом было заведомо неполным и неокон-
чательным. И нужно было пройти длительный путь развития языче-
ской религии, чтобы убедиться в безысходности поисков и обретения
Бога во всей полноте Его божественности. Нечто подобное произош-
ло в античном мире накануне его христианизации. Киевская же Русь
крестилась в простоте и наивности, у нее не было опыта изживания
в себе язычества, ощущения его непреодолимых тупиков. Огромное
большинство новокрещеных очень смутно осознавали, что с ними
происходит через обращение в христианство. Об этом в «Повести
временных лет» есть очень внятное свидетельство. Вот как летописец
повествует в ней о крещении киевлян. «Затем послал Владимир по
всему городу сказать: „Если не придет кто завтра на реку, будь то —
богатый или бедный, или нищий, или раб,—будет мне врагом".
Услышав это, с радостью пошли люди, ликуя и говоря: „Если бы не
было хорошим, не приняли бы этого князь наш и бояре"»1.
1 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1. СПб., 2000. С. 163 (далее: Библио-
тека литературы Древней Руси).
Древнерусская культура, христианство, язычество
95
Приведенные строчки очень
легко, как это многократно и де-
лалось, истолковать в качестве
свидетельства насильственной хри-
стианизации Руси. И действитель-
но, в пользу такого вывода гово
рит содержащаяся в словах князя
Владимира угроза. Нельзя, одна-
ко, не обратить внимания и на то,
что она уравнивается тем, с какой
легкостью согласились киевляне
принять крещение. Согласно «По-
вести временных лет», оно состоя-
лось в Днепре в течение одного
дня. Вполне возможно, что в та
ком утверждении было некоторое
преувеличение. И все же все дос-
тупные нам сведения дают осно-
вание для утверждения о наличии
мощного встречного движения ки-
евлян в ответ на призыв своего
князя к крещению. В языческой
системе координат киевский князь,
несомненно, был фигурой сакраль
ной. В нем просто не могли не
присутствовать черты древнего
царя-жреца. И если этот царь-жрец
делает такой поворот в своем по-
клонении сфере сакрального, то,
в представлении киевлян и вооб-
ще русских людей, за этим стоит какое то новое открывшееся царю-
жрецу боговедение.
Конечно же, в обращении князя Владимира в христианство можно
было бы увидеть и знак развенчания его царственности, так же как
и мнимость божественности. Поскольку ничего такого не произошло,
нам остается заключить, что восточно-славянское язычество к момен-
ту крещения было основательно размыто и подорвано. Все-таки
христианство начало проникать в восточные славянские земли задол-
го до княжения Владимира. Христианкой была уже бабка Владими-
ра канонизированная Православной Церковью княгиня Ольга. Ясно,
что она не была единичным исключением в землях Киевского княже-
ства: христиане были и среди знати, и среди торговых людей в дру-
гих городах, кроме Киева, во всяком случае крупных, таких, как
Новгород, Смоленск, Чернигов.
Далее, на периферии еще сравнительно недавно образовавшегося
и не сразу включившего в свои пределы все восточно-славянские
Перун. Привеска. XII в.
96
Культура Древней Руси
земли Киевского княжества, христианизация, несомненно, продвину-
лась менее, чем в центре. И ситуация эта сохранялась еще длительное
время после крещения Руси. Более существенным, однако, представ-
ляется не территориальная неравномерность распространения хри-
стианства, а его неодинаково глубокое укоренение у различных слоев
населения русских земель. В точном соответствии со средневековым
Западом, наименее христианизированными в русских пределах ока-
зались земледельцы—не просто самая многочисленная, а составляю-
щая громадное большинство часть русских людей. Как минимум,
в первые два столетия существования Киевской Руси земледельцев
вряд ли правомерно именовать крестьянами. Крестьянство в точном
смысле этого слова образуется лишь тогда, когда земледелец переста-
ет быть еще и воином—соответственно, только земледельческому
сословию противостоит только воинское сословие. Крестьянство,
в первую очередь за счет своей тесной связи с землей, внешней
и внутренней прикрепленности к ней, в значительной степени внеис-
торично. Его культура практически не менялась от столетия к столе-
тию и даже от эпохи к эпохе. Или менялась незначительно. Поэтому,
в частности, у нас есть основание говорить о православии русского
крестьянина в целом, не разделяя его на киевское, московское,
а в значительной степени и петербургское крестьянское православие.
Может оно, кстати говоря, быть обозначено и другим термином—
«народное православие». Народность в русской традиции—это и есть,
прежде всего, крестьянскость или самая тесная и неразрывная связь
с крестьянской культурой.
***
Обращение к тому, чем было православие для русского крестьян-
ства, русского народа, еще точнее, простонародья, сталкивается
с очевидной трудностью. Состоит она в том, что крестьянская куль-
тура фольклорна по преимуществу. Поэтому прямые письменные
свидетельства о ней—это почти исключительно записи ученых фольк-
лористов XIX и даже XX вв. Крестьяне же Московской и, особенно,
Киевской Руси практически не оставили свидетельств о своем словес-
ном творчестве. Эта трудность, впрочем, хотя бы частично разреши-
ма ввиду отмеченной внеисторичности крестьянства, неизменной ус-
тойчивости и чрезвычайной малоподвижности его культуры. Поэтому
свидетельства народного творчества XIX в. во многих случаях и от-
ношениях могут служить свидетельствами и гораздо большей древно-
сти. В частности, сказанное относится к так называемым «стихам
духовным». При том, что записаны они были главным образом в XIX
и даже в XX вв., большинство исследователей относит их возникно-
вение не позднее, чем к XV в., а с очень большой долей вероятности
можно утверждать, что «стихи духовные» существовали уже в Киев-
ской Руси. Тем самым они предстают перед нами в качестве некото-
рой, в основе своей неизменной, реальности народной культуры.
Древнерусская культура, христианство, язычество
97
Впрочем, по мнению авторитетнейшего исследователя «стихов
духовных», по сути, их первооткрывателя в качестве реальности
религиозной жизни русского народа, этот вид словесного творчества
не может быть всецело отнесен к народной культуре. Скорее всего,
он существовал на переходе от собственно церковной жизни к фольк-
лору.1 «Стихи духовные» поэтому выражали не просто народную
веру, православие, как оно укоренилось в народной и, прежде всего,
в крестьянской толще, а представляли собой вершину народной
веры, предел ее сближенности с вероучением. Этот момент особенно
важно подчеркнуть ввиду того, что крестьянское православие вряд
ли возможно рассматривать как некоторое однородное образование.
Несомненно, в нем были пласты собственно христианские и право-
славные, но точно так же и явления, делавшие практически неотли-
чимым народное православие от язычества.
Из всей совокупности духовных стихов, наверное, самым извест-
ным является знаменитая «Голубиная Книга». Она дошла до нас
в различных записях, самая ранняя из которых относится ко второй
половине XVIII в. Она была помещена в известном «Сборнике Кир-
ши Данилова» под заголовком «Голубина Книга сорока пядень». Это
произведение народного творчества занимает исключительное поло-
жение среди стихов духовных в том отношении, что в нем дана
картина мироздания, как она представала мысленному взору древне-
русского человека из народных низов. Поскольку он был христиани-
ном, то для него как будто в основе космологии должен был лежать
Шестоднев—первая глава библейской книги Бытия, где повествуется
о сотворении Богом мира, от неба и земли в первый день до человека
в шестой день творения. Однако никаких следов знакомства с Шес-
тодневом «Голубиная Книга» не содержит. В ней, как это прямо
следует из ее названия, фигурирует вовсе не Библия, а некоторая
другая книга.
Со небес та книга повыпадала:
В долину та книга сорок пядей.
Поперек та книга двадцети пядей,
В толщину та книга тридцети пядей.1 2
По одной из версий
Писал сию книгу сам Исус Христос,
Исус Христос, Царь небесный.3
Что ни в какой степени не делает содержимое «Голубиной Книги»
христианским. В ней появление мира связывается не с творением,
1 Федотов Г. П. Стихи духовные. Русская народная вера по духовным стихам.
И., 1991. С. 14 (далее: Федотов. Стихи).
2 Там же. С. 28.
3 Там же. С. 32.
98
Культура Древней Руси
а с реальностью мифологического ряда. Эта реальность обозначена
в «Голубиной Книге» как зачатие, а значит, и порождение. Именно
порождение, в различных его вариантах и с различными в нем
акцентами, лежит в основе любой первобытной и вообще языческой
космогонии. Впрочем, «Голубиная Книга» делает акцент не на проис-
хождении мира, которое, в соответствии с ее духом, только и может
быть порождением, а на том, из чего, откуда произошел мир. Этот
вопрос в ней сформулирован детально, соответственно на него дается
и детальный ответ. Обратимся к ним непосредственно.
От чего зачался наш белый свет?
От чего зачалося со(л)нцо праведно?
От чего зачался и светел месяц?
От чего зачалася заря утрення?
Отчего зачалася и вечерняя?
От чего зачалася темная ночь?
От чего зачалися часты звезды?..
А и белый свет—от лица Божья,
Со(л)нцо праведно —от очей его,
Светел месяц—от темечка,
Темная ночь—от затылечка,
Заря утрення и вечерняя —от бровей Божьих,
Часты звезды —от кудрей Божьих!'
И вопрошание, и ответы «Голубиной Книги» не просто представ-
ляют собой самое откровенное мифологизирование. Она еще и силь-
но напоминает широко известные мифологические тексты. Правда,
не только напоминает, но и достаточно внятно от них отличается. Вот
фрагмент одного из таких текстов, кстати говоря тоже имеющий
вопросно-ответную форму изложения: «Сказал тогда Ганглери: „За
что же принялись тогда сыновья Бора, если они были, как ты
думаешь, богами?" Высокий сказал: „Есть тут о чем поведать. Они
взяли Имира, бросили в самую глубь Мировой Бездны и сделали из
него землю, а из крови его—море и все воды. Сама земля была
сделана из плоти его, горы же из костей, валуны и камни—из
передних и коренных его зубов и осколков костей...". „Из крови, что
вытекла из ран его, сделали они океан и заключили в него землю...".
„Взяли они и череп его и сделали небосвод..."»1 2.
Как видим, в «Младшей Эдде», исландской книге XIII в., содер-
жащей в себе мифологию древних германцев, также повествуется
о соответствии мира-космоса частям тела некоего человекоподобного
существа. В тексте «Младшей Эдды» оно не только ни разу не
названо богом, но и противопоставлено богам в качестве великана, от
которого пошло племя великанов, неизменно враждебных богам.
1 Федотов. Стихи. С. 28—29.
2 Младшая Эдда. Л., 1970. С. 24—25.
Древнерусская культура, христианство, язычество
99
Между тем Имир все-таки может быть назван богом. Только он
представляет из себя первую стадию космогонии и теогонии и отно-
сится к самому древнему поколению богов. Но на этот раз части его
тела не просто соотнесены с соответствующими моментами и элемен-
тами мироздания. Они еще и представляют собой сами эти моменты
и элементы, и к тому же возникли в результате убийства и расчлене-
ния тела первосущества.
Что касается убийства и расчленения, то они, хотя и нередко
встречаются в космогонических мифах, тем не менее, не строго
обязательны. Возможен и вариант отождествления тех или иных
частей божественного тела или моментов жизни божества с соответст-
вующими явлениями космического целого. Так, в древнегреческих
теогонических и космогонических текстах встречаются отождествле-
ния очей Зевса с Луной и Солнцем, волос —со звездами, плеч, груди
и спины —с воздухом, ног—с корнями земли ит. д.1 Очевидно, что
древнегреческий вариант сближения и отождествления божества и мира
гораздо ближе к тому, о чем говорится в «Голубиной Книге». Для нее
ни в каком смысле невозможен даже намек на убийство бога. Но нет
в «Голубиной Книге» и прямого отождествления космоса с Богом.
Она ограничивается их предельным сближением за счет того, что Бог
выступает в качестве образца и источника для мира-космоса. Мир-
космос от Бога зачинается, понятно, что не собственными усилиями,
ведь в момент зачатия его еще нет. Вот и остается сделать заключение
о порождении мира Богом. Описывать сам акт такого порождения
значило бы обнаружить слишком явное и откровенное присутствие
язычества. Недоговоренность же «Голубиной Книги», точнее, ее
акцент на источнике мира-космоса, а не на процессе его возникнове-
ния как бы умеряет само по себе несомненное язычество по-народно-
му православного текста. Он языческий, но в меру. Можно сказать
и иначе. Православность «Голубиной Книги» такого рода, что позво-
ляет впустить в себя исходно и неизбывно языческие реалии без того,
чтобы окончательно и бесповоротно разрушить себя, став собствен-
ной языческой противоположностью.
Очевидным образом нарастает мотив язычества в «Голубиной
Книге» тогда, когда она обращается к происхождению уже не выс-
ших небесных реалий, каковыми являются «белый свет, со(л)нцо
праведно», «светел месяц» и т. д., а к реалиям более частным. Теперь
вопросы формулируются уже не о зачатии (начале и вместе с тем
рождении) кого-либо или чего-либо, а о том, кто или что в мире
обладает материнским достоинством, есть «мати». В частности, в «Го-
лубиной Книге» утверждается, что «Кит-рыба всем рыбам мати,
Стрефил-птица всем птицам мати, Белояндрих-звирь всем звирям
мати». Их материнство мотивируется прямо тем, что они перво-
предки рыб, зверей или птиц. Речь идет об их несравненном могу-
1 Фрагменты древнегреческих философов. М., 1989. С. 55.
100
Культура Древней Руси
ществе и совершенно необычных свойствах. Однако, являясь по
существу сверхрыбой, сверхптицей, сверхзверем, Кит, птица и зверь
по существу своему божественны, принадлежат к реальностям са-
крального, а по неизбежной в настоящем случае мифологической
логике, они еще и прародители-первопредки, каждый для своего
рода существ.
Совсем уже торжествует язычество в «Голубиной Книге», когда
речь заходит о происхождении людей. Здесь оно мотивируется точно
так же, как и в совершенно языческих текстах:
...Оттого у нас в земле цари пошли—
От святой главы от Адамовой;
Оттого зачались у нас князья-бояры—
От святых мощей от Адамовых;
Оттого крестьяне православные —
От святого колена от Адамова»1.
Кто такой в настоящем контексте Адам, если не божество в духе
Имира-великана или Зевса? Конечно же, он им родной брат. Не
подумаем только, что Адам в «Голубиной книге» обожествляется
прямо и вполне осознанно. До обожествления его доводит логика
мифа, которой следует «Голубиная Книга». Но помимо этой логики
в душе русского народа жили еще и образы христианства. Как бы эта
логика ни подчинялась мифу, до их полной растворенности в нем
дело не доходило. Свидетельством чему то, что и в повествовании
о том, кто кому «мати» или отец, всплывают и христианские реалии,
которые до известной степени трансформируют чисто мифологиче-
ские ходы. Так, по «Голубиной Книге», «Кипарисно-древо всем
древам мати ... На нем распят был истинный Христос»; в точности по
этой причине «Иорасолим-город городам мати». Даже уже вполне
мифологический «бел Латырь-камень каменям мати» потому, что
На белом Латыре на камени
Беседовал да опочив держал
Сам Исус Христос Царь небесный
С двунадесяти со апостолам, с двунадесяти учителям1 2.
На этот раз освящают и возносят на мифологическую высоту
порождающего отцовски-материнского начала космические реалии,
уже не их мощь и могущество сами по себе и не исхождение от Бога,
а причастность к земному пути Иисуса Христа, отмеченность его
присутствием. В этой отмеченности христианские мотивы сплавляют-
ся с языческими, неразрывно переходят друг в друга. Скажем,
1 Федотов. Стихи. С. 33.
2 Там же. С. 35.
Древнерусская культура, христианство, язычество
101
почитать Крест и Иерусалим потому, что с ними связано распятие
Христа, а Латырь-камень—так как на нем находился Спаситель
с учениками—это вполне по православно-христиански, но возводить
те же Крест, Иерусалим, Латырь-камень или пока не упомянутую
нами «Плакун-траву» в ранг некоего порождающего начала—это уже
ни в какое православие не укладывается.
Точно так же обстоит дело и с самой «Голубиной Книгой». То, что
она фигурирует в нашем духовном стихе, не может не быть связано
с наличием в христианстве Книги книг—Библии. Характер своего
рода Священного Писания подчеркнут в повествовании внешней
масштабностью «Голубиной Книги». В ее циклопических размерах
есть фольклорная наивность, стремление внешними характеристика-
ми выразить внутреннее достоинство и ни с чем не сравнимые
масштабы Священного Писания. Но не это обстоятельство уводит
образ «Голубиной Книги» в сторону от христианских реалий. Самое
существенное здесь в ее трактовке как написанной самим Богом.
Люди до такой степени мало причастны к ней, что и прочитать ее
целиком никому из них не по силам. Ее содержание представляет
собой некоторую сверхчеловеческую мудрость, слова которой долета-
ют до людей лишь отдаленным эхом. Подобные представления очень
далеки от понимания Священного Писания как книги богодухновен-
ной, созданной людьми в результате действия на избранников Божи-
их Св. Духа. Богочеловеческий характер Библии совершенно недос-
тупен народному православию. Для него «Голубиная Книга»—это
Божественное слово, существующее в отделенности от человеческого
слова и слуха. «Голубиную Книгу» не возьмешь, как Библию, в ру-
ки. Ее до некоторой степени можно уподобить монументальному
самоизъявлению божества в виде священной горы или, скажем,
хранящемуся в мусульманском храме Каабе-камню, также выпавше-
му с неба и глубоко почитаемому мусульманами. «Голубиная Кни-
га» — это знак присутствия на земле Божественной мудрости и вместе
с тем указание на всю ее непостижимость для человека, на дистанцию
между человеком и Богом. Ту дистанцию, которую преодолело бого-
воплощение и о которой совсем никак не повествуется в тексте
«Голубиной Книги».
«Голубиная Книга» может быть помыслена как своего рода
Священное Писание в его преломлении через призму исконного
и никогда до конца не преодолимого язычества. Ее образ сложился
в сознании православного уже народа. Но конечно же, «Голубиная
Книга» никак впрямую с православием не встречалась, сосуществуя
параллельно со Священным писанием. Теперь же мы обратимся
к реалиям, где православие и крестьянское язычество не просто
соприкасаются, но и переплетаются самым тесным образом, так что
их не отъединить друг от друга. Причем речь у нас пойдет не
о доктринальном уровне религиозности, а о религиозной жизни, да
еще в самой ее сердцевине.
102
Культура Древней Руси
* * *
Среди духовных стихов, создававшихся на протяжении столетий
русским народом, есть так называемые покаянные стихи. Их отличие
от всех других в том, что они не только исполнялись народными
сказителями, но и были непосредственно включены в религиозную
жизнь крестьян. Их название говорит об этом прямо, подразумевая,
что покаянные стихи нужно понимать в соотнесенности с одним из
семи христианских таинств —исповедью. Для русского крестьянина
эта исповедь могла быть обрядом, который начинался задолго до
собственно исповедальной беседы со священником. Еще в собствен-
ном доме перед иконами полагалось отвесить три земных поклона
и произнести такие слова:
Благослови, Спас Исус, во путь идти,
Во путь идти, грехи нести
На споклон попу духовному.
Во веки веков. Аминь1.
Несмотря на свою неканоничность, пока еще действия и слова
кающегося ни в чем православному вероучению и духу Православной
Церкви не противоречат. То же самое можно сказать и о том, что
в процессе покаяния кающемуся «каждому члену семейства дулжно
(было) поклониться и попросить прощения словами: „Простите меня
Христа ради"»1 2.
Некоторое пока еще неявное и безобидное смещение смыслов
в таинстве покаяния начиналось тогда, когда кающийся просил про-
стить его у всего «крещеного люда». В этом случае полагалось
поклониться первоначально в сторону, противоположную своему
дому, а затем постепенно поворачиваться с поклонами направо, пока
не будет описан полный круг. С каждым поклоном произносились
соответствующие покаянные слова в том же духе, что и уже цитиро-
ванные. Опять-таки, буквально противоречащего православию ниче-
го не происходит. Подозрительно, однако, как буквально понимается
в нашем покаянии «крещеный люд». Кающийся стремится объять его
целиком, простодушно соотнося с собой круговыми поклонами. Ни-
кто из «крещеного люда» не должен быть обойден —ни ближние, ни
дальние. Причем вне зависимости, совершил ли кающийся какие-
либо действия в отношении других людей. Их он мог и не знать
вообще и все же быть виноват перед ними. Не перед кем-нибудь
в отдельности, а виноват некоторой особой космической виною. Один
человек всегда в долгу пред всеми остальными уже потому, что он
один, некоторое «я» на фоне необъятного мира «мы-бытия». Здесь
проглядывает древняя языческая интуиция виновности и даже обре-
1 Федотов. Стихи. С. 171.
2Там же. С. 171.
Древнерусская культура, христианство, язычество
103
ченности каждого индивидуального существования, его ущербности,
греховности и, стало быть, подсудности суду богов, а в конечном
счете судьбы. Это очень показательно, что на протяжении всего
покаянного обряда, вплоть до беседы со священником, кающийся ни
о каких своих личных нравственных изъянах или нарушениях запо-
ведей не говорит. Винится он в самом общем и неопределенном виде.
Вина его в нем самом, в самом факте собственного существования,
а не в конкретных поступках.
Окончательно и бесповоротно выявляется языческий характер
покаяния, когда круговые поклоны обращаются уже не к «христиан-
скому люду», а к «Свету вольному»:
Уже ты, красно-ясно свет-солнышко,
Уж ты млад-светел государь месяц,
Вы, часты звезды подвосточныя,
Зори утренни, ноци темныя,
Дробен дождичек, ветры буйные,
Вы простите меня грешную,
Вдову горюшную, неразумную,—
Ради Спас-Христа, Честной Матери Богородицы,
Да сам Михайла арханделя! Аминь1.
Слишком очевидно, что Иисус Христос и Богоматерь в приведе-
ной покаянной формуле решительно не имеют ничего общего с тем,
что о них говорит христианское вероучение. Что-то в крестьянской
голове совсем уже помутилось, перепуталось и поплыло, если каю-
щийся выстраивает иерархию божественных существ, которую увен-
чивает собой Михаил Архангел, а Иисус Христос находится в ней
ниже архангела и Богородицы. Тому роду покаяния, которое творит-
ся перед нашими глазами, не нужно ничего, кроме чисто языческих
богов. Ведь в этом покаянии с полной ясностью обнаруживается
только что описанная трактовка человеческой вины как исходной
бытийственной ущербности и недостоинства индивидуально-челове-
ческого существования.
Об обращении к «свет-солнышку», «государю месяцу», звездам
и ветрам и говорить нечего. Их-то чем могла обидеть какая-нибудь
кающаяся старушка, кроме как самим фактом своего недостойного
существования, оскорбляющего их мощь и космическую первоздан-
ность? Упомянем и самое очевидное—одушевление во время испол-
нения вроде бы христианского таинства природно-космических реа-
лий, и не только одушевления, но и сакрализации.
Своего апогея прогрессирующее растворение христианского таин-
ства в язычестве достигает при обращении кающегося к величайшей
для крестьянина реальности—к «матери-земле». Здесь поклонами
1 Федотов. Стихи. С. 172.
104
Культура Древней Руси
и покаянными причитаниями дело не обходится. «Кончив причет,
крестьянка крестится и некоторое время лежит, прислонившись к земле
головою. После этого она берет в рот немного земли или снегу...»1.
В ее действиях выражается не что иное, как такого рода причастие
«матушке-земле», которое переходит в слияние с ней, полную раство-
ренность в земном (материнском) начале. Только растворение спо-
собно преодолеть грех выхода из материнской утробы на вольный
свет отделенного от земли существования. Поистине, для русского
крестьянина, в полном соответствии с древнегреческой языческой
мудростью, лучше было бы вообще не родиться. А если уж человек
появился на свет, то должен сознавать, что «смерть для людей
лучше, чем жизнь»1 2.
В пользу того, что человеческая греховность понимается кающим-
ся как сама данность его человеческого существования, говорит то,
в чем он конкретно усматривает свои провинности перед «матушкой-
землей». Непосредственно припаданию кающегося к земле в обряде
покаяния предшествует причитание, в котором, в частности, есть
такие слова:
Еще раз, моя питомая,
Прикоснусь к тебе головушкой,
Испрошу и у тея благословеньица,
Благословеньица со прошеньицем,
Что рвала я твою грудушку
Сохой острою, расплывчатой,
Что не катом тея укатывала,
Не урядливым гребнем чесывала, —
Рвала грудушку боронушкой тяжелою
Со железным зубьем да ржавыем.
Прости, матушка питомая,
Прости грешную, кормилушка...3
Старушка, чьи причитания, они же духовные стихи, были только
что приведены, может быть, всю свою жизнь не брала в свои руки ни
бороны, ни, тем более, сохи, однако ритуал требует именно тех слов,
которые приведены.
Ведь это очень древний и совершенно языческий мифологически
ход—упрек, обращаемый к себе, человеку, в том, что он выступает
как насильник над своей землей-матерью. Вместо того, чтобы мирно
покоиться в ее лоне или покоить материнскую старость, человек
вспарывает материнское лоно, неустанно мучает ту, которой обязан
рождением и жизнью. Но и как не мучить, если такое уж странное
и нелепое существо рождается от «матушки-земли». Существо, не
1 Федотов. Стихи. С. 173.
2 Геродот. История. Л., 1972. С. 20.
3 Федотов. Стихи. С. 173.
Древнерусская культура, христианство, язычество
105
способное жить в мире и согласии с матерью, а только за счет
преступления, греха и насилия.
Ничего как будто не остается христианского и православного под
конец собственно крестьянского предварения таинства, освященного
Церковью, которое все-таки состоится по всем христианским кано-
нам, когда кающийся все же переступит церковный порог. Не к Богу,
как его понимает христианство, обращено предварительное покаяние
крестьянина, и не в тех грехах он кается, в которых положено
каяться христианину. И тем не менее, всецело отрицать присутствие
христианского опыта в покаянном тексте духовного стиха означало
бы, как нам представляется, перегнуть палку. Да, настоящее языче-
ство на наших глазах почти растворяет в себе христианство, но оно
же и христианизируется. Христианизацию здесь можно усмотреть
в самом акцентировании покаянного момента, пускай покаяние обра-
щено, в том числе, к «свет-солнышку» или «матушке-земле». Настоя-
щий, чистопородный язычник не только ощущает свою неизбывную
греховность в отношении их, но и знает, как ее смягчить и хотя бы
частично преодолеть не одной только покаянной молитвой. Для
язычника есть еще реальность жертвоприношения и соединение с бо-
гом в трапезе.
В православии языческое жертвоприношение совершенно немыс-
лимо. Трапеза же вытеснена непосредственно следующим за покая-
нием таинством причастия. Она осуществляется в процессе литургии,
которую служит православный священник с причтом. И здесь языче-
ские ритуальные действия и жесты, так же как и сопровождающее их
мифологизирование, уже исключены. Теперь для крестьянина насту-
пает реальность пребывания не в народном, фольклоризированном
и языческом, а в подлинном православии. Этот итог не может в каче-
стве перспективы не сказываться и на самых языческих моментах
крестьянского обряда покаяния, не давая вволю разгуляться язычест-
ву, тесня его и хоть в какой-то мере вводя в пределы уже не
языческих реалий.
При том, что православие, неразрывно сплавленное с язычеством,
не могло не преобладать в Древней Руси уже в силу того, что
крестьянство составляло подавляющее большинство ее населения,
конечно же, к народному православию дело не сводилось. Право-
славная Церковь, несмотря ни на какое влияние крестьянской языче-
ской стихии, оставалась верной христианской догматике и канонам
церковной жизни. В этом отношении она была частью православного
мира, не выпадая из общего ряда какой-то своей, особой «народной
православностью». Неприемлемость для Церкви и ее сколько-нибудь
просвещенного клира смыслов и образов «народного православия»
может быть проиллюстрирована, скажем, словами одного из сочине-
ний протопопа Аввакума. Они как будто прямо направлены против
разобранных нами строк из «Голубиной Книги». Отвечая на вопросы
своей паствы, Аввакум, в частности, писал: «Да в тех же письмах
106
Культура Древней Руси
вопрос о солнце и месяце: от чево солнце взято? Ответ: от честныя
ризы Господня; а месяц от духа и от престола Господня...мы же со
Христом отвещаем сице: все сие речение —б ля дь, а не церковный
разум. Чти Бытию и Гранограв о сотворении твари, тамо истинна
реченна Святым Духом от Моисея, в Библее, и в Толковом Граногра-
фе»1.
Никаким народным православием Аввакума с толку не сбить,
потому что он крепко усвоил, что все существующее в мире, не
исключая и наиболее приближенных к Богу ангелов, «от небытия
в бытие приведе»1 2. Иными словами, сотворено Богом из ничего,
а вовсе не порождено Им из Самого Себя. Очень далеко заводящее
нарушение одного из основных догматов христианства для нашего
автора совершенно неприемлемо и вызывает у него негодование.
Здесь Аввакум вполне, а не народно, православен. Подозрительна,
между тем, его ссылка в обоснование догмата не только на Священ-
ное Писание, но и на «Гранограв». В последнем случае он имеет
ввиду так называемую «Толковую Палею», византийский текст, воз-
никший не ранее VIII в. и известный в русских переводах начиная
с XIV века. В «Толковой Палее» излагается и истолковывается
ветхозаветная история. Иногда вплоть до Боговоплощения, иногда
до царствования Саула или Соломона. По своему характеру «Па-
лея»—текст компилятивный. Опирается он не непосредственно на
Ветхий Завет, а на его перелагателей и истолкователей. Среди них
преобладают отцы Церкви и православные богословы, но встречают-
ся в «Палее» также и апокрифы. Слово же «апокриф» означает
«отреченная книга». Им назывались книги, трактующие Священное
Писание, и не только не признанные Церковью богодухновенными,
но даже и запрещенные. Поэтому упоминание протопопом Авваку-
мом «Гранографа» наряду со Священным Писанием в качестве авто-
ритетного источника для обоснования догмата о творении не может
не насторожить. Что-то с богословской ученостью Аввакума не в пол-
ном порядке. Хорошо еще, что знаменитый протопоп обратился к той
части «Палей», где содержится компиляция исключительно из свято-
отеческих и других строго правоверных трудов, и ему не пришлось
апеллировать к апокрифическим, то есть отвергнутым Церковью
текстам. В последнем случае православие Аввакума могло оказаться
под вопросом.
Понятно, что дело в настоящем случае не в Аввакуме как таковом,
а в типичности его отношения к текстам, трактующим коренные
вопросы христианского вероучения и церковной жизни. Слишком
большая доверчивость ко многим из них объясняется отсутствием
в Древней Руси настоящего богословского образования, предпола-
гающего и развитую способность к богословским умозрениям и дока-
1 «Житие» Аввакума и другие его сочинения. М., 1991. С. 294.
2 Там же. С. 294.
Древнерусская культура, христианство, язычество
107
зательствам, и, в не меньшей степени, усвоения богатейшего опыта
комментирования Священного Писания и творений святых Отцов.
В результате древнерусскому православию, даже в лице его самых
ученых представителей, с самого начала и на протяжении всей
древнерусской истории неизменно было присуще недостаточное раз-
личение самого существа православия и его внешних, в чем-то даже
случайных проявлений. Обыкновенно отмеченное обстоятельство обо-
значается термином «обрядоверие», когда предполагается, что в Древ-
ней Руси усвоена была исключительно или преимущественно внеш-
няя сторона православия.
Подобное утверждение представляется даже и не неточным, а пря-
мо не соответствующим действительности. Если существовала древ-
нерусская святость, то одно это указывает на доступность русскому
человеку полноты пребывания в Православной Церкви. Другое дело,
что вершины святости в Древней Руси достигались на фоне чрезвы-
чайно малой распространенности и очень скромной по своим досто-
инствам православной учености. Ее недостаток порождал и воспроиз-
водил от века к веку одну и ту же неизменную тенденцию—склонность
придавать непомерную важность второстепенным или вовсе не значи-
мым вопросам церковной жизни. К православию относились со
страхом ошибиться и впасть в грех в большом и малом, плохо
сознавая при этом, где большое, а где малое. То, что виделось
большим в Древней Руси, иной раз сильно озадачивает и даже
пугает. Поясним сказанное, обратившись к исторической конкретике
в начале Киевской и затем Московской Руси.
Среди самых древних свидетельств древнерусской православности
сохранились несколько сборников, содержащих вопросы священни-
ков, посвященные проблемам церковной жизни, и ответы на них
архиереев. Один из таких сборников, составленный в XII в., включа-
ет в себя 101 вопрос, принадлежащий священникам новгородской
епархии, и ответы на них местного епископа Нифонта. Как отмечает
Г. П. Федотов: «Среди 101 вопроса два носят экзегетический, то есть
истолковывающий Священное Писание, характер, два—историче-
ский, и около десяти—нравственный. Все остальные касаются ритуа-
ла или обрядов в более широком смысле»1. Вот некоторые из вопро-
сов к епископу Нифонту: «Какова епитимия, если человека стошнит
после причастия? ... Грех ли, если человек разобьет яйцо о свои зубы
перед литургией, особенно пасхальной? ... Грех ли наступать на
писанные буквы (ходить ногами по грамоте)?»1 2.
Еще раз напомним, вопросы епископу задают священники, люди,
наиболее тесно связанные с Церковью и самые просвещенные среди
1 Федотов Г. П. Русская религиозность. 4.1. Христианство Киевской Руси X—
XIII вв. Собр. соч. в 12 т. Т. 10. М. 2001. С. 166 (далее: Федотов. Русская
религиозность).
2 Там же. С. 166-167.
108
Культура Древней Руси
православного люда. Их непомерная сосредоточенность на ситуаци-
ях, самих по себе не имеющих не то чтобы существенного, но
и вообще никакого отношения к церковной жизни, говорит сама за
себя, оставляя впечатление какой-то мелочной скрупулезности, от-
дающей бессмыслицей. Священники новгородской епархии крепко
держатся за обряд, который в своей смысловой основе остается им
в огромной степени недоступным, как будто нет вероучения, а есть
одни только частные ритуальные предписания, малейшее отклонение
от которых нечестиво и святотатственно.
По своему духу приведенные вопросы, как и многие другие,
заботившие священников, таковы, что их с приблизительно таким же
основанием могли бы задавать и жрецы-язычники. Языческие рели-
гии—это религии, у которых нет своего подобия Священного Писа-
ния. Их сердцевина невыразима, даже в мифах. Только включен-
ность в ритуал дает полноту религиозной жизни, освящает и обоживает
человека. Но таким образом, что освящение и обожение остаются
неизреченной тайной. Доступное же человеческой речи жестко табуи-
ровано и не подлежит разглашению. Именно отсюда проистекает
бесконечная требовательность к точности исполнения ритуальных
предписаний. Эти предписания обеспечивают контакт профанно-
человеческой реальности с сакрально-божественной. Первые есть
непременные условия второго как обязательные внешние рамки внут-
реннего и содержательного. Не будь рамки с такой четкостью очерче-
ны, не состоялся бы и контакт с божеством, то преображение челове-
ческой природы, о которой любое язычество хранит молчание.
Несмотря на все очевидное сходство между новгородскими свя-
щенниками и жрецами-язычниками, их отождествление было бы еще
большей ошибкой, чем игнорирование сходства. Оно проистекает не
просто из так называемых «пережитков язычества», но прежде всего
ввиду малой доступности русскому священству православного веро-
учения и, главное, способностей самостоятельно истолковывать в его
духе те или иные житейские ситуации, связанные с церковной
жизнью. Там, где нет возможности истолковать, особенно крепко
держатся за правила и нормы. Последние приобретают едва ли не
самодовлеющий характер и могут наполняться таким высоким смыс-
лом, которого они изначально не несли.
Хуже всего было, однако, то, что непонимание в свете вероучения
тех или иных богослужебных или житейских реалий приводило
к установлению норм, правил и обычаев, которые не имеют отноше-
ния к христианству, никак с ним не соотнесены. Скажем, разбивание
яйца о свои зубы перед литургией, особенно пасхальной. Для нас
подобная ситуация выглядит диковато: и кому это придет в голову
заниматься такими фокусами накануне богослужения, до него или
вообще вне всякой с ним связи? Я не знаю точно, какой смысл
вкладывали священники в манипуляции с яйцом. Могу только пред-
положить, что в нем усматривалось некоторое подобие мирового
Древнерусская культура, христианство, язычество
109
яйца, одного из важнейших образов множества языческих мифов.
Мировое яйцо—это образ хаоса, порождающего лона всей последую-
щей космической жизни. Мир-космос выходит из яйца-хаоса за счет
разрушения его скорлупы. Это более или менее очевидно. Но вот
конкретный и точный смысл того, что скорлупа разрушается через
удар о зубы, не вполне ясен, скорее всего, в данном случае имело
место ритуальное воспроизведение космического акта порождения
всего сущего. Этот жест сам по себе никакого отношения к христиан-
ству не имеет. Священники же, возможно, притягивают его к делу,
подозревая свою паству в неизжитом язычестве и даже вызове
христианству. Не менее вероятно, что смысл разбивания яйца о зубы
утерян, равно и паствой, и священством. Последнее смутно подозре-
вает в нем нечто чуждое и враждебное, не совместимое с теми
ритуальными предписаниями, которым привычно следуют священни-
ки, наставляя свою паству.
***
Рассмотренный нами пример относится к сравнительно раннему
периоду русской истории, когда христианству на Руси было менее
двух столетий. Но вот проходят еще четыре столетия, Киевская Русь
уходит в прошлое, наступает период Московской Руси, однако ха-
рактер русского православия даже в среде духовенства существенно
не меняется. Свидетельством этому может служить на этот раз один
из самых известных текстов древнерусской словесности—«Домо-
строй». Строго говоря, у этого текста нет одного автора. Скорее,
нужно говорить о составителе «Домостроя». Таковым был священник
Сильвестр, некоторое время состоявший при Иване Грозном в каче-
стве его духовного наставника. «Домострой» отражает опыт русской
жизни XV—XVI вв., содержит в себе предписания, как нужно уст-
раивать домашнюю жизнь русскому человеку, у которого предпола-
гается известный достаток и устойчивый быт.
Естественно, что вне связи с Церковью и церковной жизнью
никакая домашняя жизнь в Московской Руси не мыслилась. В «До-
мострое» это обстоятельство выражалось в том, что из содержащихся
в нем 64 глав первые 25 излагают житейские правила в качестве
«духовного строения» жизни. То, что они вышли из-под пера священ-
ника, да еще из числа наиболее просвещенной части клира, в настоя-
щем случае особенно важно. Между тем, среди других поучений
касательно духовного строения в «Домострое» можно прочитать
такие строки: «И когда приготовишь себя духовно, с чистой сове-
стью, и с молитвою, и с мольбой целуй животворящий крест, и свя-
тые честные иконы чудотворные, и многоцелебные мощи; и после
молитвы, перекрестясь, целуй их, воздух в себе удержав и рта не
разевая; ... и если с кем во Христе целованье творишь, то целуйся,
также воздух в себе задержав, губами не чмокая, сам подумай:
человеческой немощи, едва заметного запаха гнушаемся чесночного,
110
Культура Древней Руси
смрада от хмельного, больного и прочего, так как же мерзко Господу
обоняние нашего смрада—вот почему с осторожностью совершай все
это»1.
Рядоположенность, уравнивание и смешение требований к душев-
ному состоянию человека, участвующего в важнейшем из христиан-
ских таинств, с предписаниями гигиенического характера—это то,
что в первую очередь способно обратить на себя внимание читателя.
И в самом деле, в «Домострое» внутридушевное и сокровенно совер-
шающееся непосредственно переходит во внешнее и гигиеническое
таким образом, что становится вовсе непонятной их соотносительная
значимость. Из слов «Домостроя» не ясно, так же важны для Иисуса
Христа «чистая совесть», «молитва и мольба», как чистое дыхание,
а еще лучше, отсутствие его в ключевые моменты таинства. Очевид-
но, во всяком случае, преимущественное внимание к его внешней,
гигиенической стороне. В приведенном фрагменте она расписана
детальней и конкретней по сравнению с внутренней, духовной сторо-
ной причастия.
Такое внимание к дыханию или «чмоканью» не может не напом-
нить нам вопрошаний новгородских священников, обращенных к свое-
му епископу. «Домострой» по-прежнему озабочен внешней стороной
церковной жизни едва ли не более, чем внутренней, и подлинно
существенной. И не потому, что первая сама по себе важнее послед-
ней. Подчеркнем еще раз: в Древней Руси смутно и неопределенно их
соотносительное достоинство. Вряд ли древнерусское духовенство
в своей основной массе и тем более в наиболее просвещенной части
было так уж простодушно, что вообще не отличало внешнее от
внутреннего, поверхностное от существенного. Ведь и в процитиро-
ванном фрагменте «чмокание», чесночный запах или «смрад хмель-
ной»—это не просто крайне неприятные раздражители для слуха или
обоняния. Они еще и внешний знак внутридушевной жизни, неблаго-
лепная выраженность неблагочестной, греховной жизни. Зачем толь-
ко—возникает у нас вопрос—придавать такое непомерное значение
неблагопристойности, тем невольно затемняя и отодвигая на задний
план благочестие? Остается заключить, что в сознании древнерус-
ских людей они были слишком тесно связаны, за каждой из них не
признавалась или недостаточно ощущалась автономия.
Само по себе слияние или предельная сближенность внешнего
и внутреннего, когда, скажем, красота служит прямым указанием на
добро и праведность, а уродство на злокозненность и нечестие—это
реальность, по своим истокам глубоко первобытная и языческая,
хотя и продолжавшая существовать очень длительное время и в пос-
лепервобытные времена. Так, еще древних греков шокировало такое
вопиющее и непривычное для них несоответствие между безобразной
внешностью Сократа и тем, что он был признан дельфийским ораку-
1 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 10. С. 119.
Древнерусская культура, христианство, язычество
111
лом самым мудрым среди греков. Возможно, безобразие Сократа
сыграло свою роль и в осуждении афинского мудреца судом сограж-
дан. Однако очень скоро пришло опамятование и признание за
Сократом равно и мудрости, и добродетели.
В древнерусской же традиции всякого рода безобразие, неблаголе-
пие и неблагопристойность были освящены только в особом случае.
Им было юродство. Юродивый, юрод, по определению,—человек
уродливый и своей внешностью, и еще более своими не укладываю-
щимися ни в какие мерки поступками. Но за уродством юродивого
обязательно стоит представление о радикальной противоположности
жизни в Боге и той жизни, которой живет человеческий мир. То, что
уродливо и безобразно на обычный, мирской взгляд, несет в себе
высший, недоступный миру смысл. Юродивый в конечном счете
безобразен и безумен потому, что мудрость его не от мира сего.
В этом мире она напрямую не выразима и может быть осуществлена
от обратного, в безумных и безобразных поступках и жестах. В юро-
дивом и юродстве внутреннее и внешнее разведены до предела
и противоположности.
Для всех же остальных людей жизнь выстраивалась, или должна
была выстраиваться, в предположении того, что внешнее не просто
выражает внутреннее, но в высшей степени важно и само по себе.
В определенном смысле внешнее и есть внутреннее. Какой-нибудь
чесночный запах или «хмельной смрад» одновременно указывают
как на человеческую грубость и сермяжность, так и на его нравствен-
ные изъяны и греховность. Характерно, между тем, что «Домострой»
склонен в гораздо большей степени обличать в человеке внешнее,
а не внутреннее неустроение. Как будто благообразие и благолепие
сами по себе ведут к благочестию и праведности.
Сближенность внутреннего (душевного) и внешнего (телесного),
выражаемого и выражающего—реальность далеко не только древне-
русского православия. В не меньшей мере отмеченная черта была
присуща и средневековому католицизму. И не только на уровне
народной, крестьянской культуры. Крестьянин и у нас, и на Западе
в огромной степени фигура вневременная, человек, в принципе тяго-
теющий к самому причудливому сочленению в своих верованиях
христианства и язычества. Христианство приходило к крестьянству
«сверху», из города и от образованных слоев, но было и непрерывное
движение «снизу». Оно несло в себе тысячелетний опыт язычества,
которое всецело и даже в главном у крестьян не в силах была изжить
никакая настойчивая христианизация. На средневековом Западе,
однако, дело обстояло таким образом, что даже образованные клири-
ки очень далеко заходили в телесном, буквальном понимании того же
самого таинства причастия. Может быть дальше, чем их православ-
ные собратья.
Очень выразительный пример, на который можно сослаться в дан-
ной связи, представляет собой так называемый «exemplar. Это ла-
112
Культура Древней Руси
тинское слово буквально и переводится как «пример». «Примеры»,
о которых у нас идет речь, представляли собой краткие повествова-
ния поучительного характера. Они были призваны наставлять паству
в праведной христианской жизни и, конечно, были рассчитаны
преимущественно на простецов. Но составлялись-то сборники «exem-
pla» вовсе не простецами, а, напротив, высокоучеными клириками
и монахами. С их стороны было бы совсем неблагочестиво какой-то
exempla сознательно измышлять или, скажем, вносить в свои сборни-
ки примеры, в реальность которых они сами не верят. Так что с очень
большой долей уверенности можно утверждать, что exempla—это
тексты, которые характеризуют и доверчиво воспринимавшую их
паству и одновременно самих составителей поучительных сборников.
Эти сборники были своего рода мостом между религиозностью интел-
лектуальных верхов и неискушенностью в делах веры простонаро-
дья. Ограничимся одним только exempla, приводимом в известной
книге А. Я. Гуревича «Культура и общество средневековой Европы
глазами современников».
«Встретив в пасхальный день клирика, иудеи спросили его, явно
с издевкой, где же тело Христово, которое он будто бы получил?
„В душе моей", — отвечал клирик. — „А где душа? “ — „Верю, что в серд-
це моем". Решив проверить, иудеи убили клирика и вынули из груди
сердце. Когда же они его разрезали, увидели в нем прекраснейшего
младенца. В ужасе убийцы закричали, на крик сбежался народ,
преступление раскрылось и все узрели это чудо. Иисус сказал: „Кто
ест Мое тело и пьет Мою кровь, пребывает во Мне, и Я —в нем,
и вот, возвращаюсь Я в свое жилище, из коего вышел". На глазах
у всех Младенец вернулся в сердце клирика, и тот немедля поднялся
живой и невредимый»1.
Когда Господь говорил ученикам «Пребудьте во Мне, и Я в вас»1 2.
Его слова не были метафорическими, но точно так же их нельзя
понимать буквально, как телесное пребывание Иисуса Христа в те-
лах своих учеников. Сказанное Господом свершалось в духе, реаль-
но, но в той полноте реальности, которая бесконечно превосходит
всякую телесность.
Сказанное вряд ли вызвало бы возражения у средневекового
католического священника или монаха. И все же каким-то странным
образом exempla представляет буквально телесно свершившееся в духе.
Сердце, взятое именно как часть тела, оказывается душой, в этом же
теле-сердце-душе вполне телесно пребывает младенец Христос. Чему
же тогда мы являемся свидетелями в приведенном exempla, как не
совпадения внешне-телесного с внутренне-душевным и духовным,
и чем тогда существо нашего exempla отлично от существа фрагмента
1 Гуревич А. Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современни-
ков. М„ 1989. С. 162.
2 Ин. 15,4.
Древнерусская культура, христианство, язычество
113
из «Домостроя»? Разве только одним—еще более далеко заходящим
овнешнением внутреннего. Чесночный запах или «хмельной смрад»
еще могут как-то быть истолкованы в качестве неблагопристойности,
прямо ведущей к неблагочестию, хотя составитель «Домостроя»
и опасается за обоняние Христа во время свершения таинства при-
частия. Что же касается приведенного exempla, то его телесный
буквализм достигает Геркулесовых столпов, прямо-таки немыслимо-
го простодушия и наивности. От них не спасает никакая богослов-
ская ученость, так выгодно отличавшая западный клир и монашество
от древнерусского клира и монашества.
Преимущества Запада по части богословской вменяемости, тем не
менее, сказывались в том, что мифологизирующая сближенность
телесного и душевно-духовного, непосредственная выраженность по-
следнего в первом преодолевались в ходе Реформации и последовав-
шем за ней процессе очищения Католической Церкви от грубейшего
мифологизма. Подобных явлений Православная Церковь Древней
Руси не знала. Ее клир и монашество так и не преодолели грубого
смешения существа церковной жизни с тем, что таковым не является
или вообще не имеет существенной связи с православием. «Домо-
строй» в этом отношении далеко не единственное свидетельство.
Приблизительно в одно время с его составлением выходят постанов-
ления Поместного Собора Русской Православной Церкви 1551г.,
знаменитый «Стоглав». Он действительно состоял из ста глав, каж-
дая из которых трактовала о каком-либо неустроении церковной
жизни, тем требуя его устранения. Но вот, что среди прочего вызыва-
ло беспокойство у церковного собрания: «Иже бреют главы и брады.
Да по грехам слабость, и небрежение, и нерадение вниде в мир
в нынешнее время; нарицаемся хрестьяне, а в тридцать лет и старые
главы бреют и брады и ус, и платье и одежи иноверных земель носят,
то по чему познати хрестьян?(...)
Иже хрестьяне рукою крестятся не по существу и крестное знаме-
ние не по существу кладут себе, отцы духовные о сем не радят и не
поучают»1.
Касательно первой из цитированных глав отметим самую тесную
привязку православия, как его понимали участники Собора, и тради-
ционного уклада русской жизни. Этот уклад не допускал того, чтобы
зрелый человек, глава семьи не носил бороды. Безбородость—знак
того, что человек еще слишком молод, неопытен, его суждения
и поступки могут быть легковесны и безответственны и т. д. Или же,
о чем прямо говорится в главе, он принадлежит к чужим, инородцам
или иноверцам, поскольку те допускали бритье бороды и усов.
В который раз перед нами совпадение внешнего и внутреннего,
видимости и существа. Совпадение, такое естественное для первобыт-
но-языческого общества, но не имеющее под собой основания для
’Домострой. М., 1991. С. 184.
114
Культура Древней Руси
христиан. Наверное, христианину не следует выглядеть вызывающе
странно и непривычно для окружающих. Но и окружающим, в свою
очередь, не пристало так сосредоточиваться на внешнем, если они
христиане. Эта простейшая истина ни о чем бы не сказала участни-
кам Стоглавого Собора. Придавая едва ли не самодовлеющее значе-
ние внешнему, они оплотняли церковную жизнь, невольно толкали
ее к обрядности, смысл которой недоступен, а то и безразличен
исполняющим обряд.
Несколько иным взглядом можно было бы посмотреть на то, как
крестится православный народ. Креститься как придет на ум, не
соотносясь ни с какими устоявшимися нормами, очевидным образом
неуместно. Но вряд ли участники Собора сталкивались в своей
повседневности с какими-либо вызывающе странными крестными
знамениями, творимыми в церквах. Скорее речь можно вести о неко-
торых вариантах очень сходных в целом действий. Поэтому сосредо-
точенность на том, как креститься, в очередной раз искажала пер-
спективу церковной жизни православного человека. Его внимание
обращалось на второстепенное, придавая ему неподобающий статут.
Пристальный интерес Стоглавого Собора к вопросу о том, как
творить крестное знамение, а к этому вопросу «Стоглав» обращается
дважды, приобретает зловещий смысл в перспективе грянувшего
через столетие после его создания великого раскола Русской Право-
славной Церкви.
Глава 2
Древнерусская культура и Византия
Огромную и решающую роль Византии в становлении и после-
дующем развитии русской культуры отрицать невозможно. Из Ви-
зантии в Киевскую Русь пришло христианство, а следовательно,
и письменность, архитектура, иконопись, образование и многое дру-
гое. Только войдя в православное культурное сообщество, центриро-
ванное Византией, Русь преодолела свою первобытность и связанную
с ней этническую замкнутость. Чтобы убедиться в этом, а также
лишний раз подтвердить всю значимость Византии для древнерус-
ской культуры, достаточно попытаться рассмотреть ее, начисто ис-
ключая все, пришедшее к ней из византийских пределов. Слишком
очевидно, что рассмотрение древнерусской культуры неизбежно ока-
жется кратким, сухим и невнятным. К тому же разговор поневоле
придется вести почти исключительно о низовом, крестьянском
и фольклорном пласте в культуре.
Между тем, обращение к византийскому влиянию на Древнюю
Русь сталкивает нас с очень существенной и сложной проблемой
характера этого влияния и его пределов. Ведь влиять одна культура
на другую может не просто по-разному, но и прямо противополож-
ным образом. В одном случае преобладать будет стимулирование
разворачивания культурой собственного своеобразия за счет усвое-
ния чужого опыта, в другом же случае воздействующая культура
способна подчинить себе ту, которая находится в сфере ее воздейст-
вия, заново определив направление ее развития.
Что касается Древней Руси, да и Руси-России в целом, то утвер-
ждение о том, что всему существенному и плодотворному в себе она
обязана исключительно Византии, по существу, было сделано одно-
кратно, и принадлежит оно К. Леонтьеву. Его работа «Византизм
и славянство», в которой он разворачивает свои построения по пово-
116
Культура Древней Руси
ду влияния Византии на Русь-Россию, никакой поддержки в истори-
ческой науке не получила и получить не могла, так как она носит
характер романтической фантазии, а не научного или философско-
исторического исследования.
В самом общем виде вопрос как будто ясен. У Византии был свой
исторический путь, у Руси-России—свой, совершенно отличный от
византийского. И Древняя Русь вовсе не стала культурной провинци-
ей Византийской империи, всецело подчиненной смыслам и ритмам
ее культурного развития. Но тогда и возникает проблема того, как
в Древней Руси преломлялось воздействие Византии, что оказыва-
лось близким древнерусской культуре и усваивалось ею, к чему же
она оставалась нечувствительна, наконец, что она перерабатывала
и трансформировала на свой, уже не византийский лад.
Начать разговор о характере византийского влияния на русскую
культуру имеет смысл с констатации того очевидного обстоятельства,
что с христианизацией Руси и вхождением ее в «западно-восточный»
культурный круг не могло не измениться представление русских
людей о самих себе и своем месте в мире. Разумеется, с учетом того,
что происшедшие изменения коснулись далеко не всех, а прежде
всего «культурных верхов», составлявших наиболее динамичную
часть общества. В русской глубинке, в глуши и на окраинах еще
десятилетия, если не столетия в самоощущении и мироотношении
русских людей не менялось практически ничего или разве только на
поверхности.
У нас очень мало не то что прямых свидетельств, но и данных,
поддающихся хоть какой-то интерпретации о мировоззрении тех, кто
составлял население Киевского княжества до его христианизации.
Впрочем, большой беды здесь нет, так как хорошо изучены менталь-
ные структуры первобытного человека как такового. У нас нет
никаких оснований, скажем, сомневаться в том, что, как и для любых
других из первобытных и полу первобытных язычников, для русских
людей весь мир достаточно определенно делился на мир своего
и чужого. Свое—это космически устроенное бытие, чужое—более
или менее хаотично и не устроено. В своем царит лад и строй жизни,
люди поклоняются богам и животворятся исходящими от них энер-
гиями, чужое характеризуется беспорядком и непотребствами, чужие
как бы и не вполне люди, и боги их, может быть, и не прямо демоны,
но не лишены демонических черт.
Если что и менялось в подобного рода первобытно-языческих
представлениях в промежутке от создания Киевского княжества до
крещения Руси, так это отнесение тех или иных человеческих общно-
стей к своим (космосу) или чужим (хаосу). Очевидно, что первона-
чально гораздо более чужими по отношению друг к другу, чем
впоследствии, были представители различных восточно-славянских
племен. Поляне, словене, дреговичи или древляне оставались прежде
всего полянами, словенами, дреговичами или древлянами, и только
Древнерусская культура и Византия
117
потом, и в незначительной степени, русскими. Момент русскости
если и не стал для большинства населения Киевского княжества
безусловно доминирующим над племенным, то все же не мог не
нарастать в своей значимости. Соответственно, и чужое (хаотиче-
ское) в этом случае все более отодвигалось за русские пределы,
в степь, глухие леса севера и северо-востока, за море и т. д. В ситуа-
ции язычества для Киевской Руси не могло возникнуть вопроса
о месте ее в мире и соотносительном достоинстве с другими страна-
ми. Киевская Русь и была миром в первую очередь и главным
образом, все же остальные страны и народы оставались для нее более
или менее причастными хаосу, а то и вовсе антимирами.
Исключение можно было сделать, правда, для княжеских дружин.
В Киевской Руси они включали в себя очень заметный инонацио-
нальный варяжский элемент. Но совсем не потому, что скандинавы-
варяги хоть в какой-то мере играли роль завоевателей и господ над
покоренными племенами. На что-либо подобное нет и намека в рус-
ских летописях или иноземных свидетельствах. Варяги и русские
в княжеской дружине составляли одно целое. Прежде всего потому,
что они были в очень значительной степени оторваны от традицион-
ного родо-племенного быта. Дружинники ощущали себя странника-
ми, не прикрепленными раз и навсегда к определенному месту. Они
могли менять службу, но и не меняя ее, дружинники были практиче-
ски непрерывно в походе: завоеваниях, набегах, совершаемом вместе
со своим князем полюдье и пр.
Для воинов—княжеских дружинников или военной знати мир
просто не мог быть таким же устойчивым «кругом земным», в центре
которого находится собственная страна, на периферии же—все ос-
тальные страны. «Круг земной» дружинники центрировали самими
собой, его центр смещался вместе с ними. В каком-то смысле они
были космополитами. Как, например, киевский князь Святослав
Игоревич, который после успешных походов против болгар и визан-
тийцев хотел утвердить свою новую резиденцию в Переяславце на
Дунае. Похоже, его совсем не смущало то, что он этим переносом
резиденции покидал пределы Руси. Для Святослава Русью были
прежде всего он сам с дружиной, и жил Святослав по принципу: где
он находится, там пребывает и Русь. Конечно, такая позиция очень
далека от первобытно-языческой замкнутости и отгороженности на-
рода от народа. Но она не имеет исторической перспективы. Безза-
ботное странничество со временем заканчивается в пользу большей
прикрепленности к земле, хотя бы за счет владения ею. Первобыт-
ный в своей основе этноцентризм собственного народа дружинники
не преодолевают, а скорее дополняют его такого рода открытостью
к внешнему, иноплеменному миру, которая в своей основе всегда
есть война, завоевание, набег и грабеж.
Только с крещением русского человека впервые по-настоящему
встал вопрос о месте Руси среди других стран и народов. Теперь она
118
Культура Древней Руси
только и могла быть помыслена
как страна среди стран и народ
среди народов. Причем помысле-
на обязательно с учетом вновь при-
обретенного и шедшего из Визан-
тии опыта. Он же был таков, что
вселенная-ойкумена представляла
собой царство ромеев с центром
в Новом Риме —Константинополе.
Для византийцев их православная
империя была своим, уже христи-
анским аналогом космически уст
роенного бытия язычников. Соот-
ветственно, нехристианские страны
выступали подобием языческого
антимира. В православный кос-
мос Киевская Русь была принята
в качестве одной из его частей, то
есть части империи с императором
во главе и православной церкви,
возглавлявшейся Константино-
польским вселенским патриархом.
С церковью и церковностью все
было как раз очень понятно
и максимально определенно, по-
тому что Киевская Русь в церков
ном отношении образовывала одну
из митрополий Константинополь
ского патриархата. С государст
вом и государственностью такой
же определенности не наблюда
лось. Конечно, киевские князья,
Княгиня Ольга и император Констан-
тин Багрянородный в ложе ипподрома.
Софийский собор в Киеве
Фреска, XI в.
знать, дружина, клир, сколько-нибудь просвещенные представители
других слоев общества раз и навсегда твердо усвоили, что центр
христианского мира в Константинополе и что пребывающий там
царь—первый среди земных властителей. Но что значит первый?
Непосредственно власти византийского императора на Руси никто
никогда не признавал, на нее никто, впрочем, никогда и не посягал.
Византийский император был первым по чести и достоинству власти
тель христианской ойкумены. И в этом отношении никто из других
христианских властителей, с его точки зрения, не стоял и не мог,
в принципе, стоять с ним наравне. Как минимум, почитать императо-
ра они были обязаны все. Это с нашей, очень поздней позиции можно
взглянуть на ситуацию таким образом: «Ну, подумаешь, честь, досто-
инство и почитание! Куда насущнее и важнее реальная власть и могу-
щество». В крайних обстоятельствах на нечто подобное такому ощу-
Древнерусская культура и Византия
119
щению мог согласиться и властитель времен Византийской империи.
Но в настоящем случае гораздо значимее другое обстоятельство и,
в частности, то, что с представлением о том, где находится центр
мира и кто в этом центре царствует, неразрывно связано и представ-
ление человека о мире и своем месте в нем. Для людей Киевской Руси
их соотнесенность с Константинополем, царем и патриархом была бы
естественной и однозначно определенной в случае, если бы они
ощущали себя и их признавали за ромеев в точности, по аналогии
с византийцами. Именно так, между прочим, происходило на «запад-
ном Западе». Здесь француз, итальянец, немец, англичанин или их
предки в равной степени были «ромеями» потому, что все они
образовывали с равным основанием христианский мир, находясь под
церковной юрисдикцией Римского Папы. В Киевской Руси, о чем
уже шла речь, русские не только составляли с византийцами единый
православный мир, но и противопоставляли себя им как грекам.
Сегодня уже практически невозможно представить себе во всей
конкретике, что значило для древнерусских людей воспринимать
Константинополь как центр христианского мира и в то же время не
быть «ромеями». Возникала двойственность, которую не знали ви-
зантийцы, поскольку для них принадлежность к христианам и роме-
ям совпадала. Константинополь был столицей ромеев и христиан.
У русских же еще и Киев —матерь городов русских. Когда в Киеве
по примеру Константинополя строится Софийский собор —этот шаг
Ярослава Мудрого со всей очевидностью свидетельствует о том, что
киевский князь хочет уподобить свой стольный город Константино-
полю. Высказывались даже предположения, что военное столкнове-
ние Киевской Руси с Византией в 1043 году было связано с претен-
зиями Киевского князя на царское достоинство и первенствование
в христианском мире. Если что-либо подобное и имело место в за-
мысле и намерении, то никакого продолжения оно не получило
и никак не было оформлено в качестве доктрины, наконец, не стало
устойчивой формой самоощущения хотя бы только русских князей
и знати. Русь воспринимала себя не как окраина, стремящаяся стать
центром христианской ойкумены, а как народ среди народов и страна
среди стран, занимающая свое достойное место. О первенствовании
речи не шло, но не было и национального самоуничижения и тем
более какого-либо подобия «комплекса неполноценности».
Среди других свидетельств о восприятии русским человеком себя
и своей страны и народа в христианском мире к числу самых ранних
и в то же время очень выразительных относится «Слово о законе
и благодати митрополита Киевского Илариона». Повествуя о распро-
странении христианства, он, в частности, писал по поводу собствен-
ной страны: «Все народы помиловал преблагой Бог наш, и нас не
презрел Он; восхотел—и спас нас и привел в познание истины»1.
1 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1. С. 41.
120
Культура Древней Руси
Этот мотив, что вот мы, русские люди, не хуже других христианских
народов, и на нас распространяется благодать Божия, достаточно
характерен для текстов Киевского периода. В них присутствует
редкое по тем временам сочетание скромности и вместе с тем достоин-
ства в своей тихости и приглушенности. Самое большее, что может
позволить себе киевский митрополит, это поставить свою страну
в ряд других известных стран: «Хвалит же гласом хваления Римская
страна Петра и Павла, коими приведена к вере в Иисуса Христа,
Сына Божия; <восхваляют> Асия, Ефес и Патмос Иоанна Богосло-
ва, Индия—Фому, Египет —Марка. Все страны, грады и народы
чтут и славят каждые своего учителя, коим научены православной
вере. Восхвалим же и мы, — по немощи нашей <хотя бы и > малыми
похвалами,—свершившего великие и чудные деяния учителя и на-
ставника нашего, великого князя земли нашей Владимира...»1
Митрополит Иларион не просто христианин, но и лицо духовное,
к тому же иерарх Православной Церкви. Он всегда помнит тщету дел
человеческих. Отсюда его акценты не прямо на достоинстве своего
народа, а на причастности к нему святого и первосвятителя. Здесь,
однако, небезразлично то, что в отличие от других стран и городов
Русь крестил не апостол—странник и пришелец, а свой собственный
русский князь. В этом может быть особое достоинство Руси. Но если
оно и подразумевается, то как-то ненавязчиво и не впрямую. Не
может, хотя бы косвенно, не возвеличить Русь и упоминание князя
Владимира в ряду апостолов, людей, которых избрал к служению
Иисус Христос еще в своей земной жизни. Так что стоит немного
вчитаться в текст Илариона Киевского, и станет очевидным его
стремление возвеличить родную страну. Правда, опять-таки, возвели-
чить так, чтобы никому не было обидно. Это действительно поражает,
насколько в лице своих книжников Киевская Русь способна была
найти меру в осмыслении себя в контексте всемирной истории и в со-
поставлении с другими странами и народами, и насколько это осмысле-
ние далеко от того, что думала и мнила о себе Византия с ее
ойкуменическими притязаниями в качестве духовной и государственной
реальности. В своем самоосмыслении Киевская Русь как будто проти-
воположна Византии. В том и дело, однако, что русская противопо-
ложность византийцам—это применение к себе и самостоятельное
усвоение византийского опыта. Вне всякого рода дипломатических
ходов и ухищрений византийцы готовы были признать Русь христи-
анской страной, пусть и окормляемой империей ромеев и подчинен-
ной им, но в то же самое время русские для византийцев оставались
варварским народом. Сами же русские и не растворяли себя в импе-
рии ромеев, и уж тем более не считали себя варварами. Они нашли
себе в своем самоосмыслении, редко кому удававшемся в своей
национальной самоидентификации и самооценке, «золотую середину».
1 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1. С. 43.
Древнерусская культура и Византия
121
* **
На этой «золотой середине» Русь удержаться не смогла, нарушив
ее в пользу, надо сказать, неизбежного в силу исторических обстоя-
тельств самовозвеличивания. К нему Русь толкал усиливавшийся
от века к веку упадок военно-политического могущества Византии,
приведший в конечном итоге к ее падению под ударами турок-
османов. После происшедшей в 1453 году катастрофы для Руси
уже вряд ли возможным было осмыслять себя в качестве страны
среди стран и народа среди народов православного мира, который
ничем не хуже других. Как это не хуже, если во всем православном
мире Русь одна устояла под натиском иноверцев! Бог то ли попустил
Руси, то ли, во что хотелось верить, выказал ей особое предпочтение
перед другими православными странами, избавив ее одну от порабо-
щения.
И здесь не мог не возникнуть вопрос о том, в каком качестве Русь
сохранила свою независимость и государственность? Понятно, что не
в качестве одной из частей православной ойкумены. Теперь часть
стала целым, сильно уменьшившимся в своих размерах, и все же
целым. Таковым же могло быть только православное царство во
главе с императором ромеев и вселенским патриархом. Так далеко,
чтобы короноваться в сан римских императоров, московские князья
не пошли.
Первый из них, принявший царский венец и по византийскому
обряду помазанный на царство, Иван IV, стал царем всея Руси.
Поскольку все-таки царем, а царя, по старинному и неизменному
обычаю, помазует на царство патриарх, то на венчание Ивана IV
в новом качестве было получено одобрение православных патриар-
хов. Потом, через полвека, в Московской Руси появится свой патри-
арх. Но он будет не вселенским, как в Константинополе, а одним из
пяти православных патриархов, причем только пятым по достоинству
и чести.
Предшествовали установлению в Москве патриаршества попытки
склонить вселенского константинопольского патриарха перебраться
в Москву. Ведь осел же в ней после татарского погрома общерусский
киевский митрополит. Почему бы теперь после османского погрома
не перебраться в Москву и патриарху Константинополя? На этот шаг
константинопольский патриарх, однако, не решился. Так же как не
решились и московские цари стать императорами ромеев. Вряд ли
они и всерьез обсуждали подобную перспективу. Возобладала другая
тенденция, в соответствии с которой Москва была провозглашена
третьим Римом.
Нечто подобное было внутренне необходимым и неизбежным для
Руси ввиду того, что отсутствие в мире Рима обрекало ее на остаточ-
ное, выморочное существование части некогда существовавшей в пол-
ноте православной ойкумены. Русь предпочла сознание того, что,
пока существует хотя бы одно православное государство, оно и есть
122
Культура Древней Руси
православный мир, возможный только при наличии у него своего
Рима. Он и был провозглашен вначале устами старца Филофея,
а затем принят в качестве собственной доктрины великими князьями
Московскими.
Между тем Москве быть третьим Римом можно было с двумя
противоположными акцентами. Акцентом на Москве и на Риме.
Сделан был все-таки первый акцент. Не Москва стала Римом, а,
скорее, Рим стал Москвой. Отсюда и возможность быть царем всей
православной ойкумены не в качестве императора ромеев, а как царь
всея Руси. Византийский опыт, таким образом, в очередной раз был
не только усвоен, но и радикально трансформирован применительно
к русской ситуации.
Трансформация, о которой идет речь, сказалась в том, что у рус-
ских людей московского периода возникает образ Святой Руси как
некоторое соответствие православной ойкумены. Не подумаем толь-
ко, что на смену византийскому представлению о том, что быть
православным—значит быть ромеем, пришло отождествление право-
славности с русскостью.
Во-первых, и относить себя к ромеям вовсе не значило усваивать
себе помимо вероисповедания еще и этнический признак. Римскость —
это сверх- и над-этнический признак. Ромеями для византийцев
могли быть и греки, и армяне, и сирийцы, и кто угодно еще, лишь бы
на них простиралась власть или хотя бы первенствование византий-
ского императора. Со Святой Русью положение было еще более
неопределенным. Она явно никогда не мыслилась как некоторое
этническое и тем более многоэтническое образование.
И во-вторых, представление о Святой Руси отличалось от пред-
ставления об империи ромеев тем, что первое из них никогда не было
оформлено в какое-либо подобие государственной или любой другой
доктрины. Святая Русь —это такого рода образ и мифологема, кото-
рый впрямую просматривался только в фольклоре. В остальных
случаях он не мог не подразумеваться, служить предпосылкой ориен-
тирования в мире и самоощущения, которые могли выходить на свет
в поступках и текстах; сам же образ-мифологема Святой Руси при
этом оставался в тени. Менее всего он, скажем, мог стать реально-
стью дипломатических деклараций или государственной внешней
политики. В этом отношении Святая Русь для русских людей была
чем-то совсем другим, чем империя ромеев для византийцев.
Если попытаться немного конкретизировать образ Святой Руси,
достаточно смутно и невнятно оформившийся в русском националь-
ном самосознании, то прежде всего нужно указать на то, что он
представлял собой проекцию русских реалий на весь остальной
православный мир, который в этом случае мыслился все той же
Русью. Каким образом это происходило, проиллюстрируем еще од-
ним фрагментом из «Голубиной книги», где разрабатывается мотив
того, кто кому «мати»:
Древнерусская культура и Византия
123
Ильмень-возеро возерам мати.
Не тот Ильмень, который над Новым градом,
А тот Ильмень, который во Турецкой земли
Над начальным градом Иорасолимом.
Почему ж Ильмень-озеро возерам мати?
Выпадала с его матушка Иордань-река,
Иордань-река да всем рекам мати!
Почему ж Иордань-река рекам мати?
Крестился в ней истинный Христос
И купался в матушке Иордань-реки, —
Потому Иордань-река рекам мати1.
Понятно, что поместить Ильмень-озеро у Иерусалима можно толь-
ко от великой простоты неразличения исключительно местных реа-
лий от всяких других. Между тем такая проекция Ильменя в пале-
стинские пределы имеет строгий ограничитель. Настоящий-то
и первозданный Ильмень оказывается вовсе не знакомым озером, на
берегу которого разместился Великий Новгород. Точно так же и Свя-
тая Русь —это та, да не та страна, в которой живут своей повседнев-
ной жизнью русские люди. Во всяком случае, существует она не
в наглядности исторического бытия, которую можно увидеть обыч-
ным взором или услышать обычным слухом.
В Святой Руси есть некоторая вознесенность и удаленность от
повседневности. Та Московская Русь, жизнь в которой непосред-
ственно осуществляется русскими людьми, существует в меру при-
частности к той другой, которая в буквальном смысле слова является
Святой Землей. Поэтому на самом деле подлинное и первозданное
Ильмень-озеро находится не в какой не в «Турецкой земле», а в Свя-
той Руси. Ее присутствие в мире и вознесенность над ним Святой
Руси могла ощущаться в разных ситуациях по-разному. Скажем,
в момент вступления московского царя на царство обручался он,
конечно же, со Святой Русью. Святой Русь представала и по боль-
шим церковным праздникам. Обыкновенная же рутинная жизнь
отодвигала Святую Русь вдаль и ввысь. В нее можно было вгляды-
ваться мысленным оком, прислушиваться к ее отдаленному звуча-
нию, мечтательно устремляться к ней своими душевными порывами
или странствуя от монастыря к монастырю, от одного святого места
к другому.
***
Всякое рассмотрение воздействия византийской культуры на рус-
скую, в том числе и констатация несомненного принятия и усвоения
византийского опыта в качестве своего, внутренне близкого и понят-
ного, должны исходить из той неизменной предпосылки, что Визан-
тия и Древняя Русь — реальности очень разные. И не только в том
1 Федотов. Стихи. С. 34.
124
Культура Древней Руси
отношении, что к моменту крещения Руси, определившему собой
вхождение ее в «восточно-западный» культурный круг, Византия
была страной с шестисот летней собственной историей (и к тому же
связанной непосредственным преемством с Древней Грецией, чья
культура началась еще в VIII в. до Р. X.). Русь же имела за плечами
всего один век государственного, а точнее, полу- или предгосударст-
венного существования. Дело не сводится к одной только молодости
Руси и почтенному возрасту ее учительницы, потому что исходные
основания той и другой культуры едва ли не прямо противоположны.
Иными словами, Византии в самом конце X в. досталась ученица не
только не из числа более или менее близких родственников, а,
скорее, из совсем чужой семьи.
Самой резко выраженной, наглядно очевидной противоположно-
стью между Русью и Византией является «почвенность» одной
и «беспочвенность» другой. В самом деле, Русь с ее культурой
возникла как результат развития восточно-славянских племен, дли-
тельное время проживавших на своей территории или медленно
колонизировавших соседние земли. Славяне, составившие Киевскую
Русь, были земледельцами, в огромном своем большинстве жившими
в сельских поселениях. Города у них были очень немногочисленны
и невелики по сравнению с западными соседями. Киевская, а затем
в не меньшей степени и Московская Русь так и останутся преимуще-
ственно странами земледельцев и землевладельцев и в очень незначи-
тельной степени горожан.
Нельзя сказать, что доля сельского населения в Византийской
империи была незначительной. Хотя и не так резко, как в русских
землях, сельское население здесь количественно преобладало над
городским. И все же, когда мы говорим о Византии, и в особенности
о византийской культуре, перед глазами встает прежде всего образ
Константинополя. Этот город был не просто центром и средоточием
Византии и ее культуры. Константинополь — это сама Византия со
своей культурой в несравненно большей степени, чем все остальные
ее части, вместе взятые.
Когда в 1204 г. Константинополь был захвачен крестоносцами,
основавшими на византийских землях свою недолговечную Латин-
скую империю, далеко не все территории попали под власть новой
империи. Однако пока столица византийской империи не была вновь
отвоевана, ни о какой Византии у историков говорить не принято.
Они ведут речь не более чем об Эпирском деспотате и Никейской
империи, претендовавших на преемство по отношению к Византии.
Ну какая это византийская империя без Константинополя?! Никакой
город Киевской Руси и отдаленно не играл в ней роли, подобной
Константинополю. Тот же Киев, будучи «матерью городов русских»,
тем не менее терпел соперничество Галича, Владимира или Новгоро-
да, выдвигаясь на передний план или по существу становясь в ряд
крупнейших и значительнейших русских городов.
Древнерусская культура и Византия
125
В Московской Руси Москва значила несравненно больше, чем
Киев в Киевской Руси. И все же Русь стала Московской далеко не
сразу. Чаша весов могла склониться и в пользу других городов —
Владимира, Твери, Нижнего Новгорода, и временами казалось, вот-
вот склонится. Византии подобные колебания были вовсе чужды.
Она с самого начала стала страной и государством, группировавшим-
ся вокруг Константинополя—Нового Рима. Если Русь оставалась
русской без Киева или Москвы, то к Византии это никакого отноше-
ния не имело. На протяжении тысячелетия ее территория так прихот-
ливо менялась за счет потерь и приобретений, что указать неизменно
византийские земли не так просто. Славяне, турки или арабы могли
захватывать византийские провинции, чуть ли не вплотную примы-
кавшие к Константинополю. В свою очередь, Византийская империя
могла очередным усилием отодвинуть свои границы далеко на запад
или восток — ничего существенно для Византии как страны и государ-
ства это не меняло. Да и страной ли в привычном смысле слова была
Византия?
Если «ромей» понятие наднациональное, сопряженное с реально-
стью империи и христианской ойкумены, то и Византия—образова-
ние государственное и религиозное. Оба эти начала воплощал собой
Константинополь с его императором и патриархом, но точно так же
с государственным аппаратом, жестко централизованным и цепко
осуществлявшим свой временами почти всеобъемлющий контроль
над провинциями империи. Вопрос, однако, не сводится к одной
только бюрократии, императору или патриарху. Их присутствие
в Константинополе было знаком того, что он являлся смысловым
центром Византии. Такого рода центром, который не увенчивал
собой страну, не довершал ее, а создавал и оформлял из разнород-
ных элементов некоторое целое. Без него оно никогда бы не сложи-
лось и не удержалось в своем единстве.
Но ведь и Киев, и в особенности Москва тоже в известном смысле
создали Киевскую и Московскую Русь —можно возразить по поводу
сказанного. В том, однако, и дело, что без Киева или Москвы Русь
все равно состоялась бы, но никак не Византия без Константинополя
(исходно: Визбнтия). Знаменательно уже само его расположение на
берегу Босфора. Здесь мог существовать или торговый город и пере-
валочный пункт, каким был ничем не примечательный предшествен-
ник Константинополя —Визбнтий, или столица обширной державы
с большими претензиями. Естественными границами для нее должны
были быть, как минимум, Дунай на Севере и Западе и горные
хребты, отделяющие Малую Азию от остальных азиатских про-
странств. Только в этом случае Константинополь находился бы
в относительной безопасности, а главное, имел страну под стать
столице. Не будет таким уж большим преувеличением сказать, что
Константинополь и был такой столицей, которая создала под себя
страну и удерживала ее собой с большим или меньшим успехом.
126
Культура Древней Руси
Не стало столицы—исчезла империя. Но не наоборот. Последние
десятилетия своего существования Византия сводилась к Константи-
нополю и еще нескольким клочкам земли, разбросанным на про-
странствах, некогда принадлежавших Византии. От этого Византий-
ская империя сохранилась не только де-юре, но и как политическая
и культурная реальность. Разве возможно вообразить что-либо по-
добное применительно к Руси? Русь как Киев или Москва, почти
утерявшие некогда окружавшие их земли,— это абсурд. Именно
потому, что Русь —это русская земля, на которой стоят Киев и Мос-
ква, тогда как никакой «византийской земли» в качестве общей
родины византийцев-ромеев не было. Земли приобретались и теря-
лись империей, при этом никак не задевалось ее существо. От нее
был неотделим один только Константинополь. Но он-то как раз
расположен не совсем на земле. То есть на земле, конечно, но в то же
время на Босфоре, как бы между земными пространствами. В неко-
торой особой реальности, которая не есть вполне ни земля, ни вода,
ни, добавим, небо. Константинополь в своем существенном и в чем-то
осуществившемся замысле—это чистая форма, накладываемая на
«материал» пространств и народов, но имеющая и свое, обращенное
на себя бытие чистой формы и образа, идеи. Никакой чистой «фор-
мой» по отношению к русской земле ни Киев, ни Москва, разумеет-
ся, не были. В них русская земля собиралась и концентрировалась,
оставаясь русской землей. На это указывали просторы русской зем-
ли, которым они принадлежали.
***
Русское и византийское восприятие своей страны (в последнем
случае не скажешь ни «земли», ни «отечества») во всем их различии
и чуждости друг другу можно ощутить, обратившись к византийско-
му и русскому эпосу.
Задача наша упрощается тем, что и от русских, и от византийцев
осталось, по существу, только два эпических текста, бытовавших не
как устное и фольклорное творчество, а в качестве произведений
письменного творчества. В первом случае таковым, безусловно, явля-
ется «Слово о полку Игореве». Его вряд ли возможно рассматривать
как чисто эпическое произведение, так как оно довольно точно
излагает реальные события, запечатленные еще и в летописях, и к то-
му же «Слову...» не хватает пафоса временной дистанции. Все-таки
эпос предполагает повествование о временах давно минувших, жела-
тельно о правремени, когда на свете жили люди героической повадки
и грандиозных деяний. За счет пафоса дистанции эпос очень мало
озабочен буквальной точностью в воспроизведении некогда происхо-
дивших событий. Он может раздуть до вселенских масштабов отно-
сительно очень незначительные события, как «Песнь о Роланде», или
вообще не соотноситься с реальными событиями, как «Одиссея» или
«Песнь о нибелунгах».
Древнерусская культура и Византия
127
Наше «Слово о полку Игореве» не в пример им исторично в собы-
тийном плане и в то же время эпично по характеру действий героев
и его изображению автором. Эти действия несут в себе сверхчелове-
ческий замах в деяниях князя Игоря и его брата Всеволода, их
стремление столкнуться с непомерным и неодолимым. Но не эти их
героические и, соответственно, эпические свойства интересуют нас
в настоящем случае. А то, как соотнесены герои «Слова...» со своей
родиной, чем она для них является. Еще в начале повествования
говорится, что князь Игорь «навел свои храбрые полки на землю
Половецкую/за землю Русскую». Вот этот мотив родины-земли
в «Слове...» чрезвычайно важен.
Вообще говоря, герой с родиной может быть и не соотнесен,
действуя от себя и в целях своего сверхчеловеческого самоосуществ-
ления. Но и там, где в действиях героя присутствует мотив родины,
она выступает все-таки как сообщество людей, с которыми и за
которых сражается герой. Такова, скажем, «прекрасная Франция»
в «Песне о Роланде». Возможен в эпосе и мотив родины как родного
дома героя (см. «Одиссею»). Родина нашего «Слова о полку Игоре-
ве»—это не одно и не другое, а нечто третье. О ней говорится как бы
от лица русского войска, устремившегося в половецкую землю, но не
в том смысле, что она—родина—есть пространство, на котором
обитают люди. Во-первых, не только люди, но и звери и птицы. И во-
вторых, Русь —это и земля, и люди, на ней живущие. Их единство
задано тем, что русская земля является материнским началом, для
которой русские люди—дети. Их связь с ней —это не только семей-
ные, родственные или соседские отношения, но еще и нечто большее,
потому что она воспринимается как мир со всем в нем сущим, от
которого каждый русский человек неотрывен. Он является или
изгоем или сбившимся с пути, если связь его с русской землей
разорвана. От недругов или напастей русский человек обязан рус-
скую землю защищать, если он воин, а тем более герой и князь, но он
менее всего покровитель родной земли. От нее он бесконечно зави-
сим, связан с ней тысячами нитей. Поэтому не о покровительстве
идет речь, а о самозащите, о стремлении сохранить истоки и основа-
ния собственной жизни.
Для нас, русских людей, образ родины—это только две ее опреде-
ленности: земля и мать. Совпадение земного и материнского ничего
своеобразно русского не содержит. Восприятие земли как матери
представляет собой древнейшую, глубоко первобытную и общезначи-
мую мифологему. У нас же, как ни у какого другого народа, она
сохранила свою действительность для культуры, далеко уже не
первобытной. От этого образ земли-матери приобрел характер чуж-
дой ему исходно теплоты и задушевности, предполагающих сынов-
нюю или дочернюю почтительность и любовь. Теперь мать-земля не
просто сыра земля как порождающее и все вбирающее в себя лоно.
Она именно Родина, начало рождающее, но еще и родное, бесконеч-
128
Культура Древней Руси
но близкое и так же бесконечно превосходящее каждого из своих
детей. Ее неуловимость и невместимость для каждой русской души
в том, что земля переходит в общность людей, последняя же—
в землю. Поэтому любовь к Родине как к русской земле для русского
человека не есть самодовольство и самоумиление. Любит-то он не
себя в других или других в себе, а бесконечно превосходящее и себя,
и всех, кто на родной земле обитает. Живое чувство Родины как
русской земли присутствует в «Слове о полку Игореве» как фон
повествования. Оно вроде бы на заднем плане, но в действительности
есть условие всего происходящего, все пронизывающее настроение
и смысл. Между тем в русской словесности киевской поры сохрани-
лись строки, непосредственно обращенные к Родине, не менее извест-
ные, чем «Слово о полку Игореве».
«О, светло светлая и прекрасно украшенная, земля Русская!
Многими красотами прославлена ты, озерами многими славишься,
реками и источниками местночтимыми, горами, крутыми холмами,
высокими дубравами, чистыми полями, дивными зверями, разнооб-
разными птицами, бесчисленными городами великими, селениями
славными, садами монастырскими, храмами Божьими и князьями
грозными, боярами честными, вельможами многими. Всем ты преис-
полнена, земля Русская, о правоверная вера христианская!»1
Вчитавшись в эти для многих привычные слова сколько-нибудь
внимательно, нельзя не уловить в них перехода от одной реальности
к другой, каждая из которых и образует русскую землю. Вначале это
так называемая «неживая природа» в ее наиболее выразительных
проявлениях. Далее речь заходит о растительной природе и живот-
ном мире. Наконец, наступает очередь русского человека. Вначале
восхваляется созданное его руками и только потом непосредственно
люди, точнее, лучшие из них, наиболее блистательные и великолеп-
ные. Обратим внимание, однако, что одними людьми восхождение от
«низшего» в русской земле к более «высокому» не завершается.
Увенчивает всю обращенную к Руси конструкцию «правоверная вера
христианская». Вот так: от озер, рек и гор до того, что уже нельзя
отнести к только человеческому, где присутствует Божественное, —
выстраивается и осмысляется русская земля в «Слове о погибели
Русской земли». В нем такая полнота и наполненность, из которой не
выйти и от которой русскому человеку не оторваться, как бы он не
возносился гордыми помыслами и не утверждал себя грандиозными
деяниями.
Обращение к складывавшемуся, видимо, в X в. византийскому
эпосу «Дигенис Акрит» открывает перед нами не просто мир, имею-
щий очень мало общего с миром «Слова о полку Игореве». Посвящен
он жизни и подвигам человека, чье прозвище Акрит буквально
переводится с греческого языка как «пограничник». Действительно,
1 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 5. С. 91.
Древнерусская культура и Византия
129
герой византийского эпоса принадлежал к сословию, чьей возложен-
ной на него государством задачей было охранять восточные границы
Византийской империи от натиска с мусульманского Востока. Естест-
венно, что и подвиги свои Дигенис Акрит совершает в битвах и пое-
динках с арабами-мусульманами. На наш, русский взгляд, казалось
бы, ситуация византийского эпоса буквально толкает автора к мани-
фестации своего патриотизма и любви к родине. Но вот за какие
подвиги воздает хвалу своему герою автор «Дигениса Акрита»:
Отважней был он всех и благороднее,
Могучей силой наделен от Господа,
Он власти подчинил своей всю Сирию,
И Вавилон, и Харсианы земли все,
Армению он занял, Каппадокию,
затем Аморий и Иконий покорил,
И крепость взял прославленную, мощную,
Большую, превосходно укрепленную, —
об Анкире веду я речь—и Смирну взял,
И земли он завоевал приморские1.
За главное достоинство Дигениса признаются, может быть, и зас-
луги перед Византией, но перед ней именно как перед империей. Все-
таки он отвоевал области, некогда принадлежавшие империи и впо-
следствии захваченные мусульманами или же завоевал то, на что
простирались лишь вожделения Византии. Если это и патриотизм, то
не любви к родной земле, а экспансии и борьбы с врагом. И потом,
в византийском эпосе речь все-таки идет об отвоевании и завоевании
Дигенисом земель, которые он подчинил собственной власти. Конеч-
но, для эпоса очень важно, что власть Дигениса Акрита—христиан-
ская, что своими захватами он расширил пределы православной
ойкумены, а значит, и сферу первенствования императора ромеев.
Но как все это далеко от непосредственной и глубокой связи со своей
родиной и тем более землей. При этом в эпосе неоднократно идет
речь об империи ромеев, или Романии, ее противостоянии миру
язычников, к которым византийцы относили мусульман. Но, по
существу, империя ромеев остается некоторым абстрактным опреде-
лением мира. Как если бы в нем были правая (ромейская) и левая
(арабская) сторона, собственно мир христианства и антимир язычест-
ва, свои и чужие.
Далее действие «Дигениса Акрита» разворачивается таким обра-
зом, что в нем происходит столкновение и соперничество представи-
телей двух сторон и их любовное влечение друг к другу, точнее,
происходит встреча мужского и женского начал. В одной из таких
встреч арабский эмир в пылу неодолимой страсти к ромейской
девушке восклицает:
1 Дигенис Акрит. М., 1994. С. 9.
130
Культура Древней Руси
Рабом любви покорным стал тот, кто врагом был ярым,
И родиной Романию избрал из-за любимой1.
Именно так: вначале любовь к прекрасной ромейке и христианке,
и только потом выбор родиной Романии и, следовательно, отверже-
ние мусульманства в пользу истинной веры. Сама эта Романия,
в полном несоответствии с русским эпосом, в византийском эпосе так
и не предстанет как целое. Никогда никакого подобия призыва:
«Вступите же, господа, в золотые стремена за обиду сего времени, за
землю Русскую...»—в «Дигенисе Акрите» не прозвучит. В нем герой,
которому посвящено повествование, совершает свои невиданные под-
виги потому, что он могуч и доблестен. Автор любуется им и восхи-
щается еще и потому, что Дигенис—ромей и христианин, что он
показал арабам-мусульманам, на что способен ромей-христианин.
Но все же в византийском эпосе нет и намека на какое-то подобие
общенационального и даже общехристианского дела. В нем, как это
и положено эпосу, сталкивается герой-одиночка, свой, с чужими.
Такая ситуация вроде бы задана самим жанром эпоса. Но не забудем
еще и о том, что в нем повествуется не просто о столкновении двух
миров в лице их героев. Для Византии борьба с арабами была
жизненно важным делом, в этой борьбе вопрос стоял даже о том,
быть или не быть империи ромеев, когда, например, арабы в IX в.
осадили Константинополь. Византийский эпос о тяжелой, трагиче-
ски-трудной и жизненно-важной борьбе ничего не знает. В нем мир
подвигов, приключений, любовных связей и коллизий почти застила-
ет весь горизонт повествования. Только один раз в эпосе на передний
план выходит неотменимая реальность императорского правления.
Подлинной Византией и Константинополем веет, когда в ответ на
милостивое послание императора Василия Дигенис отвечает: «Слу-
гою я ничтожнейшим твоей останусь власти»1 2. Это уже по-византий-
ски, хотя и не по-героически и не по-эпически.
Но ведь сама по себе не героична и не эпична и тема русской
земли, как она предстает в «Слове о полку Игореве» и других
памятниках древнерусской словесности. Эпос в пользу вольного,
безоглядного и сверхчеловеческого самоутверждения героев отодви-
гает на задний план, если не устраняет вовсе даже самые значимые
и ярко выраженные реалии национальной жизни. И очень характер-
но, что русский эпос не преодолевает, а, напротив, сохраняет тему
русской земли. В византийском же эпосе, несмотря ни на что,
сквозит тема имперской константинопольской автократии. И это
несмотря ни на какое благоволение императора ромеев к Дигенису,
восхищение и даже готовность выслушать от отрока Дигениса о том,
как нужно властвовать. Все-таки завершается встреча Василия с Ди-
1 Дигенис Акрит. М., 1994. С.28.
2 Там же. С. 70.
Древнерусская культура и Византия
131
генисом традиционно византийским жестом—пожалованием импера-
тором своему верному и достойному подданному титула патрикия,
царских одежд и права управлять пограничными провинциями импе-
рии. Нельзя избавиться от впечатления, что на страницах «Дигениса
Акрита» император мелькнул даже не столько для того, чтобы он
окончательно не оторвался от фундаментальных реалий византий-
ской жизни, сколько для того, чтобы, воздав византийскому кесарю
кесарево, затем с большей легкостью предаться игре эпической фан-
тазии, выстроить мир по эпическим законам, так трудно совмести-
мым с византийской действительностью.
Образ императора, так недолго занимающий внимание читателя на
страницах «Дигениса Акрита», а главное, отношение к нему поддан-
ных—это та реалия византийской жизни, которая исходно была
совершенно чужда Древней Руси. Она в принципе не могла вырабо-
тать никакого, пускай сколько угодно отдаленного подобия импера-
торской автократии и тяготеющего к рабствованию отношения к им-
ператору подданных на переходе от полупервобытности к ранним
формам государственности. Нам еще предстоит рассмотрение в соот-
ветствующих главах княжеской и царской власти в Киевской и Мо-
сковской Руси, так же как и положения тех русских людей, на
которых распространялась власть князя или царя. Предваряя эту
тему, однако нужно отметить, что византийское влияние здесь если
и имело место, то носило очень опосредованный характер. Первые
века своей истории Древняя Русь оказывается совершенно или очень
мало чувствительной к опыту византийской государственности. Киев-
ский, а позднее еще и владимирский и галицкий князья имели
гораздо более общего с королями «западного Запада», чем с визан-
тийскими императорами. Они были предводителями дружин, воз-
главляли воинское сословие, одновременно принадлежа к нему, во
многом как французские, английские или германские короли и тем
более западные польские и венгерские соседи Руси. Соответственно,
и подвластное князьям население русских земель напоминало своих
западных соседей несравненно больше, чем подданных империи
ромеев.
Опыт византийской государственности гораздо более пришелся ко
двору в Московской Руси, чем в Киевской. Московский царь видел
себя прямым преемником византийского императора, стремился под-
ражать ему в церемониале и этикете. Гораздо ближе к византийцам
и подданные московского царя. Во всяком случае, ближе, чем к жи-
телям государств Западной Европы. Происшедшая трансформация
определялась прежде всего внутренним развитием Московской Руси.
И речи не могло идти ни о каком давлении или культурной экспансии
сильно ослабевшей к тому времени Византии. На византийский путь,
точнее, некоторое его подобие, Московскую Русь толкал кто угодно,
только не Византия. И если в путях их государственного развития,
в формировании таких важных для культуры форм властвования
132
Культура Древней Руси
и подвластности обнаружилась достаточно существенная общность,
то объяснять ее нужно прежде всего самим фактом вхождения Руси
в восточно-христианское культурное сообщество. Оно предопредели-
ло саму возможность освоения культурных моделей, выработанных
и реализованных в Византии.
Возможность, однако, в чем-то становилась действительностью,
в чем-то нет. Реализовывалась она избирательно и по-разному на
протяжении существования культуры Древней Руси. Но никогда
ситуация не складывалась таким образом, чтобы возможным стало
говорить о русском византизме как доминирующей в русской культу-
ре реальности. И это несмотря на то существенное обстоятельство,
что Русь сосуществовала со своей учительницей Византией в одном
историческом времени на протяжении почти 500 лет, тогда как
«западный Запад» имел дело со своими учителями-римлянами Запад-
ной Римской империи, которые сошли с исторической арены почти за
тысячу лет до Византии, оставив по себе только письменные свиде-
тельства, остатки изобразительного искусства и архитектуры.
Глава 3
Древнерусская культура как слово
Для многих национальных культур их возникновение совпадало
с появлением в них письменного слова; менее распространена ситуа-
ция предшествования письменности усваивавшей ее национальной
культуре. В последнем случае имело место заимствование того, что
некогда состоялось в пределах другой национальной культуры. Так,
в частности, обстояло дело с ведущими национальными культурами
Запада: французской, английской, германской, итальянской и др.
Как известно, в качестве собственного письменного языка они дли-
тельное время использовали латынь. Тем самым она была одним
и тем же языком образованности для множества стран и к тому же
связывала предсредневековую и средневековую современность с рим-
ской античностью.
В отношении письменного слова ситуация в Древней Руси склады-
валась существенно иначе. Русь возникла в качестве Киевского
княжества более чем за столетие до появления в ней устойчивой
традиции письменности. Как обходилась Древняя Русь без письмен-
ного слова до 988 г., какие ее предварительные варианты все-таки
существовали или могли существовать, — об этом сколько-нибудь на-
дежных свидетельств до нас не дошло. Возможность наличия в язы-
ческом еще Киевском княжестве своего подобия скандинавского
рунического письма выглядит достаточно правдоподобно. Что прихо-
дится исключать полностью, так это существование в это время
сколько-нибудь развитой словесности на основе своей собственной
письменности.
Ведь более или менее известно, что возникновение письменного
слова в древних культурах вовсе не вело сразу к записи ключевых
для них текстов, скажем священного характера, и тем более к скоро-
му созданию жанров словесности. Первоначально письменность за-
134
Культура Древней Руси
Летописец
Книжная миниатюра, XVI в.
нялась делами прозаическими
и была подспорьем в повседнев-
ных хозяйственных и других на-
сущных заботах. У нас нет осно
ваний по этому пункту делать
исключения для Древней Руси
языческого периода. Несомненно,
прошли бы века, прежде чем ее
собственная письменность могла
бы стать каким-то подобием того
уровня, который был достигнут
в результате крещения и после-
дующей христианизации русских
земель. Благодаря христианизации
произошло самое главное: только
еще возникающему письменному
русском слову сразу же был задан
образец и первообраз в лице ви
зантийской письменности. Послед-
няя же к X в. выражала собой не
только византийскую, но и пред-
шествующую древнегреческую традицию. За плечами у нее было
более полутора тысяч лет. До известной степени этот полуторатыся-
челетний опыт письменного слова стал и опытом древнерусской
культуры, правда, ограничение на его усвоение накладывали два
обстоятельства: во-первых, еще во многом полупервобытный харак-
тер русского народа, относительная простота и незатейливость его
жизни на фоне византийской утонченности и изощренности и, во-
вторых, то, что Русь приняла из рук Византии письменность на своем
родном языке.
Последнее обстоятельство может показаться неоспоримым преиму-
ществом Древней Руси перед другими западными странами. Ведь во
Франции, Германии, Англии, Италии письменность на национальном
языке оформляется столетиями позднее, чем на Руси. Предваритель-
но эти страны прошли длительную выучку в латинской школе.
Благодаря приобщению к латинскому языку западно-европейские
страны оказались связаны с Античностью, по преимуществу древне-
римской, несопоставимо теснее, чем Древняя Русь. Последняя тоже
не смогла бы состояться в том виде, как она состоялась, без воздейст
вия на нее античности, на этот раз прежде всего древнегреческой.
Однако античное письменное слово доходило до Руси, как правило,
не только в переводах, что не могло не ослаблять его воздействия, но
и в той мере, в какой оно было ассимилировано Православной
Церковью. Прямого и тесного контакта у русской культуры с Антич-
ностью в отличие от Запада не было. К чему это приводило, проще
всего продемонстрировать, обратившись к феномену образования.
Древнерусская культура как слово
135
Западная Европа после крушения Римской империи и появления
варварских королевств, несмотря ни на какой упадок и разруху,
сохранила у себя в своей основе все ту же позднеантичную систему
образования — знаменитые «семь свободных искусств», — состоявшую
из тривиума (грамматика, риторика, диалектика) и квадривиума
(арифметика, геометрия, астрономия, музыка). Многое в этих искус-
ствах было переакцентированно и переиначено, но в целом они
сохранили свой характер светского образования, хотя и использовав-
шегося прежде всего для обучения клира и монашества.
В античные времена постижение «семи свободных искусств» пре-
следовало цель формирования действительно свободного человека.
Он должен был быть оформлен в образовании, буквально приобре-
сти образ, сменив им первоначальную неопределенность и невнят-
ность собственного существования. Для Античности вопрос: «Для
чего получать образование?»—в значительной степени был лишен
смысла, потому что цель образования в нем самом, оно есть реаль-
ность свободы, противополагаемой самому неприемлемому для ан-
тичного человека—рабству. В первые послеантичные века и далее
в Средневековье образование лишается своей самоценности. Теперь
оно инструментально, служит некоей более высокой цели—спасению
души. Само по себе образование не спасительно. Но оно открывает
дополнительные возможности для достижения спасения, потому что,
вооружившись знаниями, глубже постигаешь мир Божий и его Твор-
ца. Ну а непосредственно получение образования позволяет служить
Церкви в исполнении ею своей спасительной миссии. Церковь—это,
в частности, церковное вероучение, исполнение таинств, наставление
паствы. Приобщение к ним требует от клира и монашества образова-
ния. Совсем необразованный клирик или монах на Западе исходно
фигура недостойная, не соответствующая своему сану.
Было бы совершенно неверным утверждать, что требование образо-
ванности оставалось чуждым в отношении клира и монашества Древ-
ней Руси. Но образование здесь понималось существенно иначе, чем
на Западе. У нас и речи не может идти ни о каком подобии «семи
свободным искусствам». Мы не унаследовали его от Античности.
Обучение клира и монашества раз и навсегда в Древней Руси было
церковным. По богослужебным книгам учили грамоту, затем следовало
начитывание душеспасительной литературы, понятное дело церковной.
На протяжении веков Древняя Русь знала не столько образован-
ность, сколько грамотность и начитанность. Отсутствие в ней изуче-
ния «семи свободных искусств», в частности, означало, что в русском
письменном слове оказались практически не представленными ни
наука, ни философия, ни богословие. На Западе они переживали
период глубочайшего упадка, но там же состоялся и их расцвет, в то
время как русской культуре они в целом оставались чужды. Разница
здесь между средневековым Западом и Древней Русью поразительна.
Наиболее ярко она выражена, пожалуй, в отношении философии.
136
Культура Древней Руси
* * *
В ХИ—ХШ вв. в Западной Европе, скажем, состоялся ренессанс
аристотелевской философии. Если в раннем Средневековье читателю
был доступен едва ли не единственный фрагмент одного из сочи-
нений Аристотеля, то высокое Средневековье вводит в оборот основ-
ной корпус сочинений философа. Аристотель становится олицетво-
рением философии, часто именуясь просто Философ. Что касается
Древней Руси, то для нее знакомство с Аристотелем сводилось
к текстам наподобие «Сказания об эллинском философе, о прему-
дром Аристотеле». Своей основой этот текст имеет знаменитое со-
чинение Диогена Лаэртского «О жизни, учениях и изречениях зна-
менитых философов», созданное, по-видимому, в конце II—начале
III в. после Р. X. В этом сочинении бессмысленно искать система-
тическое изложение доктрин крупнейших античных философов.
Диогена Лаэртского больше интересуют всякого рода житейские
ситуации, в которых тот или иной мыслитель проявил свой ум
и находчивость. Поэтому, скажем, в своей книге он посвятил кинику
Диогену Синопскому почти в два раза больший текст, чем Аристоте-
лю. Вся жизнь Диогена была сплошной парадокс и вызов греческому
миру, поэтому о нем очень много чего можно было рассказать
читателю чрезвычайно занимательного. Аристотелю здесь за Диоге-
ном было не угнаться. И все же десять страниц текста в современном
исчислении для книги, в которой представлены многие десятки имен,
не так мало. Во всяком случае, по сравнению с переведенным на
русский язык «Сказанием об эллинском философе, о премудром
Аристотеле» это очень много.
Этот текст приблизительно в восемь раз короче древнегреческого.
Последний посвящен по большей части делам и ситуациям житей-
ским. И все же в нем скрупулезно перечислены все сочинения,
созданные Аристотелем или приписываемые ему позднёантичной
традицией. Пускай не точно и до предела упрощенно, но в сочинении
Диогена Лаэртского приведены некоторые положения аристотелев-
ского учения. Ни о названиях сочинений Аристотеля, ни тем более
что-либо о его учении из древнерусского текста узнать невозможно.
Вслед за Диогеном Лаэртским древнерусский текст сообщает нам, что
Аристотель «роста... был среднего, голова у него была небольшой,
голос высокий, глаза маленькие, ноги худые»1. Повествуется в древ-
нерусском тексте и об аристотелевских обыкновениях, изречениях
и реакциях на других, явно лишенных разума людей. К примеру, из
текста «Сказания...» русский читатель мог узнать, что «корни свобод-
ных мудростей хотя и горьки, но плоды их весьма сладки». Поучение
такого рода, может быть, и было для читателя полезно, однако это
как раз такого рода «мудрость о мудрости», которая содержится
и в русском фольклоре.
1 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 9. С. 425.
Древнерусская культура как слово
137
Конечно в сочинении Диогена Лаэртского очень немного сказано
об Аристотеле по существу. Но вот что дошло до древнерусского
читателя об учении Аристотеля: «Он говорил и писал в своих книгах
так: „Бесконечно существо Божие, бытие которого не имеет начала,
а силой слова его все крепкое происходит" и прочая. И другие
многие умные вещи он написал и о недугах внутренних разъяснил».
Мало сказать, что приведенные слова ничего решительно своеобраз-
но аристотелевского в себе не содержат, их еще и нет в книге Диогена
Лаэртского. Перед нами общее место христианского вероучения,
изложив которое, перелагатель диогеновского текста поспешно обра-
щается к реалиям более для него близким, начиная с «недугов
внутренних».
На рассмотренном и подобном ему текстах формировалось у древ-
нерусского книжника представление о философии. Другие источни-
ки до него не доходили, или они были никак не воспринимаемы.
В результате в Древней Руси только и могло формироваться пред-
ставление о философии как о житейском здравом смысле и остроте
ума. Когда-то, за полторы тысячи лет до появления письменности
в русских землях, в Древней Греции возникла фигура мудреца.
Мудрость им понималась приблизительно так же, как и в Древней
Руси. Однако относительно быстро параллельно с мудрецом форми-
руется и фигура философа. Он уже не мудрец, а любомудр. Причем
любовь к мудрости философа—это вовсе не то же самое, чего достиг
мудрец, они имеют очень мало или вообще ничего общего. На фоне
любомудрия философов мудрость мудрецов выглядит чуть ли не
детскими упражнениями в сфере мысли. Но дальше такого рода
упражнений древнерусская письменность в своих интеллектуальных
потугах не пошла.
***
Сходным образом обстояло дело и с богословием. Как последова-
тельное мышление о Божественной реальности, оно оставалось не-
доступным людям Древней Руси. Они могли быть очень благочести-
выми, совершать подвиги святости, отличаться в церковном
красноречии, быть вдохновенными наставниками и так далее, но
только не богословами, занимающимися богословием в качестве нау-
ки. В дошедших до нас письменных текстах можно обнаружить
ситуацию, когда их авторы вплотную подходят к рассмотрению
богословской проблематики, но за порог, где начинается ее промыс-
ливание, им ступить не дано. В качестве примера сказанному послу-
жит состоявшаяся в начале XVI в. переписка между Максимом
Греком и Федором Ивановичем Карповым. Один из них получил
образование в Италии и прибыл на постоянное место жительства
в Московию, когда ему было не менее 35 лет. У него была репутация
очень ученого и глубокомысленного человека. В отличие от Максима
Грека Федор Иванович Карпов никакого образования за границей не
138
Культура Древней Руси
Страница из рукописного собрания
сочинений Максима Грека с его изобра-
жением. Конец XVI в.
получал, но у себя в Московии со
всем возможным рвением обучал-
ся всему, чему здесь можно было
научиться. Объединял обоих уче-
ных современников интерес к бо-
гословским вопросам, что, между
прочим, нашло свое отражение
в их переписке. В настоящем слу
чае нас будут интересовать два
послания Максима Грека Федору
Ивановичу Карпову и одно посла-
ние Карпова Максиму.
Первое из них непривычно для
древнерусской словесности в том
отношении, что посвящено бого
словскому осмыслению такой
сложнейшей темы, каковой явля-
ется вопрос о бытийственном ста-
туте в христианском вероучении
Бога Отца. Суть послания Макси-
ма Грека Федору Карпову состо-
ит в отповеди тому, кого Максим
заподозрил в неприятии догмата
о безначальности Бога Отца. «Ус
лышал я от некоторых людей...—
пишет автор послания, — что и твоя
светлость смутилась из-за неосведомленности Николая и Власия,
и ты удивляешься тому, что я писал Николаю о безначальном и бес-
причинном Боге Отце, что он безначален и беспричинен, то есть ни
от кого-нибудь другого, ни от себя самого не имеет бытия и что ты
укоряешь меня за это, как будто я неподобающе мудрствую и не
согласно с церковным преданием»1. Будь сомнения Федора Карпова
в безначальности Бога Отца реальностью, а не пустым слухом,
дошедшим до ушей Максима Грека, как то впоследствии оказалось,
двум ученым-книжникам Московской Руси было бы о чем поспорить
и где пустить в ход свои аргументы. Все-таки один из них якобы
усомнился в догматической формулировке, которая для другого
непреложная истина. Максим Грек пускает в ход два аргумента.
Первый из них — аргумент от Священного Предания и заключается
в ссылке на положение святого Григория Богослова, не оставляющей
и тени сомнения в безначальности Бога Отца. Священное Предание
для православного человека обладает незыблемым авторитетом, по-
этому и ссылка на него могла бы быть вполне достаточной. Однако
в своем обосновании отстаиваемого тезиса Максим Грек вводит еще
1 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 9. С. 339.
Древнерусская культура как слово
139
один, не строго обязательный, но вполне допустимый аргумент. Вот
как он оформился под пером Максима Грека: «Если же ты, упорст-
вуя, скажешь, как же Он был Отцом, если и от Себя не имел бытия,
я скажу тебе, что, как несказанны рождение Сына и происхождение
Святого Духа—так и Отца безначальность и беспричинность. Подо-
бает вам, если вы православные, знать вместе со всеми святыми
отцами, что Бог Отец безначален, потому что ни от себя, ни от кого
другого не происходит. А это, как ни пытайся, не сможешь никогда
понять, даже если будешь серафимом»1.
Аппеллируя к непостижимости Божественной природы, Максим
Грек высказывался в строгом и точном соответствии с духом и буквой
православного вероучения. Утверждать ее постижимость человече-
ским разумом означало бы впадение в грубейшую ересь. Однако весь
вопрос в настоящем случае состоит в том, что понимать под непостижи-
мостью Божественной природы. Признание ее полной недоступности
человеческому разуму противоречило бы тому, что Бог открывает
Себя человеку. Божественное Откровение не может быть всецело
непостижимым человеком по самой своей сути. И человеческому
разуму христианина, заранее смиряясь с ограниченностью своих
способностей, вовсе не противопоказано осмысление Божественной
природы в отведенных ему Богом пределах. Эти пределы еще нужно
обнаружить собственными усилиями. И, надо сказать, Максим Грек
обнаруживает их очень быстро, когда фиксирует неразрешимое проти-
воречие между утверждаемой Священным Преданием безначально-
стью Отца и Его отцовством. Камень преткновения для Максима
Грека здесь в том, что Богоотцовская безначальность с точки зрения
человеческого разума предполагает наличие начала, внеположенного
Отцу. А это, в свою очередь, несовместимо с Богоотцовством. Ведь
Бог потому и Отец, что ни от кого и ни от чего не производен.
В итоге Максиму Греку остается поспешно апеллировать к непостижи-
мости Божественной природы. С позиции как западного, так и во-
сточного богословия апелляция его слишком уж поспешна. Она не
дает возможности развернуться богословию в качестве мысли, последо-
вательного и строгого размышления. Конечно, богословие—это не
только мысль, но прежде всего опыт жизни в Церкви и вера, однако
на их незыблемых основаниях логика и мысль способны осуществ-
лять себя в более или менее обширных и разнообразных построениях.
Рассматривая непосредственно касающийся нас вопрос о безна-
чальности Бога Отца, уместным будет обратиться к тексту конца
XI в., принадлежащему зачинателю западного схоластического бого-
словия Ансельму Кентерберийскому. В своем трактате «Моноло-
гион» он, в частности, разбирает вопрос о безначальности Отца.
И в прямую противоположность Максиму Греку Ансельм Кентербе-
рийский находит аргументы, убедительно утверждающие Богоотцов-
1 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 9. С. 339—341.
140
Культура Древней Руси
скую безначальность. Правда, сосредоточен он, в отличие от Макси-
ма Грека, вовсе не на том, как помыслить безначальность Отца, а на
невозможности помыслить Его иначе, чем безначальным. Один из
Ансельмовых аргументов состоит в следующем: «А ведь все, что
начинает быть из чего-то или через что-то, не вполне тождественно
тому, из чего или через что оно начинает быть,— пишет Ансельм,—
Итак, высшая природа не начинается ни через себя, ни из себя.
Значит, поскольку она не имеет начала ни через себя, ни из себя...
она никоим образом не имеет начала»1.
Недопустимость для Ансельма Кентерберийского того, что Бог
может быть не вполне тождествен самому Себе, вытекает из предвари-
тельно обоснованного им тезиса о простоте Божественной природы.
Так что в его рассуждении все последовательно. Для нас же в настоя-
щем случае важнее другое: то, что, доказывая безначальность Бога,
Ансельм Кентерберийский не удовлетворяется ссылкой на Священ-
ное Предание. Оно, безусловно, остается для него предметом веры,
но в то же время вовсе не закрывает горизонта для собственных
размышлений. Последние для него освящаются тем, что «я ничего не
нашел такого в моих словах, что бы не совпадало с писаниями
католических отцов, и в особенности блаженного Августина»1 2.
Как видно, разница между Максимом Греком и Ансельмом Кен-
терберийским огромна. Первый из них вполне удовлетворяется обра-
щением к святоотеческому авторитету, второй подкрепляет и допол-
няет его собственными размышлениями и аргументами. Первый
сосредоточен на непостижимом в Божественной природе, второй
пытается в первую очередь уразуметь постижимое, тем создавая
богословский трактат, заведомо излишний для первого. При этом,
наверное, можно заподозрить Ансельма в том, что он сосредоточен
в своем богословии на слишком легких задачах, тогда как Максим —
на труднейших и от того неразрешимых. Вряд ли подобное подозре-
ние уместно. Различие между ними все-таки в наличии у одного из
них воли к богословской мысли и отсутствие ее у другого. Сказанно-
му можно привести подтверждение. Первое из них заключается
в том, что Ансельм Кентерберийский прекрасно сознавал, что в раз-
мышлении о Божественной природе столкнешься с непостижимым
и неизреченным, и тем не менее руки перед неизреченным у него не
опускаются. О чем свидетельствует такой фрагмент из того же
«Монологиона»: «Итак, эта природа и так неизреченна, что ни
в малой степени нельзя выразить ее, как она есть, через слова,
и (вместе с тем) неложно будет (утверждение), если мы сумеем под
руководством разума косвенно, через иное и как бы гадательно, что-
то утверждать о ней»3.
1 Ансельм Кентерберийский. Сочинения. М., 1995. С. 62.
2 Там же. С. 34.
3Там же. С. 111.
Древнерусская культура как слово
141
На фоне Ансельмова стремления хотя бы «косвенно», «через
иное», «как бы гадательно» рационально постигнуть Божественную
природу Максим Грек обнаруживает едва ли не паралич воли к ра-
циональному постижению. Ну разве это аргумент для богослова,
прошедшего настоящую выучку, утверждать неизреченность Бога
Отца та том основании, что Его безначальность несовместима с От-
цовством. Максиму нечего возразить против того, что отсутствие
собственного начала в Самом Отце вынуждает признать это начало
пребывающим вне Отца и тем отрицающим Отцовство. Однако
почему бы не помыслить первое лицо Троицы не только безначаль-
ным, но еще и бесконечным, как, скажем, мыслил Бога Фома
Аквинский? Если принять этот ход мысли, а для долго жившего на
Западе Максима Грека он давно стал проверенным, то бесконечность
будет подкреплять и обосновывать безначальность, так же как и на-
оборот. Тогда не будет решительно никакой нужды к безначальности
примысливать какое-либо другое, внешнее ему начало. По сути,
Максим Грек поспешно капитулировал даже не перед серьезным
аргументом, а перед незамысловатой игрой в слова. А к чему еще,
как не к словесной игре, можно отнести сближение и отождествление
безначальности не просто с отсутствием начала в самом безначаль-
ном, а с присутствием его в некотором ином безначальному? В стро-
гом смысле слова безначальное можно помыслить прежде всего как
не имеющее начала ни в себе, ни где бы то ни было еще. Вместо того,
чтобы сближать безначальность с рождением Сына и исхождением
Святого Духа, богослову совсем не лишним было бы ввести в оборот
подобные приведенному аргументы.
Они не последовали не только у Максима Грека, но и у ответившего
на его послание Федора Карпова. Положение последнего было очень
скользким, поскольку Максим Грек упрекал его в склонности к ере-
си. Но защититься от упрека Федор Карпов мог двояко. Во-первых,
в православном духе истолковав слова о безначальности Отца и, во-
вторых, отрекшись от неортодоксального утверждения. Федор Карпов
выбирает исключительно второй путь. Всё его, правда, краткое
послание посвящено исключительно изложению обстоятельств возник-
новения слуха о том, что Карпов усомнился в безначальности и бес-
причинности Отца. В оправданиях Федора Карпова самым красноречи-
вым является следующий эпизод: «Несколько дней назад, когда
я стоял в церкви Святого Николы на обычном месте, внезапно
подошел священник той церкви... и сказал мне: „Знаешь ли, какое
послание послал Максим Николаю?" Я же сказал: „Нет". И дал он
мне бумажку, а в ней написано: „Веруй просто, и не допытываясь,
в единого Бога, в трех ипостасях или лицах известного, то есть Отца
нерожденного и безначального, ни от себя, ни от кого другого бытия
не имеющего". Я же спросил его: „Что это такое и что тебя смуща-
ет?" Он же ответил: „Как это он пишет: „Ни от себя, ни от кого
другого бытия не имеющего?" Я же сказал ему: „Перестань, Сте-
142
Культура Древней Руси
фан,— ведь таково имя его,—тебе не одолеть словом его. Я знаю
Максима: он не пишет без оснований, от Священного Писания заим-
ствуя, раздает нам“. И такими словами я усмирил его высокомерие»1.
В письме Федора Карпова перед нами предстает очень живо изло-
женная богословская ситуация. Она потому и возникает, что священ-
нику Стефану стало недостаточно «веровать просто и не допытыва-
ясь». Стать богословом он мог бы при условии соблюдения двуединого
требования: не отречься от веры и в то же самое время позволить себе
«допытываться» объяснения того, каким образом Отец мыслим в ка-
честве безначального. Это его поползновение и пресекает в корне
ученый-книжник Федор Карпов. Он прямо и недвусмысленно стоит
на том, что никакое богословие в качестве человеческого размышле-
ния о вещах Божественных недопустимо. В отношении осмысления
Бога для Карпова существует исключительно авторитет. Правда, на
этот раз не столько святоотеческий, сколько непосредственно опи-
рающегося на него Максима Грека. Поскольку же никаких более
продвинутых богословских текстов, чем переписка двух ученых-
книжников начала XVв., древнерусская словесность не создавала,
нам остается заключить, что русский ум только подходил вплотную
к богословию, задавал богословские вопросы, но порог оставался
непереходимым, вопросы не разрешались в богословские ответы.
***
Чуждость русской культуре философского и богословского слова
естественным образом и неизбежно связана с отсутствием в ней еще
и науки и научных текстов любого рода. Русский интеллектуализм
в той мере, в какой о нем вообще имеет смысл говорить, всецело
сводился к житейской мудрости. Ко всякого рода поучениям о том,
как человеку надлежит выстраивать свою жизнь, чем в ней руковод-
ствоваться, к чему стремиться, чего остерегаться и т. д. Когда-то
в Древней Греции максимы житейской мудрости приписывались зна-
менитым мудрецам. У древних греков был вкус к тому, чтобы
прикреплять запомнившиеся им мысли к тем лицам, чью мудрость
они почитали. С другой же стороны, издавали свои сочинения и их
переписывали от века к веку вполне реальные авторы-моралисты,
в которых содержались их мудрствования на жизненно важные темы.
Мудрость мудрецов—это вовсе не мудрость любомудров-филосо-
фов. Она может быть более или менее неожиданной, острой, забав-
ной, скептичной, горестной. Но даже тогда, когда мудрость мудрецов
избегала вовсе не противопоказанной ей банальности общих мест,
она оставалась общепонятной, не требуя длительного и напряженно-
го труда для своего постижения, сопряженного с особой профессио-
нальной выучкой. И напряженный труд и профессиональная выуч-
ка—это уже требования к постижению философского текста.
1 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 9. С. 341.
Древнерусская культура как слово
143
В традиции древнерусской словесности с ее отсутствием всякого
подобия философии любомудрие и мудрость исходно имели черты,
существенно отличавшие ее от античной мудрости.
И та, и другая касались вещей житейских и были морализацией.
Но в отличие от Древней Греции в Древней Руси не возникло фигуры
мудреца (моралиста). Показательно, что греки очень рано создали
представление о существовании семи мудрецов. К ним единодушно
относили Фалеса, Солона, Хилона, Бианта, Питтака, Клеобула и Пе-
риандра. И это при том, что мудрствования каждого из них не были
фиксированы в виде устойчивых текстов. Тому или другому мудрецу
приписывались определенные суждения. Причем у различных мудре-
цов высказывания могли совпадать, к тому же один автор приписы-
вал им одни мысли, другой—другие. Здесь первостепенно важным
был авторитет мудреца и свидетельства о его мудрости.
Обратившись к древнерусской словесности, также можно обнару-
жить в ней фигуры мудрецов. Скажем, в Древней Руси не позднее
XIV в. появляется сборник кратких изречений под заголовком «Муд-
рость Менандра Мудрого». Совершенно не случайно, однако, что
в качестве мудрецов у нас выступают фигуры легендарные, относя-
щиеся к глубокой древности, как тот же Менандр или Эзоп. Еще же
более органично для древнерусской словесности было относить к муд-
рецам персонажей Священного Писания, где содержатся их изрече-
ния. Отсюда популярность «мудрецов» Соломона (из канонических
книг Библии) и Иисуса, сына Сирахова (из неканонических книг
Библии). Подлинная мудрость, по представлениям людей Древней
Руси, содержится только в богооткровенных книгах. Она, если
и принадлежит человеку, то дается ему свыше, и уж конечно, кто
в этом случае мог бы быть мудрее Соломона, который просил у Бога
именно мудрости и получил ее от Него? Менандр Мудрый был
язычником, и мудрость его, тем самым, уступала Соломоновой. Но
и она освящалась вещью немаловажной—незапамятной древностью
времен, когда жил Менандр.
Чего не встретить в древнерусской словесности, так это фигуры
мудреца из числа русских людей, тех, кто прославился своей жизнью
и деяниями. Прославленные были. Кто-то из них, как князь Влади-
мир, Александр Невский, Феодосий Печерский, Сергий Радонеж-
ский были канонизированы Православной Церковью. Кто-то, как
Владимир Мономах, просто оставил по себе долгую и добрую па-
мять. Никто, однако, из них не приобрел себе славы мудреца, чьи
изречения передавали от поколения к поколению. Тот же Владимир
Мономах между тем прославился не только своими воинскими подви-
гами, но и государственной мудростью, он был равно и «муж войны»,
и «муж совета». Явление по тем временам достаточно редкое. Более
того, князь Владимир оставил по себе свое знаменитое «Поучение»,
которое изобилует максимами житейской мудрости. Знаменито оно,
впрочем, в глазах читателя не ранее XX в. В Древней Руси его,
144
Культура Древней Руси
очевидно, знали и читали мало, о чем свидетельствует присутствие
«Поучения» в одном только летописном своде—Лаврентьевской лето-
писи. Не менее важно и другое обстоятельство: свое «Поучение»
Владимир Мономах адресовал непосредственно своим детям и вну-
кам. Оно явно не претендует на статут широковещательной мудро-
сти, обращенной ко всем и каждому. На такого рода мудрствование
не дерзнул ни один из древнерусских авторов. Во всяком случае,
никто из них не получил признания в подобного рода дерзновениях,
если допустить, что они и были.
Мудрость для русского человека Киевской и Московской Руси —
это то, что постигается, к чему приобщаются в результате учения. Из
самого русского человека она не исходит и его не выражает. Он
остается вечным учеником и последователем мудрости мудрецов, так
и не становясь одним из них. Разумеется, здесь нельзя не упомянуть
о том, что в святости, когда она достигалась русским человеком, он
был выше не только житейской, но и несравненно более изощренной
и глубокой философской мудрости. Однако святость—это уже сверх-
человеческая реальность человеческой жизни. Оставаясь же в преде-
лах человеческого, русский человек не дерзал мудрствовать, черпая
доступную ему мудрость из других, помимо себя, источников.
***
Чуждость древнерусской словесности богословию, философии,
науке, ее подчиненно-ученическое отношение к житейской мудрости
по европейским меркам оставляла ей одну конструктивную возмож-
ность—быть художественной литературой. В самом деле, там, где
слово не есть слово-мысль, быть художественным образом—разве это
не единственный для него путь самоосуществления? Даже согла-
шаясь с подобным утверждением, а оно верно лишь до определенных
пределов, нельзя не отметить того обстоятельства, что художественные,
эстетические достоинства текста и принадлежность его к худо-
жественной литературе—реальности, далеко не тождественные. Во
всяком случае, в отношении древнерусской словесности вполне
оправдано утверждение о том, что обладая несомненными худо-
жественными достоинствами, она была чем угодно, только не худо-
жественной литературой. То, что мы привычно обозначаем этим
словосочетанием, предполагает, как минимум, наличие, а главным
образом, ориентацию на так называемый «художественный вымы-
сел» создателя текста. Для него измышление перестает быть чисто-
породной и безосновательной фантазией, тем, что можно обозначить
коротко и ясно как ложь или неправду. Создатель художественного
текста в качестве художника полагает, что фактическая недостовер-
ность или прямо измышленность описываемого им вместе с тем
в каком-то смысле истинна. Есть истина факта, но есть и истина
более высшего порядка. Об этом в западной традиции впервые внят-
но и последовательно сказано в «Поэтике» Аристотеля: «Задача по-
Древнерусская культура как слово
145
эта,—утверждает он,—говорить не о том, что было, а о том, что
могло бы быть, будучи возможно в силу вероятности или необходи-
мости. Ибо историк и поэт различаются не тем, что один пишет
стихами, а другой—прозою... нет, различаются они тем, что один
говорит о том, что было, а другой —о том, что могло бы быть.
Поэтому поэзия философичнее и серьезнее истории, ибо поэзия
больше говорит об общем, история—о единичном. Общее есть то, что
по необходимости или вероятности такому-то [характеру] подобает
говорить или делать то-то; это и стремится [показать] поэзия, давая
[героям вымышленные] имена. А единичное—это то, например, что
сделал или претерпел Алкивиад»1.
Приведенный фрагмент аристотелевской поэтики знаменателен во
многих отношениях. Для нас же он важен прежде всего тем, что
в нем санкционируется поэтическое, точнее, художественное слово.
Как и более всего почитаемая Аристотелем философия, оно предпоч-
тительнее простой констатации происходящих событий, данных в ис-
тории тем, что отвлекается от единичного в пользу общего. Общее же
выражает собой наиболее существенное в происходящем. В этом
превосходство поэзии над историей, слова художественного над
фактологичным и описательно констатирующим. Поскольку это так,
поэту-художнику не нужно заботиться о буквальном соответствии
написанного им некогда происходившему. Никто не перепутает его
с историком и не предъявит к поэтическому тексту требований,
уместных в отношении исторического текста. Не перепутает и не
предъявит потому, что художественная литература состоялась в дан-
ной культуре как ее зрелое выражение, она осознана в ее законных
возможностях и пределах.
Обратившись к древнерусской словесности, легко обнаружить
ситуацию, в корне отличную от той, которую Аристотель осмыслял
применительно к древнегреческому слову. У нас словесность как раз
и не допускала по возможности никакого вымысла. В самом широком
смысле она была «историей», то есть рассказом и словом об истинно
происходившем. Конечно, были исключения, к примеру, басни или
притчи, широко представленные в древнерусских текстах на протя-
жении столетий. Однако выстраиваются произведения этих жанров
заведомо таким образом, что в них сюжетно-повествовательная часть
откровенно условна. Понимать ее нужно не буквально, а в качестве
наглядной демонстрации некоторой умозрительной истины. Далее
басенной и притчевой условности древнерусская словесность, за
самыми редкими исключениями, не шла. А это значит, что художест-
венное, и, в частности, поэтическое слово в его своеобразии в Древ-
ней Руси осознано не было. Художественность и поэтичность остава-
лись тем результатом, к которому специально не стремились и который,
как таковой, не ценился и не вызывал восхищения.
1 Аристотель. Сочинения в 4 т. Т. 4. М., 1983. С. 655.
146
Культура Древней Руси
По этому пункту древнерусская словесность расходилась не толь-
ко с античной, но и с западной средневековой, не говоря уже
о новоевропейской и даже византийской словесности. Во всех пере-
численных случаях словесное творчество сохраняло непосредствен-
ную и живую связь с Античностью. Какая бы грандиозная дистанция
ни возникала на средневековом Западе и в Византии по отношению
к языческим Риму и Греции, их поэты никогда до конца забыты не
были. И воспринимались они именно в качестве сочинителей поэти-
ческих текстов, которые тем самым невольно узаконивались, в том
числе и во времена, менее всего склонные и способные к художест-
венному творчеству как таковому, не растворенному в богослужеб-
ных, аскетических и нравоучительных или исторических текстах.
Конечно, Запад в Средние века знал ситуацию, когда многие
мифологические, фольклорно-эпические, драматические и собствен-
но поэтические тексты воспринимались в качестве исторических.
Скажем, перипетии сюжета вергилиевской «Энеиды» казались
реальностью того же порядка, что и деяния Юлия Цезаря или
Октавиана Августа. Но так далеко, как в Древней Руси, дело не
заходило ни на «западном Западе», ни в Византии. Греческая и рим-
ская поэзия и драматургия в Древней Руси оставались практически
неизвестными. Те же сочинения, в которых было хотя бы какое-то
подобие реально происходивших событий, в таком качестве и воспри-
нимались. Их собственно художественное качество и жанровая при-
надлежность как художественных произведений игнорировались. Это
не значит, что древнерусская словесность вообще не ведала о жан-
рах, их особенностях и необходимости следовать требованиям жанра
при написании определенного текста. Подобные реалии русским
книжникам XI—XVII вв. были хорошо знакомы. Но для них, за
исключением басен и притч, существовали одни только исторические
жанры. Вне широко понимаемой истории словесные жанры не суще-
ствовали.
Сказанное хорошо демонстрируется известным обстоятельством,
тем, что практически все произведения древнерусской словесности
подлежали включению и включались в более или менее объемные
и монументальные летописные своды, хронографы и Великие Минеи
Четьи. Представить себе, что летопись или хронограф содержит
в себе заведомо вымышленные сюжеты и события решительно невоз-
можно. Но точно так же нужно отдавать себе отчет в том, что
древнерусский автор, создавая свое произведение, не мог не созна-
вать, что настоящее его место и способ существования—это не от-
дельно изданная под собственным названием книга, в которой указа-
но, кто ее написал, а всего лишь звено в длинной цепи исторического
повествования. Сознательный вымысел и фантазия автора тем самым
были заведомо исключены. В крайнем случае вероятной и неизбеж-
ной оставалась тенденциозность в освещении событий, которая могла
доходить до крайней степени. Вымысел же обязательно принимал
Древнерусская культура как слово
147
характер злостного вымысла и потому был преступлением и грехом,
то есть отклонением от принятой всеми нормы.
Предстоящая включенность потенциально любого произведения
древнерусской словесности в монументальное историческое повество-
вание делала его авторство совсем особой реальностью. Понятно, что
ни о каком самовыражении древнерусского повествователя не могло
идти и речи. Напротив, своими трудами он выражал истину, сущест-
вующую вне и помимо его. Какой-нибудь летописный свод, хроно-
граф или Великие Минеи Четьи принадлежали даже и не широкому
кругу соавторов. Они были или, точнее, стремились стать некоторым
всеобъемлющим «Словом» о «Мире Божием» и о Боге в той мере,
в какой Он постижимым для человеческого ума образом проявляет
Себя в Своем творении. Конечно, это «Слово» было преимуществен-
но словом, посвященным русской земле, ее князьям, царям, святым
и подвижникам, но не только им. Они в исторических сводах пред-
ставали крупным планом, несопоставимо детальнее всего остального,
но и это все остальное обязательно должно было присутствовать,
создавая образ универсального целого.
Стремление древнерусской словесности стать единым универсаль-
ным «Словом» о едином «Мире Божием» становится понятным, если
мы вспомним, что этот «Мир Божий» изначально существует под
знаком Божественного слова-логоса, он сотворен им, и далее води-
тельствуем Божественным откровением, выраженным в Священном
Писании. Священное Писание—это книга как таковая, Книга Жиз-
ни, в которой содержатся все жизнеустроительные смыслы. «Мир
Божий» удерживается этой книгой от всяческой пагубы и небытия.
Ей, занимающей смысловой «верх», соответствует «внизу» еще одна
«книга жизни», на этот раз человеческая. Ее создают своими усилия-
ми, в частности, древнерусские книжники. Каждый из них вписывает
в нее те или иные слова, строки или главы. Это человеческое эхо того
божественного глагола, который вызвал мир из небытия и направля-
ет его к вечной жизни Книгой Священного Писания.
Но при всей разнице между двумя книгами—той, над которой
трудятся книжники, и Священным Писанием,—первая тесно связана
со второй и даже прямо из нее вытекает в качестве продолжения.
Проявляется сказанное в хорошо известном обстоятельстве, в том
именно, что монументальные сводные исторические сочинения и у нас,
и на «западном Западе», и в Византии имели обыкновение начинать
с сотворения мира или Всемирного потопа. Тем самым не только
осуществляется исторический универсализм. История непременно
трактовалась как всемирная, если даже определенный текст был
посвящен освещению локальных событий. Платой за универсализм
была нечувствительность к различиям между изложенной в Священ-
ном Писании Священной историей и излагаемой книжниками просто
историей. Под пером составителей монументальных исторических
сочинений одна непосредственно переходила в другую.
148
Культура Древней Руси
Библия 1499 г.
В результате помимо осознанных намерений историков происхо-
дила сакрализация не только обычной, не Священной истории, но
и самого исторического текста. С одной стороны, любой древнерус-
ский ученый-книжник прекрасно сознавал всю грандиозность разли-
чия между богодухновенным и откровенным Священным Писанием
и мирскими, человеческими текстами, входящими в монументальный
исторический свод. Так, подчеркивание своей человеческой малости
и греховности было общим местом, почти непременно обязательным
для пишущей братии и у нас, и на средневековом «западном Западе».
Но, с другой стороны, имевшее место самоумаление как бы и не
касалось вовсе создаваемого текста. Простецы и неумехи оказыва-
лись причастными к созданию текста, который воспринимался рус-
скими людьми с величайшим почтением, едва ли не с благоговением,
как будто создавали этот текст не люди, а он создавал себя сам при
посредстве того или иного книжника. Но что значит «сам»? Конечно,
на основе того, что человеческое слово монументальных сводов не
было только человеческим. Оно улавливало тот смысл, который
действовал в качестве Божественного Провидения. Провидение осу-
ществляет себя в мире, тем составляя некоторый грандиозный текст
всемирной истории. Он запечатлен в первую очередь как историче-
ские деяния и события, но также отражен в исторических сочинени-
ях, слагающихся в некоторое, постоянно возобновляющееся усилия-
ми книжников единство.
Между текстом исторического сочинения и происходящим в мире
нет особой дистанции, как нет ее между Промыслом о мире и исто
Древнерусская культура как слово
149
рией мира. Скажем, «Житие Феодосия Печерского» или «Поучение»
Владимира Мономаха—это только на наш современный взгляд сочи-
нения древнерусской литературы, представляющие ее различные
жанры. Изнутри, имманентно они в первую очередь фрагменты
русской, а в конечном итоге и всемирной истории. Если, скажем,
в XI в. в Киево-Печерском монастыре жил Феодосий Печерский,
который впоследствии был канонизирован, то в соответствии с тради-
цией ему должно было быть посвящено особое житие. Самое же
существенное для нас здесь состоит в том, что «Житие св. Феодосия»
не просто посвящено ему, призвано прославить его в глазах право-
славного народа и служить ему поучением. Оно еще и представляет
собой фрагмент русской и мировой истории, потому что деяния
святого, вся его жизнь—это то, из чего эта история состоит в качестве
своего существенного момента. Только, естественно, что жизнь как
история, став написанным житием, обязательно должна быть включе-
на в исторический свод.
Еще более явно совпадение жизни, деяний и событий с историей
и историческим текстом выражено в «Поучении» Владимира Моно-
маха. Это исследователи древнерусской литературы вычленяют в нем
три составные части: собственно поучение, описание своей жизни
Владимиром Мономахом и письмо к князю Олегу Святославовичу.
Для древнерусского же читателя текст, оставленный киевским кня-
зем, был самой его жизнью, ставшей текстом. Вот, Владимир Моно-
мах поучает своих детей и внуков христианским добродетелям, вот
рассказывает им о своей жизни, а вот—обращается с письмом к свое-
му злейшему врагу. Текст как написанное, отражающее и выражаю-
щее нечто некогда происходившее, каждый раз отступает на задний
план. На передний же план выходит то, что реально совершалось
в жизни Владимира Мономаха. Важен и интересен не текст, а сама
княжеская жизнь, которая и есть русская и мировая история. Точнее
же будет сказать, что жизнь Владимира Мономаха и текст о ней
предельно сближены и тяготеют к совпадению. В тексте акцентирует-
ся жизнь, а не ее изображение, но и сама жизнь есть текст.
Характеризуя древнерусскую литературу в ее своеобразии,
Д. С. Лихачев, в частности, писал: «Литература—священнодейст-
вие. Читатель был в каком-то отношении молящимся. Он предстоял
произведению, как и иконе, испытывал чувство благоговения»1. Эту
лихачевскую характеристику можно расширить, указав на то, что
некоторым подобием священнодействия было и создание текстов.
И читатель, и те, кто тексты создавал, пускай и не в равной степени,
но соотнесены были со словесностью как с некоторым громадным
целым, в которое читатель в какой-то мере входил, а пишущий в меру
своих неизменно малых сил и возможностей пополнял. Менее всего
он сознавал себя творцом текста, пишущий его прежде всего свиде-
1 Лихачев Д. С. Великий путь. М., 1987. С. 20.
150
Культура Древней Руси
тельствовал о происшедшем или происходящем, был фиксатором
самоосуществляющегося текста книги жизни. Но тогда становится
вполне обоснованным уподобление древнерусской словесности той
реальности, которая была основой и первобытием первобытной куль-
туры и сохраняла длительное время свою решающую значимость уже
за пределами последней.
В настоящем случае можно говорить о ритуале. По существу, он
является священнодействием, о котором речь идет у Д. С. Лихачева.
Однако введение именно этого термина уместно в том отношении, что
за ним стоит реальность более фундаментальная и объемлющая, чем
за «священнодействием». В частности, ритуал и ритуальное мироот-
ношение жестко нормативны и предзаданы. Но их предзаданность
и нормативность—это далеко не только некоторые ограничители-
запреты или заповеди-указания к действию. Существеннее в ритуале
то, что он представляет собой реальность такого рода соединения
божественного и человеческого, как сакрального и профанного, в ко-
тором человечески-профанное не обладает никакой внутренней само-
стоятельностью и самобытием. Ритуальность в чистоте ее первоприн-
ципа предполагает, что человек не более, чем ничтожная оболочка,
внешняя явленность и видимость божественного. В ритуале человек
достигает полноты своего существования в пределе блаженства, но за
счет устранения и преображения в нем собственно человеческого,
и уж во всяком случае всего индивидуального и от себя исходящего.
Разумеется, во всей своей буквальности и точности древнерусская
литература ритуала не воспроизводила и ритуалу не соответствовала.
Однако и близость между ними не внешняя и не случайная. И отно-
ситься к ней необходимо как к чему-то несравненно более глубокому
и существенному, чем метафорическое уподобление, позволяющее
сделать взгляд на древнерусскую словесность точнее и пристальней.
От подлинного архаического ритуала в древнерусской словесности
присутствует все-таки самое главное: и тот и другая воспринимались
как некоторая всеобъемлющая реальность, производная вовсе не от
человека. Ритуал последним не исполнялся, скорее он осуществлял
себя человеком и в человеке. Еще же точнее будет сказать, что
в конечном счете за ритуалом стоит сакральная реальность, то, как
она существует для реальности профанного.
Древнерусская литература непосредственно производна вовсе не
от Бога. Тогда она была бы неотличима для людей Древней Руси от
Священного Писания и Священного Предания. При том, что у нас,
как нигде более на Западе, имела место тенденция к сакрализации
всякого книжного слова, до отождествления его со Священным
Писанием и Священным Преданием дело не доходило. Имело место
не отождествление, а сближенность, в результате которой книжное
слово оказывалось некоторым подлинным смыслом всего происходя-
щего в мире. Оно его высветляло и обнаруживало видимым как бы не
вполне человеческими глазами. Любой пишущий книжник, чье про-
Древнерусская культура как слово
151
изведение не отвергалось определяющими течениями древнерусской
культуры как некоторая пагуба, уже самим фактом своей работы над
книгой становился лицом благословенным, возвышавшимся над слиш-
ком человеческой обыденностью. Ему дано было Богом увидеть
происходящее в мире. Бог благословлял его на дописывание Книги
Жизни, Книги, которую в ее основе пишет Сам Бог.
В связи со сказанным обратим лишний раз внимание на известную
приглушенность авторского начала в древнерусской литературе, на
то, что подавляющая часть ее произведений анонимна. Это обстоя-
тельство имеет смысл увидеть в сопряжении с тем, что и Священное
Писание и Священное Предание, несмотря на их богодухновенность
и откровенность, авторизованы. Большая часть книг Ветхого Завета
и все книги Нового Завета обозначены именами тех, кто их написал
или же отнесены к конкретным лицам. Священное же Предание по
определению представляет собой творения святых отцов, причем
всегда без исключения творения того или иного святого отца. На
таком фоне преимущественно анонимный характер древнерусской
словесности особенно поразителен. Вроде бы сакральность текстов
Священного Писания и Священного Предания должна сближать их
с ритуалом гораздо теснее, чем недовершено и в тенденции сакра-
лизованные произведения древнерусской словесности. Однако ав-
торское начало в Библии и творениях святых отцов означает при-
сутствие в них личности. Именно конкретные личности создавали
тексты, в которых обнаруживается действие Святого Духа. Уже
одно это обстоятельство отделяет их от ритуала, делается внеполо-
женным ему.
А вот с произведениями древнерусских авторов дело обстоит
иначе. Их широчайшим образом распространенную анонимность
никак не свести к самоумалению благочестивого христианина. Поми-
мо него здесь дает о себе знать ритуальная безличность и неиндиви-
дуализированность, включенность в такое целое, где уже никого
в его самобытии и индивидуальности нет. А есть ритмы и смыслы
целого, в которых можно обрести себя тогда, когда тебя уже нет.
Еще одно ритуальное свойство древнерусской словесности состоит
в смазанности, ослабленности, а в чем-то и отсутствии такого важно-
го в западной литературе от Античности до Нового времени сущност-
ного различия между создателями и читателями книг. В ритуале, как
известно, нет зрителей и исполнителей. В нем так или иначе действу-
ют все, хотя кто-то может и находиться в центре действия. Наиболее
существенно для ритуала то, что он обращен не от человека к челове-
ку, а к сверхчеловеческому третьему. Приблизительно так же, как
и в древнерусской словесности. В ней ведь пишущий книгу—это
свидетель того, что происходило напрямую или же свидетель чужих
свидетельств. В любом случае для создателя книги первично его
восприятие некоторой реальности. Он читает ее как фрагмент Книги
Жизни и только потом записывает прочитанное. Записывание при
152
Культура Древней Руси
этом всецело подчинено «прочи-
тыванию». Само по себе оно не
имеет никакой ценности и смыс
ла. Это в новоевропейской лите-
ратуре бесконечно важно само на
писание текста, то, как он написан.
Настолько важно, что сплошь
и рядом отодвигает далеко на зад-
ний план предмет описаний.
Но новоевропейская литерату-
ра насквозь личностна и индиви-
дуализирована. В ней как, а не
что написать означает акцент на
авторе, интерес к нему и восхище-
ние им. Как раз то, что всегда
оставалось вполне чуждым древ-
нерусской словесности с ее акцен-
том на «чтении», а не написании.
И писатель, и читатель в ней оба
читают потому, что пишут под-
линный, не вторично-отражатель-
ный текст те, кто действует в рус-
ской и далее в мировой истории.
Но и они деятели не сами по себе,
Лист с заставкой из «Изборника Свято
слава». 1073
а следующие Божией воле или препятствующие ее исполнению. Те,
кто ей следует, будут награждены, противники —повержены. Главное
же заключается в том, что действует в мире, а, следовательно,
«пишет» его историю Бог. Создатели же книг приобщаются к созда-
нию Им текста, по возможности растворяясь в нем, через вглядыва-
ние и вслушивание в то, что бесконечно их превосходит, не оставляя
им места для какого-либо подобия самовыражения. Здесь оно в каче-
стве осознанной позиции так же неуместно и дико, как и в ритуале.
Сближенность с ритуалом и прямо ритуальность древнерусской
словесности заметно отличает ее от других западных словесностей.
Некоторая близость между нашей и западно-европейской словесно-
стью имела место тогда, когда Запад переживал период историческо-
го безвременья VI—VIII вв. и раннее Средневековье. Однако в отли
чие от русской западная словесность никогда не знала той же меры
и полноты ритуализации. В ней всегда сохранялась ориентация на
авторство, интерес не только к предмету повествования, но и к его
литературной обработке, не говоря уже о том, что тяготение к едино-
му историческому своду —это вовсе не реальность западной словесно-
сти. Еще менее присуща ритуальность создававшемуся в слове учи-
тельницей Древней Руси —Византией. Для нее всегда оставалась
важной ориентация на авторское слово, строгое разграничение сло-
весности на виды и жанры, а вовсе не стремление объединить их
Древнерусская культура как слово
153
в единый универсальный текст. Так что ритуальности наша словес-
ность ни у кого не заимствовала, как бы она ни была зависима от
Византии и других православных стран в своем письменном слове.
Объяснение ритуальности древнерусской словесности, видимо,
нужно искать в том обстоятельстве, что письменность к нам не только
пришла из древней утонченной и изощренной культуры, но и была
укоренена во многом еще в первобытную и полупервобытную почву.
Конечно, древнерусская письменность как целое—это далеко не
первобытное явление. Свидетельство тому хотя бы ее глубокий
и неизменный историзм.
И все же нельзя отрицать того, что Русь христианизировалась
и получила из рук Византии письменность с некоторым опережением
сроков, так сказать, авансом. Разве может идти в какое-либо сравне-
ние русская ситуация с византийской? Византия ко времени креще-
ния Руси, в конце Хв., не только существовала непрерывно в тече-
ние многих столетий, но и была связана связью непрерывности
и преемства как с Древним Римом, так и с Древней Грецией. Тради-
ция византийской культуры именно как непрерывная и послеперво-
бытная насчитывала не менее полутора тысяч лет. Невозможно себе
представить, чтобы эта традиция стала своей в такой же полноте
и глубине для Руси, как и для Византии. К чему-то русский человек
в традиции византийской культуры оказался восприимчивым, что-то
для него навсегда осталось чуждым. В итоге же шедшая из Византии
словесность оформилась на русский манер, приобретя не свойствен-
ную ей ранее ритуальность, которая отвечала строю души народа,
чья жизнь еще совсем незадолго до христианизации носила насквозь
ритуальный характер.
Самое, может быть, удивительное в русской словесности даже не
ее исходная ритуальность, а устойчивость этой ритуальности. Все-
таки просуществовала она целых семь столетий, только в XVII в.
обнаруживая симптомы своего разложения. Впрочем, это разложе-
ние совпадало с кризисом древнерусской культуры, а не с открытием
новых возможностей для словесности. Последние появились прежде
всего в результате широкого приобщения к западной литературе. Вот
и получается, что древнерусская словесность с ее устойчивой риту-
альностью образует собой странное исключение в ряду других запад-
ных национальных словесностей. Как-то понять его можно только
с учетом того, что зарождению и первым шагам древнерусской сло-
весности пришла на смену не уверенная в себе зрелость, а все
актуализирующаяся ситуация культурного одиночества. Московская
Русь сохранила ритуальность словесности еще и потому, что в со-
стоянии была опираться почти исключительно на собственную тради-
цию и свой исторический опыт, которого было явно недостаточно для
выхода русской словесности к горизонтам индивидульно-личностно-
го творчества.
154
Культура Древней Руси
***
Если древнерусское слово было чуждо философии, богословию
и науке, если оно не было художественной литературой, как она
понимается последние три столетия, то естественно будет задаться
вопросом о том, какое значение наша словесность XI—XVII столетий
может иметь для современности. Понятно, что поскольку она состоя-
лась, пускай и как ритуальная, поскольку она была живой и жизнен-
ной реальностью для наших потомков, нечто существенно проговари-
вая о них, то древнерусская словесность важна и для нас. Русская
культура только и может оставаться культурой, не разрывая со своим
прошлым, не утрачивая его понимания. Однако одно дело понять
прошлое словесности, и другое — ощутить ее как близкое себе, произ-
водящее на тебя живое и непосредственное впечатление. Скажем,
прочитав какой-либо текст, можно сказать себе: «Я понимаю челове-
ка, который создал это произведение, я могу себе представить, какое
впечатление оно производило на читателей, какие душевные струны
у него задевало». Но совсем другое дело, когда после чтения данного
текста у меня вырвется восклицание в таком роде: «Ну надо же,
какая глубина, какая мощь!» или: «Какая точность и изощренность,
живость, правдоподобность, задушевность, трогательность, патетич-
ность ит. д.». Все-таки, наверное, подлинная связь со своим про-
шлым существует тогда, когда возможны реакции второго рода. Они
свидетельствуют не просто о знакомстве, а о глубоком родстве. Без
ощущения родства же культурное прошлое собственной страны пере-
стает быть периодом единой национальной культуры. По существу,
речь уже нужно вести о различных культурах, хотя и связанных
генетически.
Обращение к произведениям древнерусской словесности, слава
Богу, позволяет сохранить уверенность в том, что русской культуре
тысяча лет. Эти произведения не так легко и свободно читаются, как
наша классика XIXв., но некоторый труд и усилия постижения не
могут не перейти в непосредственность впечатлений и реакций.
Древнерусские тексты сохранили способность оживать под взглядом
современного читателя, хотя и живут они уже не той жизнью, что
столетия назад.
Попытаемся продемонстрировать сказанное на показательном при-
мере из древнерусской словесности. В качестве такового у нас будет
фигурировать знаменитая «Повесть о Петре и Февронии Муром-
ских», точнее же, главным образом, один только фрагмент из нее.
Как это было сравнительно недавно установлено, «Повесть...» была
написана древнерусским автором Ермолаем Еразмом в 40-е гг.
XVI столетия в качестве жития к готовившейся канонизации двух
святых. Нужно сказать, что в их святости был один необычный
момент. Они были святыми супругами, мужем и женой, просиявши-
ми святостью. Вообще говоря, в том, что на Поместном соборе
Русской Православной церкви были канонизированы супруги, нет
Древнерусская культура как слово
155
ничего исключительного. До этого канонизация супругов имела место
в Константинопольской патриархии, куда пока и входила на правах
метрополии Русская церковь. Своеобразие случая с Петром и Февро-
нией состояло в том, что они прославились и остались в памяти
православного народа прежде всего своими супружескими добродете-
лями и любовью друг к другу. Супружеская любовь, которая ведет
к святости—именно это более всего поражает в Петре и Февронии.
С любовью связаны главные жизненные испытания, которые претер-
пели супруги, она вела их к самоотречению и презрению к земным
благам. Главным испытанием для них стала попытка бояр Мурома,
где княжил Петр, разлучить его с женой. В ответ на эту попытку
Феврония предпочла богатству, предлагавшемуся ей боярами, уеди-
ненную, вне богатства и власти жизнь с мужем. Он же в свою
очередь выбрал супружество с Февронией за счет отказа от княжения
в Муроме.
Коллизия между богатством-властью и любовью очень хорошо
известна мировой литературе и фольклору. И уж, конечно, нигде
выбор в пользу любви не вел к святости. Напротив, предпочтение
любви нередко влекло за собой не только несчастья, но и грехи
и преступления любящих. Наш случай исключительный ввиду того,
что любовь Петра и Февронии нимало не противоречит законам
божеским и человеческим. Женитьба муромского князя на простой
крестьянской девушке нарушила разве что языческие в своей основе
обыкновения, традиционность жизненного уклада удельной Руси.
Когда же вопреки первоначальной боярской воле Петр все-таки
вновь стал княжить в Муроме, вся его жизнь, так же как и жизнь
Февронии, была само благочестие и отеческое попечение о жителях
княжества. Из этого между тем вовсе не следует, что любовь Петра
и Февронии всего лишь условие и средство исполнения ими своего
долга перед Богом и людьми. Сама по себе она обладает высшей
ценностью и высшим смыслом. Очень внятно о самоценности и до-
стоинстве любви между ними свидетельствуют обстоятельства кончи-
ны святых. В них кульминация действия повести, несомненно, явля-
ется лучшими (не страницами, конечно,—повесть очень кратка
и лаконична) строками во всем повествовании. Эти строки неодно-
кратно разбирались авторитетными исследователями древнерусской
словесности и сами по себе широко известны. Все же приведем их
целиком в целях удобства последовательного разбора в переводе на
современный русский язык.
«Когда приспело время благочестивого преставления их, умолили
они Бога, чтобы в одно время умереть им. И завещали, чтобы их
обоих положили в одну гробницу, и велели сделать из одного камня
два гроба, имеющих меж собою тонкую перегородку. В одно время
приняли они монашество и облеклись в иноческие одежды. И назван
был в иноческом чину блаженный князь Петр Давидом, а преподоб-
ная Феврония в иноческом чину была названа Ефросинией.
156
Культура Древней Руси
KtllOhht (?<«’ тоу-l/i
ttiftnAuH rtfirvr
•t H«cibr I ntinpA .
ttioho
fit no.
Феврония за рукоделием
Книжная миниатюра XVII в.
В то время, когда преподобная
и блаженная Феврония, наречен-
ная Ефросинией, вышивала лики
святых на воздухе для соборного
храма Пречистой Богородицы,
преподобный и блаженный князь
Петр, нареченный Давидом, по
слал к ней сказать: „О, сестра
Ефросиния! Пришло время кон-
чины, но жду тебя, чтобы вместе
отойти к Богу“. Она же ответила:
„Подожди, господин, пока дошью
воздух во святую церковь". Он во
второй раз послал сказать: „Не
долго могу ждать тебя". И в тре-
тий раз прислал сказать: „Уже
умираю и не могу больше ждать".
Она же в это время заканчивала
вышивание того святого воздуха:
только у одного святого мантию
еще не докончила, лицо уже вы-
шила: и остановилась, и воткнула
иглу свою в воздух, и замотала
вокруг нее нитку, которой выши-
вала. И послала сказать блаженному Петру, нареченному Давидом,
что умирает вместе с ним. И, помолившись, отдали они оба святые
свои души в руки Божии в двадцать пятый день месяца июня»1.
Когда читаешь и перечитываешь приведенный фрагмент «Повести
о Петре и Февронии Муромских», на ум приходит известная форму-
ла «они жили долго и счастливо и умерли в один день». По этой
формуле строилась концовка бессчетного числа романов. Она долж-
на была контрастно противостоять напряженной динамике и всякого
рода трудностям биографии главных героев романа своим разрешаю-
щим все покоем осуществившихся желаний. То, что любящие не
только жили долго и счастливо, но и умерли одновременно,—свиде-
тельство слияния их душ, не просто невозможности жить друг без
друга, но и жизни в одном ритме и на одном дыхании.
Наш случай отличается от привычного тем, что в нем единовре-
менная кончина дается героям через молитвенную обращенность
к Богу. Они опять-таки по очень известной, но на этот раз не
литературной, а церковной формуле «в Бозе почили». Причем пред-
варило кончину Петра и Февронии принятие ими монашеского сана.
Обычай пострижения накануне кончины был широко распространен
среди русских православных князей и царей. Однако для Петра
1 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 9. С. 469.
Древнерусская культура как слово
157
и Февронии постриг означал разрыв супружеских уз—как монахи,
они стали друг для друга не мужем и женой, а братом и сестрой.
В качестве монахов брат и сестра не обязательно разлучаются. В пра-
вославии существует обычай такого монашества, когда муж и жена,
внешне не нарушая связь супружества, живут как монахи.
Можно вспомнить в данной связи и агиографический (житийный)
прецедент, связанный с Юлианом Милостивым и его супругой.
После того как Юлиан узнает о том, что совершил, хотя и невольно,
страшное преступление—убийство своих родителей, для него связь
супружества с женой прерывается. Теперь он — кающийся греш-
ник — намерен жить по монашескому чину, жена для него становится
«сладчайшей сестрой», а он для нее «любезным братом». По сути,
став монахом и монахиней, Юлиан и его жена продолжают жить
совместно. После тяжких и непрерывных трудов во искупление греха
«Юлиан вместе с супругой, исполненный добрых дел и милосердия,
почил в Боге».
Сходство в кончине Юлиана с женой и Петра с Февронией не
должно затемнять существенного различия между ними. Внешне
Юлиан связан со своей бывшей супругой не менее тесно, чем Петр
с Февронией в монашестве. Однако в своей жизни-искуплении пер-
вые обращены исключительно к Богу и ближним, для Петра же
с Февронией очень существенна еще и взаимообращенность любви
друг к другу. Она не нарушена и не отменена принятием иноческого
чина. Умерев для мира, наши русские святые не умерли друг для
друга в своем прежнем качестве людей, связанных браком и любо-
вью. Этот момент подчеркнут в «Повести...» заботой Петра и Февро-
нии об их будущем захоронении в одной гробнице. Как они прожили
вместе, так хотят остаться друг с другом и по ту сторону смерти.
О том, что желание их не так просто и элементарно, свидетельст-
вуют не речи героев и тем более не психологический разбор Ермола-
ем Еразмом душевных движений Петра и Февронии, а скупые, едва
заметные, но очень точные, неотразимо бьющие в цель детали. Одна
из них—это упоминание о тонкой перегородке в приготовленной для
Петра и Февронии гробнице. Если в ней есть перегородка, то какая-
то дистанция по отношению к предшествующему супружеству княже-
ской четой, принявшей монашество, подразумевается. Какова будет
эта дистанция в потустороннем мире, знает один только Бог. Петр
и Феврония понимают, что она есть и признают ее смиренно и довер-
чиво. Обратим внимание и на такую деталь: после принятия ими
иноческого чина и, соответственно, новых монашеских имен, автор
«Повести...» не называет недавних князя и княгиню новыми именами.
Он для него «Петр, нареченный Давидом», она—«Феврония, наре-
ченная Ефросинией». Вольно или по какому-то художественному
чутью Ермолай Еразм дает нам понять, что после пострига его герои
и умерли для прежней супружеской жизни, и сохранили некое, нам
и самому Ермолаю Еразму неведомое небесное супружество. Супру-
158
Культура Древней Руси
ги-монахи — возможность чего-либо подобного Православная церковь
никогда не утверждала и не признавала. Здесь все как будто ясно:
или супруги, или монахи. Но это по нашим человеческим меркам
и в меру открытого нам Богом. Но как знать, может быть, для Бога
возможно и такое, о чем молчат церковные каноны. Конечно, не в их
отрицание, а в том отношении, что не все в канонах установлено
и отражено.
Наконец, третья, более развернутая сюжетно и вместе с тем
наиболее выразительная деталь, связанная с вышиванием Феврони-
ей-Ефросинией «ликов святых на воздухе» (платке, которым накры-
ваются святые дары в храме). К моменту наступавшей кончины
Петра-Давида она была занята традиционным монашеским и благо-
честивым делом, доступным самым искусным и трудолюбивым из
монахинь. Но, казалось бы, как можно было продолжать свои
обычные каждодневные труды перед лицом наступающей кончины
близкого тебе и любимого тобой человека, да еще если ты дала обет
умереть одновременно? Для Февронии-Ефросинии подобное оказа-
лось возможным потому, что ее занятие вышиванием при всей своей
обыкновенности — это не рутина и не просто богоугодное дело. Оно
сродни молитве, священнодействию, по существу есть служение Богу.
Прервать же богослужение просто так, не отдав Богу Богово, челове-
ку же человеческое (не только Петру-Давиду, но и себе) нельзя.
Поскольку вышивка делалась Февронией-Ефросинией «во святую
церковь», отсюда и просьба к недавнему супругу подождать с кончи-
ной. Когда отсрочка стала невозможной, только тогда Феврония-
Ефросиния сочла уместным прервать вышивание. Окончание ее
работы поражает нас своей степенной неторопливостью. Это же надо,
она не сразу послала Петру-Давиду весть о том, что умирает вместе
с ним, а сначала «воткнула иглу свою в воздух и замотала вокруг нее
нитку». В этой нитке, похоже, все дело: заматывание нитки вокруг
иглы не только оттягивает весть о кончине, которую надо успеть
передать, и не только демонстрирует внутреннее спокойствие и ду-
шевную тихость Февронии-Ефросинии, но и не может не вызвать
ассоциации с привычным мифологическим образом. В соответствии
с древней мифологемой тянущаяся нить—это нить судьбы, самое
судьба данного человека. Она прерывается таинственной и неумоли-
мой мойрой, когда придут сроки. Если нить оборвана, наступает
смерть. Закончив шитье, Феврония-Ефросиния нитку не оборвала.
Конечно же, и для того, чтобы другая монахиня продолжила ее труд
«во святую церковь». Но, наверное, еще и потому, что Февронии-
Ефросинии предстоит не смерть, как таковая, а соединение с Богом,
которое предполагает предстояние Ему совместно с Петром-Давидом.
Не нужно так уж торопиться и создавать суету вокруг вот-вот
предстоящей кончины, не нужно так уж замыкать должное произой-
ти на себя и любимого человека. Их земная жизнь через кончину
разрешается в Боге, в соответствии с Его волей, об этом Феврония-
Древнерусская культура как слово
159
Ефросиния ни на миг не забывает. Она обращена к Богу не менее,
чем к Петру-Давиду, отсюда ее ненарушимая благость и спокойствие.
Феврония-Ефросиния с Петром-Давидом накануне кончины не одни,
у них есть такой заступник и благодетель, что им по-настоящему не
о чем беспокоиться.
В «Повести о Петре и Февронии Муромских» предстает такой
опыт постижения и выражения жизни, который современному чита-
телю во многом непривычен и чужд. Однако его непривычность
и чуждость вовсе не такого рода, чтобы вызвать неприятие и отчуж-
дение. Происходит обратное—перед нами открываются новые гори-
зонты, и мы вправе сказать: «Ну надо же, оказывается, вот как
можно любить, так прожить жизнь и так умереть». Такая реакция
связана с тем, что «Повесть о Петре и Февронии Муромских»,
будучи житием, хотя и наполненным фольклорными мотивами, обла-
дает еще и несомненными и значительными художественными досто-
инствами. То, что это не художественное произведение в собственном
смысле слова, не только не ограничивает художественность и поэтич-
ность «Повести...», но и дает ей дополнительные художественные
преимущества. Не будь их, сюжет «Повести...» воспринимался бы как
чистая, экзотически странная попытка вместить в христианство внут-
ренне ему чуждое.
Этого не происходит прежде всего благодаря тому, что художест-
венность и поэтичность присутствуют в «Повести...» особым образом.
Особенность здесь в их предельной скупости и лаконизме. Оживает
произведение Ермолая Еразма за счет самих по себе крохотных
деталей, оставляющих, может быть, на наш взгляд, слишком многое
недоговоренным, но зато и дающих простор воображению. В новоев-
ропейской литературе—это признак несомненной и, надо сказать,
чрезвычайно редко встречающейся гениальности, когда скупость
и немногословность не от внутренней бедности художника, не от
косноязычия или сухости, а от способности создать те самые единст-
венные и непременно обязательные реалии движения художественно-
го образа, которых как бы и не ощущаешь вовсе, но без которых
фантазия, весь ассоциативный ряд читателя стал бы невнятным
и бесформенным. Такого рода гениальностью в нашей новоевропей-
ской литературе обладал в полной мере, наверное, один только
А. С. Пушкин. После него могут показаться не вполне оправданно
многословными и повторяющимися даже самые великие наши писатели.
Ермолай Еразм не писатель, не художник слова, но процитирован-
ный нами фрагмент из его «Повести...» в высшей степени художест-
вен и поэтичен. Да, стилистически он может показаться однообраз-
ным и монотонным. Лексика его небогата, он склонен к повторам
одних и тех же выражений вполне в фольклорном духе. Не упустим
только, что перед нами «роскошная нищета» и высокая простота.
Несмотря ни на какие однообразия, монотонности, словесные клише,
текст «Повести...» создает и удерживает редчайшее по чистоте, стро-
160
Культура Древней Руси
гости, стройности и целомудрию настроение. Он провоцирует воз-
никновение таких образов и смыслов, которые способны очень дале-
ко увести от буквальной образности и смыслов текста, прежде всего
за счет их сопряжения с другими текстами и создания самых неожи-
данных контекстов. Смысловую линию хотя бы одного из них
следует проговорить.
Умиротворенная тихость и покой Февронии в канун кончины
образуют самый яркий контраст тому, что кажется привычным,
исходя из опыта нашей литературной классики. Вспомним хотя бы
образы Лаврецкого и Лизы Калитиной из «Дворянского гнезда».
Любовь, если не между Лизой и Лаврецким, то, во всяком случае,
Лизы к Лаврецкому чистотой и целомудрием не уступает любви
Февронии Муромской к князю Петру. Но для Лизы-то уход в мона-
стырь стал выходом из крушения ее любви к Лаврецкому. Здесь все
ясно и однозначно: или отдаться своему чувству или принять мона-
шеский чин. Что исключено начисто, так это монашеская любовь как
продолжение прежней, и даже большая ее полнота. Любовь, которая
соотнесена не только с Лаврецким, но и с Богом. К Богу Лиза
обращается, чтобы укрепить себя в неудаче своих отношений с Лав-
рецким. Не то, чтобы она совсем перестает любить Лаврецкого, но ее
стремление направлено на уравнивание его с любым другим ближ-
ним, любовь к которому—прямая обязанность христианина.
Разумеется, речь идет вовсе не о том, что Лиза должна была
согласиться на брак с Лаврецким за счет его полного разрыва
с женой. Если ее совесть и человеколюбие подобного исхода не
приемлют, то есть еще выход и в монашеской любви к Лаврецкому.
Именно любви женщины к вот этому единственному для нее мужчи-
не. Понятно, что она не может быть любовью в привычном смысле.
«Но в каком тогда?»—вправе спросить читатель. Ответить ему на
основе опыта нашей классики вряд ли возможно. Остается опыт
древнерусской словесности и, в частности, «Повести о Петре и Фев-
ронии Муромских». В ней о любви монаха и монахини узнаешь не
многое, но узнаешь самое главное. Любовь эта возможна, и она
состоялась как факт художественный и поэтический. Монашество, по
Ермолаю Еразму, — такого рода отречение от мира, которое сохраня-
ет любовь недавних мужа и жены именно как любовь вот этих
единственных друг для друга людей. А это в свою очередь означает,
что и в любви между мужчиной и женщиной присутствует нечто
неотмирное, в своей последней полноте она может быть неотмирной.
Ведь Бог благословил ее вопреки всем установившимся обычаям
и обыкновениям, вопреки даже буквальному смыслу формул Нового
Завета.
О том, что в любви его и ее есть какая-то непонятная, непостижи-
мая, почти абсурдная неотмирность и тайна неизреченная, знала не
только древнерусская словесность, но и западная средневековая
литература и, в частности, рыцарский роман. Именно в нем много-
Древнерусская культура как слово
161
кратно разрабатывался один из ключевых для всей средневековой
культуры сюжет, связанный с Тристаном и Изольдой. Как и Петр
с Февронией, Тристан и Изольда раз и навсегда полюбили друг
друга вопреки всем обстоятельствам своей жизни. Обстоятельства
эти, однако, на этот раз куда сложнее и неразрешимей, чем у Петра
и Февронии. Последние столкнулись с противодействием своей за-
конной любви со стороны бояр. Тристан же полюбил не менее, чем
жену своего дяди и сюзерена, короля Марка. Для него любовь
к Изольде означает свершение самого страшного в соответствии с ры-
царским кодексом преступления—злостного нарушения вассалом обета
верности своему сюзерену. А попрание родственных отношений, во
всей его первозданной грубости и непотребстве? Но Тристан наруша-
ет еще и закон Божий, он пожелал жену ближнего своего, как
и Изольда нарушает святость брака. Все это прекрасно сознавали
создатели рыцарских романов о Тристане и Изольде. Но в лучшем из
них у авторов нет сил и возможностей только порицать своих героев.
Они так беззаветно любят друг друга, так полна их любовь друг
к другу, что ну просто не может их любовь быть одним только
преступлением и грехом, пагубой и наваждением. По какой-то непро-
говариваемой и неизреченной логике в романах о Тристане и Изольде
они еще и оправданы и вознесены, не в безусловном и всеприемлю-
щем смысле, а помимо, вопреки и несмотря на очевидные преступле-
ния и грехи.
Оправдание и освящение любви Тристана и Изольды, конечно, не
могли заходить так далеко, как оправдание и освящение любви Петра
и Февронии. Последние удержались на той грани, которую с легко-
стью переступили первые. Да и не знали Петр и Феврония такой же
неразрешимой коллизии в своей любви, которая была реальностью
для Тристана и Изольды. У Петра и Февронии все проще и ясней.
Но еще и цельней и целомудренней. У них дан опыт любви, которая
не преодолевается в святости, а ведет к ней и сама есть святость. Если
Тристан и Изольда и были спасены, то суд Божий над ними должен
был сочетать в себе раскаяние в грехах и преступлении любящих, так
же как и неизреченное милосердие Божие. Петра и Февронию
любовь ведет прямо с земли на небо. Опыт такой любви, а он есть
живой опыт, бесценен. Ведь он стал внятным для нас, убеждающим
своей поэтической правдой и вместе с тем проникнут православно-
христианским духом. «Повесть о Петре и Февронии Муромских» тем
самым—это наше, свое, русское, чему еще предстоит жизнь в нашей
культуре, а не одно только по-своему необходимое ученое пости-
жение.
Глава 4
Древнерусская культура
как зрительный образ
Х„
отя настоящей главе и предшествовала глава о древнерусской
словесности, такая взаимосоотнесенность вовсе не говорит о первен-
ствовании русского слова по отношению к зрительному образу.
Скорее наоборот, первенствовал в нашей культуре именно зритель-
ный образ. По крайней мере, в том отношении, что зрительные
образы, созданные древнерусскими авторами, несоизмеримо мас-
штабнее созданного в слове. Как раз созданное в качестве зрительно-
го образа делает правомерной известную характеристику древнерус-
ской культуры как культуры «великого молчания». Русская культура
и в Киевскую, и в Московскую эпоху была великой
культурой без всяких скидок или уступок национальному чувству,
но она же неизменно оставалась молчаливой. В том отношении, что
русское слово не стало вровень с теми вершинами духа, которые
были доступны русскому человеку. Они воплотились в древнерус-
ской иконе и архитектуре, менее всего в летописи, житии, проповеди,
притче и т. д. О молчании красноречиво свидетельствует и отсутствие
в Древней Руси богословского, философского и научного слова,
иначе говоря, слова как последовательной и отвечающей за себя
мысли, как рациональной конструкции. Молчание русской культуры
вряд ли компенсировалось совершенством, достигнутым в иконописи
и архитектуре. Пожалуй, здесь уместней говорить о резко выражен-
ном противоречии и незавершенности русской культуры, о том, что
в ней развились и реализовались одни стороны и остались в эмбрио-
нальном состоянии другие.
Наше обращение к иконописи, а затем к церковному зодчеству
заведомо не может быть даже самым кратким обзором того, что в них
создано за семь веков древнерусской культуры. К тому же гораздо
важнее всякого рода обзоров представляется разговор о самум суще-
Древнерусская культура как зрительный образ
163
стве русской иконы и русского зодчества в их высшем выражении.
Предварить же рассмотрение вначале иконописи, а затем и зодчества
имеет смысл выяснением того, что это все-таки такое, икона и храм,
какие смыслы стоят за их образами.
***
Что касается иконы, то вроде бы нет ничего проще, чем дать ее
общее и достаточно точное определение. Она представляет собой
изображение Бога, ангелов или святых с целью молитвенного обра-
щения к ним. В этом и подобном ему определениях все верно, кроме
самого главного — они ничего не говорят о своеобразии иконописного
образа, почему Бог, ангелы и святые изображаются так, а не иначе.
Изображаются же они с позиций простого и незатейливого здравого
смысла как-то странно и неестественно.
Во-первых, иконописные фигуры и лица очень мало похожи на
тех людей, которых мы встречаем в повседневной жизни. И, во-
вторых, совсем уже условна и сведена к последнему минимуму
обстановка, окружающая Бога, ангелов или святых. Вместо дерева
только намек на него в виде едва прописанного кустика. Гора, опять-
таки, дается очень обобщенно и размерами гораздо меньше иконопис-
ных фигур. Во время трапезы на столе-доске стоят совсем редкие
и крошечные блюда без пищи или с едва обозначенной пищей.
Едва ли нужно специально объяснять, что перед нами вовсе не
какая-то изобразительная беспомощность. Слишком известно, что
лучшие иконы утонченны и изысканы в цвете, его соотношениях,
композиции и в линиях. Поэтому неестественность икон приходится
объяснять не неумелостью их создателей, а видением той особой
реальности, которая предстает в изображениях. И самое главное, что
по поводу этой реальности необходимо отметить,—это стремление
иконописца воплотить в иконе не просто какие-то значимые для нас
образы и впечатления, а нечто обладающее высшим смыслом и выс-
шей существенностью и первобытийственностью. И вот оказывается,
что высший смысл, существенность и первобытийственность сосредо-
точиваются «всего-навсего» в одной по виду человеческой фигуре,
если, скажем, на иконе изображен Иисус Христос. Изобразив Его,
иконописец не просто отдал должное своему Богу, приблизил Бога
к себе. Он еще и представил нам все существующее в Его источнике
и средоточии. В Иисусе Христе весь мир собран в один образ,
представлен как лик и фигура Спасителя. Но не мир, как он сотворен
Богом, а в источнике Его творения, в лице Творца. Творец обладает
такой полнотой и интенсивностью бытия, которая ни в какое сравне-
ние не идет с тварным бытием. Тварное бытие—это даже не «отклик
искаженный торжествующих созвучий», оно сотворено ex nihil, из
ничего. Оно было вызвано из небытия божественным глаголом. Так
насколько же нетварное бытие Бога должно превосходить бытие
тварное! Конечно же, последнее бесконечно уступает первому.
164
Культура Древней Руси
А теперь вернемся к тому, что божественное бытие оказывается
изобразимым как икона. Такое становится возможным, во-первых,
потому, что Бог есть личность, по отношению к которой человеческая
личность—Его образ и подобие. И во-вторых, Бог не только лич-
ность, Он еще и воплотился «от Духа Свята и Марии Девы», то есть
принял человеческий облик, не только остался Богом, но и стал
человеком. Если это так, то и икона получает право на существова-
ние. Ведь образ Божий теперь доступен воплощению в цвете и в ли-
ниях. Но изобразив Его, разве это мыслимо изобразить еще и твар-
ный мир, идущий хоть в какое-то сравнение с Творцом? Конечно же,
там, где представлен Творец, тварный мир резко и далеко отходит на
задний план, его вторичность, производность и недостоинство полу-
чает свое выражение в уменьшенных, скупых и предельно упрощен-
ных изображениях. Они как бы подчеркивают действительный бы-
тийственный статут реалий тварного мира там, где присутствует Тот,
Кто бытийствует безусловно и в полноте.
Тот, кто так бытийствует, кто, будучи личностью, есть полнота
реальности, тем самым утверждает, что быть и существовать в пер-
вую очередь и в несравненной степени более, чем что-либо иное, дано
не непреодолимо твердому камню, не грандиозно высящейся горной
вершине, не беспредельному океану, не планете, не Солнечной систе-
ме или Галактике, чью громадность невозможно ни ощутить, ни
помыслить, а именно личности. И не обязательно личности Бога, но
и бесконечно ей уступающей «предличности» человека. Бог потому
и воплотился, став человеком, что Его соединение с человеческим
естеством ничуть не противоречило личностному существу Бога.
Соответственно и изображать Его вполне допустимо антропоморфно,
как того, кто обладает человеческими признаками. И вместе с тем за
человечностью Бога на иконе обязательно должна проглядывать еще
и собственно божественность. Она имеет внешние и достаточно
условные атрибуты. Скажем, как нимб над головой Иисуса Христа
с пересекающим его крестом.
Важнее, однако, внутренние признаки и свидетельства божествен-
ности. На них, к примеру, указывают вытянутые пропорции тела
Христа, создающие впечатление не бесплотности, конечно, ведь Бог
воплотился, и это неотменимо никаким воскресением из мертвых.
Иисус Христос воскрес телесно. Точнее будет сказать об иконной
преодоленности плотской плотности и тяжести. На иконе плоть
подчинена Духу, выражает его и указывает на присутствие Духа.
Перед нами новая, преображенная плоть и телесность, такая, какая
будет и у людей в Раю.
Наверное, нет таких людей, которые, глядя на икону, не обратили
внимание на такие особенности иконописных ликов, как преувели-
ченно большие, нередко даже огромные глаза, тонкие губы и, как
правило, очень тонкую линию носа. С глазами практически каждому
главное очевидно. Кто не помнит, что они зеркало души?! Да,
Древнерусская культура как зрительный образ
165
разумеется, это так. В глазах Бога или обоженного человека, то есть
святого, светится бесконечность и полнота внутренней, то есть духов-
ной реальности. Она изливается вовне и вместе с тем неисчерпаема,
так как неисчерпаема в своей жизни и жизненности личность. Боже-
ственная—по своей природе, человеческая—по исходящей от Бога
благодати. Нос же и губы в своей истонченности открывают простор
для глаз, не затеняя и не умаляя их своей чувственностью и телесно-
стью, своей плотской жизнью среди земных интересов и влечений.
При обращении к иконе и ее осмыслении особенно важно ощутить
ее связь с античной скульптурой. На первый взгляд не умеющего
видеть или отдавать себе отчет в увиденном, античная статуя едва ли
не противоположна иконе. Она так естественна, так напоминает
реальное человеческое тело, отличаясь от него разве что необыкно-
венной красотой и совершенством. Между тем в этих красоте и со-
вершенстве все дело. Нет ничего банальней и бездумней все еще
привычного утверждения о том, что грек в своей скульптуре выразил
какой-то там культ человеческого тела или культ красоты. Красота,
гармония и совершенство античной скульптуры как раз указывают на
ее сверхчеловечность и божественность. Точнее же будет сказать, что
выраженное в скульптуре совершенство—это свидетельство не боже-
ственности самой по себе, а причастности человеческого божествен-
ному.
Между божеством и человеком, конечно же с точки зрения древне-
го грека, существует огромная дистанция. Боги для него—это род
бессмертных, люди же—существа смертные. И тем не менее божест-
венность достижима для человека, даже если он остается смертным.
Так же как бог, человек может стать совершенной нравственно-
прекрасной индивидуальностью. Тогда он будет отличаться от боже-
ства как смертный бог от бессмертного, божественный человек от
(позволим себе такую тавтологию) от бога божественного.
Статуи античной классики этот момент и выражают. Посмотрим
на какую-нибудь из них, заранее не зная, кто здесь изображен, и нам
практически будет не понять, божество это или человек. Перед нами
в любом случае божественное существо в человеческом облике. Этот
момент более всего и объединяет античную статую с иконой. И та
и другая выражают собой присутствие Бога или божественности.
Статуя точно так же концентрирует в себе существо и бытийствен-
ность всего сущего. В силу своей божественности она тоже являет
собой стяжку и исток всего разнообразия мировых явлений.
Впрочем, немаловажно и различие между статуей и иконой. Пер-
вая из них изображает вовсе не надмирного «Творца небу и земли,
видимым же всем и невидимым». Она и есть сам мир, огромный
всеобъемлющий космос, статуя имманентна, а не трансцендентна
космосу. В своей последней сути космос обнаруживает себя прекрас-
ным человеческим (он же божественный) образом. Нельзя сказать,
что этот образ не вызывает у нас никакого «пафоса дистанции». Мы
166
Культура Древней Руси
ощущаем его недоступное нам совершенство. Но это как бы и мы
сами, в своей высшей потенции. Иное дело икона. В ней присутству-
ет, и очень внятно, некоторая запредельность, тот мир, который нам
недоступен и нами непостижим. Икона указывает на его существова-
ние, но не впускает в него. Для нас этот мир—великая тайна, перед
ним мы благоговеем со страхом Божиим.
Указанный момент выражен в иконе в том числе и за счет
«искаженных пропорций» человеческого тела, за счет того, что пред-
стоящий в ней образ если не бестелесен, то разуплотнен и выстроен
вовсе не по законам непосредственного восприятия зримого образа.
Было бы совершенной несообразностью утверждать, что античная
скульптура телесна, что перед нами прекрасное тело, и только.
Несомненно, тело в ней одушевлено, она точно так же тело, как
и душа. Но душа в скульптуре все-таки телесна. В том отношении,
что она целиком воплощена в теле, есть душа тела. Она, как внутрен-
ний мир, находит себе исчерпывающее внешнее выражение. Это
и будет знаменитая гармония тела и духа. Ее наличие, однако,
означает человеческую и божественную замкнутость, исчерпаемость
и конечность. Божественность статуарного образа в его гармонии,
красоте и завершенности. Икона же разомкнута и, в принципе,
незавершима. Жизнь Бога или причастных к Нему ангелов и святых
в духе, никакое воплощение духа не окончательны и не исчерпываю-
щи. От образов Бога, ангелов и святых чаще всего веет покоем,
принимаемым нами за неподвижность. Однако это полный покой,
который содержит в себе бесконечную динамику. Дух—это жизнь,
а значит, движение, действие, но действие, лишенное кризисов
и дисгармонии, оно бесконечно и бесконечно же разрешается в пол-
ноту достигнутого.
Связь между иконой и античной скульптурой легко проследить на
внешних и наглядных моментах. По сути, иконописные изображения
представляют собой те же изображения, что и статуи, только с силь-
но изменившимися пропорциями. Прежде всего, сказанное касается
лица. Став иконописным ликом, оно сосредоточило в себе все смыс-
лы изображения. Во всяком случае, на иконе лик несомненно и ак-
центированно первенствует, тогда как для статуи голова оставалась
всего лишь частью тела, причем не самой важной. Поэтому некото-
рые из скульптур, сохранившиеся без головы, не то чтобы ничего не
теряют в своей выразительности, но все же сохраняют ее в достаточ-
ной степени для их полноценного восприятия. В античной скульпту-
ре несравненно важнее головы торс, если он уцелел, то в главном
статуя сохранена и способна потрясти зрителей так же, как и закон-
ченное произведение. Икона без головы, точнее же, лика уже не
икона, потому что именно в нем сосредоточен смысл изображения,
остальные же части тела играют вспомогательную роль.
Помимо глаз в лике заставляет вспомнить античную пластику еще
и нос, губы, брови. Их очертания и те, и не те, что ранее. Нос
Древнерусская культура как зрительный образ
167
истончается, губы, сохраняя мягкость очертаний и некоторую при-
пухлость, вместе с тем уменьшаются и тоже истончаются. В них
остается какая-то античная мягкость и нежность, но появляется еще
и строгость и целомудрие, чуждые всякой горделивости или надмен-
ности, так же как и бесстрастной погруженности в самих себя,
которых вовсе не чужды античные скульптуры.
«Искажение» и трансформация в иконе пропорций античной скульп-
туры наряду с сохранением античных линий, узнаваемых по-прежне-
му, несмотря ни на какие изменения, это, конечно, вовсе не нечто
остаточное, скажем, непреодоленно-языческое в христианской куль-
туре. Гораздо уместней в настоящем случае говорить о вбирании
в себя и сохранении в себе иконой непреходящего, того, что Антич-
ность создала раз и навсегда для всего западного человечества. Ведь
гармония человеческого тела, выражающего собой душу, — это живое
ощущение мира Божия в его первозданности, прозрение первобытий-
ственности творения как райского состояния блаженства. Прозрение
это не знало Творца, относило божественность космоса к нему
самому, а не к Творцу. И все же увиденное греками неотменимо. Они
нашли средства к тому, чтобы выразить свое созерцание божествен-
ности зримым образом. Иконописцам оставалось только установить
художественными средствами подлинное его естество, увиденное
греками. Впрочем, слово «оставалось» здесь не очень уместно, так
как пресуществление опыта античной пластики в высокие образцы
иконописи длилось целые столетия, пока наконец на иконах не
предстало божественное не только в возможности созерцать его
человеческим взором, но и как тайна присутствия божественного,
которое вместе с тем остается непостижимым в своей бесконечной
глубине.
Русская икона через посредство ученичества у Византии в конце
концов состоялась на той высоте, которая не уступает ни «западно-
му», ни «восточному Западу». В ней лучшие русские иконописцы
достигли предела человеческих возможностей в выражении созерца-
ний Бога и пребывающего в Боге обоженного мира. Понятно, что это
не могло не противоречить тому, что древнерусская икона, несмотря
ни на что, шла своим путем. В ней своеобразно, со своими акцентами
и предпочтениями, открывалось то, что оказалось недоступным или
неполно выраженным в других иконописных традициях, даже в са-
мой богатой и глубокой, которой, несомненно, была византийская
традиция.
Для того, чтобы прояснить вопрос о своеобразии русской иконы,
о том, что наиболее полно открылось именно в ней, обратимся к двум
наиболее значимым иконографическим типам, вполне воплощенным
в русской иконе так, как более нигде. Во-первых, к образу Иисуса
Христа и, во-вторых, к образу Пресвятой Троицы.
Своеобразие иконописной трактовки Спасителя обнаруживается
в русской иконе не во всех иконографических типах. Скажем, то,
168
Культура Древней Руси
у*
Пластина со сценой Распятия
Слоновая кость. Византия, XI в.
как изображается на русских ико-
нах распятие, в самом сущест
венном следует византийскому
канону. Не только в формально-
изобразительном плане, но и по
самому существу образа. При об-
ращении к византийским иконам
Распятия Христа обнаруживается
очень строгое следование одному
и тому же канону. Он предпола-
гает изображение тела на кресте
слегка изогнутым таким образом,
что выдается правое бедро и одно-
временно левая сторона торса, ле-
вое же бедро и правая сторона
торса оказываются вогнутыми.
Фигура Спасителя выстраивается
как бы по синусоиде. Это стано
вится возможным благодаря опо
ре на левую ногу и легкой выдви-
нутое™ правой ноги. По существу,
Христос на византийских иконах
не висит на кресте, а стоит на нем
за счет того, что дощечка, приби-
тая к основанию креста Распято
го, прорисовывается так, как если
бы она образовывала подставку
для ног. И хотя на всех иконах ступни прибиты к дощечке, это не
мешает Христу «стоять» на ней.
От того, что Христос стоит, а не висит на кресте, создается
впечатление, что Он Сам взошел на крест и не столько страдает на
нем, сколько претерпевает положенный срок. Он прежде всего Бог,
и умаляя Себя до пребывания на кресте, продолжает царствовать над
миром. Своими распахнутыми руками Он объединяет весь мир,
создавая над ним некоторое подобие покрова, осеняющего все сгру-
дившееся у креста человечество. В византийском распятом Христе
лучше не искать человеческой муки, растерянности и богооставлен-
ности человека. Па кресте Христос прежде всего Бог, сохраняющий
дистанцию по отношению к людям. В Его распятии нет призыва
к сораспятию людей. Христос распинается за людей и чуть ли не
вместо людей. Последним остается только благоговение и поклонение
совершенному Богом «нас ради человек и нашего ради спасения»
подвигу. Никакого намека на сочувствие Христу, предполагающего
примеривание и к себе крестного пути, на византийских иконах
Распятия нет вообще, а если и есть, то только в едва уловимом
намеке.
Древнерусская культура как зрительный образ
Распятие. Икона
Мастерская Дионисия, 1500
Созданию такого впечатления
способствует едва ли не более всего
уже отмечавшаяся опора на одну
ногу —хиазм, известный прежде
всего по греческим статуям клас
сической эпохи. У них хиазм
выражал собой самообращенность
индивида, его автаркию, в свою
очередь свидетельствовавшую
о божественности образа, вопло-
щенного в статуе. В классической
статуе выражена достигнутая пол-
нота жизни, гармония с самим
собой, отсутствие влечения за соб
ственные пределы. Все это у древ
него грека было признаками бо-
жества. И если хиазм, пускай
и в трансформированном виде, пе-
реносится в византийскую икону
Распятия, то вместе с ним ею ус-
ваивается божественное самодов
ление и самодостаточность. На ви
зантийских иконах Иисус Христос
один не потому, что Его оставили
разбежавшиеся в страхе ученики,
Он окружен злобствующей иеру-
салимской чернью, и даже Отец
Небесный не подает признаков Своего присутствия. Перед нами
отъединенность Того, Кто ни в ком не нуждается для осуществления
своей спасительной для человека миссии. Он свободно взошел на
крест, чуждый человеческим слабостям и страхам.
Сопоставив распятие на древнерусских иконах с византийскими
иконами, можно обнаружить на них все тот же синусоидальный
изгиб тела и все то же стояние на кресте с распростертыми над миром
руками. Опять здесь нет ни человеческой муки, ни ответного состра-
дания, а лишь благоговейное вглядывание в свершающееся таинство
самоумаления Бога, сохраняющего, однако, на кресте Свою царст-
венность. Впрочем, у нашего великого иконописца Дионисия не
ощутимо уже и самоумаление и претерпевание. У него Христос на
кресте торжественно, едва ли не ликующе парит над миром. Обсту-
пившие же крест люди скорее поражены свершающимся, ощущают
все его сверхчеловеческое величие и таинственную непостижимость.
На русских иконах Распятия, и у Дионисия в особенности, тело
распятого Христа, в первую очередь торс, прописаны еще более
плоскостно, чем у византийцев. Плоскостность, а значит, и бесплот
ность особо подчеркивают иноприродность людям свершающегося на
170
Культура Древней Руси
Распятие. Икона
Андрей Рублев, 1406
Распятие. Икона
Андрей Рублев, 20 ем. XV в.
кресте. Они-то как раз моделированы объемно как на византийских,
так и в целом на более плоскостных русских иконах.
Описанный характер икон Распятия вынуждает предположить,
что как в византийской, так и в русской уже не только иконописной,
но и в целом церковной и православной традиции приглушенно
звучала тема человеческой природы Христа. Христос —это прежде
всего Бог, хотя и воплотившийся в человеческом облике. Его само-
умаление на кресте как будто не приближает Его к человеку, а,
напротив, еще более оттеняет Его божественность. По видимому,
такова общая тенденция, нашедшая свое выражение, в частности,
в древнерусском иконописании.
Но были у этой тенденции и исключения. Причем очень знамена-
тельные, так как к их числу относится икона Распятия, вышедшая
из-под кисти нашего первого иконописца Андрея Рублева. Специали
сты приписывают ему два Распятия. Одно, датируемое 1406 г., впол-
не обычно для византийской и русской традиции. Другое же, напи-
санное приблизительно через двадцать лет, открывает нам совсем
необычного Христа на кресте. В этом Распятии нет ни привычного,
как бы «танцующего» изгиба тела, ни подставки, позволяющей Рас-
пятому стоять даже пригвожденному. У Рублева тело Христа вытя-
нуто вдоль древка, почти повторяя его жесткую прямизну, голова
скорбно и как-то беспомощно опущена, руки уже не распростерты,
а бессильно распластаны. Наконец, фигуры у креста горестны или
скорбно-растерянны. Христос Андрея Рублева действительно страда-
Древнерусская культура как зрительный образ
171
Спас. Икона
Андрей Рублев, 1410—1415
он может показаться слишком
ет, а не скорбит о человеческих
грехах, Сам возвышаясь над че-
ловеками и человеческим. Рублев-
ский Христос умер на кресте на-
стоящей человеческой смертью,
точнее, вот-вот умрет. Потому нам
становятся доступными сострада-
ние и жалость к Христу, а не
только ощущение тайны свершаю-
щегося искупления. Очеловечен
ный Своей понятной нам немо-
щью и страданием, рублевский
Христос как будто свидетельству-
ет о новых горизонтах Богопозна-
ния и перспективах более лично-
стного восприятия Христа, более
тесной связи с Ним человека.
В несравненно большей степе-
ни, чем в разработке образа рас-
пятого Христа, своеобразие рус-
ской иконы проявилось в головных
и поясных Его изображениях.
Наверное, самое своеобразно рус
ское среди них —это знаменитый
«Спас» Андрея Рублева. Челове-
ку, увидевшему «Спаса» впервы
экзотичным. И овал лица непомерно вытянут, и рот на лице совсем
крошечный, и волосы на голове уложены как то странно, оставляя
открытыми совсем уже странные, как будто расположенные на ску-
лах уши. Однако, вглядевшись в икону, начинаешь понимать, что
перед тобою не лицо во всей его привычной естественности, а лик.
Он несет в себе и излучает некоторый внятный человеку, но более
чем человеческий смысл. И не излучает даже, точнее будет сказать,
что лик Спасителя и есть само излучение смысла. Смысл же этот есть
любовь. Она выражена как недоступная человеку тихость и кротость.
В них и намека нет ни на какие слабость и бессилие. Рублевский
Христос явно власть и силу имеющий. Но не на них Он сосредото
чен. Его сосредоточенность совмещает в себе бездонную в своей
глубине задумчивость с открытостью нам, людям. Как будто Христос
смотрит на каждого из нас так, что мы можем поймать Его взгляд.
И вместе с тем взгляд Христа таков, что он прозревает в нас и неве-
домое нам самим. Но прозревает не как строгий судия, решающий
нашу участь помимо нас самих. У Спасителя взгляд любви, а это
значит понимание и приятие Им нас с нашими грехами и неустрое-
ниями. Еще и отсюда задумчивость Христа, не чуждая если не
скорби, то мягкой печали. У Него любовь проявляется вопреки
т
Культура Древней Руси
Спас. Икона
Рублевская школа, нач. XV в.
Спас. Икона
Первая треть XIV в.
нашей греховности. Она, конечно, не всенрнемлюща и всепрощаю-
ща. Но оставляет нам возможность ответить на любовь Господа
нашей, всего лишь человеческой любовью, и тогда все станет возмож-
ным, и прежде всего — преодоление нашего бессилия перед грехом.
Рублевский «Спас» —не просто высшее из возможных достижение
в воплощении образа Христа, находящееся в русле общей древнерус
ской или византийско-русской традиции. Точнее было бы говорить
о нем, как о прорыве и пути, открывшемся именно Андрею Рублеву.
В его время преобладало другое, более традиционное изображение
Христа. На одной из икон, написанной иконописцем рублевского
круга в начале XV в., Христос, при всем внешнем сходстве с рублев-
ским «Спасом», открывается нам в состоянии, вовсе не внеположен-
ном любви. Это тоже любящий Христос, «распятый за ны при
Понтийстем Пилате», но у Него на передний план выходит проница
тельность, ум, мудрость и властность. Здесь Христос прежде всего
учитель человечества, Он держит в левой руке раскрытое Священное
Писание, в то же время благословляя нас правой рукой. На .этот раз
первенствующее в Христе —любовь —отходит на задний план, как бы
удерживается Им, с тем чтобы призвать человека, потребовать от
него пройти свой жизненный путь так, как это вменяется христиани-
ну. От такого Христа можно ожидать не только благодатной под-
держки, но и заслуженной кары и отвержения нерадивых грешни-
ков. Такой Христос гораздо ближе стоит к византийскому образцу,
на который так пли иначе всегда ориентировались русские мастера
при написании икон любого иконографического типа.
Древнерусская культура как зрительный образ
173
Спас. Икона
Середина XIV в.
Иисус Христос. Мозаика Софийского
собора в Констан гинополе, XII в
Высокие образцы византийской иконописи при создании изобра-
жений Иисуса Христа неизменно акцентировали Его учительство. Он
принес в мир благую весть, после Его пришествия стало реальностью
евангельское слово. Держа в левой руке Священное Писание, Хри-
стос и учит христиан, и в то же время требует повиновения букве
и духу Писания. Знаменательно, что книга в левой руке присутству-
ет в изображениях иконографического типа, обозначаемых как Хри-
стос Пантократор (Вседержитель, а для нашего уха еще точнее—
Всевластитель). В том и дело, что власть Христа, до тех пор пока не
придет время Страшного Суда, — это власть Слова и личного примера
(«Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный»).
В далеко не лучших образцах византийской, так же как и русской
традиции поясного изображения Христа на передний план выходит
неумолимо строгий Судия, весь Его облик таит в Себе угрозу
и обещания расплаты грешникам. Поэтому не здесь обнаруживается
интересующее нас различие между русской и византийской иконой.
Оно состоит в том, что так же излучающий ум, мудрость и задумчи-
вое всеведение византийский Христос, несмотря ни на какое сходство
позы, одежды, атрибутов, прически, черт лица, раскрывает Себя как-
то более жестко и определенно по сравнению с русским образом. Это
определенность — в сохраняющейся любви и, правда не всегда, еще
и кротости. Она выражена большей шириной и меньшей покатостью
плеч Христа.
На одном из лучших Его изображений, относящемся к 1363 г.,
в Христе прямо ощутима человеческая характерология —небольшая,
174
Культура Древней Руси
крепко посаженная на по-антич
ному удлиненной шее голова,
вытянутые пропорции тела, соз-
дающие впечатление не столько
разуплотненности, сколько гибко-
сти и сочетания изящества и силы.
Такого человека можно, хотя
и через дымку столетий, предста-
вить себе странствующим от одно-
го селения Святой Земли к дру-
гому. Лицо Христа отрешенно,
гораздо отрешенней, чем на луч-
ших древнерусских иконах. В Нем
угадывается скорее прозревание
грядущих судеб мира, чем инди-
видуальной судьбы предстоящего
человека. И все же Иисус Хри-
стос не отстранен от молящегося
Своей погруженностью в недос-
тупное людям всемирное и всече-
ловеческое. Какой-то путь вот этой
человеческой души к такому Хри-
сту возможен. Но путь этот пред-
Христос Вседержитель. Икона
Византия, XIV в.
полагает душевную собранность
и отрешенность от слишком человеческого, в нем обязательна стро-
гая, отдающая себе во всем отчет дисциплина духа. Безотчетного
порыва, захватывающего душу восторга в предположении того, что
Бог милосердно попустит и простит греховность, над изживанием
которой человек предварительно как следует потрудился, византий-
ская икона Христа не подразумевает.
Подобное несравненно ближе восприятию русской иконы. Прежде
всего рублевского «Спаса», но не только его. И это при том, что
в русской иконописи достаточно часто встречаются не менее строгие,
суровые и требовательно-учительные лики, чем у византийцев. И вряд
ли дело здесь только в безусловном следовании византийским образ-
цам. Видимо, в чем-то они отвечали настроению русской души,
совпадали с ним или обладали убеждающей силой. Йо была в рус
ской душе и своя струя, своя нота, несозвучная византийскому
Православию. Она тоже выражала себя в иконе Иисуса Христа.
* * *
Обращаясь к различным областям культуры и человеческого твор-
чества, к осуществлявшим себя в них творцам и их произведениям,
мы иногда склонны задаваться вопросом: «Ну, а кто все таки из
творцов в данной области и какое из его произведений стали „самым-
самым“: самым выдающимся, гениальным человеком, самым совер-
Древнерусская культура как зрительный образ 175
шенным произведением, шедевром?» Обыкновенно для нас самих не
секрет, что вопрос этот не вполне уместен, слишком прост, непозво-
лительно прямолинеен, и вообще, задаваться им—дурной тон, обли-
чающий в вопрошателе простоту того рода, которая если не хуже, то
сродни воровству. Ведь предельная высота человеческих достиже-
ний, как правило, не измерима одной шкалой. Высшее и совершен-
ное еще и разное, оно образует многообразие несопоставимого, чуж-
дого единого для всего и вся ранжира.
Это наше общее и, надо добавить, банальное в своей очевидности
утверждение странным образом имеет исключения. К их очень не-
значительному числу, видимо, все-таки относится икона Андрея
Рублева «Троица». До настоящего времени у нас нет никаких основа-
ний полагать, что в русской, вообще православной, наконец, христи-
анской, как таковой, иконописи есть другая «Троица», не то чтобы
равная рублевской, но хотя бы сопоставимая с ней как низшее
с высшим. В воплощении образа Пресвятой Троицы Андрей Рублев
несомненно «самый-самый». Однако можно без особого риска пойти
и далее, утверждая, что в русской иконописи нет другой иконы такой
же глубины прозрения первореальности, как рублевская «Троица».
Утверждать первенствование «Троицы» в православной иконописи
или иконописи вообще я не буду. Но не потому, что это не соответст-
вует действительности, а лишь в силу опасения выносить слишком
безапелляционные суждения. Как бы там ни было, «самая-самая» из
икон—«Троица» Рублева. Или подобное утверждать не вполне точно
и тактично, но она как никакая другая икона может представительст-
вовать за русскую икону в ее высших достижениях. К тому же в ней
разработана тема первореальности, она посвящена первобытийствую-
щему, предстающему в его полноте и довершенности. То, как оно
открывается и дано Андрею Рублеву в созерцании ума и способности
воплотить его в линиях и красках, свидетельствует о древнерусской
культуре в ее смысловом пределе, в том высшем и последнем, что ей
дано воспринять и выразить в соответствии с собственными возмож-
ностями.
Ко времени написания Рублевым «Троицы» существовала устой-
чивая традиция ее изображения в двух вариантах как Новозаветную
и Ветхозаветную Троицу. Андрей Рублев в своей иконе обратился
к образам Ветхозаветной Троицы, а значит, и к тому сюжету, в соот-
ветствии с которым к избраннику Божию Аврааму и его жене Сарре
явились три ангела, за чьими образами, в соответствии с наиболее
распространенным и авторитетным толкованием, стоят три лица
Пресвятой Троицы —Отец, Сын и Святой Дух. Икона Троицы Ветхо-
заветной неизменно изображает один и тот же момент трапезы гостей
Авраама. Отец, Сын и Святой Дух сидят за прямоугольным, продол-
говатым столом, повернутым к нам в длину. При этом один из
ангелов восседает в центре стола, два других в торцевых частях. На
столе более или менее детализовано представлена трапеза. На заднем
176
Культура Древней Руси
Троица. Икона
Византия, XV в.
же плане скупое указание на местность: гора, дерево, строение. Все
перечисленное непременно обязательно на иконах Троицы. Как пра-
вило, на них изображаются еще и Авраам с Саррой, благоговейно
прислуживающие своим гостям. К примеру, на известной византий-
ской иконе Троицы XVв., хранящейся в Эрмитаже, Авраам и Сарра
расположены по правую и левую руку центрального ангела, между
двумя другими ангелами. Они слегка отодвинуты на задний план
так, что их в значительной степени заслоняют фигуры этих ангелов.
Хотя одни из них акцентированы более других, все же перед нами
предстает композиция из пяти фигур.
По существу, на иконе изображен контакт божественной и челове-
ческой реальности. Это не общение между Пресвятой Троицей и Ав-
раамом с Саррой, а поклонение последних первой. В буквальном
смысле слова богослужение. Пока оно происходит, Отец. Сын и Свя-
той Дух не обращены к Аврааму и Сарре. Они пребывают в своем
божественном измерении. Нельзя сказать, что Отец, Сын и Святой
Дух вовсе не замечают служащих им людей, так сказать, игнорируют
их, но их контакт с Авраамом и Саррой —это снисходительное,
а значит, и милостивое принятие Богом человеческого служения. Для
людей подобное совсем не маловажно. К тому же Аврааму и Сарре
через богослужение удается войти в реальность внутрибожественной
жизни. Пластически этот момент выражен тем, что фигуры людей
Древнерусская культура как зрительный образ
177
вписываются в общий ритм композиции. Наклон головы Сарры
вторит наклону головы правого ангела, образуя соединительную
линию между контурами правого и центрального ангелов. Такова же
роль Авраама по отношению к левому и центральному ангелам.
Византийская икона вполне соответствует тому представлению
о соотнесенности Бога и человека, которое выражено в Ветхом Заве-
те. Бог открывается человеку и ведет его к спасению. Но пока еще
человек—раб Божий. Он сотворен из ничего, у него нет своей
природы и собственных оснований для бытия. Только в служении
Богу как безропотном и благоговейном исполнении Божественной
воли человеку открыта жизнь. Ведь он раб не потому, что обречен
беспрекословно повиноваться. Человеческое рабствование как раз
и преодолевается в служении Богу. Как раб, Божий человек уже не
просто раб, он еще и обуживется. Ему открывается перспектива,
осуществимая только через боговоплощение, стать Сыном Божиим.
На иконе византийской Троицы еще нет богосыновства, нет и его
обещания. Но в ее образах дана соприкосновенность человеческого
божественному. Согласно смыслу византийской иконы, Авраам
и Сарра никогда не сядут «одесную Отца» в соответствии с новоза-
ветным обетованием. Их значимость на иконе несопоставимо скром-
нее такой чести. И все же от иконы исходит какая-то теплота.
Прежде всего за счет бесконечного смирения Авраама и Сарры.
Правда, теплоте этой соприсутствует некоторая перегруженность
иконы, ей недостает выразительности, достигаемой минимумом изо-
бразительных средств. Как раз того, что так поражает нас в «Троице»
Андрея Рублева.
На ней нет ни Авраама с Саррой, ни знаков изобильной трапезы,
только чаша с тельцом в ней. Знаками присутствия Отца, Сына
и Святого Духа на земле, в гостях у своих избранников, как и на
византийской иконе, являются строение, гора и дерево. Однако они
разуплотнены почти до некоторого подобия дымки и ни в малейшей
степени не приземляют и не очеловечивают происходящее и изобра-
женное. Но не получается ли тогда, что богоявление Аврааму и Сар-
ре трактуется Андреем Рублевым таким образом, что в нем не
остается места для человеческого соприсутствия Пресвятой Троице,
человеческое так мало и ничтожно, что вообще никак не представимо
там, где присутствует божественное?
Для подобного заключения у нас нет никаких оснований уже
потому, что оно слишком противоречило бы свидетельству Ветхого
Завета. Как-никак в соответствующих его главах Авраам общался
с явившимися к нему тремя ангелами. И не только внимал словам
Бога, но и вопрошал его. Причем вопрошание его не было лишено
дерзновения, когда Авраам говорил с Богом о судьбе обреченного на
страшную гибель Содома. В форме смиренных и почтительных
вопросов к Богу Авраам настаивал на спасении немногих праведни-
ков погрязшего в самом мерзком разврате города. Так что не так уж
178
Культура Древней Руси
бесконечно ничтожен праведник Авраам, чтобы его изображение
было несовместимо с изображением лиц Пресвятой Троицы. Отсутст-
вие же его и Сарры на рублевской иконе указывает только на одно
обстоятельство. Иконографический тип Ветхозаветной Троицы для
Андрея Рублева послужил средством изображения вовсе не той
реальности, о которой повествуется в Ветхом Завете. На самом деле
рублевская икона открывает перед нами внутрибожественную жизнь,
божественную реальность, как она существует неотмирно и в вечно-
сти, помимо творения, тварного мира и богоявления в качестве
присутствия Бога в мире.
Посягнуть на изображение внутрибожественной жизни, как бы
она ни оформлялась в образах Ветхозаветной Троицы, — в этом была
дерзновенность, которая может быть оправдана только одним. Тем,
что Рублеву окажется доступным, казалось бы, совершенно не дос-
тупное в земной жизни никому, кроме нескольких святых. И доступ-
ным не только как мистическое созерцание Божественного Открове-
ния, но для воплощения созерцаемого в линиях и красках.
Воплощенное Андреем Рублевым между тем не просто поражает
и потрясает обращающихся к иконе, но и чрезвычайно трудно подда-
ется интерпретации, вызывая не только разноголосицу множества
точек зрения, но и более или менее скрытые недоумения и растерян-
ность при выявлении конкретных смысловых ходов «Троицы». Са-
мым, наверное, трудноразрешимым и безнадежным вопросом здесь
предстает вопрос о том, какой из изображенных ангелов является
Отцом, а какой Сыном или Святым Духом. Ответ на него как будто
должен быть. Ведь Пресвятая Троица—это Бог, который единосущен
и вместе с тем трехипостасен. Он в такой же мере един, как
и троичен. Одна природа в Боге не первенствует над Его лицами,
покрывая их. Каждое из лиц Троицы есть именно Отец, Сын или
Святой Дух. В каждом из них представлена природа и сущность Бога
во всей своей полноте, и никакого бытия у этих природы и сущности,
помимо личностного, нет. Поскольку же это именно так, то на иконе
Пресвятой Троицы вполне уместно попытаться увидеть, какой из
образов представляет собой вот это именно, а не какое-либо другое
лицо. Для икон Ветхозаветной Троицы такой проблемы в качестве
первоочередной не стоит. Все-таки и Библия умалчивает о том, какой
из явившихся Аврааму и Сарре ангелов был Отцом, Сыном или
Святым Духом. Во времена Авраама Бог еще не открылся человеку,
даже такому, как Авраам, в качестве единого в трех лицах. Подобное
оставалось равно и не открытым Богом, и не вместимым человеком,
пока он не стал христианином. Но вот, обнаруживается, что опыт
христианства как будто не позволил Андрею Рублеву «индивидуали-
зировать» ангелов со всей не допускающей несогласия и разногласия
определенностью.
В самом деле, центральное положение одного из рублевских анге-
лов вроде бы достаточно определенно указывает на его отцовство.
Древнерусская культура как зрительный образ
179
Троица. Икона
Андрей Рублев, 1422—1427
180
Культура Древней Руси
Троица. Фрагмент иконы
Андрей Рублев, 1422—1427
Хотя все лица Троицы и равно-
сущны, и равнобожественны, но
первое по чести среди них Отец.
Конечно, источник Его первенст-
вования не в собственной воле
и решении. Сын Отцом предвеч-
но рождается, Дух от Отца исхо-
дит. Отсюда и почитание Отца,
о котором многократно упомина-
ется в Евангелиях. Оно и должно
было бы определить собой для
Рублева центральное место, подо-
бающее Отцу на иконе. Сложность
здесь, однако, в том, что помимо
центральности и, добавим к тому,
некоторой приподнятости одного
из ангелов над другими, ничем
более не подчеркивается его От-
цовство. И взгляд у него самый
кроткий, и положение фигуры не
несет в себе ни намека на власт-
ность. Так мягко ниспадают ан-
гельские одежды, так по-особому
нежно изогнулась ангельская фи
гура, что и мысли не возни-
кает о его председательствовании
в предвечном совете Святой Трои-
исходит от центрального ангела, а,
цы. Не готовность повелевать
скорее, готовность со смирением и любовью принять любой совет.
Обратим внимание и на дерево, возвышающееся над левым ангель-
ским крылом. В точном соответствии с библейским текстом оно
указывает на Мамрийскую дубраву, в которой расположились анге-
лы. Но невольно возникают и ассоциации с Голгофой и Крестом
распятия. И не только потому, что дерево на иконе ближе всего
к центральному ангелу, но в виду настроения, излучаемого ангелом.
У него душевное состояние вовсе не противоречащее готовности
взойти на крест. Добавлю, и совсем рискованное: в ангеле есть что-то
и от снятого с креста. Разумеется, не печать смерти или смертной
муки, а воспоминания о происшедшем. И то, и другое дано в выра-
жении лика, в котором совпадает предвосхищение предстоящего
и память о нем. Иначе и быть не может, так как голгофская жертва
дана на иконе как предвечная реальность. В этом же смысле харак-
терна и фигура ангела. В ней совпадают движения восхождения на
крест и нисхождения с креста.
Неразличимость или, по крайней мере, предельная сближенность
центрального ангела Отца и Сына имеет свое продолжение и приме-
Древнерусская культура как зрительный образ
181
нительно к образу ангела, сидя-
щего по правую руку1 от централь-
ного ангела. Из трех ликов его,
наверное, самый «суровый», в нем
не просто сосредоточенность, она
есть и у других ангелов, но и не-
которая жесткость. Обратим вни-
мание и на посадку ангела. Она
какая-то особенно прямая, почти
резкая в своей прямизне. По на-
шим человеческим меркам этому
ангелу и председательствовать бы
в предвечном совете. Так, может
быть, он и есть Отец? А что он
восседает сбоку, так ведь и стол
рублевской иконы в отличие от
продолговатого византийского тя
готеет к квадратности, так же как
и взаиморасположение ангелов
близко к кругу. Обратим внима-
ние, наконец, и на то, что головы
центрального и левого ангелов
склонены и направлены влево,
в сторону правого ангела. Его же
голова склонена гораздо менее го
лов других ангелов. Скорее даже
не склонена вовсе, она поставлена
Троица. Фрагмент иконы
Андрен Рублев, 1422—1427
прямо, но благодаря развороту тела создается впечатление ее симмет-
рии с головой действительно склоненного левого ангела.
Как видим, аргументы в пользу Отцовства уже не центрального,
а правого из ангелов достаточно существенны. Но также не полны
и не безупречны, как и в предыдущем случае. Все же никуда не
денешься от того простейшего соображения, что правый ангел, не
смотря ни на какие выраженные в нем отцовские признаки, слишком
симметрично уравновешен с левым ангелом. На уровне ритма иконы
оба они умалены перед центральным ангелом. К тому же, как
и центральный, левый ангел сложил правую руку в благословляющее
двоеперстие. Известно, что в дониконовские времена в Русской
Православной Церкви крестились и крестили двумя перстами и двое-
перстие означало богочеловеческую природу Иисуса Христа. Тогда,
может быть, центральный и правый ангелы благословляют левого
ангела на вочеловечение, на соединение в своем лице Божественной
и человеческой природы? Это соображение представляется убеди-
1 Здесь и далее правое и левое расположение ангелов определяется относительно
центрального ангела, а не зрителя.
182
Культура Древней Руси
тельным. Отец и Дух Святый, не
будем сейчас разбираться, кто из
ангелов есть кто, непосредственно
не участвовали в Боговоплощении,
но Христос, по Его словам, тво-
рил на земле волю пославшего Его
Отца. Воплотился же Он «от Духа
Свята и Марин Девы». Отец и Дух
Святый тем самым играют на ико-
не роль направляющей Сына силы.
Призывают Его к крестному пути.
Подтвердить это соображение мо-
жет, в частности, обращенность
именно левого ангела к чаше
с тельцом, в котором символиче-
ски выражен приносимый в жерт-
ву Христос. Левый ангел никого
не благословляет, но его правая
рука обращена к чаше, тем обна
руживая, кто перед нами в образе
этого ангела.
Итак, левый ангел и есть Хри-
стос. Но тогда вновь возникает
проблема идентификации осталь-
Троица. Фрагмент иконы ных ангелов Если центральный
Андреи Рублев, 1422-1427 ангел уже точно не Сын, и к тому
же он с равным правом может
быть идентифицирован с Отцом, то как в этом случае быть со
Святым Духом? Не является ли им все-таки центральный ангел,
прописанный в одном ритме с левым ангелом за счет легкого наклона
головы и изгиба тела? Вот мы и пришли к тому, что центральный
ангел с некоторыми, самими по себе недостаточными, но все же
основаниями, может быть признан и Отцом, и Сыном, и Святым
Духом.
Стоит нам пойти дальше и возникнут аргументы в пользу того, что
в левом ангеле есть признаки Духа и даже Отца, так же как
в правом - Сына и Духа. Скажем, двоеперстие правого ангела можно
попытаться рассмотреть не как благословение Отцом Сына, а как
молитвенную обращенность к Отцу. Более обоснованным представ-
ляется, однако, отождествление правого ангела со Святым Духом.
Аргументы в пользу такого заключения появятся, если мы присталь-
ней вглядимся в ритм троической композиции. Тогда обнаружится,
что правый наклон голов центрального и находящегося слева от него
ангела не вполне подчиняется единому ритму, за которым стоит одно
и то же душевное движение. Ритмическое движение Троицы начина-
ется центральным ангелом, его обращенностью к правому ангелу,
Древнерусская культура как зрительный образ
183
последний же, в свою очередь, обращен в сторону левого ангела,
тогда как левый ангел устремлен к чаше.
Получается в итоге не чисто круговое, а спиралевидное движение
и ритм. Смысл его в том, что Отец обращается к Духу потому, что
через Него от «Духа Свята и Марии Девы» произойдет Боговоплоще-
ние Сына. Именно поэтому и Святой Дух в образе правого ангела
обращен к Сыну. Он передает Ему отцовское благословение. Сын же
хотя наклоном головы и обращен к Отцу, но одновременно устрем-
лен и к чаше с тельцом, символу предстоящего Сыну крестного пути.
Правая рука Сына прописана в этом же ключе. Сын как будто готов
принять чашу в руки с тем, чтобы исполнить волю Отца, в покорно-
сти, кротости и любви принимая предстоящее как совпадающее
и с Его собственной волей. Такова в своей основе логика отождеств-
ления правого ангела со Святым Духом, центрального с Отцом
и левого с Сыном.
Прервем, однако, нашу начинающую затягиваться процедуру иден-
тификации ангелов рублевской «Троицы». Сделать это пора ввиду
того, что наша процедура никуда не ведет. Но не потому, что Андрей
Рублев создал не вполне православную «Троицу», в которой едино-
сущность и единоприродность лиц Пресвятой Троицы непозволитель-
но превалирует над их ипостасностью, то есть личностным характе-
ром. Такому заключению противоречит самое простое и очевидное.
На рублевской иконе представлены ангелы не дублирующие друг
друга, не сливающиеся в нечто неразличимое. Каждый из ангелов
утверждает свое собственное бытие, но настолько не в самом себе,
в такой устремленности к другим ангелам, что у них как будто не
остается ничего своего, кроме этой устремленности. Каждый из
ангелов задумчив и погружен в себя, но это такая задумчивость
и погруженность, которая не отделяет ангелов друг от друга, а,
напротив, единит их. Они пребывают в сосредоточенности на одном
и том же —на чаше, которую придется испить Сыну, в Сыне же—еще
и Отцу и Духу.
От чаши все три ангела равно удалены, но и равно приближены
к ней. Чаша размыкает самодостаточность внутрибожественного бы-
тия в сторону тварного мира или еще предстоящего творения, за
которым последует грехопадение и искупительная жертва Иисуса
Христа. Единение Отца, Сына и Святого Духа, их взаимоотдача
и дар себя друг другу и делают неразличимым для человеческого
глаза каждое из лиц Пресвятой Троицы в их самотождественности.
Такое за пределами возможностей человеческого зрения как умозре-
ния и создания образов иконописцем, так и тем более тех, кто
обращен к иконе молитвенно или в качестве зрителя.
По существу, нам со всей несомненностью и ясностью в рублев-
ской «Троице» открыто одно—то, что мы вправе обозначить как
реальность любви. Ведь Бог есть не только Отец, Сын и Дух, но Бог
еще и любовь. В любви обнаруживается совпадение единосущности
184
Культура Древней Руси
и единоприродности Бога с Его трехипостасностью. Любовь ведь
и объединяет лица, делает их одним, и в не меньшей степени позво-
ляет каждому из лиц выразить именно самого себя. Узреть этот
последний момент вне человеческих возможностей, потому что чело-
веку недоступна полнота божественной любви. Человек способен
сколько угодно пристально вглядываться в лица рублевской «Трои-
цы», и так же сколько угодно раз он будет прозревать в одном лице
два других. Вроде бы вот оно, именно это лицо перед нами, но в чем
его «этость»? В способности вместить в себя других? «Этость» как
самотождественность лица дается изнутри самому лицу, во всех же
своих выражениях оно не наполнено и пронизано другими лицами.
Повторим, реальность любви открывается не для стороннего, пусть
даже и благоговейного, взгляда. В своей полноте она будет открыта
преображенному и обоженному человеку. Пока же Андрей Рублев
показывает нам «намек» на божественную любовь, ее обещание.
Правда, такое обещание одновременно есть и полнота любви по
человеческой мерке, доступная ему на самой высоте земной жизни во
Христе. Так увидел и воплотил величайший русский иконописец
образ Троицы, одновременно достигнув последней из доступных
русскому человеку вершин культуры «великого молчания». Не забу-
дем, что эта вершина сопряжена с любовью, что она и есть любовь,
как ее способна выразить культура. Не забудем тем более, что
вернуться к реальности любви нам еще предстоит в пока еще отдален-
ном заключении к книге.
Если икона представляет собой изображение самого средоточия
всего бытийствующего, первореальности в лице Бога или пребываю-
щих в Боге людей и ангелов, то храм—это образ мира Божия,
выраженный в его концентрированной существенности. Поэтому об-
ращение наряду с иконой еще и к храму способно прояснить нечто
наиболее значимое в древнерусской культуре, взятой в качестве
зрительного образа. И здесь начать нужно с того, что только в отно-
сительно позднее историческое время храм начал восприниматься
в его противопоставленности человеческому жилью как обиталище
божества. Исходно каждое человеческое жилище одновременно было
и храмом, во всяком случае элементы храма ему были присущи.
Ведь дом воспринимался не просто как некоторое укрытие от
неблагоприятного воздействия внешнего мира. Он представлял собой
воспроизведение космической реальности как целого. Дом и был
космосом по преимуществу. Основные моменты космически устроен-
ной жизни были представлены в нем со всей определенностью и на-
глядностью. Крыша дома сближалась и отождествлялась с небосво-
дом, пол—с землей, тогда как подполье (подвал, погреб) указывали
на подземный мир хаотического и демонического бытия. Не были
бытийственно и ценностно нейтральными и ориентированные по
Древнерусская культура как зрительный образ
185
сторонам света стены дома. Первобытность тоже знала «красный
угол» в доме, располагавшийся на востоке, стороне-стране и стране
солнечного восхода и порождающего начала, противополагаемого
западу—стороне-стране заката, мрака и смерти. «Красный угол»
дома—это место пребывания богов, когда они снисходили до присут-
ствия в человеческом жилье. В еще большей степени в доме сакрали-
зовалось место трапезы —стол или престол. За ним люди не просто
принимали пищу, но и соединялись в трапезе со своими богами.
(Коли хлеб на стол, так и стол престол.) Свое сакральное предназна-
чение имелось также у жертвенника и очага. Короче говоря, в доме,
обычном человеческом жилище, наличествовали все те основные
моменты и составляющие части, которые были характерны для язы-
ческого, а позднее христианского храма. Но храм еще более сгущен-
но и выразительно способен был выразить то, какой образ Бога
и мира жил в душе человека, каким он видел самого себя в мире
и в соотнесенности с Богом.
В том, что русский православный храм есть свидетельство не
только о Боге, но и об обращенном к Богу русском человеке, легко
убедиться, сопоставив древнерусское церковное зодчество с парал-
лельно ему развивавшимся зодчеством «западного Запада». И здесь,
наверное, нет более действенного и эффектного приема, чем попере-
менное обращение к лучшим образцам церковного зодчества эпохи
высокого Средневековья на Западе, с одной стороны, и предельным
достижениям древнерусской архитектуры, обнаружившим себя в по-
следнее столетие домонгольской Руси. Прием наш, конечно же, не
может не грешить слишком очевидной резкостью и прямолинейно-
стью сопряжений и противопоставлений, он намеренно игнорирует
полутона, нюансы и переходные, промежуточные моменты и явле-
ния. Но он же позволяет ухватить то самое главное, без чего никакие
полутона, нюансы и переходы не имеют никакого смысла.
Существует несколько расхожих определений, фиксирующих впе-
чатление от соборов высокой готики, производимое на современного
человека. Одно из них гласит, что готические соборы—это музыка
в камне. Другое фиксирует в них порыв в бесконечность. Можно
было бы припомнить и другие общеизвестные высказывания по
поводу своеобразия храмовой готики, которые также фиксируют са-
мое в них впечатляющее—преодоление тяжести, плотности и неподат-
ливости камня, из которого неизменно сооружались готические соборы.
Пойдем, однако, несколько далее расхожих определений готиче-
ских соборов и зададимся вопросом о том, в сторону чего создатели
соборов преодолевали тяжесть, плотность, неподатливость камня?
Ответ как будто вполне очевиден. Разумеется, в сторону легкости,
стройности, воздушности камня, ставшего узором и кружевом линий
и объемов, как бы ни мало не обремененных материалом, из которого
они созданы. Согласившись с подобным утверждением, попытаемся
сделать еще один шаг в направлении конкретизации нашего впечатле-
186
Культура Древней Руси
ния от готического храма и преодоления им камня в самом камне.
Для этого стоит обратить внимание на характер стройности, воздуш-
ности храмовой готики, ее узорчатости и пресуществленности в кру-
жева. Что все-таки нам предстоит в готическом соборе: некоторая
ясность и прозрачность, довершенность и самодовление? Понятно,
что там, где речь идет о музыкальности и порыве, нужны совершенно
другие характеристики. И вряд ли мы ошибемся, заговорив о некото-
рой таинственности, волшебности и чудесности готических соборов,
особенно явно выраженных в храмовых интерьерах, с их приглушен-
ным светом, многоцветьем витражей, теряющимися в вышине стрель-
чатыми сводами. Безусловно, готические соборы—создание людей
христианской культуры, в них выражено и устремление человече-
ской души к Богу, и присутствие Бога в мире. По этому пункту не
может быть двух мнений. Но вместе с тем готический собор—это
такой мир Божий, который далек от простоты, ясности и прозрачно-
сти. Он изобилен всякого рода проявлениями. Готический собор
прямо-таки потрясает мощью и многообразием выраженной им жиз-
ни. Она, эта жизнь, в то же время укрощена, а точнее, преобразована
и пресуществ лена в некоторую гармонию, которая и ощутимо присут-
ствует, и вместе с тем бесконечно ускользает в своей определенности.
В готическом храме мир Божий свидетельствует о величии и непости-
жимости Бога гораздо более, чем о его присутствии в своей открыто-
сти человеку. Бог вовсе не отвернулся от человека, не удалился
в свое неприступное и непостижимое внутрибожественное бытие. Но
обретение Бога требует от человека великих усилий и великого
напряжения сил. Эти усилия и это напряжение воплощены в самом
готическом соборе. Он есть не только мир Божий, но и поиск Бога
в мире, устремленность к Нему. На этом пути мир предстает в своем
величии и грандиозности, тем свидетельствуя о своем Творце. Можно
сказать и так: если у мира такой Творец, то и порыв и прорыв к Нему
человека тоже должны быть величественны и грандиозны. В готиче-
ском соборе оба этих момента совпадают.
Нельзя не отметить и еще один момент. Готический собор как
устремленность и порыв к Богу, как живое ощущение грандиозности
и непостижимой мощи Творца далеко не всегда и не во всем еще
и прорыв в качестве обретения Бога. В нем изобильно представлено
язычество. Не то язычество, чьи образы противостоят христианству,
борются с ним. Речь идет совсем о другом, о том, что в свое
постижение мира Божия, в выражении его своими человеческими
силами создатели готических соборов привносили реалии, сами по
себе вовсе не христианские. Часто они тяготели к воплощению не
столько чуда сотворения и существования мира Божия, сколько
к образам чудесного. Чудесное же, в отличие от чуда, не открывается
Богом человеку, а является плодом человеческой фантазии, который
сам человек принимает за подлинную реальность. В готических
соборах страшно обаятельны все эти фантастические фигуры, изо-
Древнерусская культура как зрительный образ
187
Реймсский собор. Западный фасад. 1260—1427
Фото, 1940-е гг.
188
Культура Древней Руси
щренные орнаменты, всякого рода декор. Но они же обволакивают
туманом, погружают в грезы вместо того, чтобы открыть нам живое
присутствие Бога в Его делах и тем более Его Самого.
В готическом соборе, настоящем соборном храме, всегда, хоть
немного, блуждаешь, а не только идешь прямым путем к Богу. Этому
способствует целый лес колонн, отделяющих друг от друга нефы,
обрамляющее основное пространство храма множество капелл, даже
высокие своды со сходящимися на них пучками нервюр, которыми
они как будто зарастают.
Наконец, соборный готический храм просто-напросто непомерно
велик и по своей площади и по высоте своих сводов. Не в том дело,
что в таких грандиозных пространствах человек себя начинает ощу-
щать крошечным и затерянным. Нет, конечно, подлинно состоявший-
ся готический собор всегда по-своему соразмерен приходящему в не-
го человеку. Но его соразмерность особого рода. Она проистекает из
того, что грандиозность и величие внутренних пространств собора не
подавляет человека, а восхищает его. «Так вот она, настоящая
с таинственным миром связь!» —вправе он воскликнуть в готическом
соборе вслед за поэтом. И связь эта состоит в том, что восхищенный
и восхищенный своим пребыванием в соборе человек начинает ощу-
щать себя на пути к Богу. Человеку предстоит долгое, трудное и все
же заманчивое восхождение к горним высям. И заманчивость его
в том, что сам путь, несмотря ни на какое блуждание, открывает ему
все новые горизонты и выси, наполняет душу новой, доселе неведо-
мой жизнью. Всего-навсего пройтись по трем, а иногда по пяти
нефам готического храма, заглянуть в каждую из множества капелл,
разве не означает это открывать себе заново каждый раз новые
миры? А обозрение готического собора извне с его башнями, порта-
лами, колоннами, аркбутанами, пинаклями, статуями—это ведь тоже
погружение в необозримое многообразие мира Божия, тоже путь
с неизбежными для него блужданиями, тоже восхождение к Богу.
Восхождение, которое не тождественно предстоянию и тем более
пребыванию в Боге. Готический храм не есть подобного рода свиде-
тельство ни в своем интерьере, ни в экстерьере. Если предстояние
и пребывание в Боге все же происходит в готическом соборе, то
осуществляется оно не самим собором. Сам собор свидетельствует не
об этом, не о достигаемом в таинстве обожении, а о движении к нему,
о преодолевании в себе только человеческого, которое еще не завер-
шено, хотя и несомненно происходит.
Обращение к древнерусскому православному храму после погру-
жения в созерцание готического собора и пребывания в нем, точно
так же как и, наоборот, обращенность к готическому собору сразу же
вслед за древнерусским, требует особых усилий переориентации
и смены установки. Взгляду, привычному к храмовой готике, наши
храмы кажутся самой воплощенной малостью, простотой, бедностью
и скудостью. Тот же, кто привык к древнерусским храмам, сроднил-
Древнерусская культура как зрительный образ
189
ся с ними, не может не поразиться какой-то прущей чрезмерности
готических соборов, едва ли не буйству этой бесконечно сложной
и многообразной архитектуры. И действительно, зачеркнуть в своем
уме готику тому, кто всей душой приемлет древнерусские храмы или,
в свою очередь, начисто отрицать последние впитавшему в себя все
обаяние готических соборов—сделать это проще простого. Слишком
очевидно, что такая простота в нашем случае неуместна. Для нас
единственно возможным остается постижение достоинств древнерус-
ской церковной архитектуры именно через выявление ее контрастной
противопоставленности храмовой готике.
Эта противоположность состоит далеко не только в относительных
простоте, незатейливости и малых размерах одних храмов и многооб-
разности, изощренности и грандиозности других. Когда смотришь на
древнерусский храм после готического собора, он поражает своей
очеловеченностъю. Готический собор способен вызвать какие угодно
ассоциации, только не ассоциацию с человеческим телом, точнее,
с образом человека. Глядя на его главный фасад, встречаешь некото-
рое подобие стремительно вознесенной скалы. От нее готический
собор, правда, отличает его прихотливая и многообразная расчленен-
ность. Поэтому под нашим взглядом вознесенная скала быстро пре-
вращается в нечто, не имеющее прямых аналогов в природном мире.
Готический собор как бы существует и не существует в земном мире.
Он сродни видению или прозрению миров иных. Впрочем, готиче-
ский собор—это и наш мир, но увиденный как восхождение к Богу
и благословляющее участие Бога в мирских делах. В каком-то смыс-
ле он не только взгляд человека на мир в обращенности к божествен-
ной реальности, но и видение мира божественным оком. В этом
двойном видении образ человека растворяется в видимом им. Он не
исчезает совсем, но видимое так превосходит его, что человеку как
будто не до себя в своей привычной человеческой образности, в том,
что как раз утверждает и удерживает древнерусский храм. Его
контур откровенно соотнесен с составляющими человеческого тела.
Это прекрасно сознавалось древнерусскими зодчими и вообще цер-
ковным народом. Иначе откуда именование купола храма главой,
барабана—шеей, закомар —плечами, аркатурного фриза—поясом.
Очевидно, что эти названия передают живое восприятие церковного
здания. Но точно так же за ними стоит исходная установка зодчих на
понимание воплощенного в храме мира Божия в его сопряженности
с человеческим образом.
С особой наглядностью сближенность с образом человека проявля-
ется в одноглавых древнерусских храмах. И не в каких-то там
периферийных и провинциальных сооружениях, где в великой про-
стоте зодчие могли воспроизводить в храмовом строительстве тради-
ционный первобытно-языческий архетип, в соответствии с которым
человек есть микрокосм, то есть некоторое однозначное соответствие
большому и всеобъемлющему космосу, так что концентрированное
190
Культура Древней Руси
Дмитриевский собор во Владимире.
1194-1197
Фото, 1990-егг.
Церковь Спаса на Нередице. Новгород.
1198
Фото, 1990 е гг.
воспроизведение последнего в храме неизбежно тяготело к антропо-
морфной образности. В том и дело, что свою главу, шею, плечи, пояс
имело такое блистательное столичное сооружение, каковым, несо-
мненно, является Дмитриевский собор во Владимире. Вторит ему
в своей антропоморфности новгородский ровесник Дмитриевского
собора —церковь Спаса на Нередице. У нее тоже были своя голова,
шея и плечи, хотя не было пояса. Зато шлемовидные купола новго-
родских соборов еще более, чем владимиро-суздальские, вызывают
ассоциацию храма с образом человека.
Не были здесь исключением и монументальные пятиглавые собо-
ры, такие как Успенский собор во Владимире. Его пятиглавие вовсе
не разрушает антропоморфный характер сооружения. Только в собо-
ре перед нами предстает образ не одного человека, а скорее нераз-
рывно спаянной между собой общности. В ней есть глава, чей образ
воплощен центральным куполом, и четыре подчиненных главе члена.
Впрочем, «подчиненность» в настоящем случае слово не вполне
адекватное. Точнее будет говорить о взаимопроникающем единстве
пяти существ, одно из которых первенствует по воздаваемой ему
остальными четырьмя чести. В результате Успенский собор —это
единое и даже единственное здание, но здание именно собора, то есть
Древнерусская культура как зрительный образ
191
Успенский собор во Владимире.
1158-1160
Фото, 1990-е гг.
собрания, в котором различные
голоса сливаются в хоре, имею-
щем самостоятельное и преиму-
щественное перед его участника
ми значение.
Хор это или единственный зву
чащий голос, но древнерусский
храм своей антропоморфностью
и микрокосмичностью провоциру-
ет вопрос: «Уж не присутствует
ли в нем языческое начало? Ведь
взаимоуподобление мира и чело-
века как макрокосма и микрокос-
ма, проглядывающее в древнерус
ском храме, само по себе является
языческой мировоззренческой реа
лией!» К подобному вопрошанию
имеет смысл отнестись как к не
более чем методическому сомне-
нию. Слишком очевидно, что об-
раз древнерусского храма, взятый
как целое, далек от всякого язы-
чества. Во всяком случае, гораздо
дальше готического собора. В последнем буйствует такая фантастиче-
ская образность, она настолько укоренена в древнем германском,
кельтском и другом язычестве, что наш древнерусский храм по
сравнению с собором высокой и особенно поздней готики, это сама
ясность и строгость жизни в Боге. Поэтому вопрос не в том, что
антропоморфность древнерусского храма определенно свидетельст-
вует о непреодоленном русской культурой язычестве, а в том, что
православный дух присутствует в древнерусском храме не вопреки
его антропоморфности и микрокосмичности, а, скорее всего, как раз
благодаря ей. Сказанное станет более очевидным, если обратить
внимание на то, в чем состоит гармония и совершенство лучших из
древнерусских храмов. Последние же несомненно были созданы
в Киевской Руси XII - начала XIII в. В их ряду далеко не последнее
место занимает уже помянутый Дмитриевский собор во Владимире.
Его небольшие даже по древнерусским меркам размеры, то, что он
в отличие от соседнего Успенского собора одноглавый, делает Дмит-
риевский собор предельным сочетанием скромности, простоты, не-
притязательности и совершенства. Поистине в этом соборе минималь-
ными из возможных образных средств достигается максимальный
эффект. Состоит же он в том, что здесь перед нами предстает такого
рода мир Божий, в котором непосредственно присутствует Бог. Это
мир, который, в отличие от готического собора, уже не устремлен
к Богу, не приносит, не возвращает Ему благоговейно свои дары,
192
Культура Древней Руси
а принял от Него самый главный, ни с чем не сравнимый и незамени-
мый дар. Определяется он ясно и просто одним словом. И слово
это—Боговоплощение. «Нас ради человек и нашего ради спасения»
Сын Божий сошел с небес и «воплотился от Духа Свята и Марии
Девы и вочеловечился». Боговоплощение освятило человека и чело-
веческое, а вместе с ним и весь тварный мир.
С Боговоплощением для человека открылась перспектива богосы-
новства по благодати и обожения. Теперь человеческий образ не
противостоит невидимому, непостижимому и невместимому в челове-
ка Божественному образу. На Фаворской горе Иисус Христос пред-
стал перед апостолами преображенным, то есть в своей Божественной
славе. Но от этого Он не потерял Своего человеческого облика
и образа. А это и означает, что человеческий образ вошел в самое
существо, в недра внутрибожественной жизни. Через него и в нем
выразимо равно и человеческое, и божественное.
Создававшие Дмитриевский собор во Владимире по-своему знали
и чувствовали эту непреложную истину христианства. Вот почему
для них храм Божий так очеловечен, настолько приближен к пропор-
циям человеческого тела. Ведь это так естественно, что жилище
и обитель несет на себе отпечаток того, кто в нем живет и обитает.
И не только живет и обитает, а хотя бы как-то с ним связан.
Не удержусь от примера самого повседневного и банального свой-
ства. Для современного человека второй по значимости «обителью»
после дома или квартиры стал автомобиль. Если в доме и квартире
акцентированы моменты хотя бы относительной человеческой стати-
ки и покоя, то с автомобилем все более неразрывно связана человече-
ская динамика, как сколько-нибудь значительное перемещение в про-
странстве. Но зато и как напоминает автомобиль того, кто его для
себя создал. Да, у него нет ни рук, ни ног, ни головы, ни туловища,
ни тем более лица с носом, ртом, глазами. Между тем с какой
легкостью мы улавливаем подобие автомобильного капота человече-
скому носу, лобового стекла—глазам, фар —ноздрям, багажника—
спине и т. д. Иначе и быть не может, если автомобиль создается
человеком для себя и под себя.
Но здесь, в уподоблении человеческой обители самому человеку,
нужно вовремя остановиться. Одно дело такая утилитарная вещь,
как автомобиль, и совершенно иное—храм. Антропоморфность хра-
ма менее всего уместна как прямое и непосредственное отражение
человеческого образа, взятого во всей его непосредственной повсе-
дневности и обыденности. И надо сказать, что к ним Дмитриевский
собор не имеет никакого отношения. Его антропоморфизм—это толь-
ко сближенность с человеком, указание на то, что между миром,
человеком и Богом нет пропасти или бесконечного расстояния. Бо-
жий мир подобен человеку потому, что тот и другой тварны, что
человек ощущает свое сродство с миром, который к тому же пребыва-
ет в Боге. Конечно, не в своей данности и наличности, а в заданности
Древнерусская культура как зрительный образ
193
Фасад храма Согласия в Агригенте. Середина V в. до н. э.
Фото, 2000
и перспективе предстоящего в конце времен обожения. Дмитриев-
ский собор, как и другие лучшие древнерусские храмы, создан
именно в качестве осуществления реальности, точнее, как наглядно
представленный образ единения мира человека и Бога. Он пребывает
в вечности, в которой разрешается временное бытие.
Такой результат достигается не просто за счет удивительной сораз-
мерности храма, его благородной простоты, заставляющей вспомнить
древнегреческие храмы классической эпохи. В этих храмах сораз-
мерность и благородная простота как будто указывают на самих себя.
Древнегреческий храм являет собой такое совершенство божествен-
ности, в которое можно войти, но в которое тебя никто не зовет и не
приглашает. Перед ним стоишь в изумлении и едва ли не в благого
вейном восхищении, как перед доступным для тебя в своем совер-
шенстве и божественности. Их можно впустить в себя точно так же,
как и войти в них. И тогда ты ощутишь, как прекрасен мир в своем
целом, в своей стяжке и существенности, прекрасен и ты сам в своей
отрешенности от себя только человека и погруженности в созерцание
храма, в его линии, пропорции, ритмы. Для обращенного к древне-
греческому храму уже ничего иного нет, кроме самого храма-мпра.
Но что такое он сам, если не красота, гармония, истина, существую-
щие сами по себе и вбирающие в себя человеческую душу, его
личность, когда она соприкасается с храмом? Созерцание древнегре-
194
Культура Древней Руси
ческого храма между тем не насыщает, не утоляет голод души, она
достигает только рода полноты и совершенства, когда ей ни до кого,
в том числе и не до самой себя, нет дела. Какое там дело до себя или
до другого, если нас по последнему счету и не существует иначе, как
в нашей способности созерцать красоту, гармонию, истину, бытийст-
вующих в качестве некоторой безличной, вещной и динамической,
энергийной реальности.
По сути, такое же впечатление оставляет и лучшее создание
римского архитектурного гения —Пантеон. В отличие от грече-ского
Парфенона или других храмов, в Пантеоне отчетливо выражена
единственная лицевая сторона—фасад. Он образуется фронтоном,
держащимся на колоннах. За треугольником фронтона проступает
прямоугольник аттика, над которым нависает овал кровли. Овал же
угадывается по сторонам фасада. Это если смотреть в фас. В полу-
профиль в нем особенно подчеркнута соотнесенность овального,
прямоугольного и треугольного геометризма. Вглядываясь в римский
храм, потрясенный его какой-то сверхчеловеческой соразмерностью,
начинаешь задавать себе один и тот же вопрос: «Какая все-таки тайна
заключена в этой соотнесенности овала, прямоугольника и треуголь-
ника и моделируемых ими объемов? Ведь не чистая это геометрия,
если линии и пропорции так волнуют тебя?!»
Что тут скажешь? — конечно, не чистые линии и пропорции. Они
охватывают и выражают собой —кого же? В конце концов, сотворив-
шего мир Бога. Точнее же, то, что обличает Божественное присутст-
вие и Божественное начало в мире. Но это присутствие дано нам
и ощутимо нами не непосредственно. Мы прозреваем творение в его
последней существенности, но не Творца и даже не образ и подобие
Бога-человека.
Совсем не случайно, что отчетливо выраженная «фасадность»
Пантеона, наличие у него единственного фасада если и приближает
Пантеон к человеку, то вовсе не очеловечивает его. Он остается
вполне вещной и энергийной, но внеличностной реальностью. Соз-
данный под и для человека, Пантеон впускает его в себя опять-таки
при условии самоотречения в созерцании линий, форм и объемов,
впускания их в свою душу и растворения души в формах, объемах
и линиях.
Если с такой же решимостью и резкостью, как и в случае с готиче-
ским собором, перевести взгляд с Парфенона и Пантеона на Дмитри-
евский или Успенский собор во Владимире, то последние не могут не
показаться нам чуть наивными и простоватыми. В их стройности
и непритязательной принаряженности увидятся трогательные и чуть
беспомощные попытки простеца и простолюдина выглядеть вполне
благолепно. Но простецы-то они простецы, да только не всякая
простота хуже воровства. В нашем случае ей оказывается открытым
недоступное по праву гордым аристократам—греческому Парфенону
и римскому Пантеону.
Древнерусская культура как зрительный образ
195
Фасад храма в Сегесте. Конец V в. до и. э.
Фото, 2000
Пантеон. Рим. II в.
Фото, 2000
196
Культура Древней Руси
Когда смотришь на Дмитриевский или Успенский владимирский
соборы, то возникает впечатление их антропоморфности, отчетливо
разведенное с микрокосмичностью. Микрокосм в полном соответст-
вии макрокосму замкнут на себя, никого и ничего, кроме собственно-
го бытия, он не знает и знать не хочет. Таков вовсе не антропоморф-
ный, но микрокосмичный Парфенон. Он впускает в себя человека
в виду соразмерности его пропорций человеческим, но он же и отме-
няет человека, погружая его в созерцание этих пропорций, заставляя
резонировать себе. Иное дело владимирские соборы. Они смотрят на
тебя и встречаются с тобой. У них как будто есть взгляд, который
пересекается с твоим взглядом.
Трудно однозначно объяснить, за счет чего достигается такой
эффект. Но явно и благодаря прорезям в барабанах храмов и в вер-
хних частях их основных корпусов под закомарами. Эти прорези,
узкие и длинные, буквально ничего общего не имеют с человеческими
глазами. Однако они размыкают непроницаемость и неприступность
барабанов и стен. Сходный эффект возможен и в храмовой готике,
но там прорези разуплотняют все сооружение. Не то, чтобы оно
остается слепым или погруженным в само себя. Но в нем не возника-
ет и той определенности взгляда, которая есть в древнерусских
храмах. Готический собор подъемлет очи горе, его взор затуманен
неизмеримой далью и высью присутствия Бога, тогда как в русском
храме ощутимо здесь и теперь свершающееся богоприсутствие, совпа-
дение времени и вечности. Они становятся реальностью за счет
упомянутого «взгляда», исходящего не только от обращенного к хра-
му зрителя, но и от самого храма.
Как и почему внешне ничего общего не имеющие с глазами
прорези в храмовой стене и барабане создают эффект обращенности
во взгляде—это не тот вопрос, на который существует простой
и ясный ответ. И все же можно указать на совпадение в Дмитриев-
ском или Успенском соборе плотности камня и его разомкнутости за
счет прорезей. Этим совпадением достигается то, что камень стано-
вится из неподатливого и непроницаемого осязаемо-телесным, его
хочется потрогать и даже погладить. Прорези же образуют не просто
провалы и отверстия в барабане и стенах, они собирают весь корпус
храма в такого рода сосредоточенность, что становится очевидным—
он есть не материальная и вещественная масса, а именно тело. Тело
же отличается от любой другой вещи тем, что является вместилищем
души, и не просто вместилищем, но еще и выражает собой душу,
представляет собой ее внешнее, наглядное выражение.
В принципе, телесность храма была бы возможна как некоторая
равновесность с душой, когда в теле исчерпывающим образом выра-
жена душа, последняя же есть такая реальность, которая вполне
допускает исчерпывающее воплощение и овнешнение. Такова, ска-
жем, телесность античной скульптуры классического периода. Но,
как это ни покажется странным, древнерусский храм, будучи концен-
Древнерусская культура как зрительный образ
197
трированным воспроизведением не самого человека, а мира, который
сотворен Богом и в котором присутствует Бог, несравненно более
одушевлен, чем античная статуя. В нем душа первенствует над телом,
ведет ее за собой, задавая ей свою душевную меру.
Сказанное подтверждается той самой разомкнутостью и обращен-
ностью вовне, к другому, «взгляда» Дмитриевского или Успенского
собора во Владимире. Их обращенность вовне при этом носит дву-
единый характер. Во-первых, они обращены к нам, людям, видят
нас, замечают и призывают к общению с собой, точнее же, уже
общаются с нами. И во-вторых, в древнерусских соборах, несомнен-
но, присутствует еще и обращенность к Богу. Своими закомарами,
барабанами, куполами они тянутся ввысь, к небу. Но не в том
готическом смысле, что им присущ порыв—из конечного в бесконеч-
ное, из временного в вечное. Тяготение ввысь Дмитриевского и Ус-
пенского соборов—это совпадение устремленности и достигнутости
устремления. Оно не тщетно и не бесконечно в своем непрестанном
движении. На устремление мира Божия, всей твари в лице человека
к Богу в древнерусском соборе Бог отвечает встречным движением.
Он встречается с человеком, обоживает его.
Отсюда такая просветленность древнерусских храмов, которой
может быть не чуждо и ликование, как это имеет место прежде всего
во владимиро-суздальской церковной архитектуре. Древнерусские
храмы воплотили в себе и выразили собой грядущий или достигаемой
на вершине подвига святости новый, преображенный мир, который
будет состоянием райского блаженства. Воплощение и выражение
в них этого преображенного мира состоялось, конечно же, не во всей
своей полноте и довершенности. Подобное невозможно уже потому,
что райское блаженство нельзя наблюдать со стороны, не будучи
причастным ему. И древнерусский храм знает очень скромную меру
воплощения в обоженный мир и обоженность. Ему дан сам момент
встречи Бога и человека через мягкий и неназойливый призыв храма
к Богу войти в него, так же как через обращенность выраженного
в храме всего тварного мира к своему Творцу, обращенность, кото-
рая находит отклик у Творца.
Сама по себе встреча человека с Богом—дело необозримо великое,
но, помимо самого момента встречи, есть еще и собственно богообще-
ние. Для его же вполне адекватного именования существует только
одно-единственное слово—«любовь». О ней уже шла речь примени-
тельно к древнерусской иконе и, в частности, к рублевским «Спасу»
и «Троице». Храму такая же выраженность полноты любви между
Богом и человеком, тем более любви как существа божественной
жизни, недоступна. И это не случайно. Ведь храм—это Божий мир,
творение Бога, которое по великому Его снисхождению и милосер-
дию стал домом Творца и творения, но не самими Творцом и Творе-
нием в их полноте. Нужно отдавать себе отчет в том, что всякий дом
как жилище есть не только убежище и строение для жизни, он еще
198
Культура Древней Руси
и сама жизнь, разворачивающаяся в доме. Но если всякое жилище
является не только обставленностью жизни его обитателя, ее услови-
ем, а также самой его жизнью, то оно еще и сам жилец. Свидетельст-
во о нем, воплощение его действий и, наконец, содержательная
наполненность жизни, которой живет жилец.
При этом, однако, жилище, будучи «жильцом», является прежде
всего подступом к самому жильцу в его овнешненности, а не в сокро-
венных глубинах и последней существенности. Вот почему и храм
может свидетельствовать о Боге и человеке, лишь подводя к ним,
раскрывая их и раскрываясь в них не далее некоторого предела,
который остается непереходимым. За пределами собственно храма
как здания и строения остаются находящиеся в нем иконы, мозаика
или росписи. Но они в то же самое время еще и есть сам храм.
Храм—на переходе к тому, что в нем свершается внутреннего и со-
кровенного, находящегося уже по ту сторону всякого овнешнения
и воплощения. Внутреннее же и сокровенное—это происходящее
в храме богослужение и прежде всего Божественная литургия, во
время которой совершается таинство святого причащения. Она уже
не храм, а то, для чего он существует, к чему приуготовляет, куда
ведет и во что преобразуется. В конце концов богослужение и отме-
няет храм (как жилище), и продолжает, и разрешает его в реальность
на этот раз полноты и самоценности. Последняя немыслима без
любви и сама есть любовь. Высшее достоинство же древнерусского
храма в том, что он образует прямую линию с тем, ради чего он
существует, находится с ним в гармонии и единстве в такой мере,
которой не знала западная готика, как и вообще западная церковная
архитектура.
***
В русском церковном каменном зодчестве поражает одна особен-
ность, существенная для понимания всей русской культуры. Его
вершины и безусловные образцы были созданы еще в самом начале
исторического пути Руси-России. Не в Московской Руси и, уж
конечно, не в Петербургской России, а еще в Киевский период.
Киевская и Новгородская Софии—это XI в., шедевры Владимиро-
Суздальского церковного зодчества относятся к XII в. По любым
меркам первые века тысячелетней национальной культуры—это ее
архаика, тогда как цветущая сложность и предел возможного в куль-
турном созидании еще впереди. У нас в отношении архитектуры все
сложилось иначе. После исторического и культурного безвременья,
последовавшего за татарским погромом, когда начала подниматься
и утверждать себя Московская Русь, в ней возникла церковная
архитектура, несомненно высокого достоинства, но предел, достигну-
тый Киевской Русью, не только не был перейден, к нему церковное
зодчество разве что приблизилось на незначительное расстояние.
Главное же состоит в другом. На фоне церковного зодчества Киев-
Древнерусская культура как зрительный образ
199
ской эпохи высокие достижения
Московского периода выглядят
в ряде случаев если и не прямо
провалом (такое сказать явно было
бы очень сильно хватить через
край), то все же некоторым укло-
нением от уже обретенного, уте-
рей драгоценного и жизненно важ-
ного для русской культуры опыта.
Чтобы пояснить это наше об-
щее утверждение в самом его су-
ществе и вместе с тем с наглядной
конкретностью, наверное, нет вы
хода лучшего, чем обращение
к знаменитому храму Покрова
в Москве на Красной площади,
более известному как храм Васи-
лия Блаженного. Вне всякого со-
мнения он представляет собой
шедевр каменного зодчества Мос
ковской Руси, его высшее дости-
жение. Именно поэтому особенно
важно разобраться с тем, что дос-
Покровский собор (храм Василия Бла-
женного). Москва. 1555—1561. Верхний
ярус юго-западного фасада
Фото, 1980-е гг.
тигнуто сооружением и последую-
щей достройкой Покровского собора русской культурой, и, в частно-
сти, в вопросе о том, в какой мере свершившееся достижение
одновременно является существенной потерей, блокируя собой дру-
гие возможности, присутствовавшие в древнерусской культуре.
Если смотреть на Покровский собор, воспринимая его как целое,
не вдаваясь особо ни в какие детали, то никаких ассоциаций с храма-
ми Киевской Руси вовсе или почти не возникнет. В Покровском
соборе и следа не осталось от строгости, простоты и ясности Дмитри-
евского или Успенского собора во Владимире. Весь он затейливость,
пестрота и яркость, хотя и не лишенные своей архитектурной логи-
ки. Для нас здесь между тем по существу важен только один воп-
рос: «Что выражают собой отмеченная затейливость, пестрота и яр-
кость, а с ними еще и преизобильная многофигурность громоздящихся
друг на друга столпов, галерей, крылец, куполов, приделов храма
Покрова? »
Если вспомнить антропоморфность владимирских храмов, такую
значимую для них, то здесь она не отсутствует вовсе. Девять столпов,
восемь барабанов, один шатер и девять же куполов Покровского
собора достаточно внятно напоминают человеческие фигуры, во
всяком случае те, которые окружают центральный, переходящий
в шатер столп. Но что это за человекоподобные существа столпились
вокруг центральной, все-таки не вполне чуждой человеческому обра-
200
Культура Древней Руси
Покровский собор (храм Василия Бла-
женного). Москва. 1555—1561. Верхний
ярус северо-восточного фасада
Фото, 1980-е гг.
зу фигуры? Они разряжены в пух
и прах, особенно нарядно и тща-
тельно отделаны их головные убо-
ры. Несмотря на свою лукович-
ную форму, каждый из головных
уборов неизменно напоминает вос-
точную чалму или тюрбан. Он во-
все не довершает голову, украшая
ее, а нависает над ней, делая из
головы носителя чалмы-тюрбана
подставку. У такой головы, есте-
ственно, не может иметь решаю-
щего значения лицо и тем более
глаза. Оконца-прорези на бараба-
нах Покровского собора нельзя
сказать чтобы вовсе не напомина-
ли глаз. Собор вовсе не слеп, но
глядит он на нас то ли пустыми,
то ли не замечающими нас непро-
ницаемыми глазами-щелками. По-
кровский собор думает свою думу
(если она у него есть), нам недос-
тупную, неизвестно, касающуюся
ли нас. Мы же вглядываемся в не-
го, любуемся и восхищаемся им, правда, без всякой попытки встречи
с собором как живым лицом.
Нас, как когда-то в древнегреческом храме, восхищают линии,
пропорции, объемы, на этот раз еще и цветовые ритмы и соотношения
собора. Восхищение наше, впрочем, не лишено оттенка снисходитель-
ности или умиления представителя так называемой «образованной»
публики действительно яркими и вместе с тем гармоническими прояв-
лениями простонародности. Слишком уж разукрасился Покровский
собор, простодушно полагая, что чем больше яркости, затейливости
и всякого изобилия, тем лучше. Оно действительно чудо как хорошо,
что вся пестрота, множественность овальных, остроугольных, прямо-
угольных, многоугольных линий и объемов собора образуют некото-
рое целое, не имеющее ничего общего с хаосом случайного смешения
разнородных реалий. Вспомним между тем, что Покровский собор
именно храм, то есть реальность, соотнесенная как с человеком, так
и Богом. Попытаемся понять, как именно.
Человеку, глядящему на Покровский собор, раскрывается много-
образный мир, который, благодаря изобилию соборных столпов,
барабанов и куполов, предстает перед ним неким городом-миром,
нашим русским аналогом античному полису, который для грека
и был образом и подобием космоса, его конкретным осуществлением.
Наш русский «полис», разумеется, никаких ассоциаций с антично-
Древнерусская культура как зрительный образ
201
стыо вызвать не может. Едва ли наши предки в XVI—XVII вв.
подозревали, что это такое. Для них живым и осмысленным был
образ совсем другого города—Иерусалима земного, в котором был
распят Иисус Христос, где находится центр земли, и одновременно
Иерусалима небесного. Сознательная ориентация при построении
многостолпного и многоглавого собора на священный город—средо-
точие мира и сам мир в его существенности и освященности, пред-
ставляется несомненной1.
Все дело, однако, в том, как виделся древнерусским зодчим
священный город, он же мир Божий. У нас, людей начавшегося
XXI в., во всяком случае, никакого впечатления о присутствии в Пок-
ровском соборе опыта христианства не возникает. Собор насквозь
фольклорный, в нем господствует, хотя и укрощенная и гармонизи-
рованная, фольклорная стихия. И это несмотря ни на какую совер-
шенно достоверно выявленную христианскую знаковость и символи-
ку. Она и в наличии крестов на главах церквей собора, и в том, что
в плане он образует два креста—прямой и диагональный, и во
многом другом.
Но стоит нам сосредоточиться на самом главном, на вопросе о том,
присутствует ли Бог в храме Покрова, встречается ли в нем человек
с Богом, и вопрос повисает в воздухе. Не вообще, а для православно-
го христианина. Какой-то уж слишком пестрый в своем многообра-
зии мир Божий представляет собой Покровский собор. Это мир,
который мы созерцаем извне как некоторую диковинку или погружа-
емся в него как в собственную фантазию. В нем нет ни готической
устремленности, порыва и, несмотря ни на какую даль и высь,
прорыва к Богу. Точно так же не ощутимо в Покровском соборе
и присутствие Бога. Нет, он вовсе не обезбожен. Бог снисходителен
к представленному в соборе миру Божию. Таким его увидел и нафан-
тазировал русский человек в XVI—XVII вв. Ну и пусть себе пораду-
ется и возвеселится. Русский человек прост и неискушен, несмотря
на всю свою одаренность. Присутствие Бога и Божий мир он не очень
отличает от своих разбавленных фантазией впечатлений. Ему это не
очень в укор. Все-таки усмотрел и воплотил в Покровском храме
русский человек в некотором смысле бытийствующее—собственное
видение и ощущение мира Божия, искреннее и открытое Богу, хотя
и не вполне отличающее Его от своих фантазий. Фантастично же
в Покровском соборе представление о том, что мир как священный
град, преображенный присутствием Бога есть некоторое безличное
целое. Оно тянется к Богу, как бы растет к Нему и Им. Но чего нет
в храме Покрова, так это встречи человека и мира с Богом. Они
произрастают и животворятся Им как некоторой благодатной силой,
не воспринимая Бога, как тварная личность воспринимает личность
Творца.
1 Брунов Н. И. Храм Василия Блаженного в Москве. М., 1988. С. 19.
202
Культура Древней Руси
Очень характерно, что Покровский собор не знает такой привыч-
ной для готических и древнерусских храмов уравновешенности экс-
терьера и интерьера, и тем более нашего, проявившегося во всей
полноте во владимирских соборах, соответствия декоративного
и конструктивного начал. Храм Покрова весь вовне. Он предполага-
ет восхищенное созерцание его как некоторого памятника, монумен-
та, впускает же в себя неохотно, разочаровывая теснотой и скудо-
стью внутренних пространств своих церквей, вдруг обнаруживающих
полное несоответствие богатству и размаху экстерьера. Невольно
закрадывается подозрение о том, что одна только непременно обяза-
тельная традиция сооружения православных храмов не дала возмож-
ности зодчим окончательно овнешнить Покровский собор, лишив его
внутренних пространств.
В самом деле, глядя на столпы, барабаны и церковные купола
собора, невозможно себе представить адекватного им интерьера.
Самой своей конституцией и характером своего декора они отрицают
интерьерность или же сводят ее к чему-то таинственному, пребываю-
щему во мраке или сумерках, мало что позволяющих различить.
Именно последний вариант интерьерности был реализован в церквах
Покровского собора. Они суть некоторое нутро, сердцевина, ядро,
где во мраке и сокровенности находится источник жизни и бытия,
откуда все сущее произрастает и рождается.
Ничего не скажешь—это вполне языческое представление об ис-
точнике и начале всего сущего. Оно вполне чуждо христианству.
И уж, конечно, при создании Покровского собора и речи не могло
идти о сколько-нибудь осознанной языческой установке зодчих.
В язычество они впадали. И не впадали даже—оно маячило на
горизонте, как провал и неудача веры и обращенности к Богу. Самое
во всем сказанном безотрадное состоит в том, что Покровским
собором древнерусское церковное зодчество не начиналось, а, напро-
тив, завершалось. Не забудем, что этот собор, сооруженный в сере-
дине XVI в., до конца XVII в. достраивался дополнительными эле-
ментами и строениями, которые лишь закрепляли и усугубляли
первоначально заявленное в качестве доминанты в Покровском собо-
ре. В результате всякого рода достраивания сделали собор еще более
декоративным и нарядным, а значит, и овнешненным, не предпола-
гающим личностной собранности и сосредоточенности, предваряю-
щей встречу с Богом и дающей возможность ей состояться.
Глава 5
Культура Киевской Руси
Когда началась древнерусская культура
Вопрос о том, когда начался русский народ, к какому веку
отнести первые проявления его культуры, последние годы вызывает
у ряда историков искушение отодвинуть начало Руси как можно
далее в глубь столетий. За такими попытками могут стоять различ-
ные мотивы. Но во всяком случае молчаливо предполагается: чем
древнее народ, тем большим достоинством он обладает, тем богаче
его культура. Между тем нам, русским, в отличие от многих народов,
хвалиться поражающей воображение древностью своей культуры не
приходится. Всякие же попытки накинуть ей возраст упираются
в одно непреодолимое препятствие. Историческая память народа, его
знание собственной истории, ее событий и деятелей не идет далее
IX в. Точно так же нам практически нечего сказать о памятниках
русской культуры более отдаленного, чем IX в., времени. Конечно,
можно ссылаться на то, что археологические раскопки в Старой
Ладоге, Новгороде или Киеве подтверждают: здесь задолго до IX в.
существовали славянские поселения предков по прямой линии тех же
самых ладожцев, новгородцев и киевлян. Весь вопрос, однако, в том,
есть ли у нас право относить Ладогу, Новгород, Киев до IX в.
к русским городам и русской культуре. Если мы решим его с великой
легкостью в пользу большей древности нашей культуры, такое наше
решение будет игнорировать то обстоятельство, что сам русский
народ практически ничего о своих VIII, VII и т. д. веках не помнит,
и нам приходится искусственно напрягать его историческую память.
Живой, органической связи с предшествующим IX в. временем
у русского народа нет. Нет ни летописей, ни эпоса, ни преданий.
А это значит, что до IX в. не было и русского народа. На землях
будущей Руси еще в VIII в. жили люди, чьи потомки позднее станут
русским народом, но были они восточно-славянскими племенами, из
204
Культура Киевской Руси
которых мог сложиться, а мог и не сложиться русский народ и его
культура. Жизнь этих племен представляла собой русскую предыс-
торию и предкультуру, истории же и культуре еще предстояло
состояться.
Знаменательно, что наша отечественная летопись «Повесть вре-
менных лет» начинает собственно историческое, с фиксированными
датами, повествование о Руси 852 г. «В год 6360 (852), индикта 15,
когда начал царствовать Михаил, стала прозываться Русская земля.
Узнали мы об этом потому, что при этом царе приходила Русь на
Царьград, как пишется об этом в летописании греческом. Поэтому
с этой поры начнем и числа положим»1. Для нашей истории первой
зацепкой оказалось упоминание Руси греками, ее прикрепленность
к царствованию византийского императора. Сама для себя Русь до
этого момента ничего не значила. Ее бытие начинается с бытия для
другого, для исторического народа, чья история укоренена в глуби-
нах столетий. Мы запомнили себя потому, что нас помянули греки.
Для только еще начинающего свою историю народа это нормально.
Она не может быть чисто внутренней уже потому, что на Руси в это
время нет письменности, нет и ощущения направленности историче-
ского времени. Пока ему неоткуда и некуда идти. Другое дело,
прикрепленность к Византии и причастность к ее истории, здесь
можно обрести и свою историю.
Как ее обретает Киевская Русь, явствует из прерванной нами
цитаты: «...от Адама и до потопа 2242 года, а от потопа до Авраама
1082 года, от Авраама до исхода Моисея 430 лет, от исхода Моисея
до Давида 601 год, от Давида и от начала царствования Соломона до
пленения Иерусалима 448 лет, от пленения до Александра 318 лет, от
Александра до рождества Христова 333 года, от Христова рождества
до Константина 318 лет, от Константина же до Михаила этого
542 года. От первого года Михайлова до первого года княжения
Олега, русского князя, 29 лет, от первого года княжения Олега, с тех
пор как он сел в Киеве, до первого года Игорева 31 год, от первого
года Игорева до первого года Святославова 33 года, от первого года
Святославова до первого года Ярополкова 28 лет, княжил Ярополк
8 лет, Владимир княжил 37 лет, Ярослав княжил 40 лет. Таким
образом от смерти Святославовой до смерти Ярославовой 85 лет, от
смерти Ярослава до смерти Святополка 60 лет»1 2.
Привести этот пространный список от праотца Адама до киевского
князя Святополка имело смысл ввиду того, что в нем наглядно
и точно демонстрируется наличие у русских людей исторически кон-
кретного самосознания. Они соотносят себя первоначально с ключе-
выми точками Священной истории, затем повествование обращается
к римско-византийским императорам и, наконец, плавно переходит
1 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1. С. 73—75.
2 Там же. С. 74—75.
Когда началась древнерусская культура
205
к русским князьям. В результате Русь не только знает, сколько ей
лет, но и каков ее возраст в соотнесенности с мировой историей.
Надо сказать, что в приведенном хронологическом построении нет
ничего своеобразно русского. Так же выстраивали собственную хро-
нологию и на католическом Западе, и на византийском Востоке.
Существенно, однако, вовсе не это, а то, что русский летописец
создает свою хронологию в качестве человека, принадлежащего к за-
падной культурной традиции. Причем—и это здесь самое существен-
ное — Киевская Русь локализуется во времени именно в соотнесенно-
сти с остальным Западом, а не только со всей историей. В этом
состоит обнаружение существования Руси еще и для самой себя.
У греков были Константин и Михаил, у иудеев Давид и Соломон.
У нас же, русских, Олег и Святослав, Владимир и Ярослав. Знать,
и мы существуем не так, как произрастает, зеленеет и жухнет трава.
Наше существование от смысла и отмеченности. Оно укладывается
в ритмы существования мира, в котором совершается Божий замысел
о мире.
Никакой другой смысловой канвы никто из русских людей глубо-
кой древности не предложил. Никакой другой устойчивой традиции
самоосмысления не создал. Поэтому и говорить о какой-то другой,
помимо собственно древнерусской, хронологии первых шагов нашего
исторического пути бессмысленно. Другое дело, что для появления
новой, западной по типу, национальной культуры недостаточно было
значить нечто в глазах другого народа и определиться в большом
историческом времени. Наряду с тем, что Русь запомнили, и она
запомнила себя, необходимым было еще и наполнение своей памяти
происшедшими в ней событиями—исходными точками своей исто-
рии. Каковы они—вполне очевидно. Это призвание варягов (862),
захват князем Олегом Киева (882) и крещение Руси (988).
Сложность здесь лишь в том, какую из трех вех считать основопо-
лагающей датой русской истории и культуры. У каждой из них есть
свои права на первенствование. С 862 г. летопись начинает княжение
Рюрика, князя, основавшего династию, неизменно правившую Русью
вплоть до смерти в 1597 г. царя Федора Иоанновича. Но непрерыв-
ную линию русской государственности начинать с Рюрика вроде бы
рано. Ему был подвластен только север Руси. А вот Олег становится
первым киевским князем, чье княжество объединило булыную часть
восточно-славянских племен и земель. Так что взятие им Киева—
удобная точка отсчета русской государственности.
Что касается русской культуры, то возникновение Киевского кня-
жества не могло не стать мощным импульсом ее появления и разви-
тия. Однако, как и призвание варягов, утверждение Олега в Киеве
и покорение восточно-славянских племен было само по себе делом
обратимым, оно могло кануть в Лету, как и предшествующие собы-
тия и деяния в землях восточных славян. Пока еще некому и нечему
было закрепить в исторической памяти правление Рюрика или Олега,
206
Культура Киевской Руси
историческая память отсутствовала. Она возникла с крещением Руси.
И не только потому, что с ним связано появление у наших предков
письменности. Сама по себе письменность могла возникнуть и авто-
хтонно, в самой восточно-славянской среде. Но что бы она тогда
зафиксировала, связанное с княжением Рюрика и Олега? Вполне
возможно, что ничего исторически внятного и определенного. Воз-
никшая письменность и на Востоке, и на Западе вовсе не обязательно
устремлялась к фиксации человеческих деяний. Их могли счесть
недостойными внимания, или, например, все связанное с действиями
царственных особ мифологизировалось, никак не образуя историче-
ского времени.
Крещение Руси помимо письменности дало ей возможность соот-
нести себя с мировой историей, как она тогда понималась, а следова-
тельно, запомнить происшедшее в 862 и 882 гг. У русской культуры
возникло самосознание, память о самой себе в качестве соотнесенно-
сти с Русью значимых событий и деяний. Ведь Русь вначале была не
более чем принципом исходящих из Киева действий, определяющих
собой жизнь разбросанных на огромных пространствах Восточной
Европы родственных, но и очень разных племен. При этом самосоз-
нание и память о себе, возникшие с крещением Руси, сделали
возможным начать русскую государственность и русскую историю
с 862 или 882 г. не случайно и не произвольно. Именно киевский
князь крестил Русь и поэтому стал святым и равноапостольным
князем. За этим обстоятельством просматривается то, что призвание
варягов и основание Киевского княжества стали событиями, предва-
ряющими крещение Руси, делающими его возможным.
В свою очередь крещение оправдывает и освящает высшим смыс-
лом возникновение Киевской Руси. Что ни говори, а сама по себе
Киевская Русь оставалась еще полуварварским и полугосударствен-
ным образованием, чья отмеченность в западной истории до креще-
ния была связана с походами на Константинополь и войнами с Ви-
зантией. Само того не сознавая, Киевское княжество при Олеге,
Игоре и особенно Святославе стремилось сыграть в западной истории
роль, сходную с той, которую за 500—600 лет до этого сыграли
германские племена, вторгшиеся на территорию Римской империи.
Крещение же сделало Русь из грозного противника Византии, подры-
вающего своими набегами и без того слабеющую мощь опоры христи-
анства на Востоке, одной из многочисленных метрополий Константи-
нопольского патриархата. Военно-политически с крещением Русь
умалилась, но этим умалением она создала себя как необратимую
культурно-историческую реальность.
Сказанное до сих пор сводится к тому, что русская история
и культура начались двояко. Через основание государства, точнее
же, создание пока еще полугосударственного образования и через
крещение Руси. И здесь необходимо подчеркнуть, что так называе-
мое призвание варягов 862 г. и крещение Руси 988 г.—для русской
Когда началась древнерусская культура
207
культуры не просто условные вехи, позволяющие ориентироваться
в историческом времени. Каждое из них выразило собой нечто устой-
чиво характерное для Киевской Руси и всей тысячелетней Руси-
России.
Состоявшееся, согласно единственному на этот счет источнику—
«Повести временных лет», в 862 г. призвание варягов давно обеску-
раживает историков своей необычностью и странностью. Привычным
для начала государственности является завоевание одним народом
другого. Но где это видано, задавалось вопросом множество людей,
обращавшихся к истокам русской государственности, чтобы государ-
ство начиналось так, как описано в летописи? Сказано же там
следующее:
«В год 6370 (862). Изгнали варягов за море, и не дали им дани,
и начали сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал
род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом.
И сказали себе: „Поищем сами себе князя, который бы владел нами и
рядил по ряду и по закону". И пошли за море к варягам, к руси. Те
варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные —
норманны и англы, а еще иные готы,—вот так и эти. Сказали руси
чудь, славяне, кривичи и весь: „Земля наша велика и обильна,
а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами". И избра-
лись трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь,
и пришли прежде всего к славянам... И сел старший, Рюрик, в Ладо-
ге, а другой — Синеус,—на Белом озере, а третий, Трувор,—в Из-
борске. И от тех варягов прозвалась Русская земля»1.
К приведенному тексту из «Повести временных лет» можно отно-
ситься двояко. Во-первых, воспринимать его как более или менее
достоверное свидетельство о реально происшедшем событии. Во-
вторых же, этот текст допускает отношение к нему как к националь-
ной мифологии, этиологическому мифу о происхождении Русской
земли. Если сосредоточиться на втором аспекте, то легко обнару-
жить, что у записи от 6370 (862) г. есть некоторая доля общности
с другими национальными мифами.
Чтобы далеко не ходить за примерами, обратимся к скандинавской
мифологии, как она запечатлена в сборнике мифологических текстов
«Младшая Эдда». В самом начале «Младшей Эдды» повествуется
о том, как возникли скандинавские страны. Так же как и в «Повести
временных лет», рассказывается, откуда «есть пошла русская зем-
ля». И что же, оказывается, варяги ведут свое происхождение из
Трои. Их первопредок Тор был женат на дочери «верховного конун-
га», царствовавшего в Трое, Приама. Потомок Тора в девятнадцатом
колене, Один, отправился из Трои на север приблизительно так же,
как Рюрик —в славянские земли. Опять-таки, «он взял с собой
множество людей, молодых и старых, мужчин и женщин, и много
1 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1. С. 75.
208
Культура Киевской Руси
драгоценных вещей». Правда, Один, в отличие от Рюрика, стал
основателем сразу нескольких государств. Но вот как его встретили
в будущей Швеции, откуда был родом и наш Рюрик: «Имя тамошне-
го конунга было Гюльви. И когда он узнал, что едут из Азии эти
люди, которых называли асами, он вышел им навстречу и сказал, что
Один может властвовать в его государстве, как только пожелает»1.
Как видим, согласно «Младшей Эдде», предки того, кому предстояло
сыграть роль «русского Одина», сами встретили пришельца по фор-
муле, близкой к нашей: «Приходите княжить и владеть нами».
Объединяет русских и скандинавов в их осмыслении начала собст-
венной страны и ее государственности один общий мифологический
мотив, который присутствует у множества других народов. Государ-
ственная власть обязательно должна быть иноприродной той стране,
где она осуществляется, или хотя бы содержать в себе момент
иноприродпости. Так осмыслили свою власть, к примеру, и римляне.
Они возводили своего первопредка к той же Трое, что и скандинавы.
Последние очевидным образом подражали здесь римлянам. Ни тот,
ни другой народ не видел в этом ничего зазорного, умаляющего их
достоинство. Для них, как и для русских, самое важное было
акцентировать момент сакральности власти в своей стране. Она
связывалась с космическим устрояющим началом, которое приходит
в хаос автохтонной жизни народа извне, как бы с неба на землю.
Крещенные к моменту написания «Повести временных лет» рус-
ские не могли в своей летописи даже намекнуть на божественность
происхождения своих властителей, на то, о чем в полный голос
говорили римляне и что довольно явно присутствует в «Младшей
Эдде». Зато в полный голос русский летописец говорит о хаосе
неустроения исконно русской жизни до прихода космически-сакраль-
ного начала в будущие русские земли. Этот очень внятный и форси-
рованный акцент на неспособности наших предков к самостоятельно
оформленной и организованной жизни заставляет заподозрить в нем
нечто своеобразно русское. Все-таки таких упреков в адрес самих
себя в других национальных мифологиях не встретить. У тех же
скандинавов или римлян появление Одина или Энея происходит по
логике смены хорошего или терпимого еще лучшим. У нас же
с появлением Рюрика действовала вовсе не логика «лучшее враг
хорошего», а скорее, «плохое враг хорошего». Как же в таком случае
можно истолковать цитированные строки из «Повести временных
лет»?
Прежде всего отметим, что для нас совершенно неприемлемы
утверждения, согласно которым германский элемент был необходим
для становления русской государственности, без него Киевская Русь
(или нечто подобное) якобы не могла состояться. Строя подобные
концепции, их авторы как-то слишком легко забывали, что варяги,
1 Младшая Эдда. Л., 1970. С. 13.
Когда началась древнерусская культура
209
если они действительно пришли на Русь в 862 г., сами находились на
догосударственной стадии существования. Более того, германцы во-
обще, а скандинавы в особенности, долгие столетия после возникно-
вения у них государств были почти вовсе лишены государственных
добродетелей, духа государственности, без которого, например, не-
возможно себе помыслить греков или римлян. От германца исходно
шел дух индивидуализма, отъединенности существования двором
или дружиной и менее всего стремление к собиранию и устроению
земель в единое государственное образование. Поэтому на русской
почве варяги могли быть прекрасными и незаменимыми воинами
и даже властителями. Но эти последние тогда, когда они становились
русскими князьями, несравненно больше подчинялись устремлениям
русских людей, чем подчиняли их импульсам собственной воли
к государственному строительству.
И потом, как бы внушительно ни звучал тезис о том, что Русь
возникла за счет того, что жесткая германская воля к форме встрети-
лась с бесформенной стихией русской жизни и организовала ее, у нас
нет свидетельств о присутствии в культуре Киевской Руси, ее сохра-
нившихся памятниках и документах германско-варяжского начала.
У первых русских князей были варяжские имена, встречаются они
и в княжеском окружении. Вот едва ли не все, что можно сказать
о присутствии германского элемента в русской культуре.
Таким образом, призвание варягов, если и является свидетельст-
вом о русской культуре, то оно принадлежит не объективной реаль-
ности. Перед нами прежде всего свидетельство о русской душе,
о понимании себя русскими людьми. А это очень характерно, что они
воспринимают себя и свою страну в их несамодостаточности и готов-
ности признать над собой власть внешнего начала. «Повесть времен-
ных лет» после призвания варягов не содержит никаких свидетельств
о том, что варяги занимали какое-то особое положение на Руси, тем
более речи нет об их господстве над подвластными русскими. Они
как-то сразу растворились в русской среде, стали одной с ней
реальностью. Уже одно это говорит о том, что летописцу и, соответ-
ственно, его читателю варяжская тема нужна была для сведения
счетов с самими собой. Поскольку приход правящей династии извне,
из среды скандинавов по исконно мифологическим меркам был
допустим и правомочен, то русская мифология истолковала его со
своим своеобразным акцентом на нашей русской беспомощности,
недостатке в русских людях последовательного жизнеустроительного
начала, которое легко подавляется необузданной вольностью стра-
стей и вожделений.
О крещении Руси, как и о призвании варягов, мы знаем практиче-
ски исключительно из «Повести временных лет». Крещение это
способно удивить читателя не менее, чем призвание варягов. Пора-
жает прежде всего то, что наша летопись фиксирует ситуацию состо-
явшегося к 988 г. выбора веры. Согласно «Повести временных лет»,
210
Культура Киевской Руси
перед князем Владимиром стояла нелегкая задача выбрать одну веру
из четырех: магометанской, иудейской, западно- и восточно-христи-
анской, будущих католицизма и православия. Ничего подобного не
встретишь при описании обстоятельств крещения любого другого
западного народа. Как правило, выбора у него не было, если же
и был, то это был выбор между христианством и язычеством или
между тем, принять ли веру от Ветхого или Нового Рима.
Очень мало вероятно, чтобы перед князем Владимиром действи-
тельно когда-либо серьезно стоял вопрос о возможности принятия
русскими людьми магометанства и тем более иудаизма. Иудаизм
в сюжете «Повести временных лет» всплывает лишь потому, что его
по какому-то поразительному историческому недоразумению умудри-
лись задолго до крещения Руси принять хазары. Ко времени выбора
веры они уже были разгромлены отцом Владимира Святославом, но
очаги хазарского иудаизма наверняка сохранялись в низовьях Волги
и на севере Кавказа. Мусульманские страны в X в. отделяла от Руси
широкая полоса степи, населенная воинственными кочевниками-языч-
никами, и контакты с ними носили исключительно характер торгов-
ли. Так что по-настоящему выбор у князя Владимира был не так
широк и смотреть он мог вовсе не во все стороны света. Реально
выбирать нужно было «всего лишь» между будущими католицизмом
и православием.
А в выборе в самом деле существовала настоятельная нужда. Это
не был вопрос досужих размышлений и предпочтений киевского
князя. Какой бы могущественной ни стала ко времени Владимира
Киевская Русь, пока она оставалась глухим углом Европы, игравшим
чисто отрицательную роль в мировой истории. Причастность к ней
заключалась единственно в походах киевских князей на земли Визан-
тийской империи и сопредельных ей христианских государств. В X в.
быть положительно причастным истории можно было только через
принадлежность к одной из мировых религий. Вне их страна не
просто оставалась культурной периферией, а ее народ внеисториче-
ским. Они были обречены на резкое отставание в своем развитии
и последующую экспансию своих более продвинутых соседей. В Ев-
ропе жертвой такой экспансии становится языческая Прибалтика,
чье коренное население—пруссы, эсты и предки латышей были
частью истреблены, частью насильственно христианизированы. В лю-
бом случае историческими эти народы не стали, их культура вплоть
до второй половины XIX в. носила исключительно низовой и фольк-
лорный характер.
С Русью ничего подобного прибалтийским землям не произошло
именно потому, что она по своему географическому положению
крестилась вовремя, и к началу военной экспансии рыцарей-кресто-
носцев в XIII в. Русь могла противостоять ей силами отдельных
княжеств и земель, несмотря даже на татарское нашествие. Уже не
говоря о внутренних, внешние преимущества христианизации Руси
Князь и княжеская власть
211
очевидны. Однако для понимания своеобразия русской культуры
важно то, что она осмысляла свое крещение именно через ситуа-
цию выбора веры. Ее сконструировало народное сознание ввиду
того, что людям Киевской Руси было присуще ощущение молодости
своей страны и вместе с тем известной ее неприкаянности и неприкре-
пленности к мировой оси, жизненному центру мира. Все-таки это
очень показательно, что в описании самого русского летописца рус-
ские люди во главе со своим князем выступают в роли некоторого
подобия дикарей, которых несколько стран и культур стремятся
приобщить к своей более развитой и утонченной жизни. Для Руси
предпочтительней оказалось приобщение к православию и византий-
ской культуре.
С внешней стороны может показаться, что выбор Русью правосла-
вия было делом исторической случайности, что князю Владимиру
едва ли не выпал один из равновозможных жребиев. Не говоря уже
о том, что за ссылкой на случай при принятии судьбоносных реше-
ний, как правило, стоит наша неспособность их понять, можно
указать и на то обстоятельство, что Русь тянуло к Византии и Кон-
стантинополю изначально. Вначале это была тяга варваров-завоева-
телей, потом она стала тягой учеников к учителю. И в том и в другом
случае самое важное состоит в том, что у русских людей было
достаточно ясное понимание того, где находился в IX—Хвв. центр
христианского мира и христианской культуры. Пока им несомненно
оставался Константинополь. До расцвета же папства и всей католиче-
ской средневековой культуры к моменту крещения Руси было еще
далеко. Так что, приняв от Византии христианство, Русь сделала
выбор, свидетельствующий в ее пользу.
Другое дело, что Русь в исторической перспективе поставила себя
в трудное, временами почти невыносимое положение. Но и здесь
можно заметить, что выбор самого тяжелого пути сам по себе еще не
свидетельствует о его неверности вне крещения.
Князь и княжеская власть
Когда в по необходимости кратком и концентрированном рассмот-
рении культуры Киевской Руси специально выделяется сравнительно
обширный раздел, посвященный князьям киевского периода, это
обстоятельство может вызвать недоумение двоякого рода. Во-пер-
вых, по поводу того, что в культурологической работе специально
освящается проблематика, относящаяся прежде всего к политической
истории, к истории государства и права. Второе же недоумение
может быть сформулировано в качестве вопроса: «И почему это
автор счел необходимым выделить для рассмотрения именно фигуру
князя, что в ней такого особо примечательного и значительного,
предопределяющего внимание к персоне исключительной, к общно-
сти чрезвычайно немногочисленной?»
212
Культура Киевской Руси
Предельно кратким и точным ответом на оба высказанных недо-
умения будет известная французская поговорка: «Короля играет
свита». В ней выражено самое для нас существенное: важно не то,
что король (князь) один на тысячи, иногда же и на миллионы
подданных, а то, что образ государя, царственной особы, как бы она
ни именовалась—царь, император, фараон, король, шах, князь
и т. д. — выражает собой в очень существенном аспекте представление
данной культурной общности о себе самой, о мире человеческом
и божественном. Это только с позиций, окончательно определивших-
ся не ранее XIX в., царственная особа осуществляет государственную
власть и принадлежит в качестве царственной особы к сфере государ-
ственной, прежде всего политической, жизни. Столетиями и тысяче-
летиями ситуация была совсем другой.
В царе (так я буду далее называть любую разновидность того, кого
мы именуем государем, монархом или тем, кто представлен в только
что приведенном перечне) люди видели прежде всего существо погра-
ничное мирам сакральному (божественному) и профанному (в част-
ности, человеческому). Царь выражал собой присутствие в профан-
ном мире сакральных сил и реалий. В нем сосредоточивался смысл
всего того существенного, что происходило в данной стране, а неред-
ко и во Вселенной. В отношении фигуры царя определялись все, для
кого он оставался царем. Каким был царь, таковы были подвластные
ему, животворимые им люди. Они всегда более или менее оставались
для царя «государевыми людьми», то или иное значившими в соотне-
сенности с ним. Именно в этом смысле поговорки «короля играет
свита» люди создавали себе образ царя и жили своей жизнью в соот-
ветствии с этим образом. Создавали, правда, не по своему произволу,
а в соответствии со своими иллюзиями, мечтами, предпочтениями,
смутными желаниями или рационально оформленными целями. По-
добное действительно имело место. Но было и другое, более сущест-
венное. Образ царя как смыслового средоточия страны и мира имел
неразрывную связь с тем, как, в какой мере истинно был открыт
людям Бог, каков был опыт их богопознания и общения с Богом.
* * *
При обращении к русским князьям киевской поры отечественные
историки давно обратили внимание на странный и непривычный
с позиций равно Западной Европы, Византии и Московской Руси
обычай наследования власти в том или ином княжестве. В. О. Клю-
чевский, следуя в своей трактовке перехода власти от одного князя
к другому С. М. Соловьеву, назвал этот переход очередным поряд-
ком. По Ключевскому, он состоял в том, что «князья-родичи не
являются постоянными, неподвижными владельцами областей, дос-
тавшихся им по разделу: с каждой переменой в наличном составе
княжеской семьи идет передвижка, младшие родичи, следовавшие за
умершим, передвигались из волости в волость, с младшего стола на
Князь и княжеская власть
213
старший. Это передвижение следовало известной очереди, соверша-
лось в таком же порядке старшинства князей, как был произведен
первый раздел. В этой очереди выражалась мысль о нераздельности
княжеского владения Русской землей: Ярославичи владели ею, не
разделяясь, а переделяясь, чередуясь по старшинству»1.
Утверждение В. О. Ключевского, следовавшего здесь С. М. Со-
ловьеву, об очередном порядке и неразрывно с ним связанным
представлением о нераздельности владения князьями Рюриковичами
Русской землей, не только стало очень авторитетным в русской
исторической науке конца XIX—начала XX в., получив самое широ-
кое распространение, но и было подвергнуто критике. Самая основа-
тельная и аргументированная из них принадлежит крупному русско-
му историку А. Е. Преснякову. В своем блестящем и фундаментальном
исследовании «Княжое право в Древней Руси» он приводит ряд
убедительных, опирающихся на исторические факты соображений,
в соответствии с которыми в Киевской Руси широко было распро-
странено отчинное право, то есть право наследования от отца к сы-
ну, а очередной порядок вовсе не носил того всеобщего или хотя бы
преобладающего характера, который ему приписывал Ключевский.
Однако и Пресняков вынужден признать за очередным порядком
и нераздельным владением значение реальной тенденции, присущей
Киевской Руси XI—XII вв. В частности, по поводу чередования
княжения Рюриковичей по волостям в соответствии со старшинством
он писал: «Окрепнув, скристаллизовавшись, если можно так выра-
зиться, такой строй междукняжеских отношений привел бы к созда-
нию того „очередного" порядка, какой находит в Древней Руси
современная историография. Но сила все тех же отчинных тенденций
разрушала и этот путь развития. Мы видели лишь зачатки подобных
отношений, редко переживавших одно поколение братьев...»1 2
Вести ли речь об устойчивой и доминирующей реальности «оче-
редного порядка» и нераздельности княжеского владения русской
землей или относиться к ней как к одной из тенденций, которой
противостояло, как минимум, не менее значимое отчинное право,
в настоящем случае не так уж существенно. Главное для нас состоит
в том, что в Киевской Руси имела место ситуация, когда ее князья
были соотнесены с русской землей как некоторая общность людей,
в большей или меньшей степени наделенных царственностью. Тот
или иной князь, принадлежавший к этой общности, мог сколько
угодно тянуть одеяло в свою сторону, стремиться осесть на данной
земле и закрепить ее за своими потомками. Чем далее, тем более
княжеские устремления становились устойчивой реальностью. Одна-
1 Ключевский В. О. С. 150.
2 Пресняков А. Е. Княжое право в Древней Руси. Очерки по истории X—
XII столетий. Лекции по русской истории. Киевская Русь. М., 1993. С. 135 (далее:
Пресняков).
214
Культура Киевской Руси
ко исходными, так и не разрушенными все-таки оставались одни и те
же реалии: живое, так или иначе к чему-то обязывающее представле-
ние об общности княжеского рода, о том, что у него есть свой глава—
отец и его многочисленные дети.
С отцовским статусом одного из князей, разумеется Киевского,
еще со второй половины XI в. дело обстояло не вполне удовлетвори-
тельно. После же смерти в 1125 г. Владимира Мономаха уже совсем
плохо. Постепенно Киевские князья даже номинально переставали
быть для всех других князей отцами. Иное дело ощущение себя
всеми князьями Рюриковичами—братьями, которые входят в одну
семью. В этой семье нехватает реальной власти и авторитета ее отцу,
временами не до конца или совсем не ясно, кто ее отец и есть ли он
вообще, но от этого еще далеко до того, чтобы исчезло отношение
князей друг к другу как к братьям. И это несмотря на то, что
братьями они были плохими, постоянно ссорились между собой,
устраивали распри, выясняя, кому из них принадлежит какая-либо
часть отчего наследства.
В отношении распрей русские князья очень напоминали собой их
западно-европейских собратьев—владетельных особ различного ран-
га—королей, герцогов, графов ит. д. Обыкновенно те и другие
распри характеризуются в нашей исторической науке как существен-
ные проявления феодальной раздробленности. Однако это словосо-
четание смазывает очень существенные различия между тем, что
собой представляли владетельные особы в Киевской Руси и на
«западном Западе». С точки зрения культуры первостепенно важно
то обстоятельство, что у нас сложилась ситуация, которая была не
знакома ни одной из западноевропейских стран эпохи Средневеко-
вья. Все-таки это очень характерная и, надо добавить, очень стран-
ная и экзотичная ситуация, когда в Киевской Руси все владетельные
особы принадлежали исключительно к одному единственному роду
Рюриковичей. Только они, и никто другой, с начала образования
Киевского государства носили княжеский титул. Других же титулов,
каким-либо образом обозначающих представителей военной аристо-
кратии, в Киевской Руси, в отличие от западноевропейских госу-
дарств Средневековья, не было. Упомянутым королям, героцогам,
графам, маркграфам, виконтам, баронам Киевская Русь могла бы
противопоставить возможность титулования любой владетельной осо-
бы исключительно как князя. Но если у нас князь и Рюрикович
совпадали, то во Франции, Англии, Германии, Испании существова-
ло множество титулованных фамилий, не обязательно состоящих
в родстве с королевским или императорским домом. Что же в таком
случае стоит за русской исключительностью и экзотикой, как она
характеризует русскую культуру?
Ответ на этот вопрос вряд ли может быть на сегодняшний день
однозначным, так же как излучающим уверенность в своей адекват-
ности и убедительности. И все же укажем на то обстоятельство, что
Князь и княжеская власть
215
наличие в Киевской Руси только одной династии, одного правящего
рода, сознающего себя, несмотря на свое разрастание, общностью,
связанной кровным родством, свидетельствует о существовании в рус-
ской культуре этого периода некоторого очень архаического пласта.
Причем не где-то в глубине, толще или на периферии культуры,
а в ее верхнем слое, там, где репрезентирует себя ее послепервобыт-
ная реальность. Неизменная принадлежность к одному и тому же
роду как условие царственности обыкновенно требуется там, где
царственная особа понимается как существо особой, сакральной
породы. Тогда данная людская общность включает в себя собственно
людей—существ профанных и тех, кто только и просто людьми не
является. Обыкновенно, последние мыслятся как более близкие род-
ственники богов по сравнению с остальными.
Скажем, в мире гомеровского эпоса к числу особого рода существ
сверхчеловеческого рода принадлежат басилевсы. Один из них, как
Ахиллес, рожденный богиней Фетидой от царя мирмидонян, был
максимально приближен по своей породе к богам, другие, как Одис-
сей, находились в более отдаленном родстве с богами. Все басилевсы,
однако, были не чета остальным ахейцам. То, что их было, как
и русских князей, множество, и они к тому же принадлежали к раз-
ным родам, объясняется соотнесенностью каждого из них со своим
полисом, а не со всем ахейским миром. Русские же князья были
соотнесены как раз с Русской землей как целым и только потом с той
или иной из русских земель. Уже само по себе это делало естествен-
ным их принадлежность к одному и тому же роду, наличие у них
одного отца-первопредка. При этом, правда, никуда не уйти от того
очевидного обстоятельства, что русские князья Рюриковичи весь XI
и тем более XII в., так же как и подвластное им русское население,
были христианами. Но языческие смыслы почему-то все-таки опреде-
ляли собой царственный статут рода Рюриковичей, не позволяя
никому из других знатных родов занять какой-либо княжеский стол.
Да и были ли в Киевской Руси такие знатные роды? Во всяком
случае, не в пример Руси Московской, до нас сведения ни об одном
из таких родов не дошли. Киевская Русь не имела своих Романовых,
Морозовых, Шереметевых. Одних только Рюриковичей.
Ситуация сложилась именно так, как она сложилась, видимо, не
просто потому, что Киевская Русь так уж крепко держалась за
языческие обыкновения, касающиеся власти и властителей. Навер-
ное, нельзя сбрасывать со счетов то простейшее житейское обстоя-
тельство, что род Рюриковичей уже в середине XI в. сильно размно-
жился и мог легко противостоять любым поползновениям на
княжескую власть и княжеское достоинство. Вряд ли, однако, в этом
все дело или главная причина исключительности положения Рюрико-
вичей. Более существенным представляется то, что, несмотря ни на
какие архаические черты, связанные с положением князей в Киев-
ской Руси, они все же сменили в восточно-славянских землях еще
216
Культура Киевской Руси
более архаических властителей. Легкость же, с которой произошла
смена власти племенных князей на власть потомков Рюрика, не
может не указывать на относительную слабость и неустойчивость
первой по сравнению со второй. Тем более, что исторические источ-
ники не сохранили никаких свидетельств о длительной и жестокой
борьбе Рюриковичей с местными племенными князьями. Они быстро
исчезали в безвестности, не входя даже в качестве представителей
знатных родов в новую знать Киевского княжества. Если нечто
подобное и могло происходить, то никак не было заявлено, замечено
и отмечено в соответствующих культурных формах. Сказанное легко
подтверждается обращением к нашей начальной летописи —«Повести
временных лет».
В ней по появлении в пределах восточно-славянских земель варя-
гов во главе с Рюриком упоминается только об одном автохтонном
славянском князе—Кие. Он, согласно «Повести...», княжил над по-
лянами и основал будущую столицу Руси —Киев. При всей очень
возможной фантастичности фигуры Кия, у нас нет оснований не
доверять тому, что в летописи повествуется о характере власти
Полянских князей. Впрочем, сказано о ней до предела скупо. По
сути, лишь то, что «поляне же жили в те времена сами по себе
и управлялись своими родами; ибо и до той братии (братьев Кия,
Щека и Хорива. — Авт.) были уже поляне и жили они все своими
родами на своих местах и каждый управлялся самостоятельно»1.
Помимо того, что Полянские князья были племенными и выходцами
из своего племени, приведенные строки указывают еще и на наличие
у полян родов, у которых были свои князья.
Уже одно это обстоятельство указывает на тесную привязанность
местных князей к своим родственникам и соплеменникам, их сращен-
ность с ними, едва ли растворенность в среде родичей и соплеменников.
Кий, Щек и Хорив были выделены из числа неразличимой общности
Полянских князей едва ли не по чему иному, кроме стремления
летописца создать некоторое подобие этиологического мифа по поводу
Киева. Киев—основоположная реальность возникающей Руси, он
сам, а вместе с ним и Русь, становится историчным, соответственно,
у истории Киева должна быть исходная веха. Она и возникает на
этимологической основе. Приблизительно так же, как в свое время
у римлян Ромул положил основание Риму (Roma), так и Кий—
Киеву. Никаких других оснований для повествования о Кие у лето-
писца нет.
Не было у полян, как и у любого другого восточно-славянского
племени, князей или княжеских родов, внятно заявивших о себе
в русской предыстории, оставивших о себе долгую память. Они
оставались не более, чем олицетворением своих племен и родов,
таких же безличных, как и они сами. Когда мы что-то узнаем
1 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1. С. 67.
Князь и княжеская власть 217
о племенных князьях из «Повести временных лет», то связано это,
как правило, с борьбой между ними и киевскими князьями. Так
всплывает, в частности, древлянский князь Мал. В его княжение
древляне убили Игоря, князя еще только нарождающейся Киевской
Руси. Но вот как они решились на убийство: «Древляне же, услы-
шав, что (Игорь. — Авт.) идет снова, держали совет с князем своим
Малом, и сказали: „Если повадится волк к овцам, то выносит все
стадо, пока не убьют его. Так и этот: если не убьем его, то всех нас
погубит"».
Кто именно из древлян первый высказал мысль об убийстве
Игоря, какова была роль в принятии решения древлянского князя,
об этом в летописи ни слова. В ней решение принимает не князь,
и даже не совет во главе с князем, а непосредственно некоторое
неразличимое «мы-бытие». Потом, убив незадачливого Игоря, древ-
ляне придут в Киев к вдове киевского князя — Ольге и будут звать ее
замуж за своего князя. Ни о каком, собственном предпочтении
и решении самого Мала при этом не говорится ни слова. В отдельно-
сти от древлян его как бы и не существует. Имя Мала не более, чем
значок древлянской земли, она сама выраженная геральдически.
Совсем не случайно после, в свою очередь, незадачливого сватовства
древлянских послов имя Мала в летописи более не упоминается.
И это несмотря на то, что за гибель Игоря княгиня Ольга отомстила
со всей мыслимой жестокостью и изощренностью Эта жестокость
и изощренность на Мала никак не распространялись. Как будто до
него, как такового, мстительнице Ольге не было никакого дела. Явно
он погиб в результате княгининого мщения. Но погиб частицей
нераздельного «мы», обозначаемого как древляне. Ведь и пришли
к Ольге послы-сваты с такими словами: «Послала нас Деревская
земля»1. Земля послала, земле же Ольга и мстит. Мстит так, что в ее
мщении никто особо не выделяется, уничтожаются попавшиеся под
горячую руку.
В прямой связи со случаем вокруг гибели князя Игоря уместно
будет обратиться к другому, не менее знаменитому эпизоду начально-
го периода Киевской Руси. К заключению договора между Киевским
княжеством и империей ромеев в результате в целом успешного
набега первого Киевского князя Олега на Византийскую империю.
В этом пространном договоре нас касается только его зачин. Соглас-
но ему, «послал Олег мужей своих заключить мир и ряд между
греками и русскими, и послал, говоря: „Согласно другому уряже-
нию, бывшему при тех же цесарях—Льве и Александре. Мы от рода
русского—Карлы, Ингельд, Фарлаф... посланные от Олега, великого
князя русского, и от всех, кто под рукой его, светлых бояр, к вам,
Льву и Александру, и Константину, великим в Боге самодержцам,
цесарям греческим, для укрепления и удостоверения многолетней
1 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1. С. 105.
218
Культура Киевской Руси
Княгиня Ольга. Князь Владимир. Иконы
дружбы, бывшей между христиа-
нами и русскими, по желанию на-
ших князей и по повелению от
всех находящихся под рукой его
русских»1.
Громадной разницы между по-
сольством древлян к Ольге и Оле-
га к византийскому императору
нельзя не заметить. Во втором слу-
чае посольство самым явным об-
разом исходит от князя. Вполне
определенного лица, действующе-
го по своей воле, хотя и, несо-
мненно, после совета со своими
боярами и дружиной. Обратим
внимание и на индивидуализиро-
ванность посольства. В «Повести
временных лет» поименно пере-
числены все пятнадцать человек,
составившие посольство. Это уже
не просто «лучшие мужи числом
двадцать», как то в случае с древ-
лянским посольством. Конечно,
в своем послании князь Олег выступает не только от своего имени,
но и от лица своих соратников и сподвижников. Но теперь они
«находятся под его рукой» и связаны с Олегом лично. Иначе не было
бы такого пространного перечня членов посольства. Родовой строй
и родовой быт при первом же киевском князе, как минимум, уже не
существовал в той же степени и в той же полноте, как в окружавших
Киев и все еще имевших при Олеге своих племенных и родовых
князей землях. Род князей Рюриковичей размножится только через
полтора столетия после смерти Олега. И он будет оставаться родом,
с непреодоленными до конца в нем родовыми, а не семейными
отношениями совсем уже не в том смысле, в каком существовали
некогда роды в Полянской или Древлянской земле. Прежде всего
отметим, что род Рюриковичей стал родом, находившимся вовсе не
в родовых отношениях с теми, кто населял Русскую землю. Да
и в самом этом роде родовое начало и сохранялось, и постоянно
подвергалось испытаниям, и, наконец, обнаруживалось как иллюзор-
ное благопожелание или пустая формальность.
Особенно и со всей возможной настоятельностью необходимо
акцентировать тот момент, что князья Рюриковичи Киевского перио-
да не только образовывали собой хотя бы номинально единый род
и семью, но и находились в подчеркнуто внешних, отстраненных
1 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1. С. 85.
Князь и княжеская власть
219
отношениях к тем землям, в которых княжили. Если, скажем,
признать за ними нераздельное владение Русской землей, то тогда
получается, что они были теснее связаны между собой, чем с Русью.
В самом деле, если княжение в той или иной волости становилось
следствием счетов внутри .рода Рюриковичей, то принадлежность
к нему оказывалась первичной по сравнению с принадлежностью
к Русской земле. Точнее же будет сказать, своему роду князья
принадлежали, Русью же правили.
Разумеется, нечто подобное можно утверждать лишь в том случае,
когда мы примем далеко не самоочевидное—«очередное право» и не-
раздельность владения Русской землей. Но и признав их наличие
даже в качестве одной из тенденций, наряду с противоположной ей
тенденцией, предполагающей передачу княжеств от отца к старшему
сыну как своего достояния, все равно момент отчужденности и ди-
станции князей Рюриковичей по отношению к Русской земле не
устранить. Проще всего их связать с фактом прихода варягов в Рус-
скую землю извне и постепенным завоеванием ими всех восточно-
славянских земель. Однако, с другой стороны, хорошо известно, что
пришельцы-варяги относительно очень быстро растворились в вос-
точно-славянской среде. У Киевских же князей чисто русское само-
сознание возникает никак не позже конца Хв. Поэтому дистанция
между князьями и Русской землей, точнее же, тенденция к существо-
ванию такой дистанции должна быть объяснена не столько фактом
«призвания варягов», сколько самим существом образа русского
князя и его княжения.
От автохтонных князей восточно-славянских племен и родов кня-
зья Рюриковичи отличались тем, что они, в первую очередь, были
предводителями дружин. Соответственно, их основная внешняя роль
состояла в охране земли своего княжения. Исполнение же внутрен-
ней роли предполагало суд и расправу как условие и выражение лада
и строя жизни подвластных им людей. Сражающийся и судящий
князь еще и собирал дань с подвластных ему земель. И каждый раз
он выступал не только как свой, русский правитель, но еще и как
своего рода внешняя сила. В нем сосредоточивалась русская жизнь,
но он же оставался и вознесенным над ней. Не в пример какому-
нибудь древлянскому Малу. Последний тоже возглавлял войско
и осуществлял суд и получал подношения от своих древлян. Но он
был их плоть от плоти и кость от кости, оставался ими самими,
индивидом, концентрированно выражающим свой род, и ничего
более.
***
Князья Рюриковичи, в отличие от племенных князей-автохтонов,
жили своей особой жизнью, которая как раз и предполагает некото-
рую дистанцию между ними и созданной под их водительством
Киевской Русью. Эта дистанция образовалась еще и потому, что
220
Культура Киевской Руси
князья Рюриковичи по характеру
своей царственности могут быть
отнесены к царям-героям. В них
жило и проявляло себя героическое
начало. В герое же основной
движущей силой является стрем-
ление к безусловному самоут-
верждению. По своей сути ге-
роический путь есть путь
самообожествления через преодо-
ление в себе только или слишком
человека с его слабостями, стра-
хами, ограниченностью, подчинен-
ностью обстоятельствам и т. д.
Героическое самоощущение и ми-
роощущение возникло в ряде
позднепервобытных культур и су-
ществовало длительное время по-
сле первобытности, как, скажем,
в древнегреческой и древнерим-
ской культуре, в качестве одного
из вариантов далеко зашедшего
процесса человеческой индивидуа-
ции, возникновения человека как
«я-бытия».
Герой -это человек, существую-
щий в измерении свободы. Но сво-
бода утверждается им через пре-
одоление предзаданности судьбы,
Борис и Глеб. Икона. Середина XIV в. как всегдашняя готовность к пре-
дельным испытаниям и гибели,
в которой в конечном счете и утверждается человек уже по ту
сторону человеческого. Герой даже и стремится к погибельным ситуа-
циям, во всяком случае, к встрече с непомерным и необоримым. Они
дают ему возможность обнаружить свою независимость от всего
внешнего себе и тем окончательно победить смерть как ограничитель
собственного существования, как нечто отменяющее человеческую
заявку на сверхчеловечески-божественное.
Героическое самоощущение и мироотношение исходно наиболее
полно выражено у царственных особ. Ведь фигура царя всегда
в большей или меньшей степени причастна сакральному. Мы сейчас
не будем касаться прямого и полного обожествления царя на Древ-
нем Востоке, и прежде всего в Египте. Для Руси актуальным был
переход от докиевской первобытности к полупервобыности как ново-
му типу существования. Поэтому в ней появлению князей Рюрикови-
чей в качестве царей героев предшествовали фигуры первобытных по
Князь и княжеская власть
221
типу царей-жрецов. Они представлялись как люди, отмеченные осо-
бой благодатью. В них действовали, в соответствии с тогдашними
представлениями, божественные энергии, в царей-жрецов могли даже
прямо вселяться боги. От этого они не становились богами, но связь
с ними сохранялась неизменно. Если же обнаруживалось, что боже-
ственные энергии или божество оставили царя-жреца (князя), то он
подлежал радикальному устранению, становясь жертвой соответст-
вующего ритуального действия. Отмеченность царей-жрецов сакраль-
ным инициировалась в них стремлением добиться сакрализации как
некоторого внутренне присущего им состояния, как исходящей из
них самих реалии. Таков в самом общем контуре переход от царя-
жреца к царю-герою, каковым был, в частности, Киевский князь.
Наверное, из всех русских князей, о которых сохранились сведе-
ния, наиболее полно и масштабно героическая повадка была выраже-
на у князя Святослава Игоревича. Все, что сообщает о нем летопись,
касается исключительно сражений. Святослав сделал очень многое
для Руси прежде всего тем, что сокрушил давнего ее противника—
Хазарский каганат. К тому же он включил в сферу влияния киевских
князей большое восточно-славянское племя вятичей. Но, как это
обыкновенно и бывает у героев, настоящих устроительных и государ-
ственных добродетелей у Святослава не было. Известно его непре-
рывное странничество и нежелание пребывать не то чтобы в стольном
граде Киеве, но и в Русской земле, где необходимо было, скажем,
исполнять такую обязанность князя как суд или собирать дань
с подвластных земель и племен. Святослава тянуло на простор, где
встречались различные народы и земли. Напомню слова, сказанные
им матери, княгине Ольге, и киевским боярам, по-видимому увеще-
вавшим Святослава больше бывать на родной земле: «Не любо мне
сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце на Дунае—там середина
земли моей, туда стекаются все блага: из Греческой земли—золото,
паволоки, вина, различные плоды, из Чехии и из Венгрии серебро
и кони, из Руси же меха и воск, мед и рабы»1.
Конечно же, никакую середину Святославовой земли Переяславец
на Дунае собой не представлял. Скорее, он был удобным форпостом,
впрочем, для бесперспективных завоеваний Святослава. Из Переяс-
лавца сподручно было опустошать Болгарию или Византийскую
империю, но надежной связи между ним и Русской землей не было,
что в конце концов и стоило киевскому князю жизни. Другое дело,
что Переяславец был расположен на семи ветрах. В нем жизнь
можно было ощущать как непрерывную битву, переходящую в пир,
так же как и, наоборот, пир, переходящий в битву. Находясь в Пере-
яславце, удальцу-герою было где разгуляться, «богатырское сердце
приутешити». Всю свою жизнь Святослав постоянно сталкивался
1 Повесть временных лет // Повести Древней Руси XI—XII вв. Л., 1983. С. 117
(далее: Повесть временных лет).
222
Культура Киевской Руси
с пограничными для героя ситуациями, где необходимым станови-
лось осуществить героическую максиму: «победить или умереть»,
а если все-таки умереть, то так, чтобы сама смерть стала победой над
собой. Святослав на протяжении своего на редкость воинственного
даже по тем временам княжения или открыто и горделиво заявлял:
«Хочу на вас идти» —и шел, добывая победу, или же собирал свою
волю в монолитно-несокрушимое целое, обращаясь к войску со
словами подобного рода: «Здесь нам и умереть! Постоим же мужест-
венно, братья и дружина»1.
Кем был киевский князь, какой образ царственности возникает
при обращении к нему, слишком очевидно для того, чтобы еще раз
возвращаться к этой теме. Но вот проходит более двух столетий,
и наступает время другого, уже не киевского, а новгород-северского
князя Игоря Святославича, прославившегося не столько своими
деяниями, сколько тем, что стал действующим лицом нашего нацио-
нального героического эпоса. И что же, образ действий, присущий
Игорю Святославичу, все тот же, что и у Святослава Игоревича, тот
же героический душевный настрой сквозит в сказанном о нем в «Слове
о полку Игореве».
«Слово о полку Игореве», как правило, слишком поспешно и лег-
ковесно истолковывается как повествование о неудачном походе
одного из русских князей в Дикое поле с целью защитить от половец-
ких набегов Русскую землю. Князь Игорь поступил очень легкомыс-
ленно, выступив против половцев в союзе с одним только братом
Всеволодом, вместо того, чтобы объединиться с другими русскими
князьями,— слышим мы упрек в его адрес. Между тем уже первые
строки, описывающие поход Игоря, говорят о том, что общерусское
дело защиты от набегов кочевников, как минимум, не было решаю-
щим мотивом выступления князя. Вчитаемся в них внимательно:
Начнем же, братья, повесть эту
от старого Владимира до нынешнего Игоря,
который скрепил ум силою своею
и поострил сердце свое мужеством;
исполнившись ратного духа,
навел свои храбрые полки на землю Половецкую
за землю Русскую1 2.
Как будто тема защиты родной земли в приведенных строках
присутствует в качестве решающей. Князь Игорь идет на половцев не
от себя и не за себя, с этим нельзя не согласиться. И все-таки это еще
вопрос, пошел ли в свой поход Игорь потому, что «скрепил ум силою
своею и поострил сердце свое мужеством; исполнившись ратного
1 Повесть временных лет. С. 119.
2 Слово о полку Игореве. М., 1985. С. 55.
Князь и княжеская власть
223
духа», или указанное душевное состояние явилось следствием необ-
ходимости похода в Половецкую землю. Последующие строки «Сло-
ва...» обнаруживают, что сила, мужество, ратный дух были для
новгород-северского князя первичны. Они взыграли в нем и нашли
себе выход в войне с половцами, в чем легко убедиться, обратившись
к «Слову...»:
Тогда Игорь взглянул на светлое солнце
и увидел воинов своих,
тьмою прикрытых.
И сказал Игорь-князь
дружине своей:
«О дружина моя и братья!
Лучше ведь убитым быть,
чем плененным быть;
сядем же, братья,
на борзых коней
да посмотрим хоть
на синий Дон».
Ум князя уступил желанию,
и охота отведать Дон великий
заслонила ему предзнаменование.
«Хочу,— сказал,—копье преломить
на границе поля Половецкого;
с вами, русичи, хочу либо голову свою сложить,
либо шлемом испить из Дону»1.
В речи князя Игоря, обращенной к дружине, легко вводят в за-
блуждение давно ставшие привычными для нас слова: «Лучше ведь
убитым быть, чем плененным быть». В них, обыкновенно, прочиты-
вается одно и то же: «Если мы не выйдем на смертный бой с полов-
цами, то они сами придут к нам и пленят нас». Но сопоставим
сказанное Игорем Святославичем с тем, что говорит своим воинам
под Переяславцем Святослав Игоревич. Говорят оба князя в одном
и том же духе, это все тот же героический дух, выражаемый в макси-
ме: «победить или умереть», правда, каждый раз со своим, героиче-
ским же акцентом. Его можно передать приблизительно таким обра-
зом: «Если уж нам не суждена победа, то умрем достойно». И, что
характерно, обращение к своим воинам у Святослава звучит далеко
от Родины, на Дунае, куда никакая нужда его не гнала. Игорь же
говорит со своими воинами у себя в Новгороде-Северском.
Игорю тоже не было особой нужды идти в Дикое поле. Так что вся
разница между двумя князьями-героями в том лишь, что один из них
непосредственно попадает в ситуацию: «если уж нам не суждена
победа, то умрем достойно», тогда как другой с подобной ситуацией
1 Слово о полку Игореве. С. 55—56.
224
Культура Киевской Руси
перед своим походом заранее считается, и она его вовсе не останавли-
вает. Более того, именно возможность гибели возбуждает и бодрит
Игоря, делает для него поход на половцев особенно желанным.
***
Наиболее явно своеобразие русских князей в качестве царей-
героев выражено в том обстоятельстве, что они составляли единый
для всей Руси княжеский род, одну большую разросшуюся семью,
с отцом-патриархом и многочисленными его детьми, братьями между
собой. Пускай они были немирными братьями и непокорными деть-
ми. Для нас в настоящем случае важен момент того, что героическое
начало, достаточно полно выраженное в русских князьях, трудно
совместимо с патриархальностью. Герой —это человек, взрослый по
преимуществу. Он обретает себя в промежутке между «старостью»
божества и детскостью чисто человеческого существования. Родст-
венные связи у героя не то чтобы ослаблены или исчезают совсем, но
они приобретают своеобразно героический характер. Герою, скажем,
должно, как и любому другому человеку, почитать отца. Но точно
так же он стремится разорвать пуповину, связывающую его с семьей
и ее патриархом. Героическая мифологема предполагает, что герой
начинает свой героический путь как странник, буквально пространст-
венно отрываясь от своих корней, утверждая себя сам и сам же
достигая восхождения в сверхчеловеческую реальность.
При этом отец сохраняет свою значимость прежде всего как при-
мер и образец, инициирующий собственные героические усилия сына.
Сын должен стать достойным своего отца не в почтительном послуша-
нии ребенка, а демонстрацией доступности ему отцовской взрослости
и самодовления. Поэтому отец для героя как бы не совсем отец.
В отце для него проступают черты соратника; цепь этих соратников
образует генеалогию царственно-героического рода. Собственно же
соратниками для героя являются не ближайшие родственники большой
семьи-рода, не братья по крови, а скорее побратимы, те же герои,
которые устанавливают братскую связь равенства между собой не по
принципу крови, а на основе собственного выбора и почина.
Этот момент отчетливо выражен в западной культуре Средневеко-
вья. Здесь рыцарство возведено в некоторое братство—«рыцарский
орден», никакого отношения не имеющий к родству. Родство между
ними скорее взаимно подтверждает знатность рыцарских родов, чем
выдвигает на передний план родственные связи. Там же, где они
имеют место, эти связи нисколько не мешают возникновению само-
стоятельных фамилий или же делают из младших ветвей рода васса-
лов старшей ветви. Так, знаменитые герцоги Бургундские XIV—
XV вв. представляли собой младшую ветвь королевской династии
Валуа. Однако уже первые из этих герцогов воспринимали себя
прежде всего сеньорами бургундских земель и вассалами француз-
ской короны.
Князь и княжеская власть
225
Вассальная же связь кардиналь-
но отлична от родственной. Ее
устанавливают между собой сво-
бодные, суверенные личности, она
по своему существу не природна и
не предполагает детей, отдающих
себя в распоряжение взрослых.
Детство для рыцаря заканчивает-
ся с тех пор, когда он перестает
быть пажом и оруженосцем и по-
свящается в рыцари. Потом ника-
кой вассалитет не сделает из него
ребенка. Вассал ничуть не более
ребенок, чем его сюзерен. Все они,
вассалы и сюзерены, как члены
одного «рыцарского ордена», пре-
жде всего побратимы, каждый по-
своему проходящий героический
путь. И этому ничуть не противо
речит ни буквальный смысл слова
«вассал» —мальчик, юноша, ни
обряд Принесения вассальной При- Шлем князя Ярослава Всеволодовича,
сяги, когда присягающий вклады- VIII в.
вает свои руки в руки сюзерена,
как бы отдавая себя ему в распоряжение и под покровительство. То
обстоятельство, что русские князья принадлежали к одному роду
Рюриковичей, а кроме полоцких князей были еще и Ярославичами,
то есть связанными еще более тесным родством, определенно указы-
вает на их отличие от «рыцарского ордена». В «рыцарский орден»
вступали (пускай и одни только родовитые люди) через посвящение,
в русском же княжеском роду рождались, что и делало последний
единой семьей со своим, хотя бы номинальным, главой-отцом и мно-
жеством родных, двоюродных и т. д. братьев.
При этом отцовство старшего из князей — киевского — оставалось
неопределенным в своей неподкрепленности устойчивыми культур-
ными формами должного отношения между «отцом» и «детьми». На
Западе такой основной формой был вассалитет. Несмотря на всю
свою укорененность в родственных семейных отношениях, он их
преодолевал за счет реальностей индивидуального выбора, служения,
верности. В отношениях между сюзереном и вассалом здесь далеко
не все решала сила. Французские короли XII в. могли бесконечно
уступать своим вассалам Плантагенетам в могуществе. От этого они
не переставали быть их сюзеренами. Можно себе представить все
в отношениях Капетингов и Плантагенетов в XII в., но только не
посягательство последних на корону королей Франции. Невозможным
оставалось даже полное неповиновение могущественных вассалов
226
Культура Киевской Руси
Княжеское семейство. Изборник Свя-
тослава. 1076
своим слабым королям. Ему был
установлен предел.
Такая ситуация стала возмож-
ной, в частности, потому, что вас-
салитет—это относительно устой-
чивая и жизнеспособная форма
соотнесенности царственных особ
там, где перестают действовать се-
мейно-родственные нормы отно-
шений между ними. Скажем, ки-
евский князь потерял по существу
достоинство великого князя —отца
остальных русских князей не про-
сто ввиду ослабления Киевского
княжества, сокращения его раз-
меров. Подобное произошло и во
Франции Каролингов — Капетин
гов. В героическом мире князей
Рюриковичей семейные узы про-
тиворечили героическому кодек-
су. Не говоря уже о том, что семья
слишком разрослась и разошлась
по отдаленным углам, чтобы со-
хранить у своих членов живое чув-
ство семейственности и почитания
отца. Тем более что не существовало таких уж безусловных и всеми
принимаемых оснований для признания прав именно данного князя
на отцовский великокняжеский стол в Киеве. В итоге киевский князь
оставался высшим по чести, но никакими другими узами, подтвер-
ждающими его первенствование перед другими князьями, связан не
был. Ни взаимными правами, ни обязательствами. Одной только
доброй волей или корыстным интересом сторон.
В конце концов князья Рюриковичи потому и тяготели к «очеред-
ному праву» и нераздельному владению Русской землей, что никак
не могли между собой договориться и установить единое основание
для наследования земель. «Очередное право» и нераздельность зе-
мель, конечно, консервировали родовое начало в жизни князей, но
они же в еще большей степени явились следствием распада родовых
отношений, индивидуальной заявленности в княжеской повадке. Она
не пошла далее самовольства, в котором оставалось слишком много
стихийного и разрушительного, а не утверждающего индивидуаль-
ность как культурную форму. Очередное право и нераздельность
земель предотвращали кровавый дележ наследства, как это имело
место после смерти Святослава или Владимира. Оно сохраняло некие
исконные реалии родового быта, которые так разрушительно отменя-
лись. Отменялось, в частности, и такое привычное для родового
Князь и княжеская власть
227
строя княжение одного князя-патриарха. Бурно заявлявшие себя
князья-индивиды в своем стремлении преодолеть родовую безлич-
ность остановились на полпути. Они вышли из родовой покорности
и почитания князя-патриарха и не дошли до вассалитета. Последний
же по внешней форме как будто воспроизводит семейно-родственные
связи архаического образца, по сути же, их отменяет за счет личност-
ных связей. У нас же произошло нечто несообразное. Возникла
некая семейно-родовая форма для удержания бесформицы и стихии
между княжеских отношений.
Неразрывная семейственность русских князей, их буквальная род-
ственность, сохранявшаяся в домонгольской Руси, несмотря на раз-
растание рода, делала из столкновений между князьями некоторое
неорганическое смешение такой важной для героев битвы и при-
скорбной семейной распри. До конца оставалось непроясненным: или
это герои, взрослые мужи сошлись в битве, где для них наступили
звездные часы, или же имеет место ничем не оправданная и ни
к чему, кроме разрухи, не ведущая свара и драка капризных и непос-
лушных великому князю-отцу детей. Это очень русский мотив в «Слове
о полку Игореве», пронизанном сожалением и скорбью по поводу
княжеских междуусобиц. Вроде бы сожаление и скорбь так естест-
венны в стране, где всякая усобица ослабляла ресурсы противостоя-
ния набегам кочевников из Дикого поля.
Но противостоять половцам можно было по-разному. Предполо-
жим, на манер западных христиан призвать к установлению в рус-
ских землях Божьего мира, запрещающего войны между христиана-
ми. Божий мир вполне последовательно было бы продолжить своим
подобием крестового похода против кочевников-язычников. У нас
действовала логика иного порядка. Поскольку Русь—это одна земля,
в которой правит один род Рюриковичей, то насущно необходимым
становится семейное согласие среди князей-братьев. К нему и призы-
вает автор «Слова...»:
Ярослава все внуки и Всеслава!
Склоните стяги свои,
вложите в ножны свои мечи поврежденные,
ибо лишились вы славы дедов.
Вы ведь своими крамолами
начали наводить поганых
на землю Русскую, на богатства Всеслава.
Из-за усобицы ведь настало насилие от земли Половецкой!1
В «Слове...» столкновения между князьями—это бесславные дела
и даже крамола вовсе не по христианским соображениям. Негоже
князьям затевать усобицы потому, что они внуки одного деда, в этом
1 Слово о полку Игореве. С. 72.
228
Культура Киевской Руси
внутренняя несообразность усобиц, дополняемая внешней—половец-
кой—опасностью. Для героического самоутверждения тем самым
остается очень ограниченное пространство. Оно в соответствии с тем
же «Словом...» подлинно оправдано только как общерусское дело,
которому призваны служить князья Рюрикова дома. Мы уже видели,
как ему послужил новгород-северский князь Игорь Святославич со
своим братом Всеволодом Святославичем. Для них битва с половца-
ми непременно должна была нести в себе момент «самовольства», до
предела доведенного риска жизнью, преодолевающего изнутри ге-
роической души смерть и вводящего героя в пространство божествен-
ности. Но тогда походы князей на половцев становятся деяниями, не
многим более оправданными по сравнению с усобицами. Шансов
у князей-героев защитить Русь немного, а урон себе они наносят
значительный.
До некоторой степени поход Игоря Святославича в Донскую степь
и последующая битва с половцами напоминает битву графа Роланда
в Ронсевальском ущелье, как она предстает в «Песне о Роланде».
Роланд со своим побратимом Оливье тоже терпит поражение от
мавров потому, что «ум графа уступил желанию». Он захотел именно
своими силами одолеть неприятеля, его, как и Игоря, тянуло к встре-
че с непомерным. Но что касается реакции эпического автора «Песни
о Роланде» на гибель своего героя, то в ней нет осуждения. Граф
Роланд действовал с героическим замахом и этим прославил себя
в глазах франков, их императора и потомков. Такой же безусловной
санкции на действия князя Игоря в «Слове о полку Игореве» нет
и в помине. Героическая доблесть Игоря восхищает повествователя,
он сочувствует ему, но и судит его. Суд над Игорем производится
с позиций его принадлежности к единому княжескому роду-семье.
Но что не менее важно, сам княжеский род-семья при этом не
самодовлеет. Он, в свою очередь, соотнесен с Русской землей и обя-
зан служить ей. Принадлежность русских князей к своему роду,
делающая их в чем-то детьми-братьями, а не только взрослыми
мужами войны, дополняется в «Слове...» их прикрепленностью к Ру-
си. Пронзительно и так узнаваемо уже при первом чтении звучат
слова эпоса: «О Русская земля, уже ты за холмом!» И биться
с половцами, несмотря на все свое самоволие, князь Игорь идет «за
землю Русскую». Его героическая удаль и бесстрашие нуждаются
в дополнительном сопряжении с общерусским делом, пускай даже
задним числом.
Если быть точным, то князь Игорь Святославич оказывается
достаточно далеким от осуществления героического максимума в сво-
их действиях еще и потому, что сам он так и не исполняет обращен-
ного к своей дружине призыва: «Лучше ведь убитым быть, чем
плененным быть». Свой смертельно опасный поход князь Игорь как
раз и завершает собственным пленением. Для него осуществилось
вовсе не «лучшее»—доблестная гибель, а пленение. Хотя в «Слове
Князь и княжеская власть
229
о полку Игореве» ничего и не говорится об унижении новгород-
северского князя, его плен не мог не восприниматься не только как
общерусская беда, но и как унижение. Состояние, надо сказать,
вовсе не героическое. И совсем уже удивительно по меркам героиче-
ского эпоса то, что «Слово...» завершается бегством князя Игоря
Святославича из половецкого плена. Оно вызывает ликование во
всей Русской земле: «Села рады, грады веселы». Рад и весел и сам
эпический повествователь, завершив свое «Слово...» традиционной
эпической концовкой: «Князю слава и дружине».
Очевидным образом автору «Слова...» и в голову не приходит
судить неудачливого и несостоятельного князя по героическим мер-
кам. Стало быть, он и не относится к нему только как к царю-герою.
По этому поводу Г. П. Федотов, в частности, замечает: «Во-первых,
важно заметить, что нагнетание трагических событий не получило
достаточного обоснования в раскрытии темы. „Слово о полку Игоре-
ве “ —это драма со счастливым концом. Обилие зловещих сцен выгля-
дит несколько необоснованным. Во-вторых, трагический эффект дос-
тигается не смертью сражающегося и обреченного на гибель героя
(как в случае с Ахиллом, Роландом, Зигфридом), а в результате его
страданий и унижений: в лице князя Игоря страданием и унижением
под гнетом половцев подвергается вся Русская земля»1.
Сказано очень точно. И речь у Федотова, по существу, идет
о трансформации по ходу повествования героической позиции князя
Игоря в позицию искупления своего поражения страданиями и уни-
жениями. О грехах в «Слове...» впрямую не говорится, христианские
мерки к князю Игорю не прикладываются, но и язычески-героиче-
ская мерка оказывается к нему неприложима. По-видимому, точнее
всего, хотя и не вполне точным, будет утверждение о том, что князь
Игорь, как сын своей земли, проявил детскую самонадеянность
в своем походе на половцев, за что и поплатился унижениями и стра-
даниями. Они уместны по отношению к нему как некоторый урок
и поучение ввиду того, что князь Игорь не достиг той безусловной
взрослости, которая предполагает полную вменяемость и способность
отвечать за себя и свои поступки. Герой—человек взрослый по
преимуществу. На вершине героизма никаких уроков ему уже не
нужно. А если он и отвечает за себя и свои поступки, то не страда-
ниями и унижениями, а смертью, которая есть для него триумф
и катастрофа одновременно.
До такого итога князю Игорю далеко еще и потому, что окончание
его плена оказалось в прямой зависимости не от самого князя, а от
его жены Ярославны. На этот момент в своем блестящем разборе
«Слова о полку Игореве» указывал Г. П. Федотов. «Неужели случай-
но, —писал он, — что сразу же после магических заклинаний Ярослав-
ны поэт рисует князя Игоря и его побег? Создается впечатление, что
1 Федотов. Русская религиозность. С. 305.
230
Культура Киевской Руси
заклинания Ярославны оказывают необходимое воздействие на силы
природы, которые спешат возвратить княгине оплакиваемого мужа»1.
Вряд ли в настоящем случае уместно говорить о «магических закли-
наниях». Скорее, Ярославна обращается к ветру, Днепру и солнцу
с упреком и мольбой. Никакой магии в этом, разумеется, нет. Что
несомненно присутствует в плаче Ярославны, так это ее активное,
созидательное отношение к тому, что произошло с мужем. Когда она
восклицает: «Полечу... кукушкою по Дунаю, омочу шелковый рукав
в Каяле-реке, утру князя кровавые раны на могучем теле», в ее
восклицании слышится стремление защитить и спасти князя Игоря.
Если нечто подобное и женское, то все же не женино, а скорее
материнское дело.
Женщина, спасающая мужчину, врачующая его раны,— это обыч-
но мать, а если и жена, то в роли матери. Только для нее мужчина-
воин может выступать более слабым, нуждающимся в опеке и защите
существом. Жена мужу в первую очередь повинуется. В семье она
«подданная» своего «царя», в известном смысле даже «дочь» своего
нового «отца». И, уж конечно, не ей играть ведущую роль в отноше-
нии мужа. Если все-таки ее принимает на себя Ярославна, то за этим
не может не стоять большая близость женщины к матери-земле Руси.
В «минуты роковые» воинско-героической жизни мужа жена способ-
на перевернуть ситуацию. Сделать из взрослого защитника Русской
земли-матери ребенка, самого нуждающегося в опеке и защите.
В результате героическая нота княжеских деяний окончательно об-
рывается, его героизм выявляет свою недовершенность за счет так
и не разорванных связей с догероической архаикой русской жизни.
Можно предположить, что как раз с той архаикой, которая преобла-
дала у предшественников Рюриковичей—племенных и родовых кня-
зей восточно-славянских земель.
В результате странная и внутренне неустойчивая царственность
обнаруживается у русских князей. В качестве царей-героев им задано
странничество, неприкрепленность к родной земле и связь со своей
дружиной, куда входят служащие царям, но равные им герои. Но
поскольку русские князья еще и охранители и защитники родной
земли, их соотнесенность с Русской землей может быть только
отношением сыновства или супружества. Строго говоря, по отноше-
нию к своему народу царь всегда отец или же воплощение или
представитель отца-бога. Соответственно, подданные царя—это его
«детушки». Следующий шаг, который как будто остается сделать,
заключается в том, чтобы народ и страну осмыслить в качестве
царской «дочери». Такого шага между тем нигде сделано не было.
В полноте своей царственности царь всегда соотносится со своим
царством как с супругой. Происходит это, видимо, потому, что
страна, в которой обитают царские детушки, — это не только все они,
1 Федотов. Русская религиозность. С. 304.
Князь и княжеская власть
231
вместе взятые, она еще и то, из
чего они рождаются своим царем.
Царь—отец и родитель небесного
происхождения. Своих же детей
(ведь они люди, а не боги или
божественные существа) он поро-
ждает через мать-страну-землю.
Возвращаясь к нашим русским
князьям домонгольской Руси,
нельзя не прийти к выводу, что,
будучи членами одного рода и,
Княжеский терем XI века близ Спас-
ского собора в Чернигове
Реконструкция Н. В. Холостенко
следовательно, оставаясь детьми-
братьями, они внутренне не могли
претендовать на супружество по
отношению к тем землям, которы-
ми владели, и тем более в отношении всей Русской земли. Сложнее
было положение великого князя, сидевшего в Киеве. Как глава
княжеского рода, какими бы эфемерными ни были его реальные
властные права, он все же мог претендовать на роль не только отца
всех остальных князей, но и супруга Русской земли. Видимо, этого
не произошло ввиду того, что отцовство киевского князя оставалось
очень неустойчивым и условным. Киевский стол постоянно оспари-
вался различными князьями. Очень немногие из них занимали его
с согласия всех других князей, без стремления с их стороны попы-
тать счастья в войне за Киев.
Княжеский род Рюриковичей, на протяжении столетий оставаясь
самим собой и не распадаясь на династии, в то же время был очень
плохим родом в отношении единства, согласия и признания власти
над собой царя-патриарха. По этому пункту ему было очень далеко
до настоящих первобытных патриархальных родов. Собственно, ро-
довым в нем было устойчивое ощущение себя князьями—внуками
Ярослава и Всеслава. Но признание общего первопредка и тем самым
своего «внучатства» у князей не подкреплялось признанием над
собой отца, которому нужно безропотно повиноваться. В Киевской
Руси царила если не прямо «безотцовщина», то упорное пренебреже-
ние детей отцом. Дети жили по своей воле и в этом были царями-
героями, но они же оставались детьми, а не взрослыми, так как
пренебрегать отцом вовсе не значит стать взрослым.
Взрослость русских князей была бы достигнута, например, тогда,
когда бы Ярославичи и Всеславичи образовали самостоятельные
династии, причем зависимость и подчиненность одного князя друго-
му, если бы она имела место, строилась не на родственных отношени-
ях, а на началах вассалитета. Со временем нечто подобное в русских
землях произойдет. Однако феодальная, она же удельная, Русь
состоялась у нас не как самостоятельная культурно-историческая
эпоха, а в качестве переходного периода между Киевской и Москов-
232
Культура Киевской Руси
ской Русью. Собственно же Московская Русь постепенно создала
такого рода образ царственного властителя, который вначале очень
мало, а затем вовсе ничего общего не имел с образами князей
удельной эпохи.
Княжеская дружина
Если бы настоящая книга была посвящена не русской, а, скажем,
французской, английской или германской культуре, то в ней озагла-
вить соответствующий раздел было бы элементарно просто. К приме-
ру, «Рыцарская культура» или того короче: «Рыцарство». Такого же
общего и достаточного точного слова применительно к тому слою
населения Киевской Руси, о котором у нас пойдет речь, не существу-
ет. Его можно назвать и княжеской дружиной, и воинским сослови-
ем, и знатью (аристократией).
Все это будут очень приблизительные характеристики. Так, зна-
тью те, кого я имею в виду, были в очень ограниченной степени
и далеко не все. Очень значительная их часть никаким богатством,
непременным для знати, не отличалась. Других же, богатых и могу-
щественных, к знати не отнесешь ввиду того, что у них и по
отношению к ним отсутствовало представление о знатности своего
рода. Знатности, то есть наличия многих поколений доблестных
и славных предков. По-настоящему знатным родом в Киевской Руси
оставались на всем протяжении ее существования одни только Рюри-
ковичи. Ни о каких других знатных родах письменные источники не
упоминают. В них фигурируют только отдельные, достигшие соци-
альной вершины персоны, по поводу которых в лучшем случае
можно сказать, кто их отец.
Ни в какое сравнение такая ситуация с западной не идет. Там
знатные роды обставляются разветвленными и уходящими в глубь
веков генеалогиями, пышной и яркой геральдикой. Это действитель-
но военная и землевладельческая знать, а не наш трудно определи-
мый в своем существе слой. Его и сословием в строгом смысле слова
не назовешь, так как он не отделен четкими границами от других
слоев городских и сельских жителей, так же как от княжеского
окружения. Наверное, говоря о нем, лучше всего все-таки остано-
виться на словосочетании «княжеская дружина». По крайней мере,
в этом случае достаточно точно схватывается происхождение интере-
сующего нас слоя, у представителей которого могли проявляться
отдельные признаки военной и земледельческой знати или воинского
сословия, но проявляться недовершенно и фрагментарно.
Обращение к культуре тех, кого я обозначил как княжескую
дружину, затруднено не только в силу известной аморфности этого
образования, отчего у него и нет устойчивого и точного именования,
но и потому, что в Киевской Руси княжеская дружина не имела
собственного голоса в культуре, так же как и крестьяне и горожане.
Княжеская дружина
233
Битва новгородцев с суздальцами. Икона. XV в.
В культуре той поры звучал голос почти исключительно духовенства
и монашества (впрочем, не только от своего лица, но частью и от
лица князей и всей Руси или отдельных ее княжеств). Княжеский
интерес духовные лица в целом блюли, не только приглаживая облик
правителей в церковном духе, но и до некоторой степени давая им
высказаться со своего голоса в письменных текстах, составляемых
духовными лицами. Один из князей — Владимир Мономах —выразил
себя в древнерусской культуре даже от первого лица.
Ничего подобного в отношении княжеской дружины представить
себе невозможно. Она входила в «молчаливое большинство», к которо-
му принадлежали горожане и крестьяне. Уже одно это обстоятельство
не позволяет нам говорить о каком-то подобии рыцарской культуры
в Киевской Руси. Рыцарство действительно образовывало свою осо-
бую субкультуру в целом средневековой культуры. И у нее есть свои,
присущие только ей признаки и характерные черты. Не говоря уже
о том, что рыцарство самобытно выразило себя в словесности: эпосе,
любовной лирике, романе, в устойчивых и детально разработанных
формах и нормах поведения, в этикете, не без помощи со стороны
оно создало собственный образ, неотразимо обаятельный в собствен-
ных глазах, а вольно или невольно и в глазах многих других.
Нельзя себе представить, чтобы наша княжеская дружина не
создала и в собственной среде те же самые нормы и формы поведе-
ния, свой дружинный этос. Конечно же, он существовал. Но где,
в каких памятниках и документах он заявлен? О дружинном этосе
234
Культура Киевской Руси
Русские всадники XIII века. Миниатю-
ра из лицевого летописного свода XVI в.
ни точно. Действительно, вряд
можно судить разве что на основе
отдельных фрагментов и деталей,
изредка встречающихся, как пра-
вило, во вполне чуждых ему тек-
стах, но никак не в подобии какой-
нибудь дружинной словесности.
В качестве письменности таковая
не существовала вовсе. Так же как
не существовало и никакой суб-
культуры княжеских дружинни-
ков. Другое дело, что какими-то
своеобразными чертами и особен-
ностями они все же отличались,
что и позволяет и делает необхо-
димым особый разговор о княже-
ской дружине.
Вернемся, однако, к самому сло-
восочетанию «княжеская дружи-
на» и к высказанной уже мысли
о том, что с точки зрения генезиса
интересующего нас слоя это сло-
восочетание в достаточной степе-
ли кто-либо станет отрицать, что
непосредственно Киевская Русь возникла благодаря усилиям и дейст-
виям князей Рюриковичей (среди них не Рюриковичем, хотя, види-
мо, и близким родственником Рюрика, был один только Олег) и их
дружины. Дружина составляла ближайшее окружение князя, его
войско и, что не менее важно, княжеский двор. Дружинник в зависи-
мости от своего положения при князе мог быть и его ближайшим
советником, и сподвижником, и слугой, выполняющим свои повсе-
дневные обязанности в домашнем хозяйстве князя. Самое слово
«дружина» — однокоренное со словами «друг», «другой», «дружба»,
«дружить». Буквально его этимология может быть определена как
«те, с кем дружат, то есть друзья». Здесь тот же принцип словообра-
зования, что и в словах «воин —война —военщина». Дружина—это
друзья, так же как военщина- -это воины. Понятно, без того же
ценностного акцента-приговора. В этом слове точно выражена неиз-
менная близость князя со своим военным (оно же домашнее) окру-
жением. Но оно не передает собой центрированность общности близких
друг другу людей одной вознесенной над ними персоной. Ведь в кня-
жескую дружину входят все те, кто, как бы они ни были близки
к князю, по отношению к нему—другие. При этом инаковость князя
и дружины имела важные с позиции культуры различные акценты
в Киевской Руси и на средневековом Западе.
Исходно ситуация была очень сходной, скорее всего, даже тожде-
ственной. Продемонстрируем ее вначале на материале королевства
Княжеская дружина
235
франков накануне крещения его короля Хлодвига, а затем на приме-
ре нашего русского князя Святослава Игоревича. Когда в 496 г. для
франкского короля пришло время выполнить свой обет и принять
святое крещение, он выразил своему будущему крестителю св. Реми-
гаю очень характерное для тех времен сомнение: «Охотно я тебя
слушал, святейший отец, одно меня смущает, что подчиненный мне
народ не потерпит того, чтобы я оставил его богов. Однако я пойду
и буду говорить с ним согласно твоим словам»1. Из всего контекста
и содержащихся у Григория Турского в его «Истории франков»
прямых указаний следует, что под народом Хлодвиг имел в виду
собственную дружину. Ее противодействия король опасался напрас-
но и крещение для него сошло благополучно. Для нас же в настоя-
щем случае важен сам факт оглядки Хлодвига на дружину, опасение
вызвать ее неудовольствие.
В этом своем опасении Хлодвиг вполне совпадает с Киевским
князем Святославом Игоревичем. Его побуждала к крещению мать,
тоже в будущем святая, княгиня Ольга. Согласно «Повести времен-
ных лет», она обратилась к сыну Святославу с такими словами:
«Я познала Бога, сын мой, и радуюсь; если и ты познаешь Бога—
тоже станешь радоваться». Он же не внимал тому, говоря: «Как мне
одному принять веру? А дружина моя станет насмехаться»1 2.
Святослав свои опасения насмешек со стороны дружинников в от-
личие от Хлодвига не преодолел, что только подчеркивает сходство
между ними в отношении к своей дружине. И король франков,
и киевский князь одинаково тесно связаны каждый со своей дружи-
ной, очень считаются с ее мнениями и реакциями. Они в равной
степени являются прежде всего предводителями своих дружин и только
вследствие этого властителями своих земель. Вряд ли есть смысл
называть Хлодвига и Святослава первыми дружинниками франк-
ского королевства и киевского княжества соответственно. Но как
главы своих домов и семей, членами которых являются и дружинни-
ки, Хлодвиг и Святослав все-таки входят в одну семью с дружинни-
ками, составляют с ними один дом. В чем-то каждый из них первый
дружинник своего королевства или княжества. Не менее значимой,
однако, была соотнесенность Хлодвига и Святослава со своей стра-
ной, по отношению к ним они уже были не «первыми из», а отцами-
хранителями, устроителями и кормильцами, а для каких-то подчи-
ненных им земель еще и завоевателями, персонифицирующими собой
чуждые демонические силы.
Пройдут столетия и ситуация в королевстве франков, ставшем
королевством Францией, радикально изменится. Дружинники станут
рыцарями, возникнет блистательное рыцарское сословие, причаст-
ным к которому будут ощущать себя и короли. Для каждого из них
1 Григорий Турский. История франков. М., 1987. С. 50.
2 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1. С. 113.
236
Культура Киевской Руси
еще в свою бытность наследным принцем, так же как и для любого из
потомков дружинников франкских королей, станет непременно обя-
зательным посвящение в рыцари. Королем должен быть рыцарь,
а значит, он поистине первый рыцарь королевства. Здесь особенно
важно, что рыцарство обладало некоторым самобытием и даже пер-
венствованием по отношению к королю. Оно составляло особую
корпорацию, орден, некоторый замкнутый на себя мир, в котором
непременно находилось место и королю. Он был даже и необходим.
Но именно как момент целого, пусть первенствующий и замыкающий
на себя рыцарство. С другой стороны, оно тоже замыкало на себя
короля, прививая ему ощущение не просто своего среди своих, а еще
и своей производности от реальности рыцарского ордена. Рыцарству
нужен король, без него оно недовершено, но нужен именно в качест-
ве первого из рыцарей. Приблизительно так можно представить себе
связь между французским королем и французским рыцарством эпо-
хи высокого Средневековья. Связь, которая на этот раз имеет мало
общего со связью князя Киевской Руси со своей дружиной.
Его дружина не только не оформлялась в некоторое целое, свое
подобие рыцарского ордена, но, напротив, обнаружила тенденцию
к расслоению на составные части, сильно друг от друга отличающие-
ся. Наиболее важный момент здесь состоял даже не в том, что
в дружине образовалась аристократическая верхушка—«старшая» или
«большая» дружина, до некоторой степени противопоставленная ос-
тальным дружинникам, образовавшим «молодшую дружину». Суще-
ственней то, что «молодшая дружина», она же «отроки», «детские»,
«пасынки», «все более сохраняет черты дружины первичного типа:
княжого двора, слуг княжих в бою и в хозяйстве, и в управлении,
и во всяких делах остающихся в полном распоряжении и личной
зависимости от князя»1. «Большая дружина» со временем превраща-
ется в слой, который все меньший смысл имеет называть дружиной,
а гораздо точнее обозначить как боярство. Старшие дружинники-
бояре рано начинают занимать административные должности тысяц-
ких и посадников в городах, принадлежащих князю. Отделяет их от
домашнего быта и непосредственной принадлежности к княжескому
дому еще и владение имениями—земельными пожалованиями в мест-
ностях, часто далеко отстоящих от княжеской резиденции.
Сходный, если не тождественный процесс происходил и на средне-
вековом Западе. Однако он не разрушил единство того слоя, который
некогда был дружиной, за счет установления, может быть в повсе-
дневной жизни и неустойчивой, но освященной и санкционированной
культурной связи вассалитета. Вассалитет, как уже отмечалось, толь-
ко внешне воспроизводит семейно-родственные отношения, по суще-
ству являясь индивидуально-личностным отношением. Именно по-
этому он позволял сохранять связи между государем и теми, кто
1 Пресняков. С. 204—205.
Княжеская дружина 237
некогда были его дружинниками. Связи, которые в существенном
смысле стали даже первичными по отношению к тем, кто ими связан,
ввиду того, что они необходимы для существования рыцарского
ордена, включающего в себя и государя, и бывших его дружинников.
В Киевской Руси не только не произошло поглощения князя тем, что
некогда было дружиной, через включение его в свои ряды, перестала
быть целым и сама княжеская дружина. Осевшее на местах боярство
не много общего имело с «отроками» «молодшей дружины».
Особенно ярко отмеченная тенденция выразилась в Новгородской
земле. Как ни в какой другой области, боярство здесь осело и отож-
дествило себя с Новгородом, по существу разорвав некогда нераз-
рывные связи с князем. Как это хорошо известно, Новгород был
единственным из центров русских земель, который уже в Киевскую
эпоху начал приглашать к себе князей на княжение, перестав быть
отчиной кого-либо из них. Произошло это в том числе и за счет того,
что новгородское боярство стало соотносить себя в первую очередь со
своей землей и ее стольным городом и только потом с правящим в ней
князем. Такая переориентация дала историкам основание говорить
о «Новгородской республике». Словосочетание это вряд ли имеет
смысл употреблять без кавычек, лучше же избегать его вовсе. К Ки-
евской Руси равно неприменимы понятия республики и монархии.
Княжеская власть может быть адекватно осмыслена совсем в других
категориях. Главное для нас состоит в том, что она в Киевской Руси
существовала повсеместно, но в то же время ее характер существенно
разнился.
Продолжая же линию нашего рассмотрения княжеской дружины,
обратим внимание на то, что в Новгороде она не только дифференци-
ровалась, но и разделилась на две очень разные реальности. Здесь
бояре и те воины, которые приходили в Новгород вместе с князем,
призванным на княжение, образовывали некоторое подобие единства
или хотя бы согласованности только во время военного похода. Тогда
к княжеской дружине присоединялось состоявшее не в последнюю
очередь из местных бояр и их слуг ополчение. Те и другие к концу
XI в. едва ли сознавали общность своего корня и некогда существо-
вавшее единство. Хотя в других русских землях такого же разделе-
ния дружины и образования вполне самостоятельных слоев общества
не произошло, сходная тенденция все же проявлялась. Причем даже
в таком антиподе Новгородской земле, каким в целом несомненно
была Владимиро-Суздальская земля. В ней не только не призывали
князей на княжение, а, напротив, относительно рано начала утвер-
ждаться местная династия, не принимавшая ни «очередное право»,
ни совместное владение Русской землей. Во всей полноте эта тенден-
ция проявилась в княжение Андрея Боголюбского (1158—1174). Он
утверждал свою власть во Владимире-Суздальской Руси не только
как в своей отчине, но и с ориентацией на византийское самодержа-
вие, чем и вызвал глубокое недовольство у своего ближайшего
238
Культура Киевской Руси
окружения и местного боярства. Они и расправились с ним на
византийский манер, ворвавшись ночью в княжескую спальню и убив
князя жестоко и беспощадно. Когда же встал вопрос о преемнике
Андрея Боголюбского, то во Владимиро-Суздальской Руси возникла
ситуация, напоминающая призвание Великим Новгородом на княже-
ние кого-либо из князей Рюриковичей.
На момент смерти владимирского князя в его стольном городе не
было никого из братьев или детей. Все они находились на своих
княжениях за пределами Владимиро-Суздальской земли. Вопрос
о правах на княжение во Владимире того или иного князя был очень
спорным. Ведь Андрей Боголюбский сел на владимирский стол
вопреки завещанию своего отца Юрия Владимировича Долгорукого,
обойдя своих младших братьев Михаила и Всеволода, которым отец
и предназначал Ростов, Суздаль и Владимир. В знак согласия при-
нять их на княжение ростовцы, суздальцы и владимирцы когда-то
целовали крест Юрию Долгорукому. Если Русская земля—общее
достояние Рюриковичей, а у них действует очередное право, то,
казалось бы, им бы и решать вопрос о Владимиро-Суздальском
наследстве на своем княжеском съезде после гибели Андрея Боголюб-
ского. В действительности ничего подобного не произошло. Никаких
поползновений на съезд не было в помине. Вопрос о престолонасле-
дии решали ростовские, суздальские, переяславские и владимирские
бояре. В пересказе С. М. Соловьева летопись повествует о решении
бояр следующее: «Делать нечего, так уж случилось, князь наш убит,
детей у него здесь нет, сынок его молодой—в Новгороде, братья —
в Руси (ею в XIIв. все еще именовали киевскую землю. —Лети.); за
каким же князем послать? Соседи у нас князья муромские и рязан-
ские, надобно бояться, чтоб они не пришли на нас внезапно ратью;
пошлем-ка к рязанскому князю Глебу (Ростиславичу) скажем ему:
„Князя нашего Бог взял, так мы хотим Ростиславичей Мстислава
и Ярополка, твоих шурьев"»1.
Выбор боярства старших городов Владимиро-Суздальской земли
не был совсем случаен или произволен по понятиям того времени.
Все-таки Мстислав и Ярополк являлись сыновьями старшего сына
Юрия Долгорукого, умершего еще при жизни отца. Единственно
важно здесь однако право самостоятельного выбора князей, которое
присвоило себе ростовское, суздальское, переяславское и владимир-
ское боярство. По сути, оно ничем не отличалось от призвания
князей новгородцами, хотя во Владимире-Суздальской земле это
«призвание» не закрепилось и осталось единичным исключением из
правила. Но и единичное исключение позволяет заключить не только
о силе княжеской дружины, ставшей местным боярством, но и о ее
соотнесенности в первую очередь со своей землей и ее старшими
1 Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. 1. М., 1962. С. 549
(далее: Соловьев. История).
Княжеская дружина
239
городами, а вовсе не со своими князьями. «Своих», формирующих
дружину и принимающих дружинников под свою руку князей теперь
нет. Скорее дружина, в той ее части, которая стала боярством, готова
принять или не принять того или иного князя. Она в качестве
дружины существует сама по себе, несмотря на то, что живет одной
жизнью со своим князем, входя в его семью-двор.
Дружинников-бояр вряд ли можно считать и воинами по преиму-
ществу. Только «молодшая дружина»—отроки—сопровождают кня-
зя во всех его походах и сражениях. Дружинники-бояре участвуют
главным образом в ополчении. Они, прежде всего, во всяком случае
не менее, чем воинами, являются правителями городов и волостей
княжества, так же как и хозяевами своих усадеб и имений. От князя
бояре могут ждать наград и повышения своего общественного стату-
та, но их благосостояние и статут в своей основе уже состоялись
и намертво к тому или иному князю не прикреплены.
С точки зрения культуры первостепенный интерес, несомненно,
представляет вопрос о том, каким было самоощущение дружинников-
бояр. У дружины в ее первоначальном виде оно, несомненно, было
героическим или тяготело к героизму. Это явствует хотя бы из
героической повадки князей. Они ведь не были героями-одиночками
в окружении совсем не героических воинов-дружинников. Необходи-
мо принимать во внимание то, что героизм князя возможен не
в изоляции от негероического окружения, а в качестве героизма
наиболее продвинутого и инициирующего его в дружине, служащего
ей нормой и образцом. Скажем, если киевский князь Святослав
перед началом очередной битвы горделиво заявляет противнику:
«Иду на вы», то за этим не может стоять только его героическая
позиция и поза. Их должно разделять ближайшее окружение Свято-
слава, его дружина. Иначе неизбежно возникнут вопросы: «И зачем
это наш князь заранее оповещает противника о предстоящих сраже-
ниях? Своим безрассудством он лишь осложняет исполнение и без
того нелегкой задачи».
Вспомним, что, когда княгиня Ольга увещевала сына принять
крещение, Святослав в своем отказе сослался на возможные насмеш-
ки дружины. Ее реакция была ему далеко не безразлична, потому что
дружину составляли не просто слуги, а служащие своему князю
соратники, ориентирующиеся на те же ценности, которые были
действительны для их князя. Имея за спиной и рядом людей совсем
иного чекана, нежели он сам, даже такой бесстрашный князь, каким
был Святослав, вряд ли решился бы на так характерное для него
безоглядное самоутверждение. Утверждая себя, Святослав давал
возможность утвердиться и каждому из своих дружинников, а вовсе
не противоречил их опасливой осторожности и расчетливости. У ге-
роев она не в чести, дружинники же Святослава были героями, во
всяком случае, для них близким был героический кодекс. О том,
какую роль первоначально играла княжеская дружина, и, в частно-
240
Культура Киевской Руси
сти, наиболее видные ее представители в Киевской Руси, вполне
однозначно свидетельствуют такие сравнительно надежные историче-
ские документы, как мирные договоры князей Олега и Игоря с ви-
зантийскими императорами. В них тщательно перечисляются все
участники заключения договоров. За договором же князя Игоря
прямо стоит не только он сам, но и его виднейшие дружинники.
Наряду с Игорем они тоже представляют одну из договаривающихся
сторон. Без этих дружинников договор вряд ли имел бы настоящую
силу и прочность в глазах правящего слоя Киевской Руси. Конечно
же, и в договоре Олега, и особенно явно в договоре Игоря перед
нами предстают дружинники—соратники своих князей, для которых
он первый среди равных, герой среди людей той же выделки и повадки.
Со всей ясностью обнаруживается характер связи между Киев-
ским князем начальной поры и его дружиной в известных словах
князя Владимира: «Серебром и золотом не найду себе дружины,
а с дружиною добуду серебро и золото, как дед мой и отец мой
с дружиною доискались золота и серебра»1. Эти слова о первичности
связи «князь—дружина». Будет она крепкой и неразрывной — все
остальное приложится. И не только золото и серебро, но и подвласт-
ные земли, мир и устроение в них. Короче, все, что может пожелать
себе киевский князь. Но первичность связи князя со своей дружиной
означает еще и то, что он является прежде всего князем своей
дружины и только потом и вследствие этого—киевским и общерус-
ским князем. Еще более отчетливо выражена первичность отношения
«князь—дружина» для дружинников. Они составляют именно кня-
жескую, а не киевскую или русскую дружину. Прикреплены они не
к земле, а к своему князю. И в этом княжеская дружина в ее
первичном виде прямо противоположна позднейшему боярству. По-
следнее если и остаются дружиной, то земской и городской, и только
потом княжеской. Князю боярин служит не потому, что индивиду-
ально по своему почину устанавливает с ним личные связи, а потому,
что князь садится на княжеский стол в земле обитания боярина.
Нередко князья приходят и уходят, бояре же остаются, хотя в пери-
од княжения и обязаны князю служением.
Значительная самостоятельность бояр по отношению к князьям,
их отделенность от князей, казалось бы, должна была приводить
и к их большей внутренней самостоятельности. Если нечто подобное
и имело место, то менее всего распространялось на культуру, стано-
вилось моментом собственной культуры боярства. Даже в Новгород-
ской земле, где независимость от князей пошла так далеко, как нигде
более на Руси, даже здесь боярство осталось слоем немотствующим
в культуре. До нас дошло новгородское зодчество, в общем-то вполне
выявлены новгородские акценты в иконописании. Наконец, более
или менее понятна повадка новгородцев в их общественной жизни и,
’ Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1. С. 171.
Княжеская дружина
241
в частности, характер новгородского веча. Но где во всем перечис-
ленном голос новгородского боярства? Его нет или он не слышен. До
нас только и дошли имена некоторых бояр и сведения об их участии
в важных событиях новгородской жизни. Но мы совершенно не
способны представить себе образ новгородского боярина, пускай
идеализированный, такой, каким он хотел себя видеть.
Западный рыцарь в этом отношении—прямая противоположность
новгородскому боярину. Уж он-то многократно и разнообразно себя
выразил. И по-настоящему сложной для историка культуры остается
одна задача. Различить в рыцаре мифологический пласт, то, что он
о себе насочинял и намечтал, и более приземленную реальность
рыцарской повседневности. Что касается новгородского боярина, то
тут историк был бы несказанно рад любым крохам свидетельств
о боярах, которые идут из собственных боярских уст, пусть они
были бы сколько угодно подтасовкой и боярской фантазией. Увы,
ничего практически не сорвалось с боярских уст ни в Новгороде, ни
где-либо еще в Русской земле Киевского периода. Остается предпо-
ложить, что жизнь боярства складывалась без какого-либо ярко
выраженного своеобразия по сравнению с другими слоями древне-
русского общества—крестьянами и горожанами.
Конечно, боярин был несравненно богаче крестьянина и огромно-
го большинства горожан. Он пользовался правами и привилегиями,
которых у них не было. Однако выделенность боярина менее всего
была культурной выделенностью. А это означает, что культура бояр
неизбежно тяготела к одному из двух полюсов, совмещая их в себе.
К полюсу православной церковности, с одной стороны, и к полюсу
фольклорности с другой. Боярин оставался особо богатым и могуще-
ственным крестьянином или горожанином, к тому же причастным
еще и к воинскому делу. Но у нас нет никаких оснований так уж
резко отделять боярина от городской и крестьянской культуры. Он
точно так же, как и крестьянин или горожанин, ощущал свою
принадлежность к Православной Церкви, формируя, как мог, свою
жизнь в соответствии со своим пониманием православных канонов,
но точно так же в его душе жили смыслы и образы трансформирован-
ного язычества, ставшего фольклором. Ни о какой вознесенности на
уровне устойчивых общебоярских смыслов и образов над равниной
жизни крестьян и горожан применительно к боярству говорить не
приходится. Никакой своей явно выраженной струи в древнерусскую
культуру Киевской поры оно не привнесло.
Не так просто и однозначно обстоит дело с княжеской дружиной
в ее первоначальном виде. Конечно, правомерно утверждать, что
дружинники вполне разделяли героический кодекс и героические
устремления своих князей. В известном смысле князья были вырази-
телями того духа и той культуры, которая сформировалась в дру-
жинной среде. И все же совсем не случайно при обращении к нашим
летописям и другим письменным свидетельствам о русской культуре
242
Культура Киевской Руси
Киевского периода мы встречаемся с более или менее внятно пропи-
санными образами князей и с едва намеченными, смутными и фраг-
ментарными чертами дружинников. Впечатление такое, что дружина
с ее культурой сосредоточена в образе князя, он ее персонифицирует
и выражает собой, оставляя самих дружинников на заднем плане
и в глубокой тени. Те немногие и отрывочные сведения о дружинни-
ках, которые дошли до нас, принципиально отличаются от сведений
о князьях. Причем даже тогда, когда речь идет о типологически
сходных ситуациях, в которых оказывались князья и дружинники.
Более конкретно можно прояснить то, о чем идет речь, при
обращении к историческим свидетельствам и примерам. Оба они из
«Повести временных лет», хотя внимание историки и читатели уделя-
ли им разное. Первое, очень известное свидетельство имеет касатель-
ство к знаменитому тмутараканскому, а позднее еще и черниговскому
князю Мстиславу, а точнее, к датируемому 1022 г. походу из Тмута-
ракани на касогов. В этом походе решающим событием стало едино-
борство Мстислава с касожским вождем Редедей. Напомним, как оно
описывается в «Повести временных лет».
«И когда стали оба полка друг против друга, сказал Редедя
Мстиславу: „Чего ради погубим дружины? Но сойдемся, чтобы по-
бороться самим. Если одолеешь ты, возьмешь богатства мои, и жену
мою, и землю мою. Если же одолею я, то возьму твое все“. И сказал
Мстислав: „Да будет так“. И съехались. И сказал Редедя Мстиславу:
„Не оружием будем биться, но борьбою". И схватились бороться
крепко и в долгой борьбе стал изнемогать Мстислав, ибо был рослым
и сильным Редедя. И сказал Мстислав: „О Пречистая Богородица,
помоги мне! Если же одолею его, воздвигну церковь во имя твое".
И сказав так, бросил его на землю. И выхватил нож, и ударил его
ножом в горло, и тут был зарезан Редедя. И, войдя в землю его,
забрал все богатства его, и жену его, и детей его, и дань возложил на
касогов. И придя в Тмутаракань, заложил церковь Святой Богороди-
цы и воздвиг ту, что стоит и до сего дня в Тмутаракани»1.
При том, что «Повесть временных лет» повествует о реальных
лицах и реальном историческом событии, достаточно важном для
судьбы отрезанного от остальных русских земель княжества, лето-
писный рассказ выдержан в откровенно эпических тонах. Конечно,
единоборство предводителей дружин перед лицом своих соратников,
на котором решалась судьба каждого из воинств, — это реальность не
только эпическая, но и историческая. Но вот поединок без оружия—
скорее дань эпосу, в который отчасти превращается фрагмент «По-
вести временных лет». Отчасти, потому что историческое повествова-
ние с эпическими чертами осложняется еще и моментом христианского
благочестия. Не будем особенно преувеличивать его христианскость.
Ведь точно так же, как Мстислав воззвал к Богородице, какой-
’ Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1. С. 189.
Княжеская дружина
243
нибудь чисто эпический Одиссей мог воззвать к своей божественной
покровительнице Афине. И тем не менее христианское благочестие
в тексте присутствует. Существенно, однако, что ни поучающе-хри-
стианские, ни эпические моменты не способны растворить в себе
исторический характер повествования. Оно написано о реальном
князе и во славу деяний человека, который явно жил по героическим
меркам, с эпическим размахом и не был чужд христианского благо-
честия, как он его понимал.
Второе свидетельство из «Повести временных лет» относит нас
к временам еще более древним, чем война русских с касогами.
Теперь речь пойдет о набеге печенегов на южные рубежи Руси
в 993 г., еще при князе Владимире. И на этот раз предводитель
печенегов делает князю Владимиру предложение, близкое по смыслу
к тому, что прозвучало в обращении Редеди к Мстиславу: «Выпусти
ты своего мужа, а я своего—пусть борются. Если твой муж бросит
моего на землю, то не будем воевать три года и разойдемся; если же
наш муж бросит вашего оземь, то будем разорять вас три года»1.
Различие между двумя близкими ситуациями только в одном. Касож-
ский предводитель предлагал более архаический вариант единобор-
ства, когда бились сами предводители войск, печенег хочет схватки
между сильнейшими воинами каждого войска. После долгих поисков
князь Владимир нашел-таки, кого выставить против грозного печене-
га. Вот как описывает летописец обретение русского богатыря, спо-
собного вступить в схватку с противником:
«...И пришел к князю один старый муж и сказал ему: „Князь! Есть
у меня один сын меньшой дома; я вышел с четырьмя, а он дома
остался. С самого детства никто его не бросил еще оземь. Однажды
я бранил его, а он мял кожу, так он рассердился на меня и разорвал
кожу руками “. Услышав об этом, князь обрадовался и тут же послал
за ним, привели его к князю, и поведал ему князь все. Тот отвечал:
„Князь! Не знаю, могу ли я с ним схватиться, но испытайте меня: нет
ли крупного и сильного вола?“ И нашли могучего вола, и приказал
он разъярить вола. И побежал вол мимо него, и схватил его рукою за
бок и вырвал кожу с мясом, сколько захватила рука. И сказал
Владимир: „Можешь с ним бороться..." И выступил муж Владимира,
и увидел его печенег и посмеялся, ибо был он среднего роста.
И размерили место между обоими войсками и пустили их друг
против друга. И схватились... и удавил муж печенежина руками до
смерти. И бросил его оземь. И кликнули русские, и побежали
печенеги, и гнались за ними русские, избивая их, и прогнали.
Владимир же обрадовался и заложил город у брода того и назвал его
Переяславлем, ибо перенял славу отрок. И сделал его Владимир
великим мужем, и отца его тоже»* 2.
’ Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1. С. 167.
2 Там же. С. 167, 169.
244
Культура Киевской Руси
Достоверность того, что произошло на месте, где вскорости будет
заложен Переяславль, гораздо более проблематична по сравнению
с достоверностью похода Мстислава против касогов. Во всяком слу-
чае, детали обстоятельств единоборства русского и печенежского
мужей уже всецело эпичны и даже сказочны. Естественно, что
описание русского мужа легко вызывает у нас образ былинно-
сказочного Никиты Кожемяки. Именно он обошелся с кожей тем же
манером, что и муж из «Повести временных лет». Аналогичного
свойства и эпизод с быком. Оба они, хотя и могут войти в эпос, но не
являются собственно эпическими ввиду того, что выявляют перво-
зданную, природную мощь героев. Героическое же в собственном
смысле находится уже по ту сторону природной мощи, оно предпола-
гает посягательство на непомерное, подвиг, где герой встречается
с необоримым, в пределе с судьбой. Вокруг подобных реалий и выс-
траивается эпическое повествование, все же остальное обрамляет его
как более или менее возможные и уместные эпизоды. Собственно
эпическое и героическое в повествовании—это предельно краткое
изложение самого поединка. Как у Мстислава и Редеди, он тоже
произошел без оружия и тоже предполагал повержение побежден-
ного противника на землю. Точно так же сторона побежденного
в поединке войска ощутила себя проигравшей и уступила поле битвы
русским воинам.
В чем же тогда все-таки фундаментальное различие двух фрагмен-
тов «Повести временных лет», если они сосредоточены вокруг по-
единка двух воинов-героев, а сами эти поединки происходят по
одному и тому же сценарию? Все-таки не просто в том, что в одном
случае бьются предводители войск—царственные особы, в другом
же—просто воины. Значимей здесь анонимность участников второго
поединка. Мы так и не узнаем имен ни печенежского, ни русского
мужа. И это при том, что русский муж представлен летописцем во
всей своей красе и славе, скупыми деталями, но очень выразительно.
Явно в глазах летописца он достоин всяческого восхищения. Отдает
должное русскому мужу и князь Владимир. По сути, в честь его
деяния киевский князь основывает новый город, княжение в котором
вскоре станет на долгое время вторым по значимости в Киевской
Руси. По крайней мере, официально. Характерно между тем и то,
что, основывая город, Владимир увенчивает событие как бы помимо
того, кто был его виновником. Виновник перенял славу у печенега,
этим Русь продемонстрировала свое преимущество перед печенегами.
Это для повествователя «Повести временных лет» и для действующе-
го в ней князя Владимира по-настоящему важно. Но важно как будто
помимо того, что перенятие славы произошло усилиями вот этого
конкретного воина-дружинника. Молодой дружинник, так же как
его отец, составляя дружину своего князя, по существу, растворяется
в его деяниях и в его славе. Своего рода компенсация безвестности
и анонимной представленности дружинников в русской культуре
Княжеская дружина
245
произойдет в нашем героическом эпосе, который состоялся, видимо,
уже за пределами Киевского периода. Былину невозможно себе
представить без центрирующего ее богатыря-героя Ильи Муромца,
Добрыни Никитича, Алеши Поповича и других. Так же невозможно,
как и анонимность подвигов западных рыцарей высокого и позднего
Средневековья. Они попадали в исторические хроники, их имена
длительное время оставались на слуху и были популярны наряду
с именами наиболее прославленных государей. Вот уж кто не раство-
рялся в своих государях и не уходил в тень их доблестных деяний.
В этом и состоит одна из важнейших предпосылок и симптомов
возникновения рыцарской культуры. Реальности, которая, как мы
помним, не нашла своих аналогов в Киевской Руси.
***
После расслоения некогда единой по своему характеру княжеской
дружины на отроков и боярство в ее среде, возможно, образовался
еще один слой. По крайней мере, есть ряд, правда, отрывочных
и скудных свидетельств в пользу того, что наряду с отроками,
занимавшими относительно скромное положение княжеских слуг, не
обязательно только военных, и боярством, чей статут как «старшей»
дружины был несомненно выше отроческого, хотя и за счет отделе-
ния и отчуждения от княжеского двора, существовал еще один слой.
Это были воины-дружинники, гораздо более независимые от князя,
чем отроки, но все же не в пример боярам непосредственно входив-
шие в княжеское окружение. Они устанавливали с князем отношения
верности и служения, но с акцентом на свободном характере этого
отношения. Такие дружинники могли и расстаться с князем в случае
недовольства им или при наличии каких-то собственных жизненных
планов, не совпадающих с пребыванием при дворе данного князя.
В любом случае они оставались воинами, для которых участие в по-
ходах и сражениях было повседневностью. Но такие действия были
возможны только в составе княжеской дружины. Поэтому уход от
одного из князей для этих мужей войны предполагал поступление на
службу к другому князю.
Одно из немногих свидетельств о существовании слоя княжеских
дружинников, которых нельзя отнести ни к отрокам, ни к боярам,
содержится в Тверской летописи, в той ее части, которая повествует
о событиях, непосредственно предшествовавших первому столкнове-
нию русских княжеских дружин с монгольскими ордами на реке
Калке. Пока еще в ней идет речь об очередной усобице князей и,
в частности, о состоявшейся в 1216 г. битве на реке Липице, в которой
участвовали перессорившиеся между собой дети владимиро-суздаль-
ского князя Всеволода Большое Гнездо в попытке разделить между
собой его наследство. В результате упомянутой битвы верх одержал
старший из Всеволодовых сыновей—Константин, который и занял
великокняжеский стол во Владимире. Собственно, во всей этой
246
Культура Киевской Руси
истории нас касается рассказ об одном из сподвижников Константи-
на, некоем Александре по прозвищу Попович. Он принимал самое
активное участи в битве на Липице, лично убил многих бояр соперни-
ка своего князя, Константинова брата Юрия. Среди этих бояр были
Юрята с Ратибором. Но вот через два года после воцарения во
Владимире великий князь Константин умирает, и далее разворачива-
ются следующие события, связанные с Александром Поповичем:
«Когда Александр увидел, что князь его умер, а на престол взошел
Юрий, он стал бояться за свою жизнь, как бы великий князь не
отомстил ему за Юряту и Ратибора, и многих других из его дружи-
ны, которых перебил Александр. Быстро сообразив все это, посылает
он своего слугу к храбрым [богатырям], которых он знал и которые
были в то время поблизости, и призывает их к себе в город,
устроенный под Гремячим колодцем... а теперь это укрепление запус-
тело. Собравшись здесь, храбрые [богатыри] решили, что если они
будут служить князьям в разных княжествах, то они поневоле
перебьют друг друга, поскольку между князьями на Руси постоянные
раздоры и частые сражения. И приняли они решение служить одно-
му великому князю в матери всех городов Киеве. А был тогда
великим князем в Киеве храбрый Мстислав, сын Романа Смоленско-
го... Били челом и все эти храбрые великому князю Мстиславу
Романовичу, и князь великий очень гордился и хвалился ими, пока
не приключилось то несчастье, о котором пойдет речь»1.
Несчастье, упомянутое летописцем,—это битва на Калке, где по-
легли в битве с монголами все семьдесят храбрых, то есть воинов,
которых позднее в русской традиции будут называть богатырями. Но
как-то очень уж складно в летописи все получается: и храбрых
семьдесят, и перевелись они все без исключения в одной битве. Вряд
ли их количество случайно, ведь число семь—сакральное, поскольку
же оно еще и небольшое для того, чтобы создать впечатление множе-
ства воинов, его и пришлось удесятерить. В нашем тексте то, что
храбрых именно семьдесят, явно указывает на полноту их сообщест-
ва, на присутствие в нем всех достойных в него войти. И это
несмотря на то, что в летописном тексте говорится о созыве Алексан-
дром Поповичем лишь тех, «которые были в то время поблизости».
Поблизости оказались всех храбрые ввиду того, что в данном фраг-
менте летописи действует не логика исторического повествования,
а логика эпоса с его стремлением к образам полноты и завершенно-
сти. Если уж собрались храбрые, то все, кто есть на Руси. Если все,
то число их будет непременно выразительным и со значением.
И потом, разве ничего нам не напоминает ни имя «заводилы»
среди храбрых—Александра Поповича, ни то, что все они дружно
направились в матерь городов русских Киев? Правда, на этот раз не
к князю Владимиру Красно Солнышко, а к его отдаленному потомку.
’ Библиотека литературы Древней Руси. Т. 5. С. 111.
Княжеская дружина
247
Конечно же, в Тверской летописи оказался фрагмент, схожий
с нашими былинами. Былины записывались в XVIII—XX вв., а тут
былинная вставка несопоставимо более ранняя. Какой текст был
использован тверским летописцем, остается только гадать. Единст-
венное, что можно предположить,—это ростовское происхождение
текста, уж очень конкретен его автор в указании места сбора храб-
рых. На такую же определенность во времени написания сюжета
о семидесяти храбрых нет и намека. Судя по точности именования
князей и изложения исторических обстоятельств, наш эпический
отрывок или, во всяком случае, его источник был создан, может
быть, и не по горячим следам, но и не через длительный промежуток
времени. Как бы мы не подозревали в нем вымысла и несоответствия
реальности и историческим обстоятельствам, но и вымысел характе-
ризует эпоху для истории культуры ничуть не меньше, чем реальные
события.
Единственно существенным тогда для нас будет являться вопрос
о том, создал ли автор нашего фрагмента своих храбрых в своей
фантазии или же только поставил их в вымышленную ситуацию.
Позволю себе склониться в пользу второго вывода. К утверждению
того, что в Киевской Руси существовал слой дружинников, хотя
и служивших князю, но вместе с тем ощущавших себя достаточно
независимыми от них. Служение храбрых тяготело к свободному
выбору себе князя и было обусловлено тем, в какой мере храброго
удовлетворяло пребывание в княжеской дружине и отношение к нему
князя. Храбрых, пожалуй, можно было бы признать некоторым
отдаленным подобием средневековых рыцарей, если бы не смутная
выраженность их образа, не их неспособность заявить себя в культу-
ре, занять в ней свою устойчивую позицию.
Скажем, старофранцузский эпос «Песнь о Роланде» посвящен
вовсе не деяниям императора Карла Великого. Хотя он в нем и при-
сутствует, центральная фигура в эпосе—граф Роланд, верный вассал
своего сюзерена. В наших русских словах он дружинник и «храбр».
Но от этого лицо вовсе не второстепенное. Именно в нем воплощают-
ся с наибольшей полнотой воински-героические черты, а вовсе не
в императоре. О такой роли наши храбрые не могли и мечтать. Она
им досталась только в былинном эпосе, уже за пределами Киевской
эпохи. Киевская эпоха, судя по фрагменту из Тверской летописи,
только намечает пока еще не состоявшееся возвеличивание дружин-
ников-богатырей, пока их роль несопоставима с ролью князей. Толь-
ко необходимая для эпоса историческая дистанция позволит создать
былинно-эпические образы богатырей Киевской Руси, особенно не
считаясь с историческими фактами. Автор нашего фрагмента с ними
считается настолько, чтобы не приписать храбрым удивительных,
поражающих воображение воинских деяний. Он держится историче-
ской канвы, не разрушая ее своими фантазиями. И трудно себе
представить такой всплеск авторской фантазии, который как бы из
248
Культура Киевской Руси
ничего породил Александра Поповича с его семьюдесятью богатыря-
ми-храбрыми. Здесь что-то другое, думаю, все-таки эпически преуве-
личенное и преобразованное отражение некоторой исторической ре-
альности.
Тут поистине уместно вспомнить самую что ни на есть расхожую
премудрость: «Дыма без огня не бывает». Тот же Роланд из «Песни
о Роланде» описан в ней без особой оглядки на его реальный прото-
тип—Роудланда. Однако и тот, и другой были маркграфами Бретон-
ской марки и действительно погибли в Ронсевальском ущелье на
западе Пиренеев. Они представляют собой высший слой воинской
знати французского королевства. Далее начинаются расхождения,
а точнее, авторский вымысел сочинителя «Песни о Роланде», никак
не соотнесенный с несохранившимися подробностями обстоятельств
Ронсевальской битвы.
Нечто подобное можно утверждать и по поводу наших «храбрых».
Они существовали, участвовали в Липицкой битве и, конечно, во
множестве полегли в сражении с монголами на Калке. Остальные
свидетельства (а в отличие от «Песни о Роланде» во фрагменте
Тверской летописи подробностей очень немного) можно заподозрить
в недостоверности. Но это не меняет существа дела, поскольку
храбрые все-таки были исторической реальностью. И не так уж
важно, выражалась ли их, конечно, относительная, но и достаточно
существенная независимость от князей именно в том поступке, кото-
рый описан в Тверской летописи.
Крестьянин и горожанин
Применение слова «крестьянин» к тому слою населения Киевской
Руси, о котором пойдет речь в этой главе, не менее, а скорее всего,
еще более условно и приблизительно, чем в случае с княжеской
дружиной. В самом деле, под крестьянином, обыкновенно, имеется
в виду человек, занятый преимущественно или исключительно земле-
делием, ведущий свое хозяйство и тем устойчиво прикрепленный
к земле. Совсем не обязательно в смысле крепостного права. Кресть-
янин может оставаться лично свободным и работать на своей или
общинной земле. В любом случае для него характерна устойчивая
связь с землей, стабильность, пускай относительная, места пребыва-
ния. Крестьяне могут обрабатывать один и тот же участок земли из
поколения в поколение, что называется, с незапамятных времен,
могут и переселяться в другую местность. В любом случае, крестья-
нин—это не перекати поле, не человек с неуемным стремлением
к перемене места жительства, к тому, чтобы устроиться там, где
условия жизни покажутся ему наиболее приемлемыми. Скорее, на-
оборот, крестьянин—человек крепостной. Если государство и не
прикрепляет его насильственно к земле, все равно его с землей
связывают скрепы, он склонен врастать в нее корнями. Отрыв от
Крестьянин и горожанин
249
земли для крестьянина болезнен и происходил он, как правило,
тогда, когда его угнетали нужда и несчастье.
Насколько же характерен именно такого рода земледелец для
Киевской Руси? Поскольку она всегда была страной преимуществен-
но земледельческой (а какой еще можно представить себе Русь?), то
и вопрос как будто решается сам собой. Ведь не непрерывно кочую-
щие же земледельцы составляли огромное большинство населения
Киевской Руси. При том, что прикрепленность к своей земле русско-
го земледельца не следует преувеличивать, ведь в южных землях он
страдал от набегов кочевников и в то же время столетиями заселял
русский север, все же никаким подобием кочевника земледелец,
разумеется, не был. По критерию прикрепленности к земле он вполне
попадает в категорию крестьян. Но есть при этом другое обстоятель-
ство, заставляющее нас быть более осторожными при отнесении
земледельцев той поры русской истории и культуры к крестьянам.
Состоит оно в том, что только земледельцами они не были. Очень
значимо для них было то, что они являлись еще и воинами, по
существу же их можно достаточно точно обозначить как воинов-
земледельцев.
В период, предшествовавший возникновению Киевского княжест-
ва, так же как и впоследствии в восточно-славянских землях, дейст-
вовало общее правило для всех первобытных, пол у первобытных или
еще относительно недавно вышедших из состояния первобытности
западных народов. Каждый мужчина в случае нужды становился
воином. Исключение могли составлять рабы, неполноправные члены
общины, иноземцы. В отношении к воинским обязанностям, конечно
же, существовали различия. Видимо, еще в докиевские времена
у племенных князей их ближайшее окружение—дружинники—были,
в первую очередь, воинами, и только потом исполнителями хозяйст-
венных работ. Основная же масса княжеских соплеменников — про-
стые земледельцы—воинами становились во вторую очередь, входя
в состав ополчения своей земли-племени. Ополчение могло созывать-
ся князьями не так уж часто, но все же оно теряло бы всякий смысл,
если бы в него входили люди, никак не причастные воинскому делу,
не имеющие соответствующего вооружения и лишенные воинского
духа. С подобными вещами у восточно-славянских, а затем и русских
ополченцев все было в порядке. Иначе откуда бы взяться таким
масштабным военным мероприятиям, как походы князей Олега,
Игоря и Святослава на Византию. Они сражались с высокопрофес-
сиональным войском ромеев, руководимым искусными полководца-
ми, и все же своими набегами создавали угрозу столице империи—
Константинополю.
Характерно и то, что походы русских князей на Византию совер-
шались на ладьях—крупных по тем временам гребных судах. Это
предполагало решающее участие в военных предприятиях пехоты,
которую как раз и составляло ополчение. Несомненно также, что
250
Культура Киевской Руси
поход под стены Константинополя приобретал какой-то смысл, имел
шансы на успех при условии, что в нем участвуют десятки тысяч
воинов, никак не меньше. Подобное же возможно, опять-таки, при
решающем участии в походе не княжеской дружины, а воинов-
ополченцев, то есть земледельцев, взявших в руки оружие. В случае
с Византией, между прочим, они не обороняли родную землю от
неприятеля, не упреждали его нападение и не мстили соседям за
нанесенный ущерб и обиды. Византия была далеко за морем. Участ-
вовать в таком рискованном предприятии, как набег на ее земли,
можно было в надежде поживиться, улучшить свое благосостояние.
Но не менее важно и другое. Идти в далекий, трудный и рискован-
ный поход нужно было еще и решиться. У крестьянина подобной
решимости не могло быть в принципе. Его жизнь ограничивалась
тесным миром своего и разве что соседних поселений. Поездка на
ярмарку становилась для крестьянина событием. Отправить же его
в далекий заморский поход можно было только после нескольких лет
солдатчины, однообразной муштры, выбивавшей из крестьянина его
крестьянскую заскорузлость и неуклюжесть. Похоже, решимости
идти на Византию или в Хазарию русским воинам-земледельцам IX—
XI вв. хватало. Так же как и умения биться с врагом.
Участие в сражении, кстати говоря, предполагает, помимо храбро-
сти и привычки владеть оружием, еще и организацию войска. Едва
ли у князей была какая-то возможность организовать свое войско
в соответствующие подразделения и тем более обучить их технике
ведения боя по мере прибытия в княжескую ставку ополчения из
русских земель. Очевидно, что в княжеское войско вливались отряды
со своим внутренним строением и, в частности, с предводителями
различного уровня, готовыми подчиниться вышестоящему предводи-
телю. Общерусское ополчение становилось войском, а не толпой
недавно собравшихся воинов ввиду того, что воинское подразделение
одновременно представляло собой и некоторую территориальную
единицу.
Никаких подробностей об организации русского княжеского вой-
ска до нас не дошло. Русской исторической науке и не до подробно-
стей, так малы и фрагментарны сведения, которыми она располагает.
И все же создание русских ополчений не может так уж значительно
отличаться от того, что происходило в Древней Греции или Древнем
Риме, сведения о военной организации которых несравненно более
обширны и многосторонни. А мы хорошо знаем, что в Риме, напри-
мер, его административно-территориальное деление совпадало с раз-
делением римского войска-ополчения на центурии, кагорты и легио-
ны. Вчерашние соседи-римляне завтра становились соратниками по
центурии, кагорте и легиону. Можно не сомневаться, что такой же
четкости в организации ополчения Киевская Русь не знала. Но точно
так же несомненно, что общий принцип превращения вчерашних
земледельцев в сегодняшних воинов и в Риме, и в Киевской Руси был
Крестьянин и горожанин
251
один и тот же. Если община каким-то образом структурирована
в мирное время (а как она может оставаться бесструктурной?), то
именно эта структура представляет собой еще и военную органи-
зацию.
Древний Рим обязан своим величием, превращением в Pax Roma-
па (Римский мир), в частности, тому обстоятельству, что его гражда-
нин неразрывно сочетал в себе мужа войны и мужа совета на
протяжении нескольких столетий римской истории. В Киевской Руси
же, как, впрочем, и в других западных странах, имел место относи-
тельно быстро протекавший процесс вытеснения общенародного опол-
чения княжеской дружиной. Ополчение постепенно начинает играть
вспомогательную роль или не созывается вовсе. Исчезает такая
реальность начальных времен, как походы на ладьях, отводившие
решающую роль ополченцам. Теперь нередко их используют в каче-
стве гарнизонов при обороне городов. В поле же выходят воины-
дружинники. Не ладьи, а кони становятся непременным условием
военного предприятия. Земледельцы теперь интересуют князя боль-
ше как поставщики коней в его дружину, чем в качестве ополченцев,
некогда составлявших основную часть княжеского войска. Очевидно,
что княжеские дружины, хотя они и включали в себя, помимо
княжеского окружения, еще и осевших на земле бояр и со временем
численно выросли вместе с ростом населения Киевской Руси, не
могли заменить собой всенародного ополчения воинов-земледельцев,
несмотря ни на какую свою искусность и профессионализм. Когда
пришла пора татарского нашествия, то воинам-скотоводам из степи
Русь смогла противопоставить не воинов-земледельцев, а одни толь-
ко княжеские дружины, относительно легко разгромленные численно
превосходящей их татарской конницей. Сформировавшееся к тому
времени крестьянство способно было играть главным образом пассив-
ную роль свидетеля и жертвы погрома русских земель.
Когда историки характеризуют земледельческое население Киев-
ской Руси, обычно они выделяют в нем холопов (рабов), закупов
(частично несвободных людей) и смердов. При этом последние со-
ставляли подавляющее большинство земледельцев. Они могли быть
свободными членами общины, могли находиться в зависимости от
князей, бояр или церкви, но лично смерды оставались свободными.
В смердах и следа не было той забитости и приниженности, которая
в нашем представлении связывается с образом крепостного крестья-
нина. Даже тогда, когда он не забит и не принижен, в крепостном
крестьянине, как его рисует русская классическая литература, непре-
менно проступают черты детскости, предполагающей отцовскую власть
помещика. Совсем иная повадка земледельца киевской поры прогля-
дывает уже в первой статье Русской Правды — свода законов первой
половины XI в., составленного в княжение Ярослава Мудрого. Вот
эта статья: «Если убьет муж мужа, то мстить брату за брата, или
сыну за отца, или отцу за сына, или сыну брата, или сыну сестры,
252
Культура Киевской Руси
если кто не будет мстить, то князю 40 гривен за убийство, если это
будет русин, или гридин, или купец, или ябетник, или мечник, или
изгой, или Словении, то назначить за него 40 гривен»1.
Я процитировал только что так называемую краткую редакцию
Русской Правды. Приблизительно через столетие возникает и ее
«пространная» редакция, и начинается она с той же самой статьи,
изложенной с минимальными и незначительными изменениями, что
само по себе свидетельствует об устойчивости данного правового
положения.
Для нас же оно представляет несомненный интерес ввиду двух
обстоятельств. Во-первых, в первой статье Русской Правды говорит-
ся о праве на месть со стороны мужа. В Киевской Руси этим словом
могли называть любого лично свободного, а значит, полноправного
человека, в том числе и смерда. Но, признавая его право на месть, по
существу считаясь с распространенностью этого обычая, Русская
Правда тем самым делает прямую уступку язычеству и в то же время
свидетельствует о том, насколько смерды привыкли и были в состоя-
нии сами действовать в решающих жизненных ситуациях. В этом они
не отличались от других слоев русского общества. Ни от члена
младшей княжеской дружины (гридина), ни от управляющего кня-
жеским хозяйством (ябетника), ни от купца, ни от представителя
княжеского суда (мечника). Каждый из них вправе постоять за себя
и своих ближайших родственников. Очевидно, что этим правом все
они пользовались далеко не в качестве исключения. Во-вторых, для
нас представляет интерес то, что в случае отказа от права на месть
в пользу денежного штрафа (виры) этот штраф для всех перечислен-
ных лиц составляет одни и те же 40 гривен. В таком случае смерды не
так уж низко стояли на общественной лестнице, как это могло бы
показаться, исходя из привычных представлений о классовом антаго-
низме и угнетении. Смерд такой же свободный человек, как и люди
более высокого общественного положения.
Киевскую же Русь нельзя не признать страной свободных по
большей части людей. В частности, у нас нет оснований полагать, что
между самым многочисленным слоем населения Киевской Руси —
смердами и людьми более высоких слоев—купцами, дружинниками,
боярами, существовала непроходимая грань. Скорее, наоборот, пере-
ход из одного слоя в другой был относительно легок, во всяком
случае, вполне реален. Для этого существовала, по крайней мере,
такая существенная предпосылка, как значительная степень общно-
сти между представителями различных слоев. Важнейшим ее призна-
ком было ощущение себя и смердом, и купцом, и дружинником,
и боярином свободными людьми. Ведь тот, у кого присутствует
сознание своей свободы, менее всего склонен к признанию своей
приниженности и умаленности по отношению к кому бы то ни было.
1 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 4. С. 491.
Крестьянин и горожанин
253
Суд во времена «Русской Правды»
И. Я. Билибин
Свое служение и подчинение свободный человек принимает или не
принимает добровольно.
Надо полагать, что по мере окрестьянивания смердов, превраще-
ния их из воинов-земледельцев в просто земледельцев, свобода их
ограничивалась как внешними, так и внутренними факторами. И тем
не менее признать несвободными основную массу земледельцев Киев-
ской Руси у нас нет достаточных оснований. Те же самые Русские
Правды и в краткой редакции XI, и в пространной XII в. достаточно
определенно делят население Киевской Руси прежде всего на свобод
ных и несвободных. Различие по пункту свободы между ними,
пожалуй, только в том, что пространная редакция Русской Правды
специально выделяет еще и полусвободных лиц —закупов. Очень
важно сознавать при этом, что, по крайней мере, с правовой точки
зрения, дифференциация внутри свободных в Киевской Руси была
менее значима по сравнению с дистанцией между свободными и нес-
вободными. На «западном Западе», в отличие от русских земель,
в XII в. свобода окончательно стала из естественного состояния при
вилегией отдельных сословий. Прежде всего рыцарства, но так же
и горожан. Крестьянин по определению был человеком зависимым.
Древняя Русь в целом двигалась в том же направлении, хотя и с за-
254
Культура Киевской Руси
позданием, на этот раз вполне приемлемым. У нас несвобода для
крестьянства наступит только в Московской Руси. Почему и вполне
уместно утверждение о достаточно значимом различии между кресть-
янами Киевской Руси и Московии.
В первой из них воины-земледельцы, а позднее просто земледель-
цы, жили более или менее замкнутыми общинами, выстроенными на
началах самоуправления. Подавляющее большинство жизненно важ-
ных вопросов эти общины решали сами. Власть князя на них распро-
странялась только по части сбора дани и особо сложных, не вполне
вписывающихся в обычное право, судебных дел. Мы сильно модер-
низируем ситуацию, если представим себе непрерывное вмешательст-
во и решающую роль княжеской администрации в жизни общины.
Княжеская администрация носила верхушечный характер, ее дейст-
вия сказывались на общинных порядках разве что в исключительных
случаях.
Поскольку же дело обстояло именно таким образом, то очевидно,
что жизнь земледельческих общин сохраняла гораздо более архаиче-
ские черты по сравнению с жизнью городов и княжеских дворов.
Черты первобытно-языческой архаики в крестьянском быту дожили
до XIX и даже начала XX в. Они неотрывны от крестьянства как
такового.
Что же тогда говорить о земледельцах Киевской Руси? Если
в своих верхних слоях культура в целом была уже послепервобыт-
ной, то этого никак не скажешь о крестьянстве (смердах). Их
повседневная жизнь, самоощущение и отношение к миру менялись
очень медленно. Иначе и быть не могло в редконаселенной даже по
тогдашним меркам и чрезвычайно обширной стране. В ней поселения
земледельцев, особенно по мере продвижения на север, располага-
лись на значительном отдалении друг от друга и были очень невели-
ки. Обычно всего несколько дворов. К тому же Киевская Русь была
прежде всего лесом, могучим, густым, а местами непроходимым.
К этому добавим болота. И только потом можно говорить о пашнях,
представлявших собой островки в лесном море. Они располагались
рядом с селениями, связь между которыми дорогой никак не назо-
вешь. Чаще всего это были тропы, проходимые далеко не во всякое
время года. Жизнь в подобных условиях не слишком располагает
к переменам и культурной динамике.
Первоначально замкнутая на себя жизнь земледельческой общины
до некоторой степени преодолевалась за счет участия смердов в кня-
жеском ополчении. Если они в своих ладьях доходили до Константи-
нополя, это обстоятельство не могло не сказываться на них самих,
а опосредованно и на жизни их общин. Традиционно война понима-
ется как чисто разрушительное начало, осложняющее и без того
нелегкую жизнь стран и народов. Между тем она была еще и путем
индивидуации человека. Выходя в пространство чужого, в перспек-
тиве возможной гибели, воин собирал себя в единое целое в гораздо
Крестьянин и горожанин
255
большей мере, чем в мирной повседневности. Жизнь его обретала
новый смысл. В ней открывались закрытые в мирное время перспек-
тивы для импровизации. Вольно или невольно воин-земледелец со-
прикасался с ранее чуждой ему жизнью, каким-то краем она станови-
лась его собственным опытом.
К сожалению, сказанное невозможно проиллюстрировать свиде-
тельствами, дошедшими до нас из времен Киевской Руси. О воинах-
земледельцах той поры можно судить только по редким и фрагмен-
тарным упоминаниям о них, чаще всего исходя не из текстуальных
данных, а из общего контекста. Совсем иначе обстояло дело в древ-
ней Скандинавии. Ее воины оставили по себе многочисленные
и внятные свидетельства. Прежде всего в исландских родовых и ко-
ролевских сагах. В них мужчины, если они не посрамление своего
рода, предстают людьми героического чекана, с мощно выраженной
и неуклонно утверждаемой заявкой на самоутверждение.
Но этот человеческий тип был широко представлен как раз во
времена викингов. Тогда, когда для любого взрослого земледельца
обычным делом стало участие в набегах на другие страны в составе
войска своего конунга или ярла. Когда закончилась героическая
эпоха и для скандинавов, в особенности же для исландцев, наступили
более мирные времена, перестают создаваться саги. Им больше не
о чем повествовать, нет того, что заслуживало бы внимания. В част-
ности, исландцы превращаются в мирный народ земледельцев, столе-
тиями влачивший сонное существование в ситуации застойного родо-
вого строя и беспомощного перед лицом внешней опасности.
Русь, в отличие от Исландии, не знала такой же полярности
состояния своего земледельческого населения. Но, пускай и в смяг-
ченном виде, та же самая тенденция не могла не быть выражена
и в русских землях. А если дело обстояло именно таким образом, то
тенденция к замкнутости земледельцев в своем крестьянском миру-
общине к концу Киевской эпохи могла только усилиться. Этому,
правда, противостояло такое существенное обстоятельство, как дроб-
ление русских земель и княжений. По существу, каждая из старин-
ных земель — Смоленская, Владимиро-Суздальская, Рязанская —
к моменту татарского нашествия представляла собой совокупность
княжеских уделов во главе с местным великим князем. В результате
княжеская власть в лице самого князя и его администрации станови-
лась в более близкие отношения к крестьянским общинам. С одной
стороны, это обстоятельство способствовало размыканию замкнутого
на себя крестьянского мира, в какой-то степени вовлечение его в дела
княжества. С другой же стороны, контакты между крестьянскими
общинами, князем, его администрацией и, добавим к этому, нарож-
давшимися крупными землевладельцами—боярами становились ре-
альностью, ограничивающей все более свободу земледельцев.
Несмотря на то, что крестьянство составляло огромное большинст-
во населения Киевской Руси, о нем сохранились самые скудные
256
Культура Киевской Руси
сведения. Не оно было в центре исторических событий, не с ним
связаны те изменения, которые характеризуют развитие русской
культуры в первые столетия ее существования. Крестьянству, в прин-
ципе, свойственна тенденция к внеисторическому существованию.
Конечно, она не абсолютна. И все же существование крестьянина
в главном могло оставаться неизменным от столетия к столетию.
Облик высокой культуры за это время мог в корне измениться,
практически не сказываясь сколько-нибудь существенно на низовой,
крестьянской культуре. Поэтому судить о земледельцах Киевской
эпохи можно в очень значительной степени на основании более
обширного и разнообразного материала, относящегося к более позд-
ним эпохам. Часто это единственное, что остается историку при
обращении к крестьянской культуре рассматриваемого времени. Но
тогда разговор о ней в значительной степени теряет необходимую
конкретность, оставляет в стороне момент своеобразия в пользу
общих внеисторических черт крестьянства. А оно в Киевскую эпоху
все-таки было и проистекало, в частности, из того, что первый век
Киевской Руси земледельцы были чистопородными язычниками,
впоследствии же их христианизация стала медленным и трудным
процессом, занявшим столетия.
Даже учитывая то обстоятельство, что мощный языческий пласт
непременно сохраняется в любой крестьянской культуре, пока кре-
стьянин остается крестьянином, можно заранее предположить гораз-
до большую толщу язычества крестьянской культуры Киевской Руси
по сравнению с последующими эпохами. Скажем, крестьяне Киев-
ского, Московского и Петербургского периодов сохраняли множест-
во языческих черт в исполнении ими погребального обряда. Но если
в более поздние времена он обязательно предполагал отпевание
покойника священником и крест на могиле, то в киевские времена
над умершим крестьянином по-прежнему насыпали курган, а в са-
мых глухих углах Руси не был изжит обряд сожжения трупа.
Наряду со смертью решающими событиями в киевской жизни
являются рождение и брак. Каждая культура является таковой не
в последнюю очередь потому, что по-своему оформляет и наполняет
смыслом эти события. И характерно, что не только смерть, но и брак
долго не поддавались в Киевской Руси христианизации. В крестьян-
ской среде сравнительно редким оставалось венчание жениха и неве-
сты. В то же время чрезвычайно медленно и трудно искоренялось
многоженство, легкость, с которой русские крестьяне разводились
и вступали в новый брак. Что касается рождения детей, то их
крещение было обязательным. Но в то же время среди крестьян,
несмотря ни на какую христианизацию, сохранялся культ не просто
языческих, а архаически-языческих божеств Рода и Рожаниц. Имен-
но они, как это явствует из их именования, были божествами плодо-
родия и, в частности, родов. Опять-таки, и в случае с браками,
и в культе Рода и Рожаниц первобытное язычество крестьян высту-
Крестьянин и горожанин
257
пало гораздо более открыто и яв-
ственно, чем в последующие эпо-
хи. Пока у него не было даже
легкого покрова христианизации,
что станет непременным в Мос-
ковской Руси, а особенно в Петер-
бургской России.
Далеко не сразу исчезла в Ки-
евской Руси фигура волхва —
жреца, отправлявшего языческий
культ. Он не был поначалу вытес-
нен православным священником
хотя бы потому, что Русь, даже
будучи крещеной, долгое время
не была покрыта сетью приходов.
Ситуация, когда на несколько сот
или одну—две тысячи сельских
жителей приходится священник,
складывалась в русских землях
постепенно, в течение столетий.
Домовые. Деревянные фигурки домаш-
них божеств. Дерево. Новгород. XIII в.
в отличие от духовенства, не
Естественно, что волхву-язычни-
ку оставалось достаточно просто-
ра для исполнения своих обязан-
ностей. Тем более что волхвы,
образовывали какой-либо отчетливо выраженной корпорации с ие-
рархическим строением. К волхвованию мог быть причастен тот или
иной член земледельческой общины и выполнять культовые языче-
ские действия время от времени, по мере надобности.
Нельзя не отметить и очень низкий уровень образования массы
приходских священников. Они, как правило, получали минималь-
ную подготовку, ограничивающуюся умением совершать богослуже-
ния. При таком образовательном уровне духовенства ему трудно
было противостоять потесненному, но далеко еще не вытесненному
язычеству. Тем более что и сами священники часто бывали не чужды
языческих предрассудков и суеверий. Огромное их большинство
были выходцами из низших слоев и не в последнюю очередь из
крестьянства.
Уже сам по себе факт нараставшей к концу Киевского периода
прикрепленности к земле, а значит, и окрестьянивания земледельцев,
стимулировал самое широкое распространение и устойчивость архаи-
ческих форм язычества. То, что крестьянство склонно именно к язы-
ческой архаике, вытекает из его теснейшей связи с землей. Обратив-
шись к, скажем, выражающему собой дружинно-княжеский дух
«Слову о полку Игореве», можно обнаружить множество языческих
реалий. Но это язычество «небесное», а не «земное», предполагаю-
щее или допускающее индивидуальный выбор и самоопределение
258
Культура Киевской Руси
и сопутствующее им горделивое самоутверждение. Иное дело при-
земленность крестьянского язычества. Оно отвечало непременно со-
хранявшемуся в крестьянстве присутствию безлично-родового нача-
ла. Так что в Киевской Руси языческий пласт культуры был
неоднороден, так же как неравномерно происходило приобщение
различных слоев к христианству.
***
Как и у ее средневековых соседей на Западе, в Киевской Руси
города не были преимущественными центрами культуры, во всяком
случае, горожане не играли в ней определяющей роли. В качестве
преимущественных культурных центров и в одном, и в другом случае
могут быть выделены замок (княжеская усадьба) или монастырь.
Если же вести речь о городе, то в нем придется выделить все те же
элементы, представляющие собой рыцарство на Западе и княжескую
дружину у нас, так же как духовенство и монашество. И тем не менее
западноевропейский средневековый город и город Киевской Руси —
реальности, существенно между собой разнящиеся. До некоторой
степени городами они были в различном смысле, не говоря уже об их
внешнем облике и внешних параметрах существования.
Для начала обратим внимание на эти внешние параметры. И тогда
окажется, что наши русские города очень значительно уступали
западным по численности жителей. Как уже отмечалось, по оценке
историков, население двух крупнейших городов Киевской Руси —
Киева и Новгорода—не превышало 40 и 25 тысяч человек соответст-
венно. По средневековым меркам это не так уж и мало. Так что Киев
и Новгород могут числиться среди крупных европейских городов
в целом. Крупных, но не крупнейших. Потому что к началу XIII в.
на Западе существовали города в несколько раз более населенные,
чем Киев и, разумеется, Новгород. В том числе Париж, Лондон,
Неаполь, Венеция, Милан и ряд других. Дело, однако, еще и в том,
что городов размером с Киев и Новгород на Западе были десятки.
То, что у нас являлось исключением, там стало не правилом, конеч-
но, но далеко не такой уж редкой вещью. Еще больше бросается
в глаза различие в величине населения русских и западноевропей-
ских городов при обращении не к мегаполисам, а к городам второго
ряда. Наши Смоленск, Чернигов, Владимир, Ростов, Суздаль, Ря-
зань, Полоцк, Переяславль-Южный—это уже по западным меркам
в лучшем случае города средние. По величине им далеко до десятков
французских, итальянских, германских городов.
За таким признаком, как численность населения, стоит и другой,
уже не такой внешний параметр, как характер городской застройки.
Обычное на Западе—каменные городские стены, в Киевской Руси не
встретишь ни в одном городе. Все они опоясаны только деревянными
стенами и башнями. Есть, правда, одно исключение—каменные «Зо-
лотые ворота» в Киеве и Владимире, но они только подчеркивают
Крестьянин и горожанин
259
Макет древнего Киева X—XIII вв.
общее правило. Строения внутри городских стен на Западе в XII —
начале XIII в. далеко не все были каменными. Однако камень там
неуклонно расширял свое присутствие, налагая и на деревянные
постройки стилистику и ритмы каменной архитектуры. В Киевской
Руси ничего подобного не наблюдается. Ее города (а их подавляющее
большинство) сплошь деревянные, каменные же постройки, за самы
ми редкими исключениями, —это храмы, стоящие в окружении дере-
вянных строений. Между ними образуется контраст, а если и взаимо-
дополнительность, то она представляет собой инкрустацию камня
в объемлющее его дерево.
Деревянный город, пускай и инкрустированный камнем,—это не-
что отличное от каменного или тяготеющего к каменности города
далеко не только по внешним признакам. Внешнее выражает здесь
собой нечто внутреннее и существенное. В частности, то, что древне-
русский город был значительно менее отделен от поселения сельского
типа, чем на Западе. При этом я имею в виду не только отмечавшую-
ся уже природность русского города, его обращенность к природе
и пронизанность ею. Западные города, в отличие от древнерусских,
и, кстати говоря, античных, были городами прежде всего ремеслен-
ников и торговцев. Они возникали заново или вновь оживали и раз-
ворачивались в некотором отчуждении или противостоянии окру-
жающему их миру. Это не был просто сельский мир крестьян, хотя
по отношению к нему у горожанина-бюргера всегда наличествовал
260
Культура Киевской Руси
пафос дистанции, в нем тон задавал рыцарский замок. Верхушка
рыцарства—бароны или владетельные князья—стремились сохра-
нить города в положении любого другого поселения, расположенного
в их владениях. В процессе длительной борьбы с феодальным окру-
жением, каковым нередко были и церковные владения, западные
города постепенно добивались особого статута. Он предполагал го-
родское самоуправление и городские вольности. В результате бюр-
герство, а не только рыцарство, стало сословием свободных людей,
в противоположность более или менее несвободному и зависимому
крестьянству.
Никакого подобия борьбы городов за свои права и свободы,
вольности и привилегии, никакого особого городского права Киев-
ская Русь не знала. Ее города, как и западные, были в том числе
центрами ремесла и торговли. Ремесленники и торговцы тоже бывали
очень часто выходцами из крестьянства. Но никакого особого бюр-
герского духа, никакой особой дистанции по отношению к земледель-
цам у древнерусских горожан не возникало. Не в последнюю очередь
потому, что значительная их часть по-прежнему была причастна
земледелию и скотоводству.
Более значимо, однако, другое обстоятельство. Древнерусские
города вырастали менее всего в противопоставленности окружающе-
му их сельскому миру, так же как и миру нашего русского подобия
замков—усадеб землевладельцев. Скорее наоборот, для русских го-
родов было характерно возникновение в качестве центров соответст-
вующих волостей. Таковы были Киев, Новгород, Чернигов, Полоцк,
Смоленск, Ростов. В них сосредоточивалась общественная жизнь
более-менее обширных местностей. Находились княжеские резиден-
ции, собиралось городское, оно же общеволостное, вече, в капищах
совершались культовые действия, позднее—богослужения в храмах.
Никакой другой власти, кроме исходящей из города—волостного
центра, сельская местность не знала. Город вырастал как продолже-
ние, довершение и жизненный центр земли —волости. Именно поэто-
му его нельзя рассматривать исключительно или преимущественно
как центр ремесла и торговли.
Как это ни покажется странным, возникали древнерусские города
по той приблизительно логике, что и античные. У древних греков
Афины были одним из крупнейших центров ремесла и торговли, а,
скажем, Спарта практически не имела отношения ни к тому, ни
к другому. От этого последняя вовсе не переставала быть городом.
В Греции исходно города-полисы были поселениями воинов-земле-
дельцев. Еще более явно такой характер городского поселения выра-
жен в Древнем Риме. Античный город при этом отличался от сель-
ской местности в качестве некоторого укрепленного места, он же был
наиболее сакрализованным пространством, где проживала данная
общность, от священного городского пространства простиралась вся
остальная, менее сакрализованная земля. В определенные временные
Крестьянин и горожанин
261
точки по возможности в городе собирались все, для кого он был
центром замкнутого на себя мира. Понятно, что ни о какой противо-
поставленности города остальному негородскому пространству в Древ-
ней Греции или Риме не могло быть и речи. Более того, все свободно-
рожденные жители территории, центрированной городом, считались
его гражданами. Этому совершенно не препятствовало их прожива-
ние в сельской местности.
Сегодня очень трудно судить, имела ли место, а если имела, то
в какой степени, подобная тенденция в Киевской Руси или в предше-
ствующие ее возникновению времена. Все-таки древнегреческие по-
лисы были центрами относительно небольшой территории. Даже
у самых крупных из них прилегающая к ним территория не превы-
шала нескольких тысяч квадратных километров. Большинство же
полисов имели округу в сотни и даже десятки квадратных километ-
ров. Никакого сравнения с нашими знаменитыми русскими простран-
ствами здесь, разумеется, быть не могло. Древнерусские города
располагались на расстоянии друг от друга не менее чем в десятках
километров. Это если иметь в виду все городские поселения. Круп-
ные же по русским масштабам города—центры волостей — могли
отстоять один от другого на сотни километров. Соответственно и до-
бираться до центра своей земли тем, кто жил на ее окраинах, нужно
было не один день. Уже по одному этому чувство принадлежности
к своему городу у жителей его округи-волости не могло не быть
гораздо слабее, чем у древних греков или римлян. И все же ряд
данных русских летописей позволяет утверждать в качестве вполне
вероятного предположения, что городское вече городов—центров
волостей происходили при участии представителей других городских
поселений данной волости, так же как и жителей сельской местности.
Иначе было бы и странно в ситуации, когда города заведомо высту-
пают в роли центров земель.
Только что упомянутое мною городское вече не может не вызвать
ассоциации с органами городского самоуправления. Предположим,
с афинским народным собранием—экклесией или магистратурами
западных средневековых городов. Наверное, подобные ассоциации
не совсем бессмысленны. Однако они способны быстро завести нас
слишком далеко. И произойдет это ввиду того, что города Киевской
Руси были не просто центрами соответствующих земель, но еще
и княжескими резиденциями. Власть веча тем самым была реально-
стью, сосуществовавшей с княжеской властью. Даже в Новгороде
и Новгородской земле, по отношению к которым привычно говорит-
ся о вечевом строе, обязательным оставалось приглашение князя для
исполнения, хотя и ограниченных, властных полномочий. В других
же городах вече и князь не просто сосуществовали. Княжеская
власть в них была повседневной реальностью, тогда как вече собира-
лось от случая к случаю, без специально оговоренной периодичности.
Тем более не шло речи о создании какого-либо постоянно действую-
262
Культура Киевской Руси
Усадьба XII в., открытая раскопками
на Подоле в Киеве
Реконструкция П. П. Толечко
щего вечевого органа. Конечно,
вече нет-нет да и могло показать
князю свой норов в отстаивании
интересов города и его земли. Кня-
зья не могли не считаться с самой
возможностью недовольства веча
деятельностью князей, но от этого
еще очень далеко до того город-
ского самоуправления, городских
вольностей и привилегий, кото-
рые обрели в XII—XIII вв. города
на Западе. Очень внятным зна-
ком особого положения западного
города во владениях того или ино-
го государя была городская ратуша. Это было здание, сопоставимое
по своим размерам и своей акцентированности на фоне городских
зданий только с городским собором, иногда с королевским или
княжеским замком. Обыкновенно в западном городе существовала не
только соборная, но и ратушная площадь. Собор и ратуша обознача-
ли два центра городской жизни—духовный и мирской. Ничего по-
добного в древнерусских городах не встречается. В них обязательно
выделены на общем фоне храмы, уже гораздо менее заявлены княже-
ские хоромы, далее идут усадьбы бояр, богатых купцов и т. д. Свою
обращенность на себя, выделенность из негородской жизни наши
города никак не заявляли.
Сам характер их строительства таков, что древнерусский город
предстает перед нами в качестве некоторого скопления зданий, в по-
давляющем большинстве изб, среди которых встречаются усадьбы
и храмы, кое-где и изредка—каменные. Конечно, город еще и огоро-
жен стеной. Но все это вместе не позволяет городской архитектурный
комплекс противопоставить сельскому поселению. В значительной
степени город остается сильно разросшимся селом, или множеством
сел, близко теснящихся друг к другу. И к тому же с чрезмерно
близко по сельским меркам расположенными друг к другу строения-
ми. Вряд ли жизнь в таком городе порождала у горожанина сильно
выраженное ощущение своей принадлежности к городу как некото-
рой особой реальности. В какой-то мере к такому ощущению толкала
сама величина городского поселения, но, наверное, в большей степе-
ни то, что древнерусский город, как и любой другой, был еще
и укрепленным местом, крепостью. А это значит, что, скажем, в слу-
чае осады все взрослые горожане-мужчины в большей или меньшей
степени становились воинами. Обороняли стены или даже делали
вылазки против неприятеля. К этому горожан толкала жестокость
межкняжеской вражды, их готовность к грабежу или бессмысленной
кровавой мести сопернику, распространявшейся на все население его
княжества и в первую очередь на города. Особенно участие в обороне
Крестьянин и горожанин
263
требовалось от горожан, прожи-
вавших в пограничных со степью
или относительно недалеко от нее
расположенных городов. Таковые
же находились и в Киевской,
и в Черниговской, и в Новгород-
Северской, и в Рязанской, и в Пе-
реяславской земле. Да и другие
земли не были застрахованы от
особенно крупных набегов степ-
няков, вначале печенегов, а за-
тем—половцев.
В любом случае мирной ЖИЗНЬ Новгородская усадьба XII в.
горожан ВО времена Киевской Руси Реконструкция Р. В. Борисевича
по-настоящему никогда не была.
Однако воинский дух, как бы он ни был распространен в их среде
и как бы ни способствовал ощущению себя горожанами, свободными
людьми, не привел ни к какому, даже самому отдаленному подобию
городской (бюргерской) культуры, достаточно внятно заявившей
себя в Западной Европе в XII —начале XIII в.
Оформившееся на Западе бюргерское сословие сразу же заявило
себя собственной повадкой, своими особыми жизненными ориентира-
ми. Бюргеры были, как правило, людьми практического склада, не
без скепсиса относившимися к претензиям рыцарства на особое
благородство, доблесть, величие. С другой стороны, для бюргера
была неприемлема заскорузлость и неподвижность жизни крестьяни-
на, его забитость и приниженность. Присуща было бюргерству и не-
которая отчужденность от клира и монашества. В особенности от
церковной иерархии, нередко претендовавшей на власть над города-
ми. Если мы попробуем обнаружить некоторое подобие таких же
установок и настроений у горожан Киевской Руси, то останемся ни
с чем. Так же как крестьянство, бюргерство не имело своего голоса
в древнерусской культуре той поры. Во всяком случае, оно ничем
особым не выразило себя в каких-либо из дошедших до нас текстов,
ни в качестве определенной доктрины, ни на уровне какой-то своей
интонации. И это при том, что грамотность среди горожан Киевской
Руси была относительно широко распространена. Об этом не в по-
следнюю очередь свидетельствуют так называемые «берестяные гра-
моты»—тексты, созданные на бересте металлическим или костяным
инструментом—писалом. Им буквы на бересте выдавливались или
выцарапывались.
Когда в 1951 г. археологи нашли первые берестяные грамоты,
можно было надеяться на то, что они приоткроют нам свой, город-
ской мир Древней Руси. На сегодняшний день берестяных грамот
обнаружено уже более 800. Подавляющее их большинство в Новго-
роде, но также в Пскове, Смоленске, Твери. Несомненно, они пред-
264
Культура Киевской Руси
ставляют огромный интерес для
историков во многих отношениях.
Для чего берестяные грамоты не
дают никаких серьезных основа-
ний, так это для заключения о на-
личии какого-либо подобия город-
ской культуры в Киевской Руси.
В них содержится текущая пере-
Берестяные грамоты XII в. Новгород ПИСКа урожаи между собою, не-
которые грамоты отсылались из
города в город, иногда за сотни километров. Содержание их исклю-
чительно деловое, в них речь идет о денежных операциях, покупке
и продаже товара, брачных делах, судебных исках и т. д. Во всем
этом запечатлена озабоченность корреспондентов той или иной типи-
ческой ситуацией, ее последствиями или перспективами. Все берестя-
ные грамоты не только деловые, но и исключительно о деле. В них
еще возможен всплеск эмоций: настоятельно-убеждающий тон, оби-
да, разочарование. Чего нет в помине в берестяных грамотах, так это
каких-либо размышлений или соображений общего порядка, замеча-
ний или наблюдений, хотя бы на секунду отвлекающихся от повсе-
дневных нужд и забот. Берестяные грамоты писали люди, без остатка
погруженные в свое хозяйство, но даже по его поводу не высказы-
вающие никаких суждений общего порядка. Точно такие же тексты
могли бы быть не написаны, а продиктованы неграмотными людьми,
настолько владение грамотой ничего не прибавляет авторам дошед-
ших до нас текстов на бересте. Они так же элементарны, как самый
непритязательный разговор двух людей, встретившихся в лавке или
на улице. Понятно, что элементарно и назначение берестяных грамот.
И все же этим не снимается вопрос об отсутствии в древнерусских
городах письменности другого рода, более замкнутой на жизнь души
и встающие перед ней проблемы. Все-таки прост был наш горожанин,
если написание писем для него обслуживало хозяйственную жизнь,
устроение своего дома или исполнение данного поручения и тем
исчерпывалось. Наверное, нельзя совсем не принимать в расчет
живость и деловитость берестяных грамот. В этом отношении они
скорей всего отличались от чисто крестьянской повадки с ее медли-
тельной степенностью и боязливой осторожностью или чрезмерным
простодушием. Но сами по себе указанные отличия берестяных
грамот слишком незначительны, чтобы служить свидетельством
о собственной городской культуре в Киевской Руси и ее носителях—
горожанах как особом культурном типе.
Глава 6
Между Киевской и Московской Русью
Русская культура и татарское иго
Татаро-монгольское нашествие 1237—1240 гг. и последовавшее за
ним установление иноземного господства над Русью, кажется, еще
никем из историков не расценивались как благо. Далее всего в при-
нятии происшедшего в эти годы заходили те из них, кто придержи-
вался логики «нет худа без добра». Скажем, один из самых крупных
русских историков С. М. Соловьев в своей монументальной «Исто-
рии России с древнейших времен» подошел к татаро-монгольскому
нашествию приблизительно с такой позиции: «Оно, конечно, нашест-
вие и иго зло, но в то же время оно невольно способствовало
преодолению раздробленности Руси и созданию Московского госу-
дарства». Главное же, с позиции Соловьева, в оценке нашествия
степняков состояло даже не в этом, а в том, что оно, это нашествие,
не прервало естественного развития русских земель, в котором про-
должали действовать те же тенденции, что и до событий 1237—
1240 гг., русская история под их влиянием не изменила своего
направления.
И эта позиция у автора «Истории России...» не осталась только
декларацией. В своем труде, занимающем пятнадцать объемистых
томов, Батыеву нашествию автор уделяет буквально несколько стра-
ниц. Характерно уже само название главы, в которой Соловьев
повествует о нашествии: «От смерти Мстислава Торопецкого до
опустошения Руси татарами (1228—1240)». Следующая же глава
называется «От Батыева нашествия до борьбы между сыновьями
Александра Невского (1240—1276)». Вот и оказывается страшный
погром 1237—1240 гг. где-то в промежутке между текущими и далеко
не самыми важными событиями русской истории. Соловьев прямо-
таки подталкивает читателя своей «Истории...» к восприятию татар-
ского нашествия в качестве малозначимого явления.
266
Между Киевской и Московской Русью
Миниатюра Лицевого летописного свода
XVI века. Нашествие татар
В целом соловьевскую позицию
остается признать ничем иным, как
искажением реальных масштабов
и пропорций исторических собы-
тий. Наш историк не хочет счи-
таться ни с историческими свиде-
тельствами, ни с исторической
памятью своего народа, для кото-
рого само нашествие — это разра-
зившаяся над Русью катастрофа,
а ее последствие,—иго, слово для
русского человека такое же страш-
ное, как и орда.
И тем не менее в одном
с С. М. Соловьевым нельзя не со-
гласиться: для Руси татарское на-
шествие не имело значения чего-
то положительно утверждающего
и определяющего в ее истории
и культуре. На Русь татаро-мон-
голы обрушились как «бич Бо-
жий», их воздействие на нее было
разрушительным, в лучшем слу-
чае сковывающим и ограничи
тельным. Ничего существенного
в смысле содержательного напол-
нения русской культуры татарское нашествие и последующее иго не
принесли.
Не будем забывать, что всякое влияние одной реальности на
другую может носить двоякий характер. Во первых, одна реалия
способна нарушить и разрушить существование другой, нанести
ей ущерб или уничтожить ее. И, во-вторых, возможна трансфор-
мация этой последней реалии под воздействием другой. В этом
случае она под влиянием и воздействием на нее извне приобретает
некоторые новые, заимствованные ею черты. Именно второго рода
влияние оказывали на Древнюю Русь Византия, а на Петербургскую
Россию - Запад. Без их воздействия образ русской культуры был
бы существенно иным, в ней никогда не возникли бы определенные
явления. Чго дали нашей культуре, что привнесли в нее татаро-
монгольские захватчики, определить невозможно. Конечно, если
речь вести о реально проявившемся и выразившем себя в качестве
культуры. Иное дело разговор о том, что в русской культуре в ре-
зультате погрома 1237—1240 гг. и последующего ига так и не состоя-
лось, что не получило полного развития, чго, наконец, прекратило
свое существование. В этом случае есть о чем поговорить и на
что указать. Правда, с соблюдением максимальной осторожности
Русская культура и татарское иго 267
и опасением свалить на нашествие и иго собственные грехи Древней
Руси.
Наверное, самым неосторожным кивком в сторону татаро-монго-
лов должно быть признано утверждение о том, что если бы не они, то
русская культура ни в чем бы не уступала Западу, а, чего доброго,
еще и опережала его в своем развитии. У нас уже была возможность
хотя бы кратко остановиться на том, что русская культура исходно
отличалась от культуры «западного Запада», в частности, отсутстви-
ем в ней богословия и философии, а тем самым своим «молчаливым»
характером. В ней не получили такого же самостоятельного и блестя-
щего развития культура воинского сословия, так же как и сословия
горожан. Культура Киевской Руси оставалась гораздо более одно-
родной по сравнению со средневековой западной культурой. Если
в ней и проявлялась некоторая дифференциация, то прежде всего за
счет различия между православно-церковной и несовпадающей с ней,
тесно связанной с язычеством фольклорной тенденцией. В какой-то
мере в Киевской Руси, а не только на средневековом Западе, сущест-
вовала «высокая» и «низовая» культура. Но их разведенность и про-
тивопоставленность была выражена несравненно менее по сравнению
с Западом.
Указанные особенности культуры Киевской Руси, как и ряд дру-
гих, достаточно определенно указывают, что ей и помимо влияния
татаро-монгольского нашествия с «западным Западом» было не со-
всем по пути. И уж конечно, не нам было возглавлять шествие
западных народов. Нашествие кочевников и иго и наша инаковость
по отношению к «западному Западу»—реальности между собой не
связанные, а если и связанные, то не так глубоко и прочно, как это
нередко представляется. Здесь более или менее несомненно одно:
татаро-монгольское нашествие резко ослабило Русь, сделало ее го-
раздо более уязвимой не только для последующих карательных
экспедиций с Востока, но и для экспансии с Запада. Слишком
соблазнительно было попытать счастья в русских землях шведскому
воинству или рыцарям Ливонского ордена после того, как состоялся
татарский погром 1237—1240 гг.
Однако более опасной в долговременной перспективе для Руси
стала польская и литовская экспансия. Ввиду прогрессирующего со
второй половины XIV в. процесса сближения, а по сути—культурной
ассимиляции Литвы с Польшей, ослабленная татаро-монгольским
игом Русь не могла не воспринимать католический Запад несравнен-
но более настороженно и враждебно, чем раньше. Теперь Запад,
прежде всего в лице польско-литовского государства, действительно
представлял серьезную угрозу для русской государственности и куль-
туры. Если со стороны Орды исходила опасность разрухи и одича-
ния, то со стороны Запада—потери национальной самоидентифика-
ции и той культурной традиции, которая определилась событием
крещения Руси конца X в.
268
Между Киевской и Московской Русью
Ничего не скажешь, в случае с Русью одна угроза—идущей из
Орды разрухи—порождала другую угрозу—культурной ассимиля-
ции Западом. В этих пределах и в этом отношении татарское нашест-
вие и последующее иго действительно повлияли на русскую культу-
ру, вынудив ее занять позицию глубокой обороны и неприятия
католического Запада. Но, подчеркнем это лишний раз, не потому,
что татаро-монголы в чем-то содержательно изменили русскую куль-
туру, привнесли в нее новые начала и реалии, какой-нибудь там
«восточный» дух. Они ослабили и частью порушили уже существую-
щее в культуре, сделали ее более беспомощной перед грубым воздей-
ствием извне, тем вынуждая русскую культуру к большей замкнуто-
сти и изоляционизму, чем ранее.
Очень характерен в данной связи известный ответ князя Алексан-
дра Невского якобы прибывшей к нему миссии, направленной пап-
ским престолом с целью обращения Руси в католичество. Вслушаем-
ся еще раз в разговор, состоявшийся между Александром Невским
и папскими посланниками, как он представлен в «Житии Александра
Невского»: «Некогда же пришли к нему послы от Папы из великого
Рима, говоря: „Папа наш так сказал: «Слышал я, что ты князь
достойный и славный и что земля твоя велика. Того ради прислал
я к тебе от двенадцати кардиналов двух умнейших — Галда и Ремо-
нта, чтобы послушал ты их речи о законе Божьем»". Князь же
Александр, посоветовавшись со своими мудрецами, написал ему, так
говоря: „От Адама до потопа, от потопа до разделения народов, от
смешения народов до Авраама, от Авраама до прохода Израиля
сквозь Красное море, от исхода сынов Израилевых до смерти Дави-
да-царя, от начала царствования Соломона до Августа-царя и до
Христова Рождества, от Рождества Христова до страдания и Воскре-
сения Господня, от Воскресения же Его и до восшествия на небеса, от
восшествия на небеса до царствования Константинова, от начала
царствования Константинова до первого собора, от первого собора до
седьмого —обо всем этом хорошо знаем, а от вас учения не прием-
лем". Они же возвратились восвояси»1.
Вполне вероятно, что римские папы действительно предпринима-
ли попытки установить контакты с Александром Невским, преследуя
при этом далеко идущие замыслы подчинения Русской церкви апо-
столическому престолу. Достаточно очевидно между тем, что разго-
вор между папскими посланниками и русским князем мог состояться
совсем не в той стилистике и не о тех предметах, как это повествуется
в «Житии Александра Невского». Оно, беря за основу некоторое
реальное событие или события, очень кратко выстраивает мифологе-
му соотнесенности православной Руси и католического Запада, ми-
фологему, характеризующую наше русское национальное самосозна-
1 Изборник (Сборник произведений литературы Древней Руси). М., 1969. С. 339
(далее: Изборник).
Русская культура и татарское иго
269
ние в первые десятилетия татарского ига. И свидетельствует она
в первую очередь о стремлении Руси отстоять свою самотождествен-
ность, уже состоявшуюся самоидентификацию как православной
страны.
Эту самоидентификацию автор «Жития...», в чем он явно выража-
ет общее умонастроение просвещенной части русского общества, не
готов отстаивать в полемике с католическим Западом. Не о полемике
здесь идет речь, не об аргументах в пользу православия или против
католицизма, а о том, что мы—православные, а вы—католики, мы
свои, а вы нам чужие, наконец, о том, что мы ничем не хуже вас,
поскольку так же хорошо знаем христианское вероучение. Основа-
ние для отчуждения от Запада в «Житии...» именно таково—вы сами
по себе, а мы сами по себе. Ни о каких доктринальных разногласиях
в нем речи не идет. В уста князя Александра Невского вкладываются
слова, удостоверяющие знание русскими людьми основных реалий
истории, их адекватную ориентированность в человеческом мире.
Поскольку это именно так, то Русь самодостаточна, и ни в каком
вмешательстве извне не нуждается. В наступившие для нее страшные
времена ей не до полемики и обличений уклонившихся от правого
пути католиков-схизматиков, ей бы устоять и продемонстрировать
вовне сохраняющуюся несмотря ни на что крепость.
***
Возросшая отчужденность и изолированность Руси от католиче-
ского Запада в первые десятилетия после татарского нашествия сама
по себе могла бы способствовать проникновению в русские земли
восточных влияний, некоторой ориентализации культуры. Подобно-
го не происходило ввиду самого по себе простого и ясного историче-
ского обстоятельства, которое тем не менее, как правило, не осозна-
ется во всей значимости. Состоит оно в том, что вторгшиеся в русские
пределы татаро-монгольские орды не были первоначально представи-
телями и носителями культуры Востока, не стали они ими в полной
мере и впоследствии. В XII—XIII вв. Великая степь, раскинувшаяся
от Дуная едва ли не до подступов к Тихому океану, представляла
собой реальность, которую преждевременно было включать в какое-
либо определенное культурное сообщество, будь то Дальний Восток,
где доминировал Китай, мусульманский Средний и Ближний Восток
и тем более православный или католический Запад.
Со временем степь, точнее же, населявшие ее народы вынуждены
будут культурно самоопределяться. Одни из них войдут в Дальнево-
сточное, другие в мусульманское культурное сообщество. Пока же,
на момент вторжения в русские земли, степняки стояли вне истории,
оставались внеисторическими полупервобытными народами. Их уча-
стие во всемирной истории оставалось чисто отрицательным, выража-
ясь в разорительных набегах-завоеваниях, разрушении стран более
развитой культуры. Как могли, разрушали степняки и русскую
270
Между Киевской и Московской Русью
культуру, разрушали, но не трансформировали и не переориентиро-
вали в своем духе. Разрушение состояло в перманентных набегах,
грабежах, карательных экспедициях, сборе непосильной дани.
На этом фоне на первый взгляд странным выглядит относительно
лояльное отношение Орды к Православной Церкви. Когда миновало
нашествие, для духовенства и монашества не менее разрушительное,
чем для других слоев населения Руси, никто из ордынских правите-
лей уже не посягал на Церковь, стремясь ее уничтожить, вытеснив
собственной религией. Для подобного стремления у татаро-монголов
не было никаких собственных ресурсов. Что они могли первоначаль-
но предложить уцелевшим русским людям, кроме своего первобытно-
го культа, самого архаического шаманизма или чего-либо подобного?
Таких предложений не делалось еще и потому, что тюркско-
монгольские племена, которые у нас стали именовать татарами, не
могли не разделять общепервобытного и общеязыческого представле-
ния—у каждого народа есть свои боги, каков народ, таковы и его
божества. Когда римляне создавали у себя в городе храмы богам
других народов, а в других странах насаждали своих богов, в этом
выражался присущий им, как никому другому, имперский дух куль-
турного синтеза.
Никаким имперским народом татары не были даже в зачатке. Это
была совокупность племен, объединенных неустойчивой и не такой
уж в отношении их сильной властью ордынских ханов. Между собой
эти племена были более или менее свои, русские же всегда оставались
для них чужаками. И всякая попытка укрепить в их среде свои
культы не могла не означать в глазах татар признания русских
своими среди своих, во всяком случае, близкими родственниками.
Но такой шаг в корне разрушил бы такую нужную Орде соотнесен-
ность ее с Русью, когда Русь выступала покорствующей стороной,
которая обязана Орде данью и которую можно и следует грабить под
малейшим предлогом или без предлога. Чтобы грабеж Руси ушел в
прошлое, стали умеренными подати, для этого Орде нужно было
трансформироваться из полугосударственного грабительского обра-
зования в государство. Тогда ордынцы стали бы правящим слоем
в русских землях, но тогда же неминуемо произошла бы и хотя бы
частичная ассимиляция ордынцев русской культурой, как это имело
место с монголами, завоевавшими Китай. Никакой монголизации
Китая в результате не произошло и произойти не могло: вначале
Китай растворил монголов в себе, а затем истребил и изгнал из своих
пределов китаизированную монгольскую знать.
Если быть точным, то надо признать, что путь русификации
ордынцев в качестве правящего класса для Руси был так же невозмо-
жен, как и «татаризация» русского населения. Для подобного исхода
культурных ресурсов у молодой еще русской культуры, в отличие от
двухтысячелетней мощной китайской культуры, не было. Реально-
стью стало другое: Орда осталась грабительским полугосударствен-
Русская культура и татарское иго
271
ным образованием, Русь же, в той ее части, которая до конца
пребывала под ордынским игом, представляла собой подвластную
Орде землю. В ордынское «полугосударство», как это нередко при-
нято считать, она не входила, оставаясь для Орды источником
поступления материальных благ. Для Орды оказались приемлемыми
такого рода отношения с Русью, когда последняя непрерывно долж-
на была подвергаться грабежу.
Но для непрерывности и устойчивости грабежа нужно было хотя
бы какое-то подобие порядка. Стремление к этому подобию у ордын-
цев помимо прочего выражалось в некоторой лояльности к Право-
славной Церкви. Ее сохранение и терпимость к ней в глазах Орды
означали, что за русским народом, несмотря ни на какие тяготы
и разорения, признавалось право на существование. Оставаясь чу-
жим для татар, он не подлежал истреблению. Русский для татари-
на—это чужой, человек хаоса, противостоящий своим, людям косми-
чески устроенной жизни. Следуя чистоте принципа, раба с первобытной
точки зрения надлежало устранить. Но возможны были и промежу-
точные решения, так или иначе предполагавшие сохранение, хотя бы
временное, рабу жизни и вместе с тем предельное подчинение его
своим, мыслившееся как совершенно необходимое и постоянно со-
вершающееся обуздание хаоса. По такому пути и пошли ордынцы,
и зашли на нем настолько далеко, что признали за русскими рабами
некоторую долю права на самобытие, на осуществление самими, а не
только со стороны Орды устроения своей жизни. Оно осуществля-
лось через княжескую власть и деятельность Церкви. Первое из них
было внешним, второе—внутренним устроением.
Не изменила радикально ситуацию и происшедшая в XIV в. исла-
мизация Орды. С одной стороны, она была так же неизбежна, как
и включение монголов, оставшихся на родине, в орбиту буддизма.
Все время пребывать в пределах своей первобытной религии для
ордынцев было невозможно, какое-то культурное сообщество должно
было притянуть их к себе. Если для Киевской Руси таким сообщест-
вом только и мог быть христианский Запад и вопрос решался лишь
о том, какой из западных центров выбрать, то в случае со степняками
все козыри были в руках мусульман. Страны, принявшие ислам,
граничили с Ордой на юге, христианский Запад располагался на
большом отдалении или ассоциировался с враждебной и в то же
время презираемой Русью. Коротко говоря, принявшие мусульманст-
во народы для ордынцев были менее чужими, чем кто-либо другой,
отсюда и их состоявшийся выбор.
Однако магометанами ордынцы стали посредственными. Такого
же религиозного пыла, как у многих других неофитов, у них не
наблюдалось. Все-таки и жизнь ханской ставки в Сарае, и тем более
жизнь кочевых орд за ее пределами оставалась очень архаичной
и примитивной. В ней продолжали безраздельно господствовать ро-
довые отношения, самый примитивный жизненный уклад, только
272
Между Киевской и Московской Русью
и возможный для кочевников. Когда-то в VII в. именно аравийские
кочевники—арабы первыми приняли ислам. Но затем последовали
не просто завоевательные войны арабов, но и массовое их переселе-
ние в завоеванные и исламизируемые страны. Ислам быстро стал
религией прежде всего оседлого населения стран очень древней
культуры, и не только религией, но и самой культурой.
В случае с Ордой все обстояло иначе. Несмотря ни на какую
исламизацию, для ордынцев сохранились все те же предельные
основания и определяющие координаты их картины мира. В этой
картине по-прежнему существовала степь «своих» и лес «чужих»
людей, точно так же чужие воспринимались как рабы, подлежащие
всякого рода угнетению и ограничению. Но и «свои» —это понятие
относительное. Они могут быть более или менее своими, в зависимо-
сти от принадлежности к одному и тому же роду, племени, образую-
щему орду племенному союзу. Ведь то полугосударственное образо-
вание, которое мы привычно называем Золотой Ордой, в свою
очередь, всегда представляло собой собирательное и очень относи-
тельное единство нескольких орд—улусов, между которыми никогда
не прекращалась скрытая или явная вражда и соперничество. Таков
был и оставался полупервобытный мир разбросанных на безгранич-
ных пространствах степи ордынцев, который ислам в корне преобра-
зовать был не в силах. И уж, конечно, не ему было преобразовывать
русскую культуру.
Самый далеко идущий в своей разрушительности момент, который
привнесла Орда в русскую культуру—это момент рабства. Как мы
помним, изначально Киевская Русь выстраивалась на началах свобо-
ды в том отношении, что в ней резко преобладали люди лично
свободные, будь это княжеские дружинники, горожане или смерды.
Но если татарское нашествие привело не просто к разрушительным
последствиям, но и поставило русских людей в глазах ордынцев
в положение рабов, то взгляд со стороны не мог вовсе не сказаться на
самовосприятии и самоощущении тех, кто находился под чужим
взглядом. В принципе, вовсе не обязательно те, кого считают рабами,
таковыми себя и признают. Первобытные общности, жившие в замк-
нутости и самообращенности, относились друг к другу как к рабам.
Но взгляд со стороны для них как бы и не существовал. Единственно
значимым было самоощущение.
Однако наш случай существенно иной, поскольку чужаки-ордын-
цы вторглись в русские пределы и установили в них свои порядки.
А эти порядки предполагали многое от рабства, которое и навязыва-
лось русским людям и должно было ими приниматься, если они
хотели уцелеть под ордынским игом. Но тогда и возникнет вопрос:
как навязываемое со стороны рабство трансформировалось изнутри
русской жизни. Здесь внешнее и внутреннее не могли совпасть по
логике: «ордынец: „ты раб потому-то и потому-то“; русский: „я раб
именно поэтому"». Не могли ввиду того, что для русских людей до
Русская культура и татарское иго
273
ордынского ига был внятен и привычен опыт свободы. Свободный же
человек, ставший рабом, это вовсе не просто тот, кто жил среди
своих, а потом очутился в руках чужих. Среди своих можно было
и не ощущать себя свободным, не иметь опыта свободы. Он, скажем,
глубоко чужд людям чистопородной первобытности. Не потому, что
кто-то их безжалостно угнетал, а по той причине, что первобытные
люди живут в ситуации «мы-бытия». Над ними безраздельно господ-
ствует ритуал, не предполагающий никакой санкции на индивидуаль-
ную выделейность, на из себя исходящее действие. В ритуале «мы-
бытие» людей соотнесено со сферой сакрального. Людьми действуют
боги, они суть общая душа общечеловеческого тела. Подобная ситуа-
ция может нести каждому члену первобытной общины душевный
комфорт, теплоту и уют слитности в едином ритме существования.
К свободе между тем такое человеческое тотальное «у себя бытие»
отношения не имеет. Свобода начинается с утверждения того, что я—
есть, что я—источник своих действий, если даже они направляются
богами. Боги повелевают, я принимаю их повеления, считаюсь с ни-
ми безусловно, но даже в этом случае присутствует свобода. Ну,
а там, где признана моя относительная независимость, где есть право
выбора и импровизации, пускай в раз и навсегда заданных рамках,
там уже с полным на то основанием можно говорить о наличии
свободы. Это как раз и есть случай Киевской Руси, но вряд ли
поработивших Русь ордынцев. Какие-то элементы свободы у них,
безусловно, присутствовали, но в целом они жили в обществе еще
слишком мало индивидуализированном, в обществе, где слишком
многое предполагало неразличенность «мы-бытия» и где «я-бытие»
оставалось очень неустойчивым в своей фиксированности. Когда
такая общность навязывает другой, сильно от нее отличной, состоя-
ние рабства в своем понимании, то навязываемое и осуществившееся
заведомо не совпадут.
Чем же все-таки обернулось навязываемое извне ордынцами раб-
ство в их понимании для русских людей с их опытом свободы?
Здесь, по существу, возможны были три варианта. Первый вари-
ант—это когда свободный человек отрекается от свободы и принима-
ет свое рабство. В этом случае принятие рабства не просто самоотре-
чение, но и самоуничтожение, некоторая полная жизненная катастрофа
по логике: «Некогда я был, теперь меня нет». Никакой другой исход
здесь невозможен ввиду того, что в свободе человек себя обретает
именно как собственное «я». В рабстве же происходит самоотрицание
такого рода, которое не предполагает никакого приобретения. Отри-
цающему себя свободному человеку не обрести уже свое «я» в другом
человеке—господине. Ведь свободный человек и есть его собственное
«я», с его потерей для него все заканчивается.
Другой вариант предполагает утерю внешней свободы при сохра-
нении внутренней. Тогда свобода сохраняется по известной формуле:
«Все мое ношу с собой». Иначе говоря, если внешние обстоятельства
274
Между Киевской и Московской Русью
мне не подвластны, то у меня есть еще внутренний мир, душа, мои
помыслы, моя разумность, мое принятие и отвержение того, что
остается необоримым и непреодолимым. У меня есть и крайнее
средство для утверждения своей свободы—уйти из жизни, когда
внешние обстоятельства не оставляют пространства даже для
внутренней свободы. Скажем, в случае крайних мучений, которые
становятся непереносимыми и отнимающими у человека разум и вме-
няемость. Это вариант языческий, досконально проработанный Ан-
тичностью и вряд ли приемлемый для христианизированной Руси.
Иное дело, третий вариант свободы, когда она тоже остается
преимущественно внутренней реальностью. Состоит он в претерпева-
нии и даже покорствовании всякого рода угнетению и насилию.
Покорствует, однако, человек не насильнику и угнетателю, а Богу,
рассматривая выпавшие на его долю испытания как ниспосланные
Богом или имеющие место при Его попущении. От свободы здесь
невовлеченность во внешнюю ситуацию насилия и угнетения. Они не
способны сделать с человеком главное—оторвать его от Бога и замк-
нуть на насильника и угнетателя. Последний получит свое в страда-
ниях и беспомощности своей жертвы, но не отнимет самого сущест-
венного у человека—его самого. Сам он как собственная душа, свое
«я» по-прежнему сквозь беспомощность и покорствование перед
лицом насильника обращен к Богу. Парадоксальным, но только на
первый взгляд, образом насильник тогда превращается в средство,
помимо своих целей он служит утверждению человека в Боге, его
освобождению от рабствования миру и свободному принятию над-
мирного.
Понятно, что пока у нас речь шла о вариантах уничтожения или
сохранения человеческой свободы в ситуации внешне необоримого
посягательства на нее, взятой в ее чистом, не обремененном историче-
ской конкретикой виде. Пора, однако, вернуться к русским историче-
ским реалиям времен ордынского ига с целью выявления характера
трансформации происшедшего с «русской свободой». При этом наше
обращение к фигуре князя Александра Невского опять не будет ни
случайностью, ни произволом. В нем на самом деле поразительным
образом сошлись, казалось бы, несовместимые противоположности.
С одной стороны, Александр Невский стал великим князем Влади-
мирским в период совсем недавно еще наступившего татарского ига,
когда силы Руси были подорваны и ни о каком ее успешном сопро-
тивлении Орде не могло идти речи. С другой же стороны, образ
Александра Невского остался в памяти современников и потомков
в качестве образа великого государственного деятеля, равно «мужа
войны» и «мужа совета». Он заслуженно считается успешным защит-
ником Отечества от натиска с Запада, который в то же время не
давал Русь в обиду Орде.
Русская культура и татарское иго
275
Князь Александр Невский не чета своим потомкам, московским
князьям Юрию Даниловичу или Ивану Калите, которые не были
чужды самого низкого коварства в отношении своих собратьев —
русских князей и в то же время низкопоклонства перед ордынскими
ханами. Если за Александром Невским установилась такая устойчи-
вая репутация великого полководца и государственного деятеля, то
как ни подозревай современников и потомков князя в преувеличени-
ях, в рабствовании перед Ордой и вообще в рабских повадках его
заподозрить нельзя. У Александра Невского могли быть далеко
заходящие уступки Орде, но рабом Орды он, конечно, не был. Кто
же он тогда, великий князь Владимирский в отношении Орды,
выдающей ему ярлык на великое княжение и берущей немалую дань
с земель этого княжения?
В написанном приблизительно через двадцать лет после смерти
Александра Невского его житии об этом говорится вскользь и пре-
дельно скупо. Акценты в нем сделаны на том, что «прославилось имя
его во всех странах, от моря Хонужского и до гор Араратских и по ту
сторону моря Варяжского и до великого Рима»1, что «наполнил же
Бог землю Александра богатством и славою, и продлил Бог лета
его»1 2. Только дважды упоминает автор «Жития...» о прямых контак-
тах прославленного князя с Ордой. Вот первое из упоминаний:
«Решил князь Александр пойти к царю в Орду, и благословил его
епископ Кирилл. И увидал его царь Батый, и поразился, и сказал
вельможам своим: „Истину мне сказали, что нет князя, подобного
ему“. Почтив же его достойно, он отпустил Александра»3.
Читая этот фрагмент, можно подумать, что повествуется в нем о
встрече двух равных царственных особ, а не повелителя с его
подданным. Одно только слово «отпустил» применительно к Алек-
сандру намекает на истинное положение вещей. Никак не хотелось
автору «Жития...», а вместе с ним и русским людям признать тяже-
лую зависимость русского князя от ордынского хана. Это обстоятель-
ство знаменательно само по себе. Ведь за ним не может не стоять
хотя бы чаяние свободы и независимости Руси, нежелание смириться
с ордынским игом если не в действительности, то в воображении.
Никак не пристало великому Владимирскому князю зависеть от кого
бы то ни было, ни от немцев, ни от Рима, ни от Орды,—таков дух
«Жития Александра Невского». Это не рабский дух, как бы ни была
далека действительность от чаяний написавшего «Житие...» автора.
Гораздо ближе он к действительности в следующем фрагменте:
«Было в те времена насилие великое от иноверных, гнали они
христиан, заставляя их воевать на своей стороне. Князь же великий
Александр пошел к царю, чтобы отмолить людей своих от этой
1 Изборник. С. 367
2 Там же. С. 367.
3 Там же. С. 367.
276
Между Киевской и Московской Русью
беды»1. Не так, значит, все было благополучно в княжении Алексан-
дра Невского даже в глазах автора «Жития...», если и ему приходит-
ся писать о мольбах, обращенных князем к ордынскому хану-царю.
В этом «отмолить» не может не слышаться рабской ноты.
Но не получается ли тогда, что в глазах современников и потомков
Александр Невский попеременно проявлял себя то свободным и цар-
ственным властителем, то рабом страшного ордынского царя? Такое
заключение было бы, как минимум, неточным и несообразным с тем,
что князь Александр был канонизирован Православной Церковью
и признан святым благоверным князем. Не мог же, в самом деле,
человек святой жизни рабски служить злостному язычнику, каким
был ордынский хан в глазах Церкви. Что-то другое, помимо чистого
рабства, стояло за Александровыми мольбами.
Что именно, нам поможет понять обращение к еще одному тексту,
посвященному другому канонизированному Православной Церковью
князю,—к «Сказанию об убиении в Орде князя Михаила Чернигов-
ского и его боярина Федора». Оно написано, скорее всего, в 1246 г.
Согласно «Сказанию...», Черниговский князь Михаил отправился
в Орду не для того, чтобы кого-то или что-то «отмолить» у хана. Его
намерением было «ехать к царю и обличить лживость его, совращаю-
щую христиан»1 2. В чем именно состояли лживость и совращение,
«Сказание...» повествует в таких словах: «И вот какой обычай был
у хана и Батыя: когда приедет кто-нибудь на поклон к ним, то не
велели сразу приводить такого к себе, но приказано было волхвам,
чтобы шел он сначала через огонь и поклонился кусту и идолам. А из
всех даров, которые привозили с собой для царя, часть брали волхвы
и бросали сначала в огонь, а уже потом к царю допускали и самих
пришедших и дары. Многие же князья с боярами своими проходили
через огонь и поклонялись солнцу, и кусту, и идолам ради славы
мира этого и просил каждый себе владений. И им невозбранно
давались те владения, какие они хотели получить—пусть прельстятся
славой мира сего»3.
Насколько достоверно сообщение «Сказания...» о необходимости
русским князьям в Орде участвовать в описанном ритуале, судить
трудно. Полагаю, что ничего невероятного в нем нет. Очевидно, что
этот ритуал в глазах ордынцев менее всего был связан с отречением
русских князей от православной веры. Никто на их веру не посягал.
Другое дело, что допустить того или иного князя пред светлые очи
ордынского хана можно было, по местному обыкновению, только
после соответствующей очистительной процедуры, делавшей прием-
лемой прием ханом людей из чужого и чуждого мира. Их чуждость,
а следовательно, и враждебность смягчалась очистительным прохож-
1 Изборник. С. 369.
2 Там же. С. 157.
3 Там же. С. 157.
Русская культура и татарское иго
277
дением «через огонь», то есть между кострами, так же как и поклоне-
нием ордынским божествам. Это поклонение для язычников-ордын-
цев означало не более, чем демонстрацию лояльности чужаков мест-
ным богам, и в то же время терпимость к ним со стороны самих
богов, принимавших княжеские жертвоприношения.
Не будем забывать, что это только для христиан недопустимо
поклонение кому-либо, кроме истинного Бога, все же остальные боги
для них не боги, а человеческое измышление или бесовское наважде-
ние. У язычников же с их многобожием чужие боги существуют так
же, как и собственные, только они враждебны своим богам, обладают
демоническими чертами или прямо демоны. Так что ордынцы смотре-
ли на участие русских князей в их ритуале как на дело обыкновенное
и допустимое. Самим же князьям приходилось поступаться своей
верой в сознании совершения греха. На него не могли не смотреть
как на вынужденный и неизбежный компромисс с всемогущими
язычниками, который одновременно был прегрешением. Наверное,
после благополучного возвращения из Орды его замаливали и в нем
каялись.
Что же касается князя Михаила Черниговского, то он свою поезд-
ку в Орду и пребывание там выстроил по религиозному максимуму,
не приемля никаких компромиссов в делах веры и даже преувеличи-
вая соблазнительную злокозненность ордынцев. Так, по крайней
мере, это следует из текста «Сказания...». Но тогда тем более приме-
чателен ответ Черниговского князя на требование ордынского хана
поклониться его богам: «Тебе, царь, кланяюсь, потому что Бог
поручил тебе царствовать на этом свете. А тому, чему велишь
поклониться, — не поклонюсь»1.
Князь слишком хорошо знал, что отвергнув ханские домогательст-
ва, он из собственных уст вынесет себе смертный приговор. Поэтому
тем более примечательна его готовность поклониться ордынскому
хану. Заведомо она ни от чего не спасала Михаила Черниговского,
никак не облегчала его страшную участь. Так что ни о какой уступке
здесь не может идти речи. Князь готов был совершить поклон от
чистого сердца и с чистой совестью и без ощущения греха перед
Богом. Власть ордынского хана Михаил Черниговский принимал
именно как царскую, а значит, так или иначе исходящую от Бога.
Однако принимать власть царя можно по-разному. В нашем слу-
чае речь шла не просто о согласии на первенствование ордынского
хана и уж, конечно, не о его положении первого среди равных,
своего рода царя царей. Поклон хану (а он вряд ли был легким
кивком или только наклонением спины, скорее всего, русским князь-
ям нужно было падать ниц) так или иначе выражал собой рабствова-
ние у него. Признавшие в поклоне свое рабство у хана-царя русские
князья сохраняли свои княжения и могли добиваться каких-то льгот
1 Изборник. С. 161.
278
Между Киевской и Московской Русью
для них, но теперь они получали свою власть из ханских рук,
становились рабами, находящимися в милости у господина, рабами
с вознесенной головой. Кстати говоря, с тем отличием от Михаила
Черниговского, что тот, признав свое рабство у хана готовностью
к поклону, показал себя строптивым в глазах ордынцев рабом, со
своей православной позиции очертив пределы своего рабства, его
вторичность по отношению к признанию себя рабом Божиим.
В последнем обстоятельстве как раз и состоит вся суть позиции,
выраженной Михаилом Черниговским. Для него по известной, иду-
щей от апостола Павла, формуле «нет власти, которая не от Бога»,
безусловное и необоримое господство Орды над Русью было недву-
смысленным знаком того, что установилась она, как минимум, попу-
щением Божиим, Бог дал на нее согласие и тем, хотя бы в какой-то
степени, освятил. Освященная же власть всегда царская и ордынский
хан для Михаила Черниговского именно царь. Правда, попущением
Божиим за человеческие грехи царь этот грозен и неумолимо жесток.
Признать его царственность можно не иначе, как поставив себя
в положение царского раба. Но если даже другого не дано, то как
православный человек князь Михаил не стал бы закрывать глаза и на
то, что его рабствование у царя есть следствие и продолжение
рабской покорности Богу. До известного предела одно другому не
противоречит. Предел же наступает тогда, когда царь требует отрече-
ния от Бога, так далеко заходящего рабствования, что раб становится
рабом царя, и только царя, вместе с его ложными богами. Такое
рабство есть погибель души. Ему Михаил Черниговский предпочита-
ет погибель телесную.
Князь Михаил был канонизирован Православной церковью как
мученик за веру, канонизацией подчеркивалась его исключитель-
ность, но было бы искажением действительности видеть в исключи-
тельности Михаила Черниговского отсутствие чего-либо общего с по-
зицией других князей, признававших над собой власть ордынского
хана. В смягченном и компромиссном варианте они тоже, безуслов-
но, не растворялись в рабствовании перед ордынскими правителями,
воспринимая свое рабствование как вторичное и сознавая себя в пер-
вую очередь рабами Божиими. В этом состоял выход не только для
Михаила Черниговского, но и для всех князей и всех русских людей,
кроме разве совсем одичавших под тяжестью ига. Выход этот, одна-
ко, не был таким же последовательным, как у Михаила Черниговско-
го, он не мог не порождать двойственность душевного состояния
и раскол в душе православного христианина.
Вспомним еще раз: в Орде князья идолу, кусту и солнцу все-таки
кланялись. Такие «идолы», «кусты» и «солнца» в течение княжения
могли встречаться многократно, и каждый раз им приходилось бить
поклоны. Конечно, не всерьез, претерпевая, со страхом и отвращени-
ем, загнанными вовнутрь. В результате князья оказывались плохими
и нерадивыми рабами Божиими, так же как нерадивыми рабами
Русская культура и татарское иго 279
ордынского царя. Быть нерадивым рабом Божиим и значило быть
еще и рабом ханским, когда твое рабство у хана заходит слишком
далеко, ослабляя связь с Богом. Нужны были очень большие душев-
ные силы и поступки, граничащие со святостью или прямо ее выра-
жающие, чтобы рабствование перед ордынским ханом осуществлять
исключительно в пределах служения Богу.
Ни о чем подобном не могло идти речи, скажем, в случаях борьбы
русских князей за владимирский великокняжеский стол. Добыть его
нельзя было ни по праву, ни в результате успешной войны с другими
претендентами. Необходим был еще и ярлык на великое княжение,
даруемый ордынским ханом. Чтобы стать его обладателем, в какие
только тяжкие князья не пускались, и конечно, их соперничество
перед лицом хана никакого отношения к служению Богу не имело,
оно являлось сварой рабов, вымаливающих у своего господина самой
высокой милости. Подобное, никакой православной санкции не пред-
полагавшее рабство было уже чисто разлагающей и разрушительной
силой в русской культуре. Оно глубоко въелось во все поры русской
жизни, постепенно стало неотъемлемой от нее реальностью.
В 1501 г., когда Московская Русь и де-факто и де юре была уже не
менее двух десятилетий независимой от остатков Золотой Орды,
Московское правительство ввиду сильно осложнившейся для него
международной обстановки всерьез рассматривало вопрос о возоб-
новлении признания над собой ордынского верховенства. К тому
времени Иван III был могущественным государем, не имевшим себе
соперников в русских землях. И все же, пускай и из тактических
соображений, Московский государь писал, обращаясь к одному из
приближенных последнего хана Большой Орды Ших-Ахмета: «...ра-
тай и холоп буду»1. В произнесении этого, казалось бы, рокового
слова «холоп» для Ивана III, как видим, ничего страшного не было.
К тому времени жизнь в Московской Руси сложилась или складыва-
лась таким образом, что к рабству, как таковому, уже притерпелись
и позора в нем не видели. По крайней мере, в тенденции—кто-то
у кого-то всегда холоп. Крестьянин, если и не прямо холоп, то
холопствует перед боярином, боярин не чужд холопства перед лицом
своего великого князя, ну, а великий князь, когда его придавили
обстоятельства, в свою очередь не видит для себя ничего невозмож-
ного в холопстве, даже перед незадачливыми потомками ордынских
ханов—старых господ над рабами-русскими.
В повадке Ивана III дала о себе знать логика, неотменимо действо-
вавшая в среде русских людей времен ордынского ига. Князья,
признавшие свое рабство у ордынского хана, становились князьями-
рабами (холопами) над своими соотечественниками. Раб же—это не
тот человек, который способен властвовать над свободными людьми.
Они в свою очередь становятся для него рабами. В них князь-раб
1 Горский А. А. Москва и Орда. М., 2001. С. 181.
280
Между Киевской и Московской Русью
. >Ачеп 1ч.1Ял[птп^пспл^очпу1мтли
^гма*^ожи»ы«М1*<т«у#»<диж«улг«д*
гн7кшк^й^НАм»плл^ипыАлчкут» ии»
ялу««пи<л>»у
^ц»л<ыгф«де|4 . тл>уа*дн<ыг* <иы»вЛч,
алнплгтал •
^ао«м4Кл4тА»'*а^нк>й ла<<Ь<гм>*и
номамлднлсма^ннш^лМ <а*чногтчл<и
<л1^лл«нт>«<|1«. ПАмабн*4««р мыта
<мнлр'|ти|ытн?ит^« liatdktmii'. нш»
frfttuwfaYrttrbity
к!'Л
Поединок Пересвета с Челубеем. Ми-
нна пора лицевого летописного свода
XVI в.
стремится свое рабство преодолеть,
переложить его на чужие плечи.
Но этим он только множит рабст-
во, делаясь его проводником от
верха к низу, множит, но не пре-
вращает его во всеобщую реаль-
ность. Конечно, речь уместно вести
о состоявшейся прививке рабства
к русскому дереву, а не о раство-
рении Руси и русских людей в раб-
стве, превращении их в рабов по
преимуществу.
Таковы были итоги признания
Русью своего рабства у Орды.
Подчеркнем еще раз, оно не сде-
лало из русских людей рабов в том
смысле, что превратило рабство
в одну из устойчивых культурных
форм. Таковым оно было, напри-
мер, на Древнем Востоке. Здесь
рабство не разрушало культуры,
а трансформировало предшествую-
щую первобытность в новый древ-
невосточный тип культуры. Риск-
ну даже сказать, что в рабстве
открылись такие горизонты, кото-
рые оставались недостижимыми
для первобытной культуры. И по-
том, на Древнем Востоке рабство
преодолевало вовсе не свободу,
а нерасчлененность и неиндивидуализированность первобытного «мы
бытия».
Ничего, сколько-нибудь напоминающего Древний Восток, в Древ-
ней Руси не происходило. У нас «мы бытие» преодолевалось через
прораставшую в нем свободу, и для нас надвинувшееся рабство было
тем, чем оно только и могло стать —разрухой, неустроением и разло-
жением. Такой черной дырой, пропастью, в которую непрерывно
сползали какие-то части непрерывно же созидавшегося здания
культуры. Рабство стало неотъемлемым моментом жизни Москов-
ской Руси. ] 1о таким моментом, который рано или поздно нужно
было в себе изживать. Несмотря ни на какое ордынское иго, русская
жизнь продолжала выстраиваться на началах вовсе не рабских.
Как раз наоборот, вплоть до окончания ига начало свободы, прежде
всего применительно к социальным верхам, но не только к ним,
оставалось реальностью, на которой выстраивались смыслы русской
культуры.
Удельная Русь как явление культуры
281
Удельная Русь как явление культуры
При том что, на мой взгляд, так называемая удельная Русь
никакой особой исторической и культурной эпохи не образовала, что
само это словосочетание фиксирует не более чем тенденцию и явле-
ние, дававшие о себе знать на протяжении трех с половиной столетий
русской истории, удельный строй и порядок, несомненно, представ-
ляют собой такого рода реальность, пройти мимо которой при рас-
смотрении отечественной культуры было бы недопустимым упущени-
ем. Очень существенно, в частности, то обстоятельство, что впервые
удельный порядок заявляет себя еще в Киевской Руси, далее он
вполне успешно развивается в ситуации ордынского ига и наступив-
шего вместе с ним исторического безвременья, наконец, удельный
строй—это еще и реальность Московской Руси, ее начального периода.
Таким образом, он может быть отнесен к реалиям промежуточного
характера, образующим переход от одной великой культурно-истори-
ческой эпохи к другой. Более того, до некоторой степени словосоче-
тание «удельная Русь» способно служить эквивалентом и заместите-
лем словосочетания «историческое безвременье». С риском слегка
заиграться в слова, можно было бы сказать так: когда Киевская Русь
исчезла, а Московская еще не состоялась, тогда в отсутствие опреде-
ляющего, интегрирующего момента в национальной культуре и вы-
шла на первый план удельность. Русь стала некоторой совокупно-
стью уделов-частей, уже не образовывавших внутреннего целого,
тянувших каждая в свою сторону и склонных к дальнейшему дробле-
нию. Внешняя и внутренняя дезинтеграция при этом сопровождалась
нарастанием сосредоточенности частей на самих себе, их самообра-
щенности с неотъемлемой от такой позиции провинциализацией куль-
туры, застойностью и заскорузлостью жизни. Наверное, было бы
преувеличением утверждать, что историческое безвременье нашло
свое выражение в удельном порядке, а последний по своему характе-
ру тяготел к дезориентации и упадку культуры, но все же их
взаимная сопряженность не случайна.
Самый простой и наглядно очевидный признак удельного поряд-
ка—это дробление некогда единой страны и государства на множест-
во независимых друг от друга частей—уделов, частей, каждая из
которых по сути претендовала на то, чтобы стать целым. Обыкно-
венно, Древнюю Русь накануне татарского нашествия почему-то
представляют разделенной на двенадцать частей. Неизменно это
Киевское, Переяславское, Галицкое, Волынское, Черниговское, Нов-
город-Северское, Полоцкое, Турово-Пинское, Смоленское, Рязан-
ское, Владимиро-Суздальское княжества, Новгородская земля. Не
знаю, кто впервые очертил на карте неизменные границы перечис-
ленных земель-княжеств, но для обычного читателя сочинений по
русской истории невольно создается впечатление о реальности суще-
ствования в Древней Руси двенадцати государственных образований
282
Между Киевской и Московской Русью
со своими устойчивыми границами, в которые превратилось некогда
единое Киевское княжество.
На самом деле ставшая привычной нам карта не имеет решительно
ничего общего с действительностью. Еще до всякого татарского
нашествия число княжений в Киевской Руси было в несколько раз
больше, чем это изображается на карте. Никакого Владимиро-Суз-
дальского, Рязанского или Смоленского княжеств как целостных
образований к тому времени уже не существовало. Скажем, Влади-
миро-Суздальская земля была разделена на пять княжеств: соответ-
ственно, Владимирское, Ростовское, Переяславское, Стародубское
и Юрьевское. Аналогичной была и ситуация в других землях. При-
чем дробление их продолжалось и после татарского нашествия. Так,
если остаться в пределах Владимиро-Суздальской Руси, то можно
ограничиться указанием на одно только Ростовское княжество. Из
него первоначально выделяются Ярославский и Углицкий уделы.
Затем оставшееся Ростовское княжество еще раз делится на ростов-
скую и белозерскую части. Наконец, каждое из выделившихся кня-
жеств дробится в свою очередь. Так что, например, Бел озерское
княжество распадается не менее, чем на девять уделов. Когда в бело-
зерском крае появились Кемское, Сугорское, Шелешпанское, Андог-
ское, Судское и другие княжества, кажется, это стало пределом
дробления некогда единой Киевской Руси.
Но к тому времени, а речь у нас идет о конце XIV—начале XV в.,
в одной только Владимиро-Суздальской земле число удельных кня-
жеств было неисчислимым. Приблизительно на 400 тысяч км2 и не
более чем на 1,5—2 млн населения их существовало если не сотни, то,
во всяком случае, более ста. Таков предел удельного дробления—
несколько тысяч, а иногда и сот квадратных километров территории
княжества-удела и несколько тысяч подвластных князю русских
людей. Это именно предел, потому что наряду с захолустными
мелкими и мельчайшими уделами в той же Северо-Восточной Руси
всегда существовали относительно крупные княжества—Московское,
Тверское, Нижегородское и др.
Но для нас приведенный пример важен в том отношении, что он
демонстрирует никогда не осуществимую до конца и все же дейст-
вующую тенденцию удельного порядка—прогрессирующее дробление
княжеских владений по мере разрастания княжеской семьи, умножения
потомства князя по мужской линии. Удельный порядок тем самым
предполагает, что данное княжество представляет собой вотчину
князя, его неотъемлемую собственность, которую он вправе переда-
вать по наследству своим детям, но в соответствии с обычаем не
должен никого из детей обделять. В чистоте действия принципа
удельный порядок предполагает процесс распада государственных
связей за счет возобладания над ними семейно-родственных отношений.
Такой же, в частности, была ситуация на Западе, в западно-
франкском королевстве—будущей Франции. Здесь государство по-
Удельная Русь как явление культуры
283
томков Карла Великого в IX—X вв. стремительно превращалось в со-
вокупность множества сеньорий—наследственных владений, по су-
ществу независимых друг от друга. Вопрос о том, в какой мере
была государством Киевская Русь, подчинив себе восточно-славян-
ские племенные образования, насаждая в них наместников из числа
княжеских дружинников,—спорный. Княжеская власть, осуществ-
ляемая непосредственно князьями или их представителями, по суще-
ству сводилась к суду по особо сложным и важным делам и сбору
дани. В качестве военачальников князья еще и обороняли Киевскую
Русь от внешнего врага, при случае грабили соседей и следили за
порядком внутри своих владений. Если Киевская Русь и была госу-
дарством, то очень примитивным. Все города и сельские местности
представляли собой множество относительно больших и малых об-
щин, самостоятельно разрешавших огромное большинство вставав-
ших перед ними задач. Княжеская власть действовала преимущест-
венно там, где возникали вопросы, не разрешимые силами одной
общины или касающиеся не только ее.
Возникновение удельного порядка и его распространение по мере
дробления Руси на уделы означало значительное расширение княже-
ской власти за счет ограничения общинного самоуправления. То, что
князь сидел в каждом сколько-нибудь крупном городе, а в ряде
местностей—и просто в крупном поселении, предполагало, что внеш-
няя по отношению к общине фигура князя приобретала несравненно
большее влияние на повседневную жизнь русских людей, чем ранее.
Теперь государь и господин был совсем рядом и требовал не дани,
а исполнения всякого рода повинностей в свою пользу.
В лице удельного строя один примитивный вид государственности
сменил другой. Сам по себе ни один из них не был более продвину-
тым и прогрессивным. И у князя—предводителя дружины, и у кня-
зя—хозяина своей вотчины были свои преимущества и недостатки
с точки зрения государственности. Но в чем все-таки нельзя не
отдать предпочтения князю дружины, так это в широте и масштабе
его деятельности. Она была соотнесена с целой землей Киевской
Руси, или с Русью как целым, могла осуществляться на межгосудар-
ственном уровне и иметь международный резонанс. У огромного
большинства князей удельной Руси все было иначе: исключительно
местные интересы, провинциальная замкнутость на ближних сосе-
дей, выход за пределы Руси разве что в Орду, куда добром никогда
не поедешь.
Тот процесс, который крупнейшие русские историки рассматрива-
ли как становление удельной Руси, на Западе имел свой эквива-
лент-феодализацию. Еще в начале XX в. Н. П. Павлов-Сильван-
ский блестяще продемонстрировал, что удельную Русь уместно
обозначить как феодальную. И у нас, и на Западе имели место
и раздробление некогда единой территории на множество независи-
мых и полунезависимых владений, и их объединение договорными
284
Между Киевской и Московской Русью
вассальными связями. О раздроблении Киевской Руси сказано было
уже достаточно, что же касается вассальных связей, то Павлов-
Сильванский убедительно демонстрирует, что в удельные времена
они у нас имелись не в меньшей мере, чем во Франции, Англии или
Германии, вплоть до совпадения многих деталей установления васса-
литета. Даже такое как будто чисто западное явление, как оммаж, то
есть обряд, скрепляющий связь сюзерена и вассала, по Павлову-
Сильванскому, имело точное соответствие в Древней Руси. «Закреп-
лявшая вассальный договор в феодальное время обрядность омма-
жа, — пишет Павлов-Сильванский, — состояла в том, что вассал в знак
своей покорности господину становился перед ним на колени и клал
свои сложенные вместе руки в руки сеньора; иногда в знак еще
большей покорности вассал, стоя на коленях, клал свои руки под
ноги сеньора. У нас находим вполне соответствующую этой обрядно-
сти обрядность челобитья. Боярин у нас бил челом в землю перед
князем в знак своего подчинения»1. Точно так же сходными были
обряд разрыва вассального договора и, соответственно, право пере-
хода вассала (боярина) от одного сюзерена (князя) к другому.
Личное служение и верность как связь свободных людей между
собой—это та реальность, которая была присуща отношениям внутри
воинско-землевладельческого сословия, дополняя собой крайнюю тер-
риториальную раздробленность и на Западе, и в русских землях.
Казалось бы, такая степень сходства русского удельного порядка
с западным феодализмом, более того, наличие феодализма равно
и в западных странах, и в Древней Руси должно было иметь своим
последствием также сходство культур. Так много сделавшему для
выявления тождества между феодализмом и удельным порядком
Павлову-Сильванскому именно этот вывод казался вполне правомер-
ным. Во всяком случае, читателей «Феодализма в Древней Руси» он
уверяет в том, что наличие феодализма на Западе и в Древней Руси
вело к совпадению и в культуре. В частности, у него можно прочи-
тать: «Независимость, воинственность, самоуправство—таковы ти-
пичные черты феодальных баронов. Те же черты явственно видны
в облике наших средневековых бояр»* 2. Наверное, в этой его характе-
ристике с Павловым-Сильванским остается согласиться. Да только
какая-то она слишком общая и неопределенная. Легко себе предста-
вить по-разному независимых и воинственных людей, даже само-
управство которых может выражаться в различной повадке. Но
совсем уже зависает утверждение Павлова-Сильванского, когда он
пытается уверить читателя в том, что между феодальным Западом
и удельной Русью не существовало никакого существенного отличия
и по признаку наличия на Западе отсутствующих у нас замков.
«В удельной Руси не было замков потому, что здесь не было гор, —
’ Павлов-Сильванский Н. П. Феодализм в России. М., 1988. С. 101.
2 Там же. С. 119.
Удельная Русь как явление культуры
285
вводит Павлов-Сильванский привычный, но от этого нимало не
убеждающий аргумент. — Но стремление огородиться, укрепиться про-
явилось у нас в удельную эпоху достаточно сильно, — продолжает
он,—и эта потребность удовлетворялась у нас всеми теми средства-
ми, какие только давала природа: лес, болото, возвышенные берега
рек. Каменные замки заменялись у нас укрепленными „городками"
и кремлями на возвышенных берегах рек... Наши кремли даже и по
некоторым стратегическим деталям постройки похожи на западные
замки»1.
По Павлову-Сильванскому, как-то так странно получается, что
вроде бы и не было на Руси замков, но в то же время они и были. Их
не было в качестве каменных сооружений, высящихся на вершинах
гор. Но они существовали как укрепленные жилища феодалов. Все
дело, однако, в том, что укрепленные жилища и резиденции где
только не—встретишь и на Западе, и на Востоке, и в глубокой
древности, и во времена относительно совсем недавние. Замок между
тем вовсе не сводится к роли укрепленного жилья или резиденции.
В нем чрезвычайно важен знаковый момент. Он выражает собой
определенное самоощущение своего хозяина, его соотнесенность с ми-
ром и другими людьми. Замок указывает еще и на свой особый
внутренний мир тех, кто в нем живет. Причем знаковость замка
начинается с материала, из которого он создан. Утверждение Павло-
ва-Сильванского о тесной связи между характером местности, где
расположен замок, и использованием при его строительстве камня
или дерева, как минимум, не точно.
На Западе каменные замки все-таки сооружались и в равнинной,
а вовсе не только в горной местности, несмотря на отсутствие благо-
приятных для того условий. Более существенен, однако, другой
аргумент. Состоит он в том, что каменное (кирпичное) строительство
имело также место в Древней и, в частности, в удельной Руси. Но из
камня у нас, за редчайшими исключениями, строились только храмы.
Между тем почему бы какому-нибудь крупному князю удельных
времен все же было не решиться на сооружение своей резиденции из
камня? Ресурсов на это у него бы хватило. Но вот не решался,
относясь к дереву как к единственно приемлемому строительному
материалу.
Не указывает ли это обстоятельство как раз на то, что применение
камня при строительстве замков при всей очевидности его чисто
утилитарных преимуществ было еще и знаком и выражением пози-
ции обитателя замка, когда замок строился с высокой башней-
донжоном в окружении мощных стен и башен, да еще на возвышении
и в отделенности глубокими рвами от окружающей местности, когда
у замка оставалось единственное сообщение с остальным миром—
расположенный между двумя грозными башнями подъемный мост?
1 Павлов-Сильванский Н. П. Феодализм в России. М., 1988. С. 119—120.
286
Между Киевской и Московской Русью
В этом случае он становился помимо неприступного укрепления еще
и манифестацией наличия в мире некоторой особой реальности. Она
заявляла себя в качестве некоторого дополнения к храму и монасты-
рю, параллельной им реальности.
Храм—это жилище Бога и образ мира, пребывающего в Боге.
Он—зримая реальность сакрального в мире профанного. Некоторое
свое подобие сакральности было присуще и замку. В нем пребывал со
своими слугами-соратниками человек благородного происхождения,
человек знатный и доблестный, мало чего общего имеющий с осталь-
ными людьми-простолюдинами. В замке он жил своей особой жиз-
нью, по своей, недоступной простолюдинам мерке. В этой жизни все
было не так или не совсем так, как обычно. Она была совершенней,
утонченней, разнообразней, богаче, полнее по сравнению с той жиз-
нью, какой живут простолюдины. Когда последние приходили в храм,
они тоже приобщались к реальности, далекой от обыденности. В кон-
це концов, в храме во время богослужения, при свершении таинств
человек преодолевал профанность своей природы, выходил в реаль-
ность сверхчеловечески-божественну ю.
Конечно, ни на что подобное замок не претендовал, в нем жили
такие же христиане, как и везде, они также участвовали в богослуже-
нии и свершении церковных таинств. И все же по отношению
к жизни простолюдинов жизнь обитателей замков претендовала на
некоторую выделенность и вознесенность. Их характер до конца
никогда не проговаривался и не сознавался. Будучи проговоренным,
он встал бы в явное противоречие с христианством. Это в языческие
времена аристократии было уместно изображать собой, точнее же,
искренне видеть в себе существ особой породы, несравненно ближе
стоящих к богам и по родству, и по величию, и достоинству своих
деяний. Рыцарь или барон, обитающий в замке, ужаснулся бы,
назови его кто-нибудь полубогом или существом божественных свойств
и достоинств. Они прекрасно знали, что тварны, что по отношению
к Богу суть рабы, по неизреченной милости Бога усыновленные
и обязанные служить Ему и ближним. Но за подобным знанием
неустранимо присутствовало и другое: мы, рыцари, существа особой
породы, особых достоинств, особого жизненного пути и призвания.
Все это, в частности, должен был выражать и замок. Его так же
нельзя было спутать с любым другими жилищем, как одетого в дос-
пехи, сидящего верхом на коне в ярком развевающемся плаще
рыцаря с крестьянином, ремесленником или клириком.
***
Укрепленную княжескую или боярскую усадьбу, надо думать,
тоже было легко отличить от любого другого древнерусского жилья.
Сами за себя говорили и ее размеры, и воинственный вид со рвом,
частоколом, деревянными стенами и бойницами. Но наиболее значи-
мым для них, вознесенным над повседневностью и обращенным
Удельная Русь как явление культуры
287
к высшим смыслам, выражающим эти смыслы строением для удель-
ных властителей оставались исключительно храмы—жилища Бога
и образы Божия мира, а никак не их собственные жилища. Как бы
плохо ни обстояло на бескрайних русских просторах с камнем, но на
создание каменных (кирпичных) храмов у русских людей воли
и упорства хватало. Храмов, но не замков или их подобий. Укреп-
ленная усадьба князя или боярина могла представлять собой очень
надежное и труднодоступное для неприятеля сооружение. Но при
том, что ни размерами, ни защищенностью оно не шло ни в какое
сравнение с обычным городским или сельским жильем, самое глав-
ное, что княжескую или боярскую усадьбу с ними объединяло, равно
уступая свои позиции храму,— они заявляли себя приземленно-про-
фанными реалиями, тем человеческим, которое не претендует на
выход за свои пределы.
Было бы сильным преувеличением полагать, что на Западе с само-
го начала раз и навсегда стало правилом сооружение замков из
одного только камня, да еще и устремленных ввысь своими много-
численными башнями, дополняющими главную башню—донжон. Та-
кие замки принадлежали крупным сеньорам и стали относительно
распространенным явлением не ранее XIII в. А вот как описывает
замок более ранней поры X—XI вв. их большой знаток, французский
историк XIX столения Виоле-ле-Дюк: «В центре обнесенного рвом
и валом с частоколом пространства располагалась единственная дол-
говременная постройка—донжон, представлявший собой вначале де-
ревянную, затем каменную круглую или четерехугольную башню,
двух- или трехэтажную. Кроме того, что донжон являлся ключевым
оборонительным сооружением, он использовался как жилье: на каж-
дом этаже имелось по одному-два зала, плохо отапливаемых и слабо
освещенных.
Остальные строения напоминали хутор или деревню, где люди
селились как умели. Все эти постройки... в случае серьезной опасно-
сти уничтожались, а все обитатели „замка" укрывались в донжоне,
где имелся шанс выдержать осаду»1. Как видим, в описываемой
Виоле-ле-Дюком Франции, в момент своего возникновения замок
начинался строением, далеким от привычного его образа. Он не так
уж отличался от древнерусских княжеских и боярских усадеб. Но
уже в XII веке деревянные частоколы начинают исчезать и заменяют-
ся каменными стенами, точно так же все деревянные постройки
внутри замка теперь строят из камня.
Совсем другая картина наблюдается в русских землях. Здесь
удельная Русь за более чем три века своего существования не
привнесла в княжескую или боярскую усадьбу ничего нового. Как
она была усадьбой, так и осталась, пребывал ли в ней могуществен-
ный князь или ничем особенным не примечательный боярин, служа-
1 Виоле-ле-Дюк Э.-Э. Жизнь и развлечения в средние века. СПб., 1997. С. 59.
288
Между Киевской и Московской Русью
Двор удельного князя
А. М. Васнецов
щий этому князю. Русская история, несравненно менее богатая
письменными источниками и другими свидетельствами культуры по
сравнению с Западом, не сохранила сколько-нибудь развернутых
описаний княжеских или боярских усадеб удельной поры. Тем более
не приходится говорить о сохранении не то чтобы какой либо из
усадеб, но хотя бы ее следов.
Довольствоваться поэтому приходится самыми краткими сви
детельствами. Одно из них приводит в своем «Полном курсе лекций
по русской истории» В. О. Ключевский. «К числу ярославских
уделов, — пишет он, — принадлежало княжество Заозерское (по севе
ро-восточному берегу Кубенского озера), в начале XV века этим
княжеством владел удельный князь Дмитрий Васильевич. Один из
сыновей этого князя ушел в Каменный монастырь на острове Кубен
ского озера и постригся там под именем Иосифа. В старинном житии
этого князя-инока мы находим изобразительную картину резиденции
его отца, заозерного князя. Столица эта состояла из одинокого
княжеского двора недалеко от впадения реки Кубены в озеро. Близ
этой княжеской усадьбы стояла церковь во имя Дмитрия Солун-
ского, очевидно, этим князем и построенная в честь своего ангела,
а поодаль раскинуто было село Чиркове, которое служило приходом
Удельная Русь как явление культуры
289
к этой церкви... Вот и вся резиденция удельного „державца" начала
XV века»1.
Вот и все, что мы знаем об обычных княжеских и боярских
усадьбах удельной Руси, остается добавить к сказанному большим
русским историком. Очевидно, что и речи не идет о том, чтобы
«одинокий двор» князя Дмитрия Васильевича горделиво возвышался
над окружающей местностью. В нем наверняка находились несколь-
ко рубленных из дерева построек. Прежде всего княжеские хоромы.
Возможно, они были трехэтажными, включая в себя нижний этаж —
подклет, где располагались хозяйственные помещения, второй этаж
с расположенными на нем жильем и парадными помещениями, и тре-
тий этаж —терем со светлицами—помещениями, предназначенными
для женщин. Помимо хором в княжеском дворе не могло не быть
бревенчатых погреба и бани. Обязателен был также окружавший
княжеский двор частокол, то ли толстый забор, то ли тонкая стена.
Помимо стены-частокола усадьба, скорее всего, была разгорожена
сделанным из жердей забором на передний и хозяйственный дворы.
Внутри хозяйственного двора мог быть специально отделен жердями
огород. Словом, у кубенского князя Дмитрия Васильевича была
усадьба как усадьба. Жилье, предполагающее сытую и изобильную
пищей жизнь, к тому же защищенную от возможных неприятелей со
стороны. Никаких поэтических ассоциаций и романтических вздохов
усадьба в устье речки Кубены, неподалеку от Кубенского озера,
вызвать не способна. Слишком все (хочется сказать, по-крестьянски)
обыденно и прозаично.
Но могло быть и иначе. Места у Кубенского озера, конечно, не
броские, но по-своему живописные. Их бы только увенчать знаком
человеческого присутствия такого рода, чтобы он властно заявлял
свою центральность и свое доминирование, чтобы окружающая при-
рода стала обрамлением и фоном чего-то, берущего на себя главные
смыслы, создающего их. Однако это уже была бы роль замка, явно
чуждая княжеской или боярской усадьбе. В ней обитают вроде бы
такие же воины-землевладельцы, что и в замке, они тоже связаны
между собой договорными началами служения и верности, предпола-
гающими отношения свободных людей. Но в замке почему-то со
временем проявит себя рыцарская культура. Ее проявлением станет
и словесность (эпос, роман, лирика), и этикет, и куртуазия, и многое
другое.
Привилегированное положение рыцарского сословия ощутится спол-
на. И далеко не только в том, что рыцарство будет достойно испол-
нять то, что освящает его существование—воинский долг по отноше-
нию к другим сословиям. С этим долгом как раз далеко не всегда и не
во всем дело обстояло благополучно. Однако все издержки и несо-
вершенства, связанные с существованием рыцарского сословия, оку-
1 Ключевский. С. 316—317.
290
Между Киевской и Московской Русью
паются самым главным—тем, что рыцарство создало свой собствен-
ный образ, оказавшийся чрезвычайно привлекательным, заманчивым
и влиятельным в пределах всей западной культуры. Влияние рыцар-
ства и в пределах Средневековья, и за его пределами так велико, оно
настолько глубоко пронизывает западную культуру, что можно без
всякого преувеличения говорить о его решающем характере. Скажем,
отношение к женщине, как оно складывалось в новоевропейской
культуре, или, например, воинский этос совершенно невозможно
понять, не принимая во внимание рыцарских истоков и оснований.
На вопрос о том, применимо ли сказанное к отечественной культу-
ре в плане влияния на нее князей и боярства удельной поры, вряд ли
возможен утвердительный ответ. Настораживает уже то обстоятель-
ство, что этот слой населения Руси оставил о себе очень слабую
память у последующих поколений. Меньшую даже, чем более древ-
ний княжеский дружинник. Последний все-таки стал героем нашего
былинного эпоса—Ильей Муромцем, Добрыней Никитичем, Алешей
Поповичем и т. д. Как бы их былинный облик ни был далек от
реального и от того немногого, что можно узнать о дружинниках
в летописях Киевской Руси, все же очевидно их происхождение
именно от княжеских дружинников.
Ну, а удельный князь или боярин, что мы знаем о нем и присущей
ему культуре? Просто катастрофически мало. Как нам представить,
к примеру, жизнь удельного державца начала XV в. заозерского
князя Дмитрия Васильевича или подобных ему лиц? Сами они или
лица, образовывавшие их двор, практически никаких свидетельств
о себе не оставили. Ни в своем подобии рыцарского эпоса, лирики
или романа, ни в строениях, ни даже в фольклорно оформленной
памяти простолюдинов. О наших удельных князьях и боярах можно
прочесть разве что в летописях, где о них упоминается глухо и фраг-
ментарно, да еще в правовых документах (договорах, завещаниях).
Это, разумеется, совсем не значит, что в жизни удельных князей
и бояр ничего примечательного не происходило, что она была каки-
ми-то беспросветно серыми буднями, рутиной, о которых и сказать-
то нечего. Однако, что бы ни происходило в княжеско-боярской
среде, происходившее оставалось жизненным потоком, не фиксиро-
вавшимся специально как некоторый высший смысл, «великие
и удивления достойные дела», если воспользоваться выражением
Геродота. У князей и бояр, их окружения как будто не было
собственных слов по поводу самих себя, собственного взгляда на
свою жизнь. Скажем, для западного рыцарства вставали проблемы
осмысления рыцарского служения сюзерену, отношения к прекрас-
ному полу, выполнения своей христианской миссии и т. д. Попытки
их разрешения становились художественными текстами, реже трак-
татами. Так или иначе рыцарство вглядывалось в себя, удостоверя-
лось в том, что оно есть, задавалось вопросом о том, каким быть
должно и пр. На таком фоне наши удельные князья и бояре жили
Удельная Русь как явление культуры
291
жизнью простой и незатейливой, так, как от века повелось, не
выдвигая из своей среды художников и мыслителей и не привлекая
к себе особого внимания со стороны.
Попытаемся все же обратиться к жизни заозерского князя Дмит-
рия Васильевича, уловить ее хотя бы самые общие черты. Тот
одинокий двор, о котором у нас уже шла речь, разумеется, менее
всего предполагает проживание в нем многочисленного и разнообраз-
ного сообщества. Еще менее можно представить себе какие-либо
особые изысканные досуги князя и его окружения. Очевидно, что
княжеская жизнь была не в последнюю очередь посвящена хозяйст-
венным заботам. Владения его были малы и скудны, в них прожива-
ло от силы несколько тысяч человек. С них нужно было собирать
повинности. Еще более насущным являлось ведение собственного
хозяйства, в котором производились силами зависимых крестьян
земледельческие работы, уход за крупным и мелким скотом, немало-
важный по тем временам лов рыбы в реке и Кубенском озере, далее
идут сбор даров леса.
Наверное, князь Дмитрий Васильевич не чужд был и охотничьим
трудам и забавам, традиционным и непременным для военной ари-
стократии. Впрочем, охота—это уже скорее досуги князя и его
окружения. Непременно они включали в себя еще и пиры и застолья.
Сколько человек собиралось за княжеским столом, сказать трудно.
Не думаю, что даже в самые большие праздники счет шел на многие
десятки. Скорее, где-нибудь в пределах двадцати человек. Окруже-
ние князя, достойное разделять с ним трапезу, включало нескольких
его бояр и дружинников, так называемых вольных слуг. Они чинно
рассаживались по местам в соответствии с рангом каждого. Можно
предположить, что трапеза была очень простой, но сытной. Никаких
вин, разумеется, не подавали, обходясь медами, наливками, пивом.
Трапеза, во всяком случае, пир, одним употреблением пищи не
ограничивалась. Шли чинные, подобающие случаю разговоры. Слух
князя и его гостей, наверное, могли услаждать песельники, занимать
ум—рассказчики, некоторое, очень еще скромное подобие древнегре-
ческих аэдов. Что они повествовали, Бог весть. Но трудно себе
представить отсутствие в их сказительстве народного эпоса—былин
или их подобия.
На последний момент обращу особое внимание. Былина, будучи
русским вариантом героического эпоса, явление по-своему довольно
странное. В том отношении, что создавались былины крестьянами
и в крестьянской среде. Между тем, как правило, героический эпос —
это создание вовсе не крестьян, а воинов-земледельцев. Самая же
подходящая среда его обитания—двор царя-героя (конунга, князя,
басилевса и пр.). При этом дворе культивируются воинские доблести
и добродетели, к этому двору поэтому влекомы эпические сказители,
воздухом этого двора они дышат и выражают собой его дух. Наше
воинское сословие в удельную пору никакого подобия воинского
292
Между Киевской и Московской Русью
героического эпоса не создало, за частичным исключением разве что
написанного у ее истоков «Слова о полку Игореве». Никаких следов
других эпических произведений, созданных в княжеско-боярской
среде, до нас не дошло. На эти следы нет даже намека в древнерус-
ской словесности.
Так что остается предположить, что при дворе князя Дмитрия
Васильевича мог повествовать только сказитель былин как произве-
дений крестьянского фольклора. Крестьянско-фольклорное обрамле-
ние трапезы должно было уравновешиваться ее церковным освяще-
нием. Молитвой, осенением себя крестным знамением, присутствием
приходского священника. Вряд ли досуги заозерского князя сколько-
нибудь существенно отличались от досугов подвластных ему кресть-
ян. Он был несравненно богаче их, точнее же будет сказать, состоя-
тельней и зажиточней. Пища, одежда, жилье князя были на зависть
крестьянскому окружению. Но, скажем, вошедшему в княжеские
хоромы крестьянину все было бы узнаваемым, таким же, как у него,
только гораздо лучше. Это была бы вовсе не ситуация крестьянина
в замке. В замке-то крестьянин был бы окружен реалиями, ему
непонятными и чуждыми: мебелью, гобеленами, посудой, людьми,
одетыми совсем иначе, чем он, совершенно непонятными ему манера-
ми, словами и речевыми оборотами. Замок—это своя, чуждая кресть-
янину культура, чего не скажешь о дворе князя Дмитрия Васильеви-
ча. Как и любой крестьянский двор он, несмотря на свои размеры
и уединенность, так же или почти так же безымянен, не откладывал-
ся в памяти и ничем не заявлял о себе своим, особым. Двор заозер-
ского князя был и быльем порос, как и сотни других княжеских
и боярских дворов.
Вспомним, наконец, что князь Дмитрий Васильевич еще и воин.
Он прямой наследник князей-предводителей очень воинственных
дружин, у него самого есть, пускай и крошечная, дружина из бояр
и младших воинов. Дружина охраняет княжеский двор, в случае
надобности наводит порядок в Заозерье. Но она еще может и вли-
ваться в войско какого-нибудь значительного князя. К примеру,
Ярославского. Ведь заозерские князья одного с ним рода представля-
ют собой его младшую ветвь. Не исключено, что заозерский князь
служит Московскому великому князю, скорее всего, Василию Дмит-
риевичу (1389—1425). В этом последнем случае он обязательно участ-
вовал в военных экспедициях и сражениях. Приблизительно так же,
как какой-нибудь средневековый барон (виконт, граф, герцог), слу-
живший своему сюзерену-королю.
И в том и в другом случае имело бы место служение одного лица
другому. Но в этом служении не только сохраняется общность,
о которой так убедительно писал Павлов-Сильванский, не менее
существенны и различия между русским служебным князем или
боярином и западным бароном. Несмотря на то, что оба они были
вольными слугами с правом как устанавливать связь с господином,
Удельная Русь как явление культуры
293
так и расторгать ее, на Западе, и прежде всего во Франции, рано
сложились устойчивые вассальные связи такого рода, которых удель-
ная Русь не знала. Обратившись к феодальной Франции, мы обнару-
жим здесь тенденцию к умалению королевской власти, точнее же
будет сказать, самой персоны короля. Во времена поздних Каролин-
гов и ранних Капетингов король был вроде бы чисто номинальной
фигурой, не обладавшей никакой реальной властью за пределами
своего домена. И тем не менее такие могущественные государи, как
герцоги Аквитанский, Нормандский и Бургундский, графы Шампа-
ни, Фландрии и Анжу, неизменно приносили маломощному королю
Франции вассальную присягу, подразумевая свой вассалитет. В худ-
шем случае вассальной зависимостью государи могли пренебрегать
настолько, что вообще умалчивали о своей зависимости от француз-
ской короны. Но даже у них не хватало духу открыто заявить о своей
полной суверенности. Нечего и говорить, что, когда к концу XII в.
Капетинги усилились, уже никто, включая и более могущественных,
чем они, государей, не только не оспаривал их права верховных
сюзеренов,—они открыто и внятно признавал себя вассалами фран-
цузского короля.
Наша Владимиро-Суздальская Русь уже при самом первом ее
разделе между сыновьями князя Всеволода Большое Гнездо сразу
столкнулась с неразрешимой проблемой первенствования над други-
ми великого князя Владимирского. По существу, Владимирское
княжество сразу же после Всеволодовой смерти распалось на само-
стоятельные княжества, в которых владимирскому князю принадле-
жало первенствование по чести. Он становился таким первым среди
равных, которому не обязательно было приносить присягу на вер-
ность. Приличествующим считалось чтить его за отца, советоваться
с ним и помогать ему в военных предприятиях. Никакими правовы-
ми актами такое надлежащее и приличествующее поведение не оформ-
лялось.
Потом, с татарским нашествием и ордынским игом, ситуация стала
еще менее устойчивой и определенной. За великое Владимирское
княжение князья Владимиро-Суздальской Руси боролись периодиче-
ски и с большим ожесточением. Но это была борьба, во-первых, за
ордынский ярлык, удостоверяющий права на Владимир, и, во-вто-
рых, его получение зависело от милости ордынского хана-царя так
же, как от могущества и ловкости претендента. Никакие династиче-
ские права, по сути, во внимание не принимались. В конце концов
Владимирское княжение и закрепилось-то за князьями вовсе не
старшей линии дома Всеволода Большое Гнездо. Если буквально
следовать праву старшинства, в удельной Руси существовал не один
княжеский род с бульшими основаниями могущий претендовать на
великое Владимирское княжение.
Строго говоря, и французские Капетинги не имели преимущест-
венных прав на королевскую корону. Но они, в отличие от Москов-
294
Между Киевской и Московской Русью
ских князей удельной поры, были чрезвычайно озабочены доказа-
тельствами своего легитимного первенствования перед другими фео-
дальными родами. Они его демонстрировали и ссылаясь на свое
родство с Каролингами, и обрядом помазания святым елеем, и исце-
ляющим возложением рук на золотушных больных. Наши же мос-
ковские государи только в XVI в. санкционировали создание офици-
альной легенды о своем происхождении и своей легитимности—«Слова
о Владимирских князьях». В удельные же времена великие князья,
сидевшие в Москве, просто-напросто удерживали свое первенство
над другими князьями одной своей несравнимой с ними мощью. Их
власть проистекала из фактичности, а не из права, непосредственно
связанного с первосмыслами культуры. Когда в княжение Василия II
Темного (1425—1462) по причине распри в семействе московских
князей их положение было поколеблено, с железной необходимостью
возродились претензии других князей на первенство в русских зем-
лях. У одного из претендентов на общерусский великокняжеский
стол, великого князя Тверского Бориса Александровича (1425 —
1461), некоторое время, казалось, были даже шансы занять место
московских государей. Хвати у него на это сил, какие угодно претен-
зии можно было выдвигать на счет легитимности его великокняже-
ской власти, но менее всего ту претензию, что он сместил или
оттеснил законных государей—великих князей Московских.
Такова была ситуация буквально накануне последнего и уже
окончательного, необратимого взлета Москвы с ее князьями, в более
же ранние времена она оставалась достаточно неопределенной
и двусмысленной в отношении чьих-либо прав на общерусское вели-
кое княжение. Если же теперь нам попытаться представить себе
поползновения на королевскую корону великих вассалов француз-
ских королей в условиях резкого ослабления династии Капетингов,
то воображение наше слишком оторвется от очевидных реалий фран-
цузской жизни XI—XII вв., не говоря уже о более поздних временах.
***
Невыстроенность всех линий и уровней вассальных отношений,
свободного служения и верности в удельной Руси—реальность, дале-
ко не только ее политической истории, но и ее культуры. Попробуем
найти смысловую основу того, что происходило во времена борьбы за
великое Владимирское княжение и обладание им московскими князь-
ями. Смыслы здесь не выстраивались даже за счет иллюзий и подста-
новок. По своему существу, крупнейшие князья удельной Руси
оставались нерадивыми родственниками-соседями, неспособными ус-
тановить в своей княжеской среде согласие. Никаких других основа-
ний, кроме родства, для междукняжеских отношений русская куль-
тура так и не выработала, несмотря на то, что родство хронически не
срабатывало. Вот внутри княжеств—там худо-бедно действовало
начало служения, действительно сходное с западными отношениями
Удельная Русь как явление культуры
295
вассалитета. У князей были вольные слуги—другие, служилые кня-
зья и бояре. Между владетельным князем и его слугами устанавлива-
лась связь, никак не сводимая к родственной. Слуга мог по праву
и при известных обстоятельствах менять господина, что трудно со-
вместимо со следованием мифологеме родства. Что же в таком случае
это была за мифологема? Ее смысл в том, что можно служить,
оставаясь свободным, что служение не принижает человека, а наобо-
рот, позволяет полнее выявить свою доблесть и величие.
На Западе дело зашло настолько далеко, что служение стало едва
ли не выражением царственности. Во всяком случае в рыцарском
романе, жанре, выстраивавшем совершенную модель рыцарства
и рыцарственности, действуют почти исключительно царственные
особы (короли), они совершают всякие мыслимые, а главным обра-
зом немыслимые подвиги. И вот они, как правило, оказываются
подвигами верности и служения. Такой рыцарь-король может, ска-
жем, поступить на службу к другому королю, но лишь для того,
чтобы полнее выявить в подвигах служения свою царственность
и свободу. Пафос верности и служения, по крайней мере на уровне
мифологемы—жизненного ориентира, оказался заразительным на
всех уровнях рыцарской иерархии. Его разделяли все феодалы
вплоть до короля. Ничего для себя унизительного или хотя бы
снижающего в вассальной зависимости, а значит, и в хотя бы номи-
нальном служении французскому королю не видел такой могущест-
венный властитель, каким был английский король Генрих II Планта-
генет. В качестве нормандского герцога или графа Анжу он не только
принес вассальную присягу Людовику VII, но и тщательно отмечал
свой вассалитет другими знаками, признав право королевского суда
или право на защиту королем своих вассалов от собственных пополз-
новений Генриха II.
Такой мэтр французской медиевистики, каким был Жорж Дюби,
в одной из своих книг с беспощадной резкостью охарактеризовал
связь между вассалом и сюзереном в случае, когда владелец крепости
(замка) приносит оммаж местному графу. В частности, он писал:
«Отдаваясь в руки своего государя—графа, владелец крепости отны-
не привязан к нему, как сын к отцу. Но такой дар обязывает
государя к взаимности, к „благодеяниям". Все покоится на доверии
(credentia), человек сеньора должен верить в него, в его щедрость.
Он ждет, он охвачен желанием, он становится все более ненасытным.
Как утолить эту жажду? Ведь ни в чем нет определенности—ни
в служении, ни в его цене. Поэтому сеньор постоянно становится
жертвой обвинений в „злом умысле", ибо он запутывается в своих
обещаниях, бессилен полностью их выполнить. В отношениях такого
рода ложь неустранима»1. Авторитетную характеристику Ж. Дюби
отношений вассалитета мне представляется уместным привести для
1 Дюби. С. 104.
296
Между Киевской и Московской Русью
того, чтобы у читателя не сложилось впечатление о том, что автор
книги склонен петь гимны вассалитету, захлебываясь от восторга
перед ним. Конечно, в отношениях между сеньором и вассалом
бывало всякое, более того, сама вассальная связь не лишена исход-
ной и неизбывной противоречивости. Хотя мне представляется, что
говорить о неустранимости лжи в вассальных отношениях—это явное
преувеличение. Их очень, может быть даже слишком, легко обреме-
нить ложью, но ничего фатально лживого в них нет.
Впрочем, не издержки вассалитета важны для нас в настоящем
случае, а то, что распространяя служение на всех в мире рыцарства,
подвигая и верховного сюзерена—короля или императора к служе-
нию, вассалитет создавал и выражал собой некоторый особый мир
людей свободных и вместе с тем связанных между собой. В этом мире
декларировались и считались должными такие нормы и требования,
которые, с одной стороны, отделяли рыцарское аристократическое
сословие от всех иных сословий, с другой же стороны, ориентация на
свои внутрисословные смыслы делала всех представителей рыцарст-
ва, от простого однощитного рыцаря до короля, людьми одного
и того же круга, из которого без ущерба для себя, без потери лица
выйти было невозможно. Скажем, для детей французских королей,
в том числе и для наследников престола, непременно обязательным
было посвящение в рыцари. Мы уже отмечали: они должны были
стать вначале рыцарями и уже потом принцами крови или королев-
скими особами. Это как раз и означает наличие во Франции некото-
рого особого замкнутого на себя феодально-рыцарского мира. Встать
над ним, рассматривать его с внешних позиций было недопустимо ни
для кого из рыцарей, даже для короля. Этот мир действительно был
миром рыцарской культуры, входившим в средневековую культуру,
но не растворявшимся в ней как целом.
Обращение к нашей удельной Руси и ее княжеско-боярскому миру
сталкивает нас с реалиями, во многом самом существенном не совпа-
дающими с положением рыцарского и феодального мира. И главное
здесь состоит в том, что удельные князья, не превращавшиеся в слу-
жащих, не довершали собой тот княжеско-боярский люд, который
присягал им на служение. Когда великий князь Московский Дмит-
рий Иванович Донской, умирая, сказал своим боярам: «С вами
царствовах, землю русскую держах... и мужествовах с вами на многы
страны... под вами грады держах и великие власти... вы же не
нарекостеся у мене бояре, но князи земли моей»1, за этими словами
вроде бы просматривается отношение к боярству как нашему русско-
му подобию западного рыцарства. Действительно, если для него,
князя Дмитрия Ивановича, бояре—это тоже князья его княжества,
то он тем самым сознавал себя первым князем среди князей, так же
как западный король—первым рыцарем королевства. Один из них
1 Библиотека Древней Руси. Т. 6. С. 214.
Удельная Русь как явление культуры
297
был князем и только потом первенствующим среди других князей,
тогда как для другого принадлежность его к рыцарству первенствова-
ла над значением своего места в рыцарской среде.
Некоторое подобие князя Дмитрия Ивановича западному королю-
рыцарю просматривается, однако, только в пределах его княжества,
которое пока еще не есть вся Русь. За его пределами Дмитрий
Донской—князь среди князей, пускай и самый могущественный.
И по отношению к другим, неподвластным ему князьям, он соперник
или союзник. Но их соперничество или союзничество осуществляется
помимо какой-либо устойчивой культурной формы. У князей уже нет
живого ощущения своего родства, вхождения в одну княжескую
семью, как это было во времена Киевской Руси. Семейно-патриар-
хальная модель перестала быть хотя бы условно-знаковой реально-
стью.
Ну и кто же они теперь друг по отношению к другу, эти правящие
на Руси князья? Просто чужие люди, вынужденные уживаться
в качестве соседей? Пожалуй, что и так. Это действительно очень
значимо, что в своих межкняжеских отношениях русские князья не
ощущали себя принадлежащими к некоторому братству или «орде-
ну». Их отношения не были никак освящены, ориентированы на
некоторую признанную в их среде, хотя бы и номинально, модель.
Все-таки московский князь в качестве великого Владимирского князя
не был сюзереном всех остальных князей. А это значит, что ему
предстояло или подавить их, приведя к повиновению, или смириться
с независимостью соседних русских княжеств. В конце концов реали-
зовалась первая из двух возможностей. Великий князь Московский
остался единственным суверенным правителем на Руси. Но не в ка-
честве сюзерена своих вассалов, а в качестве победителя своих
соперников, князей тверских, ярославских, рязанских и др. По
отношению к ним Московский великий князь был чисто внешней
силой, приблизительно такой же, как и ордынские ханы, хотя и не
ужасавшей и разрушительной в отличие от них. В качестве внешней
силы правивший из Москвы князь не был связан с подчиненными
ему князьями и боярами той же связью, что и западные короли со
своими вассалами. Да, он принимал к себе на службу князей и бояр
из присоединенных к Москве земель, но сам Московский великий
князь не входил в их число.
После смерти Дмитрия Донского много воды утекло. Постепенно
князья и бояре переставали соцарствовать со своим государем, а ста-
новились ему только слугами. Они очень длительное время относи-
лись к числу вольных слуг ввиду своего происхождения из княже-
ских дружинников-соратников. Их волю-свободу поддерживало
и наличие множества независимых друг от друга княжеских центров
и, соответственно, право перехода от одного князя к другому. По
мере же возвышения Москвы, роста ее могущества за счет соседей
служилые князья и бояре все менее могли реально пользоваться
298
Между Киевской и Московской Русью
своим правом смены князя-сюзерена. Их зависимость от Московско-
го великого князя несоизмеримо с прошедшими временами возросла,
свободы сильно поубавилось. Дело шло к тому, чтобы княжеская
и боярская свобода осталась в прошлом.
***
Уже совсем незадолго до конца удельного периода, где-то в проме-
жутке между 1472 и 1480 гг., хан Большой Орды направил великому
князю Московскому Ивану III очень красноречивое послание. Его
красноречие было явно запоздалым, скорее хорошей миной при
плохой игре. Игра же для Орды была уже, по существу, проиграна,
поэтому величавость ахматовского ярлыка запоздала, отражая собой
реальность более благоприятных для ордынских ханов времен. Ко-
гда-то ордынский хан действительно имел основания для такого
красноречивого зачина своего ярлыка: «От высоких гор, от темных
лесов, от сладких вод, от чистых полей. Ахматово слово к Ивану. От
четырех конец земли, от двоюнадесять Поморий, от седмадесят орд,
от Больший Орды». Не этот зачин интересует нас в настоящем случае
сам по себе, но все же вслушаемся в его музыку. Это на самом деле
вещает властитель Вселенной, обращаясь к одному из своих поддан-
ных. О чем, однако, его, повелителя, слово? О самом обычном
и привычном для Орды—о дани с русских земель: «И ты б мою
подать в 40 ден собрал, — требует Ахмат, — 60 000 алтын, 20 000 веш-
нею, да 60 000 осеннюю». А дальше, наконец, самое существенное
для нас: «...а на себе бы еси носил Батыево знамение, у колпака верх
вогнув ходил, зане ж вы блужныя просяники»1.
Поздно, слишком поздно Ахмату было такое требовать у могуще-
ственного Московского государя. Но когда-то действительно и дань
исправно приходила, и знаки своего рабства русские князья, не
исключая и московского, носили и на до предела уничижительное
именование себя возразить не смели. А что раб может позволить себе
сказать в адрес своего всемогущего и грозного господина? Настал со
временем и на московской улице праздник. Ахматовы поползновения
на возвращение Батыевых времен не только были отвергнуты, сбро-
шено было и татарское иго, те его остатки, которые продолжали
тяготить московских государей. Они стали суверенными властителя-
ми, но их суверенность очень скоро оказалась несовместимой со
свободой своих подданных, не исключая и княжеско-боярской вер-
хушки. Давние ордынские холопы, перестав быть таковыми даже по
видимости, обрели себе холопов в лице недавних вольных слуг. Уже
наследник Ивана III на московском престоле Василий III мог назвать
своего боярина смердом, ну а для его собственного сына все князья
и бояре были прямо холопами. Попробуем еще раз коснуться воп-
роса, почему опыт Орды не прошел для Московских великих князей
1 Горский А. А. Москва и Орда. М., 2001. С. 198.
Удельная Русь как явление культуры
299
и царей даром, почему они в конце концов усвоили себе ордынскую
повадку, установив свое коренное русское подобие ордынского ига
над Русью, почему, наконец, сама Русь приняла это иго, оказалась
подготовленной к нему и отнеслась к игу как должному, сравнитель-
но легко и быстро?
Присоединяя к своим владениям одно русское княжество за дру-
гим, московские князья, конечно, менее всего производили впечатле-
ние ордынских завоевателей, и цели у них были другие, чем у Орды.
Но в том и дело, что их право на подчинение остальной Руси было
ускользаюгце неопределенным. Московским князьям еще предстояло
укрепиться в своем и общем сознании в каком-то определенном,
идущем от первосмыслов культуры качестве, создать его или апелли-
ровать к уже существующим смыслам. Для французских королей,
например, такой проблемы при объединении Франции вокруг своего
престола не стояло. Они были признаны законными королями своей
страны, и им предстояло утвердить свое законное право действовать
в его пределах. Только и всего. Эти пределы оставались пределами
свободы того сословия, к которому принадлежали французские коро-
ли, и не только свободы, но и рыцарской культуры в целом.
Данное обстоятельство невозможно переоценить, сопоставляя за-
падный опыт с нашим русским. Наши московские князья, объединяя
Русь, не только постоянно рисковали очутиться вне реалий культу-
ры, становясь для своих соотечественников и, в частности, для
нашего аналога рыцарства «ордой». Своей политикой и всей своей
повадкой московские князья, как и другие удельные властители, чем
далее, тем более ставили себя вне общности своих вольных слуг—
служилых князей и бояр, не образуя и в своем боярско-княжеском
кругу некоторую культурную общность.
В удельной Руси невозможно представить такое характерное для
средневекового Запада, чтобы вольные слуги задавали тон в своих
отношениях с князьями, чтобы последние признали себя членами
боярской корпорации. Даже Дмитрий Донской, так сближавший себя
со своими боярами, на Куликовом поле сходит с коня и бьется
с татарами как простой ратник-ополченец, а вовсе не как рядовой
боярин-дружинник. Даже для него не существовало своего устойчи-
вого и замкнутого на себя мира вольных слуг-дружинников-бояр.
Этот мир слишком мало определился внутри себя, чтобы образовать
свою субкультуру, не размыкаясь в сторону удельного князя и не
вмещая его в себя в качестве первого среди бояр.
Вольные слуги зато были слишком разомкнуты «вниз», в сторону
крестьянства. Слишком в том отношении, что у них не возникло
своего подобия «пафоса дистанции» в отношении простолюдинов. Не
в смысле высокомерия и чувства превосходства, их-то наверняка
было предостаточно, а в смысле выстраивания своей жизни по своей,
заданной себе и в корне отличной от крестьянской мерке. Ничего нет
для крестьянина безумней и непотребней, чем культ прекрасной
300
Между Киевской и Московской Русью
Семейство новгородских бояр XV в. Фрагмент новгородской иконы. 1476
дамы или рыцарские турниры и поединки, слишком напоминавшие
турнир, но это своеобычный и самодостаточный мир рыцарства. Его
то у наших вольных слуг так и не возникло. Свою волю-свободу они
выражали через осуществление права перехода от одного князя
к другому или через судебный иммунитет в своих владениях. Но эта
негативная свобода не была наполнена содержательно своими бояр-
скими образами и смыслами, составляющими свою культуру. Подни-
мавший своих слуг-бояр до уровня князей-соправителей, Дмитрий
Донской вряд ли бы понял, если бы его назвали первым боярином
Московского княжества. Так что сопоставление князя Дмитрия Ива-
новича с западным королям как первым рыцарем королевства имеет
свои пределы.
В известном смысле бояре удельной Руси сокняжили со своим
удельным князем, но последний лишь в очень незначительной степе-
ни «собоярствовал», а значит, сослужил со своими боярами. Удель-
ный князь, разумеется, не просто стремился пользоваться благами
жизни, он еще и обустраивал жизнь своего княжества, поддерживал
ее строй. Но в этом устроении и поддержании строя для него было
возможным осуществление одного из двух вариантов. Западного,
когда собственная принадлежность к вольным слугам предполагает
Удельная Русь как явление культуры
301
культивирование свободы в высшем воинско-землевладельческом со-
словии. Или ордынского, с его ориентацией на вознесенность князя
над своими вольными слугами, все большее усмотрение в них только
слуг. Просто слуга, слуга как таковой в тенденции всегда раб. Когда
по мере разрастания Московской Руси право отъезда вольных слуг
сужалось и в итоге не к кому стало отъезжать, самим вольным слугам
в лице самого крупного боярства княжеских родов ничего не остава-
лось, кроме как апеллировать к старине и от века установленному
порядку.
Но у московских князей и их вольных слуг не было общей почвы
для взаимопонимания. Они не принадлежали к одному и тому же
культурному сообществу, в котором реалии свободы признавались
и культивировались. Хуже всего между тем была полная культурная
беспомощность и несостоятельность вольных слуг. Им было не толь-
ко нечем укорить московского князя из того, что жило как смысл
и в его душе, но и не найти для себя устойчивых оснований противо-
стояния княжескому натиску, обещавшему превратить их в холопов.
Если сама по себе служба вольных слуг не была свободой, а состояла
лишь в выборе служения, в том, что слуга мог служить или не
служить данному господину, то, потеряв свободу выбора служения,
вольный слуга переставал быть свободен, что и проявилось по мере
перехода от удельной к Московской Руси. В отличие от Запада, где
служение рыцаря сюзерену-королю оставалось единственно возмож-
ной для него свободой, которой по-прежнему была проникнута вся
его жизнь в ее ключевых моментах. Наш же вольный слуга, отними
у него право отъезда и судебный иммунитет, в собственных владени-
ях становится мало отличным от посадского человека или крестьяни-
на. У него оставалось своеобразие в воинской службе, но она превра-
щалась в тягло, повинность, которая была своя и у посадского
человека, и у крестьянина. Не создав своего боярско-княжеского
мира свободы как внутренней и утвердительной реальности, вольные
слуги с концом удельного периода по существу окрестьяниваются,
о чем у нас еще специально будет идти речь в следующей главе.
Глава 7
Культура Московской Руси
Московский царь
Когда к концу XVI в. с исчезновением последних уделов и не-
смотря на предстоящие грандиозные потрясения, Московская Русь
окончательно оформляется в своей московскости, ее первый из вен-
чавшихся на царство царей написал в своем послании к князю
Андрею Курбскому такие слова: «Не предавали мы своих воевод
различным смертям, а с Божьей помощью мы имеем у себя много
воевод и помимо вас, изменников. А жаловать своих холопов мы
всегда были вольны, вольны были и казнить»1. Послушать москов-
ского царя, так у него все холопы, не исключая воевод, среди
которых немало было князей из того же рода Рюриковичей-Яросла-
вичей, что и сам Иван Грозный.
Ясно, что много воды утекло с тех пор, когда все русские князья
составляли один род. Если бы Ивану Грозному, да и любому из более
поздних московских царей, сказали, что все эти бесчисленные князья
Рюриковичи—его братья, он вряд ли что-нибудь понял бы из этой
несуразицы. Менее всего он мыслил себя главой княжеского рода
в качестве его отца, которому безусловно повинуются князья-дети.
Московский царь был отцом всех русских людей, каждый из кото-
рых уравнивался перед ним в своей детскости. Думный боярин
ничуть не меньше, чем нищий черносошный крестьянин. Все без
изъятия подданные московского царя именовали себя холопами и ни
на какую особую выделенность в отношении взрослости не претендо-
вали.
Однако холоп—это раб, чье рабство холопским именованием ни-
чуть не смягчается, а скорее подчеркивается. Тем самым мы сталки-
1 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. М., 1981. С. 136 (далее:
Переписка).
Московский царь
303
ваемся с ситуацией, когда в Московской Руси существовал царь,
окруженный одними только рабами, точнее, вознесенный над ними.
Ситуация всеобщего рабства и единичной царственности хорошо нам
известна по Древнему Востоку, и, прежде всего, по Египту. Египет-
ский фараон был между тем царем-богом, а не просто властителем
рабов. Заподозрить в том же самом московского царя у нас нет
никаких оснований. Даже дошедший до Геркулесовых столпов возве-
личивания царской власти Иван Грозный в посланиях к князю
Андрею Курбскому, где он называет всех своих подданных холопа-
ми, тем не менее о себе говорит такие слова: «Всемогущей и вседер-
жительной десницей Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа,
держащего в Своей длани все концы земли, Которому поклоняемся
и Кого славим вместе с Отцом и Святым Духом, милостью Своей
позволил нам, смиренным и недостойным рабам Своим, удержать
скипетр Российского царства...»1.
Египетский фараон потому считался царем-богом, что рожден он
был от всех богов. В нем было их семя, и богосыновство ничуть не
умаляло божественности царя. Самоощущение Ивана IV и воспри-
ятие царя подданными ничего общего с ситуацией фараона не имели.
Поскольку московский царь считал себя рабом Божьим, ни о какой
собственной его божественности речи идти не может. Он один из
рабов Божиих, поставленный Богом над другими рабами, образую-
щими Московскую Русь. Вознесенность этого раба заходит так дале-
ко, что все остальные рабы Божии являются рабами и для него.
Заходит не по причине какого-то особого бытийственного статута
царя, его сверхчеловечности, а исключительно по неизреченному
милосердию Божию. По крайней мере, в мирских делах Бог передо-
верил одному из Своих рабов на время его земной жизни Свою
власть над другими Своим рабами, настолько всеобъемлюща по
своим масштабам и своему характеру власть московского государя.
Он царь рабов по образу и подобию того, что и Господь Вседержи-
тель царствует над людьми-рабами.
Но точно так же, и этого никогда нельзя забывать, московский
государь еще и отец своих подданных. Правда, Бог является Отцом
людей по благодати, а вовсе не по природе, тогда как с царем
Московской Руси дело обстояло иначе. Его отцовство, с одной
стороны, было человеческим аналогом усыновления Богом Своих
творений, а значит, и рабов-людей. С другой же стороны, в москов-
ском царе всегда сильно было чувство живой родственной связи со
своим народом, чувство, вполне разделявшееся русскими людьми.
Для царя его подданные если не совсем в буквальном, то в очень
глубоком и существенном смысле были детьми, принадлежащими
к одному с ним роду или большой семье—Руси. Со своей стороны,
русские люди смотрели на царя как на батюшку. В этом так хорошо
1 Переписка. С. 166.
304
Культура Московской Руси
нам известном «царь-батюшка» не-
сомненно сквозит уже не отноше-
ние рабов к господину, а вполне
родственное чувство. Оно у рус-
ских людей как-то незаметно и са-
мо собой переходило в настоящую
рабскую приниженность. Вот ка-
кой-нибудь крестьянин, посадский
человек или боярин письменно
обращается к своему царю. Обя-
зательно в письме он челом бьет,
то есть хотя бы мысленно падает
ниц перед своим государем. На-
звать себя царским холопом тоже
обязательно, но тут же далее идет
ставшее давно уже странным для
русского уха именование себя Бо-
риской, Олешкой, Иванцем, Ва-
сяткой и т. п. Здесь ведь не про-
сто самоуничижение, доведенное
до предела. Имена-то себе даются
уменьшительно-ласкательные. Это
«детушки» припадают к ногам сво-
его всемогущего и грозного «ба-
тюшки» и просят, молят даже
о помощи. Ну, какие они после
этого рабы? Рабы, конечно, тоже,
но еще и родственники, входящие
в одну и ту же семью, где нет
высших и низших, собственно род-
ственников и просто рабов. Все
Царь Борис Федорович. Титулярник.
Конец XVIJ в.
они страшатся царя-отца с его грозной справедливостью, но и любят
его так же, как и он любит их своей требовательной любовью.
Вообще-то, и рабами «детушки» у своего батюшки являются потому,
что уж очень велика у него семья, много в ней детей, и поэтому
каждый из них —лишь ничтожно малая частица целого. Это целое
обозревается царем. Оно есть Русь, или Московское царство.
По отношению к Руси царь выступает уже не отцом, а супругом.
С Русью он как бы повенчан и неустанно печется о ней. С детьми же
царь держит себя строго, не допуская с их стороны никакого баловст-
ва или, чего похуже, наносящего ущерб царской супруге—Руси.
Власть московского царя, несмотря на то что он христианский
государь, в ком как избраннике Божием действует божественная
благодать, может не отождествляться, конечно, но быть сближена
с властью божественного царя. Христианские смыслы, несомненно
в ней присутствуя, в то же время не всегда отличимы от древних
Московский царь
305
Царь Алексей Михайлович
Портрет работы неизвестного художника,
1660-е гг.
восточных мифологем царской
власти. Будучи действительно хри-
стианскими государями, москов-
ские цари могли принимать за
христианское то в своих действи-
ях, что таковым не являлось.
В частности, они считали своим
христианским долгом по празд-
ничным дням устраивать в своих
палатах трапезы для московских
нищих, которые потом одари-
вались довольно крупной, по тем
временам, денежной милостыней.
Чем не христианское смирение
и милосердие, когда царский дво-
рец становится местопребыванием'
самых обездоленных из царских
подданных? На какое-то время ие-
рархия Московского царства смяг-
чалась, и все его жители хотя бы
приближались к тому, чтобы быть
не просто рабами, но и детьми
Божиими.
Между тем не менее красноречиво свидетельствует о понимании
бытийственного статута московских царей и то, как они христосова-
лись со своими подданными на Святой неделе в Пасху. Оказывается,
христосование состояло в том, что бояре целовали своему царю
руку1. Дистанция между ним и его ближайшим окружением остава-
лась непреодолимой даже в соотнесенности их с Христом. И во
Христе царь был царем, а царские холопы —царскими холопами. Не
подозревая об этом, московский царь, христосуясь с боярами на свой
лад, заявлял этим некую свою особую прикрепленность к Богу,
выделейность Им царя, едва ли не окончательную и бесповоротную
перед лицом вечности.
Вряд ли в этом случае уместно говорить о каком-то подспудном, не
проговоренном никогда богосыновстве на манер фараона, пускай
и в ослабленном варианте. Но аналогии с древневосточными божест-
венными царями все-таки представляются уместными. Божественный
царь в месопотамской, хеттской или персидской традиции тоже не
рассматривался в качестве божества или его сына. Но особая выде-
ленность и близость к божеству, не позволявшая уравнивать или
сближать царя с подданными, тем не менее божественному царю
была присуща. Она заходила так далеко, что все подданные без
' Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI—XVII столетиях. Кн. 1.
Государев двор или дворец. М., 1990. С. 255—256.
306
Культура Московской Руси
исключения были уравнены перед царем до положения холопов,
и в то же время странным образом сочеталась с близостью царской
особы к своим подданным.
***
В своей основе образ жизни московских царей мало чем отличался
от образа жизни всех остальных людей Московского царства, не
исключая и крестьян. Царь ел ту же пищу, только гораздо лучшую.
Не простого карася, а какую-нибудь шекснинскую стерлядь. У него
была такая же посуда, что и у боярина, посадского человека или
крестьянина. Только его ковши, ендовы и братины делались не из
дерева или олова, а из серебра и золота. Даже царский дворец
оставался хотя и богатой и затейливой, но избой.
Московская Русь не знала сколько-нибудь последовательно и от-
четливо выраженной культурной разнородности сословий. Даже во-
инское сословие, как правило, тяготеющее к обособленности и возне-
сенности над другими сословиями, носило на себе те же родовые
черты, что и другие. При этом каждое из сословий объединяло
с другими нечто третье, не присущее в отдельности ни одному сосло-
вию, кроме крестьянства. Тон в Московском царстве задавало имен-
но оно—самое низшее сословие. По существу, крестьянство раство-
рило в себе и воинов-дворян-помещиков, и посадских людей, и высшую
боярскую аристократию, в огромной степени даже духовенство и,
наконец, самого московского царя. Его вполне допустимо рассматри-
вать как первого и главного крестьянина царства, как царя-крестья-
нина, в том отношении, что царь по строю души и образу мыслей был
прежде всего крестьянином, а потом уже всем остальным. Крестьян-
ские черты в московских царях легко узнаются в бытовых подробно-
стях царской жизни, во всей их повадке.
И это тем более поразительно, что царственность, как таковая,
неизменно тяготеет к преодолению крестьянскости. Ведь что такое
крестьянин? Не просто человек, обрабатывающий землю и тем добы-
вающий себе средства к существованию. Фигура крестьянина возни-
кает тогда, когда предшествующий ему первобытный или полуперво-
бытный воин-земледелец становится исключительно земледельцем.
В качестве только земледельцев крестьянам противостоят только вои-
ны, обыкновенно составляющие дружину царя. Царь в первую оче-
редь соотнесен с дружиной и лишь во вторую очередь—с крестьяни-
ном. Вокруг царя дружина создает свой особый мир. В нем обязательно
есть известная оторванность от земли, а значит, и от крестьянства.
Она подкрепляется обязательной для царя связью со сферой са-
крального, ассоциирующейся вовсе не с землей, а с небом. Так когда-
то было и у нас на Руси. Князья возглавляли дружину, служили
Богу и покровительствовали Церкви.
Московские цари уже так тесно с войском не связаны, воинский
быт очень мало определяет их жизнь. Начиная с Ивана Грозного
Московский царь
307
у нас не было ни одного воинст-
венного царя-полководца. Его
можно себе представить на троне,
в боярской думе, в храме, но ни-
как не во главе войска и тем более
не в гуще битвы. То, что было
естественно еще для Дмитрия Дон-
ского, уже исключалось для Ива-
на Грозного, в лучшем случае лишь
присутствовавшего на театре во-
енных действий. Осев на троне,
московский царь соотнес себя со
всей Русью, огромное большинст-
во которой было крестьянами. Вро-
де бы он уравнял все сословия,
низведенные до различных разря-
дов холопов, у каждого из кото-
рых свое государево тягло. Каза-
лось бы, тут и вознестись царю на
недосягаемую высоту. В извест-
ном смысле он и был вознесен,
когда в XVII в. нередкими стали
такие обращения к царю: «Умило-
сердися —яко Бог», или: «Рабо
таю я, холоп ваш, вам, великим
государем, яко Богу». Понятно,
что здесь царские подданные хва-
тают через край и в своем раболе-
пии лишь смущают душу царскую.
Но все же нельзя не признать, что
поводов для подобных обращений,
делавшихся в простоте или в по-
рыве холопского раболепия, было
достаточно. Повторимся: вознести
еще более христианского госуда-
ря уже невозможно. И тем не ме-
нее, несмотря на свою вознесен-
ность, царь оставался своим среди
своих, крестьянином среди по кре-
стьянски неуклюже превозносив-
ших его подданных.
Нужно сказать, что фигура царя
любого типа не может быть ис-
Челобигная дьяка Ямского приказа
Григория Всполохова царю Алексею
Михайловичу
ключительно единична и никак не напоминать никого из царских
подданных. Где-то в царе акцентировано сходство с жречеством, где-
то с воинами, где-то с придворными или даже чиновниками. А вот
308
Культура Московской Руси
близость к крестьянству, как минимум, большая редкость. По-кре-
стьянски люди Московской Руси своего царя превозносили, по-
крестьянски он превозносился и сам. Встать над крестьянами, остава-
ясь крестьянином, можно было, став их отцом, родителем
и кормильцем, неустанно пекущимся о благе детей и строго поддер-
живающим строй и лад их жизни.
Но нечто подобное присуще любому божественному царю. В на-
шем же случае весь фокус состоял в том, что московский царь
странным образом не имел своего аналога внутрибожественной жиз-
ни, непонятной и недоступной по своим смыслам и проявлениям
никому, кроме ближайшего царского окружения. Какая там «внутри-
божественная жизнь», когда царь тоже жил в избе и имел так много
общего с крестьянскими обыкновениями.
Такая близость царя ко всем подданным, безусловно, акцентиро-
вала его родство с ними и, казалось бы, должна была освящать
подданных, придавая каждому из них свою долю царственности.
Этого как раз не происходило ни в малейшей степени. Пребывая
среди своего народа и жительствуя его формами жизни, московский
царь обретал и поддерживал свою царственность преимущественно за
счет всевластия. Внутренне несамостоятельный, не доросший до
свободы русский крестьянин максимально концентрировал себя в ца-
ре как определяющей его реальности. Царь был «свое другое» кресть-
янина, его самоотчуждение в инобытии. Он оттого так неумолимо
строг в своих повелениях, что собственной власти над собой крестья-
нин не доверял. Она оставалась неустойчивой и недостаточной.
От настоящего ребенка крестьянин отличался тем, что «детушка»
сам создавал себе «батюшку», будучи неспособным удержаться во
взрослости или достичь ее. В свою очередь, царю оставалось свою
взрослость всецело сводить к отцовству над детьми-крестьянами.
Этим он был насущно необходим им, этого они от него ждали.
Внутрицарственной жизни царя, отделенного от крестьян-«детушек»,
они не поняли и не приняли бы. Когда она способна состояться,
внутрицарственная жизнь представляет собой соотнесенность царя
с подданными двоякого рода. В одном случае царь отделен от под-
данных как сакральное (сакрализованное) существо от профанных,
последние же причастны внутрицарственной жизни лишь как допу-
щенные в святая святых по неизреченной милости повелителя. Ниче-
го общего с пантеоном пребывание придворных у подножия царского
трона в этом случае не образует. И все же двор —это особый мир.
В нем все не так, как в остальном царстве. Для любого подданного-
непридворного двор—тайна за семью печатями, в которую проника-
ют лишь по благословению царя.
Другая ситуация складывалась при дворе царя-героя, как у нас
в Киевской Руси. Здесь придворные, как «цари», окружающие сво-
его властителя-царя по преимуществу, гораздо ближе к нему и к сок-
ровенности его внутрицарской жизни. Но точно так же дистанция
Московский царь
309
Большой наряд царя Алексея Михайло-
вича: венец, скипетр и держава. XVII в.
между двором и остальным царст-
вом сохраняется. Как раз этой
дистанции двор московских царей
не знал, поскольку был двором
первого крестьянина Руси. Соот
ветственно, окружен был он свои-
ми «детьми»-крестьянами, одни из
которых были еще и боярами, дру-
гие — дворянами.
Нечто совсем иное имело место
при средневековых новоевропей-
ских дворах, где вначале рыцар-
ство, а потом дворянство явля-
лись кем угодно, только не
«детушками» своего государя-«ба-
тюшки». На Западе воинское и бюргерское сословия не были, как
у нас, поглощены крестьянской стихией. Поэтому государь, даже
будучи соотнесен не только с близким ему воинским сословием, но
и со всем народом своего королевства, все равно не растворялся
в нем.
Как ни верти, а не с кем было московскому царю обращаться
в своем царстве как со взрослыми, царственными мужами. Во взрос-
лость страна и народ выталкивали царя одного, не давая ему тем
самым никакой возможности приобрести опыт общения со взрослыми
же людьми. Царский опыт взрослости был возможен лишь через
соотнесенность с предшествующими московскими царями и, шире,
с теми царскими особами православного и неправославного мира, чья
царственность принималась и обладала авторитетом в глазах москов-
ских царей. Ну и, конечно же, они постоянно имели перед своим
умственным взором образ небесного Отца Вседержителя. По сравне
нию с Ним цари были рабы и дети. Но все же Господь определил
своих детей-царей на отцовство, доверил царям православный народ.
Тем самым Он потребовал от царей быть Своим подобием по части
царственности, обрекая их на совершенно исключительное положе-
ние среди остального православного народа.
Впрочем, одно исключение все-таки было. Это патриарх. По
определению он архипастырь Русской земли. Патриаршее отцовство
иного рода, чем царское, и не о нем сейчас разговор. Для нашей темы
в настоящем случае важно то, что присутствие патриарха до некото
рой степени ограничивало тенденцию к сакрализации царя. С другой
стороны, правда, отношения между царем и патриархом сбивались
на выяснение вопроса о том, кто кому отец и кто ребенок, в резуль
тате чего патриархальность царской власти не размыкалась в другие
сферы смысла.
310
Культура Московской Руси
***
Решающими внешними импульсами, определившими собой фор-
мирование образа московского царя, были два очень разнородных
события. Вначале, в 1453 г., пал Константинополь и прекратила свое
существование греческая империя ромеев. Несколько позже, в 1480 г.,
Русь окончательно сбросила с себя татарское иго. И первое, и второе
события, несмотря на всю их разнородность, объединяет то, что
Московская Русь перестала ощущать над собой присутствие царской
власти. Одно царство исчезло совсем, другое вскоре распалось на
несколько кусков, которые по старой и недоброй памяти русские
люди продолжали называть царствами. Не только все еще могущест-
венное Казанское ханство, но и маломощное Астраханское и даже
почти безлюдное Сибирское ханство. При том что царство ромеев
было своим, православным, а татарское—«проклятою Ордой», оба
они признавались за царства, не просто соседствующие с Русским
царством. Такое в те времена было невозможным, поскольку царство
по определению экуменично и царь в мире должен быть один. Для
нас их было все же два и оба вне Руси, что делало русские земли
периферией двоякого рода. Во-первых, по отношению к собственно-
му жизненному центру, «пупу земли»—Константинополю-Царьгра-
ду. И, во-вторых, к антимиру ордынского Сарая, которому русские
князья платили дань и куда длительное время отправлялись, ища
расположения ордынских ханов-царей.
Быть периферией Орды—это достаточно странное положение,
если учесть, что Орда была в очень существенном отношении антими-
ром поганых и бусурман, противостоящих миру Руси. Однако, будь
Орда только антимиром, Русь не была бы тогда периферией, а,
скорее, воспринимала саму Орду как опасную и погибельную пери-
ферию хаоса, обрамляющего русский космос. В действительности
Орда не может быть отнесена исключительно к периферии, хаосу
и антимиру как раз потому, что в Орде, по русским представлениям,
сидели цари и сама она была царством, властвующим над Русью.
Русь тем самым ощущала и принимала власть над собой двух инстан-
ций. Первая инстанция —Царьград—это царство смысла и устрое-
ния, вторая же к чистой пагубе и разрухе вряд ли была сводима без
остатка ввиду того, что в качестве царства она все-таки несла свой
чуждый и страшный для Руси порядок, а не одну чистую бессмысли-
цу хаоса. Находясь длительное время между двумя такими несхожи-
ми царствами, входя одновременно в две ойкумены, Русь в конце
XV в. наконец очутилась в ситуации одиночества, предоставленности
самой себе, над ней не стало ни царств, ни царей.
От ига ордынского царя Русь освободилась сама, от первенствова-
ния над ней ромеев ее «освободили» турки-османы своим штурмом
Константинополя. И то, и другое освобождение было делом не
простым и не самоочевидным. Понятно, что главная трудность здесь
состояла в сведении счетов с Ордой и ее ханами-царями. К концу
Московский царь
311
XV в. Московская Русь обладала уже достаточными ресурсами для
свержения татарского ига. Но на его свержение еще нужно было
решиться. И не только потому, что русским людям нужно было
преодолевать древний страх перед Ордой. За почти два с половиной
века татарской неволи в них укоренилось представление об ордын-
ских ханах, как о своих царях. Зависимость от ордынских повелите-
лей была еще и внутренней, не только за страх, но и за совесть.
В 1480 г. во время стояния на реке Угре, где войска Ивана III
встретились с войском хана Большой Орды Ахмета, ростовский
архиепископ пишет очень знаменательное послание великому князю
Московскому, в котором увещевает его сбросить ордынское иго.
Вчитаемся в аргументы архиепископа Вассиана.
«Если... ты будешь спорить и говорить: „У нас запрет от прароди-
телей—не поднимать руки против царя, как же я могу нарушить
клятву и против царя стать?" —послушай же, боголюбивый царь,—
если клятва бывает вынужденной, прощать и разрешать от таких
клятв нам поведено, и прощаем, и разрешаем, и благословляем—как
святейший митрополит, так и мы, и весь боголюбивый собор: не как
на царя пойдешь, но как на разбойника, хищника и богоборца. Уж
лучше тебе солгать и приобрести жизнь вечную, чем остаться верным
клятве и погибнуть, то есть пустить их в землю нашу на разрушение
и истребление всему христианству, на святых церквей запустение
и осквернение. Не следует уподобляться окаянному Ироду, который
не хотел клятвы нарушить и погиб. А это что—какой-то пророк
пророчествовал, или апостол какой-то, или святитель научил, чтобы
этому богомерзкому самозванному царю повиноваться тебе, велико-
му страны Русской христианскому царю!»1
Это буквально поражает, до какой степени всерьез в своем «По-
слании» архиепископ Вассиан считается с тем, что великим князем
Московским ордынский хан может восприниматься в качестве царя
в самом подлинном и глубоком смысле этого слова. Ведь только
перед настоящим царем произносят настоящую клятву, нарушение
которой влечет за собой бесчестье. Отсюда и стремление Вассиана
уверить своего государя в том, что его клятва не настоящая. Однако
он как будто и сам не верит в полную убеждающую силу выдвигаемо-
го им аргумента: «клятва» ордынскому царю недействительна, пото-
му что она вынужденная. Вынужденная она или нет, в соответствии
с логикой самого Вассиана выходит, что она все-таки клятва. Иначе
зачем требование к Ивану III нарушить ее, да еще обращение
к устрашающему примеру с Иродом Великим. Этот пример приво-
дится ростовским архиепископом для того, чтобы продемонстриро-
вать: клянясь казнить Иоанна Крестителя, Ирод клялся всерьез
и остался верен своей клятве, но тем безвозвратно погубил свою
Душу.
1 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 7. С. 395.
312
Культура Московской Руси
Так что же, клятва Ивана ордынскому хану ненастоящая или она
подлинная, но нарушить ее позволительно? Понимай, как хочешь, —
мог бы сказать Вассиан Ивану III,—только не держись за то, в чем
клялся ордынскому хану.
Но и на этом не останавливается такой красноречивый в своей
непоследовательности архиепископ. Он обращается к еще одному
доводу, на этот раз уверяя своего повелителя в том, что родоначаль-
ник ордынских ханов Батый «и не царь, и не царского рода»1. Вот
это уже самая настоящая клевета. Батый был прямым потомком
самого Чингисхана, его внуком, унаследовавшим на вполне закон-
ных основаниях улус, выделенный Чингисханом своему сыну Джу-
чи. А Чингисхан—разве он не настоящий царь по всем монгольским
канонам, если он происходил из ханского рода и был избран на
съезде монгольской знати ее верховным повелителем?
В подобных вещах Вассиану разбираться недосуг. У него наготове
следующий аргумент. Самый, наверное, весомый, понятный всем
русским людям и тысячекратно высказывавшийся. Аргумент, утвер-
ждающий, что послал Руси ордынского хана в цари Бог за ее
прегрешения. «Покайся, государь, от всего сердца и прибегни под
Его [Бога] крепкую руку, и обещай всем умом и всей душою своей
отказаться от того, что было прежде, когда случалось тебе, как
человеку, согрешать»,—взывает Вассиан к Ивану III. Дело-то, ока-
зывается, в том, что посланный Руси за грехи и потому все-таки
законный царь потеряет свое право царствовать над Русью, если ее
правитель отречется от греха, станет царем праведным.
На самом деле к Ивану III его духовным наставником предъявля-
ется странное ввиду своей трудновыполнимости требование. Оно
действительно спасительно и разрешающе в отношении ордынского
ига, да только как его выполнить? Как из простого человека стать
святым? Вассиан подробно наставляет московского князя, как этого
добиться. Все его поучения, однако, не могут скрыть некоторой
растерянности самого наставника. Самим изобилием своих аргумен-
тов в пользу отказа от повиновения Орде он невольно свидетельству-
ет о недостаточной убедительности каждого из них в отдельности.
Нечего сказать, трудная во всех отношениях задача стояла перед
великим князем Московским, когда он решался на отречение от
Орды.
***
В конце концов, выбора у Руси не было. Ей предстояло или
исчезнуть вовсе вслед за Византией, или же самой стать царством.
Последнее же для православной страны было возможно только при
условии осознания себя третьим Римом. Новый Рим — Константино-
поль был повержен бусурманами, вместе с ним должна была быть
’ Библиотека литературы Древней Руси. Т. 7. С. 395
Московский царь
313
повержена и Русь, если только она не возьмет на себя роль третьего
Рима. Ничего в этом несообразного или исключительного усматри-
вать не нужно. Когда-то «пред-Рим»—Троя перебрался на берега
Тибра и стал Римом, потом настала очередь берегов Босфора, и поче-
му бы Риму не возобновиться еще раз на берегах Москвы-реки. Ведь
без Рима и мир не мир, Русь не Русь, великий князь Московский не
князь. Они теперь неизвестно что и непонятно кто, до тех пор, пока
вновь не обретут себя в качестве мира, царства и царя.
Наверное, совсем не случайно, что и в вопросе, казалось бы, более
легком и ясном по сравнению с вопросом о подданстве у ордынского
хана-царя великому князю Московскому, на этот раз Василию IV
понадобилось увещевание духовного наставника. Оно, как известно,
состоялось в качестве послания псковского старца Филофея, опять-
таки адресованного своему государю. Наиболее примечательны в пер-
спективе происходящей переориентации московских великих князей
на царственность в этом послании такие строки: «...ибо старого Рима
Церковь пала по неверию ереси Аполлинария, второго же Рима,
Константинова града, церковные двери внуки агарян секирами и то-
порами рассекли, а эта теперь же третьего, нового Рима, державного
твоего царства святая соборная апостольская Церковь во всех концах
вселенной в православной христианской вере по всей поднебесной
больше солнца светится,—так пусть знает твоя державность, благо-
честивый царь, что все православные царства христианской веры
сошлись в едином твоем царстве: один ты во всей поднебесной
христианам царь»1.
В приведенных строках наиболее впечатляющ и значим его тон.
Филофей никакой особой аргументации в пользу того, что великим
князьям московским пора принять царский сан, не выдвигает. У него
другое в обращении и призыве к княжащему в Москве Василию:
«Раскрой глаза, посмотри окрест—и ты увидишь очевидное: нет
больше в мире православных стран, некогда прославленных, право-
славной осталась одна Русь, именно она есть православное царство,
сам же ты никакой не великий князь, а православный царь». Васи-
лий III тем самым доводится Филофеем до ума, ему он раскрывает
глаза на то, кто он есть и в какой стране правит. Не так уж это было
очевидно в начале XVI в., как это могло бы показаться. После
свержения ордынского ига московским великим князьям необходимо
было решиться на следующий шаг. На него Филофей Василия III
и подвигает. Еще совсем недавно зависимая от иноземцев страна
должна совершить прыжок из приниженности к величию. Середины
для нее не существует, она невозможна после падения Византии.
Но если московский государь по независящим от него обстоятель-
ствам вдруг оказался единственным государем во всем православном
мире, разве из этого вытекает обоснованность его претензий на
’ Библиотека литературы Древней Руси. Т. 9. С. 301—303.
314
Культура Московской Руси
царский сан? Подобного вопроса Филофей не касается вовсе. Он
уверен в том, что единственность Московской Руси в качестве право-
славной страны сама по себе указывает на ее избранность и царское
достоинство тех, кто над ней властвует.
Когда-то, после падения Константинополя под ударами крестонос-
цев в 1204 г., империя была временно перенесена в близлежащую
Никею. Для удаленной от Византии и во многом чуждой ей Москов-
ской Руси подобный перенос был исключен. Она подтвердила свое
право быть царством и короновать своих великих князей царями
иначе. В общем-то, Русь пошла здесь проверенным и основательно
исхоженным на средневековом Западе путем. Состоял он в создании
генеалогического мифа, в соответствии с которым род Московских
великих князей возводился к римским императорам, в частности,
к Октавиану Августу. От подобных же фантастических генеалогий,
бытовавших на средневековом Западе, наша русская генеалогия
отличается разве что совсем уже оторвавшимся от исторических
фактов вымыслом. В созданном в первой трети XVI в. «Сказании
о князьях Владимирских» выстраивается такая линия происхожде-
ния правящих в Москве великих князей: Август—его родственник
Прус — Рюрик — Владимир Святославович — Владимир Всеволодович
Мономах.
Последний князь занимает особое место в генеалогических по-
строениях на русской почве. При том, что он был вполне реальным
лицом и действительно от него пошла линия владимиро-суздальских
князей, одна из ветвей которой представляет собой род Московских
великих князей, с Владимиром Мономахом связывается в «Сказа-
нии...» якобы имевшее место венчание на царство венцом, который
снял со своей головы византийский император Константин Мономах
с тем, чтобы его возложил на голову Владимира эфесский митропо-
лит Неофит. Так что сторонники великих Московских князей поза-
ботились не только об их царском происхождении, но и об их
утверждении в царственном достоинстве византийским императором.
Полет фантазии автора «Сказания...» поистине не знал пределов.
Но еще более странная вещь, чем с генеалогией московских князей,
произошла с их царским венцом, знаменитой шапкой Мономаха.
Наиболее вероятным объяснением ее происхождения является пожа-
лование шапки ордынским ханом Узбеком великому князю Влади-
мирскому в начале XIV в. Поистине есть чему удивляться, когда знак
ордынского благоволения, неразрывный с признанием зависимости
Руси от Орды, переосмысляется в образ величайшего достоинства
русских князей, их равенства самим византийским императорам,
равенства, которое в начале XVI в., когда создавалось «Сказание...»,
могло рассматриваться еще и как преемство Византии.
Мы хорошо знаем, что преемство такого рода было утверждено
тем, что Москва приняла на себя роль Рима. При этом, однако,
очередная странность и необыкновенность Московского царства и его
Московский царь
315
царя состояла в том, что как тре-
тий Рим она практически совсем
не унаследовала, казалось бы, от
Рима и его императора неотъемле-
мого -духа вселенскости, живого
ощущения Вечного города в каче-
стве стяжки мира, а последнего -
в качестве единого целого, тяго-
теющего к своему единственному
центру. Конечно же, московским
царям был по-настоящему присущ
дух основательного и рачительно
го собирания земель. Вначале поч-
ти исключительно русских, а по-
том и других. Однако собирались
царями земли и народы не в ойку-
мену, не во вселенское царство.
Из земель и народов постепенно
и неторопливо складывалась и ши-
рилась все та же Московия, Мос-
ковская держава, которая посто
янно остро и напряженно ощуща
сторон чуждыми и враждебными
Шапка Мономаха. Конец XIII- начало
XIV вв.
i себя обложенной с нескольких
I странами и мирами. На западе
находился огромный мир христиан схизматиков, на юго-востоке —
тоже немалый мир бусурман.
Отнести их к окоему хаоса, где пространство изнемогает и посте-
пенно переходит в свою противоположность, можно было лишь
в очень ограниченной степени. Это римляне видели на юге своей
империи бесплодные и безлюдные пески, на западе —бескрайний
океан, а на севере —глухие непроходимые леса. Только на восток от
римских владений располагались земли и народы, с которыми прихо
дилось считаться и которые трудно было воспринимать только как
диких и первозданно грубых варваров. Русь, в отличие от римлян,
знавших длительное время только одного достойного противника на
востоке — Парфянское царство, не могла не отдавать себе отчета
в том, сколько могущественных государств находится поблизости
и в большем или меньшем отдалении от нее.
Как единственное православное царство (и в этом отношении
единственный по божески устроенный мир Божий) Московская Русь
в своих глазах представляла себя скорее исключением, чем прави
лом, на фоне сбившихся с пути царств и народов. За православной
Русью, несмотря на все ее бескрайние просторы, остался лишь свой
угол, своя доля мира, где живут творения Божии, не извратившие
окончательно путь свой. Отсюда отчужденность, осторожность
и опасливость московитов по отношению к иноземцам. У русских
людей никогда не было настоящей уверенности в своей центрально-
316
Культура Московской Руси
сти и столичности. Русь—это все-таки то, что в мире как-то удалось
сохранить в чистоте и верности Богу. Такое вот остаточное царство
простиралось во все стороны от третьего Рима—Москвы, Рима поне-
воле и страха ради не потерять последнее.
***
С этим страхом впрямую связан особый род контактов, которые
устанавливали московские цари с остальным Западом.
Первоначально, еще в стародавние Киевские времена Русь и ее
князья были открыты к Западу несравненно больше, чем это имело
место в Московской Руси. Напомню общеизвестный пример, нагляд-
но свидетельствующий об ощущении Русью своей близости к Запа-
ду,—о браке дочерей Ярослава Мудрого с западными королями,
среди которых был и брак с первым монархом в Европе—королем
Франции. То, что было так естественно во времена Ярослава, совер-
шенно немыслимо в Московской Руси. С тех пор, как Московские
великие князья провозгласили себя царями, они брали жен для себя
и своих наследников исключительно из среды русской знати. Была,
правда, попытка одного исключения со стороны первого русского
царя Ивана Грозного сосватать себе в жены королеву Англии Елиза-
вету Тюдор. Но она может быть упомянута как экстравагантность.
Реально Иван IV, как и его преемники, брал в жены только своих
русских невест. Такой обычай в Европе XVI—XVII вв. был исключе-
нием и может служить одним из пускай и не самых важных, но очень
красноречивых свидетельств самоизоляции Москвы, которая не мог-
ла привести ни к чему хорошему.
Другой ее красноречивый признак имеет отношение к характеру
встречи послов западных держав московскими государями. В настоя-
щем случае уместным будет сопоставить свидетельства, принадлежа-
щие двум различным эпохам в жизни Московской Руси. Одно из них
касается времени правления Ивана III—первого великого Москов-
ского князя, который в полной мере стал государем всея Руси,
подчинив себе Новгород и Тверь, а также существенно расширив
пределы своего государства на Запад за счет Великого княжества
Литовского.
В 1477 г. в Москве оказался некто Амброджо Контарини. Он
побывал в качестве посла Венецианской республики в Персии и об-
ратный путь проделывал по Волге и, стало быть, не мог миновать
в своем странствовании Московии. В Москве Контарини прожил
четыре месяца и, будучи представителем такой видной в конце XV в.
державы, как Венеция, вызвал интерес со стороны правительства.
Что и привело к аудиенции венецианца у самого великого князя
Ивана Васильевича. Вот как ее описывает сам Контарини: «На
следующий день я был приглашен во дворец на обед к великому
князю. До того как идти к столу, я вошел в покои, где находился его
высочество...; с доброжелательным лицом его высочество обратился
Московский царь
317
ко мне с самыми учтивыми, какие только могут быть, словами... Пока
государь произносил свою речь, я понемногу отдалялся, но его
высочество все время приближался ко мне с величайшей обходитель-
ностью. Я ответил на все, что он мне сказал, сопровождая свои слова
выражением всяческой благодарности. В подобной беседе мы прове-
ли целый час, если не больше. Великий князь с большим радушием
показал мне свои одежды из золотой парчи, подбитые прекраснейши-
ми соболями. Затем мы вышли из того покоя и медленно прошли
к столу. Обед длился дольше обычного, и угощений было больше,
чем всегда. Присутствовало много баронов государя... Я поцеловал
руку его высочества и ушел с добрыми напутствиями»1.
В описании аудиенции венецианским послом очень примечательна
простота обхождения с ним московского государя и его доступность
иноземцу. Иван III своим приближением к пятящемуся Контарини
уменьшает даже привычную для западного человека дистанцию меж-
ду простым смертным и государем. По-настоящему оценить поведе-
ние Ивана III позволяет сопоставление его аудиенции с той, которую
спустя около двухсот лет дал русский царь Алексей Михайлович, на
этот раз посольству Нидерландов. Согласно свидетельству одного из
членов посольства Николааса Витсена, на ритуал приема гостей из
Нидерландов ушло 13 часов. В 9 часов утра за нидерландским
посольством прибыли от царя приставы и только в 22 часа нидер-
ландцы вернулись на посольский двор. Если читатель решит, что
большую часть времени между 9 и 22 часами посольство провело
в общении с царем Алексеем Михайловичем, он сильно ошибется.
Приведу один только пример того, на какого рода занятия ушло
подавляющее большинство времени приема посольства. «Мы ехали
к Кремлю,—пишет в своем дневнике Николаас Витсен, — который
находился на расстоянии менее трех мушкетных выстрелов; гонцы
мчались взад и вперед: первый доложил, что посол готов, второй, —
что он сидит в санях и т. д. То передавали, чтобы мы остановились,
то—чтобы ехали быстрее, затем—снова медленнее. Все это происхо-
дило, чтобы подчеркнуть величие царя и чтобы царь не слишком
рано и не слишком поздно сел на трон. На всем пути до дверей
царского зала с обеих сторон дороги стояли стрельцы»* 2.
Уже в приведенном фрагменте начинают прорисовываться конту-
ры грандиозной, а точнее, громоздкой церемонии, невероятно растя-
нутой, утомительной и тягостной для всех ее участников. Во всем
царском приеме общение царя с послом свелось не просто к миниму-
му, а к чистой формальности, о чем у Н. Витсена можно прочитать
такие строки: «Войдя в большой царский зал, посол пошел вперед,
мы следовали за ним. У входа посла встретил князь Юрий Никитич
’ Россия XV—XVII вв. глазами иностранцев. Л., 1986. С. 25—26 (далее: Россия
глазами иностранцев).
2 Витсен. С. 94.
318
Культура Московской Руси
Барятинский, который повел его к царю, придерживая за мантию.
Подойдя достаточно близко, он остановился в 20 шагах от царя. <...>
Царь сидел почти в углу зала на небольшом троне, к которому ведут
три посеребренные четырехугольные ступеньки. Прежде ступеньки
были большие и круглые, на них становились, подходя к царской
руке. Но теперь царь слишком великий, чтобы кто-нибудь мог так
близко подходить к нему. Царь... не шевелился, как бы перед ним ни
кланялись; он даже не поводил своими ясными очами и тем более не
отвечал на приветствия...
Посол, собираясь говорить, хотел приблизиться к трону на один
или два шага, но его удержали за мантию, после чего он сразу начал
говорить и при каждом упоминании царского имени кланялся до
земли. Царь не сказал ни слова в ответ, за него говорили другие—
справились о здоровье Их Высокомогуществ (правительства Нидер-
ландов. —Авт.)... Когда закончилось приветствие, состоявшее в ос-
новном из комплиментов, царь устами думного дьяка спросил, что
собственно привело сюда посла, на что тот ответил, что не смеет так
долго задерживать столь великого монарха и хотел бы говорить об
этом на следующем приеме. Когда посол подал верительную грамоту
царю в руки, тот лишь прикоснулся к ней, а принял ее думный дьяк;
последний отступил, остановился и сказал, что царь пожаловал посла
подойти к его руке, что и произошло, при этом полагалось сделать
три-четыре поклона, прежде чем подойти к царю и столько же
поклонов при уходе от него»1.
Контраст между двумя приемами послов в Москве, как видим,
поразительный. В 1664—1665 гг. всякое непосредственное общение
между русским царем и послами исключено. Все заботы царя и окру-
жения сосредоточены на том, чтобы ослепить иноземцев величием
государя и его державы, ни в чем не уронить перед ними своего
достоинства. Для Москвы конца XVII вв. западные люди уже прямо-
таки антиподы. В отношении их всего нужно опасаться и все преду-
смотреть заранее. Так сказывались на Московском царстве два столе-
тия культурного одиночества. Наедине с собой, с оглядкой почти
исключительно на самое себя, Московская Русь застывала и тяжеле-
ла, становилась провинциально неуклюжей, в ряде существенных
черт даже более архаичной, чем в начале своего исторического пути.
Принято считать, что облик московского царя по мере укрепления
его самодержавия все более приобретал восточные черты. Однако
приведенный фрагмент, как и множество других свидетельств, гово-
рит скорее в пользу того, что московский царь по своему облику и все
более ритуальному поведению напоминает властителя самой глубо-
кой древности. Так, монолитная неподвижность царя на троне,
невозможность прямого контакта с чужим иначе, чем в ритуале
поклонения пришельца царю—это реалии, идущие из первобытно-
’ Витсен. С. 95—97.
Московский царь
319
сти, а не только из Древнего Вос-
тока. Все более и более внешне
подвижному, целеустремленно-
деятельному Западу Московская
Русь упорно противопоставляла
свою неподвижность, в которой
она искала устойчивости и крепо-
сти. Существовала, правда, в Мо-
сковской Руси и прямо противо-
положная тенденция, особенно
набиравшая силу в XVII в. Она
состояла в том, чтобы прибегать
к услугам иноземцев с Запада. Хо-
рошо известно, что кремлевские
соборы уже с конца XV в. строи
ли итальянцы. Западные врачи при
Царский прием голштинского посольст-
ва в 1634 г. Гравюра из книги А. Олеария
«Описание путешествия в Московию»
царском дворе с XVI в. становятся обычным явлением. И, конечно
же, необходимо упомянуть о службе иностранцев (немцев, англичан,
шотландцев, голландцев ит. д.) в русском войске. Никакой опасли-
вый изоляционизм и недоверие к Западу не могли помешать тысячам
наемников служить в войске московского царя. В этом была прямая
и острая государственная необходимость. Однако иноземец на служ-
бе русского царя, торгующий в его государстве и даже постоянно
живущий в особой немецкой слободе в Москве,—это одно, тогда как
принятие Запада, внутреннее сближение с ним —совсем другое. По-
следнее стало уже делом Петра Великого и той эпохи, которую он так
глубоко и существенно определил своим обликом и своими устремле-
ниями.
Пока же, пока существовала Московская Русь, в ее недрех,
народной толще, вполне могло сохраняться, устойчиво и неизменно
воспроизводясь, представление о Святой Руси, о Русской земле, как
о космично устроенном мире, противопоставляемом антимиру. Тогда
и «Ердань-река» отождествлялась с Волховом, и «Ерусалим» стано-
вился святорусским городом. 11о на собственно царском уровне, на
уровне московского царя и его окружения преобладало другое —
неустойчивое, внутренне колеблющееся сопряжение чувства собст
венного превосходства, избранности, благословенности и некоторой
растерянности перед иноземцами, главным образом, перед Западом.
Мотив «мы обхождение знаем, сами себе на уме, своим умом живем и
ни в чьих советах не нуждаемся» сквозит в отношениях Московии
XV—XVII вв. с внешним миром.
Вряд ли в лице московских государей и их окружения перед нами
настоящая, довершенная и довлеющая, размыкаясь в сторону одного
только Бога, царственность. Да и может ли крестьянский царь по-
настоящему стать царем? Если может, то в изоляции от внешнего
мира, не исключающей подглядывания в щелку, но несовместимой
320
Культура Московской Руси
с горделиво властной повадкой, когда остальной мир рассматривает-
ся в перспективе устроительных усилий в отношении него.
Крестьянин, поскольку он по определению «детушка», прилеп-
ляющийся к матери-земле и к царю-батюшке,—это главным образом
человек подвластный. Во всяком случае, вне пределов его, крестьян-
ской, общины «мира». За этими пределами начинается власть госпо-
дина-барина, в конечном итоге московского царя.
Но и московский царь как глава Руси—общины и мира тоже
чувствует властное присутствие миров иных. Разумеется, он не
бухнется в ноги Западу и не возопит: «Придите к нам и владейте
нами», но сам на Запад все же за наукой обратится и будет его
рьяным учеником и последователем. Ведь это элементарный истори-
ческий факт, что последний московский царь стал первым россий-
ским императором. Сколько угодно можно в этой связи кивать на
необыкновенность Петра Великого, на то, что он корежил и ломал
традиции Московского царства, а не продолжал их. Более сущест-
венным в любом случае остается как раз то обстоятельство, что
никакого свержения династии московских царей при переходе к Пе-
тербургской России не происходило. Именно московские цари транс-
формировались в российских императоров. Произойти нечто подоб-
ное могло лишь при условии, что не очень-то крепки они были
в своей царственности. Как-никак, а быть царем—это значило носить
высший из возможных титулов, всякая его перемена должна быть
или понижением властителя в статуте, или же основываться на
ощущении того, что с царственностью царя не все в порядке, что он
не вполне настоящий царь или по крайней мере нуждается в уточне-
нии и довершении своей царственности.
Боярин и дворянин
В Петербургской России для обозначения так называемого «благо-
родного сословия» существовало одно достаточно устойчивое имено-
вание—дворянство. К нему относились и сиятельный вельможа,
достигший высших ступеней на службе императору, владеющий
тысячами, если не десятками тысяч душ, и какой-нибудь мелкий
чиновник, у которого имения вовсе нет, потому что его отец или дед
выслужил дворянство, достигнув относительно высокого чина Табе-
ли о рангах. Русь Московская, в отличие от Петербургской России,
такой же определенности в именовании тех, кого потом отнесли
к дворянам, не знала. Открыв московские летописи или деловые
документы, мы встретим в них и бояр, и дворян, и детей боярских
и помещиков, поначалу же еще и княжат.
Нас в настоящем случае все эти различия в будущем «благород-
ном» сословии касаться не будут, кроме одного только различения,
которого избежать нельзя. Это различение бояр и дворян в качестве,
с одной стороны, верхнего, а с другой—среднего и нижнего слоя
Боярин и дворянин
321
внутри одной и той же общности людей Московской Руси. Оно
близко к делению служилого класса Московии на вотчинников, то
есть обладающих имениями, которые являются их собственностью,
и помещиков, тех, кто получил имение на условиях несения военной
службы.
Впрочем, хорошо известно, что в Московском царстве различия
между вотчиной и поместьем имели тенденцию стираться и к концу
Московской Руси их правовой статут был сильно сближен за счет
некоторых ограничений прав собственности на вотчины, и их же
расширения в отношении поместий. Так что, по существу водораздел
между боярством и дворянством чем далее, тем более шел по линии
большей или меньшей знатности. При этом, правда, слово «боярин»
в его реальном употреблении в XVI—XVII вв. было лишено одно-
значности. К боярам относили как членов боярской думы, то есть
всего-навсего несколько десятков должностных лиц царства, так
и расширительно—наиболее знатных и богатых вотчинников. Тем
самым последние включали в себя первых и, добавим к этому,
первые были выходцами из последних, образуя их верхушку.
* * *
Если под московским боярством все-таки понимать наиболее бога-
тую и знатную часть той же самой общности, в которую входили
и дворяне, то нельзя будет не вспомнить, что объединяло тех и дру-
гих не только наличие у них земель с зависимыми крестьянами, но
и принадлежность к воинскому сословию. Именно воинская служба
в первую очередь оправдывала само существование боярства и дво-
рянства, освящало его в глазах всех людей Московской Руси. Владе-
ние же или пользование землей неизменно рассматривалось как
производное от воинской службы. Ее тяготы должны были компенси-
роваться тем, что, пока дворяне и бояре воюют или вообще несут
службу, крестьяне должны на них работать.
Какими же воинами были московские бояре и дворяне, насколько
отвечали своему главному предназначению и как его осуществляли?
Ответить на подобный вопрос сколько-нибудь точно вряд ли можно,
исходя из боярско-дворянских самооценок. Слишком очевидно, что
они будут сбиваться на самовосхваление. Но и взгляду со стороны
здесь тоже не приходится доверять целиком. Во все времена и во всех
странах воинской знатью не только восхищались, но и завидовали ей,
ревниво, завистливо и злобно взирали на нее представители других
слоев и сословий. Несколько больший смысл в этом случае во взгляде
и оценках иноземцев. Конечно, что-то «гордый взор иноплеменный»
непременно «не поймет и не заметит», а то и исказит по неведению
или из корысти, но он не может целиком игнорировать репутацию
профессиональных воинов у других народов. Думаю, что как раз это
имело место у Сигизмунда Герберштейна, одного из самых известных
лиц, когда-либо посещавших Московию и оставивших о ней письмен-
322
Культура Московской Руси
Поместная конница. Гравюра XVI в.
ные свидетельства. Известность его
базируется не на какой-то особой
значимости и роли в европейских
делах, а на получивших широкое
признание «Записках о московит-
ских делах». В них, в частности,
можно прочитать такие строки
о достоинстве московских воинов:
«Много лет московиты выходили
на поединок с иноземцами, или
германцами, или поляками, или
литовцами и по большей части тер-
пели поражение. Но весьма не-
давно один литовец XXVI лет от-
роду вступил в бой с неким
московитом, который выходил по-
бедителем более чем на XX по-
единках, и убил его. Государь при-
шел в негодование от этого и велел
тотчас позвать к себе победителя, чтобы взглянуть на него. При виде
его он плюнул на землю и постановил, чтобы впоследствии ни одному
иноземцу не определяли поединка с его подданными. Московиты
вернее обременяют себя множеством разнообразного оружия, чем
вооружаются им, иноземцы же вступают в бой, будучи защищены
более хитрым умыслом, чем оружием. Они прежде всего остерегают-
ся вступать в рукопашный бой, и, зная, что московиты весьма сильны
руками и мышцами, они обычно побеждают их, утомив под конец
исключительно своею сосредоточенностью и ловкостью»1.
Нам, русским людям, читая такую характеристику наших пред-
ков, остается утешать себя тем, что проигрывали они своим западным
противникам не в силе и храбрости, а ввиду менее обидных недостат
ков. По существу, русским воинам, если послушать Герберштейна, по
сравнению с германцами, поляками и литовцами недоставало профес-
сионализма, они были менее умелыми и выделанными. Повторим,
такова была репутация русских воинов, а она на пустом месте не
возникает. К тому же свидетельство Герберштейна подкрепляется тем
обстоятельством, что победы русского оружия над своими западными
противниками, когда они имели место, достигались, как правило, за
счет преимуществ в численности войска. Па равных московским
воинам противостоять полякам, шведам или немцам было не по
возможностям.
Сослаться в этом случае на нашу «отсталость» по сравнению
с Западом было бы неверно и неуместно. Ведь, скажем, пришедшие
на Киевскую Русь из степи татаро-монгольские орды были гораздо
1 Россия глазами иностранцев. С. 75—76.
Боярин и дворянин
323
более «отсталыми» по сравнению с Киевской Русью, чем Русь Мос-
ковская по сравнению с Западом. Но от этого наше войско не имело
особых преимуществ перед ордынскими полчищами.
Мне представляется более уместным связать относительную сла-
бость войска Московской Руси с тем, что в ней в гораздо меньшей
степени культивировался воинский дух, воинские доблести и добро-
детели. Все-таки на Западе и в Средние века, и позднее, в XVI—
XVII вв. государь помимо того, что он был священной особой,
помазанником Божиим, еще и обязательно акцентировал в себе
принадлежность к воинскому сословию. Не только средневековые
Ричард Львиное Сердце или Людовик Святой были королями-воина-
ми, участниками сражений и турниров, но и правившие в XVI в.
английский король Генрих VIII и французский король Франциск I
прославились еще и как прекрасные воины, участники поединков,
пускай и турнирных. В качестве воинов государи стремились быть
образцом для своего воинского сословия, но и оно ожидало от
королей воинских доблестей. Отсюда, в частности, такое внимание
и ко всякого рода воинской символике и атрибутике, так же как
и воинскому мастерству. Не обладая последним, человек, принадле-
жавший к благородному сословию, к рыцарству, позднее к дворянст-
ву, мало чего стоил в глазах себе подобных.
Воинское мастерство и воинский дух на Западе неизменно, от века
к веку, оставались экспансивными и наступательными. Рыцарю
и дворянину вменялось в обязанность искать приключений на свою
голову, проявлять себя через участие в трудных и рискованных
предприятиях, вовсе не обязательно вызванных какой-то особой
и несомненной нуждой и необходимостью. Как воин, он должен был
дышать воздухом битвы или предвосхищать ее в своей мирной жизни
через обучение воинскому мастерству, участие в рыцарских турни-
рах, а впоследствии—дуэлях. Такая непременная реалия рыцарской
и дворянской жизни, которой была честь, также неразрывно связы-
валась с принадлежностью к воинскому сословию. Вопросы чести
рыцари и дворяне решали между собой с оружием в руках.
Все перечисленное и многое другое оставалось в значительной
степени или вовсе чуждо московскому боярству и дворянству совсем
не по причине какого-то особого мирного, а то и вялого характера
русского народа. Воинственность и воинский дух русских людей
известны не только по временам Киевской Руси. До XX в. дожил
известный крестьянский обычай идти улица на улицу или село на
село с кулаками, пускать в ход дубины, жерди и колья. Конечно, это
были не битвы, а драки, но из природных драчунов, каковыми были
русские крестьяне, легче и естественней сделать хороших воинов,
чем из кого бы то ни было. Ну а вот свидетельства о воинском духе
русского народа более серьезные, из которых действительно можно
делать далеко идущие выводы. Касаются они так называемых «су-
дебных поединков». Они хорошо известны применительно к Западу,
324
Культура Московской Руси
многократно зафиксированы там как реальность общественной жиз-
ни и к тому же предусмотрены в правовых документах. Скажем,
в «Саксонском зерцале», германском судебнике самого начала XIII в.
Между тем оказывается, что судебные поединки—еще и устойчивая
реальность житья-бытья Московской Руси. Вряд ли они возникли
только в ней. Трудно себе представить, что судебных поединков не
знала Киевская Русь. Перед нами, однако, для начала свидетельство
все того же Сигизмунда Герберштейна.
«Всякий желающий обвинить другого в воровстве, грабеже или
убийстве,—отмечает он в своих „Записках",— отправляется в Моск-
ву и просит позвать такого-то на суд. Ему дается недельщик, который
назначает срок виновному и привозит его в Москву. Далее, представ-
ленный на суд виновный по большей части отрицает возводимое на
него обвинение. Если истец приводит свидетелей, то спрашивают обе
стороны, желают ли они положиться на их слова. На это обыкновен-
но отвечают: „Пусть свидетели будут выслушаны по справедливости
и обычаю". Если они свидетельствуют против обвиняемого, то обви-
няемый немедленно вступается и возражает против свидетельств
и лиц, говоря: „Требую назначить мне присягу, вручаю себя правосу-
дию Божию и требую поля и поединка". И таким образом им, по
отечественному обычаю, назначается поединок»1.
Обычай судебного поединка не может не возникать из той предпо-
сылки, что каждый мужчина, являющийся полноправным членом
общества, еще и воин. Способность отстоять свои права с оружием в
руках для него так же естественна, как и другие повседневные
занятия и обязанности. Очень важно и то, что судебные поединки
существуют в среде свободных людей, они и выступают в качестве
одного из проявлений и существенных сторон свободы. По сути,
у нее есть два исходных способа осуществления: через участие в со-
вете (каком-либо органе правления) и в войне. Свободный человек,
будь то древний грек, римлянин, германец или славянин, потому
и относился к свободным людям, что был мужем войны и мужем
совета. Для него утверждать себя как достаточно искусного мужест-
венного воина и вместе с тем рассудительного участника народного
собрания (схода, веча) было жизненно важно. И, как правило, те,
кто совмещал в себе мужа войны и мужа совета, являлись прекрасны-
ми воинами. Участие в судебном поединке не было для них пробле-
мой, хотя как в Древней Руси, так и на средневековом Западе закон
позволял истцу или ответчику выставить вместо себя замену.
Однако почему-то традиция поединков только в западных странах
совмещалась с крайней воинственностью воинского сословия, куль-
тивированием в его среде мастерства и профессионализма. И это при
том, что в Московской Руси судебные поединки доживают до XVII в.,
времени, когда на Западе они давно прекратились. Во всяком случае,
1 Россия глазами иностранцев. С. 75.
Боярин и дворянин
325
в другом известном сочинении, созданном почти через сто лет после
«Записок...» Герберштейна, в «Истории о великом княжестве Мос-
ковском» шведского дипломата Петра Петрея также идет речь о су-
дебных поединках. Петр Петрей неоднократно бывал в Московском
царстве начала XVII в., и его сведения явно получены из первых рук.
А они у шведского дипломата более пространны и детальны по
сравнению с его германским собратом по дипломатическому попри-
щу. В частности, о судебном поединке у Петра Петрея можно
прочитать, что его участник «может... взять такое оружие, какое ему
нравится и какое идет для этого употребления, например броню,
которую и надевает на другое платье... рогатину и ручной молоток
или другое железное орудие с лезвием на обоих концах, выходящее
на четверть из руки сверху и снизу, чтобы, когда они сойдутся,
вступят в состязание и схватятся врукопашную, каждому удобнее
было заколоть другого, пробить его броню: они не щадят никакого
члена, ни головы, ни глаз, и не отстают до тех пор, пока один из них
не будет убит. Кого убьют таким образом, тот и должен быть
виновным. Если же оба останутся на месте мертвые, другим из их
родни предписывается снова сражаться и биться в таком же бою.
Тогда убивший другого выигрывает дело, а убитый проигрывает»1.
Ни у Сигизмунда Герберштейна, ни у Петра Петрея ни слова не
говорится о том, среди каких слоев населения Московии были
распространены судебные поединки. Ясно, что они не носили узко
сословного характера, как, скажем, дуэль на Западе. И все же
описание судебного поединка Петром Петреем таково, что трудно
представить его участниками крестьян или низшие слои городского
населения. Скорее всего, их участниками могли быть дворяне, куп-
цы, ремесленники. И, наверное, дворяне прежде всего. Ведь у Пет-
рея речь идет не только о железном молотке или рогатине, но
и о доспехах, каковые трудно представить себе на ком-либо ином,
кроме дворянина.
Но обратим внимание на то, каким беспощадно жестоким и вар-
варски грубым был в Московской Руси судебный поединок, какую
крайнюю степень ожесточения он предполагал. В Средние века
приблизительно таким же он мог быть и на Западе, тому сохранилось
не одно свидетельство. Однако к XVII в. ситуация там давно измени-
лась. Поединки имели свои гласные или подразумеваемые ограниче-
ния. Удары соперники могли наносить далеко не по всем частям тела.
Прежде всего неприкосновенным было лицо. Нас подобные веяния
как будто не коснулись вовсе. В Московской Руси та же средневеко-
вая грубость нравов, свойственная простонародью и, строго говоря,
непозволительная рыцарству.
Однако грубость грубостью, но в воинственности и храбрости,
судя по описанию Петра Петрея, участникам судебных поединков не
1 О начале войн и смут в Московии. М., 1997. С. 432—433.
326
Культура Московской Руси
откажешь. Чего стоит одно только требование возобновления поедин-
ка в случае смерти от ран обоих участников тяжбы. Но в том и дело,
что храбрость совсем не обязательно предполагает наличие необходи-
мых качеств прекрасного воина. Все-таки воин—это не драчун, хотя
драчливость в определенных ситуациях может быть для него нелиш-
ней. Не то чтобы русские люди были драчливы и храбры, а не
воинственны. Но те из них, кто составлял воинское сословие, в зна-
чительной степени оставались, рискнем это предположить, не вполне,
а может быть, и в первую очередь не военными людьми, не воинами.
Конечно, они служили своему государю и являлись конно и оружно
по требованию государя с тем, чтобы принять участие в очередном
воинском предприятии. Но тяготели они тем не менее не к походам
и сражениям, не к проявлению своей воинской доблести, а за одно
и к прибытку в виде военной добычи к жалованью, у них преоблада-
ла тяга к мирной жизни, устройству своего дома и хозяйства,
позволяющему жить безбедно, степенно и вольготно. Приблизитель-
но так же, как этого хотелось бы и крестьянину, только с большим
размахом и в большем почете, чем жил крестьянин в своих устремле-
ниях и вожделениях.
Окрестьянивание русского дворянства, то есть сословия в первую
очередь воинского, тем более способно поразить, что удельная,
а затем и нарождающаяся Московская Русь вынуждена была проти-
востоять непрерывному натиску с востока и юга из степи, да и запад-
ные соседи не были особенно склонны вести себя по отношению
к Руси миролюбиво. На воинском сословии постоянно лежала обя-
занность отражать набеги степняков или участвовать в военных
конфликтах с поляками, немцами или шведами. Учтем и то обстоя-
тельство, что распри между русскими княжествами, так же как
и уделами Московского княжества, прекращаются только к концу
XV в., когда Московская Русь уже оформилась в качестве историче-
ской и культурной реальности.
То ли непомерно обширные пространства с густыми лесами, боло-
тами, бездорожьем и, соответственно, очень редким населением рас-
творяли в себе дворян Московии, опрощали их и заставляли жить
простой и однообразной жизнью, мало отличимой от жизни кресть-
янства, то ли что другое, но только результат налицо —по западным
меркам наше воинское сословие представляло собой довольно безот-
радное зрелище. Десятки тысяч людей от поколения к поколению
исполняли государево тягло, без особого ропота и одушевления
служили там, куда пошлют, и прежде всего принимали участие
в бесконечных войнах и вооруженных столкновениях. Можно и,
наверное, нужно сколько угодно подвергать сомнениям и коррекци-
ям западных наблюдателей достоинств нашего воинского сословия,
но не считаться с ними вряд ли оправдано. Гораздо правдоподобнее
видеть в этих оценках преувеличения часто не слишком доброжела-
тельных свидетелей, чем прямую клевету или наветы.
Боярин и дворянин
327
Принимая в расчет сказанное, обратимся еще раз к свидетельствам
шведского дипломата Петра Петрея касательно характера воинского
сословия Московской Руси, его достоинств и недостатков. В частно-
сти, в его «Истории о великом княжестве Московском» можно
прочитать такие строки: «...они... неохотно отваживаются вступать
в бой с неприятелем, если не знают, что в шесть раз сильнее его. Они
стараются собрать о нем верные сведения и всегда посылают за два
или за три дня пути вперед во все стороны вокруг себя, также
и назад, для разведания, далеко ли от них расположился неприятель
и какие у него намерения, чтобы он не напал на войско нечаянно, без
всякого предупреждения. Когда услышат, что неприятель близко,
и намерены вступить в бой с ним, они не устраивают ни крыльев, ни
боевого порядка, ни передового, ни заднего войска, а едут в куче без
всякого устройства, имея в середине большое знамя... Завидев непри-
ятеля издали, они поднимают сильный крик и вой, точно делают
важное для них дело, думая таким образом обратить неприятеля
в бегство, запугать его и проглотить живьем. Потому что от природы
они не так чтобы очень храбры и неустрашимы, так и думают сбить
и одолеть неприятеля своим страшным криком и воем и стремитель-
ным нападением. Если же этого не удастся и останется напрасным,
неприятель идет им навстречу, наступает на горло, храбрость у них
и проходит, разве когда войска у них слишком много и они совер-
шенно уверены в победе, тогда нападают на врага с бешенством,
точно полоумные. Проиграв битву и обратившись в бегство, уцелев-
шие едут в разные стороны, охают, плачут, бросают оружие и все,
что ни есть с ними, хлещут кнутом лошадей так усердно и жестоко,
что те через силу бегут и падают околевшие. Они никогда не
оглядываются назад, чтобы отступить и занять место для вторичного
боя с неприятелем, а думают только, как бы уплести ноги и спастись
бегством... Заметив, что им нельзя спастись и укрыться в таком
быстром бегстве, а надобно отдаться неприятелю, быть убитыми или
плененными, русские бросаются прямо с лошади, припадают лицом
к земле и со слезами на глазах очень униженно просят помилования
и пощады себе»1.
Что и говорить, не очень приятно для национального самолюбия
читать эту и подобные им характеристики русского воинства у Петра
Петрея и других западных наблюдателей. Оставив, однако, в стороне
самолюбие и трезво сознавая возможно очень сильные преувеличе-
ния в рассказе шведского дипломата, все же обратим внимание на
действительно существенное из того, что вольно или невольно пове-
дал Петр Петрей. Состоит оно, конечно же, не в трусости и никчем-
ности русского войска, а в том, что оно оказывается мало, а то
и вовсе не отличимо от восточных воинств и тех степняков, с которы-
ми столетиями воевала Русь. А восточный воин или степняк вовсе не
1 О начале войн и смут в Московии. М., 1997. С. 411—412.
328
Культура Московской Руси
уступали западному воину в отваге и воинском пыле. В этом они еще
как были способны помериться силами с рыцарями, с ландскнехтами
или солдатами. Когда же восточные воинства или степняки проигры-
вали сражение войскам западных стран, то чаще всего происходило
это ввиду того, что у них воодушевление и пыл слишком легко
сменялись растерянностью и паникой.
Из всех восточных народов в XV—XVIII вв. западные народы
более всего сталкивались на поле битвы с турками. И именно у них
западные наблюдатели неизменно отмечали те же черты, которые
Петр Петрей отметил у московитов начала XVII в. То же самое
колеблющееся между крайностями настроение воинов, резкий пере-
ход от воодушевления к упадку воинского духа, стремление брать
числом, а не умением, отсутствие искусных и продуманных построе-
ний войска и перемещений его во время сражений. Но что заслужива-
ет упоминания, так это в целом положительная характеристика
западными наблюдателями достоинств воина-турка. В нем они виде-
ли хороший человеческий материал, не прошедший соответствующей
обработки.
Еще более подобная оценка применима к русскому воину ввиду
того, что она со временем найдет себе фактическое подтверждение.
Когда в XVIII в. русская армия переняла у западных армий их
основные черты, что-то не было слышно о русских солдатах как
паникерах. У них констатировалась теми же западными наблюдате-
лями неизменная выдержка и самообладание, покрывавшие собой
чрезмерный пыл и тем более панику. Понадобилась основательная
западная прививка, чтобы прирожденные русскому человеку качест-
ва хорошего воина были актуализированы. Но произошло это уже за
пределами Московской Руси. В ее же пределах русский воин был
явно близок к восточному. И не по какому-то сродству душ, а ввиду
одних и тех же недостатков и пороков. У нас, как и на Востоке, не
культивировалось личностное начало у представителей воинского
сословия. Дворянин всегда был слугой великому князю, а потом
царю, но в Московии он вовсе перестал быть вольным слугой.
Служение и свобода теперь не только не совпадали и не были
сближены, но обнаружили свою несовместимость. Подневольный
слуга вовсе не обязательно служит только за страх и помимо совести.
Но что ему хронически не дается, так это исходящее из себя и за себя
отвечающее действие, неизменное самообладание и готовность обду-
манно действовать на собственный страх и риск. Подневольный
слуга не просто служит господину, но и исполняет его повеления.
Вне непрерывного ощущения подвластности и следования чужой
воле он способен прежде всего на аффект бурно переживаемого, мало
вменяемого и неустойчивого действия, на все то, что описал Петр
Петрей.
У него между тем можно найти еще одну и на этот раз не такую
безотрадную характеристику русского воинства. «Хоть московитяне
Боярин и дворянин
329
и не особенно храбры и неустрашимы в сражении, чтобы сделать что-
нибудь чрезвычайное,—не забывает в очередной раз констатировать
шведский дипломат,— однако ж они дерзки, хитры, отважны, если
осадят их в обозе, в укреплении или в кремле, и прежде испытают
всякую нужду, нежели сдадутся на милость неприятелю, потому что
защищаются и сопротивляются длинными баграми, копьями, камень-
ями и всем, что только придет им в голову»1. Уж в этом свидетельстве
Петра Петрея точно нет никакого искажения и преувеличения, слиш-
ком подтверждается оно всей русской историей и Киевской, и Мос-
ковской Руси, и Петербургской России. Русскому воину всегда
несравненно больше давалась защита и оборона, чем экспансия
и нападение. У нас даже поединок, кажется по своему характеру
предполагающий взаимный упор и натиск противников, в котором
оборона вынуждена вследствие преимуществ одного из противни-
ков—даже он в фольклорных источниках выстраивается скорее как
взаимная оборона, а не нападение сражающихся. Очередной удар
мечом или копьем должен продемонстрировать не столько силу
и ловкость, сколько способность выдержать его тем, на кого он
направлен. Да и ударами обмениваются как-то слишком неторопливо
и без опасения уловок или резких и внезапных действий противни-
ков. В нашем фольклорном, и не только фольклорном, поединке
присутствует некоторая крестьянская основательность, неторопли-
вость и неразворотливость. В конце концов победить должна не
«свобода» и заданность, а «природа» и человеческая данность, кото-
рая обнаруживает себя в действии на нее.
Что касается обороны того рода, о котором идет речь у Петра
Петрея, то в ней нельзя не указать на ее большую близость подне-
вольному служению, чем служению вольного слуги. Обоз, укрепле-
ние или кремль создают устойчивые реалии для военных действий.
Они не просто защитны и реактивны, но и предопределены чужой
волей. Волей господина, требующего исполнения воинского долга
и противника с его атаками и штурмами. Здесь сама ситуация подне-
вольна, в ней требуется минимум импровизации, взятых на себя
риска и ответственности. Поскольку же это именно так, то принижен-
но-рабское и подневольное уже не выступает таким уж серьезным
препятствием для проявления отваги. Она выражается в постоянстве,
упорстве и выносливости, качествах, близких русскому человеку, как
таковому, без которых ему было бы не освоить бескрайние простран-
ства, не пережить татарского ига и не расширить до каких-то неверо-
ятных и беспримерных пределов границы своего Отечества.
И как тут удержаться от удивления по поводу того, что Москов-
ская Русь, у которой было такое невоинственное и посредственное
в своих воинских добродетелях воинское сословие, сумела-таки свои-
ми преимущественно оборонительными действиями достичь резуль-
1 О начале войн и смут в Московии. М., 1997. С. 412.
330
Культура Московской Руси
татов, не дающихся самой мощной и методично осуществляемой
экспансии. Наверное, не без известной доли преувеличения можно
сказать, что русское крестьянство осваивало пространства Восточно-
Европейской равнины, двигаясь вначале в Верхнее Поволжье, а по-
том далее в Заволжье и Нижнее Поволжье и еще дальше к Уральско-
му хребту и за него, не по причине какой-то своей ярко выраженной
экспансивности и мобильности. Крестьянина гнала с насиженных
мест нужда, стремление уйти от чрезмерного гнета и опустошитель-
ных набегов кочевников. В результате крестьяне расселились в таких
далях, которые им и не снились.
Похожим образом обстояло дело и с русским дворянством Мос-
ковской поры. Кряхтя от озабоченности и бессильного недовольства,
оно покидало свои, как правило, совсем небогатые поместья и от-
правлялось на очередную государеву службу. Отбывая повинности,
оно как бы защищало себя и оправдывалось в глазах государства для
домашней и семейной жизни, осуществлявшейся по вполне архаично-
му образцу, не имевшему в себе ничего блестящего, вознесенного,
аристократического. По западным меркам, у себя в поместье дворя-
нин погружался в дрему однообразной и незатейливой сельской
жизни. Военные предприятия тем временем следовали одно за дру-
гим, пределы Московского царства расширялись и расширялись,
несмотря ни на какие откаты Смутного времени и внешнеполитиче-
ские неудачи. И вот дворянство вслед за крестьянством по нужде
государевой службы оказалось главным источником и орудием роста
Московии до грандиозных имперских размеров.
***
Идет ли речь о воинско-земледельческом сословии в целом, его
основной части—дворянстве или меньшинстве и верхушке — боярст-
ве, заслуживает быть отмеченным очень малая приложимость к нему
понятий аристократии и аристократизма. Московская Русь, по сути,
не знала у себя правящего слоя, который мог бы быть отнесен
к аристократии или какому-либо ее подобию. В тех странах, где
аристократия существовала, она обладала одной важнейшей приви-
легией. И привилегией этой была свобода, хотя бы как внутреннее
состояние души. Уже шла речь о том, что свободу никак не отнесешь
к реалиям жизни Московского царства. Но в нем не было аристокра-
тии и по таким важнейшим ее признакам, как изысканность и утон-
ченность, особая выделка души, предполагающая самообладание
и чувство собственного достоинства.
Все-таки аристократии в культуре принадлежит одна несомненная
заслуга. Она постоянно служила образцом для других сословий.
Образец мог восприниматься как недосягаемый, вызывать озлобле-
ние, но хотя бы косвенно и подспудно, он определял собой поведение
и стиль жизни тех, кто аристократом не был. Когда прививка
аристократизма, как бы мала она ни была, имела место, неаристокра-
Боярин и дворянин
331
ты только выигрывали. Для того, чтобы живо и контрастно обозна-
чить ситуацию в Московской Руси по части аристократизма, пред-
ставляется уместным еще раз обратиться к дневнику, записанному
членом голландского посольства в Московии Николасом Витсеном
в 1664—1665 гг. В нем есть наблюдение, неоднократно зафиксирован-
ное на различном материале, которое кому-то может показаться
малозначительным для характеристики культуры. Мне же представ-
ляется, что за ним стоит нечто из самого существенного в русской
культуре Московского периода. Но обратимся к тексту голландского
свидетеля: «В передней зале, где находились дворяне, сейчас было
полно дьяков... и гостей в великолепных казенных одеждах и в высо-
ких шапках. Они сидели и болтали, как у нас крестьяне в трактире;
жесты такие же: один сидит на скамье, другой на ней лежит, а третий
подбрасывает свою шапку. Друг друга называют... (пропустим —
как. —Авт.) или сукиными детьми, наваливаются один на другого,
сидя просто рядом на скамьях; их было около 40 человек. И беседы
их не лучше: у меня спросили... граничит ли наша страна с Англией,
воевали ли мы с ними на суше и т. д., и другие дурацкие вопросы»1.
Другой раз, правда уже не в царском дворце, но тоже люди из числа
московской знати, «расспрашивали посла, слыхал ли он, что герман-
ский император создал в своих войсках целые полки длинношеих,
очень некрасивых мужчин, с носами длиной в локоть. И в подобные
шутки эти добрые люди верили всерьез»1 2.
Прискорбное невежество, касающееся географических и историче-
ских знаний русского дворянства и бюрократической верхушки в лице
дьяков частично могут быть списаны на сохраняющуюся в Московской
Руси XVII в. средневековую по типу культуру. Скажем, западные
средневековые географы и историки были осведомлены о Руси ни-
чуть не более, чем Русь о Западе. Средневековью как раз и присущ
страшно узкий географический кругозор, всякого рода фантастика
и мифологизирование по поводу земель, лежащих за пределами За-
пада. С историей дело обстояло ничуть не лучше. У средневековых
историков очень прочно сложилось представление о мировой исто-
рии, в которой находилось место для событий, изложенных в Биб-
лии, и худо-бедно тех, которые происходили на средневековом Запа-
де. Все остальное было отдано на откуп мифологизирующим фантазиям
и воображению. Но Европа-то XVII в. географический и историче-
ский мифологизм стремительно изживала. В ее географии и истории
мифов оставалось совсем немного. В Московской же Руси по-преж-
нему простодушно рассуждали о неких солдатах с длиннющими
шеями и носами размером в локоть. Точно так же, как когда-то
западноевропейцы—об обитающих в Африке людях с песьими голо-
вами или вообще безголовых, правда, с глазами на груди.
1 Витсен. С. 135.
2 Там же. С. 103.
332
Культура Московской Руси
То, что Московская Русь жила в припозднившемся по западным
меркам средневековье, как будто делает из нее своего рода отставший
Запад. Между тем свидетельство Витсена о повадке наших прибли-
женных к царю дворян и дьяков заставляет забыть о каких то бы ни
было аналогиях со средними веками. На Западе, что в высокое или
позднее Средневековье, что в Новое время, знать, во всяком случае
придворная, всегда отличалась особой выделкой и утонченностью,
тем, что обозначается словом «аристократизм». Наши дворяне и дья-
ки решительно никакого отношения к перечисленным реалиям, на
взгляд Витсена, не имели.
И не потому, что голландец смотрел на Московскую Русь взгля-
дом пристрастным и недоброжелательным. Точно так же не стоит
кивать и на чуждость православной русской культуры голландской
буржуазности и протестантизму. Ведь сумел Николас Витсен отдать
должное жившим в Москве персидским купцам, принадлежавшим
культуре уже вовсе не христианской и вполне чуждой в своих
основаниях голландцам. «В эти же дни, повидав пьянство и пьяниц,
их невыразимые излишества,—начинает свое повествование Вит-
сен,—я решил пойти к главному персидскому купцу, познакомиться
с ним; он приехал сюда со свитой одновременно с нами. Здесь
я увидел давно известную вежливость этих людей, их остроумие,
великолепие, а также отведал их деликатесы... Все было очень краси-
во подано; красивы были и их одежды, домашняя утварь; да, все это
не уступало голландской опрятности. <...> Я повторяю еще раз, что
у этих людей больше поучительных бесед, учтивости и добрых нра-
вов, чем у многих легкомысленных придворных юнкеров в Европе»1.
Чтобы быть максимально осторожным и взвешенным в своих
суждениях по поводу оценки Витсеном персидских купцов и оказан-
ного ими ему приема, не упустим из вида присутствия у него
противопоставленности персидских достоинств не только русскому
варварству, но и мишуре западной светскости. Витсен в настоящем
случае следует многократно использованному до и после XVII в.
приему идеализации иноземцев, усмотрения в их жизни гармонии
и совершенства с целью укорить собственную культуру, указать ей
подобающую норму. Но, даже приняв во внимание наличие подобно-
го стандартного мыслительного хода, в описании Витсена нельзя не
почувствовать его искренний пиетет при встрече с чужой древней
и утонченной культурой. Она уверена в себе, полна достоинства, ее
представители следуют устойчивым формам церемонного обхожде-
ния с иноземцами как с почетными гостями, которых уже в силу
этикета следует расположить к себе. На фоне персидских купцов
русские служилые люди, не исключая и высшую московскую знать,
выглядят каким-то недоразумением. Они если и не совершенные
дикари, то все же не в состоянии достойно представлять свое оте-
1 Витсен. С. 111-116.
Боярин и дворянин
333
чество перед иноземцами. Их отношение к ним—это какая-то смесь
грубости, подчеркнутого пиетета и растерянности. Достойно утвер-
дить себя перед лицом иноземцев, не уронив себя и не оскорбив
гостей из чужого мира, русские люди—дворяне и бояре—не в состоя-
нии. Этим они обнаруживали неустойчивость форм своей культуры,
то ли их расшатанность, то ли недооформленность.
Наши дворяне и бояре—это действительно люди с чертами вели-
кой простоты, в них слишком многое от простолюдинов, по собствен-
ной или чужой воле играющих роль знати. Из нее они постоянно
выбиваются ввиду какой-то неизбывной душевной расхлябанности,
растворенности в потоке жизни, в ней наша знать живет как живется,
толком не отвечая ни за себя, ни за других. Перед нами какая-то
невнятная данность существования, в которой человек, будь он
простолюдин или боярин, может сказать о себе: «Вот я есть такой,
как есть, и ничего со мной не поделать ни мне самому, ни кому-либо
другому. И не надо ничего делать». С таким человеком может что-то
случиться, что изменит и перевернет его жизнь в корне, но это будет
толчок извне, так же как изменения внешние. Такая вечно длящаяся
и непрерывная данность существования, отсутствие дистанции и са-
моопределения по отношению к себе есть, может быть, и культура, но
культура зарастающая, дремлющая, невнятная и не вполне вменяе-
мая. В ранее уже разобранном смысле она природна, и в этой своей
природности достаточно далека как от ритуальной безличности и не-
индивидуализированности, так и от личностного самоопределения.
Точнее же будет сказать—это культура, странным образом сущест-
вующая по ту сторону двух указанных измерений там, где личность
существует, чтобы обезличиваться, а безликое человеческое бытие
постоянно обнаруживает свое личностное измерение.
Знаменательно, что Николас Витсен, человек, которому никак не
откажешь ни в уме, ни в наблюдательности, сравнивает русских
дворян со своими голландскими крестьянами, а в других местах
своего сочинения еще и с детьми. Какая-то неотесанность, добродуш-
ная грубость и сермяжность, замеченные Витсеном у русской знати
и бюрократической верхушки, прямо указывают на отсутствие в Мо-
сковской Руси такого внятного разделения культуры на высокую
и низовую. Так или иначе, она вся низовая или тяготеет к тому,
чтобы быть низовой. По крайней мере, царский двор никакого
намека на противоположность ей в себе не содержал. Представим
себе, что он состоял из множества богатых или состоятельных людей,
мало-, а то и вовсе необразованных, чей кругозор очень несуществен-
но отличался от кругозора крестьян и посадских людей, чье служе-
ние царю ничуть не делало их существами особого рода. В результате
мы находим в Московской Руси одних только простолюдинов в куль-
турном отношении. Таковыми являются и бояре, и дворяне, и дьяки,
и собственно простолюдины. Повсюду царит очень незавидная про-
стота нравов, лень, переходящая в грубость и жестокость. Верхи
334
Культура Московской Руси
ничего не могут предложить низам по части собственных внутренних
преимуществ над низами. Подобная ситуация в русской культуре
просто не могла быть изначальной. Это грубейшее заблуждение
и подтасовка марксизма и близких ему по духу течений, что верхи
общества становятся таковыми исключительно по принципу силы и,
соответственно, эксплуатации. Слишком часто в истории ни то, ни
другое отрицать не приходится. Однако всегда в ситуациях, не
связанных с кризисом и разложением, внешние преимущества богат-
ства и власти верхи искупали хотя бы отчасти особой трудностью
своего положения, его риском и ответственностью.
Чтобы не ходить слишком далеко, можно обратиться к дворян-
скому сословию западных стран XVI—XVIIвв., времени, когда
окончательно сложилась и выявила себя Московская Русь. В этих
странах для дворянства не только дело чести (то есть внутренне
обязательно) быть воинами и рисковать своей головой в непре-
рывных тогда войнах и сражениях. Дворянин той эпохи жил
в постоянно сохранявшейся для него перспективе дуэли. Мы не
будем больше подробно обращаться к этой теме, но отметить одно
обстоятельство все же нужно. А именно то, что ни власть, ни
богатство, ни слава не избавляла дворянина от требования его к са-
мому себе—в любой момент быть готовым проверить все свои внеш-
ние преимущества на предмет их соответствия собственному внутрен-
нему достоинству. Последнее же состояло в том, что для дворянина
есть реалии поважнее всякого рода земных благ, и прежде всего он
сам в своем абсолютном и неуязвимом самообладании и самодовле-
нии, проверяемом присутствием смерти. Тот, кто в любой момент
готов умереть в подтверждение своего самодовления, а значит,
и божественности, тот вправе быть богатым и властительным. Богат-
ство и власть не подчинят его себе, не заменят собой отсутствующие
достоинства. Напротив, последние превосходят любые награды
и преимущества. Такова позиция, в чем-то, конечно, и поза, запад-
ного дворянина.
У нас всё вплоть до Петра Великого, а частью и при нем, шло
совсем иначе. О дуэлях в Московском царстве слыхом не слыхивали.
Здесь перед боярином и дворянином постоянно была открыта другая
перспектива. Ее, и не совсем безуспешно, попытался закрыть Петр I
своим указом от 4 мая 1700 г. Но вначале о конкретном поводе этого
указа. Совсем незадолго до его издания недавний путивльский воево-
да Алымов подал царю челобитную, «где он изъяснял, что истец его,
Григорий Батурин, в Приказной избе на допросе, по делу, сказал
ему, Алымову, что он смотрит на него зверообразно. „И тем он меня,
холопа твоего, обесчестил", — присовокупляет Алымов и ссылается на
Уложение, прося доправить на Батурине бесчестье. Вместо доправы
бесчестья, Петр, за такое недельное челобитье, велел доправить на
Боярин и дворянин
335
самом челобитчике Юр. пени и раздать деньги на милостыню в бога-
дельни, нищим»1.
Указ Петра Великого менее всего имел частное значение и был
соотнесен с одним Алымовым. Его целью являлось еще и пресечение
целого потока бессчетных челобитных, в которых одни бояре, дворя-
не, думные дьяки жаловались царю на бесчестье, нанесенное им
другими боярами, дворянами, дьяками. В числе обиженных челобит-
чиков нетрудно разыскать и представителей знатнейших русских
фамилий, чей род восходит к Рюрику. Не было уже в это время
в Западной Европе знатных родов с такой же длительной и притом
невымышленной и неподправленной родословной, как у нас. И вот
тот или иной представитель одной из русских княжеских фамилий
вдруг изъязвляется до глубины души действительным, нередко же
и совершенно мнимым оскорблением, нанесенным ему каким-нибудь
неосторожным словом. И не просто изъязвляется, но слезно просит
своего царя-батюшку обрушить на своего обидчика как можно более
суровые кары. Немыслимое на Западе, в Московской Руси XVII в.
было делом обыденным и повседневным.
Наша знать, аристократия потеряла всякое представление о воз-
можности самому защитить свою честь и достоинство. А ведь еще
в первой половине XVI в. у нас обычным делом были судебные
поединки, когда не только бояре и дворяне, но и простолюдины
способны были на мужество самостояния и сами отвечали за свои
поступки. Судебный поединок в своей основе—реальность языче-
ская, но он на своем уровне выражает собой личностное начало
в человеке, собирает его перед лицом возможной гибели, делая
самим собой. Однако что-то не слышно, чтобы в судебных поединках
тон задавала верхушка воинско-землевладельческого сословия в лице
боярства.
Когда-то боярином называли представителя дружины, наиболее
приближенного к князю. В боярах видели наиболее доблестную, а не
только влиятельную часть дружинников. Если уж сам князь непо-
средственно с копьем и мечом в руках участвовал в многочисленных
битвах, то о боярах нечего и говорить. Они были прежде всего
воинами. Их место было в первую очередь на коне, во главе отряда
дружинников и только потом в княжеском совете.
Если посмотреть на дошедшие до нас изображения московских
бояр XVI и особенно XVII в., то они менее всего ассоциируются
с воинами и воинскими начальниками. Их легко представить себе
в медленной и величественной процессии, чинно восседающими
у царского престола, думающими с царем его государеву думу,
подающими ему советы. Смотрелись бы бояре и за царской трапезой.
Одежды их, и в особенности головные уборы, предполагают неторо-
1 Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI—XVII столетиях. Кн. 1.
Государев двор, или дворец. М., 1990. С. 264.
336
Культура Московской Руси
Сидение царя Михаила Федоровича с боярами в его государевой комнате
А. П. Рябушкин, 1893
пливые и чинные движения, степенную поступь, исполненные важно-
сти жесты. Теперь бояре главным образом «мужи совета», а не
войны. А скорее всего, не столько совета, сколько торжественного
церемониала, расписанного в своих основных моментах и требующе-
го в первую очередь представительности. Вот как описывает живший
в начале XVII в. в Московии французский дворянин Жак Маржерет
обычный день московских бояр: «...летом они поднимаются обычно
с восходом солнца, идут в замок (разумеется, если дело происходит
в Москве), где с часу до шести часов дня заседает Дума, затем
император в сопровождении членов Думы отправляется слушать
службу, она длится с семи часов до восьми, то есть с одиннадцати
часов до полудня; после того как император удалится, все уходят
обедать, а после обеда ложатся и спят два или три часа; затем
в четырнадцать часов звонит колокол, и все вельможи возвращаются
в замок, где пребывают до двух-трех часов вечера, затем уходят,
ужинают и отправляются спать»1. В описании Маржерета, которому,
кстати говоря, вторят и другие, побывавшие в Москве иностранцы,
повседневная жизнь московских бояр —это некоторый однообразный
ритуал. Своего рода светская литургия, прерываемая литургией
настоящей. В этом ритуале не просто все расписано заранее, но он
1 Россия глазами иностранцев. С. 242.
Боярин и дворянин
337
и страшно беден внутренним
и внешним движением. Его участ-
ники подолгу стоят неподвижно,
но гораздо более сидят сиднем.
Молчат, слушают, кивают голова-
ми, подают голос, демонстрируя
свою рассудительность. Боярский
ум тоже преимущественно выстаи-
вает или восседает, как и тело, он
существует в качестве чистого пре-
бывания, недвижной самотожде-
ственности, а не движения, им-
провизации, игры, не дай Бог,
порыва или крутого поворота.
Московские бояре прежде всего
представительствовали телесно,
выражали собой цвет Московско-
го царства, но их телесность не
так уж отличалась от жизни бояр-
ских душ. То и другое было не-
движимо или перемещалось мед-
ленно и спокойно, в самом
Русский боярин XVII в. Гравюра из кни-
ги А. Олеария «Описание путешествия
в Московию...»
движении не только не утрачивая,
а, напротив, выражая покой тела
и души.
На неподвижность московского
боярства обратил внимание еще
Сигизмунд Герберштейн, когда писал, что «господа, пребывая в че-
тырех стенах своих домов, обыкновенно сидят и редко, а пожалуй
и никогда, не занимаются чем-нибудь, прохаживаясь. Они сильно
удивлялись, когда видели, что мы прохаживаемся в наших гостини-
цах и на прогулке часто занимаемся делами»1. Наблюдение же
Маржарета от заметок Герберштейна отличает разве что еще боль-
шая, доходящая до гротеска заостренность, когда он пишет о боярах
такие строки: «...нужно заметить, что все ездят летом верхом, а зимой
в санях, так что не производят никакого движения, что делает их
жирными и тучными, но они даже почитают наиболее брюхастых,
называя их „дородный человек", что значит „честный человек"»2.
Несомненно, на Герберштейна и Маржерета неподвижность и туч-
ность московских бояр производила тем более странное впечатление,
что аристократия их стран —габсбургской Австрии и бурбонской
Франции —отличалась чрезвычайной подвижностью, особенно по-
следняя. Это была и подвижность участия в военных действиях
1 Россия глазами иностранцев. С. 78.
2 Там же. С. 242.
338
Культура Московской Руси
и стычках, и подвижность светской жизни. Последняя, конечно,
менее всего являла собой пребывание и сидение. Она была динамич-
на и во внешнем смысле (дуэль, танец, турнир, игра, путешествие),
и во внутреннем (получение образования, чтение, написание писем,
светская беседа, участие в сословных собраниях ит. д.). От такой
жизни особенной дородности не приобретешь, несмотря на то что
в XVI, а частью и в XVII в. аристократия не склонна была к умерен-
ности в пище.
Тучность же и дородность наших бояр сильно напоминает вопло-
щенный идеал всю жизнь проводящего в изнурительном труде кре-
стьянина. Наконец-то достигнуть такого благосостояния, которое
избавит от повседневного добывания хлеба насущного, а напротив,
позволит жить в полном покое и довольстве, не слезая каждым
ранним утром с печи, а получая туда все, чего душа пожелает. С печи
московские бояре все же слезали, но нехотя, главное же, стремясь
сохранить печной уют и довольство повсюду, куда их вела важная
и неторопливая поступь. Недалеко ушли от крестьян бояре и в своем
подчеркнутом почти до гротеска стремлении возвыситься над просто-
людинами и далее, над боярами и дворянами заметно низшего ранга.
Здесь они выступали простолюдинами наоборот, такого рода непро-
столюдинами, которым насущно важно утвердить свою знатность
через попирание нижестоящих, потому что знатности и аристократиз-
ма в обращенности на себя они в достаточной мере не ощущали.
Свидетельством сказанному могут служить опять-таки сведения,
сообщаемые о Московской Руси иноземцами. В одном из наиболее
ранних из них, многократно цитированных уже «Записках...» Гербер-
штейна, в частности, можно прочитать: «Они соблюдают изумитель-
ные обряды. Именно, ни одному лицу более низкого звания нельзя
въезжать в ворота дома какого-нибудь более знатного лица. Для
людей более бедных и незнакомых труден доступ даже к обыкновен-
ным дворянам. Эти последние, настоящие ли или так называемые,
показываются в народ очень редко, чтобы сохранить тем больше
значения и уважения к себе. Ни один также дворянин из тех, кто
побогаче, не дойдет пешком до четвертого или пятого дома, если за
ним не следует лошадь»1.
Вообще говоря, это очень даже аристократическое дело—мериться
друг с другом родством и знатностью. И для западного аристократа
Средних веков или Нового времени не последнее дело—выяснить,
насколько его герцогский, графский или баронский род знатнее
другого герцогского, графского или баронского рода. Но только
в Московии мы встретим такую нарочитость и ритуальную обстав-
ленность принадлежности к определенному рангу внутри знати,
такую ревность по поводу своего места на лестнице знатности. Для
русских бояр знатность—это всегда именно та или иная степень
1 Россия глазами иностранцев. С. 78.
Боярин и дворянин
339
знатности, чуть большая или чуть меньшая, чем у другого боярина.
И для него нет ничего важнее, чем малейшее перемещение с одной
ступени знатности на другую. Между тем западная аристократия
потому и была аристократией, а не некоторым ее странным и экзоти-
ческим подобием, что в ней наряду с готовностью мериться знатно-
стью не менее, а скорее, более этой готовности жило ощущение
некоторого равенства и побратимства аристократии. Аристократы
прежде всего равны в своей выделенное™ и вознесенности и только
потом образуют градацию внутри своего сообщества. Аристократия —
это равенство свободных и благородных людей, у которых свобода
вытекает из благородства и неразрывна с ней. Поэтому аристократ
более высокого ранга не только настаивает на своем приоритете, но
и демонстрирует, по крайней мере, обязан демонстрировать свое
преимущество в пределах равенства, точно так же, как и наоборот,
для аристократа низшего ранга всякого рода пиетет перед теми, кто
выше его, никогда не должен разрушать ситуации почитания равного
равным.
Наши же бояре—это люди совсем иной повадки. Для них подчер-
кивание рангов не только не совмещалось с аристократическим ра-
венством в свободе, но, напротив, было стремлением заместить свобо-
ду Другими внешними и ритуальными реалиями. По мере укрепления
Московского царства они только становились все более выраженны-
ми. Другой, не менее известный, чем Сигизмунд Герберштейн, вни-
мательный наблюдатель московской жизни из числа иноземцев—
ученый немец Адам Олеарий—не просто не противоречит только что
цитированным наблюдениям Герберштейна, но и рисует картину еще
более впечатляющую той пышной и косной ритуальностиью, которой
обставлялась жизнь московского боярства: «Они живут в великолеп-
ных домах и дворцах, соблюдают большую пышность, являются на
улице в прекрасном убранстве, одетые в весьма дорогие одежды; при
этом рядом с лошадьми и санями их бегут многие слуги и рабы.
Когда они едут верхом, у луки седла у них имеются небольшие
литавры, несколько больше локтя; они бьют в эти литавры рукоят-
кою кнута, чтобы народ, толпящийся на улицах, а в особенности на
рыночной площади и перед Кремлем, расступался перед ними»1.
Всяческая обставленность выделенное™ и вознесенности мос-
ковского боярства над простолюдинами нашла бы полное понимание
у его западных собратьев. С ними также нераздельны дворцы, пыш-
ные выезды с по возможности большой свитой разряженных слуг,
выезды, сопровождаемые в том числе и шумовыми эффектами.
Чего невозможно представить по отношению к западной аристо-
кратии, так это того, чтобы разгневанный государь в гневе оттаскал
своего ближайшего придворного за бороду, как то случилось, по
свидетельству датского дипломата Андрея Роде, с князем Ромода-
1 Россия глазами иностранцев. С. 393.
340
Культура Московской Руси
новским1. Такой перспективы не заслоняли для московских бояр
никакие зрительные и шумовые эффекты.
Об этом хорошо знали и сами бояре, и простонародье, и никто из
них не видел в этом ничего странного и несообразного должному
порядку вещей. На то и есть государь, чтобы миловать и казнить,
бывать то Тишайшим, то Грозным царем в зависимости от радения
или нерадения его подданных. «Государь, каковым является царь
или великий князь,— отмечает Адам Олеарий, — один управляет всей
страною, и все его подданные, как дворяне и князья, так и простона-
родье, горожане и крестьяне, являются его холопами и рабами,
с которыми он обращается как хозяин со своими слугами»1 2. Адаму
Олеарию вторит Яков Рейтенфельс: «Вследствие того, что царь
пользуется высшей и снисходительной властью над подчиненными,
права дворян и народа почти одинаковы. Все зовут себя его рабами
и смиренно прикрепощенными к земле»3.
В своих последних словах Рейтенфельс с предельной точностью
проговорил ситуацию в Московском царстве, как она сложилась
к XVII в. В этом царстве крепостное право восторжествовало не
только как реальность крестьянской жизни, как связь бояр и дворян
со своими крестьянами, но и как состояние самих бояр и дворян.
Последние могли быть как угодно богаты и украшены всякого рода
пышной атрибутикой, но они по-своему, не менее, чем крестьяне от
них, зависели от Московского царя, были прикреплены к нему,
правда, не тяжким трудом земледельца, а службой, исполняя кото-
рую, может быть, и не всегда нужно было трудиться в поте лица
своего, но ощущать свою повседневную зависимость от царского
гнева или милости приходилось постоянно. У бояр и дворян была
своя крепость в отношении вышестоящего государя, она оставалась
именно крепостной зависимостью, предполагающей существенные
ограничения как в свободе передвижения, так и в распоряжении
своим временем.
В такой своей приближенности к рабскому состоянию пышная
и торжественная обставленность боярской жизни не должна вводить
в заблуждение по поводу боярского аристократизма. По западным
меркам боярин никакой не аристократ, потому что он не свободен.
Но можно ли в таком случае утверждать, что наши бояре московской
поры были рабами на восточный манер, рабами с вознесенной голо-
вой ввиду своей приближенности к трону? Думаю, что подобное
утверждение совершенно неуместно. Ведь приближенный к господи-
ну раб-придворный на Востоке в этой своей приближенности всем
обязан своему царственному повелителю. Повелитель берет его из
ничего, из праха, и в любой момент может повергнуть его туда же, по
1 Утверждение династии. М., 1997. С. 34.
2 Россия глазами иностранцев. С. 354.
3 Утверждение династии. С. 329.
Боярин и дворянин
341
крайней мере, в принципе. Поэтому и властвование восточного вель-
можи над нижестоящими—это власть раба над рабами. В ней он не
преодолевает свое рабство, а распространяет далее от господина
всеобщую рабскую зависимость. Раб-вельможа своим властвованием
создает ступени и градации рабствования. В данном отношении он
раб у своего царя, в другом же отношении сам господин над рабами.
В результате же перед нами не только властвование рабов, но и, так
сказать, рабствование в квадрате. Внешние, и не только внешние,
признаки подобного положения вещей легко обнаружимы и у нас
в Московской Руси. Сошлюсь на одно только свидетельство.
В 1608 г. среднепоместный, то есть владеющий несколькими десят-
ками крестьянских дворов, тульский помещик Иван Васильевич
Фуников пишет письмо гораздо более знатному и богатому дворяни-
ну, тому, кто по своему реальному статуту, если и не именованию,
вполне может быть причислен к боярству. В этом письме интересо-
вать нас будет только его зачин: «Благих подателю и премудрому
наказателю, нашего убожества милосерде взыскателю и скуднаго
моего жительства присносущу питателю, государю моему имярек
и отцу имярек, жаданный видети очес твоих светло (свет. —Авт.) на
собя, яко же преже бе не сытый зримаго и многоприятнаго милосер-
дия твоего Фуников Иванец, яко же прежней рабец, греха же моего
ради яко странный старец»1.
Если заведомо не знать того, кто автор и кто адресат настоящего
письма, то легко заключить, что его написал один из подданных
Московского царя своему государю. В нем и предельное самоуничи-
жение пишущего, и такое же возвеличивание адресата. Причем
в самоуничижении Ивана Васильевича особенно способно ввести
в заблуждение то, что он именует себя уменьшительным именем, да
к тому же еще он и «рабец» перед светлыми очами боярина. Боярин,
однако же, не царь, а в свою очередь какой-нибудь «Васятка» или
«Данилка», да еще и холоп в своей обращенности к царю.
И тем не менее что-то нас удерживает в признании боярина,
которому пишет свое письмо тульский дворянин, властвующим ра-
бом, а самого Ивана Васильевича Фуникова рабом раба. Впечатление
скорее такое, что наш боярин попеременно царствует и холопствует.
В отношении Фуникова он действительно царь-батюшка и податель
благ. Другое дело, что его «отцовство» не абсолютно, оно куда-то
испаряется перед «светлыми очами» верховного отца всех русских
людей, их царя-батюшки. Боярин в своей усадьбе как будто забывает
о своем сыновстве и холопстве и с важностью и степенностью «отцов-
ствует» в своем окружении. Он живет в каком-то двоемирии, где мир
его отцовства и царственности как бы не пересекается с миром его же
сыновства и холопства. В них боярин пребывает попеременно, отчего
'Памятники литературы Древней Руси. Конец XVI —начало XVIIв. М., 1987.
С. 533.
342
Культура Московской Руси
и не растворяется всецело в своем холопстве. Да и как тут раство-
ришься, если боярину принадлежит целый свой мир, в котором
обитают многие сотни или даже тысячи людей, которых нужно
казнить и миловать, а главное, по отношению к которым, несмотря
ни на что, ощутимы семейные узы. Вот когда боярин соприкасается
с другим боярином, там в гораздо большей степени на поверхность
выходят холопские черты в боярстве. Здесь меряются не просто
богатством и знатностью, но и своим значением перед лицом госуда-
ря. Здесь действительно рабы ловят взгляд своего государя, и тот,
кто поймал его, возвращает пойманный взгляд остальным боярам,
в нем ощущение своего холопьего превосходства и презрения к дру-
гим, менее обласканным или обойденным холопам.
***
Еще одним, и, надо сказать, существенным, ограничителем бояр-
ского холопства служило наличие в московско-русской традиции
знаменитого местничества, учреждения одновременно и аристокра-
тического по своим истокам, и в то же время ставящего под вопрос,
а может быть, и зачеркивающего аристократизм московского бояр-
ства. Что такое местничество, в самом общем виде всем хорошо
известно. Это занятие должностей на военной и гражданской службе
(которые, кстати говоря, как в Московии, так и на Западе в те
времена были сближены и могли совмещаться) в строгом соответ-
ствии со знатностью данного лица. К этому добавим, что служебному
положению боярина однозначно соответствовало его место за цар-
ским столом на пиру, так же как и в совете или каком-нибудь церемо-
ниальном действии. Весь вопрос, однако, при сколько-нибудь кон-
кретном рассмотрении местничества состоит в трактовке знатности.
Впервые достаточно детально и конкретно разобравший вопрос
о местничестве В. О. Ключевский нарисовал такую сложную и изощ-
ренную картину, в которой не так просто разобраться и еще сложнее
удержать ее в памяти. В соответствии с изысканиями Ключевского
знатность и, соответственно, место боярина определялись двумя
переменными—родословием и разрядами, а также их сочетанием.
При этом родословие устанавливало взаимоотношение лиц внутри
одной фамилии. Когда, например, «первое место принадлежало стар-
шему брату, домохозяину, большаку, два за ним следующие—двум
его младшим братьям, четвертое место—его старшему сыну. Если
у большака был третий брат, он не мог сесть ни выше, ни ниже
старшего племянника, был ему ровня (ровесник)»1. Как видим, уже
с родословным местничеством дело обстояло не так просто. Сложнее,
между тем, было с местничеством по разряду. Здесь место зависело
от того, какие должности занимали предки того или иного лица на
службе у московского государя, а возможно, и другого великого или
1 Ключевский. С. 460—461.
Боярин и дворянин
343
удельного князя. Понятно, что чем выше была должность предка,
тем на более высокое место мог рассчитывать его потомок.
Но каким бы непростым делом не представлялось выяснение
должности, некогда занимавшейся предком, всё неизмеримо услож-
нялось и запутывалось, когда при определении места переменная
разряда сопрягалась с переменной родословия. Тут в пору было
пойти кругом и голове у самого опытного счетчика мест. Во-первых,
при назначении на определенное место важно было найти прецедент,
когда твой предок уже побывал на этом месте. Но если и у твоего
сослуживца дело обстояло точно таким же образом, то вступало
в действие другое обстоятельство. А именно то, как далеко отстоял
каждый из сослуживцев от своего предка. Ближайший к нему пото-
мок мог на законных основаниях претендовать на то же место, что
и предок. Не забудем только, что расстояние от предка определялось
не только числом поколений (сын, внук, правнук ит. д.), но и тем,
был ли претендент родственником по прямой или боковой линии
(сыном или племянником, внуком или внучатым племянником, род-
ным или двоюродным племянником ит. д.). Без исправно работаю-
щего компьютера учесть все изгибы родословия и разрядности в их
сочетании—дело едва ли не безнадежное. Тем более в Московской
Руси, где счет и грамота были элементарно просты и незатейливы.
Слишком очевидно, что местнические счеты не могли осуществ-
ляться во всей их точности и последовательности и служили постоян-
ным поводом для взаимных обид и претензий. Однако гораздо
важнее для нас не точность и последовательность местнических
счетов, а то поистине огромное значение, которое придавалось им
в боярской среде. Ничего насущней и значимей установления подо-
бающего ему места на службе у государя для московского боярина не
было. На местничестве в огромной степени держалось боярское
самоощущение и жизненная ориентация. Наглядно свидетельствует
о сказанном эпизод, приводимый в лекциях по русской истории тем
же В. О. Ключевским: «В 1598 году князь Репнин-Оболенский по
росписи занимал в походе место ниже князя Ив. Сицкого, чего ему
не следовало делать по служебному положению своего рода, и не бил
челом об обиде на Сицкого, потому что они со Сицким были „свояки
и великие други". Тогда обиделись все его родичи и князь Ноготков-
Оболенский „во всех Оболенских князей место" бил челом царю, что
князь Репнин то сделал, дружась с князем Иваном, чтоб тем его
воровским нечелобитьем поруху и укор учинить всему их роду
Оболенских князей от всех чужих родов. Царь разобрал дело и ре-
шил, что князь Репнин был на службе с князем Иваном Сицким по
дружбе и потому один „виноват" князю Ивану, то есть себя одного
понизил перед Сицким и его родичами, а роду его всем князьям
Оболенским в том порухи в Отечестве нет никому»1.
1 Ключевский. С. 466—467.
344
Культура Московской Руси
Поступок князя Оболенского, отказавшегося от таких мало при-
влекательных местнических счетов, не только вызывает нашу симпа-
тию. Думаю, он был бы очень понятен и оценен по достоинству
западной аристократией. Ведь это так аристократично, пренебречь
стремлением к высоким должностям и занять место заведомо низшее
того, на которое ты можешь рассчитывать по своему высокому
рождению. Аристократично потому, что не место красит аристократа,
а он—место. Для него любое место—трон в виду его неизбывной
царственности. Если же оно заведомо очень скромное, то, снисходя
к нему, аристократ демонстрирует свое великодушие, так же как
и равнодушие к рангам. Он-то слишком хорошо знает, что ранг его
неизмеримо высок, что он всегда при нем и неотъемлем от него,
несмотря на наличие или отсутствие внешних знаков и отличий.
И не о том речь, что на Западе все аристократы были таковы. Как
раз наоборот, аристократ, великолепно и небрежно пренебрегающий
рангами и отличиями,—это скорее исключение, чем правило или
даже аристократическая поза, а не позиция. Между тем единственно
существенное для нас в настоящем случае должно быть то, что
отмеченное отношение к рангам и отличиям, своему месту в аристо-
кратической среде на Западе было кому оценить, кому восхититься
им. Гораздо позднее, в XIX в., и для нашей страны настанут времена
аристократически-царственного самоумаления, только подчеркиваю-
щие величие умаляющегося. В частности, я имею в виду начавшееся
с царствования Александра! обыкновение наследникам престола
и другим членам августейшей фамилии начинать службу в гвардии
с очень скромных офицерских должностей, постепенно, хотя, разу-
меется, и быстрее простых смертных, восходя по служебной лестни-
це. Все-таки наследник-цесаревич, командующий эскадроном лейб-
гусарского полка,—это зрелище возвышенное и умилительное. Оно
так впечатляюще демонстрирует не просто «годы учения» царствен-
ной особы, но и куда более важное: наследник престола ничуть не
умаляет своей царственности на своем очень скромном месте, напро-
тив, она если и не слепит, то светит каким-то особым, неярким, но
таким чистым и прозрачным светом.
На фоне подобных реалий наши московские бояре смотрятся
прямо-таки слонами в посудной лавке по своей неуклюжести, или
дурно воспитанными детьми, привыкшими давать ход своим стра-
стишкам перед лицом батюшки-царя, выдавая их за свое право
и свою честь. Страстишки страстишками, но местничество помимо
своих отталкивающе-гротескных сторон имело еще и свою логику,
свой смысл, сопричастный с высшими смыслами культуры Москов-
ской Руси. Чтобы разобраться в его существе или хотя бы прибли-
зиться к нему, обратим внимание на такую особенность местничества,
как независимость назначения на место от воли государя. Конечно,
она была очень относительной и далеко не всегда соблюдалась.
И все-таки здесь можно говорить о правиле и принципе, пускай
Боярин и дворянин
345
и обремененных исключениями. Так вот, правило и принцип по-
своему утверждали независимость достоинства боярина от того, как
и чем его жалует государь. Чем угодно он может пожаловать своего
подданного, только не знатностью. Это ли не указание на несомненно
присутствующий в Московской Руси аристократизм ее высшего со-
словия?
С чем-то подобным, наверное, можно было бы согласиться, но
лишь закрывая глаза на то, что знатность не такая уж простая
и монолитная вещь, как это может показаться. Конечно, она опреде-
ляется размерами генеалогического дерева, древностью рода или
такой уже чисто внешней реальностью, как богатство, позволяющее
аристократу вести достойный образ жизни. Но вот почему-то в запад-
ных странах с конца XIII в. получают распространение патенты
королей или владетельных князей, которые аноблируют (от noble—
знатный), то есть вводят то или иное лицо вовсе незнатного происхо-
ждения в круг знати. В Московской же Руси можно было встретить
что угодно, только не какое-либо свое московское подобие англий-
ского патента от 1450 г., в котором, в частности, содержатся такие
слова: «Итак, я, вышеназванный герольдмейстер ордена Подвязки,
пользуясь не только общественным мнением, но и советами, а также
свидетельствами людей в высшей степени благородных и достойных
всяческого доверия, заявляю, что Эдмонд Милль, долгое время
следовавший военной карьере, проявил себя в этом, как и в других
своих делах, столь достойно и мужественно, что безусловно заслужи-
вает, чтобы и его самого, и его потомков всюду принимали с должны-
ми почестями и уважениями, и чтобы они вошли в число тех, кто
составляет цвет нашей старинной аристократии и знати»1. Словам
Джона Смерта, герольдмейстера ордена Подвязки, московские бояре
могли бы противопоставить лишь нечто противоположное им и несо-
вместимое с ними: «За службу государь жалует поместьями и деньга-
ми, а не отечеством», то есть знатностью, как раз тем, что было
пожаловано доблестному англичанину Эдмонду Миллю.
Было бы очень большим и ни на чем не основанном преувеличени-
ем утверждать, что на Западе доблесть и заслуги на военном поприще
совпадали со знатностью. Не такая уж редкость встретить там прямо
противоположное—стремление неразрывно связать знатность с про-
исхождением. Скажем, от одного из сыновей Ноя или «самых краси-
вых, самых сильных и самых мудрых» из людей. Но и в этом случае
происхождение неизменно увязывалось с личной доблестью и личны-
ми заслугами. Как утверждал один средневековый автор из числа
знати: «Тот, кто стремится к истине, должен признать, что в принад-
лежности к благородному сословию, как таковому, ничего хорошего
нет, если только сам этот человек не стремится превзойти в доблести
своих знатных и благородных предков. А к этому и должен стремить-
1 Кин М. Рыцарство. М., 2000. С. 294.
346
Культура Московской Руси
ся каждый, кто хочет называться истинно благородным»1. При всем
разбросе мнений по поводу знатности на средневековом Западе
вопрос о ней обыкновенно вращался вокруг трех реалий: личных
достоинств и добродетелей человека, его происхождения и признания
со стороны государя заслуг того, кто пополняет ряды знати. Четвер-
той реалией могло быть еще и богатство. Но обязательно не само по
себе, а в сочетании с другими реалиями, в качестве их внешнего
подкрепления. Особое значение имело еще и то обстоятельство, что
принадлежность к знати и к рыцарству не были тождественны, хотя
знатному человеку и был прямой путь в рыцари. Однако его нужно
было еще пройти, тем подтвердив, чего стоит твоя знатность. Пьер
делла Винья, канцлер германского императора Фридриха II, писал:
«Если знатность можно передать по наследству, то рыцарское досто-
инство —никогда»1 2.
«Какое там еще рыцарское достоинство, какие доблести и заслуги,
если есть Отечество?», — мог возразить московский боярин имперско-
му канцлеру. Отечество в боярских представлениях вмещало и рас-
творяло в себе, а по существу, заменяло собой все остальное. И за-
слуги, и их признание государем, и даже богатство. В местническом
споре по поводу должностей в войске князей Ноготкова-Оболенского
и Сицкого ведь никому и в голову не пришло поинтересоваться тем,
как они исполняли свои обязанности, насколько достойными воена-
чальниками себя проявили. Доблесть и воинское искусство от них
безусловно требовались и могли поощряться, но только не за счет
получения все более почетных должностей. Они обозначали собой
соотносительное достоинство лиц. Оно же, в принципе, было предо-
пределено. Правда, не древностью рода, как таковой, а еще и дея-
ниями предков, которые получали свои места в значительной степени
благодаря своим заслугам.
Но так было в удельную пору. С конца XVв., то есть с момента
окончательного оформления Московской Руси, местничество было
общепризнано и по возможности неукоснительно соблюдалось. Од-
нако это обстоятельство порождало и воспроизводило ситуацию,
в которой странным образом совмещались, казалось бы, несовмес-
тимые противоположности. С одной стороны, принцип местничества
как-то ограждал бояр от царского произвола, не позволяя им окон-
чательно превратиться в рабов. Царь был волен в жизни или смерти
того или иного боярина, но его достоинство в главном зависело
не от царя. Точнее говоря, царь мог утвердить боярское недостоинст-
во в опале, тогда как вознесение боярской главы предопределялось
уже не одной царской волей. В том, однако, и безотрадность си-
туации, что и не волей самого боярина, не его доблестью, доброде-
телями и успехами. Боярское достоинство, знатность, честь сущест-
1 Кин М. Рыцарство. М., 2000. С. 288.
2Там же. С. 262.
Боярин и дворянин
347
вовали как бы сами по себе, были производными от самого факта
рождения.
Конечно, и для бояр просто не могла быть вполне чуждой та
истина, что знатный человек должен стремиться походить на своих
благородных предков. Вряд ли боярская жизнь протекала исключи-
тельно как чистая данность, ни к чему не обязывающее и ни за что
по-настоящему не отвечающее существование. И все же в ней не
существовала вовсе или существовала в очень незначительной степе-
ни внешняя выраженность, оформленность и санкционированность
высшими смыслами индивидуального почина, личностной заявленно-
сти даже очень знатного человека. По преимуществу его жизнь
сводилась к предопределенности ритуальных действий, к следованию
по давно проторенной тропе, на которую положено было ступать
независимо от индивидуальных возможностей и достоинств.
Само по себе это не очень аристократично — исполнять предзадан-
ный ритуал и тем более так ревниво и страстно следить за его
ненарушимостью. Тем более что судьей правильности ритуала неиз-
менно оставался государь, и не только судьей, но и тем, чьи предки
распределили роли в ритуальном действии по своему усмотрению,
а не подтвердили и санкционировали вольный почин аристократов—
предков нынешнего боярства. Пускай царь был не властен в распре-
делении мест среди своего боярства, все равно сами места создавал
он, тем определяя ранги боярского достоинства.
Уже в XVI в. бояре все меньше могли гордиться тем, что их
предки некогда были владетельными князьями, удельными, а иногда
и великими. Какой в этом был толк, если такому царственному
происхождению не соответствовали почетные места на службе у мо-
сковских государей. Решительно никакого. Знатность в Московском
царстве все более соприкасалась со службой московскому государю,
вне ее она не просто ослаблялась и понижалась в ранге, но могла
и сойти на нет, чему есть множество примеров в XVII в. Скажем,
в это время резко падает достоинство княжеского титула. Сам по себе
он ни в какое сравнение не шел с должностью боярина или даже
окольничьего. Более того, не так уж редки были случаи, когда
потомки княжеских фамилий теряли даже этот обесцененный титул.
Это обстоятельство, в частности, отмечал Адам Олеарий, когда
писал:
«Князья же, живущие в деревнях и иногда не имеющие средств,
чтобы жить сообразно своему состоянию, ведут гораздо худший
образ жизни, так что часто, не зная их по другому чему-либо, трудно
обнаружить их среди крестьян. Так случилось, например, во время
первого нашего путешествия, когда в Будове наш переводчик стал
распрашивать о живущем там князе и обратился со своим вопросом
к самому князю, смотревшему сквозь оконное отверстие в курной
избе: переводчик не разглядел, что князь и мужик одновременно
глядели из того же отверстия. Когда князь дал понять, что ему эта
348
Культура Московской Руси
Двор боярина в селе Никольском. Ри
cvhok из альбома А. Мейреберга,
1661 г.
ошибка неприятна, нашему пере
водчику пришлось просить про-
щения за то, что он князя принял
за мужика»1.
Не в том вопрос, что предста
витель очень древнего рода оску-
дел до предела и живет на грани
нищеты. Такое, наверное, не ме-
нее часто случалось и в Европе.
А в том, что путь наверх, в знать,
нашему князю практически был
закрыт. Очень вероятно, что прой
дет еще одно-два поколения и кня-
зья станут просто крестьянами-однодворцами, отличаясь от прочих
крестьян только тем, что они не крепостные. Какой-нибудь француз,
испанец, немец или англичанин все-таки всегда могли попытать
счастья, явиться ко двору своего государя и, ссылаясь на древность
рода и заслуги предков, попытаться занять достойное место на
государевой службе. Их путь наверх наверняка был бы нелегок
и шансов пробиться в новую знать у них было бы не много. Шансы
тем не менее были. Уже потому, что никто не мог бы отказать
представителю оскудевшего рода в праве на достоинство, в том, что
он аристократ, а не простолюдин. А вот наш князь Рюрикович, чей
род идет из незапамятной древности, он, в соответствии с местничест
вом, при царском дворе рассчитывать на продвижение был бы не
вправе, его место в самом низу, где рядовые воины, которым еще
нужно за свой счет экипироваться для царской службы. Так что,
может быть, для нашего князя спокойней и надежней было сидеть до
скончания века в своей курной избе и мух считать. Для его знатности
царственные предки сами по себе никакого значения не имели.
Повторюсь, древность рода играла какую-то роль не сама по себе,
а в сочетании со службой московским государям. Когда-то она
и определяла место у государева престола, если же его не было, то
вне службы и древность рода—это что-то невнятное, само по себе
истаивающее и растворяющееся в простонародности и уж точно
ничего общего не имеющее с аристократизмом.
* * *
Такая замкнутость на государя даже в случае, когда его права
ощутимо ограничены, как в местничестве, если это и не чистое
рабство, то, во всяком случае, патриархальность, которая, кстати
говоря, не может быть вовсе лишена рабских черт. В патриархальном
укладе отец-патриарх не просто глава семьи, он еще и более или
менее, но обязательно сакрализованная фигура, неизбежно умаляю-
1 Россия глазами иностранцев. С. 393—394.
Боярин и дворянин
349
щая до человеческого, слишком человеческого всех других членов
семьи. В них патриарх видит своих детей, сами себя они тоже
ощущают детьми, а значит, существами не вполне смышлеными
и способными отвечать за себя. И потом, повсюду равномерно разли-
тая патриархальность Московской Руси, делавшая всех подданных
царя его незрелыми детьми, требующими строгого присмотра1, не
может не свидетельствовать о хроническом недостатке личностного
начала в русском человеке. Одно дело, когда его недостает в настоя-
щем ребенке. Но представим только себе архипастыря русских пра-
вославных христиан Никона, человека, который требовал величать
себя не иначе как государем, да еще стремился возвеличить себя
в качестве государя над царем. Он ли не зрелый и взрослый муж?
Огромного роста и могучего телосложения, резкий и решительный,
непреклонно настойчивый в достижении своих целей—он ли не
личность, пускай и со своими нравственными несовершенствами? Но
вот со всей своей всегдашней определенностью и непреклонностью
Никон внезапно отказывается от исполнения патриарших обязанно-
стей и уходит из Москвы в свой Новоиерусалимский монастырь
с такими словами: «А впредь-де он в патриархи быть не хочет.
А только-де похочу быть патриархом, проклят буду и анафема»1 2.
Заявление, которое Никон сделал принародно в московском Ус-
пенском соборе 10 июля 1658 г., никакого намека на двусмыслен-
ность и возможность различных истолкований не содержит. Однако,
когда минуло уже более 6 лет после отречения, 16 декабря 1664 г.
Никон прибывает в Кремль к дверям того же Успенского собора, где
произошло его торжественное отречение. И что же, теперь он вдруг
выражает полную готовность вернуться к исполнению обязанностей
патриарха, объясняя свое решение тем, что «сошел он с престола
никем не гоним, а ныне пришел на свой престол никем не зовом»3.
Как же такое возможно? Неужели патриарх первый раз хитрил
или действовал по необъяснимой прихоти? Что бы там ни было
намешано в необычном уходе Никона с престола, самое для нас
примечательное в нем то, что решительность патриарха оказалась
решительней и определеннее его самого. Сам же он—некоторая
внутренне неустойчивая душа, неспособная справиться с собственны-
ми порывами, удержать себя или по крайней мере ощутить свою
полную ответственность за свои действия, их раз и навсегда обязы-
вающие последствия. Сегодня Никон такой, а через шесть лет иной.
Оба раза он может быть и искренен. Но это искренность душевных
1 А разве это не дети —бояре, которые в своем местническом пылу, будучи
посажены на подобающее им, по их расчетам, место за царским столом, забирались
под стол, вопя оттуда, что не уступят своего места, если даже царь велит отрубить им
головы?
2 Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви. Т. 2. М., 1992. С. 147
(далее: Карташев).
3Там же. С. 190.
350
Культура Московской Руси
состояний, не связанных между собой, не встретившихся друг с дру-
гом у одного и то же никоновского «я», внутреннего центра его
личности. Личность-то он мятущаяся и расплывающаяся в неопреде-
ленность, над которой никто не властен и которой никто не указ.
Начинал свое отречение от патриаршества Никон как суровый и не-
преклонный муж, что не помешало ему стать растерянным ребенком,
детски-простодушно пытающимся закрыть глаза на необратимость
содеянного им самим.
Недовершенность собственного «я», своей личности исходно вос-
полнялась людьми обращенностью в сферу сакрального. Так перво-
бытный человек, которого самого по себе в обращенности на себя нет,
ощущает действие через себя божества. Потом возникает героическое
самоощущение и мироотношение, когда человек обретает в себе
источник своих действий и помыслов. С возникновением христианст-
ва героизм был преодолен святостью. Святость—это максимально
возможная для человека полнота личностного бытия. Однако обрета-
ется она человеком в Боге, в вере и любви. Московская Русь,
конечно же, знала опыт святости и, следовательно, полноту личност-
ного бытия человека. Но святость—это уже сверхкультура. Собст-
венно же культура находилась по критерию личности в очень стран-
ном, неопределенном и двусмысленном положении. Ритуальной
растворенности в сакральном, ощущения себя людьми в качестве тела
богов в христианской культуре быть не могло. Но и личностей
в Московской Руси не было. Точнее сказать, были люди, которые
обладали страшной неустойчивостью личностного бытия, с легкостью
растворявшиеся в стихии безличного. В эту стихию погружались, из
нее выходили в личностное измерение, не будучи в результате «мы-
бытием», но и до «я-бытия» не дотягивая. Хуже всего в Московской
Руси было то, что личностное бытие здесь никак не поощрялось и не
культивировалось. На Западе оно оформлялось и удерживалось не
только святостью, но и в аристократической и героической выделке
рыцарского, а потом дворянского сословия. У нас же налицо или
высота святости, или неопределенность существования людей, очень
мало отвечающих за себя в повседневности, хотя и способных к от-
дельным, стоящим над каждодневной жизнью прорывам в героиче-
ское же или же к самоотречению служения Богу.
Крестьянин, посадский человек, казак
Посетивший Московскую Русь в 1671—1673 гг. уроженец Курлян-
дии Яков Рейтенфельс в своем довольно обширном «Сказании о Мо-
сковии» уделил описанию русских крестьян всего несколько страниц.
Вот два фрагмента из его более чем краткого описания: «Деревенские
жители... называются крестьянами, или черным, или лесным людом,
ведут хотя и самый простой образ жизни, но далеко не самый
счастливый, ибо, являя собой наружно, в пище, одежде и ежеднев-
Крестьянин, посадский человек, казак
351
ных трудах как бы образец простоты золотого века, они до настояще-
го времени при этом находятся в глубочайшем невежестве относи-
тельно Божественного Откровения, и нравы их до того грубы, что
нет возможности вполне достойно оплакать их. Они проводят жизнь
совершенно по-детски, чтобы не сказать чего худшего, безо всяких
необходимых сведений о Законе Божием, не умея молиться и только
раз в год принимая Св. Тайны. Когда мы ехали в Московию, то мы
вдоволь насмотрелись на возбуждающее сожаление невежество их.
Ибо когда мы спросили у нескольких попавших нам по пути земле-
дельцев, между другими некоторыми вопросами касательно вероис-
поведания, знают ли они также что-либо об Иуде-предателе, то все
они стали переглядываться между собою, и один, более других
смышленый, отвечал, что, говорят, дескать, у нас, что он изменил
Иисусу Христу, и предал его врагам, но что он не вполне твердо
уверен, что это было действительно совершенно так. <...> Тяжелыми
податями они доведены до такой бедности, что ничего не имеют,
кроме кое-какой изорванной одежды и коровы с подойником... голод
утоляют хлебом пшеничным, ржаным, бобами с чесноком, а жажду —
водою, в которой заквашена мука, или свежезачерпнутой из колодца
или из реки. При таком-то скудном питании они жадно, как никто
другой, пьют водку, считая ее нектаром, средством для согревания
и лекарством от всех болезней. Приспособлений для спанья у них нет
никаких, так что даже кровати у них отсутствуют, а печи и скамьи
служат вместо кроватей, а обыденная одежда—вместо тюфяков
и одеял... их удел от рождения—бичевание и рабство»1.
Не правда ли, грустная картина нарисована Яковом Рейтенфель-
сом? Утешать себя тем, что он проявил какую-то особую непонятли-
вость, предвзятость или враждебность, не приходится. Слишком
напоминает описанное курляндским путешественником описания ино-
земцев, побывавших в Московии на протяжении XVII в. К тому же
те из них, кто оставил свидетельства о крестьянах соседней Польши
и Прибалтики, зафиксировали реалии ничуть не более отрадные, чем
в Московской Руси. Ту же беспросветную нищету, невежество и убо-
гую примитивность быта. Да что там глушь польской или прибалтий-
ской окраины, если у одного из самых известных литераторов золо-
того века французской словесности Жана де Лабрюйера в его
знаменитых «Характерах» содержатся такие строки: «Порою на
полях мы видим каких-то диких животных мужского и женского
пола: грязные, землисто-бледные, иссушенные солнцем, они склоня-
ются над землей, копая и перекапывая ее с несокрушимым упорст-
вом; они наделены, однако, членораздельной речью, и, выпрямляясь,
являют нашим глазам человеческий облик»1 2. Разница между прослав-
1 Утверждение династии. М., 1997. С. 342—344.
2 Франсуа де Ларошфуко. Максимы. Блез Паскаль. Мысли. Жан де Лабрюйер.
Характеры. М. 1974. С. 26
352
Культура Московской Руси
ленным Лабрюйером и безвестным Рейтенфельсом еще и в том, что
один из них моралист, другой—путешественник. Морализации, однако,
предостаточно и у Лабрюйера и у Рейтенфельса. И удержаться от нее
тому, кто обратился к крестьянству блистательной Франции Людови-
ка XIV или современной ей по-провинциальному заскорузлой Руси,
было трудно. Уж очень незавидна в эти времена была участь кресть-
янства по всей Европе. Расцвет средневековой культуры, Возрожде-
ние, утро нового времени—все это прошло мимо западного крестьян-
ства, оно все более оттеснялось на обочину жизни.
В принципе, то же самое имело место и в Московской Руси. Как
ни мало дошло до нас сведений о земледельцах киевского или
удельного времени, они все же не предполагали такой же забитости
крестьян, как в московские времена. Теперь в них и следа не осталось
от воинов-земледельцев, которые были характерны для Киевской
Руси. Впрочем, московское боярство и дворянство, в свою очередь,
ничуть не больше походили на дружинников киевской поры, чем ее
воины-земледельцы на крестьян Московского царства. Бояр и дво-
рян объединяла с крестьянами, противопоставляя их дружинникам
и воинам-земледельцам, чуждость им свободы, пребывание в крепо-
стном по отношению к государю и государству состоянии. Между тем
в крепости бояр и дворян, с одной стороны, и крестьян—с другой,
сохранялось очень значимое различие. Оно далеко не сводится к экс-
плуатации одних другими. Не менее важно было то, что крестьяне
все более замыкались в узком мирке своей общинной жизни. Миры-
общины при решающем участии верхов консервировались в своем
наличном состоянии, в вечном «теперь» застойной внеисторической
жизни, не имеющей выхода в большой мир.
Это ни на чем реальном не основанный стереотип, что бояре
и князья всячески стремились к тому, чтобы вмешиваться во все
детали крестьянской жизни, непрестанно распоряжаться ими, не
давать ни шагу ступить без присмотра со стороны. В действительно-
сти боярам и дворянам от крестьян нужны были в первую очередь
продукты их труда в натуральном или денежном выражении, а не
повседневное властвование над крестьянами. Их властные замашки
и привычки формировались в среде боярской и дворянской дворни,
среди которой было множество холопов. Вот они и были объектом
непрерывного властвования. Крестьян же очень часто оставляли
в покое в делах, не касающихся сельскохозяйственных работ. Мно-
жество своих крестьянских дел они решали всем своим общинным
миром, не исключая из них и дела судебные. Последние могли
производиться не только господским приказчиком, но и вместе со
старостой и выборными крестьянами. При этом суд ограничивал
произвол независимого от общины приказчика и строился на обыч-
ном праве. Его компетенции, правда, не подлежали такие уголовные
дела, как разбой или убийство, но в остальном крестьянская община
оставалась предоставленной самой себе. А это значит, что совершен-
Крестьянин, посадский человек, казак
353
но закабаленной и несвободной
она все-таки не была. Другое дело,
что свобода ее была стеснена, под-
контрольна и зависела от воли вла-
дельца имения. Самым существен-
ным ограничителем его произвола
оставалось то, что в безграничном
угнетении и подавлении крестьян,
мелочном контроле за их трудо-
вой деятельностью не было реши
тельно никакого смысла. Крестья-
нин и так слишком хорошо знал,
что ему делать в его земледельче-
ских, скотоводческих и всяких
других работах. Поэтому его не-
свобода могла быть чем угодно,
только не мелочной регламента-
цией при исполнении трудовых
операций.
Худшее, что происходило с за
крепощенными русскими крестья-
Освоение крестьянами новых земель.
Миниатюра из «Жития Сергия Радо-
нежского». XV в.
нами, —это даже не установление
их почти безграничной зависимости от боярина или дворянина,
а закрепление или усиление несвободы от самих себя, от архаиче-
ских, по сути еще первобытных форм жизни. В итоге у крестьян
формировался двоякий комплекс: во-первых, детей, зависимых от
отца-барина, во вторых, неразрывной связи с себе подобными, где
почти все было задано традицией и ритуально оформлено в предопре-
деленные формы действий. Крестьянин оказывался попеременно
в ситуации то общинной нерожденности к индивидуальному сущест
вованию, то детской беспомощности перед барином. Какое-либо
подобие самодеятельности для нерожденно-детской души крестьяни-
на означало для него или бунт против «отца» дворянина или бояри-
на, косвенно же и против верховного отцовства царя, или бегство от
них на волю, в казаки, а то и в лихие люди на большую дорогу.
Если сравнить русских крестьян Киевской и Московской Руси, то
при всей значимости происшедших с ними перемен, при том, что
независимость земледельческой общины сменилась крепостным пра
вом, сохранилась и фундаментальная общность между крестьянами
двух эпох. Она и не могла не сохраниться ввиду того, что крестьянин
в огромной степени фигура внеисторическая. Смена исторических
эпох и типов культуры задевает его в несравненно меньшей степени,
чем представителей любых других сословий. Объясняется это обстоя-
тельство тем, что крестьяне — это люди земли, связывающие с ней
прямо или косвенно всю свою жизнь. Какие бы усилия крестьянин не
предпринимал по обработке земли, извлечению из нее средств для
354
Культура Московской Руси
Сельскохозяйственные работы. Миниа-
тюра из книги «Лекарство душевное».
XVII в.
как правило, мужские. С ними
своей жизни—пищи, одежды, жи-
лья, орудий труда, утвари и про-
чего, все равно сам характер ве-
дения крестьянского хозяйства
навязывает ему как нечто единст-
венно возможное представление
о земле как в первую очередь кор-
милице. В крестьянском представ-
лении не столько крестьянин за-
бирает нечто у земли, использует
ее в своих целях, сколько она—
земля-матушка, дает или не дает
крестьянину жизненно важные для
него блага. Отсюда проистекает
не просто почитание земли, сы-
новнее и дочернее отношение
к ней, но и заслоненность для кре-
стьянина землей «неба», сосредо-
точенность первосмыслов именно
на земле, а не на «небе». Обра
щенность к небу и, в частности,
небесная религия всегда в большей
или меньшей степени акцентиро-
вали в человеке момент внутрен-
ней собранности и вменяемости.
Небесные божества, исключая ноч-
ную луну, в первобытных мифах,
связаны образы строя, порядка,
гармонии. На них неизменно ориентировались, скажем, воины или
воины земледельцы с их большей мобильностью, не такой прикреп
ленностью к земле, как у крестьян. У нас в Киевской Руси в дружин-
ной среде устанавливается культ небесного бога Перуна и совершен-
но немыслим культ земных Рода и рожаниц. И это совершенно не
случайно. Так же как не случайно и то, что переход к христианству
совершился прежде всего в военно-дружинной среде. Дружинникам
киевского князя несравненно легче было перейти к почитанию Хри-
ста, чем земледельцам с их земным Родом и рожаницами. В воине-
дружиннике, с его привычкой к походам-странствиям, с собирающим
душу смертельным риском битв и поединков больше развилось инди-
видуально-личностное начало, так необходимое для принятия хри-
стианства, чем у осевшего в своей лесной и болотистой глубинке
земледельца, погруженного в свое земледельческое, скотоводческое
и охотническо-собирательское хозяйство. Христианство и стало пре-
воначально религией воинов-дружинников и горожан, медленно
и трудно, с неизменными трансформациями и искажениями прони-
кая в народную толщу.
Крестьянин, посадский человек, казак
355
Каким бы медленным ни был этот процесс, но к концу Московской
эпохи крещению Руси было уже семьсот лет. И самое примечатель-
ное при этом состоит в том, что проблемы, стоявшие перед Право-
славной Церковью в деле служения своей пастве, ее просвещения,
а по существу все еще и христианизации, от века к веку оставались
одни и те же. Когда читаешь сетования духовенства на привержен-
ность народа к языческим божествам, неизменно связанным с куль-
том земли, или наставления по этому поводу, то легко ошибиться
в датировке сетований и наставлений не на одну сотню лет. Вот перед
нами, скажем, обличение жившего в XII в. киевского митрополита
Кирилла: «В субботу вечером собираются вкупе мужи и жены,
и играют, и пляшут бесстыдно, и скверну деют в нощь Святого
Воскресения, яко Дионисов праздник празднуют нечестивии эллины,
вкупе мужи и жены, и яко кони вискают и ржут, и скверну деют.
И ныне да отстанут от того»1.
Пожелание митрополита Кирилла так и осталось благопожелани-
ем. Ситуация со «скверной» сохранялась до такой степени неизмен-
ной, что на нее счел необходимым отреагировать состоявшийся через
четыре столетия после Кирилла знаменитый Стоглавый Собор, когда
в одном из своих постановлений отметил: «Русали о Иванове дни
и в навечерии Рождества Христова и Крещения сходятся мужи и же-
ны и девицы на ночное плещевание [пляски с хлопаньем ладонями]
и на бесчинный говор, и на бесовские песни, и на плясание, и на
скакание, и на богомерзкие дела. И бывает отрокам осквернение
и девам растление. И егда мимо нощь ходит, тогда отходят к реце
с великим кричанием, аки бесни [помешанные], и умываются водою.
И егда начнут заутреню звонити, тогда отходят в домы своя и пада-
ют, аки мертвии от великого клопотания [стука, шума]»1 2.
Стоглавый Собор 1551 г. во многом определил церковную и свет-
скую жизнь Московского царства последующих полутора веков.
Менее всего, однако, его постановления сказались на крестьянском
язычестве. Даже в последние времена Московской Руси, буквально
накануне петровских деяний, которые превратят Московскую Русь
в Петербургскую Россию, в 1684 г. Патриарх Московский и всея
Руси Иоаким специальным указом запрещает «скверные и бесовские
действа, пение бесовских песен, бесовские игрища и позорища»3. За
протекшие к тому времени семь веков православия на Руси всякого
рода призывы и увещевания, угрозы и суровые действия церковных
и светских властей по искоренению низового язычества оставались
тщетными. Искоренение в крестьянской среде язычества даже в та-
ких его громкозвучных и яркозрелищных, вызывающих формах,
о которых идет речь в цитированных документах, означало бы иско-
1 Федотов. Русская религиозность. С. 316.
2 Домострой. М. 1991. С. 199.
3 Очерки русской культуры XVII в. Ч. II. М.,1979. С. 9.
356 Культура Московской Руси
ренение самого крестьянства. Если крестьянин, несмотря ни на
какую христианизацию, самим своим образом жизни стоял одной
ногой в язычестве, то сдвинуть его с язычества, сделав всецело
христианином, не было решительно никакой возможности. Тем бо-
лее, что и другие сословия Московской Руси были по этой части
далеко не безупречны. Их христианство поражало в некоторых своих
деталях видавших виды иноземных путешественников. Так, посол
германского императора Леопольда барон Мейерберг, посетивший
Московию в 1661 г., описал следующий обычай: «Смешно то сума-
сбродство равнодушного невежества москвитян, что перед тем, как
закрывать гроб, священник вкладывает в пальцы похороняемого
бумагу за подписью золотыми буквами и печатью духовного причта
того места, где проживал он; духовные удостоверяют своим свиде-
тельством в этой бумаге, что покойный при жизни исповедовал
греческую веру и хотя грешил, но вполне очищал себя исповедью,
разрешением и причащением, соблюдал посты, часто повторял мо-
литвы, чтил Бога и всех святых, почему и дан ему этот лист для
предъявления св. Петру, чтобы он без задержки впустил его в рай-
ские двери к блаженной радости»1.
Свидетельство Августина Мейерберга о погребальном обычае, рас-
пространенном в Московской Руси, не единично и заслуживает
доверия. И тем не менее, чтобы поверить германскому послу, нужно
усилие хотя бы по преодолению оторопи и удивления. Все-таки им
описан обряд, в своем существе мало чем отличающийся от распро-
страненного в Древнем Египте. Различие между древнерусским
и древнеегипетским обрядом, пожалуй, только в одном. Русскому
покойнику вкладывали в пальцы аттестат, подписанный священно-
служителями, тогда как в отношении древнеегипетского покойника
предполагалось, что он сам будет аттестовать себя, произнося соот-
ветствующие формулы, свидетельствующие о его чистоте и благочес-
тии и, соответственно, о возможности для него отправиться после
загробного суда в поля блаженства.
Приведенное свидетельство Августина Мейерберга указывает не
просто на грубую и примитивную ритуализацию погребального обря-
да в православной Руси, но и об отсутствии или слабой выраженно-
сти дистанции между культурой высших и низших слоев московского
общества. Описанный обряд равно приемлем как для боярина, дво-
рянина, посадского человека, так и для крестьянина. Хотя в нем
несомненно присутствует влияние в первую очередь крестьянской
стихии. Как оно ни презиралось и не отодвигалось на задний план,
крестьянство составляло огромное, даже по тем временам, большин-
ство населения Московской Руси. Оно неизбежно определяло в су-
щественных чертах общую атмосферу русской культуры. О чем
угодно можно заключить на основании приведенного описания рус-
1 Утверждение династии. С. ИЗ.
Крестьянин, посадский человек, казак
357
ского похоронного обряда, только не о какой-то особенной просве-
щенности русских верхов по сравнению с низами. Это явно от них
идут золотые буквы на похоронном аттестате, только они могли себе
такое позволить. Но буквы буквами, а сам принцип аттестования
покойника понятен крестьянину, отвечает его вере и интуициям по
поводу загробного существования. Не случайно, что в похоронном
обряде, описанном Мейербергом, участниками оказались и священ-
нослужители. Здесь они разделяют общие представления и предрас-
судки, они такие же крестьяне, как бояре с дворянами и посадские
люди.
Если что и выделяло собственно крестьянскую религиозность из
общерусского, так обремененного язычеством и церковной непросве-
щенностью православия, так это глубочайшее смешение религиозного
и магического. Не будем забывать, что замкнутые и законсервиро-
ванные в своей общинной жизни крестьяне ввиду своей сращенности
с землей воспроизводили не просто языческие суеверия, но и самые
архаические формы язычества. В чем-то они были даже более арха-
ичными язычниками, чем, скажем, верхи общества Киевской Руси
еще до ее крещения. Архаическое же язычество, язычество, обращен-
ное к земному, хтоническому, и всецело безличной и бесформенно-
неуловимой реальности сакрального, как раз и характеризуется не-
различенностью, смешением или недостаточной разделенностью
религии и магии, когда, например, заклятие, заговор и молитва не
вполне отличаются друг от друга, или легко переходят одно в другое.
Как нечто подобное происходило в Московской Руси, об этом,
в частности, свидетельствует эпизод, описанный польским участни-
ком Смуты начала XVII в. С. Масневичем. «У одного крестьянина
вор ночью увел вола из хлева,—пишет Масневич, — крестьянин со-
рвал образ со стены и выбросил его в окно прямо в навоз, сказав:
„Я тебе молился, а ты меня от воров не сохраняешь"»1.
У забитого и глубоко невежественного русского крестьянина, чьи
кощунственные действия и чью полную христианскую невменяемость
наблюдал С. Масневич, на миг произошло не только смешение мо-
литвы и заклятия (молитвы Богу или святому не предотвратили
кражу, так что нужно переходить к заклятию—наказанию того, кому
еще недавно молился), но и такое же архаическое сближение, если не
отождествление сакрального существа с его образом. Если образ Бога
или святого, то есть икона, и есть сам Бог или святой, — это и значит,
что икона для русского крестьянина была идолом, реальностью
вполне языческой. Конечно, крестьянин, который обращается со
своей иконой как с идолом, с чистой совестью будет исполнять и те
языческие обряды, которые осуждали митрополит Кирилл, Стогла-
вый Собор и Патриарх Иоаким. Для него обращенность к иконе-
идолу и языческая оргия — реальности взаимодополнительные. Их
1 Московия и Европа. М., 2000. С. 114.
358
Культура Московской Руси
соотнесенность—это два уровня одной и той же религиозности.
Икона более тяготеет к религии неба и света, оргийные же ритуалы
акцентируют связь с землей, тьмой, влагой, порождающим началом.
При всей очевидной пронизанности крестьянской культуры Мос-
ковской Руси языческими реалиями, наличия в ней мощного и неус-
транимого пласта язычества было бы преувеличением и искажением
перспективы квалифицировать эту культуру как языческую, лишь
слегка декорированную христианскими образами и молитвами. Тут
не может быть двух мнений: русский крестьянин не был первобыт-
ным человеком, несмотря на множество архаически-первобытных
черт в его культуре, не был он и язычником, хотя язычество было
ему совсем не чуждо. И крестьянские общины были скреплены
и объединены в совсем не первобытное царство, и языческие черты
тем не менее существовали у крестьян, входивших в Православную
Церковь. Настоящего ходу назад, в первобытность и язычество,
крестьянину не было. Но и вперед, в индивидуализированное и лич-
ностное существование, в православную церковность, отвечающую за
себя и просвещенную, путь ему если и не был в целом блокирован, то
и осуществить его оставалось возможным лишь в случаях исключи-
тельных.
Крестьянская культура (и Московская Русь здесь не исключение)
тем и отличается, что для нее перестает быть вполне своей первобыт-
ность с ее язычеством, и в то же самое время чуждой и недоступной
остается высокая культура и просвещенная церковность. В своем
промежуточном состоянии крестьянин—человек недоверчивый, не-
уверенный в себе, неустойчивый. Верхи в лице барина, государевых
чиновников, священства и церковной иерархии крестьянину, ввиду
своей чуждости, попеременно или даже одновременно враждебны
и в то же время вызывают у него искреннее почтение. Одно в другое
в крестьянской душе переходило очень легко и быстро. Тот, перед
кем он едва ли не благоговел, вызывал у него насмешку и издевку
(барин, поп, даже царь). Искренняя сыновняя забота о вышестоящих
вдруг оборачивалась угрозой и враждебностью. Действительно угне-
тенные, действительно забитые, в своем огромном большинстве кре-
стьяне хорошо знали то, чего они не приемлют и не хотят. Гораздо
хуже обстояло дело с представлениями об исполнении желаний. Это
совсем не о царе, а именно о создававшем сказки крестьянстве их
создателями было сказано: «Поди туда—не знаю куда, принеси то-
не знаю, что».
Самым безотрадным и безнадежным в существовании крестьян
оставалось на протяжении столетий то, что волей исторических
обстоятельств они находились в ситуации, из которой самостоятель-
ного выхода для них не было. Когда своя крестьянскость, связанная
с крепостным правом, барщиной, тяжелыми повинностями, неспособ-
ностью продуктивно вести свое хозяйство становилась нестерпимой,
выходом из нее неизменно оставался бунт. Бунт же по своему
Крестьянин, посадский человек, казак
359
существу—начало разрушительное. Это та же самая оргия, но вы-
шедшая за пределы праздничных ритуальных реалий, в соответст-
вующее время и в соответствующем месте дозволительных, несмотря
на всю хаотичность, действий. В бунте крестьянин, сдавленный
чуждыми и порой нестерпимо тягостными для него формами жизни,
начинал крушить все формы. На собственное формотворчество кре-
стьянство оставалось неспособным. Оно их пыталось неуклюже и не-
лепо заимствовать или, обессилев и окончательно потеряв всякие
ориентиры в оргии бунта, само вешало ярмо себе на шею. Все-таки
ярмо—это какая-никакая, а форма, устойчивость, космичность. Пло-
хо, что они должны были прийти извне, но еще хуже то, что изнутри
крестьянскости их было не создать. Крестьянин оставался вечным
ребенком, не способным сладить ни с собой, ни с другими. Это
прекрасно знали и московские цари, и знать, знали и сами крестьяне,
в своем, казалось бы, бесконечном долготерпении сносившие самые
тяжелые испытания, толком не зная, так ли это должно быть, по
праву ли на них наложено такое тягло, или здесь какой-то обман,
подтасовка, подлежащая устранению.
***
В написанном в 1666—1667 гг. в Стокгольме для шведского прави-
тельства знаменитом сочинении подьячего Посольского приказа Гри-
гория Карповича Котошихина «О России в царствовании Алексея
Михайловича» есть такие строки: «А будет в Московском государст-
ве построенных каменных городов, кроме монастырей, с двадцать
городов или мало болши, а досталные все деланы деревянные, на
земляных валах и просто на земле, и для войны насыпают те городы
песком и каменьем, а для крепости тех городов копаны кругом
глубокие рвы и бит деревянный чеснок, а в ыных рвах пущена
кругом вода»1.
Сильно ошибается тот из читателей, кто решит, что Котошихин
ведет речь о более чем двадцати действительно каменных городах,
существовавших в Московской Руси к 60-м гг. XVII в. Не города по-
настоящему каменные, а только их стены. Но даже это обстоятельст-
во впечатляет на фоне предшествующих времен. Ведь еще в XVI века
городов с каменными стенами было в несколько раз меньше. Но вот
ведь что примечательно, если не сказать, курьезно. Строительство
каменных стен, городских и монастырских, становится в Москов-
ском царстве явлением сравнительно широко распространенным имен-
но тогда, когда каменные стены в их традиционном виде в значитель-
ной степени теряют свой прежний смысл. Усовершенствование
артиллерии и всего осадного дела как раз ко второй половине XVII в.
привело к повсеместному распространению на Западе крепостных
сооружений совсем иного, чем раньше, типа. Теперь для крепостной
1 Московия и Европа. М., 2000. С. 114.
360
Культура Московской Руси
стены потеряла всякий смысл ее высота и наличие мощных башен.
Стены стали строить относительно невысокими, башни заменять
треугольными выступами бастионов. За подобными новшествами
Руси было пока не угнаться, и камень, как оказалось, они тратили не
столько на оборону, сколько на украшение городов. К счастью,
огромное большинство из вновь выстроенных городских и монастыр-
ских стен брать было некому. Там, где они уцелели, они так и оста-
лись памятниками зодчества, декором, не выполняющим более на-
сущной роли.
Между тем в Московской Руси и даже в первопрестольной Москве
города в пределах стен оставались преимущественно деревянными.
Резко увеличилось в крупных городах число каменных храмов и мо-
настырей. Появились, правда, и немногочисленные каменные хоро-
мы знати и богатого купечества, но все это были островки в деревян-
ном море. Древняя городская Русь как начиналась деревянной, так
деревянной и закончилась. Но за этим внешним и наглядным обстоя-
тельством открывается другая реальность. Деревянность русского
города сближала его с сельским поселением, так же как и сельских
жителей—крестьян с городскими (посадскими) жителями. Такой же
ярко выраженной противоположности между городом и деревней,
горожанином и крестьянином, как на Западе, в Московской Руси так
и не возникло. В XVII в. французские, английские, итальянские
города уже имели мало общего с сельскими поселениями во внешнем
виде и образе жизни их жителей. У нас же в городах, по сравнению
с селами и деревнями, «можно отметить лишь тенденцию к большей
скученности городских построек, меньшие в среднем размеры дво-
ров, несколько меньший состав построек.
Так как население посадов занималось не только ремеслом или
торговлей, а содержало скот, разводило сады и огороды, то во
многом сельские и городские дворы совпадают по характеру постро-
ек»1. Не будет преувеличением сказать, что город Московской Руси—
это более или менее разросшееся село или скопление сел, огорожен-
ных стеной и валом. За стенами же и валами наши горожане
предпочитали в максимальной степени сохранять сельский образ
жизни. Поэтому посадскому человеку обязательно нужен был в горо-
де огород и сад, те же самые хозяйственные постройки, что и у кре-
стьянина в деревне. Проживали в городах и многие бояре и дворяне,
сооружая себе здесь, в принципе, такие же усадьбы, что и в сельской
местности.
Уже одно то обстоятельство, что русские горожане жили почти
исключительно в деревянных домах, не позволяло городам особенно
расти ввысь. Они широко и привольно распластывались по земле,
при одном и том же населении занимали несравненно большее
пространство, чем западные города. Подозрительно сельский вид
1 Очерки русской культуры XVII в. Ч. I. М., 1979. С. 186—187.
Крестьянин, посадский человек, казак 361
русских городов с их приблизительно такими же жилищами, как
и в селах и деревнях, с их огородами и садами, правомерным делает
вопрос: а проживали ли в этих городах горожане, то есть люди,
существенно отличающиеся по своей культуре от сельских жителей,
и в первую очередь, естественно, крестьян?
Если послушать иноземных путешественников, то горожане Мос-
ковской Руси неотличимы от крестьян по критерию несвободы, равно
применимому как к одним, так и к другим. «Итак, в настоящее
время, — отмечает Яков Рейтенфельс, — горожане Московии мало чем
отличаются по своему положению от деревенских жителей, так как
они стали рабски подчиняться знатным людям и находятся в презре-
нии у собственных рабов. Они совершенно лишены права выбирать
правителей из своей среды и собираться на народные собрания
и обязаны постоянно повиноваться царским чиновникам»1.
У человека западной культуры Рейтенфельса не могло не вызвать
удивления отсутствие в русских городах естественного и обязатель-
ного для западных городов самоуправления с выборным коллегиаль-
ным органом—магистратом и городским главой—бургомистром. Их
наличие, в частности, свидетельствовало о том, что горожане, в отли-
чие от крестьян—сословие свободных людей. Их свобода иная, чем
у более высокого сословия дворян, более обусловлена и ограничена
по сравнению с дворянами, и все же это именно свобода. Когда-то
в русских городах существовало вече как общегородское собрание,
существовали и выборные городские административные должности.
Тогда древнерусский город гораздо меньше отличался от западного.
По мере же становления Московской Руси города в ней не только
внешне, но и внутренне, по строю своей жизни и самоощущению
горожан, все более отдалялись от западных городов. Не будет боль-
шим преувеличением сказать, что московские и западные города
были таковыми в существенно разном смысле, хотя и в тех и в других
были представлены ремесленники и торговцы, всякого рода поден-
щики и лица, принадлежащие к дворянскому сословию.
При этом бесправие и рабство посадских людей Московской Руси
не надо представлять в каком-то абсолютном смысле. Тот же Яков
Рейтенфельс упоминает не только рабство и бесправие горожан. Так,
у него можно прочитать о том, что «места для судебного производст-
ва распределены в городах так, что менее важные недоразумения
и споры представляются на суд губных и сотских старост, стоящих
во главе своих сотен, более важные—воеводам, наиважнейшие—
царю»1 2. Как видно, на каком-то уровне самоуправление в московских
городах все же имело место, горожане сами решали некоторые
вопросы своей жизни, а значит, в чистом виде рабами все-таки не
были. Учтем также, что суды низших инстанций по делам, с точки
1 Утверждение династии. М., 1997. С. 336.
2 Там же. С. 323.
362
Культура Московской Руси
Торговля хлебом и медом в Новгороде.
Лицевой летописный свод. XVI в.
ской власти. Однако перед нами
зрения государства малозначимым,
оставались выборными не только
в городах, но и в сельской местно-
сти. Царская администрация и не
в силах была входить во все дета-
ли отношений между горожанами
и крестьянами. Введь для этого
нужно было раздуть администра-
тивный аппарат до громадных раз-
меров, к чему Древняя Русь про-
сто не имела вкуса. К тому же,
как отмечал еще Павлов-Сильван-
ский, «наша посадская община,
как и община крестьянская, была
податным, или тяглым, союзом.
Она была ответственна за уплату
податей, причитавшихся с ее от-
дельных членов и пользовалась
полной самостоятельностью в деле
взимания и раскладки податей»1.
Эта полная самостоятельность, ко-
нечно, не может быть сведена к од-
ной только зависимости от цар-
свобода, определенная и жестко
регламентированная сверху. От этого ее ущербный и усеченный
характер, присутствие в жизни как крестьян, так и посадского
человека поистине рабских черт.
Чем посадские люди Московской Руси все же не могли не отли-
чаться от крестьян, так это большей внутренней подвижностью и раз-
нообразием жизни. В любом случае города—поселения не такие
отъединенные и изолированные от большого мира, как сельские
общины-миры. Город и крупнее деревни или села, и проживают в нем
представители различных сословий. Да и само сословие посадских
людей включает в себя лиц разнообразных занятий, в том числе
и купцов, чей род деятельности предполагает перемещения по про-
странствам страны, а для некоторых —и пребывание в зарубежных
странах. Сказывалось на посадских людях, по крайней мере, Моск-
вы и ряда других крупных городов и пребывание постоянно возрас-
тавшего на Руси слоя иностранцев —немцев, англичан, голландцев,
шотландцев и пр. Хотя они жили в Москве своей относительно
замкнутой жизнью, все же связи с посадскими людьми, влияние на
них были неизбежны. Так, дважды побывавший в Московии 30-х
годов XVII в. Адам Олеарий, говоря о московских ремесленниках,
констатировал, что «они очень восприимчивы, умеют подражать
1 Павлов-Сильванский Н. П. С. 130.
Крестьянин, посадский человек, казак
363
тому, что они видят у немцев,
и действительно, в немного лет
высмотрели и переняли у них мно-
гое, чего они раньше не знавали.
<...> В особенности изумлялся
я золотых дел мастерам, которые
теперь умеют чеканить серебряную
посуду такую же глубокую и высо-
кую и почти столь же хорошо
сформированную, как у любого
немца»1.
Адаму Олеарию вторит посетив-
ший Московскую Русь через три
десятилетия после него Яков Рей-
тенфельс: «Число искусных мас-
теров, некогда весьма небольшое
в Московии, в наше время сильно
увеличилось, и самые мастера в вы-
сокой степени усовершенствова-
лись. Этого русские достигли бла-
Обучение грамоте. Миниатюра из
рукописной книги. XVII в.
годаря становящемуся с каждым
днем все более свободным обра-
щению с иностранцами, а также
и природной понятливости и способности их ума... причем так ус-
пешно подражают им, что нередко превосходят их новыми изобре-
тениями»1 2.
Многократно превознесенная в отечественной литературе и пуб-
лицистике XIX —начала XX в. открытость русского человека, его
переимчивость, которые Ф. М. Достоевский не удержался возвести
во всечеловечность, оказывается, в XVII столетии обнаружилась не
в последнюю очередь на низовом уровне контактов русских ре-
месленников с их западными собратьями. Значит, не так уж замкну-
та, неподвижна и заскорузла была их жизнь, как об этом можно
судить по другим свидетельствам побывавших в Московской Руси
иноземцев. Не может посадский человек, человек-ремесленник, легко
усваивавший мастерство западных ремесленников, быть внутренне
совершенно неподвижным человеком, без остатка растворенным в ри-
туально оформленной раз и навсегда жизни, в чем легко заподозрить
широкие массы русского крестьянства. В пользу посадских людей
при их сравнении с крестьянами говорит и относительно широкое
распространение в их среде грамоты. В наших исторических иссле-
дованиях нередко приводят данные о грамотности среди русских
людей XVII в., которые были получены еще в конце XIX в.
1 Россия глазами иностранцев. С. 343—344.
2 Утверждение династии. С. 341.
364
Культура Московской Руси
А. И. Соболевским1. Согласно этим данным, среди бояр и дворян
грамотных было около 65%, купечества—96%, посадских—40%, кре-
стьян— 15%. Понятно, что к расчетам Соболевского можно относить-
ся как к очень приблизительным ориентирам. Однако на их основа-
нии все же можно сделать выводы, во-первых, о том, что у посадских
людей процент грамотных был сопоставим с процентом не умеющих
читать и писать. И, во-вторых, о различии по принципу грамотности
между крестьянами и посадскими. В среде последних она была
распространена в несколько раз чаще, чем среди крестьян.
Вспомним, однако, что и в Киевской Руси грамотный горожанин
отнюдь не был редкостью или исключением, о чем свидетельствует,
между прочим, широкое распространение берестяных грамот. Но
грамоты эти говорят не только об умении многих горожан Новгоро-
да, Смоленска или Твери писать и читать, но точно так же и об
отсутствие в Киевской Руси какого-либо подобия городской литера-
туры (словесности). Она оставалась по своему характеру принадле-
жащей духовному сословию и создавалась, как правило, его предста-
вителями и в его духе.
В этом отношении в Московской Руси происходит заметный сдвиг.
Среди авторов произведений словесности в XVI и особенно
в XVII столетии все чаще встречаются представители боярства и дво-
рянства. В какой-то мере они получают право голоса в культуре,
выражают свое боярское или дворянское самоощущение и ориента-
цию в мире. В отношении посадских людей нечто подобное можно
было утверждать и с большей осторожностью, и в очень ограничен-
ной степени.
С учетом сказанного все-таки можно усмотреть нечто своеобразно
городское и посадское, к примеру, в тексте XVII в. «Повесть о Карпе
Сутулове». Текст этот имеет подзаголовок: «Повесть о некотором
госте богатом и о славном Карпе Сутулове и о премудрой жене ево,
како не оскверни ложа мужа своего». В соответствии с подзаголов-
ком, действующими лицами «Повести...» являются богатый купец
и его жена, то есть городские, посадские люди. Но на первый взгляд
в ней так много фольклорного, что «Повесть...» может быть отнесена
к крестьянскому творчеству. Тем более, что она носит откровенно
и ярко выраженный антиклерикальный характер.
Это очень по-крестьянски: почитать своего священника, благо-
говеть перед ним, как перед посредником между сакральным и про-
фанным мирами, ощущать свою зависимость от него в решающие
моменты своей жизни (такие, как брак, рождение детей, смерть
близких, освящение дома, молитвы по поводу урожая, ит. д.), за-
дабривать батюшку подношениями. На другом же полюсе—«пока-
зывать священнику язык», насмехаться над ним, пародировать свя-
1 Соболевский А. И. Образованость Московской Руси в XV—XVII вв. СПб., 1894.
С. 8.
Крестьянин, посадский человек, казак
365
Семья купца в XVII в.
А. П. Рябушкин, 1896
щенника, в конечном итоге намекать или прямо указывать на мни-
мость священнической роли. Последнее до конца никогда не прого-
варивалось и даже не подразумевалось, а прорывалось как тон
и настроение смутной и не вполне внятной для самой себя крестьян-
ской души, которой священник и насущно необходим (ведь крестья-
нин исповедует православную веру всерьез), и в то же самое время он
как будто и не совсем свой для крестьянина со своей не вполне
понятной службой и проповедью. Своими насмешками над священ
ником крестьянин как бы мстит ему за вознесенность над ним,
указывает на то, что связь священника с сакральным оставляет его
человеком среди людей, что сакральное и присутствует в крестьян-
ском мире, и в то же время отдалено и скрыто от мира. Напряженная
соотнесенность с сакральным, и этого нельзя не учитывать, толкает
не только на выражение своего. страха и благоговения, но и на
конвульсивные, как бы помимо воли совершающиеся попытки са-
кральное снять, точнее, проверить его на сакральность, усомниться
в выраженных формах сакрального, предполагая их условность
и «относительность», то, что за ними стоит невыразимое ни в какой
адекватной форме.
И у нас, и на Западе антиклерикальные моменты в крестьянской
культуре были приблизительно одними и теми же. Но в эпоху
366 Культура Московской Руси
Возрождения, под пером гуманистов традиционный для крестьян-
ской, низовой культуры мотив приобретает новый смысл. Гума-
нисты, создававшие свои, высмеивающие духовенство новеллы, во-
все не стремились развенчать его или «показать язык Богу».
Как правило, они оставались вполне лояльными к Церкви католика-
ми, сохранившими христианскую веру. И их насмешки над духовен-
ством ни на какой антиклерикализм не спишешь. Его, скажем, нет
в одной из новелл Франко Сакетти. В ней «Петруччо из Перуджи,
которому его священник объявляет, что распятие является его долж-
ником, опрокидывает распятие с топором в руках, требуя от него
уплаты ста динариев сторицею; в конце концов ему уплачивают эти
деньги»1.
Соль новеллы флорентийского автора состоит в том, что его герой
буквально воспринял слова приходского священника, обходившего
прихожан с кружкой для пожертвований, произнося каждый раз:
«Вам воздастся сторицею и вы получите вечную жизнь». Простак
Петруччо, не дождавшись своей сторицы, бросается с топором на
распятие, возле которого стоит кружка, разбивая и то и другое.
Забрав деньги, находившиеся в кружке, Петруччо не удовлетворяет-
ся найденной там суммой и угрожает священнику топором, если он,
наконец, не получит свою сторицу. Возражения священника, что он
имел в виду сторицу, обещанную на том свете, не действуют на
упорствующего в своем тупом буквализме Петруччо, и священник,
увидев, что он «попался и может таким образом потерять прихожан,
столковался с Петруччо и дал ему столько же денег, но попросил
никогда больше не жертвовать их. Так тот и сделал»1 2.
Текст Сакетти легко воспринять как кощунственный. Ведь его
герой как-никак бросается с топором на распятие, не вызывая этим
у рассказчика ничего, кроме усмешки. И уж во всяком случае дает
основание для вывода об антиклерикализме автора, который откро-
венно вышучивает трусость и корыстолюбие священника. Однако
не лучше его и Петруччо с его вовсе не благочестивой логикой: «Даю
тебе то, что ты дал мне». Для него отношения с Богом ничем не
отличаются от отношений заимодавца с должником. Так что получа-
ется, что в новелле Франко Сакетти творятся сплошные непотребст-
ва и со стороны священника, и со стороны прихожанина, и со
стороны рассказчика, с веселой снисходительностью воспринимаю-
щего происходящее.
Не думаю, что такой вывод безусловно точно попадает в цель. Он
основывается на слишком буквальном восприятии текста новеллы, не
учитывающем ее контекста. За пределами же буквалистики, новелла
Сакетти о том, что все мы люди, все человеки, что слабости одного
(чрезвычайная тупость и настырность), соответствуют слабости дру-
1 Сакетти Франко. Новеллы. М., 1962. С. 196.
2 Там же. С. 196—198.
Крестьянин, посадский человек, казак
367
того (трусость, корыстолюбие и цинизм). Человеческое очень ущерб-
но и уязвимо, но такое уж оно есть, и заслуживает не гнева, не
сокрушения душевного, не горестного недоумения, а если не прямо
сочувственного, то примиряющего смеха. Смеха автора, снисходи-
тельно похлопывающего по плечу героев новеллы в сознании того,
что и сам похлопывающий недалеко от них ушел. В такой своей
интонации Сакетти не нигилистичен и не циничен вслед за своими
циниками героями. Скорее он прощает им их цинизм. Принимает его
как неотрывный от людей, но вовсе не как непременную истину их
существования. Снисходительный смех над цинизмом может быть
и рискует сблизить смеющегося с ним, но сам по себе цинизмом он не
является. В нем остается нечто от человеческой свободы, полного
принятия жизни со всем ее несовершенством, без окончательно
бесповоротного растворения в этих несовершенствах. У гуманистиче-
ски настроенного Сакетти его видимый антиклерикализм и даже
кощунство бьют в одну цель—освящение человеческого, признание
его реальности и существенности. До антиклерикализма, как таково-
го, итальянскому новеллисту нет никакого дела.
Посмотрим теперь, какова ситуация в нашей русской новелле
«Карп Сутулов». Центральным действующим лицом в ней является
не сам Карп, очень богатый купец, торгующий с заграницей, а его
жена Татиана. Уезжая надолго в Литву по торговым делам, муж
наказал жене в случае, если она издержится, просить денег у верного
друга Карпа, также очень богатого купца, Афанасия Бердова. Когда
после трехлетнего отсутствия мужа у Татианы денег действительно не
стало, и она обратилась за помощью к Афанасию, то «зело верный
друг» ее мужа дал ей такой ответ: «Аз дам тебе на брашна денег сто
Рублев, толко ляг со мною на ночь». Ответ Татианы был достаточно
неожиданным: «Аз не могу того сотворити без повеления отца своего
духовнаго, иду и вопрошу отца своего духовнаго: что ми повелит, то
и сотворю с тобою». Духовный отец, выслушав, надо отдать ей
должное, еще и провокационный вопрос своей духовной дочери,
в свою очередь предложил ей 200 рублей за аналогичные услуги.
Попросив у духовного отца отсрочки, Татиана идет за советом на этот
раз к самому архиепископу, который, выслушав ее рассказ, предла-
гает ей на этот раз 300 рублей. Далее сюжет развивается таким
образом: Татиана поочередно заманивает к себе в дом всех трех
сластолюбцев, прячет их в сундуках, предусмотрительно заперев их,
и затем предъявляет на суд местному воеводе. «Воевода же... подиви-
ся разуму ея, и велми похвали воевода, что она ложа своего не
осквернила. И воевода же усмехнулся и рече ей: „Добро, жено,
заклат твой и стоит тех денег! “ И взя воевода с гостя пятьсот рублев,
с попа тысящу рублев, со архиепископа тысящу пятьсот рублев...
а денги с тою женою и разделили пополам. И похвали ея целомуд-
ренный разум... Не по мнозем времени приехал муж ея от купли
своей, она же ему вся поведаша по ряду. Он же велми возрадовася
368
Культура Московской Руси
о той премудрости жены своей, како она таковую премудрость сотво-
рила. И велми муж ея о том возрадовася»1.
Основная сюжетная линия «Повести о Карпе Сутулове» вполне
фольклорна, с теми или иными вариациями она бессчетное число раз
повторялась в сказочных повествованиях и у нас, и на Западе, и на
Востоке. Конечно же, такой сюжет вполне доступен и русскому
крестьянскому фольклору и наверняка имел хождение в крестьян-
ской среде XVII в. Между тем весь интерес «Повести о Карпе
Сутулове» в деталях и общей ее интонации. Они уже не чисто
крестьянские, фольклорные, и ставят «Повесть...» в тот ряд, где
находится и новелла Сакетти. Среди этих деталей укажем на присут-
ствие в тексте не только привычного попа, но и архиепископа, лица,
уже не очень внятного для крестьянина. Но большее значение имеют
некоторые психологические характеристики героев. Так, отъехавший
в Литву Карп не только требует от жены блюсти себя, но и оставляет
ей денег на то, чтобы Татиана «творила... частые пиры на добрых
жен, на своих сестер». В свою очередь, Татиана проводила Карпа не
только «честно и любезно», но и «радостно велми», более того,
«возвратися в дом свой и нача после мужа своего делати на многия
добрыя жены частыя пиры и веселяся с ними велми, воспоминая
мужа Карпа в радости»1 2. Так, в целомудрии и радости пиров провела
Татиана три года, пока у нее были деньги.
Боюсь, что до такого крестьянский ум вряд ли бы дофантазиро-
вался. Здесь перед нами какое-то совсем не крестьянское жизнелю-
бие и размах жизни, какие-то не крестьянские нормы поведения.
Крестьянской жене в отсутствие мужа пристало не только целомуд-
рие, но и скромная, непритязательная тихость жизни. Впрочем,
и купеческой тоже. В повести же перед нами предстает какая-то
странная купчиха-«эмансипе». Но это если воспринимать образ жиз-
ни Татианы буквально, что мне представляется вовсе не обязатель-
ным. В «Повести...», в частности, важны не пиры сами по себе,
а вольная повадка купчихи, ее свобода и самостоятельность в любой
житейской ситуации. Пир ведь, между прочим, есть исходный образ
полноты жизни, образ бытия того, кому все дано и кто ни от кого
и ни в чем не зависит. Для Татианы жизнь как пир оказывается по
праву и по достоинству, потому что после пира для нее наступает его
коррелят и восполнение—«битва». И свою битву, а точнее, цепь
поединков, Татиана завершает победоносно. Она женщина, и поэто-
му ее оружие не меч, а хитрость и уловки, изворотливое лукавство,
но еще и незаурядные хладнокровие и выдержка.
За что же бьется наша купчиха? Не только за свою женскую честь
и целомудрие. В своих поединках она остается женой своего мужа, то
есть купчихой, и поединок Татианы—это еще и борьба за прибыток
1 Русская демократическая сатира XVII в. М., 1977. С. 91—94.
2 Там же. С. 96.
Крестьянин, посадский человек, казак
369
и доход. Пока ее муж добывает деньги в далекой Литве, она натор-
говала очень крупную по тем временам сумму по месту жительства.
Борьба за целомудрие обернулась для Татианы еще и удачным
торговым предприятием. Купчихе было чем встретить и чем пора-
довать мужа-купца. Она обвела вокруг пальца и мужнина друга-
предателя, и своего похотливого духовника, и самого архиерея,
да еще так славно и полюбовно поладила с высшей властью в го-
роде—воеводой. Поистине Татиана проявила купеческие достоин-
ства и добродетели, к тому же вовсе не вступая в конфликт с христи-
анской заповедью целомудрия, а, напротив, чтя ее со всей
серьезностью. Она и добрая супруга, и добрая христианка. Хотя,
безусловно, преобладает в ней первое. Точнее, наверное, будет ска-
зать, что, будучи купчихой до мозга костей, Татиана сумела не
вступить в конфликт, если не с духовенством, то с христианской
верой. Конечно, она не смиренная праведница, смирения-то в ней нет
совсем, но и не грешница, предавшаяся самому откровенному и гру-
бому греху.
Именно этот момент наиболее существенен в «Повести о Карпе
Сутулове», а вовсе не ее антик л ирика лизм. Она о человеке, который
стремится жить по своим человеческим, в данном случае купеческим
меркам, не вступая в то же время в конфликт с требованиями,
идущими свыше, из сферы сакрального. В «Повести...» нет всеобщего
осмеяния и снижения, даже и снисходительно-веселого, как
у Ф. Сакетти. Но в ней освящение человеческого все же заходит
очень далеко. Чего стоит один только дележ прибытка, полученного
от неудачливых купца, попа и архиепископа, между купчихой и вое-
водой. В глазах автора «Повести...»—это законный прибыток за
целомудрие, житейскую мудрость и расторопность одной и справед-
ливый суд—другого. И Татиана и воевода здесь явно не бескорыст-
ны. Они готовы жить по правде, но не для Бога и спасения души,
а для своего посюстороннего земного благополучия. Их добродетель
не имеет выхода ни в самоотречение, ни в подвиг принятия мук. Ни
на что подобное в «Повести...» нет и намека. Она всецело человечна,
хотя и не всецело низменно человечна, как у Ф. Сакетти. Но линия
в ней намечается приблизительно та же, что и у флорентийского
новеллиста, его великого предшественника Д. Боккаччо и множества
других последующих ренессансных новеллистов. Несомненно, это
линия городской культуры и литературы. Она выражает собой не
фольклорно-крестьянские, а новые реалии городской жизни. Впро-
чем, реалии, может быть, и не новые, но во всяком случае освящае-
мые и получающие права гражданства. «Повесть о Карпе Сутулове»
и ряд других текстов XVII в. свидетельствуют о том, что для посад-
ского человека владение письменным словом открывало возможности
не только для составления деловых документов в духе берестяных
грамот, но и для создания литературных произведений именно в духе
городской жизни.
370
Культура Московской Руси
***
Если московский царь, боярин, дворянин, посадский человек
и крестьянин имели своих прямых предшественников в Киевской
и удельной Руси, предшественников, в чем-то с ними сходных,
а в чем-то резко отличных, то фигура казака появляется у нас только
в московский период. Тот, кто при первом взгляде напоминает его
предшественника, при более пристальном рассмотрении оказывается
кем-то существенно иным. Скажем, дружинники киевского времени
служили своему князю, но могли не просто перейти от одного князя
к другому, а составить самостоятельный военный отряд. В таком
случае они во главе со своими руководителями или нанимались на
службу где-нибудь в далеких землях, скажем к византийскому импе-
ратору, или совершали самостоятельные военные экспедиции с не-
пременными для них сражениями и грабежами. В этом последнем
случае дружинники напоминали будущих казаков. Но именно на
первый взгляд. Потому что дружинники такого типа странствовали
не вечно, а рано или поздно поступали на службу к государю,
распадаясь на отдельных дружинников. Чего в любом случае не
происходило, так это создание характерно казацкого вольного дру-
жинного сообщества равных друг другу воинов, чуждого и противо-
стоящего государственному устроению. Дружинники всегда более
или менее элита, по крайней мере их верхушка не лишена аристокра-
тизма, в корне чуждого казачеству.
Впрочем, вполне вероятным представляется предположение о том,
что и в Киевской Руси существовало некоторое подобие казачества на
ее степных окраинах. Обитавшие здесь люди могли быть практиче-
ски независимы от княжеской власти, сами организуя оборону своих
домов и селений от степняков, так же как и делая набеги в степь.
Однако заявило о себе казачество, стало заметным явлением русской
жизни только в московский период. И очень значимо при этом, что
и самому слову «казак», а в чем-то и самой реальности казачества,
Русь обязана степнякам-кочевникам. Как отмечал еще Н. И. Косто-
маров, «казачество—бесспорно татарского происхождения, как и са-
мое название „казак", означающее по-татарски бродягу, вольного
воина, наездника. По основании крымского царства и по занятии
ордами черноморских стран, татарские наездники стали беспокоить
русских жителей обоих существовавших тогда государств—Москов-
ского и Литовского. Они отправлялись на военные подвиги по своей
охоте, без приказания и часто без позволения своих старших»1.
Откуда исходил импульс набегов казаков-татар, очевидно. Степ-
някам не из числа знати не всегда было сподручно ждать органи-
зуемых ханами походов. Последние вынуждены были вести диплома-
тическую игру, лавировать между Турцией, Польшей, Литвой и Русью,
добиваться от них дани и субсидий, считаться с последствиями
1 Костомаров Н. И. Богдан Хмельницкий. М., 1994. С. 9.
Крестьянин, посадский человек, казак
371
возможного похода или набега для Крымского ханства. Все подоб-
ные рассчеты очень мало о чем говорили рядовым воинам-кочевни-
кам. Они знали одно: удачный набег может принести им благосостоя-
ние, а степь укроет их от преследования и мести. Поэтому для
какой-то части татар предпочтительным являлось ни от кого не
зависимое вольное житье-бытье в степи с регулярными набегами
и грабежами оседлых соседей.
Разумеется, нет никакого смысла отрицать то, что пример татар-
ских казаков оказывался заразительным и для русских людей, что
они перенимали у татар не только их именование, но и их повадки.
Однако в целом почва для русского казачества в Московской Руси
была совсем иная, чем для татарского, иным был и его смысл.
Татарские образования, такие как Золотая Орда, Казанское, Астра-
ханское, Сибирское или Крымское ханства, были, самое большее,
полугосударственными образованиями. По существу каждое из них
представляло собой некоторый племенной союз с ярко выраженными
архаически-первобытными чертами, союз, господствовавший над осед-
лым населением завоеванных стран и земель или периодически
совершающий грабительские набеги на соседние страны, берущий
с них дань. Поэтому стать казаком в татарском смысле означало
прежде всего выйти за пределы родо-племенной организации, жить
на свой страх и риск, в оторванности от устойчивых норм и обыкно-
вений.
Русский же казак первоначально становился таковым, разрывая
связь с государством, переставая быть подданным Московского вели-
кого князя, а потом царя. Огромное большинство казаков были
выходцами из крестьян, из податного сословия, для которого особен-
но тяжелым было государево тягло, так же как и зависимость от
дворянина или боярина. Переход из крестьян в казаки стал еще более
резким разрывом с прошлым после оформления крепостного права.
Это было превращение из состояния предельно зависимого, с явными
чертами раба, в состояние вольного человека. В казачестве момент
воли, вольного жития-бытия в решающей степени важен. Собствен-
но, казак по понятиям того времени и есть вольный человек.
То, что воля—это не совсем то, а может быть, и совсем не то, что
свобода, более или менее очевидно. В воле акцентировано прежде
всего внешнее состояние человека, его независимость от извне приходя-
щих ограничений. Если, скажем, ребенку не позволяют гулять до
самозабвения и он сбежит из дома, это будет означать, что он
вырвался на волю, то есть не зависит от родителей. Но стал ли он
теперь свободным, это еще вопрос, на который, правда, легко дать
ответ. Почти наверняка ребенок не свободен ввиду того, что не
владеет собой, действует непоследовательно, безотчетно, импульсивно,
короче, он становится рабом своих вожделений, его нужно срочно
остановить, поставив в ситуацию зависимости от родителей, в которой
для ребенка больше свободы, чем в не дай Бог обретенной им воле.
372
Культура Московской Руси
Конечно, вчерашний крестья-
нин или посадский человек-ка-
зак—это не ребенок. Но обретал
он именно свой детский эквивалент
свободы—волю. Казака уместно
сравнить с человеком, сбившимся
со своего пути или уклонившимся
от него. Путь посадского человека
или крестьянина труден, идет он
по нему обремененный непомерно
тяжелым грузом, коснись чего, ему
мало помогут, плохо защитят, а то
и вовсе оставят без помощи и за-
щиты власти предержащие. И все-
таки жизнь посадского человека
или крестьянина — это именно
путь, на нем есть вехи, остановки,
у него есть свой устойчивый смысл
Стенька Разин. Немецкая гравюра. И цель. Казак же, как «беспут-
Конец XVII в. ный» человек, не идет своим пу-
тем, а гуляет. Он человек «гуля-
щий» и «пропащий». Для казака дорога—это то направление, по
которому он идет сейчас, но его он может в любой момент сменить.
А иначе какое это гуляние. Но что значит казацкая гульба, не для
того же он отказался от крестьянского и посадского пути-дороги,
чтобы, гуляя, собирать в поле цветы? Казацкая гульба—это сменяю-
щие и предполагающие друг друга битва и пир.
Казак—удалой человек, поэтому ему что пировать, что биться —
в пределе они суть одно и то же, некоторая битва-пир. Та реальность,
к которой, между прочим, тяготеет всякое героическое существова-
ние. В частности, и жизнь князей киевской поры с их дружинами.
Различие между ними и казаками, правда, в том, что князья и дру-
жинники ни от кого не убегали, ни с какого пути не сбивались.
Жизнь их была вовсе не гульбой, а служением. Князь служил своей
земле, Богу; дружинники—своему князю. В этом состоял их жизнен-
ный путь, если, конечно, они действительно служили, а не погружа-
лись в бессмысленные распри и счеты между собой.
Нечего и говорить о том, что ушедшему из своей земли и поселив-
шемуся на ничейной земле казаку было от чего уходить и избавлять-
ся. Рабство или близкое к нему состояние не было исходной или
внутренней, постепенно осуществившейся формой русской культу-
ры. Им Русь обязана и ордынскому игу, и своей неспособности
преодолеть его до конца изнутри. Так что, уходя в казаки, русский
человек не только сбивался с пути, но и не принимал в своей русской
культуре то, что ее подрывало, разъедало, закрывало для нее истори-
ческую перспективу. Самое безотрадное в уходе в казаки, наверное,
Крестьянин, посадский человек, казак
373
состояло в том, что образование казачества ничуть не подрывало
московского патриархально-семейного рабства, не привносило в него
никакого импульса свободы. Вольный человек-казак—это еще и че-
ловек, не сумевший освободиться или отстоять для себя некоторый
сектор свободы, подменивший ее волей. А воля ведь, с ее беспутством
и гульбой, совсем не чужда всякого рода непотребствам.
Казак исходно—это никакой не защитник Отечества, поселившийся
на его окраинах или на ничейной земле с тем, чтобы отражать разо-
рительные набеги кочевников. Исходно он и сам кочевник или почти
кочевник. Вражда казака к степняку была наследственным неприяти-
ем тысячелетних противников Руси, да еще и иноверцев. Но казак не
принимал не только казака-татарина или ханского воина-нукера, но
во многом и свое Отечество. При случае он готов пограбить и его
и поживиться им на манер своего врага-татарина. Эта казацкая черта
ярко проявилась в Смутное время. Тогда казакам решительно безраз-
лично было, на чьей стороне воевать: московско-русской ли, польско-
литовской, самозванской. Вообще-то, лучше всего было оставаться на
своей собственной, казачьей, стороне. Да вот беда: для самостоятель-
ных вылазок, грабежей, самоуправства и самовластия сил чаще всего
нехватало. Приходилось примыкать к какой-либо из противоборст-
вующих в хаосе Смутного времени сторон.
Со временем, уже после Смуты, московскому правительству в зна-
чительной степени удалось приручить казачество, сделать из него
такое странное и инородное для Московской Руси сословие вольных
людей. Их воля будет признана в определенных рамках, и станет она
возможной прежде всего ввиду окраинности казачьих поселений. По
существу, даже и не окраинности, а отделенности их от городов и сел
Московского царства безлюдными или почти безлюдными простран-
ствами. Казачья вольница жительствовала в таком далеке от собст-
венно Московии, что можно было особенно не опасаться ее необори-
мо-разлагающего влияния на крестьянский и посадский люд.
Признание казачества облегчалось еще и тем обстоятельством, что
оно по существу было не способно к самостоятельно дооформленной
в своей устойчивости жизни. В самом деле, перед казаком открыва-
лось две перспективы: или, нагулявшись всласть, безвозвратно сги-
нуть в ничейных пространствах, или выработать свой казачий строй
жизни. Исходно почти разбойники, казаки в конечном итоге создали
своеобычный казачий социум, уклад своей казацкой жизни. Про
казачьих атаманов, казачью старшину, казачий круг, казачьи стани-
цы в общем-то все знают. Но знание это само по себе не позволяет
ответить на жизненно важный для казачества вопрос: позволял ли
казачий уклад в своей устойчивой оформленности существовать каза-
честву самостоятельно и что это было бы за существование—государ-
ственное или какое-либо иное?
Ничто не свидетельствует о том, что казачья вольница, со време-
нем оформившаяся в казачье самоуправление, способна была к неза-
374
Культура Московской Руси
висимому существованию. Возникни у нас на Дону, Кубани, Урале,
в Запорожье некоторое подобие казачьих государств, или прямо
казачьи государства—это означало бы, что само слово «казак» ради-
кально изменило свое значение. Казачья жизнь в принципе безгосу-
дарственна. Она и возникнуть-то у нас могла как антитеза государст-
венности, как его неприятие, но неприятие такого рода, которое тем
не менее предполагало существование государства. Без подпитки
людскими ресурсами из Московского царства, без его непрерывной
вооруженной борьбы со степняками казаки были бы рано или поздно
смяты татарами или другими враждебными им племенами. И не по
слабости казачьих сообществ самих по себе. А и потому еще, что
казачьи формы жизни промежуточны и неустойчивы. Кого собой
представляли казаки, осевшие, скажем, на Дону, и образовавшие
Всевеликое войско Донское? В общем-то, самих по себе достаточно
привычных и распространенных воинов-земледельцев. Воинов—в пер-
вую очередь, земледельцев—во вторую. Они вроде бы вновь воспро-
извели давнюю реальность древнеславянской и древнерусской жиз-
ни. Да только с тем ограничением, что казаки не хотели и не готовы
были породить из себя в любом случае необходимый для своего
существования элемент—воинскую знать и аристократию. С сущест-
вованием последней непременно связано возникновение так называе-
мой «высокой культуры», не только фольклора, но и письменности,
в том числе и авторского слова, архитектуры, утонченных форм
общения и пр.
Самое же главное состоит в том, что аристократия и знать так или
иначе в западной традиции неизменно были носителями духа свобо-
ды, так отличного от казачьей воли. Казачество же принципиально
и упорно эгалитарно, дух равенства для него конститутивен. И ка-
кую бы старшину казачество ни создавало, как бы она ни богатела за
счет рядового казачества, внутри казачьей субкультуры санкции на
аристократическую выделенность старшины не возникало, она и не
могла возникнуть. Вот и оставалась казачья верхушка теми же
самыми простолюдинами-казаками, с тем же образом жизни, повад-
ками и манерами. Запорожские казаки, как ближе расположенные
к Западу и теснее с ним соприкасавшиеся, острее других чувствовали
необходимость довершенности своего культурного статута. И не
в себе самих они обретали эту довершенность, точнее, ее иллюзию,
а кивая в сторону Запада. Отсюда их именование себя «лыцарями».
В том и дело, что запорожцы истинными рыцарями стать не могли,
они были именно «лыцари», такие странные и смешные в своих
претензиях рыцари-мужики, немыслимое смешение несовместимо-
противоположного .
Если признать, что казаки в своей устоявшейся и оформившейся
жизни—это воины-земледельцы, внутренне не приемлющие разделе-
ния на верхи и низы, для того и ставшие казаками, чтобы жить на
воле, а значит, и в равенстве, то становится понятной неизбежность
Крестьянин, посадский человек, казак
375
их превращения в одно из сословий Московского государства. В этом
государстве все более или менее рабы и холопы, но это же государст-
во допускает существование вольных людей, ограждает их от осталь-
ных своих подданных, пользуется немаловажными для него услуга-
ми казаков, но и помогает им в свою очередь. Главное же в помощи
со стороны государства не в поддержке казачьих военных экспеди-
ций, а в охранении казаков от самих себя. От разрушительных для
казачества судорожных поползновений на полное и безусловное
равенство в своей среде, от превращения их в шайки лихих людей,
которым все равно с кем сражаться и кого грабить. В том и парадокс
казачества, что оно со временем стало верой и правдой служить
государям и государству, изжившему, казалось бы, навсегда в рус-
ском народе дух свободы, служить под знаком своей вольности
и в осуществление ее.
Для понимания отношений между казачеством и остальной Русью,
между сословием вольных людей и властью, знавшей только одно
отношение—«господин—холоп», многое проясняет обращение к зна-
менитой «Повести об Азовском осадном сидении донских казаков».
Она не только описывает реальное событие—четырехмесячную осаду
громадной турецкой армией самовольно захваченного в 1637 г. каза-
ками Азова, но и написана одним из участников «осадного сидения»,
скорее всего прибывшим в 1642 г. сразу после успешного отражения
турецкого натиска в Москву на Земский собор в составе казачьего
посольства войсковым подьячим Федором Ивановичем Порошиным.
«Повесть...», несомненно, произведение с выраженным фольклорным
и поэтическим моментом, и, что очень важно, адресована она не
донским казакам, а московским властям. И все же вся «Повесть...»
дышит казачьим духом, во всей его противоречивости, несовмести-
мых контрастах донской вольности и принадлежности казачьего
Дона Московскому царству. Донская вольность утверждается авто-
ром в таких словах: «Прозвище наше вечное—казачество великое
донское безстрашное... Мы себе, казачество волное, укупаем смерть
в живота места. Где бывают рати ваши великия, тут ложатся трупы
многие»1. Вот еще фрагмент из обращения донцов к осаждающим их
туркам: «То нам, молодцам, дорого надобно, чтобы наша была слава
вечная по всему свету, что не страшны нам ваши паши и силы
турецкия. Сперва мы сказали вам: дадим мы вам про себя знать
и ведать паметно на веки веков во все край бусурманские, штобы вам
было казать, пришед от нас, за морем царю своему турскому глупо-
му, каково приступать казаку рускому»1 2.
При таком не лишенном разбойничьей интонации удальстве, при
таком безоглядном напоре и пафосе донским казакам впору погу-
лять, покуролесить и сгинуть, отгуляв в своей Причерноморской
1 Изборник. С. 555.
2 Там же. С. 563.
376
Культура Московской Руси
степи. Своей волей, на свой страх и риск, они захватили у могущест-
венной Турции мощную крепость Азов, удерживали ее четыре года,
дождались грандиозного военного похода против себя, да еще выдер-
жали четырехмесячную осаду, перемежаемую штурмами бесчислен-
ных войск. Это ли не казацкое дело, не удаль, не молодчество, не
битва—пир для тех, кто не захотел быть холопами.
Но кто они тогда, казаки, уже не для самих себя и не для
враждебных турок, а для своего православного царя? «И мы люди
Божии, холопи государя московского, а се нарицаемся по крещению
христианя православные...»1, —говорит о донцах и за донцов автор
«Повести...». Так что, все-таки вольные донские казаки еще и холо-
пы? Выходит, что так. И не только потому, что на Земском соборе
или в московских приказах нужно разводить дипломатию, демонст-
рировать лояльность к Москве, без которой казакам не продержать-
ся. Во-первых, совсем не обязательно им было брать Азов, самим им
его все равно навсегда не удержать, и не так уж он нужен казакам.
Брали они Азов для московского царя. Точнее же, и погуляли как
следует по своей воле, и государственное дело сделали. И, во-
вторых, если донским казакам и иметь какую-то связь с Москвой,
как-то соотноситься с ней не во вражде, а в мире, то Москва заведомо
не пойдет на отношения с Доном, в которых будет звучать иной тон,
чем в сношениях с другими своими подданными. Внутренние дела
донских казаков царь и его правительство еще готовы оставить на их
собственное усмотрение, но не общие дела Дона и Москвы. Здесь
обязательно должна обозначиться связь «господин—холоп». И дон-
ским казакам, никуда не денешься, приходилось называть себя
царскими холопами.
Но не от одной только зависимости от Москвы. А потому еще, что
другого выхода изнутри казацкой души не рождалось. Не хлопать
же, в самом деле, было донцам царя Михаила Федоровича по плечу.
Тогда весь православный мир стал бы для казаков своим, казачьим.
Да только не поднималась у них на это рука. Казак исходно, раз
и навсегда, не просто человек воли и гульбы, но и человек окраины,
украины, края света. Того края, за которым начинается антимир
бусурманства. Но потому казачий мир и окраинный, что из его
центра казак сбежал, оставил его именно в качестве центра, а не
переместил центр вместе с собой.
Последнее тоже бывало в истории, но не в казачьей. Еще и пото-
му, что воля—это если в чем-то и свобода, то свобода от внешних пут
и ограничений, от господина. Господин в качестве такового и призна-
вался, даже в самом бегстве от него. Оно совершалось по логике:
пусть он остается господином, но не для меня. Если же господин не
поколеблен в своем статуте, то мне самому, казаку, уже не бывать
господином, а быть всего лишь вольным человеком, не имеющим
1 Изборник. С. 557.
Крестьянин, посадский человек, казак
377
своего пути, своего статута, своего, соотнесенного прежде всего
с самим собой места в мире.
Да и так ли уж легко и естественно жить по своей воле, в сознании
своей неизбывной окраинности? Похоже, не всегда и не во всем.
Иначе откуда такие странные, не без надрыва, строки из «Повести об
осадном сидении»: «Государство великое и пространное Московское
многолюдное, сияет оно посреди всех государств и орд бусурманских
и еллинских и персидских, яко солнце (вот он, центр для казачьей
периферии. —Авт.). Не почитают нас там на Руси и за пса смердяща-
го. Отбегохом мы и с того государства Московского из работы
вечныя, от холопства полного, от бояр и дворян государевых, да зде
вселилися в пустыни непроходные, живем, взирая на Бога. Кому там
потужить об нас? Ради там все концу нашему. А запасы к нам
хлебные не бывают с Руси николи. Кормит нас, молотцов, небесный
царь на поле своею милостию: зверьми дивиими да морскою ры-
бою»1.
Последние из приведенных слов, а они непосредственно обращены
к туркам, обличают дипломатический ход казаков, их стремление
убедить турецкие власти в том, что к их дерзкому взятию и удержа-
-нию Азова московский царь не причастен. На этом явно настаивало
московское правительство, казаки здесь поют с его голоса. Но инто-
нации-то в казачьем голосе свои. В них ощущение казацкого сиротст-
ва и неприкаянности. Как будто казаки действительно нашкодившие
дети, сбежавшие от своего отца на свою детскую волю. И хорошо им
на воле, и домой хотелось бы. Не все же жить на чужбине, вдали от
семьи. Семья, она там, в Московском царстве. Вернуться туда—
опять стать холопом. Чего уж хуже. Вот и остается взрослеть самому,
ощущать себя взрослым, настоящим мужем войны, суровым и бес-
страшным воином. У которого, правда, нет-нет да и прорвутся
жалобно-детские интонации, чему свидетельством, в частности, и на-
ша «Повесть...». Заканчивается она совсем уже поразительным обра-
щением к московскому государю. Его просто нельзя не привести
полностью: «А мы, холопи ево, которые осталися у осаду азовския
силы, все уже мы старцы увечные: с промыслу и з бою уж не будет
нас. А се обещание всех нас предтечева образа в монастыре сво
постричися, принять образ мнишески. За него, государя, станем Бога
молить до веку и за ево государское благородие. Ево то государскою
обороною оборонил нас Бог, верою, от таких турецких сил, а не
нашим то молодецким мужеством и промыслом. А буде государь нас,
холопей своих далних, не пожалует, не велит у нас принять с рук
наших Азова города, заплакав, нам ево покинути. Подимем мы,
грешные, икону Предтечеву, да и пойдем с ним, светом, где нам он
велит. Атамана своего пострижем у ево образа, тот у нас над нами
будет игуменом, а ясаула пострижем, тот у нас над нами будет
1 Изборник. С. 557.
378
Культура Московской Руси
строителем. А мы, бедные, хотя дряхлые все, а не отступим от ево
Предтечева образа, помрем все тут до единова. Будет во веки славна
лавра Предтечева»1.
Опять-таки, мы не все поймем в этом тексте, не учитывая его
направленность и «корысть» убедить Москву посадить в удержанном
казаками Азове свой большой и постоянный гарнизон. Только в этом
случае город можно удержать за Россией. Но убеждая царя и его
правительство, послы донских казаков принимают тон вовсе не
казацкий и внутренне им вполне чуждый. Конечно, назвать себя
«старцами увечными» через четыре месяца после турецкой осады
можно только в условном смысле, как-то уж совсем стремительно
постарели недавние «молодцы». Но они действительно изранены,
и силы у них и тех, кто их послал с Дона, на пределе. В противостоя-
нии туркам донцам самим уже не выдержать молодецкой гульбы,
сдаваться на милость турецкого султана они тем более не собирают-
ся. Отсюда ощущение себя «старцами увечными». Оно от усталости
и надвигающегося чувства бессилия перед явно грозящим возобно-
виться турецким натиском. Казацкий выход из такого положения—
славная гибель. Но, может быть, Москва все-таки придет на помощь,
возьмет на себя последствия азовской «гульбы», расхлебает заварен-
ную донскими казаками кашу. Тогда за ними сполна останется честь
и слава победителей. Но это уже будет дело московское, казакам же,
совершившим свои непомерные, сверхчеловеческие деяния, сполна
выказавшим свое казацкое естество, им помимо гибели остается
только одно—обращенность к Богу и жизнь в Боге.
Хотя они и признают себя холопами «государевыми», но это
дипломатия и политес, в действительные холопы они не пойдут.
Послеказацкое бытие для казаков приемлемо в казаках же, но уже
в радикально преобразованной форме. Такой формой является мона-
шество. Но монашество особое, именно казачье, потому что они
выбирают себе некоторый особый монастырь, в котором после по-
стрига игуменом непременно будет казачий атаман. Монахами каза-
ки себя видят не от хорошей жизни, и все же монашеский путь
в послеказачьей жизни для них более приемлем, чем холопская
жизнь. «Средь мира дольнего» для вольного казачьего сердца «есть
три пути»—в казаки, в холопы и в монахи. Он казак, и сбившийся
с пути, сбежавший из царства на волю холоп и христианин, раб
Божий. Податься казаку в рабы Божии—это не пойти в царские
холопы. Православным человеком казак не переставал себя мыслить
и после ухода из мира Московского царства. С миром на границе
антимира его соединяло православие даже и в тех радикальных
вариантах, когда казак и знать не хотел никакого царя.
Но и признав в значительной степени номинальную царскую
власть, казак все же предпочитает ей власть Бога. Для него служение
1 Изборник. С. 566.
Опричнина и Смутное время
379
Богу по существу не обязательно предполагает служение царю как
наместнику Бога на православной земле. Даже патриарх казаку не во
всем указ. А иначе откуда это простодушное и трогательное желание
поставить во главе своего казачьего монастыря атамана и есаула.
В конце же концов ни от царя, ни от Церкви казачеству было не
оторваться. Их детская жалость к самим себе, так сильно и проник-
новенно выраженная в цитированном фрагменте «Повести об Азов-
ском осадном сидении», великолепно демонстрирует недовершен-
ность и недооформленность не просто казацкой взрослости (для
которой совершенно необходим героически-аристократический мо-
мент, неприемлемый для рыцарей-мужиков), но и самостоятельное
(самобытное) существование в своем казацком мире, со своим устой-
чивым центром, не нуждающемся ни в какой Москве, становящейся
в таком случае периферией для казачьего мира.
Опричнина и Смутное время
Как опричнина, так и Смутное время не были так называемыми
«явлениями культуры», если под ними иметь в виду нечто позитив-
ное, утверждающее жизнь и раздвигающее ее горизонты. Как раз
напротив, и одна, и другое культуре противоположны, они действо-
вали как начала разлагающие и разрушительные, были самоотрица-
нием русской культуры Московского периода. Однако и в самоотри-
цании культура некоторым образом обнаруживает себя. И не просто
свои слабости и пороки, свою несостоятельность, но еще и «разочаро-
вание» в себе, несовпадение своего порыва и устремленности с осу-
ществившимся наличным. Особенно характерна в этом отношении
опричнина. И это станет ясным, стоит нам обратить внимание на
очевидное. Опричнина разразилась над Московской Русью и в из-
вестном смысле стала самой Русью в момент восхождения Москов-
ского царства, укрепления его в качестве государства, хозяйственно-
го роста и впечатляющих внешнеполитических успехов. Ведь именно
накануне опричнины Русь не только успешно противостояла извечно-
му натиску из степи, но и нанесла наследникам Золотой Орды
сокрушительный контрудар, разгромив Казанское, а затем и Астра-
ханское ханства. Такой экспансии на Восток Русь не совершала
с незапамятных Святославовых времен. Но Святослав Игоревич,
уничтожив Хазарский каганат, впоследствии и сам пал в битве
с печенегами. Царь же Иван Васильевич навсегда утвердил Русь
в Поволжье. Менее удачной, дорого стоившей Руси и затяжной
оказалась экспансия Московского царства на Запад, в земли Ливон-
ского ордена. Но по-своему и она свидетельствовала о возросшей
мощи страны. Для Московского царства самого конца 50-х годов
XVI в. Ливонский орден был уже не противник, оно покорило бы все
его земли, если бы не противодействие коалиции всех западных
соседей Руси —Польши, Литвы, Дании и Швеции.
380
Культура Московской Руси
Так или иначе, но опричнину только и можно осмыслить как
страшный кризис и провал, как внезапную тяжкую болезнь вчера
еще могучего организма. В ней-то и поражает более всего какая-то
разрушительная одержимость, буйство, для которого никак не по-
дыскать естественных оснований и мотивов. Рационализировать, во
всяком случае, до конца или в главном, опричнину невозможно.
Пока этого еще никому не удавалось.
В опричнине пытались увидеть орудие решительной и непримири-
мой борьбы нарождающегося самодержавия с боярской оппозицией.
Не получилось. И, в частности, потому, что истребляя боярскую
верхушку, Иван Грозный по существу обрушился не на боярство, как
таковое, а на его определенных представителей. По завершении
опричного террора боярство уцелело и явно потому, что против его
существования, как такового, инициатор и руководитель опричнины
ничего не имел. Не было подорвано и боярское землевладение как
основа боярского могущества и преуспеяния. К тому же опричный
террор распространялся далеко не только на бояр и их окружение.
В не меньшей степени от него пострадали дворяне, посадские люди,
включая купечество, и крестьяне. Иначе говоря, у опричного террора
не было сословного ограничения.
Но тогда в опричнине можно попытаться увидеть не борьбу против
боярства, как такового, а против его роли и влияния в Московском
государстве. Против боярских поползновений на аристократическое
правление по образу Литвы и Польши, где власть великого князя
и короля была существенно ограничена земельными магнатами. Ли-
товско-польский, так же как и шведский, пример мог быть для Ивана
Грозного пугающим, обозначающим его собственную перспективу,
так же как перспективу династии. Но если она и обозначилась в уме
московского государя, то, оставаясь в здравом уме, он не мог не
видеть, что в обозримом будущем никто и ничто ограничением
царской власти не угрожал.
Иван IV за семнадцать лет до опричнины, еще будучи юношей,
первый из московских правителей венчался на царство. Те, кто
толкал его на этот шаг, а в уме шестнадцатилетнего юноши сам он
вызреть не мог, кто приветствовал принятие царского сана или не
возражал против происшедшего, способны были воспринимать вен-
чание только как укрепление великокняжеской власти, переход ее
в новое качество. И в самом деле, царь—это не великий князь, в идее
и принципе он светский глава православного мира, и не служить ему
верой и правдой по представлениям того времени—великий грех.
Еще применительно к отцу Ивана IV, великому князю Василию III,
за четверть века до венчания на царство его сына Сигизмунд Гербер-
штейн писал: «Властью, которую он применяет к своим подданным,
он легко превосходит всех монархов всего мира. И он докончил
только то, что начал его отец, а именно отнял у всех князей и других
властителей все их города и укрепления. <...> Всех одинаково гнетет
Опричнина и Смутное время
381
он жестоким рабством»1. Можно, правда, возразить, что Гербер-
штейн видел Василия III и его княжение тогда, когда на великокня-
жеском престоле сидел зрелый муж, давно сведший счеты с теми, кто
вызвал его неудовольствие, в ком он видел действительных, потенци-
альных или мнимых противников. Иван Васильевич получил свою,
пускай даже и царскую, власть слишком рано, чтобы быть способным
править самостоятельно. И действительно, это давно очевидный
факт, что Избранная рада во главе с Алексеем Адашевым и Сильвест-
ром до конца 50-х гг. была очень влиятельна, что без нее Иван IV не
предпринимал никаких значительных акций. Известно также, что
постепенно у царя накапливалось неприятие рады, раздражение
и враждебность против Адашева и Сильвестра.
Очевидно, однако, что они не были бессильными душевными
движениями, никак не способными повлиять на действия Ивана IV.
Во-первых, вопреки влиянию своих советников, он развязал Ливон-
скую войну. И, во-вторых, опалу на Адашева и Сильвестра Иван IV
наложил еще до всякой опричнины. Для сосредоточения в своих
руках всей полноты власти опричнина или какое-то ее подобие царю
были не нужны. Если он чувствовал некоторую свою зависимость от
Боярской Думы, Ивану IV было бы вполне достаточно разделять
и властвовать, поочередно приближать к себе одни боярские группи-
ровки и отдалять и репрессировать другие.
Никакая сплоченная боярская оппозиция царю заведомо не грози-
ла уже потому, что боярство вовсе не представляло собой некоторую
достаточно однородную и тем более сплоченную корпорацию. Ко
временам Ивана IV бояре слишком привыкли бороться за самое
близкое место к престолу с такими же, как и они претендентами. На
этом, в частности, построено оформившееся как раз к середине
XVI в. местничество. Конечно, оно давало известную независимость
боярам от царя, но и было намертво прикреплено к царскому трону.
И потом, местничество могло в чем угодно ограничивать царскую
власть, но только не в карах за измены и крамолы действительные
или мнимые. Оно давало известные гарантии боярскому сословию,
но никому из бояр в отдельности. И не случайно Иван IV направо
и налево рубил боярские головы, при этом не посягая на сам инсти-
тут местничества. Отменено оно было лишь через сто лет после
смерти Ивана Грозного.
Хотя при попытке определить логику и смысл введения Иваном IV
опричнины большинство исследователей ссылались на борьбу царя
с боярством, существует и точка зрения, согласно которой дело
нельзя свести к указанному противостоянию. Так, в своей во многом
новаторской книге «Начало самодержавия в России» Д. Н. Альшиц
утверждает, что «самодержавие не могло бы ни появиться, ни укре-
питься без того инструмента принуждения, который сумела создать
1 Россия глазами иностранцев. С. 51.
382
Культура Московской Руси
окрепшая царская власть, то есть без опричнины»1. Принуждать при
этом ей пришлось и боярство, и дворянство, и посадских людей
и духовенство, так как каждое из перечисленных сословий стреми-
лось в своих интересах ограничить царскую власть. Объединившись
же, они неминуемо привели бы Московскую Русь к сословно-пред-
ставительной монархии, которая по существу уже начала склады-
ваться в первые годы царствования Ивана Грозного. Если договари-
вать окончательно ключевую мысль Альшица, то остается заключить,
что опричнина, первоначально расколов Московское царство на
опричнину и земщину, завершилась установлением по всей Руси
опричных порядков. Целиком восторжествовавшая опричнина и есть
Московское самодержавие.
Пожалуй, с подобным выводом можно было бы и согласиться,
если под опричниной понимать безусловное единовластие царя, тако-
го рода выстроенность государственного управления, когда роль
царского окружения сводится исключительно к исполнению царской
воли. Но ведь опричнина не просто привела к определенным резуль-
татам, выразившимся в резком возрастании и без того громадной
власти царя. Она была еще и террором, еще и вакханалией убийств,
пыток, казней, вовсе не обязательно целесообразных с какой-либо,
пускай даже самой низменной, точки зрения. В том, как осуществля-
лась опричнина, было много странного и дикого, временами она
отдавала полным безумием, явлением бесцельным или имевшим цель
в самой себе. Вряд ли следует преувеличивать в опричнине момент
царского замысла и его последовательного осуществления. Очень
похоже, что реальность опричнины нередко поглощала и ее замысел
и движение к его осуществлению. Но если она и становилась безуми-
ем, действием не от ума как целесообразного начала, то безумием,
в котором была, по известному выражению, своя система.
Безумным в опричнине было уже само разделение страны на
опричнину и земщину, на ту часть царства, которую царь оставлял за
собой, и ту, которая оставалась за Боярской Думой. Ведь дело здесь
было вовсе не в том, что Иван Грозный признавал за земщиной
какое-либо право жить по своей воле. Земщина была нужна ему как
объект утеснения и подавления. По сути, опричнина находились
с земщиной в состоянии войны, но войны особой, однонаправленной,
состоявшей в разрушительных набегах и карательных экспедициях
опричнины в земщину. С 1571г. до тех пор единое Московское
царство образовало мир и антимир. Согласно замыслу Ивана Грозно-
го, они находились в непримиримой вражде, и один из них, оприч-
ный, должен был обуздать другой—земский.
Но вот вопрос: кто—опричники или земцы составляли мир и анти-
мир соответственно. Вроде бы антимиром являлась земщина, так как
1 Алыпиц Д. Н. Начало самодержавия в России. Л., 1988. С. 230 (далее: Аль-
шиц).
Опричнина и Смутное время
383
царь оставил за собой в качестве
своего удела опричнину, отрека-
ясь от остального царства и пре-
доставляя его в управление Бояр-
ской Думе. Бояре, по Ивану IV,
строили против него всяческие
козни, были злонамеренной си
лой, не дававшей ему осуществ-
лять свои царские права. Вот царь
и покинул в 1564 г. свое царство,
уступил боярам его, но не вовсе,
а опричь (кроме) некоторой час-
ти. Казалось бы, эта часть, оприч-
нина, должна быть особенно ос-
вящена царским выбором в ее
пользу, присутствием в ней его
священной особы. Но только по
чему-то своих верных слуг, в от-
личие от изменников и неблагона
Портрет Ивана Грозного.
Дерево, темпера. XVI в.
дежных земцев, царь обрядил не
в какие-то там одежды сакральных цветов и украшенные сакральной
символикой. Опричникам, как известно, полагался черный кафтан
и шапка, подвешивавшаяся к колчану метелка и собачья голова под
шеей лошади. Пусть метелку можно было истолковать как знак
искоренения крамолы (через выметание крамольников и очищение от
них пространства Московского царства), а собачью голову —в качест-
ве указующей на преданность государю, все равно знаки эти какие то
сниженные. Ими впору обставлять чисто рабское служение лица, не
несущего в себе никакого самостоятельного достоинства. Притом на
рабов как будто вовсе не падает отсвет сакральности царского вели
чия того, кому рабы служат.
Какой там отсвет, когда сам Иван Грозный имел свой опричный
черный кафтан и не гнушался надевать его в соответствующих
случаях! Царь становился в этом случае таким же чернецом, как и его
опричники. Что черный цвет не царский и не царственный, очевидно.
Царственность выражается в пурпурном, золотом, белом цвете. По
тогда единственно пристойным объяснением опричной черноты будет
сопряжение ее с одеждами священства и монашества.
К такому сопряжению есть некоторые основания. И прежде всего
то, что в опричном ордене были должности «настоятеля», ее занимал
сам царь, за ним же следовали «келарь» и «пономарь». Так что
черные одежды опричников можно истолковать и как знак их неот-
мирности. Но если неотмирность одетых в черное монахов и священ-
ников совпадает с их обращенностью к Царствию Небесному, если,
скажем, смерть монаха для мира, выраженная в его черном одеянии,
есть одновременно его жизнь в Небесном Иерусалиме уже здесь, на
384
Культура Московской Руси
Одежда опричника, принадлежавшая
Ивану Грозному
земле, то с чернотой опричных
одеяний такой же ясности нет в по-
мине. Сближение опричнины
с клиром и монашеством в одежде
оставалось самозванством, паро-
дированием и пустой имитацией
уже потому, что в опричной орга-
низации и следа и намека не было,
скажем, на духовно-рыцарский
орден с его обетами послушания,
бедности, целомудрия. Послуша-
нию у опричников соответствовало
раболепие перед царем. Бедно-
сти— наглое стремление к обога-
щению, ну а целомудрию — самый
грубый и низменный разгул.
Настоящей формой опричного
единения было вовсе не богослу-
жение или некоторое его подобие,
а пиры, точнее же, отвратитель-
ные попойки. Хотел этого Иван
Грозный, или нет, но черный цвет
одеяний опричников в совокупно-
сти с метлой и собачьей головой
указывал не на их надмирность,
а на принадлежность к низшему,
кромешному инфернальному ми-
ру. Вряд ли Ивану IV так уж улы-
балась мысль обрядить своих оп-
ричников на инфернальный манер,
так, чего доброго, станешь в гла-
зах своих подданных царем Иро
дом, или, того больше, царем
Антихристом. Но все же в инфер-
нальность царь срывался, похо-
же, не вполне бессознательно.
А если без заранее обдуманного
намерения, то результат срыва не
мог не быть хотя бы в чем-то близким его душе. Почти монахи,
в облике которых проглядывают бесы, такое вполне в духе царя
Ивана. Он установил в общерусском масштабе двойничество — сделав
из Московской Руси дикое и страшное сочетание двойников, двои-
лись и его опричники. Они как ничто другое указывали на сомни-
тельность отнесения опричнины к миру, противостоящему пагубе
и неустроению антимира земщины. Уж очень не клеилось дело с ми-
роустроенностью и «космичностью» опричников. Ситуация слишком
Опричнина и Смутное время 385
отдавала тем, что Московский царь удалился из своего православно-
го царства-мира в антимир опричников, чтобы в нем всласть побезум-
ствовать. Не случайно в народе опричников звали кромешниками.
Это слово, являясь синонимом опричника (опричь—кроме), имеет
еще одно значение: обитатель ада, места, куда попадают грешные
души.
А это действительно безумие для православного царя так поляри-
зовать свое царство, дуально расщеплять его, относиться к нему не
как к Московскому царству, а как к земщине и опричнине, не
обнаруживающих единства. Московской Руси только еще и не хвата-
ло в разгар все менее удачной для нее Ливонской войны, перед лицом
постоянной угрозы со стороны крымских татар стать еще и врагом
для самой себя. Врагами или чужаками на протяжении столетий
воспринимались западные схизматики и восточные басурмане, теперь
же настал черед православному царству раздвоиться в некотором
самонеприятии.
Создавая опричнину, Иван Грозный, конечно, преследовал свои
цели, так или иначе сводившиеся в одну точку установления и удер-
жания полного самовластия. Его лучше не называть самодержавием,
несмотря на тождественность этих двух стов. Самодержавие ведь
существовало не как чистый произвол, всевластие и безответствен-
ность государя. Оно обязательно ограничивалось ответственностью
в качестве прежде всего внутреннего ограничителя. Самодержец под-
линно являлся таковым лишь тогда, когда жил по логике: чем больше
власти, тем больше ответственности. Ведь он в православной тради-
ции не просто правил рабами, как это было в Московской Руси, а до
этого в Византии, но и себя ощущал рабом Божиим. Самодержцу
и дано-то было всевластие, чтобы как можно преданней служить
Богу. Де-юре это обстоятельство Иван Грозный целиком признавал,
когда писал в послании к князю Курбскому: «Которому поклоняемся
и Кого славим вместе с Отцом и Святым Духом, милостью Своей
позволил нам, смиренным и недостойным рабам Своим, удержать
скипетр Российского царства»1.
Писать-то писал, но де-факто для Ивана Грозного ничего, кроме
своей власти, не существовало. Он был самовластием, а не самодерж-
цем, безудержным в осуществлении своих властных порывов, и в этой
своей безудержности в том числе и неприемлемым для самого себя.
Ведь власть как чистое, беспримесное самовластие, в принципе,
может быть помыслена только как атрибут Бога. Только Бог изна-
чально во всем благ, есть жизнь, чуждая смерти, Свет, никак не
связанный с тьмой. Действуя вовне, творя мир, удерживая его
в бытии и устрояя, в частности, и через власть, Бог никогда не
ошибется, не впадет в противоречие, не запутается. Царь же, какой
бы священной особой ни был, в своей основе всего лишь человек,
1 Переписка. С. 166.
386
Культура Московской Руси
тварное существо, на котором лежит печать первородного греха.
Поэтому самодержавствуя, царю это свое «само», то есть самого себя,
необходимо молитвенно обращать к Богу и в предстоянии Ему
принимать решения. Они будут самостоятельные, но не в смысле
того, что исходят исключительно от персоны царя, а скорее в том
отношении, что царь сам, по своей воле предстоит своему Творцу
и сам осуществляет волю Божию в меру своих способностей и дос-
тупности ему воли Божией.
Для самовластия Ивана Грозного все обстояло иначе, так как
исходящие от него властные импульсы в огромной степени были его
собственными предпочтениями, порождали неурядицу и неустроение
как вовне, в Московском царстве, так и в душе царя-самовластца.
Ему бы в пору властвовать над собой или послу шествовать Богу, как
он это понимает, а Иван Грозный все более запутывается в самом
себе, в своем «само», из которого исходило всевластие. Учреждение
опричнины, в частности, было еще и попыткой укрепить и уравнове-
сить собственную душу Ивана Грозного, придать ей хоть какую-то
меру и строй, однако весь ужас и вся безысходность как для царя
Ивана, так и для его царства состояла в том, что неприятие царем
самого себя должно было быть спроектировано вовне и стать пусть
неустойчивой, но формой неизбывной борьбы с самим собой, которая
одновременно есть и реальность царской души, и реальность обще-
русской жизни. Последняя для Ивана Грозного только и могла
осуществляться как постоянно возобновляющийся дуализм разлома
и взаимонеприятия.
И это при том, что земщина в новой дуальной системе координат
и подумать не смела посягнуть на опричнину, последняя сама порож-
дала себе врага и антипода в земщине с тем, чтобы сразу повергать
его в безжалостной схватке-избиении. Самое же примечательное во
вновь порожденном Иваном Грозным дуализме была нефиксирован-
ность противоположных сторон и реальностей. У царя не выстраива-
лось (а какой-то стороной своей души он и не хотел этой выстроенно-
сти) разведения опричнины и земщины как бытия и небытия, добра
и зла, порядка и хаоса, праведности и греха, света и тьмы. Заявляя
себя опричниной в качестве остатка царства, избежавшего погруже-
ния в тьму неустроения, этот остаток так же настойчиво моделировал
и изъявлял себя, как опричнина—тьма и кромешность. Как будто
и сам Иван Грозный не всегда до конца понимал, спаситель ли он
своего царства от тьмы неустроения или действует от ее имени. Одно
переходило в другое, верх опрокидывал себя, становясь низом,
правая часть царства так легко обрушивалась на левую, что переме-
щалась в противоположную себе сторону.
Конечно же, никакое самодержавие при помощи опричнины вы-
строить было невозможно, она могла не более чем расшатать, подор-
вать, разрушить уже сложившееся, повергнуть нарождающееся и не-
устойчивое. Использованное уже сравнение с татарским нашествием
Опричнина и Смутное время
387
и ордынским игом здесь вполне уместно. Влияние последних на
русскую историю и культуру огромно, но это не было влиянием
истории на историю, одной культуры на другую; имело место разру-
шительное столкновение и соседство Руси со степью. Если опрични-
на—это действительно нашествие и иго, но на этот раз самой Руси на
Русь и над Русью, то и последствия его были сходны с теми, которые
имели место под воздействием Орды. Последняя если и не привнесла
в чистом виде, все же, как минимум, резко стимулировала развитие
рабского начала в русской жизни, открыла ему самые широкие
просторы.
То же самое можно сказать и об опричнине. В опричниках Иван
Грозный раз и навсегда увидел свих чистопородных холопов, так он
с ними и обращался. Для него опричнина была уже чисто холопьей
Русью, в которой есть одно властное лицо, один господин—царь
и безоглядные, на все готовые холопы—исполнители царской воли.
Как бы Иван Грозный ни принижал до холопов своих князей и бояр,
до них в его же представлении опричникам было далеко.
Об этом, в частности, говорит письмо Ивана Грозного одному из
своих видных опричников Василию Грязному-Ильину: «Ты объявил
себя великим человеком,— пишет своему опричнику царь,—так ведь
это за грехи мои случилось (и нам это как утаить?), что князья
и бояре наши и отца нашего стали нам изменять, и мы вас, холопов,
приближали, желая от вас службы и правды. А вспомнил бы ты свое
и отца своего величие в Алексине—такие там в станицах езжали, а ты
в станице у Ленинского был чуть ли не в охотниках с собаками...»1
Весь смысл письма Ивана Грозного сводится к тому, чтобы Василий
Грязной не ровнял себя с настоящей московской знатью и не просил
за себя выкупа, как за знатного боярина. Когда Василий передал
царю предложение крымцев, у которых он был в плену, обменять его
на тоже плененного крымского мурзу Дивея, то Иван ответил своему
опричнику совершенно убийственной фразой: «...у Дивея своих таких
полно было, как ты, Вася»1 2. Между тем именно такие «Васи» нужны
были Ивану Грозному, ему хотелось сделать ими и тех своих бояр, до
которых, по собственному признанию царя, было так далеко Васи-
лию Грязному. Он и делал их из той знати, которая по доброй воле
или в страхе за свою жизнь и благополучие шла в опричнину.
Было бы очень большим преувеличением и искажением реально-
сти утверждать вслед за Д. Н. Альшицем, что в результате действий
Ивана Грозного вся Московская Русь если не по форме, то по
существу стала опричной. Это верно, что отношения «господин—
холоп» с несравненно большей полнотой выраженные в опричных
порядках по сравнению с доопричным царством, навсегда сохрани-
лись в своем опричном варианте в Московском царстве. Но дело ведь
1 Библиотека литературы Древней Руси. Т. И. XVI в. СПб., 2001. С. 161.
2 Там же. С. 161.
388
Культура Московской Руси
еще и в том, что в опричнине чрезвычайно важна была форма,
начиная с униформы самих опричников и заканчивая принципиаль-
ным дуализмом, без которого немыслима опричнина. С дуализмом
Московское царство после смерти Ивана Грозного, а частью и при
его жизни, покончила. Прививка опричного холопства продолжала
действовать уже за пределами самой опричнины. Свою разрушитель-
ную работу она во главе с царем-опричником проделала и бесславно
сгинула в небытие.
Саморазрушительные для царя и его царства опричные метания
уже не были характерны для преемников Ивана Грозного на москов-
ском престоле. Прорывом-возвращением к заявленной опричной ду-
альности станет только Смутное время. В целом же послеивановская
Русь сложилась в качестве монистического целого. В нем установи-
лось пускай и очень жестокое и дремучее, но самодержавие, а не
самовластие. Наши московские цари все-таки живо ощущали себя
ходящими под Богом рабами, обязанными служить Богу и творить
Его волю. Многое говорит в пользу того, что Московская Русь
неостановимо двигалась к самодержавию и оно осуществилось бы без
всяких судорог опричнины, которая только форсировала и придала
более резкие формы тому, чему и так предстояло произойти. Но
значит ли это, что опричнина—некоторая историческая случайность,
что сама по себе она в корне чужда русской национальной жизни?
Как раз в этом позволительно усомниться. В опричнине более
всего поражает то, что она сделала внешнюю реальность татарского
нашествия и ордынского ига внутрирусской реальностью. В опрични-
не русские люди сами себе стали ордынцами, нашли в себе для этого
достаточные душевные ресурсы. А это означает, что татарский разру-
шительный импульс к рабству стал еще и тягой Руси к самоуничтоже-
нию в рабстве. Без опричнины самодержавие в Московском царстве
наверняка все равно состоялось бы, но без нее Русь не свела бы
кровавые счеты с собой. Прежде чем относительно успокоиться
и стабилизироваться в своем русском варианте самодержавия и раб-
ства, Русь попробовала в опричнине выпустить себе кишки, загля-
нуть в «бездны сатанинские» рабства как отрицания человека
человеком.
Опричнина ведь поражает не просто беспредельной жестокостью
и буйством самих опричников как порождения своей страны. Да, это
очень странно, что в Московской Руси нашлось такое изобилие
людей, готовых жить, попирая все законы Божеские и человеческие,
рабствовать у своего царя и превращать в рабов всех остальных. Но
помимо кровавого загула опричнины, помимо самих опричников
были еще и их жертвы. По-своему они не менее характеризуют
опричнину, чем ее творец и исполнители его мятущейся на грани
безумия воли.
Отклики на опричнину ее жертв, конечно, не были однозначны,
и дело не сводилось к реакциям в духе московской знати и церковной
Опричнина и Смутное время
389
верхушки, как она была сформулирована в их обращении к отъехав-
шему в Александровскую слободу Ивану IV: «А которые бояре,
и воеводы, и приказные люди дошли до государские великие изме-
ны, до смертные казни, а иные дошли до опалы, и тех животы
и статки взяти государю на себя. Архиепископы же, и епископы
и архимандриты, и игумены, и весь священный собор, и бояре
и приказные люди, то все положили на государьской воле»1.
Это обращение явилось прямо-таки зеркальным отражением тре-
бования Ивана Грозного, отправленного им из той же Александров-
ской слободы. Оно демонстрирует прямо-таки бесконечную податли-
вость высших чинов государства и Церкви не знающему границ
давлению на них со стороны царя. Создание опричнины не просто
застало их врасплох. Московская знать обнаружила свою полную
беспомощность противостоять царю еще и потому, что давно уже
неразрывно была связана с престолом, он составлял единственный
жизненный центр ее существования.
Скажем, Античность выработала такую культурную форму, как
противопоставление царя и тирана. Слишком далеко зашедший в своем
безудержном самовластии царь всегда должен был считаться с тем,
что попадает в глазах своих подданных в число тиранов, как мини-
мум, посмертно.
Западное Средневековье, в свою очередь, знало именно в качестве
культурной формы войну вассалов с сюзеренами, вплоть до короля.
Это вовсе не было подобием распри между нашим Василием III
и Дмитрием Шемякой, с ослеплением великого князя и отравлением
по его распоряжению одного из противников. В войне вассалов
с сюзеренами почему-то на жизнь сюзерена не посягали, да и васса-
лы, как правило, оставались живы.
Уже за рамками Средневековья, в XVI и даже в XVII вв. также
возникали ситуации противопоставления между государем и знатью
вплоть до вооруженного конфликта, но для них по-прежнему сущест-
вовали способы разрешения, не переходившие в беспредел резни
и казней, в то, к чему вел дело Иван Грозный и чему его знать была
внешне, а главное, внутренне бессильна что-либо противопоставить.
Что такое тиран, в Московии не ведали. И главное, некоторой
самостоятельной силой ни одно сословие у нас себя не ощущало. Вне
царя и боярство, и приказные люди, и дворяне, и духовенство
сникали. От него в крайнем случае можно было убежать, как это
сделал князь Андрей Курбский; в русских же пределах противопос-
тавлялись ему толбко тайные козни и интриги, но не открыто
заявленные позиции.
Последние обязательно должны были быть соотнесены не с бояр-
ством, дворянством или кем-либо еще, а с царской же особой. Иначе
говоря, для противостояния безумствам Ивана IV его противникам
1 Альшиц. С 119.
390
Культура Московской Руси
необходимо было опереться на кого-либо из ближайших родственни-
ков царя. Лучше всего на брата, поскольку же такового не было, то
его нужно было выдумать, не обязательно и вряд ли брата, но
обязательно того, кто мог бы заявить свои права на престол в виду
предельной близости к царствующему дому. Идея самозванства,
к счастью для Ивана IV, созрела в Московской Руси уже после его
смерти и ее последствия ощутили вовсе не те, кто этого заслужил.
Более всего, а по существу и первым русским самозванцем ведь был
сам Иван Грозный, так как из законного царя—слуги Божия он
сделал из себя самовластна. Самовластен же и есть самозванец
в самом главном, присваивая себе верховную власть, которая при-
надлежит Богу.
Было бы сильным преувеличением утверждать, что противостоя-
ние опричнине, ее неприятие сводилось к молчаливому недовольству
и претерпеванию. Конечно, восстаний против Ивана Грозного и его
заплечных мастеров не было. Имело место другое: осознание того,
что царь творит непотребное и недолжное, и осуждение творимого.
В курс того, как далеко и в каком направлении простирался протест
против опричнины, вводит нас документ очень большого историче-
ского значения, как ввиду своей редкости, так и выразительной
силы. Д. Н. Алыпиц именует его повествованием об Иване Грозном
и купце Харитоне Белеуленеве. При том, что оно было вымышлено,
(вещь по тому времени очень редкая), у повести есть вполне реаль-
ные исторические соответствия—массовые казни, производившиеся
опричниками Ивана Грозного в Москве в начале 70-х гг. XVI в. Вот
как представляет одну из таких казней интересующая нас повесть:
«В лето 7082-го... на второй неделе по Пасце, во вторник в утре по
указу великого государя на Пожаре среди Москвы уготовлено
300 плах, а в них 300 топоров и 300 палачей стояху у плах онех...
Егда же бысть третий час дни, царь и великий князь Иван Василье-
вич выехав на площадь в черном платье и на черном кони с сотники
и стрельцы и повеле палачем имати по человеку из бояр и из
окольничьих, из стольников и из гостей и из гостиной сотни по
росписи именитых людей казнити. Люди же зряще, наипаче в недо-
умении быша, понеже никакия вины не ведуще. Взяше же первые из
гостиные сотни 7 человек и казниша их. Емше же осмаго, именем
Харитона Белеуленева, и не могоша на плаху склонити, бе бо велик
возрастом и силен вельми. И возкрича ко царю рече з грубостию:
„Почто, царю великий, неповинную нашу кровь проливаеши? “.
И мнози псари приступиша пособити тем палачем, и едва возмогоша
преклонити. Егда же отсекоша ему главу и спрянувши из рук их
глава на землю, семо и овамо (туда и сюда. —Д. А.) спрядывая,
глаголаше несведомоя. Труп же его скочи на ноги свои, и начат
трястися на все страны, страшно зело обливая кровию окрест сущих
себе. И многи палачи збиваху тело оно с ног и никако же возмогоша.
Но и падшая кровь, где пав, светляся и играя красно вельми, яко
Опричнина и Смутное время
391
жива вопия и не отмывался. Сие же видя, царь усумневся и бысть
страхом одержим и отиде в полаты своя. Палачи же по долзе времени
не движуще никого без повеления царева, но ожидающе милости.
И в 6 час вестник прииде от царя, повеле всех пойманных отпус-
тить... Труп же той трясыйся весь день и во 2 час нощи паде сам на
землю...»1 Более всего в приведенном фрагменте повести примечатель-
на прямо-таки поразительная направленность неукротимой мощи
купца Харитона Белеуленева. Она совсем не пригодилась ему для
того, чтобы отбиться от царских опричников и не дать себя казнить.
Вся энергия Харитона уходит на демонстрацию своей неготовности
смириться с царским произволом, склонить выю перед топором
палача и на обличение неправедных действий царя. Непреклонность
купца действительно впечатляет, обличение же его и бесстрашно,
и мистически ужасно. Именно этим обличением Харитон Белеуленев
наводит на царя страх и вынуждает его прекратить казни и отпустить
приговоренных к ней. Однако решающее значение в повести имеет не
непреклонность и обличение Харитоном сами по себе, а то, что право
принять решение о том, казнить или не казнить неповинных людей
оставляется за царем. Каким бы жестоким и неправедным он ни был,
Иван Грозный остается для автора повествования и его героя «царем
великим».
Против такого царя если и возможна какая-то борьба, то не более
чем бунт на коленях. Упаси Бог поднять руку не то что на него,
но хотя бы на царских приспешников. Царя допустимо не более
чем усовестить. Когда же это не удается—устрашить, что и делает
уже казненный Харитон Белеуленев. Никаких других прав в непри-
ятии своего государя в повести не просматривается и не предполага-
ется. Даже такими могучими и несгибаемыми подданными, как
Харитон Белеуленев. Царь может себе позволить почти все. Вразу-
мить же его хоть в чем-то можно лишь ценой собственной жизни. Да
и надолго ли?
В конце концов повесть об Иване Грозном и купце Харитоне
Белоулине знает только один путь искоренения опричнины—исправ-
ление самого царя. Царь от Бога, и не людям его смещать. Так может
быть он от зрелища казнимых им своих рабов-подданных хотя бы
переменится в лучшую сторону, отменит опричнину? Вот все, на что
вправе уповать подданные. Во всяком случае, на уровне смыслов, на
уровне приемлемого для культуры.
При таком раскладе сил остановить опричнину непросто. И упо-
вать надо не столько на обличение, устрашение или вразумление
царя, сколько на то, что он устанет от казней, всласть попьет
человеческой крови, до того предела, когда потеряет к ней вкус. Если
верно, что в последние годы царствования Ивана Грозного казней
больше не было, то так оно и произошло. Харитоны же Белеуленевы
1 Альшиц. С 133—134.
392
Культура Московской Руси
делу помогли очень мало или не помогли вовсе. Помимо гибели им
открывался разве что один путь—в казаки. Когда же их мощь
и бесстрашие были неразрывны со стремлением к благолепной и пра-
ведной жизни, положение оставалось безвыходным.
***
Смутное время, если его датировать промежутком времени между
последним годом царствования Бориса Годунова и воцарением Ми-
хаила Федоровича Романова, отстоит от опричнины в ее явных или
скрытых формах более, чем на два десятилетия. Однако между
Смутным временем и опричниной существует не просто глубокая
связь преемственности. В очень существенном своем аспекте Смута
начала XVII в. стала довершением опричнины, она выявила во всей
полноте потенции, заложенные в опричнине. Объединяет то и другое
прежде всего осуществлявшийся как в опричнине, так и Смуте
дуализм русской жизни. В первой из них он выразился расколом
Московского царства на опричнину (позднее—государев двор) и зем-
щину, во второй же—в феномене самозванства. По мере того, как
Смута набирала обороты, в ней все более заявляла о себе тенденция:
на всякого царя есть свой самозванец. На Бориса Годунова был
Лжедмитрий!, на Лжедмитрия I — Василий Шуйский, на Василия
Шуйского—Лжедмитрий II.
Конечно, приведенная формула слишком хлесткая, чтобы со всей
точностью соответствовать сути дела. И в самом деле Борис Годунов
как-никак был законным царем. Лжедмитрий же I—чистопородным
самозванцем. По сравнению с ним самозванство Василия Шуйского
условно и относительно. Во-первых, он не выдавал себя за того, кем
заведомо никогда не был. И, во-вторых, некоторые права претендо-
вать на московский престол у него были. Между тем совсем не
случайно в отечественной историографии не установилось обыкнове-
ние именовать Василия Шуйского Василием IV. Это произошло само
собою на дорефлективном уровне. С одной стороны, Василия Шуй-
ского самозванцем никто, кажется, не нарекал. Но, с другой сторо-
ны, именуя его Шуйским, историки, по сути, невольно порождают
довольно странную ситуацию. Князья Шуйские таковыми являлись
в виду связи со своей вотчиной—Шуей, городком в Нижегородской
земле. И если один из них, Василий, стал Московским царем, то
оставаться Шуйским ему как-то странно. Он все-таки или Шуйский,
или Московский. И потом, последующих русских царей Михаила
Федоровича или Алексея Михайловича, Петра I или Екатерину II
никто не именовал Романовыми. Точнее, так их называли сплошь
и рядом, но не в качестве непременной добавки к имени. Все пере-
численные, так же как и другие цари, вначале являются Михаилом
Федоровичем и Алексеем Михайловичем, Петром I и Екатериной II,
и лишь затем можно в случае надобности отнести их к Романовым.
То, что ничего подобного не произошло с Василием Шуйским, что он
Опричнина и Смутное время
393
не стал в нашем представлении
хотя бы Василием IV Шуйским,
конечно, не случайно. За этим об-
стоятельством стоит некая полу
легальность или полупризнанность
Василия Шуйского в качестве рус-
ского царя. Он как бы не совсем
настоящий царь, то есть нечто в ро-
де полусамозванца.
Отблеск полусамозванчества,
кстати говоря, падает и на Бориса
Годунова. Его, опять-таки, никто
не называет Борисом I, иногда ца-
рем Борисом Федоровичем, как
правило же, он царь, но прежде
всего ивановский опричник, а за
тем ближний боярин царя Федора
Иоанновича. Боярин в силу не-
благоприятной для Московского
царства ставший царем, правда,
как И Василий Шуйский, йена- Василий Иванович Шуйский. Миниатю-
долго и может быть чуть-чуть, но Ра летописца XVII в.
не всерьез. Не вполне настоящий
был этот царь, Борис Годунов, и династии от него не пошло,
и закончил он свое царствование совсем незадолго до триумфа уже
самого настоящего самозванца Лжедмитрия I.
Однако Лжедмитрий 1 хотя и стал в истории Смутного времени
самозванцем по преимуществу, самозванцем, как таковым, но не
в нем самозванство достигло своего апогея, а в Лжедмитрии II. Вот
кто, хотя и не вошел в Москву под звон колоколов и ликующие
возгласы толпы, фигура поистине удивительная уже в силу своих
претензий на царственность. Когда едва-едва самозванца и почти
совсем царя Бориса Годунова сменил настоящий самозванец Лже
Дмитрий, а его, в свою очередь, сместил полусамозванец Василий
Иванович Шуйский, то последний, в свою очередь, потерял престол
в том числе и в виду усилий некоего лица выдать себя за Лжедмит-
рия I. Тем самым, Лжедмитрий II ставил себя в ситуацию самозван-
ства в квадрате, человека, самозванно выдающего себя за самозванца
и получающего в течение почти двух лет самую широкую поддержку
со стороны различных слоев активной части населения Московской
Руси. Есть от чего голове пойти кругом, наблюдая доведенную до
предела напряженность дуализма, в который с такой страстью погру-
зила себя Московская Русь.
Уже дуализм, порожденный опричниной и ею тщательно поддер-
жанный, не был лишен черт самозванства. Самочинно, а значит
и самозванно Иван Грозный установил в Московском царстве безгра-
394
Культура Московской Руси
Григорий Отрепьев. Миниатюра лето
писца XVII в.
ничное самовластие. К нему он
принудил страну при помощи сво-
ей опричной рати. Правил Иван IV
не по заветам предков, не так, как
повелось, а так, как и в страшном
сне не приснилось бы его царст-
венному деду Ивану III, тоже, как
известно, получившему прозвание
Грозный. Главное, что правление
Ивана IV не было правлением пра-
вославного царя, пускай самодерж-
ца, хотя он и выдавал себя за
такового, сам себя называл им.
А вот история с печально
и курьезно знаменитым великим
князем Московским и прочая Си-
меоном Бекбулатовичем — это уже
реальность, вплотную подводящая
к самозванству. Бедолага Симеон
не был самозванцем, но его на
короткий срок определила в Мос-
ковские великие князья каприз-
ная воля вконец заигравшегося с властью Ивана Грозного. Когда вот
так, ни с того, ни с сего великим князем Московским провозглашает-
ся касимовский хан, то кто тогда не великий князь Московский?
Разве что ленивый. Со временем логика, подобная этой, будет
задействована в русских пределах. Пока же перед нами только
первый набросок, этюд будущей картины.
И ведь что примечательно, каким бы игровым действием не смот-
релось великое княжение Симеона Бекбулатовича, современниками
только как игра оно не воспринималось. Оно стало не просто свиде-
тельством помутнения ума царя-злодея, от этого княжения помути-
лось в голове и у подданных Ивана Грозного. Иначе откуда было
взяться в присяге вновь избранному царю Борису Годунову таким
словам: «Мне, мимо государя своего царя Бориса Федоровича, его
царицы, их детей и тех детей, которых им вперед Бог даст, царя
Симеона Бекбулатова и его детей и никого другого на Московское
государство не хотеть, не думать, не мыслить, не семьиться, не
дружиться, не ссылаться с царем Симеоном, ни грамотами, ни
словом не приказывать на всякое лихо; а кто мне станет об этом
говорить или кто с кем станет о том думать, чтоб царя Симеона или
другого кого на Московское государство посадить, и я об этом узнаю,
то мне такого человека схватить и привести к государю»1. К моменту
присяги новому царю Борису Федоровичу прошло уже двадцать два
1 Соловьев. История. Кн. 4. С. 353.
Опричнина и Смутное время
395
года, как Симеон Бекбулатович был сведен Иваном Грозным с мо-
сковского престола и отправлен на кормление в Тверь и Торжок.
Однако об этом странном, только мелькнувшем в Москве «великом
князе» Борис Годунов все еще помнил и считался с перспективой
претензий Симеона или его потомков на царское достоинство. Разу-
меется, здесь все можно списать на то, что у страха глаза велики. Но
вряд ли одним страхом объяснимо упоминание в присяге Симеона
Бекбулатовича. За ним стоит более существенное—ощущение поко-
лебленности царского сана в глазах самого новоизбранного царя.
Невольно Борис Годунов поставил себя в одни ряд с нелепой и под-
ставной фигурой на московском небосклоне двадцатилетней давно-
сти, едва ли не ощутил себя очередным Симеоном Бекбулатовичем,
во всяком случае, заподозрил, что таковым его может воспринимать
кто-либо из подданных.
Таким образом аукнулась опричнина в самом начале недолгого
царствования Бориса Годунова. Конец же его связан с фигурой,
представлявшей собой уже не вымышленную опасность для царя.
Борис Годунов боялся, что кто-нибудь всерьез воспримет «измыш-
ленного» Иваном Грозным великого князя Московского, но вряд ли
он мог предвидеть, что какой-то безвестный и безродный Гришка
Отрепьев измыслит царя из самого себя. А почему бы и нет, если
Симеон Бекбулатович им почти побывал, а опричник Ивана Грозного
не из самых знатных стал царем уже всерьез?
Для царствования у Бориса Годунова было только одно основание:
его сестра стала женой последнего несомненного царя Федора Иоан-
новича. После его смерти в боярской думе оставались бояре породо-
витее Годунова. Он обошел их по существу интригой, хотя и благо-
лепно оформленной, при том что в Годунове не было ни капли
царской крови. Пускай его избрали на царство даже всенародным
волеизъявлением. Но сегодня оно одно, а завтра может стать другим.
Прямо на Годунова как на будущего царя умиравший Федор Иоан-
нович не указал, на него указала всего лишь царица Ирина, да и то
будучи уже инокиней Александрой. Настоящих, безусловных осно-
ваний для царствования у боярина Бориса Федоровича не было. Они
могли бы быть у царевича Дмитрия, не погибни он внезапно в царст-
вование брата. А если Годунов и в самом деле причастен к гибели
единственного законного наследника престола, то он уже прямо
и бесповоротно самозванец. Ничуть не меньший, чем провозгласив-
ший себя Дмитрием Гришка Отрепьев. Оба они, Борис и Гришка,
одной породы.
Подобная логика могла толкать к самозванству не одного Отрепь-
ева, и наверняка толкала. Другое дело, что всплыл на верх историче-
ского потока первоначально он один. По-своему, но тоже наследник
опричнины, как и царь Борис Годунов. Оба они «опричники» и «кро-
мешники», потому что оформили свои претензии на царствование по
опричной и кромешной логике. Но если в опричнине разрывало на
396
Культура Московской Руси
два взаимно не приемлющие друг друга начала прежде всего душу
царя Ивана Грозного, и только потом он раздвоил и противопоставил
себе самому бесконечно податливую царскому произволу Москов-
скую Русь, то в Смуте произошло, по сути, нечто более страшное
и опасное для страны. Она как будто в нетерпении ждала новой
опричнины, новой саморазорванности своего существования. Оприч-
нину Русь прежде всего претерпевала и только потом в лице своих
отбросов-опричников жила в ней во всю силу. Смутное же время
стало ситуацией, в которой различные части страны стали друг другу
ненавистной земщиной, себя же каждая эта часть воспринимала
в качестве опричнины. В частности, это выразилось в противостоя-
нии и взаимоупоре самозванцев, непримиримо обрушившихся друг
на друга. Опричнина если не разрушила, то подорвала образ царя,
открыла дорогу ранее невозможной мысли—каждый сам себе царь
и может попытать удачи в том, чтобы стать царем еще и над всем
Московским царством.
В непрерывно раскалываемой Смутой на противостоящие части
Московской Руси дуализму ее существования соответствовало двой-
ничество московских царей. Царь, кем бы и каким бы он ни был, едва
ли не автоматически начинал восприниматься частью страны как
ненастоящий, подложный и подсунутый стране обманным путем.
Отсюда стремление противопоставить царю его двойника в предполо-
жении, что настоящий царь—это именно двойник. Тот же, кто сидит
в Кремле—и представляет собой на самом деле двойника.
Опять-таки, игру в двойничество Смутному времени задал тот же
Иван Грозный своим выдвижением из небытия периферийности на
Московский престол крещеного татарина Симеона Бекбулатовича.
Сделав его великим князем Московским, сам царь и великий князь
начал разыгрывать роль смиренного подданного новоявленного вели-
кого князя. Иван Грозный преклонил колени перед своим выдвижен-
цем-двойником, тем невольно предлагая другим последовать своему
примеру. Очевидно, что если царь, выдвинув из небытия Симеона
Бекбулатовича, становился самозванцем наоборот, самозванным под-
данным ложного царя, то для царских подданных возможным стано-
вился лишь прямо противоположный ход—себя заявить настоящим
царем, настоящего же царя—ложным.
Впрочем, посягнуть на подобное оказалось возможным не ранее
того времени, когда на Московский престол воссел царь, как мини-
мум, не безусловный, ущербный. Эта мысль не могла не укреплять
душу самозванца в том отношении, что посягнувший на не вполне
настоящего царя хотя бы этим совершал нечто подлинное, по-настоя-
щему царственное. Пускай Лжедмитрий I и сознавал со всей ясно-
стью мнимость своего царского происхождения, но свое самозванче-
ское дело он делал наверняка не без доли уверенности в своем праве
посягнуть на царя Бориса Годунова. Конечно, это не было право
истинного наследника престола, но все же право справедливого
Опричнина и Смутное время 397
возмездия. На того, кто мстит по праву, хоть каким-то боком падает
отсвет царственности.
До самого недавнего времени в отечественной историографии
привычным, и даже обязательным, было утверждение о том, что
самозванчество на Руси возникало ввиду того, что так называемые
«народные массы» только в монархической форме в состоянии были
выразить свой протест против существующего монархического строя,
то есть заменив одного царя другим. При всей свой чудовищной
банальности, это утверждение также не бессмысленно в том отноше-
нии, что оно худо-бедно фиксирует самое главное: наличие царя
в Московской Руси для русских людей было реальностью непремен-
но обязательной. Царь—это устроитель и хранитель православного
мира, его отсутствие только и может быть знаком наступающего
конца всего и вся в православном мире. Усомниться в необходимости
царя русскому человеку было равнозначно сомнению в необходимо-
сти бытия, жизни, смысла.
Вроде бы совсем иначе обстоит дело, когда сомневаются в необхо-
димости именно этого, данного царя. Но сказанное справедливо
лишь тогда, когда готовность смены царствующей особы не вылива-
ется в эпидемию самозванства, как это происходило в Смутное
время. Смена царя была оправдана лишь при всей очевидности того,
что нами, русскими людьми, правит царь Ирод или Антихрист.
В противном случае выходом оставался упомянутый уже «бунт на
коленях». В самозванстве же выразила себя все-таки стихия отрица-
ния царственности как таковой, но выразила себя не полно, законче-
но и вменяемо, непоследовательно, лукаво, в огромной степени
бессознательно.
Нечего и говорить, что это была еще и стихия самоотрицания
Московской Руси. Признавая данного царя ненастоящим, она при-
знавала и неподлинность, катастрофичность собственного существо-
вания. Как будто их призван был устранить самозванец. Но с другой
стороны, неукротимая тяга к самозванству, всегдашняя готовность
признать в очередном царе самозванца невольно свидетельствовала
о душевной неустойчивости, доведенной до последнего предела. Не-
устойчивость эта выражалась в невозможности поверить в царствен-
ность царя, а значит, и в бытийственнисть своей московской русской
жизни.
Самозванство тем самым было не чуждо нигилизма, подспудно
разъедавшего Московскую Русь. Под взглядом патологически недо-
верчивого московита очередной царь двоился, сам превращался в тень
другого, настоящего царя, который уже не есть тень, хотя и затенен
ею. В разгулявшемся по русским просторам самозванстве Смутного
времени совпадала тяга русских людей к жизни и небытию. Жизнь
в лице царя очередной раз оборачивалась небытием потому, что
почва уходила из-под ног, никак было не остановиться, не окрепнуть
духом, не утвердить в себе незыблемой уверенности в преобладании
398
Культура Московской Руси
позитивно-устроительного начала в мире. Смутное время—это еще
и паника в начавшем трещать и проседать русском доме. Вместо того,
чтобы с полным самообладанием начать его укреплять и подновлять,
обитатели подняли такую суету, когда укрепление и подновление
были не отличимы от расшатывания и разрушения.
Несколько иным, правда, было положение и позиция казачества
в Смуте. К тому времени оно еще не было тем, более привычным нам
казачеством, образовавшим 'Донское, Терское, Яицкое, позднее Ку-
банское войско. Казаками, по существу, или близкими к ним по духу
людьми, стремившимися к воле и обретавшими волю, были все или
огромное большинство жителей русских окраин. Они жили помимо
Дона, Терека, Яика еще и в Поволжье, и в более близких районах,
подступавших к традиционным местам расселения русских людей
еще в Киевскую эпоху. Тогда окраина Руси—украйна—начиналась
уже в нынешних Воронежской, Курской, Тамбовской областях. Жив-
шее там казачество или близкое к нему население не просто противи-
лось неуклонно надвигавшемуся и расширявшему сферы своего дей-
ствия крепостному праву. Оно было еще и внутренне страшно
неустойчивым. В пределах Руси ему претили не только все более
жесткие московские порядки и нравы, но и государственность как
таковая. Куда желанней было жить на воле и по своей воле.
И когда жизненный центр Московского царства заколебался, этим
воспользовалось именно казачество, а не еще сравнительно недавно
обиженные и попранные Псков и Новгород, Тверь и Ярославль, даже
не присоединенные к Москве казанские татары. Казаки не просто
стали страшным бедствием для Руси Смутного времени. Очень ха-
рактерно, что как раз в казачьей среде самозванство приняло самые
удивительные и гротескные формы, стало прямо-таки каким-то неис-
товством.
При этом казаки разыгрывали не только карту царевича Дмитрия.
Между прочими самозванцами собственно казачьим самозванцем из
числа самых известных был «царевич Петр». Он претендовал на то,
что является сыном царя Федора Иоанновича, рожденным царицей
Ириной в глубокой тайне из опасения боярской пагубы. Интрига
с «царевичем Петром» была совсем уже неправдоподобна. О царе-
виче Петре, в отличие от Дмитрия, никто вплоть до его внезапного
появления слыхом не слыхивал. Так ведь можно было кого только не
«нарожать» и от того же Федора Иоанновича, и от самого Ивана
Грозного, и от его старшего сына Ивана.
Не думаю, однако, что казаков, выдвигавших из своей среды
самозванцев, правдоподобие заботило так же, как Лжедмитрия I
и Лжедмитрия II с их сторонниками. Казаки уже почти откровенно
играли в самозванство, выдвинув в царевичи, помимо Петра, еще
и каких-то Августа, Лаврентия, Федора, Клемента, Симеона, Саве-
лия и даже Осиновика, Мартынку и Ерошку. Не так уж просты были
казаки, чтобы играть с такими простонародными, а то и диковато
Опричнина и Смутное время
399
звучащими именами. Для них важна была не столько преемствен-
ность царевичей, связывающая их с московскими царями, сколько
то, что это были свои, казачьи «царевичи». Они вышли из недр
казачества, чтобы остаться казаками, а не только попытаться сесть на
московский престол.
Наверняка казаков не очень заботило и великое множество вдруг
неизвестно откуда появившихся царевичей. Их явленность выражала
собой прежде всего стремление утвердить казачью волю, самостоя-
тельность и замкнутость на себя казачьего мира, к тому же еще
готового к экспансии и расширению. Ведь если у казаков есть свои
бесчисленные царевичи, то ни в каком московском царе они не
нуждаются и он им ни в чем не указ. Какой-нибудь Брошка только на
поверхности родственник московских царей, в действительности он
сам по себе, он родом из своего, казачьего царства.
Здесь, как видим, самозванство приобретает свои казачьи акцен-
ты. Оно есть прежде и более всего самоосвящение казачьего мира.
Двойничество, предполагающее не подлинного царя и тень его само-
званца, которым никогда вместе не ужиться, которые стремятся
вытеснить друг друга, а удвоение царственности, наличие в русском
православном мире двух царств не только Московского, но и казачь-
его. Казачье царство, правда, не однородно, а, напротив, многооб-
разно. В нем нет иерархии царственности, оно не сведено к единому
жизненному центру. Отсюда и множественность казачьих «цареви-
чей». За ним скрывается тенденция всем стать «царевичами» и «ца-
рями», то есть людьми, живущими по своему произволению, для
каждого из которых он сам есть собственное «царство». Вспомним
между тем, что казак—это лыцарь, рыцарь-мужик. И, конечно,
дальше Брошки и Осиновиков ему было не пойти в своем убогом
стремлении к царственности.
Смутное время, по сути, было единственным временем русской
истории и культуры, когда самозванчество и неразрывно с ним
связанные дуализм и двойничество проняли Русь до мозга костей,
когда они стали самим существом русской жизни. И это при том, что
последние русские самозванцы встречаются еще в XIX в. А один из
них, знаменитый старец Федор Кузьмич, стал самозванцем поневоле
и не подозревая о своем самозванстве. При этом даже самозванству
Емельяна Пугачева было далеко до самозванства Смуты в том самом
существенном отношении, что оно уже не было реальностью дуализ-
ма и двойничества. Пугачев стал царем Петром Федоровичем только
для казачества и крестьянства, да разве еще для нескольких подне-
вольных и вконец перепуганных дворян. В целом же дворянство
оставалось вполне чуждо пугачевщине.
Можно себе представить все, что угодно, только не Пугачева на
царском престоле в окружении недавних екатерининских вельмож,
администраторов и военачальников. И не потому только, что у Пуга-
чева не было никаких шансов взять Москву и тем более Петербург.
400
Культура Московской Руси
Возьми он их, все равно дворянство от него в страхе бежало бы или
он его беспощадно уничтожил. Пугачев был исключительно кресть-
янско-казацким царем. В глазах дворян он всегда и во всем оставался
не просто неприемлемой, но еще и ужасной, отвратительной и,
добавим, смешной и жалкой фигурой. Эдакой свиньей, сунувшей
рыло в калашный ряд. Уже одно это свидетельствует о том, что
пугачевское самозванство было не до конца всерьез, оно не стало
разломом, разведением и дуализмом всей русской жизни. В пугачев-
щине низы пошли на верхи в тщетной надежде истребить их и самим
стать верхами или по ту сторону верха и низа.
Иное дело Смута. В ней самозванщиной соблазнились как верхи,
так и низы. Ни тем, ни другим много лет нечего было противопоста-
вить стихии самозванства и двойничества. Против же самозванца
Пугачева вся империя, дворянская и государственная Россия практи-
чески единодушно сплотилось в непримиримом ее отрицании. Как
самозванство, пугачевщина хотя бы частично и на время удалась, но
только не как двойничество. Как царь «Петр Федорович», Пугачев
никакой не двойник императрицы Екатерине II. Они пребывали
в различных измерениях и ничуть не отражались друг в друге.
Казалось бы, чего проще, чем увидеть в «Петре Федоровиче» прямой
укор неверной жене и незаконной преемнице Петра III. Но укорял-то
кто?—мужичище—борода лопатой. Явно не в свое дело ввязался,
оно могло бы стать делом для дворянской верхушки. Но она как раз
немыслимую странность воцарения Екатерины II—мужеубийцы, узур-
пировавшей власть у сына, молча проглотила. Значит, гарантировано
было самое главное—невозможность никакого подобия дуализма и
двойничества Смутного времени.
Последнее в конвульсиях дуализма в конце концов изнемогло.
И это очень существенный вопрос для понимания русской истории
и культуры, почему все-таки и то и другое—и дуализм, и двойничест-
во—в Смуте пришли к самоотрицанию. Ведь избрание на царство
юноши Михаила Федоровича Романова хотя и было вполне закон-
ным, поскольку избирал его Земский собор, хотя Михаил Федорович
и состоял в родстве с пресекшейся со смертью Федора Иоанновича
династией, могло не во всем показаться безусловно убедительным
и обязывающим к повиновению и почитанию вновь избранного царя.
По сравнению с избранием Бориса Годунова, и уж тем более Василия
Шуйского, решение Земского собора выглядело более основательно.
Однако различие здесь в степени, а не характере царской легитимно-
сти. При наличии среди обитателей Московской Руси воли к дуализ-
му и двойничеству никакая легитимность не остановила бы новых
двойников-самозванцев и стоящие за ними силы.
Наверное, здесь сыграло свою роль то обстоятельство, что избра-
ние на царство Михаила Федоровича было еще и отпором попыткам
посадить на Московский престол иноземца и иноверца. Царя уже
откровенно чуждого и враждебного мира. Противостоящий поляку
Церковный раскол
401
Владиславу Михаил Федорович был действительно своим, русским
православным царем. Теперь оппозиция «настоящий—поддельный
царь» проецировалась вне Московского царства. Она позволяла Руси
собрать себя в качестве одной из сторон дуализма «православие—
схизма», «свое—иноземное».
Однако самого по себе польского фактора было явно недостаточно
для изживания дуализма и двойничества. И здесь остается указать на
два момента. Во-первых, на то, что к концу Смутного времени
Московская Русь оказалось у той грани, когда разлом дуализма
и непрерывно возобновляющегося противостояния Руси самой себе,
несогласия с собой и неприятия себя подошел к последней черте,
когда развитие событий откровенно вело к взаимоуничтожению про-
тивоположностей через всеобщее погружение в небытие историче-
ской и культурной жизни. Обескровив и истощив себя, Московская
Русь выбрала для себя историческое и культурное бытие. На то это
и выбор, то есть акт свободы, чтобы не поддаваться объяснению, за
которой, как известно, стоит необходимость.
И все же со всей осторожностью укажем на один момент, если не
объясняющий, то хотя бы как-то истолковывающий самоизживание
и окончание Смуты. К ее концу у всех слоев населения Московского
царства, в большей или меньшей степени, не могло не появиться
осознание разрушительности и неразрешимости бесконечного внут-
рирусского дуализма. Самоистребление страны откровенно отдавало
дурной бесконечностью войны всех против всех. Знаменательно, что
в избрании Михаила Федоровича в цари, как минимум, значитель-
ную роль сыграли казаки. Именно тот слой русского населения,
который был такой питательной средой для множащегося самозван-
ства. Даже казаки ощутили потребность в устойчивой определенно-
сти русской жизни, в наличии у Руси неколебимого жизненного
центра, немыслимого без всеми признанного «настоящего» царя.
И второй момент. Он состоит в том, что с окончанием Смутного
времени дуализм русской жизни до конца не был преодолен. В отно-
шении фигуры царя его преодоление состоялось. Самозванство боль-
ше никогда в пределах истории Московской Руси не будет играть
значимой роли, колебать устои русской жизни. Иначе обстояло дело
в религиозной сфере. Здесь Московскому царству еще предстояло
пережить церковный раскол, в котором с прежней мощью, хотя и по-
иному, дали о себе знать неприятие Московской Русью самое себя,
вражда к себе, бесконечные внутренне незавершимые счеты с собой.
Церковный раскол
Как известно, непосредственным толчком к расколу русской Пра-
вославной Церкви послужило начатое патриархом Никоном при
полной поддержке со стороны царя Алексея Михайловича исправле-
ние, точнее же будет сказать, изменение церковных книг и обрядов.
402
Культура Московской Руси
Производилось оно с ориентацией на другие православные патриар-
хии и прежде всего на Константинопольскую. В сознании как самих
правщиков, так и их противников речь шла об исправлении по
греческому образцу, который тем самым признавался нормой, обяза-
тельной к исполнению Русской церковью. Само по себе такое почита-
ние греков не может вызвать удивления. Из греческой Византии
в русские земли пришло православие, до середины XV в. Константи-
нопольская патриархия утверждала митрополитов всея Руси. Собст-
венное патриаршество в ней было установлено недавно, всего-то за
пятьдесят лет до провозглашения Никоном исправлений. Короче
говоря, очень многое толкало Русскую православную церковь к по-
читанию греков и следованию за ними в вопросах церковной жизни.
Но не забудем и другое: точно так же у Русской церкви был опыт
несогласия с Константинопольским патриархатом, неприятие его
решений по самым жизненно важным вопросам. Так, русская митро-
полия отвергла принятую греками Византийскую унию 1439 г. Для
Москвы оказалось всецело неприемлемым соединение с католиче-
ским Римом, несмотря ни на какую авторитетность в ее глазах
Константинопольского патриархата. А что такое было великое кня-
жество Московское в 1439 г. по сравнению с Московским царством
середины XVII в.? Пока еще всего лишь крупнейшим среди других
княжеств Северо-Восточной Руси, доминировавшим среди них, но
значительно уступавшим в размерах соседнему великому княжеству
Литовскому и все еще платившим Орде дань.
Но это обстоятельство почему-то не помешало Русской церкви не
только вступить в конфликт с греками. В ней, судя по дошедшим до
нас свидетельствам, возникло представление о преимуществах рус-
ского православного благочестия перед греческим. Не потому, конеч-
но, что ученики в данном случае превзошли своих учителей. Преиму-
щество старины не могло не действовать со всей неотразимостью на
православную Русь. Но византийская уния, вскоре за ней последо-
вавшее падение Константинополя, а вместе с ним и Византийской
империи поставили на повестку дня вопрос о преемстве грекам
в православном мире. В начале XVI в. Московская Русь уже вполне
созрела для того, чтобы заявить о себе как о третьем Риме, пришед-
шем на смену второму Риму—Константинополю.
В отношении Константинопольской церкви такой радикализм ис-
ключался. Все-таки она сохранилась, хотя и под властью иноверцев-
турок. Она не пала, как пала империя, и все же дала слабину. Это
выразилось в заключении Флорентийской унии, в потери огромного
числа своих членов в результате исламизации. В конце концов само
падение Константинополя свидетельствовало в глазах всех право-
славных о попущении Божием и наказании за грехи не только
имперские, но и церковные. На фоне такого грандиозного греческого
неустроения и возникла выраженная после падения Константинопо-
ля митрополитом Ионой мысль о том, что «святая великая наша
Церковный раскол
403
Божия церковь русского благочестия держит святая правила и боже-
ственный закон св. апостол и устав св. отец—великого православия
греческого прежнего богоуставного благочестия»1.
Таким образом, митрополит Московский Иона настаивал не на
преимуществах русского православия над греческим, как таковым,
а на том, что со временем русские стали булыпими и лучшими
греками, чем их нынешние потомки. Образ греческого православия
у митрополита Ионы двоится на древнее и современное, сильно
сдавшее православие. Это как раз та двойственность, которая как
будто перестала существовать для Патриарха Никона, царя Алексея
Михайловича и их сторонников. Уже и речи не идет о Русской
церкви как преемнице древнего греческого благочестия. Она сама, по
своей воле ставит себя в положение ученицы греков, такого вечного
недоросля, которому постоянно нужно соотносить свои действия
с чужим авторитетом. Здесь перед нами что угодно, только не повад-
ка третьего Рима с обязательным для него ощущением своей избран-
ности и центрального положения в православном мире. Какая же это
центральность, если Москва устремляет жадные, взыскующие взоры
в сторону Константинополя, Александрии, Антиохии, Иерусалима,
на тот православный Восток, чьим воспреемником она дерзновенно
себя заявила ранее на двух неразрывно связанных уровнях — церков-
ном и государственном.
Теперь центр вновь начинает ощущать себя периферией. Правда,
периферией особого рода. А именно той, которая видит свой долг
в том, чтобы восстановить православный мир в его прежних грани-
цах. Об этом своем долге в качестве православного царя, по свиде-
тельству одного из мемуаристов, Алексей Михайлович говорил в та-
ких словах: «Со времен дедов и отцов к нам не перестают приходить
патриархи, архиереи, монахи и бедняки, стеная от обид, злобы
и притеснений своих поработителей. Посему я боюсь, что Всевыш-
ний взыщет с меня за них, и я принял на себя обязательство, что,
если Богу будет угодно, я принесу в жертву свое войско, казну
и даже кровь свою для их избавления»* 2.
Эти слова очень легко интерпретировать в двух прямо противопо-
ложных смыслах. Или как проявление религиозного одушевления,
или как слегка замаскированный экспансионизм, впрочем достаточно
беспочвенный, так как для похода на Стамбул — Константинополь
у Руси царя Алексея Михайловича решительно не было никаких
реальных предпосылок. Кровь свою царь отдать мог, но избавить
православных христиан от ига иноверцев было не в его силах.
Религиозное одушевление царя сбрасывать со счетов не приходится,
у нас нет оснований сомневаться в его искренности. Однако главный
’Карташев А. В. Очерки по истории Русской церкви. Т. 1. М., 1991. С. 370
(далее: Карташев).
2 Карташев. Т. 2. С. 123.
404
Культура Московской Руси
интерес здесь представляет характер религиозного одушевления.
Оно предполагало не просто избавление единоверцев от турецкого
ига, но и восстановление греческой империи. В этом все дело.
Пускай, в качестве греческого царя Алексей Михайлович видел
только самого себя. Но ведь для него принятие царского венца
означало, что новое, оно же прежнее, царство будет греческим и сам
он станет царем-греком, царствуя еще и над Русью. Никакого присое-
динения Константинополя к Москве, как это можно было ожидать,
Алексеем Михайловичем не подразумевалось. Тут его не нужно
путать, скажем, с императрицей Екатериной II, когда она, называя
второго своего внука Константином, метила на то, чтобы со временем
посадить его императором в Константинополе. Старший-то внук
Александр должен был стать императором всероссийским, за россий-
ским престолом виделся Екатериной II естественный приоритет.
Константинопольский же престол предполагалось сделать зависимым
от российского. Православный союзник и сателлит на Востоке был
для императрицы гораздо предпочтительней мусульманского против-
ника. Никакой православной мечтательности у Екатерины II не было
в помине, хотя она в своих политических проектах явно замечталась.
Царь же Алексей Михайлович, в других отношениях вполне
трезвый правитель, был еще и православный мечтатель-грекофил.
Его грекофилия совпала с такой же тенденцией в Русской церкви.
Алексей Михайлович мечтал стать греческим царем, Русская цер-
ковь—в лице Никона и далеко не только его —во всем уподобиться
греческой. Устремления царя и патриарха, царства и священства
далеко не во всем совпадали. Однако и в одном, и в другом случае
просматривается очень существенная общность — наличие пафоса са-
моотречения, отказа от себя за счет принятия иного. В своих «Очер-
ках по истории Русской церкви» А. В. Карташев писал: «Теократиче-
ская идеология „единого вселенского православного царя всех
христиан" толкала московских царей на пути сближения с греками
и всеми другими православными. А доморощенная Москва, загоро-
дившая свое православие китайскими стенами, не пускала своих
царей на вселенское поприще. Отсюда и вышел старообрядческий
раскол»1.
Если с Карташевым по данному пункту и можно согласиться, то
обязательно с тем существенным уточнением, что «идеология единого
вселенского православного царя» в принципе могла бы быть выстрое-
на в прямо противоположном осуществлявшемуся царем и патриар-
хом смысле. Не за счет принятия всего греческого, растворения
в греческом московского, а, напротив, в направлении утверждения
приоритета московского над греческим. Внешние основания для
этого были. К середине XVII в. Русь не просто оправилась от Смуты,
но и начала отвоевывать потерянные ею земли. Другие православные
1 Карташев. Т. 2. С. 121.
Церковный раскол
405
церкви сами зависели от милостей и щедрот единственного право-
славного царя. Наконец, и в своей собственно церковной жизни ни
одна из православных церквей к середине XVII в. не была на высоте.
Заметно упал уровень церковного образования и просвещенности.
Проявились сильные влияния католичества и протестантизма на
находившиеся в таких неблагополучных условиях восточные церкви.
Никакого утвердительного и наступательного порыва у них не было.
Скорее они находились в прискорбной ситуации необходимости как-
то выжить, претерпевая внешний гнет и связанное с ним внутреннее
неу строение.
Именно на таком фоне зарождается грекофилия светских властей
и влиятельных церковных иерархов Московской Руси, она явно
возникает исключительно изнутри. К грекам начинают прислуши-
ваться с вниманием и почтением, на которое они скорее всего не
рассчитывали и от которого давно отвыкли. По сути, грекофильские
аргументы по поводу греческих книг и греческого обряда использу-
ются в борьбе и противостоянии сил, выражавших собой чисто
московские реалии. Они же состояли в том, что Московская Русь
была поколеблена Смутным временем в своих устоях. Она лишилась
прежней благодушной уверенности в своем первенствовании и своей
избранности. Чужое для нее стало предпочтительнее своего еще
задолго до петровских реформ. И русского царя и русского патриар-
ха равно тянуло на вселенское поприще, но вовсе не для того, чтобы
утверждать Московскую Русь в еще невиданном величии. Самоут-
верждение у них оборачивалось растерянностью и поисками себя
в ином. Никому и в голову не приходило навязывать свое старорус-
ское остальному православному миру, несмотря на внешнее преобла-
дание Московского царства над попранными остатками православно-
го мира. Как бы не была велика внешняя и внутренняя слабость
последнего, Московия, по существу, ощущала себя еще слабее и не-
увереннее.
Раскол потому и состоялся, что русская попытка самоутверждения
через обращение к греческому была симметрично уравновешена стрем-
лением в прямо противоположную сторону. Но это только по видимо-
сти и на первый взгляд противоположной стороной было древнее
русское благочестие, непоколебимость устоявшегося и традиционно-
го. На самом деле раскол чем далее, тем больше тянул в сторону не
исконного московского благочестия, а в направлении, потустороннем
всему ставшему и достигнутому в истории и культуре. Для грекофи-
лов, как им казалось, был распахнут горизонт православно-греческо-
го мира, где должно было обрести себя. Старообрядцы же, пытаясь
удержаться на старомосковской почве, проваливались сквозь нее и не
находили опоры ни в чем осуществившем себя, их существование чем
далее, тем более становилось безосновным. И грекофилы, и старооб-
рядцы стремительно расходились в разные стороны от исторической
данности, от того, что представляло собой Московское царство,
406
Культура Московской Руси
пережившее, казалось бы, безысходный ужас Смутного времени. Но
в их расхождении характерным для русской культуры было не
только то, в каком направлении двигалась каждая из сторон, но и то,
как осуществлялось их движение.
***
Вряд ли кому-либо нужно напоминать, что православные и старо-
обрядцы разошлись по некоторым до странности малозначимым для
сегодняшнего понимания моментам. Несмотря на остроту и напря-
женность взаимного неприятия, те и другие не поладили исключи-
тельно по обрядовым вопросам. Чего не было вовсе, это противостоя-
ния сколько-нибудь внятно оформленных доктрин, которые имели
бы свое продолжение в том числе в обрядовой стороне православия.
Совершенно невозможно представить себе какого-либо подобия на-
шего раскола на католическом Западе. Здесь тоже имела место своя
схизма. Но она с самого начала была доктринально оформлена.
Лютер противопоставлял католицизму свое учение о рабстве воли,
о спасении только верою, он не соглашался на внутреннюю преемст-
венность и единство Священного Писания и Священного Предания,
для него неприемлемым было папское верховенство над Церковью
ИТ. д.
На этом фоне разногласия между православными и старообрядца-
ми выглядели как некоторый курьез и недоразумение. Скажем,
вопрос о двоеперстном или троеперстном осенении себя крестом,—
разве мог он послужить камнем преткновения для католиков и проте-
стантов? Но послушаем, что по поводу двоеперстия и троеперстия
говорит один из вождей старообрядчества знаменитый протопоп
Аввакум: «Зри на персты: вото истинна сияет—указателный и вели-
косредний во Христа Иисуса, великий же и два последних во образ
Святыя Троицы и во Святую Троицу»1. Это слово Аввакума в утвер-
ждение двоеперстия, которое, строго говоря, есть одновременно
и троеперстие, поскольку в молитве по старому обряду не только
выставляются средний и указательный палец, как выражение богоче-
ловечества Иисуса Христа, но и складываются вместе большой,
безымянный палец и мизинец в качестве демонстрации триединства
Бога. А вот Аввакум клеймит никониан-троеперстников: «Оне жо,
бедные, мудрствуют трема персты крестица, большой, и указатель-
ный и великосредний слагая в Троицу, а не ведомо в какую, болыпо
в ту, что в Апоколепсисе пишет Иван Богослов — змий, зверь, лжи-
вый пророк. Толкования: змий глаголется диявол, а лживый про-
рок-учитель ложной, папа или патриарх, а зверь—царь лукавой,
любяи лесть и неправду»1 2. В осуждении троеперстия от Аввакума
досталось не просто противникам-никонианам. Он прямо метит
1 «Житие» Аввакума и другие его сочинения. И., 1991. С. 216 (далее: «Житие»),
2 Там же. С. 80.
Церковный раскол
407
и в Патриарха Никона, и в царя
Алексея Михайловича. Как будто
троеперстие было изобретено за-
долго до них в предчувствии по-
явления двух таких злобных и не
примиримых противников вождя
раскола. Самое поразительное,
однако, состоит не в Аввакумо-
вых странных и нелепых домыс-
лах, а в правилах игры, которым
он следует. Правила же эти, в част-
ности, состоят в том, что внешнее
обрядовое действие имеет жестко
и однозначно прикрепленный к не-
му смысл. Каждый жест, поза,
движение подлежат вполне опре
Протопоп Аввакум. Дерево, темпера.
Конец XVII—начало XVIII в.
деленному истолкованию.
Ничего подобного не найти
в православном вероучении. И не
потому, что оно пренебрегает внешней стороной религии. Как раз
наоборот, православие вовсе не сводимо к вероучению. Оно есть
прежде всего жизнь в Церкви, в центре которой находятся таинства.
Но это только на посторонний и не понимающий взгляд таинство
представляет собой внешнее действие. Оно стоит по ту сторону
внешнего (действия) и внутреннего (его смысла). В нем действие
и смысл нераздельны. Первое есть последнее, так же как и наоборот.
Но таинства Церковью строго оговорены. Таковыми, в частности,
являются причастие и крещение. При их свершении одни действия
обязательны, другие же неуместны или невозможны. Скажем, при
крещении предполагается обязательным соприкосновение крестимого
человека с водой. Оно в православной традиции длительное время
было погружением в купель. Со временем погружение перестало
быть строго обязательным и наряду с ним допустимым стало опры-
скивание водой. Ничего в существе таинства крещения это не измени-
ло. Но только не для старообрядцев, они крепко держались за
погружение в купель. Именно потому, что смысл для них не просто
воплотим в действии, но и совпадает с ним. Для старообрядцев над
смыслом превалирует действие. Оно задает смысл, которй намертво
прикреплен к действию но не наоборот.
В соответствии со старообрядчеством как будто не существовало
отдельной сферы смыслов, выраженных в слове. Потому их практиче-
ски не интересовала и не касалась догматика как словесная формули-
ровка смысла. Если же и касалась, то они стояли на букве, на ничего
не прибавляющих к смыслу и не убавляющих от него вещах. На
каком-нибудь предлоге, едва ли не знаке препинания. Для старооб-
рядцев они были равны смыслу как раз потому, что принимались как
408
Культура Московской Руси
Святейший патриарх Никон (1605—1681)
Парсуна работы неизв. художника. Ок. 1664
действия, обряд ио нанесению на
бумагу знака или прочтению его.
С осенением же себя крестным
знамением дело обстояло особен-
но курьезно. Никого из старо-
обрядцев не касалось то, что
богочеловеческая природа Иисуса
Христа, так же как и триединство
Бога, выражены со всей опреде
ленностью только словесно, в Сим-
воле Веры. Никаких однозначных
жестовых выражений Церковь для
них не выработала, ни на каком
вселенском соборе они не зафик
сированы. О характере осенения
себя крестом молчит как Священ-
ное Писание, так и Священное
Предание. Стало быть, вроде бы
и не нужно держаться до послед-
него издыхания ни за какое двое-
или троеперстное крестное знамение. Все-таки пальцы в знамении
складываются не так, как буквы, в них нет такой же прочитываемой
однозначности, что в буквах. За свое сложение перстов старообряд-
цы тем не менее держались до последнего, неизменно приписывая
ему спасительность в противоположность гнусности и пагубе трое-
перстия.
Если бы в старообрядческой среде была возможность глубоких
размышлений о богочеловеческой природе Иисуса Христа или о том,
как возможна триипостасность и вместе с тем единосупщость Бога, то
трудно было бы предположить их непреклонное держание за свое
двоеперстие. Оно делало из вероучения обряд, из слова о Боге, то
есть богословия, жест. И то и другое обязательно должны быть
поняты и истолкованы теми, кто принадлежит к Церкви. Однако
жест утверждает данность смысла в его прямой самотождественно-
сти, слово же предполагает погружение в смысл. Над словом раз-
мышляют, жест воспроизводят. В конечном счете жест тяготеет
к тому, что делающий его превращается в орудие смысла, в тело
являющей себя в теле души. Слово, в принципе, тоже может быть тем
же жестом, обладать его самотождественностью и телесностью. Но
в нем скрыты и другие возможности, возможности встречи смысла со
смыслом, того, кто внешен слову, с тем, кто открывает себя в слове.
Христианство между тем и есть религия слова, Св. Писания. Для
него вне словесной сферы, сферы смыслов в себе, выраженных
в жесте, позе и действии самих по себе, не существует. Это не значит,
что выраженное в слове обязательно постижимо. Как раз наоборот,
главные «слова» христианства непостижимы. Они называют то, что
Церковный раскол
409
невозможно постигнуть, от чего оно ничего не теряет в своей бытий-
ственности. Слово указывает не на внесловесное и внесмысловое,
а на некоторую сверхсловесную и сверхсмысловую реальность. На
то, что будучи словом и смыслом, вместе с тем существует не по
человеческой мерке. Человеческое может не более чем к ним прибли-
зиться, ощутить их присутствие, самое существование, наконец,
сделать шаг в постижении непостижимого, стать «ученым незнанием».
В любом случае словесное отношение там, где слово не сводится
к позе, жесту и действию, предполагает некоторое самоопределение
человеческого, выход его из однозначной фиксированности. Как раз
то, к чему были так нечувствительны старообрядцы. У них сближе-
ние и слияние слова с жестом, позой, действием неизбежно вело
к первенствованию последних над первыми, делало первооснову веры
внесловесной. Если то же двоеперстие выражало собой триединство
Бога и богочеловечность Иисуса Христа, то они как бы непосредст-
венно пребывали в этом жесте. Достаточно сделать его, и ты заявля-
ешь свою веру, свидетельствуешь о ней, устремляешься к Богу. По
существу двоеперстие и осенение себя крестным знамением здесь
очень близки к первобытному ритуалу. Поскольку в последнем люди
как тело божества осуществляли собой его самого в качестве души, то
нет ничего более значимого и фундаментального, чем жесты, позы
и действия. Для ритуала они первичны и неизменны в своей сущест-
венности. Что-либо изменить в них было бы тождественно наруше-
нию связи между людьми и богами. Неизменность жестов, поз,
действий в первобытном ритуале важнее важного. Совершай их
и только потом истолковывай, а еще лучше, пусть сами жесты, позы,
действия и будут истолкованием. Ритуалу вовсе не противоречило
«мыслить» руками, ногами или спиной.
Чтобы отдать должное безграничному превознесению обряда ста-
рообрядцами, необходимо учитывать не только неизменное тяготение
Русской церкви к приданию обряду непомерного значения еще начи-
ная с Киевских времен, но и то, что правила игры здесь задавали
вовсе не старообрядцы. В 1658 г. в поддержку отстаивания Патриар-
хом Никоном троеперстия два восточных патриарха—Макарий Ан-
тиохийский и Гавриил Сербский, вкупе с Никейским митрополитом
Гедеоном подписали такое заявление: «Предание прияхом от начала
веры от св. апостол и св. отец и св. седьми соборов творити знамение
честнаго креста тремя первыми персты десныя руки. И кто от
христиан православных не творит крест тако, по преданию восточ-
ный церкве, еже держа с начала веры даже до днесь, есть еретик
и подражатель арменом. И сего ради имамы его отлученна от Отца
и Сына и Св. Духа и проклята...»1
Поместный собор русской Православной Церкви в том же году дал
определение троеперстия точно в таком же духе, что и восточные
1 Карташев. Т. 2. С. 159.
410
Культура Московской Руси
архиереи. Теперь второстепенный обрядовый вопрос окончательно
был выдвинут на передний план, заслоняя собой то простейшее
и неотменимое обстоятельство, что никаких серьезных вероучитель-
ных различий между сторонниками греческого и старомосковского
обряда не было.
Но если осенение себя крестным знамением все-таки очень значи-
мая реальность церковной жизни и переход от двоеперстия к трое-
перстию мог бы смутить и человека вовсе не склонного придавать
самостоятельного значения жесту, позе, действию, то по мере усиле-
ния противостояния православных и старообрядцев огромное значе-
ние начали придавать уже действительно второстепенным реалиям
даже с позиций обрядоверия. Когда протопоп Аввакум написал
в своей «Книге бесед» такие строки: «Бысть в лета наша в русской
земли Божие попущение, а дияволе злохитрие...», то даже привычно-
му к обличению Аввакумом троеперстия наверняка будет неожидан-
ностью то, к чему на этот раз клонит вождь старообрядчества.
«...Изникоша из бездны мниси, нареченный монахи,—продолжает
Аввакум, — имеющие на себе образ любодейный: камилавки-подклей-
ки женския и клобуки рогатыя; получиша себе сию пагубу от костела
римскаго. Бысть в Риме, прежде собора Фларенскаго, на престоле
в папах баба еретица. В Римской церкви, по попущению Божию,
устроила себе клобук на подклейки, сиидевым образом, яко же
Никон, еже носят и ныне прельщении тамо и здесь»1.
Добро бы еще, если бы Аввакум ограничился поношением Никона
и иже с ним за измененную форму монашеской шапки—клобука,
заподозрив в нем уступку католикам. Тогда с Аввакумом сыграло бы
злую шутку его невежество, так как он, видимо, не знал о том, что
высокие клобуки носили не только иноки, но и все восточные
патриархи. Аввакум видит в высоких клобуках предел злокозненно-
сти прежде всего потому, что выводил их от Папы Иоанна VIII (872—
882), который в соответствии с темными, но очень устойчивыми
слухами, был женщиной. Ухватиться за них было бы естественно,
ведь в борьбе с никонианами все средства хороши.
Однако Аввакум не просто ухватился за происхождение высокого
клобука от папессы, он еще и навешивает на клобук всевозможные
неустроения в Римской церкви. От того, что «клобук же ея и всяко
мудрование в церкви не изриновено бысть. И от тогда в церкве их
слабость бысть велия...»1 2. Более того, даже Флорентийский собор
1439 г., принявший нечестивую с позиций как православных, так
и старообрядцев унию, оказывается тоже был таинственным образом
связан с высоким клобуком. По Аввакуму, выходит, во всяком
случае, что вовсе не случайно руководивший собором Папа Евге-
ний IV присутствовал на нем именно в высоком клобуке. Какая-то
1 «Житие». С. 249—250.
2 Там же. С. 249—250.
Церковный раскол
411
непостижимая и необоримая сила, понятно, дьявольская, видится
русскому протопопу в монашеском головном уборе. Стоит его на-
деть—и человек попадает в дьявольские сети. От него, похоже, уже
ничего не зависит. Целую Римскую церковь сокрушил проклятый
клобук, и то же самое на глазах у Аввакума происходило, если его
послушать, и с Русской церковью.
Вряд ли Аввакум согласился бы с тем, кто попытался бы указать
ему на то, что ревнующий православию протопоп впадал со своим
клобуком в самый настоящий и грубый магизм. Только магические
свойства клобука могли сделать его таким пагубным и необоримым.
В противном случае проблема клобука становится делом маловаж-
ным и даже нейтральным в сравнении с другими реалиями церковной
жизни. Аввакум настаивает на противоположном, когда прямо назы-
вает ношение клобука «догматом». Надеть его или не надеть —
равнозначно попранию или принятию некоторого догматического
положения.
Здесь у Аввакума очевиднейшим образом самая чудовищная пута-
ница и невнятность представления о догмате. Если у него ношение
клобука приравнивается к нарушению догмата или его изменению, то
явно за счет представления о том, что и собственно догмат, и обряд,
например, осенение себя крестным знамением, и такая чисто пред-
метная реальность, как клобук,—все они обладают некоторой непо-
средственной энергетикой и действенностью. Произнес некоторую
вероучительную формулу, осенил себя крестным знамением, надел
надлежащий клобук —и в тебя вошли божественные энергии, ты
начинаешь принадлежать Божественному миру, обоживаться. Соот-
ветственно, неверная догматическая формулировка, троеперстное
крещение, высокий клобук повергают человека помимо его воли
к стопам дьявола, он начинает принадлежать сатане. Конечно, здесь
перед нами магизм. Понятно, что не как результат выбора магии
и отвержения религии. Магический момент возникает у Аввакума
ввиду его нечувствительности к возможностям и границам человече-
ского слова, его разведенности с обрядом и атрибутикой церковной
жизни. Вещественное и знаковое, вербальное и проявляющееся в дей-
ствии у Аввакума предельно сближены и переходят друг в друга как
однопорядковые реалии. В такой своей установке он не столько
старообрядец, сколько представитель древнерусской религиозности
и культуры. Той религиозности и культуры, в которых церковный
раскол принял такие странные и дикие, по западным меркам, формы.
Самое опасное и безысходное при этом в расколе состояло в том,
что при своей нечувствительности к различиям между словом, обря-
дом, предметной реальностью раскол оставался молчащим и нереф-
лективным явлением. Словесное противостояние в нем никогда не
было противостоянием последовательно оформленных доктрин. В ра-
сколе столкнулись различные умонастроения, чувствования и бессоз-
нательные предпочтения. Что друг в друге не принимали православ-
412
Культура Московской Руси
ные и старообрядцы, они способны проговорить только в деталях
и мелочах и менее всего в существе противостояния. Когда раскол
только еще разворачивался, с обеих сторон время от времени возни-
кал страх по поводу совершающегося, тщетное стремление пред-
отвратить крайние формы неприятия друг друга православными
и старообрядцами. Патриарх Никон вдруг проявлял некоторую осто-
рожность с насаждением правленых книг и обрядов, протопоп Авва-
кум увещевал царя Алексея Михаиловича и т. п. Но со временем
взаимонеприятие достигло крайних степеней. В глазах светских
и церковных властей старообрядцы стали раскольниками, упорными
и опасными бунтовщиками, последние же пошли еще дальше, клеймя
государство и Церковь как царство Антихриста.
Возобновился еще сравнительно недавний дуализм русской жиз-
ни, так разрушительно выразивший себя в разрухе Смутного време-
ни. Но Смута тем и была страшна, что в ней было утеряно ощущение
того, кто представляет собой законную, Богом данную власть, а кто
стремится ее узурпировать или уже узурпировал, в конце концов, кто
действительно царь, а кто самозванец. Такого дуализма и двойниче-
ства церковный раскол все-таки не принес. Со Смутой его объединя-
ет все то же самонеприятие Московской Руси, ее стремление свести
суровые счеты с собой. Если бы официальная, идущая от царя
и патриарха грекофилия столкнулась просто с отстаиванием старо-
московских обыкновений, это было бы еще не самое страшное и не-
разрешимое противостояние и дуализм. Худшим в расколе стало то,
что грекофильские фантазии и мечты одной из сторон натолкнулись
также на фантазерство и мечтательность. Одна сторона спала и виде-
ла новое, невиданное еще греко-русское царство, тогда как другая
быстро начала проваливаться в полную беспочвенность апокалипти-
ческих ожиданий и страха перед наступившим обезбожением послед-
него оплота православия — Московского царства.
И для тех, и для других, хотя и в разном смысле, данность
русской жизни, ее приятие в качестве чего-то надежного и устойчиво-
го оказалась безвозвратно поколебленной. Московская Русь осталась
без консерваторов-традиционалистов, своим уверенным в себе тради-
ционализмом и почвенностью уравновешивающих всякого рода мета-
ния и порывы. Когда-то в Смутное время такие почвенники-тради-
ционалисты нашлись в почти до основания разрушенном Московском
царстве и сумели остановить проваливание страны в бездну. Теперь
же в расколе столкнулись силы и непримиримые, и вобравшие в себя
всю Русь без остатка. Правда, на этот раз, в отличие от Смутного
времени, одна из сторон была исключительно оборонительной, дру-
гая—наступательной. Это была не столько война, сколько избиение
и преследование Церковью и государством приверженцев старого
обряда. На этот раз смута шла сверху, от патриарха и царя.
Конечно, никакой смуты они заранее не предполагали и не плани-
ровали. Она была навязана людьми не вполне ведавшими, что
Церковный раскол
413
творят, тем, кто в свою очередь был далек от трезвого понимания
навязываемого им. В расколе произошло помутнение ума у обеих
противостоящих сторон. Именно потому он был еще и смутой, на
этот раз не поколебавшей и не разрушившей Московского царства,
но все же лишившей его внутреннего единства в вере и принятии-
почитании царской власти. И если Смута начала XVII в. была пре-
одолена Русью, то раскол был в лучшем случае не преодолен,
а загнан вовнутрь. Его стойкими приверженцами оставались низы
или те, кто уходил подальше от жизненных центров и вообще
густонаселенных областей государства. Уже одно это делало старооб-
рядцев людьми, претерпевающими гонения, а не противостоящими
им, людьми, обреченными на провинциализм, тесноту и узость жиз-
ни. Опасными противниками для светских и церковных властей
старообрядцы не были. Но в то же самое время они составляли очень
существенную часть населения Московской Руси, а затем и Петер-
бургской России, часть, которая по собственной воле обрекла себя на
внеисторическое бытие замкнутых общин, всецело чуждых тем сдви-
гам, которые происходили в русской жизни.
* * *
В своем неприятии Московского царства и Русской Православной
Церкви различные течения и согласия старообрядцев заходили не
одинаково далеко. Диапазон здесь был от самосожжений, самоутоп-
лений, уморений себя голодом до осторожной и отчужденной лояль-
ности к властям, пока они не вмешивались во внутреннюю жизнь
старообрядческих общин. В той мере, в какой имело место последнее,
можно говорить о появлении в Московской Руси слоя населения
совершенно особого душевного склада и строя жизни. Их уж никак
не отнести к крепостным-рабам своего барина и еще меньше к госуда-
ревым холопам. Холопского духа в старообрядцах вообще не было,
или же он вышел из них в процессе отстаивания своей веры с ее
незыблемыми, от века идущими обрядами.
Совершенно не случайно за старообрядцами рано установилась
репутация людей честных, обязательных, степенных, работящих,
обязательно трезвых и т. д. Их как будто не касалось разлагающее
влияние крепостничества и все более уверенного в себе самодержа-
вия. Для старообрядцев это были реалии внешние, не проникающие
в душу, их нужно было в худшем случае претерпевать, в лучшем
же—всячески избегать соприкосновения с ними. При таком настрое,
казалось бы, старообрядцы могли открывать новые перспективы для
русской истории и культуры, как, например, Западу их открыло
движение протестантизма. У нас ничего подобного не произошло и не
могло произойти ввиду того, что старообрядцы так и остались низо-
вым, крестьянским по преимуществу слоем населения страны.
Встречались, правда, и достаточно часто, еще и купцы-старообряд-
цы: по культуре они, однако, практически ничем существенным не
414
Культура Московской Руси
отличались от крестьян. Среди первого поколения старообрядцев
были, как известно, еще и представители знати, дворянских и даже
боярских семей. Одна из них—знаменитая боярыня Морозова, даже
стала, наряду с протопопом Аввакумом, образом и персонификацией
старообрядчества. Однако среди дворянства и боярства старообряд-
цев не могло оставаться по определению. Они должны были или
перейти на позиции Русской Православной Церкви или же изменить
свой общественный статут, спуститься на уровень общественных
низов. В результате мир старообрядчества действительно оставался
простонародным, у него не было своего культурного верха, образо-
ванного и занимающего видное общественное положение. Поэтому
старообрядчество как некоторая особая культура со своими завидны-
ми для других слоев русского общества чертами могло игнорировать-
ся официальной культурой, так же как и культурой образованных
верхов в целом.
Став реальностью прежде всего крестьянской жизни, старообряд-
чество помимо прочего продемонстрировало этим степень проникно-
вения христианства в народную толщу. Как бы превратно оно ни
понималось крестьянской массой, какие бы важнейшие христианские
реалии ни оставались недоступными крестьянскому уму, крестьяне
действительно продемонстрировали в расколе, что православная вера,
как она ими понималась, — это существеннейшая, первостепенно важ-
ная реалия их жизни. Вполне по-христиански крестьяне были готовы
принять мучения за веру, выдержать крестные муки, кротко претер-
певать выпавшие на их долю испытания. Даже их приверженность
обряду, при всех ее первобытно-языческих чертах, к язычеству не
сводится. Если в вере на передний план выходит обряд, заслоняя
собой вероучение, то на своем уровне он все же оставался пронизан-
ным христианскими смыслами. Пускай в двоеперстии крестьянину-
старообрядцу виделся чисто ритуальный жест, вводящий в сферу
сакрального, как такового, а богочеловечество Христа или единосущ-
ность и триипостасность Св. Троицы очень мало о чем говорили
крестьянскому уму, но, стоя до конца за свое двоеперстие, он шел
путем сораспятия Христу и совоскресения с Христом.
Такие реалии, реалии христианского кеносиса (умаления) и преоб-
ражения были крестьянину доступны. Когда начались гонения на
старообрядцев, крестьяне своей жизнью демонстрировали, что они
именно христиане, а не язычники, чисто внешне принявшие христи-
анство. Потом, когда сложатся устойчивые старообрядческие общи-
ны, несмотря на их крестьянский характер, в этих общинах станет
невозможным остаточное язычество, выражавшееся в обрядности,
праздниках, гаданиях, заговорах, заклинаниях и т. д. Здесь наши
старообрядцы прошли приблизительно тот же путь, что и западные
протестанты. Укрепили себя в надмирной обращенности к Богу,
в строгой ответственности перед Ним и подотчетности Ему во всех
своих делах. Христианское языческое двоемирие обычного крестьян-
Церковный раскол
415
ства было уже не для крестьян-старообрядцев. И это несмотря на
малую доступность им христианской догматики и вообще доктри-
нальной стороны веры.
***
При осмыслении старообрядчества как целого, нельзя пройти
мимо того самого по себе достаточно очевидного обстоятельства, что
оно, как, кстати говоря, и западный протестантизм, было преддвери-
ем секуляризации культуры. В нем религиозный пыл и горение
предвещали времена религиозно спокойные и индифферентные, от-
тесняющие Церковь на периферию индивидуальной и публичной
жизни. Протопоп Аввакум был сожжен в Пустозерске в 1682 г., явив
своей гибелью пик противостояния и несовместимости двух религиоз-
ных установок, православной и старообрядческой. Но уже в 1689 г.
начинается царствование Петра Великого, все устремления которого
чисто светские. Он так же далек от грекофилии Патриарха Никона
и своего отца Алексея Михайловича, как и от апологии всего старо-
московского в Русской церкви вождей старообрядчества. Если Петр I
и преследовал старообрядцев, то исходя из чисто государственных
и политических соображений. По этим соображениям от него крепко
досталось и Русской Православной Церкви, хотя Петр I никогда не
ставил под сомнение свою православность.
По-своему Петр Великий тоже раскалывает страну, устанавливает
в ней двоемирие, но от двоемирия царя и самозванца, православных
и старообрядцев оно отличается тем, что на этот раз в русской
культуре устанавливается дифференциация и противопоставленность
культурного верха и низа. И тот и другой соотнесены с одним и тем
же государем, одной и той же Церковью. Даже различие между
православными и старообрядцами становятся различиями все менее
конфессиональными и все более культурными. Они строятся по
логике соотнесенности культурного «верха» и «низа», принадлежно-
сти к светской или духовной культуре, но именно культуре, а не
вероисповеданию, как таковому.
Для понимания того, почему как у нас в России, так и на Западе
вспышка религиозного энтузиазма предшествовала секуляризации
культуры, даже способствовала ей, приходится учитывать то, что
энтузиазм этот питался духом противостояния, взаимного неприятия
и отвержения. Протопоп Аввакум и доктор Мартин Лютер, скажем,
очень разные люди, вряд ли они могли вызвать друг у друга что-
либо, кроме глубокого недоумения и неприязни. Но в то же время
как они сходны в своей, хочется сказать, вдохновенной браниливости
в адрес противника, неколебимой уверенности в правоте каждого
своего слова. Думаю, что сходство между Аввакумом и Лютером там,
где оно действительно имеет место, проистекает из того, что оба они
в некотором смысле слова «протестанты». Их собственный религиоз-
ный пыл в сильной степени подогревался протестом против неприем-
416
Культура Московской Руси
лемого для Аввакума и Лютера состояния Православной и Католиче-
ской Церкви. Каждый из них на свой лад, но и тот, и другой
поставили себя в ситуацию внецерковности и необходимости созда-
вать свою церковь. Отвержение существующего в Церкви для обоих
было делом собственной веры и благочестия.
Вот эта первичность протеста и борьбы более всего и подозритель-
ны в старообрядчестве и протестантизме. Их невозможность обой-
тись без внешнего врага по-своему указывала на ущербность своей
веры, на потребность ее подхлестывания извне. Протестантизм, ко-
гда у него появилась возможность развернуться на своих собствен-
ных основаниях, оказался религией вполне секулярного мира, и сам
он, если так можно выразиться, совокупность секулярных конфес-
сий. Наше старообрядчество секуляризации избежало за счет неук-
лонного неприятия давивших на него Православной Церкви и госу-
дарства.
Совсем иное произошло с Русской Православной Церковью. Побе-
да, по крайней мере внешняя, над старообрядчеством, завершилась
вялостью собственной церковной жизни, бесконечной податливостью
и уступчивостью Церкви поползновениям государства. В конце кон-
цов исправление книг и обрядов вводилось церковноначалием при
полной поддержке царя и его окружения не только по соображениям
благочестия, понятым на свой лад. За ними стояли вселенские
претензии духовной и светской власти, которые стремились за счет
собственной «эллинизации» стать достойными первенствования во
всем православном мире. Когда грекофилия в Русской церкви и при
царском дворе поутихла, новая обрядность в немалой степени сохра-
нилась ввиду того, что невозможно же было верховной светской
и духовной власти принять условия бунтовщиков-старообрядцев. Это
уже точно означало бы возвращение к двойничеству наподобие Смут-
ного времени с его неясностью и обратимостью того, кто на Руси
царь, а кто самозванец. Теперь дело попахивало тем, что вопрос
о том, какое православие настоящее, а какое поддельное, мог и не
иметь однозначного ответа.
Ухватившись, по сути, за второ- и третьестепенные реалии право-
славного обряда, обе противостоящие в расколе стороны действи-
тельно балансировали на грани утери «столпа и утверждения исти-
ны». Ведь если старообрядцы толковали свое знаменитое двоеперстие
как свидетельствование о богочеловечестве Иисуса Христа и трие-
динстве Бога, то с ничуть не меньшим основанием православные
архиереи Поместного собора 1658 г. указывали на то, что, скажем,
сложение в двоеперстном знамении старообрядцев наряду с указа-
тельным и средним пальцами среднего, безымянного пальцев и ми-
зинца может означать и неравенство лиц Троицы. Это ли не самая
страшная ересь субординационизма? Однако, согласившись с чем-
либо подобным, почему бы, в свою очередь, не увидеть в принятом
собором троеперстии то же самое указание на неравенство Отца,
Кризис и разложение древнерусской культуры
417
Сына и Св. Духа. Пальцы-то в троеперстном сложении по-прежнему
не равны.
На таком богословском уровне, который равно поддерживали
представители двух враждебных станов, спор можно было бы про-
должать до бесконечности. Он укреплял их в собственной позиции
лишь при условии неслышания аргументов противника, усмотрении
в них одной злокозненности. Но стоило вслушаться в аргументы
противника, и голова могла пойти кругом. Они были ничуть не более
и не менее убедительней собственных аргументов. На уровне логики
и смысла противники стоили друг друга, были так же неразличимы,
как близнецы-братья.
От двойничества их, правда, уберегло то, что молчащее, не только
не проговариваемое, но и непостижимое для самих противников,
было достаточно существенным. От чего каждая из сторон и сохраня-
ла свою позицию, а не менялась ею с противником, как это было
в Смутное время. В конечном итоге это действительно несовместимо:
тяга к выходу Руси на широкие вселенские просторы, где она должна
играть новую роль и преобразовать себя в корне для этой роли,
и противоположное этой тяге стремление уйти из мира, из истории
в вечность или хотя бы замкнуться на себя в ожидании близящегося
конца времен. Однако при всей этой несовместимости никто в раско-
ле толком не знал, чего он хочет, в чем его подлинная и глубокая
устремленность. Как никакое другое явление в древнерусской куль-
туре, он стал явлением «великого молчания», а не только борьбы
и противостояния.
Кризис и разложение древнерусской культуры
Это очень сложный и запутанный вопрос: когда та или иная
культура переживает кризис и разложение. Несколько проще дело
обстоит с упадком в культуре. Его симптомы могут быть вполне
очевидны — отсутствие творческой продуктивности, утеря связи с до-
стижениями прошедших эпох, просто-напросто разруха и пр. Обра-
щение же к кризису и разложению обязательно предполагает осто-
рожность по поводу того, чту именно переживает кризис и разлагается
в рассматриваемой культуре. Если она вся как целое, тогда перед
нами уже ситуация упадка, если же это не упадок в полном смысле
слова, то мы наверняка столкнемся с тем, что в одном отношении,
в одних своих проявлениях культура переживает кризис и разложе-
ние, в другом же отношении, в других проявлениях она утверждает
и выстраивает себя заново. Баланс потерь и приобретений здесь, как
правило, подводить бесполезно. Остается признать, что переживаю-
щее разложение, находящееся в кризисе и утверждающее себя в ка-
честве новой реальности в культуре соприсутствуют, образуя ее
противоречивую целостность. Сказанное было бы вполне приложимо
и к концу периода Московской Руси, когда бы речь шла о русской
418
Культура Московской Руси
культуре в целом. Тогда историк обязан был бы уравновесить карти-
ны кризиса и разложения указанием на те ростки, которые прорастут
и дадут плоды уже в Петербургской России. Но даже и в этом случае
ему нельзя закрывать глаза на то, что Московскую Русь и Петербург-
скую Россию не столько соединяет некоторый переход, сколько
разделяет пропасть. Московская, а вместе с ней и вся Древняя Русь
Петербургской Россией отрицалась. В контексте всей русской куль-
туры это было ее самоотрицанием, которое обернулось еще и само-
преображением. Для того чтобы нечто подобное состоялось, чтобы
дух самоотрицания приобрел такую силу, необходимо было нарас-
тающее чувство исторического тупика, невозможности оставаться
в пределах старых культурных форм, свое, привычное, все более
должно было казаться чужим и странным.
Эта тенденция нашла свое выражение не только в расколе, ини-
циированном ориентацией царя и патриарха на греческие образцы.
Она проявлялась прежде всего на самом наглядном повседневном
уровне. Весь XVII в. шло интенсивное проникновение в Московскую
Русь иностранцев с Запада. Этому не могла препятствовать никакая
конфессиональная взаимоотчужденность. На Западе она в XVII в.
играла все меньшую роль. Русь же вынуждена была считаться с тем,
что без иноземцев ей никак не обойтись. Запад в глазах русских
людей необратимо стал страной умельцев и искусников, чья помощь
насущно необходима прежде всего в вооруженных столкновениях
с западными же державами. Уже Ливонская война и тем более
Смутное время показали, какими неоспоримыми и опасными для
Московского царства преимуществами западные воины обладают над
русскими. Поначалу их пришлось привлекать на русскую службу,
создавать из иноземцев целые воинские формирования, а затем при
их помощи и обучать русских воинов западному воинскому строю
и способу ведения войны.
Преимущества пришельцев с Запада в военном деле, в ремесле,
торговле, медицине, учености были очевидны. Однако в XVII в. они
вели не столько к изменениям в русской культуре, появлению в ней
новых сторон и явлений, сколько к кризису и разложению устояв-
шихся культурных форм. Конечно, благодаря западным воинам
и ремесленникам улучшалось состояние русской армии и совершен-
ствовалось ремесло. Что же касается реалий более внутренних и фун-
даментальных, то с ними той же простоты и однозначности не было
и быть не могло. По своему типу русская культура XVII в. все еще
оставалась средневековой, чуждой происшедшей на Западе секуляри-
зации. Прямая встреча с Западом для Руси прежде всего означала
кризис и разложение собственной культуры. Начала воинского ис-
кусства или ремесла худо-бедно еще можно было усвоить, но стать
западным человеком русский человек был не в состоянии. Вначале
нечто в нем должно было разложиться и умереть, без чего никакая
вестернизация не была возможной.
Кризис и разложение древнерусской культуры
419
Для русской культуры XVII в. в высшей степени характерно, что
она не поражает своей утонченностью и изысканностью не только на
фоне, скажем, французской культуры века Людовика XIV (куда уж
нам до таких высот), но и по сравнению со своими предшествующими
периодами. Откроем наши еще очень ранние тексты: «Поучение
Владимира Мономаха», «Хождение игумена Даниила», «Слово о полку
Игореве». Это произведения очень высоких литературных досто-
инств. Но они при всей своей видимой простоте и безыскусности
отличаются еще и благородством тона, их простота вовсе не противо-
положна изысканности и аристократизму.
Это вовсе не аристократизм горделивого самоутверждения и вели-
колепия, он никогда не давался русскому человеку. Его достоинство
в другом—в совершенно органичной свободе и естественности душев-
ных движений авторов. Им дана удивительная мера в восхвалении
и в хуле, в принятии и отвержении того, о чем они говорят, прежде
же и более всего в принятии. И игумен Даниил, и князь Владимир
Мономах, и безвестный автор «Слова о полку Игореве», каждый из
них аристократичен, несмотря ни на какую разницу состояний. Они
оглядывают мир царственным взглядом и видят его как целое,
в котором и им дано право судить и решать, во всяком случае, дано
право голоса.
Вот, скажем, игумен Даниил приходит к самому центру земли,
в Иерусалим. Здесь, в Святой земле, у него есть возможность побы-
вать у самого Гроба Господня в день, когда ко Гробу сходит небесный
огонь. Уже само по себе пребывание в таком месте и в такой час—
великая радость и великая честь. Но игумен Даниил решается еще
и на такое дерзновение: «Тогда я, дурной и недостойный, в ту
пятницу, в час дня пошел ко князю тому Балдуину (королю Иеруса-
лимскому) и поклонился ему до земли. Он же, видя меня, дурного,
подозвал к себе с любовью и сказал мне: „Чего хочешь, русский
игумен?" Он меня хорошо узнал и полюбил меня очень, поскольку
муж он добродетельный и смиренный весьма, и ничуть не гордый.
Я же сказал ему: „Князь мой, господин мой! Молю тебя Бога ради
и князей ради русских: повели мне поставить лампаду на Гроб
Господень от всей Русской земли". Тогда он серьезно и с любовью
повелел мне поставить лампаду на Гроб Господень... Я же тогда,
поставив лампаду на Гробе Святом, и поклонившись честному Гробу
тому и облобызав с любовью и со слезами место то святое, где лежало
тело Господа нашего Иисуса Христа, вышел из Гроба Святого с радо-
стью великою и пошел в свою келью»1.
Именно так: в Иерусалиме есть Гроб Господень, но есть и келья
безвестного странника из Русской земли—игумена Даниила. По-
скольку же он, при всей своей смиренности, существует, то решается
и на дерзновение, на право представлять в Святой земле, в ее
1 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 4. С. 109—111.
420
Культура Московской Руси
центральном месте и в главный день года всю Русскую землю.
Дерзновенность игумена Даниила тем большая, что он поставил свою
лампаду во Гробе, где полагалось быть только двум греческим лампа-
дам, но никак не третьей. И все же, когда благодатный огонь сошел
на Гроб, загорелась и его, игумена, русская лампада, тогда как
висевшие над гробом католические лампады не зажглись. Игумену
Даниилу его деяние зачлось во благо. Не только король Балдуин, но
и Бог принял его необычную просьбу. Разве поступок игумена
Даниила не обличает в нем царственности, разве в его незамыслова-
тости, простоте и наивности не сквозит чего-то большего—повадка
человека, способного с безусловным попаданием в такт и ритм
действовать так, как должно, как это уместно и по человеческим
меркам, и перед лицом Бога.
Когда читаешь тексты, подобные «Хождению игумена Даниила»
с их внутренней свободой и просветленностью, а такова, скажем, из
московских текстов «Повесть о Петре и Февронии Муромских», то
кажется, что русской культуре изначально и навсегда был дан некий
редкий и драгоценный дар, который от нее неотъемлем, составляет ее
самое существо, хотя, может быть, и проявляется только на верши-
нах культуры. Но попробуем перечитать сочинения автора, по едино-
душному мнению, установившемуся еще в XIX и ничуть не поко-
лебленному в XXв., составлявшего своим творчеством самое
замечательное явление русской словесности XVII в. Разумеется, речь
идет о сочинениях протопопа Аввакума. Ниже я процитирую для
начала фрагмент из душеспасительной, по замыслу автора, «Книги
обличений, или евангелия вечного». Вовсе не из любви к парадоксам
или каких-то там поползновений на писательские достоинства и авто-
ритет Аввакума собрался я цитировать этот отрывок, и это при том,
что совсем с чистой совестью такое непотребство предложить к чте-
нию вряд ли возможно. Приходится, однако, предлагать в целях
подтверждения последующего тезиса: «...Подобно Федьке бешеному
бывал у меня в Сибири бешеный, Феодором же звали,—тезоименит
тебе, а другой на Лопатищах Васильем звали: на чепи сидя, у...ся,
г...о то свое ухватя в рот пехает себе же, а сам говорит: царь, царь,
царевни, царенки. И едино лице и два лица знаменит: понеже
дьяволи так учат. Как я, мазав маслом святым, да потом шелепом
свитым: твори молитву Исусову, бешеный страдник! Да бывало
Христовою милостию и оцеломудрствуется недели в две, а в три
и исправится. А с тобою уже десять лет мучюся, а не могу от тебя
бесов тех отогнать: за моя некоторый грехи суровы велиары в тебя
вошли. Да легче беса от бешенаго изгнать, нежели от еретика. <...>
Федор, веть ты дурак! Как тово не смыслишь!»1
Поразителен приведенный мною текст. Но как бы не был груб
Аввакум, а грубость его прямо-таки бесконечна, не она сама по себе
1 «Житие». С. 288—289.
Кризис и разложение древнерусской культуры
421
поражает. В развитии фекальной темы Аввакум вовсе не первооткры-
ватель новых путей. До него на этом поприще потрудились и ученый
гуманист Ф. Рабле, и зачинатель Реформации М. Лютер. И потруди-
лись так, что до их фекальной изощренности ему далеко. И все-таки
Аввакум оставляет своих предшественников позади тем, что находит
в ней сторону, вовсе недоступную ни французскому гуманисту, ни
немецкому реформатору. У Рабле сама по себе чудовищно грубая
и непристойная тема разрабатывается в игровом ключе. Образ мате-
риально-телесного низа для него реальность универсально-космиче-
ская, в нем нет наглядной очевидности и чувственной конкретности.
Поэтика Рабле такова, что он играет словами, не вынуждая читателя
своим художественным мастерством вперить глаза или ткнуться
носом туда, куда не след. Игровой легкости Рабле, правда, нередко
срывающейся в натянутость и вымученность ученой игры у доктора
М. Лютера нет и следа. У него разнузданная, клокочущая, задыхаю-
щаяся от ярости площадная брань. Это его не способная удержать
себя вражда к католикам, их неприятие. Ужасно читать Лютерову
брань, отвратительно, что такими издержками давал себя знать его
полемический темперамент.
На фоне Рабле и Лютера наш Аввакум само простодушие и благо-
душие. Вводя фекальную тему, он вовсе не собирается никого эпати-
ровать, ошарашить, раздражить. Аввакум естественным тоном гово-
рит о естественных для него вещах. Ну, да, человек не только ест
и пьет, но и наоборот, и чего здесь такого ужасного! Все мы люди
и все человеки. Худо, когда кто-нибудь человек совсем никудышний,
каким, например, в глазах Аввакума был патриарх Александрийский
Паисий. О нем протопопу только и остается сказать в таком духе:
«Чадо богоприимче! Разумееши ли кончину арапа онаго, иже по
вселенной и всеа руския державы летал, яко жюк мотыльный из г...а
прилетел и паки в кал залетел — Паисей Александрейский епископ?»1.
Опять-таки, как и в случае с «Федькой бешеным»—это не брань,
а использование законных в ряду других более привычных слов
и образов. Вводя в свою речь бесконечные у него фекалии, Аввакум
вовсе не уравнивает их с другими реалиями. Низ у него остается
внизу, где ему и место. Другое дело, что низ теперь допустимо
замечать, вводить его в словесный оборот, строить на нем метафоры,
просто упоминать о нем, как о житейском обстоятельстве. Временами
Аввакум обнаруживает прямо-таки какую-то задушевную фекаль-
ность. Она буквально повергает в растерянность, с ней не знаешь,
что делать. Вроде бы и тошнит от Аввакумовых словес, и в то же
время ясно, что у него они вполне органичны и по-своему уместны.
Не дай Бог только такой уместности никакой культуре.
Наша же русская дожила-таки до XVII в., до времен, когда
фекальность стала в ней, точнее будет сказать, в одном из ее слоев,
1 «Житие». С. 146.
422
Культура Московской Руси
вполне приемлемой. У Аввакума она проистекает из того, что он
ощущал себя естественным человеком, во всех своих проявлениях он
таков, каким Бог его сотворил. Ни на какую избранность и вознесен-
ность Аввакум не претендует, но зато по сути ни за кем ее не
ощущает тоже. У него все равны и в своей человеческой малости (это
перед лицом Бога), и в своем родстве (все друг другу братья
и сестры, или детушки, или отцы-матери).
Вроде бы родство исконно предполагает иерархию. Во всяком
случае родителей дети почитают, те над детьми властвуют. Однако
и здесь у Аввакума все покрывает теснота и задушевность родства,
ласка и милование родственных отношений. Удивительное дело, но
из ряда задушевного родства-равенства Аввакума не выпадает и царь
всея Руси Великия, Белыя и Малыя. Конечно, Аввакум не такой уж
законченный простец и обхождение знает. Вот он обращается к моло-
дому и совсем недавнему царю Федору Алексеевичу: «Благаго
и преблагаго и всеблагаго Бога нашего благодатному устроению,
блаженному и треблаженному и всеблаженному государю нашему,
свету-светилу, рускому царю и великому князю Феодору Алексееви-
чу...»1 Ну, чем не златоуст и не краснопевец в православном стиле
наш Аввакум? Умеет ведь, когда захочет, слово сказать в высоком
стиле, где и намека нет на какое-то снижение и тем более так часто
приходящий ему на ум «низ».
Впрочем, в уже приведенных строках что-то выбивается из общего
риторического православно-византийского ряда. Конечно, это фольк-
лорно-простонародное, «свет-светило», — за ним так и чудится нечто
в подобном роде «свет ты наш государь Федор Алексеевич». Так
и в простонародной, и вообще в русской среде обращались к честно-
му гостю, центральной фигуре на празднике, старшему в роду.
Ничего страшного нет и в том, что в светы-светила попал русский
царь. Если же продолжить цитату, а она из «Челобитной царю
Федору Алексеевичу», то в ней обнаруживаются реалии уже более
проблематичные: «Помилуй мя, страннаго, устраншагося грехми
Бога и человек, помилуй мя, Алексеевич, дитятко красное, церков-
ное!..»2
Говорил протопоп, говорил и, кажется, договорился. Теперь сам
царь ему и «Алексеевич», и даже «дитятко». В задушевно-панибрат-
ском тоне Аввакум с царем уравновешивается, и сразу же в достигну-
том равенстве приподнимается над ним. А почему бы и нет, если
Аввакум уже сильно в летах, а Федор Алексеевич совсем еще юн.
Как его молодость не приласкать и не прилелеять. Но вряд ли в этой
своей ласковости Аввакум так уж уместен. Все-таки дело-то он имеет
с царем-батюшкой, а значит, и со своим отцом. Впрочем, грех
протопопа был бы и простителен, да и не был бы никаким грехом, не
1 «Житие». С. 98.
2 Там же. С. 99.
Кризис и разложение древнерусской культуры
423
Царь Федор Алексеевич
всякая ведь простота хуже воров-
ства. Не был, если бы не следую-
щие словесные ходы и повороты
Аввакума. Перейдя от родствен-
ной задушевности вновь к высо-
кому стилю, кажется, утопив в нем
свою отцовскую ласку, Аввакум
начинает обличать врагов-никони-
ан. В соответствии с православно-
христианским этикетом, свое об-
личение он заканчивает со всей
необходимой кротостью и незло-
бием: «Спаси, спаси, спаси их Гос-
поди, ими же веси судьбами! Из-
лей на них вино и масло, да
в разум приидут!»1 Но лишь за-
тем, чтобы со всей ничуть не по-
колебленной и несомненной мо-
щью вражды и противостояния
обрушиться на врагов: «А что, го-
сударь-царь, как бы ты мне дал
волю, я бы их, что Илия пророк,
всех перепластал во един час. Не
осквернил бы рук своих, но и
освятил, чаю... Перво бы Никона, собаку, и рассекли начетверо,
а потом бы и никониян»2.
Как хотите, но есть, есть что-то в аввакумовых словах от духа
пушкинского юродивого из «Бориса Годунова» с его «царь, а царь,
Николку дети обижают, а вели их зарезать, как зарезал ты маленько-
го царевича». Не буквально тематическое здесь сходство. Оно в са-
мой внезапности перехода от кротости и умаленности к кровавой
зверскости. У юродивого это игра, он ловит в свои сети своим
страшным скачком смысла больную совесть Бориса Годунова. Авва-
кум, если и играл с царем Федором Алексеевичем, то заигрался до
того, что выдал себя. Нет у него никакой кротости. Она дежурна
и этикетна. В лучшем случае, ее Аввакум периодически или непре-
станно вменял себе в обязанность, но без особого толка. Как мини-
мум, не кротость, нет, а незлобивость Аввакума помимо всякой его
воли переходила в озлобление и даже в худшее —в застывшую
мертвенную решимость отомстить за все, за все отыграться и усла-
дить свою душу муками непримиримого врага.
Так постепенно и неспешно мучимый и страдающий в своем
страшном Пустозерске Аввакум через свое послание входит в цар-
1 «Житие». С. 99.
2 Там же. С. 99.
424
Культура Московской Руси
ские палаты, садится за один стол с царем и начинает говорить с ним
на равных, как человек с человеком. Да еще правый, которому
нужно убедить в своей правоте несмышленное «красное дитятко» —
царя. Это он-то, протопоп, которых тысячи, единственного на Руси
человека, царя-батюшку, кому Бог доверил все православное царст-
во. Аввакума такая несоизмеримость статутов и ролей как будто
совершенно не касается. Ему и равенства-то с царем маловато будет.
Вот у него, самовольно седшего, и ноги на столе: «Бог судит между
мною и царем Алексеем (недавно умершем отце нынешнего царя. —
Авт.). В муках он сидит, слышал я от Спаса; то ему за свою
правду»1.
Подтекст заявления Аввакума прозрачен и легко прочитывается:
«Пойдешь и ты, Алексеевич, отцовым путем, будешь потворствовать
никонианам, и тебе место в аду рядом с батюшкой». Это уже едва
прикрытая угроза и ультиматум. И в не меньшей степени самовозве-
личивание. Оно у Аввакума неизменно в одном и том же роде
теплоты, задушевности и родственности. О страшной участи царя
Алексея Михайловича Аввакум ведь узнал не от ангелов-посланцев
Божиих, не от Господа Иисуса Христа, а от «Спаса». Тоже от своего
рода «Михалыча» или «Алексеевича». Уж если Аввакум близок
к Богу, то близость эта для него возможна только как родственная
и семейная, как панибратство и фамильярный контакт.
Разумеется, Аввакум, несмотря на всю свою узость и заскоруз-
лость, православный христианин, а не безумный сектант, духовидец
и прорицатель. Он очень даже знает свою малость и убогость перед
лицом Бога. И все-таки помыслить свою близость к Богу для Авваку-
ма так естественно в образах родства, семейственности и соседства.
Такой уж он человек, знать не знающий и не желающий знать ни
о какой иерархии, устойчивой оформленности «высшего», пафосе
дистанции по отношению к нему. Аввакум простолюдин без всякой
выделки ума, самородок, которому что дано, то дано, в котором
данность предъявляет себя самой себе, миру и Богу. Он как бы вырос
из родной почвы, не сидит на ней сиднем, но это его земля, его мир,
в нем все изначально знакомо, близко, свое родное и родственное.
Никакого другого мира для Аввакума, кроме Святой Руси, и разве
еще некоей сказачно-фольклорной дали мирового окоема нет. Стра-
ны, где живут восточные патриархи, для Аввакума—это некоторое
продолжение святорусской земли, они и чужие, и свои. Чужие
потому что в них царствуют иноверцы. Так же чужд и Рим со своей
нарушившей святорусское единство схизмой.
Между тем в захваченных басурманами православных землях
правит «Салтан Мегметович», тогда как в Риме некогда правил Тит
Иуспиянович, эдакие инородные и иноверные Алексеи Михайловичи
и Федоры Алексеевичи. Ведь и наши русские цари уклонились от
1 «Житие». С. 99.
Кризис и разложение древнерусской культуры
425
праведного пути, став тем самым Салтанами Мегметовичами и Тита-
ми Иуспияновичами. И те и другие живут в одном русском мире,
только вот мир этот поколеблен в своих основаниях, расколот и по-
вержен во тьму, от этого переставая быть одним и тем же миром.
Совсем уже в дали и на окоеме, там Русь и как мир и как свой
собственный антимир заканчивается, там начинается страна святых
и всяких иных чудес. В ней, к примеру, обитает «феникс-птица... она
же глаголется сирини и неясыть пустынная. Излетает бо из рая
и витает в кедрах ливанских. Красна и велелепна, перием созлатна
и песни поет сладки, яко не восхощет человек ясти, слышавше ее
гласы. Гнездо бо ее на 12 древах и вяще...»1
Такие аввакумы, священники истовой веры и обряда, и вместе
с тем с кругозором и душевным строем вполне крестьянским, сущест-
вовали и в Московской, и в Киевской Руси от столетия к столетию.
Аввакум отличается от них главным образом одним. Он наконец
заговорил от себя и со своего голоса. Заговорил, оставаясь в то же
время тем же самым священником-крестьянином. Но как естественен
его голос, какое ощущение своего права говорить обо всем и обо всем
судить. Именно он, простой священник, посмел написать, и как ни
в чем ни бывало, написал первую в русской словесности автобиогра-
фию. Именно он, а не кто-либо из образованной светской верхуш-
ки—бояр, дворян или купечества. С его естественностью и уравни-
тельностью, с готовностью соотнести себя со всем и вся, обо всем
судить и всему вершить свой приговор, протопоп Аввакум сильно
отдает секулярностью.
Нет, конечно, ни к какой секулярной культуре он не принадле-
жал, оставаясь человеком церковным. Но внутри церковности пози-
ция Аввакума—это сплошные хляби и бесформенность. Ему никто
и ничто не указ, он живет по своему уму и своей воле, напоминая
этим Лютера. Тем более, что Лютер тоже из крестьян. Но он достиг
вершин средневековой образованности и перевел Библию на немец-
кий, а вовсе не крестьянский и вовсе не простонародный язык.
Лютер многое безвозвратно расшатал и порушил, но и многое воз-
двиг. Наш же Аввакум в своей борьбе и противостоянии, по сути,
утверждал одно — непреложную данность того православного мира,
в котором он вырос, который в своей данности единственно возмо-
жен и оправдан. Лютер прославился своим знаменитым sola fide—
«только верою». Так он перевел соответствующее место из апостола
Павла, ощущая свое право перевести именно так, а не иначе, несмот-
ря ни на какие указания на неточность и форсированность акцентов
перевода. Совсем иное дело Аввакум. Какие там собственные акцен-
ты! Для него абсолютно недопустимы изменения «не токмо в вере
и догматех веры, но ни в малейшей чертице божественных, церков-
ных, канонов или песней». Они «никакову исправлению не подлежат
1 «Житие». С. 178.
426
Культура Московской Руси
от начала веры даже до скончания века»1. Аргумент в пользу абсо-
лютной неизменности даже самого малейшего момента в церковной
жизни у Аввакума очень характерен: «Мните себе исправляти, и под
титлом исправления—чем далее, тем глубее во дно адово себя низво-
дите; и тому мнимому вашему исправлению конца не будет, дондеже
не останется в вас ни едина малейшая часть христианства»1 2.
Иначе говоря, стоит начать какие-либо исправления, и остановить-
ся будет уже невозможно, вплоть до полного ниспровержения веры.
И это заявляет, на этом настаивает человек, совершенно чуждый
какой-либо строгой и сухой натянутости, мужик, который вошел
в русскую словесность со всей своей благодушной простонародно-
стью, всё и вся готовый до нее свести. И когда пугает своего
незадачливого ученика: «Федор, ведь ты дурак!», и когда говорит
о своей близости к Богу. Поистине это крестьянское царство под
конец своего существования выставило своего представителя Авваку-
ма и заговорило в его лице. Ничего оно не хочет знать, кроме самого
себя, со всеми своими привычками и обыкновениями. Никакой фор-
мы, никакой строгости, никакого восхождения от естественности, от
века данного к чему-то неочевидному и неестественому в своей
неестественности отрицающему данность.
Аввакум как бы воспользовался тревожной и неустойчивой атмо-
сферой последних десятилетий Московского царства, точнее, ощутил
их в себе и заговорил на своем крестьянском языке, утвердил право
естественной простонародной речи. В XIX в. эта речь будет восхи-
щать великих русских писателей своей образностью, выразительно-
стью, задушевностью, своим настоящим писательским темперамен-
том. К ней будут чувствовать близость, она будет влечь к себе. Не
нужно только забывать, что сами русские писатели не выросли из
земли с какой-то природной естественностью. Их отличие от Авваку-
ма в том, что появились они на свет после целого века культурного
ученичества, когда русский язык лишился всякого подобия авваку-
мовой простоты и естественности, потом она все же возникла, но
вовсе не как крестьянская и простонародная, а в качестве речи
светского человека. Светский тон Карамзина, еще и Пушкина подго-
товил ту простоту и непосредственность, которая вроде бы родствен-
на простоте и непосредственности Аввакума.
Не случайно, однако, между словом последнего и словом великой
русской литературы XIX в. нет прямой и даже косвенной генетиче-
ской связи. Аввакумова простонародность непосредственно никуда
не вела, ею древнерусское слово завершалось и отрицалось. Это была
фольклорность, которая странным образом стала индивидуализиро-
ванным творчеством. До Аввакума Московия, хотя и была крестьян-
ским царством, где правил царь-крестьянин в окружении бояр-
1 «Житие». С. 123.
2 Там же. С. 123.
Кризис и разложение древнерусской культуры
427
крестьян, где жили дворяне-крестьяне, посадские люди-крестьяне и,
наконец, земледельцы-крестьяне, однако, крестьянскость в ней дава-
ла о себе знать как интонация, акцент, нечто непреодолимо-простона-
родное в словесном творчестве. Аввакум же—это крестьянин, кото-
рый своим словом целостно предъявляет себя читателю как крестьянин
по преимуществу. Отсюда фольклорная сказочность в обращении
к отдаленному и неведомому, так же как к вознесенному над обы-
денным.
Главное же, ко всему Аввакум прикладывает свою крестьянскую
мерку. А крестьянин, который видит в своей крестьянскости не
детскость, требующую восполнения и довершения через обращен-
ность наверх, к барину и царю, а нечто самодовлеющее—это человек,
пребывающий в вечном теперь своих крестьянских, реалий. В част-
ности, в его фольклоре сквозит подозрение, если не прямо о мнимо-
сти, то о проблематичности всякой вознесенности над землей и ари-
стократической выделенное™. Поэтому в нашем крестьянском
эпосе—былинах —князь Владимир, конечно, «свет-светило», «красно
солнышко», но он со своей княгиней Евпраксией существа пассивно-
беспомощные по сравнению с богатырями святорусскими, и прежде
всего самым главным богатырем—Ильей Муромцем. В нем крестьян-
ские черты выражены со всей определенностью. Он и родился в селе
Карачарове от родителей крестьян, и 33 года сиднем сидел на печи,
то есть в неотрывности от матери-земли, и силу свою непомерную
получил от нее же.
Еще более проблематична фигура царя, а за ним барина в народ-
ной сказке. Здесь царь может быть глуп, смешон, капризен, прямо
злокознен. Дистанции по отношению к царю крестьянин в сказке не
признает. Правда, как правило, не вполне или вовсе не принимает он
еще и священника. То, что царство и священство связаны неразрыв-
но—это крестьянский ум и чувствительность прекрасно схватывают.
И здесь, по этому пункту, протопоп Аввакум и крестьянин как будто
должны были разойтись. В действительности же ничуть не бывало.
У Аввакума вполне крестьянская связь со своей паствой, по отноше-
нию к которой он ощущает себя пастырем не только в церковном
смысле. Церковность у него органично переходит в отеческую попе-
чительность вполне крестьянского свойства. Касательно же священ-
ства нужно отметить, что хотя Аввакуму вовсе не чуждо церковное
благолепие, привечание священником священника, у него можно
прочесть и такое: «Также здесь есть, в Пустозерье, попенко косой
Оська Никольской. Не умеет трех свиней накормить, а губит людей
бутто и доброй еретик»1.
Что же это, священник судит о священнике, пусть и однозначно
порицая его? Да нет, конечно. Это крестьянин по-своему, по-кресть-
янскому, негодует на неуродившегося человечишку, негодного преж-
1 «Житие». С. 170.
428
Культура Московской Руси
де всего ни к какому крестьянскому делу, даже самому пустяковому.
Куда уж ему до более значимых дел! И не поп Иосиф (Осип) он
вовсе, а попенко Оська. Нет никаких попенков и Осек для Церкви,
в ней служат иереи, нарекаемые со всей торжественностью, подобаю-
щей их сану и пребывающей в каждом иерее благодати. Таких вещей,
разумеется, Аввакум не мог не знать. Но помимо знания есть еще
и его крестьянская душа, не преображенная никаким священством
в своих живых реакциях, непосредственных душевных движениях
и настроениях.
Наверняка, протопоп Аввакум никогда бы не дошел до той степе-
ни непосредственности и естественности, которые сквозят в его
писаниях, не случись раскола. И патриарх, как бы ему не насолил,
не стал бы «собакой» даже в мыслях, и царь «Михалычем» или
«Алексеевичем», и фекалий у Аввакума не было бы, по крайней мере,
в его сочинениях. Раскол поколебал, казалось бы, незыблемые, от
века данные устои, заставил Аввакума самоопределяться. Здесь
и вышло наружу его крестьянское нутро, все то, чему не было места
в «высокой» культуре, что никуда не вело и никаких горизонтов не
открывало. Аввакум восстал и противопоставил себя жестокой и су-
ровой царской власти с ее битьем кнутом, дыбой и вырыванием
ноздрей, не принял он и смутных, невнятных самим ищущим поис-
ков церковноначалия. Но противопоставить царству и патриархии он
мог лишь крестьянское царство, все вмещавшееся в обряд, неуклон-
ное следование ему в сознании его самоценности и содержащейся
в нем незыблемой полноты. Парадокс, однако, состоял в том, что
борьба за неподвижность жизни позволила борцу задействовать свои
личностные ресурсы, встать над всеми устойчивыми формами, зада-
ваемыми высокой культурой. Аввакум стал голосом крестьянской
Руси, знать ничего не желающей, кроме самое себя, готовой обойтись
уже и без царя и патриарха, одной только своей общинной жизнью
с учительствующими «отцами», братьями, сестрами и дитятками.
Хорошо бы чтобы в этой жизни были одни только совет да любовь,
гарантируемые неизменностью «ни в малейшей чертице божествен-
ных, церковных, канонов или песней».
Конечно, появление такой фигуры, как протопоп Аввакум с его
писаниями,—это самоизживание культуры через осуществление за-
ложенных в ней возможностей. Царь и патриарх только чуть поколе-
бали основание того душевного строя, на котором зиждилась Мос-
ковская Русь с ее всепронизывающей крестьянскостью. И реакцией
на это стала так выразительно проговоренная Аввакумом потреб-
ность еще глубже уйти в свою неподвижную и охранительную кре-
стьянскость. Туда, где пребывание для целого царства, державы,
простершейся к тому времени уже до Тихого океана, буде оно
возможно, оказалось бы безвозвратно погибельным. Благолепно-
крестьянская и по-крестьянски же христианская жизнь возможна
в отдельной общине, превращение же всей Руси в одну такую собира-
Кризис и разложение древнерусской культуры
429
тельную общину—это болезнь, исход которой—историческая и куль-
турная смерть.
Аввакум — очень характерная и вместе с тем исключительная фигу-
ра своей эпохи. Его творчество, весь его образ и повадка могут
рассматриваться как свидетельство и симптом разложения древнерус-
ской культуры в сторону ее фольклоризации, и вместе с тем Аввакум
в своей фольклорности ярко индивидуален, говорит от себя, о себе
и по-своему. Он крестьянин на пути к в целом противопоказанной
крестьянину индивидуализации. В этом исключительность Аввакума.
Сами же по себе крестьянские черты в Аввакуме и его сочинениях
вполне в русле эпохи. Здесь он сын своего времени. А то, что
в XVII в. происходит буйная фольклоризация русской культуры,
факт этот представляется несомненным. Сильно, сильнее, чем преж-
де, выражен фольклорный момент в словесности. За счет и просторе-
чия, и сниженности сюжетов, и появления героев-простолюдинов
ит. д.
***
Особенно внятна фольклоризация в архитектуре. Она становится
гораздо декоративней и пестрей. На фоне XVII в. храмы Киевской
Руси, так же как удельной и Московской Руси XV—XVI вв.,—это
сама строгость и стройность, они аристократы, на смену которым
пришли простолюдины. Последние вроде бы и одеты нарядней, на
них чего только нет, но нарядность простолюдинов деревенская.
Часто в ней не видно ни меры, ни вкуса, а если они и есть, то совсем
другие, чем в более ранних храмах Древней Руси. Старые храмы
поразительно скупы на декор, в них основную роль играет конструк-
ция здания, которая, прежде всего, говорит сама за себя и только
потом нюансируется декором. В русских же храмах XVII в. декор
может едва ли не самодовлеть, тогда как храмовая конструкция всего
лишь служит носителем декора. Если сравнить, скажем, Успенский
или Дмитриевский соборы во Владимире с Московскими церквами
Троицы в Никитках или Останкине, то впечатление будет такое,
словно они принадлежат различным мирам и культурам, а может
быть, одни из них представляют собой столичное, тогда как другие—
периферийное явление одной и той же культуры.
Когда же в храмах XVII в. декор не съедал конструкции, то она
представляла собой нечто несравненно более простое и бедное в срав-
нении с храмами предшествующей поры. Здесь не было середины
и уравновешенности между конструкцией и декором. Или бедность
и скупость одной, или прущая чрезмерность другого. Такая неравно-
весность говорит не просто о том, что «золотой век», классика,
«великий полдень» древнерусской культуры остались позади, но
и о характере наступившего разложения. Очевидным образом оно
шло не по линии не лишенного болезненности истощения или чрез-
мерной, никуда не ведущей изощренности. Как раз наоборот, в архи-
430
Культура Московской Руси
Церковь Троицы в Никитниках. Москва.
1635-1653.
Фото, 1980-е гг.
вовало и изменение в характере
тектуре Московской Руси XVII в.
наступает опрощение. Это не про-
стота нищеты и скупости, а скорее
простота примитива. В строитель-
ство храмов вкладывается, и во-
площается в них душа, которой
важны чин и благолепие богослу-
жения, праздник обращенности
к Богу, все, чем должна быть дос-
тойно обставлена встреча с Богом.
Сама же встреча, само богообще-
ние как будто не предполагаются
или отодвинуты на задний план.
В таких храмах вполне уместно
благочестие, выражающееся в чис-
ле отбитых поклонов, произнесен-
ных молитв, в продолжительно-
сти богослужения, в котором не
пропускаются и не сокращаются
ни одни из его моментов.
Новому типу храма соответст-
иконописи. Причем, если примени-
тельно к храму можно говорить о его опрощении и примитивизации,
и в этом видеть разложение древнерусской архитектуры, то разложе-
ние иконописи идет гораздо дальше. Когда иконы начали упрятывать
в золотые и серебряные оклады, украшать их драгоценными камня-
ми, в таком торжестве декора можно увидеть параллель изменениям
в храме в сторону его декоративности. Однако гораздо дальше дело
заходило в самом иконописании. Иконы становились не просто более
декоративными, в них разрушалась собственно иконность. Икону
в ней самой вытесняла изобразительность уже не вполне или совсем
не иконописного характера.
Но я бы поостерегся утверждать, что в XVII в. русская иконопись
двигалась в направлении своей трансформации в живопись, пускай
и на религиозные темы. Нечто подобное происходило, только не
у нас в XVII в., а, скажем, в Италии в период предвозрождения
и собственно Ренессанса. Решающие шаги в переходе от иконописи
к живописи в Италии принято связывать с Джотто. В его фресках
отчетливо просматривается как иконописная традиция с ее канонами
и изобразительными приемами, так и начавшееся их преодоление. Со
всей определенностью выход Джотто за пределы иконописи можно
обнаружить, скажем, в его знаменитых фресках капеллы дель Арена
в Падуе. Одна из этих фресок —«Воскрешение Лазаря» —особенно
явно связана с византийским иконографическим каноном. Точно так
же, как на византийских или русских иконах, Джотто изобразил сам
момент, когда Лазарь восстал из гроба. На левой стороне фрески
Кризис и разложение древнерусской культуры
431
Воскрешение Лазаря. Фреска капеллы
дель Арена в Падуе, 1304—1306
Джотто
Иисус Христос протягивает руку
в сторону расположенного с пра-
вой стороны Лазаря. Последний
стоит возле своего гроба, весь об-
витый пеленами, в окружении не-
скольких человек. Справа же на
переднем плане двое юношей дер-
жат в руках крышку от гроба.
Левее их, между ними и Христом,
у ног Спасителя, простерлись две
женщины. За ними, так же в цен-
тре фрески, изображена группа
свидетелей происходящего. Нако-
нец, за спиной Иисуса Христа сто-
ят апостолы. Все это у Джотто
в общем виде совпадает с иконо-
писными изображениями, так же
как и изображение горы на зад-
нем плане. И в одном, и в другом
случае перед зрителем открывается многофигурная композиция на
фоне играющего заметную роль ландшафта.
Иконографический тип «Воскрешение Лазаря» тем и отличается
от большинства других иконографических типов, что он проработан
применительно к кульминации драматически напряженного дейст-
вия. Причем действие это —чудо, самое главное из совершенных
Христом, как никакое другое знаменующее смысл Боговоплощения.
Своими средствами каждая икона фиксирует драматизм происходя-
щего, то, как чудо вершится и какую реакцию оно вызывает у свиде-
телей. Христос на иконе «Воскрешение Лазаря» изображается как
власть имеющий, жест Его спокоен и царственно величав по сравне-
нию с напряженно-испуганным состоянием столпившихся за спиной
Христа апостолов. Сам Лазарь в своей статичной спеленутости про-
тивостоит свободе и царственности Спасителя, он только что очнулся
от смертного сна, вернувшаяся жизнь едва коснулась его. Все же
остальные свидетели происходящего каждый раз по-своему демонст-
рируют смятенность. Марфа и Мария — несогласованностью колено-
преклонений. Юноши (иногда юноша) диагональным держанием
крышки от гроба, с которой они отпрянули от него. Даже образую-
щие фон сцены воскрешения Лазаря -горы — это не совсем фон. Они
как будто раздвинулись по сторонам, треснули и раскололись, давая
проход из гроба-пещеры воскресшей жизни.
Всякая икона иконографического типа «Воскрешение Лазаря» так
или иначе направлена на воспроизведение чуда, но таким образом,
чтобы ему было подчинено все остальное. На иконе перед нами не
просто Христос, а Христос-чудотворец, не Лазарь, а воскресающий
Лазарь, не Иосиф Аримафейский, а Иосиф, зажимающий нос от
432
Культура Московской Руси
смрада трехдневного трупа и уж тем более не Марфа и Мария, а сама
скорбь и мольба. При взгляде на «Воскрешение Лазаря», нет никако-
го смысла всматриваться в изображенные на ней лица с целью
постижения личностной определенности каждого из них. Далее изо-
бражения душевных состояний икона не идет. Правда, состояния это
личностные, точнее же будет сказать, личностна в «Воскрешении
Лазаря» сама соотнесенность изображенных на ней лиц. Она, эта
соотнесенность, застыла в вечности, как некоторый смысл, явленный
или инициированный некогда Иисусом Христом.
Обратившись после иконы к фреске Джотто, переходишь совсем
в другой мир и другое измерение, несмотря ни на какое следование
итальянским живописцем византийскому иконографическому кано-
ну. У Джотто, так же как и на соответствующей иконе, дано личност-
ное соотношение изображенных лиц. Но сами эти лица теперь высту-
пают в несравненно большей определенности и эмпирической
конкретности. Держат крышку гроба коренастые крепыши-простяги,
в силу своей простоты как бы и не причастные к происходящему.
Двое из апостолов, чьи лица прописаны в фреске, это явно Петр
и Иоанн. Они не просто смотрят на происходящее несколько ошара-
шенно, едва ли не недоверчиво, перед нами благородный старец
и юноша с нежным, слегка женственным лицом.
В центре же композиции другие юноша и старец, на этот раз
первый из них безвестный, второй же—Иосиф Аримафейский. Теперь
их душевное состояние проработано с неведомой иконе ситуативной
конкретностью и определенностью. В отличие от отстраненности
апостолов, юноша и Иосиф максимально включены в происходящее.
Первый из них напряженно вглядывается в Лазаря, отражая своим
взглядом и позой увиденное чудо. Поражают руки юноши. Левой он
озадаченно касается подбородка, в то время как правая своей обра-
щенностью к Христу в противоположную от Лазаря сторону создает
двойной эффект. Юноша как будто и отпрянул от Лазаря, отвел руку
в удивлении, и вместе с тем указывает на то движение благодати,
которая исходит от Христа. На лице Иосифа Аримафейского изобра-
зилось удивление и озадаченность не меньшие, чем у юноши. Но он
не погружен в них, как юноша, а обращает недоуменный и озадачен-
ный взор к Христу, молчаливо ожидая объяснения.
Сам Христос на фреске Джотто как и на иконе тоже власть
имеющий, но Он как-то слишком по-человечески напряжен и сосре-
доточен, как будто происходящее и для Него своеобразное испыта-
ние. Некоторая выделенность Христа у Джотто, конечно, сохраняет-
ся, к Его ногам припали Марфа и Мария, за Его спиной «свита»
учеников. И все же Христос включен в происходящее событие как
человек среди людей. Оно ситуативно-конкретно и никак не хочет
растворяться в вечности. Чудо, изображенное на фреске Джотто, —
это какой-то необыкновенный казус и «скандал», в котором его
человеческое измерение явно выходит на передний план. Лазарь
Кризис и разложение древнерусской культуры
433
воскрес вот для этих самых лю-
дей, их он потряс и обескуражил.
У Джотто в «Воскрешении
Лазаря» не столько смерть пре-
одолевается, сколько случается со
вершенно поразительное событие
с Лазарем, а значит, и со свидете-
лями его воскрешения. Чудо здесь
локализовано, это именно случай,
казус, а не свершение, история
исключительная, а не священная.
Каких только чудес не совершал
Христос,—как будто говорит нам
фреска и оставляет данное проис-
шедшее чудо во времени, в гори
зонтали происходящего, как бы
не задевая вертикаль. На фреске
она дана как вершина горы, по
росшей деревьями. Вершина пус-
та и служит нейтральным фоном
происходящего. Это «красою веч-
ною» блистает природа, у которой своя собственная жизнь, чего
никак не скажешь о скалах иконы. В различных изводах они,
корчась, устремлены вверх, в небо, они менее всего нейтральны по
отношению к происходящему чуду. В скалах выражен необратимый
сдвиг в бытии. Теперь оно не то, что прежде и никогда не будет тем
же. Во времени произошло раз и навсегда вечное, его и воплощает
в меру возможного икона.
Противопоставленность иконографического типа «Воскрешение
Лазаря» соответствующей фреске Джотто, наверное, сделано мной
с чрезмерным нажимом, прямолинейностью, а значит, и приблизи-
тельностью и неточностью. Однако настаивать можно на одном:
у Джотто происходит еще далекая до завершения, но все же транс-
формация иконописи в светскую живопись. А это совсем не то, что
имело место на отечественной почве. У нас разложение иконописи
происходило вовсе не в направлении создания светской живописи.
Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к иконографиче-
скому типу, ранее мной уже разбиравшемуся, к Троице ветхозавет-
ной.
На этот раз речь у нас пойдет о «Троице» уже не из XV, а из
XVII в. Самая известная из числа икон этого иконографического
типа, созданных в XVII в., конечно, «Троица» Симона Ушакова.
Очевидно, что ее художественные достоинства нет никакого смысла
сравнивать с достоинствами «Троицы» Андрея Рублева. По своему
уровню эти произведения несопоставимы. И все же и одно, и другое
произведения —иконы. Причем ушаковская «Троица» неизмеримо
434
Культура Московской Руси
Троица Ветхозаветная. Икона
Симон Ушаков, 1671
проигрывает рублевской именно
как икона. В ней появляются чер-
ты, подрывающие ее иконность,
делающие «Троицу» Симона Уша-
кова произведением на грани ико-
ны и чего-то радикально иного.
В сопоставлении с рублевской,
ушаковская «Троица» неприятно
поражает даже самый невзыска-
тельный взгляд своей перегружен-
ностью. На ней изображено много
такого, без чего обошелся Рублев
и что разрушило бы замечатель-
ную целостность и гармонию его
произведения. Начать с посуды
на столе, за которым восседают
три ангела. Ее не просто много,
но и выписана она ярко, со вку-
сом. Стоит посуда на скатерти,
в свою очередь украшенной бога-
тым орнаментом, как, впрочем,
и кресла ангелов. Если учесть еще
и сосуд, стоящий на подносе в но-
гах двух ангелов, то их трапеза
действительно выглядит обставленной со всей роскошью и торжест-
венностью. Ангелы не то чтобы теряются среди окружающей их
утвари, но она не оставляет их всецело обращенными друг к другу.
Создается впечатление, что они собрались вместе для чего-то третье-
го, а не ради самих себя, совместного пребывания в общении-любви.
Еще более уводит нас от впечатления от обращенности ангелов
друг на друга задний план иконы. Он двойственен, так как в нем
соприсутствуют «культура» и «природа». Первая как некоторое хра-
мовидное сооружение, архитектуры не столько условной, сколько
фантастической, как это часто бывает в ренессансной живописи.
Заимствование Симоном Ушаковым своего храма-дворца у западных
художников несомненно. Достаточно обратить внимание на колонны
коринфского ордера, явно полюбившиеся Ушакову. Не менее храма-
дворца из иконописной цельности и «иероглифичности» при обозна-
чении фона иконы выбивается расположенное в правом верхнем углу
иконы дерево. У него настоящая густая крона и мощный ствол
и ветви. Дерево особенно обращает на себя внимание тем, что растет
оно на склоне горы, отсюда — напряжение его ствола, выраженное
наклоном влево и вместе с тем неподатливость тому гнущему к низу
положению, в котором ствол вырос.
Обставленные всякого рода утварью, едва ли не теснимые природ-
ным и культурным фоном ушаковские ангелы -- кто угодно, только не
Кризис и разложение древнерусской культуры
435
триединый Бог, пребывающий в реальности Своего внутрибожест-
венного бытия. Да и божественные ли это существа? В их сакрально-
сти трудно усомниться. Об этом говорит не по-земному величествен-
ный облик ангелов, а не только впрямую указывающие на сакральность
нимбы и крылья. Но на этот раз крылья придают ангелам оттенок
сказочности. Они прописаны в таком ритме, что соответствуют позам
ангелов, которые, несмотря на свою весомость и плотность, воспри-
нимаются крылатыми существами, способными к полету, «человеко-
птицами». На что-либо подобное в ангелах рублевской «Троицы» нет
и намека. Их крылья невесомы и совершенно условны. Своей золоти-
сто-желтой бесплотностью они скорее обозначают надмирность анге-
лов, чем непосредственно прикреплены к ним. Потому у Рублева
и намека нет ни на каких «человеко-птиц» в ушаковском стиле,
а следовательно, ничего нет и от сказачности и фольклорности.
Ушаков же написал некоторые сказочные существа, то ли из мира
фантастического дворца-храма, то ли из мира таинственного дерева-
горы. В любом случае они пришли из некоторой реальности, в кото-
рой обитают, в другую реальность, где непосредственно нам предъяв-
лены, где их чествуют со всей возможной роскошью. И если даже
ангелы—существа из одного мира, пускай особого, сказочного, даже
сакрального, прибывшие в другой мир, их божественность не дости-
гает полноты, когда тварный мир расступается и отступает в их
присутствии, обнаруживая свою вторичность, производность и несу-
щественность перед теми, кто есть завершенная полнота бытия.
В лучшем случае ушаковские ангелы—это существа, образующие
божественность мира как его средоточие, но не свое собственное,
обращенное на себя божественное бытие.
На это, в частности, указывает безличность ангелов. И сказанному
ничуть не противоречит большая прописанность ангельских ликов
у Ушакова по сравнению с Рублевым. У него они начинают тяготеть
к портретной изобразительности. Вот только «портрет» каждого
ангела уж очень мало отличим от «портретов» других ангелов. И это
несмотря на известную характерность ангельских ликов, человече-
скую определенность их черт. Ушаковская «Троица» в итоге сильно
отдает тройничеством. В ней решительно не хватает объединенности
ангелов единым внутренним движением, у каждого из которых оно
проявляется по-своему, привнося нечто свое в общее согласование
любви. И дело ничуть не спасает наличие внешнего ритма соотнесен-
ности фигур, приближенного к ритму рублевской «Троицы». У Уша-
кова каждый из ангелов-тройников задумался о чем-то своем, погру-
зился в себя. Но его пребывание в себе при этом такое же, как
и у двух других ангелов. Поэтому ушаковские ангелы и уединенны,
не образуя никакой троичности, и в то же время троичны, когда их
троичность есть троичность тиражирования одного и того же лица.
Уже одно это обстоятельство исключает настояющую «портретность»
ангелов, какое-либо движение в его сторону. Ушаков явно испытал
436
Культура Московской Руси
влияние западной живописи, оно сказывается у него прежде всего
в заднем плане иконы с ее «природой» и «культурой». Но также
и в лицах ангелов.
Однако влияние это вовсе не размыкает иконописи Симона Уша-
кова в сторону живописи. Живопись—о человеческом мире, увиден-
ном человеческим взором. Об этом у нас шла речь в связи с «Воскре-
шением Лазаря» Джотто. Между тем никакого человеческого или
очеловеченного мира в иконе Ушакова в отличие от джоттовской
фрески не возникает. Иконописность под ушаковской кистью разла-
гается и разрушается, но вовсе не выстраивается на каких-либо
новых основаниях чего-либо послеиконописного. Сказочность и фольк-
лорность явно не те реалии, которые могут прийти на смену иконо-
писности. Сами по себе они принадлежат низовой, прежде всего,
крестьянской культуре. Их, конечно, можно обыгрывать в своих
новых целях в послефольклорном творчестве. Как это имело место,
например, у ренессансных гуманистов, полными пригоршнями чер-
павшими в фольклоре при создании новеллистики. Однако фольк-
лорность гуманистами обыгрывалась при решении вовсе не фольк-
лорных задач. Были ли таковые у такого крупного иконописца,
каким являлся Симон Ушаков? Утвердительный ответ на этот вопрос
вряд ли возможен.
Ушаков, как мог, пытался оживить оскудевающую ресурсами
иконопись, вдохнуть в нее новую жизнь и для этого вводил в свои
иконы новые реалии, заимствовал их из западной живописи. Сам же
иконописный канон, когда он, как таковой, не разрушался, воспро-
изводился в духе, близком к фольклорному, от чего становился
пустым и условным, формой чисто внешней, а не внутренней и живо-
творящей. В «Троице» Симона Ушакова икона именно заканчивает-
ся, а не переходит в иное послеиконное изобразительное творчество.
Если брать шире, в ней культура Московской Руси демонстрирует
исчерпание своих внутренних возможностей, настоятельную необхо-
димость не перехода, а скорее прыжка в культуре.
Еще более явно отмеченная тенденция выражена в другой, создан-
ной приблизительно в то же время, что и ушаковская «Троица»,
иконе, в так называемой «Троице с бытием». В ней еще больше
сказочности, чудесности, избыточной наполненности всякого рода
реалиями. Три ангела, хотя и по-прежнему расположены на переднем
плане в обставленности роскошью всякого рода утвари, теперь, по
существу, даже и не образуют своей взаимосоотнесенностью компо-
зиции иконы. Занимая бульшую часть иконного пространства, «Трои-
ца» вместе с тем не организует его целиком. Ангелы здесь расположе-
ны по горизонтали квадратной иконы, образуя прямоугольную
композицию, вытянутую слева направо. Она не совпадает с размером
и формой иконного квадрата, заведомо предполагая заполнение верх-
ней части иконы некоторым, относительно самостоятельным фоном.
Самостоятельным потому, что вытянутый по горизонтали прямо-
Кризис и разложение древнерусской культуры
431
угольник восседающей за столом
в присутствии Авраама и Сарры
Троицы ни в малейшей степени не
предполагает прямой соотнесенно-
сти с какими-либо другими реа-
лиями. Плотная заставленность
прямоугольника с изображением
трех ангелов между тем ослабля-
ется не лишенной воздушности
светлостью ангельских одежд, так
же как и обставляющей их утва-
ри. По сравнению с самой «Трои-
цей» то. что изображено на зад-
нем плане иконного квадрата,
обладает гораздо большей густо-
той и плотностью. Оно живет сво-
ей отдельной от «Троицы» жиз- т с бытием Икона Ок 1675
нью, несмотря на то, что задний
план представляет собой сюжеты, связанные с пребыванием трех
ангелов на земле. Но прописаны они так детально и в таком многооб-
разии, что мир иконы «Троица с бытием» окончательно утверждает
себя в своем самобытии. Он не отступает в своей разуплотненности
и незначительности перед полнотой внутритроичного бытия. Напро-
тив, сама Троица, точнее, уже не Троица, а три ангела, пришли на
трапезу к Аврааму и Сарре из этого мира, мира, где они действовали,
в который были включены как определяющие его и задающие в нем
тон. И мир этот в гораздо большей степени, чем даже у Симона
Ушакова, обладает своими собственными мощью и величием. Он
монументален и самосущ на фоне пребывающих в нем крошечных
фигурок, в том числе и трех ангелов. Грандиозное строение в левом
верхнем углу иконы, гора в правом и особенно древо в центре
достойно утверждают себя в своем самобытии, оставаясь задним
планом изображения «Троицы». Дерево —это прямо-таки Мировое
Древо во всей его первозданности. Оно не отменимо в своей первосу-
щественности никаким присутствием ангелов.
Перед нами тем самым вырисовывается окончательная утрата
христианской субординации всего сущего. Это живое ощущение мира
в его таинственной жизни, где ангелы образуют самую значимую
реальность, но вовсе не предвечный совет Троицы, предшествующий
грандиозному действию творения из ничего и драме мировой исто-
рии. И все это, как и у Симона Ушакова, происходит вне очеловечн
вания мира, без вглядывания в человеческое и обнаружение его
собственной меры и обращенности на себя как на только человече
ское. Сказочность, таинственность, чудесность «Троицы с бытием»,
так же как и «Троицы» Симона Ушакова, хотя и со своими акцента-
ми и нюансами, разлагает иконность иконы, не выводя ее к новым
438
Культура Московской Руси
устойчивым культурным формам. Мир триединого Бога в ней в еще
большей степени трансформируется в божественный мир с его боже-
ственными существами, так же как и с божественностью, выражен-
ной в утвари и ландшафте.
В разлагающейся иконописности XVII в. легко усмотреть появле-
ние языческих элементов. Однако их значение не стоит преувеличи-
вать. Ведь и сказка тоже обыгрывает в своих истоках безусловно
языческие реалии, этим нисколько не способствуя повороту к языче-
ству. Сказка уводит человека из мира повседневности и обыденности
в мир чудесного, в мир исполнения желаний, исполнимости, в кото-
рую, впрочем, ни рассказчик, ни слушатель не верят ни в малейшей
степени. На свой лад нечто подобное происходит и в иконе. Сказоч-
но-фольклорные, исходно языческие тем самым реалии нужны ико-
нописцам XVII в., таким как Симон Ушаков или автор «Троицы
с бытием», для того чтобы наполнить икону жизнью, увлечься само-
му и увлечь ею других. Увлечь, то есть придать иконе торжествен-
ность и благолепие, теперь неотъемлемые от роскоши как внешнего
замещения оскудевающих внутренних ресурсов. Иконы в ушаков-
ском стиле действительно украшали интерьеры храмов, так же как
украшал их непомерно обильный и простодушно-затейливый храмо-
вый декор экстерьера. И в интерьере, и в экстерьере храм при этом
оставался православно-христианским. Церковь нимало не секуляри-
зовалась, но черпала для своей сохраняющейся церковности уже не
из самое себя, не из своего церковного опыта, умозрений и подвига
христианской жизни, тем более не из откровений богоприсутствия,
а из внешних церкви и до поры до времени совместимых с ней
реалий.
Применительно к разработке зримого образа в древнерусской
культуре XVII в. до некоторой степени уместна параллель с целым
жизни людей Московской Руси, прежде всего боярско-дворянских
и посадских верхов, но отчасти и крестьянства. В их старомосков-
скую жизнь непрерывно и интенсивно проникали самые разнообраз-
ные инородные веяния. Они шли с Запада, но также и изнутри, из
душевных глубин самих московитов. Эти веяния могли привести
к правке книг и обрядов, к самодовлению декора в церковной архи-
тектуре, к фольклорности и чудесности в иконописи, но точно так же
к переменам в одежде, тяге к западной образованности, к заимствова-
нию у западного ремесла и военного дела, к западной утвари и пред-
метам роскоши, да мало ли еще к чему.
Однако вплоть до петровских реформ происходившие изменения
и трансформации оставляли Московскую Русь именно той, какой она
задала сама себя к началу XVI в., той, которая пережила бессмыслен-
ные ужасы опричнины и почти полный распад Смутного времени,
утвердившись несмотря ни на что на своих московских основаниях.
Утвердилась на них Московия, однако, к той поре, когда они стали
для нее до предела проблематичными, когда она потеряла всякую
Кризис и разложение древнерусской культуры
439
уверенность в их единственной оправданности и незыблемости. Мос-
ковская Русь большую часть XVII в. интенсивно изменялась, пробо-
вала и примеривала на себя новые реалии. Но вся эта динамика была
попыткой, изменившись, остаться в точности такой, каким Москов-
ское царство было ранее.
Более того, происходившие изменения не только не мешали усиле-
нию старомосковских тенденций, но, кажется, еще и стимулировали
их. Как, например, исконная московская опасливость в отношении
иностранцев, требование изоляции и осуществление ее властями
обнаружились не сами по себе, а в качестве реакции на то, что от
изоляционизма оставалось все меньше и меньше. И сами иноземцы
и привносимый ими опыт во все большей степени становились повсе-
дневной реальностью Московии. То же самое можно наблюдать
и в отношении возрастания моментов всеобщего холопства в Москов-
ской Руси. Оно только более отдаляло Русь от Запада. Но оно же
было необходимо властям предержащим прямо, а остальным москов-
ским людям подспудно для того, чтобы удержать свою русскость
перед натиском с Запада. Не дать ей расшататься тогда, когда нужна
жесткость и твердая решимость, пока в XVII в. древнерусская куль-
тура переживала кризис и разложение. Но они стали болезнью роста,
а не болезнью к смерти, прежде всего за счет решимости и способно-
сти страны совершить прыжок самоотречения из своего выморочного
московского мира в мир западного культурного сообщества, в кото-
ром все было не так, и в то же время все было таким близким, своим,
в качестве завидного, желанного и вместимого в свою душу без ее
катастрофического разрушения, хотя и в результате катастрофиче-
ского потрясения.
Часть III
Культура
Петербургской России
Глава 1
Секуляризация культуры
То обстоятельство, что в Петербургский период русская культура
резко сближалась с западной и становилась по типу новоевропейской
культурой, означало ее неизбежную и стремительную секуляриза-
цию. Видимо, невозможно со всей однозначной определенностью
ответить на вопрос о том, способствовала ли начавшаяся еще в Мо-
сковской Руси секуляризация культуры ее обращению к Западу, или,
наоборот, сближение с Западом вело к секуляризации. Скорее всего,
имело место и то, и другое: зарождавшиеся секулярные тенденции
делали Русь более восприимчивой к западным влияниям, те же,
в свою очередь, вели к более последовательному и радикальному
процессу секуляризации. А он действительно отличался радикализ-
мом, причем нередко в его предельных формах. Об этом уже цитиро-
вавшийся В. В. Розанов писал следующее: «От споров о „двугубой
и трегубой аллилуйя" русский без всякой ступени, без всего проме-
жуточного переходил к атеизму. Уже через 50 лет после того, как
Аввакум сгорел в деревянном срубе, у нас появляются в XVIII веке
полные атеисты. Народ наш и общество или волновались около
„аллилуйя", или не верили ни во что»1.
Мысль Розанова предельно заострена, она фиксирует крайности
и полярности религиозной ситуации XVII и XVIII вв. Тем не менее
в ней выражено главное: интеллектуальная беспомощность русского
православия в XVII в. делала невозможным для него противостояние
секуляризации в ее крайних формах. Начиная с петровских реформ
секуляризация шла полным ходом, оттесняя православие на перифе-
рию культурной жизни. На поверхности в России и на Западе
Церковь одинаково находилась в положении обороняющейся сторо-
1 Розанов В. В. Около церковных стен. М., 1995. С. 435.
Секуляризация культуры
441
ны, и тут, и там торжествовало Просвещение, для которого христиан-
ское вероучение и тем более богослужение—это предрассудок, если
не прямой обман верующих.
Однако западная церковь, католическая и в особенности протес-
тантская конфессии, оставались «с веком наравне». Торжествующему
духу Просвещения она как могла противопоставляла свои доктрины
и свою проповедь, свою систему образования и воспитания.
В России произошло другое. Православие в значительной степени
осталось в допетровской эпохе. Скажем, фигура священника или
монаха за редкими исключениями несла в себе черты простонародно-
сти, сближаясь с крестьянином, купцом, мещанином. Церковь и ду-
ховенство сохраняли власть над умами прежде всего низших и необ-
разованных сословий и слоев. Что касается просвещенной части
дворянства, «русских европейцев», то их связь с православием часто
была поверхностно —обрядовой, к нему относились снисходительно-
терпимо и не более. Государство же смотрело на православие исклю-
чительно под углом зрения собственных интересов.
Тон здесь задал Петр I. Для него Церковь на свой манер должна
была также служить государству (царю и Отечеству), как, например,
армия и чиновничество. Священник и монах, по существу, были для
первого русского императора теми же чиновниками со своими особы-
ми обязанностями. Обязанности эти, согласно Петру, простирались
так далеко, что от священника требовалось даже нарушение тайны
исповеди, если ее содержание каким-то образом представляло инте-
рес для государства. Посягая на исповедь, Петр I тем самым стремил-
ся подчинить себе как государю самое сокровенное в жизни Церк-
ви—ее таинства, ей не оставлялось никакой самостоятельности по
отношению к государству.
С наибольшей, можно сказать скандальной, откровенностью под-
чинение Церкви государству проявилось в учреждении Петром I
Священного Синода в качестве высшего органа церковного управле-
ния и, соответственно, в упразднении патриаршества. Император
упразднил патриаршество, не считаясь ни с какими канонами Право-
славной Церкви, к которой формально принадлежал. Он совершил
в православии невиданное и, казалось, невозможное—поставил во
главе церковного управления гражданского чиновника—обер -проку-
рора Священного Синода. На этой должности за два столетия кто
только не перебывал! Николай I ухитрился даже назначить обер-
прокурором Синода командира лейб-гвардии гусарского полка.
К тому времени в этом не было ничего особенного, так как общество
давно привыкло, что Церковь должна верой и правдой служить
государству.
При этом возникла странная и не сообразная ни с чем ситуация.
Как православный, русский царь должен был ощущать себя рабом
Божиим и служить Православной Церкви. Служение, однако, обора-
чивалось тем, что Церковь безусловно подчинялась царю и даже его
442
Культура Петербургской России
чиновникам. В этом отношении лишний раз проявляется все разли-
чие между секуляризацией культуры на Западе и в России. У нас она
не привела к переориентации Церкви на новые жизненные реалии
с целью выполнения своей миссии в изменившемся мире. Оттеснен-
ная на периферию секулярной культуры, Церковь осталась в значи-
тельной степени вне ритмов культурного развития Петербургской
России. Сама же новая культура тем самым оказалась слишком слабо
связанной не только со своим «низом»—почвой народной культуры,
но и с «верхом»—сверхкультурой православия.
Своеобразие секуляризации культуры в России, ее фундаменталь-
ное отличие от аналогичного явления на Западе состояло в том, что
инициатором ее было самодержавие. Без его направляющего властно-
го воздействия никакая секуляризация была бы немыслима. В Запад-
ной Европе дворы государей тоже не оставались в стороне от секуля-
ризации культуры. В чем-то они ее инициировали, а в чем-то
оказывались более или менее восприимчивыми к идущим извне
импульсам и воздействиям. Если же поставить вопрос о действитель-
но решающих импульсах секуляризации, то их нужно искать в воз-
рожденческом гуманизме и Реформации. Оба этих течения при всем
фундаментальном различии между ними, каждое по-своему способст-
вовали обмирщению культуры и выражали ее собой.
И надо сказать, что и Возрождение, и Реформация, вовсе не
стремясь подорвать власть средневековых государей, в чем-то делали
ее проблематичной, нуждающейся в новых основаниях для своего
утверждения. Скажем, представитель позднего итальянского Возро-
ждения Н. Макиавелли в своем знаменитом трактате «Государь»
даже и не доказывал чисто человеческого происхождения и характе-
ра власти государей. Для него они были чем-то сами собой разумею-
щимися. Главный интерес для Макиавелли представлял вопрос о том,
как обладающему для этого соответствующими качествами человеку
захватить власть, суметь ее удерживать, а по возможности еще
и расширять. По Макиавелли, успешный правитель государства —
обязательно человек, не лишенный глубокого и изощренного ума,
решительности, деловитости, доблести и т. д. Но божественное вме-
шательство, действие благодати в государе при этом начисто исклю-
чалось. Он был кем угодно, только не избранником Божиим. Но если
это так, если взгляд Макиавелли на государя чисто секулярный, то
он не мог не подрывать, учитывая популярность макиавелливского
трактата, традиционных оснований власти государей. Им и их окру-
жению в новом секулярном мире приходилось заново утверждать
императорскую, королевскую или княжескую власть, частью переос-
мысляя старые доктрины, частью дополняя их новыми.
А теперь вернемся к нашей российской ситуации и представим
себе, что один из русских царей, чей образ сформировался всецело
в пределах церковной традиции и церковной культуры, сам начинает
осуществлять очень далеко заводящие действия по секуляризации
Секуляризация культуры
443
самых различных составляющих, образующих русскую культуру.
Совершенно невозможно представить при этом, что в уме Петра
Великого предварительно созревали какие-либо гуманистические или
протестантские доктрины или их подобие. Для него проблема секуля-
ризации стояла совсем иначе, да и не она, строго говоря, была
исходной, все остальное определяющей проблемой. Несомненно, что
проблема состояла в вестернизации России и русской жизни, в ее
переориентации на западные образцы и усвоение западного опыта.
И если Петр хотел, чтобы Россия как можно более походила на
Запад, то это желание было осуществимо не иначе как на пути
секуляризации русской культуры. Она должна была усвоить и запад-
ное светское образование, и ее технические достижения; образ жизни
российских дворян должен был быть сближен с образом жизни их
западных собратий и т. д.
Помимо далеко идущих государственных замыслов и проектов,
призванных обеспечить величие и процветание России, Петром I
двигала еще и симпатия к тому, как люди живут на Западе, как они
трудятся, общаются, отдыхают, воюют. Но тогда секуляризация
культуры становилась необходимым результатом, а не непосредст-
венной целью Петра I. Слишком хорошо известно, как он принизил
и в какой угол загнал Православную Церковь. И здесь доброго слова
о нем не скажешь. Но было бы совсем неверным утверждение о том,
что Петр боролся с Церковью так, как с ней боролись его младшие
современники на Западе из числа деятелей Просвещения. Церковь
для Петра воплощала собой московскую старину, поэтому он ее
теснил и принижал. Весь строй церковной жизни совсем не согласо-
вывался с вожделенной вестернизацией. Отсюда неприязнь Петра
к Православной церкви и прежде всего к ее институциям и роли
в русской культуре.
Однако, тесня Церковь, Петр I мало отдавал себе отчет в том, на
каких новых основаниях должна строиться новая секулярная Рос-
сия, порывавшая с православным Московским царством, восприни-
мающим себя в окружении и осаде западных схизматиков и восточ-
ных басурман. Повернувшись лицом к Западу и обнаружив тяготение
к западным формам жизни, Петр I сделал невозможным исповедание
доктрины «Москва—Третий Рим». Какая там Москва, если царь
переносит столицу из Москвы во вновь отстраиваемый Петербург!
Можно, правда, напомнить то, что петровский замысел о Петербурге,
как минимум, был не чужд представления о нем также как о Третьем
Риме, но на этот раз не как о новом Константинополе, а о новом
Ветхом Риме языческих императоров и римских пап. На это указыва-
ет и соотнесенность названия новой столицы со Святым Петром,
и строительство первого монументального петербургского собора
в честь Петра и Павла.
Да, определенный шаг в направлении сакрализации Российского
царства, а затем империи ее властителем был сделан. Дело осложни-
444
Культура Петербургской России
ется, однако, тем, что от заявки на Санкт-Петербург и соответственно
Россию как на Третий Рим в его соотнесенности с Ветхим Римом
закружится любая голова. Как, например, тогда быть с тем «Третьим
Римом», которым по существу была Священная Римская империя
германской нации, разве она уже не возобновила еще семь столетий
назад Ветхий Рим? А римские папы, в свою очередь утверждающие
незыблемость существования все того же единственного и неизменно-
го Pax Romano, некогда ставшего католическим и неизменно сохра-
няющим свой католицизм? Явно России Петра Великого в качестве
еще одного западного Рима места в Европе не было. Всякие намеки
на свою новую западную римскость зависали в пустоте непонимания
и неприятия всем остальным западным миром. Исключительно же
для внутреннего употребления новая римскость России уже не годи-
лась, так как Россия теперь претендовала на вхождение в западное
культурное сообщество.
Не менее важно и другое обстоятельство. Неразрывно связанная
с обращением России к Западу секуляризация культуры не могла не
подрывать в самой ее основе новую римскую доктрину. Мифологизи-
рование в подобном роде легко совместимо с церковной культурой,
каковой она была в Древней Руси. Любая же секулярная культура
стремится выстраивать себя на рациональных началах, оперировать
не символами, мифологемами и пророчествами, а реалиями, совмес-
тимыми со здравым смыслом или во всяком случае обходиться без
апелляции к сакральному. В такой ситуации самоидентификация
секуляризирующейся России была сильно затруднена и вовсе не
обещала ей удовлетворения национального чувства через некоторое
самовозвеличивание, убеждающее как самих русских, так и других
членов одного с ней культурного сообщества.
Сам Петр I, при том что он охотно допускал и поощрял всякого
рода мифологизирование по поводу новой России в христианском
и антично-языческом духе, был не чужд и чисто секулярного взгляда
на свою страну, а значит, и на себя как ее преобразователя. Об этом,
в частности, свидетельствует речь Петра Великого, произнесенная им
в 1714 г. в Риге по случаю спуска со стапеля нового боевого корабля.
Особенно примечательны в этой речи такие слова: «Историки...
полагают древнее седалище наук в Греции; оттуда перешли они
в Италию и распространились по всем землям Европы. Но невежест-
во наших предков помешало им проникнуть далее Польши, хотя
и поляки находились прежде в таком же мраке, в каком сперва были
и все немцы и в каком мы живем до сих пор, и только благодаря
бесконечным усилиям своих правителей могли они наконец открыть
глаза и усвоить себе европейское знание, искусства и образ жизни.
Это движение наук на земле сравниваю я с обращением крови
в человеке: и мне сдается, что они когда-нибудь покинут свое место-
пребывание в Англии, Франции и Германии и перейдут к нам на
несколько столетий, чтобы потом снова возвратиться на свою родину,
Секуляризация культуры
445
в Грецию»1. Если быть совсем точным, то Петр в своей речи все же
мифологизирует. В ее основе старый как мир миф о вечном возвра-
щении. Правда, у него он предстает в необычной форме циклизма,
осуществляющегося не только во времени, но и в пространстве.
Главное же состоит в том, что Петр I предлагает своим слушателям
миф секуляризованный. В нем речь идет о том, о чем в подлинном
мифе никогда не услышишь, о том, что достоинство страны и челове-
ка измеряется степенью развития наук. Науки исходят от самого
человека, они— плод его собственных усилий, никак не связаны со
сферой сакрального. Поэтому если видеть в науках цель, смысл
и результат человеческих усилий, то в таком видении будет выражен
чисто секулярный взгляд на человека. У Петра Великого он таков,
что русский царь провидит близкое торжество и первенствование
своей страны среди других европейских стран и народов. Учитывая
же, что величие и достоинство России—в будущем, пока же она
учится у западных стран, петровский миф выглядит очень уравнове-
шенным. Россия в нем предстает отсталой и невежественной, делаю-
щей только первые шаги по пути освоения наук, но таковыми когда-
то были все европейские учителя России. Каждой стране отмерены
неким мировым законом развития наук свои сроки, каждая из них
в свою очередь достигает первенствования с тем, чтобы со временем
уступить его очередному лидеру.
Поистине, такой взгляд государя на свою страну способен бодрить
ее, не давая ей впасть ни в самоуничижение, ни в национальное
высокомерие. В целом же, начиная с петровского царствования,
в образованных слоях России преобладал иной вариант националь-
ной самоидентификации в секулярной системе координат.
***
Прежде всего отметим его неопределенность и неустойчивость.
У русских образованных людей и в XVIII и в XIX вв. сохраняется
ощущение русской периферийности и вторичности, неизбывного рус-
ского ученичества у Запада и подражания ему. Россия не перестает
воспринимать себя как все еще недоросля, страну не вполне просве-
щенную и потому не вполне западную. Такое восприятие, между тем,
вполне уживается с представлением о наличии у России каких-то
непомерных и необъятных сил и возможностей. Примером сказанно-
му может служить осмысление момента национального триумфа—
изгнания и уничтожения наполеоновских войск из российских преде-
лов одним из участников события—Д. В. Давыдовым. Устремляя
свой взгляд в будущее, он рисует картину еще более величественно-
го, уже прямо-таки подавляющего своей необозримой мощью торже-
ства России: «Единое мановение царя нашего—и застонут поля
неприятелей под копытами сей свирепой, подвижно неутомимой
1 Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 249—250
446
Культура Петербургской России
конницы, предводимой просвещен-
ными чиновниками регулярной ар-
мии! Не разрушится ли, не разве-
ется ли, не снесется ли прахом
с лица земли все, что ни повстре-
чается, живого и неживого, на ши-
роком пути урагана, направлен-
ного в тыл неприятельской армии,
занятой в то же время борьбою
с милионною нашею армией, пер-
вой в мире по своей храбрости,
дисциплине и устройству?
Еще Россия не подымалась во
весь исполинский рост свой, и горе
ее неприятелю, если она когда-
нибудь подымется»1.
Ошибется тот, кто решит, что
строки нашего знаменитого сооте-
чественника только о военной
мощи России и только бахвальст-
д в Давыдов во. Они о стране в целом, о ее
Литография К. К. Гампельна, 1820 е гг. Превышающих ВСЯКие испытания
возможностях, о том, что, говоря
словами Н. В. Гоголя, не найдется на свете такая сила, которая
пересилила бы русскую силу. Помимо всякого бахвальства в словах
Д. В. Давыдова ощутима какая-то безграничная и в то же время
вполне естественная и органичная уверенность в особости и ни с кем
несравнимости своей страны. Дело даже не в том, лучше она или
хуже других стран. Россия непомерна и не может быть поставлена ни
в какой ряд. И это как раз та страна, которая в глазах самих русских
людей вечно не дотягивает до Запада, которая есть какой то хрониче-
ски неудающийся Запад.
В результате секуляризации русской культуры ее образованные
представители уже во второй половине XVIII в. все чаще ощущали
себя в ситуации некоторого двоемирия. На одном полюсе в них
всегда живо было ощущение, выраженное, в частности, в строках
Д. В. Давыдова. Другой же полюс предполагал не только умаление
России перед Западом, иногда заходившее очень далеко, но букваль-
ную устремленность на Запад. В Германии, Англии, особенно же во
Франции (Париже) или Италии (Риме, Флоренции, Венеции) необ-
ходимо было время от времени побывать, вдоволь надышаться их
воздухом, запастись связанными с ними жизненными впечатлениями
и лишь затем с легким сердцем возвращаться на Родину. Об образо-
вании же и говорить нечего. До известного предела его получали
1 Давыдов Д. В. Сочинения. М., 1962. С. 458.
Секуляризация культуры
447
в России, но довершить образование желательно было все-таки на
Западе, и прежде всего в Германии.
Двойственность и биполярность самоощущения русского человека
новой вестернизированной культуры можно продемонстрировать на
примере Н. В. Гоголя. В его творчестве, как ни у кого другого,
пронзительно и патетично звучит русская тема. Как никто другой,
Гоголь остро и болезненно ощущал свой огромный талант призвани-
ем, весь смысл которого в преобразующем и преображающем воздей-
ствии на Россию. Но это призвание совсем не мешало гоголевской
раздвоенности между Западом и Россией. Такого рода раздвоенно-
сти, когда Запад и, в частности, Италия, воспринимался Гоголем
едва ли не как эквивалент и замещение сакральной реальности
в секулярном мире. Вот как он описывает в письме к В. А. Жуковскому
свое прибытие в Италию в 1837 г.: «Наконец я вырвался. Если бы вы
знали, с какой радостью я бросил Швейцарию и полетел в мою
душеньку, в мою красавицу Италию. Она моя! Никто в мире ее не
отнимет у меня! Я родился здесь. Россия, Петербург, снега, подлецы,
департамент, кафедра, театр—все это мне снилось. Я проснулся
опять на родине...»1
Гоголевский восторг по поводу Италии выражен тремя взаимодо-
полнительными метафорами. Италия для него возлюбленная и вместе
с тем настоящая родина, наконец, она еще и явь, то есть подлинная
действительность в противоположность мнимости сна. Более силь-
ных выражений, уподобляющих Италию божеству и божественной
реальности, Гоголь себе не позволяет. Но и цитированное, и другие
гоголевские письма из Италии дышат восторгом почти религиозным.
В них так освящена и вознесена Италия, что не только Россия, но
и весь остальной Запад тускнеет и меркнет в своей приземленной
профанности. Да, в пределах секулярности, к которой Гоголь, разу-
меется, не сводим, Италия и в особенности Рим—это то, чему он
поклоняется, где он не просто счастлив, а живет в полноте исполне-
ния грез и желаний.
Между тем покамест перед нами раскрылась только одна часть
гоголевской души. Заглянем теперь и в другую: «Я живу около года
в чужой земле, вижу прекрасные небеса, мир, богатый искусствами
и человеком. Но разве перо мое принялось описывать предметы,
могущие поразить всякого? Ни одной строки не мог посвятить
я чуждому. Непреодолимою цепью прикован я к своему, и наш
бедный, неяркий мир наш, наши курные избы предпочел я лучшим
небесам, приветливее глядевшим на меня. И я ли после этого могу не
любить моей отчизны? »1 2
Потом Гоголь все-таки напишет небольшую повесть на итальян-
ский сюжет, но она станет исключением в его творчестве. Итальян-
1 Гоголь Н. В. Собр. соч. в 7 т. Т. 7. М., 1979. С. 160.
2 Там же. С. 159.
448
Культура Петербургской России
ская тема не получит дальнейшего развития у Гоголя, да и написан-
ное им сильно уступает его лучшим произведениям. Как художник
Гоголь весь в России, и эта его неотрывность от родной страны разве
не свидетельствует о том, что никакая «душенька» и «красавица»
Италия не растворила Гоголя в себе. Он, как и множество его
соотечественников, русский человек до кончиков ногтей, но человек,
которому России мало. Он то ли русский человек в Европе, то ли
европеец в России. Самотождественность и устойчивость внутренне-
го мира им безнадежно потеряна.
Очевидно, что секуляризация Запада там, где она происходила на
своей настоящей почве, никакого подобия нашей русской разорван-
ности и двоемирия не знала. К моменту вхождения России в запад-
ное культурное сообщество там устанавливается представление о том,
что современность есть первая по-настоящему просвещенная эпоха.
В Европе были эпохи тяготения к просвещению. Это Античность
и Возрождение (тогда этого слова еще не употребляли). Но Запад
знал еще и эпоху средневекового варварства, обскурантизма и рели-
гиозного фанатизма, с которым стремилось окончательно покончить
современное просвещение. Таковым оно еще не является во всей
полноте, но перед ним открыты горизонты будущего, которые, несо-
мненно, принесут человечеству подлинную просвещенность.
На Западе по мере его секуляризации в XVIII, а затем в XIX в. все
более утверждалось представление о прогрессивном характере разви-
тия человечества, о его движении к все большему совершенству наук,
искусств, человеческих отношений, наконец, человека как такового.
В более или менее скрытом виде человек здесь представал в опреде-
ленной перспективе, которая, может быть, и не будет достигнута,
к ней люди только приблизятся, как Бог для самого себя. Сегодня он
существует в прискорбной относительности и неполноте своей чело-
вечности, но эта человечность же предстоит его внутреннему взору
как вожделенная цель, к которой постепенно происходит реальное
приближение.
Секуляризация, таким образом,—это вовсе не уничтожение без
остатка расчленения всего сущего на профанное и сакральное, чело-
веческое и божественное. Скорее она перенесла расчленение во-
внутрь человеческой реальности. Теперь человек смотрел на себя
и как на человека, и как на божество, разделяя эту свою двойствен-
ность во времени. Человеку, как только человеку, принадлежит
настоящее или близкое будущее, человеку же в качестве божества—
отдаленное будущее.
Современная эпоха может быть представлена в качестве некоторо-
го центрального звена истории. В ней человек длительное время
пребывал «недочеловеком»—варваром, далее он очеловечился, и,
наконец, его дальнейшее очеловечивание по сути уже ничем не будет
отличаться от обоживания. В этой новой системе координат запад-
ный человек ощущал себя достаточно устойчиво. В его случае секу ля-
Секуляризация культуры
449
ризация произросла из самых недр культуры. Она переиначила
предшествующие христианские реалии по-своему вполне последова-
тельно. Сохранила свои эквиваленты Бога и человека, человеческой
греховности и грядущего спасения, направленного к высшему смыс-
лу движения времени и т. д.
Иначе ситуация складывалась в России. Русские образованные
люди секуляризированной культуры Петербургского периода, естест-
венно, не могли не принять очерченного мировосприятия и самоощу-
щения. Но для них прошлое своей страны выглядело уже оконча-
тельно тьмой варварства. Современность же не имела такого же
устойчивого и определяющего статуса, как на Западе. В просвещении
быть с веком наравне Россия еще только стремилась. Поэтому для
России секуляризация культуры означала утерю прежних старомос-
ковских жизненных ориентиров и только еще примеривание к себе
ориентиров новоевропейских. Секулярность для русского человека
очень часто означала не только широту и непредвзятость взгляда,
которым могли бы позавидовать и на Западе, но еще и беспочвен-
ность, отсутствие устойчивого мировоззрения, неколебимой уверен-
ности в том, что ты за человек, каковы твои правила и принципы,
каким жизненным путем тебе должно следовать.
Среди русских людей XVIII—XIX вв., даже самых ярких, со своей
повадкой, со своим следом в русской истории, со своими внятно
декларируемыми взглядами удивительно часто встречаются настоя-
щие перекати-поле. Те, кого очень трудно, если вообще возможно
понять в определенности их лица или хотя бы его абриса. В их числе,
к примеру, такое громкое имя, каким в самом конце XVIII —начале
XIX в. был граф Федор Васильевич Ростопчин (1763—1826). В пос-
ледние годы царствования Екатерины II он был заметным представи-
телем золотой молодежи, выгодно отличаясь от ее среднего уровня
образованностью, умом, остроумием, независимостью суждений
и поступков. Воцарение Павла Петровича вознесло Ростопчина к са-
мым вершинам власти, почестей и богатства. Опала постигла его
буквально за считанные дни до цареубийства. Больше Ростопчин
таких же высоких степеней, как при Павле I, не достигал.
Однако самую шумную известность принесла ему должность
главнокомандующего Москвы, которую он занимал в 1812—1814 гг.
Прославили графа Ростопчина не столько его действия по управле-
нию Москвой, сколько то, что Москва в 1812 г. была в центре
напряженного внимания России и не только ее одной. Правда, и сам
Ростопчин сумел привлечь к себе внимание своими знаменитыми
«Афишами» патриотического характера. В них, и не только в них,
Ростопчин выступает горячим поборником всего исконно русского,
как он его понимал. Конечно, русскость Ростопчина была с привку-
сом нарочитой простонародности, не чуждой и самых топорных
стилизаций под незатейливую простоту русского мужика. Пусть так,
но не признать на этом основании настоящего, а не показного
450
Культура Петербургской России
Ф. В. Ростопчин
Литография И. Матюшина
патриотизма за Ростопчиным как
будто нельзя.
Может быть, оно и действи-
тельно так, но горячий и даже
горячечный патриотизм Ростоп-
чина, сочетающийся к тому же
с бесконечными выпадами против
всего французского, совсем не
помешали ему провести послед-
ние годы жизни преимуществен-
но в Париже. Ростопчин был на
французский манер образован
и воспитан, остроумен во фран-
цузском духе, имел аристокра
тические привычки, опять-таки
во французском стиле, и т. д. Все
это делало его пребывание во
Франции вполне органичным, он
легко вписывался в круг фран-
цузского большого света. Так что
его стилизации la russe остается
отнести не более чем к игре в рус-
скость, достаточно внешней и по-
верхностной.
Некоторое препятствие для это
го создает, впрочем, связь имени Ростопчина с грандиозным москов
ским пожаром (ср.: «А потом через ночь пожаром ростопчинским
в очах красно...» —М. Цветаева). Конечно, Ростопчин сам Москвы не
поджигал и подобных распоряжений не давал, но от пожара и не
отрекался. Главное же, призывы к согражданам и угрозы врагу по
существу были вполне совместимы с приказом поджечь Москву. Но
коли так, то французы для Ростопчина должны были стать теми, кем
были карфагеняне для римлян. Между ними и русскими в сознании
графа должна была пролечь пропасть и вступить в права древний
и священный закон мести. Однако никакого: «Карфаген должен
быть разрушен»,—из ростопчинских уст не прозвучало. Напротив,
на закате дней он отправился в «Карфаген» на постоянное жительст-
во и чувствовал себя там гораздо лучше, чем дома. Видите ли,
положение обязывает, все-таки эта истина не отменима. Ростопчин
же по своей воле взял на себя роль пламенного и неукротимого борца
с французами, не прощающего не только французов-захватчиков, но
и французскую культуру.
Роли своей он, однако, не выдержал. Отыграв ее, Ростопчин
находит в той же самой Франции утешение в своих житейских
невзгодах, в том, что дважды сорвалась, казалось бы, уже состояв-
шаяся блестящая карьера. Перспектив на высшие должности у Рос-
Секуляризация культуры
451
топчина не оставалось. Вот он и принял на себя последнюю из
возможных для него ролей, из числа не лишенных блеска. На этот
раз это была роль знаменитости. Эдакого русского римлянина, не-
преклонного борца с врагом в годину опасности для родины, готово-
го уйти в тень, когда настанут мирные времена. Может быть, в Ро-
стопчине и было слишком много отталкивающих от него позы
и прямого актерства. Но была и такая русская неприкаянность,
искреннее незнание того, кто же он и каков на самом деле.
♦♦♦
При всей проблематичности и противоречивости происшедшей
в России секуляризации культуры, она не уступила западной в од-
ном отношении. Как и на Западе, у нас в очень большой степени
проявилась утеря чувствительности к исходным христианским реали-
ям на уровне господствующих течений и веяний эпохи. Скажем,
неудовлетворенность серостью и внутренней бедностью первого чис-
то секулярного течения — Просвещения — не только во Франции, Анг-
лии, Германии, но равно и в России вызвало довольно широко
распространившееся увлечение масонством. Но если масонство сосу-
ществовало с Просвещением, образуя подспудную реальность секу-
лярной культуры, то романтизм не просто порывает с духом Просве-
щения, но и приходит ему на смену в качестве нового ведущего
течения культуры. В отличие от Просвещения, романтизм вовсе не
чужд религиозным стремлениям, в нем очень распространены были
симпатии к христианству, в особенности католицизму, но это обстоя-
тельство ничуть не поколебало и не поставило под сомнения секуляр-
ность романтизма. Так было на Западе, и Россия здесь решительно
ничем не отличалась от Запада.
Если уж говорить о существенном отличии уже не в характере,
а в степени секулярности культуры между Россией и Западом, то оно
имеет отношение прежде всего к статуту так называемого деятеля
культуры в секуляризованной культуре. На Западе великий худож-
ник, мыслитель или ученый при всей грандиозной продуктивности
своего творчества, при всем том, что его могли с восторгом почитать,
сам себя не воспринимал, ни воспринимали его и другие в качестве
некоего учителя жизни, пророка, вообще человека, способного ука-
зать путь преображения жизни в ее целом.
Кант совершил переворот в философии, Гегель создал грандиоз-
ную всеобъемлющую систему философского синтеза, Гете проявил
себя как универсальный гений не только в различных жанрах словес-
ности, но и в науке. Тем не менее, никому из западных учеников
и почитателей упомянутых лиц не пришло бы в голову прийти к ним
с целью найти ответ на вопрос, как разрешить все проблемы челове-
ческого существования и привести человечество к достойной жизни.
Секулярная культура, несмотря на то, что она создала свой
эквивалент обожения человечества, в отношении отдельных лиц не
452
Культура Петербургской России
пошло далее замещения их сакрализации соответствующим эквива-
лентом. Так, к концу XVIII —началу XIX в. самым значимым эквива-
лентом сакральной фигуры был гений. «Гении человечества» в это
время заместили собой пророков и святых, даже самого Иисуса
Христа, которого не так уж редко трактовали как гениального
моралиста, борца с человеческими пороками.
В России образованная публика и представляющие ее «властители
дум», скажем, в лице литературных критиков как раз не склонны
были величать своих соотечественников гениями. По существу, одна-
ко, от них ждали гораздо большего, чем ждут от любого гения. Не
просто великих произведений, но еще и пророчества, учительства,
какой-то необыкновенной мудрости, которая, будучи открытой, пре-
образует жизнь. В этом случае применительно прежде всего к рус-
ским писателям имел место уже не секулярный эквивалент сакрали-
зации, а нечто гораздо более близкое к ней. Если не прямо
сакрализация деятеля культуры, то во всяком случае ожидание от
него произведений, способных сакрализовать жизнь. Да и сам дея-
тель культуры мог предъявлять к себе подобные требования.
Очень показательным примером сказанному может служить тот
же самый Н. В. Гоголь. Безусловно, после смерти Пушкина он был
крупнейшим русским художником слова, да и вообще крупнейшей
фигурой в отечественной культуре. В отношении масштабов своего
творчества он был вершиной, оставлявшей далеко внизу любую
другую вершину нашей культуры. Сам Николай Васильевич не мог
этого не сознавать. Несомненно, сознание своего достаточно очевид-
ного всем имеющим глаза и уши статута давило на Гоголя при
создании «Мертвых душ». И что же, Гоголь ставит перед собой
задачу не посрамить своего имени и оправдать ожидания публики
созданием нового шедевра, на этот раз как никогда всеобъемлющего
и монументального? Ничуть не бывало! По замыслу Гоголя «Мерт-
вые души» должны были стать уже не только великим романом
(поэмой, как предпочитал определять свое создание Гоголь), но чем-
то несопоставимо большим любого романа. Не знаешь, как и опреде-
лить это доселе небывалое нечто. В нем помимо художественного
совершенства должна была присутствовать еще и какая-то непре-
ложная истина о России и русской жизни, восприяв которую уже
нельзя и невозможно было бы жить по-прежнему. Истина, влекущая
к себе и властительная, несовместимая с той «неправдой черной»,
которая разлилась по русской земле.
По представлениям XIX в. у европейского человечества уже была
такая, перевернувшая мир книга. Понятно, что речь идет о Библии.
Уточним только, что образованная публика XIX в. в духе времени
воспринимала ее вовсе не как богодухновенное Священное Писание.
Почитали ее, не так уж часто в Библию заглядывая, как некоторый
продукт человеческого творчества, квинэссенцию мудрости, проби-
вающуюся через темноты, длинноты, — архаическую мифологию дав-
Секуляризация культуры
453
но ушедших в прошлое времен. Библия и освящалась как Книга
книг, и вместе с тем недоговариваемым оставался ее статут в качестве
текста. Другое дело, что в Библии видели источник преобразующего
воздействия на мир через открываемые в ней истины. Полагали, что
вначале Моисеево «Пятикнижие» преодолело первоначальную ди-
кость и бесчеловечность жизни. Позднее же Новый Завет открыл мир
высшей человечности. Именно книги Нового Завета, да еще пропо-
ведь праведника Иисуса Христа, и уж конечно не боговоплощение,
смерть и воскресение богочеловека во искупление человеческих гре-
хов несли в себе эту высшую человечность.
Н. В. Гоголь всей своей душой стремился быть православным
христианином и был им. Поэтому восприятие им Библии не могло
оставаться лишь в духе эпохи. Но тогда тем более поражает гоголев-
ский замах и порыв к созданию своего рода русской Книги книг. Где
еще, кроме России, писатель мог произнести в своем произведении
эти, так хорошо нам знакомые слова: «Русь! Чего же ты хочешь от
меня? Какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь
ты так, и зачем все, что не есть в тебе, обратило на меня полные
ожидания очи?..» Произнести такое способен был только человек,
ощущающий и свою принадлежность к родной стране, и вознесенный
над ней. Для Гоголя в этих строках есть он, Гоголь, и Россия, две
соизмеримые величины. Соизмеримые потому, что от него может
произойти Слово, которое так нужно России, которое оживотворит
ее. Кто еще, кроме пророка или святого, мог бы увидеть свое и Руси
положение так, как увидел его русский писатель Гоголь? Уж конеч-
но, не просто писатель.
Пушкин видел свою заслугу в том, что «в наш жестокий век
восславил я свободу, и милость к падшим призывал». Это очень
много, это настоящее человеческое и поэтическое величие. Но как
вместе с тем пушкинской самооценке далеко до гоголевской! И не
потому, что Гоголь набрался какого-то немыслимого «самомнения».
Нет, конечно. Главное здесь то, что ему открылась вся проблематич-
ность существования России, оно стало для него вопросом, нелегким
и даже страшным. Но что самое примечательное, так это видение
Гоголем ответа на вставший перед ним вопрос. По Гоголю, он не
может и не должен быть чисто поэтическим, в нем должна присутст-
вовать тотальность неотразимо убеждающего и сдвигающего русскую
жизнь на новую колею смысла. Дело-то в том, что художник Гоголь
увидел Россию такой, что художественный ее образ для России не
спасителен, не изящной словесности она ждет, и не она ей нужна.
Так в гоголевском сознании совершается переход с позиции ху-
дожника на другую, несравненно более значимую позицию. Без
всякого специального намерения Гоголь движется в сторону самоса-
крализации. Хорошо известно, что поползновение Гоголя обернулось
катастрофой второго тома «Мертвых душ». Тот, кто попытался стать
более чем художником, в итоге не удержался и на позиции художни-
454
Культура Петербургской России
ка. Позднее нечто подобное произойдет с Л. Н. Толстым, частично
и с Ф. М. Достоевским. В основе их срывов как художников будет
лежать одно и то же—попытка выхода за рамки, задаваемые худож-
нику секулярной культурой. Возобновление подобных попыток мож-
но рассматривать как свидетельство и недостаточного усвоения пра-
вил игры, которые несет с собой секуляризация, и одновременно
отмеченной ее неустойчивости и противоречивости на русской почве.
В огромной степени секуляризация русской культуры происходи-
ла под внешним воздействием и в результате усвоения чужого опыта.
Естественно, что чужое до конца не стало своим, откуда и тяга назад,
в сакральное измерение русской культуры. В Петербургский период
это влечение никогда не носило определяющего и доминирующего
характера, хотя и порождало неразрешимые ситуации. Предела не-
разрешимости оно достигло у Гоголя в его попытке «самосакрализа-
ции», а затем и сакрализации всей русской культуры, превратившей
великого художника в заурядного публициста, пишущего на религи-
озные темы.
Но если Н. В. Гоголь все же вначале состоялся как великий
художник в пределах секулярной культуры, то пример русского
мыслителя Н. Ф. Федорова заводит нас гораздо дальше. При жизни
известный лишь самому узкому кругу друзей, почитателей и учени-
ков, в начале XX в. Н. Ф. Федоров вошел в список самых известных
русских мыслителей. На слуху его имя и сегодня, издано собрание
сочинений Федорова, ему посвящено достаточно много специальных
работ, в том числе и недавних. Но как принимающие его, так
и относящиеся к нему критически и даже очень критически как-то не
очень склонны акцентировать невозможно странную исходную уста-
новку федоровского философствования. Конечно, никто не может
пройти мимо того, что «философия общего дела» Федорова направ-
лена на решение удивительной, и никому до него в голову не
приходившей задачи,—воскрешения человеческими усилиями всех
прежде живших людей. В крайнем случае отмечается федоровский
активизм и пафос практического делания. Однако более всего стран-
но в философской заявке Федорова то, что она всецело устремлена
не на познание первосущего и производной от него реальности, а на
создание проекта нового, доселе не существовавшего мира.
Понятно, что не Н. Ф. Федоров здесь первооткрыватель. За не-
сколько десятилетий до него К. Маркс в своих «Тезисах о Фейерба-
хе» утверждал истину, которая многие десятилетия была обязательна
к усвоению в нашей стране: «Философы лишь различным образом
объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его». Но
изменение мира, по Марксу, все же мыслилось в пределах его
естественного существования. Революционный поворот посягал не
более чем на изменение общественного строя, преодоление социаль-
ного неравенства, освобождение человечества от угнетения одними
людьми других и т. п. По сравнению с преобразовательным радика-
Секуляризация культуры
455
лизмом Федорова поползновения
Маркса выглядят самым безнадеж-
ным консерватизмом. Куда им до
преобразования уже не общества,
а самой природы, преодоления ее,
казалось бы, неотменимых зако-
нов.
В отличие от Маркса, Федоров
рассчитывает уже даже и не на
преобразование тех или иных сто-
рон реальности, а на некоторый
фундаментальный онтологический
переворот. У Федорова время
должно потечь вспять, прошлое
преобразиться в вечно настоящее.
И все это не через действие Бога
в мире, не через осуществление
магических действий, а имманент- н ф федоров
но, человеческим усилиям, как ре-
шение грандиозной научной и технической задачи. Слишком очевид-
но, что ставить перед наукой и техникой задачу возвращения к жизни
поколение за поколением некогда живших людей—это самое, какое
только может быть, отвлеченное и пустое прожектерство.
Между тем Н. Федоров—то ставит свою задачу не иначе, чем
в пределах философии, как он ее понимает. Понимает же он филосо-
фию таким образом, что решительно порывает со всякой философ-
ской традицией. С момента своего возникновения философия всегда
была сферой мысли. Она действительно объясняла все сущее, но
объяснение в ее пределах обладало высшим смыслом и достоинством.
Философствовать начинали люди, неутомимо жаждавшие познания.
Познать же все сущее означало увидеть связь и сцепление всего со
всем так, чтобы понятным становилась и реальность человеческого
существования, она наполнялась бы высшим смыслом. Тому, кто
принимался философствовать, не делая ставку на познание как путь
разрешения самых значимых жизненных проблем, за это дело лучше
было не приниматься. Очень даже можно понять человека, для
которого «познание умножает скорбь», кто видит его тщету, услов-
ность и относительность. Для него существуют и другие жизненные
пути—религиозный, например.
Чего нельзя принять, так это попытки обрести в философии то,
чего она не может дать в принципе. В частности, ей совершенно чужд
всякого рода преобразовательный пафос, будет ли он в духе револю-
ционаризма, как у К. Маркса, или онтологического переворота, как
у Н. Федорова. Всякие преобразовательные усилия не просто обре-
таются за пределами находящегося по ведомству философии чистого
мышления, они еще и берут за точку отсчета самого преобразователя,
456
Культура Петербургской России
то есть человека. В преобразовании мира и себя человек стремится
свою человеческую меру наложить на все сущее, по существу, сде-
лать мир человеком, его отражением и выражением. Но философия
исходно стремилась как раз к обратному. К тому, чтобы постичь
божественную мудрость, чтобы исходя из открывающейся или приот-
крывающейся человеку первореальности обрести ему самого себя.
Если для философа первореальность именно такова, это обязывает
его как-то соответствовать первореальности, быть причастным к ней.
Но никак не наоборот. Иными словами, видеть в себе первореаль-
ность, которой должен соответствовать весь остальной мир—это
совершенно внефилософская познавательная и жизненно — практи-
ческая установка.
Если последнюю Н. Ф. Федоров осмыслял как свою «философию
общего дела», то этим он обнаруживал далеко не только собственную
философскую нечувствительность, а то и невменяемость. Он еще и,
несмотря ни на какой секулярный характер эпохи, пытался придать
философии статут по существу религиозный. Превратив ее в квази-
научный и технический проект, он одновременно увидел философию
как путь за пределы естественно-природной реальности. Она у него
подменяла собой не только религию, но и промышление Бога о мире,
Его содеятельность с человеком, так же как и прямое божественное
чудотворение.
Создавая «философию общего дела», Федоров закладывал в ней
прямо-таки чудовищное противоречие между чисто религиозным по-
рывом души к преодолению смерти, преобразованию жизни по ту
сторону перспективы ухода в небытие и абсолютно секулярной уста-
новкой на беспредельные возможности человеческого активизма.
В очередной раз человеку присваиваются совершенно сверхчеловече-
ские возможности, немыслимые в секулярной системе координат без
всякого подозрения о том, что секулярная культура задает свои
правила игры. Она ведь не только не принимает присутствия Бога
в мире, такого рода обращенности человека к Богу, когда он видит
в своих действиях и их результатах богоприсутствие, но и претензий,
устремлений и чаяний человека, выходящих за пределы возможно-
стей человеческой природы.
Секулярная культура, может быть, и принимает положение о том,
что когда-то в отдаленной перспективе для человека будет возмож-
ным то, что сегодня совершенно немыслимо. Может быть, даже со
временем человеку станет возможно все, но только в бесконечно
отдаленной временной перспективе. Порожденный секулярной куль-
турой миф о прогрессе на том и держится, что чем далее, тем человек
будет совершенней. Принцип человеческого совершенства действи-
тельно уходит в бесконечность. Там, в бесконечно далеком будущем
этому принципу самое место. Эта истина очень трудно давалась
русской культуре Петербургского периода, чем обнаруживалась не-
довершенность ее секуляризации.
Секуляризация культуры
457
Мне представляется вполне правдоподобным утверждение о том,
что именно незавершенность секуляризации толкала Россию в сторо-
ну революции. Не в том, разумеется, смысле, что православная
церковность каким-то образом связана с революцией. Речь совсем
о другом, прежде всего о зависании в промежутке между секулярно-
стью и церковностью. Этот промежуток порождал пустоту, дым
мечтания, которые могли привести к революционаризму в качестве
некоторого химерического образования из невнятных обрывков цер-
ковности и неусвоенной секулярности.
Вроде бы совершенно очевидно, что феномен революции и рево-
люционности возник не на русской, а на западно — европейской
почве. Так называемая Октябрьская революция, и это совершенно
очевидно, повторила многие действия, жесты и гримасы Француз-
ской революции конца XVIII в. И все же первая радикально отлична
от последней по самому важному пункту. Французская революция
настаивала на правах человека и гражданина. Октябрьская же декла-
рировала создание нового человека. Нет ничего более чуждого всему
духу нашей революционности, чем, скажем, статья первая «Деклара-
ции прав человека и гражданина» от 26 августа 1789 г. Она, в частно-
сти, гласит: «Люди рождаются и остаются свободными и равными
в правах». Эту статью подкрепляет следующая: «Цель каждого госу-
дарственного союза составляет обеспечение естественных и неотъем-
лемых прав человека. Таковы свобода, собственность, безопасность
и сопротивление угнетению».
Не в том только неприемлемость статей из «Декларации прав
человека и гражданина» для революционеров отечественного пошиба,
что они не признавали права собственности. Хотя они его и отрицали
со всей резкостью и определенностью, еще более чуждо нашим
революционерам представление о человеке как некоторой естествен-
ной данности, о том, что он и есть тот, кем рождается, да еще со
своими естественными правами. Если у человека и есть право, то на
отмену и преодоление всякой человеческой данности и естественно-
сти. Человек себе задан. Он подлежит своему собственному пересоз-
данию, он творец самого себя, ничем не определяемый, кроме челове-
ческого замысла. Этот замысел так всеобъемлющ и грандиозен,
настолько отменяет предшествующее состояние человека, что оно
вполне допускает уподобление его исходному ничто.
В некотором существенном смысле русский революционер дейст-
вительно готов творить человечество из ничего. Но наш славный
соотечественник потому и берет на себя роль творца, что он при всей
своей как будто всеобъемлющей, полной и окончательной секулярно-
сти опять-таки не удерживается в ее рамках. В большевизме человек
стремится поднять себя за волосы, найти в человеке такую точку
опоры, которая позволит ему совершить грандиозное преодоление
человека, устранить все его слабости, пороки и несовершенства, всю
неполноту и ущербность человеческого существования. В конце кон-
458
Культура Петербургской России
цов нашему революционеру хочется и нужно завершить историю,
выйти в метаисторическую реальность, в свою большевистскую веч-
ность, где времени больше не будет.
Этой устремленности нашего революционера научили основопо-
ложники марксизма, то есть представители западной культуры. Од-
нако в пределах Запада К. Маркс и Ф. Энгельс так и остались
радикальными мыслителями и прожектерами, чьей мысли время
было и прошло. Она возбудила не так уж мало народа, пощекотала
нервы власть имущих, тем дело и кончилось. Марксизм так и остался
свидетельством очень далеко зашедшего кризиса и разложения фило-
софии во второй половине XIX в. В крайнем случае его можно
рассматривать и как кризисный симптом западного секуляризма.
В России же он послужил секулярным орудием разрушения секуляр-
ной культуры, разрыва со всякой культурной традицией, когда
Россия перешла в состояние равно и послецерковное, и послесеку-
лярное, в сумеречное состояние по ту сторону культуры как целост-
ности, образующей собой определенную эпоху.
Глава 2
Петербургская Россия и Запад
Когда русская культура еще только начиналась и Русь представ-
ляла собой полупервобытное образование, вхождение ее в византий-
ское культурное сообщество было шагом, совершенно необходимым
для того, чтобы культурное развитие Руси не стало тупиковым.
Вопрос стоял только о том, какое из культурных сообществ вы-
брать—«западно- восточное» или «западно-западное». Выбор перво-
го из них предопределил дальнейшее нарастание от века к веку
дистанции между русской и западной культурами. И это естественно.
Выбор одной из двух культурно-исторических перспектив заведомо
исключает другую.
Но вот к концу XVII в. Русь опять оказывается перед выбором,
и на этот раз ей предстоит выбрать между «восточным» и «запад-
ным» Западом. С той, правда, разницей, что «восточный Запад»
теперь это она сама. И если все-таки приходится выбирать, то между
тем, чтобы Руси остаться собой, как она сложилась за предшествую-
щее тысячелетие, и тем культурно-историческим бытием, которое
предполагает известное самоотречение. История Руси-России так уж
сложилась, что ей пришлось поочередно с интервалом в несколько
столетий входить сначала в «западно-восточный», а затем в «западно-
западный» культурный круг. А это означает, что первый выбор не
удался или, во всяком случае, исчерпал свои возможности.
Понятно, что о неудаче здесь говорить можно не в смысле куль-
турных преимуществ одного Запада над другим. Подобного рода
постановка вопроса снимается хотя бы тем, что византийское куль-
турное сообщество к концу XVII в. давно исчезло, став из сообщества
культурным одиночкой-робинзоном в лице Московской Руси. Оди-
ночество нужно было преодолевать с целью избежать культурной
катастрофы. Но в то же время сама культурная переориентация,
460
Культура Петербургской России
превратившая Московскую Русь в Петербургскую Россию, только
и могла стать культурной катастрофой. Кризисом и переломом, но не
болезнью к смерти, а болезнью к жизни, трудной, неустойчивой,
рискованной, но все-таки жизни. И жизнь эта определялась не
в последнюю очередь тем, как широчайшие заимствования у Запада
сказывались на русской культуре, позволяли ей трансформировать-
ся, не теряя ее собственной идентичности.
Несмотря на то, что влияние Запада на русскую культуру в XVII в.
было очень ощутимым, Петровская эпоха существенно отличается от
непосредственно предшествующей ей в том отношении, что Москов-
ская Русь не только поневоле заимствовала у Запада жизненно
необходимое ей, но и точно так же, как только могла, изолировала
себя от него. Заимствования старались сделать исключительно техно-
логическими, видели в них заемные средства для осуществления
своих собственных русских целей, внешнюю оснастку, которая не
должна была ничего изменить изнутри в душевном строе русского
человека. В главном это удавалось. Конечно, никакая «технология»
не может оставаться чем-то чисто внешним по отношению к тому, кто
ее использует. Однако для XVII в. дело пока не заходило далее того,
чтобы заимствования Запада размывали основания древнерусской
культуры, делали ее существенно проблематичной.
Ситуация радикально изменяется в царствование Петра Великого.
Как бы ни подготавливалась вестернизация Руси предшествующим
периодом, только Петр I сделал акцент уже не на одной чистой
«технологии». Конечно, и его в первую очередь интересовали такие
вещи, как модернизация армии, строительство военно-морского фло-
та, развитие торговли с Западом, создание мануфактур и заводов
с использованием западных достижений и т. д. Но при этом для
Петра Великого в высшей степени характерно и стремление выстро-
ить систему власти и администрации государства по примеру запад-
ных стран, прежде всего германских государств. То же самое можно
сказать и об образе жизни русского дворянства. Очень хорошо
известно, как заботили Петра введение нового покроя одежды, все
эти бороды, парики, ассамблеи, празднества, этикет и пр. И здесь
действительно внутреннее не поспевало за внешним.
Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на портреты неко-
торых из сановников Петра I. Перед нами все те же старомосковские
тяжеловесные и внутренне неподвижные бояре, только переряжен-
ные на новоевропейский лад. Не так уж много изменилось и при
введении знаменитой «Табели о рангах» или учреждении коллегий
вместо прежних приказов. И все-таки происшедшие изменения не
могли быть чисто внешними. Участвующий в ассамблее сановник,
наряженный в парик и камзол, в коротких штанах и при шпаге,
явившийся на ассамблею (невиданное ранее дело) с супругой, да еще
в предположении, что оба они будут танцевать, — это уже не прежний
боярин. Как минимум, в его душе произошел некоторый перелом,
Петербургская Россия и Запад
461
она вступила в ранее вполне чуждое ей смысловое пространство.
Рассматривать его как чуждое себе можно только до известного
предела. Ведь царский, а потом и императорский двор—это сфера
для знати завидная и вожделенная, туда стремились всеми силами
души вовсе не как к чистому средству преуспеяния. Быть близким
к государю и есть само преуспеяние.
** *
Сам Петр Великий в своем стремлении к вестернизации России,
конечно, по-прежнему уделял преимущественное внимание западным
«технологиям». Однако его воодушевляло еще и стремление к укоре-
нению на русской почве западных наук и искусств. Ему самому, а не
только его потомкам был близок образ созидания России заново, так,
как скульптор высекает из глыбы мрамора статую. Запад же здесь
выступал в роли некоего первообраза, предстоящего умственному
взору преобразователя как замысел, подлежащий воплощению. Соб-
ственно творческим моментом преобразования России в этом случае
была петровская избирательность в заимствованиях, его чуткость
к тому, что приживается на русской почве, а что заведомо обречено
на отторжение.
При обращении к тем заимствованиям у Запада, которые имели
место при Петре Великом, нельзя не остановиться на том, что его
избирательность, хотя и не была произвольной, но частично все же
отражала симпатии и предпочтения самого государя. Так, не имела
своих аналогов ни в прошлом, ни в будущем привязанность царя
к Голландии. Конечно, голландцев хорошо знали в Московии на
всем протяжении XVII в. Они были вездесущими коммерсантами,
торговцами и мореплавателями и к тому же очень заинтересованными
в продуктах и сырье, которые можно было получать из Московской
Руси. Но все это были взаимовыгодные контакты очень разных
и даже диаметрально противоположных народов и культур в преде-
лах Запада.
Никого нельзя представить себе более отличным от русского
человека, чем голландца. В XVII в. он уже вполне оформился как
тип буржуа. Тот человеческий тип, которого даже в зародыше не
существовало в Московской Руси. Последней несравненно ближе
были ближайшие соседи русских—поляки. Они тоже до известной
степени образовывали противоположность русским людям. Скажем,
в том отношении, что Речь Посполитая была страной безграничных
вольностей и привилегий аналога русского дворянства и боярства—
шляхты и магнатов. Насколько первые были придавлены государст-
венной властью, настолько же последние проявляли склонность са-
мим давить на государственную власть, временами сводя ее до
минимума и фикции. При всем при том и Московское царство, и Речь
Посполитая были аграрными, редконаселенными странами с состав-
лявшим огромное большинство населения каждой из стран крепост-
462
Культура Петербургской России
ным крестьянством. Контактам
между обеими странами не могло
помешать ни их различие в госу-
дарственном строе, ни даже при-
надлежность одной из них к като-
лическо-протестантскому, другой
же к православному миру.
Превосходство Польши в этом
случае состояло в ее тесных свя-
зях с остальным Западом, она в по-
мине не знала о чем-либо подобном
русскому культурному одиночест-
ву. В XVII в., пусть и не в такой
степени, как Франция, Италия,
Англия или Германия, Польша уже
принадлежала Новому времени,
чего в Московской Руси ни в ка-
кой мере не наблюдалось. В луч-
шем случае в ней имело место
заимствование у поляков, инфиль-
трация польской культуры в Мо-
сковские пределы. Русская знать
в той или иной мере перенимала
польские моды, из Польши шло
Н. Витсен и Петр I. Голландская гравюра распространение достижений нау-
нач. XVIII в. г х
ки и ремесла, она влияла на обра-
зование русских людей и т. д. Это
было влияние одной западной окраины на другую, уже окончатель-
ную и самую глухую окраину Запада, которая к тому же, впрочем
тщетно, претендовала на роль целого и замкнутого на себя мира.
На этом фоне обращение Петра I к Голландии, неизменный на
всем протяжении его царствования интерес к ней, прямое превраще-
ние себя в ученика голландских мастеров, приглашение голландцев
на русскую службу, стремление привить русской культуре ряд гол-
ландских черт, — все это имело смысл приобщения к Западу уже не
остаточному и периферийному, а в самой сердцевине его нарождаю-
щегося и набирающего силы буржуазного существа. Разумеется, не
буржуазность, как таковая, привлекала Петра Великого, сама по себе
она оставалась для него чуждой, а такие следствия и проявления
буржуазности, как преобразовательный активизм, трудолюбие, мето-
дизм, изобретательность, уверенная в себе устойчивость жизненного
уклада. Петра тянуло к Голландии по принципу «они сошлись, волна
и камень, стихи и проза, лед и пламень»... В Голландии он видел
решительно и хронически недостающее России.
В результате его усилий, однако, у нас очень плохо прививались
голландские добродетели, по существу, ничего от духа голландской
Петербургская Россия и Запад
463
культуры в русскую культуру не вошло и войти не могло. Что ничуть
не исключает огромного вклада голландцев и голландского в петров-
ские преобразования. Но это был вклад или «технологический», или
же голландское инициировало такого рода действия, результаты
которых имели очень мало общего с имевшим достоинство образца.
Наглядным примером последнего случая может служить строи-
тельство Санкт-Петербурга. Неоднократно и подолгу бывавший в Гол-
ландии Петр I при проектировании и строительстве новой столицы
явно вдохновлялся голландским опытом устроения жизни «на низ-
ких, топких берегах», их упорством и бесстрашием в борьбе с мор-
ской стихией. Перед глазами Петра был пример Амстердама—при-
брежного города островов и каналов, и вместе с тем одного из
крупнейших на Западе финансового и экономического центра. Даже
петербургские здания петровского времени строились в «голландском
вкусе». Однако уже первые результаты строительства Санкт- Петер-
бурга, его предварительный набросок не обнаруживают никакого
сходства с Амстердамом как целым. В Петербурге и намека не было
на чистенькие кирпичные с нарядными наличниками амстердамские
дома и дворики, тихие каналы и по-средневековому небольшие пло-
щади. Амстердамский уют и приватность оказались вполне чуждыми
имперскому замаху Петербурга.
Что действительно прижилось в России от голландского духа
(правда, ненадолго), так это созидательный и устроительный пафос.
Он был присущ прежде всего самому Петру Великому. Петр неустан-
но подвигал Россию стать мастерской и стройкой, где ценятся мастер-
ство, ум, деловитость. Все это он видел в голландцах, тянулся к ним
и в значительной степени по-голландски оформлял свой быт, по
крайней мере, повседневный. Когда Петр сам трудился на верфи,
руководил спуском корабля со стапеля или работал на токарном
станке, он действительно становился «голландцем», а не стилизовал-
ся под него. В нем, выходце из старомосковской среды, поразитель-
ным образом жила еще и голландская душа. Правда, у Петра она
была не единственная, и потом в его окружении русских сподвижни-
ков с голландской прививкой было очень немного. Нечего и говорить
о том, что голландские увлечения и веяния в русской культуре после
смерти Петра Великого быстро сходят на нет.
***
Совсем иначе складывалась ситуация с французским воздействием
на Россию и ее культуру. Петр I бывал во Франции и хорошо
представлял себе, что значит Франция в Европе. Но в Петровскую
эпоху Россию и Францию слишком многое разделяло. Причем таким
образом, что контраст между ними только в незначительной степени
мог стать контрастом дополнения русской культуры французской
инаковостью. Конечно, России и ее государю, вступившим на путь
вестернизации и секуляризации, никуда было не уйти от того, что тон
464
Культура Петербургской России
в европейской культуре в это время задавала Франция, что непрере-
каемым законодателем придворной жизни был французский двор.
Последнее обстоятельство, в частности, нашло свое выражение
в сооружении Петром своего загородного дворца Петергофа. При
всей очевидности различий между Петергофом и Версалем, еще
более очевидно другое. Наш Петергоф стал не более, чем своеобраз-
ной вариацией на заданную тему, ее же задали Людовик XIV и его
архитекторы, замыслившие и соорудившие Версаль. Прямо или
опосредованно, но французское влияние сказывалось и на этикете
двора Петра I, на том, как стали одеваться русские дворяне, какие
нормы и формы общения распространялись в дворянской среде.
Что же касается таких реалий, как французская литература,
философская и общественная мысль, французский язык, их время
приспело только в царствование преемников Петра Великого — Ели-
заветы Петровны и особенно Екатерины II. Именно тогда русское
дворянство повсеместно начинает получать западное образование,
хотя бы его начатки. И теперь французский приоритет в западной
культуре сполна сказывается на России. С середины XVIII в., если
у нас появляются не просто профессионально подготовленные граж-
данские и военные чиновники, а действительно образованные люди,
то образованы они на французский манер, начитаны в произведени-
ях французских авторов, разделяют идеи французского по преиму-
ществу Просвещения. Некоторым исключением из общего правила
были русские выпускники западных университетов. Правительство
посылало их учиться почти исключительно в Германию. Но и Герма-
ния в это время находилась под очень интенсивным воздействием
французской культуры. Ее собственный расцвет еще впереди.
Казалось бы, всеобъемлющее французское влияние на Россию
XVIII в., между тем, имело последствия гораздо более скромные, чем
этого можно было ожидать. Где оно оказалось устойчивым и глубо-
ким, так это в формировании форм общежития высших классов.
Французская светскость в России пришлась очень ко двору в XVIII в.,
в следующем же столетии она буквально срослась с русским дворян-
ством, стала для него чем-то вполне естественным и органичным. По
сравнению с влиянием литературным, художественным или интел-
лектуальным, усвоение французской светскости может показаться
явлением второстепенным, внешним и поверхностным. Здесь на нас
неотразимо действуют со школьных лет вдалбливаемые истины о хо-
лодности, пустоте света, о том, что он «завистливый и душный для
сердца вольного и пламенных страстей», что свет весь—условность
и мертвая форма и т. д.
Обратим, однако, внимание на то, какие реалии в качестве первич-
ных лежат в основе светскости. Несомненно, к числу их относится
свобода. Понятно, что светское общежитие знает ее не в полноте,
наверное, даже не в самых существенных и глубоких проявлениях.
Но, с другой стороны, светскость, как она оформилась во Франции
Петербургская Россия и Запад
465
Великосветский салон
Неизвестный художник, 1830-е гг.
и стала образцом для всей Европы, обязательно предполагает безу-
пречную вежливость и обходительность со всеми, кто допущен в свет
(не обязательно высший), вне зависимости от чинов и рангов.
Впрочем, последнего уточнения можно было бы и не делать, так
как принцип вежливости тем и отличается от вежества, что именно он
распространяется на всех лиц определенного круга. Он очень мало
считается или не считается вовсе с чинами и рангами, предполагая
равенство людей, допущенных в данный круг, по крайней мере играя
в такое равенство. Вежливость —это своего рода чествование одним
человеком другого, она обязательно предполагает тон признания
некоторого превосходства того, к кому обращается вежливый чело-
век. В свою очередь, в пределах вежливости адресат обязан ответить
чествованием обратившегося к нему, принять тон признания превос-
ходства последнего. Такое взаимное чествование так или иначе исхо-
дит из того, что общаются между собой люди достойные и безупреч-
ные, всецело отвечающие за себя и свободные в своих поступках.
В свете-то и сходятся (должны сходиться) не от нужды и скуки,
а в качестве естественного движения в направлении друг к другу те,
кто хотел бы отдать должное один другому.
Вспомним хорошо нам известное из русской или французской
литературы XIX в. Наносящие взаимные визиты светские люди,
в особенности дамы, приветствовали друг друга непременными изъ-
явлениями радости, едва ли не восторга. Сколько угодно можно
указывать на пустую формальность всех этих радостей и восторгов
466
Культура Петербургской России
при встрече светских людей, но чего нельзя у них отнять, так это
самой смысловой первоосновы—предположения того, что встрети-
лись люди от свободы и в свободе, что их совместное пребывание —
это общение людей, восхищающихся друг другом как бы невольно
и непосредственно.
Конечно, свет и светскость—это еще и устойчивая форма и услов-
ность. Они действительно могут превалировать над всем остальным.
В свете еще как могли царить скука, сплетни, пустая болтовня. И все
же свет, пребывание в нем—это всегда и обязательно опыт свободы.
Невозможна светскость без соответствующих манер, выделки ума,
пускай не в сторону глубины, а скорее легкости и изящества выраже-
ния мыслей и впечатлений, без способности никого не поставить
в неловкое положение и самому не попасть в него.
Пускай свобода светского человека—это всего лишь реальность,
противоположная скованности, неуклюжести, назойливости, неуме-
стности. Пускай светское равенство в вежливости ничуть не отменяет
зависимости одних светских людей от других в жизненно важных
вопросах. Но тогда зададимся вопросом: опыт какой другой свободы
мог противопоставить русский дворянин свободе светского человека?
К ней никакого отношения не имело его служебное поприще, всякого
рода деловые контакты с выше—и нижестоящими, обращение в слу-
чае нужды в государственные инстанции, наконец, семейные отноше-
ния с их обязательным почитанием родителей и правом последних
определять судьбу своих детей на общественном поприще и в личной
жизни.
Так что переоценить светскую прививку к дворянской культуре,
которой она, как никому другому, обязана Франции, трудно. Тем
более если учесть, что «золотой век» в русской литературе начинает-
ся с произведений Н. М. Карамзина, а затем и А. С. Пушкина через
усвоение ею тона светского человека. Он сказывается уже в карам-
зинских «Письмах русского путешественника» и в «Бедной Лизе»,
созданных в самом конце XVIII в., а уж о пушкинском «Евгении
Онегине» и говорить нечего. По крайней мере на поверхности, но
этот роман в стихах воспроизводит легкий тон светской речи, едва ли
не болтовни. Пушкин создал первый великий роман в ряду великих
романов русской литературы. И вот оказывается, что написан он мог
быть только от лица светского человека. Не от лица же коллежского
секретаря, кем был Пушкин, следовало его писать и не в качестве
русского знатного дворянина, вольнолюбивого «друга человечества»,
разочарованного романтика и т. д. Все это были маски и позы,
приняв которые можно было заговорить тем свободным языком,
которым заговорил Пушкин.
Действительно, ничего изящней, непосредственней и свободней
в романном жанре русская литература не создала. И пронизан ими
«Евгений Онегин» вовсе не за счет так называемой «глубины» разра-
ботки образов и отношений героев. Свобода пушкинского романа
Петербургская Россия и Запад
467
вмещает в себя все, в чем позднее проявятся достоинства русского
романа. Но других таких же бесконечно свободных романов в нашей
литературе уже не будет. Это понятно и очевидно, но точно так же
очевидно должно быть, что тон светского человека, такой органич-
ный в «Евгении Онегине», мог принять только по-настоящему
светский человек, каким и был, вне всякого сомнения, Пушкин.
В том числе его светскости, которая родом из Франции, мы обязаны
тем, что первые зрелые плоды «золотого века» стали тем, что они
есть. Роман свой «француз» Пушкин написал о «французе» же
Евгении Онегине, и выбор им как авторской позиции, так и позиции
своего героя, конечно, не был случаен.
Если в творчестве Пушкина можно проследить совпадение влия-
ния французской светскости с влиянием собственно литературным,
то о периоде предшествовавшего Пушкину XVIII в. можно сказать,
что в нем французская литература служила образцом для подража-
ния, однако подражательность приносила очень скромные плоды. Их
никак не отнесешь к феноменам творческого освоения и преобразова-
ния чужого опыта. Этому препятствовало не только то, что в век
культурного ученичества для самобытной русской литературы еще не
приспели сроки, когда же эта литература начала возникать, француз-
ский безусловный приоритет в словесности отошел в прошлое.
Как минимум, не менее значимой было фундаментальное отличие
французской литературной традиции от той, которая установилась
в Древней Руси со времен ее христианцизации. Как никакая другая
новоевропейская литература, французская словесность носила рито-
рический характер. В ней чрезвычайно большую роль играла форма,
ее строгость, отточенность и вместе с тем стройность и легкость. Это
те достоинства, которые отличают французскую классику XVII в.
Воспитанный не далее чем на литературе XIX в. современный чита-
тель склонен находить во французской классике условность, сухость,
выспренность, едва ли не поверхностность в разработке образов
и выявлении смыслов. Нам гораздо ближе изощренный психологизм
или неожиданный и парадоксальный сюжет, нам подавай глубину
и тайну. Французская же классика предлагает читателю простран-
ные и выспренные монологи героев Корнеля и Расина, застывшие
в своей неизменности, характеры мольеровских чудаков-маньяков
или совсем уже детскую простоту и нравоучительность басен Лафон-
тена. Не говоря уже о каком-нибудь «Поэтическом искусстве» Буало,
рифмованном трактате, в котором излагаются литературные нормы
и правила.
Читать все это сегодня охотников найдется немного, французы же
тем не менее держатся за свой XVII в., неизменно включают его
в школьные программы. И это не просто дань традиции, а признание
того, что достоинства французского ума и души выражены в класси-
ке, пускай, и не в современном вкусе, но существенно и неотменимо
в своей существенности для французской новоевропейской культу-
468
Культура Петербургской России
ры. Вся она пронизана рационализмом, особым вниманием к досто-
инствам стиля даже тогда, когда стремится быть нарочито экспрес-
сивной и пренебрегающей формой.
В своей неизменной заботе о форме французская словесность
является прямой наследницей латинской словесности, она ее верная
последовательница и наследница. Но это как раз то наследие, кото-
рое на протяжении семи столетий оставалось вполне чуждо древне-
русской словесности. Последняя никогда особо не культивировала
форму, не знала риторического пафоса, длительного специального
школьного обучения стилю.
Прививать подобные добродетели русской литературе в XVIII в.
было уже поздно. Вся она была устремлена прежде всего к освоению
нового для нее западного опыта доселе чуждых ей культурных
реалий. Требовала осмысления и коренным образом изменившаяся
жизнь в самой России. В такой ситуации русская литература менее
всего искала для себя классических образцов, которым нужно неиз-
менно следовать, оттачивать на них свое мастерство.
Гораздо насущнее было начать запев с чужого голоса и вместе
с тем сразу же воспевать свое, отечественное, замыкать на него вновь
обретенное мастерство, а не специально культивировать его. Фран-
цузский культ формы, в отличие от Франции, неизбежно остался бы
у нас пустым и бессодержательным, к нему у русского человека
никогда не было настоящего вкуса ни в Древней Руси, ни в Петер-
бургской России.
Очень весомым исключением в отношении к французской литера-
туре стал наш первый безусловный литературный классик, в котором
совместилось достоинство ее зачинателя с достоинством вершины, —
А. С. Пушкин. Уже более ранний из классиков нашей поэзии
В. А. Жуковский в своем творчестве ориентировался преимуществен-
но на немецкие и английские образцы. У Пушкина же на передний
план, особенно в ранний период творчества, выходила его «француз-
скость». И хотя даже ранний Пушкин во многом зависим от англича-
нина Байрона, своим французским истокам Пушкин обязан тому, что
последующая классика нашего «золотого века» не удержала в себе.
В связи с Пушкиным привычно говорят о простоте и ясности его
стиля, удивительно совмещающегося с глубиной постижения жизни.
Наверное, нельзя не согласиться с тем, что наполненность смыслом
при предельной краткости изложения у Пушкина беспримерны в на-
шей литературе.
Однако при всей никем не оспариваемой самобытности нашего
первого поэта и прозаика невозможно отрицать, что перечисленные
достоинства своей музы он приобрел во французской школе. Пушкин
не только классик, он еще и классичен во французском смысле. Его
поэтическая и прозаическая речь выстроена не только очень вырази-
тельно, но и гармонично. Непосредственность в ней совпадает с гар-
монией, которая обыкновенно дается школой и выучкой. Пушкин
Петербургская Россия и Запад
469
одновременно прост и изыскан, у него изысканность разрешается
в простоту, что так свойственно французской словесности.
Потом у преемников Пушкина его французские достоинства уже
не повторятся. Гоголь унаследует пушкинскую краткость и емкость
образов, его, как правило, очень небольшие произведения запомина-
ются так, как если бы это были пространные повествования. Но
гоголевский мир от классичности дальше далекого, он смещен, стра-
нен и в этой странности узнаваем, но узнаваем как основательно
забытое или скрываемое от самого себя.
Такие великие наследники Пушкина, какими были Л. Толстой
и Ф. Достоевский ничуть не более классичны, чем Гоголь. У них
и речь-то нарочито естественная, в ее непосредственности нет чекан-
ной выделки, строгости и стройности, непременных в классике, она
далека и от изящества, культивируемого французской традицией
и унаследованной Пушкиным. И здесь ничего не меняет то, что
образы Л. Толстого зримы и выпуклы, буквально вторгаются в созна-
ние читателя, в противоположность тому, что речь Достоевского
лихорадочна, многословна и создает не столько образы, сколько
душевные состояния.
Известно, что в отличие от Достоевского Л. Толстой упорно и тща-
тельно работал над текстом своих произведений, переписывая и ис-
правляя их по многу раз. Но работа его заключалась вовсе не
в выработке безупречной формы, которая говорит сама за себя и есть
отчетливость и чистота явленного смысла. Как раз наоборот, вели-
чайший русский писатель как будто тем только и занимался, что
устранял форму, создавая ощущение движения смыслов и образов
как таковых, вне специальной работы над словом. Слова у Толстого
непритязательны, они как бы сами приходят на ум, не важны сами по
себе. С точки зрения классической французской традиции толстов-
ские произведения рыхлы и бесформенны, это самородки, поражаю-
щие воображение такими, какими они уродились, а вовсе не прошед-
шие так ценимую французской словесностью отделку и огранку.
При всем сказанном, однако, пушкинскую классичность и «фран-
цузскость» никак не отнесешь к нереализовавшейся заявке нашей
литературы и упущенным ее возможностям, открывавшимся творче-
ством Пушкина. Скорее речь здесь нужно вести о том, что русская
литература в первом своем гениальном наброске способна была
образовывать гармоничное целое в классическом духе, а значит,
осуществленная гармония оставалась призывом к русской литературе
и обещанием возможности ее последующих воплощений.
***
Французская культура, сам ее дух всегда оставались неотразимо
обаятельными для сколько-нибудь образованных русских людей.
Никогда у них не возникало вопроса, где находится мировая столица
культуры, слишком очевиден был на него ответ—конечно же, в Па-
470
Культура Петербургской России
риже. У французов прежде всего стремились русские дворяне полу-
чить начатки образования и воспитания для своих детей, придать им
человеческий образ на французский манер. Отсюда такая широкая
распространенность в России французов -гувернеров. И это при том,
что французы были далеко не самым значительным слоем иноземцев,
проживавших в России. Во всяком случае, их было несравненно
меньше, чем немцев. И все же Франция виделась русским людям
в прекрасном далеке, уж очень инаковой по отношению к собствен-
ной стране.
Другое дело Германия и немцы. По мере расширения границ
Российской империи германские государства становились все ближе
и ближе к ней территориально. К тому же в ее составе начиная
с петровского царствования находились две, а с 1795 г. уже три
губернии с немецким дворянством и городским патрициатом. Нако-
нец, на протяжении XVIII—XIX вв. в Россию переселились многие
тысячи немцев. И дворян, и горожан-ремесленников, и торговцев,
и крестьян, заселявших пустующие земли. Так что немцы были
нашими соседями не только по близости расположения германских
земель, но нередко и в самом простом, бытовом смысле, как живущие
в ближайшем поселении, на соседней улице или в стоящем рядом
доме. Германская культура в ряду таких великих национальных
культур, как французская и английская обладала сильно выра-
женной способностью к воздействию на другие культуры, и даже
ассимиляции их. Ассимиляция или какое-то подобие ее в нашем
случае были заведомо исключены, а вот самое широкое, разнообраз-
ное и глубокое воздействие германской культуры на русскую дейст-
вительно имело место на протяжении всего Петербургского периода.
Как минимум, оно может поспорить с французским влиянием, если
не превосходит его.
Поначалу, в петровское царствование, наиболее актуальным для
России было усвоение нового для нее опыта германской государст-
венности. Он не просто усваивался в тех или иных своих частностях.
Российское государство буквально приобретало многие германские
черты, по крайней мере внешние. Самым известным и вместе с тем
достаточно характерным примером здесь может служить знаменитая
«Табель о рангах», разделившая всех, кто находился на военной
и гражданской службе, на четырнадцать классов таким образом, что
армейскому и флотскому офицерскому чину однозначно соответство-
вал определенный гражданский чин. У этих чинов не только были
немецкие наименования, за их введением стояло еще и стремление
копировать бюрократическую систему управления германских госу-
дарств.
В этом копировании первостепенно важным был момент определе-
ния значимости и достоинства человека прежде всего по месту,
занимаемому им на государственной службе. Причем эта служба
понималась как более или менее стремительное или медленное восхо-
Петербургская Россия и Запад
471
ждение со ступени на ступень в зависимости от заслуг перед госуда-
рем и отечеством. Конечно же, при продвижении по военной и граж-
данской службе как в России, так и в германских государствах
огромную роль играли богатство, знатность и связи того или иного
лица. И все-таки Петром I в данном случае был задан принцип
и норма отношения между государством и служащими ему поддан-
ными. Нет никакого сомнения в том, что «Табель о рангах» появи-
лась в России не на пустом месте. Московская Русь прекрасно знала
чины как на придворной, так и на военной и гражданской службе.
Германский же опыт играл здесь роль начала упорядочивающего,
делающего организацию государственной службы более стройной
и методичной.
Введение немецкой системы чинов оказалось в России тем более
уместным, что на российскую военную и гражданскую службу,
начиная с царствования Петра I, поступало множество выходцев из
Германии, так же как и уроженцев вновь присоединенных Эстлян-
дии, Лифляндии, а позднее и Курляндии. На протяжении всего
Петербургского периода, да и позднее, у нас много писалось о немец-
ком засилии при дворе и в государственном аппарате. Апофеозом
такого засилия считается бироновщина, период, когда немецкий
элемент в российской государственности получил преобладание или
непомерное значение для благополучного существования государства
и страны. Однако бироновщина приходится на царствование импе-
ратрицы Анны Иоанновны (1730—1740), длившееся всего десять лет,
и к тому же еще на начало более чем двухсотлетнего Петербургского
периода. Применительно к любому другому царствованию о немец-
ком засилии нужно говорить с большой осторожностью, а лучше
о нем вообще не говорить. Гораздо точнее и справедливей по отноше-
нию к немцам будет констатация того, что при одних государях
и государынях немецкий элемент в государстве был менее влиятелен
(при Елисавете Петровне, Екатерине II, Александре III), при других
же получил большее значение (при Александре I, Николае I, Алек-
сандре II). Однако и в том, и в другом случае имело место не
ослабление или усиление немецкого засилья, а большая или меньшая
роль высших чинов военной и гражданской администрации немецко-
го происхождения в государственной жизни Российской империи.
Несмотря ни на какую германофилию или германофобию россий-
ских императоров и императриц, немецкий вклад в российскую
государственность неизменно оставался очень значительным. Ка-
кую-либо деструктивную роль им приписывать бессмысленно.
У российской государственности Петербургского периода были свои
достоинства, недостатки и пороки. Менее всего они зависели от
чьего-либо иностранного влияния. Другое дело, что немец на служ-
бе российскому государству привносил в свою службу момент боль-
шей, чем в среднем среди гражданских и военных чинов, образован-
ности, ответственности, порядка, следования своему долгу.
472
Культура Петербургской России
Совсем не случайно в России в XIX в. прочно установилось
словосочетание «русский немец». Ни о русских французах, ни тем
более русских англичанах у нас что-то слышно не было. Но русские
немцы появились у нас не просто потому, что сотни тысяч немцев
были подданными Российской империи и проживали на ее террито-
рии из поколения в поколение. Даже те из них, кто не ассимили-
ровался, сохранил свою национальную культуру (а обрусели за
XVIII —начало XIX в. в России тысячи и тысячи выходцев из Герма-
нии), очень часто в то же время осознавали Россию своим подлинным
отечеством. На нее распространялись их патриотические чувства,
с ней, а не с Германией идентифицировали себя русские немцы.
Такое становилось возможным и по-своему органичным в виду им-
перского характера российской государственности и русской культу-
ры. Империя как межнациональная общность как раз и предполага-
ет, что ее подданные идентифицируют себя с наднациональным
государством, имперским народом и вместе с тем со своим собствен-
ным этносом, если они относятся к числу так называемых «инород-
цев». Своеобразие ситуации с немцами здесь состояло в том, что они
во вновь образовавшейся империи по праву могли претендовать на
роль учителей нового имперского народа по части европеизма. Нем-
цы и были такими учителями русских в сфере образования и науки,
как гувернеры детей нашего дворянства. Многому можно было
поучиться у немцев и на государственной службе. Однако в целом
здесь они выступали прежде всего как люди, исправно служащие
своему государю и своему новому отечеству.
И такая позиция для русских немцев была на удивление орга-
нична. Эту позицию можно ощутить в ее исторической конкретике,
обратившись, скажем, к письму великого немецкого философа
Г.-В.-Ф. Гегеля, адресованному барону фон Икскюлю, уроженцу
Курляндии, состоявшему на русской дипломатической службе и за-
нимавшему довольно видный пост по министерству иностранных дел.
В письме, датированном 28 ноября 1821 г., в частности, есть такие
строки: «...Ваше счастье, что отечество Ваше занимает такое значи-
тельное место во всемирной истории, без сомнения имея перед собой
еще более великое предназначение. Остальные... государства, как
может показаться, уже более или менее достигли цели своего разви-
тия; быть может, у многих кульминационная точка уже оставлена
позади и положение их стало статическим. Россия же, уже теперь,
может быть, сильнейшая держава среди всех прочих, в лоне своем
скрывает небывалые возможности развития своей интенсивной при-
роды. Ваше личное счастье, что благодаря своему рождению, состоя-
нию, талантам и знаниям, уже оказанным услугам Вы можете в самое
ближайшее время занять не просто подчиненное место в этом колос-
сальном здании»1.
1 Гегель Г.-В.-Ф. Работы разных лет: В 2 т. Т. 2. М., 1971. С. 407.
Петербургская Россия и Запад
473
Письмо как письмо, ничего
в нем такого уж примечательного,
несмотря на авторство Гегеля, не
было бы, если учесть, что написа-
но оно в эпоху величайшей за всю
ее историю славы России. Не было
бы, отвлекись мы от того обстоя-
тельства, что адресовано письмо
одним немцем другому. Но вот
почему-то Гегель наговорил лест-
ных вещей барону Икскюлю
в предположении того, что у него
с бароном различные отечества:
у одного Германия, у другого Рос-
сия. И этому ничуть не мешает,
что письмо написано на родном
для Гегеля и Икскюля языке. Язык
у них один, одна и культура, оте-
чества, однако, разные, как раз
потому, что ни Гегель, ни Ик-
скюль не мыслят Россию как узко
этническую реальность. Она импе-
рия, в которой могут служить
п проявлять в ней свои дарования
И. Р. Дрейлинг
Фотокопия нач. XX в. с миниатюры неиз-
вестного художника, 1814
немцы не менее, чем сами русские.
Это очевидно для Гегеля, для его же курляндского адресата иденти-
фикация с Россией представляет собой естественный жизненный
опыт, общий у него со многими другими своими земляками.
Одним из таких земляков-курляндцев и к тому же современником
Икскюлю был Иоганн Рейнгольд (Иван Романович) Дрейлинг (1793-
после 1869). Юность и молодость Дрейлинга пришлись на очень
бурное время наполеоновских войн. Он был участником отражения
вторжения Наполеона в Россию в 1812 г., так же как и последовавше-
го за ним заграничного похода русской армии, о чем несколькими
годами позднее написал краткие, но выразительные воспоминания.
Я приведу из них несколько крошечных и сюжетно разрозненных
фрагментов с одной лишь целью: дополнить характеристику русского
немца в его отношении к России. Вначале три фрагмента, касающих-
ся борьбы с Наполеоном в русских пределах и предшествующих им
событий:
«...В ноябре мы получили приказ выступить в Польшу. Впервые
мне пришлось покидать родину; уже одна мысль об этом пробуждала
во мне грустные чувства...»1.
’1812 год. Воспоминания воинов русской армии. М., 1991. С. 364 (далее;
1812 год).
474
Культура Петербургской России
«...Мы отступали перед надменным врагом, а они все глубже
и глубже проникали в родные поля каждого из нас, все ближе
и ближе и никем не сдерживаемые подступали к самому сердцу
нашего общего Отечества...»1
«...Как со стороны наших героев русских, так и со стороны
бесстрашных... французов были показаны чудеса храбрости, самоот-
вержения, презрение смерти...»1 2
В первом фрагменте автору повествования всего-то неполных
17 лет, однако он уже служит юнкером кирасирского полка, который
квартируется в одном из городов входившей в состав России Литвы.
Литва не Курляндия, хотя и расположена по соседству с ней. Но для
юного немецкого дворянина на уровне его воинского служения нет
ни Курляндии, ни Литвы, а есть Отечество, Россия. Она для него
своя страна вне зависимости от того, в какой из ее частей он служит.
Поэтому (второй отрывок) для Дрейлинга существуют не только
«родные поля каждого из нас», но и «сердце нашего общего Отечест-
ва»—Москва.
Казалось бы, что мог сказать душе немца-лютеранина из Курлянд-
ской глуши образ православной Москвы с ее бесчисленными купола-
ми церквей, со всем своим экзотическим для западного взгляда
своеобразием? Но Дрейлинг в первую очередь ощущает себя в соста-
ве своей российской армии, борющейся за свою древнюю столицу.
Так что Москва и ему не чужая, она и его, немца, русская столица.
И он сам, Дрейлинг, на поле боя (третий отрывок) не только немец,
(а кто же еще, если пишет свои «Воспоминания» на немецком,
единственном языке, которым хорошо владел), но в первую очередь
русский. Русские—его соотечественники, бок о бок с которыми
Дрейлинг бился с неприятелями —французами.
Следующие три фрагмента из дрейлинговских «Воспоминаний»
касаются заграничного похода русской армии в 1813—1814 гг. Опять
в них драгоценны детали и нюансы, а не сюжет, которым приходится
полностью пренебречь при цитировании:
«...Всюду стояли триумфальные ворота и давали празднества в честь
победителей нации, которая до сих пор считалась непобедимой,—
и это в стране, в которую мы вступили врагами. Прусские знамена
находились ведь во время этой кампании среди той части француз-
ской армии, которая осаждала наши Курляндскую и Лифляндскую
провинции»3.«...Говорят, она потом вышла замуж за русского полков-
ника Раутенфельда»4.
«...И наша русская армия поспешила из далекой Отчизны опять
к Рейну...»5
11812 год. С. 372.
2 Там же. С. 376.
3 Там же. С. 380.
4 Там же. С. 387.
5 Там же. С. 390.
Петербургская Россия и Запад
475
Все три приведенных фрагмента об одном и том же, каждый раз
лишь слегка уточняя это одно и то же. Оно же по-своему поразитель-
но. Когда Гегель в своем письме к Икскюлю называл отечеством
барона-немца Россию—это еще можно было истолковать как принад-
лежность Икскюля к тем, кто служит России. По поводу же Дрей-
линга никаких сомнений быть уже не может. Для него не только
родина—Россия, но и такое германское государство, как Пруссия—
это заграница, чужая страна, недавно враждебная и посягавшая на
наши Курляндию и Лифляндию. Нужды нет, что прусский корпус
вторгался в онемеченные земли. Для Дрейлинга Курляндия и Лиф-
ляндия—«наши» России и русским, и чужие немцам-пруссакам.
Точно так же некий полковник Раутенфельд—не немец на русской
службе, а именно «русский полковник». Он женился в германском
Лейпциге на госпоже Ганзен, и оба они наверняка совсем не говорили
по-русски или говорили очень плохо. Но вот полковник Раутенфельд
увез свою молодую жену к себе на родину, в Россию. В ту отчизну,
которая так далеко от Рейна и вовсе не перестанет быть таковой из-за
того, что Рейн самая что ни на есть германская река, ее образ
и символ. Отчизна очень далеко от Рейна—это как раз и значит, что
национальная принадлежность и национальная самоидентификация
для русских немцев не совпадали. Нередко они делали выбор в поль-
зу своей, пускай по-прежнему немецкой, но русскости. Для русской
культуры в этом было огромное и бесценное приобретение. В своем
стремлении к сближению с Западом Россия не могла найти себе более
надежных и подходящих помощников.
При всей огромной, легко бросающейся в глаза разнице между
русскими и немцами, при том, что достоинства и добродетели одних
очень часто начисто отсутствуют у других, русские и немцы связаны
некоторым взаимным тяготением. Если им не дана близость черт так
называемого национального характера, если их самоощущение и ми-
роотношение в корне различны, то русские и немцы зато очень остро
чувствуют друг в друге то иное, чего в них самих исходно нет и что
им так просто не дается или не дается вовсе.
Касательно немцев (все-таки не о них непосредственно речь в этой
книге) ограничусь совсем кратким примером, который поначалу
может показаться не совсем имеющим отношение к делу. Пример
этот относится к трем русским немцам, все они были баронами,
генералами русской службы и кавалеристами. Один из них, барон
Засс, прославился на Кавказе в середине XIX в. как лихой кавале-
рийский начальник, удалец, во вполне казачьем стиле, наводивший
ужас на горцев и снискавший их уважение. Другой, барон Мейен-
дорф, был начальником личного императорского конвоя при госуда-
ре императоре Николае II. Конвой этот, как известно, состоял из
казачьих сотен различных казачьих войск. Среди своих казаков
барон Мейендорф чувствовал себя вполне на месте и вполне органич-
но усвоил казачьи повадки. Наконец, барон Унгерн фон Штернберг.
476
Культура Петербургской России
Он приобрел известность в гражданскую войну на Дальнем Востоке
и тоже показал себя как лихой кавалерийский начальник во вполне
казачьем духе.
Откуда же, зададимся вопросом, у трех остзейских баронов такое
тяготение к казачьей службе и казачьей повадке? Наверное, и от
обруселости, от живого ощущения русского своим и родным, но,
думаю, также и от немецкой чувствительности к тому русскому,
которое им как воинам, не очень близко. Достоинство немца как
воина в хладнокровии, в непреклонной решимости исполнять распо-
ряжения начальства, в способности слаженно действовать в ситуации
смертельной опасности. Но вот есть еще, оказывается, казачье удаль-
ство, безрассудная игра со своей и чужой жизнью, стремительный
натиск, невероятная казачья выносливость и неприхотливость, нако-
нец, не последнее дело и особое казачье щегольство и лоск. В нем
есть и своя доля простонародности, но есть и какой-то свой особый
аристократизм. Не эти ли казачьи особенности показались такими
обаятельными нашим немецким баронам, не им ли они «позавидова-
ли» какой-то частью своей немецкой души и подались в казаки как
в мир, который захотелось сделать и своим. Засс, Мейендорф и Ун-
герн фон Штернберг подались, для других же немцев наше русское,
не становясь своим, все же оставалось внятным и влекущим.
Наше русское тяготение к Германии и немцам—явление неодно-
значное и противоречивое. На одном его полюсе—образ русского
немца, установившийся в нашей классической литературе, но очевид-
но ею не созданный, а подмеченный. Этот русский немец прописан
не то чтобы враждебно, но иронически отстраненно. В нем подмеча-
лись сухость, педантизм, расчетливость, ограниченность, ученость,
которая не прибавляет ума ни в житейском смысле, ни в смысле
душевной жизни. В лучшем случае наши русские немцы классиче-
ской литературы—отвлеченные чудаки и мечтатели, не лишенные
привлекательных черт, но недостойные войти в высший литератур-
ный ряд, где место главным героям. Худший же случай представляет
нам немца простодушным, и сухим и звонким как осиновое полено
карьеристом, человеком от всей души и хронически не способным ни
о чем думать и ничего вообразить, кроме своей житейской пользы
и преуспеяния. Совершенно не случайно, я думаю, что А. С. Пушкин—
единственный наш классик, кто не только избежал соблазна изобра-
жения немца в означенном роде, но, напротив, одного из главных
героев своего произведения сделал немцем (Германна в «Пиковой
даме»). У Пушкина Германн и немец, и человек, как таковой, тот,
в чьем образе художник стремился выразить нечто для него жизнен-
но важное. Причем выразить непосредственно без какого-либо особо-
го акцента на немецком своеобразии и экзотике. Никакой дистанции
у Пушкина по отношению к немецкости Германна нет. Германн—это
человеческий тип и человеческая индивидуальность, а то, что он
русский немец—не более чем акцент в его образе, ни в малейшей
Петербургская Россия и Запад 477
степени не влекущий за собой в последующее время ставшие привыч-
ными отчужденность от русского немца и гротескность в его изобра-
жении. Как никто другой после него, Пушкин уловил близость
русской немецкости и просто русскости.
Другой полюс отношения к Германии и немцам демонстрирует уже
не художественная литература, а мемуаристика. Когда читаешь сви-
детельства побывавших в Германии русских людей, в них встретишь
далеко не только привычное ворчание по поводу обычных в русском
сознании немецких качеств. Какое там ворчание, если для многих
русских Германия представала едва ли не землей обетованной, по
отношению к которой уместен разве что панегирик. Один из них
сложил в 1845 г. полковник Михаил Матвеевич Петров, вспоминая
вечно живое и радостное для него пребывание в Германии во время
заграничного похода русской армии 1813—1814 гг. Уже более тридца-
ти лет прошло с тех пор, как М. М. Петров покинул Германию, но
послушаем, каким энтузиазмом полны его слова об этой стране.
«О Великий Петр! О Александр Благословенный! В Германии
собирали вы добро житейское и, принося его в Россию свою, дарили
им верноподданных ваших, из Германии вызывали к нам споспешни-
ков сухопутных и морских побед наших и учредителей общежитель-
ного просвещения и разных мануфактурностей. При всяком виден-
ном там и вспоминаемом мною ныне здесь благоустройстве их народном
трепет отеческих сердец ваших, радевших России своей, отзывался
и отзывается звучно и в моей солдатской душе, любящей Отечество
более своей жизни. Воззрите же с небесного лона вашего, из обители
душ святых, и на сокрушение мое о том, что я не умел пожелать,
слышимо всем, виденного мною благоустройства германского любез-
ному моему Отечеству»1.
Полковник Петров не был очень образованным человеком, к тому
же его выспренный и несколько неуклюжий стиль сформировался
еще по меркам допушкинским и даже докарамзинским. Но в искрен-
ности Михаила Матвеевича сомневаться не приходиться. Германию
он принимал всей душой, цепко подмечая в своих воспоминаниях
все, что заслуживает признания и восхищения в Германии, и чего так
недостает России. Поистине для него Германия и учитель, и «спо-
спешник», и образец для Отечества. Своим простым и ясным взгля-
дом, без всяких затей и углублений в духовные материи, Петров
вглядывался в Германию и трезво судил о преимуществах ее образа
жизни и культуры.
И он был не одинок в своих суждения и оценках. Опыт 1813—
1814 гг. оказался очень сходным у многих русских офицеров, участ-
вовавших в войне с наполеоновской Францией. И Германия при-
влекала их при этом далеко не только прозаической стороной своей
повседневности. Свидетельство тому, в частности, знаменитое
'1812 год. С. 329.
478
Культура Петербургской России
Н. А. Дурова
Акварель К. Брюллова, 1830-е гг.
автобиографическое сочинение
Н. А. Дуровой, «кавалерист-деви-
цы», так восхищавшей А. С. Пуш-
кина. Дуровой, тогда подпоручику
Александрову, довелось закончить
войну с французами в Голшти-
нии, небольшой северо-германской
провинции, вовсе не самой живо-
писной, благоустроенной и куль-
турной в Германии. Но вот как
она прощалась с местом, где квар-
тировал ее полк: «Нет ни одного
из нас, кто бы радостно оставлял
Голштинию; все мы с глубочай
шим сожалением говорим „про-
сти" этой прекрасной стороне и ее
добродушным жителям. Велено
идти в Россию. Голштиния, госте-
приимный край, прекрасная стра-
на! Никогда не забуду я твоих
садов, цветников, твоих светлых
прохладных зал, честности и доб-
родушия твоих жителей! Ах, вре-
мя, проведенное мною в этом цветущем саду, было одно из счастли-
вейших в моей жизни...»1
Воспоминания Н. А. Дуровой о Германии преимущественно поэти
ческие; ее энтузиазм, однако, так же неизменен, как у бравого
служаки М. М. Петрова. Значит, самые разные струны в душе рус-
ского человека затрагивала Германия. Ее действительно принимали
всей душой и любили, несмотря ни на какое ворчание на русских
немцев.
Нельзя сказать, чтобы своим строем жизни Германия глубоко
воздействовала на Россию, слишком различны оставались две эти
страны и их народы. Но германская инаковость и «дополнитель-
ность» по отношению к России играли свою благотворную роль хотя
бы в том, что помогали русским людям уяснить самих себя, отдать
себе должное без национального бахвальства и самоуничижения.
Хотя в России случалось и то, и другое, но поверх этих крайностей
Германия все же виделась таким «немым укором», предостережением
и примером для русских людей. Франция, та ослепляла блеском
и великолепием своей (она же мировая!) столицы —Парижа. Он
виделся в прекрасной дали или же в него погружались с восторгом
и самозабвением. Однако на уровне житейской трезвости не исклю-
чением были подобные наблюдения: «Жителей Франции мы нашли
1 Избранные сочинения кавалерист-девицы Н. А. Дуровой. М., 1988. С. 217.
Петербургская Россия и Запад
479
несравненно на низшей степени образованности, нежели немцев,
а потому удивление почти всех наших офицеров, надеявшихся по
внушениям своих гувернеров найти во Франции Эльдорадо, было
неописанно при виде повсеместных в деревнях и в городах бедности,
неопрятности, невежества и уныния»1.
Вряд ли справедливым будет восприятие свидетельства А. И. Ми-
хайловского-Данилевского как строго фактичной объективной данно-
сти. Скорее речь у него о несбывшихся ожиданиях, о контрасте
предвосхищаемого по мере приближения к «центру мира» и того, чем
оказался в действительности этот центр. Франция для русских людей
очень часто была своего рода «страной святых чудес», Германия же
относительно близким соседом. К соседям ходят в гости, в страну же
«святых чудес» путешествуют, а еще лучше уносятся мечтами. Уви-
деть то, о чем мечтал, очень редко удается без разочарования, сосед
же еще как может удивить достоинствами и преимуществами устрое-
ния своей жизни.
***
В своей ориентации на Германию Россия неизменно выделяла
среди других германских государств одно и то же государство —
Пруссию. На первый взгляд, ближе ей должен был бы быть опыт
Австрии. Австрийские государи на протяжении столетий обладали
императорским титулом, став в этом отношении примером для рос-
сийских государей. К тому же Австрия, как и Россия, была огром-
ным многонациональным государством, между прочим, как и Рос-
сия, утверждавшим свое имперское величие в многочисленных войнах
с Турцией. И тем не менее австрийское влияние на Россию ограничи-
валось главным образом сферой придворной жизни. При всей фран-
кофилии русского двора и дворянства двор австрийских Габсбургов
не мог не вызывать у них восхищения своей древностью, устойчиво-
стью, пышностью и утонченностью своего этикета. Тем более с конца
XVIII в., когда рухнула королевская власть во Франции.
Далее придворных форм и обыкновений дело, однако, не шло
ввиду того, что за видимым сходством между двумя империями
скрывались более глубокие и фундаментальные различия. Состояли
они помимо прочего в том, что Австрия была страной не просто
многонациональной, но и такой, в которой не было некоторой преоб-
ладающей национальной основы. Конечно, во всех сферах жизни,
безусловно, преобладали немцы (тогда еще между немцами и авст-
рийцами было соотношение целого и части, скажем, как между
немцами и баварцами, саксонцами, швабами, франконцами). Но их
преобладание создавало более или менее надежные скрепы в государ-
стве, где немцы оставались в меньшинстве. И потом, Австрия как
государство никогда не была единым. Ее государи помимо импера-
1 Михайловский-Данилевский А. И. Мемуары. 1814—1815 гг. СПб., 2001. С. 28.
480
Культура Петербургской России
торской короны возлагали на себя еще и корону венгерских королей,
были королями Богемии, эрцгерцогами австрийскими, герцогами
Штирии, Каринтии, Крайны, маркграфами Моравии и т. д.
При всей централизаторской устремленности Габсбургов, их ори-
ентации на онемечивание венгров или славян, реально они вынужде-
ны были лавировать в многообразии составлявших их государство
стран и народов. В результате Австрия была почти совсем лишена
такой существенной для России почвенности и патриархальности.
Даже подчеркнутая католичность Австрии носила космополитиче-
ский, а не национальный, как у нас, характер. Ставший знаменитым
и одиозным в XIX в. лозунг: «Самодержавие. Православие. Народ-
ность»—для австрийских Габсбургов даже при переиначивании вто-
рой его части на «католицизм» все равно подлежал сокращению на
одну треть: «народность» была бы разрушительна и гибельна для
австрийской империи. Она оставалась не только наднациональной,
такова всякая империя, но еще и космополитичной, чего никак не
скажешь о Российской империи.
По существу, для Австрии решающее значение имел династиче-
ский принцип. Она была государством Габсбургов. Исчезни эта
династия, рассыпалась бы на составляющие части и империя. Ника-
кого подобия нашего Земского собора 1612 г., избравшего на царство
Михаила Федоровича Романова, в Австрийской империи предста-
вить себе невозможно. Здесь не страна выдвигала свою династию,
а династия создавала страну и удерживала ее в единстве. Оно дости-
галось как военными, так, в особенности, дипломатическими усилия-
ми Венского кабинета. Он весь был в заботах как внешнеполитиче-
ских, так и военных. Внутреннее же устроение держалось на двух
китах: лояльности разнонациональной, но в значительной степени
космополитически настроенной аристократии и австрийского чинов-
ничества. Последнее успешно дополняло Габсбургскую династию
и представительствовало за нее в провинциях империи. Очевидно,
что подобный опыт государственности мало применим к России
и мало что говорил уму российских государей и их окружения.
Иное дело опыт Пруссии. Опять-таки, на первый взгляд, Прус-
ское королевство образовывало собой полную противоположность
Российской- империи. К их противопоставлению толкают уже очень
скромные размеры Пруссии и непомерная громадность территории
России. Сопоставлять их количественно нет смысла, они находятся
в измерениях различного порядка. Что касается численности населе-
ния, то в начале XVIII в. оно отличалось в 8—10 раз в пользу России.
Но и позднее, вплоть до объединения Германии, население Прусско-
го королевства было минимум в четыре раза меньше, чем в Россий-
ской империи. Некоторое сходство между двумя державами обнару-
живается, правда, в том, что обе они приблизительно одновременно
к началу XVIII в. становятся величинами общеевропейской значимо-
сти, а в середине того же столетия как Россия, так и Пруссия уже
Петербургская Россия и Запад
481
великие европейские державы,
расширившие их круг с трех
(Франция, Англия, Австрия) до
пяти стран. Эта великодержавная
пятерка так и будет существовать
и задавать тон в Европе, а значит,
и во всем мире вплоть до Первой
мировой войны. С той только
коррективой, что в 1870 г. Прус
сия объединит Германию и в из-
вестном смысле станет действи-
тельно Германией. До этого же
времени и в большей степени
в XVIII в., особенность положения
Пруссии в Европе состояла в том,
что она более или менее успешно
играла роль великой державы, не
имея для этого достаточных осно-
ваний. Ее размеры были таковы,
что Пруссии гораздо естественней
было бы оставаться относительно
крупным и значимым государ-
ством, но никак не великой дер-
Клятва в вечной дружбе прусского ко-
роля Фридриха Вильгельма и Алексан-
дра I у могилы Фридриха Великого
в присутствии королевы Луизы
Гравюра В. Мейера по картине Ф. Кашеля
жавой.
К великодержавию Пруссию
подтолкнул ее самый значитель-
ный за всю прусскую историю ко-
роль Фридрих Великий (правил
с 1740 по 1786 г.). В его царство-
вание Пруссия действительно стала великой державой и уже никогда
не теряла своих великодержавных позиций, если не считать краткого
промежутка времени между 1806 и 1815 гг. Однако при всей значи-
тельности и даже решающем характере Фридрихова вклада в прус
ское великодержавие, предпосылки для него были заложены гораздо
ранее. Начиная со второй половины XVII в. курфюршество Бранде-
бург, а с 1701 г. королевство Пруссия все жилы из себя тянули,
чтобы стать как можно более значительным государственным образо-
ванием. На этом фоне Россия производит впечатление беззаботного
баловня судьбы, которому счастье само идет в руки. Какой бы
непоследовательной, беззаботной, случайной ни была бы политика
российских монархов и их правительств после Петра Великого,
Россия неуклонно набирала очки, постоянно увеличивала свои раз-
меры и свое влияние в Европе. На ее фоне Пруссия это сама
последовательность, методичность и расчетливость.
Но вот ситуация, начиная со второй половины XVIII в., почему -
то начала складываться таким образом, что Пруссия постепенно
482
Культура Петербургской России
приобретала все большее значение для российской государственно-
сти. Первым русским государем-пруссофилом, и не просто пруссофи-
лом, но и пламенным поклонником Пруссии, был незадачливый
Петр III. С его свержением, казалось, прусские симпатии навсегда
ушли в прошлое. Однако в лице сына Петра III, императора Павла I
мы видим еще одного рьяного поклонника Пруссии. Ну, а далее
прусская ориентация проявлялась последовательно у одного россий-
ского императора за другим: Александра I, Николая I, Александра II.
Понятно, что речь идет не о следовании в фарватере прусской
политики (подобное было возможно только у неадекватного и не
вполне вменяемого Петра III), для этого Россия была слишком
могущественна и в свою очередь способна задавать тон в отношениях
с Пруссией. Между тем странным образом гораздо менее великодер-
жавная по сравнению с Россией Пруссия привлекала своей государ-
ственностью российских государей и их окружение настолько, что
в ней нередко готовы были усматривать достоинство образца. Восхи-
щала прежде всего прусская армия, ее организация, обучение, уни-
форма, тактика полководцев, военные теоретики, но также система
государственного управления в Пруссии.
Казалось бы, в этом не было никакого смысла, уж очень несхожие
страны и государства—Россия и Пруссия. И потом, страна ли по-
следняя или только государство, это еще вопрос. Россия, вот она,
действительно, страна со своим русским народом и своей государст-
венностью. А Пруссия—явно понятие собирательное. Ведь Бранде-
бург, Померанию, Восточную Пруссию, а тем более рейнские про-
винции и Силезию объединяло что угодно, только не длительное
пребывание в составе одного государства, не сходство хозяйственно-
го развития и образа жизни населения. Поверх всяческих различий
Пруссию скрепила и интегрировала ее армия, бюрократия и династия
Гогенцоллернов. Не будь одной из этих трех составляющих или
ослабни одна из них, и Пруссия исчезла бы с карты Европы. Она
сохранялась «усильным, напряженным постоянством», а иногда
и судорожными усилиями своих государей, армии и бюрократии.
Что же в таком случае влекло почвенную Россию к такой беспочвен-
ной Пруссии?
Думаю, в первую очередь то, что Россия, ее государственные
деятели, военные и чиновники видели в Пруссии такую недостаю-
щую им волю к форме, к порядку, строю и выстроенности. У русских
людей еще в XVII в. почва исчезала под ногами, устойчивость старо-
московского быта стала проблематичной. XVIII же век принес Рос-
сии такую ломку и переориентацию вековых устоев, которые сильно
отдавали самоотречением, да во многом ими и были. Россия в XVIII в.
как будто начинала себя заново, с чистого листа. Во всяком случае,
так видели ситуацию Петр Великий и очень многие другие русские
люди, чьими усилиями создавалась новая, повернувшаяся лицом
к Западу, Россия. Вроде бы в XVIII в. Руси-России было уже более
Петербургская Россия и Запад
483
Смотр гвардейских частей на Дворцовой площади
Неизвестный художник. 1810-е гг.
семи столетий, и в то же время она как будто внезапно откуда-то
взялась, возникла из ничего.
Очень по-своему, но и Пруссия тоже выглядела внеисторическим
образованием, таким же искусственным, волей и починами своих
государей и их сподвижников созданным государством. Прусские
короли могли сколько угодно ссылаться на своих потомков и предше-
ственников- Бранденбургских курфюрстов из той же самой дина-
стии Гогенцолернов. Однако гогенцолерновский Бранденбург XV—
первой половины XVII в. очень мало общего имел с Бранденбур-
гом—Пруссией второй половины XVII—XIX вв. Не больше, чем
Московская Русь с Петербургской Россией. Даже Берлин, в отличие
от Петербурга берущий свое начало в XIII в., не так уж отличен от
новой столицы Российской империи. По существу, он, как и Петер-
бург, создавался заново державной волей прусских королей уже
в XVIII в. Оба они в XVIII в. были городами резиденциями госуда-
рей с очень многочисленным населением, состоящим из войска и чи-
новников. Прежде всего, конечно, войска, чье первенствующее при-
сутствие в одном и в другом случае давало о себе знать парадами,
разводами, караулами, всякого рода воинским церемониалом.
Без всякого сомнения, в милитаризации Пруссия зашла значитель-
но дальше, чем Россия. Пруссия —это прежде всего армия. Ее чис
ленность по отношению к численности населения в XVIII в. не имела
прецедентов в Европе. На тысячу жителей Пруссия содержала солдат
в постоянной армии в несколько раз больше, чем Франция, Австрия
или Россия. Особенно при королях Фридрихе Вильгельме I и Фрид-
рихе Великом. Нигде офицеры не выделялись королевской властью
484
Культура Петербургской России
Парад на оперной площади Берлина
Ф. Крюгер, 1824—1830
и не пользовались таким почетом, как в Пруссии. Побывавший
в Берлине в 1786 г граф Ф. В. Ростопчин отмечал: «Принцы импе-
рии, генералы и полковники имеют лишь право быть за столом
с королем и королевою»1. Принцами империи он называет владетель-
ных князей Германской империи, к которым, в частности, относи
лись и прусские короли в качестве курфюрстов Бранденбурга. Посто
янно в Берлине проживали лишь те из них, кто находился на службе
у прусской короны. Таковых были единицы. Так что почет, оказы
ваемый старшим и высшим офицерам прусской армии, был большим,
чем местной аристократии.
Такой вознесенности собственных старших офицеров и генералов
в России не было. Здесь над ними первенствовали вельможи и фаво-
риты. И все же культ военных и воинской службы был близок
и понятен многим в России. В отличие от Пруссии, Россия не была
насквозь милитаризованной страной, условием и базисом существо
ванпя армии. В прусском опыте ее привлекала отлаженность военно-
го механизма, его структурность, определявшая собой выстроенность
всей прусской государственности. Преодолеть свои русские хляби за
счет воинской строгости, четкости, исполнительности и дисципли
ны — всего того, что было так полно представлено в Пруссии, — в этом
был соблазн для российской государственности, виделся выход из
многочисленных затруднений и неустройств.
Наше русское пруссачество традиционно осуждается или даже
высмеивается в отечественной историографии. И действительно, мо-
жет быть, оно не слишком привлекательно. Однако по ту сторону
1 Ростопчин Ф. В. Ох, французы! М., 1992. С. 31.
Петербургская Россия и Запад
485
всяких оценок, неудовольствий и насмешек в нем нельзя не увидеть
не просто каприз, чудачество, необъяснимое предпочтение россий-
ских императоров и их приближенных и не пагубное влияние рус-
ских немцев, а некоторую внутреннюю обязательность и необходи-
мость. Чтобы ощутить ее, нужно обратить внимание на то, в каком
историческом контексте формировалось тяготение к Пруссии, чему
оно противостояло. И тогда окажется, что первоначально пруссачест-
во было альтернативой таким реалиям, как фаворитизм, вельможест-
во, патриархальность и просто расхлябанность, безответственность,
растерянность.
Совсем не случайно, скажем, фигуры фаворита и вельможи в выс-
шей степени характерны для царствований Елизаветы Петровны
и Екатерины II. Но их практически никогда не было в Пруссии,
и они стремительно исчезают при российских императорах, увлечен-
ных пруссачеством. Уже Павел I сильно подрезал вельможество за
счет опалы екатерининских вельмож, а также того, что в собственных
выдвиженцах видел прежде всего верных и исполнительных слуг.
Правда, в фигуре графа Кутайсова сохранялись черты фаворитизма,
так же как у Нелидовой и Лопухиной. Но по влиянию на государст-
венные дела, по щедротам в отношении их они не шли в сравнение
с екатерининскими фаворитами-временщиками.
При следующем государе Александре! более или менее благо-
получно в почете доживают свой век прежние екатерининские вель-
можи, фаворитов и фавориток же больше не возникает, хотя, ска-
жем, графа А. А. Аракчеева и можно принять за фаворита, но это
было бы ошибкой и недоразумением. По той власти, которая была
сосредоточена в его руках, Аракчеев не уступил бы, наверное,
многим елизаветинским и екатерининским фаворитам. Но был при
этом «серым кардиналом», успешно игравшим роль простого, без
затей и преданного без лести «царского слуги». И как бы мы ни
относились к деятельности Аракчеева (а приветствовать ее очень
трудно), ему нельзя отказать во вполне чуждых фаворитам и вельмо-
жам работоспособности, каждодневной погруженности в большие
и малые дела по управлению империей, наконец, в профессионализ-
ме, по крайней мере, по артиллерийской части. Вся жизнь Аракчеева
несмотря ни на какое благоволение Александра I, была труд и посто-
янство, он и был нужен государю в качестве ломовой лошадки.
С фаворитами же и вельможами государи делят досуги, представи-
тельствуют на празднике жизни и только потом и отсюда проистекает
их власть и влияние.
Ничуть не более фаворитизма и вельможества сочеталась с прусса-
чеством патриархальность. И на этот раз не случайно она начинает
изживаться у государей пропрусской ориентации. Павел I в подража-
ние Фридриху Великому изо всех сил изображал из себя первого
солдата империи. В нем решительно ничего не было от царя-батюшки
в продолжение царицы-матушки Екатерины. Когда Павел I, скажем,
486
Культура Петербургской России
играл в великодушие, стремился быть великодушным или действи-
тельно был им, на передний план у него выходили рыцарские черты
соотнесенности со своими подданными не как с детушками, а как со
взрослыми, ответственными за свои поступки людьми чести, с досто-
инством и в свободе служащими своему государю. Павловские при-
ступы деспотизма, дикого и невменяемого произвола—это тоже вовсе
не отцовский гнев на детей, а ярость господина на нерадивых слуг.
Кому-то, и не без основания, переход от фаворитизма и вельможе-
ства к пруссачеству с неотрывным от него моментом солдафонства,
покажется движением по логике «из огня да в полымя», от одной
прискорбной крайности к другой. Между тем дело здесь не в оценках
и приговорах, а в том, прежде всего, что Россия в XVIII, на переходе
к XIX и в XIX в. оставалась страной—государством и в гораздо
меньшей степени—страной—обществом. Русская общественность была
слишком неразвита и даже зачаточна, чтобы служить действенным
ограничителем императорской и в целом государственной власти.
Как прусское в XVIII в., так и наше русское в XVIII и XIXвв.
пруссачество явились выражением попытки рационализации системы
власти, доведения ее до последней четкости принятия и исполнения
властных решений.
Очень понятно, почему в таких странах, как Франция и особенно
Англия никаких поползновений на пруссачество или его националь-
ный эквивалент и заместитель не было. Обе эти страны уже в XVIII в.
знали развитое общество, с которым в очень значительной степени
считалось и не могло не считаться государство. Во Франции и Анг-
лии какое-либо поползновение на пруссачество неизбежно восприни-
малось бы в качестве деспотических действий по ограничению прав
и свобод французов и англичан. Даже для Франции принимать
армию за образец государственного устройства противоречило бы
всему духу французской государственности и культуры. Об Англии
нечего и говорить. В ней военная служба в XVIII и XIX вв. не
пользовалась особым престижем и оставалась малопривлекательной
для английской аристократии. Она предпочитала утверждать себя
через карьеру в парламенте и правительстве, солдатский дух ей был
вполне чужд и ассоциировался с представителями более низких
социальных групп.
Прусская же, так же как и российская аристократия как раз
и стремилась в XVIII—XIX вв. прежде всего к военной и военно-
придворной карьере. Достичь военных чинов, сделать себе имя и тем
более прославиться на военном поприще было для них делом чести.
Не забудем только, что там, где честь, там и свобода. И этой свободы
вовсе не были всецело чужды те, кто был носителем пруссачества на
военной, а частью и на гражданской службе. Только это была
свобода не утверждающая себя в соответствии с собственными пред-
почтениями индивидов, такая близкая англичанам, а свобода самоог-
раничения, долга и принятия высшей воли августейших особ.
Петербургская Россия и Запад
487
* * *
Наиболее очевидное и многократно привлекавшее исследователей
влияние германской культуры на русскую культуру Петербургского
периода касается литературы и философской мысли. Но если рус-
ская литература не менее чем германской, обязана еще и француз-
ской и английской литературе, то воздействие на нашу философскую
мысль германской философии по широте и интенсивности совершен-
но исключительно. Оно простиралось так далеко, что философски
образованные люди и тем более те из них, кто философствовал,
вместе с немцами поочередно бывали шеленгианцами и гегельянца-
ми, последователями Шопенгауэра и Ницше. Даже такие второсте-
пенные германские философы, как Л. Фейербах или Э. фон Гартман,
находили в России горячих сторонников, становившихся фейербахи-
анцами или гартманианцами, если не навсегда, то все же бурно
переживавшими увлечение своими философскими кумирами. До не-
которой степени верным будет утверждение о том, что множество
русских людей не только получали философское образование в гер-
манских университетах, но и наряду с самими немцами составляли
философскую публику для очередного сколько-нибудь значимого
германского философа.
Такова была ситуация большую часть XIX и начала XX в. Но если
бы русские люди с выраженными философскими интересами остава-
лись всего лишь читателями и учениками своих германских учителей,
то, может быть, и не стоило говорить об этом при характеристике
русской культуры Петербургского периода. Ситуация, однако, скла-
дывалась таким образом, что философские доктрины германских
мыслителей не просто усваивались в России. Реакция на них была
очень своеобразной, трансформировавшей германские философские
построения совсем в другом, чем первоначальный, духе. Русское
увлечение Шеллингом не только порождало стремившихся быть
правоверными шеллингианцев, но и в решающей степени стимулиро-
вало возникновение славянофильства, которое уже ни к какому
шеллингианству не сведешь. Увлечение Гегелем также приводило
к достаточно неожиданным последствиям, далеко выходившим за
пределы всякого гегельянства. Без усвоения Гегеля, скажем, совер-
шенно невозможно себе представить построения крупнейшего рус-
ского мыслителя XIX в. В. С. Соловьева, которые и философией-то
в точном смысле слова не были.
А вот с Шопенгауэром ситуация сложилась еще более неожидан-
ная. Перевел его основной труд «Мир как воля и представление»
вовсе не какой-нибудь профессиональный философ, как этого можно
было ожидать, а большой русский поэт А. А. Фет. Но настоящее
увлечение Шопенгауэром, сказавшееся на его творчестве, пережил не
только Фет, но и его близкий друг Л. Н. Толстой. Один из его
главных романов «Война и мир» написан под явным влиянием
Шопенгауэра. Без усвоения шопенгауэровской концепции воли к жиз-
488
Культура Петербургской России
ни как первоосновы всего сущего иным было бы и толстовское
понимание мира в его целом, и разработка характеров персонажей
романа. Так, смерть князя Андрея Николаевича Болконского, так же
как и возвращение к жизни после его смерти Наташи Ростовой,
прописаны прямо по—шопенгауэровски. Не думаю, чтобы роман от
этого выиграл как художественное произведение, но такой, какой он
есть, он во многом обязан Шопенгауэру. Если пойти дальше, то
можно упомянуть и о таком факте русской культуры и словесности,
как интерпретация творчества Л. Толстого и Ф. Достоевского в духе
произведений Ф. Ницше. Они не были у Д. С. Мережковского
и Л. Шестова чисто ницшеанскими, но без опыта чтения и осмысле-
ния Ницше книги о Толстом и Достоевском упомянутых авторов не
были бы тем, что они есть.
Между тем, констатируя связь русской мысли и русской словесно-
сти с германской философией, зависимость от нее, необходимо до-
полнить констатацию подобного рода указанием на фундаментальное
различие между русским и германским умом, свойственных русским
и немцам исходных и основоположных самоощущения и мироотно-
шения, той системы координат, в которой ориентируются одна и дру-
гая национальные культуры. Нечто самоочевидное и глубоко спря-
танное под спудом из самого жизненно важного и первичного у одного
и другого народов очень отличны. Чтобы как-то пояснить сказанное,
обратимся к характерному для русских и немцев восприятию про-
фанного и сакрального, человека в соотнесенности с Божественным
и далее с другим человеком.
Обращение к германской мысли, как минимум, в промежутке
между XIV и XX вв. на уровне богословия и философии, рациональ-
ных конструкций и мистических созерцаний открывает очень сходную
в одном существенном отношении картину. И у Майстера Экхарта
(XIVв.), и у Мартина Лютера (XVI в.) и у Якоба Беме (XVII в.),
и у Гегеля (XIX в.), и у других немецких мыслителей так или иначе
утверждается единоприродность Бога и человека, непризнание суще-
ствующей между ними онтологической пропасти. Иными словами,
германские мыслители и визионеры, несмотря ни на какой свой
христианский опыт, очень мало чувствительны к тварному естеству
человека, к тому, что он сотворен предвечным Богом из ничего. Вне
зависимости от соответствующих деклараций у богословов и прямых
утверждений у философов в соответствии с духом их доктрин чело-
век в своем глубочайшем существе, в своей подлинной сущности
совпадает с Богом. В человеке есть собственно человеческое естество
(оно преходяще, поверхностно, мнимо) и есть Божественная приро-
да. При этом задача человеческого обужения или философский его
эквивалент — постижения истины, мыслятся как обнаружение в себе
Бога. В зависимости от места и времени оно может трактоваться как
некоторая богодухновенность, наполненность присутствием в челове-
ке Бога (Лютер) или как пребывание человека в сфере чистого
Петербургская Россия и Запад
489
мышления, преодолевающего менее адекватные выражения абсолют-
ного духа (Гегель).
Возможны и другие варианты соотнесенности Божественного и че-
ловеческого. Но они, как правило, являются вариациями на одну
и ту же тему глубинного онтологического тождества между Богом
и человеком, отсутствия между ними бытийственной дистанции. В об-
щедоступном варианте эта тема звучит, скажем, в словах гетевского
Фауста, обращенных к Маргарите. В ответ на ее сомнение по поводу
его религиозности, Фауст отвечает Маргарите:
...Глаза в глаза тебе сейчас
Не я ль гляжу проникновенно,
И не присутствие ль вселенной
Незримо явно возле нас?
Так вот, воспрянь в ее соседстве,
Почувствуй на ее свету
Существованья полноту
И это назови потом
Любовью, счастьем, божеством.
Нет подходящих соответствий,
И нет достаточно имен,
Все дело в чувстве, а названье
Лишь дым, которым блеск сиянья
Без надобности затемнен1.
При всей приблизительности пастернаковского перевода гетевских
строк, он удерживает самое главное. Отсутствие у Фауста какого-
либо намека на личностное представление о Боге. Для него Бог—это
«существованья полнота», обретаемая человеком. В нем есть все, что
угодно, только не момент предстояния, обращенности тварной лично-
сти человека к абсолютной личности Бога. По Фаусту, и Бог не
личность, и человеку не в личностном измерении своего бытия
открывается Богоприсутствие. Оно в такой же мере внешняя ему
реальность, как и внутреннее состояние человеческой души. Божест-
венность неуловима и неопределима, у нее разве что условные
обозначения. В соответствии не только с гетевским Фаустом, но
и с германской мистической традицией, которой вовсе не чужда
и германская философия, божественность превосходит самого Бога,
она глубже, существенней, изначальней. Для Фауста церковная вера
Маргариты в Господа Иисуса Христа, почитание Богоматери, молит-
ва,—все это слишком просто, наивно, детски—простодушно.
До известной степени и русская философская мысль усматривала
в христианстве, которого она на словах, как правило, крепко держа-
лась, ситуацию Маргариты. Русской философией, явно под мощным
воздействием германской мысли, христианство воспринималось ме-
1 Гете И.-В. Собр. соч. в 10 т. Т. 2. М., 1976. С. 133 (далее: Гете).
490
Культура Петербургской России
нее всего в соответствии с догматикой или живым опытом церковной
жизни. Обыкновенно, русская мысль претендовала на такого рода
религиозные искания, в которых Бог виделся если не прямо в фау-
стовском духе, то все же так же мало соответствующим церковной
доктрине.
Для русской мысли очень характерно то, что три ее крупных
представителя, какими в XIX в. был В. С. Соловьев, а в XX в.
о. Павел Флоренский и о. Сергий Булгаков, стали создателями так
называемой русской софиологии. Несмотря на соответствующие дек-
ларации в христианском духе, каждый из упомянутых мыслителей
тяготел к конструированию реальности очень сомнительной с пози-
ций христианского вероучения. Для каждого из них София, она же
вечная женственность и Мировая Душа, была конкретным выраже-
нием разделявшегося ими принципа всеединства.
Собственно говоря, и фаустовское обращение к Маргарите—это
тоже слова о всеединстве, одна из актуализаций установки в его духе.
И совсем не случайно свое грандиозное творение Гете завершает уже
прямо софиологическими строками:
Все быстротечное—
Символ, сравненье.
Цель бесконечная
Здесь—в достиженье.
Здесь—заповеданность
Истины всей.
Вечная женственность
Тянет нас к ней1.
Гетевский Фауст—«софиолог» в его определяющем жизненном
устремлении. Софию—вечную женственность—он ищет и на время
обретает и в Маргарите, и в Елене и, наконец, опять в Маргарите. Но
уже мистически преображенной и обнаруживающей себя сущест-
вом—смысловым, бытийственным центром всего сущего.
Не в том, разумеется, дело, что русские мыслители находились
под определяющим воздействием гетевского «Фауста». Подобное,
как раз, вероятно менее всего. И все же коренная германская
интуиция о сквозном единстве всего сущего и, в частности, о глубин-
ном совпадении божественного и человеческого, отсутствии онтоло-
гической пропасти между ними определила собой нашу отечествен-
ную софиологию, которая в образе-мифологеме Софии искала именно
некоторую фундаментальную реальность по ту сторону разделения
между божественным и тварным (в частности, человеческим).
Ее поиски были тем более странными и противоречивыми, что
русской культуре дано восприятие первореальности в ее соотнесенно-
1 Гете. С. 440.
Петербургская Россия и Запад
491
сти с человеческим как интуиция, в своей основе личностная. Об
этом свидетельствуют и русская икона, и русский храм, в XIX же
веке—русская литература. В соответствии с господствовавшим духом
новоевропейской культуры последняя менее всего была обращена
к личностной первореальности Бога. Ее касались и в первую, и во
вторую, и в третью очередь отношения между людьми и внутренний
мир человека. Но в этих реалиях личностное начало проявилось
с невиданной ранее глубиной и силой, а главное, безупречно точной
и тонкой чувствительностью к нему. В русской литературе человек
в обращенности на себя и другого предстает как личность в ее
несводимости ни к каким замещениям: социальным или естественно-
природным, рассудочно-схематичным или неопределенно-мистиче-
ским. Но если это так, то русская литература не могла не опираться
на опыт христианства, с которым в культуру и пришло личностное
измерение реальности в качестве фундаментального и первобытийст-
венного. В русской литературе, а в ее лице и всей русской культуре
XIX в. истина о личности была явлена гораздо полнее и последова-
тельней, чем в германской. Парадокс, однако, состоит в том, что это
обстоятельство не стало препятствием для появления в русской
мысли соответствующих направлению германского духа построений
в духе всеединства и софиологии. В итоге русская мысль оказалась
реальностью не только бесконечно уступающей русскому художест-
венному слову. Она внесла в русскую культуру момент неразреши-
мой противоречивости и путаницы. Органичное для немца не стало
таковым для русского.
Чтобы сделать более внятным изложенные соображения слишком
общего и конспективного характера в очень ограниченном простран-
стве текста, наверное, лучше всего будет обратиться к тому же
самому гетевскому «Фаусту» в сопряжении одной из его смысловых
линий с соответствующей смысловой линией русской литературы.
Речь у нас пойдет о любви Фауста к Маргарите, точнее же, об одном
ее неустранимом моменте, выраженном в эпизоде пребывания нашего
героя в комнате возлюбленной. Проникнув туда по наущению Мефи-
стофеля с целью оставить в ней подарок для Маргариты, Фауст
останавливается у полога ее кровати и открывает полог. Далее же
предоставим слово самому Фаусту.
...Я весь охвачен чудной дрожью.
Часами бы стоял я здесь один,
На ложе глядя и на балдахин,
Где созданный природой ангел Божий
Сначала развивался, как дитя,
И подрастал, играя и шутя,
И вдруг, созрев душевно и телесно,
Стал воплощеньем красоты небесной...1
1 Гете. С. 102.
492
Культура Петербургской России
Нам, русским людям, приведенная цитата из «Фауста» не может
не напомнить эпизода из совсем другого произведения, на этот раз из
пушкинского «Евгения Онегина». Да, конечно, эпизод посещения
Татьяной сельского дома, где до своего отъезда в Петербург жил
Онегин. Вот она, прямо-таки по-фаустовски, входит в спальню
Онегина:
Татьяна взором умиленным
Вокруг себя на все глядит,
И все ей кажется бесценным,
Все душу томную живит
Полумучительной отрадой:
И стол с померкшею лампадой,
И груда книг, и под окном
Кровать, покрытая ковром,
И вид в окно сквозь сумрак лунный,
И этот бледный полусвет,
И лорда Байрона портрет,
И столбик с куклою чугунной
Под шляпой с пасмурным челом,
С руками, сжатыми крестом1.
Как будто не так уж между собой отличаются ситуации Фауста
в комнате Маргариты и Татьяны в комнате Евгения. Внешнее отли-
чие между ними всего-то навсего—различие элементов, образующих
симметрию. В одном случае влюбленный посещает спальню люби-
мой, в другом влюбленная—спальню любимого. Между тем, какая
огромная разница, если брать ее по существу. О Татьяне в комнате
Онегина, читая соответствующий эпизод из Фауста, только и можно
вспомнить, сразу же убедившись в контрастной противоположности
ситуаций. Одно дело юная, мечтательная, трогательно наивная де-
вушка в комнате не по-провинциальному блестящего, а для Татьяны
еще и таинственного светского льва—Евгения, и совсем другое,
в отличие от нашей героини, тайное проникновение зрелого, умуд-
ренного познаньем и сомнением Фауста в спальню еще очень юной,
пожалуй, еще более простодушной, чем Татьяна, девушки.
Вчитаемся внимательно в пушкинские строки и мы отдадим долж-
ное их целомудрию. В них онегинская кровать никакой центральной
и вообще особо значимой роли не играет. Татьяне в спальне Евгения
менее всего приоткрывается завеса тайных нег и возможных наслаж-
дений (подобное как раз по части сомнительной умиленности Фау-
ста). Ее жадному взору предстают прежде всего внешние знаки
внутренней жизни Онегина, такой пока недоступной и таинственной
для Татьяны. Душа Татьяны распахнута навстречу душе Евгения,
жаждет встречи и соединения с ней. Это дальше далекого от душев-
1 Пушкин А. С. Собр. соч. в 10 т. Т. 5. М., 1957. С. 148.
Петербургская Россия и Запад
493
ных движений Фауста. Последний в комнате Маргариты находится
в ситуации не просто сомнительной и непристойной, она еще и спо-
собна вызвать у читателя ощущение недоуменной брезгливости. И как
это можно исходить чувственностью и чувствительностью у кровати
возлюбленной, куда тебя, такого осанистого и представительного
мужа никто не звал и никогда бы не допустил?!
Положение, в которое Фауст попадает, стало следствием его
исходного, а потом так и не преодоленного отношения к Маргарите.
К ней он устремлен как бы сквозь саму Маргариту, взглядом с ней
Фауст никогда не встретится, разве что погрузится в бездонное
блаженство Маргаритиных очей. Впрочем, дна он все же достигнет,
упьется и насытится блаженством, которое обретет в ней. Отсюда
такая растерянность и даже раскаяние Фауста. Все, что угодно,—
только не прозрение в Маргарите личности, встреча с ее душой,
отдача себя Маргарите и обретение себя же в ней. Все то, к чему
стремится пушкинская Татьяна, так чуждо Фаусту: чистоту, невин-
ность, целомудрие, грацию Маргариты Фауст стремится вобрать
в себя. Он с восторгом припадает к тому, что еще не есть Маргарита.
Как таковая, как личность, Маргарита не сводима к тем бурным
и сладостным впечатлениям, которые она производит на Фауста.
Татьяна Ларина могла сколько угодно фантазировать по поводу
Евгения Онегина, намечтать такое, чего в нем не было в помине. Она
продиралась к нему сквозь самые, какие только могут быть, романти-
ческие штампы, смешные и безжизненные схемы («кто ты, мой ангел
ли хранитель или коварный искуситель?»), но самое главное и суще-
ственное жило в ней твердо и неколебимо. Евгений всегда был для
Татьяны живой личностью, к которой не припадают в восторге
и с которой расстаются со временем и неизбежно. Для Татьяны так
же естественно отдать себя Евгению, как и «получить» от него то, что
так влечет Татьяну в Евгении. Если же договаривать до конца, то
любовь Татьяны в своей сути осуществляется по ту сторону фаустов-
ского «возвышенного солипсизма», она действительно есть любовь,
а не любовное томление только, тем более не эротическое влечение,
погруженность в свои чувства, завороженность ими. Вспомним, с ка-
кой безоглядной решимостью Татьяна пишет свое письмо к Онегину.
В нем первично самораскрытие, ждущее встречного движения души
любимого человека. Как раз то, что и в голову бы не пришло Фаусту.
Ему ли, умудренному и разочарованному, раскрывать себя простуш-
ке Гретхен? Иное дело, обрести в ее очаровательной простоте и яс-
ности гармонию собственной душевной жизни.
Нельзя сказать, что отношения Фауста и Маргариты вовсе лише-
ны были личностного начала. Но их странность в том, что личностью
в любовном дуэте оказывается именно Маргарита. Именно она раз-
рывает круг, в который вовлек ее Фауст. Круг безответственных
чувствований и самозабвения. Разрывает своим отказом бежать из
темницы с Фаустом и готовностью принять кару за совершенное ею
494
Культура Петербургской России
преступление. Очевидно, что не в любви, не благодаря встрече
с Фаустом происходит собирание Маргариты в личность, а вопреки
им. И потом, личностью Маргарита становится в самый канун своей
гибели и в самом процессе распада своей личности. Личность в Мар-
гарите прорастает сквозь безумие, она всего лишь один из полюсов
душевной жизни, не выдержавшей жизненных испытаний души.
Если бы любовь Фауста к Маргарите, ее своеобразие было бы
своеобразием гетевского художественного и жизненного опыта, на-
шедшего выражение в «Фаусте», то нечего было бы и обращается
к нему. Аргументом в пользу того, что у нас речь идет не об
исключении, а правиле, послужит обращение к еще одному очень
известному германскому тексту. На этот раз к опыту XX в., роману
Т. Манна «Волшебная гора». Любовная тема в нем выражена отно-
шениями главного героя Ганса Касторпа с Клавдией Шоша. Во всей
этой любовной линии ключевым моментом стало пространное при-
знание в любви героя, долгое время не решавшегося открыть героине
свое чувство. «О любовь, ты знаешь... тело, любовь, смерть—они
одно,—говорит Ганс Клавдии, стоя перед ней на коленях,—ибо
тело—это болезнь и сладострастие, и оно приводит к смерти, оба они
чувственны, смерть и любовь, вот в чем их ужас и их великое
волшебство... Какое безмерное блаженство ласкать эти пленительные
участки человеческого тела! Блаженство, от которого можно умереть
без сожалений! Да, молю тебя, дай мне вдохнуть в себя аромат твоей
подколенной чашки, под которой удивительная суставная сумка
выделяет скользскую смазку! Дай мне благоговейно коснуться уста-
ми твоей almeria femoralis, которая пульсирует в верхней части бедра
и, пониже, разделяется на две артерии tibia. Дай мне вдохнуть
испарения твоих пор и коснуться пушка на твоем теле, о человече-
ский образ, составленный из воды и альбулина и обреченный мышеч-
ной анатомией, дай мне погибнуть, прижавшись губами к твоим
губам!»1
Я привел только два фрагмента из пространного монолога —
рассуждения Ганса Касторпа, переходящего по мере разворачивания
в монолог-излияние чувственности и сладострастия. И в одном
и в другом случае он остается пронизанным ученостью и эрудицией.
Учитывая, что монолог занимает добрую страницу книги, трудно
себе представить, с каким лицом его произносил Ганс, а главное,
с каким лицом, мимикой, жестами слушала Ганса Клавдия. Его еще
можно попытаться вообразить себе эдаким отвлеченным, всецело
погруженным в собственные переживания юнцом, но бедная Клав-
дия? Что ей оставалось—затуманенным взором мысленно следить за
полетом гансова ума или синхронно погружаться в порывы сладост-
растия своего поклонника? Этого мы не знаем. В романе Т. Манна
Клавдия Шоша слишком условный знак женщины и женственности,
1 Манн Т. Собр. соч. в 10 т. Т. 3. М., 1959. С. 484 (далее: Манн).
Петербургская Россия и Запад
495
чтобы ощутить ее живое присутствие при излияниях Ганса Касторпа.
Ничего не меняют и никакой жизни не привносят слова Клавдии
в ответ на бесконечный монолог ученого немца: «Ты действительно
поклонник, который умеет домогаться с какой-то особенной глуби-
ной, как настоящий немец»1. Что же это за глубина и чего домогается
Ганс, — Клавдия благоразумно не договаривает. Ей нужно срочно
покинуть своего обожателя. Иначе их совместное пребывание обер-
нется или ученым разговором о страсти и сладострастии, или пора
будет переходить к ученому же удовлетворению сладострастия.
Натянутость, неправдоподобие, то, что в отношениях Ганса
и Клавдии все мертвым мертво, можно, наверное, списать на вторич-
ность романа, на то, что весь он не о живых людях в их непосредст-
венной жизненности, а о персонификациях архетипов и мифологем,
об условных носителях различных культурных традиций и мировоз-
зренческих позиций в культуре. Менее всего в романе Т. Манна душа
героя раскрывается и вбирает в себя жизненные впечатления, встре-
чается с другими душами или погружается в свой внутренний мир.
Герои «Волшебной горы» разыгрывают партии и осуществляют собой
сценарии, они есть точки приложения определенных интеллектуаль-
ных ходов. Как раз поэтому в пространстве манновского романа
становится возможным такая тяжеловесность и многословная отвле-
ченность объяснения в любви.
Но даже выведя любовь за скобки, нельзя не содрогнуться от того,
что происходит в сцене объяснения Ганса и Клавдии. Ужаснуться
хотя бы с позиции своей национальной культуры. И как это возмож-
но, объясняясь в любви обожаемой женщине, совсем не замечать ее,
обращаться по существу не к ней, а все к тому же: к своим мыслям,
душевным всплескам и чувствам, которые она вызывает своим при-
сутствием?! По Т. Манну, возможно, так как любовь существует для
него как бы помимо влюбленных, они входят в нее, как в нечто
третье, но не туда, где он и она нечто приобретают в своем личност-
ном качестве. А в такую реальность, в которую нужно вглядываться
и вслушиваться, как в непостижимое, бесконечно тебя превосходя-
щее и из самого твоего нутра ведущее тебя к отказу от себя,
блаженному растворению в безличной стихии.
Русская литература если и знает нечто подобное гетевской или
манновской нечувствительности одной личности к другой, воспри-
ятие ее как бы помимо нее самой, а значит, через погруженность
в свои чувства и переживания, то обязательно при наличии автор-
ской дистанции по отношению к своим героям. Страшновата в своей
пустоте и безлюдности, скажем, любовь героев А. П. Чехова. Но,
в частности, и поэтому его пьеса «Чайка» обозначена Чеховым как
комедия. А «Три сестры» уже не комедия, а драма. Но и в ней при
всей влюбленности Вершинина и Маши, любви Тузенбаха к Ирине
1 Манн. С. 485.
496
Культура Петербургской России
хронически недостает встречи любящих с любимыми, они разделены
какой-то невидимой, но от этого не становящейся проницаемой
пленкой. Каждый из них погружен в свое чувство как в самого себя,
ни в ком нет ни самоотречения, ни обретения себя в другом. Очень
милые, бесконечно привлекательные люди мучаются от одиночества,
как будто вовсе не подозревая о том, что одиночество размыкается не
другим, тем, кто придет, единственный и желанный и раскроет себя
тому, кого любит, а в первую очередь самим любящим. Одинок не
тот, кого никто не любит и не понимает, а не любящий и не
понимающий другого. Таково, по крайней мере, должно быть требо-
вание человека к себе.
Это простая истина почему-то вовсе недоступна героям Чехова.
Насколько она была жизненной реальностью для него самого—не так
уж важно. В своих произведениях Чехов открывает нам мир, где
и в намеке нет апологии героев—одиночек с их неудачной и несосто-
явшейся любовью, их голос—это не голос самого Чехова даже в тех
случаях, когда герои говорят те же самые слова, что и сам автор
в своих дневниках и письмах.
Нечувствительность русской литературы к любви в духе Фауста
или Ганса Касторпа, ее неготовность видеть любовь в том, в чем оно
видится немецкой литературе—это наше великое преимущество
и драгоценное свойство русской души и культуры. Вот только в рус-
ской мысли наше преимущество теряется. Идя по германским сле-
дам, она создает конструкты, которые носят характер «псевдомор-
фоз», странных, внутренне несостоятельных образований, где утеряна
мощь напора германской мысли, ее грандиозная способность поня-
тийных построений и в то же время неизменно присутствует герман-
ское стремление растворить личность в некоторой сверхличностной
реальности. Личность и любовь—этого для германца мало, он на
протяжении столетий прозревал и искал за ними нечто более бытий-
ственное и фундаментальное. Опыт русской литературы указывает
как будто на одну только перспективу, открывающуюся русскому
философскому уму—перспективу личностной философии. Однако
опыт германской мысли неизменно победоносно действовал на рус-
ский ум, в котором коренная личностная интуиция была не способна
сформироваться в мысль о личности. Личностное так и осталось
уделом одного только художественного слова, с которым даже отда-
ленно несопоставимы всякие попытки утвердить личность и личност-
ное в качестве философской реальности.
Глава 3
Российский император
Происходившая в XVIII в. вестернизация русской культуры, как
известно, уже в 1721 г. привела к замене царского титула правителя
России на императорский, Россия становится из царства империей.
Вполне очевидно, что подобный шаг был необходим для того, чтобы
повысить статут российских государей в глазах их западных собрать-
ев. Для самих себя и своих подданных Московские государи и так
находились на самой вершине царственности. Во всяком случае, для
русских правителей XVI—XVII вв. их сан был тождествен сану
греческих царей, правивших в Константинополе—Царьграде. Когда
Петр I в 1721 г. принимал императорский титул, он не столько
повышал свой царственный статут, сколько стремился стать царем
и на западный лад, царем не для одного лишь православного народа,
но и для народов Запада. В самом деле, русское «царь» для западно-
го уха вряд ли звучало существенно иначе, чем турецкое «султан»
или персидское «шах». Петр не мог не сознавать этого, принимая
императорскую корону. Становясь императором, он вовсе не отре-
кался от идеи и мифологемы «Москва—третий Рим». Петр просто
переносил Рим из Москвы в Петербург, заодно трансформируя
русскую римскость.
Московские цари видели себя преемниками и продолжателями
второго, Нового Рима—Константинополя. Первый Рим для них
лежал во прахе уже потому, что предался схизме и стал местом
пребывания самых главных схизматиков—пап. Петр Великий видел
в своем третьем Риме—Петербурге уже не один только Константино-
поль, а может быть, и не Константинополь вовсе, а продолжение
первого, Ветхого и самого настоящего Рима. Но если Русь-Россия
претендовала на то, что в ней пребывает первый и настоящий Рим, то
она поневоле должна была встать в напряженные и, нужно сказать,
498
Культура Петербургской России
странные отношения со Священной Римской империей германской
нации и не только с ней. Уже в названии последней указано, кто есть
Рим сегодня. Его можно называть третьим, учитывая происшедшее
в 476 г. падение Западной Римской империи и основание в начале
IV в. Нового Рима—Константинополя.
Можно акцентировать и другой момент—непреходящий характер,
присущий Риму. В последнем случае Римская империя останется
вечной и единственной. При чем здесь вдруг объявившаяся на восто-
ке Европы претензия на то, что Рим пребывает именно там, с пози-
ций Габсбургов, да и вообще Запада, совсем неясно. Удвоенный
Ветхий Рим—это абсурд, то, что, можно сказать и невозможно
помыслить. Разве только как противостоящее друг другу и взаимно
Римом другого не признающее. До некоторой степени таковой была
ситуация с Москвой—третьим Римом. Она очень внятно настаивала
на своем преемстве по отношению ко второму Риму, который был для
нее единственным. Что касается Священной Римской империи, то
она могла утверждать свою римскость в противостоянии другим
суверенным монархиям Запада, о существовании же ее антипода
в глухом углу Северо-востока Европы Священная Римская империя
ведала лишь как об экзотическом полуварварском образовании. Пре-
тензии Москвы на преемство Риму при этом до Вены сколько-нибудь
внятно не доходили.
Начиная с Петра Великого ситуация радикально изменяется. Он
основывает еще одну империю в западном духе, но так, что она не
настаивает на своем имперском приоритете и тем более единственно-
сти. С российской дипломатии было бы и того довольно, чтобы
цесарцы признавали за Петром и его преемниками императорский
титул, так же как русские признали его за государем, пребывающем
в Вене. Наличие двух империй российских императоров не смущало.
В принципе они могли бы пойти по пути акцентирования перед
лицом западных государей своего преемства Константинополю. По-
чему бы тогда Новому Риму не существовать наряду с Ветхим, как
это было последние полтора века Римской империи или в средневеко-
вой Европе с IX по середину XVв.? Поскольку же императорская
Россия выбрала именно уравнивание и отождествление двух импера-
торских титулов, она стимулировала процесс, и без того неумолимо
развивавшийся на Западе. Состоял он в окончательном превращении
императорского титула в пускай самый пышный и торжественный, но
по своему существу ничем не отличающийся от королевского. Импе-
ратор—это самый могущественный и блистательный из королей, и не
более. К этому шло дело к началу XVIII в. И Россия своим вхожде-
нием в круг западных народов и государств только помогла поста-
вить все точки над «i».
Знаменательно, что провозглашение Петра Великого императором
первоначально взволновало версальский двор. Заговорили даже
о принятии французским королем императорского титула, с тем
Российский император
499
чтобы ни в чем не уступать какой-
либо из крупнейших европейских
держав. Слава Богу, у французов
в итоге хватило ума и вкуса все
оставить на своих местах. Фран
цузская корона за многие века
была прославлена в Европе, как
никакая другая, и не француз-
ским королям было опасаться воз-
можности умаления своего титула
в глазах других монархов и под-
данных.
Как известно, признание за рос-
сийскими государями император
ского титула долго оставалось про-
блемой отечественной дипломатии.
Вопрос был окончательно закрыт
только в царствование Екатери
ны П. Когда же проблема исчез
ла, российские императоры во
многом стали государями новоев-
ропейского типа. Во многом, но
не во всем и не сразу. У них сразу
Петр Алексеевич
Рисунок неизвестного художника. 1693
исчезает всегда с трудом им да-
вавшийся акцент на безусловном приоритете русских царей над
всеми другими государями и неприемлемости для Руси всех иных
миров, кроме святорусского. Но что еще долго дает о себе знать
в императорской России, так это многовековая традиция русской
патриархальности. Петр Великий очень немного оснований давал для
его величания царем —батюшкой. Если он и был царем Отечества, то
соотнесенным не с послушными или нашкодившими детушками,
а с исправными или нерадивыми детинами. С детин первый россий
ский император спрашивал как со взрослых, но только в отношении
исполнительности и сметливости исполнения собственных распоря
жений. Получается, что Петр ждал от них взрослости и сам же
тормозил ее появление. Патриархальным же государем в целом он
все-таки не был потому, что патриархальность требует того, что для
Петра как раз было неприемлемо,—следования устойчивой тради-
ции, тому, что от века повелось.
В качестве государя он стал фигурой исключительной, не уклады-
вающейся ни в какие представления о царственности. Равно ни
в старомосковские, ни в новоевропейские. Особенно поражает в Пет-
ре Великом даже не невероятная энергия в переустроении России, не
разносторонняя одаренность Петра, нашедшая такое полное вопло-
щение в его деяниях и замыслах. Едва ли не за все свои начинания
Петр брался сам. Буквально своими руками стремился он создать
500
Культура Петербургской России
новую Россию. Где и когда еще на Западе или у нас в России можно
было увидеть государя, отправляющегося за границу учиться кора-
бельному ремеслу, орудующего молотом в кузнице или топором на
верфи? Другие государи в лучшем случае позволяли себе предавать-
ся предназначенным для простонародья занятиям не иначе, чем
в часы досуга. Это были забавы или неизбывное тяготение простой
и незатейливой натуры к тому, что по сути гораздо ближе ей, чем
исполнение тяжкой своей сложностью и ответственностью роли госу-
даря.
Петр Великий как раз от своих царских обязанностей никак не
уклонялся, а напротив, предавался их исполнению со всем возмож-
ным пылом. Но у Петра повеление легко переходило в уже не
обязательную для государя разработку проекта, а затем в какой-то
мере и его исполнение. Петр стремился и в своей творчески-устрои-
тельной деятельности быть всем, самому осуществлять все звенья
замысленного действия. Строго говоря, подобное стремление не
вполне, а то и вовсе не царственно. Хорошо это или плохо, другой
вопрос, но царственная особа должна царствовать таким. образом,
чтобы у ее подданных существовало устойчивое представление о том,
где заканчивается повеление государя и начинается их собственная
деятельность. Или (не менее важно) чем государь повелевает, а что
в сферу его властвования не входит. Скажем, общую диспозицию
войны государь утвердить может, даже обязан, но вести войска
в сражение—это уже дело назначенных государем полководцев. Точ-
но так же неотъемлемое право государя назначить подданного на
высокую должность или даровать ему титул. А вот определять своим
изволением, на ком подданному лучше жениться и кого не видеть
в женах как своих ушей—в такие дела государю лучше не вмешиваться.
Для Петра I подобных ограничений не существовало. В порыве
и замахе он был всем для всех своих подданных. И если битву
выигрывали Б. П. Шереметев или А. Д. Меншиков, а не сам Петр, то
лишь потому, что у него не доходили до этого руки. Тем более не по
возможностям ему было самому соорудить и спустить со стапеля
каждый очередной фрегат или линейный корабль. По существу,
проблема вездесущести решалась Петром за счет формирования во-
круг себя группы усердных слуг-соратников. Каждый из них был
для Петра как бы продолжением его самого, петровских глаз, ушей,
рук, в какой-то степени даже мыслей. Правда, в мыслях «птенцов
гнезда Петрова» посылки задавались самим Петром, «птенцам» над-
лежало делать выводы из посылок.
До поры до времени петровское окружение вполне справлялось со
своей ролью глаз, ушей, рук и мыслей Петра I. Когда же государя не
стало, для России—строительной площадки с уже проступающими
контурами будущего здания, вполне реальной стала угроза погруже-
ния в хаос. После себя Петр оставил слуг-исполнителей, которые
вдруг оказались без повелителя. Как они себя проявили в ближайшие
Российский император
501
годы после смерти Петра Велико-
го, хорошо известно. Среди них
были люди различных достоинств
и дарований, но все они сошлись
на одном —на полной или почти
полной нечувствительности к тому
делу, которое вершили под вла-
стью Петра Великого. Так или
иначе, но у каждого из сановни-
ков умершего государя прояви-
лось единственное господствующее
устремление к собственному жи-
тейскому благополучию, а по воз-
можности и к максимальному воз-
несению своей персоны к самой
вершине власти.
Едва ли не самый худородный
и вместе с тем преуспевший при
Петре сановник, добивавшийся
и после смерти своего благодетеля
всех мыслимых преимуществ пе-
ред другими вельможами дерзнул
и на большее —на то, чтобы по-
родниться с императором. В этом
почти осуществившемся замысле
Меншиков не обнаружил ни кру-
Петр I
Гравюра Дж. Смита с портрета работы
Р. Келнера, 1697
пицы совести и чести, совершенно
искренне посвятив себя единому на потребу, собственному возвели
чиванию. Обращаясь к Меншикову последнего периода его блиста
тельной карьеры, можно подумать, что за кем то другим, а не за
светлейшим князем числились впечатляющие деяния во благо Рос-
сии, совершенные им при Петре Великом. В том и дело, что Менши
ков и иже с ним были прежде всего слугами и даже холопами
хозяина Петра. Он бесконечно превосходил их преимуществами
рождения, ума, воли, дарований. Но он же, Петр, не сделал почти
ничего или во всяком случае очень мало, чтобы связать себя со своим
окружением узами более крепкими и глубокими, чем те, которые
связывают хозяина со своими слугами и холопами.
Петр был помазанник Божий, но как только не попирал он
Церковь и в своих государственных действиях, и в пьяном шутовст
ве, и даже в изменении церковных канонов, на что как у государя
у него не было никаких прав. Далее Петр представительствовал
в качестве царя, а потом императора, не только за себя, но и за свой
род династию Романовых. Ее представитель по решению Земского
собора и Божиим произволением был поставлен на царство в начале
XVII в. И не Петру было решать, кому быть его наследником, так
502
Культура Петербургской России
как и сам он стал царем только по сыновней своей связи с царем
Алексеем Михайловичем. Петр, правда, так и не определил себе
преемника. Но предварительно казнил своего законного наследника
после неправедного суда-расправы. Поступил он явно не по-царски,
а как тиран и деспот, на себя, а не на свой род, тем более не на Бога
замыкающий собственную персону.
В лице Петра! тиранию и деспотизм проявлял не узорпатор
и самозванец, а законный государь. Но разве такие его действия
становились от этого царственными? Когда, например, после очеред-
ного и, конечно же, чуждого всякой законности стрелецкого мятежа
Петр устроил массовую казнь на Красной площади, казнил стрельцов
не царь, а деспот и тиран. Только они могли позволить себе быть
судьями и палачами одновременно, отменяя суд в пользу свирепой
и дикой расправы. В ходе ее Петр отрубил собственными руками
немало голов, так же как и его сподручный Меншиков. Так что это
действительно были не царь и его подданный. Скорее, на Красной
площади орудовала шайка во главе с атаманом. Царственность Петра
отошла на задний план и до поры растворилась в реалиях куда как
менее достойных и почетных.
Вспомним, наконец, и брак Петра I. У кого-то, тем более в век
«свободы, равенства и братства», не мог не вызвать симпатии эгали-
таризм нашего государя. Ну как же, царь-плотник, не гнушающийся
никакой черновой работой там, где это необходимо, еще и женится
так запросто на женщине, которая ему приглянулась и полюбилась.
Добро бы, если бы все было так элементарно просто. Однако царская
роль, царское жизненное поприще очень далеки от элементарной
простоты и обыденной человечности. Своим положением царствен-
ная особа обязывается к причастности «сверхчеловеческим» реалиям.
В частности, ей заповеданы браки, внеположенные государственным
интересам и тем более противоречащие им. Государь живет не сам по
себе, не для себя или своей семьи. До известной степени он персо-
нифицирует собой свое государство, страну, народ. В нем они
собираются в конкретную личность, которая за них представительст-
вует перед другими государствами, странами и народами, печется
о благе подданных и, не последнее дело, предстоит Богу в качестве
попечителя о вверенных государю стране и народе.
Если это именно так, то петровский брак с литовской крестьянкой
не просто без роду и племени, но еще и с сомнительной репутацией
еще раз подрывал петровскую царственность. Ну, ладно, он прирож-
денный, милостью Божией царь и император. Но в избранности
и царственном достоинстве его коронованной жены для многих
и многих современников Петра I не усомниться было невозможно.
Так, как поступил Петр, взяв в жены Екатерину, настоящие государи
никогда не поступали. Во всяком случае, у нас в Руси-России.
О самодержавии Екатерины I и говорить нечего. А что тут ска-
жешь, когда императрицей смогла стать простолюдинка из инозем-
Российский император
503
ных. Кто тогда не император в возможности? Такая возможность не
могла не мерещиться и такому же простолюдину, как и Екатерина I,
которым по происхождению был светлейший князь, герцог Ижор-
ский и генералиссимус А. Д. Меншиков. Правда, осуществить ее он
попытался в меру своих сил, через брак дочери с императором. Но
все же это был бы реальный шаг в сторону императорского престола.
Последнего шага, разумеется, Меншикову ни при каких обстоятель-
ствах сделать бы не позволили. В этом можно быть уверенным, так
же как и в том, что замысел и попытка последнего шага для
Меншикова не были заведомо исключены.
***
От того, что преобразователь России, сделавший для нее необрати-
мой единственно перспективную реальность новоевропейского разви-
тия, в отношении образа российского государя был вовсе не преобра-
зователем, а разрушителем, никуда не уйти. Послепетровская Россия
не сразу и в муках вырабатывала у себя достойный и приемлемый
образ государя. В этом был немаловажный изъян не только россий-
ской государственности, но и русской культуры. Не могла такая
страна, как Россия, оформиться в некое устойчивое и гармоничное
поверх всех противоречий и катаклизмов целое, пока космос ее
жизни не был довершен и выражен фигурой, царствующей на рос-
сийском престоле особы. Поскольку Петр I, в принципе, не вписы-
вался ни в какую традицию царственности и в то же время не
инициировал создание никакой новой традиции, формирование об-
раза царственной (императорской) особы весь XVIII в. происходило
медленно, вслепую и на ощупь.
Впрочем, сказанное не вполне точно. Пожалуй, точнее будет
сказать, что почти весь послепетровский XVIII в. Россия знала образ
императорской особы промежуточный, не довершенный, главное же,
не поддающийся доктринальному оформлению, в своей основе дву-
смысленный и ускользающий от оформления в мысль. Послепетров-
ские государи (государыни) были прежде всего чистой данностью
и фактичностью, в чью данность и фактичность, чтобы не столкнуть-
ся с неразрешимыми вопросами, лучше было не вглядываться.
Вспомним, что Екатерину I возвело на престол не исполнение
государственного закона или хотя бы обычая, а воля полков импера-
торской гвардии. Минуя кратковременное царствование Петра II
и обратившись к Анне Иоанновне, мы опять увидим произвол тех, за
кем сила и влияние. На этот раз не столько гвардии, сколько первых
сановников империи. Они возвели на престол Анну Иоанновну,
исходя из своих интересов и на своих условиях. Царствовала она уже
исключительно по своей воле, отвергнув все предварительные дого-
воренности. Но почему именно она, дочь некоторое время номиналь-
но соцарствовавшего с Петром I Иоанна V, а не кто-либо из других
ближайших родственников Петра и Иоанна? Ответить на подобный
504
Культура Петербургской России
Императрица Елизавета Петровна
С гравированного портрета Чемезова, 1761
вопрос со всей необходимой и убе-
ждающей ясностью можно было,
только если бы за призванием
Анны Иоановнны на царство стоя-
ло бы какое либо подобие реше-
ния Земского собора в духе нача
ла XVII в. Если пойти далее, то
не менее проблематичным окажет-
ся царствование Елизаветы Пет-
ровны. Ее любили и почитали
и как дочь Петра Великого, и за
представительность, не всегда
показную материнскую доброту
и мягкость. Но возвели - то Ели
завету Петровну на престол опять
бравые гвардейцы помимо всяко
го закона о престолонаследии.
О Екатерине II и говорить не
приходится. По всем законам
и обыкновениям, законным или
хотя бы соответствующим каким —
либо западным или русским тра-
дициям, ее царствование признан
ным быть не может. Згт Екатериной и едва прикрытое мужеубийство,
а не только свержение с престола царственного супруга, скандальное
низведение сына до положения наследника престола, неизвестно
почему не вступающего в свои императорские права.
Наконец, умерщвление по сравнению с ней все-таки более леги-
тимного Ивана Антоновича. Всего перечисленного было бы более чем
достаточно для того, чтобы признать Екатерину II узурпатором рос-
сийского императорского престола на Западе, а у нас в России
осмыслять ее царствование, несмотря на всю его демонстративную
мягкость, в качестве деспотии и тирании. Между тем для Запада
Екатерина II оставалась просвещенной государыней, Северной Семи-
рамидой. Для ее же русских подданных она не за страх, а за совесть
была матушкой Екатериной. Вот это и есть торжество и даже освяще
ние чистой данности. Государи (государыни) у нас почти весь после-
петровский XVIII в. не имели сколько-ибудь надежных и тем более
безупречных оснований для своих царствований и царственности.
Отчасти дело спасала знаменитая русская патриархальность и семей
ственность, принявшие образ своего рода «матриархата».
Государыни, обнаруживавшие в себе «материнские» черты и по-
вадку, задним числом подтверждали свою царственность и закон-
ность. Всероссийское материнство Елизаветы Петровны или Екате-
рины Алексеевны просто не могли исходить от особ, узурпировавших
власть. Последние ни на какое материнство не способны ввиду того,
Российский император
505
что исходная мифологема родителей — отца и матери отождествляла
или сближала их со сферой сакрального. Родители не потому явля-
ются таковыми, что родили своих детей, являются их покровителями
и защитниками, а потому, что означенные свойства заложены в них
божественной или близкой к божественной природой. Родитель,
кормилец, защитник не может быть просто и только человеком.
Просто и только человек всегда и обязательно ребенок, дитя, в крайнем
случае детина.
Именно по этой смысловой линии акцентированное материнство
наших государынь XVIII в. хоть как-то подпирало их царственность
в качестве матерей —«матушек», укоренялись в традицию теми, кто
по существу ее грубо попирал. Ведь это по-своему поразительно, что
петровские преобразования были удержаны, а в чем-то и углублены
и расширены при государынях, делавших упор на свое материнство,
а значит, и на традиционализм, на извечно русское и крестьянское
в нашей культуре. Никакое «материнство» российских императриц
наверняка не сыграло бы решающей роли в освящении их царствова-
ния, если бы Петр I предварительно не расшатал до такой степени
образ российского государя. Он стал первым российским императо-
ром в ситуации, когда этот сан очень немного говорил русскому уму,
его смысловая основа оставалась невнятной. Ближайшим результа-
том происшедшего и стала актуализация древней мифологемы мате-
ринства, сопрягаемой с женской царственностью.
И надо сказать, что образ государыни-матушки не был пустой,
никого не убеждающей игрой с древней мифологемой. По крайней
мере, в одном отношении он соответствовал действительности.
А именно в том отношении, что материнская власть при всем своем
первенствовании не предполагает непосредственных активных уст-
роительных усилий матери-властительницы. Такого рода усилия —
дело ее детей, неизменно питаемых материнскими щедротами, нуж-
дающихся в материнской опеке, но действующих уже не в качестве
органов и орудий единственного настоящего деятеля-государя.
Теперь при «материнском» правлении расцвел доселе невиданно
пышным цветом фаворитизм. Фавориты стали непосредственными
деятелями Российского государства, обладающими очень большой
долей самостоятельности. Так было не только при бездеятельных
и малообразованных «матерях-императрицах» Екатерине I, Анне Ио-
ановнне и Елизавете Петровне, но и при несравненно более образо-
ванной и энергичной Екатерине II. Даже она полагалась на своих
фаворитов в несопоставимо большей степени, чем Петр I на своих
сподвижников. Такой власти, которой обладал Г. А. Петемкин на юге
России, не снилось никакому Меншикову или Шереметеву.
Уже одно это обстоятельство убеждает в том, что никакой архаиза-
ции русской культуры с выдвижением в ней на первый план мифоло-
гемы матери-прародительницы, кормилицы и защитницы не про-
изошло. В императрицах-женщинах Россия за две трети XVIII в.
506
Культура Петербургской России
обрела некоторое промежуточное состояние между поврежденной
царственностью российских государей и оформлением этой царствен-
ности уже на довершенных и устойчивых основаниях. И здесь имеет
смысл отметить одно поразительное противоречие, связанное с царст-
вованием императриц-женщин, которое необходимо было преодолеть
и которое было преодолено только с воцарением императора Павла I.
Состояло же оно в том, что имперские притязания Петра I самым
причудливым образом сочетались с феминизацией российского им-
перского престола. Если уж Россия была провозглашена империей,
то менее всего уместно было править в ней императрицам. Импера-
торское достоинство слишком высоко вознесено традицией, чтобы
осложнять императорский сан его феминизацией. То, что нечто
подобное произошло в России, лишний раз свидетельствует о сумяти-
це и путанице смыслов, которым не чужда была русская культура
XVIII в. В ней левая рука не вполне ведала творимое правой. Ведь
это очевидно, что еще неутверлившиеся имперские притязания необ-
ходимо было отстаивать именно императору, а не императрице.
В России же удивительным образом введение нового сана почти
совпало с отсутствием очень длительное время достойных легитим-
ных и неколебимо признаваемых в своих правах обладателей импера-
торского достоинства. Невольно закрадывается подозрение, что Рос-
сии после провозглашения ее в 1721 г. империей, еще многие
десятилетия нужно было подтягивать и дооформлять себя до такой
обязывающей заявки.
***
Впервые более или менее устойчивый образ российского государя
и российской царственности Петербургского периода начинает про-
ступать у Павла I. При том что это был единый образ, скрепленный
не только уникальностью личности императора, но и своей надлично-
стной логикой, в нем легко выделить несколько существенно между
собой различающихся составляющих. Одна из них—это представле-
ние об императоре как христианском государе, священной особе
и помазаннике Божием. Собственно павловские акценты в этом пред-
ставлении состояли в его примирительно-неопределенном представ-
лении о христианстве без всякого не только что противопоставления
православия католицизму или протестантизму, но и принятия во
внимание существенного различия между тремя конфессиями. Такая
позиция была вполне в духе времени, и ее унаследовал преемник
Павла I Александр I. Но именно у первого из них христианство
трактовалось так широко, что он счел для себя возможным принять
сан гроссмейстера ордена Иоаннитов, мыслимого исключительно
в католическом контексте. Впрочем, для русской культуры имели
значение не прокатолические симпатии и порывы Павла I, а то, что
он очень всерьез принимал свою роль помазанника Божия, императо-
ра, предстоящего Богу, отвечающего перед Его Лицом за свой народ
Российский и итератор
507
и в то же время остро ощущающе-
го в своем властвовании над наро-
дом присутствие в собственных
действиях Божественной санкции.
Конечно же, никогда, ни при
Петре Великом, ни при его преем
никах и преемницах связь импе-
раторской особы с Богом не упус-
калась из виду. Существовали
и применялись соответствующие
стандартные формулы. Однако на
передний план вольно или неволь-
но выходило другое. У Петра
Великого титаническая устроитель-
ная мощь, достаточно неопреде-
ленная и неустойчивая в своем
доктринальном оформлении. По-
следнее могло делать акценты и на
всероссийском отцовстве Петра—
государя, и на связи его с Богом,
и на собственном петровском ве-
личии. В любом случае в Петре
проглядывали черты некоего зем-
ного Божества, нерастворимые
Император Павел I
Гравюра Дункоргота с портрета
С. С. Щукина, 1798
в доктринальных обоснованиях
и формулировках. Что касается
российских государынь — императ-
риц, то как бы они ни благослов-
лялись Церковью, как бы ни чтилась ею их благоверность, реально
жительствовал, проникал в души и порождался ими прежде всего
образ материнский. В основе своей языческий, в ситуации же XVIII в.
недомысленный и недопережитый, слегка зависающий в православно
-христианском космосе смыслов.
С Павла I такое зависание заканчивается. Теперь все внятно,
определенно и последовательно заявлено и принято страной. Госу-
дарь — священная особа в соответствии с православными канонами,
оторвать его от Бога, поставить под сомнение императорскую власть,
как-то ей противодействовать можно только увидев в императоре
царя Ирода, деспота и тирана, поправшего законы Божеские и чело-
веческие. В какой-то мере именно так к Павлу I отнеслись убившие
его заговорщики. II нельзя сказать, чтобы совсем без всяких на то
оснований. И все же заговорщики стали царе-, а не тираноубийцами,
о чем свидетельствует хотя бы полная невозможность решиться на
обнародование своего поступка. Вплоть до 1905 г. Павел I в подцен-
зурной русской литературе числился внезапно умершим от апоплек
сического удара. Слишком очевидным было, что так, как поступили
508
Культура Петербургской России
когда-то присягавшие ему заговорщики, с помазанником Божиим не
поступают, даже если в нем так много от деспота и тирана.
Как это ни парадоксально звучит, но и само свержение императора
Павла по-своему подтвердило священный характер его власти. Ниче-
го подобного с его отцом и предшественником на пути к страшной
гибели Петром III не произошло. Хотя о его свержении в царствова-
ние Екатерины II, да и позднее старались особенно не вспоминать,
все же оно воспринималось как заслуженная кара, как устранение
некоторого рода досадного недоразумения и курьеза. На российском
престоле оказался совершенно недостойный и не способный к сколь-
ко-нибудь разумному правлению человек. Вот и пришлось прибег-
нуть к неприятной, но необходимой и благодетельной хирургической
операции.
В такую логику свержение Павла I уже не укладывалось. Напря-
женное и патетическое переживание им своей богоизбранности доста-
точно глубоко укоренилось не только в его душе. В высшей степени
характерно, что цареубийство 11 марта 1801 г. хотя и очень глубоко
повлияло на Александра I, навсегда лишив его покоя и чистой совес-
ти, все же не привело императора к опасениям за собственную жизнь.
Будучи государем мнительным и недоверчивым, он все-таки порази-
тельно мало заботился о своей личной безопасности. Для него как
будто не существовало перспективы в итоге оказаться в положении
своего отца. Откуда могло проистекать подобное умонастроение,
вопрос достаточно сложный. Но в любом случае нельзя обойти
вниманием очень глубокое, органическое ощущение Александром I
своей императорской легитимности. Для себя и других он безогово-
рочно был прирожденным государем, всякое поползновение на жизнь
и власть которого было бы преступлением перед Богом. Сегодня нам
трудно себе представить, насколько в те времена цареубийство было
сближено с богоубийством. Разумеется, не для тех, кто вступал на
путь революционаризма, тем отрекаясь от того, что все-таки являлось
фундаментом и стержнем существования российской государственно-
сти, да и России, как таковой.
Представление о себе как помазаннике Божием ничуть не мешали
Павлу I форсировать в своем облике черты военного служаки, в кон-
це концов, солдата на троне. Понятно, что не в том смысле, будто
в 1796 г. российский императорский престол достался человеку с ду-
шой, повадкой, выучкой и привычками солдата. До некоторой степе-
ни все перечисленное действительно имело место. Между тем более
важным здесь является несколько иное, и, в частности, то, что
Павел I сознавал свое правление в качестве императора как служение
по образу и подобию воинского и солдатского. Каждый солдат,
офицер, генерал служит государю и Отечеству. Точно так же есть
солдатская служба и у императора. Очевидно, что служит он не
самому себе, да и с Отечеством у него иная связь служения, чем
у всех остальных солдат. Солдат—император служит Богу. И, конеч-
Российский император
509
но же, служить Ему просто и только в качестве солдата невозможно.
И все же, отвечая за свою страну и свой народ, предстоя за них перед
Богом, император выстраивает свою жизнь как воинскую службу:
отдает распоряжения и приказы, принимает доклады и рапорты как
верховный начальник нижестоящих солдат, стремится быть не вовсе
чуждым солдатским трудам и тяготам, строгости и выверенной четко-
сти солдатской аскезы.
Еще будучи великим князем, Павел Петрович никогда не пренеб-
регал выполнением обязанностей офицера, командующего более или
менее крупной воинской частью. Напротив, исполнял он эти обязан-
ности истово и с удовольствием. Став императором, Павел I очень
значительную часть своего времени уделял не просто армии, а повсе-
дневным занятиям с воинскими частями: парадам, разводам, муштре.
Это пристрастие у Павла было наследственное. Оно проявилось во
всей полноте и даже некоторой неистовости еще у императора Пет-
ра III. Но если бы только у него! После Павла! буквально все
российские императоры в большей (Александр I, Николай I, Алек-
сандр II) или меньшей (Александр III, Николай II) степени, но неиз-
менно оказывались приверженцами военных занятий. Каждый из
них в свое время проходил воинскую службу в различных офицер-
ских, а затем генеральских чинах. Каждый, если и не был крупным
военачальником или тем более полководцем, до тонкости знал все
моменты воинской профессии и солдатской службы. Никакая разни-
ца в душевном складе или каких-либо личностных чертах здесь
решительно никакой роли не играла. Все российские императоры от
Петра III с естественным перерывом при Екатерине II в равной степе-
ни были еще и императорами—солдатами на российском император-
ском троне. Для них раз и навсегда естественной и непререкаемой
оставалось не сразу сформулированное положение воинского устава:
«Солдат —звание именитое; этим званием именуется первый солдат,
Государь император и младший рядовой».
В приведенных строках явственно ощутим пафос, который нет
никакой необходимости считать натянутым и искусственным. И тем
не менее российских императоров далеко не всегда безосновательно
упрекали в чрезмерном пристрастии к исполнению часто мелочных
воинских обязанностей и даже в солдафонстве. Если под последним
понимать, в частности, пустой формализм, муштру и грубое обраще-
ние с солдатами, то после Николая I они уходят в прошлое. Кажется,
в них неповинны ни Александр II, ни тем более Александр III
и Николай II. Но если бы кто-либо из историков задался довольно
утомительной в исполнении, но вполне осуществимой целью просчи-
тать, пускай приблизительно, время, отводившееся нашими импера-
торами на разводы, парады, муштру, сильно формализованные и те-
атрализованные лагерные учения и смотры, то результат оказался бы
малоутешительным, а то и разоблачающим с позиций простого здра-
вого смысла. Вопрос: «И зачем это российские императоры предпо-
510
Культура Петербургской России
читали солдатскую жизнь решению более насущных государствен-
ных задач?»—возник бы с неизбежностью.
Тот же самый здравый смысл вряд ли выведет нас далее упреков
и обвинений российских императоров. Несравненно важнее, однако,
попытаться уловить логику их неизменного пристрастия к воинской
жизни и исполнению солдатской службы. И тогда придется обратить-
ся к фундаментальным реалиям российской истории и культуры
Петербургского периода. Важнейшая из них, как мы помним, состоя-
ла в том, что процесс вестернизации России неизменно вел ее по пути
секуляризации и совпадал с ней. Секуляризация русской культуры
как таковая не отрицала власти российских императоров. Длительное
время она даже была совместима с образом государей — помазанни-
ков Божиих. Однако достаточно рано, еще в XVIII в., образ помазан-
ника начал нуждаться в дополнении. «Матриархат» был частичным
и преходящим из числа таких дополнений. Еще менее надежным и не
чуждым эфемерности был образ государя (государыни) как просве-
щенного монарха, неизменно радеющего о благе подданных, стремя-
щегося к их просвещению. Этот образ не без успеха примеряла к себе
ЕкатеринаII и в какой-то степени Александр!. Однако он был
трудно совместим, по существу же несовместим вовсе с образом
государя—помазанника Божия. Один из них должен был раство-
риться в другом или уступить ему место.
Вполне очевидно, что в нашей традиции просвещенный монарх
сдал свои позиции государю—помазаннику, более полному и насы-
щенному смыслами по сравнению с первым образу. В просвещенного
монарха российские императорские особы только более или менее
играли, с государем же солдатом дело обстояло совсем иначе. На
поверхности вещей воинские звания, награды, форма, занятия рос-
сийских императоров очень просто и точно объясняются милитарист-
ским характером государства. А какой еще может быть империя?
Империи, поскольку она является таковой, всегда присуще собира-
тельное начало. В отличие от других многонациональных образова-
ний, она предполагает не только войны и завоевания, но и дух
интеграции. В большей или меньшей степени империя всегда высту-
пает как межэтническая культурная, а не просто политическая общ-
ность. И все же империя немыслима без первенствования в ней
воинского и военного элемента. Вот наши государи—солдаты и вы-
ражали его своим обликом и повадкой.
Может быть, оно и так, да только не упустим из вида, что наши
и не только наши новоевропейские государи были не просто воина-
ми, таковыми являлись, скажем, князья Киевской Руси, а непремен-
но солдатами. Солдат же—это такой тип воина, который возникает
на Западе, и никак не ранее XVII в. По крайней мере, в своей
относительно полной оформленности. В следующей главе у нас еще
будет возможность специально рассмотреть фигуру солдата, пока же
отметим, что солдата отличает такая конститутивная черта, каковой
Российский император
511
является роль воина—слуги. Солдат прежде всего служит и в качест-
ве служивого человека исполняет повеления не просто вышестоящего
офицера или генерала, то есть тех же солдат, а обязательно того, кто
выступает как властитель по преимуществу. Таковыми же в XVII—
XVIII вв. были, как правило, государи.
Кому-то может показаться, что нечто подобное когда-то существо-
вало: греческие солдаты-гоплиты или римские солдаты-легионеры,
потом ими стали германские дружинники и ополченцы, а еще позд-
нее—рыцари. Тех и других называть с легкостью солдатами мешает
чувство стиля. Но почему бы с осторожностью их, да еще средневеко-
вых наемников и тех же наемников — ренессансных кондотьеров с их
отрядами не отнести к некоему подобию солдат?
Такая процедура не имеет смысла по отношению к любому из
перечисленных типов воинов как раз потому, что ни в одном из них
не акцентирована роль слуги. Греческие гоплиты и римские легионе-
ры были прежде всего свободными людьми — гражданами своих по-
лисов. В качестве же таковых в не совсем переносном смысле их
можно назвать «царями». Царями потому, что суверенные лично-
сти — граждане соцарствовали на агоре или форуме, решая как члены
народного собрания те или иные вопросы жизни родного полиса.
В этом случае они не просто властвовали, но становились высшей
и последней властной инстанцией здесь, на земле, как это и подобает
царям. О средневековых рыцарях и говорить нечего. Все они, безус-
ловно, от простого однощитного рыцаря до короля были людьми
служения, оно от них неотъемлемо. Не менее важно, однако, и дру-
гое. Рыцарь прежде всего свободен и суверенен, свою вассальную
присягу он приносит от свободы и служа, вовсе не умаляется в своей
свободе. Без особого преувеличения можно сказать, что рыцарь —это
«царь», который и в своем служении господину продолжает «царст-
вовать». Господин не просто берет свои обязательства по отношению
к своему слуге-вассалу, слуга еще и входит в совет господина, где
последний не более чем первый среди равных. Знаков их принципи-
ального равенства в качестве рыцарей-«царей» было предостаточно.
Упомянем одно только участие в турнирах, где даже король готов
был сразиться на равных с простым рыцарем из своей или чужой
свиты.
Появление фигуры солдата ознаменовало собой совсем другие
акценты в воинском статуте и воинской службе. Теперь воин впервые
в западной истории лишался царственности. Он слуга в первую и во
вторую очередь, обязанный уже не служением, а службой государю,
а через него и в нем еще и Отечеству. Парадокс солдатского житья-
бытья в том, что от него ждали подвигов не менее чем рыцарских,
а вот венчать и величать его в царственном величии воина стало
немыслимо и неуместно. Солдат, главным образом, человек долга
и аскезы. В нем принято подчеркивать черты незатейливости, про-
стоватости, грубости даже. Солдат, особенно в нашей русской транс-
512
Культура Петербургской России
крипции, еще и человек подневольный. Во-первых, в том отношении,
что идет на службу не по своей воле, а по царскому указу, и, во-
вторых, служит солдат там, куда пошлют, и делает, что велят. Не
преувеличить бы только «неволи» солдата в ущерб его «величию».
А оно от него тоже требуется и им проявляется. Под пулями он
должен быть безупречно храбр, а еще неутомимо деятелен и велико-
душен к противнику. Короче говоря, в своей несвободе солдат
призван к особого рода свободе, свободе трудной, как правило,
недооцененной, но свободе. Она у него произрастает из несвободы
дисциплины, точнее же будет сказать, что дисциплина солдата долж-
на перерастать в самодисциплину. Когда внешние ограничители
становятся еще и внутренними, становятся реалиями, в которых
свобода особенно трудно дается, дорогого стоит, но зато и возникает
как золото самой высокой пробы.
Со всей несводимостью к служению — несвободе, как прежде всего
слуга, солдат как будто менее всего подходящая фигура и образ для
того, чтобы ее черты усваивал себе государь. Еще можно понять
государя, культивирующего в себе черты и достоинства рыцаря,
государя как первого рыцаря королевства, но как постичь и оправ-
дать логику его становления в качестве первого солдата своего
государства? Не рискуя воспроизводить ее во всей полноте, или
четкой прочерченности, ведущей и определяющей смысловой линии,
все же можно указать на то, что, в отличие, скажем, от рыцаря,
солдат—фигура в несравненно меньшей степени сакрализованная.
В нем акцентируются человеческие черты: терпение, скромность,
простота и прочее, а вовсе не сверхчеловеческие—великолепие, утон-
ченность, сиюминутная готовность к поразительным деяниям —под-
вигам. Солдат неразрывно связан с рыцарем, он тоже слуга, хотя
уже не царственный. Не только ввиду приглушенности и сниженно-
сти образа, но и ввиду его соотнесенности с государством. Солдат
обязательно не только государев, но и государственный человек. Вне
государства солдатская служба (но не рыцарское служение) теряет
всякий смысл. Нельзя солдату служить государю, не служа Отечест-
ву, то есть государству.
Именно этот момент был чрезвычайно важен при формировании
образа государя — солдата. Когда ввиду секуляризации культуры
образ государя, служащего Богу, хотя и пекущегося о благе поддан-
ных, но отвечающего за них только перед Богом, начинал тускнеть,
точнее же, сам по себе переставал быть абсолютно убеждающим,
тогда образ царя — солдата оказался естественным и удачным допол-
нением к все-таки первенствующему в государе. Как солдат, он еще
и признавал свою человечность, усиливал ее медленно, но верно.
Неотрывный от него образ государства не просто уравнивался с госу-
дарем, но и начинал возвышаться над ним. Государство всегда не
только возвышается на гражданами, в чем-то оно и ниже, так как
производно от них, наконец, оно и есть сами граждане. Российские
Российский император
513
императоры избрали себе такой путь служения государству, когда на
первый план вышло служение—приказ и команда, служение стало
воинским начальствованием. Как помазанник Божий, император луч-
ше знает, в чем состоит благо подданных, чем они сами. Но как
солдат, командуя подданными, он делает одно с ними дело: удержи-
вает в строе и порядке государство, укрепляет его. В этом государь
все-таки уравнен с подданными. Он тоже слуга, как и они. Причем
уже не только Божий, но, как ни верти, еще и человеческий.
Конечно, служение людям, как руководство ими свойственно не
только государю — солдату, но и государю-помазаннику Божию. Од-
нако теперь он не может не ощущать ответственности за подданных
еще и перед ними самими. Конечно, государь — воинский начальник
не склонен обсуждать с подчиненными свои действия, его дело—
приказ, их—исполнение. Но это до поры до времени. Некоторый
неисполнимый, ни с чем и ни с кем не считающийся приказ дискреди-
тирует солдата военачальника, ставит под вопрос его право на коман-
дование. В качестве солдата государь не может с этим не считаться.
У него, правда, остается выход в том, чтобы внутренне и внешне
апеллировать к своему помазанничеству. Но от этого солдатскость
императора ничего не выиграет. Все равно она потускнеет и выйдет
на передний план все менее убеждающая сакральность царственной
особы. Замкнутый круг можно было прорвать усердной солдатской
службой. И надо сказать, что последние российские императоры как
могли усердно, по-солдатски служили своему государству, а не
только ощущали себя предстоящими Богу, в ответе за свою страну
и свое царствование в ней.
Нелицемерная, а самая настоящая служба российских императо-
ров — солдат, когда они изо всех сил тянули свою солдатскую лямку,
несомненно, имела место у каждого из них. Даже у такого позера,
как только можно театрализовывавшего свое царствование, каким
был император Николай I. Но откуда все же их «солдафонство»,
мелочность военных интересов, почти откровенная игра в солдатики?
Принято считать, что от пруссачества. Видите ли, дурной пример
заразителен, и русские цари почему-то все до одного, начиная с Пет-
ра III, не устояли перед соблазном чрезмерного внимания к внешней
стороне солдатской службы. Попробую предложить два взаимодо-
полняющих объяснения отмеченному обстоятельству, не касаясь соб-
ственно прусских обстоятельств и обыкновений.
Так или иначе военные занятия российских императоров, вызвав-
шие такие изобильные нарекания их современников, тяготели к куль-
минации парада, смотра, маневров. Если им приписывать исключи-
тельно или преимущественно утилитарный смысл или рассматривать
в его контексте, то ни оправдания, ни настоящей логики в них не
найти. Но почему в таком случае чисто практическая целесообраз-
ность подготовки к войне—обороне или нападению должна рассмат-
риваться для солдат в качестве единственно значимой и оправдан-
514
Культура Петербургской России
ной? Когда наши государи в Московские времена были прежде всего
благоверными, тишайшими, христолюбивыми, дополняя эти свои
качества разве еще ролью всероссийского отца-батюшки, естествен-
ным образом в распорядке их жизни были выражены в первую
очередь проявления благочестия: участие в церковной службе, поезд-
ки по монастырям, соблюдение всякого рода церковных предписаний
и т. д. На современный взгляд московские цари так же поразительно
много времени отдавали делам благочестия, как их преемники петер-
бургские императоры исполнению всякого рода воинского церемо-
ниала или близких к нему по своему характеру действий.
И то, и другое было по-своему необходимо. Благоверный право-
славный царь ведь правил не только указами и председательствова-
нием в Боярской Думе, но и молитвенным предстоянием Богу.
Первое было следствием и продолжением второго. Император же
солдат должен был в силу своего положения делать акцент на самой
выигрышной и блестящей стороне воинско-солдатского житья-бытья.
Для всех остальных подданных империи она выражалась в праздни-
ке, с его блеском и великолепием парадов, дворцовых караулов,
разводов и маневров. В них концентрированно выражалась высота
и величие воинского сословия.
Самое же главное в обозначенных торжественных действиях со-
стояло в том, что царское в них встречалось и совпадало с солдат-
ским. Солдатское поднималось до высот царского. Войска развода-
ми, парадами и маневрами чествовали особу императора—солдата,
он же в свою очередь восхищенно любовался красотой и гармонией
происходящего. Для него звучала неземная музыка солдатских сфер.
В первую очередь для государя, но и для свиты придворных и других
зрителей происходящего действа. Французский исследователь рус-
ской культуры назвал воинские экзерциции, происходившие в Петер-
бурге, Царском Селе, а время от времени и в других местах империи
«государственной литургией»1.
Ну, что же, сравнение Безансона бьет в цель, если даже оставить
в стороне его ироничность. Литургия —в первую очередь для царя-
омазанника, парад—для царя-солдата. Российские императоры усердно
участвовали и в том, и в другом, и ощущая себя рабами и детьми
Божиими на литургии в храме, и царствуя в качестве солдат на
Марсовом поле и Дворцовой площади. Слишком очевидно, что без
парадов, смотров, разводов, маневров царственность наших импера-
торов стала бы непричастной их солдатскости, сделав тем самым
невозможной последнюю. Доводя до смыслового предела линию
солдатскости российских императоров, А. Безансон, в частности,
пишет: «Древняя Русь была Церковью, новая —казармой: это расхо-
жее выражение славянофилов не просто риторическая формула, оно
означает, что в некотором смысле, казарма—новая церковь... Казар-
1 Безансон. С. 72.
Российский император 515
ма является моделью рационального общества, общества, из которого
ушло сакральное, но которое, тем не менее, сохраняет свою преж-
нюю, древнюю форму»1.
Вряд ли тезис французского исследователя совсем не соответству-
ет истине. Но как мне представляется, в нем произошло существен-
ное смещение смысла. В действительности «казарма» вовсе не подме-
нила собой в Петербургской России Церковь. Она ее дополнила
и сосуществовала с ней. При этом первенствовала все-таки Церковь.
Император-помазанник первенствовал над императором-солдатом.
Церковь не то чтобы специально освящала «казарму» с ее смотрами,
парадами, учениями, но на казарму падал отсвет сакрального сия-
ния; если первым солдатом империи являлся император-помазанник
Божий, то этим он освящал каждого генерала, офицера, солдата, не
позволяя им превратиться в солдатню, неспособную ни к какому
духу служения православному государю, православному Отечеству,
и через их посредство Церкви и Богу.
Если образ государя—помазанника и государя-солдата нашли в Пав-
ле I свое первое относительно полное и целостное выражение, хотя
им не был чужд уже Петр Великий, то третий образ, из числа
совмещающихся в государе—образ императора—первого дворянина
империи был вполне чужд его предшественникам. Равно и великому
Петру I и нелепому Петру III. Непосредственно ранее чуждая рос-
сийским императорским особам дворянскость Павла I, надо сказать,
проявлялась форсированно и гротескно. С увлечением и пылом
государь играл в рыцаря. Ему смертельно захотелось стать гроссмей-
стером, то есть первым рыцарем Мальтийского ордена. В его рыцари
Павел I неизменно посвящал чествуемых им подданных. Его отноше-
ние к слабому полу, начиная от простых фрейлин до фавориток
также оформлялось по-рыцарски. Так или иначе Павел, если он не
находился в таких нередких у него состояниях пароксизма ярости,
в каждой женщине стремился видеть даму, которой нужно служить
так, как в его представлении служили рыцари.
То, во что Павел I все-таки главным образом играл, и во что
заигрывался, все же не осталось курьезом его индивидуальных пред-
почтений. Образ государя, уже не рыцаря, конечно, а первого
дворянина империи оказался устойчивым не менее образа императо-
ра-первого солдата своего Отечества. В одной из последующих глав
я еще коснусь некоторых моментов дворянскости наших государей.
Теперь же обращу внимание читателя на то обстоятельство, что
исходной реальностью русской культуры (на то она и западная),
было наличие в ней князей, соотнесенных со своей дружиной не
просто как ее предводителей, но и в качестве первых среди дружин-
ников. Об этом у нас уже шла речь. Так же как и о том, что
Московская Русь в этом отношении разительно отличалась от Киев-
1 Безансон. С. 72.
516
Культура Петербургской России
ской Руси, так же как и от сосуществовавших с последней западных
стран. Московский царь был кем угодно, только не первым боярином
или дворянином царства. Хотя бы знаково и номинально любой
боярин или дворянин были так же бесконечно удалены от царской
особы, как и какой-нибудь крестьянин из российской глубинки.
Вне всякого сомнения, возрождение на российской почве общно-
сти государей с одним из сословий, принадлежности к нему всецело
явилось результатом вестернизации русской культуры. Всякая па-
мять о собственной национальной традиции к тому времени была
совершенно потеряна. Свою дворянскость Павлу или Александру I
приходилось не припоминать, а учиться ей на западных образцах,
где образ государя—первого дворянина своей страны был неколеби-
мо устойчив и само собой разумелся. Кажется, умная и тонкая
Екатерина II могла бы почувствовать, откуда дует ветер и начать
культивировать свой образ первой дамы (а значит, дворянки) импе-
рии. С ней ничего подобного не произошло. Для нее более приемле-
мым, надежным и наверняка безальтернативным оказался прежний
материнский образ, который Екатерина II разве только утончила
и разнообразила. Скажем, когда подданные попытались преподнести
ей титул «Премудрый Матери Отечества», от которого она преду-
смотрительно и тактично отказалась, в этой ситуации, тем не менее,
выявились ее непроговариваемые притязания, так же как и уже
оформившийся миф.
Да, в глазах очень многих среди своих более или менее просвещен-
ных подданных Екатерина II была «Премудрый Мать Отечества», но
не по фольклорному образу Василисы Премудрой. В мудрости Ека-
терины видели и нечто от образованности и учености, от мужских
качеств трезвости, расчетливости и активности. Короче, образ этой
государыни начинал выходить за пределы традиционной мифологе-
мы материнства, как это было еще с Елизаветой Петровной.
Но движение его осуществлялось все-таки совсем не по траекто-
рии, ведущей к возникновению образа государя — первого дворянина
империи. Возникновение последнего связано прежде всего с проявле-
нием и разрастанием ростков свободы в русской культуре. Если у нас
хотя бы по некоторому подобию Западу дворянство постепенно
становилось сословием не вполне чуждым свободе, если свобода,
пусть в очень ограниченных проявлениях, наконец привилась на
российской почве, то этот процесс не мог не найти своего выражения
и в одворянивании российских государей. Только на Западе, сначала
средневеково-рыцарском, позднее же новоевропейски-дворянском
между государями и рыцарско-дворянским сословием никогда не
возникало дистанции. В том отношении, что государи там всегда
живо ощущали свою принадлежность к рыцарско-дворянскому со-
словию. Она гарантировала им такие жизненно важные для них
реалии, как свобода, доблесть, аристократизм, героическое самоощу-
щение.
Российский император
517
В Петербургской же России тяготение к подобным реалиям у госу-
дарей возникает по мере фундаментальной переориентации дворянст-
ва на западный тип дворянскости. Когда это произошло, стало уже
невозможным возвышаться над дворянством, быть для него безус-
ловно и непререкаемо авторитетным на одном только помазанничест-
ве, на передний план начала выходит еще и дворянская царствен-
ность. Она же предполагала связь свободных людей—государя
и дворянства. В эту сторону российских императоров толкала не
просто логика развития культуры, опасение зависания перед лицом
своих дворян, по крайней мере, наиболее продвинутой части дворян-
ского сословия. Быть первым дворянином для государя становилось
чрезвычайно привлекательным, ощущение себя государем и вместе
с тем дворянином кружило голову. Особенно первому из первых
дворян империи —Павлу I. Но у него же к месту и не к месту
акцентируемая рыцарственность находилась в самом резком и грубом
противоречии с замашками тирана и деспота, так же как и с самым
примитивным солдафонством. У последующих государей дворянские
(в западном смысле) черты были выражены в различной степени.
Более у Александра I и Александра II, менее у Николая I и особенно
у последних двух российских императоров, но каждому из них
в любом случае вменялось требование быть человеком чести, безу-
пречно светским, хотя бы на уровне жеста ценящим свободу в служе-
нии престолу и Отечеству у представителей дворянского сословия.
Не последнюю роль в одворянивании наших государей играло и то
обстоятельство, что к началу XIX в. они прочно вошли в сообщество
августейших особ Запада, со многими из них породнились и находи-
лись в близких дружеских отношениях. Но это было сообщество
именно первых дворян своих государств. И в нем были бы совсем
неуместны государи, лишенные черт дворянскости. Конечно же, это
обстоятельство не могло не влиять на самоощущение наших госуда-
рей. Более того, они в особенности были склонны демонстрировать
свой дворянский лоск в среде августейших особ. Европейский госу-
дарь был каждый для другого «высокочтимым братом». Но братство
государей предполагало не столько семейственность, хотя и ее тоже,
сколько побратимство царственных в своей свободе лиц. Как раз то,
что столетиями культивировалось сначала в рыцарских, а затем
дворянских сообществах.
Если российские императоры были императорами-помазанниками
Божиими, первыми солдатами и первыми дворянами империи, то
у каждого из них тот или иной образ был акцентирован по-разному
и в различной степени. После павловского сумбурного смешения
образов, резкого и немотивированного перехода от одного к другому,
в лице Александра I пришло время акцента прежде всего на импера-
торской дворянскости с примесью идущего от августейшей бабки то
ли действительного стремления быть просвещенным монархом, то ли
играть в него. У Николая I на передний план выходят солдатские
518
Культура Петербургской России
Николай II в мундире лейб-гвардии Николай II в карнавальном костюме
гусарского полка Фото, 1W3
черты, отодвигая на задний план дворянскость и помазанничество.
У Александра II опять очень весомую роль начинает играть дворян-
скость со своеобразно русским акцентом на барственности. А вот
Александр III уже всем своим несколько старомосковским видом
заставляет вспомнить прежде всего о государе — православном царе-
помазаннике Божием. В еще большей степени то же самое можно
сказать о нашем последнем государе-императоре Николае Александ-
ровиче.
Как и у его отца, у Николая II во всем его облике появляются не
просто старомосковские, а прямо простонародные черты. Что же
касается помазанничества и православности, то, наверное, ни у кого
из прежних российских императоров и императриц они не пережива
лись с такой же глубиной и серьезностью. Другое дело, что в русской
истории и культуре ко времени царствования последнего российского
императора процесс секуляризации зашел так далеко, что стал чреват
революционным взрывом. Помазанничество и православность импе-
ратора перестали быть реальностью, утвердительно и тем более
безусловно значимой для страны в целом. Собственно православ-
ность и помазанничество все более становились личным делом госу
даря, если и влиявшим как-то на страну, то, главным образом, тем,
что делало его положение все более уязвимым.
Как бы ни изменялись на протяжении Петербургского периода
образы российских императорских особ, нельзя забывать, что проис-
Российский император
519
ходившие изменения касались относительно очень узкого слоя под-
данных императора: прежде всего дворян, частично же и городского
населения. Для основной же массы русских людей император оста-
вался православным царем и государем-батюшкой. Православность
царя в крестьянском сознании легко переходила в пратриархаль-
ность, так же как и наоборот, а в чем-то существенном они были
неразличимы. Такое «низовое» восприятие российского императора
практически полностью отрицало новую реальность Петербургского
периода, но оно же служило одной из важнейших несущих конструк-
ций новоевропейского имперского здания. Российская империя
и рухнула-то от того, что до критической степени ослабела патриар-
хальная связь между российским императором и крестьянством. Это
обстоятельство, возникшее при горячем участии революционной ин-
теллигенции, и позволило ей совершить революцию. Не первого
дворянина или солдата и даже не помазанника Божия свергли
в 1917 г. в глазах крестьянства, а человека, к которому оно перестало
испытывать чувства сыйовней и дочерней любви, кого уже не почита-
ло, воспринимая в качестве невнятного существа, безразличного
к народным нуждам, и, соответственно, и у народа не вызывающего
особого сочувствия. Когда-то поколебать в крестьянском сознании
образ царя означало вызвать смуту самозванства. Теперь дело зашло
гораздо дальше. Крестьянин перестал воспринимать царский образ
в качестве отеческого. Пока крестьянин оставался крестьянином, то
есть вечным ребенком, ему нужен был отец. Но революция как раз
и продемонстрировала, что для крестьянина отцовский образ стал
совершенно невнятен. Царь перестал быть отцом; кто же подлинный
отец русских людей и супруг матушки-Руси,—этот вопрос для кре-
стьянина завис и оставался без ответа. С испугу и от растерянности
он готов был чтить отца и в большевистском вожде, своем прямом
искоренителе и убийце.
Глава 4
Дворянин, солдат, чиновник
Великие петровские реформы русское дворянство встретило в по-
ложении, которое радикально отличало его от западного дворянства.
И то, и другое сословия оставались сословиями землевладельцев, они
по-прежнему, хотя и не так тесно как прежде, были связаны с воин-
ской службой, ощущали себя и действительно были высшими сосло-
виями, члены которых презирали простолюдинов, и т. п. И тем не
менее на самом решительном несходстве можно настаивать по такому
фундаментальному критерию, как свобода. То, что западное дворян-
ство обладало драгоценной привилегией свободы, не только возвы-
шало его над менее свободным бюргерством и вовсе или почти
несвободным крестьянством, но и противопоставляло западного дво-
рянина российскому. На самом простом и наглядном уровне можно
себе представить непринужденно общающихся между собой шот-
ландского и польского, итальянского и германского дворянина. И не
только потому, что к началу XVIII в. все они усвоили французский
язык в качестве светского языка и языка культуры. Все эти и многие
другие дворяне были людьми приблизительно одной выделки, одних
ориентаций, одной шкалы ценностей, которые держались принципом
свободы и суверенности личности. А теперь представим себе русского
дворянина или боярина в том редчайшем случае, когда он способен
говорить на одном с западным дворянином языке. Общность языка
не изменит в этом случае самого главного. Слова и смыслы в нашем
гипотетическом разговоре двух дворян хронически не совпадали бы.
Это были совершенно разные люди, прежде всего потому, что свобо-
да одного из них была бы совсем не внятна для другого. Один увидел
бы в челобитной боярина или дворянина постыдную и низменную
кляузу, другой смотрел бы на дуэль как пустое и бездумное непо-
требство, для одного совершенно естественным явилось бы рукопри-
Дворянин, солдат, чиновник
521
кладство более сановитого дворянина по отношению к менее санови-
тому, другой увидел бы в нем самую отвратительную дикость, один
почтительно и галантно обходился бы с дамой, другой в дурную
минуту не остановился бы перед тем же рукоприкладством и т. д.
Самое примечательное в отмеченной ситуации состоит в том, что
петровские реформы и их ближайшие последствия ничего не обещали
в плане сближения российского и западного дворянства по критерию
свободы. Сближались они и очень интенсивно, но прежде всего за
счет усвоения относительно внешних реалий западной дворянской
жизни: одежды, причесок, этикета, светскости. Было еще, правда,
западное образование. Кого меньше, кого больше, но оно коснулось
довольно широких слоев российского дворянства. И надо сказать,
что не одна из перечисленных реалий не была целиком внеположена
свободе. Дворянская одежда, прическа, этикет, светскость, образова-
ние и прочее, безусловно, выражали собой в том числе и свободу,
были проявлениями свободной личности. Однако до поры до време-
ни на русской почве они уживались с самым настоящим старомосков-
ским духом всеобщего рабствования и холопства, когда каждый
дворянин хоть перед кем-то себя принижал, в свою очередь, по
возможности, принижая кого-то. При этом петровские реформы не
только преодолевали ветхую старину рабствования и холопствова-
ния, на свой лад они продлевали ее, вдохнув в старомосковские
обыкновения новую жизнь.
И здесь нужно обратить внимание читателя на то обстоятельство,
что, строго говоря, с нашим дворянским сословием как таковым
Петр I дела иметь не хотел. Разумеется, для него еще как существова-
ло российское дворянство, из его среды он черпал ресурсы помощни-
ков и исполнителей своих замыслов. Однако дворянское происхож-
дение само по себе не имело для Петра I существенного значения.
Иначе откуда в его ближайшем окружении взялись безродные про-
столюдины Меншиков, Шафиров или Девьер. С дворянами Петр I
все-таки дело имел, но смотрел на них исключительно как на потен-
циальных или реальных солдат и чиновников. В его нарождающейся
империи на верху общественной лестницы собственно никто, кроме
обозначенных общественных групп был не нужен. Не случайно Петр
готов был лишать дворян прав состояния в случае их отказа от
военной и гражданской службы. Со временем это жесткое требование
будет смягчено, однако вплоть до конца XIX в. не служащий или не
служивший дворянин в глазах общества не имел никакого веса или
престижа.
Тенденция к повсеместному привлечению дворян на гражданскую
и военную службу, подход к ним как к потенциальным чиновникам
и офицерам имел место и в ряде других европейских стран. Прежде
всего в германских государствах. Но только у нас военная и граждан-
ская служба стала источником пополнения дворянского сословия до
такой степени, что, скажем, чтобы попасть в дворяне, офицеру
522
Культура Петербургской России
в XVIII в. достаточно было дослужиться до капитана, а чиновнику
до соответствующего ему гражданского чина. Конечно, простолюди-
ну выбиться в капитаны или коллежские ассесоры было делом не
таким уж простым. И все же такого рода выслуга дворянского звания
в XVIII и XIX вв. вовсе не исключительна. При этом обращу внима-
ние читателя на то, что те же капитаны выслуживали именно потом-
ственное дворянство. По закону, в правах состояния они решительно
ничем не отличались от подлинно потомственных дворян и даже
титулованной знати. В установленном Петром I приоритете солдата
и чиновника над дворянством, в том, что свою империю он видел как
государство солдат и чиновников, а вовсе не дворян, легко усмотреть
известный эгалитаризм преобразования России. И он действительно
имел место. Во многом, разумеется, тщетно, но Петр действительно
стремился уравнять всех, кто служит государству в возможностях
продвижения на государственной службе. Выдвигая людей по талан-
там и заслугам, Петр, наверное, сделал гораздо больше, чем если бы
по-прежнему трепетно считался с происхождением и знатностью
рода—неизменными на протяжении веков преимуществами дворян,
как у нас в России, так и на Западе.
Была, однако, в петровском радикализме и безотрадная оборотная
сторона. Пренебрегая старомосковской родовитостью и знатностью,
в самом деле реалиями косными и застывшими, Петр вел дело не
столько к торжеству талантов и заслуг в своей империи, сколько
к службе, непременно сочетавшейся с приниженностью и угодничест-
вом по отношению к вышестоящим. Ведь если все достоинство
солдата (офицера) и чиновника в чине, если он внешним образом
фиксирует достоинство человека, то люди, в принципе, не равны.
Каждый из них всегда кого-то выше, а кого-то ниже, кем-то он
вправе пренебречь, а перед кем-то должен покорно склонять выю.
Другое дело, если служит дворянин с таким примерно самоощуще-
нием: «...мне доставляет удовольствие сказать, что к чести моего
рода, мои предки были грансеньорами, что младшие его члены, от
которых я происхожу, отличались верностью своим властителям,
своей приверженностью католической религии, своей военной служ-
бой и самой неукоснительной честностью. Моя ветвь рода в особен-
ности добилась значительных достижений, она никогда не изменяла
участием в каком-либо недостойном альянсе чистоте своего проис-
хождения»1. Оно выражено в «Мемуарах» кардинала де Берниса,
видного деятеля на французской политической сцене времен Людо-
вика XV. Кардинал старался мыслить в духе времени и у него можно
встретить еще и подобное утверждение: «Менее, чем кто-либо
другой, я полагал всю мою жизнь, что случайность рождения являет-
ся заслугой»1 2.
1 Memories du cardinal de Bernis. Paris, 2000. P. 49.
2 Там же. P. 48.
Дворянин, солдат, чиновник
523
И действительно, свою блистательную карьеру французский кар-
динал лишь в очень незначительной степени выстроил на знатном
происхождении. Оно было не более чем предпосылкой его собствен-
ного незаурядного активизма, сочетавшегося с одаренностью. В чем,
однако, можно не сомневаться, так это в том, что всю свою церков-
ную и светскую карьеру Бернис выстраивал как человек, преиспол-
ненный чувства собственного достоинства. Принадлежность к знат-
ному роду, гордость за него делали кардинала равным как
вышестоящим, так и нижестоящим лицам, с которыми он сталкивал-
ся на своем не столько церковном, сколько государственном попри-
ще. Конечно, равенство здесь было не безусловным, но оно обяза-
тельно существовало в своем аристократическом кругу. Оно было
равенством свободных и суверенных личностей, вовсе не отрицаю-
щих никакую служебную субординацию. У нас же Петр I укоренял
совсем другого рода эгалитаризм. Он предполагал уравненность всех
и каждого не перед лицом друг друга, а перед лицом неограниченно
властвующего государя, вольного казнить и миловать любого, от
генерал — фельдмаршала до рядового, от канцлера до подьячего, от
вельможи до крестьянина.
Было бы сильным преувеличением утверждать, что в царствование
Петра I и последующие десятилетия у русских дворян исчезает
всякое ощущение своей знатности и гордость за своих предков. Но
сохраняясь, они отходят на задний план. По поводу собственной
родовитости говорят скорее в тесном кругу, чем публично изъявляют
ее, о ней недовольно ворчат, не имея возможности горделиво утвер-
дить свою родовитость. В высшей степени характерно, что в Петер-
бургской России меняется представление о знати и знатности. Очень
быстро последняя становится не знатностью рода, то есть продолжи-
тельностью его существования и отмеченностью в отдаленной исто-
рии, а выделенностью и обласканностью того или иного лица, его
ближайших предков императорской особой. Кто бы, к примеру,
к началу XIX в. сказал, что графы Румянцевы или Разумовские не
принадлежат к знати и не образуют знатных фамилий? Но в том
и дело, что знатность их была не происхождением «от», а пребывани-
ем «в». Никому уже по-настоящему не было дела до того, что вовсе
не родовитый предок Румянцевых возник неизвестно откуда при
Петре I. Происхождение же Разумовских от певчего из хохлов при
елизаветинском придворном церковном хоре в другой, не россий-
ской, ситуации выглядело бы откровенно скандальным. Но уже сами
Алексей и Кирилл Григорьевич Разумовские воспринимались в Рос-
сии как безусловно принадлежащие к знати. Касательно же их детей,
в отличие от отцов образованных и воспитанных по-европейски
вельмож, уже прямо можно было говорить о полной довершенной
знатности.
Вспомним цитировавшиеся уже слова о том, что в Московской
Руси «за службу жалует государь поместьем и деньгами, а не отечест-
524
Культура Петербургской России
вом». Отечеством, то есть неотрывной от родовитости знатностью.
Много утекло воды с тех пор, если российские императорские особы
могли с легкостью, ни на кого или ни на что не оглядываясь, сделать
своего избранника не только богатым и чиновным, но и знатным.
Теперь достоинство дворянина всецело определялось сверху, манове-
нием государевой руки. И это на фоне того, что настоящая родови-
тость интересовала очень немногих, даже не всех представителей
родовитых фамилий. Многие из них, несмотря на то, что вели свое
происхождение прямо из IX в. и были куда родовитей самих Романо-
вых, пришли в полное оскудение. Что толку, если ты князь —
Рюрикович, а чин у тебя очень скромный, поместье же состоит из
нескольких десятков душ? Это уже полный парадокс, когда в России
XVIII в. графский титул повсеместно воспринимался едва ли не
выше и почетней княжеского. Последний наши государи не дарова-
ли, вплоть до царствования Павла!, он оставался исключительно
прирожденным и указывал на происхождение от Рюрика, литовского
Гедемина или какого-нибудь татарского хана. А вот графский титул
введен Петром I и, следовательно, был исключительно жалованным.
В XVIII в. он оставался сравнительно большой редкостью, всегда
давался тем, кто одновременно достиг высших чинов, богатства
и благоволения императорской особы, что для прирожденных князей
было вовсе не обязательно.
В результате и возникла ситуация, когда дворянин номинально
более высокого ранга воспринимался как низший, несмотря ни на
какие государственные установления. Попробуем только предполо-
жить нечто подобное во Франции, Италии, Германии или Великобри-
тании. Скажем, предпочтение, отдаваемое общественным мнением
графам перед герцогами. Дальше пустых фантазий у нас дело не
пойдет. Здесь на Западе любой титул от баронского до герцогского
даровался государями, но имел еще и огромное самостоятельное
значение. Конечно, обласканный государем герцог или маркиз смот-
релся выигрышней своих остальных собратьев. Но за «собратьями»
все-таки неколебимо признавалось достоинство ничуть не меньшей,
не исключено даже, и большей знатности.
То, что, начиная с Петра I, русский дворянин обязательно был еще
и солдатом или чиновником, легко спутать с предшествующей мос-
ковской ситуацией, когда службы военная и тесно с ней переплетаю-
щаяся гражданская тоже были строго обязательны для дворянина.
Различие между двумя ситуациями между тем достаточно существен-
ное. Когда дворянин—по преимуществу служащий человек,когда
дворянство и есть государева служба—это одно дело. Когда же
дворянина принуждают служить в качестве солдата или чиновника—
совсем другое. Все дело здесь в том, что солдатская и чиновничья
служба возникают вначале на Западе, а потом в России как реально-
сти, параллельные дворянской службе. Последняя сама по себе
базировалась на поземельных отношениях, на том, что владение
Дворянин, солдат, чиновник
525
определенным имением обязывало русского дворянина и западного
рыцаря конно, людно и оружно являться на службу к своему госуда-
рю. Служба эта не могла не иметь временных ограничений (обычно
определенный, относительно небольшой отрезок времени в году).
Солдат и чиновник—уже всецело государевы и государственные
люди. Помимо всякого имения им положено постоянное государст-
венное жалованье, они каждодневно исполняют свои государствен-
ные обязанности.
Подобные реалии для русского дворянина были и тягостны и не-
привычны. Учтем только, что ограничивали они все—таки не свобо-
ду дворянина. Ее у него не было ни во внешнем, ни во внутреннем
смысле. Эти реалии скорее нарушали привычный уклад дворянина—
богатого или очень богатого крестьянина, очень мало от своих кре-
стьян отличающегося образованием, мировоззрением, повседневны-
ми привычками и обыкновениями. Разумеется, очень богатый
крестьянин живет в условиях, сильно отличающихся от условий
обычной бедноты. Но эти отличия все же прежде всего образуют
полюса в пределах одной и той же реальности. И самое прискорбное
здесь заключается в том, что дворянин, не имеющий перед крестья-
нином существенных преимуществ образованности, выделки ума,
дисциплины духа, ин диви дуализированности, перестает оправдывать
свое существование. Оно становится преимуществом и привилегией
внешнего характера, никак не оправдывающимся внутренне. Когда,
например, благосостояние не искупается аскезой, напряженным са-
мопреодолением, трудом и постоянством в достижении жизненной
цели. Ничего не скажешь, русское дворянство времени петровских
реформ вполне заслужило той ломки и напряжения его сил, которые
обрушил и вызвал у него Петр Великий. В житье-бытье солдата
и даже чиновника все же больше жизни как индивидуального само-
осуществления, чем в безличном, хотя и сытом прозябании допетров-
ского времени.
В Петербургский период обнаруживается тенденция не только
к растворению дворянина в солдате и чиновнике, но и к появлению
новых для России типов дворянского существования (они же образы
или фигуры дворян определенного рода). В первую очередь укажу
на появление на российской сцене придворного и вельможи, — фигур,
во многом близких и совпадающих. В самом широком и, надо
сказать, нивелирующем культуру в ее наиболее красноречивых и ха-
рактерных проявлениях смысле, фигуры придворного и вельможи
существовали и при дворе московских царей. Ведь царский двор
состоял из определенных бояр и дворян, в том числе и наиболее
обласканных царем и пользующихся наибольшим влиянием и поче-
том. В этом отношении Московский двор как будто ничем не отли-
чался от Петербургского. Согласившись с совпадением дворов по
указанному пункту, попытаюсь стремительно подойти к существу
дела, еще раз обратившись к французскому опыту, в очень значи-
526
Культура Петербургской России
тельной степени определявшему придворную новоевропейскую куль-
туру всего остального Запада. На этот раз перед нами цитата из
автора гораздо более известного, чем кардинал Бернис, во всяком
случае, во французской литературе. Она представляет собой фраг-
мент письма, адресованного госпожой де Севинье некоему де Кулан-
жу. Отправлено оно было из парижского особняка в замок, располо-
женный в провинциальном Лионе. Вот этот фрагмент.
«Я собираюсь сообщить Вам новость самую удивительную, самую
поразительную, самую чудесную, самую таинственную, самую тор-
жественную, самую ошеломляющую, самую неслыханную, самую
странную, самую общераспространенную, самую невероятную, са-
мую непредвиденную, самую громадную, самую маленькую, самую
редкую, самую обыкновенную, самую яркую, самую секретную до
сегодняшнего дня, самую блестящую, самую достойную зависти;
наконец, вещь, для которой не найти примера в последние века...
вещь, которой не могут поверить в Париже так же как не могут
поверить в Лионе; вещь, которая вызвала крик ошеломления повсю-
ду... наконец, вещь, которая произошла в воскресенье и которая не
могла произойти в понедельник. Я никак не могу решиться сказать...
Вы хотите, чтобы я сказала? Ну, хорошо! Нужно Вам сказать: месье
де Лозен женится в воскресенье в Лувре, угадайте, на ком?»1
Увы, далее цитировать письмо мадам де Севинье мне не позволяет
ни тематическая направленность книги, ни размеры настоящей гла-
вы. А я процитировал только половину письма, и то с некоторыми
купюрами. Скажу только, что далее маркиза де Севинье все никак не
решается назвать имя будущей супруги месье Лозена. Так ее потряса-
ет перспектива ее брака с Лозеном. Еще бы, ведь невестой Лозена
стала mademoiselle, как официально именовали при дворе Людовика
XIV дочь Гастона Орлеанского, дяди царствующего короля. Она
была принцессой крови, Лозен же всего лишь графом, впоследствии
герцогом. Брак между ними, впрочем, так и не состоявшийся, стал
бы при дворе событием неординарным. Дистанция между принцессой
крови и аристократом даже самого высокого ранга была огромна.
Но отчего же такая остроумная и тонкая, не говоря уже о том, что
блестяще образованная женщина, какой несомненно была мадам де
Севинье, раздувает последнюю светскую и придворную новость до
события едва ли не вселенского масштаба, едва ли не до всемирно —
исторического катаклизма? Да оттого, что все, происходящее при
дворе и есть жизнь всей Франции в ее конденсированной существен-
ности. Ну, а Франция —это, безусловно, центр мира, откуда его
освещает своими лучами король-солнце. А теперь представим себе:
в королевском роду случается нечто из ряда вон выходящее, попи-
рающее основы и устои дворцового этикета и, самое невероятное, —
его иерархию. Разве подобное событие могло оставить равнодушной
1 Madame de Sevigne Lettre choisies. Paris, 1965. P. 43—44.
Дворянин, солдат, чиновник
527
женщину с умом и сердцем, разве оно не способно потрясти ее до
глубины души?
Меряя происшедшее сегодняшними мерками, легко решить, что
мадам Севинье, что ни говори,—сплетница. Может быть, оно в на-
шем случае и так. Но перед нами высокая сплетня, освященная
величием и блеском королевского двора и королевской особы. Так
что к сплетне письмо мадам де Севинье не свести. Она дышит
воздухом двора, он пьянит ее, и она нет-нет, и впадает в род
священного безумия, которое, как известно, неизмеримо выше чело-
веческой мудрости. Но также и придворная новость—сплетня стоит
на высоте несоизмеримой с ясными и трезвыми расчетами обычных
людей, их речами, мнениями, оценками.
Слишком очевидно, что весь дух и тон письма маркизы де Севинье
совершенно чужд всему, что могло произойти при дворе любого из
Московских царей. Все происходившее здесь было монументально,
серьезно, благолепно и благочестиво или, наоборот, непристойно
и кощунственно, если царь сбился с пути, как Иван Грозный, или
вовсе не царь, а самозванец Гришка Отрепьев. Московский царь
прежде всего помазанник Божий, затем отец своих бесчисленных
детей. С ним и всем его окружением не происходит никаких частных
событий, выражающих текучую подвижность жизни замкнутого на
себя круга людей. Происходящее при царском дворе и есть жизнь
Московского царства, здесь его голова и его душа. Все остальное
вторично и производно от них. Каждодневно Московский царский
двор исполняет свой ритуал, частично совпадающий с богослужени-
ем, но и вне рамок последнего он, как и положено ритуалу, предза-
дан и по возможности не допускает проявления индивидуально-
человеческих предпочтений, вкусов, спонтанных решений царя и тем
более его окружения. Новостей при Московском дворе не было,
точнее, не должно было быть. Когда же они неизбежно происходили,
их старательно оформляли в качестве проявлений от века установ-
ленного, подтверждения давних обыкновений или единственно воз-
можных устойчивых реакций на нечто неожиданно происшедшее.
Двор Людовика XIV тоже (и еще как!) знал свою ритуалистику,
церемонность, расписанность жизни двора в соответствии с жестким
регламентом. Однако в резком отличии от двора московских царей
французский двор составляли люди резко индивидуализированные.
Жизнь для них в значительной степени была импровизацией, в ней
они ценили новизну, разнообразие и полноту впечатлений, они
стремились к выходящим из ряда вон поступкам, хотели быть участ-
никами необыкновенных событий, вызывать к себе всеобщий инте-
рес. Сами интересовались необычными людьми, ситуациями, поло-
жениями. Королевский двор был своего рода рамками и формой,
обуздывавшей, не без успеха, стихию взаимо- и самопротиворечивых
порывов знати. Он был сценой, на которой так же, как и за ее
кулисами, разыгрывались непрерывно драматические действия. Ки-
528
Культура Петербургской России
пела именно жизнь индивидуализированная, самоопределяющаяся
в лице того или иного придворного.
По сравнению с французским, русский двор Московского периода
был сонным царством церемониального однообразия, обуздывавшего
по преимуществу страсти, замысли и вожделения первобытно—при-
митивные и простодушно-наивные. Самое существенное различие
между двумя дворами состояло, пожалуй, в том, что конденсируя
в себе всю внешнюю и внутреннюю существенность происходящего
в стране, французский двор делал это через освящение жизни секу-
лярной, светской, жизни, где необходимы были самоопределение,
острота ума, образование, вкус, внимание к своим и чужим душев-
ным движениям, способность самому в них разобраться. Всему этому
королевский двор не препятствовал, а, скорее, задавал определенные
и жесткие правила игры. В отличие же от французского, русский
двор оставался формой, заменявшей собой разнообразие индивиду-
альной жизни, не без оснований подавлявшей ее, так как она посто-
янно грозила вылиться если не в бунт, то в непотребство чистой
бесформенности.
Монарший двор Петербургского периода разительно отличался от
старомосковского уже по внешним признакам, резко сближавшим его
с любым другим новоевропейским двором. Близость между ними,
однако, не стоит преувеличивать. И не только потому, что в XVIII в.
при российском императорском дворе преобладал дух самого грубого
низкопоклонства перед высшими и такого же грубого пренебрежения
низшими. Наш двор был еще только школой формирования запад-
ных форм общежития и жизненных ориентаций. В этом дворе приме-
ривали к себе западное платье, учились его носить, а частью и жить
в соответствии с формируемым платьем образом, а не просто внешне
же соответствовать внешне заимствованным у западных дворов эти-
кетным формам. Свою, думаю, немаловажную, роль в этом процессе
сыграли русские вельможи. Этот дворянский тип очень характерен
для XVIII в., но последние русские вельможи доживают до царство-
вания Александра I, и при нем окончательно вымирают.
Когда мы говорим о вельможе, то представляем себе очень, иногда
сказочно богатого, как правило, титулованного дворянина, достигше-
го высших ступеней служебной лестницы, украшенного высшими
орденами империи, обязательно принятого при дворе, очень часто
игравшего при нем более или менее значительную роль. Почему же,
в таком случае, вельможи не пережили александровского царствова-
ния? Ведь по перечисленным критериям к вельможам можно отнести
не только А. Г. Разумовского, И. И. Шувалова, А. Г. Орлова, П. А. Зу-
бова, но и, скажем, П. М. Волконского и А. Ф. Орлова. Если попы-
таться ответить на поставленный вопрос покороче и попроще, то
обратить внимание следует на то, что первые отличались какой-то
необыкновенной, уже в XIX в. казавшейся сказочной, роскошью
и размахом жизни. Вельможами, с одной стороны, не рождались
Дворянин, солдат, чиновник
529
даже лица, принадлежавшие к родам самым знатным, с огромными
связями среди знати и при дворе. С другой стороны, вельможи при
всей своей зависимости от двора и милостей императорской особы,
а иногда и ее очередного фаворита, все же отличались какой-то
особой, не найду другого более точного слова, вольностью повадки,
жеста, образа жизни. В огромной степени вельможи жили по своей
воле, даже занимая самые высокие и ответственные должности. Один
из них управлял, как Бог на душу положит, своей коллегией, другой,
будучи наместником императрицы на огромной территории, сам был
для всех высшим судом и расправой.
Разумеется, самая нижайшая почтительность по отношению к им-
ператорской особе была и тут обязательна. Нельзя было вельможе
пренебрегать и императрицыным окружением, когда надо, можно
было постучать лбом по паркету в кабинете или гостинной находив-
шегося в особой силе и фаворе милостивца. Однако к подобным
ситуациям дело не только не сводилось, но они и не составляли
существо вельможной жизни. Она-то являлась в первую очередь
жизнью, упбтребим слово с явным перебором, царственной. Да,
вельможа «царствовал» в отведенных ему, не очень узких и тем более
не жестких рамках. «Царствованием» его жизнь можно назвать
потому, что заботами вельможа обременял себя мало, принимал
решения круто, властно, иногда едва ли не по капризу. Власть над
ним была очень относительная и не очень последовательная и неук-
лонная. Добившись высших чинов, наград и ответственной должно-
сти, вельможа начинал «царить». Служба как-то очень легко и неза-
метно оборачивалась для него роскошным житием и весельем.
Царственной особе новоевропейского типа не очень-то к лицу
напряженные труды и методические усилия на благо государства.
Священной особе и первому дворянину королевства вполне уместно
одним махом, походя разрешать сложнейшие, запутанные вопросы,
выслушав многомудрых советников. Он находится в ситуации почти
непрерывного праздника. Праздник для новоевропейского госуда-
ря—это и богослужение, и война, и прием иноземных посольств,
и всякого рода представительство, посещение тех или иных государ-
ственных учреждений и заведений. За письменным столом или кон-
торой государю пристало лишь подписывать бумаги. Даже читать их
ему предпочтительно не самому, а выслушивая выдержки из них из
уст секретаря или министра. За ними проза и текучка повседневных
дел, но никак не за «праздничным» государем.
Но точно так же или почти так же вел себя и вельможа. Вне
прямого контакта с собственной государыней он живет вполне по-
царски. И государыни—Елизавета Петровна, а тем более умная
и дальновидная Екатерина II — это прекрасно знали. Они вполне соз-
нательно отдавали на откуп своим вельможам области своего госу-
дарства или сферы управления им. Оно как бы дробилось на вель-
можные «царства». Важным для государынь тут оставалось по
530
Культура Петербургской России
Портрет герерал-фельдмаршала графа
3. Г. Чернышева
существу одно. (Злоупотреблений
не избежать. Увы, они неизбеж-
ны. Все воруют, всем хочется по-
жить, по возможности, на более
широкую ногу.) А именно, не дать
вельможе зарваться, почувствовать
себя окончательно суверенным.
Все-таки империя должна не толь-
ко дробиться на «царства вель-
можства», но в этой разделенности
оставаться собранной в державной
длани государыни.
Доля и жизнь вельможи может
быть и завидны, но как все же
увидеть в ней некоторый позитив,
определенную культурную форму,
позволявшие России выразить себя
перспективно и жизнеустроитель-
но? Увидеть в вельможе позитив-
ное начало можно, если не отвле-
каться от его «царственности»,
и если не свободы, нет, конечно,
а той самой вольцой повадки. Она
так или иначе не чужда свободе. Как минимум, чревата ею. Ведь
вельможа неистребимо вольный, привыкший жить в соответствии со
своим нравом человек. Это обстоятельство особо выходило на перед
ний план, когда он отправлялся в отставку, на покой. Как правило,
в Москву, в сам город или пригородное имение.
Вот здесь уж доподлинно разворачивалось роскошное житие и ве-
селие, жизнь как непрерывно длящийся пир. Пир же, как известно,
вовсе не просто трапеза, а исходно мифологический образ полноты
жизни. У греков он сопровождался не только музыкой, театрализо
ванными действиями, но и ученой беседой. Пир был еще и пиром
духа. Может быть, нашим вельможам было и очень далеко до того,
что происходило в «Пире» Платона, но их собственные «пиры» ему
и не внеположены. Среди вельмож были более или менее образован-
ные люди, любители литературы, театра, достаточно тонкие ценители
архитектуры, способные принять талантливый архитектурный про
ект. Словом, покой и пир вельмож вовсе не были чужды культуре
в ее привычных проявлениях.
Не менее важно, однако, и то, что вельможество образовывало
многочисленные центры внутренне и внешне самостоятельной жиз
ни. Не случайно Екатерина II, а затем и ее преемники так интересо-
вались тем, как живет и чем дышит Москва. Не то чтобы они прямо
опасались сколько-нибудь оформленной оппозиции ушедших от дел
вельмож. Но с их молчаливым недовольством или холодностью по
Дворянин, солдат, чиновник
531
Портрет графа И. Г. Орлова
Ф. С. Рокотов, между 1762 и 1765
отношению к своим определенным
действиям государи не могли не
считаться. Московские «цари» все
же были силой, в том числе и си-
лой только еще нарождавшегося,
оформлявшегося и выходившего
из немоты общественного мнения.
Конечно же, мне вовсе не хоте-
лось бы впасть в преувеличение
и низко поклониться в ноги рус-
ским вельможам XVIII в. Уж очень
много за ними числится всякого
рода слабостей, пороков и непо-
требств. Но если с холодным вни-
манием сопоставить вельмож с их
предшественниками — боярами Мо-
сковской Руси, то различие меж-
ду ними будет огромно и явно не
в пользу последних. Никакой куль-
турной инициативы, вольной или
невольной, за ними не стояло, раз-
ве что за редчайшим исключени
ем. Московские бояре всякую свою свободу утеряли. Несмотря ни на
какое богатство, жили они в крестьянской простоте и заскорузлости.
«Царствовать» им по образу и подобию вельмож строго воспреща-
лось. Слишком велика была опасность, что их «царствование» обер-
нется одним только безграничным произволом и непотребством. Хотя
бы уже потому, что наше боярство не знало никаких устойчивых
светских форм жизни, которые делали бы власть и богатство в том
числе и предпосылками сдвигов в культуре, проявления ее новых
возможностей.
Нечто подобное за вельможами все-таки числится. Уже само их
существование делало несводимой русскую жизнь к рабствованию
и холопству, и всеобщей приниженности перед лицом императорской
особы. В отношении к ней у вельмож, кстати говоря, акцентирова-
лось сыновство, а вовсе не холопство. И потом, если российский
императорский двор, о чем речь в следующей главе, был определяю-
щей культурной силой в России XVIII в., то не так уж много он
преуспел бы в своем инициировании, если бы его не поддерживали
и не светились его отраженным светом вельможные «дворы». Светом
искусств, отчасти науки и образования, во всяком случае, торжест
венно оформленным и величественным стилем жизни.
XVIII в. характеризуется преимущественно тяготением дворянина
к оформленности в солдата и чиновника, для избранных единиц—
к вельможеству и придворности, ну, и конечно, все еще к допетров-
ской русской растительной жизни богатых и очень богатых крестьян.
532
Культура Петербургской России
К XIX в. ситуация существенно изменяется. Русский дворянин поми-
мо всего перечисленного заявляет себя еще и как определяющая
и доминирующая фигура во всей русской культуре Петербургского
периода. В России ситуация сложилась таким образом, что здесь ни
буржуазия, ни какой-ибо другой слой населения в качестве значимой
культурной реальности не сложился. У нас не только литераторы,
художники, музыканты, мыслители были преимущественно или поч-
ти исключительно из дворян. Даже среди (это уже прямо какой-то
ужас кромешный!) революционеров самого левого толка вплоть до
большевиков сплошь и рядом встречаются дворяне. Когда же деятель
культуры дворянином все же не был, его творчество оставалось
настолько в русле идущего от дворянства, что по существу такого
деятеля вполне правомерно рассматривать как «дворянина» в культу-
ре. Таковым был, например, крупнейший недворянин в нашей сло-
весности—А. П. Чехов. Как бы он ни жаловался на свое ужасное,
безобразное детство сына мелкого таганрогского лавочника, в лите-
ратуре Антон Павлович самый настоящий дворянин и барин. С его
мягкостью, чувствительностью, невнятной тоской по неведомому,
изяществом и отвращением к «мещанской» прозе жизни.
При обращении к вопросу, отчего это у нас в культуре Петербург-
ского периода такое исключительное место занимает дворянство,
проще всего указать на неизменно аграрный характер страны, нераз-
витость городской жизни, запоздалую индустриализацию и т. д. И это,
наверное, не будет неверным. Толку от подобных объяснений между
тем не много. Прежде всего потому, что они указывают на невозмож-
ность кем-либо заменить дворянство в русской культуре. Но это
обстоятельство на самом деле ничуть не объясняет самого главного:
почему именно дворянство достигло таких впечатляющих результа-
тов в выполнении миссии, в которой его заменить было некому?
Думаю, что ответ на этот вопрос в самом общем виде можно
рискнуть сделать сразу же. И состоять он будет в том, что русское
дворянство стало единственным сословием, которое сполна восполь-
зовалось плодами российской европеизации. Не только в плане
секуляризации образования, усвоения и развития на отечественной
почве наук, искусств, философской мысли, но и в том решающем
пункте, от которого производно все остальное. Несмотря ни на что,
русское дворянство, конечно, на свой особый, характерно русский
лад стало сословием свободных людей. А на характерно русский лад
как раз потому, что дворянство в его европеизации, несмотря ни на
какие наглядные свидетельства противоположному, не просто оста-
лось русским, но и теснейшим образом связанным со всей Россией
и русской жизнью. Вот эта европеизация и несмотря ни на какие ее
издержки, коренная, неизбывно-глубокая русскость и определили
возможность культурной миссии дворянства и в то же время ее
характер. Касательно последнего стоит отметить, что ему было свой-
ственно постоянно дававшее себя знать напряжение несоответствия
Дворянин, солдат, чиновник
533
между русским европеизмом с его духом свободы и свободного
утверждения личности и тем, что страна как огромное целое жила
в других ритмах и другими смыслами.
Дворянство, по определению, представляло собой верхний и при-
вилегированный слой российского общества. Но в этой привилегиро-
ванности оно в своей наиболее просвещенной и динамичной части
было еще и оторвано от остальной России. Не чуждостью ей, вовсе не
непониманием родной страны, в чем сами дворяне были склонны
обвинять себя. Скорее, для дворянина было характерно чувство
общности с остальной страной, интимной близости к ней. Как,
например, у Наташи Ростовой к русским крестьянам во время ее
известного танца при посещении дядюшки в его захолустье. Или
у Ильи Ильича Обломова к своему лакею Захару, с которым, не-
смотря ни на какую разницу состояния или образованности, они
связаны неразрывно.
Дворянину было и от европейскости своей не отказаться, и связей
с остальной страной не разорвать. Отсюда проистекало самое, может
быть, печальное обстоятельство, некоторая струя безнадежности
в представляемой дворянством русской новоевропейской культуре.
У цвета русского дворянства опускались руки при попытке, при
одной мысли даже о снятии противоречия между ним и остальной
Россией. Дворяне в XIX в. ощущали все меньше, что способ их
существования, их культура определяют ситуацию и делают погоду
в России. Со своим европеизмом дворянство было склонно к некото-
рой растерянности. Оно переставало ощущать себя солью земли
русской, не видя, чтобы кто-то вместо него стал ею. Уж, конечно,
это было не огромное численно, косное, неразворотливое, все прони-
занное мертвящим формализмом военное сословие, так же как и не
чиновничество. «Но кто тогда?»—задавалось дворянство вопросом,
озираясь вокруг и не решаясь его переиначить единственно достой-
ным образом: «Если не я, то кто?» Таким образом, чтобы вопрос
сливался с ответом.
Думаю, что русское дворянство, причем вовсе не обязательно
низший слой, потому и стало так необыкновенно творчески продук-
тивно, что создавая художественные образы и интеллектуальные
построения, оно отодвигало от себя свою настоящую задачу: про-
явить себя сословием власть имеющим, способным утвердить себя,
а в себе и всю страну через устойчивые и надежные формы нацио-
нально-государственного и общественного бытия. В других странах
в эпоху их «золотого века» создавала художественные и интеллекту-
альные образы преимущественно не аристократия. Последняя совер-
шала «великие и удивления достойные деяния», в конце концов, ту
атмосферу и реальность в целом, которая подлежала художествен-
ному и интеллектуальному осмыслению, составляя живой опыт для
художника и мыслителя. Наши дворяне сами стали художниками
и мыслителями. Но когда это окончательно произошло в XIXв.,
534
Культура Петербургской России
наша культура не в последнюю очередь выразила себя культурой
вздохов, сожалений о не могущем состояться, всеобщей неустойчиво-
сти и неблагополучия, наконец, культурой предчувствия грядущей
неотменимой катастрофы.
***
Фигура и образ солдата еще недовершенно, но все же в главном
оформились на Западе в XVII в., и это обстоятельство сразу же стало
сказываться в Московской Руси, где происходило формирование
полков нового строя за счет усвоения западного опыта. И не просто
усвоения, а прямо приглашения и вербовку на московскую службу
сотен и тысяч иностранцев. Они составляли офицерский корпус
новых воинских формирований и значительную часть рядового со-
става. Однако вплоть до петровских реформ солдаты русской армии
не просто сосуществовали с традиционными для Московской Руси
стрельцами или дворянским ополчением, но и не были определяющей
реальностью в русском войске. Они оставались некоторым вкрапле-
нием в совсем не западную по типу организацию вооруженных сил
государства. Начиная же с петровского царствования, солдат стреми-
тельно превращается не просто в главную, но и безусловно домини-
рующую фигуру. Скажем, сохранившееся казачество—при всей его
важности для русской армии—ни в какое сравнение по своей значи-
мости с солдатскими формированиями не идет. Понятно, что превра-
щение московского войска в регулярную армию солдат стало одним
из наиболее существенных проявлений вестернизации России. Но
точно так же очевидно несовпадение русского солдата с другими
западными солдатами: французским, германским, английским, швед-
ским и т. д. При этом у нас возник не просто свой национальный тип
солдата. До известной степени он может быть еще и противопостав-
лен всем остальным солдатским национальным типам.
Так, сразу же обращает на себя внимание то обстоятельство, что
почти весь XVIII в. в русской армии любой воин начинал свою
службу с нижних, то есть собственно солдатских чинов. Сразу стать
офицером, что только и пристало дворянину, было невозможно. До
офицера нужно было еще дослужиться. Вначале, при Петре Вели-
ком,—действительно испытав немалые тяготы службы в нижних
чинах, начиная с рядового. Потом, со второй половины XVIII в.
служба в нижних чинах становилась для сколько-нибудь состоятель-
ного дворянина все большей условностью. Очень хорошо известен
обычай, отмененный только Павлом I, записывать рядовыми в гвар-
дию новорожденных младенцев мужского пола. В результате чего по
достижении соответствующего возраста юноша-дворянин мог начи-
нать реальную службу в офицерском чине. Запись младенцев в число
служащих в гвардейском полку была нехитрой и даже вполне откро-
венной уловкой с целью обойти для своего дитяти тяготы службы
собственно солдатом. Российские государыни откровенно закрывали
Дворянин, солдат, чиновник
535
глаза на совершающееся плутовство и даже негласно поощряли его.
Важно здесь, однако, еще и то, что они так и не решились отменить
суровое и беспощадное по отношению к дворянству петровское поста-
новление. За ним ведь стояла не просто требовательность жестокого
монарха.
Более важна была идеология, стоявшая за необходимостью обра-
зовать дворянского недоросля службой в гвардейском полку. Его
нахождение в нижних чинах в этом случае до некоторой степени
заменяло собой военное образование в кадетском корпусе или учили-
ще. Однако, с другой стороны, нашли ведь в XIX в. для этого другой
выход, когда дворянские отпрыски определялись в полк юнкерами,
то есть уже не нижними чинами, а своего рода набирающимися
воинского опыта претендентами на офицерский чин.
Но это был XIXв., когда в России установилось представление
о дворянине, как человеке, обладающем привилегией свободы и со-
отнесенного со своим государем уже не просто как его слуга, а как
свободное лицо, свободно служащее своему государю. Весь же XVIII в.
продолжал действовать данный Петром I (в этом прямо продолжаю-
щего дело своих старомосковских предшественников) импульс отно-
шения к дворянину как такому же подневольному слуге государя
и государства, как и любой другой. В солдатстве Петр I стремился
прежде всего уравнять верхи и низы общества и только потом
выделить высшее сословие. В его представлении оно должно было
выделяться не богатством и знатностью, как таковыми, а еще и особо
ответственным и сложным характером своей службы, которая в гла-
зах Петра I была нераздельной с образованием как приобщением
к западным наукам.
Эту петровскую установку не решились поколебать преемницы
Петра на императорском троне, предпочитая ослаблять ее действен-
ность исподволь ввиду широко распространенного, хотя и остававше-
гося под спудом недовольства дворян тяготами службы в нижних
чинах. Когда Павел I отменил одним мановением руки все послабле-
ния, по существу, сведшие на нет уравнивание дворян с простолюди-
нами по части воинской службы, он попытался попросту вернуться
к петровской неуклонной требовательности к дворянской службе. Но
эта была требовательность к сословию, в среду которого к тому
времени достаточно глубоко проникли представления о человеческом
достоинстве, чести и естественных для дворянина ввиду его свободы
привилегий. Как известно, давление Павла I на дворянство стоило
ему жизни. При его же преемниках солдатская служба окончательно
определилась в своей двойственности, когда в армии существовали
господа офицеры и подневольные низшие чины. Офицер и солдат
теперь резко отличались друг от друга еще и военной формой, чего не
было в XVIII в.
И все же применительно к XVIII в. по-прежнему правомерно
говорить о наличии в России фигуры солдата, которая, оставаясь
536
Культура Петербургской России
собой, включала в себя как офицерскую, так и собственно солдат-
скую разновидности. Несмотря ни на какие различия, объединяло их
между собой служение. И солдат и офицер были обязаны государю
и государству безусловным повиновением. Их соотнесенность укла-
дывалась в простейшие рамки отношения «приказ—повиновение».
Оба они обязаны были ни с чем не считаясь, в том числе и со своей
жизнью, выполнять приказ. Вся их жизнь должна была состоять
в неуклонном исполнении устава как в военное, так и в мирное
время. Всякого рода артикулы расписывали солдатскую жизнь до
мелочей, сводя солдата (офицера) едва ли не до состояния заведенно-
го механизма. Несомненно, к этому стремились российские армей-
ские и флотские уставы и артикулы.
Но был и другой полюс военной службы. Он предполагал, что
у солдата есть живое сознание долга и ответственности перед госуда-
рем и отечеством, что солдат служит не за страх, а за совесть, что
исполняет свои обязанности он с безграничной стойкостью и терпени-
ем, а идет под пули, не дрогнув сердцем в готовности победить или
умереть. По существу, к солдату (его офицерской разновидности
в меньшей степени) предъявлялись взаимоисключающие требования.
И не просто предъявлялись, но со всей жесткой последовательностью
осуществлялись. В мирное время он изображал из себя едва ли не
автомат, но вот наступала война, и обученный парадам, разводам,
караулам, безупречному вытягиванию носка при идеально синхрон-
ном шаге всего подразделения солдат должен был вдруг обнаружи-
вать качества, ничего общего не имевшие с забитостью и автома-
тизмом.
Подобная видимая бессмыслица на самом деле только бессмысли-
цей не была. Здесь перед нами скорее острое и глубокое противоре-
чие солдатской службы в XIX в. Оно проистекает из того, что
в действительности самоочевидное представление о солдате как о че-
ловеке войны, как о том, для кого мирное время существует исключи-
тельно для подготовки к возможной войне, не точно, а для России
и вовсе неверно. Здесь солдат действительно должен был быть готов
защищать свое Отечество. Но в то же время солдатское существова-
ние—это непрерывная демонстрация гармонии, строя, лада, безу-
пречной выверенности и связи частей имперского государства. Ему
действительно необходимо было непрерывно демонстрировать себе
и другим некоторое достигнутое совершенство собственного бытия,
и солдат был главной фигурой в демонстрации такого рода. Без его
участия империя не имела бы такого отчетливого, знакового и вместе
с тем повседневного реального выражения своего величия, мощи,
неотразимо обаятельного великолепия.
В этом случае различие в участи солдата и собственно офицера
было очень существенно и все же относительно. Да, конечно, по
сегодняшним меркам жизненный путь солдата александровского
и николаевского царствований ужасает. И в самом деле, разве это не
Дворянин, солдат, чиновник
537
ужасно отрывать, по существу, на
всю жизнь молодого крестьянина,
иногда даже женатого, от его род-
ного селения и семьи и резким
беспощадным движением забро-
сить его в мир бесконечной муш-
тры и побоев, безаговорочной
подчиненности вышестоящим, не
слишком сытой жизни, не говоря
уже о военных испытаниях?
Последние же сводились дале-
ко не только к опасности быть
убитым или искалеченным. Не-
сравненно больше жизней уноси
ли суровые условия военных по-
ходов, с неотрывными от них
массовыми заболеваниями и смер-
тями. Только представим себе сол-
дата в очень эффектной, но страш-
но неудобной форме, шагающего,
ежедневно неся на себе несколько
десятков килограмов амуниции
десятки же верст, ночующего на
открытом воздухе, при необходи-
мости и зимой, питающегося скуд-
Портрет унтер-офицера лейб гвардии
Московского полка Андреева
П. Е. Заболотский, 1836
но и нерегулярно. Уцелеть в таких условиях становилось возможным
далеко не для каждого. И вот подневольное и забитое существо
должно было еще и проявлять стойкость, мужество, героизм. И, как
это не поразительно, проявляло! Репутация русской армии и в алек-
сандровское, и в николаевское царствования была очень высока
и вполне заслуженна. Падать она начала ввиду нараставшей техниче-
ской отсталости русской армии, так же как и того, что крестьянин,
вырванный из патриархальной среды, от десятилетия к десятилетию
становился все менее подходящим материалом для создания из него
солдата.
Касательно же офицера нужно сказать, что отличали его от солда-
та, понятное дело, больший комфорт и обеспеченность жизни. Впро-
чем, тоже очень скромные в подавляющем большинстве случаев.
Более важным было то, что для офицера его солдатская, тоже
подневольная служба была все-таки совместима со свободой. Идти
или не идти в офицеры дворянин был волен. В XIX в. служба для
дворян уже не была непременно обязательна. Еще большее значение
имело никак не оспариваемое право дворянина выйти в отставку по
своему усмотрению. За этими рамками, однако, офицер занимался
той же самой ежедневной муштрой и шагистикой, в очень сильной
степени зависел от воли и произвола начальства.
538
Культура Петербургской России
Обучение солдат в провинциальном городе
Неизвестный художник, начало XIX в.
На войне же тяготы офицерской службы даже превышали солдат-
ские. С одной стороны, у офицера было меньше шансов свалиться от
тягот длительного перехода войска или стояния в самом неподходя-
щем месте. Но с другой стороны, в случае сражений офицеры, кроме
самых старших чинов, обязаны были находиться впереди своих
подразделений, поднимать войска в атаку, останавливать бегство
растерявшихся солдат, делать со своим отрядом рискованные вылаз-
ки и т. д. Статистика потерь в ходе сражений XIX в. здесь достаточно
красноречива и все ставит на свои места. Свидетельствует же она
о пропорционально гораздо больших потерях офицерского состава
по сравнению с нижними чинами в итоге сражения.
Так что офицерская служба дворянина, и особенно обладающего
имением, п-своему не менее парадоксальна, чем солдатская. В обыч-
ном солдате поражает немыслимая без свободы самоотверженность
службы в мирное и особенно в военное время. А ведь из него год за
годом выбивали все реакции за исключением слепого повиновения.
Ну а свободный дворянин? Разве его готовность к службе —повино-
вению, сопряженной со смертельным риском, принципиально не
является выражением того же момента свободы, что и у простых
солдат? Но эта готовность, эта свобода еще наполнены и самоутвер-
ждением и аскезой. С различных исходных позиций офицер и собст
венно солдат тяготели к одному и тому же итогу, отчего и образуют
единый тип воина-солдата.
Весь свой Петербургский период Россия просуществовала как
империя. Но кто не знает, что империи создаются в результате
Дворянин, солдат, чиновник
539
обширных завоеваний и поддер-
живают свое величие с помощью
оружия и многочисленного вой-
ска? Конечно же, не была исклю-
чением в данном случае и Россия.
При том, что как и всякая под-
линная империя, к завоеванию
и вооруженному господству рос-
сийская империя не сводилась,
а была еще и некоторой межэтни-
ческой культурной общностью, ар-
мия, а значит и фигура солдата,
всегда стояли в ней на первом
месте. Военная служба была са-
мая почетная. К достижению выс-
ших воинских, а не гражданских
чинов стремилось подавляющее
большинство дворянства.
Пли, скажем, совсем особую
роль в российской империи иг
рала военная форма. Любого на-
шего императора, начиная с Петра
Великого можно себе представить
Портрет флигель-адъютанта, полковни
ка лейб-гвардии конного полка графа
А. С. Апраксина
М. Крылов, 1827
только в торжественном коро-
национном и тронном одеянии или же в военной форме, но никогда
в гражданской или чиновничьей одежде. При этом солдатскость
наших императоров подчеркивалась их любовью к мундирам тех
полков, чьими шефами они являлись или где проходили военную
службу в различных чинах и должностях в бытность свою великими
князьями.
Обращу внимание еще и на то, что русская армия была очень
велика, в абсолютном и относительном измерении весь XVIII и XIX в.
Скажем, в царствование Екатерины II численность русской армии
составляла никак не менее 1,5% от всего населения империи. При
Александре же I, причем уже после окончания войны с Наполеоном,
когда необыкновенно возвысившейся Российской империи решитель-
но никто не угрожал, в ее армии и на флоте состояло уже несколько
более 2% населения.
Нужно учитывать и то, что воинское сословие России состояло не
только из офицерского корпуса и собственно солдат, проходящих
службу. В него входили и члены семей низших чинов, мальчики,—те
просто образовывали категорию кантонистов. Они проходили специ-
альное обучение и затем пополняли ряды армии и флота. Если учесть
все воинское сословие, то его доля в населении империи окажется как
минимум в два—три раза большей, чем доля непосредственно служа-
щих в армии.
540
Культура Петербургской России
Казалось бы, в такой ситуации Россия должна была быть насквозь
милитаристским государством, с неотрывным от него духом экспан-
сии, культивируемыми воинскими добродетелями и подчиненности
всего и вся военным задачам. Такое государство в Европе действи-
тельно существовало, но им была вовсе не Российская империя,
а Прусское королевство. Особенно в XVIII в. пруссачество действи-
тельно предполагает безусловное первенствование армии. И в Прус-
сии XVIII в. это первенствование заходило так далеко, что о ней
было принято иронически говорить как о стране при армии. Может
быть, такое утверждение и чрезмерно, но убери у Пруссии армию,
точнее, отодвинь ее на задний план, и Пруссия превратилась бы
в небольшое государство разнородных провинций, мало между собой
связанных историей и культурой. Пруссия—это действительно без
всяких преувеличений ее непомерно огромная по отношению к насе-
лению армия (надо сказать, в XVIII в. набиравшаяся во многом вне
пределов королевства). Что же касается России, то, несмотря ни на
какую непомерно раздутую армию и участие в многочисленных
войнах, она никак не складывалась в солдатское государство по
образу прусского. В ней абсолютный и относительный рост армии
постоянно грозил обернуться реальностью, далекой от настоящего
милитаризма. О какой именно реальности идет речь, попытаюсь
продемонстрировать на примерах.
Первый из них представляет собой фрагменты из «Воспоминаний»
А. А. Фета, той их части, которая повествует о воинской службе
поэта. Как недворянин, он начинал ее нижним чином, но поскольку
предварительно закончил Московский университет, то до производ-
ства в офицеры Фету необходимо было пробыть в нижнем чине всего
шесть месяцев. Как раз на этот период службы Фета, а служил он
в Орденском кирасирском полку, пришелся один из нередких тогда
царских смотров. Прошел он успешно, после чего полки кавалерий-
ского корпуса были распущены по местам своей постоянной дислока-
ции. Вот как описывает Фет возвращение своего, надо сказать, очень
известного в армии полка: «Царский смотр кончился, и на третий
день по отъезде государя тронулись и мы в обратный поход по своим
квартирам. На третьей версте Елисаветграда (места смотра. —Авт.)
наш Энгельгардт (командир полка. —Авт.), простившись с эскадрон-
ными командирами, слез с лошади и сел в коляску, чтобы уехать
в Одессу. Этому примеру последовали эскадронные командиры и су-
балтерн-офицеры... Чем ближе первый эскадрон приближался к Но-
вогеоргиевску, тем больше отставали от него офицеры. С последнего
ночлега Ростишевский сел в коляску со своей красавицей женой
и уехал к родным, сказавши одному из наших корнетов, что вполне
надеется, что тот доведет эскадрон с полковыми штандартами и тру-
бачами... Но и этот офицер последовал примеру всех других, так что
я остался единственным охранителем дисциплины... Боже мой, думал
я, какой клубок беззаконий. Ни одного офицера в наличности,
Дворянин, солдат, чиновник
541
нижний чин (то есть сам Афанасий Афанасиевич. — Авт.), распоив-
ший эскадрон и в результате сломанные штандарты. Но судьба
сжалилась надо мною, и я благополучно довел эскадрон до штаба
и внес штандарты в квартиру полкового командира»1.
Событие, о котором идет речь у А. А. Фета, случилось в 1845 г.
в николаевское царствование, когда муштровка солдата и всякого
рода дисциплинарные строгости, в том числе и в отношении офице-
ров, были доведены до предела. Государь сам вникал во все мелочи
военного дела, много разъезжал по России, неизменно сам занимался
проверкой состояния войск. Резервные кавалерийские корпуса и,
в частности, кирасирский, к которому принадлежал Орденский полк,
особенно заботили Николая I. Сохранились красочные, даже востор-
женные описания кавалерийских смотров, которые проводил в ре-
зервных кавалерийских корпусах государь. На них он сполна любо-
вался столь любезной его сердцу вымуштрованностью войск, их
способностью исполнять сложные и эффектные кавалерийские уп-
ражнения. У тех, кто был их свидетелем, не могло не возникать
ощущения, что этих бравых молодцов, рослых и к тому же на
громадных конях—хоть сейчас в бой и никто не устоит перед их
стремительным натиском, в котором все роли тщательно расписаны,
а эволюции воинских частей заранее предусмотрены.
И что же, оказывается, за всем великолепием солдатской вымуш-
трованности скрывается некоторый хаос лени, беззаботности и бес-
форменности. Блестящие полки николаевской резервной кавалерии,
предназначенные к решению важнейших стратегических наступа-
тельных задач, только на смотре образуют стройное целое, действую-
щее по мановению руки командующего. За пределами же смотра
в бравом офицере—кирасире на передний план выходит дворянин —
помещик, привыкший к вольготной домашней жизни, не способный
отказаться от нее даже на царской службе, и чуть только для этого
появлялись возможности, устраивавший свою жизнь на помещичий
лад, несмотря ни на какую службу. Об этом у Фета, в частности,
можно прочитать такие строки: «Богатые самонадеянные офицеры
бесцеремонно по полугодиям проживали дома, и в экстренном слу-
чае, за отсутствием телеграфов, рассылали эстафеты, а немногие
бедняки между тем тянули безысходную лямку»1 2.
Никакая показная, и не только показная, строгость Николая I
ничему не помогала. Его неоправданно огромная, поворотливая толь-
ко на смотрах и маневрах армия слишком легко превращалась
в аморфную массу, как только грозное начальство отводило взор от
того или иного воинского парада. Настоящего милитаристского духа
в русской армии действительно не было. Воинский дух был, но
с милитаризмом мы связываем прежде всего агрессивный напор, дух
1 Фет А. Воспоминания. Т. 3. М., 1992. С. 335—336.
2 Там же. С. 436.
542
Культура Петербургской России
завоеваний или всегдашней готовности к войне, ее нетерпеливого
ожидания. Наш же воинский дух проявлял себя в полноте и силе,
как правило, в ситуации оборонительной войны. Наступление всегда
давалось русской армии хуже, чем оборона, хотя куда только не
забрасывало русских солдат во исполнение монаршей воли. Они
брали Берлин и Париж, освобождали Милан и Турин, подходили
вплотную к Стокгольму и Константинополю. Но все это без настоя-
щего порыва агрессии, а скорее, по известной логике: «От службы не
бегай, но и на службу не напрашивайся». И действительно, в конеч-
ном счете солдатская служба русского человека от столетия к столе-
тию, и не только в Петербургский период, неизменно тяготела не
к наступательному порыву и даже не к обороне, а, как бы это
сказать... к службе, как таковой, некоторому чистому пребыванию
в строю, когда по команде что-то делается, а без нее все движется
само собой. Воинская солдатская служба—это пребывание («Солдат
спит, а служба идет»), но еще и претерпевание. Солдат претерпевал
и монотонность каждодневных экзерциций, и оборону от врага,
и собственное наступление на неприятеля. Сказано наступать, стало
быть, надо двигаться вперед.
Характеризуя русскую солдатскую службу как тяготеющую к пре-
быванию и претерпеванию, сошлюсь на, вероятно, для кого-то
неожиданный пример. Пример—деталь и крошечный фрагмент из
произведения, менее всего касавшегося солдатской службы, пушкин-
ского «Евгения Онегина». Сравнительно небольшой и к тому же
недописанный этот стихотворный роман А. С. Пушкина называли
энциклопедией русской жизни. Название это имеет какой-то смысл
именно вследствие безупречной точности множества его деталей.
Пушкин, в частности, попадал в самую цель и тогда, когда походя
касался чего-либо составлявшего фон повествования. А теперь
обещанная деталь. Сейчас она промелькнет в словах, обращенных
Татьяной к Евгению в заключительной сцене романа:
...Зачем у вас я на примете?
Не потому ль, что в высшем свете
Теперь являться я должна,
Что я богата и знатна,
Что муж в сраженьях изувечен,
Что нас за то ласкает двор?..
Коли уж речь идет о солдате и его службе, конечно же, интересовать
нас должен князь и генерал, ставший мужем Татьяны Лариной. Он
не только богат и знатен, но явно сделал еще и блестящую военную
карьеру. Причем, вовсе не будучи паркетным генералом. Иначе
откуда увечья на полях сражений? И все же стоит обратить внимание
на то, что двор, то есть, в конечном итоге государь, ценит в генера-
ле-муже Татьяны Лариной, — не воинские подвиги и не выигранные
Дворянин, солдат, чиновник
543
им сражения или что-либо подобное. Нет, генерал исправно служил,
не щадя живота своего. От службы уж точно не бегал. Но в его
службе чисто на наш русский лад фиксируются перенесенные труды,
испытания и, самое главное, страдания. Да, нелегкая служба мужа
Татьяны предстает перед нами как страдательная. Неважно, был ли
он выдающимся военачальником, не важно, числятся ли за ним
победы или поражения. Важно само усердие и готовность перенести
любые испытания. Строго говоря, в сражениях могут изувечить
и бездарного военачальника. Увечья сами по себе не заслуга, а в луч-
шем случае выслуга, требующая некоторой компенсации за понесенные
труды. Подобная логика вроде бы, как это и положено логике,
всеобща. Но нет, наша Россия здесь исключение. Для ее государей,
а в этом они никакого исключения среди русских людей явно не
составляли, страдания и увечья именно заслуга. Они высшие знаки
после понесенных трудов, которые ценятся превыше всего. Нередко,
однако, ни о каких увечьях речи не идет. Просто служил вот этот
генерал ревностно всю свою жизнь, изо дня в день, расторопно
исполнял возложенные на него обязанности (какая разница, какие),
вот и достиг высших ступеней и высшего признания и почета. Кроме
службы как таковой от него как будто ничего и не требовалось.
Своеобразие русской солдатской службы, рассмотренное на уров-
не офицерства, имело свой эквивалент и на собственно солдатском
уровне. Если русский дворянин—помещик—офицер при первой воз-
можности, когда ослабевал надзор начальства, как-то сам собой
начинал жить вольготно и с размахом, то у нижних чинов, понятное
дело, перспективы были совсем другие. Если офицеры нередко
бывали еще и помещиками, то нижние чины, как правило, являлись
выходцами из крестьянского сословия. Крестьянскость из них выби-
валась долго, методично и упорно. При двадцатипятилетием сроке
службы для этого времени было достаточно. И действительно, ото-
рванный от земли, дома и семьи солдат совсем переставал себя
чувствовать крестьянином. И все же крестьянская жилка в нем
сохранялась и давала о себе знать, если недреманное начальственное
око не слишком вглядывалось во все мелочи солдатской жизни.
Тогда солдат помимо своей нелегкой службы начинал промышлять
каким-нибудь ремеслом или промыслом, по возможности заводил
семью. И вот его жизнь раздваивалась на казарменную механику
заводной куклы и хозяйственные заботы о хлебе насущном. При
чтении свидетельств современников иногда возникает впечатление,
что дай нашим солдатам побольше воли, они с легкостью преврати-
лись бы в некоторое подобие стрельцов Московской поры, бывших
одновременно воинами и не в меньшей степени посадскими людьми
со своим хозяйством и промыслом. И это несмотря ни на какие
действительно имевшие место ужасы службы из-под палки, когда
постоянная угроза самого жестокого телесного наказания нередко
осуществлялась по самому ничтожному поводу.
544
Культура Петербургской России
***
Чиновник — фигура не только в высшей степени характерная для
Петербургского периода, но и традиционно вызывающая неприязнь
современников и потомков. В русском языке к середине XIX в. слово
«чиновник» очевидным образом стало оценочным. С ним неизменно
связывали такие реалии как рутина, формализм, необразованность,
взяточничество, полное безразличие ко всему, кроме своих узких
обязанностей и собственному благополучию. Но как бы мы не отно-
сились к подобным характеристикам—оценкам, оправдывали их ду-
хом времени или, напротив, негодовали, нельзя не признать, что если
чиновник был такой уж безусловно безотрадной фигурой, то это
обстоятельство бросает мрачный отсвет на весь Петербургский пери-
од русской истории и культуры. Ведь Российская империя в качестве
государства была страной чиновников и только потом солдат. Солда-
ты были призваны решать внешние дела империи, тогда как чиновни-
кам вменялось в обязанность устроение ее внутренней жизни. Хоро-
ша же она была, если в России служили такие чиновники.
Ну, а может быть, все было не так уж страшно и безнадежно, и то,
как виделся русский чиновник в XIX в. — это еще не вся правда
о нем. И в самом деле, вряд ли имеет смысл говорить о том, что
изображение чиновника в великой русской литературе «золотого
века» есть сплошная клевета на него или искажающее перспективу
преувеличение. Если уж в настоящем случае и вносить какие-то
коррективы, то они должны учитывать, что наша литература предъ-
являла к русской жизни самые высокие требования и судила ее по
самой высокой мерке полноты и гармонии. Ну, а чиновник—фигура
предельно прозаическая, вовсе не будоражащая поэтическое вообра-
жение, не способная сконцентрировать на себе общественные ожида-
ния и устремления. И все же отнеся чиновника и чиновничью жизнь
к некоторому низовому с позиции культуры и большой имперской
истории уровню, ему хотя бы в чем-то нельзя не отдать должного.
Конечно, совершенно излишне кланяться чиновнику в пояс, но
и попирать его нет достаточных оснований.
Для начала обращу внимание читателя на то, что тусклость и при-
земленность чиновника и его существования во многом кажущаяся.
Исходно, с момента своего возникновения на древнем Востоке,
чиновник был фигурой если и не прямо сакральной (такое было
невозможно), то все же причастной сакральному. Его причастность
состояла в том, что он исполнял волю божественного властителя
и был своего рода посредником между миром сакрального и профан-
ного. До некоторой степени первоначальный вариант чиновника
(скажем, писец Древнего Египта) может быть уподоблен жрецу.
Жрец тоже посредствует между божеством и людьми, соединяя
горний и дольний миры, хотя и на иной, по сравнению с чиновником,
лад. Объединяло их между тем самое главное: и жрец, и чиновник
были включены в священнодействие. Оба они служили своему боже-
Дворянин, солдат, чиновник
545
ству и вместе с тем вовлекали в богослужение профанно—человече-
ский мир. Это нам кажется, что египетский писец, дающий распоря-
жения в каком-нибудь имении фараона в это время занят исключи-
тельно земным делом. На самом деле он связывал фараона с его
подданными—рабами, которые, исполняя верховную волю, тем освя-
щались и приобщались к полноте фараоновой жизни.
Египетский царь —бог и российский император—помазанник Бо-
жий—цари в несовпадающих друг с другом смыслах. И тем не менее
последний оставался фигурой, причастной сакральному. Его воля не
воспринималась как чисто человеческая. Российский же чиновник
призван был на своем даже самом скромном служебном месте осуще-
ствлять царскую волю. Разумеется, вовсе не обязательно прямое
императорское распоряжение, но все равно как-то с императорским
распоряжением увязанное, в какой-то, пускай самой скромной и не-
значительной степени его исполняющее. Без этого чиновнику никак
нельзя. Вне освященности священной особой императора он превра-
тится в странную, едва ли не нелепую и отталкивающую фигуру. Как
в той же русской литературе, так мало чувствительной к сакральным
истокам чиновничьего служения. Она хотела бы видеть в чиновнике
гражданина, свободного человека, радеющего о благе Отечества, как
он его понимает.
Однако чиновник императорской России, как, впрочем, и чинов-
ник вообще—это никакой не гражданин. Он именно подданный
своего государя, служащий только в соотнесенности с ним. У чинов-
ника еще как возможны срывы в мелочный буквализм и своекоры-
стие, но более всего ему противопоказана именно гражданственность.
Этот срыв для него наиболее разрушителен. Чиновник с идеями, со
своими проектами и замыслами—фигура едва ли не зловещая, если
его идеи, проекты и замыслы не представляются на утверждение
в вышестоящие инстанции, в конечном счете, на одобрение государя.
От его воли чиновник всецело зависим.
Самим своим чиновническим статутом чиновник должен быть
таким, каким его видит государь. Так, Александр I озаботился обра-
зованностью и широтой кругозора своих чиновников, и они обязаны
были сдавать достаточно сложные и мудреные для огромного боль-
шинства из них экзамены с целью получения следующего чина. А вот
Николай I, тот видел в чиновнике прежде всего службиста, безуко-
ризненно точного в исполнении начальственных распоряжений. Та-
ков уж был этот государь, что в солдате (офицере, генерале) он
ценил по существу военизированного чиновника. Но зато и в чинов-
нике—солдатские ухватки и обыкновения. Ну, что ж, по крайней
мере, внешне николаевские чиновники послушно следовали монар-
шим вкусам. Совершенно не случайно гоголевский чиновник, кол-
лежский асессор Платон Ковалев любит именовать себя майором.
К этому у него одно, причем явно недостаточное основание. В «Табе-
ли о рангах» асессорскому чину в гражданской службе прямо соот-
546
Культура Петербургской России
Чиновник в форменной одежде образца 1856 г.
ветствовал майорский в армейской. Но было все-таки еще одно
основание. Всеобщее преклонение перед военным мундиром. Его
всячески вызывал и поддерживал государь. Асессор Ковалев, как
настоящий чиновник, был очень чуток к исходящим от престола
веяниям. В этом он на свой карикатурный лад был на высоте
чиновничьего призвания.
Отсутствие у чиновничества некоторого самобытия и автономии по
отношению к государю в пределах Петербургской России вполне
оправданно и естественно. Сложнее обстоит дело с тем, что в ней так
и не сложился довершенный образ чиновника. Он оставался разомк-
нутым как «вниз», так и «вверх», норовя раствориться в иноприрод-
ных реалиях, более привычных и укорененных в русской жизни.
В самом низу чиновничьей корпорации находились лица, не имевшие
так называемых «классных чинов», начинавшихся с коллежского
регистратора и соответствовавших офицерским воинским чинам. Не-
чего и говорить о том, насколько был необеспечен и принижен, но
вместе с тем темен и груб низший слой чиновничества. Внеклассные
чиновники образовывали своего рода лакейскую в присутственных
местах империи. От лакеев же, как известно, в чем-то проситель
зависим не менее, чем от барина. И внеклассные чиновники здесь
брали свое, вымогая что только можно и чего нельзя у представите-
лей низших сословий — крестьян и мещан. Хуже всего было, однако,
Дворянин, солдат, чиновник
547
то, что известная часть внеклассных чиновников выбивалась из
подканцеляристов в чины классные. Как правило, в низшие, но
иногда и в средние. Вот тогда лакейская повадка давала о себе знать
во всю ширь. Теперь ведь лакей имел право и власть, уже нешуточ-
ную и успешно сочетавшуюся с мелочностью, въедливостью, знанием
всех изгибов и тайников чиновничьего мира. Иначе говоря, ничего
худшего, чем школа службы во внеклассных чинах для чиновника
вообразить себе невозможно. Все-таки формирование хотя бы части
чиновничьего корпуса из самых низов русского общества и русской
культуры заранее ставило в сомнительное положение такую саму по
себе почтенную корпорацию, как чиновничество, делая сомнительной
его конструктивную роль в культуре.
На иной лад, но также сомнительной была разомкнутость чинов-
ничества вверх. Под ним я имею в виду то обстоятельство, что самая
верхушка нашей бюрократии к чиновничеству в собственном смысле
слова очень часто не принадлежала, особенно в XVIII в. Происходи-
ло это ввиду того, что самые высокие чины «Табели о рангах»
слишком часто доставались вельможам, придворным, тем, у кого
господствующим оставалось самоощущение дворянина и барина,
а вовсе не чиновника. Попробуем вспомнить кого -либо из знамени-
тых или хотя бы получивших известность русских чиновников выс-
шего ранга, служивших в XVIII или XIX в. Насчет XVIII в. моя,
например, память сразу ни одного имени не подсказывает. Не мно-
гим лучше положение с XIX в. Здесь уже все не так безнадежно.
И тем не менее имен всплывают единицы. Среди них, безусловно,
в первую очередь должен быть упомянут граф М. М. Сперанский.
Несмотря на свое запоздалое графство, этот государственный дея-
тель был прежде всего чиновником, обладал всеми достоинствами
и некоторыми недостатками последнего, имел выраженный и харак-
терный облик в высшей степени просвещенного, но все-таки чинов-
ника, делая честь чиновничьей корпорации своей принадлежностью
к ней. Среди других знаменитостей XIX—начала XX в. упомяну
одного только К. Н. Победоносцева. Отличаясь опять-таки редкой
просвещенностью, будучи обер-прокурором Св. Синода и, несмотря
на и без того очень высокий пост, он влиял на государственную
жизнь гораздо более, чем позволяла его должность. Победоносцев—
это очень характерологически выраженный образ чиновника.
Конечно можно было бы предъявить читателю еще несколько имен
чиновников императорской России, достигших высших чинов и из-
вестности, но в государственной службе они погоды не делали.
Правилом было обратное: занятие высших постов не собственно
чиновниками. Государство, которое, начиная с царствования Петра
Великого, было так озабоченно тем, чтобы сделать из дворян солдат
или чиновников, не только оказалось бессильным в достижении
своей цели. Оно еще и поощряло вознесенность собственно дворян-
ского и аристократического элемента над чиновничеством. Последне-
548
Культура Петербургской России
М. М. Сперанский
Портрет работы неизвестного художника,
нач. 1810-х гг.
Обер-прокурор Св. Синода
К. П. Победоносцев
Фото начала XX в.
му государи не то чтобы не доверяли. Император Николай I прямо
заявил, что его империя держится несколькими тысячами столона-
чальников. Но что такое столоначальник? Это должность, дававшая
чин коллежского асессора, еще очень далекий от генеральского. Стол
же—это низшее подразделение в системе управления. Скажем, в сто-
лице с ее министерствами, столы сводились в отделения, последние
в департаменты и только потом шло министерство. Конечно, Нико-
лай Павлович кивал в сторону столов и столоначальников, указывая
на основное звено управления империей. Но даже он, государь, по
существу изо всех сил стремившийся сделать из солдата чиновника,
редко готов был терпеть последнего со всеми его повадками на самом
верху чиновничьей иерархии. Как-никак, Николай I был человеком
дворянско аристократического и солдатского воспитания. Люди это-
го круга были ему ближе и симпатичней. Ведь чиновничья верхушка
помимо прочего составляла еще и императорский двор. Не очень-то
он выиграл бы в репрезентативности, пышности и великолепии, если
бы в нем значительный элемент составляли такие умницы и тружен-
ники, как Сперанский. Их услугами нужно было пользоваться, но
и держать чиновника на необходимой дистанции.
Известное пренебрежение чиновниками, а вслед за ними неизбеж-
но и чиновничьей службой так или иначе затрагивало все верхние
слои российского общества. О государях уже шла речь, но их
отношение к чиновникам было многократно преувеличено эхом при-
Дворянин, солдат, чиновник
549
дворных кругов. Великолепно-не-
брежным в отношении чиновниче-
ства оставалось русское офицер-
ство. Те из офицеров, кто шел на
гражданскую службу после отстав-
ки, делал это скрепи сердце, ради
хлеба насущного и уж, конечно,
не по зову сердца и не в пред-
положении исполнения высшей
и почетной миссии. А что сказать
о дворянине — барине — помещике,
кроме того, что для него чинов-
ник — это казенная душа, смешная
и жалкая фигура, когда он в низ-
ших чинах и отвратительно злове-
щая—в высших. Понятно, что дво-
рянин, по возможности, избирал
военную службу. В гражданскую,
в чиновники, шли самые неза-
Портрет А. С. Танеева в мундире члена
Государственного совета
С. К. Зарянко, 1853
дачливые, без особых претензий
и амбиций молодые люди. Впро-
чем, для молодых дворян-аристо-
кратов было одно исключение —
служба по министерству иностранных дел. И привлекала она как раз
сильной растворенностью чиновнического элемента этой службы в мо
менте аристократическом и светском ее содержании. Как раз в том,
чего, как правило, в помине не было в обычных чиновниках.
Но может быть, более всего досталось чиновничеству от русской
интеллектуальной и творческой элиты. От лиц, ощущавших себя не
просто дворянами, но еще и мыслящей и образованной частью
общества. Они не так уж редко по получении университетского
образования шли в чиновники. Из их-то уст и слышались самые
громкие и раскатистые крики негодования, неприятия и протеста.
Они были оправданы по крайней мере в одном отношении. В том, что
университетское образование в России (и не только в ней) вовсе не
было ориентировано на государственную службу. Его прямая задача
состояла в том, чтобы образовать ум и душу, дать возможность
состояться человеку как личности. Государственная служба же была
сама по себе. На нее выпускники университетов шли за хлебом
насущным или же в прекраснодушном порыве общественного служе-
ния. Однако и один, и другой мотивы мало общего имели с действи-
тельностью столов, экспедиций, канцелярий, отделений, департамен-
тов, министерств. В них царила рутина, соприкоснувшись с которой
прекраснодушные порывы в молодых людях быстро угасали. В це-
лом же государственная служба в громадной степени оставалась
чуждой, если не прямо враждебной образованной и творческой
550
Культура Петербургской России
прослойке общества. Ну, а сами чиновники, зададимся мы напосле-
док вопросом, сами они, будучи по своему душевному строю преиму-
щественно чиновниками, как они ощущали себя в этом качестве?
И здесь нужно сказать, что чиновничество не миновала та же тенден-
ция, что и офицерство. Тенденция стремления к барско-помещичьей
жизни в качестве наиболее предпочтительного существования. В XVIII
и XIX вв. это было очень по -русски—выслужить на гражданской
службе солидный чин, часто связанный с возможностью получения
подношений и взяток. Поскольку же чин давал потомственное дво-
рянство, а подношения и взятки—состояние, то следовала покупка
имения и далее привольная, сытая и хлебосольная помещичья жизнь
со всеми ее нехитрыми удовольствиями. Подобный путь чиновника
многократно описан в русской литературе XIX в. Нам же остается
указать на то, что барская и помещичья устремленность русского
чиновника не просто наносили ущерб его службе. Хуже всего было
то, что чиновничество так и не складывалось в корпорацию со своей
этикой и кодексом поведения людей, сознающих достоинство граж-
данской службы. Достоинство, правда, было, но оно состояло почти
исключительно в ощущении себя большим или маленьким начальни-
ком, человеком, от которого зависят сослуживцы; если же не они, то
всякого рода искатели и просители, которым никак не обойтись без
исходящего из чиновничьих рук документа. Пафос служения госуда-
рю и Отечеству может быть и не отсутствовал вовсе, но и не
определял собой службу огромного большинства чиновников, как
наверху, так и внизу служебной лестницы.
Глава 5
Восемнадцатый век
Русская культура Петербургского периода, начавшаяся катастро-
фой петровских преобразований и завершившаяся, точнее, прерван-
ная катастрофой октябрьского переворота и его последствий, облада-
ет внутренним единством и завершенностью, позволяющими выделить
в ней своего рода «архаику», «классику» и завершающий «осенний»
этап развития. При этом «архаике» соответствует XVIII в., «класси-
ке»—XIX, он же «золотой» век русской культуры, и, наконец,
«осени»—конец XIX—начало XX в., который принято называть «се-
ребряным веком». Парадокс первого века Петербургской эпохи со-
стоит в том, что в стране, где культура насчитывала к тому времени
уже семь столетий, он стал временем культурного ученичества.
В XVIII в. русская культура и сама воспринимала себя проходящей
азы и прописи, и тем более воспринималась в таком качестве другими
культурами Запада.
Действительно, русской культуре XVIII в. многое приходилось
начинать заново, а русскому народу—становиться в положение чуть
ли не дикарей, впервые приобщающихся к реалиям цивилизации.
Если, например, русская культура за семь веков своего существова-
ния так и осталась чуждой науке, в ней не возникло ни научного
образования, ни фигуры ученого, то в XVIII в. обращение к процве-
тавшим на Западе наукам оказалось делом трудным, временами
почти безнадежным. Показательным в этом отношении является
открытие и деятельность университетов в России XVIII в.
Для Запада к этому времени университеты давно были привычной
и естественной формой образования и научной деятельности. Ска-
жем, в сопоставимой по численности населения с Россией Германии
количество университетов в XVIII в. превышало два десятка. В Рос-
сии первый Петербургский университет попытались открыть в 1725 г.
552
Культура Петербургской России
в составе вновь учрежденной Академии наук. Вторая попытка состоя-
лась только в 1755 г., когда был открыт Московский университет.
В соответствии с западными образцами в нем были предусмотрены
три факультета и десять кафедр: философский факультет (кафедры
философии, красноречия, истории универсальной и российской, фи-
зики); юридический факультет (кафедры натуральных народных
прав, юриспруденции российской и политики); медицинский факуль-
тет (кафедры анатомии, химии, физической, аптекарской и натураль-
ной истории).
Однако еще в середине XVIII в. существование университета в Рос-
сии было настолько внове, так мало отвечало потребностям предста-
вителей всех сословий, что в Университете в 1758 г. обучалось всего
около 100 студентов. Число совершенно ничтожное для двадцатимил-
лионной страны. Что касается отечественных ученых, то их счет
в XVIII в. шел буквально на единицы.
Несмотря на все усилия правительства в деле образования, для
русских людей оставалась достаточно чуждой мысль о том, что
образование университетского типа обладает самостоятельной ценно-
стью, что ученые занятия—дело, достойное благородного человека.
В лучшем случае в науках видели инструмент достижения внешних
им целей. Об этом, в частности, свидетельствует обоснование необхо-
димости открытия Московского университета в составленном
И. И. Шуваловым и М. В. Ломоносовым его проекте. Помимо проче-
го в нем говорится: «...через науки Петр Великий совершил те
подвиги, которыми вновь возвеличено наше отечество, а именно:
строение городов и крепостей, учреждение армии, заведение флота,
исправление необитаемых земель, установление водных путей и дру-
гие блага нашего общежития». Даже такие просвещенные и европей-
ски образованные люди, как Шувалов и Ломоносов, усматривают
в университете исключительно государственное дело. Он соотнесен
с задачами, стоящими перед Российской империей. Соответственно
и готовить университет должен слуг Отечества.
Вообще говоря, такая трактовка университета имеет очень малое
отношение к тому, как его роль понимали на Западе. Там универси-
тет всегда был корпорацией преподавателей и студентов, куда стре-
мились попасть люди, для которых ученое поприще и занятия наука-
ми обладали несомненной привлекательностью сами по себе. Русскому
же человеку еще нужно было привить вкус к ученым штудиям.
Только в XIX в. в России станет обычным делом обучение в уни-
верситете представителей дворянского сословия. Во всяком случае,
богатые и знатные дворяне в университет в XVIII в. не шли. Это едва
ли не унизило бы их достоинство. Дворянину, если он не получал
исключительно домашнее образование, прямой путь был в военные
учебные заведения. Обучение в них считалось прямым дворянским
делом. Правда, заканчивало их незначительное меньшинство дворян.
Обыкновенно военное образование они получали, служа нижними
Восемнадцатый век
553
чинами в гвардейских полках. Очевидно, что в этом случае речь
может идти только о практической подготовке к военному ремеслу,
а никак не обычном образовании. Последнее оставалось домашним.
При этом уровень его мог быть очень приличным, когда обучение
поручалось действительно образованным учителям. Как правило,
ими были иностранцы. Их наем стоил немалых денег и позволить его
себе могло только самое богатое дворянство. Уже для среднепомест-
ного помещика, владевшего двумя—тремя сотнями душ, приглашение
учителя из иностранцев (обыкновенно, французов и немцев, реже—
англичан) составляло проблему. Здесь нужно было выбирать: или
напрягать семейный бюджет, или ограничиться приглашением очень
сомнительных учителей.
Известные пушкинские строки из «Евгения Онегина» «мы все
учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь» характеризуют си-
туацию первой четверти XIXв., но в еще большей степени они
применимы к XVIII в. По сравнению с Западом наше дворянство
хотя уже и получало западное образование, оставалось полуобразо-
ванным. Да и как могло быть иначе, если, скажем, во Франции
и в Англии для дворянства столетиями существовали закрытые учеб-
ные заведения, различные колледжи и пансионы, где даже будущая
знать получала достаточно суровое воспитание и должна была изу-
чать науки длительное время и всерьез. К тому же и в университете
учиться было дворянину вовсе не зазорно. Как и в России, основным
поприщем для дворян на Западе оставались военное, а вовсе не
ученые штудии. Последние, как правило, носили дилетантский ха-
рактер. И все же западное дворянство в целом было образованным
сословием, у которого к образованию присоединялось преимущество
воспитания и светскости. Состояла она, главным образом, в способ-
ности к легкому, изящному и непринужденному общению. От полу-
чивших светскую выделку, принадлежащих к свету дворян исходили
особое обаяние и лоск, неотразимо привлекательные для остальных
сословий, как бы они враждебно ни относились к дворянству. Нужно
сказать, что в отношении светскости русское дворянство в XVIIIв.,
особенно во второй его половине, продвинулось далеко. Здесь оно
мало отличалось от западного дворянства, легко с ним сближалось
и находило общий язык, если даже и уступало ему по части образо-
ванности и научных знаний.
Появление в Петербургской России учебных заведений, пусть не
европейского уровня, но европейского типа, выглядело бы очень
странно, если бы получение русскими людьми образования не имело
бы никакого отношения к появлению и развитию у нас науки и фило-
софии в качестве реалий культуры. Образовываться, совсем не куль-
тивируя философского и научного знания, не развивая его,—ситуа-
ция, в чистом виде вряд ли возможная. Ведь настоящее образование
дают не просто преподаватели, а люди науки и философии, ученые
и философы. Иначе образованию грозит участь влачить жалкое су-
554
Культура Петербургской России
ществование или превратиться в фикцию. Тем не менее на протяже-
нии XVIII в. в России образование, с одной стороны, наука и фило-
софия—с другой, были разведены. Если русские люди из высших
классов какое-то образование худо-бедно получали, не были круглы-
ми невеждами в европейском смысле, то возникновение науки и фи-
лософии на отечественной почве оставалось делом будущего. И это,
скажем, несмотря на основание Академии наук. Рекрутировалась
и пополнялась она главным образом учеными-иноземцами, что мог-
ли, делавшими для развития науки в России, но в качестве ученых
принадлежавших Западу и своей родной стране, а не их новой
родине — России.
Не был исключением здесь и наш русский ученый И. В. Ломоносов.
Ученым он стал благодаря основательной выучке в германском
университете. Научные штудии Ломоносова также вписывались не
в отечественный, а в западно-европейский контекст. Очень характер-
но, что Ломоносов и при жизни, и длительное время после смерти
получил известность не как ученый, а как литератор. Его литератур-
ные упражнения все-таки были в струе развития русской словесно-
сти, способствовали ее развитию. Научная же деятельность Ломоно-
сова не получила непосредственного продолжения в России. Он не
создал научной школы, не оставил учеников только потому, что у нас
в XVIII в. было образование, были ученые, даже проводились иссле-
дования, но в целое науки как сферы культуры все перечисленное не
складывалось. Наука живет преемственностью научных поисков,
традициями научных школ и направлений. О чем-либо подобном
во времена Ломоносова говорить было преждевременно. Поэтому он
и остался одиночкой, которым может гордиться русская наука, но
сознавая, что погоды в ней Ломоносов не делал.
***
Внедрение в Петербургской России западного образования, пред-
полагающего получение научных и философских знаний, открывало
перспективу преодоления русской культурой к тому времени уже
более чем семисотлетнего состояния «великого молчания». Мысль,
невозможная без философии или хотя бы философичности, рано или
поздно должна была возникнуть во входившей в западный культур-
ный круг России. В противном случае ее культура так и не состоя-
лась бы в качестве новоевропейской, стремительная вестернизация
оказалась бы тщетной.
Нужно сказать, что XVIII в. в русской культуре на то и был веком
культурного ученичества, что философия или философская мысль
в ней делали самые первые, робкие и неумелые шаги. В XVIII в. не
только преждевременно говорить о русской философии или фило-
софской мысли, но даже и о появлении первых русских философов
или философски мыслящих людей. Ученые у нас, пускай и не
создавая отечественной науки как целого, все-таки были. О филосо-
Восемнадцатый век
555
фах и их подобии такого не скажешь. В лучшем случае среди
русских европейски образованных людей встречались такие, кто
читал сочинения западных философов, может быть, даже следил за
развитием современной философии и философской мысли. Их мож-
но уподобить ученикам, способным понять исходящее от учителя,
пересказать излагаемые им положения и доктрины. За пределами
такого ученичества, между тем, находится способность самому соста-
вить текст в духе учителя. Пока это тоже ученичество, но максималь-
но продвинутое, вплотную подходящее к грани собственных творче-
ских поползновений.
Такого рода учеников в сфере философии и философской мысли
в России XVIII в. не появилось. В лучшем случае можно говорить
только об учениках, способных к изложениям сочинений учителей,
но никак не к собственным сочинениям. Да и учеников излагателей
и перелагателей было очень немного, буквально единицы. К их числу
относятся, в частности, А. Н. Радищев и князь М. И. Щербатов.
Среди сочинений первого из них числится трактат «О человеке,
о его смертности и бессмертии». Искать в этом трактате каких-то
самостоятельных мыслей или хотя бы своеобычного акцента в изло-
жении чужой доктрины—труд неблагодарный и тщетный. А. Н. Ра-
дищев написал сочинение, в котором в меру своих способностей
изложил прочитанное им у других мыслителей. В первую очередь
у И. Г. Гердера в его знаменитых «Идеях к философии истории
человечества». Характеризуя трактат Радищева в своем «Очерке
развития русской философии», Г. Г. Шпет писал о нем вполне беспо-
щадно, но точно: «Если мы предъявим к его произведению высокие
требования, оно окажется ниже критики—ученический реферат о че-
тырех-пяти прочитанных книгах. Как произведение писателя, обра-
щающегося к широкой публике, оно—будь оно закончено и своевре-
менно выпущено в свет—могло бы иметь свое, даже философское
значение и влияние»1.
Действительно, в конце XVIII в. выход в свет трактатов, подобных
радищевскому «реферату», был бы вполне уместен. У него несомнен-
но нашлись бы, пускай немногочисленные, читатели. Для кого-то он
мог бы послужить философским просвещением, кто-то же был в со-
стоянии отреагировать на него формулировкой собственных фило-
софских предпочтений. Но и в последнем случае дело не пошло бы
далее разговора более или менее старательных и успешных учеников
о прочитанных ими книгах учителей. О том, чтобы противопоставить
учителям какое-либо подобие собственной философской позиции, не
могло быть и речи.
Называя свой трактат «О человеке о его смертности и бессмер-
тии», Радищев замахнулся на то, что русскому уму было явно не по
силам и возможностям. Еще долгое время после смерти Радищева
1 Шпет Г. Г. Сочинения. М., 1989. С. 78.
556
Культура Петербургской России
русский философски образованный человек будет в состоянии не
более, чем следить за движением философской мысли Запада. У него
не только не будет своего голоса в общем философском хоре, для
него непомерной останется претензия даже на критический разбор
той или иной философской системы с философских же позиций.
И тем не менее XVIII в. — это уже не культура «великого молчания»
хотя бы в том отношении, что русский человек, наконец, разомкнул
уста для философской речи, пускай она пока сводится к ученическо-
му пересказу чужих речей. Когда же у русского человека возникала
потребность в осмыслении явлений, по поводу которых западная
мысль молчала или отделывалась общими местами, тогда станови-
лись неизбежными самостоятельные интеллектуальные усилия, уже
не сводимые к чистому ученичеству.
Скажем, в конце XVIII в. в среде русских образованных людей
наряду с почитанием Екатерины II, восхищением блистательными
деяниями ее царствования возникает критическое отношение к нему.
Ученики западных учителей не могли не видеть всего несоответствия
того, чему их учили, реальности русской жизни конца XVIII столе-
тия. Не могли, тем более что просвещенческий критицизм был разлит
в воздухе эпохи, от него доставалось всем и вся на самом Западе.
Россия, правда, в значительной степени была исключением. Когда
к ней обращались взоры западных мыслителей и властителей дум, то
в России видели в первую очередь пример грандиозных успехов
Просвещения и благодетельной роли просвещенного монарха. Для
тех образованных русских людей, чьи глаза и ум не застилались
попечением о житейских благах, была слишком очевидна проблема-
тичность русской жизни, то, как далека Россия от официально
декларируемого и принимаемого на Западе за чистую монету благо-
денствия. Никто из западных учителей здесь был русскому человеку
не помощник, во всяком случае, не мог целиком проделать за него
трудную работу осмысления состояния собственной страны. Напи-
савший свое знаменитое «Путешествие из Петербурга в Москву»
А. Н. Радищев, свел осмысление России к простой констатации по-
всеместно распространенного в ней рабства. В нем источник всех бед
и неустроений русской жизни. Но это была констатация с позиций
западного радикального просвещенчества, имевшего прямые выходы
в революционаризм. Констатация, но не работа мысли, не интеллек-
туальное построение.
Когда мы обращаемся к образу Радищева, вряд ли для нас воз-
можны какие-либо ассоциации с протопопом Аввакумом: другие
времена, другие нравы. И сопрягать эти две персоны имеет смысл
разве что для того, чтобы подчеркнуть дистанцию, пройденную
Россией за столетия. В общем виде это, наверное, так и есть. В нашем
же случае обратить внимание стоит все-таки на сходство Радищева
и Аввакума по одному пункту. И тот, и другой отвергали происходя-
щее в их стране со всей радикальностью и на основании единого
Восемнадцатый век
557
принципа. Для Аввакума таковым было утверждение о том, что
Никоновой реформой Русь погружалась в схизму и ересь, в некото-
рое преддверие царства Антихриста. Принцип Радищева ничего об-
щего с аввакумовым не имеет. Но так же как для последнего есть
старомосковская, она же православная, вера и ее разрушение, для
первого существует свобода в качестве естественного состояния чело-
века и ее попирание в России. В результате задача как Аввакума, так
и Радищева сводится к одному—к обличению происходящего в их
стране с позиций истины, в которой каждый из них по своему
пребывает.
Сила и обаяние радищевского «Путешествия...», конечно, не в ра-
боте мысли, совершающейся на глазах читателя, и не в обличениях,
а в живых наблюдениях и сочувственном внимании к увиденному.
Несколько иначе обстоит дело с другим текстом той же эпохи,
с принадлежащим перу князя И. М. Щербатова сочинением «О по-
вреждении нравов в России». В нем автор на свой страх и риск
пытается осмыслить происшедшее с его страной в XVIII в. Ничьим
размышлениям о России и русской истории здесь Щербатов не
следует. Насколько же концептуально самостоятелен его текст—это
вопрос особый.
Уже само название сочинения провоцирует подозрение автора
в руссоизме. Ведь в 1786—1787 гг., когда Щербатов создавал свое
произведение, тема повреждения нравов неизбежно ассоциировалась
с ее разработкой в трактатах Ж.-Ж. Руссо. Более того, к этому
времени давно стало общим местом, во всяком случае, для очень
значительной части образованной публики, что нравы человечества
повреждены и связано их повреждение с развитием наук и искусств.
Об этом Руссо впервые громогласно заявил еще в 1750 г. в своем
первом трактате «Способствовало ли возрождение наук и искусств
очищению нравов». Для самого автора трактата уже в то время
сомнений и вопросов не было, точнее, они были риторическими:
«О добродетель, возвышенная наука простых душ!—восклицает
начинающий свое поприще мыслитель, — Нужно ли, право, столько
усилий и приспособлений, чтобы тебя познать? Разве не запечатлены
во всех сердцах твои принципы? И разве, чтобы узнать твои законы,
не достаточно ли уйти в самого себя и прислушаться к голосу своей
совести, когда страсти безмолвствуют?»1
Иными словами, для Руссо вполне очевидно, что возрождение
(а по существу, разговор у него идет шире—не одно возрождение, но
и возникновение и развитие) наук и искусств, как минимум, уводит
человека в сторону от добродетели, ничего к ней не прибавляет. За
этот тезис и ухватывается Щербатов в своей попытке осмысления
ситуации в своей стране. То, что применительно к России он ведет
разговор о нравах, понятное дело, обличает в нем моралиста. Но
1 Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969. С. 30.
558 Культура Петербургской России
Щербатов моралист именно руссоистского склада. Так, по крайней
мере, кажется, когда приступаешь к чтению его трактата. Вообще
говоря, он вполне мог отнести повреждение нравов на счет недоста-
точной просвещенности своих сограждан. Не это объяснение, одна-
ко, находит удовлетворительным Щербатов. Вслед за Руссо для него
несомненно пагубное влияние на нравы страстей. Руссо призывает
к их безмолвствованию как гарантии чистоты нравов, тогда как его
московский последователь констатирует: «Стечение многих страстей
может произвести повреждение нравов, а однако главное из них
я почитаю сластолюбие. Ибо оно рождает разные стремительные
хотения, а дабы достигнуть до удовольствия оных, часто человек
ничего не щадит»1.
Вполне в духе своего учителя Щербатов проводит и мысль о про-
тивоположности развития наук и искусств торжеству добродетели
в человеке: «Воистину могу я сказать, что если, вступя позже других
народов в путь просвещения, нам ничего не оставалось более, как
благоразумно последовать стезям прежде просвещенных народов —
мы подлинно в людскости и в некоторых других вещах, можно
сказать, удивительные имели успехи и исполинскими шагами шество-
вали к поправлению наших внешностей. Но тогда же с гораздо вящей
скоростью бежали к повреждению наших нравов, и достигли даже до
того, что вера и божественный закон в сердцах наших истребились,
тайны божественные в презрение впали»1 2.
Науки и искусства, то есть просвещение, для руссоиста Щербатова
суть «людскость» и «внешность». Сокровенный, внутренний человек
на пути их приобретения теряет, по Щербатову, чувство справедли-
вости, почтение к родителям, у которых в свою очередь «несть
родительской любви к их исчадию». Уходят в прошлое «любовь
между супругов», «родственнические связи», верность государю.
Сам перечень добродетелей, по поводу которых сетует ученый мора-
лист, включает в себя характерно русские патриархальные доброде-
тели. Несомненно, Руссо ближе несколько другой их набор. Ну что
же, Щербатов—руссоист на русской почве, и это накладывает отпе-
чаток на его руссоизм. Но если что и делает его русским по преиму-
ществу, так это направленность всего морализаторского пафоса на
Россию, ее исторический путь.
Одна из ранних очень робких и пока еще неуклюжих попыток
философствования в духе западной учености в рамках ее расхожих
мировоззренческих схем сразу же сворачивает на свою, быстро
ставшую привычной колею. Не мироздание, не человек и природа,
а Россия, русский человек, русская история—единственное, что за-
ботит Щербатова. Для нас это привычное и примелькавшееся в своей
1 О повреждении нравов в России князя М. Щербатова и путешествие А. Ради-
щева. Факсимильное издание. М., 1983. С. 3 (далее: О повреждении нравов).
2 Там же. С. 1.
Восемнадцатый век
559
обыденной самоочевидности обстоятельство. Представим, однако, на
минуту, что Руссо в центре своих прославленных трактатов ставил
бы не человека, а француза, не общество, но Францию, не общест-
венный договор, а возникновение французского государства и т. д.
Многое ли сохранится тогда от привычного нам облика женевского
мыслителя? Да и возможен ли вообще подобный мыслитель на
женевской, французской, западноевропейской почве? Очевидно, нет.
На русской же еще как возможен. У русского европейски образован-
ного мыслителя одна, но пламенная страсть—разобраться в собствен-
ной истории, осмыслить ее. Россия вошла в круг европейских стран,
европеизируется, пускай, на уровне «людскости» и «внешности»
и стремится в лице своего родовитого аристократа—Рюриковича вы-
работать европейский взгляд на себя. Как это у него получается,
разговор особый. Пока обратим внимание на два обстоятельства.
В своей характерно русской направленности не на общечеловече-
ское (оно же общеевропейское), а на национальное, в своем русифи-
цированном руссоизме Щербатов допускает какую-то неопределен-
ность, неуверенность, что ли, в отношении к Просвещению. Критиком
Просвещения в том же смысле, что и Руссо, его не назовешь. В его
рассуждениях образ Просвещения с самого начала двоится. С одной
стороны, у читателя была уже возможность почувствовать неприятие
или, скажем осторожное, опасливое отношение Щербатова к Просве-
щению за его «людскость» и «внешность». Но с другой стороны, ни
приведенная цитата, ни любое другое место из книги не доводит до
ясности вопрос о том, в чем же беда России —во «внешнем» и «люд-
ском» характере Просвещения, как такового, или все-таки во «внеш-
нем» и «людском» приобщении к нему на русской почве. Подобную
непоследовательность проще всего трактовать как слабость мысли.
Учтем только, что сама русская действительность не давала основа-
ния для однозначных суждений. До такой степени не давала, что
в трактовке Щербатова по мере разворачивания сюжета достаточно
рано возникает третий момент в оценке Просвещения. По поводу
реформ Петра Первого он отмечает следующее: «Среди нужных
установлений законодательства, учреждения войск и артиллерии, не
меньше он прилагал намерения являющиеся ему грубые, древние
нравы смягчить»1. Значит, все-таки существовали грубые, древние
нравы, а не только их повреждение в новой европеизированной
России, значит, была своя правда у русского Просвещения? Но нет,
и на этом заключении колеблющийся князь не останавливается:
«Грубость нравов уменьшилась, — заявляет он в другом месте,— но
оставленное ею место лестью и самством наполнилось»1 2.
Мало того, что Щербатов оставляет читателя в раздумье о том, что
же такое Просвещение в России—внешнее усвоение или прельщение
1 О повреждении нравов. С. 16.
2 Там же. С. 23.
560
Культура Петербургской России
внешностью. К этому добавляется еще одна двусмысленность в оцен-
ке исторической роли Просвещения: оно и смягчает нравы, и делает
из помягчавших нравом русских людей льстецов и эгоистов. Вряд ли
имеет смысл попытка свести все противоречия щербатовского от-
ношения к Просвещению к некоторому единству. Ничто не говорит
в пользу того, что таковое единство было доступно автору «О по-
вреждении нравов в России». Этот трактат отразил колебания и не-
уверенность автора, невозможность для него не просто остановиться
на одной твердо выбранной позиции. Возможно, колебания и не-
уверенность Щербатова проистекали в конце концов из неприло-
жимости европейского понятия—концепции Просвещения к русской
истории. Не спасала дела и руссоистская критика. Максимум, что
она могла дать—это усложнение отношения к Просвещению. Но
усложнение не приближало к пониманию. В какой дихотомии ни
помысли Россию, грубость нравов (невежество) —Просвещение,
«первоначальная чистота нравов—их повреждение», даже через их
взаимоналожение, все равно исторический материал под рукойавтора
сопротивляется окончательному объяснению, приговору и оценке.
Что в конце концов произошло в России? Повреждение чистоты
нравов, как это обещает заголовок щербатовского труда или просве-
щение грубых, или уж не повреждением ли грубых нравов следует
обозначить российскую историю XVIII в., а то и еще менее внятным
просвещением чистых нравов? «У, какая чудная, сверкающая, незна-
комая земле даль Русь!» —вправе воскликнуть запутавшийся в по-
пытке дать формулу смысла произошедших в ней изменений предста-
витель тысячелетнего княжеского рода, чуть ли не более древнего,
чем сама Русь. Да и как придешь к подобной формуле, если Щерба-
тов не крепок в своем руссоизме, периодически готов подпереть его
традиционной просвещенческой схемой.
Но дело не сводится к тому только, что первоначальная чистота
поврежденных впоследствии нравов у него не всегда обнаружима.
Так же, как явно не выстраивается и смена грубости нравов их
просвещением в качестве истолкования русской истории. Иначе за-
чем ему держать в запасе еще одно объяснение происшедших в Рос-
сии событий, которое вообще выходит за рамки руссоизма или
Просвещения? Оно у Щербатова от предшествующей, очень глубо-
кой и продолжительной традиции. Речь идет о периодических ссыл-
ках на «истребление веры в божественный закон», презрении к «тайнам
божественным» и т. п. Когда Щербатов в подобных вещах находит
объяснение повреждению российских нравов, он разделяет предшест-
вующую средневеково-христианскую мировоззренческую ориентацию.
Уместная у древнерусских историков-летописцев или западных бого-
словов, для просвещенного дворянина конца восемнадцатого столе-
тия, будь он вольтерьянцем или руссоистом, эта ориентация больше,
чем непоследовательность. Скорее в нашем случае можно говорить
о трехслойности мировоззрения Щербатова. В нем сосуществуют
Восемнадцатый век
561
исторически сменявшие один другого взгляды на исторический про-
цесс. И само их сосуществование не может не быть свидетельством
того, что каждое из мировоззрений не стало своим, легко и явно, не
всегда заметно для автора сменяется другим, тем, которое в данный
момент представляется наиболее убедительным.
Что же в таком случае остается своей собственной, далее неразло-
жимой и неотделимой от личности основой взглядов Щербатова?
Конечно, она у него была, как есть у любого человека. Другое дело,
что мировоззрение автора «О повреждении нравов в России» оста-
лось не выявленным и неоформленным концептуально. У него нет
своих собственных, не заемных понятий и мыслительных ходов.
Взгляд Щербатова на Россию тем самым не проговаривается (прого-
вариваются к случаю не свои концепции), а подразумевается. Подра-
зумеваемое же, как известно, вовсе не обязательно сознается тем, кто
мыслит. Как раз это характерно для нашего автора. То, что замечает-
ся им в российской истории, что знаменательно и показательно для
него, далеко не совпадает с теми мировоззренческими схемами (сред-
невеково-христианскими, просвещенческими, руссоистскими), кото-
рые каждый раз накладываются на исторически конкретный материал.
Просвещенный и образованный в соответствии с западными мер-
ками и критериями князь М. М. Щербатов тем не менее в сфере
мысли не свой человек. Она ему не дается как философема, становя-
щаяся рабочим принципом изучения отечественной истории. Нечего
и говорить о том, что еще менее доступна Щербатову реальность
чистой мысли, мысли, которая становится первофилософией и мета-
физикой. До чего-либо подобного русской культуре еще очень
далеко, пока ей недоступны и более скромные интеллектуальные
задачи.
***
Если наука и тем более философия в XVIII в. оставались в зача-
точном состоянии и были тепличным растением, с трудом прививав-
шимся на новой почве, то русское искусство эпохи культурного
ученичества далеко не было только ученичеством. Более всего пере-
ходный характер XVIII в. сказался на словесности. Русская поэзия,
проза, драматургия, исторические сочинения оставляют впечатление
неуклюжих попыток заговорить на новом, непривычном языке. Это
в XIX в. всем стали очевидными преимущества и достоинства русско-
го языка, что он «великий, могучий и свободный». В XVIII же веке
русская культура оказалась в очень странном и двусмысленном
положении, когда в русский язык хлынул поток иноземных слов,
отвечающих новым реалиям жизни, и он вдруг превратился в какую-
то странную мешанину, далекую от всякого единства и временами,
напоминающую плохой перевод западных текстов. Между тем весь
XVIII в. корчило и ломало язык с семисот—восьмисот летней пись-
менностью, на котором была создана обширная и разнообразная
562
Культура Петербургской России
литература. Теперь она становилась все более чужда и невнятна
образованному русскому человеку, который ориентировался прежде
всего на образцы французской словесности XVII—XVIII вв.
Представим себе ситуацию во всей ее простоте, ясности и вместе
с тем парадоксальности. Французская литература, как и другие веду-
щие западные литературы, развивалась от века к веку, согласно
своим внутренним законам. В XVI в. она секуляризуется, становится
светской литературой. В этом ей существенно помогло обращение
к опыту итальянской, а несколько позднее испанской литературы.
С середины XVII в. обозначился расцвет французской литературы.
В XVIII в. с переходом к Просвещению французы начинают задавать
тон в литературе во всей Европе. Ей подражают и у нее заимствуют
даже учителя французов—итальянцы, не говоря уже об англичанах
и немцах, а тем более о других литературах более скромных масшта-
бов. Подражание и заимствование здесь вполне уместны, потому что
Запад уже многие столетия составлял единое культурное сообщество.
В нем лидеры, та или иная национальная культура, были своими
среди своих. Их достижения легко и быстро становились достиже-
ниями всех остальных членов сообщества, в которое так поздно
и вместе с тем стремительно вошла Россия. У нее был свой опыт
развития словесности, с ее своеобразными ритмами и эпохами. Имма-
нентно, то есть изнутри, русская словесность конца XVII в. осущест-
вляла себя совсем иначе, чем западные литературы.
И вдруг с начала XVIII в. достоинством образца для русской
словесности начинает обладать западная литература. Ей начинают
подражать и заимствовать у нас в России совсем иначе, чем подража-
ли и заимствовали друг у друга западные литературы. Скажем, для
всего Запада образец произведений драматического жанра весь XVIII в.
составляла драматургия французского классицизма (Корнель, Ра-
син, Мольер) и ее продолжатели в лице, например, Вольтера. Это
означало существенную переориентацию национальной драматургии,
иные акценты в ней. У нас же первые драматические опыты во
французском духе создавались в значительной степени по принципу
«в просвещении быть с веком наравне». Если у французов была
великая драматургия, то она должна быть и у нас такая же. Отсюда
прямые, откровенные и очень наивные подражания французам. Они
в XVIII в. воспринимались всерьез, и такой простодушный подража-
тель, каким был А. П. Сумароков, в общем мнении был едва ли не
великим драматургом. Нужно отдавать себе отчет в том, что в XVIII в.
еще сохранялось представление о жесткой иерархии жанров литера-
туры. В ней драматургия занимала важное место, уступая, может
быть, одному только эпосу. Поэтому возвеличивание Сумарокова,
помимо невзыскательности вкуса читателей его произведений и зри-
телей поставленных по ним спектаклей, удовлетворяло еще и нацио-
нальное чувство, требовавшее, чтобы и в России были представители
изящной словесности вровень Западу.
Восемнадцатый век
563
Что касается эпического творчества, то оно, вообще говоря, прак-
тически совсем не давалось XVIII в. По своей сути эпос несовместим
с духом Просвещения. Странным образом это обстоятельство не
помешало кумирам XVIII в. предпринимать усилия по созданию
национальных эпосов. С той же наивностью, с какой в России
Сумароков подражал французским драматургам, самый влиятель-
ный и возвеличенный деятель Просвещения Вольтер создает произве-
дение в эпическом роде «Генриаду». Она должна была продемонст-
рировать, что французы в самом высоком жанре литературы не
уступают учителям европейского человечества грекам и римлянам.
Считалось, что если у греков есть гомеровские «Илиада» и «Одис-
сея», а у римлян вергилиевская «Энеида», то французы вправе
гордиться вольтеровской «Генриадой».
Их пример соблазнил и немцев в лице поэта Ф. Г. Клопштока,
создавшего свою эпическую поэму «Мессиада». Не удержался от
подобного соблазна и наш отечественный поэт Херасков, за которым
числятся целых две эпических поэмы «Россиада» и «Владимир». Уже
в начале XIX в. они воспринимались иронически в качестве забавно-
го курьеза. В момент же их издания русская образованная публика
не без гордости сознавала, что у нас, а не только у греков, римлян,
французов, немцев, англичан есть своя великая поэзия, представлен-
ная самым возвышенным жанром.
Достаточно быстро стало очевидным, что «Генриаде», «Мессиаде»,
«Россиаде» с «Владимиром» цена приблизительно одна, и притом
очень низкая. Однако для немцев и особенно для французов неумест-
ные поползновения на создание национальных эпосов оказались
тупиковым направлением к тому времени уже богатого и разнообраз-
ного литературного развития. В России же в области литературы
в качестве своих первых литературных опытов в новоевропейском
духе только и создавались произведения—едва ли не литературные
фикции. Их значение оставалось исключительно ученическое. Это
были первые пробы пера, в лучшем случае подготавливавшие после-
дующее движение литературы. Если бы оно не состоялось в следую-
щем веке, наша литература XVIII в. имела бы нелепый и жалкий вид,
за одним—двумя исключениями, к которым, несомненно, принадле-
жит Г. Р. Державин. Его творчество еще сохраняет все черты пере-
ходного периода от культурного ученичества к самостоятельному
творчеству. Однако сквозь них проглядывает первозданная творче-
ская мощь, которую не отменяет никакая стилистическая неуклю-
жесть ученика или простодушие человека, не получившего настоящей
европейской интеллектуальной выделки, разве что интуитивно нечто
впитавшей от ее плодов.
Иначе, чем с литературой, обстояло дело с изобразительным
искусством и особенно архитектурой. Уже царствование Петра Вели-
кого отмечено созданием архитектурных шедевров. Такой результат
прежде всего объясняется тем, что строили в петровской России
564
Культура Петербургской России
Вид памятника Петру Великому при его открытии в 1782 г.
Гравюра Мельникова с рисунка Давыдова
иноземные архитекторы или их русские ученики. Между тем при
всем влиянии Запада и заимствованиях у него наша архитектура
XVIII в. является именно русской. Никакой слепой подражательно-
сти, робкого ученичества у перенесенных в Россию образцов италь-
янской или французской архитектуры не было. У нас она станови-
лась нашей национальной, и вместе с тем оставалась западной. Что-то
неуловимое заставляет признать русской архитектуру даже самых
откровенно западных сооружений, в которых архитектор никак не
стремился заимствовать у местной традиции, а просто делал свое
дело, как он его понимал. Видимо, в архитектуре более всего сказы-
вался «молчаливый» характер русской культуры. Слово и мысль
были бессильны перед западными словом и мыслью. Архитектура же
свидетельствовала о том, что есть некоторый предел, казалось бы,
бесконечной уступчивости и податливости русской души. Как она ни
уступала и ни поддавалась, от себя отказаться было не в ее власти.
Почти растворившись в другом, русская культура на уровне архитек-
туры вдруг обнаруживала нечто противоположное: это она раствори-
ла в себе иноземные импульсы и влияния, а не они ее. В XIX в. такой
результат особенно внятно проявится в русском языке. Окажется,
что на нем можно говорить, почти не прибегая к своим коренным
словам, и все-таки он останется тем самым «великим, могучим
и свободным» русским языком.
Может быть, самым простым и вместе с тем выразительным
примером бесконечной уступчивости русской культуры западным
влияниям, которые почему-то оказываются вместимы в свое русское
и обнаруживают его, является конная статуя Петра I работы фран-
цузского скульптора Фальконе,—знаменитый «Медный всадник».
Восемнадцатый век
565
Ничего подобного русская национальная традиция никогда бы не
породила. У нас и скульптура-то возникла исключительно под запад
ным влиянием. Но почему-то фальконетовский памятник оказался
непохожим ни на какой другой. В нем поражают преимущественно
два момента. Во-первых, вздыбленность коня. Конные статуи обык-
новенно на Западе создавались таким образом, что у них конь
горделиво стоит, приподняв переднюю ногу. Таков их первообраз —
статуя Марка Аврелия на Капитолийском холме в Риме, таково же,
скажем, и скульптурное изображение Бартоломео Коллеони работы
великого итальянского ренессансного скульптора Верроккьо. Этим
образцам следовало множество скульпторов. Впрочем, на Западе все-
таки можно встретить и конные статуи с вздыбленным всадником
конем. Под Петром Великим конь однако не просто вздыблен, он
застыл в готовности к дальнейшему движению, и движение это
скорее всего будет головокружительный прыжок со скалы. Скала
в качестве постамента памятнику между тем и есть второй момент,
делающий «Медного всадника» непохожим ни на какие другие скульп-
турные изображения. Все-таки в скале как постаменте есть что-то
странное, и странность ее в природности, непресуществленности
в культуру. Казалось бы, высеченная из гранита скала обречена на
театральную декоративность, менее всего уместную в скульптуре.
В нашем случае йичего подобного не происходит. Она образует одно
целое с конем и всадником, создавая некоторое особое смысловое
пространство, какой-то особый, не западный, мир, увиденный скульп-
туром через призму конной статуи. Да, перед нами царь—устроитель
Петр, для которого Россия—природный материал его титанических
созидательных усилий. Он—величественный всадник, весь воля,
решимость, ум и замысел, восседает на своем могучем и укрощенном
коне на первозданно дикой скале и ему открывается еще более
первозданный простор, чистая стихия и природность, подлежащие
укрощению и освоению. Такое прочтение Петра Фальконе могло
состояться лишь при условии, что он, французский мастер, проникся
нефранцузским духом и выразил своим мастерством и гением вроде
бы вполне чуждую ему страну, стал творцом ее культуры. Той
культуры, которая еще недавно пережила такую невиданную встряску
по воле своего властителя.
* * *
Более всего состоявшаяся в XVIII в. переориентация русской
культуры на Запад, ее попытка стать западной культурой в ряду
других западных культур выразилась в основании Петром I Петер-
бурга и его дальнейшем развитии. При объяснениях возникновения
новой столицы России в устье Невы обыкновенно указывают на два
обстоятельства. Во-первых, на то, что стране необходим был порт на
Балтике для более тесных связей с Западом. И, во-вторых, на
стремление Петра вырваться из атмосферы московской консерватив-
566
Культура Петербургской России
ности и традиционализма. Второе объяснение достаточно очевидно,
чтобы не ставить его под сомнение. Что же касается первого, то оно
не выдерживает никакой критики. Ведь если порт на Балтике России
действительно был необходим, то вовсе не обязательно было делать
его столицей. Тем более что вскоре после основания Петербурга
Россия захватывает такие прекрасные порты, как Нарва, Ревель,
Рига.
В качестве столицы Петербург, во всяком случае с точки зрения
здравого смысла, всегда выглядел воплощенной нелепицей. Как ни
одна другая столица европейских государств, он располагался на
самой окраине империи, в течение всего XVIII в. очень уязвимой для
нападения со стороны Швеции. Уже в конце царствования Екатери-
ны II в период очередной русско-шведской войны петербургские
жители были недалеки от паники в виду в общем-то небольших
неудач русской армии. А если бы нашим войскам пришлось потер-
петь крупное поражение? Конечно, Петербург устоял бы, но какой
ценой! С другой стороны, город был не просто окраинным, но
и располагался (располагается и поныне) в совсем малонаселенной
местности с очень скудными ресурсами. Любая европейская столица
всегда образовывала вокруг себя густую сеть пригородов, обеспечи-
вавших ее всем необходимым. Так или иначе, страна группировалась
и концентрировалась вокруг своей столицы, как бы расходясь от нее
кругами. Петербург здесь—очень резко выраженное исключение.
И в военном, и в экономическом аспекте он в течение более столетия
оставался скорее обузой, чем жизненным центром страны. Если
искать смысл в его основании и существовании, то он безусловно
имеет отношение к культуре и не сводится только к стремлению
преодолеть московский консерватизм.
Петербург—это история и культура России в попытке начать ее
заново. Не вообще с чистого листа, а такими, какими они должны
быть вопреки тяжелым и прискорбным обстоятельствам истории.
Москва как третий Рим не удалась прежде всего в глазах самих
русских людей. Петербург возобновляет первоначально неудавшую-
ся заявку. Менее всего она представляет собой претензию голой силы
на безудержную экспансию. Имперский дух—это прежде всего соби-
рательный дух синтеза и согласия. К нему ведут войны и присоедине-
ние новых территорий, но к ним он не сводится. Оправдание Петер-
бурга состоит в том, что вопреки своей политической, военной
и экономической нецелесообразности в качестве столицы империи он
все-таки состоялся как столичный и имперский город. Самое надеж-
ное свидетельство тому—петербургская архитектура. Она выдержит
сравнение с любой западной столичной архитектурой. Но далеко не
каждый из западных столичных городов в свою очередь выиграет от
сравнения с Петербургом в качестве имперского города. Великодер-
жавный и вселенский дух органичны для Петербурга так, как для
немногих европейских городов. Часто при его характеристике указы-
Восемнадцатый век
567
Вид Аничкова дворца и Невского проспекта в середине XVIII в.
Гравюра Бодуэна
вают на то, что в отличие от великих городов Запада он не рос,
а строился, был спланирован властной рукой первого российского
императора и его наследников. Однако при всей заданности и спро-
ектированности Петербурга он не производит впечатления чего то
насильственного и неорганического. В нем есть своя органика, не-
смотря на всю правильность и регулярность проспектов, площадей
и общественных зданий.
Петербург стал городом на Неве, а не на Балтике, Нева же —река
невиданной мощи и размаха. Петербург не смог сделать ее просто
своей водной артерией, тем поглотив Неву. Но и Нева не разбила
город на части, оставшись непричастной Петербургу. Они взаимно
друг друга выражают и друг на друга указывают. Нева стала петер-
бургской рекой, но и Петербург—невским городом. В результате ни
о какой его сухости, жесткости и казенности говорить не приходится.
Перед нами—порядок и строй, за которым стоит обузданная стихия,
победоносный размах борьбы с ней и торжества над ее безмерной
мощью. По сути, это и есть имперский дух космизации хаоса,
о котором уместно говорить прежде всего в связи с Древним Римом.
Торжества, которое не попирает уничтоженного противника, а ми-
рится с ним, но уже на условиях победителя, не вполне чуждых
и побежденному.
Как явление и знак культуры Петербург состоялся по ту сторону
своей военной, политической и экономической сомнительности. Но
именно поэтому он не до конца реален, в нем действительно есть
момент призрачности и нереальности, о которых так много говори-
568
Культура Петербургской России
Спуск корабля на Неве в конце XVIII в.
Гравюра с рисунка Б. Патерсена
лось и писалось в XIX и XX вв. Поэт сказал о Петербурге: «воды
и неба брат». В этих словах можно найти и узко архитектурное
соответствие реальности. Они же есть и обобщенная формула петер-
бургскости. В самом деле классический Петербург, еще не облеплен-
ный новостройками и заводами, при всей своей стройности и строго-
сти, относительно невысок —три —четыре, иногда даже два этажа.
Просторные площади и широкие проспекты в результате оставляют
много, нет, не пустого пространства, пустота —бессмысленна, а про-
стора и воздуха. Петербург дышит широкой грудью и небо подступа
ет к нему вплотную, так же как и укрощенная, но здесь рядом
присутствующая и живая водная стихия. Поэтому вода, небо и строе-
ния между собой связаны и неотрывны друг от друга. Это рискован
ное единство, ведь строение как творение рук человеческих встреча-
ется с безмерным и невместимым в человеческое. Вспомним, что
небо —сакрально —космично, но его космичность не по человечески
меркам. Вода же —это уже образ хаоса.
Так что Петербург, действительно, расположен и бытийствует на
грани, что подчеркивается еще и материалом, из которого он создан.
В отличие от древнерусских городов, он не был деревянным, в нем
и дерево имитировало каменные постройки. Но из камня ли Петер-
бург? «Одеты камнем» почти исключительно набережные Петербур
га. Все остальное, за такими редкими исключениями, как Исаакиев-
Восемнадцатый век
569
ский и Казанский соборы, Мраморный дворец, из кирпича. Кирпич
не камень, а глина. В Петербурге кирпичные постройки штукатурили
и красили. Получалось нарядно, но непрочно. Того и гляди, краска
отколупнется, штукатурка отвалится, обнажив кирпич. От этого
петербургские здания особенно хрупки и уязвимы. Ощутить их
хрупкость и уязвимость со всей остротой можно, скажем, вернув-
шись из действительно построенного из песчаника каменного Пари-
жа. Париж хотя и не тяжеловесен, но массивен и устойчив. В нем
есть то, чего как раз хронически недостает Петербургу, который
строился и украшался по какой-то логике «наоборот». Как раз
с использованием материала, наименее подходящего к его природ-
ным условиям. Такая нецелесообразность строительства обернулась
особым петербургским стилем, выразившем собой всю Петербург-
скую эпоху. В ней Россия прорвалась к новым горизонтам и вместе
с тем сделала свое историческое существование очень проблема-
тичным.
* * *
Петербургу всегда недоставало почвенности, укорененности во
всех слоях русской жизни. Впрочем, то же самое можно сказать
и о культуре Петербургского периода в целом. Как и Петербург, она
не была чем-то искусственным, тепличным и беспочвенным. И все же
утверждение о том, что культура Петербургской России была обще-
национальной, еще менее справедливо, чем упреки в ее беспочвенно-
сти. В том и дело, что начиная с XVIII в. русская культура перестает
быть однородной. Она расслаивается на народную, в своей основе
по-прежнему крестьянскую, и дворянскую культуры. Причем выход
в Новое время, европеизация и вестернизация коснулись прежде
всего и почти исключительно дворянства. Крестьянство вплоть до
конца XIXв., по существу, пребывало скорее в допетровской Руси,
чем в Петербургской России. Близко к крестьянству примыкали
широкие слои купечества и духовенства.
На первый взгляд, в нашей стране сложилась ситуация, близкая
к той, которая на протяжении многих веков была характерна для
Запада с его сильно выраженным культурным своеобразием рыцар-
ства (дворянства), бюргерства (буржуазии), духовенства и крестьян-
ства. На самом деле разница здесь огромна и проистекает она из того,
что дистанция между культурой дворянства и других сословий в Рос-
сии возникла не изнутри, ее создало усвоение западной культуры.
При том, что последняя не только усваивалась, а стимулировала
собственное культурное развитие, в результате создавалась ситуация
культурного двоемирия. На самом простом и наглядном уровне она
проявлялась в том, что барин был совсем непонятен мужику, так же
как и наоборот —мужик барину.
Если бы все сводилось только к различиям между образованными
и необразованными слоями населения России, в этом не было бы
570
Культура Петербургской России
ничего необычного, но у нас дво-
рянство оказалось в положении
едва ли не иностранцев в собст-
венной стране. Чем просвещеннее
были дворяне, тем в большей сте-
пени они ощущали свою принад-
лежность к западной культуре
и тем более отдалялись от низших
слоев и собственного историческо-
го прошлого. Иначе и быть не
могло там, где образование, по-
скольку оно вообще давалось дво-
рянам, было образованием в за-
падном духе.
Приведем один только пример
в подтверждение сказанному. Он
имеет отношение, как это принято
говорить, к одному из образо-
ваннейших людей своего времени,
Екатерине Романовне Дашковой,
Портрет Е. Р. Дашковой в течение 11 лет возглавлявшей
д. г. Левицкий, ок. 1784 сразу Два научных учреждения той
поры — Российскую Академию
и Петербургскую Академию наук. У европейски образованной и,
к тому же, европейски известной княгини и руководителя Академий
в 1779г. состоялся знаменательный разговор с канцлером Священ-
ной Римской империи и тоже князем Кауницем, который славился
своим умом и проницательностью. Дашкова тем не менее вступила
с Кауницем в спор и по крайней мере, в ее собственном изложении
вышла из него победительницей. Вот отрывок из их разговора:
«За столом он [Кауниц] все время говорил о России и, заговорив
о Петре I, сказал, что русские ему всем обязаны, так как он создал
Россию и русских.
Я отрицала это и высказала мнение, что эту репутацию создали
Петру I иностранные писатели, так как он вызвал некоторых из них
в Россию, и они из тщеславия величали его создателем России.
Задолго до рождения Петра I русские покорили Казанское, Астра-
ханское и Сибирское царства. Самый воинственный народ, именую-
щийся Золотой Ордой (вследствие того, что у них было много
золота, так что им было украшено даже оружие), был побежден
русскими, когда предки Петра I еще не были призваны царствовать.
В монастырях хранятся великолепные картины, относящиеся еще
к тому отдаленному времени. Наши историки оставили больше доку-
ментов, чем вся остальная Европа взятая вместе.
— Еще четыреста лет тому назад, — сказала я, — Батыем были разо-
рены церкви, покрытые мозаикой.
Восемнадцатый век
571
...В доказательство того, что у меня нет предубеждения против
Петра I, я искренно выскажу свое мнение о нем. Он был гениален,
деятелен и стремился к совершенству, но он был совершенно невос-
питан, и его бурные страсти возобладали над его разумом... Он
подорвал основы уложения своего отца и заменил их деспотическими
законами... Он почти всецело уничтожил свободу и привилегии дво-
рян и крепостных»1.
Свои «Записки» Дашкова создавала на французском языке, но
и переведенные на русский, они целиком сохраняют свою француз-
скость. Так рассуждать, пользоваться такими оборотами речи и при-
водить такие сведения и аргументы мог и должен был французский
литератор. И не только потому, что Дашкова дает фантастическое
объяснение названия Золотой Орды, православные иконы называет
«великолепными картинами», а нашествие Батыя датирует с ошибкой
в 150 лет. Важнее то, что просвещенная княгиня совершенно чужда
всякому подобию понимания своеобразия русской истории и культу-
ры. В своем разговоре с австрийцем Кауницем она выказала себя
горячей патриоткой. Но весь свой патриотизм свела к тому, чтобы
показать, что родная страна Дашковой ничем не хуже любой запад-
ной страны и даже превосходит их. В соответствии с ее логикой
получается, что Петр I не только не сблизил Россию с Западом, а,
напротив, отдалил от него. Ведь только с ним связывает Дашкова
деспотизм, отсутствие свободы и привилегий у всех сословий России.
Как раз то, за что принято было в конце XVIII в. осуждать Россию на
Западе. Дашкова могла критически относиться к Петру и восхвалять
допетровскую Русь, могла и, наоборот, восхвалить Петра и раскрити-
ковать предшествующую эпоху. От этого ничего не менялось в глав-
ном. В любом случае ее взгляд на свою страну остался бы взглядом
постороннего. Если быть более конкретным—человека, принадлежа-
щего по своему образованию и всему духовному строю к француз-
скому Просвещению.
* * *
Коснувшись в первую, очередь и главным образом дворянства,
петровские реформы и все преобразования русской культуры совер-
шались в значительной степени за счет других слоев населения
России. Они, например, не только не привели к сдвигам в образова-
нии низших слоев, но, пожалуй, даже ухудшили ситуацию в том
отношении, что доля грамотных людей в стране сократилась. В XVIII в.
Россия оставалась страной крепостного права. Более того, в царство-
вание Екатерины II были закрепощены относительно свободные
жители Малороссии. Само по себе наличие крепостного права не
выделяло Россию из ряда западных стран. В некоторых из них оно
также продолжало существовать. Но на Западе в противоположность
1 Дашкова Е. Записки. 1743—1810. Л., 1986. С. 126—127.
572
Культура Петербургской России
большей или меньшей несвободе крестьянства лично свободными
были представители других сословий, и прежде всего дворянства.
Петровские преобразования и последующая жизнь России в рит-
мах западной культуры в XVIII веке ничего не прибавили ей в плане
свободы. Петр I видел в дворянстве такое же подневольное сословие,
обязанное нести свои повинности, как и другие сословия. Его особен-
ность—в несении военной и гражданской службы и большем, чем
у других, благосостоянии. Позднее от царствования к царствованию
дворянство получает все большие и большие льготы и послабления:
сокращается срок обязательной службы, отменяются телесные нака-
зания, даются права дворянского самоуправления на местах и т. д.
Однако весь XVIII в. практически неизменными, хотя и подспуд-
но размываемыми, остаются патриархальные отношения в русском
обществе. Петр I был слишком суровым, жестоким и вместе с тем
неутомимо деятельным государем, чтобы в нем легко угадывались
патриархальные черты. Патриархальную старину он как раз гнул
и ломал. Выдвигал же людей по их делам, хватке и исполнительно-
сти, видел в них не детей, а слуг.
Но вот царствование Петра I отошло в прошлое, стало недавней,
но стариной, и его дочь императрица Елизавета Петровна во всеоб-
щем восприятии русских людей становится государыней —матушкою,
хотя бы в идее пекущейся о своих подданных —«детушках». Так уж
сложилась русская история XVIII в., что Россией правили по пре-
имуществу государыни, чего никогда ранее не случалось на Руси.
И это обстоятельство лишний раз акцентировало давнишнюю, если
не исконную, особенность русских людей —их неизбывное ощущение
себя детьми своей родины-матери. Теперь эта родина-мать персони-
фицировалась матерью-государыней, а не царем-батюшкой и супру-
гом Русской земли, как это повелось ранее. Между прочим, в имено-
вании Елизаветы Петровны есть один достойный быть отмеченным
момент. Эта наша государыня официально никогда не была заму-
жем. Так же, например, как ее тезка на английском престоле в конце
XVI—начале XVII в. Елизавета Тюдор. Оставшись незамужней, «Ели-
завета Генриховна» именовалась своим окружением королевой-девст-
венницей. Государыней-матушкой назвать Елизавету в Англии нико-
му не приходило в голову, хотя ее материнство по отношению
к англичанам изредка и вскользь декларировалось. У нас в России
только спятивший с ума человек мог отнестись к Елизавете Петровне
как к императрице—девственнице, несмотря на ее официальное деви-
чество.
Пока еще неизменная русская патриархальность приводила в изум-
ление, а то и в негодование иноземцев. Она делала в какой-то
степени справедливыми утверждения о том, что западное образова-
ние и культура —это только внешний слой жизни даже просвещен-
ных людей, что поскреби русского и найдешь в нем татарина. Если
быть более точным, то говорить, наверное, нужно не о внешнем
Восемнадцатый век
573
характере русской европеизации
и сохранении неизменным нутра
на западный лад образованного
человека. Скорее имело место при-
чудливое сочетание западной куль-
туры и русской традиции, кото-
рые далеко не сразу образовали
новую целостность. Поначалу рус-
скому человеку новой формации
не давалось ощущение внутрен-
ней свободы и независимости, ин-
дивидуального достоинства и чес-
ти. Лучшие русские люди XVIII в.,
безупречно храбрые, самоотвер-
женно служащие отечеству,
«в просвещении стоящие с веком
наравне», как-то скисали и воз-
вращались душой к допетровским
временам в отношениях с выше—
и нижестоящими. Перед первыми
они искренне раболепствовали
и заискивали, уподобляясь малым
детям, во вторых же сами видели
некоторое подобие малых детей.
Г. А. Потемкин
Гравюра с портрета Дж. Уокера,
1780-е гг.
Показательным, хотя и не самым ярким примером отношений млад-
шего по положению к старшему могут служить письменные обраще-
ния А. В. Суворова к своему непосредственному начальнику Г. А. По-
темкину. Представим себе: один из них в это время — генерал аншеф
и граф, другой — генерал-фельдмаршал и светлейший князь, один
командует армией, другой возглавляет военную коллегию, то есть
всю Российскую армию, один очень богат, другой богат сказочно.
Короче, оба аристократы и должностные лица самого высокого
ранга. Итак, А. В. Суворов пишет письмо Г. А. Потемкину (процити-
рую только обращение одного из писем): «Батюшка князь Григорий
Александрович! Нижайше благодарю Вашу Светлость за милостивое
Ваше письмо. <...> Ваш наипреданнейший вечно. Целую Ваши руки.
С наступающим новым годом Вашу Светлость всенижайше по-
здравляю. Припадаю к коленям».
Повторим, ничего особенного, своего в письме Суворова к Потем-
кину нет. Одни, причем не самые сильные и далеко не форсирован-
ные формулы вежливости. Между тем как умаляется Суворов, как
низко себя ставит перед человеком, который всего-то на один ранг
выше его. По существу, они не столько подчиненный и начальник,
сколько соратники, делающие одно великое дело, завоевывающие
славу России и, кстати говоря, друг другу симпатизирующие и от-
дающие должное. Однако попробуй понять это из обращений письма.
574
Культура Петербургской России
А. В. Суворов
Гравюра Д. Нейдле с портрета
II. Крейцингера, 1799
Стандартные формулы вежества
допускали только создание обра
зов покорного сына и слуги на
одном полюсе и батюшки и мило-
стивца—на другом. Никуда от при-
нятого тона Суворову было не
уйти. О другом он и не знал,
к другому не привык и оставался
здесь вполне русским человеком
времен Московского царства, для
которого нет чести и достоинства,
предполагающих принципиальное
равенство людей одного аристо-
кратического круга. На Западе по-
добное было само собой разумею-
щимся, в России же оформилось
только к началу XIX в.
Честь и достоинство даже луч-
ших русских людей XVIII века
проявлялись в их служении госу-
дарю (государыне) и отечеству.
Здесь они ни в чем бы не уступи-
ли своим западным соседям ни в самоотверженности, ни в бесстра-
шии, ни в готовности переносить трудности и лишения, не требуя за
них почестей и наград, а в чем-то, может быть, и превзошли их. Так
что стыдиться за тех, кто в XVIII в. представлял собой так называе-
мый «цвет нации» не приходится. Но, отдавая им должное и восхи-
щаясь, невозможно не заметить в людях XVIII в. и другого. Того, что
является прямым продолжением патриархальности и заключается
в какой-то детской легкости, с которой люди XVIII в. готовы были
попирать достоинство других, попутно лишая достоинства и себя.
Они, конечно, не были рабами в полноте рабства или преобладания
в себе рабских черт, но холопские черты в них нет-нет да и прогля-
дывали. Причем, действительно, у лучших и достойнейших, как,
скажем, у упоминавшихся уже в настоящей главе М. В. Ломоносова
и А. П. Сумарокова. Не тем они, конечно, вошли в русскую культуру,
о чем пойдет речь в цитируемом ниже письме Сумарокова, и не это
должно выдвигать на передний план при обращении к образам двух
замечательных деятелей XVIII в. И все же сумароковское письмо по-
своему очень примечательно и выражает нечто существенное и харак-
терное для русской культуры той поры. Оно представляет собой
«В Государственную штатс-контору от бригадира Александра Сума-
рокова доношение». Приведу его с некоторыми сокращениями в том
виде, как оно предстает в заметке П. А. Вяземского «О Сумарокове»:
«Уведомился я, что прислана за подписанием Ломоносова в Госу-
дарственную Штате Контору о удержании моего жалованья проме-
Восемнадцатый век
575
мория, дабы тем возвратить издержанную казну за напечатание моих
трагедий; а понеже, хотя я и от Штатс-Конторы жалованье получаю,
однако под ведомством оной конторы не состою, того ради оная
контора удерживать моего жалованья, по присылке Ломоносова,
надеюся, не благоволит. А оный Ломоносов, яко человек, на которо-
го я имею подозрения, по челобитию моему в силу указов, как
известный мне злодей, будет от моих дел отрешен. Оный Ломоносов,
может быть, принял дерзновение делать таковые на меня нападения
оттого, что он часто от пьянства сходит с ума, что всему городу
известно и (как уповательно) то он ту промеморию подписал на меня
в обыкновенном своем безумстве; ибо Академия причины не имеет
взыскивать с меня деньги таковым порядком, понеже я не только от
казенных долгов, но и ни от каких никогда не отпирался. Я Государ-
ственную Штате-Контору нижайше прошу, чтобы она не состоящего
под своим ведомством человека... наказывать не благоволила... ибо
всегда и часто с ума сходящий Ломоносов не может повелением
своим ни одной полушки удержать из моего жалованья, хотя бы он
и в целом уме был... А он, Ломоносов, таковые во пьянстве дерзнове-
ния делал неоднократно, за что содержался несколько времени под
караулом и отстранен был от присутствия Конференции. А что он не
в полном разуме, в том я свидетельствуюсь сочиненною им Ритори-
кою и Грамматикою»1.
Напомню читателю обстоятельство, на которое уже обращал его
внимание: 4 мая 1700 г. Петр Первый специальным указом запретил
подавать на царское имя челобитные о нанесенном челобитчику
бесчестии. Указ этот не остался благопожеланием и имел силу как
в царствование Петра Великого, так и в последующие царствования.
Поток челобитных иссяк. Но кто и каким указом мог заставить
русских людей хотя бы и высших сословий самим хранить свою честь
как зеницу ока, не допускать ничьих посягательств на нее, в том
числе и со своей собственной стороны!
Понятно, что человек чести создается не указами, а всей культу-
рой и появляется он не в один день. Насколько об этом можно судить
по письму Сумарокова, честь как индивидуальное достоинство не
стала реальностью русской жизни еще и через 60 лет после петров-
ского указа.
Сегодня уже невозможно установить, действительно ли Сумаро-
ков лишился жалованья несправедливо и незаконно и в самом ли
деле к этой несправедливости и беззаконию приложил руку Ломоно-
сов. Допустим, что он не без греха. Но зато и какова реакция
Сумарокова. Какое великолепное негодование в адрес Ломоносова,
какая готовность егр унизить и оскорбить побольнее! Чего стоит
правота Сумарокова, если он действительно был прав, когда он так
разделывается с противником! Ведь, втаптывая противника в грязь
1 Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика. М., 1984. С. 115.
576
Культура Петербургской России
А. П. Сумароков
Гравированный портрет Зейферта
с такой безоглядной яростью, вряд
ли возможно и самому не загряз-
ниться с ног до головы. Сумаро-
кову нельзя написать в адрес
царственной особы челобитную
о нанесенном ему бесчестии, так
что же: он пишет донос в Штатс-
Контору. Точнее, оправдательное
письмо, в котором момент кляу-
зы, доносительства и сплетни явно
перевешивает собственное оправ-
дание. Недалеко ушло русское дво-
рянство от времен Московской
Руси, если в его среде по-прежне-
му так по-детски злобно и безот-
ветственно сводят счеты между
собой его представители.
А как им еще их сводить в си-
туации пронизывающей общество
патриархальности?! Это перед «от-
цом родным» и «благодетелем»
и «милостивцем» нужно всячески
умаляться, демонстрировать без-
граничное почтение и преданность.
Между равными же возможно
и бывало всякое. Равные-то по го-
ризонтали не связаны никаким
особым долгом и честью. Должен
ты вышестоящему или нижестоящий тебе. Честь —это когда ты чест-
вуешь вышестоящего или принимаешь почести от нижестоящего.
В отношении же с равным или приблизительно равным возможно,
конечно, дружество и даже задушевная дружба. Но ничуть не менее
возможно и допустимо мериться честью, выяснять, кто честнее, кому
положены большие, а кому более скромные почести. Нечто подобное
явно имело место и между Сумароковым и Ломоносовым, двумя
самыми знаменитыми литераторами своего времени, но еще и детьми
государыни-матушки и далее своих отцов-начальников.
То и поражает неприятно и вызывает горечь, что два российских
литератора, если и не ставших классиками отечественной литерату-
ры, то все же вошедшие в ее историю как достойные представители
еще только нарождавшейся русской словесности, оказались втянуты
в историю, которая гораздо позднее станет под пером нашего класси-
ка очень известным, хрестоматийным даже, сюжетом. Конечно, Су-
мароков и Ломоносов —это Иван Иванович, поссорившийся с Ива-
ном Никифоровичем. Во всяком случае, Сумароков уж точно то ли
Иван Иванович, то ли Иван Никифорович.
Восемнадцатый век
511
Впрочем, дадим слово его литературным двойникам. Вначале
Ивану Ивановичу: «Выше изображенный дворянин, которого уже
самое имя и фамилия внушает всякое омерзение, питает в душе
злостное намерение поджечь меня в собственном доме. Несомненные
признаки чему из нижеследующего явствуют: во-первых, оный зло-
качественный дворянин искал часто выходить из своих покоев, чего
прежде никогда, по причине своей лености и гнусной тучности тела
не предпринимал...» Это Иван Иванович вдохновенно характеризует
своего непримиримого врага в письме в уездный суд. А вот голос
Ивана Никифоровича, также обращенный к уездному суду: «По
ненавистной злобе своей и явному недоброжелательству, называю-
щий себя дворянином Иван Иванович сын Перерепенко всякие
пакости, убытки и иные ехидненские и в ужас приводящие поступки
мне чинит... Он же оный, часто поминаемый, нечестивый дворянин
и разбойник Иван Иванов, сын Перерепенко и происхождения весь-
ма поносного... Отец и мать его тоже были пребеззаконные люди,
и оба были невообразимые пьяницы. Упоминаемый же дворянин
и разбойник Перерепенко своим скотоподобным и порицания достой-
ным поступком превзошел всю свою родню и, под видом благочестия,
делает самые соблазнительные дела...».
Вряд ли И. В. Гоголь когда-либо читал цитированное письмо Су-
марокова. Чтобы создать «Доношения» Ивана Ивановича и Ивана
Никифоровича, в этом не было никакой нужды. Они были написаны
вполне в стиле эпохи и поколений, предшествовавших гоголевской
эпохе и его поколению. Гоголь всего лишь придал этому стилю
характер убийственно смешного гротеска. Но вот ведь какое чудо,
гоголевский гротеск ничуть не превзошел подлинной жизненной
реальности конфликта между двумя русскими литераторами. Как
минимум, одного из них хоть бери и прямо переноси в смеховый мир
гоголевской прозы, там бы он вполне прижился как свой среди
своих. То, что станет гротеском и гримасой в первой трети XIXв.,
еще во второй половине века XVIII было полнокровной жизненной
реальностью общества, культивирующего патриархальные отцовско-
сыновние, материнско-сыновние и т. д. добродетели, но в результате
образующего прореху в отношениях на равных. Они еще настолько
детски безответственные, грубые и бесформенные, что диву даешься.
Ситуация тем более странная, что подобные черты культуры
Московской Руси существовали, как минимум, целое столетие в куль-
туре Петербургской России, которая строилась по другим, во многом
существенно прямо противоположным старомосковским основаниям.
Никакое обращение к Западу, никакое усвоение норм и форм поведе-
ния западного человека, его этикетности ничему не помогали в плане
изживания русской патриархальности и, соответственно, неистреби-
мой детскости.
При этом, конечно, русские черты, выразившиеся в письме А. В. Су-
ворова Г. А. Потемкину и А. П. Сумарокова в Штате —Контору, не
578
Культура Петербургской России
стоит воспринимать сами по себе. Они имели место, придавая рус-
ской культуре в глазах иностранцев не самый привлекательный
облик. Но у этих черт была и своя оборотная сторона, точнее, они
сами были оборотной стороной чего-то иного. Того, что может быть
определено приблизительно как задушевно-родственный тон в отно-
шениях людей одного и не только одного и того же круга. Нигде, как
в России, не привечали людей знакомых и незнакомых с такой
теплотой, хлебосольством и открытостью. Нигде не считали своим
долгом, не долгом даже, а совершенно естественным душевным
движением, накормить и обогреть гостя, дать ему почувствовать, что
он свой среди своих.
В этой задушевно-родственной приветливости сосуществовали
и уживались две совершенно различные реальности. С одной сторо-
ны, в общении с человеком чрезвычайно внимательно относились
к его чину, званию. Они определяли характер обхождения с челове-
ком. Оставаясь простым, открытым, ласковым, обхождение в то же
время было очень внимательно к соблюдению рангов. Кого куда
посадить, на верхнее или нижнее место стола, как его обслужить
и чем угостить, — такого рода местническим вопросом задавались со
всей серьезностью весь XVIII в. Не потеряет он своей актуальности
и в следующем веке. Русская жизни XVIII в. оставалась семейной
и семейственной, поэтому в ней была своя теплота, привлекатель-
ность и обаяние, в том числе и для иноземцев с Запада. Однако
никакая теплота и задушевность этой жизни не спасала ее от главного
порока. Чрезвычайно малой чувствительности к индивидуальному
в человеке, к его лица не общему выражению, к стремлению жить по
своей воле и в соответствии со своим пониманием,—нечто подобное
начнет пробивать себе дорогу в русской культуре только в следую-
щем столетии.
* * *
Жизненным центром русской культуры XVIII в. становится внача-
ле царский, а потом императорский двор. Если в это время вся
русская культура и не носила придворный характер, то решающее
влияние двора прямо сказывалось на всей дворянской культуре,
а косвенно и на культуре остальных сословий. Нужно сказать, что
тенденция к повышению роли дворов государей в развитии культуры
проявилась на Западе повсеместно еще в XVII в. Особенно она
давала о себе знать во Франции в период правления Людовика XIV
(1661—1715). Так или иначе с королевским двором в это время
связаны почти все важнейшие явления французской культуры.
XVIII в, —век Просвещения, как раз характеризуется тем, что наря-
ду с придворной очень внятно и решительно заявляет о себе культу-
ра, несущая в себе буржуазные черты или прямо буржуазная по
духу. Ее деятели вовсе не обязательно буржуа, они могут быть даже
приближены ко двору, как это, например, неоднократно имело место
Восемнадцатый век
579
с Вольтером. Но очень важным моментом здесь является то, что
культура Просвещения создавалась не при дворах, в ней нет ничего
придворного. И если царственные особы стремились приблизить
к себе деятелей Просвещения, то именно в стремлении не отстать от
века. Теперь они не задавали тон, а вольно или невольно подчиня-
лись не от их дворов исходящим веяниям.
На подобном фоне русская культура XVIII в. выглядит достаточно
неожиданной и странной. В предшествующем веке никакой придвор-
ной культуры в России не существовало. При дворе было определяю-
щим «древлее благочестие». Русские цари держали себя подчеркнуто
церковно и благолепно. Ежедневно посещали церковные службы
и подолгу присутствовали на них. Непременно обязательным было
участие во всех крупных церковных праздниках, в поездках в более
или менее отдаленные монастыри на богомолье. Светские элементы
хотя и наличествовали при московском дворе, но имели подчиненное
значение. Светским царский двор стремительно становится при Пет-
ре I. В нем вводятся западные обыкновения —церемонии, этикет,
придворные чины, одежды и т. п.
Между тем российский двор остается в огромной степени чуждым
окружающему его миру все еще московской по своему характеру
Руси. Перед двором, который был центром власти, стояла задача
преобразовать всю Россию по западному образцу. В отношении
культуры это значило вывести всю страну из позднего Средневековья
прямо в Просвещение. Так что в нашей стране возникла совершенно
немыслимая более нигде ситуация, когда ростки Просвещения исхо-
дили именно от двора. Именно двор предпринимал усилия к внедре-
нию в русскую культуру тех начал, на которых основывалось Про-
свещение.
На Западе, скажем, государям не было особой необходимости
открывать в своих государствах университеты и школы, тем преобра-
зуя культуру. Они и так существовали и в немалом количестве.
Конечно, покровительство двора наукам и искусствам на Западе
и в XVIII в. никогда не было лишним, но оно не определяло собой
ситуацию в культуре. У нас ситуация была иной. Многое необходимо
было создавать впервые, заново и, заниматься этим, кроме самодер-
жавного монарха и его окружения, было некому. Вот самодержавие,
абсолютная монархия и выступала в России XVIII в. в роли главного
просветителя своей страны.
То, что для западных стран оставалось благопожеланием просве-
тителей, их мечтой о просвещенном монархе, властно и стремительно
вводящем в своей стране Просвещение, было для России жесткой
необходимостью. Сами монархи, как, скажем, императрица Елизаве-
та Петровна, могли быть не слишком образованы, менее всего отно-
ситься к числу ценителей искусств и наук. И все же политика,
которую они санкционировали, действовала в сторону возникнове-
ния и развития русского Просвещения. Ведь государству были совер-
580
Культура Петербургской России
Титульный лист книги «Философиче
ская и политическая переписка императ-
рицы Екатерины II с Вольтером». СПб..
1802
шенно необходимы образованные
чиновники и офицеры, без них
его существование становилось
невозможным. Образовывать их
в XVIII в. иначе, чем в духе Про-
свещения, было немыслимо. Об-
разованные же люди, обладавшие
дарованиями, естественным обра-
зом стремились себя выразить, ста-
новясь тем самым уже не просто
выучениками, но и деятелями рус-
ского Просвещения.
Их появление при том, что оно
немыслимо без просветительских
усилий самодержавия, не могло
рано или поздно не вступить в про-
тиворечие и даже конфликт с ним.
Хрестоматийный пример тому —
деятельность Н. И. Новикова и А. Н. Радищева. Образованные в ду-
хе Просвещения, горячо преданные его идеалам самой своей деятель-
ностью, своими произведениями, они не могли не поставить под
вопрос самодержавие. Одно дело, когда Екатерина II в переписке со
столпами Просвещения на Западе изображала из себя просвещенную
государыню, устрояющую свою, пока еще полуварварскую страну,
на началах разумности. В этом случае она принимала на себя роль
просветительницы. И совсем другое дело — соотнесенность ее с про
свети гелями в собственной стране. С людьми, кто знает положение
в России вовсе не из французского далека и которые в соответствии
с собственным разумом оценивают окружающую реальность и пыта-
ются предпринимать собственные, от себя исходящие просветитель-
ские усилия. Тут наступает момент, когда различным просветителям,
с одной стороны, императрице Екатерине II, с другой же —Новикову
и Радищеву, уже не ужиться друг с другом. Пока просветительницей
выступает государыня, все остальные в ее империи должны высту-
пать в роли просвещаемых или, в крайнем случае, исполнителями
воли просветительницы. Таких правил игры западное Просвещение
не создавало. Его вожди видели себя не менее, чем советниками
монархов, независимыми от них, скорее относящимися к монархам
как к своим друзьям, в чем-то, может быть, даже орудиям, но
совсем не готовых стать слугами и исполнителями. Подобное вовсе не
для тех, кому открыт свет естественного разума. Но тогда Екатери-
не II становится не по пути с выучениками насаждавшегося, в том
числе ею самой, западного Просвещения. Просветительной миссии
самодержавия и двора пора заканчиваться.
Невозможно переоценить роль двора в России XVIII в. в качестве
движущей силы и образца для всей русской культуры. По этому
Восемнадцатый век
581
Портрет Г. Р. Державина
В. Л. Боровиковский, 1811
пункту Россия оставила далеко
позади даже Францию века Лю-
довика XIV. Для нее двор был
всем. От него не только исходила
мода, этикет и образцы светского
общежития. Если мы обратимся
ко всему, что было создано
в XVIII в. действительно заслужи-
вающего внимания потомков, нам
невозможно будет отвлечься от
связи культуры с двором. Лучшие
памятники архитектуры —это цар-
ские дворцы или сооружаемые по
прямому распоряжению короно-
ванных особ общественные и даже
церковные здания. Под их пря-
мым влиянием или же теми самы-
ми архитекторами во вторую оче-
редь строились здания для русских
вельмож и даже тех, кто ко двору
не принадлежал. Русская живо-
пись конца XVIII в. — это прежде
всего творчество трех великих художников Рокотова, Левицкого,
Боровиковского. Все они портретисты. И портреты, создаваемые
ими, заказывались, в первую очередь, императрицей и ее придворны-
ми. Русская музыка, создававшаяся также в конце XVIII в., связана
с двором еще более тесно, чем живопись. Придворными композито-
рами были два ее крупнейших представителя —Бортнянский и Бере-
зовский.
Известные и знаменитые у современников русские литераторы не
все имеют прямое отношение ко двору. Но вовсе не потому, что они
его чуждались. Как раз наоборот, ко двору и государям литераторы
в соответствующих случаях считали необходимостью обращаться
с одами и другими стихотворными посланиями. Сегодня в подобной
обращенности легко заподозрить корысть и низкопоклонство. Конеч-
но же, очень часто дело не обходилось без греха. Но все сводить
к нему у нас нет никаких оснований. А вот напомнить один достаточ-
но известный факт русской литературной жизни XVIII в. будет
уместно.
В 1782 г. первый действительно великий русский поэт Г. Р. Дер-
жавин посвятил Екатерине II свою ставшую знаменитой оду «Фели-
ца». К тому времени дело это было обычное, так же как обычными
были восхваление мудрости, милосердия, скромности, справедливо-
сти, терпимости и прочих добродетелей императрицы. Ода очень
понравилась Екатерине II, за нее автор был отмечен высочайшим
подарком и благоволением. Похоже, что ода благотворно сказалась
582
Культура Петербургской России
Портрет Екатерины II в храме богини
Правосудия
Д. Г. Левицкий, 1783
и на служебной карьере Держави-
на. Удивительно, однако, другое:
«Фелица», несмотря ни на что,
прекрасное стихотворение, став-
шее заметной вехой в литератур-
ной жизни России, а не только
в поэзии.
Литературоведческий разбор
«Фелицы» не наша задача. Поэто-
му, обратив внимание читателя на
ее особый лиризм и задушевность,
интерес к действительным особен-
ностям характера и образа жизни
Екатерины, выраженным с под-
линным поэтическим мастерством,
нельзя не отметить и другого. Не
будь Екатерина II такой, как она
была, всякая поэтичность осталась
бы оде чужда. Если бы, конечно,
в ней не проявился какой-нибудь
зловеще-демонический гротеск.
Императрица действительно вдох-
новила одописца Державина на
поэтическое творение. В ней было то, что задевало поэта и пробужда-
ло его Музу. Читатель вправе возразить мне: «А если бы Екатери-
на II в силу своей человеческой незначительности была не в состоя-
нии вдохновить Державина на поэтическое послание к ней, почему
бы поэту не адресовать его действительно достойной оды женщине?»
Ответ на этот гипотетический вопрос состоит в том, что поэтам
в России XVIII в. до Державина не по силам и не с руки было
создавать действительно поэтические произведения чисто интимного
свойства. Поэты все больше воспевали высокие предметы и «бряцали
на лире». В соответствии с установившейся традицией взялся «бря-
цать» и Державин. И тут оказалось, что его творение, оставаясь
всецело придворной поэзией, открыло ей новые горизонты, которые
со временем далеко уведут ее от всякой придворности. Пока же
поэзии двора было не миновать. Он оставался пространством высо-
кой культуры, за его рамки выходить было невозможно и ненужно.
И не только поэзии, но, скажем, и изобразительному искусству.
В отношении последнего не могу удержаться от еще одного примера,
вводящего нас в самое существо культурной ситуации XVIII в.
В Русском музее, в залах, посвященных XVIII в., едва ли не по
соседству можно увидеть две сходные по масштабам и предназначе-
нию статуи русских императриц. Одна из них представляет собой
изображение Анны Иоанновны, другая, опять-таки, Екатерины. Обе
статуи бронзовые, они только и могли быть официальным и парад-
Восемнадцатый век
583
ным изображением. Но какая, од
нако, грандиозная между ними
разница. Анна Иоанновна, несмот-
ря ни на какие императорские ре-
галии и роскошное одеяние, пред-
ставляет собой, может быть, и не
ворону в павлиньих перьях, но
уж во всяком случае некоторое
подобие истукана. Лицо у нее
пусто, холодно и безжизненно.
Царственного величия в ней нет
и следа, человечность же выжже-
на и выморожена непомерным для
простой, заурядной натуры саном.
Взглянуть на Екатерину II после
Анны Иоанновны — буквально об-
рести отдохновение для глаз. Во
всем ее облике разлиты мягкость
и изящество. Перед нами живая
женская душа, несмотря на свою
женственность, не чуждая нена-
вязчивого и неподавляющего ве-
личия.
Представим теперь двух при-
дворных скульпторов, которые из-
Императрица Анна Иоанновна
С нечецкой гравюры сер. XVIII в.
Но в таком случае, разве они
начально раз и навсегда усвоили
себе, что их дело —ваять великих
мира сего —государей и полководцев.
не зависят напрямую от своих заказчиков, разве их вдохновение не
питается теми, кого скульптуры изображают? Каковы государи,
таковы и скульптуры, такое можно сказать с таким же правом, как
и совсем иное: скульптуры таковы, каков скульптор. Для нас, впро-
чем, достаточно констатировать то, что придворный характер, задан-
ный монументальной скульптуре, - это никакое не внешнее принуж-
дение. Это ее в XVIII в. единственно возможный путь. Поэтому
придворность не отрицает и не умаляет здесь искусство скульптора,
как не умаляла и не отрицала поэзии, она определяет их характер
и тип, содержание и существо творчества художников.
* * *
Конструктивная определяющая роль двора в русской культуре
XVIII в. проистекала не только из того, что все преобразования
в России шли сверху, от властной воли монарха, но и ввиду того, что
монархия в это время становится имперской. Весь XVIII в. двор
являлся источником имперского духа, реальности, часто неотразимо
обаятельной даже для неприемлющих монархическое правление и тем
584
Культура Петербургской России
более так называемую абсолютную монархию. До известной степени
в России XVIII в., особенно в царствование императрицы Екатери-
ны II, повторялась ситуация Франции времен Людовика XIV, когда
ко двору были обращены взоры едва ли не всех тех, кто делал погоду
во французской культуре, от двора же исходили решающие импуль-
сы ее развития.
Но Франция «золотого века» до того как состояться в своем блеске
и величии, прежде чем начать задавать тон на всем Западе, длитель-
ное время двигалась прямо в направлении своего государственного
и культурного величия. В России же XVIII века произошел крутой
перелом и переориентация культуры. Когда происходят подобные
вещи, они всегда так или иначе сродни болезни. У нас же перелом
и ломка совпали с возникновением имперской государственности
и имперского духа в культуре. Нам уже приходилось отмечать, что
Москва, поневоле заявившая о себе в XVI в., как о третьем Риме,
менее всего преисполнилась взятой на себя имперской ролью. Пози-
ция Москвы в мире была оборонительная, опасливая, склонная
к изоляционизму. Вовсе чуждая имперской вселенскости и открыто-
сти настоящего первого Рима.
Начиная с Петра Великого ситуация кардинальным образом меня-
ется. И не просто потому, что Петр принял императорский титул.
Неопровержимым свидетельством действительно осуществлявшейся
русской имперскости стал Санкт-Петербург. Это уже не жест, не
доктрина, не декларативная заявка, а данность их воплощения.
Воплощения того, что замкнутая на себе Московия стремительно
превращалась в распахнутую вовне страну —собирательницу стран
и народов, ощущающую себя уже не православным царством, не
Святой Русью в окружении схизматиков и басурман, а центром
и скрепой разнородного мира, где находится место и Западу, и Во-
стоку.
В российской имперскости XVIII в. особенно поражает то, само по
себе очевидное обстоятельство, что имперскую роль взяла на себя и,
как ни странно, осуществляла ее более или менее успешно, страна,
весь век ходившая в учениках, сидевшая в школьном классе, где ее
неустанно учил Запад. В свое время Рим тоже учился у Греции,
перенимал ее культуру в самых разнообразных областях, но римляне
при этом покорили и греков, превратив Грецию в одну из своих
провинций. И потом, римлянам чему угодно имело смысл учиться
у греков, но только не опыту государственности. Как мужи войны
и мужи совета римляне очевидным образом превосходили греков.
Что же касается России, то она, особенно поначалу, как раз и тянется
к освоению прежде всего западного опыта государственности. Но вот
оказалось, что ученица не только учится, но одновременно выстраи-
вает себя на началах имперскости.
Если отбросить стандартные представления — идеологемы об импе-
рии как государстве-завоевателе и угнетателе других народов, точнее
Восемнадцатый век
585
же, не в этом видеть существо имперскости, а в духе собирательства
и синтеза, создании суперэтнической общности, где имперский народ
выступает в роли не только и не столько в роли завоевателя и угнета-
теля, сколько является носителем начала культуры, выходящей за
узкие этнические рамки, то Российская империя будет выглядеть
действительно странным образованием. Скажем, в том отношении,
что начиналась она с присоединения к ней Эстляндии и Лифляндии,
провинций шведской короны, которые были немецкими по культуре.
К тому времени немецкая культура еще не пережила своего золотого
века, до него было еще далеко. И все же и в области государственно-
политической, и в сфере развития наук и искусств, и по критерию
развития такого важного для любой западной культуры индивиду-
ально-личностного начала германские земли далеко опережали Рос-
сию. Не случайно Россия, начиная с Петра Великого, в такой
сильной степени зависела от немецкой культуры, ориентировалась на
нее, преобразуя различные сферы своей жизни. Присоединение же
Эстляндии и Лифляндии, а в самом конце XVIII в. еще и Курляндии
сделало местных немецких дворян подданными Российской империи.
В этом случае их служение России, причем не за страх, а за совесть,
является прекрасной иллюстрацией имперского характера ее госу-
дарственности .
При всем огромном различии двух культур как по уровню, так
и по характеру развития, для немецкого дворянства оказывалось
вполне приемлемым ощущать себя русскими немцами. Оставаясь
вполне немецким по культуре, оно вместе с тем становилось и рус-
ским именно потому, что русское в России XVIII в. не было узкоэт-
ническим. На другом полюсе российской имперскости XVIII в. могут
быть упомянуты мусульманские народы, вошедшие в состав Россий-
ского государства в XVI—XVIII вв. Оставаясь самими собой, во всем
своем отличии от имперского народа, татары, башкиры, кстати гово-
ря, еще и буддисты-калмыки в лице своей знати служили России,
приводя в случае надобности под ее знамена свои воинские отряды.
Для Российской империи, именно потому, что она была империей,
это было не менее органично, чем весомая представленность остзей-
ских немцев в офицерском корпусе российской армии.
Имперский характер России XVIII в. выразил себя не только
в духе синтеза и собирательства, но и в череде блистательных побед
над иноземным противником. Противники эти хорошо известны:
шведы, турки, пруссаки, поляки. В войнах с ними Россия утвержда-
ла свое имперское величие. В своих собственных глазах, так же как
в глазах соседей, оно до известной степени было заместителем куль-
турного первенствования или хотя бы достойного места в западной
культуре. Вот Франции Людовика XIV ничего не нужно было
замещать. Ее военно-политический приоритет совпал с культурным
лидерством. Русская же история так уж парадоксально сложилась,
что созревание ее и начинающееся культурное лидерство никакого
586
Культура Петербургской России
отношения не имели к ее военно-политическому могуществу. Когда
это могущество проявлялось во всей своей полноте и силе, Россия
оставалась на задворках европейской культуры.
Но я бы не рискнул утверждать, что своими военными успехами
Российская империя подменяла прорыв в сфере культуры. Пожалуй,
справедливо будет сказать, что имперское противостояние другим
державам, а при случае и экспансия, благотворно сказывались на
русской культуре, формировали ее и даже являлись частью культу-
ры. Не в том, разумеется, смысле, что в России XVIII в. формирова-
лась какая-то милитаристская или с оттенком милитаризма культура.
Просто утвердить себя в качестве великой европейской державы
Россия могла только в результате войн с соседями.
Контролируя балтийское и черноморское побережье, они (Шве-
ция, Турция) ставили в унизительное положение огромную страну,
исходно западную по своей культуре. Войны Петра Великого в нача-
ле XVIII в. и Екатерины II в его конце не только заставили остальной
Запад считаться с Россией. Они создавали у русских людей ощуще-
ние равенства с западными людьми. Робкая ученица Запада Россия
в войнах с соседями демонстрировала себе и другим, что учение
пошло ей впрок.
Как ни странно это покажется, войнами с шведами, пруссаками,
поляками, турками русские утверждали, что на Западе они свои
среди своих. Эти войны не только не порождали враждебности
к Западу, но напротив, делали Россию более открытой к нему.
России нужно было испытать свои возможности в столкновении не
только с мусульманской Турцией, но и с западными державами.
Поскольку испытание успешно выдерживалось, то оно способствова-
ло преодолению традиционной для Московской Руси осторожности,
недоверчивого и опасливого отношения к Западу, за которым стоял
еще и страх, отсутствие настоящей уверенности в своих силах. После
одержанных ею побед Россия могла спокойней учиться у Запада.
Учитель уже не казался ей ни стоящим на недосягаемой высоте, ни
злонамеренным хитрецом, едва ли не кудесником, опутывающим
своими чарами простодушную Россию. Русские люди, во всяком
случае, просвещенная верхушка дворянства, знали не только о зави-
стливом недоброжелательстве, исходящем из Запада в адрес России,
но и о том, что ей восхищаются и ее превозносят. О невиданных
успехах России в деле Просвещения, которым она обязана своим
государям, прежде всего Петру Великому и Екатерине II, на Западе
к концу XVIII в. сложили настоящий миф. Он тешил национальную
гордость европейски образованных русских людей, мог порождать
у них необоснованные мечтания и иллюзии по поводу своей страны.
И все-таки вряд ли возможно полное отрицание того, что вхожде-
ние в культурное сообщество западных стран для России было
возможно только на путях ее имперского самоутверждения. Да и как
еще могла бы утвердить себя Россия с ее предшествующим двухсот-
Восемнадцатый век
587
летним опытом осмысления себя в качестве единственного православ-
ного царства—Третьего Рима? Перестав ощущать себя таковым,
Русь, ставшая Россией, должна была найти себе соответствующий,
достойный эквивалент. Таковым и явился вполне чуждый Москов-
ской Руси имперский дух и имперская повадка. Великая государст-
венность, предшествующая возникновению великой культуры. Пер-
вая со временем найдет свое оправдание в последней. Хотя последняя
не отдала должное первой в той мере, в какой она этого заслуживала.
А. В. Суворов после одной из своих блистательных побед воскликнул
не вполне в русском духе, но к месту и ко времени: «Мы русские,
какой восторг!». Это восклицание в устах Суворова не было пустым
бахвальством. Право на него он заслужил, как никто другой в XVIII в.
Но если к концу XVIII в. Россию наиболее достойно представлял
такой человек, каким был Суворов, в этом можно усмотреть знак
того, что путь имперского величия не просто состоялся, но еще
и предварял собой появление великой культуры.
Глава 6
Девятнадцатый век
Завершение эпохи культурного ученичества в русской культуре
Петербургского периода совпадает приблизительно с началом XIX в.
и, следовательно, с царствованием императора Александра! (1801—
1825). «Александров век» —это уже «золотой век» русской культуры
и, видимо, лучшее его время. Сказанное может показаться странным,
так как только после 1825 г. русская культура достигла наиболее
впечатляющих результатов в таких ее областях, как литература,
живопись, музыка, общественная мысль, наука, образование и т. д.
Действительно, если иметь в виду результаты, то есть произведения
и памятники культуры, то первая четверть XIX в,—лишь преддве-
рие, в лучшем случае, самое начало «золотого века». Ведь в это
время творили Карамзин, Жуковский, Батюшков,—имена в нашей
словесности очень почтенные, но впереди —то было творчество зрелого
Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского, Чехова. Еще менее в пользу
начала XIX в. будет сопоставление в других областях культуры.
И все-таки есть другие факты и аргументы, и они работают как раз
на начало века. Один из них касается «Войны и мира», наверное,
самого «главного» романа «золотого века» русской литературы, наи-
более сильно и ярко выразившего собой всю культуру своей эпохи.
«Войну и мир» нередко называли нашим национальным эпосом,
памятуя как его стилистику, так и предмет изображения. Конечно,
о «Войне и мире» в качестве эпоса можно говорить условно и мета-
форически, по причастности произведения Л. Н. Толстого эпическо-
му началу, а не полноте и последовательности его выявленности. Все-
таки «Война и мир» —это роман. Но роднит его с эпосом обращенность
к своего рода «правремени» русской новоевропейской культуры.
В настоящем эпосе правремя понимается буквально, как период
жизни полубогов —героев, наступающий за космогонией, космиче-
Девятнадцатый век
589
ским устроением и доустроением
бытия.
Понятно, что ни о каком прав
ремени применительно к XIX в.
буквально говорить не приходится.
И все-таки для Толстого, и далеко
не для него одного, некоторым
подобием правремени была пер
вая четверть XIX в. В результате
«Война и мир» начинается сце-
ной, происходившей в 1805 г. Ни-
какой случайности, произвола или
исключительно личных предпоч-
тений автора здесь нет. Такой
роман, какой замыслил Толстой,
мог быть посвящен только тому
времени, о котором повествуется
в «Войне и мире». Для Толстого
это было время «отцов», людей
предшествующего поколения. Ми-
нимально необходимая временная
дистанция, характерная для эпо-
са, в романе присутствует. Но мож-
но с уверенностью утверждать, что
большей она быть не могла, пото-
му что никакое другое время не
смогло бы захватить Толстого так,
Александр I на прогулке
А. О. Орловский, 1820-е гг.
как начало XIX в. В нем для
автора присутствовало нечто неотразимо привлекательное и вместе
с тем ушедшее в прошлое, в нем он видит Россию в целом, а не
только отдельных русских людей, Россию в «ее минуты роковые»,
когда внятно ощутим ход истории и вплетенность в нее каждой
человеческой жизни. Следующая попытка Толстого создать нечто
подобное «Войне и миру» по эпическому размаху, но на материале
другой исторической эпохи, не продвинулась дальше первых эпизо-
дов. Иначе и быть не могло, так как лишь первая четверть XIX века
рождала в душе автора тот отклик, который необходим для написа-
ния романа-эпопеи.
Что же делало «Александров век» тем правременем, которое даже
«золотой век» нашей культуры воспринимал с восхищением и вместе
с тем с ностальгическим чувством?
Коротко говоря, в человеке начала XIX в. все последующие поко-
ления при обращении к прошлому впервые начинали узнавать самих
себя. В это время на нашей почве возникает личность новоевропей-
ского типа. У нас нет при ее восприятии той же дистанции, что по
отношению к людям XVIII в. и, тем более, более отдаленных веков.
Человек начала XIX в. говорит практически на том же языке, что
590
Культура Петербургской России
Портрет С. Г. Волконского
Д-Доу, 1822
и ныне, его одежда, прическа, быт,
при всем отличии от наших, уже
не экзотичны и не противопостав
лены нам своей несовместимостью
с нами. В «Александров век» рус-
ская новоевропейская культура не
просто началась, а впервые со-
стоялась, это эпоха ее первого це-
лостного выражения. Дальше она
будет развиваться вширь и вглубь,
но той же целостности у русской
новоевропейской культуры уже не
будет. Прежде всего в ней не
появятся более такие же цельные
люди, как в начале XIX века. Они
очевидным образом проигрыва-
ют своим потомкам в значимости
того, что ими предметно выраже-
но в произведениях и памятниках.
Но проживали свои жизни люди
культуры «Александрова века» на зависть последующим поколени-
ям. Они, а не их потомки так задели Толстого, что он создал о них
свой роман —эпос «Война и мир».
Спросим себя, кем были те из них, кто в наибольшей степени
состоялся? Ответ окажется не так прост. Скажем, Д. В. Давыдов
называл себя поэтом-партизаном. Да, он им был, но был еще гусар-
ским офицером (и блестящим гвардейцем, и забубенным армейцем),
далее—военным писателем, наконец, рачительным помещиком Пен-
зенской губернии со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Или еще один пример —князь С. Г. Волконский. Он известен прежде
всего по своему участию в движении декабристов и последующей
ссылкой в Сибирь. Между тем в начале XIX в. среди золотой
аристократической молодежи России не было, наверное, человека,
у которого все так сходилось к его пользе. Князь самого знатного,
какой только можно пожелать, рода. Богат. Сын и брат генерал-
адъютанта. Внук генерал-фельдмаршала и брат жены начальника
Главного штаба. Сам генерал-майор в 25 лет. Украшен боевыми
орденами за участие в главных сражениях войн с Наполеоном.
Хорош собой и женат на красавице из знаменитой семьи Раевских.
Перечень можно было бы продолжать и нам, и самому Сергею
Григорьевичу своей биографией. Он, однако, обрывает ее гарантиро-
ванное великолепие вначале своим вольномыслием, вызвавшим не-
удовольствие Александра I и предполагаемым участием в тайных
обществах. Затем наступает 14 декабря 1825 г., неудачное восстание,
следствие по делу декабристов и приговор Волконскому по 1 -му
разряду. За ним последовали каторжные рудники, тюрьма и приезд
Девятнадцатый век
591
жены, сибирская ссылка, и толь-
ко в 1856 г., когда князю было
уже 68 лет, возвращение в евро-
пейскую Россию. С. Г. Волконский
не был чем то одарен в выдаю-
щейся или исключительной сте-
пени. Но многие ли из куда более
одаренных людей прожили такую
богатую жизнь, все в ней пови-
дали и испытали, все, что в чело
веческих силах, так достойно
выдержали и ничем себя не запят-
нали?
С неповторимым своеобразием
русской культуры начала XIX в.,
состоящим в том, что в ее цен-
тре—не столько произведения и
результаты человеческой деятель-
ности, сколько сам человек, свя-
зан наш интерес к Пушкину. Пуш-
кин—единственный человек из
великих деятелей «золотого века»
Сон С. Г. Волконского
Акварель неизвестного художника. 1830-е гг.
русской культуры, о котором ученые-исследователи, а за ними и до-
статочно широкие слои образованной публики хотят знать все. Не
только каждую написанную им строчку, но и каждый эпизод недол-
гой пушкинской жизни, все обстоятельства, прямо или косвенно
указывающие на Пушкина. Подразумевается, что такой исключи-
тельный интерес к Пушкину, интерес, несопоставимый с интересом
даже к таким великим писателям, как Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоев-
ский, проистекает из его значимости для русской литературы и куль-
туры в целом. Думаю, что дело здесь еще и в том, что Пушкин, при
всей своей несравнимости ни с кем, был сыном своего времени, то
есть выразителем духа начала XIX в. Этот дух существовал и выра-
жался и помимо Пушкина. Мы не всегда это в полной мере сознаем,
принимая за свой интерес к пушкинскому творчеству, и особенно его
биографии, восхищение всем «Александровым веком». Пушкин для
нас центрирует его своей личностью. Но не случайно пушкинисты
так часто очень сильно отвлекаются от Пушкина и погружаются в его
эпоху, которая увлекает их сама по себе.
Вслед за ними увлекает нас и то, что в начале XIX в. в России
появилось поколение дворян, которые были, наконец, достаточно
образованны по европейским меркам, пламенно любили свое отечест
во, служили ему на гражданской, чаще же на военной службе, и в то
же время представляли собой светских людей со всеми достоинства
ми светского воспитания. Они же были не чужды ученым досугам
и занятиям литературой и искусством. От последующих поколений
592
Культура Петербургской России
поколение «Александрова века» от-
Портрет С. Г. Волконского
Н. А. Бестужев, 1830-е гг.
личает отсутствие у его представи-
телей разочарованности в жизни.
Как раз наоборот, они находятся
в самой ее гуще, ощущая свою при
частность совершающейся истории.
Человек культуры начала XIX в.
стремится обрести себе достойное
поприще на государственной служ-
бе, воспринимает ее как служение.
Но это не служение сухой сосредо-
точенности и мрачноватого самоот-
речения. Каким-то образом присут-
ствует ощущение жизни как пира,
она захватывает и влечет, несмотря
на случающиеся неудачи и срывы.
Если сопоставить поколение на-
чала XIX в. с предшествующими
поколениями, то главным и реши-
тельным отличием от них будет то,
что по завершении переходного
XVIII в. в России появляется человек индивидуального достоинства
и чести, внутренне независимый и вовсе не склонный оставлять свою
независимость «тайной свободой». Наиболее впечатляющим и эф-
фектным выражением происшедшего изменения стало распростране-
ние в русской дворянской среде дуэлей. Первые дуэли в России
зафиксированы едва ли не с петровских времен. В царствование
Екатерины II они уже не были исключением, но только к началу
XIX в. дуэль стала явлением культуры, по крайней мере, тем, что
связано с ней и ее собой выражает.
Во все времена хватало голосов, осуждавших дуэли за жестокость
и бессмыслицу. Действительно, они и жестоки, и противоречат здра-
вому смыслу. Подчеркнем, не всякому, но именно здравому смыслу
обыденного сознания. За пределами же здравого смысла смысл дуэли
состоит в том, что данная личность бесконечно высоко ставит свое
достоинство и всякую попытку посягательства на него готова пресечь
ценой чужой или собственной жизни. В дуэли важен вовсе не
принцип голой силы, если бы это было так, она ничем бы не
отличалась от драки. Дуэль в конечном итоге требует не победы
правого и поражения виноватого. При всей желательности первого
в ней важнее способность пойти на испытание и, не дрогнув, вы-
держать его, независимо от победы или поражения. Выдержанное
испытание, а оно предполагает мужество, хладнокровие и, между
прочим, безупречную взаимную вежливость участников поединка
и подтверждает достоинство и честь дуэлянтов. Возникшая между
ними ссора превращается в досадное недоразумение, не нанесшее
Девятнадцатый век
593
урона репутации ни одной из
сторон.
Конечно, дуэль содержит в себе
момент жестокости и безответст-
венной игры своей и чужой жиз-
нью. Но, скажем, в ситуации на-
чала XIX в. она уравновешивается
моментом полной внутренней не-
зависимости человека, живущего
на грани всегда возможного по-
единка. Тот, кто всегда готов на
дуэль, в частности, преодолевает
в себе застарелый русский ком
плекс ребенка или вечного недо-
Дуэль
Рисунок М. Ю. Лермонтова, 1830 е гг.
рос ля, у которого всегда есть благодетели и милостивцы, от непо-
средственного начальника по службе до государя императора, и без
которых на жизненном поприще шага ступить невозможно. Не слу-
чайно дуэльная ситуация начала XIX в. возникала не только между
равными по положению дворянами, но и между нижестоящими
и вышестоящими лицами. Самое же поразительное и немыслимое для
XVIII в. состоит в том, что на грани дуэли в «Александров век»
оказывались лица императорской фамилии и даже сам государь.
В виду чрезвычайной деликатности и даже скандальности подобных
ситуаций их старались замять и замолчать, поэтому сохранившиеся
сведения о них не обладают достоинством абсолютной достоверности.
Однако здесь важны и слухи, и разговоры, все равно они создавали
определенную, немыслимую ранее атмосферу.
Одна из такого рода проблематичных, не вполне достоверных, но
и не исключающихся дуэльных ситуаций имеет отношение к М. Н. Лу-
нину. Будущий декабрист Лунин при всей своей человеческой неза-
урядности был достаточно характерной фигурой эпохи. По пушкин-
скому определению «друг Марса, Вакха и Венеры» был замешан не
в одну дуэльную историю. Самая же колоритная из них имеет
касательство помимо Лунина еще и к великому князю Константину
Павловичу. Вот как она описана в «Записках декабриста» барона
А. Е. Розена:
«Когда великий князь Константин Павлович в минуту строптиво-
сти своей молодости, на полковом учении, с поднятым палашом
наскочил на поручика Кошкуля, чтобы избить его, тот, отпарировав,
отклонил удар, вышиб палаш из рук князя и сказал: „Не извольте
горячиться". Ученье было прекращено, через несколько часов адъю-
тант князя приехал за Кошкулем и повез в Мраморный дворец.
Кошку ль ожидал суда и приговора, как вдруг отворяется дверь,
выходит Константин Павлович с распростертыми объятиями, обни-
мает Кошкуля, целует его и благодарит, что он спас его честь, говоря:
„Что сказал бы государь и что подумала бы вся армия, если бы я на
594
Культура Петербургской России
Портрет М. С. Лунина
П. Ф. Соколов, ок. 1822
Великий князь Константин в Варшаве
Акварель неизв. художника, 1820-е гг.
ученье во фронте изрубил бы своего офицера?.." Когда великий
князь извинился перед обществом офицеров всей кирасирской брига-
ды, то рыцарски объявил, что готов каждому дать полное удовлетво
рение; на это предложение откликнулся М. Н. Лунин: „От такой
чести никто не может отказаться! “»1
Разумеется, никакой дуэли между Луниным и Константином Пав-
ловичем не было и быть не могло. В ее возможность играли и Лунин,
и великий князь. Насколько важно, между тем, что подобная «игра»
в начале XIX века стала реальностью. Ведь совсем еще молодой
кавалергардский офицер и наследник российского престола своей
готовностью к дуэли уравнивались друг с другом. Понятно, что не
о социальном равенстве здесь идет речь. В этом отношении ничего не
менялось. Лунин оставался в самом низу табели о рангах, Констан-
тин Павлович на самом верху. Равными они становились в качестве
суверенных личностей со своим неотъемлемым от них человеческим
достоинством и честью. Этот момент проявился уже в столкновении
поручика Кошкуля с наследником-цесаревичем. Готовый подчинять-
ся любым приказам своего августейшего командира, он не допустил
одного —поползновения на свою честь. И надо отдать должное Кон-
стантину Павловичу, он в свою очередь готов признать права Кошку-
ля на честь и достоинство. Отсюда его извинения перед офицером
1 Розен А. Е. Записки декабриста. Иркутск, 1984. С. 91—92.
Девятнадцатый век
595
кирасирской бригады. Не признав в Кошкуле человека чести, пося-
гая на нее своим, неизвестно, смертоносным ли, но во всяком случае
унижающим ударом, Константин Павлович неизбежно потерял бы
лицо, нанес непоправимый урон своей чести и достоинству. Они ему
внутренне необходимы, так же как и простому офицеру и дворянину.
Характерно, что и принятие вызова на дуэль Луниным не рассорило
его с великим князем. Напротив, оно сблизило их на долгие годы
вперед. Ведь Константин Павлович не менее, чем Лунин, выигрывал
в своем и чужом мнении от вызова на дуэль.
Царственный брат Константина Александр Павлович никогда на
дуэли не дрался, вызовов не посылал и не принимал. Но и в его
жизни был эпизод, когда, раздосадованный политической игрой на
Венском конгрессе 1815 г. главы австрийской делегации князя Мет
терниха, он заговаривал о возможной дуэли между ним и Меттерни-
хом. Опять-таки, речь не о возможности подобного поединка, а о са-
моощущении Александра Павловича. В нем и следа не осталось от
восприятия себя царем-батюшкой, отцом подданных-детушек. Нача-
ло царствования Александра I отстоит от окончания правления Ека
терины II всего-то на неполных пять лет. Атмосфера же его совсем
иная. Государь-император видит теперь себя не только помазанником
Божиим, но и первым дворянином империи. А это значит —первым
среди равных ему в аспекте чести и достоинства, внутренней свободы
и независимости благородных людей.
Отмеченным коренным изменениям в культуре легко противопос-
тавить жесткость и произвол императорской власти, обилие примеров
низкопоклонства, лести и угодничества вышестоящих перед ниже-
стоящими, которым совсем не чужд был и императорский двор.
Подобного рода явлений в «Александров век», может быть, было не
меньше, чем в предшествующую екатерининскую эпоху. И все-таки
льстящие и угодничающие, вершащие произвол и унижающие чело-
веческое достоинство теперь несравненно чаще ведали, что творили.
Атмосфера в русской культуре изменилась. Появление в ней нового
типа личности, точнее же, личности как таковой, сразу же сказалось
и на характере деятельности так называемых творцов культуры.
Весь XVIII в. русская культура носила придворный характер,
концентрируясь вокруг двора. Придворными были изобразительное
искусство и словесность, архитектура, наука, образование. Практи-
чески все крупные деятели перечисленных областей просто-напросто
занимали более или менее (чаще, кстати говоря, «менее») почетные
должности в государственном аппарате и при дворе. В результате
лица творческих профессий ставились в подчиненное, нередко зави-
симое от прихотей начальства положение. Их воспринимали как
мелких и средних чиновников, целиком зависимых от своих «мило-
стивцев». Деятельность ни в одной из областей культуры XVIII в. не
была настолько почетной, чтобы хоть как-то сравниться с военной
и государственно-административной службой. Соответственно и дея-
596
Культура Петербургской России
тели искусства, словесности, просвещения, науки, как правило, не
были выходцами из знатных и богатых кругов. Новая дворянская
культура чаще всего пользовалась услугами лиц низших сословий.
К XIX в. ситуация начинает радикально меняться, по крайней
мере в литературе. Крупные литераторы первой четверти века почти
исключительно дворяне. Чаще всего среднепоместные, то есть не
очень богатые, но и не настолько бедные, чтобы видеть в литератур-
ном труде средство к существованию. Среди них Н. М. Карамзин,
В. А. Жуковский, К. Д. Батюшков, А. С. Грибоедов, П. А. Вяземский,
А. И. Дельвиг и множество других. С приходом в русскую культуру
дворянина, помещика и барина она на весь «золотой век» вперед
приобретает некоторые неизменно устойчивые черты. Среди них не
просто внутренняя независимость художника, но и ощущение како-
го-то естественного и само собой разумеющегося права на свой взгляд
на мир. Художник, барин и помещик в качестве художника никому
и ничему не служит и не хочет служить. Между тем в его восприятии
мира и самого себя и следа нет сословной узости и корысти. Он
человек как таковой, соотнесенный с миром как таковым, его свобода
в непредвзятости и неуязвленности. Литератор-барин уже не ребе-
нок, сын царя-батюшки и Рус- матушки. В своей взрослости он как
бы сама Россия. Если он и ее сын, то взрослый. Воля и ответствен-
ность взрослого сына и теплота связи с матерью Россией присутству-
ют одновременно.
Как это хорошо известно, первая четверть XIXв., связанная
с царствованием Александра I, завершается восстанием декабристов.
Непосредственно его спровоцировало междуцарствие, смерть одного
монарха и затяжка с воцарением другого. По форме восстание
декабристов было не первой попыткой государственного переворота
в русской истории Петербургского периода. Впоследствии его рас-
сматривали как начало революционного движения в России. Соглас-
но схематике, которую вдалбливали в головы учеников и студентов
в советское время, декабризм был одним из трех этапов освободи
тельной борьбы наряду с революционно-демократическим и проле-
тарским. Однако даже самое поверхностное сопоставление декабри-
стов с народниками и, тем более, большевиками показывает, как
мало между ними общего.
Видимо, никто не станет отрицать, что декабристы отличаются от
последующих поколений революционеров тем, что на их фоне они
были революционерами никудышными. Никакой критики с позиций
настоящей революционности не выдерживают принципы построения
и система организации декабристских обществ, конкретная програм-
ма их действий, а уж ее осуществление представляет собой прямо-
таки пример того, как революционерам действовать не подобает.
Действительно, странное впечатление полной беспомощности остав-
ляет и многочасовое стояние мятежников из Северного общества
с поднятыми ими частями на Сенатской площади, и не долгий поход-
Девятнадцатый век
597
метание членов Южного общества во главе Черниговского полка на
юге России.
Революционеров из декабристов не получилось. Но основное их
преимущество перед всякими народниками, эсерами, большевиками
состояло в том, что движение декабристов принадлежало русской
культуре, было ее противоречивым и трагическим проявлением.
В отличие от своих преемников на революционном поприще, декаб
ризм нес в себе позитивное начало. Декабристы не только стремились
к разрушению того, что было для них неприемлемым в русской
жизни, и не только создавали проекты грядущих преобразований, но
и осуществляли собой то настоящее, которое благодаря декабристам
становилось духовно насыщенней и значительней. С ними в русской
культуре связана тема необыкновенной пронзительности и силы.
Кратко и точно эту тему сформулировать непросто. Во всяком случае
она имеет касательство к обостренному чувству ответственности за
свою страну и готовности на жертвенность и самоотречение людей,
вовсе не обделенных или находящихся на обочине жизни. Как раз
наоборот, среди декабристов немало было представителей знатных
и богатых фамилий, тех, кто составлял «золотую молодежь» русско-
го дворянства и мог рассчитывать на блестящую карьеру. Почему-
то именно эти люди затевали вооруженный переворот, который
должен был отменить их преимущества и привилегии, лишить ари-
стократического блеска существование заговорщиков.
Конечно, к вооруженному выступлению декабристов толкало стрем-
ление изменить существующий строй. Именно поэтому они были
революционерами. Но обыкновенно революционеры действуют по
правилу «нам нечего терять, кроме своих цепей» или того, что они
принимают за свои цепи. В нашем случае революционерам было что
терять. Это обстоятельство выводит их за пределы революционариз-
ма, делая декабристов не только и не столько революционерами,
сколько людьми чести и достоинства, аристократами по преимущест-
ву. Ощущая свою аристократическую выделенность в обществе,
декабристы воспринимали ее как долг перед своей страной. В своем
понимании его некоторые из них шли так далеко, что признавали
возможность цареубийства. Другие декабристы были менее ради
кальны. Но для всех декабристов характерно было сознание своей
личной ответственности за страну, готовность на свой страх и риск
действовать на благо России. Они уже не были, как их отцы,
вечными детьми милостивцев и царя-батюшки. Сам царь Александр I
в свое время немало сделал для того, чтобы новое поколение выросло
вне рамок всеобъемлющей русской патриархальности. В лице декаб-
ристов оно заявило свою полную взрослость и готовность диктовать
своей отчизне то, как ей жить. Здесь начиналась декабристская
революционность.
Но опять-таки: ей противоречила и противостояла готовность
начать революцию с самих себя. Очень похоже, что успех декабрист-
598
Культура Петербургской России
ского переворота завел бы их очень далеко, скорее всего в дебри
очередной русской смуты. Но еще более очевидно другое: движение
и восстание декабристов были обречены. Эту обреченность декабри-
сты более или менее осознавали. Отсюда знаменательные слова
одного из них: «Ах, как славно мы умрем, господа». В обреченности
декабристов их оправдание, то неотразимое обаяние, которое исхо-
дит почти от каждого декабриста. В них оформилось и выразило себя
прежде всяких доктрин и проектов личностное начало. Оно трудно
совмещалось с той эпохой, которая сделала возможным появление
внутренне и внешне независимых личностей. Они и попытались
сделать свою собственную свободу всеобщей реальностью. Заведомо
зная, как невелики у них шансы и как дорого придется платить за
свою попытку.
***
С подавления восстания декабристов начиналось не только новое
царствование, но и новая эпоха в русской истории и культуре XIX в.
Как никогда ранее, она была двойственна и противоречива. С одной
стороны, время царствования Николая I совершенно справедливо
считается эпохой реакции. Самодержавие, когда-то бывшее револю-
ционным началом в русской культуре, становится чисто охранитель-
ной силой. В своей охранительности оно противостоит вовсе не
каким-то классам и социальным группам, стремящимся к изменению
государственного строя. Таких в это время еще нет. Ведь и декабри-
сты в своем неприятии самодержавной России представляли главным
образом самих себя и относительно очень немногочисленный слой
дворянства с неопределенным и колеблющимся умонастроением, ко-
торое после поражения восстания быстро развеялось. Самодержав
ная охранительность была обращена прежде всего против новых
поколений русских европейцев, для которых необходимым и естест-
венным стало существование в ритмах современной им западной
культуры с ее господствовавшим духом. Это был дух индивидуализ-
ма и свободного самоопределения личности в секулярном мире. Ему
самодержавие уже не могло противопоставить патриархальность рус-
ской жизни на манер XVIII в. «Александров век» сделал что-либо
подобное невозможным. И патриархальность сменяется повсемест-
ным культивированием добродетелей службы царю и отечеству.
В каждом представителе дворянского сословия самодержавие ви
дело в первую очередь потенциального или реального чиновника-
службиста. Если он состоит на гражданской службе, то ему вменяет-
ся и в нем ценится нерассуждающая исполнительность и почтение
к начальству. Военный чиновник-офицер в николаевское время отве-
чал принятым требованиям совсем не благодаря своим военным
дарованиям и заслугам. Они были желательными, но не обязатель-
ными. Куда более ценилась доведенная до автоматизма воинская
дисциплина. Она не имела непосредственного отношения к прямому
Девятнадцатый век
599
делу офицера —войне, а была на-
правлена на поддержание идеаль-
ного порядка и той же исполни-
тельности.
Сам Николай I, в отличие от
своего старшего брата, никогда не
нюхал пороха. Александр I, не-
смотря на полное отсутствие у не-
го какого-либо подобия полковод-
ческих дарований, все же считал
своим долгом по возможности на-
ходиться в действующей армии,
и, надо сказать, что хотя и не
слишком серьезной, но все же во-
енной опасности Александр I под-
вергался не раз. У Николая I по
сравнению с братом вид был го-
раздо более воинственный. Огром-
ный рост, атлетическое сложе-
ние безупречно стройной фигуры,
строгие черты правильного лица,
наконец, молодецкая военная вы-
правка—все это идеально подхо-
дило для образа военноначальника
и полководца. Не случайно в пер-
вые годы царствования Николая I
современники любили сравнивать
его с Петром Великим. Однако
уже в начале 30-х гг. А. С. Пушкин сделал в своем дневнике запись,
отражающую далеко не только собственное впечатление от Николая:
«В нем слишком много от прапорщика и слишком мало от Петра
Великого».
Подобную реакцию легко возобновить и нам, стоит внимательно
вглядеться в конную статую Николая I на Исаакиевской площади
Санкт-Петербурга. Этот памятник сооружен по повелению Александ-
ра II и, понятное дело, призван был увековечить величие предшест-
вующего императора. Однако, несмотря на барельефы постамента,
запечатлевшие самые эффектные моменты деяний государя, глядя на
саму конную статую, мы не можем не ощутить ее пустоту и неумест-
ность. Действительно, перед нами на прекрасном коне восседает
бравый офицер гвардейского полка тяжелой кавалерии. Это, конеч
но, не прапорщик, а, скорее всего, полковник, прекрасно смотрящий-
ся со своим эскадроном или полком на смотрах и парадах. Никакого
величия, державности, даже просто аристократического великолепия
в памятнике Николаю I не обнаружить. Всякое сравнение с Петром I
Фальконе, или хотя бы гораздо более скромного достоинства конной
600
Культура Петербургской России
статуей на площади Коннетабля, что у Инженерного замка, все
расставляет на свои места, до последней ясности доводя различие
между образами великого государя-преобразователя и исправного
службиста.
В глазах Николая I лучшими службистами были как раз военные.
Отсюда их чрезвычайное изобилие на гражданской службе, среди
министров, высшей администрации на местах. Для Николая I чем-то
естественным было поставить в губернаторы командира гвардейского
полка в полной уверенности, что рвение к службе очень быстро
сделает из фрунтовика дельного администратора. Фрунтовики как
могли, старались изо всех сил, будучи равно негодными как к на
стоящей военной службе, так и гражданскому поприщу.
Как правило, наиболее успешные службисты николаевского царст-
вования оказывались посредственными или плохими военачальника
ми. И не только в силу своей несомненной бездарности, но и потому,
что охранительный дух самодержавия был связан со стремлением
к тому, чтобы в государстве и обществе не было никаких перемен,
чтобы достигнутое величие и могущество России сохранялось в неиз-
менных формах. Эти формы Николаем I и его окружением принима-
лись за самое существо русской жизни. Ничего не менять, непрерыв-
но возобновляя существующее,—такая ориентация государственной
власти делала из нее силу, противодействующую развитию русской
культуры.
Но, с другой стороны, именно в период царствования Николая I
русская культура Петербургского периода вступает в полосу своей
наибольшей творческой продуктивности. Она стала возможной толь-
ко за счет происшедшего размежевания между самодержавным госу-
дарством и культурой. Это размежевание состояло в том, что в рус-
ской культуре этого периода появляется фигура «лишнего человека».
Она хорошо известна нам по художественной литературе. Дело,
однако, в том, что «лишними людьми» были не только Онегин, но
в значительной степени и Пушкин в последний период своего творче-
ства, не только Печорин, но и Лермонтов, одновременно Бельтов
и Герцен доэмигрантского периода, Рудин и Тургенев и т. д. В той
или иной степени в николаевской России «лишним человеком» стано
вился хотя бы отчасти любой крупный деятель культуры. Понятно,
что «лишний» он вовсе не в культуре, отторгает его государство.
Причем в условиях, когда государственная служба в соответствии
с длительной традицией считалась естественным и необходимым для
образованного человека жизненным поприщем. Остаться вне службы
и в XVIII в., и в первую половину XIX в. означало не просто
лишиться всякого веса и уважения в обществе, но и прозябать на
обочине жизни.
В XIX в. для поколения людей чести и индивидуального достоин-
ства служба была внутренне неприемлема, заставляла гнуть шею
и отказываться от себя. Когда их представители выходили из игры,
Девятнадцатый век
601
отказываясь от службы или воспринимая ее как абсурд, они и попа-
дали в положение «лишних людей». Позиция «лишнего человека»
несомненно давала преимущество «быть с веком наравне», не подчи-
нять себя мертвящему строю государственной жизни. И вместе с тем
она была внутренне ущербной и неблагополучной. Культура, созда-
ваемая «лишними людьми», стала отечественной классикой, ее отне-
сли к «золотому веку». Но она развивалась как бы параллельно
политическому и экономическому развитию России. Последнее в ни-
колаевское царствование носило кризисный характер. Перед Россией
начала вырисовываться перспектива тупика и катастрофы. Позади
осталась эпоха победоносных войн и успешных в целом внутренних
преобразований. «Золотой век» русской культуры во всей своей
полноте обозначился как раз тогда, когда «золотой век» государст-
венности закончился. Вся русская жизнь стала тревожной и проб-
лематичной. В этом отношении он образует резкий контраст с ос-
тальным Западом, которому в это время была присуща почти
безоговорочная вера в прогресс, русская же культура вся полна
сомнениями и колебаниями, надежды в ней неразрывно связаны
с разочарованиями.
Для «золотого века» в национальной культуре подобные умо-
настроения необычны. Век на то и «золотой», что ему присущ
мощный творческий импульс, что в нем создаются произведения,
становящиеся классикой культуры. Но помимо этого «золотой век»
отличается еще и известной гармонией, не исключающий противоре-
чий и диссонансов, и все же покрывающей их. Таковым стал «золо-
той век» французской культуры, состоявшийся в царствование Лю-
довика XIV. Он был веком большого стиля, величавый и строгий.
Совсем иные характеристики требуются при обращении к «золотому
веку» германской культуры. Он состоялся значительно позже фран-
цузского, только на рубеже XVIII и XIX вв. Такой же цельности
и гармонии, как во Франции, в Германии «золотой век» не знал.
Конечно, она была присуща творчеству таких его величайших твор-
цов, как Г.-В.-Ф. Гегель и И.-В. Гете. Но на этот же период прихо-
дится и такое мятущееся, диссонансное культурное течение, как
романтизм. И тем не менее «золотой век» немецкой культуры был
несравненно благополучнее нашего русского «золотого века». Он
стремился к разрешению всех противоречий и разрешал их, если не
в повседневной жизни, то в отвлеченной мысли или художественной
фантазии.
Русская же культура периода своего расцвета выражала надлом
национальной жизни, она вглядывалась в нее с тревогой, негодовани-
ем или осуждением, не ощущая в то же время себя самой этой
жизнью в ее высшем проявлении. Последнее как раз было очень
свойственно немцам. Они смотрели на политическое убожество Гер-
мании или захолустность ее образа жизни, утешая себя тем, что
в сфере мышления им доступны высоты и глубины, недостижимые
602
Культура Петербургской России
П. В. Анненков
Литография К. А. Горбунова. 1845
никем более, они-то как раз и есть
подлинная жизнь. Только нам
была свойственна в такой степени
созерцательная пассивность куль-
туры, восприимчивость, ничего
в мире по существу не меняющая.
Конечно, это очень странная клас-
сика и странный «золотой век».
«Золотой век» русской культуры,
по существу, и обозначился в сво-
ей полноте лишь тогда, когда Рос-
сия и русский человек стали про-
блемой для самих себя. О том,
что этот век наступает, во второй
четверти XIX в. не подозревал ни-
кто. А вот проблематичность Рос-
сии становилась очевидной мно-
гим. Сошлюсь на одно только
достаточно типичное свидетельст-
во сказанному, принадлежащее П. В. Анненкову:
«Образованный русский мир,— пишет Анненков,—как бы впервые
очнулся к тридцатым годам, как будто внезапно почувствовал невоз-
можность жить в том растерянном умственном и нравственном поло-
жении, в каком оставался дотоле. Общество уже не слушало пригла-
шений отдаться просто течению обстоятельств и молча плыть за
ними, не спрашивая, куда несет его ветер. Все люди, мало-мальски
пробужденные к мысли, принялись около этого времени искать,
с жаром и алчностью голодных умов, основ для сознательного разум-
ного существования на Руси. Само собой разумеется, что с первых
шагов они приведены были к необходимости прежде всего добраться
до внутреннего смысла русской истории. <...> Только с помощью
убеждений, приобретенных таким анализом, и можно было составить
себе представление о месте, которое мы занимаем в среде европей-
ских народов и способах самовоспитания и самоопределения, кото-
рые должны быть выбраны нами для того чтобы это место сделать во
всех отношениях почетным»1.
При всей своей привычности для русского уха строки Анненкова
были возможны только в нашем отечестве. Ни в какой другой
западной стране с такой настоятельностью не стоял вопрос о внутрен-
нем смысле своей истории или о месте, занимаемом в среде европей-
ских народов. Не стоял потому, что Франция, Англия, Германия
и т. д. были Западом и никакой дистанции по отношению к остальной
Европе у них не было. Иное дело Россия. Пережив век культурного
ученичества и вступив в самую сердцевину своего «золотого века»,
1 Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1989. С. 192—193.
Девятнадцатый век
603
В Московской гостиной 1840-х гг.
Б. М. Кустодиев, 1900-е гг.
русские люди со всей остротой ощутили, что они сами и их страна
находятся в странном, промежуточном и неопределенном положе-
нии. Россия вроде бы вошла в семью западных народов и культур,
стала западной страной, но на свой слишком особый и кризисный
лад. В этой ситуации русская культура, по сути, впервые заговорила,
попыталась прервать свое почти тысячелетнее «великое молчание».
То, что она становится прежде всего культурой слова, очевидно уже
потому, что в центре русской культуры «золотого века» безусловно
находится литература, и прежде всего роман. Здесь наша культура
достигает своих вершин в Петербургский период, тогда как в Киев-
ском и Московском периодах она выражала себя прежде всего
в зодчестве и иконописи.
Очевидно, середина XIXв,—это не первый и не последний кри-
зис, который переживала Россия. Однако впервые его встретил
и пережил человек с оформившимся индивидуально —личностным
началом, с потребностью и возможностями проговорить, сделать
словом духовную ситуацию времени.
Когда-то, в середине XVII в., Московская Русь накануне ее вхож-
дения в западный культурный круг свое неустроение и проблематич-
ность своей жизни выразила в расколе Православной церкви по
604
Культура Петербургской России
обрядовым вопросам. Теперь, наконец, наступило время споров,
которые предполагали и требовали формулировки позиций и док-
трин, а не апелляции к традиции как таковой. Некоторым отдален-
ным аналогом конфликта никониан и старообрядцев явилось возник-
новение в русской культуре течений западников и славянофилов.
Однако именно с этих течений начинается устойчивая традиция
русской мысли. Первые наши западники (П. Я. Чаадаев) и славяно-
филы (И. В. Киреевский, А. С. Хомяков) стали и зачинателями оте-
чественной философии. И уж, конечно, разделяло их что угодно,
только не обрядовые вопросы. Но и философами они были на свой
особый, не западный лад. Потому именно, что в России философское
развитие состоялось явно не по западным меркам, да и было ли оно
в точном смысле слова философским —это еще вопрос, в котором
нужно разобраться.
* * *
В XVIII в. русский человек, наконец, через 700 лет после креще-
ния поклонился Западу. Надел его одежду, построил его жилища,
заговорил на его языках: сначала немецком, потом французском.
Вознамерился ли русский человек стать западным? Вовсе нет. Он
стремился освоить западную культуру технологически, как инстру-
мент и средство. Внутренне, духовно западный человек долго оста-
вался ему чужим. Приобщиться к западной цивилизации чисто внеш-
не—задача самопротиворечивая. Тот, кто стал жить и действовать на
западный манер, в чем-то приобретал западную душу. Медленно, но
прививался вкус к западному образованию, науке, наконец, филосо-
фии. К концу XVIII в. в России довольно широко в оригиналах
и переводах представлена западная философия. Такого хождения
в свое время византийская философия и богословие не имели.
Подчеркну, речь идет не о русской философии, а о философии
в России. О философии иностранного производства. Когда у нас
появляются и свои отечественные авторы, их творения отличают две
важные особенности: детски ученический характер, просто подража-
тельность (1), и то, что они не образуют устойчивой традиции (2).
Русские философские сочинения соотносятся почти исключительно
не с предшествующими и последующими трудами отечественных
авторов, а с соответствующими течениями западной философии. На
Западе в философии —Просвещение, и у нас Просвещение, на Запа-
де—руссоизм, и мы ничем не хуже, ит. д.
Совершенно не случайно, что произведения русских философских
авторов длительное время остаются чисто подражательными, в них
есть наивность и неуклюжесть. Ощущение такое, что их авторы
забрались во вполне чуждую им область для чистого самоутвержде-
ния. Своего сказать нечего, а с веком хочется быть наравне. Но что
значит «своего сказать нечего»? Еще и то, что свой личный опыт
русский человек все еще рационально и интеллектуально не офор-
Девятнадцатый век
605
мил, не высветил непроглядные сумерки своей души. Русский евро-
пеец в XVIII и в первой половине XIX в. существовал в неизбывной
двойственности. Западная культура стала его культурой, но не до
полного слияния и растворения в ней. Интимной близости не было,
дистанция сохранялась. Русский европеец смотрел на мир не запад-
ными глазами, а через западные очки. Их можно было снять, но глаз
к ним привык и ничего путного без них не видел. А это значит,
собственное философское сознание и философская мысль созревали
у нас в очень специфической ситуации. С одной стороны, европей-
ская культура, европейский духовный опыт, с другой —неслиянность
с ним. С одной стороны, европейские мерки и оценки, с другой —их
неприменимость по отношению к России. Ведь это очень характерно:
Запад не мог и не знал, что сказать о России. Он или отталкивался от
нее как от варварской страны, зачем-то пришедшей в Европу, или
же смотрел на Россию как на еще не Европу, как на почти Европу,
и т. д.
Часто русский человек хочет стать окончательно европейцем, но
кем? Немцем, французом, англичанином? Галломанов и англоманов
в России было сколько угодно, они-то и стремились стать чистыми,
беспримесными европейцами. Но вот вопрос, как стать совершенно
европейцем на русский лад? Этого никто не знал.
Близость европейской культуры, ставшая реальностью в послепет-
ровскую эпоху и нерастворимость в ней и стали почвой возникнове-
ния русской философии. Почему именно философия возникла на
почве этой близости и нерастворимости? Попробуем в этом разо-
браться. Разобраться в том, чем сменилось первоначальное пребыва-
ние русского человека в своем родном православно-русском мире
и последующая попытка стать просто и только европейцем (вторая
половина XVIII — первая треть XIX в.), и почему происшедшая
переориентация имеет прямое отношение к философии.
Но вначале нам придется обратиться к более общему вопросу
о возникновении философии в «нормальных», европейских услови-
ях. Только три опорные точки будут нас интересовать: ионийские
философы, Сократ, Декарт.
Традиционная формула возникновения ионийской философии —
переход от мифа к логосу. Сказано очень сильно, потому что между
первофилософией и мифом не было такой уж резкой разницы. Логос
слишком отдавал мифом, так же как и поздний миф—логосом.
Совсем не случайно у самих греков не было четкого отличения
мудрецов-дофилософов от любомудров-философов. Фалес и один из
легендарных семи мудрецов, и первый философ во всех учебниках
философии.
И все-таки существенное различие между мифом и ионийской
философией несомненно. Миф разлагался двояко. Превращаясь в ху-
дожественную реальность, эстетический феномен эпоса (Гомер),
и в натурфилософию (ионийцы). Философия даже на самый поверх-
606
Культура Петербургского России
ностный взгляд отлична от мифа наличием авторства. Миф принци-
пиально анонимен. За авторством стоит личностная позиция, стоит
самоопределение индивида. Философствуют на свой страх и риск,
а не от лица безличной традиции, как это было в мифе. Авторский
миф — это противоречие в понятиях или стилизация, как, например,
у Платона. Там, где индивид самоопределяется, там он не может не
ощущать свою целостность, свое единство, свое я.
Это нужно понять. Философ проговаривает или молчаливо подра-
зумевает: «Я есть». Его внутреннее единство выступает предпосыл-
кой единства универсального. Сказать «все суть вода», огонь, апей-
рон, гомеомерии можно только предполагая, что я есть я. Там, где
нет единства самосознания, нет и единства как принципа всего
сущего. Человек же мифа не знал устойчивого единства своей инди-
видуальности, поэтому для него не было внутренне обязательным
устойчиво — фиксированное представление о сущем. Сущее могло
быть одновременно Океаном, Хаосом, Геей, Эросом, Зевсом ит. д.,
в зависимости от ситуации. Но и сам этот человек был своего рода
оборотнем, Протеем. Его личность способна была дефокусироваться,
расплываться, собираться в нетождественный себе фокус.
Ничего такого философу уже не позволено. Сказал, что мир вода
или огонь — держись за это, сведи к воде или к огню многообразие
неличного и выведи из них многообразие. Короче, в философии не
может не быть внутреннего единства, так же как не может не быть
единства самосознания у философа.
Философия, стало быть, форма индивидуально-личностного бы-
тия. Индивидуально-личностен при этом и творец философии, и тот,
кто ее постигает, будь то адепт, апологет или противник. Философия
возникает в своей отделенности от мифа, религии, искусства. В част-
ности, потому, что жизнь перестает переживаться в своей непосредст-
венной данности, по отношению к ней возникает дистанция. Филосо-
фия—любомудрие, а не мудрость, мудрость дана в мифе, в религии.
Философ же стремится вернуть утраченное. Но не через растворение
возникшего ощущения своего «я» в целом универсума, а скорее через
вмещение универсума в себя: я должен стать миром через то, что мир
станет мною.
Так мне представляется исходная точка возникновения филосо-
фии на греческой почве. У ионийцев многое еще смутно предощуща-
ется, наблюдается множество отступлений в миф, все то, что преодо-
левается в Сократе.
Сократ—самый мудрый из эллинов, потому что он единственный
знает, что он ничего не знает. Это знание не пусто и не бессодержа-
тельно в себе. Да, Сократ ни о чем не может сказать как об
исчерпывающе достоверном знании. Но у него есть один момент
абсолютно достоверного знания о незнании. То, что Сократ ничего не
знает —это его знание незыблемо. Тем самым ему дано абсолютное
знание о самом себе. В Сократе торжествует свою победу индивиду-
Девятнадцатый век
607
ально-личностный характер философии. Она может утерять все
содержательно —конкретное, но она будет оставаться философией до
тех пор, пока сохранит свое единство, свое устойчивое «я», мыслящий
индивид. Философия в своем самом «сокращенном» виде и есть не
более, чем самоудостоверение человека в своем существовании. Что
бы он ни утерял, себя философ утерять не должен. В себе, в своем
мышлении он обязан найти последние основания своего существова-
ния. Философ никому не верит на слово, ничего не принимает
в расчет, пока не сделает его своей внутренне необходимой мыслью.
Сократ, который вообще ничего не знает помимо того, что он
ничего не знает, действительно нечто знает, не мнит, не грезит. Он
философ в гораздо большей степени, чем любой мыслитель, выстраи-
вающий огромное здание своего мировоззрения, но не укореняющий
его основания во внутренне неизбежной логике собственного мыш-
ления.
Типологически сходен в интересующем нас отношении с Сократом
Декарт, с его принципом cogito, «мыслю, следовательно, сущест-
вую». По Декарту, для философа позволительно усомниться во всем,
даже в существовании Бога и своем собственном существовании.
Несомненным, внутренне достоверным, моим личностно-субъектным
остается одно —я не могу усомниться в собственном сомнении. Со-
мнение и есть мышление. Значит, мышление —это то, что я подлинно
знаю, что существует для меня, подтверждает неразложимую целост-
ность и единство моего собственного существования. Удостоверив-
шись в себе, философ среди всех мыслимых им мыслей обретает одну
особую —о Боге. Бога, если мы Его мыслим, помыслить несущест
вующим нельзя. Богу принадлежат такие атрибуты, как всемогущест-
во, вечность, совершенство и пр. Но одно из проявлений совершенст-
ва и есть бытие. Значит, сказав «Бог», мы говорим: «Бог существует».
Бога невозможно помыслить несуществующим.
Так, восстанавливая в правах онтологическое доказательство бы-
тия Божия, Декарт приходит к внутренне необходимому существова-
нию реальности помимо мышления мыслящего субъекта. Это путь
именно философии и только философии. В очередной раз она проде-
монстрировала необходимость для философии двух коррелирующих
начал: индивида-личности, мыслящего по своей собственной логике
субъекта, стоящего на позиции своей самотождественности и универ-
сума, чье единство и самотождественность обнаруживаются филосо-
фом. У греков философы вначале ощутили и воспроизвели единство
универсума (от Фалеса до Парменида), а затем развернули соответст-
вующее ему единство индивида (Сократ, Платон, Аристотель).
Ход новоевропейской философии обратен. Декарт вначале удосто-
верился в самотождественности индивида, мыслящего человека,
и только потом от Спинозы до Гегеля и Шопенгауэра длились попыт-
ки привести к единству универсум. Это естественный и, казалось бы,
единственный путь философии, в который самоопределяется человек
608
Культура Петербургской России
как таковой перед лицом бытия, сущего, субстанции, универсума как
таковых.
Однако в русской философии все обстояло иначе. Начиналась
она, когда русской культуре было уже около 900 лет. И вовсе не
человек вообще на фоне универсума искал в ней самоопределения.
Сошлюсь еще раз на цитированное ранее свидетельство П. В. Ан-
ненкова. Оно стоит в ряду многих других, относящихся к периоду
30—40-х гг. XIX в. и касается тех самых русских европейцев, кото-
рые и в Европе не растворились, и органическую слитость с право-
славно-русским миром утеряли. Но по-настоящему интересными,
удивительными и странными строки Анненкова делает то, что у него
речь идет о возникновении русской философии.
Что здесь удивляет с нормально европейских позиций? Когда
русский мир «впервые очнулся», «не хотел больше отдаться просто
течению событий и молча плыть за ними» —эта ситуация вполне
совместима с философией и может стать предпосылкой ее возникно-
вения. Ведь философия, что ни говори, прерывает традиционное
дорефлективное мышление. Но для чего «впервые очнулся» русский
ум? Для поиска основ, «сознательного разумного существования на
Руси». Обратим внимание: не сознательного разумного существова-
ния вообще, а именно на Руси. Поэтому в центре внимания мысля-
щих русских людей —«внутренний смысл русской истории», место,
которое мы занимаем в среде европейских народов.
Но тогда читатель вправе задать недоуменный вопрос: «А при чем
здесь русская философия? Ну, пришло время русскому человеку
разобраться с собой и своей страной, ее историческим путем. Как раз
для этого существует историческое знание, основательно разработан-
ное в европейской науке к этому времени. Это знание и должно быть
применено к русской истории, русскому человеку, как они складыва-
лись на протяжении столетий». Все дело, однако, в том, что европей-
ская историческая наука, историческое знание о России сказало
очень мало. Не то чтобы западные историки в рот воды набрали. Еще
Вольтер написал историю Петра Великого. Правда, ничего нашего,
русского в этой истории нет, она целиком подогнана под западные
мерки. Когда Вольтер восхищается Петром, тот ничем не отличим от
какого -нибудь Людовика XIV; когда негодует, негодование это по
поводу все еще полуварварского народа. Или Гегель. Этот мыслитель
вообще не относил Россию к числу исторических народов. Всемирная
история прошла мимо русских пространств, стало быть, в своей
«Философии истории» говорить Гегелю нечего.
Итак, определяться с русской историей, с самим собой русскому
человеку приходилось самостоятельно, на свой страх и риск. И опре-
деляться было очень непросто. Первоначальной попыткой такого
рода стала «История государства Российского» И. М. Карамзина.
Вот отзыв о ней сочувствовавшего Карамзину В. И. Майкова, одного
из властителей дум 40-хгг.: «Кто беспристрастно изучал это творе-
Девятнадцатый век
609
ние, тому конечно известно, что оно написано с мыслью показать, что
история России ничем не хуже, а во многих отношениях и лучше
истории других европейских народов»1. Лучше или хуже, это дело
десятое. Главное же в том, что Карамзин русскую историю, так же
как в свое время Дашкова, подгонял под западную. Между тем
необходимо было самоопределяться, находить свои слова и свои
мысли в отношении себя, своей страны, своей истории. Решение
такого рода задачи —это уже путь, связанный с философией и фило-
софским мышлением.
Осторожность моей формулировки не случайна. Философия все-
гда имела дело с человеком вообще и миром как таковым, то есть
универсумом. Почему-то именно у нас самоопределение осуществля-
лось существенно иначе: русский человек самоопределялся по отно-
шению к русской истории. Возможно ли это для философии? Одно-
значного ответа на этот вопрос нет. Философия тогда и начиналась,
когда философ отвлекался от всего частного и частичного, от всей
пространственно-временной конкретики. Парменид или Платон фи-
лософствовали, ощущая себя не греками классического периода,
живущими в Афинах или Греции в целом. Каждый из них был
мыслящее «я», соприкасающееся с миром вообще. Так же было
с Декартом и многими другими. Русский же человек в середине
XIX в. ощутил себя совсем иначе. Его русскость с него не совлека-
лась, Россия застилала весь его умственный горизонт. Как Пушкин
говорит о Н. И. Тургеневе: «Одну Россию в мире видя, преследую
свой идеал...». Подобное могло бы быть сказано о любом из русских
философов первого поколения. Если так можно выразиться, филосо-
фами они были не по предмету, он заведомо частичен и не абсолютен,
философы они по подходу к своей предметной области. Попробую
уточнить, что философского в этом подходе.
Необходимость решения для себя вопроса о том, что такое русский
человек и Россия, у нас возникла в виду бездомности и неукоренен-
ности России в мировой истории. До XVIII в. для русского человека
Святая Русь, православное царство и было всем миром. Все осталь-
ные были немцами — схизматиками или бусурманами—язычниками,
погаными. Поэтому русский человек жил в тех же координатах, как
и все, как человек в мире. В последней основе он был тварной душой
перед лицом Творца. Петровская эпоха внесла раскол, который так
и не был устранен к 30-м гг. XIXв., как, впрочем, и позднее.
Мыслящий русский человек пребывал в странной ситуации. Он не
знал, что такое бытие вещей на самом деле, что такое вообще «на
самом деле». Есть западный взгляд на сущее, который для европейца
не просто взгляд, а вся внешняя и внутренняя реальность. Но это то,
с чем русский человек не мог слиться, но не мог и преодолеть.
Западное мышление для него —это еще не все, но и своего нет.
1 Майков В. Н. Литературная критика. Л., 1985. С. 36.
610
Культура Петербургской России
Своего же нет потому, что русскому человеку вообще не понятно, кто
он такой. Он себя не ведает. Ни как человека вообще в универсуме,
ни как русского человека в России. Подлинно и безоглядно философ-
ской позицией было бы ощутить и помыслить себя человеком вообще
в мире как таковом. На это внутренних ресурсов не было. Их
хватило только на то, чтобы оторваться от Запада (осознать свою
русскость), но не на то, чтобы прийти к своему (вселенскому). Вот
эти поиски себя, самоидентификация и было русской философией.
Как философия она не удалась в виду ограниченного и частичного
характера самоидентификации. Осмыслить европейского человека не
как человека вообще достало сил, обрести же себя не как европей-
ца-русского, а просто человека —нет. Только что сказанное объяс-
няет исходную тематическую направленность русской философии, ее
проблематику. Изначально русская философия состоялась как исто-
риософия, точнее будет сказать, как философия русской истории.
Историософскими по преимуществу были построения первых славя-
нофилов—И. В. Киреевского и А. С. Хомякова. Философом русской
истории исключительно был и человек, который, как я полагаю, был
инициатором русской философии, тем, кто ее спровоцировал —
П. Я. Чаадаев. На его работах, точнее, на самой, а по существу
единственно значимой из них, — первом из чаадаевских философиче-
ских писем мы и проследим, как возникла русская философия в ее
неизбежном сходстве со всякой философией, но и (не менее важно)
в глубоких отличиях от всякой другой философии.
Пятнадцать—двадцать страниц первого философического письма
написаны в 1829 г., опубликованы в 1836 г. Герцен назвал это письмо
«выстрелом в темную ночь». Он имел в виду социально-политические
реалии. Но в действительности это было нечто, разорвавшее фило-
софскую немоту русского ума. Чаадаевское письмо—о России, ее
историческом пути. Точнее будет сказать, об отсутствии такового:
«...Мы никогда не шли вместе с другими народами,—пишет Чаада-
ев, —мы не принадлежим ни к одному из великих семейств человече-
ского рода, ни к Западу, ни к Востоку, не имеем традиций ни того,
ни другого. Мы стоим как бы вне времени, всемирное воспитание
человеческого рода не распространилось на нас»1.
Как видим, у Чаадаева полное отрицание исторического характера
русской истории. По Чаадаеву, это даже не история, а воплощенная
бессмыслица: «В самом начале у нас дикое варварство, потом грубое
суеверие, затем жестокое унизительное владычество завоевателей,
владычество, следы которого в нашем образе жизни не изгладились
совсем и доныне. Вот горестная история нашей юности. Мы совсем
не имели возраста, этой безмерной деятельности, этой поэтической
игры нравственных сил народа... Нет в памяти чарующих воспомина-
1 Чаадаев П. Я. Полное собрание сочинений и избранные письма. М., 1991.
С. 323 (далее: Чаадаев).
Девятнадцатый век
611
ний, нет сильных наставительных
примеров в народных преданиях.
Пробегая взором все века, нами
прожитые, все пространство зем-
ли, нами занимаемое, вы не най-
дете ни одного воспоминания, ко-
торое бы остановило, ни одного
памятника, который высказал бы
всем прошедшее живо, сильно,
картинно...»1.
«Мы явились в мир как незако-
норожденные дети, без наел едет
ва, без связи с людьми, которые
нам предшествовали, не усвоили
себе ни одного из поучительных
уроков минувшего».
«У нас нет развития собствен
ного, самобытного, совершенство-
вания логического. Старые идеи
уничтожаются новыми, потому что
П. Я. Чаадаев
Раков с оригинала Козина. 1844—1845
последние не истекают из первых,
а западают к нам Бог знает откуда...»
«Мы растем, но не зреем, идем вперед, но по какому-то косвенно-
му направлению, не ведущему к цели...»
«Мы принадлежим к нациям, которые, кажется, не составляют
необходимой части человечества, а существуют для того, чтоб со
временем преподать какой-нибудь великий урок миру»1 2.
Что перед нами, — полное отрицание русского исторического пути
или даже проклятие русской истории? Если чаадаевские тирады
воспринимать буквально, вне контекста, то безусловно, так оно
и есть. Но откуда идет такое отрицание, просто от неприятия и нена-
висти? Этого нет ни в биографии Чаадаева, ни в стилистике его
письма. Чаадаев проделывает операцию вроде бы несложную и к то-
му же обратную тому, что проделал Карамзин. Последний пытался
показать, что мы «как все». В нашей истории все было как на Западе.
Западным взглядом он посмотрел на русскую историю и нашел ее
вполне западной. Не то у Чаадаева, он ничего не подгоняет, ни на что
не закрывает глаза. Бесстрашным взглядом он смотрит на русскую
историю и никакого, ну, решительно никакого смысла в ней не
находит.
Почему это произошло? Что, действительно так ужасна и безот
радна русская история? Конечно, дело не в этом, Чаадаев смотрит на
Россию свободно, он стремится быть непредвзятым и это ему удается.
1 Чаадаев. С. 324.
2 Там же. С. 326.
612
Культура Петербургской России
А. С. Хомяков
Фото, 1850-е гг.
Но с одной оговоркой: это сво-
бода и непредвзятость западного
взгляда на русскую историю. Рус-
скому человеку они, видимо, да-
лись нелегко. Позднее, в 1837 г.
Чаадаев скажет: «Прекрасная
вещь —любовь к Отечеству, но есть
нечто более прекрасное—любовь
к истине». Эту истину он и прого-
варивает.
Повторю, с западной точки зре-
ния Чаадаев безупречно логичен:
нет ни России, ни русской исто-
рии как воплощенного смысла, как
положительной мысли о них. Но
странным образом чаадаевское от-
рицание не есть чистый нигилизм.
Его выступление обернулось ра-
дикальным сомнением. Он усом-
нился во всем в русской истории, не уничтожив ее при этом, а сведя
к точке, к единой и единственной точке несомненности. Несомненна
здесь одна только сомнительность русской истории, положительно
только ее отрицание, существует только ее небытие. Ход мысли
кажется узнаваем.
Сократовское «я знаю, что ничего не знаю» считается поворотным
пунктом в истории античной философии. Декартово «я мыслю,
следовательно, существую» —предпосылка новоевропейского фило-
софского мышления. Человек (Сократ) знающий, что он ничего не
знает, впервые нечто подлинно знает. Человек, не сомневающийся
в своем сомнении, преодолевает его, обретая устойчивую незыбле-
мость познания. И в одном, и в другом случае европейский человек
переходит в философское измерение своего бытия.
По-своему, на характерно русский лад, повторяет сократовско —
декартовский ход мысли и Чаадаев. Как и они, он также впервые
нечто подлинно знает и что-то для него подлинно несомненно. Но
известно ему не собственное незнание как таковое, а непостижимость
(бессмысленность) русской истории. Знающее незнание и несомнен-
ная сомнительность —это то, что впервые делает мнения и грезы
о России философией истории. На этих знающем незнании и несо-
мненной сомнительности основано дальнейшее развитие русской фи-
лософии. Они же делают ее ни на что не похожей в своем качестве
философии русской истории.
Действительно, в лице Чаадаева русская философия в момент
своего возникновения загоняет себя в угол. Но также загоняли себя
в угол Сократ и Декарт. Знание, добытое из незнания, несомнен
ность —из кардинальной сомнительности, только и имеют вес в фило-
Девятнадцатый век
613
Софии. Опыт чаадаевского сомне-
ния продемонстрировал необходи-
мость поиска новых смыслов. При
вычные, уже состоявшиеся смыслы
(ходы мысли, философские схе-
мы) к русской истории не прило-
жимы. Русский человек не может
в своем мышлении опереться на
устойчивую интеллектуальную тра-
дицию, на нечто, им преднаходи-
мое (как это было, скажем, в гре-
ческом мифологическом мире), от
Чаадаева он знает внеисторичность
русской истории, бессмысленность
ее смысла. Он знает, что Россия
была и есть, но что она из себя
представляет, это еще нужно
постигнуть, смыслы предстоит до-
быть и оформить. Причем изнут-
ри русского духа и русской исто-
рии, никто здесь не помощник,
ничей опыт буквально не прило-
жим. Теперь уже русская мысль
знает, что, по —карамзински гля-
И. В. Киреевский
Дагерротип, 1840-е гг.
ДА, в русской истории не увидишь
России, а увидишь слегка перенаряженный Запад. Взгляд Чаадаева
сжимает ее до точки, но она, эта точка, есть и должна развернуться
в осмысленный исторический путь. Его стремятся обнаружить уже
славянофилы И. В. Киреевский и А. С. Хомяков. Они впервые у нас
пытались обрести себя как русских людей, индивидов-личностей,
соотнесенных с универсумом Россией. Но самое любопытное это то,
что сам П. Я. Чаадаев совместил в своем творчестве радикальное
сомнение в русской истории с ее столь же радикальным утверждени-
ем. Здесь он на свой лад следует ходу мысли Декарта. Мы помним,
что Декарт, усомнившись во всем, путем той же мысли приходит
к абсолютному утверждению абсолютной реальности Бога. Усомнив-
шись в русском историческом пути, в самом его существовании,
Чаадаев также заканчивает своего рода абсолютизацией русской
истории: «Я полагаю, что мы пришли после других для того, чтобы
делать лучше их, чтобы не впадать в их ошибки, в их заблуждения
и суеверия... Я считаю наше положение счастливым, если только мы
сумеем правильно оценить его; я думаю, что большое преимущество
иметь возможность созерцать и судить мир со всей высоты мысли,
свободной от необузданных страстей и жалких корыстей, которые
в других местах мутят взор человека и извращают его суждения.
Больше того, у меня есть глубокое убеждение, что мы призваны
614
Культура Петербургской России
решить большую часть проблем социального порядка, завершить
большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на
важнейшие вопросы, какие занимают человечество. Я часто говорил
и охотно повторю: мы, так сказать, самой природой вещей предна-
значены быть настоящим совестным судом по многим тяжбам, кото-
рые ведутся перед великим трибуналом человеческого духа и челове-
ческого общества»1.
Логика Чаадаева приблизительно такова: существующее небытие
русской истории—это чистая возможность на фоне состоявшейся
наличности европейской истории. Там, где действительности нет
совсем, там и потенции грандиозны. Почему? Потому что осуществив
нечто в истории, страна неизбежно ограничивает себя, все, что
состоялось, несравненно меньше неосуществленного. И вот мы, Рос-
сия, вошли в круг европейских народов, со стороны мы видим
относительность всего, что удалось Европе, но нам же доступнее
и свершение несостоявшегося.
По-своему, еще менее убедительно, чем Декарт, Чаадаев пытается
мыслить русскую историю из всей ее нереальности как абсолютную
реальность. Декарт: из того, что во всем можно усомниться, в конце
концов вытекает существование абсолютного существа —Бога. Чаада-
ев: из того, что во всем, что было в русской истории, можно
усомниться, прийти к его отрицанию, вытекает ее абсолютное осуще-
ствление в будущем.
Путь чаадаевской мысли, который я несколько рискованно сопос-
тавил с декартовским — это контур, абрис русской философской мыс-
ли, его прорисовывали и детализировали многие. Но первые шаги на
этом пути, как я упоминал, сделали славянофилы.
Прежде чем переходить к их доктринам, нельзя не поразиться
опять-таки простейшему историко-культурному факту. Чаадаев —
первый русский философ—собственно на философской почве ничего
сколько-нибудь оригинального не сделал. Первое философское дви-
жение, славянофильское, даже поименовано совсем не философски.
Славянофилы, то есть сторонники славянства —характеристика это
общественно-политическая, хотя вклад их в русскую культуру пре-
имущественно философский. Киреевский и Хомяков потому и славя-
нофилы, что в их штудиях доминирует, задает тон и весь ход мысли
именно историософия. Помимо собственно философии истории у од-
ного и другого можно найти и онтологию, и гносеологию, но они
вторичны по отношению к исходному импульсу, исходной интенции.
Как можно себе представить логику развития славянофильской
мысли, если учитывать, что это первый этап развития русской фило-
софии, непосредственно следующий за импульсом, данным Чаадае-
вым? Славянофилы настаивают на том, что Россия—это совсем не
Запад, у нее свой исторический путь (первый тезис). Россия обладает
1 Чаадаев. С. 533—534.
Девятнадцатый век
615
всеми преимуществами по сравнению с Западом, во всяком случае,
в прошлом и будущем (второй тезис). Особенности и преимущества
России не этнокультурного свойства, они связаны с ее православием,
сохранившим в противовес Западу первоначальную чистоту христи-
анства (третий тезис). Русским как народу—мессии предстоит обрес-
ти истину и социальную, и философскую (четвертый тезис). Все это
простейшие ответы на радикальное сомнение—утверждение русской
истории Чаадаевым — они и стали содержанием славянофильской
доктрины в качестве первой попытки построения собственно русской
философии.
* * *
При характеристике русского «золотого века» как культуры слова
очень существенно то, что несмотря на возникновение в ней общест-
венной мысли и первых ростков философии, она оставалась прежде
всего культурой художественного слова. Это слово в ней наиболее
впечатляющее, глубокое и, как это ни покажется странным, филосо-
фичное. Скажем, философская глубина романов Достоевского дале-
ко превосходит все, что при его жизни и позднее создала русская
религиозно-философская мысль. Такая преимущественная воплощен-
ность русской культуры в художественном слове имела свои позитив-
ные стороны. И вместе с тем она же свидетельствует о том, что для
русского человека сфера чистой мысли не стала до конца своей. Не
забудем, что философия на западной почве возникла как раз потому,
что в лице Греции Запад оказался наиболее продвинутым в развитии
индивидуально-личностного начала в человеке.
Философ —это как никто другой, человек индивидуально ответст-
венного и вменяемого бытия. Для него все сущее должно обрести
свой смысл и быть оправданным посредством собственных интеллек-
туальных усилий философа. Философ не вправе полагаться на рас-
пространенное мнение или традицию, еще менее ему пристало укло-
няться от самостоятельной работы мысли. Только философу по плечу
справиться с той ситуацией, которая сложилась в русской культуре
ко второй трети XIX в. и достаточно четко обрисована в цитирован-
ном фрагменте П. В. Анненкова. Между тем, философски ситуация
эта так и не была осмыслена и разрешена, хотя и неустанно осмысля-
лась. Скорее, говорить здесь можно о том, что перелом и растерян-
ность исторического времени середины XIX в. были глубоко пережи-
ты и выражены в русской культуре, и в первую очередь литературе.
Наш «золотой век» стал скорее симптомом кризиса русской жизни,
чем лекарством от него.
Кризис здесь совпал с расцветом. Последний же выразился пре-
имущественно в появлении великой русской литературы. Она стала
вершиной европейского литературного развития XIX в. Сегодня это
особенно очевидно. Скажем, чтение французской классики, и, в част-
ности, произведений Стендаля, Бальзака или Мопассана уже невоз-
616
Культура Петербургской России
можно без некоторой дистанции. Они воспринимаются теперь как не
лишенные искусственности, нарочитости, упрощенности, недостаточ-
ного проникновения во внутренний мир героев, подменяемый демон-
страцией общих мест и т. д. Приблизительно то же самое можно
сказать и о произведениях великих английских писателей XIX в. На
фоне тех и других произведения Л. Толстого или Достоевского все
еще сохраняют всю свою первозданность, время не поколебало убеж-
дающую силу их образов.
Между тем достигнутое в русской литературе—это не только
свидетельство гениальности авторов, но и их самоощущение и вос-
приятие мира. Мир же этот не просто неблагополучный (где и когда
в великой литературе он излучал благополучие?) В нем ощутима
какая-то безнадежность и неразрешимость. Он представляет собой
жизнь, которой никак не состояться, жизнь как неразрешимую
устремленность. Но русской литературе не свойственен так называе-
мый «трагизм». В трагедии герой утверждает себя, пускай и ценой
гибели. В русской же литературе он как раз и отказывается от
самоутверждения, всякая утвердительность ему глубоко чужда. Ге-
рой весь полон сомнения, тоски, растерянности, с легкостью капиту-
лирует перед жизненными обстоятельствами.
Момент этот наиболее рельефно выражен в том, как любят в рус-
ских романах. Добро бы еще, если бы в них любовь была связана
с суровыми испытаниями и даже гибелью любящих. В этом была бы
своя утвердительность. Однако русские романы демонстрируют нам
по преимуществу несостоявшуюся любовь. Их герои, начиная с Евге-
ния Онегина, как-то не дотягивают до любви, стоят на ее пороге,
делают первые шаги, потом же имеет место все, что угодно, только не
полнота чувства, не соединение любящих, хотя бы даже ценой
гибели. Все сводится к предварению любви, которое сразу переходит
к горьким сожалениям и тоске по утраченному, по тому, что так и не
далось достижение полноты и целости жизни. Когда же русские
романы с неизменным постоянством выявляют в своей основе одно
и то же—неспособность мужчины любить женщину и дать ей воз-
можность раскрыть полноту ответного чувства, в этом нельзя не
усмотреть в конце концов того, что русская жизнь в ее существе,
в сердцевине своей жизненности не складывается и не выстраивается.
И это при том, что она вовсе не предстает в русском романе
какой-то скудной, сухой или бессильной. Напротив, мир здесь
полон поэзии и очарования, в нем много простора и воздуха, как-то
по-особому легко дышится. Когда же он драматически напряжен, как
у Достоевского, все равно это не духота и не теснота жизни, в ней нет
безнадежности. Может быть, в русском романе все так неразрешимо
и невоплотимо, и прежде всего любовь мужчины и женщины, ввиду
того, что для него неприемлемо каким-то образом ограничить и су-
зить жизнь, установить для нее условные и жесткие рамки. В качест-
ве разрешения жизненных проблем русскому роману подавай все
Девятнадцатый век
617
и сразу, не меньше. В нем заявка на полноту жизни, и в то же время
какая-то хроническая неготовность к такой же полноте усилий.
Поэтому у героев русского романа жизнь проходит между пальцев,
ее не схватить, ею не наполниться. Остаются вопросы, тоска, расте-
рянность. Во всем этом все равно очень много жизни, гораздо
больше, чем в параллельно осуществлявшемся западном романе.
Однако жизнь —порыв и устремленность, жизнь —ожидание жиз-
ни,—стали не только великой литературой, но и великой неудачей,
во всяком случае, неразрешимостью культуры в ее собственном
утверждении и бытийствовании.
О ее кризисе свидетельствует не только то, что в центре русской
культуры середины XIX в. стояла фигура «лишнего человека», но
и его собственная позиция в культуре. Никогда нельзя забывать при
обращении к «лишнему человеку», что он дворянин, помещик, ба-
рин, что в его жизни и творчестве осуществлялась дворянская куль-
тура, которая возникла в петровские времена как некоторая противо-
положность народной, крестьянской культуре. Вплоть до середины
XIX в. для дворянской культуры не существовало проблемы ее
разведенности с крестьянской культурой. Дворянство видело прежде
всего явные преимущества своей культурной близости к Западу, чем
оторванность от крестьянства и близких к нему купечества и мещан.
Положение радикально меняется с появлением «лишнего человека».
Будучи дворянином, он вынужден был отказаться (если не всегда
буквально, то внутренне) от служения государству.
Столетиями государственная и в первую очередь военная служба
была не просто обязанностью или преимуществом дворянина. Она
формировала его самоощущение, определяла место дворянства в рус-
ской культуре, укореняла в ней. «Лишний человек» в противополож-
ность своим предкам вынужденно становился беспочвенным челове-
ком. Своей естественной, очевидной и признанной роли в обществе
у него не было. Европейская «выделка», образованность, культура
«лишних людей» являлись как бы избыточными, своего рода необя-
зательными деталями и украшениями русской жизни. Культурные
преимущества оборачивались для них ненужностью и неприменимо-
стью на традиционном для дворянства поприще.
Последствия этого, видимо, недооцениваются по настоящее время.
Заключаются же они в том, что дворянство не в состоянии оказалось
выполнять свою опережающую другие сословия роль в культуре,
искупать в интересах всего общества свои социальные преимущества
своей культурной миссией. Эта миссия вовсе не обязательно заклю-
чается в стремлении приблизить к своей культуре более широкие
слои населения. Подобного рода вещами дворянство любой западной
страны, как правило, было озабочено очень мало. Но и тогда, когда
оно оставалось вполне безразличным по поводу культуры других
сословий, оно могло благотворно влиять на них в одном, наверное,
самом существенном аспекте. Дворянское сословие, как никакие
618
Культура Петербургской России
другие сословия и слои общества, выражало собой начало прав
и свобод личности. Быть дворянином означало быть свободным и не-
зависимым человеком, противопоставленным несвободным и полу-
свободным людям других сословий. Дворянство свою свободу вос-
принимало прежде всего как привилегию, за которую, правда,
дворянин был обязан и готов в любой момент заплатить жизнью на
военном поприще или на дуэли.
На Западе тенденция развития была такова, что дворянские при-
вилегии длительное время оспаривались третьим сословием — бур-
жуазией. Уступки же буржуазии, по существу, означали, что дворян-
ская свобода—привилегия —все больше становилась неотъемлемым
правом человека как такового. С риском сильного преувеличения
можно утверждать, что по критерию свободы на Западе вся основная
масса граждан государства постепенно становилась дворянами. Дво-
рянство же при всем своем сопротивлении поползновениям на его
привилегии, культивируя в себе дух свободы (как чести, достоинст-
ва, между прочим, светскости), тем самым сохраняло его для всего
Запада. Не сохрани оно в свое время свои привилегии, уступив
натиску других сословий и государству, дворянство не выполнило бы
своей главной культурной миссии.
Возвращаясь к нашему отечественному дворянину, «лишнему че-
ловеку», приходится констатировать: свое дворянское преимущест-
во—привилегию—свободу он потерял уже одним тем фактом, что
стал «лишним человеком». Его свобода, в отличие от недолгой
дворянской свободы поколений «Александрова века», оставалась
чисто внутренней, свободой определений и оценок, творческих уси-
лий в сфере мысли и искусства, но уже не свободой образа жизни,
подобающего дворянину. «Лишний человек» для мужика, купца или
мещанина был странным и чудаковатым существом, а вовсе не тем
барином-аристократом, за которым нужно изо всех сил тянуться
и кому нужно подражать как настоящему по праву и достоинству
хозяину жизни. Более того, сами «лишние люди» не только не
удержались на высоте своего дворянства и аристократизма, но
и признали преимущество перед собой так называемого «народа».
Нужно сказать, что «народ» —это своеобразно русское понятие
и притом очень характерное для нашей культуры, начиная с «золото-
го века». Вообще говоря, народом вправе называться все население
данной страны, если оно образует национальную общность. У нас
между тем под народом с середины XIX в. подразумевается прежде
всего, если не исключительно, «простонародье», то есть представите-
ли низших сословий и прежде всего крестьянства. В лице «лишнего
человека» дворянство поклонилось в ноги крестьянству и в нем, а не
в себе признало русский народ. Этим под сомнение ставились не
только петровские реформы, но и вся новоевропейская дворянская
культура, которая в творчестве тех же самых «лишних людей» как
раз и достигла своего расцвета. Деятели нашего «золотого века»
Девятнадцатый век
619
Город в николаевское время
М. В. Добу минский, 1907
могли усматривать в русском крестьянстве «народ-богоносец» (славя-
нофилы), видеть в крестьянине «прирожденного социалиста»
(А. И. Герцен), восхищаться мудрой простотой его жизни (Л. Н. Тол-
стой), могли, наконец, сострадать русскому крестьянину в его угне-
тенности, беспросветной нищете и долготерпении (этот мотив полу-
чил широчайшее распространение).
Но в любом случае идущее от «лишних людей» народничество
русской дворянской культуры отдавало капитулянтством «высокой»
культуры перед «низкой». До предела эта тенденция была доведена
Л. Н. Толстым. В нем совершенно поразительным образом сочета-
лась принадлежность к «высокой» культуре со стремлением к опро-
щению и возврату в «низовую» культуру. Толстой —это граф, кото-
рый попытался стать мужиком, и одновременно самый крупный
новоевропейский романист, призывавший учиться писать у крестьян-
ских детей. В нем же наиболее очевиден и внутренний надлом
русского «золотого века». Надлом, который не помешал необычай-
ной продуктивности русской культуры и в то же время не был ею
преодолен.
Царствование Николая! (1825—1855), на которое приходится
и появление «лишнего человека», и расцвет русской культуры «золо-
620
Культура Петербургской России
того века», завершается накануне унизительного военного пораже-
ния, которого в России никто не ожидал. С этим поражением
остается позади государственное величие империи и вместе с тем
начинается оживление общественной жизни, больше не регламенти-
рованной мелочной и жесткой опекой Николая I и его чиновников.
Казалось бы, в такой ситуации на передний план должны были
выйти «лишние люди», многие из них были достаточно молоды, не
говоря уже об одаренности. Однако в следующий период «золотого
века», который продолжался приблизительно до середины 90-хгг.,
тон в общественной жизни задают совсем другие силы и деятели.
Обыкновенно их именуют революционными демократами и разно-
чинцами. Стоит обратить особое внимание на последнее слово. Бук-
вально быть разночинцами и означало принадлежать к различным
сословиям. Точнее же, наверное, было бы сказать, что разночинцы
находились вне сословий за счет того, что в их среде сословия
перемешались и потеряли свое значение. Они рекрутировались из
того же дворянства, естественно, без —и мелкопоместного, духовен-
ства, мещан, военного сословия, были в них представлены и выход-
цы из крестьян. Внесословность разночинцев в стране с по-прежнему
ярко выраженными сословными различиями, где не принадлежать ни
к какому сословию было попросту невозможно, была связана прежде
всего с позицией в общественной жизни и культуре.
Быть разночинцем в той или иной мере означало неприятие
существующего строя и всего уклада русской жизни. Неслучайно
разночинцев называли еще и нигилистами. Разночинцы —нигилисты
жили устремлением исключительно в будущее, «темной старины
заветные преданья» мало что говорили их душе. Старшее поколение
разночинцев росло еще в николаевское время. И его ненависть
к николаевской России, ее властям и самому императору буквально
потрясает. Когда в 1855 г. девятнадцатилетний студент Н. А. Добро-
любов написал по поводу Николая I такие строки: «А между тем
сколько мелочного самолюбия, сколько жестокости, невежества, эго-
изма показал он в последующее время! Ни лист, ни два, а несколько
томов можно наполнить рассказами его ужасных, отвратительных
деяний. Каждое имя из приближенных к нему людей давно уже
сделалось символом низости, грубости, воровства, невежества,....Но
довольно. Нам еще будет много случаев возвратиться к этому ужас-
ному тирану...»1
В их тоне и пафосе не было ничего исключительного. Всякая связь
между самодержавием и теми, кто в царствование Александра II
будет определять умонастроение общества, диктовать ему свои мне-
ния и суждения, была разорвана еще в годы правления Николая I.
Недовольство, а самое главное отчуждение и негодующее неприятие
власти в 30-е—40-е годы еще таилось подспудно. Либеральное прав-
1 Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 9 т. Т. 1. М.-Л. 1961. С. 132.
Девятнадцатый век
621
ление Александра II вывело их
наружу. Теперь речь шла уже не
просто о недовольстве действиями
государя. Самодержавие, царская
власть осуждались прежде пото-
му, что они есть и самим фактом
своего существования не дают Рос-
сии свободно дышать.
Разночинцы относились к Алек-
сандру II также, если не более не-
примиримо, как к его отцу. Их
отношение к императору ничуть
не смягчили действительно серь-
езные и глубокие реформы: кре-
стьянская, административная, су-
дебная, военная, установление,
пускай, и не свободы слова, но
все же такой степени гласности,
которая даже отдаленно не сопос- н А Добролюбов
Тавима С отношением К печати Дагерротип, 1854
в предшествовавшее царствование.
Все это воспринималось как половинчатые меры, ничего не меняю-
щие в существе российской действительности. Даже злодейское убий-
ство Александра II не вызвало среди разночинцев —нигилистов опа-
мятования. Конечно, не все из них приветствовали гибель государя.
Но сочувствие к убийцам было распространено широко. Несравненно
шире, чем страх за свою родину, которая действиями террористов
подталкивалась в пучину хаоса. В России как-то незаметно выросло
поколение, бесконечно требовательное к власти и совсем не отдающее
себе отчета в том, как тяжело ей приходиться, с какими неразреши-
мыми в ближайшей и более отдаленной перспективе противоречиями
она сталкивается. В самодержавии видели одно только препятствие
на пути прогресса и вовсе не замечали его устроительной деятельности.
Непримиримыми разночинцы остались к императору Александ-
ру II и его правлению именно потому, что разночинцам — нигилистам
нужна была Россия, созданная заново и по их собственному замыслу.
Революционные замыслы разночинцев —нигилистов не осуществи-
лись, но властителями дум нескольких поколений они были. Их
власть имела, однако, очень мало общего с русской культурой того
времени. Разночинцы были прежде всего идеологами и пропаганди-
стами. Поневоле их рупором становилась литературная критика.
В пределах критических статей текущих журналов они определяли
общественное мнение. Этих статей ждала как манны небесной и с во-
сторгом их прочитывала образованная публика.
Между тем настоящая культурная жизнь осуществлялась вовсе
не в трудах идеологов-шестидесятников и их наследников. Безна-
622
Культура Петербургской России
дежно проиграв разночинцам
в сфере идей и умонастроений,
в культуре по-прежнему определя-
ющую роль играли «лишние люди»
и прямые продолжатели дворян-
ской культуры. В 60-е и 70-егг.,
скажем, куда громче звучали име-
на Чернышевского, Добролюбова
и Писарева, чем Тургенева, Дос-
тоевского и Толстого. Между тем
слишком очевидно в данном слу-
чае, кто есть кто, за кем не просто
приоритет, а единственное право
представлять «золотой век» рус-
ской культуры.
Если в середине XIX в. с по-
явлением «лишнего человека» рус-
ская культура, так сказать, «от-
деляется от государства»,
отчуждается от государственной
жизни самодержавной России, то
Император Александр II начиная с 60 X годов стремитель
но идет процесс разделения идео-
логии и культуры. Господствующие идеологические течения уже не
отчуждены от государства, а непримиримо враждебны ему. Отчуж-
денность свойственна теперь скорее отношениям между идеологией
и культурой. Там же, где они встречались и перекрещивались, куль-
тура неизменно проигрывала. Удивительно, но почему-то на русской
почве революционно демократическая или разночинно-нигилисти-
ческая идеология более всего отразилась на живописи. В результате
она приобрела тематическую заданность и поучительность, далеко
уводившие ее от собственно живописных задач. В философской
мысли господствующие идеологические течения обнаруживали свое
влияние не содержательно —тематически, а скорее своими мысли-
тельными навыками и приемами. Идеология стремится прежде всего
убедить и привлечь на свою сторону, ей чужд настоящий пафос
истины, ее непредвзятые, последовательные и трудные поиски. Такие
особенности идеологии невольно заражали и делавшую свои первые
шаги русскую философию. Ее бесспорно крупнейший в XIX в. пред-
ставитель В. С. Соловьев, к примеру, рассуждал в своих сочинениях
о предметах достаточно далеких от злобы дня: об отвлеченном
и конкретно — целостном знании, о соотношении философии и хри-
стианского вероучения, о характере связи между Богом и человеком
и т. д. По существу же, он, как правило, оставался оперирующим
философским и богословским терминологическим аппаратом идеоло-
гом-публицистом .
Девятнадцатый век
623
Цареубийство 1 марта 1881 г.
Наверное, самых впечатляющих успехов идеологизация русского
общества достигла самим фактом появления у нас интеллигенции.
С конца XIX в. интеллигенцией в России стали называть представи-
телей ее образованного слоя: ученых, учителей, врачей, литераторов,
инженеров и т.д. Очень показательно, что несмотря на свои западные
корни, слово «интеллигенция» приобрело на русской почве свое
исключительно русское значение. Запад интеллигенции в нашем
смысле не знал или почти не знал. Потому именно, что у нас под
интеллигентом понимался вовсе не интеллектуал или человек с выс-
шим образованием как таковой. С принадлежностью к интеллиген
ции связывалась еще и так называемая идейность, наличие каких-то
возвышенных и при этом не имеющих отношения к религии убежде-
ний. Они обязательно должны были быть прогрессивными, устрем-
ленными в светлое будущее и в той или иной степени не приемлющи-
ми настоящее. Последнее подлежит преобразованию в соответствии
с убеждениями интеллигента. В такого рода преобразовании интел-
лигент обязательно ощущает себя избранником, солью своей земли.
Иногда он готов поклониться и народной правде, и опроститься в ее
духе так, как он его понимает.
Что напрочь исключено для интеллигента или по крайней мере
внутренне ему чуждо, так это поддержка государства и власти. Как
минимум он должен находиться в оппозиции к государству. Само-
624
Культура Петербургской России
державие и государственный аппарат для интеллигента более или
менее враждебны. Но он не укоренен и в повседневной общественной
и хозяйственной жизни, протекающей вне государства. Интеллигент
готов не столько строить, сколько перестраивать, а еще лучше про-
ектировать строительство. Поскольку подобное далеко не всегда
удается, то он воспринимает свое текущее существование как лишен-
ную настоящего смысла рутину, непреодолимую косность русской
жизни. Вплоть до культурной катастрофы 1917 г. интеллигенция
оставалась питательной средой и носителем революционной в своих
основаниях идеологии, сознавая себя наследницей разночинцев —
нигилистов 60-х гг.
Появление интеллигенции в России стало следствием ее сближе-
ния с Западом, вестернизации русской культуры и вместе с тем того,
что Россия так и не стала западной страной в том смысле, в каком
западными странами являются Англия, Франция, Германия или
Италия. Нерастворимость России в Западе можно трактовать как ее
отсталость, можно в этом видеть некоторую инаковость российской
западности по отношению к остальному Западу. В любом случае
определенная дистанция между Россией и Западом несомненна. Са-
мое же существенное для появления и существования интеллигенции
состоит в том, что несовпадение России и Запада обнаруживается
и внутри русской культуры: в ней есть собственно Запад и собствен-
но Россия. Ну, скажем, образование и наука не могли быть ничем
иным, как чисто западным явлением. Ни в гуманитарных, ни тем
более в точных и естественных науках русская школа и университет
ничего не могли предложить учащимся, кроме изучения тех же наук
и приобретения тех же знаний, что и на Западе. А вот отношения
между людьми, способ ведения хозяйства, государственное устройст-
во и т. д. в России существенно отличались от Западных. В учебных
заведениях у нас образовывали людей, как это только и возможно, на
западный лад, жизнь, однако, им приходилось выстраивать в стране,
слишком своеобразно западной и в то же время не создавшей образо-
вания в соответствии со своим своеобразием.
Такой разрыв делает массовым явлением отстраненность от собст-
венной страны, ее восприятие, в котором первенствует критика
и отрицание. У русского дворянства вплоть до появления «лишних
людей» получение западного образования уравновешивалось созна-
нием своей причастности стране в качестве некоторого деятельно
образующего и выражающего страну начала. Напомним разобран-
ный в предшествующей главе разговор между княгиней Дашковой
и князем Кауницем. В этом разговоре княгиня не просто демонстри-
рует свою неосведомленность касательно русской истории, для нее
в то же время органична аристократическая гордость за свою страну.
Как бы Дашкова не заблуждалась в критике или превознесении
России, отречение и отстраненность от нее для княгини невозможны.
Россия и она сама в сознании Дашковой совпадают. У нее едино
Девятнадцатый век
625
именно то, что для русского интеллигента, как он оформился в цар-
ствование Александра II, противопоставлено. Не то, чтобы он не
считал себя русским. Не просто считал, но и относился к себе как
к соли русской земли. Но интеллигент воспринимал себя не укоре-
ненным в жизни своей страны. Как образованный человек, он родом
из Запада, а может быть, и вообще ниоткуда. Главное, что интелли-
гент держал в уме — это то, что прошлое и настоящее России сами по
себе, а он — сам по себе, по отношению к ним обязательна дистанция
критически мыслящей личности. Если за что и отвечающей, так это
только за неспособность воплотить свои возвышенные идеалы в жизнь.
Воплощаемое же интеллигент своим признать не готов. Каждый раз
оно подлежит критике и отрицанию.
Если задаться вопросом о том, что для интеллигента было непри-
емлемо в русской жизни, то ответ на него удивительно прост —не
принимал интеллигент прежде всего саму Россию. И то, как сложи-
лась ее история, и то, к чему она привела в настоящем. С позиций
интеллигента история подлежит отмене или, что то же самое, такому
радикальному преобразованию, которое должно по существу разо-
рвать связи новой, чаемой России с ее прошлым. Отрицал интелли-
гент Россию в том виде, как она складывалась столетиями прежде
всего на основании критерия свободы. Для него собственная страна
оставалась страной тысячелетнего рабства, косности, предрассудков,
за которые прямую ответственность несет верховная власть. Настаи-
вая на свободе и неотрывной от нее демократии, интеллигенция,
разумеется, всецело опиралась на западный опыт государственной
и общественной жизни. Там она видела, по крайней мере, в тенден-
ции, реализацию приемлемого для себя строя жизни. Но было бы,
как минимум, излишней доверчивостью поверить интеллигенции на
слово в том, что ее одушевляет пафос свободы. Свобода может быть
и виделась ей как вожделенная цель и естественное состояние челове-
чества.
Но здесь дело еще и в том, каким образом предполагалось дости-
жение свободы, какие виделись для этого пути. Конечно, сохранение
в России самодержавия с позиций интеллигенции только и могло
выглядеть как историческое недоразумение. Конституционная власть
была гораздо ближе и приемлемей. Однако внутренний и очень
глубокий разрыв с властью делал для интеллигенции совершенно
неприемлемым какой-либо средний, умеренный, а главное, связан-
ный с историей страны путь осуществления своих чаяний. Интелли-
генция или отворачивалась от власти в глухом ее неприятии и мечта-
тельном устремлении в более светлое будущее или же придерживалась
самых радикальных, то есть революционаристских взглядов. В пер-
вом случае она отрясала прах от своих ног, культивировала в себе
такую близкую нам «свободу от», во втором же случае путь к свободе
виделся в насильственных, то есть прямо и откровенно отрицающих
свободу действиях.
626
Культура Петербургской России
Интеллигент-революционарист вовсе не против был позвать Русь
к топору в какой-то странной уверенности в том, что стихия народ-
ной вольницы обернется свободой. За уверенностью стояло такое
недовольство и ненависть к власти (а если пойти далее, то и к России,
к собственной жизни, может быть, и к самому себе), когда борьба
с ней становилась самоцелью, застилала собой вопрос о последую-
щем устроении жизни, реальных возможностях достижения того, что
представлялось должным. Интеллигенция выстроила для себя мир,
где для нее жизнь в свободе выглядела чем угодно, только не
произрастанием свободы из той жизни, которой она жила. На этом
сходились и либералы-мечтатели и революционаристы. И те и другие
были одинаково неспособны к устроению той России, которая сложи-
лась исторически. И тем и другим нужна была новая, небывалая
страна.
Однако при всей своей культивируемой в себе беспочвенности
интеллигенция все же была порождением русской жизни, по-своему
выражала русскую культуру. Все-таки несмотря ни на какую дистан-
цию по отношению к России, неприятие ее истории, интеллигенция
оставалась носительницей культуры. Но культуры в ее самоотчужде-
нии, разрыве и противопоставленности самой себе. Ведь интеллиген-
ция не пришла откуда-то извне в Россию. Ее появление — один из
итогов исторического развития страны. И итог этот в лице интелли-
генции оказался таковым, что Россия сама поставила себя под во-
прос. Точнее будет сказать, под вопросом оказались результаты
вхождения России в западное культурное сообщество. Это вхожде-
ние сделало Россию страной, существующей для себя самой, как бы
недовершенной или несостоявшейся. Так на нее смотрела интелли-
генция, тот слой населения страны, который в первую очередь
выражал собой историческое самосознание, формировавшее и так
называемое «общественное мнение», и самоощущение русского чело-
века.
Глава 7
Конец XIX—начало XX века
Словосочетанием «серебряный век» принято обозначать послед-
ний период культуры Петербургской России. Само по себе оно
указует на некоторую нисходящую ступень развития явления. Оче-
видно, что серебро —не золото, что оно менее драгоценный металл и,
соответственно, и серебряному веку культуры далеко до золотого.
Подобного рода логика применительно к русской культуре послед-
них 20—25 лет Петербургского периода, как минимум, нуждается
в корректировке. Конечно, достоинство классики, центральной эпо-
хи русской культуры XVIII — начала XX в. принадлежит «золотому
веку», но и у «серебряного века» были свои преимущества перед
предшественником. Во-первых, это преимущество большей утончен-
ности и изощренности. Русская культура шире и глубже осваивает
собственную и западную культурную традицию, свободно ощущает
себя в ней, ей становятся внятными новые, ранее недоступные
смыслы. Так, «серебряный век» вновь открывает для себя находив-
шуюся в пренебрежении и забвении у «золотого века» русскую
культуру XVIII в. Именно с подачи деятелей «серебряного века»
в кругозор образованного человека вошли творения таких больших
художников, как Рокотов, Левицкий и Боровиковский, перестал
быть только архаичным Державин, и т. д. Лишь с наступлением
«серебряного века» русской культуре начинает приоткрываться куль-
тура Киевской и Московской Руси. Их архитектура, иконопись,
прикладное искусство перестают быть чем-то неведомым и чуждым.
Другое преимущество «серебряного века» перед «золотым» состо-
ит в том, что он выразил себя полнее и разнообразней, чем его
предшественник, в различных областях культуры. Если вершина
«золотого века» — русская словесность, и прежде всего роман, тогда
как все остальное в русской культуре, как бы оно ни было значитель-
628
Культура Петербургской России
но, имеет почти исключительно национальное, а не всеевропейское
и всемирное значение, то применительно к «серебряному веку» прак-
тически невозможно отдать приоритет какой-нибудь одной сфере
в русской культуре. По-прежнему остается очень высоким уровень
художественной литературы, правда, теперь ее достижения имеют
отношение прежде всего к поэзии. Наряду с литературой бурный
расцвет переживает драматический и музыкальный театр. Русский
театр начала XX века —безусловно явление общеевропейского и об-
щемирового масштаба. Свою некоторую провинциальность преодоле-
вает изобразительное искусство, и в частности живопись.
В отличие от перечисленных и ряда других областей культуры
русская религиозно-философская мысль «серебряного века» не вы-
шла на европейский уровень. Она сохранила узко национальное
значение, так как ее связь с западной философской мыслью остава-
лась односторонней зависимостью русских мыслителей от своих
западных учителей. И все-таки в русской религиозно-философской
мысли в начале XX в. произошел качественный сдвиг и преобразова-
ние. Несмотря на продолжающееся западное влияние, она обрела
свою устойчивую тематическую направленность, внутри нее возникла
преемственность в разработке философских проблем. Иными слова-
ми, русская религиозно-философская мысль «серебряного века» при-
обрела ранее недостававшую ей способность развития на собствен-
ных основаниях.
Наконец, еще одно преимущество «серебряного века» состояло
в невиданной ранее в русской культуре интенсивности творческой
жизни. «Золотой век» при всех своих достоинствах отличался тем,
что в нем существовало очень резко выраженное несоответствие
между великими достижениями в данной области культуры и всем
остальным, создаваемым в ней. Скажем, в поэзии между произведе-
ниями Пушкина, Тютчева, Лермонтова, Баратынского, Фета и всем
остальным, созданным другими поэтами, — дистанция огромного раз-
мера. Если бы не перечисленные поэты, то ни о каком «золотом веке»
в русской поэзии заподозрить невозможно. Такого же разрыва между
«вершинами» и «средним уровнем» «серебряный век» не знал. Разу-
меется, и в нем далеко не все равноценно. Но обратившись к той же
поэзии с целью указать на ее «вершины», мы обнаружим, что их
гораздо больше, чем в «золотом веке». Среди них: А. Блок, А. Белый,
И. Анненский, В. Хлебников, В. Маяковский, Б. Пастернак, О. Ман-
дельштам, М. Цветаева, А. Ахматова, Ф. Сологуб. Я перечислил
десять крупнейших поэтов, понятно, что мой список приблизитель-
ный, менее всего претендующий на полноту. И не только потому, что
в него могут быть с приблизительно равным правом включены еще
и Г. Иванов или В. Ходасевич. Если мы даже и расширим его, все
равно «вершины» будут окружены поэтическим ландшафтом, не
многим и не резко уступающим им в высоте. Куда, например, —
к «вершинам» или к «среднему» уровню — отнести Н. Гумилева,
Конец XIX—начало XX века
629
В. Иванова, Э. Багрицкого, Н. За-
болоцкого, Н. Клюева, ит. д.?
Вряд ли на подобный вопрос
можно ответить однозначно. По-
тому именно, что поэзия, и далеко
не только поэзия «серебряного
века»,—это какой-то небывалый
взрыв творческой энергии, когда
творцы первого ряда настолько
многочисленны, что называть их
великими и гениальными не при-
ходится лишь потому, что эти эпи-
теты в принципе не допускают
широкого употребления, стираясь
и девальвируясь от него.
Необыкновенная и даже небы-
валая творческая продуктивность Философы
«СеребрянОГО века» Странным об- м в Нестеров, 1917
разом оставляла его бессильным
перед миром политики и идеологии. В этом отношении культура
Петербургского периода завершается в ситуации, прямо противопо-
ложной тому, что имело место в его начале. Весь XVIII в. русская
культура в той мере, в которой она стала новоевропейской, самым
тесным образом была связана с императорским двором и властью.
Вначале она насаждалась сверху, потом становилась все более орга-
ничной, но и в этом случае ни о какой ее автономии и, тем более,
отчужденности от государства не могло быть и речи. Теперь, к нача
лу XX в., русская культура приносит изобильные и разнообразные
плоды исходившей от самодержавия ее переориентации на Запад,
и в то же время она оказывается в положении пребывания в башне из
слоновой кости. Культура «серебряного века» чужда государствен-
ным интересам России, безразлична или враждебна к самодержавию,
заложившему ее отдаленные предпосылки.
Конечно же, речь идет вовсе не о каком-то отсутствии у деятелей
«серебряного века» русского патриотизма, озабоченности судьбой
России. Другое дело, что те, кто создавал «серебряный век», были
прямыми потомками и наследниками «лишних людей» николаевского
царствования. Теперь они вовсе не ощущали себя «лишними людь-
ми», скорее таковыми в их глазах выглядели государь и представите-
ли власти в Российской империи. На них смотрели как на некоторое
архаическое, не отвечающее духу времени явление. Но, с другой
стороны, как и когда-то настоящие «лишние люди», деятели «сереб-
ряного века» естественным и единственно возможным воспринимали
свое положение людей, от которых в историческом пути России
ничего не зависит. Своим творчеством они этот путь не определяли
и не осуществляли. Между тем, почва уходила у них из-под ног, так
630
Культура Петербургской России
же как и у российского имперского государства. Россия шла к рево-
люционной катастрофе, которую равно не могли предотвратить ни
культура «серебряного века», ни самодержавное государство. Пер-
спектива была за наследниками нигилистов-разночинцев с их навы-
ками политической борьбы и идеологической обработки широких
слоев общества.
Очень характерно, что первое поколение творцов «серебряного
века» называли декадентами. Декаданс —это упадок и упадничество
в культуре, ощущение надвигающегося ее конца. Такому ощущению
не чужды были и многие деятели «серебряного века», которые не
принадлежали к декадентам. Для них так или иначе было характерно
восприятие русской жизни как неподвластной никаким оформляю-
щим и устрояющим ее усилиям. Культура в этом случае превраща-
лась в глазах деятелей «серебряного века» в нечто уязвимое и эфе-
мерное, бессильное подчинить и растворить в себе жизненную стихию.
Опять-таки, перед нами ситуация, прямо противоположная первому
веку Петербургского периода. Тогда культура была уверенно созида-
тельна. Она посягнула на такое непомерное дело, как создание
Петербурга, города культуры по преимуществу. С наступлением
«серебряного века» в восприятии Петербурга резко преобладают
черты его нереальности и призрачности. Как будто подвергаются
сомнению итоги двух столетий преобразующих природу усилий куль-
туры. На них смотрят как на не окончательные и подлежащие отмене
какой-то невнятной и страшной силой.
Начинался «серебряный век» в самом конце XIX столетия резкой
переориентацией русской культуры. Это не был прямой переход от
«золота» классицизма к «серебру» последующего периода. Нужно
отдавать себе отчет в том, что к концу XIX в. заканчивается деятель-
ность почти всех крупнейших представителей «золотого века». Так,
в литературе исключение составляет А. П. Чехов. Такая же вершина
русской литературы, как Л. Н. Толстой, к концу века отходит от
собственно литературного творчества или же создает произведения,
позволяющие заподозрить, что он пережил себя. Ситуацию в культу-
ре конца XIX века определяли величины второго и третьего ряда.
В их творчестве были явственно ощутимы черты упадка и разложе-
ния того, что составило славу «золотого века».
Очень сильно сказывалась в русской культуре идущая от разно-
чинцев-шестидесятников идеологизация культуры, от нее требова-
лось служение общественной пользе, насущным социальным вопро-
сам. По-прежнему тон в культуре задавала литературная критика,
которая в строгом смысле слова вовсе не была литературной. Начи-
ная еще с В. Г. Белинского и далее в лице Н. А. Добролюбова,
Н. Г. Чернышевского, Д. И. Писарева, она не столько разбирала
и оценивала художественные произведения, сколько на материале
текущей литературы занималась общественными вопросами, была
явлением скорее общественной мысли, чем литературного процесса.
Конец XIX—начало XX века
631
В 60-е гг. литературная критика
в условиях, пускай и ослабленной,
но цензуры, умудрялась стоять на
позициях революционного непри-
ятия действительности. К концу
века революционаризм сменила
более умеренная вера в прогресс
и призывы к совершенствованию
общественного устроения. Одна-
ко в русской культуре сполна про-
должало сказываться воздействие
на нее идеологии, или, в термино-
логии той эпохи, «идейности».
Вообще говоря, в секулярной
культуре обязательно должны
присутствовать интеллектуальный
и художественный пласты. И если
последний из них представляет
искусство, то первый в высшем
его выражении есть философия.
В России же, стране, не имевшей
на протяжении столетий философ-
ской традиции, не создавшей ее Арлекин и смерть
и за два века Петербургского пе- к. д. Сомов, 1901
риода, философия с 30-х годов
XIX в. была замещена литературной критикой, по существу же —
насквозь идеологизированной общественной мыслью. Литературная
критика живет интересами дня, она вся в борьбе партий и течений.
В результате ей, в принципе, по возможностям осмысление явлений,
имеющее значение только для современников. Строго говоря, оно
является не столько мыслью, сколько умонастроением, исчезающим
вместе с породившей его злобой дня. Самый талантливый из русских
литературных критиков — Белинский еще имел достаточное чутье,
чтобы отдать должное некоторым из великих писателей «золотого
века». Его преемники, даже восхвалявшие классиков «золотого века»,
слишком часто действовали подобно М. Е. Салтыкову-Щедрину.
У него после разбора крупнейшего из русских романов —«Войны
и мира», только и нашлось похвалы Л. Н. Толстому в таких словах:
«А вот так называемое высшее общество граф лихо прохватил».
Слишком очевидно, что подобные похвалы ничем не лучше, а скорее
всего, и опаснее любой хулы. Они нивелируют великие творения до
уровня интересов дня, очень наглядно демонстрируя этим полное
несоответствие интеллектуальной и художественной составляющих
культуры, то, до такой степени первая из них уступает второй.
Отмеченное противоречие в русской культуре к концу XIX в.,
в частности, выражалось в том, что она создавалась как бы в неведе-
632
Культура Петербургской России
нии о себе. Совершенно неясными оставались масштабы скажем,
Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского. Почитаешь разборы их сочине-
ний критиками от Д. И. Писарева до Н. К. Михайловского, и окажет-
ся, что это крупные художники, но мало ли их в русской литературе.
И уже совсем не возникнет подозрения о том, что если у немцев есть
И.-В. Гете, у англичан —В. Шекспир, а у итальянцев — Данте Алигье-
ри, то у русских —Толстой и Достоевский. Все здесь ставит на свои
места только «серебряный век». И в первую очередь за счет того, что
его представители пытались не идеологизировать по поводу произве-
дений Толстого и Достоевского, а быть в отношении к ним филосо-
фичными. Не увидеть в них злобу дня с его заботами и увлечениями,
а ввести великих художников во всемирно-исторический контекст.
Чтобы ощутить всю огромную разницу между «серебряным веком»
и предшествующим ему периодом, достаточно обратиться к книгам
В. В. Розанова «Легенда о Ввеликом инквизиторе Ф. М. Достоевского»
и Д. С. Мережковского «Л. Толстой и Достоевский». В них следа не
осталось от журнальной полемики по текущим вопросам. Но зато
появилось ранее немыслимое рассмотрение религиозных исканий
двух великих художников в качестве важнейшего момента литера-
турного творчества. К книгам Розанова и Мережковского предъявля-
лось множество претензий по части их философичности, глубины
и последовательности мысли. Несомненным остается одно: с литера-
турной критикой, а значит и с идеологией разночинцев-нигилистов,
определявших собой интеллектуальную составляющую русской куль-
туры, было покончено. В этом прямая заслуга «серебряного века».
Правда, у этой заслуги есть и своя оборотная сторона. На смену
утилитарному и общественному духу разночинцев — нигилистов у их
последователей в русской культуре вовсе не пришел глубокий и вме-
сте с тем трезвый интеллектуализм, выражающий себя в науке
и философии. Плоское и внутренне страшно бедное мировоззрение
шестидесятников, в своей основе сохранившееся в качестве гос-
подствующего вплоть до «серебряного века», сменилось с его наступ-
лением неопределенно-мистическим умонастроением. Теперь преоб-
ладали религиозные искания вне обретения Бога, увлечение
оккультизмом, попытки подойти к художественному творчеству как
мистическому действию и т. п. В целом для «серебряного века»
характерно понимание ограниченности и тупиков секулярной культу-
ры. Он жаждал обновления на религиозной почве. В этом отношении
русский «серебряный век» обнаруживает существенное сходство со
своим отдаленным предшественником —романтизмом. Точно так же,
как некогда романтики, творцы «серебряного века» были устремлены
к Богу, предварительно потеряв всякую живую связь с Ним. Они
в очередной раз стремились обрести Бога, при этом не понимая,
какие пути для этого приемлемы, а какие заказаны. Практически все
крупные художники и мыслители той эпохи подписались бы под
словами одного из своих видных представителей Л. Шестова, кото-
Конец XIX—начало XX века
633
рыми он заключил одну из своих книг: «Нужно искать Бога». Но для
очень немногих из них поиск привел к обретению.
Вслед за романтиками деятели «серебряного века» были завороже-
ны тем таинственным, «неясным и нерешенным», что им преподноси-
ла жизнь. Таинственное даже специально культивировалось и форси-
ровалось. Оно влекло как таковое, при этом было не так уж важно,
видели в нем божественное или демоническое. Метафора «серебря-
ный век» применительно к культуре конца XIX—начала XX в. удачна
еще в том отношении, что он легко ассоциируется с лунным светом.
Ведь он серебряный в отличие от золотого солнечного света. Правда,
«золотой век» рано обнаружил себя не только утренним или полуден-
но-солнечным, но и вечерним или предвечерним светом заходящего
солнца. И все-таки солнечный свет отличается от лунного своей
первичностью. Последний по своей природе еще и отраженный.
В отношении «серебряного века» его отраженность —это характери-
стика ему не в укор.
Именно с «серебряного века» русская культура обретает ранее
недостовавшее ей ощущение своего преемства с ушедшей эпохой. На
самом деле это совершенно необходимо для культуры, чтобы у ее
творцов присутствовала живая связь с предшественниками, чтобы
они ощущали себя продолжателями их дела. Нечто подобное состоя-
лось в «серебряном веке» и не могло состояться ранее. Скажем, для
«золотого века» обращение к XVIII в. сталкивало его с неоформлен
ностью и брожением еще только пытающейся обрести себя русской
новоевропейской культуры. Ученические попытки XVIII в. в словес-
ности, философской мысли, научных изысканиях XIX в. восприни-
мал с иронией. Она могла быть мягкой и снисходительной, могла
отдавать сарказмом. Что было исключено, так это почтение к деяте-
лям XVIII в. как классикам собственной культуры, их воспринимали
скорее как детей, себя же —взрослыми мужами культуры.
«Серебряный век» меняет ситуацию на противоположную. Теперь
«дети» — именно его представители, «взрослые» же остались в «золо-
том веке». Ну, кто, например, из великих поэтов «серебряного века»
дерзнул бы поставить себя рядом с А. С. Пушкиным? В этом был бы
свой аналог святотатства. Это было бы, как минимум, смешное
и жалкое кокетство, если употреблять более умеренный лексикон.
Когда М. И. Цветаева, говоря о Пушкине, восклицала: «Дружескую
руку жму, а не лижу», в этих ее словах было дерзновение, от
которого у нее не могло не захватывать дух. Да, рукопожатием
Цветаева уравнивала себя с Пушкиным. Но уравнивание здесь имело
свои пределы. О себе и Пушкине в том же стихотворении она
сказала: «Прадеду товарка». Так все—таки прадеду, а не только
товарка, не только равенство, но и почитание. Прадед у истоков,
с ним в любом уравнивании сравняться нельзя. Он прародитель, ему
ты обязана своим поэтическим творчеством, но никак не наоборот.
Подобного рода соотнесенность и есть настоящее преемство в культуре.
634
Культура Петербургской России
В нем уживается и сознание того, что классика культуры есть
недосягаемая вершина и стремление к собственному творчеству. Для
любого большого поэта «серебряного века», если уж продолжать
черпать примеры из поэзии, в пушкинском творчестве раз и навсегда
воплотилось нечто более никогда недостижимое. Но оно не только не
обессмысливает последующие творческие усилия, но и призывает
к ним, инициирует их. Пушкин вдохновляет на поэтические создания
последующих поэтов. В этом их отраженная «серебрянность», а вовсе
не в каком-то подражании и эпигонстве.
Еще одна примечательная черта культуры «серебряного века»
состоит в стремительности его развития. XX в. привык смотреть на
динамизм исключительно позитивно. «Время, вперед!» —по существу
сказано не только о натужном порыве первых советских пятилеток,
но и обо всем XX веке. Что же касается века «серебряного», то сама
по себе его динамика не так уж разительно отличает его от «золотого
века». Н. Я. Эйдельман в свое время обратил внимание на то порази-
тельное обстоятельство, что Пушкин,—безусловно великое имя на-
шей культурной классики Петербургского периода, родился в 1799 г.,
а замыкающий ее Л. Н. Толстой —в 1828 г. Они могли быть детьми
одной матери, замечает Эйдельман. Немножко грустно становится от
такого замечания, уж очень недолгим оказался наш «золотой век».
Ну, а «серебряный», тот проскочил с еще более стремительной
скоростью. Конечно, в известном смысле он длился, пока живы были
его великие представители. Поэтому если, скажем, А. А. Ахматова
умерла в 60-е гг., то до них дожил и «серебряный век». Однако как
целое, как доминирующее культурное движение эпохи, он был столь
недолог, что его пережило большинство творцов «серебряного века»
и многие очень надолго пережили.
Конечно, он был прерван грубой внешней силой всероссийской
смуты. Однако, если мы обратимся к самым ярким и значимым
проявлениям культуры «серебряного века» —поэзии, живописи, теат-
ру, философской мысли,—то окажется, что в них ведущие течения,
творческие направления сменяли друг друга с удивительной стреми-
тельностью. Казалось бы, начинавшие «серебряный век» символисты
должны были сойти со сцены прежде, чем их сменит следующее
направление. Так, скажем, в свое время поэтов — романтиков смени-
ли реалисты. Однако шумно и резко заявившая о себе, нашедшая
множество приверженцев группа акмеистов перехватила поэтическую
инициативу у символистов еще тогда, когда многие из последних
были совсем молоды. Но и акмеисты всего несколько лет удержались
в «передовых» поэтах, их очень быстро потеснили футуристы. Так
что такой, например, старший символист, каким был В. Я. Брюсов
к 1917 г., будучи еще далеко не старым человеком, невольно воспри-
нимался современниками едва ли не как патриарх русской поэзии.
Очень сходным было положение в русской живописи. Трудно было
ожидать, что возникшее на рубеже столетий объединение «Мир
Конец XIX—начало XX века
635
искусства» к тому же 1917 г. будет казаться разве что не глубокой
архаикой. Такая стремительность самоосуществления культуры «се-
ребряного века» уже сама по себе говорит о его неустойчивости, об
очень кратких отмеренных ему сроках. Только нараставшее внутрен-
нее беспокойство, ничем не удовлетворимое, могло привести к тем
судорожным поискам и метаниям, которые составили динамику «се-
ребряного века».
Когда говорится о «серебряном веке», то имеется в виду домини-
рующая тенденция в русской культуре конца XIX—начала XX в.
Точнее, даже то в ней, что было наиболее значимо, что представляло
культуру по преимуществу. Однако как целое, этот период к «сереб-
ряному веку» несводим. В его продолжение русская культура знала
и совсем другие тенденции и явления. И здесь в первую очередь
должно быть отмечено стремительное разложение крестьянской куль-
туры. Вместе с петровскими реформами она перестает быть резко
преобладающей реальностью русской жизни, которой так или иначе
причастны все сословия. Вплоть до реформы 1861 г. крестьянская
культура образует низовой слой русской культуры в целом. Она
существует как бы параллельно с «высшей» дворянской культурой,
почти не испытывая воздействия последней. Какие-то элементы раз-
ложения крестьянской культуры налицо еще и до отмены крепостни-
чества. Но пока это процесс в значительной степени подспудный.
Вместе с реформой 1861 г. кризис культуры крестьянства выходит
наружу. Заметный элемент крестьянства пополняет собой ряды го-
родского пролетариата, класса, по самому своему существу лишенно-
го собственной культуры. С другой стороны, существеннные измене-
ния состоят в том, что крестьяне постепенно перестали жить своим
замкнутым миром—общинами. Столетиями эти общины существова-
ли сами по себе, в огромной степени вне исторического времени. Они
были надежной, незыблемой основой русской государственности
и самодержавия, сами практически никак не причастные государст-
венной жизни Московского царства, а затем Российской империи.
К концу XIX — началу XX вв. крестьянство оказывается на
перепутье. Ему предстоит или трансформироваться в слой хозяев —
работников — буржуа и, соответственно, пролетариев — наемных ра-
ботников у тех же буржуа, или же встать в непримиримо-враждебные
отношения к дворянству, нарождающейся буржуазии и той «высо-
кой» культуре, которая с ними связана. Последняя перспектива
осуществлялась крестьянством и ранее, но как бунты пугачевых
и разиных. Бунт по своей сути—дело чисто разрушительное, слепое
и стихийное. Теперь же вопрос встает не о бунте, а о революции.
И конечно же, не за счет каких-то новых внутренних ресурсов
крестьянства. В революцию, то есть действия программные, органи-
зованные, хотя бы относительно последовательные, крестьянство
толкали наследники разночинцев-нигилистов 60-х гг. XIX в. Самый
зловещий и успешно-деятельный из этих наследников, революцион-
636
Культура Петербургской России
ный лидер, сформировавшийся и развернувшийся как раз в период
«серебряного века», как-то сказал по поводу романа «главного»
шестидесятника Н. Г. Чернышевского «Что делать?», что он его всего
перепахал. В ленинской фразе очень точно отражено существо дела.
Возникшие на рубеже столетий радикальные и экстремистские рево-
люционные течения и организации не могли бы состояться, не будь
они наследниками предшествующих поколений. Теперь, однако, поч-
ва для их радикального нигилизма сильно изменилась. Своему не-
приятию самодержавия, русской государственности, истории и куль-
туры наследники разночинцев-нигилистов могли найти поддержку
у крестьянства и тем превратить всегда подспудно тлеющие уголья
крестьянского бунта в пламя революции.
Не в том дело, что ходом событий на рубеже столетий было
фатально предопределено радикальное отвержение крестьянством
государственного строя России и культуры «серебряного века». Дво-
рянская культура всегда оставалась чуждой крестьянству, с государ-
ством же оно по-прежнему, как и в допетровской Руси, было связано
патриархально через фигуру царя-батюшки. Такая связь была впол-
не органична для дореформенного крестьянства с его общинным
укладом. Теперь же по мере разложения общины и в перспективе
обуржуазивания или пролетаризации крестьянство оказывалось в си-
туации внутренней растерянности. Будучи основной массой населе-
ния России, оно находилось в чуждом ему мире российской государ-
ственности и русской культуры.
Преодоление отчуждения и растерянности, врастание в новые для
себя реалии —процесс трудный и сам по себе. Но его трудности стали
непреодолимыми ввиду того, что в крестьянстве, и в огромном своем
большинстве недавно вышедшем из крестьянства пролетариате, на-
шли себе опору разрушительно — нигилистические устремления рево-
люционной интеллигенции. Когда-то в 70—80-е гг. она безуспешно
ходила в народ и звала Русь к топору. Теперь, в начале XX в.
призывы революционеров начали находить поддержку. Так, револю-
ционная пропаганда делала акцент на том, что крестьянство неизбыв-
но страдает от помещичьего землевладения, а пролетариат —от безу-
держной эксплуатации буржуазии. Этим формировалась или
поощрялась классовая ненависть. И совершенно опускалось то об-
стоятельство, что полная экспроприация помещичьих имений или
частных заводов и фабрик и перераспределение их доходов среди
бедных и неимущих существенно их положение не поправило бы.
К тому же то же помещичье землевладение в России и так стреми-
тельно сокращалось. Если бы не революция 1917 г., оно все равно
просуществовало бы очень недолго в качестве значимой реальности
сельскохозяйственного производства.
В действительности революционную интеллигенцию, пролетариат
и крестьянство интересовали очень разные вещи. Первая вполне
нигилистически стремилась начать русскую историю и культуру
Конец XIX—начало XX века
637
с чистого листа. Крестьянству грезилось свое крестьянское царство
с изобилием земли, сытой и устроенной жизнью. Пролетариат, как
и интеллигенцию, с прошлым и настоящим России ничто не связыва-
ло, поэтому нигилистическая пропаганда интеллигенции легко стано-
вилась собственными словами и лозунгами пролетариев. В результате
же встреча трех разнородных сил и слоев русского общества и приве-
ла к тому революционному взрыву, который стремительно покончил
и с «серебряным веком», и с Петербургским периодом русской
истории и культуры в целом. Противостоять ему деятели «серебряно-
го века» не могли еще и потому, что самый культурный слой
населения России оставался по-прежнему очень тонким, несмотря на
расширение по сравнению с XIX в. Да, теперь доля образованных
людей в населении России заметно возросла.
Но одновременно ситуация осложнилась в том отношении, что
носитель культуры «золотого века» —дворянство —переживало свое
разложение в качестве устойчивого социального слоя и сословия.
Дворянство становилось не более, чем фактом происхождения, не
подкрепляясь ни наличием состояния, ни тем более государственной
(прежде всего военной) службой. Не возникло в России и буржуазии
как многочисленного слоя населения со своей буржуазной культу-
рой, хотя бы своими буржуазными акцентами в общей для нее
с дворянством «высокой» культуре.
Поэтому «серебряный век» создавали духовные наследники «золо-
того века», связанные с ним тысячами нитей. Но у этих наследников
недоставало твердой почвы под ногами еще более, чем у их предшест-
венников. У последних по крайней мере были свои «дворянские
гнезда», было ощущение себя помещиком —барином, вольно устроив-
шимся на родной земле, хотя и лишним для российского государства.
Представители «серебряного века» уже не знают ничего подобного.
За ними не стояло устойчивого быта, тем более ощущения принад-
лежности к определенному сословию или слою населения, реально
определяющему жизнь страны. Они представляли главным образом
самих себя, что и делало деятелей «серебряного века» беспомощными
перед напористой активностью революционеров-нигилистов, настой-
чиво и небезуспешно искавших опору в пролетариате и крестьянстве.
Петербургский период русской истории и культуры завершился
крушением и катастрофой при сильном влиянии внешних обстоя-
тельств. Попросту говоря, Петербургская императорская Россия не
выдержала доселе невиданных и никак не предвиденных испытаний
Первой мировой войны. Но дело здесь не просто в том, что они
оказались непомерно тяжелыми, что страна была не готова к войне
нового типа. В войне обнаружили свою несостоятельность все основ-
ные слои русского общества, весь строй русской жизни. Наиболее
очевиден, многократно зафиксирован и обличен провал имперской
власти, еще совсем недавно самодержавного, в канун же войны
частично модернизированного государственного механизма.
638
Культура Петербургской России
И в самом деле, император и ответственные перед ним высшие
администраторы не сумели создать соответствующую новому харак-
теру войны техническую базу, вовремя и в достаточных масштабах
модернизировать вооруженные силы. Зато монархическая власть
легко и охотно мирилась с невероятной раздутостью по большей
части совершенно небоеспособного генералитета. К первой мировой
войне в русской армии давно уже было принято служить и дослужи-
ваться до соответствующих чинов едва ли не самим фактом пребыва-
ния в армии или на флоте. Рутинное исполнение своих обязанностей
и течение времени делали свое дело в отношении тех, кто успешно
продвигался по службе. На ней нужно было прежде всего представи-
тельствовать и тянуть лямку, и все образовывалось (или не образовы-
валось) само собой. Империя была данностью, которая предъявляла
себя как таковая, утверждалась в качестве реальности незыблемой
и само собой разумеющейся. Такова была и ее армия. Она выражала
собой имперское величие не столько в готовности его защищать и тем
более заявлять в новых деяниях и претензиях, сколько демонстраци-
ей самого своего существования через парады, смотры, учения,
каждодневное возобновление строевой подготовки.
Между тем Первая мировая война, во всяком случае, для России,
Франции, Германии и Австрии стала страшным испытанием на проч-
ность не только армии и государства, но и готовности народа подчи-
нить всю свою жизнь нуждам длительной и разрушительной войны.
Это испытание Россия выдержала гораздо менее, чем другие великие
державы. Не справилось с ситуацией не только военное командова-
ние и верхушка государственного аппарата, но прежде всего основ-
ной слой населения Российской империи —крестьянство. На протя-
жении XVIII и XIX вв. из русского крестьянина выходил прекрасный
солдат, в целом не уступавший своими боевыми качествами никому
в Европе. Это обстоятельство тем более примечательно, что русское
крестьянство жило гораздо более архаичной жизнью, чем его запад-
ные собратья. Заскорузлость общинной жизни русского крестьянина
выглядела глубокой архаикой на фоне остальной Европы. И тем не
менее, став рекрутом, а затем солдатом, русский крестьянин быстро
набирал очки в качестве первоклассного воина.
Так продолжалось до начала XX в., пока первая мировая война
в корне не изменила ситуации. Уже русско-японская война обнару-
жила непростительные по европейским меркам слабости русской
армии. Однако пока они оставались слабостями высшего командова-
ния, технической оснащенности, организации тыла и снабжения,
и т. д. Русский же солдат в войне с Японией ничем себя не запятнал.
Иное дело последующая война. Она привела в действие реальности,
к которым как будто полвека готовились — всеобщую мобилизацию
в армию мужского населения империи. Все еще по преимуществу
крестьянская страна столкнулась с ситуацией уже не рекрутирования
из крестьян воинского сословия, а необходимостью воевать силами
Конец XIX начало XX века
639
Император Николай II с иконой Христа Спасителя перед солдатами 148-го пехотного
Каспийского полка
Фотография К. Буллы, 1905
проходившего военную подготовку крестьянства. Русская армия 1914—
1917 гг. как раз и продемонстрировала, что ситуация всеобщей воин-
ской мобилизации плохо сочетается с крестьянским характером стра-
ны. Крестьяне, которые годами находятся в окопах, оказались очень
подходящей мишенью для разлагавших армию революционеров-про-
пагандистов. По-своему тот факт, что в 1917 г. русская армия сня-
лась с занимаемых позиций и разбежалась по своим городам, глав-
ным же образом, селам, чудовищен. Армия страны отказалась
защищать себя от грозного внешнего врага. Такого, например, не
было в также проигравшей вторую мировую войну Германии. Здесь
ситуацию взорвал тыл. Гражданское население отказалось терпеть
далее все возраставшие тяготы безнадежной для страны войны, тогда
когда армия продолжала упорно сражаться с противником.
Вряд ли русские крестьяне, оставившие в 1917 г. фронт, заслужи-
вают упреков в измене Родине и позорной капитуляции перед вра-
гом. Коррективу в ситуацию вносит то очевидное обстоятельство, что
продолжительная окопная война не для крестьянина. Его дело выста-
вить из своей среды рекрутов для воинской службы, выделить из
себя основную часть воинского сословия. Быть воином-земледель
цем —такое вовсе не для крестьянина. Когда-то таковыми были его
предки, жившие в Киевской Руси. Крестьянин же по своему сущест-
ву человек мирный, прикрепленный к своей земле и от нее всецело
зависимый. Оторвать крестьянина от земли и посадить его в око
пы, — такое возможно было только на относительно непродолжитель-
640
Культура Петербургской России
Русские солдаты в Первую мировую войну
Фото Г. 3. Фрида, 1915—917 гг.
ное время, во всяком случае, не на годы. Крестьянин вовсе не такой
человек, который готов сам отвечать за себя и свою страну. У него
всегда есть господа, начиная от своего помещика и заканчивая царем.
В 1914—1917 гг. от крестьян требовали войны до победного конца,
требовали самому любой ценой защитить свое Отечество. Тогда как
в очень существенном отношении крестьяне сами нуждаются в защи-
те господ, для этого они выделяют из своей среды руководимых
господами-офицерами и генералами солдат. Земледелец же, который
является еще и воином —это уже из реалий докрестьянской полупер-
вобытности или же античной полисной жизни.
Кстати говоря, у античного полисного человека, воина-земледель-
ца, есть и другое именование —гражданин. И действительно, быть
гражданином в подлинном и глубоком смысле слова и означало быть
не только крестьянином, ремесленником, торговцем, землевладель-
цем, но обязательно еще и воином. На свой лад гражданином стал
и новоевропейский человек в XIX в. Совсем не случайно при этом
становление гражданственности земледельцев, ремесленников, тор-
говцев совпало с введением всеобщей воинской повинности. Гражда-
нин—суверенная личность, суверенитет государства и его должност-
ных лиц производен от суверенитета гражданина. И очень важно, что
суверенность личности находила свое выражение еще и в исполнении
своего воинского долга. Тот, кто еще и воин, служит в этом качестве
Конец XIX —начало XX века
641
или воюет, тот не может не ощущать себя исполняющим свой граж-
данский долг.
Мы привычно разделяем людей на военных и гражданских. Фо-
кус, однако, в том, что гражданский человек в Европе большей части
XIX и XX вв. отличался от военного не вообще, а как потенциальный
воин от актуализированного. Такое сходство — различие вполне чуж-
до крестьянству. Крестьяне еще могут и готовы составить ополчение,
но не массовую армию новоевропейского образца. Ополчение допол-
няет армию, выглядывает из-за ее спины. В первой же мировой войне
крестьяне и стали армией. Тем самым от них потребовали непомерно-
го и неподъемного. Потребовали того, что можно требовать от граж-
дан государства, но не от подданных царя. Граждане воюют, не
чуждые сознания того, что они и есть государство, что война их дело,
за которое они отвечают. Крестьян же на войну посылают господа,
которым самим пристало защищать крестьян. Этого момента из них
ничем не вытравишь. В нашем же случае ситуация усугублялась тем,
что к крестьянам в солдатских шинелях были обращены речи рево-
люционеров-пропагандистов, настаивавших на отречении от войны
как чуждого, господского дела. Наверное, не будь пропагандистской
работы в армии, она бы не разбежалась так легко и стремительно. Но
реальность такова, что антивоенная, пораженческая пропаганда упа
ла на хорошо подготовленную почву. Солдаты услышали от пропа-
гандистов -пораженцев то, что готовы были и хотели услышать и что
оставалось чуждым немецким и, в особенности, французским солдатам.
В крушении императорской России, происшедшем в ходе первой
мировой войны, помимо всех причин, предпосылок, ведших к ее
падению, обнаружила себя несостоятельность крестьянского в своей
основе царства, увенчанного фигурой царя-отца своего народа. Рос-
сия в качестве крестьянской по преимуществу страны и империи
дожила до 1914 г., когда ее существование стало анахронизмом. Этот
анахронизм стремительно преодолевался индустриализацией и пре-
вращением части крестьянства в русское подобие фермеров — реалия-
ми, которые, не случись мировой войны, трансформировали бы
русское крестьянство по западному образцу; точно так же не за
горами было время, когда от самодержавия остались бы внешние
атрибуты и декор традиции. При этом, однако, я не готов утвер-
ждать, что война не дала России успешно стать вровень с другими
западными странами. Вроде бы дело обстояло именно так, а не
иначе.
Но с другой стороны, через петровские реформы Россия не просто
вошла в западное культурное сообщество. Для нее необходимой
стала жизнь в ритмах и темпах Запада. Когда в 1812 г. Наполеон
вторгся в Россию, она смогла быть вровень Западу. При ее ре-
шающем участии Запад восстановил свои устойчивые структуры
взаимосоотнесенности европейских стран, была преодолена дест-
руктивность навязывавшегося Наполеоном нового европейского
642
Культура Петербургской России
порядка. Россия здесь действовала строго по западным правилам
игры, усвоив их глубоко и органично. Но эти же правила игры
в 1914 г. потребовали от России боеспособности на уровне затяжной
и изнурительной окопной войны. Следование этим правилам Россия
не выдержала, тем обнаружив далеко не только и не просто свое
отставание от Запада. В своем следовании за ним русские люди все
более ощущали неуверенность и растерянность. Отмечалось, что она
была сполна присуща «культурной элите» —ведущим деятелям «се-
ребряного века».
К сказанному остается добавить еще и констатацию той же самой
неуверенности и растерянности монархии, того, что применительно
к своей истории до 1789 г. французы называли старым режимом.
Наш «старый режим» —лишь слегка скорректированное после рево-
люции 1905—1907 гг. самодержавие — проявлял свою растерянность
в полной неспособности добром, исходя из внутреннего импульса
трансформироваться в более адекватные для начала XX века власт-
ные структуры. Она, эта неспособность выражалась в стремлении
сохранения неизменным существующего государственного строя. Не
то, чтобы в нем государем и его окружением все принималось как
наилучшее из возможного. Затруднение вызывал вопрос о том, как
и что менять. Все слишком уж устоялось, сцеплено и спаяно, изме-
нишь одно, посыплется все остальное. Такое умонастроение сполна
проявилось уже в царствование Николая I. Его сын и преемник
Александр II все же рискнул на великую крестьянскую и другие
реформы. Далее все изменения в государственном строе виделись,
да и были, еще более рискованными. Внутренних ресурсов для их
проведения преемники Александра II и их окружение в себе не
находили, этим невольно подыгрывая революционно-нигилистиче-
ской интеллигенции.
Как никто другой ей, однако, подыграло русское крестьянство,
почти поголовно одетое в шинели. В первой мировой войне настала
очередь крестьянской растерянности. Самодержавие, приведшее кре-
стьян в окопы мировой войны, переставало быть для крестьян той
традиционной, незыблемой, хотя и жесткой и жестокой, но охрани-
тельной силой. Крестьянам предлагалась, пускай поневоле, защи-
щать себя самим. Но зачем тогда самодержавие с его царем-императо-
ром, не мог не возникать в крестьянской голове, хотя бы подспудно,
вопрос. Императорская власть вытолкнула в гражданственность кре-
стьянскую массу. Граждан из крестьян не получилось, но от своего
царя они отшатнулись и отдали его на поругание. Однако и самодер-
жавие, в свою очередь, несет свою долю вины перед крестьянами.
Русский царь прежде всего крестьянский царь, и не ему было
доводить ситуацию до превращения крестьян в окопных солдат. Он
взвалил на них тяжесть непомерную и вовсе не только в смысле
физических тягот войны, но и в смысле неразрешимого душевного
напряжения, ведущего к дезориентации и растерянности.
Конец XIX—начало XX века
643
Здесь перед нами замкнутый круг крестьянского царства, каким
Россия все еще оставалась в своей народной толще, несмотря ни на
какую вестернизацию, взаимная вина царя перед своим крестьянским
народом и народа перед царем. Царя свергли и убили при попущении
народа, но и царь ничего не смог сделать со своим крестьянским
царством такого, чтобы ему по силам оказались испытания мировой
войны. Сегодня очень странно читать о том, что начиналась она,
и совсем не безосновательно, как Отечественная, таковой и остава-
лась до 1917 г. Кто сейчас об этом вспоминает? И нет у нас основа-
ний для такой памяти. Гражданская война обернулась небывало
отвратительной службой революции и Гражданской войне. Отечество
русские люди защищать долго не стали, а вместо этого устроили
длительную резню между собой. Не сумев сделать для себя войну
1914—1917 гг. Отечественной, Россия подписала себе, если и не
прямо смертный приговор, то пребывание вначале в сумасшедшем
доме Гражданской войны, а потом и в тюрьме большевистского
режима.
Часть IV
Русская культура
в XX веке
Глава 1
Культурная катастрофа
Естественное развитие русской культуры Петербургского перио-
да, и в частности, его «серебряный век», были насильственно прерва-
ны большевистским переворотом 1917 г. и последующими события-
ми. Очевидно, между тем, что эпоха в культуре, тем более такой
продолжительности, как Петербургский период, не может прекра-
титься резко и внезапно в течение недель, месяцев и даже лет.
Каждая из эпох медленно вызревает в недрах предшествующей и так
же постепенно завершается в пределах уже другой эпохи или, как
в нашем случае, в пределах наступающего исторического и культур-
ного безвременья. Что касается Петербургского периода и «серебря-
ного века», то последние его выдающиеся представители дожили до
60-х и даже 70-х гг. XX в. В 20-х гг. «серебряный век» был еще
ощутим в культуре, продолжавшей свое существование в Советском
Союзе. И все-таки это была остаточная жизнь —доживание культуры
Петербургской России. Петербургская Россия к этому времени за-
кончилась и наступили другие времена.
В 20-е гг. многие русские мыслители пытались понять, что же за
эпоха началась в России после Октябрьского переворота и Граждан-
ской войны. Наиболее влиятельной была точка зрения, согласно
которой большевистская Россия поворачивала к Востоку. Период
сближения с Западом закончился, страна потеряла значительные
территории в Европе, вернула свою столицу из Петербурга в Москву
и соответственно вернулась к противостоящей Западу позиции Мос-
ковской Руси. При этом подразумевалось, что после Киевского,
Московского и Петербургского периодов русской истории и культу-
ры пришел черед какому-то еще неведомому четвертому периоду.
Считалось, что в 1917—1922 гг. в России разразилась смута. Но
какой бы кровавый и беспощадный режим вслед за смутой не
Культурная катастрофа
645
наступил, главное, что она закончилась. Все дело, однако, в том, что
если смута и закончилась, то вовсе не наступлением новой историче-
ской и культурной эпохи. Вслед за смутой начался длительный
период исторического и культурного безвременья.
В России — Советском Союзе установилось какое-то подобие по-
рядка и организации жизни. Но это было именно подобие порядка
и организации, потому что первые тридцать пять лет существования
советской власти страна находилась в состоянии непрерывной граж-
данской войны, к которой в 1941—1945 гг. добавилась еще и война
с внешним врагом. Гражданская война в России после 1921—1922 гг.
приняла необычные и главным образом скрытые формы. Ее осущест-
вляла не столько армия, сколько специально для этого созданные
репрессивные органы. Причем репрессии режима по отношению
к собственному народу носили чаще всего упреждающий, превентив-
ный характер. Они были направлены на то, чтобы искоренить
всякую возможность открытого проявления недовольства и сопротив-
ления. Это было своего рода вооруженное нападение без объявления
войны и без реальных поводов к ней, наподобие того, которое
совершила нацистская Германия в 1941 г. на Советский Союз. С той,
правда, разницей, что у нас вооруженные нападения совершались
периодически и непрерывно и к тому же на свой собственный народ.
Когда после 1953 г. непрерывная гражданская война с собственны-
ми гражданами прекращается и наступает относительное перемирие,
то оно менее всего означало прекращение исторического и культурно-
го безвременья. Просто безвременье приняло менее катастрофиче-
ские формы. Советский Союз из полосы своего репрессивного и кро-
вавого утверждения вступал в полосу стагнации и разложения.
К началу 90-х годов, времени крушения большевистского режима,
новая историческая и культурная эпоха так и не состоялась. Петер-
бургский период так пока и остается последним в русской культуре.
Но как же тогда обозначить то, что происходило в России боль-
шую часть XX в.? Ведь в ней жили люди, которые получали образо-
вание, воспитывали детей, героически защищали свою Родину от
страшного и беспощадного врага, наконец, создавали произведения
искусства, делали научные открытия?
Нужно, конечно, принимать во внимание, что в промежутке меж-
ду 1917 г. и 90-ми гг. XX в. в России происходили события и возни-
кали явления, имеющие отношение к русской истории и культуре.
Понятно, что в это время не наступило абсолютного исторического
и культурного небытия. Между тем эпоха в культуре характеризует-
ся не только тем, что она представляет собою отрезок времени,
в течение которого возникает нечто, относящееся к памятникам
и свидетельствам культуры. Об эпохе или периоде в истории народа
или межэтнической общности можно говорить лишь тогда, когда по
отношению к ним осуществим подход как к своего рода субъектам
исторического процесса, когда они образуют некоторую целостность
646
Русская культура в XX веке
коллективной души с ее собственным мироотношением и самоощуще-
нием. Существенным признаком такого субъекта является его способ-
ность воспроизводиться на своей собственной основе, выходить за
пределы своей наличной данности, в самом себе обретая источник
своего развития. Так, в частности, происходило в Петербургский
период русской истории и культуры. Начинался он как самоотрече-
ние и сопровождавшее его культурное ученичество. От очень многого
в себе русский человек отказывался и очень многое обретал на
Западе. Весь XVIII в. был преимущественно веком отказа и обрете-
ния на стороне. Только к началу XIX в. вполне обозначилась внут-
ренняя самостоятельность Петербургского периода, он обнаружил
себя чем-то не сводимым ни к западным влияниям, ни к тому, что
сохранялось от Московской Руси. Состоялся и оформился новый
в рамках русской истории субъект исторического творчества.
Эти сами по себе достаточно очевидные соображения по поводу
периодизации русской истории и культуры не позволяют отнестись
ко времени существования Советской России как к историко-куль-
турной эпохе или периоду. Потому прежде всего, что у нас между
1917 г. и 1990-ми гг. не было развития на своей собственной основе.
Не нужно забывать, что Советская Россия первые десятилетия ее
существования была страной, где в культуре погоду делали люди,
родившиеся и сформировавшиеся в Петербургской России. Во вся-
ком случае искусство и наука 20-х и 30-х годов у нас развивались
усилиями людей, принявших советскую власть или смирившихся
с нею, но вовсе не бывшими и не могшими быть «советскими людь-
ми». Россия была для них страной другого, чем прежде, режима,
сменилась именно власть, к ней нужно было приспособиться или ей
служить. Но новая культура так быстро не возникает. В культуре
продолжался, доживал и изживал себя Петербургский период. Окон-
чательно завершился он у нас в стране со смертью Пастернака
и Ахматовой, Бахтина и Лосева, постепенно становясь все более
редкими вкраплениями в послепетербургском существовании России.
Вплоть до 40-х годов XX в. Россия оставалась прежде всего
страной советской власти над последними поколениями Петербург-
ского периода. Последующие поколения демонстрируют в первую
очередь понижение уровня культуры и исторического творчества,
они живут все более оскудевающими духовными ресурсами. Своего,
непетербургского, им передать последующим поколениям практиче-
ски нечего. Поэтому конец Советской России был запрограммирован.
Открытым оставался только вопрос о том, будет ли этот конец
переходом (трансформацией и возрождением) или историческим не-
бытием.
Если между 1917 г. и началом 1990-х гг. не состоялось историче-
ской и культурной эпохи, остается признать этот этап бытия России
безвременьем (или затянувшейся катастрофой с последующей стагна-
цией), то для катастрофы три четверти века —как будто непомерно
Культурная катастрофа
647
большой срок, маловатый для эпохи, он кажется нам слишком
длительным для катастрофы и безвременья, но это если смотреть на
века по меркам Нового времени. В большом же историческом време-
ни длящаяся катастрофа —явление распространенное. На Западе
между Античностью и Средними веками не менее трех веков безвре-
менья (VI —VIII вв.). У нас послемонгольская Русь становится чем-
то эпохальным только в конце XIV века.
Едва ли нужно специально оговаривать, что историческое и куль-
турное безвременье большую часть XX в. в России ничуть не проти-
воречит существованию русской культуры в промежутке между 1917 г.
и девяностыми годами XX века. Эта культура могла иметь достиже-
ния мирового уровня, но она оставалась культурой, существующей
в Советской России, но вовсе не советской культурой. Тут все вполне
прозрачно: чем больше советского, тем меньше культуры. Советским
можно было инфицироваться, оно оставляло свой так называемый
отпечаток времени и на великих творениях, но не было и не могло
быть сердцевиной и существом.
В соответствии со сказанным сегодня вопрос о наследии совет-
ского периода должен ставиться с пониманием того, что при больше-
вистском режиме сохранялось нечто от культуры, заданное предше-
ствующим периодом, который был действительно причастен истории
и культуре. Предшествующая культура не только «не успела» до
конца изжить себя в крайне неблагоприятных условиях Советской
России, но и в чем-то была необходима для того, чтобы гибель
режима не наступила сразу же вслед его кровавому торжеству.
* * *
Большевистский режим прекрасно сознавал необходимость куль-
туры для своего существования. Но исходно она была приемлема для
него исключительно как социалистическая культура. Еще совсем
недавно это словосочетание звучало очень привычно, для кого-то
усыпляюще, для кого-то враждебно. Между тем в этом словосочета-
нии проглядывает вся суть нового отношения к культуре. Она
приветствуется, но не как таковая, а обязательно в случае соответст-
вия некоторым предъявляемым ей требованиям. Последние же имеют
отношение уже к совсем другой, чем культура, реальности, — к идео-
логии. Идеология, в данном случае социалистическая и коммунисти-
ческая, определяет и то, что приемлемо в культуре, и то, что
подлежит устранению.
В первые годы большевистского режима Россия оставалась в куль-
турном отношении вполне чуждой коммунистической идеологии. Ее
носителями были люди, захватившие власть и осознававшие себя
представителями новой советской власти. Задача, стоявшая перед
ними, заключалась в том, чтобы из России, страны с советской
властью, сделать советскую страну, в которой живут уже не люди,
подчиняющиеся советской власти, а советские люди. Создание совет-
648
Русская культура в XX веке
ского человека стало коренной задачей так называемой культурной
революции. Она виделась ее деятелями как продолжение все того же
политического и военного переворота. Вот как о ней говорил главный
идеолог большевизма: «Культурная задача не может быть решена так
быстро, как политическая и военная. Нужно понять, что условия
движения вперед теперь не те. Политически можно победить в эпоху
обострения и кризиса за несколько недель. На войне можно победить
за несколько месяцев, а культурно победить в такой срок нельзя».
Убожество суконного языка В. И. Ленина лишний раз свидетель-
ствует о странном и страшном видении большевиками культуры.
Социалистическая культура, как и социализм в целом, должна стать
результатом борьбы и победы. В этой борьбе заранее ясны цели
и задачи, заранее разработаны приемы и методы. Дело только в не-
уклонно поступательном и вместе с тем гибком их осуществлении.
Приведем один только пример требуемой от большевиков их вождем
гибкости в деле осуществления культурной революции: «Необходимо
использовать все, что против нас создал капитализм в смысле куль-
турных ценностей. В этом трудность социализма, что его нужно
строить из материалов, созданных чужими людьми, но только в этом
возможность социализма». И далее: «Нам нужно строить сейчас
практически, и приходится руками наших врагов создавать коммуни-
стическое общество».
Во всей цитированной невнятице предельно очевидно по крайней
мере одно: вождь и идеолог режима настроен прагматично, для
достижения его цели все средства хороши, даже самые неожиданные.
Но при всей гибкости и прагматизме Ленина для него новая социали-
стическая культура неразрывна с насилием, она создается насильст-
венным, идущим извне, а не из самой культуры, воздействием на
предшествующую культуру. Она считается враждебной, если не
прямо злокозненной в отношении социализма, ее нужно переиграть
и переломить, результатом чего будет социалистическая культура.
Очень характерно, что для большевистского режима проблема куль-
туры стояла как проблема культурной революции и культурного
строительства.
Культурная революция при этом мыслились как составная часть
целого — социалистической революции. Первоначально революция
состояла в вооруженном перевороте, целью которого был захват
власти и создание новой политической системы. За политическими
изменениями последовал и экономический переворот в качестве экс-
проприации и огосударствления частной собственности на средства
производства. Захватив политическую власть и установив господство
в сфере экономики, большевики стремились к тому, чтобы новым
политическим и экономическим отношениям соответствовал новый
человек. На его создание и были направлены культурная революция
и культурное строительство. На уровне официальных лозунгов
и программ речь шла прежде всего о резком повышении образова-
Культурная катастрофа
649
тельного уровня населения и формирования у него марксистско-
ленинского мировоззрения. Одно предполагалось неотрывным от
другого.
И нужно сказать, что культурная революция осуществлялась вполне
успешно. Правда, не столько в качестве культурной, сколько в каче-
стве революции. Наиболее впечатляющим примером здесь может
служить осуществление линии на ликвидацию неграмотности и далее
переход ко всеобщему среднему образованию, так же как и на
превращение высшего образования в массовое явление. Когда сопоста-
вишь статистику накануне первой мировой войны с данными за 60-е—
70-е гг. (по Российской империи и Советскому Союзу соответствен-
но), происшедшие в сфере образования перемены действительно
поражают. В императорской России неграмотность среди крестьянст-
ва была очень широко распространена, в Советском Союзе она—
исключение, а не правило в любых слоях населения. Буквально
в десятки раз возросло число лиц с высшим образованием.
Но приглядимся к происшедшим переменам именно с позиций
культуры, и окажется, что стандарты образования в стране резко
снизились. Причем власть снижала их сознательно и целеустремлен-
но. Так, уже в начале 20-х гг. специальным декретом было ликвиди-
ровано классическое образование, предполагавшее изучение древних
языков. В дореволюционной России только окончание классической
гимназии давало право на поступление в университет. Теперь, понят-
ное дело, это стало необязательным. В университеты поступали после
обычных средних школ, ни в какое сравнение не шедших с гимназия-
ми, так же как и стоявшими ниже их реальными училищами. Зато
число университетов непрерывно возрастало, так же как и количест-
во обучающихся в них. Выпускали они теперь людей, в огромном
большинстве своем, по меркам начала века, полуобразованных. В луч-
шем случае —узких специалистов (если речь вести только о естествен-
ных науках). В России Петербургского периода почти два века ушло
на то, чтобы достичь западного уровня университетского образова-
ния. В результате же большевистского культурного строительства он
был очень быстро уничтожен. Правда, не прямой разрухой, а измене-
нием самого характера образования. Теперь оно неизменно мысли-
лось узко функционально: с одной стороны,—подготовка специали-
стов преимущественно в народное хозяйство, с другой же стороны,
образование превращается в идеологическую выучку и обработку.
Происходившее в сфере образования было вполне закономерно
и естественно для установившегося в стране строя жизни. Он пред-
полагал вполне определенный тип индивидуально-человеческого су-
ществования. В Советском Союзе очень быстро должны были исчез-
нуть фигуры дворянина, буржуа, чиновника, пролетария, крестьянина.
Все это были человеческие типы из ненавистного и отрицаемого
прошлого. Большевики же установили строй, в котором каждый
человек бесконечно зависел от государства. Оно в максимально
650
Русская культура в XX веке
возможных пределах стремилось определять жизнь каждого. Теперь
«каждый»—это функционер-исполнитель спускающегося к нему сверху
задания. Если это рабочий, то здесь все наиболее очевидно. Он
самым откровенным образом ежедневно выполняет производственное
задание. Крестьянин же для новой системы отношений подходил
несравненно менее рабочего. Но большевистский режим очень быст-
ро пришел к решению превратить крестьянство в сельскохозяйствен-
ных рабочих, и успешно решил эту задачу в процессе коллективиза-
ции.
В Советском Союзе уже в первые десятилетия исчезают лица так
называемых свободных профессий —адвокаты, художники и т. п. Все
они определяются на службу государству, становясь в этом отноше-
нии неотличимыми от промышленных и сельскохозяйственных рабо-
чих так же, как от собственно государственных служащих, партий-
ных функционеров, военных, работников сферы обслуживания и т. д.
Хотя она и была целиком неосуществима, тенденция к выравниванию
положения всех слоев населения страны в отношении государства
действовала во все время существования большевистского режима,
формируя одинаковый в своей основе тип человеческого существова-
ния—советского человека. Не только вполне бессильного перед ли-
цом государства, но и бесконечно непритязательного и исполнитель-
ного. Непритязательность, правда, постепенно начала превалировать
над исполнительностью, превращаясь в терпеливое безразличие к жиз-
ненным невзгодам, так же как и в равнодушное отношение к тому,
что от советского человека требовалось исполнить.
Так что культурная революция и культурное строительство, не-
смотря на то, что они были победоносны, все же не могли не
подрывать своих оснований. Чем успешнее они осуществлялись, тем
меньше толку было для режима от достигнутых успехов. И тем не
менее оставить культуру предоставленной самой себе, «пустить ее на
самотек» было немыслимым. Она неизбежно приняла бы формы,
несовместимые с победившим политическим и экономическим стро-
ем. Поэтому за культурой осуществлялся непрерывный политиче-
ский и идеологический контроль. В лучшем случае каким-то ее
росткам давали возможность сохраниться. Правилом, однако, была
повсеместная имитация культуры. Создавалась какая-то новая и осо-
бая социалистическая литература с присущим ей методом социали-
стического реализма. На новые коммунистические позиции вставали
различные виды искусства: кино, театр, живопись, музыка и т. д.
Становились марксистскими философия и общественные (ранее —
гуманитарные) науки. Все это вместе взятое составляло грандиозный
поток всякого рода произведений и трудов, который и именовался
социалистической культурой. Просто же культура иногда умудрялась
сохраняться в зазорах между поточным производством-имитацией.
И потом, почти исключительно имитацией, то есть социалистиче-
ской культурой, она смогла стать далеко не сразу. Не забудем, что
Культурная катастрофа
651
в 20-е и 30-е гг. в Советской России жили люди преимущественно
Петербургского периода и «серебряного века». Пока они не пере-
строились или их не уничтожили, ими было создано многое, относя-
щееся к культуре как таковой. Здесь со всей примитивной определен-
ностью действовала одна и та же закономерность: чем крупнее была
творческая личность, чем значительней было создаваемое ею, —тем
менее они вписывались в новую социалистическую культуру, тем
трудней и проблематичней становилось существование творца и его
творений. Исключений практически не было. Различие в отношении
к крупным деятелям культуры состояло только в одном. Одних
власть старалась приручить, используя в своих целях, других прямо
и безоговорочно давила и репрессировала. Результат, несмотря на
различие биографий приручаемых и отвергаемых, для культуры был
один—она всячески изживалась и вырождалась.
Когда же в культуре нечто все-таки могло состояться, то весьма
характерным для советского безвременья образом. Как именно, по-
пробуем проиллюстрировать примером, касающимся творческого пути
М. А. Булгакова. Он является не только одним из крупнейших рус-
ских писателей XX в., но и несмотря на свою жизнь в Советской
России, всеми корнями укорененным в России Петербургской. С твор-
чеством Булгакова, в частности, связана одна тема, не получившая
такой уж широкой разработки в русской литературе предшествую-
щих эпох. Это тема аристократизма и связанных с ней тем верности
и служения, понимаемых как мастерское, виртуозное даже, исполне-
ние своего долга. Ничего более чуждого наступившим жизненным
реалиям и веяниям представить себе невозможно. Отсюда практиче-
ски постоянная, хотя и знавшая свои взлеты и относительные зати-
шья, травля Булгакова. Да и как его было не травить режиму и его
горячим сторонникам, если, скажем, булгаковская «Белая гвардия»
вся полна восхищения теми, кто уже самим своим существованием
противостоял большевистской власти, был несовместим с нею. Но
последний и главный роман Булгакова «Мастер и Маргарита» при
жизни автора опубликован быть не мог. Писался он Михаилом
Афанасьевичем заведомо в стол. Фактом нашей жизни роман стал
только в 60-е гг. и сыграл свою роль в разложении Советского
Союза.
Однако не его критический пафос сам по себе важен для нас
в настоящем случае. А прежде всего то, что сюжет романа, опреде-
ляющие его смыслы разворачиваются помимо той современности,
в которой живут главные герои «Мастера и Маргариты». Они и жи-
вут в советской Москве 30-хгг. XXв., и не принадлежат ей. Ну,
в самом деле, какое отношение имеет все, что волнует Мастера и его
спутницу, к современности? Разве что отрицательное, как реаль-
ность, отрицающая и выталкивающая их из жизни. Положительно
герой и героиня романа обращены к событиям, около двух тысяч лет
назад произошедшим в Иерусалиме на крытой колоннаде дворца
652
Русская культура в XX веке
Ирода Великого, на Голгофе, в Гефсиманском саду. Главное в их
жизни разрешается через встречу с инфернальной реальностью Во-
ланда и его свиты. Как большому художнику, Булгакову нечего было
сказать о той советской московской жизни, которая была перед
глазами его современников или самим им. Кроме разве сцен, рисую-
щих образы смешной, убогой, отвратительной жизни. По существу
даже и не жизни, а чего-то выморочного и пустого.
И ведь Булгаков не какой-то непримиримый политический против-
ник советской власти. Оставаясь художником, он не в состоянии был
сделать образами, наполненными жизнью, того, что жизнью оставле-
но. Для подлинного творчества советская действительность материа-
ла не давала. От нее оставалось отвернуться или выразить на пределе
отрицания и неприятия. Действительно живые герои булгаковского
романа—что угодно, только не советские люди. Это ли не характери
стика той реальности, в которой жил Булгаков?
В рассмотренном отношении с ним могут быть сопоставлены
другие крупные деятели культуры, чье творчество относилось к без-
временно большевистской России. Так, Б. Л. Пастернак свой, напи-
санный уже не в 30-е, а в 50-е гг. роман «Доктор Живаго», посвящает
предреволюционному периоду. Главный герой романа совершенно
несовместим с той Россией, которая приходит на смену имперской
России. В ней ему остается умереть. Даже певец революции, первый
по рангу «советский писатель» М. Горький в своих уступках и капи-
туляции перед режимом не сумел зайти так далеко, чтобы отразить
советскую действительность в своих произведениях. Он упорно пи-
сал только о том периоде русской истории и культуры, которые так
страстно и непримиримо отрицал. Писал потому, что художественное
произведение может отражать жизнь, выражать ее, концентрируя
в себе жизненные смыслы, но оживлять умершее или омертвевшее
оно не в силах. Платить дань режиму даже М. Горький был в состоя-
нии только дежурной публицистикой, но никак не творческими
произведениями. Последующие поколения легче усваивали правила
игры в социалистическую культуру или даже не подозревали о том,
что имитируют культуру по правилам режима и его идеологии.
По существу, культура Советской России к концу 30-х гг. превра-
тилась в идеологию, а значит, стала советской культурой. Тем стран-
ным образованием, которое не дает решительно никакой возможно-
сти отнести время существования Советского Союза к чему-то,
подобному эпохе или периоду русской культуры. От любого другого
периода культурного безвременья то, что происходило в нашей
стране, отличалось одним очень существенным признаком: советская
культура ничего общего не имела с разрухой и распадом в их
внешнем выражении, у нее были все внешние признаки культуры.
Писатели создавали романы, не исключая и многотомных эпопей,
архитекторы строили дворцы, философы рассуждали в своих тракта-
тах о бытии и сознании, десятки миллионов молодых людей получа-
Культурная катастрофа
653
ли среднее, а миллионы—высшее образование. Но вся эта машина
все больше работала вхолостую, переставая и обслуживать идеоло-
гию, и быть ею. Имитация не просто все менее убеждала, но и окон-
чательно заблокировала всякую творческую продуктивность, соками
от которого должна была питаться. Наступил коллапс.
Такому результату способствовала не только по возможности то-
тальная идеологизация русской культуры, превращавшая ее в совет-
скую культуру, но то обстоятельство, что чем дальше, тем больше
идеология переставала быть самой собой. Все-таки существование
идеологии предполагает такую самоочевидную реальность, как нали-
чие идеологов. Они знают, чего хотят от своих манипуляций с теми,
кто подлежит идеологическому воздействию, и способны добиваться
своих целей. Между тем в последние два десятилетия большевист-
ская идеология перестала кого-либо убеждать. Она превратилась
в поток продукции, который существовал почти исключительно сам
по себе. Идеология не только не воздействовала на тех, кому предна-
значалась, но у нее не стало также умелых и продуктивных создате-
лей. Сохранялся чудовищных размеров идеологический механизм,
который обслуживали люди, одушевляемые исключительно личными
интересами карьеры и материального благополучия.
О том, что идеологический механизм работает вхолостую, знали,
в общем-то, все, и сами идеологи, и те, на кого было рассчитано
воздействие этого механизма. Тем не менее оставался запас инерции,
поэтому вплоть до остановки внешне он работал исправно. В газетах
публиковались передовицы, материалы пленумов ЦК КПСС и съез-
дов партии, работала система партийной учебы, телевидение еже-
дневно освещало ход строительства «развитого социализма», театры
ставили производственные пьесы, ученые публиковали книги о том
же развитом социализме, мировом социалистическом содружестве
или борьбе коммунистических и рабочих партий за права и свободы
трудящихся и т. д. и т. п. Казалось, подобное будет продолжаться
всегда. В действительности все уже закончилось, оставалась одна
внешняя оболочка социализма с его идеологией-культурой. Истон-
чившись же окончательно, последняя в один момент превратилась
в пустоту.
***
Вопрос о том, почему так резко и катастрофически оборвалось
развитие русской культуры Петербургского периода, почему ему на
смену пришло длительное культурное безвременье, продолжающееся
еще и сегодня, не из тех, которые имеют исчерпывающие и всех
убеждающие ответы. И все же можно указать на то, что октябрь
1917 г. и последовавшие непосредственно за ним события стали
осуществлением позиций радикальной интеллигенции с ее оформив-
шимся еще в 60-е гг. XIX в. нигилизмом по отношению к российской
государственности и русской истории. Интеллигенции, вначале раз-
654
Русская культура в XX веке
ночинцам-нигилистам, потом большевистской, нужна была новая,
никогда доселе не бывшая Россия, Россия, начатая с чистого листа.
Это не значит, что они сполна получили то, чего добивались. Думаю,
даже радикалы-большевики ужаснулись бы и с отвращением отвер-
нулись от той России, которая получилась в результате их разруши-
тельных усилий и потуг на созидание нового общества. Советский
Союз —это не столько цель, сколько результат действий революцио-
неров. Но он был запрограммирован уже потому, что совершившееся
большевиками было прямым насилием над историей и культурой.
Стремление сделать из них процесс осуществления некоторого фун-
даментального проекта со стороны тех, кто полагает, что им открыта
истина, не мог не привести ни к чему, кроме катастрофы и безвре-
менья.
В наступившей катастрофе и последующем культурном безвреме-
нье больше всего поражает их продолжительность, то, что в России
не нашлось сил противодействия свершавшемуся безумию, от которо-
го не выиграл решительно никто. Между тем это обстоятельство как
раз объяснимо. И прежде всего тем, что радикальная интеллигенция
нашла себе опору в пролетариате и, дезориентировав стремительно
отчуждавшееся от самодержавия крестьянство, сумела в огромной
степени свести на нет культурные итоги Петербургского периода. Во
всяком случае она изгнала, уничтожила или до предела ограничила
возможности действия тех слоев населения России, которые были
носителями культуры «золотого» и «серебряного» веков. Это были
люди развитого индивидуально-личностного начала, русские евро-
пейцы. Из них невозможно было сделать материал для реализации
революционного проекта, отрицающего русскую историю и культу-
ру, как она осуществлялась на протяжении тысячелетия.
Сообщничество пролетариата и крестьянства в разрушительных
действиях большевиков, согласие на уничтожение слоя преимущест-
венных носителей культуры Петербургского периода в свою очередь
сделали их беспомощными перед любыми большевистскими дейст-
виями и экспериментами. Когда, скажем, в процессе коллективиза-
ции раскрестьянивалось крестьянство, большевики обнаружили себя
силой несравненно более враждебной и чуждой крестьянству, чем
любые помещики с их крепостным правом. Однако крестьянство по
самой своей сути —это люди, не способные к самостоятельному,
замкнутому на себя существованию. Более или менее крестьянин
всегда ребенок, для которого нужен «отец». Худо-бедно таким «от-
цом» был царь и помещики. Большевики уже никакие не «отцы»
и даже не «отчимы», они чужаки и насильники. Потеряв своих
«отцов», крестьянство оказалось бесконечно податливо насилию чу-
жаков. Никто здесь ему не был помощью и поддержкой.
О пролетариате нечего и говорить. Он был повязан с большевика-
ми террором революции и Гражданской войны, из него же рекрути-
ровалась партийная и государственная верхушка. Потому его можно
Культурная катастрофа
655
было эксплуатировать до бесконечности, все равно это делалось
своими и по-свойски. Итогом же и была бесконечная податливость
страны любым разрушительным воздействиям со стороны тех, кто
мнил себя ее спасителями и преобразователями.
Неспособность к сопротивлению вполне органично соответствова-
ла стремлению большевиков осуществлять свою власть не просто
с никогда ранее невиданной жестокостью и неготовностью считаться
с чем-либо помимо собственных интересов. Самое существенное
здесь состоит в том, что большевики установили власть, радикально
отличную от когда-либо существовавшей на всем протяжении рус-
ской истории. Именно такой власти нужна была бесконечная подат-
ливость подвластных, она ее предполагала и была без нее немысли-
ма, в конце концов являясь ее оборотной стороной.
Если сопоставить власть большевиков в России с тем, что имело
место в Киевской и Московской Руси или Петербургской России, то
всякие сближения и уподобления будут здесь неуместны, они только
внесут путаницу в понимание происшедшего с Россией в начале
XX в. Скажем, вскорости после большевистского переворота, в тече-
ние последующих десятилетий вплоть до настоящего времени очень
много находилось охотников для сближения большевистской власти
с Московским или Петербургским самодержавием, с Московской
(которой никогда не было) или Петербургской имперскостью. В са-
мом примитивном варианте тогда фигура генерального секретаря
ЦК КПСС сближалась с Московскими царями и российскими импе-
раторами, рассматривалась как их естественное продолжение. Отли-
чие же между ними в этом случае сводилось главным образом к тому,
что генеральный секретарь обладал властью еще более полной и безу-
словной, чем цари и императоры. Может быть, подобное утвержде-
ние и не лишено основания, да только при сопоставлении власти
большевиков с царской или императорской несравненно важнее не
то, какая из них была полнее, а характер каждой из них. А по этому
пункту между большевистской, с одной стороны, и царской или
императорской властью, с другой,—настоящая пропасть.
Сколько угодно можно приводить примеров самовластия, беззако-
ния, самодурства или безответственности властителей Киевского,
Московского, Петербургского периодов. И все же власть их мысли-
лась с полной жизненной серьезностью и искренностью как царствен-
ная. Царственность же предполагает, что власть царственной особы
всегда и обязательно вторична по отношению к ее роли в качестве
мирозиждетеля и мироустроителя. Царственной особой мир держит-
ся на своих основаниях. Она его неустанно устрояет, есть его
оберегатель и защитник. В первую же очередь царь (как собственно
царь, так и князь, и император) —это кормилец. Он податель благ
для своего народа. От его щедрот, великодушия и милосердия народ
питается, когда же он их лишается, жизнь народа оскудевает и кло-
нится к упадку. Конечно, в настоящем случае речь идет не более, чем
656
Русская культура в XX веке
о мифологеме власти, повседневная же реальность знала как раз
обратное: неустанную заботу царственных особ о повинностях, пода-
тях, налогах и т. д., обо всем том, что предполагает не царственные
щедроты, а пополнение государственной (она же государева) казны
за счет трудов подданных.
И тем не менее царь (князь, император)—кормилец —не есть
фикция, иллюзия, прекраснодушное благопожелание. Устроения
жизни от него ждут подданные. Но и для него самого шапка Монома-
ха тяжела прежде всего потому, что власть предполагает бесконечное
бремя ответственности за подданных перед Богом потому, что поми-
мо всяких почестей и поклонения царь не мог не ощущать за собой
долга устроения жизни своей страны ко всеобщему благоденствию.
Долг мог не исполняться, более или менее он всегда не исполнялся.
Но в этом и состояла обреченность царственной особы, человека,
которому на плечи Бог взвалил груз явно не по человеческим силам,
или она сама с радостью поспешила принять верховную власть, не
подозревая о ее непомерной тяжести. Так называемая «борьба за
власть» для царственных особ в России (Руси) всегда была вторична.
Цари Московского царства и императоры Российской империи как
правило получали верховную власть, никем не оспариваемую. Одна-
ко и борьба с соперниками вовсе не была борьбой за власть любой
ценой и как за высшую самодовлеющую ценность. Это была еще
и борьба за свои действительные или мнимые права, и, в частности,
за право на жизнь, полную тревог и опасностей, воинских трудов,
которыми добывались великолепие, величие, слава.
***
Обратившись к реальности той власти, которую в 1917 г. больше-
вики установили над Россией, мы обнаружим ее полную несообраз-
ность с любой предшествовавшей властью. Если я скажу, что в ней не
было и отдаленного намека на царственность, и тени царственности,
то это утверждение прозвучит для множества ушей как лишенное
всякого намека на оценку. Ну, существовало у нас тысячу лет
монархическое правление и прошло его время. Ведь и на Западе весь
XX в. ознаменовался в том числе и крушением одной монархии за
другой, а там, где они сохранились, самое существо царствования все
более превращается в пустую видимость или исчезает вовсе. Обра-
тим, однако, внимание на то, что в западных странах не просто одна
монархия за другой сменялась республикой. В России, еще после
февральской революции, была провозглашена республика, и больше-
вики ничего не имели против этого. Однако республиканский строй,
установившийся у нас, если даже признать его таковым, ничего
общего с западным республиканизмом не имел.
На Западе возникновение республики означало конец царственно-
сти в том отношении, что власть потеряла сакральный характер.
Скажем, понимание президента как помазанника Божия абсолютно
Культурная катастрофа
657
исключалось. Теперь источник верховной государственной власти
усматривался не в Боге, а в гражданах государства. Все они, вместе
взятые, стали верховным сувереном своей страны. Но в собственных
интересах каждая из суверенных личностей на определенных услови-
ях делегирует часть своего суверенитета судебной, законодательной,
исполнительной власти.
Потому, скажем, президент может обладать властью, далеко пре-
восходящей ту, которой обладали многие царственные особы. И все-
таки власть президента коренным образом отличается от царской
тем, что она даже и не совсем власть. В своих истоках, в своем
основании она представляет собой реальность управления. Послед-
нее же отличается от власти тем, что оно направлено на явления
и процессы, а не на личности. Сказать, что президент властвует над
гражданами своего государства—значило бы погрешить не только
против стиля, но и против истины. Властвует царственная особа, и не
над гражданами, а над своими подданными. Она вознесена над
другими людьми Божиим произволением. Присутствие в ней Божест-
венной благодати делает вполне уместным повеления одной личности
другой. Президент в крайнем случае может отдать распоряжение,
приказ, но все равно повелевает он не личностями, а теми сторонами
их жизни, где они уступили право распоряжения ими в соответствую-
щих условиях своему президенту. В идее и принципе президент
обязан обслуживать желания и предпочтения сограждан, концентри-
рованно выражать коллективную волю большинства из них. Но
когда он ими и распоряжается и приказывает своим гражданам, то
в такой же мере следует их желаниям и предпочтениям.
При всей громадности различия между властителем-царственной
особой и властителем-президентом, существенная связь преемствен-
ности сохраняется между ними не только потому, что последний
сохраняет в себе остаточные признаки первого (должность верховно-
го главнокомандующего, право помилования, и пр.), но и приоритет
устроительной, жизнесозидательной роли над ролью собственно вла-
стителя, вольного казнить, миловать, получать всякого рода блага
и преимущества от власти. Президент, прежде всего, работает, вы-
полняет свои обязанности и только потом и в силу этого получает
право на привилегии и властные решения. Здесь он с царственной
особой совпадает, чего никак не скажешь о властителях большевист-
ской России.
Большевики-революционеры стремились к власти, захватили ее,
удерживали и расширяли в предположении самоценности властвова-
ния. Но не в том привычном смысле, что ими двигала какая-то особая
безудержная воля к власти, желание вдохнуть в себя весь ее аромат
и вкусить все ее плоды. Такого было в большевистские времена
сколько угодно. Между тем, ставка на власть у большевиков прости-
ралась гораздо дальше, и не отмеченные реалии двигали ими в каче-
стве самого существенного импульса. Жажда власти сама по себе,
658
Русская культура в XX веке
безудержное стремление насладиться ею как можно более полно, не
способны были привести к тому, что произошло в России в 1917 г.
и далее. Когда большевики брали власть, то она первоначально
просто-напросто сама шла к ним в руки. Россия буквально взывала
неведомо к кому: «идите к нам и владейте нами», но реальность была
такова, что по-настоящему взять власть кроме большевиков было
некому. И не в последнюю очередь потому, что все остальные, кроме
них, хоть в какой-то степени сознавали или ощущали неведомое
большевикам.
Власть —это еще и долг, и ответственность, и немыслимо тяжелый
труд обреченных власти людей. Властвуют ради чего-то бесконечно
превосходящего саму власть. Большевики же как раз были людьми
такой породы и выделки, что властвование представлялось им жизнью
как таковой. Властвовать, по большевикам, и значит творить историю.
В соответствии с конкретно усвоенной ими доктриной, вся история
есть борьба классов, борьба за власть одних людей над другими.
Может быть, исходным и более фундаментальным понятием для
марксистов и, в частности, для большевиков, была все-таки борьба,
а не власть. Но одна из этих реальностей самым тесным образом
связана с другой, непосредственно переходит в нее. Большевик мог
вполне искренне считать, что борется в конце концов за «счастье
трудового народа» или за общество, где будет покончено с «эксплуа-
тацией человека человеком», общество, где будут жить «гармониче-
ски и всесторонне развитые люди». Но путь к этим заманчивым
реалиям для большевика всуе оставался один —это путь борьбы за
власть, путь по возможности ничем не ограниченного властвования.
Вначале власть подавляет эксплуататорские классы, потом она
борется уже не с эксплуататорами, а мелкими буржуа-собственниками,
далее бороться нужно с эксплуатируемыми и обездоленными, конечно,
за них самих, за их интересы, но бороться с ними, привычками ста-
рого общества, частно собственническими инстинктами, безыдейно-
стью, моральным разложением... Короче говоря, объект и цель борьбы
всегда найдутся. Борьба же обязательно предполагает насилие и власть.
Без власти никуда не денешься, она представляет собой саму суб-
станцию исторического процесса, и, в особенности, революционного
действия. Властвовать для большевика и означало творить историю,
властвование и есть жизнь революционера в стране победившей
революции. Она выражается в директиве, распоряжении, приказе на
одном полюсе и их безоговорочном исполнении на другом. Потому
большевик всегда в той или иной мере властитель и подвластный,
тот, кто приказывает, и тот, кто подчиняется. Приказывать и подчи-
няться—в том и состоит суть строительства новой жизни, ради
которой вроде бы и захватили власть революционеры-большевики.
Но тогда возникает вопрос о том, откуда берутся приказы, дирек-
тивы, распоряжения, в конечном итоге направленные на строительст-
во совершенного общества? Если бы приказы и директивы обслужи-
Культурная катастрофа
659
вали некоторый творческий замысел, то уже не могли бы быть только
или в первую очередь директивами и приказами. Строительство
новой жизни, каких-то ее моментов и фрагментов требует творческо-
го усилия каждого из участников общего действия. Но это усилие
невместимо ни в какие указы и распоряжения, обязательно требует
самоопределения и спонтанности. Приказ же и подчинение приказу
подлинно создают не определенный строй жизни, а строй власти,
властную, а не жизненную реальность. Последняя в лучшем случае
как-то уцелевает, но не более. В том, разумеется, случае, когда
власть приобретает верховный статут, когда на нее все замыкается
и из нее все исходит.
Так было у большевиков, но может показаться, что также сущест-
вовала и самодержавная Россия. На самом же деле в последней
власть никогда не имела всеобъемлющей реальности большевистско-
го типа, ни претензий на нее. Царь или император властвовали так,
что их власть далеко, нередко слишком далеко простиралась. Но при
всем этом предполагалось, что она клонится к благу и счастью
подданных, которое вовсе не состоит в исполнении царственных
повелений, доходящих до каждого подданного через посредство
всякого рода начальства. В своих повелениях царственная особа
наводит порядок в своей стране, космизирует ее. Где надо, государь
наказывает отеческой лозой подданных, в других случаях ограничи-
вает их произвол, в третьих — прямо наделяет подданного благами.
И все это для того, чтобы подданный жил своей жизнью крестьяни-
на, мещанина, купца, дворянина. У этой жизни есть право на
самоосуществление. Другое дело, что осуществляться оно должно
в задаваемых государем рамках и на основе его благодеяний.
Совсем другая картина предстает перед нами в стране победившей
большевистской революции. Ей вменено в обязанность жить по
директивам власти. Самая объемлющая из них —это, скажем, пяти-
летний план. В нем заданы определенные параметры жизни, разви-
тия страны на ближайшие пять лет. Эта жизнь есть строительство
социализма. Строить его должен каждый, если он не подлежащий
репрессиям и уничтожению как классовый враг. Но что значит
участвовать в строительстве социализма? Прежде всего, на своем
участке (в промышленности, сельском хозяйстве, сфере обслужива-
ния, образования, науки, искусства) выполнять свое, спускаемое тебе
властной инстанцией производственное здание. Оно носит характер
директивы, распоряжения, приказа. Они подлежат исполнению в ка-
честве действий подвластного лица. В этом цель и смысл человече-
ского существования. К подвластности, оно, конечно, не сводится.
Человеку ведь нужно еще удовлетворить свои бытовые нужды, от-
дохнуть перед рабочим днем, набраться сил в отпуске для предстоя-
щего трудового года. Здесь человек до некоторой степени предостав-
лен самому себе, но только в той степени, в которой его внерабочая
жизнь не противоречит исполнению трудовых обязанностей.
660
Русская культура в XX веке
Власть, требующая одного—подвластности и оставляющая вне
себя пространство самоопределения, практически сведенное к точке,
не просто не способна выстроить ничего, кроме власти, она еще
и временами и с неизбежностью практически связанна и точно зави-
сает в пустоте и самоизживает себя. В конце концов, несмотря на
огромные перемены, которые произвел в России большевистский
режим, менее всего он оставил после себя какую-то новую действи-
тельность и новую жизнь. Может быть, все и изменилось, но только
итогом большевистской власти стала изнасилованная природа, изна-
силованный народ, наконец, изнасиловавшие себя до полной опусто-
шенности властители. Насилие загнало жизнь во внешние и чуждые
ей формы, не столько трансформируя ее, сколько мертвя.
Во всем этом процессе более всего поражает то, как быстро
и в какой громадной степени изменилась Россия в результате рево-
люции и гражданской войны. Буквально за считанные годы исчезли
без остатка, казалось бы, незыблемые устои и формы жизни, изме-
нился облик людей, возникли новые человеческие типы. Это тем
более удивительно при сравнении того, что произошло после 1918 г.
с происшедшим вслед за 1991 г. О сегодняшней России может быть
и нельзя сказать словами известной поговорки: «Чем больше измене-
ний, тем больше все остается по-старому». И тем не менее тот, кто
достаточно пожил в большевистской России, не может не отметить,
как въелся в нас большевизм и советскость, насколько мы по-
прежнему советские люди. Даже в своей устремленности к западным
ценностям, даже в неприятии и изжитии большевистского режима.
Знаменитый homo Soveticus никуда не исчез, он лишь слегка изменил
внешность.
Но разве можно применительно к большевистской России сказать,
что партийный функционер—это слегка видоизмененный чиновник,
красноармеец—почти тот же солдат или офицер императорской армии,
в одночасье разбогатевший нэпман—недавний купец и промыш-
ленник? Конечно, можно напомнить, что Россия вплоть до револю-
ции оставалась преимущественно крестьянской страной, а крестьян-
ство-то вплоть до коллективизации особенно не изменилось.
Соглашаясь с тем, что в очень значительной степени дело обстояло
именно таким образом, нельзя, однако, не учитывать уже неодно-
кратно отмечавшееся обстоятельство — внеисторичность крестьянст-
ва. Пока оно не трансформируется в фермерство или, от чего упаси
Боже, в колхозное крестьянство, крестьянство остается в основе
своей одним и тем же. Но зато и не крестьянство вовсе делает погоду
в истории и культуре. Своеобразие нашей российской ситуации со-
стояло в том, что в ней, кроме крестьянства, не уцелели вовсе или
кардинально трансформировались все слои населения императорской
России. Исключение составляло одно только духовенство, бесконеч-
но ограничиваемое в своей деятельности, загоняемое в угол и репрес-
сируемое.
Культурная катастрофа
661
И все-таки самое поразительное — это то, откуда, причем так неве-
роятно быстро, возникли фигуры партийного функционера, чекиста-
огепеушника-гэбиста, красноармейца, госслужащего. В их повадке
ничего не было от совсем еще недавнего прошлого. Партийные
функционеры, может быть, вызревали в какой-то степени в недрах
большевистского подполья, красноармейцев выковала гражданская
война. Чекисты же —эти молодцы возникли как будто сразу и из
ниоткуда. Никакого преемства между ними и охранным отделением
и жандармерией императорского министерства внутренних дел не
было, разве что по части техники сыска и расследования. Чины
охранного отделения и жандармерии все-таки заплечных дел масте-
рами не были, хотя, понятное дело, без греха не обходилось. А вот
служащим карательных органов большевистской России была задана
немыслимая ранее мера беспощадности, жестокости, а главное, рав-
нодушия, безответственности и невменяемости в осуществлении кара-
тельной функции.
Очевидно, что почва для славных дел государственной безопасно-
сти была вспахана большевистской доктриной классовой борьбы,
глубочайшим образом пронизывающей большевизм интуицией и ус-
тановкой на самоценность власти, на то, что нет преступления страш
нее и неискупимее, чем посягательство на существующий строй. И не
обязательно в качестве насильственного действия, призыва к нему
или его замысла. Для самых жестоких репрессий достаточно было
чуждости данного человека новому строю жизни, иная стилистика
его жизни, иные манеры, лексика, жесты. Все это подпадало под
ведомство органов, призванных большевиками защищать государст-
во, а точнее, их власть в новом государстве. Но ведь те, кто служил
в этих органах первые годы советской власти, родились не в больше-
вистской России, родом-то они были из совсем другой страны. В ней
они воспитывались, получали какое-никакое образование, могли быть
и нередко были причастны Православной церкви. Нельзя списывать
со счета того, что в органы пошли в том числе и действительные
и потенциальные уголовники, но не они составляли там преобладаю-
щий элемент. Новой власти оказалось относительно просто и быстро
сформировать великое множество людей в нужном ей духе. Этого не
произошло бы, если каратели и расстрелыцики хотя бы в чем-то не
созрели для своей будущей роли еще до крушения Российской
империи.
Но я бы поостерегся утверждать, что зерна большевизма произра-
стали еще в Петербургской России, что Россия большевистская
являлась ее естественным продолжением в новой исторической ситуа-
ции. Большевистской Россия стала в результате катастрофы и круше-
ния, в итоге отказа от себя прежней в пользу настоящей и будущей.
Другое дело, что у слишком многих русских людей не было иммуни-
тета к происходившим переменам, они оказались более или менее
подходящим материалом для формирования из них людей нового
662
Русская культура в XX веке
типа. Скажем, служил в первую мировую войну в российский импе-
раторской армии поручик Тухачевский, в гражданской же войне он
уже командующий фронтом, затем следуют его подвиги кровавого
усмирения крестьян Тамбовской губернии, завершает же свою карье-
ру бывший поручик маршалом Советского Союза и заместителем
наркома обороны. Откуда в Тухачевском взялась такая готовность
к стремительному восхождению по должностным степеням в стране
с бесконечно преступной и безответственной властью? Уж, конечно,
не от каких-то там исходных преступных наклонностей, крайней
душевной мелкости и человеческой незначительности. Все это очень
даже могло бы пригодиться при большевистском режиме. Тухачев-
ский же здесь особенно ни при чем. Не касаясь обстоятельств его
биографии, нельзя не заметить того, что в принятии им советской
власти не могла не сказаться душевная растерянность и неустойчи-
вость, равнодушие или скептическое отношение к императорской
власти.
В обстановке всеобщей неразберихи и смуты какое-либо подобие
порядка и воли к форме, стоявшие за большевизмом, не могли не
вызвать приятие новой власти. Вначале осторожное и поневоле,
проявление лояльности к большевикам — это начало того скользкого
пути, на котором инерция скольжения в пропасть большевистского
маршальства имела свою инерцию и необратимость. Думаю, что грех
очень многих принявших большевизм и ставших твердокаменными
большевиками поначалу состоял всего лишь в отсутствии собствен-
ной прикрепленное™ к кому-либо или чему-либо, в ощущении себя
на перепутье, когда исчезла ведущая и направляющая сила импера-
торской власти. Ее свергли со всей беззаботностью, совершенно не
отдавая себе отчет в том, что кроме нее в России не было сколько-
нибудь оформившегося конструктивного начала. В катастрофу боль-
шевизма очень многие русские люди попали, предполагая, что кру-
шение империи —это веха выхождения страны к более достойному
существованию. Совсем немногие знали или догадывались, что кру-
шение империи—это одновременно и крушение России и что именно
большевизм выявил реальность происходившего во всей полноте.
Глава 2
Псевдокультура безвременья
По крайней мере внешне и формально сроки существования
большевистской России установить можно с точностью едва ли не до
одного дня. В ноябрьские дни 1917 г. она началась, декабрьскими
днями 1991 г. закончилась. Отличавшемуся поразительной стреми-
тельностью превращению вчерашней империи в сегодняшнюю страну
победившей революции вполне соответствовала скорость падения,
казалось бы, незыблемо прочного режима. О том, что здесь не было
такой уж полной симметрии, речь впереди, теперь же, начиная главу
о далеко не самом радостном времени существования России, вернем-
ся к тому обстоятельству, что это время как раз историческим
и культурным не было, что оно не сложилось ни в историю, ни
в культуру, если под ними понимать историческую эпоху (период)
или тип культуры. Вовсе не отказываясь от этого утверждения
и даже со всей определенностью на нем настаивая, нельзя все же не
признать факта вполне очевидного: семьдесят четыре года страна
и народ не могли не существовать в ситуации хотя бы некоторого
подобия исторического и культурного бытия. Хотя бы своей псевдо-
культуры у них не могло не быть. Ведь не уничтожили же себя
в некой ярости русские люди без остатка, не разбежались, встав на
четвереньки, по лесам, хотя временами казалось, что дело идет
к чему-либо подобному. Если же псевдокультура так или иначе
существовала, то у нее были свои, пускай и ложные, ведущие в тупик
и катастрофу основания, свои наиболее значимые, выражавшие псев-
докультуру проявления. Их нам и остается рассмотреть.
Но прежде чем переходить к такого рода рассмотрению, необходи-
мо еще раз со всей определенностью подчеркнуть, что «псевдоморфо-
зой» «социалистическую культуру» делало вовсе не ее полная несо-
вместимость с культурой, не чистое отрицание культуры как таковой.
664
Русская культура в XX веке
У чистого, тотального отрицания попросту не могло быть осуществ-
ленное™, присутствия во времени. Какие-то моменты «социалистиче-
ской культуры» могут быть признаны и культурой без всяких кавы-
чек и оговорок. Дело, однако, в том, что то целое, в которое они
складывались—это уже извращенный феномен, а если и культура, то
как процесс ее самоизживания и самоотрицания. Позволю себе срав-
нение заведомо слишком сильное. Воплощение и персонификация
зла — преступник и убийца—вообще говоря, возможно, и не лишен
таких положительных свойств как «ум», «остроумие», «проницатель-
ность» и т. д. Но что это меняет в его существе, если указаныне
свойства способны только усугубить исходящее от преступника зло.
Самая, может быть, поразительная особенность «советской куль-
туры» состояла в том, что в XX в. она вдруг заявила себя, исходя из
самого, какое только может быть, архаического восприятия про-
странства. Оно опять стало восприниматься как очень жестко и одно-
значно разделенное на пространство своего и чужого, в конечном
счете, космически устроенное и сакрализованное, и, соответственно,
хаотическое, пронизанное демоническими реалиями. Старомосков-
скому расчленению мира на Православную Русь и мир басурманства
на востоке и юге и мир западных схизматиков-немцев было далеко до
новомосковского расчленения как по части жесткости противостоя
ния, так и по степени изоляции от мира чужого. Московская Русь,
конечно же, не была лишена враждебного настроя по отношению
к басурманам и схизматикам, но прежде всего в ней преобладала
опасливость, настороженность, так же как и оборонительные импуль-
сы. Ни о чем подобном непримиримому столкновению двух миров,
где даже так называемое «мирное сосуществование» и «борьба за
мир» оставались формами борьбы до победного конца за торжество
«своего», Московская Русь не знала. Какое там до победного конца,
тут устоять бы, сохранить себя перед натиском и соблазнами Запада.
Нужно, разумеется, учитывать, что борьба на международной
арене двух миров —мира победившего социализма и медленно отсту-
пающего капитализма и империализма—это реальность прежде всего
идеологическая и политическая. Прежде всего, но не только. Потому
что и самые либеральные и интеллектуальные круги российского
общества были вовсе не чужды представления о том, что социализм,
не в его бесчеловечной большевистской форме, а преодолевший
всякого рода искажения и извращения — это неизбежная реальность
будущего, тогда как так называемый капитализм с его социальным
неравенством, эксплуатацией человека человеком, гонкой вооруже-
ний и колониальными замашками так или иначе обречен. Большеви-
стская идеология по мере ее распространения и укоренения в России
тем самым не только оставалась идеологией, но еще и трансформиро-
валась в миф. Миф же, как известно, это уже не лозунг, не доктрина,
а прежде всего реальность душевного строя, способ видения мира
и характер самоощущения человека. Таковым, в частности, для по-
Псевдокультура безвременья
665
давляющей части населения России, и в очень значительной степени,
стал миф двоемирия, фундаментального разделения всех стран и на-
родов на социалистические, капиталистические и третий мир, еще не
определившийся, но как будто склоняющийся к социалистическому
пути.
Борьба есть борьба, и она требовала и жесткой противопоставлен-
ности миров, и изоляции мира своих от мира чужих. Первоначально
своим был только мир большевистской России, существовавший во
враждебном окружении чужих. Что, однако, очень примечательно
и характерно, так это ситуация, сложившаяся после образования
в результате окончания второй мировой войны целой группы госу-
дарств с режимами большевистского толка. Это, однако, вовсе не
привело к взаимной открытости и проницаемости стран с одинако-
вым режимом. «Свои» по-прежнему существовали в большей или
меньшей изоляции не только от все того же враждебного окружения,
но и друг от друга.
Понятно, что причиной тому были реалии политические. Однако
они способствовали закреплению архаической модели пространства,
когда свое—это только своя страна, все же остальные страны —более
или менее чужаки. Невозможность для огромного большинства насе-
ления России побывать за рубежом, даже и социалистическим, спо-
собствовало формированию двойного образа чужого мира. С одной
стороны, он демонизировался и хаотизировался, представляясь анти-
миром. С другой же стороны, происходила его невольная и подспуд-
ная «сакрализация». В полном соответствии с древней мифологемой
чужой воспринимался как некоторое соприсутствие переходящих
друг в друга противоположностей. Его боялись и ему завидовали, его
жалели, но им и восхищались, от него отворачивались и жадно
искали с ним встречи, и т.п. И все это в мире невиданных и невооб-
разимых еще совсем недавно возможностей массовой информации
и массовых коммуникаций, мире, в котором, казалось бы, все толка-
ет к взаимной открытости стран и народов. Последнее обстоятельст-
во, между прочим, как раз и делает совершенно очевидным произ-
во дность и вторичность новой советской мифологии от идеологии,
выявляет искусственный и насильственный характер реставрации
некогда бытийствовавших и, казалость бы, навсегда ушедших в прош
лое мифов.
Поскольку же у нас речь идет о мифологеме пространства, то
нельзя не обратить внимание читателя и на то обстоятельство, что
в соответствии с исходной мифологемой пространство чужого—это
не только окоем «круга земного», внешнее окружение своего мира.
Последний проще всего уподобить отрезанному куску хорошего сыра,
которому особое обаяние придают дырки в нем. В нашем случае,
правда, упомянутые дырки играли зловещую роль проклятых мест.
Они представляли собой зоны прорыва хаотических и демонических
сил в космически устроенное пространство. Оно ведь предполагает
666
Русская культура в XX веке
хаос не только на окоеме, но и наверху, над твердью земли, так же
и как и «там внизу», под землей, в той хляби, на которой покоится
земля. С верхом в советской мифологеме пространства все обстояло
благополучно, тогда как упомянутые «дырки в сыре» очень успешно
актуализировались, особенно в первые десятилетия большевистской
власти, когда она отстаивала себя перед лицом не только внешнего,
но и внутреннего врага—действительного, мнимого или сознательно
сконструированного. Тогда дырки кишмя кишели шпионами, дивер-
сантами, контрреволюционным подпольем, кулаками и подкулачни-
ками, социально чуждыми элементами, разложенцами, перерожден-
цами и пр. По большей части, это были люди, за которыми заведомо
был необходим неусыпный контроль в готовности нанести упреждаю-
щий удар, но немало было и таких, которые «внезапно оказались»,
настолько глубоко была запрятана их настоящая сущность. Так или
иначе, но без чудовищно разросшихся органов государственной безо-
пасности большевистский режим был немыслим. Подчеркнем, это не
потому лишь, что таков был людоедский характер новой власти, ее
трезвое понимание невозможности властвовать без совершения бес-
конечных репрессий. Срабатывала еще и новая мифологема, то есть
то, что могло и насаждаться в качестве идеологии, но идеологии,
которая обволакивала всех —и идеологов, и тех, на кого она была
рассчитана. Еще и поэтому, а не по одной лишь действительной
необходимости для существования режима органы безопасности были
раздуты настолько, что пропорционально численности населения они
возросли в десятки раз по сравнению с последними годами импер-
ской государственности.
Особенно должны быть отмечены не только наши «славные чеки-
сты», но и пограничники. В советском смысле они были до револю-
ции у нас неведомы, так же как и где-либо еще в мире. В других
европейских странах, и Россия здесь не исключение, традиционно
существовала финансовая полиция, пограничная стража и пр., глав-
ной задачей которых оставалось ограждение страны от вывоза и осо-
бенно ввоза контрабандных товаров. Это были ведомства военизиро-
ванные и относительно населения страны очень немногочисленные.
Совсем иное дело — пограничные войска ОГПУ (НКВД, КГБ). Они
были увеличены до размеров ранее немыслимых, главное же состоя-
ло в их переориентации прежде всего на задачи политические: борьбу
с диверсантами, шпионами и не в последнюю очередь с попытками
собственных граждан бежать в антимир чужого. Но опять-таки,
политические установки не только порождали миф, но и растворя-
лись в нем. А именно —в мифе о непрерывном напоре хаоса на
космос. Космос ведь и в древней мифологеме — реальность искусст-
венная, он добывается устроительными усилиями богов и героев, сам
по себе космос не существует, его нужно неустанно отбивать у хаоса,
не допуская проникновения последнего в космизированное простран-
ство. Очень быстро пограничные войска для власти и для остального
Псевдокулыпура безвременья
667
населения стали реальностью вовсе не странной, а само собой разу-
меющейся, одйим из столпов, на котором держится новый большеви-
стский мир.
Для этого мира между тем существенной была не только соотне-
сенность с антимиром, но и представление о центре космически
устроенного бытия, своем подобии исконного для всего человечества
пупе земли. Любой человек, живший в зрелые и не очень зрелые
годы в большевистской России, без труда укажет вам, где находился
этот пуп. Впрочем, одна небольшая сложность здесь все-таки будет.
Наш советский пуп несколько двоился. Во время больших государст-
венных праздников он самым отчетливым образом обнаруживал себя
как Мавзолей Вождя и основателя большевистского государства.
Мимо этого пупа проходили участники военного парада и ликующие
колонны демонстрантов, на самом пупе располагались руководители
партии и правительства. А вот в ночь с 31 декабря на 1 января, когда
приближался единственный день в году, в котором для советских
людей действительно что-то было от настоящего праздника, пуп
большевистской России перемещался на несколько сот метров от
Мавзолея и им становилась Спасская башня Московского Кремля.
В последние минуты уходящего года вся страна видела верхнюю
часть башни с курантами, слышала звон часов, главных в стране,
и живо ощущала рождение Нового года именно там, где оно только
и могло происходить — в пупе земли.
Такая живая и наглядная мифологема пупа советской земли с осо-
бенной ясностью демонстрирует взамозависимость и взаимопереход
большевистской идеологии и мифологии. Никто, разумеется, не ут-
верждал заранее и в полном сознании совершающегося Мавзолей
и тем более Спасскую башню как центры большевистской ойкумены.
Все сложилось в значительной степени само собой. Первичным
действием здесь стало захоронение у кремлевской стены большевист-
ских боевиков, погибших при штурме Кремля. Этим захоронением
стена Красной площади была освящена. Ее освященность подкрепи-
ли митинги в память павших бойцов. Затем на Красной площади по
традиции стали устраиваться парады красноармейцев, которых с три-
буны приветствовали вожди. Центр большевистской Москвы тем
самым смещался со своего исходного места на Соборной площади
внутри Кремля. Это было тем более уместно, что Кремль стал
большевистской резиденцией, совершенно недоступной для посеще-
ния горожан. Последние точки над i поставила смерть Вождя и соору-
жение ему Мавзолея. Теперь всем окончательно стало ясно, где
находится самое главное место Москвы, а заодно и всей страны. Оно
совпало с местопребыванием останков вождя и основателя. В качест-
ве сакральной точки это место было навязано стране большевистским
государством и его идеологией.
Другой вопрос, как сами большевики пришли к мысли о том, что
кладбище с его главным захоронением должно играть роль простран-
668
Русская культура в XX веке
ственного и смыслового центра страны. В соответствии с самой
архаической моделью мертвецы, как бы они не почитались и не
задабривались, не могли хорониться в центре первобытного космоса.
Их место на окоеме. Для христианской культуры подобное обыкно-
вение становится недействительным ввиду того, что никаких мертве-
цов, ведущих свою сумеречную и страшную в своей таинственности
жизнь, она не знает. Для христианина есть усопшие, пребывающие
в Боге, или отвергнутые Им. В любом случае об угрозе прихода
мертвецов в мир живых говорить не приходится. В христианстве
смерть преодолена, а значит, преодолен образ мертвого человека —
мертвеца, который каким-то образом существует и способен на свое
непереносимо ужасное вмешательство в жизнь живых.
Но ведь не за христианские же реалии ухватились большевистские
лидеры, когда принимали решение о строительстве Мавзолея и му-
мифицировании Вождя. Нет, конечно. И все же в их безумных
действия была своя, если и не логика, то устремленность, порыв,
пускай пустой и тщетный, выразить какое-то подобие смысла. Чтобы
как-то приблизиться к его пониманию, наверное, необходимо сосре-
доточиться на вопросе о том, может ли быть с позиций большевист-
ской идеологии позитивно истолкована мумификация. Если учесть
самый решительный, грубый и непреклонный материализм больше-
виков, то мумия—это ничуть не более чем бессмыслица. Человек
умер, а значит всецело перестал существовать. Остались только его
воплощения: дела, мысли, память о нем. Мумия же—это в крайнем
случае памятник человеку, созданный из его мертвого тела.
Возможно, на каком-то уровне сознания или подсознания у боль-
шевиков сыграл свою роль примитивнейший и грубейший натура-
лизм: «А почему бы не создать Вождю самый похожий, самый
близкий к первореальности тела, уже почти не отличимый от самого
Вождя памятник?» Ведь, когда из убитых зверей и птиц создают
чучела, их создателями тоже движет желание максимально прибли-
зить к жизни те существа, которых убили охотники. В этом случае
тому же охотнику очень приятно будет видеть и вспоминать, с каким
зверем или редкой птицей он совладал. А то, что они жертвы, что от
них осталась одна оболочка тела —этого достаточно, чтобы живо
воспроизвести образ тех, за кем когда-то охотились. Повторюсь, вряд
ли большевистские вожди были совсем чужды логики создания
памятников как чучел.
Учтем, однако, и другое: ближайшие замыслы и мотивы, нередко
помимо намерений их носителей, оборачиваются еще и чем-то иным,
тем, что способно поразить своей неожиданно проявившейся логикой
тех, кто о ней и не подозревал. Подобная логика в ситуации мумифи-
кации Вождя может быть сведена к следующему. Большевикам
мумификация нужна была еще и для того, чтобы своими топорно-
материалистическими средствами вывести фигуру своего Вождя за
пределы не только материализма, но и секулярности. Его жизнь
Псевдокультура безвременья
669
стала поворотным моментом истории. Она разделила историю на
время «до» и «после». В истории через биографию Вождя произошел
перелом, завершилось нечто несостоятельное и в лучшем случае
предварительное, и началась некоторая подлинность и аутентичность.
Каким-то образом сама история из себя породила человека, который
своим гением и трудом оказался способен отменить ее, истории,
доисторичность, и начать собственно историю. Это, конечно, не чудо,
чудес не бывает. Но событие до того грандиозное, что его творец
должен быть выделен каким-то ранее немыслимым образом.
И нет тут особого смысла кивать в сторону древнеегипетских
мумификаций. Конечно, без их прецедента не состоялась бы и наша
отечественная дикость и непотребство. Однако в них-то мумия вы-
ставлена на всеобщее благоговейное обозрение, а не сокрыта в тиши-
не и тайне, что только и приличествовало египетским мумиям. По-
следние были путем сакрализации египтян, бывших при жизни рабами
царя-бога-фараона. Наша же мумия стала путаным, невнятным и бе-
зумным порывом сакрализовать того, кто всякую сакрализацию отри-
цал, так же как и теми, для кого она была неприемлема. Мумифици-
ровать Вождя для большевиков значило все равно, что поднять
самих себя за волосы. Никакой логики в их действиях по мумифика-
ции не было и быть не могло. Невозможно истории самой преодолеть
себя, стать метаисторией, невозможно профанной реальности выйти
в реальность сакрального, которую она сама отрицает.
Поистине, здесь со всей безысходностью действовала логика «пой-
ти туда, не знаю куда, принести то, не знаю, что». Итогом же всего
стала совершенно невнятная, никак не собирающаяся во что-то
фиксированное торжественность посещения Мавзолея. В ней совме-
щались и любопытство поглазеть на мертвого, но как бы всегда
живого человека, и вроде бы скорбь по Вождю (как-никак он
мертвый), и сознание своего пребывания в центре мироздания, и бла-
годарность за то, что Вождь сделал для страны и человечества, и пр.
Нанизывать друг на друга смутные ощущения и движения мысли,
которой не родиться у Мавзолея и в нем, можно до бесконечности.
Пребывание в смысловой пустоте между тем останется непреодоли-
мым. А перед нами действительно пустота, но пустота сакрализован-
ная, скорее же, насквозь пустая сакрализованность жизни, которая
в действительности есть никакая не жизнь, как бы она не пыталась
утвердить себя в качестве таковой.
«Советское пространство» самым тесным образом было связано
с «советским временем». Прежде всего по тому пункту, что и в од-
ном, и в другом случае это были совершенно исключительные про-
странство и время, и в этой своей исключительности отгороженные
и изолированные от других (чужих) пространств и времен. Чужим
для «советского времени», понятное дело, было прошлое. Разрыв
с ним по возможности был самым радикальным, особенно в первые
годы и десятилетия большевистского режима. Наиболее существен-
670
Русская культура в XX веке
ную коррективу в восприятии прошлого внесла Великая Отечествен-
ная война. Она окончательно утвердила пробивавшее себе дорогу
и ранее избирательное отношение к прошлому. Теперь оно не от-
вергалось с порога, а переносилось из синхронного в диахронный
контекст. Первостепенно, а по сути единственно важным был смысл
явлений происшедшего не в контексте того, с чем они сосущество-
вали во времени, а в соотнесенности с будущим. Тогда принимаемое
прошлое становилось неразвитой формой настоящего, предвари-
тельным его наброском, которому еще предстоит осуществление
в полноте и довершенности. Конечно, в подобном восприятии про-
шлого легко угадывается большевистская идеология, которая только
и может оправдать большевизм за счет его возвеличивания перед
прошлым. Ведь крутая ломка потому и необходима, что все предше-
ствующее решительно никуда не годится. Однако может быть и не
помимо, но уже за пределами всякой идеологии обитатели Совет-
ской России, даже критически относившиеся к большевизму, прини-
мали Октябрьский переворот как данность исторического процесса.
В нем была своя логика и своя необходимость, он может быть был
безоглядно жестоким и кровавым, но это была именно история.
В революции история совершила резкий поворот или скачок, они
необратимы. С этим приходится считаться, и в этом находить свою
суровую правду. Говоря известными словами, «нужно не смеяться,
не плакать, а понимать».
Одна из самых страшных сцен, которой автор этих строк был
свидетелем, произошла в феврале 1985 г. на Невском проспекте
Ленинграда. Нет, никто на моих глазах никого не убивал, и вообще
в этой сцене не было ничего от сцен убийства, насилия или хотя бы
болезненного надрыва. Всего-навсего в момент, когда я спешил по
своим делам по Невскому проспекту, наступила торжественная мину-
та молчания в память о скончавшемся генеральном секретаре
ЦК КПСС, председателе президиума Верховного Совета СССР
К. У. Черненко. Преждевременно, но зато совершенно до каждой
клеточки одряхлевший партийный функционер высокого ранга за
год до этого был избран на высшие посты в партии и государстве.
Если бы даже Черненко и был здоровяком, незнакомым с болезнями,
в лучшем случае ему по чину было бы место какого-нибудь делопро-
изводителя, тоже секретаря, но уже не генерального, а технического.
А тут такое вознесение главы. Когда такие люди, как Черненко,
оказываются у кормила власти, вся абсурдность и пустота власти
и тот абсурд и пустота, в которые они повергают страну, выявляют
себя с полной прозрачностью. И все же страна-то ведь существует,
у нее есть какой-никакой строй жизни и лица, его осуществляющие.
Но вот один из них, едва ли не самый курьезный, хотя бы в виду
неожиданности того, как его вытолкнули из тени, умирает. Умирает
не просто более чем заурядный человек, а еще и олицетворение
страны. Что остается делать ее гражданам в траурную минуту молча-
Псевдокулыпура безвременья
671
ния? Остановиться в скорбной задумчивости. И весь Невский про-
спект действительно на минуту застыл, люди стояли молча, с посу-
ровевшими лицами. Остановился и я, признаюсь. Только потому, что
как громом среди ясного неба был поражен происшедшим. Жадно
вглядываясь во множество лиц, я с настоящим страхом и тоской
думал: «И куда же нас загнал большевизм, и куда загнали мы самих
себя, в какую ловушку попали, что приходится неизвестно кому
и неизвестно за что отдавать такие грандиозные траурные почести.
Приходится именно каждому из нас, очутившихся в публичном
месте. Что секретарствование Черненко—это история9 Что, страна
при нем, генсеке, жила исторической жизнью? Странно и дико это
все».
Нас и мы сами себя заставили воспринимать свою послежизнь как
историю, как новую, необратимо свершившуюся эпоху, у истоков
которой не крушение, не провал в бездну, не более или менее
успешная попытка самоубийства, а грандиозный исторический пере-
ворот, открывший собой новую историческую эпоху. Впрочем, осо-
бенно никто нас не заставлял, мы жили в советском мифе, на этот раз
в его временном измерении.
Восприятие этого измерения в промежутке между 1917 и 1991 гг.
было вариабельным. Но даже и в конце сроков, отпущенных больше-
вистской России, даже самые рьяные и говорливые реформаторы
вполне искренне пребывали в уверенности, что начавшийся в 1917 г.
исторический процесс подлежит корректировке, что свершившееся
тогда в своем существе необратимо. Исторический конфуз России, ее
бытие в «нетях» доходили вовсе не до тех, кто воздействовал на
массовое сознание и сам был его выразителем. В общем-то, осмысле-
ние движения времени в большевистский период сводилось к вариа-
циям одной и той же в своей основе незамысловатой схеме.
Исторически неизбежная революция дала сбой культа личности.
Он подлежит устранению, с тем чтобы социализм успешно выявлял
свои возможности и преимущества (первая вариация). Движение на
пути социализма столкнулось с волюнтаризмом хрущевского руково-
дства (вторая вариация). Строительство социалистического общества
в нашей стране пережило застойный период (третья вариация). Но
когда получалось, что культ личности, волюнтаризм и застой охваты
вают собой почти весь большевистский период, а до них были еще
разборки с троцкистами и бухаринско-зиновьевским блоком, которые
оказались вовсе не такими кровопийцами, как их живописали до
середины 80-х годов, то выход все же был найден. И состоял он
в том, что всему виной командно-административная система, та мо-
дель социализма, которая осуществлялась в России, закрыла социа-
лизму другие, более приемлемые перспективы.
Так или иначе, но строй большевистской России не отрицался, не
квалифицировался в соответствии с его существом. В итоге миф
о советской эпохе, о том, что Россия живет в какое-то особое истори-
672
Русская культура в XX веке
ческое время и особую культурную эпоху оставался жив до самого
момента крушения большевизма. Крушение же произошло не по
чьей-то воле и замыслу, а в судорожных или вялых попытках
остаться в пределах иллюзий установившегося мифа. Поэтому, по-
ел еболыпевистекая Россия и очутилась в неведомом для нее времени,
без всяких ориентиров и опорных точек, несомой каким-то неведо-
мым «становлением». Со своим доболыпевистским прошлым она
разорвала практически всякую живую связь, но ничего, кроме боль-
шевистских десятилетий, за пустоту которых никак не ухватиться
и вполне чуждого опыта западного развития где-то рядом для России
не осталось.
* * *
При обращении к нашему недавнему прошлому не составляет
большого труда выявить в нем черты самой глубокой архаики в вос-
приятии не только пространства и времени, но и многих других
фундаментальных или второстепенных реалий. Однако мы впадем
в самую грубую ошибку и заодно очень сильно облегчим себе задачу
понимания большевистской России, если сведем все дело к архаике,
если подспудная архаизация страны останется последней истиной
осмысления. В том и дело, что архаические моменты новой реально-
сти не сцеплялись в некоторое целое. Архаика сыграла свою злове-
щую роль там, где она решающей роли не играла. Решающим же
оставалось то, что большевистская реальность оставалась недооформ-
ленной, в принципе не способной к довершенности, необходимой
внятности смыслов. Сказанное проще всего продемонстрировать на
примере все той же большевистской власти. Правда, на этот раз
обратившись к первой по значимости властной фигуре в большевист-
ской России.
Никому не нужно объяснять, что таковой в ней была фигура
генерального секретаря ЦК КПСС. При этом совсем не лишним,
однако, будет напомнить два уточняющих момента. Во-первых, то,
что во всей своей значимости генеральный секретарь состоялся толь-
ко ко второй половине 20-х гг. Первые же годы большевистского
режима должности генерального секретаря в партии вообще не было.
Первенствующую роль в послереволюционной России играл Предсе-
датель Совета Народных Комиссаров.
Впрочем, здесь необходимо уточнение касательно еще и того, что
не этот пост сам по себе давал наибольшее влияние, власть и почет,
а то, что на нем находился один из членов Политбюро ЦК КПСС
(в то время ВКПб), который являлся в нем неинституциализирован-
ным, но совершенно несомненным лидером. Для всех остальных
членов политбюро следовать за тем, что предлагал этот лидер на его
заседаниях, было делом привычным и естественным. Непривычным
и неестественным было как раз обратное—прямое несогласие и тем
более противостояние лидеру. Вот и получалось, что высший пост
Псевдокулыпура безвременья
673
государственной исполнительной власти достался тому, кто лидиро-
вал на несравненно более значимом партийном властном уровне.
Сама по себе должность Председателя Совета Народных Комисса-
ров, как это показали ближайшие после смерти лидера политбюро
события, особых преимуществ не давала. Еще меньше что-либо
зависело от главы В ЦИК—постоянно действующего органа законо-
дательной власти.
Высшего должностного лица, которое и по существу и официально
обладало бы самыми большими властными полномочиями, в первые
годы существования большевистской России в стране не было. Пред-
полагалось, что ядро новой власти образует коллективный орган —
Политбюро ЦК ВКПб. Оно представительствовало за ЦК, тот, в свою
очередь, за съезд, съезд за партию, партия же была той организаци-
ей, которая взяла на себя всю полноту власти в России. Понятно, что
непосредственно и каждодневно принимать властные решения в мас-
штабах страны партия и съезд не в состоянии, не реально это и для
нескольких десятков членов ЦК. А вот несколько членов Политбюро,
собирающихся не менее одного раза в неделю —это уже группа,
обладающая реальной властью, властью коллективной, принимаю-
щей свои властные решения голосованием.
В этом Политбюро кому-то может слегка напомнить коллективные
органы власти в государствах с демократическим режимом. Лучше,
однако, воздержаться от подобных сопряжений. Хотя бы потому, что
множество своих решений, принимавшихся «в тишине и тайне»,
Политбюро не доводило до ЦК и уж тем более до партийного съезда
и до всей партии. Очень во многом оно действовало по своему
усмотрению в качестве высшей, никому не подотчетной инстанции.
Такой статут Политбюро никто не определял и не присваивал. Все,
кто был близок к партийным верхам, о нем прекрасно знали и прини-
мали как данность. Данность такую, как она есть, не основанную ни
на каких официальных доктринах и открыто изъявляемых смыслах.
В качестве никому неподконтрольной, а, напротив, все контролирую-
щей инстанции, Политбюро сложилось, как это принято говорить,
исторически. В действительности же именно потому, что с большеви-
стским переворотом Россия из истории выпала. Ее существование
стало бессмысленным, точнее же, осуществляющим собой мнимые
смыслы, те, которые только притворяются смыслами и рассыпаются
под сколько-нибудь пристальным взглядом.
Изначально заданная ложь положения Политбюро в структуре
большевистской власти достаточно скоро усугубилась появлением
фигуры генерального секретаря ЦК ВКПб. В начале 20-х гг. XX в.
еще всем было понятно, что секретарь — это должность, за одним,
может быть исключением статс-секретаря, низкая. Секретарь всегда
более или менее технический работник. Его обязанности—делопро-
изводство и близкие к нему вещи. В петровской «Табели о рангах»
секретарские чины предшествовали чинам советников. Даже чин
674
Русская культура в XX веке
высшего из них — коллежского секретаря — очень низкий. Настолько
малозначимый, что гоголевский Акакий Акакиевич был произведен
всего лишь в титулярные советники. А сколько секретарей (секре-
тарш) по всей России занималось всякого рода делопроизводством
и обслуживанием более высоких чинов и должностных лиц накануне
революции?!
Этого не могло не помнить большевистское руководство, учреждая
в партии должность генерального секретаря ЦКВКПб. И что же —
человек, занявший чисто секретарский пост, с техническими по
преимуществу функциями, в считанные годы становится первым
лицом в большевистской России. Рассмотрение механики происшед-
шего не наше дело. Специально отметить в происшедшем нужно
только одно. Несмотря на стремительно и до невероятных пределов
возросшую значимость фигуры генерального секретаря, официально
он не возглавлял ни государство, ни партию, ни ЦК ВКПб, ни даже
политбюро (генеральный секретарь оставался всего лишь одним из
его членов). Если что и возглавлял новоявленный лидер, так это свой
секретариат, официальный партийный орган, несоизмеримый по сво-
ей важности с политбюро. Тем не мене*1 все знали, что во всем
Советском Союзе есть только один лидер, вознесенный над всеми
остальными на головокружительную высоту. Почему им является
именно генеральный секретарь, так и осталось непроясненным. Не-
проясненность здесь заместилась привычностью.
Проглядывала, правда, в вознесенности генерального секретаря
и своя особая большевистская логика. И это была логика подполья
и подпольщиков. Она сохранилась несмотря ни на какой захват
власти большевиками. Они были партией, боровшейся за власть,
потом стали партией, борющейся за удержание и укрепление своей
власти. И в этой борьбе сохранились устойчивые привычки и навыки
подполья. Оно же требует известной конспирации и ореола таинст-
венности вокруг партийных руководителей. Внешне они должны
ничем не выделяться из общей массы, тем в большей степени будет
осуществляться их реальная руководящая и направляющая роль.
Подобным образом обстояло и с генеральным секретарем. Малень-
кий невзрачный человек с каким-то первобытно-грубым и простым
лицом, к тому же еще и непривычно восточным, одетый вечно в один
и тот же полувоенный френч, именно он был главной, ни с кем не
сравнимой властной фигурой. Его решения никем не оспаривались
и значили несопоставимо больше, чем чьи-либо еще. И несмотря на
это, исходившее от генерального секретаря становилось постановле-
ниями ЦК, съездов партии, Совета Народных Комиссаров, Верхов-
ного Совета СССР.
Видимость самостоятельности последних была для всех очевидна,
но в этом и было все обаяние секретарской власти. Сам генеральный
секретарь оставался все-таки как бы в подполье, но все властные
инстанции вращались вокруг него. Его можно было бы уподобить
Псевдокулыпура безвременья
675
серому кардиналу. Но это был достаточно абсурдный серый карди-
нал без «папы». А может быть, роль последнего как раз и исполняли
все эти съезды, пленумы ЦК и заседания Верховного Совета? Если
это и так, то роль разыгрывалась таким образом, чтобы ни у кого не
возникало сомнения по поводу того, кто автор текста роли и кто
режиссер. Генеральный секретарь, оставаясь в тени (первый из них
особенно подчеркивал свою затененность, подписывая соответствую-
щие бумаги даже и не в качестве генерального, а просто секретаря
ЦК ВКПб), все же очень даже был склонен выходить из нее. Ведь он
был не только секретарем, но еще и вождем советского народа и всего
прогрессивного человечества. Тут уж точно есть от чего пойти кругом
голове, не одурманенной, не усыпленной привычной бессмыслицей.
Как-то так странно выходило, что едва выглядывающий из своего
и без того странного подполья генеральный секретарь одновременно
являлся существом, превозносимым до какой-то уже сверхчеловече-
ской степени. Он мудр, гениален и прозорлив, всеведущ и т. д.
Божество, и точка. Чем не египетский фараон или хотя бы ассирий-
ский, персидский, хеттский царь?! И чем не культ тот официозный
восторг и почитание, которые окружали вождя? А вот и нет, никакой
он не божественный царь и никакого культа вокруг него не сложи-
лось. Точнее же, генеральный секретарь и божественный царь, и не
царь, а отношение к нему и культовое, и не культовое. В момент его
обожествления советскому человеку обязательно нужно было пом-
нить, что соотнесен генеральный секретарь с человеком и только
человеком, а иначе получалась бы мистика какая-то.
Точно так же с культом. Его непременно нужно было справлять,
но справлять вокруг того, кого именовать обязательно полагалось
товарищем. Попробуй, разберись с этим бредом, в котором фигури-
рует «товарищ бог» и которого нужно было славословить исключи-
тельно профанными словами или же теми, в которые вкладывается
профанный смысл, однако возведенный в такую энную степень,
когда профанность становится неотличимой от сакральности. Они
смешиваются, друг друга исключают, доводя до абсурда. Морок
какой-то, да и только, а вовсе не архаика. Здесь не более чем
устремленность в сторону архаики и тотчас попятное движение,
отрицающее всякую архаику. Это такого рода игра со смыслами,
которая порождает едва завуалированную и слегка прикинувшуюся
смыслом бессмыслицу. Собственно, существование большевистской
России и было бессмыслицей, чем далее, тем более явной всем
и каждому. Впрочем, для очень многих ситуацию спасало то, что
жизнь и смысл с успехом разводились. Главным становилось просто
жить, жизнь виделась в равенстве себе самой, а не в заданности,
выводящей ее за собственные пределы. Стремление к жизни как
данности не обязательно понимать исключительно как борьбу за свое
сохранение. Выживание может осуществлять себя в качестве бьюще-
го через край благополучия. В любом случае, человеческая жизнь
676
Русская культура в XX веке
зцесь равна себе, она есть чистое пребывание, чуждое всему помимо
себя же.
Настоящий, а не поздний вторичный миф держится в своей незыб-
лемости на невменяемости тех, кто в нем живет, на нефиксированно-
сти и скользящей неуловимости ими самих себя. Советский же миф,
так тесно связанный с идеологией, подпитываемый ею и в свою
очередь питающий ее, насквозь лжив или по крайней мере трусливо
закрывает глаза на в общем-то очевидные жизненные реалии. Ска-
жем, в этом мифе неизменно культивировалось достоинство просто-
народности. Не просто происхождения из социальных низов и при-
надлежности к тем, кого в большевистские времена именовали рабочим
классом и трудовым крестьянством, но и характерную для них
повадку, образ жизни, манеры поведения. И это при том, что
в большевистской России царил культ образования. Разумеется, не
самого по себе. В стремлении получить образование, выучиться,
безусловно преобладал инструментальный момент. За образованием
признавалось то достоинство, что оно позволяло вырваться из ситуа-
ции нищеты и непосильного труда на истощение. Это же, в свою
очередь, означало переход из рядов упомянутых рабочего класса
и колхозного крестьянства в другую реальность. Тем самым продви-
жение по лестнице образования оказывалось до известной степени
путем вверх по лестнице, ведущей вниз. Тот, кто образовывался, как
будто бы отрывался от корней, переходил от фундаментально-базис-
ного бытия к несколько эфемерному надстроечному бытию. Прирож-
денным, нутряным большевиком считался все-таки рабочий, в интел-
лигенте же большевизм несколько разуплотнялся, терял свою
монолитность.
Поэтому интеллигент нуждался в живых контактах с рабочими
или в крайнем случае с трудовым крестьянством. Ему полагалось
припадать к их суровой, немногословной, но такой глубокой и выс-
траданной правде. Нечто подобное утверждал миф о приоритете
простонародности первые десятилетия большевистского режима. По-
следующие же несколько десятилетий существенно трансформирова-
ли первоначальную мифологему. Вначале приоритет рабоче-кресть-
янской простонародности оскудел до уровня одной только идеологемы.
Потом идеологема настолько истощилась, что осталась неким услов-
ным знаком, который ничего не говорил ничьему уму и сердцу, ни
идеолога-манипулятора, ни того, на кого она направлена. И все же
исходный миф не умер, не растворился без следа. От него осталось
самое главное: ощущение людьми, получившими какое-то не совсем
мнимое и пустое образование своей иноприродности стране победив-
шего большевизма. Но это была такая иноприродность, которая
никуда не вела, ни на чем не настаивала и ничего не отстаивала. Все
ограничивалось некоторой отчужденностью от советской действи-
тельности при полной неспособности что-либо ей противопоставить.
Скажем, если среди интеллигенции были распространены симпатии
Псевдокулыпура безвременья
677
к Западу, то они вовсе не подкреплялись какой-либо внутренней
причастностью к западному образу жизни и западной системе ценно-
стей и приоритетов. У них своя жизнь, у нас своя. В лучшем случае
рассчитывали на некоторую постепенную конвергенцию, восприни-
мая существование собственной страны в контексте одной из двух
возможных моделей развития. Как будто в России, а не только на
Западе, по-прежнему продолжалась история, только пошла она сво-
им особым путем.
Фикция советской культуры, базирующаяся на лживой и невнят-
ной мифологеме, тем не менее выразила себя во множестве явлений,
традиционно относимых к сферам творческой деятельности. В боль-
шевистской России существовала и своя литература, и свой кинема-
тограф, театр, изобразительное искусство, музыка, гуманитарные
и естественные науки, философия. О том, какова цена всему этому
потоку продукции, уже шла речь в предыдущей главе. Памятуя
о том, что во всяком безумии есть своя система, можно попытаться
заглянуть в существо осуществлявшегося в пределах «советской
культуры». Очевидно, что оно определялось господствовавшей идео-
логией и сращенным с ней мифом. В той мере, в какой усилия
«творцов» пребывали в русле «советской культуры», они конкретизи-
ровали идеологию и миф, служили одними из способов их выраже-
ния. Наверное, самым простым и коротким путем демонстрации
оснований и логики создания советской творческой продукции будет
обращение к литературе. Все-таки мы были «самой читающей стра-
ной в мире».
И советская литература, и советский кинематограф в той мере,
в какой они хотя бы напоминали литературу и кинематографию,
представляли собой реальность, пребывающую в промежутке между
агиткой, непременной идеологической заданностью в духе, приемле-
мом для большевистской власти, и некоторых поползновений на
художественность. При этом последняя стремилась растворить в себе
агитку, сделать ее канвой, по которой вышивается узор. Тогда
идеологическая заданность произведения могла преобразоваться в миф,
являвшийся первосмыслом всего того, что разворачивается в произ-
ведении. Этот первосмысл представлял собой систему координат, за
пределы которых произведение не выходило. Оно совсем не обяза-
тельно иллюстрировало и подтверждало некоторый набор непремен-
но обязательных истин большевистской идеологии. Они могли прямо
не фигурировать, достаточно было их учитывать как нечто само
собой разумеющееся, естественное, единственно возможное и уже
в рамках этой естественности создавать художественные образы,
точнее, их подобие.
Наверное, ни у кого из представителей собственно советской
литературы подобие образов так близко не подходило к тому, чтобы
стать собственно художественными образами, как у В. Маяковского.
Они у него иногда и становились образами, несмотря ни на какой
678
Русская культура в XX веке
большевизм и советскость. Пояснить сказанное можно примером
самым хрестоматийным, многим поколениям бывших советских
и нынешних школьников хорошо известным — стихотворением Мая-
ковского «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Мая-
ковским летом на даче». В этом стихотворении поэт поведал читате-
лю ни больше, ни меньше как о своем приглашении солнца к себе
в гости, посещении солнцем поэта и разговоре, состоявшемся между
ними. Нечто подобное, поэтически выраженное на полном серьезе—
благоговейно ли, патетически, можно себе представить разве только
в античной поэзии, да и то до известных пределов. Поэту же начала
XX в., вообразившему свой живой контакт с солнцем, без игривого
или иронического тона не обойтись. Это слишком очевидно. Но
очевидно также, что к одной игре, забаве и иронии у Маяковского
дело не сводится. В своем стихотворении он не дурачится, не обраща-
ется к детской простоте и наивности. Может быть, его произведение
и не чуждо натянутости и сухости, но оно еще и жизненно серьезно
и не вовсе лишено поэтичности, крохами она все же рассыпаема
в стихотворении.
О чем же стихотворение, если иметь в виду не сюжет, а его смысл?
В самом общем виде ответ на вопрос ясен: оно о сходстве между
поэтом и солнцем, о том, что они делают одно и то же дело и должны
относиться к этому своему делу одинаково. Вначале о сходстве.
Когда-то, а оно, это «когда-то», длилось вплоть до XXв., поэту
сравнить себя с солнцем было равнозначно самому, какое только
может быть, превознесению. Для Античности оно означало бы пря-
мую самосакрализацию, для христианской культуры солнце уже не
божество, но Бог тем не менее уподоблялся солнцу, через его образ
христианин приближался к пониманию Бога. Так что и здесь поэту
поставить себя в ряд с солнцем возможно не иначе, как сближая себя
с сакральным рядом. Новоевропейская культура, во всяком случае
в XIX в., уже достаточно чужда всякого подобия сакрализации Солнца
и его увязыванию с сакральным. И все же поэт в ряду с солнцем, —
такой образ указывал на совершенную исключительность и значи-
мость поэта, на сверхчеловеческий замах его самооценки, то есть на
подспудную, непроговариваемую, но все же сакрализацию. Домини-
рующая смысловая и образная линия стихотворения Маяковского не
имеет прямого отношения ни к одному из указанных вариантов
сопряжения поэта и солнца. У него образ последнего предельно
снижен. Вначале поэт снижает его на «онтологическом уровне»
и снижает до предела, когда помещает солнце в дыру:
А за деревнею —
дыра,
и в ту дыру, наверно,
спускалось солнце каждый раз,
медленно и верно.
Псевдокультура безвременья
679
«Онтология» сниженности верха дополняется «аксиологической»,
через ворчливое и даже наглое панибратство:
в упор я крикнул солнцу:
«Слазь!
довольно шляться в пекло!».
Спасает стихотворение от унылой и чуждой всякой поэзии сни-
женности образа солнца испуг героя («Что я наделал! я погиб!») на
фоне надвигающейся на него светоносной и светоизлучающей массы
того, кого он приглашает в гости. Только что разошедшийся так, что
«в страхе все поблекло», поэт, по мере приближения к нему сошедше-
го с неба светила уменьшается до обычных человеческих размеров.
Но далее все же происходит уравнивание хозяина и гостя за счет
обращения солнца к поэту:
Гоню обратно я огни
впервые с сотворенья.
Ты звал меня?
Чаи гони,
гони, поэт, варенье!»
Вначале Солнце неожиданно для советского поэта соотносит се-
бя с днем своего творения, сразу же придавая этим себе таинствен-
ность и значительность причастного сакральному ряду существа. Но
лишь затем, чтобы самым обыденным, резко сниженным образом
потребовать себе чаю и соответствующей закуски. Строки «Ты звал
меня? Чаи гони, гони, поэт, варенье» так и тянет сопоставить
с совсем другими и принадлежащими старшему современнику Мая-
ковского строками: «Я пришел, ты звал меня на ужин,..., /Я пришел,
а ты готов?». Это слова блоковского командора, обращенные к Дон
Жуану. Они застывают в немоте ответчика. Слишком страшен при-
ход к Дон Жуану инфернального гостя, слишком трудно представить
разговор человека с тем, кто уже не человек. Но подобные страхи,
конечно же, не для Маяковского и его поэтического героя. У него
поэт и солнце разговорились так же, как какие-нибудь соседи по
даче. Соседям всегда есть о чем поболтать. И они действительно
болтают, да так косноязычно, и так пуста их болтовня, что тоска
берет от этой советской болтовни. Ну от кого еще ожидаешь услы-
шать такие слова, а главное, такие интонации, как не от совслужащих:
Про то,
про это говорю,
что-де заела Роста,
а солнце:
«Ладно,
не горюй,
680
Русская культура в XX веке
смотри на вещи просто!
А мне, ты думаешь,
светить
легко?
— Поди, попробуй! —
А вот идешь—
взялось идти,
идешь — и светишь в оба!»
Конечно же, от совслужащих. Не важно, кто они: партийные
функционеры, работники жилконторы или хозяйственники. Солнце
и поэт, несмотря ни на что, сошлись, нашли общий язык и общие
точки соприкосновения. Но лишь за счет того, что поэт (поэт-
служащий) буквально свел солнце с неба на землю. Увидел в нем не
образ горней выси и благодатного устроения мира, а своего брата-
товарища по нелегкой и бесцветной жизни в большевистской России.
А ведь пока солнце оставалось на небе, ощутил же его поэт как
«златолобо», да и само оно проговорилось о каком-то невнятно, но
неустранимом в своем величии «сотвореньи». Не одна только «дыра»
ассоциировалась для героя стихотворения с солнцем. В «дыру» он,
однако, его запихал. И уже из «дыры», откуда же еще, мы слышим
не лишенные патетики слова солнца:
«Ты да я,
нас, товарищ, двое!
Пойдем, поэт,
взорим,
вспоем
у мира в сером хламе.
Я буду солнце лить свое,
А ты —свое,
стихами».
Ничего не скажешь, мастерски написанные строки. Но как в них
все перемешано! Какое тесное соседство: «Ты да я, нас, товарищ,
двое» (это ли не самая банальность и прозаизм) и тут же: «Пойдем,
поэт, взорлим, вспоем» (прямо-таки зачин самой настоящей состояв-
шейся оды). От такого смешения в конце концов остается один
«серый хлам». Нельзя перемежать грязное с чистым, чтобы грязь
(хлам) не распространила себя на чистое. От грязи в смешении не
убудет, а вот чистоты —как не бывало. И потом, что это они там
собрались «лить»? Наверное, все-таки свет. Не буду придираться
вопросом «какой там еще свет, в каком смысле?». Свет в пояснениях
и конкретизациях не нуждается. Он от бытия, от жизни в ее полноте
и преизбыточной щедрости, недобытие он высветляет и проясняет,
сам будучи реальностью самоочевидной. Только вот не удержаться
Псевдокулыпура безвременья
681
Маяковскому на образе света, не извратив его, не смешав с «хла-
мом». Особенно это явно в последних и самых известных строках
стихотворения:
Светить всегда,
светить везде,
до дней последних донца,
светить —
и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой—
и солнца!
Уже первые строки подозрительно отдают неподобающей свету
и светилам утвердительной призывностью митингового оратора. Да-
лее же финал стихотворения стремительно сползает и рушится в пус-
тоту. Вначале оказывается, что у «дней последних» (есть они, все-
таки, а не какой-то там вечный прогресс) не дно даже, а «донце».
Эдакая пустяковина. А вот «светить и никаких гвоздей»,—это уже
прямо маленький коренастый оратор с кепкой в руке. Своим «ника-
ких гвоздей» он как раз и вколачивает слова, призывы и лозунги
в опустошенные безответственной болтовней головы. Впрочем, слово
«лозунг» прямо и откровенно всплывает в самом конце стихотворе-
ния. Если «светить всегда, светить везде» это лозунг, то свет от поэта
и солнца исходит никак не с небосвода, а все из той же «дыры»,
в которой самое место и нашему даровитому не по уму и не по душе
поэту и его двойнику—солнцу.
По несомненной и безусловной талантливости Маяковский был
исключением среди советских писателей и поэтов. Но по стремлению
верой и правдой служить новой власти, принять большевизм, раство-
риться в нем, став чистопородным большевиком, никакого исключе-
ния Маяковский не составил. Его действительно с полным на то
основанием можно отнести к числу советских поэтов, но «советский
поэт», не забудем самого простого и непреложного—это оксюморон,
сочетание слов, противоположных по смыслу, то, что можно произ-
нести, но и то, что никак не дается мысли и пониманию. По-своему,
стихотворение «Необычайное происшествие, бывшее с Владимиром
Маяковским летом на даче» сказанное прекрасно демонстрирует.
В нем на редкость выразительно и явно обозначено то, как настоя-
щие поэтические ходы, едва обозначившись, сразу же упираются
в тупик, нет, не идеологии (как таковая она прямо в стихотворении
не присутствует), а именно советского мифа. Того мифа, который
знает советскую страну — особое пространство, особое время, где идет
великая стройка нового мира. В ней участвуют грандиозные массы
людей, состоящие из неких человеческих единиц, со своим подобием
своей личной пятилетки. Большевистский режим вбивает их как
гвозди, скрепы или основания нового общества, но и сами трудящие-
682
Русская культура в XX веке
ся и служащие единицы безропотно и охотно подставляют себя под
удар молотка, изо всех сил стараясь войти в предназначенную им
«дырку» или образуя ее еще и собственными стараниями и тотчас
заполняя собой—человеком-скрепой—строящееся здание. В этом со-
ветском мифе нет никакой чувствительности к сакральному, ощутить
его можно только в процессе профанирования. Прямо как в стихо-
творении Маяковского, где всякий намек на сакральное неизменно
обрамляется самой серой и убогой профанностью. Сакральное как
будто слегка вдыхает душу в профанное, но само оно так и не
начинает дышать собственным дыханием. В мире стихотворения
Маяковского в точном соответствии со всей реальностью большевист-
ской России серые существа двигаются на сером фоне, слегка колы-
хая беспросветную слитость и неподвижность «серости». Такова
«советская культура» даже у ее самого значительного творца.
Другое дело, что этот творец, несмотря на свои старания, не
растворим всецело в советской культуре, так же как не растворимо
в ней «Необычайное приключение». Как бы Маяковский не профа-
нировал солнце, как не превращал его в совслужащего, не хлопал его
по плечу, не переходил с ним на ты, в стихотворении неустранимой
остается какая-то потусторонняя советской обыденности громадность
солнца, его заливающая все собой светоносность. Можно даже запо-
дозрить, что оно всего лишь снисходит до советского болвана —
лирического героя стихотворения, когда говорит с ним его косноя-
зычным языком и пьет чай с вареньем. В действительности солнце
еще и втягивает в свой свет поэта—версификатора лозунгов и призы-
вов. В стихии света рушится вся тусклая и убогая выстроенность
советского космоса. Когда наступает «стихов и света кутерьма»,
когда «день трезвонится», в этой радости на миг исчезает все, что не
есть она сама. Наступает ни в какую советскую реальность невмести-
мое преображение жизни. Впрочем, лишь для того, чтобы тут же
разбиться вдребезги от неизбывно прущего из Маяковского больше-
визма.
Реальность свободы в русской культуре
(вместо заключения)
Подходящее к своему финалу обозрение русской культуры не
было специально направлено тематически на свободу. Не тема свобо-
ды как таковая интересовала автора, а русская культура в узловых
точках ее самоосуществления, в наиболее характерных ее проявлени-
ях. И тем не менее рассмотренное в частях, главах и параграфах
книги имеет прямое касательство к свободе. О ней говорилось впря-
мую, ее реальность, или свобода в качестве критерия и угла зрения
на феномены культуры, подразумевались. Поэтому возвращение к теме
свободы в конце книги там, где принято подводить итоги или хотя бы
объясняться с читателями по поводу итогов, представляется вполне
уместным. И начать здесь имеет смысл с обращения к заявленному
о свободе в начале исследования.
Там речь шла о том, что русская свобода есть в первую очередь
«свобода от», что в ней человек не столько утверждает и воплощает
себя, сколько удерживается, несмотря ни на какие свои воплощения,
сами по себе несовместимые со свободой. Отмеченный акцент в сво-
боде в известном смысле внеисторичен. Не случайно он был проде-
монстрирован на материале словесности как Киевской Руси, так
и Петербургской России. Теперь же пришла очередь для констатации
исторических трансформаций свободы. И в первую очередь заслужи-
вает быть отмеченным то важнейшее обстоятельство, что русская, как
и любая другая западная культура, заявила свободу в качестве своей
исходной реалии. Попросту говоря, Киевская Русь была страной
прежде всего свободных людей, они делали в ней погоду и определя-
ли ситуацию. Свободными были князья Киевской Руси, их окружали
свободные дружинники, в русских городах так же обитали свобод-
ные люди, свободной оставалась основная масса земледельцев. Очень
важно, что в течение всего Киевского периода никакой тенденции
684
Реальность свободы в русской культуре
к изживанию свободы в русской культуре не наблюдалось. Конечно,
как и на Западе, у нас имел место процесс ограничения прав
земледельцев, чья свобода по своей полноте все более уступала
свободе воинско-землевладельческого класса. Однако сам по себе
процесс этот не менял основополагающих ориентиров культуры.
По существу, ничего не изменило и вхождение Киевской Руси
в Византийское культурное сообщество. Византийская империя вовсе
не была сообществом свободных людей, нельзя даже утверждать, что
в Византии свобода оставалась привилегией верхушки общества. Для
нее совершенно нормальным была соотнесенность людей по принци-
пу «господин-раб», предполагавшая градацию рабства. В конце кон-
цов же все византийцы являлись не только рабами Божиими, но
и в различной степени рабствовали перед «иконой Бога» —императо-
ром. К этой реалии византийской культуры сильно зависевшая от нее
молодая культура Киевской Руси как раз и оставалась нечувстви-
тельной. Пока опасности для русской свободы шли совсем не из
Византии и размывало ее вовсе не рабство или его моменты. Свободу
людей, свободных по преимуществу — русских князей с их дружина-
ми подрывала страшная стихия междоусобиц, бесконечные княже-
ские взаимные счеты и претензии, с присущей властителям готовно-
стью утвердить себя любой ценой, не считаясь с правами другого.
Пока свободе более всего угрожал хаос страстей и вожделений. Но
ситуация в корне меняется с наступлением ордынского ига.
В самом простом и ясном смысле Русь перестает быть страной
свободных людей. Любые проявления свободы князей, бояр, дру-
жинников, сами по себе достаточно внятные и очевидные, неизменно
обрамляются коренным рабствованием Руси у Орды. Свобода как
таковая в условиях ордынского ига исчезнуть не могла. Уже потому,
что сохранились князья, сословие дружинников и характерные для
них связи свободных людей, свободных в отношениях друг с другом,
но не с Ордой и ордынцами. Именно ордынское иго в корне подорва-
ло свободу как определяющую реалию русской культуры, сделало ее
существование проблематичным и так отличающимся от западной
свободы и по степени полноты и по характеру. Московскую Русь уже
в XVI в. ни одному из западных путешественников в голову не
приходило считать страной свободных людей. Напротив, в ней пора-
жала как раз рабская повадка и простонародья, и аристократической
верхушки. Нередко она очень сильно преувеличивалась, отчего иска-
жалась перспектива всей культуры, но грех сказать, что констатации
рабства были чистой воды измышлением, клеветой или непонимани-
ем чужой страны. Обнаруживая в Московии повсеместное рабство,
никто на нее не клеветал, хотя и всей правды в этом не обнаружить.
Понять иноземцев можно ввиду того, что русская свобода продолжа-
ла существовать помимо ее внешних воплощений в те или иные
формы социальности, хотя она и не носила исключительно внутрен-
ний характер. Свидетельством неустранимости русской свободы мо-
Вместо заключения
685
жет служить наша словесность, так же как и создание зрительных
образов. Чтобы далеко не ходить и вместе с тем коснуться самого
существа свободы, как она воплощалась в этих двух последних
случаях, наверное, имеет смысл в первую очередь обратиться к «Трои-
це» Андрея Рублева. Это самая наша прославленная икона. Она
единодушно признается в качестве наиболее совершенного образца
отечественной иконописи.
Обращение к иконе всегда, когда речь идет о свободе, может
показаться неожиданным. Все-таки икона вызывает у нас ассоциа-
ции, связанные с иными реалиями, чем свобода. И странным было
бы утверждение по поводу любой иконы о том, что в ней воплощен
дух свободы и что он первенствует в иконе. Однако соглашаясь со
сказанным, все же нельзя не отметить, что свобода вовсе не обяза-
тельно чужда иконописи. На свой лад она обязательно присутствует
в лучших иконах. Касательно же «Троицы» Андрея Рублева самое
существенное как будто никем из осмыслявших эту икону не подвер-
галось сомнению. Эта икона о любви. В ней открывается любовь
в качестве первореальности внутрибожественной жизни. Отец, Сын
и Дух образуют собой Пресвятую Троицу именно потому, что их
единит любовь. Она есть полнота Божественного бытия, все собой
объемлет и во всем присутствует. Точнее же будет сказать, что во
внутрибожественной жизни ничего, кроме любви нет. И потому
именно, что все иное так или иначе не совпадающее с любовью, было
бы совершенно невозможной ущербностью бытия Пресвятой Троицы.
Строго говоря, и свобода в качестве первореальности также непри-
емлема для характеристики внутрибожественной жизни, как и любая
другая реальность. Однако это вовсе не означает, что свобода вообще
не имеет никакого отношения к Пресвятой Троице. Но ее допустимо
мыслить не более, чем момент любви, сам по себе несуществующий.
«Троица» Андрея Рублева имеет отношение к свободе уже потому,
что в ней царит полное единодушие Отца, Сына и Духа. Это не
единодушие кого-либо одного, а именно трех лиц, каждое из которых
является собой, а не только согласно с другими лицами. Мы потому
и не в состоянии с полной уверенностью указать, кто именно из трех
рублевских ангелов есть Отец, Сын или Дух Святой, что никто из
них не обращен на себя, тем более не самодовлеет. И в то же время
ни о каком тождестве Отца, Сына и Духа не может идти речи.
В своем единении каждый из них не узнаваем для нас, но только
потому, что иконописцу, а вслед за ним и остальным людям не дано
настолько проникнуть в недра внутрибожественной жизни. Нам дано
созерцание любви, присутствие при свершении ее таинства, конечно,
не в полноте, а скорее в намеке, для нас приоткрыта дверь туда, куда
человеку до обужения не войти.
И тем не менее, если в рублевской «Троице» представлен образ
любви, и если это божественная любовь, она открывает еще и реаль-
ность свободы. Свобода здесь не просто в различенности и несводи-
686
Реальность свободы в русской культуре
мости лиц друг к другу. Она еще в том, что каждое из лиц обладает
своим собственным внутренним, исходящим от себя движением,
которое, собственно, и есть свобода. При этом движение каждого
лица соотнесено с движением других лиц. Оно ими принимается, так,
что и есть их собственное движение. Поэтому и не различишь, кто
инициирует общую для всех динамику. Если и допустить, что она
первоначально исходит от одного из трех рублевских ангелов, то он
настолько заранее учитывает возможную реакцию других, считается
с ней, что уже не существенно, кто был инициатором, а кто согласен
с происходящим. Свобода одного лица в «Троице» Рублева совпадает
со свободой других лиц, предполагает ее, это такая свобода, что уже
является не только и не столько самой собой, но и иной, более
высокой реальностью любви. Свобода здесь разрешается в любовь
и не просто разрешается, а заранее совпадает с любовью. Так, что
о ней имеет смысл говорить отдельно только с позиции человеческой.
Человек не может не увидеть во внутритроичной жизни еще
и свободу ввиду того, что для него она до некоторой степени высту-
пает в качестве самостоятельной реальности. Человек, наверное, не
может быть свободным, будучи вовсе чуждым любви. Но для него
естественно обретать любовь в свободе, в процессе и итоге свободного
действия. Любовь может быть и предпосылкой свободы. В любом
случае, для человека свобода—ощутимая реальность, он может пре-
бывать в ней, отвлекаясь от любви. Любовь сама по себе в преодолен-
ности его свободы, превращении последней в ускользающий момент
любви человеку доступна на высотах святости, то есть уже там, где
наступает обожение. Пока же человек—это только человек, свобода
является его высшим определением. Так, во всяком случае, всегда
было для западной культуры. Русской же культуре свойственны
свои, гораздо более сложные и запутанные счеты со свободой.
С началом ордынского ига русская культура сильно пошатнулась
в качестве социальной реальности. Московская же Русь прямо стано-
вится страной рабов, а вовсе не свободных людей. Между тем,
чувствительность к теме свободы из культуры не исчезает. Она не
могла полностью исчезнуть и потому, что действительностью оставал-
ся опыт святости, и потому, что о ее наличии свидетельствует такой
центральный памятник древнерусской культуры, как «Троица» Анд-
рея Рублева. Правда, и в одном, и в другом случае свобода не может
быть отнесена к одной только и даже прежде всего культуре. Восхо-
ждение к высотам святости совершается уже по ту сторону культуры,
не мыслимая вне ее иконопись также способна к прозрениям сверхче-
ловеческим и сверхкультурным. В итоге мы и сталкиваемся с ситуа-
цией доступности древнерусской культуре «сверхсвободы» любви
при неустойчивом бытовании в ней просто и только свободы. Послед-
нюю она, в конце концов, утеряла в качестве самостоятельной реаль-
ности, утверждающей себя в человеческом действии. Опыт, нашед-
ший свое выражение в рублевской «Троице», не стал спасительным
Вместо заключения
687
для свободы. Сама по себе, вне любви, она была обречена оставаться
«свободной от», лишенной всякой утвердительности жизненно-кон-
кретного действия и поступка.
Наша русская свобода в послекиевские времена и особенно в Мо-
сковский период приобретает черты неотмирности. Свидетельством
этому не только создание в Удельной еще Руси «Троицы» Рублева,
но и написание уже в Московии «Повести о Петре и Февронии
Муромских». Не упустим из вида, что посвящена она не просто
любящим друг друга супругам, но еще и святым, тем, чья супруже-
ская любовь оказалась причастна святости. Святости в пределе и на
своей вершине, но еще и свободе. Как минимум, в двух эпизодах
биографии Петра и Февронии она выражена со всей определенно-
стью. Во-первых, когда князю Петру Муромскому приходится выби-
рать между супружеской связью с Февронией и княжеской властью.
По собственной воле, свободно он выбирает супружество. С умиле-
нием автор «Повести...» замечает по поводу выбора князя: «Сей
блаженный князь по Евангелию поступил: достояние свое к навозу
приравнял, чтобы заповеди Божьей не нарушить»1. Почему-то он,
однако, ни слова не проронил по поводу того, что выбор между
княжением в Муроме и супружеством с Февронией князю был
навязан злокозненными боярами. Петр ни перед кем не согрешил бы,
если бы попытался отстоять не только супружество, но и свою
законную власть над Муромом. Но муромский князь все же проявля-
ет величайшую кротость и покорствование обстоятельствам. Он сво-
боден в пределах кротости и покорности. Трудно себе представить,
как вел бы себя Петр, попытайся бояре в любом случае разлучить его
с Февронией. В одном можно не сомневаться, он сохранил бы ей
верность до гроба. А вот борьба за Февронию, соединение с ней
вопреки враждебным проискам, утверждение своего права на союз
с ней в столкновении с противниками—нечто подобное как-то не
очень вяжется с повадкой муромского князя. Никак не назовешь его
кротость и покорность вполне рабскими. Петр свободный человек.
Но свобода его самым тесным образом связана с любовью, и никак не
с утверждением себя в мире. В мире Петр и Феврония пребывают,
претерпевают его и не более.
Второй эпизод из «Повести о Петре и Февронии Муромских» уже
был рассмотрен в одной из предыдущих глав. Касается он того, как
умирала Феврония. На этот раз обращу внимание читателя только на
один момент эпизода. На то, что Феврония поразительным образом
сама определила себе время кончины. Традиционный образ смерти —
незванного гостя, действующего исключительно по собственному
усмотрению, в настоящем случае совсем неуместен. Не смерть при-
шла к Февронии, а она пригласила, что ли, ее к себе, тогда, когда
сочла это уместным. Поэт говорит: «Нам дано несравненное право
1 Библиотека литературы Древней Руси. Т. 9. С. 465.
688
Реальность свободы в русской культуре
самому выбирать свою смерть». Конечно, в этих не лишенных пусто-
ватой торжественности и манерности строфах речь о самоубийстве.
Вряд ли кто-нибудь будет отрицать, что оно может иметь отношение
к свободе. Кириллов у Достоевского прямо делает самоубийство
путем к невиданной ранее и абсолютной свободе. Смерть Февронии
не только не имеет никакого отношения к самоубийству, но и смер-
тью-то ее можно назвать в очень ограниченном смысле. Да, Февро-
ния умирает, но прежде всего она предает свою душу Богу. Предает
по собственной воле и в надлежащий момент. Но собственная воля,
а значит, и свобода, здесь не безосновность и не произвол самовласт-
ной души. Феврония непрерывно молитвенно предстоит Богу. Поэто-
му ее готовность умереть именно тогда, когда она умирает, заведомо
«согласована» с Богом. Вышивая святой воздух, Феврония несет
послушание, когда же ее возлюбленный супруг Петр уже не в силах
бороться со смертью, она испрашивает у Бога разрешения последо-
вать вслед за ним. Точнее же будет сказать, молитва об упокоении
у Февронии совпадает с собственным решением. Ее свобода осущест-
вляется в Боге как подобие той первозданной свободы в любви,
которая есть внутрибожественная жизнь Пресвятой Троицы.
Когда свобода неотмирна, когда она бытийствует, прежде всего
в соотнесенности человека с Богом, она, как это показывает опыт
русской культуры Московского периода, вполне уживается с рабст-
вом в отношениях «человек-человек». Причем становится настолько
устойчивой реальностью, что даже переход от Московской Руси
к Петербургской России длительное время ничего или очень малое
меняет в культуре по части свободы. Россия Петра Великого была
страной, где свобода ценилась и была реальностью ничуть не более,
чем в царстве его отца Алексея Михайловича. Изменились только
акценты в по-прежнему господствовавшей несвободе. От дворян-
ского сословия — отдаленного предшественника некогда свободных
бояр и дружинников, Петр требовал неустанного и беззаветного
служения государю и Отечеству, предполагающего безусловное по-
виновение, но также и такого рода самоотречение, которое на одном
рабстве состояться не может. Петру нужны были верные слуги
и исполнители, но в пределах исполнения царских замыслов, вольно
или невольно, сознавая это или нет, Петр ждал от своих слуг
свободы. Хотя бы в таких ее проявления, как сметка, находчивость,
импровизация, готовность на свой страх и риск найти лучшее средст-
во для достижения не подлежащей обсуждению цели. На самом деле
грандиозность петровских новшеств и свершений не просто поколе-
бала неподвижность старомосковской жизни, она буквально взывала
к человеческой свободе, хотя и не давала ей ходу. Попросту говоря,
вестернизация русской культуры, вхождение России в западное куль-
турное сообщество только до известной степени было возможно
в стране, где свобода равно чужда всем сословиям и слоям населе-
ния.
Вместо заключения
689
Сдвиги в сторону свободы, между тем, в Петербургской России
происходили первоначально в далеко не самых значимых сферах
и сторонах русской жизни. Скажем, если светскость в царствование
Екатерины II уже невозможна была без некоторых моментов свободы
в поведении светского человека, то это обстоятельство может пока-
заться мелочью. Точно так же вроде бы совсем немного от привыч-
ных на Западе представлений о свободе в образе жизни екатеринин-
ских вельмож, сановников, вообще сколько-нибудь сановитых дворян
на покое. По выходе в отставку они вели вольготный и привольный
образ жизни, мало считаясь с кем-либо или с чем-либо помимо
собственных соображений и прихотей. Важно, однако, что при этом
возникала известная независимость от мановения руки государыни,
ее фаворитов и царедворцев. А, скажем, феномен Москвы, бывшей
столицы, а ныне «порфироносной вдовы». Московское дворянство
в то же самое царствование Екатерины составляло некоторое подобие
общественного мнения, то, о чем и как говорят в Английском клубе
или гостиных московских сановников на покое, было для государыни
вовсе не безразлично. Прямо или косвенно она считалась с реакцией
москвичей на действия двора. Конечно, все это само по себе еще
далеко не свобода, но перечисленные реалии, так же как и ряд
других, подготавливали поколение «александрова века», людей, дей-
ствительно свободных на вполне европейский манер.
Понятно, что не о политической свободе здесь идет речь, с ней-то
как раз все обстояло по-прежнему. И все-таки в стране безусловного
самодержавия, где по существу отсутствовали представительные ор-
ганы власти, где не было и намека на так называемые гарантии прав
и свобод личности со стороны государства, свобода стала реально-
стью, если не всего, то все же заметного слоя дворянства. Те же, кто
оставался ей вполне чужд, не могли не считаться с изменившейся
ситуацией и хотя бы время от времени позволяли себе жесты в духе
свободного человека. Такой жест оказался не чужд даже гоголевско-
му Ивану Ивановичу, поссорившемуся со своим вчера еще задушев-
ным другом как раз в царствование Александра. И ссора их касалась
ничего иного, как вопроса чести и достоинства, реалий, существую-
щих для свободных людей. Вряд ли «свобода»—это то слово, кото-
рое приходит на ум при обращении к образам Ивана Ивановича
и Ивана Никифоровича. Но вот ведь далось одному из них отразить
посягательство на его дворянскую честь, на право высоко носить
голову в сознании своего благородства и неприкосновенности лично-
сти, вдруг поставленные под сомнение поносным словом. Правда,
свою честь Иван Иванович отстаивает в суде, разразившись кляуз-
ным письмом в адрес Ивана Никифоровича вполне в духе старомос-
ковских обычаев. Но перед этим Иван Иванович успел выразить
самоощущение свободного человека гораздо полнее и определеннее,
чем в судебной тяжбе. Когда Иван Никифорович в гневе обратился
к своей дворне со словами: «Возьмите Ивана Ивановича за руки да
690
Реальность свободы в русской культуре
выведите его за двери!», ответом ему были такие знаменательные
слова: «Как! Дворянина? ...Осмельтесь только! Подступите! Я вас
уничтожу с глупым вашим паном! Ворон не найдет места вашего!»
Как видим, даже в миргородской глуши, даже под взглядом Гоголя
тема дворянской свободы как неприкосновенности личности звучит,
несмотря ни на какие авторские снижения и иронические перевора-
чивания смысла. Важно, что Гоголю, касавшемуся дворянской чести
и свободы, было что снижать и переиначивать в ситуации начала
XIX века. Ранее нечто подобное вряд ли было возможным.
В своем первом значительном произведении «Детство. Отрочество.
Юность» Л. Н. Толстой характеризовал отца главного героя, принад-
лежавшего к поколению царствования Александра I в таких словах:
«Он был человек прошлого века и имел общий молодежи того века
неуловимый характер рыцарства, предприимчивости, самоуверенно-
сти, любезности и разгула». Кроме, может быть, последнего качест-
ва, да и то вовсе необязательно, все остальные с равным основанием
могут быть отнесены к аристократии любой, помимо России, запад-
ной страны. Действительно, в настоящем случае Толстой говорит
о родовых чертах сословия, обладавшего как никакое другое сосло-
вие на Западе, привилегией свободы. Именно перечисленными сторо-
нами свобода выражалась у западной аристократии. Только вот
совершенно не случайно, что Толстой говорит о поколении прошлого
века из настоящего второй половины царствования Николая I. Читая
«Детство. Отрочество. Юность», вовсе не заподозришь никого из
сколько-нибудь значимых героев романа, принадлежащих к дворян-
скому сословию, в рабских чертах, вообще в какой-либо принижен-
ности и несвободе. Свобода в России так и останется реальностью
жизни высшего сословия.
Но что это будет за свобода? Прежде всего она распространялась
на частную и общественную (светскую) жизнь дворянства. И в не-
сравненно меньшей степени на военную и гражданскую службу.
Здесь уже достаточно, а главное, необратимо свободные люди стави-
лись самодержавием в узкие рамки служебного исполнительства,
службы как встроенности в колоссальный государственный меха-
низм, который знает монаршую волю, передаваемую ей одной части
механизма другой. Эта воля никогда не обладала такой уж непре-
клонной решительностью, в ней всегда хватало сомнений, колебаний,
неопределенности. На другом полюсе—полюсе военной и граждан-
ской службы— в свою очередь открывались необъятные просторы
для корысти и произвола, а не только слепого исполнительства.
В результате же ситуация может быть осмыслена в некотором проме-
жутке между свободой и рабством. Свобода была неустранима, но
точно так же и неосуществима на собственно дворянском поприще
службы. Другого же поприща для дворянского сословия не то чтобы
не было, но любое из них традиционно воспринималось как вто-
ричное и второстепенное. Скажем, помещику самому вести свое
Вместо заключения
691
хозяйство не возбранялось, и в этом не было ничего унизительного
или снижающего. Но только после того, как помещик проведет свою
молодость на службе и достигнет известных чинов.
Оставалась еще сфера творчества—художественного прежде все-
го, но также интеллектуального. И в этой сфере, несмотря ни на
какие цензурные препоны и ограничения, дворянская свобода выра-
зила себя с необычайной мощью и продуктивностью. Но дело-то как
раз в том, что дворянское в этой свободе во многом сдало свои
позиции. Скажем, вся русская литература пронизана духом прежде
всего отрицательной свободы—от государства, от службы и служе-
ния, от света и общественного мнения, от неотменимого долга перед
самим собой состояться уверенно и властно, в конце концов, царст-
венно заявить свое присутствие в мире. Теперь это уже не свобода
в Боге, свобода, которую объемлет любовь, как это бывало в допет-
ровскую эпоху. Но в ней нечто существенное сохраняется от этой
свободы. Прежде всего, она не чувствительна к какого бы то ни было
рода частичным воплощениям. Свобода как путь, у которого есть
свои этапы и вехи, сами по себе может быть и незначительные, не
привлекает. Ну, кого, например, в России XIX—начала XX в. при-
влекла бы упорная повседневная борьба за создание представитель-
ных учреждений, расширение прав земств и т. д. Такой путь к свобо-
де считался мелочным и не стоящим усилий благонамеренных людей
возвышенного образа мыслей. Нам и сегодня странно, едва ли не
смешно читать о перипетиях общественной борьбы XIX или XX в.
в Англии или США, где речь идет об изменениях определенного
закона, деятельности благотворительной организации или создании
какого-либо общественного объединения, ставящего перед собой очень
узкие задачи, решение которых ничего не разрешило бы в общена-
циональном масштабе.
Свобода для русского человека оставалась чем-то всеобъемлющим
и все разрешающим. Но как известно, «о свободе небывалой сладко
думать у свечи». По выходе же за пределы своего укромного жилища
всякая сладость на пути к ней исчезает. Возникает или разочарован-
ность прекрасной и бессильной души, или реальность более стран-
ная — стремление к созиданию свободы, не продвижению по ее пути,
а к освобождению, желательно от всего и вся, и к тому же оконча-
тельному.
Пафос освобождения основан на том, что несвобода и рабство—
это внешняя по отношению к угнетенному реальность, по крайней
мере, у нее внешние источники. Поэтому борьба за освобождение —
всегда борьба с другими, а не с самим собой. Впервые это обстоятель-
ство проявилось во всем своем размахе во французской революции
1789—1793 гг. В этот период безраздельно господствовало убеждение
в том, что третье сословие и есть французский народ. Два же других
сословия—духовенство и дворянство—некое подобие иноземцев, жи-
вущих на французской земле и угнетающих настоящих французов-
692
Реальность свободы в русской культуре
галлов. Дворяне же, в отличие от последних—франки, когда-то они
завоевали Галлию и навязали ей свою волю. Теперь же пришел час
расплаты для всех тех, кто бесконечно виноват перед французским
народом. Виноват и Людовик XVI — гражданин Капет, заслуживший
своими преступлениями гильотину, виновата и также гильотинирова-
на фаворитка Людовика XVI—графиня Дюбарри и даже жившая
в XVI в. Диана де Пуатье, чьим обожателем был король Генрих II,
которая тоже пила кровь французов, почему ее усыпальницу должно
вскрыть, разрушить, а останки Дианы развеять по ветру.
Хотя и не в России была изобретена свобода как освобождение
от внешних оков, к которым сам несвободный как будто не причас-
тен, именно у нас чужое изобретение пало на самую благодатную
почву. Начиная с царствования Александра II тема свободы-освобож-
дения становится доминирующей и звучит, заглушая всякие другие
темы. Россия, прежде всего в умах радикальной интеллигенции, но
далеко не только у них, теперь мыслится не просто как страна
несвободы и угнетения (добро бы, если бы так). Но еще и как страна
попранной свободы ее граждан. Они лишены ее, хотя по природе
свободны. Буквально по формуле отца и дедушки всех революций
Ж.-Ж. Руссо: «Человек рождается свободным, однако повсюду он
в оковах». Но тогда получается, что достаточно снять оковы и страна
рабов станет страной свободных людей. Когда свобода начинает
трактоваться именно таким образом, она, с одной стороны, очень
удаляется от традиционной русской «свободы от» с ее недоверием ко
всякому воплощению, отсутствием воли к нему. Но с другой сторо-
ны, перед нами все равно «свобода от», ее новый, на этот раз
активистский вариант. Ведь пафос освобождения, в какой бы акти-
визм он не выливался, все равно не есть действие в свободе и как
объективированная свобода. В данном случае речь идет не более, чем
о насилии в отношении тех насильников, которые подавляют чужую
свободу, превращают ее в угнетение. Тем самым предполагается, что
насилие завершается свободой. Сама она как самостоятельная про-
блема совсем не промысливается, как будто свобода настолько отве-
чает природе человека, что свободным он способен быть спонтанно
и естественно, что в свободе живут так же органично, как дышат
воздухом.
Устремленность к освобождению другого, так же как и надежда на
собственное освобождение, сыграли роковую роль в русской истории
и культуре еще и потому, что отодвигали реальность свободы в более
или менее отдаленное или ближайшее будущее. Это уж у кого как.
Знаменитые чеховские слова о том, что он всю свою сознательную
жизнь по капле выдавливал из себя раба, неизменно производили
эффект на читавших и слышавших их, но как-то никого по-настояще-
му не задевали. Их дух был чужд господствовавшим веяниям време-
ни. А как же еще, если в рабе видели исключительно человека
угнетенного, а вовсе не того, кто является рабом прежде всего
Вместо заключения
693
изнутри—по своему душевному строю, повадке, привычкам, реакци-
ям, и пр. В результате в лице России мы видим страну, которая очень
по-своему усвоила дух западной свободы. Слишком часто она была
или свободой post factum, когда человек отделял себя от собственных
объективаций, обнаруживал свою несводимость к совершенному, или
же свободой перспективной и проективной, предполагавшей акцент
на освобождении. Чего нам хронически недоставало, так это жизни
в свободе. И уж конечно, ее обставленности институциями. Когда же
они возникали, то нередко носили характер запоздалых и неумест-
ных установлений.
Сошлюсь на один только пример, а именно на признание в царст-
вование Александра III дуэли в качестве непременно обязательной
для офицеров русской армии при соответствующих обстоятельст-
вах. Что и говорить, в свое время дуэль сыграла свою немалую
роль в утверждении в России духа личной независимости, принци-
пиального равенства поверх всякого рода различий всех представи-
телей благородного сословия. Однако уместна и органична дуэль
была самое большее до 40-х гг. XIX в. Не случайно в Англии,
наиболее подчеркнуто аристократической стране, где аристократия
в XVIII и XIX вв. пользовалась наибольшей властью и престижем по
сравнению с другими европейскими странами, дуэль выходит из
употребления как раз в 30-е гг. В России, Германии, Франции дуэли
продолжались весь XIX век. Но они же и дискредитируются как
в общественном мнении, так и на более глубоком уровне. Он, этот
уровень, нашел свое выражение у нас в России, скажем, в художест-
венной литературе.
В царствование Александра II вся читающая Россия с огромным
интересом и увлечением прочитала лучший, наверное, роман И. С. Тур-
генева «Отцы и дети». В нем, в частности, описана сцена дуэли
между Базаровым и Павлом Петровичем Кирсановым. Описана мас-
терски, но и так, что читающая публика не могла не почувствовать
всю неуместность происходящего, натянутость, фальшь и отсутствие
чего-либо разрешающего в дуэли двух противников. После тургенев-
ского романа участвовать в дуэлях можно было только с риском
попасть в ложное положение, некоторое театрализованное действие,
исход которого ничего в отношениях двух людей или в их счетах
с самими собой не разрешает.
Тем не менее в русской армии дуэль вводится сверху, в соответст-
вии с высочайшей волей. Понятно, что утверждая дуэль в качестве
обязательной для офицера, государь руководствовался соображения-
ми, которые сами по себе можно понять и принять. Ведь очевидно,
что дуэль —не драка и не убийство, а дело чести. Сохранить свою
честь всегда означало утвердить себя в качестве свободной и суверен-
ной личности. Не просто отвечающей за любой свой поступок, но не
допускающей и мысли о том, что ее свобода совместима с чем-то
сомнительным и неблагородным. По определению, на дуэли дерутся
694
Реальность свободы в русской культуре
только свободные люди в утверждение и подкрепление своей свободы
и суверенности. Все именно так. Однако так было на Западе в XVII,
XVIII и начале XIX в. Но так быть перестало. Свобода нашла для
себя другие способы выражения, не обязательно лучшие. Признав
дуэль негуманной, то есть бесчеловечной, европейцы в какой-то мере,
наверное, с водой выплеснули и ребенка. Не все в свободе можно
удержать за счет так называемой человечности. Скажу определенней:
в своей полноте и своих вершинах свобода как раз сверхчеловечна.
Она осуществляет себя там, где есть смертельный риск и даже на
пороге неодолимо надвигающейся гибели. Однако свободу решение
об обязательности дуэлей для офицеров русской армии не спасало.
Оно было заведомо архаично, наивно и неуместно. В 80-х гг. XIX в.
русское общество ждало от верховной власти совсем других освобож-
дающих действий, соотносимых вовсе не с воинским сословием,
а с самыми широкими слоями населения империи.
Если посмотреть на русскую историю и культуру в перспективе
большого исторического времени, то в аспекте свободы мы обнару-
жим ситуацию неустойчивую и колеблющуюся. Причем колебание
здесь в конце концов завершилось катастрофой большевизации Рос-
сии, которая была равнозначна практически полному вытеснению
свободы в качестве сколько-нибудь значимой реалии приватной или
публичной жизни. Сполна реализованный порыв освобождения от
всего и вся, не просто от реалий имперской государственности, но по
существу и от истории, обернулся тем, что уничтожена была в пер-
вую очередь свобода. Россия освободила себя в рабство, когда равно
несвободны были и материально более или менее благополучные
верхи и обнищавшие низы. Всеобщая несвобода, установлению кото-
рой сопутствовало стремительное и в огромной степени успешное
уничтожение религии, в истории России беспрецедентна. Больше-
визму удалось нанести сокрушительный удар не только по свободе
в ее утверждающих себя объективированных формах, но и по, каза-
лось бы, неискоренимой «свободе от», по свободе мирской и секуляр-
ной, так же как и по неотмирной свободе в любви.
Разумеется, всеобщая несвобода в большевистской России не могла
не иметь исключений. Но если свободные внутренне люди и сохрани-
лись, то ничего в атмосфере русской жизни они не определяли, ни
в каком отношении преемства с последующими поколениями не нахо-
дились. И все-таки Россия, будучи страной западной, как бы она не
искореняла в себе реальность свободы и каких бы успехов на этом
пути не добивалась, в принципе, была неспособна утвердить себя
в своей несвободе. Утверждение подобного рода могло бы состояться
в случае превращения несвободы в рабство как некоторую утверди-
тельную реальность, основание, на котором возникла бы новая куль-
тура. Рабство же всегда оставалось для России не путем-выходом
в новое историческое время, а путем в тупик, когда возникала или
осуществлялась угроза конца исторического времени. Иными слова-
Вместо заключения
695
ми, в рабстве Россия способна уничтожить себя, но никак не вновь
состояться. Большевистское безвременье продемонстрировало это
так, как никогда ранее. Вопрос о том, почему у Руси-России сложи-
лись такие сложные, запутанные и переменчивые отношения со
свободой, не из тех, которые имеют решение в пространстве одного
текста, принадлежащего к тому же одному автору. Однако нечто
проясняет в ситуации обращение к праву как феномену русской
культуры. Особый характер нашего правового развития если и не
объясняет перипетии и коллизии русской свободы, то все же конкре-
тизирует ситуацию. И прежде всего делает понятнее такой выражен-
ный в русской культуре акцент не на утвердительности, воплощенно-
сти русской свободы, а на характерно русской «свободе от».
Нередко принято говорить не просто о различии правовых систем
и традиций Запада и России, но и о правовом характере западной
государственности в противоположность неправовому характеру рус-
ского государства вплоть до царствования Александра II и проведен-
ной им судебной реформы. Этому представлению отдал должное
даже такой чуткий к нашему национальному своеобразию человек
как В. О. Ключевский. В частности, ему принадлежат такие доста-
точно известные строки, сказанные по поводу главных особенностей
Московского государства: «Вторую особенность составлял тягловый,
неправовой характер внутреннего управления и общественного соста-
ва с резко обособившимися сословиями... Сословия различались не
правами, а повинностями, между ними распределенными. Каждый
обязан был или оборонять государство, или работать на государство,
то есть кормить тех, кто его обороняет. Были командиры, солдаты
и работники, не было граждан, то есть гражданин превратился в сол-
дата и работника, чтобы под руководством командира оборонять
отечество или на него работать. Третьей особенностью московского
государственного порядка была верховная власть с неопределенным,
то есть неограниченным пространством действия»1.
Да, конечно, если существование права и правового государства
неразрывно связывать с наличием граждан и ограничением верхов-
ной власти за счет самостоятельности судебной власти, то Москов-
ская Русь и Петербургская Россия не были правовыми государства-
ми. Однако более убедительной представляется точка зрения,
в соответствии с которой в своем «нормальном» состоянии государст-
во не может быть внеправовым. Неправовое государство, страна,
находящаяся вне права—это тирания или деспотия в отличие от
монархии, диктатура, покончившая с той же монархией или демокра-
тией, превращающая подданных или граждан в рабов. Однако и ти-
рания, и деспотия, и диктатура никогда и нигде не были исходными
формами государственности. Каждая из них—это срыв, кризис,
разложение, катастрофа государства, производные от его «нормаль-
1 Ключевский В. О. Соч. Т. 2. М., 1957. С. 396—397.
696
Реальность свободы в русской культуре
ных» форм в полном соответствии с тем, что говорили Платон
и Аристотель.
В России бывали цари-деспоты, но она не была деспотией или
тиранией. 75 лет она знала диктатуру в ее жестком и более мягком
варианте. Но это не отменяет в целом правовой характер русской
государственности, наличие у Руси-России своей длительной право-
вой традиции. А. С. Хомяков, видимо, имел основание восклицать по
поводу николаевской России:
В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена...
Но и его слова—о неблагополучии с правом, а не его отсутствии.
Свое правовое неблагополучие (продажность судей, их покорствова-
ние сильным мира сего) знал и Запад. Может быть, мы здесь зашли
гораздо дальше Запада, но различие между нами все-таки не в этом.
Оно состоит в том, что вовсе не мы, не Россия, стали преемниками
и продолжателями античной правовой традиции, а именно Запад.
Конечно, в Античности, как и везде, право начиналось в качестве
непосредственно сакральной или неразрывно связанной с сакраль-
ным реальности. Право исходит от богов, оно выражает собой кос-
мичность мироустроения, первые законодатели—боги или их избран-
ники и т. д. Но далее произошел характерно античный и в целом
западный поворот. Право не только соотносилось с сакральным как
его источником и гарантом, но и сакрализовалось прямо или косвен-
но в его содержании и осуществлении. Иначе говоря, сакральными
признавались не только законодатели, но и сами законы и их осуще-
ствление.
Сказанное можно пояснить примером из платоновского «Крито-
на». Напомню, что в этом диалоге Сократ доказывает Критону
необходимость безоговорочно подчиниться неправедному приговору
афинского суда. Для Сократа здесь первостепенно важным является
то, что суд над ним состоялся в соответствии с существующим
законодательством. А если так, то уже не важно, насколько справед-
лив был суд. Сам по себе он священен и божественен. Суд реализо-
вал собой афинские законы, им же любой гражданин обязан всем. Об
этом красноречиво говорят сами законы:
«Прежде всего не мы ли породили тебя? И разве не благодаря нам
взял в жены твою мать твой отец и произвел тебя на свет? <...> А раз
ты родился, взращен и воспитан, можешь ли ты отрицать, что ты
наше порождение и наш невольник—и ты, и твои предки? Если же
это так, неужели ты считаешь, что твои права и наши права равны?
И что бы мы ни намерены были с тобою сделать, неужели ты
считаешь себя вправе этому противодействовать? Если бы у тебя был
отец, то с ним ты не был бы равноправен, то же самое и с твоим
господином, будь у тебя господин,—так что если бы ты от них что
Вместо заключения
697
терпел, то не мог бы воздавать им тем же: отвечать бранью на брань,
побоями на побои ит. д.; неужели же с Отечеством и Законами все
это тебе позволено?..»1
В процитированном воображаемом обращении Законов к Сократу
чрезвычайно важно, что они стоят в ряду «отец-господин». Законы
так же безусловно авторитетны, как отец по отношению к сыну,
господин к рабу, божество к человеку. Но стоит заместить Законы
отцом, господином, божеством, и мы получили древневосточную
ситуацию всевластного царя, бога и человека-раба. Эта ситуация
ничего общего не имеет с Античностью, сакрализующей не только
источник права, но и самое право. Раб права—это уже не раб,
а свободный человек. Прежде всего потому, что никому в государст-
ве как лицу он не подвластен. Гражданин всегда исполняет законы.
И тогда, когда он судья, и тогда, когда он подсудимый. Граждане
равны перед законом. Друг для друга они не рабы и не господа. Но
и по отношению к сфере сакрального, где все-таки находится источ-
ник права, граждане тоже не рабы. Ведь они не просто и непосредст-
венно исполняют повеления божества, как это имело место на Древнем
Востоке. Граждане сами исполняют божественные установления —
законы, сами вершат суд и осуществляют его решение. Они свободно
определяются по отношению к сакральному, осуществляя установле-
ния богов.
Античное благоговение перед законами и юридическими нормами
имело на Западе устойчивое продолжение и в Средние Века, и в Но-
вое Время. Отсюда, в частности, пресловутый «юридизм» западного
католицизма, доктрина о сверхдолжных заслугах святых, дающих
Церкви запас благодати и право им распоряжаться. Право торжест-
вует и в «Божественной комедии» Данте, где грешники, праведники
и святые распределяются в аду, чистилище и в Раю строго в соответ
ствии со своими поступками. Поступок и воздаяние здесь отличаются
от правовой ситуации только в том отношении, что судятся не только
проступки, но и добродетели. Рассматриваются же они как правовая
реальность.
Если теперь обратиться к Руси-России, то здесь мало общего
можно обнаружить с западным отношением к праву. Для начала
приведем примеры заведомо сниженные. Оба они из «Капитанской
дочки» А. С. Пушкина. Первый пример касается суда, который вер-
шит Василиса Егоровна, жена капитана Ивана Кузьмича Миронова,
коменданта Белогорской крепости: «Все, слава Богу, тихо,—отвечал
казак, — только капрал Прохоров подрался в бане с Устиньей Негу-
линой за шайку горячей воды.— Иван Игнатьич!—сказала капитан-
ша кривому старичку. —Разбери Прохорова с Устиньей, кто прав,
кто виноват. Да обоих и накажи». Суд Василисы Егоровны при всей
его незамысловатости и некоторой курьезности вполне в духе суда
1 Платон. Соч. в 3-х т. Т. 1. М., 1968. С. 125.
698
Реальность свободы в русской культуре
какого-нибудь губернатора екатерининских времен, который пред-
ставлял высшую судебную инстанцию в своей губернии. В Белогор-
ской крепости никого, кроме старика коменданта, который под каб-
луком у жены, нет. Вот она и вершит свой скорый суд. Нельзя
сказать, чтобы этот суд был не по праву. Максимыч, видимо, рассу-
дил Устинью с Прохором, если и не на основе законов Российской
империи, то с применением обычного права. Оно же знает свои
законы так же, как свои законы знали Афины IV в. до Р. X. Неладно
здесь только с приговором. Он почему-то не счетается с тем, кто
прав, кто виноват и никакого отношения к законам не имеет. Приго-
вор делается по разумению или по совести судьи-капитанши. В Бело-
горской крепости действуют не законы, а «законодатель». Он же
считается не с тем, что положено по закону делать с подсудимыми,
а с тем, каковы они, с их нравом и повадками. Перед нами действи-
тельно межличностные отношения, не опосредуемые никакими зако-
нами. Закон для Василисы Егоровны нечто слишком формальное
и внешнее. Поверх закона она способна разобраться в ситуации
глубже и тоньше. Полагается капитанша как судья на самое себя,
а не на закон. Судит она патриархально и по-семейному, изнутри,
а не извне. И следа нет «уважения к законам», благоговения перед
ними. Есть Василиса Егоровна, Прохор и Устинья, и они прекрасно
разберутся друг с другом по праву и по правде без всяких законов.
Ведь право и правда здесь—это право и правда Василисы Егоровны.
Она старшая и судить должна как Бог на сердце положит. Освящена
она, а не законы. И что очень важно, Василиса Егоровна вовсе не
аналог какого-нибудь божественного царя в древневосточном духе
и подсудимые не ее рабы-подданные. Она мать своих детей, отвечаю-
щая за них перед Богом.
Другой пример касается к счастью не состоявшейся казни Петру-
ши Гринева.
«Вешать его! —сказал Пугачев, не взглянув уже на меня. Мне
накинули на шею петлю... Меня притащили под виселицу. «Не бось,
не бось»,—повторяли мне губители, может быть и вправду желая
меня ободрить».
Как хотите, но это «не бось, не бось» и последующая ремарка
Пушкина совершенно поразительны. Ведь лихие казачки ободряют
своими нелепыми словами того, кто приговорен к смерти судом
императора «Петра Федоровича», пускай и поддельного. Приговорен
по закону за измену. Откуда же тогда такое живое и задушевное
сочувствие? Думаю, от ощущения того, что любой человеческий суд,
да и суд вообще—это не высшая и последняя реальность. Выше
всякого суда с его законом «благодать» приятия Богом человека,
какой он есть. Это приятие вовсе не безразличие любви к грехам
и преступлениям. Оно бесконечно милующе и милосердно. Это мило-
вание каким-то образом ощущают палачи и более того, самым неверо-
ятным образом они не просто сочувствуют юному прапорщику, но
Вместо заключения
699
и смотрят на него Божиим взором. Право тоже остается в стороне.
Оно условно и относительно. Освящен и «сакрализован» судья —
Пугачев со своим ничем не связанным правом казнить и миловать,
в конечном же счете все упирается в освященность неподсудности
Петруши никакому суду.
Не только что законы, но и суд —это не дело Божие. Связь
с Богом у русского человека другая. И она совсем не правовая.
Проговоренное на материале «Капитанской дочки» может быть под-
тверждено другим, «высоким» рядом. Как я это понимаю, знаковым
здесь может служить пример с обращением В. С. Соловьева 28 фев-
раля 1881 г. к государю императору Александру III с призывом
о помиловании убийц его отца Александра II. Вот как Соловьев
пояснял свой призыв в позднейшем письме в адрес государя: «Милуя
врагов своей власти вопреки всем естественным чувствам человече-
ского сердца, всем расчетам и соображениям земной мудрости, Царь
станет на высоту сверхчеловеческую и самым делом покажет божест-
венное значение Царской власти»1.
В своем прекраснодушном и катастрофически неуместном порыве
Владимир Сергеевич считал, что предлагает государю шаг христиан-
ский по преимуществу. Действие в соответствии с заповедями бла-
женства Нагорной проповеди. Реально же призыв Соловьева был
нигилистичен. Он оказался нечувствительным как раз к сакральному
характеру царской власти. Цареубийца стоит в ряду, где можно
встретить и Иуду Искариота, чье прощение Христом немыслимо.
«Завтра же будешь со мной в раю», — сказано раскаявшемуся разбой-
нику на кресте, а вовсе не затосковавшему от свершенного им
богоубийце Иуде. Что-то о раскаянии народовольцев было не слыш-
но, и помилование их стало бы актом попрания царского достоинст-
ва, ничего общего с христианским милосердием не имеющим.
Но даже если вывести за скобки собственно христианский мотив,
то примечательными остаются счеты Соловьева с правом и законами
Российской империи. Их с полной беззаботностью предлагается от-
менить. По Соловьеву, существует нечто несопоставимо более высо-
кое, чем они. В конце концов речь идет о том, что Божий суд (а это
вовсе и не суд) никакого отношения к праву и государственным
законам не имеет. Законы всецело десакрализованы, сакральное же
остается неизреченным, не связанным и с установленной законода-
тельством нормой. Между «законом» и «благодатью» не переход,
а пропасть.
При всей их разнопорядковости, примеры из «Капитанской доч-
ки» и биографии В. Соловьева объединяет одно: они демонстрируют
пренебрежение к правовой реальности. Право и законы умаляются
перед лицом чего-то бесконечно их превосходящего. Это умаление
1 Соловьев В. С. Собр. соч. В. С. Соловьева. Письма и приложения. Т. 4. Брюс-
сель, 1970. С. 150.
700
Реальность свободы в русской культуре
претендует на торжество некоторой «сверхправовой» реальности.
Конечно, отдельные и, возможно, не такие уж редкие случаи торже-
ства высшей правды поверх человеческого права и законов имели
место. В целом же для русского отношения к праву характерна
антиномия между судом по совести и Божией правде и произволом.
Последний, однако, слишком часто подменяет собой первый. Грубей-
ший произвол (и вовсе не обязательно корыстный), каприз и прихоть
находили подходящую для себя почву там, где право не было
укоренено в сфере сакрального. Русский человек ощущал равенство
людей перед Богом, а не перед законом. И покорствовал он не
закону, а лицу. Были отцы-начальники и дети-подчиненные, не было
граждан, если возвращаться к формулировкам Ключевского. «Отцы»
исконно были связаны со сферой сакрального. Им по праву полагал-
ся суд. Тот суд, который исходил не столько из законов, сколько из
них самих, из «благодати», присущей им в силу своего статута.
Здесь действовала далеко не одна только сила и корысть. Поэтому
это было именно право, хотя и не в западном смысле. Западное
право, претендовавшее на власть закона, а не лица, сколько угодно
могло знать насилие, корысть, произвол. Но не случайно они стреми-
лись осуществить себя через судебное крючкотворство. В необходи-
мости этого крючкотворства содержалось невольное признание не-
зыблемого достоинства законов. Победить их можно было только
изнутри, за счет формалистики. Отсюда и характерный для Запада
срыв права, его оборотная сторона. У нас суд по совести, Божий суд
противостоял произволу. На Западе священному характеру права
и законов противополагался правовой формализм. На одном полюсе
мы встречаем внутреннюю несамостоятельность права, отсутствие
воли к принятию его самостоятельной значимости. На другом —
гипертрофию права, вплоть до его экспансии в сферу сакрального,
навязывание Богу правовой позиции, как ее оформляли люди.
Последний упрек, наверное, можно бросить Западу, исходя из
нашего русского опыта. Гораздо серьезнее и сокрушительней, одна-
ко, был бы упрек противоположной стороны в том, что наша право-
вая традиция, по крайней мере, начиная с времен Московской Руси
трудно совместима со свободой. Не в праве обретал, обнаруживал
и утверждал свою свободу русский человек. Тем самым она лишалась
своего самого устойчивого и надежного основания. Может быть, и не
в правовых ситуациях человек достигает вершин своей свободы,
свободы по преимуществу. Право —это скорее условная и «середин-
ная» свобода. Но именно оно приобщает к свободе не только избран-
ное меньшинство «сверхчеловеков», но и тех людей, которым ничто
человеческое не чуждо. Последним оно позволяет удержаться от
рабства, в которое человеку соскользнуть как раз очень нетрудно.
Что в избытке демонстрирует русская история и культура, для
которой право никогда не было особой значимой реалией.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение .................................................... 3
Часть I
РУССКАЯ КУЛЬТУРА КАК ЦЕЛОЕ
Глава 1. Особенности исторического пути Руси-России..........16
Глава 2. Русская культура и свобода. Предварительные замечания ... 33
Глава 3. Русская культура и природа..........................47
Глава 4. К проблеме периодизации русской культуры........... 75
Часть II
КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ
Глава 1. Древнерусская культура, христианство, язычество .92
Глава 2. Древнерусская культура и Византия .................115
Глава 3. Древнерусская культура как слово...................133
Глава 4. Древнерусская культура как зрительный образ .......162
Глава 5. Культура Киевской Руси ............................203
Когда началась древнерусская культура ....................203
Князь и княжеская власть .................................211
Княжеская дружина ........................................232
Крестьянин и горожанин ...................................248
Глава 6. Между Киевской и Московской Русью .................265
Русская культура и татарское иго ................. . 265
Удельная Русь как явление культуры........................281
Глава 7. Культура Московской Руси ..........................302
Московский царь...........................................302
Боярин и дворянин ........................................320
Крестьянин, посадский человек, казак .....................350
Опричнина и Смутное время.................................379
Церковный раскол . .......................................401
Кризис и разложение древнерусской культуры ...............417
Часть III
КУЛЬТУРА ПЕТЕРБУРГСКОЙ РОССИИ
Глава 1. Секуляризация культуры ...........................440
Глава 2. Петербургская Россия и Запад .....................459
Глава 3. Российский император . ...........................497
Глава 4. Дворянин, солдат, чиновник........................520
Глава 5. Восемнадцатый век ................................551
Глава 6. Девятнадцатый век ................................588
Глава 7. Конец XIX—начало XX века .........................627
Часть IV
РУССКАЯ КУЛЬТУРА В XX ВЕКЕ
Глава 1. Культурная катастрофа................. . 644
Глава 2. Псевдокультура безвременья........................663
Реальность свободы в русской культуре (вместо заключения) .683
САПРОНОВ Петр Александрович
РУССКАЯ КУЛЬТУРА IX—XX ВВ.
ОПЫТ ОСМЫСЛЕНИЯ
Редактор Ю. И. Смирнов
Корректор Е. Э. Байер
Компьютерная верстка Ю. А. Хайретдинов
Подписано в печать 16.09.04. Формат 70Х100'/1(.. Бумага офсетная.
Гарнитура «Кудряшевская». Печать офсетная. Усл. печ. л. 57,2.
Уч.-изд. л. 46,88. Тираж 3000 экз. Заказ № 494.
Издательство «Паритет»
197183, Санкт-Петербург, Липовая аллея, д. 15а, оф. 18.
E-mai 1: book_paritet@mai 1. spbn it. ru
Отдел реализации издательства «Паритет»
Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 8.
Тел. (812) 541-81-94, (812) 542-02-57.
E-mail: or_paritet@mail.spbnit.ru
Представительство в Москве
ЧП Ларченко Е. А., 111024, г. Москва, ул. 2 я Кабельная, д. 10.
Тел. (095) 941—65—76. E-mail: larcheek@yandex.ru
ООО «Фоликом» («Книга — почтой»)
199053, Санкт-Петербург, В. О., 4-я линия, д. 13.
Тел. (812) 323-70-04
Отпечатано с диапозитивов в ФГУП «Печатный двор» Министерства РФ
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д. 15.
КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПАРИТЕТ» МОЖНО ПРИОБРЕСТИ,
ОБРАТИВШИСЬ ПО АДРЕСАМ:
Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 8.
Тел. отдела реализации: (812) 541-81-94, (812) 542-02-57
E-mail: or_paritet@mail.spbnit.ru
Тел. издательства (812) 430-03-62
E-mail: book_paritet@mail.spbnit.ru
— Отдел реализации издательства «Паритет»
Представительство в Москве
ЧП Ларченко Е. А., 111024, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 10.
Тел. (095) 941-65-76. E-mail: larcheek@yandex.ru
«Книге — почтой»
ООО «Фоликом». 199053, Санкт-Петербург, В. О., 4-я линия, д. 13.
Тел. (812) 323-70-04. E-mail: folicom@mail.wplus.net
Оплата наложенным платежом (при получении на почте)
КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПАРИТЕТ» МОЖНО ПРИОБРЕСТИ
В СЛЕДУЮЩИХ РЕГИОНАХ РОССИИ:
630117, Новосибирск,
ул. Арбузова, д. 11, «Топ-книга» ООО.
Тел. (8-3832)36-10-28; (8-3832)36-10-26
660049, Красноярск,
ул. К. Маркса, д. 48, «Градъ» ООО.
Тел. (8-3912)59-11-52; (8-3912)59-11-51.
E-mail: grad@andys.ru
620077, Екатеринбург,
ул. А. Валека, д. 12, 000 КТК «Дом Книги»
Тел. (3433) 58-12-00