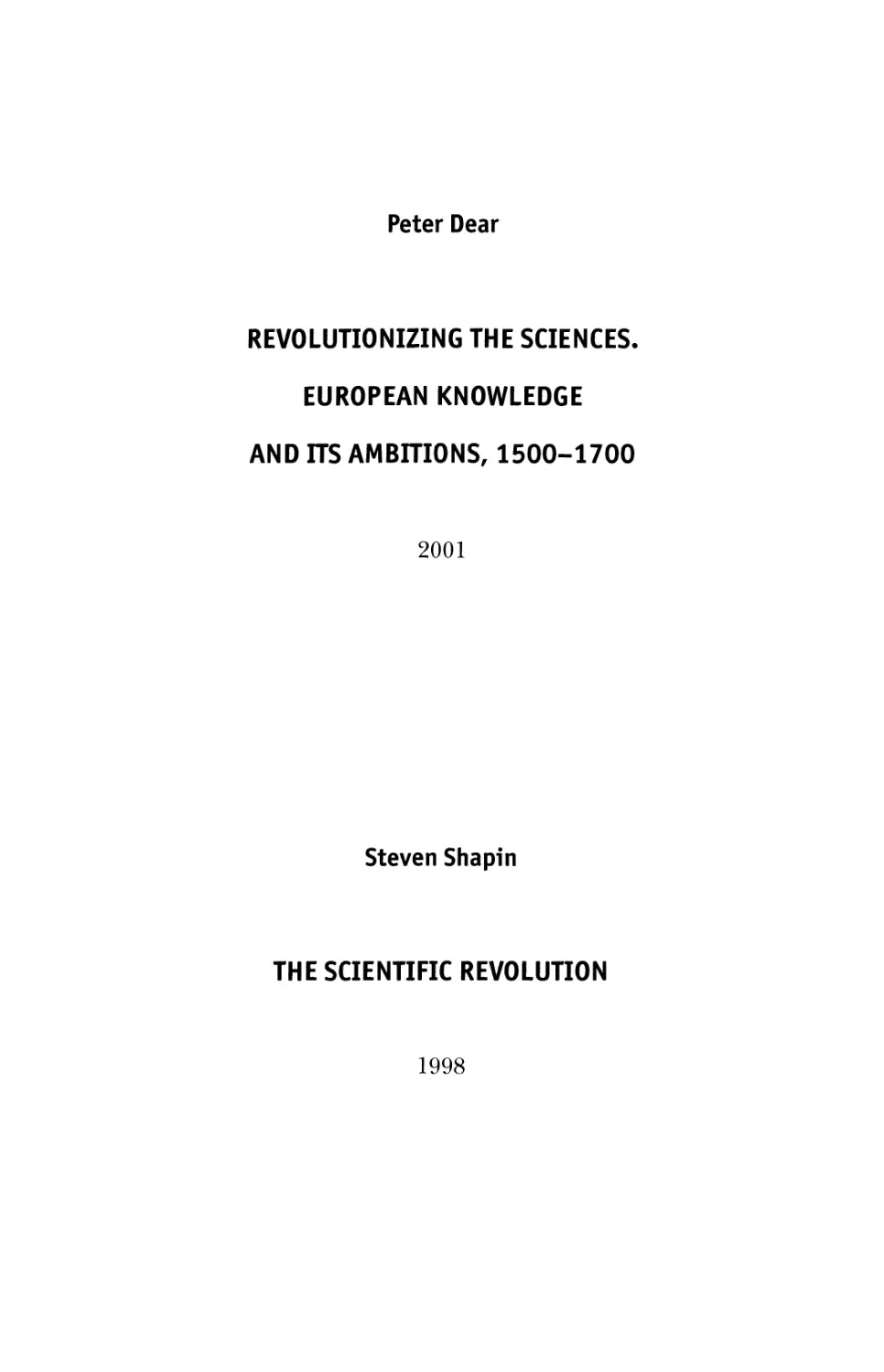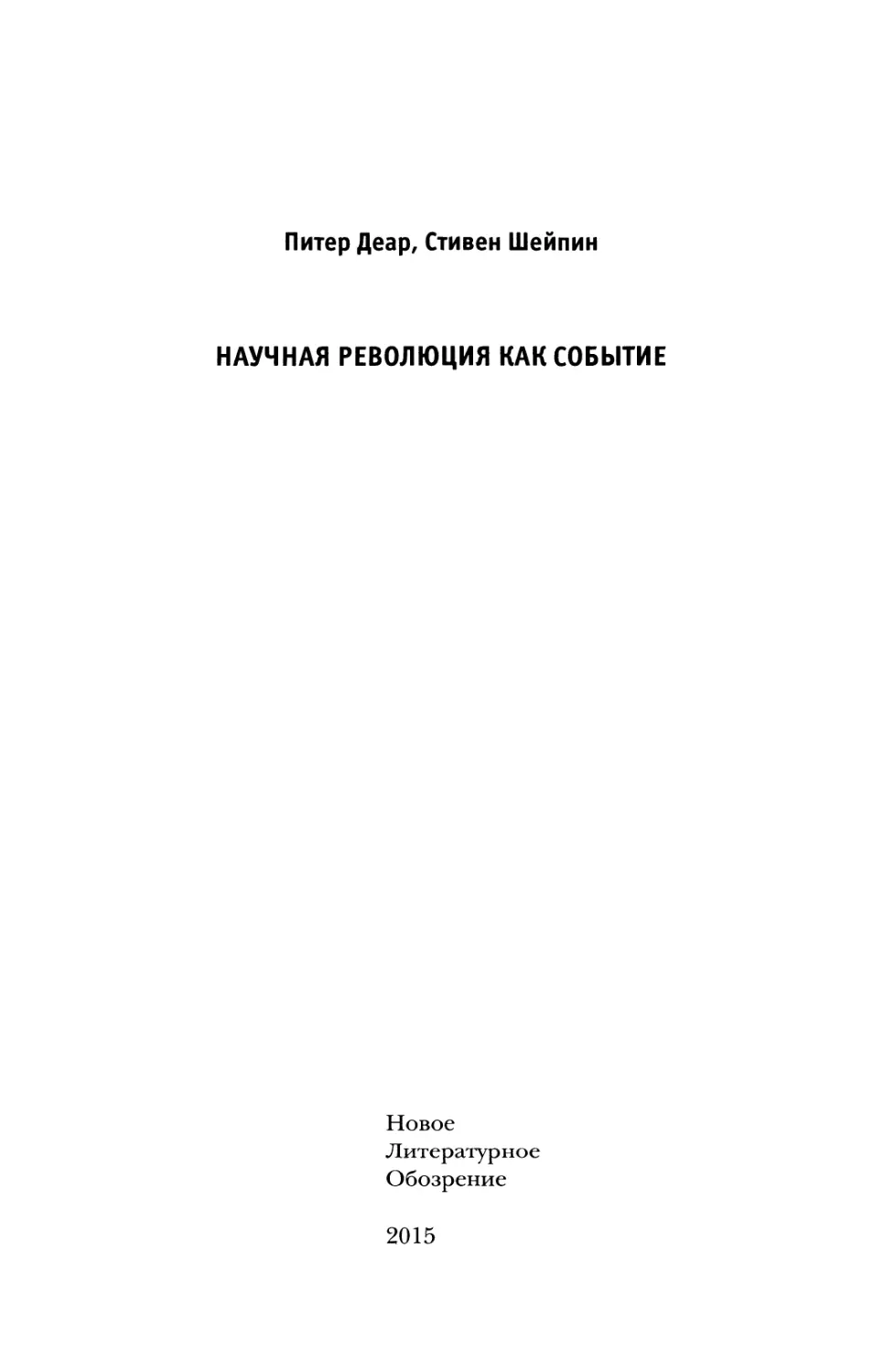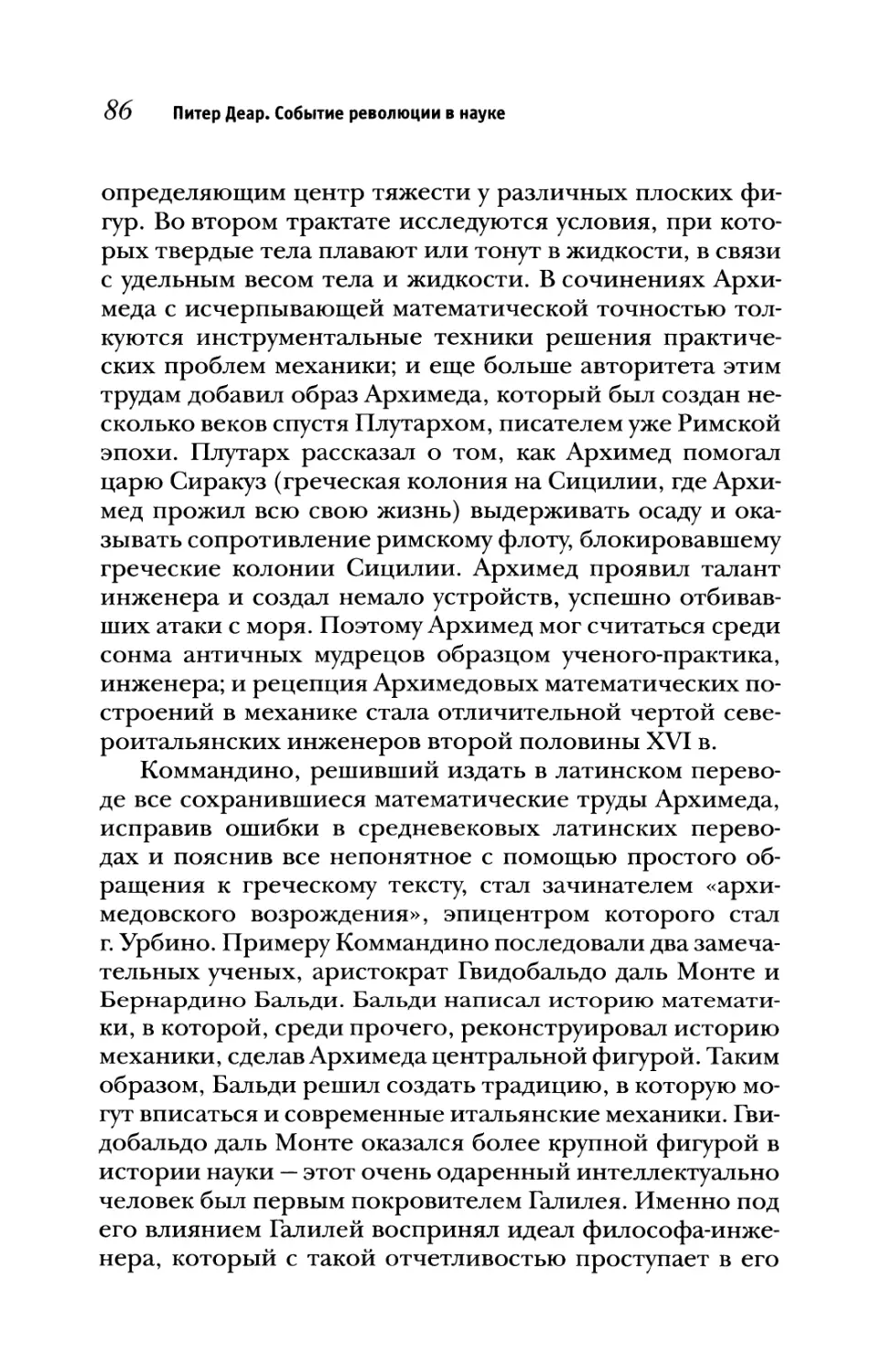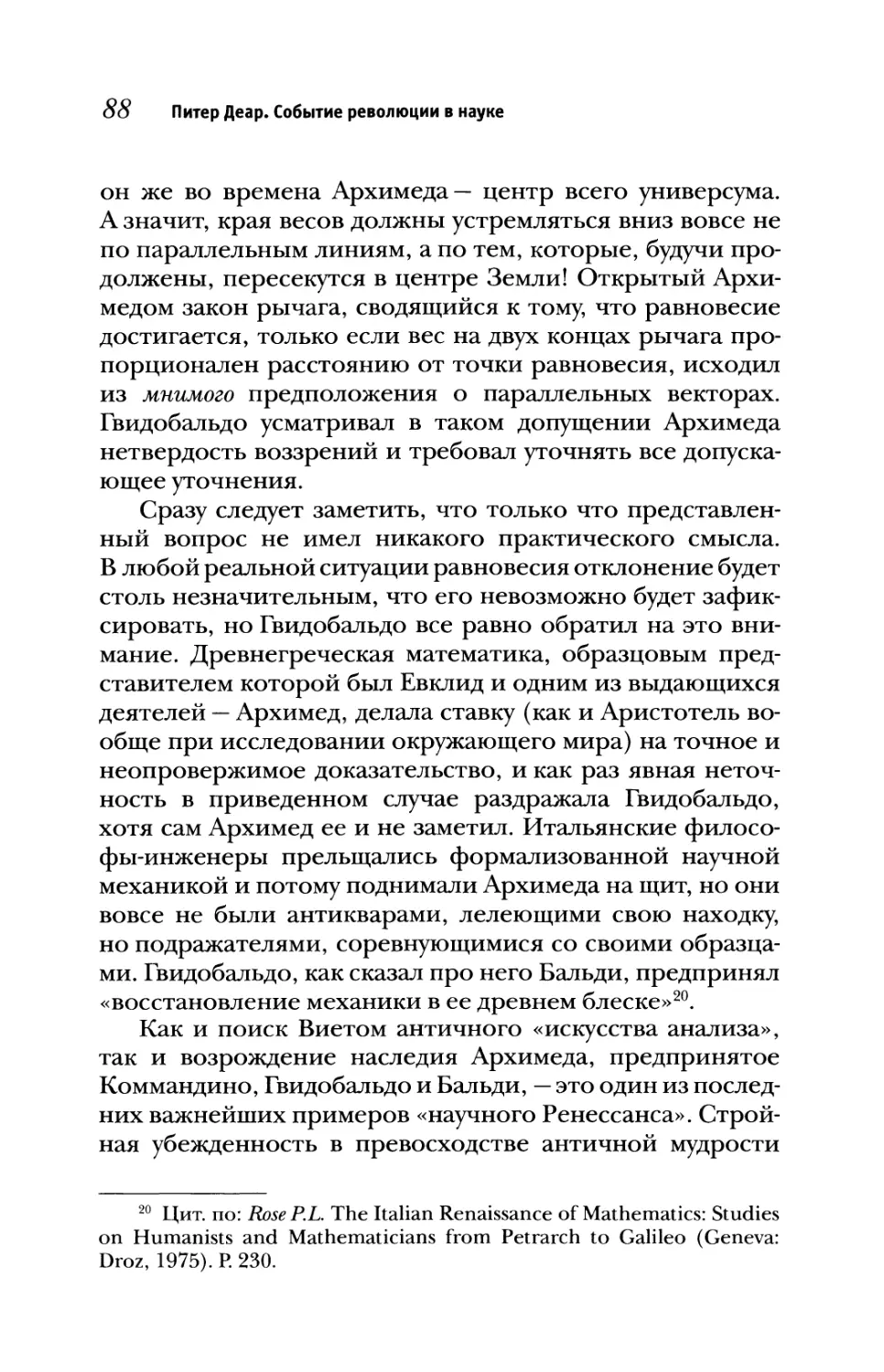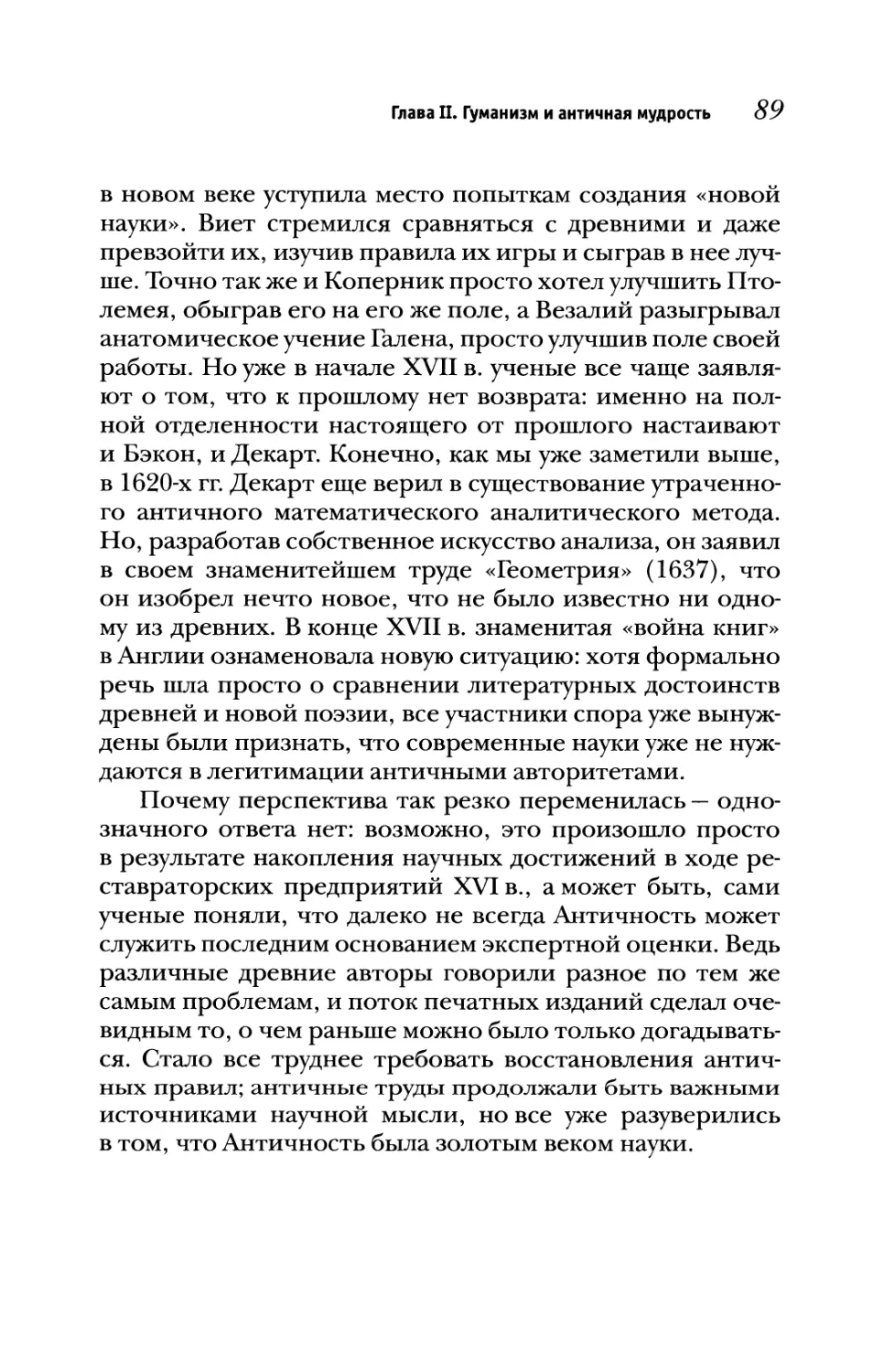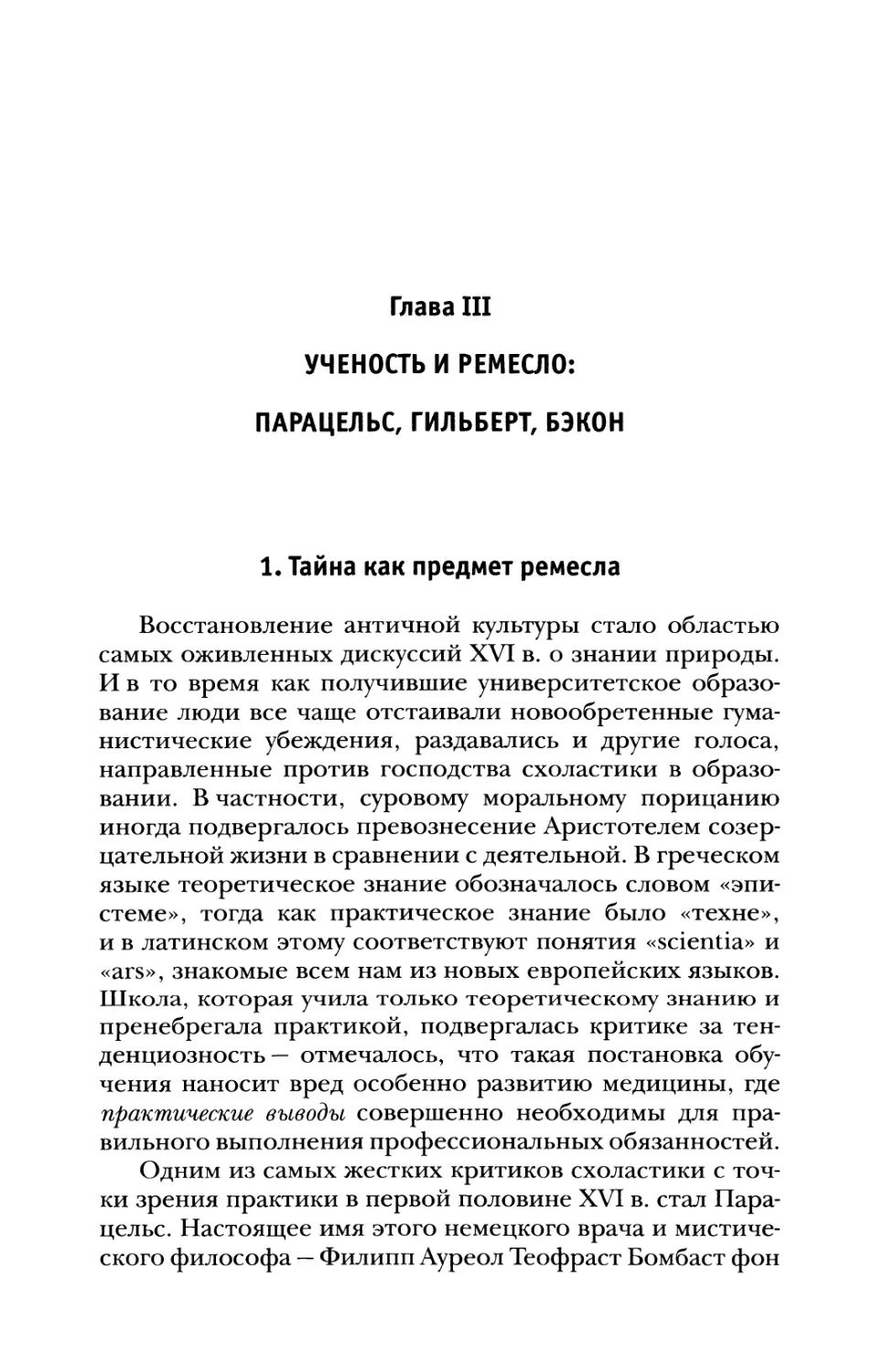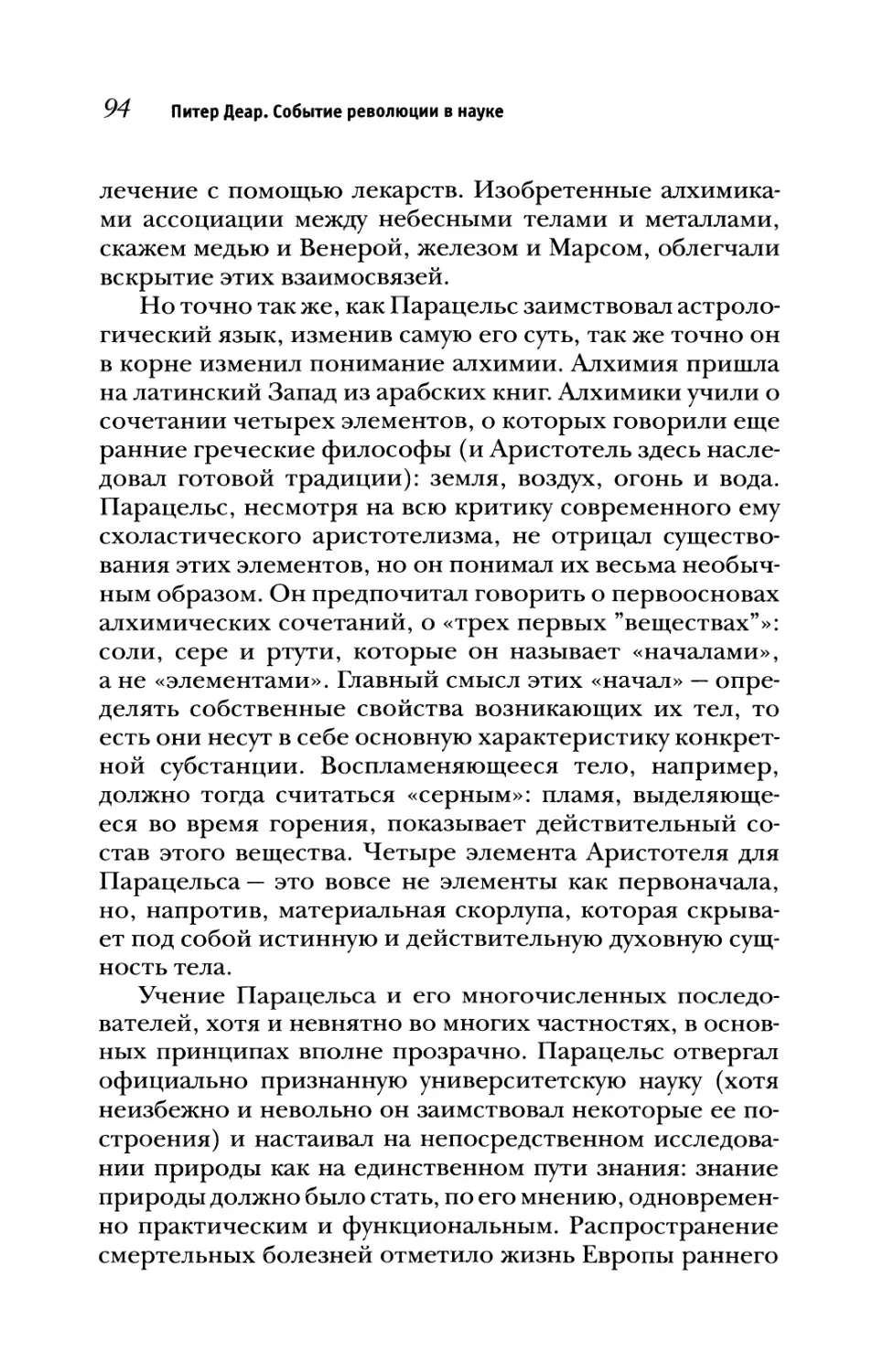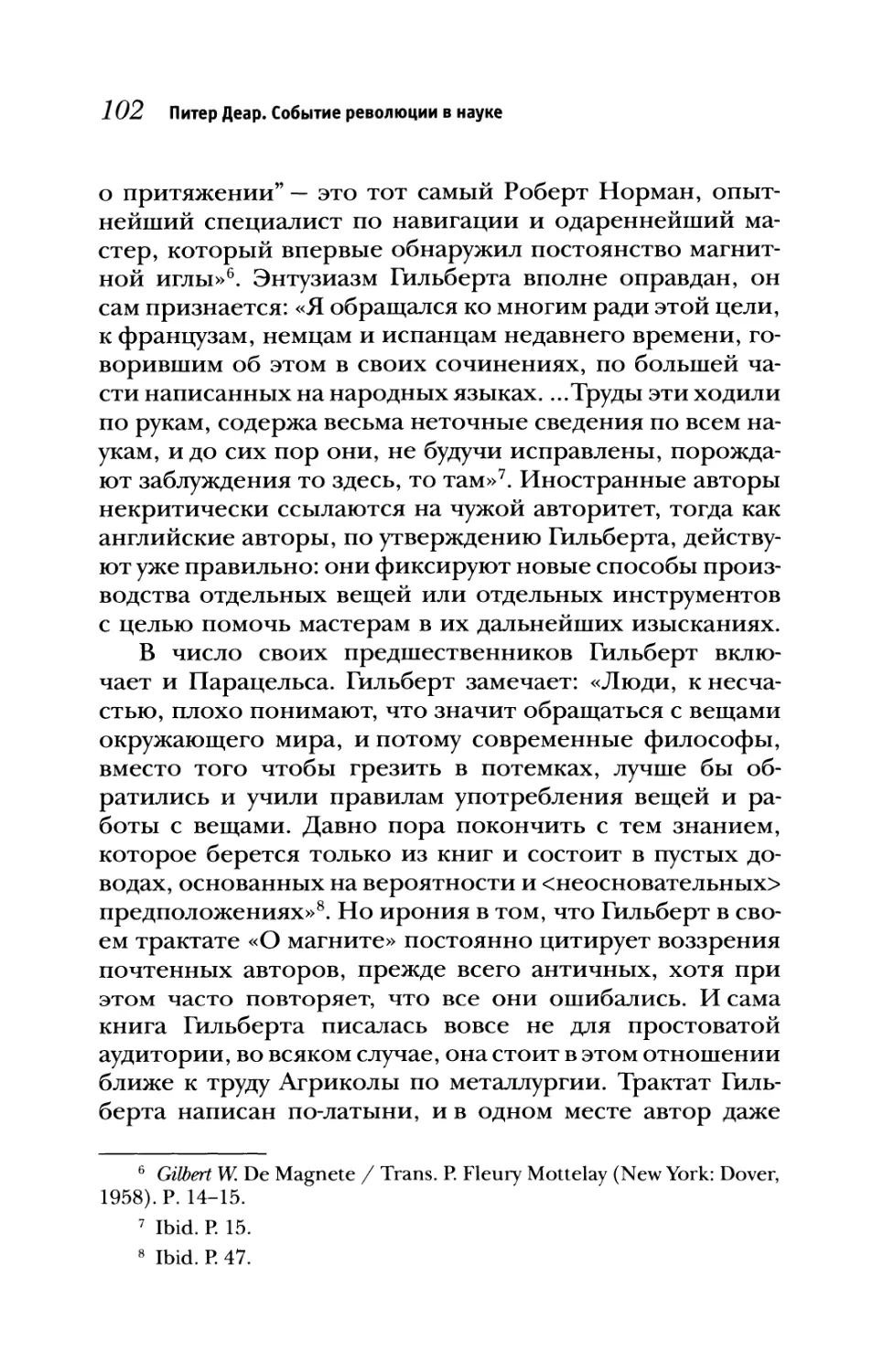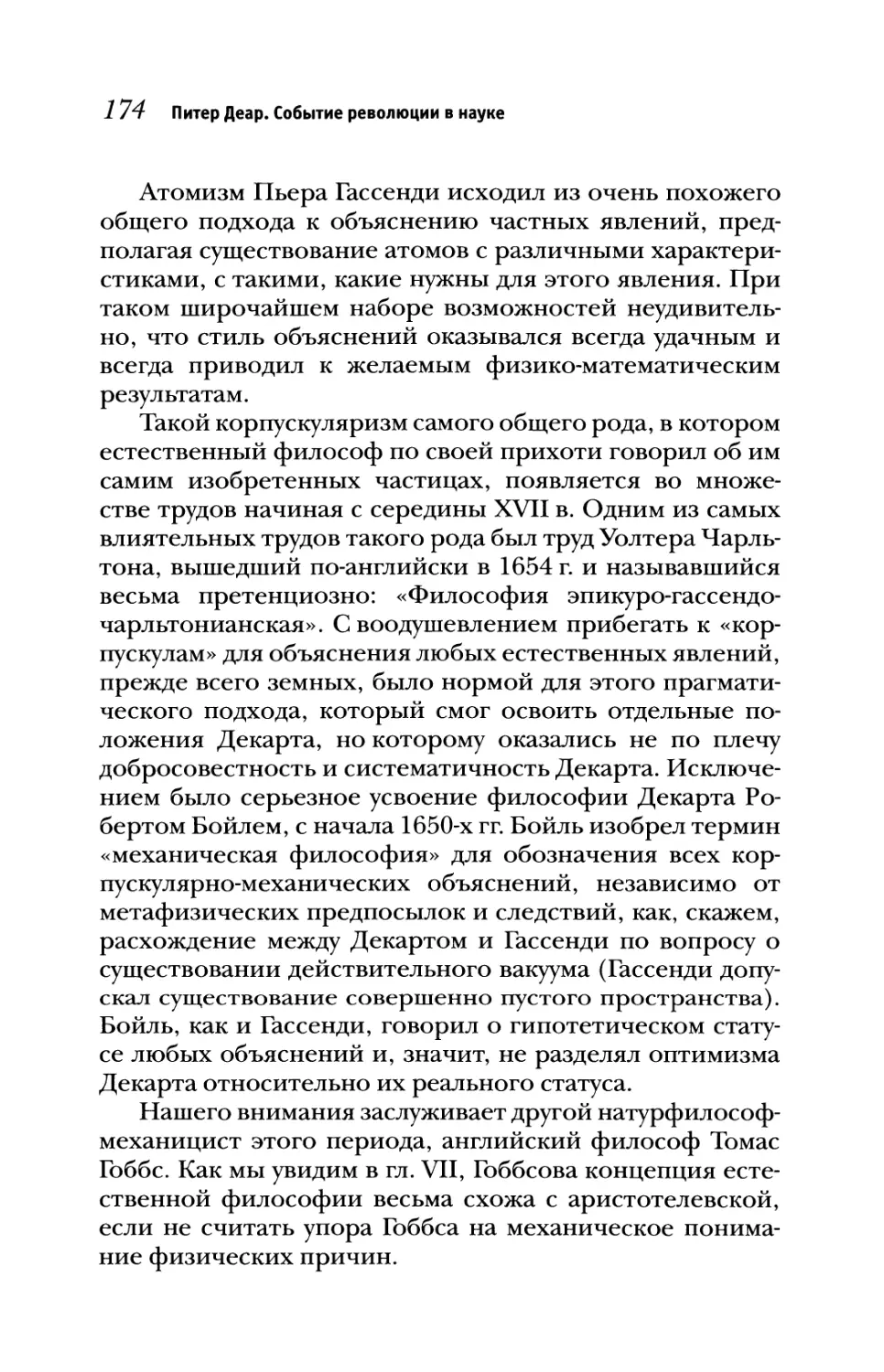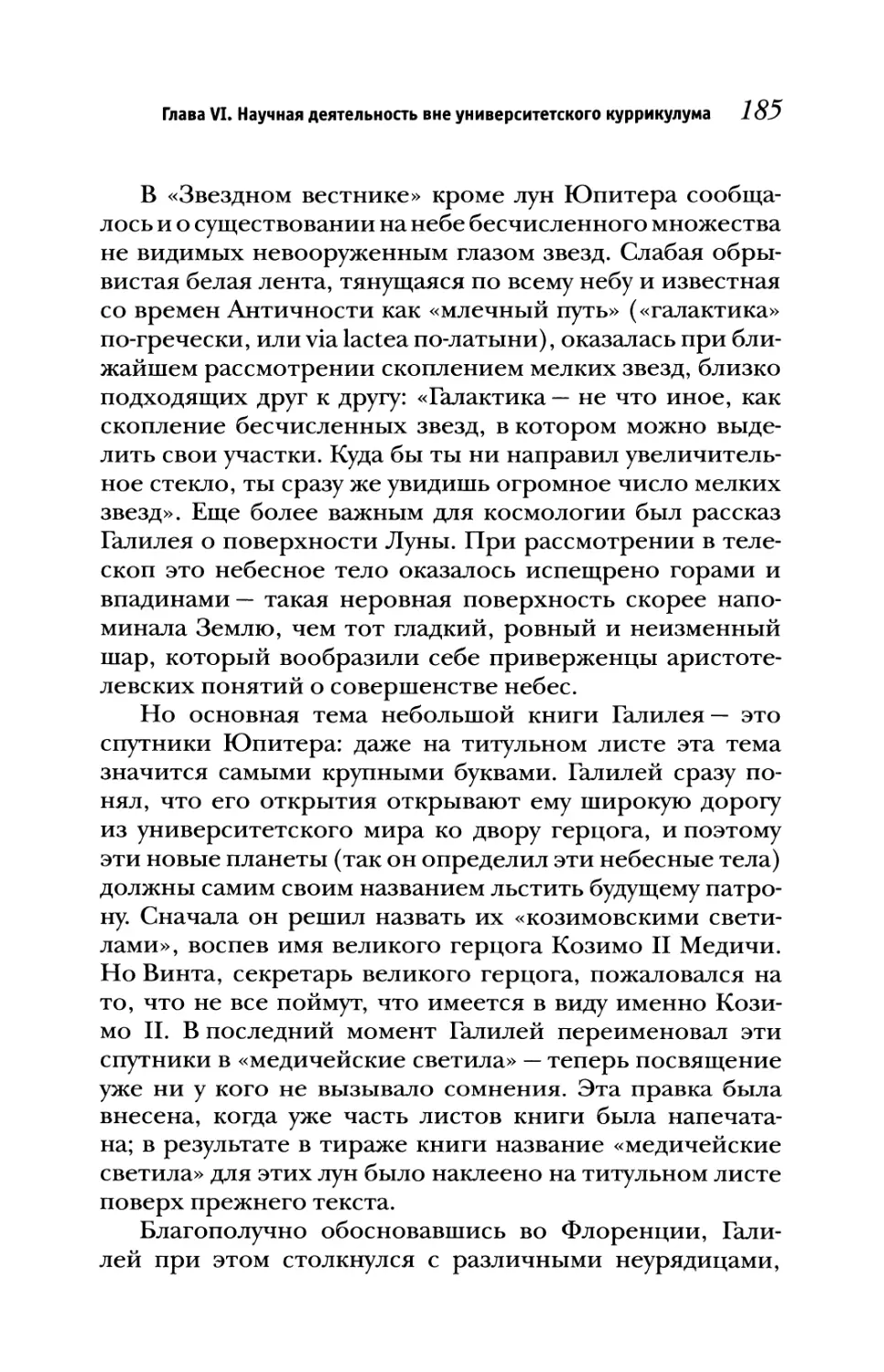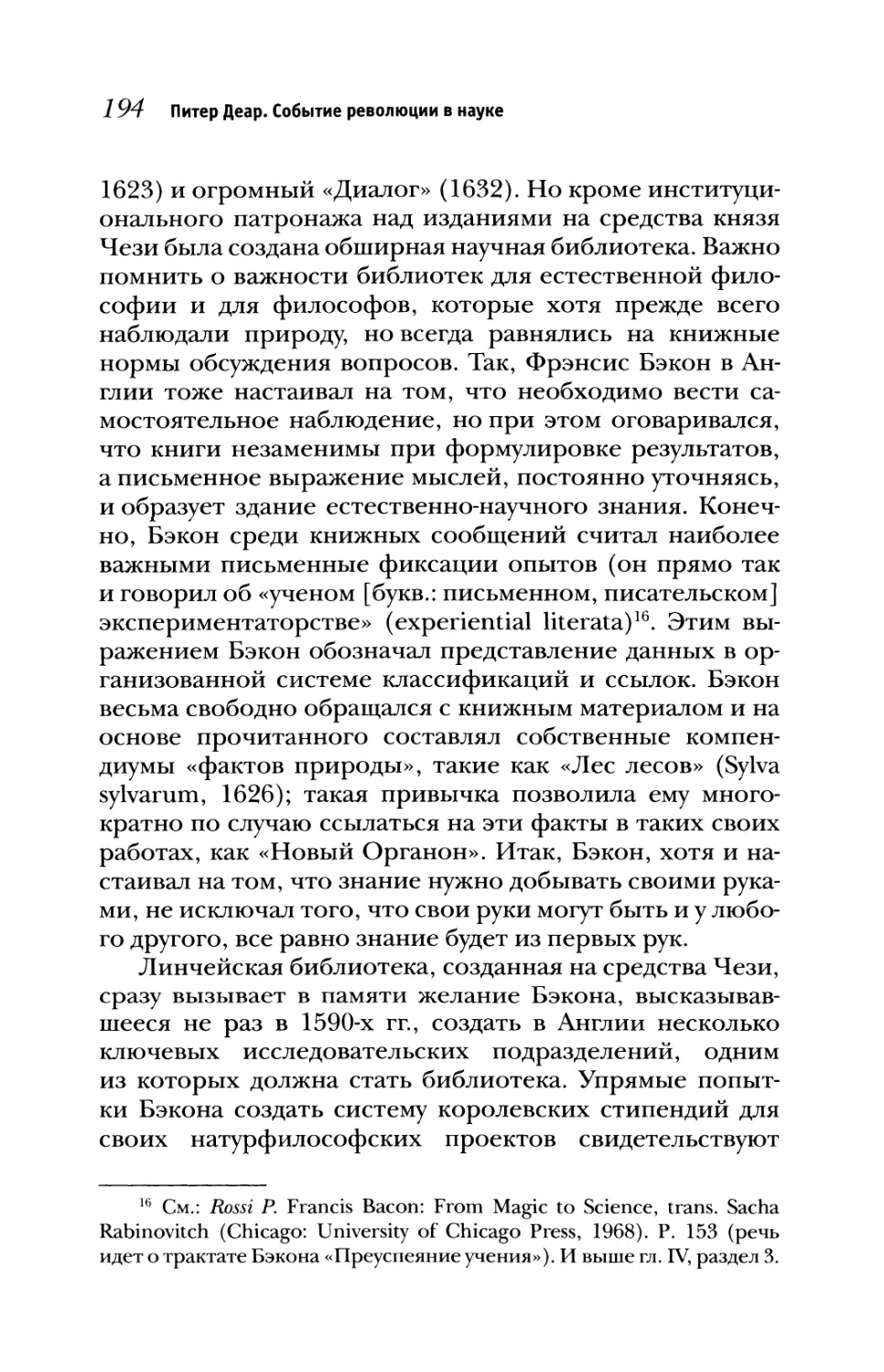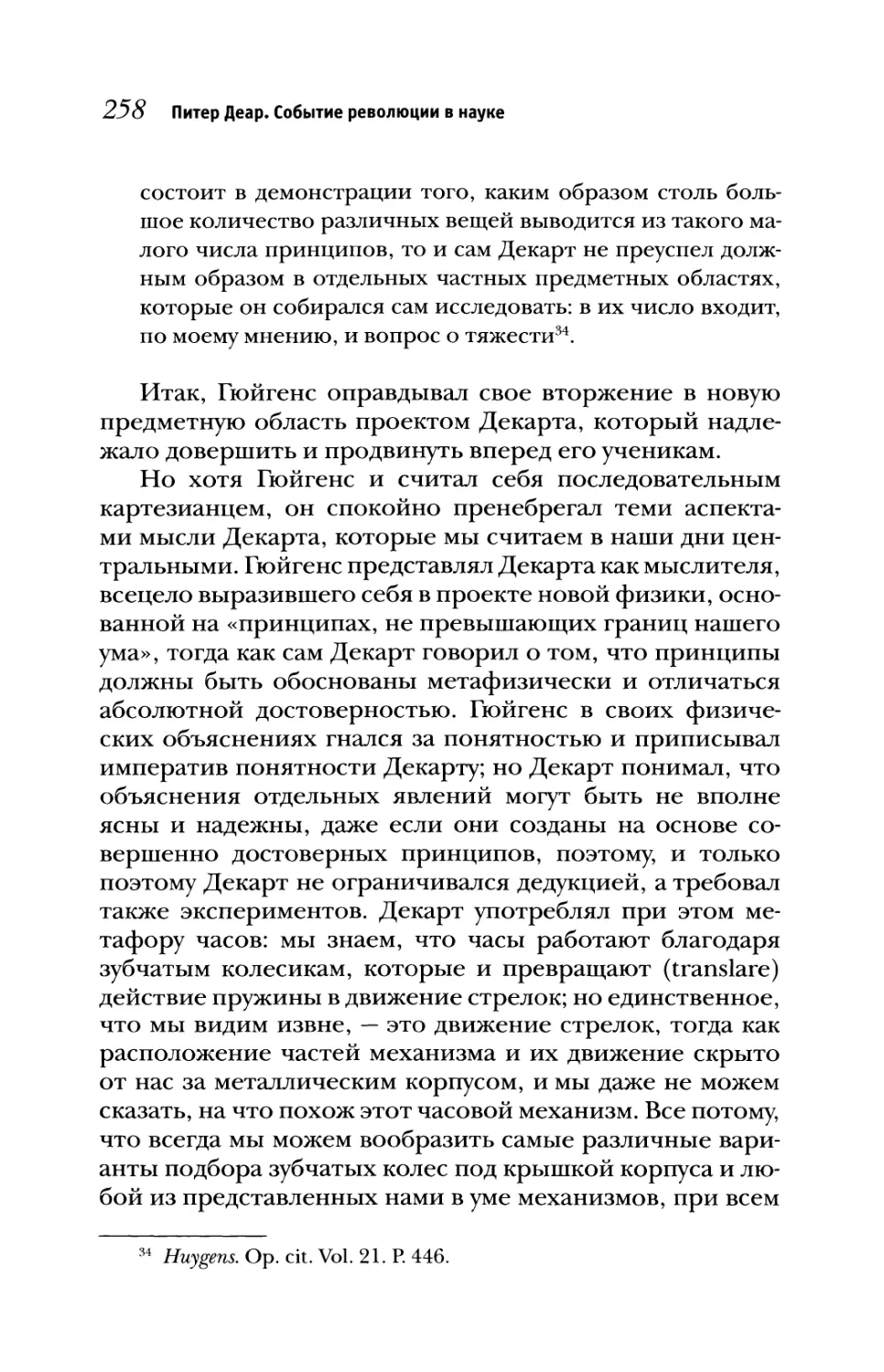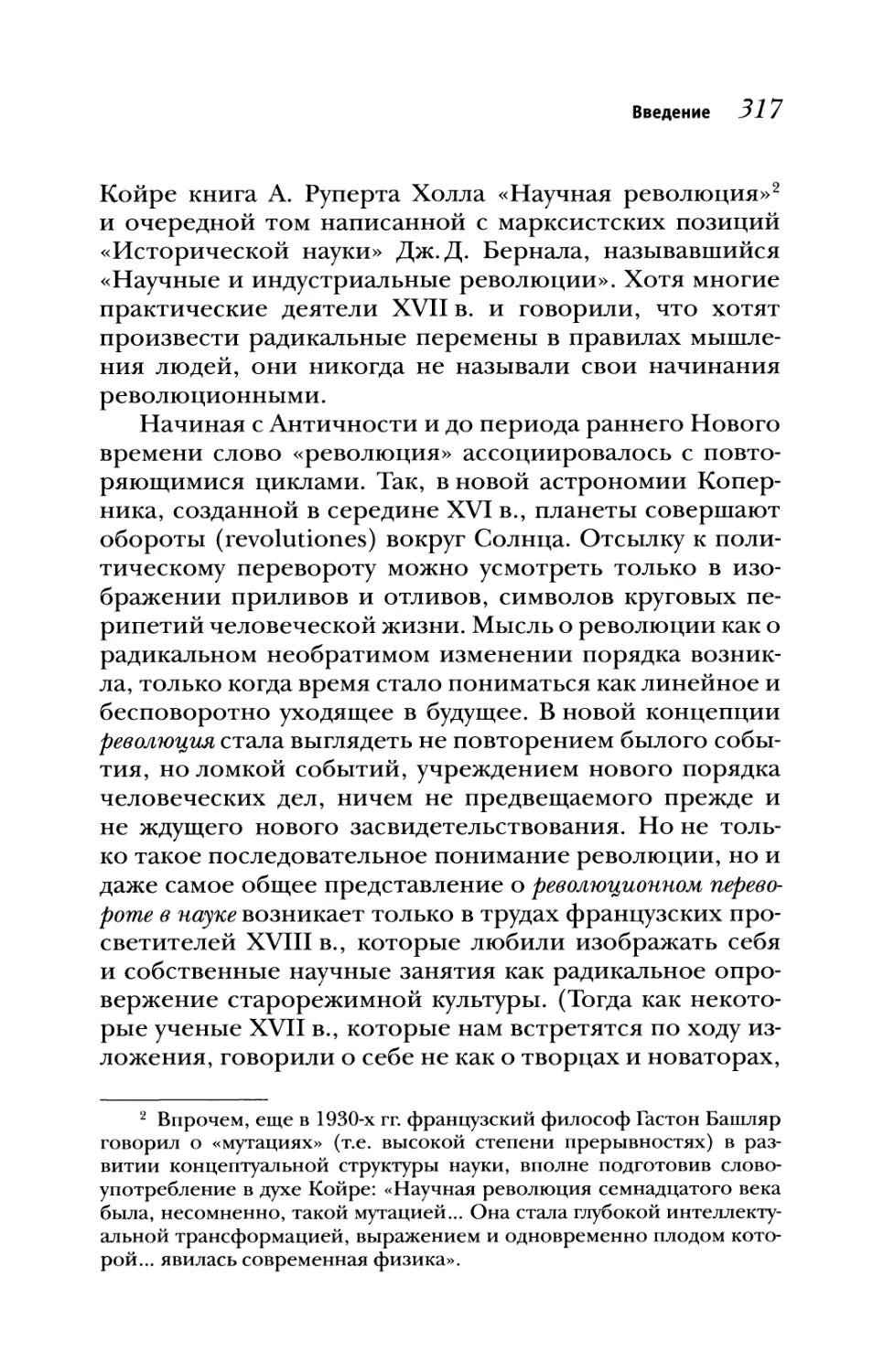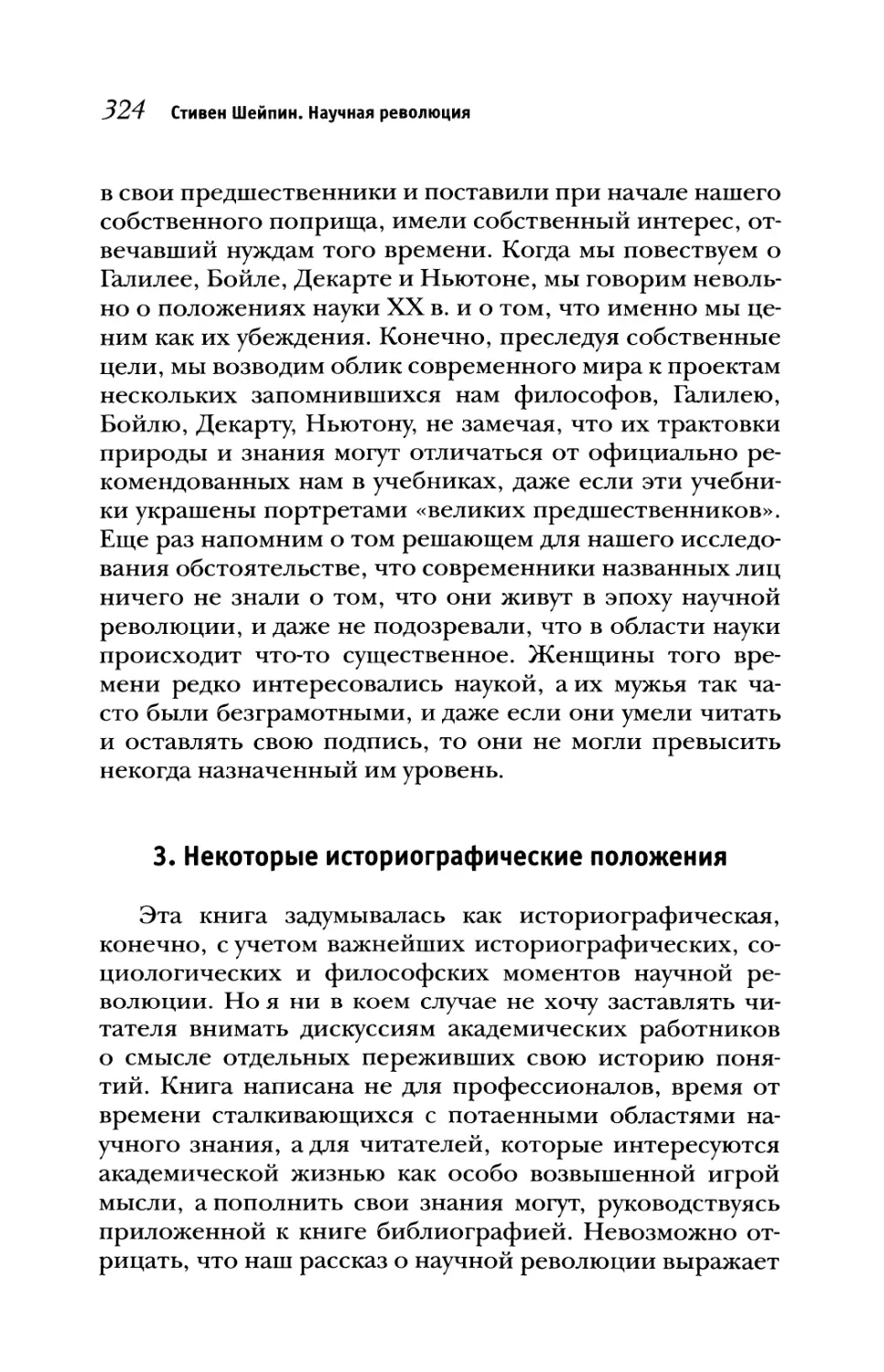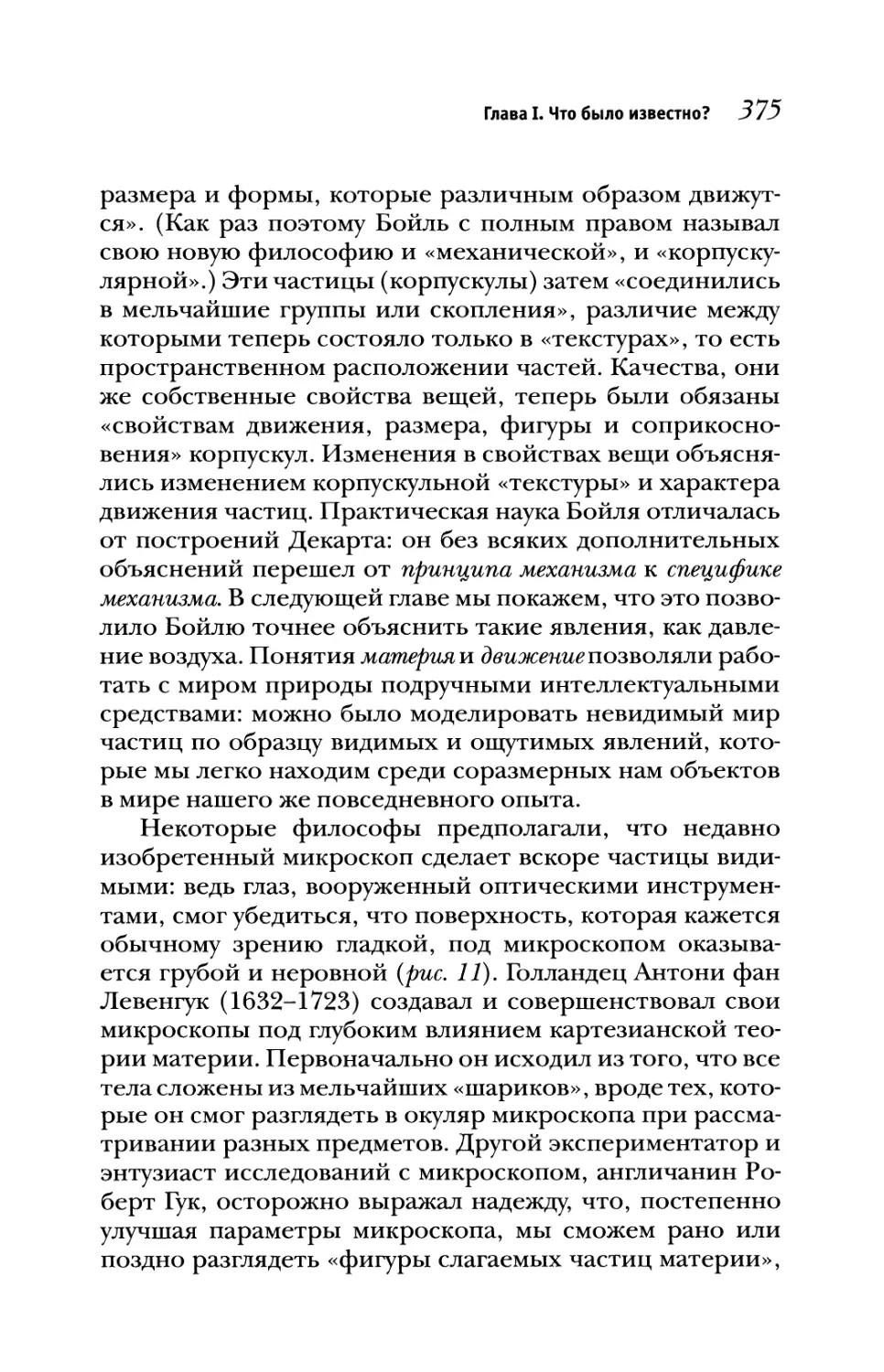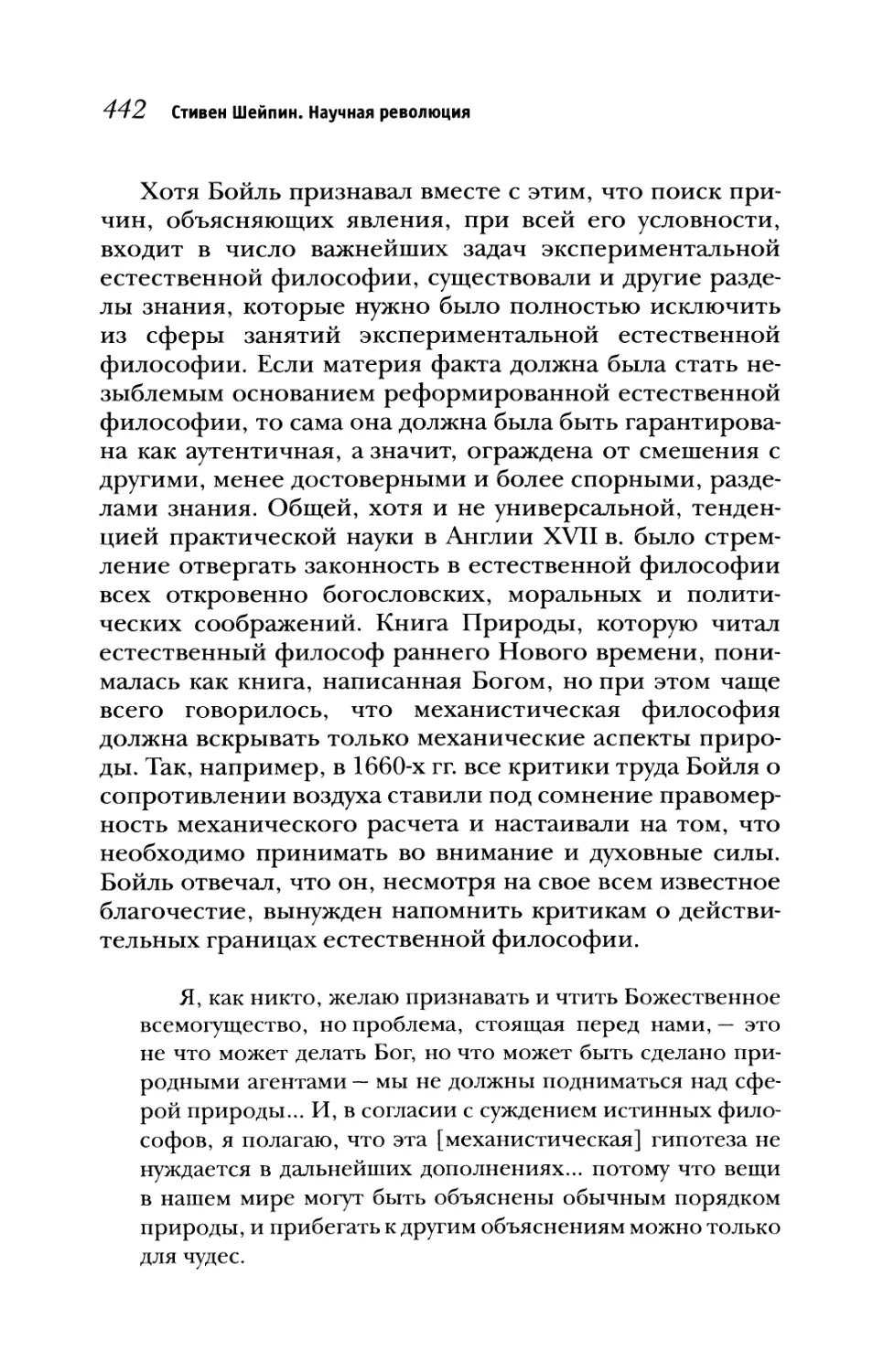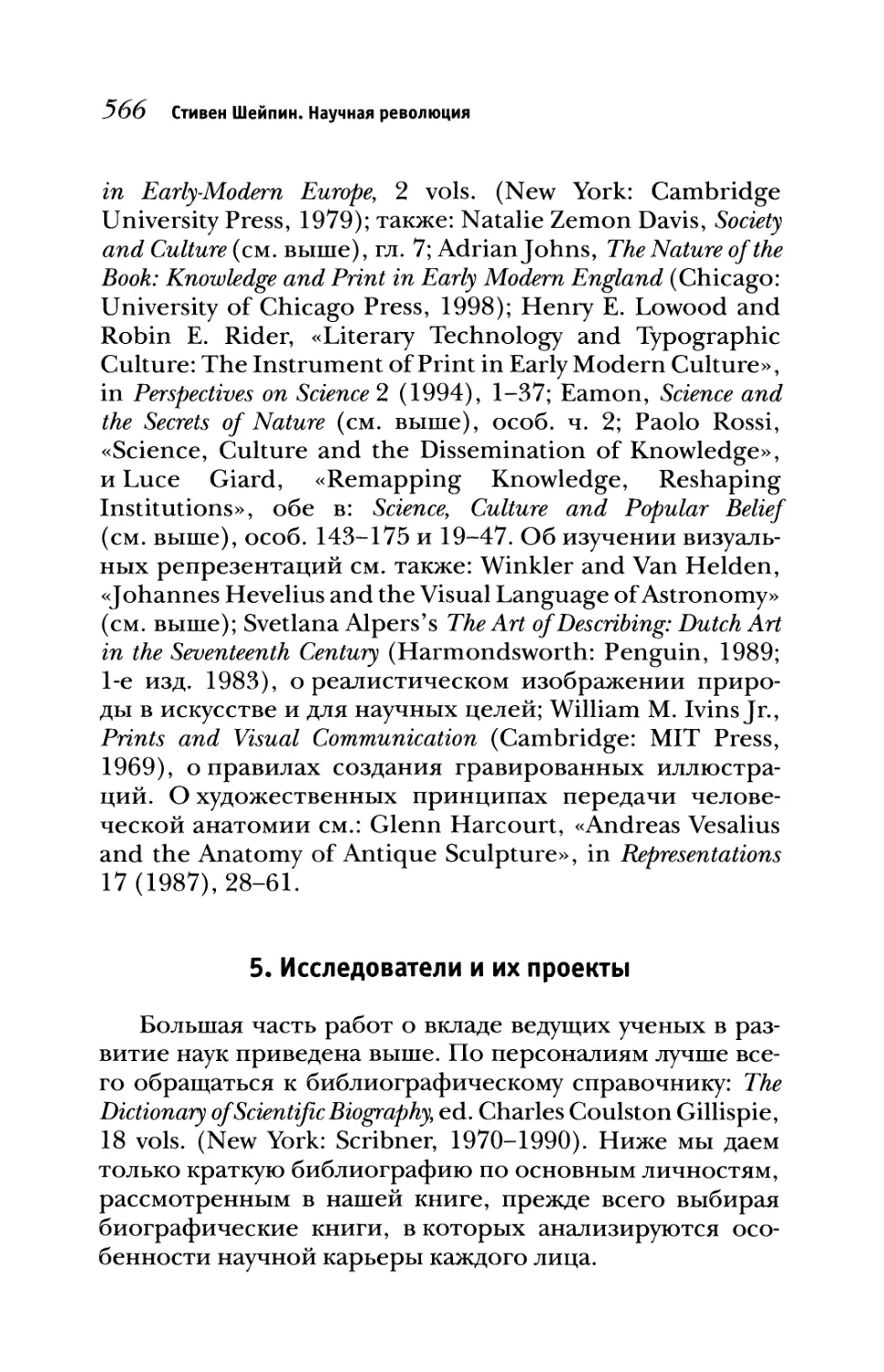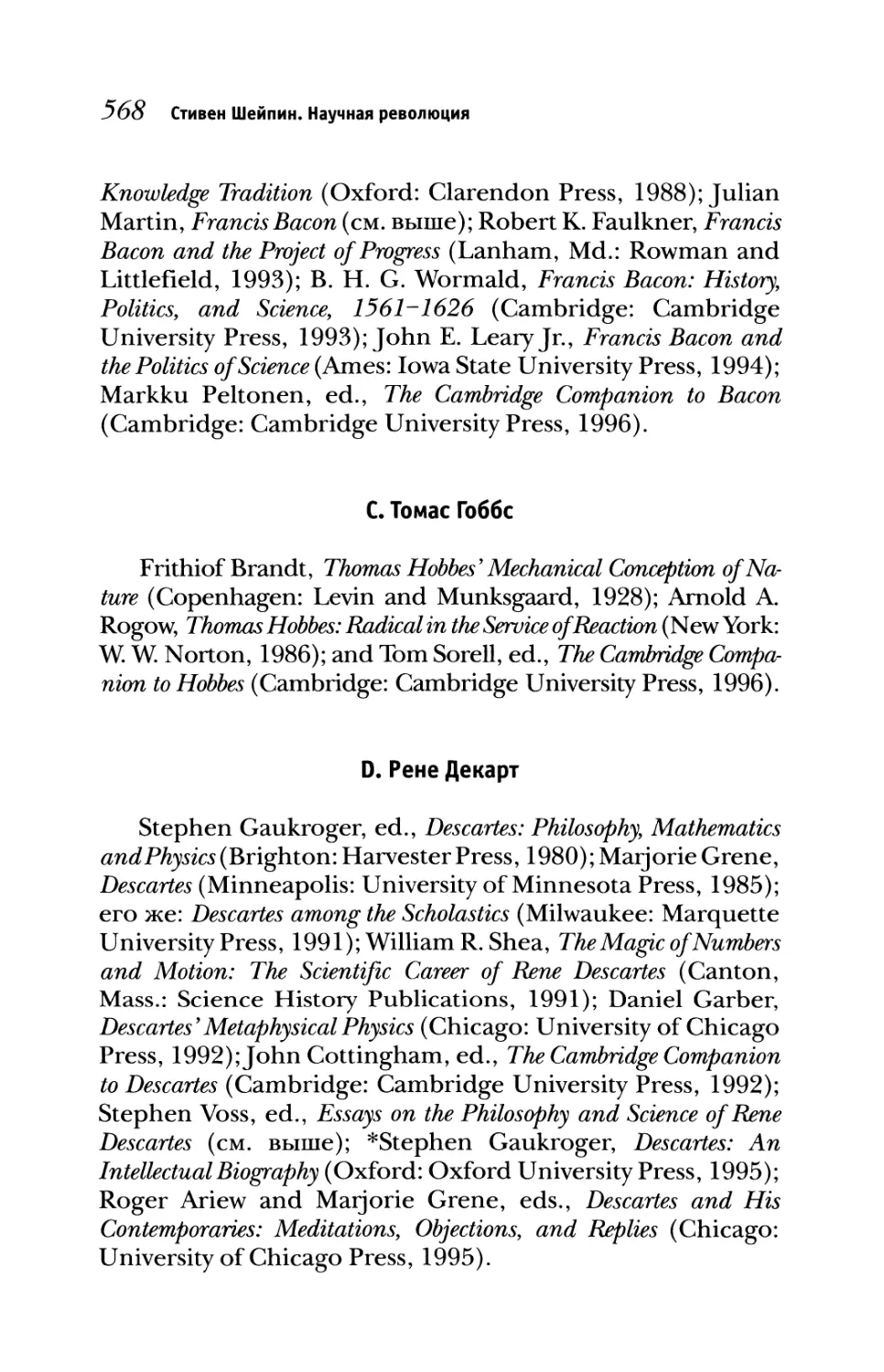Tags: наука и знание в целом науковедение организация умственного труда история науки
ISBN: 978-5-4448-0144-4
Year: 2015
Text
ИСТОРИЯ /НАУКИ
Peter Dear
REVOLUTIONIZING THE SCIENCES.
EUROPEAN KNOWLEDGE
AND ITS AMBITIONS, 1500-1700
2001
Steven Shapin
THE SCIENTIFIC REVOLUTION
1998
Питер Деар, Стивен Шейпин
НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ КАК СОБЫТИЕ
Новое
Литературное
Обозрение
2015
УДК 001(091)
ББК 72.3
Д32
Редактор серии К. Иванов
Деар, П., Шейпин, С.
Д32 Научная революция как событие / Питер Деар, Стивен
Шейпин; пер. с англ. А. Маркова. — М.: Новое литератур-
ное обозрение, 2015. — 576 с: ил. (Серия «История науки»)
ISBN 978-5-4448-0144-4
В предлагаемом издании представлены две книги, авторы которых стояли
у истоков формирования новой истории науки, основанной не столько на по-
следовательном изложении научных идей, сколько на тщательном изучении
исторических обстоятельств, способствовавших появлению тех или иных
научных концептов. С точки зрения Питера Деара и Стивена Шейпина исто-
рия знания всегда локальна, а убежденность в абсолютной справедливости
и универсальной значимости того или иного научного утверждения являет-
ся результатом социально детерминированных процессов, направленных на
унификацию стандартов, налагаемых на приемлемое знание. Обе книги сфо-
кусированы на обстоятельном изучении события, получившего в современной
историографии название «научная революция». Деар и Шейпин предлагают
свое видение того, как к началу XVII века сложились исторические условия,
приведшие к появлению науки в ее современном понимании. Обе работы
входят в число хрестоматийных источников по социальной истории науки
и могут быть использованы не только как яркая иллюстрация взглядов сторон-
ников локализма в научной историографии (обычно противопоставляемого
глобализму или универсализму), но и как учебное пособие для университет-
ских курсов по истории науки. Каждая из книг снабжена обширным библио-
графическим очерком.
УДК 001(091)
ББК 72.3
© Peter Dear 2001, 2009
First published in English by Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers
Limited under the title Revolutionizing the Sciences, 2nd edition by Peter Dear.
This edition has been translated and published under licence from Palgrave Macmillan.
The author has asserted his right to be identified as the author of this Work.
© Steven Shapin. 1996 by The University of Chicago. All rights reserved. Licensed by
The University of Chicago Press, Chicago, Illinois, U.S.A.
© А. Марков, пер. с англ., 2015
© ООО «Новое литературное обозрение». 2015
ОГЛАВЛЕНИЕ
Питер Деар. Событие революции в науке. Европей-
ское знание и его притязания (1500-1700)
От автора 11
Введение: Философия и операционализм 13
1. Знание и его история 13
2. Каким образом средневековый философ
мыслил естественный мир 17
3. Ренессанс и революция 25
Глава I. Что было уже известно в 1500 г. 28
1. Универсум университета 28
2. Естественное знание и естественная философия 34
3. Астрономия и космология 40
4. За стенами университета 49
5. Ученая культура и повседневность 57
Глава II. Гуманизм и античная мудрость:
как в XVI в. изучали предметную реальность 59
1. Язык и мудрость 59
2. Научный Ренессанс 64
3. Исследование: как это делали древние 71
4. Возобновление, новизна, рецепция 78
5. Восстановление наук и новая философская
программа: Возрожденный Архимед 84
Глава III. Ученость и ремесло:
Парацельс, Гильберт, Бэкон 90
1. Тайна как предмет ремесла 90
2. Ремесленное знание и его глашатаи 95
3. Фрэнсис Бэкон: философия,
практическое знание и заслуги Античности 103
4. Знание и государственное могущество 110
Глава IV. Математики бросают вызов философии:
Галилей, Кеплер и все-все-все 117
1. Естественная философия:
можно играть только в нее? 117
2. Галилей — математик-философ ...'. 121
3. Возникновение и когнитивные амбиции
математических наук: Галилей и Кеплер 128
4. Знание, дело и математика 138
Глава V. Механицизм: Декарт конструирует Вселенную 141
1. Мир, соразмерный познающему 141
2. Если проникнуть в ум Бога 148
3. Материя в движении 153
4. Универсум Декарта — убедительность
через аналогии из практики 159
5. Космос Декарта 166
6. Успех физики Декарта 171
Глава VI. Научная деятельность вне университетского
куррикулума: новые обители естественных наук ..175
1. Перемена мест 175
2. Галилей: из университета ко двору 180
3. Патроны и клиенты 187
4. Покровители и институты 193
5. Институты для покорения пространства:
естественная история и глобальное
распространение европейского влияния 212
Глава VII. Эксперимент: как в XVII в. узнавали,
что таит в себе природа 223
1. Переустройство опыта 223
2. Математический эксперимент 230
3. Эксперимент в стиле Бэкона 236
4. Физиологические эксперименты 248
Глава VIII. Картезианцы и ньютонианцы 253
1. Картезианская естественная
философия во Франции 253
2. Альтернативы Ньютона 268
3. Ньютонианство 278
Заключение. Чего еще не знали в начале XVIII в.? 285
Избранная библиография 289
Стивен Шейпин. Научная революция
Введение 315
1. Научная революция: история термина 315
2. Почему мы пишем о научной революции? 319
3. Некоторые историографические положения 324
Глава I. Что было известно? 333
1. Цель знания и природа природы 333
2. Как был поколеблен
антропоцентрический универсум 340
3. Машина природы 350
4. Математизация качеств 369
5. Математическая структура
естественной реальности 384
Глава II. Каким образом достигалось это знание? 393
1. Чтение книги природы 393
2. Состав опыта 412
3. Контроль над опытом 419
4. Механика изготовления фактов 422
5. Как получить экспериментальный факт 431
6. Рамки естественно-научного знания 437
7. Когда знание становится публичным 444
8. В чем суть эксперимента? 447
Глава III. Чему служило новое знание? 459
1. Естественная философия заботится о самой себе 459
2. Естественно-научное знание
и государственная власть 465
3. Наука как служанка религии 480
4. Природа и Бог — премудрость и воля 488
5. Природа и цель: место тайны в мире науки 503
6. Незаинтересованность
и смысл естественно-научного знания 511
Библиография 516
1. «Большая традиция» истории науки 516
2. Историографические споры и обсуждения 519
3. Контексты и отрасли науки 525
A. Механистическая философия
и развитие физики 525
B. Общие подходы к природе
и к окружающему миру 527
C. Астрономия и астрономы 528
D. Математика и «математизация» 531
E. Химия, алхимия и теория материи 533
Е Медицина, анатомия и физиология 536
G. Естественная история
и связанные с ней практики 540
Н. Изучение человеческого ума,
человеческой природы и культуры 544
4. Вопросы и темы 547
A. Эксперимент, опыт и строение знания 547
B. Наука, религия, магия и оккультизм 552
C. Социальные формы, связи
и применения науки 558
D. Научные инструменты 564
5. Исследователи и их проекты 566
A. Галилео Галилей 567
B. Фрэнсис Бэкон 567
C. Томас Гоббс 568
D. Рене Декарт 568
E. Роберт Бойль 569
Е Роберт Гук 569
G. Христиан Гюйгенс 569
Н. Исаак Ньютон 570
ПИТЕР ДЕАР
СОБЫТИЕ РЕВОЛЮЦИИ В НАУКЕ.
ЕВРОПЕЙСКОЕ ЗНАНИЕ И ЕГО
ПРИТЯЗАНИЯ (1500-1700)
© 2001 Peter Dear. Revolutionizing the Sciences.
European Knowledge and its Ambitions, 1500-1700
От автора
Перед вами книга, предназначенная для студентов
колледжей и университетов, а также и для всех, кто стре-
мится составить серьезное представление о «научной
революции». Главная цель книги— очертить главные
контуры этого явления, облегчая последующую интен-
сивную проработку сложных вопросов, неизбежно воз-
никающих при изучении развития науки в этот период.
В конце книги вы найдете аннотированную библиогра-
фию, в которую мы постарались включить важнейшие
монографии и статьи, посвященные ключевым момен-
там «научной революции».
Конечно, одна-единственная книга не может осве-
тить все вопросы (или даже один историко-научный во-
прос) во всех подробностях. Ноя надеюсь, что книга,
по крайней мере, заставит читателей внимательнее от-
носиться к развитию науки в последние четыре столе-
тия, убедившись в перспективности соответствующих
исторических вопросов. В главах книги рассматривается
период, хорошо знакомый университетским преподава-
телям, читающим курсы по истории науки: на базовые
знания о происхождении научных идей, которые узна-
ют в ходе таких курсов все учащиеся, и опирается изло-
жение. Как раз в силу современной организации школь-
ных и университетских программ нам пришлось уделить
истории математики и физики больше внимания, чем
истории биологии и медицины. Конечно, об изучении
живой природы мы тоже говорим немало, но при этом
всякий раз отмечаем (как бы ни пытались оспорить это
положение), что самые значительные интеллектуальные
научные прорывы в этот период произошли в области
методологии, теории материи и специфики математических
12 Питер Деар. Событие революции в науке
наук. Поэтому, когда я говорю об изменениях в изучении
естественной истории, то в русле общей аргументации
ограничиваюсь сменой техники обработки и представле-
ния материала (эта сторона естественно-научной работы
ближе всего к правилам математики).
Также мне пришлось затронуть важные вопросы со-
циальной истории этого периода, в первую очередь на-
прямую связанные с институциональными и концепту-
альными основаниями изучения природы образованной
элитой. Коснуться более тонких вопросов социальной
организации науки, таких как роль тендерного момента
в становлении современного типа познания в этот пе-
риод или классового момента (который, при всей своей
решающей роли, исследован недостаточно), оказалось
возможно лишь кратко: наша книга— скорее введение
в вопрос, а не специальная монография. Но всякий раз
по ходу изложения я указывал на необходимость в даль-
нейшем подробнее рассмотреть социальный аспект.
Любознательный читатель, обратившись к аннотирован-
ной библиографии, сможет лучше узнать, как действуют
в науке социальные факторы.
Мне остается поблагодарить анонимных рецензен-
тов книги, и особенно — Паулу Финдлер за исключитель-
но ценные замечания по всему тексту работы, которые
позволили значительно улучшить книгу перед сдачей в
печать. Но за все возможные неточности и упущения,
которые могут встретиться читателю, я несу ответствен-
ность только лично.
Книга писалась в расчете на то, что читатель может
параллельно заглядывать в первоисточники в англий-
ском переводе. Поэтому в сносках к каждой главе мы ука-
зываем в первую очередь первоисточники, чтобы чита-
тель мог без труда отыскать цитируемое место.
Питер Деар
ВВЕДЕНИЕ: ФИЛОСОФИЯ И ОПЕРАЦИОНАЛИЗМ
1. Знание и его история
Что такое «знание»? Мы говорим, что птица «знает»,
как нужно летать, но никогда не скажем, что она «знает»
аэронавтику и может сравниться с братьями Райт. Слово
«знание» овеяно множеством смыслов и вызывает целый
диапазон ассоциаций — это говорит о том, что сама исто-
рия этого слова длительная и непростая. Чтобы понять,
какой смысл в это слово вкладывается сейчас, нужно по-
грузиться в прошлое и найти, когда известные нам значе-
ния и были созданы в общедоступной форме. Поворот-
ным был рубеж XVT-XVIIbb. в Европе: произошедшее
тогда событие и принято называть научной революцией.
Всемирная деятельность, которую мы именуем на-
укой, в XXI в. по-прежнему окликает целые века опытов
и исследований, вошедших в плоть и кровь европейской
традиции. Новая наука была в свое время воспринята в
Соединенных Штатах, прежде всего благодаря содей-
ствию европейской академической традиции в лице ев-
ропейских эмигрантов; но только в XX в. была осознана
как нормативное занятие во всем мире. Нобелевские пре-
мии по математике, химии, медицине и физике достают-
ся прежде всего ученым из Европы и Северной Америки,
хотя лауреаты могут быть откуда угодно, подавляющее их
большинство получило высшее образование и реализо-
вало программу исследований в названном регионе. Если
мы хотим понять исторические причины такого положе-
ния дел, нам придется обратиться к тому моменту, когда
в Европе и начала «развиваться наука».
14 Питер Деар. Событие революции в науке
Сама идея о том, что ключевое событие произошло в
европейской науке на рубеже XVT-XVII вв., была заявле-
на европейскими образованными людьми уже в XVIII в.
Период, начиная с трудов Коперника начала XVI в., за-
явившего, что Земля движется вокруг Солнца, и кончая
утверждением ньютоновского мировидения в начале
XVII в., уже на основе закона всемирного тяготения, стал
считаться удивительной «революцией» знания, не име-
ющей аналогов в истории1. Разумеется, такая перспек-
тива подразумевала надлежащую переоценку всего сде-
ланного прежде. Европейская ученость Средних веков с
этих позиций казалась регрессивной и бессодержатель-
ной: тогдашние философы рабски следовали древним
писаниям Аристотеля и размышляли только о словах и
о доводах, а не о вещах и их применении. Миф о бессмыс-
ленной учености в период до Нового времени продолжа-
ет жить в массовом сознании, несмотря на то что наука за
последнее столетие произвела радикальную переоценку
Средних веков и показала недопустимость такой пло-
ской карикатуры средневековой интеллектуальной жиз-
ни. Тем не менее триумф XVIII в. над «предрассудками
прошлого» и над всеми линиями предшествующего на-
учного развития знаменателен и сам по себе. Если вы-
честь из такого торжественного настроения нарочитое
восхваление самих себя, само представление о фунда-
ментальном различии между средневековой ученостью
и новой наукой, возникшей «революционным» образом,
характерно как перелом мировидения. С этой точки зре-
ния, средневековая ученость отстаивала способность че-
ловека находить истину в вещах, тогда как теперь знание
направлено на мир: оно вскрывает его устройство и ищет
пути для новых практических решений.
В предлагаемой книге мы будем исследовать, насколь-
ко справедлив такой подход. Понятно, что триумфализм
XVIII в. слишком прямолинеен и в чем-то наивен. В наши
1 См., например, введение д'Аламбера к «Энциклопедии наук
и искусств» Дидро (1751).
Введение: Философия и операционализм 15
дни уже нельзя безусловно смыкаться с ораторами Про-
свещения, поздравлять себя с торжеством рациональ-
ности над суеверием и говорить, что наша современная
наука — это универсальный и неизбежный продукт про-
гресса. Наука — это часть культуры, которая и питает ее,
что подтверждается во многих случаях «контекстуаль-
ным» историко-социологическим изучением различных
примеров: наука, как много раз доказано, создается исто-
рией. Поэтому главная цель истории науки — понять, по-
чему (конкретные) люди прошлого именно так думали
о вещах, с которыми им пришлось столкнуться, и изо-
брели именно такой подход к миру проблемных вещей.
Историк не должен останавливаться на том, чтобы объ-
являть некоторые утверждения людей прошлого истин-
ными: мы должны изучать убеждение Коперника в том,
что Земля движется вокруг Солнца, независимо от того,
истинно его убеждение или ложно. Ведь Коперник мог
руководствоваться другими доводами, чем мы; и пря-
мой задачей историка становится раскрыть предпосылки
Коперника, которые и привели его к данному выводу.
Истина и ложь в науке видны только тогда, когда высказа-
ны все аргументы или хотя бы их часть; и эти аргументы
и нужно изучать с исторической точки зрения.
Когда мы вскрываем исторические причины перемен
в науке, мы непременно видим, что в науке никогда не
действует только один фактор. Напротив, факторы мо-
гут быть различными и иногда непредсказуемыми. Слож-
ность исследования «научной революции» состоит в том,
что мы имеем дело с еще не вполне проясненными собы-
тиями, причем единичными и беспрецедентными. Это
все равно, как если бы геолога попросили объяснить, по-
чему известная гора именно такой высоты, а не больше
и не меньше. Знание общих геологических процессов
позволяет объяснить, почему горы высокие, но частные
детали формирования гор зависят от множества неиз-
вестных и случайных эпизодов геологической истории.
Точно так же и историки не могут вскрыть все возмож-
ные причины какого-то частного события, например
16 Питер Деар. Событие революции в науке
гражданской войны в Англии; но историки могут делать
обобщения, исходя из того, что именно эти факторы
оказались наиболее влиятельными. Поэтому, чем искать
похожие результаты в разных науках, лучше попытаться
понять, почему вообще сдвиги в науке оказались резуль-
тативными. Настоящий историк хочет понять аспекты
прошлого тем же самым образом, каким мы стремимся
понять, как можно выиграть в лотерею, хотя мы никогда
не можем предсказать, кто выиграет.
В эпоху научной революции такой когнитивный
сдвиг произошел в умах самих исследователей приро-
ды. Их средневековые предшественники, заклейменные
в XVIII в. как невежды, пытались понять естественный
мир как он есть; тогда как новые философы, напротив,
стали ценить успешное предвидение и контроль над при-
родой. Поэтому нельзя сказать, что они «делали то же
самое, только лучше», — они стали делать что-то совсем
другое. Литературная культура Высокого Средневековья
(XII-XTVbb.) разрасталась вокруг средневековых уни-
верситетов, где она так и именовалась «схоластикой»
(школьной наукой). Университеты были в большей или
меньшей степени связаны с Церковью и ее культурными
программами. В результате в университетах, Парижском
или Оксфордском, теология была главной наукой, препо-
дававшейся на высших факультетах (на которых готови-
лись к получению степени доктора), и она именовалась
«царицей наук». Такое положение теологии связано с
наращиванием возможностей отвлеченного философ-
ствования, которое было поставлено на службу искомой
истине; теология стала рациональной поддержкой вере
и представляла собой вовсе не набор практических реше-
ний, но искусство теоретического убеждения.
Главной средневековой дисциплиной, изучавшей
природу, была естественная философия (philosophia
naturalis, или часто «естественная наука», scientia natu-
ralis). Природные факты изучали и другие дисципли-
ны, медицина (она тоже была «высшим факультетом»)
и математические науки. В средневековом понимании
Введение: Философия и операционализм 17
в математические науки входили не только арифметика
и геометрия, но и изучение тех сторон природы, где тре-
буется сравнение количеств: это такие науки, как астро-
номия, музыкальная теория и геометрическая оптика.
Среди этих наук естественная философия занимала осо-
бое место— ведь ее главной целью было философское
объяснение всех аспектов естественного мира. Она ор-
ганизовывалась с опорой на соответствующие трактаты
Аристотеля; и так как Аристотель употреблял греческое
слово physis по отношению ко всему естественному миру,
живому и неживому, то слово «физика» (physica) стало
в латинском Средневековье синонимом «естественной
философии».
2. Каким образом средневековый философ
мыслил естественный мир
Всякая революция — это революция против чего-
то. Какой-то порядок вещей опровергается, заменяясь
иным, прежде непредставимым. Если мы действительно
говорим о научной «революции», нужно сказать и о тех
научных убеждениях, которые она низвергла, рассмо-
трев, как прежде полагалось решать научные вопросы.
Конечно, нам еще предстоит выяснить, действительно
ли можно говорить о многовековой неизменности и не-
колебимости средневековой науки и можно ли считать,
что идеи, ее заменившие, во всем были новыми, осмыс-
ленными в едином ключе и ни с какой стороны не подго-
товленными предыдущим ходом развития науки. Но вся-
кую историю приходится с чего-то начинать, и пока нам
нужно как-то соотнести те воззрения, которые принима-
лись большинством естественных философов в средне-
вековых университетах как само собой разумеющееся,
с нашими собственными. А значит, нам предстоит изу-
чить общие места схоластически-аристотелианского по-
нимания естественного знания и понять, что от этого со-
хранилось в современном знании.
18 Питер Деар. Событие революции в науке
Целью аристотелевской философии было объяснение.
Аристотеля факты сами по себе не интересовали, ему
был важен смысл факта. Иначе говоря, познавать вещи
означало для него познавать причины, почему вещи
именно таковы. Простое описание наглядных свойств
объекта или процесса (например, размеров) было недо-
статочным, нужно было еще и объяснить наличие у вещи
данных свойств. Это вовсе не означало, что чувственное
описание как-то принижалось в сравнении с интеллекту-
альной реконструкцией. Напротив, Аристотель подчер-
кивал, что любое знание возникает у нас посредством
чувств. Без участия чувств мы не можем ничего познать,
даже истины математики; последние, как и все прочие
познаваемые моменты вещей, выводятся путем отвлече-
ния от чувственно воспринимаемых частностей. Явно
отвлеченный характер средневековой аристотелевской
философии, на который так нападали в XVIII в., пред-
ставлял собой организацию научных процедур на основании
полученных чувственных данных. В работе Аристотеля
не было ничего напоминающего о нашей идее экспери-
мента, но только обращенное ко всем людям требование
чувственного познания.
Для Аристотеля чувственное постижение окружа-
ющего мира представляло собой отправную точку в соз-
дании действительно философского знания. Рассмотрим
пример из средневековой логики: силлогизм, выполняв-
ший функцию довода:
Все люди смертны.
Сократ — человек.
Следовательно, Сократ смертен.
Как мы видим, отсылка к чувственным данным со-
держится и в выводе (заключении силлогизма): «Сократ
смертен». Такое специфическое утверждение о Сократе
могло быть произведено только на основании чувствен-
ного опыта, свидетельствующего о жизни и смерти
данного лица. Но первая часть силлогизма, называемая
Введение: Философия и операционализм 19
большей посылкой, «все люди смертны», представляет
собой универсальное утверждение, применимое ко всем
людям, в каком бы времени и в каком месте они ни жили.
Данное утверждение никак не может быть произведено
на основе любого ограниченного количества индиви-
дуальных чувственных наблюдений. Но как быть, если
Аристотель говорил, что научное доказательство должно
основываться на чувственном опыте? В XVII в. критики
философской традиции, прежде всего Фрэнсис Бэкон,
порицали аристотелевскую логику, основанную на сил-
логизме, за порочный круг доказательств. Универсальное
утверждение, составляющее большую посылку, говорил
Бэкон, может быть подтверждено только бесконечным
числом частностей, тогда как заключение в аристотелев-
ском силлогизме — это только одна из многих этих част-
ностей. Получается, что заключение, которое вроде бы
обосновывается универсальным философским знанием,
в конечном счете восходит к самому себе как к частному
примеру2.
Критика Бэкона вскрывает в аристотелевских фило-
софских процедурах нечто для нас непривычное. Бэкон
целился в силлогизм, желая подорвать чрезвычайно раз-
росшийся громоздкий логический аппарат схоластиче-
ских философов. Но схоласты просто не придавали зна-
чение тому, что Бэкон ощущал как изъян. Они просто не
видели проблемы в том, как двигаться от частного опыта в
мире к универсально значимым (и потому философским)
обобщениям. «Опыт» для аристотелианца-схоластика оз-
начал вовсе не чувственное восприятие отдельных собы-
тий, как это бывает при фиксации результата экспери-
мента. Напротив, согласно Аристотелю, «из восприятия
возникает память, а из памяти (когда она часто сталкива-
ется с одной и той же вещью) — то, что многократные вос-
поминания формируют единый опыт»3. И в самом деле,
трудность, которую испытал Бэкон, — психологического
2 См. ниже, гл. III, раздел 4.
3 Аристотель. Позднейшие Аналитики II, 19.
20 Питер Деар. Событие революции в науке
плана; но он понял свою психологическую установку как
единственно возможную для законных познавательных
операций. Обычные способы, каковыми люди добывают
знание (как выраженное в словах, так и внутреннее), тра-
диционно под вопрос не ставились: Аристотелю важнее
было создать естественную историю знания, а не крити-
ческую эпистемологию. Позиция Аристотеля достигла
высшей точки в его изречении: «То, что мы делаем, о том
и наше знание».
Опыт в понимании Аристотеля на практике означал
не что иное, как восприятие в качестве действительно-
сти «той же самой» вещи, которую человек уже много раз
встречал и встретит еще без счета. Так, Солнце встает
каждый день (хотя иногда только пробивается из-за об-
лаков) — это лучший пример опытного знания в понима-
нии Аристотеля. Так же точно из повседневного опыта
всем было известно, что тяжелые тела падают вниз, и на
основе опыта Аристотель дал философское объяснение
природы тяжелых тел в своей «Физике»4. Когда фило-
соф-аристотелик утверждал, что знание основывается на
чувственном опыте, он имел в виду, что знаком с поведе-
нием и свойствами обсуждаемых им вещей. В идеальном
смысле со всем этим была знакома и аудитория. Но как
раз здесь мы сталкиваемся с самой большой трудностью.
Несмотря на то что эксперимент усиленно отметался
в традиции, философия природы Аристотеля заявляла о
себе как о «науке» (по-гречески episteme, что было пере-
дано в схоластике латинским словом scientia). Настоящая
наука делает выводы только из тех предпосылок, которые
считаются достоверными. Доказательные выводы на-
дежны тогда, когда они корректным образом выводятся
из начальных посылок, достоверность которых уже все-
ми признана: одной только «похожести» недостаточно.
4 Аристотель говорил, что падать вниз — в природе тяжелых тел.
Утверждение Аристотеля следует понимать в терминах «конечных
причин» — естественное место тяжелых тел (оно же, их «предназна-
чение») быть в центре универсума, и туда они каждый миг стремятся.
См. об этом гл. I, раздел 1.
Введение: Философия и операционализм 21
Порядка придерживались строго: Аристотель явным
образом скопировал свое понимание идеальной науки с
греческой математической практики — более поздний
образчик такой практики — трактат Евклида по геоме-
трии «Элементы» (ок. 300 г. до н.э.). В «Элементах» всем
построениям предшествуют самоочевидные начальные
утверждения: это могут быть либо конвенциональные
очевидности (таковы определения), либо очевидности
общечеловеческого опыта (постулаты/аксиомы). Из оче-
видных предпосылок Евклид выводил все более сложные
и все менее очевидные утверждения о свойствах геоме-
трических фигур — при этом он никогда не отступал от
строжайших правил дедукции. Аристотель в своем труде
«Позднейшие Аналитики» требовал применять сходную
схему для всех претендовавших на научность формаль-
ных разделов знания, независимо от их специфического
предметного содержания. Неудивительно, что аристоте-
левский идеал научности не нашел себе никаких других
образцов, кроме математики греческого типа. Невозмож-
но представить, чтобы Аристотель применил открытый
им дедуктивный метод, например, в зоологии, которой
он занимался с особой заинтересованностью.
Тем не менее блеск наглядной доказательности со-
блазнял схоластических натурфилософов возможностью
думать, что они могут создать знание, целостное в своей
аналитичности: термины внутри этого знания должны
определяться настолько бесспорно, чтобы все логиче-
ские дедукции стали вечными и неоспоримыми. Так,
элемент «земля» надлежало определять как субстанцию,
имеющую свое естественное место в центре универсу-
ма (аристотелевский универсум был геоцентрическим).
Из этого легко молено было обосновать, хотя бы в пер-
вом приближении, центральное место нашего обита-
лища — земной сферы (оно понималось как средоточие
всех тяжелых, иначе говоря, «земляных» тел), а также и
стремление тяжелых тел падать вниз (они просто стре-
мятся к своему естественному месту). Перед нами та
стратегия объяснения, которая впоследствии переживет
22 Питер Деар. Событие революции в науке
тяжелейший кризис, с каковых пор ее будут восприни-
мать как просто игру словами.
Упор Аристотеля на опыт, доведенный до универса-
лизма (то, что мы и называем «общее знание»), означал
поощрение той естественной философии, для которой
важно только объяснять, а прочие цели побоку. Философ
стремился понять уже известные явления — и ни один из
схоластических философов природы не думал, что он
обязан по ходу работы делать новые открытия. Все пе-
ременилось в XVII в.: новое понимание задач философа
встраивалось в целый ряд изменений культурного плана.
Само понятие «открытие» наглядно отсылает к геогра-
фическим открытиям. Так, в 1663 г. Роберт Гук, выступая
с речью в только что созданном Лондонском королев-
ском обществе, говорил о микроскопе как о средстве от-
крытия новых земель — целого мира, пусть очень малого,
но заслуживающего своего интереса. Расширение евро-
пейского влияния после путешествий и открытий ново-
го мира и постоянный рост всемирной торговли сделали
метафору «научного открытия» понятной и удобной для
всех. В начале XVII в. Фрэнсис Бэкон употреблял тот же
самый образ «открытий» и даже цитировал пророчество
из библейской Книги Даниила, выражая собственные
фундаментальные притязания: «Многие пройдут через
это, и знание возрастет»5. И действительно, мир теперь
заключал в себе гораздо больше вещей, чем о том могла
грезить схоластическая философия.
Важно понимать тем не менее, что новообразован-
ный тип естественной философии, преодолевший ари-
стотелизм в XVII в., не просто обладал большей эффек-
тивностью. Помимо того, что новая наука облегчала
открытие «новых вещей», она (о чем схоласты-аристо-
телики не смогли сразу догадаться) позволяла лучше уяс-
нить себе уже известные явления. Одна из серьезнейших
5 Бэкон Ф. Новый органон. Кн. I, аф. 93. Бэкон употребляет образ
открытия Нового Света после прохода «через Гибралтарские Стол-
бы» в открытый океан.
Введение: Философия и операционализм 23
интеллектуальных и культурных полемик того времени
была связана с аристотелевским идеалом интеллигибель-
ности (понятности окружающего мира для естествен-
ного разума человека. — Пер.): новая наука отказалась от
этой идеи. Не менее яростно спорили и о том, почему
физические объяснения Аристотеля в новой науке за-
менялись механическими объяснениями естественных
процессов. Скажем, через допущение того, что все при-
родные вещи сложены из мельчайших частиц — атомов,
можно было произвести математическую формализа-
цию всех природных процессов, которую никогда бы
не одобрил Аристотель, хотя к математизму был близок
(но на других идейных основаниях) учитель Аристотеля
Платон. Приверженность старым моделям объяснения
в естественной философии и тем категориям, которые
для этого вводятся, долгое время оставалась открытой
перед интеллектуалами возможностью — пока она нако-
нец окончательно не вышла из моды.
Менялись объяснительные схемы, но точно так же
менялись и практики исследования. Когда с аристоте-
левской привязанностью к известному было покончено
и фокус научного внимания был перенесен на «новизну»,
то сразу же изменилось и понятие опыта, которое всег-
да было ключевым в построении естественно-научного
знания. Аристотель понимал опыт как знание порядка
вещей, как понимание того, что происходит в мире изо
дня в день. Тогда как в XVII в. опытом все чаще называли
эксперимент, произведенный в специально подготовлен-
ных для этого условиях, который раскрывал те свойства
вещей, которых раньше не просто не видели — о них даже
не догадывались. Экспериментальное исследование исхо-
дит из того, что природа заключает в себе способности,
которые повседневно не проявляются, но которые могут
быть раскрыты с помощью специальных средств. Фрэнсис
Бэкон говорил об эксперименте как о «разоблачении»
природы, и замечательно, что правительственный дея-
тель позднего периода правления Елизаветы сравнивал
эксперимент с пыткой, которая выуживает информацию
24 Питер Деар. Событие революции в науке
из прежде молчаливых подозреваемых6. Аристотелиан-
цы, напротив, не хотели вмешиваться в природу: они
просто «созерцали», то есть наблюдали обычный ход со-
бытий, считая, что любое вмешательство только портит
действительность. Говоря совсем кратко, аристотелизм
отказывался ставить природу под контроль.
В этом и заключается большая, и весьма существен-
ная, разница между старой академической философией
природы и предприятием, возникшим в ходе научной
революции. Но нам нужно в точности понять, что имен-
но понималось под новизной, а потом уже объяснять от-
дельные начинания. Тема операционализма весьма эффек-
тивна для того, чтобы подвести под общий знаменатель
большое количество изменений того времени. Мы тогда
сможем понять, почему аристотелевские воззрения на
природу были оставлены позади: новые ученые не согла-
шались не с аристотелевским пониманием причин, а, как
отмечал Бэкон, с его пониманием целей.
Знают ли птицы, как летать? И знает ли пекарь, что
такое хлеб? Бэкон отвечал отрицательно на первый во-
прос и гадательно — на второй. Пекарь скорее всего не
может сказать, что он знает, что такое хлеб в философ-
ском смысле, потому что он не занимался философией,
тогда как птица просто способна летать и ей не нужно
ничего знать. Бэкон был убежден, что возможен пекарь-
философ, который приобрел истинное знание о хлебе и
потому по определению способен хорошо делать хлеб,
ведь для Бэкона критерий правильного знания природы
какой-либо вещи — это способность искусственно ее вос-
произвести. Тот хорошо знает, что такое пирог, кто хоро-
шо его готовит. Отсюда и пренебрежение со стороны Бэ-
кона естественной философией Аристотеля: Аристотель
дает объяснения, которые никак не связаны с практиче-
ским действием и не могут быть пущены в оборот.
6 Недавнюю содержательную дискуссию по этому вопросу
см.: Pesic P. Wrestling with Proteus: Francis Bacon and the «Torture» of
Nature //Isis 90 (1999). P. 81-94.
Введение: Философия и операционализм 25
Итак, предмет настоящей книги — процесс корен-
ного и глубинного преобразования идей о природе, из-
менение в понимании целей знания о природе и путей
приобретения этого знания. Те высочайшего уровня
культурные сдвиги, в результате которых на сцену вы-
шли новые интеллектуальные и социальные ценности и
возникли новые способы обозначать и понимать вещи,
образуют раму нашего повествования о возникновении
новой науки. Нас интересует только то, чем стала совре-
менная наука: чему она посвящена и что означают все ее
процедуры.
3. Ренессанс и революция
Наше повествование может быть разделено на две
части. Хотя термин «научная революция» долгое вре-
мя употреблялся к большому периоду, охватывающему
два века (XVI и XVII), в настоящее время так принято
называть только XVII в. Первый этап называют теперь
иначе — «научный Ренессанс»7. Ренессанс как период ев-
ропейской истории в разных областях Европы длился
по-разному, поэтому условно его границы — конец XIV —
начало XVII в. Важность проблемы Ренессанса для наших
целей проистекает из основополагающей роли ренес-
сансных идей для многих областей интеллектуального
поиска, включая научный поиск, где влияние ренессанс-
ного понимания знания сказалось в полной мере только
во второй период. Ренессанс— это прежде всего куль-
турное движение, начатое людьми, которые рассматри-
вали классическую Античность, мир древних греков и
римлян, как модель для подражания в дни их жизни. Дух
Ренессанса благотворнее всего распространялся посред-
ством реформы образования в школах и университетах,
7 Начало такому рассмотрению положила книга под характер-
ным названием: Hall М.В. The Scientific Renaissance, 1450-1630 (New
York: Harper & Row, 1962).
26 Питер Деар. Событие революции в науке
которые готовили социальную элиту; а это означает, что
ценности Ренессанса получили самое искреннее при-
знание среди самых могущественных и образованных
людей. Из Италии влияние новой культуры двинулось
на север, через Альпы, преобразуя культурную жизнь
не только образованного меньшинства, но и, через ряд
сложных опосредовании, жизнь общества в целом. Для
судьбы наук это означало прежде всего фокусировку на
философских, включая математические, текстах и тра-
дициях античной древности. Само слово «Ренессанс»
означает «Возрождение», и возрождавшийся античный
мир включал в себя не только архитектуру Афин и поэмы
Овидия, но и физику Аристотеля, математику Архимеда
и астрономию Птолемея. Конечно, к этим наукам внима-
ние было не первостепенное, но они тоже вошли в сферу
интересов образованных людей: ведь предстояло возро-
дить достижения всех классических авторов. Поэтому
сначала мы займемся «научным Ренессансом», просле-
див судьбу наследия античных ученых в Европе с конца
XV в. до начала XVII в.
Второй этап уже является «научной революцией»
в полном смысле этого слова: ведь только в XVII в. меч-
та об улучшении знания о природе путем восстановления
античного отношения к науке была вытеснена охватив-
шим образованных людей чувством, что только по новым
правилам разработанное знание может превзойти достиже-
ния прошлого, а не просто воспроизвести их в безысход-
ном круге подражаний. Ученые XVII в. уже не ставили
целью археологически обнаружить то, что якобы знали
древние, но было потом забыто8. Важный момент наше-
го рассказа — изменение самого отношения к новизне и
новым веяниям. Даже в конце XVII в. в некоторых обла-
стях культуры «новаторы» критиковались за нежелание
8 Конечно, из этого были и важные исключения, в том числе
сюда следует отнести и некоторые особенности трудов Исаака Нью-
тона. Об этом см.: McGuireJ.E., Rattansi P.M. Newton and the «Pipes of
Pan» // Notes and Records of the Royal Society of London 21 (1966).
P. 108-143.
Введение: Философия и операционализм 27
идти по стопам античных авторитетов: это, по мнению
критиков, свидетельствовало о плохом воспитании и
отсутствии вкуса. Большая часть великих ученых, пре-
образивших науку, работала в XVII, а не в XVI в. Един-
ственный бесспорно великий исследователь природы в
XVI в. — это Николай Коперник, и с ним может встать
рядом только другой астроном — Тихо Браге. Другие ве-
ликие исследователи Вселенной, такие как Кеплер и Га-
лилей, создали свои самые значительные труды уже по-
сле 1600 г., работая в том же обновленном времени, что и
Рене Декарт, Христиан Гюйгенс, Исаак Ньютон и многие
другие. Именно в XVII в. философия оспорила прежнюю
аристотелианскую схоластику и набрала достаточно сил,
чтобы вытеснить ее даже из преподавания, где она со-
биралась пребывать вечно. Конечно, аристотелевскую
философию преподавали во всех университетах и кол-
леджах Европы как и прежде, но другое дело, что к 1700 г.
ее обступили другие специализации и сравнимые по глу-
бине подходы к знанию. Институциональная инерция,
велевшая сохранять труды Аристотеля в официальных
учебных программах, сохранила остатки прежнего мыш-
ления даже в XVIII в., но мир уже был совсем другим:
знать природу теперь значило понимать, как работают
естественные вещи и как они могут быть употреблены
во благо людей.
Глава I
ЧТО БЫЛО УЖЕ ИЗВЕСТНО В 1500 Г.
1. Универсум университета
В 1500 г. в европейской интеллектуальной жизни го-
сподствовали университеты. Их организационная струк-
тура была в точности смоделирована по прототипу XIII в.,
к которому они и восходят, а содержание философского
образования в целом отвечало уже описанным во Вве-
дении началам схоластического аристотелизма. Эти
принципы представляли собой нечто большее, чем фор-
мальные критерии объяснения: они были весьма тесно
переплетены с видением структуры мира, воспроизводя
в отвлеченных понятиях облик физического универсума.
Аристотелевская философия говорила о сфериче-
ском мире, в центре которого располагается столь же
круглая Земля. Мир Аристотеля, глубоко устроившийся
в чувственном опыте, всегда имел в виду угол зрения на-
блюдающего человека, а не трансцендентный божествен-
ный взгляд, который мог бы увидеть целое извне. Чело-
веческий взгляд обнаруживал, что небеса над нами
повинуются иным регулятивам, чем наблюдаемые в дей-
ствительности земной поверхности. Небеса вращались
вокруг Земли как своего центра, циклично воспроизводя
периоды времени, и таким образом учреждая и календарь,
и смену времен суток. Небеса не могли ни упасть, ни ис-
чезнуть из вида. Напротив, на Земле мы окружены тяже-
лыми телами, которые падают, и легкими взлетающими
телами. Таким образом, характерные движения в земной
Глава I. Что было уже известно в 1500 г. 29
области — это движения к центру или от центра, тогда как
движение небес, напротив, — движение вокруг центра.
Такое восприятие вещей находилось в полной зави-
симости от теории материи. Откуда мы можем знать, из
чего сделаны вещи? Аристотель дает на это простой от-
вет: мы можем пронаблюдать за их поведением. На по-
верхности Земли тела падают. Собственное свойство этих
тел — тяжесть. Но не все падающие тела одинаковы, по-
этому приходится сказать, что в твердых телах, которые
сразу падают, преобладает такой элемент, как «земля»,
тогда как в текущих телах, тоже стремящихся вниз, пре-
обладает «вода». И те и другие движутся потому, что они
были в свое время подняты над их привычным местом во
Вселенной. Естественное место Земли— быть в центре
универсума, тогда как естественное место воды— окру-
жать это естественное место Земли: вот почему океаны
омывают всю Землю. Двум тяжелым элементам, земле и
воде, соответствуют два легких элемента, воздух и огонь,
которые обладают уже не качеством тяжести, а качеством
легкости. Поэтому мы видим, что пузырики воздуха и
пламя огня рвутся вверх. Воздуху положено веять над во-
дами, тогда как огонь бушует выше, надо всем воздухом.
Все четыре элемента в их слияниях и образуют материю.
Эта «земная луковица», с землей в качестве сердцеви-
ны, а водой, воздухом и огнем в качестве шелухи — толь-
ко небольшая часть универсума. Огромное пространство
над сферой огня — небеса, циклически вращающиеся во-
круг центра. Их движение, неизбежное и непременное,
принципиально отличается от движения любых земных
элементов. Поэтому небеса состоят из особого элемен-
та, эфира, естественное движение которого — круговое.
Итак, мы видим, что доказательством существования
эфира является постоянно наблюдаемое движение, отли-
чающееся от движений земных элементов.
Видимые небесные тела, включающие Луну, Солнце и
пять видимых невооруженным глазом планет, неслись во-
круг Земли на прозрачных невидимых сферах. Эти сфе-
ры— продолжение мотива «луковицы»: они насажены
30 Питер Деар. Событие революции в науке
одна над другой вокруг центра, и всякое небесное тело
закреплено на соответствующей отдельной сфере. Сфе-
ры обращаются, пронося по кругу видимые тела. Все
звезды находятся за самой дальней сферой, сферой Са-
турна, и сами размещены по поверхности огромной сфе-
ры. Такая модель размещения тел опять же учитывает то,
что мы видим, находясь на земной поверхности. Невиди-
мые небесные сферы должны существовать, чтобы объ-
яснять характер движения видимых небесных тел. Для
аристотеликов опытное знание — это не только то, что
мы непосредственно ощущаем, но и то, что мы можем
непосредственно вывести из этих ощущений.
Но такое рассмотрение мира позволяет вскрыть и бо-
лее непосредственные свойства небес. Элементы, как мы
уже видели, отличаются естественным свойством дви-
гаться: вверх, вниз или вокруг. Но также они могут пере-
ходить один в другой, потому что наш опыт сообщает об
их особом поведении: жидкости застывают и становятся
твердыми, твердые тела вспыхивают и порождают огонь
и т.п. Таким образом, понятие «элемента» заключает в
себе и возможность перехода одного элемента в другой,
во всяком случае, пока мы рассматриваем земные элемен-
ты. Небеса не подвержены такой трансмутации: ведь они
сделаны из единого элемента, эфира, и эта единичность
исключает перемену субстанции. Вещи, складывающие-
ся из эфира, могут быть густыми или разряженными — но
нет другого небесного элемента, который мог бы произ-
вести в них перемену. На небесах ничего не возникает
и не уничтожается: поэтому и само телесное движение
циклично, и ничего нового мы никогда не углядим в
пределах небесной области. Такие эфемерные небесные
явления, как кометы, считались тогда не небесными,
а земными вещами. Аристотель считал, что кометы — ме-
теорологические явления, зарождающиеся в верхних
слоях атмосферы, под лунной сферой — низшей из сфер,
обращающихся вокруг Земли. Земное и небесное— отдель-
ные области, управляемые различными физическими
конструкциями и выявляющие различное поведение
Глава I. Что было уже известно в 1500 г. 31
физических тел. И земная физика, и небесная физика со-
ставляли разделы естественной философии, но это были
различные области знания, каждая со своими законами.
Именно такую картину мира изучали на универси-
тетской скамье в курсе «искусств» (artes): этот мир рас-
сматривался, изучался и объяснялся по выводам есте-
ственной философии. Такой мир был сложным, но он
был ограниченным по меньшей мере в двух смыслах. Его
пространственные размеры были невелики — это был
огромный, но имеющий некоторый предельный радиус
шар, в котором находится все творение; но также важно,
что ограничены были и качества вещей, в нем содержа-
щиеся, и способы поведения этих вещей также уже все
стояли на учете. Аристотелевская естественная филосо-
фия специфицировала категории вещей, находящихся
в мире, и давала исчерпывающий каталог способов, ко-
торыми они могут быть поняты. Отсутствие каких-либо
новаций и открытий в мире обосновывалось рациональ-
но и составляло важную часть такого мировоззрения.
Тогда совершенно отсутствовало ощущение окружающе-
го мира как поля, свободного для исследования, — ведь в
мире не могло быть ничего по-настоящему и фундамен-
тально нового, чтобы это исследовать.
Важно указать, что в 1500 г. Америка еще не была из-
вестна по имени: первое путешествие Колумба состо-
ялось за восемь лет до этой даты, и никто еще не знал,
что был открыт новый континент. Появление метафоры
«открытия», напрямую связанной с географическими от-
крытиями, относится к XVI и XVII вв. Содержание этой
метафоры закономерно: европейцы в эту эпоху вышли к
рубежам мира, который уже не соответствовал классиче-
ской географии, изложенной в стандартном античном
пособии, «1еографии» Птолемея, читавшемся и изучав-
шемся из поколения в поколение. Новое чувство, что
мир велик и по большей части неведом, таким образом,
происходит не только из одной философии.
Обсуждаемое нами качество Аристотелевой физи-
ки, назначать для естественной философии заранее
32 Питер Деар. Событие революции в науке
известное место, становится окончательно ясно из уче-
ния о «четырех причинах», в рамках которого и анали-
зировались вопросы (или, как бы мы сказали, категории)
человеческого объективного опыта. Самый большой во-
прос, которым непременно задавался любой ученый чело-
век, — это: «Каким способом мы понимаем вещи?» Ответ
Аристотеля состоял в том, что мы понимаем и объясняем
вещи по четырем моделям, которые называются «причи-
нами». Четыре причины исчерпывают всевозможные спо-
собы объяснения и понимания вещей. «Конечная причи-
на» позволяет понять поведение или свойства вещи путем
указания на ее предназначение: так, я иду, потому что мне
нужно достичь конечной точки, а молодое деревце рас-
тет, чтобы стать наконец большим деревом. «Конечная
причина» — это та, ввиду которой и случается что-либо в
порядке событий или процессов. Но можно говорить не
о событиях и процессах, но о способе действия, скажем,
объяснять расположение зубов во рту со ссылкой на их же-
вательную способность, — этот второй способ объяснения
называется «имманентной теологией». «Материальная
причина» указывает на то, из чего сделана вещь: скажем,
если поджечь табуретку, она вспыхнет, потому что сделана
из горючего материала — дерева. «Действующая причина»
(иногда называемая «движущей причиной») ближе всего
к современному пониманию слова «причина»: это дей-
ствие, благодаря которому что-то происходит, становясь
производным этого действия. Так, действующая причи-
на выстрела — нажатие курка, или действующая причина
того, что шар попал в лунку, — столкновение его с битой.
Самая хитрая и, однако же, самая характерная из че-
тырех причин Аристотеля — это формальная причина.
Речь идет о таком способе объяснения, который имеет
в виду природу рассматриваемой вещи. Взглянем еще раз
на классический средневековый силлогизм:
Все люди смертны.
Сократ человек.
Сократ смертен.
Глава I. Что было уже известно в 1500 г. 33
Формальная причина смертности Сократа — принад-
лежность его к понятию «человек». Он человек по свое-
му виду, а человеческая природа, как мы знаем, смертна.
Такое обоснование и названо «формальной причиной»:
аристотелики ссылаются на родовую принадлежность
вещи, которая и оказывается ее «формой».
Понятие формы занимает центральное место в ари-
стотелевском мышлении. Оно возникло благодаря реин-
терпретации главного философского вопроса, который
занимал учителя Аристотеля, Платона. Каким образом
мы опознаем отдельную (индивидуальную) вещь? Каким
образом, например, смотря на конкретное дерево, мы
опознаем его как дерево и не путаем его с кустом, и тем
более с вертолетом? Ответ Платона, который и был вос-
принят Аристотелем, состоит в том, что нужно заранее
знать, что такое дерево, чтобы узнать его в этом самом
дереве. Получается, что каждый из нас знает, что такое
дерево вообще, то есть что такое дерево в смысле родо-
вого понятия — и Платон описывает это знание как зна-
ние формы (idea) дерева. И для Платона, и для Аристо-
теля формы — это в действительности категории, под
которые нужно подвести все индивидуальные объекты.
Категория, под которую подпадает данная вещь (дере-
во, куст, вертолет...), показывает, какого рода вещью
является этот предмет: например, в приведенном слу-
чае Сократ — это человек. Итак, мир выглядит как склад
категорий, как совокупность коробок с наклейками, по
которым можно разложить все, что существует или что
может существовать. Аристотель смотрит на мир как на
таксономическую систему, в которой найдется место все-
му. Настоящее философское знание мира должно уметь
отвести каждой вещи свое место. Следовательно, опозна-
ние причин — важнейший момент категоризации вещей.
Целью философской схемы было, таким образом, по-
нимание как можно более фундаментальным способом,
чем являются данные вещи и почему они ведут себя имен-
но таким образом. Аристотелевская таксономия причин
определяет, как и все прочие хорошие таксономии, что
34 Питер Деар. Событие революции в науке
может, а что не может быть сказано о естественных явле-
ниях и о чем вообще стоит говорить. Вместе с тем нужно
помнить, что в большей или меньшей мере такое пере-
определение всех вещей вокруг нас свойственно любой
системе классификации: она превращается в сетку, ко-
торая стремится вместить в себя все знания о природе.
Не случайно философия Аристотеля ограничила науки
о природе тем, что в них упорядочиваются готовые зна-
ния. В любой единичной системе мы найдем те же самые
структурные характеристики, некоторые из которых бу-
дут рассмотрены в следующих главах. Но отказ от схола-
стического аристотелианства, особенно в XVII в., сопро-
вождался поспешным распространением альтернатив,
которые, взаимодействуя, значительно расширили воз-
можности познания — даже если большая часть этих воз-
можностей, всякий раз различных, будет потом отверг-
нута любой даже самой частной философской схемой.
Все те системы, которые были представлены в XVII в.
как нечто новое, требовали раскрывать их импликации
и следовать их предписаниям — это, несомненно, озна-
чало, что исчез тот беспроблемный обзор предметного
мира, который был реален в аристотелизме.
2. Естественное знание
и естественная философия
Схоластический аристотелизм, в начале XVI в. го-
сподствовавший в Европе, в ряде существенных черт от-
личался от философии, представленной в сочинениях
Аристотеля. Аристотелизм, особенно его естественно-на-
учные компоненты, был воспринят ученым миром римо-
католической (латинской) Европы в XII-XIII вв. Ассими-
ляция мысли неизбежно изменила ее, потому что учение
Аристотеля встраивалось в прежде не существовавшую
структуру интересов. Ученые почти поголовно были кли-
риками: ведь образованность существовала только в цер-
ковной среде. Церковь, как институция, главенствующая
Глава I. Что было уже известно в 1500 г. 35
во всей Западной и Центральной Европе, определяла
основные интеллектуальные приоритеты: Аристотель
понадобился затем, чтобы лучше осветить богословские
вопросы. После многих жарких споров XIII в., особенно
в Парижском университете, труды Аристотеля по целому
ряду предметных областей, от логики и риторики до ме-
теорологии, были благополучно включены в программы
новых университетов, хотя официальная церковная дог-
матика в ряде случаев предписывала особым образом их
интерпретировать. Богословская ценность естественной
философии напрямую следовала из ее сосредоточенно-
сти на вещах: в христианской интерпретации это означа-
ло изучение Божьего творения. Естественная философия
учила о Боге на примерах сотворенного Им и позволяла
понять пространственные и причинные особенности
сотворенного мира, что многим ученым людям казалось
исключительно благочестивым занятием. Естественная
философия превратилась в религиозное подвижниче-
ство, и таковой она пребыла многие века. Даже в начале
XVIII в. Исаак Ньютон писал: «Толкование Бога из явле-
ний — это несомненная часть естественной философии».
Не нужно и говорить, что естественная философия
в Европе Средних веков и раннего Нового времени
всегда понималась как изучение в полном согласии с От-
кровением естественного мира как Божьего творения.
Это требование было нормой, но, как доказывает возра-
жение Ньютона, не было необходимым. Так, в Падуе (ко-
торая тогда была ведущим университетским центром)
в XVI в., как и несколькими веками раньше в Париже в
XIII в., огромную смуту вызвал так называемый «аверро-
изм», требовавший обсуждать вопросы аристотелевской
естественной философии в полной изолированности
от контекста христианского богословия. Сам Аверро-
эс, арабский философ XII в., написал подробный ком-
ментарий на сочинения Аристотеля по естественной
философии, где попытался объяснить их содержание
без обращения к внешним для них религиозным учени-
ям (в случае Аверроэса это, конечно, ислам). В XIII в.
36 Питер Деар. Событие революции в науке
некоторые христианские схоласты в Париже последо-
вали за Аверроэсом и стали разрабатывать начатое им
толкование Аристотеля, бросая явный вызов тогдашним
богословам. Хотя они пытались заявлять, что все их по-
пытки служат только изучению природы и не затрагива-
ют богословских материй, они не избежали осуждения.
Это означает, что естественная философия прямо и без-
условно рассматривалась как изучение божественной
реальности. Позиции аверроистов противостал Фома
Аквинский, который сделал все, чтобы опровергнуть
основные предпосылки аверроизма: Фома Аквинский
смотрел на естественную философию как на служанку
богословия, и его воззрение вскоре получило всеобщее
признание, предопределив самосознание богословов на
многие века. Если не в своих основаниях, то на практике
естественная философия и богословие оказались нераз-
делимо связаны.
Мир университетов к 1500 г. значительно расширил-
ся, в сравнении с временем начала университетов, ру-
бежом XII и XIII вв. Само слово университет в современ-
ных языках — это латинское universitas, и этот термин
обычно в Средние века прилагался к корпорациям как
объекту права. Понадобилось несколько веков, чтобы
«университетом» стали называть только те корпорации
учащих и учащихся, которые создавались для целей об-
учения и присуждали «степени», через которые должен
был пройти учащийся, чтобы стать ученым. В XV в. на-
блюдался буйный рост числа университетов по всей
Европе, во многом благодаря основанию новых таких
учебных заведений в восточных областях католиче-
ской Европы, например, в Польше (так, Николай Ко-
перник учился в Кракове, в Ягеллонском университете,
в 1490-х гг.). Новые институты воспроизводили в целом
ту же самую организационную структуру, что и их средне-
вековые предшественники. Ядром такого университета
был факультет искусств, то есть подразделение, на кото-
ром изучались «свободные искусства», важной частью ко-
торых была философия — естественная, метафизическая
Глава I. Что было уже известно в 1500 г. 37
и моральная. Учащийся, успешно сдавший экзамены и по-
лучивший степени сначала бакалавра, а потом магистра
искусств, дальше мог уже учиться профессионально — он
поступал, с целью получения доктората, на один из трех
«высших» факультетов: медицинский, юридический или
богословский. В университетах вне Италии, к северу от
Альп, богословие было самой важной из этих трех дис-
циплин. Такая организация обучения только подтверж-
дала приниженное положение естественной философии
в сравнении с богословием и даже усиливала его.
Характерной особенностью всех трех высших факуль-
тетов, а не только богословского, было то, что женщины
на них не допускались, а значит, не могли получить про-
фессионального образования. Нас не должно удивлять
то, что в университетах не отводилось места женщинам:
главным предназначением университетов было подгото-
вить неутомимых профессионалов. Самым выдающимся
и важным призванием в Средние века было служение в
церкви, клириком, а этот важнейший социальный ин-
ститут клира был чисто мужским. Клирики могли проис-
ходить из любого социального слоя, и открытость клира
в большей или меньшей степени отличала все Средние
века, но они не могли быть женщинами. Такое положение
дел было очень глубоко укоренено в сознании; и мы не
ошибемся, если скажем, что длительное господство муж-
чин в западной науке во многом вызвано клерикальными
истоками школьного и университетского образования.
Какое воздействие все это оказывало на концептуальную
и идеологическую структуру наук — судить уже труднее:
чтобы надежно связать одно с другим, нужны изыскания
и размышления. Тем не менее важно не забывать этот
основной факт социологии средневекового знания при
изучении как науки Средних веков, так и науки раннего
Нового времени.
Помимо естественной философии в университетах
существовали и другие предметы преподавания, связан-
ные со знанием естественного мира. На медицинском
факультете, другом высшем факультете, изучались такие
38 Питер Деар. Событие революции в науке
разделы, как анатомия и фармакология (materia medica).
Анатомия человеческого тела постепенно, к 1500 г., ста-
ла преподаваться студентам медицины во всех универси-
тетах Италии и в некоторых университетах Централь-
ной Европы путем демонстрационных вскрытий: тело
рассекалось в присутствии зрителей, обнаруживались
органы, и расчленялось на составляющие — часто такое
представление шло с перерывами несколько дней, как
курс лекций. Рассечения сопровождались комментари-
ем, который был склеен из анатомических утвержде-
ний античного физиолога Галена (конец II в. н.э.) и из
положений учебника начала XIV в. итальянца Мондино
де Луцци. Цель вскрытий была не исследовательской,
но чисто педагогической: студентов нужно было позна-
комить с внутренним строением человеческого тела, что-
бы они лучше запомнили учение Галена. В фармакологии
рассматривались такие вопросы, как состав таблеток и
мазей, давались рецепты, как изготовить их из минераль-
ных и особенно растительных компонентов. Таким обра-
зом, эта наука включала в себя знания из естественной
истории в том, что касалось растений и их медицинских
свойств. Следует заметить, что ни анатомия, ни фармако-
логия никогда не разрабатывались систематически в рам-
ках философских построений. Хотя человеческое тело и
его части и понимались согласно теоретическим (а на са-
мом деле естественно-научно-философским) воззрениям
Галена, изучение анатомии представляло собой скорее
детальное морфологическое описание, чем общее скон-
центрированное исследование. Фармакология состояла
из практических рецептов и предписаний и не включала
в себя теоретического понимания. Физиолог, имея дело,
скажем, с растениями, вовсе не стремился к познанию их
причин в аристотелевском смысле, но довольствовался
эмпирическими знаниями о свойствах растений. И язык
естественной философии часто употреблялся для того,
чтобы охарактеризовать медицинские свойства лекар-
ства, а значит, занимал вспомогательное место по отно-
шению к медицинскому знанию.
Глава I. Что было уже известно в 1500 г. 39
Другой фундаментальной областью естественного
знания, отдельной от естественной философии как по
принципам, так и на практике, была математика. Главны-
ми математическими науками, изучавшимися в средневе-
ковом университете, являлись астрономия и в меньшей
степени музыка. Обе эти науки входили в средневеко-
вый квадривий, охватывавший четыре математические
науки: арифметику, геометрию, астрономию и музыку
Теоретическое обоснование такой группировки наук мы
находим опять в размышлениях Аристотеля. Первые две
науки представляли собой ветви «чистой» математики,
которая имеет дело в качестве собственного предмета
с абстрактной величиной. Арифметика занималась дис-
кретными величинами, числами, тогда как геометрия —
континуальными, в виде пространственной протяжен-
ности. Третья и четвертая науки квадривия — ветви
«смешанной» математики. Термин «смешанной» обозна-
чал, что предметом их внимания делается величина в соче-
тании с какой-то специфической предметной областью.
Астрономия была развитием геометрии в применении
к движению небес, а музыка— развитием арифметики,
но уже отнесенной к звукам.
Две последние науки представляли собой знание
естественного мира, но при этом им было откровенно
отказано в статусе естественной философии. Сам Ари-
стотель называл объекты таких наук «математическими»
и отличие их от объектов естественной философии усма-
тривал в неприменимости к ним каузальных объяснений.
Астроном-математик, по его мнению, просто описывает
и моделирует движение небесных тел, тогда как задача
естественного философа— объяснить, почему они так
движутся. Музыкант-математик кодифицировал число-
вые пропорции, отвечающие определенным звуковым
(музыкальным) интервалам, — мы бы сказали, что речь
шла о физическом натягивании струны, которое описы-
вается только с помощью математических пропорций.
Но естественный философ должен был затем объяснить
природу звука, стоящую за этими явлениями.
40 Питер Деар. Событие революции в науке
Итак, в программах европейских университетов го-
сподствовало аристотелевское подразделение матема-
тических наук. Естественная философия преподавалась
как важный компонент обучения «искусствам», и, когда
математическим наукам отводилось значительное место,
их сразу начинали представлять как независимые дисци-
плины специализации, имеющие в виду только практиче-
ские цели разного вида подсчетов. Самой важной из этих
университетских дисциплин оказывалась астрономия,
причем по ряду причин. Прежде всего очень ценили ее
практическое употребление: составление календаря,
включая подсчет даты передвижного цикла церковных
праздников (правда, эта сторона астрономических заня-
тий ко времени основания первых университетов стала
уже рутинной и беспроблемной) и создание гороскопов.
Астрология никогда специально напрямую не отделялась
от астрономии: астроном был также астрологом, и астро-
лог был вынужден постигать все принципы астрономии,
учившей о движении небес. Высокая практическая важ-
ность астрологии проистекала из ее употребления в ака-
демической медицине, где составление гороскопа было
неизбежной рутиной для предсказания возможного бу-
дущего течения болезни. Именно поэтому астрономия
так подробно и успешно изучалась в Падуанском универ-
ситете на протяжении всего Средневековья: в Падуе ме-
дицинский факультет держал верх среди всех трех выс-
ших факультетов, и этот перевес медицины сказывался
и в программах подготовительного факультета.
3. Астрономия и космология
Связь астрономии и космологии в средневековой уни-
верситетской традиции не была до конца прояснена — по-
ложение стало меняться коренным образом только в поко-
лении, предшествующем Копернику. Слово «космология»
в современном смысле стало употребляться в XVIII в.,
но его вполне можно отнести и к ранним теориям физики
Глава I. Что было уже известно в 1500 г. 41
небес и к соответствующим идеям естественной фило-
софии касательно всеобщей структуры и функциониро-
вания универсума. Космология, которая была принята
в университетах до Коперника, была в своем строении
аристотелевской и сводила все небесные явления к совер-
шенным, однообразным и круговым движениям — имен-
но такое естественное движение подобало сферам, состо-
ящим из эфира. Самый авторитетный ученый-астроном
в Античности Клавдий Птолемей (II в. н.э.) был известен
на протяжении всего Средневековья: его труд «Компи-
ляция» (Syntaxis) или в арабском переводе «Альмагест»
стал настольной книгой многих поколений греческих,
арабских и, наконец, латинских астрономов. Птолемей
начал свой труд кратким обзором принятых физических
положений: он утверждал, что небесные движения подчи-
няются законам, которые вполне описаны естественной
философией Аристотеля. Птолемей следовал традиции
предшествующих греческих астрономов, когда противо-
поставлял движения стихий, которые мы актуально на-
блюдаем, и синтетическое круговое движение. Такое раз-
граничение, как мы уже говорили, восходит к Платону
и составляет сердцевину аристотелевской «небесной
физики». Но хотя Птолемей и следовал физике Аристо-
теля, в описании космических явлений он подчинил себя
автономной математической традиции греческой астро-
номии. Птолемеева астрономия, вошедшая в употребле-
ние в латинском мире, после этого уже легко вливалась
в состав университетской естественной философии.
Построения Птолемея были сложны, тем более если
учитывать все уточнения и дополнения, внесенные араб-
скими переводчиками, и потому вряд ли могли быть
восприняты в латинском мире сразу же после перевода
«Альмагеста» с арабского на латынь в XII столетии. Пто-
лемеевская астрономия, канонизировавшая шарообраз-
ную Землю и ее центральное место во Вселенной, с помо-
щью доводов Аристотеля расположила все небесные тела
на орбитах, а детализацию их траектории производила
благодаря допущению дополнительных орбит помимо
42 Питер Деар. Событие революции в науке
eWk
§%Ä^Ä
Рис. 1. Универсум Аристотеля, как его представляли в XVI в.
Иллюстрация взята из книги Петра Апиана «Космография»
(1539). Последовательность планет по отношению к Земле
дана по Птолемею, а не по Аристотелю
основной сферической. Упрощенный до предела вари-
ант движения планет по Птолемею представлен на рис. 2.
На этой диаграмме раскрывается ежесуточное движение
небес, и, говоря строго, вся эта диаграмма тоже должна
вращаться вокруг Земли как центра в течение суток. Про-
стой круговой путь вокруг Земли как центра не нуждал-
ся бы в наблюдениях; но астрономы видели, что небеса
кружатся вокруг Земли по круговым траекториям (и это
характерное свойство эфира как элемента, по Аристо-
телю), тогда как планеты движутся аномально. Напри-
мер, Марс, Юпитер и Сатурн периодически замедляются
Глава I. Что было уже известно в 1500 г. 43
Рис. 2. Упрощенная модель движения планеты,
по Птолемею. Эпицикл, вокруг центра которого движется
планета, сам в свою очередь движется по своей собственной
круговой орбите вокруг Земли как центра
в своем всеобщем движении с запада на восток через звез-
ды и дают двойной отход, прежде чем продолжить свое
исконное направление. Такой двойной отход был назван
«ретроградным движением», а все явление — «ретрогрес-
сией». Малый круг на рис. 2 позволяет разглядеть такое
движение. Планета движется закономерно по этому
«малому циклу», который так и был назван «эпициклом»,
тогда как центр такого круга движется столь же законо-
мерно по большему кругу, который зовется «деферен-
том» (соотносимым). Когда меньшее круговое движение
совершает несколько оборотов (revolutiones) во время
единого оборота по большому кругу, из центра начинает
казаться, что планета описывает обратную петлю в своем
движении, как раз приближаясь при этом к центру всей
системы {рис. 3). Такое понимание было основано на объ-
яснении Птолемеем движения планет вокруг Земли. Что-
бы достичь максимально возможной точности, и было
введено огромное множество поправок, включая допол-
нительные вспомогательные циклы, без которых модель
уже никак бы не обошлась.
44 Питер Деар. Событие революции в науке
Рис. 3. Эпицикл планеты по Птолемею: планета
описывает в своем движении вокруг Земли траекторию,
которая при наблюдении с Земли показывает
периодические движения назад — как раз когда планета
оказывается ближе всего к Земле
С точки зрения естественного философа, тем не ме-
нее такой подход оказался бы проблематичен, если бы он
представил себя «объяснением» движений планет. Но в
том-то и дело, что здесь не было даже намека на то, что-
бы объяснять, почему описываются именно такие круги
и из каких импульсов они слагаются; сами по себе эти ци-
клы (в рассматриваемом случае — эпициклы) имеют по-
стоянный центр обращения, хотя бы этот центр и был
смещен относительно центра Земли, то есть, в тогдаш-
них представлениях, центра всего мира. Аристотелев-
ское понятие кругового движения, напротив, подразуме-
вало понимание любого такого движения как движения
вокруг Земли. И тогда, какой же был физический статус
моделей Птолемея в Средние века?
Проще всего будет сказать, что все эти модели употреб-
лялись исключительно для подсчетов. Раз выведенные
Глава I. Что было уже известно в 1500 г. 45
числа могут адекватно описывать положения светил на
небе, то математику-астроному все равно, действительно
ли его детализованные модели представляют реальное
движение на небе или это фикция. Являются ли эпици-
клы и деферентные циклы реальными объектами или по-
рождениями воображения астронома? С практической
точки зрения это не должно волновать астронома: точ-
ность его подсчетов от ответа на этот вопрос не возрас-
тет. Но для естественного философа дело обстоит уже не
так просто. Если астроном может не затрагивать вопрос
о физической причинности, то при изучении естествен-
ной философии задаваться таким вопросом — необходи-
мое условие вообще любого рассказа о таких вещах.
Тем не менее обычно средневековая философия зани-
малась общими вопросами природы небес и причинами
движения небес, оставляя детализацию этого движения
астрономам, которые вносили свои уточнения, уже не-
философского плана. Только крайне редко средневе-
ковые естественные философы рассматривали вопро-
сы, связанные с физическим статусом сложных систем
(или циклов), — эти вопросы было легко игнорировать,
просто сославшись на иерархию университетских дис-
циплин: естественная философия, имевшая дело с при-
чинами и природой вещей, ценилась более всякого прак-
тического навыка астрономических подсчетов.
Таким образом, физики вполне могли пренебрегать
выводами, полученными астрономами, точно так же,
как специалист по ботанике игнорирует теперь опыт са-
довода. Астрономы в свою очередь вообще не обращали
внимания на совпадения между физикой и математикой
небесных движений, причем были в этом пренебреже-
нии еще последовательнее, чем физики: астрономиче-
ские трактаты Средних веков даже не упоминали об этой
проблеме.
Описанная ситуация продержалась со времени по-
явления «Альмагеста» в латинском переводе с арабского
языка и до изысканий второй половины XV в., то есть
почти до выхода в свет трактата Коперника. Начиная
ТНЕОШСА
The orica tri vm
orbiom Solls*
Рис. 4. Пеурбах понимал астрономические модели Птолемея
как физическую реальность. Рисунок из «Новой теории планет»
Пеурбаха: каждый цикл в геометрической модели здесь понят
как трехмерное твердое тело вокруг Земли. В — Земля как центр,
А — центр вращения внешней сферы D, частью которой является
Солнце. Планеты тоже кружатся вокруг центра, хотя их движение
гораздо сложнее
Глава I. Что было уже известно в 1500 г. 47
с XIII в. одним из важнейших дидактических текстов по
астрономии было анонимное сочинение «Теория пла-
нет» (Theorica Planetarum). Первое слово в названии,
которое нам пришлось перевести как «теория», напря-
мую отсылает к геометрическим моделям движения не-
бесных сфер — «теоретичным» было моделирование, из-
ложение на бумаге того, что мы представляем в уме путем
концептуализации. В книге были представлены модели
движения Солнца, Луны и пяти планет, сопровождавши-
еся пояснением, как эти модели применять в расчетах.
Важно заметить, что, хотя эти модели и основываются
на «Альмагесте» Птолемея, они гораздо проще, хотя при
этом приходится жертвовать той сложностью расчетов,
которая была необходима Птолемею для достаточно
точного согласования моделей с данными наблюдений.
В этой связи будет полезно заметить, что «Альфонсовы
таблицы», составленные после 1252 г. и ставшие стан-
дартом расчетов в Средние века для определения поло-
жения светил на небе, были рассчитаны для каждого из
небесных тел на основе геометрических моделей, чрез-
вычайно упрощенных в сравнении с их птолемеевскими
прототипами. Пока все мирились с таким положением
дел, никто не требовал никаких уточнений — это еще раз
доказывает, что средневековая астрономия была замкну-
та на практику1.
В середине XV в. немецкий астроном из Вены Георг
фон Пеурбах написал новый учебник, который он так
и назвал «Новая теория планет», из печати он вышел
в 1475 г. Само заглавие говорит о том, что книге назна-
чалось заменить старую «Теорию планет». В этом труде
излагался тот же самый материал и уточнялись только
отдельные моменты каждой индивидуальной модели —
и при этом не заметно было ни одной попытки создать
модели того же уровня сложности, что и в «Альмагесте».
1 Скорее наибольшим стремлением было разместить планеты
в отношении к правильному зодиакальному знаку, учитывая все пят-
надцать «степеней», что имело в виду астрологические цели.
48 Питер Деар. Событие революции в науке
Радикальная новация этой книги состояла только в спо-
собе представления моделей. Вместо диаграмм с геоме-
трически проведенными линиями, которые схематизи-
руют для нас отдельные движения (как иг. рис. 2), Пеурбах
решил нарисовать цельные сферы, плотные и имеющие
собственную толщину (см. рис. 4).
Солнце, движущееся по деференту, превратилось
в тело, встроенное между стенками деферентной сферы,
которая сама встроена в большую пустую сферу, опоясы-
вающую Землю. Такая бесспорно физическая картина
гораздо лучше совпадала с физическими сферами, о кото-
рых говорил Аристотель и схоластические естественные
философы, чем абстрактные геометрические модели,
подвластные лишь расчетам. Первоначально именно
астрономы, а не естественные философы на латинском
христианском Западе сопротивлялись признанию физи-
ческого статуса своих моделей: а Пеурбах хотел понимать
свои математические разработки как имеющие физиче-
ский референт. Уточнения при наблюдении заставили
астрономов-математиков надстраивать круговое движе-
ние над круговым движением, все дальше уходя от Ари-
стотелевой картины небес. Теперь же Пеурбах настаивал
на том, чтобы на все эти круги надо смотреть как на физи-
ческие объекты, реально открытые астрономией: потому что
такие круги непременно должны существовать, чтобы не-
беса были такими, какие они есть. Он был склонен к тому,
чтобы видеть математическую астрономию как чисто ин-
струментальную практику, наподобие навигационных вы-
числений наших дней, которые осуществляются исходя
из мнимого представления о неподвижности Земли и при
этом позволяют верно рассчитать траекторию.
Астрономия Птолемея воспринималась во времена
Коперника и в связи с опытами наподобие труда Пеур-
баха, хотя все расчеты брались из «Альмагеста». Самым
важным сводом астрономических данных в то время был
труд, составленный Пеурбахом и его коллегой Региомон-
таном под названием «Сокращенное изложение Альма-
геста». Этот труд, завершенный в начале 60-х гг. XV в.,
Глава I. Что было уже известно в 1500 г. 49
был издан в 1496 г. в Венеции, как раз когда Коперник
приступил к изучению астрономии в университете. Это
«Сокращенное изложение» (Epitome) представляло со-
бой сводку важнейших данных, объяснявших читателям
тонкости геометрических моделей небесного движения
у Птолемея. «Сокращенное изложение» было гораздо бо-
лее щепетильным, чем «Теория планет» или даже «Новая
теория планет» Пеурбаха, и его поэтому можно назвать
вершиной развития средневековой астрономической
мысли докоперникова периода. Но астрономическая на-
ука уже к тому времени грозила вторгнуться в область
причинностных объяснений естественной философии,
стремясь заставить ее с высоты своей компетенции гово-
рить о действительном движении небес.
4. За стенами университета
Научная жизнь в 1500 г. была полна скорее материаль-
ными, чем интеллектуальными достижениями. В конце
XV в. европейская ученая культура встретилась с послед-
ствиями новых технологий, скажем, печати литерами
наборной кассы. Книгопечатание, возникшее в середи-
не XV в. в германском городе Майнц, благодаря деятель-
ности изобретателя Иоанна Гуттенберга стало распро-
страняться по всей Германии и сразу же захватило север
Италии, прежде всего Венецию. Появление во второй
половине XV в. типографских услуг отвечает двум суще-
ственным особенностям жизни европейского, а точнее
западноевропейского общества. Первая особенность —
большое число грамотных людей, которыми были вос-
требованы и объемные книги, и небольшие брошюры.
Вторая особенность— широкая доступность множества
философских и вообще интеллектуальных источников.
Вместе эти две особенности создали ситуацию, когда зна-
ние для большого множества людей уже не было привяза-
но к текстам из университетской программы. Это была со-
всем новая ситуация, не имеющая параллелей в истории.
50 Питер Деар. Событие революции в науке
Все разнообразие интеллектуальных возможностей,
расцветшее в новом литературном окружении ок. 1500 г.,
охватывало с нашей современной точки зрения только
несколько сегментов теоретизирования. Самым влия-
тельным из философских построений в это время счита-
ется флорентийский неоплатонизм, созданный Марси-
лио Фичино. В 60-х гг. XV в. Фичино предпринял перевод
на латинский язык трудов Платона, которые, как извест-
но, не пользовались в Средние века особым почтением2.
Незадолго до этого он перевел некоторое количество
текстов, которые в наши дни принято датировать I—II вв.
н.э., но в то время они принимались за древнейшие тек-
сты Античности, появившиеся за несколько веков до тру-
дов Аристотеля, Платона и других светочей классической
культуры. Это были тексты так называемого герметиче-
ского корпуса, приписанного египетскому мудрецу Герме-
су Трисмегисту, то есть Триждывеличайшему. Основная
особенность этих текстов (кроме отсылок к древнееги-
петской жреческой магии в «Пимандре», первом тракта-
те сборника, который был известен и раньше) была в не-
обычной метафизике универсума. Такая метафизическая
концепция, как нетрудно догадаться, была схожа с неопла-
тоническими учениями поздней Античности: ведь по духу
и по происхождению корпус на самом деле им родствен.
Позднеантичные неоплатоники, прежде всего Плотин,
смотрели на свое учение как на раскрытие самых скры-
тых и таинственных аспектов трудов Платона. Фичино
был убежден, что все три наследия — Платон, герметиче-
ский корпус и писания неоплатоников — представляли чи-
тателю всю античную мистическую традицию глубинного
знания, восходящую ко времени ветхозаветного Моисея.
Основным моментом всех этих доктрин была карти-
на универсума как духовного единства, различные части
2 Конечно, при желании можно найти немало платонических
мотивов в богословии и философии Средних веков, но другое дело,
что оригинальных трудов Платона тогда почти не знали. Платонизм
воспринимался из вторых рук, прежде всего из трудов отца Церкви
Аврелия Августина.
Глава I. Что было уже известно в 1500 г. 51
которого соединены силами симпатий и антипатий.
Астрология была необходимой составляющей такого
мировоззрения, причем понималась она весьма широ-
ко. В предшествующие века астрология была стандарт-
ной частью научного знания. Но новое измерение, ко-
торое она получила в неоплатонически-герметическом
синтезе Фичино, состояло в том, что теперь уже не про-
сто документировались предсказания звезд и пассивно
прослеживалось предсказанное будущее, но предпри-
нималась попытка влиять на человеческие дела через
астрологические воздействия. Иными словами, астро-
логия была преобразована в инструмент магического
господства над природой. Маг-астролог — отличным
примером которого в конце XV в. стал флорентийский
граф Джованни Пико делла Мирандола— стремился
упорядочить физическое взаимодействие звездных сил
с земными вещами.
При этом нужно заметить, что эта неоплатоническая
магическая тенденция в возрожденческой философии,
хотя и отличалась от стандартных наук в университетах,
не должна считаться простой альтернативой аристоте-
левской естественной философии. Амбиции новой ма-
гии простирались дальше — она стремилась установить
операциональный контроль над природой: это была
своеобразная технология, которая проверяется только
практикой, а не философское исследование, в котором
нужно только достичь понимания. Магия, неспособная
породить альтернативных аристотелевским философ-
ских идей о функционировании универсума, оказалась
только одним путем среди многих, на которых не при-
нимавшие Аристотеля натуральные философы могли
вступить в борьбу с тогдашней нормативной наукой.
Магию знали и в Средние века, но ее представляли как,
во всяком случае, не противоречащую в корне аристоте-
левской философии. Аристотелевский мир был миром
регулятивов, но вовсе не миром жесткого детерминизма.
В этом мире могли случаться и необычные вещи, и адеп-
ты магии пытались оперировать ими, считая, что все
52 Питер Деар. Событие революции в науке
законы Аристотеля относятся только к обычным случа-
ям, а не к необычным явлениям.
Само понятие магии может нас сбить с толку. На самом
существенном уровне этот термин означает искусство ма-
нипулирования вещами, иначе говоря, такое обращение
с ними, которое в конце концов вызывает чудесное собы-
тие: последовательность явлений, выходящую за рамки
ординарного. Исходя из этого, ярлык магии могли нести
на себе самые разные практики. Существовала духовная
магия, которая призывала на помощь духов, ангелов или
демонов (последняя была известна как демоническая
магия, отождествлявшаяся с колдовством), и существо-
вала естественная магия. Естественная магия пыталась
употребить не духовных агентов, а сокровенные силы
самой природы. Так, воздействие магнита на железо счи-
талось одним из примеров скрытой силы. Магия была ис-
кусством действий над вещами, технологией, а маг был
знатоком ее применения. Нельзя не согласиться, что это
совсем другое восприятие знания, чем аристотелевский
созерцательный идеал.
Такое практическое знание проложило себе широ-
кую дорогу. Появившееся книгопечатание позволило
выпустить в свет не только трактаты по магии на латин-
ском языке, которые читались образованными людьми,
но и магические тексты на народных языках — итальян-
ских и немецких диалектах. Эти народные тексты имели
потенциально гораздо большую читательскую аудито-
рию, чем латинские книги. Ведь для того, чтобы читать
непростые тексты по-латыни, требовалась не просто
школьная подготовка, но фундаментальная образован-
ность. Народные «книги тайн» давали практические,
хотя и сумбурно изложенные, сведения для людей с не-
высоким уровнем образования. Жанр народных магиче-
ских книг, достигший своего апогея в XVI в., есть впол-
не законный отпрыск книгопечатания — запрос на эти
книги никогда не ослабевал, к тому же он поддерживал-
ся книгопечатниками, которые обещали покупателям
передать все практические навыки, которые до этого
Глава I. Что было уже известно в 1500 г. 53
содержались (во всяком случае, декларативно) только
замкнутыми гильдиями практиков. Так, особенно по-
пулярны были книги медицинских советов: в книгах
давался широкий набор предписаний, как лечить едва
ли не все заболевания. В первой половине XVI в. один
из самых известных авторов таких народных медицин-
ских книг, Вальтер Герман Рифф, был аптекарем, вряд
ли достигшим больших высот в медицине. Рифф издал
множество книг на немецком языке, по большей части
заимствуя из сочинений других авторов по тем же во-
просам, а также переводя отрывки из латинских посо-
бий университетских медицинских факультетов. В 1531
и 1532 гг. вышло несколько тонких книг под общим на-
званием «Книжки по искусствам» (Kunstbüchlein). Они
были посвящены самым разным видам деятельности и
ремеслам, выходили анонимно и печатались в разных
типографиях немецких городов. Явно, запрос на эти
знания был велик не только среди профессиональных
ремесленников, но и среди грамотных людей среднего
слоя. Эти книги разрушили былую монополию профес-
сиональных гильдий, которые держали в своих руках
все практическое знание: ремесло жестянщика, кра-
сильщика или гончара стало доступно любому хозяину,
которому нужно было произвести соответствующие
работы в своем доме.
Историк Уильям Эмон, подробно изучивший такую
литературу, признал важнейшую роль этих «книг тех-
нических рецептов»: их авторы сорвали покров тай-
ны, облекавший все ремесленные умения, и простые
люди увидели, что мастера не владеют никакой тайной
мудростью, а просто знают набор приемов, которыми
в принципе может воспользоваться всякий человек3.
Конечно, из этого не следовало, что знания и умения
даются даром. Исследования последних десятилетий
3 Еатоп W. Science and the Secrets of Nature: Books of Secrets in
Medieval and Early Modern Culture (Princeton: Princeton University
Press, 1994). P. 113.
54 Питер Деар. Событие революции в науке
по строению и трансляции экспертного знания показа-
ли, что любые практики располагают такими умениями,
которые не могут быть просто смоделированы, но пере-
даются ученикам в течение долгого срока и не без проб-
лем. Невозможно усвоить какое-либо практическое
занятие из того беспощадного разбора, которому оно
подвергается на страницах отчетов об экспериментах
(как это происходит в естественных науках) или в тех-
нических пособиях (как в ремесленной деятельности)4.
Если Эмон прав, то распространившееся благодаря
печати книг в XVI в. мнение, что практическое ремес-
ленное знание (рецепты, ноу-хау) может быть сведено
к тривиальным процедурным правилам, в готовом виде
взятым из книги, было в большой степени иллюзией.
Но это иллюзия, наследниками которой нам приходит-
ся быть до сих пор.
Внимания заслуживают и еще два важных пункта
возникающей научной культуры. Алхимия приобрела
себе наибольшее число приверженцев как раз в эпо-
ху подъема знания (конец XVII в.), ярчайшим пред-
ставителем которой мы считаем Исаака Ньютона— во
всяком случае, если судить о распространении наук по
количеству сохранившихся рукописных пособий и за-
меток. Алхимия, как мы видим по форме самого этого
слова (Аль-Кеми), пришла в Европу от арабов. В начале
XVI в. алхимию иногда упоминали в печатных обсужде-
ниях, хотя чаще всего весьма курьезно. Ведь одним из
неотъемлемых свойств алхимии была засекреченность:
писания по алхимии были переполнены смутными сим-
волами, которые не могут быть понятны никому, кроме
посвященных. Таким образом, только человек, прошед-
ший курс обучения алхимии, мог пользоваться алхи-
мическими пособиями. Но тем не менее алхимические
книги тайн получили вполне широкий тираж, а значит,
4 О важности «молчаливого знания» в науке см.: Collins H.M.,
Changing Order: Replication and Induction in Scientific Practice. 2nd ed.
(Chicago: University of Chicago Press, 1992).
Глава I. Что было уже известно в 1500 г. 55
и сам принцип алхимической науки изменился — из та-
инственной науки, подобной магии, она превратилась
в расхожее знание вровень с астрологией5.
Первая из «книжек по искусствам», посвященных
алхимии, вышла в 1531 г. и была так и озаглавлена «Пра-
вильное употребление алхимии» (Rechter Gebrauch
dAlchimie). Эта книга, хотя и представляла собой ком-
пиляцию серьезного алхимического трактата, посвящен-
ного таким вопросам, как трансмутация, говорила почти
исключительно о практических вопросах химии и метал-
лургии— это было нечто вроде карманной книжки ре-
месленника. Получалось, что правильное употребление
алхимии — это совлечение с нее всех ее созерцательных
и мистических аспектов6. Но, несмотря на это, до само-
го времени Ньютона алхимия предельно сближалась с
духовно-мистическими занятиями. Ведь одним из фак-
торов, гарантирующих успех алхимического действа,
считалось духовное состояние алхимика: неудачи алхи-
мической практики часто связывали не с недоработками
соответствующей техники, но с тем, что душа алхимика
еще не очистилась в совершенной мере. Трансмутация
может произойти только в том случае, если духовное отно-
шение алхимика к веществам, подлежащим манипуляции,
настроено во всей точности. Алхимия была засекречен-
ной практикой по своей природе, и принять общедоступ-
ный вид она могла, только если свести ее к некоторому
набору техник, то есть изменив саму ее суть, что и пока-
зала история издания 1531 г.
Другой не менее засекреченной, к тому же и маги-
ческой областью знания в то время была каббалистика.
Каббала изначально возникла среди иудеев эллинисти-
чески-римской эпохи как типичное, наравне с неоплато-
низмом, тайное знание поздней Античности. Ренессанс
воспринял каббалу в христианизированной версии. Соб-
ственно, все это учение сводится к наделению обычных
5 Астроном Тихо Браге также был известен как крупный алхимик.
6 Еатоп. Op. cit. P. 114-115.
56 Питер Деар. Событие революции в науке
слов, прежде всего имен, оккультными значениями
и установление взаимосвязей между вещами с помощью
букв, составляющих их названия, — конечно, эти назва-
ния требовалось записывать на древнееврейском, кото-
рый адептами каббалы считался языком Адама. Слову
можно было сопоставить целое число, сложив числовые
значения составляющих его букв; следующий шаг был
предсказуем — если у двух слов числовое значение ока-
зывалось равным, за ними признавалась сокровенная,
но сильная взаимосвязь. Христианская версия каббалы
доказывала, например, что Иисус — истинный Мессия,
поскольку в обоих словах сумма букв равная: так адепты
каббалы того времени попытались обратить иудейскую
мистику в средство убеждения самих иудеев принять ис-
тину христианства. В 90-х гг. XV в. самым знаменитым
христианским каббалистом был германский толкователь
мистики Иоганн Рейхлин.
Такой разброс открывшихся вдруг интеллектуальных
возможностей, тесно связанных с появлением техноло-
гии книгопечатания, означал, что Европа около 1500 г.
готовилась к битве за интеллектуальные авторитеты,
битве, которая должна была принять поистине эпиче-
ский размах. XVI век стал переломным для всей европей-
ской цивилизации: когда протестанты выступили против
Католической церкви, это означало отвержение не толь-
ко отдельных идей, но всей системы авторитета, которая
главенствовала на континенте веками. Конечно, в срав-
нении с критикой папской власти критика аристотелев-
ской философии выглядит довольно мирно. Но и то и
другое — грани единого процесса: Мартин Лютер и Жан
Кальвин, самые знаменитые церковные реформаторы,
делали упор на тексте Библии, который должен был
сделаться доступен всем христианам на родных языках
и встать во главу утла христианской религии. Изделия
печатного станка потрясли тщательно разработанную
структуру Католической церкви и, более того, вознес-
ли верующих к непосредственному общению со словом
Божиим.
Глава I. Что было уже известно в 1500 г. 57
5. Ученая культура и повседневность
Важно не забывать, что в этой книге мы рассматри-
ваем судьбу идей, связанных с познанием природы.
Если говорить о религиозной жизни XVI в., то прежде
всего нужно заметить, что Реформация и Контррефор-
мация затронули на латинском Западе в той или иной
мере всех. Контрреформация проводилась, в отличие
от Реформации, церковными иерархами, а они стреми-
лись повысить уровень народной религиозности, что-
бы укротить волнения, спровоцированные Лютером.
Новые возможности изучения природы явно шли на
руку больше представителям Контрреформации: интел-
лектуальная элита либо организовывала, либо подавля-
ла борьбу в этот период, совершенно не задумываясь о
стремлениях простого народа. До сих пор неясно, какой
отзвук нашла научная революция XVT-XVII вв. в умах
простого народа. Повседневная жизнь не восприняла
почти никаких научных инноваций, а те изменения по-
вседневности, которые в это время наблюдались, следу-
ет связывать с совершенно другими идейными течения-
ми, прежде всего переменами в составе и подробностях
религиозных убеждений.
Долгое время на научную революцию смотрели как
на выход из того интеллектуального тупика, в который
вверг европейцев кризис магических верований7. Со-
гласно этой теории, вера в колдовство и прочие ирра-
циональные и бездоказательные убеждения, входившие
в картину мира европейцев, отступили перед лицом по-
бедно шествующей научной рациональности. Но такая
оценка исторических событий не выдерживает критики,
если учесть результаты научных исследований послед-
них лет. Народ продолжал верить и в ведьм, и в горо-
скопы и в XVIII в. не меньше, чем в XVII, и, более того,
7 Монография, образцово отстаивающая такое воззрение: Tho-
mas К., Religion and the Decline of Magic: Studies in Popular Beliefs in Six-
teenth- and Seventeenth-Century England (London: Penguin Books, 1978).
58 Питер Деар. Событие революции в науке
многие ученые, создававшие новую науку, даже в конце
XVII в. верили в те же вещи, что и простолюдины. По-
этому усвоенное многими из нас со школьной скамьи
мнение, что распространение научной картины мира
вытеснило суеверные пережитки, представляется боль-
шой натяжкой. Вероятно, такое мнение восходит к заяв-
лениям просветителей XVIII в., которые, набирая себе
союзников, стали говорить о революции в философии
во времена Бэкона и Галилея. Понятно, что просветите-
лям нужно было доказать, что настоящее знание возник-
ло не вчера и что с опорой на него можно критиковать
институции, утверждающие свою власть ссылкой на ир-
рациональное. Главным и самым могущественным рас-
пространителем убеждений о «сверхъестественном» эти
философы XVIII в. считали Церковь. Чудеса, вера в анге-
лов и весов стали основными мишенями атак «рациона-
листов» XVIII в., но ясно, что, если бы многочисленные
поверья не были в то время распространены в широких
массах, философы не стали бы клеймить так яростно все
«пережитки».
Обо всех этих обстоятельствах не следует забывать:
слишком живуча в наших умах картина суеверной и фана-
тичной Европы 1500 г. и холодной, рационалистической
научной Европы 1700 г. Астрология, демонология и фи-
лософско-духовные синтезы, осуществлявшиеся такими
деятелями XV в., как Марсилио Фичино, составили замес
интеллектуальной жизни на века вперед: мы не видим
никакой однозначной новой рациональности, которая
избавила бы сознание людей от всех этих планов и ком-
бинаций. История редко бывает черно-белой картиной,
гораздо чаще она — пестрая амальгама, причем в неясной
перспективе.
Глава II
ГУМАНИЗМ И АНТИЧНАЯ МУДРОСТЬ:
КАК В XVI В. ИЗУЧАЛИ ПРЕДМЕТНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ
1. Язык и мудрость
Новые вызовы канонической философской схоласти-
ке, правившей в университетах, пришли оттуда, откуда
их не ждали. Одним из важнейших аспектов обучения
искусствам в средневековом университете, которому
историки науки тем не менее уделяют мало внимания,
был восходящий к раннему Средневековью тривиум. Эти
три науки, грамматика, логика и риторика, должны были
помочь любому человеку разобраться с предметным ми-
ром. Изучение тривиума сопровождалось изучением
квадривиума — математических предметов, включавших
геометрию, арифметику, астрономию и музыку; а вместе
тривиум и квадривиум и составляли венец «семи свобод-
ных искусств». Все эти науки уже в поздней Античности
легли в основу высшего образования, и их реплики (по-
лучившие неизвестные Античности названия «тривиум»
и «квадривиум», то есть «трехпутье» и «четырехпутье»)
и породили образовательную норму начавшейся средне-
вековой культуры на Западе.
Семь свободных искусств только приблизительно
задавали очертания программ учебных заведений но-
вого типа — университетов XIII в. Как только тексты
Аристотеля, переведенные с арабского, заменили ранне-
средневековые компиляции, логика перехлестнула по
60 Питер Деар. Событие революции в науке
важности естественную философию и метафизику, во вся-
ком случае при разработке программ изучения «искусств».
Квадривиум знал в разные периоды и в разных институци-
ях и подъем, и упадок, но никогда (за исключением астро-
номии, да и то применительно к отдельным задачам) не
превозносился как важнейший источник знания. Грамма-
тика и риторика, две другие науки тривиума, измельчали:
латинская грамматика превратилась в преддверие универ-
ситетского образования (это были подготовительные кур-
сы, так как все преподавание шло на латыни), а риторика,
искусство убеждения, сдала свои позиции, потому что изу-
чение аргументации было тогда полностью передано в ве-
дение логики. При этом академический статус риторики
в XV в. радикально изменился, но совсем на другом поле.
Ученая культура, заявившая о себе на рубеже XIII и
XIV вв., в эпоху Возрождения, обозначается нами тер-
мином «гуманизм». Но само это слово— изобретение
позднейших историков: оно представляет собой сокра-
щенный вариант действительно аутентичного возрож-
денческого выражения «studia humanitatis», то, что мы
называем гуманитарными науками, или науками, изуча-
ющими человеческий мир. В итальянских университетах
XV в. «гуманитарными науками» называли те науки, кото-
рые регулировали языковой узус: грамматику, риторику и
поэтику. Целенаправленностью этих наук было создание
правильной латинской речи (со временем неотъемлемой
частью решения этой задачи стало изучение греческого
языка и сопоставление греческого и латыни) и написание
латинских сочинений изящным литературным стилем.
Распространение такого подхода во всех университетах
Северной Италии сопровождалось растущим сознанием
собственного достоинства в среде тех, кто эти дисци-
плины преподавал. Эти учителя, которые и назывались
«гуманистами» во вполне техническом смысле слова,
провозглашали с небывалым упорством важность своих
предметов в программе факультетов искусств, в противо-
положность доминировавшей прежде схоластической
философии Аристотеля.
Глава П. Гуманизм и античная мудрость 61
Местные условия Северной Италии сыграли важней-
шую роль в том, чтобы «гуманисты» преуспели в своих ам-
бициях, и гуманистическая ученость действительно вы-
теснила схоластическую. Весь итальянский полуостров
был «лоскутным», он делился на небольшие государства.
Типичной политической моделью на севере стал город-
государство, вроде Милана, Венеции или Флоренции.
Всякий город, с прилегающими к нему землями (часто
эти земельные владения, как в случае Флоренции, были
значительными, и на них размещались города меньше-
го размера, но и не совсем мелкие) пользовался высо-
кой степенью политической автономии, и гражданская
жизнь в городе чаще всего подразумевала активность
самых влиятельных граждан, которые никогда не подчи-
нятся власти внешнего государя. Ранние гуманисты сразу
же оценили преимущества такой ситуации и стали гово-
рить о важности гуманитарного образования для воспи-
тания деятельного и политически ответственного граж-
данина. Обучение в области «гуманитарных наук», по их
заявлениям, представляет собой много лучшую подготов-
ку к гражданской деятельности, чем голые логические
построения университетских аристотеликов. Гуманисты
учили, что пропагандируемое ими образование непре-
менно оправдает себя: отточив свои риторические уме-
ния, человек станет влиятельным политическим орато-
ром, а овладев историческими знаниями, он приобретет
мудрость и ту взвешенность суждений, которая подобает
государственному мужу1. Великим примером такого госу-
дарственного деятеля стал для приверженцев гуманизма
Цицерон, образцовый оратор, которого все признавали
и примером мудрого сенатора-законодателя.
С точки зрения гуманистических педагогов, Цице-
рон воплощал в себе все добродетели хорошего респу-
бликанского государственного деятеля. В роковые дни
заката Римской республики Цицерон стал политическим
1 Существовали и раздельные гуманистические школы, имевшие
(правда, редко) классы для девочек.
62 Питер Деар. Событие революции в науке
лидером, выступления которого в сенате, волновав-
шие умы современников, столь же страстно звучали и в
годы Возрождения. Более того, Цицерон написал посо-
бие по риторике, дав молодым ораторам все необходи-
мые советы и объяснив правила, как нужно составлять
и публично зачитывать речь, чтобы она повлияла на
всех слушателей без остатка. Таким образом, в наследии
Цицерона содержалась и теория риторики, и практика
риторики, и, с точки зрения гуманистов, грех было не
воспользоваться таким богатством. Говоря совсем про-
сто, Цицерон должен был показать современным лю-
дям, каким образом нужно организовывать социальную
жизнь. Главное, что помогал сделать Цицерон, — это
замостить разрыв между эффективным красноречием
и правильными политическими решениями, которых и
должен добиться политический оратор. Цицерон был
отличным примером и в этом: он не просто хорошо го-
ворил и хорошо писал — его речи вызывали восхищение
мудростью содержания. Новая гуманистическая идео-
логия подразумевала, что одно неотделимо от другого:
только тот станет красноречив, как Цицерон, кто обре-
тет его политическую мудрость, потому что только под-
линный политический опыт мог породить красноречие,
преобразующее государство. Таким образом, цицеро-
новскому красноречию приписывались почти мисти-
ческие черты: отождествив «медиум» и «сообщение»,
гуманистические педагоги приписали предлагаемому
ими курсу обучения способность воспитывать хороших
граждан. На практике это означало, что ученики, осво-
ившие цицероновский латинский стиль и научившиеся
его воспроизводить, считали себя по-настоящему обра-
зованными. Образование было впервые отождествлено
с простым воспроизведением хороших классических ав-
торов. Красноречивый глупец при этом вообще не рас-
сматривался, гуманистические педагоги считали суще-
ствование такого персонажа невозможным.
XV век был отмечен постепенным распространением
гуманистических педагогических начинаний. В середине
Глава П. Гуманизм и античная мудрость 63
века гуманизм пересек черту Альп и в самом конце века
оказал сильнейшее влияние на стилистику и содержа-
ние университетских программ во многих европейских
странах, вплоть до Польши. В течение всего XVI в. гума-
нистическое образование пестовало общий культурный
стиль социальной элиты повсюду, оно утвердило себя и
в университетах, и во всех прочих видах высшего обра-
зования. Впрочем, уже в XV в. гуманисты-реформаторы,
прежде всего Лоренцо Балла, атаковали схоластическую
философию и богословие как из научных, так и из мо-
ральных соображений. Они изобличали язык схоласти-
ки в отходе от классических норм — ведь в средневеко-
вой научной латыни трудно было узнать язык Цицерона,
посмотрим ли мы на словарь или на грамматику — и дока-
зывали, что главными виновниками варваризации явля-
ются крупнейшие богословы, прежде всего Фома Аквин-
ский, создавший, по их мнению, особый «томистский»
жаргон. Оказалось, что на службе аристотелевских ло-
гических тонкостей стоит плохой латинский язык, взра-
щивающий из себя столь же извращенное богословие,
далекое от простой веры, переданной в Новом Завете.
Но если мы смотрим на положение дел в XVI в., то,
напротив, видим уже не конфликт, а сосуществование
схоластики и гуманизма. Вся суть в том, что гуманисты
выиграли бой за признание, но вовсе не стремились рас-
топтать своих изначальных врагов — схоластических
философов. Напротив, ценности гуманизма пронизали
все образование и позволили заново оценить, казалось
бы, «тривиальность» риторики и классической литерату-
ры — этих вновь оживших остатков бывшего тривиума.
Философы теперь в общем порядке проходили гумани-
стическую подготовку, исходя из новых образовательных
обязательств. Поэтому мы не должны удивляться тому,
что находим в XVI в. схоластические комментарии на
труды Аристотеля, написанные на гуманистической клас-
сической латыни, а не на варварском наречии средневе-
ковой схоластики. Эти новые схоласты уже разбирают
тонкости смыслов в оригинальных греческих текстах,
64 Питер Деар. Событие революции в науке
а не ограничивают себя, как прежде, грубыми средневе-
ковыми латинскими переводами.
Конечно, в этом было больше гуманистического ака-
демического этоса университетов XVI в., чем действи-
тельно отборной классической латыни. Цицерон стал
ролевой моделью для гуманистической риторики толь-
ко потому, что он совместил в осуществлении граждан-
ских задач красноречие с действительной мудростью.
Исключительное положение Цицерона обязано тому
общепринятому мнению, что в классической Антично-
сти удались наивысшие достижения во всех областях
культуры, с которыми мы сейчас не можем даже рав-
няться, не то что их превзойти. Так величайший оратор
и государственный деятель Античности стал, в силу на-
званного понимания истории, величайшим оратором и
государственным деятелем всех времен. Тем же самым
образом крупнейшие авторитеты и ученые-практики
своего времени в разных областях знания начинали
восприниматься как универсальные модели, требу-
ющие подражания. Таким образом, оптимизация совре-
менных тогда культурных и образовательных проектов
стала постепенно рассматриваться как восстановление
величайших завоеваний древних. Гуманистическим ло-
зунгом стал не прогресс, но восстановление, возрож-
дение, обновление. Мудрость древних — вот цель всех
достижений, и она нужна, чтобы повернуть вспять то
движение упадка, которое разразилось при обвале
и крушении Римской империи.
2. Научный Ренессанс
Слово «ренессанс» означает «возрождение». Гума-
нисты любили обозначать этим термином свое время,
потому что они притязали на то, чтобы дать новое рож-
дение классической культуре. Гуманисты отвергали вар-
варство того периода, который простирался между клас-
сической Античностью и ее возрождением в настоящее
Глава П. Гуманизм и античная мудрость 65
время, — именно они придумали для этого периода уни-
чижительное прозвище «Средние века».
Идеал обновления культуры путем возвращения Ан-
тичности впервые появляется со всей отчетливостью
в науках в середине XV в. Главной фигурой здесь был
Региомонтан, он же Иоанн Мюллер, прозвище которо-
го представляет собой перевод на латинский язык его
родного немецкого города Кенигсберг. Региомонтан
был математиком и астрономом, а также гуманистом,
специалистом по латинской литературе и особенно по
творчеству Вергилия. Пристальное внимание к Антич-
ности окрасило все его научные работы и проявилось с
максимальной ясностью в его «Сокращенном изложении
Альмагеста», труде, который он написал в соавторстве
со своим старшим современником Георгом Пеурбахом,
венским гуманистом и астрономом2. Предисловие к этой
работе, написанное в начале 1460-х гг., представляет со-
бой гуманистический гимн всем завоеваниям Антично-
сти, в противоположность современному культурному
оскудению. Региомонтан сетует на горестное положение
математических наук в его времени и говорит, что есть
только один путь вперед — возрождение наук. Он форму-
лировал свою программу много раз — особенно известна
его лекция по истории математики, дошедшая до наших
дней: она была произнесена в Падуе в 1464 г. В лекции,
которая называлась «Вводная речь ко всем математи-
ческим наукам», Региомонтан попытался очертить всю
историю математики, найдя в ней место и для себя. Он
вел линию развития математики от египетских истоков
геометрии через древнегреческих математиков к перево-
ду всех их трудов на арабский язык, а после с арабского
на латинский, что привело к развитию математических
занятий в латинском мире уже в дни жизни автора. Имен-
но последний период успешной выработки и передачи
2 Региомонтан завершил «Краткое изложение» Пеурбаха после
смерти последнего в 1461 г. О Пеурбахе подробнее говорилось выше
(гл. I, раздел 3).
66 Питер Деар. Событие революции в науке
знания особо тесно связан с Античностью как временем
начала обработки этого знания. Вершиной математиче-
ских наук Региомонтан считал астрономию.
Таким образом, Региомонтан перенес рассуждения
гуманистов об упадке и обновлении языка уже на матема-
тические науки. Его математические труды— стандарт-
ные декларации гуманистической идеологии, отзвуки
которой мы встречаем и в значительных научных рабо-
тах XVI в., трактующих вопросы сходным образом. «Со-
кращенное изложение» серьезно повлияло на астроно-
мическое образование сразу же после его типографской
публикации в 1496 г.: так гуманистическая риторика «вос-
становления наук» нашла благодарных слушателей. Са-
мым успешным астрономом-практиком, который пошел
по стопам Региомонтана, был, конечно, всем известный
польский каноник Николай Коперник. В начале 1490-х гг.
Коперник учился в Краковском Ягеллонском университе-
те, одном из новых университетов, возникших на окра-
ине Европы в XV в., в этом учебном заведении интерес
к астрономии был очень живым. Кроме центра астро-
номических исследований Краков стал к концу века и
средоточием новой гуманистической образованности:
профессора признавали важность классических языков
и ценили начитанность в античной литературе. Как раз
когда «Сокращенное изложение» вышло в Венеции, Ко-
перник учился в Италии. Затем он вернулся в Польшу,
получив диплом медика-практика, но отказавшись про-
должать образование по докторской программе. Через
несколько лет после возвращения, в 1509 г., он издал
первое свое произведение: латинский перевод греческих
стихов византийца VII в. Феофилакта Симокаты. Около
1512 г. он представил первую версию новой астрономиче-
ской системы, которая должна была заменить миросисте-
му Птолемея. Этот трактат, названный «Малый коммен-
тарий» (Commentariolus), открывается размышлениями
о птолемеевской астрономии и некоторых упрощениях,
в ней допущенных. Очевидно, что Коперник пользовался
не самим «Альмагестом», а «Сокращенным изложением»
Глава II. Гуманизм и античная мудрость 67
Рис. 5. Миросистема Коперника в упрощенном виде
(без дополнительных циклов, необходимых для точной
передачи движения планет). Из книги Коперника
«Об обращениях»
и строил на этом все выводы. Известно, что «Альмагест» в
средневековом латинском переводе с арабского вышел из
печати только в 1515 г., а греческий оригинал — в 1538 г.
«Малый комментарий» сразу же получил известность в
астрономических кругах, хотя и не печатался и распро-
странялся только в рукописях. Первое печатное изложе-
ние новой системы Коперника появилось только в 1543 г.
Его позднейший труд «Об обращении небесных кру-
гов», в котором Земля превратилась в планету, враща-
ющуюся вокруг Солнца, был назван современниками об-
новлением древнегреческой астрономической традиции.
68 Питер Деар. Событие революции в науке
В предисловии к этой книге, с посвящением папе Пав-
лу III, Коперник говорит, каким путем он пришел к новым
идеям. Он, как и в начале «Малого комментария», говорит
о найденных упрощениях и неточностях, мешающих нор-
мальному функционированию астрономической практи-
ки. Целью его, говорит Коперник, было улучшить науку
в ее нынешнем состоянии. Коперник совершил вполне
гуманистический ход: для решения задачи следует пере-
читать всех выдающихся античных авторов.
Я стал перечитывать труды всех философов, пытаясь
узнать, не предположил ли кто из них другого движения
сфер универсума, чем то, которое преподают математики
(они же— преподаватели астрономии.— П.Д.) в школах.
И действительно, в трудах Цицерона я нашел, что Гикет
предполагал движение Земли. Затем я прочел у Плутарха,
что и некоторые другие древние ученые держались того же
мнения. Я решил привести слова Плутарха, дабы сделать
их известными всем читателям [далее следует цитата из
латинского перевода труда «Мнения философов», припи-
сывавшегося тогда Плутарху]3.
Коперник распорядился полученными знаниями
вполне практично. По его собственным словам: «Полу-
чив волю, с опорой на эти источники, я тоже начал раз-
мышлять о движении Земли. И хотя сама эта мысль каза-
лась мне нелепой, я уже знал, что и до меня были люди,
свободные вообразить любые круги, лишь бы это служи-
ло объяснению небесных явлений»4. Было исключитель-
но важно найти античный прецедент предположению о
том, что Земля движется, — только так можно было оправ-
дать собственные соображения по этому вопросу. Если
древние могли вообразить новые орбиты, значит, к этой
возможности мог бы прибегнуть и Коперник. В те време-
на автора, который заявил о создании совершенно новой
3 Коперник Н. Об обращениях... Введение.
4 Там же.
Глава II. Гуманизм и античная мудрость 69
концепции, не восприняли бы всерьез— все новации
должны были носить уточняющий характер, чуждый ка-
кого бы то ни было радикализма.
Следует подчеркнуть, что не нужно считать, что Ко-
перник решил «замаскироваться», спрятавшись за авто-
ритет древних. Нет оснований полагать, что Коперник
не считал свою новую астрономическую систему просто
законным продолжением античных разработок Птоле-
мея. Ведь всю проделанную работу он считал восстанов-
лением, возрождением, а вовсе не опровержением антич-
ной астрономии. Более того, у нас есть свидетельства,
подтверждающие, что действительно думал Коперник
о собственных астрономических построениях. Первое
печатное обсуждение гелиоцентрической астрономии —
это вышедшая в 1540 г. книга Георгия Ретика, профессо-
ра математики в Виттенбергском университете. Ретик,
лютеранин по вероисповеданию, отправился в 1539 г. в
г. Торунь на западе Польши, чтобы встретиться с Копер-
ником, который служил тогда каноником в соборе. Ретик
был явно привлечен той высочайшей репутацией, кото-
рую приобрел Коперник за все эти годы как математик и
астроном (сам Ретик в науках не преуспел), и слухами о
новой астрономической системе. Ретик решил узнать все
подробности и в 1540 г. выпустил книгу «Первое изложе-
ние», в которой содержалось изложение идей Коперни-
ка с указанием на их преимущество — Ретик нисколько
не сомневался, что все высказанное Коперником истин-
но. В «Первом изложении» Ретик постоянно ссылается
на не опубликованный на тот момент труд «Об обраще-
нии...». Ретик убеждал Коперника издать этот труд как
книгу, и в письме он упоминал, что великий труд Копер-
ника написан «в подражание Птолемею»5. Слово «подра-
жание» должно было вызвать у читателей одобрительное
отношение к труду, и оно еще раз подтверждает, как сам
Коперник и его коллеги-астрономы смотрели на новую
5 Цит. по: Koyré A. The Astronomical Revolution: Copernicus —
Kepler - Borelli (London: Methuen, 1973). P. 29.
70 Питер Деар. Событие революции в науке
систему. Коперник подражал Птолемею точно так же,
как юные риторы гуманистической эпохи подражали Ци-
церону: только так можно было приобрести надлежащие
умения. Величайшим достижением Коперника в глазах
его ученых современников была его способность единым
махом разработать геометрические модели небесных
движений, употребив те же техники, которые применя-
ли греческие астрономы, включая последовательное са-
моограничение, при котором циклические движения вы-
страиваются как компоненты изобразимой модели.
Все это вроде бы противоречит тому факту, что Ко-
перник радикально отступил от Птолемея, поместив
Землю на орбиту и сделав Солнце статичным центром.
Это было нечто большее, чем изменение астрономиче-
ской формулы и создание новой модели для подсчета
движения светил на небе: если принимать модель Ко-
перника серьезно, то она меняла физику и космологию.
Движение Земли, переставшей быть в центре универсу-
ма, никак не вписывалось в систему аристотелевской фи-
зики. Как мы увидим далее, единственным выходом для
последователя Коперника не подрывать существующую
аристотелевскую физику было заявить о себе как о чи-
стом астрономе, оставляя вопросы естественной фило-
софии на рассмотрение других специалистов6.
Пытаясь представить свое предприятие как возвра-
щение к практике древних, Коперник повел себя как
участник великого культурного движения своего време-
ни — ренессансного гуманизма. Поэтому не следует ду-
мать, что Коперник был одинок в своем проекте. Нор-
мы и конвенции гуманистической речи определяли не
только форму представления результатов в различных
областях знания, но также и природу самих результатов,
что мы и видим в случае Коперника. Стремление возро-
дить современное общество путем возвращения к куль-
турным практикам Античности невозможно отделить от
пересмотра процедур самих наук. «Научный Ренессанс»,
См. выше, гл. I, раздел 3.
Глава II. Гуманизм и античная мудрость 71
как мы это называем, охватывает весь XVI в., как раз то
время, когда гуманистическое образование стало опре-
делять сферу практических суждений всех образован-
ных людей, овладевших новым стандартом организации
и изложения знания.
3. Исследование: как это делали древние
Андрей Везалий, анатом и физиолог из Брюсселя, —
это другая поразительная фигура в истории науки: нарав-
не с Коперником он должен рассматриваться как участ-
ник единого культурного движения. Везалий прогремел
на всю Европу своими книгами — как мы видим, и здесь
книгопечатание сыграло решающую роль. Его важней-
ший труд, «О строении человеческого тела» (De humani
corporis fabrica), вышел в том же 1543 г., что и «Об обра-
щениях» Коперника. Везалий получил базовую подготов-
ку по физиологии в Парижском университете, а после
преподавал в университетах Лувена, Парижа и Падуи.
Его ранняя стремительная карьера определяется его соб-
ственными заслугами, а еще больше — спецификой его
интересов, которые захватили тогда многих. К счастью,
мы знаем много о жизни университетов, которые вовре-
мя предоставили ему возможности для работы. В чем мы
можем быть точно уверены, — это в том, что Везалий хо-
рошо разбирался в тогдашних технологиях, а душа влек-
ла его к идеалу гуманистической учености.
Андрей Везалий родился в 1514 г., в 1530-х гг. он при-
нял участие в подготовке научного издания трудов вели-
чайшего врача Античности Галена, это комментирован-
ное собрание сочинений вышло в 1541 г. и включало в
себя существенно отредактированные латинские пере-
воды всех его греческих трудов, с надлежащими поясне-
ниями, в которых раскрывались тонкости языка и терми-
нологии Галена. Подготовка научных изданий была тогда
средоточием гуманистической учености: невозможно
было оживить классическую культуру, если не понять,
72 Питер Деар. Событие революции в науке
что говорится в источниках, и если не проникнуть в них
всей душой. Во Введении к своему трактату «О строе-
нии...» (De... fabrica) Везалий стремится продемонстри-
ровать свою тонкость в постижении источников. Книгу
свою Везалий посвятил императору Священной Римской
империи Карлу V как часть всеобщего восстановления
учености. Точно так же как Коперник в разговоре об
астрономии, Везалий начинает с оплакивания тепереш-
него упадочного состояния медицины, которая после
конца Античности только разрушалась и вырождалась.
Затем он заводит речь о том, что в нынешнем веке «ана-
томия стала подниматься из того непроницаемого мра-
ка, и даже уже никто не будет спорить с тем, что в неко-
торых университетах она обрела свой прежний блеск».
Своей книгой Везалий стремится поспособствовать это-
му возрождению7 и говорит об этом со всей прямотой:
Я решил, что эта ветвь естественной философии долж-
на быть вызвана на свет из прежней области смертной.
Если она и не получит полного развития среди нас, каковое
получала прежде в среде былых профессоров диссекции,
то по крайней мере достигнет положения, при котором
можно будет без стыда говорить, что теперешняя наука
анатомии сравнялась с ее античным состоянием и что в на-
шем веке ничто так не было целиком восстановлено после
столь глубокого упадка, как анатомия8.
Пробным камнем подхода Везалия к возрождению ан-
тичной медицины стали труды Галена. Гален был главным
авторитетом в медицине в Средние века, точно также, как
Птолемей был главным авторитетом в астрономии; и как
возрождавшие античную астрономию гуманисты пыта-
лись перейти от простого практического использова-
ния результатов, полученных Птолемеем, к воссозданию
7 Цит. по: O'Malley CD. Andreas Vesalius of Brussels 1514-1564
(Berkeley, etc.: University of California Press, 1964). P. 320.
8 Ibid.
Глава П. Гуманизм и античная мудрость 13
аналогичного исследовательского предприятия, точно
так же и гуманисты-медики хотели возродить тот род ме-
дицины, о котором писал Гален, а не просто повторять за
ним слова, как будто это последнее, что можно сказать и
о фактах, и об их возможном истолковании. Как показы-
вает приведенная цитата, Везалий стремился возродить
тот метод диссекции, который позволил бы современ-
ной медицине встать вровень с античной. Будучи анато-
мом, Везалий хотел досконально изучить труды Галена
по вопросу и подвергнуть их хирургической экспертной
оценке. Следует обратить внимание на то, что Везалий
рассуждает об анатомии как об ответвлении естествен-
ной философии — в его изложении анатомия предстает
скорее теоретической наукой, чем обобщением практи-
ческой деятельности, о чем Везалий в предисловии гово-
рит не раз. Он, конечно, ориентируется в этом на Галена,
чьи воззрения на анатомию были на глубинном уровне
сформированы философской концепцией Аристотеля;
и целью анатомии была, по Галену, не практика, но пони-
мание устройства вещей9. Отметив ошибки, допущенные
в трудах Галена по анатомии, Везалий все равно называл
Галена примером для подражания. Даже последователь-
ность глав в трактате Везалия подчинялась принципам
философии Галена, а не общепринятой практике его
времени. Гален считал, что изучение «строения чело-
веческого тела» должно начинаться с частей, лежащих
ближе к поверхности тела (вен, артерий, мускулов и не-
рвов), а затем продвигаться к внутренностям. Везалий в
этом последовал за Галеном, заявив, что таким образом
лучше можно показать структуру тела, образованную ске-
летом10. Тогда как современная Везалию практика дис-
секций и демонстрации, напротив, начинала с внутрен-
ностей, из практических соображений — труп начинает
гнить изнутри, поэтому нужно было скорее произвести
9 Гален стремился объяснить анатомические особенности в тер-
минах конечных причин.
10
Цит. по.: O'Malley. Op. cit. P. 322.
2.2
2.4
2.5
Рис. 6-9. Идеализированные мужское и женское тело в классическом
греческом стиле (из «Краткого изложения» Везалием его же
трактата «О фабрике человеческого тела») и трупы мужчины
и женщины с хирургическими разрезами (из трактата Везалия
«О фабрике человеческого тела»). Первые два изображения —
пример физического и культурного совершенства в понимании
гуманистов, а последние два — полностью материализованная
анатомия страдания
Глава П. Гуманизм и античная мудрость 75
сечения. Везалия это не занимало: ему нужно было пред-
ставить анатомию как «ветвь естественной философии»,
«последовав мнениям Галена»11.
В отличие от Коперника Везалий не собирался ниче-
го существенно менять в теоретических положениях сво-
ей науки из нужд ее «восстановления». Он просто отме-
чает, что его современники более способны исследовать
анатомию человека, чем Гален, потому что Гален не за-
нимался рассечением человеческих трупов, довольству-
ясь вивисекцией обезьян. Везалий торжествовал: он смог
объяснить, почему Гален был неточен в некоторых поло-
жениях. Но Везалий был далек от того, чтобы преумень-
шать значение созданного Галеном обширного синтеза
медицинских знаний, особенно в том, что касается при-
чин болезни и физиологии телесных функций. Анатомия
изначально была описательной наукой, изъяснявшей
строение тела, и функции тела составляли побочный
интерес в связи с действиями других причин. Коперник
работал внутри астрономического направления, кото-
рое традиционно было обособлено от законов небесной
физики, но его астрономические инновации не могли
при этом не бросить серьезный вызов аристотелевско-
птолемеевской космологии. Везалий представлял свой
труд как часть анатомической традиции, но при этом не
притязал поколебать основы галеновской физиологии,
разве что только описывал ее как ответвление естествен-
ной философии с явным прицелом свести ее с прежнего
незыблемого пьедестала (см. рис. 6-9).
Гуманистический подход Везалия к своей науке не
только нормален, если учитывать все его культурные
установки, но и последователен. Как и Коперник, Веза-
лий представлял свою работу восстановлением античной
практики; как Коперник, он отмечал изъяны той боль-
шой модели, которая была создана в Античности и мно-
гие века не ставилась под сомнение; как Коперник, он вы-
водил свою деятельность напрямую из гуманистических
11 Цит. по.: O'Malley. Op cit. P. 322.
76 Питер Деар. Событие революции в науке
ценностей и притязаний. Многих веков ученого анато-
мического знания казалось недостаточно, чтобы обес-
печить возрождение галеновского предприятия, а Веза-
лию это удалось, и печатный станок распространит его
удачу. Мы должны отметить еще одну черту его работы:
на практике он защищал хирургические анатомические
исследования и не считал, что Гален уже обо всем сказал.
Хотя его речь о себе и может ввести нас в заблуждение
(например, Везалий вовсе не был первым профессором,
который лично стал производить демонстрационное
рассечение в присутствии студентов, как нам может по-
казаться при чтении его трактата), он, несомненно, был
участником новоожившей традиции исследований в об-
ласти анатомии. Все эти исследования черпали вдохно-
вение из примера Галена и продолжались в Падуанском
университете и после смерти Везалия, вплоть до XVII в.
Было бы излишне перечислять все случаи, когда цен-
ности ренессансного гуманизма повлияли на научную
практику XVI в. Коперник и Везалий вспоминаются нам
в первую очередь лишь потому, что на их примере мы мо-
жем рельефно разглядеть характерные черты этого пе-
риода; ими невозможно пренебречь словно бы неким ку-
рьезом. Чтобы не быть голословными, мы приведем еще
один пример. Одним из создателей современной симво-
лической [элементарной] алгебры был французский ма-
тематик Франсуа Виет (1540-1603). Его достижения, опу-
бликованные в конце XVI в., вовсе не были представлены
как порождение его оригинального математического ума,
напротив, его главный трактат, вышедший в 1600 г., на-
зывался «Аполлоний Галльский» (т.е. французский Апол-
лоний), знаменуя для читателей подражание опытам гре-
ческого математика и астронома III в. до н.э. Аполлония
Пергского. Виет, как и многие математики его эпохи,
был убежден, что древнегреческие математики владели
некоей формой «анализа» в геометрии, что и позволяло
им открывать теоремы, которым они после уже подби-
рали дедуцируемые из «первых принципов» доказатель-
ства. Математики не могли поверить, что древние греки
Глава П. Гуманизм и античная мудрость 77
получили бы такое количество результатов, которые не
объяснишь одной интуицией, если бы у них не было «ме-
тода», «искусства анализа», с помощью которого они все
это осуществили, ведь всем известно, что гораздо легче
подвести доказательство под уже известное математиче-
ское утверждение. Некоторые античные тексты смутно
намекали на существование такого «метода», особенно
позднеантичный трактат (точная датировка неизвестна)
«Основания арифметики» Диофанта Александрийского.
Труд Диофанта представляет собой изложение техники
решения уравнений с неизвестными, то есть тех опе-
раций, которые мы бы без сомнения назвали алгебраи-
ческими. Но все эти операции представлены не в виде
теоретических обобщений и формул, а только в виде
рабочих примеров с реальными числовыми значениями
(или, в современной терминологии, действительными
числами), в форме огромного множества практических
методов подсчета, без всяких попыток теоретически
обосновать эту отрасль математики. Вьет, создавая свое
«искусство анализа», попытался развить в отдельную
область математики и подход Диофанта, и техники под-
счета, принятые у торговцев и известные как «искусство
счетоводства»12. Виет представлял свою деятельность
как реконструкцию «искусства», с помощью которого
древнегреческие математики нормативно получали свои
результаты. В первые десятилетия XVII в. другие мате-
матики тоже считали, что занимаются реконструкцией
утраченной древнегреческой методики анализа. Даже
Рене Декарт, изобретатель современной символической
алгебры, которой мы все пользуемся по сей день, считал
первоначально (в 1620-х гг.), что древние непременно
владели этим искусством, но «они поскупились открыть
его потомкам»13.
12 The art of the coss. Само слово coss представляет собой искажен-
ное итальянское cosa (вещь), то есть аналог «неизвестного» в алгебра-
ических уравнениях.
13 Декарт Р. Соч.: В 2 т. М.: Мысль, 1989. Т. 1. С. 574-580.
78 Питер Деар. Событие революции в науке
4. Возобновление, новизна, рецепция
Реформированные лютеранством университеты в Гер-
мании XVI в. показывают, сколь неоднозначной была ре-
цепция новой науки. Последователь Коперника Ретик
на момент их первого знакомства был профессором ма-
тематики в Виттенбергском университете, вскоре после
этого он перешел на кафедру в Лейпцигский универси-
тет. Оба университета были лютеранскими, Виттенберг
лидировал в создании лютеранского богословия, и в обо-
их университетах профессора-астрономы с восторгом
отнеслись к труду Коперника «Об обращении...». Виттен-
бергские астрономы имели множество учеников, и это
было очень важно для распространения нового подхода
к астрономической науке.
Хотя Ретик сыграл решающую роль в издании трак-
тата Коперника, он не был редактором печатавшейся в
Нюрнберге книги. По неизвестным нам причинам под-
готовка издания была передана лютеранскому богослову
Андреасу Осиандеру, который добавил к книге неболь-
шое неподписанное предисловие, которое многие чита-
тели приняли за слова самого Коперника; интересно, что
посвящение труда римскому папе было сохранено. Люте-
ранское прибавление было связано не с тем, что воззре-
ния Коперника казались в чем-то несовместимыми с про-
тестантской теологией, напротив, Осиандер пытался
разрешить проблему, связанную со словами Коперника и
в посвятительном письме, и в тексте трактата. Это была
действительно способная вызвать бурю (и потрясти ос-
нования, как мы говорили в предыдущей главе) проблема
физического статуса астрономических моделей.
Невозможно сомневаться в том, что Коперник рас-
сматривал созданную им астрономическую миросистему,
с движущейся Землей и неподвижным Солнцем, как ото-
бражение действительного строения космоса. В первой
книге своего трактата, в подражание первой книге «Аль-
магеста» Птолемея, Коперник излагает строй Вселен-
ной. Но если Птолемей опирался на физические доводы
Глава П. Гуманизм и античная мудрость 79
Аристотеля, когда писал о центральном положении не-
подвижной сферической Земли, вокруг которой обраща-
ются вложенные друг в друга небеса, то Коперник обхо-
дится небольшим набором физических принципов для
представления воссозданной им структуры как хотя бы
допустимой. Коперник полностью следовал Птолемею,
который тоже полагал физические законы внешними
для астрономии. Ясно, что изучение физических вопро-
сов никак не может затронуть математико-астрономиче-
ских принципов системы: физика может только стать
интерпретацией модели, подтвердив ее реальность.
Но, несмотря на отсутствие астрономической ценности
физических выкладок, Коперник отнесся к ним со всей
серьезностью, потому что иначе бы у него не было ника-
ких оснований утверждать, что его система истинна.
В настоящее время историки признают, что Коперник
считал свою гелиостатическую14 миросистему верной с
точки зрения физики, причем не только в основных чер-
тах, но и во всех конкретных описываемых операциях.
Коперник был явно убежден, что именно так кружатся
небесные тела благодаря обращению физически реаль-
ных сфер в небесах, на которых они закреплены. В этом
смысле Коперник прямо следовал по стопам Пеурбаха,
его «Новой теории планет»15. Пеурбах представил кру-
ги птолемеевской модели движения планет как физиче-
ски реальные тела, плотные и утолщенные, несущие на
себе видимые светила, и Коперник скорее всего пред-
положил нечто подобное и для своих круговращений в
новой нептолемеевской системе. Кроме того, необходи-
мо было учитывать движение и траекторию телесных
тел в пространстве — но только если рассматриваемые
14 Систему, согласно которой Солнце неподвижно. Система Ко-
перника, как позднее заметил Кеплер, не была в строгом смысле
гелиоцентричной, потому что Солнце было смещено относитель-
но центра, образуемого земной орбитой, а значит, фиксированной
точкой, по которой координируются все движения планет, было не
Солнце, но воображаемая точка.
15 См. выше, гл. I, раздел 3.
80 Питер Деар. Событие революции в науке
астрономические модели признать настоящей репре-
зентацией, способной не только показать, но и объяснить
движения в небе.
Астрономы из Виттенбергского университета не хо-
тели обсуждать этот шаг Коперника: они строго придер-
живались дисциплинарного разделения математической
астрономии и физики неба: последняя совершенно их не
занимала. Поэтому виттенбергские профессора, воспри-
няв книгу Коперника в своей исследовательской и препо-
давательской практике, совершенно пренебрегали всеми
ее физико-космологическими амбициями. Следуя стан-
дартной птолемеевской модели, они обычно открывали
свои учебники по астрономии кратким обсуждением во-
проса, почему следует считать, что Земля неподвижна и
находится в центре Вселенной, и смежных вопросов, по-
ставленных в «Альмагесте» (включая доводы Птолемея
против движения Земли). После этого они могли сво-
бодно применять те геометрические модели Коперника,
которые считали подходящими в конкретный момент,
вполне в духе неподписанного предисловия Осиандера,
озаглавленного «Читателю, готовящемуся рассмотреть
гипотезы этого труда».
Осиандер потратил немало усилий на то, чтобы уве-
рить читателей, что астрономическая система Коперни-
ка, детально изложенная в трактате «Об обращениях...»,
не должна пониматься как отображение действительной
физической реальности. Напротив, говорит автор Пре-
дисловия, настоящей задачей астронома является сбор
данных наблюдений и создание тех гипотез, которые
«позволяют как можно точнее, исходя из принципов геоме-
трии, подсчитать движения, как прошлые, так и будущие»:
Эти гипотезы не обязаны быть верными и даже вероят-
ными. Напротив, достаточно лишь простого соответствия
вычисления наблюдениям. ...В этом смысле, очевидно, не
нужно даже спрашивать о причинах явной неунифициро-
ванности движений. Если даже наше воображение пред-
ставит причины этого, а таких причин найдется сколько
Глава П. Гуманизм и античная мудрость 81
угодно, то все равно мы никогда не убедим никого в том,
что они верны, разве только в том, что они являются хоро-
шим основанием для произведения подсчетов16.
Астрономия, пишет Осиандер, совершенно не инте-
ресуется законами, обусловившими видимую нерегуляр-
ность движений. Иными словами, законы астрономии
порождают только описание небесных движений, но ни-
как не вскрывают причины и не позволяют поэтому соз-
дать причинные объяснения. Таким образом, мы видим,
сколь строго разделялись такие дисциплины, как астро-
номия и космология, о чем мы подробнее писали в пре-
дыдущей главе; Осиандер выдерживает это противопо-
ставление от начала и до конца, в противоположность,
например, Пеурбаху или даже самому Копернику, кото-
рые стремились размыть это различие. Исходя из это-
го, Осиандер советует читателю не принимать слишком
серьезно поразительную гипотезу Коперника о движе-
нии Земли, а иначе он «после чтения этой книги окажет-
ся большим глупцом, чем до чтения книги»17.
Намерением Осиандера, как принято считать, было
защитить Коперника от критики богословов, которые
сразу же привели бы цитаты из Писания, говорящие в
пользу неподвижности Земли. Тогда это означает пикант-
ную ситуацию — лютеранский богослов берет на себя за-
щиту католического каноника. Но, как говорит ведущий
историк коперниканства Роберт Уэстман, замечания
Осиандера полностью вписываются в практику люте-
ранских виттенбергских астрономов. Такие деятели, как
Эразм Рейнхольд и Каспар Пейцер, в середине XVI в.
восхваляли астрономические заслуги Коперника и при
этом никогда не брали в расчет его основополагающий
космологический тезис. Математику Коперника легко
можно было употребить для предсказания движений
видимых небесных тел, при этом не обязательно было
16 Коперник Н. Об обращениях... Предисловие.
17 Там же.
82 Питер Деар. Событие революции в науке
думать, что Земля действительно движется. Нам прихо-
дится признать, что ученые того времени легко переклю-
чались от одного фрейма к другому: при одних расчетах
Земля двигалась, а Солнце стояло на месте, а при других
расчетах все становилось наоборот — при этом соотно-
шение движений оставалось точно таким же18.
Важность виттенбергской науки в истории коперни-
канства связана еще с тем, что, в частности, Пейцер руко-
водил множеством студентов, которые потом стали рас-
пространять названный подход к астрономии в других
немецких университетах. В середине XVI в. Виттенберг-
ский университет был флагманом новооснованных люте-
ранских университетов и до некоторой степени служил
образцом всем остальным. Главным автором реформы
программ Виттенбергского университета, направленной
на согласование преподаваемых предметов с воззрения-
ми Лютера, был один из главных сподвижников великого
реформатора Филипп Меланхтон. Уже его прозвание го-
ворит, что гуманизм был основным вектором его культур-
ной деятельности: имя Меланхтон представляет собой
перевод на древнегреческий язык его родового имени
«Шварцерд» (Чернозем). Точно так же Иоанн Мюллер
из Кенигсберга предпочел именовать себя по-латыни
Региомонтаном; но Меланхтон, не остановившись на ла-
тыни, добрался до древнегреческого языка, чтобы под-
черкнуть свою приверженность идеалам классической
культуры. Впрочем, во времена Меланхтона знание гре-
ческого языка было более распространено среди универ-
ситетских преподавателей, чем несколько десятилетий
назад, когда работал Мюллер.
Реформа программ Виттенбергского университета,
произведенная Меланхтоном в 20-х гг. XVI в., поставила
во главу угла классическое образование в гуманистиче-
ской манере, значительно уменьшив количество часов
на изучение старой схоластики. В частности, Меланхтон
18 Просто потому, что расстояние до звезд считалось несравнен-
но большим, чем расстояние от Земли до Солнца.
Глава П. Гуманизм и античная мудрость 83
настоял на том, что естественную философию нужно
изучать не по Аристотелю, а по «Естественной исто-
рии» Плиния Старшего. Меланхтон так полюбил этот
труд римского писателя I в. н.э. по нескольким причи-
нам, главная из которых проста: Плиний Старший не
работал в аристотелевской традиции. Это не значит,
что Меланхтон презирал Аристотеля; он считал его
ученым древним автором, философские и логические
труды которого должны быть серьезно проработаны
любым начинающим гуманистом. Но Меланхтона злил
схоластически переработанный Аристотель, который
и господствовал в старых университетских програм-
мах: покончить с этим косным наследием можно было
только одним способом — вбрасыванием многих других
античных текстов. Другой причиной предпочтения пли-
ниевской, а не аристотелевской версии естественной
философии была склонность Плиния обсуждать практи-
ческие аспекты своей науки, раскрывать ее со стороны
операций. Если Аристотель заботился почти исключи-
тельно о теоретическом понимании, специально изо-
лированном от практического применения, Плиний,
напротив, описывал технологию изготовления расти-
тельных или минеральных красок или, скажем, добычи
руд. Дрейф в сторону Плиния, таким образом, означал
принятие новой на тот момент операционистской кон-
цепции естественной философии.
Но в Античности не было создано трудов, которые
могли бы заменить трактаты Аристотеля по физике и
психологии. Труд Аристотеля «О душе» и другие подоб-
ные труды пользовались в Античности безраздельным
признанием и вызвали к жизни целый вал комментариев
и исследований. Слишком большая часть академических
исследований была связана с текстами Аристотеля, чтобы
их отбросить, тем более что маловажных сведений в них
не было. Меланхтону оставалось одно — заставить изучать
эти труды Аристотеля в греческом оригинале, а не в ла-
тинском переводе, останавливаясь в основном на фило-
логических вопросах сохранности текста и значения
84 Питер Деар. Событие революции в науке
отдельных слов и выражений. Открытие подлинного
Аристотеля было столь же важно, сколь и открытие под-
линного Птолемея или подлинного, не замутненного
ошибками средневековых переписчиков текста Библии.
5. Восстановление наук
и новая философская программа:
Возрожденный Архимед
В эпоху Возрождения не осталось ни одной области
знания, не затронутой культурным движением гуманиз-
ма. Математики, такие как Виет, пытались обнаружить
аналитические построения Античности. Специалисты
по ботанике вели масштабные исследования по отож-
дествлению с современными растениями тех, что были
описаны учеником Аристотеля Теофрастом. Путь к куль-
турному признанию лежал через приписывание совре-
менного материала античному авторитету, и этому прин-
ципу охотно следовало множество людей. Но если только
что мы говорили об ученых, ссылавшихся на античные
тексты, подлинность которых не подлежит сомнению
и в наши дни, то сейчас следует вспомнить и о тех, кто
ссылался на труды, авторитет которых не был оправдан
исторически. Так, мы уже упоминали в предыдущей гла-
ве о герметическом корпусе, собрании позднеантичных
текстов, которые Фичино перевел с греческого языка на
латинский язык. Герметические писания были признаны
памятником позднеантичной религиозности, а вовсе не
исконной мудростью греков только в начале XVII в. бла-
годаря филологическим изысканиям Исаака Казобона.
Ренессансное доверие ко многим формам магических
практик во многом обязано авторитету этих текстов,
и даже опровержение Казобоном их аутентичности толь-
ко постепенно привело к спаду интереса к ним.
В XVI в. труды древнегреческого математика Архи-
меда составили источник вдохновения, легитимации и
подражания для небольшой, но весьма значимой группы
Глава П. Гуманизм и античная мудрость 85
ученых. В то время если труд представляли как раскрытие
античных достижений, продолжение их или воспроизве-
дение (как мы видели, Коперник находил в Античности
прецеденты учения о движении Земли), он сразу получал
большее уважение и пользовался большим вниманием.
Конечно, нет никаких оснований подозревать тогдаш-
них ученых в цинизме: что они выдавали собственные
разработки за раскрытие античных принципов, чтобы
продать новые идеи ничего не подозревающим совре-
менникам. Ведь Коперник наверняка был сам рад тому,
что нашел античный прецедент учению о движении Зем-
ли, так же как и Везалий чтил Галена и ссылался на него
как на образцового диссектора, и если поправлял его, то
указывая в этом на его же пример. Просто рассмотрение
трудов авторитетных древних ученых было общеприня-
той формой вводить новые вопросы в круг обсуждения
тогдашних ученых, а кроме того, способствовало утверж-
дению высоких интеллектуальных норм — в число при-
меров для подражания могли попасть только те древние,
которые писали на хорошем греческом или хорошем
латинском языке.
Типографии в то время были медиа, посредством
которых осуществлялись новые исследовательские про-
граммы. В середине XVI в. в латинском переводе вышли
трактаты Архимеда, которые были известны в Средние
века, но почти не входили в научный оборот. Труды Ар-
химеда были напечатаны в Италии под редакцией Феде-
рико Коммандино: все старые переводы были пересмо-
трены и дополнены. Сочинения античного математика
сразу же были приняты как вполне классические образ-
цы для тех, кто обсуждает практические вопросы механи-
ки. Два труда Архимеда, «О равновесии плоских фигур»
и «О плавающих телах», представляют собой формализа-
цию математической науки применительно к механиче-
ским устройствам, способным облегчить работу, то есть
к машинам в античном значении этого слова. В первом
трактате рассматривается система рычагов и противо-
весов, и сам этот трактат служит введением к теоремам,
86 Питер Деар. Событие революции в науке
определяющим центр тяжести у различных плоских фи-
гур. Во втором трактате исследуются условия, при кото-
рых твердые тела плавают или тонут в жидкости, в связи
с удельным весом тела и жидкости. В сочинениях Архи-
меда с исчерпывающей математической точностью тол-
куются инструментальные техники решения практиче-
ских проблем механики; и еще больше авторитета этим
трудам добавил образ Архимеда, который был создан не-
сколько веков спустя Плутархом, писателем уже Римской
эпохи. Плутарх рассказал о том, как Архимед помогал
царю Сиракуз (греческая колония на Сицилии, где Архи-
мед прожил всю свою жизнь) выдерживать осаду и ока-
зывать сопротивление римскому флоту, блокировавшему
греческие колонии Сицилии. Архимед проявил талант
инженера и создал немало устройств, успешно отбивав-
ших атаки с моря. Поэтому Архимед мог считаться среди
сонма античных мудрецов образцом ученого-практика,
инженера; и рецепция Архимедовых математических по-
строений в механике стала отличительной чертой севе-
роитальянских инженеров второй половины XVI в.
Коммандино, решивший издать в латинском перево-
де все сохранившиеся математические труды Архимеда,
исправив ошибки в средневековых латинских перево-
дах и пояснив все непонятное с помощью простого об-
ращения к греческому тексту, стал зачинателем «архи-
медовского возрождения», эпицентром которого стал
г. Урбино. Примеру Коммандино последовали два замеча-
тельных ученых, аристократ Гвидобальдо даль Монте и
Бернардино Бальди. Бальди написал историю математи-
ки, в которой, среди прочего, реконструировал историю
механики, сделав Архимеда центральной фигурой. Таким
образом, Бальди решил создать традицию, в которую мо-
гут вписаться и современные итальянские механики. Гви-
добальдо даль Монте оказался более крупной фигурой в
истории науки — этот очень одаренный интеллектуально
человек был первым покровителем Галилея. Именно под
его влиянием Галилей воспринял идеал философа-инже-
нера, который с такой отчетливостью проступает в его
Глава II. Гуманизм и античная мудрость 87
Рис. 10. Направление векторов тяжести (потенциально
бесконечных) на противоположных чашах весов: эти лучи не могут
быть параллельными, но непременно пересекутся
ранних трудах 90-х гг. XVI в. Галилей смог усомниться в
авторитете Аристотеля как физика в вопросах о движе-
нии тел благодаря знакомству с математическими доказа-
тельствами движения, предложенными Архимедом. Ина-
че говоря, чтобы подорвать авторитет испорченного
схоластами Аристотеля, практические математики долж-
ны были превознести Архимеда как одного из самых дея-
тельных умов Античности. Тем самым они одновременно
отвергали поверье, согласно которому интеллектуальное
знание далеко отстоит от практических умений.
В ренессансном деле Архимеда мы узнаем знакомые
черты: античный автор стал моделью для многих совре-
менных авторов, но это вовсе не означало рабской при-
верженности всему, что этот автор сказал или сделал.
Гвидобальдо даль Монте критиковал некоторые утверж-
дения Аристотеля не менее страстно, чем Коперник
критиковал Птолемея, а Везалий — Галена19. На этот раз
острие критики было направлено на учение Архимеда о
равновесии. В трактате, посвященном этому вопросу, Ар-
химед утверждал, что вес на противоположных концах
простых весов тянет вниз по векторам, параллельным
друг другу (см. рис. 10). Гвидобальдо возразил, что на са-
мом деле (и Архимед наверняка должен был это знать)
тяжелые тела стремятся к центру сферической Земли,
19 Важнейший труд Гвидобальдо— его «Книга механики» (Liber
mechanicorum) (1577).
88 Питер Деар. Событие революции в науке
он же во времена Архимеда— центр всего универсума.
А значит, края весов должны устремляться вниз вовсе не
по параллельным линиям, а по тем, которые, будучи про-
должены, пересекутся в центре Земли! Открытый Архи-
медом закон рычага, сводящийся к тому, что равновесие
достигается, только если вес на двух концах рычага про-
порционален расстоянию от точки равновесия, исходил
из мнимого предположения о параллельных векторах.
Гвидобальдо усматривал в таком допущении Архимеда
нетвердость воззрений и требовал уточнять все допуска-
ющее уточнения.
Сразу следует заметить, что только что представлен-
ный вопрос не имел никакого практического смысла.
В любой реальной ситуации равновесия отклонение будет
столь незначительным, что его невозможно будет зафик-
сировать, но Гвидобальдо все равно обратил на это вни-
мание. Древнегреческая математика, образцовым пред-
ставителем которой был Евклид и одним из выдающихся
деятелей — Архимед, делала ставку (как и Аристотель во-
обще при исследовании окружающего мира) на точное и
неопровержимое доказательство, и как раз явная неточ-
ность в приведенном случае раздражала Гвидобальдо,
хотя сам Архимед ее и не заметил. Итальянские филосо-
фы-инженеры прельщались формализованной научной
механикой и потому поднимали Архимеда на щит, но они
вовсе не были антикварами, лелеющими свою находку,
но подражателями, соревнующимися со своими образца-
ми. Гвидобальдо, как сказал про него Бальди, предпринял
«восстановление механики в ее древнем блеске»20.
Как и поиск Виетом античного «искусства анализа»,
так и возрождение наследия Архимеда, предпринятое
Коммандино, Гвидобальдо и Бальди, — это один из послед-
них важнейших примеров «научного Ренессанса». Строй-
ная убежденность в превосходстве античной мудрости
20 Цит. по: Rose P.L. The Italian Renaissance of Mathematics: Studies
on Humanists and Mathematicians from Petrarch to Galileo (Geneva:
Droz, 1975). P. 230.
Глава П. Гуманизм и античная мудрость 89
в новом веке уступила место попыткам создания «новой
науки». Виет стремился сравняться с древними и даже
превзойти их, изучив правила их игры и сыграв в нее луч-
ше. Точно так же и Коперник просто хотел улучшить Пто-
лемея, обыграв его на его же поле, а Везалий разыгрывал
анатомическое учение Галена, просто улучшив поле своей
работы. Но уже в начале XVII в. ученые все чаще заявля-
ют о том, что к прошлому нет возврата: именно на пол-
ной отделенности настоящего от прошлого настаивают
и Бэкон, и Декарт. Конечно, как мы уже заметили выше,
в 1620-х гг. Декарт еще верил в существование утраченно-
го античного математического аналитического метода.
Но, разработав собственное искусство анализа, он заявил
в своем знаменитейшем труде «Геометрия» (1637), что
он изобрел нечто новое, что не было известно ни одно-
му из древних. В конце XVII в. знаменитая «война книг»
в Англии ознаменовала новую ситуацию: хотя формально
речь шла просто о сравнении литературных достоинств
древней и новой поэзии, все участники спора уже вынуж-
дены были признать, что современные науки уже не нуж-
даются в легитимации античными авторитетами.
Почему перспектива так резко переменилась — одно-
значного ответа нет: возможно, это произошло просто
в результате накопления научных достижений в ходе ре-
ставраторских предприятий XVI в., а может быть, сами
ученые поняли, что далеко не всегда Античность может
служить последним основанием экспертной оценки. Ведь
различные древние авторы говорили разное по тем же
самым проблемам, и поток печатных изданий сделал оче-
видным то, о чем раньше можно было только догадывать-
ся. Стало все труднее требовать восстановления антич-
ных правил; античные труды продолжали быть важными
источниками научной мысли, но все уже разуверились
в том, что Античность была золотым веком науки.
Глава III
УЧЕНОСТЬ И РЕМЕСЛО:
ПАРАЦЕЛЬС, ГИЛЬБЕРТ, БЭКОН
1. Тайна как предмет ремесла
Восстановление античной культуры стало областью
самых оживленных дискуссий XVI в. о знании природы.
И в то время как получившие университетское образо-
вание люди все чаще отстаивали новообретенные гума-
нистические убеждения, раздавались и другие голоса,
направленные против господства схоластики в образо-
вании. В частности, суровому моральному порицанию
иногда подвергалось превознесение Аристотелем созер-
цательной жизни в сравнении с деятельной. В греческом
языке теоретическое знание обозначалось словом «эпи-
стеме», тогда как практическое знание было «техне»,
и в латинском этому соответствуют понятия «scientia» и
«ars», знакомые всем нам из новых европейских языков.
Школа, которая учила только теоретическому знанию и
пренебрегала практикой, подвергалась критике за тен-
денциозность — отмечалось, что такая постановка обу-
чения наносит вред особенно развитию медицины, где
практические выводы совершенно необходимы для пра-
вильного выполнения профессиональных обязанностей.
Одним из самых жестких критиков схоластики с точ-
ки зрения практики в первой половине XVI в. стал Пара-
цельс. Настоящее имя этого немецкого врача и мистиче-
ского философа — Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон
Глава III. Ученость и ремесло: Парацельс, Гильберт, Бэкон 91
Гогенгейм, а его выразительный псевдоним, вероятнее
всего, говорит о желании следовать не античным теоре-
тикам, а античным практикам медицины, прежде всего
знаменитому римскому врачу I в. н.э. Цельсу. Парацельс
провел большую часть жизни в путешествии по немецким
землям Центральной Европы, подолгу он жил в Швейца-
рии, и везде он пропагандировал свои космологические
учения и выводимые из них положения медицины.
Центральным пунктом учения Парацельса было то,
что подлинное знание естественного мира, на котором и
должно основываться всякое лечение, может быть при-
обретено только через глубинное погружение в свой-
ства вещей. В этом он выступает продолжателем много-
вековой, хотя и далеко не общепризнанной, традиции,
которую в XIII в. отстаивал британский францисканец
Роджер Бэкон, утверждавший существование «экспери-
ментального знания» (scientia experimentalis). Главным в
этом «знании» было, как бы мы сказали, романтическое
стремление установить соответствие между познающим
и познаваемым; и в случае Парацельса эта связь была
духовной и алхимической. Важность Парацельса в исто-
рии фармакологии происходит из того, что он и его по-
следователи обосновали употребление неорганических
химических веществ (минералов) для лечения болез-
ней. Парацельс защищал введение в оборот этих новых
лекарств, обличая неэффективность в этом отношении
стандартного университетского подхода, восходящего к
Галену; в отличие от Везалия он вовсе не собирался воз-
вращаться к подлинной древней медицине, замутненной
позднейшими интерпретациями, а, напротив, настаивал
на совершенной новизне всего, что он делал в области
фармакологии. Он говорил, что теперь появились но-
вые и весьма тяжелые заболевания, которых древность
не знала, — одним из самых наглядных примеров было
распространение в Европе XVI в. сифилиса, как тогда по-
дозревали, завезенного из недавно открытой Америки.
А если появились новые болезни, то должны быть соз-
даны и новые лекарства. Парацельс откровенно заявил
92 Питер Деар. Событие революции в науке
о своем разрыве с прошлым: появился новый фронт бо-
лезней, и ему должен противостоять новый и прежде
невиданный фронт медицины.
На медицинских факультетах университетов, с само-
го их основания в XIII в., преподавание было построе-
но на изучении трудов Галена и арабских философов
Авиценны и Разеса1. Арабские последователи античной
медицины в целом воспроизводили теоретический под-
ход Галена, и поэтому вся эта медицинская традиция на
средневековом Западе справедливо именовалась «Гале-
новой». Главный терапевтический принцип— это был
баланс четырех «соков», составляющих человеческое
тело: крови, флегмы, желчи и черной желчи (последняя
не имеет прямого соответствия в современных физио-
логических классификациях). Преобладание одного из
этих соков определяло человеческий характер: в ком
было больше крови, был сангвиником, флегмы — флег-
матиком, черной желчи — меланхоликом и желчи — хо-
лериком. Но если какого-то сока становилось мало, это
приводило к патологическому состоянию — болезни,
которую и должен был вылечить физиолог, прежде все-
го обследовав человека и выяснив, недостатком или из-
бытком какого из соков вызваны болезненные симпто-
мы. Скажем, крови полагалось быть горячей, и поэтому
лихорадку объясняли избытком крови в сравнении с
остальными соками, и нужно было произвести кровопу-
скание и дать жидкости, которые поддержат долю в ор-
ганизме других соков2.
Парацельс указывал на неосновательность этих идей
и предпочитал говорить о «симпатиях» между различ-
ными разделами природы — скажем, об алхимической
1 Это латинизированные варианты имен араба Ибн-Сины и перса
Ар-ази, под которыми они и были известны в европейских универси-
тетах.
2 Кровь считалась горячей и влажной, флегма — холодной и влаж-
ной, черная желчь— холодной и сухой, а желчь— горячей и сухой.
С этими парными качествами ассоциировались и четыре элемента
в учении Аристотеля.
Глава III. Ученость и ремесло: Парацельс, Гильберт, Бэкон 93
корреляции отдельных планет и отдельных минералов.
Эти корреляции, по его утверждению, и осуществляют-
ся в человеческом теле. Если знать, какие тайные «сим-
патии» существуют между отдельными частями тела и
«силами» вещей в мире, например отдельными травами
или металлами, можно без особого труда вылечить раз-
личные болезни. В качестве теоретического обоснова-
ния такого подхода Парацельс выдвинул восходящую к
Античности аналогию между человеком как микрокос-
мом и окружающим миром как макрокосмом. Человече-
ское тело считалось малым зеркалом всего универсума,
в котором можно найти соответствия, в уменьшенном
виде, любым явлениям внешнего мира. Каждый уровень
небес в геоцентрическом универсуме Парацельса (его
небеса включали Солнце, Луну и пять планет) имел со-
ответствие в человеческом теле. Парацельс говорил о
«светилах» — так он называл силы природы в их образ-
цовом виде на небесах (где каждая сила привязана к сво-
ей планете или своему созвездию), при этом имеющие
соответствие в человеческом теле. Поэтому «рана ниже
пояса, полученная в новолуние, злокачественнее, чем
рана, полученная в полнолуние», а «раны, полученные
под созвездиями Близнецов, Девы и Козерога, самые
злокачественные»3. Такое широкое использование астро-
логических представлений и категорий соединялось у
Парацельса с неприятием астрологии как таковой: он
говорил, что астрология пытается усмотреть причинно-
следственную связь между небесами и Землей, показав
влияние небесных явлений на земные дела, тогда как его
«астрософия» добросовестно устанавливает корреляты
между различными сферами природы: небесными и зем-
ными. «Светила» могли явить себя не только на небесах
и в человеке, но и в живой и неживой природе (в расте-
ниях, в минералах) — и именно это делало возможным
3 Цит. по: Pagel W. Paracelsus: An Introduction to Philosophical
Medicine in the Era of the Renaissance (2nd ed. Basel & New York: Karger,
1982). P 71.
94 Питер Деар. Событие революции в науке
лечение с помощью лекарств. Изобретенные алхимика-
ми ассоциации между небесными телами и металлами,
скажем медью и Венерой, железом и Марсом, облегчали
вскрытие этих взаимосвязей.
Но точно так же, как Парацельс заимствовал астроло-
гический язык, изменив самую его суть, так же точно он
в корне изменил понимание алхимии. Алхимия пришла
на латинский Запад из арабских книг. Алхимики учили о
сочетании четырех элементов, о которых говорили еще
ранние греческие философы (и Аристотель здесь насле-
довал готовой традиции): земля, воздух, огонь и вода.
Парацельс, несмотря на всю критику современного ему
схоластического аристотелизма, не отрицал существо-
вания этих элементов, но он понимал их весьма необыч-
ным образом. Он предпочитал говорить о первоосновах
алхимических сочетаний, о «трех первых "веществах"»:
соли, сере и ртути, которые он называет «началами»,
а не «элементами». Главный смысл этих «начал» — опре-
делять собственные свойства возникающих их тел, то
есть они несут в себе основную характеристику конкрет-
ной субстанции. Воспламеняющееся тело, например,
должно тогда считаться «серным»: пламя, выделяюще-
еся во время горения, показывает действительный со-
став этого вещества. Четыре элемента Аристотеля для
Парацельса — это вовсе не элементы как первоначала,
но, напротив, материальная скорлупа, которая скрыва-
ет под собой истинную и действительную духовную сущ-
ность тела.
Учение Парацельса и его многочисленных последо-
вателей, хотя и невнятно во многих частностях, в основ-
ных принципах вполне прозрачно. Парацельс отвергал
официально признанную университетскую науку (хотя
неизбежно и невольно он заимствовал некоторые ее по-
строения) и настаивал на непосредственном исследова-
нии природы как на единственном пути знания: знание
природы должно было стать, по его мнению, одновремен-
но практическим и функциональным. Распространение
смертельных болезней отметило жизнь Европы раннего
Глава III. Ученость и ремесло: Парацельс, Гильберт, Бэкон 95
Нового времени, и медицина стала лучшим примером
утилитарного знания. Согласно Парацельсу, природу
могут познать не университетские ученые, а только про-
стые люди, непосредственно соприкасающиеся с есте-
ственным миром. Труды Парацельса вышли по большей
части после его смерти в 1541 г., они были написаны на
немецком, а не на латыни — Парацельс сознательно пре-
небрегал языком общеевропейской учености. Другое
дело, что латинские переводы не заставили себя долго
ждать. Позднейшие последователи Парацельса, такие
как Освальд Кролль в конце XVI в. и Иоанн-Баттиста ван
Хельмонт в XVII в., действовали в основном в германских
землях, но сторонники Парацельса существовали едва ли
не во всех странах Европы. Усилия Парацельса были под-
держаны теми, кто внял призыву основывать медицину
на практическом знании природы и при этом разделял
магико-алхимический подход к природе, согласно кото-
рому физиолог — это своеобычный маг, удерживающий
в своих руках «симпатии» и «соответствия», связующие
мир в единое целое4.
2. Ремесленное знание и его глашатаи
Учение Парацельса в XVI в. показало, что внимание
к отдельным природным явлениям растет, но при этом
в практическом направлении: понимание процессов
сопровождается попыткой их сконструировать по той
простой причине, что знание начинает отождествлять-
ся с управлением. Другое дело, что те образованные
люди, которые начали высказывать подобные мысли,
оказались в весьма странной социальной позиции. Как
и Парацельс, они настаивали на том, что практические
ремесленные умения должны пользоваться большим
престижем, чем традиционное образование, но ремес-
ленники явно стояли на социальной лестнице невысоко
4 См. выше, гл. I, раздел 4.
Рис. 11. Металлическое производство с использованием
водяной мельницы в XVI в. Из книги Агриколы
«О металлическом деле»
Глава III. Ученость и ремесло: Парацельс, Гильберт, Бэкон 97
и особым престижем не пользовались. Поэтому, чтобы
слушатели вняли их призывам, им нужно было доказать
историческое значение ремесленников для жизни все-
го общества. В предыдущей главе мы видели один такой
пример: философы-инженеры итальянского Ренессанса,
возносящие на щит Архимеда, признанного образцовым
инженером, механиком и спасителем своего отечества.
Другие защитники ремесленного знания поставили во-
прос ребром: они говорили, что относительная «мало-
важность» каждого отдельного ремесленника вовсе не
отменяет исключительной важности активного знания,
которое способно преобразовывать окружающую ре-
альность. Итак, глашатаи практического знания могли
считать себя пророками новых ценностей и предвестни-
ками нового мира, в котором косноязычный художник
получит воспитание под надзором благородного утон-
ченного ментора.
В XVI в. было предпринято несколько попыток тако-
го рафинированного облагораживания ремесла. Прежде
всего следует упомянуть «Пиротехнику» (Pirotechnia)
Ваноччио Бирингуччо (1540)— этот трактат, написан-
ный на простонародном языке, был посвящен добыче
полезных ископаемых и выплавке металла. В 1556 г., год
смерти Бирингуччо, вышел другой трактат, посвящен-
ный тем же вопросам, «О горном деле» (De re metallica)
Георгия Агриколы (Георга Бауэра), саксонского горного
инженера. Труд Агриколы представлял собой детальное
изложение вопросов на правильной латыни, и читатели
увидели, что можно написать ученый трактат по практи-
ческим вопросам: как рыть шахту или как очищать руду
от примесей. Агрикола ориентировался на гуманистиче-
скую модель, он писал книгу, адресованную образован-
ной элите, пытаясь внушить, что горное дело не чуждо
благородным и воспитанным людям и что такие рафи-
нированные представители древнеримской культуры,
как Плиний Старший, не чуждались шахтерского дела.
Плиний не просто упомянул его в своей «Естественной
истории», ной наделил его надлежащим классическим
98 Питер Деар. Событие революции в науке
словарем5. Во второй половине XVI в. уверения в важ-
ности и ценности всех этих практических занятий ста-
ли уже общим местом, хотя и представлены были чаще в
текстах на народных языках: адресованных не самым уче-
ным людям и объяснявшим секреты ремесла, и реже —
в латинских текстах, написанных специально для образо-
ванной элиты с целью поднять социальный статус прак-
тического знания.
Что касается последнего случая, то существовала кон-
венциональная классическая категория, с помощью ко-
торой можно было представить относительно благопри-
личным практическое знание о природе. Как античные,
так и христианские моралисты писали о добродетелях
и об опасностях только созерцательной жизни или только
деятельной жизни. Созерцательной жизнью называлось
существование человека, посвященное исключительно
работе над своей душой посредством уединенных раз-
мышлений и самоанализа; тогда как деятельная жизнь
требовала социального участия, вовлеченности в граж-
данские дела. Эта категория, созерцательная жизнь/
деятельная жизнь, легко могла быть применена в раз-
мышлениях о пользе и цели знаний о природе, показав
меру понимания природы и практического употребле-
ния природных возможностей. Андрей Либавий, вид-
ный автор химических трактатов начала XVII в., писал о
гражданском значении химика, о том, что химику непре-
менно нужно участвовать в делах своей государственной
общины. Ясно, что Либавий хотел противопоставить со-
временного химика былым алхимикам, которые прята-
лись от людей и втайне вершили свое ремесло. Одна из
замечательнейших черт пространного пособия Либавия
5 См. выше, гл. II, раздел 4 (о Плинии и лютеранской педагоги-
ке). Книга Агриколы является и важным литературным памятником,
в ней рассказывается и о традиционных представлениях шахтеров,
которые предстают сказочными существами, наподобие гномов, ко-
торые, как тогда считалось, и находят себе приют в шахтах. Об этом
см.: Agricola G. De re metallica / Trans. Herbert Clark Hoover & Lou
Henry Hoover (New York: Dover, 1950). P. 217, n. 26.
Глава III. Ученость и ремесло: Парацельс, Гильберт, Бэкон 99
по химии, «Алхимии» (1597), — это подробный рассказ
о сосудах, которые употребляют химики, это своеобраз-
ная отсылка к подробным инструкциям по изготовлению
астрономических инструментов в «Альмагесте» Птоле-
мея. Так стеклодувное ремесло тоже вошло в число ува-
жаемых занятий.
Искусство кораблевождения потребовало особого
внимания в период всемирной экспансии европейской
торговли. К концу XVI в. практики навигации накопили
значительный объем знаний о том, как правильно вести
корабль на длительных дистанциях без особых потерь
времени и усилий. Эта практическая математическая
техника служила моделью «полезного знания», которое
легко можно было отнести и ко множеству вполне су-
хопутных ремесел. Знаменательной датой в изменении
отношения к практическим навыкам стало основание
в 1597 г. в Лондоне Грешам-Колледжа, который должен
был готовить мореходов и организаторов купеческого
дела, которые владеют всеми необходимыми практиче-
скими умениями из области математики. В конце XVI в.
Англия, конечно, изобиловала подобными замыслами:
многие задумывались о том, что могущество государства
напрямую зависит от уровня компетентности купцов и
всех граждан, которые участвуют в морской торговле.
Тем более что в это время появилось множество книг,
в которых излагалась система математических подсче-
тов, потребных в навигации и общей картографии, и это
только подстегивало мечту об образованном всемирном
купечестве как основе процветания Англии.
Конечно, связь этой практической математики со
спекулятивными построениями философов касательно
естественного мира была обычно случайной и необяза-
тельной, но все же она была. Томас Дигг был сыном Лео-
нарда Дигга, практика в области математики и автора
нескольких книг по практическому применению вычис-
лений. Томас пошел по стопам отца: в 1576 г. он переиз-
дал сборник работ по математике, подготовленный от-
цом, дополнив его «совершенным описанием небесных
100 Питер Деар. Событие революции в науке
В
Рис. 12. «Искусственная Земля»: рисунок Уильяма
Гильберта, изображающий поведение стрелки
компаса на магнитном глобусе
кругов», то есть отдельной научной статьей. Так знаток
календарей и навигации впервые вмешался в дискуссию
о системе Коперника, преимущественно опираясь на
первую книгу трактата великого польского астронома.
Конечно, Дигг хотел прежде всего обсудить практиче-
ские моменты построения календаря и заверил чита-
теля, что система Коперника ни в чем не препятствует
корректным календарным расчетам. Таким образом,
прикладная математика смогла сказать свое слово в дис-
куссиях о естественной философии.
Другой, более поздний пример смешения математи-
ческой практики и естественной философии — труд дру-
гого англичанина, Уильяма Гильберта. Это знаменитый
трактат «О магните», впервые опубликованный в 1600 г.
Гильберт был физиологом (одно время он входил в число
придворных медиков королевы Елизаветы), и его книга
Глава III. Ученость и ремесло: Парацельс, Гильберт, Бэкон 101
замечательна сразу в нескольких отношениях. Прежде
всего, Гильберт всегда стремился защищать выводы, по-
лученные на практике, хотя бы для этого приходилось
жертвовать фундаментальными положениями аристо-
телевского учения. Напрямую отвергая всю традицию,
он требовал изучать природу путем исследования самих
вещей, «из первых рук». Затем та часть содержания трак-
тата «О магните», которая связана с вопросами есте-
ственной философии, во многом наследует магическим
и алхимическим традициям, которые достигли такого
большого размаха в XVI в. (имеем в виду прежде всего тру-
ды Джироламо Кардано). Гильберт рассматривал Землю
не просто как гигантский магнит, но как обладательницу
великих сил, живую и самоподвижную, поэтому, даже не
утверждая напрямую движение Земли вокруг Солнца, он
признавал движение ее вокруг собственной оси. Фило-
софия Кардано, сформулированная под влиянием антич-
ного стоицизма, стала для Гильберта главным подручным
средством утверждения таких воззрений. Наконец, когда
Гильберт обосновывает свойства и особенности поведе-
ния магнитов, он ссылается на результаты собственных
экспериментов. Он говорит, сколько усилий пришлось
предпринять, чтобы установить точные свойства магни-
тов, и как много он узнал от моряков, которые всю жизнь
наблюдают поведение магнитной стрелки. Опыт моря-
ков стал бесценным источником сведений о том, как луч-
ше сделать компас, как производить замеры и как ведет
себя компас в различных ситуациях, и часть этих сведе-
ний можно было проверить экспериментами с магнитом.
Сам Гильберт признает, что его труд вряд ли бы со-
стоялся, если бы не разработка такого технического
устройства, как компас. Он выражает признательность
тем, кто «изобрели и передали в общее пользование маг-
нитные инструменты и готовые методы наблюдений,
необходимые для матросов и всех совершающих долгие
путешествия, как то Уильяму Бороу за его небольшой
труд "Записка о компасе", Уильяму Бэрлоу за его "До-
полнение" и Роберту Норману за его "Новое сочинение
102 Питер Деар. Событие революции в науке
о притяжении" — это тот самый Роберт Норман, опыт-
нейший специалист по навигации и одареннейший ма-
стер, который впервые обнаружил постоянство магнит-
ной иглы»6. Энтузиазм Гильберта вполне оправдан, он
сам признается: «Я обращался ко многим ради этой цели,
к французам, немцам и испанцам недавнего времени, го-
ворившим об этом в своих сочинениях, по большей ча-
сти написанных на народных языках. ...Труды эти ходили
по рукам, содержа весьма неточные сведения по всем на-
укам, идо сих пор они, не будучи исправлены, порожда-
ют заблуждения то здесь, то там»7. Иностранные авторы
некритически ссылаются на чужой авторитет, тогда как
английские авторы, по утверждению Гильберта, действу-
ют уже правильно: они фиксируют новые способы произ-
водства отдельных вещей или отдельных инструментов
с целью помочь мастерам в их дальнейших изысканиях.
В число своих предшественников Гильберт вклю-
чает и Парацельса. Гильберт замечает: «Люди, к несча-
стью, плохо понимают, что значит обращаться с вещами
окружающего мира, и потому современные философы,
вместо того чтобы грезить в потемках, лучше бы об-
ратились и учили правилам употребления вещей и ра-
боты с вещами. Давно пора покончить с тем знанием,
которое берется только из книг и состоит в пустых до-
водах, основанных на вероятности и <неосновательных>
предположениях»8. Но ирония в том, что Гильберт в сво-
ем трактате «О магните» постоянно цитирует воззрения
почтенных авторов, прежде всего античных, хотя при
этом часто повторяет, что все они ошибались. И сама
книга Гильберта писалась вовсе не для простоватой
аудитории, во всяком случае, она стоит в этом отношении
ближе к труду Агриколы по металлургии. Трактат Гиль-
берта написан по-латыни, и в одном месте автор даже
6 Gilbert W. De Magnete / Trans. P. Fleury Mottelay (New York: Dover,
1958). P. 14-15.
7 Ibid. P. 15.
8 Ibid. P. 47.
Глава III. Ученость и ремесло: Парацельс, Гильберт, Бэкон 103
цитирует Аристотеля в оригинале по-гречески9. В книге
приводятся геометрические чертежи, а также подроб-
нейшее описание математических инструментов и самих
экспериментов с магнитами, но, кроме того, книга при-
тязает стать частью ученой культуры. Хотя Гильберт и со-
бирает свидетельства штурманов, сам он признается, что
он не мореход и в морском деле понимает мало, и вообще
к разряду математиков-практиков его относить не следу-
ет. Напротив, заявляет он, его задача — исследовать при-
чины природных явлений и стать поэтому настоящим
философом10.
3. Фрэнсис Бэкон: философия,
практическое знание и заслуги Античности
Тяга к практическому знанию, как мы видели, в конце
XVI в. особенно рельефна была в Англии. Самым знаме-
нитым и самым влиятельным автором в этом отношении
стал Фрэнсис Бэкон, труды которого с начала XVII в.
оказывали влияние на текущие эмпирические и практи-
ческие исследования, итогом которых стало основание
в 1660-1662 гг. Лондонского королевского общества.
Фрэнсис Бэкон родился в 1561 г. в семье сэра Нико-
ласа Бэкона, видного придворного, дослужившегося до
звания хранителя большой печати (одна из ключевых
политических должностей того времени). Молодой
Фрэнсис Бэкон получил юридическое образование и
первоначально хотел в своей карьере следовать по пути
отца. Во второй половине длительного правления Елиза-
веты I делать карьеру было уже не так просто: слишком
много было соперников в лице не менее энергичных
молодых аристократов. В 1584 г. Бэкон добился места
в палате общин, а в 90-х гг. стал участвовать в работе
9 Ibid. P. 22.
10 Гильберт писал о себе и своих задачах в Предисловии к рассмо-
( liil)
р
тренному нами труду (P. xlvii-li).
104 Питер Деар. Событие революции в науке
правительства— но он убедился, что исполнительные
полномочия его очень ограниченны, а высокие должно-
сти в ближайшие годы не предвидятся.
Под гнетом обстоятельств Бэкон решил пересмотреть
свои первоначальные планы и обратиться к практически
ориентированной естественной философии, которую
можно обновить и поставить на службу государству. Как и
другие сторонники практического знания в Елизаветин-
скую эпоху, он настаивал на создании государственных
учреждений, деятельность которых полностью посвя-
щена развитию искусств и ремесел. Но Бэкон не просто
ждал, пока государство уделит особое внимание научной
практике, но начал разрабатывать теоретические идеи,
способные задать новую когнитивную структуру есте-
ственной философии, сделав ее практической и потому
продуктивной. Будучи знаком с механикой власти, Бэкон
надеялся, что его планы будут реализованы прямыми пра-
вительственными решениями. Поэтому в конце XVI в.
он лоббировал, хотя и безуспешно, все свои проекты,
включавшие устройство зверинца, ботанического сада,
научной библиотеки и химической лаборатории. Несмо-
тря на то что Бэкон нашел союзника, могущественного
графа Эссекского, Елизавета не утвердила ни один из его
планов. Когда в 1601 г. на престол взошел Иаков I, Бэкон
обратился с прошениями к нему, но король также отка-
зался их рассматривать. Именно тогда Бэкон, не теряв-
ший надежду на реформу науки, и решил написать про-
граммные трактаты, представив свои идеи доступным
для любого читателя образом.
Первым его таким трудом, вышедшим из печати, был
написанный по-английски трактат «О значении и успе-
хе знания» (1605). Уже в этой книге Бэкон высказал все
аргументы, которые воспроизводил в позднейших трак-
татах, применив те же самые риторические стратегии.
Но наиболее полное выражение его воззрений мы на-
ходим в книге «Новый органон» (1620), напечатанной с
преисполненным надежды посвящением королю Иако-
ву. Уже по заглавию мы можем догадаться о содержании.
Глава III. Ученость и ремесло: Парацельс, Гильберт, Бэкон 105
Этот труд, написанный полатыни и поэтому доступный
только образованным людям, должен был полностью за-
менить сложнейший аппарат аристотелевской логики.
Совокупность логических трудов Аристотеля традици-
онно называется словом «органон», что по-гречески оз-
начает просто «инструмент»: логика рассматривалась
как инструмент, который одинаково применим во всех
предметных областях, невзирая на их различия. Заявив о
создании нового органона, Бэкон внушал читателям, что
преподаваемая в школах аристотелевская логика мало
пригодна к производству знания в области естественной
философии. Тогда как новая логика наилучшим образом
будет отвечать заявляемым целям.
Аргументация Бэкона была радикальной: атакуя тра-
диционную естественную философию, он не просто
критиковал обычные способы ее изложения и препода-
вания, но требовал изменения самого ее концептуально-
го аппарата. Он порицал Аристотеля и других творцов
естественной философии за то, что они неправильно
выстроили эту науку: созерцательный идеал, по его мне-
нию, оказался роковым фактором. Бэкон настаивал на
том, что естественная философия в собственном смысле
этого слова должна быть направлена на улучшение судеб
всего человечества, которое он связывал с технологи-
ческими прорывами. От залатывания пробелов в схола-
стической естественной философии проку мало — нуж-
но по-новому отнестись к самому явлению философии.
Именно целостный взгляд на философское предприятие
как таковое — центральная тема первой книги «Нового
органона».
Бэкон был при этом достаточно осторожен и не
изображал себя безудержным сокрушителем всех при-
знанных древних авторитетов. Напротив, один из про-
граммных текстов Бэкона— это труд 1609г. «О мудро-
сти древних», в котором он восхвалял философские
интуиции ранних греческих философов, сейчас обычно
именуемых «досократиками», противопоставляя их
натурфилософию последующему социальному пафосу
106 Питер Деар. Событие революции в науке
Сократа, Платона и Аристотеля. Эти философы V-FV вв.
до н.э. известны в основном в цитатах у позднейших
авторов — их цитировал, с целью критики, уже Аристо-
тель: и цитаты по их краткости называют «фрагмента-
ми». Отсутствие контекстов «фрагментов» открывает
широкий простор для интерпретаций: ранним филосо-
фам приписывают самые различные идеи и интеллекту-
альные достижения, во всяком случае, материал здесь
не может сдержать широкий размах интерпретаций11.
Итак, критика Бэконом учений Платона и Аристотеля
оттенялась прямым восхищением достижениями более
древних античных авторов.
Уже в первой книге «Нового органона» Бэкон пред-
усмотрительно заявляет, что «достоинства античных
авторов никем не могут быть поставлены под сомнение,
и они все пользуются заслуженным признанием; и если
мы с чем-то спорим, то не с их умом и талантом, но толь-
ко со способом достижения знания»12. Трактат «О мудро-
сти древних» показывает, что эта фраза — не просто пред-
упреждение упреков в том, что Бэкон не воздает древним
должного и изобретает самодельную философию. Бэкон,
как и другие критики древней традиции в XVII в., посто-
янно подчеркивает различие между Аристотелем и его
позднейшими произвольными интерпретаторами. Бэкон
разрабатывал бюрократическое администрирование на-
укой: прогресс, по его мнению, осуществим не благодаря
случайному появлению необычайно одаренных людей,
но путем правильной организации коллективных уси-
лий. Поэтому, признавая великий ум Аристотеля, Бэкон
не считал его попутчиком в организации современной
науки: организовывать чужие усилия — это явно было не
в духе основателя Академии. Как писал Бэкон: «Мы бе-
рем на себя не роль судьи, но роль руководителя»13.
11 См. характерное сравнение Аристотеля и досократических фи-
лософов: Бэкон Ф. Новый органон. Кн. I, аф. 63.
12 Там же, аф. 32.
13 Там же.
Глава III. Ученость и ремесло: Парацельс, Гильберт, Бэкон 107
Конечно, Бэкон всегда настаивал на необходимости
новаторства: ведь и сам он был свидетелем новых откры-
тий. Отсюда и двусмысленность его отношения к оправ-
данию своих идей ссылками на Античность и вообще ко
всей гуманистической университетской культуре (кото-
рой он, как и любой образованный человек, был более
чем обязан). Должны ли новые идеи быть представлены
как во всех отношениях новые? В «Новом органоне» Бэ-
кон напрямую отвергает ссылки на древние авторитеты
для подкрепления своей позиции. Он замечает: «Это не
так трудно — приписать наши догадки не то древнейшим
векам до эпохи греков [вероятно, имеются в виду или
досократики, или восточные мудрецы], не то... самим
древним грекам». Но, продолжает философ, «мы все же
думаем, что решающим обстоятельством в этом вопросе
служит то, что наши открытия уже были известны древ-
ним. ...Мы не можем не учитывать, что Новый Свет —
это знаменитый остров Атлантида, известный древне-
му миру. ...Но именно поэтому нужно открывать вещи
при свете самой природы, а не угадывать их по смутным
теням, дошедшим от Атичности»14.
Вопреки такой убежденной приверженности совре-
менному опыту, а не словам древних (что прямо проти-
воположно воззрениям гуманистов), Бэкон не мог со-
вершенно отбросить риторическую технику и порядок
изложения, принятый его интеллектуальными предше-
ственниками. Такие ученые, как Коперник или Везалий,
признавались в своем недовольстве нынешним положе-
нием в науке и сразу же мечтательно ссылались на поло-
жение дел в античном мире, когда наука функционирова-
ла как надо. Таким образом, они воспроизводили общее
место риторики — рассказ о постепенном упадке цивили-
зации, который и привел к бедственному состоянию ны-
нешних дней, когда спасение знания требует уже реши-
тельных действий. Бэкон также берет на вооружение эту
риторику рассказа об упадке: но только для того, чтобы
14 Там же, аф. 122.
108 Питер Деар. Событие революции в науке
подорвать авторитет современной ему университетской
философии. Но и сам его рассказ существенно отличает-
ся от того, что говорили ученые-гуманисты. Бэкон счи-
тает, что во времена досократиков «естественная фило-
софия достигла среди греков наибольшего расцвета»,
но этот расцвет был недолгим. «Когда Сократ свел фило-
софию с небес на землю, то моральная философия значи-
тельно усилилась, и к ней обратились человеческие умы
от естественной философии»15. В другом месте Бэкон
говорит, что труды досократиков были вытеснены бо-
лее легкими для усвоения трактатами, которые тешили
вкус толпы, и что «время, подобно реке, донесло до нас
более легковесные и пустые труды, утопив все серьезное
и полновесное»16. Римляне, по Бэкону, тем более были
сосредоточены на моральной философии, связанной с
публичной гражданской деятельностью, тогда как после
победы христианства лучшие умы обратили все свои уси-
лия на решение богословских вопросов. Поэтому не сто-
ит удивляться, что естественная философия все это вре-
мя не развивалась. Она просто не находила себе нужного
применения, тогда как Бэкон уже представлял в своем
уме грандиозную реальность естественной философии,
при условии правильного ее построения и социальной
поддержки17. Ведь, говорил он, о возможностях есте-
ственной философии нужно судить по текущим достиже-
ниям тех, кто ею занимается, а вся история показывает,
что давно уже можно было распорядиться естественной
философией гораздо лучше.
Как и всякий революционер, Бэкон не принимает
в расчет аксиологические критерии, которые применя-
ют его оппоненты. Вновь повторяя, что он не посягает
на славу и почет древних, Бэкон говорит: «Ни одно сужде-
ние (и об этом надо заявить открыто!) ни о пути, по кото-
рому мы идем, ни об открытиях, на этом пути сделанных,
15 Бэкон Ф. Новый органон. Кн. I, аф. 79.
16 Там же, аф. 71.
17 Там же, аф. 79.
Глава III. Ученость и ремесло: Парацельс, Гильберт, Бэкон 109
не может основываться на предвосхищениях, ведь нельзя
выносить суждение на основании положения, которое
само нуждается в вынесении о нем суждения»18.
В отличие от Аристотеля Бэкон смотрит на есте-
ственную философию как на предприятие, которое мо-
жет оправдать только практика, применение в реальной
жизни всех описанных законов. Поэтому Бэкон говорит
о продуктивности науки не просто как о следствии пра-
вильного знания в области естественной философии,
но как о критерии истины. Согласно его знаменитому
(хотя в латинском оригинале несколько двусмысленно
звучащему) выражению, «истина и полезность— можно
сказать, то же самое», Бэкон поясняет это так: «Практи-
ка много более ценна доказательством (букв.: ручатель-
ством) истины, чем теми благами, которые она привно-
сит в человеческую жизнь»19. Это вовсе не означает, что
Бэкон смотрел на практическую деятельность только как
на окончательный способ нахождения философской ис-
тины. Так, критикуя в «Новом органоне» изыскания дру-
гих философов, он отмечает, что «эти люди не переста-
ют абстрагировать природу до тех пор, пока не дойдут до
материи, которая лишена формы и представляет собой
чистую потенцию20, и не. перестают рассекать материю,
пока не дойдут до неделимой частицы— атома. Но если
природа действительно - материя и атомы, то как философия
природы может помочь улучшению человеческих судеб»21.
Философия, согласно Бэкону, не имеет целью саму
себя. Значительная часть первой книги «Нового орга-
нона» посвящена критике притязаний заменить фило-
софскими схемами исследование вещей, считая, что
схемы заведомо превышают отдельные вещи. Но основ-
ная стратегия Бэкона — это не аналитическая критика,
18 Там же, аф. 33.
19 Там же, аф. 124.
20 О бесформенности и чистой потенциальности материи гово-
рил Аристотель.
21 Бэкон Ф. Новый органон. Кн. I, аф. 66. Курсив мой.
110 Питер Деар. Событие революции в науке
вскрывающая неэффективность или неосновательность
доводов его противников; Бэкон, напротив, останавли-
вался только на критике их целей как бессмысленных.
Он считает, что ошибка аристотеликов — это неправиль-
ное целеполагание: они выдумали и сконструировали
совершенно мнимую цель естественной философии.
Презрев практическое знание, они не смогли вырабо-
тать правильного критерия морального поступка. Бэкон
ссылается при этом на христианское понимание морали
и говорит, что аристотелевская «непродуктивная» фило-
софия и привела к оставлению его последователями обя-
занностей по отношению к ближним. Но естественная
философия тоже должна помогать людям, поэтому вся
она должна быть обращена к этой цели. «Истинная и за-
конная цель наук — снабдить человеческую жизнь новы-
ми ресурсами и новыми открытиями»22. Поэтому «пусть
каждый человек воспользуется своими правами над при-
родой, которые даны ему от Бога, и пусть делает это це-
ленаправленно: правильное соображение и проверенная
религия укажут ему, что нужно делать»23.
Права, о которых заявляет Бэкон, должны быть чем-
то подтверждены. Если доказано, что человек— власте-
лин природы, то его стремления должны направляться
теперь «правильным соображением и проверенной ре-
лигией»: целью такого знания будут правильные поступ-
ки христианина, а рассудительность отольется в форму
новой логики — нового органона.
4. Знание и государственное могущество
Фрэнсис Бэкон изобразил свой метод как «путь и
рациональную процедуру» (via et ratio) создания зна-
ния, в противоположность принятому в университет-
ском мире аристотелизму. Острие своей критики Бэкон
22 Бэкон Ф. Новый органон. Кн. I, аф. 81.
23 Там же, аф. 129.
Глава III. Ученость и ремесло: Парацельс, Гильберт, Бэкон 111
направил на силлогизм как демонстративное умозаклю-
чение24. Он осуждает логическую сторону дела: если
вывод исходит из посылок, то вывод получается всегда
частным, а большая посылка — универсальным утвержде-
нием. Рассмотрим еще раз классический силлогизм:
Большая посылка Все люди смертны
Меньшая посылка Сократ — человек
Вывод Сократ смертен
Бэкон обращает внимание на то, что мы только в том
случае можем признать большую посылку истинной, если
признаем истинность всех соответствующих ей частных
случаев. Тогда смертность Сократа — это только одно из
огромного множества частных ее подтверждений. Полу-
чается, что наше знание сообщающегося в большей по-
сылке проистекает из нашего знания об огромном коли-
честве индивидуальных случаев, скажем, случае Сократа.
Тогда аристотелевский силлогизм представляет собой
немотивированное переворачивание обычного порядка
рассуждения и насилие над действительным умением че-
ловека рассуждать. Бэкон говорит, что любое нормальное
рассуждение движется от индивидуальных случаев ко все-
общему утверждению, которое и становится всеобщим
знанием. Всеобщее утверждение оказывается итогом про-
цесса познания и поэтому никак не может стоять в начале
познания, как это получается в аристотелевском силло-
гизме. Бэкон заявляет со всей решительностью: «Как на-
уки в их нынешнем состоянии бесполезны для открытия
практических дел, так и логика в ее нынешнем состоянии
бесполезна для открытия наук»25. Тем более что «науки в
настоящее время — это не больше, чем элегантные компо-
зиции из уже открытых вещей, а не методы открытия и не
указатели направлений к получению новых результатов»26.
24 О том, что такое силлогизм, см. выше: Предисловие, раздел 2.
25 Бэкон Ф. Новый органон. Кн. I, аф. 11.
26 Там же, аф. 8.
112 Питер Деар. Событие революции в науке
Бэкон сделал ставку на определенный вид индукции.
Этим латинским словом Бэкон обозначал создание са-
мых общих истин («аксиом»), раскрывающих аспекты
природы, полностью соответствующие большим посыл-
кам старых силлогизмов. Такая индукция была полной
противоположностью силлогистической дедукции: в ре-
зультате создавались и самым надежным образом обосно-
вывались истины, много превышавшие общепринятые
на тот момент представления. Ведь «нынешняя логика
хороша для установления и вскрытия ошибок (так как все
ошибки происходят от неправильного употребления об-
щих понятий), а не для поиска истины». Таким образом,
индукция — это не просто собирание отдельных случаев,
которые потом нужно абстрактно обобщить: Бэкон пря-
мо отвергает «индукцию путем перечисления» (которая
была нормативна в классической риторике) как «ребя-
чество». Нужно не нанизывать примеры, пренебрегая
почему-то исключениями, но, напротив, учитывать все ис-
ключения и противоречия, чтобы путем отклонения всех
прочих возможностей установить единственную в своем
роде истину. В результате мы получим общее утверждение
(«аксиому»), построенное на опытном постижении част-
ностей, — и само это общее будет выше тех частностей,
из которых оно выведено. Таким образом, можно будет
открыть и новые, прежде неведомые частности27.
Обсуждая источники опыта естественного философа
и их рабочий потенциал, Бэкон отдает преимущество
знанию ремесленника. Он восхваляет недавние евро-
пейские изобретения: порох, изготовление одежды из
шелка, магнитный морской компас, печатный станок
с наборными литерами — и говорит, что эти изумитель-
ные новшества были созданы людьми неучеными, но при
этом практичными. И если можно было путем случай-
ного подбора изобрести такие замечательные вещи, то
сколько изобретений возникнет в результате планомер-
ных методических изысканий! Бэкон выступает за опыт,
Бэкон Ф. Новый органон. Кн. I, аф. 8.
Глава III. Ученость и ремесло: Парацельс, Гильберт, Бэкон 113
который в конце концов примет свою «литературную»
форму. Это слово означало, что необходимо описывать
индивидуальные факты, установленные из опыта, а по-
том употреблять эти описания при сортировке законо-
мерностей и отборе высочайших «аксиом», как уже было
сказано, методом исключения. Такие списки, «таблицы»
и правила их использования объясняются и обсуждают-
ся во второй книге «Нового органона», где приводятся
и убедительные иллюстрации.
Историк Джулиан Мартин сравнил активизаторский
подход Бэкона к естественной истории с подходом юри-
ста и чиновника, каковым Бэкон был по роду занятий. В се-
редине XVII в. Уильям Харвей (чья теория кровообраще-
ния оказала важнейшее влияние на развитие физиологии
и медицины) отчеканил известную фразу о Бэконе, что
его философия— «это философия лорд-канцлера». Это
замечание не следует понимать как принижение филосо-
фии Бэкона, как это обычно трактуют, Мартин доказал,
сколь правдивы и точны слова Харвея. Бэкон участвовал
в начале XVII в. в плане кодификации и систематизации
британского права. Эта работа требовала прежде всего
определения всех прецедентных решений, принятых су-
дьями при рассмотрении конкретных дел, только таким
образом можно было реформировать общее право, введя
его в рамки непреложного свода эксплицитно изложен-
ного права решений (statute law). Этот проект подразуме-
вал подведение всех дел под таксономические категории,
чтобы можно было выделить правовые принципы, стоя-
щие за конкретными решениями. Это бюрократическое
предприятие весьма сходно с позднейшей программой
Бэкона по реформе естественной философии— и ту и
другую реформу Бэкон считал наиболее отвечающей ин-
тересам государства, осуществляющего централизован-
ный контроль над положением дел.
Бэкон подробно расписал свое видение политической
организации производства знания в труде «Новая Атлан-
тида», написанном по-английски и вышедшем из печа-
ти в год смерти философа— 1626-м. «Новая Атлантида»
114 Питер Деар. Событие революции в науке
представляет собой мифологизированную «историю»
таинственного острова в Тихом океане, неизвестно-
го европейцам. Новый миф включает в себя не только
античные, но и библейские коннотации — так, столица
острова называется Бенсалим. Перед нами рациональ-
но организованное государство, в котором центральное
положение занимают люди, способные порождать по-
лезное знание. Такие утопические картины не были чем-
то беспрецедентным, до Бэкона было создано два опи-
сания идеальных государств, управляемых философами
посредством политики создания и передачи знания об
окружающем мире, — это «Христианополь» (1619) Иоан-
на Валентина Андреа и «Город Солнца» (1623) Томмазо
Кампанеллы. Эпицентром интеллектуализма в описан-
ном Бэконом обществе было учреждение, называемое
«Дом Соломона». Бэкон создает подробное штатное рас-
писание этого учреждения: одни сотрудники (сотрудниц
там не было) ездили по миру и собирали факты, другие
проводили эксперименты и получали новые факты, тре-
тьи выписывали из книг все факты, требующие экспери-
ментальной проверки, а выше по иерархии шли те, кто
осмыслял полученные в ходе экспериментов выводы и
утверждал планы проведения дальнейших исследований.
Во главе учреждения стояли Толкователи Природы, три
человека, которые принимали к рассмотрению уже несо-
мненные в своей достоверности факты, прошедшие все
этапы проверки, и на их основе создавали «аксиомы»,
составлявшие золотой венец индуктивной философии
Бэкона. Кроме того, штатное расписание предусматрива-
ло и сотрудников, единственной задачей которых было
делать как можно больше выводов из этих аксиом и смо-
треть, какую практическую пользу они при этом прино-
сят. Уставной задачей «Дома Соломона» было «познавать
причины и скрытые движения вещей и расширять грани-
цы человеческого опыта, чтобы включить в него по воз-
можности все отдельные вещи».
Бэкон хотел вскрыть естественные причины вещей,
чтобы объяснить их качества, и поэтому математика,
Глава III. Ученость и ремесло: Парацельс, Гильберт, Бэкон 115
имеющая дело с количествами, интересовала его мало,
тем более что математику как теоретическую дисципли-
ну превозносили схоласты-аристотелики. Бэкон говорит
о математике в «Новом органоне» исключительно как
о средстве «установить границы естественной фило-
софии, а не произвести или породить ее». Бэкону важ-
но было знать, как работают вещи, чтобы установить
контроль над ними: поэтому вещи должны были быть
материально ощутимыми, хотя и содержащими в себе
«скрытые движения». Поэтому теория материи, вкрат-
це изложенная в «Новом органоне», и определила отно-
шение Бэкона к естественной философии. Он говорит
о микроскопических частицах, их движении, симпатии
и антипатии — и сразу видно, что, хотя на словах он от-
вергал деятельность алхимиков и магов по причине за-
секреченности и пренебрежения общим благом, он мно-
гим был им обязан: прежде всего учением о симпатии и
антипатии мельчайших частиц субстанции. Идеал мага,
привлекающего на свою сторону космические силы, был
в чем-то очень близок Бэкону как натурфилософу: ведь
это было знание, которое непременно дает практиче-
ский результат. А если мы учтем и устойчивый интерес
Бэкона к ремесленному знанию, то окажется, что идеи
Бэкона в области естественной философии очень близ-
ко напоминают «естественную магию», которая состоит
в употреблении скрытых свойств естественных вещей.
Непреходящее значение трудов Бэкона связано с его
методологией, а не с его конкретными взглядами на при-
роду и на ее устройство. Когда Бэкон описывал такие не-
вероятные вещи, как «скрытые процессы» и «скрытую
структуру» различных видов материи, то ясно, что та-
кая физикализация его метода вряд ли могла быть особо
влиятельной, хотя и происходила из принятого филосо-
фом отождествления вопросов «Что это такое?» и «Как
это произвести?». Создание золота, скажем, путем вве-
дения в грубый кусок материи должных качеств золота:
желтизны, плотности, ковкости... — это процесс, кото-
рый Бэкон понимал как вполне механическую практику.
116 Питер Деар. Событие революции в науке
Именно механик, то есть ремесленник, мастер, и произ-
водил операции над грубыми кусками материи: он их ко-
вал, плавил, очищал от примесей... Бэкон видел структу-
ру материи глазами ремесленника: материя состояла из
частей, которые можно было подвергнуть переплавке,
перековке и прочим переделкам. Как мы увидим в гл. VII,
упор Бэкона на собственноручную экспертизу и экспери-
мент вместе с превознесением пользы над созерцанием и
породил тот корпускулярный механицизм, который про-
пагандировали большинство членов Королевского обще-
ства на раннем этапе его существования.
Глава IV
МАТЕМАТИКИ БРОСАЮТ ВЫЗОВ ФИЛОСОФИИ:
ГАЛИЛЕЙ, КЕПЛЕР И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ
1. Естественная философия:
можно играть только в нее?
Когда Бэкон провозгласил, что естественная фило-
софия занимается только операциями, он противопо-
ставил ее всем видам школьной естественной филосо-
фии. Реформаторский пафос Бэкона несомненен, но это
именно реформа, а не создание нового научного пред-
приятия, ни в чем не похожего на предыдущие. Получа-
ется, что Бэкон переосмыслял изучение природы, но не
ставил никаких амбициозных целей. Но, как бы там ни
было, естественная философия была не единственным
способом изучения природы, известным ученой куль-
туре. Существовали и другие области исследований,
к которым и могли обратиться люди, разочарованные
(или невпечатлившиеся) предприятиями физиологов.
Прежде всего мы должны учитывать, что аристоте-
левская физика занималась качественными, а не количе-
ственными процессами. Количества занимали аристоте-
ликов в последнюю очередь — ведь они ничего не могут
сказать о сущности вещей, они не могут составить ро-
до-видового определения вещи. Линейные измерения и
всякого рода подсчеты служили только целям описания,
тогда как задачей естественного философа считалось
объяснять, а не просто описывать.
118 Питер Деар. Событие революции в науке
В XVI в. некоторые аристотелики даже чернили со-
временную им математику, преисполняясь отвращением
к ее основаниям. Такие ученые-гуманисты, как Алессан-
дро Пикколомини, и такие видные натурфилософы, как
Бенито Перейра, выступали с критикой математики,
считая ее жалкой наукой в сравнении с физикой. Мате-
матики, как они говорили, делают выводы, но при этом
не могут найти ни одной причины таких выводов. Таким
образом, математические доказательства были отвергну-
ты исходя из аристотелевского понимания науки: ведь
Аристотель утверждал, что доказательство в науке может
строиться только вокруг нахождения причины, которая
объясняет полученный вывод. Найденная причина, ко-
торая может быть либо формальной, либо целевой, либо
действующей, либо материальной, и превращает обыч-
ный довод в научное доказательство1. Но математика
не ведает ни одного из четырех видов аристотелевских
причин и потому не может быть названа наукой. Главным
упреком математике было то, что она не может устано-
вить формальных причин, то есть не способна объяс-
нять вещи исходя из их родовой принадлежности. Ины-
ми словами, математики никогда не могут обнаружить
действительную природу изучаемых ими вещей, а всегда
остаются на уровне обсуждения поверхностных количе-
ственных свойств (или, говоря словами Аристотеля, ак-
циденций, которые не имеют никакого отношения к сущ-
ности, иначе — природе вещи).
Нетрудно догадаться, что математики того времени
не хотели мириться с такими обвинениями. Они, напро-
тив, мечтали изобразить свои занятия как науку в полном
смысле, более того, как высшую ступень знания, а быть
на заднем дворе физики им совсем не казалось привлека-
тельным. Несколько математиков в конце XVI — начале
XVII в. привели контрдоводы, пытаясь внушить привер-
женцам естественной философии, что математические
доказательства вполне имеют в виду причину и, значит,
См. гл. I, раздел 1.
Глава IV. Математики бросают вызов философии 119
законно должны быть названы научными. В основном
это были математики, принадлежавшие к католическому
ордену иезуитов.
Орден иезуитов, Общество Иисуса, основанный
в 1540 г. Игнатием Лойолой, был самым мощным ученым
орденом в католическом мире. Иезуитские колледжи от-
крывались во всех странах Европы, и с ними ничто не
могло сравниться по качеству обучения. Образование в
иезуитских колледжах строилось точно так же, как изу-
чение «искусств» в университетах; другое дело, что ре-
лигиозный подход к вещам пронизывал все изучаемые
предметы. Иезуитское образование во многом насле-
довало гуманистические педагогические идеи: упор де-
лался на изучении древних языков и литератур, а также
на штудировании по текстам Аристотеля традицион-
ных для схоластики предметов— физики, метафизики
и этики. Но также в программы, разумеется, входили и
дисциплины квадривиума— в том числе математика2.
Иезуитские математики с недоверием относились к на-
турфилософам, и некоторые из них прямо протестовали
против уничижительных характеристик их профессии,
которые содержатся даже в писаниях их собратьев по
философии, таких как Перейра. Первая массированная
защита математики была произведена ведущим иезуит-
ским математиком конца XVI в. Кристофом Клавием,
профессором математики в Колледжо Романо — ведущем
иезуитском колледже Рима. Клавий подробно опровер-
гал нападки философов на математику и отмечал педа-
гогический вред, который может быть причинен таким
воззрением на вопрос. Он жаловался (1580-е гг.), что су-
ществуют философы, объясняющие учащимся, что «ма-
тематические дисциплины — это не дисциплины, потому
что в них нет доказательств, нет понятий бытия и блага,
и т.д.»3. Клавий хотел, чтобы преподаватели математики
2 См. гл. I, раздел 2.
3 См.: Dear P. Discipline and Experience: The Mathematical Way in the
Scientific Revolution (Chicago: University of Chicago Press, 1995). P. 35.
120 Питер Деар. Событие революции в науке
пользовались тем же уважением, что и преподаватели
естественной философии и метафизики, и чтобы напад-
ки на математическое знание поскорее прекратились.
При этом вряд ли контраргументы Клавия можно счи-
тать удачными, хотя выбранная им стратегия защиты ма-
тематики потом многократно воспроизводилась другими
иезуитскими авторами. Клавий решил бить противников
их же оружием: он ссылался на то, что Аристотель считал
математику полноправной частью философии, наравне с
естественной философией, и, исходя из слов Аристоте-
ля, пытался приписать математике равный когнитивный
статус. Также сославшись на то, что Аристотель описы-
вал смешанные математические дисциплины, астроно-
мию и музыку, как науки подчиненные, Клавий провоз-
гласил, что они называются подчиненными потому, что
только обрабатывают результаты, добытые основными
и высшими науками, арифметикой и геометрией. Нако-
нец, у Аристотеля нигде не было сказано, что математика
не является наукой или неполноценна как наука.
Позднейшие иезуитские математики дополнили при-
зыв Клавия к честной игре философским опровержением
доводов своих противников. Так, ученик Клавия Джузеп-
пе Бьянкани в своем трактате, вышедшем в 1615 г., писал
о том, что никак нельзя считать, что математические до-
казательства не имеют в виду проверку причин и что ма-
тематические объекты, такие как геометрические фигу-
ры или числа, не имеют подлинного существования — не
являются «реальными вещами». Бьянкани возражает, что
когда геометрия определяет треугольник как фигуру, об-
разованную тремя пересекающимися прямыми на плоско-
сти, в результате чего и образуется три внутренних угла,
то это описание определяет вовсе не мнимые свойства,
а саму сущность треугольника как фигуры из трех углов.
Кроме того, у геометрических фигур есть материя, вну-
три которой мы и можем устанавливать причины, и этой
материей служит количество. Исходя из этого, Бьянкани
не просто опровергал философских критиков матема-
тики, но и вслед за Клавием провозглашал превосходство
Глава IV. Математики бросают вызов философии 121
математических доказательств над натурфилософскими.
Это превосходство проистекало из общепризнанной точ-
ности математических доказательств, превышающей точ-
ность всех прочих философских аргументов.
Так благодаря Клавию в среде иезуитов, а потом и во-
обще в научной среде в начале XVII в. получил распро-
странение особый вид аргументации. Математики того
времени доказывали, что их наука не просто не уступа-
ет ни в чем естественной философии, но и в некоторых
отношениях лучше обеспечивает правильное познание
природы. Одним из таких математиков, разделявшим с
иезуитами их убеждения, был итальянский друг Клавия
Галилео Галилей.
2. Галилей — математик-философ
Галилей родился в 1564 г. в Пизе, втором по значи-
мости <после Флоренции> городе Великого герцогства
Тосканского. Его отец, музыкант Винченцо Галилей, был
родом из Флоренции, столицы герцогства, как и его мать
Джулия Амманнати, это был захудалый флорентийский
аристократический род. Галилей изучал медицину в Пи-
занском университете, но не чувствовал в себе призвания
к деятельности врача: он оставил университет в 1585 г. и
стал усиленно заниматься математикой, к которой давно
тянулся. В 1589 г. он вернулся в университет и сразу занял
кафедру математики по рекомендации прославленных
тогда математиков, прежде всего Гвидобальдо даль Мон-
те. Также Галилей во время поездки в Рим в 1587 г. позна-
комился с Клавием и много общался с ним по научным
вопросам4.
Многое в биографии Галилея объясняется напори-
стостью и амбициозностью характера. Но его подход
и тем более те ценности, от которых он никогда не от-
рекался, не имеют в себе ничего идиосинкратического.
4 О Гвидобальдо см. выше, гл. И, раздел 5.
122 Питер Деар. Событие революции в науке
Галилей — человек своего времени, нормативный универ-
ситетский математик, вроде тех, которых мы бы встре-
тили и в других университетах Италии. Хотя все эти ма-
тематики, достойно делавшие свою работу, и не стяжали
Галилеевой славы, Галилей сравнялся именно с их лучши-
ми достижениями — он вошел в число высокооплачива-
емых и уважаемых естественных философов, что позво-
лило ему держаться совершенно независимо.
Первое его критическое выступление относится
к началу 1590-х гг., времени его профессорства в Пизе.
Галилей написал трактат, который не был издан. Загла-
вие трактата, «О движении», свидетельствует о желании
Галилея потягаться с физиками-аристотелианцами. Дви-
жение, в широком смысле изменения, было центральной
проблемой физики Аристотеля. Естественный философ
говорил о движении прежде всего с целью объяснить
причину этого движения, и одним из типичных объясне-
ний была ссылка на целевую причину. В частности, что-
бы объяснить свободное падение тяжелого тела, Аристо-
тель описывал его как естественное движение и говорил,
что в природе тяжелых тел, лишившись поддержки, па-
дать. Но почему они падают? Аристотель счел, что такие
тела стремятся к своему природному месту — в центре ми-
роздания. Таким образом, падение описывается как целе-
направленное перемещение: движущееся тело уходит от
начальной точки и устремляется к своей конечной цели.
Эта цель, центр Вселенной, совпадает в космосе Аристо-
теля с центром Земли: ведь Земля — это просто конгло-
мерат всех твердых тел, «свалявшихся» в естественном
месте, к которому они в свое время и устремились.
Одно из правил Аристотеля, описывающих падение,
состоит в том, что чем тело тяжелее, тем быстрее оно па-
дает. Вес для Аристотеля — выражение склонности тела к
движению: поэтому если увеличить вес, то столь же уси-
лится и стремительность тела. Аристотель воображал,
что если вес увеличить вдвое, то тело будет падать в два
раза быстрее. Галилей в трактате «О движении» доказы-
вает ложность этого утверждения Аристотеля, приводя
Глава IV. Математики бросают вызов философии 123
целый ряд убедительных доводов. Один из них прост:
что будет, если связать два независимо падающих тела
во время движения. Плотно соединенные веревкой, тела
должны образовать единое агрегатное тело, которое бу-
дет падать быстрее, чем тела по отдельности. Но, гово-
рит Галилей, мы не посмеем мыслить, что движение тел
изменит простая перемычка между ними.
Аргументация Галилея становится яснее, когда он об-
ращается к примерам из трудов античного математика
Архимеда5. В трактате о плавающих телах Архимед рас-
сматривал связь между специфической тяжестью, или
густотой, тела и той среды, в которую тело погружено.
Он выстраивал пропорцию густот, чтобы определить,
поплывет тело или потонет: если тело гуще среды, оно
тонет, а если уступает среде по плотности, остается на
плаву. Галилей выбрал тот же подход для обсуждения па-
дения тел: он рассматривает падающие тела так, как если
бы они все тонули в общей среде — эфире, и сравнивает
их скорости падения в связи с отношением их тяжести
с тяжестью воздуха.
Галилей, как известно, не задавался вопросом, по-
чему тяжелые тела падают, оставляя этот вопрос есте-
ственным философам. Его как математика интересовала
только скорость падения и пропорция густот: как и Ар-
химед, Галилей не рассматривал сущность веса, но только
возможные пропорции. Вопреки Аристотелю, он пришел к
выводу, что два тела равного веса, скажем, чугунные ядра
разного диаметра, будут падать с равной скоростью. Ско-
рость — это функция тяжести в общей среде, и, так как
оба ядра выполнены из одного материала, литого метал-
ла, они будут падать с одинаковой скоростью.
В 1591 г. Галилей оставил Пизанский университет
ради профессорства на более славной кафедре в Падуан-
ском университете, который является одним из древней-
ших. Падуя, на северо-востоке Италии, в то время вхо-
дила в состав Венецианской республики, а это означает,
См. выше, гл. II, раздел 5.
124 Питер Деар. Событие революции в науке
что пребывание Галилея на должности утверждалось
Венецианским сенатом. Галилей пробыл в Падуе почти
двадцать лет, читая лекции по математике и вступая вре-
мя от времени в споры с философами-аристотеликами.
Он обеспечил себе доход изготовлением и продажей ма-
тематических инструментов, позволяющих производить
топографические измерения, — именно в этом в то время
видели пользу математики6. В 1609 г. он основательно пе-
реработал свой труд о движении тяжелых тел, включив в
него знаменитое учение о равном ускорении всех свобод-
но падающих тел и о параболической траектории при
падении. Но этот труд был опубликован только в 1638 г.
в составе его «Диалогов» (Discorsi...)7. Его обращение
от математики к проблемам естественной философии в
споре с коллегами-аристотеликами способствовало об-
ращению к альтернативным аристотелевскому учениям,
и, в частности, к работам другого великого математика
Николая Коперника.
Интерес Галилея к разработкам Коперника впер-
вые проявился в 1597 г., когда Галилей упомянул поль-
ского ученого сразу в двух своих письмах. В первом
письме, адресованном великому астроному Иоганну
Кеплеру, Галилей благодарил за присылку труда Ко-
перника «Таинственное мироописание» (Mysterium
Cosmographicum), признавался, что он давно уже, «мно-
го лет», является почитателем Коперника8. Но только
в первое десятилетие XVII в. Галилей серьезно занялся
астрономией и стал обсуждать «космографию», особен-
но после того, как в 1609 г. он стал применять телескоп
6 См. ниже, раздел 4.
7 Работа доступна и в английском переводе: Galileo Galilei. Discourses
and Demonstrations Concerning Two New Sciences / Trans. Stillman
Drake (Madison: University of Wisconsin Press, 1974). Подробнее о науч-
ной карьере Галилея см. ниже гл. VI, раздел 2; гл. VII, раздел 1.
8 Sharratt M. Galileo: Decisive Innovator (Cambridge: Cambridge
University Press, 1994). P. 70. Цитата из Галилея приводится по изд.:
Fantoli A. Galileo: For Copernicanism and for the Church / Trans.
George V. Coyne (2nd ed. Rome: Vatican Observatory, 1996). P. 70.
Глава IV. Математики бросают вызов философии 125
для астрономических наблюдений9. Учение Коперника
было Галилею на руку: он легко мог с его помощью ата-
ковать физиков-аристотеликов. Прежде всего принятие
гелиоцентрической системы сразу же подрывало всю
картину космоса, на которой строилась физическая сис-
тема Аристотеля. Например, если Земля не находится
в центре мира, то падение тяжелых тел (как и подъем
легких тел) уже нельзя объяснять их стремлением до-
стичь конечной цели, определяемой как «центр мира»,
поскольку центр мира и центр Земли в новой системе
не совпадают10. Далее, главные аргументы в пользу ко-
перниканства были астрономические, а не космоло-
гические: это были аргументы математика, который
стремится свести видимые движения светил к какому-то
порядку, а не рассуждения физика, занятого природой
небес и объяснением их движений. Но Коперник, как
и немногие ко времени Галилея последователи его уче-
ния, прежде всего Кеплер, сразу же поняли, что из но-
вой астрономической системы можно сделать и далеко-
идущие космологические выводы11.
Итак, Галилей попытался применить астрономию
Коперника как эффективное математическое средство
опровержения аристотелевской космологии. Он пере-
махнул через привычную разграничительную линию
между физикой и математикой, заявив, что естествен-
ный философ должен принимать в расчет открытия
математика-астронома, потому что последний действи-
тельно встречается с содержанием теоретизирования
натурфилософа, — только астроном может сказать фи-
зику, какие явления требуют объяснения. В своих «Пись-
мах о солнечных пятнах» (1613) Галилей сделал упор ис-
ключительно на аргументации, касающейся того, что на
9 См. ниже, гл. VI, раздел 2.
10 Коперник попытался решить этот вопрос в первой книге трак-
тата «Об обращении...», объявив тяжесть (то есть склонность к сли-
янию) свойством любого индивидуального сферического небесного
тела, включая Землю.
11 См. выше, гл. И, раздел 4.
126 Питер Деар. Событие революции в науке
Рис. 13. Объяснение Галилеем видимого укорачивания солнечных
пятен ближе к краю: пятна расположены на солнечной поверхности
равномерно, но видим мы их под разным углом
солнечной поверхности вообще могут случаться затем-
нения. Небеса Аристотеля считались совершенными и
неизменными в самой своей сути: все, что от них требо-
валось, — это вечно вращаться по кругу; и никак не допу-
скалось в небесах ни появление нового, ни истребление
старого. Когда в 1611 г. Галилей и его товарищи разгля-
дели пятна на Солнце, они поняли, что эти признаки
никак не могут доказывать вечность и циклическое об-
ращение небесных тел. Галилей воспользовался этой
возможностью, чтобы доказать, что эти темные пятна
на поверхности Солнца появляются, меняются и исче-
зают без всякой связи и закономерности. Было очень
важно обосновать, что пятна располагаются на самой
солнечной поверхности. Иезуитский ученый Кристоф
Шейнер, главный конкурент Галилея в борьбе за при-
оритет этого открытия, поначалу думал, что эти пятна
в действительности образуются малыми телами, «луна-
ми», вращающимися вокруг Солнца неким подобием
Глава IV. Математики бросают вызов философии 127
стай, так что, хотя каждое имеет свою орбиту, их такое
бессчетное число, что расписать порядок движения каж-
дого практически невозможно. Галилей, в свою очередь,
представил тщательно выполненные и геометрически
обоснованные заметки, в которых он разумно указывал,
что пятна явно сжимаются по широте, когда они движут-
ся по поверхности Солнца от середины к краю (а когда
движутся к центру, то все больше выигрывают в своей
ширине), и, главное, объяснил этот эффект видимого
укорачивания тем, что эти пятна размещаются на самой
поверхности Солнца. Он говорит, что как раз видимые
формы, которые перед нами, говорят, что пятна не за-
слоняют Солнце, а расходятся по поверхности шара12.
Довод Галилея сводится к следующему: если установ-
лено, что поверхность Солнца заплатана темными пят-
нами, которые из ниоткуда появляются и в никуда исче-
зают, то невозможно спорить с тем, что вопреки учению
Аристотеля на небесах происходит и «возникновение»,
и «уничтожение». Галилей при этом движется от мате-
матического объяснения внешних свойств вещей (види-
мый размер, форма и направление движения) ко вполне
физическому заключению о материи небес.
Как он говорил в другом месте своих опубликованных
трудов, оспаривая некоторые воззрения близкого ему
Шейнера, истинная сущность удаленных от нас вещей,
таких как небесные тела, не может быть определена чув-
ствами, но то же самое нужно признать и о вещах, кото-
рые у нас под рукой: «Я знаю не более об истинной сущ-
ности Земли или огня, чем о сущности Луны или Солнца,
так как это знание скрыто от нас и не будет достигнуто
ранее, чем мы обретем состояние блаженства»13. По-
этому все, что остается на нашу долю пока, — это знание
свойств, доступных нашим чувствам:
12 См. дискуссию по вопросу: Shea W.R. Galileo's Intellectual Revo-
lution (London: Macmillan, 1972). P. 55-57.
13 Цит. по: Drake S. (ed.). Discoveries and Opinions of Galileo (Gar-
den City, NY: Doubleday Anchor Books, 1957). P. 124.
128 Питер Деар. Событие революции в науке
Здесь я должен прибавить, что, хотя и пустое, видимо,
дело — определять истинную сущность солнечных пятен,
из этого вовсе не следует, что мы не можем знать некото-
рые их свойства, такие как местоположение, движение,
форму, размер, тусклость, изменяемость, возникновение и
рассеивание. Как раз это знание может лечь в основу уже
наших более разумных философских рассуждений о дру-
гих, гораздо более противоречивых качествах естествен-
ных субстанций14.
Итак, человек не просто способен знать видимые
(и потому измеримые) свойства тел; это знание позво-
ляет лучше рассуждать философски. Таким образом, работа
математика может направить работу физика.
3. Возникновение и когнитивные амбиции
математических наук: Галилей и Кеплер
Галилей часто описывал себя как «философского
астронома», чтобы объяснить, какую работу он проделы-
вает, когда исследует солнечные пятна и прибегает к ми-
росистеме Коперника как необходимой. «Философский
астроном» — понятие иное, чем естественный философ,
и Галилей подчеркивает, как он далек от этой публики.
Ведя переговоры с тосканским двором в 1610 г. в связи с
возможной службой у Медичи (см. ниже, гл. VI, раздел 2),
Галилей настаивал на том, что при дворе ему следует име-
новаться «философ и математик». При дворах принцеп-
сов было принято держать математика, Тихо Браге и Ке-
плер—лучшие тому примеры, но Галилею было мало быть
просто математиком. Он хотел, чтобы его признавали в
первую очередь философом, человеком, которому есть
что сказать о природе, а не только об отношениях в мире.
Аргументы иезуитского ученого Бьянкани в пользу со-
вершенно причинностного характера математического
14 Drake. Op. cit.
Глава IV. Математики бросают вызов философии 129
доказательства клонили к тому же самому. Но в случае
Бьянкани не было реальных попыток (восхваление Кла-
вием точности математики не в счет) выставить технику
математической работы как потенциально превосходя-
щую альтернативу работе «физиков». Целью иезуитских
математиков было просто достичь паритета с коллегами-
натурфилософами, тогда как Галилей стремился реформи-
ровать уже саму естественную философию, которая у него
становится полем разработки математиков. Иначе говоря,
такое продвижение математических наук, рекламируемых
как образцовые пути изучения естественного мира, отме-
чает ширящееся движение первой половины XVII в. Это
движение легко опознается по постепенному принятию
этого опознавательного ярлыка: «физико-математик».
Смысл этого ярлыка понятен: необходимо было объ-
единить методы работы физика и математика — другое
дело, что природа такого наложения сомнительна. Вроде
бы речь шла о некотором виде математики (можно ска-
зать, в широком современном понимании этого слова),
который имеет какой-то физический смысл. Существова-
ли, как мы видели выше (гл. I, раздел 2), старые термины,
предвещавшие такое положение дел, — наиболее распро-
страненным и признанным был «смешанная математи-
ка». Откуда же произошла нужда в новом термине?
Обдумывая это, мы понимаем, сколь важной фигурой
был Галилей. Его смелость помогает нам представить,
что означало распространение «физико-математических
наук» для первых их трепетных сторонников. Полеми-
ка и пропаганда, ведшаяся Галилеем, рельефно и иногда
нагнетенно показывает те пункты обсуждения, которые
и составили сердцевину научной революции. Это были
ключевые вопросы о собственном характере естествен-
ной философии: чему она должна быть посвящена, ка-
ким образом устроена и с какими целями? В гл. III мы
рассматривали попытки таких ученых, как Фрэнсис
Бэкон, реформировать понимание того, чем долж-
на быть естественная философия. Бэкон, доказывая,
что естественная философия должна быть направлена
130 Питер Деар. Событие революции в науке
на практическую пользу, переводил ее на новые рельсы,
рассказывая, как должен быть устроен и представлен
сам запрос на знание (поэтому он и создал новые опре-
деления аристотелевских «форм»). Усилия математиков
были различными по намерениям и полю зрения, но при
этом они шли в русле такого практического понимания
знания: математикам тоже хотелось пересмотреть есте-
ственную философию так, чтобы она стала более опера-
ционистской. Они даже подошли к тому, что отвергали
естественную философию в ее прежнем виде, ратуя за
совершенно иное предприятие, просто прилагая к нему
старое имя, отнятое у отвергнутой ими дисциплины.
Случай Галилея показывает, что в действительности
такой полный разрыв не получился. Он вполне исполь-
зует, вместе со множеством современников, термин
«физико-математический», но при этом заявляет о сво-
их притязаниях на создание естественной философии.
Те свойства, которые он вместе с другими математиками
хотел приписать математическому знанию, свойства,
которые они позаимствовали у презираемых ими фи-
зиков, были взяты из мира естественной философии.
Математики не просто провозглашали преимущества
математических наук в их изолированности от физики;
соотношение двух дисциплинарных сфер означало, что
математики объявят наиболее точным и доказательным
то знание, которое другие считают низшим родом зна-
ния. В этом смысле математики напоминали ремесленни-
ков. Такая перемена системы ценностей, заявленная Бэ-
коном, означала наделение практического ремесленного
знания высоким социальным статусом. Практическое
знание прежде ассоциировалось, и в большой степени
продолжало ассоциироваться, с трудом низкого стату-
са— ручной работой. Бэкон пытался доказать высокую
ценность ремесла его важностью для государства, а так-
же религиозно-нравственными доводами, сближавшими
«пользу» и «благодать». И в конце концов он хотел, что-
бы усовершенствованное практическое знание возвыси-
лось до престижа, который прежде был доступен только
Глава IV. Математики бросают вызов философии 131
естественной философии. Его способ аргументации был
прост: он утверждал, что понятие «естественная филосо-
фия» шире, чем то, что мыслят за ним академики, и что
оно включает в себя практическое знание. Также он на-
падал и на чисто созерцательное знание, критикуя его
цели и тем самым высвобождая место для реализации
своей программы.
Точно так же и Галилей и другие математики отрица-
ли дисциплинарный барьер между естественной фило-
софией и математикой, доказывая, что математика со-
вершенно необходима для производства легитимных
физических выводов. И действительно, ярлык «физи-
ко-математиков» обозначал, что собственное эксперт-
ное суждение математиков независимо от экспертизы
естественных философов. Кукушкино яйцо «физико-ма-
тематики» должно было (во всяком случае, по версии
Галилея) выкинуть из гнезда естественной философии
большинство птенцов и утвердить математиков на том
месте, которое прежде прочно занимали физики. В слу-
чае Галилея, как и в случае Бэкона, общепринятая катего-
рия «естественной философии» была ценным ресурсом
для всех ученых, кто хотел возвысить над прочими свой
вид знания.
Другим важнейшим защитником центрального места
математики в естественной философии был астроном-
коперниканец Иоганн Кеплер. Подход Кеплера к астро-
номии был, как и у всех астрономов его времени, в самой
сути своей математическим. Но Кеплер пошел гораздо
дальше в продвижении математики, чем большинство
его коллег: для Кеплера математика, структурировавшая
астрономическую теорию, и была той самой истинной
математикой, которая и задает структуру самого универ-
сума. В своих трудах по математической астрономии Ке-
плер собирался создать «математическую физику». А это
значит, что для Кеплера мир представляется совершенно
постижимым в математических терминах: именно мате-
матика, и прежде всего геометрия, позволяет заглянуть в
замысел Бога-Творца и тем самым познать глубочайшие
132 Питер Деар. Событие революции в науке
области естественной философии. В одном из послед-
них своих трудов «Краткое изложение коперниканской
астрономии» (Epitome astronomiae Copernicanae) Ке-
плер описывает свое поле научной деятельности как
специфическую часть физики:
Итак, какова связь нашей науки [астрономии] и дру-
гих? Наша наука — часть физики, потому что она исследу-
ет причины вещей и их естественные сочетания, потому
что движение небесных тел является преимущественной
областью ее исследований и потому что одна из целей ее —
исследовать форму структуры универсума и его частей.
...Именно к этой цели [астроном] направляет всякое свое
мнение, подключая как геометрические, так и физические
аргументы, так что поистине он видит у себя перед глазами
действительную форму и действительное расположение
вещей, иначе говоря, обустройство всего универсума15.
Кеплер применил эти принципы на деле при перера-
ботке структуры коперниканской астрономии. Еще ког-
да он был студентом Тюбингенского университета, зна-
менитого учебного заведения Германии, главного центра
лютеранского богословия, он признал истину новой
коперниканской космологии под влиянием своего учи-
теля астрономии Микаэля Мэстлина. Вера в буквальный
характер истины коперниканской системы, а не просто
признание ценности трактата Коперника «Об обращени-
ях» в практических подсчетах математической астроно-
мии не так уж было распространено в это время — и пото-
му такое раннее восторженное принятие Кеплером труда
Коперника надо считать исключением. Метафизические
и богословские предпочтения Кеплера в связи с копер-
никанской астрономией нашли выражение уже в пер-
вой его публикации, «Космографическая тайна» (1596),
вышедшей тогда, когда Кеплер преподавал в школе
15 Цит. по: Jardine N. The Birth of History and Philosophy of Science:
Kepler's «A Defence of Tycho Against Ursus» with Essays on its Provenance
and Significance (Cambridge: Cambridge University Press, 1984). P. 250.
Глава IV. Математики бросают вызов философии 133
Рис. 14. Вложенные друг в друга совершенные тела,
образующие структуру универсума. Из книги Кеплера
«Mysterium Cosmographicum»
в Австрии. Главной особенностью этого труда было из-
ложение Кеплером своего открытия — связи между раз-
мерами планетарных орбит (рассчитанных по коперни-
канской системе) и пропорциональными отношениями
между «совершенными» телами, они же «платонические»
или «правильные».
Совершенные тела— это объемные фигуры, откры-
тые Евклидом, — их только пять. Эти объемные фигуры
134 Питер Деар. Событие революции в науке
состоят из одинаковых граней, которые сами представ-
ляют собой равносторонние многоугольники: равнобе-
дренные треугольники, квадраты или пятиугольники.
Эти пять тел, как доказал Евклид, — тетраэдр, куб, окта-
эдр, додекаэдр и икосаэдр: равногранные фигуры соот-
ветственно с четырьмя, шестью, восемью, двенадцатью
и двадцатью гранями. Уникальность всех этих фигур
подсказала Кеплеру, что они могут сказать что-то глубин-
ное о природе космоса и о геометрических принципах,
руководствуясь которыми Бог создал Вселенную. В сво-
ем трактате Кеплер замечает, что эти мнимые сферы
полезны как представляющие относительные размеры
различных коперниканских планетарных орбит вокруг
Солнца— дистанции соответствуют пространственным
характеристикам расстояний между сферами. Употребив
все доступные ему данные, Кеплер доказал, что размеры
орбит планет очень близко подходят к размерам между
этими вписанными друг в друга телами, с отклонением
не более 5%. В 1600 г. Кеплер встретился в Праге с Тихо
Браге, где последний ознакомил его со своими выдающи-
мися результатами в вычислении планетных движений,
и Кеплер счел, что он поможет еще больше скорректиро-
вать эти данные. Модель Кеплера, отвечавшая коперни-
канскому представлению об устройстве мира, включала
в себя шесть планет, и пространство между ними вполне
могло быть обозначено пятью трехмерными телами.
Кеплер был горд этим своим достижением: он верил,
что приблизился к настоящему глубинному пониманию
структуры Божьего творения. Роль геометрии в его до-
водах была фундаментальной: геометрия служила ему не
просто как инструмент для вычисления астрономических
расстояний и движений; она, как он считал, обладает
способностью объяснить, почему в мире все происходит
так, как оно происходит. Геометрическое соотношение
пяти совершенных тел было не просто описанием числа
планет и их расстояний от Солнца, они были сочтены ос-
мыслением этих фактов. Кеплер был убежден в фундамен-
тальном математическом устройстве универсума в том
Глава IV. Математики бросают вызов философии 135
смысле, что математическая познаваемость универсума
обеспечена совершенством тел, благодаря которым от-
дельные вещи и являются тем, что они есть. Речь идет не
столько об употреблении математических доказательств
по отношению к обычным вещам, наподобие тех доказа-
тельств, которые прилагаются к геометрическим фигу-
рам, сколько о том, что, по мысли Кеплера, идеальные
математические соотношения существовали в уме Бога,
когда Он творил различные вещи. Во многих отноше-
ниях все астрономические изыскания Кеплера были на-
правлены на постижение Божьего замысла, на то, чтобы
приблизиться к Богу через астрономические штудии.
Это и была «естественная философия» в своей наиболее
радикальной теоцентрической форме.
Главный труд Кеплера, «Новая астрономия» (1609),
представлял собой публикацию результатов по проекту,
который изначально был предпринят под научным ру-
ководством Тихо Браге. Этим проектом было создание
удовлетворительной астрономической модели движения
Марса. Марс был той единственной планетой, движение
которой казалось настолько нерегулярным, что невоз-
можно было описать его гладкой моделью, а так как ве-
ликий «обсерваторный» проект Тихо Браге был направ-
лен на создание более точных моделей движения планет,
постоянная пляска (recalcitrance) Марса стала для него
предметом особого внимания. Тихо Браге возлагал на
Кеплера большие надежды, что тот сможет разрешить
возникшие трудности в пользу созданной самим Тихо
Браге космологической системы, которая представляла
собой некий компромисс между системами Птолемея и
Коперника и впервые была представлена читающей пу-
блике в 1588 г. В этой схеме Луна и Солнце вращались во-
круг центральной неподвижной Земли, но все планеты
вращались вокруг вращающегося Солнца. В результате
соотношения движений остались те же, что и в системе
Коперника (за исключением места неподвижных звезд),
а ежегодное обращение Земли вокруг Солнца превра-
тилось в столь же ежегодное обращение Солнца вокруг
136 Питер Деар. Событие революции в науке
Рис. 15. Эллиптическая орбита планеты, по Кеплеру, и закон равных
площадей. Планета Р проделывает путь вокруг Солнца S по орбите с
центром С. Линия от планеты до Солнца за равное время покрывает
равную площадь, поэтому чем ближе планета к Солнцу, тем большую
дистанцию она проходит за тот же промежуток времени. Рисунок
взят из издания: Boas M. The Scientific Renaissance 1450-1630.
New York: Harper and Brothers, 1962
Земли. Кеплер ответил на этот вызов тем, что его модели
могли быть выражены и в птолемеевских, и в коперни-
ковских, и в тихонианских терминах — достаточно было
изменить рамки терминологических отсылок. При этом
сам Кеплер считал, что во всем прав Коперник.
После семи лет интенсивной работы Кеплер полу-
чил результаты замечательные во многих отношениях.
Прежде всего Кеплер создал модель движения Марса,
отличавшуюся на то время непревзойденной точностью.
Учитывая указания Тихо Браге, Кеплер при этом значи-
тельно его обогнал. Во-вторых, Кеплер впервые порвал
Глава IV. Математики бросают вызов философии 137
с нормой классических греческих астрономов, которой
покорно следовали и Коперник, и даже Тихо Браге, со-
стоявшей в том, что движения любого компонента астро-
номической модели должны быть однотипными и кру-
гообразными. В-третьих, Кеплер создал новые законы,
описывавшие движение планет, на основе размышлений
и о физических причинах, которые вызывают именно
такую форму движения.
Новые орбиты планет вокруг Солнца имели форму
эллипса, и Солнце было одним из двух центров каждо-
го эллипса. Кеплер знал геометрию эллипса, одного из
конических сечений, из трактата о конических сечени-
ях, написанного греческим астрономом и математиком
Аполлонием Пергским. Желание Кеплера распознать
всю математику, начертанную в мироустройстве Вселен-
ной, теперь было удовлетворено, хотя ему пришлось от-
казаться в пользу эллипса от совершенной формы круга.
Более того, его эллиптические планетные орбиты (вклю-
чая Землю) обладали таким свойством, что площадь, за-
метаемая линией, прочерченной от каждой планеты до
Солнца, оказывалась одинаковой для равных времен — за
равные промежутки времени заметалась равная площадь.
Также для Кеплера было важно, что он добился этих
результатов в непрерывном обдумывании идей о причи-
нах движений планет. Среди них была идея «движущей
силы», исходящей от Солнца и направляющей планеты
по их орбитам, а также идея некоего магнитного притя-
жения-отталкивания между Солнцем и двумя полюсами
каждой планеты — именно так ученый пытался объяс-
нить, почему орбиты не имеют круглой формы. Напря-
мую ссылаясь на Уильяма Гильберта, Кеплер говорил о
Земле как об огромном магните и объяснял, что планеты
не могут ни чрезмерно приблизиться к Солнцу, ни чрез-
мерно от него отдалиться. Небесные сферы при этом
не упоминались (от всякой мысли о них отказался уже
Тихо Браге), и планеты Кеплера двигались через про-
странство совершенно независимо от каких-либо других
вещей.
138 Питер Деар. Событие революции в науке
Воззрение Кеплера на место математики в понима-
нии физического мира было напрямую соотнесено с
чисто философским, в противоположность практиче-
скому, пониманием естественного знания — в этом смыс-
ле Кеплер опять же превзошел даже Галилея. Но сама
«смешанная» природа математических наук поощряла
даже в случае Кеплера принятие операциональных кри-
териев знания. Инструментальная функция оптики в
облегчении астрономических исследований во многом
легла в основу оправдания публикации его «Дополнений
к Витело, в которых излагается оптическая часть астро-
номии» (1604)16. В этом труде Кеплер говорит о несовер-
шенном состоянии таких наук, как астрономия и оптика,
в сравнении с идеальной доказательностью в геометрии
и утверждает, что оптические теоремы должны быть
построены так, чтобы удовлетворять нужды астронома17.
4. Знание, дело и математика
Математика исконно связывалась с практическими
запросами, такими как отмеривание участков земли или
строительство крепостей. Но такое практическое при-
менение вполне подпадает под определение «смешанная
математика» вместе с астрономией и механикой. На-
званные две науки считались исключительно важными
практически. Астрономия со времени Средневековья
ценилась в Европе как искусство навигации и как астро-
логия — последняя представляла собой практическое ис-
кусство, без которого немыслима ученая средневековая
медицина. Механика позволяла сконструировать маши-
ны (такие как ветряные или водяные мельницы), но,
что гораздо важнее, она позволяла совершенствовать
16 Витело (Vitellio), Эразм Целек (ок. 1220 - ок. 1280) - польский
ученый, автор «Оптики».
17 Kepler J. Ad Vitellionem paralipomena (Frankfurt, 1604; repr.
Bruxelles: Culture et Civilisation, 1968). P. 2v.-3r. (Посвящение).
Глава IV. Математики бросают вызов философии 139
возведенную в статус классики область «простых ма-
шин», то есть тех простейших устройств и технологий,
вроде рычагов и балок, которые облегчали работу. Прак-
тические и ремесленные ассоциации многих математи-
ческих наук невозможно упускать из внимания.
Во второй половине XVI в. математики, особенно в
Англии, стали заявлять о более значительных притяза-
ниях своей науки, выводя ее из практической плоско-
сти к более масштабным философским оправданиям,
чего и искало возросшее число математиков-книжников.
В 1570 г. вышел новый перевод на английский язык «Эле-
ментов» Евклида с предисловием Джона Ди из Мортлей-
ка. Ди не преминул восхвалить все ветви математики за
их полезность «для общей жизни и человеческой торгов-
ли», как свидетельствует практика множества различных
занятий18. Сам Джон Ди посвятил себя одному из таких
занятий— навигации, для него была важна теснейшая
взаимосвязь навигации (которая в тот период вобра-
ла в себя опыты с магнитным компасом и магнетизмом
Земли) и картографии, и он говорил о картографии как
о математической дисциплине вместе с другими много-
численными английскими авторами конца XVI — начала
XVII в., такими как Роберт Рекорд, Томас Диггес и Эд-
вард Райт. Большинство из этих математиков предпочи-
тали английский язык латыни и всячески подчеркивали,
что они практики, а не теоретики. Типичные труды это-
го жанра включали в себя предписания по топографии,
тому же измерению Земли, запрос на которое возрос во
второй половине XVI в. в связи с растущим межеванием
(отгораживанием) прежде общей земли и секуляризаци-
ей церковных земель Короной после Реформации.
Математики тем самым, несмотря на все свои ссылки
на классические ученые трактаты и на всю изощренность
формальных доказательств, создали себе практический
18 DeeJ. The Mathematical Preface to the Elements of Geometrie of
Euclide of Megara, intro. Allen G. Debus (1570; fasc. Reprint New York:
Science History Publications, 1975), с. <6> [без пагин.].
140 Питер Деар. Событие революции в науке
образ счетоводов, который мог только раздражать сто-
ронников математики как академической философской
дисциплины, создававшейся в свое время такими уче-
ными, как Клавий. С другой стороны, призыв к союзу с
практикой мог выглядеть как ответ на соответствующую
программу Бэкона и как чуткость к новым веяниям. Тот
род знания, который продвигали математики-практики,
не был всего лишь утилитарным, ведь еще Галилей пока-
зал философскую значимость практики, которая, полу-
чив математическое подкрепление, становится исключи-
тельно важной для правильного постижения природы.
Глава V
МЕХАНИЦИЗМ: ДЕКАРТ КОНСТРУИРУЕТ ВСЕЛЕННУЮ
1. Мир, соразмерный познающему
До сих пор мы говорили о различных идеях, операцио-
налистских или математических, нацеленных на выбор
«предпочтительного» знания о мире, которое всем при-
сутствующим придется считать «правильным». Но пра-
вилен ли сам мир? Может ли он гарантировать нам вер-
ность и правильность получаемого при его изучении
знания?
Фрэнсис Бэкон, как мы говорили в гл. III, не был оза-
бочен этой проблемой: отказавшись решать вопрос о де-
лимости материи, Бэкон писал, что нечего печься о том,
существуют или нет атомы как конечный предел дели-
мости материи, потому что, даже если такие минималь-
ные конституенты существуют, «человеческие судьбы от
этого никак не изменятся»1. Понимание знания Бэконом
допускало, чтобы некоторые истины о природе навсегда
остались неведомыми и, значит, не затрагивали состава
его естественной философии: он не смущался, что отсут-
ствие ответов на некоторые вопросы подрывает доверие
к тем «полезным» ответам, которые нужно дать на другие,
признанные важными вопросы. Но другие ученые мыс-
лили естественную философию более тактично и уме-
ренно, и они вовсе не были так настойчивы в использо-
вании исключительно операционалистских критериев.
1 Бэкон Ф. Новый органон. Кн. I, аф. 66.
142 Питер Деар. Событие революции в науке
Для этих исследователей не важно было, годится ли при-
рода для всех их расчетов или нет. Но если наши расчеты
окажутся неполными, не подорвет ли это доверие ко все-
му предприятию естественной философии, которое ока-
жется не только незавершенным, но и с роковыми изъ-
янами, раз мы знаем, что неизвестные причины могут
отменить эффекты известных причин?
Те, кто придерживались математического и опера-
ционалистского идеала естественно-научного знания,
могли следовать по одному из двух путей. Можно было
повести себя как Бэкон, предельно прагматично, доволь-
ствуясь эффективной работой и оставляя в стороне все
бесполезные вопросы. Но можно было и двигать вперед
науку о естественном мире, чтобы она вобрала в себя
только те предметы, которые можно обсуждать в мате-
матически-операционалистской форме, и не более того.
Самый удачливый и влиятельный философ, выбравший
этот второй подход и попытавшийся выстроить модель
мира так, чтобы она ни разу не отклонилась от матема-
тического идеала природы, был французский мыслитель
Рене Декарт.
Рене Декарт родился в 1596 г., получил образование
в престижном иезуитском колледже в Ля Флеш на севе-
ре Франции. После окончания колледжа в 1614 г. Декарт
стал готовиться на юриста в Пуатье. В 1618 г. он поступил
в армию принца Мориса де Нассо наемником. Это был
неприглядный, но довольно расхожий карьерный выбор
для всех молодых небогатых аристократов этого време-
ни, и военная служба позволила Декарту, как он позд-
нее признавался, посмотреть мир и завести знакомства
с новыми людьми2.
Одним из таких новых людей, встреченных им в Ни-
дерландах, был школьный учитель Исаак Беекман. Беек-
ман известен историкам мысли своим «Дневником», най-
денным в его доме после смерти и поразившим первых
2 Об этом писал сам Декарт в начале своего «Рассуждения о ме-
тоде».
Глава V. Механицизм: Декарт конструирует Вселенную 143
читателей множеством необычных идей. В «Дневнике»
Беекман рассказывал, как познакомился с Декартом и
сразу опознал в нем большие интеллектуальные способ-
ности. В частности, Беекман отметил интерес молодого
Декарта к механическому микроуровневому объяснению
естественных явлений. Беекман сам пытался изобрести
гипотетические вещественные параметры, которые сто-
ят за пестротой физических феноменов, но все его догад-
ки сводились к тому, что материя сложена из мельчайших
частиц — корпускул. Формы, размеры и характер движе-
ния корпускул могут объяснить все видимые вокруг нас
в большом мире явления. Например, Беекман трактовал
магнетизм таким образом, что тонкие корпускулы исхо-
дят из магнита и подталкивают частицы железа в сторону
магнита механическим воздействием. Такое корпускуляр-
ное учение, которое сам Беекман возводил к классиче-
скому пониманию атомов, вполне сочеталось и с его ак-
тивным интересом к традиционным математическим
наукам. В их число входила гидростатика и также вопрос
об ускорении свободно падающих тяжелых тел. Беекман
доказывал, что эти науки обладают привилегированным
статусом — они помогают нам объяснить физический
мир; более того, он оказался одним из первых пропа-
гандистов «физической математики»3. Его склонность к
механическим объяснениям, которые при этом происхо-
дили на уровне корпускул и потому были спекулятивны-
ми, во многом обязана тому, что он «стремился заглянуть
за образы всех чувственных вещей»4. Другими словами,
как и Фрэнсис Бэкон, он стремился к тому, чтобы все
физические объяснения были представлены в терминах
практического механического действия, отличающегося
3 См. выше, гл. IV, раздел 3.
4 Beeckman /.Journal tenu par Isaac Beeckman de 1604 8c 1634, 4 vols,
Ed. С. de Waard (Der Haag: Martinus Nijhoff, 1939-1953). P. 206. См. так-
же: Gaukroger S. Descartes: An Intellectual Biography (Oxford: Clarendon
Press, 1995). Ch. 3 (см. там очень важную пространную цитату на с. 71
из Джона Шустера о введенном Беекманом «ремесленном» критерии
постижимости вещи).
144 Питер Деар. Событие революции в науке
повышенной активностью, когда тела ударяют друг друга
и отталкиваются друг от друга — и должны быть сведены
к чувственному набору причинных свойств и отношений,
которые и можно конкретно изобразить у себя в уме.
После знакомства с Беекманом в ноябре 1618 г. Декарт
стал открытым приверженцем и энтузиастом его стиля
философствования. «Дневник» Беекмана показывает,
сколь быстро молодой философ освоил все основы и до-
стижения физической математики. Усвоение Декартом
физико-математической философии определило его
научный подход на всю жизнь, одновременно поощрив
его стремление систематизировать все получаемые зна-
ния— знания уже не природы, но «всего». Амбиции си-
стематизатора видны в его самом прославленном труде
«Рассуждение о методе» (1637) в сопровождении трех ил-
люстраций нового метода— «диоптрики», «геометрии»
и «метеорологии». В 1620-х гг. Декарт постоянно жил в
Париже, где сблизился с людьми сходных философских
интересов (если говорить совсем просто, с теми, кто
опровергал или хотя бы игнорировал Аристотеля), таки-
ми как Марен Мерсенн, Клод Мидорж и, главное, Пьер
Гассенди, хотя последний появлялся в столице не так
часто, как хотелось бы. Но в 1628 г. Декарт почувствовал
в себе тягу к отшельнической жизни и переехал жить
в Нидерланды. Он провел там много лет и выпустил и
«Рассуждение о методе», и «Опыты» в издательском доме
Эльзевиров, располагавшемся в знаменитом своим уни-
верситетом Лейдене5.
Тот самый «метод», который и прославил Декарта,
представлял собой усердное стремление основать все
идеи в различных науках на незыблемом фундаменте
достоверности. Декарт, в отличие от Беекмана, не мог
смириться с тем, что действующие причины в мире мо-
гут быть представлены только в виде догадок и гипотез;
5 Там же был впервые издан трактат Галилея о двух новых науках,
вышедший уже на следующий, 1638 г. Голландское законодательство
в делах печати было в тот период небывало либеральным.
Глава V. Механицизм: Декарт конструирует Вселенную 145
Декарт желал дать объяснения, которые не могут быть
оспорены даже при всем желании. Другими словами, он
настаивал на достоверности, в противоположность мне-
ниям математической физики, и идеи он принимал толь-
ко после того, как они оказывались истинными, — одного
правдоподобия и тем более схожести ему было недоста-
точно.
Безмерные амбиции Декарта привели его к мысли
поставить себя на место Аристотеля в качестве мастера
всей философии. Одним из проявлений такого стремле-
ния было то, что он послал в дар несколько экземпляров
«Рассуждения...» в свой родной колледж в Ля Флеш, на-
деясь убедить интеллектуально подкованных иезуитов
ввести его труды в список преподаваемых дисциплин.
Декарт показал в себе стремление заменить самых выда-
ющихся авторитетов древности, которое уже не свести
к соревнованию в духе гуманистов. В первые десятилетия
XVII в. он не был одинок в устремлении к этой цели:
по соседству Галилей вел яростную борьбу с аристоте-
лианством, аГассенди, другой французский создатель
картины мира этого периода, был не менее радикален в
своих построениях. Как и Декарт, Гассенди отвергал фи-
лософию Аристотеля, но, в отличие от Декарта, обращал
свой взгляд в сторону классической Античности, ища там
примеры философского поиска. Сохранив типичное для
гуманистов воззрение на древние философские автори-
теты, Гассенди просто заменил философию Аристотеля
на древний атомизм Эпикура, при этом попытавшись вы-
нести за скобки атеистические возможности атомизма
(сам Гассенди был католическим священником). Подход
Декарта, в котором античные авторитеты отвергались
полностью, представлял собой значительное отступле-
ние от обычных культурных норм.
Достижение совершенной философской уверенно-
сти было для Декарта не просто предметом вожделения.
Нападки на школьный аристотелизм, участившиеся в
начале XVII в., вооружили «новых» ученых большим на-
бором полемических аргументов. Самым острым боевым
146 Питер Деар. Событие революции в науке
оружием, которое к тому же было по руке каждому, ока-
зался во Франции философский скептицизм. Мы вновь
видим античные истоки тогдашней мысли: древнегрече-
ский скептицизм создал все ключевые аргументы, с такой
живостью воспринятые во второй половине XVI — на-
чале XVII в. Главным античным памятником, в котором
скептицизм нашел свое окончательное выражение, было
собрание трудов позднеантичного ученого Секста Эм-
пирика (вторая половина II в. н.э.). Его позиция, извест-
ная как пирронизм (по предполагаемому основателю
систематического скептицизма, Пиррону из Элиды),
была совершенно деструктивной. Секст Эмпирик развил
множество типичных для скептиков аргументов против
достоверности какого-либо вида знания. Его аргументы
направлены как против опытного, так и против отвле-
ченного знания.
Секст Эмпирик говорит, что опытное знание приоб-
ретается через чувство, и потому с самого начала нель-
зя считать такое знание достоверным, — мы знаем, что
чувства часто нас обманывают, и свидетельством этому
известные всем нам зрительные иллюзии. Поэтому не-
возможно быть уверенным в истине чего-либо, о чем мы
узнали посредством чувств, последние всегда нас могут
обмануть и подвести. Заметим, что позиция Секста Эм-
пирика состоит не в том, что мы, как правило, обманыва-
емся в вещах и что даже в самых обычных бытовых ситу-
ациях мы действуем «не так». Он нуждался в другом — ему
предстояло оспорить притязания догматических фило-
софов, таких как Аристотель, считавших, что они спо-
собны представить читателям наглядные доказательства
философских утверждений, не уступающие по точности
математическим.
Но также Секст Эмпирик говорит, что и знание, по-
рожденное лишь человеческим умом, включая матема-
тическую дедукцию, тоже недостоверно. В последнем
случае Секст разрабатывал аргументы против формаль-
ных дедуктивных доказательств, известных из великого
труда Евклида «Элементы». Вообразим, говорит Секст,
Глава V. Механицизм: Декарт конструирует Вселенную 147
дедуктивное доказательство в геометрии, в котором осу-
ществляется последовательность этапов рассуждения,
так что вывод без всяких изъянов исходит из начальных
предпосылок. Но ведь человеческий ум не всегда совер-
шенен, поэтому на пути к искомому доказательству он мо-
жет по ошибке принять ошибочный, случайно вторгший-
ся промежуточный этап за правильный и закономерный.
Как можно избежать такой ошибки? Необходимо про-
верять доказательство несколько раз, чтобы проверить,
как оно звучит, но возможно ли уследить за всяким случа-
ем, в котором требуется доказательство? Следовательно,
никто не может быть абсолютно убежден в правомочно-
сти своих доказательств. И вновь Секст ставит своей це-
лью показать, что философы, заявляющие о надежности
своих доводов, поступают не вполне законно, какими бы
убедительными ни казались их утверждения. Секст защи-
щает «воздержание от суждения» по любым вопросам.
Итак, Декарт претендовал на то, чтобы прийти на
смену Аристотелю как непревзойденному философу, тру-
ды которого изучаются во всех школах Европы. Скепти-
цизм пирроновского типа был одним из орудий, которое
при успешном применении ослабляло позиции аристо-
телианской философии, особенно тем, что демонстри-
ровало, что все заключения Аристотеля в большей или
меньшей степени иллюзорны. Но такой радикальный
скептицизм был только средством развить наступление,
а Декарт хотел сделать свою собственную философию
надежной. Признавая фундаментальность доводов Пир-
рона, он оказался в сложной ситуации. Существует ли
что-то, что устоит перед натиском Пиррона на данные
чувств и ума? Ведь скептицизм атакует не только част-
ные области знания, не только вопрос о том, находится
ли Земля в центре Вселенной, но ополчается на любые
догматические притязания на истину.
Декарт был, как мы помним, приверженцем одного
из видов естественной философии — физико-математи-
ческого корпускуляризма Исаака Беекмана, который,
как он был уверен, превышал все прочие виды той же
148 Питер Деар. Событие революции в науке
философии. В то же время он стремился показать явное
превосходство такой естественной философии над фи-
лософией Аристотеля, доказывая, что она укоренена в
той совершенной уверенности, которой не обладает ари-
стотелизм. Его решение, впервые изложенное в «Рассуж-
дении о методе», сводилось к убеждению читателя, что
мир создан из ничего, но такие вещи, как математиче-
ские величины, могут быть описаны, и причинные объ-
яснения всех наблюдаемых феноменов могут быть даны
через механические принципы, которые и вписываются
в такое мировидение.
На этом основании Декарт считал, что философия
природы, находящаяся в границах только операциона-
лизма, может показать себя совершенной естественной
философией, в которой сойдутся все начала и концы.
2. Если проникнуть в ум Бога
Без идеи Бога великий проект Декарта не состоялся
бы. Декарт должен был преодолеть пирронический скеп-
тицизм, чтобы обрести уверенность и в составе мира,
и в возможности говорить о нем. Как мы уже видели,
опровергнуть пирронизм было почти невозможно — до-
воды античного скепсиса были столь необоримы, что ло-
мали любые возражения еще на подступах. Декарт пошел
другим путем — он стал убеждать своего читателя в том,
что его отдельные утверждения являются истинными.
Тактика Декарта памятна многим: он призвал своего
читателя поразмышлять вместе и вместе открыть те вы-
сказывания, истинность которых непреложна. Такой до-
верительный разговор исключал чисто формальные кри-
терии рассмотрения проблем, на которые и нападали
скептики как на рискованные. Декарт не стал вступать со
скептиками в прения, но употребил их подход в качестве
первого источника его собственной речи: «Рассужде-
ние» он начал с рассмотрения вопроса, как вообще мож-
но быть уверенным в чем-либо. Он замечает, что не так
Глава V. Механицизм: Декарт конструирует Вселенную 149
трудно найти основание сомневаться в вещах, раз Пир-
рон и его античные коллеги нашли это основание еще в
седой древности. Значит, говорит он, к вопросам позна-
ния нужно подойти с другого конца. Он говорит, что, до-
пустим, мы взяли и отвергли все, что можно отвергнуть,
как будто это все ложно, но есть ли что-то несомненное,
что поставит границы самому нашему сомнению?
Декарт, руководствуясь простыми размышления-
ми, отвергает всю чувственную очевидность и, более
того, истины математики. Но что при этом останется?
Декарт говорит читателю, что он пришел к выводу, что
одну вещь нельзя поставить под сомнение, даже когда
сокрушишь все остальное. Эта вещь — собственное суще-
ствование человека: «Я мыслю, следовательно, я суще-
ствую» (je pense, donc je suis по-французски, или cogito
ergo sum в латинском труде Декарта «Размышления о
первой философии»)6. Да, эта истина последняя и несо-
мненная — но что с ней мы будем делать? Как раз здесь мы
вспоминаем о Боге. Будучи уверен, уже вместе со своим
читателем, в собственном существовании, Декарт уверен
и в собственном несовершенстве. Ведь совершенное су-
щество среди прочего не может преисполниться таким
числом сомнений. Понятие несовершенства— это пря-
мая противоположность понятию совершенства, и пер-
вое понятие подразумевает наличие второго. Но откуда
происходит, собственно, это понятие совершенства? Де-
карт заявляет, что понятие совершенства невозможно
вывести из чего-либо недостаточно совершенного, пото-
му что из ничего ничто не происходит, или, как он гово-
рит более формально в «Размышлениях», причина не мо-
жет быть меньше произведенного ею следствия7. Значит,
причиной совершенства не может быть «он сам», потому
6 О понятии «атомы [т.е. минимальные составные части] досто-
верности» см.: Grene M. Descartes (Minneapolis: University of Minnesota
Press, 1985). P. 54.
7 Это было стандартное схоластическое философское утверж-
дение, и Декарт закономерно считал, что читатели вспомнят о нем
в первую очередь.
150 Питер Деар. Событие революции в науке
что он явно меньше, чем совершенное. А из этого следу-
ет, что понятие совершенства должно происходить из
чего-то вне его, что совершенно. Так Декарт устанавли-
вает необходимость существования совершенного Бога.
Далее получается, что совершенство Бога означает,
что Он не будет нас вводить в заблуждение относительно
воспринимаемых нами «очень ясно и отчетливо» вещей
(такая уверенность в четкости нашей оптики имеет яв-
ный прототип в твердой уверенности в собственном су-
ществовании, в философии Декарта) — ведь склонность
Бога обмануть нас означала бы Его несовершенство.
Следовательно, ясно и отчетливо воспринимаемые идеи
верны. Так Декарт опроверг философский скептицизм8.
Физика, главное орудие Декарта, с трудом следовала
по пятам его метафизического аргумента. Найдя долж-
ный критерий истины идей, Декарт немедленно приме-
нил его к материи. Материя и ее свойства — это централь-
ный момент того рода доказательств, которые любил
Беекман и за ним Декарт; среди всего прочего, материя
почиталась инертной. Это означает, что никакой участок
материи не мог начать двигаться сам по себе — материя
признавалась мертвой в реальном смысле. Единственный
способ заставить материю совершать работу— это воз-
действовать на нее любым внешним движущим агентом.
Существование в теле таких чувственных качеств, как
цвет или температура, и было тем роковым вопросом,
который разделил Декарта и аристотеликов. Для по-
следних качества были реальностями, которыми облада-
ют представляющие их объекты: красное платье такого
цвета потому, что обладает качеством красноты, точно
так же, как богач богат потому, что обладает богатством,
а огонь горяч по причине большого количества тепла в
нем и т.д. Декарт отвергал такое воззрение, настаивая
на другом: все эти качества — всего лишь психологиче-
ские впечатления лица, их испытывающего. Он разъ-
яснил эту свою мысль в небольшой книге, написанной
Об этом говорится в «Рассуждении о методе» (ч. 4).
Глава V. Механицизм: Декарт конструирует Вселенную 151
по-французски четырьмя годами позже (хотя издана она
была только после его смерти)9. Во вводной главе, кото-
рая так и названа «Мир» (Le monde), он описывает все
эти явления как эффекты чисто конвенционального упо-
требления слов:
Слова, как все хорошо знают, нисколько не похожи на
те вещи, которые они обозначают, хотя они и позволяют
нам думать об этих вещах, притом что чаще всего мы не
придаем никакого внимания звуку слов или слогов. ...Поче-
му же природа не могла создать такого знака, который поз-
воляет нам ощущать свет, хотя бы даже этот знак не содер-
жал в себе ничего, что сходно с данными этого ощущения.
Разве не для того же природа создала смех и слезы, чтобы
мы могли прочитывать радость и печаль на лицах у людей10.
Как мы видим, Декарт пытается доказать, что звуки
слов возбуждают определенные движения в нашем сен-
сорном аппарате и тем самым создают в нашем уме те
идеи, которые мы научились ассоциировать с этими част-
ными движениями. Подобным образом, говорит Декарт,
наше чувство света может быть описано как результиру-
ющее некоторых движений, создаваемых в наших глазах,
которые ум ощущает сходным образом вне всякой зависи-
мости от реальной природы причиняющего их агента. За-
тем Декарт несколько отступает от этих физиологически
оформленных доводов и дает другой, более прямой при-
мер различия между нашими чувствами и стоящей за ними
реальностью. Он говорит, что чувство осязания — самое
9 Книга Le monde, ou Le traité de la lumière вышла из печати в
1664 г., через четырнадцать лет после смерти Декарта. Декарт призна-
вался в 1633 г. в письме, что он отложил печатание книги на неопреде-
ленный срок, когда услышал об осуждении в Риме Галилея за учение о
движении Земли, без которого уже не могла существовать и предлагае-
мая Декартом картина мира. С английским переводом этой книги мож-
но познакомиться в издании: Descartes К The World and Other Writings /
Trans. Stephen Gaukroger (Cambridge: Cambridge University Press, 1998).
10 Цит. по указанному в предыдущем примечании изданию (Р. 81).
152 Питер Деар. Событие революции в науке
непосредственное из всех, но даже здесь все усвоенные
нами уроки природы свидетельствуют, что чувство не обя-
зательно возвещает о реальном качестве вещей, существу-
ющем помимо нашей воли. Так, перо щекочет нас, но мож-
но ли сказать, что перо заключает в себе такое свойство,
как щекотка? Декарт выдвигает приведенные доводы о
сходстве или несходстве предмета и ощущения от него,
чтобы произвести формальное различие между разго-
вором о качестве как о том, что мы ощущаем, и качестве
как о свойстве ощущаемой нами вещи. Ведь Декарт хочет
говорить о качествах (прежде всего ему задали вопрос о
реальности света) как о том, что на самом деле — свойство
движения, или стимул к движению материальных тел.
Так как настоящей целью Декарта было подвести
серьезное философское основание под свой физико-
математический корпускуляризм, он в указанном не-
большом труде сразу переходит от «ясных и отчетливых
идей» и от Бога, обеспечивающего их истину, к природе
материи и показывает, что материя обладает теми свой-
ствами, и только теми свойствами, которые способна по-
стигать и обсуждать физика, предпочитаемая лично Де-
картом. Ощутив скорое торжество своей физики, Декарт
заявил, что только она являет собой сжатую естествен-
ную философию, в принципе способную объяснить что
угодно. Что есть материя? Это просто ясная и отчетливая
идея, которую мы имеем по поводу материального тела в
его пространственной протяженности, — подумай о теле,
и ты можешь представить его особый цвет, особую фор-
му, особую температуру или особый запах, но твоя идея
этого тела не может покончить с пониманием, что это
тело протяженно в пространстве. Получается, что это
единственная ясная и четкая идея, которую мы имеем об
этом теле, и, значит, единственное истинное суждение о
природе тела — это то, что оно обладает геометрической
протяженностью, которая только и позволяет нам ут-
верждать, что тело реально. Или, если говорить языком
Аристотеля, который сам Декарт употреблять избегал,
геометрическая протяженность есть сущность материи.
Глава V. Механицизм: Декарт конструирует Вселенную 153
В своем «Рассуждении» Декарт просто обводит кон-
тур той физики, которую он уже развивал в том тракта-
те. Полная публикация его доводов состоялась только в
1641 г. с выходом «Размышлений», где и были раскрыты
метафизические основания его позиции. В 1644 г. вышли
«Принципы философии» как расширенная и системати-
зированная версия того малого трактата «Мир». Чтобы
понять, как Декарт конструирует мир, нам нужно обра-
титься к тому описанию устройства мира, которое дано
в этих двух работах разного времени.
3. Материя в движении
Отождествив материальную субстанцию с геометри-
ческой протяженностью, Декарт заложил в свою кон-
струкцию фундаментальную нестыковку. Ведь в самом
деле, философ отождествил пространство и материю: где
есть одно, там необходимо должно быть и другое. Из это-
го проистекает, что в мире Декарта не может быть пусто-
го пространства: оно не может быть помыслимо и потому
не существует. С самого начала космология Декарта исхо-
дила из этого с далекоидущими последствиями.
В обоих уже упомянутых трудах, «Мир» и «Принципы
философии»11, Декарт рассказывает о творении и разви-
тии воображаемого мира. Существовали богословские
трудности с догматическим представлением данных по
реальному миру, тогда как со времени Декарта нужно
учитывать и постепенность возникновения данных, что-
бы мир состоялся как реальный. Декарт принимает мни-
мое предположение, что говорить о генезисе мира — это
басня, нужно рассуждать о том, как мог возникнуть тот
мир, в котором мы сейчас живем. А лучше сказать, нам
нужно признать, что реальный мир был создан Богом
11 Principia philosophiae (1644) написаны на латинском языке;
французский перевод, авторизованный Декартом: Principes de la
philosophie (1647).
154 Питер Деар. Событие революции в науке
таким, каким он известен нам12. Такая предпосылка тре-
бует говорить о свойствах материи как о выводимых из
ее фундаментального определения: Декарт начинает с не-
дифференцированной и безграничной протяженности,
с чистой пространственности, которая тождественна не-
дифференцированной материи. Конечно, мир, в котором
ничего не происходит, неинтересен, потому что в нем не
могут возникнуть никакие индивидуальные объекты. По-
этому Бог решил внести в этот континуум движение.
Начальное волнение вовлекло в себя все, что было
возможно. Так как не существует качественного различия
между одной и другой областью пространства/материи,
то Декарт доказывает, что есть только один вид различия
между отдельными участками— тот, который является
результатом передвижения одних вещей относительно
других. Более того, Декарт говорит и о типичных видах
движения, которые начали проявляться при таких об-
стоятельствах. Так как материя — то же самое, что и про-
странство, она не способна к сжатию. Даже если ты сжи-
маешь тело, как кусок материи, давя на него, и делаешь
его меньше, скажем, уменьшая в размере мяч, ты оставля-
ешь вокруг него ту залежь пространства, которая как раз
равна высвобожденному объему. Сжатое тело будет иметь
меньше материи, потому что будет занимать меньшее про-
странство, но потерянная им материя будет существовать
как «шелуха» пространства, оставшегося после сжатия.
Так как материю невозможно сжать, движение лю-
бого материального тела всегда будет требовать, чтобы
другое, прилегающее тело сбилось с пути. Такая прилега-
ющая порция материи должна будет, в свою очередь, ис-
пытывать давление другого сбившегося тела, и так далее.
Так как мы не хотим представлять бесконечную цепочку
тел, которые выстроились друг за другом, то, говорит Де-
карт, лучше представить такое преемство тел как круго-
вое, вроде движения воды в водовороте.
12 «Мир», гл. 6. Сходное утверждение содержится и в «Началах
философии» (ч. 3, п. 45).
Глава V. Механицизм: Декарт конструирует Вселенную 155
Такое вихревое движение было главным понятием
картезианской физики. Оно также сразу же непосред-
ственно и эмпирически входило в ту картину мира, ко-
торую Декарт создавал философскими средствами. Тихо
Браге отверг небесные сферы как физическую реаль-
ность и сказал, что планеты просто движутся по своим
орбитам; то же самое сделал и Кеплер. Но Тихо Браге
не считал, что замена понятия сферы понятием орбиты
требует нового физического объяснения движения планет,
тогда как Кеплер предположил особую динамику, более
нигде не встречающуюся, которая и ведет планеты во-
круг Солнца13. Декарт проявил в этом отношении больше
интуиции и постарался изменить сами физические пред-
ставления: круговращение жидкой материи вокруг Солн-
ца как центра несет в себе планеты, подобно щепкам
в водовороте.
Прежде чем перейти к деталям физических объяс-
нений Декарта, нам следует уяснить для себя когнитив-
ный статус его концепции миросистемы — какого рода
знание при этом производится? Будет ли это гипотети-
ческое знание реального мира или знание только наших
воображаемых конструкций? Будет ли это знание стоять
на таких неоспоримых основаниях, что оно непременно
будет отвечать способу действительного существования
нашего мира просто потому, что наш мир может быть
только таким и не может быть другим? Декарт отвеча-
ет на этот вопрос в соответствии со своей начальной
установкой: только физико-математические объяснения
могут считаться объяснениями в полном смысле:
Единственные начала, которые я принимаю и требую
в физике, — это начала геометрии и чистой математики:
они объясняют все естественные феномены и позволяют
нам получить по ходу рассмотрения феноменов надежные
доказательства14.
13 См. выше, гл. IV, раздел 3.
14 Начала философии. Ч. 2, п. 64.
156 Питер Деар. Событие революции в науке
Далее Декарт решает объяснить, что он имеет в виду
под «математическим» характером своих доказательств.
И вновь оказывается, что этот характер напрямую обя-
зан его пониманию материи:
Я сразу признаюсь, что не допускаю никакой материи
в телесных вещах, кроме той, которую геометры называ-
ют количеством, и берут в качестве объекта своих дока-
зательств, прилагая к ней все свои понятия разделения,
формы и движения. Более того, мое видение материи не
вмещает в себя ничего, кроме разделения, формы и движе-
ния, и, исходя из этого, я провозглашаю истинным только
то, что выводится из несомненных общих понятий15 с та-
кой убедительностью, что это можно считать математиче-
скими доказательствами. А так как все естественные явле-
ния могут быть объяснены таким способом, который мы
еще проясним в последующем, я не думаю, что в физике
можно допускать или желать каких-либо еще начал16.
Другими словами, Декарт говорит о физических ве-
щах как о «математических», описывая их только ясны-
ми и звучными математическими доказательствами и ни
разу не отсылая к тому, что геометры не могли бы вклю-
чить в свою систему доказательств. Так обстоит дело,
потому что Декарт в качестве физических явлений при-
знает только поведение математически определяемой
материи — никаких других явлений не существует.
Но на самом деле мир не сводится к совокупности
физико-математических явлений. Как мы говорили в
первом параграфе этой главы, важной предварительной
ступенью его аргументации было соотнести воспринима-
емые нами качества и качества как свойства, заложенные
в физических телах. Декарту оставалось только, чтобы
15 «Общие понятия», согласно Евклиду, — это основные и прини-
маемые всеми начальные принципы, из которых и выводятся дедук-
тивно все математические доказательства, хотя бы они и были понят-
ны интуитивно.
16 Начала философии. Ч. 2, п. 64.
Глава V. Механицизм: Декарт конструирует Вселенную 157
сделать свою картину мира убедительной, перебрать
большое число качественных характеристик вещей, из
которых по большей части и составлен наш опыт воспри-
ятия мира— цвет, вкус, запах, звук и т.д., и переместить
их из внешнего физического мира в наш человеческий
аппарат восприятия. Теперь он мог утверждать, что кор-
реляты этих качеств во внешнем мире не имеют ника-
кого сходства с соответствующим нашим опытом (разве
что сходство оказывается строго математическим, как в
случае формы или размера тела). Тем самым Декарт от-
крыл себе широкую дорогу для объяснения материально-
го опыта: скажем, различие цветов он определял как раз-
личие степеней вращения предполагаемых мельчайших
материальных шариков, которые и передают давление,
воспринимаемое нашими глазами и ощущаемое потом
нашим умом как цвет17. Таким образом, цвет существует
только в нашем уме, а на всех остальных уровнях — это
количество.
Изгоняя качества из физического мира и оставляя
только количества, Декарт стал приписывать качества
человеческому уму, который понимался им как всецело
не-физический. Он описывал всю область существова-
ния как состоящую из двух родов субстанции: один — это
материя/протяженность, которая и предстает как есте-
ственный мир, а другой— это по-латыни res cogitans,
иначе говоря, «мыслящая вещь». Последняя характери-
зуется только способностью мыслить; она дополняет фи-
зическое тело человека в качестве души. Декарт подчер-
кивал, что категорическое отличие мыслящей вещи от
протяженной материи свидетельствует о том, что душа
существует независимо от тела и, в отличие от смертного
тела, всегда пребывает бессмертной. Животные, по его
мнению, не обладают такими мыслящими душами и пото-
му должны пониматься как искусно произведенные авто-
маты, наподобие заводных игрушек. Человеческое тело
17 Этому вопросу Декарт посвятил «Диоптрику», помещенную как
одно из приложений к «Рассуждению о методе».
158 Питер Деар. Событие революции в науке
также должно пониматься как машина, хотя в нем и оби-
тает, пока оно живо, бессмертная, безграничная и нема-
териальная душа. Декарт, как и множество естественных
философов этого периода, очень интересовался меди-
циной и вопросом продления жизни и пытался детально
рассчитать, каким образом можно понять работу тела,
описав все его функции в механистических терминах.
Исходя из своих знаний в области медицины, Декарт
написал трактат «О страстях души». Вполне в духе свое-
го времени, это была одна из типовых тем медицинских
сочинений. Его книга, вышедшая в 1649 г., предварялась
пространным письмом Декарта своей высокопоставлен-
ной покровительнице, принцессе Элизабет Богемской,
в котором Декарт дает общие медицинские советы авгу-
стейшей ревнительнице новой философии18. Элизабет,
при всем восхищении умом Декарта, была жестким кри-
тиком его философии, и Декарт, продолжая философ-
скую дискуссию, одновременно давал советы принцессе,
как медицинскими средствами можно победить депрес-
сию. Такое наложение тем позволило Декарту развить
систематическое изучение соотношения между состо-
янием тела и аффектами ума. Он говорил, что «страсти
души» — это способы, каковыми душа/ум пассивно аффи-
цируется внешними телесными условиями, в противопо-
ложность активному контролю над телом усилием воли.
Декарт подчеркивал, что все эффекты страстей можно
привести к лучшему, если описать эмоции в физиоло-
гических терминах и посмотреть, как можно улучшить
общий физиологический статус. А человеческое тело,
в котором и происходят эти вещи, вполне может быть
понято в механическом ключе.
Мертвая материя, приведенная в движение изна-
чальным воздействием Бога, и исчерпывала все содер-
жание естественной философии Декарта и того мира,
18 Существует комментированное английское издание этого тру-
да: Descartes К The Passions of the Soul / Ed. and trans, by Stephen Voss
(Indianapolis: Hackett, 1989).
Глава V. Механицизм: Декарт конструирует Вселенную 159
к которому она отсылала. Но эта естественная филосо-
фия состоялась только благодаря отнесению всех про-
чих аспектов физического мира на счет не соответству-
ющих действительности впечатлений «мыслящей вещи».
4. Универсум Декарта —
убедительность через аналогии из практики
Для современников и последователей Декарта,
вплоть до XVIII в., важность и привлекательность его на-
турфилософских построений состоит не в заявленной
их укорененности в «исключительно истинных положе-
ниях», а в характере индивидуальных объяснений. Декарт
смог развить очень влиятельный подход к объяснению
любых уровней естественных явлений, который прини-
мали даже исследователи, считавшие концепцию Декар-
та скорее гипотезой, чем истиной.
Естественная философия Декарта последовательно
обращается к интуициям, которые выводятся из обще-
го опыта практического участия в жизни окружающе-
го мира. В своих физических трудах Декарт приводит
многочисленные примеры повседневного опыта, чтобы
проиллюстрировать и сделать правдоподобными те ме-
ханизмы, плоды высокого воображения, которые служат
для него объяснениями природных явлений, крайне да-
леких, на наш взгляд, от механицизма. Так, механиче-
скими в мире Декарта стали свет и цвет: в «Диоптрике»
они были сведены к давлению на среду и к степени круго-
вращения тончайших материальных шариков. В картине
мира, изложенной в начале 1630-х гг. в трактате «Мир»,
Декарт отвел центральное место зримости феноменов:
полное название его труда звучит как «Мир, или Трактат
о свете» (Le monde, ou Le traité de la lumière). Рассуждая
о природе света, Декарт обсуждает устройство самих на-
ших чувств. Декарт стремился выстроить картину мира
вокруг поведения света и полностью обосновать в этой
картине мира свое понимание материи и движения,
160 Питер Деар. Событие революции в науке
Рис. 16. Кадь с вином из «Диоптрики» Рене Декарта
а значит, ему нужно было объяснить, каким образом ма-
терия движется так, что производит свет. Он начинает
убеждать читателя, что свет можно описать, имея в виду
только вещи, которые не обладают никакими свойства-
ми свечения; а потом проводит структурную параллель
между поведением света, выявляемым в ходе таких опы-
тов, и независимым поведением материальных тел, кото-
рое только и можно концептуализировать.
Чтобы подкрепить свои воззрения примерами, Де-
карт проводит механические аналогии на протяжении
всего трактата «Мир»; но, несомненно, пример из более
поздней «Диоптрики» иллюстрирует для нас его стиль
рассуждения лучше всего. Декарт пытается уверить чита-
теля, что зрение происходит тем же образом, каким про-
исходит ощупывание мира слепцом с помощью трости, —
в обоих случаях перед нами давления, только зрячий
употребляет для этого глаз — и ум воспринимает вовсе не
некий мнимый свет, а реальное давление. Видение пред-
мета достигается благодаря тому, что объект продуциру-
ет давление вокруг себя по всем направлениям. Декарт
употребляет здесь другую аналогию, бочку, заполненную
до краев виноградными гроздьями. Тяжесть жидкости,
заполнившей промежутки между виноградинами, оказы-
вает давление на стенки бочки, и в результате можно ска-
зать, что в механическом воздействии принимает участие
весь объем жидкости. Общее воздействие всех частей
Глава V. Механицизм: Декарт конструирует Вселенную 161
жидкости на поверхности распределяется равно на все
стенки сосуда: таким образом, все частицы жидкости объ-
единяются, чтобы давить на каждый самый мелкий уча-
сток стены. Нетривиальность подхода Декарта состоит в
том, что он описывает воздействие света в том же стиле,
что и давление вина на стенки сосуда, — свет действует по
прямым линиям, исходящим из яркого тела (Солнца) по
всем направлениям — и здесь нужно говорить о тенденции
к движению, а не об актуальном движении. Эта тенденция
становится актуальной, когда передается через матери-
альный медиум, занимающий пространство между наши-
ми глазами и источником света, — точно так же, как вино
будет стекать благодаря передаче движения через само
тело вина. Но и это движение нельзя назвать в полном
смысле актуальным, потому что, как показывает тот же
пример с вином, явление будет наблюдаться нами только
тогда, когда начнется движение извне. Так, давление вина
мы можем обнаружить, если проделаем отверстие в каком-
либо месте ближе к дну бочки, — вино захлещет наружу не-
зависимо от того, где именно было проделано отверстие:
тем самым доказано, что тенденция к движению одновре-
менно воздействует на множество мест. Итак, хотя тела и
не могут одновременно актуально двигаться по множеству
направлений, они могут делать это в тенденции.
«Диоптрика» Декарта занимает особое место среди
сочинений философа: множество аналогий проводится
в этой книге несогласованно и без уточнений. Кажется,
Декарт в этой книге даже не собирался представить чи-
тателю непротиворечивое и бесспорное объяснение по-
ведения света и причин такого поведения. Но дело всего
лишь в том, что текст был адресован не широкому чита-
телю, а только специалистам — мастерам, изготовлявшим
высокоточные линзы. Декарт хотел дать руководство, ка-
ким образом можно изготовить линзы, которые не будут
давать искажений. Для этого линзы должны фокусиро-
вать весь свет, который проходит через них от какого-то
источника света, водной точке (фокусе), а не размазы-
вать его в зависимости от того, в какой из частей линзы
762 Питер Деар. Событие революции в науке
произошло преломление. Начав с общего рассуждения
о поведении света при передаче, отражении и прелом-
лении, Декарт снабжает данные характеристики самыми
различными аналогиями, которые не столько подтверж-
дают правомочность его идей, сколько подкупают своей
похожестью. Декарт объясняет читателю, рассказав ему о
вычислении угла преломления как синуса (это было пер-
вое появление в печати математического закона прелом-
ления света)19, как можно самому делать шлифовальный
аппарат для линз, который сможет закруглять поверх-
ность так, чтобы линзы не производили искажений изо-
бражения. Читатель книги Декарта — ремесленник, кото-
рому и заказывают точные линзы, а не философ, которого
интересует только, истинно или неистинно то, о чем го-
ворит Декарт20. Практические операционалистские тре-
бования этого оптического трактата оказываются превы-
ше всего, а те разделы естественной философии, которые
образуют их подложку, пропускаются мимо внимания.
Отчасти это объясняется тем, что труды, которые
последовали за «Рассуждением о методе», скорее демон-
стрировали возможности его новой философии, чем слу-
жили ее дальнейшему утверждению как теории.
Я решил, что мне больше подходит выбирать отдель-
ные предметы, которые, не будучи слишком запутанными
и не обязывая меня употреблять из моих принципов боль-
ше, чем я желал, позволят мне показать с достаточной яс-
ностью, что я могу достичь в науках, а чего не могу21.
Тем не менее Декарт употреблял физические анало-
гии по большей части в своих формальных построени-
ях, а не при иллюстрации своих научных достижений.
19 Этот закон известен как закон Снелля. Речь идет о голландце
Виллеброрде Снелле, который вывел этот закон в 1621 г., хотя и не
опубликовал результаты.
20 См. «Рассуждение о методе», в конце ч. VI.
21 Там же.
Глава V. Механицизм: Декарт конструирует Вселенную 163
В труде «Мир» (который был сразу подготовлен автором
к публикации), в «Началах философии» и других трудах
с помощью аналогий из повседневного опыта объясня-
лись и удостоверялись философские положения, а не их
практическая проекция в науке22.
Например, в трактате «Мир» Декарт, обосновывая
возможность кругового движения в мире, полностью за-
полненном не допускающей сжатия материей, предлага-
ет читателю представить
движение рыб в запруде: если они не слишком приближа-
ются к водной поверхности, они ее совершенно не возму-
щают, даже если проносятся под ней на большой скорости.
Из этого с большой ясностью следует, что, когда они тол-
кают воду перед собой, они не передают толчок всей воде
в пруду без разбора, но толкают только ту воду, которая
может наилучшим образом усовершить круг их движения,
заняв освобожденное ими место23.
В другом месте этого же трактата Декарт проводит
аналогии, близкие к «Диоптрике», когда объясняет пе-
редачу света от Солнца по всем направлениям. Декарт
представляет небо как сложенное изначально из мель-
чайших круглых частиц твердой материи, которые все
соприкасаются друг с другом, наподобие гальки в тазе.
Эти круглые частицы, которые Декарт называет «вто-
рым элементом», сообщают то давление, которое мы и
называем светом. Декарт объясняет, каким образом лучи
света расходятся по прямым линиям, несмотря на то что
массивы второго элемента вовсе не выстроены линейно.
Он употребляет пример витой палочки. Если опереть
22 Например, схема XIII «Начал философии» употребляет тот
же пример винного бочонка, что и «Диоптрика»: этот пример пока-
зывает, как сила может одновременно действовать во множестве на-
правлений. Но здесь Декарт не ограничивается аналогией: он пыта-
ется внушить читателю, что носителями света выступают физически
реальные тела.
23 О трактате «Мир» см. выше.
164 Питер Деар. Событие революции в науке
Рис. 17. Изогнутая палочка
и передача силы по прямой
из трактата «Мир» Рене
Декарта
Рис. 18. Передача действия через
шарики, моделирующие частицы
второго элемента. Из трактата
«Мир» Рене Декарта
ее о землю и надавить сверху, то рука ощутит давление,
передаваемое по прямому вектору, хотя в самой палочке
нет ни одного прямого участка. И поэтому, хотя действие
света, иначе говоря — его тенденция движения, переда-
ется через косную материю второго элемента, свет всег-
да движется по прямой линии, несмотря на всю нерегу-
лярность размещения круглых частиц.
Декарт не стеснялся точно так же обходиться и с са-
мыми фундаментальными принципами своей физики.
Считая их фундаментальными, он выводил их из его за-
ранее уже установленной метафизики, но тем не менее
он хотел убедить своего читателя иллюстрациями знако-
мых ему вещей, которые могут встроить абстрактные фи-
зические принципы в область повседневного опыта. Так,
один из основополагающих «законов природы» в его
наиболее теоретическом трактате «Начала философии»
гласит: «Всякое движение само по себе прямолинейно;
и поэтому любое тело, движущееся по кругу, всегда стре-
мится отдалиться от центра, который оно описывает в
своем круговом движении»24. Изложение этого закона
О трактате «Мир» см. выше.
Глава V. Механицизм: Декарт конструирует Вселенную 165
D
Рис. 19. Объяснение Декартом распределения сил при
круговом движении из его «Начал философии»
потребовало приложить изображение руки, размахива-
ющей перевязью с камнем. «Допустим, когда камень А
перекатывается в перевязи ЕА и описывает круг ABF,
в тот момент, когда он находится в точке А, он стремится
двигаться по касательной круга в сторону С». Так проис-
ходит потому, что мы не можем ухватить умом саму ди-
намику кругового движения, но, если мы зафиксируемся
на любой отдельной точке (точке А), мы увидим в этой
точке прямолинейное стремление к С. «Более того, как
подтверждает опыт, если камень выпадет из перевязи, он
продолжит движение не в сторону В, но в сторону С»25
(см. рис. 19).
Законы и принципы Декарта подразумевают частое и
неизбежное обращение к урокам повседневного опыта,
Декарт. Начала философии.
166 Питер Деар. Событие революции в науке
и их изложение поэтому не сводится к обоснованию и
дедуцированию из формальных определений и форма-
лизованных рассуждений. Декарт включал в свои расче-
ты законы, направляющие движение материи, и другие
законы, включающие, скажем, столкновение двух тел и
последующее их движение. Метафизический принцип,
на котором он основывал свои законы столкновения, вы-
ражался в том, что Бог сохраняет общую сумму всех дви-
жений, внесенных Им в мир. Тем не менее такой общий
принцип не оторвал Декарта от ссылок, открытых или
скрытых, на повседневные интуиции, касающиеся пове-
дения материальных тел. Итак, Декарт не основывал ис-
тину законов природы на чистом сознании, отрешенном
от всего материального, он привлекал ресурсы знаний,
извлеченных из повседневного опыта.
5. Космос Декарта
Тот космос, который Декарт изобразил в своих тру-
дах, прежде всего трактатах «Мир» и «Начала фило-
софии», представлял собой мощнейшую альтернативу
космосу Аристотеля и по всеохватности, и по целям.
Из представления о формировании мира, высказанного
в трактате «Мир», из догадки о начальном привнесении в
мир движения извне он вывел неизбежность обширного
водоворота всей материи. Затем он сразу же воспринял
гелиоцентрическую (коперниканскую) систему как одно
из завихрений в этом всеобщем вихре. Солнце — это явле-
ние, образовавшееся в центре нашей материальной сис-
темы, благодаря стечению ближе к центру вихря самых
маленьких, текучих и очень быстро движущихся частиц,
непрекращающееся столкновение которых и выталки-
вает множество частиц наружу, которые и передаются в
виде цельных мелких шариков через тяжесть материи,
и мы видим это движение шариков как свет. Материю,
из которой состоит само Солнце, Декарт назвал «первым
элементом», а мелкие шарообразные частицы, которые
Глава V. Механицизм: Декарт конструирует Вселенную 167
проходят по небу, — это «второй элемент». Но существу-
ет и «третий элемент», представленный более крупными
частицами, форма которых в отличие от формы света
произвольна, — из этих грубых и неотесанных частиц
и сложена Земля, планеты и кометы. Декарт защищает
такое сведение всех элементов мира к трем базовым ви-
дам, ссылаясь на свойства света, которые и исследуются
в трактате «Мир»: выявленные свойства оказались теми
же, что и свойства элементов в «Началах». Существует
три элемента, потому что существует три способа, кото-
рыми материя соотносится с явлениями света: тела могут
порождать свет, могут передавать свет и могут отражать
свет. Каждое из этих трех свойств материи принадлежит
какому-то из элементов26.
Все планеты, включая Землю, обращаются вокруг
Солнца, увлеченные солнечным вихрем. Существует и
бесчисленное множество других вселенских вихрей: вся-
кая звезда, которую мы видим на небе, как считает Де-
карт, — это Солнце в центре своего собственного вихря.
Идея о том, что звезды — это те же Солнца и что в пустом
(и скорее всего, бесконечном) пространстве рассеяно
множество миров, не была новой, — но она отлично со-
гласовывалась с представлением Декарта о пространстве
как о чистой протяженности. Если не говорить о клас-
сических прецедентах, то можно вспомнить о предпо-
ложениях католического кардинала Николая Кузанского
(XV в.) или, если говорить о более близком к Декарту вре-
мени, о знаменитом еретике Джордано Бруно, казнен-
ном в Риме на костре за свои неправоверные воззрения
на Святую Троицу. В самые антиклерикальные времена,
26 Мир. Гл. 5. Такой огонь также представляет собой приведен-
ный в движение первый элемент. Так как шарики второго элемента
на небесах имеют постоянную форму, близкую к шарообразной, а пу-
стого пространства не существует, то промежутки между ними тоже
должны быть заполнены материей. Такой материей Декарт считает
текучий первоэлемент, частицы которого настолько мелки, что могут
заполнить любой зазор. Но напрямую они обычно не передают свет,
потому что не приведены в движение с достаточной силой.
i:'ii//:7:':7:J/(M^
f«»*«V»*4'4»»»«»»tit>t'Mii>tîit»Vtt«'f »Л«'
Рис. 20. Небесные вихри из трактата «Мир» Рене Декарта
Глава V. Механицизм: Декарт конструирует Вселенную 169
особенно в XIX в., Бруно часто изображался, как и Га-
лилей, жертвой католического антиинтеллектуализма,
и ошибочно говорили, что его осудили за нетрадицион-
ную космологию27.
В любом случае Декарт нисколько не смущался тем,
что в его идеях о протяженности Вселенной или о при-
роде звезд могут быть заключены потенциально ере-
тические воззрения. Единственное, что его занимало
(и заставило воздержаться в 1633 г. от публикации трак-
тата «Мир»), была заявленная во время суда над Галиле-
ем неправоверность учения о движении Земли. Поэтому
Декарт опубликовал «Начала философии», содержащие
более разработанную версию той же картины мира, что
представлена и в трактате «Мир», только после того, как
он нашел способ не говорить о движении Земли, не идя
на компромисс в своей космологии. Его трюк состоял в
том, что он заявил об относительности любого движения.
В аристотелевском универсуме все имело свое место.
Существовало различие между разными «местами», кото-
рое и отображалось в разности естественных движений
вещей. Центр сферического универсума и был тем един-
ственным во Вселенной местом, по отношению к кото-
рому и возможно было охарактеризовать движение — на-
правлено ли оно к центру, от центра или вокруг центра.
Но универсум Декарта был построен как математический
универсум и как таковой был построен в пространстве,
определяемом геометрией Евклида. В версии Декарта гео-
метрический мир определялся великой и длительной мате-
матической инновацией его собственного изготовления,
позднее получившей известность как аналитическая гео-
метрия. Первая публикация по этому вопросу состоялась в
работе «Геометрия», представлявшей собой приложение
к его «Рассуждению о методе» (1637). Новация Декарта за-
ключалась в том, что он представил все геометрические
27 Ср.: Draper J.W. History of the Conflict Between Religion and
Science (New York, 1874); White A.D. A History of the Warfare of Science
with Theology in Christendom (London, 1896).
170 Питер Деар. Событие революции в науке
фигуры алгебраически: кривая или объемное тело могли
быть описаны через местоположение линий или поверх-
ностей относительно трех осей, идущих под прямыми
углами друг к другу, эти оси Декарт обозначил буквами
х, у, z. Так, круг радиусом г может быть представлен как
кривая на плоскости хОу, определяемая уравнением
х2+у2= г2; круг представляется как имеющий центр в исход-
ной точке, той точке, в которой пересекаются оси х и у.
Понимание Декартом неограниченно протяженного
пространства, образующего космос, следует тому же об-
разцу— это пространство, которое можно представить
как пространство трех осей координат, причем началь-
ная точка этих координат может оказаться где угодно.
Вот почему космос Декарта, в отличие от космоса Ари-
стотеля, не имеет абсолютных характеристик — мы пом-
ним, что в космосе Аристотеля центр универсума и всех
тех осей, вокруг которых вращаются небеса, имеет впол-
не определенную и неизменную позицию. Движение
в универсуме Декарта было реальным, но оно не было
абсолютным, то есть тем, что может быть измерено по
отношению к единственной в своем роде «рамке» соот-
несения. Напротив, Декарт определял движение тела по
отношению только к той материи, через которую прохо-
дит это тело. Движение, как он писал в «Началах фило-
софии», представляет собой «перенесение одной части
материи, иначе говоря, одного тела, из близости к одним
телам, которые непосредственно с ним соприкасаются и
которые мы воспринимаем как неподвижные, в близость
к другим телам»28. При таких исходных посылках утверж-
дать неподвижность Земли можно было с такой же легко-
стью, как и утверждать подвижность Земли: это утверж-
дение вполне оформлено в III части «Начал»:
Так как мы видим, что Земля не поддерживается колон-
нами и не висит в воздухе на тросах, но окружена со всех сто-
рон весьма текучим воздухом, мы можем предположить, что
Начала философии. Ч. 2, п. 25.
Глава V. Механицизм: Декарт конструирует Вселенную 171
она покоится и не имеет вложенной в нее склонности к дви-
жению, раз мы не можем усмотреть в ней таких устремлений.
Тем не менее мы не должны в то же самое время полагать,
что это удерживает ее от того, чтобы нестись вместе с небом
или следовать движению неба, и что она не сдвинется — точ-
но так же, как челнок, который пусть и не движим ветром
или веслами, но, не будучи удерживаем якорями, окажется
в конце концов посреди океана, ведь так случается, что его
незаметно уносит вдаль от берегов огромная масса воды29.
Тонкость теологии Декарта дополнялась тонкостью
его физики. Ни то ни другое не давало повода обвинить
его в том, что он учит о движении Земли30.
6. Успех физики Декарта
Декарт иногда описывал свою физику как по сути
своей механику, иначе говоря, науку, в которой все объ-
яснения сводятся к толчкам— воздействию материи с
большим весом на материю с меньшим весом. Успех та-
кой «механической философии», по позднейшему вы-
ражению Роберта Бойля, был необычным, и его нельзя
назвать случайным. Почему же представители естествен-
ной философии отдали предпочтение картине мира
Декарта, а не картине мира Аристотеля?
Любой ответ на этот вопрос потребует длительных
выкладок, поэтому сначала попытаемся обозначить ос-
новные факторы. Прежде всего Декарт определял свою
29 Там же. Ч. 3, п. 26. При интерпретации этого весьма сложного
отрывка мы равнялись и на французский перевод 1647 г.
30 Другое дело, что богословский спор возник вокруг кар-
тезианской теории материи в связи с Евхаристией: Watson R.A.
Transsubstantiation among the Cartesians, in Thomas M. Lennon, John M.
Nicholas and John W. Davis (eds), Problems of Cartesianism (Kingston
and Montreal: McGill Queen's University Press, 1982). P. 127-148. См.
также критику утверждений Уотсона: Anew К Descartes and the Last
Scholastics (Ithaca: Cornell University Press, 1999). Особенно Р. 141-142.
172 Питер Деар. Событие революции в науке
задачу как включение в рассмотрение по возможности
всех объектов, включая те специфические моменты и
явления, которые обсуждал Аристотель и его поздней-
шие интерпретаторы. Это были вопросы, относящиеся
к ведению философии и естественной философии, с ко-
торыми тогдашние образованные люди знакомились еще
на скамье коллегиума или университета, читая входящие
в программу тексты. Декарт стремился сменить Аристо-
теля в качестве высочайшего философского авторитета,
при этом не разрушая той образовательной структуры,
для которой Аристотель и был ориентиром в построе-
нии программ. Поэтому, скажем, где Аристотель объяс-
нял падение тяжелых тел со ссылкой на конечную причи-
ну, указывая на наличие в этих телах земли как элемента
и на стремление земли быть в центре универсума, там
Декарт тоже объяснял падение действием сил. Другое
дело, что объяснение Декарта включало в себя и пред-
ставление о вихреобразном движении, из-за чего второй
элемент и стал вращаться вокруг Земли, которую и обра-
зовало средоточие третьего элемента. Он описывал, как
центробежная тенденция вращения второго элемента
на очередном изгибе привела к центростремительно-
сти третьего элемента. «Метеорология», третье прило-
жение к «Рассуждению о методе», воспроизводит по на-
бору тем стандартные иезуитские комментарии конца
XVI в. на одноименный трактат Аристотеля — эти посо-
бия употреблялись в таких иезуитских колледжах, как
Ля Флеш. Конечно, притязания Декарта заменить Ари-
стотеля в школах на свои труды во многом не удались, во
всяком случае в краткосрочной перспективе, но его под-
ход означал, что люди, получившие образование в этих
институтах, станут весьма восприимчивы к его идеям.
Но кроме сходства построений Декарта с традицион-
ными представлениями существовали и резкие отличия
от них. Декарт представил картину мира, в которой дей-
ствовала физика, отличная от физики натурфилософов-
аристотеликов. Картина мира Декарта подразумевает
другой способ производства объяснений, чем картина
Глава V. Механицизм: Декарт конструирует Вселенную 173
мира Аристотеля. Механические объяснения, которые
выдвигает Декарт, основаны на метафизическом посто-
янстве природы и определенности поведения материи.
Но сам Декарт признавался, что, как бы ни были щедры
объяснительные принципы, все равно остается проблема
при объяснении специфических феноменов — что вооб-
ражение наше ограниченно. Выбор правильного объяс-
нения среди возможных объяснений становился тогда
вопросом эмпирическим, и все множество объяснений
признавалось неспособным превзойти гипотетическое.
Простота в измышлении все новых и новых объяснений
была усилена готовностью Декарта предполагать суще-
ствование мельчайших частиц (составляющих третий
элемент) неопределенной формы и неопределенного
размера, с которыми можно делать все, что угодно. Так,
он объяснял магнетизм, считая, что существуют спираль-
ные частицы, вьющиеся вокруг полюсов магнита и про-
ходящие через невидимые глубокие отверстия в металле,
чтобы потом своим возвратным движением подтолкнуть
его в сторону магнита — и различие между двумя полюса-
ми магнита он объяснял различной закрученностью ча-
стиц — по часовой стрелке или против часовой стрелки31.
А в «Метеорологии» Декарт объясняет, почему морская
соль имеет такой резкий вкус:
Не стоит удивляться, что частицы соли отличаются
острым и пронизывающим вкусом, который весьма отли-
чает соленую воду от пресной: так как слишком тонкая ма-
терия, в которой они содержатся, не может их сдержать,
они резко прорываются в поры языка и таким образом про-
никают достаточно глубоко, чтобы вызывать раздражение,
тогда как частицы, содержащиеся в свежей воде, легко свя-
занные, спокойно текут по поверхности языка и с трудом
могут быть ощутимы на вкус32.
31 Декарт говорил о магните и явлении магнетизма в «Началах
философии».
32 Декарт. Метеорология.
174 Питер Деар. Событие революции в науке
Атомизм Пьера Гассенди исходил из очень похожего
общего подхода к объяснению частных явлений, пред-
полагая существование атомов с различными характери-
стиками, с такими, какие нужны для этого явления. При
таком широчайшем наборе возможностей неудивитель-
но, что стиль объяснений оказывался всегда удачным и
всегда приводил к желаемым физико-математическим
результатам.
Такой корпускуляризм самого общего рода, в котором
естественный философ по своей прихоти говорил об им
самим изобретенных частицах, появляется во множе-
стве трудов начиная с середины XVII в. Одним из самых
влиятельных трудов такого рода был труд Уолтера Чарль-
тона, вышедший по-английски в 1654 г. и называвшийся
весьма претенциозно: «Философия эпикуро-гассендо-
чарльтонианская». С воодушевлением прибегать к «кор-
пускулам» для объяснения любых естественных явлений,
прежде всего земных, было нормой для этого прагмати-
ческого подхода, который смог освоить отдельные по-
ложения Декарта, но которому оказались не по плечу
добросовестность и систематичность Декарта. Исключе-
нием было серьезное усвоение философии Декарта Ро-
бертом Бойлем, с начала 1650-х гг. Бойль изобрел термин
«механическая философия» для обозначения всех кор-
пускулярно-механических объяснений, независимо от
метафизических предпосылок и следствий, как, скажем,
расхождение между Декартом и Гассенди по вопросу о
существовании действительного вакуума (Гассенди допу-
скал существование совершенно пустого пространства).
Бойль, как и Гассенди, говорил о гипотетическом стату-
се любых объяснений и, значит, не разделял оптимизма
Декарта относительно их реального статуса.
Нашего внимания заслуживает другой натурфилософ-
механицист этого периода, английский философ Томас
Гоббс. Как мы увидим в гл. VII, Гоббсова концепция есте-
ственной философии весьма схожа с аристотелевской,
если не считать упора Гоббса на механическое понима-
ние физических причин.
Глава VI
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВНЕ УНИВЕРСИТЕТСКОГО
КУРРИКУЛУМА: НОВЫЕ ОБИТЕЛИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
1. Перемена мест
Как мы уже видели в гл. I, на первом этапе изучаемого
нами периода истории науки и естественная философия,
и математические науки разрабатывались в основном в
университетах. В XVI и XVII вв. произошел важнейший
сдвиг: постепенно начали появляться новые институты,
в которых проводились исследования по тем же наукам.
Философы, исследовавшие природу, обычно не были
вольными работниками, которые ведут научный поиск
в изоляции от всего остального мира. Они, как прави-
ло, настаивали на своей социальной идентичности и
отождествляли себя с каким-то из общепризнанных ин-
ституциональных мест. Так, профессор естественной
философии в университете был значим прежде всего
как лицо, преподающее какую-то из специальностей: ме-
дицину, физику или (позднее) астрономию и другие ма-
тематические науки, как, например, Галилей. Атак как в
университетских программах естественная философия
преподавалась отдельно от математики, то исследовате-
ли, которые стремились преодолеть разрыв между этими
двумя областями знания, сталкивались с многочисленны-
ми трудностями, когда пытались вписать свои разработ-
ки в институциональные университетские рамки. Самые
лучшие примеры этому в XVI в. мы находим в истории
176 Питер Деар. Событие революции в науке
астрономии, одной из классических математических
наук, именно в этой области исследований были важны
как космологические разработки, так и физические.
Мы говорили в начале книги (гл.1, раздел 3), что в
позднем Средневековье была поставлена под сомнение
связь естественной философии, изучающей небесные
события, и астрономии как математической науки. Сна-
чала астрономы решили ограничиться расчетом дви-
жений небесных тел: они сочли это инструментальной
задачей, которая никак не помешает причинностным
объяснениям «физиков». Но в то же время и «физики» не
могли пренебрегать тем, что астрономы, исходя из сво-
их собственных задач, уточняют орбиты планет и другие
гипотетические особенности поведения небесных тел,
чтобы вся эта картина соответствовала полученным ими
данным, и эти уточнения все больше идут вразрез с про-
стыми моделями естественной философии.
Как мы видели в гл. II, Коперник, с одной стороны,
держался этой же модели формирования астрономи-
ческого знания, а с другой стороны, принимал в ней не
все, прежде всего отрешаясь от чрезмерных спекуля-
ций. Коперник построил трактат «Об обращении» по
образцу «Альмагеста» и даже, как Птолемей, посвятил
первую книгу трактата физическим вопросам, таким
как место Земли в универсуме и ее подвижность или не-
подвижность. Самое важное отступление Коперника от
своего образца состоит не в том, что он не соглашался
со взглядом Птолемея на вращение Земли, но в том, что
он одним махом перевернул обычное дисциплинарное
отношение астрономии и естественной философии.
В Предисловии Коперник пренебрежительно говорит
о тех, кто преподавал ему астрономию («математиче-
скую науку») в школе: противоречия и неувязки в их по-
зиции и заставили его предпринять реформу знания. Он
дерзнул обозначить новые физические конструкции для
астрономического теоретизирования, иначе говоря, соз-
дать настоящую космологию. Он тем самым бросил вы-
зов натурфилософам, которых он и призвал разбирать
Глава VI. Научная деятельность вне университетского куррикулума 177
вопросы, оставленные в стороне слишком замкнутыми
в себе астрономами. Пытаясь представить себя с лучшей
стороны и подорвать доверие к другим коллегам-астро-
номам, он неизбежно вторгся в область профессио-
нальных интересов естественных философов и даже
попытался представить астрономические выводы как до-
воды в пользу превосходства выдвинутых им физических
принципов.
Мартин Лютер, вождь Реформации, сам никогда
не занимавшийся ни астрономией, ни физикой, осуж-
дал Коперника за его безудержную мечту «перевернуть
вверх тормашками всю науку астрономию»1. Лютеран-
ский богослов Андреас Осиандер, написавший аноним-
ное предисловие к труду Коперника, высказывался не
менее откровенно, когда предупреждал, что некоторые
ученые будут «глубоко задеты, потому что они убежде-
ны, что свободные искусства, учрежденные давным-
давно на незыблемом основании, не должны попадать
в смуту мнений»2. Как показал историк науки Роберт
Уэстмен, замечание свидетельствует о том, что Копер-
ник воспринимался уже не как астроном, занимающий
подчиненное положение по отношению к естественным
философам, — Коперник сам усиленно старался заявить
свое превосходство над ними. Иными словами, Копер-
ник нарушал своей инициативой сам порядок следова-
ния научных дисциплин3. И, как заметил тот же Уэстмен,
особенно важно в этом отношении, что Коперник про-
водил свои астрономические исследования не в рамках
университетской преподавательской практики. Таким
образом, он мог пренебречь иерархией академических
дисциплин, с которой вынуждены были считаться все
университетские коллеги, а значит, мог вводить любые
1 См. выше, гл. I, раздел 3.
2 Цит. по: Kuhn T.S. The Copernican Revolution: Planetary Astro-
nomy in the Development of Western Thought (Cambridge, Mass.:
Harvard University Press, 1957). P. 191.
3 Коперник Н. Об обращениях...
178 Питер Деар. Событие революции в науке
инновации, какие считал нужным, как бы ни ломались
при этом средостения между дисциплинами . Для Копер-
ника астрономия как глубоко гуманистическое предпри-
ятие представляла собой более широкое поле исследо-
ваний, чем «математика» в университетском смысле как
предмет в университетских программах этого периода.
Птолемей, конечно, подчинял изложение астрономии
в «Альмагесте» принципам тогдашнего физического
рассуждения, но тем не менее он и сам обсуждал физи-
ческие вопросы, и в этом смысле физика, как и заметил
Коперник, не могла быть исключена из поля исследова-
ний астронома.
Следовательно, уже просто в силу своего отрица-
ния институциональной организации науки, коперни-
канская астрономия показала со всей очевидностью
важность институциональных контекстов для фор-
мирования интеллектуального содержания научных
предприятий. Коперник был вполне уже способен ис-
пользовать астрономию для произведения физических
выводов об универсуме, потому что он не был универси-
тетским астрономом, который всегда вынужден мыслить
в терминах, созданных хорошо разработанной и разгра-
ниченной дисциплинарной структурой университетов
с их программами. Можно найти, как показал Уэстмен,
сходные моменты в карьере других астрономов XVI в.:
так, ученик Коперника Ретик был практически един-
ственным университетским астрономом, который серьез-
но относился к космологическим притязаниям новой
астрономии (при этом имея хорошо артикулированные
гуманистические убеждения)4. Известнейший астроном-
новатор Тихо Браге, хотя и отвергавший движение Зем-
ли, но вполне уже сотрясавший прежние физические ос-
новы астрономии, совершил карьеру не в университете,
а при дворах могущественных правителей: сначала его
4 Westman R.S. The Astronomer's Role in the Sixteenth Century:
A Preliminary Study// History of Science 18 (1980). P. 105-147, особен-
но p. 107.
Глава VI. Научная деятельность вне университетского куррикулума 179
поддерживал король Дании, а потом он стал имперским
математиком при дворе императора Священной Рим-
ской империи. Иоганн Кеплер, убежденнейший копер-
никанец, стал преемником Тихо Браге на этой придвор-
ной должности после смерти последнего. Королевский
двор конца XVI — начала XVII в. становился собранием
образованных людей и часто давал астрономам возмож-
ность заниматься исследованиями независимо от уни-
верситетов, а значит, вне структурных интеллектуаль-
ных ограничений, продиктованных университетскими
порядками.
Но тем не менее нельзя видеть в происходившем
только отрицание свободомыслящими учеными универ-
ситетской научной жизни. Лучше говорить о том, что в
новой институциональной ситуации философ природы
мог положительным образом определять содержание
того знания, которое ему надлежало произвести. Этот
момент становился тем очевиднее, чем чаще естествен-
но-научное знание выходило из-под пера людей, которые
никак не были связаны с университетами.
Но при этом не следует забывать, что почти все, кто
внес свой вклад в ученую культуру в XVI и XVII вв., неза-
висимо от того, работали они в первую очередь в уни-
верситете или в каком-то другом учреждении, все равно
прошли в той или иной мере университетскую подготов-
ку и были хорошо знакомы с теми предметными проб-
лемами, которые в университете ставились. И когда мы
смотрим на лиц, которые в университете не работали
(а их число в XVII в. неуклонно увеличивалось), мы ви-
дим в них ученых, направление работы которых было
задано их внеуниверситетской карьерой, которая по-
следовала после того, как они получали первоначальную
академическую подготовку. Вот почему так важно пом-
нить положения и учения школьной науки, о которых
мы говорили в гл. I: тогда мы лучше поймем, что действи-
тельно означали самые новаторские идеи, созданные
вне университетских стен, и какие ожидания с этими
идеями связывались.
180 Питер Деар. Событие революции в науке
2. Галилей: из университета ко двору
Карьера Галилео Галилея подтверждает наши выводы с
предельной ясностью. Галилео начал свою карьеру как про-
фессор математики, сначала (1589-1591) он преподавал в
Пизанском университете (Пиза подчинялась тогда велико-
му герцогу Тосканскому), а с 1592 по 1610 г. он работал в Па-
дуанском университете, уже в юрисдикции Венецианской
республики. В 1610 г. он внезапно вышел в отставку и отпра-
вился служить ко двору великого герцога Тосканского во
Флоренцию, чтобы быть придворным философом и мате-
матиком. Такой переход от университетской деятельности
к придворной службе был закономерным и символичным.
Должность профессора математики, которую Галилей
занимал в обоих университетах, не возвышала его в обще-
стве. Жалованье профессора математики было в несколь-
ко раз ниже, чем профессора естественной философии,
если вспомнить о положении этих двух наук в иерархии
преподаваемых дисциплин5. Галилей не хотел оставаться
только математиком: в своей практике Галилей искал но-
вых решений и стремился с помощью математического
аппарата постичь физический мир, о чем мы уже говори-
ли в гл. IV. Благодаря таким научным установкам Галилей,
переехав во Флоренцию в 1619 г., и смог занять придвор-
ный пост философа и математика, а не просто математи-
ка. Быть математиком при дворе было обычное дело и для
Италии, и для Германии, как свидетельствуют примеры
Тихо Браге и Кеплера, но явно — для Галилея рамки ма-
тематического служения при дворе были очень тесными.
Такой полный титул, какой получил Галилей, был введен
впервые по согласованию между Галилеем и секретарем ве-
ликого герцога, и Галилей не преминул отметить в одном
из писем секретарю, что он «изучал долгие годы филосо-
фию, тогда как чистую математику — несколько месяцев»6.
5 См. выше, гл. И, раздел 2.
6 Цит. по: Shea W.R. Galileo's Intellectual Revolution (London:
Macmillan, 1972). P. 14.
Глава VI. Научная деятельность вне университетского куррикулума 181
Ему было тем более важно подчеркнуть свои философские
установки, так как университетские натурфилософы дони-
мали его своим более высоким статусом. Галилей доказы-
вал, что низкое положение математики среди универси-
тетских дисциплин — это свидетельство ее подчиненной
роли в создании рассуждений, а про себя говорил, что он
никогда не ограничивался математикой, считая филосо-
фию не только более важным в научном плане, но и более
уважаемым и почтенным делом.
Но нужно обратить внимание на то, что он называл
несколько пренебрегаемую им как «философом» на-
уку не просто «математикой», но «чистой математикой».
Чистая математика, как мы уже говорили в начале книги
(гл. I, раздел 2), состояла из арифметики и геометрии и
занималась только непрерывными и прерывными вели-
чинами. Именно этим «чистая математика» отличалась
от «смешанной математики», которая в средневековых
учебных программах была представлена другими на-
уками квадривиума — астрономией и музыкой, но также
включала и другие предметы, для которых численный
аспект был самым важным. Галилей сделал ставку на есте-
ственную философию, полагаясь на свою опытность в
математике, тем более что он рассматривал смешанную
математику как законную часть по-настоящему философ-
ского, причинностного изучения природы. А вот чистую
математику нельзя было назвать разделом философии,
потому что она рассматривает не изменчивые природ-
ные вещи, с которыми научилась справляться аристоте-
левская физика, но только неизменные идеальные еди-
ницы, обладающие только числовым признаком.
Переехав во Флоренцию, Галилей получил больше,
чем прежде, возможностей продвигать свои философские
проекты. Он уже не нес на себе клейма ученого второго
ряда, который должен всякий раз испрашивать у натур-
философов дозволения заниматься количествами, хотя
те вовсе не собираются принимать математические аргу-
менты как центральные при решении важных философ-
ских вопросов. Теперь уже он обосновывал свой реальный
ASTRONOMIA NOVA
А1ТЮЛОГНТО2,
PHYSICA COELESTIS,
tradita commentanis
DE MOTIBVS STELLA
M A R T I S,
Ex obfervationibus C. V.
TTCHONIS BRAHE:
JuflTu & fumptibus
RVDOLPHI II
ROMANORVM
1MPERATORIS &cc:
Plurium annorum percinaci ftudio
claborata Prag# ,
*A J*. С*. сЯ£> S*. tZrCathematico
JOANNE KEPLER O,
Qtmejusdcm СЧ %Ж1" privilégia frcciali
Anno xix Dionyfiana: cId »Id с ix.
Рис. 21. Титульный лист «Новой астрономии» И. Кеплера
Глава VI. Научная деятельность вне университетского куррикулума 183
статус вовсе не мнимостями университетского положе-
ния, но действительной значимостью своей придворной
должности — осыпанный милостью как клиент великого
герцога, он мог уже, по выражению историка науки Марио
Бьяджоли, перечертить по-своему карту дисциплин, на ко-
торой в университетском сообществе наук-«государств»
математика была совсем другой державой, чем физика.
Нам нужно сразу же рассмотреть, используя конкрет-
ные и соотнесенные с практикой термины, что означала
для ученого того периода такая перемена социального ме-
ста. Раньше, когда ученые печатали свои работы, их имена
на титульном листе всегда сопровождались указанием их
институциональной принадлежности. Так, ученый, рабо-
тавший в университете, указывал, является ли он профес-
сором философии, богословия или математики в таком-
то университете. Придворный математик не оставался
внакладе, он действовал, как Кеплер, который на титуле
своей «Новой астрономии» назвал себя «математик его
священного императорского величества»7. Галилей, после
переезда, мог печатать книги уже с указанием своего ново-
го титула, который тем самым подводил его под могуще-
ственное покровительство великого герцога Тосканского.
Это вовсе не означало, что великий герцог стал бы брать
на себя ответственность за все написанное Галилеем, напо-
добие того, как университет сознавал коллективную ответ-
ственность за выступления каждого из своих профессоров.
Просто Галилей, печатая свое звание как «философ вели-
кого герцога», заявлял о своих серьезных притязаниях.
Он присвоил себе право более никогда не зависеть от уни-
верситетской легитимации, налагающей много негласных
ограничений, но напитывать свою деятельность государ-
ственной политической властью иного рода. Если прово-
дить аналогию с нашими днями, можно сказать, что он стал
правительственным консультантом по науке, выступления
7 Оригинальный титульный лист воспроизведен в изд.: Kepler J.
New Astronomy / Trans. William H. Donahue (Cambridge: Cambridge
University Press, 1992). P. 26. См. также рис. 21.
184 Питер Деар. Событие революции в науке
которого признаются как сделанные в интересах государ-
ства, но с той оговоркой, что в начале XVII в. те институты
современного государства, которые и позволили нам угля-
деть такую параллель, были еще в зачаточном состоянии.
Такое новое положение Галилея требовало от него
двигаться в ином направлении, чем то, которое он при-
нял, когда преподавал в Падуе. Как убедительно показы-
вает Бьяджоли, Галилей не просто покончил с прежними
путами академизма; он подпал под новое давление — его
личность должна уже была следовать новым требовани-
ям. В частности, от него много ожидали, а значит, он
должен делать все свои научные выступления на высшем
уровне, непременно привлекая внимание своих высоко-
поставленных слушателей и снискивая их похвалы.
Галилео стал во Флоренции высокопоставленным
придворным благодаря своему открытию, которое было
впечатляющим и по-настоящему зрелищным. Он сразу же
подал сведения на рассмотрение великого герцога, рас-
считывая на то, что он возьмет его себе на службу, что
и случилось. Галилей открыл четыре главных спутника
Юпитера и в начале 1610 г. выпустил описание их орбит и
движения. Эти «луны» (или, как назвал их Кеплер, «спут-
ники») были самым замечательным результатом приме-
нения Галилеем недавно сконструированного телескопа
при наблюдении за небом зимой 1609/10 г. Галилей услы-
шал об изобретении нового оптического устройства в се-
редине 1609 г., во время поездки в Венецию, и поспешил
собственными силами построить себе свой телескоп. Ис-
пользуя телескоп для наблюдений за состоянием ночно-
го неба, он совершил несколько поразительных для того
времени открытий, которые и были описаны в его латин-
ском труде «Звездный вестник»8— своеобразном отчете
о проделанной работе.
8 Это название можно переводить и как «сообщение о звездах»,
но Кеплер и другие цитировали его именно со словом «вестник», слиш-
ком буквально воспроизводя латинскую грамматику. Здесь и далее цити-
руется по изданию: Galileo Galilei. Sidereus nuncius, or, the Siderial Messen-
ger, trans. Albeit Van Helden (Chicago: University of Chicago Press, 1989).
Глава VI. Научная деятельность вне университетского куррикулума 185
В «Звездном вестнике» кроме лун Юпитера сообща-
лось и о существовании на небе бесчисленного множества
не видимых невооруженным глазом звезд. Слабая обры-
вистая белая лента, тянущаяся по всему небу и известная
со времен Античности как «млечный путь» («галактика»
по-гречески, или via lactea по-латыни), оказалась при бли-
жайшем рассмотрении скоплением мелких звезд, близко
подходящих друг к другу: «Галактика — не что иное, как
скопление бесчисленных звезд, в котором можно выде-
лить свои участки. Куда бы ты ни направил увеличитель-
ное стекло, ты сразу же увидишь огромное число мелких
звезд». Еще более важным для космологии был рассказ
Галилея о поверхности Луны. При рассмотрении в теле-
скоп это небесное тело оказалось испещрено горами и
впадинами — такая неровная поверхность скорее напо-
минала Землю, чем тот гладкий, ровный и неизменный
шар, который вообразили себе приверженцы аристоте-
левских понятий о совершенстве небес.
Но основная тема небольшой книги Галилея— это
спутники Юпитера: даже на титульном листе эта тема
значится самыми крупными буквами. Галилей сразу по-
нял, что его открытия открывают ему широкую дорогу
из университетского мира ко двору герцога, и поэтому
эти новые планеты (так он определил эти небесные тела)
должны самим своим названием льстить будущему патро-
ну. Сначала он решил назвать их «козимовскими свети-
лами», воспев имя великого герцога Козимо II Медичи.
Но Винта, секретарь великого герцога, пожаловался на
то, что не все поймут, что имеется в виду именно Кози-
мо II. В последний момент Галилей переименовал эти
спутники в «медичейские светила» — теперь посвящение
уже ни у кого не вызывало сомнения. Эта правка была
внесена, когда уже часть листов книги была напечата-
на; в результате в тираже книги название «медичейские
светила» для этих лун было наклеено на титульном листе
поверх прежнего текста.
Благополучно обосновавшись во Флоренции, Гали-
лей при этом столкнулся с различными неурядицами,
186 Питер Деар. Событие революции в науке
как мелкими, так и более серьезными: его врагами ока-
зались местные философы, прежде всего преподаватели
университетов и коллегиумов. Галилей, которому нужно
было оправдывать свое новое высокое положение, при
любой возможности представлял свои достижения и от-
крытия как нечто совершенно новое и замечательное.
Тем более как можно было добавить политического веса
своему патрону? Не тем же, что ты будешь писать рядо-
вые исследования, которые будут укладываться в обще-
принятые воззрения. «Звездный вестник» прославил Га-
лилея по всей Европе, и Козимо понял, что не ошибся,
когда принял ученого под свое личное покровительство.
Отношения патрона и клиента в таком роде вовсе не
были односторонним покровительством, но двусторон-
ним политическим действием.
Как мы все помним, в конце жизни Галилей был осуж-
ден Римом в 1633 г. за публикацию по-итальянски «Диало-
га о двух главнейших мировых системах, Коперниковой
и Птолемеевой» (1632). В этой работе он привел боль-
шое количество доводов в поддержку движения Земли,
но при этом по ходу диалога так, чтобы материал был
представлен как вопрос для гипотетического рассмотре-
ния, не подразумевающий одно решение раз и навсегда.
Церковные власти быстро разобрались, что Галилей это
сделал для отвода глаз, и престарелый ученый вынужден
был отречься от убеждения в движении Земли и прове-
сти остаток жизни (до смерти в 1642 г.) под домашним
арестом. Его блистательная карьера в мире благород-
ных придворных и высокопоставленных читателей (его
«Диалог» был написан на тосканском диалекте итальян-
ского языка, на котором читала местная культурная эли-
та, а не на латыни школ и университетов) была разом
оборвана: вознесшегося к звездам ученого одно судебное
решение прижало к земле. Его прежний покровитель, Ко-
зимо II, к тому времени уже умер, а преемник Козимо го-
раздо меньше был заинтересован в благоденствии астро-
нома. Даже старый флорентийский друг Галилея, Маттео
Барберини, ставший в 1623 г. папой Урбаном VIII, был
Глава VI. Научная деятельность вне университетского куррикулума 187
в первую очередь обеспокоен политическими настрое-
ниями и необходимостью искать компромисс с консерва-
тивной церковной оппозицией, и он постарался поско-
рее забыть о Галилее и его философских прозрениях. Так
дерзание Галилея, вырвавшегося за пределы всех учеб-
ных программ, кончилось печально — но тем не менее он
навеки сохранил память о себе величайшими трудами.
Его основная работа по механике и движению тел, «Рас-
суждения и доказательства о двух новых науках» (1638),
переданная издателю и отпечатанная, когда Галилей си-
дел под домашним арестом, оказала влияние на целые
научные направления, обобщив результаты, полученные
Галилеем начиная с 1590-х гг.9
3. Патроны и клиенты
Покровительство математикам и естественным фило-
софам, как со стороны королевских особ с привлечением
ученого в бурную придворную жизнь, так и со стороны
местной знати, что подразумевало более тесное общение
патрона и клиента, стало обычной практикой в XVTI в.
Случаи патронажа в XVI в., скажем, должность «импер-
ского математика», предоставленная Тихо Браге, или же
увлечение принца Гессе-Касселя алхимией и поддержка
алхимиков, сначала были единичными; но постепенно
все больше ученых, не обязательно даже первооткрыва-
телей, находили себе покровителей: они становились
частными учителями их детей и одновременно публич-
ными хвалителями их правления. Если мы посмотрим
на тех английских философов этого периода, которые
добились известности, мы увидим, что все они имели по-
кровителей, предоставивших им все условия и для рабо-
ты, и для распространения своих взглядов.
Среди знаменитых англичан, карьера которых опреде-
лялась личным покровительством, нужно назвать прежде
См. выше, гл. IV, раздел 2, и ниже, гл. VII, раздел 1.
188 Питер Деар. Событие революции в науке
всего Томаса Гарриота, Уильяма Гарвея и Томаса Гоббса.
Гарриот и Гоббс изыскивали средства для существования
и для научной деятельности, общаясь с представителями
знати, и гораздо реже — с королевским двором: они согла-
шались становиться интеллектуальными работниками в
доме любого богатого и знатного человека. Они станови-
лись воспитателями подрастающего поколения в этих се-
мьях и за это получали и кров и пишу. Становясь клиента-
ми, они посвящали свои труды покровителям, как и было
принято, и когда выступали на публике, то старались не
забывать и о клиентских обязанностях продвижения сво-
его патрона на интеллектуальном поле. Гарриот ассоции-
ровал себя с графом Нортумберлендом в начале XVII в.,
тогда как Гоббс был любимцем (хотя и не вполне покор-
ным) семейства Кавендиш в середине века. Конечно,
свободе их творчества способствовало отсутствие уни-
верситетских обязательств и дружба с покровительство-
вавшим им семейством. В случае Гоббса его знаменитая
склонность впутываться в ожесточенные публичные дис-
куссии по философским вопросам, как и в случае Галилея,
проистекала из его институциональной независимости,
для него принципиальной. Но вот Гарриот отличается от
Галилея по поведению, и это говорит о том важном кон-
трасте, который существовал между теми, кто вращался в
высочайших придворных кругах, и теми, кто пользовал-
ся личной любезностью менее высокопоставленного по-
кровителя10. Гарриот знаменит не своими публикациями
10 Бьяджоли замечает в своей работе (Biagioli. Scientific Revo-
lution, Social Bricolage, and Etiquette, in Roy Porter and Mikulâs Teich,
The Scientific Revolution in National Context (Cambridge: Cambridge
University Press, 1992). P. 11-54, здесь р. 51, n. 105), что Гарриот,
в отличие от Галилея, не смог представить себя придворным иссле-
дователем в силу того, что в Англии философу отводилось вполне
конкретное место в социальной иерархии. Но можно говорить и
о том, что, в отличие от Галилея, которому всякий раз нужно было
подтверждать свои таланты при дворе, Гарриот пользовался посто-
янным дружественным покровительством, имея от него несомнен-
ную выгоду: пожизненную независимость от университетов с их ус-
ловностями.
Глава VI. Научная деятельность вне университетского куррикулума 189
(он излагал свои идеи только в письмах), а своей напря-
женной работой, о которой современники догадывались
по его рукописным отчетам и по упоминаниям в перепи-
ске. Самое знаменитое из сделанного им — это наблюдение
Луны через телескоп, всего лишь за год до того, как Гали-
лей стал систематически исследовать небесные явления
с помощью телескопа. Но если Галилей сразу же пустил
свои открытия в ход, посвятил их Медичи и обеспечил
себе ими карьеру при флорентийском дворе, то Гарриот
не стремился к политической славе и считал все свои на-
блюдения предметом чистого философского интереса11.
Много более интересный пример, во многом схожий
с карьерой и судьбой Галилея и предвещающий дальней-
шие пути институционализации науки, — это жизнь Уилья-
ма Гарвея. Гарвей совершил стремительный взлет: начи-
нал он как студент медицины в Падуе, самым знаменитом
центре европейской медицины, и уже во время обучения
стал заниматься исследованиями: он всю жизнь аккурат-
но делал записи и располагал их по темам. Его архив был
утрачен в 1642 г. — Гарвея ограбили, завидуя его близости
к королю Карлу I (казнен в 1649 г.), Гарвей был его лич-
ным врачом. Гарвей прежде всего знаменит открытием
кровообращения — и это открытие было не просто амби-
циозным для того времени, но и революционным — оно
радикально расходилось с общепринятыми воззрениями
медицины того времени, которые обязаны были разделять
все члены профессионального врачебного сообщества.
Судьба Гарвея как медика весьма показательна как путь
из профессионалов в придворные. Закончив обучение в
Падуе, Гарвей вскоре в 1602 г. выдержал магистерские эк-
замены в Кембридже, где он учился на младших курсах
до того, как его отправили в Падую. Гарвей подал про-
шение о принятии его в Коллегиум физиологов (College
of Physicians), без членства в котором невозможно было
заниматься врачебной практикой в столице. В 1604 г. Гар-
вей стал кандидатом в члены Коллегиума и в том же году
См. обо всем этом подробнее гл. VII, раздел 4.
1 90 Питер Деар. Событие революции в науке
женился на Элизабет Браун, которая была выгодной пар-
тией — Элизабет была дочерью сэра Лэнселота Брауна,
личного врача королевы Елизаветы до самой ее смерти
в 1603 г., а в это время одного из врачей ее преемника
короля Иакова. Сэр Лэнселот Браун попытался добыть
своему зятю место придворного врача, но не успел — он
умер в 1605 г. В 1607 г. Гарвей наконец стал действитель-
ным членом Коллегиума физиологов.
В Коллегиуме Гарвей быстро выдвинулся на передо-
вые позиции и в 1615 г. стал ламлианским лектором. Чте-
ние этих знаменитых лекций, кроме того, что было хо-
рошим источником доходов, создало отличную площадку
для распространения анатомических и физиологических
идей. Первый цикл лекций Гарвей прочел в 1616 г. и по-
вторял его каждый год с дополнениями и уточнениями —
именно в этих лекциях он впервые высказал свои идеи
о деятельности сердца. Но полное и систематическое из-
ложение своих воззрений он представил только в 1628 г.
в небольшом латинском трактате, озаглавленном «Анато-
мическое изыскание о движении сердца и крови у живот-
ных» (Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in
animalibus). В этом труде Гарвей доказывал, что вопреки
утверждениям Галена, который был для тогдашних вра-
чей непререкаемым авторитетом, сердце распространя-
ет кровь непрерывно по всему телу.
«Анатомическое изыскание» подтвердило высокий
профессионализм автора, достойного стать действитель-
ным членом Коллегиума, и дало ему кредит в дальнейшем
утверждении своего положения. Он стремился к тем же
ресурсам статуса и признания, которыми пользовался
его тесть, поэтому он предварил книгу двумя предислови-
ями: второе представляло собой посвящение президен-
ту Коллегиума д-ру Ардженту, а первое — королю Карлу.
Посвящать научный труд государю было в XVI и XVII вв.
в порядке вещей: достаточно упомянуть предисловие Ве-
залия к его трактату «О строении человеческого тела» с
посвящением императору Священной Римской империи
(после чего Везалий без труда получил место при дворе)
Глава VI. Научная деятельность вне университетского куррикулума 1 91
или же предисловие самого Галилея к «Звездному вест-
нику», какой успех принесло Галилею это решение, мы
только что говорили. Гарвей восхвалял короля Карла с
помощью изысканной метафоры: он сравнивал короля в
государстве с Солнцем во Вселенной и с сердцем в орга-
низме: все они являются источником тепла и жизни для
всего вокруг них. Гарвей, сознавая свои научные заслуги,
говорил:
Принося Вашему Величию, как и требуется от поддан-
ного, это изыскание о движении сердца, я ободрялся тем,
что почти все наши представления о человечестве выстро-
ены по нашему знанию самого человека, и в частности —
наше понимание королевской власти выстроено по зна-
нию сердца12.
Гарвей воспользовался ситуацией очень ловко: он по-
нял, сколь счастлив момент, когда он может принести в
дар королю как раз труд, который посвящен пониманию
сердца. Тем самым он оказывает неповторимую символи-
ческую услугу новому государю Англии (восшедшему на
трон в 1625 г.), ставя ему мысленно на службу символизи-
рующий его источник всякого блага в нашем теле.
В 1629 г. Гарвей был вознагражден за свою предан-
ность престолу (и, как мы понимаем, за умение пород-
ниться с видным семейством) — он был назначен лич-
ным врачом короля и королевского семейства. Такое
возвышение, безусловно, не вредило успеху его идей,
которые, конечно, поначалу многими воспринимались
с подозрением. Даже после того, как Гарвей перестал за-
нимать официальную должность королевского медика,
он все равно подписывался «архиатр [главный врач] ти-
шайшего королевского величия» (serenissimae Maiestatis
Regiae Archiatro)13. О том, какие преимущества давал
12 Цит. по: Harvey W. The Circulation of the Blood and Other
Writings, trans. Kenneth J. Franklin (London: Dent, 1963). P. 3.
13 В 1649 г. См.: Op cit. P. 3.
192 Питер Деар. Событие революции в науке
августейший патронат Гарвею в его научных изысканиях,
свидетельствует замечание в рассуждении о том, что ве-
нозная кровь всегда направляется в сторону сердца: «При
такой перетяжке внутренней югулярной вены газели (что
было произведено в присутствии многих знатных людей
и тишайшего Короля, моего властителя) только несколь-
ко капель крови вытекло при рассечении, так как кровь
двигалась от ключицы»14. Гарвей здесь подчеркивает важ-
ность присутствия самых высокопоставленных свидете-
лей; и конечно же читатель уже догадался, что газель для
опыта была выделена из собственного его величества зве-
ринца — так можно было одним мощным ударом отбить
у критиков охоту выступать против его решений. Те же
самые цели, защиты своих открытий от выступлений кол-
лег, преследует и посвящение Коллегиуму физиологов.
В этом втором посвящении Гарвей говорит, что он
мог бы напечатать эту книгу и раньше, если бы не страх
быть обвиненным в предвзятости суждений. Поэтому, пи-
шет Гарвей, «я решил сначала представить свои утверж-
дения вам и подтвердить их наглядными иллюстрациями
(visual demonstration), дабы ответить на все ваши сомне-
ния и возражения, стяжав в свою пользу голос вашего
отменного Президента»15. Точно так же, как он ссылался
на «многих знатных» лиц, когда ему нужно было подтвер-
дить успешность своих опытов с королевской газелью,
он и нашел возможность употребить всю власть «ученых
докторов» из Коллегиума, оградившись частоколом их
мнений от критики. Могущественные союзники полезны
в споре тем, что оппонентам придется искать союзников
не менее могущественных; вот одна из причин (помимо
материальной заинтересованности), почему естествен-
ные философы того времени стремились обзавестись
покровителем из высшей аристократии.
14 Цит. по: Pagel W. William Harvey's Biological Ideas: Selected
Aspects and Historical Background (New York: Hafner, 1967). P. 19 (пись-
мо Риолану 1649 г.)
15 Цит. по изданию Франклина (Р. 161).
Глава VI. Научная деятельность вне университетского куррикулума 193
4. Покровители и институты
Благородные патроны распространяли свои милости
не только на отдельных исследователей. Неуклонный
рост в XVII в. значения различных философских групп,
разного рода «обществ», «академий» и «колледжей» во
многом обязан аристократическому покровительству
таким неформальным организациям. Так, указывая свой
пост философа и математика великого герцога Тосканско-
го, Галилей во всех своих публикациях после «Звездного
вестника» присоединял к своему имени эпитет Линкей-
ский (Linceo). Это прозвание означало членство в осо-
бой группе знатных людей, занимавшихся философией,
эта группа была создана в 1603 г. под покровительством
сначала маркизы Монгтичелли и позднее князя папской
области Федерико Чези. Это натурфилософско-матема-
тическое общество называло себя «Академиа деи Лин-
чей» (Академия Рысей). Такое несколько странное для
нас именование должно было подчеркнуть, что все его
члены собираются самым пристальным образом рассма-
тривать природу (про рысей уже говорили нарицательно
как о млекопитающих с самым острым зрением). Галилей
был принят в это общество в 1611 г. после своей триум-
фальной поездки в Рим для сообщения о своих новейших
астрономических открытиях: Академия даже дала банкет
в его честь. Он так ценил это свое избрание, что упоми-
нал об этой своей принадлежности во всех своих публи-
кациях, равно как и ссылался на других членов Академии
Рысей с упоминанием их звания. Академия Рысей была
небольшой группой, закрытой для посторонних, и Чези
выступал как высокопоставленный покровитель всего
коллектива и придающий его деятельности законность,
а его выступлениям — респектабельность.
Академия выполняла две очень важные функции. Пер-
вая была особенно важна для судьбы Галилея: она зани-
малась книгоиздательской деятельностью — в ней были
подготовлены к печати и выпущены в свет полемиче-
ский труд Галилея «Пробирных дел мастер» (II saggiatore,
194 Питер Деар. Событие революции в науке
1623) и огромный «Диалог» (1632). Но кроме институци-
онального патронажа над изданиями на средства князя
Чези была создана обширная научная библиотека. Важно
помнить о важности библиотек для естественной фило-
софии и для философов, которые хотя прежде всего
наблюдали природу, но всегда равнялись на книжные
нормы обсуждения вопросов. Так, Фрэнсис Бэкон в Ан-
глии тоже настаивал на том, что необходимо вести са-
мостоятельное наблюдение, но при этом оговаривался,
что книги незаменимы при формулировке результатов,
а письменное выражение мыслей, постоянно уточняясь,
и образует здание естественно-научного знания. Конеч-
но, Бэкон среди книжных сообщений считал наиболее
важными письменные фиксации опытов (он прямо так
и говорил об «ученом [букв.: письменном, писательском]
экспериментаторстве» (experiential literata)16. Этим вы-
ражением Бэкон обозначал представление данных в ор-
ганизованной системе классификаций и ссылок. Бэкон
весьма свободно обращался с книжным материалом и на
основе прочитанного составлял собственные компен-
диумы «фактов природы», такие как «Лес лесов» (Sylva
sylvarum, 1626); такая привычка позволила ему много-
кратно по случаю ссылаться на эти факты в таких своих
работах, как «Новый Органон». Итак, Бэкон, хотя и на-
стаивал на том, что знание нужно добывать своими рука-
ми, не исключал того, что свои руки могут быть и у любо-
го другого, все равно знание будет из первых рук.
Линчейская библиотека, созданная на средства Чези,
сразу вызывает в памяти желание Бэкона, высказывав-
шееся не раз в 1590-х гг., создать в Англии несколько
ключевых исследовательских подразделений, одним
из которых должна стать библиотека. Упрямые попыт-
ки Бэкона создать систему королевских стипендий для
своих натурфилософских проектов свидетельствуют
16 См.: Rossi P. Francis Bacon: From Magic to Science, trans. Sacha
Rabinovitch (Chicago: University of Chicago Press, 1968). P. 153 (речь
идет о трактате Бэкона «Преуспеяние учения»). И выше гл. ГУ, раздел 3.
Глава VI. Научная деятельность вне университетского куррикулума 195
о проницательности философа, который предугадал,
сколь перспективен будет для развития науки патронаж
со стороны властей. Именно расцвет наук под могуще-
ственной милостью власти и составляет сердцевину его
фантазии — «Новой Атлантиды». Различие между покро-
вительством отдельному натурфилософу со стороны вли-
ятельного аристократа и государственной поддержкой
организованного исследовательского проекта в тот пе-
риод состояло только в степени, а не в качестве. Библио-
тека Чези помимо трудов по математическим наукам за-
ключала в себе много книг по вопросам естествознания
и медицины, что очень бы порадовало Бэкона. Такая биб-
лиотека должна была составить основу реформирования
всей системы знания17.
Публикация Галилеем своих трудов под маркой Лин-
чей стала залогом задуманной им реформы знания о
природе. Для наших целей особенно важно подчеркнуть
решающую роль самого Чези и академии, ставшей ин-
струментом реформы. Покровительство князя Чези ос-
вящало всю работу Академии ореолом общественного по-
читания — а такое социальное признание в Риме, точно
так же как и при Тосканском дворе, значило для Галилея
слишком много. Благодаря членству в таком собрании
философов любая работа, которая производилась под
его непосредственным надзором, сразу же приобретала
статус серьезности — с этими разработками уже нельзя
было не считаться. Академия Рысей стала показательным
примером того, как покровительство могущественного
лица может для пущей эффективности научных иссле-
дований опосредоваться так или иначе организованной
структурой научного сотрудничества.
17 Кроме Бэкона были и другие ученые, замышлявшие энци-
клопедическое собирание всего существующего знания, такие как
Жан Боден. О нем см.: Blair A. The Theater of Nature: Jean Bodin and
Renaissance Science (Princeton: Princeton University Press, 1997).
О естественной истории в Академии Рысей см.: Findlen P. Possessing
Nature: Museums, Collecting, and Scientific Culture in Early Modern Italy
(Berkeley, etc.: University of California Press, 1994). P. 31-33.
196 Питер Деар. Событие революции в науке
Более поздний пример из научной жизни той же
Италии позволяет сделать сходные выводы. В 1657 г.
группа экспериментаторов была создана во Флорен-
ции при активном направляющем участии принца Лео-
польда Тосканского, брата Фердинанда, тогдашнего
великого герцога Тосканского. Эта группа придумала
себе название «Академиа дель Чименто» (Академия экс-
перимента) , и вся ее деятельность сразу же освещалась
специально созданным для этого печатным изданием.
В 1667 г. вышла первая итоговая книга этого научно-
го общества: «Записки об экспериментах над приро-
дой, произведенных в Академии дель Чименто» (Saggi
di naturali esperienze fatte nell' Accademia del Cimento).
На титульном листе обозначен и покровитель этого из-
дания и всей деятельности общества: «Под покровитель-
ством светлейшего принца Леопольда Тосканского». Эта
книга, не предназначенная для продажи, но только для
распространения среди флорентийских придворных и
коллег, лучшим образом доказывала реальность новооб-
разованной Академии. При этом как раз к моменту изда-
ния этой книги члены Академии перестали встречаться
для совместных обсуждений. Академия никогда не рас-
полагала никаким формальным уставом и никогда не
была официально распущена— просто после того, как
Леопольд стал кардиналом и переехал в Рим, от Акаде-
мии осталось одно название. В эту научную группу входи-
ло девять человек, которые называли себя «саджиато»,
то есть экспериментаторами, испытателями.
Итак, мы видим, что основным признаком, который
позволял научной группе именоваться Академией, была
тесная связь с патроном. Не нужно было ни формаль-
ного устава, ни даже регулярных встреч — так, для су-
ществования Академии дель Чименто достаточно было
прихотливого желания принца Леопольда, которому
приятно было чувствовать себя среди ученых. Как и его
брат, великий герцог Фердинанд, Леопольд интересо-
вался вопросами естественной философии и участвовал
в работе группы экспериментаторов не как отрешенный
Глава VI. Научная деятельность вне университетского куррикулума 197
покровитель, но как полноправный экспериментатор.
Само название трудов, «Записки», говорит о том, на ка-
ких условиях принимали в группу и какое отношение к
патрону следовало выказывать: члены общества должны
были представлять отчеты по экспериментам, по кото-
рым любой из членов группы мог бы судить о проделан-
ной работе. Такие отчеты поэтому сразу приобретали
статус коллективной публикации, независимо от того,
кто их готовил. В то же самое время, как мы уже гово-
рили, на титульном листе обязательно отмечалась осно-
вополагающая роль Леопольда, который и сделал Акаде-
мию важным и признанным институтом. Таким образом,
можно сказать, что деятельность Академии в обществе
представлял Леопольд, хотя его заслуги перед наукой не
были бы возможны без участия его клиентов — рядовых
членов Академии.
Марио Бьяджоли подчеркивает, что отношение Лео-
польда к членам Общества полностью отвечало его ари-
стократическому статусу: на экспериментальные труды
чаще всего смотрели как на дело «механиков» (см. выше
о Бэконе, гл. III), и, значит, если бы принц стал не покро-
вителем, а исполнителем, это резко разошлось бы с его
положением. Конечно, любивший науку принц мог бы
ставить эксперименты в частном порядке, ради интере-
са и для собственного удовольствия, но в любой публика-
ции результатов (тем более явно такой придворной пу-
бликации, как «Записки», которые раздавались знатным
лицам) он должен был выступать в своем величествен-
ном статусе. Представляя всех философов, с кем он вме-
сте работал и с кем переписывался, как некую Академию,
находящуюся под его покровительством, Леопольд уже
мог не заботиться о том, чтобы делать грязную работу,
зато все лучи славы за научный успех падали на него. Ра-
бота этой группы, в которую входили такие крупные умы
своего времени, как Джованни Борелли и Франческо
Реди, требовала множественных опытов над естествен-
ными феноменами, для установления гидростатических
и барометрических законов, для наблюдения за нагревом
198 Питер Деар. Событие революции в науке
и теплом — а это было невозможно без дорогостоящего
оборудования, как, например, сделанных на заказ сте-
клянных сосудов. Леопольд заявлял, что философские
положения, добытые в ходе экспериментальной работы,
никак не могут быть названы догматическими: ведь тогда
внимание ученого падает только на сам феномен, он не
предлагает своих причинностных объяснений и тем са-
мым хранит себя от противоречий.
Самыми важными организованными объединениями
естественных философов в XVII в., существующими с
1660-х гг. и до наших дней, были Королевская академия
наук в Париже и Лондонское Королевское общество. Обе
организации, как свидетельствует само название, были
созданы под королевским покровительством, но особен-
ности их деятельности показывают рыхлость границ,
отделявших индивидуальное покровительство от коллек-
тивного, институционально опосредованного покрови-
тельства над естественной философией. Создание новых
подходов в изучении природы требовало тщательной
адаптации к существующим нормам социального стату-
са и ответственности — только тогда новообразованные
общества могли соперничать с университетами.
Академия наук была основана в Париже 22 декабря
1666 г. Замысел Академии принадлежал Кольберу, глав-
ному министру короля Людовика XIV. Основная полити-
ческая линия Людовика XIV и его министров состояла
в том, чтобы монархия стала неоспоримым центром
власти во всем государстве: король стремился к установ-
лению абсолютистской монархии, где все бы (хотя бы
в принципе) зависело от централизованного государ-
ственного контроля. Проект абсолютистской монархии
можно сопоставить с тоталитарными режимами XX сто-
летия, которые преследовали те же самые цели, причем
добивались при этом гораздо большего успеха. Людо-
вик XIV был прозван «король-солнце», чем подчеркива-
лась идея, что он — источник всего, что возникает в его
королевстве. Когда Уильям Гарвей посвятил свой трак-
тат о кровообращении английскому королю Карлу, он
Глава VI. Научная деятельность вне университетского куррикулума 199
употребил тот же образ, хотя власть короля и была в Ан-
глии ограничена парламентом: Гарвей писал, что король
«есть основание всех своих владений, солнце своего ма-
лого мира, сердце всего государства: от него всякая сила
возникает и всякая милость исходит»18. Кольбер, несо-
мненно, стремился употребить тот же самый образ и по
отношению к Людовику XIV. В реальности это означало,
что все потенциально независимые источники власти
и славы будут поставлены в зависимость от верховной
власти короля. А это означало, что нужно собрать вме-
сте и все науки, естественные и математические, при-
гласив всех лидирующих ученых, показавших отменные
практические результаты, в формально организован-
ную академию, которая является органом государства и
с точки зрения внутренней организации, и с точки зре-
ния решаемых задач. Именно этот план был вскорости
осуществлен, и в декабре 1666 г. Королевская академия
наук открыла свои двери.
Будучи важным государственным органом, Фран-
цузская академия, в отличие от итальянских академий,
имела штатное расписание: между действительными
членами были распределены обязанности и назначено
жалованье из казны. Членами Академии становились
не только французы — были и иностранные члены Ака-
демии, такие как нидерландец Христиан Гюйгенс, чьи
достижения в точных науках и развития картезианской
философии возвели его в число первых европейских
«физико-математиков». Также в состав первых членов
Академии вошел знаменитый итальянский астроном
Джованни Доменико Кассини, начинатель династии
Кассини, представители которой и определяли раз-
витие астрономии в Париже в течение всего XVIII в.
В первый состав Академии входило пятнадцать членов,
двенадцать из которых были французами (третьим ис-
ключением был датчанин Оле Ремер). Высокое жалова-
нье влекло в Париж в члены Академии самых известных
18 По изданию Франклина (Р. 3).
200 Питер Деар. Событие революции в науке
ученых, так, Гюйгенс не просто стал получать оклад
академика, но и поселился в квартире в самом Лувре.
Король (а в его лице — и государство) не жалел денег на
поддержку естественных философов.
При этом собрания Академии были строго регламен-
тированы, и были введены строгие правила поведения
членов. Академия заседала регулярно, дважды в неделю,
по средам и субботам. Такой порядок полностью отвечал
структуре Академии, разделенной на два отделения, со-
гласно общему пониманию строения естественного зна-
ния, которое было в те времена общепринятым. Одно
отделение было «математическим», а другое— «физиче-
ским», в неожиданном соответствии с тем дисциплинар-
ным разделением, которое было принято в университе-
тах и в свою очередь отражало восходящее к Аристотелю
понимание различия между этими двумя сферами знания
о природе. В математическом отделении занимались
математическими науками в уже известном нам смыс-
ле — это была не столько чистая математика, сколько в
большинстве случаев смешанная математика: а эта об-
ласть исследования была в XVII в. прозвана многими
практиками «физико-математикой». Тогда как механика,
астрономия, оптика и все обычные классические матема-
тические исследования о природе (которые любил, на-
пример, Гюйгенс) теперь находились под наблюдением
специальной секции, «физической»; к физике относи-
лось любое изучение природы, или, в аристотелевском
понимании, любое изучение естественного мира, кото-
рое имеет дело с качествами — от естественной истории
и химии до анатомии.
Хотя Гюйгенс предпочитал постулировать объясне-
ния через механические причины для широчайшего
круга физических феноменов, ломая своей механисти-
ческой теорией многие догматы физики, его пригла-
сили в математическое, а не в физическое отделение.
При этом такая явная зыбкость границ на раннем эта-
пе существования Академии не делала сами эти грани-
цы сомнительными. Главной задачей Гюйгенса было
Глава VI. Научная деятельность вне университетского куррикулума 201
тогда установление математических отношений между
эмпирически определимыми в природе количествами,
и уже решение этой «физико-математической» задачи
требовало в свою очередь поиска причин каждого фи-
зического явления19. Как мы уже говорили в гл. IV, в этом
выразился призыв к физическому объяснению всего
наблюдаемого, который и требовал всестороннего ус-
воения физико-математических принципов, которое в
Академии подавалось просто как «математика». Гюйгенс
писал в 1666 г. о будущей Академии: «Главным занятием и
наиболее полезным сего Собрания должно быть, по мо-
ему мнению, исследование естественной истории, в ма-
нере, предложенной лордом Веруламским» Фрэнсисом
Бэконом20. Естественная история, в бэконовском смыс-
ле, представляла собой повсеместное собирание фактов
о природе, и тем самым она не подлежала дальнейшему
подразделению, уже на смысловых основаниях.
Структура Академии, включавшая два отделения, ма-
тематическое и физическое, вовсе не должна была по-
ставить непроходимую границу между двумя группами
академиков. Ожидалось, что члены одного отделения
будут посещать заседания другого отделения, а не толь-
ко своего собственного. Другим примером политики
интеграции усилий Академии было распоряжение пер-
вым ценным подарком от короля — речь идет о лучшим
образом оснащенной Парижской обсерватории, кото-
рая начала работу с 1672 г. и действует по сей день. Было
оговорено, что обсерваторией должны пользоваться
все академические ученые (savants). Другое дело, что на
практике в этой обсерватории засел Кассини со своими
помощниками-астрономами. Другие ученые проводили
опыты в Королевской библиотеке, где находились ана-
томические, ботанические и другие коллекции, — таким
19 См. ниже, гл. VIII, раздел 1.
20 цит. по: Hahn R The Anatomy of a Scientific Institution: The Paris
Academy of Sciences, 1666-1803 (Berkeley, etc.: University of California
Press, 1971). P. 25.
202 Питер Деар. Событие революции в науке
образом, в обсерваторию в конце XVII в. приходили
только «математики».
Искомая сплоченность Академии выражалась также
в установленной практике публиковать все труды, как и
в Академии дель Чимено, под грифом и редакцией Акаде-
мии, без упоминания, кто именно из авторов что сделал
и кто какой текст написал. Конечно, мало кто хотел пе-
чатать свою работу без своего имени, и поэтому эта прак-
тика постепенно сошла на нет. Но вначале нужно было
показать, что математические и прочие гипотезы нуж-
даются в проверке коллег, и поэтому нужно публиковать
научные работы без указания имени автора, дабы все
члены Академии могли беспристрастно высказываться
по содержанию. Такая практика, сопоставимая с совре-
менными рецензируемыми изданиями, позволяла Акаде-
мии избегать чрезмерного роста чьего-либо влияния и
проверять каждую гипотезу на истинность совместными
усилиями.
Очевидно, что отношения между Академией наук и
величественным покровителем всех наук королем весь-
ма отличались от отношений между Академией дель
Чименто и принцем Леопольдом. Принц Леопольд
принимал непосредственное участие в эксперимен-
тах неформальной Академии, и из этой перспективы
вся группа действовала как опосредующее звено между
его интересами и всем научным миром. Тогда как Лю-
довик XIV научными делами Академии почти не инте-
ресовался. Академия была для него просто одним из
государственных учреждений со своими официально
определенными функциями (так, начиная с 1685 г. Ака-
демии было поручено выдавать патенты на изобрете-
ния, и эта практика была формализована регламентом
1699 г.). Людовик XIV только один раз за пятнадцать
лет с момента основания посетил Академию, да и то во
время торжественной закладки новой обсерватории,
что было чисто символическим шагом. Академия была
для Людовика XIV просто еще одним способом предста-
вить свою власть и славу. Как все помнят, он говорил:
Глава VI. Научная деятельность вне университетского куррикулума 203
«Государство — это я!» Академия наук была частью этого
государства, и все ее достижения записывались на счет
короля. В этом смысле Академия наук стала в конце
XVII в. местом образования той государственной науки,
о которой мечтал Бэкон.
Но, по иронии судьбы, самые преданно бэкониан-
ские научные общества XVII в. боролись за государствен-
ную науку не столь яростно, как это делала Французская
академия. Таковым было Королевское общество в Лон-
доне, созданное для разработки естественного знания:
неформально оно приступило к работе с 1660 г., тог-
да как королевские хартии получило в 1662 и 1663 гг.
По последней хартии (уставу) Общество работает и се-
годня. Отличие Общества от тех организаций, которые
были учреждены сверху, мы видим просто по истории
образования: Академиа дель Чименто была результатом
активного интереса самого принца Леопольда к работе
помогавших ему философов, пробивавшихся на тоскан-
ский двор, Королевская академия наук была создана как
официальная государственная организация, тогда как
Королевское общество было учреждено самими учены-
ми как союз единомышленников, желавших организо-
ванно вести изыскания в области естественной истории
и экспериментальной физики — при этом они подчер-
кивали (во всяком случае, на этом держалась их рито-
рика) потенциальную пользу всей их деятельности. Уже
сложившаяся исследовательская группа, определившая
свои цели и задачи, снискала королевское одобрение,
благодаря которому группа стала Королевским обще-
ством. При этом покровительство короля не шло дальше
дарования титула: Общество не финансировалось из го-
сударственного бюджета и вообще не получало никакой
материальной помощи от Короны21.
21 Правда, у этой научной организации было немаловажное пра-
во рекомендовать книги к печати в обход государственной цензуры.
См.: Hunter M. Science and Society in Restoration England (Cambridge:
Cambridge University Press, 1981). P. 36. Там же говорится об осторож-
ности, с которой ученые употребляли эту привилегию.
204 Питер Деар. Событие революции в науке
Рис. 22. Фронтиспис «Истории Королевского общества»
Томаса Спрата
Образованию Лондонского королевского общества
непосредственно предшествовали регулярные собрания
ученых в Лондоне уже в 1645 г. и также Клуб эксперимен-
тальной философии, созданный в Оксфорде в 1651 г.:
многие члены этого клуба и вошли в Лондонское обще-
ство. Год образования Королевского общества, 1660, был
и годом Реставрации монархии в Англии, после граж-
данских войн 1640-х гг. и правления Оливера Кромвеля
Глава VI. Научная деятельность вне университетского куррикулума 205
в 1650-х гг. Один из главных участников работы Обще-
ства, Джон Уилкинс, был зятем свергнутого Кромвеля,
но такое родство не помешало ему стать епископом Ан-
гликанской церкви в 1668 г. Уилкинс, назначенный рек-
тором (warden) Уодхемского колледжа в Оксфорде по
решению торжествующего политическую победу парла-
мента, принимал активное участие в работе Оксфорд-
ского клуба экспериментальной философии в 1650-х гг.,
и стал одним из научных руководителей Королевского
общества, хотя он не оставил Оксфорд ради Лондона.
Поразительной чертой новооснованного Королевского
общества было отсутствие политической партийности:
бывшие роялисты работали бок о бок с парламентариста-
ми, англикане сидели за одним столом с католиками. Это
была необычная для того времени солидарность: ученые
явно хотели уйти от средостений, воздвигнутых полити-
кой и религией. Как писал Томас Спрат в своей офици-
альной «Истории Королевского общества» (1667), одной
из задач Общества было отринуть в сторону «все страсти
и безумия нашего несчастного века» — так скорбно его
члены переживали период, предшествующий Реставра-
ции Карла II22.
Королевское общество было так далеко от интере-
сов своего августейшего покровителя, что король пре-
зрительно назвал его членов «мои глупцы», поставив им
на вид то, что они попытались определить вес воздуха.
В тогдашней политической атмосфере Англии, после
провала попыток установить абсолютистскую монар-
хию, отношения между государством и финансируемым
Короной научным обществом отличались свободным
распределением власти и сохранением автономии дея-
тельности — это была полная противоположность ситуа-
ции в абсолютистской Франции.
Сообразовываться с новой политической ситуацией
Реставрации было лозунгом Королевского общества:
22 Sprat T. History of the Royal Society (London, 1667; repr. Saint
Louis: Washington University Press, 1958). P. 53.
206 Питер Деар. Событие революции в науке
оно было учреждено королевской хартией, всячески
декларировало верность королевскому политическому
курсу и одновременно показывало немалую терпимость,
с одной-единственной целью, чтобы его не отождест-
вляли с какой-то политической позицией, ведь поляри-
зация и накал страстей в тогдашней политике достигли
предела. Но, несмотря на такое культивирование лояль-
ности, двери Общества были открыты для талантов не-
зависимо от их происхождения: во многих отношениях
Общество действовало как клуб джентльменов: в него
могли вступать мужчины, обладавшие определенным
прочным социальным положением. Оба этих требова-
ния иллюстрирует одно событие времен начала суще-
ствования Общества: это визит Маргарет Кавендиш,
графини Ньюкасла. Маргарет Кавендиш не просто при-
надлежала к семейству, которое внесло значительный
вклад в развитие английской естественной философии в
XVII в., она и сама была автором трактатов по естествен-
ной философии, правда с антиэкспериментаторским
уклоном, в духе Томаса Гоббса, который, как мы скажем
ниже (гл. VII), спорил с экспериментальными принципа-
ми Королевского общества. Тем не менее, хотя она была
женщина, ей было разрешено принимать участие в со-
браниях Общества, и об этом было принято постановле-
ние в 1667 г. Такую встречу ей оказали благодаря ее ари-
стократическому происхождению: ее социальный статус
был выше, чем у мужчин, входивших в Общество. Сход-
ными привилегиями воспользовались королева Кристи-
на Шведская и принцесса Елизабет Богемская: они стали
сотрудничать с Декартом (а Елизабет даже пользовалась
интеллектуальной щедростью великого философа).
Но все-таки социальный фактор был важнее интеллекту-
ального; так, в то же время философские работы выпу-
скала леди Энн Конуэй, которая была даже именита, но,
в отличие от своих братьев, не могла попасть ни в один
университет. Но и аристократка Маргарет Кавендиш,
хотя и выпускала труды по естественной философии,
осталась только кандидатом в члены Общества и так
Глава VI. Научная деятельность вне университетского куррикулума 207
и не стала действительным членом23. В своей институ-
циональной форме Королевское общество следовало
мужской корпоративной модели колледжей Оксфорда
и Кембриджа, Коллегиума физиологов, Англиканской
церкви и парламента — таким образом, в принципах на-
бора новых членов Королевское общество не создало
ничего революционного.
Но тем не менее, что прозвучит иронично, Королев-
ское общество стремилось легитимировать свою роль
в тогдашней Англии тем, что разнообразило свое член-
ство в социальном отношении — конечно, сохраняя при
этом принятые тогда традиции. Отсутствие явных пар-
тийных и групповых интересов позволяло представить
Общество политически благонадежным как с точки зре-
ния правительства, так (что не менее важно) и с точки
зрения организованных социальных групп, готовых от-
стаивать свои корпоративные права. К таким группам
следует отнести все университеты (а в тогдашней Англии
было только два университета — Оксфорд и Кембридж)
и Коллегиум физиологов — именно из этих «углов» зву-
чала критика по адресу Общества в первые десятилетия
его существования. Общество сразу же при этом озабо-
тилось пропагандистским ресурсом: им стала «История
Королевского общества» Томаса Спрата (1667), в кото-
рой подчеркивалось важное заявленное свойство Обще-
ства— его потенциальная полезность как института,
23 Труды Конуэй и Кавендиш в последнее время были изданы
или переизданы: Conway A. The Principles of the Most Ancient and
Modern Philosophy / Ed. Allison Coudert and Taylor Corse (Cambridge:
Cambridge University Press, 1996) — в этой работе автор говорит о важ-
ности естественной философии для богословия; Cavendish M. Grounds
of Natural Philosophy / Intro, by Colette V. Michael (West Cornwall,
Conn.: Locust Hill Press, 1996); Idem. Paper Bodies: A Margaret Cavendish
Reader / Ed. Sylvia Bowerbank and Sara Mendelson (Peterborough, Onta-
rio: Broadview Press, 2000); Idem. The Description of a New World Called
the Blazing World and Other Writings / Ed. Kate Lilley (London: Picke-
ring, 1992) — в эту книгу включены фантастические и моральные про-
изведения Кавендиш. См. об участии женщин в разработке проблем
естественной философии также гл. VIII, раздел 1.
208 Питер Деар. Событие революции в науке
изучающего деятельностные аспекты природы. Для
самосознания Общества, которое конструировало соб-
ственный образ для других, была важна его связь с про-
ектом лорда Веруламского Фрэнсиса Бэкона.
Бэкон говорил, что та естественная философия мо-
жет быть названа настоящей, которая полезна всему
человечеству, и в частности — британской нации. Ко-
ролевское общество взяло это на заметку и стало де-
лать все, чтобы при разговоре о Королевском обществе
вспоминалось имя Бэкона. Риторика Бэкона пользова-
лась немалым успехом в культуре 1640-1650-х гг. и ассо-
циировалась уже с проектами реформы, предлагавши-
мися людьми времен Великой английской революции,
которых объединяли только монархические симпатии.
Но Бэкон остался паролем научных «заговорщиков» и
после Реставрации, и такая тесная ассоциация бэкониан-
ства с монархическим типом правления, без сомнения,
способствовала тому, чтобы философия Бэкона увенчала
научную деятельность 1660-х гг. Об этом с очевидностью
говорит даже титульный лист «Истории» Спрата: на нем
изображены две сидящие по обе стороны от бюста на
пьедестале фигуры. Бюст изображает Карла II, короля-
покровителя Общества, в посвятительной надписи на
пьедестале он именуется «автором и патроном», иначе
говоря, начинателем и побудителем всей деятельности
Общества, — мы видим смутное отражение мотива «ко-
роля-солнца». Одно из сидящих лиц— это президент
Общества лорд Брункер, политически очень подходя-
щая фигура, он сопровождал Карла в изгнании в Нидер-
ландах, до его возвращения в Англию в начале Реставра-
ции. Другое лицо — Фрэнсис Бэкон, лорд Веруламский,
обозначенный подписью как «возобновитель искусств»
(atrium instaurator) — речь идет явно как о свободных ис-
кусствах, так и об искусствах механических, в согласии с
побуждением Бэкона объять все существовавшие на его
момент знания.
Книга Спрата должна была оправдать такой титани-
ческий образ, а значит, назвать все достижения членов
Глава VI. Научная деятельность вне университетского куррикулума 209
Общества за небольшой тогда срок его существования.
Но главным средством связи с общественностью для Об-
щества был журнал. «Философские труды» начинались
как частное доходное предприятие секретаря Королев-
ского общества Генри Ольденбурга, который оставался
редактором журнала до своей смерти. Ольденбург был
немцем по происхождению, в Англию он переехал в
1653 г. и с тех пор переписывался со всеми крупными фи-
лософами того времени. Журнал «Философские труды»,
основанный в 1665 г., подчеркивал и его роль как «дея-
теля мысли» (intelligencer— трудно переводимое слово
XVII в.), но при этом он сразу же приобрел репутацию
органа Королевского общества. Просто Ольденбург вел
переписку теперь уже в качестве секретаря Общества,
и те письма, которые он публиковал в журнале, он уже
получал как официальное должностное лицо. При этом
«Философские труды» были признаны органом Королев-
ского общества только в середине XVIII в., когда на ти-
тульном листе так и стали печатать «Философские труды
Королевского общества».
В предисловиях Ольденбурга к каждому выпуску этого
ежегодника мы встречаем щедрые горсти бэконовской
риторики: Ольденбург подчеркивает и важность всех
работ, публикуемых в журнале, и причины того, почему
главным стало собирание эмпирических фактов, начало
которому в естественной философии положил Верулам-
ский мудрец. Одним из признаков такого практического
бэконианства была скудость в журнале статей, которые
могли бы показаться слишком теоретическими, гипоте-
тическими или спекулятивными. Ниже (гл. VII) мы отме-
тим, что такая политика была вовсе не безупречна, как
показала научная судьба Исаака Ньютона. Но то же самое
можно сказать и о научной деятельности самого Обще-
ства: публикаторские предпочтения Ольденбурга вполне
встраивались в поставленные лидерами Общества за-
дачи. На собраниях Общества мы встречаем те же пре-
имущественные интересы, на которые отвечают «Фило-
софские труды»: на этих собраниях часто зачитывались
210 Питер Деар. Событие революции в науке
Рис. 23. Вид препарированной блохи из «Микрографии» Р. Гука
и обсуждались полученные Обществом письма, которые
и печатал в своем журнале Ольденбург.
Литературная продукция Общества включала все кни-
ги членов Общества, напечатанные по его решению. Так,
скажем, книги Роберта Бойля широко читались по всей Ев-
ропе и считались наиболее представительными примера-
ми деятельности Общества. Следует заметить, что 1енри
Ольденбург нес на себе большую часть работы, и именно
он готовил к печати книги Бойля в 1660-1670-х гг. По боль-
шей части эти книги выходили у других издателей, а не
в самом Обществе — среди тех немногих книг, которые
считаются изданиями Общества, есть две такие важные
книги, как «Микрография» (1665) Роберта Гука и «Нача-
ла» (1687) Ньютона. «Микрография» представляла собой
первую иллюстрированную книгу, посвященную наблю-
дениям под микроскопом (правда, «Экспериментальная
философия» Герни Пауэра, другого члена Королевского
Глава VI. Научная деятельность вне университетского куррикулума 211
общества, тоже рассказывающая о микроскопических на-
блюдениях, вышла годом раньше, но в ней были только
схемы, а не иллюстрации). Тщательно выполненные гра-
вюры, часть из которых была изготовлена Кристофером
Вреном, другим членом Общества, известным как архи-
тектор собора Святого Павла в Лондоне, показывают
всю странность мира, увиденного под микроскопом. Хук
показывает, сколь неровными оказываются и вещи, соз-
данные искусством (нитки, дыры от иглы, буквы в книге),
и природные вещи (так, он открыл клетки, разглядев их в
пробке, и детально описал анатомию мелких насекомых).
Оказалось, что те предметы, которые мы привыкли вос-
принимать как тонкие, мелкие и потому безупречные по
форме, оказались крайне нелепыми, только в природных
объектах, в отличие от человеческих изделий, наблюда-
лась скрытая гармония.
Конечно, для издания такой объемистой книги, как
«Начала» Ньютона, средств Королевского общества не
хватило бы. Бюджет Общества был крайне скуден, по-
тому что, в отличие от коллег из Французской академии
наук, члены Общества не получали никаких субсидий,
а, напротив, платили взносы, на которые и организовы-
вались научные мероприятия. Конечно, такое положение
дел трудно признать нормальным: любой финансовый
кризис сразу же блокировал научно-исследовательскую
работу. В середине 1680-х гг. Общество как раз оказалось
в финансовой яме, и Эдмунд Галлей (ученый, именем
которого позднее будет названа комета) был вынужден
оплатить публикацию «Начал» из своего собственного
кармана. Расходы частично удалось возместить прода-
жей тиража дорогой, но при этом пользовавшейся спро-
сом книги: это «История рыб» Фрэнсиса Уиллоби (слово
«история» здесь означает естественно-научный компен-
диум, в этом же смысле употреблял слово и Бэкон).
Но стремление обществ организовывать научные
публикации отражало характернейшую тенденцию в но-
вых формах организации научного обсуждения в этот
период. Поскольку научные общества были независимы
212 Питер Деар. Событие революции в науке
от университетов (и до некоторой степени — и от своих
высокопоставленных покровителей), то они должны
были подтверждать свою научную идентичность выпу-
ском книг под собственным грифом. Но часто случалось,
что, поскольку научные общества пользовались государ-
ственным покровительством (в лице августейшего па-
трона) , в этих книгах нужно было авторитетно высказать
не просто правоверные научные суждения, но и правиль-
ные политические взгляды, отвечающие нынешнему
курсу власти.
Наконец, следует упомянуть еще одно «место», на ко-
тором можно было проводить исследование природы:
это свой собственный дом. Некоторые ученые приспосаб-
ливали собственное жилище для этих целей и требова-
ли от женщин и слуг помогать им в проведении опытов
(таким образом, люди, не обладавшие никаким социаль-
ным статусом, тоже помогали формированию научного
знания в период раннего Нового времени). Нельзя не за-
метить, что в доме, с принятым в нем разделением функ-
ций, создавался очаг возникновения знаний, что косвен-
ным образом содействовало повышению социального
статуса естественного философа. Теперь материальные
и социальные ресурсы могли сделать это знание автори-
тетным для окружающих.
5. Институты для покорения пространства:
естественная история и глобальное распространение
европейского влияния
Открытие Америки испанцами и путешествия жите-
лей разных стран в неведомые дотоле края, как на запад,
так и на восток от Европы, положило начали экспансии
европейской цивилизации не только в географиче-
ском, но и в интеллектуальном и экономическом смыс-
ле. В XVI в. на карте мира все время появлялись новые
познанные «местности», куда теперь можно было от-
правиться на корабле, но также появилось и множество
Глава VI. Научная деятельность вне университетского куррикулума 213
прежде неведомых вещей и явлений, к которым еще над-
лежало приспосабливаться и приноравливаться. Что
чувствовал тогдашний европеец, когда видел, как мир
трансформируется у него на глазах? В книгах древних
авторов содержались сведения обо всем, что, как пред-
полагалось, существует на земном шаре: так, астроном
Птолемей в своей колоссальной «Географии» предви-
дел открытие новых земель — но все его видение было
ограничено Средиземноморьем, даже Европа не была
ему хорошо известна. В трудах Аристотеля и его преем-
ника Феофраста описывалась вся известная тогда фло-
ра и фауна, но после открытия Нового Света эти све-
дения оказались совершенно устаревшими. При этом
встал важнейший вопрос: можно ли руководствоваться
в науке теми старыми принципами, которые положены
в основу известных со студенческой скамьи сочинений?
Можно ли сохранить все старые интерпретативные
схемы, просто расширив список номенклатуры и введя
в него обнаруженные в Новом Свете растения и живот-
ных. Но была и другая проблема, связанная с освоени-
ем нового знания: на какой авторитет нужно опираться
при расширении географических рамок естественной
истории и благодаря каким ухищрениям описание но-
вых организмов будет интегрировано в состав общепри-
нятого знания?
Европейская наука, чтобы объять открывшийся
людям мир, должна была этот мир одомашнить. Пока
знание таких мест, как Южная Америка, не было под-
чинено европейским нормам, оно не могло пополнить
число общепринятых истин, на которых и строилось
законное научное знание в Европе. Вообще говоря,
это было знание местных частностей, а не универсаль-
ных истин, которые могли бы прояснить их смысл, это
было знание отдельных видов растений и животных
или тех скальных типов, которые впервые встретились
только за океаном. В конце XVI — начале XVII в. Иезу-
итский орден создал изощренную и хорошо организо-
ванную международную сеть, с которой ничто не могло
Рис. 24. Ботаническое изображение клевера из «Методического
обзора британских растений» Джона Рея (Synopsis Methodica Stirpium
Britannicarum, 1690, 3-е изд. 1724). Наравне с натуралистическим
воспроизведением растения отмечены важные для таксономии
характерные черты данного растения
Глава VI. Научная деятельность вне университетского куррикулума 215
сравниться в мире. Иезуитские миссии, организованные
в таких дальних странах, как Китай и Канада (которые,
иногда скрыто, должны были облегчить и организацию
торговли), обязаны были отчитываться перед европей-
ским начальством регулярно об увиденном и узнанном:
этот ресурс познания много десятилетий служил для по-
полнения знаний о природе с философскими целями.
В XVII в. самым крупным ученым, который пользовал-
ся всеми возможностями иезуитской научной сети, был
Афанасий Кирхер (1601-1680), член иезуитского Колле-
гио Романо. Научные интересы Кирхера не знали гра-
ниц: он вел огромную переписку с коллегами-иезуитами
по всему миру, и в них он обсуждал помимо естественно-
научных и географических сведений строение языков
в мире, культурные практики разных народов и племен
и прошлое недавно открытых земель. Кирхер стал глав-
ным узлом всей этой сети обширной иезуитской корре-
спонденции, а если учесть и множество написанных и
выпущенных им книг, его можно считать главной фигу-
рой в облегчении организации всех этих репортажей
смешанного содержания из-за границы. Он, например,
на основе предоставленных ему сведений составил пер-
вую карту течений в Мировом океане. Конечно, все эти
титанические усилия Кирхера определялись в первую
очередь его личным желанием создать долгосрочное
институциональное сотрудничество внутри ордена, и во
многом то же самое можно сказать и о позднейших уче-
ных-иезуитах, которые пользовались преимуществом
своего положения для интенсивной научной работы.
А то, что иезуиты могли заниматься научной работой
вдоволь, было обусловлено в первую очередь тесной свя-
зью в ордене административной организации и системы
обмена научными сведениями: все политические воз-
можности ордена и породили приобретение и потреб-
ление знания уже в планетарном масштабе. Иезуитский
миссионер Маттео Риччи в начале XVII в. смог употре-
бить свои математические способности (а мы уже гово-
рили в гл. IV, как высоко иезуиты ставили математику
216 Питер Деар. Событие революции в науке
в системе наук) для того, чтобы, показав себя полезным
в экономике и планировании, проникнуть ко двору ки-
тайского императора и там предпринять важные ди-
пломатические шаги, и даже пытаться распространять
христианскую веру. В это же время создавались столь же
обширные торговые и военные сети: их организаторами
могли быть правительства, а могли быть частные орга-
низации, деятельность которых проходила под контро-
лем правительства, такова, например, голландская Ост-
Индская компания (основана в 1602г.), ив чем-то эти
масштабные имперские организации продолжили дело
смиренных монахов.
Нужды торговли, конечно, более всего стимулирова-
ли институционализацию этого рода знания, благодаря
которому присутствие Европы стало чувствоваться во
всем мире. Нидерланды, ставшие в конце XVI в. могуще-
ственной купеческой державой, а также Франция показа-
ли со всей отчетливостью, что географическая экспансия
была только началом более общей экспансии — распо-
ряжения техническими и естественно-научными сведе-
ниями этого времени. Но прежде чем мы изучим этот
вопрос, мы должны взглянуть хотя бы мимоходом на си-
туацию, сложившуюся в некоторых регионах Италии в
XVI в. Тогда мы лучше поймем те возможности, которые
обрели в это время другие европейские державы.
Музеи естественной истории и ботанические сады
стали во множестве возникать в Италии с середины
XVI в. Смысл этих коллекций не так прост, как это ка-
жется на первый взгляд. Так, скажем, Улисс Альдрован-
ди основал частный музей в своих владениях и одно-
временно — ботанический сад в Болонье. Гораздо легче
объяснить его последнее начинание: ведь ботанические
сады существовали уже много веков, обычно они заво-
дились при монастырях, и их целью были фармацевти-
ческие поставки — траволечение было важной отраслью
тогдашней медицины. Первый ботанический сад нового
типа был создан при Пизанском университете в 1543 г.,
и в последующие два десятилетия все прочие крупные
Глава VI. Научная деятельность вне университетского куррикулума 217
итальянские университеты обзавелись ботаническими
садами — по тем же принципам был создан и сад Альдро-
ванди. Устройство ботанических садов нового типа во
второй половине XVI в. было частично ответом на на-
плыв огромного количества новых видов растений, ко-
торые привозились в Европу из Нового Света. Но ввоз
новинок сразу подорвал старый авторитетный принцип
организации ботанического сада: в нем демонстрирова-
лись экзотические растения, которым невозможно было
найти никакого медицинского применения. Организа-
торы ботанических садов столкнулись с простой дилем-
мой: вся естественная история их времени укоренена в
античных тестах, но границы естественно-научного зна-
ния были раздвинуты географическими открытиями и
дальнейшим освоением новых земель. И тогда чем долж-
ны руководствоваться коллекционеры? Разве они смогут
классифицировать растения с античными пособиями в
руке? И как должен выглядеть ботанический сад, в кото-
ром высажено так много новинок?
Есть немалая ирония (разрешающаяся не меньшим
удивлением) в том, что создатели музеев и садов не
нашли ничего лучшего, кроме как приспособить ново-
обретенные знания к старым когнитивным моделям.
Библейские повествования по истории природы и че-
ловечества, считавшиеся образцовыми, были приложе-
ны к новооткрытым народам. Встречаясь с жителями
Нового Света, европейцы сразу задавались вопросом,
кто эти люди и когда в библейские времена они рассея-
лись по лицу земли. Можно ли думать, что американские
аборигены — это потерянные колена Израиля? Не те ли
они потомки Ноя, которые заселяли всю землю после
библейского потопа? Или (редкое и, безусловно, ерети-
ческое мнение) это потомки людей, живших до Адама и
потому не входящих в библейскую генеалогию? Но в лю-
бом случае исследователи природы того времени не счи-
тали, что новые объекты ломают классические нормы
изложения: новые растения и животных можно было
описать по античным моделям. Наиболее подходящим
го
H I S Т О R
LANTARUM.
ÇPerfeÛtt/t qui pctalis, ftylo & ftaminibus confiât; eftqucvel
ÇSimfltx, qui in flofculos non dividitur, ifquô vel
enoptaUs, qui unico petalo five lamina continua confiât, ut in CatvohuU
Campanula, &u éftquc vel *
'Uniformis, qui dextram partem fîniftrae, & anteriorcm pofteriori fîmilcin,
inferiorem iûpcriori ûifHmilem obonct, ut in Cmwivulo. Ejftquc mar-
ginc rd
, ut in ConvolvuU,
hijffi, différentes
N*mero, înnonnullisfci. très, in aliis quatuor, velquinque, vcl-foc:
iacinix fùnt.
,Ftiur4, vel angulofa, vel rotunda.
Diformù, cujus nontantùm fûperiora ab inferioribui^ fed &anteriora à po-
fticis différant, éftque vel
Bos eft
vel
tris, utin Arißolochla.
ÎLabiatut, Iabio
rUfiieo, eoque vel fufericrt, ut in Aeantbo faiivo ; vel infame, ut
T < in Scordio, &c
J LDuobus, fiiperiorevel
IrReflexo fùrfum, üt in Cbamacißo.
JCorrucxù five déorfîim reflexo, five galeato, ut in Lomio & plc-
• с rifque Verticilbös.
I CorvkulatKs corniculo feu cajcaneo conavo &C impcrvio retroriura cx-
l tenfb, ut in DilfbiniO) Linaria, 6cc
!oj f\vt multifolius eft qui pluribus pctalû in unica feric aut dreuio di/po-'
Wyjttahs five multifolus eft qu
ims componitur î éftque vd
ifUnifirmis, inqi
I interdum v
figurf & fitu conveniunt, quamvis magnitudine
L— vel
w Tblafri, &C.
^\Vtntàftt*Ut, Ut in LjchnîJe, Carjôfbjîlo, Atßnt, Sec.
f {Hcxapetehf, ut in BulboGs. foijfitalos in aliis.
{Difvrmis, ut in И»Ь, Tapihonaceii, &C
Compofîtui, qui ex pluribus flolculis, quorum finguli fingulis infident fcminibus, in
unum toralem fiorem cocunobus conftat; éftque vel
fDiftoiits, in quo flofculi breves, arâè compreffi unam quafi planam ftperficiem
componunr, ut in Calmiultt, &c. eft vcf
uj, limbo vcl margine foboram planorum difoim cingente; fbUis
NatmA flenut, ut in Pappofis la&efcentibus.
{jFtjtularit,, ut in CapitAQ5 diftb, Jaeea, Ceriuo, &C.
îmferftBus, qui harum partium aliqua ciret.
Рис. 25. Таблица таксономических «различений», необходимых для
классификации растений независимо от места их произрастания.
Из «Истории растений» (1686) Джона Рея
Глава VI. Научная деятельность вне университетского куррикулума 219
примером описания были труды древнеримского уче-
ного Плиния Старшего. Описательный метод его «Есте-
ственной истории» чуждался всякой систематизации,
и те немногие обобщения, которые в нем содержались,
вряд ли серьезно пострадали бы от новых открытий.
Плиний Старший учил современников географических
открытий, как можно говорить о новых видах: как их
описывать, обсуждая в том числе их культурно-эмблема-
тический смысл и практическое применение.
Во Франции главным институтом, который занимался
естественной историей, стал «Королевский сад» (Jardin
de Roi, или «Ботанический сад», Jardin des Plantes) в
Париже. Он был основан в первой половине XVII в. по
образцу итальянских ботанических садов — иначе гово-
ря, изначально произрастаемое в нем должно было слу-
жить медицинским целям. Первый случай подражания
французов итальянцам в этом отношении, причем с не-
пременным прикреплением к университету, был сад в
Монпелье, разбитый в 1593 г. по приказу французского
короля Генриха IV. Парижский сад был создан, вопреки
острой критике со стороны медицинского факультета,
по почину Гюи де Ла Бросса, личного врача Людови-
ка XIII. (Королевский указ о его основании был подписан
в 1626 г.) Как и итальянские прообразы, «Королевский
сад» должен был стать хранилищем и питомником боль-
шого списка растений, используемых в медицине, и если
говорить об университетском понимании задач такого
сада — его хранители должны были вести учет большо-
го количества медицинских трав, которых нет в описа-
нии древнегреческого ботаника Диоскорида, потому что
эти травы произрастают только в Северной Европе или
в краях Нового Света. Как и в случае Плиния, наследие
Диоскорида не было дискредитировано объемом ново-
открытого материала: то, что, с нашей точки зрения, ка-
жется аргументом против старой системы, тогда обычно
толковалось просто как взывающее к дальнейшему совер-
шенствованию. А так как Гюи де Л а Бросс был также глав-
ным французским адептом новых, прежде неслыханных
220 Питер Деар. Событие революции в науке
химических лекарств, которые были изобретены в XVI в.
Парацельсом, «Королевский сад» был также дополнен
хорошо оборудованной химической лабораторией.
В первом каталоге «Королевского сада», вышедшем в
1636 г., перечисляется более 1800 различных растений.
Такие количественные показатели свидетельствуют о
трудностях таксономической классификации, которые
начали уже сбивать с толку всю европейскую ботанику и
привели в конце XVII в. к разработке разветвленных сис-
тем классификации, примеры которой дали Джон Рей в
Англии и Джозеф Питтон де Турнефор во Франции, пока
в 1730 г. шведский ученый Карл Линней не решил проб-
лему созданием классификации, не допускающей нало-
жений и путаницы. Но гораздо важнее было то влияние
географических открытий на ботаническую практику,
которое только косвенно связано с увеличением числа
подлежащих описанию объектов. Прежде всего следу-
ет заметить, что сам смысл коллекции поменялся: уже
в Италии XVI в. Альдрованди и другие ботаники стали
собирать действительные образцы растений, а не про-
сто описывать их под открытым небом. Это существен-
но для понимания самого состава естественно-научного
знания: оно стало ориентироваться не на наблюдение,
а на разбор большой коллекции образцов, привезенных
из разных концов мира. Также потребовалась и новая
классификация растений: нужно было создать универ-
сальные имена растений, применимые везде и позволя-
ющие без труда разместить все образцы в таксономиче-
ской системе.
Но было и другое влияние географических открытий,
которое следует назвать психологическим. Сопоставле-
ние двух ключевых фактов, распространения естествен-
но-научного знания и роста географического знания, ко-
торое уже не раз проводилось в трудах Фрэнсиса Бэкона,
изменило сам способ восприятия естественного мира.
В 1630-х гг. голландский дипломат Константин Гюйгенс,
отец физико-математика Кристиана Гюйгенса, написал
следующие слова о пользе увеличительных линз:
Глава VI. Научная деятельность вне университетского куррикулума 221
И тогда, различая собственными глазами все так, как
будто мы трогали это руками, мы бредем через целый мир
тончайших созданий, доселе неведомый, словно это толь-
ко что открытый на земном шаре континент24.
Итак, мы видим, что окружающий человека есте-
ственный мир стал пониматься как широкое поле ис-
следований: чем дальше мы идем, тем больше расширя-
ются наши горизонты. Институциональные результаты
такого нового мироощущения можно разглядеть во мно-
гих европейских странах. Бэкон, который первый стал
смотреть на естественную философию как на процесс
открытий, как мы помним, начал с того, что предложил
в 1590-х гг. королеве Елизавете основать ботанический
сад, который должен входить в состав национального ис-
следовательского института25. В Италии само название
Академии Рысей (Accademia dei Lincei) задерживало вни-
мание своей образностью: в нем отразилось то же самое
понимание научного опыта, которое более художествен-
но описал Константин Гюйгенс.
Итак, открытие новых континентов и расширение
границ обитаемого мира в результате великих географи-
ческих открытий стимулировало развитие институтов,
которые усиленно культивировали кумулятивное зна-
ние естественного мира. Говоря одним словом, появи-
лось само понятие научного поиска (research). Научный
поиск подразумевает существование вещей, которые
только предстоит открыть; и все эти вещи, как уверял
нас еще Фрэнсис Бэкон, могут иметь большое практи-
ческое значение. Практическое значение открытых
вещей, говорил Бэкон, — это не просто важный фактор
жизни людей: практическая польза раскрывает перед
нами истину, доселе сокрытую в неведомых вещах. Зако-
ны о торговле, технологические улучшения в индустрии
24 Цит. по: Alpers S. The Art of Describing: Dutch Art in the Seventeenth
Century (Chicago: University of Chicago Press, 1983). P. 17.
25 См. выше, гл. Ill, раздел 3.
222 Питер Деар. Событие революции в науке
и агрикультуре— вот сердцевина реформ, предприня-
тых в Англии середины XVII в. республиканскими бэко-
нианцами. Эти реформы не были подавлены во время
Реставрации, все рациональные предложения подхвати-
ло новообразованное Королевское общество.
Исследование было в эту пору самым тесным образом
связано с идеей открытия, и здесь проглядывает очень
важное и специфическое значение этого слова. «Откры-
тие» — это не просто находка того, что ранее было неиз-
вестно, как, скажем, новый остров или новая форма ма-
тематического анализа (слово «открытие» прилагалось и
к тому, и к другому). Открытие — это получение нового
знания и интеграция его в систему, словно в общее хра-
нилище европейского знания, ради его дальнейшего
эффективного использования. Это хранилище не явля-
ется общедоступным— ведь, чтобы им распоряжаться,
нужно иметь хорошую подготовку. Поэтому и создава-
лись формальные организации, которые и должны были
быть хозяевами знания под руководством национальных
правительств и их деятелей. Хотя первыми официально
устроенными институтами, назначенными направлять
науку, были Королевское общество в Лондоне и особен-
но Академия наук в Париже, уже в конце XV в. экспансия
европейской цивилизации поднимает новые пласты зна-
ния и все больше связывает свою судьбу с наукой. Конеч-
но, о науке говорили не так много, и поэтому казалось,
что она бедная родственница торговли, дипломатии и
колониальной активности. Но на самом деле наука на-
равне с этими практиками входила в единую глобальную
сеть европейского влияния.
Глава VII
ЭКСПЕРИМЕНТ: КАК В XVII В. УЗНАВАЛИ,
ЧТО ТАИТ В СЕБЕ ПРИРОДА
1. Переустройство опыта
Аристотель недвусмысленно заявлял, что всякое зна-
ние имеет свои основания в опыте. Его позицию под-
хватили схоласты-аристотелики, заявившие, что «нет
ничего в уме, чего бы прежде не было в чувствах». Это
высказывание существовало как общепризнанная фило-
софская максима на протяжении всех Средних веков1.
Но тем не менее многие философы XVII в., отрицавшие
традиционный аристотелизм, стали критиковать притя-
зания философии прошлого, которая, хотя и заявляла о
первичности чувственного опыта, обычно пренебрегала
всеми теми уроками, которые дают нам чувства. Фрэнсис
Бэкон был только одним из многих, кто настаивал, что
Аристотель «в большинстве случаев не спрашивал со-
вета опыта. ...он принимал решения произвольно и вы-
ставлял опыт своим пленным рабом, которого он пытал,
приспосабливая к своим изначальным мнениям»2. Бэ-
кона поддержали многие, и стало хорошим тоном гово-
рить, что аристотелевская философия в течение многих
1 См.: CraneßeldP. On the Origins of the Phrase Nihil est in intellectu
quod non prius fuerit in sensu //Journal of the History of Medicine 25
(1970). P. 77-80.
2 Бэкон Ф. Новый органон. Кн. I, аф. 63.
224 Питер Деар. Событие революции в науке
веков была погружена в логические вопросы, в разборы
тонких различий между словами и поэтому была не спо-
собна ухватить те вещи, о которых говорят нам чувства.
Риторика основанного Бэконом Королевского общества
служила пропаганде именно такой картины аристотелиз-
ма, и защитники нового понимания опыта непрерывно
нападали на схоластическую увлеченность словами, ме-
шающую правильно воспринимать вещи.
Галилей, как и многие другие, решил выразить в
драматической форме пустоту официальной школьной
философии. В «Диалоге» Галилея (1632) один из его ге-
роев, Симпличио (имя, соответствующее имени знаме-
нитого комментатора Аристотеля, а также означающее
«простак», указывает на адептов Аристотеля), пытается
объяснить, почему тела падают, простой ссылкой на их
тяжесть. Сальвиати, который выражает позицию само-
го Галилея, высмеивает его за то, что простое называ-
ние одного слова («тяжесть») он выдает за объяснения.
Что заставляет тяжелые «земляные» вещи стремиться
книзу? «Причина такого действия, — говорит Симпли-
чио, — хорошо всем известна; всякий вам скажет, что
это тяжесть». — «Ты не прав, Симпличио, — отвечает ему
Сальвиати, — в чем твоя заслуга, если каждый знает, что
такая вещь зовется тяжестью. Я спрашиваю тебя не об
именовании этой вещи, но о ее сущности, а об этой сущ-
ности ты знаешь не больше, чем о сущности того, что
движет звезды по кругу»3.
Почему же критики отождествили естественную
философию Аристотеля с пренебрежением уроками
опыта и почтением к одним только словам? Чтобы от-
ветить на этот вопрос, мы должны разобраться, что в
XVTI в. с таким упорством стали понимать под опытным
знанием. Как мы говорили в самом начале книги (гл. I,
раздел 1 ), философия Аристотеля делала ставку на пони-
мание, а не на открытие. Хотя на практике Аристотель
интересовался эмпирическими фактами любого рода
Галилео Галилей. Диалог...
Глава VII. Эксперимент: как в XVII в. узнавали, что таит в себе природа 225
(что доказывают его труды по зоологии), прежде всего
он стремился решить проблему, каким образом мы пони-
маем себя и мир вокруг нас. В более отвлеченных фило-
софских трудах, таких как «Метафизика», и в логических
трудах он отодвигал уроки, данные чувствами, на второй
план, предпочитая им разбор вопросов аргументации,
понимания и терминологического оснащения нашего
опыта. Во «Второй Аналитике» Аристотель попытался
показать, каким образом должна быть устроена идеаль-
ная наука, чтобы она смогла вобрать в себя все правиль-
ное знание об эмпирическом мире, при этом вопрос о
путях приобретения этого знания не был центральным
и, более того, не приводилось ни одного примера ве-
рификации эмпирического знания. Поэтому, когда по-
следователи Аристотеля начинали работать в области
естественных наук, они считали, что все эмпирически
добываемые истины нужно употреблять в готовом виде и
единственная задача ученого — объяснить происходящее
в эмпирическом мире с высоты своего знания. Мир Ари-
стотеля не был для них миром, в котором можно открыть
несчетное множество новых вещей: как бы много вещей
в этом мире ни было, многие из них уже признавались из-
вестными, и нужно было только объяснить, почему они
таковы, а не другое4. Конечно, сам Аристотель вряд ли
думал, что дело ученого ограничивается объяснением:
но именно такие уроки извлекли из его сочинений его
схоластические последователи — объяснение они счита-
ли и самой интересной, и легче всего передаваемой при
обучении практикой.
Типичным способом выразить эмпирический факт
для такого аристотелика было обозначить, каким об-
разом эта вещь работает. Для этого достаточно было
назвать какой-нибудь аспект, сказать «Тяжелые тела па-
дают» — такое утверждение становилось неоспоримой
точкой отсылок в сложном переплетении объяснений,
которые вовлекали в себя и элементы, и их естественные
4 См. гл. VI, раздел 5, о смысле слова «открытие» в XVII в.
226 Питер Деар. Событие революции в науке
движения, и конечные причины, и саму структуру космо-
са5. Все эти утверждения обычно выступали в предельно
обобщенной форме, а вовсе не в виде единичных при-
меров опыта, относящихся к каким-то локализованным
во времени событиям. Никто не имел права сказать «это
конкретное тяжелое тело упало, когда я его отпустил»;
обязательно нужно было сказать, что все тяжелые тела
всегда падают и так всегда и везде ведет себя природа.
Итак, если сами частности были поглощены общностью
научных утверждений, не оставалось никакого зазора
для отрицания или утверждения каких-то частностей
этого общего закона. Предположение, что тяжелые тела
падают, было всеобщим, было почерпнуто из повседнев-
ного опыта, и все заведомо знали, что оно истинно. Дело
философа, согласно Аристотелю, состояло в объясне-
нии, почему это происходит так, а не иначе. Объяснение
должно было быть произведено с точки зрения причин,
и в идеальном случае нужно было сказать, что такое пове-
дение тела в таких-то определенных обстоятельствах не-
обходимо. Не нужно даже уточнять, что в большинстве
случаев трудно было обосновать необходимость, прихо-
дилось довольствоваться простым указанием на то, что
так оно обстоит на самом деле.
Когда в раннее Новое время ученые поняли, что такой
способ объяснения чаще всего работает вхолостую, то
самые антисхоластически настроенные философы стали
критиковать сам этот способ слишком легких и поспеш-
ных обобщений. Так, например, аристотелиански-схола-
стический способ концептуализации опыта и дальнейше-
го обращения с ним и стал мишенью атаки в знаменитом
труде Галилея о падении тяжелых тел — окончательная
редакция этого труда составила часть «Рассуждений»
1638 г., хотя все эти идеи были сформулированы еще в
1609 г.6 Галилей попытался одним рассуждением обо-
сновать обнаруженную им в ходе эксперимента (опыта)
5 См. выше, гл. I, раздел 1.
6 См. гл. IV, раздел 2.
Глава VII. Эксперимент: как в XVII в. узнавали, что таит в себе природа 22 7
Рис. 26. Употребление Галилеем наклонной плоскости
для демонстрации ускорения при свободном падении.
Наклонная плоскость облегчает произведение замеров
истину, что тело испытывает ускорение при падении
и что это ускорение находится в прямой пропорции от
пройденного времени. Весь этот опыт был представлен
в диалоге вполне в духе нормативного аристотелевского
обобщения: Галилей рассуждал о том, как именно вещи
ведут себя в природе. Галилей вовсе не ставил экспери-
мента или ряда экспериментов в нашем смысле, когда
производятся временные замеры и делаются детальные
количественные записи всех полученных результатов.
Напротив, он просто-напросто говорит, что если исполь-
зовать тщательно выверенный аппарат наблюдения, то
можно обнаружить, что падение шаров, сброшенных
вниз, при точном замере времени покажет результаты,
согласующиеся с его наблюдением, даже если повторять,
по его словам, одно и то же действие «много сотен раз».
Последнее выражение (которое в различных форму-
лировках мы повсюду находим в современных Галилею
схоластических трактатах) означает в действительности
«бессчетное количество раз». Галилей хотел убедить сво-
их читателей, что полученные им результаты и входят в
состав общего опыта. Но он испытывал обычную труд-
ность — тот опыт, который он пытался выдать за действи-
тельный опыт всех его читателей, не был на самом деле
им знаком и даже понятен.
Со сходными трудностями столкнулись и последу-
ющие попытки положить в основу научной аргументации
текущие опытные наблюдения. Ведь если естественное
228 Питер Деар. Событие революции в науке
явление было хорошо известно, то опыт и так без всяких
трудностей становился основанием натурфилософских
рассуждений — ведь никому бы не пришло в голову его
оспаривать. Но если явление было плохо известно и мог-
ло бы быть оглашено перед публикой только после тща-
тельных и небывалых проб, то разве мог натурфилософ
требовать от читателя принятия его как эпизода в фи-
лософских объяснениях? Галилей мечтал о том, что его
читатели поверят, что в природе дело обстоит ровно та-
ким образом, как он это излагает в своих трудах. Но как
он мог опираться на читателей и ждать, что они заранее
примут как истинные те рассуждения о природе, кото-
рые он еще только собирался обсуждать? Вроде, напри-
мер, равномерного ускорения при падении. Но вместе
с тем он не мог позволить себе воздержаться от утверж-
дений и ждать, пока читатели сами соизволят повто-
рить все его эксперименты. Конечно, некоторые люди
примут его утверждения, полагаясь на его личный и на-
учный авторитет, но это не сделает его доводы непре-
менно научными. Галилей всегда заявлял о своей привер-
женности той модели научного доказательства, которая
напрямую восходит к Аристотелю: настоящее научное
объяснение должно быть доказательным, как математи-
ческие теоремы, как и все теоремы, скажем, знакомые
из пособия Евклида, должны доказываться из простых
утверждений, которые мы принимаем как истинные и
потому признаем истинность и сделанных на их основа-
нии выводов. Евклид в качестве отправной точки брал
звучащие совсем просто аксиомы, вроде «при пересе-
чении параллельных прямых образуются равные углы».
Эти утверждения очевидны уже на интуитивном уровне,
и поэтому ни один человек, находящийся в твердом со-
знании, не будет их отрицать. Но когда натурфилософы-
аристотелики создавали доводы на основе эмпирических
принципов, вроде «солнце встает на востоке» или «тяже-
лые тела падают», они тоже апеллировали к практиче-
ской неопровержимости таких истин: все были соглас-
ны с этими утверждениями, и аристотелики могли сразу
Глава VII. Эксперимент: как в XVII в. узнавали, что таит в себе природа 229
торжествовать победу7. Но экспериментальные выводы
не отличались той строгостью, которой требовал от них
Галилей, желавший, чтобы любое утверждение было как
можно более обыкновенным и как можно прямее произ-
веденным. Заявляя о том, что результат требует повтора
«много сотен раз» (это означало простую убежденность
в том, что вещи будут всегда вести себя именно этим об-
разом и не посмеют себя вести как-либо иначе), Галилей
просто высказывал робкую надежду на то, что читатель
будет верить ему определенно и безоговорочно.
Рене Декарт, надо сказать, столкнулся с похожими
проблемами. Как и Галилей, Декарт истончил проблему
доверия к ученому, просто отказавшись принимать то,
что еще не было проверено при его участии. В своем
«Рассуждении о методе» (1637) Декарт призывал всех по-
мочь ему в работе, «приложив труд дать ему наблюдения
(expériences), в которых он нуждается»8. Плодотворность
его принципов объяснения в том и заключалась, что
они требовали экспериментов, потому что, как говорил
сам Декарт, для любого наблюдаемого явления можно
представить более одного объяснения. Таким образом,
эксперименты требовались, чтобы определить, какое
из объяснений будет истинным. Сам Декарт хотел про-
делать всю насущно требуемую работу самостоятельно,
потому что, как он говорил, если получать сведения о яв-
лениях от других людей, то будешь иметь на руках только
предвзятые или путаные выкладки. Декарт хотел всегда
производить опыты самостоятельно или хотя бы платить
знатокам дела за их проведение (потому что денежное
поощрение, как мы знаем, непременно понуждает ремес-
ленников делать именно то, что им было велено). Только
одно нужно было Декарту — быть убедительным в отно-
шении к самому себе. Он отставлял в сторону проблему
7 Ведь все эти утверждения, как естественно-научные, так и ма-
тематические, всегда могли подвергнуться критике со стороны фило-
софов-скептиков. См. гл. V, раздел 1.
8 Декарт Р. Рассуждение о методе...
230 Питер Деар. Событие революции в науке
доверия, усваивая наивысшую уверенность в себе: то, что
способно убедить его, то непременно будет хорошим для
кого угодно и где угодно.
2. Математический эксперимент
Существовали в те времена вопросы, которые вызы-
вали особо острые споры среди математиков. В XVII в.
появлялось немало различных «физико-математиков»,
весь методологический порыв которых состоял в том, что
они усиливали остроту противостояния между теорией и
экспериментальными процедурами9. Смешанные матема-
тические науки часто, начиная с Античности, требовали
использования специально изготовленного аппарата,
который позволит наблюдать естественное поведение
вещей, неочевидное из повседневного опыта. Так, астро-
номия употребляла специальные измерительные инстру-
менты, позволявшие рассчитать точное положение не-
бесного тела на небосводе (так было до самого появления
в XVII в. телескопа, настоящего вооружения для глаза).
Оптика (в тогдашнем понимании содержания этой на-
уки) использовала специальные приспособления для из-
мерения углов при отражении и преломлении. Птолемей
написал важные трактаты по обеим наукам — «Альмагест»
и «Оптику», — где детализировал весь аппарат, необходи-
мый для правильного разбора каждой из этих предметных
дисциплин. Исламский философ XI в., известный в Евро-
пе как Аль-Газен, написал важнейший в докеплеровское
время трактат по оптике, который знала вся Европа, где он
подробно прописал и рецепты изготовления оптических
устройств, и правила их употребления для наблюдений10.
В итоге традиция математических наук, к которой обра-
щались европейские ученые XVII в., по самой природе
9 См. гл. IV, раздел 3.
10 Аль-Газен был известен в арабских источниках под именем
Ибн-ал ь-Хайсам.
Глава VII. Эксперимент: как в XVII в. узнавали, что таит в себе природа 231
своих вопросов не могла пройти мимо искусственно соз-
данного эксперимента. Отличие искусственного экспери-
мента от обычного состояло только в том, что он не поль-
зовался таким повсеместным признанием.
Следовательно, идеал аристотелевской науки, согласно
которому объяснения явлений должны входить в какой-то
готовый набор, уже не отвечал всем ситуациям научного
поиска. Ситуация особенно обострилась в начале XVII в.,
когда такие ученые, как, например, математики-иезуиты,
стремились показать, что математические дисциплины —
это тоже настоящие науки по критериям Аристотеля. Как
и Галилей, иезуиты хотели утвердить свой статус ученых
перед натурфилософами. Эксперимент вселял в них тре-
вогу — ведь заранее неизвестны его результаты, и потому
не прояснен его ход.
Галилей смог найти решение всем этим трудностям,
во всяком случае в рамках математического языка. Иезу-
итские ученые-математики, такие как астроном Джам-
баттиста Риччиоли, заявляли о своих экспериментах,
как они скидывали предметы разной тяжести с церков-
ной кровли, чтобы подсчитать их ускорение. Но, в от-
личие от Галилея, Риччиоли всегда указывал, где прохо-
дил эксперимент, какого числа и в чьем присутствии, он
явно считал свое свидетельство недостаточным и хотел
превратить свой рассказ в подтверждение обычного и
нормативного положения дел. Другой, и гораздо более
известный, пример такого подхода к эксперименту при-
ходится на 1648 г. Математик Блез Паскаль, которого мы
все помним за его «треугольник Паскаля», писал из Па-
рижа своему свояку Флорену Перье, который жил тогда
в Овернье, отдаленном уголке Франции, и просил его
провести эксперимент. Паскаль попросил его взять ртут-
ный барометр с собой на ближайшую гору Пюи-де-Дом и
посмотреть, будет ли меняться уровень ртутного столба
в склянке при подъеме на большую высоту. Паскаль ожи-
дал с большой степенью уверенности, что так и будет,
потому что он был убежден уже в том, что именно давле-
ние воздуха удерживает высоту ртутного столба в колбе
232 Питер Деар. Событие революции в науке
и, следовательно, с ослаблением давления воздуха пока-
затели будут выше11. Сам по себе ртутный барометр был
на то время новаторским устройством: он был разрабо-
тан в 1640-х гг. во Флоренции физиком Еванджелистой
Торричелли, учеником Галилея, которому последний по-
кровительствовал в последние годы своей жизни. Как и
Паскаль, Торричелли описывал феномен тяжести возду-
ха, иначе говоря, атмосферного давления (конечно, еще
долго обсуждалось, следует ли по отношению к воздуху
говорить о «тяжести» или о «давлении»).
Паскаль опубликовал подробный отчет о проведен-
ном эксперименте, а вскоре вышел исчерпывающий от-
чет Перье с предисловием и комментариями Паскаля.
Перье подробно рассказал и о своем восхождении на
гору, и о спуске с горы, перечел по именам всех своих
спутников и всякий раз отмечал высоту ртутного столба,
засеченную на каждом привале долгого и утомительно-
го пути. В конце своего повествования, уже без всяких
сомнений заявив, что ртутный столб в колбе поднимал-
ся тем выше, чем дальше они ушли в сторону вершины,
Перье передал слово Паскалю, который и превратил его
речевое свидетельство в обоснование универсальной
философской истины. Прежде всего Паскаль указал на
то, что полученные Перье результаты позволяют числен-
но соотнести изменение высоты ртутного столба с высо-
той подъема над начальным уровнем — при том условии,
что Перье проявил добросовестность и ставил риски на
колбе аккуратно. Далее Паскаль предсказал изменение,
хотя и требующее более тщательного наблюдения по
причине его незаметности, в высоте ртути при подъеме
этого же аппарата на небольшую высоту — на самую высо-
кую колокольню из тех, что найдутся в Париже. Носить
ртутную колбу на колокольню тем важнее, что это можно
11 Называя это устройство «барометром», мы не задумываемся,
какая проблема решалась с помощью его. А весь эксперимент с ртут-
ным столбом был направлен на то, чтобы доказать, что перед нами
«барометр»— «измеритель тяжести», иначе говоря, веса или давле-
ния атмосферного воздуха.
Глава VII. Эксперимент: как в XVII в. узнавали, что таит в себе природа 233
делать каждый день, тогда как вряд ли бы кто второй
раз загнал Перье на гору. В конце своей статьи Паскаль,
уточнив и выразив в числах ожидаемые изменения, заяв-
ляет, что практика сразу же подтвердит его правоту. Как
и Галилей, с его опытами по свободному падению тел раз-
ной тяжести, Паскаль не описывает частности своих экс-
периментов, необходимым оборудованием для которых
тоже была высокая колокольня, он просто говорит, что
эксперименты открывают ту регулярность в природе,
с которой уже невозможно не согласиться.
Но процедура эксперимента заключает в себе две
главные трудности: нужно, чтобы описание эксперимен-
та вызывало доверие, а характер его был универсальный.
Это — требования репрезентативности, обязательные
для любых экспериментальных результатов. Математи-
кам просто — они имеют дело с явлениями, которых пре-
жде не существовало в природе и очевидность которых
доказывается только вычислениями. Ученые различно
полагали, что будет происходить с ртутным столбом в
стеклянной трубке, если подниматься все выше, пока
свояк Паскаля не поднялся на Пюи-де-Дом, чтобы дать
ответ на этот вопрос — вопрос, на который тогда осо-
бо и не искали общего ответа. Математические науки
(в которых и были восприняты достижения Паскаля и
других, связанные с наблюдением над ртутным бароме-
тром) подразумевали, что практики, вооруженные спе-
циальным знанием, вряд ли будут претендовать на все-
мирное признание, ведь все, что они делают, вовсе не
укоренено в универсальном и непременном среди всех
людей опыте. Мы видим, что некое специальное знание
необходимо было переосмыслить так, чтобы считать
его общим знанием! Астрономы и другие математики
чаще всего совершали возвратный ход — они ссылались
на свою личную репутацию как на доказательство прав-
ды их слов. Во многих случаях (как в показательном слу-
чае математиков-иезуитов) репутация корпорации тоже
имела вес — профессорство в университете или коллед-
же или, как в случае Галилея, связь с могущественными
234 Питер Деар. Событие революции в науке
в
Рис. 27. Опыт Торричелли, доработанный Паскалем.
Наличие отверстия и изгиба трубки позволяет
дополнительно подтвердить, что ртуть в трубке
удерживается на высоте благодаря давлению воздуха
покровителями придавали некоторую добавочную убе-
дительность эмпирическим заявлениям: попробуй по-
кусись на результат, и ты натолкнешься на острый угол
той институции, которая без лишних разговоров этот
результат заверила.
Астрономы могли с гораздо большей степенью кон-
кретности подтвердить свои притязания. Прежде всего
это обязано тому обстоятельству, что астрономы по тра-
диции, как правило, не печатали предварительных дан-
ных, ими полученных. Они не выдавали таблицы резуль-
татов наблюдений, не записывали в столбик измеренные
положения планет — а это значит, что рецепция их дея-
тельности держалась только на их личном авторитете как
специалистов (другое дело, что сходные данные могли
Глава VII. Эксперимент: как в XVII в. узнавали, что таит в себе природа 235
выдавать разные астрономы в один и тот же период)12.
Полученный в результате наблюдений сырой материал
астрономы помещали в таблицы предсказания позиций
планет, Солнца и Луны, они употребляли геометриче-
ские модели, довольно точно воспроизводившие движе-
ния на небе. Они представляли свои труды таким обра-
зом, чтобы избежать любого формального различения
между обсерваторской (наблюдательной) астрономией,
которая представляла собой выписывание чисел, полу-
ченных при инструментализированном наблюдении за
небом, и калькуляцией таблиц будущих положений све-
тил — то занятие, которое ориентировалось на геометри-
ческие модели, опять же изначально оправданные толь-
ко тем, что в них используются математические данные.
Только их конечные результаты, а вовсе не начальные
годились к публикации. Предсказательные таблицы, а не
изначальный сырой материал гарантировали и добро-
качественность моделей, по которым было произведено
вычисление: каждый мог в любой момент проверить, на-
сколько аккуратными оказались предсказания. В XVI в.
репутация Николая Коперника как астронома держалась
на его математических способностях, а не его умении на-
блюдать за небесными явлениями: астрономы считались
в первую очередь математиками. Позднее Тихо Браге,
прославившийся как неустанный наблюдатель за небом,
не публиковал всех своих сводок полученных результа-
тов; напротив, он издавал свои математические тракта-
ты, в которых и приводил некоторые из своих обсер-
ваторских данных по таким вопросам, как траектория
комет или центральное положение Земли. Тихо Браге
поручил Кеплеру точнее высчитать модель движения
Марса на основании полученных им данных, при этом
не предоставив Кеплеру свободного доступа ко всем сво-
им тетрадям. Да и те записи, которые делал Тихо Браге,
12 См. об этом важные соображения в кн.: Shapin S. A Social History
of Truth: Civility and Science in Seventeenth-Century England (Chicago:
University of Chicago Press, 1994). P. 266-291.
236 Питер Деар. Событие революции в науке
вообще не предназначались для публики, и Кеплер с тру-
дом добился после смерти Тихо Браге от вдовы права оз-
накомиться с его астрономическим архивом.
«Эксперимент» в математических науках, как мы ви-
дим, связан и с доверием к результатам, и с истолковани-
ем этих результатов в конкретное время и в конкретном
месте. Астрономы-практики давно осознавали эти труд-
ности, также как и потенциальные проблемы, связанные
с использованием инструментов при сборе данных. Что
касается последнего, то инструменты и аппарат, которые
обычны в математических науках, выглядели уже проб-
лематично, когда применялись при подсчетах другого
рода. Отказ Фрэнсиса Бэкона признать законность раз-
личия между естественными и искусственными (т.е. про-
изведенными с помощью искусно сделанных устройств)
процессами сыграл важнейшую роль в риторике, логике
и практике экспериментальной науки XVII в.13
3. Эксперимент в стиле Бэкона
Как мы уже видели в предыдущей главе, труды Бэкона
стали важным ресурсом оправдания экспериментальных
исследований, особенно проводимых Лондонским коро-
левским обществом. Но отношение самого Бэкона к экс-
перименту как инструменту научных поисков было гораз-
до более сложным, чем это кажется на первый взгляд.
Бэкон, как и Аристотель, подчеркивал важность экс-
перимента для исследования происходящего в природе.
Примеры, которые использовал Бэкон для иллюстрации
охотно проводившихся им экспериментов в ходе соз-
дания натурфилософского знания, являют те же черты
обобщенности и универсальности, что мы встречаем в
писаниях схоластических философов. Во второй книге
«Нового органона» (1620) Бэкон приводит два рабочих
примера своей новой логики исследований (обычно
13 См. выше, гл. III, раздел 3.
Глава VII. Эксперимент: как в XVII в. узнавали, что таит в себе природа 237
называемых его «методом», хотя сам Бэкон этого слова
в своем труде не употреблял). Один из этих примеров
касается природы тепла. Среди примеров «случаев про-
явления данной природы» мы находим «солнечные лучи,
особливо же летом и в час полудня», «твердые вещи в
огне», «негашеная известь в соприкосновении с водой»
и «лошадиный навоз и прочие экскременты в состоя-
нии свежести»14. Заметим, что каждый из этих пестрых
примеров подтверждает общую истину, относящуюся к
каждому «случаю», и Бэкон вовсе не испытывает нужды
в том, чтобы ввести специальный режим наблюдения.
Ту же самую привычку к примерам вместо формулы мы
видим и когда Бэкон говорит о различной степени тепла
в различных частных случаях. Приводя примеры, Бэкон
предлагает вот так проверить результаты, о которых он
уже заранее знает:
Проведем эксперимент с зажигательными стеклами,
входе которого (насколько я помню) происходит следу-
ющее: если зажигательное стекло помещается (например)
на расстоянии спана [9 дюймов, ок. 23 см] от способного
воспламениться предмета, эффект получается не таким, как
при помещении на расстоянии (например) полуспана, и при
постепенном удалении на спан эффект медленно и посте-
пенно изменяется, притом что фокус и конус остаются теми
же — просто при сдвиге эффект нагревания усиливается15.
Когда эксперимент описывается как универсальный,
это уже часть его эффективности. Описывая процесс по-
лучения результата и отвечая за его правильность, Бэкон
ручается своим собственным опытом («насколько я пом-
ню»): он говорит читателю о том, что действительно
происходит в природе, он не низводит это к специфиче-
скому случаю, к примеру, когда он смог получить именно
такой результат. Представив опыт как универсальный,
14 Бэкон Ф. Новый органон. Кн. II, аф. 11.
15 Там же. Аф. 13; ср. аф. 28.
238 Питер Деар. Событие революции в науке
Бэкон смог преодолеть хотя бы риторически, на словах,
те трудности, которые непременно возникли бы, если
бы Бэкон говорил об историческом событии, не имев-
шем достоверных свидетелей (вспомним, что Бэкон был
выдающимся юристом). Рассказывая, что «происходит»,
а не что «произошло», и давая описание в форме ин-
струкций, каким образом можно самому произвести тре-
буемый эффект, Бэкон создавал у читателя впечатление,
что теперь он узнал не ход эксперимента, а фактическое
строение естественного мира и теперь есть чем подкре-
пить философские доводы о природе тепла.
Такая версия «бэконианства» была поддержана и за-
явлена сотрудниками Королевского общества в первые
десятилетия его существования: они все ставили в центр
науки пользу, а не эксперимент. Хотя Королевское обще-
ство на раннем своем этапе обычно рассматривается
как бастион эксперимента, те эксперименты, которые
ставились в нем, отличались от принципов Бэкона не
менее, чем от принципов Аристотеля. Главной целью на-
учного опыта и Аристотель и Бэкон считали обобщение
до универсализации, превращение в общий опыт любо-
го наблюдения; тогда как Королевское общество требо-
вало наблюдать за частными случаями. Когда сотрудник
Королевского общества рассказывал аудитории о прове-
денном эксперименте, он никогда не излагал рецепта, ко-
торый мог бы показать, что открытый принцип универ-
сален во всем мире, на чем настаивал Бэкон. Напротив,
он просто рассказывал в свободной форме о событии, ко-
торое произошло в прошлом, в его только присутствии,
и в определенное время в определенном месте. Он вовсе
не собирался совершать скачок от отдельного личного
опыта к заявлениям о том, как действует на практике
какой-то аспект природы везде и всегда.
Приведем типичный пример из трудов Роберта Бойля:
Берем стеклянный сосуд, с отверстием сверху, иногда
именуемый «банкой», каковой леди часто употребляют
для хранения леденцов, в ширину три с половиной дюйма
Глава VII. Эксперимент: как в XVII в. узнавали, что таит в себе природа 239
или более и чуть меньшей высоты — главное, чтобы он был
по форме цилиндрическим изнутри. Налив в него немного
воды, чтобы исключить неровности, обычно неизбежные
на дне таких сосудов, мы затем берем надлежащее количе-
ство пчелиного воска и, растопив его, вливаем его осто-
рожно в сосуд, рукой контролируя температуру, чтобы со-
суд не раскололся, пока столб воска не достигнет нужной
Такое тщательное и детальное описание всех обсто-
ятельств эксперимента понадобилось, чтобы опроверг-
нуть критику ранних опытов Бойля со стороны Генри
Мора. Все изложение Бойля выдержано в одном стиле
и заканчивается так: «И наконец мы постепенно выни-
маем те меры зерна, которые мы положили, пока мы не
увидим, что воск, застывая, постепенно достиг верхушки
воды и даже отчасти над ней выдается»17.
В таком духе описывались все опыты, производимые
Королевским обществом, именно так оформлялись ста-
тьи в неофициальном журнале Общества «Философские
труды». Такой стиль изложения соответствовал реши-
мости части сотрудников воздерживаться от спекуля-
ций и гипотез и представлять только отдельные факты.
Суть этой этики — вовсе не запрет на предположения
о естественных явлениях и их причинах, но стремле-
ние предотвратить догматическую приверженность
какой-то отдельной гипотезе, что неизбежно припишут
всему Обществу. Поэтому Роберт Гук, отвечавший в Об-
ществе за проведение экспериментов, писал в начале
своей «Микрографии» (1665), обращаясь ко всем членам
Общества:
16 Boyle R An Hydrostatical Discourse, in Robert Boyle, The Works of
the Honourable Robert Boyle / Ed. Thomas Birch, 6 vols (London, 1772;
repr. Hildesheim: Georg Olms, 1965-1966). Vol. 3. P. 611.
17 Ibid. P. 612. Входе эксперимента использовался восковой ци-
линдр, который тонул или всплывал в зависимости от добавления или
изъятия мелких зерен, — смысл эксперимента состоял в том, что плот-
ность воска только чуть меньше плотности воды.
240 Питер Деар. Событие революции в науке
В этой книге могут встретиться выражения, каковые
будут сочтены более утвердительными, чем дозволяют
ВАШИ предписания: но мне хотелось бы, чтобы они были
поняты просто как предположения и догадки (что ВАШ
метод вовсе не исключает), даже если я и перешел грань,
то заявляю, что я никогда при этом не действовал вопреки
ВАШИМ указаниям18.
Бойль и другие сотрудники, точно так же как и Хук,
не скупились на такие осторожные оговорки всякий раз,
когда им приходилось говорить о корпускулах и их пове-
дении.
Королевское общество подхватило отказ Бэкона от
гипотез (которые Бэкон обозвал «предвосхищениями
Природы»), дабы соблюсти последовательность своих
предприятий: вся работа Общества держалась на про-
стом собирании и расположении фактов. Для этой цели
частности экспериментов, проведенных в прошлом и
оставивших по себе подробные отчеты, в которых при
этом не было определенной гарантии, что повторение
эксперимента будет удачным, оказались самым про-
стым и надежным предметом обсуждений. При этом не
запрещалось выстраивать теории, вбиравшие в себя и
объяснявшие собранные факты, однако Бойль и другие
говорили о создании теорий как о следующем шаге их
работы, отодвинутом в неопределенное будущее, ког-
да будет собрано достаточное количество отдельных
фактов.
Подход Королевского общества не разделялся без
обиняков всеми натурфилософами этого периода, даже
в пределах Англии. Одним из самых яростных критиков
деятельности Общества стал философ Томас Гоббс, более
известный как один из создателей политической филосо-
фии. Гоббс был последним секретарем Фрэнсиса Бэкона,
18 Hooke R Micrographia, or Some Physiological Descriptions of
Minute Bodies Made by Magnifying Glasses (London, 1665), «To the Royal
Society».
Глава VII. Эксперимент: как в XVII в. узнавали, что таит в себе природа 241
верно служившим ему до самой смерти последнего, но,
несмотря на такую личную близость, он с раздражени-
ем и пренебрежением относился к «экспериментальной
философии», которую защищал и практиковал Роберт
Бойль и другие ученые того же направления. Гоббс на-
правил острие своей критики на эксперименты Бойля
с воздушным насосом, когда Бойль описывал поведение
и свойства ослабленной атмосферы — он наблюдал за ша-
ром, из которого был откачан воздух. Гоббс упрекал Бой-
ля за уверенность в том, что ему удалось откачать весь воз-
дух из этого шара, и попутно оспаривал ценность такого
рода экспериментальных исследований вообще.
Главное возражение Гоббса его оппонентам состоя-
ло в том, что проведение экспериментов — это занятие
не для философа. А природу познавать предназначается
только тем, кто преуспел в естественной философии.
Кроме того, тот тип знания, который пропагандируют
Бойль со товарищи, не может быть назван ни универ-
сальным, ни обладающим принудительностью выводов
(«необходимым»), а значит, все их рассуждения нельзя
считать научными. Как мы видим, Гоббс оставался пре-
дан аристотелевскому пониманию того, что составляет
настоящую науку. Бойль говорил об экспериментах как о
событиях в истории, как о единичных фактах прошлого,
тогда как Гоббс требовал доказательств, все выводы в ко-
торых будут так же необходимы, как при доказательстве
математических теорем. Бойль, экспериментируя с воз-
душным насосом, возлагал все бремя доказательства на
сложную аппаратуру: каким же образом, хочется знать,
спрашивал Гоббс, можно зафиксировать поведение слож-
ного прибора, если мы еще не умеем разобраться в про-
стых и повседневных явлениях?
Бойль подчеркивал, что эксперимент — лучший путь
наделить знание о природе весом всеобщности. Ему
нужно было, чтобы каждый человек, где бы он ни жил,
мог посмотреть и убедиться, что правда, а что неправ-
да. Бойль при этом говорил, что опыт позволяет нам
вскрыть происходящее в природе так, чтобы каждый
242 Питер Деар. Событие революции в науке
согласился, что это так, но эксперимент все равно не
может обнаружить причины такого поведения вещей.
Гоббс подчеркивал, что, какую бы интерпретацию Бойль
ни изобрел для объяснения увиденного им, Гоббс всегда
выдвинет встречную, не менее убедительную интерпре-
тацию. Изготавливать гипотетические объяснения, го-
ворит Гоббс, проще всего, другое дело, что ни одного из
них не хватит на настоящую естественную философию.
Исходя из этого, Гоббс обвинял Бойля в том, что он ут-
верждает существование вакуума без всяких на то осно-
ваний (сам Гоббс считал, что пустоты в природе быть не
может):
Знание любого предмета производится из разузнава-
ния причин, их перемножения и сопоставления; и только
там, где причины известны, возможны доказательства,
а не там, где эти причины еще только предстоит найти.
Геометрия поэтому доказательная наука, потому что мы
сами чертим и описываем те линии и фигуры, о которых
после рассуждаем; равно доказательна и гражданская
философия, потому что мы собственными усилиями соз-
даем Республику (commonwealth). Номы не знаем, как
действительно устроены тела в природе, мы можем толь-
ко проследить эффекты, и, значит, любое доказательство
будет не доказательством искомых нами причин, но толь-
ко изображением одного из возможных положений дел
в природе19.
Следовательно, для Гоббса самое большое, что мы мо-
жем сделать в области естественной философии, — это
постулировать возможные причины (сам он предпочи-
тал механические), пригодные к объяснению естествен-
ных феноменов; но при этом мы никогда не докажем
истинность этих объяснений.
19 Hobbes T. The English Works of Thomas Hobbes / Ed. Sir William
Molesworth, 11 vols (London: 1839-1845). Vol. 7. P. 184 (Из трактата
«Шестьуроков математикам»).
Глава VII. Эксперимент: как в XVII в. узнавали, что таит в себе природа 243
Бойль, как и большинство ведущих сотрудников Ко-
ролевского общества, весьма осторожно относился к ги-
потезам. Его заботой было избегать догматических рас-
суждений и надуманных причинных объяснений, и это
привело к тому, что он отказывался говорить опреде-
ленно, можно ли, откачивая воздух из сферы насосом,
получить настоящий вакуум. Он отрицал то, что у нас
будет пустое место: он говорил только, что мы избавили
сферу от наличия в ней «обычного воздуха», но это не
значит, что в ней не может быть невесомой, необнару-
жимой и эфирной среды (medium). Бойль называл про-
странство в шаре «вакуумом», то есть «пустотой», исхо-
дя из того, что воздуха в шаре больше нет, но при этом
все же оговаривался, что этот функциональный вакуум
не следует смешивать с «метафизическим» истинным
вакуумом. Бойль признавал, что вопрос о существова-
нии действительной пустоты в природе пока еще не
решен, а Гоббс настаивал на том, что этот вопрос и не
может быть решен.
Увлеченность ГЪббса математически-доказательной
моделью науки не была радикально чужда Гоббсу, другое
дело, что он размышлял, везде ли может найти примене-
ние этот несомненный для всех идеал. Как он писал в свя-
зи с плавучестью и водоизмещением, «гидростатиками,
начиная с Архимеда, доказано, что в воде те части, ко-
торые испытывают большее давление, вытесняют части,
испытывающие меньшее давление, — все это согласуется
с общим опытом (apprehension) людей и может быть,
если необходимо, подтверждено экспериментами»20.
Таким образом, утверждая из практических соображе-
ний истину такого гидростатического принципа, Бойль
вполне был готов слушаться общего опыта людей не
меньше, чем Аристотеля или Евклида. Эксперименталь-
ное подтверждение могло быть, но только в тех случа-
ях, «если оно необходимо». В тех материях, которые
новы и неочевидны, специальные экспериментальные
Boyle. Works. Vol.3. P. 610.
244 Питер Деар. Событие революции в науке
предприятия и дисциплинарное распоряжение данными
признавались Бойлем как центральный момент изучения
конкретных подробностей природы21.
В 1667 г. Академиа дель Чименто опубликовала «Уче-
ные записки» (Saggi), они были переведены на англий-
ский язык членом Королевского общества Ричардом
Уоллером (Waller) и опубликованы в 1684 г. под назва-
нием «Заметки о естественных экспериментах» (Essays
of Natural Experiments). Анонимность и обобщенность
большинства представленных в этой книге эксперимен-
тов, поданных как рецепты, которые каждый может
воспроизвести по своему усмотрению, знаменательна.
Именно такое описание инструментов и правил их упо-
требления было обычным в математических трактатах
по астрономии и оптике. Но другое дело, что Королев-
ское общество брало на себя ответственность и за ход
эксперимента, и за создание самой совершенной его
модели. Приведем только один пример:
Чтобы пролить свет на вопрос, происходит ли ох-
лаждение тела в результате поступления какого-то рода
специальных атомов холода, как, например, признано,
что тела согреваются атомами огня, мы решили взять две
одинаковые склянки с предельно тонким горлышком. Мы
запечатали их, заплавив горлышки на огне, и поместили
одну на льду, а другую в горячей воде и дали постоять не-
которое время. Затем мы сломали шейку каждой склянки
под водой и заметили, что в горячей склянке был преиз-
быток материи и она живо исторгалась из сосуда. ...Не-
которые из нас думали, что то же самое произойдет и с
холодной склянкой, если холод поступает в нее точно та-
ким же образом, каким поступает тепло... именно через
21 Важно, что Гоббс никогда не оспаривал истинность экспери-
ментально полученных выводов Бойля, он только не был согласен с
каузальным объяснением феноменов у Бойля. Выпады Гоббса против
«экспериментальной философии» связаны не с тем, что она получа-
ет ложные результаты, но с тем, что она вообще, по его мнению, не
философия.
Глава VII. Эксперимент: как в XVII в. узнавали, что таит в себе природа 245
вторжение или запаковку в нее холодных атомов, навеян-
ных льдом через невидимые поры стекла. Но все вышло
совсем иначе22.
Центральное место экспериментов и отчетов по ним
в деятельности Королевского общества на раннем этапе
необходимо вспоминать всякий раз, когда мы говорим
о трудах одного из самых знаменитых членов Обще-
ства— Исаака Ньютона. Ньютон преподавал математи-
ку в университете, в 1669 г. занял луказианскую кафедру
профессора математики в Кембридже, сменив на этом
посту Исаака Бэрроу, и впервые выступил на заседании
Королевского общества в 1671 г. Он, конечно, и до этого
хорошо знал работу Королевского общества и штудиро-
вал в 1660-х гг. тома его «Философских трудов». Ньютон
хотел вписаться в эту группу и даже отправил сотрудни-
кам небольшой зеркальный телескоп своей собственной
конструкции и производства. Сотрудники Общества об-
ратили внимание на молодого кембриджского математи-
ка и провели его избрание в члены Общества. Ньютон,
ободренный таким успехом, вскоре отправил Генри Оль-
денбаргу, тогда занимавшему пост секретаря Общества,
письмо с подробным описанием некоторых своих опти-
ческих исследований, которые он и производил с помо-
щью посланного в Общество телескопа.
Вскоре письмо появилось в номере «Философских тру-
дов» под названием «Письмо мистера Исаака Ньютона,
профессора математики в Кембриджском университете,
22 Отчет цитируется в пер.: KnowlesMiddleton W.E. The Experiments:
A Study of the Accademia del Cimento (Baltimore: The Johns Hopkins
University Press, 1971). P. 246-247. Физические предпосылки, лежащие
в основе эксперимента, автоматически сочтены проявлениями мель-
чайших частиц. В этом проявилось еще одно сходство между Академи-
ей эксперимента и Королевским обществом. Несмотря на множество
частных различий, и другие естественные философы того времени
вводили воображаемые частицы для большей понятности объясне-
ний. Идея частиц тепла и частиц холода скорее всего позаимствована
из трудов Гассенди, хотя уже Галилей считал, что нагревание проис-
ходит благодаря поступлению частиц огня в конкретное тело.
246 Питер Деар. Событие революции в науке
содержащее его новую теорию света и цветов»23. Одна из
замечательнейших особенностей этой знаменитой публи-
кации — это умение держаться в рамках изложения экспе-
римента, с фокусировкой на частностях, при изложении
материала, который в нормальном случае был бы признан
частью оптики, чисто математической науки. Ньютон
начал письмо с событий, которые уводят далеко назад,
к 1666 г. Ньютон рассказал, как он случайно взял стеклян-
ную призму и стал смотреть на тот спектр, который полу-
чался, когда лучи солнца пробивались через дыру в шторах
затемненной комнаты. Ньютон не был первым, кто упо-
требил призмы для оптического исследования — Декарт в
своей «Диоптрике» уже указывал на некоторые свойства
призм. Математик признается, что он был удивлен вытя-
нутой формой пятна цветового спектра, «хотя я ожидал,
что, по известным мне законам преломления, оно будет
круглым». Такая вытянутость спектрального пятна, пяти-
кратно против его ширины, «была столь выходящей из
ряда вон диспропорцией, что это удивило меня более, чем
простое любопытство, отчего бы это могло бы так быть»24.
Исторический рассказ Ньютона о том, что произошло и
что он сделал, вел читателя к общему заключению, что
солнечный свет разлагается на вытянутый спектр после
преломления в призме, потому что он «состоит из лу-
чей разной формы, одни из которых более преломимы
[т.е. с большей легкостью допускают преломление], чем
другие; именно поэтому, когда они все вместе попадают
в одну среду, одни из них более преломляются, чем дру-
гие, и это происходит не по какому-либо свойству стекла
и не по какой-то другой внешней причине, но по пред-
расположенности самого света — каждый отдельный луч
допускает свою, и только свою, степень преломления»25.
23 Это письмо воспроизведено в изд.: Hall M. В. Nature and Nature's
Laws: Documents of the Scientific Revolution (New York: Walker and
Company, 1970). P. 250.
24 Ibid.
25 Ibid. P. 251.
Глава VII. Эксперимент: как в XVII в. узнавали, что таит в себе природа 24 7
Далее Ньютон утверждает, что эти различные сте-
пени преломления и отвечают различным цветам, ко-
торые и производит свет. Те лучи, которые более всего
преломляются, показывают цветовые характеристики
фиолетового и синего, составляя один из концов спек-
тра, тогда как менее всех преломляемые лучи создают
красный цвет, видимый на другом конце спектра. Пре-
ломляемость луча каждого рода — это его неотчуждаемое
свойство, которое хранит свое постоянство после какого
угодно числа последовательных преломлений и отраже-
ний; более того, не меняется и цвет, связанный с данной
степенью преломимости данного луча. Таким образом,
цветам можно было теперь сопоставить числа и охарак-
теризовать любой цвет как выражаемую определенным
количеством степень преломимости его луча.
Работа Ньютона по оптике, направленная в Коро-
левское общество, кажется на первый взгляд совершен-
но нематематической. Ньютон не приводит никаких
геометрических диаграмм, которые бы позволили лучше
понять ход его экспериментов; напротив, он в полном со-
ответствии со вкусами Общества ведет речь как рассказ
об истории, о случае, который произошел в отдаленном
уже прошлом. Сдвиг к более стандартной форме матема-
тического изложения появляется, только когда начина-
ются общие заключения и все подробности эксперимен-
та уже представлены в виде рассказа. Конечно, Ньютон
вставляет в свое письмо замечания, связанные с отноше-
нием преломляемости лучей, относящиеся к строитель-
ству телескопов: как сделать, чтобы в телескопе звезды
выглядели четко и их изображение не размывалось. Нью-
тон говорит, что весь его опыт свидетельствует в поль-
зу того, что телескоп должен быть отражательным, а не
преломляющим. Мы теперь понимаем, что требование
Бэкона к новой экспериментальной философии быть
практичной и содействовать реальным операциям стало
важной частью предприятия Ньютона.
Ньютон представил в своей работе то понимание на-
учного опыта, которое уже существенно отличалось от
248 Питер Деар. Событие революции в науке
старой схоластической модели. Для философа-аристо-
телика «опыт» — это действительный источник знания
об обычном положении дел в мире. Для Ньютона и его
позднейших последователей (см. ниже, гл. VIII) экспе-
риментальная философия стала способом исследования
тайн природы, в ходе которого не столько познается сущ-
ность природы, сколько набираются те операции, кото-
рые с ней можно проделывать. Нового философа инте-
ресует не истинность слов о мире сама по себе, а только
те вещи, которые мы можем проделать, исходя из извест-
ного нам опыта. Эксперимент, как его понимало Коро-
левское общество и как уточнил Ньютон, стал особым
подходом в области знания: он позволил аккумулировать
данные по естественным явлениям, а их достоверность
подтверждалась статусом авторитетной институции или,
как в случае Бойля, словом уважаемых свидетелей.
4. Физиологические эксперименты
Исследования Уильяма Гарвея еще раз подтвердили
важность общепринятых (аристотелианских в широком
смысле) рамок экспериментальных исследований в этот
временной период и показали определенные трудности
постановки экспериментов в физиологии. Труды Гарвея
также показывают тот практический смысл, который не-
сло в себе решение проблемы достоверности.
Труд Гарвея «О сердцебиении» (De motu cordis, 1628)
открывался, как мы уже говорили в предыдущей главе,
двумя посвятительными предисловиями — одно было об-
ращено к королю, а другое — к колледжу физиологов. По-
следнее предисловие было особенно важно для Гарвея,
потому что в нем он предложил новый взгляд на серд-
цебиение и кровообращение, отличавшийся от обще-
принятого учения Галена. Гален, вслед за Аристотелем,
учил, что сердце — это своеобразное хранилище крови,
сообщающееся с остальным телом через сеть кровенос-
ных сосудов. Гален внес только одно уточнение в выводы
Глава VII. Эксперимент: как в XVII в. узнавали, что таит в себе природа 249
Рис. 28. «Наглядная демонстрация» функции венозных
клапанов из трактата Гарвея «О сердцебиении»
Аристотеля — он стал различать артерии, которые выхо-
дят из левой половины сердца, и вены, которые связаны
с правой половиной сердца, но, по мнению Галена, име-
ют свое начало в печени. Артериальная кровь переносит
тепло и пневму (некую жизненную силу, которую легкие
извлекают из воздуха) из сердца ко всем частям тела.
У вен другое предназначение — разносить по всему телу
питательные вещества. Венозная кровь формируется в
печени из съеденной пищи — именно поэтому следовало
думать, что вены идут не из сердца, а из печени. Тогда как
кровь в артериальной системе ведет себя иначе, она полу-
чается из венозной, после того как проходит через поры
в стенке сердца. Эта стенка, называемая септ, разделяет
правую и левую сторону сердца, и поры в этой стенке —
это единственный путь сообщения между правой и левой
частями, который нашел Гален. Сердце бьется для того,
чтобы гнать кровь ко всем членам, но никакой циркуля-
ции крови нет.
Гарвей первым стал рассматривать артериальную
и венозную системы как неразрывные части одной
250 Питер Деар. Событие революции в науке
большой системы кровообращения. Кровь бежит по ар-
териям из левой части сердца, и артерии, все выходящие
из сердца, ветвятся и становятся все более многочислен-
ными, маленькими и тонкими. Гарвей считал, что в кон-
це концов эти артерии превращаются в уже невидимые
кровеносные сосуды, которые, вливаясь друг в друга и
соединяясь, образуют уже венозную систему, которая
возвращает кровь на правую сторону сердца. Итак, кровь
выталкивается из сердца через артерии и возвращается
в сердце через вены. Более того, в стенке нет никаких
пор. Венозная кровь возвращается в левую часть сердца
через легкие, для чего служат специальные кровеносные
сосуды, которые гонят ее через мягкую пористую ткань
легких, где кровеносные сосуды опять же сначала подраз-
деляются на невидимые трубки, а потом объединяются и
по сосудам возвращают кровь в сердце, уже на левую сто-
рону. Теперь, наконец, осуществлен полный круг крово-
обращения: кровь может вновь пойти по организму через
артерии и далее.
«Легочный переход» не был изобретением Гарвея —
эту идею выдвинули врачи Падуанского университета,
где Гарвей учился, еще в конце XVI в., и Гарвей подробно
излагал эту идею в прочитанных в 1616 г. ламлианских
лекциях26. Но открытие полного, «общего» кровообра-
щения было важнейшим и самым показательным дости-
жением Гарвея.
Кровообращение нельзя было продемонстрировать
простым разрезанием живого тела какого-нибудь живот-
ного. Необходимо было провести большое количество
экспериментов на не поддающемся учету числе различ-
ных животных, от моллюсков до человека, и подтвер-
дить данные наблюдений достаточными доказатель-
ствами. Одной из главных трудностей при работе было
доказать другим, что он действительно видел то, о чем го-
ворит, и что его вмешательство в организм не нарушило
26 Лекции, учрежденные в Лондоне в 1581 г. лордом Ламли для по-
вышения квалификации врачей.
Глава VII. Эксперимент: как в XVII в. узнавали, что таит в себе природа 251
действительную картину работы организма. Вот почему
ему и нужно было обратиться к колледжу физиологов —
нужно было подтверждение специалистов, что можно
исследовать организм таким образом:
Этот небольшой трактат, выходящий в свет под вашей
эгидой, блистательные доктора, вселяет в меня надежду,
что он не причинит ни смущения, ни вреда. Перед вами
всеми я могу перечислить множество относящихся к делу
доказательств по всем проведенным наблюдениям, кото-
рые имели целью уточнить истину и избежать ошибок.
Вы сами присутствовали, когда я производил рассечения,
и уделяли очень пристальное внимание всем подробно-
стям этого дела, так что теперь я могу рассчитывать на при-
знание всего того, что я показал наглядно и теперь излагаю
со всеми уточнениями27.
Как мы видим, Гарвей извещал возможных критиков,
что, если они усомнятся в его утверждениях или станут их
отрицать, они тем самым покусятся на «полное согласие»
членов самого знаменитого медицинского сообщества
Англии. Все такие социальные взаимоотношения, осо-
бенно наличие августейшего покровителя, признание
социально значимого профессионального сообщества
или хотя бы уважаемых лиц, сразу же делали притязания
индивида на истину приемлемыми для аудитории. А все
экспериментальные утверждения, для того чтобы быть
признанными в качестве философских утверждений,
особенно нуждались в таком подтверждении, и любое
одобрение шло в дело.
Гарвей, позднее обсуждавший с критиками свою кон-
цепцию кровообращения, сразу же отметил этот ключе-
вой момент: «Кто действительно хочет знать, видимо
или невидимо то, о чем я сейчас говорю, сначала пусть
подумает, может ли он не верить такому числу экспертов
27 Harvey W. The Circulation of the Blood and Other Writings / Trans.
Kenneth J. Franklin (London: Dent, 1963). P. 5.
252 Питер Деар. Событие революции в науке
и может ли он не признавать и не заучивать того, что
многие другие признали с большой уверенностью»28. Гар-
вей прибегал к ресурсу экспертизы как к наилучшему спо-
собу превратить себя из экспериментатора в легитимно-
го натурфилософа. Чтобы еще больше подкрепить свою
позицию, он прибег к критериям, принятым в математи-
ке, — точном знании: «Если нет полной веры чувствам и
доверять можно только разуму (как это делают геометры,
когда выстраивают свои конструкции), то и науки ника-
кой не будет: ведь геометры тоже, хотя и исходят не из
предметов чувств, демонстрируют все на основании рас-
суждений так, что это доступно чувству. По этому при-
меру можно понять, что вещи, не находящиеся в сфере
чувств, узнаются и становятся очевидными, когда пред-
лагаются чувствам»29. Таким образом, если математика,
как надежная наука, взывает к чувствам, то же самое де-
лает и экспериментальная наука, такая как физиология,
в которой тоже из общих идей следуют варианты чув-
ственного опыта.
Итак, новое философское течение в XVII в. отдало
приоритет чувствам, которые были поняты не как нача-
ло, но как итог научной деятельности,— и главным средст-
вом возбудить чувственность был признан эксперимент.
Эксперимент, понятый как специальный процесс по делу
феноменов, в заранее известных обстоятельствах и с
употреблением заранее заготовленного аппарата, стал
считаться одним из видов чувственного опыта, превы-
шающим простую инвентаризацию того, что большин-
ство людей уже знает о мире. В этом смысле эксперимент
был родом открытия, поиска новых вещей. И, конечно,
потребовались меры для того, чтобы защитить перво-
открывателей от недоверия публики.
28 Harvey W. The Circulation of the Blood and Other Writings. C. 166.
29 Op. cit. P. 167.
Глава VIII
КАРТЕЗИАНЦЫ И НЬЮТОН И АН ЦЫ
1. Картезианская естественная
философия во Франции
Картезианская естественная философия, признанная
и введенная в употребление в последние десятилетия
XVII в., часто выбивалась из той колеи, которую проло-
жил ее прародитель. Два самых известных приверженца
картезианского подхода к «физическому объяснению»,
Христиан Гюйгенс и Жак Рого, во всем пытались дер-
жаться аутентичной версии естественной философии
своего учителя, изложенной в таких его трудах, как «Рас-
суждение о методе» и «Начала философии». А это озна-
чает, что им всякий раз приходилось оговаривать гипоте-
тический характер механизмов объяснения.
Гюйгенс, о котором мы уже говорили в гл. VI, был од-
ним из руководителей Королевской академии наук в Пари-
же в 1660-х гг. Он восторженно увлекся физикой Декарта
в конце 1640-х гг., будучи еще совсем юным: его пленил ма-
тематический, или, лучше сказать, квазиматематический,
подход Декарта к вопросам естественной философии.
Декарт был лично знаком с отцом Христиана Гюйген-
са, выдающимся дипломатом Константином Гюйгенсом,
и их беседы, несомненно, придали особую глубину юно-
шеским увлечениям Христиана. Так возникло картезиан-
ство в Нидерландах, но для нас важно то, что Христиан
Гюйгенс отдавал преимущество физико-математическим
вопросам перед метафизическими. Декарт думал прежде
254 Питер Деар. Событие революции в науке
всего о том, что необходимо найти надежное основание
всех наших размышлений о физическом мире: следует
опираться на математические доказательства, не про-
пуская ни одного из этапов рассуждения (см. выше, гл. V,
раздел 3). Но Гюйгенс помышлял в первую очередь, как
может быть использован математический и механический
подход и какие практические результаты мы получим от
его употребления. Впервые он попытался взять физиче-
скую математику приступом в 1646 г., когда ему было всего
семнадцать лет; и отец, гордый успехами сына, отправил
сочинение Христиана парижскому единомышленнику Де-
карта Марену Мерсенну на оценку. В своем первом труде
Гюйгенс пытался смоделировать действие силы тяжести:
его интересовало, представляет ли собой ускорение пада-
ющих тел результат сложения последовательной чреды
дискретных импульсов. Молодой автор пришел к выво-
ду, что следует говорить о постепенном и единообразном
ускорении падающего тела, к такому же заключению
подошли и Галилей, и многие другие ученые, хотя неиз-
вестно, был ли Христиан Гюйгенс в то время знаком с ка-
кими-либо работами современников по этому вопросу30.
В 1650-х гг. Христиан Гюйгенс много работал над
трактатом (опубликованным только после его смерти,
в 1703 г.) о механике и движении, в котором попытался
применить формальный принцип относительности дви-
жения для описания результата столкновения несколь-
ких идеально гибких тел («О движении тел при столк-
новении», 1656). В этот же период он написал и другой
трактат, также оставшийся неизданным, под названием
«О центробежной силе», в котором он рассмотрел на-
пряжение при движении по кругу и заметил, что враща-
ющееся тело стремится от центра и сохраняет это стрем-
ление в каждой точке траектории. Круговое движение,
или, точнее, «вихревое», интересовало всех картезиан-
цев, свято веривших в теорию вихрей своего учителя.
30 См.: Dear P. Mersenne and the Learning of the Schools (Ithaca:
Cornell University Press, 1988). P. 210-211.
Глава VIII. Картезианцы и ньютонианцы 255
Позднейшее обсуждение Гюйгенсом вопроса о тяже-
сти и тяготении, представленное на рассмотрение Ака-
демии наук в 1668 и 1669 гг., несло в себе больше гипотез
и догадок, чем его прежние работы. В поздних работах
Гюйгенс попытался вывести теорию тяготения из основ-
ной физической идеи Декарта, пытавшегося объяснить
притяжение Земли участием мельчайших частиц, кото-
рые вращаются вокруг Земли с высочайшей скоростью
и в своем вращении влекут все к центру. Гюйгенс решил
вычислить скорость, необходимую частицам для того,
чтобы тела в свободном падении испытывали именно
то ускорение, которое мы замеряем. Исходя из того,
что ускорение не меняется, Гюйгенс предположил, что
оно должно быть равно центробежному ускорению этих
мельчайших частиц. В опубликованной версии своей ра-
боты, под названием «Рассуждение о причине тяжести»
(1690), Гюйгенс пишет:
Я не считаю, что данная гипотеза не может вызвать
никаких сомнений и что по отношению к ней невозможно
выдвинуть никаких возражений. В исследованиях такого
рода вряд ли возможно сделать все безупречно. Но все же я
думаю, что, если даже начальная моя гипотеза, на которой
я основываюсь, будет сочтена недостоверной, все равно
вряд ли кто-то найдет более правильную гипотезу, если хо-
чет оставаться в границах здравой и прямой философии31.
При обмене мнениями по вопросу о тяжести между
членами Академии в 1669 г. Гюйгенс весьма определенно
настаивал на гипотетическом характере своей теории,
а также на ее связи с изысканиями Декарта о причине
притяжения — как раз построения Декарта Гюйгенс про-
возглашал «здравыми и прямыми». Мы видим, что если
Декарт стремился к достоверности, то Гюйгенс говорил
31 Huygens С. Œuvres completes de Christiaan Huygens, 22 vols (Der
Haag: Nijhoff, 1888-1950). Vol. 21. P. 446. Впервые опубликовано
в 1690 г., как один из ответов на «Математические начала» Ньютона.
256 Питер Деар. Событие революции в науке
о другом — о понятности. Гюйгенс был покорен механиче-
ской философией Декарта не потому, что считал, что это
единственное и неизбежное объяснение мира, но потому,
что думал, что из всех объяснений это наиболее удобопо-
нятное и, главное, всегда порождающее осмысленные вы-
воды. Поэтому Гюйгенс выдвигал свою «гипотезу» о при-
чине тяготения как одно из возможных объяснений (хотя
и превосходное) и говорил, что рассуждать мы должны
именно в таком, а не в другом духе, если видим в мире
только инертную материю, извне приведенную в движе-
ние. Эту начальную картезианскую картину мира Гюйгенс
считал реальностью, а не удобной для понимания моделью
и именно поэтому полагал, что сложные объяснения явле-
ний, ломающие рамки этой простой картины мира, ста-
новятся не просто неправильными, но бессмысленными.
Вот как Гюйгенс рассматривал проблему в своем тру-
де 1669 г.:
Чтобы найти понятную причину тяжести, необходимо
рассмотреть происходящее при предположении в природе
только тел, сделанных из одной и той же материи, чтобы в
них не усматривалось никаких качеств и никаких наклон-
ностей приблизиться к другим, но только различные раз-
меры, формы и движения32.
Гюйгенс замечает, что, если ограничиться только
названными свойствами материальных тел, лишь само
движение сможет объяснить «наклонность к движению»,
она же — тяжесть. Он продолжает излагать эту гипоте-
зу со множеством ссылок на картезианское понимание
тяжести, всякий раз при этом оговаривая, в чем он не
согласен с Декартом и почему. Гюйгенс всякий раз обра-
щается к эксперименту, доказывая внутренне присущую
телам «склонность», порожденную круговым движением
той летучей среды, в которую они погружены, — эта двух-
мерная параллель к трехмерной теории самого Гюйгенса
Huygens. Op. cit. Vol. 19. P. 631.
Глава VIII. Картезианцы и ньютонианцы 257
Рис. 29. Объяснение Гюйгенсом феномена тяжести через сравнение
с вращающейся жидкостью. Горизонтальный диск, на котором стоит
сосуд с жидкостью, быстро вращается и внезапно останавливается.
Но жидкость продолжает вращаться, и лежащее в желобе тело L
сразу устремляется к центру вращения
служит иллюстрацией, проясняющей предпринятую Де-
картом попытку создать теоретические положения на ос-
нове показателей окружающего мира33 (см. рис. 29).
Гюйгенс всякий раз оглядывался на пример Декарта,
о чем и говорят его замечания к «Рассуждению» (1690):
Месье Декарт лучше, чем его предшественники, уви-
дел, что все, что мы можем понять в физике, сводится к
принципам, которые не превышают границ нашего ума,
каковые опираются на тела (рассматриваемые вне их ка-
честв) и на их движения. Но так как величайшая трудность
См. выше, гл. V, раздел 3.
258 Питер Деар. Событие революции в науке
состоит в демонстрации того, каким образом столь боль-
шое количество различных вещей выводится из такого ма-
лого числа принципов, то и сам Декарт не преуспел долж-
ным образом в отдельных частных предметных областях,
которые он собирался сам исследовать: в их число входит,
по моему мнению, и вопрос о тяжести34.
Итак, Гюйгенс оправдывал свое вторжение в новую
предметную область проектом Декарта, который надле-
жало довершить и продвинуть вперед его ученикам.
Но хотя Гюйгенс и считал себя последовательным
картезианцем, он спокойно пренебрегал теми аспекта-
ми мысли Декарта, которые мы считаем в наши дни цен-
тральными. Гюйгенс представлял Декарта как мыслителя,
всецело выразившего себя в проекте новой физики, осно-
ванной на «принципах, не превышающих границ нашего
ума», тогда как сам Декарт говорил о том, что принципы
должны быть обоснованы метафизически и отличаться
абсолютной достоверностью. Гюйгенс в своих физиче-
ских объяснениях гнался за понятностью и приписывал
императив понятности Декарту; но Декарт понимал, что
объяснения отдельных явлений могут быть не вполне
ясны и надежны, даже если они созданы на основе со-
вершенно достоверных принципов, поэтому, и только
поэтому Декарт не ограничивался дедукцией, а требовал
также экспериментов. Декарт употреблял при этом ме-
тафору часов: мы знаем, что часы работают благодаря
зубчатым колесикам, которые и превращают (translare)
действие пружины в движение стрелок; но единственное,
что мы видим извне, — это движение стрелок, тогда как
расположение частей механизма и их движение скрыто
от нас за металлическим корпусом, и мы даже не можем
сказать, на что похож этот часовой механизм. Все потому,
что всегда мы можем вообразить самые различные вари-
анты подбора зубчатых колес под крышкой корпуса и лю-
бой из представленных нами в уме механизмов, при всем
Huygens. Op. cit. Vol. 21. P. 446.
Глава VIII. Картезианцы и ньютонианцы 259
различии их устройства, будет производить один и тот
же эффект — движение стрелок по кругу с наблюдаемой
нами скоростью. Именно то же самое, по мысли Декарта,
нужно сказать и о естественных феноменах и об их объ-
яснении невидимой микромеханикой. Только тщательно
произведенные эксперименты позволят выбрать одно
правильное решение из множества возможных; при этом
правильное решение окажется просто желательным, а не
достоверным, а другие альтернативы могут отпасть просто
потому, что не поддаются классификации или проверке.
Итак, Декарт основывал все свои рассуждения на том
предположении, что основные объяснительные принци-
пы сами по себе не могут быть поставлены под вопрос,
как нельзя поставить под вопрос наличие в часах зубча-
тых колес, и любая интерпретация конкретных наблюда-
емых явлений должна согласовываться с этими принци-
пами, которые суть метафизически надежные основания
любых физических феноменов.
Гюйгенс думал иначе; а лучше сказать, он предпочи-
тал иначе понимать слова Декарта. Он решил, что мета-
физические аргументы Декарта, относящиеся к таким
вещам, как природа материи, описывают только преде-
лы человеческого ума. Люди не способны понять какие-
либо объяснения физического мира, в которых не будет
терминов «инертная (неподвижная) материя» и «дви-
жение». Только так человек может уяснить себе поведе-
ние вещей, но при этом мы не знаем, как такое строение
способностей человека соотносится с действительным
устройством реальности. Вполне возможно, что есть
более верные объяснения феноменов, но вот только
для нас они ничего не будут значить, потому что мы ока-
жемся неспособными их понять. Нельзя из своей чело-
веческой ограниченности судить о том, как именно Бог
решил сотворить этот мир.
Гюйгенс обозначил сходные методологические воз-
зрения при объяснении тяжести в другом исследовании,
также написанном как доклад в Академии. Этот труд,
под названием «Трактат о свете», был зачитан в 1679 г.
260 Питер Деар. Событие революции в науке
и опубликован в 1690 г. вместе с только что рассмотрен-
ным нами сочинением о причинах тяжести. В начале
«Трактата о свете» Гюйгенс объясняет, почему он решил
изучать поведение света так, как будто это одна из форм
движения: «Немыслимо усомниться в том, что свет, раз он
движется, состоит из какого-то рода материи». Гюйгенс
описывает эффект нагревания, приводящий к разруше-
нию обычной материи при горении, и говорит, что огонь
и пламя — это та форма, которую свету прилично прини-
мать на земле. «А это тоже признак движения, во всяком
случае если держаться истинной философии, в которой
нужно понимать причины всех естественных эффектов в
терминах механических движений». Но Гюйгенс вовсе не
считает, что эта «истинная философия» необходимо сооб-
щает нам истину о физическом мире. Напротив, он говорит,
что термин «механическое движение», к которому все сво-
дится, — это просто объяснительный принцип. «Именно
такой принцип, по моему мнению, мы необходимо долж-
ны применять — в противном же случае нужно оставить
всякую надежду понять что-либо в физике». Гюйгенс гово-
рит, что выбирает правильный путь философствования,
и это самое большее, что он может сделать, но правиль-
ность философии еще не означает, что мы узнаем все,
как оно обстоит на самом деле. Мы просто-напросто при-
вязаны и прикреплены к этим принципам в силу их осо-
бой понятности, о которой, по Гюйгенсу, и писал Декарт.
Результатом всех этих размышлений явилось истол-
кование света как длинных волн в текучей эфирной сре-
де, вроде звуковых волн в воздухе — существование зву-
ковых волн было общепризнанным после работ Исаака
Беекмана и других ученых XVII в. Любопытно, что Гюй-
генс не догадался, что различная длина волны и может
определять зрительное различие света, как, например,
цвет, напротив, он настаивал на том, что свет — это цепь
импульсов, прорывающихся через текучую среду, и зна-
чима, таким образом, только скорость каждой отдельной
световой волны (в отличие от Декарта, который счи-
тал, что давление света распространяется мгновенно,
Глава VIII. Картезианцы и ньютонианцы 261
Гюйгенс полагал скорость света ограниченной и пере-
менчивой). Он представлял, что, когда распространяю-
щиеся световые волны накладываются друг на друга, они
образуют волновой фронт — его мы и видим. Как мы ви-
дим, Гюйгенс признал длину волны постоянной и только
скорость изменчивой, исходя из того круга проблем, ко-
торый ему надлежало решить. Именно в этом ключе мы
должны понимать гюйгенсовскую версию картезианской
механистической физики: он всегда трактовал об инди-
видуальных проблемах и индивидуальных феноменах как
о тех материях, которые следует разбирать постепенно,
по мере необходимости — и каждую из проблем осмыс-
лять в ее очередь, руководствуясь понятными до совер-
шенной прозрачности картезианскими принципами «ме-
ханических движений». Согласование индивидуальных
моделей, созданных применительно к столь же индиви-
дуальным естественным феноменам, могло мыслиться не
как близкая, но только как очень отдаленная цель. Тон-
чайшие частицы, вьющиеся вокруг Земли, с отсылкой к
которым Гюйгенс объяснял тяжесть, никак не соотноси-
лись с картиной густой среды, передающей волны света.
Гюйгенс был самым влиятельным из натурфилосо-
фов, сосредоточившихся вокруг Академии наук, но, вне
всякого сомнения, крупнейшим картезианским натурфи-
лософом в светских кругах всего Парижа был Жак Рого.
Рого прославился своими публичными лекциями по есте-
ственной философии в 1660-х гг., и секрет его успеха со-
стоял в том, что он сопровождал пересказ идей Декарта
математическими и экспериментальными демонстрация-
ми физических феноменов: он демонстрировал публике
и оптические приборы, и барометр, и систему магнитов.
В 1671 г. он опубликовал «Трактат по физике», в котором
расположил представленный в лекциях материал систе-
матически. Рого подчеркивал, вполне в соответствии со
вкусами его современников, важность и разума, и экспе-
римента при извлечении знания о природе. В Предисло-
вии к трактату он изложил историю изучения природы
начиная с глубокой древности — как мы помним, точно
262 Питер Деар. Событие революции в науке
так же поступил в свое время Бэкон. Как и Бэкон, Рого от-
мечает рост знания в новую эпоху, появление множества
новых наук и устройств. Тем самым он сразу подрывает
авторитет мыслителей древности, прежде всего Аристо-
теля. Вслед за Декартом Рого порицает философские
определения Аристотеля за темноту и непонятность (осо-
бенно определение движения, высмеянное Декартом в
трактате «Мир»). И, продолжая Бэкона, Рого отвергает
(опять без ссылки) споры о делимости материи, кото-
рые Бэкон в «Новом органоне» назвал бесполезными и
не имеющими никакого практического смысла35. Такое
соединение в трудах Рого ясности картезианских объяс-
нительных принципов с операционалистскими критери-
ями натурфилософии Бэкона проявлялось и в той прак-
тичности, лишенной и следа метафизики, с которой Рого
давал механистические объяснения экспериментально
воспроизводимых феноменов. Рого также подчеркивал
важность математики для понимания происходящего в
любых исследованиях и сожалел о распространенном
обычае обособлять математику от других разделов фило-
софии. Он говорил, что метод современных философов
порочен тем, что «они пренебрегают математикой в та-
кой степени, что даже самые элементарные ее положе-
ния отказываются преподавать в своих школах»36.
Основная часть трактата Рого представляет собой
систематическое описание принципиальных подразде-
лений в природе: составляющие физику вообще (мате-
рия, качества, воспринимаемые чувствами, в их истин-
ной природе и т.п.), космографию (структурауниверсума
как целого, включая планеты, кометы и звезды), науку о
Земле (феномены земного происхождения, включая ме-
теорологические) и, наконец, науку о строении челове-
ческого тела. Во всех этих областях физического знания
35 Rohault's System of Natural Philosophy, Illustrated with Dr. Samuel
Clarke's Notes (London, 1723). T. 1. P. A-6r. Это английский перевод «Трак-
тата по физике» (1671). О мнении Бэкона см. выше, гл. III, раздел 3.
36 Ibid.T. l.P.B-lr.
Глава VIII. Картезианцы и ньютонианцы 263
Рого стремится действовать в соответствии с картези-
анскими принципами, следуя тому обсуждению вопро-
сов, которое мы находим в естественно-научных трудах
Декарта, прежде всего в «Началах философии» и трак-
тате «Человек», написанном как продолжение трактата
«Мир» и опубликованном посмертно в 1662 г.
Главная тактика изложения Рого состояла в том, чтобы
представить все идеи и доводы так, чтобы они сразу сни-
скали одобрение читателя; Рого вовсе не стремится вся-
кий раз ссылаться на Декарта как на авторитет, которым
можно оправдать любые свои слова (цитирование Декар-
та ограничивается Предисловием). Например, в главе, по-
священной трем материальным элементам, из которых,
по Декарту, состоит мир, Рого просто призывает, вслед
за Декартом, вообразить, каким образом материя могла
естественным образом принять свой нынешний вид, не-
зависимо от возможной воли Бога, определившей форму
материи. Относительные движения частей материи поз-
воляют, по словам Рого, провести различия между ними:
Предполагается, что все эти частицы материи должны
разбиться, потому что они угловаты и наталкиваются друг
на друга, и, таким образом, с самого начала будучи весьма
маленькими, они будут становиться все меньше и меньше,
пока не достигнут сферичности по форме. Таким обра-
зом, мы имеем два определенных вида материи, которые
и должны считать первыми двумя элементами. И из этих
двух тот вид, который состоит из очень тонкой пыли, ис-
ходящей от этих частиц, но которые при этом не так малы
и обращаются, называем первым элементом. А те частицы,
которые стали круглыми, мы называем вторым элементом.
И может быть так, что некоторые из малых частиц мате-
рии, по отдельности или объединившись, могут перерасти
в нерегулярные и смешанные фигуры, менее пригодные
для движения, мы признаем их за третий элемент и присо-
единяем его к первым двум37.
Ibid. Р. 115.
264 Питер Деар. Событие революции в науке
Итак, мы видим, что Рого, в отличие от Декарта, во-
все не стремится создать систематическую и последова-
тельную картину мира, а, напротив, пытается дать под-
ходящие, наглядные и механистические объяснения
феноменов, не думая о согласовании каждого раздела
объяснений, но только проводя аналоги с техническими
процессами. Как и Гюйгенс, Рого признает картезиан-
скую физику в том аспекте, что язык разговора о физи-
ческих материях должен быть понятным, а это значит —
предельно механистичным. Необходимая внутренняя
согласованность и связность физической системы вовсе
не требуется для объяснения природы, для Рого доста-
точно просто, чтобы любое объяснение природного фе-
номена имело смысл.
После смерти Рого в 1672 г. ведущим французским
представителем механистической натурфилософии
стал считаться другой последователь Декарта— Пьер-
Сил ьвэн Режи, переселившийся в Париж в 1680 г. Режи
отличался от Рого тем, что стремился удержать в своей
работе системосозидательский пафос Декарта, а значит,
уделял больше внимания метафизическим компонентам
картезианской философии. В своем обширном труде
«Система философии» (1690) Режи попытался охватить
такие обширные области философского знания, как ло-
гика, метафизика, нравственная философия и, конечно,
физика. Привлекая в качестве примеров такой материал,
как, например, результаты экспериментов Роберта Бой-
ля, Режи попытался заново синтезировать и продвинуть
вперед философию в чисто картезианском духе, считая,
что первоначальному картезианству недоставало прагма-
тической непредвзятости механистической натурфило-
софии, которой смогли добиться только Гюйгенс и Рого.
Будучи выдающимся философом картезианского на-
правления, Режи тем не менее сдался под натиском по-
пулярности другого французского философа, который в
глазах большинства современников и был самым выда-
ющимся распространителем и творческим интерпре-
татором философии Декарта в конце XVII в. Это был
Глава VIII. Картезианцы и ньютонианцы 265
Николя Мальбранш, священник, который стремился
во всем согласовать картезианство с христианской тео-
логией, — странное выпадение картезианства из норм
теологического рассуждения смущало и Рого, и многих
других. В своем знаменитом трактате «Исследование
истины» (1674-1675), который сохраняет свое фило-
софское значение и поныне, Мальбранш дает целост-
ное описание философии Декарта, но при этом почти
ничего не говорит о конкретных физических вопросах,
поставленных в традиции философии Декарта, и толь-
ко мельком упоминает труды таких специалистов по
естественной философии, как Гюйгенс. Мальбранш про-
делал все же огромную работу, его философия, полно-
стью проникнутая духом картезианства, широко ввела
идеи Декарта в университетские курсы: в конце XVII в.
во французских университетах стали преподавать по
Декарту те вопросы, которые казались уже решенными
Аристотелем. Конечно, не всегда университетское из-
ложение Декарта сопровождалось однозначным одобре-
нием его идей, но важно то, что студенты знакомились с
действительной альтернативой старомодному аристоте-
лиански-схоластическому подходу.
Картезианство нашло своих горячих приверженцев и
в самых модных салонах Парижа. Высшее общество при-
знавало свое поражение перед интеллектуалами, и их
число росло из года в год. На протяжении конца XVII в.
и всего XVIII в. мы видим рост социального статуса ин-
теллектуалов, которые теперь и формируют мнения в
светском мире, за стенами университетов и академий.
Главное, что отличало салоны от других собраний, об-
суждавших идеи, — это то, что во главе салонов часто
были женщины, и участие в обсуждении женщины при-
нимали наравне с мужчинами. Салоны представляли
собой «открытые площадки» для социальной элиты:
обычно они происходили еженедельно, в назначенный
день после обеда, в доме знатного человека, считавшего,
что привлечь к себе интеллектуалов входит в его инте-
ресы. Обсуждением руководила обычно супруга хозяина
266 Питер Деар. Событие революции в науке
дома, и социальный престиж собрания определялся тем,
сколько знаменитых литераторов и философов удалось
пригласить. В то время женщины стали писать и фило-
софские работы, и литературные произведения— во
Франции эти женщины-писатели составили круг Мадлен
де Скюдери, сестры драматурга Жоржа де Скюдери, чле-
на Французской академии, а также круг маркизы де Рам-
буйе, которая, как и де Скюдери, содержала салон. Куль-
тура салонной жизни дала женщинам редкостную тогда
возможность обсуждать на равных правах с мужчинами
вопросы, которые тогдашняя образовательная система
делала исключительно уделом мужчин. Конечно, идо
этого женщины читали книги приватным образом, более
того, они могли посещать публичные лекции, знакомясь
с новейшими философскими течениями и проблемами
естественной философии, так Рого разрешил женщинам
приходить на его лекции еще в середине 1660-х гг. Но ме-
стом обсуждений и активного обмена мнениями могли
стать только салоны. Некоторые женщины, получив пре-
жде невиданную возможность заявлять самые серьезные
мысли, сразу же взялись изучать философию Декарта,
чтобы придать больший вес своим философским утверж-
дениям и тем самым утвердить свое место в новой салон-
ной культуре38.
Если говорить кратко, одно из прямых следствий
учения Декарта, до которого при этом дошли только
участники и участницы салонов того периода, заклю-
чалось вот в чем: так как ум отличен от тела — ведь он
есть «мыслящая вещь» в отличие от обычной материи
в наших телесных пределах, — то в самом деле не су-
ществует никакого фундаментального различия между
умом мужчины и умом женщины: ум всегда ум, и настоя-
щий ум всегда рационален. А это значит, что женщины
38 Знаменитый труд Фонтенеля «Беседы о множественности
миров» (1686) представляет собой вымышленную светскую беседу
о естественной философии с участием «философа» (самого автора)
и «юной сударыни». Космология в картезианском стиле вполне под-
ходила к культуре салонов.
Глава VIII. Картезианцы и ньютонианцы 267
обладают теми же интеллектуальными способностями,
что и мужчины, и, несмотря на некоторую телесную
хрупкость, которой нельзя не заметить, женщины могут
участвовать в образовательных и даже политических
предприятиях, что и коллеги-мужчины. Франсуа Пулен
де ла Барр, знаменитый остроумец, даже заметил по
этому поводу: «Ум не имеет пола». Некоторые посети-
тельницы салонов, включая племянницу Рене Декарта
Катерину Декарт, подтверждали достижениями своего
ума такой строгий дуализм ума и тела и в то же время
сами увлекались этой новой теорией, начиная с прин-
цессы Елизабет, одного из главных корреспондентов
Декарта в последние годы его жизни. Такое несомнен-
ное научное доказательство философского тезиса еще
раз подтверждает, сколь необходимо ложится любая
философская система на остро поставленные социаль-
ные и политические вопросы.
В тогдашнем специфическом контексте развития
естественной философии труд такого ученого, как Гюй-
генс, серьезно повлиял в конце XVII в. и начале XVIII в.
на деятельность известной шведской династии математи-
ков Бернулли, которые называли себя «физико-матема-
тиками». Бернулли с 1690-х гг. и почти до конца XVIII в.
лидировали в разработке механики жидкостей, которую
они считали частью фундаментальной программы фи-
зических исследований Декарта, — ведь Декарт понимал
любое действие в физическом мире как давление одной
материи на другую материю, и рассматривал движения
как движения в жидкой среде. Именно таково прототи-
пическое вихреобразное движение по Декарту, которое
он считал принципиальным и важнейшим. Изощренные
математические изыскания по механике жидкостей в се-
редине XVIII в. проводились и другим шведским ученым,
Леонардом Эйлером, для которого они стали частью
создания «рациональной механики». Но первым побуди-
телем создания новой рациональной механики, уже от-
вечавшей требованиям XVIII в., стали не Декарт, не его
верные последователи, но Исаак Ньютон.
268 Питер Деар. Событие революции в науке
2. Альтернативы Ньютона
Прежде всего необходимо подчеркнуть, что ситу-
ацию в науке конца XVII в. нельзя свести к простому
противостоянию и борьбе двух школ — «картезианцев» и
«ныотонианцев». Как мы уже видели, труды тех ученых,
которые считали себя картезианцами, нельзя свести к
какому-то общему образцу ни по кругу обсуждаемых во-
просов, ни по деталям обсуждения; то же самое следует
сказать и о ньютонианцах. Прежде чем мы перейдем к
Ньютону и его последователям, следует уделить внима-
ние другой важной фигуре конца XVII в., человеку, кото-
рый во многом равнялся на образец Декарта, — это не-
мецкий философ Готтфрид Вильгельм Лейбниц.
Лейбниц был выдающимся ученым, выказавшим ис-
ключительный талант практически во всех областях
знания, от математики и логики до истории и лингвисти-
ки. С 1676 г. до кончины в 1716 г. Лейбниц находился на
службе у герцога Брауншвейг-Люнебургского в Ганнове-
ре. Его значение как философа во многом определяется
критикой Декарта и отвержением большинства основ
учения Декарта. В естественной философии самые зна-
чительные работы он осуществил в теоретической физи-
ке и математике, прежде всего механике; и впоследствии
именно он, а не Ньютон оказал решающее влияние на
становление центральных понятий рациональной меха-
ники XVIII в. Естественная философия Лейбница, в го-
раздо большей степени, чем философия Декарта, гово-
рила об определенно метафизическом складе ума своего
создателя. Одно из самых сложных и внутренне противо-
речивых положений философии Декарта — это абсолют-
ное различение между умом («мыслящей вещью») и телом
(«обычной материей» или же «протяженностью»), кото-
рые при этом признаются необходимым образом тесно
связанными. Философская трудность такого убеждения
состояла в том, каким же образом ум и тело могут взаи-
модействовать, если они во всем отличаются друг от дру-
га: ум не имеет никаких материальных (механических)
Глава VIII. Картезианцы и ньютонианцы 269
свойств, тогда как материальное тело не обладает ника-
кими умственными свойствами. Декарт не смог удовлет-
ворительно ответить на этот вопрос, на что и обратили
внимание многие его последователи. Решение Лейбница
отличалось весьма частым для него радикализмом. Лейб-
ниц предположил существование «предустановленной
гармонии» между умом и телом: Бог расположил материю
так, что, чего бы ни пожелал ум или чего бы он ни испы-
тал, это сразу же находит свое физическое соответствие
в материальном мире — так действие происходит несмо-
тря на то, что между материальным и духовным миром
не может быть отношений причинности. Так, например,
я решил пнуть ногой камень, я сделал, и я наблюдаю, как
камень летит в сторону: здесь есть последовательность
физических явлений и последовательность умственных
состояний, и обе эти последовательности разворачива-
ются независимо друг от друга. Таким образом, мы видим,
что Лейбниц решил проблему картезианского дуализма,
заменив понятие о причинности понятием черного ящи-
ка, хотя он еще не употреблял этого слова.
Спор Лейбница с Ньютоном был прямым и весьма
ожесточенным. Во многом он был связан с отстаиванием
приоритета в изобретении дифференциального исчисле-
ния. Ньютон изобрел такую форму стремящегося к беско-
нечности исчисления еще в 1660-х гг. и выдвинул первые
идеи по этому вопросу в 1665-1666 гг., как раз параллель-
но с написанием оригинального трактата о свете и цветах
(о котором мы подробно говорили в гл. VII). Этот крат-
кий период творчества Ньютона обыкновенно называют
«удивительным годом» (лат. annus mirabilis), потому что
наряду с этими двумя великими открытиями Ньютон в
это же время сделал важнейшие подступы к открытию
закона всемирного тяготения, его обессмертившего.
В середине 1660-х гг. Ньютон внимательно изучал
всю современную ему естественную философию, пы-
таясь отыскать решение поставленных Декартом во-
просов. Его записные книжки этого времени содержат
множество идей, попутных размышлений, конспектов
270 Питер Деар. Событие революции в науке
e
Рис. 30. Первая теорема первой пропозиции из «Начал»
Ньютона: всеобщий закон равных площадей. Следует отметить
понимание центростремительной силы как импульса
прочитанного и описаний экспериментов. В 1665 г. Нью-
тон вынужден был покинуть Кембридж, где недавно по-
лучил степень бакалавра, и из-за угрозы чумы поселился
на некоторое время в фамильном имении в Грэнтеме,
графстве Линкольншир. Идеи Ньютона о тяготении
первоначально разрабатывались вследствие размышле-
ний над проблемой, поставленной Галилеем в его «Диа-
логе» 1632 г., который был незадолго до этого переведен
с итальянского языка на английский. Галилей размыш-
лял о том, почему, если Земля вертится вокруг своей
оси, вещи с ее поверхности не соскакивают, подобно
кускам глины и каплям на гончарном круге. Ньютон ре-
шил проверить, какой может быть центробежная сила
Глава VIII. Картезианцы и ньютонианцы 271
на поверхности Земли (а нужно заметить, что он рабо-
тал над этим вопросом совершенно независимо от тогда
еще не опубликованного труда Гюйгенса о центробежной
силе, созданного в 1650-х гг., и от*разработанной Гюйген-
сом терминологии), и сравнить эту центробежную силу с
силой тяжести, которая и движет тела по направлению
к центру вращающейся Земли.
В результате был произведен анализ кругового движе-
ния, повторявший выводы Гюйгенса (оба ученых вывели
известную теперь всем формулу F = (mv2)/r). Ньютон
решил проверить свой результат, пронаблюдав за движе-
нием Луны вокруг Земли: он знал и скорость движения
Луны по орбите, и приблизительное расстояние Луны
от центра Земли. Если Луна ведет себя точно так же, как
тело рядом с поверхностью Земли, и ее центробежная
тенденция уравновешивается гравитационной тенденци-
ей, направленной в сторону Земли, то формула Ньютона
подразумевает, что сила гравитации, воздействующая на
Луну, уменьшается в сравнении с измеряемой на поверх-
ности силой по формуле (1/г2 - 1/R2), где г — радиус Зем-
ли, a R — радиус лунной орбиты. Ньютон впоследствии
заявлял, что он забросил эти свои изыскания только по-
тому, что неправильно рассчитал земной радиус и не мог
понять, почему результаты, получающиеся по формуле,
не совпадают с наблюдаемым поведением Луны. Но, как
бы то ни было, Ньютон более не возвращался к этим во-
просам и тем более не исследовал их систематически
до самого конца 1670-х гг.
Когда Эдмунд Галлей посетил уже прославленного
к тому времени луказианского профессора математи-
ки в Кембридже в 1684 г., этот визит побудил Ньютона
начать работу над своим крупнейшим трудом «Матема-
тические начала естественной философии», который
был издан в 1687 г. Галлей действовал как представитель
Королевского общества и расспрашивал у Ньютона, ка-
кую именно орбиту опишет тело, движущееся вокруг
покоящегося в центре другого тела, если движущееся
тело притягивается к покоящемуся силой, меняющейся
272 Питер Деар. Событие революции в науке
обратно пропорционально квадрату расстояний. Вопрос
подразумевал, что нужно установить один фактор — то,
что мы теперь, вслед за Ньютоном, называем прямоли-
нейной инерцией, которая и действует в движении тела,
если оно не подвергается никакому воздействию извне:
единожды начав двигаться, тело будет продолжать дви-
гаться по прямой линии до тех пор, пока что-либо не со-
бьет его с этого курса. Этот принцип, который теперь
изучают в школе, впервые был провозглашен Гассенди
в 1642 г. и уже в 1644 г. стал частью «Начал философии»
Декарта — так что Ньютон имел его в виду как само со-
бой разумеющееся. Ньютон ответил Галл ею, что тело бу-
дет двигаться по эллипсу, как и движутся планеты вокруг
Солнца; и Галлей убедил Ньютона опубликовать резуль-
таты. Для того чтобы подготовить публикацию, Ньюто-
ну понадобилось два года тяжелой работы — ему нужно
было подкрепить принципы всей системы механики
и движения, и согласовать их с данными экспериментов
и наблюдений, чтобы читатель сразу увидел, как они ра-
ботают на Земле и в Солнечной системе.
Базу исследований Ньютона образовали не только
многократно критиковавшиеся правила Декарта, от-
носящиеся к движению и столкновению, но и получен-
ные Гюйгенсом результаты по изучению центробежной
силы, впервые опубликованные в 1673 г. с опущением до-
казательств. В системе Ньютона кроме прямолинейной
инерции нашли свое место и выведенные Гюйгенсом
правила столкновения тел. Для Ньютона важнее всего
было то, что все изыскания можно представить в клас-
сической геометрической форме, а значит, изложить то,
что происходит с движением, со всей основательностью
и математической строгостью, а без этого не построишь
«системы мира», к чему воодушевленно стремился Нью-
тон. Рукопись, представляющая собой один из черновых
набросков «Математических начал» и относящаяся ко
времени после 1685 г., так и озаглавлена «О движении».
Долгое время считалось, что Ньютон вывел все свои те-
оремы с помощью дифференциального и интегрального
Глава VIII. Картезианцы и ньютонианцы 243
счисления и только потом перевел их в термины клас-
сической геометрии, чтобы сделать их понятными для
современников. Но рукописное наследие Ньютона одно-
значно доказывает, что он с самого начала и до конца ра-
ботал в классическом стиле. Именно дедуктивная геоме-
трия в традиции Евклида и была для него единственным
языком, в котором он хотел вести свою работу, точно так
же как латинский язык он признавал единственно воз-
можным для написания трудов по математике.
Одна из самых замечательных особенностей «Матема-
тических начал», отличающая их от «Начал философии»
Декарта, — это то, что Ньютон не считал, что для пере-
дачи действия требуется непосредственное соприкосно-
вение тел. Ньютон говорит о «силах», которые с самого
начала понимаются как дискретные импульсы, воздей-
ствующие на тело таким образом, что могут изменить его
скорость (velocitas, это может быть быстрота движения,
направление движения или и то и другое). Ньютон вовсе
не считал себя обязанным объяснять механизм, с помо-
щью которого передается эта сила, или даже определять
источник силы. Возьмем, скажем, пример, поставленный
перед ним Галлеем, — определение пути тела, обращаю-
щегося вокруг второго, неподвижного тела, при условии,
что сила притяжения обратно пропорциональна квадра-
ту расстояний. Ньютон решил рассмотреть путь тела
как состоящий из последовательности прямолинейных
инерционных движений, прерываемых всякий раз пе-
риодическими дискретными импульсами в сторону тела
в центре. В результате получился многоугольный путь,
который при все больших и больших уточнениях пре-
вращается в многоугольник с бесконечным числом сто-
рон, то есть в ту кривую, которая и нужна была Ньютону.
Ньютон совершенно не интересовался ни источником,
ни причиной импульсов в рамках этого анализа. В пер-
вой теореме первой пропозиции трактата, имея в виду
второй закон Кеплера о равных площадях, Ньютон про-
сто отождествил каждую из этих дискретных сил с «цен-
тростремительной силой, каковая действует всякий раз
274 Питер Деар. Событие революции в науке
как единократный, но мощный импульс». Заметим, что,
оставив в стороне вопрос о причине, Ньютон явно мог
пренебрегать тем, рассматривает ли он в данный момент
силу притяжения или силу отталкивания. Таким образом,
«мощный импульс» в сторону центрального тела может
быть родом притяжения, осуществляемого центральным
телом, или же толчком извне в сторону центрального
тела— Ньютон в своем разборе никогда не будет отве-
чать на этот вопрос.
Тем не менее действительное размышление Нью-
тона середины 1660-х гг. о центробежной силе Луны и
о силе тяжести состоит в том, что равновесное движе-
ние соблюдается именно потому, что тяжесть Луны тож-
дественна ее гравитации, иначе говоря, устремлению к
Земле. Естественная философия Ньютона дает новую
трактовку качествам, и можно показать на множестве
примеров, особенно с предельной очевидностью в его
позднейшей «Оптике», что представляемое нами в во-
ображении действие гравитации взаимно, — если одно
тело влечется к другому, то именно потому, что то другое
тело его влечет. Это резко отличается от позиции Декар-
та и Гюйгенса в понимании тяжести, которые считали,
что тяжелые тела стремятся к центру Земли благодаря
действию той материи, которая не тождественна Земле
с ее центром, но, напротив, удалена от центра и даже от
поверхности Земли.
«Система мира» Ньютона, которая составила III кни-
гу «Начал», со всей очевидностью показывает, с каки-
ми трудностями столкнулся Ньютон, когда ему понадо-
билось уточнить свою позицию. В этой книге трактата
Ньютон применил свои ранние математические выклад-
ки к наблюдаемому поведению тел в Солнечной системе
и показал, что Кеплеровы законы движения планет впол-
не могут быть выведены из изложенных самим Ньюто-
ном физико-математических положений — достаточно
принять, что все материальные тела притягивают одно
другое обратно пропорционально квадрату расстояний
между ними (а если говорить точнее, два любых тела
Глава VIII. Картезианцы и ньютонианцы 275
притягивают одно другое с силой, которая определяется
как обратная квадрату расстояний между их центрами тя-
жести). При этом Ньютон не считает нужным обсуждать,
чем вызвана эта сила. Вот как он говорит в «Началах»:
Я употребляю слово «притяжение» здесь в самом общем
значении, для любого устремления одного тела прибли-
зиться к другому телу ...И слово «импульс» я употребляю
в столь же общем значении, рассматривая в этом трактате
не виды сил с их физическими качествами, но только их ко-
личественные показатели и математические пропорции39.
И далее, в «Оптике», обсуждая общую проблему дей-
ствия сил на расстоянии, как гравитационных, так и воз-
можных прочих, Ньютон говорит: «Каким образом такие
влечения приводятся в действие (performed), я здесь не
рассматриваю. То, что я называю притяжением, может
приводиться в действие импульсом или каким-то другим
неизвестным мне способом. Я употребляю названное сло-
во, только чтобы обозначить в общем смысле (in general)
любую силу, благодаря которой тела устремляются одно
к другому, какова бы ни была причина этого»40.
Часть тех трудностей, которые испытал Ньютон, свя-
заны с самой механистической философией. В той или
иной форме, но всегда со скрытой отсылкой (независи-
мо, с одобрением или попыткой опровержения) к влия-
тельнейшей версии, изобретенной Декартом, механисти-
ческий идеал объяснения довлел обширному движению
противников аристотелизма; и особенно его влияние чув-
ствовалось в физико-математической естественной фи-
лософии. Ньютон более, чем все остальные, сделал для
критики и низложения механицизма; другое дело, что ему
было весьма трудно, по крайней мере в произведениях для
39 Ньютон. Математические начала...
40 Ньютон. Оптика, или Трактат об отражениях... вопрос 31. Этот
отрывок появился в третьем (английском) издании (1717) как разви-
тие рассуждения во втором (латинском) издании (1706). Первое из-
дание трактата вышло в 1704 г.
276 Питер Деар. Событие революции в науке
широкой публики, оспаривать механицистов. В 1692 г.
он писал Ричарду Бентли (позднее магистру в Кем-
бриджском Тринити-Колледже) частным порядком:
Невозможно себе помыслить, чтобы грубая неодушев-
ленная материя без посредничества чего-то нематериаль-
ного стала действовать и воздействовать (operate upon and
affect) на другую материю без взаимного соприкосновения.
...Тяжесть должна вызываться агентом, который постоян-
но действует по определенным законам, но материален
или нематериален этот агент — я оставляю поразмыслить
моим читателям»41.
Итак, Ньютону было необходимо, чтобы нечто по-
средничало между притягивающимися телами. Этот по-
средник— своего рода гений строгого механизма при-
роды: ведь если не материя посредник, то что-то другое
должно взять на себя эту роль. Ньютон в некоторых
случаях обыгрывал идею, что Бог сам обеспечил грави-
тационные эффекты и сделал так, что тела движутся по
закону тяготения напрямую, без участия каких-либо по-
средующих физических причин. Такая идея легко подби-
рает себя к знаменитому замечанию Ньютона в «Общем
поучении» (Scholium Generale), предварявшем второе
издание «Начал» (1713). Там о Боге говорится: «Он пре-
бывает всегда и присутствует везде, и благодаря суще-
ствованию всегда и везде Он образует протяженность
и пространство. Бог существует необходимым образом,
и по той же необходимости Он всегда и везде. Следова-
тельно, все в Нем таково, каков Он сам: Он весь око, весь
ухо, весь мозг, весь рука, весь сила чувства, весь сила по-
нимания и действия, но вовсе не человеческим образом,
вовсе не телесным образом»42. В 31 Вопросе «Оптики»
41 Цит. по: КойреА. От замкнутого мира к бесконечной вселенной
(М.: Гнозис, 2001), исправлено по ориг. изд. {Alexandre Koyré. From the
Closed World to the Infinite Universe (Baltimore: The Johns Hopkins
University Press, 1957). P. 178).
42 Ньютон. Начала...
Глава VIII. Картезианцы и ньютонианцы 277
Ньютон писал, что очевидно определяющие (designful)
свойства животных, так же как столь же важные черты
Солнечной системы, «не могли быть производным чего-
то другого, чем Мудрости и Разумения (Wisdom and Skill)
могущественного присноживущего Деятеля (Agent), Ка-
ковой присутствует во всех местах и вполне способен по
Своей всемогущей воле двигать тела, внутри Своих пре-
красным образом согласованных ощущений»43.
Натурфилософское учение, или же позиция, или
идеология, известное как «ньютонианство», развивалось
вокруг именно таких соображений, а вовсе не вокруг чи-
сто технических математических вопросов. Среди пер-
вых последователей Ньютона были церковные деятели,
такие как филолог Ричард Бентли, который решил про-
пагандировать ньютоновскую версию картины мира для
продвижения своих богословских и политических про-
грамм. Одной из ранних площадок, на которой возвеща-
лось ньютонианство, были ежегодные лекции, учреж-
денные Робертом Бойлем (ум. 1691) и известные как по
сей день существующий «Лекторий Бойля». Бентли был
первым бойлевским лектором, и он много переписывал-
ся с Ньютоном, чтобы уточнить, как можно употребить
естественную философию для поддержки христианской
религии «против известных всем неверных», как назы-
вал их Бойль. Ньютон, благоволя идее лекций, говорил
Бентли: «Когда я писал свой трактат по этой Системе,
я взирал на эти принципы как на те, что заставляют лю-
дей задуматься и поверить в Божество, и ничто не удов-
летворит меня больше, чем сознание того, что я оказался
полезен этой цели»44.
Последующие бойлевские лекторы в начале XVIII в.,
такие как Самуэль Кларк, Уильям Уистон и особенно по-
пулярный Уильям Дерхам, выдвигали свои версии нью-
тоновских воззрений на природу и на отношение Бога
43 Ньютон. Оптика...
44 Цит. по: Jacob M.С. The Newtonians and the English Revolution,
1689-1720 (Ithaca: Cornell University Press, 1976). P. 156.
278 Питер Деар. Событие революции в науке
к природе. Важность всех этих циклов бойлевских лекций
для распространения ньютонианства во многом связана
с тем, что все эти циклы лекций потом публиковались в
виде книг. Таким образом, натурфилософские идеи Нью-
тона стали известны в начале XVIII в. большинству пред-
ставителей образованного класса Британии и дошли до
них в богословской упаковке бойлевских лекций.
3. Ньютонианство
Ньютонианство как узнаваемое движение, со своим
стилем философствования и со своими верными привер-
женцами, оформилось после того, как в 1703 г. Ньютон
стал президентом Лондонского королевского общества.
(Ньютон переехал из Кембриджа в Лондон в 1696 г., где
возглавил Монетный двор.) Обществом Ньютон руково-
дил до самой смерти в 1727 г. и в результате смог создать
своего рода правоверную философию. Такая философия
была необходима для привлечения новых адептов и от-
ражения критических нападок со стороны философов
из Франции и других европейских стран. Среди европей-
ских критиков Ньютона первое место занимал конечно
же Лейбниц.
Лейбниц, Гюйгенс и другие континентальные фило-
софы, такие как Режи, отозвались на публикацию «На-
чал» в 1687 г. весьма критически. Их основные упреки
были направлены не против частностей, а против об-
щего замысла: они говорили, что Ньютон, вместо того
чтобы действительно работать в области естественной
философии, написал книгу по математике, замаскиро-
вав математические задачи под философские проблемы.
Рецензент из «Журналь де Саван» (вероятно, Режи) так
обобщил свою критику для читателей крупнейшего фи-
лософского журнала на континенте: «Стремясь сделать
свой труд насколько возможно совершенным, г-н Нью-
тон при этом выдал нам только физику, сведя ее к своей
механике. А философию он создаст только тогда, когда
Глава VIII. Картезианцы и ньютонианцы 279
заменит действительными движениями те движения, ко-
торые им только предполагаются»45. Как мы видим, кри-
тик недоволен тем, что чисто математическое описание
(его он и называет «механикой») подменяет физическое
объяснение. Те «действительные движения», о которых
говорит рецензент, — это действительные причины про-
исходящих в мире событий; а Ньютон только «предпо-
ложил» (т.е. постулировал) движения, соответствующие
гравитационным силам, не вдаваясь в исследование при-
роды этих сил. Нечто подобное сказал и Гюйгенс после
знакомства с трактатом Ньютона: мы уже знаем, что его
объяснение тяжести было другим — оно при этом было
уже вполне разработано на момент выхода ньютонов-
ских «Начал», — и ясно, что Гюйгенс не мог найти в тру-
де Ньютона то, чего так искал и чего хотел прежде все-
го добиться в своей работе, — физического объяснения
факта тяготения.
Лейбниц выставил против Ньютона ряд вопросов
о движении планет по орбитам в своем «Опыте о при-
чинах небесных движений», изданном в 1689 г. в «Акта
эрудиторум», недавно основанном немецком журнале
рецензий по естественной философии, редакция кото-
рого находилась в Лейпциге. «Опыт» Лейбница был на-
писан частично как ответ на рецензию на «Начала», на-
печатанную в «Акта эрудиторум», причем скорее всего
еще до знакомства с самой книгой Ньютона. Признавая
существование тяготения как влечения тел, доказанно-
го Ньютоном, Лейбниц, как и Гюйгенс, требовал объяс-
нить этот факт. Лейбниц решил, что лучшим объяснени-
ем будут «линии импульсов», которые выходят наружу из
притягивающего тела на манер вихревого тока, — такая
направленная вовне центробежная тенденция вызывает
в свою очередь обратную тенденцию — стремление зем-
ных тел скорее в сторону центра, прямо по модели Гюй-
генса и Декарта.
45 Цит. по: Koyré A. Newtonian Studies (Chicago: University of
Chicago Press, 1965). P. 115.
280 Питер Деар. Событие революции в науке
Спор Лейбница с Ньютоном шел сначала через дове-
ренных лиц и достиг кульминации через два десятилетия
после их первого «косвенного» столкновения. Во втором
издании «Начал» (1713) ученик Ньютона Роджер Коутс,
ответственный за подготовку нового издания, решил
одним махом покончить с картезианской критикой до-
стижений Ньютона. В своем предисловии к книге Коутс
высмеивает изыскания тех, кто, как Лейбниц, провозгла-
шает существование разных эфиров и атмосфер, чтобы
объяснять все феномены, — Коутс обвиняет их в том, что
они создают «невероятную фантастическую повесть» на
основе своих (скорее всего, фальшивых) догадок. Объ-
явив врагами всех, кто следует «мнениям Декарта», Коутс
категорически уверяет:
В области настоящей философии положено выводить
природу вещей из причин, действительно существующих,
и искать те законы, по которым высший Создатель устано-
вил прекраснейший порядок в мире, а не те законы, по ко-
торым Он якобы мог действовать46.
Лейбниц не остался в долгу и весьма скоро ответил
на вызов: он атаковал подспудные метафизические и
богословские предпосылки философии Ньютона, пред-
ставив их как ложные предпосылки — Ньютон хочет
спрятаться за заявлениями о том, что он не интересу-
ется причинами, и ограничивает аргументацию только
явными и наглядными фактами, но Лейбниц решил про-
демонстрировать, что Ньютон исходит из большого чис-
ла догматических предпосылок, затрагивающих такие
спорные вопросы, как природа пространства, времени,
материи и ее Творца.
Вся дискуссия шла не напрямую: Лейбниц перепи-
сывался не с Ньютоном, а с его убежденным сторонни-
ком, бывшим бойлевским лектором Сэмуэлом Кларком.
Переписка началась в 1715 г. и прервалась со смертью
46 Ньютон. Начала...
Глава VIII. Картезианцы и ньютонианцы 281
Лейбница в 1716 г., и пристальному рассмотрению вновь
подверглись самые фундаментальные идеи ньютонов-
ской картины мира. Лейбниц назвал ньютоновскую гра-
витацию «вечной загадкой», то есть внефилософским
понятием, которое уводит от действительных целей
философии. Идеи Ньютона об абсолютном простран-
стве и абсолютном времени тоже были, по Лейбницу,
глубоко порочными: Лейбниц при любой возможности
утверждал относительность в материальном мире. Он
обвинил Ньютона и в том, что тот считает Бога несо-
вершенным часовщиком, который не смог ничего со-
гласовать в мировом механизме. Последний и решаю-
щий удар был направлен против убеждения Ньютона,
выраженного в «Общем поучении», включенном во
второе издание «Начал», что совершенство Солнеч-
ной системы постоянно сбивается взаимной гравита-
ционной тягой планет, что гравитация непрерывно
сдвигает их постоянные орбиты и в конце концов при-
ведет к тому, что Солнечная система погрузится в хаос.
Ньютон не смущался никаким несовершенством, ведь
он всякий раз мог сказать, что вмешательство Бога и
предотвращает катастрофу. Как только система рас-
страивается, Бог сразу же приводит ее в порядок, и это
свидетельствует о Его постоянном присутствии в мире
и действии Божественного промысла. Но для Лейбница
необходимость осуществлять такой промысел означала
бы несовершенство Бога, не сумевшего отладить часо-
вой механизм мира.
Массированная поддержка позиции Ньютона в деся-
тилетия после того, как Ньютон стал президентом Ко-
ролевского общества, была хорошо организована, хотя
нам не всегда ясно как. Ньютон весьма умело использо-
вал свое институциональное могущество, большинство
членов поддерживали его, и, кроме того, все слушались
его, когда он продвигал своих людей, уже лично ему обя-
занных. Именно таким личным покровительством, как в
стенах Общества, так и вне стен, легче всего объяснить
ту необычайно бескомпромиссную лояльность, которую
282 Питер Деар. Событие революции в науке
проявили Коутс и Кларк, отбивавшие всякую критику
«Начал» в 1710-х гг.47 Работы Ньютона по оптике, осо-
бенно «Оптика» 1704 г., также встретили живую и хоро-
шо организованную поддержку — всякая критика интер-
претаций Ньютоном природы света и цвета встречалась
в штыки. Официальные руководители экспериментов
в Королевском обществе во время президентства Нью-
тона безусловно чтили начальника — это были Фрэнсис
Хоксби и позднее, с 1714 г., Джон Дезагюлье (английский
ученый, происходивший из французских протестантов-
гугенотов). Оба правоверных ньютонианца ставили экс-
перименты для того, чтобы проиллюстрировать идеи
Ньютона, касающиеся таких неочевидных вещей, как
глубинная природа материи и силы притяжения и оттал-
кивания, — Ньютон предполагал их существование, осо-
бенно в позднейших изданиях «Оптики», исходя из того,
что они и производят такие феномены, как электриче-
ские и химические эффекты. Дезагюлье не ограничивал
свою научную деятельность Королевским обществом:
он давал регулярные публичные лекции в Лондоне и пе-
чатал учебники, сразу же получавшие широкое распро-
странение, — таков, например, выдержавший несколько
изданий «Курс экспериментальной философии». Эта пе-
чатная версия экспериментальных доказательств и фи-
лософских исследований позволила познакомить с нью-
тоновской картиной мира весьма широкую аудиторию:
многие узнали тогда и о действии сил на расстоянии меж-
ду частицами, и о пустом пространстве, и об эксперимен-
тальных основаниях естественной философии. Как и
Ньютон, Дезагюлье противопоставлял эту картину мира
картезианской, в которой все силы между телами переда-
ются только контактно, универсальность мира отождест-
вляется с универсальностью материи и мир понимается
прежде всего рационально.
47 См. также латинское издание Кларка (1697), с обильными при-
мечаниями в ньютоновском духе, и также картезианский учебник
Рого (1671), переведенный на английский в 1/23 г. под названием:
Rohault's System of Natural Philosophy.
Глава VIII. Картезианцы и ньютонианцы 283
В XVIII в. распространению ньютонианства в Англии
и в континентальной Европе способствовал успех фило-
софии Джона Локка, изложенной прежде всего в его
«Опыте о человеческом разумении» (1690). Локк пре-
жде всего стремился исследовать подлинные основания
знания. Поработав (как он считал) подмастерьем экс-
периментаторов Королевского общества, он был лично
знаком в молодости с Бойлем и Ньютоном и даже помо-
гал последнему готовить некоторые публикации. Фило-
софия Локка так удачно совпала с естественно-научной
программой Ньютона благодаря тому, что Локк подчер-
кивал эмпирический характер любого знания. Ньютон
и сам всегда характеризовал свои открытия как основан-
ные на эксперименте и на наблюдении, а не на «врожден-
ных идеях», о которых мечтал Декарт, размышлявший о
своем когито. Локка в XVIII в. считали представителем
той же науки, что и Ньютон, и заслугой его считали толь-
ко создание более продуманных доводов об истоках чело-
веческого знания.
Но ньютонианство XVTII в. оставило в стороне две
области мыследеятельности Ньютона: богословие, вклю-
чавшее в себя исследования по библейской хронологии и
пророчествам Библии, и алхимию, которая занимала его
значительную часть жизни, особенно в 1670-х гг. (об ал-
химии см. гл. I, раздел 4). Ньютонианцы после Ньютона
ценили только рациональный эмпиризм работ Ньютона
и разработки его последователей, включая те богослов-
ские положения, которые были на руку новой англикан-
ской доктрине после «Славной революции» 1688 г., — это
политическое событие Ньютон, будучи тогда членом
парламента от Кембриджского университета, поддержал
со всей искренностью.
История продолжительных дискуссий между карте-
зианцами и ньютонианцами XVIII в. выходит за пределы
вопросов, обсуждаемых в этой книге. Но нужно только
заметить, что невозможно свести все эти перипетии
к противостоянию Ньютоновой «истины» и Картези-
евой «фантастики» (как некоторые историки науки
284 Питер Деар. Событие революции в науке
и характеризуют механистический универсум Декарта).
Сложность и многоплановость аргументов, подключив-
ших к себе и математику, и метафизику, и эксперимент,
привела к тому, что, даже когда в последние десятилетия
XVIII в. Ньютон был признан победителем в споре, ныо-
тонианство было уже далеко не тем, что создавал Ньютон
и во что он свято верил. Ньютонианство конца XVIII в.
представляло собой сочетание идей и положений Нью-
тона, Декарта, Лейбница и многих других ученых.
Заключение
ЧЕГО ЕЩЕ НЕ ЗНАЛИ В НАЧАЛЕ XVIII В.?
Еще при жизни Ньютона взгляд на естественный мир
образованных европейцев весьма сильно изменился в
сравнении с 1500 г. Новая идеология естественного зна-
ния теснейшим образом, если не вообще исключитель-
но, сопрягалась с открывшимися тогда практическими
и операционалистскими возможностями. Величайшие
физико-математики конца XVII в., Гюйгенс и Ньютон,
больше всего интересовались практическими, а не спе-
кулятивными вопросами. Замечательно, что в 1650-х гг.
Гюйгенс решил заняться проблемой определения долго-
ты в открытом море — эта проблема была особенно на-
сущна для новых торговых государств Западной Европы,
таких как родные для Гюйгенса Соединенные провинции
Нидерландов. Задумавшись об этих вопросах, Гюйгенс не
просто рассмотрел теоретические проблемы, связанные
с движением маятника (свойство маятника быть точным
мерилом времени открыл еще Галилей), но также разра-
батывал в деталях конструкцию морского хронометра,
который будет всегда показывать одно и то же время во
время океанских путешествий, — хронометры Гюйгенса
были вскоре включены в комплектацию французских
океанских кораблей. Мощная риторика бэконианской
практичности, господствовавшая в Королевском обще-
стве в первые десятилетия его существования, была так-
же важна и для Гюйгенса, и для Парижской Королевской
академии наук и стала определять ход развития науки в
первые десятилетия XVTII в. после того, как Ньютон соз-
дал целостную натурфилософскую идеологию.
286 Питер Деар. Событие революции в науке
Магистральной линией развития науки, которую мы
и старались рассмотреть в этой книге, было выдвижение
на первой план «естественной философии», направлен-
ной на контроль над окружающим миром. Европейское
знание в 1500 г., как оно существовало в формализован-
ных официальных институциях, прежде всего универ-
ситетах, делало акцент на отвлеченном понимании, до-
стигаемом через созерцание. Это не значит, что в такой
фокусировке не было своих социальных требований,
но все эти требования были опосредованы институтами,
прежде всего Церковью, которые, несмотря на все свое
могущество, вовсе не располагали амбициями по усиле-
нию контроля над миром природы. В XVI и XVII вв. ев-
ропейские нации стали распространять свое влияние в
других частях света, в масштабе, прежде неизвестном в
истории. Следовательно, ценность знания стала посте-
пенно смещаться в сторону тех видов знания, которые
могут упорядочить весь мир как стоящий вокруг Европы
(география и естественная история) и позволят с мень-
шими издержками достигать отдаленных частей света,
устанавливая там свое материальное и культурное го-
сподство (сюда входят не только навигация и механика,
но и, скажем, математические алгоритмы Маттео Рич-
чи, произведшие такое впечатление на китайский двор).
Подъем бэконианской риторики полезности в XVII в.
происходил в теснейшей связи с ростом богатства го-
сударства, тем самым отражая коренные изменения
в европейской жизни.
Замечательно, что именно наиболее преуспевшие
в международной торговле государства Западной Европы
сыграли ключевую роль в научной революции. Испания
была крупнейшей колониальной державой этого време-
ни и получала из колоний больше всего богатств, но она
совершенно не развивала коммерческую торговлю и по-
тому безнадежно отстала от таких стран, как Франция,
Англия и Нидерланды; никаких достижений испанских
ученых, кроме изучения фауны и флоры Америки, мы не
знаем. Англия и Нидерланды — блистательные примеры
Заключение. Чего еще не знали в начале XVIII в.? 287
связи коммерческой колониальной экспансии и новых
амбиций европейского знания в этот период.
Аналогичным образом, если в XVI в. мы свидетель-
ствуем особое интеллектуальное дерзновение, изнутри
направляемое идеями гуманизма, нацеленного на вос-
становление цивилизации классической Античности, то
в XVII в. появляется новая амбиция, примерными носи-
телями которой становятся Декарт и Бэкон, — встать во
главе откровенно новых интеллектуальных программ.
Античность как санкция оставалась важным риториче-
ским ресурсом для многих образованных людей, но при-
зывы к новизне раздавались все громче, и тем самым
оправдывался подход к природе посредством единого ме-
тода, а не постоянных ссылок на какие-то классические
прецеденты. Очевидность того, что эти методы эффек-
тивны, подтверждалась практическими достижениями,
которые были связаны с применением единого метода:
так, индуктивный метод Бэкона позволил создать новые
виды «работ» (works), а метод Декарта позволил не толь-
ко, скажем, улучшить изготовление оптических линз
(если последовательно руководствоваться его трактатом
«Диоптрика»), но и, как надеялся сам Декарт, продлить
человеческую жизнь.
Но тем не менее «естественная философия» сохра-
няла некоторые свои фундаментальные свойства, не-
смотря на все происходившие в этот период изменения.
С самого начала до самого конца естественная филосо-
фия начиналась с рассуждения о Боге, был ли то сред-
невековый Бог Фомы Аквинского, вполне способный
действовать в аристотелевском универсуме, или Бог
ньютонианцев, свободный делать все, что Он пожелает,
и, следовательно, провиденциально обеспечивающий
все процессы во Вселенной благодаря всеприсутствию в
абсолютном пространстве, которое Ньютон назвал «все-
ленским чувствилищем» (sensorium universale). Среди
натурфилософов XVI-XVTI вв. мы можем найти только
нескольких действительных атеистов, но все перемени-
лось в XVIII в.
288 Питер Деар. Событие революции в науке
Конечно, было бы слишком примитивно рассматри-
вать научную революцию просто как прямое порождение
территориальной экспансии европейской цивилизации.
Появление в XVII в. безграничных вселенных Декарта и
Ньютона, где Земля — это планета, вращающаяся вокруг
звезды по имени Солнце, следует считать необычным
интеллектуальным прорывом, так это было не похоже
на тот мир, в котором образованные европейцы того
времени считали, что обитают. В сердцевине этого ве-
ликого сдвига находились все же операциональные, ма-
тематические и (в случае естественной истории) катало-
гизирующие предприятия того времени, эти начинания,
которыми отмечено создание нового мира и новой есте-
ственной философии. Европейская научная культура,
стремясь понимать естественный мир, пережила пере-
ориентировку от созерцательной жизни к действенной
жизни, или, если употреблять латинскую терминологию,
привычную для ученых-гуманистов этого периода, — от
vita contemplativa к vita activa48. A «знание как» стало в это
время столь же важным, как и «знание почему». Вполне
в духе времени эти два подхода к знанию сближались,
Европа все больше узнавала о мире и подчиняла его
себе. Современный мир стал таким, каким его предвидел
Фрэнсис Бэкон.
См. гл. III, раздел 2.
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Литература по научной революции как историче-
скому феномену давно уже необозрима. Приводимые
библиографические единицы прежде всего выполняют
роль библиографии к отдельным главам: даются главные
вторичные источники по разобранным вопросам, в до-
полнение к тем, которые цитируются в примечаниях.
Эти ссылки также помогут читателям, желающим под-
робнее изучить какой-либо вопрос из рассмотренных в
книге. Почти все книги и статьи, приведенные в данном
списке, написаны по-английски.
Три самых последних общих очерка этого периода раз-
вития европейской культуры, в которых разобраны раз-
ные аспекты этой единой проблемы, следующие: James
R. Jacob, The Scientific Revolution: Aspirations and Achievements,
1500-1700 (Atlantic Highlands, N.J.: Humanities Press, 1998);
John Henry, The Scientific Revolution and the Origins of Modern
Science (London: Macmillan, 1997), где содержатся подроб-
ные примечания с указанием библиографических единиц;
Стивен Шейпин, Научная революция [публикуется здесь же,
с. 313-570], с подробной библиографией по историогра-
фии научной революции [с. 516-570]. В качестве обще-
го очерка историографии вопроса рекомендуем книгу
Lisa Jardine, Ingeniaas Pursuits: Building the Scientific Revolution
(London: Little, Brown, 1999). Еще более сжатый очерк исто-
рии историографии научной революции, где рассматри-
ваются труды по вопросу до 1990 г., см. в: Н. Floris Cohen,
The Scientific Revolution: A Histariographical Inquiry (Chicago:
University of Chicago Press, 1994). Весьма влиятельным,
в том числе и для моей книги, следует назвать труд: Edwin
Arthur Burtt. The Metaphysical Foundations of Modern Physical
Science (Garden City N.Y.: Doubleday Anchor, 1954 [1932]).
•290 Питер Деар. Событие революции в науке
Введение
О понимании научной революции в XVIII в. см.:
I. Bernard Cohen, Revolution in Science (Cambridge, Mass.:
Harvard University Press, 1985). Блестящий очерк новей-
ших тенденций в изучении истории науки: Jan Golinski,
Making Natural Knowledge: History of Science after Constructivism
(Cambridge: Cambridge University Press, 1998). Вооб-
ще об историографии науки как научной дисциплине:
Beverley С. Southgate, History, What and Why?Ancient, Modern
andPostmodernPerspectives (London: Routledge, 1996). О про-
цессах в науке, предшествующих научной революции, см.
новейший очерк: Edward Grant, The Foundations of Modern
Science in the Middle Ages: Their Religious, Institutional, and
Intellectual Contexts (Cambridge: Cambridge University Press,
1996). Естественная философия Аристотеля лучше всего
освещается в классической монографии: G. Е. R. Lloyd,
Aristotle: The Growth and Structure of His Thought (Cambridge:
Cambridge University Press, 1968). Литература о Фрэнси-
се Бэконе указана ниже (к гл. III). О смысле метафоры
«открытия» в этот период см. новаторскую статью: Amir
Alexander, «The Imperialist Space of Elizabethan mathe-
matics», in Studies in History and Philosophy ofScience^ (1995),
P. 559-591.
Глава I
Grant, The Foundations of Modern Science in the Middle Ages,
лучшее общее введение в науку и философию Средних
веков, желательно также иметь в виду и дополнения, вы-
сказанные в статье того же автора, Edward Grant, «Aris-
totelianism and the Longevity of the Medieval World View»,
in History of Science 16 (1978). P. 93-106. В монографии
David F. Noble, A.World Without Women: The Christum Clerical
Culture of Western Science (New York: Knopf, 1992) в доступ-
ной форме исследуется социальная реальность универси-
тетов Средневековья и раннего Нового времени.
Избранная библиография 291
В статье Barry Barnes, «On the Conventional Character
of Knowledge and Cognition», in Karin Knorr-Cetina and
Michael Mulkay, eds., Science Observed: Perspectives on the Social
Study of Science (London: Sage, 1983). P. 19-51 исследуют-
ся базовые концепты «конструктивистского» подхода к
истории науки с упором на социокультурные предпосыл-
ки каждой из форм организации научного знания. По во-
просу о том, насколько термин «научная революция»
точно передает историческую реальность, см.: Stephen
Pumfrey, «No Science, Therefore No Scientific Revolution?
Social Constructionist Approaches to 16th and 17th Century
Studies of Nature», in Dominique Pestre, ed., Létude sociale des
sciences (Paris: Centre de Recherche en Histoire des Sciences
et des Techniques, 1992). P. 61-86. О понятии «естествен-
ная философия» и его отличии от современного поня-
тия «наука» см.: Andrew Cunningham and Roger French,
Before Science: The Invention of the Friar's Natural Philosophy
(Aldershot: Scolar Press, 1996); Andrew Cunningham, «How
the Principia Got its Name; or, Taking Natural Philosophy
Seriously», in History of Science 29 (1991). P. 377-392.
В работах Giovanna Ferrari, «Public Anatomy Lessons
and the Carnival: The Anatomy Theatre of Bologna», in Past
andPresent, no. 117 (1987). P. 50-106; С D. O'Malley, Andreas
Vesalius of Brussels 1514-1564 (Berkeley, etc.: University of
California Press, 1964); Jerome J. Bylebyl, «Interpreting the
'Fascicule/Anatomy Scene/», in Journal oj"theHistory of Medi-
cine and Allied Sciences 45 (1990). P. 285-316, исследуются
различные аспекты анатомической практики в XVI в.
Об основах астрономии в этот период см.: Liba С. Taub,
Ptolemy's Universe: The Natural, Philosophical and Ethical
Foundations of Ptolemy's Astronomy (Chicago: Open Court,
1993); Owen Gingerich, «The Accuracy of the Toledan
Tables», in PRISMATA; Festschrift für Willy Hartner, ed.
Y. Maeyama and W. G. Saltzer (Wiesbaden: Steiner, 1977).
P. 151-163, и классическую работу Thomas S. Kuhn, The
Copernican Revolution: Planetary Astronomy tit the Development
of Western Thought (Cambridge, Mass.: Harvard University
Press, 1957). В статье Edward Grant, «Celestial Orbs in
292 Питер Деар. Событие революции в науке
the Latin Middle Ages», in Isis 78 (1987). P. 153-173, об-
суждается важнейший вопрос о том, как в XVI в. по-
нималась «естественная философия неба» в ее отно-
шении к математической астрономии. В статье дается
общий контекст вопросов, рассматриваемых в статьях:
Nicholas Jardine, «The Significance of the Copernican
Orbs», in Journal forthe History of Astronomy 13 (1982). P. 168-
194; Robert S. Westman, «The Astronomer's Role in the
Sixteenth Century: A Preliminary Study», in History of Science
18 (1980). P. 105-147. Технические особенности класси-
ческой астрономии красочно изложены в книге James
Evans, The History and Practice of Ancient Astronomy (New York:
Oxford University Press, 1998).
О специфике аристотелевской естественной фило-
софии и ее критиках см.: Keith Hutchison, «Dormitive
Virtues, Scholastic Qualities, and the New Philosophies»,
in History of Science 29 (1991). P. 245-278. О роли книгопе-
чатания в изменении структуры распространения и вос-
приятия знания в эпоху научной революции см.: Adrian
Johns, The Nature of the Book Print and Knowledge in the Making
(Chicago: University of Chicago Press, 1998) и классическую
работу Elizabeth L. Eisenstein, The Printing Press as on Agent of
Change: Communications and Cultural Transformations in Early-
Modern Europe, 2 vols (Cambridge: Cambridge University
Press. 1980).
Поворотная монография, содержащая тщательное
исследование влияния магических традиций на становле-
ние современной науки: Фрэнсис Йейтс. Джордано Бруно
и герметическая традиция (М.: НЛО, 2000 [1964]); Frances
A. Yates, «The Hermetic Tradition in Renaissance Science»,
in Charles S. Singleton, ed., Art, Science and History in the
Renaissance (Baltimore: The Johns Hopkins University Mess,
1968). P. 255-274; Eugenio Garin, «Magic and Astrology
in the Civilization of the Renaissance», in Garin, Science
and Civic Life in the Italian Renaissance (Garden City, N.Y.:
Doubleday Anchor Books, 1969). P. 145-165. Недавнюю
критику вопроса см.: Brian Copenhaver, «Natural Magic,
Hermetism, and Occultism in Early Modern Science», in
Избранная библиография 293
Reappraisals of the Scientific Revolution, ed. David C. Lindberg
and Robert S. Westman (Cambridge: Cambridge University
Press, 1990). P. 261-301; см. также: William Eamon, Science
and the Secrets of Nature: Books of Secrets in Medieval and Early
Modern Culture (Princeton: Princeton University Press, 1994).
Об особенностях алхимии в XVII в. см. Betty Jo Teeter
Dobbs, the Foundations of Newton's Alchemy, or «The Hunting of
the Greene Lyon» (Cambridge: Cambridge University Press,
1975); Dobbs, The Janus Face of Genius: The Role of Alchemy in
Newton's Thought Cambridge: Cambridge University Press,
1991); и новейшие книги William R. Newman, Gehennical
Fire: The Lilies of George Starkey, an American Alchemist in the
Scientific Revolution (Cambridge, Mass.: Harvard University
Press, 1994), и Lawrence Principe, The Aspiring Adept: Robert
Boyle and His Alchemical Quest, including Boyle's «Lost» Dialogue
on the Transmutation of Metals (Princeton: Princeton University
Press, 1998).
Общие сведения о каббале см.: Gershom Scholem,
Kabbalah (New York: Meridian, 1978); о роли каббалы в
деятельности знаменитого мага Елизаветинской эпохи
Джона Ди: Deborah Harkness,/ö/m Dee's Conversations With
Angels: Cabala, Alchemy, and the End of Nature (Cambridge:
Cambridge University Press, 1999). Об астрологии ран-
него Нового времени: Patrick Curry, Prophecy and Power:
Astrology in Early Modern England (Princeton: Princeton
University Press, 1989); также: Patrick Curry, ed., Astrology,
Science, and Society: Historical Essays (Woodbridge, England:
Boydell Press, 1987).
Глава II
Об университетской жизни рассматриваемого пери-
ода: David L. Wagner, ed., The Seven Liberal Arts in the Middle
Ages (Bloomington: Indiana University Press, 1983), в книге
под ред. Вагнера исследуются особенности преподава-
ния в Средние века. Классическое введение в современ-
ное историческое понимание ренессансного гуманизма:
294 Питер Деар. Событие революции в науке
Paul Oskar Kristeller, «The Humanist Movement» и его же
«Humanism and Scholasticism in the Italian Renaissance»,
обе статьи перепечатаны в: Kristeller, Renaissance Thought:
The Classic, Scholastic, and Humanist Strains (New York: Harper
Torchbooks, 1961). P. 3-23 and P. 92-119; см. об этом так-
же: Jerrold E. Seigel, Rhetoric and Philosophy in Renaissance
Humanism: The Union of Eloquence and Wisdom (Princeton:
Princeton University Press, 1968).
Jill Kraye, ed., The Cambridge Companion to Renaissance
Humanism (Cambridge: Cambridge University Press, 1996)
и Anthony Graf ton and Lisa Jardine, From Humanism to
the Human-Hies: Education and the Liberal Arts in Fifteenth-
and Sixteenth-Century Europe (Cambridge, Mass.: Harvard
University Press, 1986) — важные пособия для понима-
ния новаций и влияния гуманистической педагогики.
Об отношении гуманистических понятий и развития
науки в эпоху Ренессанса см.: Brian Copenhaver, «Did
Science have a Renaissance?», in Isis 83 (1992). P. 387-407;
Vivian Nutton, «Greek Science in the Sixteenth-Century
Renaissance», in J. V. Field and Frank A. J. L. James, eds,
Renaissance snd Revolution: Humanists, Scholars, Craflsmen
and Natural Philosophers in Early Modern Europe (Cambridge:
Cambridge University Press, 1993). P. 15-28. Судьбе отдель-
ных научных дисциплин в эту эпоху посвящены труды:
Paul Lawrence Rose, The Italian Renaissance of Mathematics:
Studies on Humanists and Mathematicians from Petrarch to Galileo
(Geneva: Droz, 1975); Robert S. Westman, «Proof, Poetics,
and Patronage: Copernicus's Preface to De revolutionibus», in
David C. Lindberg, Robert S. Westman, eds, Reappraisals of the
Scientific Revolution (Cambridge. Cambridge University Press,
1990). P. 167-205; Karen Reeds, «Renaissance Humanism
and Botany», in Annals of Science^ (1976). P. 519-542; Peter
Dear, Discipline and Experience: The Mathematical Way in the
Scientific Revolution (Chicago: University of Chicago Press,
1995). P. 115-123, где можно найти ссылки на дальней-
шие обсуждения.
«Книги тайн», важный жанр представления есте-
ственно-научного знания в эту эпоху, рассматриваются
Избранная библиография 295
в работе: William Eamon, Science and the Secrets of Nature:
Books of Secrets in Medieval and Early Modern Culture (Princeton:
Princeton University Press, 1994).
В последнее время появилось несколько исследова-
ний, посвященных влиянию гуманистического идеала
интеллектуальной деятельности на анатомию эпохи Ре-
нессанса: Andrew Cunningham, The Anatomical Renaissance:
The Resurrection of the Anatomical Projects of the Ancients
(Aldershot: Scolar Press, 1997); R. K. French, Dissection and
Vivisection in the European Renaissance (Aldershot: Ashgate,
1999); Andrew Wear, R. K. French and I. M. Lome, eds,
The Medical Renaissance of the Sixteenth Century (Cambridge:
Cambridge University Press, 1985). Об открытии «мате-
матического метода» в эту эпоху: Jo Ann S. Morse, «The
Reception of Diophantus' Arithmetica in the Renaissance»
(Ph.D., Princeton University, 1981); Jaako Hintikka and
Unto Remes, The Method of Analysis: Its Geometrical Origin and
its General Significance (Boston Studies in the Philosophy of
Science, vol. 25) (Dordrecht: Reidel, 1974).
Основная книга по особенностям развития астро-
номии XVI в.: Kuhn, The Copernican Revolution. См. так-
же: Jardine, «Significance of the Copernican Orbs»,
Robert S. Westman, «The Melanchthon Circle, Rheticus, and
the Wittenberg Interpretation of the Copernican Theory»,
in Isis 66 (1975). P. 165-193; Westman, «The Copernicans
and the Churches», in God and Nature: Historical Essays on the
Encounter between Christianity and Science, ed. David C. Lind-
berg and Ronald L. Numbers (Berkeley, etc.: University
of California Press, 1986). P. 76-113. В работах: Sachiko
Kusukawa, The Transformation of Natural Philosophy: The Case of
Philip Melanchthon (Cambridge: Cambridge University Press,
1995) and Charlotte Methuen, Kepler's Tubingen: Stimulus to
a Theological Mathematics (Aldershot: Ashgate, 1998) иссле-
дуется лютеранский контекст работы натурфилософов
и астрономов в XVT в.; более общий обзор религиозно-
го измерения науки раннего Нового времени см. в: John
Hedley Brooke, Science and Religion: Some Historical Perspectives
(Cambridge: Cambridge University Press, 1991), гл. 2-4.
296 Питер Деар. Событие революции в науке
Глава III
О Роджере Бэконе: Jeremiah Hackett, «Roger Bacon
on 'scientia experimentalis'», in Jeremiah Hackett, ed.,
Roger Bacon and the Sciences: Commemorative Essays (Leiden:
Brill, 1997). Лучший общий обзор медицины Средних
веков: David С. Lindberg, The Beginnings of Western Science:
The European Scientific Tradition in Philosophical, Religious,
and Institutional Context, 600 ec. to ad. 1450 (Chicago:
University of Chicago Press, 1992), и не менее важно:
Nancy G. Siraisi, Medieval and Early Renaissance Medicine: An
Introduction to Knowledge and Practice (Chicago: University of
Chicago Press, 1990).
О Парацельсе и его учении: Charles Webster, From
Paracelsus to Newton: Magic and the Making of Modern Science
(Cambridge: Cambridge University Press, 1982); Walter
Pagel, Paracelsus: An Introduction to Philosophical Medicine
in the Era of the Renaissance, 2nd rev. edn (Basel and New
York. Karger, 1982); Andrew Weeks, Paracelsus: Speculative
Theory and the Crisis of the Early Reformation (Albany: State
University of New York Press, 1997); Allen G. Debus, The
French Paracelstans: The Chemical Challenge to Medical and
Scientific Tradition in Early Modern France (Cambridge:
Cambridge University Press, 1991), Allen G. Debus, The
English Paracelsians (London: Oldbourne, 1965). О дру-
гих сторонах практического изучения природы см.:
Pamela H. Smith, The Business of Alchemy: Science and Culture in
the Holy Roman Empire (Princeton: Princeton University Press,
1994); Owen Hannaway, «Georgius Agricola as Humanist»,
in Journal of the History of Ideas 53 (1992). P. 553-560; и бле-
стящий очерк: Paolo Rossi, Philosophy, Technology, and the Arts
in the Early Modern Era, trans. Salvator Attanasio (New York:
Harper & Row, 1970).
Культурные формы естественно-научного знания
рассмотрены в работах: Owen Hannaway, «Laboratory
Design and the Aim of Science: Andreas Libavius versus
Tycho Brahe», in his 11 (1986). P. 585-610; Steven Shapin,
«'The Mind is Its Own Place': Science and Solitude in
Избранная библиография 297
Seventeenth-Century England», in Science in Contexts (1991).
P. 191-218; Eamon, Science and the Secrets of Nature. О Лю-
бавиусе и парацельсионизме см.: Owen Hannaway,
The Chemists and the Word: The Didactic Origins of Chemistry
(Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1975). Книга
Katherine Park and Lorraine Daston, Wonders and the Order
of Nature, 1150-1750 (New York: Zone Books, 1998) - важ-
ное исследование о том, каким образом в круг научного
рассмотрения входили прежде неизвестные или неза-
метные явления природы.
О Фрэнсисе Бэконе и его непосредственном науч-
ном окружении см.: Gad Freudenthal, «Theory of Matter
and Cosmology in William Gilbert's De Magnete», in Isis 74
(1983). P. 22-37; Edgar Zilsel, «The Origins of William
Gilbert's Scientific Method», in Journal of the History of Ideas
2 (1941). P. 1-32; Julian Martin, Francis Bacon, the State, and
the Reform of Natural Philosophy (Cambridge: Cambridge
University Press, 1992); J. R. Ravetz, «Francis Bacon and
the Reform of Natural Philosophy», in Science, Medicine, and
Society in the Renaissance, 2 vols, ed. Allen G. Debus (New
York: Science History Publications, 1972). Vol. 2. P. 97-
119; Graham Rees, «Francis Bacon's Semi-Paracelsian
Cosmology», in Ambix 22 (1975). P. 81-101, 161-173. По-
дробнейшее исследование дальнейшей судьбы «рефор-
мистских» предложений Бэкона: Charles Webster, The
Great Instauration: Science, Medicine, and Reform 1626-1660
(London. Duckworth, 1975).
Глава IV
Методологический и интеллектуальный контекст
работ Галилея рассмотрен в трудах: Nicholas Jardine,
«Epistemology of the Sciences», in The Cambridge History of
Renaissance Philosophy, ed. Charles Schmitt, Quentin Skinner,
Eckhard Kessler and Jill Kraye (Cambridge: Cambridge
University Press, 1988). P. 685-711. В книге Dear, Discipline
and Experience, рассматриваются заслуги иезуитских
298 Питер Деар. Событие революции в науке
колледжей в преподавании математики, о том же см. в:
William A. Wallace, Galileo and His Sources: The Heritage of
the Collegia Romano in Galileo's Science (Princeton: Princeton
University Press, 1984). Подробнее о всей иезуитской на-
учной традиции см.: Steven J. Harris, "Transposing the
Merton Thesis: Apostolic Spirituality and the Establishment
of the Jesuit Scientific Tradition», in Science in Context 3
(1989). P. 29-65.
Галилею посвящено множество работ, важнейшие
для систематической истории науки: Stillman Drake,
Galileo at Work: His Scientific Biography (Chicago: University
of Chicago Press, 1978); Michael Sharratt, Galileo: Decisive
Innovator (Cambridge: Cambridge University Press, 1994);
Maurice Clavelin, The Natural Philosophy of Galileo: Essay
on the Origins and Formation of Classical Mechanics, trans.
A.J. Pomerans (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1974);
Stillman Drake and I. E. Drabkin, eds, Mechanics in Sixteenth-
Century Italy: Selections from Tartaglia, Benedetti, Guido Ubaldo,
and Galileo (Madison: University of Wisconsin Press, 1969) —
о ранних работах Галилея; Martha Feher, «Galileo and the
Demonstrative Ideal of Science», in Studies in History and
Philosophy of Science 13 (1982). P. 87-110- об отношении
математических изысканий Галилея с проблематикой
естественной философии.
Stillman Drake, ed. and trans., Discoveries and Opinions
of Galileo (Garden City, N.Y.: Doubleday Anchor, 1957), со-
держит обширные выдержки из трудов Галилея с ком-
ментарием; William R. Shea, Galileo's Intellectual Revolution
(London: Macmillan, 1972), важна для изучения участия
молодого Галилея в научных полемиках. В книге Mario
Biagioli, Galileo, Courtier: The Practice of Science in the Culture of
Absolutism (Chicago; University of Chicago Press, 1993) рас-
сматривается, как Галилей находил себе покровителей.
В гл. III книги Шейпина [с. 459-515] исследуются в об-
щей форме установки и цели ученых этого периода.
О Тихо Браге и Кеплере: Victor E. Thoren, The Lord of
Uraniborg: A Biography ofTycho Brake (Cambridge: Cambridge
University Press, 1990); Max Caspar, Kepler, trans. C. Doris
Избранная библиография 299
Hellman, new edition with notes by Owen Gingerich (New
York: Dover, 1993); Nicholas Jardine, The Birth of History and
Philosophy of Science: Kepler's «A Defence ofTycho against Ursus»
with Essays on Its Provenance and Significance (Cambridge:
Cambridge University Press, 1984); J. V. Field, Kepler's
Geometrical Cosmology (London: Athlone, 1988); Bruce
Stephenson, Kepler's Physical Astronomy (Princeton: Princeton
University Press, 1987); Robert S. Westman, «Three
Responses to the Copernican Theory: Johannes Praetorius,
Tycho Brahe, and Michael Maestlin», in Robert S. Westman
(ed.), The Copernican Achievement (Berkeley, etc.: University of
California Press, 1975). P. 285-345.
Обзор медицинской астрологии: Siraisi Medieval and
Early Renaissance Medicine; о том же в другой перспекти-
ве: Lynn White, «Medical Astrologers and Late Medieval
Astrology», in Viatorb (1975). P. 295-308.
Об английских математиках этого периода см. класси-
ческую работу: Е. G. R. Taylor, The Mathematical Practitioners
of Tudor and Stuart England (Cambridge: Cambridge
University Press, 1954). См. также недавние исследова-
ния: J. A. Bennett, «The Mechanics' Philosophy and the
Mechanical Philosophy», in History of Science 24 (1986).
P. 1-28; J. A. Bennett, «The Challenge of Practical Math-
ematics», in Science, Culture and Popular Belief in Renaissance
Europe, ed. Stephen Pumfrey, Paolo L. Rossi and Maurice
Slawinski (Manchester: Manchester University Press, 1991).
P. 176-190; Lesley B. Cormack, Charting an Empire: Geography
at the English Universities (Chicago: University of Chicago
Press, 1997); Stephen Johnston, «Mathematical Practitioners
and Instruments in Elizabethan England», in Annals of Science
48 (1991). P. 319-344; Stephen Johnston, «The Identity of
the Mathematical Practitioner in 16th-century England», in
Irmgard Hantsche (ed.), Der «mathematicus»: Zur Entwiddung
und Bedeutung einer neuen Berufsgruppe in der Zeit Gerhard
Mercators (Bochum: Brockmeyer, 1996). P. 93-120; Katherine
Hill, «Juglers or Schollers?': Negotiating the Role of a
Mathematical Practitioner», in British Journal for the History of
Science31 (1998). P. 253-274.
300 Питер Деар. Событие революции в науке
Глава V
Биографии Декарта, вышедшие в последние годы:
Stephen Gaukroger, Descartes: An Intellectual biography
(Oxford: Clarendon Press, 1995); William R. Shea, The Magic
of Numbers and Motion: The Scientific Career of Rene Descartes
(New York: Science History Publications, 1991), в этой ра-
боте рассматриваются прежде всего заслуги Декарта в на-
уках; Daniel Garber, Descartes' Metaphysical Physics (Chicago:
University of Chicago Press, 1992); Geneviève Rodis-Lewis,
Descartes: His Life and Thought, trans. Jane Marie Todd (Ithaca:
Cornell University Press, 1998).
О современниках Декарта см.: R. Hooykaas,
«Beeckman, Isaac», in Charles C. Gillispie, ed., Dictionary
of Scientific Biography. Vol. 1 (New York: Scribner's, 1970).
P. 566-568; Richard H. Popkin, The History of Scepticism from
Erasmus to Spinoza (Berkeley, etc.: University of California
Press, 1979); Lynn Sumida Joy, Gassendi the Atomist: Advocate of
History in an Age of Science (Cambridge: Cambridge University
Press, 1987).
Работы Декарта по отдельным наукам рассмотрены:
Bruce S. Eastwood, «Descartes on Refraction: Scientific
versus Rhetorical Method», in Isis 75 (1984). P. 481-502;
A. Mark Smith, «Descartes's Theory of Light and Refraction:
A Discourse on Method», in Transactions of the American
Philosophical Society 77, Part 3 (1987); Peter Galison, «Descar-
tes' Comparisons: From the Visible to the Invisible», in Isis 75
(1984). P. 311-326; Etienne Gilson, «Météores cartésiens et
météores scolastiques», in Gilson, Etudes sur le role de la pensée
médiévale dans la formation du système cartésien (Paris: J. Vrin,
1930). P. 102-137; Desmond Clarke, Descartes' Philosophy of
Science (Manchester: Manchester University Press, 1982).
Интеллектуальный контекст идеи Декарта об огромных
размерах космоса: Steven J. Dick, Plurality of Worlds: The
Origins of the Extraterrestrial Life Debate from Democritus to Kant
(Cambridge: Cambridge University Press, 1982).
Классическое исследование английского корпуску-
лярного механицизма: Robert Kargon, Atomism in England
Избранная библиография 301
from Hariot to Newton (Oxford: Clarendon Press, 1966). Ме-
ханистическая философия Роберта Бойля недавно была
рассмотрена в контексте его экспериментов и гипотез:
Rose-Mary Sargent, The Diffident Naturalist: Robert Boyle and
the Philosophy of Experiment (Chicago: University of Chicago
Press, 1995).
Глава VI
О социальном и институциональном положении
философов природы раннего Нового времени см.:
Westman, «Astronomer's Role»; essays in Bruce T. Moran,
ed., Patronage and Institutions: Science, Technology, and Medicine
at the European Court 1500-1750 (Woodbridge, Suffolk: The
Boydell Press, 1991); John Gascoigne, «A Reappraisal of
the Role of the Universities in the Scientific Revolution»,
in David C. Lindberg and Robert S. Westman, eds. Reap-
praisals of the Scientific Revolution (Cambridge: Cambridge
University Press, 1990). P. 207-260. Biagioli, Galileo, Courtier;
Richard S. Westfall, «Science and Patronage: Galileo and
the Telescope», in Isis 76 (1985). P. 11-30; Mario Biagioli,
«The Social Status of Italian Mathematicians, 1450-1600», in
History of Science 27 (1989). P. 41-95, особое внимание во
всех этих работах уделяется жизни Галилея.
О конфликте Галилея с Церковью см. общие замеча-
ния: Peter Dear, «The Church and the New Philosophy»,
in Stephen Pumfrey, Paolo Rossi and Maurice Slawinski,
eds, Science, Culture and Popular Belief in Early Modern Europe
(Manchester: Manchester University Press, 1991). P. 119—
139. Важные детали преследований Галилея: Giorgio De
Santillana, The Crime of Galileo (Chicago: University of Chicago
Press, 1955); also Richard J. Blackwell, Galileo, Bellarmine,
and the Bible (Notre Dame: University of Notre Dame Press,
1991); Jerome J. Langford, Galileo, Science, and the Church, 3rd
edn (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1992); Rivka
Feldhay, Galileo and the Church: Political Inquisition or Critical
Dialogue1? (Cambridge: Cambridge University Press, 1995).
302 Питер Деар. Событие революции в науке
Maurice A. Finocchiaro, ed., The Galileo Affair: A Documentary
History (Berkeley; etc.: University of California Press, 1989) —
сборник документов по делу Галилея.
О Джоне Ди см.: Nicholas H. Clulee, John Dee's Natural
Philosophy: Between Science and Religion (London: Routledge,
1988); Harkness, John Dee's Conversations With Angels. For
other patronage beneficiaries in England, John Shirley,
Thomas Harriot: A Biography (Oxford: Clarendon Press, 1983);
Tom Sorell, Hobbes (London: Routledge & Kegan Paul, 1986).
Об особенностях научной революции в разных стра-
нах: Biagioli, «Scientific Revolution, Social Bricolage, and
Etiquette», in Porter and Teich, The Scientific Revolution in
National Context.
Главная работа о Гарвее: Roger French, William Harvey's
Natural Philosophy (Cambridge: Cambridge University Press,
1994); о его научных открытиях: Kenneth J. Franklin,
«Introduction» in Franklin, ed., William Harvey: The Circulation
of the Blood and Other Writings (London: Everyman, 1963);
Gweneth Whitteridge, William Harvey and the Circulation of
the Blood (London: Macdonald, 1971); Walter Pagel, William
Harvey's Biological Ideas: Selected Aspects and Historical Background
(New York: Hafher, 1967); Walter Pagel, New Light on William
Harvey (Basel: Karger, 1976). Социальный контекст ан-
глийской науки этого периода рассмотрен: Steven Shapin,
A Social History of Truth: Civility and Science in Seventeenth-Century
England (Chicago: University of Chicago Press, 1994).
Важнейшие сведения об Академии Рысей: Pietro
Redondi Galileo Heretic, trans. Raymond Rosenthal
(Princeton: Princeton University Press, 1987), and Paula
Findlen, Possessing Nature: Museums, Collecting, and Scientific
Culture in Early Modern Italy (Berkeley, etc.: University of
California Press, 1994). О других академиях в Италии:
W. Е. Knowles Middleton, The Experimenters: A Study of the
Accademia del Cimento (Baltimore: The Johns Hopkins Uni-
versity Press, 1971), Biagioli, «Scientific Revolution»; Jay
Tribby, «Cooking (with) Clio and Geo: Eloquence and
Experiment in Seventeenth-Century Florence», in Journal of
the History ofldeas52 (1991). P. 417-439.
Избранная библиография 303
Парижской Королевской академии наук посвяще-
ны исследования: Roger Hahn, The Anatomy of a Scientific
Institution: The Paris Academy of Sciences, 1666-1803 (Berkeley,
etc.: University of California Press, 1971); Alice Stroup,
A Company of Scientists: Botany, Patronage, and Community at the
Seventeenth-Century Parisian Royal Academy of Sciences (Berkeley,
etc.: University of California Press, 1990). Сведения о других
французских научных академиях XVII в.: David S. Lux, «The
Reorganization of Science, 1450-1700», in Bruce T. Moran,
ed. Patronage and Institutions: Science, Technology, and Medicine
at the European Court, 1500-1750 (Rochester, N.Y.: Boydell,
1991). P. 185-194; David S. Lux, «Societies, Circles, Acade-
mies, and Organizations: A Historiographie Essay on
Seventeenth-Century Science», in Peter Barker and Roger
Ariew, eds, Revolution and Continuity: Essays in the History and
Philosophy of Early Modern Science (Washington, D.C.: Catholic
University of America Press, 1991). P. 23-43; David S. Lux,
Patronage and Royal Science in Seventeenth-Century France: The
Académie de Physique in Caen (Ithaca: Cornell University
Press, 1989). Особенности проведения научных иссле-
дований в ранних Академиях рассмотрены в: Christian
Licoppe, «The Crystallization of a New Narrative Form in
Experimental Reports (1660-1690): Experimental Evidence
as a Transaction Between Philosophical Knowledge and
Aristocratic Power», in Science in Context 7(1994). P. 205-244.
О Лондонском королевском обществе: Michael
Hunter, Science and Society in Restoration England (Cambridge:
Cambridge University Press, 1981); Margery Purver, The
Royal Society: Concept and Creation (London: Routledge 8c
Kegan Paul, 1967), серьезные критические замечания
были высказаны в рецензии: Charles Webster, review of
Margery Purver, The Royal Society, in History of Science 6 ( 1967).
P.106-128.
О других научных объединениях в Великобритании:
Elsewhere in the British Isles, К. Theodore Hoppen, The
Common Scientist in the Seventeenth Century: A Study of the Dublin
Philosophical Society, 1683-1708 (London: Routledge 8c
Kegan Paul, 1970); подробнее: Webster, Great Instauration;
304 Питер Деар. Событие революции в науке
см. также: Shapin, Social History of Truth. Об Оксфордской
группе физиологов середины XVII в.: Robert G. Frank,
Jr., Harvey and the Oxford Physiologists: Scientific Ideas and
Social Interaction (Berkeley, etc.: University of California
Press, 1980). Важное рассмотрение научной базы Бойля:
William R. Newman, «The Alchemical Sources of Robert
Boyle's Corpuscular Philosophy», in Annals of Science 53
(1996). P. 567-585. Об эпохальной работе Гука: Michael
Aaron Dennis, «Graphic Understanding: Instruments and
Interpretation in Robert Hooke'sMicrographia», in Science in
Contexts (1989). P. 309-364, и John T. Harwood, «Rhetoric
and Graphics in Micrographia», in Michael Hunter and
Simon Schaff er, eds, Robert Hooke: New Studies (Woodbridge,
Suffolk: The Boydell Press, 1989). P. 119-147. Гл. 11 моно-
графии Carolyn Merchant, The Death of Nature: Women,
Ecology and the Scientific Revolution (New York: HarperCollins,
1990) посвящена Анне Конуэй, Маргарет Кавендиш и
другим женщинам, которые внесли вклад в развитие
естественной философии в конце XVII — начале XVIII в.
О Кавендиш и ее отношениях с Королевским обще-
ством: Anna Battigelli, Margaret Cavendish and the Exiles of the
Mind (Lexington, Ky: University Press of Kentucky, 1998),
гл. V. Общее исследование о женщинах в науке того
времени: Londa Schiebinger, The Mind Has No Sex? Women
in the Origins of Modem Science (Cambridge, Mass.: Harvard
University Press, 1989).
О домашних занятиях наукой см.: «Managing an
Experimental Household: The Dees of Mortlake and the
Practice of Natural Philosophy», in bis 88 (1997). P. 247-262;
Steven Shapin, «The House of Experiment in Seventeenth-
Century England», in Isis79 (1988). P. 373-404. О «техноло-
гах-невидимках»: Shapin, Social History of Truth, гл. VIII.
Институциональные возможности ордена иезуитов
рассмотрены: Steven J. Harris, «Confession-Building, Long-
Distance Networks, and the Organization of Jesuit Science»,
in Early Science and Medicine 1 (1996). P. 287-318; см. также:
Jonathan Spence, The Memory Palace ofMatteo Ricci (New York:
Viking Penguin, 1984).
Избранная библиография 305
О коллекциях по естественной истории см.: Findlen,
Possessing Nature. Об отношении европейцев к жителям
Нового Света см. классическую работу: Lewis Hanke,
Aristotle and the American Indians: A Study in Race Prejudice in
the Modern World (London: Hollis & Carter, 1959); также:
Anthony Pagden, European Encounters with the New World:
From Renaissance to Romanticism (New Haven: Yale University
Press, 1993). Важнейшие статьи по естественной исто-
рии в эпоху научной революции: Harold J. Cook, «The
New Philosophy and Medicine in Seventeenth-Century
England», где подчеркивается значение медицин-
ских опытов для формирования духа научной рево-
люции, и William В. Ashworth, Jr., «Natural History and
the Emblematic World View», обе опубликованы в сб.
David С. Lindberg and Robert S. Westman, eds, Reappraisals
of the Scientific Revolution (Cambridge: Cambridge University
Press, 1990). P. 397-436, 303-332 соотв. Лучшее введение
в этот вопрос, — статьи следующих авторов: Ashworth,
Cunningham, Findlen, Whitaker, Cook и Johns, в первой
части сб. N. Jardine, J. A. Secord and Е. С. Spary, eds, Cultures
of Natural History (Cambridge: Cambridge University Press,
1996); см. также общий очерк: Allen G. Debus, Man and
Nature in the Renaissance (Cambridge: Cambridge University
Press, 1978), гл. III. О создании Королевского ботаниче-
ского сада в Париже: Rio С. Howard, «Guy de La Brosse
and the Jardin des Plantes in Paris», in Harry Woolf (ed.),
The Analytic Spirit: Essays in the History of Science in Honor of
Henry Guerlac (Ithaca: Cornell University Press, 1981).
P. 195-224, and Rio C. Howard, La bibliothèque et le laboratoire
de Guy de La Brosse au Jardin des Plantes à Paris (Geneva: Droz,
1983).
О концепциях естественной истории и классифи-
кации в философии конца XVII в.: Mary M. Slaughter,
Universal Languages and Scientific Taxonomy in the Seventeenth
Century (Cambridge: Cambridge University Press, 1982); так-
же: Phillip R. Sloan, «John Locke, John Ray, and the Problem
of the Natural System», in Journal of the History of Biology 5
(1972). P. 1-53.
306 Питер Деар. Событие революции в науке
Глава VII
Классическая базовая работа для понимания фи-
лософской концептуализации «опыта» в этот пери-
од: Charles В. Schmitt, «Experience and Experiment:
A Comparison of Zabarella's View with Galileo's in De rnotu»,
in Studies in the Renaissance 16 (1969). P. 80-138; см. также
библиографию в работе: Dear, Discipline and Experience.
К упомянутым там работам добавим: Daniel Garber,
«Descartes and Experiment in the Discourse and the Essays»,
in Stephen Voss, ed., Essays on the Philosophy and Science of
Rene Descartes (Oxford. Clarendon Press, 1993); Garber,
Descartes ' Metaphysical Physics — ценные исследования от-
ношения Декарта к экспериментам, см. об этом также:
Clarke, Descartes' Philosophy of Science. Детальное исследо-
вание, охватывающее больший временной промежуток,
чем рассмотренный нами: Christian Licoppe, La formation
de la pratique scientifique: Le discours de l'expérience en France
et en Angleterre, 1630-1820 (Paris: Editions La Découverte,
1996).
О трудах Риччиоли: Alexandre Koyre, «A Documentary
History of the Problem of Fall from Kepler to Newton:
De motu gravium natura liter cadentium in hypothesi
terrae motae», in Transactions of the American Philosophical
Society n.s.45 (1955). Pt. 4. О Торричелли и его бароме-
тре: W. Е. Knowles Middleton, The History of the Barometer
(Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1964).
О месте философии в обществе: Shapin, Social History
of Truth. О «правдивости» как важнейшем свойстве лич-
ности в тогдашнем понимании: Steven Shapin, «A Scholar
and a Gentleman': The Problematic Identity of the Scientific
Practitioner in Early Modern England», History of Science 29
(1991). P. 279-327. О докладах в Королевском обществе
по результатам наблюдений и экспериментов как о важ-
нейшей стороне его деятельности: Peter Dear, «Totius in
verba: Rhetoric and Authority in the Early Royal Society»,
in Isis 76 (1985). P. 145-161; а также классическая ра-
бота: Steven Shapin and Simon Schaffer, Leviathan and the
Избранная библиография 307
Air-Pump: Hobbes, Boyle, and the Experimental Life (Princeton:
Princeton University Press, 1985).
О Ньютоне. Ранние работы Ньютона пересказаны и
проанализированы^. Е. McGuire and Martin Tamny, Certain
Philosophical Questions: Newton's Trinity Notebook (Cambridge:
Cambridge University Press, 1983). Alan E. Shapiro, Fits,
Passions, and Paroxysms: Physics, Method, and Chemistry and
Newton's Theories of Colored Bodies and Fits of Easy Reflection
(Cambridge: Cambridge University Press, 1993), где так-
же рассматриваются зрелые труды Ньютона по опти-
ке. Simon Schaff er, «Glass Works: Newton's Prisms and
the Uses of Experiment», in David Gooding, Trevor Pinch
and Simon Schaff er, eds, The Uses of Experiment: Studies in the
Natural Sciences (Cambridge: Cambridge University Press,
1989). P. 67-104, о рецепции идей Ньютона см. также:
Zev Bechler, «Newton's 1672 Optical Controversies: A Study
in the Grammar of Scientific Dissent», in Yehuda Elkana,
ed., The Interaction Between Science and Philosophy (Atlantic
Highlands, N.J.: Humanities Press, 1974). P. 115-142. Alan
E. Shapiro, «The Gradual Acceptance of Newton's Theory
of Light and Color, 1672-1727», in Perspectives on Science:
Historical, Philosophical, Social 4 (1996). P. 59-140, где обсуж-
дается поставленный Шеффером вопрос о приоритете
Ньютона.
О Гарвее основная работа: French, Harvey. См. также
блестящую статью: Andrew Wear, «William Harvey and
the 'Way of the Anatomists'», in History of Science 21 (1983).
P. 223-249, где доказывается, что Гарвей предпочитал на-
блюдение проверке гипотез.
Глава VIII
О трудах Декарта в сравнении с его современника-
ми-схоластами: Roger Ariew, Descartes and the Last Scholastics
(Ithaca: Cornell University Press, 1999); схоластический
контекст большинства философских трудов Декарта, как
и трудов его современников, кратко, но содержательно
308 Питер Деар. Событие революции в науке
исследуется в статье: Christia Mercer, «The Vitality and
Importance of Early Modern Aristotelianism», in Tom
Sorell, ed., The Rise of Modern Philosophy: The Tension Between
the New and Traditional Philosophies from Machiavelli to Leibniz
(Oxford: Clarendon Press, 1993). P. 33-67. Ранняя рецеп-
ция идей Декарта в Нидерландах рассмотрена в ста-
тьях: Robert S. Westman, «Huygens and the Problem of
Cartesianism», in H. J. M. Bos et al., eds, Studies on Christiaan
Huygens: Invited Papers from the Symposium on the Life and Work
of Christiaan Huygens, Amsterdam, 22-25 August 1979 (Lisse:
Swets & Zeitlinger, 1980). P. 83-103; Theo Verbeek, Descartes
and the Dutch: Early Reactions to Cartesian Philosophy, 1637-1650
(Carbondale: Southern Illinois University Press, 1992). О вли-
янии идей Декарта в Англии: Laurens Laudan, «The Clock
Metaphor and Probabilism: The Impact of Descartes on English
Methodological Thought, 1650-1665», in Annals of Science
22 (1966). P. 73-104, с этим полемизирует G. A. Rogers,
«Descartes and the Method of English Science», in Annals of
Science 29(1972). P. 237-255. Исследование воззрений Бой-
ля на «метод»: Jan Wojcik, Robert Boyle and the Limits of Reason
(Cambridge: Cambridge University Press, 1997).
Механицизм Гюйгенса рассмотрен: Joella G. Yoder,
Unrolling Time: Christiaan Huygens and the Mathematization
of Nature (Cambridge: Cambridge University Press, 1988),
более подробно контексты его трудов исследованы:
Geoffrey V. Sutton, Science for a Polite Society: Gender, Culture,
and the Demonstration of Enlightenment (Boulder, Col.:
Westview, 1995). Старая англоязычная биография, Arthur
Bell, Christiaan Huygens and the Development of Science in the
Seventeenth Century (New York: Longmans Green, 1947), по-
лезна для первого знакомства с деятельностью этого уче-
ного. О теории тяжести Гюйгенса: Е. J. Alton, The Vortex
Theory of Planetary Motions (London: Macdonald, 1972). О те-
ории света Гюйгенса: Alan E. Shapiro, «Huygens' Kine-
matic Theory of Light», in Bos, Studies on Christiaan Huygens.
P.200-220.
О Руго: Sutton, Science for a Polite Society; классическое
исследование по позднему картезианству во Франции:
Избранная библиография 309
Paul Mouy, Le développement de la physique cartésienne, 1646-
1712 (Paris: J. Vrin, 1934). О рецепции идей Декар-
та во французских университетах весьма подробно:
L. W. В. Brockliss, «Aristotle, Descartes and the New Science:
Natural Philosophy at the University of Paris, 1600-1740»,
in Annals ofScience 38 (1981). P. 33-69, and Brockliss, French
Higher Education in the Seventeenth and Eighteenth Centuries:
A Cultural History (Oxford: Clarendon Press, 1987).
О картезианстве как части салонной культуры: Erica
Harth, Cartesian Women: Versions and Subversions of Rational
Discourse in the Old Regime (Ithaca: Cornell University Press,
1992), см. также замечания в книгах: Sutton, Science for
a Polite Society; Schiebinger, The Mind Has No Sex ?
Биография Лейбница: E. J. Aiton, Leibniz - A Biography
(Bristol: Adam Hilger, 1989); Nicholas Jolley, ed., The
Cambridge Companion to Leibniz (Cambridge: Cambridge
University Press, 1995).
Биография Ньютона: McGuire and Tamny, Certain
Philosophical Questions, где рассмотрены его ранние труды;
и стандартная: Richard S. Westfall, Never at Rest: A Biography
of Isaac Newton (Cambridge: Cambridge University Press,
1980).
Самое доступное изложение традиционного взгляда
на научную революцию как на последовательность откры-
тий от Кеплера и Галилея до Ньютона: Bernard Cohen,
The Birth of a New Physics, rev. and updated edn (New York:
W.W.Norton, 1985), философские и метафизические изме-
рения научной революции: Александр Койре, От замкну-
того мира к бесконечной вселенной (М.: Логос, 2001 [1957]).
Доступно о заслугах Ньютона, хотя скорее для подго-
товленного в естественных науках читателя: Richard S.
Westfall, Force in Newton's Physics: The Science of Dynamics in the
Seventeenth Century (London: Macdonald, 1971).
О пафосе «ньютонианства» в XVIII в.: Betty Jo Teeter
Dobbs and Margaret C. Jacob, Newton and the Culture of
Newtonianism (Atlantic Highlands, N. J.: Humanities Press,
1995), гл. II; Margaret C.Jacob, The Newtonians and the English
Revolution 1689-1720 (Ithaca: Cornell University Press,
310 Питер Деар. Событие революции в науке
1976); также: Margaret С. Jacob, «The Truth of Newton's
Science and the Truth of Science's History: Heroic Science
at its Eighteenth-Century Formulation», in Margaret J. Osier,
ed., Rethinking the Scientific Revolution (Cambridge: Cam-
bridge University Press, 2000). P. 315-332; Larry Stewart, The
Rise of Public Science: Rhetoric, Technology, and Natural Philosophy
in Newtonian Britain, 1660-1750 (Cambridge: Cambridge
University Press, 1992). О роли Ньютона как президента
Лондонского королевского общества: Schaffer, «Glass
Works»; John L. Heilbron, Physics at the Royal Society During
Newton's Presidency (Los Angeles: William Andrews Clark
Memorial Library, 1983); и последние главы в кн.: Marie
Boas Hall, Promoting Experimental Learning: Experiment and the
Royal Society 1660-1727 (Cambridge: Cambridge University
Press, 1991); см. также: John L. Heilbron, Electricity in the
Seventeenth and Eighteenth Centuries: A Study in Early Modern
Physics (Berkeley, etc.: University of California Press, 1979).
Особенности естественной философии Ньютона и ее
позднейшие модификации рассмотрены в: Р. М. Heimann
[Harman], «'Nature is a Perpetual Worker': Newton's Aether
and Eighteenth-Century Natural Philosophy», in Ambix 20
(1973). P. 1-25; P. M. Heimann [Harman] andj. E. McGuire,
«Newtonian Forces and Lockean Powers: Concepts of Matter
in Eighteenth-Century Thought», in Historical Studies in the
Physical Sciences 3 (1971). P. 233-306. Скрупулезное рас-
смотрение учения Ньютона о пространстве и тяже-
сти: Alexandre Koyré, «Huygens and Leibniz on Universal
Attraction», in Koyré, Newtonian Studies (Chicago: University
of Chicago Press, 1965). P. 115-138. О споре Лейбница и
Кларка: А. Койре. От замкнутого мира к бесконечной вселен-
ной, гл. 11; подробнее о контекстах спора: A. Rupert Hall,
Philosophers at War: The Quarrel Between Newton and Leibniz
(Cambridge: Cambridge University Press, 1980); Domenico
Bertoloni Meli, Equivalence and Priority: Newton versus Leibniz.
Including Leibniz's Unpublished Manuscripts on the Principia
(Oxford: Clarendon Press, 1993), и специально: Steven
Shapin, «Of Gods and Kings: Natural Philosophy and Politics
in the Leibniz-Clarke Disputes» in Isis 72 (1981). P. 187-215.
Избранная библиография 311
Заключение
Исследование одной из самых удачных попыток по-
ставить научную теорию на службу практическим госу-
дарственным интересам: Michael S. Mahoney, «Christiaan
Huygens: The Measurement of Time and Longitude at Sea»,
in Bos, Studies on Christiaan Huygens. P. 234-270. О других
попытках использовать «метод» как обоснование новых
подходов к естественной философии в XVII в.: Peter
Dear, «Method and the Study of Nature», in Daniel Garber
and Michael Ayers, eds, The Cambridge History of Seventeenth-
Century Philosophy, 2 vols. Vol. 1 (Cambridge: Cambridge
University Press, 1998). P. 147-177. Индустриальная рево-
люция XVIII в. напрямую связывается с развитием науки
в кн.: Margaret С. Jacob, Scientific Culture and the Making of
the Industrial West (New York: Oxford University Press, 1997).
Одна из важнейших попыток последнего времени
определить особенности научного развития в XVIII в.:
William Clark, Jan Golinski and Simon Schaff er, eds, The
Sciences in Enlightened Europe (Chicago: University of Chicago
Press, 1999).
СТИВЕН ШЕИПИН
НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
© 1998 Steven Shapin. The Scientific Revolution
ВВЕДЕНИЕ
1. Научная революция:
история термина
Книга посвящена событию, которого не было, — на-
учной революции. Всего несколько десятков лет назад,
когда академический мир чувствовал себя увереннее и
радовался благополучной судьбе выдвинутых им идей,
историки заявляли о действительности такого прогрес-
сирующего катаклизма, который фундаментальным и не-
обратимым образом изменил все человеческие знания
о естественном мире, лишив современников прежних
опор и уловок. Как раз в этот момент мир из традицион-
ного стал модерным, и это великое благо произошло в
конце XVI — начале XVII в. В 1943 г. французский исто-
рик Александр Койре восхищался сдвигами понимания,
произошедшими в эпицентре научной революции, на-
зывая появление нового мировидения «самой глубокой
переменой, с которой столкнулся и которую пережил
человеческий разум» со времен греческой Античности.
Научная революция так глубоко потрясла основания че-
ловеческой культуры, «что человечество до сих пор еще
не может понять значения и смысла этой революции:
ведь даже сейчас ее часто недооценивают или пони-
мают превратно». Несколькими годами позже британ-
ский историк Герберт Баттерфильд обвинил научную
революцию в том, что она «затмила все, что было с на-
чала христианства, и превратила Ренессанс и Рефор-
мацию в эпизодические события... Она действительно
стала началом и современного мира, и современного
316 Стивен Шейпин. Научная революция
умонастроения». Более того, научная революция рекон-
струировалась как фундаментальная переориентация
нашего мышления о природе, иначе говоря, как ради-
кальная перемена всех концептов. Поэтому историю на-
учной революции можно рассказывать только в связке с
радикальными изменениями фундаментальных катего-
рий мышления. Согласно Баттерфильду, мышление из-
менилось в ходе этой революции так, как будто мы по-
лучили «новые очки» вместо потрепанных старых. А по
мнению А. Руперта Холла, научная революция — это не
просто сдвиг в образе мысли, а «никому не подвластное
переопределение объектов философского и научного
исследования».
Такое понимание научной революции сейчас уже
вошло в традицию. Несколько исторических эпизодов
представляются существенным или самоочевидным ос-
нованием так определять содержание научной револю-
ции. В западном списке университетских дисциплин
уже нашлось место для изучения особенностей научной
революции; и наша книга представляет собой попытку
экономно распорядиться этим пространством совмест-
ной работы преподавателей и студентов, по возможно-
сти пробудив живое любопытство к первым шагам новой
европейской науки1. Но, как и многие историографиче-
ские традиции XX в., понятие научной революции не
столь давнее, как может сперва показаться. Само выра-
жение «научная революция» сделал общеупотребитель-
ным Александр Койре, обосновав его правомочность в
своей работе 1939 г. И только в 1954 г. вышли две кни-
ги, противоположные по подходу к истории, но носив-
шие похожие заглавия: это написанная под влиянием
1 Период «раннего Нового времени», согласно общепринятому
употреблению, относится к годам примерно от 1550 до 1800-го. Я буду
говорить о раннем Новом времени с большей строгостью и приме-
нительно к науке отнесу к этому периоду годы с 1700 по 1730-й. Далее
«новой наукой» и «обновлением наук» будут называться как раз специ-
фические реформы образования и исследовательских практик в на-
чале XVII в.
Введение 317
Койре книга А. Руперта Холла «Научная революция»2
и очередной том написанной с марксистских позиций
«Исторической науки» Дж.Д. Бернала, называвшийся
«Научные и индустриальные революции». Хотя многие
практические деятели XVII в. и говорили, что хотят
произвести радикальные перемены в правилах мышле-
ния людей, они никогда не называли свои начинания
революционными.
Начиная с Античности и до периода раннего Нового
времени слово «революция» ассоциировалось с повто-
ряющимися циклами. Так, в новой астрономии Копер-
ника, созданной в середине XVT в., планеты совершают
обороты (revolutiones) вокруг Солнца. Отсылку к поли-
тическому перевороту можно усмотреть только в изо-
бражении приливов и отливов, символов круговых пе-
рипетий человеческой жизни. Мысль о революции как о
радикальном необратимом изменении порядка возник-
ла, только когда время стало пониматься как линейное и
бесповоротно уходящее в будущее. В новой концепции
революция стала выглядеть не повторением былого собы-
тия, но ломкой событий, учреждением нового порядка
человеческих дел, ничем не предвещаемого прежде и
не ждущего нового засвидетельствования. Но не толь-
ко такое последовательное понимание революции, но и
даже самое общее представление о революционном перево-
роте в науке возникает только в трудах французских про-
светителей XVIII в., которые любили изображать себя
и собственные научные занятия как радикальное опро-
вержение старорежимной культуры. (Тогда как некото-
рые ученые XVII в., которые нам встретятся по ходу из-
ложения, говорили о себе не как о творцах и новаторах,
2 Впрочем, еще в 1930-х гг. французский философ Гастон Башляр
говорил о «мутациях» (т.е. высокой степени прерывностях) в раз-
витии концептуальной структуры науки, вполне подготовив слово-
употребление в духе Койре: «Научная революция семнадцатого века
была, несомненно, такой мутацией... Она стала глубокой интеллекту-
альной трансформацией, выражением и одновременно плодом кото-
рой... явилась современная физика».
318 Стивен Шейпин. Научная революция
но как о возобновителях прежней чистоты научного
знания.) Понимание революции как эпохальной и необ-
ратимой перемены, скорее всего, сначала утвердилось,
приняв форму систематической оценки, в науке, а потом
уже было перенесено как структура опыта на политиче-
ские события. Поэтому мы смеем сказать, что первыми
революциями были научные, а Американская, Француз-
ская и Русская революции продолжили их пафос в соци-
альном мире.
Наше понимание науки XVII в. за последние годы
сильно изменилось, и уже нельзя пользоваться терми-
ном «научная революция» так же беспроблемно, как и
прежде. Более того, оба понятия, входящие в это выра-
жение, требуют некоторой проверки. Многие историки
в наши дни не считают, что было какое-то отдельное обо-
собленное событие, которому отводится конкретное вре-
мя и место, и что его характеристики — характеристики
единой революции. Эти историки не видят и решитель-
ных подтверждений тому, что в XVII в. была вообще со-
относимая с собой культурная единица, под названием
«наука», чтобы можно было говорить о революционных
переменах в ней. На практике существовали расходя-
щиеся направления культурных практик, направленных
на понимание, объяснение и хозяйственную каталогизацию
естественного мира, — у каждой из этих практик были
свои особенности, предопределявшие меру возможных
изменений. Сомнительны теперь и заявления об исто-
рическом существовании «научного метода», то есть
соотносимого с собой универсального эффективного
набора процедур, производящих научное знание, и тем
более не следует толковать развитие науки в XVII в. как
реализацию «метода» и вести от тогдашнего метода пря-
мые линии к современности. Многие историки также не
считают, что новаторские убеждения и практики ученых
в XVII в. были так уж «революционны», как их принято
изображать. Непрерывная связь естественной фило-
софии XVII в. со средневековой философией теперь
Введение 319
признается большинством историков, а «отложенные»
на XVIII и XIX вв. революции в химии и биологии не
дают надежно обозначить границы так торжественно
заявляемой научной революции.
2. Почему мы пишем о научной революции?
Существуют и другие причины, мешающие истори-
кам с прежней наивностью изображать научную рево-
люцию как магистраль знания всемирного значения.
Прежде всего в последние годы историки расстались с
традиционной манерой сообщать об идеях так, словно
они свободно парили в интеллектуальном пространстве.
Первоначально в монографических исследованиях на-
учная революция вмещалась в тесные рамки обособлен-
ных идеологических терминов или сводилась к безлич-
ностным поворотам в умонастроениях; но новейшие
версии научной революции требуют от нас помещать
любую высказанную в тот период идею в широкий куль-
турный и социальный контекст. Имеющиеся в нашем
распоряжении источники позволяют установить много-
численные связи между переменами в науке XVII в. и из-
менениями в религиозной, политической и экономиче-
ской сферах. Если говорить о еще более основательных
вещах, то ведущие современные историки пытаются по-
нять конкретные практики человеческого существова-
ния на основе составивших их идей и концептов. Они
хотят установить, какое именно действие осуществляют
люди, когда они производят или подтверждают наблю-
дение, доказывают теорему, успешно проводят экспе-
римент? Взгляд на историю научной революции как на
произвольное согласование находящихся в свободном
полете понятий бесконечно далек от реальной истории
понятий. YL наконец, в последнее время историки все
больше интересуются персональным аспектом научной
революции. Им хочется знать, что за люди выписали
изменения на карте человеческого разума? Все ли они
320 Стивен Шейпин. Научная революция
понимали, что они делали, или истина осенила умы
лишь единиц? А если ситуацию в науке только несколь-
ко человек изменяло со знанием дела, то в каком смысле
вообще мы можем говорить о научной революции как
о массированном сдвиге мировидения, породившем ту
«модерность», к которой мы все принадлежим? Эти свя-
занные друг с другом вопросы столь сложны, что гово-
рить о научной революции описательно уже невозмож-
но. Если мы хотим дать разумные ответы на вопросы,
сперва следует сопоставить перемены, произошедшие
в науке раннего Нового времени, с тем, что происходит
в наше сложное и шумное, но зато одержимое жаждой
интеллектуального поиска время.
Но, сколь бы ни были оправданны сомнения и сколь
бы глубоко ни овладела нами неуверенность, писать о на-
учной революции — само по себе похвально, и не нужно
оправдываться, завоевывая доверие читателей надуман-
ной риторикой. Главное — не упускать из виду два важных
соображения. Первое — многие ключевые фигуры конца
XVI-XVTI вв. охотно провозглашали, что они произведут
важные изменения в науке, привнесут в нее немало ново-
го и что прежде знакомая нам природа будет выглядеть
совсем по-другому, анаше знание, напрямую соприкос-
нувшись с действительностью, станет особенно доказа-
тельным и чрезвычайно сообщительным. Эти ученые
акцентировали свое новаторство и яростно ополчались
против старомодного мышления и устаревших типов
работы. Наше чувство радикальных перемен того време-
ни в самой своей основе восходит к ним (а также к тем,
на кого они больше всего нападали) и вовсе не является
изобретением середины XX в. Поэтому мы можем ска-
зать с полным правом, что XVII век засвидетельствовал
основательные и весьма интенсивные попытки изменить
и отношение к естественному миру, и в смысле структуры
опыта, и в смысле идейных основ опыта. Поэтому бли-
жайшая цель книги о научной революции проста: прежде
всяких обобщений нужно рассмотреть каждую из «попы-
ток», понять, в чем состояли удачи и неудачи, насколько
Введение 321
научный поиск определялся состоянием культуры и на
какое число умов могли повлиять ученые.
Но почему мы должны рассказывать о сложности на-
учного поиска, а не о более масштабных культурных со-
бь^щях? Кроме того, в разных слоях общества XVII в.
культура отношения к окружающему миру была различна:
как мы сможем свести тогда вместе характеры людей из
разных слоев и тем более подравнять их убеждения? На-
пример, некоторые «натуральные философы» защищали
рациональное теоретизирование, а другие, напротив,
гнались за сбором не подпадающих ни под какую теорию
фактов, над которыми можно разве что поставить экспе-
римент3. В математической физике, например, надлежа-
ло действовать совсем иначе, чем в ботанике. Конечно,
были существенно расходящиеся между собой толкова-
ния, что входит в состав астрономии, а что не входит и в
чем не имеет права усомниться астроном; не говоря уже
о том, что отношения между «настоящей наукой», астро-
номией или химией, и «лженауками» астрологии и алхи-
мии были чересчур проблематичными. Даже запомнив-
шаяся нам с детства категория «природы» как объекта
исследования понималась различно разными деятелями.
Конечно, это не должно нас слишком озадачивать. Куль-
турные практики, подпадающие под определение науч-
ной революции, как бы то ни было, не совпадают в своих
границах с составом ранней науки, науки XVII в. Поэтому
3 В XVII в. слово «наука» (лат. scientia, означающее знание или му-
дрость) обыкновенно означало любую совокупность упорядоченного
по какому-то серьезному правилу знания (напр., необходимых уни-
версальных истин), тогда как исследование существующих в природе
родов вещей и каузальных связей в естественном мире отводилось
«естественной истории», или «естественной философии». В целом
наша книга будет соблюдать сложившееся в раннее Новое время сло-
воупотребление, требующее называть практиков соответствующей
науки «естественными философами», «естественными историками»,
«математиками», «астрономами», «химиками» и т.д. Термин «ученый»
был изобретен для общего употребления только в XIX в., а обозначе-
нием всех знатоков, независимо от той науки, в которой они действу-
ют, стал только в начале XX в.
322 Стивен Шейпин. Научная революция
историки расходятся в понимании того, какие практики
составляли ядро научной революции, учитывая, что и
сами участники тогдашнего производства знания спори-
ли, какие именно действия по отношению к знанию про-
изводят подлинную науку и как ее можно реформировать
так, чтобы наше знание навсегда стало надежным.
Если мы хотим найти фундаментальные критерии
новизны в науке XVII в., то нужно понимать, что боль-
шинство людей того времени (мы говорим не о простых,
а об образованных людях) не признавали того, что при-
знавали на передовой науки, и поэтому вряд ли можно
говорить о революционных преобразованиях мысли
«людей» об окружающем мире. Но мы никогда не усом-
нимся, что содержательную историю изучения природы
в XVII в. не удастся написать, не задействовав при этом
вполне традиционное понятие научной революции.
Конечно, сама идея научной революции есть хотя бы
частично выражение наших собственных приоритетов в
рассмотрении прошлого или предпосылок, выработан-
ных нашими предшественниками. «Мы» — это ученые
конца XX в., верящие в то, что именно нам принадлежит
освоение всей истины о естественном мире. Конечно,
этот интерес вручает нам второе, и очень важное, оправ-
дание создания книги о научной революции. Историки
науки в настоящее время приобрели достаточный опыт,
чтобы отвергать выровненную по требованиям настоя-
щего историю прошлого: они правомерно говорят, что
такое выравнивание искажает наше понимание про-
шлого, которое должно состояться в рамках, известных
самому прошлому. Конечно, нет никаких предпосылок,
запрещающих нам знать, откуда мы пришли и как мы та-
кими стали, на что надеялись наши предшественники и
какие желания мы можем разделить с людьми прошлого.
В этом смысле, если мы рассказываем о научной револю-
ции XVII в., мы говорим о тех изменениях, к которым эта
революция (произошедшая в немногих умах) привела,
может быть не напрямую, не на основании простых свя-
зей вещей, — но нельзя сомневаться, что озарения ученых
Введение 323
проложили дороги к современным интуициям, к тем чер-
там нашего всеобщего опыта, которые более всего нас
волнуют. Обращаясь к прошлому науки, мы признаемся
себе в наличии в нас того же самого, вполне законного,
научного интереса, который был у последователей Дарви-
на, рисовавших перед нами ветви древа жизни, на самой
высокой из которых находится человеческое существо,
при этом они не принимали во внимание, сотни или ты-
сячи лет потребовались для достижения этого идеально-
го бытия. Конечно, в таком «повествовательном» режи-
ме исторического изложения, в спокойствии эпического
тона нет ничего заведомо ложного, но научная совесть
требует от нас некоторой осторожности, чтобы не связы-
вать с нашими рабочими гипотезами слишком большие
упования. Рассказы о предшественниках, к начинаниям
которых возводят все сегодняшние достижения, — это,
конечно, не прочувствованные беседы о добром старом
времени: жизнь и воззрения Галилея, Декарта и Бойля
нельзя назвать «типичными» для итальянца, француза и
англичанина того времени. Поэтому если мы и говорим о
них, то лишь в связи с той ролью, которую они сыграли
в становлении современных научных символов: учения
о свободном падении, оптическом обосновании радуги,
идеальном течении газа. Но все эти научные прозрения
мы с трудом можем соотнести с намерениями и достиже-
ниями в ходе их собственных карьер и тем более с госу-
дарственно-политическими проектами XVII в.
Прошлое ни в коем случае ни в каком из своих момен-
тов не трансформируется в мир текущей современно-
сти, и потому нас не должно удивлять, что деятели науки
XVII в. выглядят не менее «античными», чем «современ-
ными»: чтобы сделать их нашими собеседниками в экс-
периментальной лаборатории, понадобилось много раз
трансформировать их высказывания, переопределять
их смысл — над этим трудились целые поколения учите-
лей и учеников, прежде чем их открытия стали «наши-
ми». И не последним делом будет заметить, что все те
идейно вооруженные люди, которых мы гордо записали
324 Стивен Шейпин. Научная революция
в свои предшественники и поставили при начале нашего
собственного поприща, имели собственный интерес, от-
вечавший нуждам того времени. Когда мы повествуем о
Галилее, Бойле, Декарте и Ньютоне, мы говорим неволь-
но о положениях науки XX в. и о том, что именно мы це-
ним как их убеждения. Конечно, преследуя собственные
цели, мы возводим облик современного мира к проектам
нескольких запомнившихся нам философов, Галилею,
Бойлю, Декарту, Ньютону, не замечая, что их трактовки
природы и знания могут отличаться от официально ре-
комендованных нам в учебниках, даже если эти учебни-
ки украшены портретами «великих предшественников».
Еще раз напомним о том решающем для нашего исследо-
вания обстоятельстве, что современники названных лиц
ничего не знали о том, что они живут в эпоху научной
революции, и даже не подозревали, что в области науки
происходит что-то существенное. Женщины того вре-
мени редко интересовались наукой, а их мужья так ча-
сто были безграмотными, и даже если они умели читать
и оставлять свою подпись, то они не могли превысить
некогда назначенный им уровень.
3. Некоторые историографические положения
Эта книга задумывалась как историографическая,
конечно, с учетом важнейших историографических, со-
циологических и философских моментов научной ре-
волюции. Но я ни в коем случае не хочу заставлять чи-
тателя внимать дискуссиям академических работников
о смысле отдельных переживших свою историю поня-
тий. Книга написана не для профессионалов, время от
времени сталкивающихся с потаенными областями на-
учного знания, а для читателей, которые интересуются
академической жизнью как особо возвышенной игрой
мысли, а пополнить свои знания могут, руководствуясь
приложенной к книге библиографией. Невозможно от-
рицать, что наш рассказ о научной революции выражает
Введение 325
весьма специфический взгляд на вещи, хотя я и пытался
соблюсти наибольшую объективность, заимствуя доводы
у самых знаменитых ученых и сверяя свою точку зрения
с просторными заделами здравого смысла. Некоторые
специалисты могут не согласиться с предложенными в
этой книге реконструкциями, иные из них могут даже
с гневом отбросить некоторые из моих выкладок, но все
же большинство из них, надеюсь, своими замечаниями
только улучшат перспективу рассмотрения научной ре-
волюции. Можно так резюмировать позицию, представ-
ленную в этой книге и обязанную новейшим достижени-
ям в области историко-культурных исследований.
Прежде всего я считаю само собой разумеющимся,
что всякая наука имеет свою историческую локализа-
цию, а значит, и социальные рамки и может быть понята
только в контексте своего возникновения. Многие деся-
тилетия историки спорили, следует ли оставлять науку
прошлого в ее социально-историческом контексте или
же нужно признавать ее обособленность. Я буду писать о
науке XVII в. как о коллективно осуществляемом проекте
людей, претендующих на постижения истории; а читате-
ли, думаю, сами поймут, в какой мере наука погружена в
свой контекст и что именно в социальной жизни делает
саму науку интересной.
Долгое время полемика историков о сущности социо-
логического («контекстуально-исторического») подхо-
да к науке создавала впечатление непереходимой грани
между теми историками, которые ведут учет «интеллек-
туальным факторам» (идеям, концепциям, методам и ар-
гументации), и теми, кто решающую роль отводит соци-
альным факторам (формам организации, политическому
и экономическому воздействию на науку и социальному
употреблению научных достижений). Но современным
историкам, в том числе и мне, эта грань кажется зыбкой
и ненужной, и я не хотел бы тратить время читателей на
обзор всех этих споров, гнетущих изучение науки ран-
него Нового времени. Ведь если мы решили, что науку
нужно помещать в конкретном историческом времени
326 Стивен Шейпин. Научная революция
и смотреть на коллективное участие в науке (то есть уста-
новить ее социальное измерение), то наше понимание
должно охватывать все аспекты научного бытия: не толь-
ко идеи и решения, но также институциональные формы
и социальные употребления. Всякий, кто хочет предста-
вить науку как социальное явление, не может отодвигать
в сторону знания самих деятелей науки и пути получения
этого знания. Социология науки подразумевает истори-
ческое рассмотрение путей передачи знания и социаль-
ного процесса его институционализации.
Также традиционная конструкция «социальных фак-
торов» (или социальных проявлений науки) сводилась к
наблюдениям над тем, что составляет внешнюю оболоч-
ку «собственно науки», — например, над употреблени-
ем экономических метафор в развитии общей научной
методологии или над идеологическим употреблением
науки для легитимации определенных политических
замыслов. Немало тонких исторических исследований
было выполнено, чтобы подтвердить такое понимание
социального. Но тем не менее рассмотрение социальных
рамок бытия науки как чисто внешнего обстоятельства
кажется мне результатом недоразумения. Ведь общество
существует и внутри научной лаборатории, и оно воздей-
ствует на развитие научного знания изнутри точно так
же, как и снаружи. И действительно, само разделение
между социальным и политическим, с одной стороны,
и «научной истиной», с другой, — это отчасти культур-
ный продукт обсуждаемого периода. То, как принято
думать о науке в конце XX в., — это проекция тех эпизо-
дов ее развития, в которых нам сейчас предстоит разо-
браться. Я не собираюсь сейчас разбирать предметно,
каковы границы распространения социального влияния
в научном развитии, но только скажу, что от этого вопро-
са нам ни в коем случае уйти не удастся. Мы увидим, что
привычное нам разделение истины и социального тре-
бования является конвенцией, достигнутой во вполне
определенное время. Разбирать, чем социальный подход
отличается от научного, нам не обязательно, мы только
Введение 327
хотим установить, почему вообще заходит речь о таком
расхождении двух подходов.
Я не думаю, что существует какая-то «сущность» науки
XVII в. или что в этом веке была проведена системати-
ческая реформа науки. Поэтому читатель не встретит в
этой книге никакой единой и связной истории, которая
может охватить все аспекты науки в ее изменчивости,
и даже те аспекты, которые могут представлять инте-
рес для человека наших дней. Я не могу найти ни одно
из традиционно признававшихся «революционными»
свойств науки раннего Нового времени, которое бы не
варьировалось до непохожести и не подвергалось бы
критике других не менее серьезных ученых того време-
ни, которые тоже теперь записываются в число творцов
научной революции. Единой магистрали научной рево-
люции нет, есть только множество различных историй,
с ней связанных. Я буду рассказывать эти истории, что-
бы просто привлечь внимание читателя к некоторым
реальным особенностям культуры прошлого. При этом
неизбежно приходится производить отбор: невозможно
создать окончательную и исчерпывающую все вопросы
историю, сколько бы времени на это мы ни потратили
и сколько бы подробностей ни вспомнили. Конечно, от-
бор неизбежно несет на себе след нашего интереса, даже
если мы ставим целью «рассказать, как все было на самом
деле». Мы невольно проникаем в те рассказы о прошлом,
в которых мы хотим, чтобы было только прошлое. Это
особенность работы историка; и наивно полагать, что
есть какой-то метод, даже лучшим образом настроенный,
который избавит нас от нашей предвзятости.
Интерпретации историков-профессионалов требуют
чтить все накопленное знание фактов о прошлом. Это
почтение к фактичности прошлого — мера нашей ин-
теллектуальной честности, и историки борются за свою
честь, когда вносят бесчисленные уточнения ко всякой
общей картине науки прошлого. Я, как и все историки,
движим теми же побуждениями: хотя мне по жанру книги
приходится не просто обобщать, но излагать все кратко
328 Стивен Шейпин. Научная революция
и сжато, я стараюсь соблюсти как можно больше нюан-
сов и различать вещи по качеству. Конечно, от чего-то
приходится всякий раз отказываться. Нельзя все услож-
нять до крайности, нельзя проводить все новые и новые
межи, не видя этому конца и опоры, нельзя огораживать-
ся новыми вариациями на старые темы и заковываться в
броню из цитат — такую книгу прочтут разве специали-
сты, да и то пожимая плечами. Тогда как гарантии, что
уточненные знания о прошлом продвинут вперед наше
понимание такого сложного и не вполне определяемого
события, как научная революция, нет совсем. Поэтому
я ограничиваю себя более скромной задачей — пытаюсь
привлечь внимание читателя к культурной негомоген-
ности науки XVII в., при этом на небольшом количестве
примеров и затронув минимум тем.
Действительно, предложенный читателю набросок
научной революции очень избирательный и потому не-
полон со всех сторон. Пришлось ограничить себя только
эмпирическими и экспериментальными науками, причем
в основном только на английском материале. Отчасти это
связано с моими собственными интересами как истори-
ка, а отчасти с тем, что в большинстве предшествующих
книг по этому вопросу в основном рассматривалась исто-
рия математической физики, и то лишь в странах конти-
нентальной Европы4. Такой интерес исследователей во
многом оправдывался тем, что считалось, что «действи-
тельно новым» и «важным» в XVII в. была математизация
изучения движения и связанное с этим разрушение ари-
стотелевского космоса— поэтому основными фигурами
при рассмотрении оказывались Галилей, Декарт, Гюйгенс
и Ньютон. Такое почетное место, которое отводится
в традиционной истории науки математической физике
и астрономии, могло создавать у читателя впечатление,
что только эти практики составили научную революцию
4 Когда я использую английский материал, я вовсе не утверждаю,
что Англия была центром научной революции: я просто хочу на зна-
комом мне материале проиллюстрировать тенденции, в общем виде
широко распространенные по всей Европе.
Введение 329
и что рассмотрения их достаточно для того, чтобы по-
казать существенную новизну науки раннего Нового вре-
мени. Конечно, во многом это так, но в нашей книге мы
попытаемся подчеркнуть важность реформы самого на-
блюдения над природой и самого эксперимента в боль-
шом диапазоне наук. Конечно, в некоторых историче-
ских трудах заявляется, что в XVII в. особенно в Англии
были введены большие новации в способе отыскания,
обеспечения, оправдания, сообщения и организации
опыта, и я хочу показать всю важность этих новаций.
Но хотя наша книга уделяет основное внимание механи-
стической (экспериментальной, корпускулярной) фило-
софии того времени, я не собираюсь отождествлять эту
практику с научной революцией. Вовсе не вся естествен-
ная философия XVII в. была механистической или экспе-
риментальной; и даже те ученые, которые поддерживали
и механицизм, и эксперименты, спорили о том, зачем и в
какой степени это нужно. Но вместе с тем я убежден, что
попытки «механизировать» не просто природу, но сам
способ нашего знания о природе, так же как и споры о
смысле механистического и экспериментального подхо-
да, могут объяснить нам больше в этой эпохе, чем просто
рассуждения о культурных сдвигах.
Если в этой книге и есть что-то оригинальное, то это
ее строение. Три главы посвящены соответственно тому,
что было известно о естественном мире, как обеспечи-
валось это знание и какие цели преследовало. Что, как и
зачем — вот вопросы трех глав. В большинстве работ по
этим вопросам даются ответы только на первый вопрос,
который неизбежно рассматривается идеализированно,
и непонятно, для чего все это делалось, как будто наука
существует в безвоздушной и стерильной среде.
Мне бы хотелось попытаться подытожить общепри-
нятые выводы о переменах того времени, совокупность
которых именуют научной революцией, при этом указав,
что убеждения ученых того времени часто не совпадали и
споры велись непримиримо. Я начну с того, что покажу,
как менялись убеждения, связанные с природой, и что
330 Стивен Шейпин. Научная революция
там, где историки раньше видели рутинную работу, на са-
мом деле происходил слом сознания. Хотя я и сказал,
что нет никакой единой сущности научной революции,
практические задачи заставляют меня время от времени
искусственно обрисовывать границы изменения знания
о природе в то время. Другое дело, что я стараюсь ого-
варивать, что концептуальные границы выстроены мной
нарочито и не избавляют нас от сложных проблем.
Внимание читателя будет обращено на четыре взаи-
мосвязанных аспекта изменения знания о естественном
мире и соответственно способов достижения этого зна-
ния. Первый: механизация природы — все более частое
употребление механистических метафор для констру-
ирования естественных процессов и явлений. Второй:
деперсонализация естественного знания — все большее
размежевание человека как субъекта и природы как объ-
екта его знания, и особенно — обыденного человеческо-
го опыта и познания действительного строения при-
роды. Третий: попытки механизации знания, которые
выразились прежде всего в употреблении эксплицитно
сформулированных правил метода, назначенных дисци-
плинировать производство знания путем определенного
упорядочивания или даже исключения всех человече-
ских страстей и интересов. Четвертый: стремление упо-
требить получившееся в результате реформированное
знание о природе в моральных, социальных и политиче-
ских целях — а для этого всем надлежало прежде согла-
ситься, что новое научное знание благодетельно, могу-
че, но прежде всего — объективно и незаинтересованно.
Первый и второй вопросы рассматриваются в гл. I, тре-
тий вопрос — в гл. II и III, а четвертый — почти исключи-
тельно в гл. III.
В гл. I мы затрагиваем стандартные темы большин-
ства трудов о научной революции: несогласие ученых
раннего Нового времени с аристотелевской естествен-
ной философией, и прежде всего с различием между фи-
зикой неба и физикой Земли; опровержение геоцентрич-
ной и геостатичной модели и замена ее коперниканской
Введение 331
гелиоцентричной системой; метафорическое понима-
ние природы как механизма и введение математических
средств понимания природы и, наконец, математизация
качеств, преодолевшая прежнее противопоставление
первичных и вторичных качеств.
Во второй главе мы отходим от привычных способов
говорить о научной революции. Мы смещаем внимание
от состава знания, которое при этом трактуется просто
как продукт познания, к способам производства знания
и к вопросу о том, как именно новое знание могло одо-
бряться и сообщаться. Необходима чуткость, чтобы по-
нять, чем новое знание отличалось от старого по форме
и составу и в чем новые практики производства знания
не совпадали со старыми. Я попытаюсь дать читателю по-
нять, что знание, со всеми описанными в гл. I перемена-
ми, тщательно изготавливалось и многократно проверя-
лось и что ученые-практики не уставали спорить о том,
как обеспечить правильное научное знание. Я попытаюсь
дать динамичное и гибкое изображение науки в ее дей-
ствии: науки, которая представляла собой поиск подхо-
дящего устройства, а не статичное и безликое убеждение.
Так же динамично мы попытались воспринять науку
в последней главе, где мы описываем те задачи, которые
история поставила перед естественно-научным знани-
ем в XVII в. Естественно-научное знание не было про-
сто убеждением, оно также было ресурсом целого спек-
тра практических действий. Почему реформированная
естественная философия была признана благом челове-
чества? Почему считалось, что она может решить те во-
просы, которые не смогли решить традиционные формы
знания? Почему, наконец, на стороне новой науки высту-
пили другие тогдашние социальные институты?
Понимая, что нам пришлось отобрать для этой книги
только самое необходимое, я попытался все равно проре-
дить интерпретативные обобщения множеством детали-
зированных виньеток, посвященных частным научным
выводам и практикам. Ведь я хочу, чтобы представлен-
ная книга, при всей краткости, оставила у читателей
332 Стивен Шейпин. Научная революция
ощущение, что создание достоверного знания по-своему
драматично и что принятие выводов, которые потом
признаются самоочевидными, тоже имеет свою исто-
рию. Я не уверен в том, что мне удалось успешно выпол-
нить свою задачу и что я достиг своей цели, когда привел
такую россыпь примеров. Надеюсь только, что эти част-
ности побудят читателя заглянуть в прошлое, а не проне-
стись над ним на высоте своего опыта. Новая наука была
не простой системой взглядов: ее нужно было изготав-
ливать и смотреть, как она войдет в употребление. А по-
жалуй, ничто так не утешает историка, как возможность
представить историю живой, одушевив книгу и своими
неожиданными находками.
Глава I
ЧТО БЫЛО ИЗВЕСТНО?
1. Цель знания и природа природы
Где-то в конце 1610 — начале 1611 г. итальянский мате-
матик и философ природы Галилео Галилей (1564-1642)
направил только что изобретенный телескоп на Солнце
и заметил темные пятна на его поверхности. Галилей со-
общил, что эти пятна имели асимметричную форму и каж-
дый день их число и интенсивность изменялись (рис. 1).
Более того, они не закреплялись на одном месте, но двига-
лись с запада на восток по всей площади Солнца. Галилей
признался, что не знает, из чего именно состоят эти пятна:
это могут быть физические свойства солнечной поверх-
ности, может быть, это нечто, похожее на земные облака,
а быть может, это «испарения, происходящие от Земли и
достигающие Солнца». Но, во всяком случае, если совре-
менники считали, что «пятна» были малыми планетами,
огибающими Солнце на небольшом от него расстоянии,
то Галилей был уверен, поскольку основывался на подсче-
тах средствами математической оптики, что пятна «не по-
казывают никакого расстояния от поверхности Солнца,
но напрямую сопряжены с ним или лее отстоят на такое
расстояние, которое мы с Земли воспринять не можем».
Серьезным вызовом всему устройству традиционной
натуральной философии было не само наблюдение Га-
лилея о наличии солнечных пятен, но его собственная
интерпретация этих пятен. Ведь, согласно классической
науке, основы которой были заложены Аристотелем
334 Стивен Шейпин. Научная революция
Рис. 1. Наблюдения Галилея над пятнами на Солнце 26 июня 1612 г.
Источник: Galileo Galilei, Istoria е dimonstrazioni
intorno alle macchie solari... (Roma, 1613)
(384-322 до н.э.), а частности развиты философами Сред-
них веков и Ренессанса1, принципы земной физики отли-
чаются от принципов небесной физики. Своими новатор-
скими замечаниями, а также целым рядом наблюдений и
теоретических выводов, Галилей поставил под сомнение
это освященное многовековым употреблением разли-
чие. Правоверные мыслители, начиная от Античности
и вплоть до времени Галилея, декларировали, что при-
рода вокруг нас и движение небесных тел — это совер-
шенно разные области, подчиненные разному порядку
1 Схоластика представляла собой форму средневековой фило-
софии, во многом обязанную деятельности св. Фомы Аквинского
(ок. 1225-1274), которая и преподавалась в средневековых универси-
тетах, часто именовавшихся «школами». Поэтому приверженцев схо-
ластики мы позволим себе иногда называть «школярами».
Глава I. Что было известно? 335
событий. Ведь Земля, как и вся совокупность подлунных
явлений, может меняться и кроме расцвета знает увяда-
ние. А небесные тела, звезды и планеты, повинуются со-
вершенно иным физическим принципам, чем прямое и
прерывистое движение обыденности. Они не знают ни
перемен, ни стыда несовершенства. Небесные тела дви-
жутся, не встречая никаких препятствий, описывая со-
вершенные круги, и их круговое движение может быть
названо каноном вообще кругового измерения. Именно
по этой причине мышление старого стиля помещало ко-
меты либо в земную атмосферу, либо, во всяком случае,
в подлунную — их беззаконное движение, разрушающее
представление о законах небесных тел, явно не могло
принадлежать достоинству небесных вещей. Все, что
подтверждает изменчивость неба, было вполне известно
во времена Галилея, но просто наблюдение над явлени-
ями осознавалось исключительно как вызов стройной
и гармоничной аристотелевской геометрии светил.
В рамках правоверной космологии на Солнце не мог-
ло быть пятен: ведь пятна засвидетельствовали бы по-
рок самого идеального начала космоса. Галилей решился
отступить от этой априорной аргументации, отрекся от
традиционных верований и отказался признавать, что
Солнце в силу своего статуса совершенно и неизменно
и поэтому нельзя разглядывать пятна на солнечной по-
верхности. Галилей приводит аргументы против ари-
стотеликов, доказывая, что отвлеченное представление
о совершенстве Солнца нельзя превращать в частность
физического аргумента. Напротив, мы должны обратить-
ся к полученным в обсерватории выводам, что пятна на
поверхности Солнца — это то же самое несовершенство
на небесах, что мы встречаем на Земле:
Не нужно даже обсуждать довод... о невероятности на-
хождения темных пятен на Солнце по причине того, что
Солнце — самое яркое из существующих во Вселенной тел.
Пока люди вынуждены будут называть Солнце «самым чи-
стым и самым светлым», нам не разрешат замечать на нем
336 Стивен Шейпин. Научная революция
никаких теней и нечистот, но теперь само наблюдение по-
казывает нам, что Солнце частично нечистое и запятнан-
ное, и, значит, единственное, что нам остается, — назвать
его «пятнистым и нечистым». Имена и атрибуты нужно
подбирать согласно вещам, но не следует приноравливать
сущность к именам, потому что вещи возникли сначала,
а имена — после.
Итак, Галилей учредил новый способ мыслить о есте-
ственном мире, дав гарантии всем, кто хочет приобрести
об этом мире надлежащее знание. Галилей восстал про-
тив традиционно принимаемого убеждения, что строе-
ние природы никогда не может измениться (на совре-
менном философском языке это должно быть названо:
«фундаментальная структура природы»), и стал доказы-
вать, что принятое всеми учение не должно направлять
аргументацию в области физики, но, напротив, обязано
добровольно подчиниться открытиям внимательных на-
блюдателей и математически просчитанным доводам2.
Пока в центре внимания находились растущие возмож-
ности человеческого знания, позиция Галилея выглядела
глубоко оптимистичной. Как и многие другие авторы,
атаковавшие привычную науку в конце XVI — начале
XVII в., Галилей заявлял, что естественное знание нель-
зя делить на два не перемежающихся между собой рода
и тем более присваивать каждое добытое знание какой-
то из природных областей: есть только одно знание,
и оно объемлет всю Вселенную. Более того, настаивая на
уподоблении друг другу небесных и земных тел, Галилей
2 Правдивость и авторитетность наблюдений Галилея, получен-
ных посредством телескопа (мы говорим как о положении Луны и
планет, так и о явлении солнечных пятен), не были подтверждены не-
медленно и без всяких условий тогдашними специалистами-эксперта-
ми. Это были сущностные проблемы убеждения, которые философам
приходилось решать в том смысле, что, например, наблюдаемые ими
явления не были иллюзиями, порожденными телескопом. В следу-
ющей главе мы постараемся раскрыть некоторые из этих предпо-
ложений, как и проблемы, связанные с общественным одобрением
наблюдений, выполненных индивидами в частном порядке.
Глава I. Что было известно? 331
внушал читателям, что изучение свойств и движения
обычных земных тел может помочь пониманию универ-
сальных свойств природы. Ученый вовсе не имел в виду,
что несовершенство и изменчивость земных вещей нуж-
но щедрой пригоршней перенести на небесные явления;
ведь естественные философы раннего Нового времени
также говорили, что и земные эффекты, искусственно
произведенные человеческими существами, могут с пол-
ным правом засчитываться как примеры того, как все об-
стоит на самом деле. Так, скажем, движение пушечного
ядра может стать моделью движения Венеры.
Оптимистическое восприятие возможной цели чело-
веческого знания подогревалось вниманием к тем новым
природным объектам, которые все чаще попадали в поле
зрения европейцев. Когда Гамлет сказал Горацио, что «на
земле и на небе есть многое, что даже не снилось вашей
философии», он выражал чувства естественных фило-
софов раннего Нового времени, которые не уставали за
это нападать на древнюю науку. Традиционный список
вещей, существовавших в мире, устаревал так быстро,
что его неприлично уже было предъявлять. Почему же
мы тогда должны блюсти проведенные в Античности гра-
ницы фактического знания? Каждый день открывались
новые явления, о которых не встретишь упоминания
в античных текстах. Путешественники в края Нового
Света привозили обратно на своих кораблях растения,
животных и минералы, о которых европейцы и слыхом
не слыхивали, и рассказывали изумленным слушателям
об еще большем числе прежде не виданных явлений.
Сэр Уолтер Рэли делал выпад против скептиков-домосе-
дов: «Можно увидеть в мире страннейшие вещи, чем те,
что обретаются между Лондоном и Стенсом»3. С начала
3 Стене (Staines) — село в 20 милях вверх по Темзе от центра Лон-
дона, недалеко от нынешнего аэропорта Хитроу. Как показывают не-
давние исторические исследования, освоение европейцами Нового
Света было в значительной степени опосредовано длительной лите-
ратурной традицией, которая и задавала ожидания — какой должна
быть земная реальность.
г DE "VEBJJLAMIO /
Рис. 2. Фронтиспис книги Фрэнсиса Бэкона
«Великое восстановление наук» (Лондон, 1620)
Глава I. Что было известно? 339
XVII в. наблюдатели через стекло телескопов и микро-
скопов прозревали, по их заявлениям, новые границы
для чувств, прежде не вооруженных, и говорили, что
проверенные инструменты откроют еще больше удиви-
тельных и прежде неведомых вещей. Новые или видоиз-
мененные интеллектуальные практики пробивались и
в естественной истории, и в историографии человече-
ских дел и требовали знать подробно о тех вещах, о ко-
торых прежде не свидетельствовал никто из живущих.
Только что открытые объекты создавали непреодоли-
мые трудности для существующих философских систем
и, несомненно, подрывали доверие к укорененным в
традиции ученым-теоретикам. Кто теперь мог с уверен-
ностью сказать, что существует в мире, а чего в нем не
существует, если завтра может быть открыто то, о чем
и мечтать не могли люди, не знавшие ни далеких краев,
ни находящегося прямо рядом с ними микромира.
В 1620 г. английский философ сэр Фрэнсис Бэкон
(1561-1626) опубликовал книгу «Великое восстановле-
ние наук». Оглавление обещало восстановление автори-
тетного античного знания, но на титульном листе было
дано одно из самых замечательных иконографических
утверждений нового, прежде небывалого знания. Изо-
браженные на гравюрах корабли предвещали непремен-
ное расширение знания, радостное открытие его новых
возможностей уже завтра (рис. 2). Корабль, как мы видим,
проплыл через Геркулесовы столпы, то есть вышел за
пределы Гибралтарского пролива, который символизи-
ровал во многих книгах границы человеческого знания.
Ниже выгравировано пророчество из библейской Кни-
ги Даниила: «Многие пойдут дальше, и увеличится зна-
ние», далее Бэкон объяснял, что современный мир стал
зрителем исполнения этого библейского пророчества:
«Раздвижение границ мира Навигацией и Коммерцией и
последующее открытие знания встретятся в одно время
и в едином месте». Традиционная формула границ чело-
веческого знания, пес plus ultra, ни шагу вперед, была вы-
теснена другой, новой формулой, plus ultra, все дальше
340 Стивен Шейпин. Научная революция
и дальше. Обновление естественно-научного знания шло
прямо за географией, за увеличением знаний о мире на
земном шаре. Ученые-практики брали только что откры-
тые объекты и явления и, держа их в руках, уже не могли
мириться с дедовскими философскими схемами.
2. Как был поколеблен
антропоцентрический универсум
Исследования Галилея по астрономии и физике,
предпринятые в начале XVII в., по большей части долж-
ны были удостоверить ту физическую модель космоса,
о которой впервые в печати заявил в 1543 г. польский
каноник Николай Коперник (1473-1543) (рис. 3). До се-
редины XVI в. ни один из ученых на латинском Западе
не исследовал серьезно и систематически вопрос о том,
насколько правдива система Клавдия Птолемея (ок. 100-
170), в которой неподвижная Земля находилась в центре
всей Вселенной, а планеты, в их числе Луна и Солнце,
вращались вокруг Земли по идеальным круговым орби-
там: ровность орбит и регулярность вращения обеспечи-
валась тем, что планеты были закреплены на физически
реальных сферах (рис. 4). За этими сферами находилось
небо неподвижных звезд, а уже за звездами та последняя
сфера, вращение которой вызывало круговое вращение
всего этого большого небесного механизма.
Геоцентрическая система Птолемея вобрала в себя
воззрения древнегреческих философов на природу мате-
рии. Каждый из четырех «элементов» (земля, вода, воз-
дух, огонь) имеет свое «естественное место» и покоится
тогда, когда находится на своем месте. Конечно, все тела,
которые мы находим на Земле, не представляют собой
чистые элементы, но они земные, потому что земли в них
больше, чем других элементов. Также можно сказать, что
и воздух, которым мы дышим, не чистый элемент воздуха,
но материальная вещь, в которой воздуха гораздо боль-
ше, чем земли, огня и воды, вместе взятых, и т.д. Земля
Глава I. Что было известно? 341
irV> А ре: fit defcription of ehe Corlcftiall Orbes»
A.cordtng tu theю&атшш dtffrmt tftbe
Рис. 3. Коперниканская система в изображении английского
математика Томаса Дайджса (ок. 1546-1595). Дайджс изобразил
систему Коперника как часть физически беспредельного универсума,
в котором звезды разбросаны по всему этому бескрайнему
пространству. Источник: Digges Th. A Perfit Description
of the Caelestiall Orbes (1576)
и вода — тяжелые элементы, поэтому они принимают со-
стояние покоя только тогда, когда оказываются в центре
мира. Воздух и огонь, напротив, воспаряют, и их подлин-
ное место — быть над землей. Почему же небесные тела
кружатся, не меняя ни своего состава, ни своей орбиты?
342 Стивен Шейпин. Научная революция
Рис. 4. Космос Птолемея в изображении знаменитого
немецко-польского астронома Иоанна Гевелия (1611-1687).
Источник: HeveliusJ. Selenographia (1647)
Потому что они все, и Солнце, и планеты, и звезды,
созданы из пятого элемента, называемого по-гречески
эфиром, а по-латыни квинтэссенцией (букв, «пятой сущ-
ностью»), — это особый вид материи, который не знает
порчи (по Аристотелю, «уничтожения») и, значит, во
всем подчиняется другим физическим принципам, чем
первые четыре элемента. Если Земля будет продолжать
падать, пока не достигнет центра универсума, а воздух
или огонь будут рваться вверх, то небеса и небесные тела
будут вовеки двигаться по совершенным кругам, потому
что они сделаны из совершенной и неизменной материи.
Глава I. Что было известно? 343
Итак, мир весь кружится вокруг Земли, на которой
живут люди, и поэтому Докоперникова космология
должна быть названа антропоцентрической в самом бук-
вальном смысле. Конечно, при этом не считалось, что
центральное положение во Вселенной непременно при-
бавляет людям добродетели. Но тем не менее все люди,
вместе с ближайшей к ним вещественной реальностью,
признавались уникальным созданием библейского Бога,
точно так же как и небеса. Поэтому можно было прове-
сти параллель между земным существованием и небес-
ным: при этом земное существование признавалось несо-
вершенным и жалким, а в центре Земли полагался ад, как
итог грехопадения. В конце XVI в. французский эссеист,
философ-скептик Мишель де Монтень (1533-1592), впол-
не разделявший космологию Птолемея, описывал место,
где обитают люди, как «грязный двор и сточную канаву
мира, худшую, нижайшую, самую безжизненную часть
мира— подвал большого здания мира». И даже в 1640 г.
один английский сторонник коперниканства признавал,
что сильным доводом против гелиоцентризма является
«убожество нашей Земли, состоящей из самой тяжелой
и грязной материи, какая только есть во Вселенной; по-
чему Земля и должна располагаться в центре, как можно
дальше от чистых и невинных небесных тел». Более того,
после первородного греха Адама и Евы и изгнания их из
Эдема сами чувства человека замутнены, и поэтому воз-
можности человеческого знания понимались крайне сла-
быми и ограниченными. Итак, с одной стороны, тради-
ционное сознание рассматривало мир, в котором люди
живут смертной жизнью, он же мир в центре универсу-
ма, как самый изменчивый и несовершенный, а с другой
стороны, соглашалось с мыслью об ограниченности того
знания, которого человек может достичь, какие бы цели
он себе ни ставил.
Исследователи естественной философии конца XVI-
XVII вв., усвоившие и развившие воззрения Коперника,
атаковали такой антропоцентризм в самом его корне. Зем-
ля уже не была центром мира. Подброшенная в неведомые
344 Стивен Шейпин. Научная революция
выси, она превратилась в одну из планет, вращающихся
вокруг Солнца, и антропоцентризм в его буквальном фи-
зическом смысле оказался вчерашним днем4. Обыденный
человеческий опыт подсказывает, что мы живем на не-
подвижной платформе, которую изо дня в день обходит
Солнце и звездное небо, также совершающие и особый
годовой цикл движений, — и этот опыт был гласно от-
вергнут. В то время как общее разумение высказывается
за неподвижность Земли, астрономия возвещает нам не
просто ее движение, но движение двойное: вокруг своей
оси в течение дня и вокруг статичного теперь Солнца в
течение года5. Опыт всего человечества был отождест-
влен с простой «кажимостью». Простым людям казалось,
что если бы Земля двигалась, то ветер сорвал бы шляпы
со всех людей, а камень, брошенный вертикально вверх,
падал бы уже не туда, откуда был брошен, потому что Зем-
ля успела бы за время полета камня повернуться. А значит,
нужно было создавать новую физику, которая не привяза-
на к повседневному опыту и потому может объяснять все
4 Но в другом, весьма важном смысле антропоцентризм сохра-
нялся параллельно с развитием новой науки в XVII в. Как мы покажем
ниже (гл. III), механистические концепции природы упорно настаи-
вали на уникальном положении человеческих существ в сотворенной
природе — все «нечеловеческие» части большого механизма понима-
лись как специально приспособленные, по вышнему велению, для
жизни и деятельности людей. Такого рода антропоцентризм оставал-
ся магистральной линией науки до распространения дарвинизма уже
во второй половине XIX в.
5 На самом деле Коперник утверждал, что существует и третье
движение Земли — очень медленное коническое «качание» земной
оси, которое необходимо учитывать, чтобы понять те едва заметные,
но при этом видимые изменения положения звезд за тысячи лет. Так-
же, если мы хотим соблюсти всю правду, рассказывая об астрономии
эпохи научной революции, мы должны упомянуть и попытку компро-
мисса между системами Птолемея и Коперника, предложенного са-
мым успешным астрономом-наблюдателем конца XVI в., датчанином
Тихо Браге (1546-1601). В системе Тихо Браге планеты кружатся во-
круг Солнца, но Солнце вращается вокруг неподвижной Земли, об-
разующей центр всей этой сложной конструкции. Поэтому для боль-
шинства ведущих последователей Коперника предметом спора была
уже не древняя система Птолемея, а система Тихо Браге, поддержи-
ваемая в том числе ведущими исследователями из ордена иезуитов.
Глава I. Что было известно? 345
наблюдаемые процессы с учетом вращения Земли. Земля
перестала занимать уникальную позицию во Вселенной.
Некоторые коперниканцы даже осмеливались думать, что
если Земля в мире не одна, то может существовать сколь-
ко угодно обитаемых миров, в которых тоже живут люди.
В 1638 г. английский математик Джон Уилкинс (1614—
1672) опубликовал трактат «Доказательство вероятности
существования другого обитаемого мира» — он предполо-
жил, что таким обитаемым миром является Луна.
И если общее мнение людей склоняется к тому, что
Земля покрыта как куполом небом, испещренным блиста-
ющими звездами, то астрономы раннего Нового времени
невероятно раздвинули пределы космоса. Когда Галилей
повернул свой телескоп в сторону звезд, он увидел много
большее их количество, чем то, что наблюдалось нево-
оруженным глазом. Так, к трем ранее известным звездам
пояса Ориона Галилей добавил еще восемьдесят (рис. 5).
Некоторые звезды с размытыми контурами оказались
скоплениями звезд — малыми Млечными Путями. Галилей
также заметил, что, в отличие от Луны и планет, звезды
при рассмотрении в телескоп почти не увеличиваются.
Из этого Галилей сделал закономерный вывод, что звез-
ды находятся от нас на расстоянии несопоставимо боль-
шем, чем планеты, и мы видим только их свет, а не форму.
В подкрепление своей мысли он сослался на остроумное
замечание Коперника, что об отдаленности от нас звезд
позволяет судить отсутствие видимого параллакса, кото-
рый иначе бы наблюдался в разные времена года6. Пате-
тическое открытие Галилеем лун Юпитера должно было
стать сильным доводом в пользу системы Коперника:
Земля лишилась теперь и привилегии иметь спутник.
6 Параллакс — изменение угла при взгляде на предмет с другой по-
зиции. Годовой параллакс (угол при рассмотрении с двух противопо-
ложных концов орбиты Земли, например, при зимнем и летнем солн-
цестоянии) для близкого небесного тела должен быть ощутим, тогда
как для отдаленного объекта он будет мал и незаметен без специаль-
ных приборов. Коперник и его современники не могли, не располагая
никакими приборами, обнаружить параллакс для звезд на небосводе.
*1~
StAUrum mtaniiuttw
» * S « / fr« #«•*•«
Рис. 5. «Множество малых звезд, которые можно разглядеть
в телескоп». Иллюстрация вошла в книгу «Микрография» (1665)
английского ученого-экспериментатора Роберта Гука (1635-1703).
Невооруженным глазом на этом участке неба можно увидеть только
семь звезд созвездия Плеяд. Первый, еще несовершенный телескоп
Галилея позволил различить 36 звезд. Гук, как мы видим на этой
иллюстрации, смог разглядеть в свой телескоп, с длиной трубы
больше 3,5 м, 78 звезд и определить их величины, приведенные
на шкале в левом нижнем углу. Такие иллюстрации доказывали,
что зрение, вооруженное линзой, будет становиться все мощнее;
Гук даже выражал надежду, что «с помощью еще большего
увеличения через стекло... можно будет открыть множество
других мелких звезд, пока еще невидимых»
Глава I. Что было известно? 34 7
Традиционная астрономия представляла мир как
ограниченную систему: всякая небесная сфера без откло-
нений вращалась вокруг статической Земли, и «небеса»,
сфера звезд, совершали тоже один оборот за двадцать
четыре часа. В этой системе звезды не могли быть беско-
нечно далеко, иначе сфера звезд должна была двигаться
бесконечно быстро, а это было абсурдом с точки зрения
аристотелевской физики. Коперник, напротив, считал,
что звезды занимают каждая свое собственное место в
пространстве, и, хотя Коперник утверждал только то, что
звезды гораздо дальше от Земли, чем то думали раньше,
уже не было никаких физических оснований думать, по-
чему не может быть звезд еще дальше и звезд, бесконечно
удаленных от Земли. Некоторые более поздние защитни-
ки системы Коперника всерьез утверждали, что сфера
звезд «на бесконечном расстоянии утверждена над нами».
Итак, хотя идея бесконечного мира была высказана еще
в Античности и хотя уже среди первых коперниканцев
были заинтересованные приверженцы этой идеи, только
в XVI и особенно в XVII в. европейская культура вобрала в
себя эту идею, столь потрясшую прежние надежные осно-
вания общего опыта. Человечество оказалось песчинкой
в универсуме, размеры которого нельзя даже вообразить,
не то что осмыслить. И хотя многие профессиональные
астрономы не чувствовали никакой тревоги при словах
«бесконечный космос» (а некоторые даже воспаряли ду-
хом при слухе о таком возвышенном величии), более ши-
рокие круги образованных людей пережили это научное
открытие как мировоззренческий сдвиг. Когда старое
космологическое знание уже не работало, а новое грози-
ло только бесконечностью изучаемого мира и помещало
Землю неизвестно куда и неизвестно зачем, то это каза-
лось чудовищным актом. Как писал об этом в 1611 г. вели-
кий поэт и клирик Англиканской церкви Джон Донн:
Лжефилософия все ставит под сомненье:
И элемент Огня в пренебреженьи,
Исчезло Солнце, а к Земле пути
348 Стивен Шейпин. Научная революция
Не может сотня мудрецов найти.
Опор в пустом пространстве больше нет,
Поверим же, что множество планет
Откроют нам все множество новинок,
Что будет их как по числу песчинок,
Тех древних «атомов», слагающихся грудой, —
Все относительно, случайно все, покуда.
И несколько позднее во Франции математик и фило-
соф Блез Паскаль (1623-1662) красноречиво заявил о
том, как надолго обескураживает человека идея беско-
нечных пространств: «Вечное молчание этих бесконеч-
ных пространств пугает меня»7.
Новая философия атаковала здравый смысл как на
уровне земных событий, так и на уровне космического
устроения. Сравним понятие движения в аристотелев-
ской и в новой физике. Для Аристотеля, как и для его
средневековых последователей, все элементы, земля,
вода, воздух и огонь, имеют свое естественное движе-
ние, то есть укорененный в их природе способ двигать-
ся. Как мы уже говорили, естественное движение земли
как элемента — опускаться по отвесной линии к центру
Земли: такой элемент будет двигаться до тех пор, пока
другие земные вещи ему не помешают, остановив его или
направив иначе. Естественное движение — это то, кото-
рое стремит вещь в естественное ей место. Аристотель,
конечно, знал, что вещи движутся обычно не по прямой,
и поэтому называл наблюдаемые движения насильствен-
ными: они происходят вопреки природе тела и потому
должны быть приписаны действию внешних тел. Ска-
жем, камень, который мы бросили вверх, будет стремить-
ся естественным образом вниз, но направление его дви-
жения мы задаем начальным толчком. И те движения,
к которым тело было принуждено искусственно, ничего
не могут сказать нам о движениях от природы.
7 Конечно, Паскаль имел в виду не чисто философскую рецеп-
цию идеи бесконечности, а те страшные выводы, которые из нее мог-
ли сделать вольнодумцы.
Глава I. Что было известно? 349
Итак, в изображении Аристотеля и его последовате-
лей всякое естественное движение представляет собой
раскрытие свойства вещи двигаться. Тела двигаются не в
силу внешнего импульса, а потому, что такова их приро-
да: они должны отвечать своей природе и поэтому пре-
образуют свое потенциальное движение в актуальное
и стремятся к тому месту, которое отвела им природа.
Физика Аристотеля в этом отношении была построена
по модели биологии: для объяснения в ней применялись
категории, взятые из мира наблюдений над живыми су-
ществами. Так же как превращение теленка во взросло-
го быка понималось как превращение его потенциала в
действительную взрослость, так и падение оставленно-
го без поддержки камня выглядело как актуализация его
потенциала быть таким, как велела ему природа, как в
истинном смысле реализация его природы. Очевидно,
что в таком традиционном понимании естественного
движения отзывается строение (texture) человеческого
опыта. С точки зрения богословия каждый человек име-
ет цель и учитывает ее в своем движении. Почему пастух
возвращается в свое жилище? Потому что у него есть на-
мерение оказаться именно здесь, он этого желает. Поче-
му языки пламени взвеваются над костром? Потому что
они желают тоже оказаться в своем естественном месте.
В этом понимании традиционная физика и на заре на-
учной революции была человекосоразмерна. Те катего-
рии, которые употреблялись для описания камнепада,
легко накладывались на категории, описывающие наше
движение. У нас возникает искушение, пренебрегая
историей и точностью определений, описать эти тра-
диционные взгляды как «анимистические», то есть при-
писывающие психологические качества естественным
объектам и процессам8.
8 Историки, понимая недопустимость разговоров об анимизме
в связи со средневековой философией, считают такие убеждения образ-
цово «гилозоистскими», в буквальном переводе с греческого, приписы-
вающими жизнь (одушевленность) мертвой материи. Но понимание
аристотелевской природы как очеловеченной и психологизированной
350 Стивен Шейпин. Научная революция
Такая телеология традиционной физики, изображе-
ние природы едва ли не как живого существа, позволила
естественным философам раннего Нового времени ока-
рикатурить ее и заявить о ее абсурдности и нерациональ-
ности. Физика, которая столетиями гордилась тем, что
отвечает интуициям здравого смысла, теперь оказалась
скопищем человеческих заблуждений. Уже одно указание
на телеологический характер натурфилософии Аристо-
теля звучало как разгромная ее критика. Так, английский
философ Томас Гоббс (1588-1679) был только одним из
многих критиков аристотелизма в XVII в., который вы-
смеивал утверждения Аристотеля за антропоморфизм, за
уподобление всего видимого и сущего в огромном мире
узкой делянке человеческого опыта. Пускай аристотели-
ки говорят, что тела падают по причине их чрезмерной
тяжести, «но спросишь их, что разумеют они под тяже-
стью, они определят ее как устремленность (endeavour)
к центру Земли. Итак, причина вещи падать или тонуть —
это ее устремленность оказаться ниже. Но это все равно
что говорить, что тела берут и сами спускаются или сами
поднимаются. ...Как будто у камней и металлов есть жела-
ние, или как будто они могут разглядеть то место, в кото-
ром хотят оказаться, как делают это люди».
3. Машина природы
Концептуальная рамка, которую натурфилософы
раннего Нового времени предпочли телеологии Аристо-
теля, — это моделирование природы по образу машины.
Машина была главной метафорой, задававшей все линии
объяснения в новой науке, так что многие ее представи-
тели даже называли собственное дело «механистической
во многом обязано оппонентам аристотелизма в XVII в., которые в
пылу полемики придумали такую публицистическую характеристику.
Ведь Аристотель считал различие между природным и человеческим
мирами принципиальным: если человек имеет ум и волю, то о приро-
де нельзя сказать, что она принимает свободные волевые решения.
Глава I. Что было известно? 351
философией». Ученые-практики раннего Нового времени
обсуждали природу и границы механических объяснений,
но механический учет природных свойств признавался
всеми как цель и заслуга естественных наук. Сама идея кон-
струирования природы как механизма и использования
схем, взятых из мира машин, для объяснения физических
структур нарушала одно из основополагающих правил
философии Аристотеля. Это правило: строгое и разбор-
чивое разведение «естественного» и «искусственного».
Конечно, и в греческой, и в римской мысли встреча-
лось представление о природе как о «художнике»: осо-
бенно яркое выражение оно нашло... в «Физике» Аристо-
теля. Природа руководствуется своим планом точно так
же, как архитектор при строительстве дома или кузнец
при изготовлении щита: она намеренно выполняет зара-
нее намеченный план. И дело природы, и дело человека
могут рассматриваться как искусство (греч. technikon,
лат. artifîcium), и поэтому их нетрудно сравнить. Исходя
из этого сравнения, древнегреческие мыслители говори-
ли, что искусство (в которое входили все ремесленные
и технологические навыки) подражает природе. Чело-
веческое искусство может дополнять, улучшать или из-
менять природу (как в случае сельского хозяйства) или
же может бережливо имитировать природу— именно
так действует швец и ткач, делая на других материалах
то же дело, что и паук. Иные античные философы даже
говорили, что поварское искусство имитирует работу
Солнца, а изготовление машин и механизмов вызвано
наблюдением над вращениями небесного механизма. Ко-
нечно, мало было бы внятности в предположении, что
произведение природы и произведение человеческо-
го искусства принадлежат одному плану бытия, — такое
предположение было отвергнуто. Природа, хотя счита-
лось, что и в ней могут быть изъяны, стоит несравненно
выше человеческого искусства: люди даже никогда и не
посмеют соревноваться с природой. Такое притязание
будет не только бездумным, но и безнравственным: ведь
порядок мира божественен, и притязания людей делать
352 Стивен Шейпин. Научная революция
то же, что делает божество, нечестивы. Римские авто-
ры сочиняли истории о золотом веке, когда люди жили
в счастье и довольстве, обходясь без архитекторов, тка-
чей, а может быть, даже без земледелия. Итак, естествен-
ное искусство и человеческое искусство не столько срав-
нивались, сколько противопоставлялись. Традиционная
мысль так глубоко усвоила это противопоставление, что
не могла допустить, что можно искусственными прибора-
ми исследовать и моделировать естественный порядок.
Как только механистическая философия стала понят-
на и практически осуществима, это сразу же перечеркну-
ло фундаментальное различение Аристотеля, которое
ученые Средних веков и эпохи Возрождения развивали
и отстаивали. Бэкон и другие новые ученые положили
отказ от различения природы и искусства в основу ре-
формированной естественной истории — она теперь
включала в себя и произведения человеческого ремесла.
У новых философов родилось более оптимистическое
отношение к возможностям человеческого искусства:
«Искусственное не отлично от естественного ни по фор-
ме, ни по существу (essence)... если вещи выстроены опре-
деленным образом, чтобы произвести определенный эф-
фект, не важно, сделала это природа или человеческое
искусство». Предложенная Бэконом культура ощущений
была интимно усвоена механистическими философами
XVII в. Так, французский атомист Пьер Гассенди (1592-
1655) писал, что, «рассматривая природные вещи, мы
исследуем их тем же способом, каким исследуем и вещи,
созданные нами самими». А его современник, великий
философ Рене Декарт (1596-1650), напрямую заявлял:
«Нет никакого различия между машинами, построенны-
ми мастерами, и различными телами, которые создала
сама по себе природа». Единственное отличие состоит
в том, что созданные человеком машины соразмерны
рукам создателей, тогда как машины, вызывающие при-
родные эффекты, могут быть настолько мелкими, что
они недоступны человеческому зрению. «Несомненно, —
писал Декарт, — в механике нет таких правил, которые
Глава I. Что было известно? 353
не могли бы быть приняты в физике. Механика является
частью или особым случаем физики, потому что все ис-
кусственное не в меньшей степени природно. Поэтому
механика естественно подходит и к часам, сделанным из
известного количества колесиков для указания времени,
и к дереву, которое произрастает из семени, для прине-
сения какого-то определенного плода». Жар солнца мож-
но с полным основанием сравнить с огнем на земле; если
алхимики произведут золото, оно ничем не будет отли-
чаться от находящегося в земле; физическое понимание
машин, созданных человеческими руками, таково же, как
и понимание небесных движений. Как мы увидим, при-
чины всех чувственно воспринимаемых естественных
эффектов могут быть объяснены как проистекающие
из действий «микромашин». В XVII в. было широко рас-
пространено ощущение, что люди могут надежным обра-
зом знать только то, что они сами соорудили руками или
расписали как чертеж в уме.
Из всех механических конструкций, которые по сво-
им техническим характеристикам могли бы послужить
моделью естественного мира, предпочтение отдавалось
часам, хотя философы этого времени приводили в при-
мер и другие механизмы. Метафора часов как объясне-
ние природы через культуру позволяет хотя бы в общих
чертах понять, чем была механистическая философия,
вышедшая на лидирующие позиции в период научной
революции. Механические часы появились в Европе в
конце XIII в., а к середине XIV в. механические часы с тя-
желыми гирями стали необходимым украшением любого
большого города. Обычно часовой механизм был виден
любому желающему, зашедшему под своды часовой баш-
ни, а значит, легко можно было проследить связь между
движением стрелок, показывающих время, и механи-
ческими средствами, которыми это движение было до-
стигнуто. Но в XVI в. часовой механизм стали прятать
под кожухами, поэтому обычному зрителю было видно,
как движутся стрелки, но как работает часовой меха-
низм, он без особой нужды узнать не мог. Башенные часы
354 Стивен Шейпин. Научная революция
становились все более сложно устроенными, они произ-
водили уже сложный бой или даже двигали фигурки над
циферблатом, но главное то, что они все более интегри-
ровались в практическую жизнь городской общины. Так,
например, ранее на двенадцать часов делился световой
день, поэтому физическая продолжительность часа раз-
личалась и по времени года, и по географической широ-
те. Тогда как механические часы показывали везде одно и
то же время, куда бы их ни переносили, и, значит, уже не
зависели ни от естественных ритмов окружающего мира,
ни от ситуативных практик человеческой жизни. Напро-
тив, человеческая деятельность теперь регулировалась
неумолимым механизмом, и никто уже не определял вре-
мя по ритмам человеческой жизни или по окружающим
природным явлениям.
В тех слоях европейского общества, где часы, с их ре-
гулятивной функцией, стали составлять важный аспект
повседневного опыта, часы стали метафорой немысли-
мо разросшейся власти, но также и метафорой пости-
жимой сложности и закономерной последовательности
всех действий. Машина, особенно четко действующая
машина механических часов, очаровывала умы и стано-
вилась единственной настоящей метафорой для объяс-
нения всех естественных процессов — в этом сказывался
не только запоминающийся опыт использования этого
устройства, но и влияние его ритма на распорядок чело-
веческих дел, придание им нового статуса и наделения
новыми, более эффективными возможностями. Если мы
хотим понять, почему для обозначения новых научных
практик стали употребляться механистические метафо-
ры и тем самым был стерт былой рубеж между природой
и искусством, то мы должны учитывать, сколь сильно
влияли на человеческое сознание в европейском обще-
стве раннего Нового времени новый стиль жизни, новый
способ производства и новый политический порядок.
Мы сейчас даже не можем себе представить, как переход
от феодализма к раннему капитализму затронул все без
исключения стороны человеческой жизни.
Глава I. Что было известно? 355
В 1605 г. немецкий астроном Иоганн Кеплер (1571-
1630) заявил, что он отрекается от своего прежнего убеж-
дения, что «движущая причина» вращения планет — это
космическая «душа»: «Я много занимался исследованием
физических причин. При этом я ставил целью показать,
что машина мира — это не одушевленное божественное
существо, но скорее часы». В 1630-х гг. Декарт развил
целый ряд пространных причинностных аналогий меж-
ду движением механических часов и движением всех
естественных тел, не исключая и человеческого тела:
«Мы видим, что часы... и прочие машины того рода,
хотя и построены людьми, вовсе не лишены по этой
причине силы двигаться самостоятельно, каждая только
ей одной присущим образом». Почему же нельзя объяс-
нить дыхание, жестикуляции, передвижение и ощуще-
ния человека так же точно, как мы объясняем какие угод-
но движения часов, искусно сооруженного фонтана или
мельницы? В 1660-е гг. английский философ-механицист
Роберт Бойль (1627-1691) написал, что естественный
мир «как он есть — это основная часть (great piece) ча-
сового механизма». Точно так же, как во впечатляющих
часах, установленных в конце XVI в. в Страсбургском со-
боре (рис. 6), механические движущиеся части воспро-
изводили в подробностях движение геоцентрического
космоса, точно так же Бойль, Декарт и все остальные
философы-механицисты одобряли метафору часов как
лучшее средство философу понять, из чего состоит есте-
ственный мир и как он, что называется, работает. Бойль
считал аналогию между миром и часами наподобие
страсбургских исчерпывающей и продуктивной: «Все от-
дельные части в этой любопытной махине так доведены
и подлажены и так расположены в движении, что благо-
даря ограниченному числу колес и других устройств она
движется несколькими способами, и причем без всяких
вложений в нее, кроме знания и разработки (design):
каждая часть играет свою роль (each part performs its
part) ради тех результатов, для которых она и была раз-
мещена, и так благодаря регулярности и единообразию,
Рис. 6. Часы кафедрального собора в Страсбурге. По сообщению
Бойля, сборка новых соборных часов была завершена в 1574 г.
На этой иллюстрации показаны часы по реконструкции 1875 г. Часы
показывают не только суточное время, но также солнечные и лунные
циклы, эклиптики и другие закономерности. Автомат наверху —
петух, который кричит каждый день трижды, в напоминание о грехе
св. Петра. Источник: Scientific American, 10 April 1875
Глава I. Что было известно? 351
доступным нашему пониманию, махина и выполняет
свою работу».
Широкий набор свойств механических часов изум-
лял многих философов-механицистов XVII в., которые
находили здесь источник многих метафор, полезных
для понимания природы. Прежде всего механические
часы представляли собой сложно устроенное изделие,
разработанное и сооруженное людьми для того, чтобы
оно выполняло назначенные ему функции. Хотя сами по
себе часы не одушевлены, они справляются со сложны-
ми заданиями не хуже людей. Если бы мы не знали о су-
ществовании разумного часовщика, который по данным
своего ума произвел часы на свет, можно было бы пред-
положить, что часы существовали всегда как самая умная
и целесообразная вещь в мире. Автоматы, то есть маши-
ны, которые весьма точно имитировали движения жи-
вотных и людей, как раз тогда получили распростране-
ние и тоже впечатляли многих философов-механицистов
(см. рис. 6 — механический петух). Такие умело проду-
манные машины вводили в заблуждение наивных зрите-
лей — они думали, что видят перед собой нечто живое и
одушевленное — и такое заблуждение зрителей только
подкрепляло универсальность механистической мета-
форы. Но любой знающий человек понимал, что часы и
автоматы не обладают собственным разумом. Итак, часы
и подобные механические устройства смогли составить
убедительную альтернативу философским системам, ко-
торые объясняли все действия природы ее внутренней
разумностью и телеологией. Машины не имели собствен-
ных целей, они только выполняли те цели, которые на-
значили им люди, и такое сходство-несходство и обу-
словило частое обращение к машинам для объяснения
природы. Можно было разглядеть сложное устройство и
целесообразность в природе, не приписывая ни замыс-
ла, ни цели материальной природе. Напротив, подраз-
умевалось, что существует разумный Создатель, который
находится в таких же отношениях к природе, как часов-
щики к своим часам. Как мы увидим в гл. III, главное было
358 Стивен Шейпин. Научная революция
не смешивать неодушевленный продукт понимания с са-
мим пониманием.
Часы служили также образцом единообразия и ре-
гулярности движений. Когда философы стали рассма-
тривать естественный мир как систему упорядоченных
движений, тогда и механические часы превратились
в идеальную модель механического воспроизводства
естественных регулярных движений. Существование ма-
шины предопределяется заранее: мастера знают, какие
материалы использовать, что и как в ней должно дви-
гаться и как нужно ее отладить, чтобы она работала как
надо. Иначе говоря, машина представлялась полностью
постижимой вещью: с ней нельзя было связать никакой
мистики и магии, никакой произвольности, непред-
сказуемости и капризности обстоятельств. Метафора
машины, таким образом, выкатывала, как по рельсам,
чудо прочь из мира: состоялось то, что социолог Макс
Вебер назвал в начале XX в. «расколдовыванием мира».
Машины моделировали и форму, и цель возможного че-
ловеческого знания о природе и показывали, куда нужно
направлять усилия по постижению природы. Следовало
думать о природе так, как если бы она была машиной:
постигать единообразие ее движений, а вовсе не те слу-
чайные сбои, которые иногда дают даже очень хорошо
собранные машины. Толковать природу нужно так, как
если бы она была механизмом, в котором из известных
причин происходят известные следствия. А значит, и ос-
мысление природных механизмов считалось важной
частью философии: постижение природы закладывало
основу ее философским интерпретациям.
При этом следует отметить, что в самой природе ма-
шин не заключалось ничего такого, что мешало бы видеть
в машинах загадочность. Равно как еще к эллинистиче-
скому периоду восходит традиция видеть в машине не-
что большее, чем просто сумму ее материальных частей.
Например, Бойль писал о культурном разнообразии вос-
приятия машин. Так он сообщал (вероятно, вымышлен-
ную) историю о том, как иезуиты «преподнесли часы
Глава I. Что было известно? 359
китайскому императору, который принял их за живое
существо». Бойль говорил, что, даже описывая «форму,
размер, движение всех зубчатых колес, маятников и дру-
гих частей», он «не смог бы привести довод, который бы
убедил китайского государя, что часы не наделены жиз-
нью». Механическая метафора природы означала, уже в
связи со свойством любой метафоры узаконивать парал-
лель двух вещей, что можно понимать с равным успехом
и часы как природу, и природу как часы. Метафора —
такая вещь, которая не подлежит дальнейшей проверке.
Механистический подход к природе таких фило-
софов, как Бойль и Декарт, резко контрастировал с ан-
тропоморфными и анимистическими мотивами преж-
них натурфилософов. Механистическая философия
радикально расходилась с традицией и в определении
целей и скрытых сил природы, и вообще в понимании
чувственного познания природы. Конечно, объяснять
естественные феномены механистически можно было
тысячью разных способов, всякий раз изобретая новые
рычаги и основания. Некоторые философы гордились,
что им больше других удалось разобраться в устройстве
общего механизма всей природы. Ниже мы подробно
рассмотрим, что несло с собой механистическое объяс-
нение естественных явлений, каковы были предполага-
емые пределы таких объяснений и какие области знания
казались для этих объяснений наиболее подходящими.
Несмотря на расхождения по отдельным вопросам, все
философы-механицисты XVII в. противопоставляли себя
традиции, в которой природе и отдельным ее частям
приписывалась разумная целесообразность, частное
намерение и способность чувствовать изменяющиеся
обстоятельства.
В XVII в. уже хорошо было известно, что воздушный
насос (поршневый) не может поднять воду на высо-
ту больше 10,07 м {рис. 7). Неудачи с подъемом воды на
большую высоту частично приписывались плохому каче-
ству материалов, допустим, шершавости стенок трубы,
а частично — традиционному мнению о том, что природа
Рис. 7. Подъем воды с помощью воздушного насоса Роберта Бойля.
Когда в конце 1660-х гг. впервые был поставлен этот эксперимент,
о том, что вода поднимается с помощью насоса на высоту немногим
более 10 м, было хорошо известно и философам, и инженерам.
Впервые об этом сообщил в 1640-х гг. Гаспаро Берти, который
в свою очередь вдохновлялся замечанием Галилея в его «Двух новых
науках...» (1638). Бойль стремился сам убедиться в том, что это так,
подозревая, что предыдущие аппараты были плохо отлажены и что
действие производилось недостаточно тщательно. Для простоты
наблюдения верхняя часть трубы (от полуметра до метра, точных
сведений нет) была сделана из стекла и прикреплена цементным
раствором к основной металлической трубе. Насос Бойля
позволил поднять воду на высоту 10,2 м. Здание, изображенное
на иллюстрации, вероятно, стояло рядом с домом самого Бойля
на Пэлл-Мэлл. Источник: Boyle К Continuation of New Experiments
Physicomechanical Touching the Spring and Weight of the Air (1669)
Глава I. Что было известно? 361
боится пустоты9. То, что вообще воздушный насос мо-
жет поднимать воду на высоту, обычно объяснялось тем,
что вода боится пустоты и потому устремляется к верху,
чтобы не дать пустоте возникнуть под поршнем. Тогда
предельная высота водяного столба была числовым по-
казателем силы этой «боязни». Можно сказать, поршне-
вый насос служил боязнеметром, и объяснение хорошо
известного и важного в практической жизни эффекта
сводилось к приписыванию воде психологических харак-
теристик, связанных со стремлением к цели. Причем эти
характеристики были качественными и, таким образом,
подлежали измерению.
Вопрос о работе воздушного насоса проложит рубеж
между старой и новой наукой — между традиционными ари-
стотеликами и новаторами-механицистами. В 1644 г. вос-
хищенный и преданный последователь Галилея итальян-
ский математик Еванджелиста Торричелли (1608-1647)
попытался дать более вразумительное объяснение эффек-
ту поршневого насоса и, в частности, найти механизмы
там, где раньше жидкости приписывали бегство от страха.
Достаточно было предположить, что высота жидкости в
трубе никак не связана с силой страха, но представляет
собой проявление механического равновесия в природе.
Внутри трубы — водяной столб, вне трубы — атмосферный
воздух. Водяной столб достигает предельной высоты тог-
да, когда его вес сравнивается с весом атмосферного воз-
духа, давящего на основание. Торричелли, как мы видим,
осмыслил работу насоса со ссылкой на принцип всем из-
вестных механических весов. Но утверждение, что воз-
дух имеет вес, было немыслимо для аристотеликов с их
убеждением, что воздух стремится только вверх к своему
естественному весу. Аристотелики считали, что воздух,
9 Большинство античных философов (хотя и не все) считали
пустоту в природе невозможной по определению. Наиболее влия-
тельной здесь была конечно же позиция Аристотеля; и философы-
механицисты XVII в. разделились на тех, кто допускал существование
вакуума, и на тех, кто считал, что природа вся заполнена материей,
из которой и слагается ее полнота.
А В, ATmheef CUf$% reflète with
A, The Umer extreme tkereefo her-
By The ffperextremethereej\ efem, iwfe\
bC>TkefémiT*ki*verted%4md KM,
регре$кШ*1егк erefted im éveSu 7&.
h thi Qnkkßlver eUfctmUd
OCP, «ri*»titjtf Jcrfr
fidtê h*vt imbmâuiitÇtlfét
P*bmmêfth€fi*prfrm
ifi f IX
Tuhe wvtrted> лшЛ
trefftd im svtjfd
fniêfQ^chfUvcr: f§ ASthitri-
fici D,h*êt »mjlêft&l, mmiirt te
immer(ti im tin }Щаат Q*ick-
filver.
HG), Ave([flfiJUd*f titheU*t
E F> ***£ Qgickßlvtr: éndtktmce
и* t$ the hrim\\\mitb Water.
CK, TbtVâcmm, m Sfm dtftrtti
frff0-
ét thi
Pbmmêfth€fi
imftrim m fee IX
KM, J Lim far del t$ the Hm.
ft»
ft».
L M, Tbtfgmc T*k âgànfkimth
Qmchplver^nd reclined шпнВ the
mfftr extrem tkertêf bec urne »4-
ràitl H the \m liZml li
h К
f_„_.' heriZfmdl
tudtwitb К.
N, The üßärne $f 27 inches frmm
Рис. 8. Изображение эксперимента Торричелли из книги: Charleton W.
Physiologia Epicuro-Gassendo-Charltoniana (1654), представляющей
собой важную попытку возродить античный атомизм. Мы видим
опыт именно так, как его произвел впервые Еванджелиста
Торричелли. Чарльтон (1620-1707) доказывал, что в пространстве
над ртутным столбом воздуха нет. Если трубку наклонить, ртуть
заполнит это пустое пространство. Чарльтон задавал риторический
вопрос, откуда в трубке берется воздух при ее подъеме, если она
герметично закупорена и никаких пузырьков воздуха в ртути
при наклоне не наблюдается
Глава I. Что было известно? 363
находясь на своем месте, ничего не весит, так же как ниче-
го не весит, по их мнению, вода в море.
Ртуть в четырнадцать раз тяжелее воды; следователь-
но, механистическое понимание действия насоса позво-
ляло предположить, что, если запаять водяную трубку,
заполнить ее ртутью, а после опустить в заполненный рту-
тью сосуд, высота ртутного столба будет составлять толь-
ко четырнадцатую часть высоты водного столба, которая
достигается при работе поршневого насоса. Так и произо-
шло {рис. 8). Торричелли писал: «Мы живем на дне океана,
образованного элементом воздуха, который, как неоспо-
римо доказал опыт, имеет вес». Торричелли сконструиро-
вал первый барометр (это слово, по смыслу греческих кор-
ней, обозначает «измеритель веса»), в котором многие
его современники увидели решающее подтверждение ме-
ханическому устроению природы. Конечно, и у Торричел-
ли нашлись оппоненты. Мнение, что боязнь пустоты хотя
бы с какой-то стороны объясняет получаемые результаты,
было слишком укоренено в сознании и потому не отверга-
лось радикально многими известными философами сере-
дины XVII в., которые в остальном были благосклонны к
механицизму: даже Галилей ни разу не опровергал «боязнь
пустоты» последовательно и до конца.
Во Франции Паскаль сначала заявил, что экспери-
мент Торричелли доказал лишь одно: сила природной
боязни пустоты ограничена. Конечно, говорил Паскаль,
Торричелли смог точно измерить эту силу: она равна
10,07 м водного столба и 73,5 см ртутного столба. Не счи-
тая возможным делать общие заключения о природе из
нескольких искусственно произведенных эффектов, Па-
скаль не собирался принимать аналогию с механически-
ми весами, пока не будет достигнута возможность изме-
нять вес на обеих чашах весов. В 1647 г. Паскаль попросил
своего свояка Флорена Перье отнести барометр Торри-
челли на вершину вулкана в Пюи-де-Дом, в самом центре
Франции, и посмотреть, изменится ли уровень ртутного
столба из-за того, что на барометр будет давить мень-
ший воздушный столб. Перье покорил гору в сентябре
364 Стивен Шейпин. Научная революция
1648 г., такой же точно барометр был оставлен у подно-
жия горы в качестве контрольного инструмента: показа-
ния с обоих приборов надлежало снять одновременно.
Перье сообщил Паскалю, что уровень ртутного столба
на вершине горы, на уровне приблизительно 900 м выше
подножия, упал примерно на 7,6 см. Таким образом, ока-
залось, что атмосферное давление на вершине меньше,
чем у подножия горы. Из этого был сделан вывод, что по-
ведение барометра объясняется наличием у воздуха веса,
и барометр нужно считать подходящим прибором для
измерения этого веса. Паскаль так сообщил о своем об-
ращении к механистическим воззрениям: «Все эффекты,
ранее приписывавшиеся боязни пустоты, обязаны весу и
давлению воздуха, что и является единственной действи-
тельной причиной»10. Быть философом-механицистом
означало предпочитать неодушевленные категории, вро-
де веса воздуха, намерениям в духе человеческих, вроде
боязни пустоты.
Многие философы-механицисты охотно противопо-
ставляли свой подход к естественным феноменам объ-
яснению их через действие тайных сил. В эпоху Возрож-
дения была весьма влиятельна традиция «естественной
магии», утверждавшей воздействие одного тела на дру-
гое на расстоянии, посредством скрытых сил симпатии,
влечения или отталкивания. Хотя эффекты действия
этих сил считались вполне наглядными, причины такого
воздействия признавались «скрытыми» (или, по-латыни,
«оккультными») — их нельзя было свести к известным
нам свойствам чувственной материи. Так говорилось об
10 Эксперимент в Пюи-де-Дом несколько раз был повторен со-
временниками Паскаля, которые приносили барометр на другие вы-
сокие горы. Но, несмотря на важность этого эксперимента для всех
научных изысканий Паскаля, не все современники заметили падение
уровня ртутного столба по мере восхождения. Тогда еще не знали, что
нужно учитывать большое количество других факторов, которые дей-
ствуют внутри этой механики: изменение температуры, влажности
и др. В следующей главе мы расскажем о том, как было установлено
различие между понятиями «вес воздуха» и «давление воздуха», после
чего сомневаться в открытии Паскаля уже стало невозможно.
Глава I. Что было известно? 365
астрологическом воздействии: о том, что все небесные
тела, прежде всего планеты, оказывают влияние на зем-
ные дела. Ведь точно так же Солнце имеет способность
отбеливать, ревень действует как слабительное, а магнит
притягивает железо тоже на расстоянии. Все эти силы
тоже можно воспринять только в их эффектах, но мы не
можем постичь их, глядя просто на отдельные планеты и
Солнце, так же как глядя просто на ревень или магнит11.
Человеческое тело, как «малый мир» (микрокосм), при-
вязывалось к «большому миру» (макрокосму) густым мно-
жеством оккультных «соответствий» и «влияний». Нет
сомнения в том, что все новые философы не считали пра-
вомерным всякий раз ссылаться на скрытые силы, и все
они отвергали хотя бы часть притязаний традиционной
астрологии. Конечно, среди астрономов того времени
были практикующие астрологи, такие как Кеплер и его
современник Тихо Браге, а Бэкон и Бойль, как и некото-
рые другие, допускали естественное влияние небес, хотя
при этом скептически относились к амбициям астроло-
гии предсказывать будущие события. Бойль, как и другие
сотрудники Лондонского королевского общества в 1660-
1670-х гг., не сомневались в том, что развоплощенные
духи, ведьмы и демоны могут влиять на естественный
мир, но другое дело, что механистическая философия
11 Смысл слова «оккультный» несколько раз менялся в период
раннего Нового времени. Более того, философы-механицисты обви-
няли своих оппонентов, что они подменяют описание указанием на
оккультные причины. Например, ученые-практики, склоняющиеся
к механицизму и при этом отказывающиеся дать специфицирующее
причинностное объяснение тому, как был произведен данный физи-
ческий эффект, обвинялись коллегами в том, что вносят в природу
давно уже позабытое старье оккультных сил. Даже состоявшийся в
начале XVTII в. спор между Ньютоном и Лейбницем (о нем см. ниже
в этой же гл.) не был свободен от такого грубого обвинения. Не так
давно было доказано, что семантический сдвиг в понимании «ок-
культных качеств» — от того, что скрыто и не может быть воспринято
чувствами, к тому, что видимо по эффектам, но не может быть объ-
яснено в терминах механики и корпускулярной теории, — позволил
естественным философам в действительности вернуть оккультные
качества, несмотря на категорическое отрицание их на словах.
366 Стивен Шейпин. Научная революция
требовала перепроверять и контролировать любые при-
тязания старых наук. В любом случае для новой практи-
ческой науки характерно подозрительно относиться ко
всему нагромождению эмпирических попыток обнару-
жить «оккультное влияние» и тем более передать его в
терминах материальных сил и механического действия.
Но механистическая философия, которая развива-
лась в прямой оппозиции учению Аристотеля, не могла
пройти мимо «ренессансного натурализма», который
вызвал не меньшую ее вражду. Ведь этот натурализм был
истово укоренен в классической культуре, и привержен-
цы механицизма были возмущены его влиянием на науку
о природе: натурализм стал задавать облик многих куль-
турных и социальных практик и в XVII, и даже в XVIII в.
Такое противостояние отчасти обусловило и развитие
механицизма, и его длительную поддержку. Во Франции
начала XVII в., например, философ и математик о. Ма-
рен Мерсенн (1588-1648), член ордена миноритов, с опа-
сением говорил о том, что могут вывести из ренессансно-
го учения о «мировой душе», согласно которому материя
живет своей жизнью, а значит, сопоставима по своей са-
мостоятельности с Богом. Такие учения легитимировали
любые магические поверья и практики, а главное, чего
больше всего боялся Мерсенн, дают повод разномыслию
в Церкви. Благочестивый служитель алтаря боялся, что
если в каждой вещи видеть сверхъестественные силы,
то будет стерто основополагающее различие между есте-
ственным и сверхъестественным; и христианская вера и
все христианские учреждения истребятся в обозримом
будущем с лица земли.
Ренессансный натурализм, приписывая естествен-
ному миру целый спектр свойственных ему естествен-
ных сил, пытался разделаться с прежними объяснени-
ями любых явлений через волю Божию, закономерно
утверждавшими, что только Бог сверхъестествен, а все
остальное естественно. Понятно, что такой натура-
лизм должен был вызвать усиленное противление при-
верженцев христианской веры. Хотя аристотелизм
Глава I. Что было известно? 367
и располагал ресурсами, которые годились для борьбы
с натурализмом, — например, доказательствами бессмер-
тия души или различными способами отвергнуть детер-
минизм, упор на исследование эффектов как ответ на
вызов Ренессанса был не лучшим выходом. Тем более
что и сам аристотелизм не предлагал никаких убеди-
тельных объяснений тех явлений, о которых говорили
натуралисты, вроде магнитного притяжения или целеб-
ных свойств трав. По мысли Мерсенна, проблема коре-
нится в понимании материи как активной, и решить ее
можно, только признав материю совершенно пассивной
(инертной), — другими словами, нужно создать метафи-
зику, механистически толкующую окружающий мир12.
Если мы допускаем, что материя полностью пассивна,
то мы вполне можем всякий раз удерживать различие
между естественным и сверхъестественным. Конечно,
учение о пассивной материи легло в основу целого ряда
предложенных в XVII в. версий механицизма. Мерсенн
значительно повлиял на развитие механицизма и вы-
работку соответствующего воззрения на материю. Его
подход развил в 1630-1640 гг. его друг Декарт, а через
Декарта механицизм был воспринят, с некоторыми ви-
доизменениями, Гоббсом, Бойлем и многими другими
учеными-теоретиками. Но хотя взгляд на материю как
на совершенно пассивную вещь был самым существен-
ным для механистической натурфилософии XVII в., его
атаковали сразу с двух сторон: со стороны философии и
со стороны обыденного мышления. Поэтому и способы,
которыми это воззрение влияло на задачи объяснения,
были различны для разных случаев.
12 Метафизикой тогда называли философское исследование «пер-
вопринципов», включавшее в себя попытки описать конечную при-
роду всего сущего в мире. Хотя некоторые авторы раннего Нового
времени и рассматривали метафизику как важную часть естественной
философии, и даже как ее основание, другие осуждали метафизиче-
ские спекуляции как нарушение границ научного исследования. Эти
ученые употребляли термин «метафизика» только в уничижитель-
ном смысле, называя так отвлеченные, надуманные и не подлежащие
обычному разбору философские утверждения.
368 Стивен Шейпин. Научная революция
Механицисты были убеждены, что все подлинные
эффекты в природе можно объяснить обычными и по-
нятными механическими и материалистическими при-
чинами. Так, Бэкон пытался объяснить фактологически
знаменитую «лезвийную мазь» (weapon salve). Тогда было
распространено мнение, что рана, причиненная оружи-
ем, может быть исцелена не только смазыванием раны,
но и смазыванием нанесшего ее меча или ножа, даже
если их разделяет расстояние в 30 миль и более. Бэкон
не собирался ни подтверждать, ни оспаривать правди-
вость подобных заявлений, но просто решил более кри-
тически отнестись к ним. Он говорил, что если такой
эффект существует, то наше дело — только объяснить
его через материю и ее свойства13. Бэкон также просле-
дил «множество древних и недавних традиций и наблю-
дений, относящихся к симпатии и антипатии растений».
Было общим местом объяснять факт, что одни растения
лучше разрастаются, если посажены рядом с другими
растениями, тайными симпатиями, действующими на
расстоянии. Но Бэкон порицает всю эту «скрытую друж-
бу и ненависть» растений как «грубую ошибку» в рас-
суждениях и предполагает, что вегетативные эффекты
можно объяснить вполне земными причинами: скажем,
что соседние растения помогают извлечь нужные пита-
тельные вещества из почвы.
В середине 1660-х гг. английские врачи-физиологи и
естественные философы обсуждали вопрос о реально-
сти и правильном объяснении лечения наложением рук,
13 Вопреки скептическому отношению Бэкона к этой материи
факта, «лезвийная мазь» (равно как и «симпатический порох»,
powder of sympathy) имела немало защитников в XVII в. Так, англий-
ский придворный деятель, философ и даже член Лондонского Ко-
ролевского общества сэр Кенельм Дигби (1603-1665) говорил, что
убедился в эффективности этого врачебного средства, когда выле-
чил таким образом раненного на дуэли человека, которому никто
из королевских полевых врачей не мог помочь. Дигби сразу при-
думал и объяснение, в котором смешивались темы механицистской
философии и оккультное учение о симпатиях — сочетание, нередкое
в философии XVII в.
Глава I. Что было известно? 369
которое практиковал ирландец Валентайн Грейтрейкс.
Во множестве заслуживающих доверия сообщениях го-
ворилось, что Грейтрейкс вылечил многих больных от
золотухи, язв и камней в почках без всяких лекарств и
трав. Отношение Бойля к таким «невероятным спек-
таклям» (stupendous performances) было сдержанным,
но при этом он скорее склонялся к тому, что исцеление
реально осуществлялось, и потому решил дать предва-
рительную механистическую интерпретацию, как здесь
происходит работа на расстоянии. Бойль заявил, что он
не хочет видеть в этом исцелении нечто «чисто свер-
хъестественное» и поэтому пытается дать «физическое
объяснение». Вероятно, существуют некие материаль-
ные «целительные токи», идущие от тела Грейтрейкса
к телу пациента, и именно они врачуют недуг. Исхожде-
ние материальных токов и их воздействие на поражен-
ный болезнью участок вполне можно было объяснить
одними только механическими принципами, не при-
влекая никаких оккультных или сверхъестественных
факторов. Поэтому если исцеление возложением рук
и кажется удивительным, то нужно говорить об особом
действии механических причин, заложенных Богом в
природу, а не о непосредственном вмешательстве нема-
териального, не о чуде.
4. Математизация качеств
В системе Бойля признавалось только «два великих
принципа» механистической философии: материя и
движение. Он считал, что не может быть принципов бо-
лее первичных, простых, общих и понятных. Материя
и движение — словно буквы в алфавите, сами по себе
простые и незатейливые, но в сочетании способные
производить бесконечное разнообразие. Итак, в со-
ответствии с намеченными задачами в естественной
философии нужно было объяснять все в естественном
мире со ссылкой на нередуцируемые свойства материи
370 Стивен Шейпин. Научная революция
и ее способность все время находиться в движении:
таким образом, разбор устройства природы ничем не
отличался от разбора устройства машины. Если ты го-
воришь только о материи и движении, то вряд ли ты бу-
дешь подверстывать к этому какие-то оккультные силы.
Механистический подход к природе определял теперь
содержание дискуссий: следовало обсуждать только
форму, размер, расположение и движение материаль-
ных составляющих вещей.
Философы-механицисты XVII в. оправдывали такой
подход к строению всей природы, к ее «фундаменталь-
ной структуре», употребляя новейший термин, ссылкой
на Священное Писание. Так, в апокрифической книге
Премудрости Соломона возвещается, что Бог «располо-
жил все вещи числом, весом и мерою», и подобное же
мировосприятие много раз высказывалось мыслителями
Средних веков. Новым в XVII в. было то, с каким рве-
нием материя и движение объявлялись единственными
определяющими понятиями настоящей естественной
философии. Если натурфилософ пытался вводить и дру-
гие начала природы, его обвиняли в том, что он рядом
с понятным ставит непонятное и тем самым нарушает
главное правило философского рассуждения.
Но, несмотря на согласие всех философов-механи-
цистов о двух началах всей природы, специфика и со-
держание механистических объяснений отдельных
природных явлений отличались от одного ученого-прак-
тика к другому. Декарт подробно, во всех деталях рас-
писывал, как размер, форма, движение и способность
ко взаимодействию невидимых частиц материи произ-
водит все многообразие физических эффектов. Декарт
предположил, что все физические тела состоят из трех
«элементов», которые выработаны из одной и той же
начальной материи, но при этом различны по размеру и
по форме. Исходя из предполагаемых размеров, Декарт
расположил элементы в восходящем порядке: самыми
мелкими были частицы огня, затем — частицы воздуха и,
наконец, самыми грузными и неповоротливыми были
Глава I. Что было известно? 371
частицы земли14. Некоторые из природных тел полно-
стью состоят только из одного элемента— например,
Солнце и неподвижные звезды сделаны только из огня,
тогда как большинство тел — смешанного состава, — на-
пример, таковы все предметы, которые мы встречаем
на поверхности Земли, включая, разумеется, одушев-
ленных существ. Физические объяснения, предложен-
ные Декартом, таким образом, сводятся к пониманию
особого состава каждого конкретного тела и того, какое
именно движение приняли его частицы.
Так, магнетизм объяснялся со ссылкой на то, что ча-
стицы, порожденные вихрем вокруг Земли, проникают
в отверстия в металле: подразумевается, что только в
металле есть отверстия подходящей для этого формы
(рис. 9). Движение этих частиц, перетекающих между
магнитом и куском железа, возбуждает воздух между эти-
ми двумя телами и тем самым сближает их. Из наличия
двух магнитных полюсов Декарт выводил, что есть ча-
стицы с левой, а есть частицы с правой резьбой. Точно
так же и человеческое тело следовало рассматривать как
«земную машину». Пищеварение понималось как произ-
водимое силой тепла разложение еды на частицы: при
этом грубые и тяжелые частицы опускаются и наконец
выходят прямой кишкой, а более тонкие частицы прони-
кают через поры нужного размера к мозгу и гениталиям.
«Животный дух» в теле состоит из самых мелких и самых
легко движущихся частиц в крови, которые проникают
14 Декарт, как и аристотелики, не признавал существования пу-
стоты в природе и, исходя из этого, предполагал, что частицы перво-
элемента не имеют еще определенного размера и формы, но способ-
ны делиться и менять форму при столкновении, чтобы «заполнить
пространство, в которое они попадают». Убеждение Декарта в том,
что частицы материи могут делиться до бесконечности, отличало его
теорию материи от теорий современных ему атомистов, таких как
Пьер Гассенди и его одаренный английский последователь Уолтер
Чарльтон (1619-1707). Поэтому видеть материю как сочетание корпу-
скул или иных частиц не обязательно означало следование канониче-
скому «атомизму», который настаивал на том, что частицы материи
не только не видимы глазом и непроницаемы, но и неделимы.
372 Стивен Шейпин. Научная революция
Рис. 9. Рисунок Декарта, поясняющий эффект магнетизма,
взят из его «Начал философии» (1644)
в пустоты мозга, затем текут через полые нервы и прони-
кают в мускулы и тем самым производят и чувства, и мо-
торную активность. Таким образом, работу души можно
было объяснять так же легко, как работу фонтанов и
подобных механических устройств. А то, что сейчас на-
зывают «рефлексом», тоже могло быть расписано как
механическая передача действия. Так, частицы огня А
(рис. 10) движутся очень быстро и поэтому производят
силу достаточную, чтобы деформировать кожу рядом
с огнем Б, эта деформация давит на нервную ветвь СС,
в которой в результате раскрывается отверстие de, ко-
торое проводит это давление в мозг: «Точно так же, как
если потянуть за конец веревки, можно позвонить в ко-
локол, к которому прикреплен другой конец». Отверстие
Глава I. Что было известно? 373
Рис. 10. Объяснение Декартом действия рефлекса — рисунок
приведен в его «Трактате о человеке» (1664)
продолжает быть открытым некоторое время, и «живот-
ный дух», содержащийся в мозговой полости F, проходит
через него «частично в мускулы, которые и отдергивают
ногу от костра, частично в голову, заставляя повернуть-
ся и посмотреть на огонь, и частично в руки и поясницу,
чтобы отойти от костра немного подальше».
В отличие от Декарта, который вычислял подробно-
сти всей этой механики на микроуровне, английские фи-
лософы-механицисты, такие как Бойль, были осторож-
нее в своих выводах. Бойль был убежден, что сам момент
начала создания мира вызвал разделение прежней гомо-
генной «всеобщей материи» на «малые частицы разного
$chffr 2
Рис. 11. Зарисовки известных объектов, увиденных под микроскопом
из книги «Микрография» Роберта Гука (1665):
кончик металлической иглы, типографский знак точки
на бумаге, край остро заточенной бритвы
Глава I. Что было известно? 315
размера и формы, которые различным образом движут-
ся». (Как раз поэтому Бойль с полным правом называл
свою новую философию и «механической», и «корпуску-
лярной».) Эти частицы (корпускулы) затем «соединились
в мельчайшие группы или скопления», различие между
которыми теперь состояло только в «текстурах», то есть
пространственном расположении частей. Качества, они
же собственные свойства вещей, теперь были обязаны
«свойствам движения, размера, фигуры и соприкосно-
вения» корпускул. Изменения в свойствах вещи объясня-
лись изменением корпускульной «текстуры» и характера
движения частиц. Практическая наука Бойля отличалась
от построений Декарта: он без всяких дополнительных
объяснений перешел от принципа механизма к специфике
механизма. В следующей главе мы покажем, что это позво-
лило Бойлю точнее объяснить такие явления, как давле-
ние воздуха. Понятия материям движение позволяли рабо-
тать с миром природы подручными интеллектуальными
средствами: можно было моделировать невидимый мир
частиц по образцу видимых и ощутимых явлений, кото-
рые мы легко находим среди соразмерных нам объектов
в мире нашего же повседневного опыта.
Некоторые философы предполагали, что недавно
изобретенный микроскоп сделает вскоре частицы види-
мыми: ведь глаз, вооруженный оптическими инструмен-
тами, смог убедиться, что поверхность, которая кажется
обычному зрению гладкой, под микроскопом оказыва-
ется грубой и неровной (рис. 11). Голландец Антони фан
Левенгук (1632-1723) создавал и совершенствовал свои
микроскопы под глубоким влиянием картезианской тео-
рии материи. Первоначально он исходил из того, что все
тела сложены из мельчайших «шариков», вроде тех, кото-
рые он смог разглядеть в окуляр микроскопа при рассма-
тривании разных предметов. Другой экспериментатор и
энтузиаст исследований с микроскопом, англичанин Ро-
берт Гук, осторожно выражал надежду, что, постепенно
улучшая параметры микроскопа, мы сможем рано или
поздно разглядеть «фигуры слагаемых частиц материи»,
376 Стивен Шейпин. Научная революция
а его коллега Роберт Бойль замечал с еще большими ого-
ворками: «Если бы мы были наделены острейшим зрени-
ем, или имели бы совершенные микроскопы, о чем, по
моему мнению, мы можем скорее мечтать, чем надеяться,
то наше чувство, обретя новый размах, различило бы...
конкретные размеры, формы и ситуации мельчайших
тел». Бойль считал, что тогда, рассматривая частицы под
микроскопом, можно будет наконец понять, например,
причину холода. Точно так же Гук надеялся, что наблю-
дения в микроскоп наконец прекратят все разговоры об
оккультных качествах: все зрители смогут разглядеть «ма-
лые машины природы», которые и производят данные
эффекты. Но большинство ученых-практиков считало,
что мир корпускул в ближайшее время недостижим для
человеческого зрения, чем бы оно ни вооружалось, и, по-
видимому, таковым и пребудет навсегда. Поэтому все ми-
кромеханические объяснения неизбежно гипотетичны,
иначе говоря, их истинность как физическая реальность
никогда не будет доказана чувственно.
Корпускулярная теория разрабатывалась как отвеча-
ющий правилам философии способ понять поведение
видимых тел, и она казалась тем более вероятной, чем
больше можно было разглядеть в микроскоп прежде не-
заметных природных явлений, — естественный мир на-
чинал все больше представляться сложным механизмом,
в котором одни части материи приводят в движение дру-
гие части. Как и Декарт, Бойль подробно излагал, как
можно объяснить данный конкретный естественный фе-
номен через размер, форму, текстуру и движение корпу-
скул. Но, в отличие от Декарта, Бойль почти не говорил
о том, какие именно размеры, формы, текстуры и движе-
ния производят такие элементы, как магнетизм, холод, го-
речь и проч. Он стремился доказать только одно: что объ-
яснение явлений через корпускулы будет самым прямым
и здравым. Итак, корпускулярный механицизм XVII в. ох-
ватывал большой разброс подходов: он мог быть и общей
методологией исследований, и специфическим объясне-
нием отдельных явлений или групп явлений.
Глава I. Что было известно? 377
Философы-механицисты, следуя корпускулярной
теории, прежде всего стремились удовлетворительно
объяснить чувственно наблюдаемые свойства тел— хо-
лодность, сладость, цвет, гибкость и т.п., — при этом
все время ссылаясь на корпускулы, которые никогда не
увидишь и у которых у самих ни одного из этих свойств
нет. Скажем, когда мы спрашиваем, почему роза красная
и приятно пахнет, нельзя отвечать, что ее конечные со-
ставляющие обладают свойствами красноты и приятно-
сти для нюха. Именно в этом состояло фундаментальное
расхождение новой науки с учением Аристотеля. С одной
стороны, пропагандировался механистический подход,
как самый вразумительный, с другой стороны, необхо-
димой оказывалась ссылка на предельную материальную
реальность, свойства которой качественно отличались
от свойств, схваченных нашим общим опытом.
Такое отношение к свойствам материи напоминает
схоластическое различие между «первичными» и «вто-
ричными» качествами, но пока что мы можем сказать
только то, что, хотя такое понимание материи стало в
философии XVII в. общепринятым, мы не найдем двух
мыслителей, которые сходились бы в перечислении со-
става свойств и их взаимосвязей. Хотя само понятие о
предельной материальной реальности с особыми свой-
ствами, отличающимися от чувственных свойств вещей,
появилось в трудах греческих атомистов— Демокрита
(ок. 460-370 до н.э.) и Эпикура (ок. 314-270 до н.э.),-
самое раннее ясное выражение в науке раннего Нового
времени это понятие нашло в трактате Галилея «Пробир-
щик» (1623). В этой работе Галилей заметил, что люди
обычно легко определяют, что предмет горяч, и всем со-
общают об этом субъективном ощущении. Конечно, если
оставаться в поле субъективности, нет ничего страшно-
го в том, чтобы называть печной горшок горячим. Оши-
бочно только считать, что «жар — это реальное явление,
или собственное свойство, или качество, действительно
обитающее в материальном предмете, благодаря которо-
му мы и чувствуем тепло подле себя». Хотя мы не можем
378 Стивен Шейпин. Научная революция
помыслить предмет, не представив его форму, размер
и движение/неподвижность, Галилей отметил, что мы
легко можем мыслить о предмете, не имея в виду его цве-
та, приятности для обоняния или температуры. Все эти
качества воздействуют на наши чувства, когда мы сами
сталкиваемся с некоторыми объектами, но сами по себе
объекту не принадлежат. «Поэтому я думаю, что вкус, за-
пах, цвет и прочее — это просто имена, мы приписываем
их рассматриваемому объекту, тогда как они существуют
только в нашем сознании».
Первичные качества реально принадлежат объекту
самому по себе — это форма, размер и движение. Они и
называются первичными (иногда «абсолютными»), по-
тому что ни один объект и никакие его составляющие
не могут быть описаны без их упоминания. Вторичные
качества— красный цвет, сладость, теплота— только
выводятся из состояния первичных качеств объекта. Пер-
вичное вызывает (и позволяет объяснять) вторичное.
Так, в корпускулярной философии составляющие тело
частицы материи сами не были ни красными, ни сладки-
ми, ни теплыми — но их размер, форма и расположение,
а также движение относительно друг друга производили
в нас эти субъективные ощущения. Все переживаемое
нами разнообразие естественных объектов необходимо
приписывалось механически простым и изначальным
качествам, которые необходимым образом принадлежа-
ли всем телам, раз они тела, а не самим розам, железным
прутьям или магнитам. Как отметил английский фило-
соф Джон Локк (1632-1704): «Это не что иное, как наши
идеи тел, которые мы относим к самим телам». Те идеи
сладости, красного цвета или тепла— это всего лишь
эффекты «определенного размера, формы и движения
невидимых частиц», из которых состоят тела. Только
небольшая часть тех идей, которые мы имеем о телах,
может пройти проверку на объективность, иначе гово-
ря, на соответствие природе самих этих вещей, — сюда
нужно отнести идеи о форме, размере и движении тела.
Все прочие опытные переживания и идеи следует счесть
Глава I. Что было известно? 379
субъективными — они возникают в результате того, что
аппарат наших чувств активно обрабатывает впечатле-
ния, происходящие из первичной реальности. Поэтому в
общем опыте людей роза переживается не как сложный
агрегат первичных качеств, но только как набор первич-
ных и вторичных качеств: мы видим перед собой крас-
ный и неровно круглый предмет, ощущаем приятный за-
пах, можем измерить его. Различие между первичными и
вторичными качествами, непременное для коперникан-
ского взгляда на мир, проложило непроходимую грань
между областью философски законных рассуждений
и областью общего опыта. Микромеханическая реаль-
ность первична по отношению к общему опыту, а субъ-
ективный опыт представляет собой тщательный учет
того, что существует объективно. Философское рассуж-
дение убеждает нас, что наш текущий чувственный опыт
не может объяснить нам реальное устройство мира. Такое
фундаментальное различение между чувственным опы-
том и реальным положением дел было огромным шагом
вперед: историк Е.А. Бартт даже написал, что с этих пор
«человеку нужно было всякий раз считаться с первичны-
ми реальными данными». Человек перестал быть мерой
всех вещей, а человеческий опыт превратился в слабое
уподобление реальности.
Заявляя о разрыве между первичной реальностью
и вторичным опытом, философы-механицисты ополча-
лись вовсе не против общего опыта людей и здравого
смысла, но против генерального учения Аристотеля о
«субстанциальных формах» (или «реальных качествах»).
Аристотелики Средневековья и раннего Нового времени
обязательно анализировали различие между «материей»
и «формой» тела15. Если говорить совсем просто, материя
мраморной статуи— это материальный субстрат, глыба
15 Говоря строго, учение о субстанциальной форме, отвергнутое
реформаторами науки XVII в., развивалось на основе трудов Аристо-
теля схоластическими последователями от Средневековья до XVII в.
Историки античной философии спорят до сих пор, было ли это уче-
ние у самого Аристотеля.
380 Стивен Шейнин. Научная революция
мрамора, из которой можно изготовить статую Алексан-
дра Македонского или статую его коня. Взяв кусок мра-
мора достаточной величины, из него можно изготовить
статую любого человека или любой вещи, и поэтому мы
ничего не узнаем о статуе, если укажем только на матери-
ал, из которого она сделана. А форма данной статуи — это
расположение частей, не зависящее от материи, — тот
принцип, который превращает статую в изображение
Александра Македонского или коня Александра Македон-
ского. Материя, из которой сделана вещь, не несет в себе
никаких особенностей этой вещи, и только форма, при-
данная материи, превращает вещь в вещь какого-то рода.
Формы — это реальные сущности (real entities), хотя они
и нематериальны, а только прилагаются к материи. Реа-
лизм формы позволяет нам говорить о «субстанциальной
форме» цветка или мыши. Субстанциальная форма этих
вещей и позволила материи хранить в себе цветочность
или мышиность. Любой цветок или любая мышь имеет
свои особые черты, которые и определяют индивидуаль-
ность данной отдельной вещи, но все эти особые черты —
привходящие признаки, «акциденции», которые никак
не связаны с субстанциальной формой — способностью
быть цветком или мышью. Поэтому для аристотеликов
вещь состояла из качеств, которые нельзя было свести к
другим качествам: ведь именно эти качества определяли
родовую или видовую принадлежность вещи. Благодаря
этим качествам вещь оставалась собой, не превращалась
в другую вещь и, таким образом, была реальной. Наше
обычное чувственное восприятие вещей задается форма-
ми вещей, а значит, существует качественная соположность
сущности и чувственной воспринимаемости.
Философы-механицисты всякий раз хохотали, когда
слышали о «субстанциальных формах», и можно ли было
ожидать иного от тех, кто объяснил природу как меха-
низм, все действия которого заранее понятны и просты.
Согласно Бэкону, формы Аристотеля— это «вымыслы
(figmenta) человеческого ума». Бойль считал просто аб-
сурдным говорить о формах: как будто какой-то довесок
Глава I. Что было известно? 381
к материальным телам может вообще становиться пред-
метом обсуждения. С помощью понятия формы не объяс-
нишь ни одного физического явления; другое дело — ма-
терия и движение, только знай сочетай их в необходимом
рассуждении об окружающем мире. А субстанциальные
формы — чем они лучше скрытых, иначе говоря, оккульт-
ных качеств? Их нельзя постичь человеческим умом,
а значит, нечего пускать их в хорошо устроенную есте-
ственную философию. Локк прямо так и говорил, что
наш ум не способен осмыслить мнимую идею нематери-
альной субстанциальной формы: «Когда мне говорят, что
существует нечто, не имеющее ни внешнего вида (figure),
ни размера, ни каких-то твердых составных частей, кото-
рые как-то скреплены, и это называют субстанциальной
формой, я признаюсь, что просто не могу этого понять».
Для Гоббса любые разговоры о «бестелесных сущностях»
(включая субстанциальные формы) отдавали идеологи-
ей. В философии Аристотеля это понятие было маги-
стральным. Как же могло быть иначе, когда всем заправ-
ляли жрецы, которые и наполнили воздух понятиями
субстанциальной формы, обособленной сущности, нема-
териальной субстанции, чтобы заявить свои притязания
на власть в государстве, держать массы в страхе и отвлечь
их от реальных дел ради поклонения мнимостям. Мате-
риальные тела не могут принять на себя форму извне или
сущность извне — их материальная природа, как доказы-
вает нам механистическая философия, — это их собствен-
ная природа! Все, что не материя, все, что не познается
по эффектам, стало объявляться в то время таинствен-
ным и оккультным, невнятным для разума и ненужным
для механистической философии природы.
Философы-механицисты неустанно повторяли, что
только их объяснения внятны человеческому уму, — и та-
кая «понятность» была их пьедесталом. Мы бы не поняли,
почему механистические объяснения оказались убеди-
тельнее традиционных, если бы сами не требовали от на-
уки окончательной понятности и предельно ясного объ-
яснения всех явлений. Конечно, если немножко умерить
382 Стивен Шейпин. Научная революция
пыл своего восторга, то можно заметить некоторые
сложности, связанные с механицизмом: не все ясно ни
в его структуре, ни в его задачах. Механицизм хочет све-
сти все вещи к одной и единой структуре. Иначе говоря,
характерные черты и поведение сложного естественно-
го объекта могут быть объяснены ссылкой на его состав:
на те части, из которых он собран, на их соотношение и
взаимодействие. Как мы уже видели, такие структурные
объяснения в механистической философии ограничива-
лись ссылкой на невидимые микромеханизмы, которые
и производят все свойства. Например, можно было объ-
яснять тепло быстрым и пронзительным движением не-
видимых корпускул, из которых состоят тела. Или, о чем
мы будем подробно говорить в следующей главе, давле-
ние воздуха будут объяснять эластичностью невидимых
корпускул, из которых составлен реальный воздух.
Понятность таких объяснений, конечно, проистека-
ла не из свойств изучаемых объектов, а из особенностей
употребляемых сравнений. Физика становилась видимой
и ощутимой, потому что примеры для описания микроча-
стиц брались из мира повседневной жизни, где мы каж-
дый день наблюдаем схожие эффекты, производимые
механическим образом. Так, например, все мы знаем,
что если быстро растирать ладони, то они согреются,
а если на морозе мы будем двигаться достаточно быстро,
то не замерзнем. (Это другой образцовый пример связи
между ясностью знания и способностью конструировать
объекты знания.) Не сдерживаясь в своих притязаниях,
философы-механицисты пытались объяснить не просто
отдельные естественные феномены, но все естественные
феномены. Так, «Принципы философии» Декарта (1644)
стремятся объяснить все явления природы — гравитацию
тел, поведение жидкостей и магнитов, причину земле-
трясений, химические реакции, движение человеческого
тела и субстрат человеческой чувственности и многое дру-
гое, — и завершалось это тем, что «нет такого явления в
природе, которое не нужно было бы разобрать», руковод-
ствуясь, конечно же, механистическими предпосылками.
Глава I. Что было известно? 383
Но, хотя микромеханистические построения могли
объяснить все естественные явления, не всегда можно
было добиться понятности от этих объяснений, сопоста-
вив события микромира с поведением обычных повсе-
дневных вещей, которые и заполняют наш бытовой опыт.
Возьмем, к примеру, человеческое ощущение. Декарт,
как все помнят, дал подробное механическое объяснение
ощущения, основываясь на гидравлических принципах
и исследуя механизм волновой передачи жидкостей по
трубам, — он без каких-либо трудностей объяснил чув-
ство жара и следующее за этим отдергивание ноги от пла-
мени. Но никак нельзя было выведать, может ли такое
микромеханическое понимание человеческой реакции
считаться столь же очевидным, как микромеханическое
понимание самого явления жара от огня или давления
воздуха. По этой причине некоторые критически на-
строенные историки и философы спрашивали, не будет
ли такая заявленная общепонятность механистических
объяснений всего лишь результатом соглашения практи-
ков, что эти объяснения более понятны, чем все прочие.
Когда механистические философы пытались объяснить
приятные или неприятные запахи и вкусы, просто пред-
полагая, что частицы, из которых состоят ощущаемые
тела, могут быть гладкими или ребристыми, то чем такое
объяснение приятности или неприятности вещи через
приятность или неприятность частиц превосходит объ-
яснения, которые продолжали давать аристотелики?
На этот вопрос попытался ответить историк философии
Алан Гэббей: в механистической философии «феноме-
ны, нуждающиеся в объяснении, вызываются единица-
ми, структура которых не может не вызывать этих фено-
менов. Скажем, раньше говорили, что опиум усыпляет,
потому что обладает особой усыпительной силой, а те-
перь говорят, что он усыпляет, потому что имеет особую
корпускулярную микроструктуру, которая и воздействует
на физиологические структуры так, что повергает их в
сон». Таким образом, общепонятность, а значит, и объ-
яснительный потенциал механистической философии
384 Стивен Шейпин. Научная революция
были преувеличены ее сторонниками. Убежденность их
в том, что механистические объяснения заведомо лучше
всех остальных, потому что во всем понятны, принад-
лежит не чистой теории, а исторической ситуации со
всеми ее перипетиями.
5. Математическая структура
естественной реальности
Иногда говорят, что механистическая картина мира,
состоящего только из материи и движения, необходимо
подразумевала математическое осмысление природы.
Конечно, механистическое воззрение на мир склоняло
к его математизации, и некоторые философы-механи-
цисты усиленно настаивали на том, что понимание мира
строится вокруг математики. Например, Бойль считал,
что естественный мир состоит из корпускул различного
размера и формы, которые по-разному расположены и
по-разному движутся друг относительно друга, а значит,
все свойства такого мира можно описать с помощью ма-
тематики. Но, несмотря на широковещательные заяв-
ления о том, что математические расчеты наилучшим
образом открывают нам механизм естественного мира,
только небольшая часть механистической философии
была действительно математизирована, и возможность
представлять физические закономерности в математи-
ческом виде никак не была связана с поиском механиче-
ской природы этих законов. Можно сказать, что, хотя
математизация естественной философии была важной
чертой практики XVII в., остается открытым вопрос, на-
сколько неразрывной была связь между механицистской
философией и развитием математики.
Уверенность ученых XVII в. в том, что математика —
это первичная сила, движущая всю естественную филосо-
фию, питалась античными источниками. Естественные
философы раннего Нового времени, оправдывая мате-
матизацию окружающего мира, ссылались на Пифагора
Глава I. Что было известно? 385
и особенно на Платона (ок. 427-347 до н.э.) и часто цити-
ровали изречение последнего о том, что мир — это пись-
мо Божества человечеству, записанное математическими
знаками. Галилей доказывал, что естественная фило-
софия должна быть математической по форме, потому
что сама природа математична по своей структуре. Есте-
ственные философы раннего Нового времени, причем
не только из когорты механицистов, предлагавших раз-
нообразные корпускулярные модели мироустройства,
в целом соглашались с тем, что математика — наиболее
точная форма знания и потому должна цениться в рассуж-
дениях о любых естественных явлениях. Конечно, при
этом сразу же вставали всеобъемлющие вопросы: как, ка-
ким образом и до какого предела следует применять мате-
матические методы при изучении природы, если мы хо-
тим дать корректную интерпретацию тел и процессов из
природной реальности. Никто не сомневался в том, что
природу можно изучить с помощью математики, но как
нужно было осуществлять это на практике, и что такое
математическое изучение давало философии? Здесь мне-
ния ученых-практиков XVI и XVII вв. значительно рас-
ходились. Некоторые влиятельные философы того вре-
мени были уверены, что вся наука, с ее непреложными
законами, должна быть полностью переведена на язык
математики, тогда как их коллеги сомневались, что ма-
тематические репрезентации могут уловить непрерыв-
ность и сложность реальных природных процессов. В те-
чение всего XVII в. раздавались голоса замечательных
мыслителей, которые неодобрительно отзывались об
«идеализации математики», считая, что число никогда
не успеет за действительной сложностью природы. Та-
кие ученые-практики, как Бэкон и Бойль, говорили, что
математический подход хорошо работает только тогда,
когда природа рассматривается отвлеченно, но начина-
ет буксовать, как только мы попытаемся уделить больше
внимания конкретным частностям. Галилей, выведя ма-
тематическую формулу падения тел, признавал, что она
подходит только к идеальным телам, которые движутся
386 Стивен Шейпин. Научная революция
Рис. 12. Схема Кеплера, показывающая «удивительную пропорцию
небесных сфер... установленную по соотношению пяти правильных
геометрических тел». Источник: KeplerJ. Mysterium
cosmographicum, 2 ed. (1621)
без сопротивления воздуха, а это значит, что мы не смо-
жем наблюдать действия этой математической формулы
в чистом виде. Хотя Галилей и провозглашал, что «дви-
жение подчиняется закону числа», но реально наблю-
даемые в повседневной жизни вещи только отдаленно
напоминали его идеальные модели. Перед естествоиспы-
тателями встал вопрос (мы к нему еще вернемся в гл. II),
какова задача естественной философии: должна ли она
стремиться к идеалу математической точности или рас-
сматривать только реальные частности, останавливаясь
Глава I. Что было известно? 387
всякий раз на конкретных проявлениях вещи. А может
быть, ей предстоит найти компромисс, который неиз-
вестно, будет ли достигнут.
К числу наиболее деятельных математиков-плато-
ников относился Иоганн Кеплер, чей труд «Mysterium
cosmographicum» (1596) утверждал математический по-
рядок в расположении планет Солнечной системы. От-
крытие Коперника Кеплер решил подкрепить понятием
математической гармонии, и он установил пропорцию
расстояния между шестью орбитами известных тогда
планет и диаметром вписанных друг в друга идеальных
платоновских тел. Платон обнаружил пять многогранни-
ков, все грани которых одинаковы и находятся на рав-
ном расстоянии от центра. Вписать эти тела друг в друга
нужно в такой последовательности: куб, тетраэдр, доде-
каэдр, икосаэдр, октаэдр {рис. 12). Сфера, описывающая
куб, моделирует орбиту самой отдаленной от Солнца пла-
неты — Сатурна. Вписанная в куб сфера — модель орбиты
Юпитера, вписанный в куб тетраэдр несет сферу Марса
и т.д. Открытие Кеплера состояло в том, что структура
Солнечной системы вполне геометрична. Это было не
просто остроумное замечание; Кеплер попытался объ-
яснить, почему это так: «Бог, творя мир и регулируя по-
рядок мира, созерцал те пять геометрически правиль-
ных тел, которые известны нам со времен Пифагора и
Платона. ...Он установил, руководствуясь этими изме-
рениями, число небес, их пропорции и соотношение их
движений». Астроном, не мысливший свою жизнь без
математики, открыл, что и Бог-Творец был математиком:
создавая мир, Он обратился к принципам геометрии для
определения расстояний между планетами. Математиче-
ская гармония сфер — это существенная черта и самого
мироустройства, и руководящих им принципов. При-
рода потому подчиняется математическим законам, что
Бог по этим законам и создавал природу.
Мысль о том, что природа создана по математическим
законам, позволила развивать дальше математическое
направление в естественной философии. Исследователи
388 Стивен Шейпин. Научная революция
физических явлений пытались доказать связь математи-
ки с чувственной действительностью, а для этого пыта-
лись вывести из простых математических принципов
конкретную реальность чувственного мира. Уверенность
в могуществе математики достигла своего апофеоза в тру-
де Исаака Ньютона (1642-1727) «Математические начала
естественной философии» (1687). Мир-машина работает
по тем законам, которые можно записать в виде матема-
тических формул: иначе говоря, книга природы написа-
на на языке математики и только на нем может быть про-
читана. Новая естественная философия представляла
собой механицизм, прореженный математикой.
Заслуги Ньютона были по достоинству оценены мно-
гими современниками, которые увидели в его трудах
наиболее последовательную и совершенную механисти-
ческую философию. Историки науки считают кульмина-
цией научной революции книгу Ньютона. Несомненно,
Ньютон подхватил стремление Галилея объединить те
области, к которым можно с полным правом приложить
единую схему естественной философии. В «Математиче-
ских началах...» математика смыкалась и с небесной ме-
ханикой, и с земной механикой. Ньютон доказал, что
эллиптическая форма орбит, обнаруженная Кеплером,
обязана двум движениям. Первое— инерционное, пла-
неты движутся с равной скоростью по прямой и поэтому
устремляются прочь с орбиты по касательной к ней. Вто-
рое — центростремительное, планеты силой гравитации
притягиваются к Солнцу, устремляясь тем самым к цен-
тру Солнечной системы. Все тела, небесные и земные,
стремятся двигаться единообразно по прямым линиям
и не изменять своему движению; но также все тела, вне
зависимости от текущего движения, испытывают грави-
тационное притяжение друг к другу. Гравитация — это
всеобщая сила, действующая обратно пропорционально
квадрату расстояний между телами: ее можно выразить
математически уравнением F = G(mm'/D2). G является
константой, то есть сохраняет одно и то же значение
во всех случаях: смотрим ли мы на притяжение между
Глава I. Что было известно? 389
Марсом и Солнцем, Марсом и Венерой или между кни-
гой в ваших руках и землей под вами. «Все тела, каковы
бы они ни были, — говорил Ньютон, — изначально наде-
лены способностью притягиваться друг к другу».
Движение в сторону гомогенизации и объективации
естественного мира, которое мы отметили уже в разго-
воре об открытии Галилеем пятен на Солнце, ускори-
лось благодаря Ньютону как никогда. Историки науки
даже связывают иногда с проектом Ньютона «крушение
старого космоса». Если традиционная наука, включая на-
уку раннего Нового времени, говорила об ограниченном
мире, в котором земные и небесные законы различаются,
то Ньютон открыл беспредельный мир, который не рас-
падается на части, по остроумному замечанию А. Койре,
только «благодаря тождеству фундаментальных правил
и законов». В этом универсуме нет никакого качествен-
ного различия небесной и земной физики, нет ни одной
области и ни одного компонента, который выпадал бы
из-под действия ключевых законов. В науке Ньютона
«астрономия и физика нашли взаимопонимание и объ-
единились благодаря общему признанию регулятивных
принципов геометрии». При этом подлинное знание
такого универсума признается объективным знанием.
Иногда говорилось, что в таком единообразном мире,
в котором беспрекословно выполняются одни и те же за-
коны, исчезло понятие цели: остались только «отвлечен-
ные тела, движущиеся в отвлеченном пространстве»16.
В мире отвлеченности и единообразия смогли выдер-
жать только материальные причины. Все естественные
процессы понимались теперь как производство явлений
в бескачественном мире и пространстве, причем произ-
водство самодостаточное и никак не соотносящееся с ме-
рой человеческого опыта. В «Математических началах»
Ньютон так определил основоположения своего нового
16 В гл. III мы попытаемся уточнить, что имеется в виду под «от-
влеченностью» пространства и законов новой науки, чтобы изба-
виться от некоторых расхожих штампов, связанных с научной рево-
люцией.
390 Стивен Шейпин. Научная революция
подхода: «Абсолютное, истинное и математическое вре-
мя, существующее само по себе и из собственной приро-
ды, текущее всегда одинаково и независимо от каких-ли-
бо внешних обстоятельств. ...Абсолютное пространство,
обладающее своей собственной природой, не соотнося-
щейся ни с чем внешним по отношению к нему, остающе-
еся всегда таким же и неподвижным». Новая наука пре-
тендовала быть совершенным синтезом знания и потому
решительно отрекалась от всякой привязки к месту и от
всякой субъективности.
Если все историки науки согласны в том, что Ньютон
полностью выполнил программу Галилея, то по вопро-
су о том, удалось ли Ньютону довести механистическую
философию до совершенства, существуют значитель-
ные разногласия. Сила гравитации, связующая весь мир,
конечно, легко описывается математически. Эта сила и
моделирует всю практику исследования математических
закономерностей в природе — тех законов, которые, по
выражению самого Ньютона, выводятся из действитель-
но наблюдаемого поведения тел. Цель таких изысканий —
вывести несомненные физические законы, а несомненные
законы нельзя вывести без помощи математики. Другое
дело, что за такую надежность новой науки была заплаче-
на высокая цена — теперь ученый должен был не изучать
явления окружающего мира с их причинами, но находить
общие законы существующих вещей. Сам Ньютон призна-
вался, что «я не способен открыть причину... тяжести из
явлений, и поэтому я не измышляю гипотезы», но ставлю
целью только «объяснить эти силы математически, не
рассматривая физических причин». Математизация уни-
версума не давала возможности исследовать систему при-
чин и понять, что вызвано механическими принципами,
что — материальными, а что — какими-либо еще. Получа-
ется, что Ньютон оставил исследование причин в сторо-
не и стал математически формулировать наблюдаемые в
природе закономерности. Хотя в другой перспективе по-
лучается, что Ньютон, напротив, предельно расширил об-
ласть объяснения явлений через механические причины.
Глава I. Что было известно? 391
Мы можем сказать только одно: Ньютон снова ввел,
или, по крайней мере, вновь сделал, акцент на роли
нематериальных активных сил. Это позволило ему кор-
ректно выстроить здание естественной философии,
особенно при рассмотрении тех эффектов, сведение
которых к механическим принципам было невозмож-
ным (или представлялось грубейшим упрощением):
магнетизм, электричество, капиллярная активность,
сила сцепления, ферментация и все явления жизни в
природе. Хотя, несомненно, причины при этом выно-
сились на обозрение в механико-материальной упаков-
ке, но практика естественной философии теперь не
сводилась к перечислению причин. Ниже (гл. III) мы
рассмотрим богословские и философские контексты,
усилившие значимость позиции Ньютона. Ньютон на-
стаивал на том, что он не покушался на механицизм;
его оппоненты, прежде всего немецкий философ Готт-
фрид Вильгельм Лейбниц (1646-1716), резко обвиняли
его в том, что он злоупотребил тем почтением, кото-
рое общество питает к математике, чтобы вновь ввести
оккультные принципы и не дать ученым расписать по
порядку совершенно механистический универсум. Для
Лейбница и других оппонентов Ньютона главным при-
знаком постижимости мировых законов было нахожде-
ние чисто механистических причин, а так как Ньютон
этого не сделал, его объяснение, например гравитации,
считалось невнятным и оккультным. Но и сам Ньютон
считал нелепостью смотреть на тяжесть как на действие
тел на расстоянии без посредничества других матери-
альных тел! — и упорно пытался найти то «среднее», че-
рез что и осуществляется гравитационное притяжение.
Но потом было признано, что сила гравитации тоже
может быть понята и без установления механизмов, до-
статочно просто всякий раз смотреть, как она действу-
ет. Теория была признана истинной не потому, что она
объясняет механическое действие причины, но пото-
му, что она объясняет непосредственно происходящее
в текущем времени.
392 Стивен Шейпин. Научная революция
Следовательно, не так легко сказать, глядя из нашего
времени, чем было открытие Ньютона. Было ли оно вер-
шиной механистической философии? Или ее опровер-
жением, путем введения новых оккультных качеств? Или
учреждением новой научной практики, для которой нуж-
но было выработать новые философские стандарты про-
верки? Философы конца XVII — начала XVIII в. сломали
немало копий в обсуждении того, что делать с теорией
Ньютона. Одни говорили, что он довел механицизм до
совершенства, другие — что он попрал его, и они не мог-
ли прийти к общему выводу, достаточно ли механиче-
ских причин для объяснения физических явлений. Эти
споры — удел не только истории науки, но и самоопреде-
ления сегодняшнего знания.
Глава II
КАКИМ ОБРАЗОМ ДОСТИГАЛОСЬ ЭТО ЗНАНИЕ?
1. Чтение книги природы
Среди свойств «новой науки», пожалуй, мы не можем
назвать другого столь же замечательного, как постоянные
заявления тех, кто двигал ее вперед, о чрезвычайной но-
визне всего, что они делают. Философы, будь они меха-
ницистами или сторонниками корпускулярной теории,
со всей живостью доказывали здесь и там, что их новации
представляют собой радикальный отход от обычного со-
става научного знания. Они выпускали книгу за книгой, где
проводили мысль о новизне, прежде не виданной, но от-
крывающейся любому читателю при чтении этих строк.
Сами заглавия трубили о новаторстве, увлекшем авторов:
в области физики Галилей выпустил «Беседы и математи-
ческие доказательства двух новых наук», в астрономии Ке-
плер назвал свой труд просто «Новая Астрономия», в хи-
мии и экспериментальной философии Бойль опубликовал
огромный свод трактатов под общим названием «Новые
эксперименты», Паскаль рассуждал о вакууме в «Новых экс-
периментах о пустоте» точно так же, как Отто фон 1ерике
говорил об этом предмете, конечно же, в «Новых Магде-
бургских экспериментах о пустом пространстве». «Новый
органон» Бэкона был заявлен как новый метод, предназна-
ченный заменить традиционный «органон» (свод логиче-
ских трудов Аристотеля), а «Новая Атлантида» представ-
ляла собой небывалый набросок формального подхода
к социальной организации научно-технического знания.
394 Стивен Шейпин. Научная революция
Новизна возникавших тогда научных практик должна
была засчитываться в их пользу. Традиционные запасники
научного знания и традиционные способы его сохранения
и применения оказались чем-то невнятным: они были со-
чтены презренным наследием, от которого можно только
отвернуться. Разумеется, и все старые философы предста-
вали карикатурой на мудрость — все их интеллектуальные
изыски и логическая изощренность оказывались ходуль-
ными и излишними. В Англии XVII в. самодеятельные «но-
вые» ополчались против своих же современников «древ-
них», не отказывавшихся почитать древнюю традицию.
Самые задорные из «новых» даже заявляли, что все пред-
шествующие научные практики устарели и мы ни в чем не
обязаны античным ученым — их труды если и сообщают
нам что-то, то разве что о способности их авторов жить
иллюзиями и, не желая действовать собственным умом,
доверяться чужому уму. В ответ приверженцы «древних»,
сообщество которых в XVII в. вовсе не было слабым, об-
зывали своих противников «филистимлянами», которые
не стыдятся выставлять свое невежество перед людьми и
отказываются учиться только потому, что они не способ-
ны тщательно и вдумчиво усваивать созданное древними.
Архитектурная метафора, примененная Бэконом,
много раз повторялась сторонниками обновления на-
уки, почувствовавшими ее радикально модернизацион-
ный заряд. Бэкон писал, что традиционные философы
настолько ничтожны, что «нам остается только один
путь... переработать всю вещь науки по лучшему плану
и предпринять совершенную реконструкцию наук, ис-
кусств и всего человеческого знания, которое только тог-
да будет воздвигнуто на своих собственных основаниях».
Во Франции Декарт точно так же заявил, что все, прежде
считавшееся философией, было не так уж ценно. Он, как
мы помним, заперся в комнате перед пылающим ками-
ном, навсегда отложив в сторону те философские тексты,
которые он читал до этого. Он говорил, что его фило-
софский проект в любом случае будет лучше, чем если бы
он «строил только на старых основаниях». А английский
Глава П. Каким образом достигалось это знание? 395
ученый-экспериментатор Генри Пауэр (1623-1668) сле-
довал уже по проторенной новыми философами дороге,
когда восхвалял возможности нового научного мышле-
ния: «Что до меня, то мне приятно думать, как все ста-
рые руины сносятся прочь и все обрушившиеся здания
уже сровнялись с землей... Настали дни, когда будут из-
ложены новые основания много более величественной
философии, которую уже никому не низвергнуть». Та-
кое захватывающее чувство новизны нашло выражение
и в господствующих мотивах историков, так что даже
историографы и философы XX в. с трудом могли дис-
танцироваться от риторики предшествующих «новых»,
чтобы выяснить действительное соотношение риторики
обновления XVII в. и исторической реальности.
Не нужно и говорить, что ни одно здание не строит-
ся из совершенно новых материалов, да и план нельзя
сделать таким, чтобы он вовсе не напоминал о прежних
опытах, да и вообще, ни одно из явлений культуры не
строится на полном отвержении прошлого. Историче-
ские изменения идут сложными путями, и в большинстве
«революций» изменения оказываются не столь ради-
кальными и всесокрушающими, какими они заявляются
или предполагаются1. Так, новая астрономия Коперника
1 Правда, Декарт открыто смущался, что его вариант методоло-
гического обновления не будет принят общественностью: «Никак
не может быть похвальным притязание какого-либо частного лица
реформировать государство путем изменения всего, путем перевора-
чивания и выворачивания всех обстоятельств наизнанку, с тем чтобы
потом расположить их в правильном порядке. Но тем не менее весьма
вероятно, что весь состав наук и весь порядок их изучения, принятый
в школах, должен быть реформирован. ...Если мы говорим о больших
совокупностях (букв.: телах), то нельзя не признать, что это нелегкая
задача — снова их приподнять, когда они уже один раз упали... и их па-
дение тоже не может состояться иначе, как с причинением большого
насилия». Его максимы метода были предназначены, по его собствен-
ным словам, для него самого: в них нашла приют его собственная ситуа-
ция философа, его собственный, ни на что не похожий темперамент.
Хотя, конечно, можно долго обсуждать, насколько приведенная ого-
ворка органична для мысли Декарта и насколько она сказалась в его
дальнейших рассуждениях.
396 Стивен Шейпин. Научная революция
сохранила представление Аристотеля о совершенстве
кругового движения, и тем же самым представлением
до конца жизни руководствовался Уильям Гарвей (1578-
1657), открывший полный круг кровообращения. Само-
сознание и практика астрономии раннего Нового време-
ни зависели теснейшим образом от данных наблюдения,
которые собрали и свели в таблицы древние; и в этом
смысле астрономы-практики XVI и XVII вв. не изобрета-
ли ничего нового: при всей возможной революционно-
сти своих намерений, они не могли расстаться с этими
простыми данными. Как мы покажем в гл. III, многие фи-
лософы-механицисты, хотя и объявляли гласно о своем
отречении от телеологии, все равно сохраняли ее в своих
частных объяснениях, потому что строили свои объясне-
ния вполне последовательно и целесообразно. Риторика
обновления, которая приветствовала все совершенно
новое и полностью отвергала прошлое, конечно, вы-
глядит преувеличением в сравнении с исторической ре-
альностью. Коперник, как и многие его последователи,
доказывал, что гелиоцентризм — это одно из античных
воззрений и что оно не вошло в школьные курсы толь-
ко из-за позднейших наслоений. А фламандский анатом
Андреас Везалий (1514-1564), который признается изо-
бретателем методов точной диагностики и критиком
античных анатомических воззрений, считал себя просто
возобновителем в былой чистоте медицинского учения
античного физиолога Галена (129 — ок. 200). И даже кар-
тезианская методология, превозносимая за радикальное
вытеснение прежних познавательных практик и преж-
ней организации познания, воспринималась современ-
никами как созидание системы, а не ее разрушение.
О Декарте многие при жизни говорили как о человеке,
покусившемся занять место величайшего философа:
«Посмотрите! Он становится новым Аристотелем».
«Новые» и «старые» воззрения на природу разрабаты-
вались в одно и то же время, и их приверженцы боролись
друг с другом за право представлять себя как новыми или
древними. Некоторые практики науки утверждали, что
Глава II. Каким образом достигалось это знание? 397
то, что было на самом деле новое, якобы восходит к ис-
конной древности, тогда как другие говорили, что пре-
жде казавшееся традиционным вполне соответствует
запросам сегодняшнего дня и не может быть оспорено
интеллектуальным путем. В гл. I мы упоминали позицию
Бэкона, считавшего, что современные прорывы в есте-
ственно-научном знании — это исполнение ветхозавет-
ного пророчества, а в гл. III мы еще скажем о том, что
некоторые деятели новой науки считали, что рост техни-
ческого контроля над природой — это исполнение хри-
стианской миссии человека. На каждого деятеля науки,
который объявлял осуществлявшиеся на его глазах нова-
ции ценнейшим приобретением, находился другой, для
которого все новейшие мнения были признаком фунда-
ментального невежества. Научная революция была все-
общим обновлением, но всеобщим только с одной сторо-
ны. Тем не менее риторика всецелого отвержения старой
науки и замены ее новыми познавательными практиками
заставляет нас уделить большее внимание тому, каким
образом деятели науки располагали себя в отношении
к существующим философским традициям и институтам.
Было бы совершенно неверно говорить о существо-
вавших тогда традициях естественной философии, что
они происходят не из очевидной естественной реаль-
ности, но из авторитета отдельных писателей и текстов.
Если ученый должен был обосновать какую-то истину о
естественном мире, ему нужно было обращаться не к ав-
торитету книг, но к авторитету индивидуального разума
и очевидности естественной реальности. Английский
философ природы Уильям Гильберт (1544-1603), напри-
мер, посвятил свою книгу 1600 г. о магнетизме всем «ис-
тинным философам, тем одаренным умам, которые ищут
знание не только в книгах, но и в самих вещах». Это,
как говорил Гильберт, и был «новый стиль рассуждать о
философии». Когда Декарт затворился, чтобы побыть
наедине с собой, он сделал это лишь для того, чтобы «ис-
кать лишь то знание, которое я могу найти внутри себя
самого, или же в великой книге природы». И Уильям
Рис. 13. Иоганн Гевелий и его вторая жена, Елизабета Коопман,
используют секстант для астрономических наблюдений. Елизабета
была на тридцать шесть лет моложе своего мужа и составила
в браке выгодную партию мужу — из ее приданого было оплачено
строительство обсерватории. Также она помогала Гевелию
производить наблюдения и писать отчеты о результатах. После
кончины Гевелия она подготовила к печати его неизданные труды.
Источник: HeveliusJ. Machina coelestis pars prior (1673)
Глава II. Каким образом достигалось это знание? 399
Гарвей тоже говорил, что «досадно... выискивать настав-
ления в чужих ученых записках, не исследуя сами пред-
меты, тем более когда книга Природы лежит перед нами
открытая и обратиться к ней так легко». Открытая книга
природы— это один из главнейших риторических мо-
тивов, который применяли новые философы-практики,
чтобы отличать себя от старых. Действительным пред-
метом исследования естественной философии признава-
лись не превозносимые в веках книги греков и римлян,
но единая Книга Природы.
Швейцарский медик и создатель своеобразной есте-
ственной магии Парацельс (1493-1541), по времени
принадлежащий Возрождению, яростно уверял, что
все, кому нужна истина в медицине, должны отложить
подальше древние тексты и напрямую посвятить себя
изучению трав, минералов и звезд. Естественная реаль-
ность, по его словам, «как письмо, которое было послано
нам с расстояния в сотни миль, но в котором говорит с
нами ум его написавшего». Парацельс говорил, что ни-
когда не «сочинял учебники на основе выписок из Гип-
пократа и Галена», но пишет их наново, «созидая их на
опыте, и только». «Если я желаю одобрить что-либо, я не
цитирую авторитетов, но произвожу опыты и привле-
каю собственный рассудок». Когда Галилей выступал в за-
щиту математически понятой естественной философии,
он тоже использовал образ книги природы: «Философия
написана в сей великой книге, и универсум постоянно от-
крыт, чтобы мы наполнили свои сокровищницы... Книга
эта написана на языке математики, буквы ее — треуголь-
ники, круги и прочие геометрические фигуры, без кото-
рых человек не сможет понять в ней ни слова». В 1660-х гг.
Бойль писал, что «всякая страница в сем великом томе
природы наполнена действительными иероглифами, где
(путем обращения выразительности внутрь себя) вещи
засчитываются за слова, а их качества — за буквы». Только
немногие естественные философы того времени не упо-
минали о Книге Природы и требовали непосредственно
смотреть при этом на природные явления, пренебрегая
400 Стивен Шейпин. Научная революция
Рис. 14. Астроном (вероятнее всего, сам Гевелий) наблюдает
за звездами в телескоп. Гевелий был известен остротой своего
зрения, поэтому его наблюдениям доверяли. Обсерватория Гевелия
располагалась на крыше его собственного дома и была в 1660-х гг.
одной из важнейших обсерваторий Европы. Источник: HeueliusJ.
Selenographia(1647)
текстами авторитетных ученых, сколь бы древними и це-
нимыми они ни были.
Ни одно из требований обновления в XVII в. не звучит
с большей очевидностью, чем это: новые исследователи
ссылаются не на свидетельство людей, но на свидетельство
Глава П. Каким образом достигалось это знание? 401
самой природы; они благоволят вещам, а не словам как
источнику знания; они предпочитают увиденное своими
собственными глазами и постигнутое собственным рас-
судком всему услышанному от других. Здесь коренится
современный эмпиризм: воззрение, что всякое действи-
тельное знание должно непосредственно выводиться из
чувственного опыта. Но здесь же обозначается и совре-
менное недоверие к социальным аспектам производства
знания: если ты действительно хочешь добиться истины
о естественном мире, забудь о традиции, не обращай вни-
мания на авторитеты, скептически относись ко всему,
что говорят другие, и бреди один по полю знания, про-
сто открыв глаза на вещи. Как сказал Джон Локк: «Мы не
больше можем надеяться на то, чтобы увидеть вещи гла-
зами другого, чем на то, чтобы понимать чужим понима-
нием. Таким образом, мы чем более видим и схватываем
истину и разумение, тем более приобретаем реальное и
истинное знание... В науках каждый приобретает столь-
ко, сколько реально знает и понимает. А все убеждения,
которые он принимает на веру, — это чужие лохмотья».
Пожалуй, не найдется другой такой чувственной
установки, которая так плотно бы связывала обновле-
ние XVII в. и XX в., как поощрение интеллектуального
индивидуализма и отвержения доверия к авторитетам
на пути к естественно-научному знанию. Тем не менее
риторика индивидуального эмпиризма не была такой уж
самоочевидной и беспримесной для деятелей науки ран-
него Нового времени. Как практики наблюдений, так и
основания доверять наблюдениям в этот период счита-
лись проблематичными. Триумф новой науки ехидно от-
теняется историей о простоватом профессоре из Падуи,
отказавшемся смотреть в телескоп Галилея, чтобы соб-
ственными глазами разглядеть новооткрытые спутники
вокруг Юпитера. Что мы сейчас можем сказать о челове-
ке, для которого важнее всего — авторитетная традиция
и который при этом считает, что эти спутники не могут
существовать, даже если находятся у него перед глазами?
В XX в. такой человек однозначно выглядел бы чудаком.
402 Стивен Шейпин. Научная революция
Тем не менее в культуре раннего Нового времени су-
ществовали хорошо подкрепленные оправдания такого
весьма эксцентричного, на наш взгляд, выбора. Если,
скажем, наблюдения Галилея в телескоп представлялись
как доказательство одних астрономических теорий и
опровержения других, нужно было еще доказать, что мы
действительно видим все это без искажений. Единствен-
ный способ проверки телескопа на наличие искажений —
рассмотрение через него вещей на земле. Когда Галилей в
1611 г. прибыл в Рим показывать сконструированный им
телескоп, он пригласил выдающихся философов Рима
подняться на одну из башен городских ворот. Посмотрев
в телескоп с этой высокой точки, они смогли во всех
деталях разглядеть один из графских дворцов «с такой
четкостью, что мы пересчитали все окна, даже самые ма-
лые, хотя расстояние до дворца составляло шестнадцать
итальянских миль». И с той же самой точки наблюдатели
смогли прочесть надпись над галереей, стоявшей на рас-
стоянии двух миль, «так четко, что мы различили даже
знаки препинания, а не только буквы». Итак, правиль-
ность телескопических наблюдений земных объектов
подтверждалась сравнением того, что было видимо ин-
струментально, с тем, что было известно из непосред-
ственного наблюдения.
Тем не менее в философской культуре раннего Нового
времени все еще считалось, что если телескоп направить
от земных вещей к небесным, то все может случиться со-
вершенно иначе. Как формальные, так и неформальные
тогдашние теории человеческого видения ничего не мог-
ли сказать в пользу телескопического обзора небес. Все
мы знакомы с земными предметами и их фоном, и мы
невольно вспоминаем знакомый облик, исправляя целую
градацию явных инструментальных искажений. Но нель-
зя говорить о том, что небесные тела нам точно так же
знакомы и вообще являются предметом повседневных
наблюдений. Поэтому, если мы хотели подтвердить, что
телескоп Галилея дает действительную картину небес,
мы должны были создать новую и не менее влиятельную
Глава П. Каким образом достигалось это знание? 403
теорию видения — но ничто нам особо не говорит о том,
что Галилей располагал такой теорией.
Но все же, даже если какой-то современник Галилея,
в отличие от упомянутого падуанского профессора, при-
нимал предложение ученого и начинал смотреть через
телескоп прямо на небесные тела, не было никакой га-
рантии, что он увидит то же, что видел Галилей. Открыв
спутники Юпитера, Галилей вовсе не возвеличивал себя,
но просил знаменитых тогда ученых разделить с ним
радость его видения. И многие эти свидетели, призна-
вавшие, что через этот телескоп дивным образом увели-
чиваются и предстают четкими наземные вещи, тем не
менее говорили, что телескоп дает неверное представле-
ние о всех небесных явлениях. Один из коллег написал
Галилею, что своей конструкцией «он ничего не добился,
потому что, хотя присутствовало более двадцати образо-
ванных людей, никто не смог четко различить новоот-
крытые [луны Юпитера]... Только те, кто обладал острым
зрением, вынуждены были хотя бы частично признать их
существование». Такой подход к делу не должен казаться
нам чем-то разочаровывающим. Ведь смотрение через
телескоп (или микроскоп) представляет собой натре-
нированное смотрение при специальных условиях. Так
как мы с вами, читатель, изучали эти условия на студен-
ческой скамье, мы имеем огромные преимущества перед
современниками Галилея. Мы принадлежим к культуре,
заведомо признающей полезность таких инструментов,
при условии правильного их использования, и потому
уже заранее решили для себя, какого рода вещи существу-
ют в сфере весьма отдаленного и в сфере весьма малого,
и это все подразумевает те структуры авторитета, кото-
рые и обучают нас навыкам видения и учета. Галилей не
располагал никакими из этих ресурсов признания; они
тогда еще не были тщательно разработаны и тем более
распространены. Хотя и правильно будет сказать, что ин-
струментально опосредованный опыт небес сыграл важ-
нейшую роль в оценке астрономических теорий, сейчас
насущно будет понять, насколько выигрышным может
404 Стивен Шейпин. Научная революция
быть такой опыт и сколько усилий требовать, чтобы пре-
вратить его в критерий оценочных суждений.
Но тут же встают и другие общие проблемы, связан-
ные с современным пониманием индивидуального чув-
ственного опыта при оценке традиционно устроенных
областей знания. Христианское богословие внушало лю-
дям, что чувства людей, отпавших от благодати при гре-
хопадении, испорчены и, значит, нельзя доверять помра-
ченным чувствилищам при приобретении правильного
знания. Среди новых ученых Бэкон был далеко не един-
ственным, кто считал, что до грехопадения Адам владел
«чистым и неповрежденным знанием природы», кото-
рое и позволило дать ему всем тварным вещам подобаю-
щие им имена. Галилей говорил, что Соломон и Моисей
«знали строение мира совершенным образом», а позднее
Бойль и Ньютон предполагали, что существовала много-
вековая последовательность особо одаренных индиви-
дов, в которых оставалась целой и невредимой чистая и
могущественная древнейшая мудрость, поневоле застав-
ляя читателей думать, что они и могут быть современны-
ми представителями этой мощнейшей традиции. В более
мирском изводе идея линейного интеллектуального про-
гресса и накопления знаний казалась слишком новатор-
ской, и поначалу на нее смотрели косо. Многие ученые,
включая самых выдающихся естественных философов
раннего Нового времени, принимали как само собой
разумеющееся, что древние обладали лучшим знанием и
более эффективными техниками познания, чем те, кото-
рые были налицо в XVI и XVII вв., и вообще, чем те, кото-
рые могут создать современные люди даже объединени-
ем своих усилий. Руины непревзойденных на тот момент
греческих и римских инженерных сооружений говорили
в пользу этой идеи. Более того, самоочевидное для нас
мнение, что любое свидетельство и любой авторитет
нужно сохранять только тогда, когда у нас нет возмож-
ности экспериментальной проверки, как заметил фило-
соф Ян Хакинг, на самом деле было придумано только в
рассматриваемый нами период, в рамках новой культуры
Глава П. Каким образом достигалось это знание? 405
суждений. «Ренессанс относился к вопросу иначе. Сви-
детельство и авторитет стояли на первом месте, и вещи
принимались как очевидные (доказательные), только
если они отвечали свидетельствам наблюдателей и авто-
ритетным заявлениям в книгах».
Единственным сильным аргументом в поддержку
личных наблюдений, которые могут перевесить запечат-
ленную в текстах традицию, был скорее античным, чем
современным. Тогда считалось, что подлинно античные
тексты — это много более ценные источники истины о
естественном мире, потому что признано было, что из-
начально чистый источник древней истины был со вре-
менем замутнен. Роберт Гук проводил аналогию между
политическим упадком и измельчанием философии:
«О великих Империях говорится, что лучший способ
сохранить их от упадка— вернуть их назад к первона-
чальным принципам... на которых они начинали. То же
самое, без сомнения, верно и в отношении к филосо-
фии». Таким образом, двинуться вперед можно было,
только уйдя назад: главной предпосылкой прогресса
признавалось очищение. На одном краю Бэкон считал
самого Аристотеля исказителем первоначальной и по-
настоящему ценной естественной философии, тогда
как другие новые ученые чтили Аристотеля и отвергали
только своих современников аристотеликов-схоластов.
Уильям Гильберт был только одним из многих естествен-
ных философов раннего Нового времени, который от-
вергал авторитет школ, выстраивая новую генеалогию,
которая позволяла привязать новые положения к преж-
ним чистым, влиятельным и древним учениям. Получа-
лось, что в древние тексты попадало все больше ошибок
из-за «переписчиков», и непосредственный опыт служит
только тому, чтобы исправить эти ошибки. Бэкон пред-
положил, что науки «расцветали более всего в руках са-
мого первого автора, а после только вырождались». Сама
древность аристотелевской традиции знаменовала, что
изначальный состав знания прошел через многие интер-
претации, каждая из которых только портила начальный
Рис. 15. «Астропойкилопиргиум» (греч.: «башня, разукрашенная
звездами») — «храм астрономии», изображенный на титульном листе
книги И. Кеплера «Рудольфовы таблицы» (1627). Кеплер велел
создать иконографическое выражение своей веры в подлинный
прогресс астрономии с древнейших времен до XVII в. Колонны,
грубо сложенные из кирпичей, символизируют приблизительность
и примитивность античной астрономии, тогда как Коперник и
Тихо Браге увековечены в элегантных колоннах, ионического
и коринфского ордера, с их именами. Таким образом, новые
превосходят древних по изощренности и точности знания. На карте,
размещенной на фронтальной базе здания, изображен остров Вен
в Дании, на котором находилась обсерватория Тихо Браге.
Сидящая фигура на таблетке слева от фронтальной — сам Кеплер
Глава II. Каким образом достигалось это знание? 407
вариант: «Время подобно реке, которая приносит нам
вещи облупленными и подгнившими, тогда как внача-
ле они были полновесными и невредимыми». В том же
самом духе Бойль писал, что он не доверяет цитатам из
других авторов, которые встречаются в книгах: слишком
часто, по его наблюдениям, цитаты были неточными,
а иногда они даже были намеренно сфабрикованы.
Традиция ренессансной учености, известная как
гуманизм, прежде всего настаивала на сложных отно-
шениях между ценностями индивидуального опыта и
авторитетом античных текстов. Гуманизм представлял
собой культурную практику, нацеленную на обновление
знания путем филологической проверки и исправления
оригинальных источников на греческом и латыни — гу-
манисты не нуждались в своей работе в позднейших
комментариях, выполненных христианскими и арабски-
ми учеными, и считали, что они только искажают дело.
Ученые-гуманисты воспринимали любую рукопись как
порчу исконного текста неграмотными переписчиками
и жаловались, что действительная мудрость древних про-
пала за частоколом надуманных и вредных комментари-
ев. Практика гуманистической литературной учености
была теснейшим образом связана с филологической на-
блюдательностью. Так, например, когда астрономы XVI
и XVII вв., включая Кеплера (см. рис. 15), настаивали на
относительной грубости античной астрономии в срав-
нении с современными ее усовершенствованиями, дру-
гие астрономы, включая Ньютона, видели свою задачу в
раскрытии перед современниками утраченной мудрости
древних, и потому они много сил тратили на филологи-
ческие исследования, которые могли бы поддержать их
предприятия. Некоторые гуманисты даже приходили к
выводу, что истина древних текстов может быть восста-
новлена путем непосредственных наблюдений над при-
родой. Индивидуальное наблюдение, таким образом,
становилось средством определить, какой из списков
греческого или латинского трактата нужно считать наи-
более соответствующим изначальной рукописи.
408 Стивен Шейпин. Научная революция
Такой тонкий и последовательный гуманистический
побудительный мотив к непосредственному наблюдению
отличал большой спектр научных практик раннего Ново-
го времени, но наиболее эффектно он выступил в есте-
ственной истории XVI в. Именно в это время было осо-
знано, что доступные тексты таких греческих и римских
естественных историков, как Феофраст (ок. 372-287 до
н.э.), Плиний Старший (23-79), Диоскорид (акме: 54-68)
и Гален, представляли собой некачественные списки со
списков. Издания готовились слишком несходные, и ру-
кописи, ложившиеся в их основу, были неполными и по-
врежденными. Каким же образом можно было обрести
изначальные, беспримесные и тщательные, описания
растений и животных? Если говорить об истории чело-
века и культуры, то здесь предлагался только один при-
емлемый метод: филологическое сличение различных
рукописей. Но если речь заходила об истории растений
или истории животных, то тексты надобно было сли-
чать с непосредственно наблюдаемыми в живой природе
предметами, исходя при этом из своего рода культурно-
го добродушия: предположения, что формы растений и
животных не изменились с ходом времени. Наблюдение
помогает принять единственно верное решение, каким
было оригинальное античное описание этих предметов,
и, более того, какие античные названия и описания соот-
ветствуют каким существующим растениям и животным.
Более того, разве не этим же занимались сами античные
авторитеты? Разве не был Аристотель непосредствен-
ным наблюдателем за естественным миром? Разве не со-
ветовал Гален, рекомендуя практикам науки «преуспеть
в опыте касательно всех предметов растительного и жи-
вотного мира, а также металлов... через то, что вы буде-
те осматривать их не единожды или дважды, но часто»?
И таким образом, с утверждением непосредственного
наблюдения, ботаники XVI в. стали лучше понимать соб-
ственные научные источники. Древние не дополняли
свои словесные описания иллюстрациями, опасаясь, что
художник не сможет перерисовать растение с требуемой
Глава П. Каким образом достигалось это знание? 409
тщательностью или понять сезонные изменения внеш-
него вида растений, но вот печатные книги таких не-
мецких ренессансных ботаников, как Отто Брюнфельс
(ок. 1488-1534) и Леонард Фукс (1501-1566), предлагают
читателям детализованные иллюстрации, выполненные
ксилографически, — одновременно это непреходящие
фиксации реальности флоры и шаблоны, дисциплиниру-
ющие чужие наблюдения (рис. 16).
Побуждения христианской веры тоже были важны в
этой связи. Книга Природы должна была предпочитать-
ся всем схоластическим текстам, потому что она была
написана рукой Божией. Весьма распространено было
выражение, что Бог написал две книги, по которым по-
знаются и Его свойства, и Его намерения. Первая кни-
га— Священное Писание, а вторая книга, у которой в
раннее Новое время появлялось все больше читателей, —
Книга Природы2. Протестантская Реформация XVI в.
сделала особый упор на том, чтобы каждый христианин
желательно чаще напрямую читал Писание, не полагаясь
на интерпретации священников и богословов. А изобре-
тение типографского станка с наборным шрифтом в се-
редине XV в. сделало уже реализуемым это требование —
читать Библию у себя дома. Точно такие же побуждения
двигали теми, кто дерзал сам, без посторонней помощи,
читать Книгу Природы, уже не полагаясь на традицион-
ные интерпретации институционально авторитетных
ученых прошлого. Непосредственный опыт природы
ценился именно как вовлеченность в познание текста,
написанного рукой Божией.
Конечно, в таком предпочтении непосредственного
соприкосновения с вещами авторитету древних текстов
выразились и более современные предощущения. В гл. I
мы уже приводили мнения, свидетельствующие, что
естественный мир, к которому искали доступ философы
2 Метафора книги природы употреблялась и в ранней патристи-
ке, так, она встречается в трудах блаженного Августина. Но в эпоху
Ренессанса и раннего Нового времени этот образ обрел прежде не-
виданную рельефность.
PICTURES OPERIS,
Рис. 16. Как производились ботанические наблюдения и зарисовки
в середине XVI в. Иллюстрация взята из книги Леонарда Фукса
«Об истории растений» (1542). Мы видим, что один человек
(правый верхний угол) делает зарисовку образца (в данном случае —
цветущего куколя), другой человек (левый верхний угол) собирает
рисунки в альбом, а третий (нижняя часть) переплетает этот
альбом. Фукс уверял своих читателей, что изображенный коллектив
«приложил огромнейшее усердие, чтобы всякое растение было
изображено со всеми корнями, стеблями, листьями, цветами,
семенами и плодами»
Глава П. Каким образом достигалось это знание? 411
раннего Нового времени, просто был больше и разно-
образнее, чем мир, известный древним. Философские
схемы, построенные на ограниченном знании, стали ка-
заться ошибочными просто по той причине, что поле
опыта с тех пор значительно расширилось: например,
путешественники открыли земли Нового Света, и это
было важным подспорьем для утверждения скептическо-
го отношения к былым философским системам. Ренес-
санс засвидетельствовал переоценку возможных целей,
которые ставятся перед человеческим знанием, и внушил
большее доверие к перспективам интеллектуального и
технического прогресса. Агрессивная риторика научного
обновления, относящаяся уже к XVII в., просто-напросто
отвергала освященные временем ссылки на античную уче-
ность и на установленные в той же Античности ресурсы
знания. В те времена стало возможно отрицать не только
тогдашних последователей науки древних греков, но и са-
мого Аристотеля. Некоторые из научных новаторов под-
держали Гоббса и стали описывать древнегреческую фи-
лософию как наполненную «хвастовством и мерзостью»,
но большинство все же просто спокойно указывали на ее
недостатки в сравнении с современными способами ра-
ционального доказательства и умением общаться с при-
родой и ее объектами. Таким образом, произошла смена
ценностей: главным стал считаться непосредственный
опыт, и любое авторитетное суждение в тексте уже могло
быть оспорено, исходя из данных самого опыта.
Философы раннего Нового времени, начиная с Бэко-
на и Гоббса, просто перевернули ту историческую схему,
в которой Античность получала свой интеллектуальный
авторитет. «Старая эпоха мира, — писал Бэкон, — и долж-
на считаться настоящей древностью, но это все — свой-
ство нашего нынешнего времени, а вовсе не прежней
эпохи, в которую довелось жить древним». Таким обра-
зом, нет ничего, что оправдывало бы защиту древних
греков: только мы сами можем отвечать за свои действия,
если мы примем как должное пользу от накопления опы-
та и признаем ту мудрость, которая в этом проявилась:
412 Стивен Шейпин. Научная революция
«Если учитывать авторитет, то немощный ум не столь
уж обязан авторитету, и потому он не должен отрицать
собственные права, потому что ум — автор всех авторов
и авторитет над всеми авторитетами. Поистине, право-
та называется дочерью времени, а не дочерью какого-то
отдельного авторитета». Имея всего лишь то преимуще-
ство, что мы «новее», можно было утверждать, что мы
знаем больше и лучше, чем древние. Идея интеллекту-
ального прогресса, таким образом, была провозглашена
естественной ходом самой истории.
2. Состав опыта
В своей основе предписания новых были ясны: нужно
добывать опыт собственными усилиями и смотреть не на
слова и не на освященные традицией авторитеты, но на
сами вещи. Опыт, формировавшийся тогда, должен был
лечь в основу настоящего научного знания и упорядо-
чить собиравшиеся тогда общие представления о том,
как работает природа в целом. Но о какого рода опыте
следовало говорить? Каким образом можно достичь та-
кого опыта? И как можно было перейти от частного
опыта к обобщениям касательно естественного порядка,
какова должна была быть мера столь резкого перехода?
Философы-практики раннего Нового времени трати-
ли много сил на то, чтобы ответить на эти вопросы. То,
что один мыслитель считал практически важным (на-
пример, опыт, задающий границы истины и непосред-
ственно направляющий на нее), другой считал сомни-
тельным или философски невнятным. Одни мыслители
в своей философской практике основательно продол-
жали Аристотеля, но жившие с ними рядом современ-
ники говорили, что авторитет древности должен под-
тверждаться авторитетом современности. Целью всех
этих ученых было привести научные доказательства,
иначе говоря, показать, как именно выводы касательно
эффектов в природе необходимым образом следуют из
Глава II. Каким образом достигалось это знание? 413
несомненного и рационально обустроенного знания их
причин. В абстрактных математических науках начала раз
и навсегда происходят из того, что принято как очевидное
и необсуждаемое, как, скажем, аксиома геометрии Евкли-
да: «Целое болыпелюбых своих частей». Но внауках, кото-
рые работают с физическим миром, все начала остаются
на уровне эмпирических заявлений, которым приписы-
вается самоочевидный характер математических аксиом.
Историк Питер Деар заметил, что термин «опыт» в
схоластической естественной философии XVI и XVII вв.
означал универсальное утверждение факта. Предпола-
галось, что опыт развивается на основе закономерного
собирания множества доступных данных, а универсаль-
ность наделяет опыт несомненностью истины, которая и
дает все преимущества в логической научной демонстра-
ции причинностной структуры мира. Аристотель и мно-
гие его последователи принимают естественные явления
как само собой разумеющиеся: это утверждения того, как
именно вещи ведут себя в естественном мире, и они мо-
гут выводиться из любого числа источников — из общего
или экспертного знания, которое может быть выдвину-
то или схвачено компетентными лицами или извлечено
из хранилищ нашей памяти. Возьмем, например, опыт,
на который ссылается Аристотель вместе со своими по-
следователями, которые как очевидность принимают не-
подвижность Земли — стрела, запущенная прямо вверх,
падает в ту точку, из которой она вылетела. Или другой
опыт, что тяжелые тела падают или что солнце садится
на западе. Все это вполне опыты что надо, и можно гово-
рить о них как о достоянии всех компетентных людей,
они засчитываются за утверждения о том, как вообще
все происходит в мире, или, как выражался Аристотель,
«всегда или по большей части». Опыт, который выдви-
гался в ходе такой практики, ложился на добросовестно
обработанный частный опыт, хотя и доступный чувству
любого, и именно такой опыт был важен в естественной
философии. В таком сопряжении участие проводящего
опыт было важно, но оно было подчинено обобщенной
414 Стивен Шейпин. Научная революция
структуре аргументации, которая была нацелена на обес-
печение знания о природе общим характером и непре-
рекаемой несомненностью. Чтобы достичь философски
достоверного знания обычного хода вещей, нужно было
ссылаться на опыт, который свидетельствует именно об
этом ординарном порядке. Все несомненные и всеобщие
заключения требовали столь же несомненных и всеоб-
щих предпосылок. Все дискретные и частные события
должны были быть поставлены на службу этой цели,
и знание их должно было показывать, не лжет ли и не
ошибается ли свидетель, — ведь те инструменты, которые
были применены, могут исказить естественный порядок
вещей, а отдельные события, о которых сообщили, могут
оказаться не в порядке вещей, а, напротив, аномалиями
в порядке исключения.
Предпочтение опыта того, «что случается в мире», со-
ставило важное основание для практической науки таких
новаторов, как Галилей, Паскаль, Декарт и Гоббс. И хотя
реформаторы науки и массированно критиковали заяв-
ления, понятия и процедуры естественной философии
Аристотеля, тот «опыт», к которому они взывали, часто
был построен предсказуемо традиционным образом. Так,
Декарт замечал, что, хотя эксперименты необходимы в
естественной философии, в целом «гораздо лучше про-
сто употреблять то, что вещи спонтанно предоставляют
нашим чувствам», а Гоббс даже признавался, что искус-
ственный эксперимент излишен, потому что достаточно
опыта, «показанного высокими небесами, морями и всей
ширью земной».
Одним из самых знаменитых примеров наглядного
эксперимента эпохи научной революции были опыты
Галилея с наклонной плоскостью, когда шары катились
по шершавой наклонной плоскости, что должно было эм-
пирически подтвердить математически сформулирован-
ный закон падения тел. Отчет Галилея об экспериментах,
опровергавших аристотелевское понимание движе-
ния, содержит слова о том, что ученый проводил экс-
перименты «часто», больше чем «сто раз», и результаты
Глава П. Каким образом достигалось это знание? 415
полностью совпали с его теорией. На самом деле истори-
ки долго обсуждали, действительно ли эти эксперимен-
ты проводились в реальном времени перед публикой,
или же они рассматривались как «мысленные экспери-
менты», которые находят место прежде всего в фантазии
Галилея, — он думает, что должно случиться, и произво-
дит соответствующие манипуляции в соответствии с уже
имеющимся знанием о физическом мире3. Здесь, как от-
метил Питер Деар, Галилей вовсе не говорил, что он де-
лает то-то и то-то и из происходящего мы можем заклю-
чить и т.д. Напротив, он говорит, что происходит именно
так, и все. Опыт, который был произведен и представлен
публике как результат обобщения эксперимента, точно
таков же, как если бы его производили только в голове,
и поэтому еще не ясно, производил ли Галилей некото-
рые из своих экспериментальных комбинаций в физиче-
ском мире или только мысленно.
Такое отношение к опыту как к тому, что «происхо-
дит в природе», продолжало быть важной чертой как
новаторской, так и традиционной аристотелианской
научной практики в континентальной Европе. Так,
европейские иезуиты приложили огромные усилия к
тому, чтобы сойтись в терминах с новыми вариантами
частных искусственно получаемых экспериментов. На-
пример, им приходилось давать концептуальное осмыс-
ление таких вещей, как телескоп и барометр, и ввести
эти открытия в понятийную сетку Аристотеля, на том
основании, что он тоже полагал опыт началом филосо-
фии. Так можно было сделать, только применив широ-
кий набор социальных и языковых техник, которые бы
придали частным опытам ореол достоверности — той
самой достоверности, идея которой была знакома всем,
3 Такие же сомнения в нормах проведения эксперимента свя-
заны с опытом Паскаля на Пюи-де-Дом, о чем мы рассказывали в
предыдущей главе, а также с гидростатическими экспериментами,
в которых требовалось, чтобы под водой сидел человек на глубине
20 футов, придерживая на бедре банку в течение длительного вре-
мени (см. рис. 17).
416 Стивен Шейпин. Научная революция
Рис. 17. Изображение гидростатического эксперимента,
произведенного Паскалем в 1663 г. В своей заметке на следующий
год Бойль не без оснований выражал сомнение, что Паскаль
действительно произвел такой эксперимент. Бойль говорил, что
Паскаль «думал только о том, чтобы правильно изложить результат,
во всем следуя тем принципам, в истинности которых он был
убежден заранее». Такие «мысленные эксперименты»,
с точки зрения Бойля, не относятся к ведомству настоящей
естественной философии. Источник: Pascal В. Traitez de l'équilibre
des liqueurs (1663)
Глава П. Каким образом достигалось это знание? 417
изучавшим Аристотеля со школьной скамьи. Такая до-
стоверность требовала назвать надежных свидетелей,
представить перед публикой весь ход экспертизы и при-
менить сверх того повествовательные техники, которые
превратят эмпирические утверждения в неоспоримые
аксиомы. Поэтому неверно говорить, что аристотели-
анская натурфилософия в XVII в. не имела достаточных
ресурсов, чтобы сойтись в терминах с новым опытом —
с экспериментом в искусственных условиях, поставлен-
ным посредством научных инструментов. Мы не видим
свидетельств того, что аристотелевские рамки были раз-
рушены появлением более современных альтернатив.
В течение всего XVII в. живыми и действенными оста-
вались традиции аристотелевской естественной фило-
софии, и, значит, присущее ей понимание опыта остава-
лось вполне внятным.
Но многие другие ученые-практики XVII в., особен-
но в Англии, развивали новый, и весьма отличный от
этого, подход к опыту и его роли в развитии естествен-
ной философии. Уже в начале XVII в. Фрэнсис Бэкон
авторитетно заявлял, что условие существования есте-
ственной философии — ее основание на тщательно со-
ставленном аннотированном списке фактов естествен-
ной философии: получалось, что нужно составить
каталог, компиляцию и сводку всех процессов, наблю-
даемых в природе. Такой список естественно-историче-
ских фактов должен включать в себя несколько родов
вещей: естественным образом встречающиеся события
и процессы, вне зависимости от того, возникают ли они
обычным порядком или же оказываются «ошибками» и
«чудищами» природы (рис. 18), затем те, что искусствен-
но производятся человеческими усилиями — «когда ис-
кусством и рукой человека она вынуждается выйти из
своего естественного состояния и оказывается сжатой и
продавленной», — именно это происходит, когда о при-
роде начинают судить по эксперименту и подчиняют ее
технологическому вмешательству. Сначала идет есте-
ственная история (реформированный и очищенный
Рис. 18. Пример монстра — петух, имевший хвост длиной в 4 фута.
Зарисовка сделана итальянским натуралистом Улиссом Альдрованди
(1522-1605). Альдрованди заявлял, что видел этого петуха еще
живым во дворце светлейшего великого герцога Франческо Медичи
Тосканского и что даже храбрые люди боялись необычного вида
петуха. Такие монстры чаще всего воспринимались как предвестия
свыше каких-то бед, и изображения их печатались и широко
распространялись по всей Европе того времени.
Источник: Aldrovandi U. Ornithologia (1600)
Глава П. Каким образом достигалось это знание? 419
список процессов), затем— естественная философия
(надлежащее знание структуры причин в природе,
произведших данные процессы). Главное свойство по-
явившейся тогда практики естественной философии
состояло в том, что в начале Нового времени она по-
лагалась в поисках эмпирического содержания не толь-
ко на естественным образом доступный опыт того, что
происходит в мире, но и на искусственно и намеренно
осуществленные эксперименты, принуждающие к произ-
ведению те явления, которые не наблюдаемы, или же
наблюдаемы только с трудом, в нормальном течении
естественных событий. Эти эксперименты в норме под-
разумевали конструирование и употребление специаль-
ной аппаратуры, такой как описанный в гл. I барометр.
Вспомним, что барометр как инструмент и позволил
определить, что воздух имеет вес, чего мы в обычной
жизни не замечаем, и сделал этот вес не просто ощути-
мым, но даже видимым.
3. Контроль над опытом
Естественная философия, с точки зрения Бэкона,
была слишком очевидно неправа, потому что она невер-
но мыслила о единичных явлениях, которые содержат-
ся в природе. Так, по заявлению Бэкона, не было про-
изведено никаких изысканий, которые позволили бы
пополнить запасы частных наблюдений, которых пока
не хватает ни в смысле числа, ни в смысле качества, ни в
смысле надежности, и поэтому они ничего не дают по-
ниманию. Указав на иллюстративную роль опыта (о чем
мы сказали в предыдущем разделе), Бэкон рассудил,
что недуг современной естественной философии про-
изошел от скудного и потому неверно ценимого запаса
опыта: «Как если бы в каком-то королевстве или стране
приказы и распоряжения передавались не в виде писем
и докладов через представителей и заслуживающих до-
верие курьеров, но только через уличные слухи, точно
420 Стивен Шейпин. Научная революция
так же действует и управление данными в философии,
как только дело доходит до опыта. Ничего не исследу-
ется тщательно, ничего не верифицируется, ничего не
подсчитывается, не взвешивается, не измеряется, — вот
что мы пока находим в естественной истории. А где на-
блюдение растерянное и приблизительное, там и все
сведения обманчивы и шатки». Итак, если, по мнению
Бэкона, опыт закладывает основы верной и полезной
философии природы, этот опыт должен быть подлин-
ным и всегда сохраняющим свою прямоту. Смысл такого
упражнения — вовсе не в том, чтобы употребить несо-
мненный опыт для иллюстрации общего положения о
функционировании природы, но в том, чтобы собрать в
одном месте достоверный (authentic) опыт и тем самым
обосновать предположения о том, как именно должна
функционировать природа.
В этой связи следует сделать еще некоторые каче-
ственные поправки на риторику обновления науки, как
раз в связи с только что обсуждавшимся нами соотно-
шением опыта и авторитета. Когда ученые-новаторы от-
вергали авторитет и чужое свидетельство в науке, они
прицеливались весьма точно. Собираясь покончить с
авторитетом, они всегда имели в виду освященный тра-
дицией авторитет Аристотеля и его схоластических
последователей в университетах. Но, несмотря на все
риторические предпочтения, на намерение свидетель-
ствовать о вещах самим, а не искать посторонних сви-
детелей, предприятие новаторов вовсе не смогло ос-
вободиться от человеческого свидетельства. Вообще,
трудно представить естественно-научное знание, кото-
рое полностью рассталось бы со свидетельством, — на
что оно будет похоже? Практики новой науки должны
были пополнять запасы фактического знания, но все
равно получали большую часть своих знаний из вторых
рук. Когда мы ниже рассмотрим описания эксперимен-
тов Бойля, мы все равно увидим техники, которые поз-
воляли встраивать чужой опыт в состав нового научно-
го знания.
Глава П. Каким образом достигалось это знание? 421
Практической задачей ученых того времени было,
таким образом, просеивание и отбор правильных от-
четов об экспериментах. Жалкое состояние тогдашней
естественной философии отмечалось много раз как
причина невозможности достаточного контроля над
регистрацией фактов. Если верить всем сообщениям
об опыте, то дом естественной философии больше бу-
дет напоминать Вавилон или Бедлам, чем обитель му-
дрости. Бэкон предложил набор техник, которые поз-
воляют должным образом рассмотреть, проверить и
зафиксировать факты. Ничто не должно допускаться
в список естественной философии, что не «вызывает
доверия собственных глаз» или, «по крайней мере, не
прошло тщательной и строгой проверки». Следует по-
кончить «с опорой на древность и цитаты из тогдашних
авторов», «со всеми суеверными рассказами» и «пере-
житочными сказками» (см. рис. 19). Конечно, риториче-
ское поношение Уильямом Гильбертом традиционных
естественно-научных свидетельств через сравнение их
с «бормотанием выживших из ума старух» получило от-
клик и у многих других новаторов. Если нам нужно опи-
раться на письменные авторитеты, то в любом случае
нужно добросовестно отметить все обстоятельства на-
блюдения и проверить степень достоверности самого
источника: «Все, что мы признаем, должно черпаться
из серьезных и достоверных исторических правдивых
свидетельств». Таким образом, опыт приветствовался
реформированной естественной философией как мощ-
нейшее средство подпереть традиционную практику,
но при этом нужно было тщательно проверять сообще-
ния об опыте на предмет их подлинности. Дом есте-
ственной философии был по-прежнему открыт, но вот
проход во внутренние покои уже хранила неусыпная
стража. Некоторые практики-новаторы создавали экс-
плицитно выраженные правила, позволяющие произво-
дить оценку отчетов об экспериментах; но необходимо
подчеркнуть, что формальная методология была здесь
менее подходящей, чем мобилизация повседневного
422 Стивен Шейпин. Научная революция
социального знания. Большинство практиков, как каза-
лось, уже знали видимые признаки правдивого отчета и
правдивого автора, не нуждаясь в том, чтобы выдвигать
формализованные критерии правдивости4.
4. Механика изготовления фактов
Экспериментальные факты, заложившие основы ре-
формированной естественной философии, представля-
ли собой утверждения не о том, «что происходит в при-
роде», но о том, «что в настоящее время произошло в
природе», когда наблюдение было произведено особым
образом, в особое время, в особом месте, при особых об-
стоятельствах и, наконец, особо обозначенными людь-
ми. Для многих естественных философов, в основном,
хотя и не исключительно, в Англии, эта особенность
и делала опыт достаточно правдивым для того, чтобы
строить на нем философские изыскания. Просто потому,
что список фактов, твердо лежащих в основании есте-
ственной философии, не должен подвергаться идеализа-
ции, он не должен окрашиваться теоретическими ожи-
даниями, но должен быть заверен и представлен так, как
сами факты представляют себя. Например, не нужно рас-
суждать о том, как вообще падают камни, но следует на-
писать, каким образом этот камень, с данным размером
и формой, упал в такой-то день, что было засвидетель-
ствовано специальными наблюдателями, честность и по-
рядочность которых вне сомнения. «В природе, — писал
Бэкон, — не существует ничего реального, кроме индиви-
дуальных тел, осуществляющих чистые индивидуальные
4 В ряде новейших исторических работ подчеркивается «джентль-
менский» состав новой практики и, значит, важность соблюдения ко-
декса чести и правдивости. Вполне возможно, многие практические
проблемы научной достоверности были разрешены такой простой
вещью, как джентльменский кодекс чести. Но все же техническая экс-
пертиза и одобрение также были важны при оценке большого числа
экспертных отчетов.
Глава П. Каким образом достигалось это знание? 423
Рис. 19. Рисунок конца XVI в. с изображением американских
индейцев-акефалов. Поверье, что отдаленные края света заселены
странными людьми, у которых нет голов, а глаза находятся
на плечах, распространенное в Античности, получило новую
жизнь благодаря европейским путешественникам (или мнимым
путешественникам) XVI в. Сэр Джон Мандевилль, путешествовавший
в 1570-х гг., заявил, что видел людей необычного телосложения
в Восточной Индии, а в 1604 г. герой шекспировской пьесы Отелло
удивлял Дездемону рассказами о каннибалах: «Се суть человекоядцы,
их главы растут, что слиты намертво с плечами». Реформаторы
естественной истории указывали на такие сообщения, объясняя,
почему им непременно придется отделять действительные сведения
от сказочных. Источник: Hulsius L. Kurtze wunderbare
Beschreibung (1599)
действия». Бэкон требовал собирать «коллекцию частно-
стей естественной истории, все дивные и монструозные
порождения природы; вообще все... что в природе новое,
редкое и необычное». Перед нами готовая программа
«кабинета курьезов», которые вошли в моду среди евро-
пейских аристократов (рис. 20). Эти кабинеты красноре-
чиво свидетельствовали о многогранности и изумитель-
ном разнообразии природы. Заполненные редкостями
424 Стивен Шейпин. Научная революция
Рис. 20. «Музей» естествоиспытателя маркиза Фердинандо
Коспи в Болонье. Такие музеи, с нагромождением естественных
и искусственных объектов, становились центрами притяжения
всех образованных людей данной местности, а также благородного
юношества, отправлявшегося в непременную большую поездку
по Европе. Источник: Legati L. Museo Cospiano annesso a quello
del famoso Ulisse Aldrovandi (1677)
и странностями природы, эти кабинеты служили живым
доказательством того, что есть многое на свете, на земле
и в небе, «что и не снилось нашим мудрецам», традицион-
ным философам.
Точно так же, как «новые» XVII в. расходились в по-
нимании конструктивной и философской роли опыта,
они расходились и по вопросу метода, который следует
применять при создании естественно-научного знания.
Бэкон, Декарт, Гоббс, Гук и другие, разрабатывая свою
естественную философию, были в высшей степени уве-
рены, что знание структуры естественных причин мож-
но в точности обеспечить, только если ум будет направ-
лен и дисциплинирован правильным методом. Метод был
всем и во всем, метод делал знание о естественном мире
возможным и авторитетным, хотя предписания, каким
Глава П. Каким образом достигалось это знание? 425
должен быть метод, могли существенно различаться. Ме-
тафора механизма, структурировавшая знание естествен-
ного мира, также указывала на способы достижения та-
кого знания. Бэкон писал, что уму не нужно позволять
«следовать собственным путем», но «на каждом этапе он
должен быть руководим, и обращаться с ним при этом
следует как с машиной». Для Бэкона, как и для множе-
ства других ученых-практиков, естественная филосо-
фия определяется своей целью — обеспечивать знание
причин: именно это делает ее философией, а не историей.
Но при таком построении научного знания правильный
метод должен идти от накопления знаний о частностях,
иначе говоря, от фактов наблюдения и эксперименталь-
ной проверки, к причинностному знанию и общим ис-
тинам — это все следует называть индуктивной и эмпи-
рически обоснованной процедурой. Именно на таких
условиях можно было сохранить упорядоченный список
фактов. Если бы основание оказалось слабым, то возве-
денное на нем здание рухнуло бы. Индуктивные проце-
дуры и их ожидаемая влиятельность, вырывающая фак-
ты из списка ради понимания их общего действия, были
восприняты английскими учеными как давно ожидаемый
выход из противоречий. И, как мы увидим дальше, при
этом многие ученые-практики из континентальной Ев-
ропы и даже некоторые английские ученые высказывали
скептическое отношение к индукции — считая ее фило-
софски не вполне законной, не дающей нам ощутить дей-
ствительность суждений и бьющей мимо философской
основательности.
Бэкон пропагандировал свой индуктивный метод
как зеркальное отражение традиционной практики
естественной философии. В этой связи он замечал, что
естественная философия была склонна употреблять
частности только как поводы поспешно и без всяких
усилий мысли достичь общих принципов природы. Ког-
да истина этих принципов принимается как несомнен-
ная, они употребляются как суждения о явлениях при-
роды, так что можно сделать решающий выбор между
426 Стивен Шейпин. Научная революция
нескончаемо конфликтующими доказательствами, по-
лученными в ходе чувственного опыта. Такой метод ра-
ционального доказательства: от заранее установленных
общих принципов (которые сочтены правильными по
их собственным законам) к объяснению частностей —
именуется дедукцией, и повсеместным употреблением
дедукции Бэкон и объясняет пороки современной есте-
ственной философии. Ни в коем случае нельзя говорить,
как иногда делают, что индукция Бэкона предписывает
просто собирать факты и никак их не осмыслять. Бэкон
и его последователи много сделали для развития концеа-
ции «контрпримеров» (crucial instances), целью которых
было произвести решающий и впредь неоспоримый вы-
бор между несовместимыми физическими теориями5.
С другой стороны, и чувства нуждались в руководстве с
помощью рационального метода: их тоже нужно было
подвергнуть соответствующей реформе, чтобы они не
мешали построению новой философии. Но, следя за по-
рядком в производстве знания причин, Бэкон доказывал,
что нужно сдвинуть ценностные приоритеты, связанные
с отношением факт/теория: «Мы должны вести людей
к самим частностям, а люди должны со своей стороны
хоть немного принуждать себя, отложив свои прежние
понятия в сторону и начав знакомиться с самими факта-
ми». Итак, ни чувство само по себе, ни разум сам по себе
недостаточны для создания естественно-научного зна-
ния: чтобы быть естественным философом, нужно уметь
не отворачиваться от фактов и не уходить в голое теоре-
тизирование.
Но здесь мы должны отметить еще одно важное каче-
ство, придающее риторике обновления науки должную
соразмерность. Несмотря на модернизаторский пафос
приоритета непосредственного чувственного опыта,
Бэкон был согласен со множеством других философов
5 Термин «решающий эксперимент» (лат.: experimentum crucis,
англ.: crucial experiment) позднее стал употребляться в трудах Роберта
Бойля со ссылкой на эксперимент Паскаля на Пюи-де-Дом (см. гл. I).
Глава П. Каким образом достигалось это знание? 42 7
XVII в. в том, что «ненаставленные» чувства способны
ввести человека в заблуждение и что поэтому чувства
нуждаются в дисциплинировании методом, если нуж-
но добиться от фактов такой точности, чтобы с ними
мог работать философ. Как теория, не подтвержденная
фактами, сразу отвергалась, так и неблагополучное со-
стояние большинства естественно-научных дисциплин
объяснялось необустроенностью чувственного опыта
и отсутствием строгого надзора за показаниями чувств.
Если чувство не прошло воспитания, то Луна будет вы-
глядеть не больше яблочного пирога, а Солнце будет
казаться обращающимся вокруг Земли. Поэтому толь-
ко обученный разум, а не простое чувство позволял на-
учным новаторам «видеть» Луну большой, а Солнце —
еще большим. Некоторые реформаторы науки, даже
утверждая основополагающее значение опыта, готовы
были вовсе отказаться от чувств с присущим им непо-
стоянством. Галилей, как известно, чтил Коперника за
то, что тот «позволил разуму настолько преодолеть чув-
ство, что чувство было поставлено на службу убеждени-
ям разума». Джозеф Глэнвилл (1636-1680), неутомимый
пропагандист экспериментального знания в Англии, за-
метил, что «во множестве частных случаев мы не можем
полагаться на сообщения наших чувств» и потому нужда-
емся в знании, «чтобы поправить предоставленные ими
сведения». А Роберт Гук, успешный изобретатель науч-
ных инструментов, отмечая «узость и зыбкость чувств»
падшего человека, восхвалял телескоп и микроскоп как
инструменты, способные исправить их недочеты и рас-
ширить область действия этих прежде немощных калек.
(При этом Гук не замечает другой проблемы — а откуда
мы знаем, что инструментальное посредничество по-
правит наши чувства, а не усилит их заблуждения?) Про-
гресс знания связывался не просто с расширением авто-
ритета чувств, но и с усердным исправлением чувства
разумом, вооруженным механическими инструментами
и овладевшим практическими процедурами по обработ-
ке чувственного опыта.
428 Стивен Шейпин. Научная революция
Если опыт должен был играть основополагающую
роль в реформированной естественной философии,
его нужно было поставить под контроль, надзор и на-
учить порядку. Ненаставленное чувство может завести
не туда — и поэтому нужно было регулятивно решать во-
прос, какой именно опыт может лечь в основу философ-
ского размышления. И важно было не только то, какой
опыт правильно ориентирует суждения, но и чей это
опыт. Была обозначена четкая граница между действи-
тельным опытом и «бабушкиными сказками», как тогда
повелось говорить. Например, английский естествен-
ный философ Джон Уилкинс различал «вульгарное» и
«ученое» мнение по простому основанию: простые люди
сразу же хватаются за непосредственные чувственные
впечатления, а люди воспитанные осторожно и даже с
опаской относятся к данным чувствам: «Ты можешь без
труда убедить деревенского мужика, что Луна сделана из
твердого сыра, равно как и что Луна больше, чем колесо
от телеги, — ведь и то и другое равно противоречит его
воззрению, а разума у него недостаточно, чтобы пойти
дальше непосредственного чувства». Бойль доказывал,
что суждение «неразборчивой толпы... легче успокаива-
ется в зрении, чем в уме», именно поэтому простые люди
так часто ошибаются. Физиолог сэр Томас Браун (1605-
1682) заметил в своей книге «Ложные мнения об эпиде-
миях» (Pseudodoxica Epidemica, 1646), что «простой на-
род предрасположен к ошибкам», по своему легковерию
он легко поддается всяким обещаниям счастья и идет на
поводу у жуликов и гадалок. Чувство должно быть управ-
ляемо знанием, а отсутствие знаний у простых людей
приводит «к плохому различению правды». «Их понима-
ние столь слабо умеет отличать правду от лжи и так легко
сдается перед ошибками разума, что оно принимает все
ошибки чувства за правду и даже не способно исправить
ни одной ошибки чувств». Можно сказать, что, по мне-
нию таких практиков, дисциплинирование опыта необ-
ходимо должно было повлечь наведение социального по-
рядка. Опыт, который описывается философией, должен
Глава П. Каким образом достигалось это знание? 429
был стать опытом многих людей, способных передать
его и считаться с чужим отчетом об опыте. Недисципли-
нированному опыту не должно было остаться места.
Историки и философы науки традиционно уделяли
слишком много внимания формальным методологиче-
ским артикуляциям, принимая все утверждения прямо-
линейно — как адекватную передачу того, что делали уче-
ные-практики прошлого, чтобы создавать, поощрять и
распространять научное знание. Тогда как на самом деле
в XVII в. любое отношение между формально-методоло-
гическими различениями и конкретной естественно-на-
учной практикой всегда было проблематичным. Напри-
мер, ни те, чьи методологические установки требовали
радикального разделения теории и собирания фактов,
ни те, кто регулярно скептически отвергал традици-
онную культуру, не преуспели в своих целях. Слишком
многое склоняет нас к пересмотру собственных выводов:
формальную методологию приходится после тепереш-
них наблюдений понимать как набор риторических ин-
струментов, которые позволяют найти место практикам
в культуре и уточнить пути оценки этой практики. Это
вовсе не значит, что формальная методология не играла
никакой роли в науке XVII в. Методология отчасти была,
как уже много раз говорилось, «мифом», но ни один миф
не проходит в истории бесследно. Методологические
правила, вроде бэконовских, впоследствии широко при-
менялись естественными философами, прежде всего в
Англии, чтобы оправдать согласованную коллективными
усилиями программу наблюдений и сбора эксперимен-
тальных фактов, тогда как дедуктивная методология во
всей широте вводилась в употребление другими филосо-
фами, которым нужно было обосновать важность рацио-
нального теоретизирования, поставив его над собирани-
ем фактических частностей. Формальная методология
важна, таким образом, в том же смысле, в каком оправ-
дание практики важно для опознания ее достоверности.
Если не приложить к ней миф, то ее трудно будет обо-
сновать и даже трудно сделать видимой как особый род
430 Стивен Шейпин. Научная революция
Рис. 21. Первый вариант воздушного насоса Бойля.
Источник: Boyle К New Experiments Physico-mechanical
Touching the Spring of the Air (1660)
занятий6. Обоснование не стоит отождествлять с практи-
кой, которая им обосновывается, и нам поэтому нужно
добиться более живой картины того, что действитель-
но делали многочисленные естественные философы
6 В связи с этим социологи могли бы сказать, что методологии
могут рассматриваться в качестве норм— предписаний, каким должно
быть поведение, — и, как и все нормы, они, таким образом, должны
напоминать людям, как им следует себя вести, не описывая при этом
повседневное и даже просто обычное поведение людей.
Глава П. Каким образом достигалось это знание? 431
раннего Нового времени, когда они старались обрести
территорию для своего знания. Естественные филосо-
фы этого периода не просто верили, что естественный
мир таков, они предпринимали действия, которые бы
гарантировали, обосновывали и распространяли эту их
веру. Создание естественной философии было занятием
особого рода. Так и нам теперь придется обратиться от
абстрактных методологических формул к практической
деятельности по созиданию опыта, отвечающего требова-
ниям исследования в области естественной философии.
5. Как получить экспериментальный факт
Точно так же, как механистическая метафора лежала
в сердцевине новых исканий естественной философии,
механистические трактовки сразу же обозначили новые
приоритеты в создании научного знания. Механицизм озна-
чал, что эксперименты будут проводиться в искусственно
собственных условиях, а нигде эта тяга к искусственности
не выступала больше, чем в исследовательских програм-
мах Лондонского Королевского общества. Главным зачи-
нателем этого нового направления был самый авторитет-
ный в Обществе ученый Роберт Бойль. Воздушный насос,
изобретенный под руководством Бойля его ассистентом
Робертом Гуком в конце 1650-х гг. (рис. 21), стал вырази-
тельнейшей эмблемой того, что делали естествоиспыта-
тели-экспериментаторы. Но почему этот воздушный на-
сос стал виднейшим фактом научной революции? Чем так
привлекала его работа наблюдателей и как его наличие
повлияло на понимание научного знания как объективно-
го? Что это было за знание работы насоса, как оно мог-
ло уврачевать тогдашние интеллектуальные заблуждения
и тем более послужить примером, вокруг чего должно
организовываться новое научное знание? Ниже мы рас-
смотрим целый ряд специфических и очень влиятельных
практик производства знания, а после покажем, что они
были приняты вовсе не везде и не всеми — даже многие
432 Стивен Шейпин. Научная революция
философы-механицисты не были энтузиастами экспери-
ментального пересмотра концепции знания.
Воздушный насос был эмблематичен сразу в двух отно-
шениях. Прежде всего, те практики, которые требовались
для его создания, были построены по моделям метода,
выработанного специально для экспериментальной есте-
ственной философии. Королевское общество поспешно
распространяло свою экспериментальную программу по
всей Европе, и все эксперименты с воздушным насосом
всякий раз представлялись как лучшее подтверждение
прогрессивности экспериментальной философии. Упо-
требление таких инструментов, как воздушный насос, вы-
глядело в XVII в. необычайным новаторством, которое
вызывало и восторженную поддержку, и попытки подра-
жания, но и резкие протесты. Судьба многих эксперимен-
тов в естественных науках, как в зерне, заключена в этой
демонстрации применения воздушного насоса Бойля.
Далее, обхождение с таким инструментом, как воз-
душный насос, могло создать общее естественно-научное
знание, только если было признано, что искусственно
произведенные эффекты отражают действительное по-
ложение вещей в природе. В гл. I мы говорили о том, что
Новое время прежде всего отвергло основополагающее
для Аристотеля разделение «природы» и «искусства». Как
только было провозглашено коренное сходство между
природными вещами и произведениями человеческого
искусства, возможно стало выдавать экспериментальные
манипуляции с машинами за изучение действительного
положения дел в природе. Отсюда и широчайшее рас-
пространение метафоры часов для всего устроения при-
роды, которая сама обязана наблюдению в телескоп за
природой, легитимированному именно этой метафорой.
Эксперименты с различными инструментами откры-
вали широчайшие возможности для контроля над при-
родой и согласования всех ее концепций. Можно было
ставить эксперименты в любое время, в любом месте и
при любых обстоятельствах, не ожидая, пока доступ-
ные наблюдению явления произойдут в природе; более
Глава П. Каким образом достигалось это знание? 433
того, можно произвести эффекты, которые вообще не-
доступны повседневному опыту обычного человека. Так,
с помощью воздушного насоса можно было искусственно
создать предельно разряженную атмосферу — а проблема
вакуума тогда тревожила умы всех естественных филосо-
фов, которые догадывались, что воздух в верхних слоях
атмосферы должен быть предельно разряженным. Насос
позволял сделать доступным для наблюдения то, с чем не
было никаких других возможностей познакомиться, —
разрядить воздух в такой высокой степени, что некото-
рым казалось, что уже и воздуха там нет, а одна только
пустота. Практические рекомендации, благоволившие
искусственному эксперименту, в значительной части
зависели от того, принималось ли принципиальное ут-
верждение, что продукты человеческого искусства могут
воспроизводить порядок природы и тем самым заменять
природу. Если уверенности в этом не было, то нельзя
было ручаться за то, что экспериментальные установки
покажут нам естественный порядок вещей.
Итак, воздушный насос использовался для того, что-
бы создать операциональный вакуум в большом стеклян-
ном сосуде. Для этого нужно было много раз поднимать и
опускать помпу (или, как тогда говорили, «сосалво») ме-
ханизма, чтобы воздух выходил все больше, — помпа при-
водилась в движение рукой, и целью было выяснить, ка-
кое количество воздуха может быть выкачано из сосуда.
Но поднимать и опускать помпу становилось все труднее,
и наконец человеческие силы сдавались. В этот момент,
как только рука переставала мочь сдвинуть помпу хотя бы
на волосок, Бойль провозглашал, что он выкачал практи-
чески весь атмосферный воздух из сосуда. Сам Бойль счи-
тал, что он получил новый результат опытным путем, и на-
писал подробный отчет об этом в первом из сорока трех
своих выпусков «Новых экспериментов, позволяющих
изучить физико-механическим путем сопротивление
воздуха» (New Experiments Physico-mechanical Touching
the Spring of the Air, 1660). Перед нами был искусствен-
ный вакуум, для добычи которого не обязательно было
434 Стивен Шейпин. Научная революция
г,
Рис. 22. Эксперимент с воздушным насосом Бойля. На иллюстрации
показана емкость второго варианта насоса Бойля (разработан
ок. 1662 г.). В эксперименте изучался хорошо известный и
вызывавший длительные дискуссии феномен внезапного слипания
отполированных кусков мрамора. Бойль взялся доказать, что
такое слипание происходит благодаря давлению воздуха извне,
и предсказал, что если воздух из колбы откачать, то куски мрамора
отвалятся друг от друга. Источник: Boyle R. Continuation of New
Experiments Physico-mechanical Touching the Spring of the Air (1669)
подниматься к верхним слоям атмосферы, что было тог-
да совершенно невозможно. Бойль механическим путем,
используя насос, смог воспроизвести явление, доступное
чувственному опыту.
Но банка, из которой воздух был откачан с помощью
насоса, сама по себе была неважна, а принципиальна
была ситуация эксперимента (рис.22). Наверху банки
Глава П. Каким образом достигалось это знание? 435
монтировалась особая крышка, к которой крепились раз-
ные инструменты для наблюдения, и все эксперименты
Бойля состояли в том, что он следил за поведением этих
вещей в стеклянной банке при откачивании воздуха. Так,
говоря об очередном (17-м) эксперименте в этой серии,
Бойль назвал его «первейшим плодом, который я и рас-
считывал извлечь из своего устройства». Эксперимент
состоял просто в том, что он поставил в банку аппарат
Торричелли, тот самый ртутный барометр, о котором мы
говорили в гл. I, и стал откачивать воздух. Бойль заявил
о том, что он заранее предвидел результат эксперимен-
та, — это предвидение показывает нам, насколько эмбле-
матичен был воздушный насос для становления механи-
стического взгляда на природу Бойль ожидал, что, когда
воздух из банки будет откачан, уровень ртути в барометре
упадет. И действительно, когда он опустошил (или, лучше
сказать, почти опустошил) сосуд, уровень ртути в длинной
трубке упал до нуля или почти до нуля: вся ртуть осталась
только в чашечке. Если бы родственник Паскаля отнес
свой барометр не на Пюи-де-Дом, а смог бы поднять его
в самые верхние слои окружающей Землю атмосферы,
то он увидел бы то же самое. Когда барометр поставили
в сосуд и сосуд запечатали, уровень ртути не изменился,
но с каждым начальным движением поршня этот уровень
падал, пока Бойль не дошел до той точки, где уже он не
мог двигать поршень, — уровень ртутного столба почти
вплотную приблизился к уровню ртути в сосуде7. Если
же он открывал вентиль и давал на какое-то время до-
ступ воздуха в банку, то ртутный столб сразу же вырастал.
7 Ученые-практики тогда спорили, и порой очень ожесточен-
но, действительно ли в сосуде не осталось никакой материи, или же
была откачана только масса атмосферного воздуха, полностью или не
полностью. Бойль говорил о том, что он ставит целью откачать ат-
мосферный воздух, а вовсе не лишить сосуд присутствия всякой ма-
терии — ведь ему не хотелось встревать в напряженные «метафизиче-
ские» дебаты о том, может ли существовать в природе совершенная
«пустота». Он заметил, что ртутный столб никогда не опускается до
самого низа, и из этого делал вывод, что в сосуде осталось хотя бы не-
большое количество атмосферного воздуха.
436 Стивен Шейпин. Научная революция
Здесь важно то, что неуклонное падение уровня ртут-
ного столба при откачивании воздуха не могло рассма-
триваться просто как эффект веса воздуха, хотя Пас-
каль и все прочие установили, что воздух имеет вес.
Ведь ртуть в трубке Паскаля находилась под давлением
открытого воздуха, тогда как воздух в банке Бойля был
затворен со всех сторон. Нельзя было формулировать
эксперимент так, что атмосферный столб давит на ртуть
в сосуде барометра: ведь баночное стекло отделяло ат-
мосферный столб от ртути. Вес того воздуха, который
оказался затворен в соединенной с насосом банке, не
мог быть велик сам по себе, он бы не мог точно держать
ртутный столб на высоте три четверти метра. Поэтому
необходимо было иначе понимать давление воздуха,
чтобы дать механистическое объяснение данным экс-
перимента, и поэтому Бойль начал говорить не просто
о давлении, но о сопротивлении воздуха, иначе говоря,
о степени его сжатости или разряженности. Наблюдая
за поведением различных предметов в сосуде воздушно-
го насоса, Бойль предположил, что частицы (corpuscula)
воздуха эластичны и пружинисты: они сопротивляют-
ся воздействующей на них силе и распространяются
вширь, когда эта внешняя сила уменьшается, точно так
же, как разворачивается и «выстреливает» пружина. Чем
больше силы воздействует на отдельную частицу возду-
ха, тем с большей силой она сопротивляется. А когда из
банки выкачано значительное количество воздуха, то и
оказалось, что уменьшена именно сила воздуха распро-
страняться, а не просто давить сверху. Ртутный столб
барометра в запаянной банке упал, потому что, как гово-
рил Бойль, у воздуха не было достаточной силы сопро-
тивления, чтобы воздействовать на вес ртути8.
8 Заметим, что давление и вес могут рассматриваться как неза-
висимые, но причинно связанные явления. На практике Бойль не
вполне четко разделял эти два понятия. Последующие эксперименты,
результировавшие в знаменитый Закон Бойля (в котором сопоставля-
ются давление и объем воздуха), были предприняты только с одной
целью — количественно измерить давление.
Глава II. Каким образом достигалось это знание? 437
6. Рамки естественно-научного знания
Открытие давления воздуха как результата его сжа-
того состояния было сочтено великим достижением
той естественной философии, которая выполняла экс-
периментальную программу: эксперимент в искусствен-
ных условиях позволил обнаружить давление как реаль-
ную силу, вполне механически действующую в природе.
Искусственное действие воздушного насоса было засчи-
тано за действительно существующую в природе фактич-
ность. Экспериментальные факты подтвердили всеоб-
щий порядок в природе, который вызывается системой
причин, устанавливаемых по этим фактам. Фактическое
действие воздушного насоса было зримым и ощутимым,
тогда как засвидетельствованные при этом причины ле-
жали уже по ту сторону чувств. Но можно ли было отде-
лить одно от другого? Каким образом можно было гово-
рить вместе и о материи события, и о реконструируемых
природных причинах?
Многие ученые-практики, выступавшие за обновле-
ние науки, включая тех, кто не видел особой ценности
(как Декарт) в программе систематических эксперимен-
тов, считали, что интеллектуальные параметры теорети-
ческого знания и практического знания несовместимы.
Здесь опять пригодилась метафора часов: с ее помощью
объясняли, насколько нужно доверять фактам, а на-
сколько — гипотезам, подводимым под предполагаемые
причины этих фактов. Так, мы видим часы, стоящие на
каминной полке. Мы замечаем, что стрелки часов дви-
жутся, причем движение это равномерно, и тем самым
познаем эффект. Когда мы наблюдаем за движением
стрелок и сообщаем результаты наших наблюдений, мы
говорим о фактической стороне дела. Знание материи
фактов не может быть оспорено, когда служит практи-
ческим целям, — оно тогда так же несомненно, как мате-
матические или логические доказательства. Но нужно
учитывать следующее. Внутренние механизмы часов на-
ходятся в непрозрачном футляре, а значит, недоступны
438 Стивен Шейпин. Научная революция
нашему непосредственному наблюдению. Если мы не
видели этих зубчатых колес и маятников, то мы не зна-
ем, какими причинами вызваны наблюдаемые нами фи-
зические эффекты. Поэтому, когда мы предполагаем в
природе механические причины, мы имеем на это пол-
ное право, о чем нам сразу заявят философы-механици-
сты, но из каких частей состоит этот механизм и как он
отлажен — об этом мы можем только догадываться. Это
не достоверное, а только вероятное знание9. Наши ком-
петентные догадки о том, как именно производятся на-
личные эффекты, будут непременно теоретичными и не-
пременно гипотетическими. Конечно, если перед нами
просто механические часы, мы можем снять крышку и
посмотреть, почему они тикают. Кроме того, мы можем
отправиться к часовых дел мастерам и расспросить их,
как именно они собирают свои часы. Но если мы гово-
рим о природе, тут мы бессильны, потому что никакими
чувствами невозможно проникнуть в структуру скрытых
от нас природных причин. Нам приходится догадывать-
ся о действии причин по эффектам, и мы ни о чем не мо-
жем расспросить великого Часовщика— Бога. Пытаясь
понять, каким образом работает машина мира, Декарт,
который настаивал на высокой степени вероятности
механистических объяснений, замечал:
Точно так же, как усердный часовщик может сделать
одни часы и другие часы, которые одинаково точно будут
показывать время и внешне выглядеть совершенно одина-
ково, но при этом не иметь никакого сходства в расположе-
нии колес в механизме, так точно и Бог мог устроить мир
9 Заметим важный сдвиг, который произошел в этот период в зна-
чении слова «вероятное». До XVII в. назвать что-либо «вероятным»
означало заявить, что у этого есть авторитетные свидетели, такие как
Аристотель или другие выдающиеся ученые. Слово «вероятный» того
же корня, что и «вера»: утверждения Аристотеля можно было прини-
мать на веру. Тогда как с середины XVII в. «вероятное» стали противо-
поставлять «истинному»: если истинное надежно с любой стороны,
то вероятное просто имеет достаточно подтверждений для того, что-
бы говорить о нем положительно.
Глава II. Каким образом достигалось это знание? 439
бесконечным множеством способов, и человеческий ум не
догадается, какой именно из способов Бог решил употре-
бить... Я считаю, что я выполнил свою задачу, если обозна-
ченные мной причины в моем изложении производят как
раз те эффекты, которые мы наблюдаем во внешнем мире,
понимая, что я никогда не узнаю о том, эти или совсем
другие причины производят данные эффекты.
В случае экспериментальной работы Бойля в области
изучения воздуха такое «вероятностное» (пробабилисти-
ческое) отношение к естественным причинам со всей
отчетливостью выступило в его трактовке сопротивле-
ния воздуха как причины наблюдаемых явлений. Бойль
заявил, что осмеливается «говорить уверенно и в поло-
жительном смысле об очень немногих вещах помимо ма-
терии фактов», тех фактов, которые были вскрыты при
непосредственном наблюдении или в ходе эксперимен-
та. Напротив, если мы хотим высказать мнение о физи-
ческих отношениях, которые и породили данные факты,
Бойль рекомендовал здесь быть предельно осторож-
ными. О таких причинностных гипотезах он говорил:
«Мы не можем быть уверенными в этом и потому должны
говорить, что, вероятно, так возможно, представляется
так, возможно и это, отличая тем самым предположения
от тех истин, к которым мы идем»10. Все различие интел-
лектуального подхода к практическому факту и к гипо-
тетическому предположению сказалось даже в построе-
нии текстов Бойля. В «Новых экспериментах» ученый
говорил, что он хочет сохранить «заметную дистанцию»
между фактологическим изложением того, в чем имен-
но проявляется давление воздуха, и его «рассуждения по
случаю», иначе говоря, попытки интерпретации причин.
Читатели приглашались, если они соблаговолят, к тому,
10 Бойль, как мы видим, был значительно более осторожен, чем
Фрэнсис Бэкон, на методологию которого он ориентировался. Бэкон
полагал, что можно с уверенностью знать физические причины явле-
ний и, более того, поиск этих причин — законная цель естественной
философии.
440 Стивен Шейпин. Научная революция
чтобы читать отдельно об экспериментах, а отдельно —
об интерпретативных размышлениях.
Бойль уверял своих читателей, что он никогда не про-
водил свои эксперименты с намерением доказать или
опровергнуть какую-либо большую теорию в система-
тической философии. Он настолько не интересовался
конкретными вариантами теоретических объяснений
причин, что признавался, что только мельком просма-
тривал даже труды такого выдающегося систематизатора
естественной философии, как Декарт: «Ведь я старался
быть непредвзятым, а этому бы теория с ее принципами
могла помешать». Бойль заявлял, что «для того, чтобы
мыслить о природе, не обязательно заглядывать в какую-
то еще книгу, кроме книги природы». Таким образом,
Бойль давал понять своему читателю, что теоретический
обзор, сколь бы он ни был интересен, может оказаться
искаженным и не подходящим к вещам. А всякая система-
тическая процедура, пытающаяся овладеть фактической
очевидностью, лежащей в стороне от любой целостной
системы естественной философии, объявлялась главной
причиной ошибок традиционных философов11.
Соответственно, Бойль говорил, что «его дело»
в опытах с воздушным насосом — это «не обозначить дей-
ствительную (adaequate) причину сопротивления возду-
ха, но только объявить (manifest), что воздух имеет такое
сопротивление, и соотнести с этим некоторые эффек-
ты». Несомненно, Бойль при этом представлял коллегам
11 Следует отметить риторический характер таких упреков фило-
софам прошлого: Бойлю нужно было доказать, что у него есть не ме-
нее авторитетный источник истины, чем у них. Известно, что Бойль
был весьма начитан в систематизаторской литературе по естествен-
ной философии. Он именно поэтому так настаивал на разрушении
прежде очень крепкой связи между наблюдением и формальным тео-
ретизированием. При этом ясно, что невозможно окончательно ото-
рвать одно от другого, и Бойль, конечно, подходил к эксперименталь-
ной работе, уже располагая набором теоретических ожиданий: иначе
он не смог бы отличить провального эксперимента от успешного.
Другое дело, что все свои ожидания он подверстывал под сформули-
рованную им корпускулярно-механистическую гипотезу.
Глава П. Каким образом достигалось это знание? 441
некоторые гипотезы о реальности частиц (корпускул),
которые и должны были стать причиной сопротивле-
ния воздуха, но все эти гипотезы были обставлены взве-
шенными оговорками. Частицы воздуха могут обладать
структурой, совпадающей со структурой обычных метал-
лических пружин, но, может быть, они напоминают ско-
рее овечью шерсть или губку, или, кто знает, они могут
быть частью того мирового вихря, о котором грезил Де-
карт. Такие предположения о причинах наблюдаемых яв-
лений, конечно, входили как составная часть в экспери-
ментальную естественную философию; но они считались
менее достоверными, чем материя факта, и им полага-
лось следовать только после установления действитель-
ного состава фактического знания12. В общем смысле для
практики это означало, что Бойль признавал себя фило-
софом-механицистом, но никогда не настаивал на специ-
ально механистических объяснениях отдельных явлений
физического мира. Как мы уже отмечали в гл. I, хотя он
вполне полагался на объяснения, которые мы бы назва-
ли «микромеханическими», он, как и его последователи,
отличался от Декарта одним очень важным свойством —
он никогда не обсуждал ни размеры, ни форму, ни распо-
ложение, ни состояние движения этих механически вза-
имодействующих частиц и не пытался объяснить через
это такие качества «материи», как сопротивление, цвет,
запах и т.д. Бойль был механицистом, но не сводил бы-
тие к механике, потому что считал все свои положения
только более или менее вероятными, а когда извлекал из
вещей знание, это было фактическое знание явлений,
а не теоретическое знание причин.
12 Сам Бойль не всегда разбирал, где границы между фактом
и пропагандируемой им теорией. В некоторых моментах он тракто-
вал сопротивление воздуха как причинностное наблюдение выяв-
ленных в ходе эксперимента эффектов, тогда как в других случаях он
объявлял это сопротивление материей факта, которую эксперимент,
как опыт всеобщего значения, только помог вскрыть. Бойль никогда
не пытался зафиксировать правила, по которым ученый должен дви-
гаться, хотя бы в целях большей осмотрительности, от материи факта
к механистическому объяснению.
442 Стивен Шейпин. Научная революция
Хотя Бойль признавал вместе с этим, что поиск при-
чин, объясняющих явления, при всей его условности,
входит в число важнейших задач экспериментальной
естественной философии, существовали и другие разде-
лы знания, которые нужно было полностью исключить
из сферы занятий экспериментальной естественной
философии. Если материя факта должна была стать не-
зыблемым основанием реформированной естественной
философии, то сама она должна была быть гарантирова-
на как аутентичная, а значит, ограждена от смешения с
другими, менее достоверными и более спорными, разде-
лами знания. Общей, хотя и не универсальной, тенден-
цией практической науки в Англии XVII в. было стрем-
ление отвергать законность в естественной философии
всех откровенно богословских, моральных и полити-
ческих соображений. Книга Природы, которую читал
естественный философ раннего Нового времени, пони-
малась как книга, написанная Богом, но при этом чаще
всего говорилось, что механистическая философия
должна вскрывать только механические аспекты приро-
ды. Так, например, в 1660-х гг. все критики труда Бойля о
сопротивлении воздуха ставили под сомнение правомер-
ность механического расчета и настаивали на том, что
необходимо принимать во внимание и духовные силы.
Бойль отвечал, что он, несмотря на свое всем известное
благочестие, вынужден напомнить критикам о действи-
тельных границах естественной философии.
Я, как никто, желаю признавать и чтить Божественное
всемогущество, но проблема, стоящая перед нами, — это
не что может делать Бог, но что может быть сделано при-
родными агентами — мы не должны подниматься над сфе-
рой природы... И, в согласии с суждением истинных фило-
софов, я полагаю, что эта [механистическая] гипотеза не
нуждается в дальнейших дополнениях... потому что вещи
в нашем мире могут быть объяснены обычным порядком
природы, и прибегать к другим объяснениям можно только
для чудес.
Глава II. Каким образом достигалось это знание? 443
Как мы видим, Бойль охотно признавал могуще-
ство Бога и духовных агентов в естественном порядке
вещей, но вместе с коллегами считал, что задача есте-
ственной философии — описать те механистические
средства, которые употребил Бог для создания часового
механизма мира с его механическим способом функци-
онирования13. Основанная на фактах эксперименталь-
ная естественная философия держалась перспективы
хорошо обоснованной уверенности и понимала знание
однозначно — как постижение лежащей в основе при-
родных явлений структуры причин. Было общепризна-
но, что богословские, моральные, метафизические и
политические дискуссии приводят только к раздорам
и конфликтам. И если реформированная естественная
философия должна была внушить настоящее чувство
уверенности, то тогда разделительные линии между
ней и смежными сферами культуры должны были окон-
чательно проясниться. «Прогресс человеческого зна-
ния, — писал Бойль, — [тормозится привнесением] мо-
рали и политики в объяснение природы тел, туда, где
все вещи, несомненно, действуют согласно законам
механики». Иначе говоря, условием создания рацио-
нального и объективного знания о природе было при-
знано отделение естественной философии от тех форм
культуры, в которые включены человеческие страсти и
влечения и где природа реконструируется по механиче-
скому шаблону. Говорить рационально и философски о
естественном и телесном означало говорить в терминах
механики. Конечно, это вовсе не значит, что механиче-
скими считались все явления, доступные человеческому
опыту. Ученые-практики раннего Нового времени мно-
го спорили о том, какой круг явлений следует отнести
к естественным.
13 Ниже, в гл. III, мы рассмотрим более подробно и критично та-
кое понимание естественной философии, исходя из теологических
импликаций механически конструируемой природы, и тогда поймем,
до какой степени чистый механицизм считался адекватно описыва-
ющим основные естественные явления.
444 Стивен Шейпин. Научная революция
7. Когда знание становится публичным
Обыкновенно магистральное движение научной рево-
люции реконструируют по текстам практиков-индивидов.
Но понятно, что никто из посвятивших себя естествен-
ной философии не создавал знание в одиночку: сама идея
знания подразумевает общность интересов, разделяемую
всем сообществом, в отличие от индивидуального убеж-
дения, отражающего состояние личного ума. Для того
чтобы знание было признано надежным и полезным,
необходимо превратить индивидуальное убеждение или
опыт в вещь, о которой можно сообщить другим. Разуме-
ется, естественные философы раннего Нового времени
уделяли много внимания и труда тому, чтобы новый опыт
перестал быть их индивидуальным достоянием и быстро
и эффективно перешел в общее пользование. Многие уче-
ные-практики считали, что широко отмечаемая слабость
современной им естественной философии происходит
из ее слишком частного и индивидуалистического харак-
тера. В следующей главе (гл. III) мы еще будем обсуждать
те опасности, которыми грозили индивидуализм и част-
ный вкус в интеллектуальной жизни.
Мы уже видели, что эмпирическая традиция в Англии
XVII в. делала особый упор на фактических частностях,
которые признавались надежным основанием естествен-
но-научного философского знания. Но чтобы частные
эксперименты выполняли эту функцию, нужно было как-
то убедительно подать обществу эти специфические дей-
ствия, показав их исторический смысл. Следовательно,
чтобы всякое частное научное дело стало частью общего
интеллектуального достояния, нужно было найти под-
ходящие пути для передачи этого знания, для его рас-
пространения среди как можно большего числа людей.
Бойль и его союзники создали весьма новаторские тех-
ники, которые способствовали переходу опыта экспери-
ментов и наблюдений из сферы частного опыта в сферу
общественного интереса. Прежде всего следует вспом-
нить, что одной из главных рекомендаций в программе
Глава П. Каким образом достигалось это знание? 445
экспериментов был расширенный практический кон-
троль над опытом. В отличие от естественных явлений,
которые можно не увидеть за всю свою жизнь, экспери-
мент, производимый на подручных инструментах, можно
показать в любом месте любой публике. Можно пригла-
сить в любой момент свидетелей, которые сами увидят
экспериментальные эффекты и подтвердят их подлин-
ность: Бойль даже в своих трудах называет по именам
свидетелей работы его воздушного насоса. Более того,
экспериментальные «представления» стали обыденным
делом на заседаниях Королевского общества, и списки
присутствующих были заведены, чтобы отмечать всех
свидетелей, подтверждающих экспериментально полу-
ченные результаты. Затем Бойль настоятельно рекомен-
довал, чтобы все его отчеты об экспериментах записы-
вались очень подробно, дабы читатели из других мест,
которые не могли общаться со свидетелями экспери-
мента, могли воспроизвести эксперимент по описанию
и получить те же эффекты. В мельчайших подробностях
описывалась процедура, материалы и обстоятельства —
таким образом, любой читатель мог стать эксперимен-
татором, а вследствие этого — самым непосредственным
свидетелем.
Но сразу нужно отметить, что ни одна из этих техник
не была непосредственно направлена на увеличение чис-
ла экспериментов. Из практических соображений число
непосредственных свидетелей экспериментов было всег-
да ограничено: так, в лаборатории Бойля работало от
трех до шести постоянных сотрудников, тогда как, если
устраивалась демонстрация экспериментов перед члена-
ми Королевского общества, на заседаниях присутствова-
ло не больше двадцати человек, а иногда не набиралось и
десятка. Тексты Бойля позволяли повторить эксперимент
в любое время: в них давались детальные инструкции, как
поставить эксперимент, но после публикации проходи-
ли годы, и только несколько попыток было предприня-
то сделать и испытать описанный им воздушный насос;
во всяком случае, упоминаний о таких экспериментах
446 Стивен Шейпин. Научная революция
по описаниям мы встречаем мало, и думается, что таких
впечатляющих повторений было столько же, сколько и
упоминаний о них. Если слухи об эксперименте при этом
широко распространялись, это вовсе не означало, что все
непременно стали бы повторять этот эксперимент.
Причины такого малого количества повторных экс-
периментов лежат в самих формах научного общения.
Об эксперименте можно было сообщить на публике,
только написав научный текст, который позволяет да-
леким читателям, которые не видели засвидетельство-
ванных явлений и скорее всего никогда их не увидят,
создать в уме впечатление от эксперимента, проще гово-
ря, сделать их виртуальными свидетелями выдающегося
события. Большинство ученых-практиков, принимав-
ших фактические выводы Бойля в свой арсенал, вовсе
не повторяли эксперимент, доверяя его отчетам и не
находя оснований сомневаться в аккуратности и точно-
сти наблюдений. Сам Бойль называл свои описания экс-
перимента «постоянными фиксациями» новой практи-
ки и подчеркивал, что «зрителям вовсе не нужно самим
повторять эксперимент, чтобы иметь о нем отчетливое
представление, которое вполне позволит им разверты-
вать дальнейшие размышления и рассуждения». Вирту-
альное свидетельство подразумевало производство в уме
читателя особого образа всего хода эксперимента, и тог-
да излишним становилось и самому присутствовать при
первом эксперименте и повторять его собственными
силами. В трудах Бойля по проведенным экспериментам
поэтому преобладало детальное описание всех обстоя-
тельств эксперимента, со множеством тончайших уточ-
нений, как именно проходил эксперимент и что как полу-
чалось, кто при этом присутствовал, сколько раз он был
повторен и какие результаты в точном выражении были
получены. Эксперименты расписывались по множеству
точных цифр и параметров, и неудачи фиксировались
столь же добросовестно, сколь и успехи. Такое много-
словие должно было «не позволить читателю поддаться
сомнению» в полученных результатах, показав, что все
Глава II. Каким образом достигалось это знание? 44 7
эти частности действительно имели место в конкретное
время и при конкретных обстоятельствах.
Ученый, который пишет такой подробный отчет, вы-
глядел в глазах читателей скромным тружеником науки,
человеком беспристрастным, который не будет подтяги-
вать данные к готовому результату ради суетной славы и
не будет сбит с пути старыми большими школами фило-
софского теоретизирования. «Это не в моем вкусе, — пи-
сал Бойль, — хлопотать за или против какой-либо секты
натурфилософов». Новому ученому должны были верить
за его собственные заслуги, и все его рассказы о прове-
денных опытах засчитываться за прозрачное свидетель-
ство природы о самой себе. Обстоятельственное и бесхи-
тростное описание опыта превращало читателей сразу
в свидетелей. Можно было расширить число знатоков
опыта, при этом еще более укрепив фактические основа-
ния практики естественной философии. Как только фак-
тические основания естественно-научного знания стано-
вились общепризнанными, можно было уже приступать
к философскому исследованию причин.
8. В чем суть эксперимента?
Собирание частностей как способ обоснования ре-
формированной естественной философии — это была
важная тенденция научной практики раннего Ново-
го времени: сильнее всего она чувствовалась в Англии,
но мощное ее эхо отзывалось и в континентальной Евро-
пе. Экспериментальное в широком смысле и индуктив-
ное направление, прославленное целой сетью ученых
интеллектуалов, с центром в Лондонском королевском
обществе, легло в основу научной культуры во многих ев-
ропейских странах и только начинавших тогда свой путь
американских колониях. Конечно, нельзя сказать, что
такой способ производства естественно-научного знания
распространялся беспрепятственно: некоторые ученые
раннего Нового времени отвергали его полностью или
448 Стивен Шейпин. Научная революция
частично. Ни систематическое описание эксперимен-
тов, ни накопление фактических частностей, которое
признавалось единственным надежным путем к есте-
ственно-научному знанию, еще не обеспечивали ученому
всеобщего признания со стороны новаторов.
Так, например, Декарт полагал, что основания дей-
ствительного естественно-научного знания должны за-
кладываться в рационально осуществляемом скептициз-
ме и постоянном переспрашивании самого себя. Нужно
сомневаться во всем, что может быть поставлено под со-
мнение, и только когда ты достигнешь принципов, кото-
рые уже будут совершенно несомненны, только тогда ты
достиг основ всей философии. Ставить эксперименты
для Декарта было делом побочным, и, хотя он формаль-
но и провозглашал, что нужно поставить «бесчисленное
число опытов», он никогда не считал, что создание под-
линной естественной философии зависит от результатов
экспериментов. Он считал, что опыты важны, но нельзя
сказать, что они необходимы: зачем рыться в невнятной
груде частностей, вместо того чтобы сразу извлечь из
этой груды несомненные общие физические принципы.
Декарт даже жаловался, что в тех экспериментах послед-
него времени, о которых ему сообщали, было слишком
много исторически специфического и частного, чтобы
использовать это при создании философии: «Они по
большей части столь осложнены ненужными деталями
и избыточными составными частями, что для исследо-
вателя будет весьма трудно отыскать в них истинную
сердцевину». В отличие от Бойля и его коллег Декарт
скептически относился к тому, что общество может най-
ти моральный и буквальный смысл в огромной стопе
отчетов об экспериментах.
В Англии экспериментальной программе Бойля и Ко-
ролевского общества яростно противился Томас Гоббс.
По его мнению, такие эксперименты не имели ни смыс-
ла, ни цели. Зачем нужно ставить целую серию экспери-
ментов, когда для понимания того, какой причиной вы-
звано какое следствие, достаточно одного эксперимента?
Глава П. Каким образом достигалось это знание? 449
Для 1оббса не было даже очевидно, что искусственно
полученные эффекты, например, результаты примене-
ния воздушного насоса, важны и нужны естественной
философии и стоят расходов средств и времени на экс-
периментальную деятельность: «Все, что мы узнаем из
экспериментов, можно добыть из собственных запасов
знаний, познакомившись с естественной историей, кото-
рую мы знаем как правдивую; мне вполне хватает знания
причин вещей, которые может увидеть каждый, потому
что эти причины и следствия всеобщие»14. Ни одно ин-
теллектуальное предприятие, носящее имя философии,
не может поэтому доверять исследовательским програм-
мам, вскрывающим прежде неизвестные причины. Обра-
щаясь к Королевскому обществу, Гоббс писал: «Они мо-
гут сделать свои машины и завоевать себе сторонников,
получить какие угодно выводы, но они не становятся от
этого более философами». В 1660-1670-х гг. Гоббс пытал-
ся доказать сомнительность программы систематиче-
ских экспериментов Бойля с воздушным насосом, давая
альтернативное объяснение наблюдаемых эффектов и
сетуя на теоретическую предвзятость Гоббса15.
Систематическое собирание фактов, став програм-
мой, заполнило учетные полки образцами естественно
и искусственно полученных эффектов: оно стало в пол-
ном смысле естественной историей. Но Гоббс считал,
что нужно сохранить традиционную естественную фило-
софию — поиск надежного знания природных причин.
14 Таким образом, Гоббс, который (как мы совсем кратко говори-
ли выше в этой же главе) был одним из самых непримиримых крити-
ков аристотелианства в XVII в., тем не менее явно разделял позицию
схоластиков, считавших, что опыт должен быть всегда доступен сразу
всем и не допускать обособленных изысканий.
15 Хотя в то время Королевское общество и его союзники были
удовлетворены материей факта, полученной и проверенной в ходе
научных процедур Бойля, потом выяснилось, что такое одобрение
не является всеобщим и некоторые влиятельные философы конти-
нентальной Европы вместе с Гоббсом высказывали сомнение в том,
можно ли считать фактом, что Бойль и его сторонники объявили
таковым.
450 Стивен Шейпин. Научная революция
Он говорил, что «философия — наука о причинах», и по-
этому не думал, что из нерасчлененной массы частных на-
блюдений можно извлечь такое знание причин, которое
отвечало бы философским критериям надежного зна-
ния. Но Бойль вовсе не стремился объяснить причины
всех наблюдаемых вещей, он просто считал, что отдель-
ные причины можно познать рационально и корректно,
и тогда будут понятны и следствия. Гоббс отказывался
признавать законным объяснение Бойлем причины дав-
ления воздуха. Он говорил, что нужно найти сначала не-
сомненные основания действительных причин и только
потом приступать к философии, а иначе ты просто пре-
вратишься в рассказчика историй о естественных явле-
ниях. Ценность экспериментальной программы, таким
образом, следовала из общего взгляда на то, какую имен-
но интеллектуальную продукцию должна производить
философия. Вопросы были такие: насколько важен в
таком производстве знания эксперимент, а насколько —
умение мыслить рационально? Насколько точными и до-
стоверными могут быть показания, извлеченные из есте-
ственного порядка вещей? И как мы будем осуществлять
переход от фактических частностей к теоретическим ут-
верждениям? И достаточно ли будет полученной нами до-
стоверности для подлинно философского исследования?
Хотя сам Гоббс был философом-механицистом и про-
жил большую часть жизни в Англии, его неприятие экс-
периментального метода и язвительный полемический
стиль не дали ему стать членом Королевского общества.
Ведь как раз тогда, в 1670-х гг., предложенная Бойлем
широкая программа экспериментальных исследований
природы была принята всем коллективом Королевского
общества и стала едва ли не важнейшим его фирменным
признаком. Хотя, как мы уже говорили, корпускулярное
учение Бойля было в принципе совместимо с математи-
ческим подходом к исследованию природы, на самом
деле Бойль высказывался о математике с определен-
ной осторожностью, не допуская ее идеализации, и его
описания собственных экспериментов не содержали
Глава П. Каким образом достигалось это знание? 451
математических формул и схем. Это же относится и к за-
кону, соотносящему объем и давление воздуха, благодаря
которому Бойль и знаменит до сего дня, Бойль сам не на-
зывал свое наблюдение законом и тем более не представ-
лял его в виде математической формулы.
Огромные заслуги сэра Исаака Ньютона перед науч-
ной революцией состоят в том, что он довел до высшей
точки ту механицистскую экспериментальную програм-
му, у начала которой стоял другой великий деятель Лон-
донского королевского общества— Роберт Бойль. Ан-
глийская историческая наука потратила немало сил на то,
чтобы доказать непрерывную преемственность между
программой Бойля, обретшей влияние в 1660-1670-х гг.,
и программой Ньютона, захватившей умы в конце сто-
летия. Но нельзя закрывать глаза на то, сколь серьезные
моменты разделяли Бойля и Ньютона в вопросе о несо-
мненности научного знания: они по-разному понимали
и качество этого знания (его ожидаемую достоверность
по результатам исследований), и место эксперимента в
создании систематической естественной философии.
Программа экспериментов Королевского общества на
раннем этапе была нацелена на реформу естественной
философии, которую нужно было избавить от догма-
тизма. Только когда ученые-практики разберутся, сколь
большое доверие они должны выказывать различным
типам знания, только тогда естественная философия
получит незыблемое основание и сможет без проблем
двигаться по пути прогресса. Ведущие члены Общества
одобряли воззрения Бойля, считавшего, что ученые-
практики вполне могут доверять должным образом про-
веренной материи факта, но вот при исследовании при-
чин должны проявлять известную осмотрительность.
Знание причин, сколько бы фактов оно ни учитывало,
никогда не может достигнуть того уровня достоверно-
сти, которым обладают математические доказательства.
Поэтому те ученые, которые надеялись знать природ-
ные причины с легкостью доказательства математиче-
ских теорем, клеймились как догматики, не выходящие
452 Стивен Шейпин. Научная революция
из тумана собственных иллюзий. Как считалось, они
допускали принципиальную ошибку: смешивали иссле-
дование чувственной материи и ее эффектов с отвле-
ченными математическими отношениями. И поэтому
естественные философы сразу признали предваритель-
ный и вероятностный характер всех своих теоретиче-
ских утверждений.
Именно этим можно объяснить то, что первые рабо-
ты Ньютона показались некоторым видным ученым из
Королевского общества попыткой возродить догматизм
позавчерашнего дня, а не следованием общей програм-
ме создания естественной науки. Ньютон ставил «реша-
ющий эксперимент» с целью оспорить соперничающие
теории природы света. Оптику, изучение свойств и по-
ведение света, было труднее всего встроить в механи-
стический канон науки, гораздо легче в него вмещались,
например, явления аэростатики и гидростатики, иссле-
дованные Паскалем и Бойлем. Тем не менее в XVII в. не-
мало внимания уделялось созданию механистической
теории света.
На тот момент был хорошо известен цветовой
спектр: распад на радужное свечение светового луча,
преломленного в призме16. До XVII в. цвет и свет трак-
товались как раздельные явления. Считалось, что тела
разного цвета имеют и различные реальные качества:
красноту, желтизну и т.д., — а общепринятое различие
между первичными и вторичными качествами побуж-
дало философов-механицистов развивать теорию, в ко-
торой не было бы необходимости приписывать различ-
ные реальные качества телам разного цвета, — такая
теория должна объяснить природу цвета наравне с при-
родой света. В 1630-х гг. Декарт предпринял серьезную
попытку создания механистической теории света: он
16 Само слово «преломление» означает изменение направления
светового луча, когда он переходит из одной среды в другую, скажем,
из воздуха в стекло. «Преломляемость» — это способность различных
форм света искривлять свое движение в зависимости от способности
каждой конкретной среды отклонить луч от прежнего пути.
Глава II. Каким образом достигалось это знание? 453
объяснял свет как эффект давления тончайших сфе-
рических частиц материи, которыми наполнена вся
Вселенная, а чувство цвета — как результат различной
скорости осевого вращения этих частиц. Преломление
света в призме, по схеме Декарта, замедляет движение
частиц чистого белого цвета, сталкивающихся с ча-
стицами призмы под разным углом, и тем самым полу-
чается наблюдаемый нами цветовой спектр. Итак, Де-
карт, предлагая всецело механистическое объяснение
таких явлений, как свет и цвет, сохранял общеприня-
тое, идущее от «здравого смысла» предположение, что
начальной формой света является белый цвет, он же
естественный цвет, а все цвета образовались, как при
преломлении через призму, в результате столкновений
света с материей и потому должны рассматриваться как
модификации начальной белизны.
Решающий эксперимент Ньютона состоял в том, что
он поставил друг напротив друга две призмы так, что-
бы цветные лучи, вышедшие после первого преломле-
ния, были еще раз преломлены второй призмой. Если
бы прежняя теория о первичности белого цвета была
верной, то при втором преломлении цвета бы просто
изменились. Но если, как предположил Ньютон, белый
цвет сам представляет собой смешение лучей различно-
го цвета, то цвет луча при втором преломлении должен
остаться тем же, и именно это Ньютон и взялся доказы-
вать. Ученый пришел к выводу, что каждый тип луча име-
ет свою собственную преломляемость. Современники
столкнулись с неразрешимыми трудностями, когда пы-
тались объяснить этот решающий эксперимент: Ньюто-
ну пришлось говорить, что именно установлено, каким
образом из этого выводится теория света и настолько
достоверны полученные выводы.
В отличие от пространных отчетов Бойля о поставлен-
ных им экспериментах доклады Ньютона Королевскому
обществу в начале 1670-х гг. только совсем кратко описы-
вают и оборудование, и обстоятельства наблюдения. По-
этому, хотя эксперименты провозглашались радикально
454 Стивен Шейпин. Научная революция
Рис. 23. «Решающий эксперимент» Исаака Ньютона.
Рисунок из рукописного текста лекций Ньютона по оптике,
которые он читал в качестве луказианского профессора
математики в Кембридже. Представлена первоначальная
версия эксперимента с двумя призмами.
Источник: Cambridge University Library MSS Add. 4002, л. 128а
меняющими всю картину мира, их изложение не отлича-
лось детализацией. Конечно, Ньютон в общем и целом
следовал стилистике отчета об экспериментах, при этом
без особых волнений оговаривая, что «историческое
повествование обо всех этих экспериментах сделает из-
ложение слишком скучным и сбивчивым, и поэтому луч-
ше я сначала представлю свое учение, а после, в его под-
тверждение, приведу один-два примера опытов, которые
кажутся мне образцовыми». Позднее ученый оправдывал
скудость рассказов о своих экспериментах скрытым от-
рицанием практики Бойля: «Об экспериментах нужно
судить не по числу, а по весомости: где удался один экс-
перимент, зачем нужно их много?» Итак, мы видим, что,
в отличие от Бойля, Ньютон вовсе не стремился описы-
вать все проведенные им эксперименты во всех истори-
ческих частностях.
Более того, в первом сообщении Ньютона в Коро-
левское общество о полученных результатах (1672) он
Глава П. Каким образом достигалось это знание? 455
заявил, что установил «подлинную причину» оптических
явлений и сделал это с предельной точностью'.
Исследователь природы вряд ли ожидает того, что
эта наука [о цветах] станет математической; но я смею за-
явить, что в ней теперь не меньше точности, чем в других
разделах оптики. Поэтому то, что я сообщаю, — это вовсе
не гипотеза, но твердо установленный вывод. Это не пред-
положение, основанное просто на отклонении другого ва-
рианта или на соответствии явлениям... Это утверждение
подкреплено экспериментами, которые ведут нас прямо
к этим выводам, не оставляя ни в чем ни тени сомнения.
Итак, «истинная причина» рассмотрения образа
в призме — истолкование света как состоящего из раз-
лично преломляемых лучей. Таким образом, причина
отождествляется с корпускулярной теорией физической
природы световых лучей: эту теорию Ньютон разрабаты-
вал в 1670-х гг. как всецело согласующуюся с механисти-
ческой метафизикой.
Итак, раз Ньютон утверждал, что смог математиче-
ски доказать физическую причину, не оставляя ни тени
сомнений, то, как можно догадаться, усердные экспери-
ментаторы из Королевского общества отвергли его как
догматика. Сотрудник Бойля Роберт Гук сильно упре-
кал Ньютона за это17. Допустим, что рассказы Ньюто-
на об экспериментах точны и несомненны, допустим
также, что гипотезы Ньютона способны объяснить его
17 Но действительно ли Ньютон заявлял, что он считает свои суж-
дения не нуждающимися в дальнейшей проверке? Отвечая Гуку, Нью-
тон говорил, что он просто не касается вопросов о начальных меха-
нических причинах вещей: он может допускать существование этих
механизмов только гипотетически, как при изложении теории гра-
витации (см. гл. I). Ньютон утверждал, что он просто не хочет «сме-
шивать предположения с несомненными утверждениями». Но не-
доверие Гука имело под собой основание: как показывают записные
книжки Ньютона этого времени, ученый был в то время горячим при-
верженцем корпускулярной теории физической природы света, хотя
и не признавался в этом на публике.
456 Стивен Шейпин. Научная революция
открытия; но почему физические исследования должны
доказывать истину какой-то теории, которая пытается
подвести причины под все фактические данные? Если
мы возьмем метафору часов, то заключаем от явлен-
ных фактов к скрытой структуре причин — но тогда мы
должны допустить, что одни и те же факты можно рав-
но объяснить с помощью разных теорий причин. В этой
области все будет только вероятным и ни одно объяс-
нение не будет окончательным; и поэтому Гук говорил,
что у него есть другая оптическая теория, которая мо-
жет объяснить те же самые эффекты «без натяжек и не
с большими трудностями». Гук признавал, что Ньютон
выдвинул «гениальную гипотезу», но тут же добавлял:
«Но я не могу думать, что эта гипотеза — единственная,
и признать ее столь же несомненной, сколь и математи-
ческие доказательства». Ньютона обвиняли в том, что
он бросил вызов скромности и добропорядочности,
принятой среди натурфилософов-экспериментаторов
под влиянием Бойля.
Но Ньютон, следует сказать, вовсе не стремился на-
рушать правила игры, он просто пытался доказать, что
можно играть и в другую игру. Точность математического
доказательства, как он считал, может стать вполне закон-
ным требованием для физического исследования. Нью-
тон не довольствовался вероятностью, и он не принимал
Бойлевы границы достоверности в естественной фило-
софии. Он надеялся, что, «отойдя от предположений и
вероятностей, которые предлагают тебе на каждом шагу,
мы можем настичь в конце концов естественную науку,
зиждущуюся на предельной достоверности». Требова-
ние Ньютоном несомненности в физике происходило
из того, что основания его естественно-научной фило-
софской практики были математическими, а не экспери-
ментальными. Он отвергал физические теории, если их
нельзя было вывести математически из эксперимента; но
о тех теориях, которые выводились с соблюдением всех
законных процедур, и нужно было, по его мнению, гово-
рить с совершенной несомненностью, а не с оговорками
Глава II. Каким образом достигалось это знание? 45 7
об их всего лишь вероятности18. Целью, во всяком случае
в отдаленной перспективе, было связать математическую
и логическую дедукцию намертво и тем самым, отучив ум
от доверия «необходимым истинам», привести к необхо-
димым выводам.
Оппозиция тогдашних ученых трудам Ньютона по
оптике символична для той весьма дробной ситуации с
производством знания, которая отличает XVII век. Чуж-
дающаяся теорий и основывающаяся только на экспери-
ментах концепция знания встретила противника в лице
науки, которая употребляла и математический аппарат,
и экспериментальные средства для достижения теоре-
тической несомненности. Недоверчивость столкнулась
с новейшими амбициями; почтение к конкретным част-
ностям природы — с поиском идеальных и универсально
применимых моделей; скромное нанизывание фактов —
с гордостью философских абстракций. Что лучше: пости-
гать сущность природы и вскрывать регулярные законо-
мерности, выставляя их на обозрение, или же подчинить
себя строгой дисциплине описания фактов, и если что
и обобщать, то поведение наблюдаемых в окружающей
реальности соразмерных нам объектов?
Обе концепции науки существуют и сейчас, и начало
их обеих следует возвести к только что описанным собы-
тиям XVII в. Мы не имеем права думать, что одна концеп-
ция — это искаженная версия другой, сколько бы ни на-
ходилось у какой концепции сторонников, защищающих
привычную себе практику и находящих изъяны в чужих
рассуждениях. Мы должны понять, что естественные фи-
лософы могут играть в разные игры, и если мы обсуждаем
18 О том, что теории «выводятся», говорил сам Ньютон, и как
раз это вызывало ожесточенный протест некоторых современни-
ков. Выведение (дедукция) подразумевало, что не остается места ни
отрицанию, ни сомнению в смысле эксперимента, тогда как рацио-
нальные критики говорили, что эксперименты всегда будут вызывать
некоторое несогласие и пытливый ум не может без этого обойтись.
Кроме того, эксперименты Ньютона с призмой было не так легко
повторить, и некоторые ученые-практики, которые не смогли этого
сделать, стали относиться недоверчиво к полученной материи факта.
458 Стивен Шейпин. Научная революция
сравнительные достоинства разных игр, то это не имеет
никакого отношения к оценкам, что правильно, а что не-
правильно в данной игре: что в одной игре будет удачной
передачей, в другой окажется неисправимой ошибкой.
В XVII в. естественные философы конфликтовали из-
за различия в подборе практических и концептуальных
средств для решения философских проблем. При этом
цель решения была всегда одна — выяснить, каким долж-
но быть настоящее философское знание о естественном
мире. При этом описания этого чаемого знания и спо-
собы его порождения разошлись и более уже никогда
не сойдутся.
Глава III
ЧЕМУ СЛУЖИЛО НОВОЕ ЗНАНИЕ?
1. Естественная философия заботится о самой себе
Философы-механицисты XVII в. попытались приве-
сти к какому-то единому знаменателю, если вовсе не ис-
требить, богословские очертания естественного мира.
При этом обычные авторы понимали значение богослов-
ских характеристик для интерпретации человеческого
культурного действия, как и делают, за немногими исклю-
чениями, современные историки и специалисты по со-
циальным наукам: они все говорят, что внутренним свой-
ством любого человеческого действия, вне зависимости
от вопроса о мотивации человеческого поведения, явля-
ется намерение или целесообразность, без чего действие
просто не может состояться. Так, скажем, когда человек
говорит «До свиданья», нельзя объяснить это действие
просто детализованным описанием мускульных движе-
ний. И следовательно, любая интерпретация убежде-
ний и решений естественных философов будет иметь в
виду задачи естественного знания. Если говорить совсем
общо, то чему служило естественное знание? А более
специфично, применительно к чему была предпринята в
XVII в. реформа естественного знания? Естественные на-
уки приобрели новую форму благодаря их целесообраз-
ному использованию — все их смыслы отвечали практи-
ческому употреблению науки.
Конечно, можно считать в порядке вещей то, что
естественные философы раннего Нового времени
460 Стивен Шейпин. Научная революция
отчасти строили свою деятельность на стремлении про-
извести и распространить в человечестве истинное (или
вероятностно истинное) знание. Но к истинному зна-
нию стремятся все ученые, к какой бы эпохе и к какому
направлению они ни принадлежали. Просто потому, что
такая мотивация звучит чрезмерно обобщенно, она не
может быть и дискредитирована конфликтами научных
практик— древние против новых, механицисты про-
стив анимистов, сторонники индукции против сторон-
ников дедукции и т.п. Поэтому если мы хотим объяснить
исторические перемены в естественной философии или
учесть различные версии естественной философии, то
объяснять все поиском истины будет бесполезно. Поэто-
му надобно разглядеть те намерения, которые отличали
один тип практики от другого, и учесть все те предпосыл-
ки научной деятельности, которыми обстраивались эти
намерения. Более того, даже учтя все мотивы, которые
двигали практиками науки по отдельности, мы не смо-
жем еще понять, почему полученное ими знание вызыва-
ло доверие окружающих и почему именно оно было ле-
гитимировано в созданных тогда научных сообществах.
Конечно, «стремление к знанию» является важным мо-
тивом деятельности естественных философов раннего
Нового времени, но мы должны, имея в виду интерпре-
тацию изменений и дифференциации естественно-научного
знания, учитывать и причины социального одобрения
и усвоения добытого ими знания. Среди тех моментов,
которые испытали перемену, было и понимание того,
что есть вообще настоящее знание.
Во время многочисленных обсуждений в 1670-х гг.
«решающего эксперимента» (crucial experiment) no
определению природы света Ньютон выражал робкую
надежду, что, хотя он пока и не способен добиться от дру-
гих практиков науки какого-то слова, подтверждающего
безусловное согласие с его выводами, он все же думает,
что весьма скоро будет создана новая математическая
естественная философия, в которой его утверждение
уже не будет поставлено под сомнение. Таким образом,
Глава III. Чему служило новое знание? 461
для признания новой науки нужно было перевернуть всю
философию. Конечно, речь шла о естественной филосо-
фии, то есть только об особого рода исследовании, на-
правленном на познание физических причин. Ньютон
говорил о том, что новая философия будет представлять
собой математику— но только в определенном смысле,
как изучение регулярных процессов, которые мы раз-
личаем в естественных явлениях, как только обращаем-
ся к физическим причинам. Математика может достичь
многого, благодаря четкости своих доказательств, чего
пока не хватает естественной философии, поэтому Нью-
тон и хотел математизировать всю философию, без чего
нельзя достичь всеобщего одобрения новых научных до-
стижений и избежать мучительных сомнений. Ньютон
считал, что естественная философия должна обеспечи-
вать высокую степень достоверности и что формальные
процедуры должны гарантировать всеобщее согласие.
Но, как признавал сам Ньютон, это дело будущего. Вели-
кий ученый жаловался на то, что философия — это пока
что «невыносимо капризная дама».
Ньютон здесь просто прозвучал отзвуком широко
распространенного в XVI и XVII вв. ощущения рефор-
маторов науки, что культурные характеристики есте-
ственной философии грозят зыбкой неустойчивостью.
В своих традиционных формах естественная филосо-
фия слишком дробна и как форма культуры сомнитель-
на и непроясненна. Декарт писал, что хотя многие века
философию разрабатывали лучшие умы на земле, но тем
не менее «ни одно из открытых положений не избежа-
ло участи быть оспариваемым». Один британский иссле-
дователь тогда, вначале XVII в., описывал несогласия
и споры среди ученых как «эпидемическое зло нашего
времени». Сторонники научного обновления сразу же
заговорили, что традиционные систематизаторы знания
только и умеют, что ссориться друг с другом. Хотя они
и лязгают ночью своим полемическим оружием, оно вы-
ковано только из невежества, раз не производит ничего
определенного и конструктивного, и раз они не могут
462 Стивен Шейпин. Научная революция
не только произвести согласие ученых, но даже переубе-
дить кого-нибудь и перетянуть на свою сторону. Критики
изображали традиционную естественную философию
школы скандалистов, и любой беспорядок в отношениях
ученых считался вернейшим показанием ее глубинной
испорченности. Как известно, всякое царство, разделив-
шееся само в себе, опустеет; в гл. II мы уже приводили
суждения новых исследователей о том, что все здание на-
уки следует снести и построить все заново от основания.
Следовательно, все методологические и практические
реформы были нацелены преимущественно на то, что-
бы избавить естественную философию от всех болезнен-
ных наростов и тем самым покончить с пресловутым по-
зорным беспорядком. Итак, первейшей целью, которой
должна была служить реформа естественной филосо-
фии, было исправление ее состава, или, если можно так
сказать, «исцеление ее тела». Естественная философия
ослабла от внутренних болезней, и чтобы ей не угрожало
падение, нужно было восстановить ее культурный статус
и напомнить о ее социальных и интеллектуальных целях.
Первоначально все попытки обсудить наследие есте-
ственной философии клеймились университетскими
учеными как покушение на освященные веками способы
установления и проверки знания. Типичной формой об-
мена философскими суждениями в университетах было
ритуальное обсуждение: когда разномысленные ученые
употребляли изощреннейшие логические и риториче-
ские инструменты, чтобы защитить свои тезисы и по-
дорвать позицию оппонента, а кто был убедительнее в
споре, решал их университетский учитель. Привержен-
цы новой науки настаивали на том, что нужно держать
в уме не слова, а вещи— «словами» они упрекали рече-
обильный и складчатый стиль схоластической естествен-
ной философии. Бранчливость традиционных универ-
ситетских ученых, их склонность вести нескончаемые
дискуссии по любому вопросу высмеивались светским
обществом как признак низости душ, но также порица-
лись как интеллектуально бесплодные естественными
Глава III. Чему служило новое знание? 463
философами-реформаторами. И если философы-нова-
торы рассматривали словоохотливость и бранчливость
своих предшественников как симптом интеллектуальной
болезни, то новое общество, как торговое, так и аристо-
кратическое, смотрело на хлопотливого и помятого в
спорах философа как на комическую фигуру, на человека,
которого нельзя пускать в круг приличных людей. Как
писал в середине XVII в. один английский критик универ-
ситетов, схоластическое отношение к жизни — это «граж-
данская война слов, постоянные словесные прения, сра-
жение хуже, чем пиками, копьями и стрелами, в ход идет
вся сила слов: бесстыдство, ругань, крики, протесты,
осмеяния, извращение чужих высказываний, насмешки,
издевательства, поношения, оскорбления, подстрека-
тельства, пререкания, нападки, соблазны— все это там
признается допустимым, более того, оправданным».
В предыдущей главе мы рассмотрели некоторые
меры, предлагавшиеся новыми учеными для исправления
нестроений и конфликтов в естественной философии.
Одной из них стал систематически прописанный метод,
состоящий из эксплицитных правил доказательств и кон-
троля над опытом — с тем, чтобы все участники научного
обсуждения ощущали себя, если можно так сказать, на од-
ной и той же странице Книги Природы. Реформаторы
науки надеялись, что несовершенство чувственного вос-
приятия, различие умственных навыков (wit) и расхож-
дение теоретических и общественных интересов может
быть исправлено механической четкостью правильного
метода. Когда все начнут производить философские про-
цедуры одним и тем же способом и когда все будут рас-
полагать одним багажом знания, тогда все философские
недоумения легко разрешатся. Но ведь схоластика, со
всеми своими бесконечными прениями и мнимой не-
опрятностью, просуществовала много веков. Почему
же только в конце XVI в. такое состояние впервые было
осознано как тяжелая болезнь, нуждающаяся в срочном
лечении? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно
сказать об изменении границ участия в производстве
464 Стивен Шейпин. Научная революция
естественного знания и смене самих принципов заинте-
ресованности в нем.
В середине XVI в. Коперник писал в предисловии
к своему трактату «Об обращении»: «Математики пишут
для математиков». В 1600 г. Уильям Гильберт велел не бо-
яться расхождения с общепринятым мнением: «Нас не
должно это волновать, так как мы уже установили, что
[естественная] философия предназначена для немно-
гих». Галилей еще с большей страстью поощрял такое
чувство исключительности, подчеркивая разрыв между
восприятием и знанием «людей вообще» и эксперти-
зой настоящего математика и естественного философа.
Сообщать истину о естественном мире могут только те,
у кого есть особые для этого знания. Вопреки ранней
риторике Королевского общества, прославлявшей до-
стоинство более открытой практики естественной фи-
лософии, сама социальная реальность толкала к тому,
чтобы ограничивать круг настоящих ученых. Скажем,
ремесленников за редчайшими исключениями не при-
нимали в новые научные сообщества, распространив-
шиеся по всей Европе, и здесь была, конечно, не соци-
альная неприязнь к людям ручного труда, а признание
их недостаточной интеллектуальной компетентности,
отсутствия того уровня образования, который ремеслен-
никам обычно недоступен. Воззрение, что математики,
особенно занятые вопросами естественной философии,
должны оцениваться столь же компетентными деятеля-
ми науки, было характерным для изучаемой нами эпохи
развития научного знания. Конечно, в таком элитарном
подходе к науке нет ничего нового. Любой историк нам
скажет, что уже в Античности для занятий математикой
(которая включала себя интерпретацию физического
мира) требовался и определенный уровень образования,
и определенные умственные способности — тогда как
простые люди довольствовались вполне бытовым пони-
манием природы. Книга, которую все называют апофе-
озом научной революции, произведением, изменившим
самый наш способ мышления о мире, «Математические
Глава III. Чему служило новое знание? 465
начала естественной философии» Исаака Ньютона, име-
ла при жизни ученого вряд ли больше сотни читателей
во всем мире, но даже они, осилив эту книгу до конца,
вряд ли разобрались полностью во всех ее построениях.
2. Естественно-научное знание
и государственная власть
Весьма трудно свести к одному принципу так сильно
рассеявшиеся и далеко разошедшиеся друг от друга связи
между естественно-научным знанием и государственной
властью. Эти связи стали разрушаться из-за широких пе-
ремен в европейской политике по отношению к знанию,
которое стало совершенно иначе накладываться на соци-
альный порядок. Общей ситуацией того времени можно
назвать безысходный кризис, поразивший европейскую
политику, общество и культуру начиная с позднего Сред-
невековья. Этот кризис, продлившийся весь XVII в., пре-
жде всего был отмечен сломом феодального порядка и
постепенным ростом сильных наций-государств, начала
которых можно возвести еще к XIII в. Сюда же следует
отнести открытие Нового Света и величайшее культур-
ное и экономическое потрясение, вызванное экспансией
в новые континенты; изобретение книгопечатания и свя-
занное с этим размывание границ допустимого участия
в созидании культуры; и, наконец, дробление прежде
единого западноевропейского религиозного порядка по-
сле протестантской Реформации XVI в. Все эти события,
особенно последнее, подорвали авторитет и эффектив-
ность прежних институтов, регулировавших поведе-
ние каждого человека в течение многих веков. Папская
власть прежде, хотя бы формально, объединяла всю За-
падную Европу под единым христианским пониманием
власти, но при этом уже существовал раскол между пред-
посылками обладания властью— были различия между
богословским и светским пониманием политической
власти, были и различные версии понимания церковной
466 Стивен Шейпин. Научная революция
власти и ее законных отношений к светской политиче-
ской власти. И религиозные войны между католиками и
протестантами, шедшие по всей Европе после Реформа-
ции — главной из этих войн была Тридцатилетняя война
1618-1648 гг., — стали непосредственным поводом иначе
посмотреть на знание и на его роль в утверждении или,
напротив, разрушении существующего порядка.
Когда системы институционального контроля рабо-
тают без каких-то ощутимых вызовов, тогда авторитет
знания, воплощенного в институциях, кажется прак-
тически необоримым. А когда институты оказываются
под атакой обстоятельств, они неизбежно распадаются,
и в центре обсуждения оказывается проблема знания и
его легитимации. При таких условиях расцветает скеп-
тическое отношение к существующим системам знания и
существующие интеллектуальные системы уже не кажут-
ся самоочевидно удовлетворяющими надлежащим требо-
ваниям. Что такое знание в собственном смысле слова?
Чем обеспечивается его истинность? Какой степени до-
стоверности мы можем достичь и чего вправе ожидать от
знания? Кто может приобрести знание и при каких мини-
мальных условиях? Могут ли люди быть уверены в тех же
самых вещах, и если да, то благодаря каким стоящим за
вещами целям и смыслам? Если социальный порядок за-
висит от общепринятых убеждений, то какие критерии
правильного мышления следует выдвинуть и выполнить,
чтобы обеспечить такое согласие? Ответы, предложен-
ные на эти вопросы, много обсуждались.
Конечно, когда авторитет давно функционирующих
институтов оказывается заржавлен и поражен изнутри,
тогда решение вопроса о том, что такое знание, стано-
вится особо острой и насущной необходимостью. В такое
время всем приходится признать, что существующие тех-
ники, обеспечивающие знание, очевидным образом не
отвечают своим задачам, а новые процедуры еще скры-
ты за грубым полотном неизвестности. Метод, сконстру-
ированный по самой широкой мерке, оказывается пред-
почтительным средством от всякого интеллектуального
Глава III. Чему служило новое знание? 467
расстройства — но каким должен быть метод? Сформули-
руем проблему в первом приближении: какой метод отве-
чает на все вопросы, если скептицизм может разрушить
любое твердое убеждение? Что способно поставить гра-
ницы скептицизму? Как можно удержать скептицизм в
каких-то здравых пределах? И как можно, вслед за Декар-
том, развернуть скептицизм против него самого и тем
самым, нащупав его пределы, указать на то, что осталось
несомненным? Дискуссии о методе стали по-настоящему
значимыми, когда было установлено, что общественный
порядок в значительной мере зависит от обретения и по-
следующего распространения корректного метода, обес-
печивающего надежность наших убеждений. Обращение
к проблеме знания и разъедающий всякое убеждение
скептицизм — вот что приблизило труд философов к ожи-
даниям более широкой публики. Неизбывный кризис
европейских институтов в период раннего Нового вре-
мени затронул и общее отношение к знанию, и отноше-
ние к естественному знанию — по причинам, о которых
мы уже говорили в предыдущих главах и еще скажем по
ходу дела. Знание природы рассматривалось как глубин-
но соотносимое с проблемами порядка, не в последнюю
очередь потому, что природа в широком смысле понима-
лась как написанная от Бога книга, правильное чтение
и правильное истолкование которой неизбежно ведет к
правой вере, наставляя тем самым и в правильном обра-
зе жизни. Следовательно, и правая вера, и надлежащее
поведение канули бы, как считалось, в пучину разврата,
если бы Книга Природы была прочтена и истолкована
неверно.
Неисправимый тогда кризис европейского порядка
стал, таким образом, общим фоном для дискуссий о есте-
ственном знании и его соотнесенности с государствен-
ной властью и социальным порядком. Хотя конкретное
восприятие этой связи было оформлено более специ-
фическими процессами европейской культуры, нельзя
не учитывать изменения в самом характере людей, кон-
струирующих естественно-научное знание, и в свойствах
468 Стивен Шейпин. Научная революция
ожиданий, которые связывались с пользой от естествен-
ных наук. Пока естественная философия оставалась ис-
ключительной областью рассмотрения ученых-профес-
сионалов, не было никаких оснований полагать, что
нужно что-то срочно менять в ее содержании. Жизнь
университетов в Средние века и в раннее Новое время
была той же изо дня в день, столь же спокойной и не-
изменной должна была оставаться и наука; и мы можем
вспомнить только нескольких ученых, которые смотре-
ли на такой порядок как на нечто, содержащее в себе су-
щественные изъяны. Хотя интерес к естественному зна-
нию никогда не оставался привилегией университетских
ученых, в XVI и XVII вв. образовались новые социокуль-
турные позиции, с которых можно было атаковать прак-
тику естественной философии и естественной истории.
С эпохи Средневековья и до XVII в. включительно
большинство естественных философов составляли кли-
рики или, во всяком случае, работники заведений, кон-
тролируемых Церковью или связанных с ней, — к послед-
ним нам придется отнести и тогдашние университеты.
Некоторые ученые, не желавшие становиться членами
духовных объединений, просто признавали над собой
покровительство Церкви, и только немногие могли зани-
маться наукой, не соотнося это с церковными запросами.
Но в раннее Новое время появились и другие средства
поддержать естественно-научное знание: люди стали заин-
тересованы в нем, независимо от своих духовных занятий.
Главным новым источником поддержки научного
знания, особенно в континентальной Европе, стали ко-
ролевские дворы. Государи оказывали покровительство
математикам, астрономам, естественным историкам и
естественным философам — а это было насущно необхо-
димо для научной карьеры ряда выдающихся умов. Так, на-
пример, последние исследования о Галилее показывают
всю важность отношений придворного покровительства
не только для организации быта ученого, но и для выбо-
ра тем исследования и форм представления написанных
работ. «Придворные философы» получали благодеяния
Глава III. Чему служило новое знание? 469
от итальянских правителей, которые соревновались друг
с другом в том числе и в поддержке науки и осознавали
престиж, с ней связанный. Так, Галилей понимал, сколь
значимо для его флорентийских покровителей и для его
собственной карьеры назвать только что открытые спут-
ники Юпитера «медичейскими звездами» в честь правя-
щего во Флоренции семейства Медичи. Астрономия пре-
доставляла для Медичи новый и потому впечатляющий
набор эмблем: их власть теперь возводилась к небесному,
а значит, символически, божественному источнику. Дис-
путы между натуралистами и механицистами показыва-
ют, как ценили при европейских дворах раннего Нового
времени блистательную «светскую беседу», остроумное
обсуждение всего удивительного, непринужденную речь,
способную восхитить и увлечь и государя, и его придвор-
ных. В течение позднего Ренессанса и XVTI в. кабинеты
естественных и искусственных «курьезов» {рис. 20) стали
неотъемлемой чертой всякой благородной и аристокра-
тической культуры— они всегда выступали как «обслу-
живание» социальных амбиций, вес которым придавало
систематическое научное исследование. Более того, ког-
да правящие круги обращались к опыту древности, они
полностью ручались за военную и экономическую пользу
математических наук {рис. 24). Милитаризация науки —
это вовсе не изобретение XX в.: практические исследо-
вания приложения сил и устойчивости оборонительных
сооружений были важными разделами «математических
наук» в классическую эпоху; астрономия всегда соотно-
силась с искусством навигации и политическим контро-
лем над большими территориями, и ее важность только
возросла в период Великих географических открытий.
А когда появился порох, баллистика и металлургия ста-
ли разрабатываться во всех крупных европейских госу-
дарствах неудержимыми темпами, учитывая, что в XVI
и XVII вв. государства объединялись только для того,
чтобы воевать со всеми против всех.
В конце XVI в. гуманистическое движение (о кото-
ром мы говорили в гл. II) стало влиять и на внутреннюю
Рис. 24. Титульный лист книги «Новая система математики» (1681)
сэра Йонаса Мура (1617-1679), главного инспектора королевской
артиллерии, который также выступал покровителем (не всегда
надежным) науки Лондонского королевского общества. На гравюре
показано, как математики применяют свое знание в практических
целях: производя топографические расчеты, намечая маршрут
кораблей, а также точно замеряя время
Глава III. Чему служило новое знание? 4 71
организацию науки, и на те ожидания, которые на науку
возлагало общество. Гуманисты стремились «очистить»
знание путем установления оригинальных греческих и
латинских источников и подчеркивали важность этого
реформированного знания не только для профессиональ-
ных ученых, но и для деятельности всех заинтересован-
ных в практике почтенных граждан. Частичным результа-
том гуманистической пропаганды (а также изобретения
книгопечатания с наборным шрифтом и протестантской
Реформации) стало то, что границы литературной куль-
туры в изучаемый нами период сильно раздвинулись. Все
больше «джентльменов» были движимы неутолимым за-
просом на новизну реформированного знания. Практи-
ческая этическая литература наставляла этих «джентль-
менов» в том, что чтение умных книг — лучшее подспорье
в добродетели и в принесении гражданской пользы. Уни-
верситеты, которые ранее были прибежищем нищих
клириков, готовившихся к дальнейшему церковному слу-
жению, теперь осаждались «джентльменами», которые
требовали дать их сыновьям образование, надлежащее к
гражданской жизни. И что существеннее всего, авторы,
вхожие в придворные круги, стали публично требовать
реформы образования, не только чтобы начать воспиты-
вать граждан, ведущих деятельную, а уже не созерцатель-
ную жизнь, но и чтобы вообще сделать образование наи-
более эффективным орудием государственной власти.
Здесь мы не можем найти более воодушевленного
и более влиятельного автора, чем Фрэнсис Бэкон, лорд-
канцлер Англии и придворный канцлер королевы Ели-
заветы I и короля Иакова I, — он сделал больше всех для
реформы образования и для расширения возможностей
государственной власти. По мнению Бэкона, надлежит
реконструировать весь традиционный состав образова-
ния, но естественная философия должна оказаться в са-
мом фокусе этой реформы. «Недуг» современного соста-
ва естественной философии — видимый знак того, что
она еще не стала настоящим знанием, а значит, не может
содействовать благоденствию государства. «Первейшая
412 Стивен Шейпин. Научная революция
неувязка в образовании» — это привычка изучать слова,
а не вещи. Такая многовековая привычка ведет школь-
ников ко всем этим «монструозным перечислениям и
грубым вопросам». Именно это следует реформировать,
чтобы естественная философия стала достоверной и про-
дуктивной: «Может, это невероятно, но этот вид знания
должен подвергнуться народному осуждению, потому
что люди вполне способны покончить со всеми этими на-
громождениями контроверз и осознать, что все они пока
что сбились с пути». Конечно, такая наклонность вести
от презрения людей к составу современного знания —
к выводу о том, что в нем ничего нет истинного, — отли-
чает многие культуры, в том числе и нашу собственную.
Авторитарные государства ставят законодательные
рамки для всяких убеждений и притязаний. Индивиду-
альные воззрения, вместо того чтобы быть признанны-
ми необходимым условием интеллектуального прогрес-
са, пугают донельзя всех верных слуг престола. Такое
государство, вместе с государственной церковью, берет
на себя ответственность надзирать за убеждениями и на-
правлять их в правильное русло; и когда Бэкон заявлял,
что он считает все свое знание собственной провинцией,
он, в соответствии с правилами английского языка Ели-
заветинской эпохи, употреблял слово «провинция» в ла-
тинском буквальном географическом смысле — админи-
стративная единица, подчиняющаяся непосредственно
центральному правительству. Знание окажется наиболее
эффективным, если оно войдет в сферу административ-
ных распоряжений государства. Бэкон был обеспокоен
центробежными интеллектуальными тенденциями, наве-
янными протестантской Реформацией, и более всего —
напором протестантов на способность индивида самому
определять истину, доходя до нее при свете собственно-
го ума. Английский философ осуждал интеллектуальных
индивидуалистов как «волюнтаристов», а его продолжа-
тели бранили религиозных «энтузиастов» — тех, кто без
посредничества духовенства притязал ведать божествен-
ную истину по непосредственному вдохновению.
Глава III. Чему служило новое знание? 4 73
Нужно быть уверенным, что значительная мера ин-
теллектуальной раскованности была необходимым усло-
вием реформы — среди прочего, схоластов критиковали
за их «рабское следование» авторитету Аристотеля, — но
бесконтрольная и не признающая никакой дисциплины
свобода убеждений, казалось, угрожала всякому доброму
порядку. Соответственно, приватность интересов и инди-
видуализм в любых видах знания угрожали государствен-
ной власти и авторитету, и программа интеллектуальной
реформы, выдвинуая Бэконом, представляла собой по-
пытку обеспечить порядок средствами, одобренными
государством и непосредственно им примененными. Как
мы уже видели, среди всех этих мер самой заметной было
введение единого метода. Метод рассматривался как ма-
шина, производящая надлежащее и общепонятное зна-
ние. Но в плане Бэкона употребление подлинного метода
требовалось не для дисциплинирования индивидуаль-
ного разума (как это было для Декарта), но для органи-
зации коллективного действия. Реформа естественной
философии осуществилась бы сразу, как только машина
метода вошла бы в инструментарий государственной бю-
рократии. Принудительное лечение изъянов естествен-
ной философии отведет от государства любую угрозу и
облечет жизнь граждан всей мощью интеллектуального
авторитета, направляемого государством.
Утопический план такой коллективной реформы рас-
крыт в «Новой Атлантиде» Бэкона (1627). Бэкон описы-
вает «дом Соломона» в мифической стране Бенсалем как
бюрократически организованный и дифференцирован-
ный по интеллектуальным занятиям исследовательский и
инженерно-проектный институт, обслуживающий инте-
ресы имперского государства. Все сотрудники дома Соло-
мона — государственные служащие, и даже вспомогатель-
ный персонал получает жалованье из государственной
казны. Задача их работы двойственна — с одной стороны,
они должны расширить поле естественной философии
(«то, что называется знанием причин»), ас другой —
усилить центральную власть («расширив пределы этой
414 Стивен Шейпин. Научная революция
Рис. 25. Визит короля Людовика XIV (в центре) и его министра
Кольбера (справа) в 1671 г. в Королевскую академию наук. Визит
действительно был, но вся обстановка — фантазия гравера. Слева мы
видим воздушный насос, разработанный голландским естественным
философом Христианом Гюйгенсом (1622-1695). Источник:
Perrault С. Mémoires pour server à l'histoire naturelle des animaux
(1671), гравюра выполнена Себастьяном Ле Клерком
империи человеческого владычества»). Труды дома Со-
ломона выражают экспансионистскую наклонность коро-
левства Бенсалем и, в свою очередь, получают от государ-
ства ресурсы производить как можно больше знаний.
Бэкон не сомневался, что методологически рефор-
мированная и дисциплинированная естественная фило-
софия может усилить власть тех, кто ее контролирует.
Это было верно в двух смыслах. Во-первых, контроль над
знанием задумывался как инструмент государственной
власти. Государство, которое отказывается от контро-
ля над научными убеждениями, может подорвать свою
собственную власть. Во-вторых, как сказал Бэкон, «че-
ловеческое знание полностью совпадает с человеческой
Глава III. Чему служило новое знание? 4 75
силой» (human knowledge and human power meet in one).
Способность естественного философского знания до-
биваться практических следствий и производить тех-
нологический контроль над природой принималась как
несомненное свидетельство его истинности. Вот почему
реформированная философия сразу же входила в закон-
ное обладание государственной казны.
Тем не менее мы видим немало различий между ми-
фическим домом Соломона в представлении Бэкона и
научными обществами и академиями, которые стали
появляться с середины XVII в., как, скажем, Флорентий-
ская Академия дель Чименто (осн. 1657 г.), Лондонское
королевское общество (1660) и Королевская академия
наук в Париже (1666). Хотя все эти учреждения получали
немалое покровительство со стороны монарха и государ-
ства, только Парижское общество было вполне интегри-
ровано в состав правительства — его члены получали ко-
ролевскую стипендию, и средства из королевской казны
щедро отпускались на закупку научных инструментов,
тогда как организация в Лондоне хотя и рассчитыва-
ла получать прямые субсидии, согласно завету Бэкона,
но поддержка Короны остановилась уже на подписании
учредительной хартии. Тем не менее все пути появления
новых научных обществ в Европе были ответом на те же
обстоятельства интеллектуального прогресса, которые
одушевляли и труды Бэкона.
Первоначально Общества представляли собой орга-
низационную форму, альтернативную университетам,
и во множестве случаев руководители Обществ напрямую
осуждали университеты с их иерархией носителей зна-
ния и постоянными дискуссиями — по мнению Обществ,
университеты мало подходили для того, чтобы в них при-
живалась естественная философия. Бэкон говорил, что
«университеты — это обители и континенты всякого бес-
порядка (distempers)» в преподавании, а самые видные
деятели Королевского общества (большинство из которых
составляли университетские сотрудники) считали, что ав-
торитарный характер университетов— непреодолимое
4muii0K/writem ЖгъплЖut
</< //<
Рис. 26. Заседание Академии эксперимента во Флоренции. Академия
была основана в 1642 г., вскоре после смерти Галилея, его учениками
Винченцо Вивиани, Еванджелистой Торричелли и их товарищами.
Покровителями Академии стали два возглавителя правящего
в Тоскане рода Медичи: великий герцог Фердинанд II и Леопольд,
оба — экспериментаторы-любители. Гравюра была изготовлена
в 1773 г. Дж. Вашеллини для серии изображений «Знаменитые люди
Тосканы»: на гравюре представлено обсуждение научного вопроса.
В левом нижнем углу мы видим оборудование для экспериментов,
с самого начала бывшее в пользовании Академии. На стене —
бюст Леопольда и итальянский девиз, означающий «Пытайся
и не оставляй попыток». Этот девиз как нельзя лучше передает
приверженность членов Академии экспериментальным методам
в естественной философии
Глава III. Чему служило новое знание? 4 77
препятствие для развития настоящего знания. Один тог-
дашний публицист заметил, что «весьма жалкое состоя-
ние» философии обусловлено тем, что «обители знания
до теперешнего дня — не лаборатории, как должно быть,
но только школы, где один учит, а все остальные только за-
писывают». Университеты, кроме того, были важнейши-
ми институтами для формирования интеллектуального
характера молодежи; и потому, в своем дореформенном
состоянии, они могли быть сочтены не просто неудачны-
ми, но губительными для будущего страны учреждениями.
Новые Общества требовали выстроить новую форму ор-
ганизации, которая наилучшим образом будет подходить
к новой практике, — производство знания должно было
отойти от поддержания и комментирования старых све-
дений, важных для их идентичности, но порождать по-
настоящему новое знание. Общества ставили целью, хотя
не всегда добивались в этом решительного успеха, связать
прогресс в науке с гражданскими целями, освободив науку
от связанности школьными и религиозными запросами.
Далее, большинство новых Обществ обозначили свою
деятельность вокруг более или менее формализованной
концепции метода и более всего отличались в методоло-
гических предпочтениях— все они более всего ценили
хорошо организованную коллективную работу в создании
действительно естественно-научного знания. Конечно,
индивидуалистические притязания прочно засели в со-
ставе естественной философии раннего Нового времени,
но уже само существование научных Обществ показывает,
как тесно реформа науки была сопряжена с усиленным
коллективным сотрудничеством исследователей.
Наконец, новые Общества заявляли о том, что будут
блюсти порядок и должную последовательность дей-
ствий при создании и оценке естественного знания, за-
быв о прежней косности традиционной школьной науки.
Законность нового знания должна была сказаться прежде
всего в культуре организации и надлежащем учете всех
факторов ее производства. Публицист, пропагандировав-
ший деятельность Лондонского Королевского общества
478 Стивен Шейпин. Научная революция
на раннем этапе, заявлял, что члены Общества — это по
большей части «джентльмены, свободные и никому не
подчиняющиеся», и уже в одном этом Общества отлича-
лись от прежних учебных заведений: они были организа-
циями граждан, умеющих распорядиться своими правами
и пользующихся непременным уважением окружающих.
Бэкон, закоренелый гуманист, требовал реформировать
естественную философию так, чтобы в ее разработке
приняли участие аристократы, занятые государственны-
ми делами, и это предвидение стало социальной реаль-
ностью, когда деятельность Общества стали направлять
такие люди, как светлейший Роберт Бойль, богатый и
облеченный многочисленными знакомствами англо-ир-
ландский аристократ. Само производство естественного
знания тогда стало привлекательно и уместно для предста-
вителей привилегированных сословий. Это имело весьма
ощутимые последствия для постановки дел в науке: если в
Обществе главенствуют благовоспитанные люди, то и все
Общество будет следовать кодексу подобающего поведе-
ния и вести философские дискуссии благоприлично и по-
чтительно к каждому выступающему. Общество джентль-
менов держится на конвенциях, которые и определяют,
какой порядок обсуждения вопросов пристоен. Итак,
увлечение аристократов естественной философией поз-
волило за весьма краткий срок покончить с мелочной
бранчливостью прежних средневековых университетов1.
1 Конечно, не все естественные философы, даже в такой при-
вилегированной организации, как Королевское общество, были
джентльменами по происхождению. Хотя у нас нет точной росписи
социального происхождения ученых в разных странах Европы этого
времени, мы знаем, что многие выдающиеся ученые-практики были
незнатными. Но тем не менее несомненной была важность соблю-
дения аристократического кодекса поведения в отношениях между
учеными, какого бы происхождения ни были отдельные лица, кото-
рые действовали по этому кодексу. Мы можем сравнить это с тем, что
в церкви благоприлично будут вести себя не только церковные или
даже не только верующие люди, но все заходящие внутрь. Аналогич-
ным образом правила благородного поведения были доступны тогда
не только благородным людям.
Глава III. Чему служило новое знание? 4 79
Такие кодексы, регулирующие «приличную беседу»
джентльменов раннего Нового времени, не допускали
вынесение на обсуждение слишком острых и конфликт-
ных вопросов. Риторические уловки, такие как кивание
на других, политические обвинения и провокативное
обсуждение богословских и метафизических вопросов,
считались недопустимыми: мало того, что они ведут к
разрыву отношений между людьми, так и поговорить
спокойно становится невозможно. Точно так же как
установление Бойлем «материи факта» требовало четко-
го проведения границ между фактами и теорией, так и
устав Лондонского Королевского общества напрямую за-
прещал членам говорить о религии и о политике во вре-
мя ученых заседаний, и сходные запреты содержались
и в уставных документах целого ряда континентальных
Обществ. Так, прекурсор Французской Королевской ака-
демии наук заявлял гласно, чтобы «на собраниях никогда
не говорили о таинствах религии и о делах государства»2.
Такие предметы обсуждения, как считалось, только раз-
деляют ученых, тем более что в 1660-х гг. был печальный
опыт, когда философские общества разделились из-за
непримиримых разногласий в вопросах метафизики.
Выше (гл. II) мы уже отмечали, что многие из этих вопро-
сов были сочтены вопросами субъективного решения
и потому не подлежащими рациональному обсуждению
и рациональной процедуре достижения согласия. Рефор-
мированная естественная философия дарила своим при-
верженцам область тихого и безмятежного существо-
вания, где можно было получить объективное знание о
том, что происходит в природе, а все разногласия между
2 На практике эти запреты распространялись только на спорные
вопросы богословия и политики. В обществе, все члены которого
считали существование Бога само собой разумеющимся, отсылки к
божественному происхождению мира рассматривались не как начало
богословской дискуссии, но как составная часть порядка естественно-
научного обсуждения. Но вот вопросы о свободе воли, о физическом
характере пресуществления или о правильных отношениях между
Церковью и государством считались разделяющими людей и вовлека-
ющими их в чуждые им предметные области.
480 Стивен Шейпин. Научная революция
исследователями переходили в уважительные дискуссии,
ни в коем случае не сотрясая хрупкого строения тогдаш-
него нового знания.
3. Наука как служанка религии
Люди нашего времени со школьных лет привыкли
слышать о «непримиримом противостоянии науки и ре-
лигии», если вообще вспоминают о религии, когда го-
ворят об истории науки и ее современных задачах. Ко-
нечно, многое, что сказано в гл. I—II о механистической
философии и об отношении между реформированным
естественно-научным знанием и секулярными целями
тогдашних политиков, объясняет, почему это массовое
представление столь устойчиво. Но сейчас нам нужно его
скорректировать, чтобы понять, в чем именно новая есте-
ственная философия «угрожала» религии или стреми-
лась к автономии от нее. Здесь нам нужно быть предель-
но осторожными. Когда мы говорим о смысле перемен в
естественно-научном знании в XVII в., то нужно говорить
и о том, что это новое знание часто поддерживало рели-
гию, более того, расширяло поле ее деятельности.
В XVII в. наука и религия во многих случаях даже не
видели необходимости конфликтовать. Но другое дело,
что были некоторые специфические проблемы в отно-
шениях между воззрениями отдельных представителей
естественно-научного знания и интересами религиоз-
ных институтов. Эти проблемы начались не в XVII в.: их
истоки теряются в глубине времени. Начиная с раннего
Средневековья естественная философия Аристотеля
была «христианизирована» в схоластической культуре,
понадобился долгий период адаптации, когда все недо-
понимания, которые могли быть между языческим воз-
зрением на мир у Аристотеля и христианским учением,
были выяснены, сглажены или просто вынесены за скоб-
ки. Римско-католическая церковь не просто освоилась
в отношениях с философами Древней Греции и Рима,
Глава III. Чему служило новое знание? 481
она активно встраивала некоторых из них в систему воз-
зрений, которые были совместимы с Писанием и поло-
жениями, выдвинутыми святыми отцами. Институты
христианской религии развивались параллельно с тра-
диционными разделами естественно-научного знания:
физикой Аристотеля, медициной Галена и астрономи-
ей Птолемея. Поэтому многие стали думать, что разру-
шение традиционной естественной философии может
обернуться покушением на самые основы христианства.
Скажем, защита Галилеем учения Коперника как фи-
зически истинного учения о мире приветствовалась
частью Католической церкви, но при этом встретила
яростное сопротивление инквизиции. Галилей, отрица-
ющий геоцентрическую и геостатическую систему Птоле-
мея, казался инквизиции отрицающим истину Писания.
В Библии существует немало указаний на неподвижность
Земли и движение Солнца, и Галилей считал, что для
него «благочестиво говорить и благоразумно утверж-
дать, что святая Библия не может говорить неправду».
Когда в Книге Иисуса Навина говорится о том, что Солн-
це было остановлено по молитве судии израильского на-
рода, это нужно было принимать как истину. Но Галилей
настаивал на том, что написанная Богом Книга Природы
равняется Библии как источник истины, а следователь-
но, естественные философы не менее богословов авто-
ритетны в толковании вдохновленных свыше текстов.
Коперниканство признавалось физически истинным со-
гласно лучшим толкователям Книги Природы, и раз счи-
талось, что две истины не могут противоречить друг дру-
гу, то Галилей и предполагал, что библейские указания
на неподвижность Земли и подвижность Солнца долж-
ны пониматься не буквально, но переносно, как уловка,
позволившая сообщить положения веры простецам:
«А иначе бы скудные умы простых людей были бы смуще-
ны». Стратегия Галилея делала экспертизу естественно-
го философа законной и независимой от богословской
экспертизы, но конфликт из этого вовсе не вытекал.
Книга Природы признавалась таким же источником
482 Стивен Шейпин. Научная революция
экспертного знания естественного философа, как и
Писание в качестве источника божественного знания.
Но на самом деле Галилей добивался чего-то большего,
чем равенство для естественного философа с богословом
в культуре: он невольно противопоставлял темноту и об-
разность Писания ясности и однозначности Книги При-
роды. Получалось, что опытный естественный философ
гораздо лучше умеет толковать слово Божие, записанное
в Книге Природы, чем богослов.
Такая стратегия не может быть названа удачной в близ-
косрочной перспективе, и исход процесса над Галилеем
в 1633 г., произведенного в Риме высшими церковными
властями, был печален: от ученого потребовали не при-
нимать коперниканство в качестве физической истины2'.
Но наиболее непримиримые ученые-практики в ре-
жиме предписаний со всей живостью и откровенностью
заявляли, что реформированная естественная филосо-
фия должна стать независимой экспертизой и основой
доказательств истины в любом прежнем научном знании;
при этом они также говорили, что наука может дать не-
заменимые ресурсы для поддержки и распространения
христианской веры. На самом деле защита новой практи-
ки путем провозглашения ее духовной полезности была
во всех европейских сообществах важным средством
достижения культурной легитимности. Это было время
подъема религиозности, и религиозные институты во
всех европейских странах обладали огромной мирской
властью, как через осуществление собственного права,
так и через связь с наличной системой государственного
3 В поверхностных популярных изложениях «дела Галилея»
обычно не обращают внимания, что одно дело было принимать ко-
перниканство просто как математическую модель для астрономи-
ческих расчетов, а другое дело — принимать его как описание дей-
ствительности физического мира. Церковные обвинители Галилея
не имели ничего против условных математических моделей и были
обеспокоены только утверждением физической реальности гелио-
центрической системы. Как мы уже говорили выше, естественным
философам Церковь не запрещала обсуждать какие угодно вопросы
«математики» и практической «естественной философии».
Глава III. Чему служило новое знание? 483
управления. Поэтому те культурные затеи, в которых
можно было заподозрить угрозу вере, не могли быть тог-
да институционализованы4.
В протестантской Англии защитники реформирован-
ного естественно-научного знания пытались доказать,
что правильное чтение Книги Природы будет способ-
ствовать очищению и дальнейшему многому преуспея-
нию христианства. Ученые говорили, что за много веков
христианство, особенно в папистской форме, обросло
всякого рода суевериями и недостоверными легендами:
«Рассказы о чудесах, приписываемых мученикам, пу-
стынникам и монахам пустыни, прочим святым, а также
их останки, вещи, часовни и иконы» — все это, с точ-
ки зрения Бэкона, было позднейшим излишеством, не
имеющим отношения к сущности христианства. Бэкон
называл эти рассказы «баснями старых баб, навязчивы-
ми мыслями (impostures) клириков, иллюзиями духов и
уловками Антихриста для соблазна и разрушения веры».
Технологии интеллектуального контроля качества, пред-
писанные реформируемой естественной истории, могли
послужить отделению зерен Завета от плевел, очищению
протестантского христианства от идолопоклонства, вос-
становлению его в былой чистоте. Бэкон, как и Галилей,
считал, что Писание нуждается в толковании со сторо-
ны ученых, которые и смогут разобрать правильный
смысл в нем сказанного. Но и вторую книгу, Книгу При-
роды, нужно читать умело, вооружившись надлежащим
методом, и, если эта Книга будет прочитана правильно,
естественный философ внесет вклад не меньший, чем
4 Связь между легитимацией и институционализацией была уста-
новлена в 1905 г. великим социологом Максом Вебером, а в 1938 г.
другой выдающийся представитель социологии, Роберт К. Мертон,
развил свое известнейшее положение о положительном эффекте
взаимосвязей между наукой, технологией и религиозной культурой в
Англии XVII в. Многое из того, что установил Мертон: религиозные
мотивации научной деятельности, религиозное оправдание нового
научного знания — превратилось в общее место у историков, тогда как
некоторые смежные утверждения — например, об особом религиоз-
ном рвении английских ученых — представляются спорными.
484 Стивен Шейпин. Научная революция
богослов, в установление духовной истины и укрепление
правой веры. Конечно, наука и богословие считались
различными областями опыта, как мы видели, когда го-
ворили о механистической философии и ее культурных
границах, но именно такое разделение целей позволило
реформировать естественную философию так, что она
могла уже не иметь в виду религиозные задачи.
Конечно, поле деятельности естественных филосо-
фов ограничивалось в основном «вторичными» или «дея-
тельностными» причинами, то есть непосредственно вы-
зывающими наблюдаемый эффект, — скажем, движение
одного материального тела оказывалось деятельностной
причиной движения другого тела. При этом признава-
лось как нечто несомненное, что поверхностное равне-
ние на эти причины может заставить ученых-практиков
пренебречь «конечными причинами», то есть самыми
важными причинами движения, ради чего все это движе-
ние совершается. Но, как говорилось тогда, если поверх-
ностное знание вещей естественных отвращает людей
от познания Бога, настоящая и глубокая естественная
философия помогает убедиться и в существовании Бога,
и в других Его свойствах. Имея в виду это, Бэкон про-
возглашал, что «естественная философия второе после
слова Божьего по действенности противоядие против су-
еверий, и самое проверенное подпитывание веры, и по-
этому с полным правом естественная философия при-
вержена религии как самая надежная ее служанка». Более
того, почиталось религиозной обязанностью употребить
данные свыше способности наблюдения и рассуждения
для чтения Книги Природы, причем чтения единствен-
но правильного.
Точно так же, как реформированная естественная
философия должна была способствовать восстановле-
нию чистого первоначального христианства, так же и
техническая полезность новой практики должна была
восстановить человечество в его правах владычества
над природой. Бэкон в своем прославленном «Великом
восстановлении наук» заметил, что, по его убеждению
Глава III. Чему служило новое знание? 485
(и это убеждение было далеко не только его), человече-
ство, отпав от благодати в Эдемском саду, утратило свое
прежнее технологическое господство над природой. Ре-
лигиозной обязанностью было восстановить такое пол-
новластие, и новая естественная философия могла бы
сослужить в этом лучшую службу. Требование Бэкона уч-
редить контроль над природой ради ее преобразования
было выполнено Лондонским Королевским обществом
еще на раннем этапе его существования: так, одним из
главных научных проектов в его деятельности с самого
начала было собирание прежде не кодифицированных
сведений об умениях и ремеслах. Нужно было описать
любое древнее ремесло, исходя из философского уме-
ния вскрывать смысл в тексте, а потом попытаться вос-
становить подробности и одновременно улучшить его,
создав тем самым оптимальную его версию для практи-
ческого употребления. Такое предприятие описывалось
как религиозный долг и тем было оправдано. В середине
XVII в. некоторые ученые-практики даже описывали вос-
становление технологического контроля над природой в
терминах милленаристской эсхатологии, возвещающей
наступление Царствия Божия уже на этой нашей земле.
Они говорили, что только когда человечество своими
собственными силами восстановит изначальное господ-
ство над естественным миром, тогда Христос придет сно-
ва, чтобы править на земле тысячу лет еще до общего вос-
кресения. Такие убеждения они выводили из пророчеств
библейской Книги Даниила.
Убежденность в том, что реформированный состав
естественно-научного знания позволит совершить тех-
нический рывок, разделяли ученые-практики и в Англии,
и в Европе. Конечно, будущую пользу от научного раз-
вития видели все по-разному, но само обещание пользы
непременно содержится в их сочинениях, придавая до-
полнительный оттенок привлекательности их новациям.
Реформированное знание, особенно механика и сходные
науки, построенные по тем же принципам, окажется не
менее продуктивным для развития производства, чем
486 Стивен Шейпин. Научная революция
прежняя схоластика. Есть ли польза от науки? Это и был
экзамен новой науки на истинность. Бэкон просто, без
всякого смущения оптимистически расписывал будущие
достижения человечества и пытался убедить читателей,
что никакая деятельность человека не принесет столько
пользы, сколько принесет реформированная система зна-
ния. А во Франции Декарт предпочитал говорить только
об отдельных науках: скажем, он был уверен, что совре-
менная ему медицина неэффективна, потому что не знает
настоящих причин происходящих в теле явлений. Поэто-
му, если перевести медицину на познание настоящих, ме-
ханических причин, новая врачебная наука поможет лю-
дям и сберечь здоровье, и продлить продолжительность
жизни: «Мы сможем тогда покончить с бессчетным мно-
жеством болезней как тела, так и ума и даже, возможно,
с дряхлостью, происходящей в старости, если мы доста-
точно подробно изучим все причины происходящего».
(Заметим, что о надеждах Декарта на реформированную
по философским принципам медицину вскоре узнала вся
Европа, поэтому, когда он умер в возрасте 44 лет, просту-
дившись сырым и холодным шведским утром, один из
его друзей заявил, что, если бы не эта «внешняя и насиль-
ственная причина», мыслитель прожил бы не меньше пя-
тисот лет!) В Англии Роберт Гук обещал, что, как только
мы узнаем действительную структуру причин в природе и
разовьем настоящий метод совершения открытий, улуч-
шения нашей жизни грянут на нас нескончаемым пото-
ком: тогда алхимики начнут превращать металлы в золо-
то, а все остальные люди начнут летать.
Вопрос о реальной исторической связи между ростом
научного знания и расширением технологического кон-
троля над природой много раз обсуждался историками
и экономистами. Теперь мы знаем, что высокие и отвле-
ченные теории, созданные гениями научной револю-
ции, почти не повлияли на развитие экономически важ-
ных технологий ни в XVII, ни в XVTII в. Хотя философы
раннего Нового времени и подчеркивали то, что у них
есть утилитарные задачи, это вовсе не означало, что они
Глава III. Чему служило новое знание? 487
могут своими разработками улучшить экономику страны.
Более того, многие государственные деятели и предпри-
ниматели этого времени считали рассуждения современ-
ных им философов даже не ложными, а просто смехо-
творными. Но при этом нельзя забывать о тех глубинных
связях, которые существовали между «смешанными»
(«нечистыми») математическими науками и технологи-
ями военного и промышленного производства еще со
времен Античности, — и нет никаких оснований думать,
что в период раннего Нового времени эти связи переста-
ли крепнуть. Более того, невозможно сомневаться, что
широкая экспансия знаний из естественной истории и
географии, сопровождавшая завоевание Нового Света,
серьезно повлияла на развитие государственных и ком-
мерческих предприятий. Таким образом, невозможно
отрицать причинно-следственную связь между теорией
и технологическими переменами.
В научной литературе также подробно обсуждалось и
возможное влияние новых экономических задач на струк-
туру научного знания. Роберт Мертон впечатляющим
образом показал, что научная работа Королевского об-
щества на раннем этапе задавалась внешним заказом: не-
обходимо было улучшать экономику и развивать военную
промышленность, и такие «фокусы интереса» явно гово-
рят о влиянии социальных задач в широком смысле на ди-
намику развития науки. Но здесь нужно говорить, скорее,
не о развитии научного знания, а о раскрытии его потен-
циала: никто еще не доказал, что сосредоточение на ре-
шении технологических или экономических задач было
хоть сколько-то продуктивно для научных теорий. Вряд
ли нам стоит отождествлять риторику Бэкона с практиче-
ской реальностью, а военно-промышленный комплекс с
его научным оснащением — это изобретение скорее XIX
и XX вв. Одно дело — вскрывать логику самой науки при
рассмотрении практических сфер ее приложения, а дру-
гое — говорить, в каких именно областях решили отли-
читься преуспевшие в науке деятели. Конечно, получен-
ные научными методами сведения, приемы и особенно
488 Стивен Шейпин. Научная революция
подходы стали важными ресурсами развития технической
практики, и мы можем назвать множество естественных
философов и естественных историков изучаемой нами
эпохи, которые последовательно применяли свои знания
и в экономике, и в военном деле. Историки-марксисты
внесли немалый вклад в изучение теснейшей связи между
реформой естественно-научного знания и новыми социо-
культурными отношениями между «учеными» и «ремес-
ленниками», которые становятся соответственно техно-
логами и производителями, — для историков-марксистов
изменения в составе естественной философии сопровож-
дали изменения в экономике и в политике. Если новый
естественный философ редко и сам был «мастером», он
все же лучше знал и о разных ремеслах, и об организа-
ции производства, чем прежние книжные специалисты.
4. Природа и Бог — премудрость и воля
Мы восприимчивы прежде всего к механистической
стороне новой естественной философии, и нам поэто-
му может показаться странным, при чем здесь религия и
вера? Если природа — великая машина, то нужно ли для
объяснения ее работы обращаться к Богу и говорить о
духовных сущностях? Но на самом деле как раз механи-
стическое понимание природы породило самые влия-
тельные и убедительные аргументы в пользу того, чтобы
новая наука стала верной служанкой религии. Машины
понимались как безличные создания, и их характеристи-
ки переносились на умственную и целесообразную жизнь
человеческих существ — таким образом, механистическая
метафора природы заставляла поставить вопрос, каким
образом в природе проявляются разум и цель. Если при-
рода — один большой механизм, то чем объяснить суще-
ствование сложных понятий, жизненной силы и целевых
установок? Иными словами, что делать механистической
философии с теми свойствами природы, которые до это-
го бойко толковались с позиций органицизма и анимизма?
Глава III. Чему служило новое знание? 489
Философы-механицисты все сходились в том, что при-
рода построена по какому-то единому плану, то есть пред-
ставляет собой некое большое произведение искусства.
Но такое разумное устроение нельзя было объяснять,
приписывая материальной природе какой-то внутрипо-
ложный ей всеобщий разум, — искусная слаженность в
природе всех частей явно происходила извне природы.
Такая отсылка в умозаключении (train of inference) легла в
основу одного из самых убедительных в XVII в. доводов в
пользу существования разумного Божества. Это довод от
устроения мира, который позволял связать научную прак-
тику с религиозными ценностями: этот довод продержал-
ся от начала научной революции до XIX в. включитель-
но5. Метафора часов вновь пригодилась. Предположим,
человек идет по дороге и находит лежащие на земле часы.
Подняв их, он замечает, как хорошо отлажен весь их ме-
ханизм и как хорошо они сделаны для того, чтобы выпол-
нять свою насущную задачу— показывать время. Точно
так же наблюдения и размышления о естественном мире
не могли избежать того, что мир как-то устроен, а зна-
чит, устроен должен был быть каким-то Умом, по высоте
мысли заведомо превышающим ум человеческий.
Так, Бойль писал о материальных частях человеческо-
го тела как о колесиках в механизме. И когда подкован-
ный в механике анатом «изучит структуру, назначение и
гармонию частей тела, он поймет, что эта несравненная
машина удивительно отлажена и способна выполнять все
те движения и функции, для которых она разработана;
и если бы анатом никогда не рассматривал человече-
ское тело, он не смог бы даже вообразить не то чтобы
разработать такую машину со столь великим размахом —
столь приспособленную к тому, чтобы выполнять все
5 Довод от устроения стал краеугольным камнем естественного
богословия, иначе говоря, умения устанавливать существование и
свойства Бога из данных природы. Естественное богословие было по-
дорвано только материалистической теорией эволюции, выдвинутой
Чарльзом Дарвином в 1859 г., которая не оставляла возможности не-
посредственно наблюдать в природе божественно заданные качества.
490 Стивен Шейпин. Научная революция
разнообразие действий, которое мы каждый день замеча-
ем совершенными в теле или телом». Чем больше мы уз-
наем о машине мира, тем больше мы убеждаемся не про-
сто в существовании Бога-творца, но в Его творческой
премудрости. Такая машина явно не могла быть создана
случайным сочетанием корпускул. В 1670-х гг. француз-
ский картезианец Николя Мальбранш (1638-1715) при-
знавался: «Когда я вижу перед собой часы, я разумно за-
ключаю о существовании некоего Разумного Существа,
потому что все эти колесики не могли бы выстроиться
в таком порядке случайно и врассыпную. И тогда разве
возможно, чтобы случайное и смешанное нагроможде-
ние атомов выстроилось таким образом во всех людях и
животных, создав такое обилие различных тайных пру-
жин и передач, с такой точностью и соразмерностью?»
Очевидность такой слаженности частей в естественном
мире, по словам Бойля, является «одним из величайших
мотивов» религиозной веры, и те, кто лучше всего зна-
ет природу, те больше всего расположены чтить творя-
щую премудрость Божию. В 1691 г. английский естество-
испытатель и священник Джон Рей (1627-1705) решил
представить глаз животного как выдающийся пример
Божьей премудрости, изливающейся на весь творимый
мир. Ни один человек, рассмотревший устройство глаза,
не сможет отрицать бытие и свойства Бога.
Тот глаз, который употребляет человек и все живые
существа для видения вещей, столь необходим для них,
что они не смогли бы жить без него. Всемогущий Бог
знал, что они не смогут без него обойтись, и потому та-
ким удивительным образом настроил глаз и приспособил
для этой цели, что никакое человеческое или ангельское
умение и искусство не могли бы сделать его лучше и даже
так же. Поэтому будет совершенно нелепо и неразумно
утверждать и что глаз возник сам собой, а не был сотво-
рен нарочно для данного употребления, и что человек не
может познать Бога-творца по этому творению.
Новые оптические инструменты, сразу же раздви-
нувшие горизонты чувства, оказались замечательным
Глава III. Чему служило новое знание? 491
подспорьем в утверждении веры. С одной стороны, как
мы уже говорили в гл. I, микроскоп говорил в пользу кор-
пускулярного строения материи, открывая, что гладкая
поверхность ребриста и заусениста {рис, 11), — казалось,
что если такая зернь открыта в былой глади при неболь-
шом приближении, то что может быть открыто, если
дойти до предельно мелкого рассмотрения! С другой
стороны, зрение, усиленное микроскопом, открывало
для себя миры необозримой сложности, красоты и сла-
женности там, где прежде были только «мелкие» и «пре-
зренные» создания. Под увеличительным стеклом глаз
обычной мухи оказывался удивительно хорошо устроен-
ным оптическим аппаратом, в высшей степени удобно
расположенным на теле мухи и предназначенным обслу-
живать все потребности мушиной жизни (рис. 27). Все в
природе, сотворенной Богом, несет на себе печать силы,
благости и премудрости. Связь между структурой и функ-
цией, открытая с помощью микроскопа, оказывалась
столь совершенной, что, как писал Гук, «даже если объ-
единить все существующие в мире умы, они не смогли бы
создать вещи, обладающие столь правильными свойства-
ми». Поэтому глупо думать, что «все эти вещи произошли
случайно». Либо разум таких людей «крайне извращен,
либо они никогда внимательно не рассматривали и не
обозревали создания Всемогущего Бога». Более того,
и микроскоп, и телескоп позволяют увидеть совершенно
новые горизонты божественной красоты мира: почему,
если, как показал Левенгук, в воде оказалось множество
мелких живых существ (рис. 29), нельзя предположить и
столь же густую заселенность космоса живыми существа-
ми? В 1680-х гг. французский философ Бернар де Фонте-
нель (1657-1757) писал: «Мы видим слона и видим вошь,
вот все возможности нашего зрения. Но существует бес-
численное множество животных, по отношению к кото-
рым вошь — это слон и которых мы не сможем увидеть
невооруженным взглядом». Линза открыла перед людь-
ми целый мир чудес, заставивший еще сильнее поверить
в Бога. Псалмопевец Давид возглашал: «Небеса поведают
Рис. 27. Глаз обычной мухи, увеличенный под микроскопом
конструкции Роберта Гука. Гук насчитал около 14 000 элементов
(или, как он говорил, «жемчужин») сетчатки глаза и заявил, что «уже
одна из этих жемчужин столь познавательна по своему удачному
строению, в глазу мухи, как и в глазу кита или слона, и всемогущее
"Да будет" равно могло вызвать существование и того и другого, ибо
для Того, чей один день как тысяча лет, и единый глаз как десять
тысяч». Источник: HookeR Micrographia (1665)
Рис. 28. Разрез стебля сумаха, в изображении английского
натуралиста Неемии Грюе (1641-1712). Грюе приводит изображение
среза в натуральную величину и под увеличением. Нужно обратить
внимание на детальную прорисовку сосудов, физиологическое
значение которых Грюе сближал с кровеносными сосудами
у животных (для него было обычно проводить аналогии между
строением растений и строением животных, как лучше изученным).
Все эти особенности строения стебля можно при остром зрении
разглядеть и без микроскопа, но микроскоп позволяет увидеть все
очень детально. Грюе хотел показать, что общего между структурами
различных растений и в чем они различаются, и тем самым дать
«Постоянную и универсальную картину природы». Его наблюдения
во многом совпадали с теми, которые сделал незадолго до этого
итальянский натуралист Марчелло Мальпиньи (1628-1694). Грюе
был секретарем Лондонского Королевского общества, его книга
была издана на средства Королевского общества с посвящением
королю Карлу П. В посвятительном вступлении восхваляется
сложное устройство самых обычных природных объектов, которое
мы видим под микроскопом: «Всякий, кто идет по дороге с убогим
посохом, несет частицу ремесла Природы, которая по сложности
превосходит даже самое изощренное шитье и ткачество людей».
Источник: Grew N. The Anatomy of Plants (1682)
494 Стивен Шейпин. Научная революция
Рис. 29. Зарисовки протозоев, одобренные Антони фан Левенгуком.
Сначала Гюйгенс сделал рисунки по своим наблюдениям в 1678 г.
и отправил их Левенгуку через своего брата Константина на
рассмотрение. Левенгук сообщил Константину Гюйгенсу, что
рисунки довольно точно передают облик тех самых «мельчайших
животных», которых он сам наблюдал и о которых докладывал тремя
годами ранее. Современные ученые предполагают, что на рисунках
D и Е изображены соответственно формы протозоев Стентор
и Вортицелла. Источник: Письмо Христиана Гюйгенса Константину
Гюйгенсу от 18 ноября 1678 г.: Œuvres complètes de Christiaan
Huygens, 8:124 (частично переведено в изд.: The Collected Letters
of Antoni van Leeuvenhoek, 2:399-407)
славу Божию, и основание — творение рук Его». Но изо-
бретенные микроскоп и телескоп показали еще больше
славы и премудрости.
Механистическое понимание природы только под-
крепляло веру в существование Бога как основополагаю-
щую интуицию для познания других сфер бытия. Мы все
понимаем, что если стрелки часов движутся по кругу, то
их кто-то завел. Мы не можем представить себе, чтобы
колесики в часах завертелись сами по себе, и, значит,
предполагаем внешний импульс, заставивший их двигать-
ся. Поэтому если мы соглашаемся с тем, что материя не-
одушевленна (гл. I), то мы же предполагаем источник ее
Глава III. Чему служило новое знание? 495
движения вне материи. Как бы хорошо ни были прила-
жены к друг другу части часового механизма, чтобы сооб-
щать время с предельной точностью, часы не пойдут, пока
их не завести. А это значит, что если мы кладем в основу
физики механистическую концепцию природы, то всякое
движение в мире будет свидетельствовать об одушевлении
мира извне творящим Божеством. Значительная часть
философов-механицистов XVII в., как в Англии, так и в
странах Европы, настаивала на том, что нужно обращать-
ся умом к этому творящему началу любого движения. Ма-
терия не может двигаться сама, ее приводит в движение
уже движущаяся часть материи, но начальное движение
имеет нематериальное происхождение. Это— целевая
причина движения; и многие философы-механицисты на-
стаивали на том, что механистическое понимание при-
роды требует от нас признать наличие целевой причины,
которая не принадлежит порядку природы, но превыша-
ет его и потому должна быть названа не материальной,
а духовной. Правильное изучение природы ведет от про-
стого вида природы к понятию о могуществе Божием.
Некоторые философы-механицисты считали, что до-
статочно Богу было один раз завести совершенно собран-
ный механизм, и после этого он будет идти наилучшим
образом, свидетельствуя о премудрости Божества: Бог
сотворил все настолько безупречно, что не будет боль-
ше ничего поправлять и ни за чем следить. Английские
философы-механицисты, преданные религии, опаса-
лись, что Декарт, запрещавший говорить о целевой при-
чине по отношению к природе, тоже считает, что Бог не
вмешивается в ход природного существования. Декарт
писал: «Мы не должны надменно притязать на знание
замыслов Божиих». Хотя французский философ много
раз указывал на активное вмешательство Бога в природ-
ные процессы, многие английские философы-практики
говорили, что картезианская философия не так хорошо
раскрывает это вмешательство, как требует этого защи-
та христианской веры. Позднее группа беспокойных
«деистов», западноевропейских ученых, попыталась
496 Стивен Шейпин. Научная революция
доказать, что Бог создал природу раз и навсегда совер-
шенной, вложив в нее всю Свою премудрость, и с тех пор
совершенная машина мира движется, не давая никаких
сбоев. Английские философы-механицисты, от Бойля до
Ньютона, не могли остановиться на таком понимании
Бога, считая его и философски неопределенным, и бого-
словски неосновательным.
Эти философы повели борьбу против понимания
Бога как «помещика в отъезде», который сотворил мир
и больше не вмешивается ни в его естественную жизнь,
ни в политические события. Такое понимание Бога, рас-
ходясь с основными пунктами христианской веры, по-
трясало и жизненность морального порядка. Прежде все-
го чудеса, упомянутые в Ветхом и Новом Завете, всегда
считались главным доказательством истинности христи-
анской веры, как истории обращения Бога к миру. Чудеса
представляли собой деятельное и моментальное вмеша-
тельство Бога в дела мира — Его особый и чрезвычайный
промысел о живущих в нем. Естественные философы ран-
него Нового времени обсуждали вопрос, можно ли счи-
тать, что время чудес осталось в библейском прошлом,
тогда как в нынешнее время чудес не происходит. Неко-
торые мыслители, как Гоббс, говорили, что настоящее
полностью отсечено от прошлого; тогда как другие мыс-
лители, например Бойль, считали, что чудеса встречают-
ся во все времена. Большинство ученых-практиков Евро-
пы, принадлежавших к Католической церкви, такие как
Мерсенн и Паскаль, были убеждены, что чудеса происхо-
дят и в наши дни, и разрабатывали технику опознания чу-
десных явлений. Вместе с тем большинство английских
философов также говорили, что никак нельзя полагать
пределы могуществу Бога, а значит, нужно полагать, что
Он в любой момент может вмешаться в естественный
порядок вещей. Если продумать до конца естественную
философию, то мы должны признать возможность непо-
средственного вмешательства божественной воли в дела
мира наравне с признанием божественной премудрости,
сотворившей мир.
Глава III. Чему служило новое знание? 497
Такой «волюнтаризм», учение о том, что воля Бога мо-
жет действовать в любое время и в любом месте, получил
развитие прежде всего в английской философии приро-
ды, от Бойля до Ньютона. Природа рассматривалась пре-
жде всего как упорядоченное размещение вещей, в кото-
ром сказался замысел Бога по гармоничному устроению
существования. Явный порядок природы говорил об
«общем» или «нормальном» промысле Бога, и из этого
заключалось, что все естественные закономерности ак-
тивно и постоянно поддерживаются Богом. Законы дви-
жения, как писал Бойль, были «свободно установлены и с
тех пор поддерживаются Богом». Но правильно органи-
зованное изучение природы — это важный ресурс демон-
стрировать людям, что Бог постоянно присматривает
за миром, размечает все в нем и вмешивается по Своей
воле. Такое понимание участия Бога в делах мира было
не просто богословским, но и социальным: подразумева-
лось, что, только если люди будут знать, что Бог следит
за ними, они станут правильно себя вести и смогут пере-
строить свою жизнь к лучшему. Так, Бойль, например, не
был удовлетворен расхожим пониманием «законов при-
роды» и постоянно говорил, что этого термина следует
избегать, а если нет, то хотя бы употреблять с осторож-
ностью. Конечно, в природе мы видим закономерности,
более того, можем их описать с математической строго-
стью. Но нужно понимать, что все эти закономерности —
во всемогущей воле Божией. В любой момент Бог может
проявить Свою власть как особый промысел о мире и из-
менить привычное движение материи, приостановить
одни закономерности и переменить другие. Писание
приводит действительные случаи, когда Бог менял поря-
док дел в мире. Поэтому нужно понимать, что камни па-
дают вниз с постоянным свободным ускорением, потому
что Бог так решил.
Выше (в гл. I) мы говорили о том, как о. Марен Мер-
сенн переживал в связи с опасными религиозно-нрав-
ственными последствиями ренессансного «натурализ-
ма», то есть мировоззренческой системы, в которой
498 Стивен Шейпин. Научная революция
активность и даже способность чувствовать приписыва-
лись самой природе. Бойль также не раз говорил о том,
что обеспокоен попытками одушевить природу. Он счи-
тал, что построить правильную естественную филосо-
фию и не задеть христианскую мораль можно, только
признав, что материя глуха и груба, а оживляется только
духовным воздействием извне. Вот, скажем, всасывание
жидкости: мы напрягаем щеки, и вода поднимается из
сосуда вверх. В традиционном понимании воде припи-
сывался страх перед пустотой, которая могла бы возник-
нуть при высасывании воздуха из трубки. Тогда как меха-
нистическая философия объясняла подъем воды вверх
различием давления или веса воздуха в трубке и над са-
мим сосудом. Поэтому уже не было никакой философ-
ской необходимости приписывать материи какие-либо
намерения или цели.
Бойль разрабатывал механику всасывания в несколь-
ких трактатах, которые он создал в конце XVII в. и опу-
бликовал на закате жизни. Он попытался опровергнуть
не только аристотелевское понятие «боязни пустоты»,
но и распространенное среди публики «вульгарное пони-
мание природы». «Настоящие физические причины» та-
ких эффектов не будут открыты, «пока люди нашего вре-
мени привычны, как и их предки, воображать, что мир
управляется зрящим существом по имени Природа и что
эта Природа боится пустоты и поэтому всякий раз готова
покорно делать все, чтобы этой пустоты не было». Пред-
ставление о том, что природа боится пустоты, предпола-
гает, что «грубое и неодушевленное создание, такое как
вода, не просто способно поднять свою тяжесть вверх,
но даже знает о том, где именно воздух был откачан. По-
лучается, что вода столь смела, что может подниматься,
действуя вопреки своей обычной склонности ради обще-
го блага мира. Она действует как благородный патриот,
жертвующий личным интересом ради своей страны».
Философские аргументы против приписывания мате-
рии намерений мы вкратце рассмотрели в предыдущих
главах. Сейчас мы только отметим, что, согласно Бойлю,
Глава III. Чему служило новое знание? 499
«грубое понимание» угрожает истинной религии и осно-
ванному на ней моральному порядку: оно «опасно для ре-
лигии вообще и для христианской религии в частности».
Вопрос состоит не в том, что способна делать природа,
а в том, что будет делать Бог как внешняя духовная ин-
станция. «Многие атеисты приписывают природе слиш-
ком много... и поэтому считают ненужным обращаться
к Божеству, чтобы объяснить феномены универсума».
Но если приписывать активность и разум природе, ко-
торая всегда совершенно верно понималась как грубая
материальность, то придется верить, что материальная
природа самодостаточна и вполне обходится без внеш-
них одушевляющих ее инстанций и сама будет двигаться
и все производить. Природа превратится тогда в «полу-
бога», который будет оспаривать могущество и власть
Бога. Грубое понимание природы и продолжает прово-
цировать в умах идолопоклонство и атеизм: «Когда на
вещи телесные, и часто неодушевленные, смотрят так,
как будто они живут, чувствуют и понимают, и когда при-
роде приписывают способности, принадлежащие только
Богу, это способно вызвать в людях только многобожие
и склонить к почитанию идолов».
Бойль неспроста говорил об этом. В Англии времен
буржуазной революции и гражданской войны (1640-
1660) буйно расцвели радикальные политические движе-
ния — и некоторые из них употребляли как раз «вульгар-
ное понимание природы» для сокрушения религиозной
и политической власти. Зачем нужно Божество, кото-
рое извне одушевляет природу, если сама материальная
природа достаточно одушевлена? И зачем необходимо
священство, толкующее волю Божию по отношению к
людям, если духовные силы живут в каждой вещи и про-
никают в сознание всякого верующего? Такие радикаль-
ные английские секты, как диггеры и рантеры, яростно
отстаивали анимистические воззрения, на которых они
строили уже и свою политическую программу. Они го-
ворили, что Бог — источник всякого действия и всякой
цели — равно присутствует «во всех вещах», «в человеке
500 Стивен Шейпин. Научная революция
и звере, рыбе и птице и любом зеленом растении, от вы-
сокого кедра до плюща на стене». И если одушевленность
имманентно присуща материи, то зачем нужно верить в
жизнь души после смерти и в то, что Бог всем воздаст по
заслугам? Разве нельзя тогда считать, что душа умирает
вместе с телом? Бойль восстал против таких воззрений
на природу и их моральных последствий и постарался
показать, каким образом мораль, наравне с научно-тех-
ническими соображениями, позволяет убедиться в пра-
вильности механистической философии6.
Созданная спустя всего два десятилетия после завер-
шения революционных событий небесная физика Исаа-
ка Ньютона должна была дать научное обоснование боже-
ственному вмешательству в природу. Подсчеты Ньютона
показывали, что Солнечная система имеет тенденцию со
временем сжиматься и падать сама на себя. Поэтому вре-
мя от времени требуется «ремонтировать» (reform) Сол-
нечную систему, и Ньютон настаивал на том, что система
регулярно ремонтируется, что следует из ее непременно-
го постоянства. Бог употребляет вполне природные ры-
чаги, чтобы исправить движение планет, — в частности,
Ньютон предполагал, что такими рычагами могут быть
кометы, но также Бог может вмешиваться и напрямую.
Можно сказать, что в самой сердцевине системы Нью-
тона заключалось понятие о деятельной воле Божией.
То, что Бог вмешивается в движение космоса, считалось
вовсе не недостатком, но особенностью мировой ме-
ханики, в которой система неодушевленных движений
должна регулироваться извне одушевленным Разумом.
Философы-механицисты очень по-разному отно-
сились к признанным в обществе религиозным обя-
занностям. Гоббс и Декарт выполняли требования ре-
лигии и доказывали совместимость своих разработок
6 Хотя радикальные секты были запрещены после восстановле-
ния монархии в 1660 г., сходные тенденции (включая упомянутый
только что «деизм») были широко распространены в культуре и вновь
заявили о себе на рубеже XVTI-XV1II вв., когда для их опровержения
понадобились философские доводы, сходные с построениями Бойля.
Глава III. Чему служило новое знание? 501
с церковными задачами. К их сожалению, не все им дове-
ряли, и, хотя атеизм (в смысле формально выраженного
убеждения в том, что Бога не существует) не встречался в
ученой культуре XVII в., приверженные религии ученые
недоумевали, почему философия Гоббса и Декарта отво-
дит Богу в мире столь ограниченную роль, что народ ус-
ваивает ее как вариант атеизма, тогда как в Англии было
принято считать, что ключевая задача естественной фи-
лософии — укреплять и распространять христианскую
веру. Таким образом, функция естественного философа
в значительной мере пересекалась с функцией клирика;
как сказал Ньютон: «В задачи естественной философии
входит судить о Боге по видимости вещей».
Как священники были традиционно наделены вла-
стью толковать Писание, так и религиозно ориентиро-
ванные естественные философы считали себя, по вы-
ражению Бойля, «жрецами природы», которые вполне
способны толковать Книгу Природы и раскрывать перед
читателями ее духовный смысл. Поэтому они постоянно
выдавали «успешные доводы, убеждающие людей в суще-
ствовании Бога» как премудрого и всемогущего Творца.
В 1661 г. Роберт Гук писал, что экспериментальная есте-
ственная философия— «это самый подходящий путь,
чтобы воздвигнуть славный и несокрушимый храм в
честь природы» и ее Творца. А кембриджский философ-
платоник Генри Мор (1614-1687) восхвалял «самую со-
вершенную философию» Королевского общества за то,
что «она так далека от атеизма, что я без всяких опасений
буду ей следовать». Бойль описывал экспериментальное
исследование как своего рода богопочитание, поэтому
он предпочитал ставить эксперименты по воскресеньям,
после богослужения. Английский философ-механицист
таким образом превращался в клирика, который служит
свою литургию в храме природы.
Такое служение философов-механицистов Творцу
предназначало им показать реальное действие Духа в мире.
Они должны были объяснить материю и ее механику,
обозначив при этом пределы механицизма. Как идея
502 Стивен Шейпин. Научная революция
неодушевленного механизма мира породила коррелиру-
ющую категорию духовного посредничества, точно так
же и понятие механически действующей природы ста-
вило себе в соответствие все сверхъестественные силы,
действующие в природе и воздействующие на природу.
То, что механицизм имеет пределы, вовсе не считалось
недостатком правильно сформулированной естествен-
ной философии. Если бы механистическая философия
XVII в. была бы внерелигиозной, то ей надлежало бы
объяснить через механизмы любые явления, но она не
была внерелигиозной. А значит, механицизм имеет свои
пределы, и философы-механицисты верили не только
в свою механику, но и в то, что нельзя объяснить через
действие механических причин. Бойль поэтому говорил,
что земля и воздух над ней «населены множеством духов»
и что Бог «сотворил бессчетное число духовных существ
разного рода, наделив каждое собственным интеллек-
том и волей». В гл. II мы говорили, что многие ведущие
сотрудники Королевского общества признавались, что
веруют в демонов и ведьм, а Бойль писал даже, что та-
кая вера полезна богословам: «Допущение... что суще-
ствуют разумные существа, которые при этом не видны
обычным образом, немало способствует развенчанию
атеизма»: потому что становится ясно, «что слишком уз-
кое поле понимания у людей нужно расширить, чтобы
понять всю ширь трудов Божиих». Таким образом, вера
философов-механицистов — это вера и в то, что не имеет
отношения к механике мира.
Более того, некоторые философы-механицисты стре-
мились доказать действие духов в мире (отделив те явле-
ния, которые могут иметь естественно-научное объясне-
ние, от тех явлений, которые такого объяснения иметь
не могут), чтобы выстроить наше знание о сверхъесте-
ственном на более твердом основании. Необходимо
было бдительно отслеживать все свидетельства о чуде-
сах и действиях духа. Ведь надуманные сообщения о ду-
ховных явлениях и бездумная вера в чудеса могут толь-
ко подорвать авторитет разговоров о духовном начале
Глава III. Чему служило новое знание? 503
и исказить содержание веры. Более того, верования, при-
нятые в частном порядке, оказываются социально опас-
ными. Пока неподготовленные индивиды веруют во что
попало, не имея внешнего авторитета, который судил бы
о правомочности их веры, они только потакают нестрое-
ниям и вводят друг друга в недоумение. Поэтому сообще-
ство ученых-экспериментаторов должно осуществлять
надзор за умами, только тогда наука станет развиваться и
начнет приносить пользу для всего общества. Объектив-
ность науки, состоящая в употреблении готового набора
техник для установления фактов, должна была подтвер-
дить ее незаинтересованность и умение наводить поря-
док там, где раньше был разлад. В 1668 г. Джозеф Глэн-
вилл писал: «Мы знаем не весь мир, в котором мы живем,
но только экспериментальные данные и феномены; и то
же самое нужно сказать о созерцании нематериальной
природы». Философы-механицисты призывали к тому,
чтобы давать обоснованный учет духовных феноменов.
Служанке религии тогда оставалось одно — помогать по-
полнять и раскладывать по полкам запасы религиозного
знания действительности.
5. Природа и цель:
место тайны в мире науки
При разговоре о научной революции мы всякий раз
видим, что подозрение и даже активное противодействие
мыслителей того времени вызывало приписывание есте-
ственным явлениям особой телеологии: тех объяснений,
в которых предназначение естественных вещей отож-
дествлялось с их причиной. Галилей и Гоббс критикова-
ли учение Аристотеля о «естественном месте» каждой
вещи, Мерсенн заменил механикой «ренессансный нату-
рализм», а Бойль требовал осторожно употреблять выра-
жение «естественные законы». Мы попытаемся понять,
каким образом здесь проявлялась самая суть научной ре-
волюции или хотя бы суть механистической философии:
504 Стивен Шейпин. Научная революция
как только механистические объяснения вытеснили
телеологические, в науке наступило новое время.
В предыдущем параграфе мы говорили, что невоз-
можно выстраивать в одну линию всех ученых раннего
Нового времени. Многие ученые-практики полагали,
что область механических объяснений ограниченна.
Если ты говоришь о вещах как естественный философ,
изволь говорить о них в механистических категориях,
оставив в стороне всякие понятия о цели, но данные ме-
ханистические объяснения явно не смогут объять всю
сложность мировых явлений. А другие ученые-практи-
ки, считавшие, что механицизм позволяет объяснить
многое прежде непонятное, не ставили естественному
философу никаких пределов и считали, что все в мире
нуждается в закономерном объяснении. С одной сто-
роны, Декарт пришел к тому, что вообразил гипотети-
ческий естественный мир, который Бог мог бы создать:
мир, в котором механистическая философия не оставит
ни одного темного угла, — именно этот мир был идеа-
лен для объяснений философа. С другой стороны, такие
ученые, как Роберт Бойль и Джон Рей, пытались раз-
глядеть цели Божий и понять, как именно Он устроил
естественный мир. Поэтому они не боялись говорить о
цели, когда философски рассуждали о свойствах окружа-
ющего мира, потому что, как они говорили, сам строй
и порядок в природе не может быть бесцельным. Дока-
зательство бытия Божия от разумного устроения мира,
лежавшее в основе естественной теологии, представля-
ло собой прямое телеологическое объяснение: любая
естественная структура обладала некоторыми функци-
ями благодаря наличию у нее цели. Такое расхождение в
стратегии объяснения увязано с различным пониманием
сферы занятий естественных философов в сравнении с
естественными историками. Все ученые-практики были
согласны, что реформированное понимание природы
должно преодолеть сомнения, утвердить правую веру
и показать истинные основания морального порядка —
они расходились только в понимании того, чем следует
Глава III. Чему служило новое знание? 505
ограничивать исследование природы ради скорейшего
достижения этих целей.
Некоторые философы говорили, что для понимания
природы требуются также немеханические, телеологи-
ческие объяснения. Говорить, что они не были последо-
вательными или твердыми механицистами, будет неос-
мотрительно — ведь сперва нам придется тогда доказать,
что естественному философу нет больше дела, кроме как
объяснять все явления как механизмы, не вдумываясь ни
в природу этих явлений, ни в то, достаточно ли было до-
казательств работы механических причин. Так, скажем,
Бойль допускал и считал философски разумным гово-
рить в меру о целевых причинах в связи с живыми суще-
ствами, конечно, не изменяя при этом механике жизни:
«В природе, известной нам, есть область, где говорить о
целевых причинах будет оправданно — а именно строе-
ние тела живых существ». Неимоверная сложность телес-
ного устройства животных и наилучшая приспособлен-
ность этой структуры к выполнению функций поощряли
веру в «верховный надзор разумного Деятеля». Конечно,
можно было попытаться и сложность, и приспособлен-
ность объяснить в механических терминах, но зачем
было вводить механизмы там, где само устройство выгля-
дело очень разумным?
В конце XVII — начале XVIII в. сэр Исаак Ньютон, ко-
торого часто прославляют как вершину развития меха-
нистической философии, много раз протестовал против
всех глобальных философских попыток объяснить все
через механику. Мы уже говорили в гл. I, что Ньютон был
против того, чтобы гравитация рассматривалась как ме-
ханизм, но те же самые пределы механицизму он ставил
при рассмотрении магнетизма, электричества и фено-
менов жизни. Почему, спрашивается, механистическое
исследование причин должно быть основным занятием
естественной философии? Почему нельзя говорить про-
сто о силах притяжения и отталкивания или об активно-
сти в природе, если явления говорят именно об этом? Тебя
же это не сделает ни аристотеликом, ни ренессансным
506 Стивен Шейпин. Научная революция
оккультистом. Как писал Ньютон: «Принципы, которые я
рассматриваю, — это не оккультные качества. Они проис-
текают из специфики самих форм вещей, при этом пред-
ставляя собой общие законы природы, по которым уже
формируются сами вещи. Их истина явлена нам феноме-
нами, тогда как их причины еще не выяснены. Поэтому
мы и видим перед собой только качества, тогда как при-
чины их от нас скрыты — и скрыты только они». Ньютон
считал нефилософским делом «измышлять гипотезы»,
даже механистические гипотезы причин, если чувства
и разум не позволяют нам определенно утверждать, что
это так. «В телах, — писал Ньютон, — мы видим только
форму и цвет, слышим только звуки, прикасаемся толь-
ко к самой поверхности, чуем только запах и ощущаем
только вкус — но внутренняя субстанция недоступна на-
шим чувствам и не отражается в нашем уме». Если другие
ученые-практики отождествляли настоящую естествен-
ную философию с поиском механических воздействий,
Ньютон признавался, что природу нельзя раскрыть в ее
начальном виде. Требование постижимости имело свои
пределы. Естественная философия была несокрушимой
скалой определенности суждений, хотя бы ее со всех
сторон и омывало безбрежное море тайны.
В ходе предшествующего обсуждения мы выяснили,
что среди ученых раннего Нового времени самым на-
стойчивым и оптимистичным сторонником механиче-
ских объяснений был Рене Декарт. В отличие от таких
философов, как Бойль и Ньютон, Декарт настаивал,
что механическим в своей сущности оказывается и все
одушевленное: скажем, человеческое тело работает как
большая фабрика, на которой все движения передаются
от механизма к механизму. А сейчас мы сможем лучше по-
нять и пределы механистических объяснений, и почему
механистический подход оказался так важен для форми-
рования новой концепции природы, объяснявшей место
человека и человеческого опыта в мире.
В гл. I мы уже говорили кратко о том, что Декарт по-
нимал человеческое тело как статую и земную машину.
Глава III. Чему служило новое знание? 507
Декарт считал, что всю работу человеческого тела мож-
но описать как работу механизма: так он объяснял и пи-
щеварение, и производство крови и ее передачу по ве-
нам и артериям, и процесс дыхания и распространения
воздуха по организму, и рефлекторное движение (схема
рефлекса— см. рис. 10)7. Машина, которую и представля-
ет собой человеческое тело, конечно, «несравненно луч-
ше устроена», чем все, что могут сделать мастера, но все
же это машина. А значит, ее работа может быть разобра-
на точно так же, как мы разбираем работу автоматов, тех
самых очень напоминающих действительные организмы
автоматов, которые восхищали аристократическое об-
щество раннего Нового времени, — движущиеся и иногда
производящие звуки статуи, в которых были спрятаны
колеса, пружины и передачи (см. механический петух —
рис. 6). Если не было никаких проблем с интерпретацией
движений этих автоматов, сконструированных челове-
ческими руками, то так же точно, согласно Декарту, не
было никаких проблем и с интерпретацией движений
одушевленных тел, которые тоже можно было описать
как механику движения. В движениях обезьяны или, ска-
жем, пчелы нет ничего, что бы не совпадало с движения-
ми механического автомата.
Но говорить о человеке, что он представляет со-
бой всего лишь механизм, было бы неверно. Объяснить
7 Строго говоря, Декарт говорил как о механизме не о действи-
тельном человеческом теле, живом и дышащем, но о его концептуаль-
ной модели, которую нужно было представить себе для объяснения
действительности. Как говорил сам Декарт (и мы уже это отмети-
ли), он дает механистическую трактовку не того мира, который Бог
создал, но того мира, какой Он мог бы создать. Такое воображаемое
тело, как и воображаемый естественный мир, считалось рационально
постижимым и не расходящимся в чем-то принципиально с тем, что
мы знаем о функционировании реального тела и реального естествен-
ного мира. Именно такое суждение об отсутствии разрывов в наблю-
дении и понимании и позволило Декарту засчитывать свою работу с
воображаемым телом за работу с реальным телом. Другое дело, что
многие читатели не обращали внимание на эту оговорку, а все рассуж-
дения Декарта о различии реальности и воображаемой модели счита-
ли данью тогдашней риторике.
Рис. 30. Разрез человеческого мозга в изображении Декарта.
Шишковидная железа обозначена как Н.
Источник: Descartes R. Treatise of Man (1664)
Глава III. Чему служило новое знание? 509
человеческое тело недостаточно, чтобы объяснить чело-
века, — ведь в человеке есть то, что нельзя свести к про-
стому сочетанию материи и движения. Никто из нас не
ощущает себя машиной; и Декарт соглашался, что мы —
не машины. Мы чувствуем в себе волю, мы ставим себе
цели, мы движем наше тело к нашим целям, мы осозна-
ем, что мы сделали, можем оценивать себя морально,
размышлять независимо от телесного состояния, мыс-
лить и выражать готовые результаты размышлений язы-
ком — автомат (по Декарту, равно машина или животное)
не умеет делать ничего из этого.
То, что человек обладает всеми этими свойствами
и может делать то, что не умеют делать автоматы, про-
истекает из его двойственной природы. Пока мы говорим
о теле, мы видим только находящуюся в движении мате-
рию, но как только мы опознаем ум, то понимаем, что ни
одно из его явлений не может быть сведено к движению
материи. Сам мир состоит из двух непохожих слоев: об-
ласть материи и область ума. Только в человеке эти две
области встречаются. Человек, единственный из оду-
шевленных созданий Божиих, имеет «разумную душу».
Такая разумная душа — особый дар Божий; она связует
людей с их Создателем — и именно этот тезис примиря-
ет Декарта с Писанием. Всякая человеческая душа особо
творится Богом, она бессмертна, она не имеет свойств
материи — пространственной протяженности и делимо-
сти. Таким образом, самая последовательная из механи-
стических философских программ XVII в. тоже завер-
шилась тайной.
Это тайна как бы двойного бытия: каким образом
в одном человеческом существе сочетаются ум и мате-
рия. Конечно, можно было подобрать аналогии из физи-
ческого мира: тяжесть в камне, или движущиеся пальцы
на неподвижной ладони, или различные виды тканей в
одном теле, — но все равно оказывалось, что соединение
ума и материи в человеке невозможно объяснить. Если
ум не имеет пространственной протяженности, то где
он? В какой именно точке происходит соприкосновение
510 Стивен Шейпин. Научная революция
двух реальностей? Декарт дал на это образцовый ответ.
Все чувства и впечатления должны сходиться вместе,
чтобы стать предметом мышления, а значит, нужно ис-
кать крохотный орган, не удвоенный симметрией право-
го и левого, в середине плотной ткани мозга (рис. 30). Это
оказалась небольшая шишковидная железа, «седалище
воображения и здравого смысла», а значит, и «седалище
души». Тонкая и поддерживаемая только кровеносными
сосудами, она идеально подходила для передачи движе-
ний от тела к уму и от ума к телу. Но все же окончательная
тайна заключалась в том, в какой точке это происходит.
Настаивая на том, что механически можно объяснить
любое явление физического мира, Декарт вынужден
был признать, что вопрос о взаимодействии ума и мате-
рии не входит в число вопросов механики и, более того,
приводит к отрицанию ее принципов. Уникальность
человека сама происходит из таинственного взаимодей-
ствия между материей, которая подчиняется механи-
ческим законам, и умом, который их над собой не при-
знает. Ум человека всегда ставит цели, и, руководствуясь
этими целями, он движет материю. Когда мы перевора-
чиваем страницы этой книги, то тем самым доказываем,
что ум руководит действием человека в природе. И как
механицизм был ограничен одновременно религиозны-
ми интуициями и живым опытом бытия — человеком,
так и опровержение антропоцентризма (см. гл. I) было
ограничено непостижимостью с механистических пози-
ций сущности человеческого существа. Все прочие есте-
ственные философы, как мы уже видели, гораздо осто-
рожнее, чем Декарт, полагали пределы механическим
объяснениям, и его выводы часто подозревали во влия-
нии на них религиозного понимания духовной природы
человека— Декарту, мол, нужно обязательно утвердить
связь человека с Богом. Но амбициозная механистиче-
ская программа Декарта вовсе не отрицает специаль-
ного и центрального места человека в естественном
мире, но просто рассматривает его на другой плоскости.
Как раз то, на чем настаивал антропоцентризм, служит
Глава III. Чему служило новое знание? 511
у Декарта не натуралистическому объяснению человека
как средоточия естественных сил, но таинственному по-
ниманию человека как центральной точки схождения
материального мира с духовным. Признание особого ме-
ста человека в природе связало эпохи, открывая новые
вопросы и оправдывая научную революцию перед новы-
ми поколениями ученых.
6. Незаинтересованность
и смысл естественно-научного знания
Я уже говорил, что нельзя найти никакой «сущности»
научной революции; поэтому я просто хотел показать чи-
тателям негомогенность естественно-научного знания в
XVII в., из которой проистекали яростные и непримири-
мые споры. Поэтому я не буду сейчас заниматься перечис-
лением сделанного и не сделанного в то время, я просто
попытаюсь обратить в конце книги особое внимание на
еще одну сторону научной революции, о которой мы го-
ворили, но которая позволит связать все нами сказанное
с фундаментальными категориями и ценностями нашей
современной культуры. Речь идет о деперсонализации
(обезличивании) природы и производстве «незаинтере-
сованного» знания.
Сама идея естественно-научного знания, появившая-
ся в начале Нового времени, — это идея объективного,
а не субъективного изучения предметов. Ученый должен
понять, каков есть природный мир, а не каким он должен
быть. Само категоричное различение между научным
«знанием того, как есть» и моральным «знанием того,
как должно быть» держится на отграничении объектов
естественно-научного знания от объектов морального
рассуждения. Объективный характер естественных наук
гарантируется методом, который заставляет ученых-
практиков отложить в сторону все свои переживания и
интересы и заняться объективной разработкой научно-
го знания. В таком случае наука только тогда остается
512 Стивен Шейпин. Научная революция
наукой, когда рассматривает объективную картину мира,
не принимая во внимание никакие соображения ценно-
сти, морали и политики, — все эти побочные соображе-
ния только помешают производству и проверке знания.
Только когда знание создано, тогда уже можно рассуж-
дать о его полезности для общества. Такое понимание
науки было создано в XVII в., и именно поэтому говорят,
что научная революция и сделала наш мир таким, каков
он сейчас.
Но говорить об объективности научного знания не-
возможно, пока мы не ответили на другие вопросы: как
еще могло бы быть произведено научное знание, могли
ли быть другие пути его развития? Задача историка — не
хвалить и не порицать. Мы знаем, что моральные науки
не похожи на естественные науки и что граница между
оценкой и объективным познанием непреодолима, и мы
должны отдавать отчет в том, как это влияет на нашу
культуру. Прежде всего мы исходим из того, что ценно-
сти нельзя изучать научно. Что хорошо, что плохо — это
мы решаем сами для себя, исходя из моральной заинте-
ресованности, а не из рассудочного расчета, тогда как о
вещах природного мира мы говорим рационально, неза-
интересованно и исходя из совместного обсуждения их
по определенным правилам. Такое отношение к приро-
де и к морали — достижение научной революции, и оно
оправдано только ею. Не правда ли, мы сейчас продолжа-
ем находиться в той ситуации самоопределения, которая
была создана тогда?
Телеология Аристотеля, столь живо раскритикован-
ная философами-механицистами, давала целостную кар-
тину и природных и человеческих дел — и то и другое рав-
но успешно интерпретировалось, исходя из ближайших
и отдаленных целей. Но философы-механицисты XVII в.
отвергли телеологию, а это значило, что разговоры о че-
ловеческих намерениях будут строиться совсем иначе,
чем разговоры о естественных процессах. Человек уже
не находится в центре космоса, но способ говорить о
чувственной и моральной природе человека стал более
Глава III. Чему служило новое знание? 513
специальным, не таким «натуралистическим», как пре-
жде. Пусть даже тело человека признают машиной (на
этом настаивал сам Декарт), но наше общество существу-
ет потому, что мы относимся к своим собратьям не как к
машинам. Человеческие дела имеют цель, совершаются
сознательно и нуждаются в моральной оценке. Поэтому
мы можем отличить себя от машин и от природы, поня-
той как механизм. Это центральный момент Нового вре-
мени: наш успех в постижении природы имеет обратной
стороной трудности в понимании нашего места в мире,
а значит, и трудности ответа на вопрос, что есть человек.
Реформа естественно-научного знания в XVII в. оз-
начала, что ученые-практики достигли относительного
согласия в том, что является реальным субстратом окру-
жающей нас природы. Мир вокруг нас представлялся как
состоящий из корпускул, действующий как механизм и
подчиняющийся математическим законам — так порва-
лась обычная связь между тем, какими вещи кажутся нам,
и тем, как мы их понимаем реально. Следует сказать,
что такой успех естественных наук и сама возможность
согласия ученых были обеспечены за счет отмежевания
практики от других разделов философии, особенно от
философии знания. Мы знаем точно и надежно, что та-
кое естественный мир, но при этом на вопрос, как мы
это знаем, мы не сможем ответить — философы об этом
спорят, обсуждают и тревожат умы, не позволяя выра-
ботать культурного отношения к проблеме. Порядок и
надежность научных выводов обернулись неустойчиво-
стью и размытостью современной культуры.
Наконец, следует также обратить внимание на вели-
кий парадокс в самой сердцевине современной науки,
восходящей к рассмотренным нами открытиям XVII в.
Речь идет об отношении между объективностью и неза-
интересованностью естественных наук и повседневным
миром субъективности, страстей и интересов. Вот проти-
воречие: чем больше состав науки оказывается объектив-
ным и отрешенным от личных интересов, тем чаще на-
уку пытаются использовать как инструмент морального
514 Стивен Шейпин. Научная революция
и политического действия. А если мы признаем, что на-
ука тоже вносит свой вклад в решение моральных и по-
литических проблем, мы вынуждены также оговориться,
что создается наука и оценивается вовсе не для частных
интересов. Этот парадокс, как мы уже видели, дал о себе
знать в самом начале научной революции, когда незави-
симые ученые и джентльмены создали знание, исклю-
чительно полезное для богословия и политики именно
потому, что практически признавалось отличие науки от
дел Церкви и государства: наука оказывалась над схват-
кой. Так происходит и сейчас: самый лучший ресурс цен-
ностей для современной культуры — это наука, которая,
как мы по-прежнему признаем, не способна выносить ни-
каких моральных оценок.
Рассмотренное нами было не без пользы, в частности,
мы убедились, что привычные нами категории разговора
о науке имеют свою историю и социологию. Скажем, мы
пытаемся понять, как влияет общество на науку или как
наука способствует выработке ценностей, и мы при этом
принимаем как само собой разумеющееся те категории,
которые были привнесены в нашу культуру научной рево-
люцией. Мы уже предполагали, что, пока мы не изобрели
нового языка, чтобы рассуждать об этих вещах, мы будем
оставаться в том тупике, в который завели нас парадок-
сы Нового времени. Но я смотрю на вещи не так мрач-
но. Я думаю, что мы немного разобрались сейчас в тех
процессах, которые и произвели на свет современную
культуру, и что слова «наука» и «общество» наполнились
для нас новым смыслом. И я надеюсь, что читатель будет
смотреть на науку и общество несколько другими глаза-
ми, чем он смотрел до чтения книги.
Осталось сделать еще одну оговорку. Культурное на-
следство, которое заставляет нас противопоставлять
область науки миру человеческих страстей и интере-
сов, — это не только описание прошлого, но и предписа-
ние на будущее: как нужно вести себя в науке. Значит ли
это, что любая попытка (вроде этой) говорить об исто-
рии и социологии науки, изображая науку как сложный
Глава III. Чему служило новое знание? 515
противоречивый и часто неоднозначный продукт твор-
чества конкретных людей, которые были заинтересо-
ваны в конечном результате, озабочены моральными
принципами и решали задачи внутри своей собственной
истории, должна читаться как критика науки? Можно ли
сказать, что история науки доказывает, что наука чаще
всего необъективна, неистинна и произвольна? Не подо-
рвет ли это доверие современного общества к науке?
Думаю, что такой вывод не просто поспешен, но и не-
грамотен. Мы вовсе не собирались давать критику всей
науки: мы рассмотрели только небольшую ее часть, вы-
брав показательные и поучительные истории ее судеб.
Успешной критикой науки занимаются сами ученые,
и думаю, что они лучше справятся с этой критической ра-
ботой, чем историки, социологи или философы. Наука
остается все тем же — наилучшей из возможных система-
тизации знания об окружающем мире, тогда как истории,
которые мы рассказывали об историческом развитии на-
уки, могли иметь серьезное отношение к делу или быть
побочными обстоятельствами. Все равно наука— это
часть культуры Нового и Новейшего времени, которая
пользуется наибольшим почтением большинства людей.
Поэтому я не думаю, что наука нуждается в моей защите,
тем более поддержанием старых басен и мифов о ней,
которые не имеют никакой настоящей ценности. Под-
держивать обывательские представления о науке — это
наибольшая измена научной революции с ее культурным
триумфом.
БИБЛИОГРАФИЯ
Всякий исследователь обязан, впрочем, скорее к соб-
ственной чести, указать, каким работам обязан его крат-
кий рассказ о сути научной революции и на какой ги-
гантский пласт исследований опирается его небольшой
труд. Наша книга— это всего лишь попытка краткого
обобщения наиболее интересных моментов детально из-
ученного материала. Мы ставили одну цель— призвать
читателя к дальнейшему углубленному изучению вопро-
са. Аннотированная библиография содержит наиболее
важные труды по данному вопросу, предпочтение мы от-
давали англоязычным трудам или трудам, переведенным
на английский язык.
1. «Большая традиция» истории науки
Для того чтобы познакомиться с научной революци-
ей как своеобразным явлением, а также с главными ее
деятелями, существенными вопросами, задачами и до-
стижениями, с теми интеллектуальными ресурсами, ко-
торые были задействованы в ходе решения множества
возникших проблем, достаточно обратиться к традици-
онной историографии вопроса. Мы говорим о ее тради-
ционности, потому что в этих монографиях и статьях по
умолчанию напрямую признается, что существует единая
область культуры раннего времени, в которой революци-
онные тенденции в определенных сферах стали преобла-
дать над традиционными; что научная революция — это
образцовый пример разрыва между «старым» и «новым»,
что реальна «сущность» научной революции, которая
Библиография 517
нашла прямое выражение в распространении механи-
цизма и материализма, в математизации естественной
философии, появлении полноценной эксперименталь-
ной науки и усвоении многими (если не всеми) учеными
эффективного «метода», необходимого для производ-
ства «настоящей науки».
К ярким примерам такого традиционного подхода
к научной революции следует отнести старые работы:
Е. A. Burtt, The Metaphysical Foundations of Modern Physical
Science (New York: Doubleday Anchor, 1954; 1-е изд. 1924);
A. C. Crombie, Augustine to Galileo: The History of Science,
a.d. 400-1650 (London: Falcon, 1952); A. Rupert Hall, The
Scientific Revolution, 1500-1800: The Formation of the Modern
Scientific Attitude, 2nd ed. (Boston: Beacon Press, 1966;
1-е изд. 1954); его же: From Galileo to Newton, 1630-1720
(London: Collins, 1963); Marie Boas [Hall], The Scientific
Renaissance, 1450-1630 (New York: Harper Torchbooks,
1966; 1-е изд. 1962); E. J. Dijksrerhuis, The Mechanization of
the World Picture: Pythagoras to Newton, trans. C. Dikshoorn
(Princeton: Princeton University Press, 1986; 1-е изд. 1950).
Влиятельный труд о научной революции, предназна-
ченный для широкого читателя: Herbert Butterfîeld's
The Origins of Modern Science, 1300-1800, rev. ed. (New York:
Free Press, 1965; 1-е изд. 1949). Общий очерк основных
событий в истории науки, начиная с эпохи Возрожде-
ния: Charles С. Gillispie's The Edge of Objectivity: An Essay
in the History of Scientific Ideas (Princeton: Princeton Univer-
sity Press, 1990; 1-е изд. 1960), особенно гл. 2-4. История
полемики между реформаторами науки и традициона-
листами в Англии исследуется в классической моногра-
фии: Richard Foster Jones, Ancients and Moderns: A Study of
the Rise of the Scientific Movement in Seventeenth-Century England
(New York: Dover Books, 1981; 1-е изд. 1962); см. также:
Joseph M. Levine, «Ancients and Moderns Reconsidered»,
in Eighteenth Century Studies 15 (1980-1981), 72-89. Идея на-
учной революции в ее историческом развитии исследу-
ется в статье: I. Bernard Cohen «The Eighteenth-Century
Origins of the Concept of Scientific Revolution», Journal of
518 Стивен Шейпин. Научная революция
the History of Ideas 37 (1976), 257-288, и подробнее в его же
книге: Revolution in Science (Cambridge: Harvard University
Press, 1985); см. также: Amos Funkenstein, «Revolutionaries
on Themselves», in Revolutions in Science: Their Meaning and
Relevance, ed. William R. Shea (Canton, Mass.: Science History
Publications, 1988), 157-163. В статье: A. Rupert Hall,
«On the Historical Singularity of the Scientific Revolution
of the Seventeenth Century», in The Diversity of History:
Essays in Honour of Sir Herbert Butter field, ed. J. H. Elliott and
H. G. Koenigsberger (London: Roudedge and Kegan Paul,
1970), 199-222, обосновывается уникальность, единство
и неоспоримость научной революции, в противовес по-
пыткам пересмотреть это понятие.
В трудах Баттерфильда (Butterfîeld), a также трудах
Холлса (Halls), Джиллиспи (Gillispie) и других после-
военных историков науки прослеживается решающее
влияние идей Александра Койре. В частности, Койре
впервые показал, каким образом рациональная физика
XVII в. радикально порвала со здравым смыслом и указа-
ниями чувственного опыта. Из-за своего открытия Кой-
ре недооценивал значение эксперимента и индукции, ко-
торые преобладали в английской науке в XVII в. Для него
идеализация и рационализация космоса, произведенная
Галилеем, представляли собой квинтэссенцию научной
революции. См. об этом: Koyre, Galileo Studies, trans. John
Mepham (Atlantic Highlands, N.J.: Humanities Press, 1978;
ориг. изд. 1939); его же: From the Closed World to the Infinite
Universe (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1968;
1-е изд. 1957); Newtonian Studies (London: Chapman and
Hall, 1965); и Metaphysics and Measurement: Essays in Scientific
Revolution (Cambridge: Harvard University Press, 1968). Ра-
ционалистическая версия истории науки, предложенная
Койре, повлияла и на французскую философскую тради-
цию: Gaston Bachelard, The New Scientific Spirit, trans. Arthur
Goldhammer (Boston: Beacon Press, 1984; 1-е изд. 1934).
Математическая физика обычно оказывается в центре
внимания при составлении общих очерков научной рево-
люции, напр.: I. Bernard Cohen, The Birth of a New Physics, rev,
Библиография 519
ed. (New York: W. W. Norton, 1985; 1-е изд. I960); Richard S.
Westfall, The Construction of Modern Science: Mechanisms and
Mechanics (Cambridge: Cambridge University Press, 1977;
1-е изд. 1971).
В книге я говорил о традиционной учености, во
многом исходя из того, что научная революция резко и
бесповоротно порвала с тем, что было до нее. Но как в
начале XX в., так и в последние десятилетия некоторые
выдающиеся историки пытались доказать существенное
преемство, и в концепциях, и в практиках, между средне-
вековой наукой и наукой XVI-XVII вв. Такая мысль об
истории науки особенно привлекала ученых, долгое вре-
мя занимавшихся наследием аристотелизма в естествен-
ной философии, поэтому они не хотели воспринимать
полемическую критику схоластики со стороны ученых-
новаторов как начало действительно новой эпохи. Пре-
жде всего нужно указать на влиятельные труды француз-
ского ученого и философа Пьера Дюэма: Pierre Duhem,
The Aim and Structure of Physical Theory, trans. Philip P. Wiener
(Princeton: Princeton University Press, 1991; 1-е изд. 1906) —
и из более поздних трудов: А. С. Crombie, Robert Grosseteste
and the Origins of Experimental Science, 1100-1700 (Oxford:
Clarendon Press, 1953); Charles B. Schmitt, «Towards a
Reassessment of Renaissance Aristotelianism», in History of
Science (1973), 159-193; его же: Aristotle and the Renaissance
(Cambridge: Harvard University Press, 1983); см. также:
Peter Dear's Discipline and Experience (см. ниже), где упоми-
нается о живучести аристотелевского подхода к изуче-
нию природы в XVII в.
2. Историографические споры и обсуждения
Традиционный взгляд на научную революцию широко
обсуждается в последнее время, и некоторые историки
заявляют о своем неприятии общепринятой концепции
научной революции. Основания такого несогласия могут
быть различными, но в любом случае они сомневаются
520 Стивен Шейпин. Научная революция
просто в целостности и внутреннем единстве того, что
было осмыслено как революция в науке. Историки, оспа-
ривающие это понятие, либо считают, что сущность
этого явления нужно понимать иначе, либо что нельзя
говорить о создании эффективного единого метода,
либо что «новизна» и «небывалость» этого явления пре-
увеличена. Такая новая ученость гордо брала на себя в
качестве основной задачи прославление героических
свершений «великих людей, создавших современность»
и предпочитала интерпретировать цели исторических
деятелей «контекстуально» и часто в мировом масшта-
бе. При такой работе необходимо уметь расслышать го-
лоса и менее значимых участников (в некоторых случа-
ях—и людей из народа) и корректно отследить роль тех
форм культуры, которые традиционно рассматриваются
как периферийные или внешние по отношению к «соб-
ственно науке». За последние пятнадцать лет (или около
того) некоторые историки — вне зависимости от того,
отвергали они признанные концептуальные приметы
научной революции или нет, — стали усиленно интере-
соваться конкретными культурными практиками, бла-
годаря которым и производились научные концепции
(а иногда — и научные факты). Споры о правильном опи-
сании и интерпретации научной революции вскоре при-
няли рефлективный «историографический» характер:
все, что бы ты ни сказал о научной революции, теперь
кажется скорлупой для фундаментальных концепций на-
учной революции, на которых держится ее правильное
историческое понимание.
Формально труды по историографии научной рево-
люции долгое время были «партизанскими», что отра-
жало глубоко укорененное в научном сообществе исто-
риков расхождение по поводу того, какие факты и как
следует интерпретировать. Сравнительно недавний
разбор трудов историков по этому вопросу: H. Floris
Cohen, The Scientific Revolution: A Historiographical Inquiry
(Chicago: University of Chicago Press, 1994). Библиогра-
фия в этой книге исключительно полезна, но отдельные
Библиография 521
характеристики взглядов различных историков нужда-
ются в поправках. Продуманный историографический
очерк, проливающий свет на многие свойства традицион-
ного исторического подхода к научной революции: Roy
Porter, «The Scientific Revolution: A Spoke in the Wheel?»,
in Revolution in History, ed. Roy Porter and Mikulâs Teich
(Cambridge: Cambridge University Press, 1986), 290-316.
В сборнике: Reappraisals of the Scientific Revolution, ed. David
C. Lindberg and Robert S. Westman (Cambridge: Cambridge
University Press, 1990) опубликовано немало блестящих
статей, из которых обратим внимание на вступительную
статью: Lindberg, «Conceptions of the Scientific Revolu-
tion from Bacon to Butter field: A Preliminary Sketch», 1-26
и Ernan McMullin, «Conceptions of Science in the Scientific
Revolution», 27-92, где рассудительно исследуется исто-
рическая изменчивость определений «науки» и «надле-
жащей методологии». Обзор национальных вариаций на-
уки: The Scientific Revolution in National Context, ed. Roy Porter
and Mikulas Teich (Cambridge: Cambridge University Press,
1992), куда включены содержательные историографиче-
ские статьи (см. также важный обзор этой книги: Lorraine
Daston, «The Several Contexts of the Scientific Revolution»,
in MinervaS2 [1994]: 108-114).
Хотя в традиционном изложении в центр научной
революции помещают фундаментальные изменения в
математической физике, не следует считать, что наука
раннего Нового времени состояла только из физики и
математики. Самая продуктивная работа, в которой
проводится различие между традициями научной прак-
тики и доказывается, что в XVII в. только часть науч-
ной практики изменилась под напором революции, —
это Thomas S. Kuhn, «Mathematical versus Experimental
Traditions in the Development of Physical Science», в его же
The Essential Tension: Selected Studies in Scientific Tradition and
Change (Chicago: University of Chicago Press, 1977), 31-65.
Прославленный труд того же автора «Структура науч-
ных революций»: Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions,
2nd ed. (Chicago: University of Chicago Press, 1970; 1-е изд.
522 Стивен Шейпин. Научная революция
1962) — оказал влияние вообще на все существующие под-
ходы к революционным изменениям в науке и одновре-
менно позволил чутко различать разные типы практик,
до этого объединенные одним словом «научные».
Один из наиболее показательных примеров скепти-
ческого отношения к единству и самотождественности
научной революции: John A. Schuster, «The Scientific
Revolution», in Companion to the History of Modem Science,
ed. R. С Olby et al. (London: Routledge, 1990), 217-242.
Шустер сомневается в существовании единого, нераз-
рывного и эффективного метода науки в то время. Осо-
бенно подробно Шустер доказывает свою позицию в
серии статей о Декарте, который, как известно, более
всех прочих философов говорил о могуществе метода:
Schuster, «Cartesian Method as Mythic Speech: A Diachronie
and Structural Analysis», in The Politics and Rhetoric of
Scientific Method: Historical Studies, ed. John A. Schuster and
Richard R. Yeo (Dordrecht: D. Reidel, 1986), 33-95; он
же: «Whatever Should We Do with Cartesian Method? —
Reclaiming Descartes for the History of Science», in Essays
on the Philosophy and Science of Rene Descartes, ed. Stephen Voss
(New York: Oxford University Press, 1993), 195-223. Хоро-
шо обоснованный скептицизм относительно таких по-
нятий, как метафизика, механицизм и математика, в от-
ношении к явлению научной революции см. в: Wilson,
The Invisible World (см. ниже), особ. гл. 1, а критика тради-
ционного понимания научной революции путем анали-
за литературных жанров, в которых работали ученые:
Rivka Feldhay, «Narrative Constraints on Historical Writing:
The Case of the Scientific Revolution», Science in Context 7
(1994), 7-24.
После Второй мировой войны и до конца холодной
войны историография научной революции в основном
определялась общей дискуссией об отношении «внутрен-
них» и «внешних» факторов, ее обусловивших. Истори-
ки, настаивавшие на приоритете внутренних факторов,
считали, что развитие науки происходило благодаря
утверждению новых принципов организации знания:
Библиография 523
очевидность утверждений, разум как критерий любых
выводов и единый метод как способ получения новых
результатов. Эти историки говорили, что вообще раз-
витие науки имеет свою внутреннюю логику и поэтому
любое изменение в ней тоже предопределяется внутрен-
ними факторами. Другие историки говорили, что од-
ними явлениями интеллектуальной жизни невозможно
объяснить изменения, происходившие в масштабе всей
науки. Поэтому нужно учитывать факторы, и не принад-
лежащие прямо к миру науки: политическую ситуацию,
религиозные споры, экономические задачи того време-
ни—в этом социокультурном контексте и происходило
становление новой науки. Нельзя сказать, что спор меж-
ду двумя группами историков был продуктивен и даже во
всем продуман: слишком много к нему примешивалось
идеологических суждений. Сторонники приоритета
внешних факторов часто были марксистами или же сим-
патизировали марксизму, тогда как сторонники действия
исключительно внутренних факторов считали грубым
упрощением и даже дрейфом к коммунистическому марк-
сизму советского блока понимание социальных факто-
ров как причин научных открытий.
Интересное и поучительное изложение этих дис-
куссий историографов можно найти в статье: Steven
Shapin, «Discipline and Bounding: The History and
Sociology of Science as Seen through the Externalism-
Internalism Debate», in History of Science 30 (1992), 333-
369. По-своему поразительный образчик марксистской
критики науки — это труд советского физика и фило-
софа: Boris Hessen, «The Social and Economic Roots
of Newton's Trincipia'», in Science at the Cross Roads, ed.
N. I. Bukharin et al. (London: Frank Cass, 1971; 1-е изд.
1931), 149-212; см. также: Edgar Zilsel, «The Sociologi-
cal Roots of Science», in American Journal of Sociology 47
(1942), 245-279; Franz Borkenau, «The Sociology of the
Mechanistic World-Picture», in Science in Context 1 (1987),
109-127 (1-я публ. 1932); Henryk Grossmann, «The Social
Foundations of Mechanistic Philosophy and Manufacture»,
524 Стивен Шейпин. Научная революция
in Science in Context 1 (1987), 129-180 (1-я публ. 1935);
см. также: George Clark, Science and Social Welfare in the
Age of Newton, 2nd ed. (Oxford: Clarendon Press, 1970; 1-е
изд. 1937); Robert M. Young, «Marxism and the History of
Science», in Companion to the History of Modern Science (см.
выше), 77-86. Марксистское изучение истории науки в
настоящее время не так популярно, как прежде, но оно
продолжает иметь своих сторонников. Из последних
марксистских (в широком понимании марксистского
метода) работ по науке раннего Нового времени можно
указать на труды Джеймса Джекоба (James Jacob) и Мар-
гарет Джекоб (Margaret Jacob) (см. ниже); Ричарда Хэд-
дена (Richard Hadden) и Фрэнка Шветца (Frank Swetz)
(см. ниже); также книгу: Gideon Freudenthal, Atom and
Individual in the Age of Newton: On the Genesis of the Mechanistic
World View, trans. Peter McLaughlin (Dordrecht: D. Reidel,
1986; 1-е изд. 1982). В работе 1938 г. американского со-
циолога Роберта К. Мертона (Robert К. Merton) об отно-
шении науки и религии в Англии XVII в. марксистский
социологизм отвергается, но книга Мертона тоже стала
объектом непримиримой критики. Так, в трудах по исто-
рии науки Александра Койре, наравне с марксизмом,
опровергается и подход Мертона.
Историографический подход к социальной идентич-
ности практикующего ученого и к социальному контек-
сту науки был в общих чертах намечен в статье: A. Rupert
Hall, «The Scholar and the Craftsman in the Scientific
Revolution», in Critical Problems in the History of Science, ed.
Marshall Clagett (Madison: University of Wisconsin Press,
1959), 3-23. Подход Холла был усвоен многими истори-
ками научной революции, см., напр., статьи в издании:
Renaissance and Revolution: Humanists, Scholars, Craftsmen and
Natural Philosophers in Early Modern Europe, ed. J. V. Field and
Frank A. J. L. James (Cambridge: Cambridge University
Press, 1993); также: Steven Shapin, «A Scholar and a
Gentleman': The Problematic Identity of the Scientific
Practitioner in Early Modern England», in History of Science
29 (1991), 279-327.
Библиография 525
3. Контексты и отрасли науки
А. Механистическая философия и развитие физики
Механицизм и связанные с ним направления нахо-
дятся в центре внимания всех традиционных трудов по
научной революции — считается, что без этого невоз-
можно описать научную революцию с достаточной пол-
нотой. К трудам, приведенным в разделе 1, прибавим:
*Marie Boas [Hall], «The Establishment of the Mechanical
Philosophy», in Osiris 10 (1952), 412-541 (источник, да-
ющий также хорошее начальное представление о тео-
рии материи); *J. A. Bennett, «The Mechanics' Philosophy
and the Mechanical Philosophy», in History of Science 24
(1986), 1-28, это важнейшая статья об отношении ме-
ханистического взгляда на природу и механики как на-
уки; *Otto Mayr's Authority, Liberty and Automatic Machinery
in Early Modern Europe (Baltimore: Johns Hopkins University
Press, 1986) — в этой работе лучше всего объясняется
общий культурный смысл метафоры часов и часово-
го механизма; см. также: Klaus Maurice and Otto Mayr,
eds., The Clockwork Universe: German Clocks and Automata,
1550-1650 (New York: Neale Watson, 1980); Derek J. de
Sol la Price, «Automata and the Origins of Mechanism and
Mechanistic Philosophy», in Technology and Culture5 (1964),
9-23; Silvio A. Bedini, «The Role of Automata in the History
of Technology», in Technology and Culture 5 (1964), 24-42;
Laurens Laudan, «The Clock Metaphor and Probabilism:
The Impact of Descartes on English Methodological
Thought, 1650-65», in Annals of Science 22 (1966), 73-
104. О Мерсенне и механицизме см.: Robert Lenoble,
Mersenne, ou La naissance du mécanisme (Paris: J. Vrin, 1943);
Peter Dear, Mersenne and the Learning of the Schools (Ithaca:
Cornell University Press, 1988), гл. 6; а также биографию
Декарта Gaukroger (см. ниже), 146-152 (там же гл. 3 об
Исааке Беекмане). Фундаментальные проблемы коге-
рентности, понятности и культурной приуроченности
механистической философии рассмотрены в важной
526 Стивен Шейпин. Научная революция
статье: Alan Gabbey, «The Mechanical Philosophy and Its
Problems: Mechanical Explanations, Impenetrability, and
Perpetual Motion», in Change and Progress in Modern Science,
ed. Joseph C. Pitt (Dordrecht: D. Reidel, 1985), 9-84; см.
также: его же: «The Case of Mechanics: One Revolution
or Many?» in Reappraisals of the Scientific Revolution (см.
выше); * Alan Chalmers, «The Lack of Excellency of Boyle's
Mechanical Philosophy», in Studies in History and Philosophy
of Science 24 (1993), 541-564. О понятности как о крите-
рии ньютоновского учения о гравитации см.: *Gerd
Buchdahl, «Gravity and Intelligibility: Newton to Kant», in
The Methodological Heritage of Newton, ed. Robert E. Butts and
John W. Davis (Toronto: University of Toronto Press, 1970),
74-102. Об исторической остроте и провокационности
практики «естественной философии», особенно в нью-
тоновской интерпретации, см.: Simon Schaffer, «Natural
Philosophy», in The Ferment of Knowledge: Studies in the Histo-
riography of Eighteenth-Century Science, ed. George S. Rousseau
and Roy Porter (Cambridge: Cambridge University Press,
1980), 55-91.
Физические науки подробно обсуждаются во всех
трудах по «великой традиции» (см. выше, 1-й раздел би-
блиографии). Дополнительно о развитии физики см.:
Richard S. Westfall, Force in Newton's Physics: The Science of
Dynamics in the Seventeenth Century (London: Macdonald,
1971); I. Bernard Cohen, Franklin and Newton: An Inquiry
into Speculative Newtonian Experimental Science and Franklin's
Work in Electricity as an Example Thereof (Cambridge: Harvard
University Press, 1966; 1-е изд. 1956), особ, главы 5-6; его же:
The Newtonian Revolution (Cambridge: Cambridge University
Press, 1980); John Heilbron, Electricity in the Seventeenth and
Eighteenth Centuries: A Study of Early Modern Physics (Berkeley:
University of California Press, 1979), и в сокращенном из-
ложении в: его же: Elements of Early Modern Physics (Berkeley:
University of California Press, 1982); Mary B. Hesse,
Forces and Fields: A Study of Action at a Distance in the History
of Physics (Totowa, N.J.: Littlefield, Adams, 1965; 1-е изд.
1961); A. I. Sabra, Theories of Light: From Descartes to Newton
Библиография 527
(Cambridge: Cambridge University Press, 1981; 1-е изд.
1967); Alan E. Shapiro, Fits, Passions, and Paroxysms: Physics,
Method, and Chemistry and Newton 's Theories of Colored Bodies
and Fits of Easy Reflection (Cambridge: Cambridge University
Press, 1993), pt. 1; его же: «Kinematic Optics: A Study of
the Wave Theory of Light in the Seventeenth Century», in
Archive for History ofExact Sciences 11 (1973), 134-266; Edward
Grant, Much Ado about Nothing: Theories of Space and Vacuum
from the Middle Ages to the Scientific Revolution (Cambridge:
Cambridge University Press, 1981). Классические работы
об эксперименте Торричелли и развитии пневматики:
Cornélis de Waard, Inexpérience barométrique: Ses antécédents
et ses explications (Thouars: J. Gamon, 1936), Jean-Pierre
Fanton d'Andon, Ehorreur du vide: Expérience et raison dans la
physique pascalienne (Paris: CNRS, 1978); новейшая интел-
лектуальная биография Паскаля: Donald Adamson, Blaise
Pascal: Mathematician, Physicist, and Thinner about God (New
York: St. Martin's Press, 1995); об изучении магнетизма:
Stephen Pumfrey, «Mechanizing Magnetism in Restoration
England: The Decline of Magnetic Philosophy», in Annals
of Science 44 (1987), 1-22; его же: «'О tempora, О magnes!'
A Sociological Analysis of the Discovery of Secular Magnetic
Variation in 1634», in British Journal for the History of Science 22
(1989), 181-214.
В. Общие подходы к природе и к окружающему миру
В классических работах, посвященных общим изме-
нениям подхода к природе от эпохи Ренессанса до со-
вершившейся научной революции, больше всего внима-
ния уделяется переходу от органицизма к механицизму.
В качестве блестящего введения в проблему можно ре-
комендовать книгу: R. G. Collingwood, The Idea of Nature
(London: Oxford University Press, 1960; 1-е изд. 1945), осо-
бенно раздел 2, гл. 1. О том, как менялся смысл противо-
поставления микрокосма и макрокосма и понимание
иерархического строя творения, см. один из важнейших
528 Стивен Шейпин. Научная революция
очерков истории метафизических идей: Артур Лавджой,
Великая цепь бытия: история идеи (М.: Дом интеллектуаль-
ной книги, 2001 [1936] [рус. пер. не всегда удачен]); так-
же: Е. M. W. Tillyard, The Elizabethan World Picture (Harmonds
worth: Pelican, 1972; 1-е изд. 1943). О «физической теоло-
гии» и понятии «среды» см.: Clarence J. Glacken, Traces on
the Khodian Shore: Nature and Culture in Western Thought from
Ancient Times to the End of the Eighteenth Century (Berkeley:
University of California Press, 1976; 1-е изд. 1967), pt. 3;
Yi-fu Tuan, The Hydrologie Cycle and the Wisdom of God: A Theme
in Geoteleology (Toronto: University of Toronto Press, 1968);
его же: Topophilia: A Study of Environmental Perception, Attitudes,
and Values (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1974); Roy
Porter, «The Terraqueous Globe», in The Ferment of Knowledge
(см. выше), 285-324. Рассмотрение тех же вопросов с
большим уклоном в социальную историю: Keith Thomas,
Religion and the Decline of Magic: Studies in Popular Beliefs in
Sixteenth-and Seventeenth-Century England (Harmondsworth:
Penguin, 1973), его же: Man and the Natural World: A History of
the Modern Sensibility (New York: Pantheon, 1983). См. также:
Allen G. Debus, Man and Nature in the Renaissance (Cambridge:
Cambridge University Press, 1978), феминистский подход
к проблеме, напр.: Carolyn Merchant, The Death of Nature:
Women, Ecology and the Scientific Revolution (San Francisco:
Harper San Francisco, 1990; 1-е изд. 1980).
С. Астрономия и астрономы
Коперниканство и связанные с ним вопросы тео-
ретической астрономии и астрономических наблюде-
ний — важнейший вопрос обсуждения в магистральной
линии изучения научной революции. Краткий и при
этом обстоятельный обзор историографии вопроса см.
в: J. R. Ravetz, «The Copernican Revolution», in Companion
to the History of Modern Science (см. выше), 201-216; деталь-
ное рассмотрение технических и концептуальных слож-
ностей: Thomas S. Kuhn, The Copernican Revolution: Planetary
Библиография 529
Astronomy in the Development of Western Thought (Cambridge:
Harvard University Press, 1957). Важная научно-попу-
лярная книга о Кеплере, Тихо Браге и Галилее: Arthur
Koestier, The Sleepwalkers: A History of Man's Changing Vision
of the Universe (New York: Macmillan, 1959) — содержит мет-
кие и провоцирующие наблюдения. См. также: Alexandre
Koyré, The Astronomical Revolution: Copernicus-Kepler-Borelli,
trans. R. E. W. Maddison (New York: Dover Books, 1992;
ориг. изд. 1973), его же: От замкнутого мира к бесконеч-
ной вселенной (см. выше); Albert Van Helden, Measuring the
Universe: Cosmic Dimensions from Aristarchus toHalley (Chicago:
University of Chicago Press, 1985); Karl Hufbauer, Exploring
the Sun: Solar Science since Galileo (Baltimore: Johns Hopkins
University Press, 1991), 1-32; Edward Grant, Planets, Stars,
and Orbs: The Medieval Cosmos, 1200-1687 (Cambridge:
Cambridge University Press, 1994); Jean Dietz Moss, Novelties
in the Heavens: Rhetoric and Science in the Copernican Controversy
(Chicago: University of Chicago Press, 1994); James M. Lattis,
Between Copernicus and Galileo: Christoph Clavius and the Collapse
of Ptolemaic Cosmology (Chicago: University of Chicago Press,
1994); несколько очерков в: The Copernican Achievement, ed.
Robert S. Westman (Berkeley: University of California Press,
1975); Westman, «The Copernicans and the Churches», in
God and Nature: Historical Essays on the Encounter between Chris-
tianity and Science, ed. David C. Lindberg and Ronald L. Num-
bers (Berkeley: University of California Press, 1986), 76-113;
см. также впечатляющее исследование дисциплинарной
идентичности астрономов того времени: Westman, «The
Astronomers Role in the Sixteenth Century: A Preliminary
Study» in History of Science 18 (1980), 105-147.
Блестящее изложение научной деятельности Тихо
Браге см. в: Victor E. Thoren The Lord of Uraniborg: A Biography
ofTychoBrahe (Cambridge: Cambridge University Press, 1990).
О Кеплере см., напр.: Max Caspar, Kepler, 1571-1630, ed. and
trans. C. Doris Hellman (New York: Collier Books, 1962; ориг.
изд. 1959); Nicholas Jardine, TheBirth of History and Philosophy of
Science: Kepler's «A Defence ofTycho against Ursus» with Essays on Its
Provenance and Significance (Cambridge: Cambridge University
530 Стивен Шейпин. Научная революция
Press, 1984); Bruce Stephenson, Kepler's Physical Astronomy
(Princeton: Princeton University Press, 1994; 1-е изд. 1987);
его же: The Music of the Heavens: Kepler's Harmonic Astronomy
(Princeton: Princeton University Press, 1994). В последние
годы вышло несколько важных статей, без учета которых
невозможно понять ход научной революции: Albert Van
Helden, «Telescopes and Authority from Galileo to Cassini», in
Osiris 9 ( 1994), 8-29; Mary G. Winkler and Albeit Van Helden,
«Representing the Heavens: Galileo and Visual Astronomy»,
in Isis 83 (1992), 195-217; их же: «Johannes Hevelius and the
Visual Language of Astronomy», in Renaissance and Revolution
(см. выше), 95-114. Об отношении наблюдений и теоре-
тических выкладок в рассуждении о движении планет:
Planetary Astronomy from the Renaissance to the Rise of Astrophysics.
Part A: Tycho Brake to Newton, General History of Astronomy,
vol. 2, ed. Rene Taton and Curtis Wilson (Cambridge:
Cambridge University Press, 1988). Об изучении комет:
James A. Ruffner, «The Curved and the Straight: Cometary
Theory from Kepler to Hevelius», in Journal of the History of
Astronomy 2 (1971), 178-194. Доступное изложение особен-
ностей астрономической практики того времени: Lesley
Murdin, Under Newton's Shadow: Astronomical Practices in the
Seventeenth Century (Bristol: Adam Hilger, 1985). О пафосе на-
блюдений у Галилея и отношении к этому его высокопо-
ставленных покровителей: Mario Biagioli, Galileo, Courtier: The
Practice of Science in the Culture of Absolutism (Chicago: University
of Chicago Press, 1993), особ, главы 1-2; Richard S. Westfall,
«Science and Patronage: Galileo and the Telescope» in his 76
(1985), 11-30. О роли покровителей в распространении
трудов Коперника: Robert S. Westman, «Proof, Poetics, and
Patronage: Copernicus's Preface to De Revolutionibus», in
Reappraisals of the Scientific Revolution (см. выше), 167-205. Об
отношении астрономии и астрологии см. выше, см. так-
же: Patrick Curry, Prophecy and Power: Astrology in Early Modern
England (Princeton: Princeton University Press, 1989); Ann
Gents, Astrology and the Seventeenth-Century Mind: William Lilly
and the Language of the Stars (Manchester: Manchester University
Press, 1994); а также статьи в сб.: Astrology, Science and Society:
Библиография 531
Historical Essays, ed. Patrick Curry (Woodbridge: Boydell and
Brewer, 1987), особ. Simon Schaffer, «Newton's Comets and
the Transformation of Astrology», 219-243. О социальных
причинах упадка астрологии и о научном ее опроверже-
нии: Peter W. G. Wright, «Astrology and Science in Seven-
teenth Century England», in Social Studies of Science 5 (1975),
399-422; его же: «A Study in the Legitimisation of Knowledge:
The 'Success' of Medicine and the 'Failure' of Astrology»,
in On the Margins of Science: The Social Construction of Rejected
Knowledge, ed. Roy Wallis, Sociological Review Monograph 27
(Keele: University of Keele Press, 1979), 85-102.
D. Математика и «математизация»
В традиционной историографии научной револю-
ции ее центральной темой признается «математизация»
естественной философии. Но странным образом, не-
смотря на все прославление математиков того време-
ни, история математики раннего Нового времени из-
лагается не так подробно, как история других секторов
науки. Общепризнанные очерки, в которых раскрывают-
ся важнейшие аспекты математики раннего Нового вре-
мени: Carl В. Boyer, The History of Calculus and Its Conceptual
Development (New York: Dover Books, 1959; 1-е изд. 1949),
особ, главы 4-5; J. F. Scott, A History of Mathematics: From
Antiquity to the Beginning of the Nineteenth Century (London:
Taylor and Francis, 1958), особ, главы 6-12. Общий обзор
открытий в математике в XVII в.: D. Т. Whiteside, «Patterns
of Mathematical Thought in the Seventeenth Century», in
Archive for History of Exact Sciences 1 (1961), 179-388; также
важные соображения о роли математики в становлении
«умозрительной» новой механики: Michael S. Mahoney,
«Infinitesimals and Transcendent Relations: The Mathematics
of Motion in the Late Seventeenth Century», in Reappraisals
of the Scientific Revolution (см. выше), 461-491. Об особенно-
стях математики раннего Нового времени в сравнении с
современной философией математики: Paolo Mancosu,
532 Стивен Шейпин. Научная революция
Philosophy of Mathematics and Mathematical Practices in the Seven-
teenth Century (Oxford: Oxford University Press, 1995). Интел-
лектуальная биография Декарта, написанная Гаукрогером
(Gaukroger, см. ниже), содержит обширный материал по
математическим основам механицистской философии,
так же как и биография Ньютона, написанная Уэстфол-
лом (Westfall, см. ниже). О противоречивости матема-
тических взглядов Гоббса см., напр.: Douglas M. Jesseph,
«Hobbes and Mathematical Method», in Perspectives on
Science 1 (1993), 306-341; William Sacksteder, «Hobbes: The
Art of the Geometricians» in Journal of the History of Philosophy
18 (1980), 131-146; его же: «Hobbes: Geometrical Objects»,
in Philosophy of Science 48 (1981), 573-590; Helena M. Pycior,
«Mathematics and Philosophy: Wallis, Hobbes, Barrow, and
Berkeley», in Journal of the History ofldeas 48 (1987), 265-286.
Политические моменты спора Ньютона и Лейбница о
приоритете изобретения интегрального исчисления:
A. Rupert Hall, Philosophers at War: The Quarrel between Newton
and Leibniz (Cambridge: Cambridge University Press, 1980).
Новейшие работы, связывающие развитие арифме-
тики и практической математики с социально-экономи-
ческим контекстом, с позиций марксизма, социальной
истории или иных: Richard W. Hadden, On the Shoulders of
Merchants: Exchange and the Mathematical Conception of Nature
in Early Modern Europe (Albany: State University of New York
Press, 1994); Frank Swetz, Capitalism and Arithmetic: The New
Math of the Fifteenth Century (La Salle, III: Open Court, 1987);
Witold Kula, Measures and Men, trans. R. Szreter (Princeton:
Princeton University Press, 1986; ориг. изд. 1970). Среди
последних работ по практической математике см., напр.:
A. J. Turner, «Mathematical Instruments and the Education
of Gentlemen», in Annals ofScience^ (1973), 51-88; Stephen
Johnston, «Mathematical Practitioners and Instruments in
Elizabethan England», in Annals of Science AS (1991), 319-
344; Frances Willmoth, Sir Jonas Moore: Practical Mathematics
and Restoration Science (Woodbridge: Boydell Press, 1993);
J.-A. Bennett, «The Challenge of Practical Mathematics»,
in Science, Culture and Popular Belief in Renaissance Europe,
Библиография 533
ed. Stephen Pumfrey, Paolo L. Rossi, and Maurice Slawinski
(Manchester: Manchester University Press, 1991), 176-190;
Mordechai Feingold, The Mathematicians Apprenticeship:
Science, Universities and Society in England, 1560-1640
(Cambridge: Cambridge University Press, 1984). Сравне-
ние социального положения математиков и философов:
Mario Biagioli, «The Social Status of Italian Mathematicians,
1450-1600», in History ofScienceTl (1989), 41-95; его же: Gali-
leo, Courtier;Westman, «The Astronomer's Role» (см. выше);
Dear, Discipline andExperience (см. ниже).
Важное сопоставление возникшей тогда теории веро-
ятности с тенденциями экспериментальной философии:
Ian Hacking, The Emergence of Probability: A Philosophical Study
of Early Ideas about Probability, Induction and Statistical Inference
(Cambridge: Cambridge University Press, 1975); см. также:
Lorraine J. Daston, Classical Probability in the Enlightenment
(Princeton: Princeton University Press, 1988), гл. 1. О стати-
стике жизни общества: Peter Buck, «Seventeenth-Century
Political Arithmetic: Civil Strife and Vital Statistics», in Isis
68 (1977), 67-84. Более общие исследования о происхож-
дении и смысле понятий «закон науки» и «закон приро-
ды»: John R. Milton, «The Origin and Development of the
Concept of the 'Laws of Nature'», in Archives Européennes de
Sociologie^ (1981), 173-195; Jane E. Ruby, «The Origins of
Scientific 'Law'», in Journal of the History of Ideas 47 (1986),
341-359; Joseph Needham, «Human Laws and the Laws of
Nature», in Journal of the History of Ideas 12 (1951), 3-32; Edgar
Zilsel, «Physics and the Problem of Historico-sociological
Laws», in Philosophy of Science^ (1941), 567-579; его же: «The
Genesis of the Concept of Scientific Law», in Philosophical
Review51 (1942), 245-267.
E. Химия, алхимия и теория материи
Переход от «лженауки» алхимии к «настоящей на-
уке» в связи с появлением корпускулярных, механи-
стических и экспериментальных концепций— тема
534 Стивен Шейпин. Научная революция
целого ряда традиционных работ по научной революции,
см., напр.: J. R. Partington, A History of Chemistry, 4 vols.
(London: Macmillan, 1961-1970); Marie Boas [Hall], Robert
Boy le and Seventeenth-Century Chemistry (Cambridge: Cambridge
University Press, 1958); Robert P. Multhauf, The Origins of
Chemistry (New York: F. Watts, 1967); Henry M. Leicester, The
Historical Background of Chemistry (New York: John Wiley, 1965;
1-е изд. 1956), главы 9-12; Maurice Crosland, Historical
Studies in the Language of Chemistry (London: Heinemann,
1962), особ. пп. 1-2; а также выдающееся исследование:
Helene Metzger, Les doctrines chimiques en France du debut du
XVIIe à la fin du XWIIe siècle (Paris: Presses Universitaires de
France, 1969; 1-е изд. 1923). В то же время некоторые исто-
рики, пишущие по этому вопросу, сомневаются в том,
насколько «революционны» достижения химии XVII в.,
и предпочитают говорить об «отложенной революции в
химии», относя ее к концу XVIII — началу XIX в. и связы-
вая с трудами Лавуазье и Дальтона (напр.: Butterfield, The
Origins of Modern Science [см. выше], гл. 11).
В последнее время химия XVII в. изучается не как
«триумф», и потому уже не принято говорить о полной
несовместимости алхимии и химии. Обзор такого из-
менения в историографическом подходе: J. V. Golinski,
«Chemistry in the Scientific Revolution», in Reappraisals
of the Scientific Revolution (см. выше), 367-396. Новейшие
тенденции хорошо выразились в кн. Owen Hannaway,
The Chemists and the Word: The Didactic Origins of Chemistry
(Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1975); Charles
Webster, The Great Instauration: Science, Medicine, and Reform,
1626-1660 (London: Duckworth, 1975); Bruce T. Moran,
The Alchemical World of the German Court: Occult Philosophy and
Chemical Medicine in the Circle of Moritz of Hessen (1572-1632)
(Stuttgart: Franz Steiner, 1991); Pamela H. Smith, The
Business of Alchemy: Science and Culture in the Holy Roman Empire
(Princeton: Princeton University Press, 1994); Piyo Rattansi
and Antonio Clericuzio, eds., Alchemy and Chemistry in the
Sixteenth and Seventeenth Centuries (Dordrecht: Kluwer, 1994)*.
Более подробно о судьбе алхимии и наследия Парацельса
Библиография 535
в связи с развитием медицинских наук см.: Walter Pagel,
Paracelsus: An Introduction to Philosophical Medicine in the Era
of the Renaissance, 2nd ed. (Basel: S. Karger, 1982; 1-е изд.
1958); его же: Joan Baptista Van Helmont: Reformer of Science
and Medicine (Cambridge: Cambridge University Press,
1982); Allen G. Debus, The Chemical Philosophy: Paracelsian
Science and Medicine in the Sixteenth and Seventeenth Centuries,
2 vols. (New York: Science History Publications, 1977); его
же: The English Paracelsians (London: Old Bourne, 1965);
Betty Jo Teeter Dobbs, The Foundations of Newton's Alchemy,
or «The Hunting of the Greene Lyon» (Cambridge: Cambridge
University Press, 1975); ее же: The Janus Face of Genius: The
Role of Alchemy in Newton's Thought (Cambridge: Cambridge
University Press, 1991); William R. Newman, GehennicalFire:
The Lives of George Starkey, an American Alchemist (Cambridge:
Harvard University Press, 1994).
Вопросы теории материи, атомизма и корпускуляриз-
ма в эпоху научной революции, и особенно механистиче-
ские предпосылки концепции неодушевленной материи,
обсуждались весьма широко. Об атомизме в эту эпоху
см., в частности: Robert H. Kargon, Atomism in England
from Hariot to Newton (Oxford: Clarendon Press, 1966), сжа-
тый обзор: Martin Tamny, «Atomism and the Mechanical
Philosophy», in Companion to the History of Modern Science
(см. выше), 597-609, и статьи в сб.: Ernan McMullin, ed.,
The Concept of Matter in Modern Philosophy (Notre Dame: Notre
Dame University Press, 1978; 1-е изд. 1963), ч. 1. О теории
материи и космологии Бэкона см.: Graham Rees, «Francis
Bacons Semi-Paracelsian Cosmology», Ambix 22 (1975), 81-
101; ее же: «Francis Bacon's Semi-Paracelsian Cosmology
and the Great Instauration», Ambix 22 (1975), 161-173; ее
же: Francis Bacons Natural Philosophy: A New Source (Chalfont
St. Giles: British Society for the History of Science, 1984).
О построениях Ньютона и их влиянии на развитие химии
см.: Arnold Thackray, Atoms and Powers: An Essay on Newtonian
Matter-Theory and the Development of Chemistry (Cambridge:
Harvard University Press, 1970), гл. 2;J. E. McGuire, «Force,
Active Principles, and Newton's Invisible Realm», Ambix
536 Стивен Шейпин. Научная революция
15 (1968), 154-208; Ernan McMullin, Newton on Matter and
Activity (Notre Dame: Notre Dame University Press, 1978);
о теории материи Ньютона в связи с политическими
движениями того времени: Steven Shapin, «Of Gods and
Kings: Natural Philosophy and Politics in the Leibniz-Clarke
Disputes», in Isis 72 (1981), 187-215; Margaret Jacob's The
Newtonians (см. ниже). О концепциях Декарта см., напр.,
интеллектуальную биографию Декарта (Gaukroger,
см. ниже), особ, главы 5 и 7. О Бойле см.: Marie Boas
[Hall], Robert Boyle (см. выше); также источники ниже в
разд. 5Е; Thomas S. Kuhn, «Robert Boyle and Structural
Chemistry in the Seventeenth Century», Isis 43 (1952), 12-
36; J. E. McGuire, «Boyle's Conception of Nature», in Journal
of the History of Ideas 33 (1972), 523-542; James R. Jacob's
Robert Boyle (см. ниже); о философском построении
теории материи и ее связи с представлениями о позна-
нии: Peter Alexander, Ideas, Qualities and Corpuscles: Locke and
Boyle on the External World (Cambridge: Cambridge University
Press, 1985); Maurice Mandelbaum, «Newton and Boyle and
the Problem of 'Transdiction'», в его же Philosophy, Science,
and Sense Perception: Historical and Critical Studies (Baltimore:
Johns Hopkins University Press, 1966), 61-117. Важная по-
пытка оспорить тезис о понимании материи как неоду-
шевленной субстанции в новой философии: John Henry,
«Occult Qualities and the Experimental Philosophy: Active
Principles in Pre-Newtonian Matter Theory», in History of
Science24 (1986), 335-381.
F. Медицина, анатомия и физиология
Как и в случае химии, в традиционной историогра-
фии не достигнуто консенсуса относительно револю-
ционности тех изменений, которые произошли в ме-
дицине и смежных практиках в раннее Новое время.
Конечно, разработка Везалием новой анатомии, осно-
ванной только на наблюдениях, и открытие Гарвеем
полного кровообращения обычно принято называть
Библиография 537
«революционными» достижениями в этой области.
Но в последнее время даже в этих научных прорывах
историки стали находить элементы, принадлежащие тра-
диции, или же противопоставлять эти единичные откры-
тия общему малоизменчивому состоянию дисциплины.
Стандартный обзор анатомических принципов
и практики: F. J. Cole, A History of Comparative Anatomy from
Aristotle to the Eighteenth Century (New York: Dover Books, 1975;
1-е изд. 1949); по биологии: Eric Nordenskiold, The History
of Biology: A Survey, trans. Leonard Bucknall Eyre (New York:
Tudor, 1946; 1-е изд. 1920-1924), особ. ч. 1, главы 11-13,
и ч. 2, главы 1-4; по физиологии: Michael Foster, Lectures
on the History of Physiology during the Sixteenth, Seventeenth, and
Eighteenth Centuries (Cambridge: Cambridge University Press,
1901); Thomas S. Hall, History of General Physiology, 2 vols.
(Chicago: University of Chicago Press, 1975; 1-е изд. 1969),
т. 1, главы 11-24; особенно подробное изложение теорий
дыхания и усвоения пищи в XVII в.: Everett Mendelsohn,
Heat and Life: The Development of the Theory of Animal Heat (Cam-
bridge: Harvard University Press, 1964), прежде всего гл. 3.
История медицины — ни на что не похожая область:
до сих пор неясно, действительно ли новейшие моно-
графии по вопросу более изощренно трактуют предмет,
чем более ранние, принадлежащие отцам-основателям
истории медицины. В качестве введения в обширную ли-
тературу по истории медицины раннего Нового времени
можно рекомендовать кн. Erwin H. Ackerknecht, A Short
History of Medicine, испр. изд. (Baltimore: Johns Hopkins
University Press, 1982; 1-е изд. 1955), гл. 9-10.
Содержательная интеллектуальная биография Веза-
лия: С. D. O'Malley, Andreas Vesalius of Brussels, 1514-1564
(Berkeley: University of California Press, 1964). О Гарвее
существует немало литературы, как отстаивающей тра-
диционную его оценку, так и новаторской, см., напр.:
Walter Paget, William Harvey's Biological Ideas: Selected Aspects
and Historical Background (Basel: S. Karger, 1967); Gweneth
Whitteridge, William Harvey and the Circulation of the Blood
(London: Macdonald, 1971); Jerome J. Bylebyl, «The Medical
538 Стивен Шейпин. Научная революция
Side of Harvey's Discovery: The Normal and the Abnormal»,
in William Harvey and His Age: The Medical and Social Context
of the Discovery of the Circulation, ed. Jerome J. Bylebyl, прило-
жение к: Bulletin of the History of Medicine, n.s., 2 (Baltimore:
Johns Hopkins University Press, 1979), 28-102 (в этой ра-
боте лучше всего описана практическая медицина как
контекст открытия Гарвея); Roger French, William Harvey's
Natural Philosophy (Cambridge: Cambridge University Press,
1994). О последующих английских работах по психоло-
гии в традиции Гарвея см.: Robert G. Frank, Harvey and
the Oxford Physiologists: Scientific Ideas and Social Interaction
(Berkeley: University of California Press, 1980), где также
содержится богатейший материал по институциональ-
ным аспектам науки в Англии; а также краткий истори-
ческий очерк: Andrew Wear, «The Heart and Blood from
Vesalius to Harvey», in Companion to the History of Modern
Science {см. выше), 568-582.
Несмотря на господство механистических концеп-
ций в медицине и физиологии XVII в., историки еще не
смогли договориться о своде примечательных и обще-
признанных достижений в этих науках, которые стали
возможны благодаря механистическому пониманию
телесной жизни. Конечно, приближение медицины и
физиологии к механике не всегда оправдывало первона-
чальные надежды, и для того, чтобы настоять на меха-
ницизме как на необходимом ключе к физиологическим
явлениям, необходимо было привлечь дополнительные
социальные и политические ресурсы. Скажем, о введе-
нии механицизма в английскую медицину можно узнать
из статей: Theodore M. Brown, «The College of Physicians
and the Acceptance of Iatro-mechanism in England, 1665-
1695», in Bulletin of the History of Medicine 44 (1970), 12-30;
его же: «Physiology and the Mechanical Philosophy in
Mid-Seventeenth-Century England», in Bulletin of the History
of Medicine 51 (1977), 25-54; Anita Guerrini, «James Keill,
George Cheyne and Newtonian Physiology, 1690-1740»,
in Journal of the History of Biology 18 (1985), 247-266; его
же: «The Tory Newtonians: Gregory, Pitcairne and Their
Библиография 539
Circle», in Journal of British Studies 25 (1986), 288-311; его
же: «Archibald Pitcairne and Newtonian Medicine», in
Medical History 31 (1987), 70-83; Charles Webster, The Great
Instauration (см. выше); его же: «William Harvey and the
Crisis of Medicine injacobean England», in William Harvey and
His Age (см. выше), 1-27; Christopher Hill, «William Harvey
and the Idea of Monarchy», in The Intellectual Revolution of the
Seventeenth Century, ed. Charles Webster (London: Routledge
and Kegan Paul, 1974), 160-181; см. также: HaroldJ. Cook,
«The New Philosophy and Medicine in Seventeenth-Century
England», in Reappraisals of the Scientific Revolution (см. выше),
397-436. О картезианской механистической физиологии
и медицине см. общий очерк: G. А. Lindeboom, Descartes
and Medicine (Amsterdam: Rodopi, 1978); Thomas S. Hall,
«The Physiology of Descartes», предисловие к его изда-
нию «Трактата о человеке» Декарта: Descartes Treatise of
Man (Cambridge: Harvard University Press, 1972), XXVI-
XLVIII; Leonora Cohen Rosenfield, From Beast-Machine to
Man-Machine: Animal Soul in French Letters from Descartes to La
Mettrie, новое изд. (New York: Octagon Books, 1968; 1-е изд.
1941); Richard B. Carter, Descartes9 Medical Philosophy: The
Organic Solution to the Mind-Body Problem (Baltimore: Johns
Hopkins University Press, 1983); а также в наиболее извест-
ной биографии Декарта (Gaukroger, см. ниже), 269-292.
Критическое рассмотрение того, как сочетались меха-
нистические и немеханистические принципы в тогдаш-
ней биологии: Daniel Fouke, «Mechanical and 'Organical'
Models in Seventeenth-Century Explanations of Biological
Reproduction», in Science in Context?* (1989), 365-382.
Замечательная тенденция в историографии последне-
го времени — переход от изучения медицинской теории к
попыткам реконструировать реалии медицинской прак-
тики раннего Нового времени, включая сюда и точку
зрения пациента; при этом некоторые общие представ-
ления о научной революции пересматриваются. Один из
хороших примеров такого направления: Lucinda McCray
Beier, Sufferers and Healers: The Experience of Illness in Seventeenth-
Century England (London: Routledge and Kegan Paul, 1987);
540 Стивен Шейпин. Научная революция
также статьи в сб.: Roger French and Andrew Wear, eds.,
The Medical Revolution of the Seventeenth Century (Cambridge:
Cambridge University Press, 1989) и сб. Roy Porter, ed.,
Patients and Practitioners: Lay Perceptions of Medicine in Pre-
industrial Society (Cambridge: Cambridge University Press,
1985). О медицинской практике женщин (в светском об-
ществе, а не в монастырях!) см., напр.: Linda Pollock, With
Faith and Physic: The Life of a Tudor Gentlewoman, Lady Grace
Mildmay 1552-1620 (London: Collins and Brown, 1992),
о расширении области медицинской практики Бойлем:
Barbara Beigim Kaplan, «Divulging of Useful Truths in Physiclf»:
The Medical Agenda of Robert Boyle (Baltimore: Johns Hopkins
University Press, 1993). Важнейшему эпизоду, дискуссиям о
естественном или сверхъестественном начале излечения
от болезней, посвящены работы: Earrion Duffy, «Valentine
Greatrakes, the Irish Strokes Miracle, Science and Orthodoxy
in Restoration England», in Studies in Church History 17 ( 1981 ),
251-273; Barbara Beigun Kaplan, «Greatrakes the Stroken
The Interpretations of His Contemporaries», in Isis 7 S (1982),
178-185; James R.Jacob, Henry Stubbe, Radical Protestantism and
the Early Enlightenment (Cambridge: Cambridge University
Press, 1983), гл. 3 и с. 164-174. О «ружейной мази» сэра
Кенельма Дигби (см. гл. I нашей книги) нет специального
систематического исследования, отдельные замечания
см. в: Sir William Osier, Sir Kenelm Digbys Powder of Sympathy:
An Unfinished Essay by Sir William Osier (Los Angeles: Plantin
Press, 1972, 1-е изд. 1900); Betty Jo Teeter Dobbs, «Studies
in the Natural Philosophy of Sir Kenelm Digby, Parts I—III» in
AmbixlS (1971), 1-28.
G. Естественная история и связанные с ней практики
В XVII в. термин «естественная история» прилагал-
ся к целому ряду способов научного изучения природы.
При этом ученые-практики существенно расходились
по вопросу о том, как соотнести термины «естественная
история» и «естественная философия». Господствующая
Библиография 541
тенденция среди английских ученых-практиков— бэко-
нианство, означавшее стремление реформировать есте-
ственную историю, которая должна будет лечь в основу
обновленной естественной философии. Сюда нужно от-
нести и некоторых английских независимых философов
(напр., Гоббса), и независимых философов из Европы
(прежде всего Декарта).
Краткие очерки развития естественной истории
в XVII в.: Phillip R. Sloan, «Natural History, 1670-1802»,
in Companion to the History of Modern Science (см. выше), 295-
313; Joseph M. Levine, «Natural History and the History of
the Scientific Revolution», in Clio 13 (1983), 57-73; про-
ницательное коллективное исследование различных
аспектов естественной истории раннего Нового време-
ни: Nicholas Jardine, James A. Secord, and Emma С. Spary,
eds., Cultures of Natural History (Cambridge: Cambridge
University Press, 1996), особенно разделы, написан-
ные следующими авторами: Ashworth, Cook, Findlen,
Johns, Roche, and Whitaker. О естественной истории
и ее связи с медициной: Harold J. Cook, «The Cutting
Edge of a Revolution? Medicine and Natural History Near
the Shores of the North Sea», in Renaissance and Revolution
(см. выше), 45-61. Об изменении культурных возмож-
ностей естественной истории, со времен Ренессанса до
конца XVII в.: William В. Ashworth Jr., «Natural History and
the Emblematic World View», in Reappraisals of the Scientific
Revolution (см. выше), 303-332. Одна из самых влиятель-
ных программных интерпретаций естественной исто-
рии Ренессанса как поиска «сходств»: Мишель Фуко, Сло-
ва и вещи: археология гуманитарных наук (СПб.: A-Cad, 1994
[1966]), особ, главы 2-3.
Важное и при этом увлекательно написанное иссле-
дование о знакомстве европейцев с Новым Светом и со
всем обилием новых объектов для естественной исто-
рии: Anthony Grafton, New Worlds, Ancient Texts: The Power
of Tradition and the Shock of Discovery (Cambridge: Belknap
Press of Harvard University Press, 1992); см. также: Stephen
Greenblatt, Marvelous Possessions: The Wonder of the New World
542 Стивен Шейпин. Научная революция
(Chicago: University of Chicago Press, 1991); Steven Shapin,
Social History of Truth (см. ниже), особ. гл. 5 и гл. 6. С. 243-
258; Wilma George, «Source and Background to Discoveries
of New Animals in the Sixteenth and Seventeenth Centuries»,
in History of Science 18 (1987), 83-104. О создании и разви-
тии естественной истории в американских колониях см.,
напр.: Raymond Phineas Stearns, Science in the British Colonies
of America (Urbana: University of Illinois Press, 1970).
Замечательное исследование о целях и особенно-
стях собирания коллекций по естественной истории в
Италии эпохи Позднего Возрождения и барокко: Paula
Findlen, Possessing Nature: Museums, Collecting, and Scientific
Culture in Early Modem Italy (Berkeley: University of California
Press, 1994); см. также: Jay Tribby, «Body/Building: Living
the Museum Life in Early Modern Europe», in Rhetorica
10 (1992), 139-163; Krzysztof Pomian, Collectors and
Curiosities: Paris and Venice, 1500-1800, trans. Elizabeth Wiles-
Portier (Cambridge: Polity Press, 1990; ориг. изд. 1987);
Joseph M. Levine, Dr. Woodward's Shield: History, Science, and
Satire in Augustan England (Berkeley: University of Califor-
nia Press, 1977); Stan A. E. Mendyk, «Speculum Britanniae»:
Regional Study, Antiquarianism, and Science in Britain to 1700
(Toronto: University of Toronto Press, 1989); Thomas
DaCosta Kaufmann, The Mastery of Nature: Aspects of Art,
Science, and Humanism in the Renaissance (Princeton: Prince-
ton University Press, 1993), гл. 7; Paolo Rossi, «Society,
Culture and the Dissemination of Learning», in Science,
Culture and Popular Belief (см. выше), 143-175 (особ. 162-
172); Arthur MacGregor, Sir Hans Shane: Collector, Scientist,
Antiquary, Founding Father of the British Museum (London:
British Museum Press, 1994); и некоторые статьи в сб.:
Oliver Impey and Arthur MacGregor, eds., The Origins of
Museums: The Cabinet of Curiosities in Sixteenth- and Seventeenth-
Century Europe (Oxford: Clarendon Press, 1985). О связи гу-
манистической учености и наблюдений и отчетов в бота-
нике раннего Нового времени: Karen Meier Reeds, Botany
in Medieval and Renaissance Universities (New York: Garland,
1991; 1-е изд. Harvard University Ph.D. dis., 1975).
Библиография 543
Важные исследования воззрений XVII в. на опыт
в естественной истории и его роль в создании но-
вой естественной философии: Peter Dear, «Totius in
Verba: Rhetoric and Authority in the Early Royal Society»,
Isis 76 (1985), 145-161; Lorraine J. Daston, «The Factual
Sensibility», in Isis 79 (1988), 452-470 (краткий обзор но-
вейших трудов по культуре коллекционирования); ее же:
«Marvelous Facts and Miraculous Evidence in Early Modern
Europe», in Questions of Evidence: Proof, Practice, and Persuasion
across the Disciplines, ed. James Chandler, Arnold I. Davidson,
and Harry Harootunian (Chicago: University of Chicago
Press, 1994; art. 1-е изд. 1991), 243-274; ее же: «Baconian
Facts, Academic Civility, and the Prehistory of Objectivity»,
in Annals of Scholarship 8 (1991), 337-363; Katharine Park
and Lorraine J. Daston, «Unnatural Conceptions: The Study
of Monsters in Sixteenth- and Seventeenth-Century France
and England», in Past and Present 92 (1981), 20-54; они
же: Wonders and the Order of Nature, 1 150-1750 (New York,
N.Y.: Zone Books, 1997), особ, раздел 2; Barbara J. Shapiro,
Probability and Certainty in Seventeenth-Century England: A Study
of the Relationships between Natural Science, Religion, History, Law,
and Literature (Princeton: Princeton University Press, 1983),
особ. гл. 4 (об отношении изучения человеческого мира
и изучения естественной истории). См. также работы о
строении естественной истории и роли в ней экспери-
мента в разделе 4 А ниже.
О возникновении геологии см.: Gordon L. Davies, The
Earth in Decay: A History of Geomorphology, 1578-1878 (London:
Macdonald, 1969), главы 1- 3; Martin J. S. Rudwick, The
Meaning of Fossils: Episodes in the History of Palaeontology
(Chicago: University of Chicago Press, 1985; 1-е изд. 1972),
главы 1-2; Roy Porter, The Maying of Geology: Earth Science
in Britain, 1660-1815 (Cambridge: Cambridge University
Press, 1977), главы 1-3; John C. Greene, The Death of Adam:
Evolution and Its Impact on Western Thought (New York: Mentor
Books, 1961; 1-е изд. 1959), главы 1-3; Paolo Rossi, The
Dark Abyss of Time: The History of the Earth and the History of
Nations from Hooke to Vico, trans. Lydia G. Cochrane (Chicago:
544 Стивен Шейпин. Научная революция
University of Chicago Press, 1984; ориг. изд. 1979); Rachel
Laudan, From Mineralogy to Geology: The Foundations of a Science,
1650-1830 (Chicago: University of Chicago Press, 1987), гла-
вы 1-2; Levine, Dr. Woodward's Shield (см. выше), главы 2-3.
О развитии географии см., напр.: David N. Livingstone,
The Geographical Tradition: Episodes in the History of a Contested
Enterprise (Oxford: Basil Black well, 1993), главы 2-3;
Lesley B. Cormack, «'Good Fences Make Good Neighbors':
Geography as Self-Definition in Early Modern England», in
Isis 82 (1991), 639-661. Как объяснялось существующее
распределение животных и растений по земле, см.: Janet
Browne, The Secular Art: Studies in the History of Biogeography
(New Haven: Yale University Press, 1983), гл. 1; о метеоро-
логии: H. Frisinger, The History of Meteorology to 1800 (New
York: Science History Publications, 1977).
H. Изучение человеческого ума,
человеческой природы и культуры
Пока что ни один историк науки не доказал, что в ран-
нее Новое время «революция» произошла и в областях,
известных сейчас как психология и социология. Следо-
вательно, и литература о судьбе данных научных практик
в этот период невелика. Но другое дело, что механицизм
поставил перед философами важные проблемы, связан-
ные с устройством знания, строением человеческого ума
и нормами морального поведения. Все это непременно
рассматривается в любой истории философии. Но не так
много историков философии, которые связывают фило-
софские концепции с общим развитием науки, большин-
ство предпочитает просто пересказывать воззрения
Декарта, Гоббса, Локка, не задумываясь о том, что они
решали конкретные задачи, поставленные перед ними
временем.
Лучший вводный труд по истории психологии этого
периода: Graham Richards, Mental Machinery: The Origins
and Consequences of Psychological Ideas. Part 1: 1600-1850
Библиография 545
(Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1992); по исто-
рии социальных наук того времени: I. Bernard Cohen,
Interactions: Some Contacts between the Natural Sciences and
the Social Sciences (Cambridge: MIT Press, 1994); его же: «The
Scientific Revolution and the Social Sciences», in The Natural
and the Social Sciences: Some Critical and Historical Perspectives,
ed. I. Bernard Cohen (Dordrecht: Kluwer, 1994), 153-203;
по антропологии: Margaret T. Hodgen, Early Anthropology in
the Sixteenth and Seventeenth Centuries (Philadelphia: University
of Pennsylvania Press, 1964). По концепциям истории че-
ловечества: Shapiro, Probability and Certainty, гл. 4; Rossi, The
Dark Abyss of 'Time (см. выше); Joseph M. Levine, Humanism
and History: Origins of Modern English Historiography (Ithaca:
Cornell University Press, 1987). Существуют очень важные
и имевшие уже немалый культурный отзвук попытки ис-
следовать особенности психиатрии (лечения психиче-
ских заболеваний) в XVII в., напр.: Michael MacDonald,
Mystical Bedlam: Madness, Anxiety, and Healing in Seventeenth-
Century England (Cambridge: Cambridge University Press,
1981); Roy Porter, Mind-Forg'd Manacles: A History of Madness
in England from the Restoration to the Regency (Cambridge:
Harvard University Press, 1987).
Важнейший труд о концепциях личности и «я» в фило-
софии XVII в.: Charles Taylor, Sources of the Self: The Malftng
of Modern Identity (Cambridge: Cambridge University Press,
1989), особ, главы 8-10 (о Декарте, Локке и Монтене),
также важнейшее социологическое исследование об из-
менении формы «я» в раннее Новое время: Norbert Elias's
The Civilizing Process, trans. Edmund Jephcott, 2 vols. (Oxford:
Basil Blackwell, 1978, ориг. изд. 1939, 1969) - исследова-
ние Элиаса повлияло на многих современных историков
научной революции. Необходимо обратить внимание на
подробный обзор изменений в философском обоснова-
нии морали: Mlisdair Maclntyre, After Virtue: A Study in Moral
Theory, 2nd ed. (Notre Dame: University of Notre Dame Press,
1984, ориг. изд. 1981), где говорится прежде всего о том,
что научная революция и последовавшее за ней Про-
свещение разрушили саму идею о том, что есть «наука»
546 Стивен Шейнин. Научная революция
нравственного поведения. Одна из самых значительных
тенденций в изучении науки раннего Нового времени —
признание тесной связи тогдашней научной практики с
гуманистической ученостью. «Создание нового» и «воз-
рождение старого» долгое время противопоставлялись
историками европейской культуры, но теперь ученые
все больше сознают, что это — две стороны одного и того
же предприятия. Здесь нужно обратить внимание пре-
жде всего на труды Энтони Графтона, главные из кото-
рых: Anthony Grafton, New Worlds, Ancient Texts (см. выше);
его же: Defenders of the Text: The Traditions of Scholarship in an
Age of Science, 1450-1800 (Cambridge: Harvard University
Press, 1991), особ. гл. 7; его же: Joseph Sealiger: A Study in
the History of Classical Scholarship, 2 vols. (Oxford: Clarendon
Press, 1983-1993); Anthony Grafton and Lisa Jardine, From
Humanism to Humanities: Education and the Liberal Arts in Fif-
teenth- and Sixteenth-Century Europe (Cambridge: Harvard
University Press, 1986); Anthony Grafton and Ann Blair, eds,
The Transmission of Culture in Early Modern Europe(Philadelphia:
University of Pennsylvania Press, 1990).
Другие необходимые труды о связи гуманизма и на-
уки раннего Нового времени: Barbara J. Shapiro, «Early
Modern Intellectual Life: Humanism, Religion and Science in
Seventeenth-Century England», in History of Science 29 (1991),
45-71; Michael R. G. Spiller, «Concerning Natural Experimental
Philosophie»: Meric Casaubon and the Royal Society (The Hague:
M. Nijhoff, 1980); Ann Blair, «Humanist Methods in Natural
Philosophy: The Commonplace Book», in Journal of the
History of Ideas 53 (1992), 541-551; ее же: «Tradition and
Innovation in Early Modern Natural Philosophy: Jean Bodin
andJean-Cecile Frey», in Perspectives on Science 2 (1994), 428-
454; ее же: The Theater of Nature: Jean Bodin and Renaissance Sci-
ence (Princeton: Princeton University Press, 1997); Stephen
Gaukroger, ed., The Uses of Antiquity: The Scientific Revolution
and the Classical Tradition (Dordrecht: Kluwer, 1991); Lynn
Sumida Joy, Gassendi the Atomist: Advocate of History in an Age
of Science (Cambridge: Cambridge University Press, 1987);
Jardine, The Birth of History and Philosophy of Science (см. выше);
Библиография 547
Dear, Discipline and Experience {см. ниже), особ. гл. 4; Shapin,
«A Scholar and a Gentleman» (см. выше); Kaufmann, The
Mastery of Nature (см. выше), особ, главы 5-6.
4. Вопросы и темы
А. Эксперимент, опыт и строение знания
Одна из характерных черт нынешней историогра-
фии науки раннего Нового времени — преимуществен-
ное сосредоточение на тех практиках, из которых и скла-
дывается научное знание. В своей книге мы постарались
показать важность такого подхода для исторического
понимания того, что в научной революции было нового,
а что шло из традиции. Мы придерживались в этой кни-
ге именно такого подхода, особенно в главах 2 и 3. По-
дробное исследование социальных форм знания: Steven
Shapin and Simon Schaffer, Leviathan and the Air-Pump:
Hobbes, Boyle, and the Experimental Life (Princeton:
Princeton University Press, 1985) — в этой книге показы-
вается, как повлиял на становление английской экспе-
риментальной философии спор Бойля и Гоббса о том,
как связаны социальный порядок и интеллектуальное
постижение мира. Эта книга вскоре после выхода вы-
звала широкую полемику среди историков, философов
и социологов, стремящихся выйти на более широкие те-
оретические и методологические проблемы. См., напр.:
Bruno Latour, We Have Never Been Modern, trans. Catherine
Porter (Cambridge: Harvard University Press, 1993, ориг.
изд. 1991); Howard Margolis, Paradigms and Barriers: How
Habits of Mind Govern Scientific Beliefs (Chicago: University
of Chicago Press, 1993), гл. 11.
Близкие вопросы рассматриваются в следующих
статьях: Steven Shapin, «Pump and Circumstance: Robert
Boyle's Literary Technology», in Social Studies of Science 14
(1984), 481-520; его же: «The House of Experiment in
Seventeenth-Century England», in Isis 79 (1988), 373-404;
548 Стивен Шейпин. Научная революция
его же: «'The Mind Is Its Own Place': Science and Solitude in
Seventeenth-Century England», in Science in Context4 (1991),
191-218; его же: «Л Scholar and a Gentleman'» (см. выше);
и его же: «Who Was Robert Hooke?» in Robert Hoolfe: New
Studies (см. ниже), 253-285. С некоторого времени мне
приходится обращать особое внимание на «джентльмен-
ский» кодекс поведения, предписанный всем тем, кто со-
бирался делать науку в раннее Новое время. Можно ска-
зать, что, занимаясь накоплением фактических знаний
о естественном мире, ученые блюли этот кодекс. См.:
Steven Shapin, A Social History of Truth: Civility and Science in
Seventeenth-Century England (Chicago: University of Chicago
Press, 1994).
Хотя меня интересует общее развитие всей европей-
ской науки, мне в основном приходится ограничивать
себя английским материалом. Ведь важна не полнота при-
меров, а то, что некоторые прежде не замеченные аспек-
ты научной деятельности в Англии XVII в. оказываются
важны для понимания того, в чем новизна научной рево-
люции. Другое дело, что, если мы хотим понять историче-
ский смысл новаций, разобраться, как возникал и чем был
обеспечен новый научный опыт, нам необходимо обра-
щать больше внимания на то понимание опыта, которое
формировалось в континентальной Европе, особенно в
среде иезуитов. Здесь можно рекомендовать блестящую
по содержанию книгу: Peter Dear, Discipline and Experience:
The Mathematical Way in the Scientific Revolution (Chicago:
University of Chicago Press, 1995). Книга Деара помогает
понять не только как менялось само понятие опыта, но и
какую роль в этих изменениях сыграли математика и фи-
лософия. См. также его статьи: Dear, «Totius in Verba» (см.
выше); его же «Miracles, Experiments, and the Ordinary
Course of Nature», in Isis 81 (1990), 663-683 (где подроб-
но говорится об эксперименте Паскаля на горе Пюи-де-
Дом); а также уже классическую работу: Charles В. Schmitt,
«Experience and Experiment. A Comparison of Zabarella's
View with Galileo's in De motu», in Studies in the Renaissance
16 (1969), 80-137. Другие важные работы по организации
Библиография 549
эксперимента и процедурах отчета о нем— это упоми-
навшаяся выше книга Лорана Дастона (Lorraine J. Das-
ton. P. 188-189); Julian Martin, Francis Bacon, the State, and
the Reform of Natural Philosophy (Cambridge: Cambridge
University Press, 1992); Michael Aaron Dennis, «Graphic
Understanding: Instruments and Interpretation in Robert
Hooke's Micrographia», in Sciencein Context?* (1989), 309-364;
Peter Dear, «Narratives, Anecdotes, and Experiments: Tur-
ning Experience into Science in the Seventeenth Century»,
in The Literary Structure of Scientific Argument: Historical Studies,
ed. Peter Dear (Philadelphia: University of Pennsylvania
Press, 1991), 135-163; Henry Kxips, «Ideology, Rhetoric,
and Boyle's New Experiments», in Science in Context 7
(1994), 53-64; Christian Licoppe, La formation de la pratique
scientifique: Le discours de Vexperience en France et en Angleterre
(1630-1820) (Paris: Editions la Découverte, 1996); и Daniel
Garber, «Experiment, Community, and the Constitution of
Nature in the Seventeenth Century», Perspectives on Science 3
(1995), 173-201. Одно из самых проницательных и де-
тальных исследований экспериментов XVII в. и об их
цели на примере «решающего эксперимента» Ньютона
с призмой: Simon Schaff er, «Glass Works: Newton's Prisms
and the Uses of Experiment», in The Uses of Experiment: Studies
in the Natural Sciences, ed. David Gooding, Trevor Pinch, and
Simon Schaffer (Cambridge: Cambridge University Press,
1989), 67-104; об экспериментальном характере оптики
Ньютона см. также: Zev Bechler, «Newton's 1672 Optical
Controversies: A Study in the Grammar of Scientific Dissent»,
in The Interaction between Science and Philosophy, ed. Yehuda
Elkana (Atlantic Highlands, N.J.: Humanities Press, 1974),
115-142.
Об итальянской ситуации см.: Paula Findlen, Possessing
Nature (см. выше), ее же: «Controlling the Experiment:
Rhetoric, Court Patronage and the Experimental Method
of Francesco Redi», in History of Science 31 (1993), 35-64;
Jay Tribby, «Club Medici: Natural Experiment and the
Imagineering of Tuscany'», in Configurations 2 (1994),
215-235. Во всех этих работах раскрывается связь между
550 Стивен Шейпин. Научная революция
естественной историей и элементом наблюдения в экс-
перименте. Книга Бьяджоли (Galileo, Courtier) и статьи
Уинклера (Winkler) и Фан Хельдена (Van Helden) мо-
гут дать читателю исчерпывающее представление об
астрономических наблюдениях в Италии, странах Се-
верной Европы и в других странах континентальной
Европы (см. выше). О том, как микроскоп вошел в на-
уку XVII в., см.: Catherine Wilson, The Invisible World: Early
Modern Philosophy and the Invention of the Microscope (Princeton:
Princeton University Press, 1995) и Barbara M. Stafford,
Body Criticism: Imaging the Unseen in Enlightenment Art and
Medicine (Cambridge: MIT Press, 1991), глава 5; о Левенгу-
ке и практике микроскопических наблюдений см.: Clif-
ford Dobell, Antony van Leeuwenhoek and His «Uttle Animals»:
Being Some Account of the Father of Protozoology and Bacteriology
and His Multifarious Discoveries in These Disciplines (New York:
Russell and Russell, 1958; 1-е изд. 1932); Edward G. Ruestow,
The Microscope in the Dutch Republic: The Shaping of Discovery
(Cambridge: Cambridge University Press, 1996); L. C. Palm
and H. A. M. Snelders, eds., Antoni van Leeuwenhoety, 1632-
1723 (Amsterdam: Rodopi, 1982) ; *Paul Feyerabend's Against
Method: Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge (London:
Verso, 1978; 1-е изд. 1975), в главах 9-10 предпринимается
интересная провокационная попытка оспорить традици-
онное понимание телескопических наблюдений Галилея
и того, как они были восприняты изначально; см. также:
Vasco Ronchi, «The Influence of the Early Development of
Optics on Science and Philosophy», in McMullin, ed., Galileo:
Man of Science (см, ниже), 195-206.
В предисловии мы уже отмечали, что подавляющее
большинство европейцев раннего Нового времени не
имели никакого отношения ни к как-либо организован-
ной науке, даже к книжной учености, поэтому нельзя го-
ворить об их причастности научной революции. Пусть
так! Но целенаправленное размежевание между науч-
ным знанием, доступным немногим, и представления-
ми о мире «простонародья» было намеренным для всех
выдающихся деятелей науки того времени, от Галилея
Библиография 551
до Ньютона. Также в ту эпоху предметом напряженных
споров было действительное место в культуре подлинно
научного знания: должно ли оно быть «частным» и «тай-
ным» или «открытым» и «общедоступным». В литерату-
ре по алхимии и астрологии (ЗС; ЗЕ) всегда имеются в
виду эти соображения; см. также: William Ramon, Science
and the Secrets of Nature: Boofs of Secrets in Medieval and Early
Modern Culture (Princeton: Princeton University Press, 1994);
J. V. Golinski, «A Noble Spectacle: Research on Phosphorus
and the Public Cultures of Science in the Early Royal Society»,
in Isis 80 (1989), 1-39; Pamela O. Long, «The Openness of
Knowledge: An Ideal and Its Context in Sixteenth-Century
Writings on Mining and Metallurgy», in Technology and
Culture 32 (1991); О низовом знании в отличие от экс-
пертного см. также: Natalie Zemon Davis, Society and
Culture in Early Modern France (Stanford: Stanford University
Press, 1975), главы 7-8; Carlo Ginzburg, The Cheese and the
Worms: The Cosmos of a Sixteenth-Century Miller, trans. John and
Anne C. Tedeschi (Harmondsworth: Penguin, 1982; ориг.
изд. 1976); ее же: «The High and the Low: The Theme of
Forbidden Knowledge in the Sixteenth and Seventeenth
Centuries», в ее: Clues, Myths, and the Historical Method,
trans. John and Anne C. Tedeschi (Baltimore: Johns Hopkins
University Press, 1989; art. 1 изд. 1976), 60-76; ^Christopher
Hill, The World Turned Upside Down: Radical Ideas during the
English Revolution (Harmondsworth: Penguin, 1975); Peter
Burke, Popular Culture in Early Modern Europe (London:
Temple Smith, 1978); статьи в сб. Pumfrey et al., eds.,
Science, Culture and Popular Belief (см. выше); Keith Thomas's
Religion and the Decline of Magic and Man and the Natural
World (см. выше). См. также: Michael Heyd, «The New
Experimental Philosophy: A Manifestation of Enthusiasm
or an Antidote to It?» in Minerva 25 (1987), 423-440; его
же: «Be Sober and Reasonable»: The Critique of Enthusiasm in the
Seventeenth and Early Eighteenth Centuries (Leiden: E. J. Brill,
1995); Shapin and Schaffer, Leviathan and the Air-Pump
(см. выше), гл. 7; и многочисленные работы James R.
Jacob and Margaret C.Jacob (см. ниже).
552 Стивен Шейпин. Научная революция
В. Наука, религия, магия и оккультизм
На исходе викторианского периода было принято пи-
сать о «вражде науки и религии» и считать, что эти две
составные части культуры всегда находятся в состоянии
конфликта. Но историки давно отказались от столь упро-
щенного взгляда на проблему. В том или ином аспекте
теснейшие связи между наукой и религией стали приори-
тетным моментом наблюдения и в «большой традиции»
изучения, и в новейшей историографии научной рево-
люции. В конце 1930-х гг. американский социолог Роберт
К. Мертон доказал, что пуританство как направление в
английском протестантизме создало все условия для ин-
ституционализации науки в XVII в.: Robert К. Merton,
Science, Economy and Society in Seventeenth-Century England
(New York: Harper, 1970; 1-е изд. 1938). Историографиче-
ские споры вокруг тезисов Мертона идут по сей день, см.,
напр.: I. Bernard Cohen, ed., Puritanism and the Rise of Modern
Science: The Merton Thesis (New Brunswick, N.J.: Rutgers
University Press, 1990) — и статьи в сб.: Charles Webster, ed.,
The Intellectual Revolution of the Seventeenth Century (см. выше).
Попытки оспорить построения Мертона наравне с марк-
систскими социологическими объяснениями, в духе
Б. Гессена, все равно не могут подорвать доверие к высо-
кой квалификации этого ученого и его научной осмотри-
тельности, каковую признают даже наиболее критично
настроенные к нему историки. Обсуждение социологии
науки Мертона см. в: Steven Shapin, «Understanding the
Merton Thesis», in Isis 79 (1988), 594-605, характерная
критика утверждений Мертона историком, работающим
в традиции Койре: А. Rupert Hall, «Merton Revisited, or Science
and Society in the Seventeenth Century», in History of Science 2
(1963), 1-15.
Если говорить об английском окружении, суще-
ствует большое число трудов о науке XVII в. как о «слу-
жанке» протестантской веры; при этом особенное
внимание уделяется такому культурному явлению, как
«естественная теология». Среди множества примеров
Библиография 553
следует привести: Richard S. Westfall, Science and Religion
in Seventeenth-Century England (New Haven: Yale University
Press, 1958); John Dillenberger, Protestant Thought and
Natural Science: A Historical Introduction (Notre Dame: Notre
Dame University Press, 1988; 1-е изд. I960). После того
как существование неразрывной связи между наукой
и религией в то время было признано, внимание ис-
следователей сместилось к конкретным формам этой
связи и к последствиям конкретных религиозных тре-
бований для формирования и оценки научных убеж-
дений. О воззрениях тогдашней английской мысли на
чудеса см.: R. М. Burns, The Great Debate on Miracles: From
Joseph Glanvill to David Hume (Lewisburg, Pa.: Bucknell
University Press, 1981), о различном отношении к чуде-
сам в протестантской и католической среде см.: Peter
Dear, «Miracles, Experiments, and the Ordinary Course
of Nature» (см. выше). По восприятию английскими
механицистами «духовного мира» см.: Simon Schaffer,
«Godly Men and Mechanical Philosophers: Souls гп& Spirits
in Restoration Natural Philosophy», in Science in Context 1
(1987), 55-85; Shapin and Schaffer, Leviathan and the Air-
Pump (см. выше), главы 5 и 7; о картезианстве и сложно-
стях его рецепции английскими христианскими фило-
софами см., напр.: Alan Gabbey, «Philosophia Cartesiana
Triumphata: Henry More (1646-1671)», in Problems of
Cartesianism, ed. R. Davis et al. (Toronto: McGill-Queens
University Press, 171-250); о Бойле и Ньютоне см. рабо-
ты, приведенные в разделах 5Е и 5Н ниже; также: David
Kubrin, «Newton and the Cyclical Cosmos: Providence
and the Mechanical Philosophy», in Journal of the History of
Ideas 28 (1967), 325-346; McGuire, «Boyle Conception of
Nature»; Shapin, «Of Gods and Kings» (см. выше); Frank
Manuel, The Religion of Isaac Newton: The Fremantle Lectures
(Oxford: Clarendon Press, 1974); его же: Isaac Newton
Historian (Cambridge: Belknap Press of Harvard University
Press, 1963); Neal C. Gillespie, «Natural Order, Natural
Theology and Social Order: John Ray and the * Newtonian
Ideology'», in Journal ofthe History of'Biology 20 (1987), 1-49.
554 Стивен Шейпин. Научная революция
Об атеизме в науке раннего Нового времени см.: Michael
Hunter, «The Problem of Atheism' in Early Modern
England», in Transactions of the Royal Historical Society, 5th ser.,
35 (1985), 135-157; его же: «Science and Heterodoxy: An
Early Modern Problem Reconsidered», in Reappraisals of the
Scientific Revolution (см. выше), 437-460; Samuel I. Mintz,
The Hunting of Leviathan: Seventeenth-Century Reactions
to the Materialism and Moral Philosophy of Thomas Hobbes
(Cambridge: Cambridge University Press, 1962).
Хотя и сейчас есть исследователи, которые оспари-
вают положительное влияние религии на становление
европейской науки, тем не менее подавляющее боль-
шинство исследователей настаивают на тесной связи
науки и религии в рассматриваемый период. Так, среди
работ, раскрывающих эту связь, следует отметить: Reijer
Hooykaas, Religion and the Rise of Modern Science (Edinburgh:
Scottish Academic Press, 1972); апологетическую работу
Eugene M. Klaaren, Religious Origins of Modern Science: Belief
in Creation in Seventeenth-Century Thought (Grand Rapids,
Mich.: William B. Eerdmans, 1977); Amos Funkenstetn,
Theology and the Scientific Imagination from the Middle Ages to the
Seventeenth Century (Princeton: Princeton University Press,
1986); статьи в сб.: God and Nature (см. выше); важнейший
вводный очерк в: John Hedley Brooke, Science and Religion:
Some Historical Perspectives (Cambridge: Cambridge University
Press, 1991), особ, главы 1-4. О богословских предпосыл-
ках концепции естественного закона см., напр.: Francis
Oakley, Omnipotence, Covenant, and Order: An Excursion in
the History of Ideas from Abelard to Leibniz (Ithaca: Cornell
University Press, 1984); Margaret Osier, Divine Will and the
Mechanical Philosophy: Gassendi and Descartes on Contingency
and Necessity in the Created World (Cambridge: Cambridge
University Press, 1994); о споре католиков и проте-
стантов о достижении правильного знания: William В.
Ashworth Jr., «Light of Reason, Light of Nature: Catholic
and Protestant Metaphors of Scientific Knowledge», in
Science in Context^ (1989), 89-107. В связи с интеллектуаль-
ными исканиями см. исследование скептицизма раннего
Библиография 555
Нового времени и попыток оспорить основы религии:
Richard H. Popkin, The History of Scepticism from Erasmus to
Spinoza, rev. ed. (Berkeley: University of California Press,
1979; 1-е изд. 1960).
Обычно разговор об отношении науки и религиоз-
ного правоверия начинают с суда над Галилеем (1633).
Но есть и более тонкий подход к проблеме (см., напр.,
работы Redondi, Blackwell, Fantoli, Feldhay в разделе
5А). Сейчас при изучении истории науки раннего Но-
вого времени принято уделять достаточно внимания и
трудам по естественной философии и математике, соз-
данным в некоторых католических орденах, прежде
всего у иезуитов. При этом говорится об особенностях
научной организации в орденах и о тех ограничениях,
с которыми сталкивались ученые члены ордена, но ни-
кто уже не посмеет сказать, что католическая церковь
была «врагом науки» и противостояла всяким научно-
методологическим исканиям. Самое краткое введение
в данный вопрос: William В. Ashworth Jr., «Catholicism
and Early Modern Science», in God and Nature (см. выше),
136-166. Содержательные исследования иезуитской на-
уки: Peter Dear, Discipline and Experience (см. выше); его же:
«The Church and the New Philosophy», in Society, Culture and
Popular Belief'(см. выше), 119-139; Lattis, Between Copernicus
and Galileo (см. выше); Rivka Feldhay, «Knowledge and Sal-
vation in Jesuit Culture», in Science in Context 1 (1987), 195-
213; ее же: «Catholicism and the Emergence of Galilean
Science: A Conflict between Science and Religion?» in
Knowledge in Society 7 (1988), 139-163; Rivka Feldhay and
Michael Heyd, «The Discourse of Pious Science», in Science in
Context?* (1989), 109-142; StevenJ. Harris, «Transposingthe
Merton Thesis: Apostolic Spirituality and the Establishment
of the Jesuit Scientific Tradition», in Science in Context 3
(1989), 29-65. О католицизме и становлении англий-
ской науки см.: John Henry, «Atomism and Eschatology:
Catholicism and Natural Philosophy in the Interregnum»,
in British Journal for the History of Science 15 (1982), 211-240.
Интереснейшая работа о реакции иудеев на новую науку:
556 Стивен Шейпин. Научная революция
David В. Ruderman, Jewish Thought and Scientific Discovery
(New Haven: Yale University Press, 1995).
Но если положительное влияние религии на ста-
новление новой науки признано, то конструктивность
связей между реформированной наукой и различными
магико-мистическими традициями остается предметом
дискуссий. Философы-механицисты, будучи в плену ри-
торики своего времени, отождествляли свою новую
практику с разрушением тех анимистских и антропо-
центрических ориентиров, которые мы сейчас называ-
ем «ренессансным натурализмом» и «неоплатонизмом».
При этом старый схоластический аристотелизм оставал-
ся в тени споров. Исследователи XX в. объявили механи-
стическую философию важнейшим фактором «раскол-
довывания мира». Насколько точно такое поэтическое
определение — отдельный вопрос, но в любом случае
при рассмотрении судьбы алхимии, астрологии и меди-
цины мы с этим «расколдовыванием» сталкиваемся на
практике.
В качестве введения в проблему можно рекомен-
довать очерк: John Henry, «Magic and Science in the
Sixteenth and Seventeenth Centuries*», in Companion to
the History of Modern Science (см. выше), 583-596, и блестя-
щее исследование * Charles Webster, From Paracelsus to
Newton: Magic and the Maying of Modern Science (Cambridge:
Cambridge University Press, 1982). Богатый материал по
магическим традициям представлен в полезной, хотя
и устаревшей по методологии, книге: Lynn Thorndike,
A History of Magic and Experimental Science, 8 vols. (New York:
Columbia University Press, 1923-1958). Среди самых важ-
ных монографий по магии, мистике и науке со времени
Ренессанса до XVII в. следует отметить: *J. Е. McGuire
and P. M. Rattansi, «Newton and the 'Pipes of Pan'», in Notes
and Records of the Royal Society of London 21 (1966), 108-143;
Prances A. Yates, Giordano Bruno and the Hermetic Tradition
(Chicago: University of Chicago Press, 1964); D. P. Walker,
Spiritual and Demonic Magic from Ficino to Campanella (London:
Warburg Institute, 1958).
Библиография 557
О специфических аспектах места «оккультного» зна-
ния и о том, что понималось в то время под «оккульт-
ным», см.: Simon Schaffer, «Occultism and Reason», in
Philosophy, Its History and Historiography, ed. A. J. Holland
(Dordrecht: D. Reidel, 1985), 117-143; Brian P. Copenhaver,
«Natural Magic, Hermeticism, and Occultism in Early
Modern Science», in Reappraisals of the Scientific Revolution
(см. выше), 261-301; John Henry, «Occult Qualities and the
Experimental Philosophy»; S. Shapin, «Of Gods and Kings»
(см. выше); и важные работы: * Keith Hutchison, «What
Happened to Occult Qualities in the Scientific Revolution?»,
in Isis 73 (1982), 233-253, его же: «Supernaturalism and the
Mechanical Philosophy», History ofScience2l (1983), 297-333
(где говорится о парадоксальной важности понятий «ок-
культное» и «сверхприродное» для становления механи-
стического миросозерцания). История представления о
магических животных: Brian P. Copenhaver, «A Tale of Two
Fishes: Magical Objects from Antiquity through the Scientific
Revolution», ш Journal of the History ofIdeasbt (1991), 373-398.
Квалифицированное опровержение идеи о том, что
современная наука проистекает из магии, см., в частно-
сти: Mary Hesse, «Reasons and Evaluation in the History
of Science», in Changing Perspectives in the History of Science,
éd. Mikulâs Teich and Robert M. Young (Cambridge:
Cambridge University Press, 1973), 127-147; A. Rupert
Hall, «Magic, Metaphysics and Mysticism in the Scientific
Revolution», in Reason, Experiment, and Mysticism in the
Scientific Revolution, ed. M. L. Righini Bonelli and William R.
Shea (New York: Science History Publications, 1975), 275-
282; Brian Vickers, Introduction to Occult and Scientific
Mentalities in the Renaissance, ed. Brian Vickers (Cambridge:
Cambridge University Press, 1984), 1-55; умеренная кри-
тика воззрений Фрэнсис Йейтс на коперниканство:
Robert S. Westman, «Magical Reform and Astronomical
Reform: The Yates Thesis Reconsidered», in Hermeticism and
the Scientific Revolution: Papers Read at a Clark Library Seminar,
March 1974, ed. Westman and J. E. McGuire (Los Angeles:
William Andrews Clark Memorial Library, 1977), 1-91.
558 Стивен Шейпин. Научная революция
С Социальные формы, связи и применения науки
Некогда «социальное измерение науки» считалось
специальным и, как правило, маргинальным фактором
для изучения науки раннего Нового времени. Конечно,
контраст между «умственной жизнью» и «социальным
существованием» был существен для западной культуры
со времен Античности. Философы, религиозные мыс-
лители и исследователи природы обычно описываются
как люди, которые далеки от мирских волнений, равно-
душны к политике и чаще всего уклоняются от участия в
войнах и от семейной жизни. Но мы начали нашу книгу
с вопроса о том, можно ли понять особенности разви-
тия науки в раннее Новое время, если не обращаться к
социальным и экономическим условиям. В конце книги
мы доказываем, что противопоставление интеллектуаль-
ного изучения природы и социальной активности — это
культурный результат научной революции. Но нам нуж-
но понимать, в чем суть этого расхождения мотивов и це-
лей, а не ссылаться на него просто как на исторический
факт. Производство, сохранение и передача знания —
это, вне всякого сомнения, социальные процессы, вне
зависимости от того, мыслим ли мы их по образцу про-
цессов в «большом обществе». Поэтому нужно находить
социальные причины научного развития, понимая, что
они вовсе не побочны, но существенны для постановки
новых научных проблем.
В литературе по социологии науки данного периода
подробно рассмотрена только часть вопросов. Скажем,
существует немало исследований по возникновению и
функционированию научных обществ, без которых не-
возможно представить себе научную работу в XVII в. Важ-
нейший обзор деятельности обществ: James Е. McClellan,
Science Reorganized: Scientific Societies in the Eighteenth Century
(New York: Columbia University Press, 1985), особ, главы
1-2 (об обществах, возникших в XVII в.); Martha Ornstein's
The Role of Scientific Societies in the Seventeenth Century (Chicago:
University of Chicago Press, 1928) — хотя это давняя
Библиография 559
работа, по некоторым странам она незаменима. О Лон-
донском королевском обществе, особенно в первые пол-
века его существования: Sir Henry Lyons, The Royal Society,
1660-1940: A History of Its Administration under Its Charters
(Cambridge: Cambridge University Press, 1944), главы 1-4;
Dorothy Stimson, Scientists and Amateurs: A History of the Royal
Society (New York: Henry Schuman, 1948); Sir Harold Hartley,
ed., The Royal Society: Its Origins and Founders (London: Royal
Society, 1960); Margery Purver, The Royal Society: Concept and
Creation (Cambridge: MIT Press, 1967). Новые исследова-
ния о деятельности Королевского общества: К. Theodore
Hoppen, «The Nature of the Early Royal Society», in British
Journal for the History of Science 9 (1976), 1-24, 243-273;
и подробнейшие исследования: Michael Hunter: Science
and Society in Restoration England (Cambridge: Cambridge
University Press, 1981); его же: Establishing the New Science: The
Experience of the Early Royal Society (Woodbridge: Boydell Press,
1989); его же: Science and the Shape of Orthodoxy: Intellectual
Change in Late Seventeenth-Century Britain (Woodbridge: Boy-
dell Press, 1995), в первых двух книгах приводится по-
дробная библиография. О членстве в Королевском об-
ществе: Hunter, The Royal Society and Its Fellows, 1660-1700:
The Morphology of an Early Scientific Institution, 2nd ed. (Oxford:
Alden Press, 1994; 1-е изд. 1982); об инициативах перкур-
сора: Mark Greenglass, Michael Leslie, and Timothy Raylor,
eds., Samuel Hartlib and Universal Reformation: Studies in
Intellectual Communication (Cambridge: Cambridge University
Press, 1995). Работы последних лет по частным аспектам
научной работы в Королевском обществе: Marie Boas
Hall, Promoting Experimental Learning: Experiment and the Royal
Society, 1660-1727 (Cambridge: Cambridge University Press,
1991); J. L. Heilbron, Physics at the Royal Society daring Newton's
Presidency (Los Angeles: William Andrews Clark Memorial
Library, 1983); Robert С Iliffe, «'In the Warehouse': Privacy,
Property and Priority in the Early Royal Society», in History of
Science 30 (1992), 29-68; Shapin and Schaffer, Leviathan and
the Air-Pump; and Shapin, A Social History of Truth (см. выше),
особ, главы 6 и 8.
560 Стивен Шейпин. Научная революция
О французских научных обществах и особенно о Монт-
морской академии как предшественнице Парижской ака-
демии наук см. прежде всего: Harcourt Brown, Scientific
Organizations in Seventeenth Century France (1620-1680) (New
York: Russell and Russell, 1967; 1-е изд. 1934); о Парижской
академии: Roger Hahn, The Anatomy of a Scientific Institution:
The Paris Academy of Sciences, 1666-1803 (Berkeley: University
of California Press, 1971); Claire Salomon-Bayet, Einstitution
de la science et l'expérience du vivant: Méthode et expérience
à VAcadémie royale des sciences, 1666-1793 (Paris: Flammarion,
1978); Alice Stroup, A Company of Scientists: Botany, Patronage,
and Community at the Seventeenth-Century Parisian Royal Academy
of Sciences (Berkeley; University of California Press, 1990).
Подробное исследование деятельности научных об-
ществ во французской провинции: David S. Lux, Patronage
and Royal Science in Seventeenth-Century France: The Académie
de Physique in Caen (Ithaca: Cornell University Press, 1989);
краткий очерк жизни провинциальных французских ака-
демий: Daniel Roche, Le siècle des lumières en province: Académies
et académiciens provinciaux, 1680-1789, 2 vols. (Paris: Mouton,
1978); об организационных инновациях в распростра-
нении научной информации: Howard M. Solomon, Public
Welfare, Science and Propaganda in Seventeenth-Century France:
The Innovations of Theophraste Renaudot (Princeton: Princeton
University Press, 1972).
Важное исследование о флорентийском кружке экспе-
риментаторов: W. Е. Knowles Middleton, The Experimenters:
A Study of the Accademia del Cimento (Baltimore: Johns Hopkins
University Press, 1971). О социальной организации на-
уки во Флоренции, Риме и других итальянских цен-
трах см. многочисленные примеры в работах: Biagioli,
Galileo, Courtier (см. выше); Findlen, Possessing Nature;
Tribby, «Body/Building» (см. выше); его же: Tribby, «Club
Medici» (см. выше); W. E. Knowles Middleton, «Science in
Rome, 1675-1700, and the Accademia Fisicomathematica of
Giovanni Giustino Ciampiani», in British Journal far the History
of Science 8 (1975), 138-154. По Ирландии: К. Theodore
Hoppen, The Common Scientist in the Eighteenth Century: A Study of
Библиография 561
the Dublin Philosophical Society, 1683-1708 (London: Routledge
and Kegan Paul, 1970). Литература по научным обществам
в других европейских странах не столь богата, см., напр.:
Porter and Teich, eds., The Scientific Revolution in National
Context (см. выше). Об организационных и социальных
формах гуманистической учености в Европе (пересекаю-
щейся тогда с естественно-научной культурой) в период
с конца XVII до середины. XVIII в.: Anne Goldgar, Impolite
Learning: Conduct and Community in the Republic of Letters, 1680-
1750 (New Haven: Yale University Press, 1995). Изучение со-
циальных форм, в которых отливалось научное знание,
независимо от формальной организации научной дея-
тельности: Owen Hannaway, «Laboratory Design and the
Aim of Science: Andreas Libavius versus Tycho Brahe», in Isis
77 (1986), 585-610; Mario Biagioli, «Scientific Revolution,
Social Bricolage, and Etiquette», in The Scientific Revolution
in National Context (см. выше), 11-54; а также труды таких
исследователей, как Dear, Findlen, Shapin и Tribby, упомя-
нутые в разделах 3G и 4А.
Детальное исследование покровительства ученым
со стороны властей — любимая тема последних лет.
Важные исследования о покровительстве астрономии
Коперника и Галилея приведены выше в разделе 3,
включая: Biagioli, Galileo, Courtier, Westfall, «Science and
Patronage»; Westman's «Proof, Poetics, and Patronage».
О покровительстве химии в Германии: Smith, The Business
of Alchemy (см. выше), гл. 2; о покровительстве математи-
кам в Англии эпохи Реставрации: Willmoth, Sir Jonas Moore
(см. выше); о Роберте Гуке и его покровителях: Hunter,
Establishing the New Science (см. выше), гл. 9; о покровитель-
стве ученым-экспериментаторам в Италии: Paula Findlen,
«Controlling the Experiment»: (см. выше); о государствен-
ном покровительстве науке в Испании: David Goodman,
«Philip II 's Patronage of Science and Engineering», in British
Journal for the History of Science 16 (1983), 49-66; о покро-
вительстве ботанике во Франции: Stroup, A Company of
Scientists (см. выше). Хороший сборник статей по вопро-
су: Bruce T. Moran, ed., Patronage and Institutions: Science,
562 Стивен Шейпин. Научная революция
Technology, and Medicine at the European Court, 1500-1750
(Woodbridge: Boydell Press, 1991), особенно статьи таких
авторов, как Eamon, Findlen, Moran, Smith.
Мы уже говорили (раздел 2) о спорах вокруг марк-
сизма, который связывает развитие науки с развитием
технологии в рамках экономического прогресса. Перво-
начально марксисты отождествляли темы, динамику и
иногда даже концептуальное содержание науки с предпо-
лагаемыми социально-экономическими предпосылками.
То же самое делал и Р. Мертон. «Интерналисты», считав-
шие, что наука развивается по внутренним законам, под-
няли на щит труды Койре и стали говорить, что научная
мысль никак не связана с состоянием экономики. Марк-
систские работы Гессена и Зильселя (см. выше) вызвали
ответную реакцию: A. Rupert Hall, Ballistics in the Seventeenth
Century (Cambridge: Cambridge University Press, 1952) и
его же: «The Scholar and the Craftsman in the Scientific
Revolution» (см. выше).
В настоящее время дискуссии, бурно шедшие в
1960-х гг., поутихли, и теперь исследователи предпочи-
тают говорить о разноплановых причинах развития на-
уки и технологии. См., напр., статьи: Marie Boas Hall, A.
Rupert Hall, Richard S. Westfall, and David W. Waters в: The
Uses of Science in the Age of Newton, ed. John G. Burke (Berkeley:
University of California Press, 1983), авторы скептически
относятся к социологизации науки. Закономерностям
развития науки и техники посвящена работа: *Paolo Rossi,
Philosophy, Technology, and the Arts in the Early Modern Era, trans.
Salvator Attanasio, ed. Benjamin Nelson (New York: Harper
and Row, 1970; 1-е изд. 1962); важная попытка связать раз-
витие наук с утилитарными запросами: Larry Stewart, The
Rise of Public Science: Rhetoric, Technology, and Natural Philosophy
in Newtonian Britain, 1660-1750 (Cambridge: Cambridge
University Press, 1992). Интереснейшая работа о разви-
тии механики жидкостей в связи с возникшими в Ита-
лии проблемами водоснабжения: Cesare S. Maffioli, Out of
Galileo: The Science of Waters, 1628-1718 (Rotterdam: Erasmus,
1994), особ. ч. Зи4.
Библиография 563
В последнее время особое внимание уделяется мораль-
ным, политическим и социальным последствиям новой
науки. Хотя сейчас все признают связь науки, религии и
морали в это время, но некоторые историки считают, что
гораздо важнее способность новой науки подкреплять
существующий социальный порядок или низвергать его.
Одна из важных работ в таком роде: Steven Shapin, «Social
Uses of Science», in The Ferment o/Knowledge, ed. Rousseau
and Porter (p. 175 above), 93-139.
Самые видные историки, занимающиеся этими
проблемами с начала 1970-х гг.: James R.Jacob и Marga-
ret C.Jacob. В основном их труды посвящены естествен-
но-научному знанию как ресурсу политической леги-
тимации в Англии XVII — начала XVTII в. См., напр.:
James R. Jacob, Robert Boyle and the English Revolution: A Study
in Social and Intellectual Change (New York: Burt Franklin,
1977); его же: «Boyle's Atomism and the Restoration
Assault on Pagan Naturalism», in Social Studies of Science 8
(1978), 211-233; его же: «Restoration Ideologies and the
Royal Society», in History of Science 18 (1980), 25-38; его же:
Henry Stubbe (см. выше); его же: «The Political Economy of
Science in Seventeenth-Century England», in The Politics of
Western Science, 1640-1990, ed. Margaret C.Jacob (Atlantic
Highlands, N.J.: Humanities Press, 1994), 19-46; *james R.
Jacob and Margaret C. Jacob, «The Anglican Origins of
Modern Science: The Metaphysical Foundations of the
Whig Constitution», in Isisll (1980), 251-267; ^Margaret C.
Jacob, The Newtonians and the English Revolution, 1689-
1720 (Ithaca: Cornell University Press, 1976); ее же: The
Radical Enlightenment: Pantheists, Freemasons, and Republicans
(London: George Allen and Unwin, 1981); и важнейшее
сравнение английских и континентально-европейских
достижений в этой области ее же: The Cultural Meaning of
the Scientific Revolution (New York: McGraw-Hill, 1988). Бо-
лее ранние работы по этим вопросам: Kubrin «Newton
and the Cyclical Cosmos» (см. выше) (см. также его же:
«Newton's Inside Out! Magic, Class Struggle, and the Rise
of Mechanism in the West», in The Analytic Spirit: Essays in
564 Стивен Шейпин. Научная революция
the History of Science in Honor of Henry Guerlac, ed. Harry Woolf
[Ithaca: Cornell University Press, 1981], 96-121); часто
игнорируемая классическая работа: * Rudolph W. Meyer,
Leibnitz and the Seventeenth-Century Revolution, trans. J. P. Stern
(Chicago: Henry Regnery, 1952; ориг. изд. 1948); и марк-
систские работы, упомянутые в разделе 2. Труды Джекоб-
са много критиковались историками, считающими, что
внутренние причины развития важнее внешних. Теперь
традиционная социология подорвана, с одной сторо-
ны, изучением индивидуальных мотиваций, а с другой
стороны, исследованием социальной судьбы отдельных
научных понятий.
D. Научные инструменты
Только недавно историки науки стали подробно ис-
следовать вопрос, который был упущен в «большой
традиции» изучения научной революции: технологиче-
ское обеспечение научной революции, иначе говоря,
употребление в научной работе специально разрабо-
танных инструментов. Существуют отдельные исследо-
вания, посвященные роли в научной работе микроско-
па, телескопа, барометра и других математических
инструментов (см. выше разд. ЗС, 3D, 4А). Bennett, «The
Mechanics' Philosophy and the Mechanical Philosophy»
(см. выше) - лучший обзор связи между употреблением
инструментов и формами знания. Литература по исто-
рии научных инструментов велика, следует обратить
внимание на след. труды: Derek J. de Solla Price, «The
Manufacture of Scientific Instruments from с 1500 to
с 1700», in A History of Technology, ed. Charles Singer et al.
(London: Oxford University Press, 1957), 3, 620-647; его
же: «Philosophical Mechanism and Mechanical Philosophy:
Some Notes towards a Philosophy of Scientific Instruments»,
in Annali delVIstituto e Museo di Storia delta Scienza di Firenze
5 (1980), 75-85; Albert Van Helden, «The Birth of the
Modern Scientific Instrument, 1550-1700», in The Uses of
Библиография 565
Science in the Age of Newton, ed. Burke (p. 204 above), 49-84;
W. D. Hackmann, «Scientific Instruments: Models of Brass
and Aids to Discovery», I. A. Bennett, «A Viol of Water or
a Wedge of Glass», in The Uses of Experiment, ed. Gooding,
Pinch, and Schaffer (см. выше), 31-65 and 105-114;
W. E. Knowles Middleton, A History of the Thermometer and
Its Uses in Meteorology (Baltimore: Johns Hopkins University
Press, 1966); Albert Van Helden, The Invention of the Telescope,
Transactions of the American Philosophical Society 67 (4)
(Philadelphia: American Philosophical Society, 1977).
Важнейшая черта, соотносящая историю науки
раннего Нового времени с тенденциями в социологии
научного знания, — внимание к проблемному характе-
ру инструментально добытого знания. См.: Shapin and
Schaffer, Leviathan and the Air-Pump (см. выше), где собран
широкий материал о трудностях проведения и воспро-
изведения экспериментов с воздушным насосом; Shapin,
A SocialHistory of Truth (см. выше), главы 6 и 8, где основное
внимание уделяется техническим и интеллектуальным
проблемам, связанным с инструментально опосредо-
ванными наблюдениями и научной работой в лаборато-
рии; см. также: Schaffer, «Glass Works»; Dennis, «Graphic
Understanding»; Wilson, The Invisible World; в нашумевшей
работе: Feyerabend, Against Method рассматривается ре-
цепция наблюдений Галилея в телескоп (см. выше, разд.
4А); Ruestow, The Microscope in the Dutch Republic (см. выше);
Ian Hacking, Representing and Intervening: Introductory Topics
in the Philosophy of Natural Science (Cambridge: Cambridge
University Press, 1983), глава 11 (о микроскопах). В этих
работах также отмечается взаимосвязь между видением
посредством научных инструментов и сообщением при-
родных явлений тем людям, которые их не видели. Это
требует исторического изучения способов визуальной
репрезентации и, конкретнее, роли книгопечатания,
без которого не могла бы состояться наука раннего Но-
вого времени. О книгопечатании и науке см. важней-
ший труд: Elizabeth Eisenstein, The Printing Press as an
Agent of Change: Communications and Cultural Transformations
566 Стивен Шейпин. Научная революция
in Early-Modern Europe, 2 vols. (New York: Cambridge
University Press, 1979); также: Natalie Zemon Davis, Society
and Culture (см. выше), гл. 7; Adrian Johns, The Nature of the
Book: Knowledge and Print in Early Modern England (Chicago:
University of Chicago Press, 1998); Henry E. Lowood and
Robin E. Rider, «Literary Technology and Typographic
Culture: The Instrument of Print in Early Modern Culture»,
in Perspectives on Science 2 (1994), 1-37; Eamon, Science and
the Secrets of Nature (см. выше), особ. ч. 2; Paolo Rossi,
«Science, Culture and the Dissemination of Knowledge»,
и Luce Giard, «Remapping Knowledge, Reshaping
Institutions», обе в: Science, Culture and Popular Belief
(см. выше), особ. 143-175 и 19-47. Об изучении визуаль-
ных репрезентаций см. также: Winkler and Van Helden,
«Johannes Hevelius and the Visual Language of Astronomy»
(см. выше); Svetlana Alpers 's The Art of Describing: Dutch Art
in the Seventeenth Century (Harmondsworth: Penguin, 1989;
1-е изд. 1983), о реалистическом изображении приро-
ды в искусстве и для научных целей; William M. Ivins Jr.,
Prints and Visual Communication (Cambridge: MIT Press,
1969), о правилах создания гравированных иллюстра-
ций. О художественных принципах передачи челове-
ческой анатомии см.: Glenn Harcourt, «Andreas Vesalius
and the Anatomy of Antique Sculpture», in Representations
17 (1987), 28-61.
5. Исследователи и их проекты
Большая часть работ о вкладе ведущих ученых в раз-
витие наук приведена выше. По персоналиям лучше все-
го обращаться к библиографическому справочнику: The
Dictionary of Scientific Biography, ed. Charles Coulston Gillispie,
18 vols. (New York: Scribner, 1970-1990). Ниже мы даем
только краткую библиографию по основным личностям,
рассмотренным в нашей книге, прежде всего выбирая
биографические книги, в которых анализируются осо-
бенности научной карьеры каждого лица.
Библиография 567
А. Галилео Галилей
Ludovico Geymonat, Galileo Galilei: A Biography and Inquiry
into His Philosophy of Science, trans. Stillman Drake (New York:
McGraw-Hill, 1965; ориг. изд. 1957); Ernan McMullin, ed.,
Galileo: Man ofScience (New York: Basic Books, 1967); William R.
Shea, Galileos Intellectual Revolution (London: Macmillan,
1972); Stillman Drake, Galileo Studies: Personality, Tradition, and
Revolution (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1970); его
же: Galileo at Work: His Scientific Biography (Chicago: University
of Chicago Press, 1978); William A. Wallace, Galileo and His
Sources: The Heritage of the Collegia Romano in Galileos Science
(Princeton: Princeton University Press, 1984); его же: Galileos
Logic of Discovery and Proof (Dordrecht: Kluwer, 1992); Pietro
Redondi, Galileo Heretic,trans. Raymond Rosenthal (Princeton:
Princeton University Press, 1987; 1-е изд. 1983); Richard J.
Blackwell, Galileo, Bellarmine, and the Bible (Notre Dame: Notre
Dame University Press, 1991); Joseph C. Pitt, Galileo, Human
Knowledge, and the Book of Nature: Method Replaces Metaphysics
(Dordrecht: Kluwer, 1992); Annibale Fantoli, Galileo: For
Copernicanism andfor the Church, trans. George V. Coyne
(Vatican City: Vatican Observatory, 1994); and Rivka
Feldhay, Galileo and the Church: Political Inquisition or Critical
Dialogue? (Cambridge: Cambridge University Press, 1995).
В. Фрэнсис Бэкон
Benjamin Farrington, Francis Bacon, Philosopher of
Industrial Science (New York: Henry Schuman, 1949); его же:
The Philosophy of Francis Bacon (Chicago: University of Chicago
Press, 1964); Paolo Rossi, Francis Bacon: From Magic to Science,
trans. Sacha Rabinovitch (Chicago: University of Chicago
Press, 1968); Lisa Jardine, Francis Bacon: Discovery and the Art
of Discourse (New York: Cambridge University Press, 1974);
Peter Urbach, Francis Bacon's Philosophy of Science: An Account
and a Reappraisal (La Salle, 111.: Open Court, 1987); Antonio
Pérez-Ramos, Francis Bacons Idea of Science and the Maker's
568 Стивен Шейпин. Научная революция
Knowledge Tradition (Oxford: Clarendon Press, 1988); Julian
Martin, Francis Bacon (см. выше); Robert К. Faulkner, Francis
Bacon and the Project of Progress (Lanham, Md.: Rowman and
Littlefield, 1993); B. H. G. Wormald, Francis Bacon: History,
Politics, and Science, 1561-1626 (Cambridge: Cambridge
University Press, 1993); John E. Learyjr., Francis Bacon and
the Politics of Science (Ames: Iowa State University Press, 1994);
Markku Peltonen, ed., The Cambridge Companion to Bacon
(Cambridge: Cambridge University Press, 1996).
С. Томас Гоббс
Frithiof Brandt, Thomas Hobbes'Mechanical Conception of Na-
ture (Copenhagen: Levin and Munksgaard, 1928); Arnold A.
Rogow, Thomas Hobbes: Radical in the Service of Reaction (New York:
W. W. Norton, 1986); and Tom Sorell, ed., The Cambridge Compa-
nion to Hobbes (Cambridge: Cambridge University Press, 1996).
D. Рене Декарт
Stephen Gaukroger, ed., Descartes: Philosophy, Mathematics
andPhysics (Brighton: Harvester Press, 1980);MarjorieGrene,
Descartes (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1985);
его же: Descartes among the Scholastics (Milwaukee: Marquette
University Press, 1991); William R. Shea, The Magic of Numbers
and Motion: The Scientific Career of Rene Descartes (Canton,
Mass.: Science History Publications, 1991); Daniel Garber,
Descartes' Metaphysical Physics (Chicago: University of Chicago
Press, 1992); John Cottingham, ed., The Cambridge Companion
to Descartes (Cambridge: Cambridge University Press, 1992);
Stephen Voss, ed., Essays on the Philosophy and Science of Rene
Descartes (см. выше); ^Stephen Gaukroger, Descartes: An
Intellectual Biography (Oxford: Oxford University Press, 1995);
Roger Ariew and Maijorie Grene, eds., Descartes and His
Contemporaries: Meditations, Objections, and Replies (Chicago:
University of Chicago Press, 1995).
Библиография 569
Е. Роберт Бойль
Louis Trenchard More, The Life and Worlds of the Honourable
Robert Boyle (London: Oxford University Press, 1944);
R. E. W. Maddison, The Life of the Honourable Robert Boyle F.R.S.
(London: Taylor and Francis, 1969); James Jacob, Robert Boyle
(см. выше) Jonathan Harwood, ed., The Early Essays and Ethics
of Robert Boyle (Carbondale: Southern Illinois University Press,
1991); Steven Shapin, «Personal Change and Intellectual
Biography: The Case of Robert Boyle», British Journal far the
History of Science 26 (1993), 335-345; Michael Hunter, ed.,
Robert Boyle Reconsidered (Cambridge: Cambridge University Press,
1994); Rose-Mary Sargent, The Diffident Naturalist: Robert Boyle
and the Philosophy of Experiment (Chicago: University of Chicago
Press, 1995).
F. Роберт Гук
Margaret 'Esptnasse, Robert Hooke (London: Heinemann,
1956); F. F. Centore, Robert Hooke's Contributions to Mechanics:
A Study in Seventeenth Century Natural Philosophy (The Hague:
M. Nijhoff, 1970); J. A. Bennett, «Robert Hooke as Mechanic
and Natural Philosopher», Notes and Records of the Royal Society
35 (1980), 33-48; Michael Hunter and Simon Schaffer, eds.,
Robert Hooke: New Studies (Woodbridge: Boydell Press, 1989);
Stephen Pumfrey, «Ideas above His Station: A Social Study
of Hooke's Curatorship of Experiments», History of Science 29
(1991), 1-44; Robert Iliffe, «Material Doubts: Hooke, Artisan
Culture and the Exchange of Information in 1670s London»,
in British Journal for the History ofScience 28 (1995), 285-318.
G. Христиан Гюйгенс
Arthur Bell, Christian Huygens and the Development of
Science in the Seventeenth Century (New York: Longmans Green,
1947); H. J. M. Bos, M. J. S. Rudwick, H. A. M. Snelders, and
570 Стивен Шейпин. Научная революция
R. P. W. Visser, eds., Studies on Christiaan Huygens (Lisse: Swets
and Zeitlinger, 1980); Aant Elzinga, On a Research Program in
Early Modern Physics, with Special Reference to the Work of Christiaan
Huygens (Göteborg: Akademiförlaget, 1972); Joella G. Yoder,
Unrolling Time: Christiaan Huygens and the Mathematization of
Nature (Cambridge: Cambridge University Press, 1988).
H. Исаак Ньютон
Louis Trenchard More, Isaac Newton: A Biography (New
York: Charles Scribner's, 1934); Frank E. Manuel, A Portrait
of Isaac Newton (Cambridge: Belknap Press of Harvard
University Press, 1968); Richard S. Westfall, Never at Rest:
A Biography of Isaac Newton (Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press, 1980) и краткая версия той же работы: The Life
of Isaac Newton (Cambridge: Cambridge University Press
[Canto edition], 1994); Gale E. Christiansen, In the Presence of
the Creator. Isaac Newton and His Times (New York: Free Press,
1984); John Fauvel, Raymond Flood, Mkhael Shortland, and
Robin Wilson, eds., Let Newton Be! (Oxford: Oxford Univer-
sity Press, 1988); и A. Rupert Hall, Isaac Newton, Adventurer in
Thought (Oxford: Basil Blackwell, 1992).
Питер Деар, Стивен Шейпин
НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ КАК СОБЫТИЕ
Дизайнер обложки Т. Репина
Редактор К. Иванов
Корректоры О. Семченко, М. Смирнова
Компьютерная верстка Д. Макаровский
Налоговая льгота — общероссийский
классификатор продукции ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры
ООО РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА
«НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»
Адрес редакции:
129626, Москва, а/я 55
тел./факс: (495) 229-91-03
e-mail: real@nlo.magazine.ru
сайт: www.nlo.nlobooks.ru
Формат 60 х90 YiQ.
Бумага офсетная № 1.
Печ. л. 36. Тираж 1000. Зак. № 7698.
Отпечатано с готовых файлов заказчика
в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14