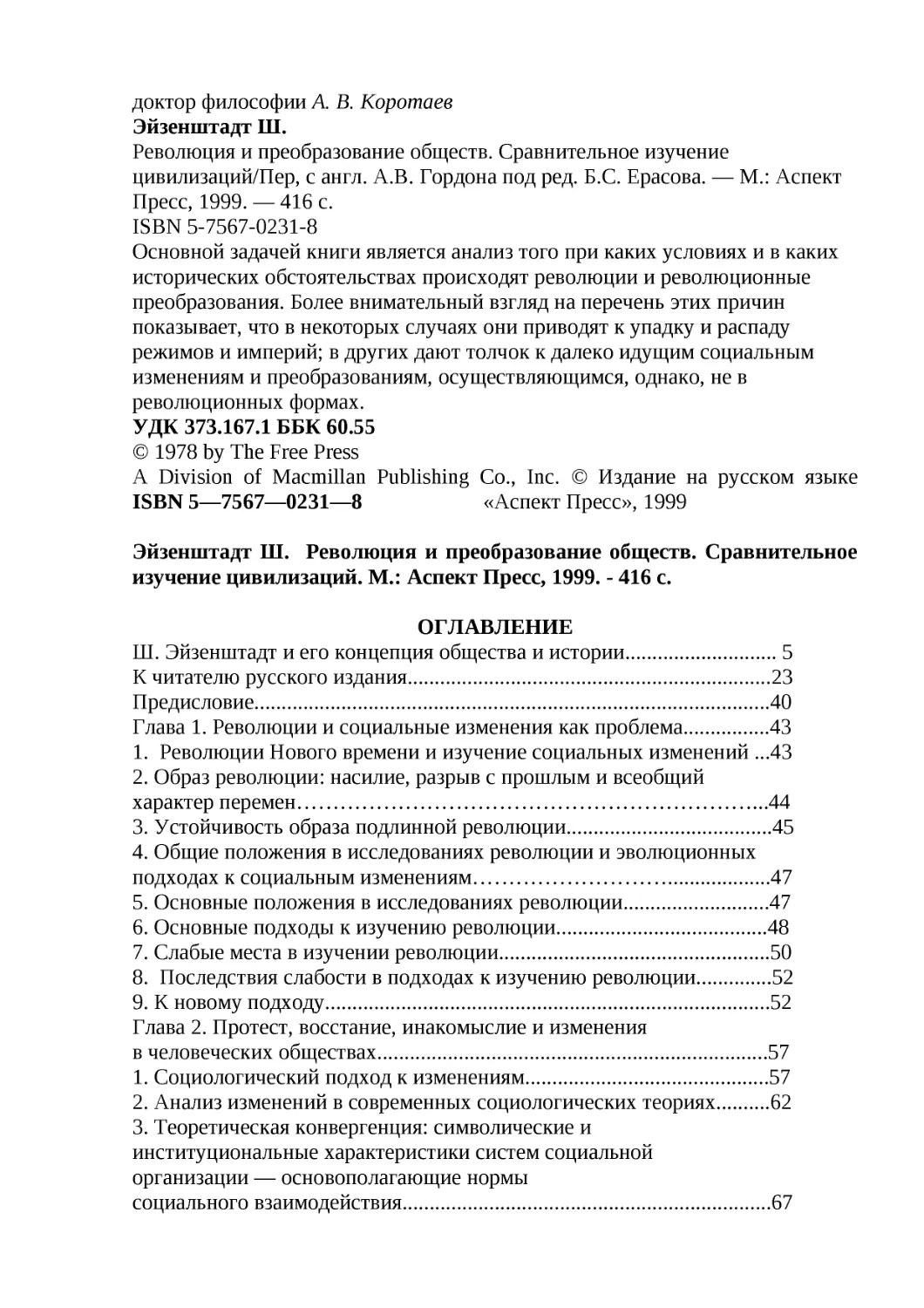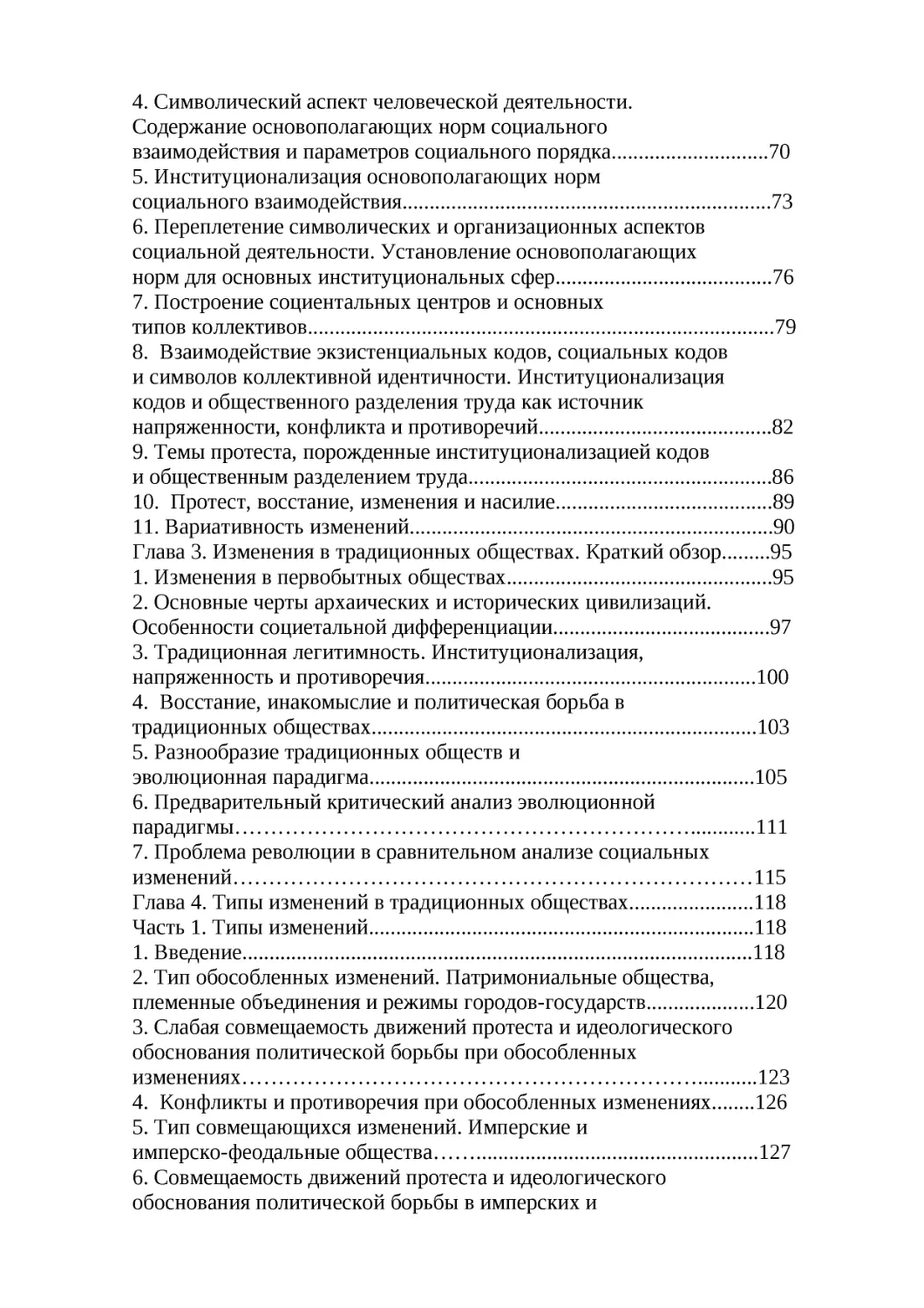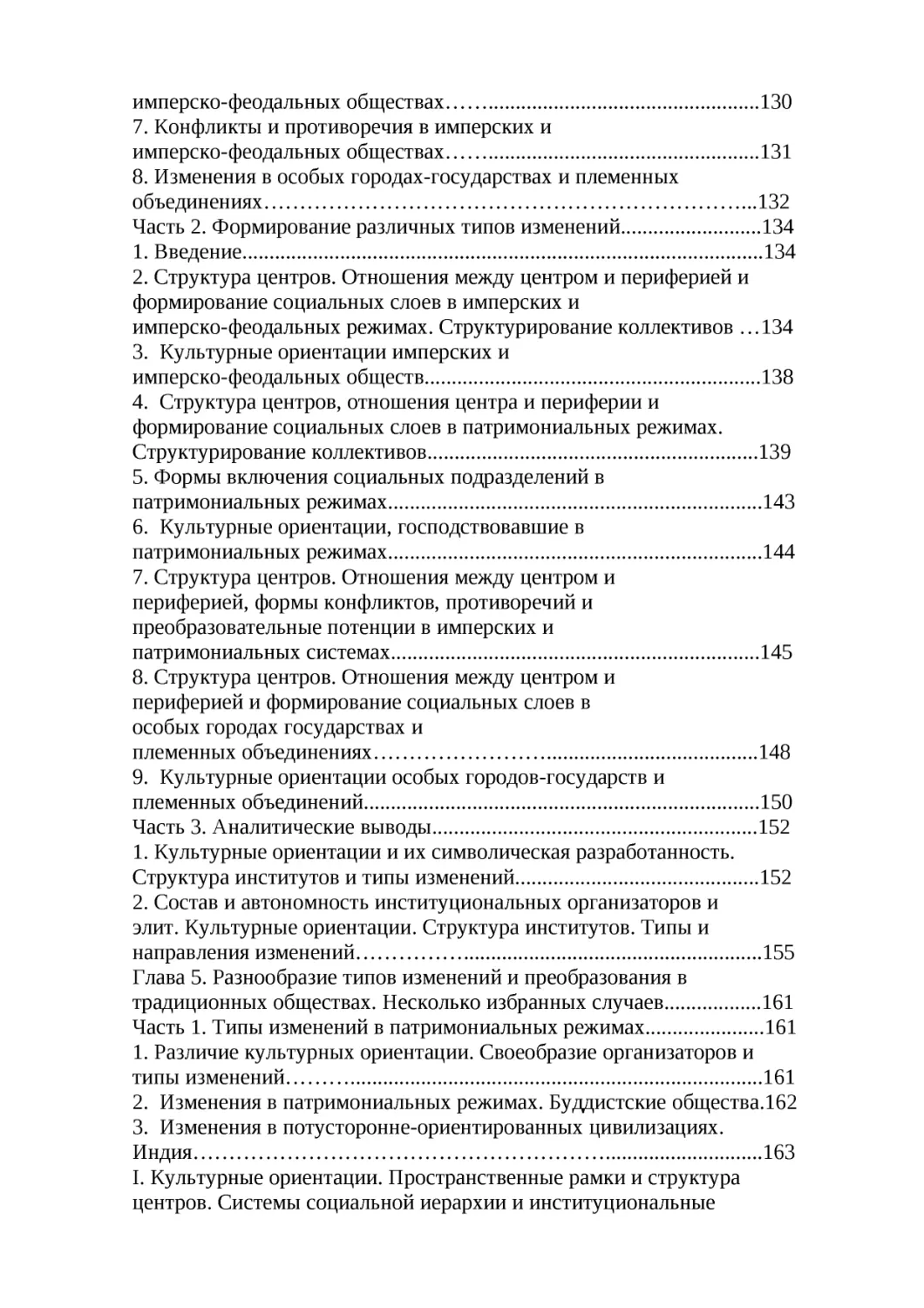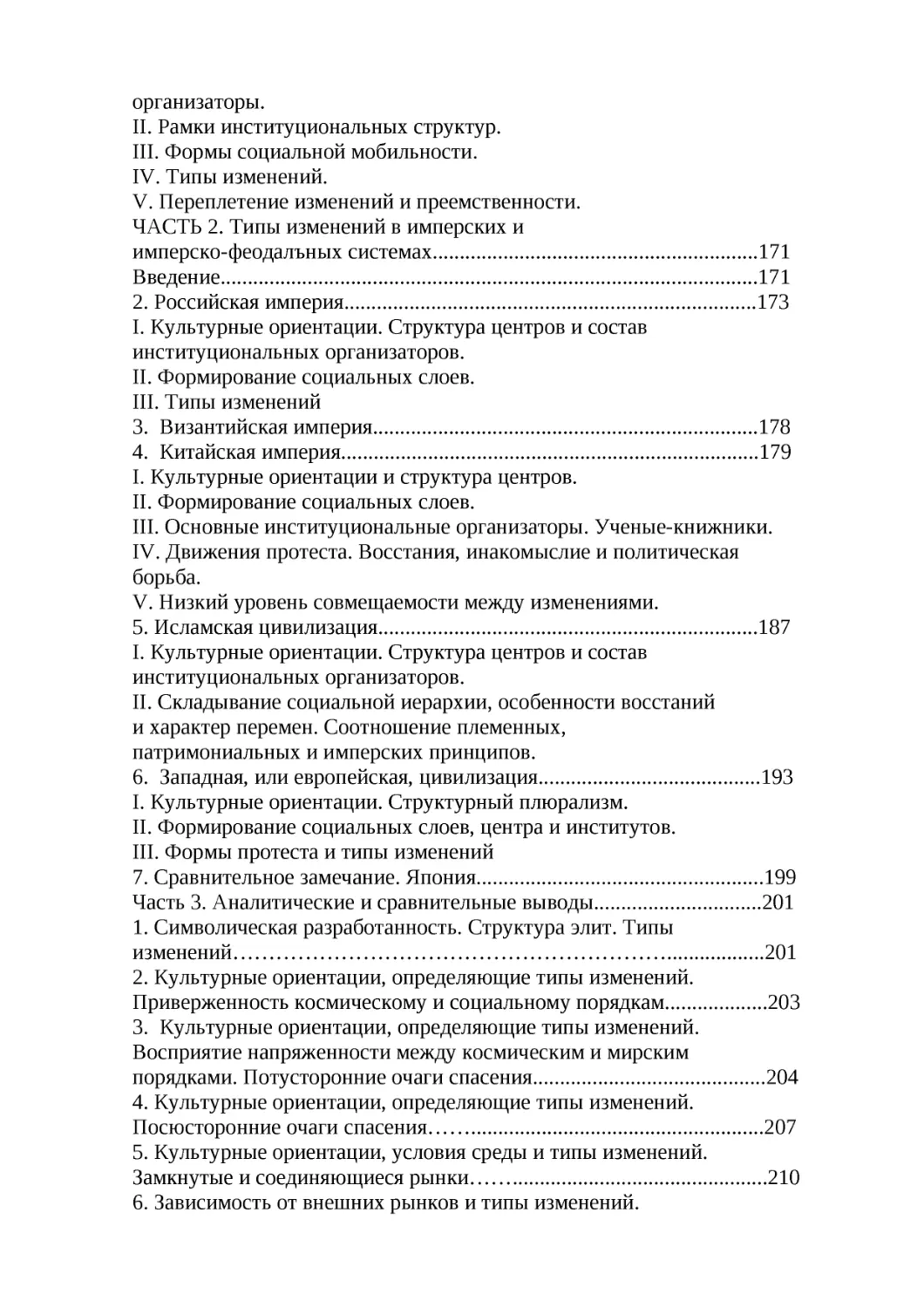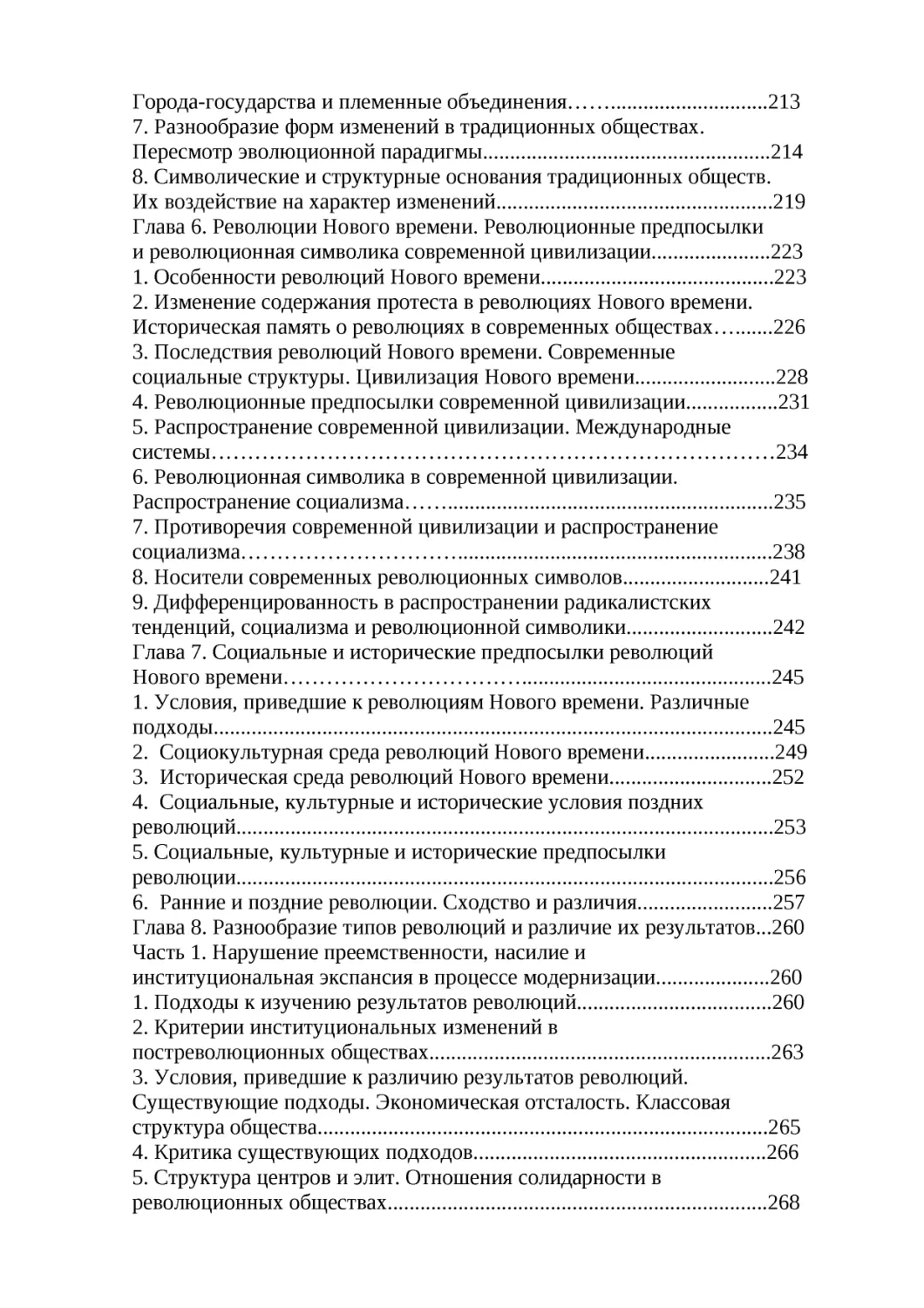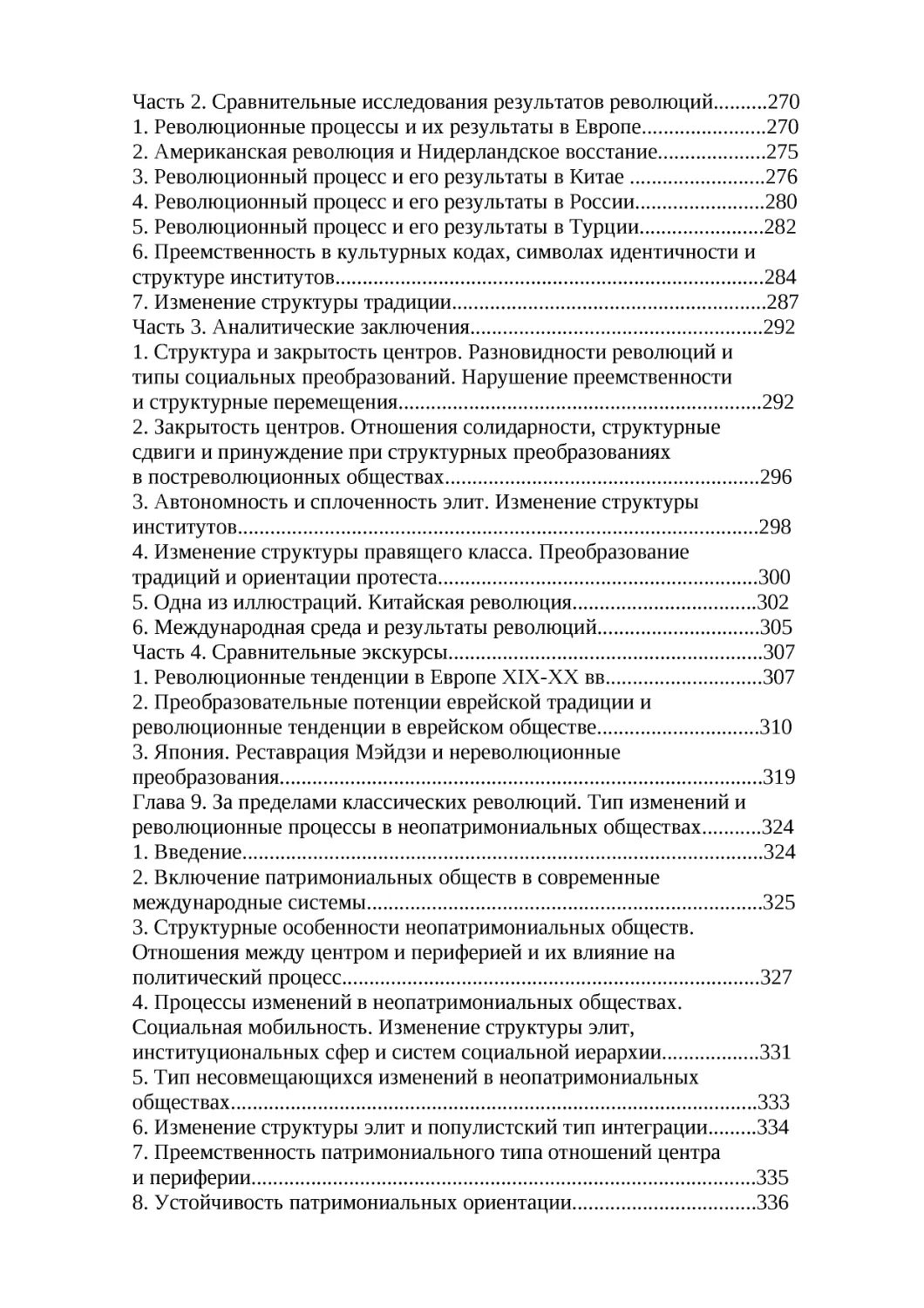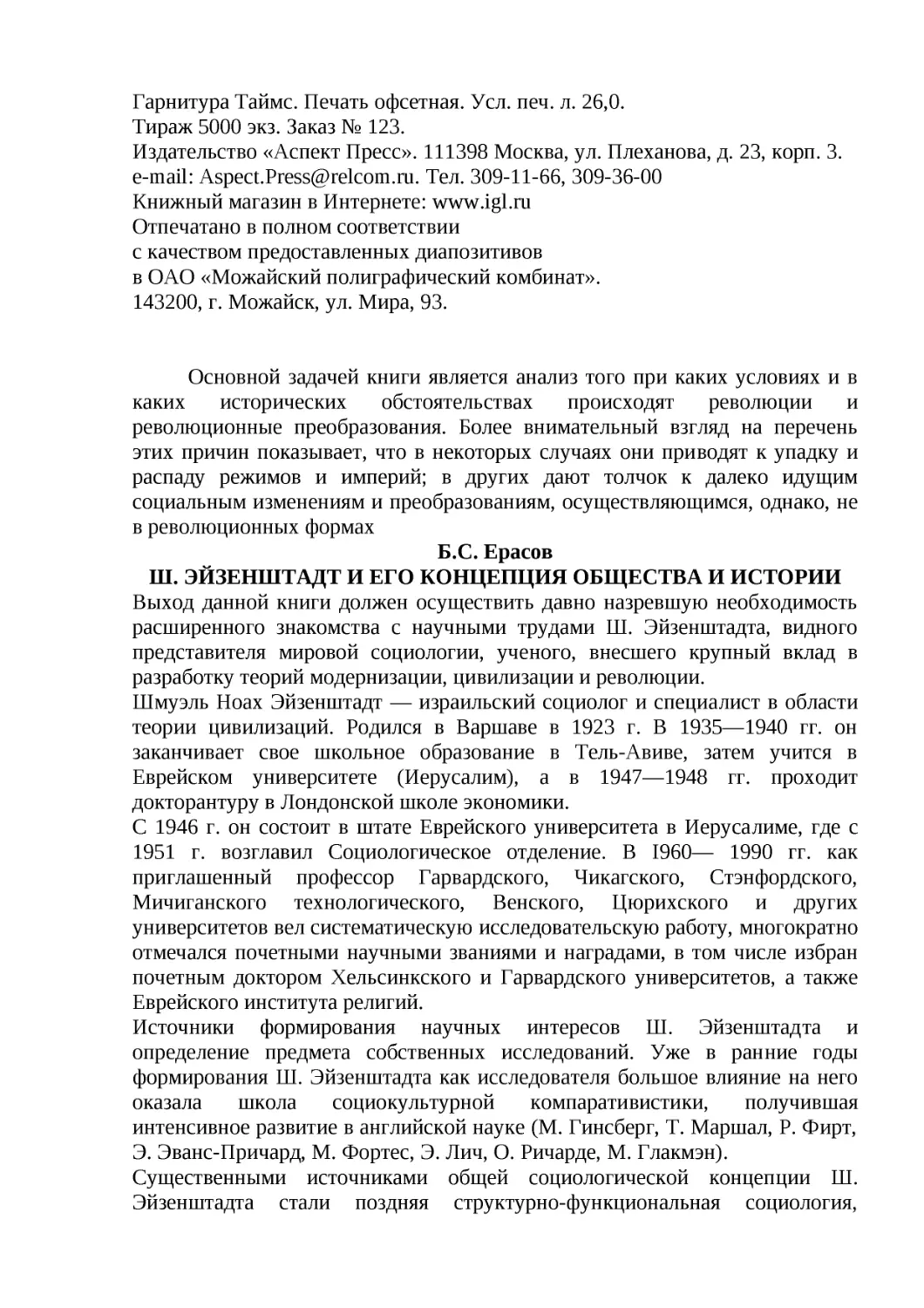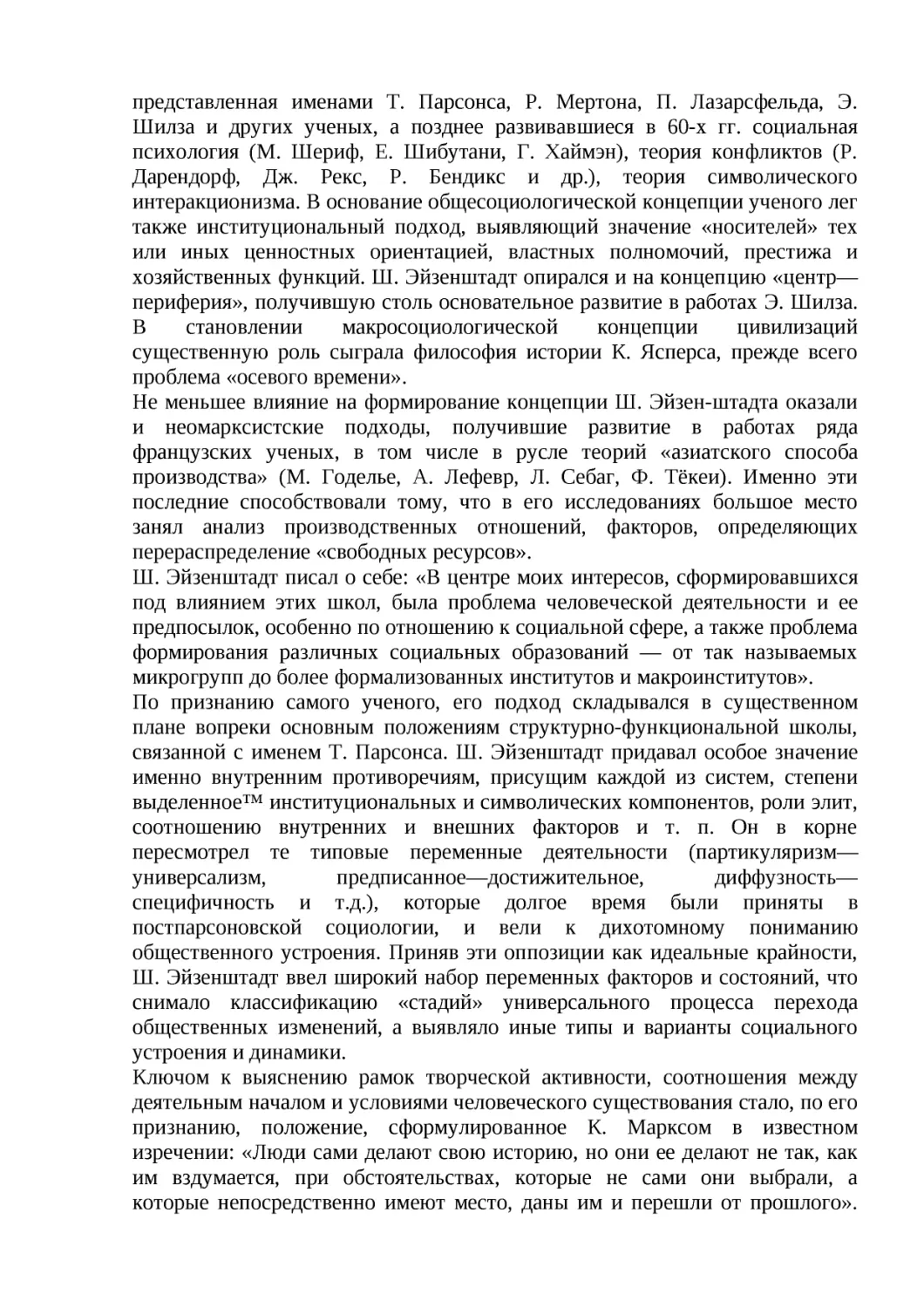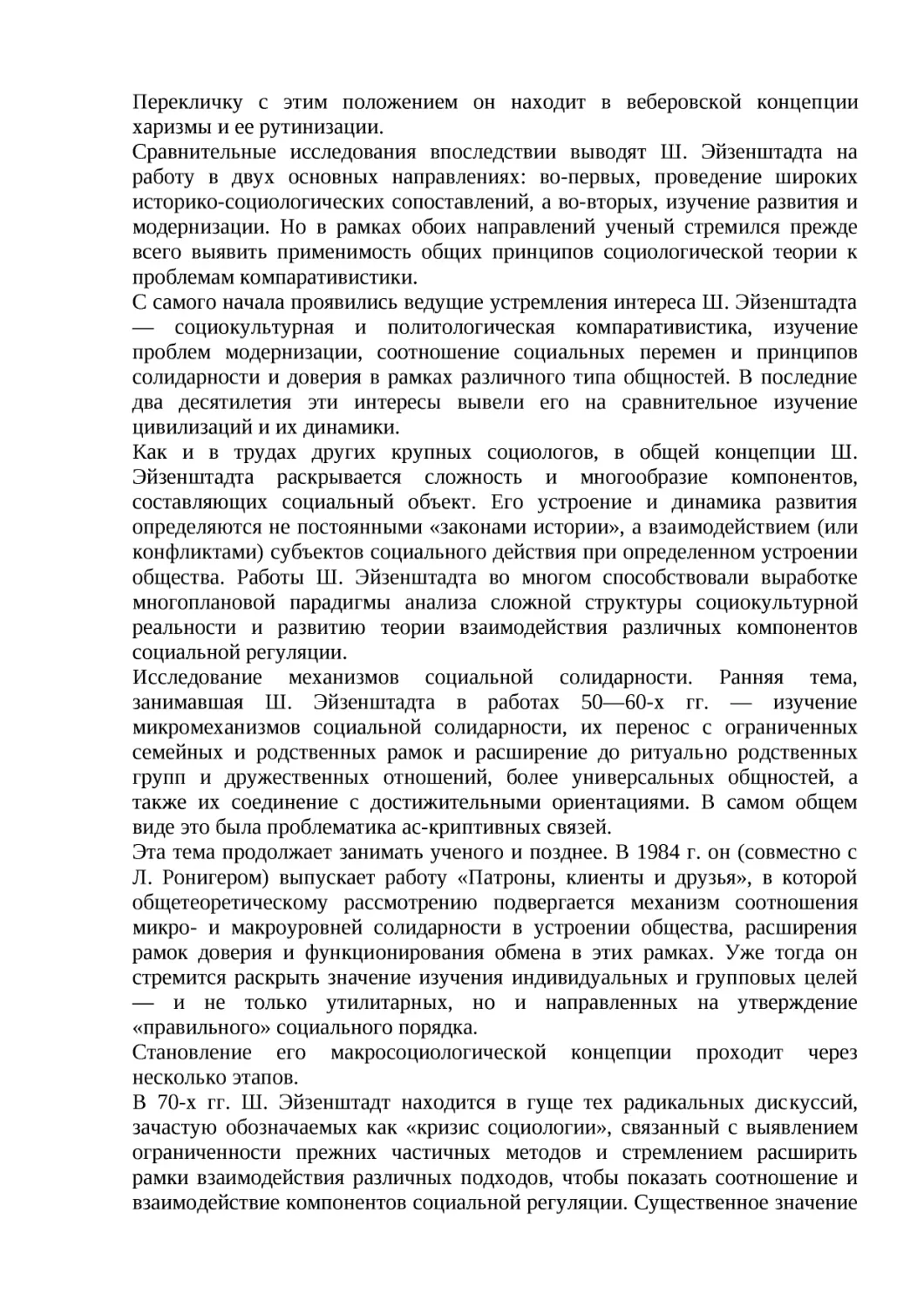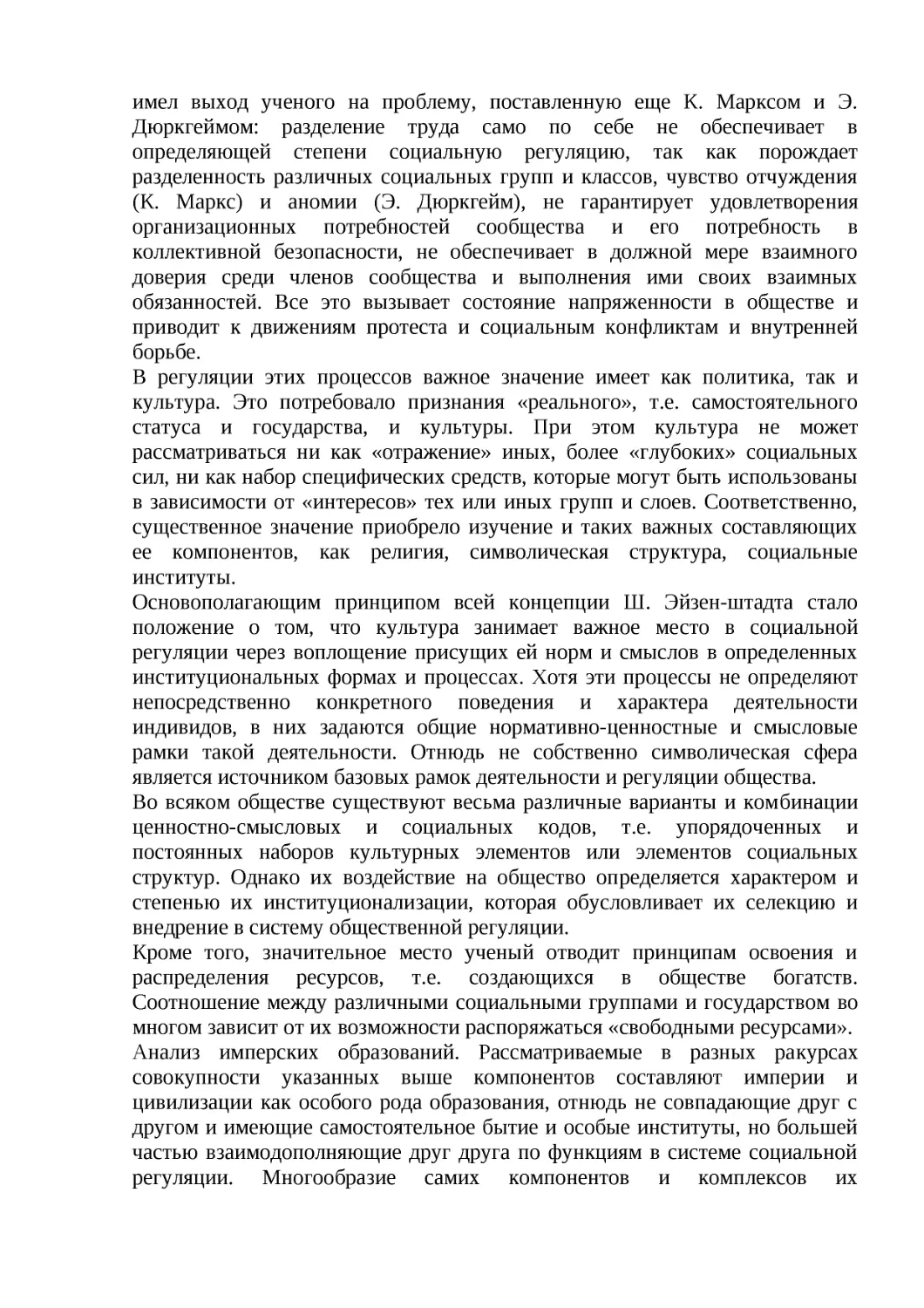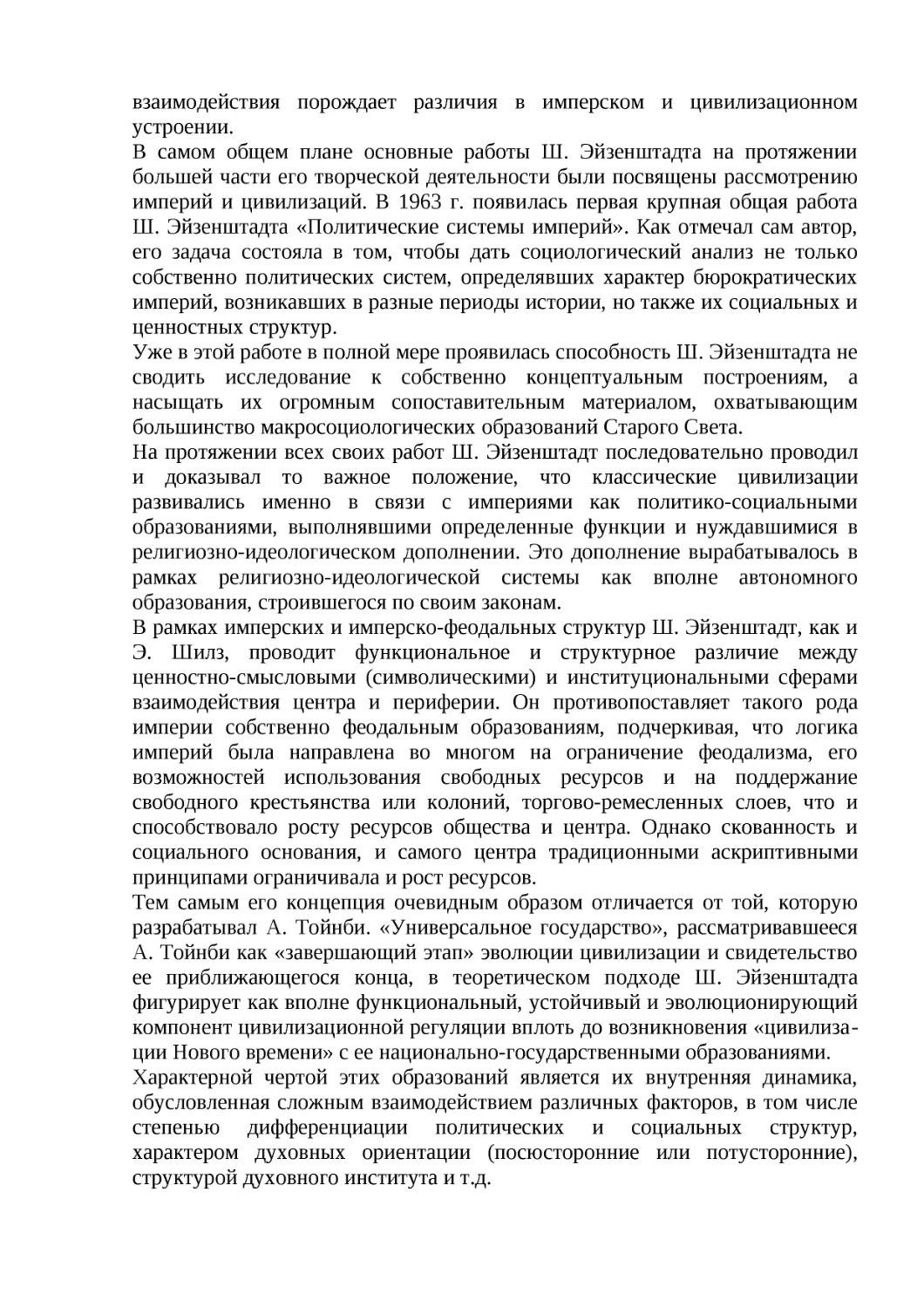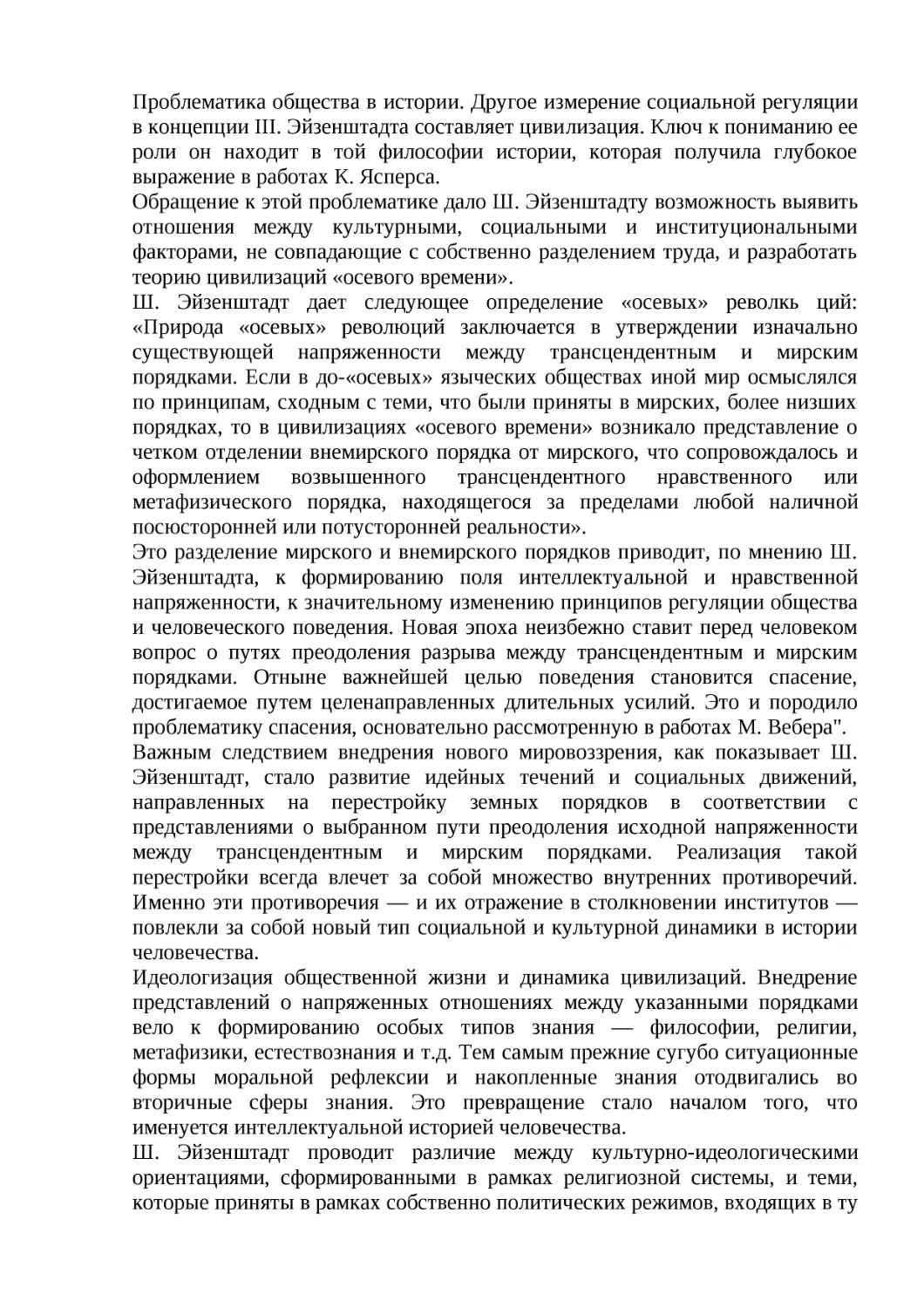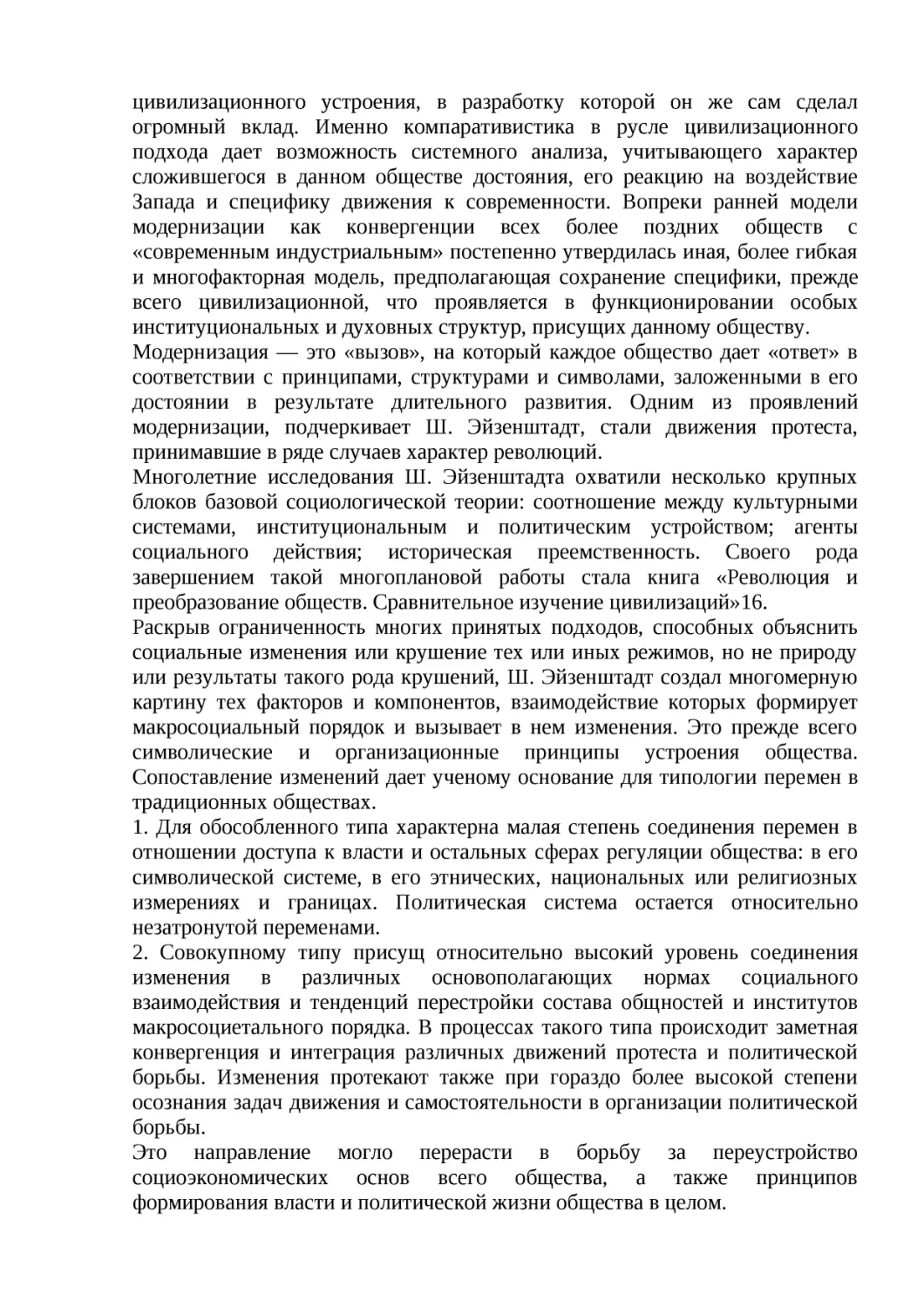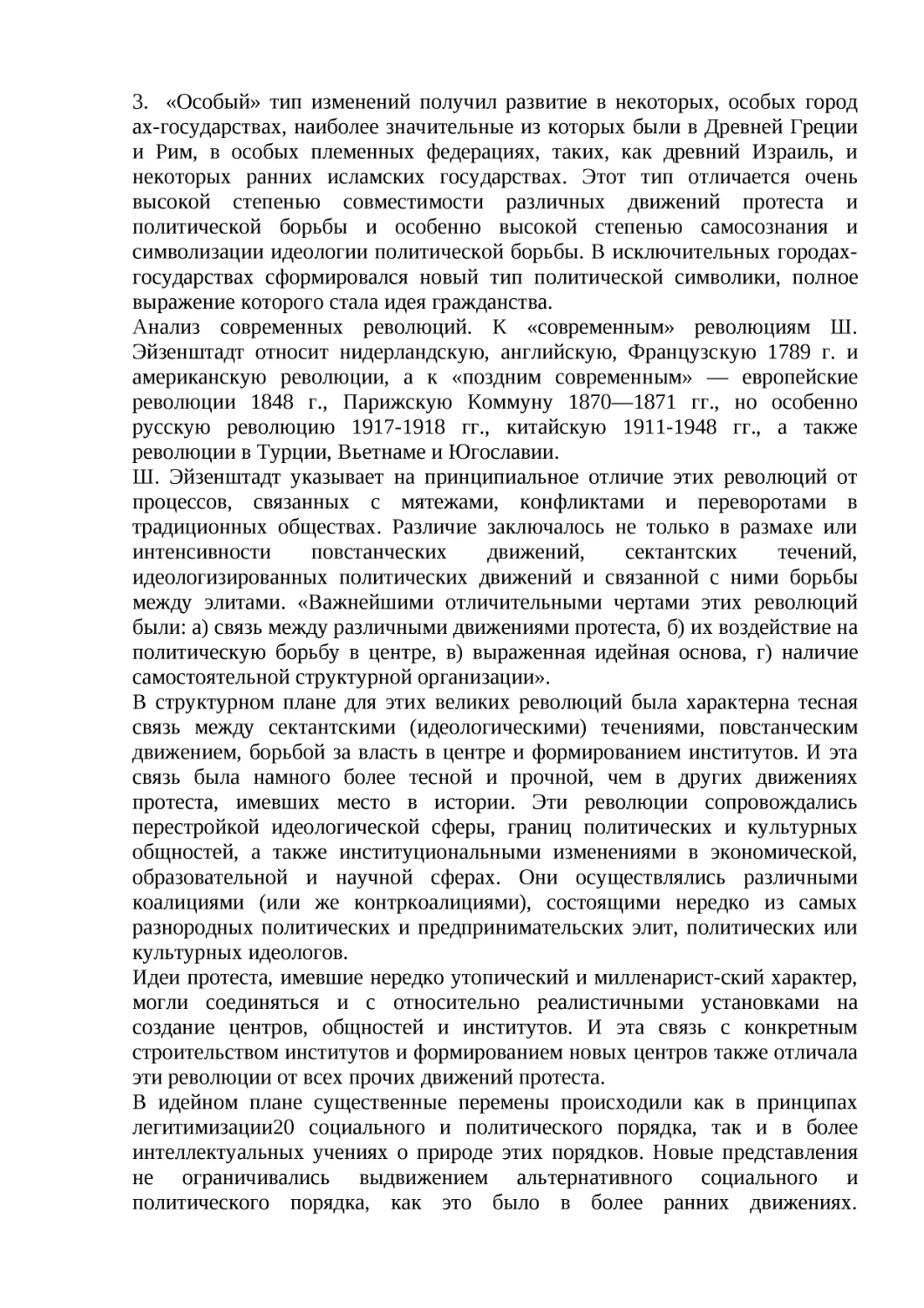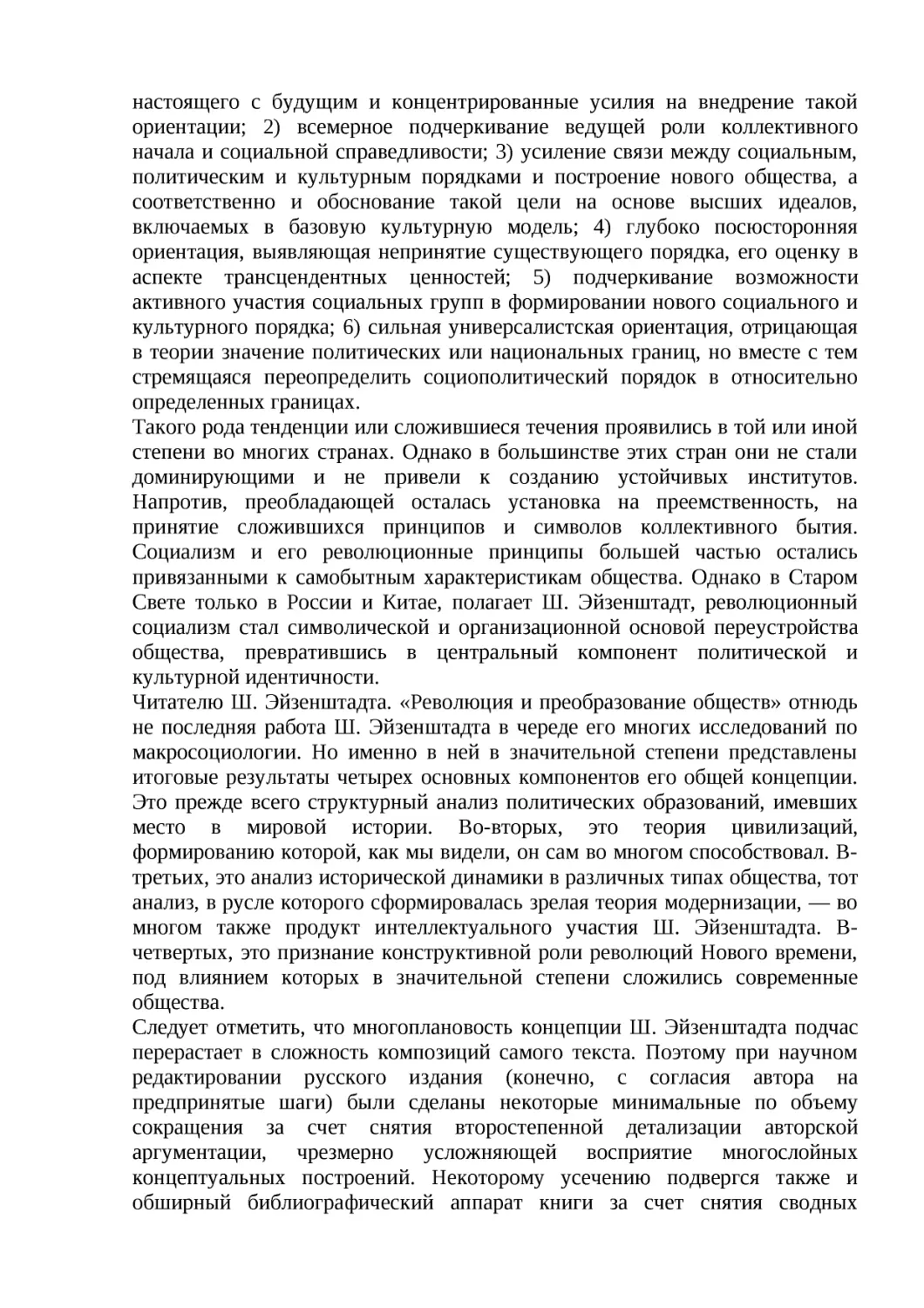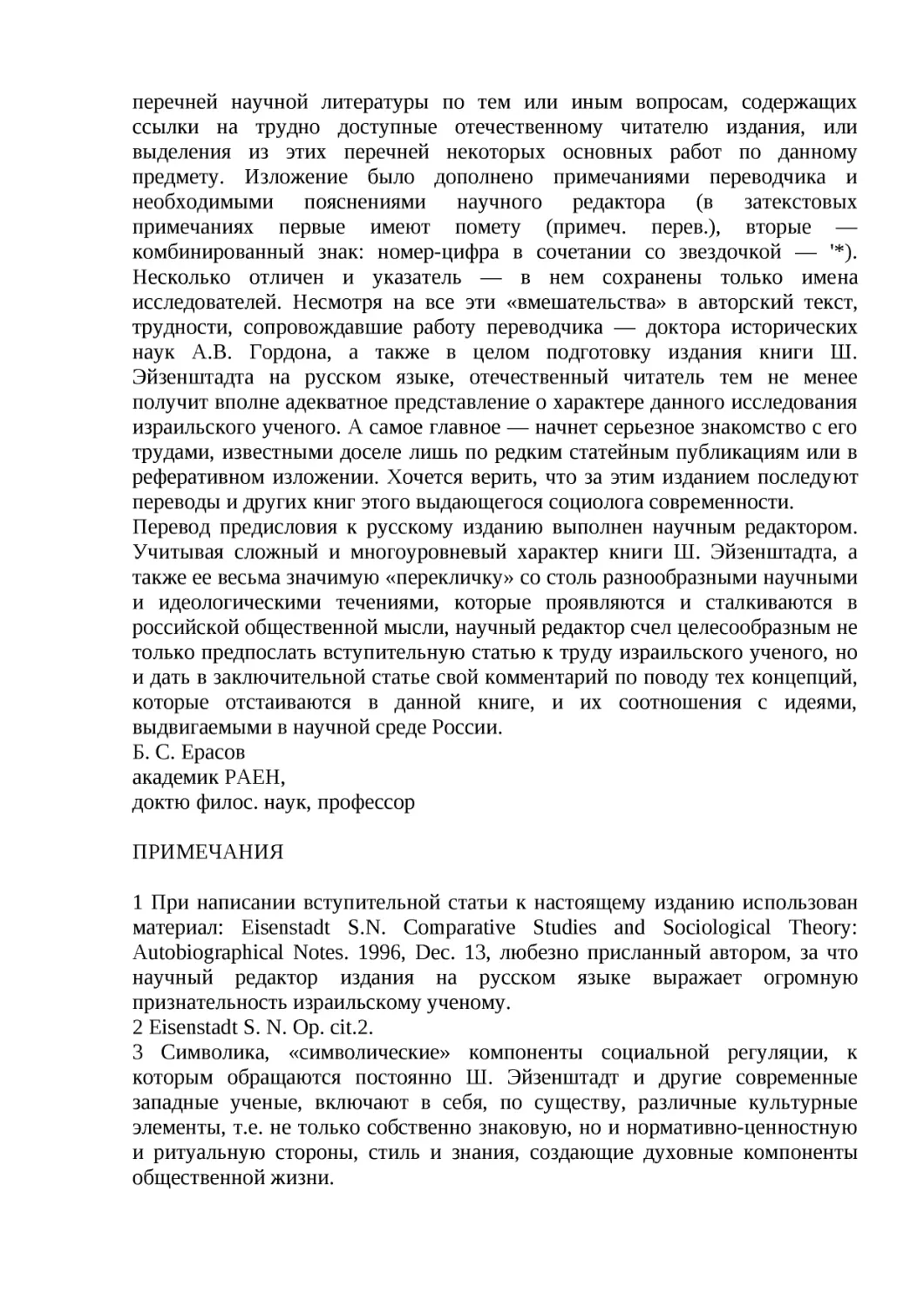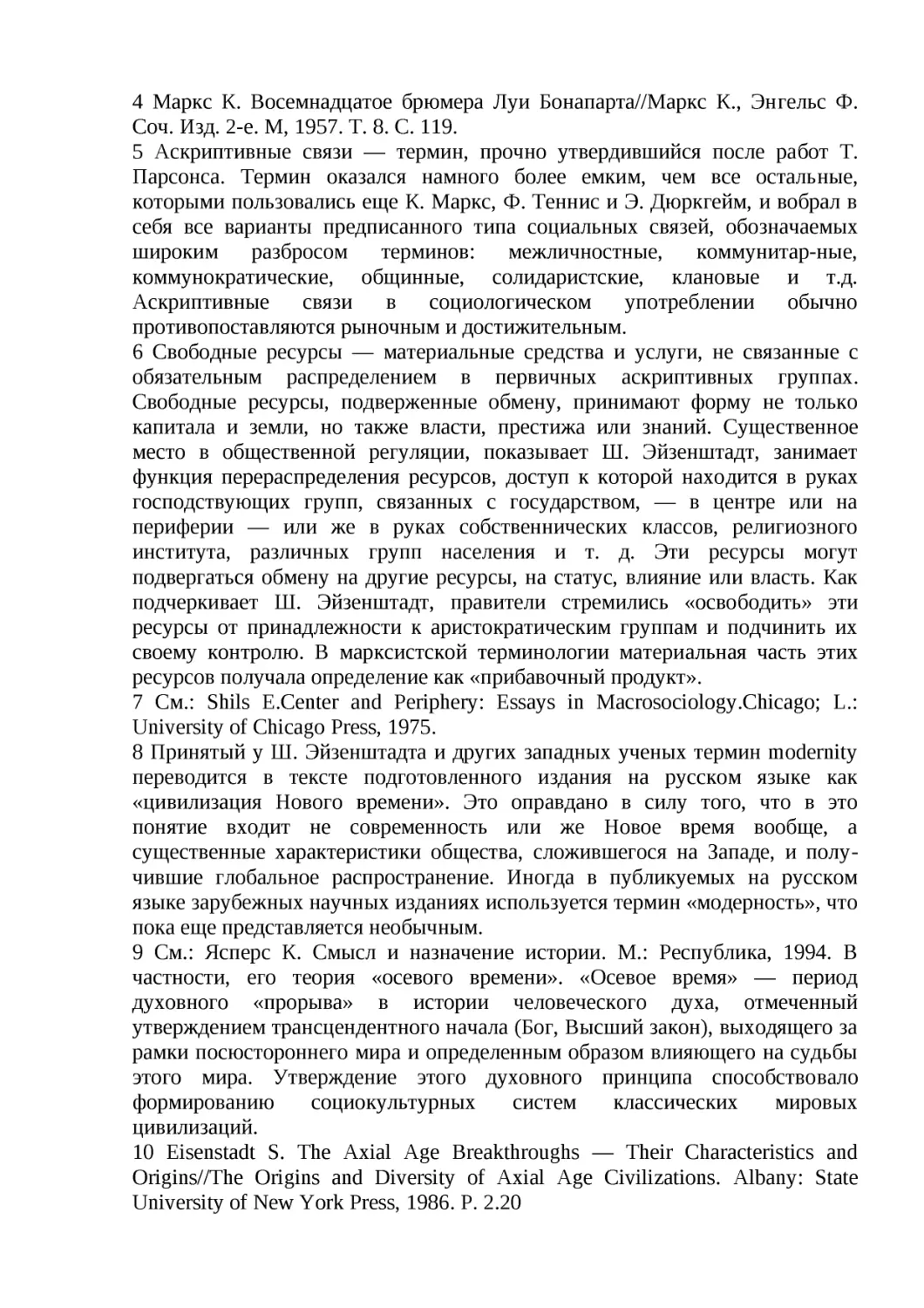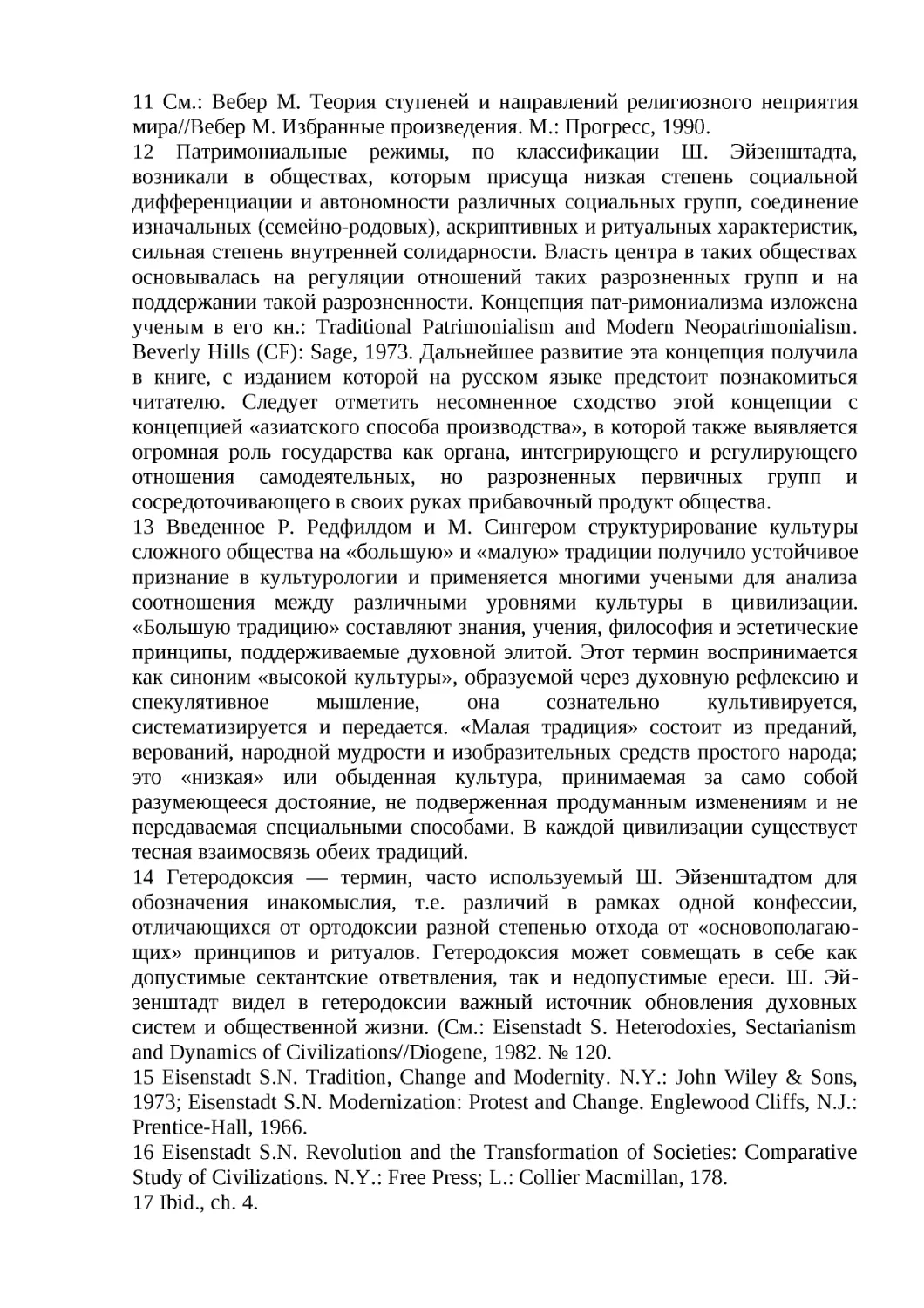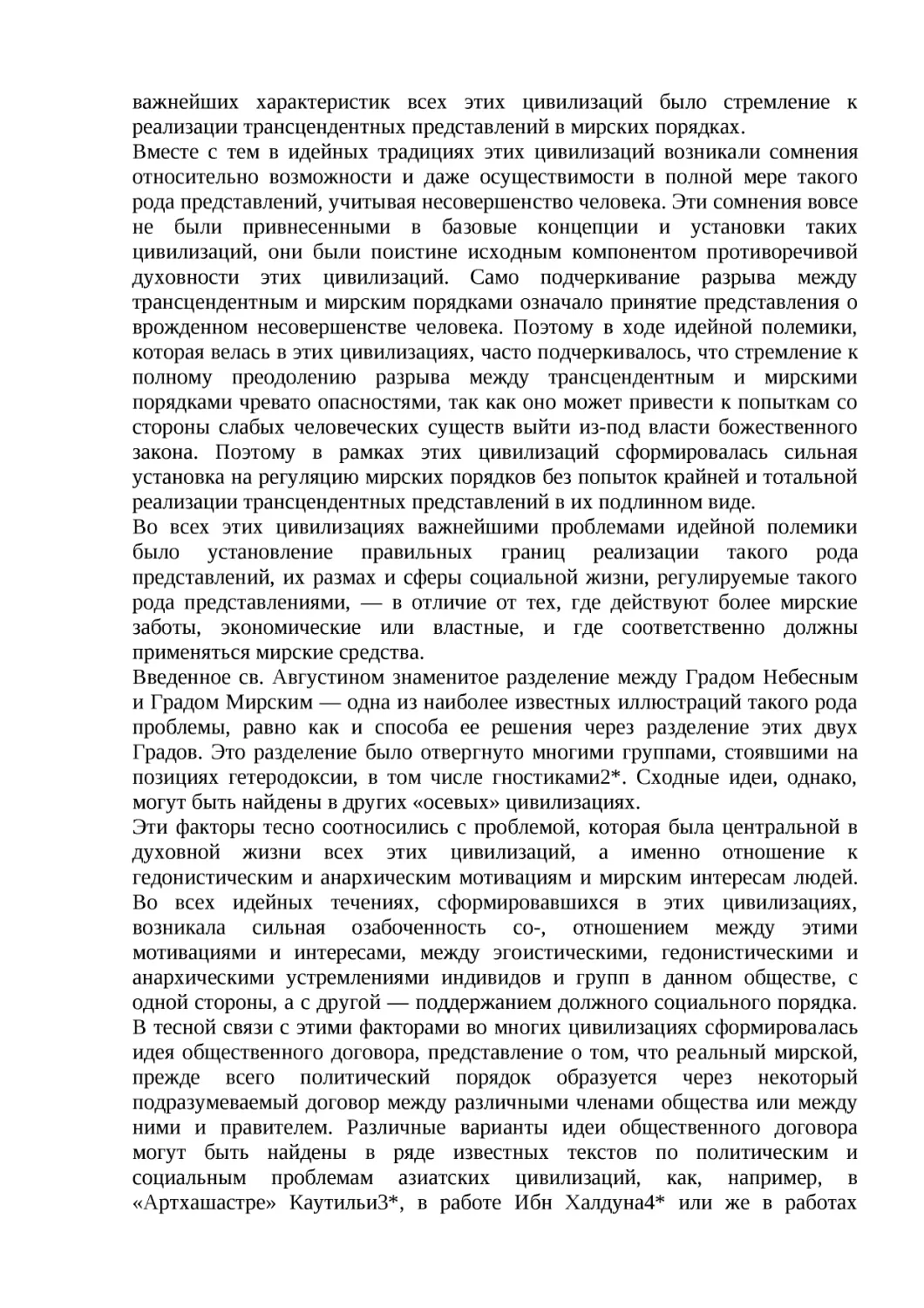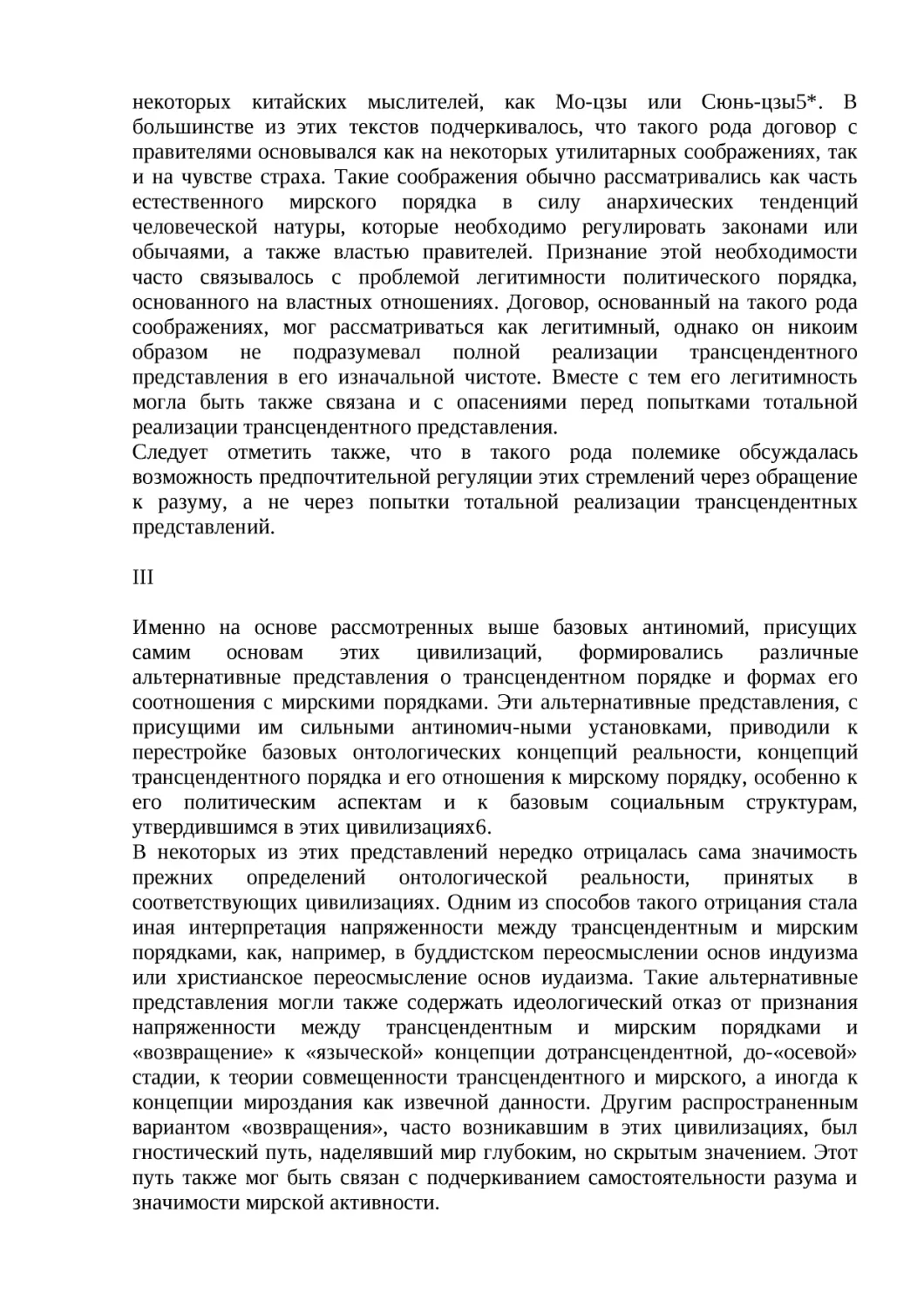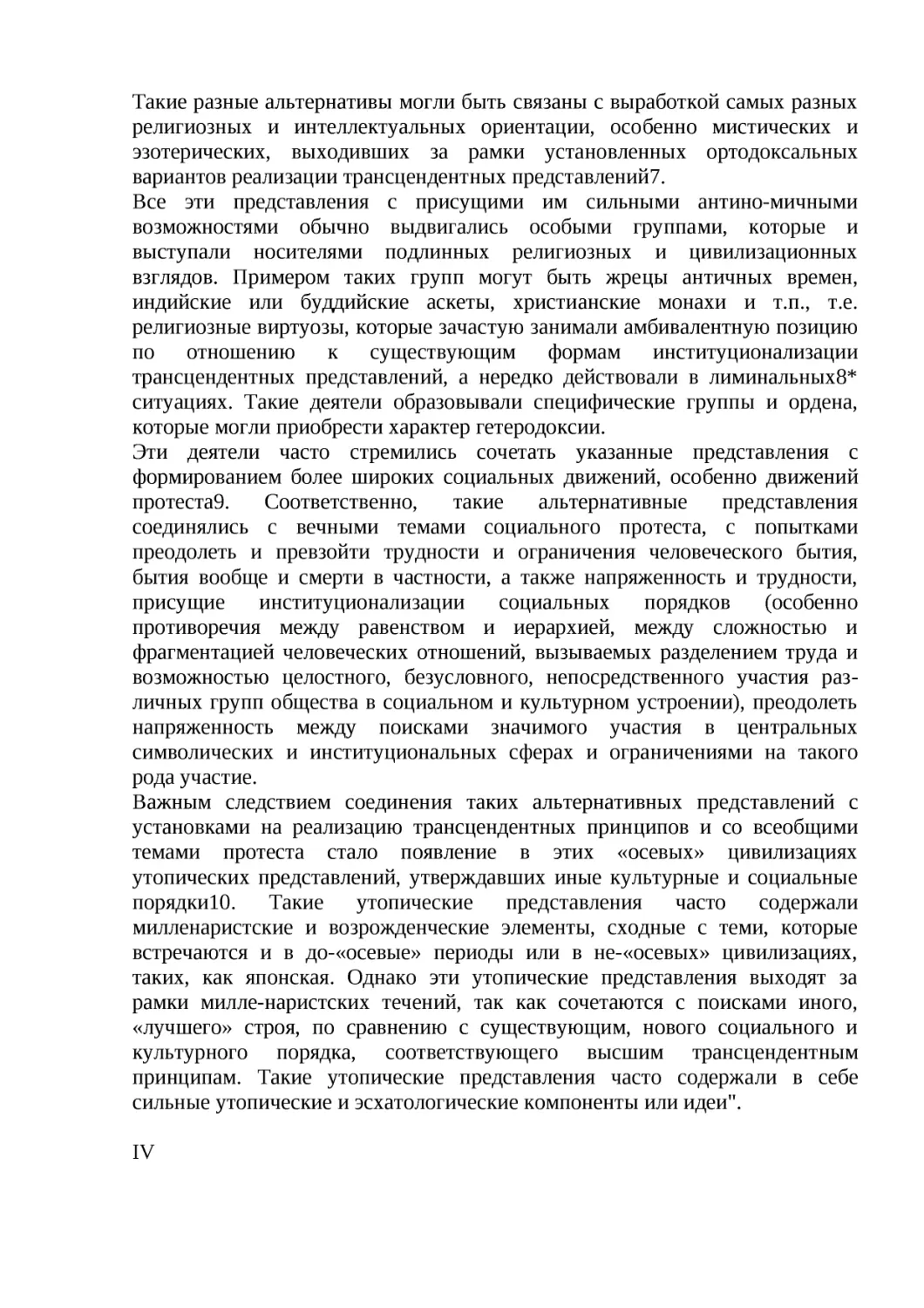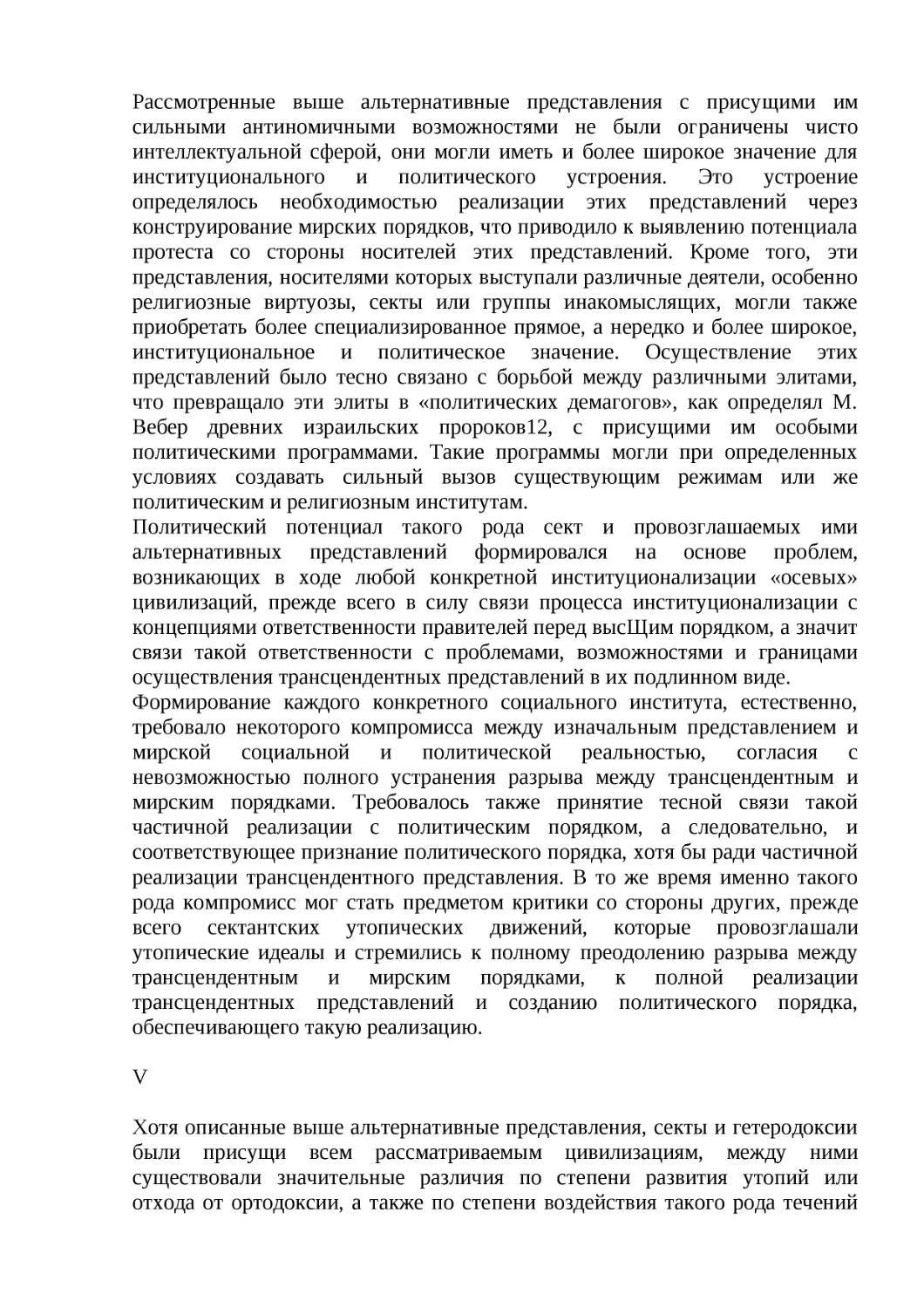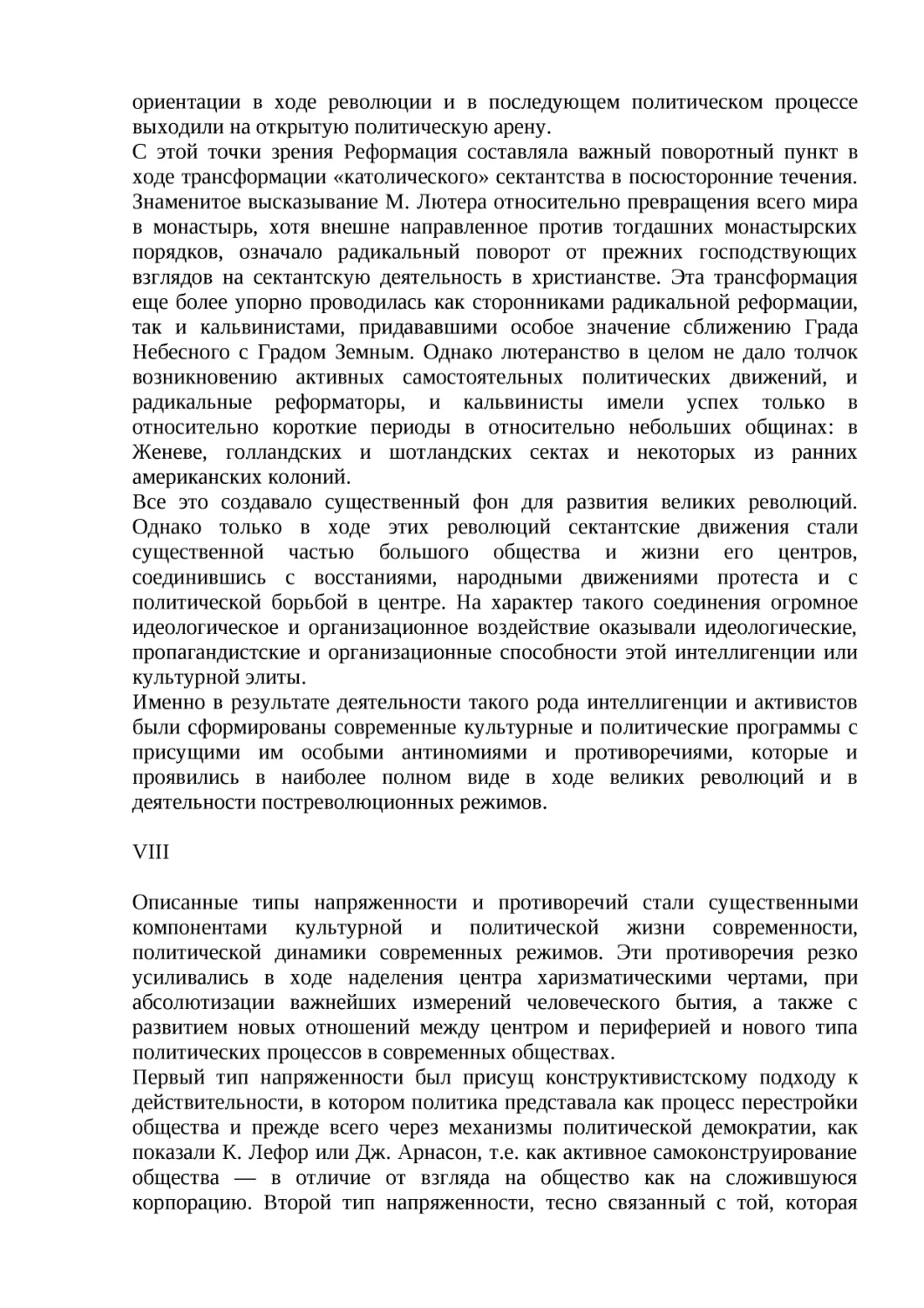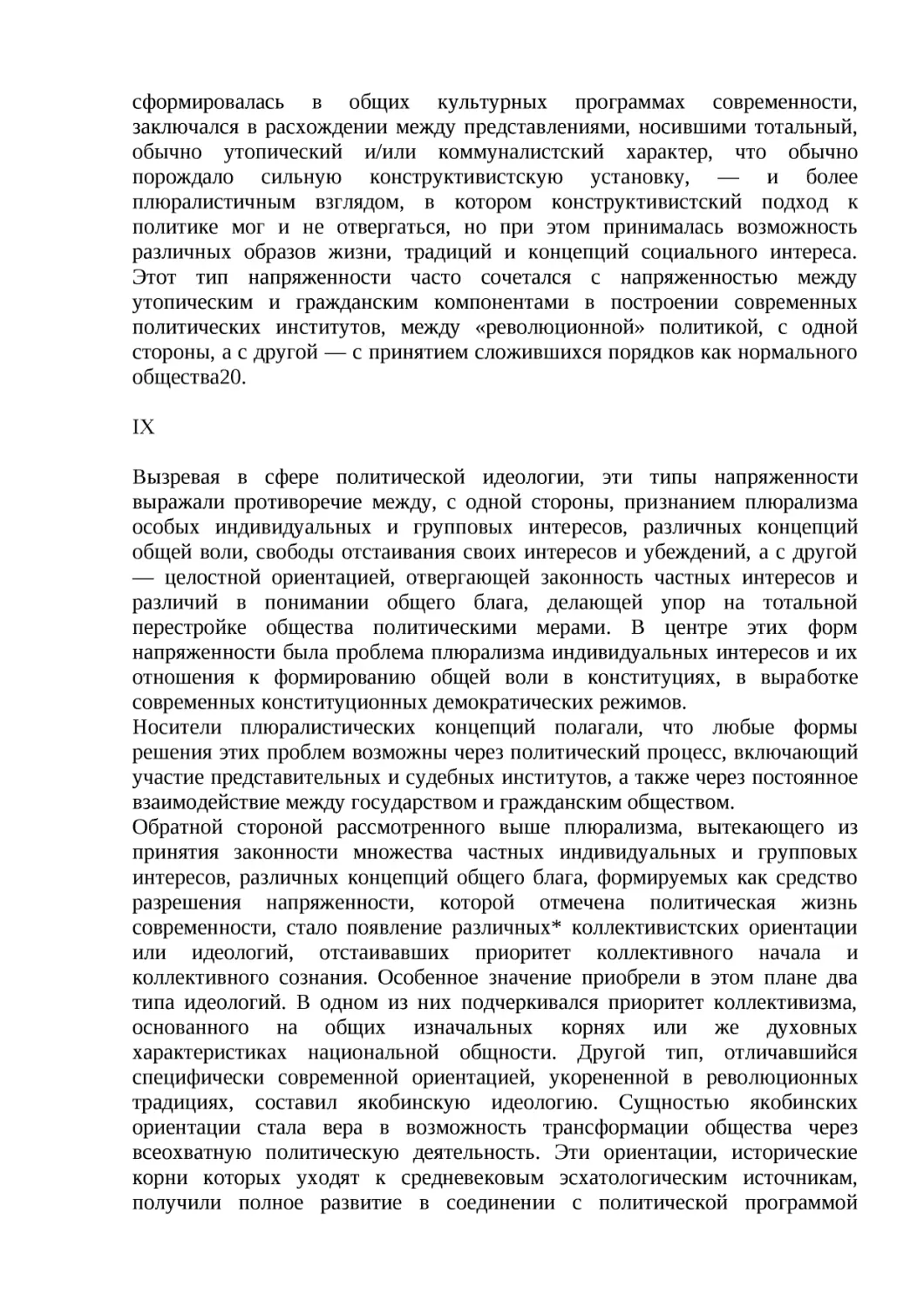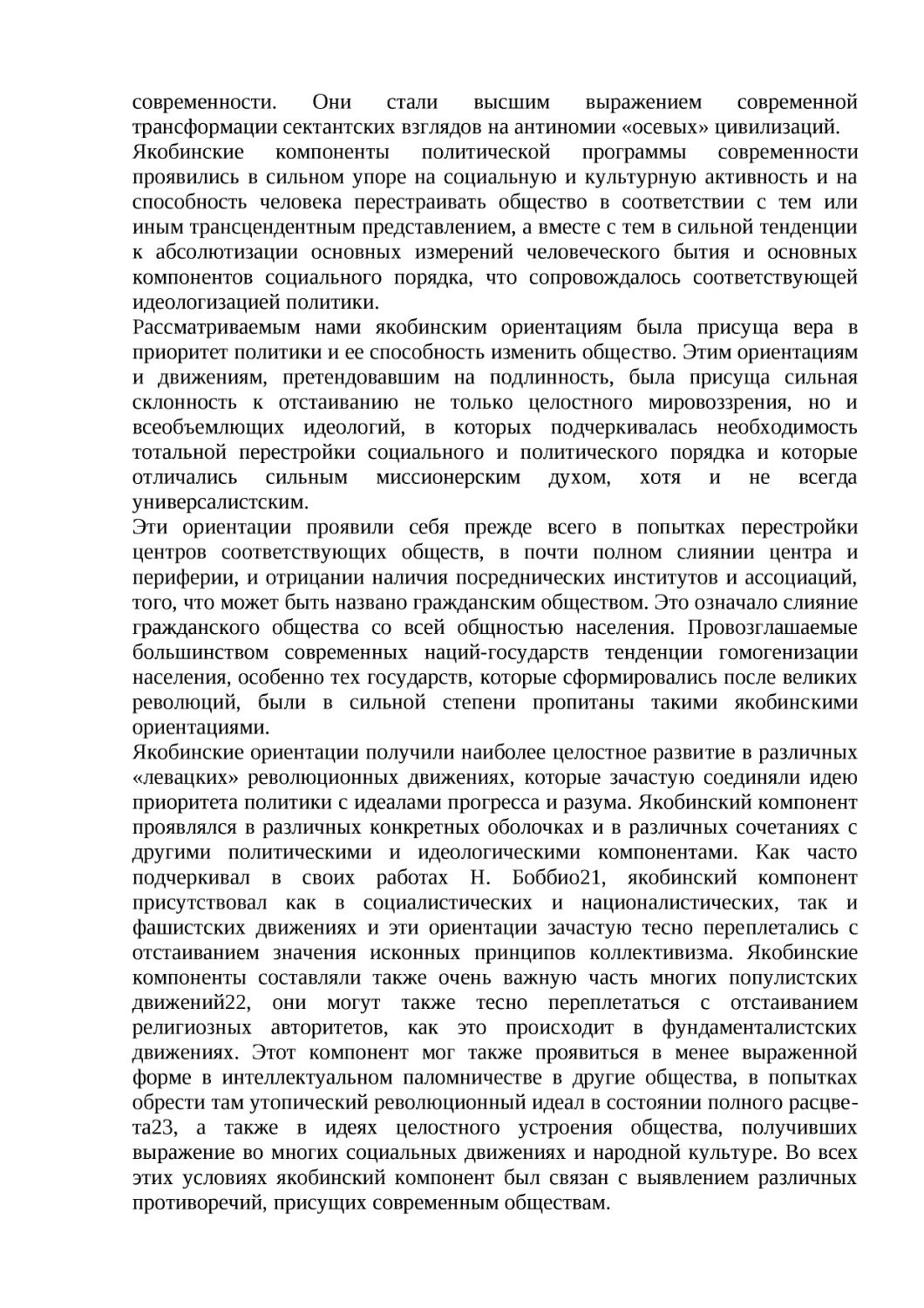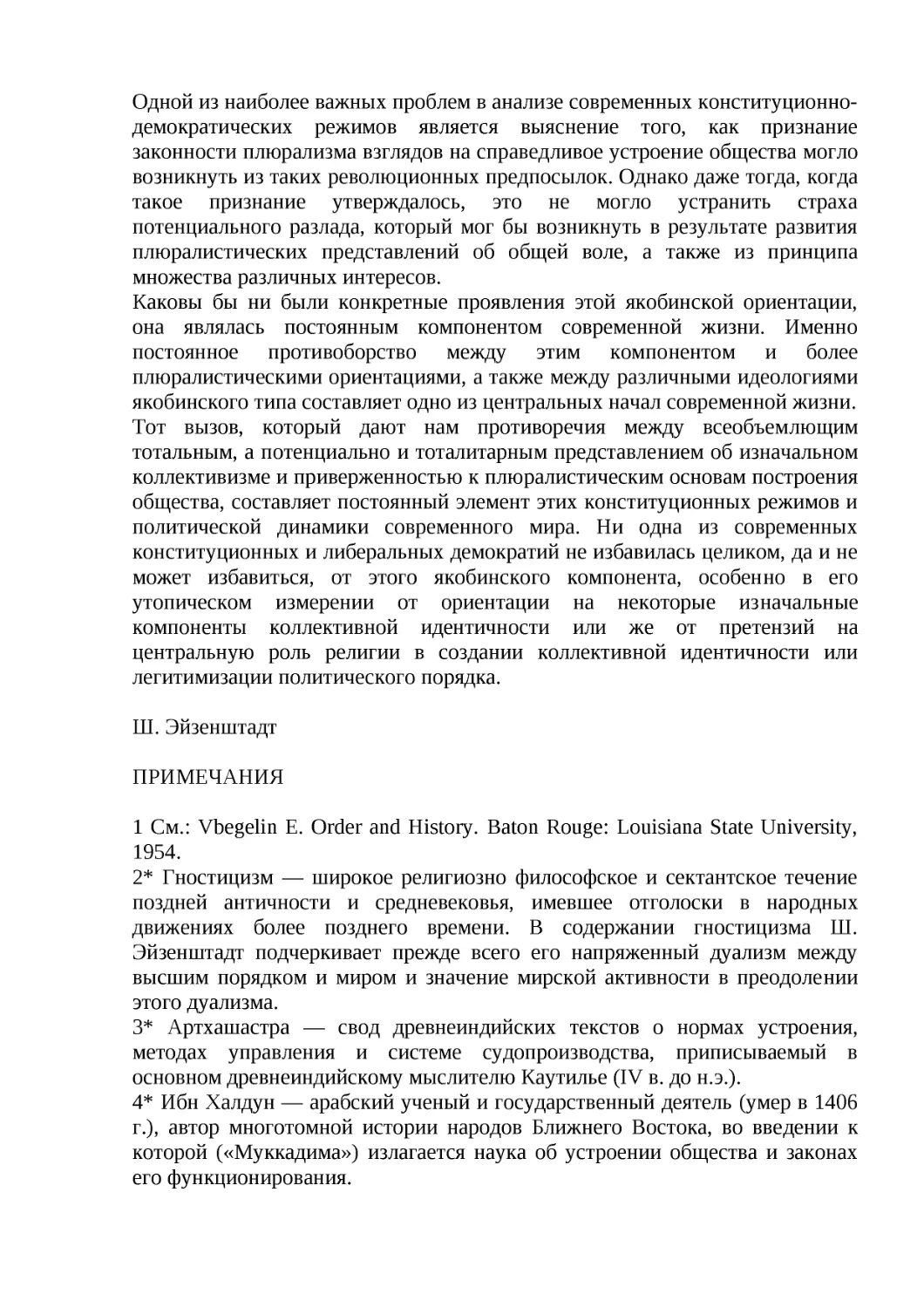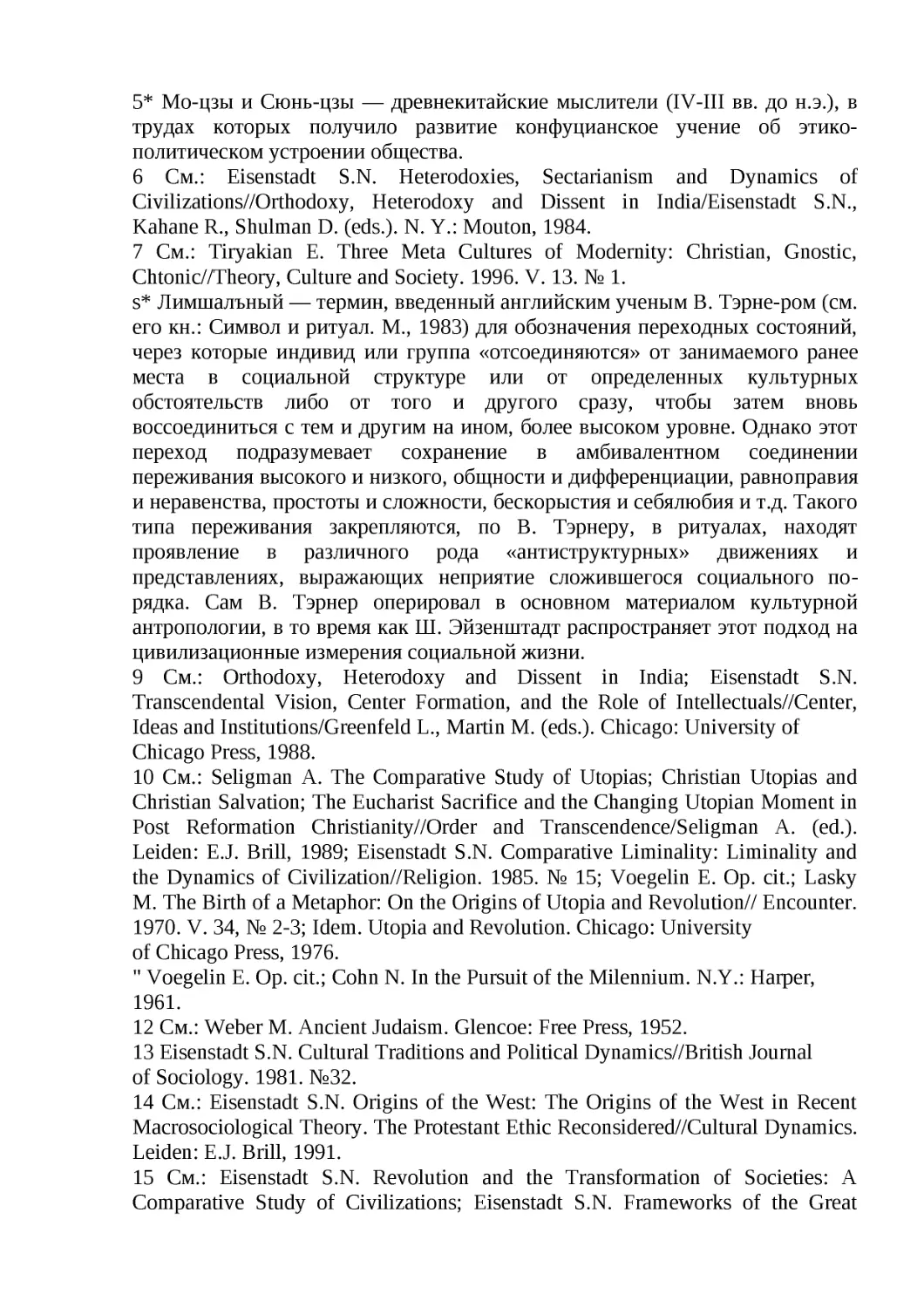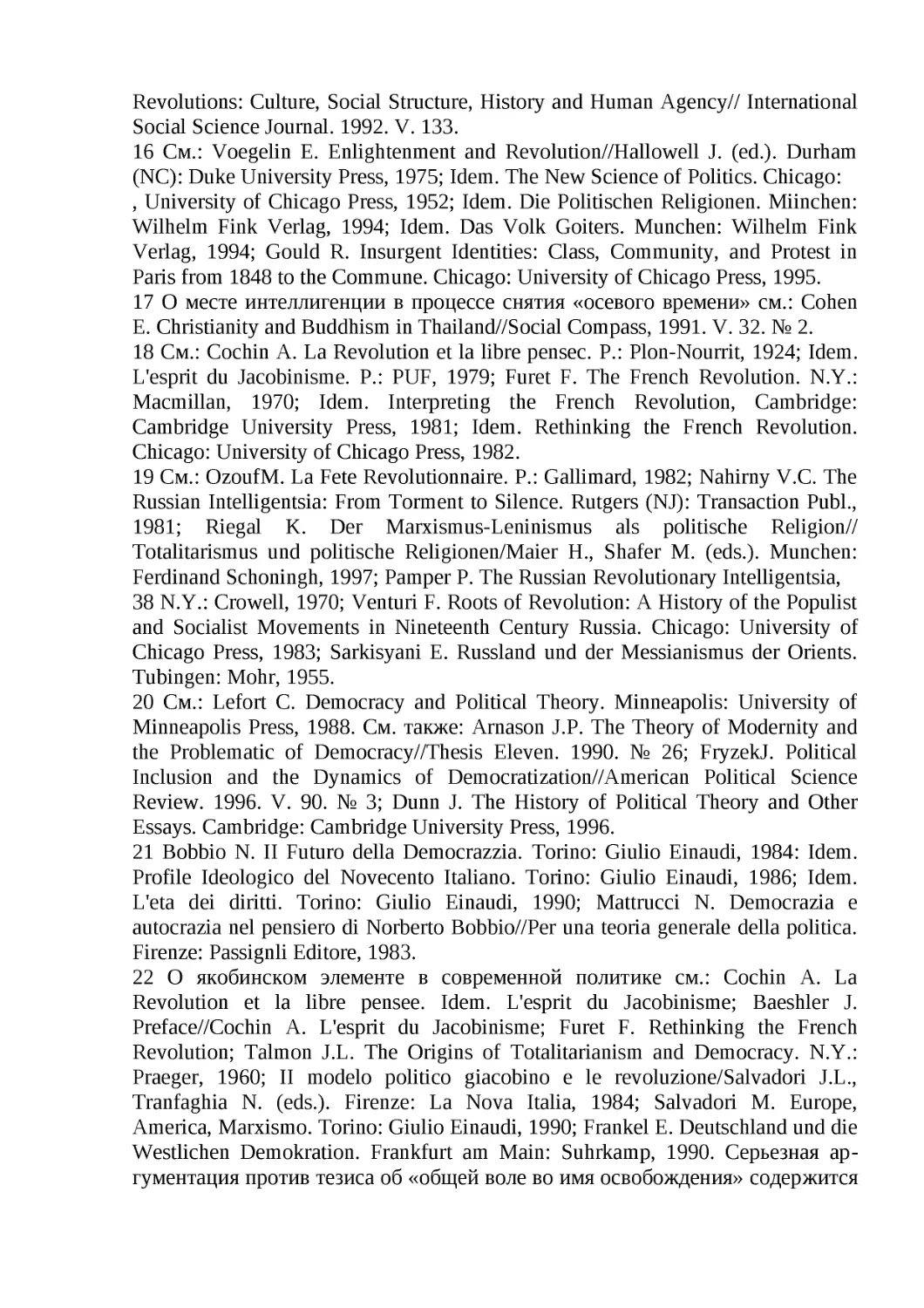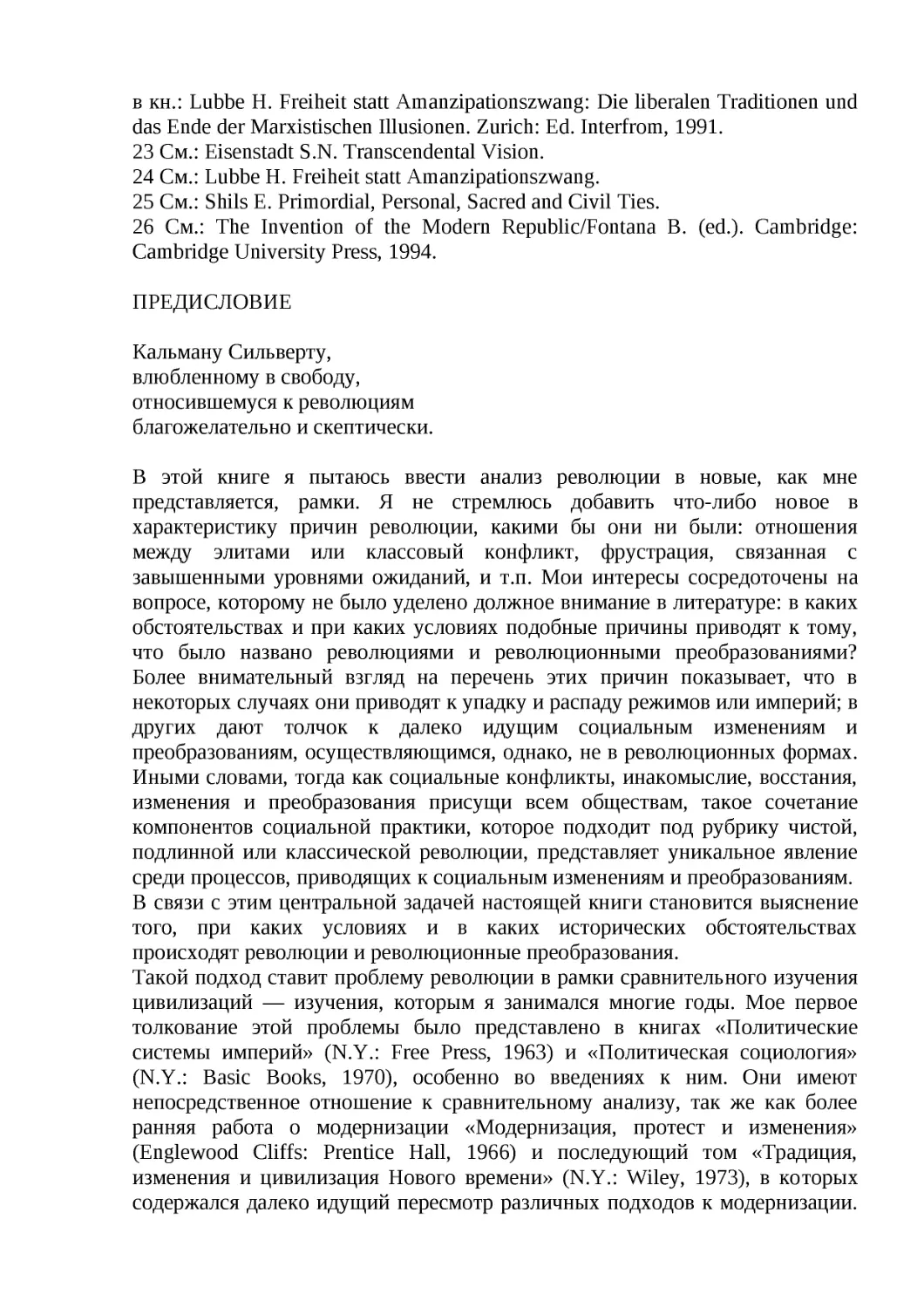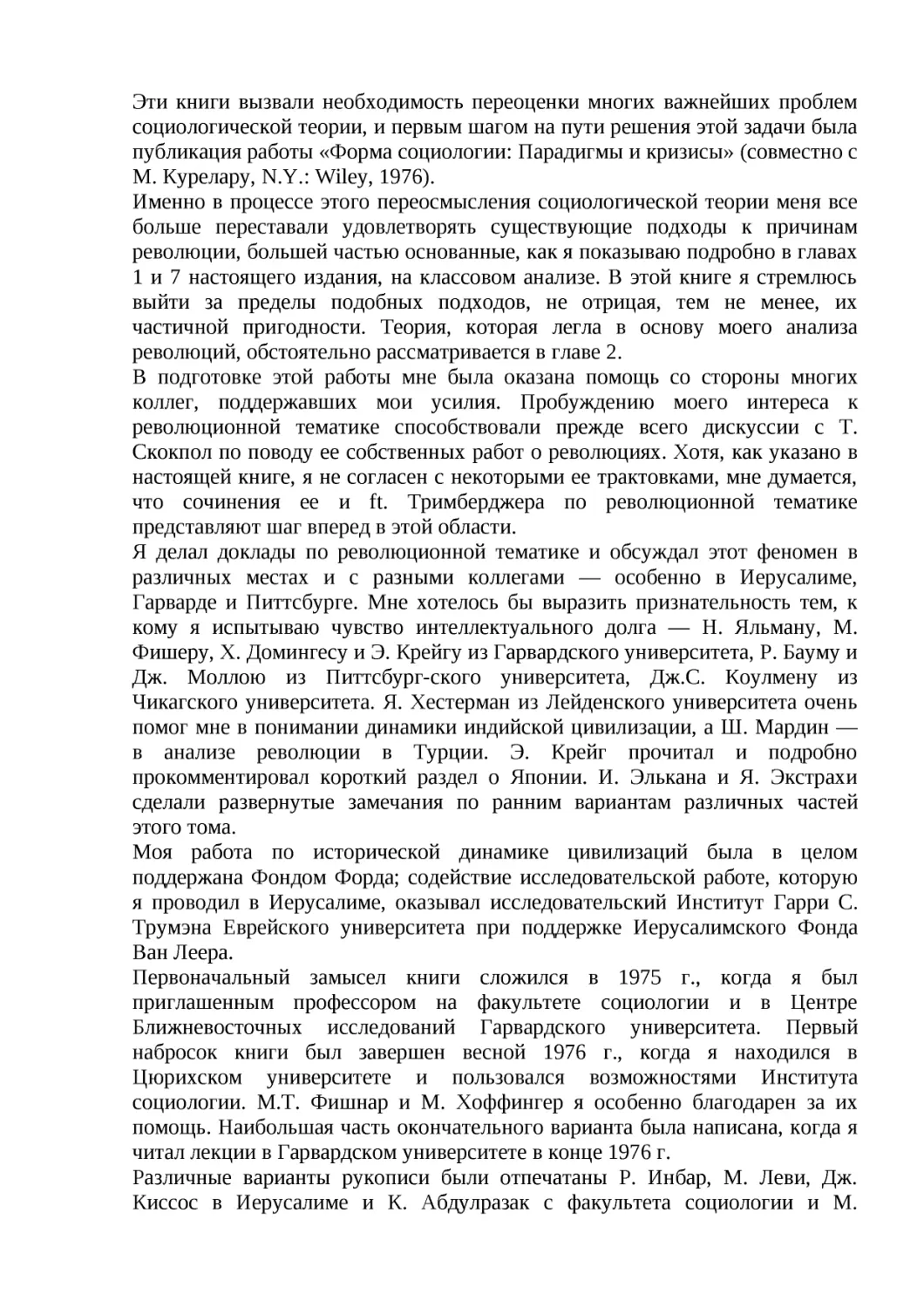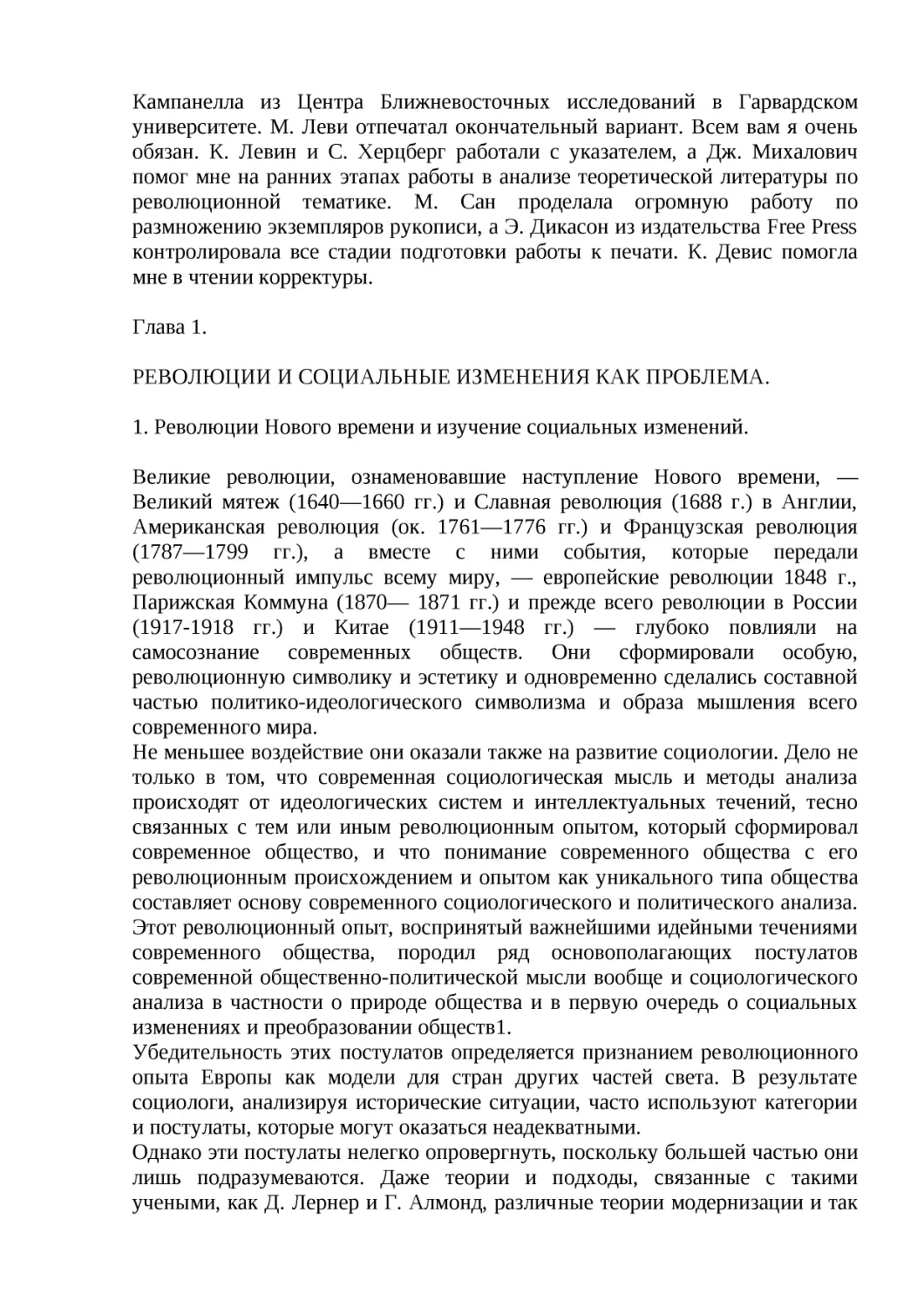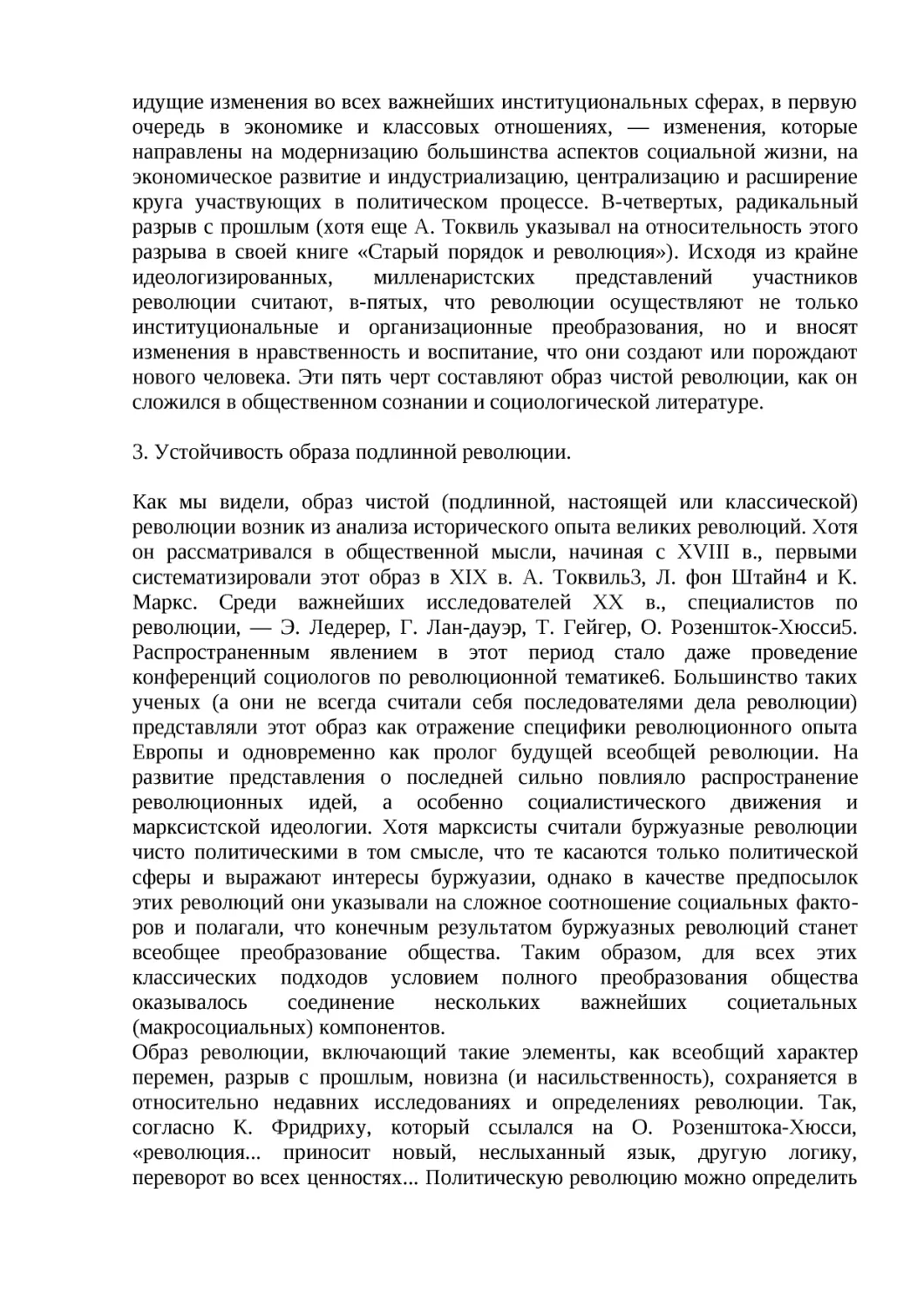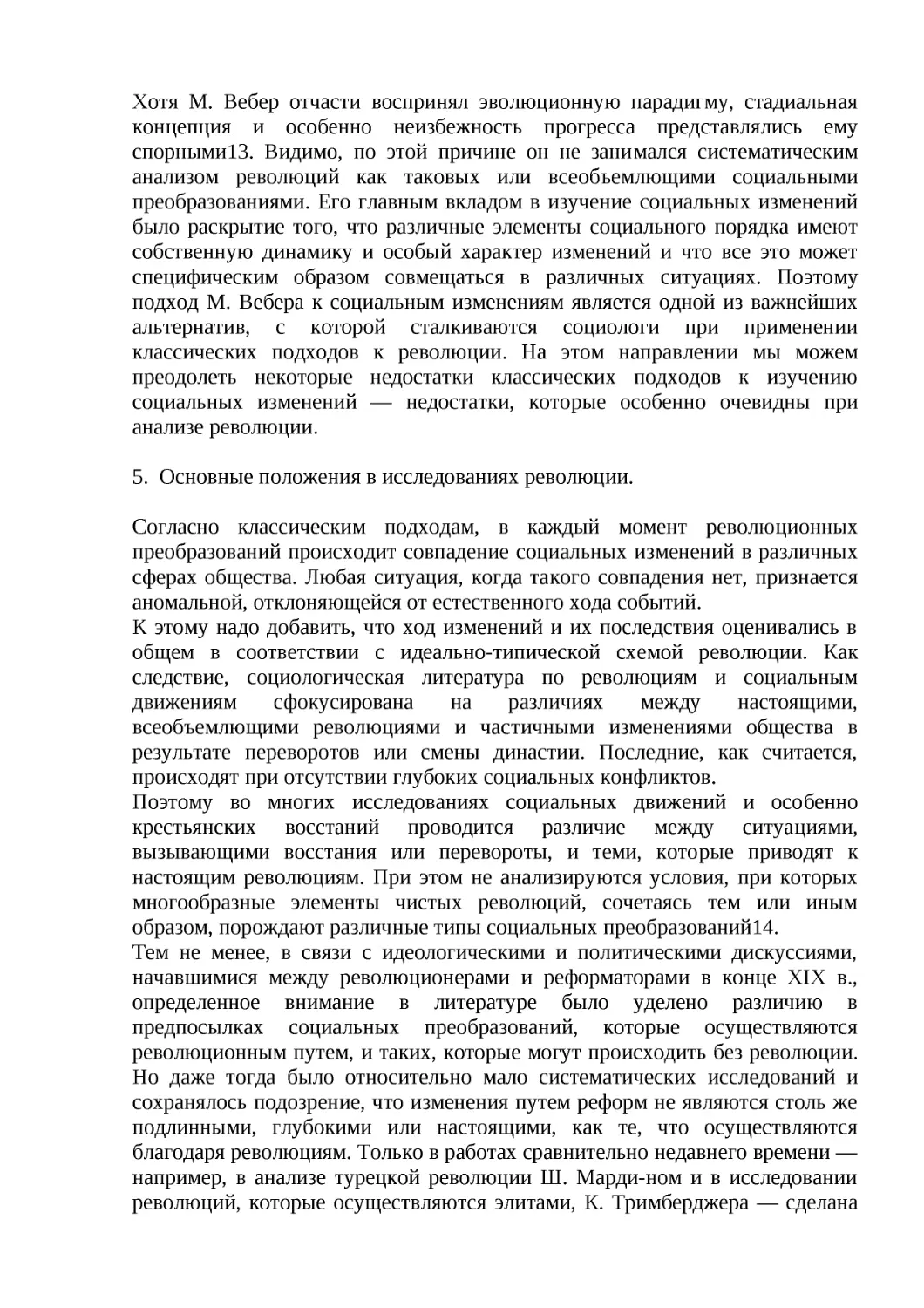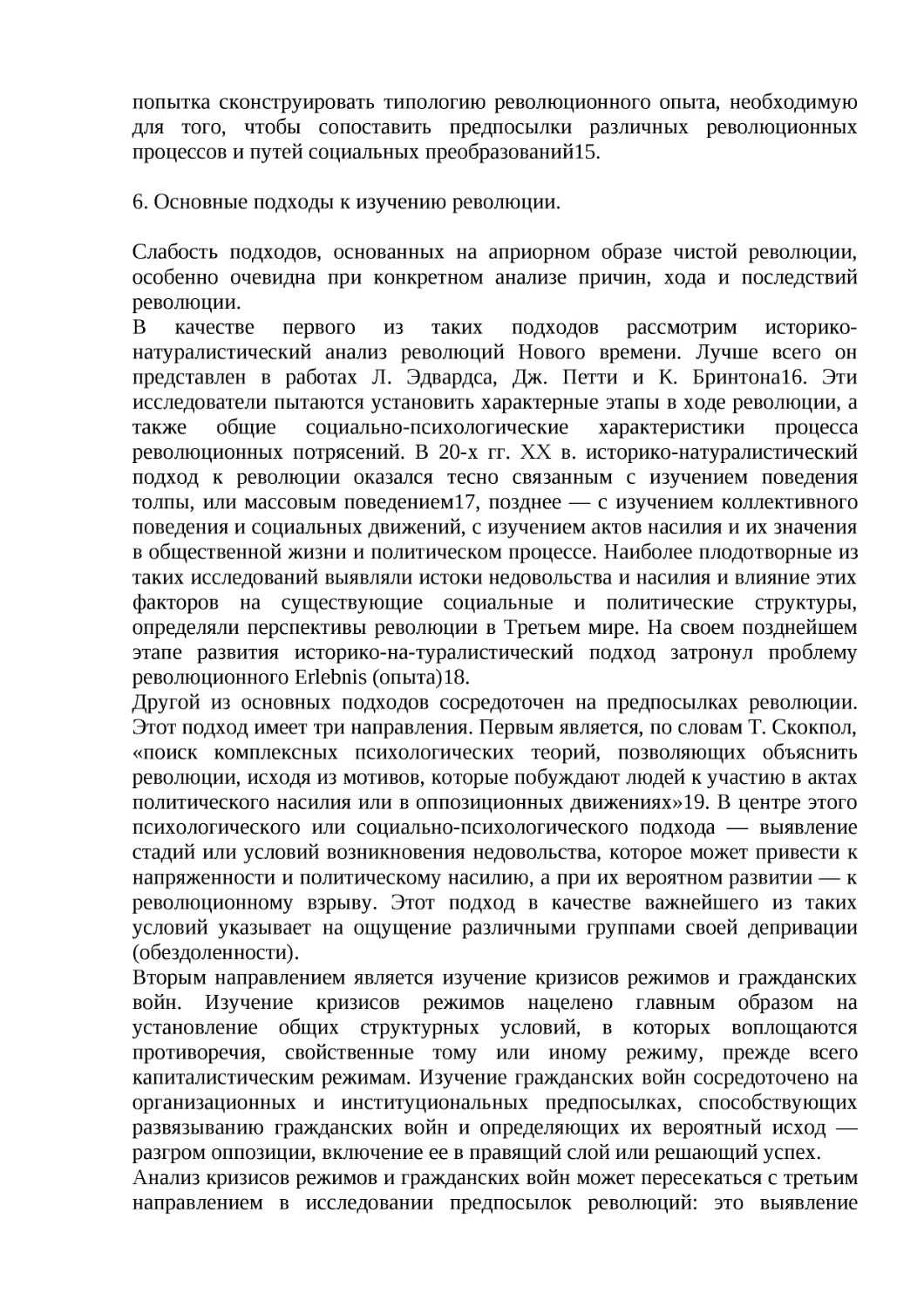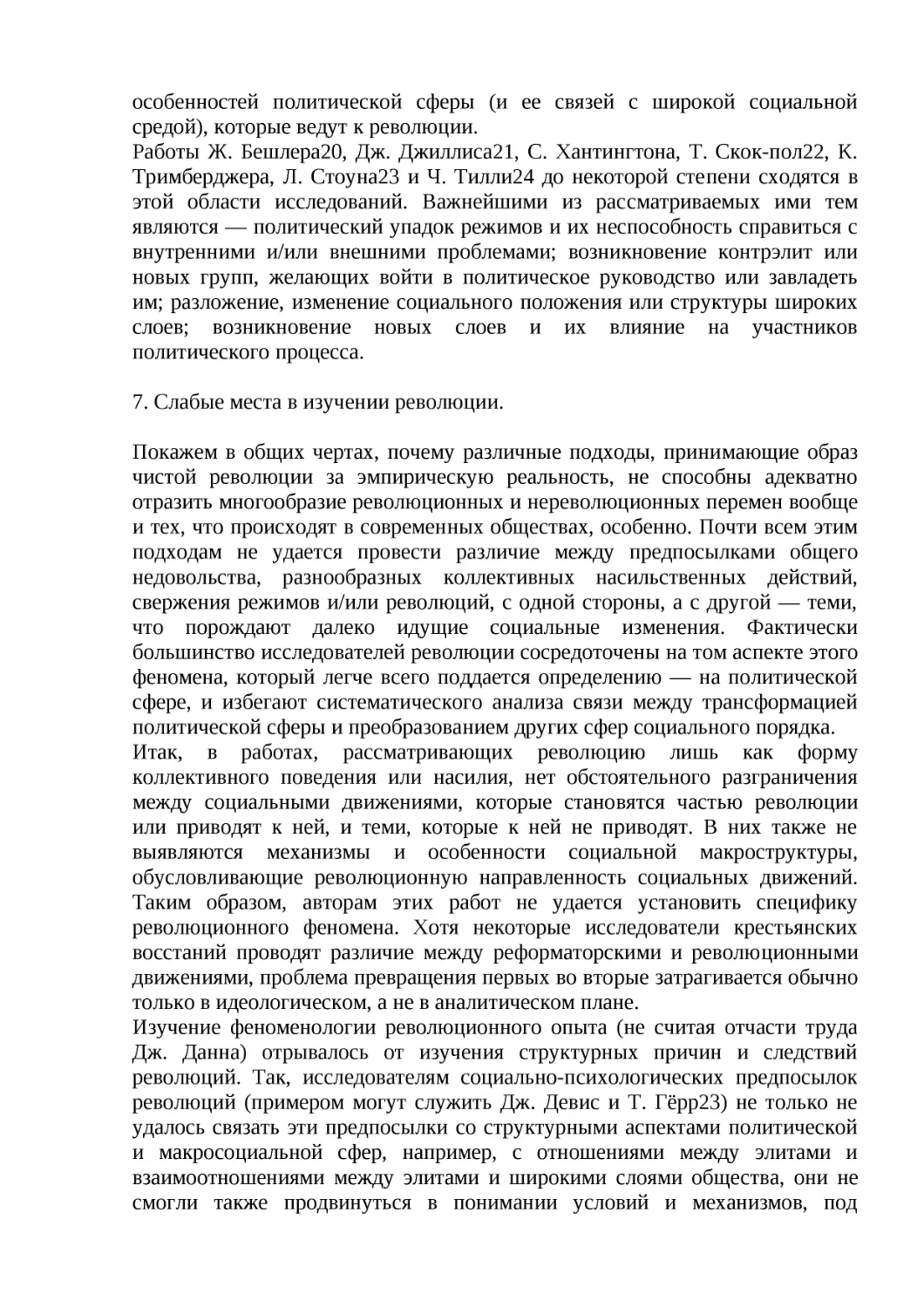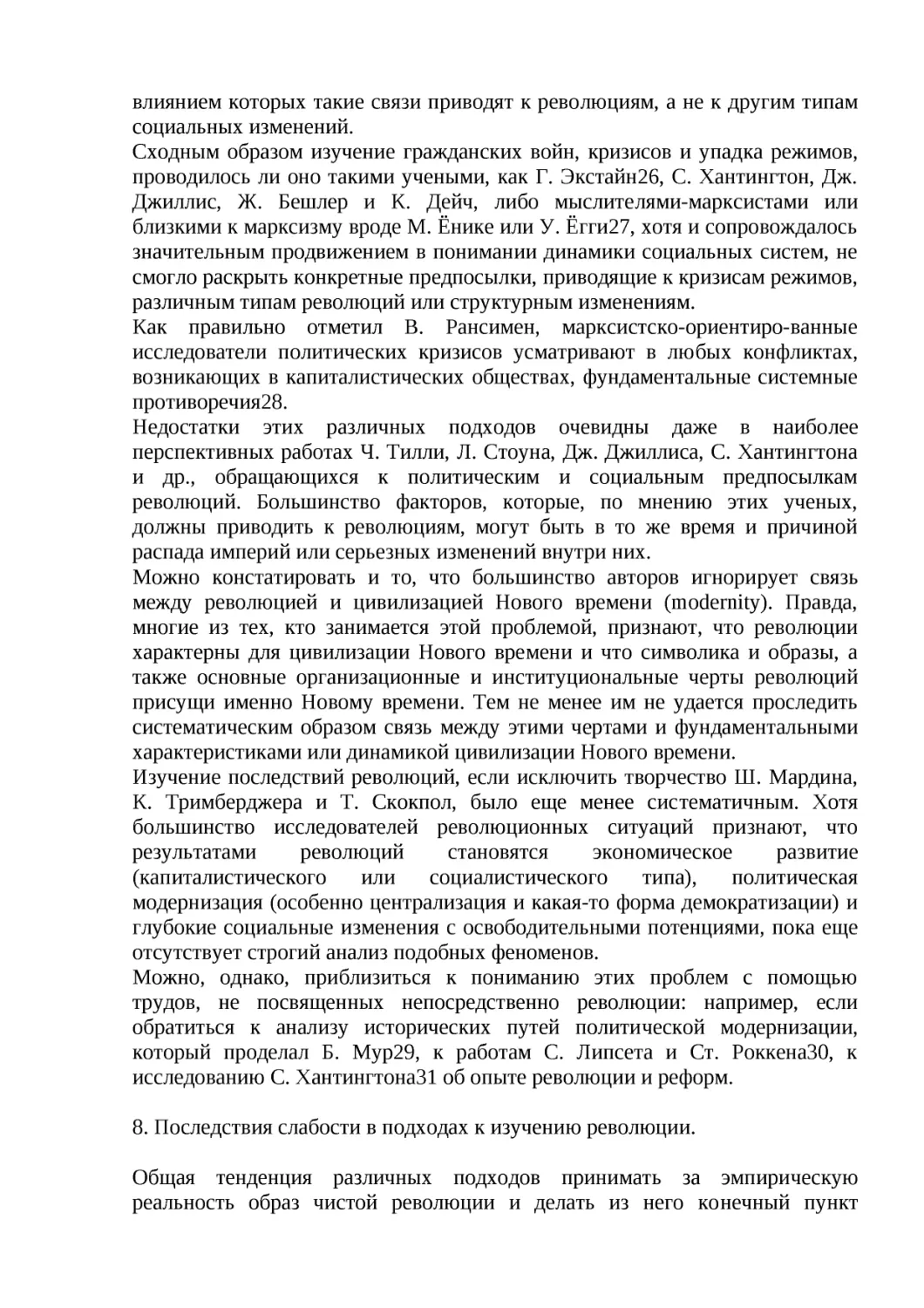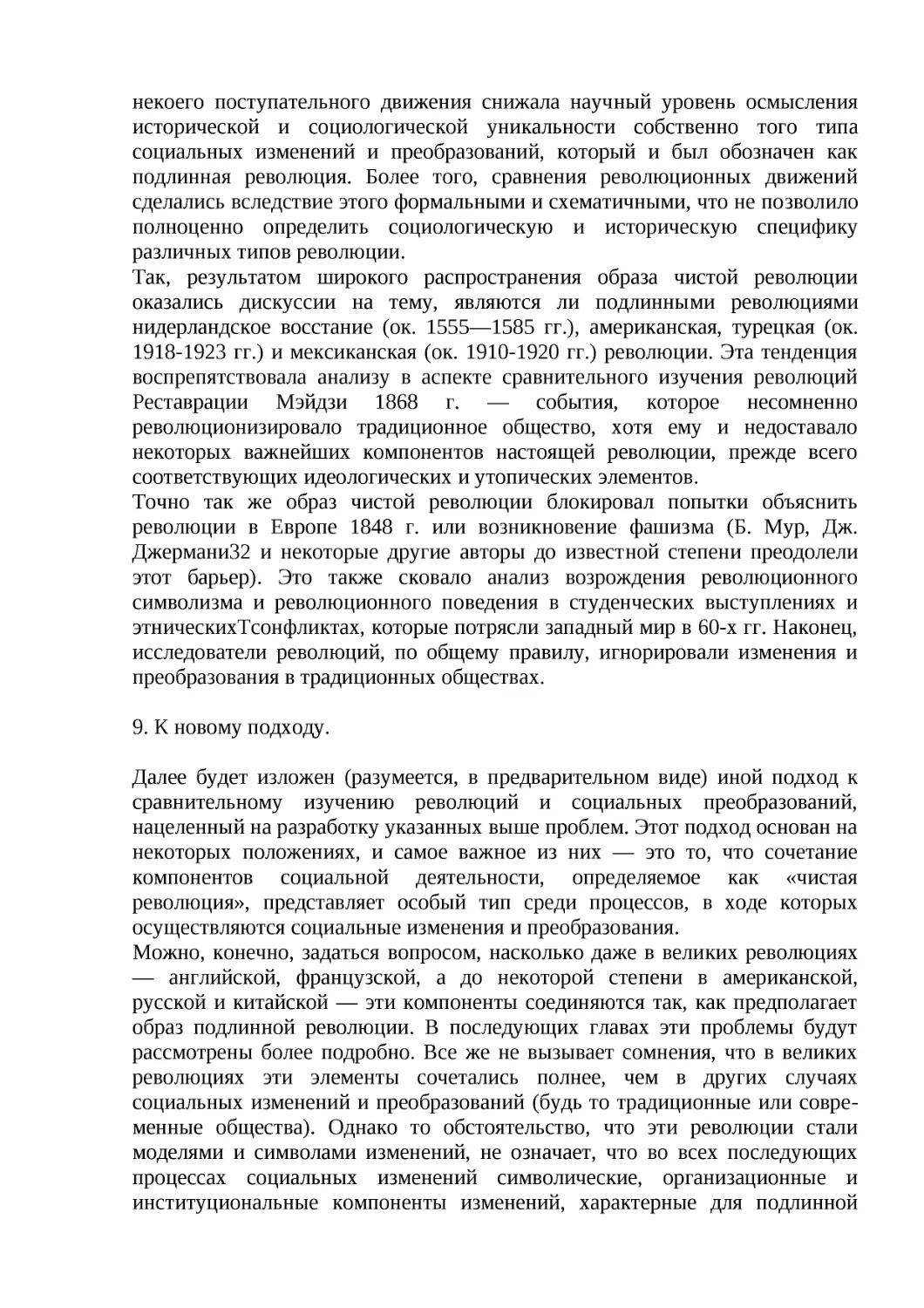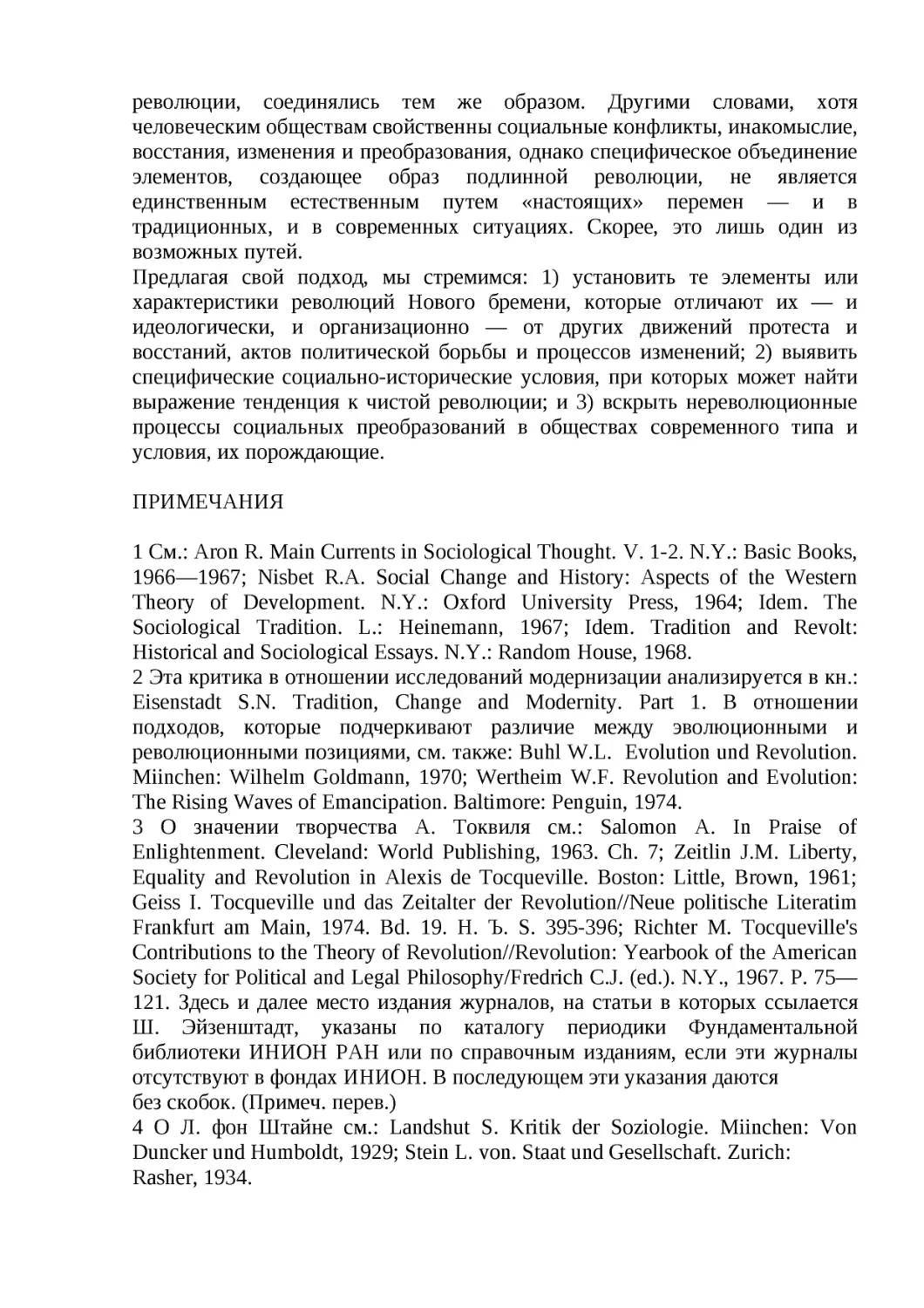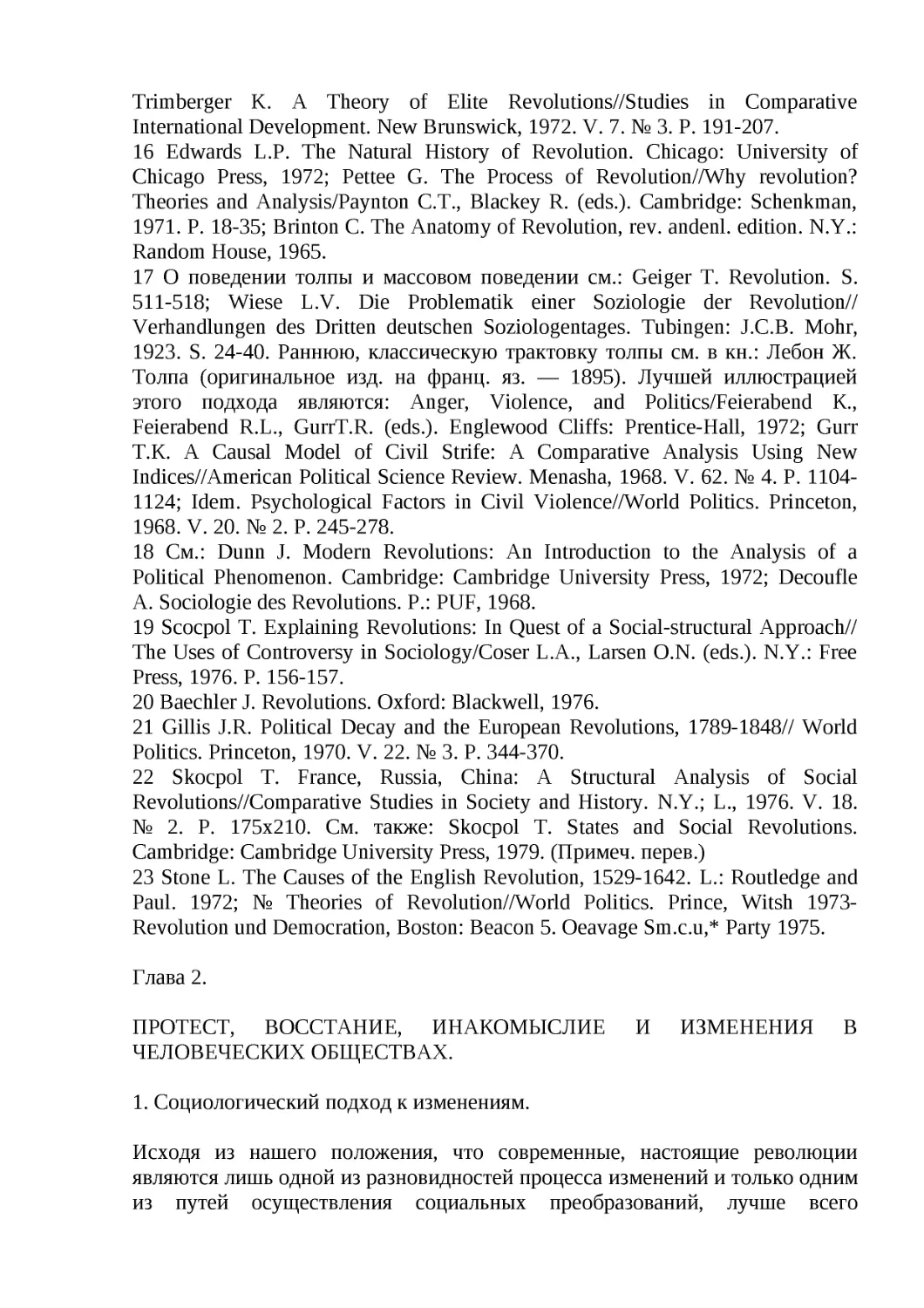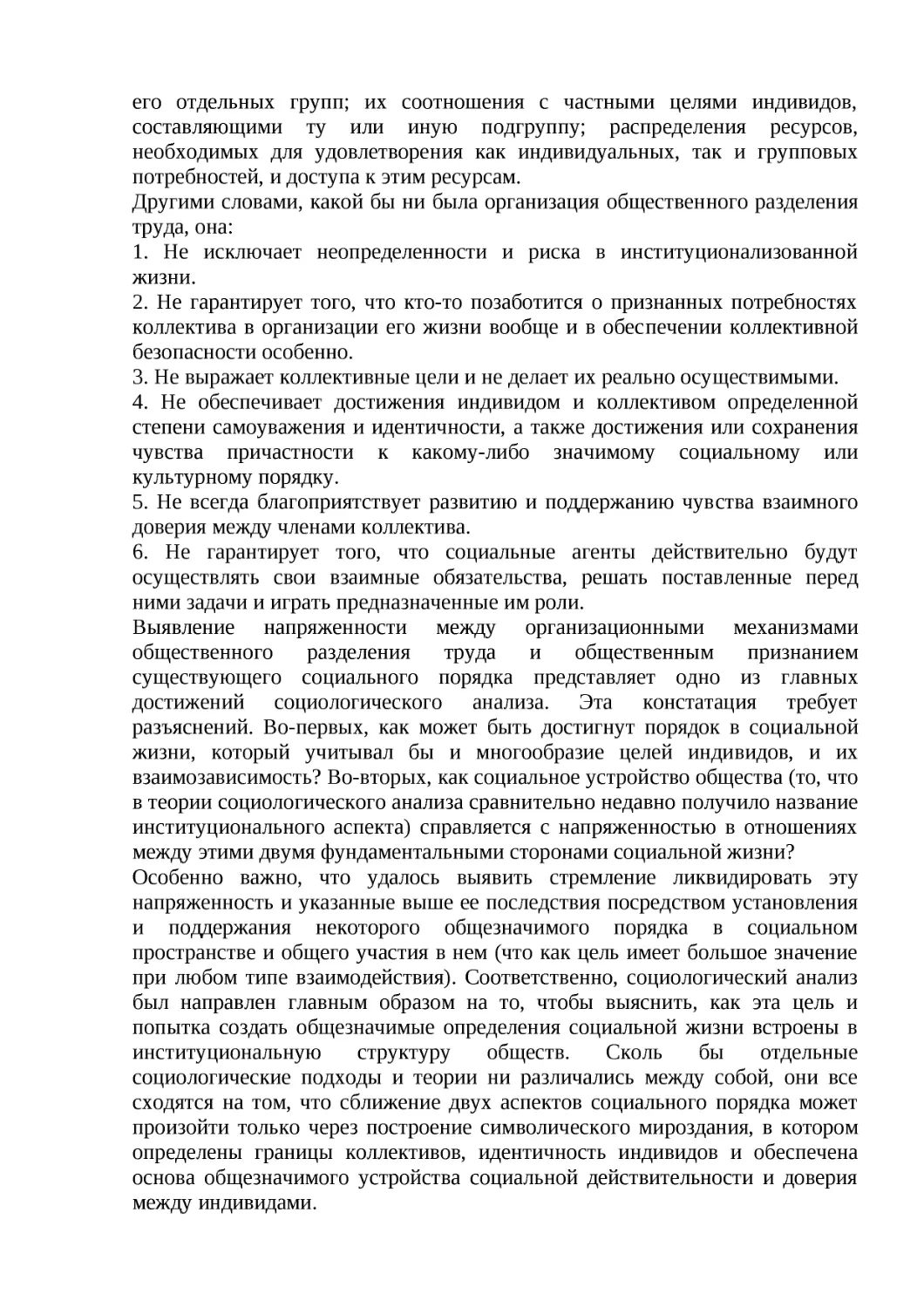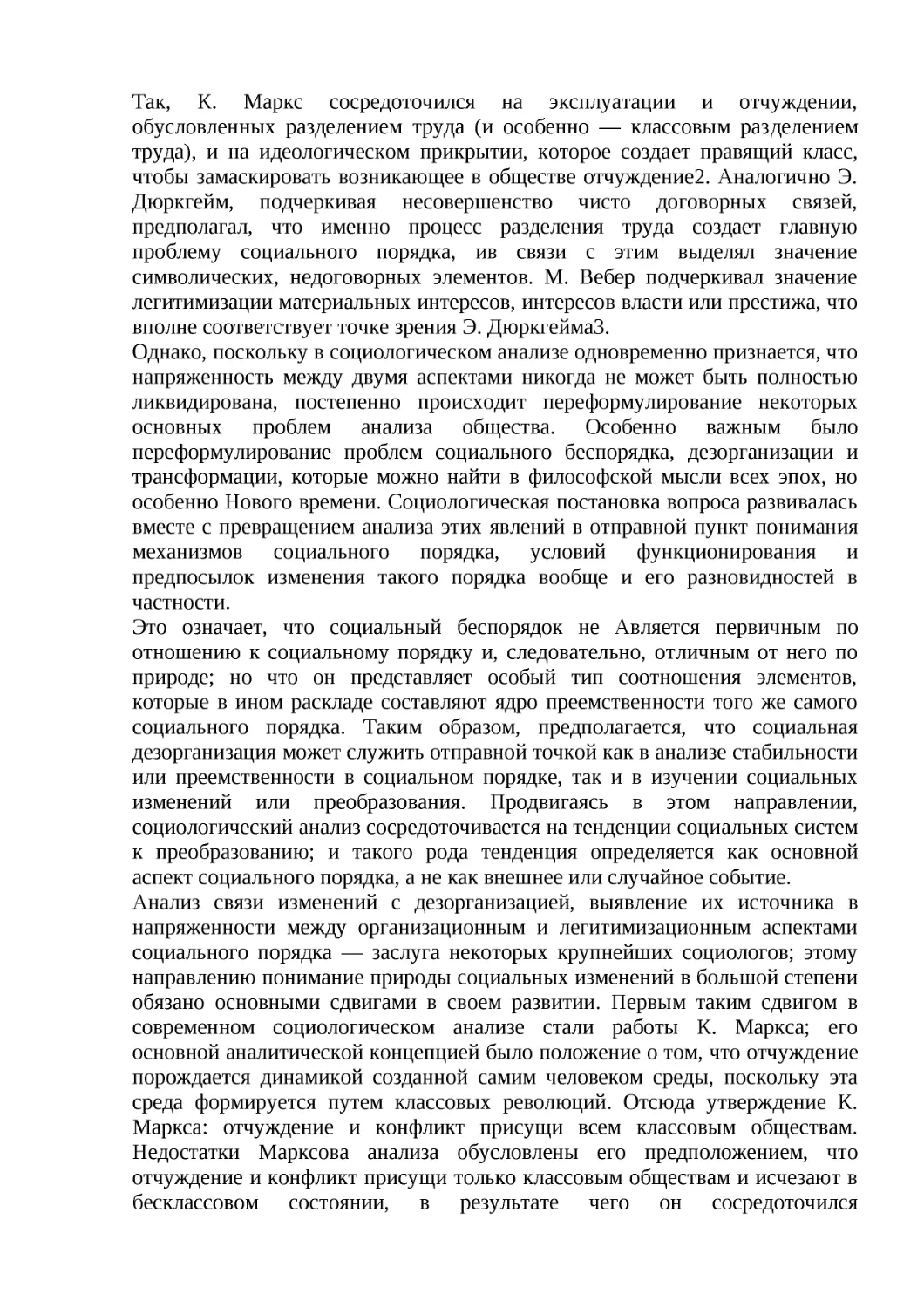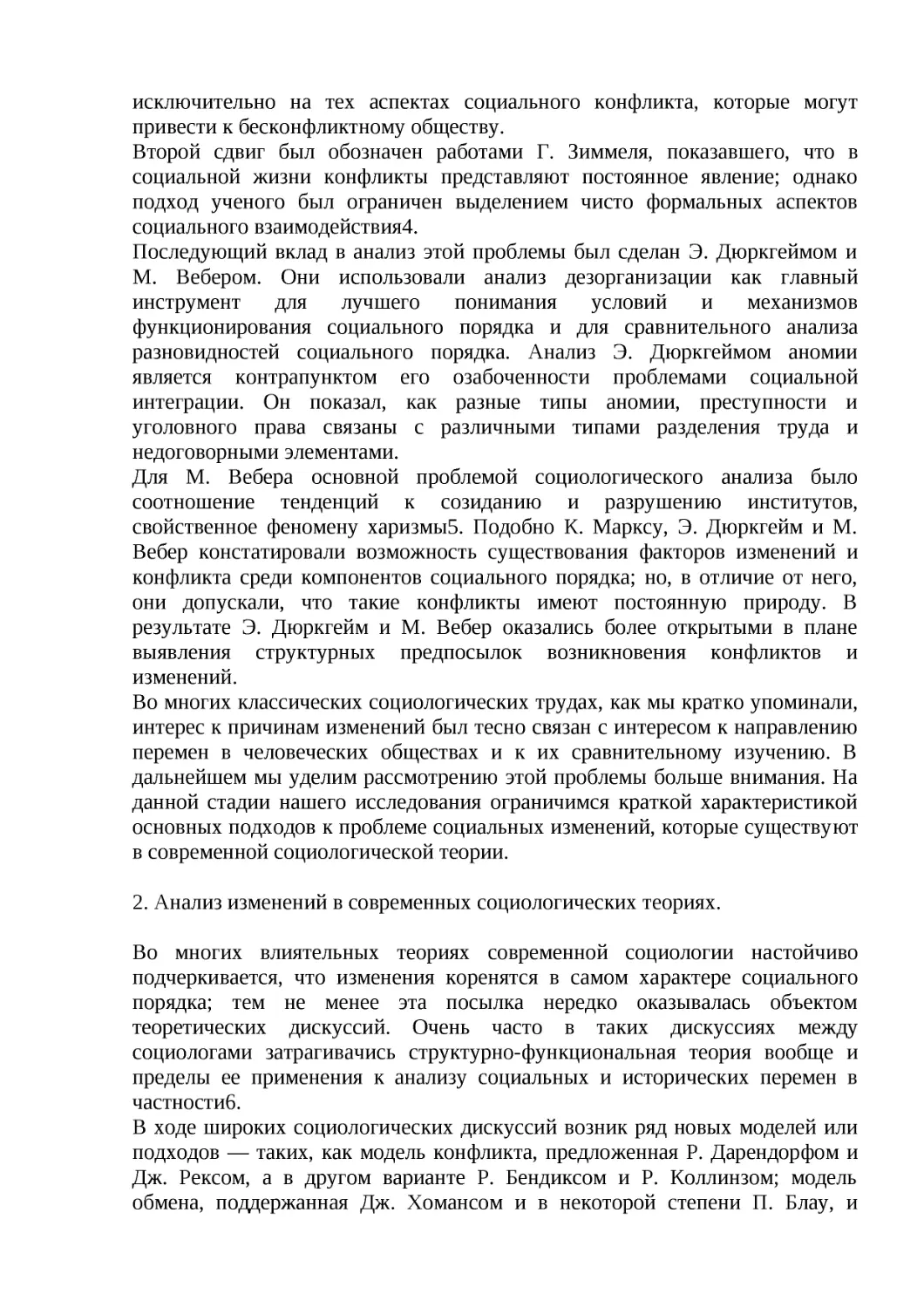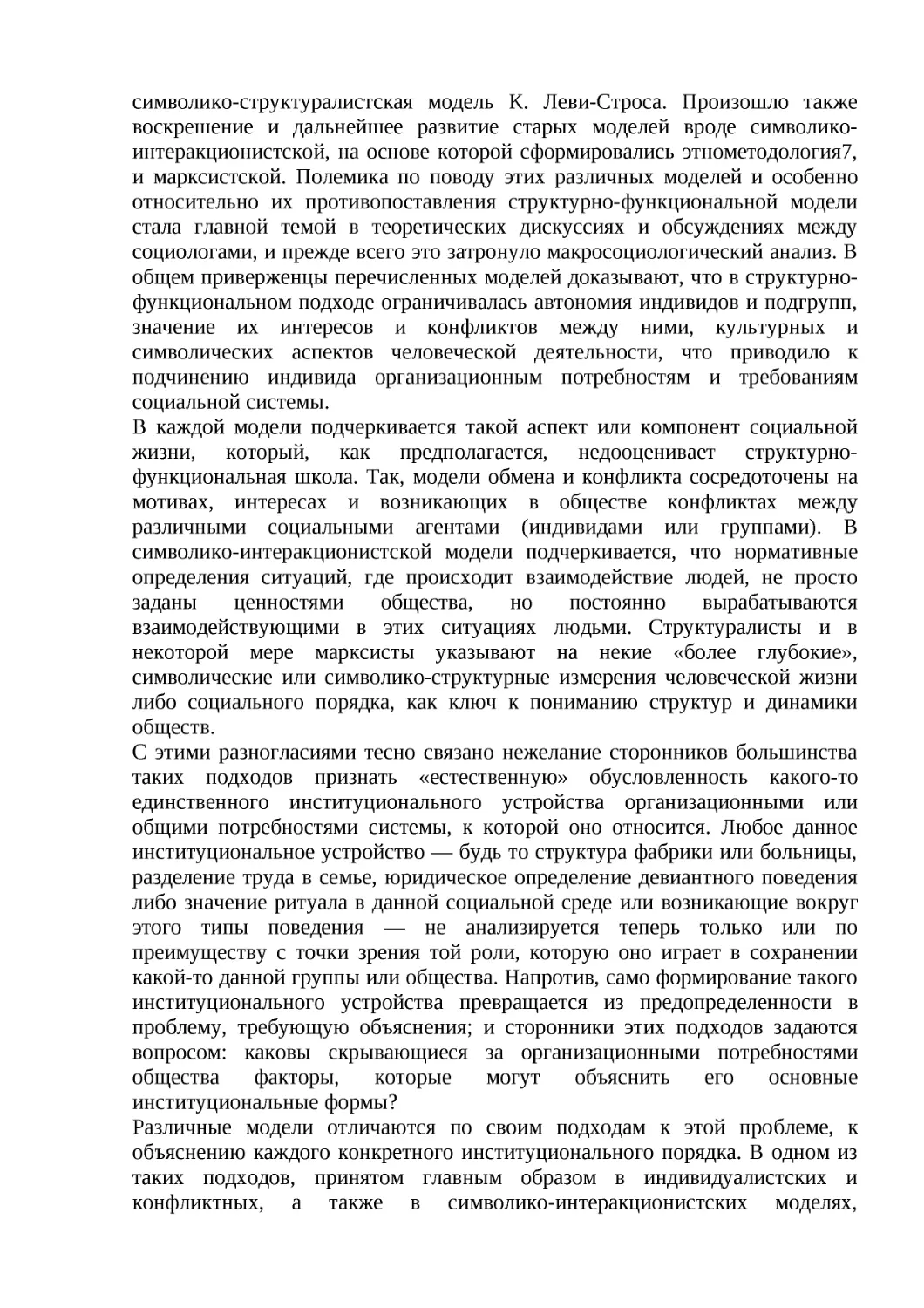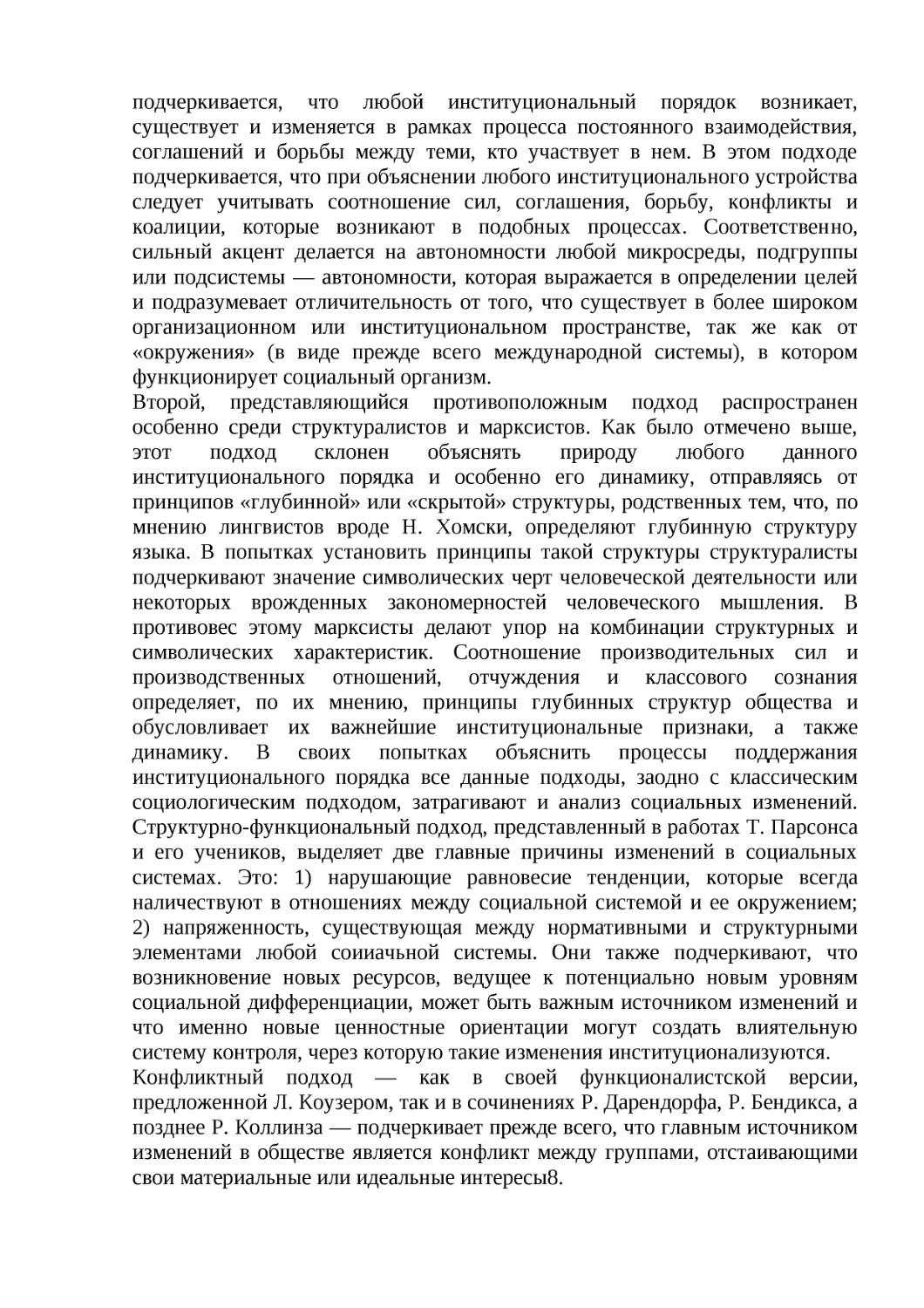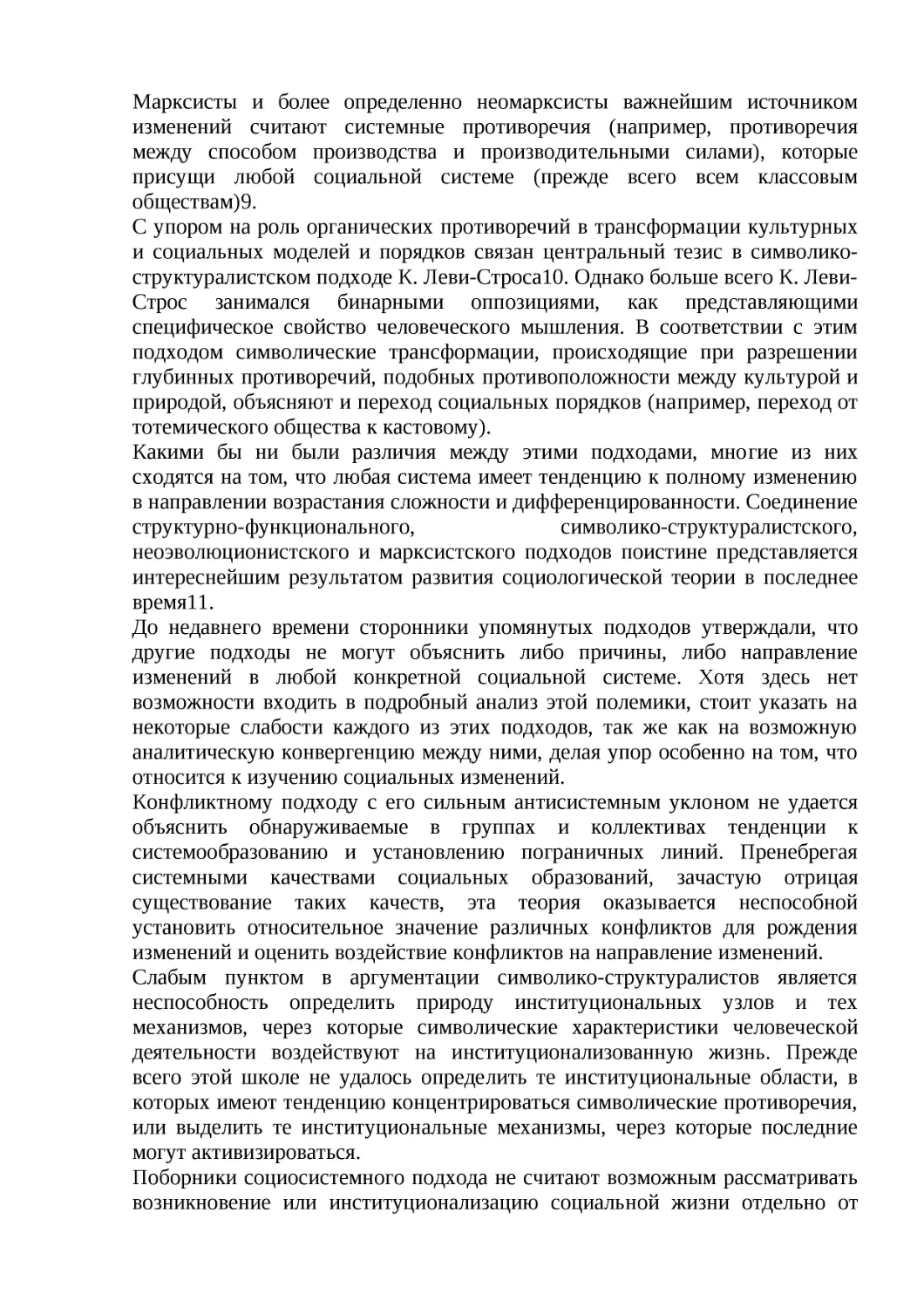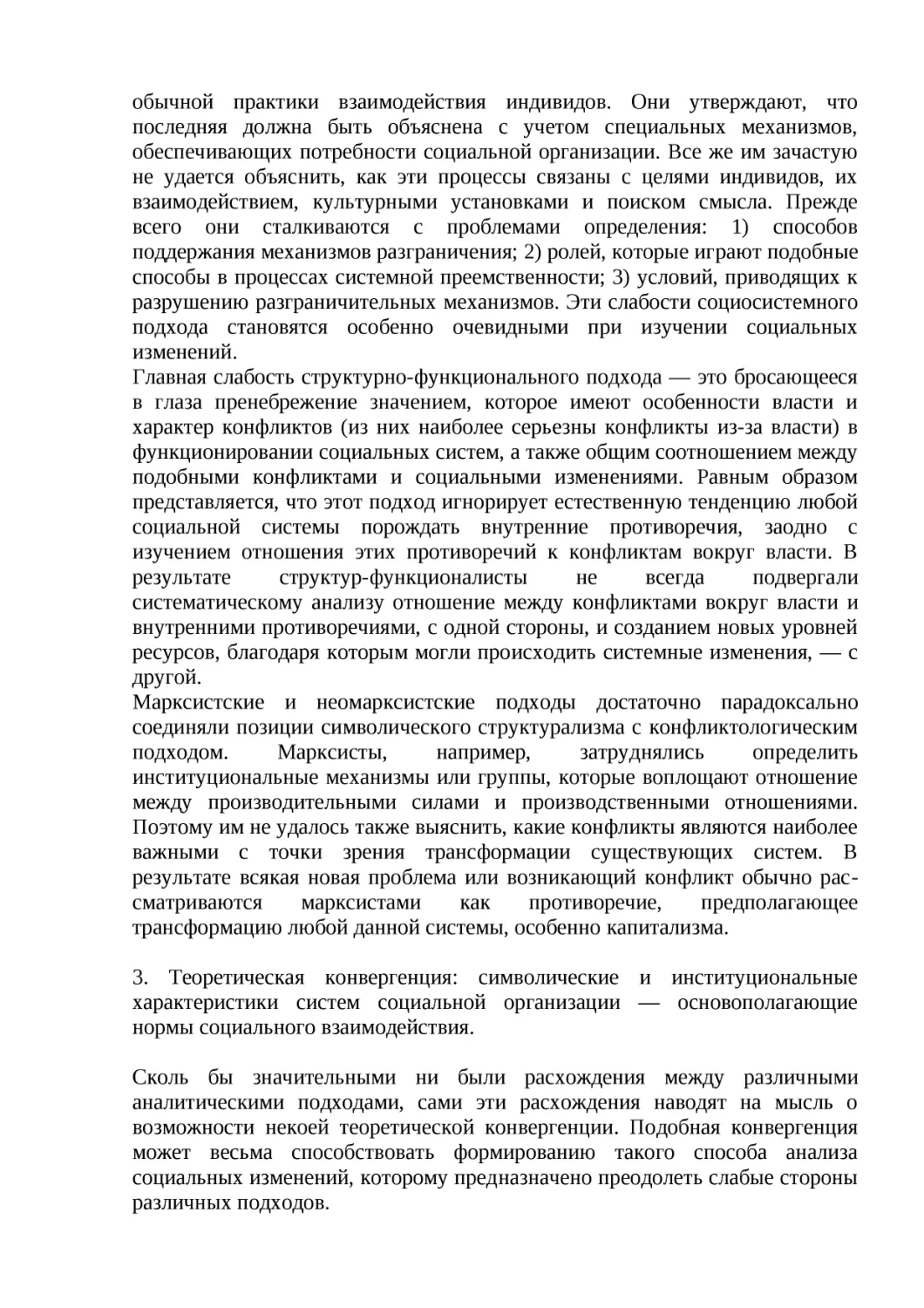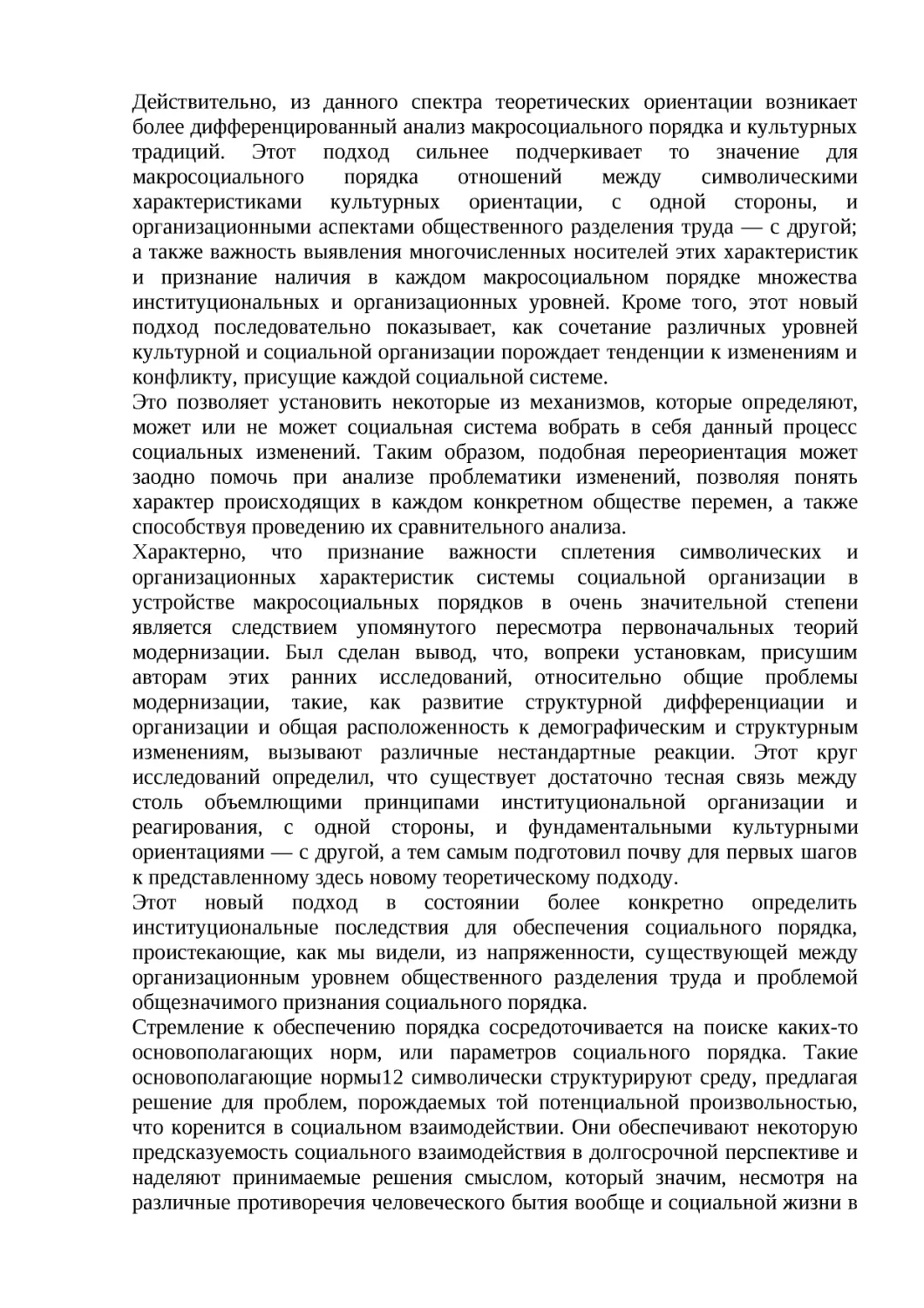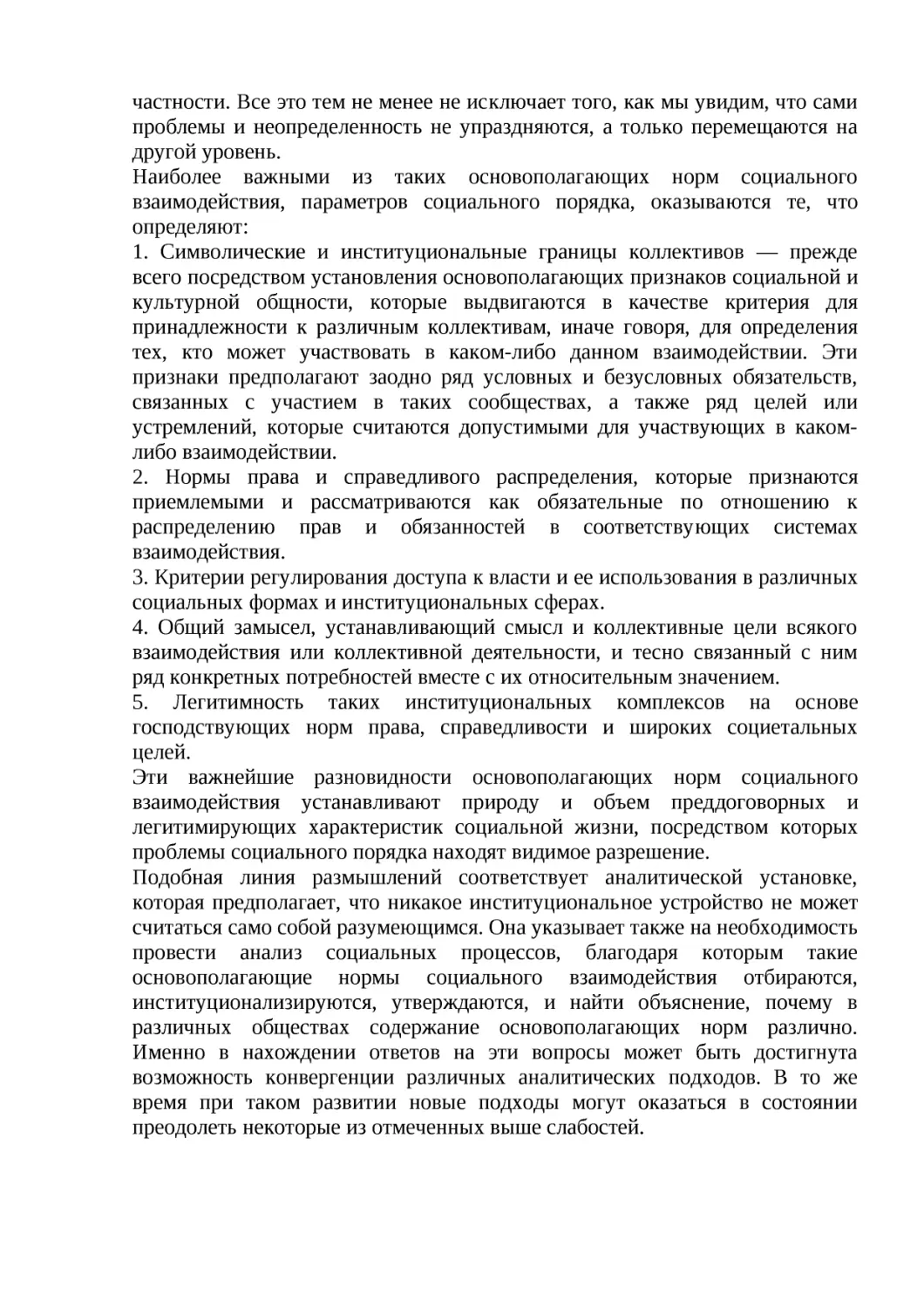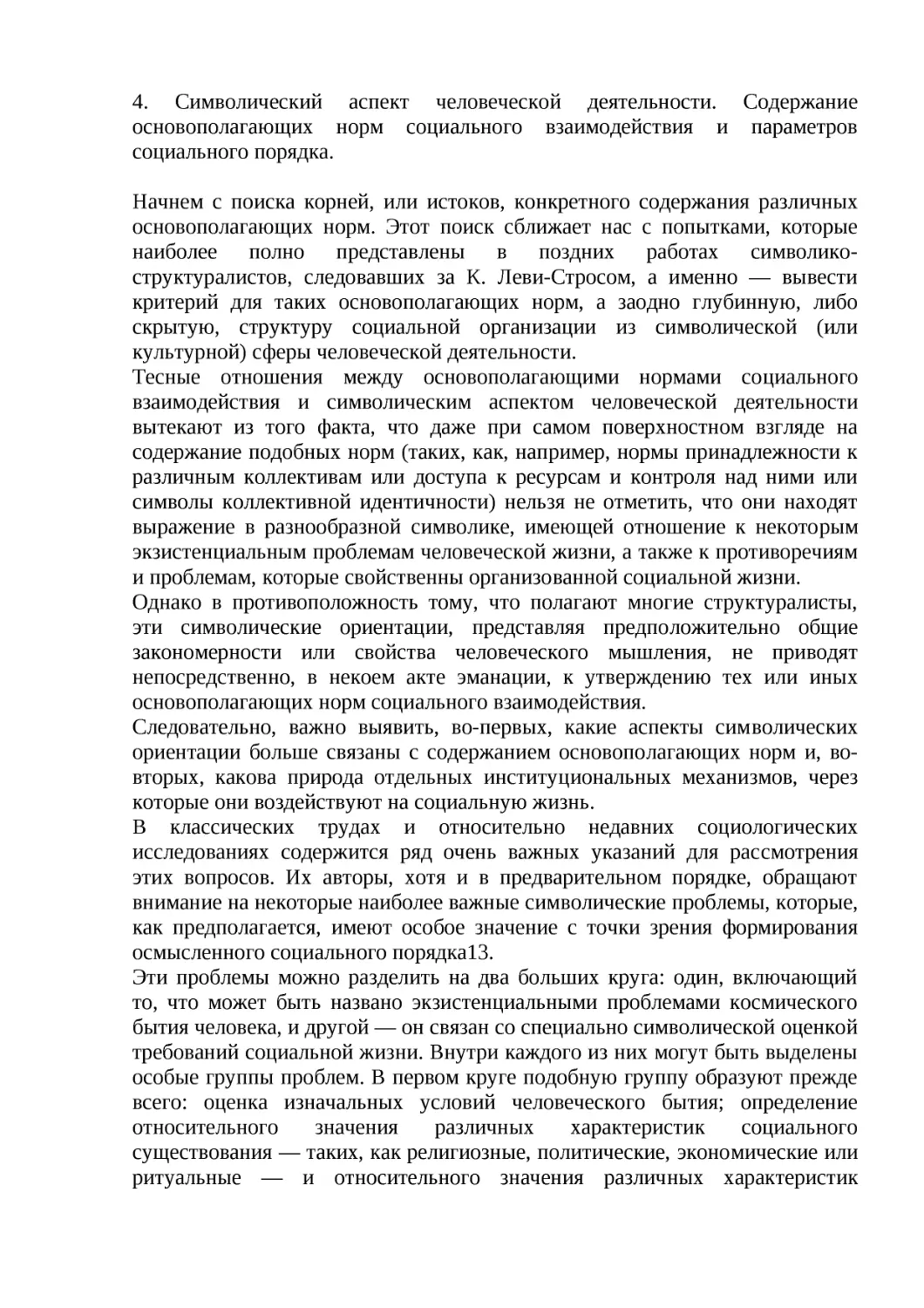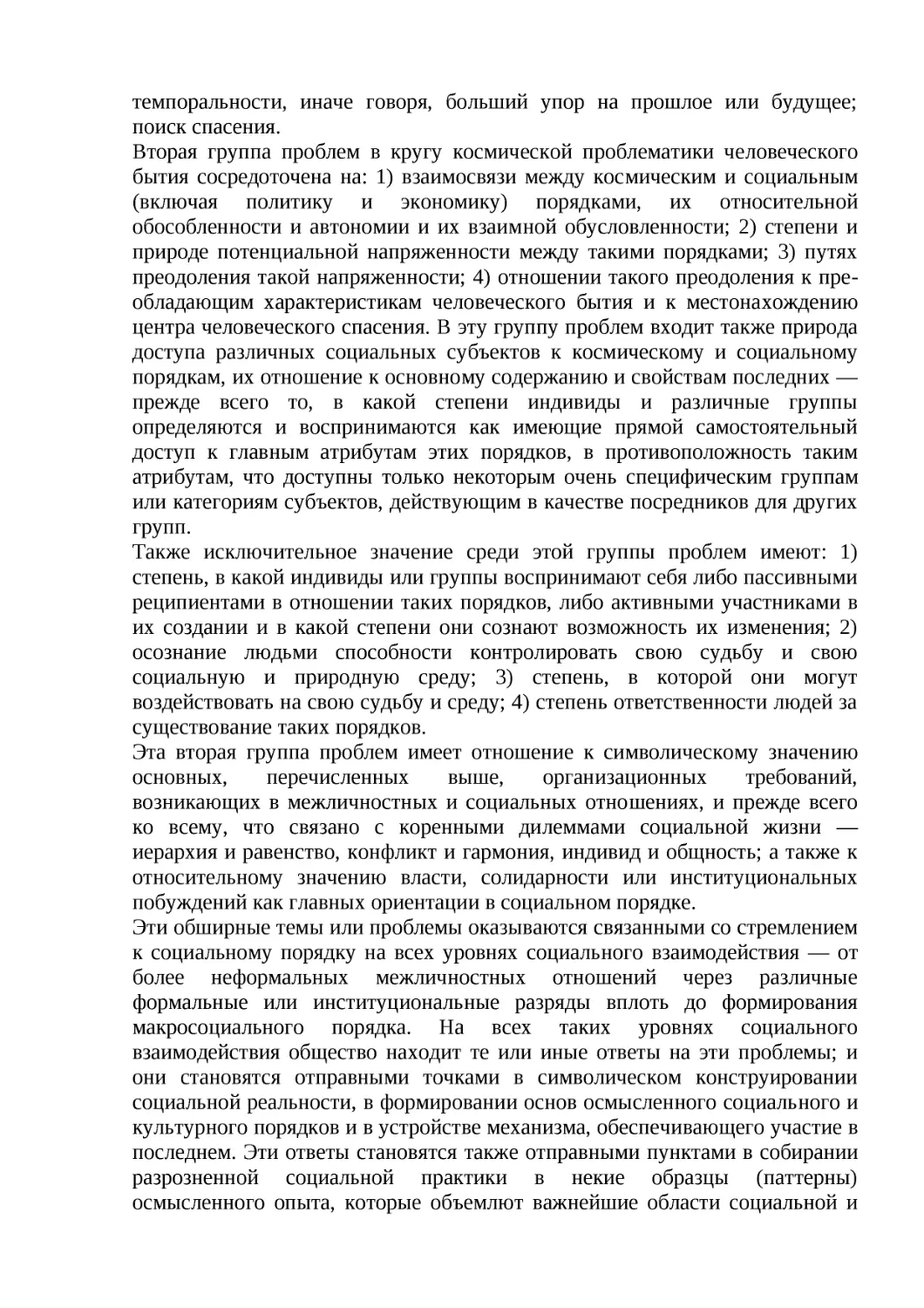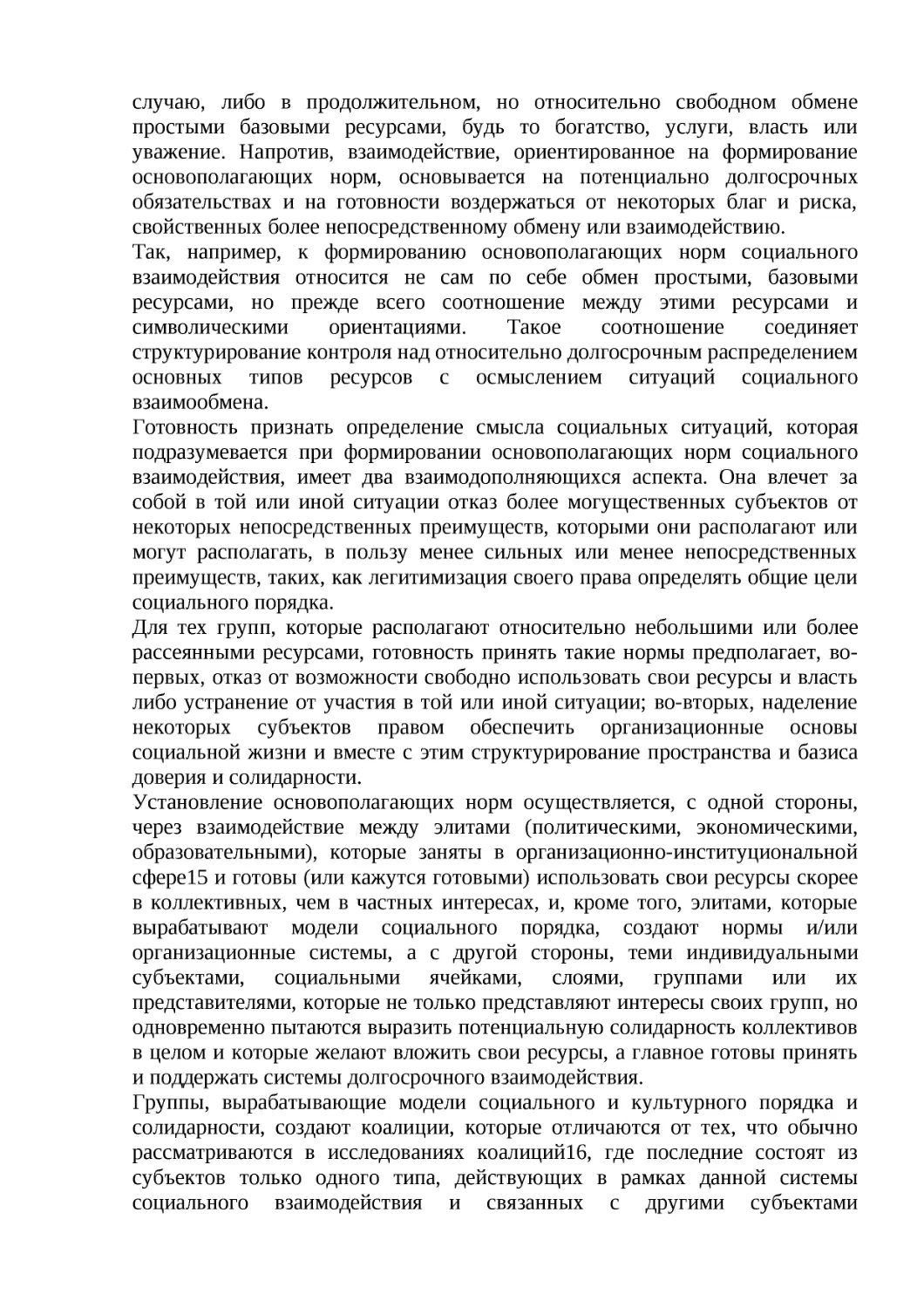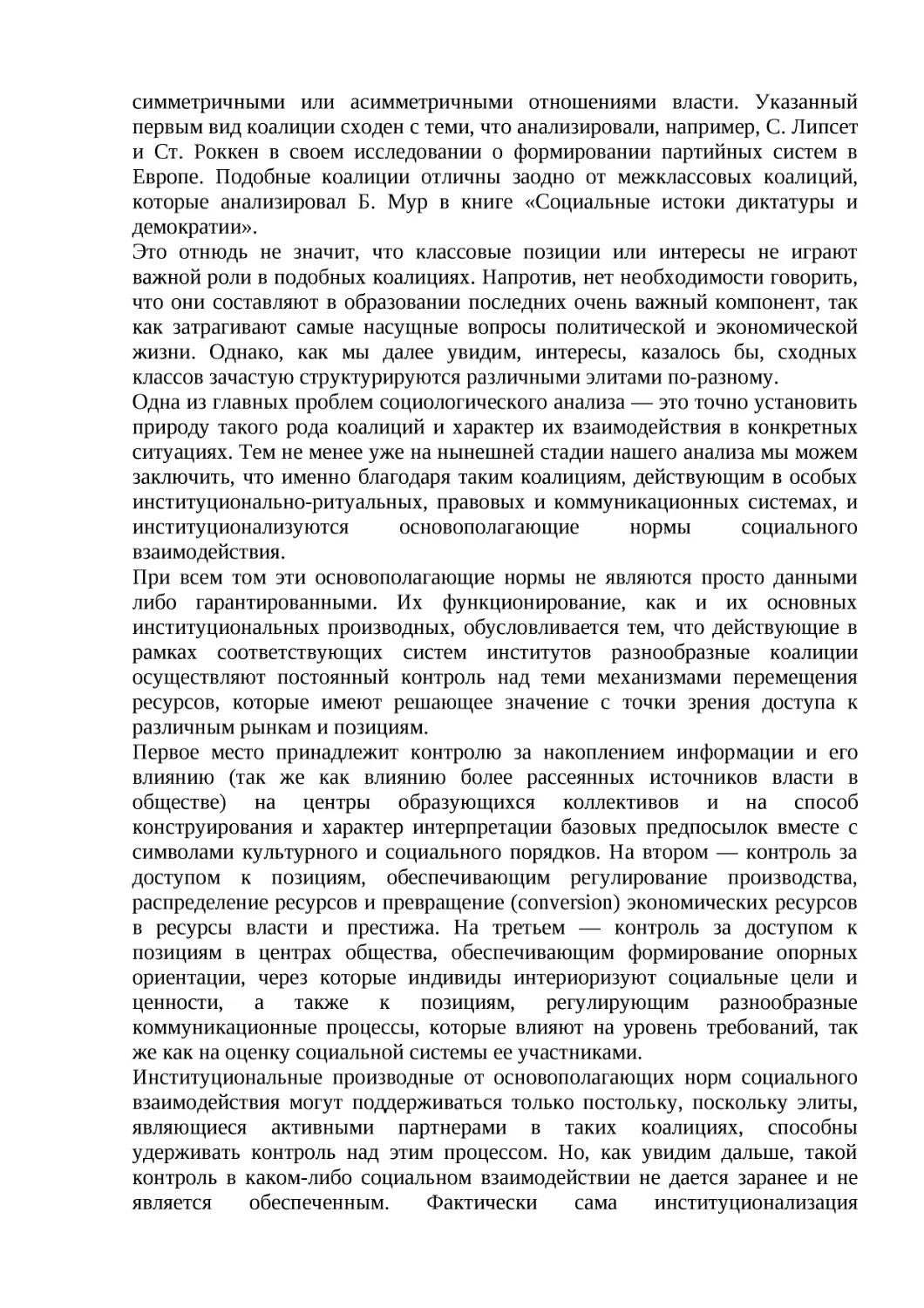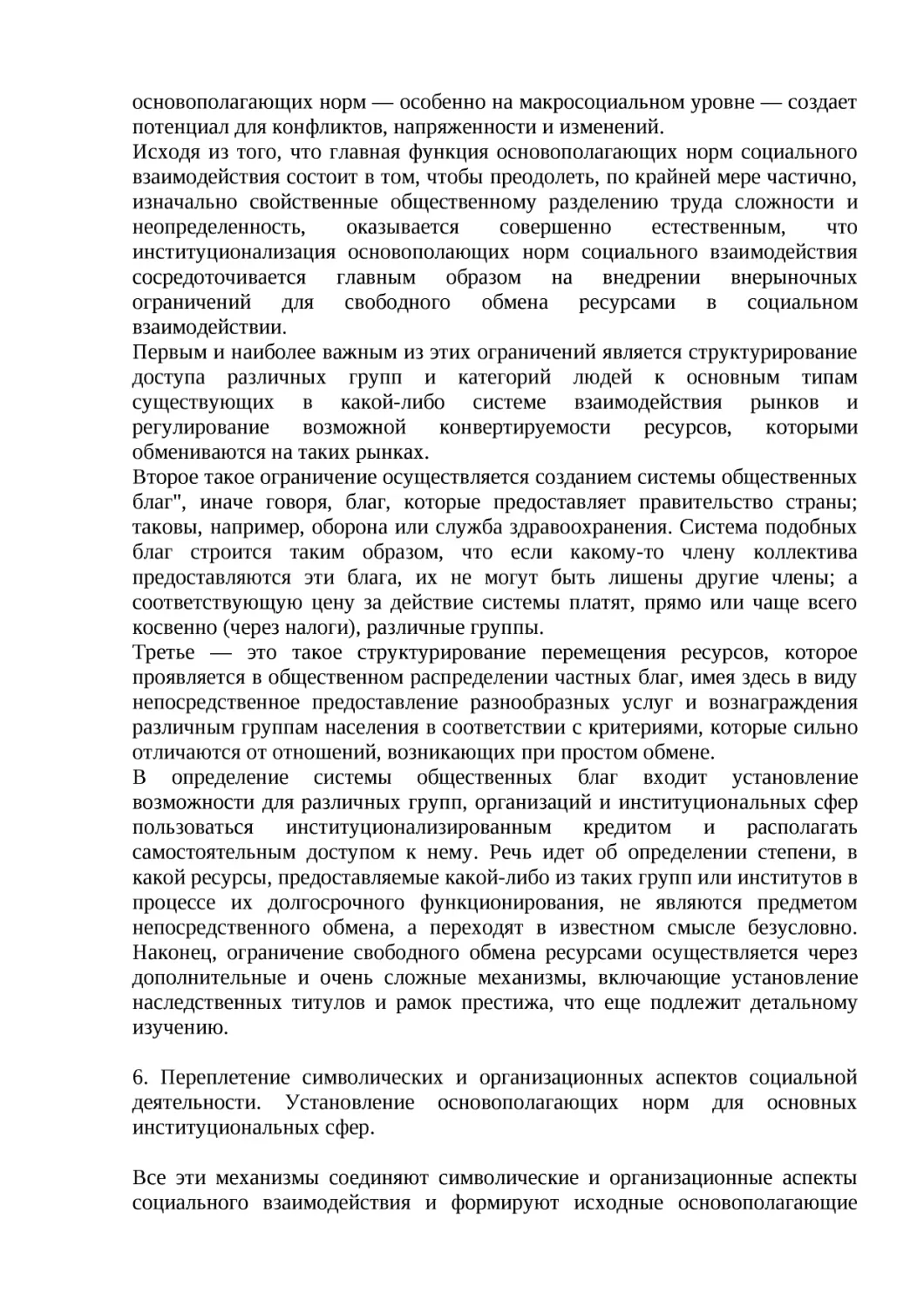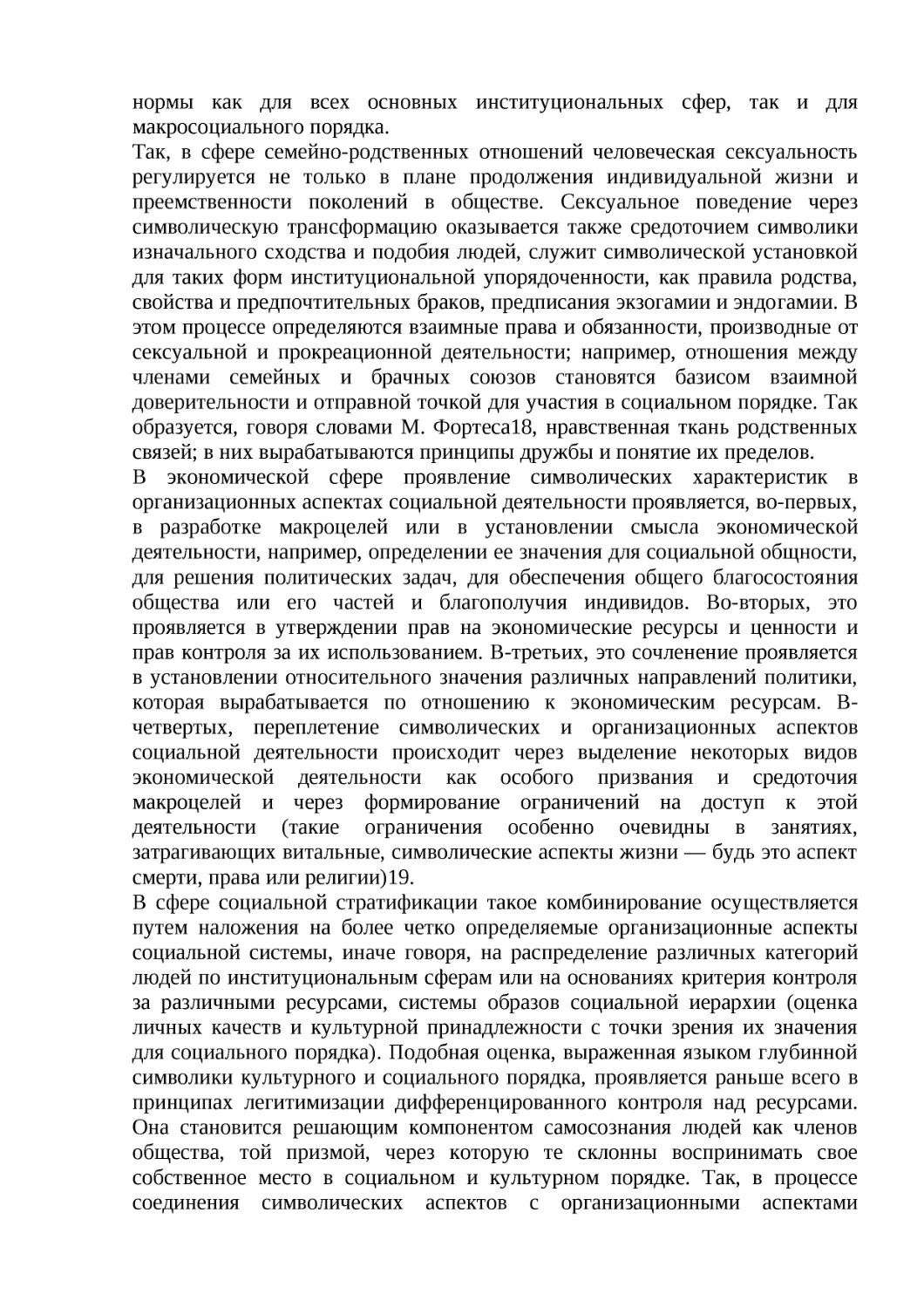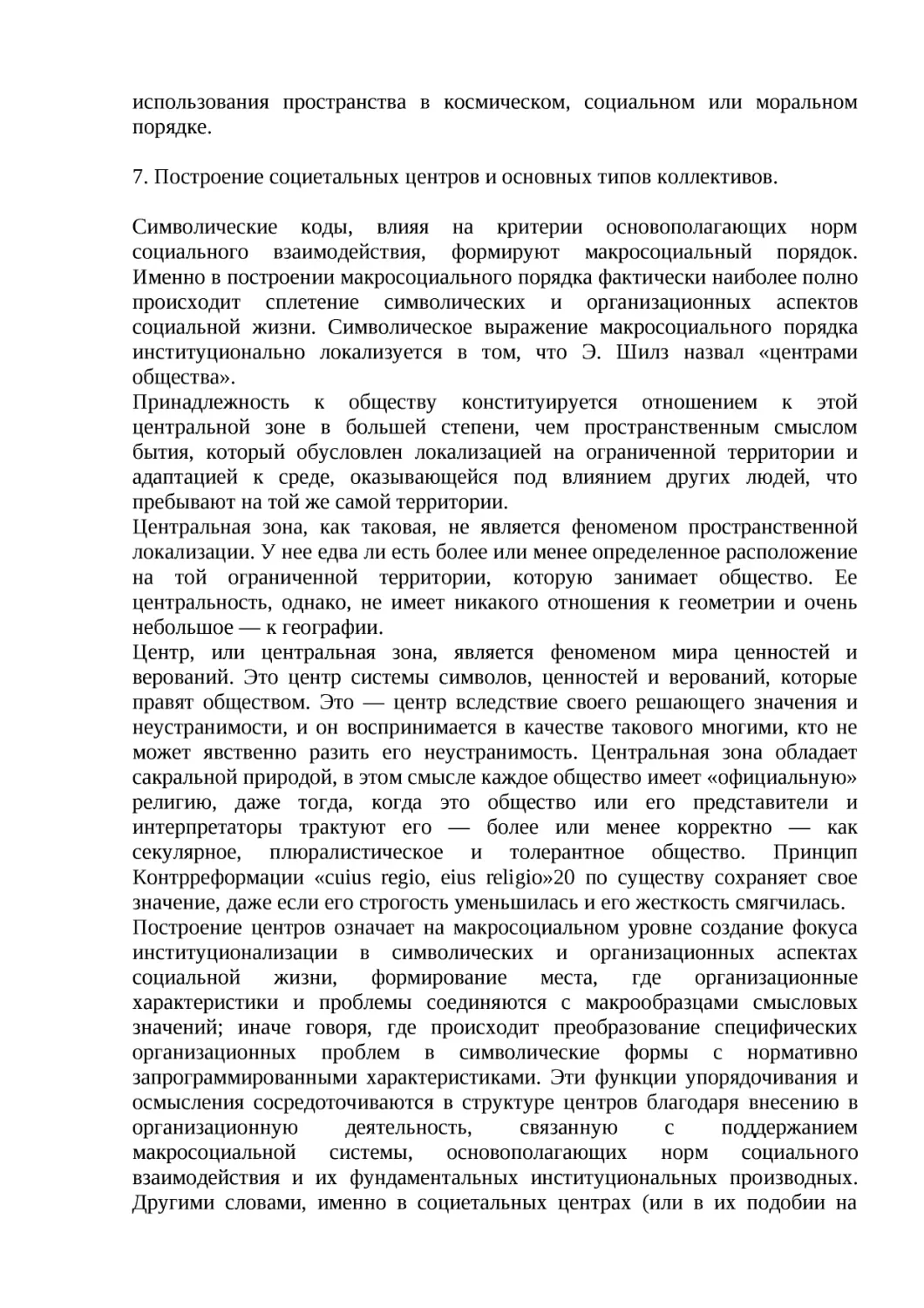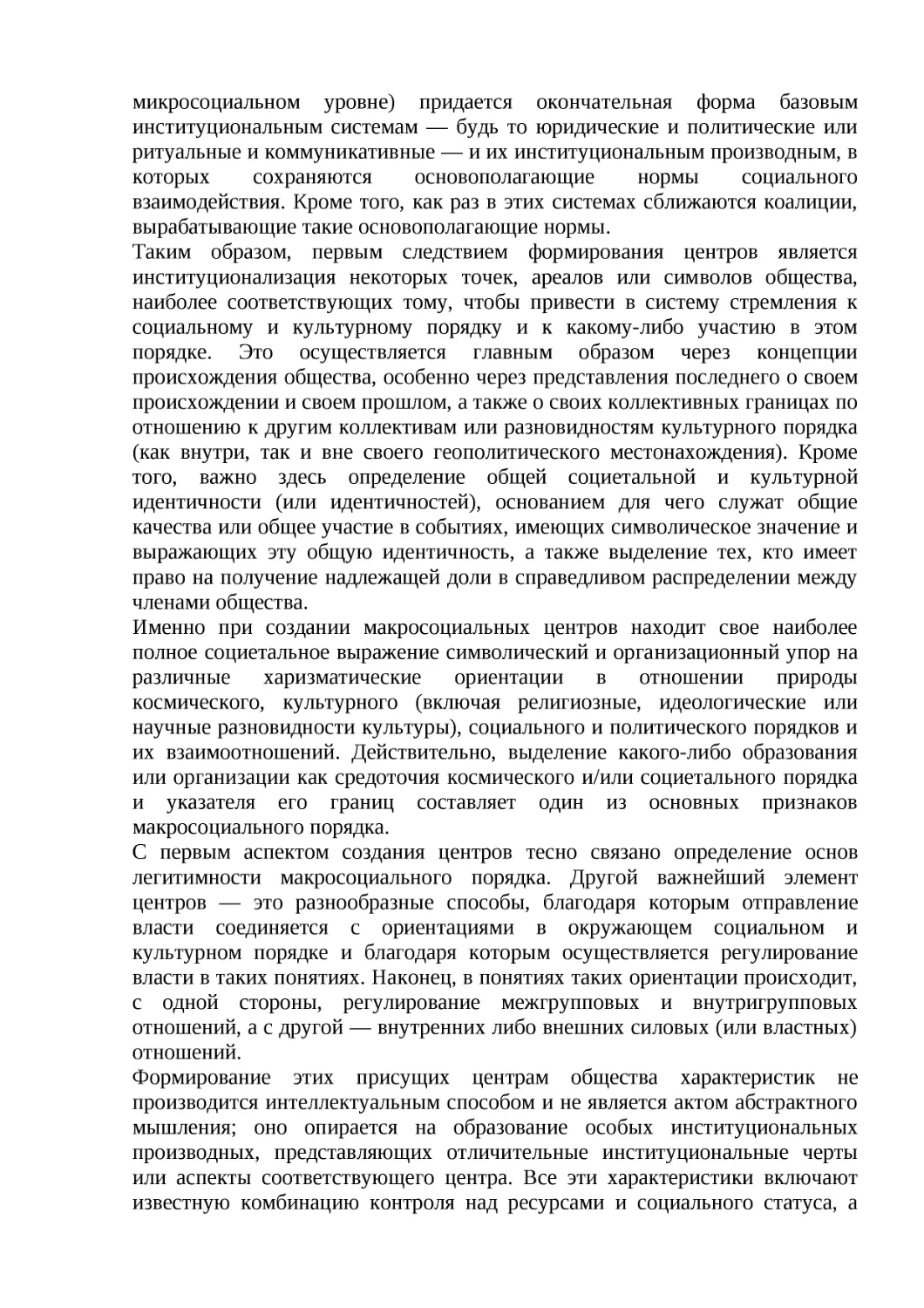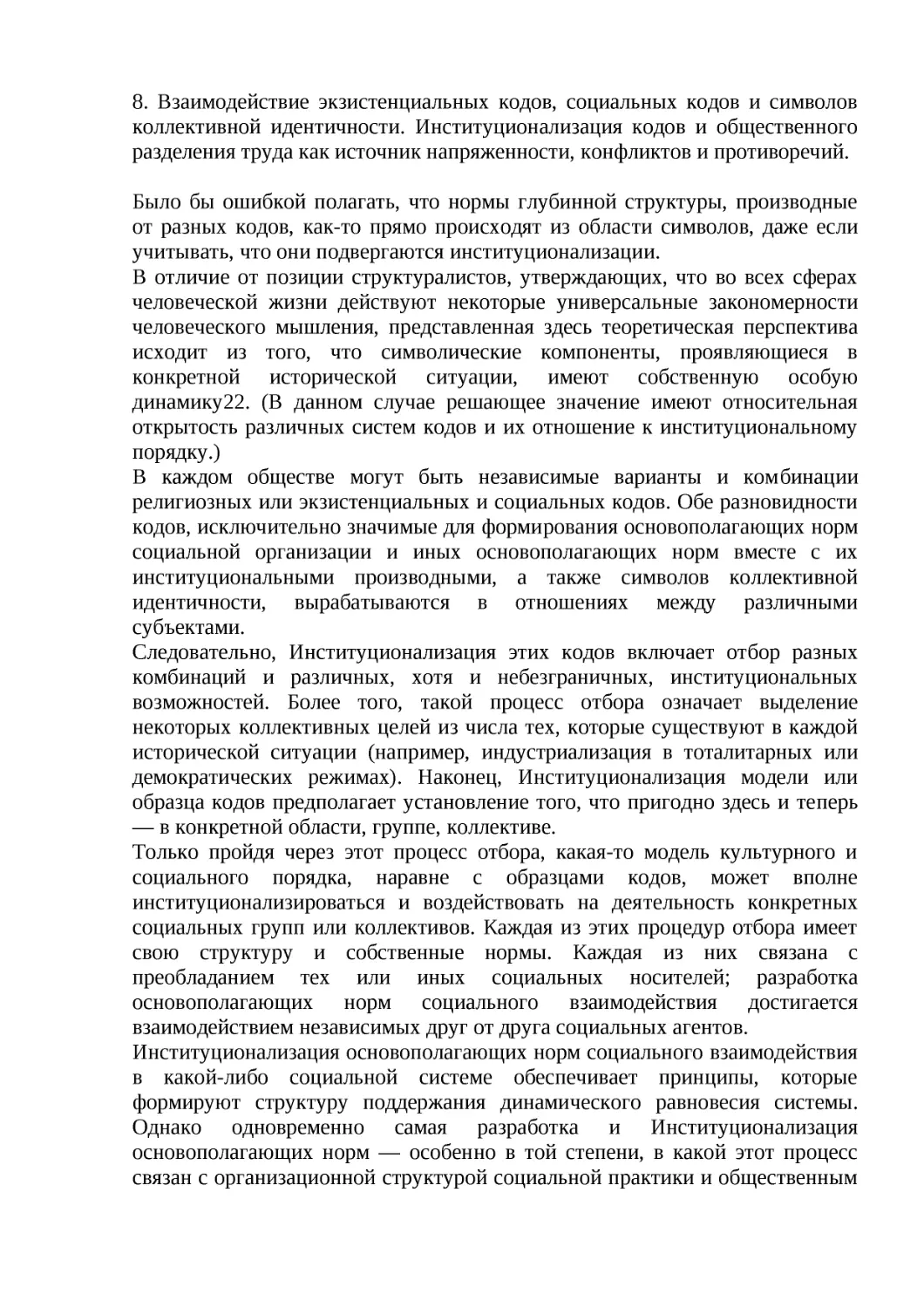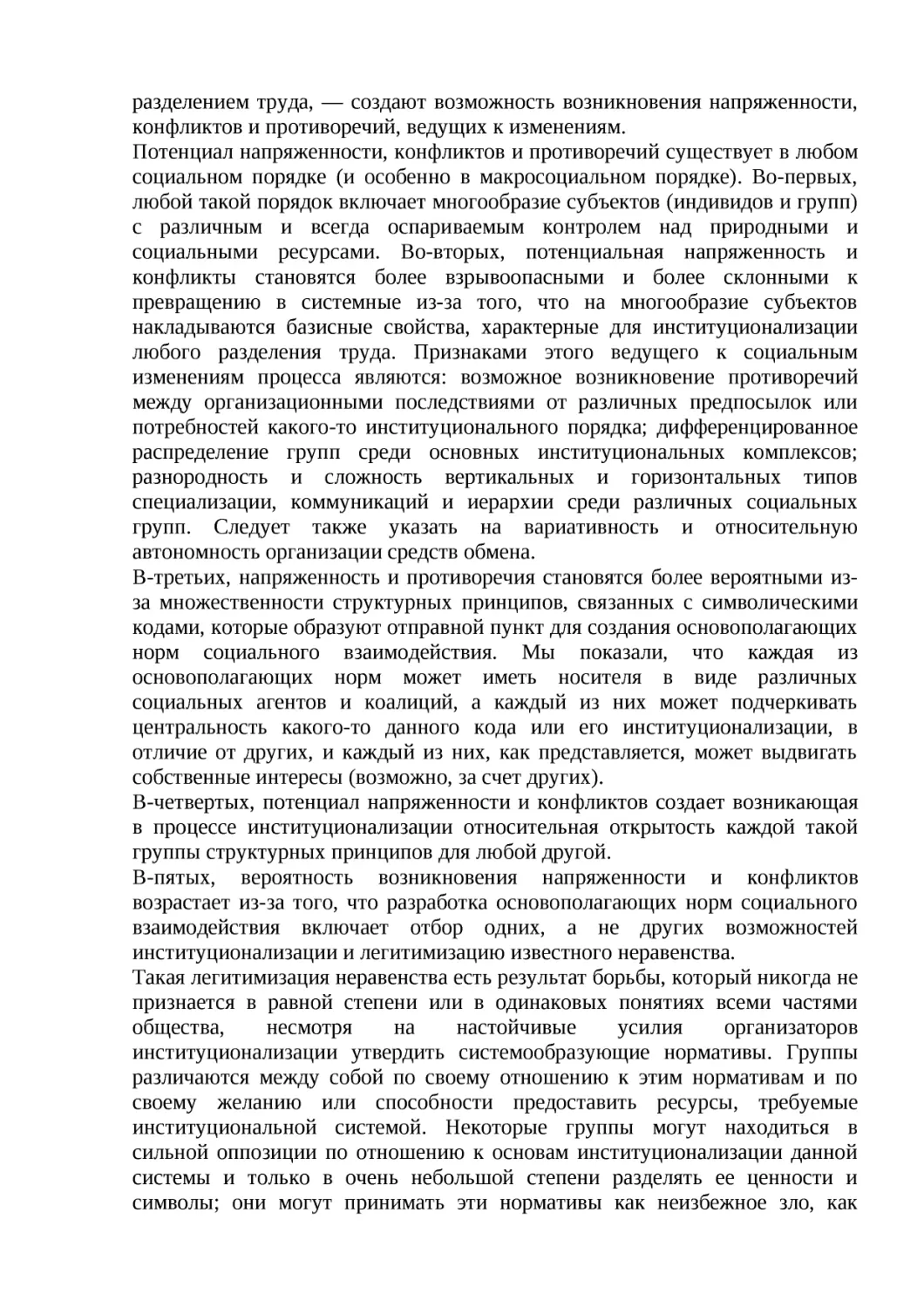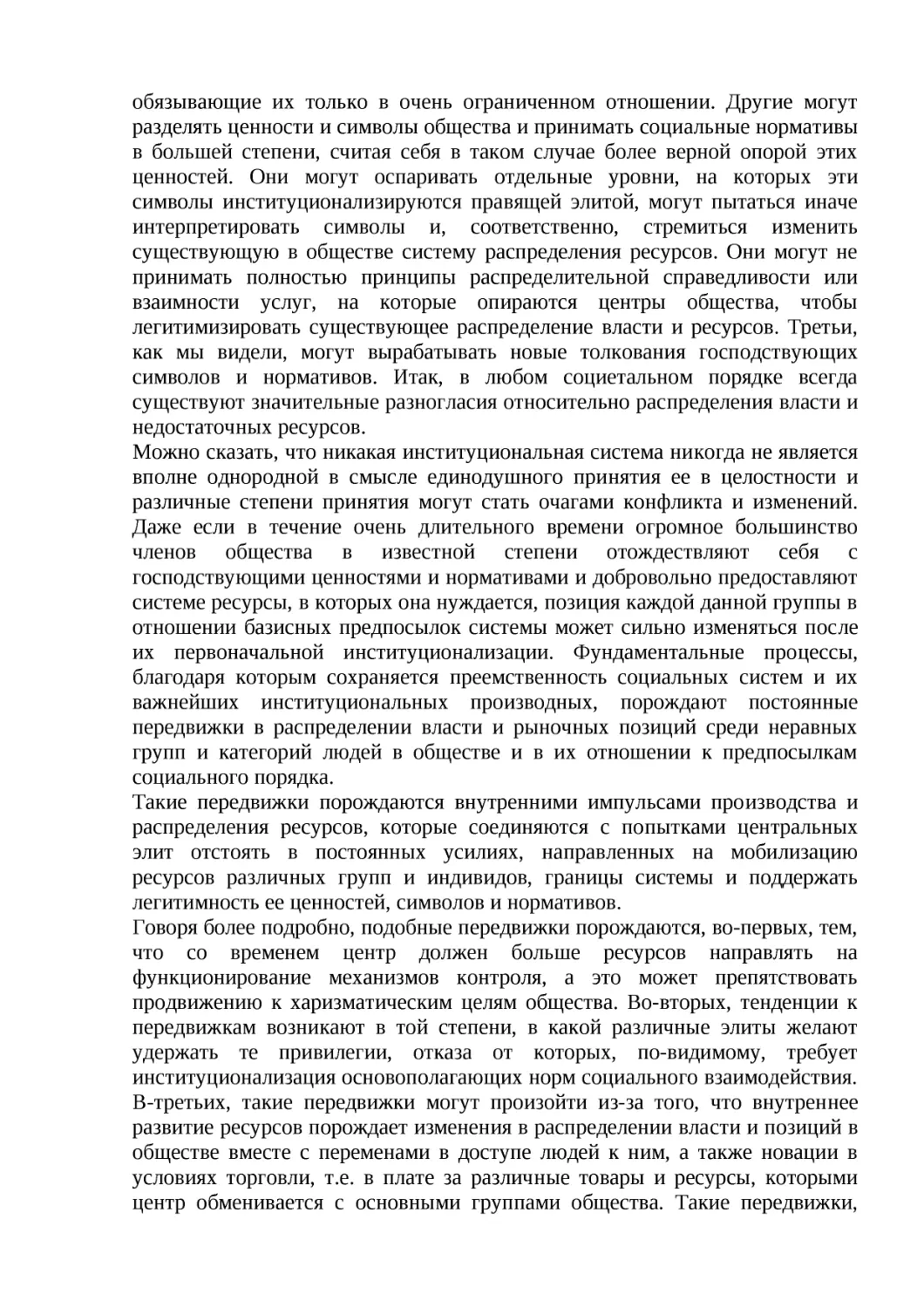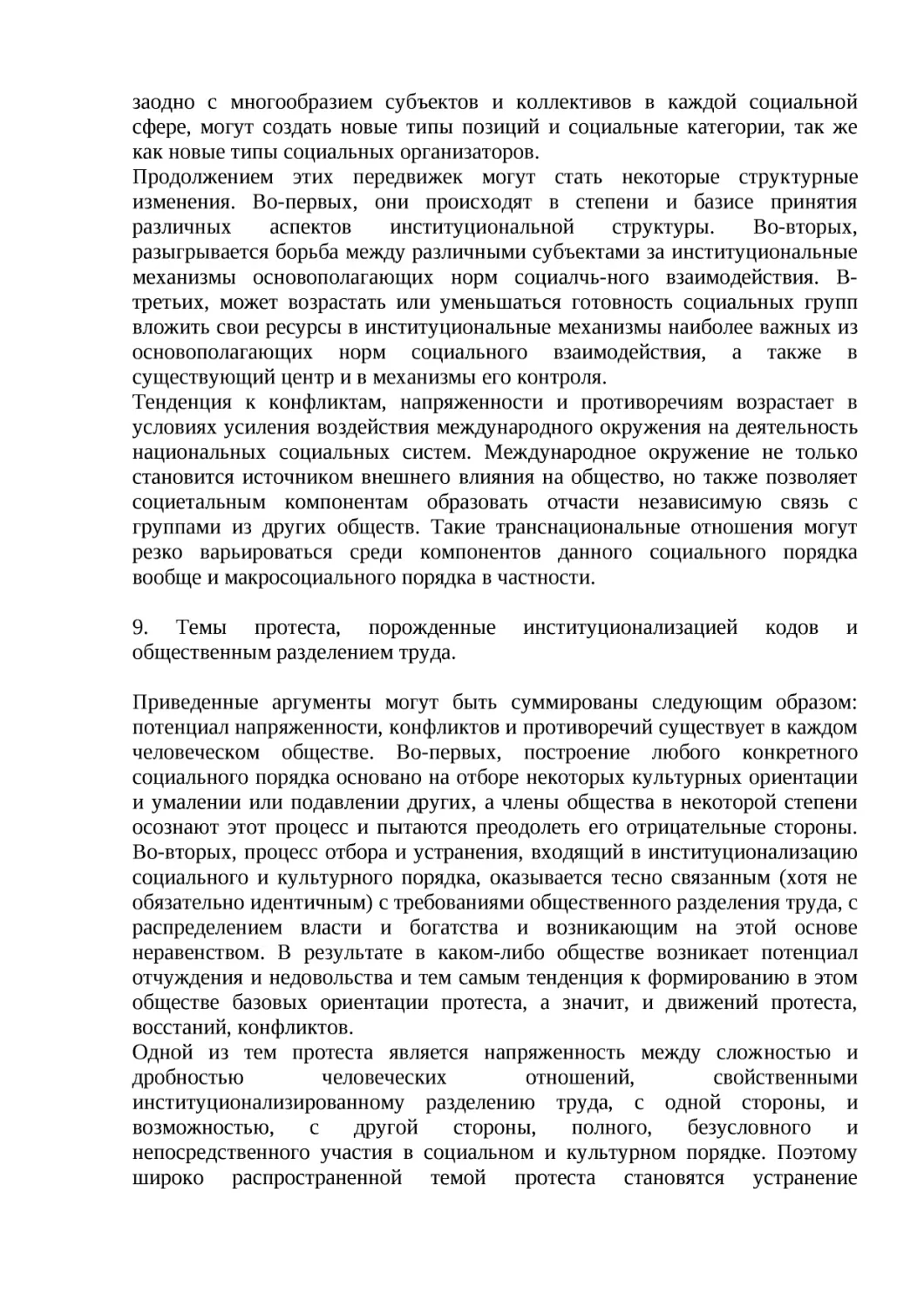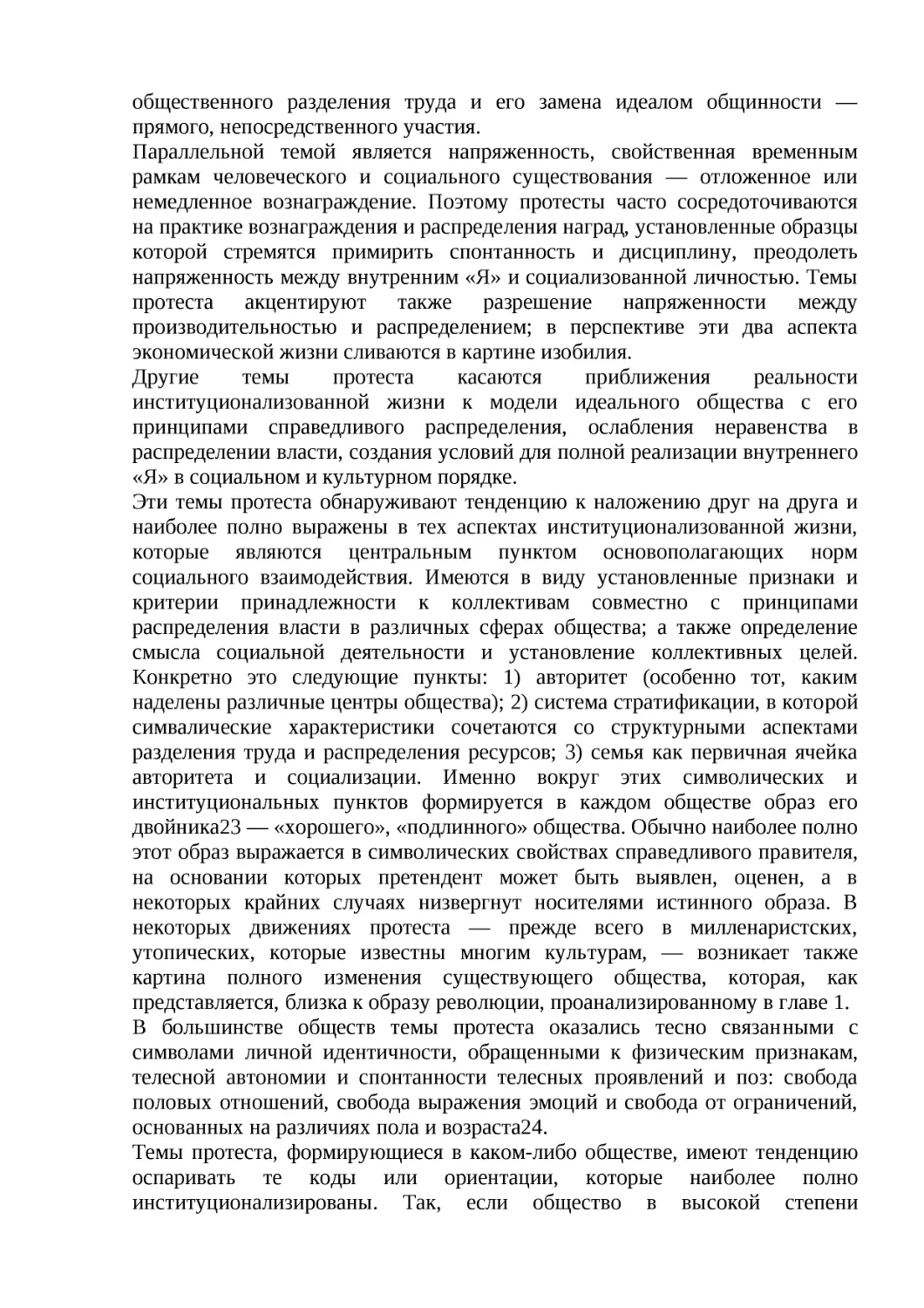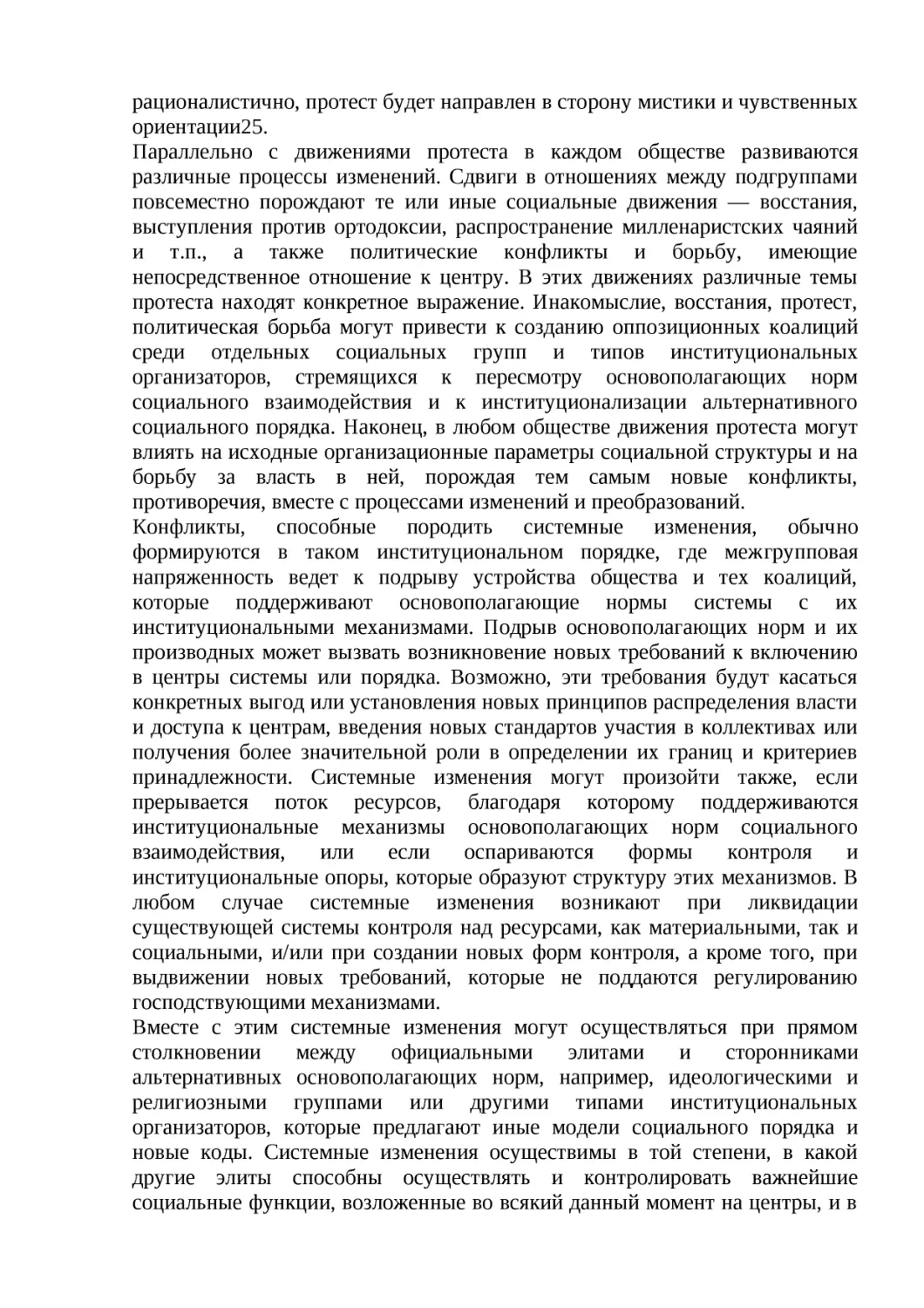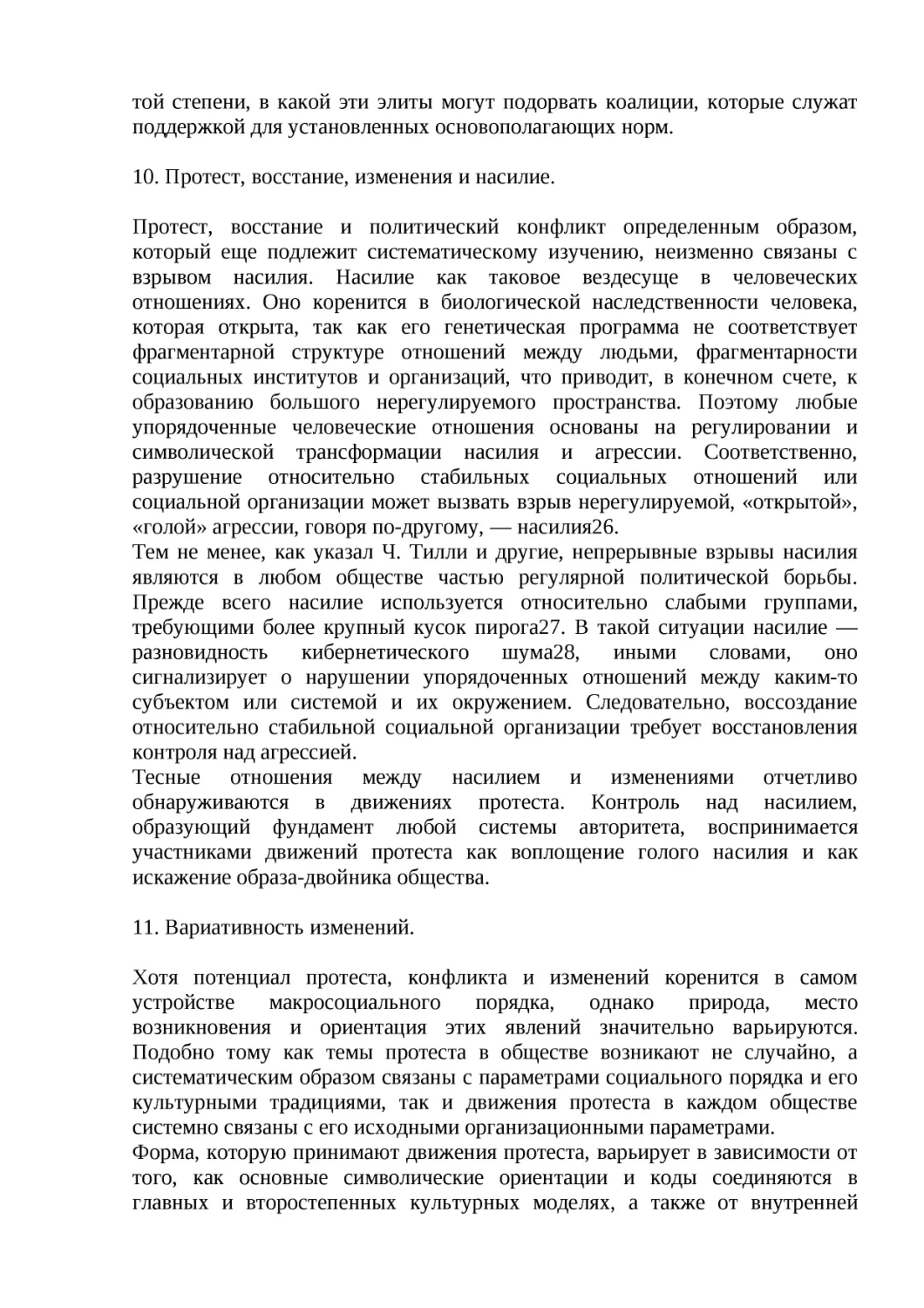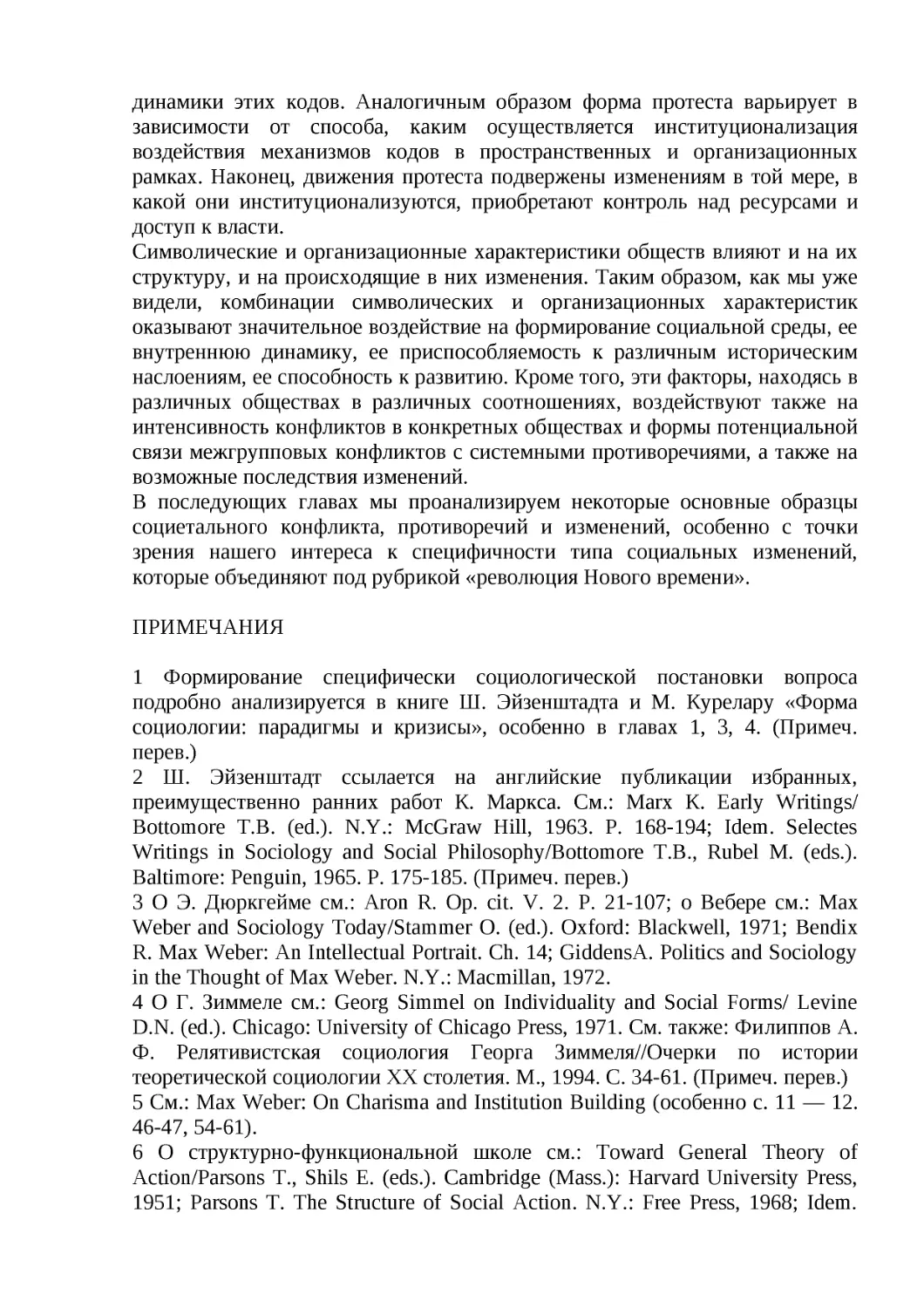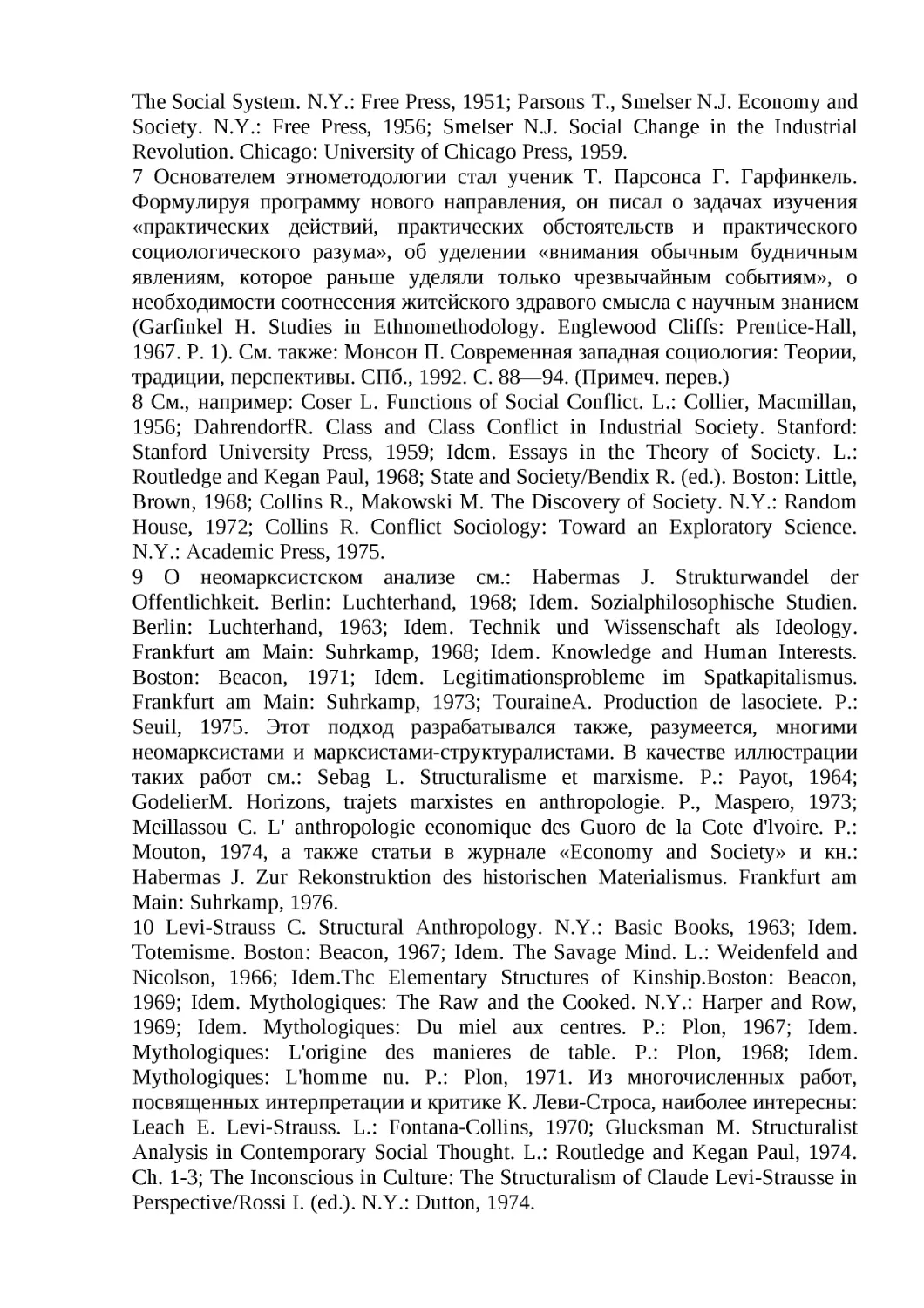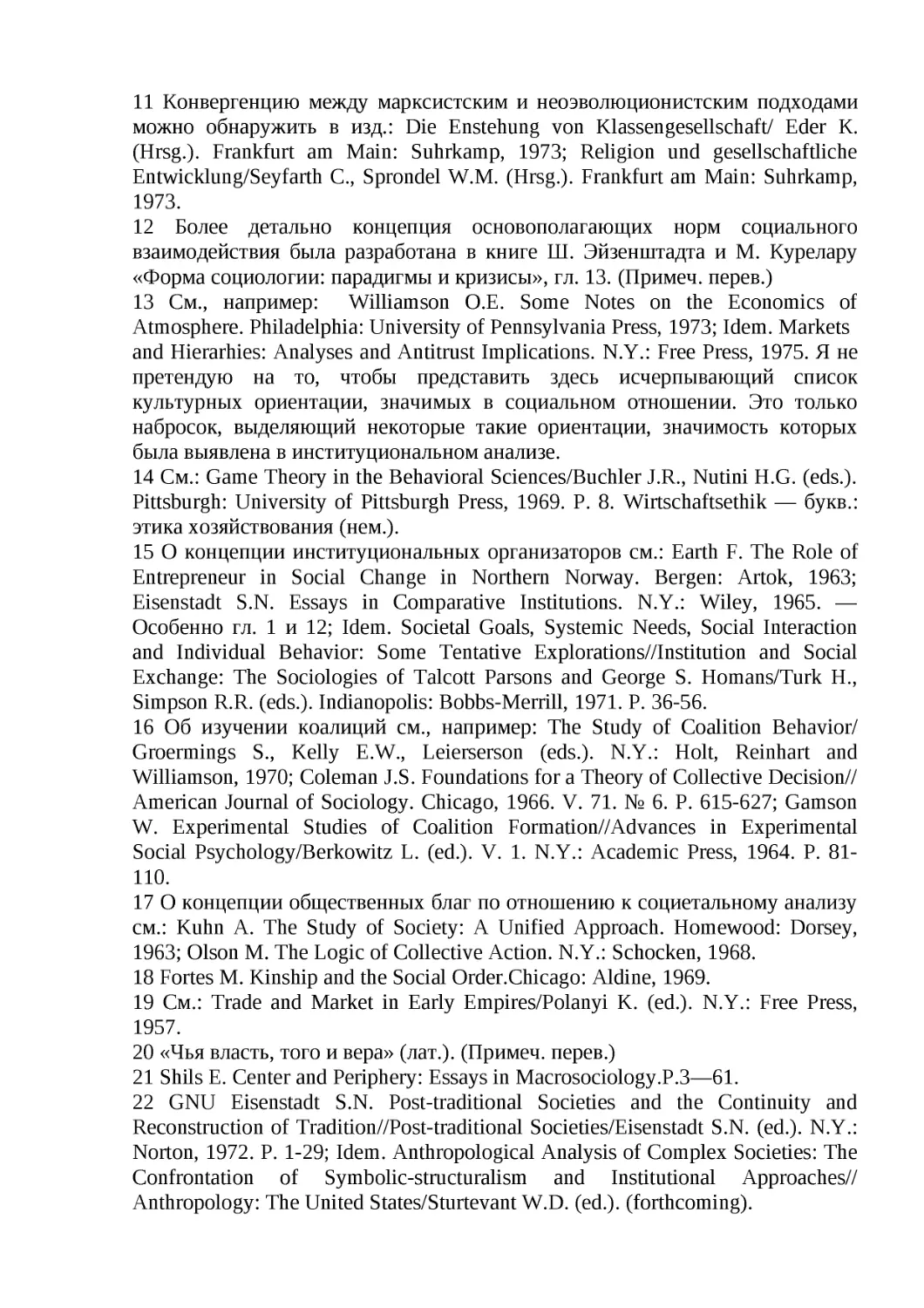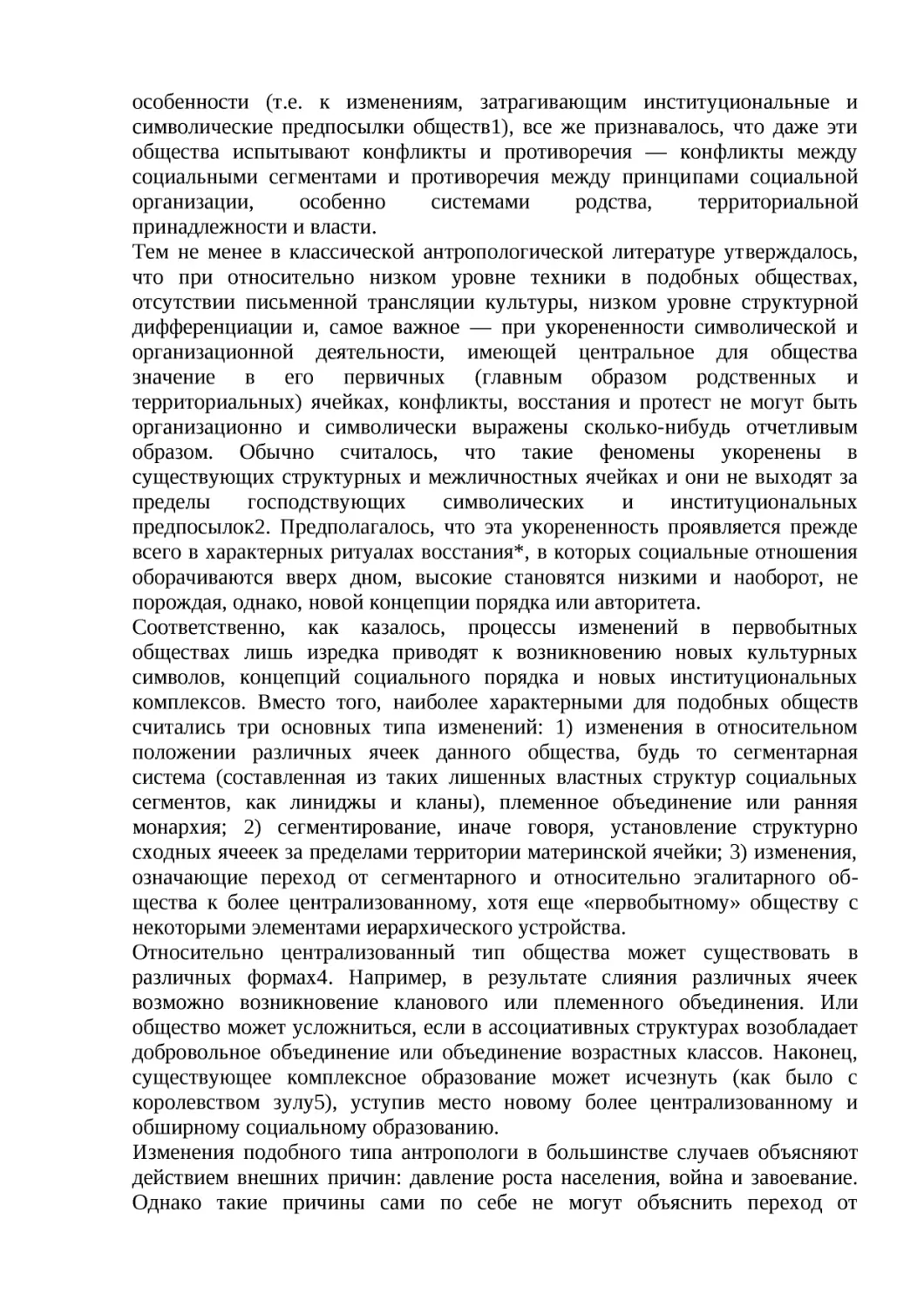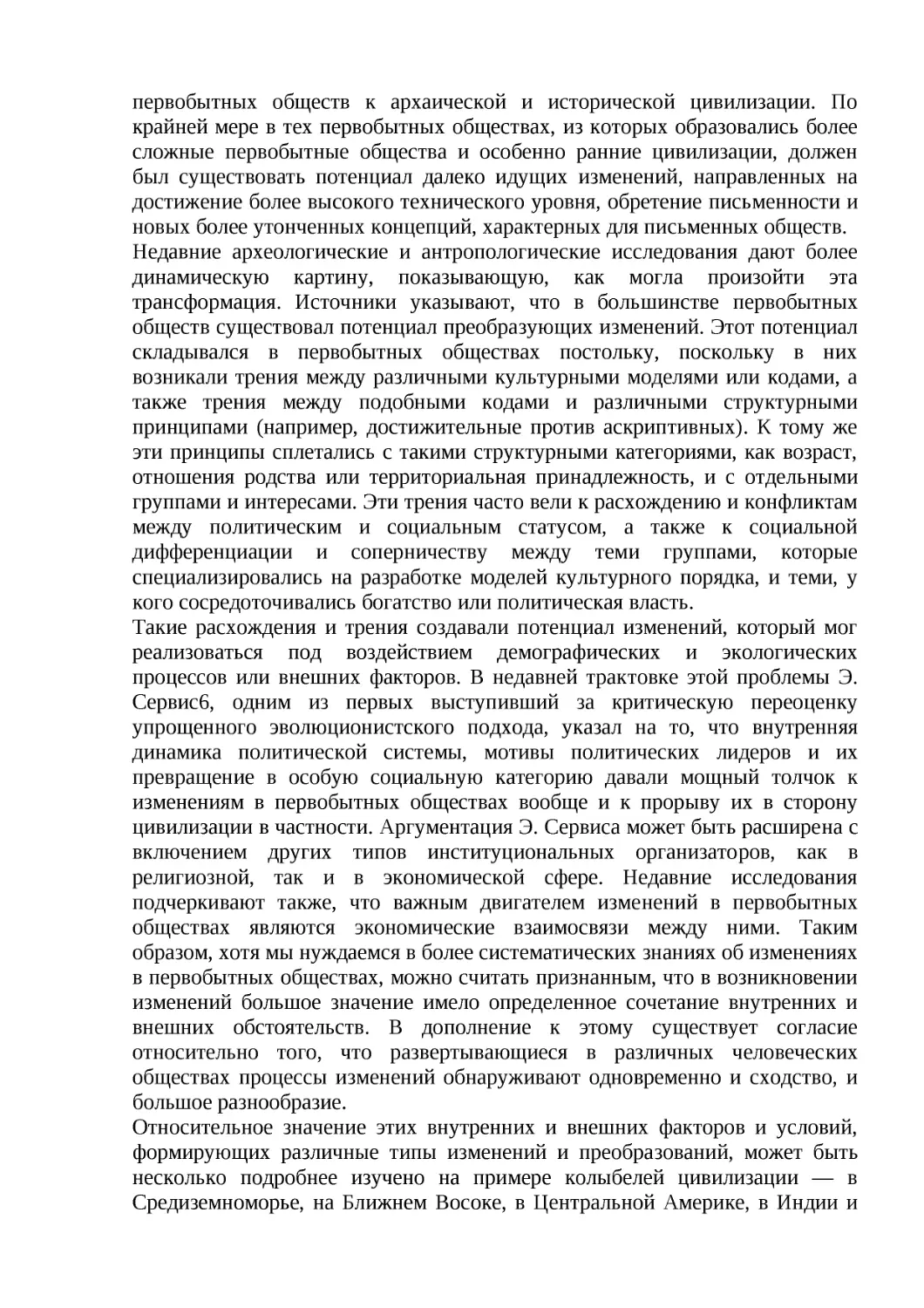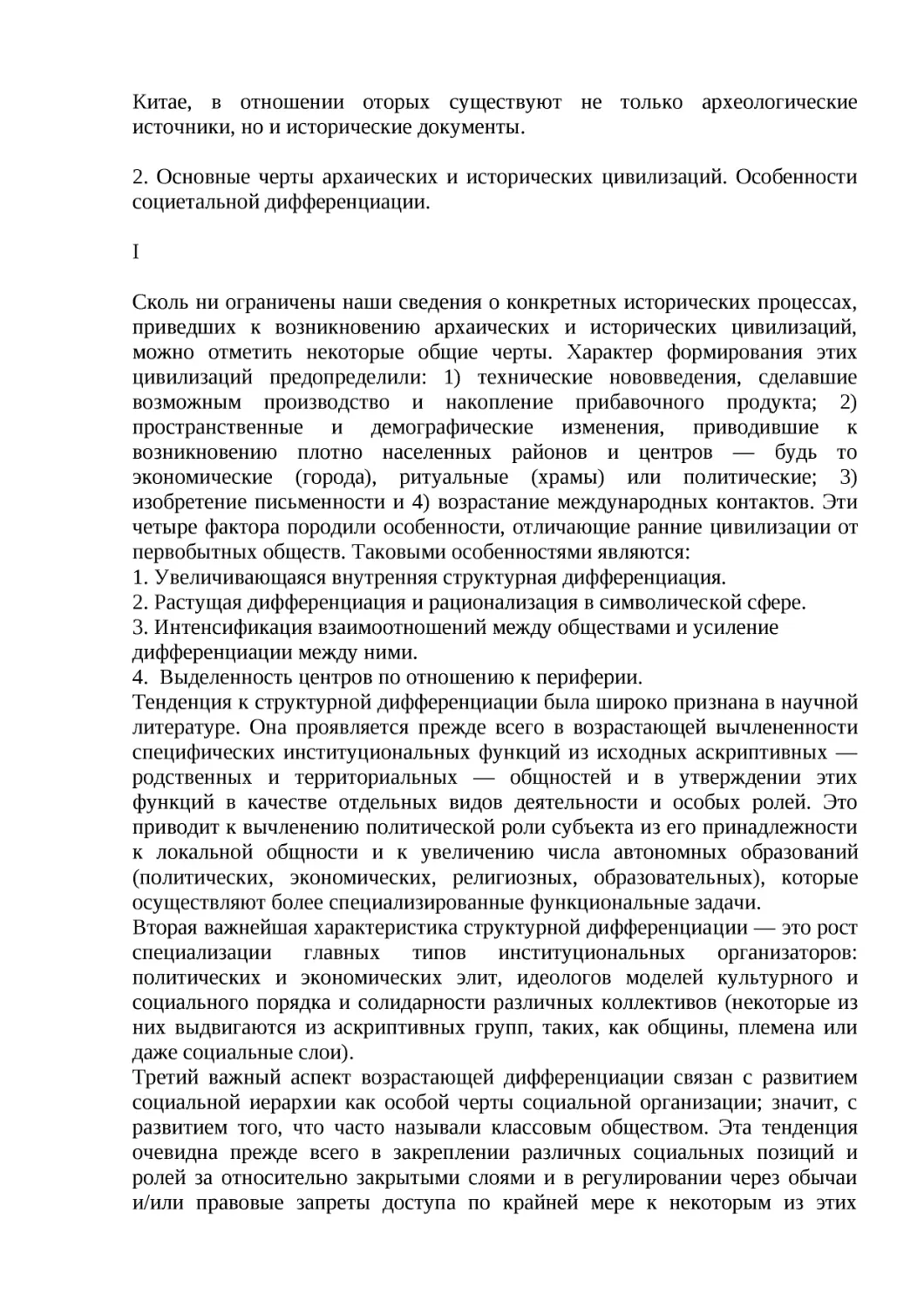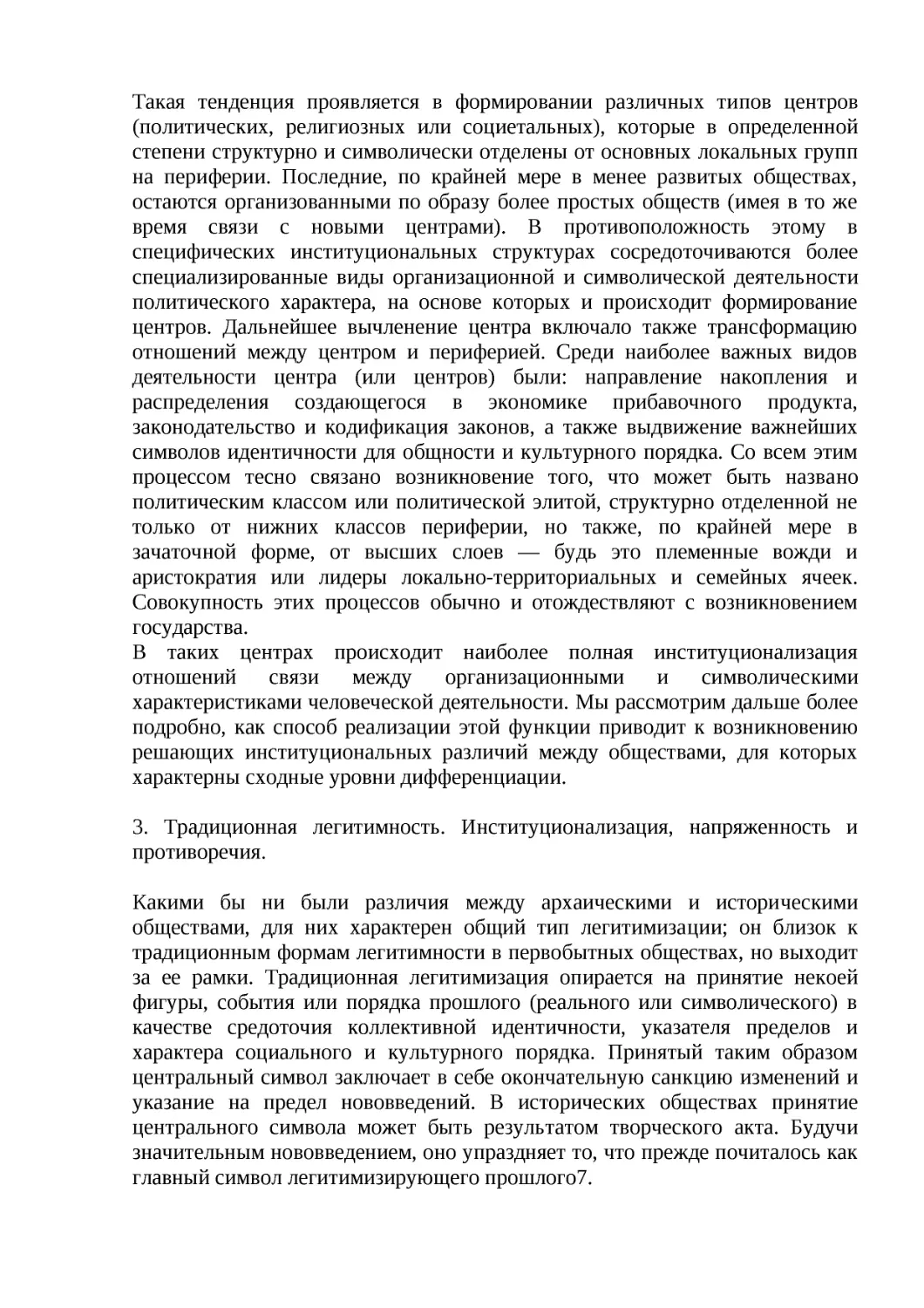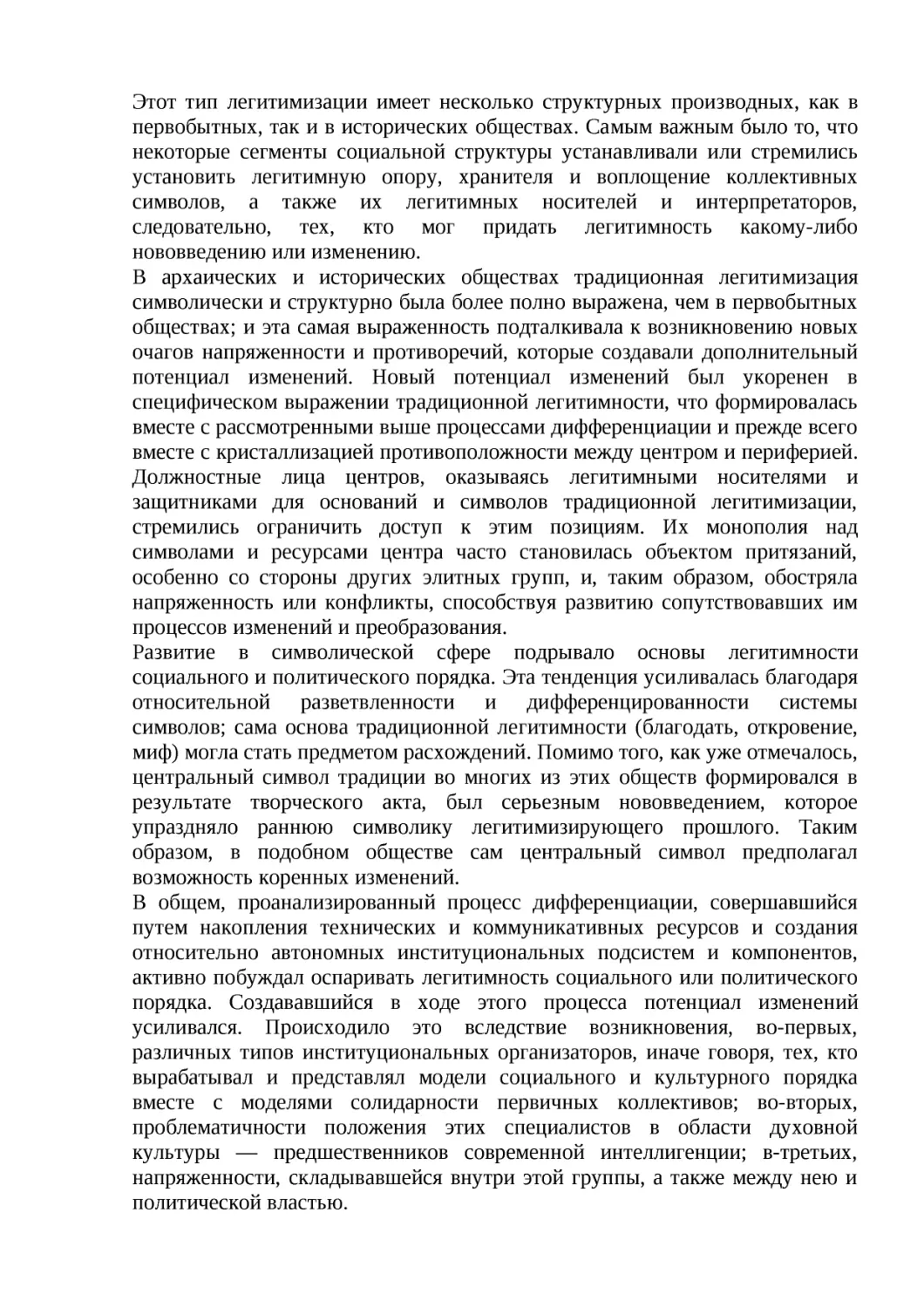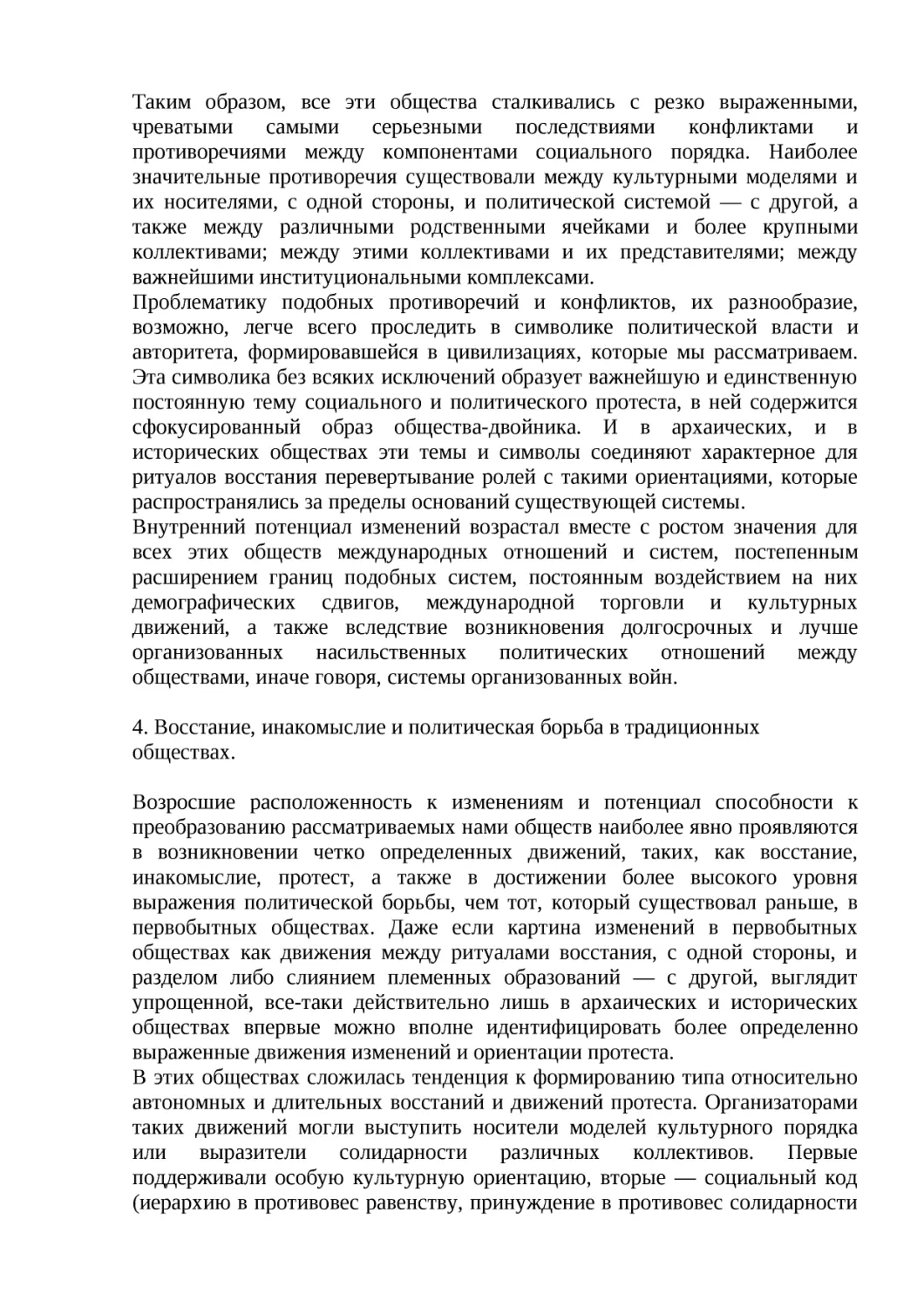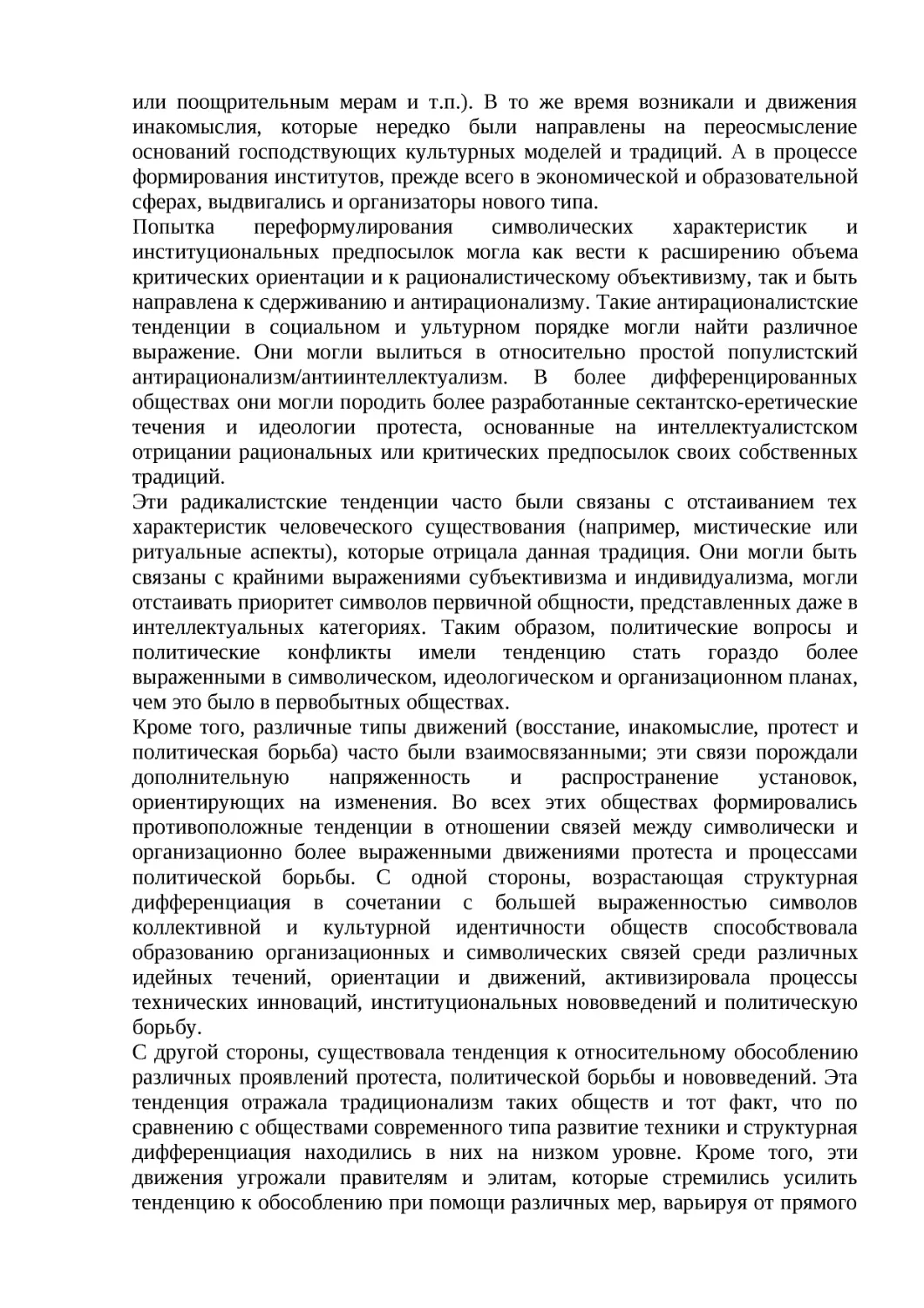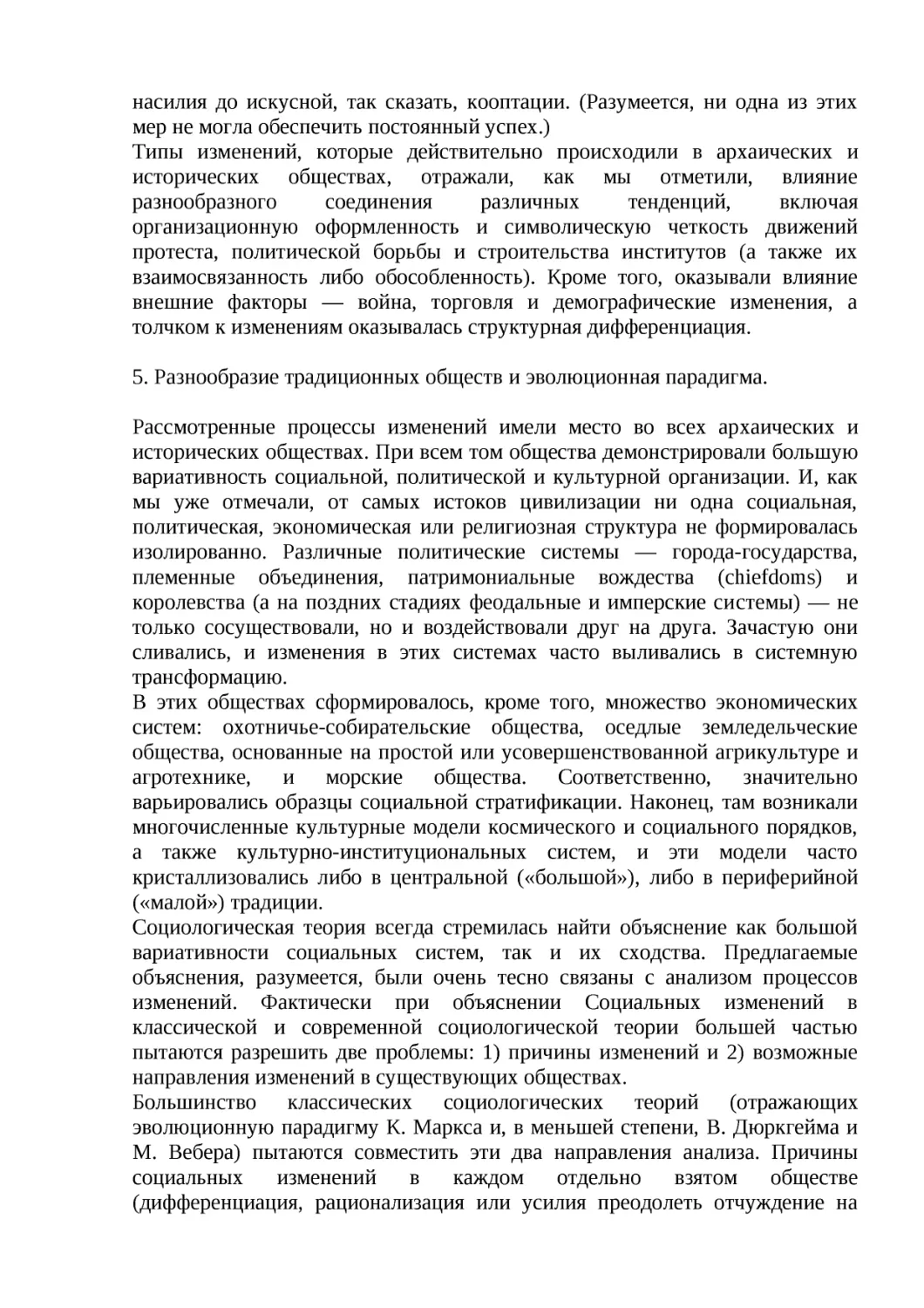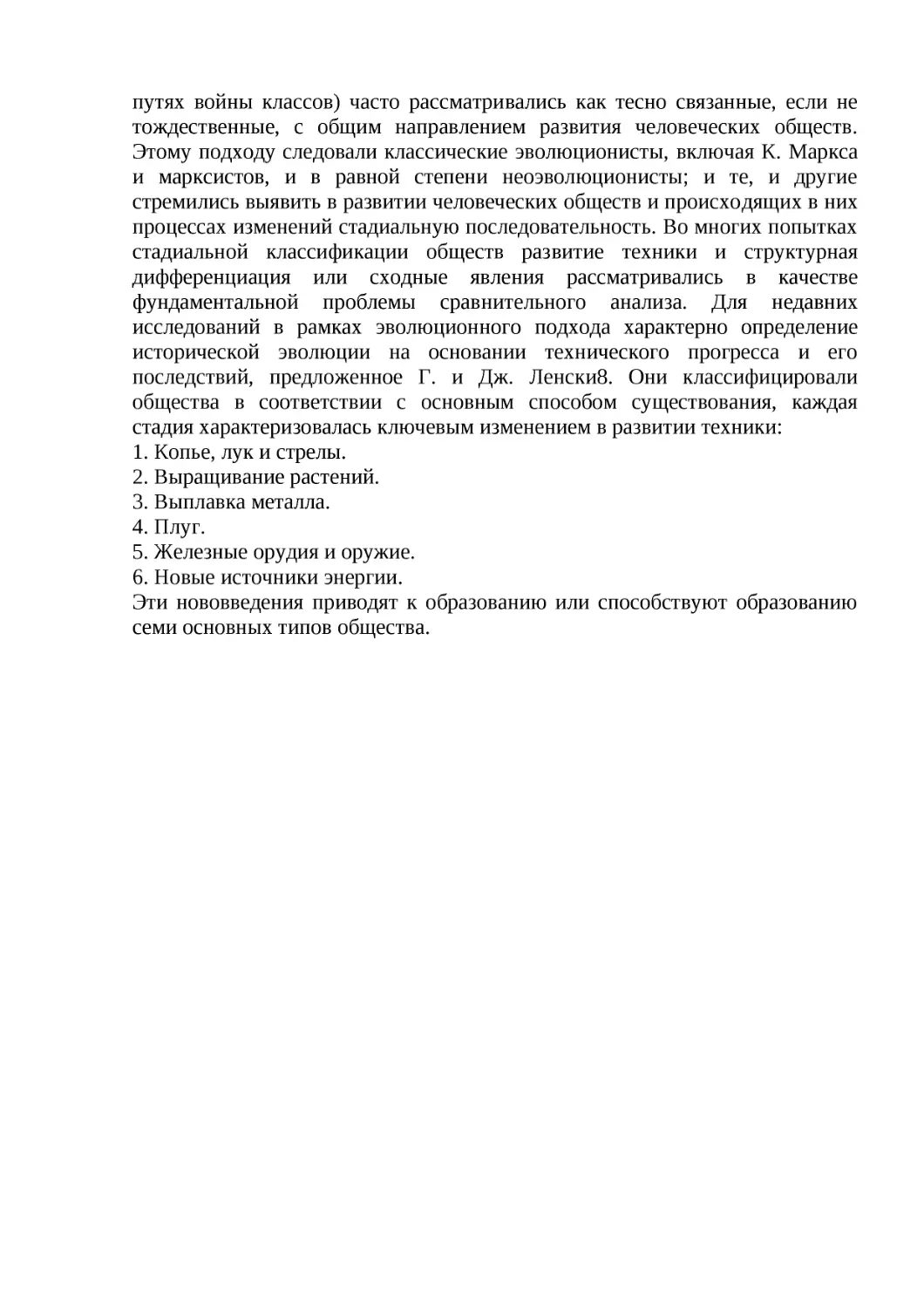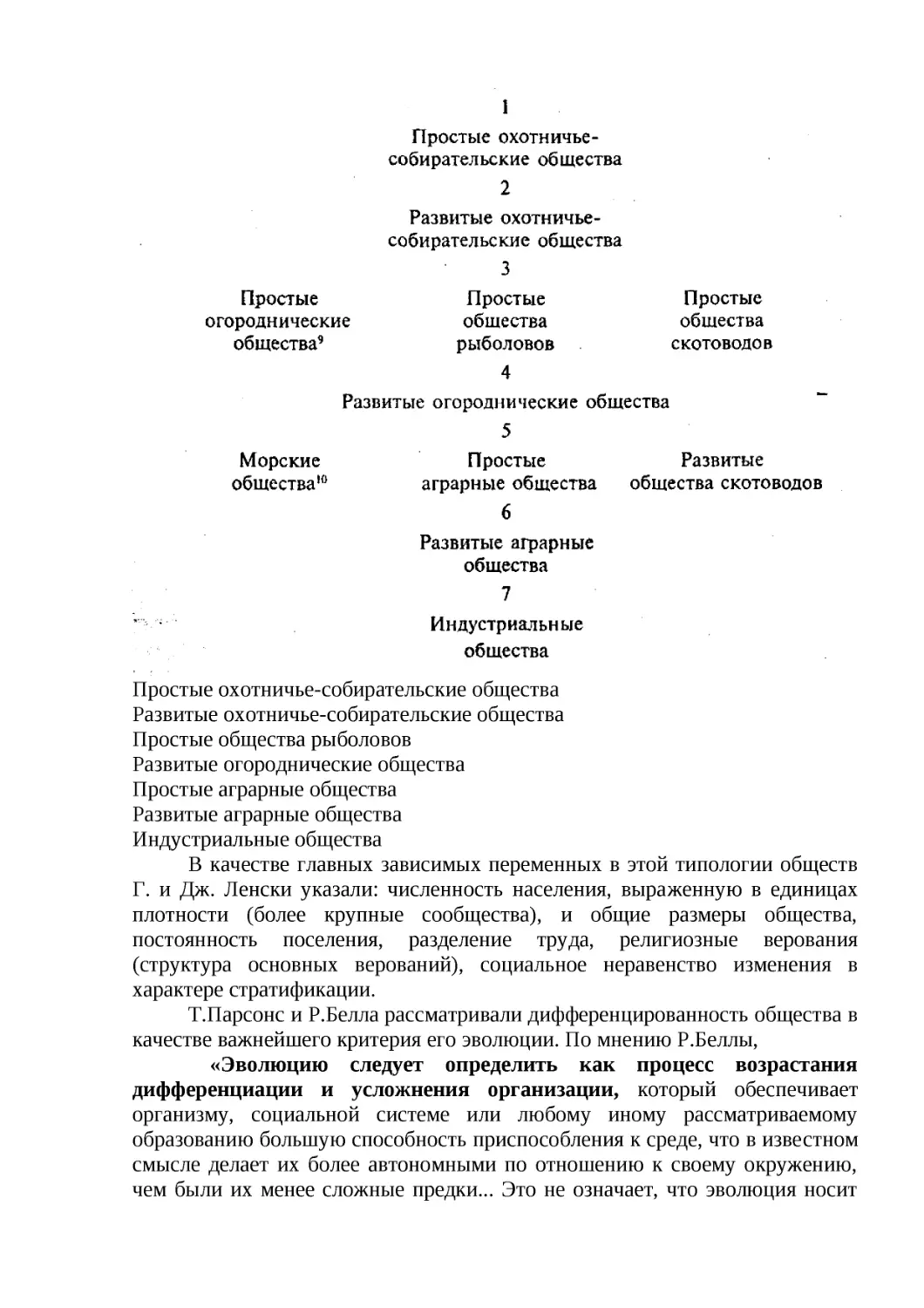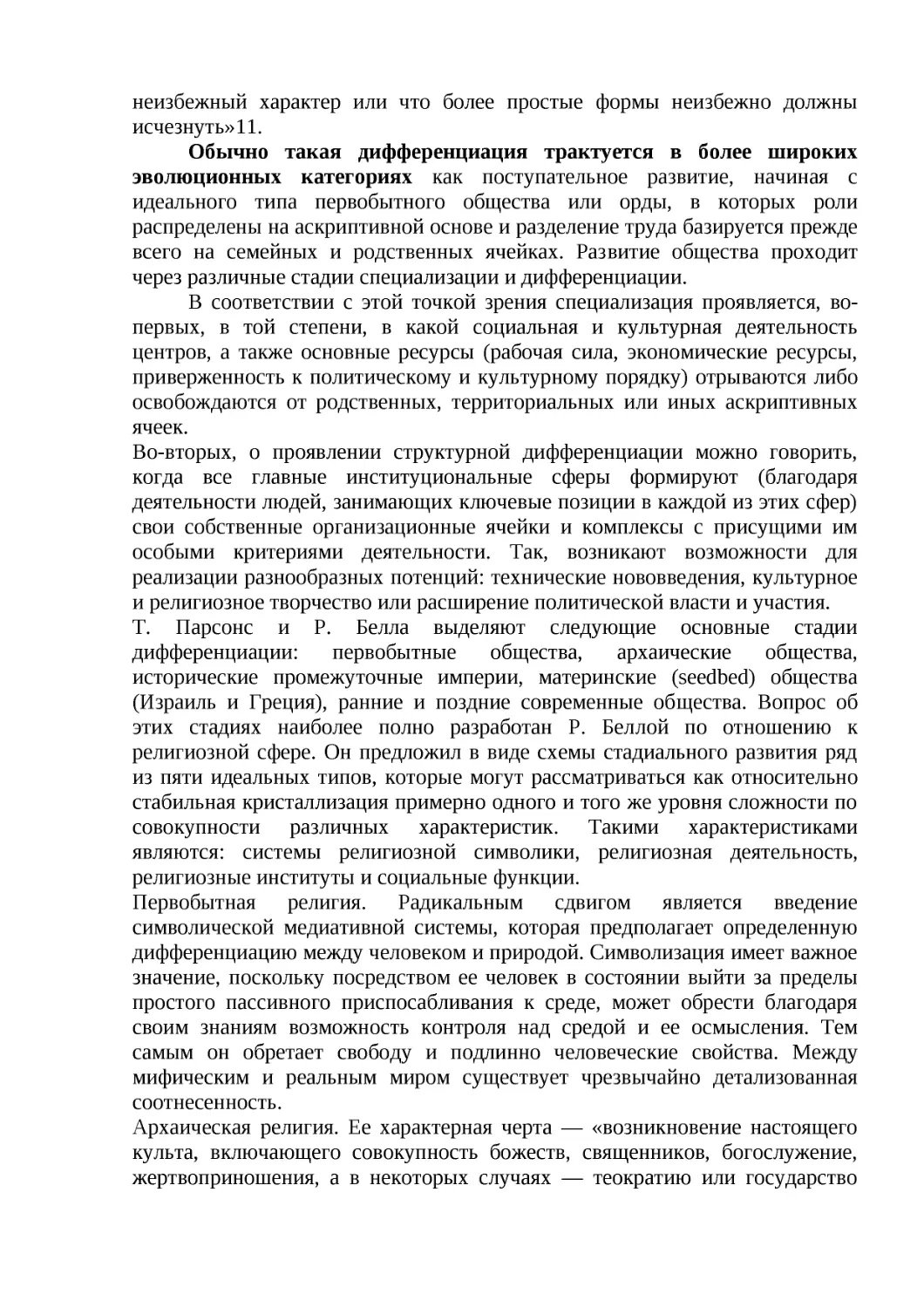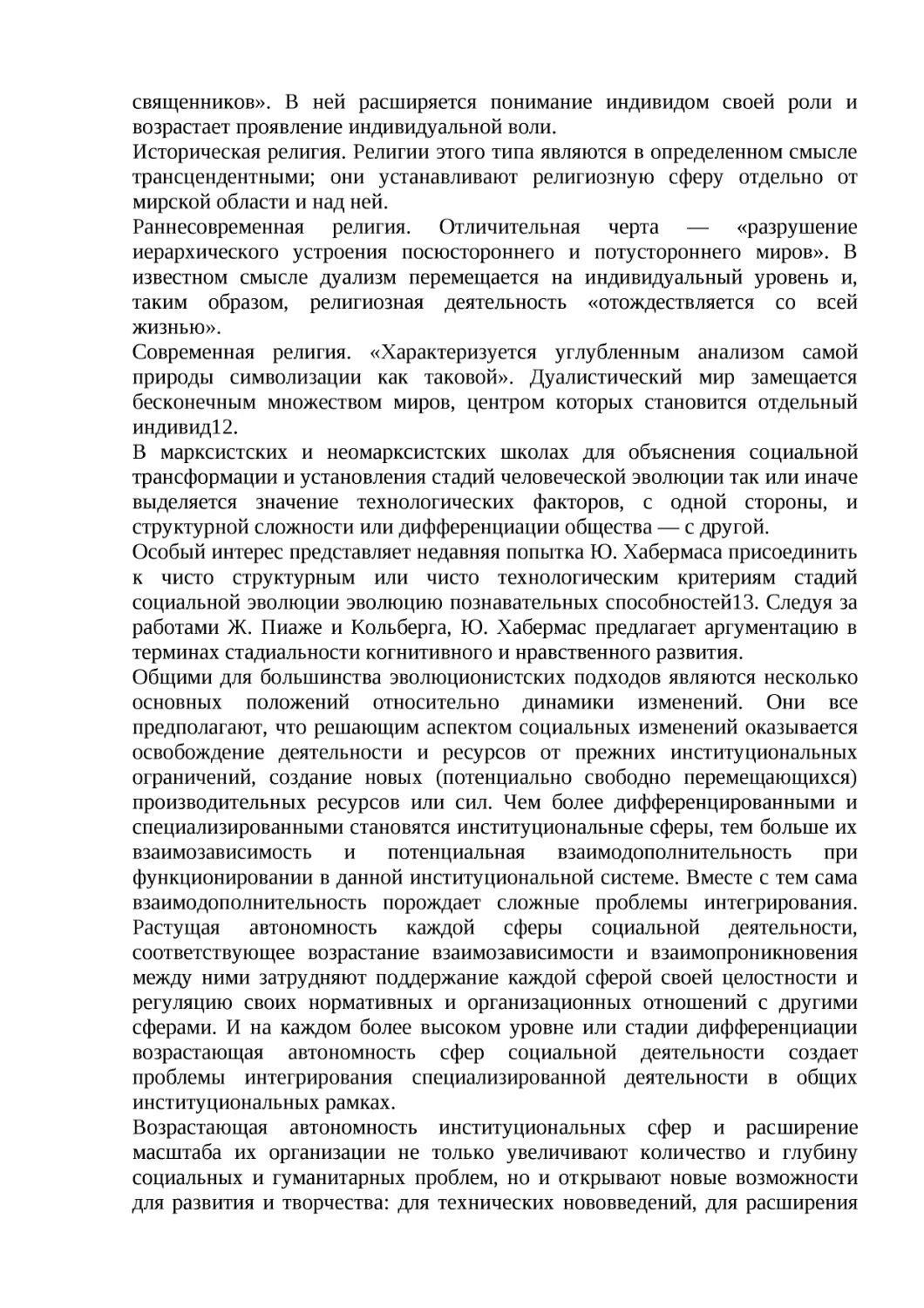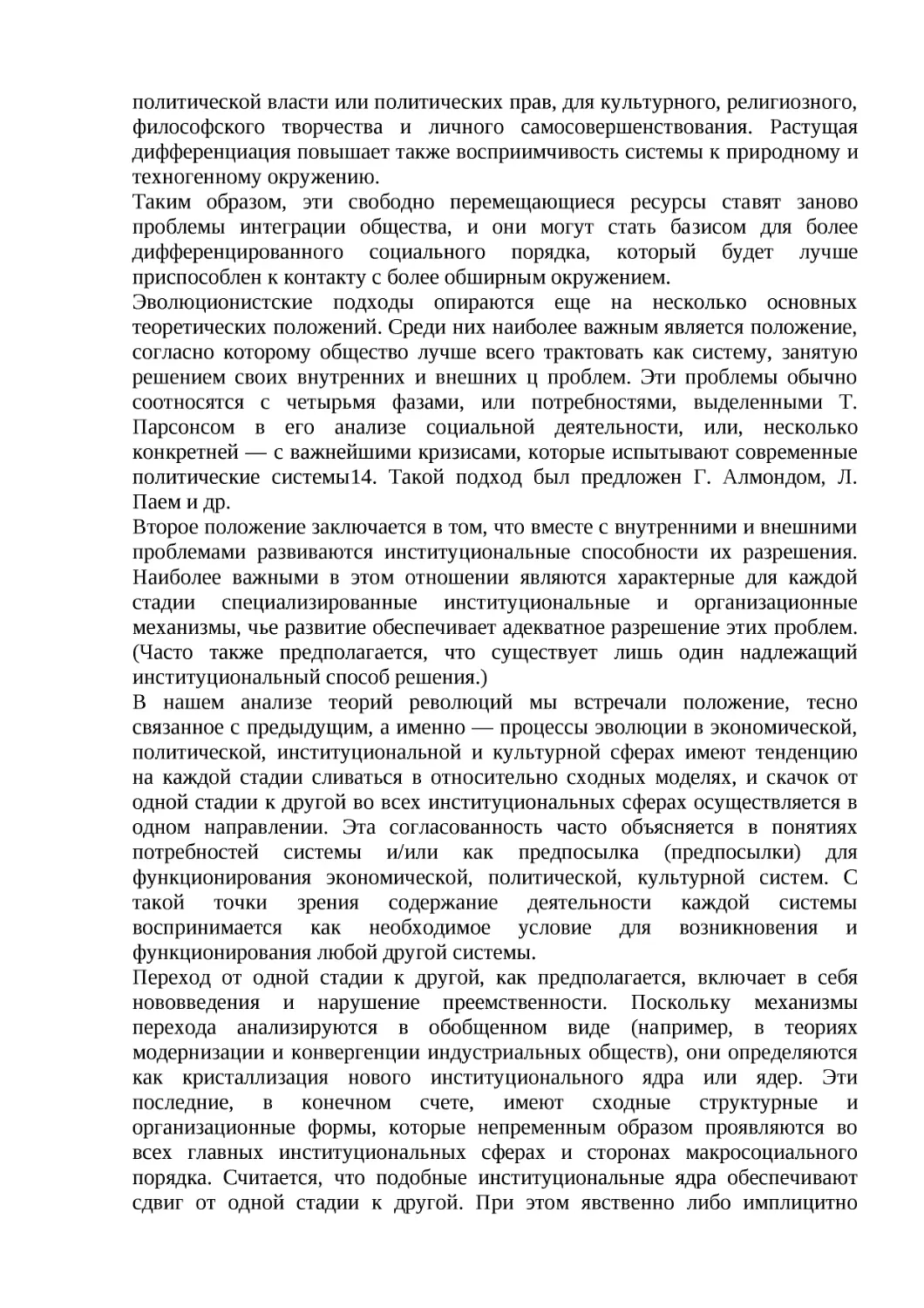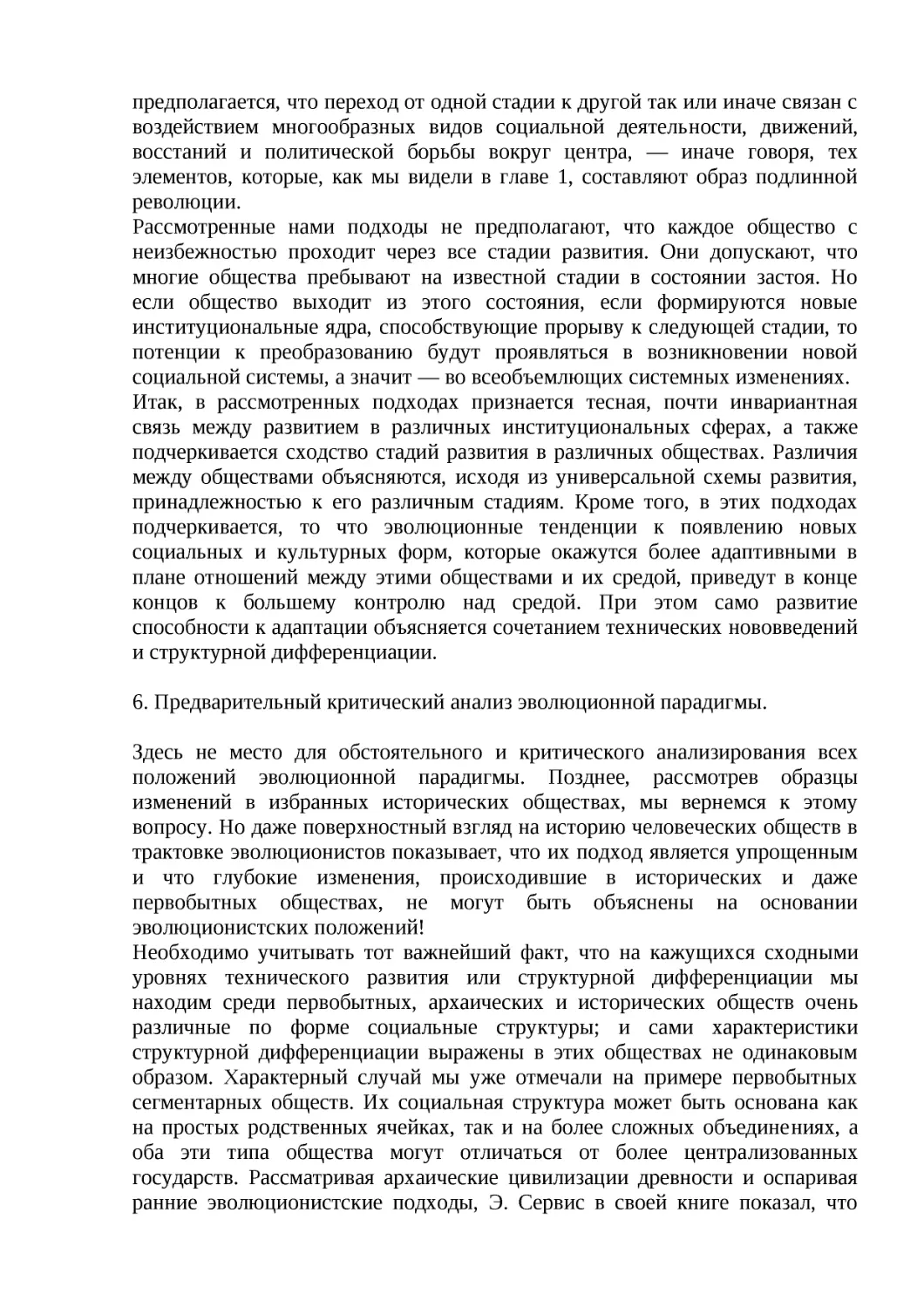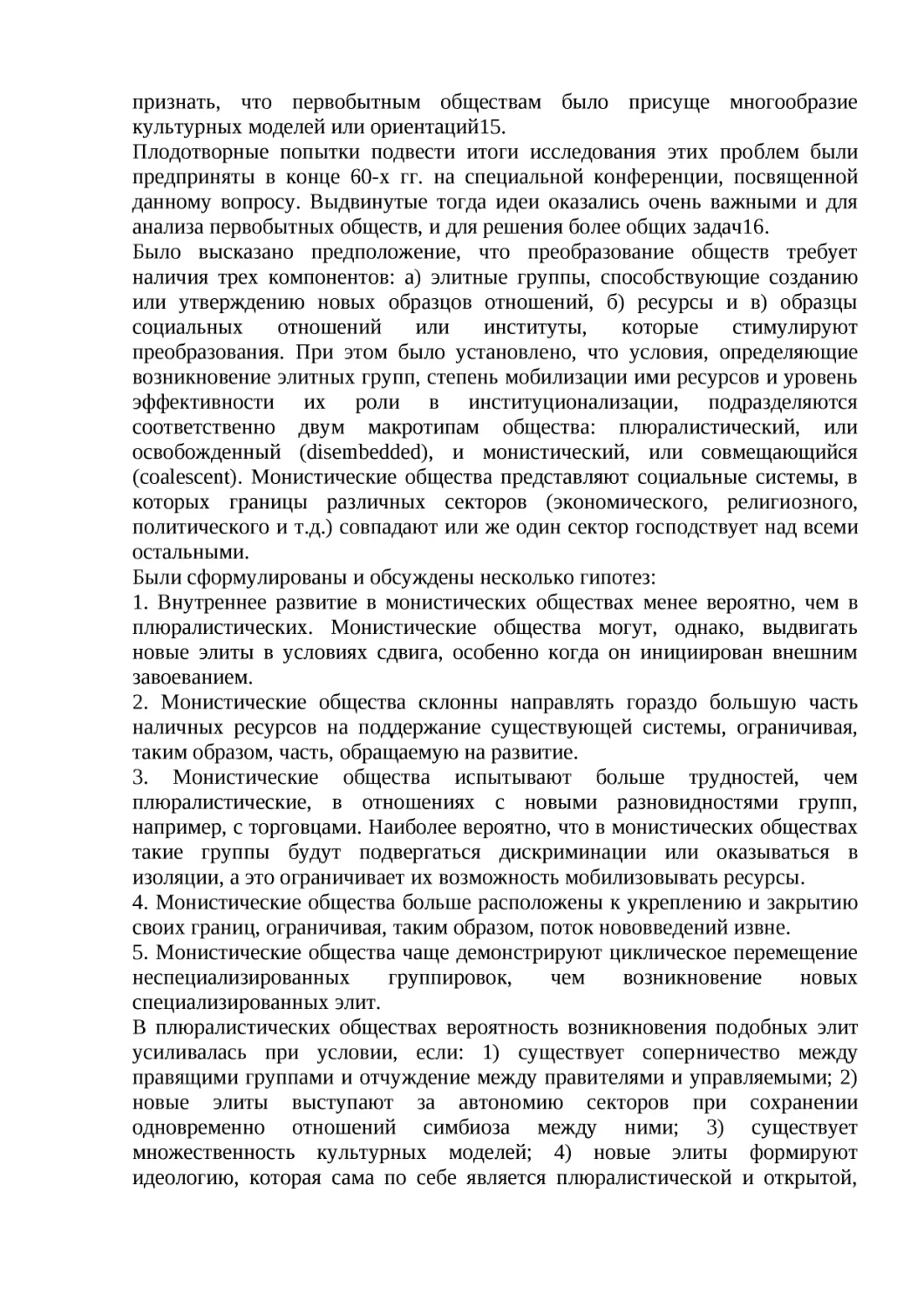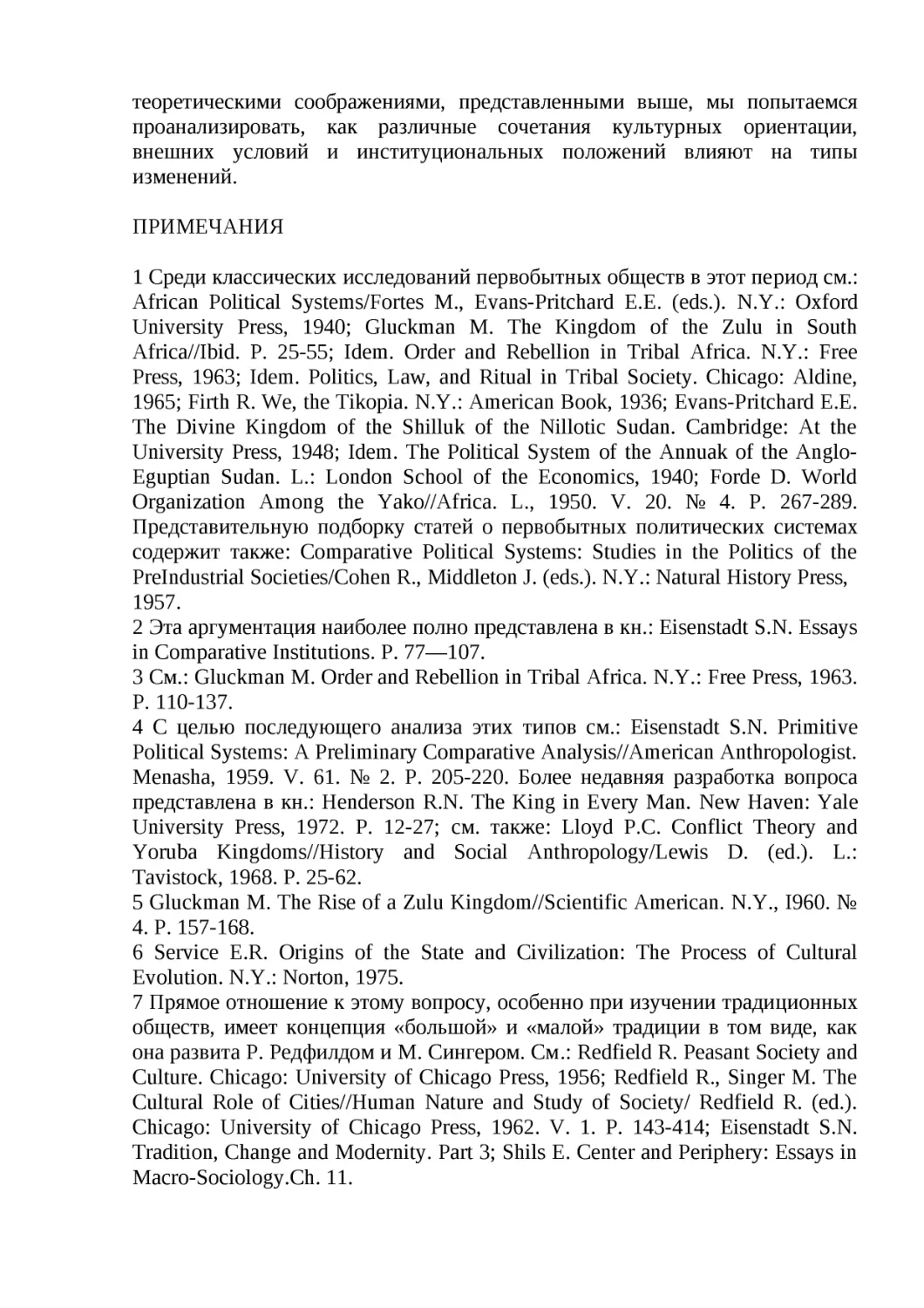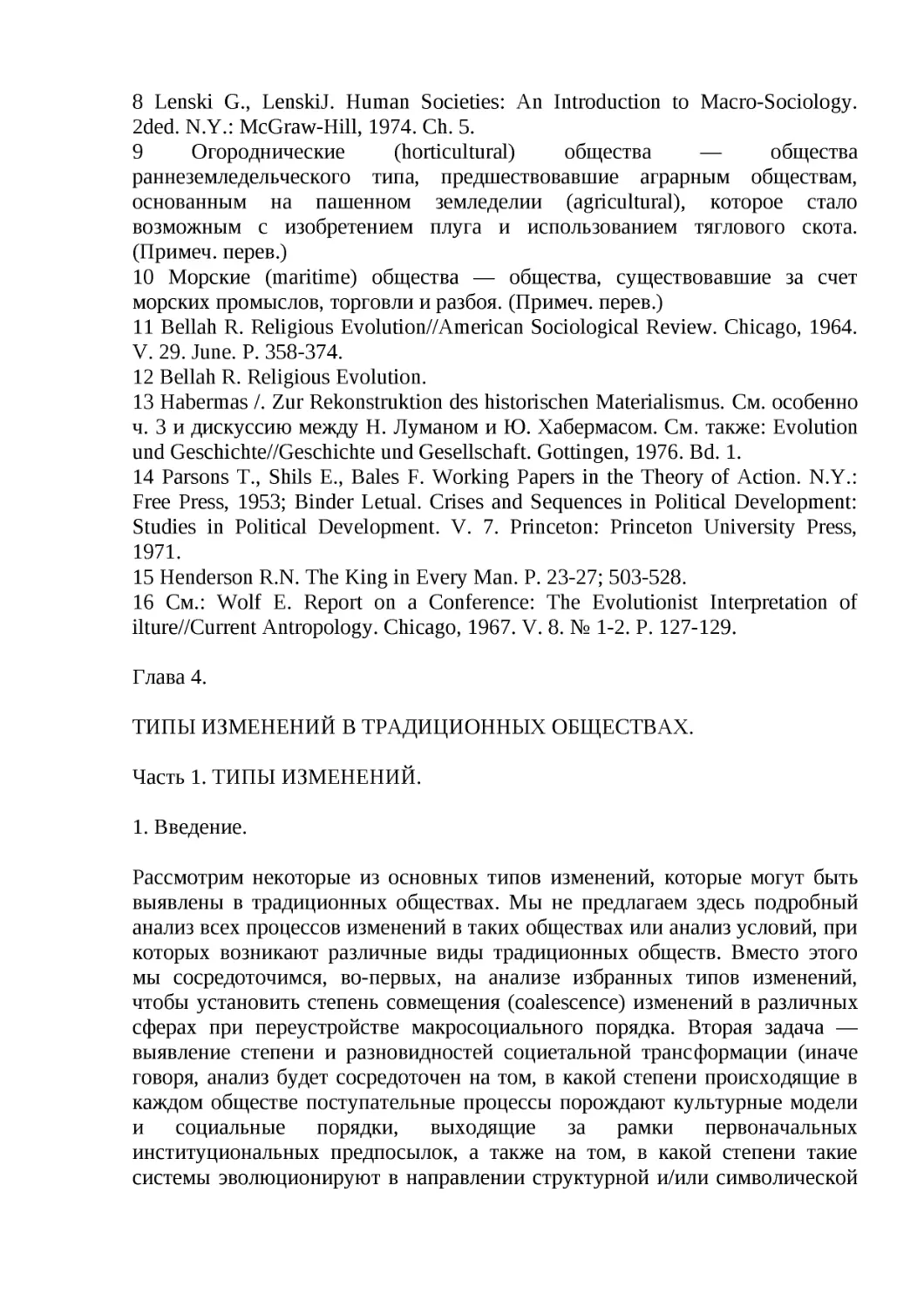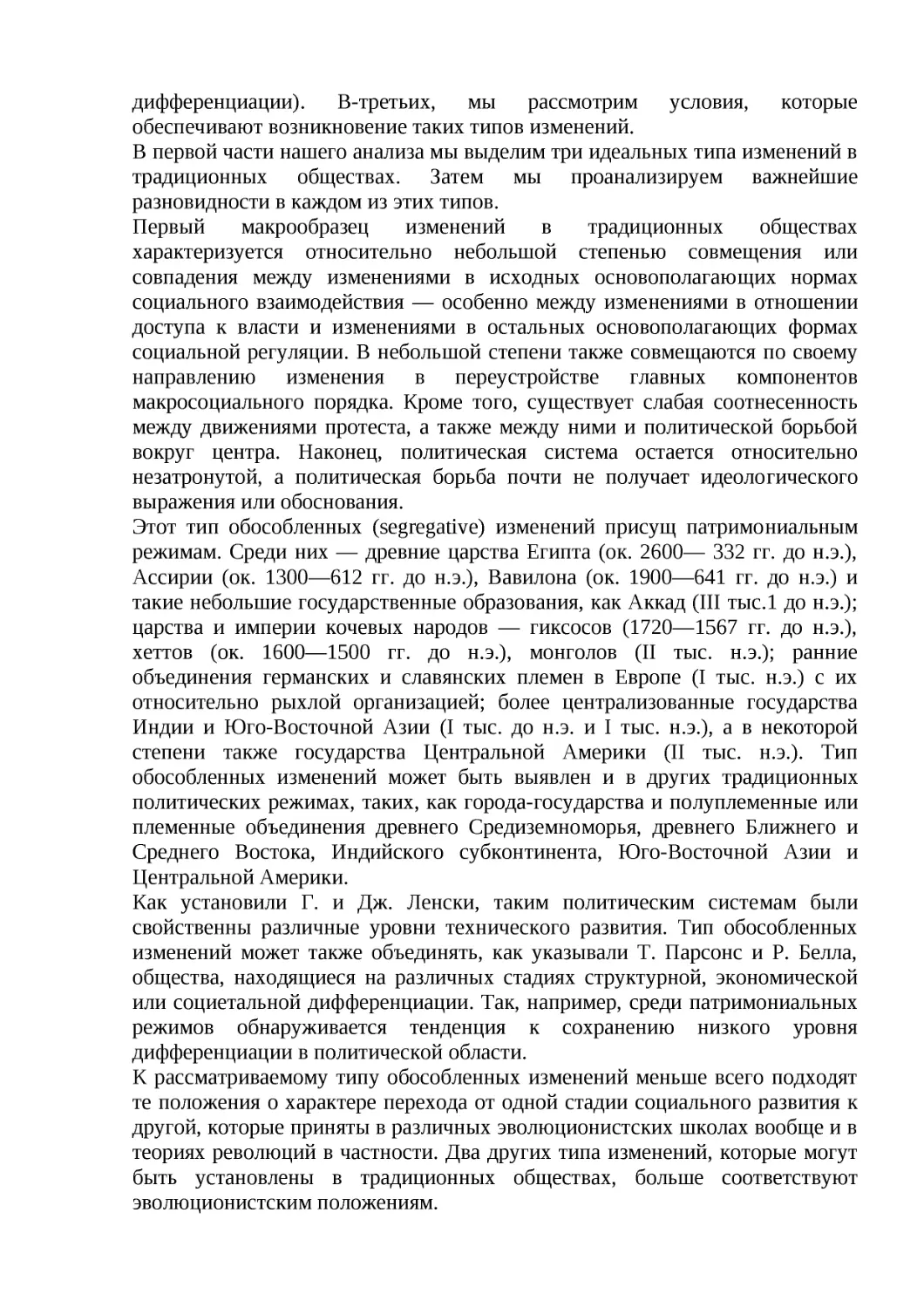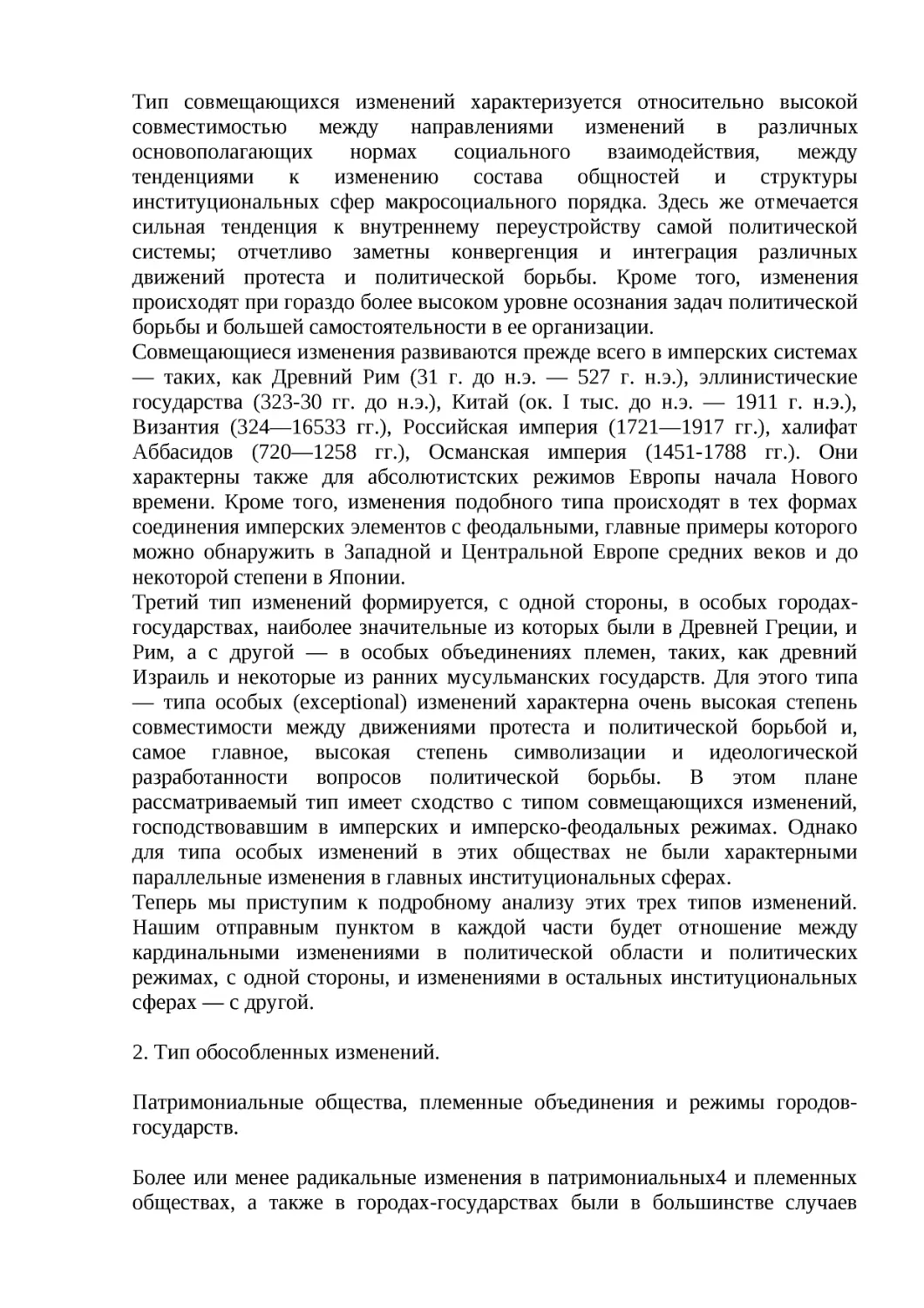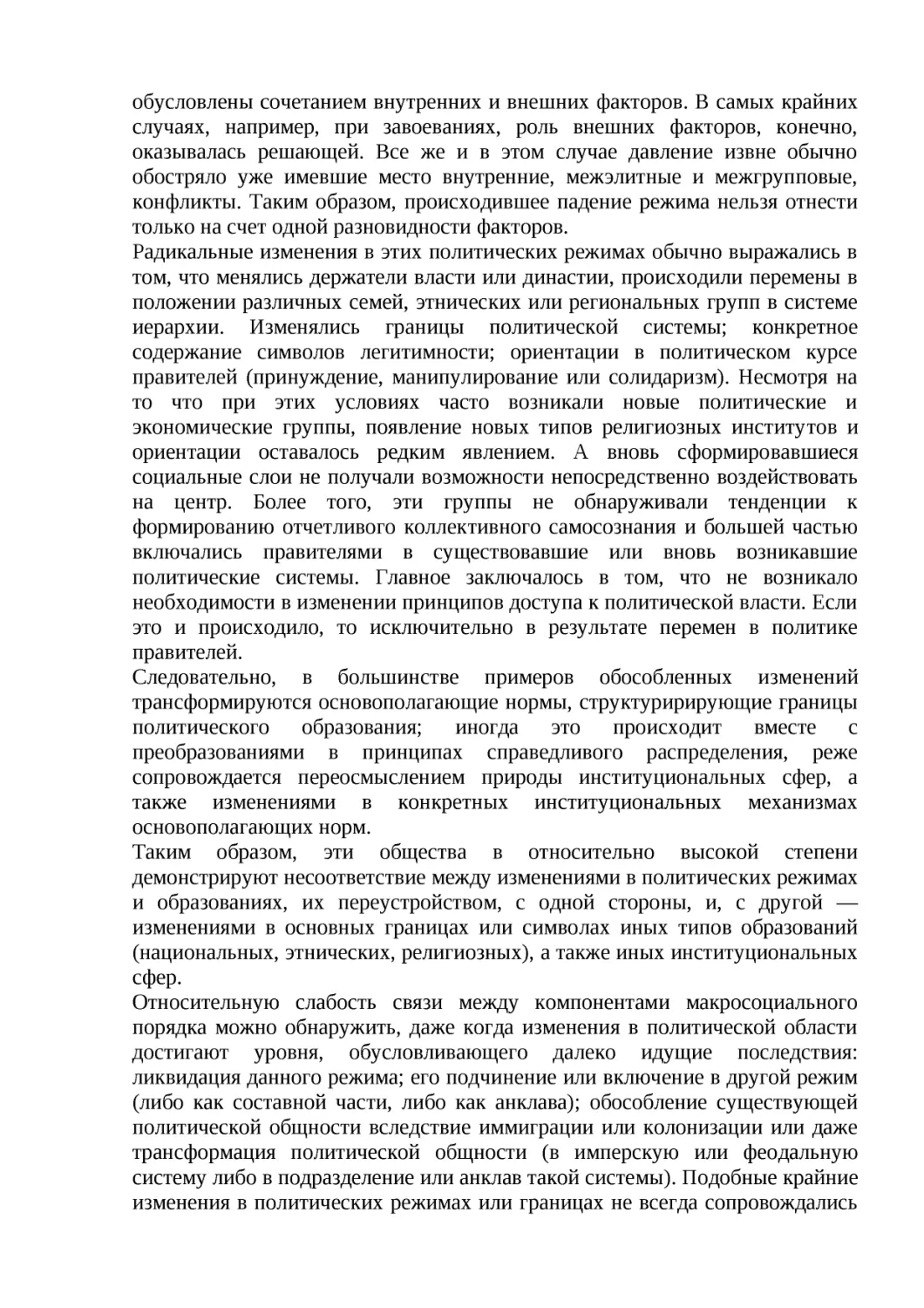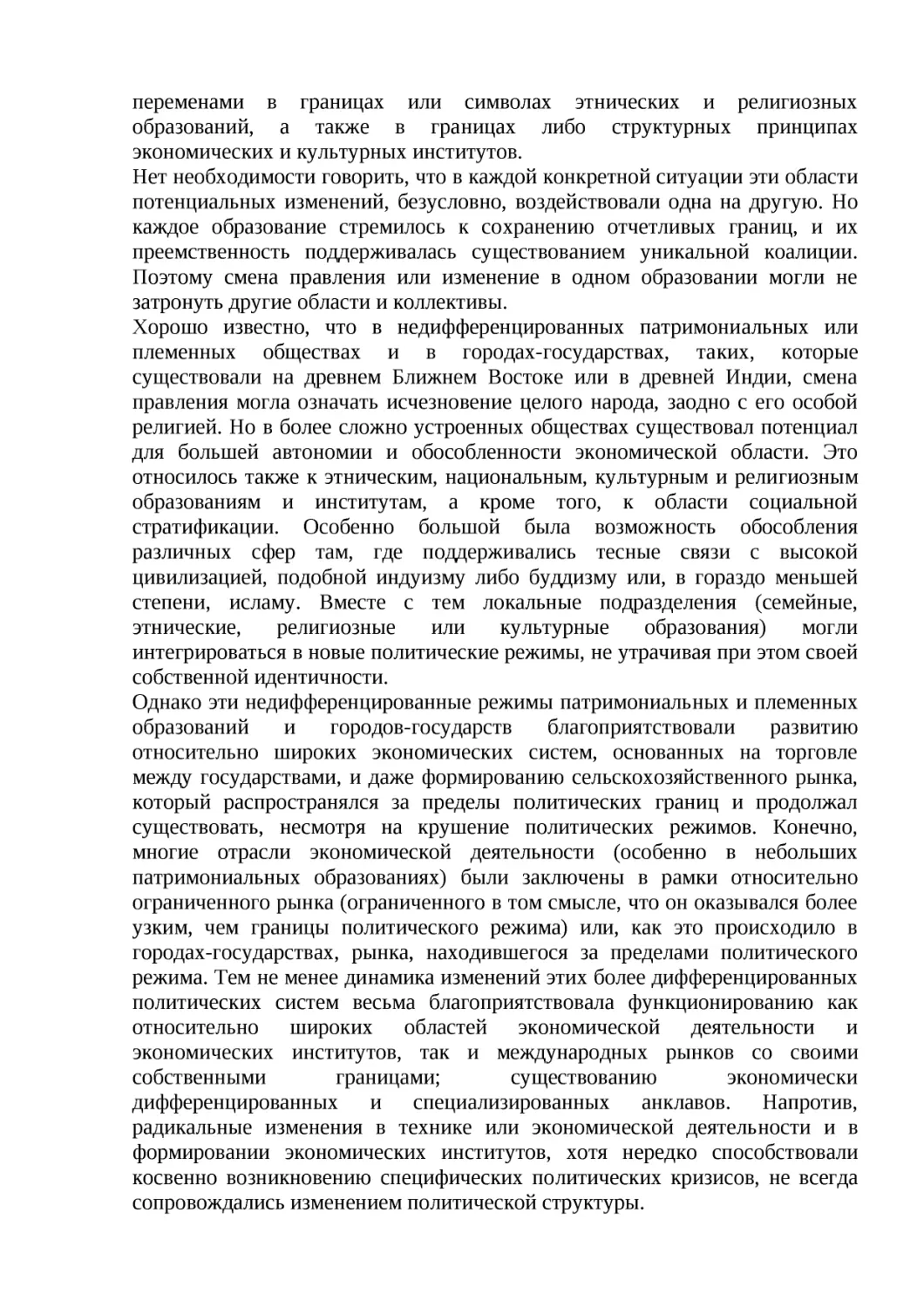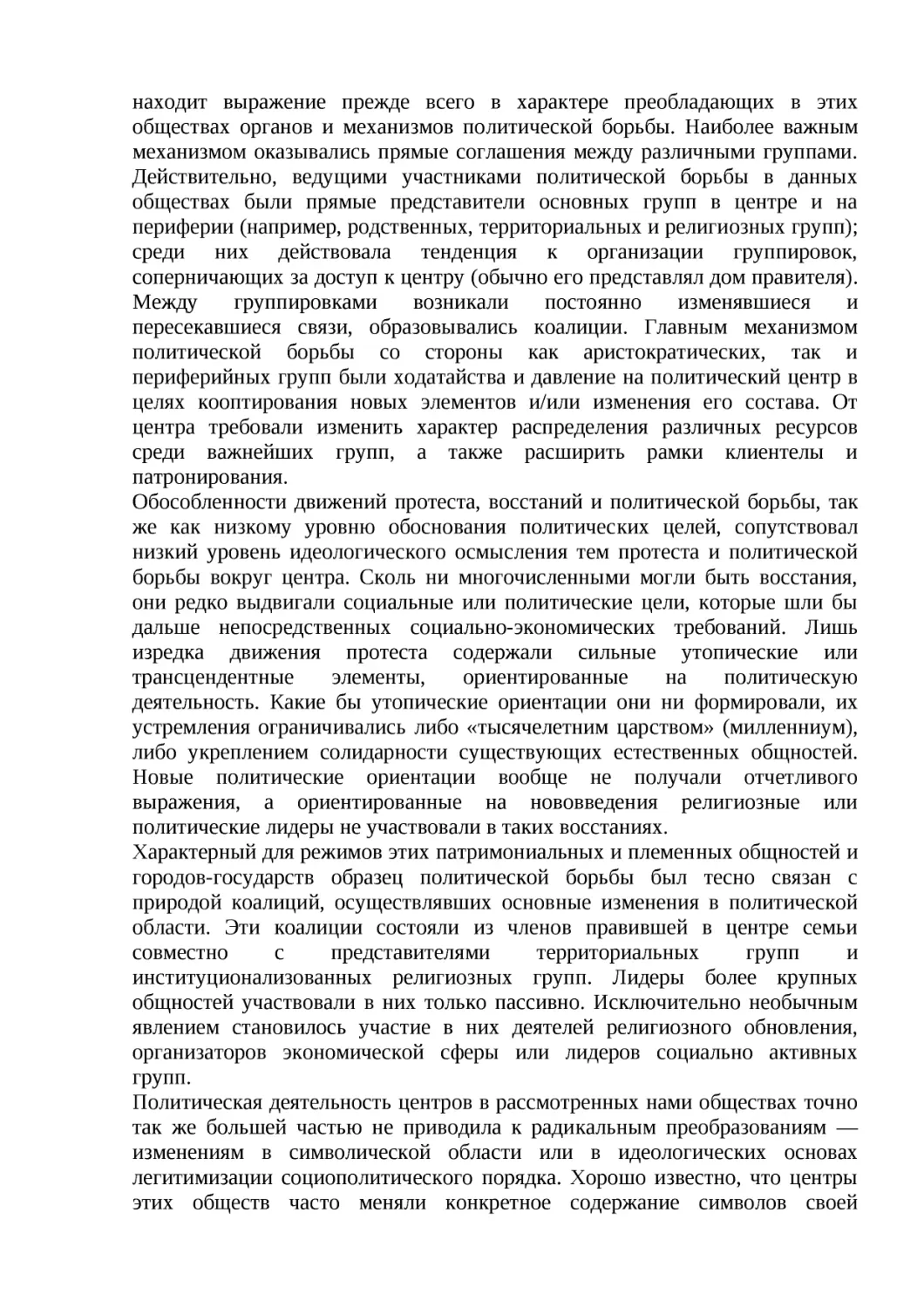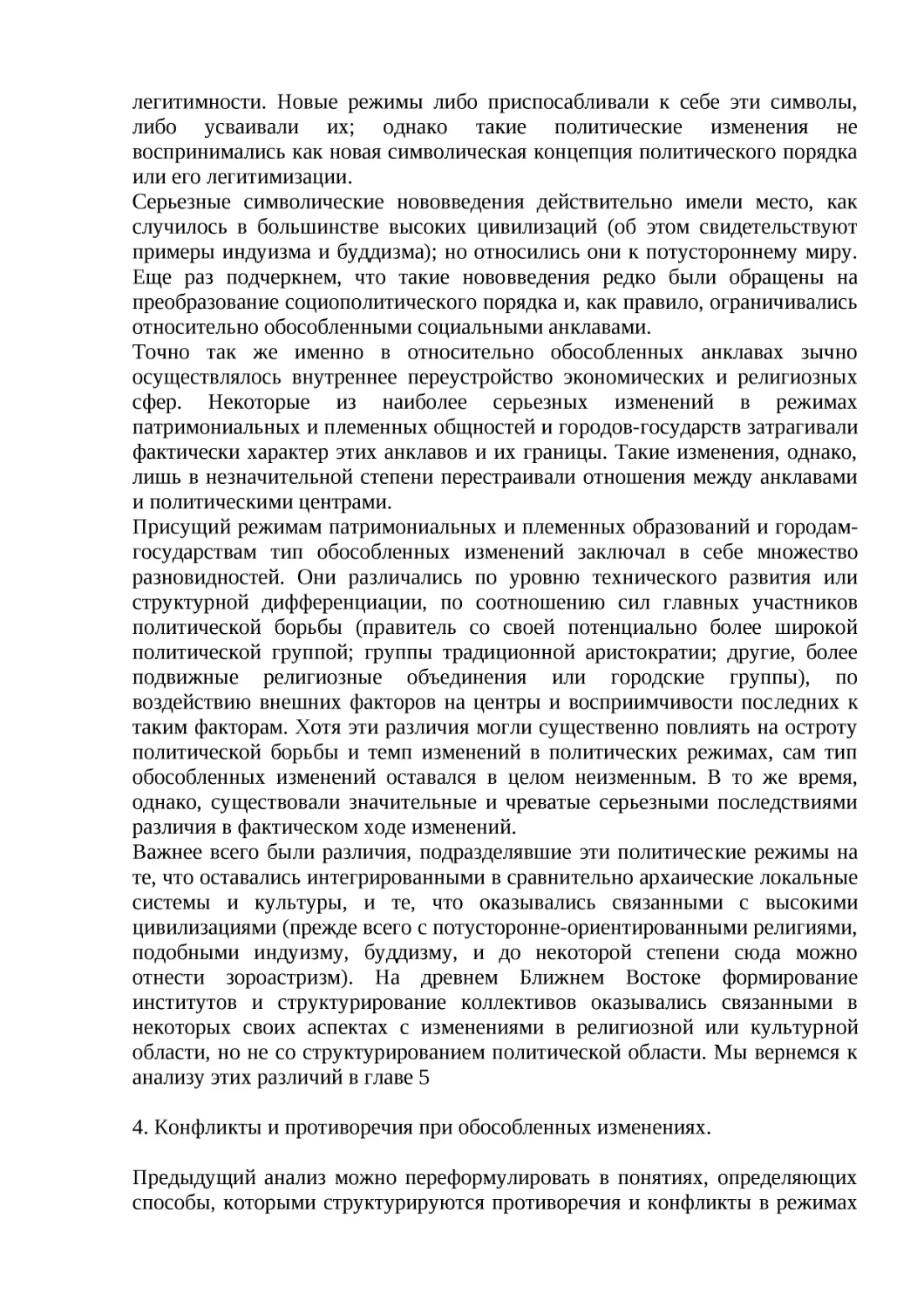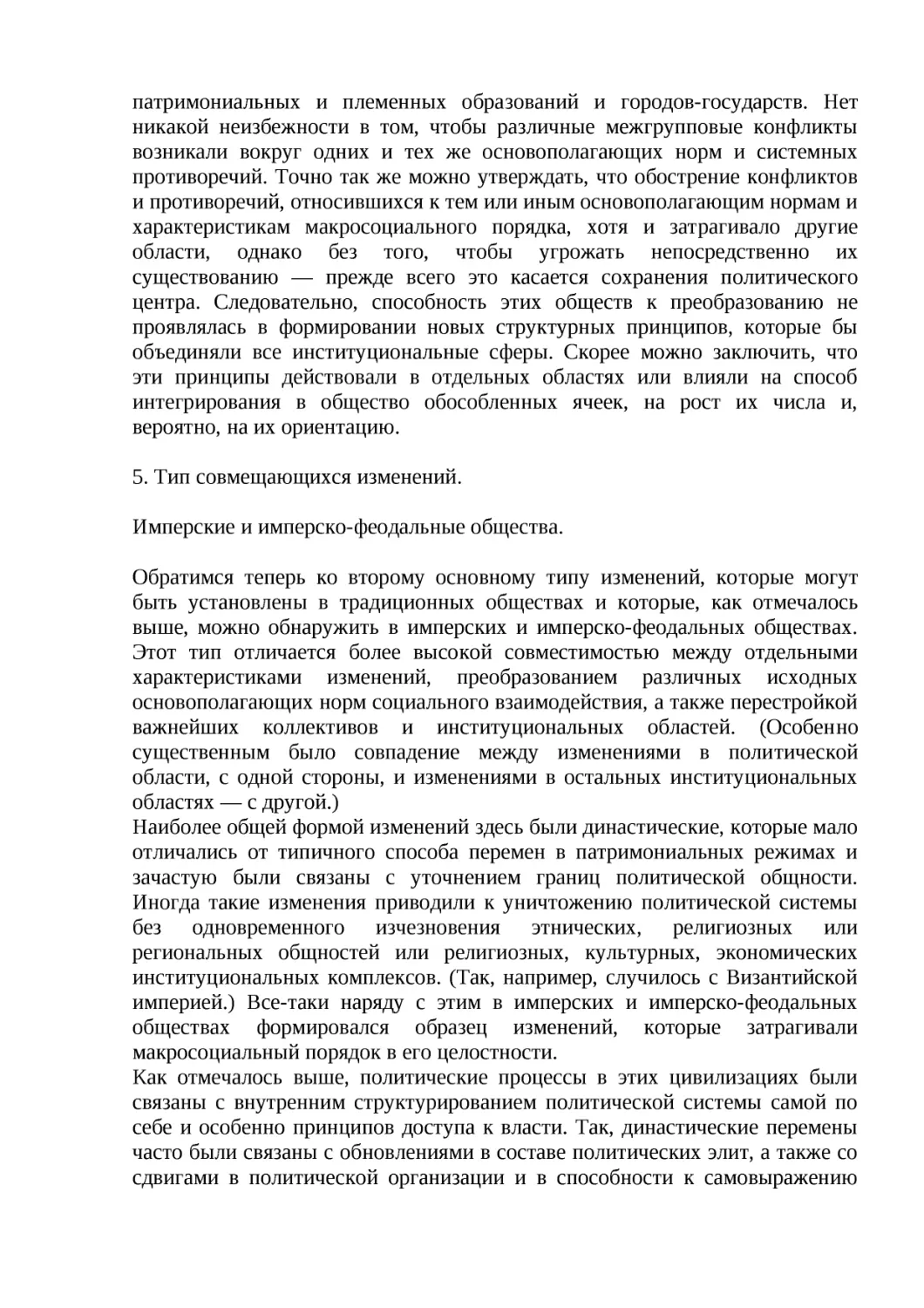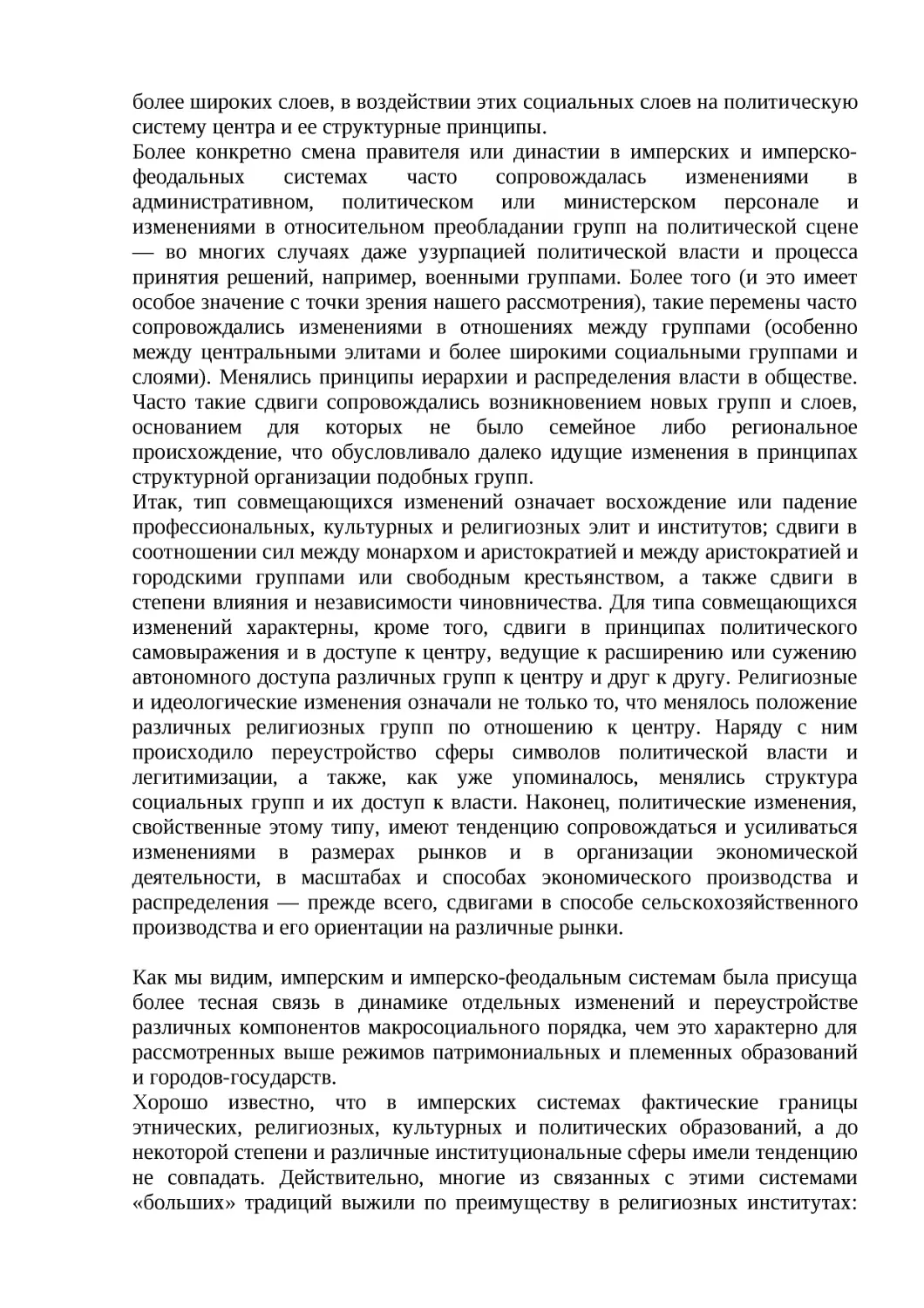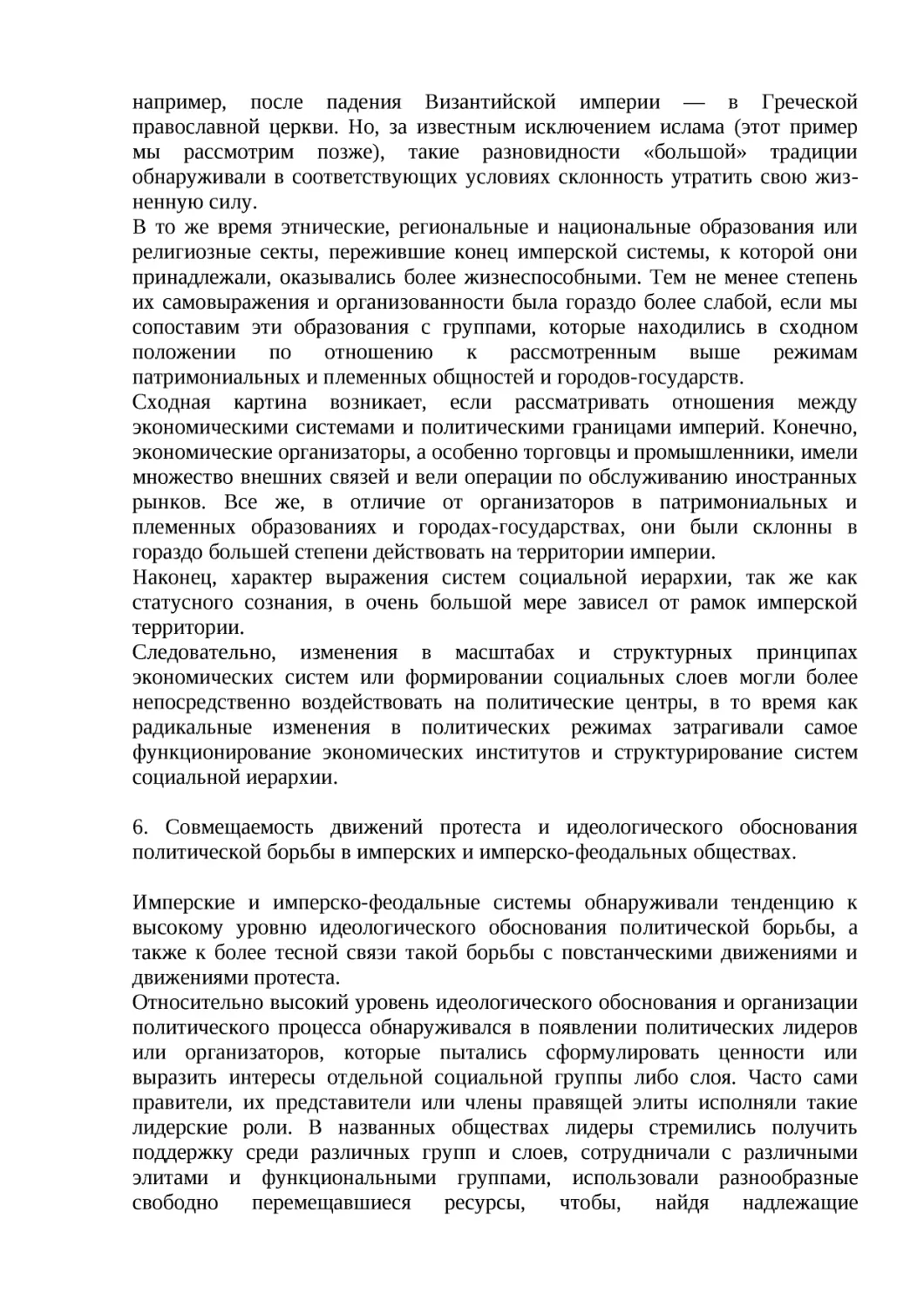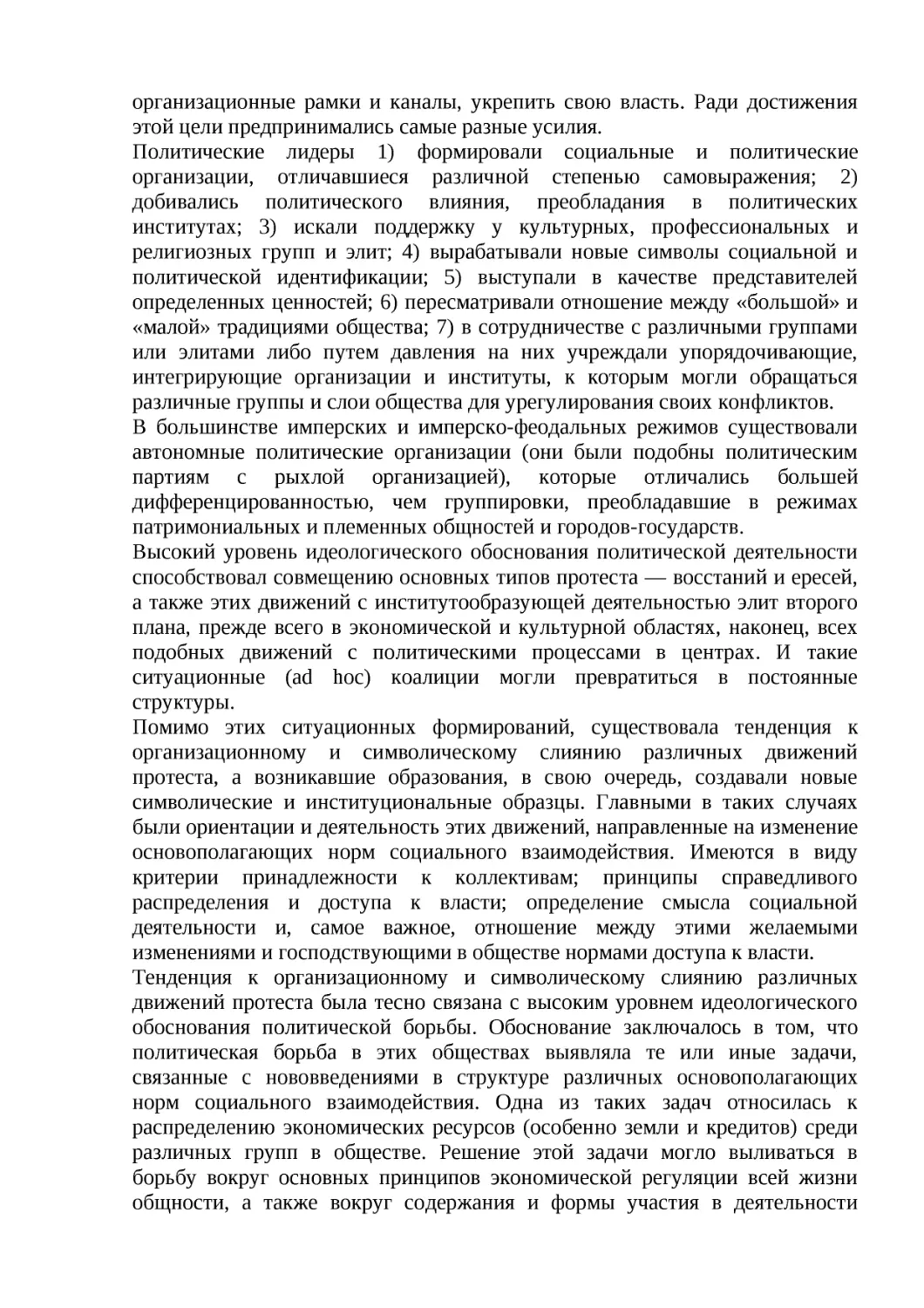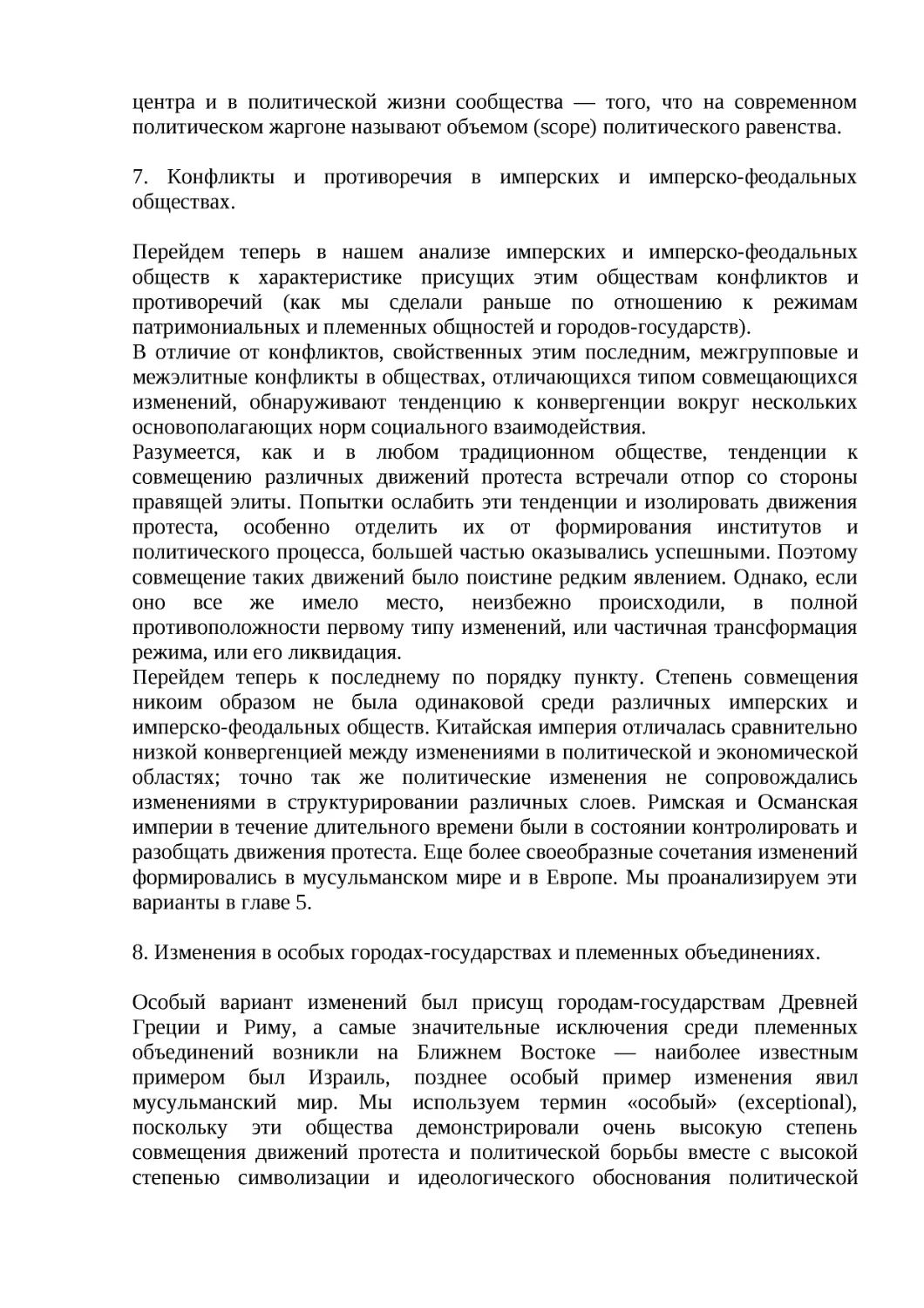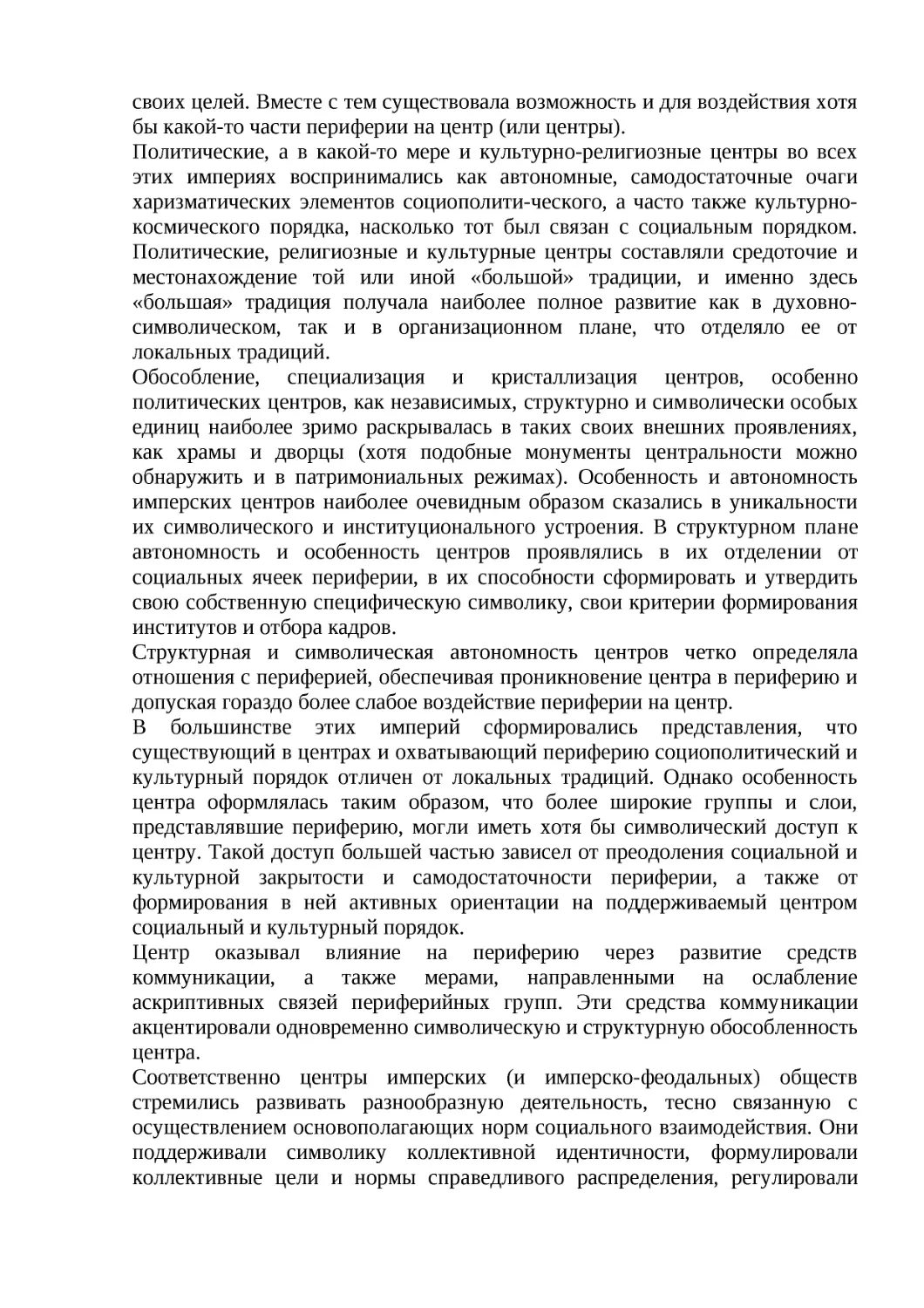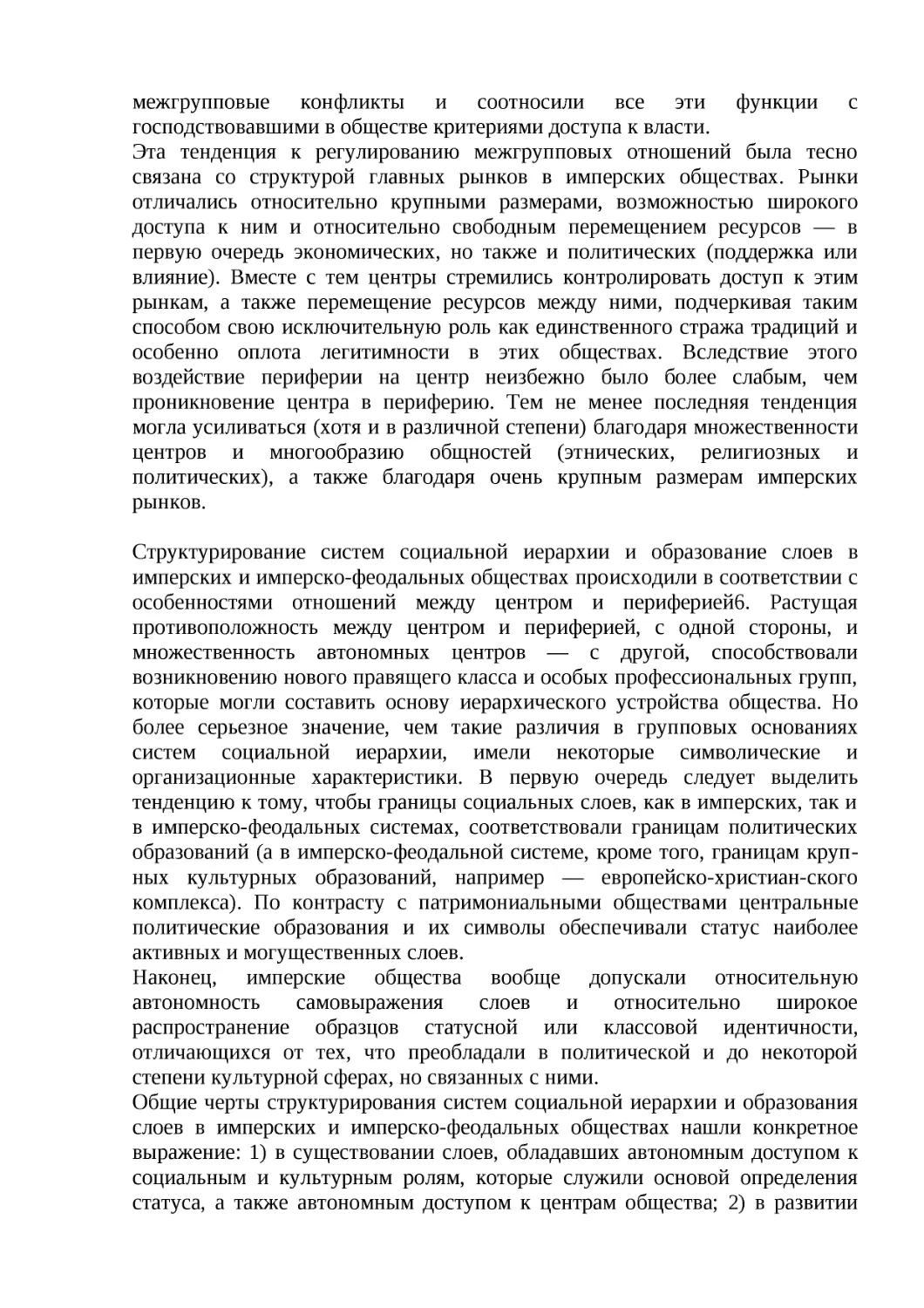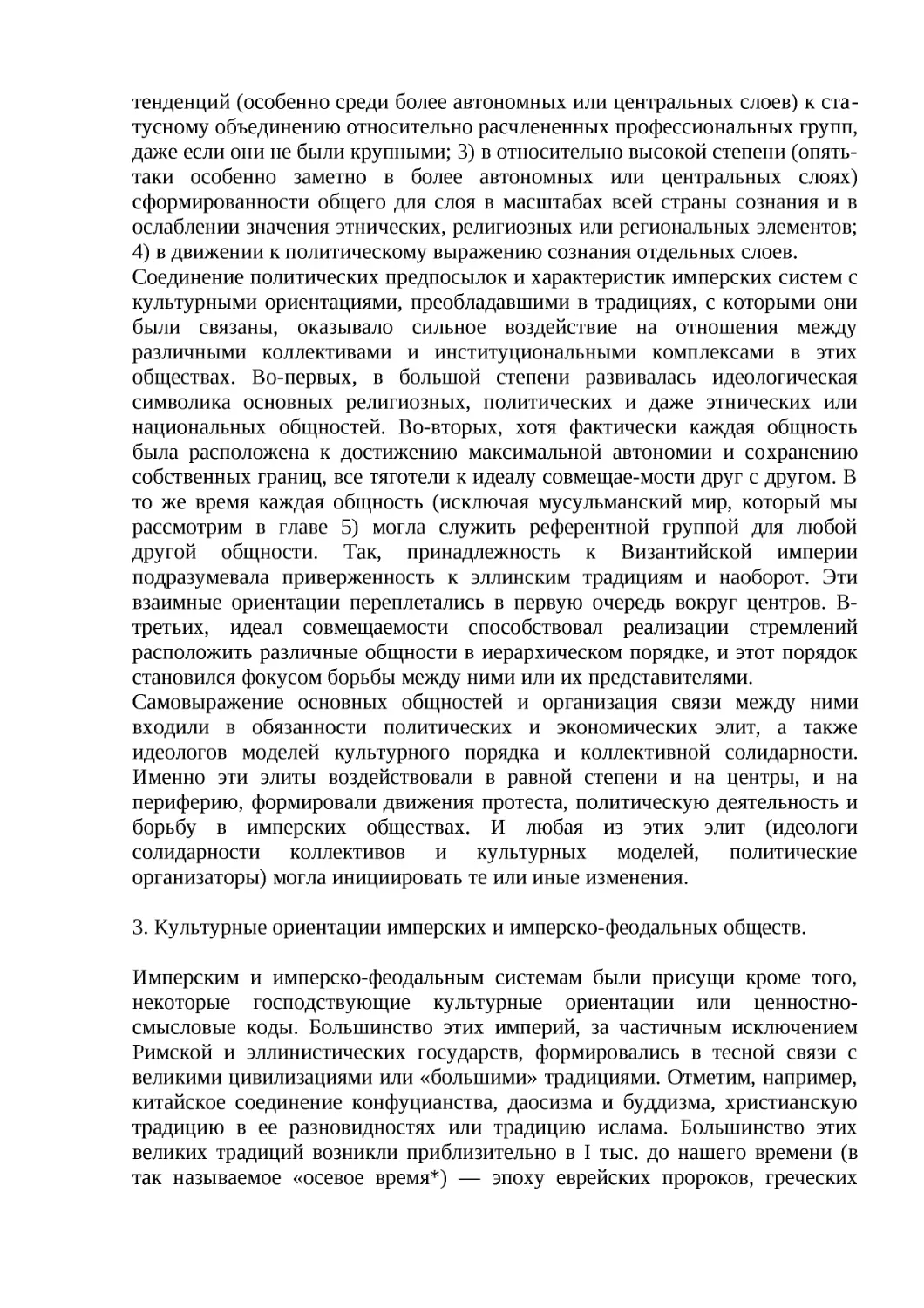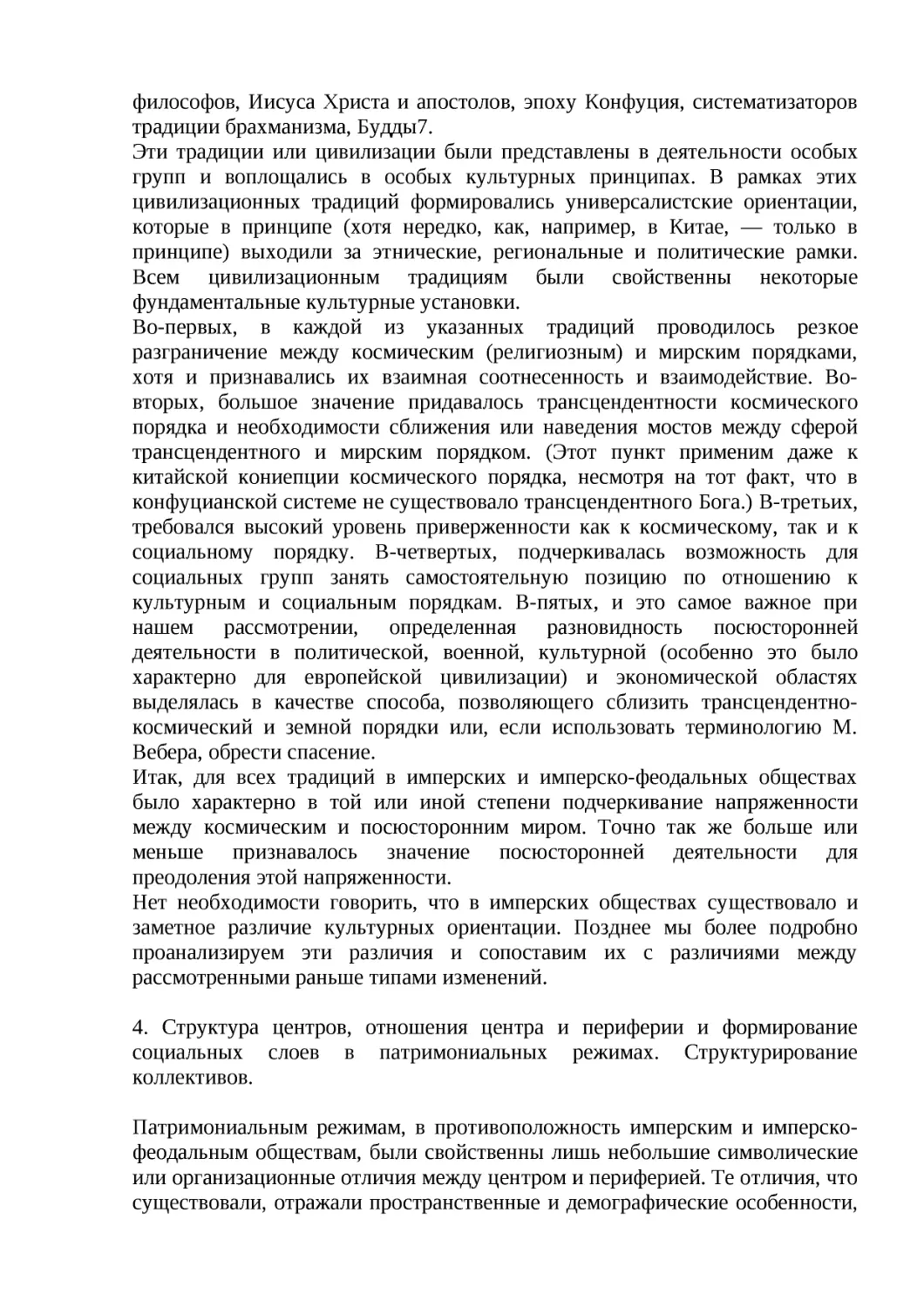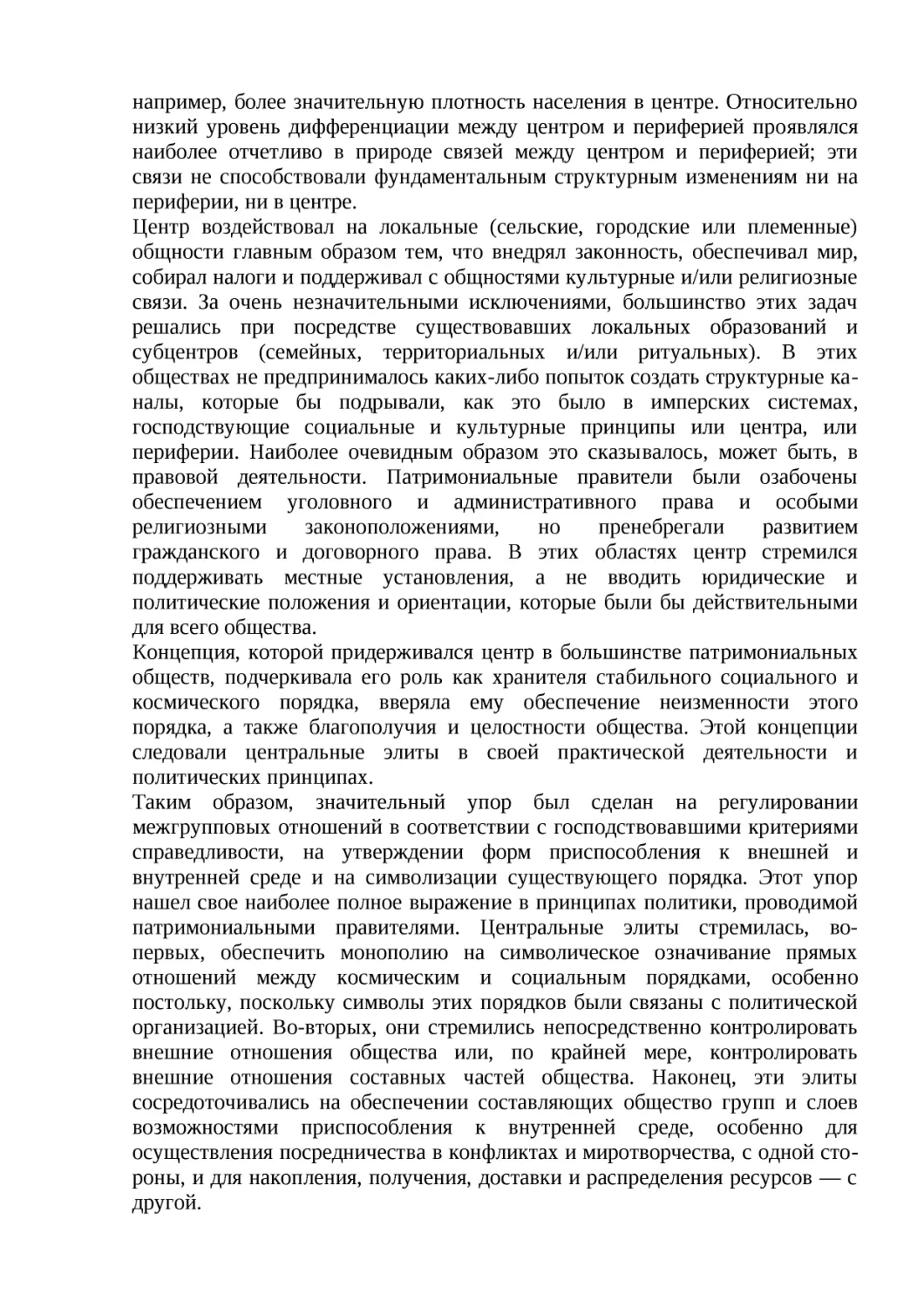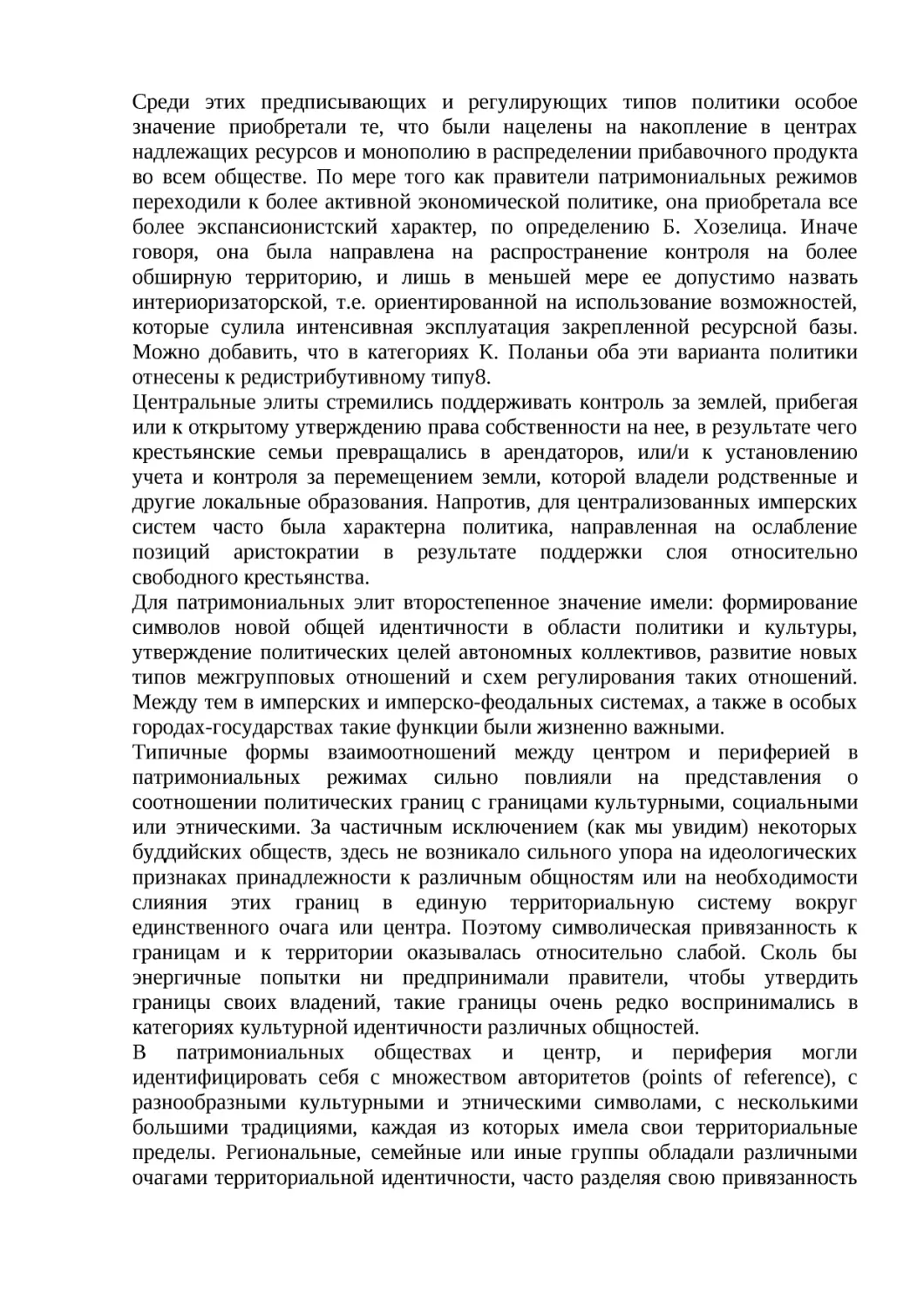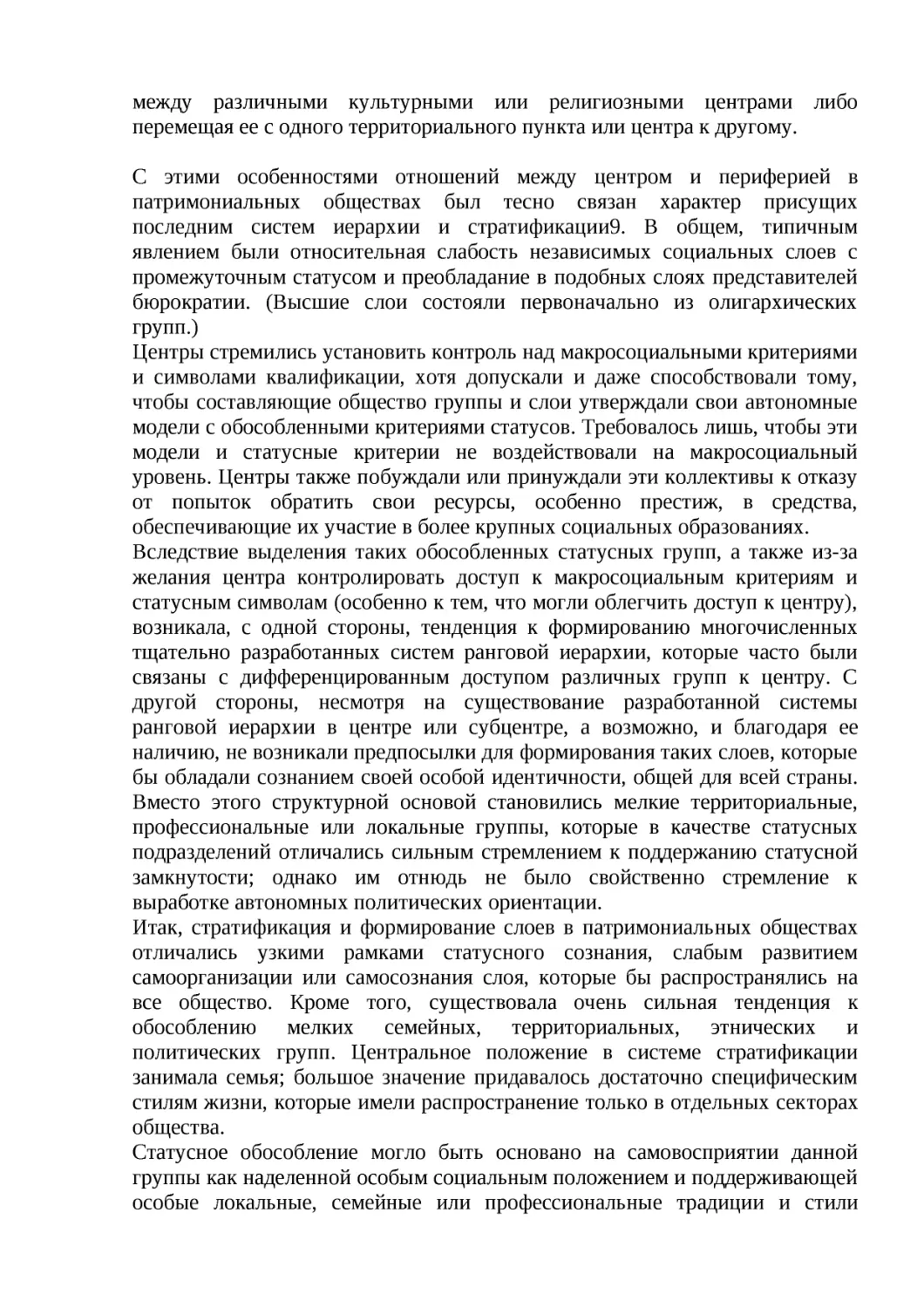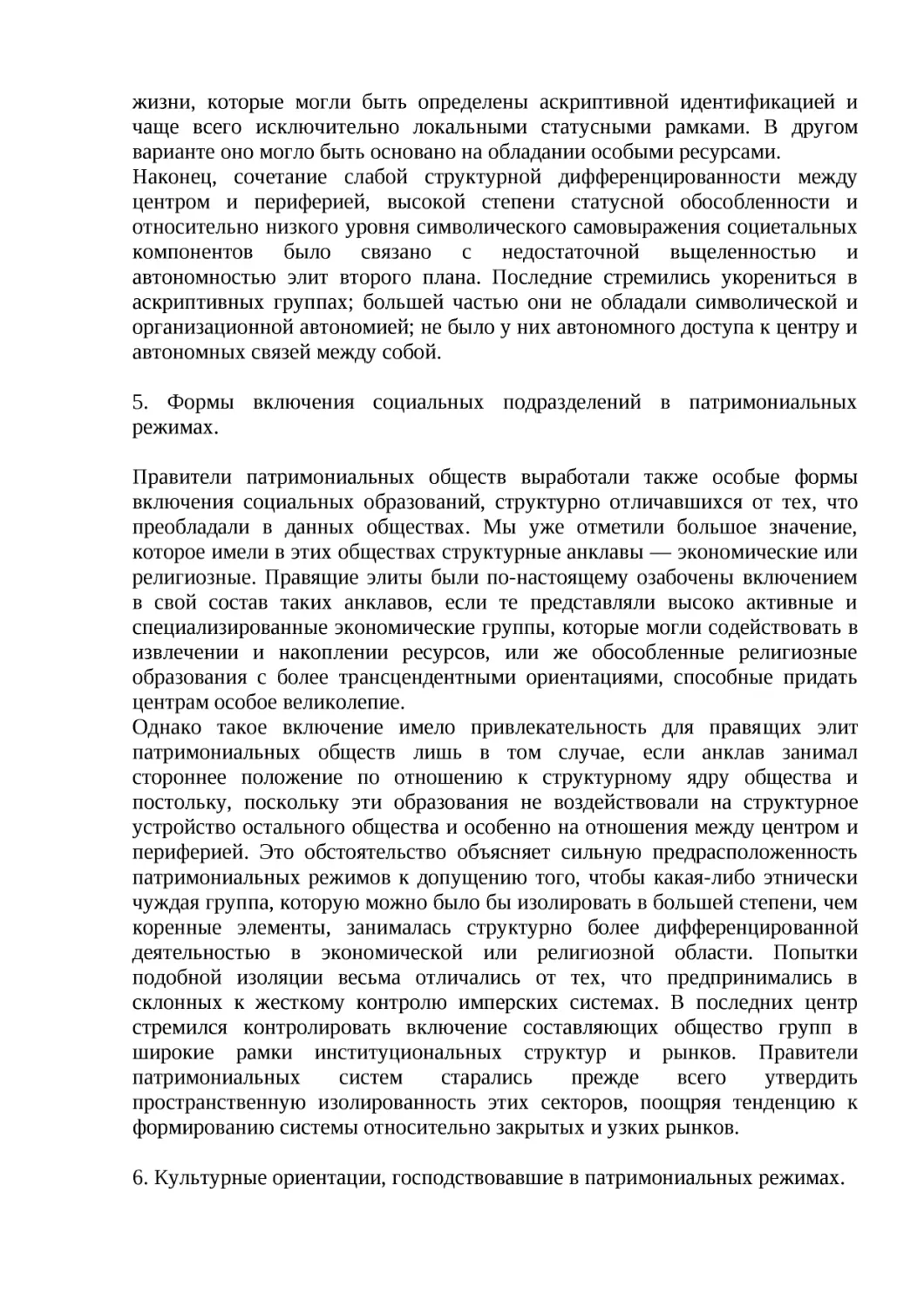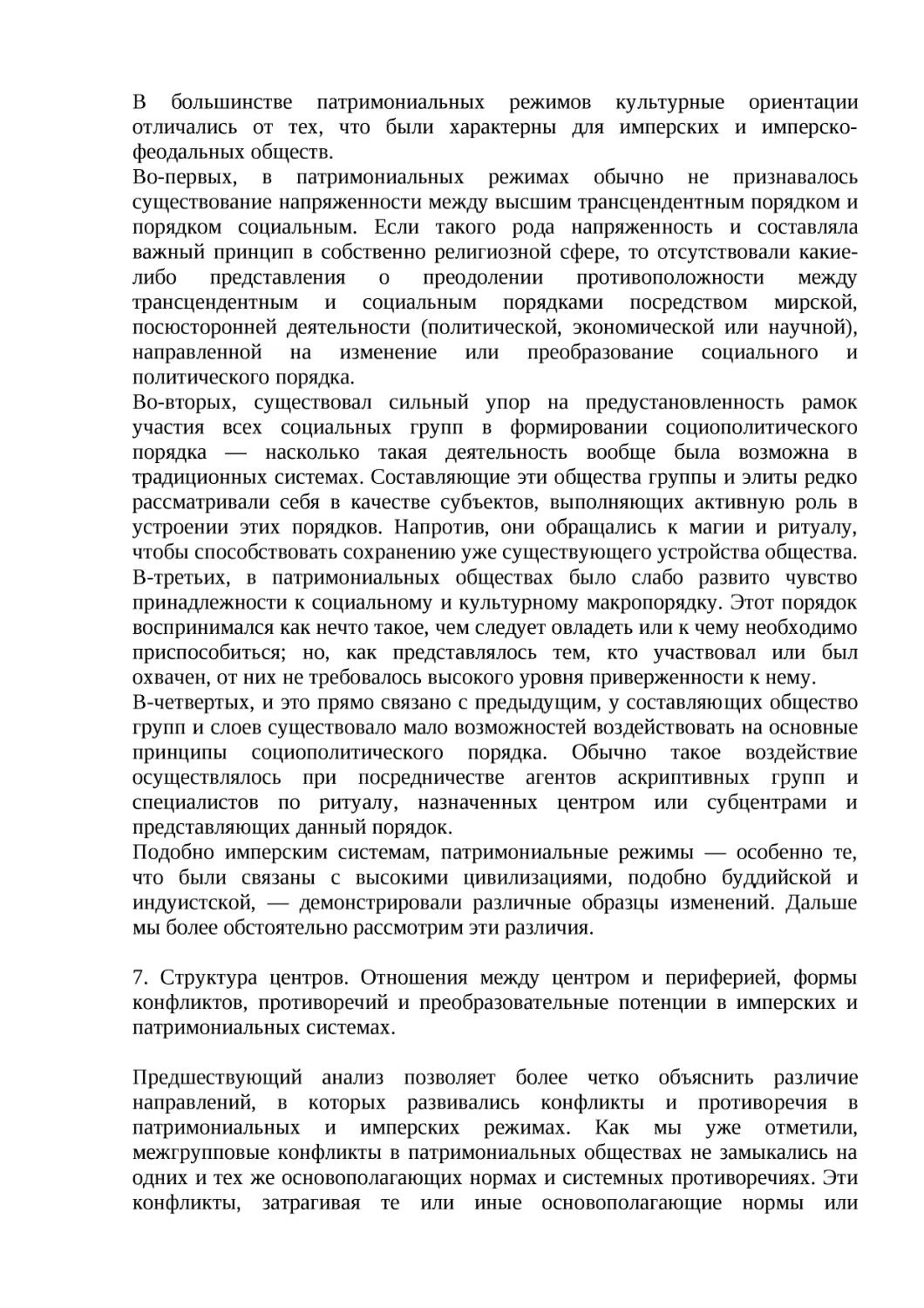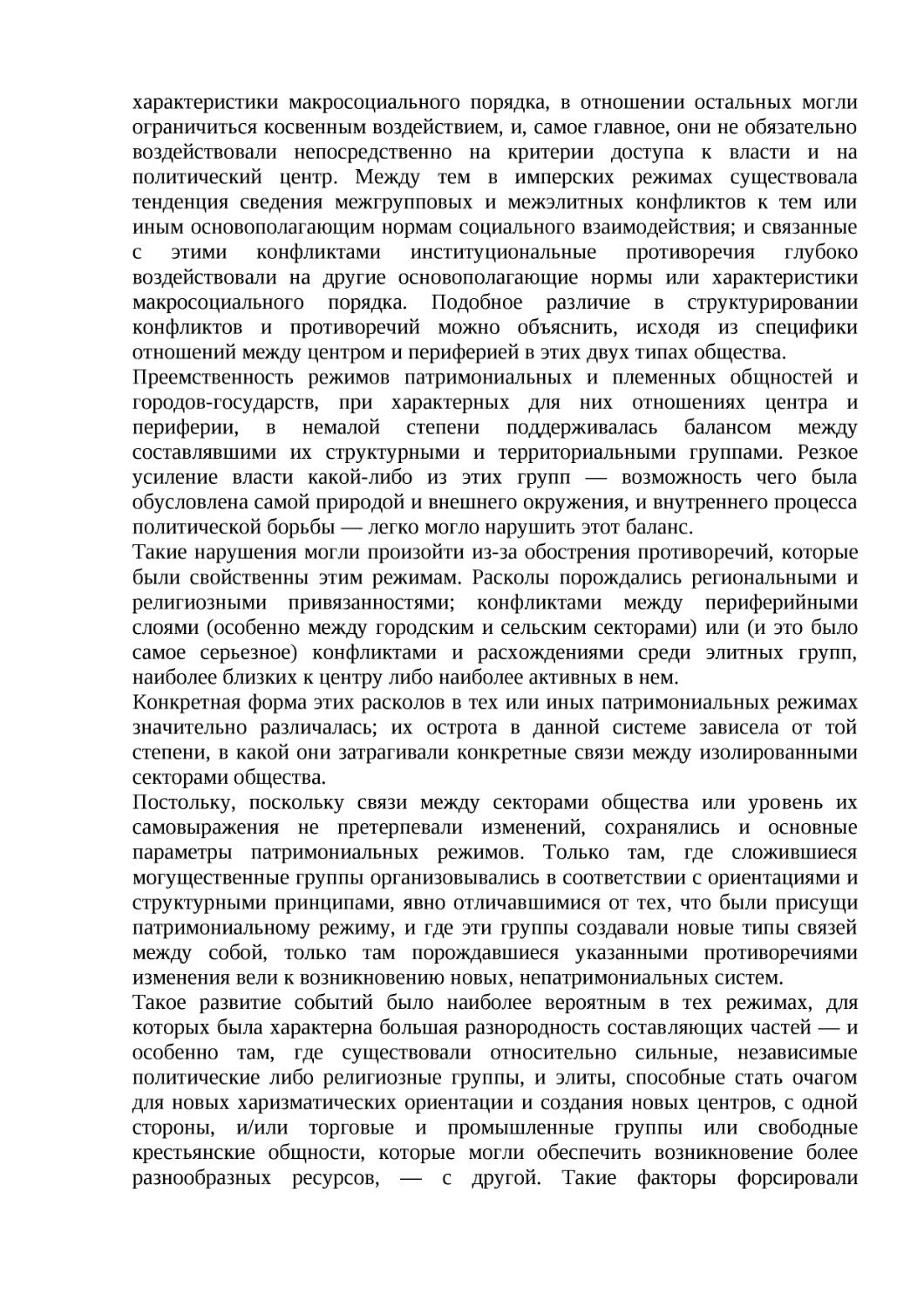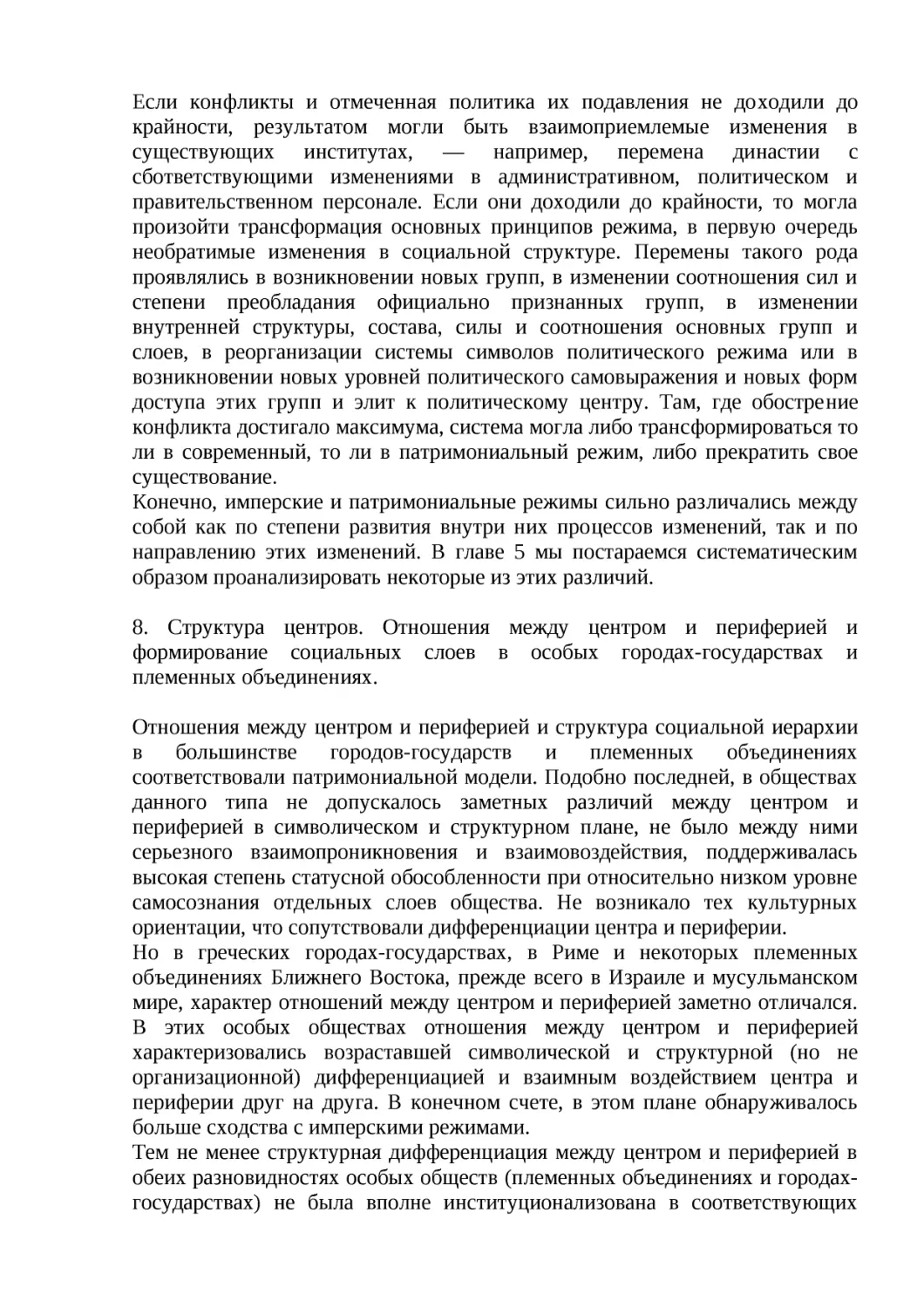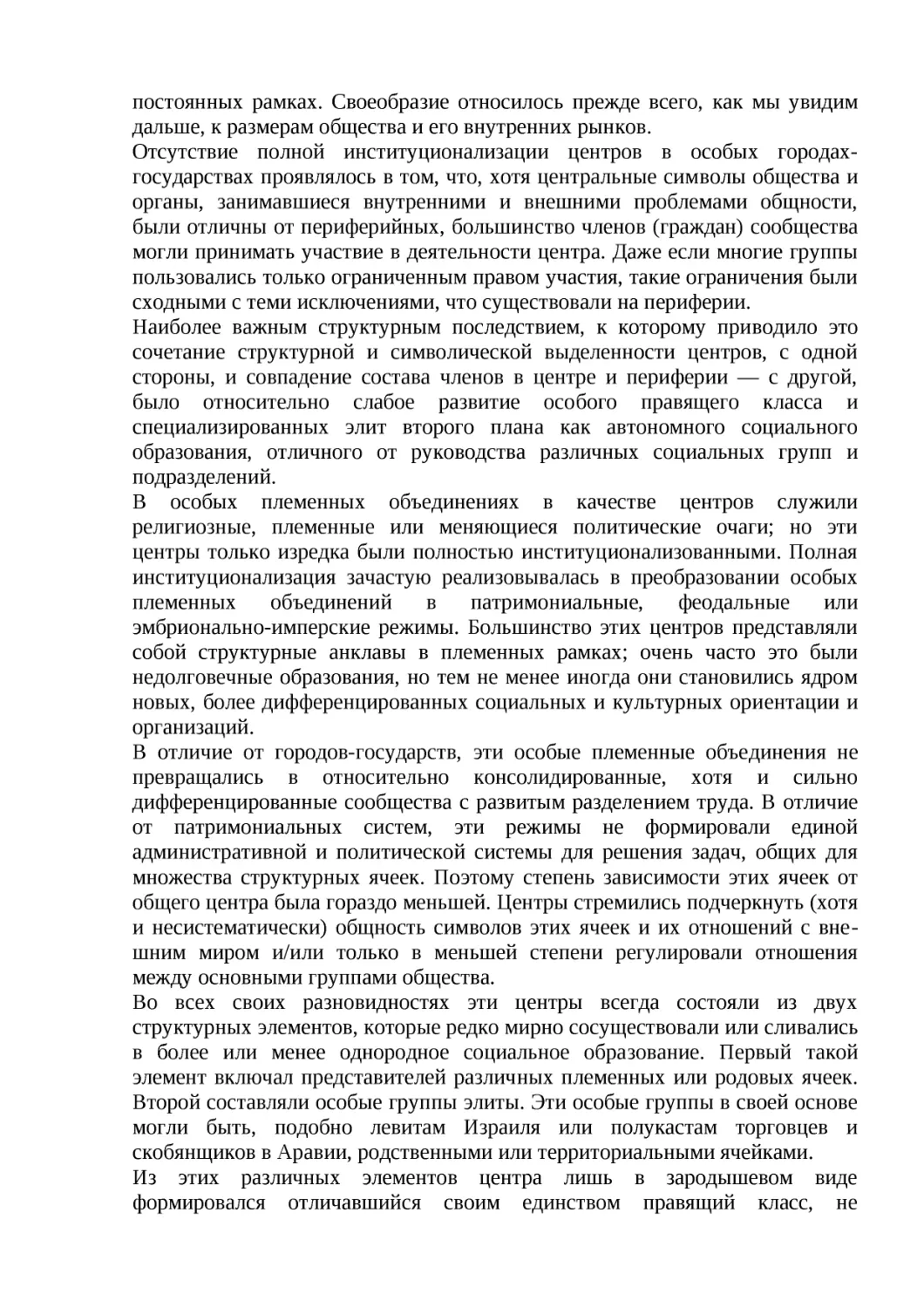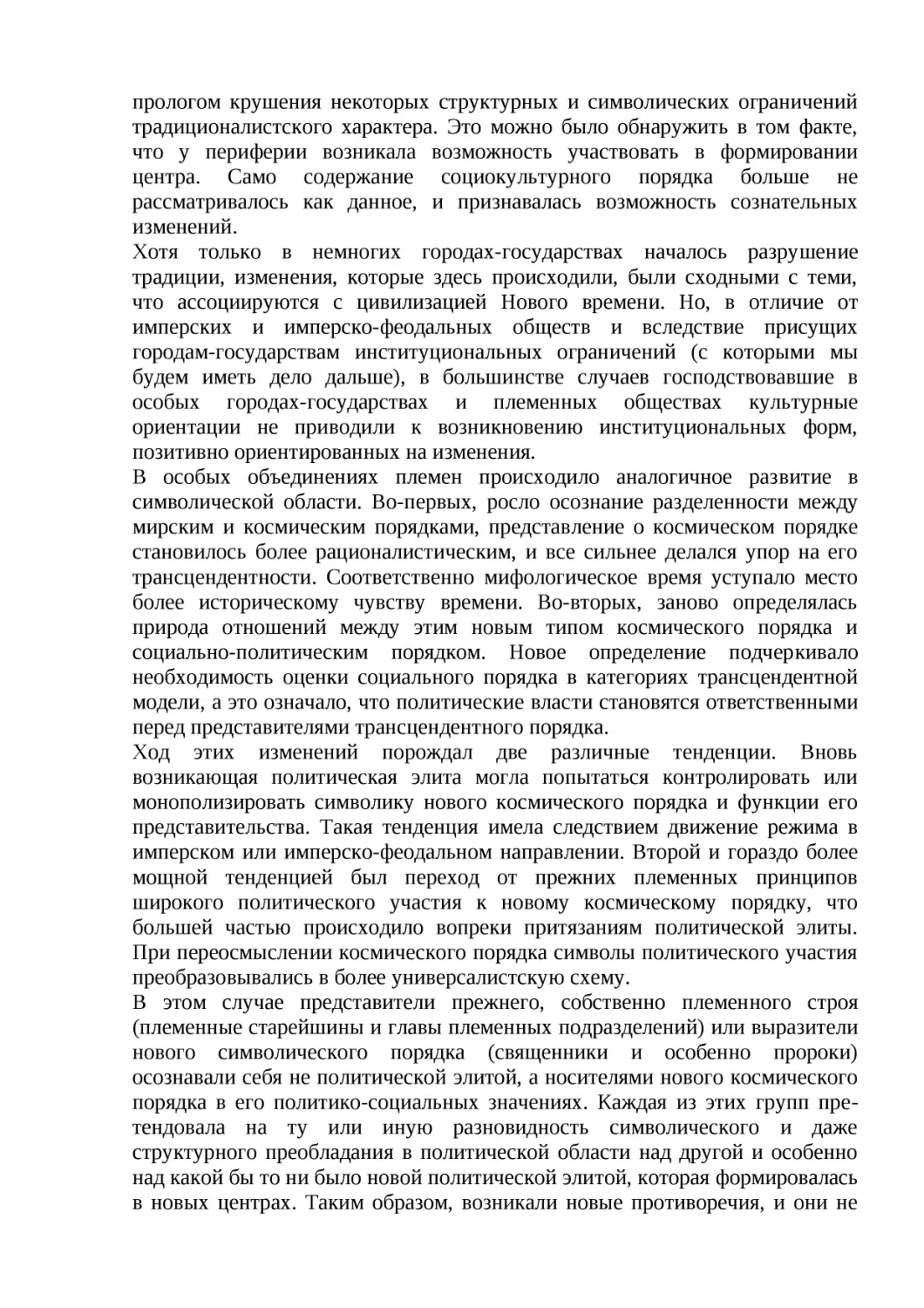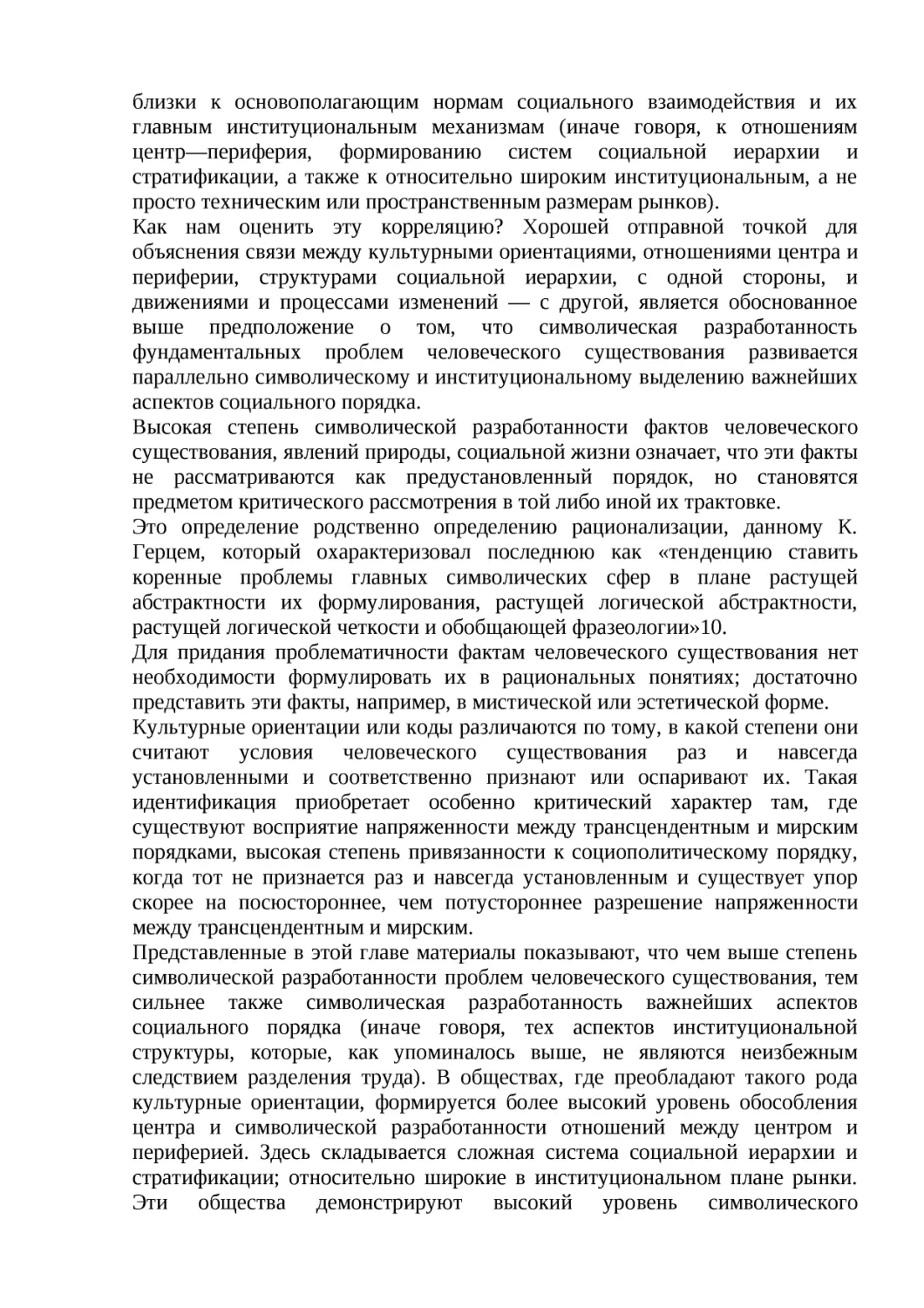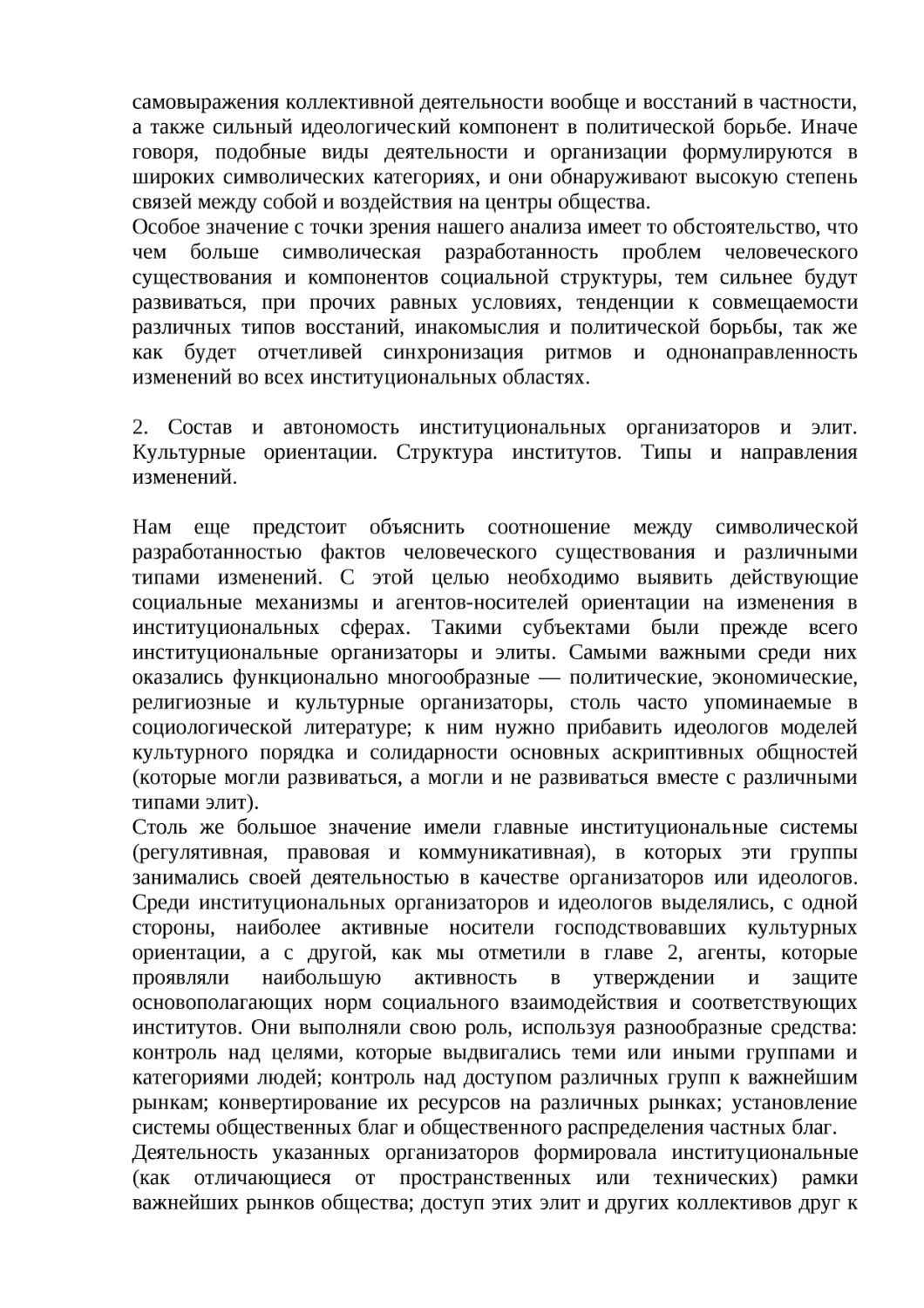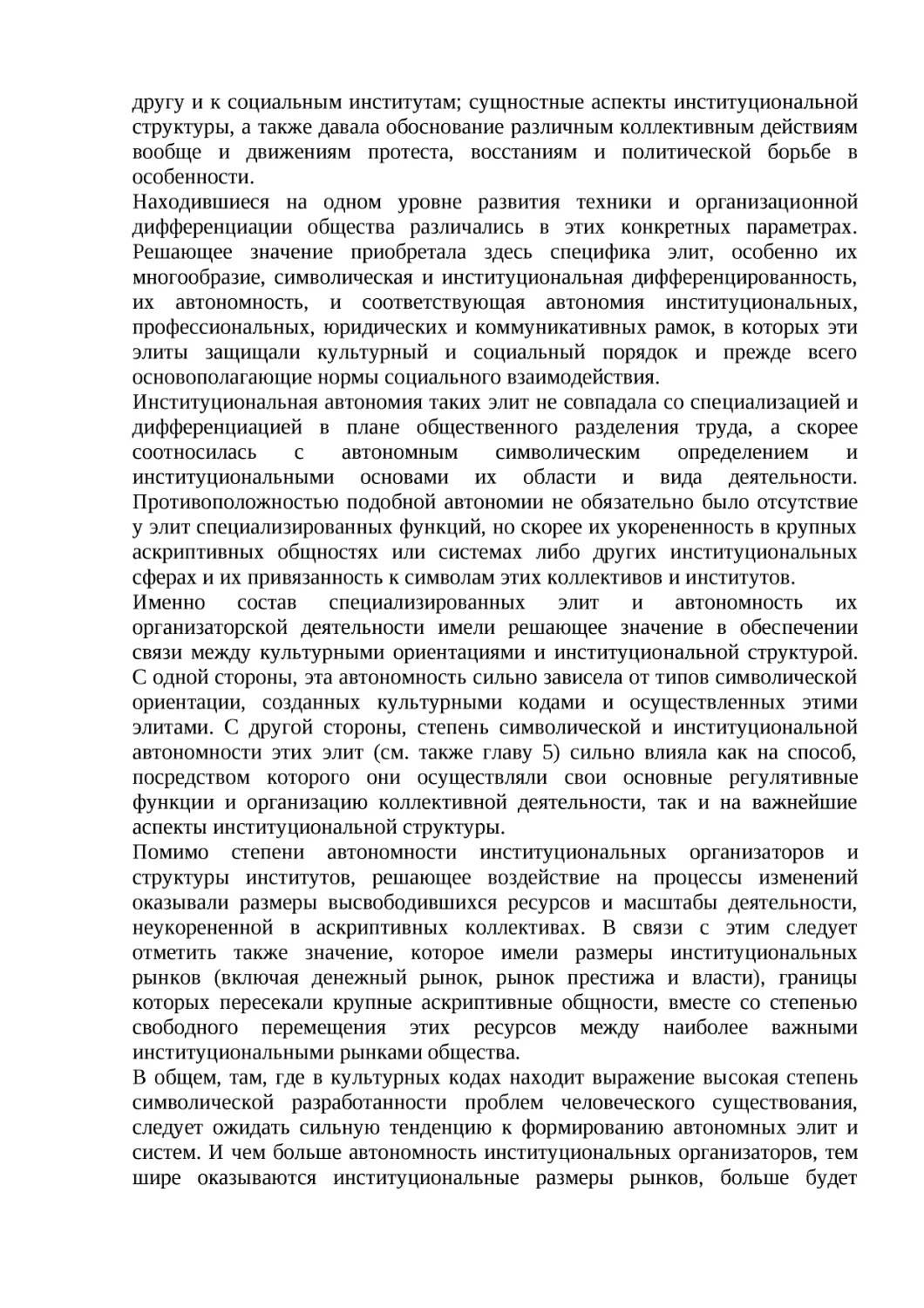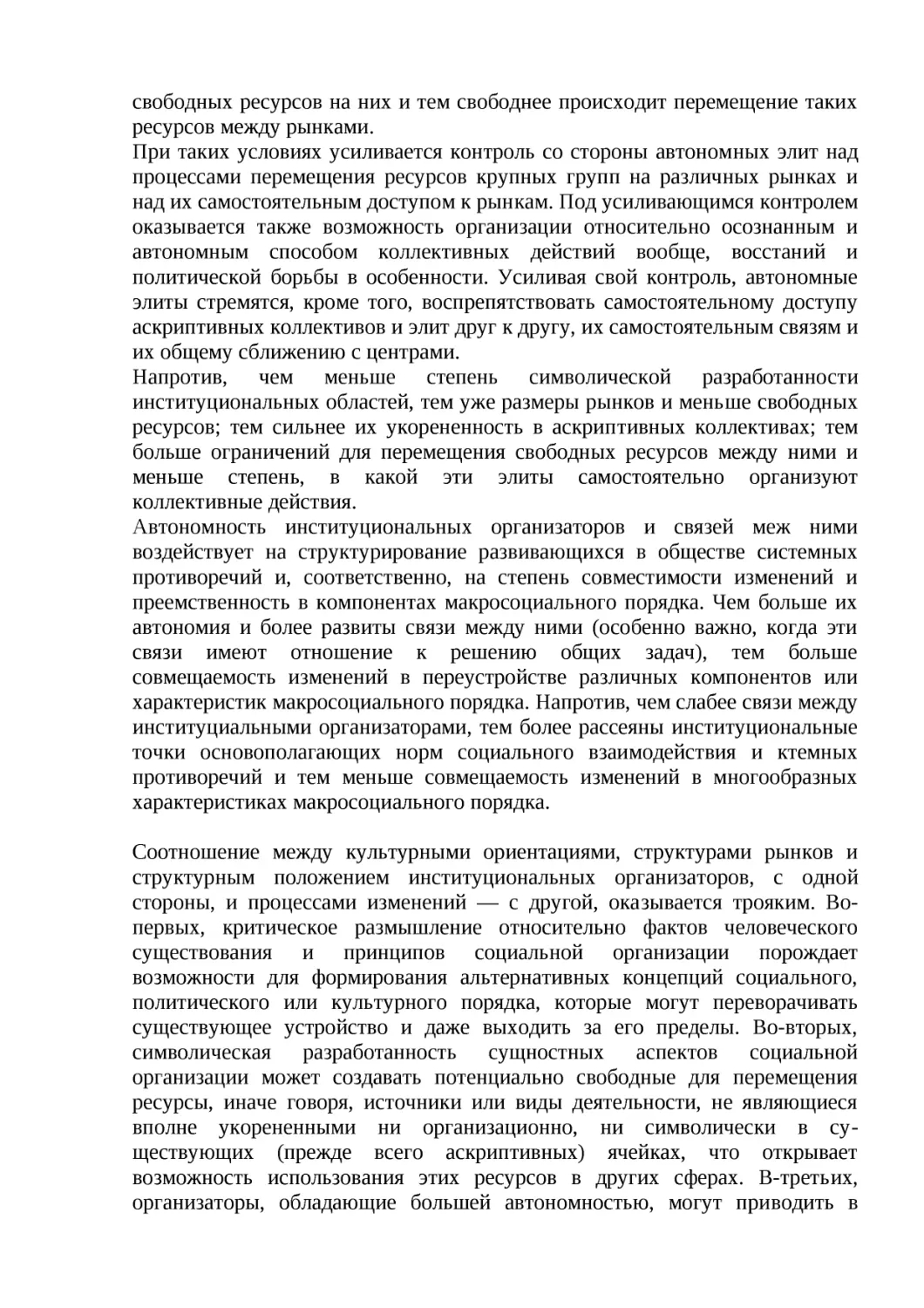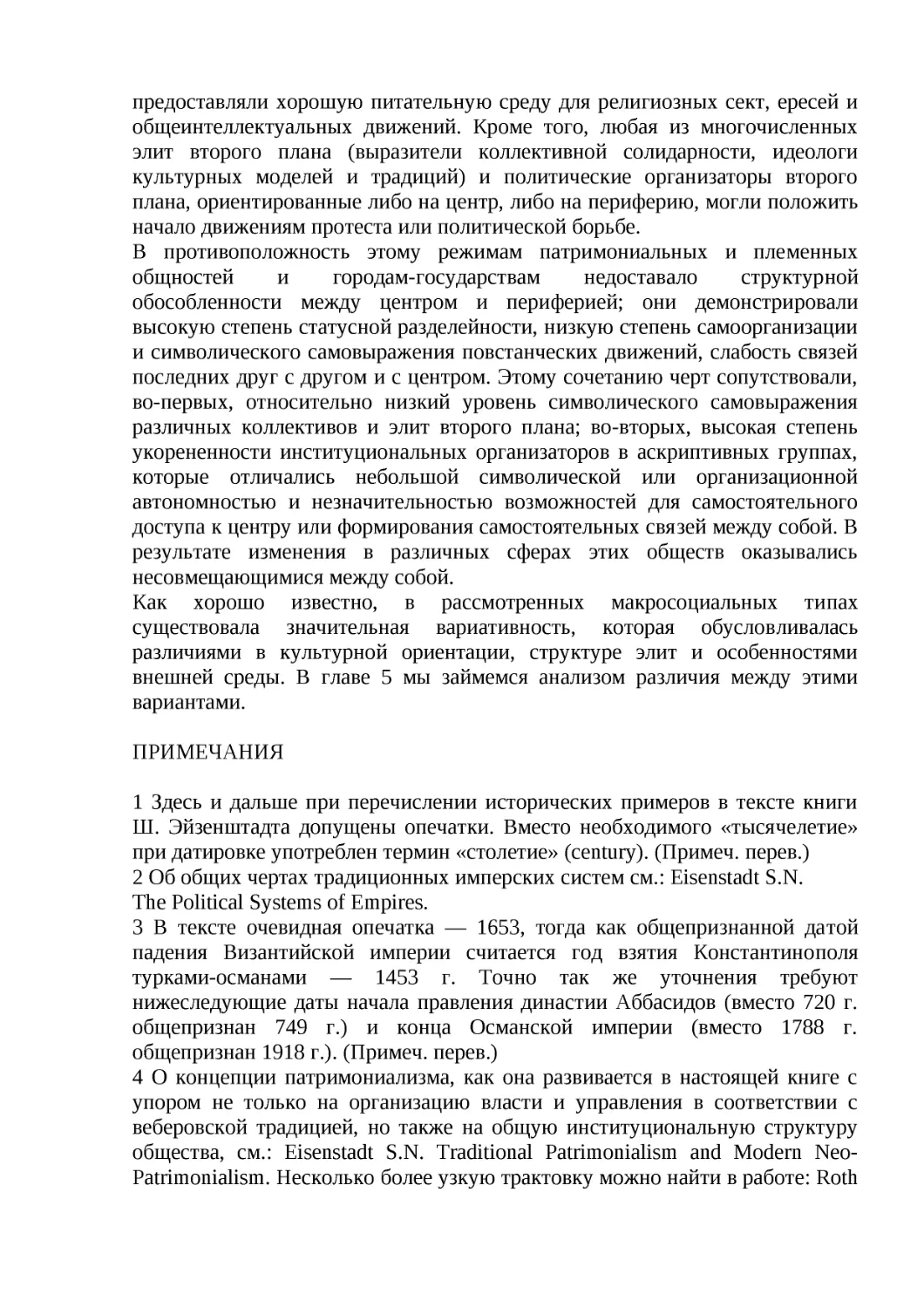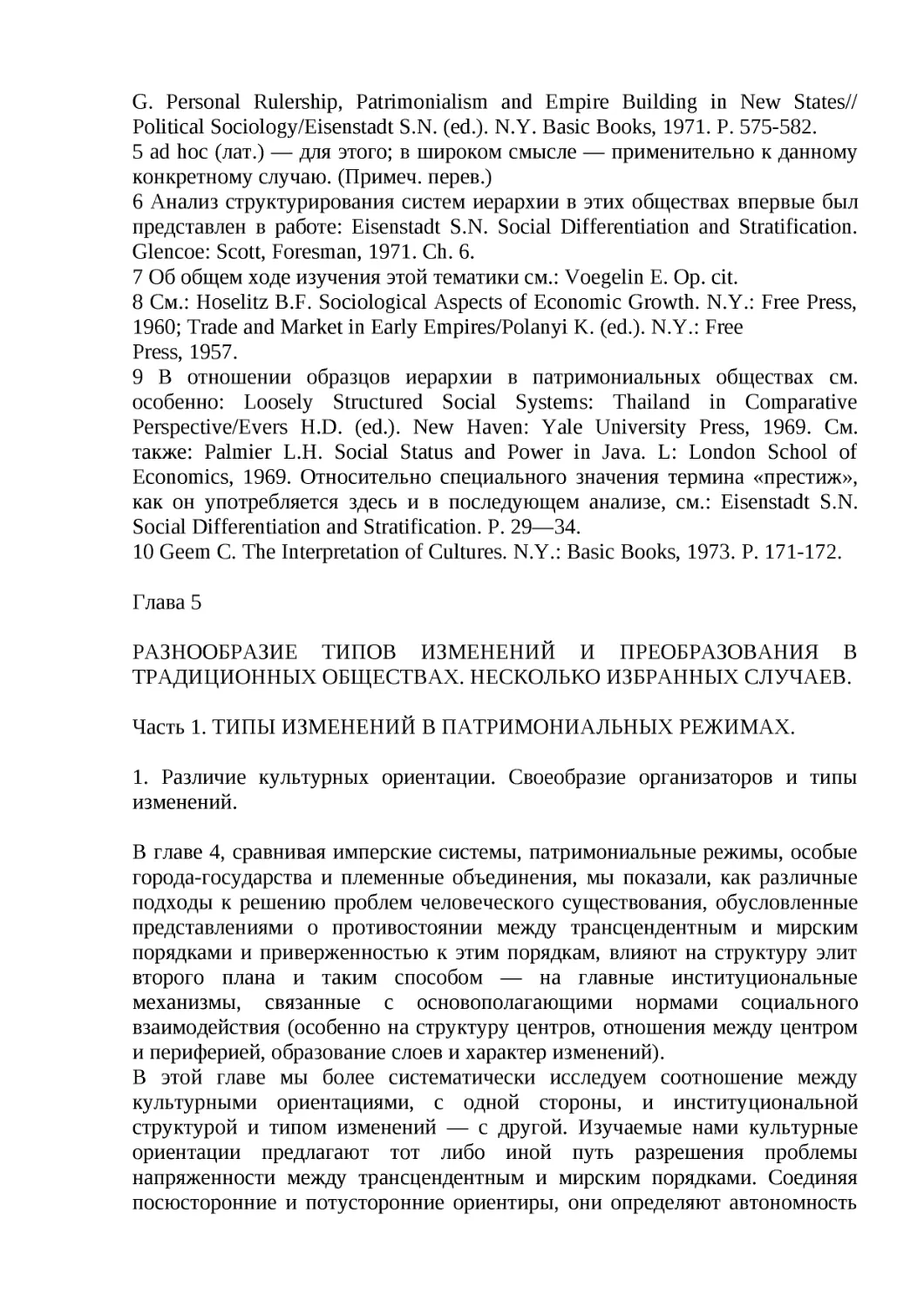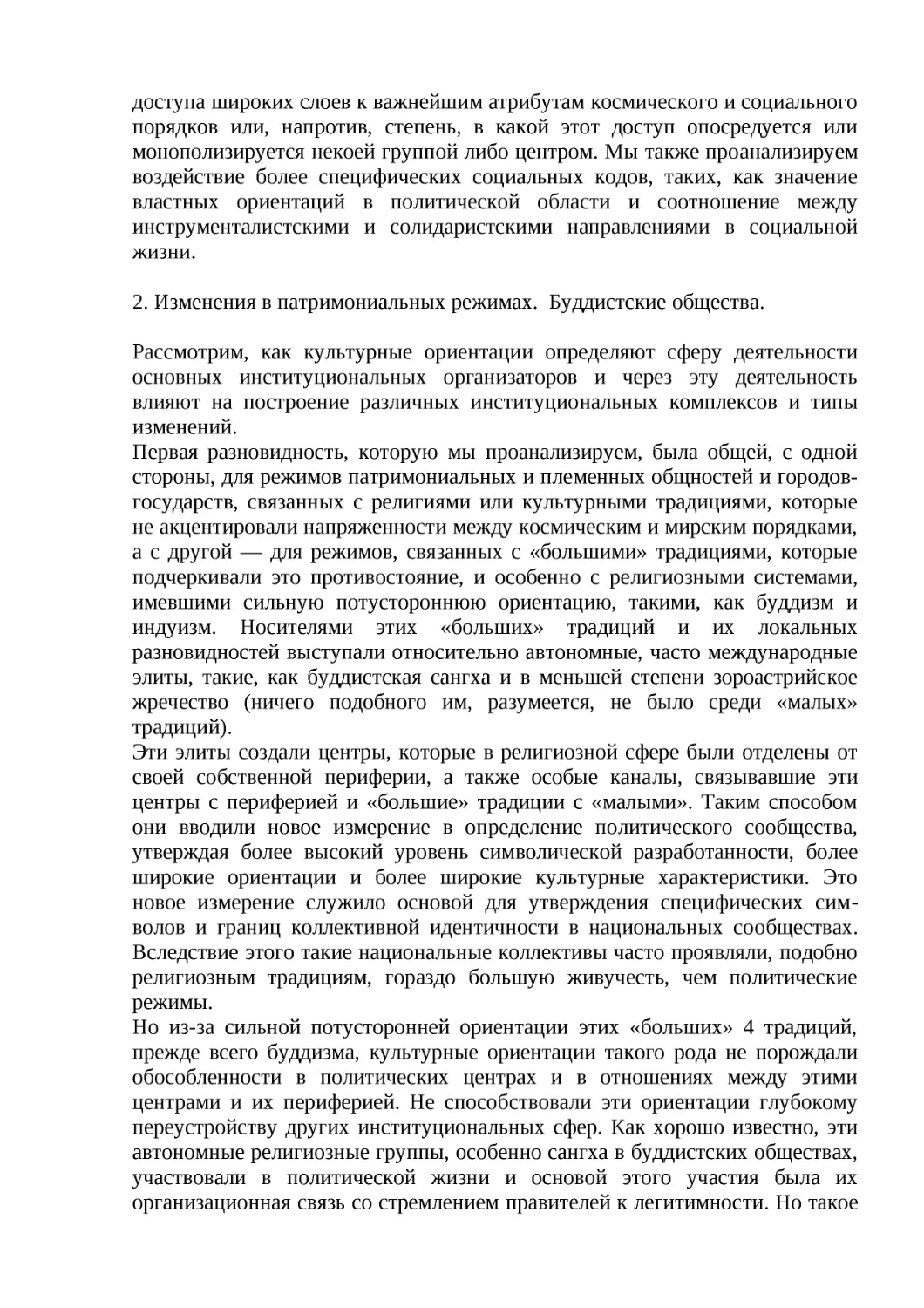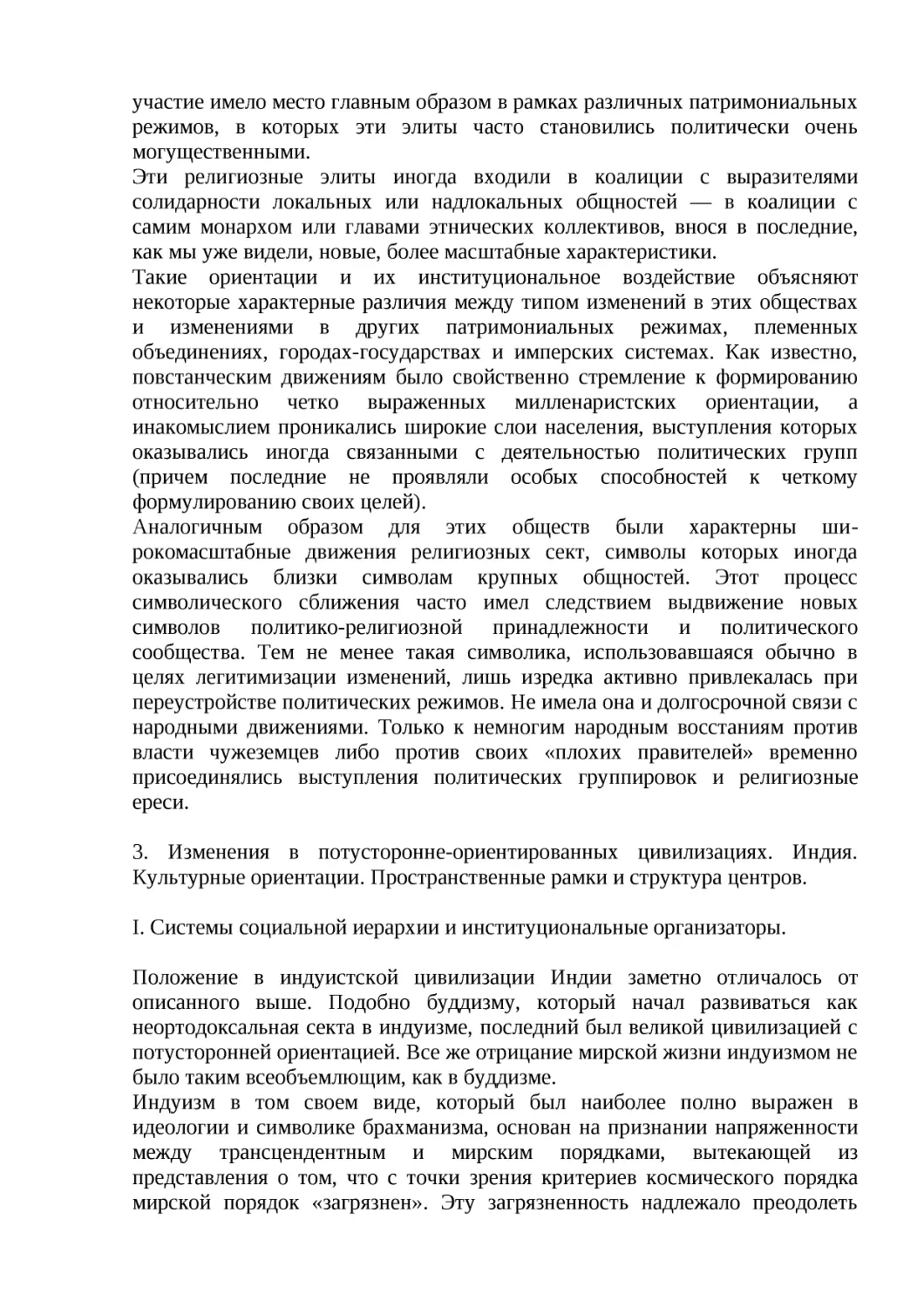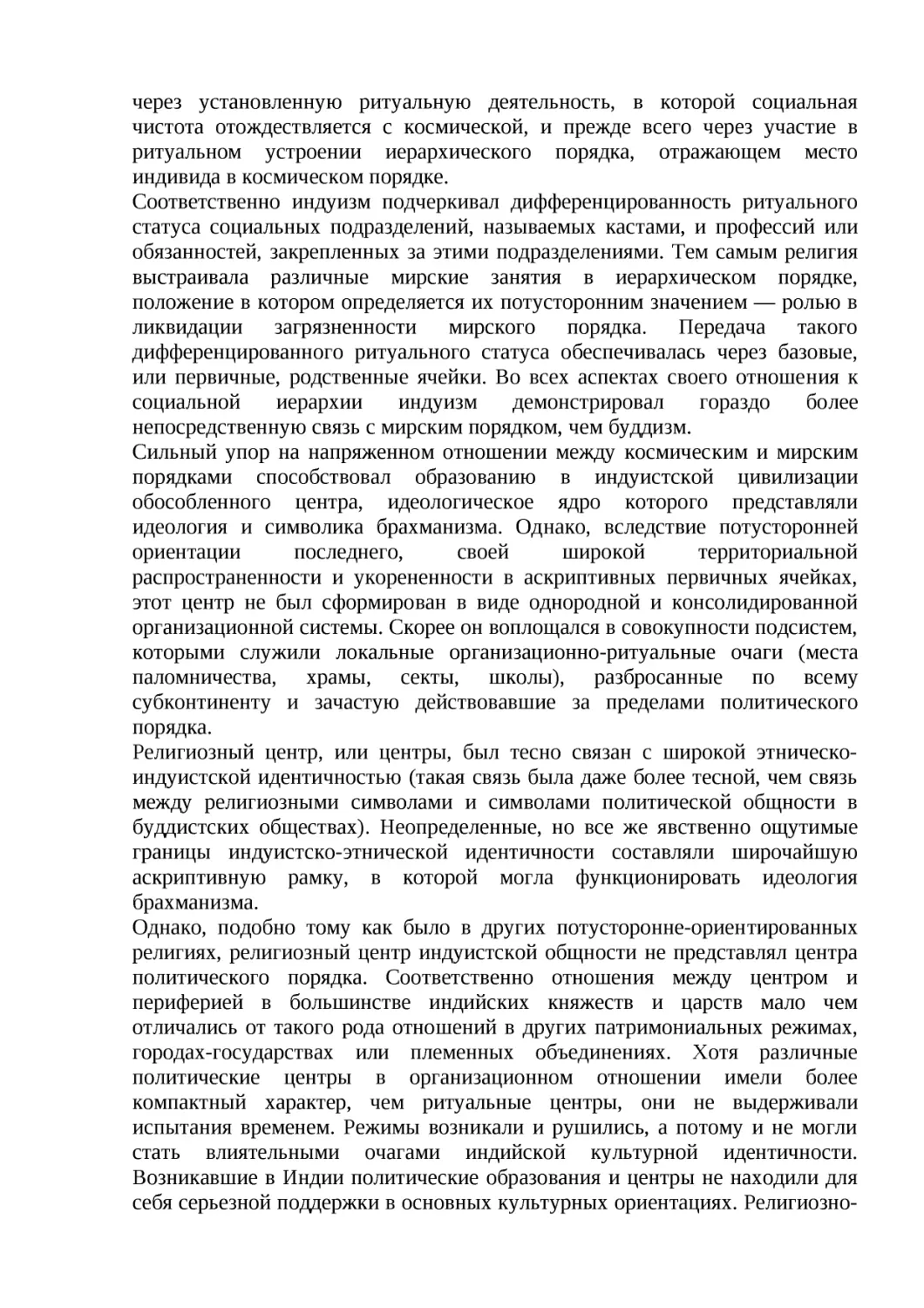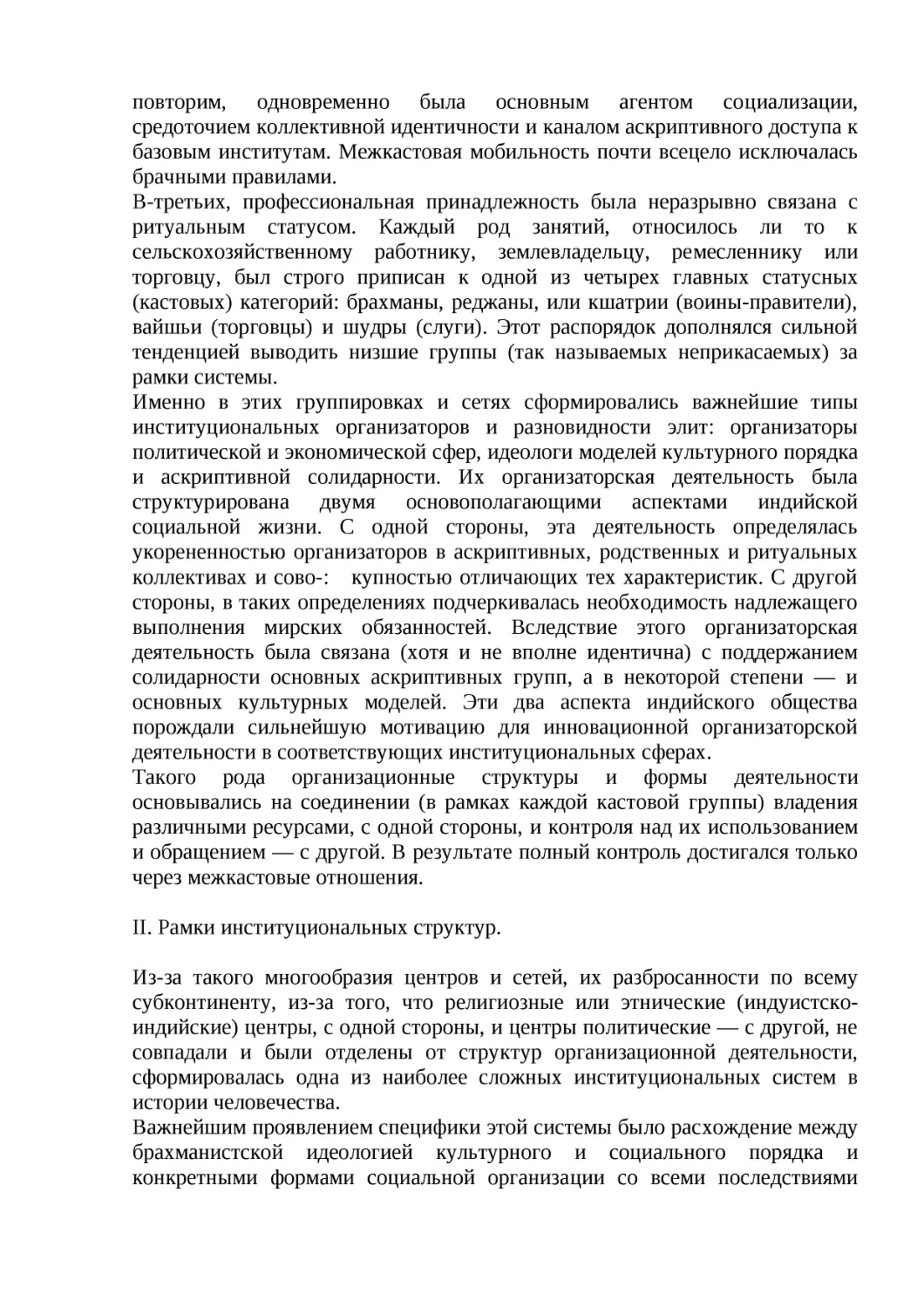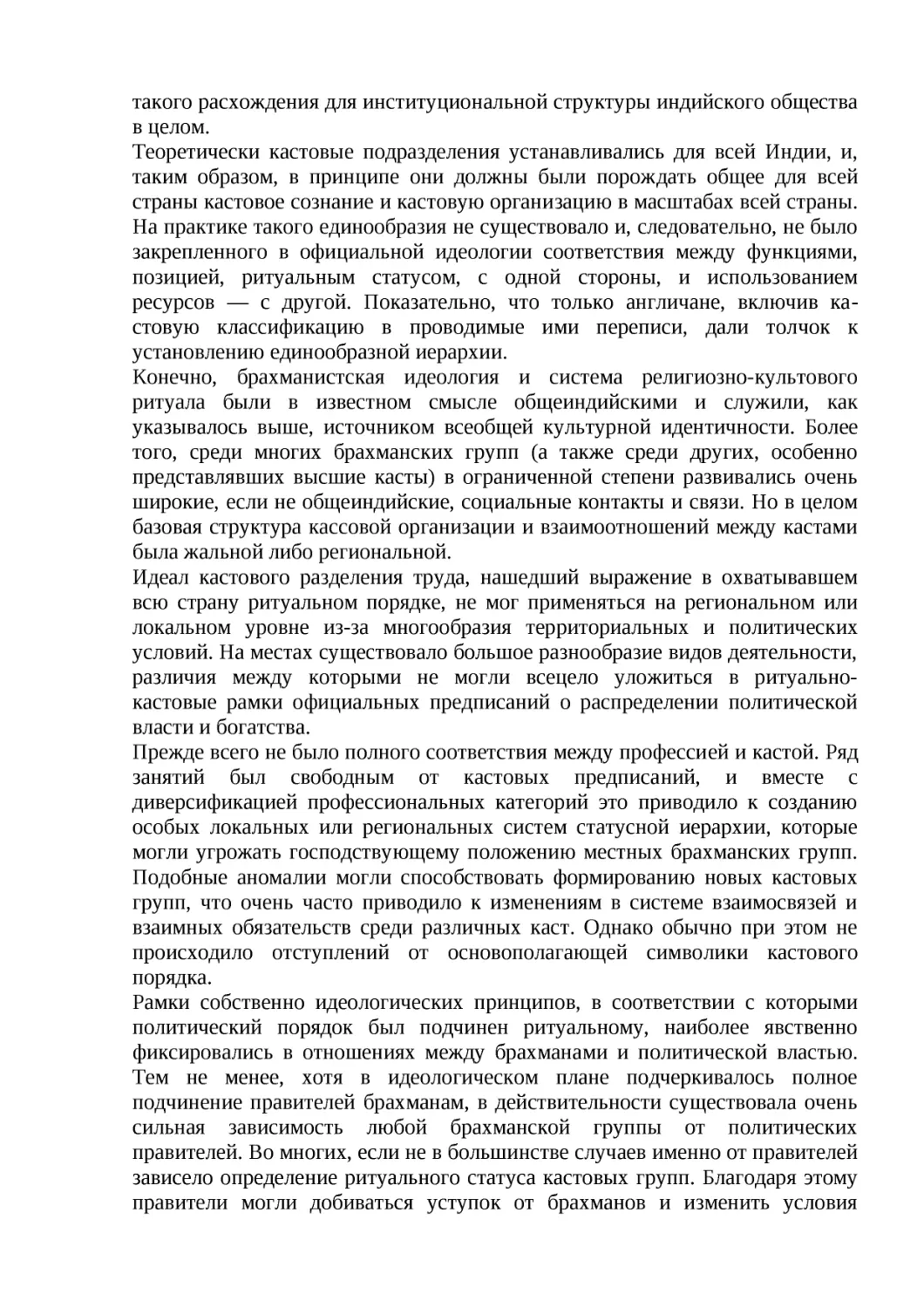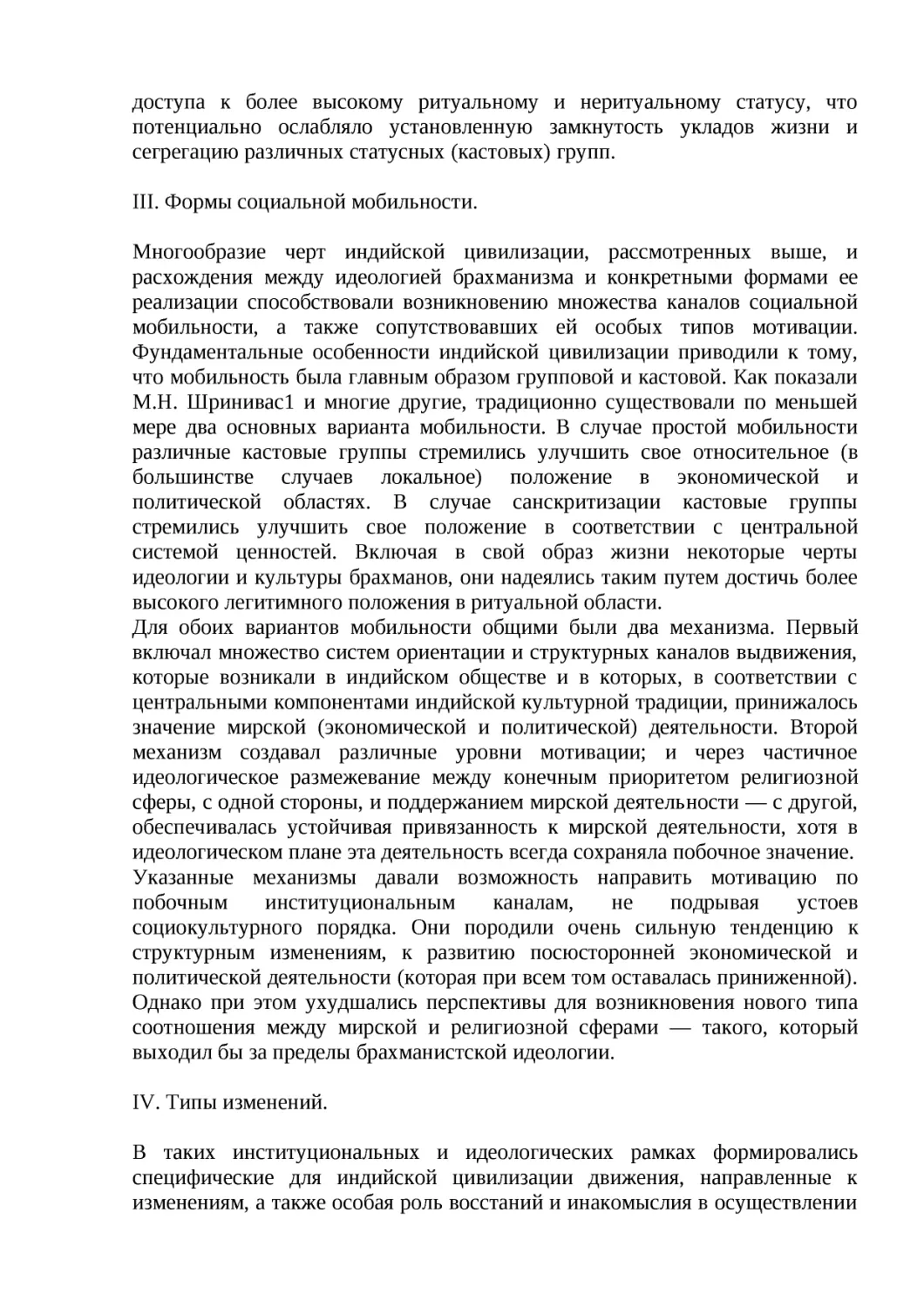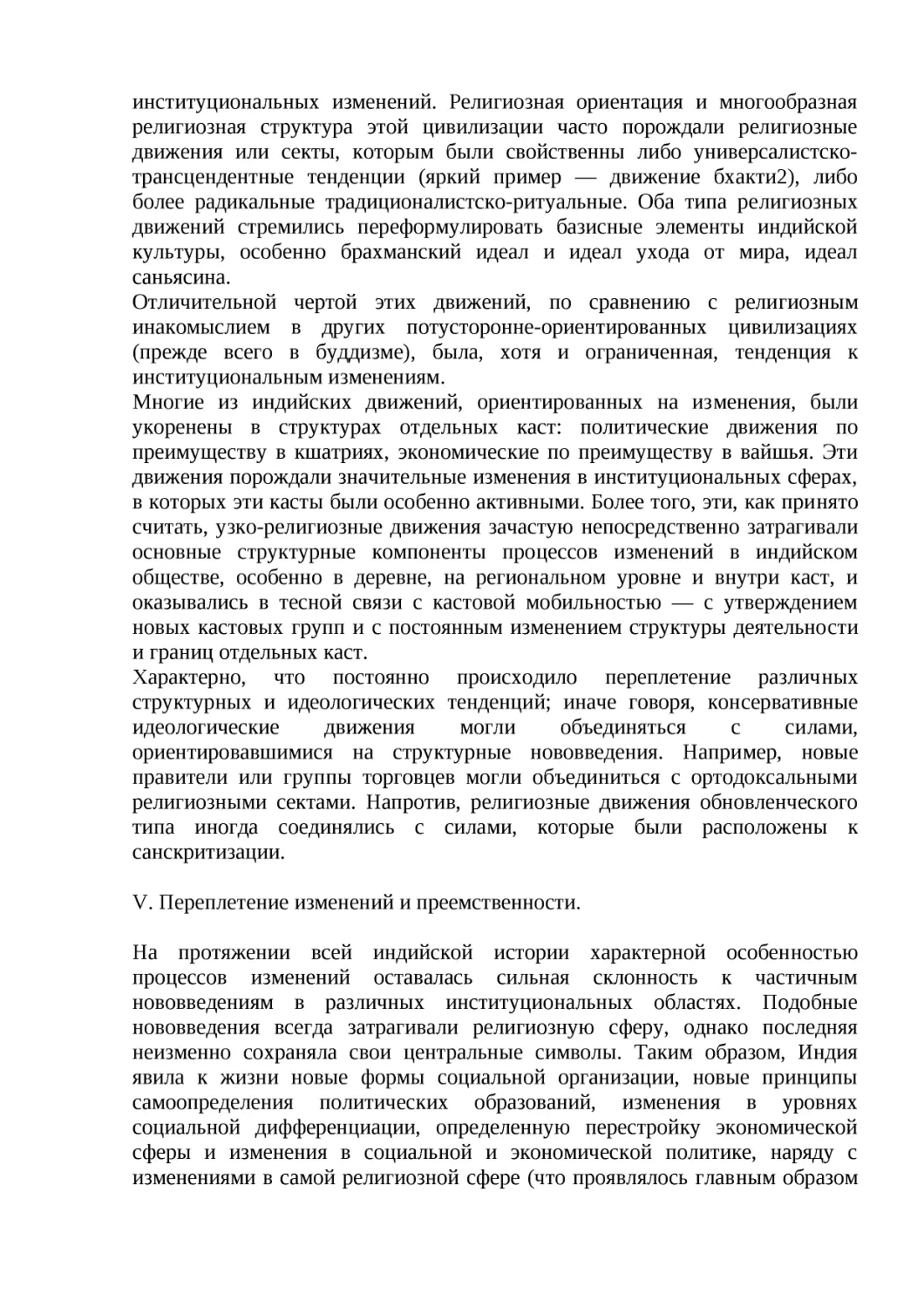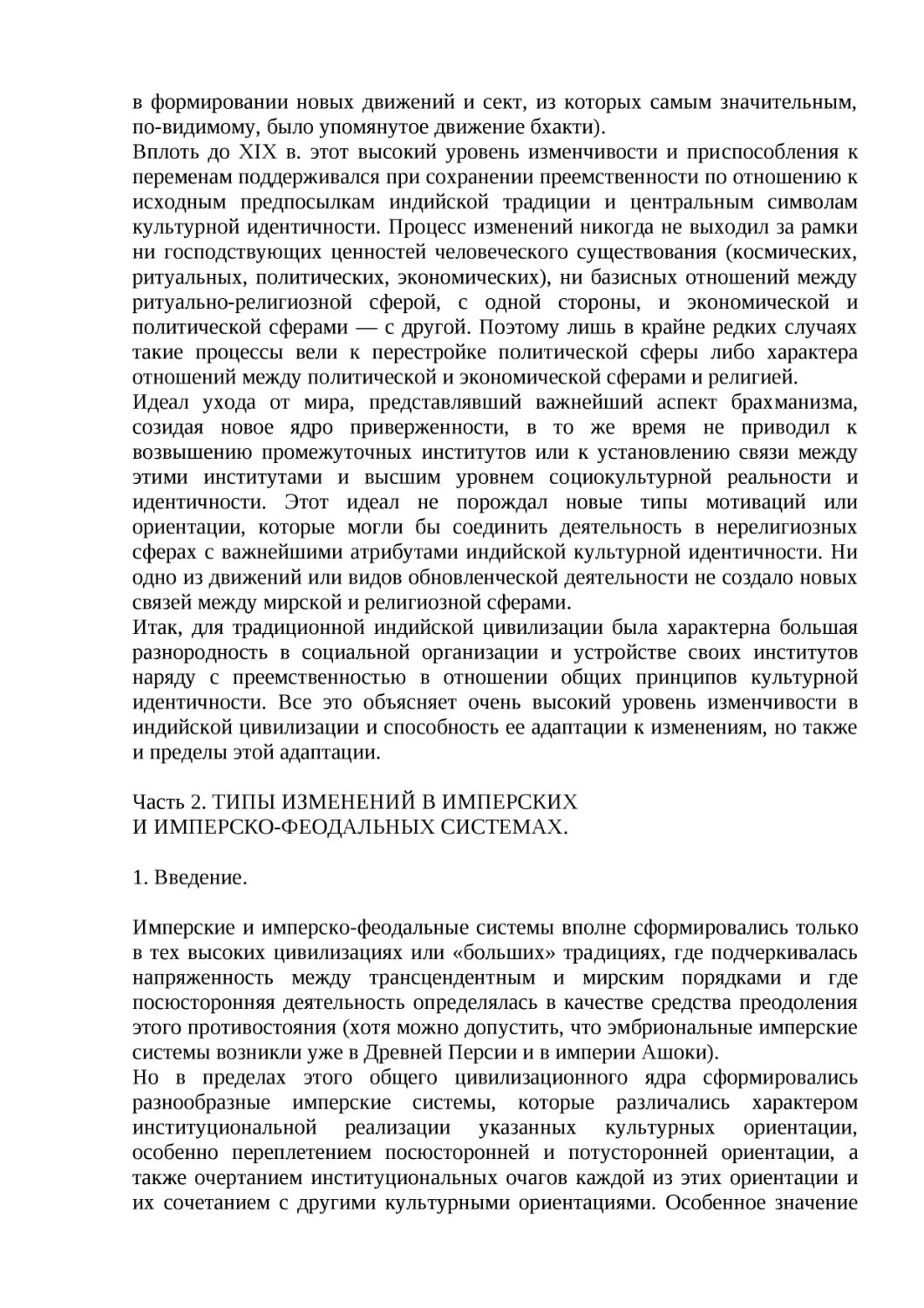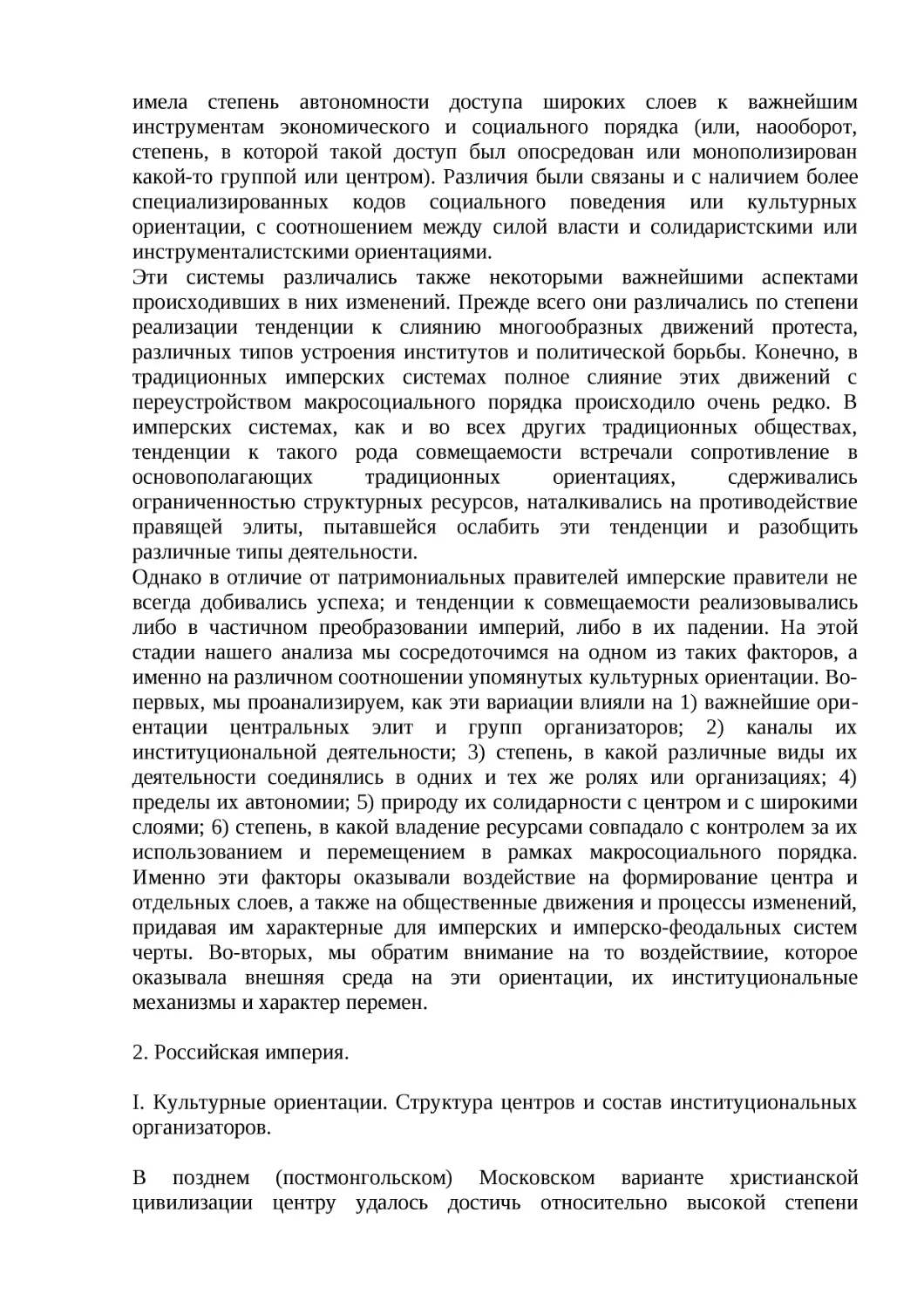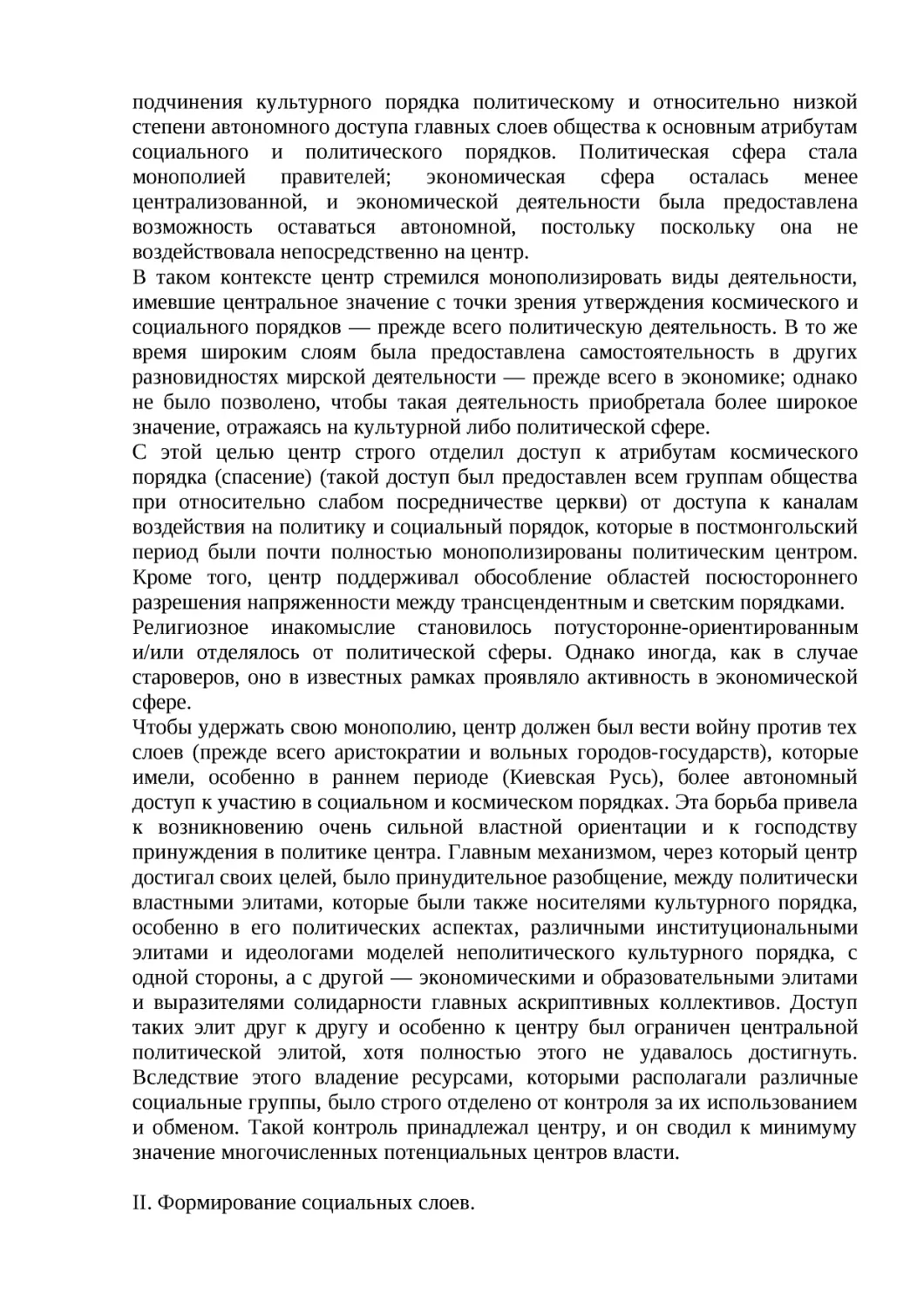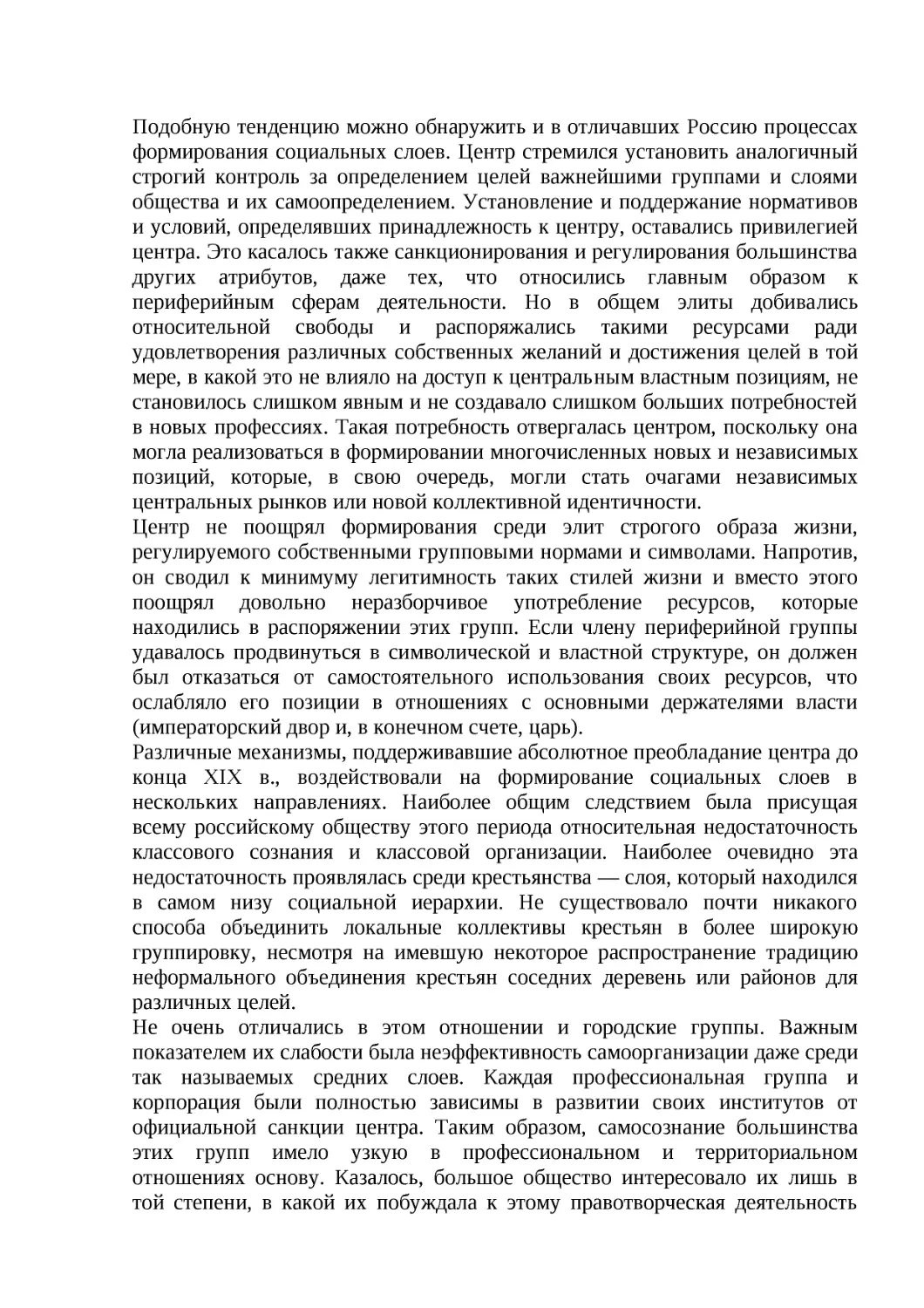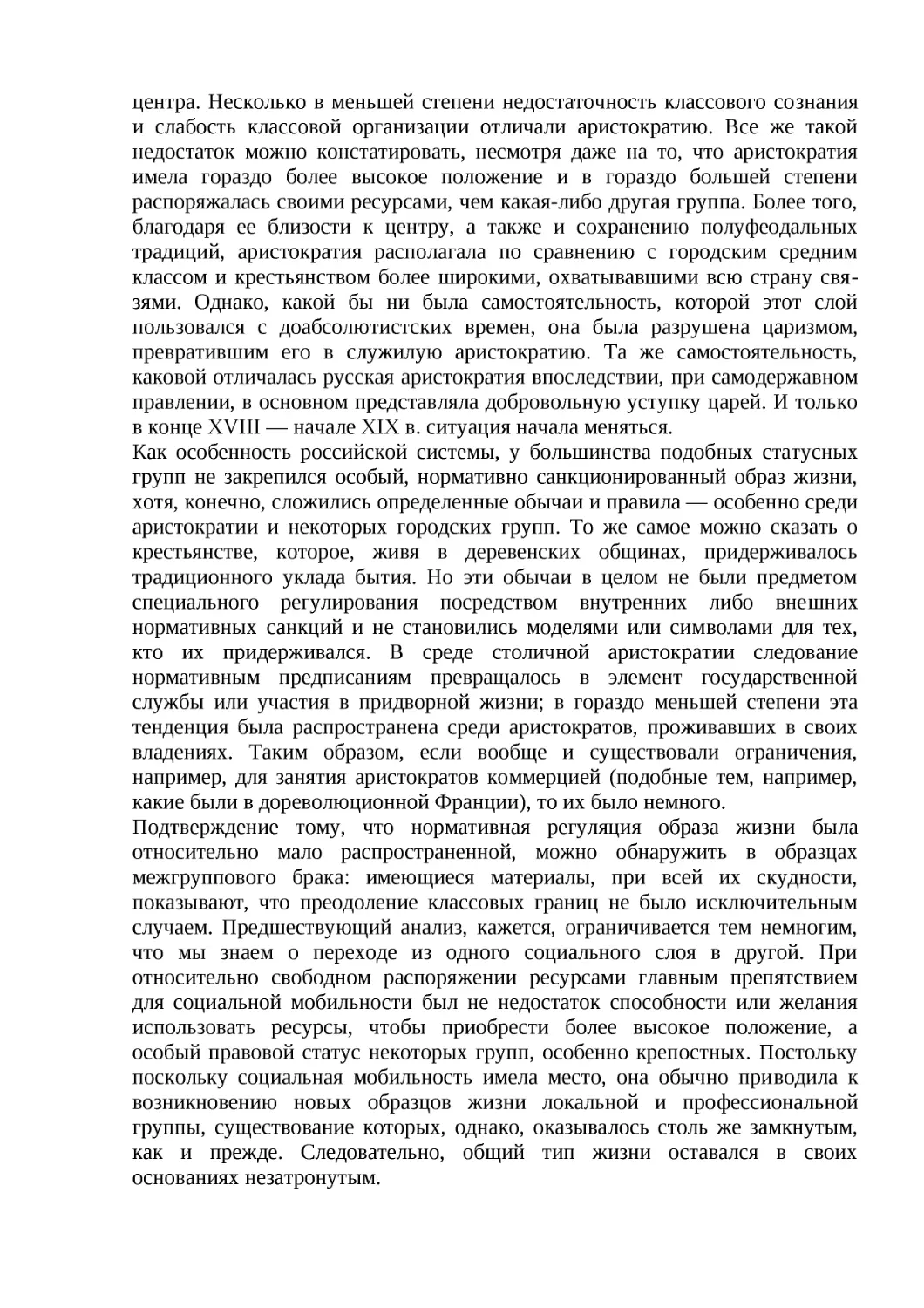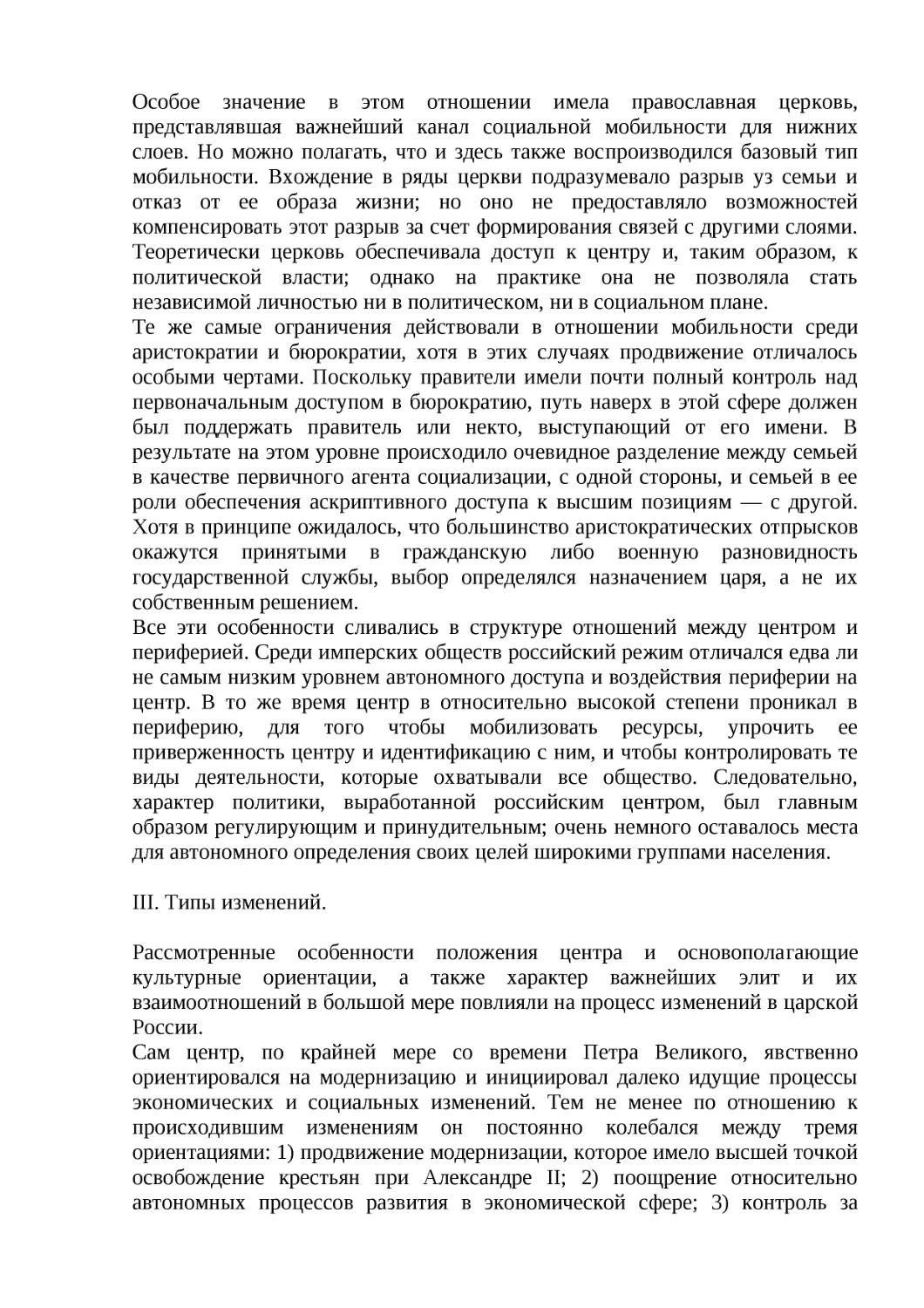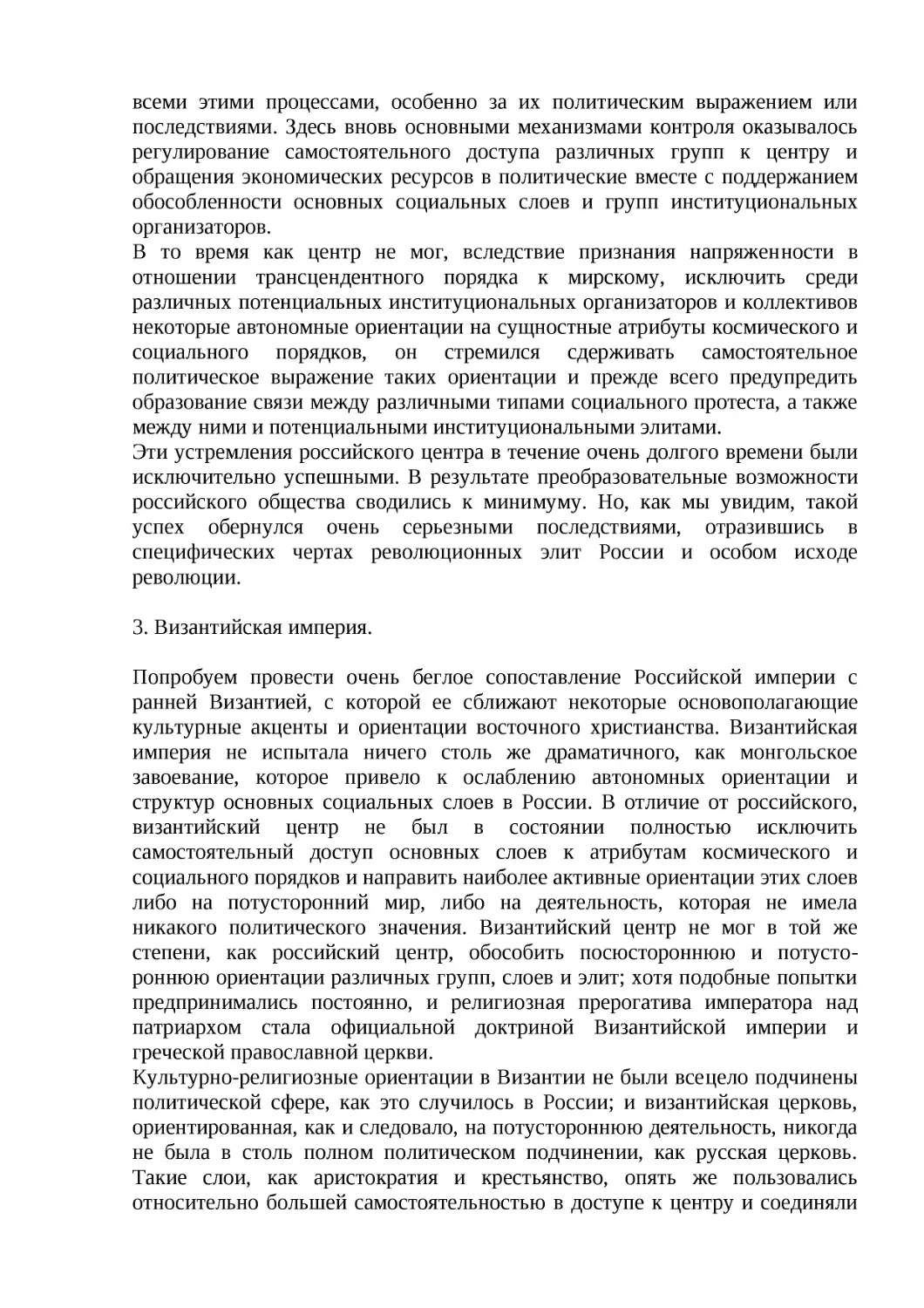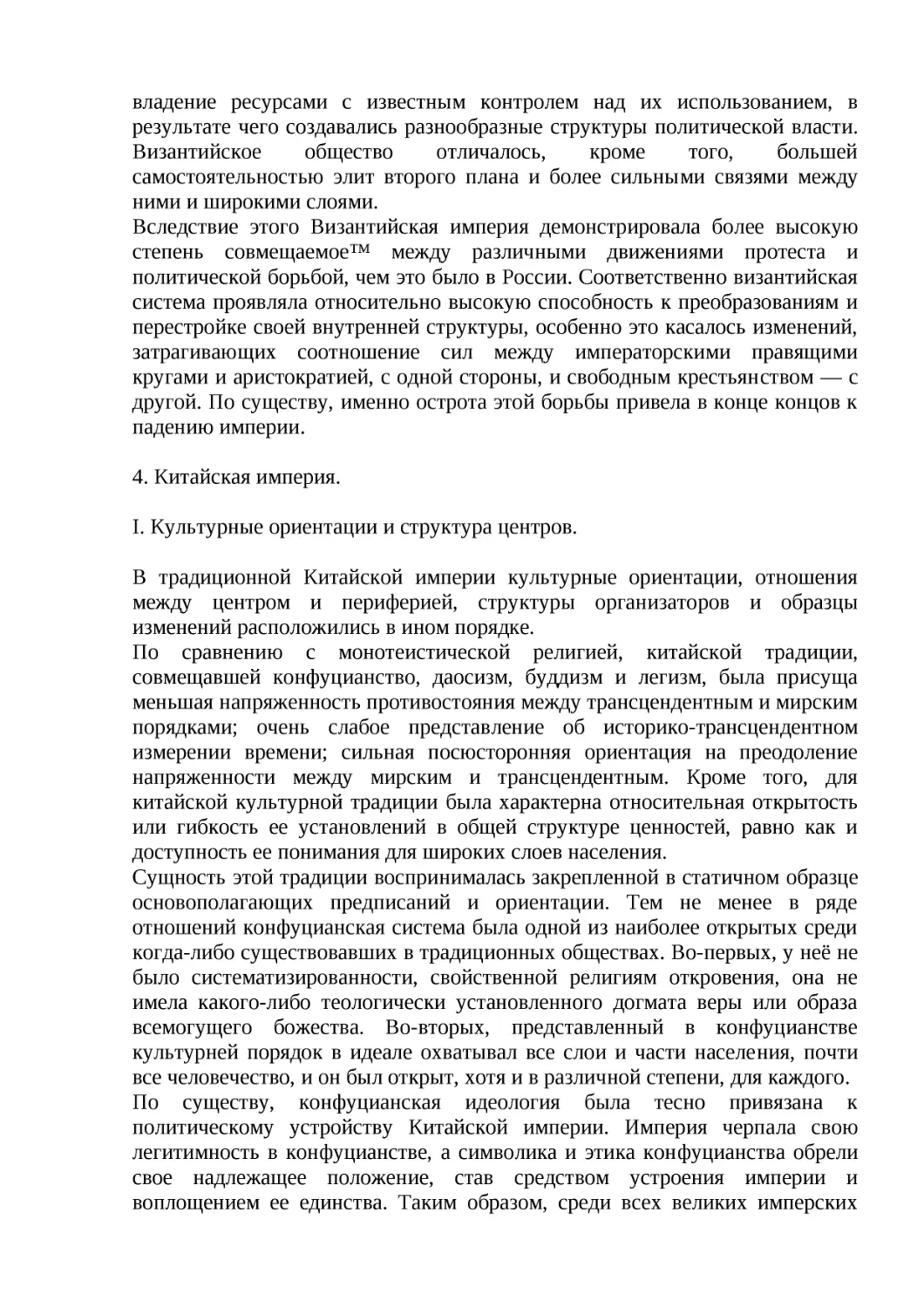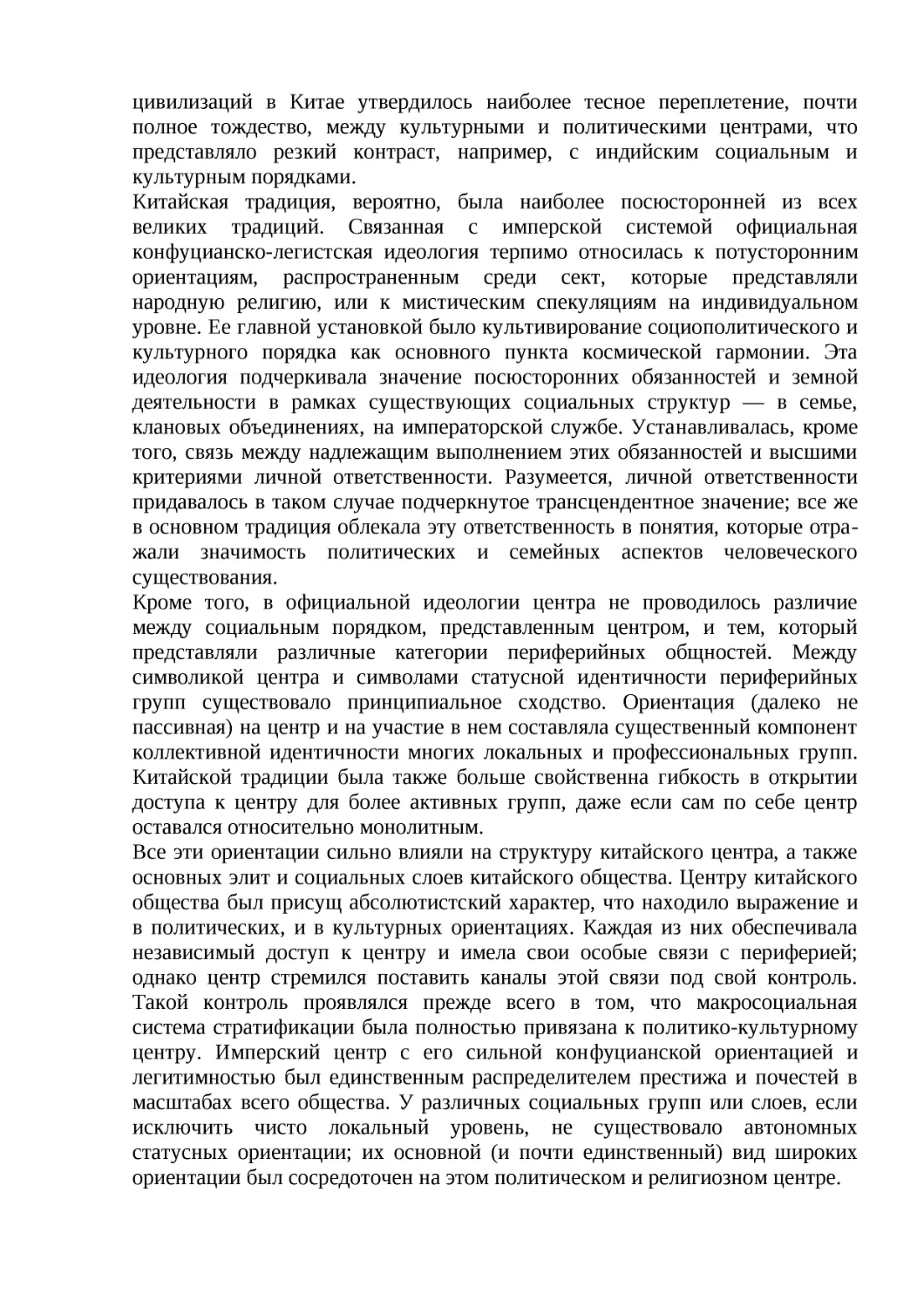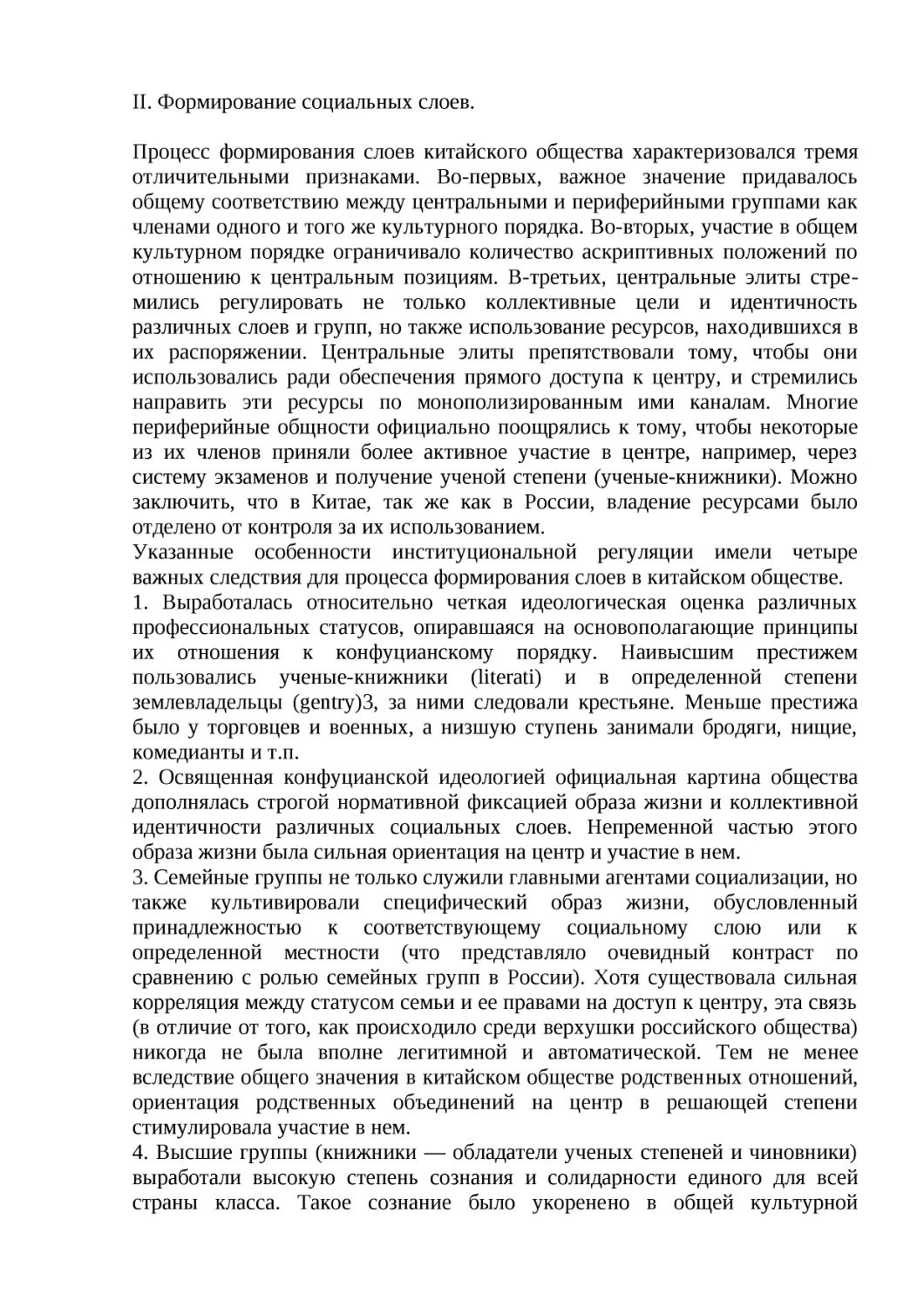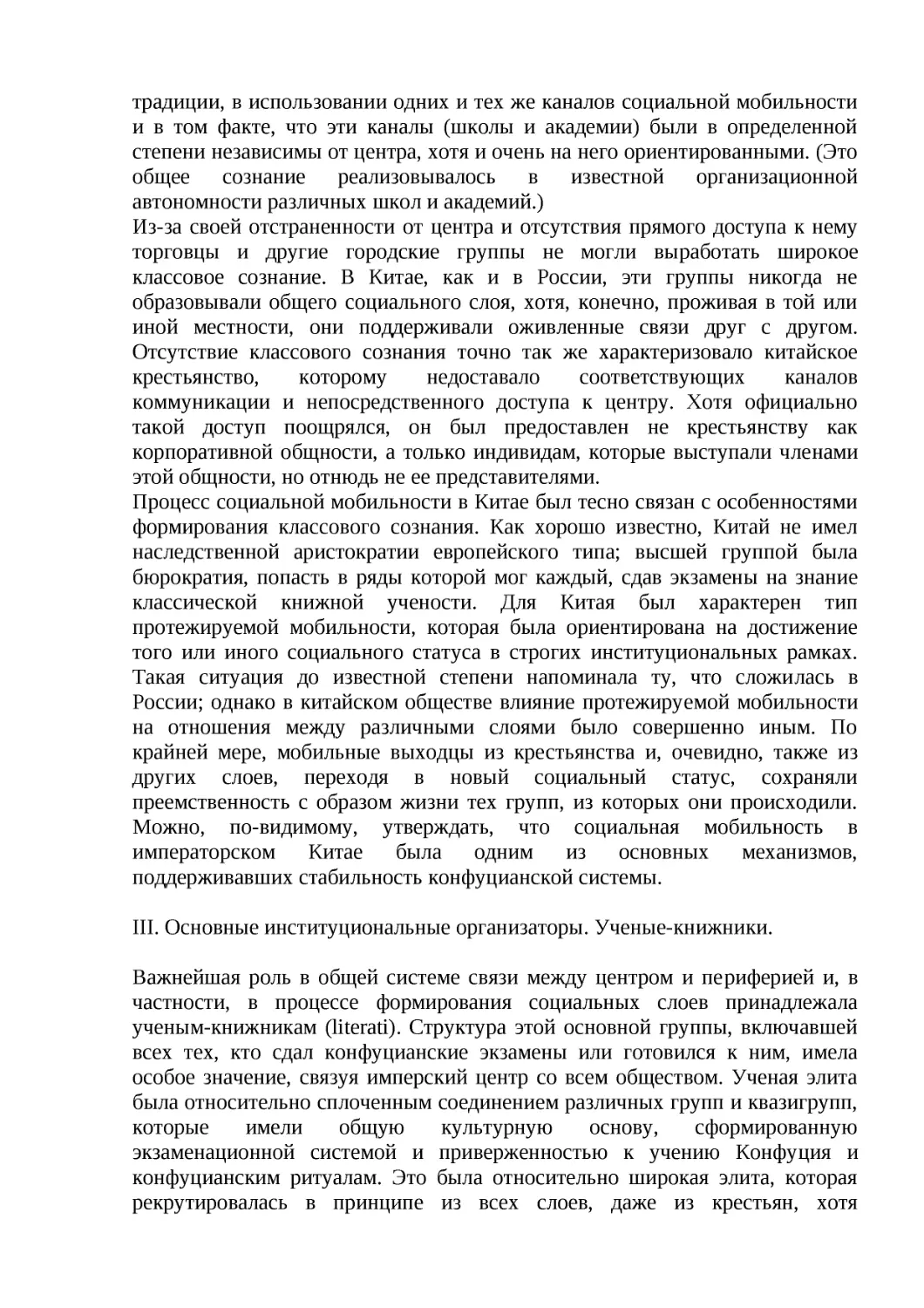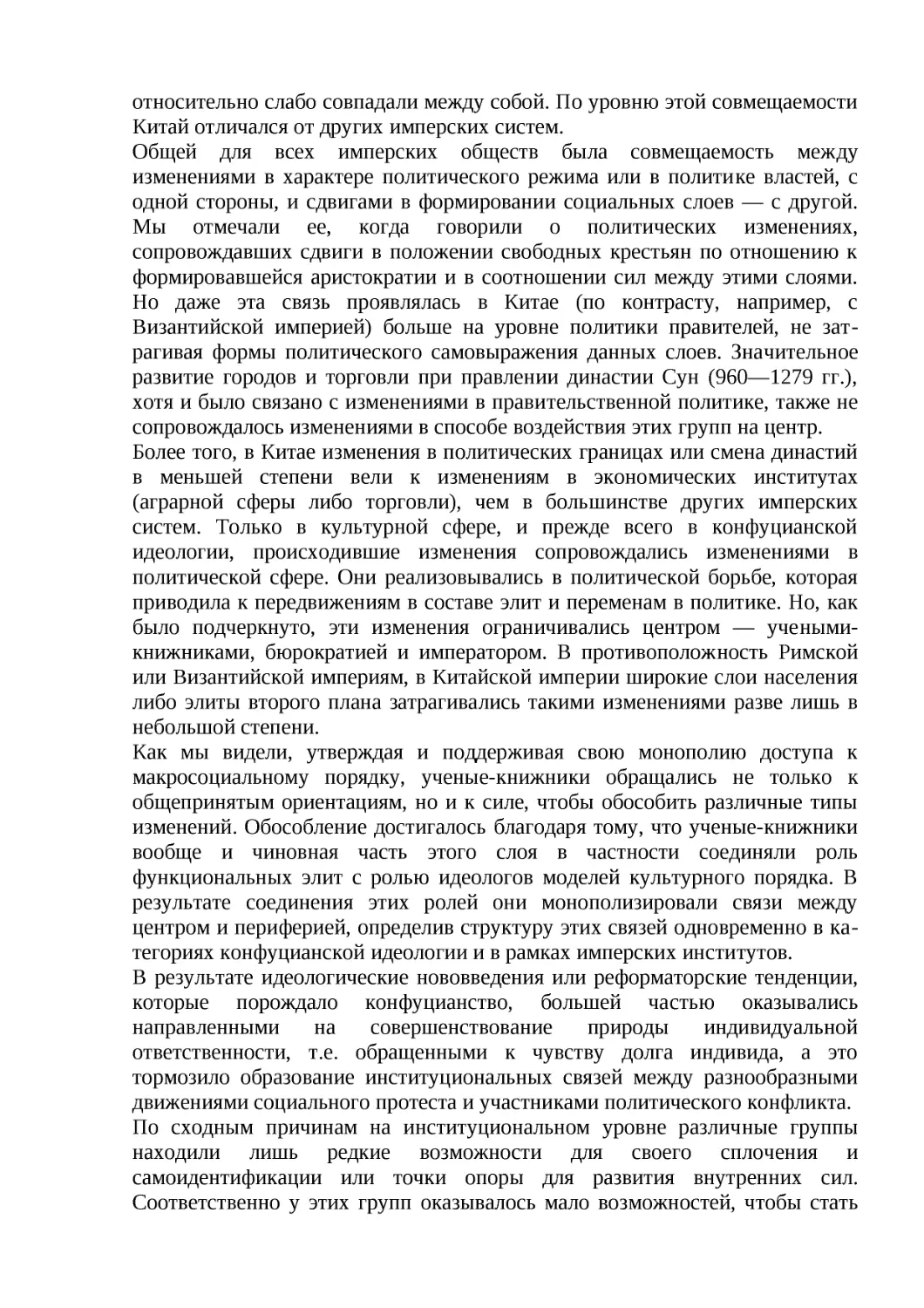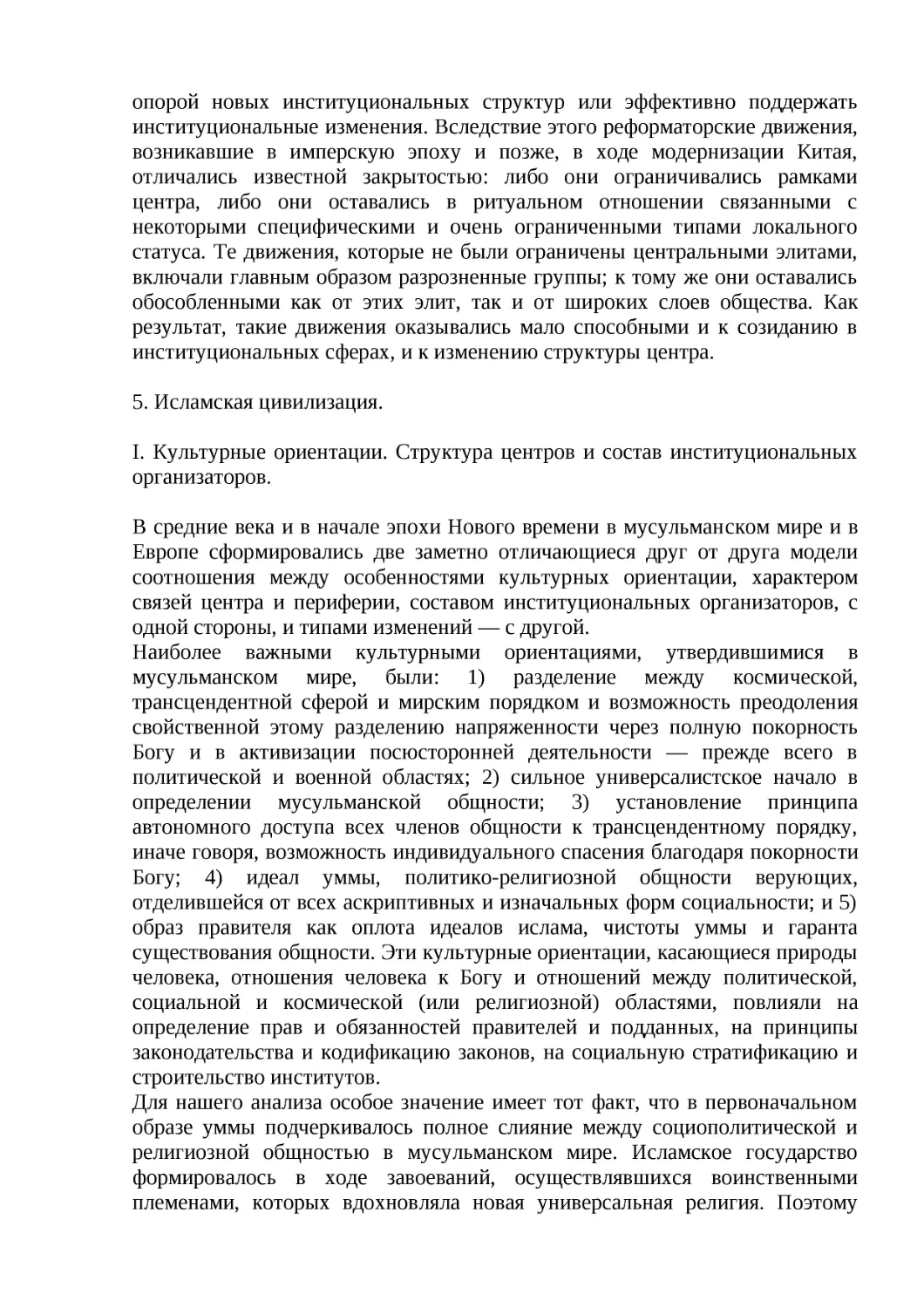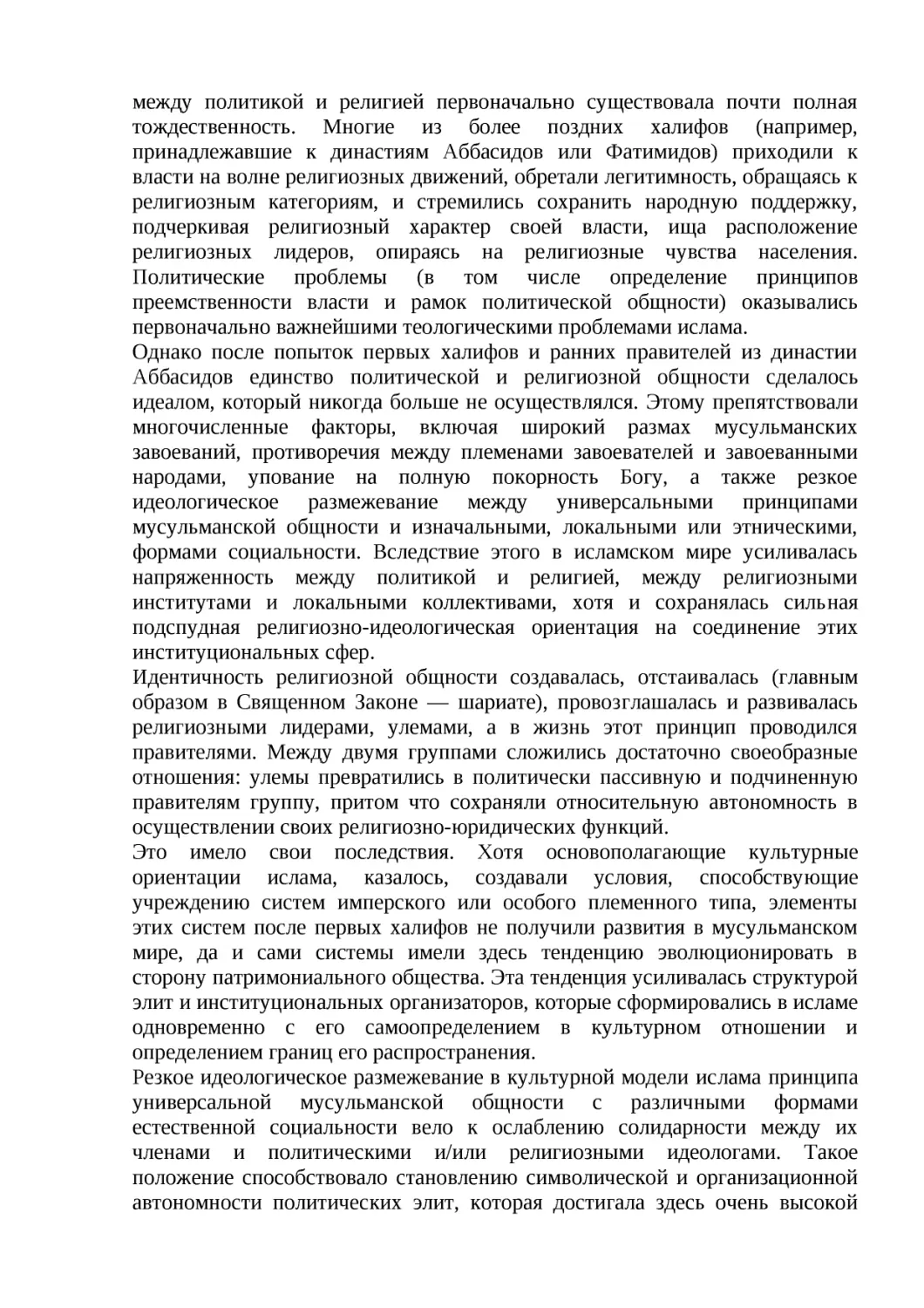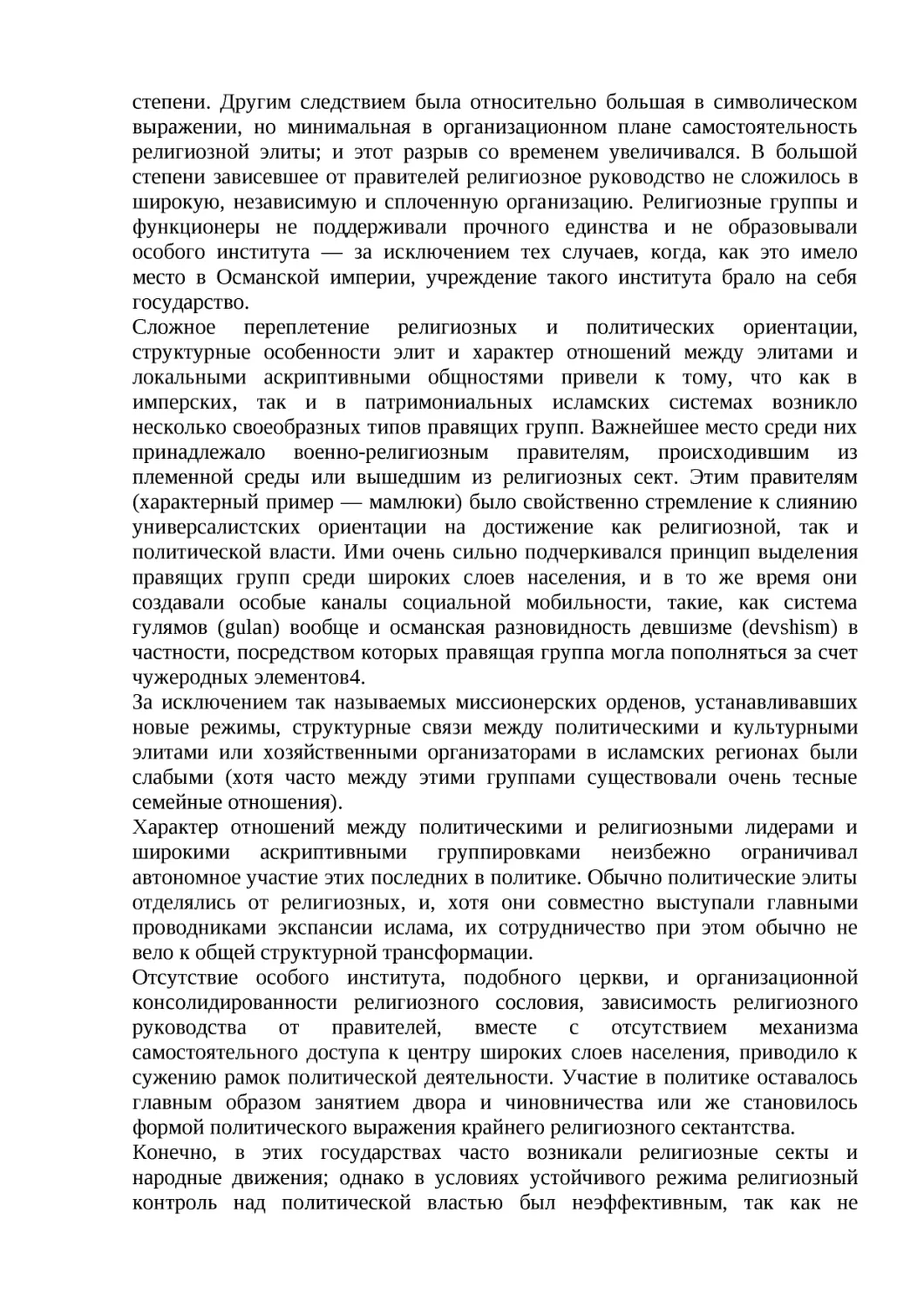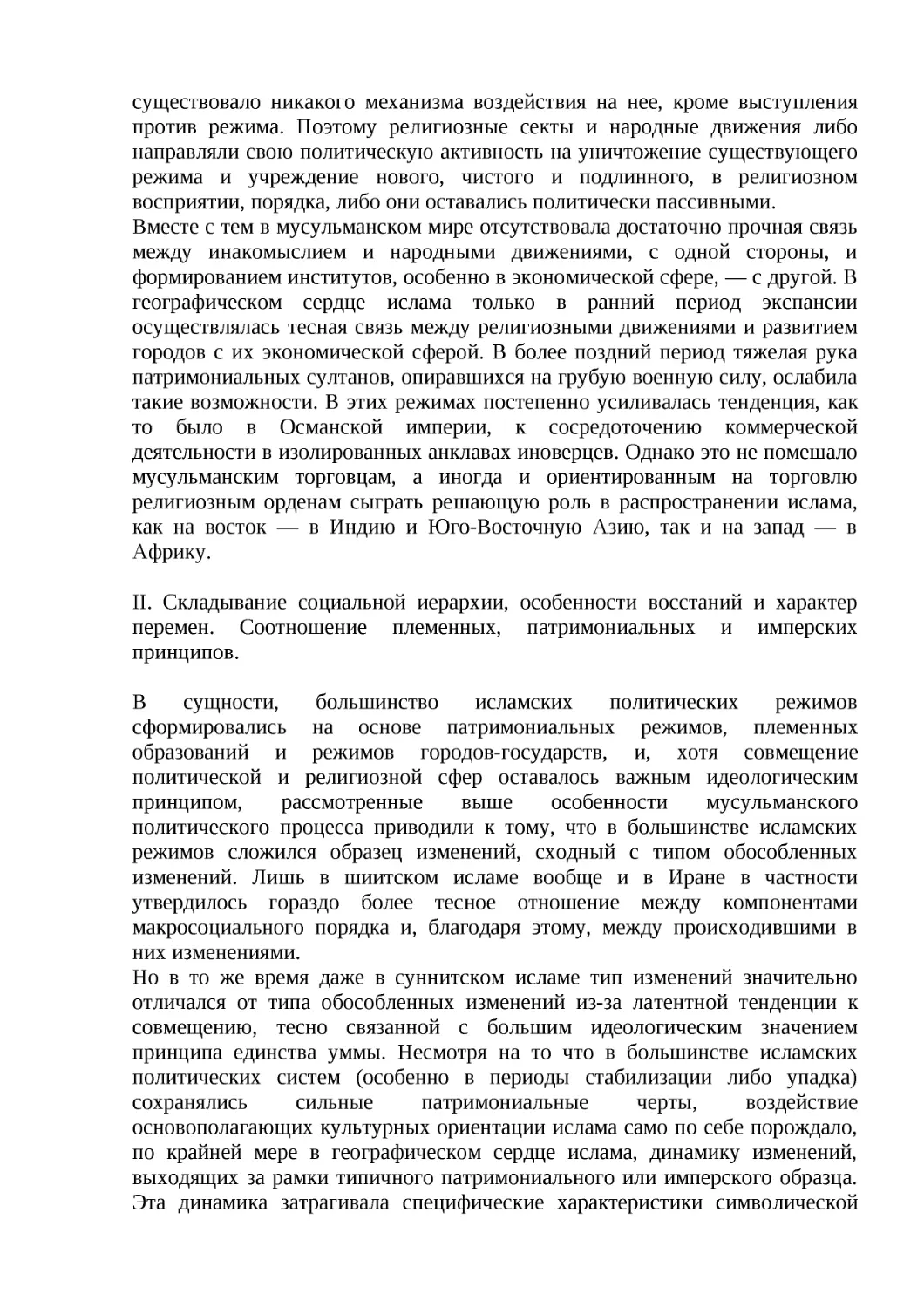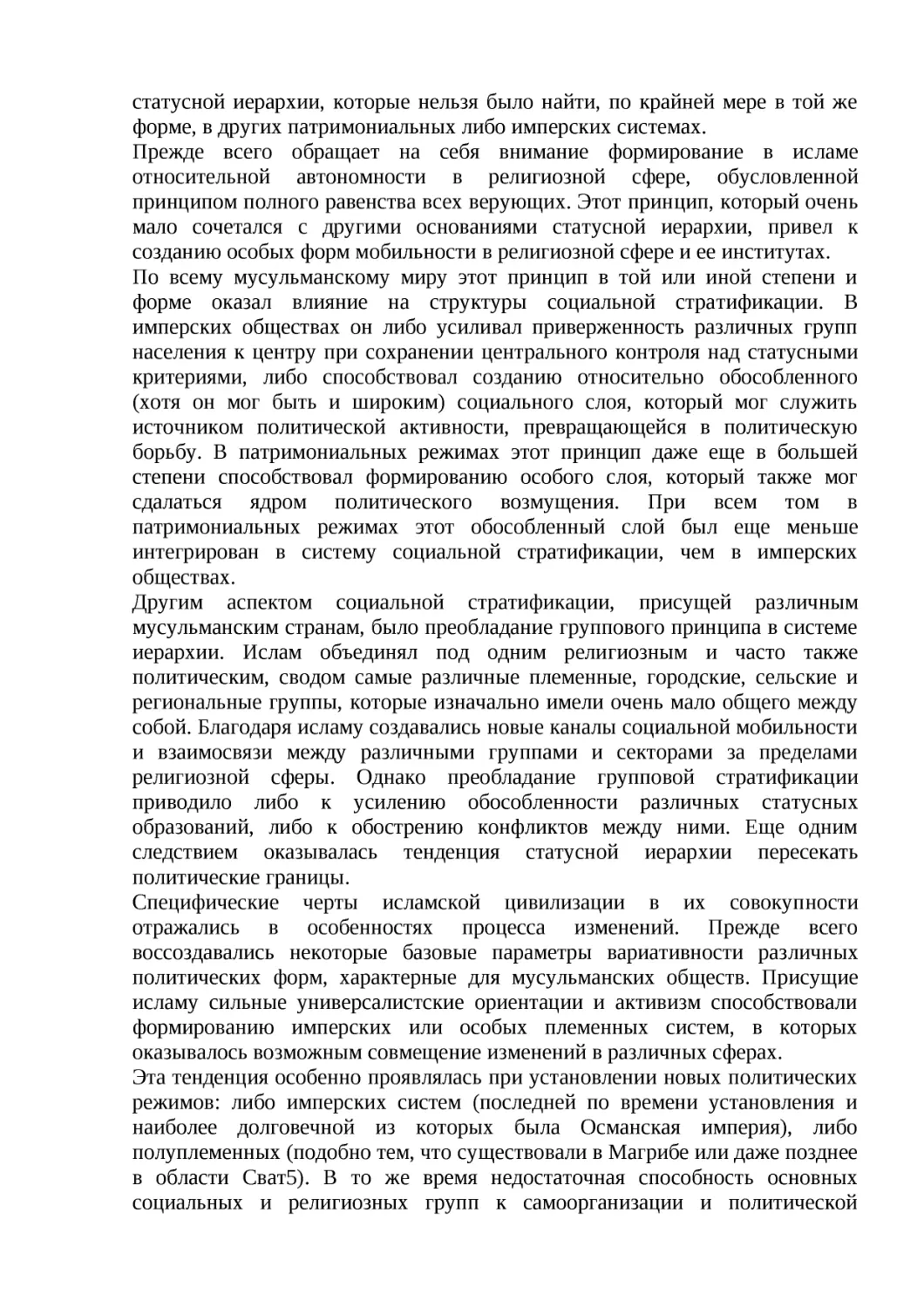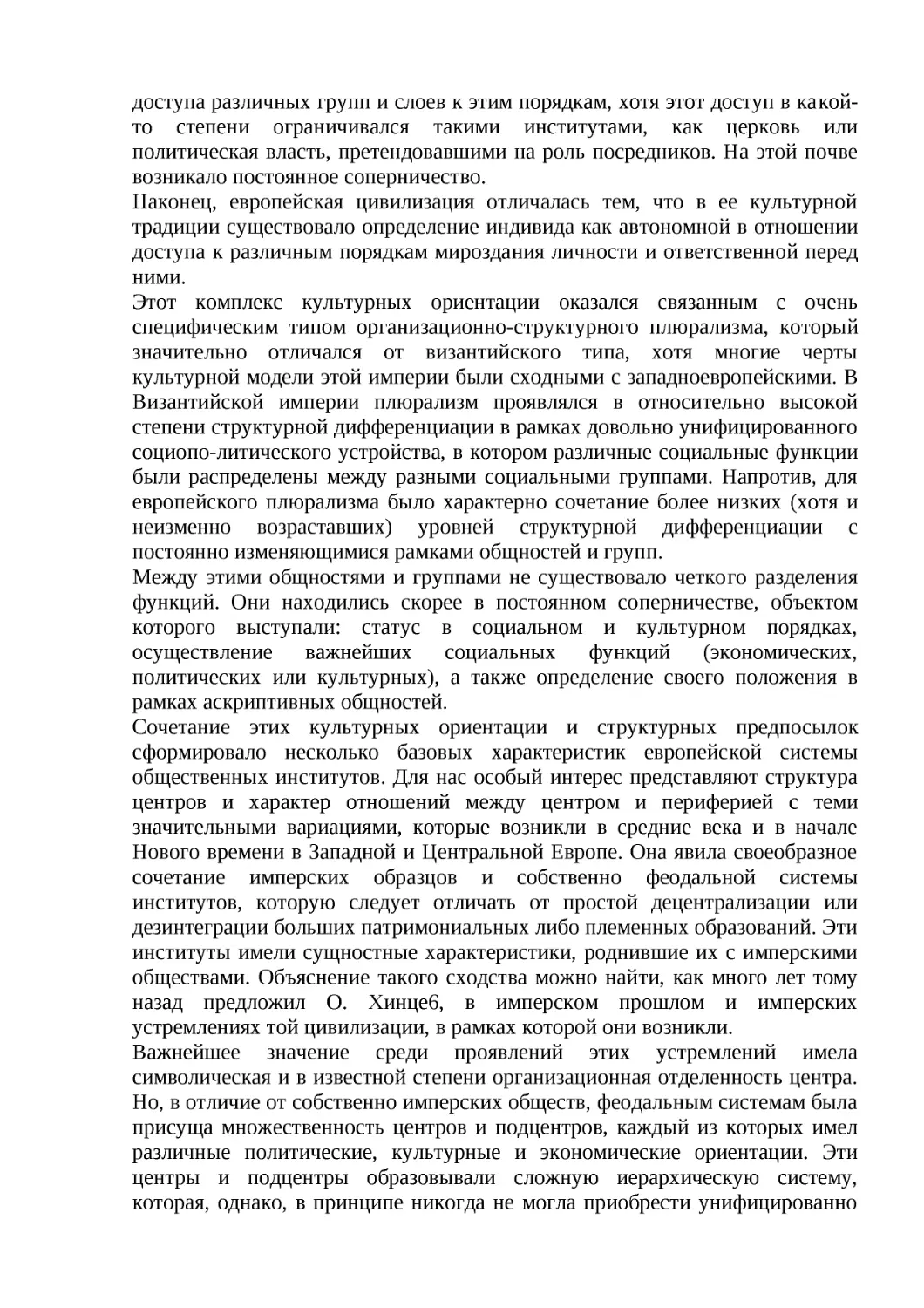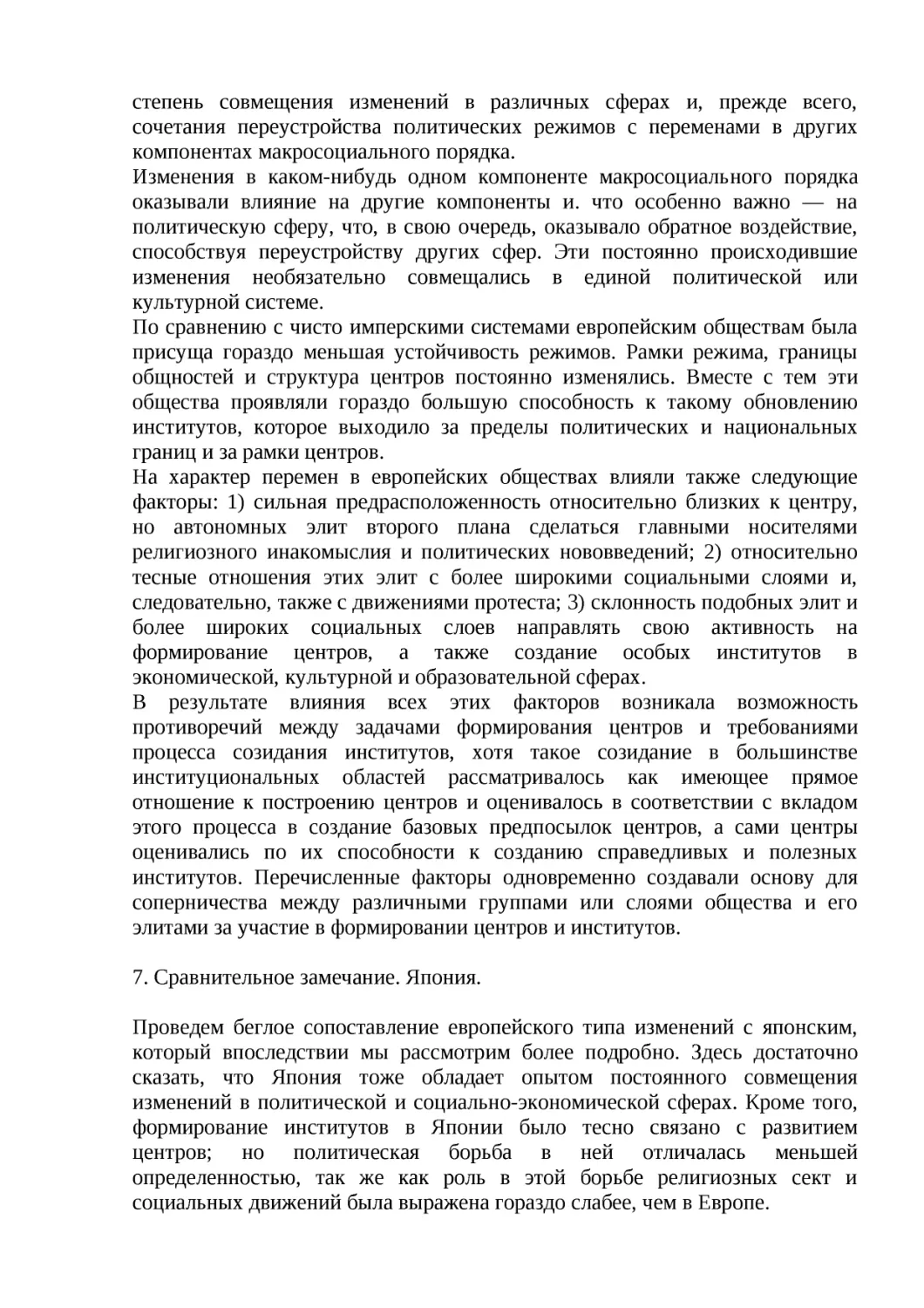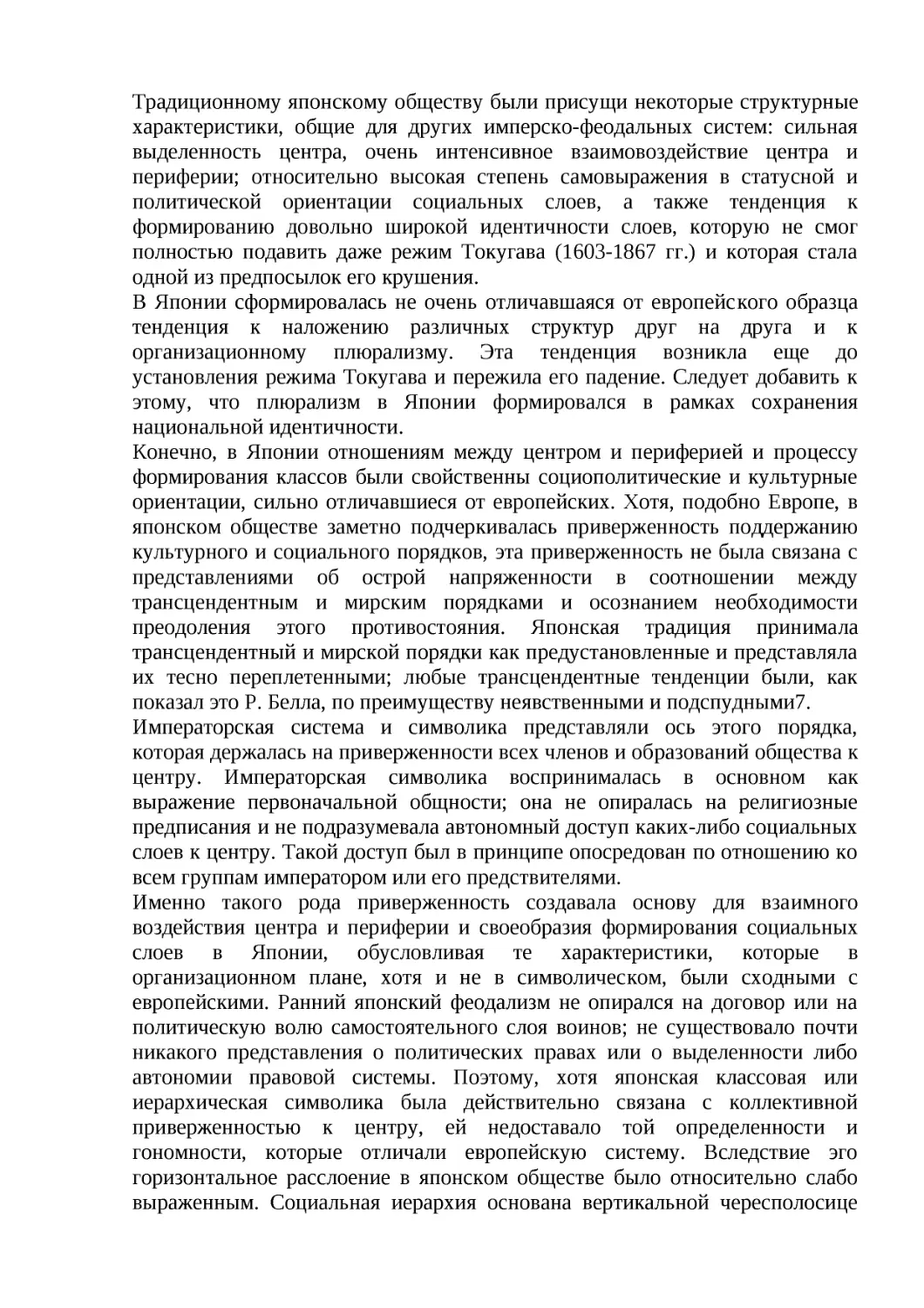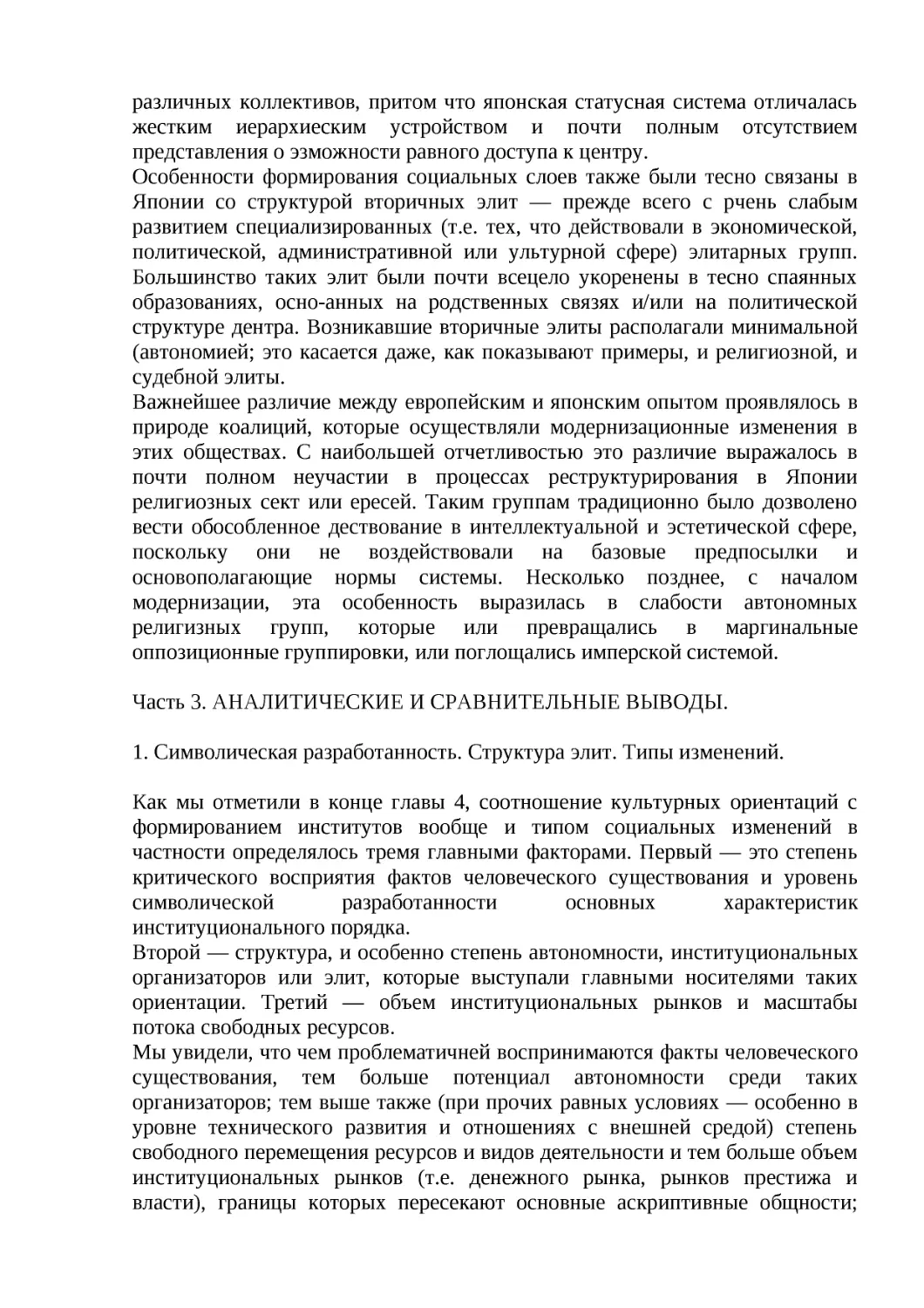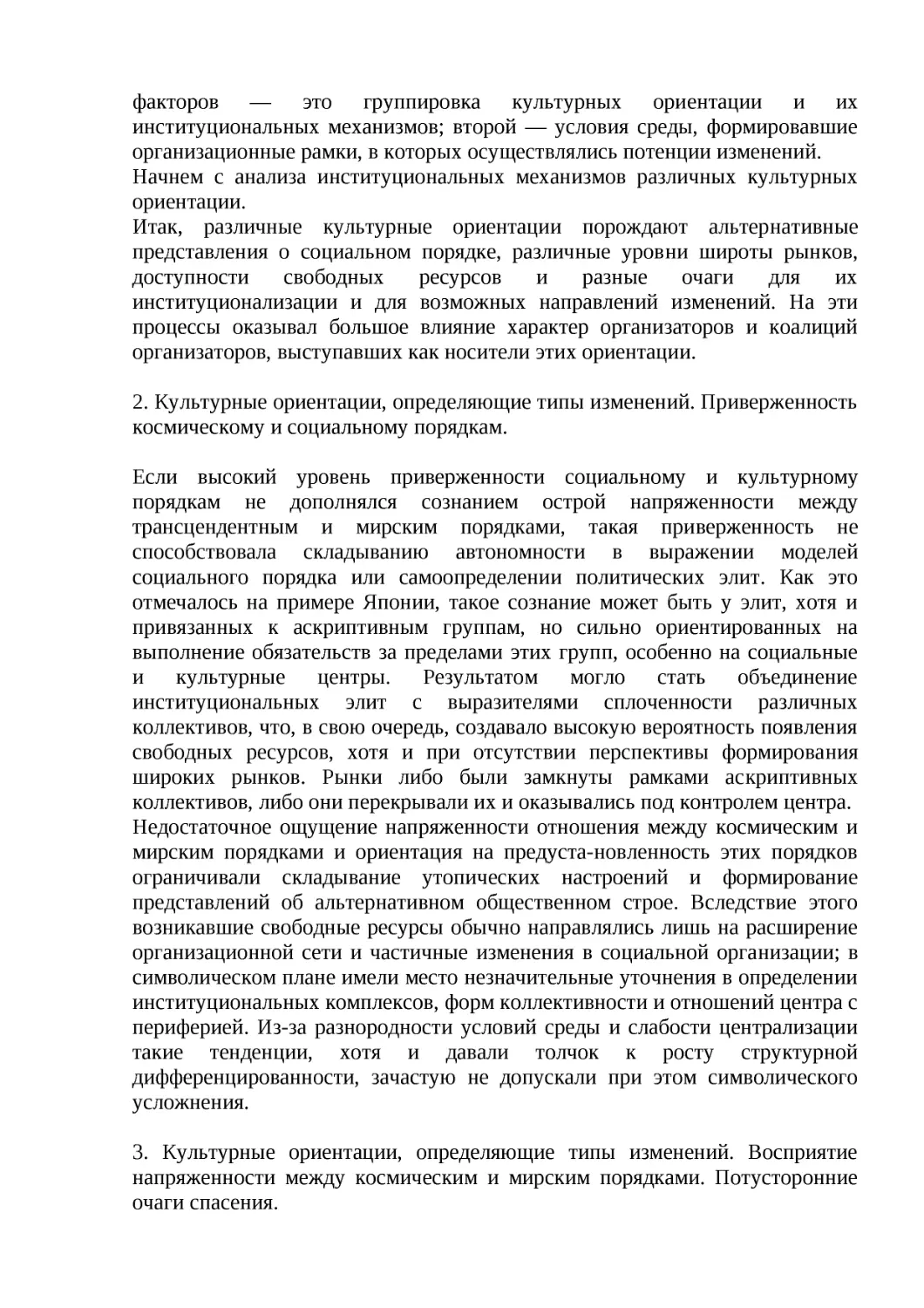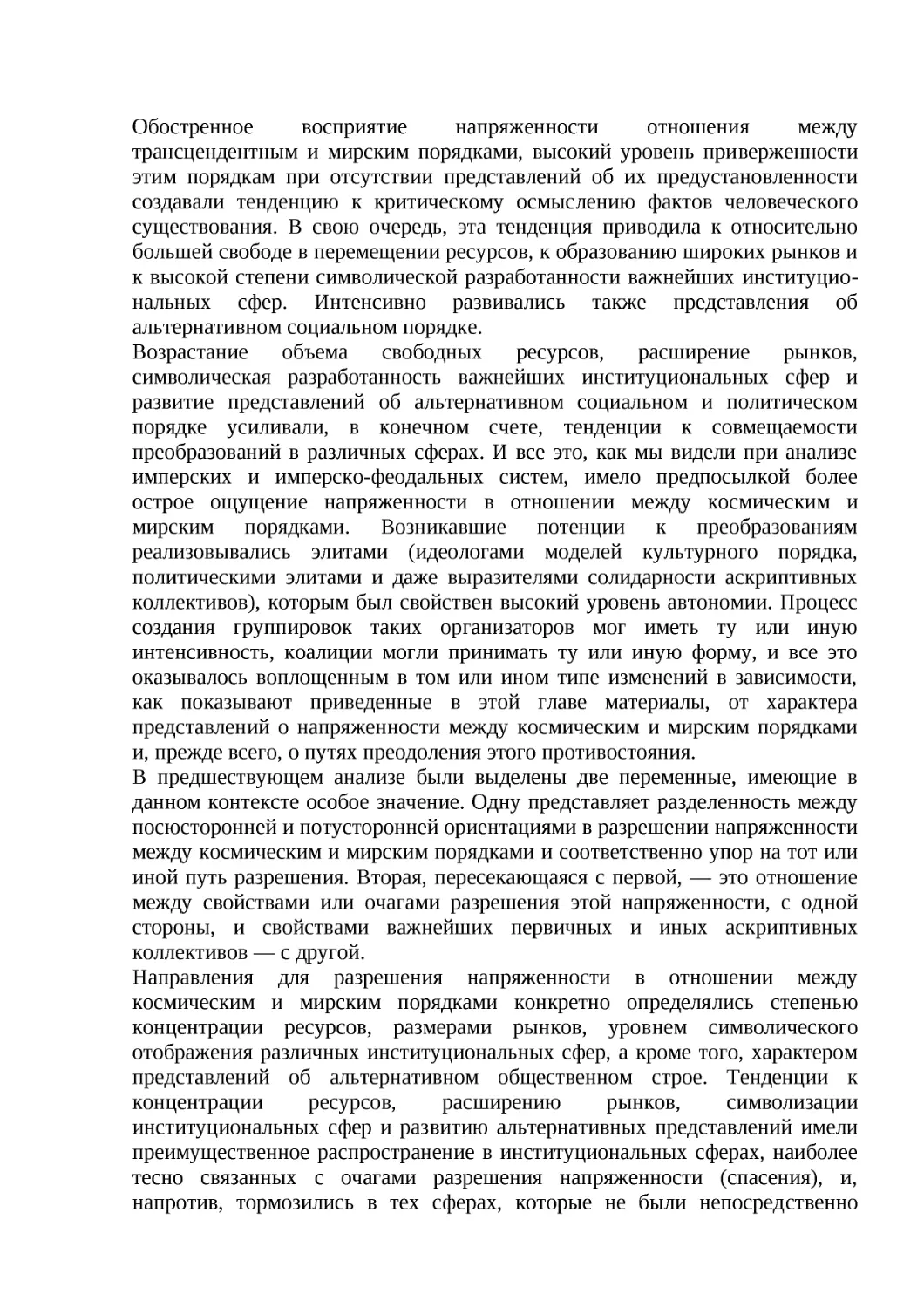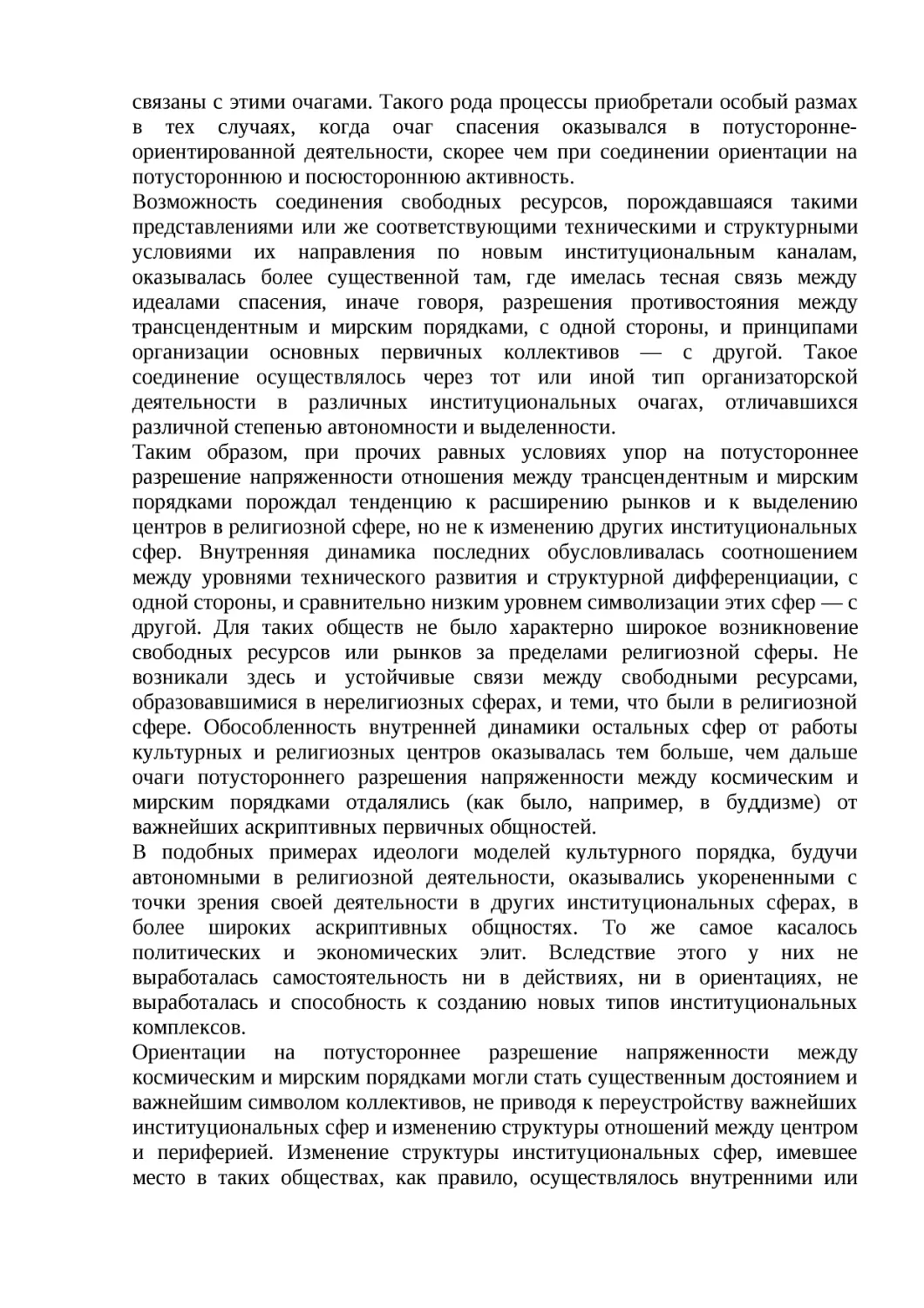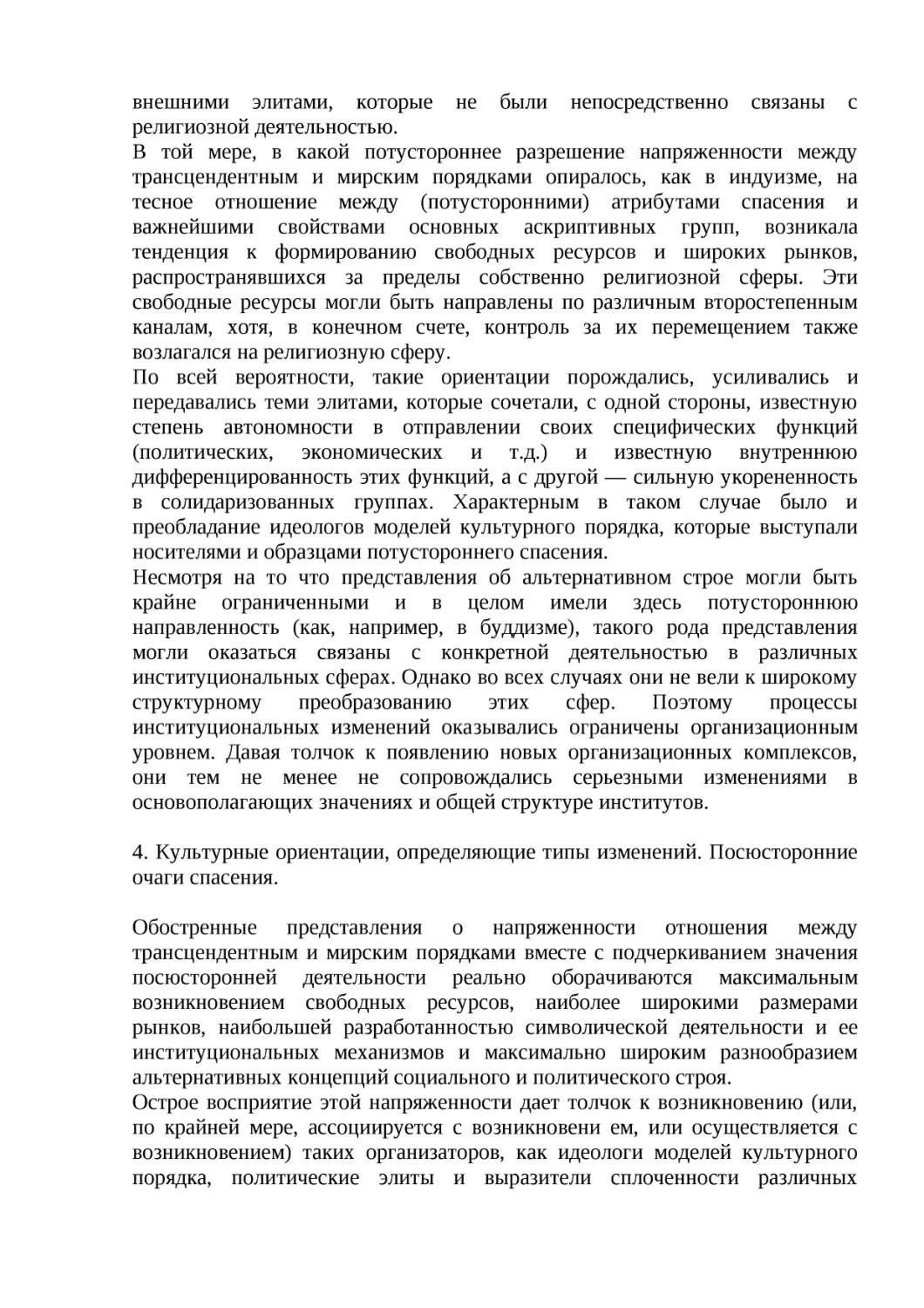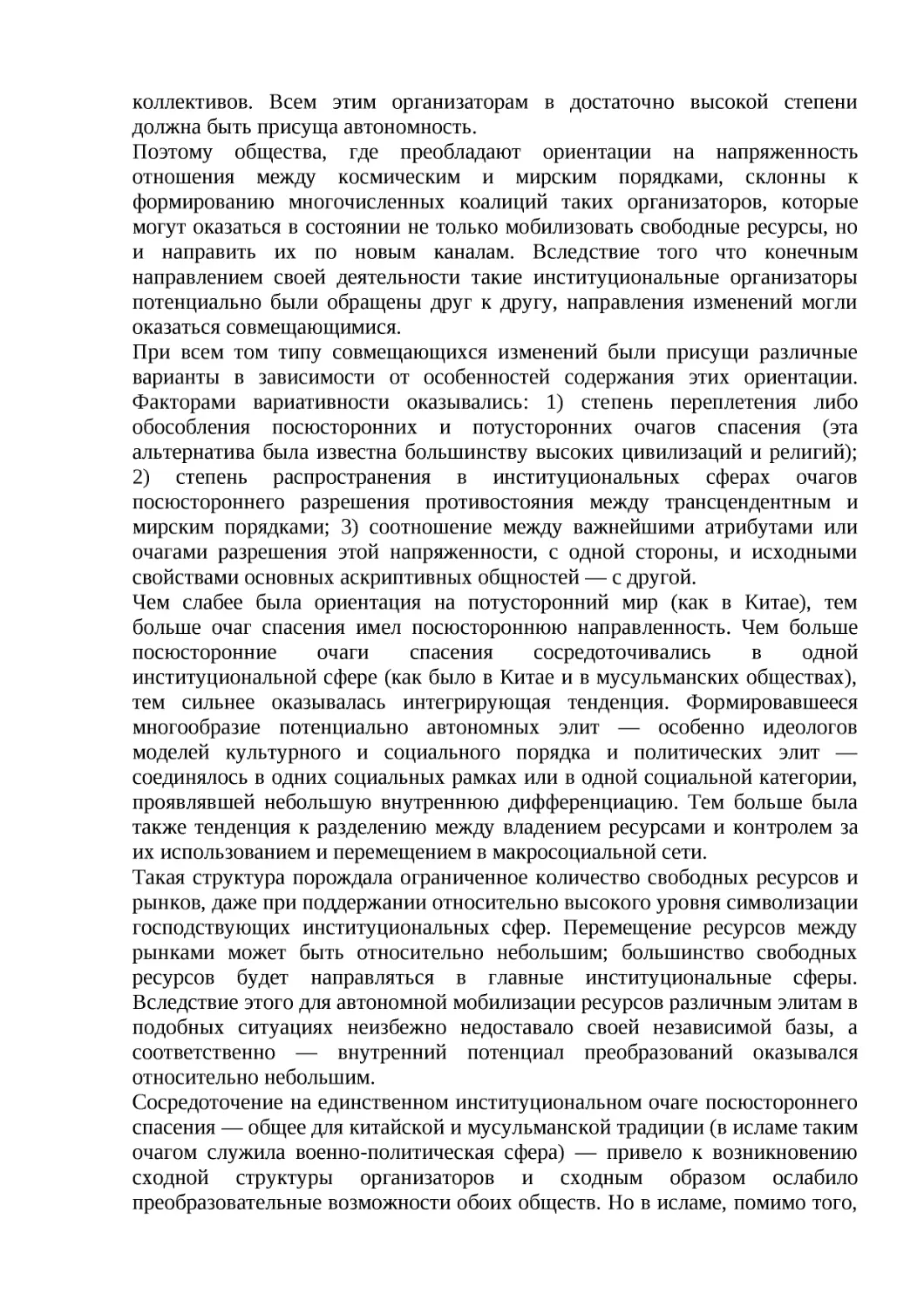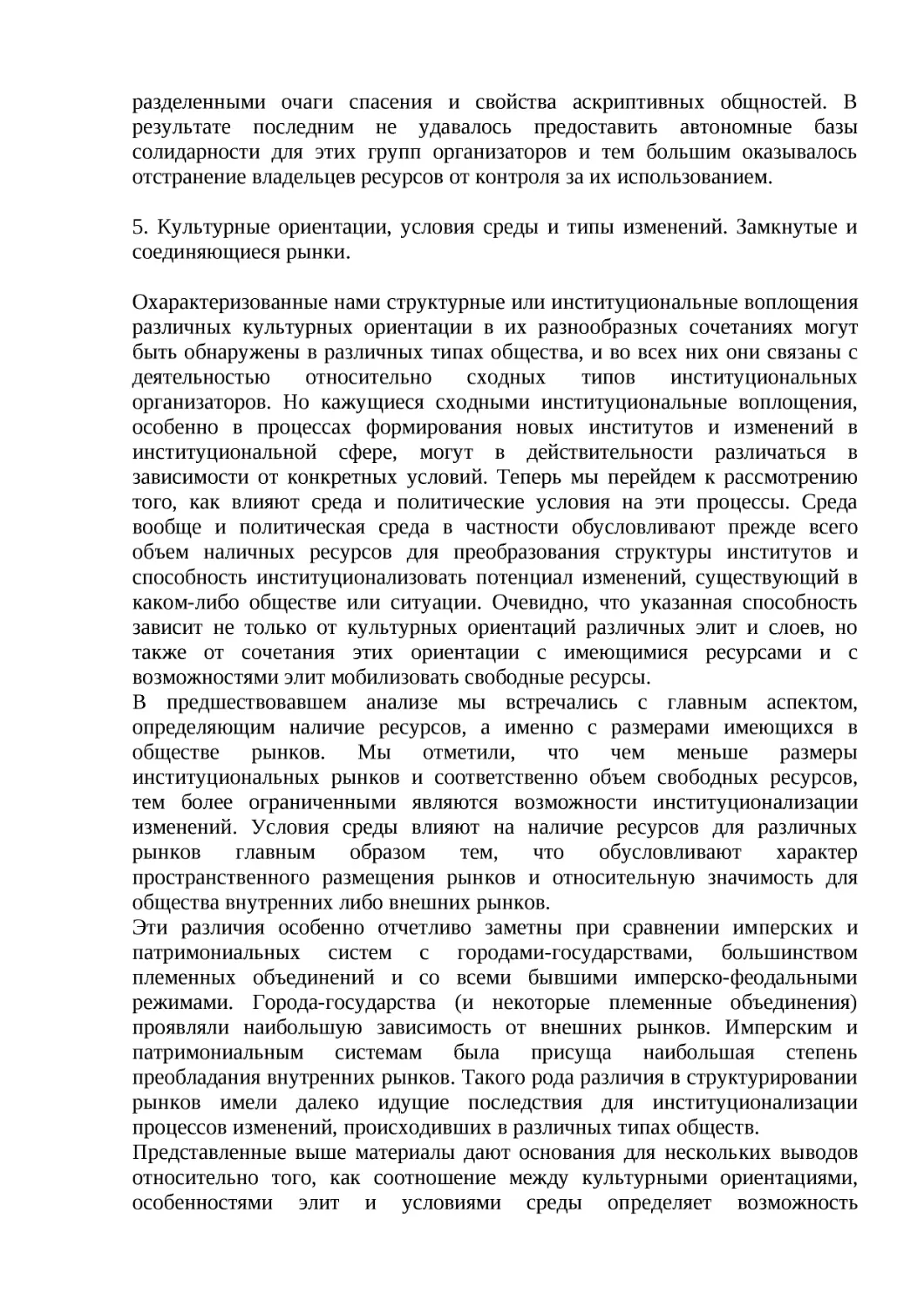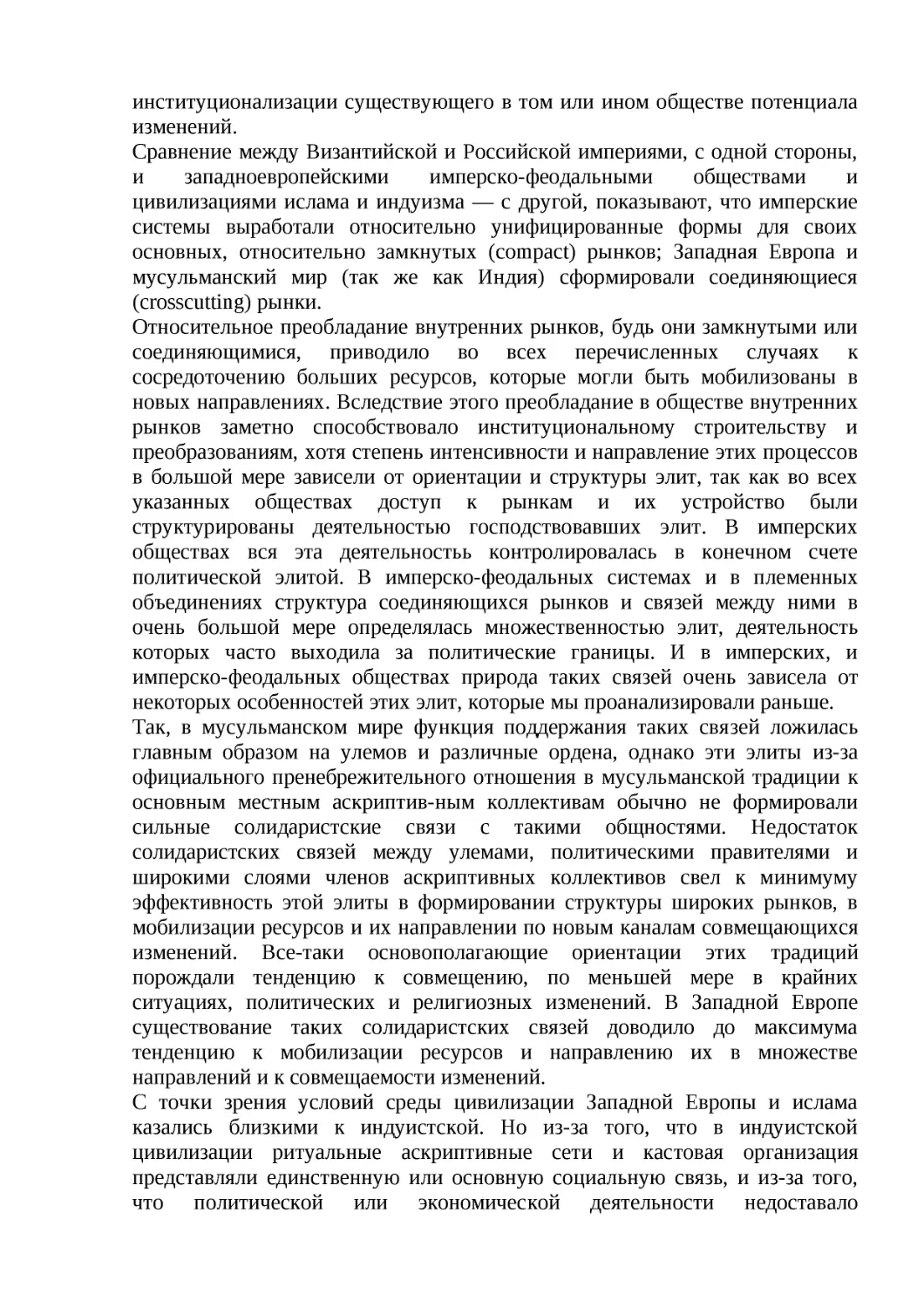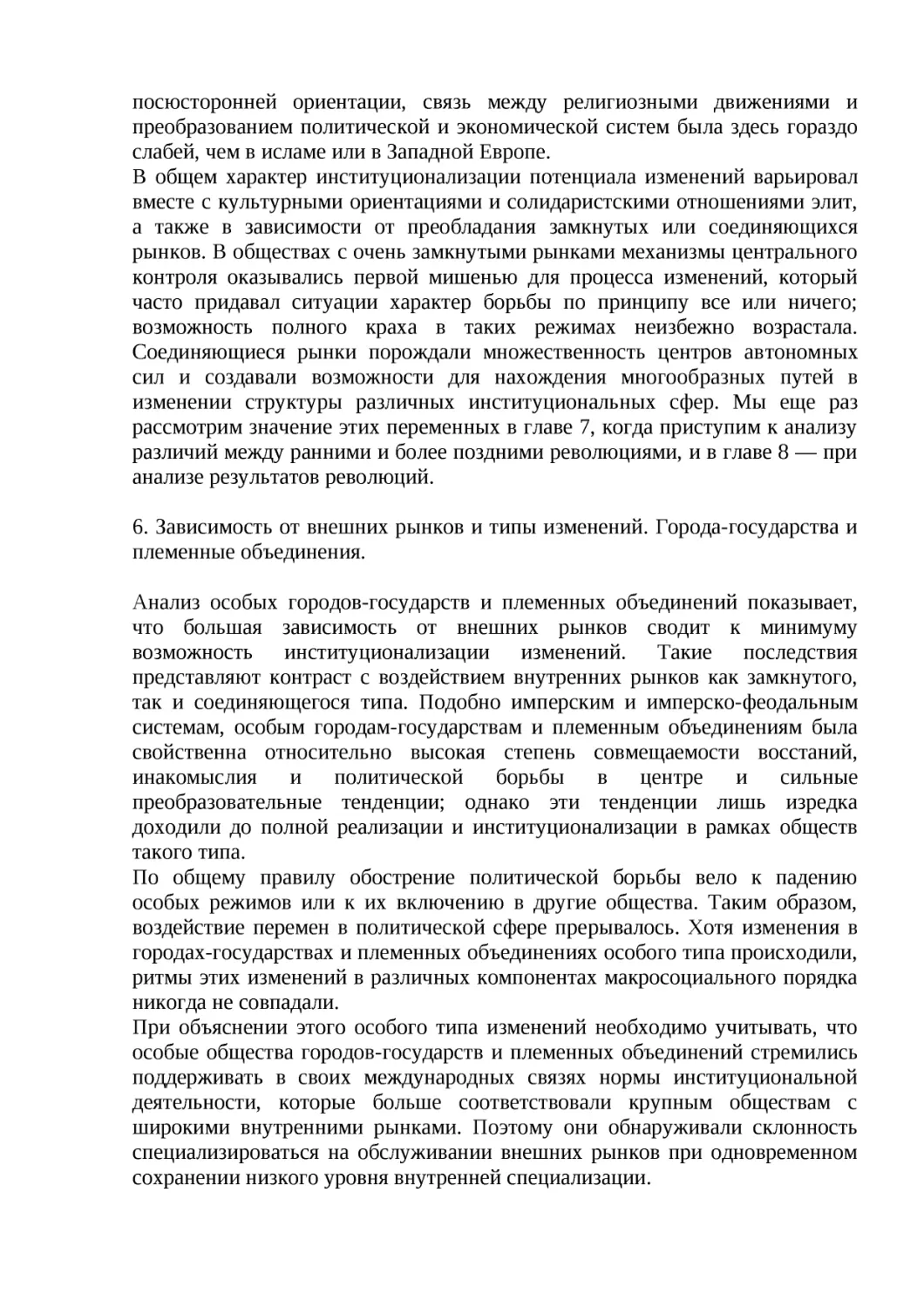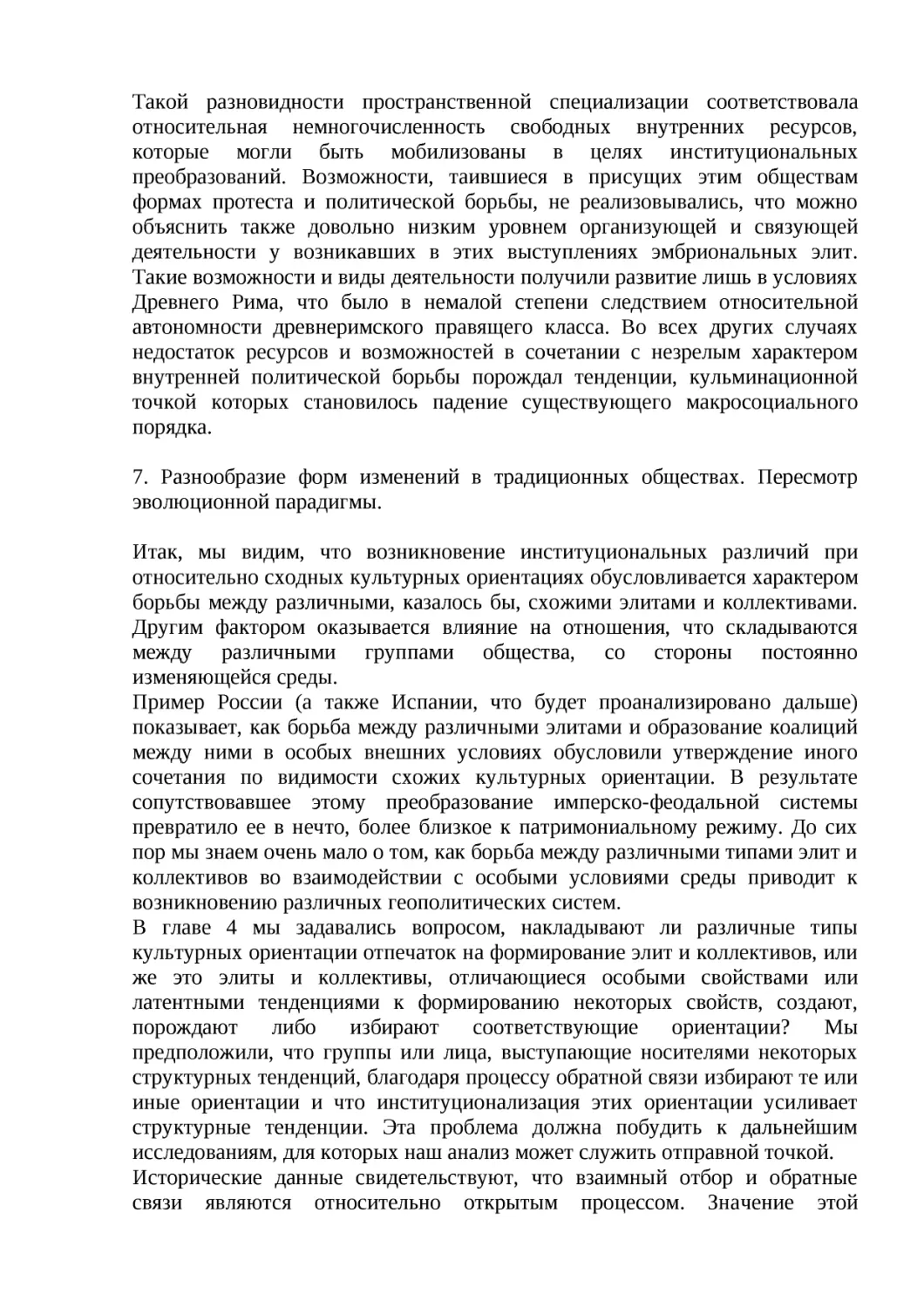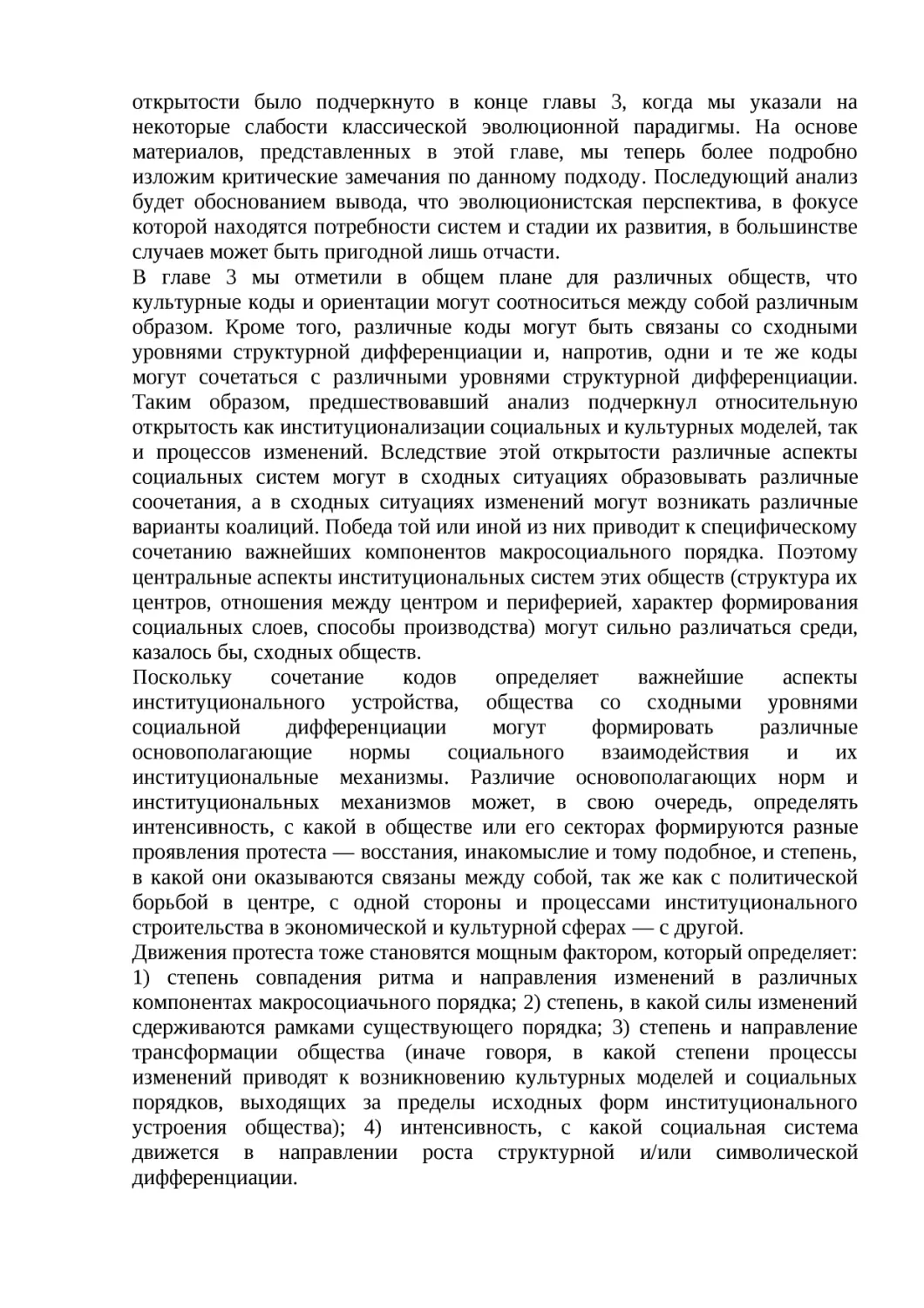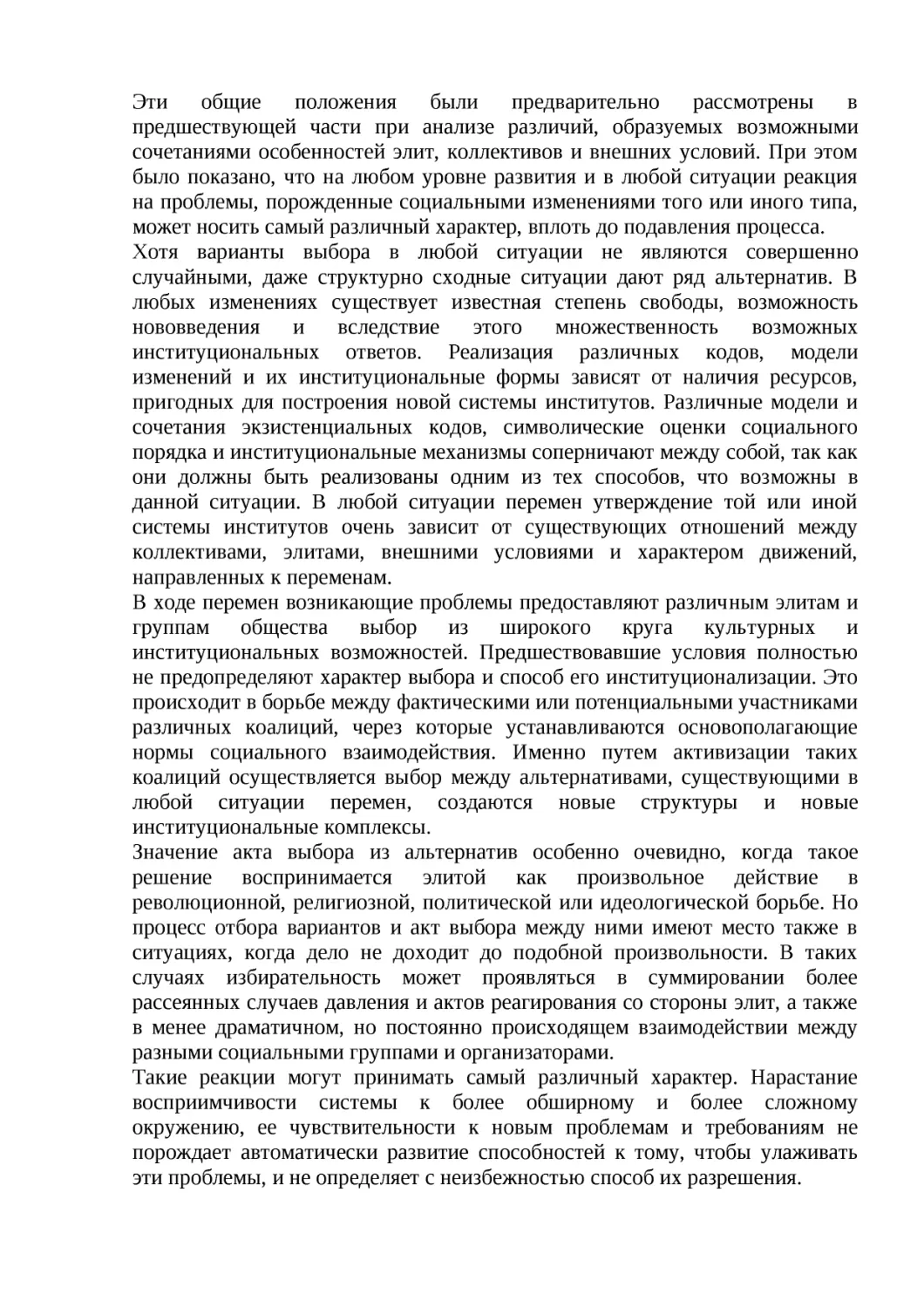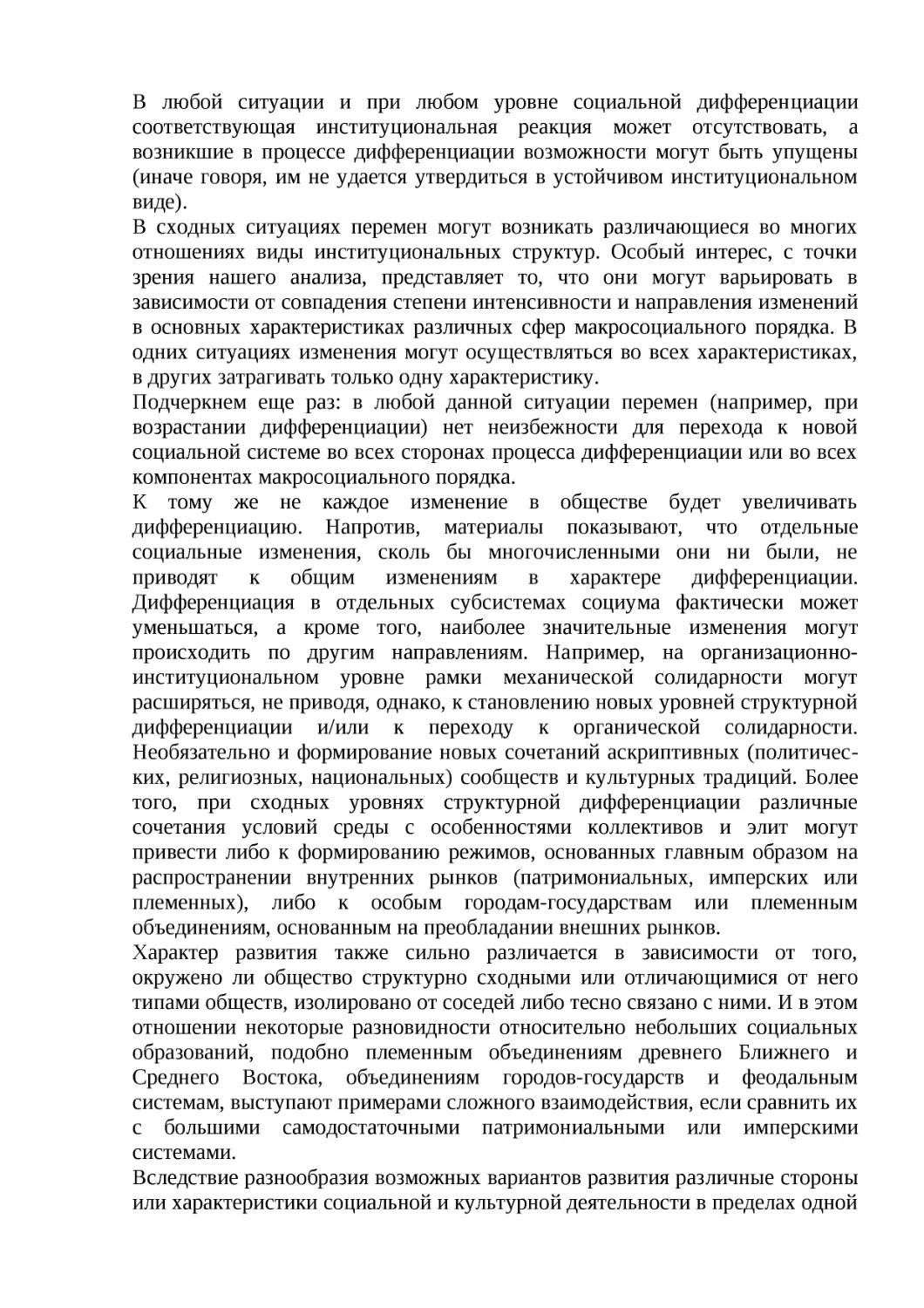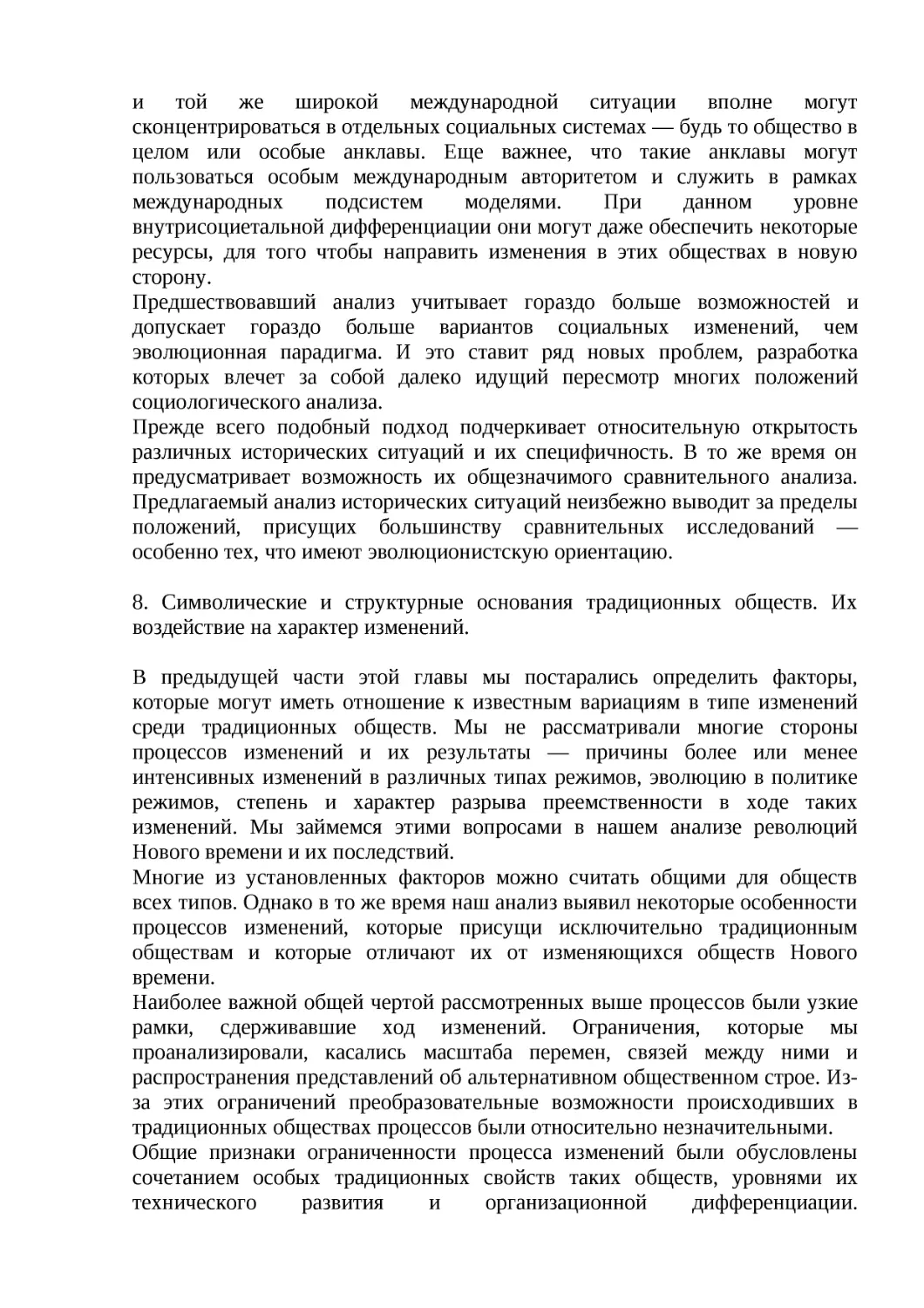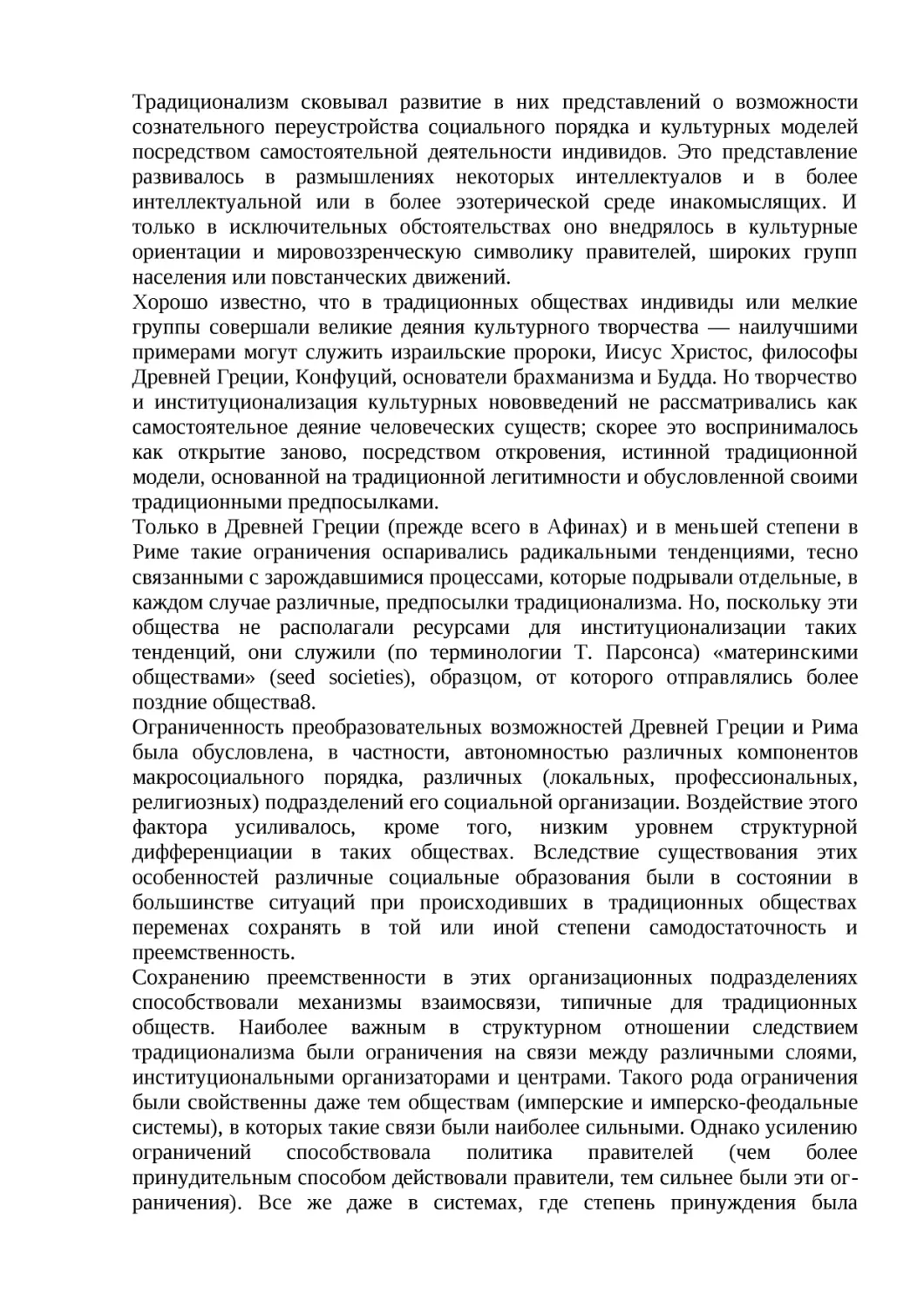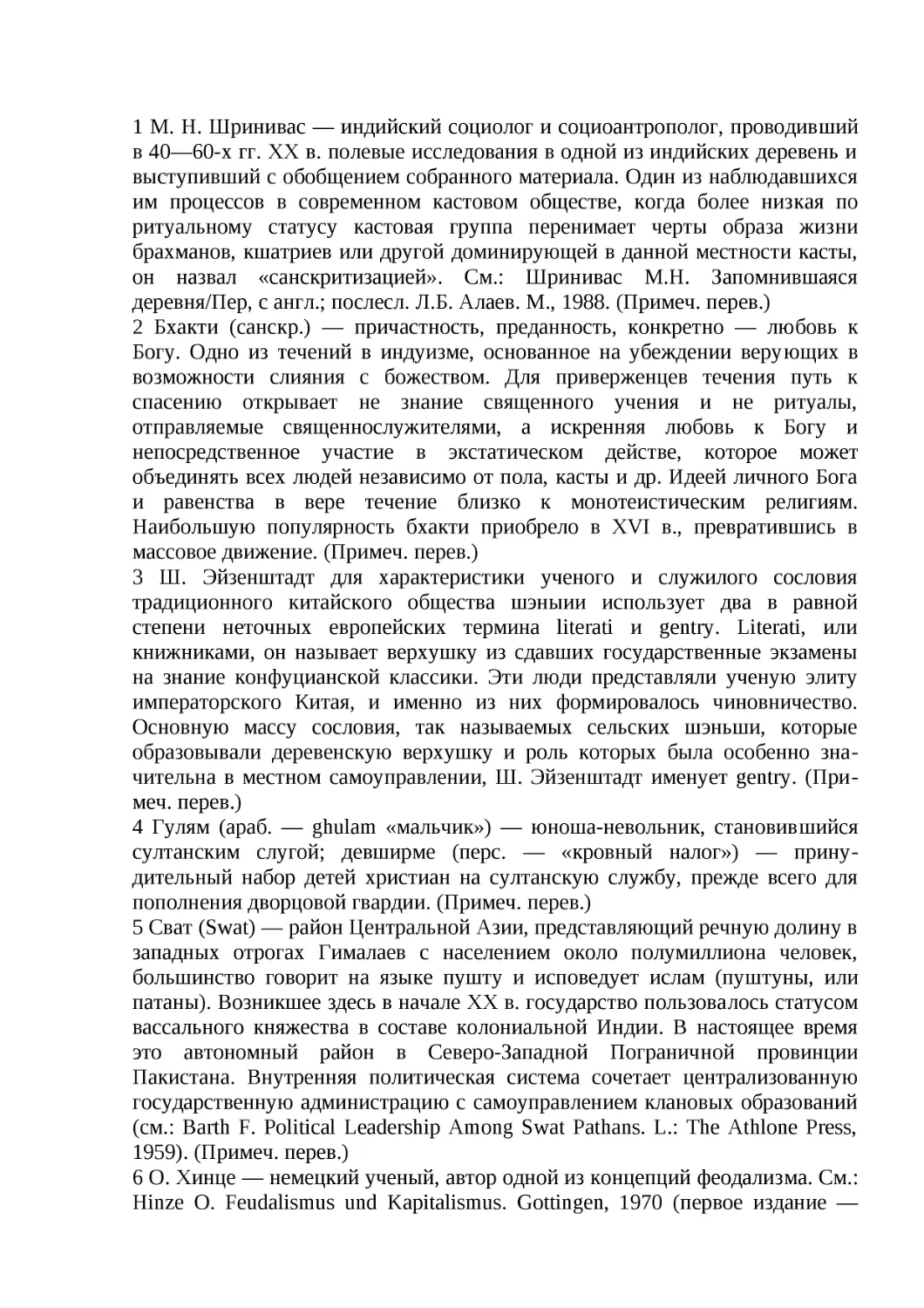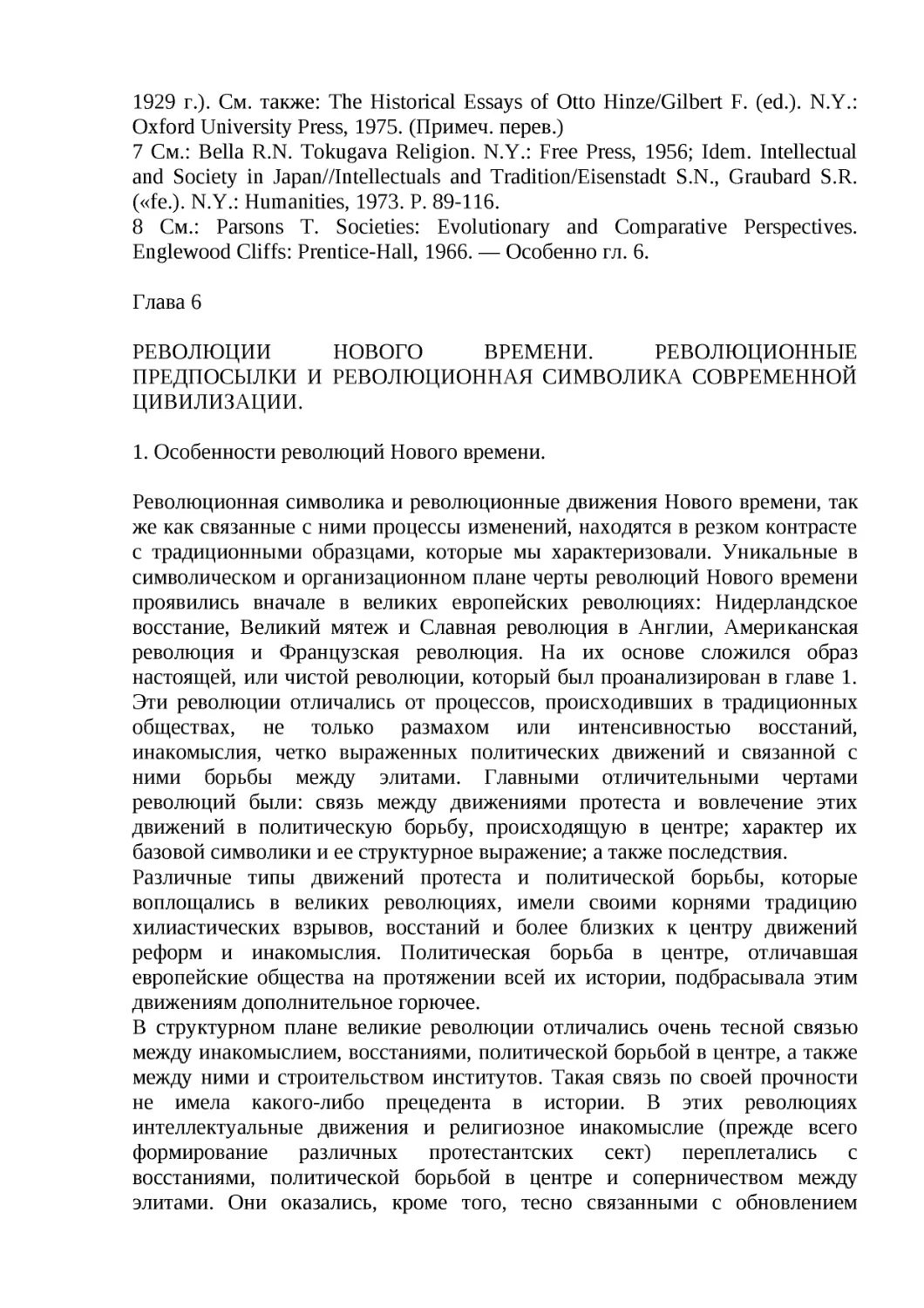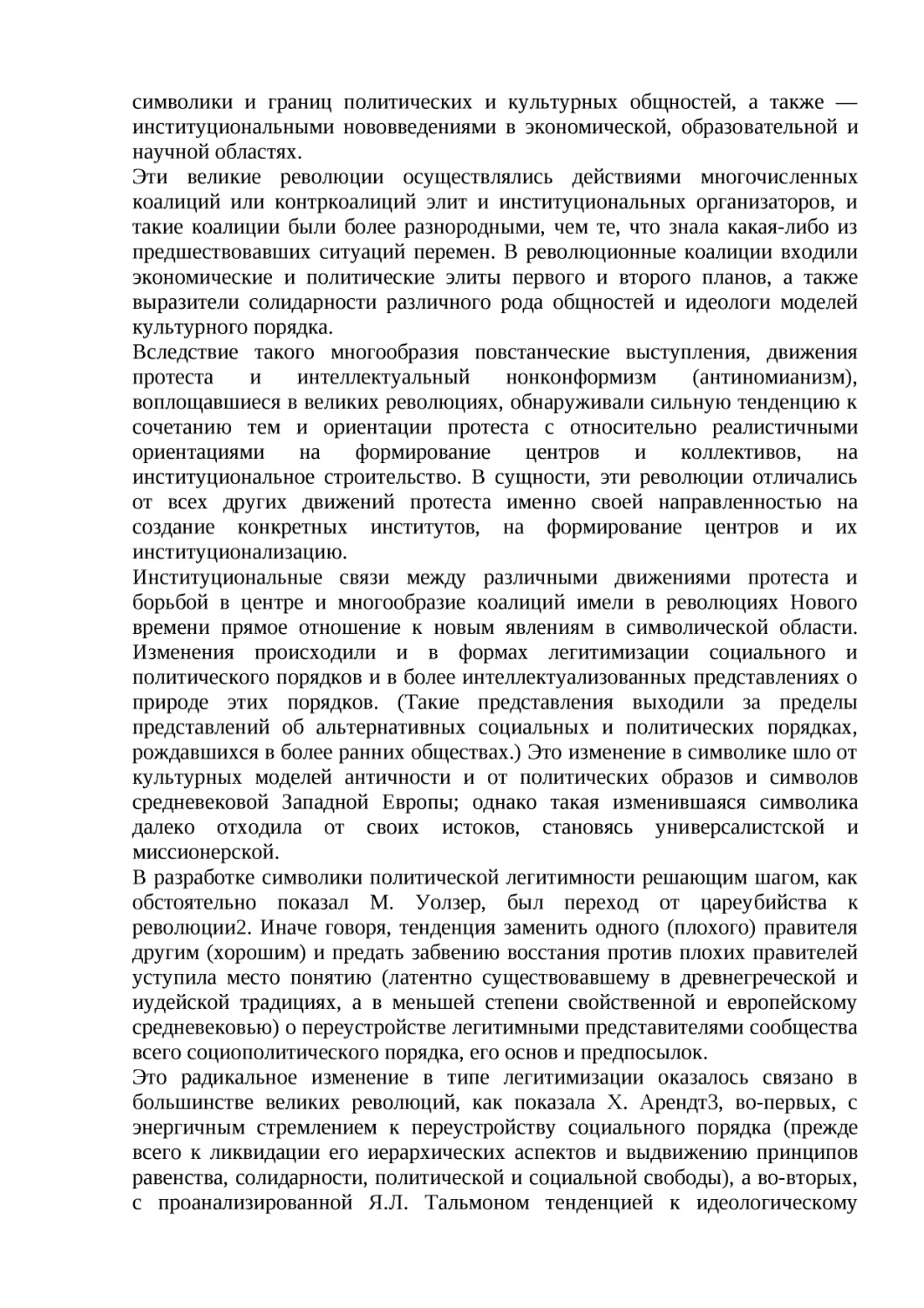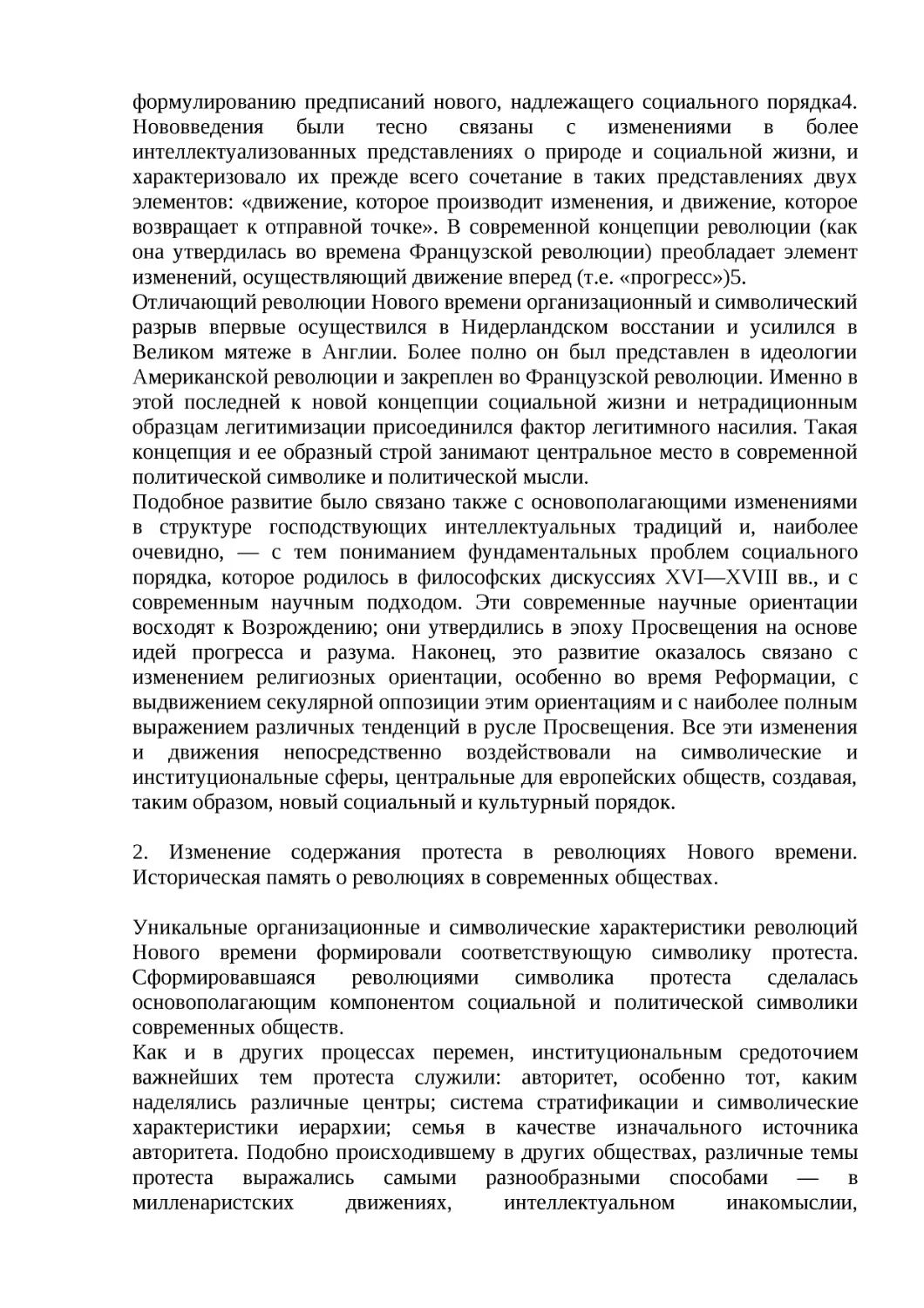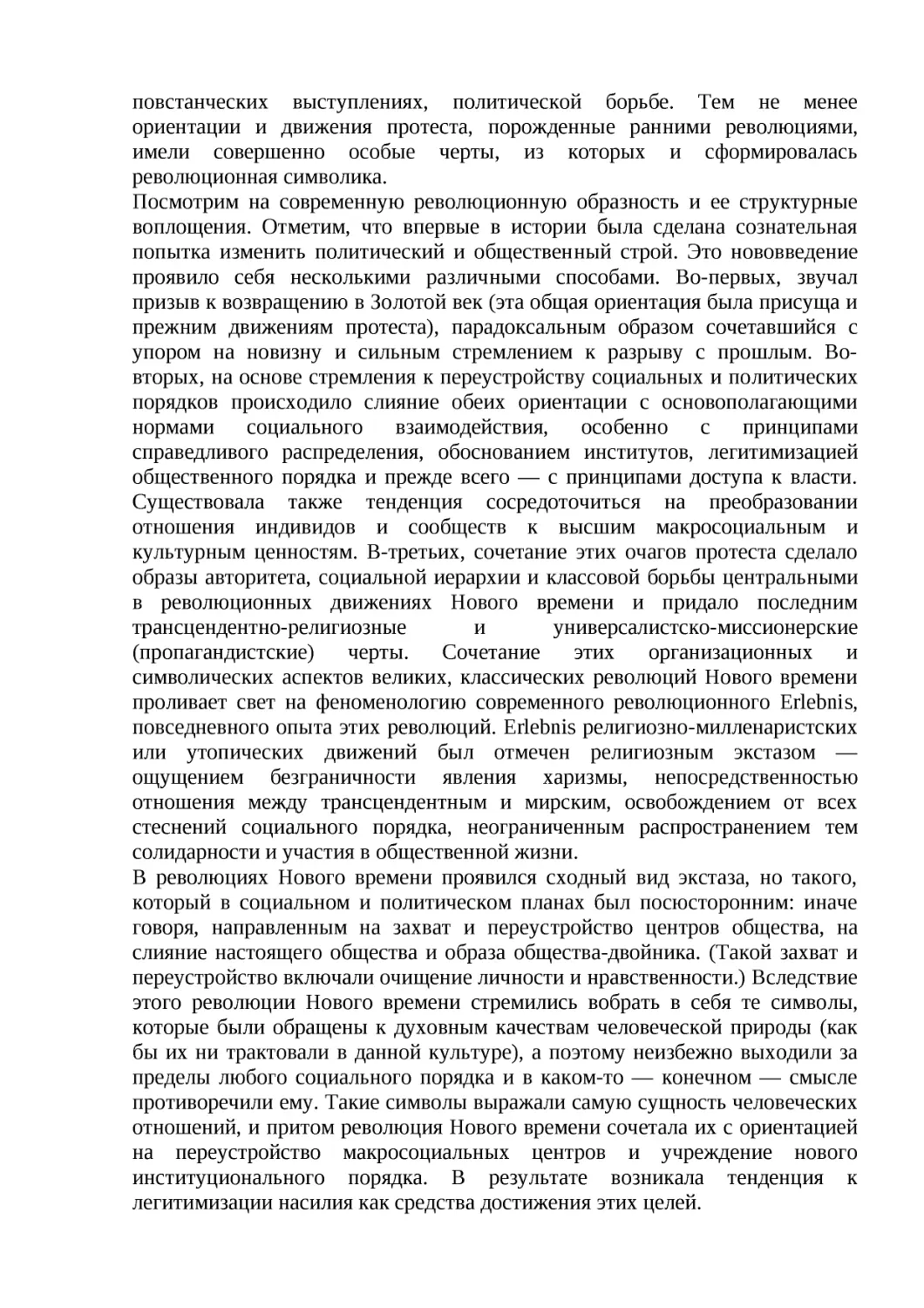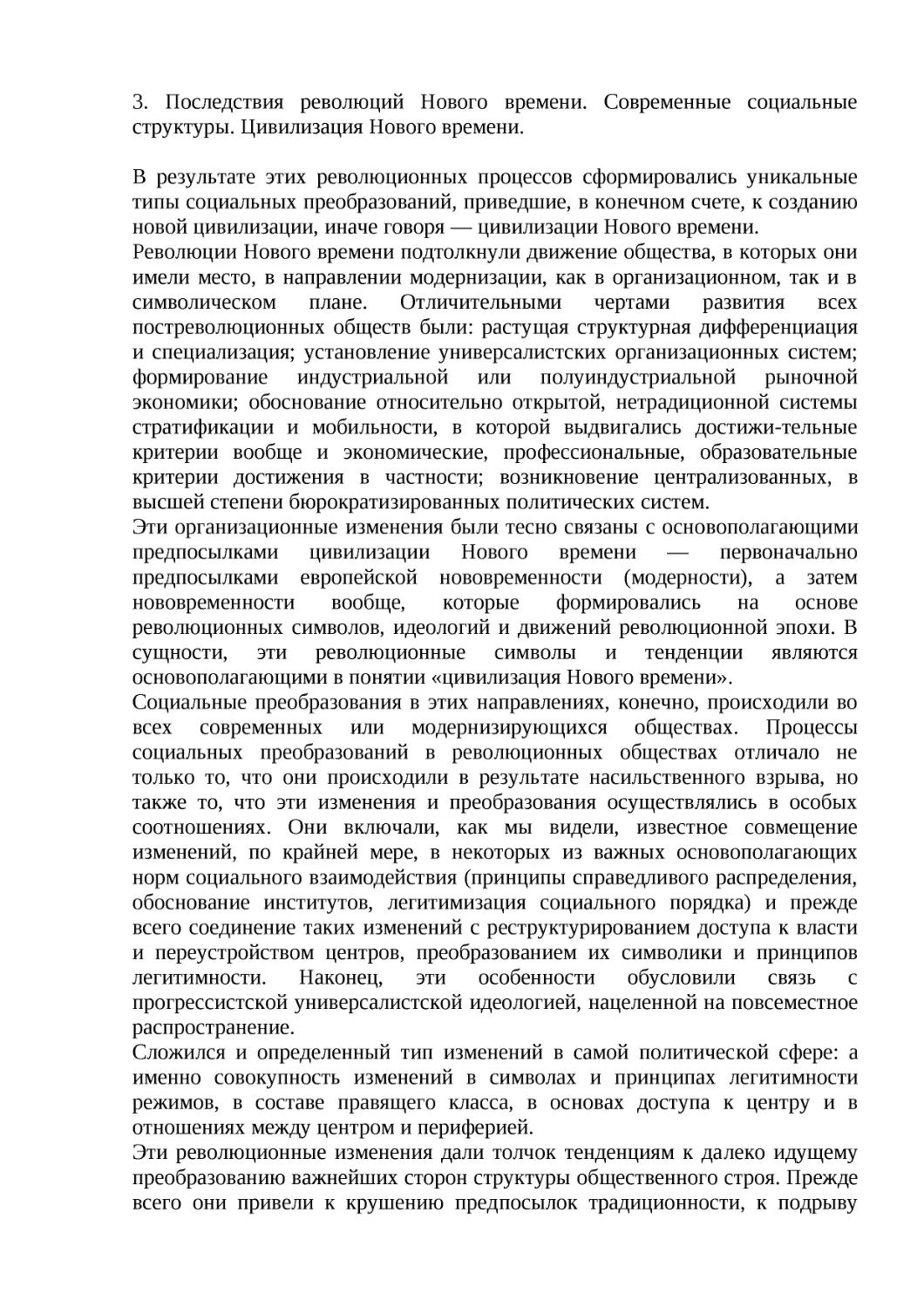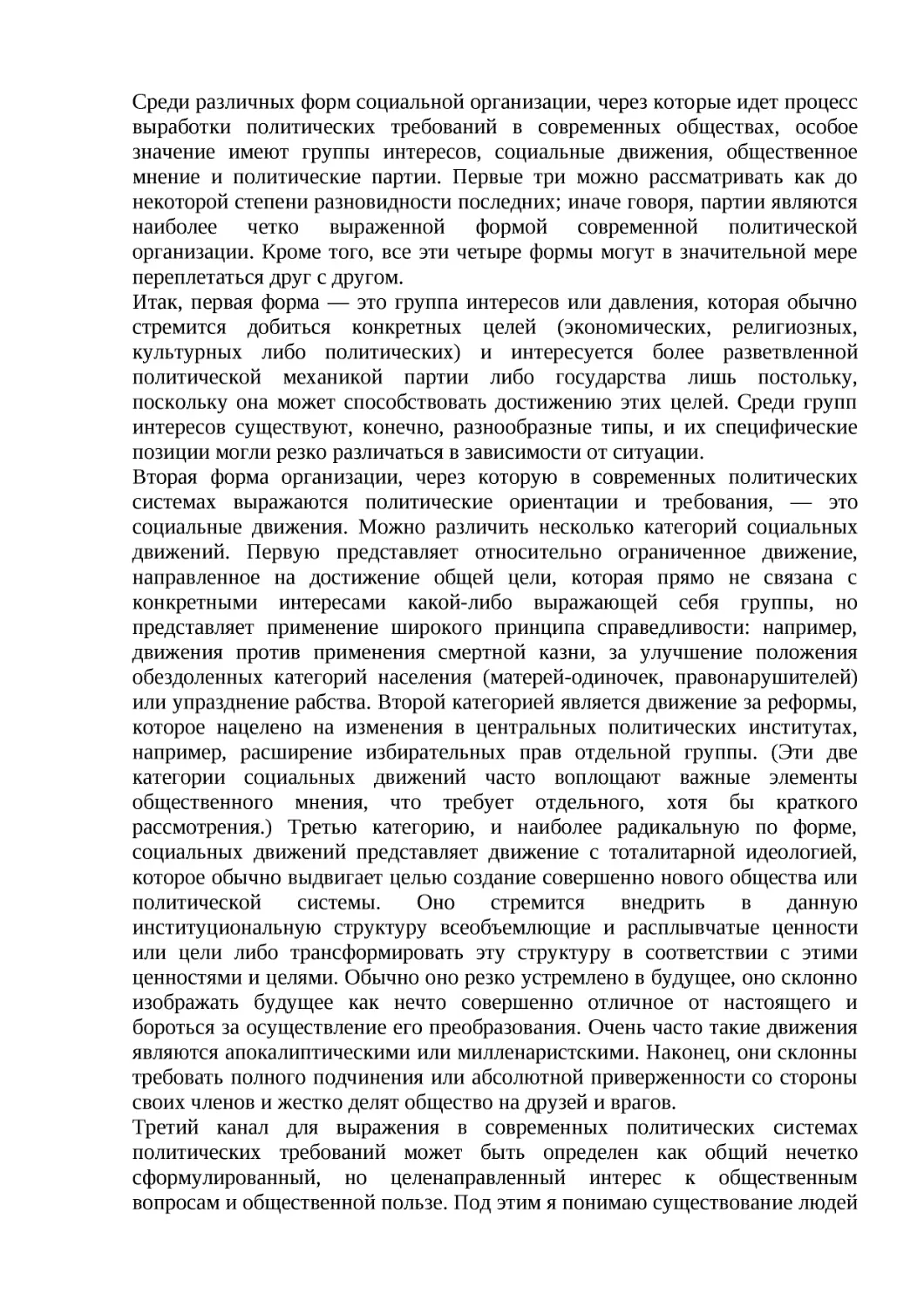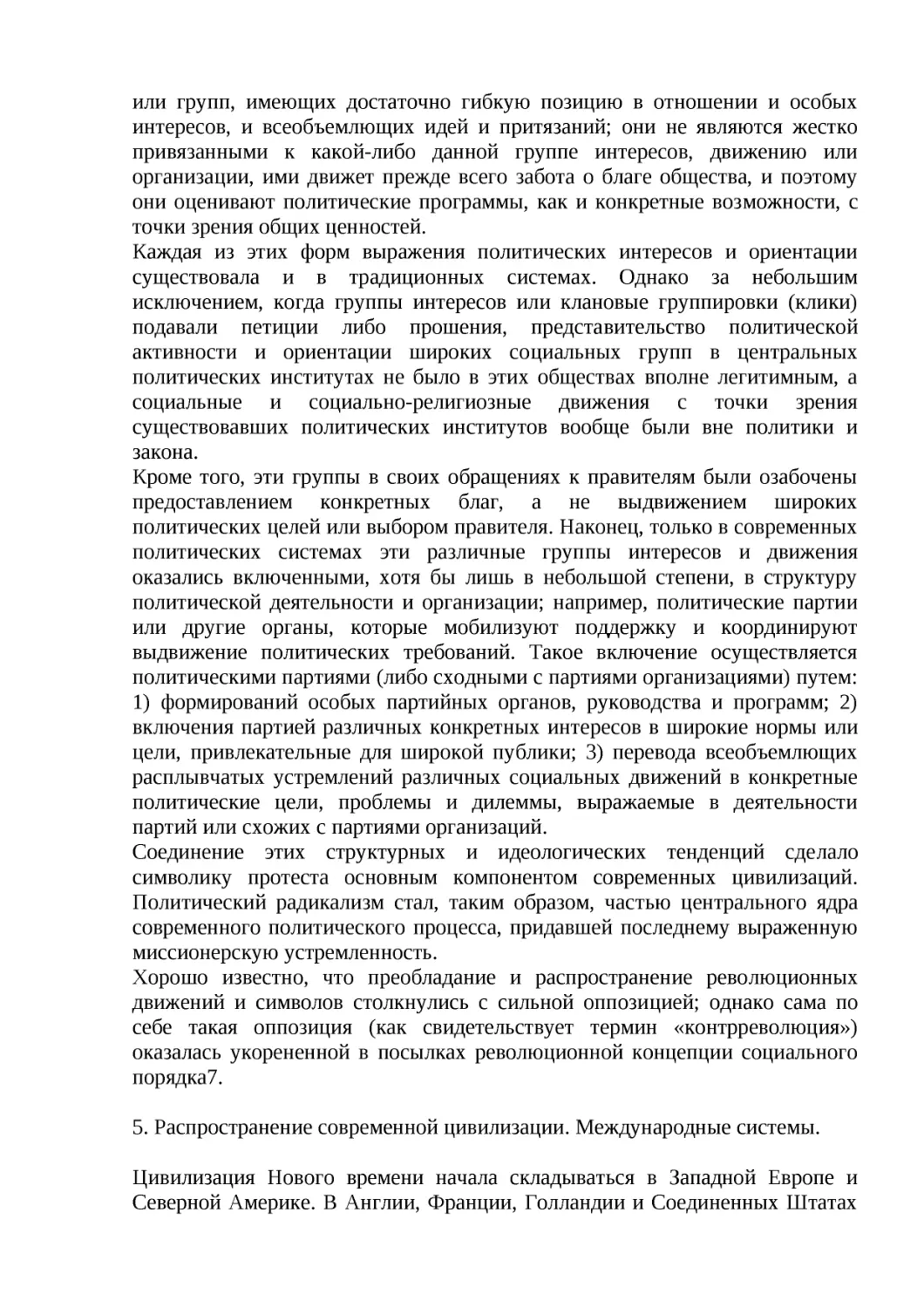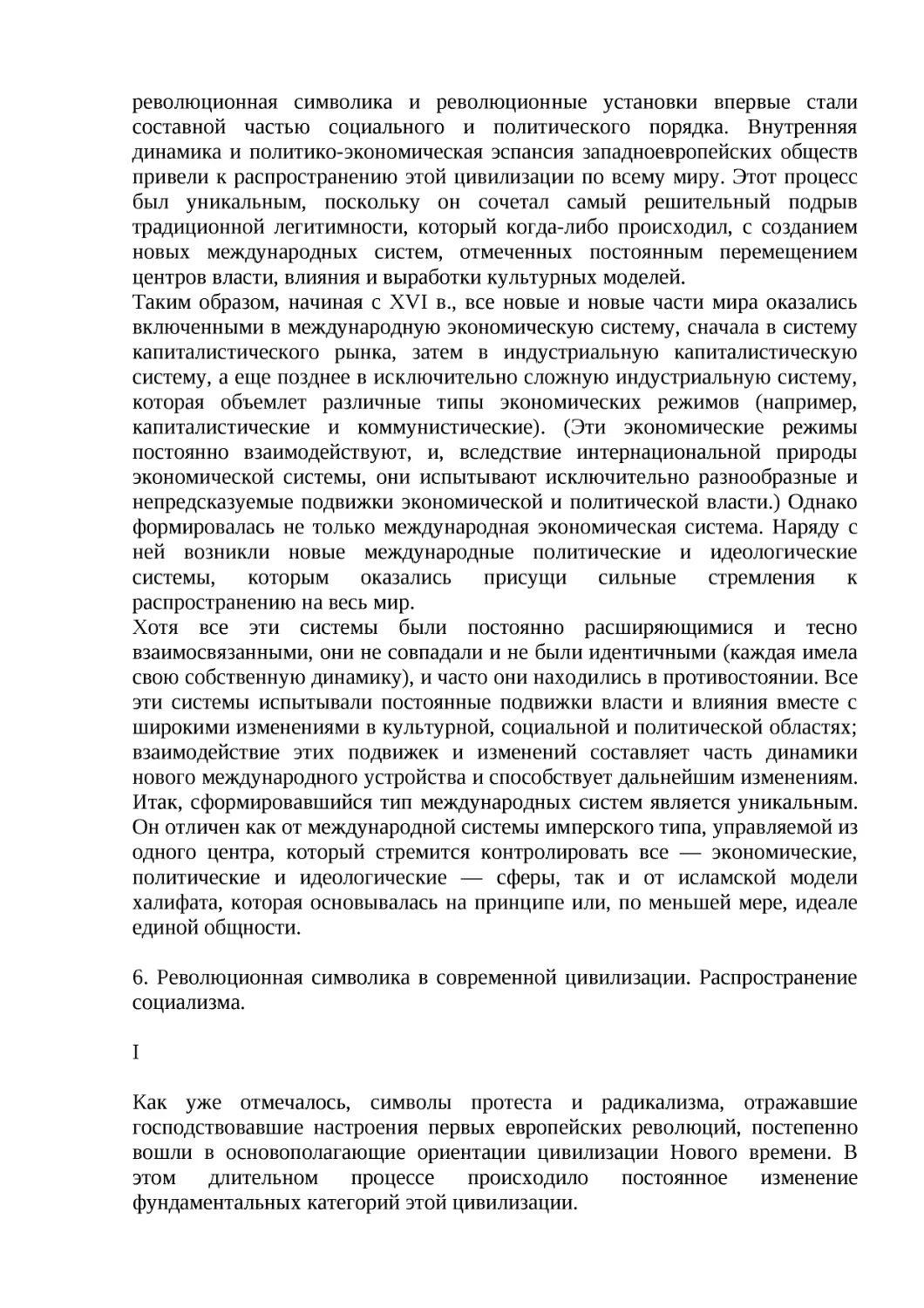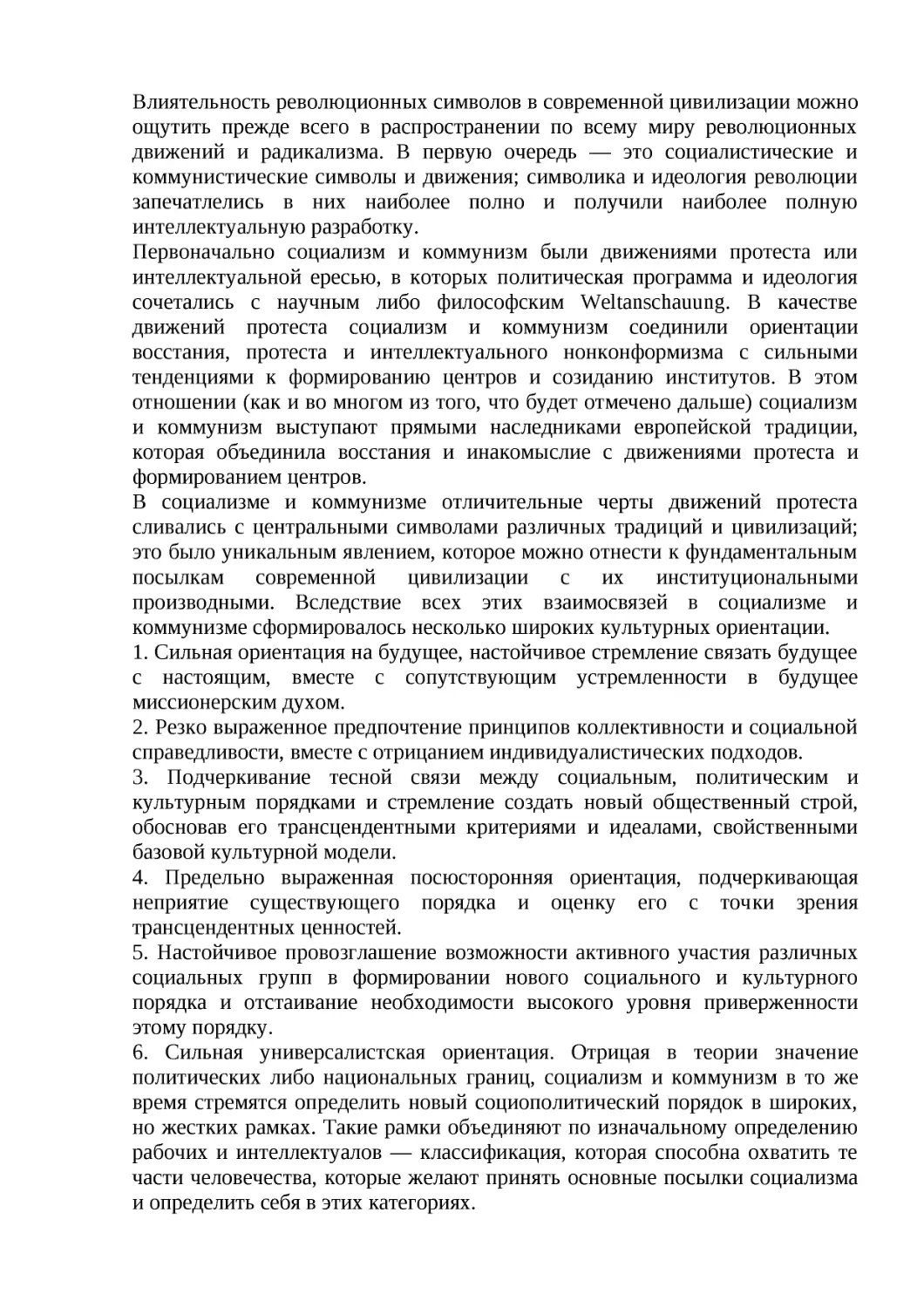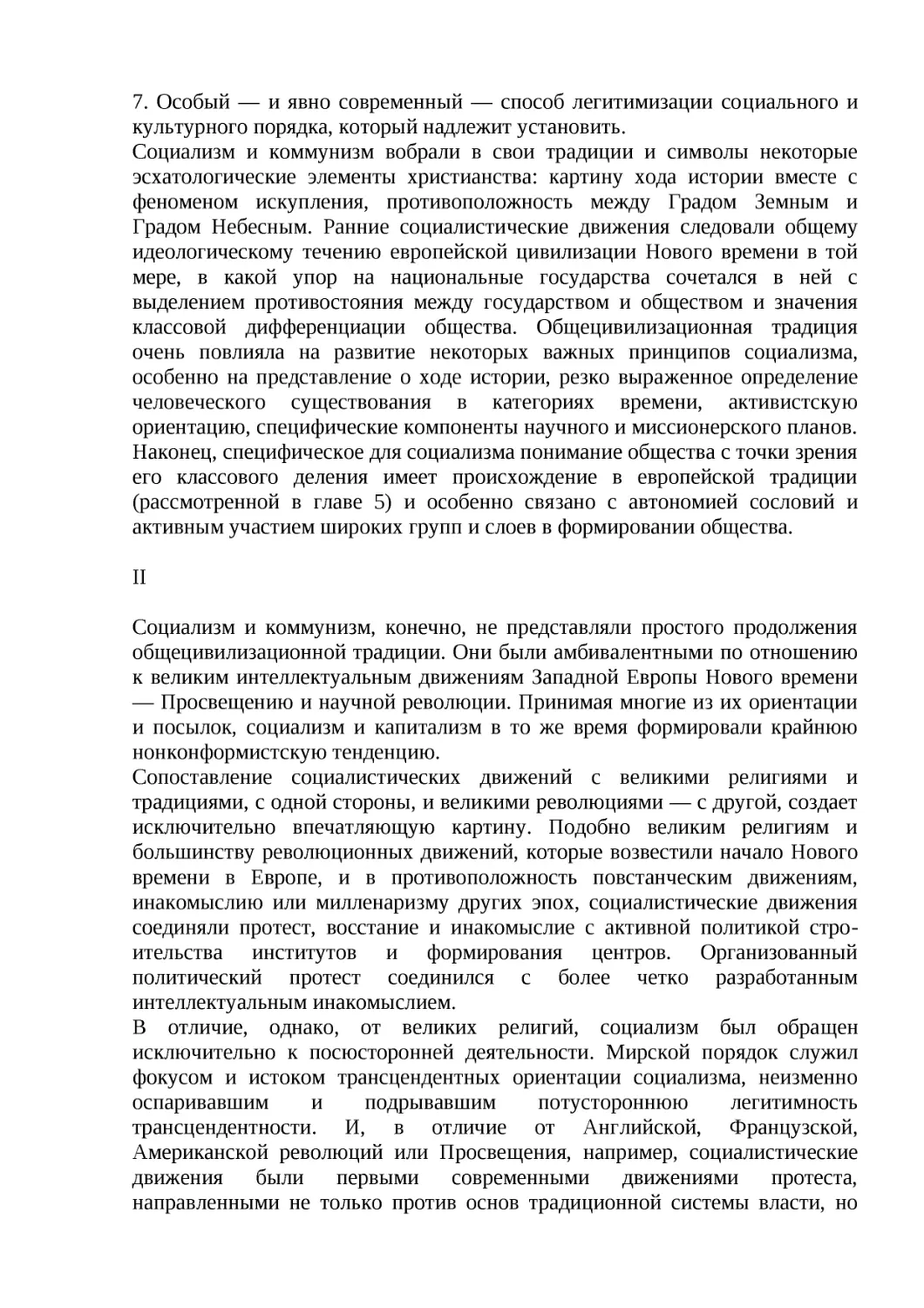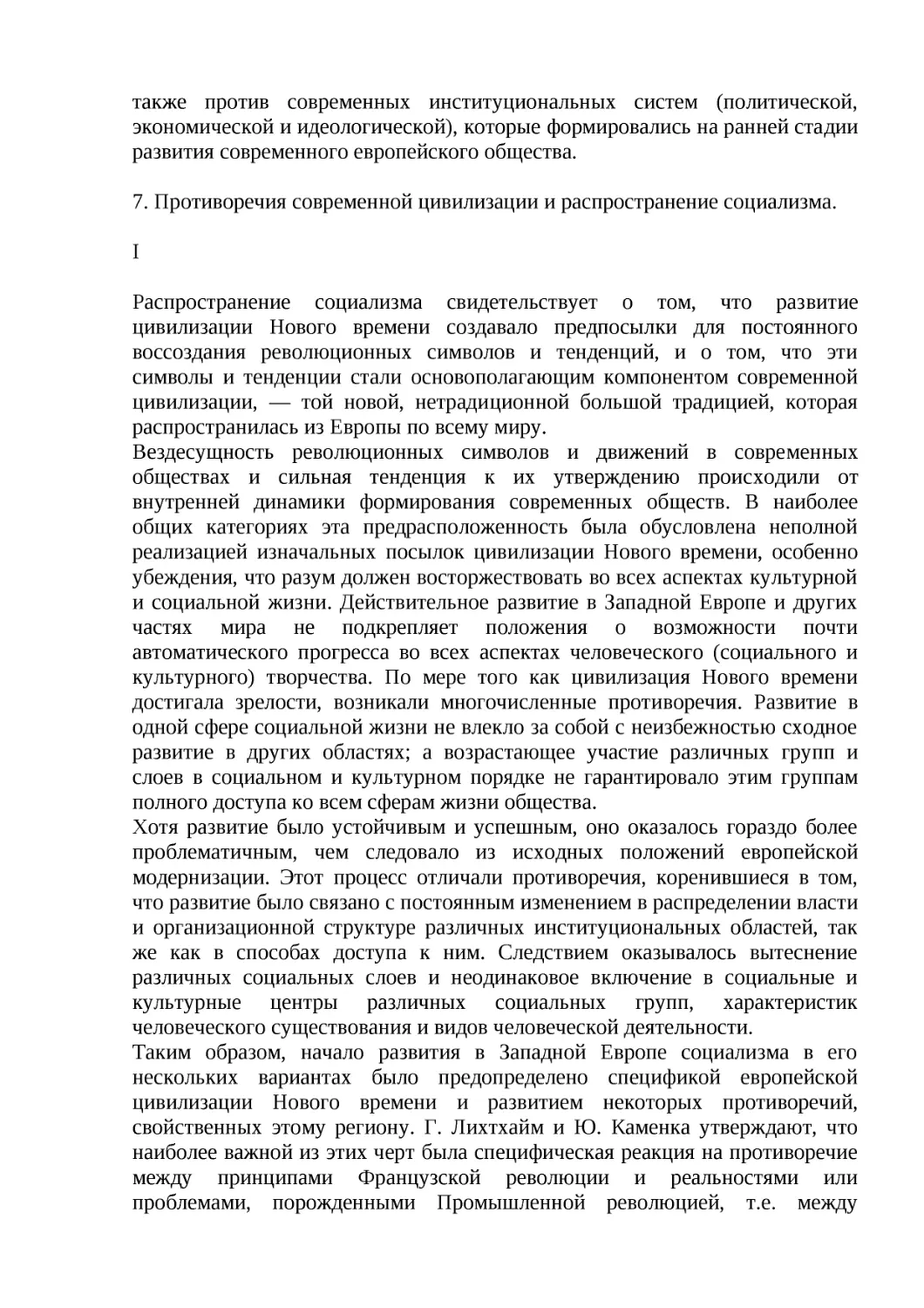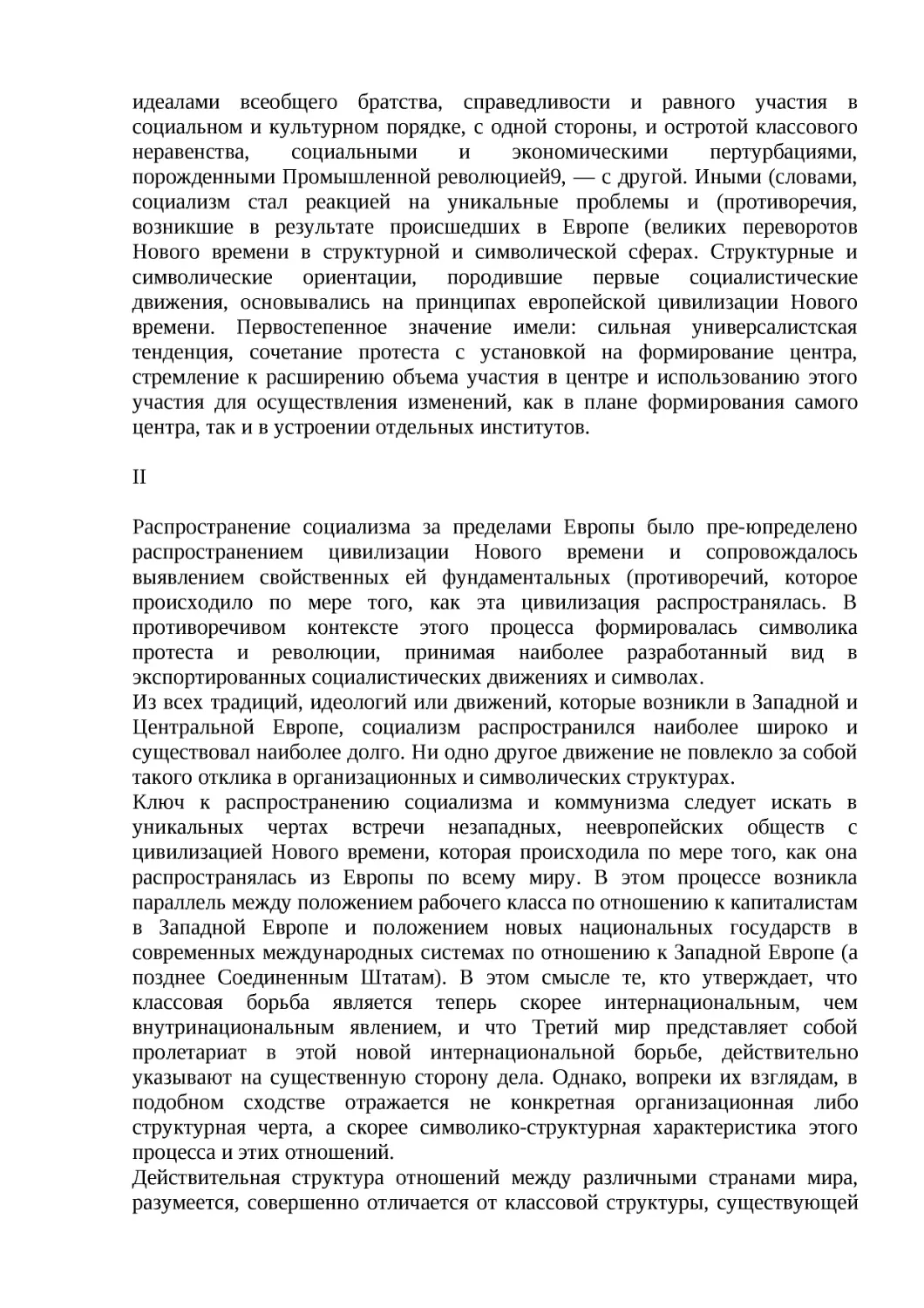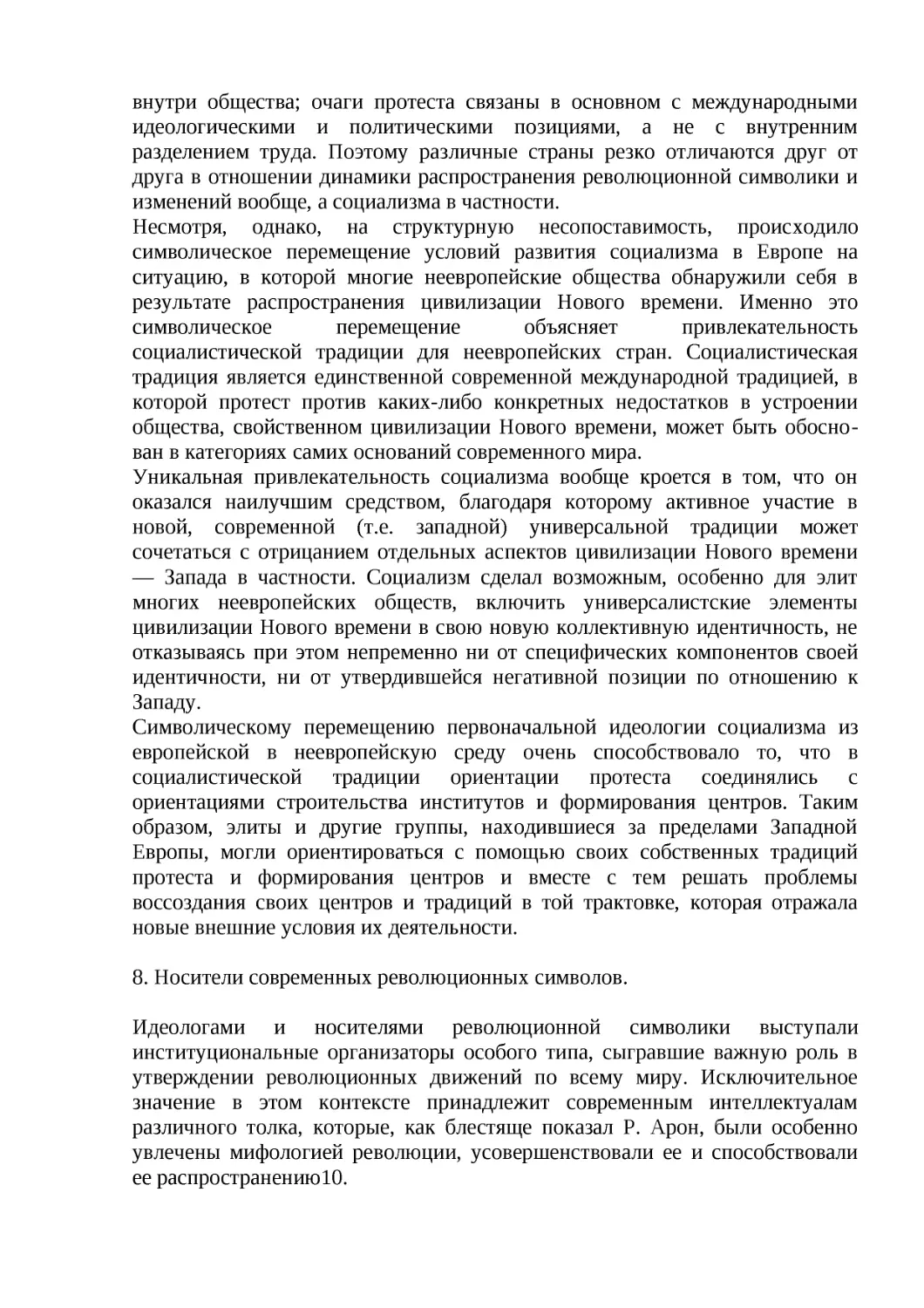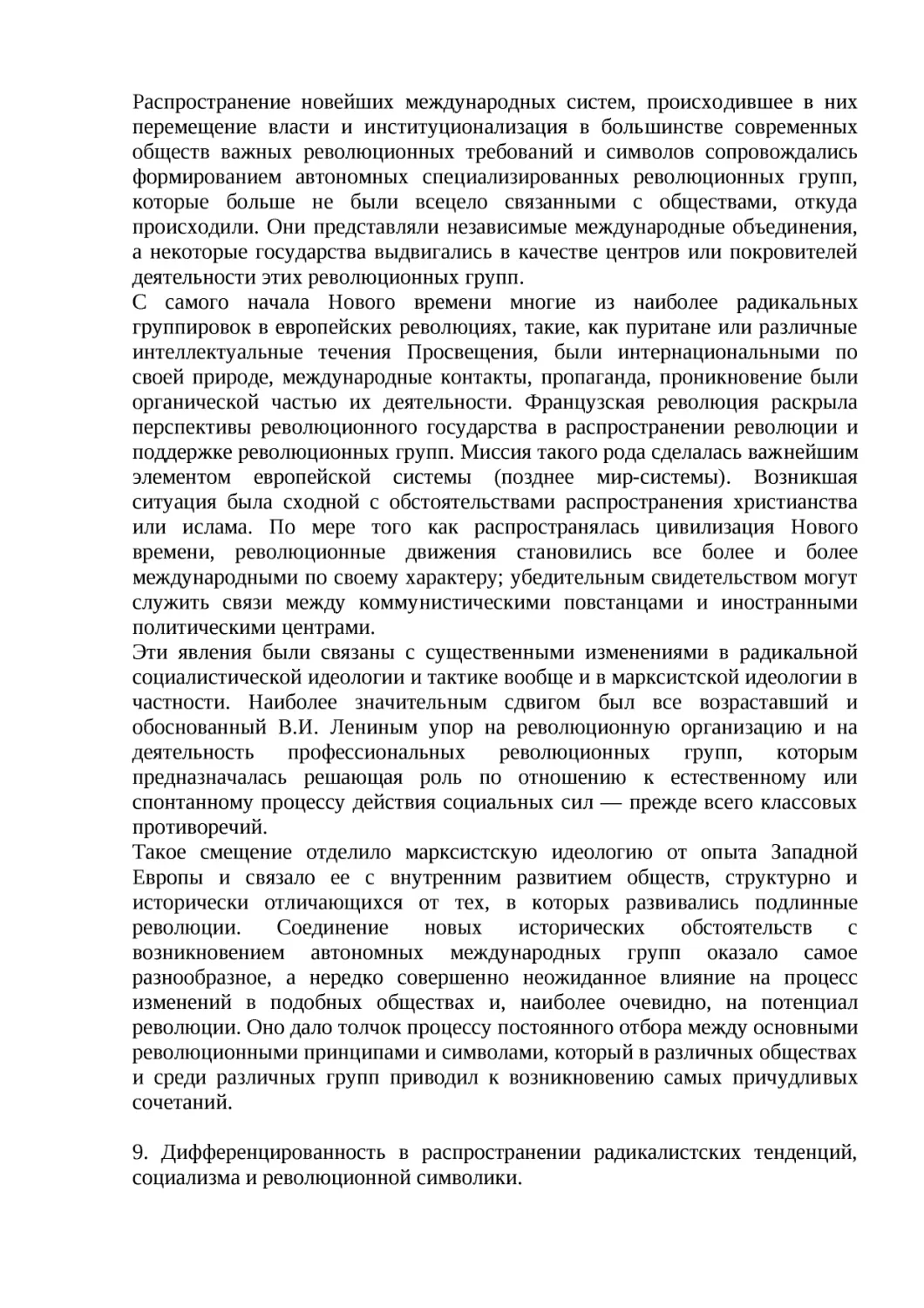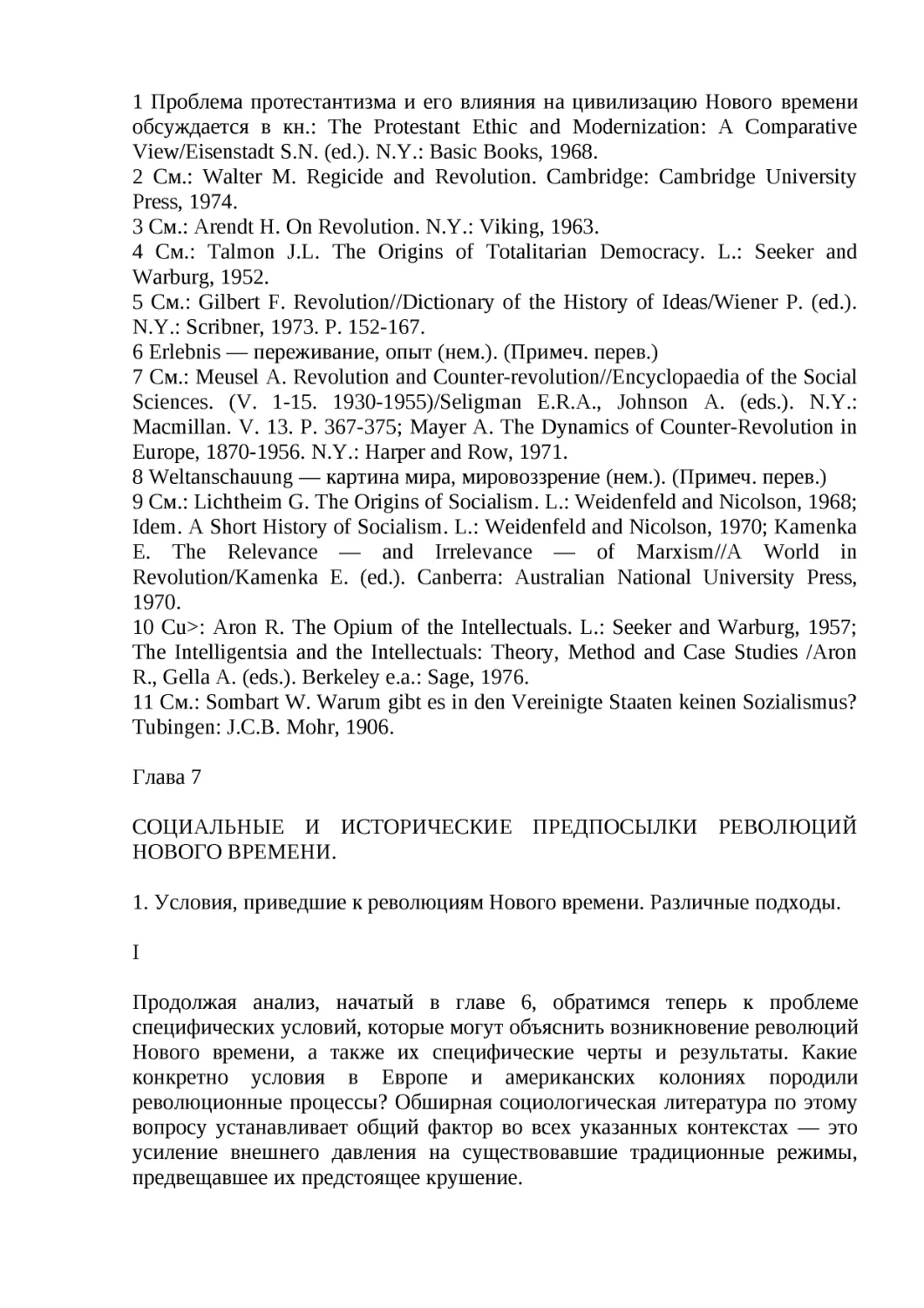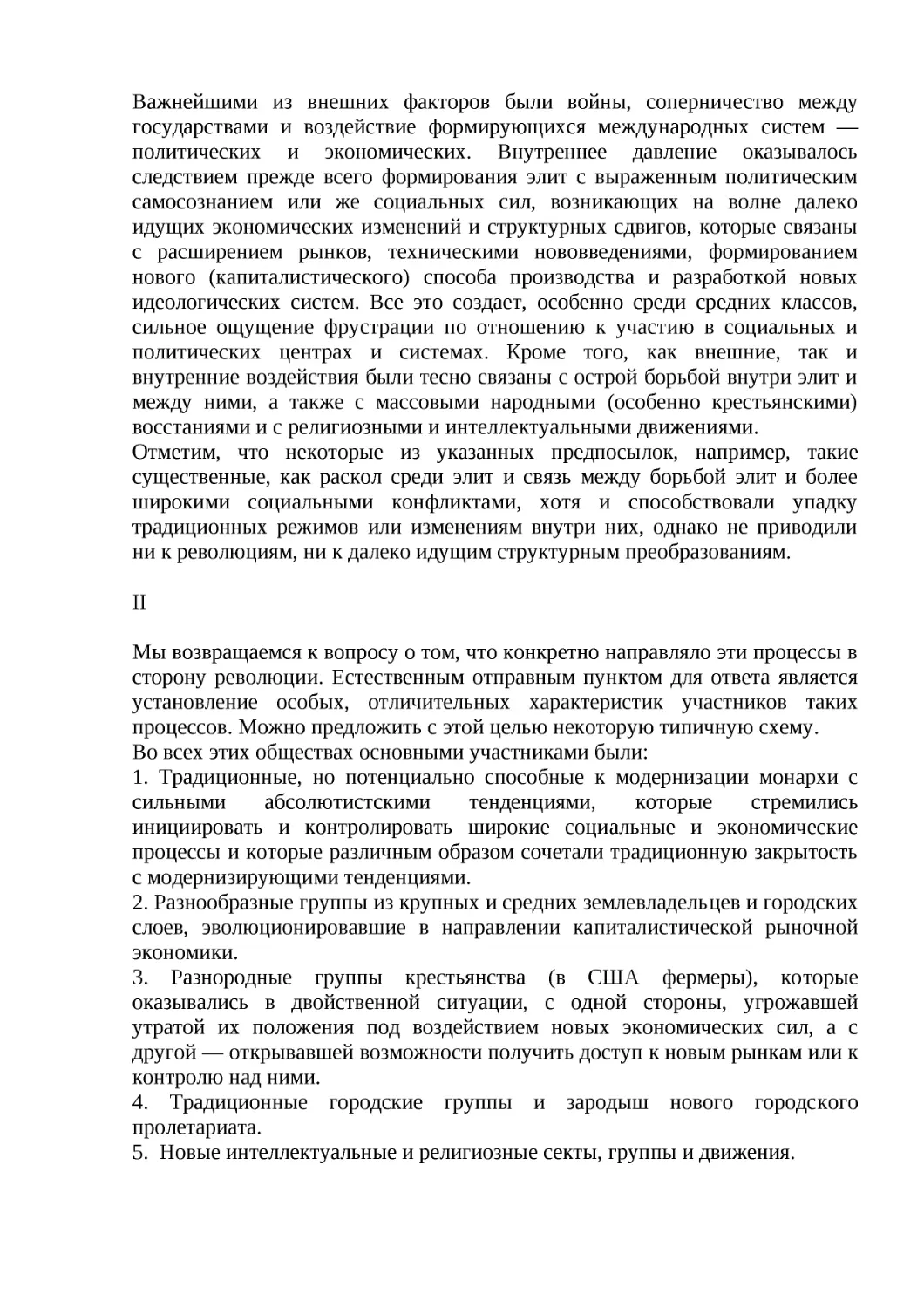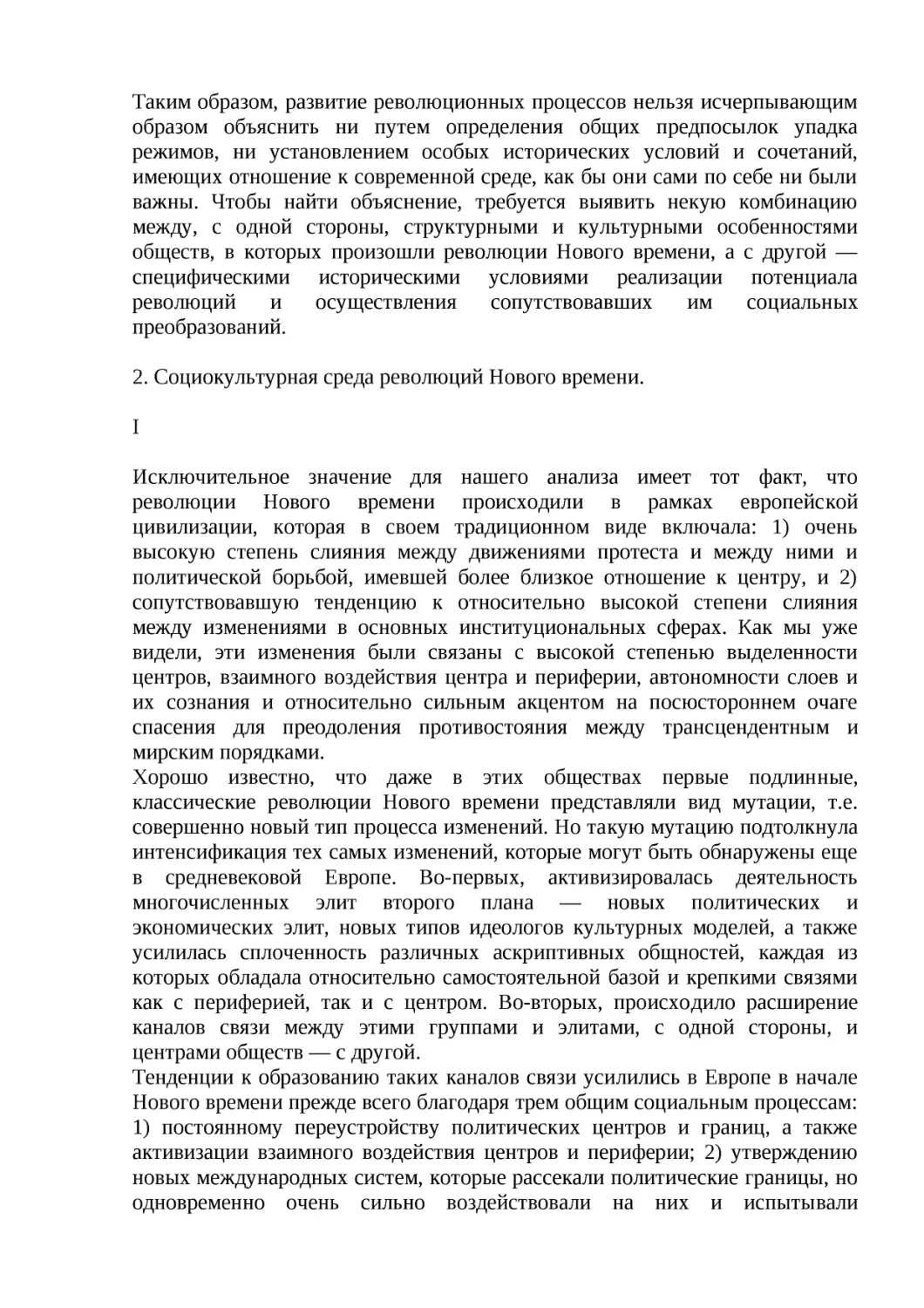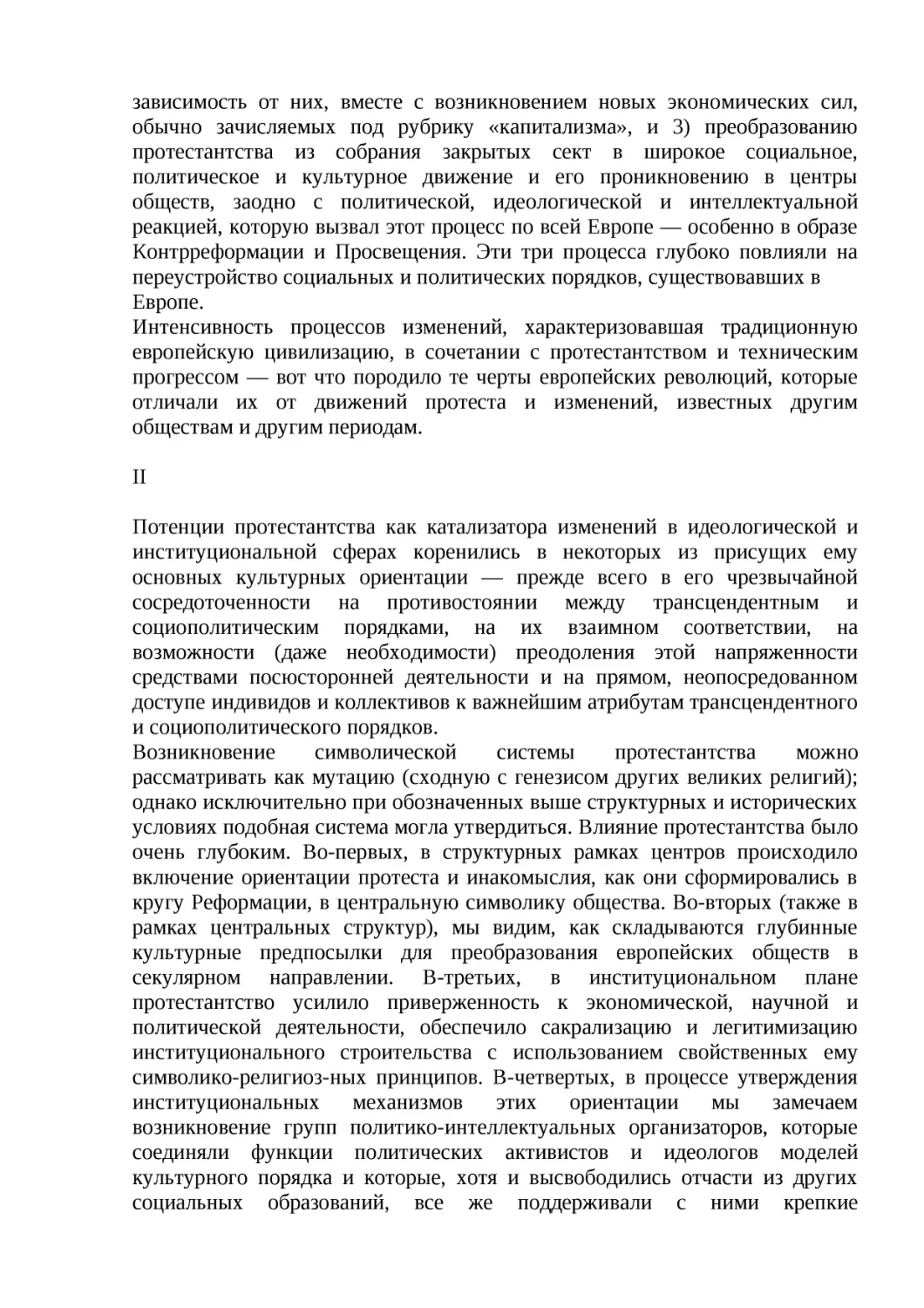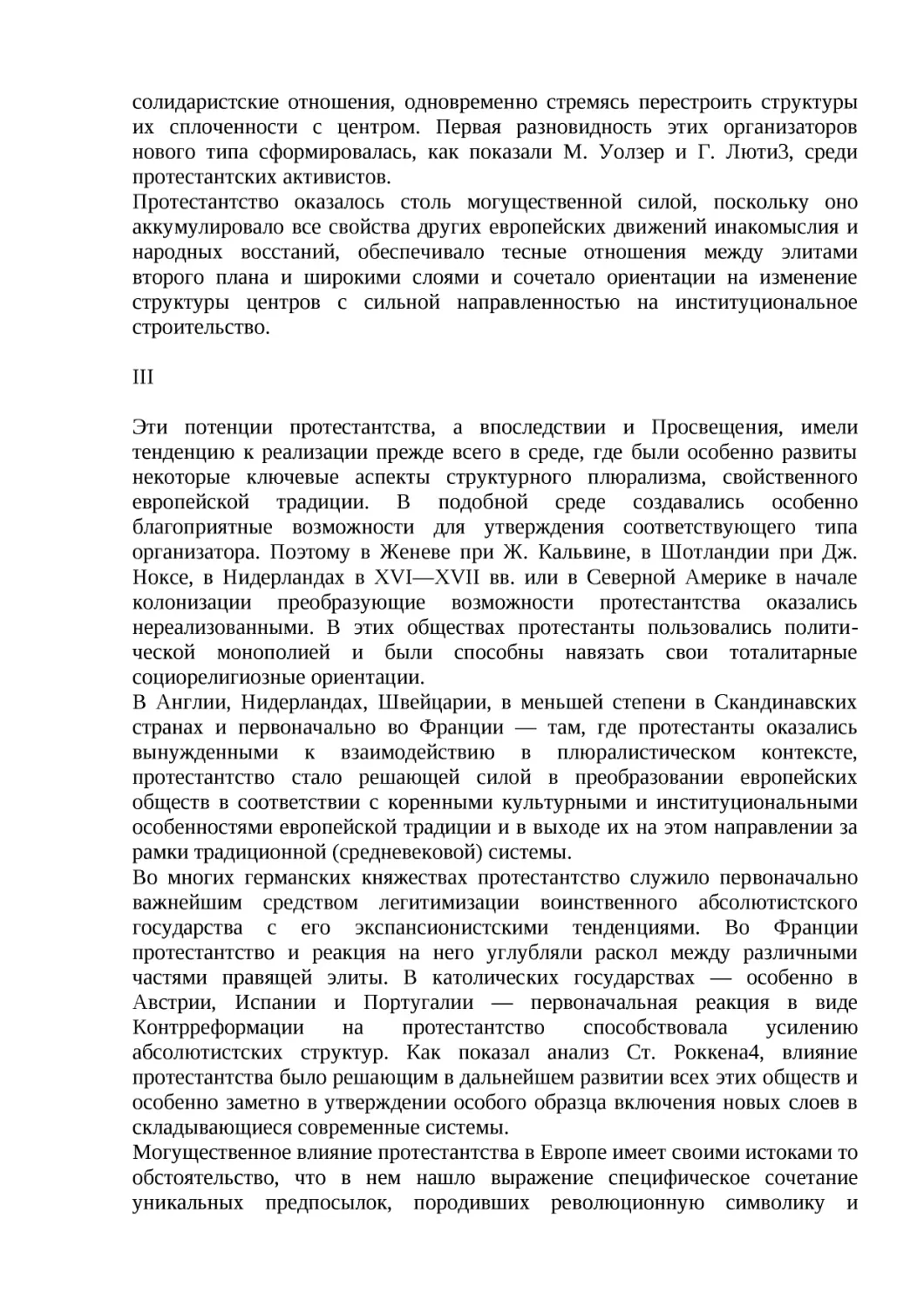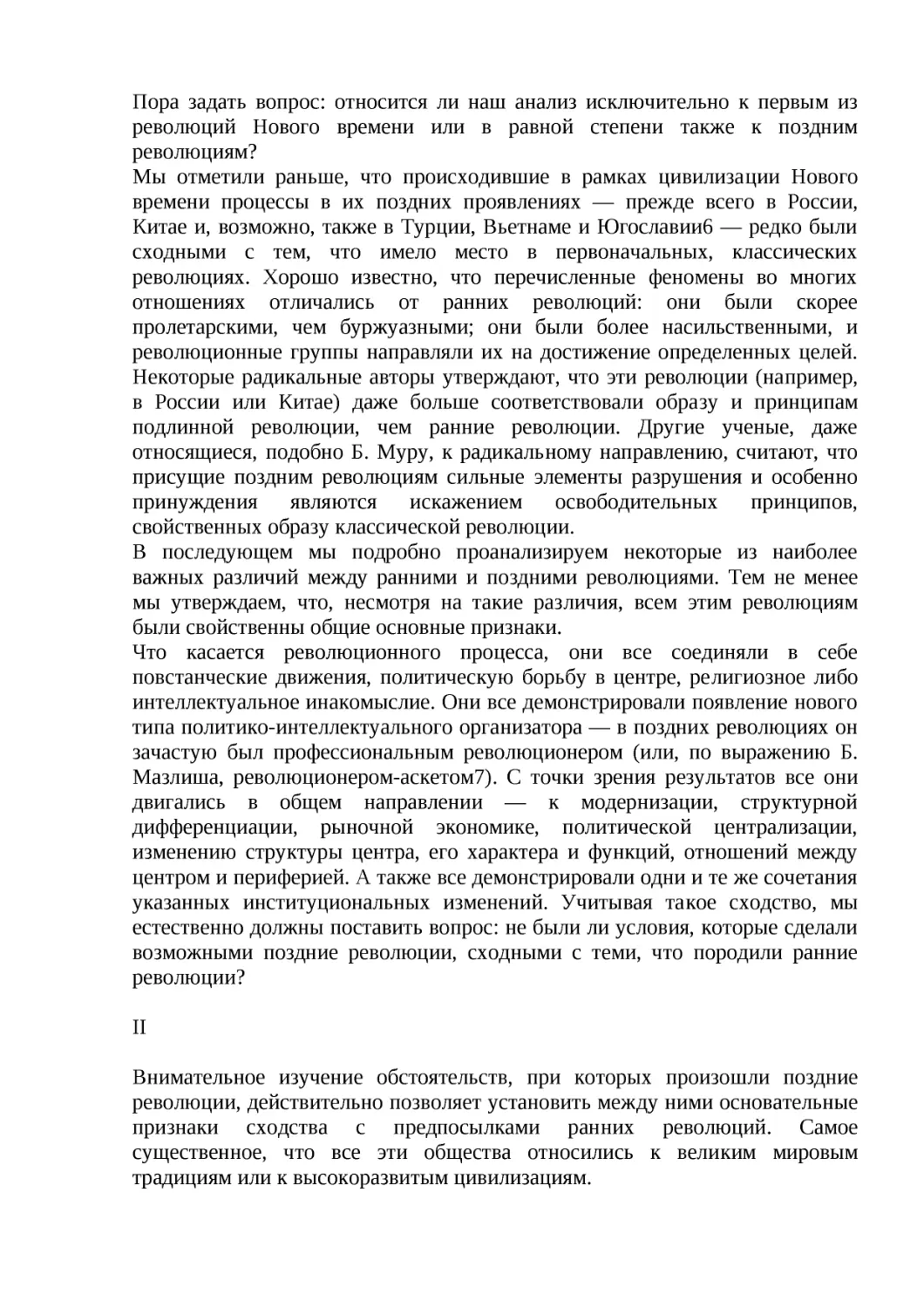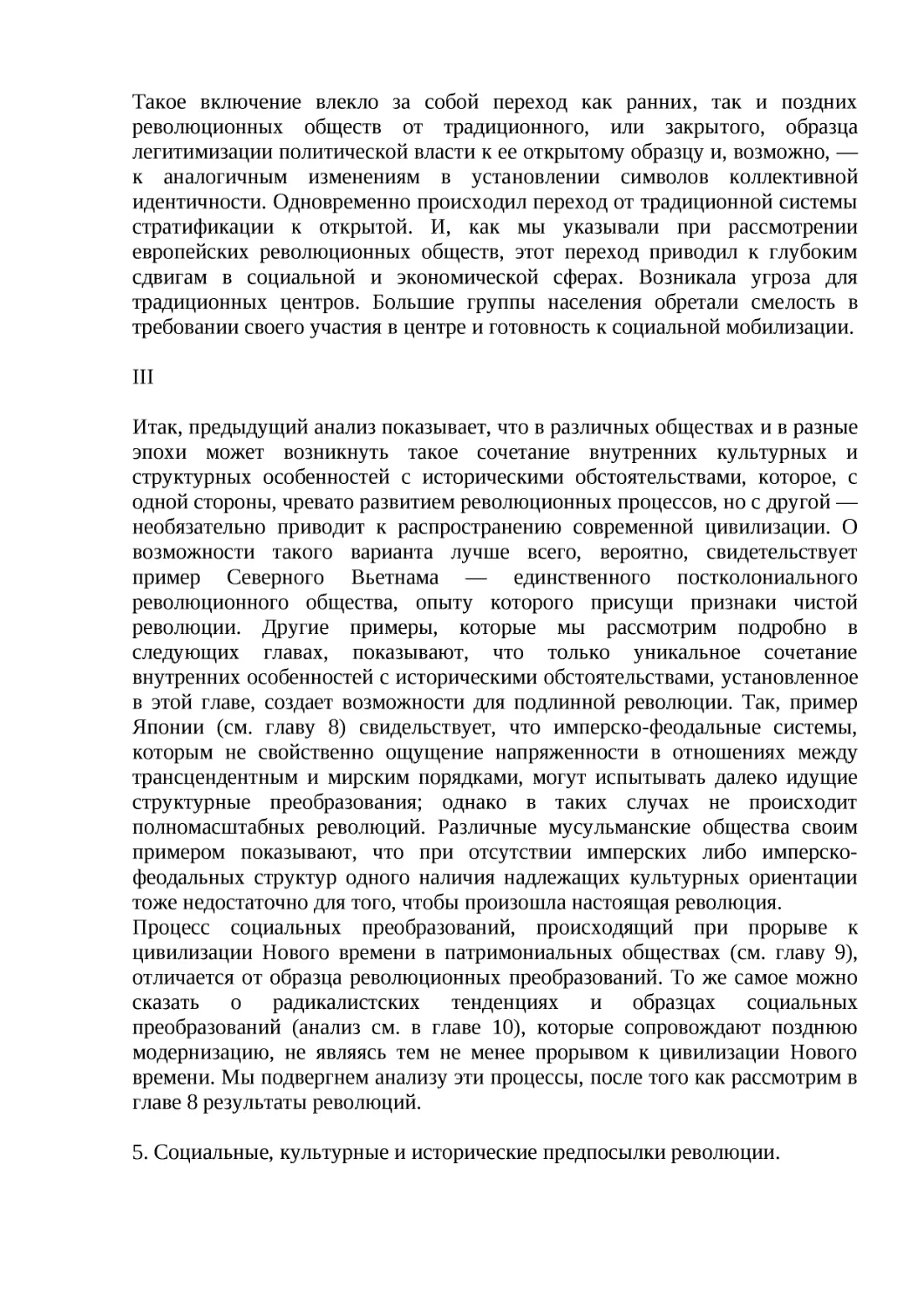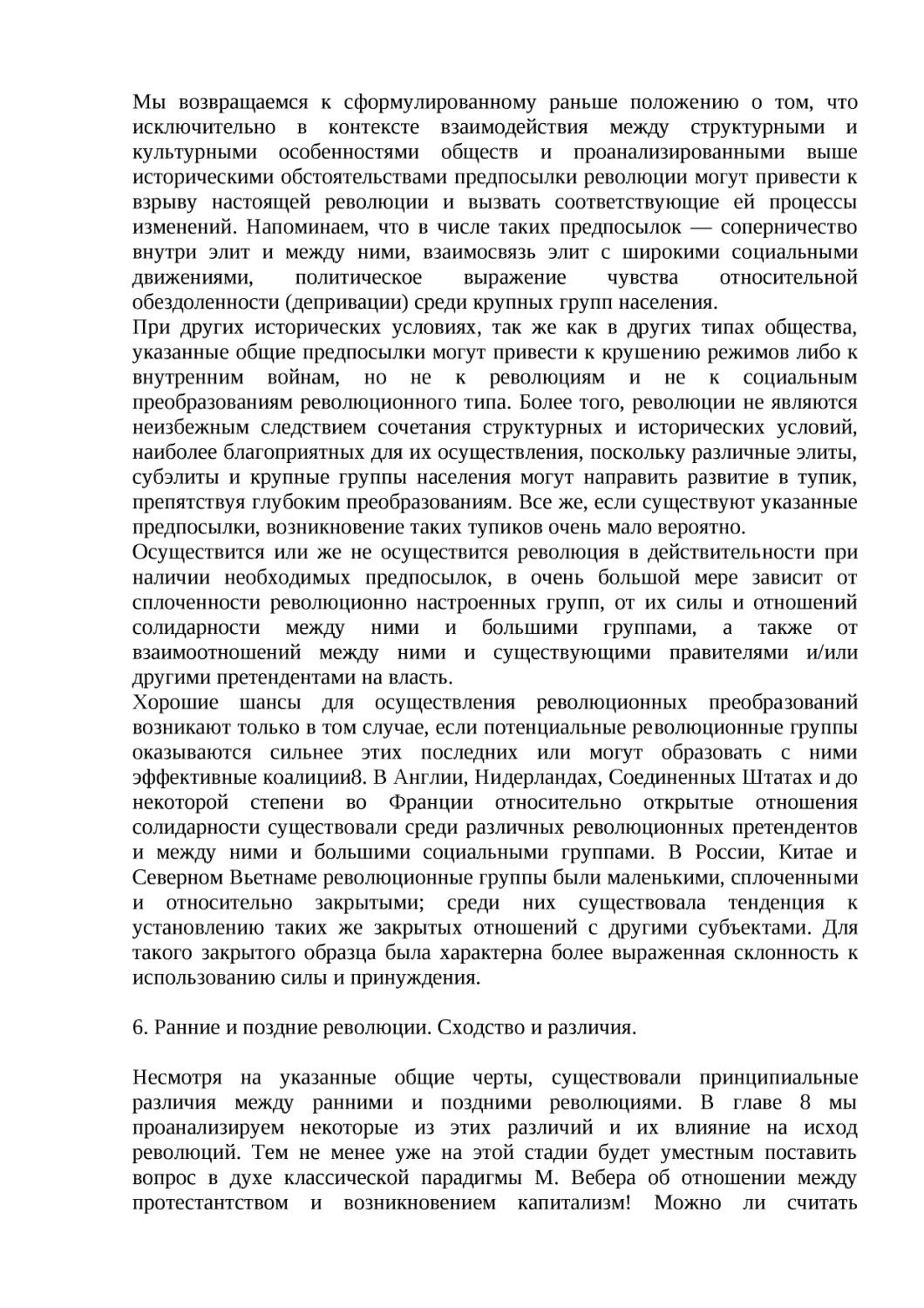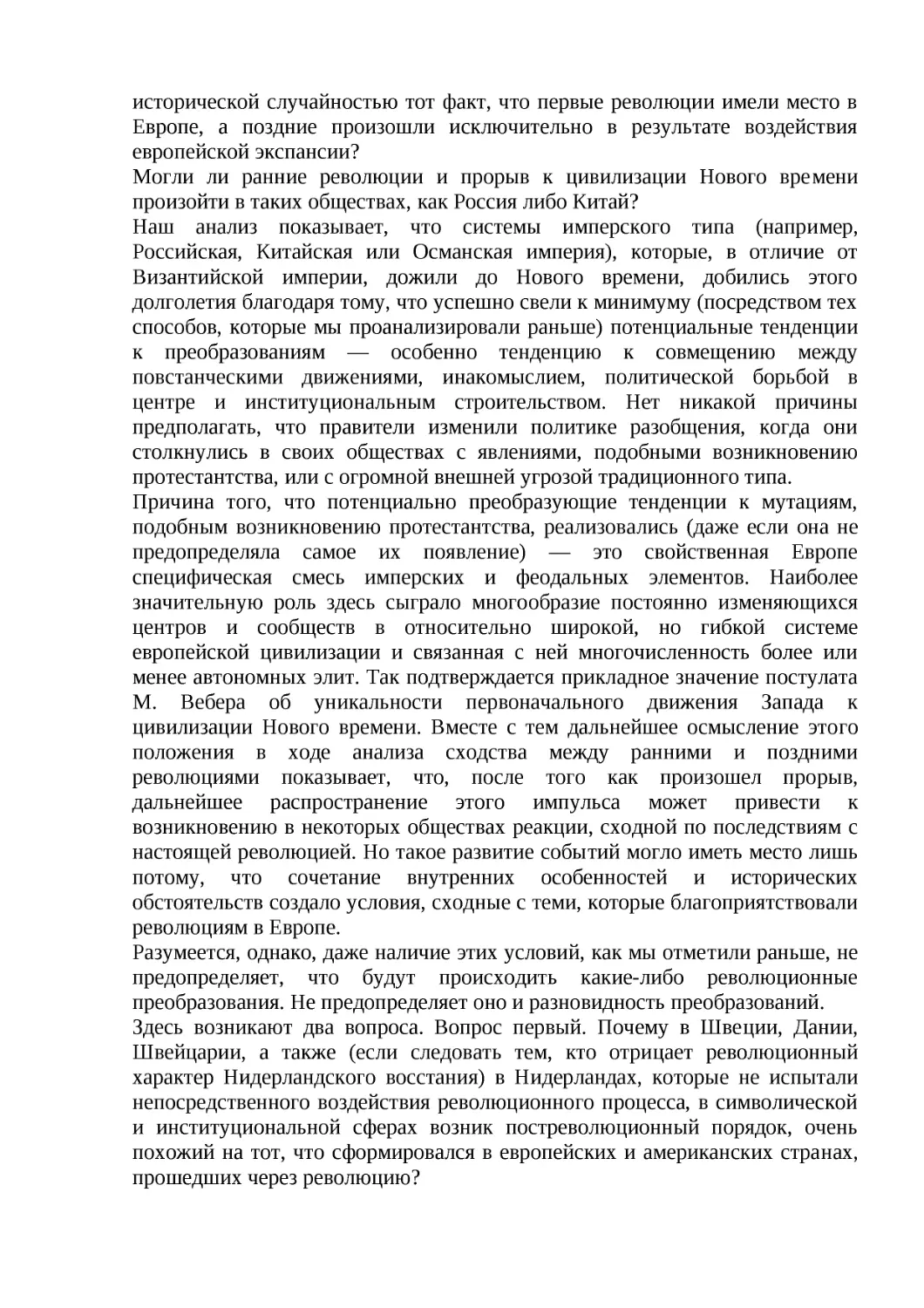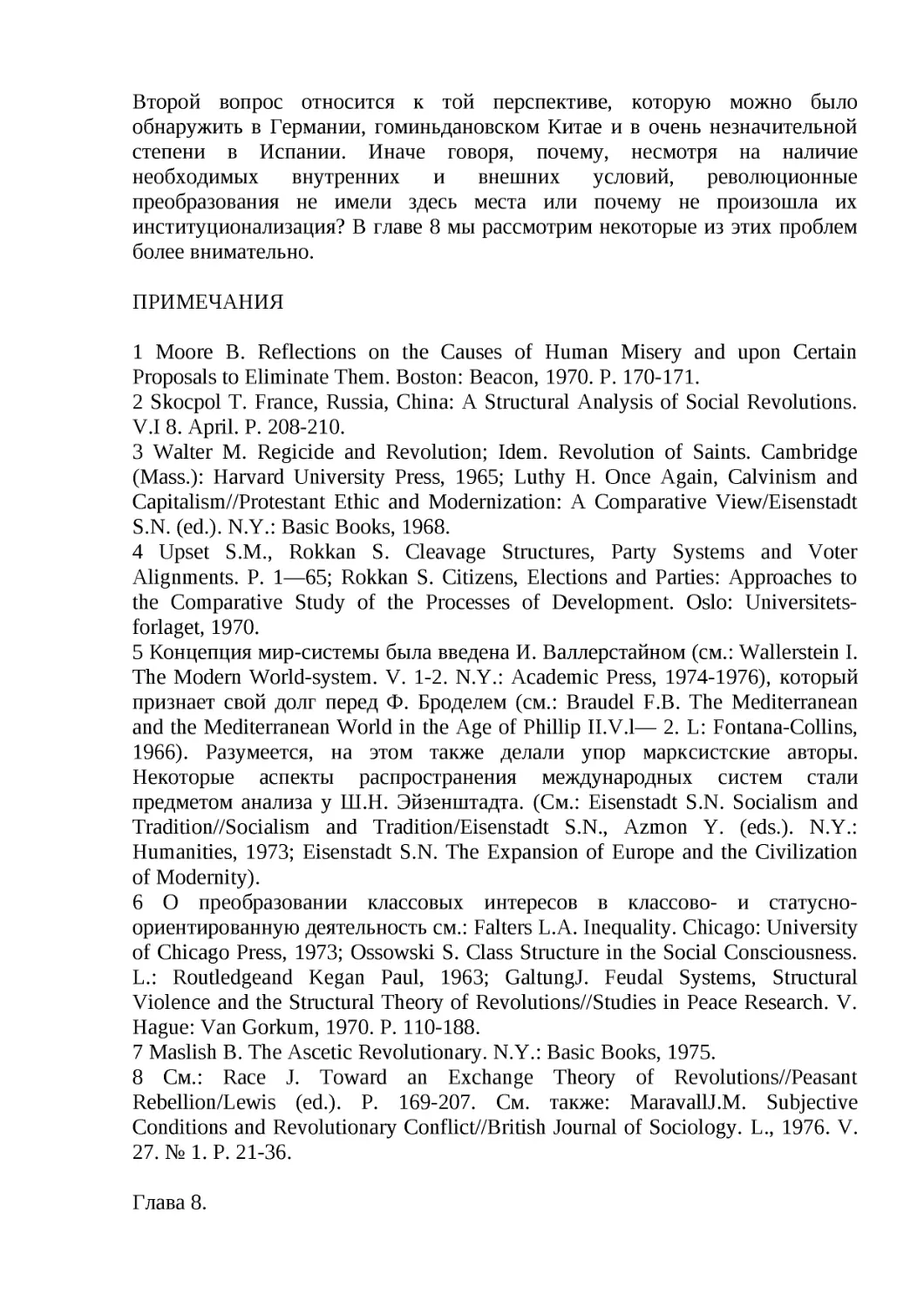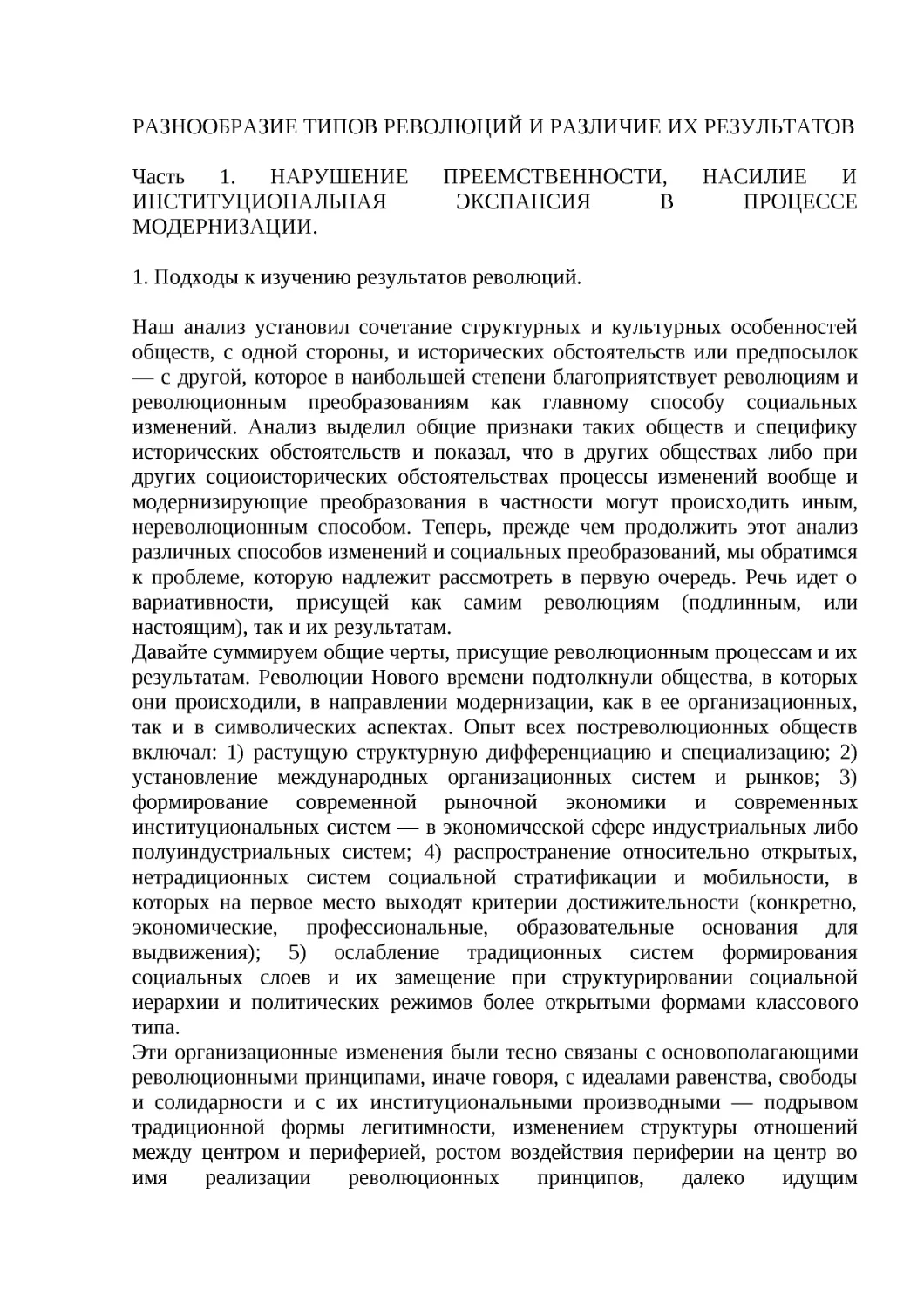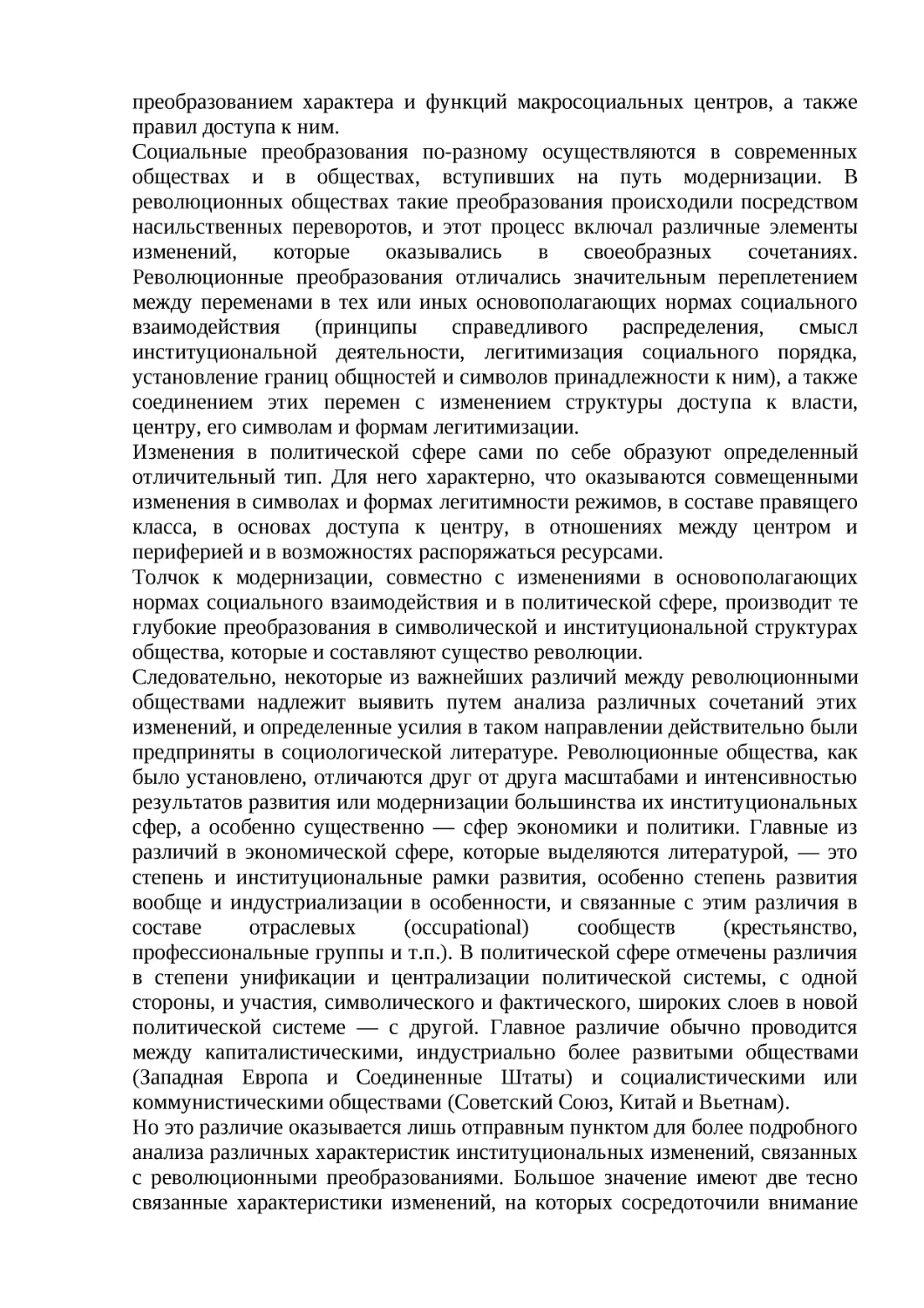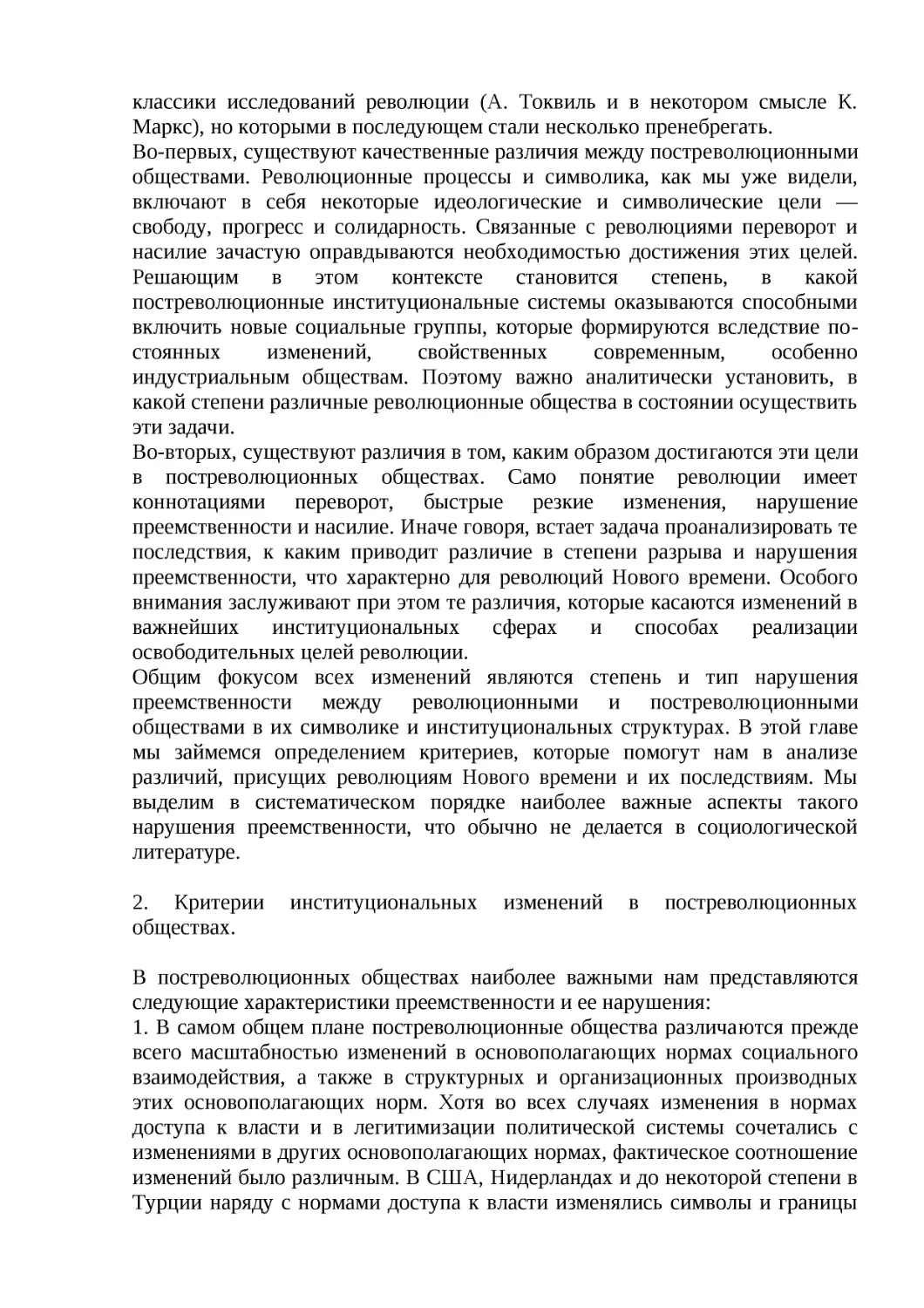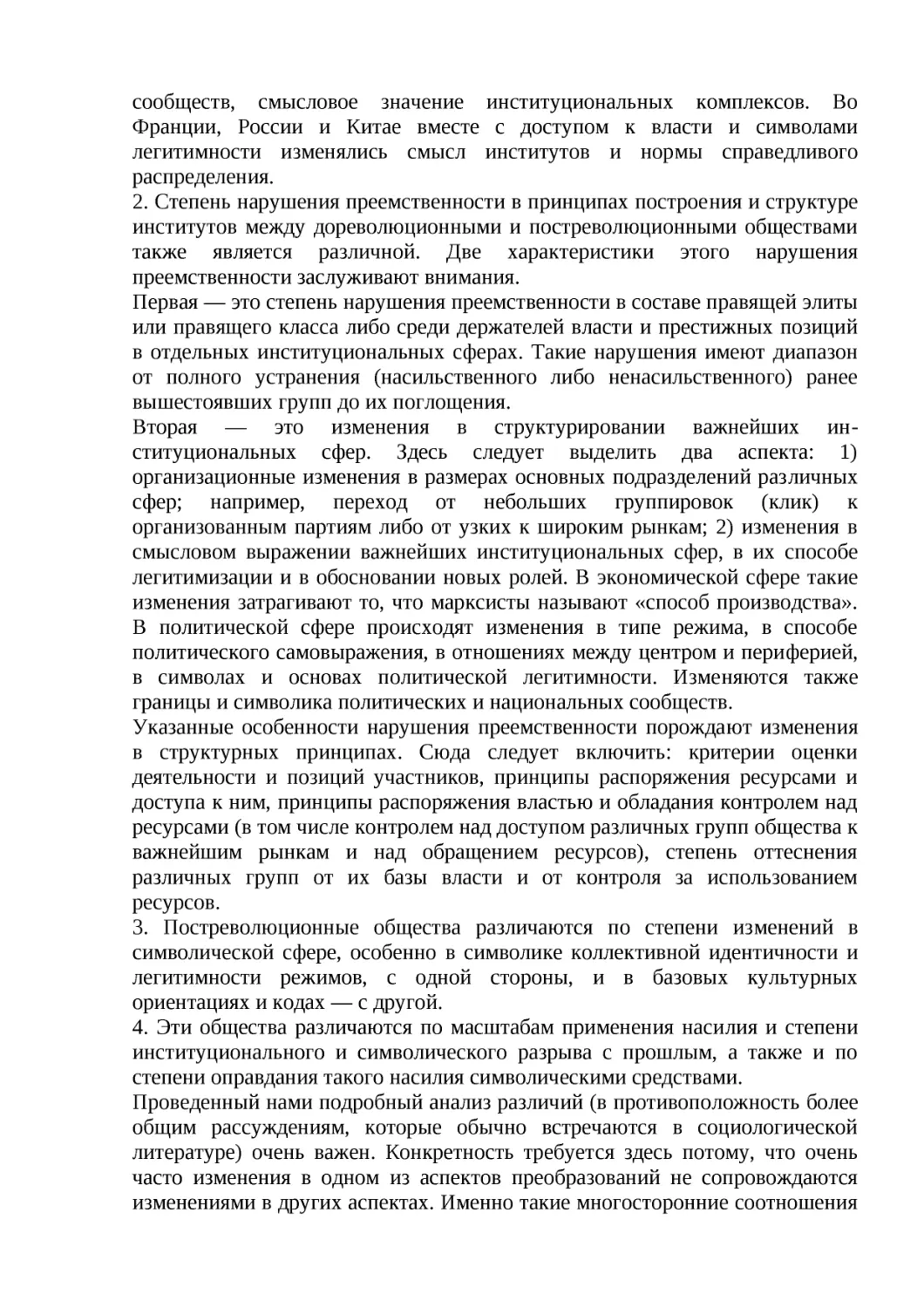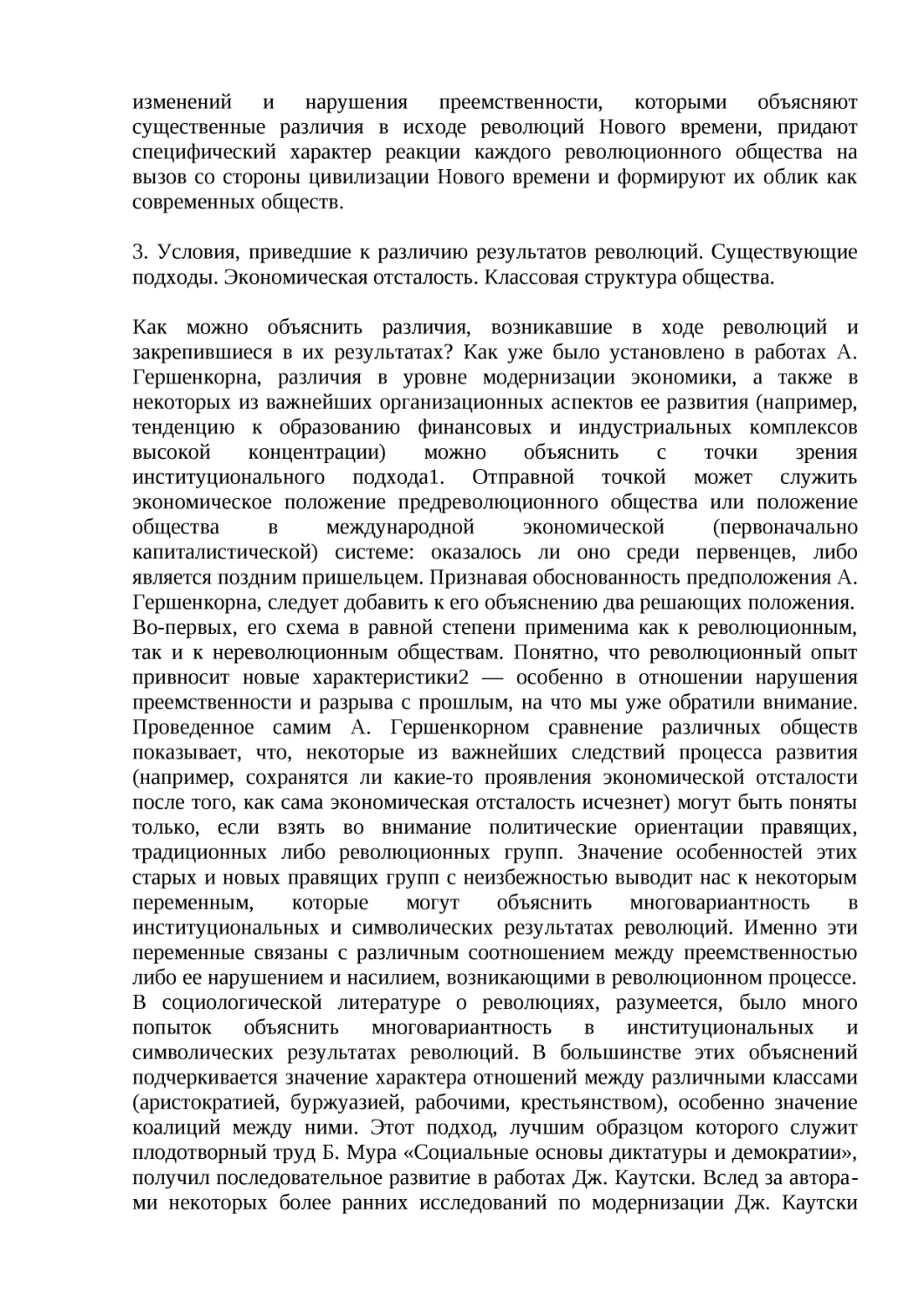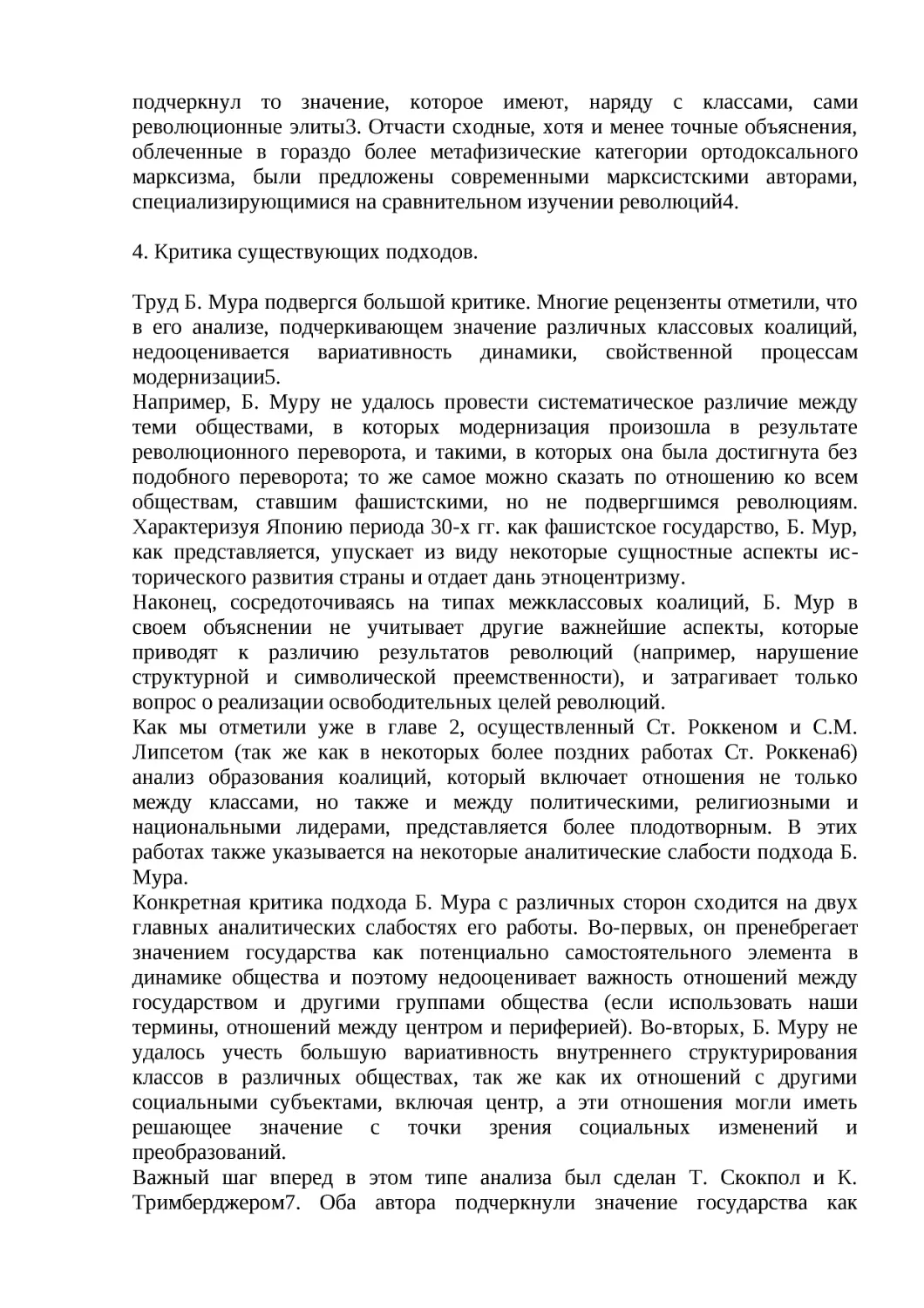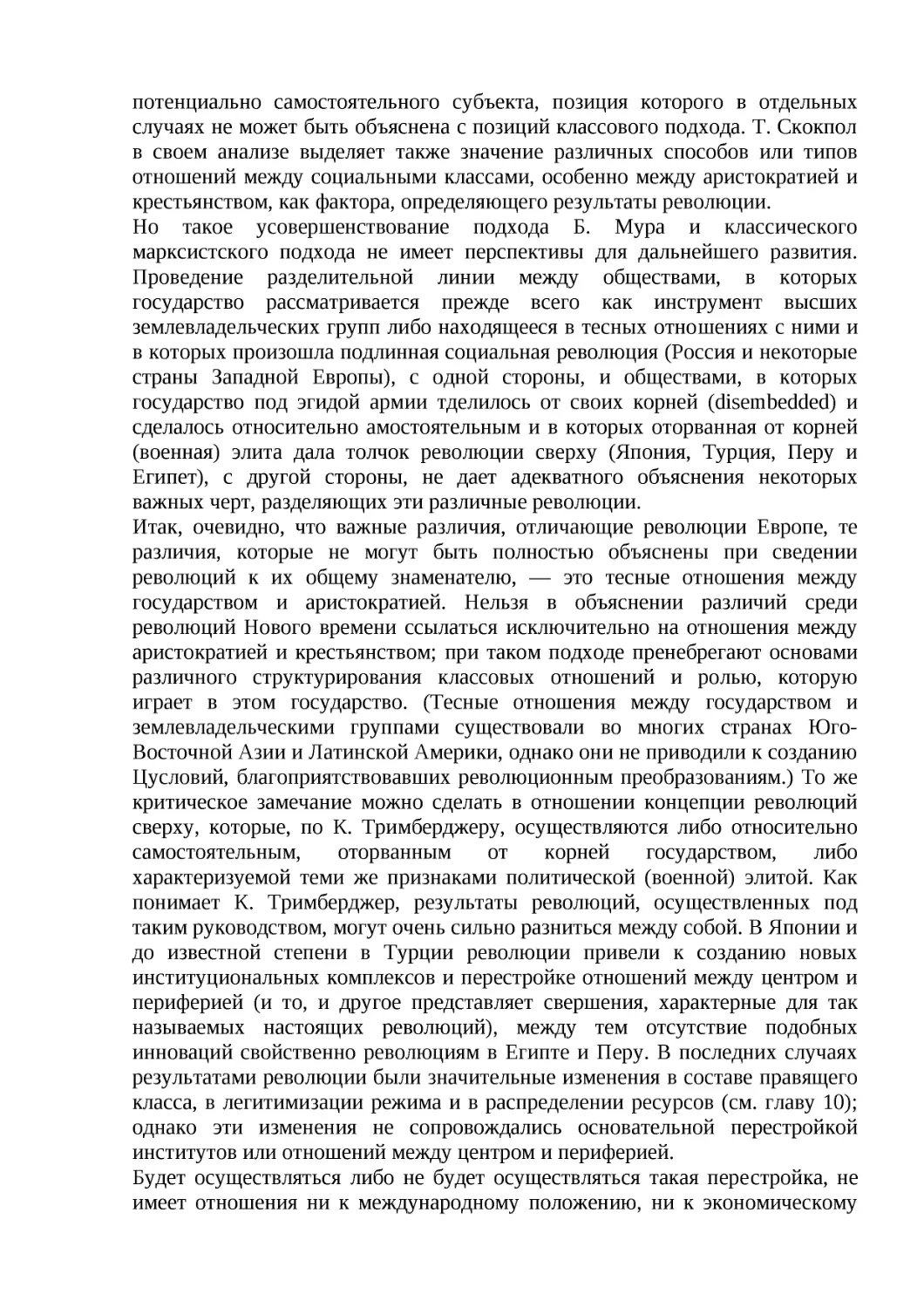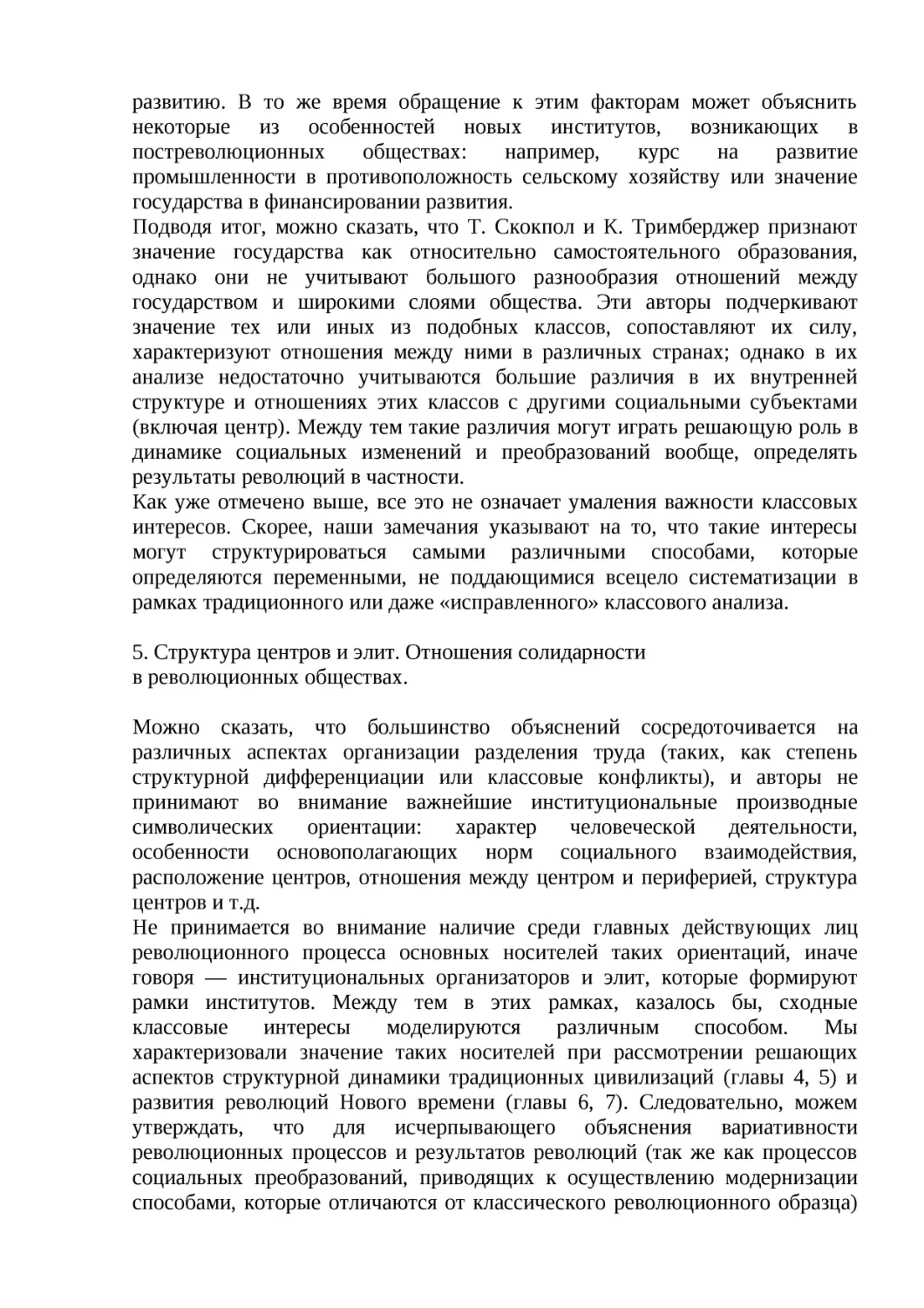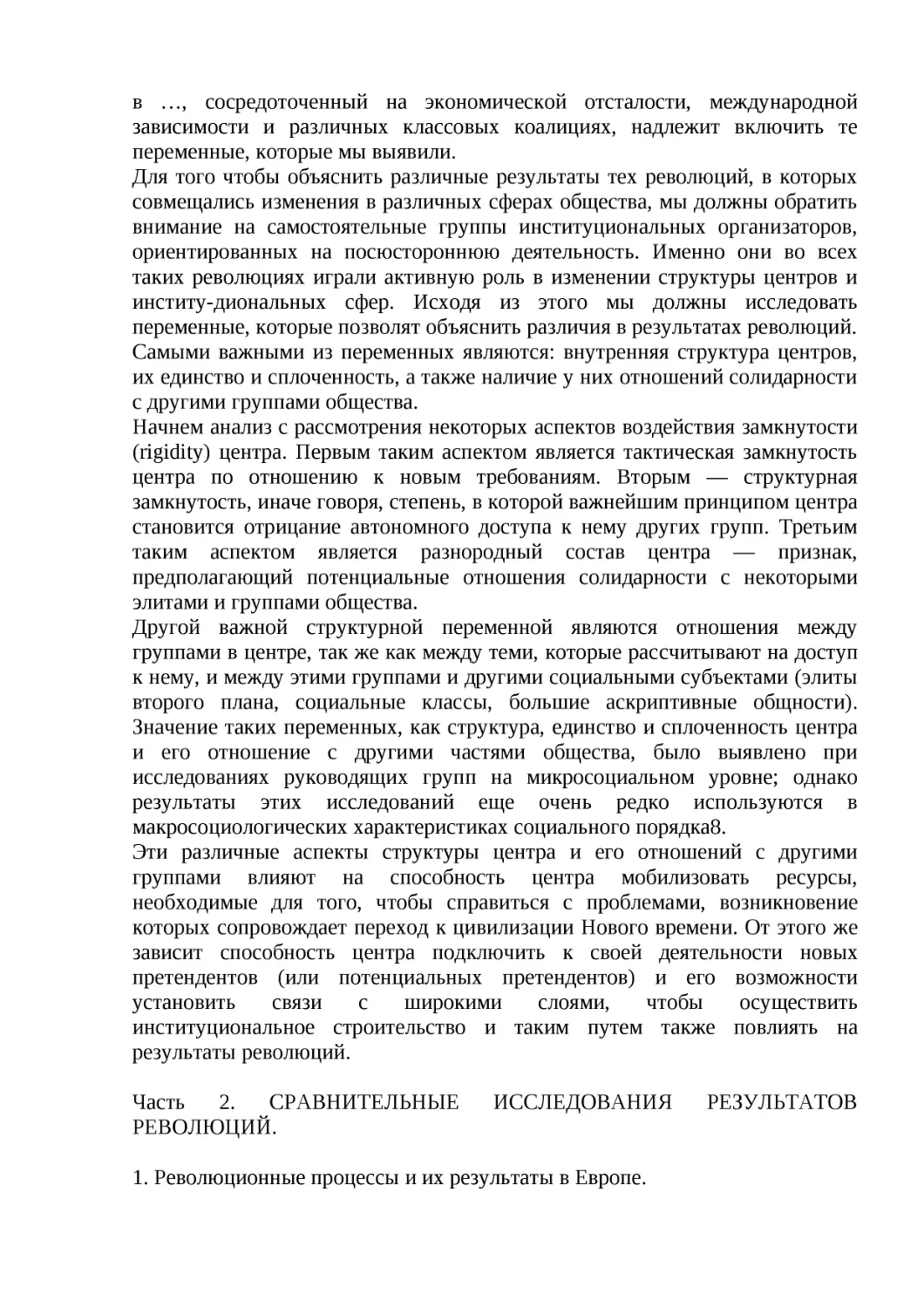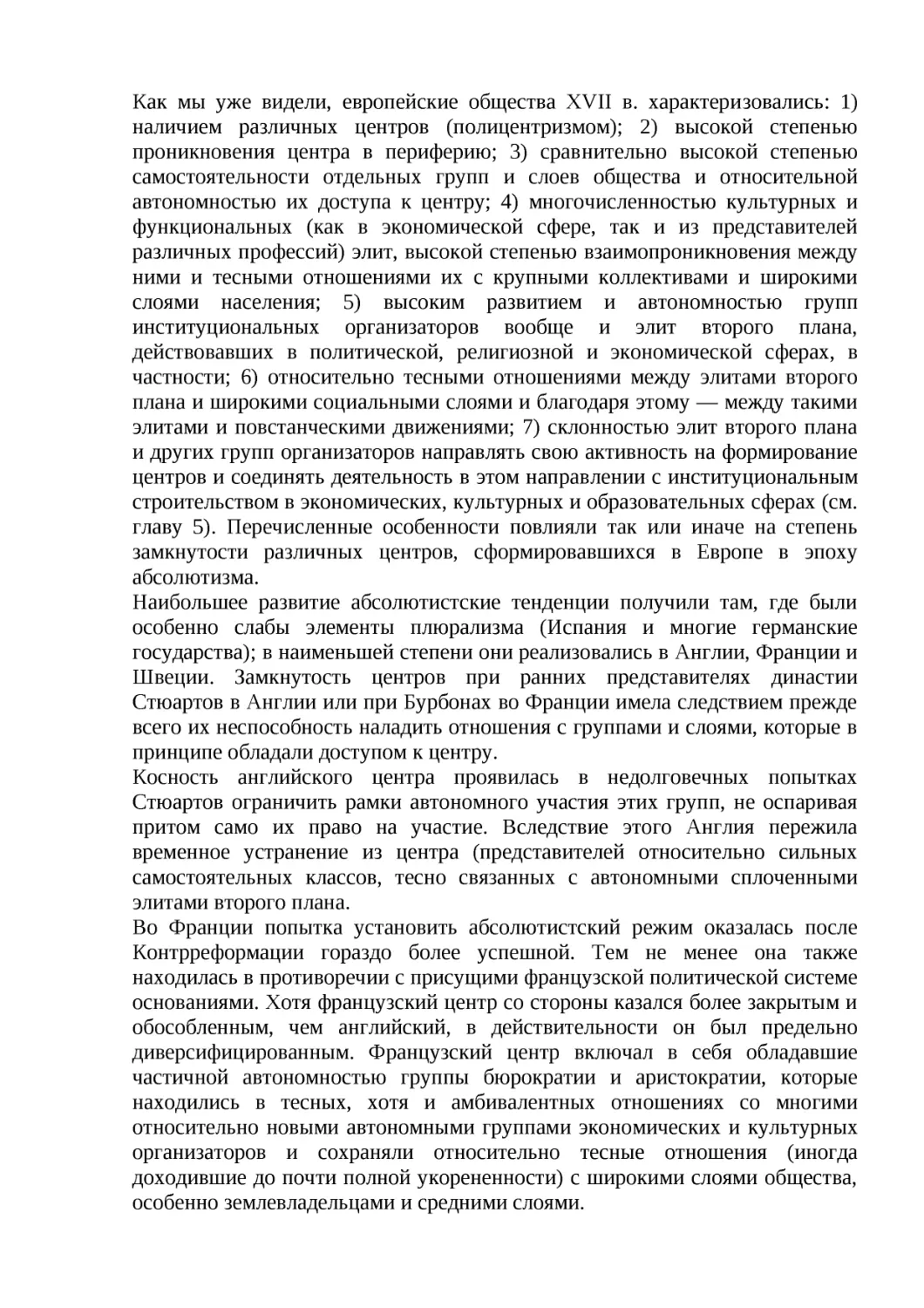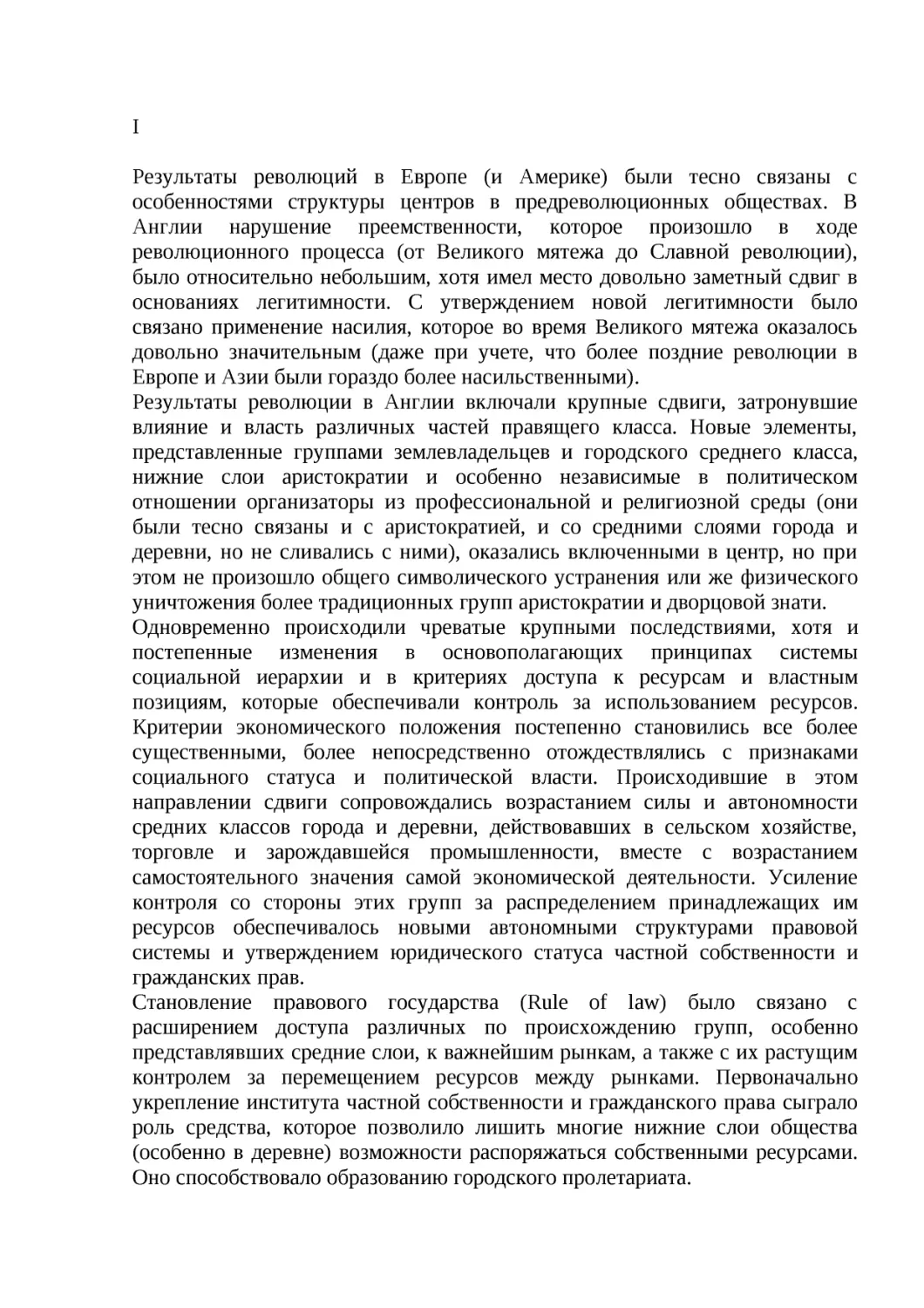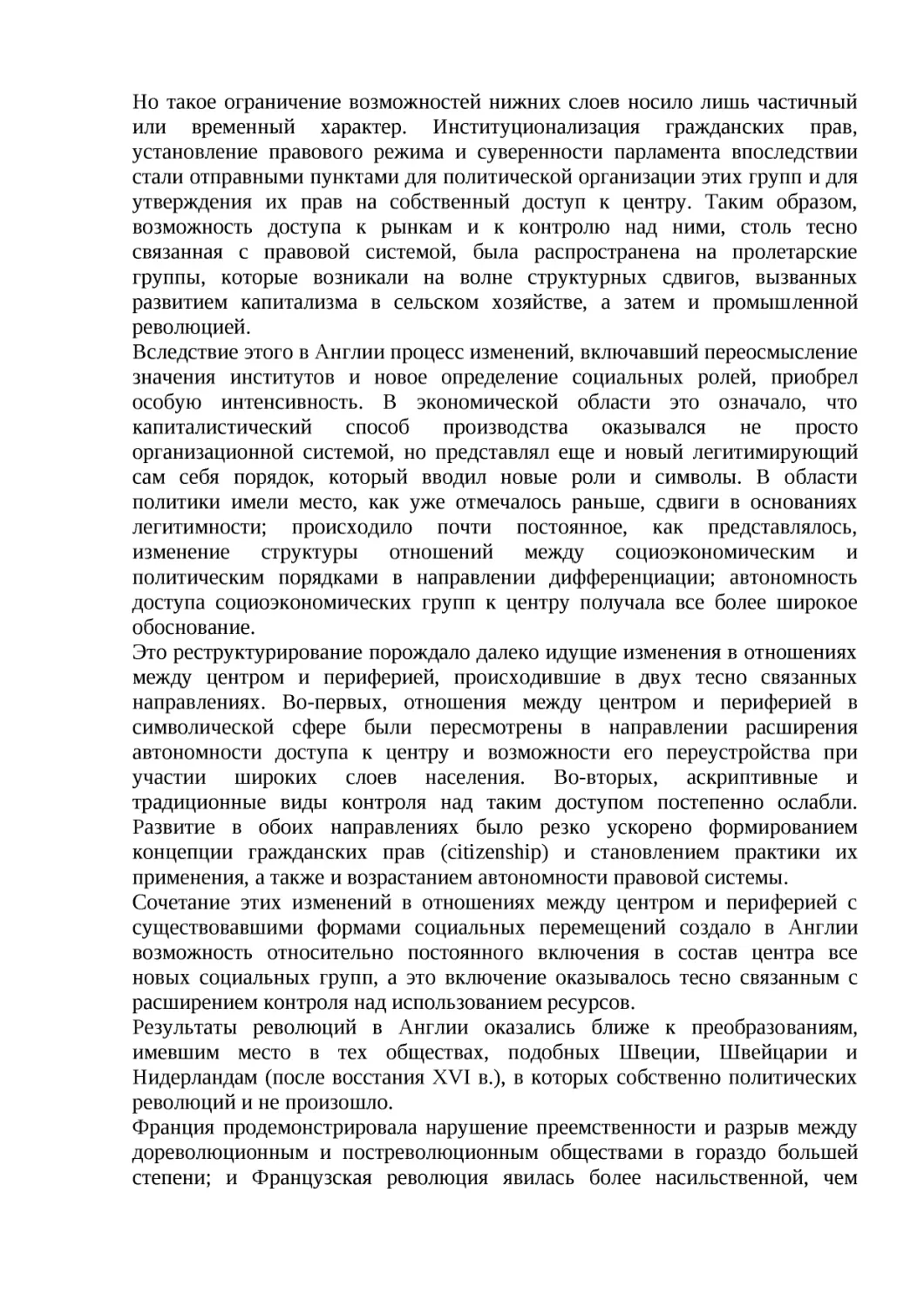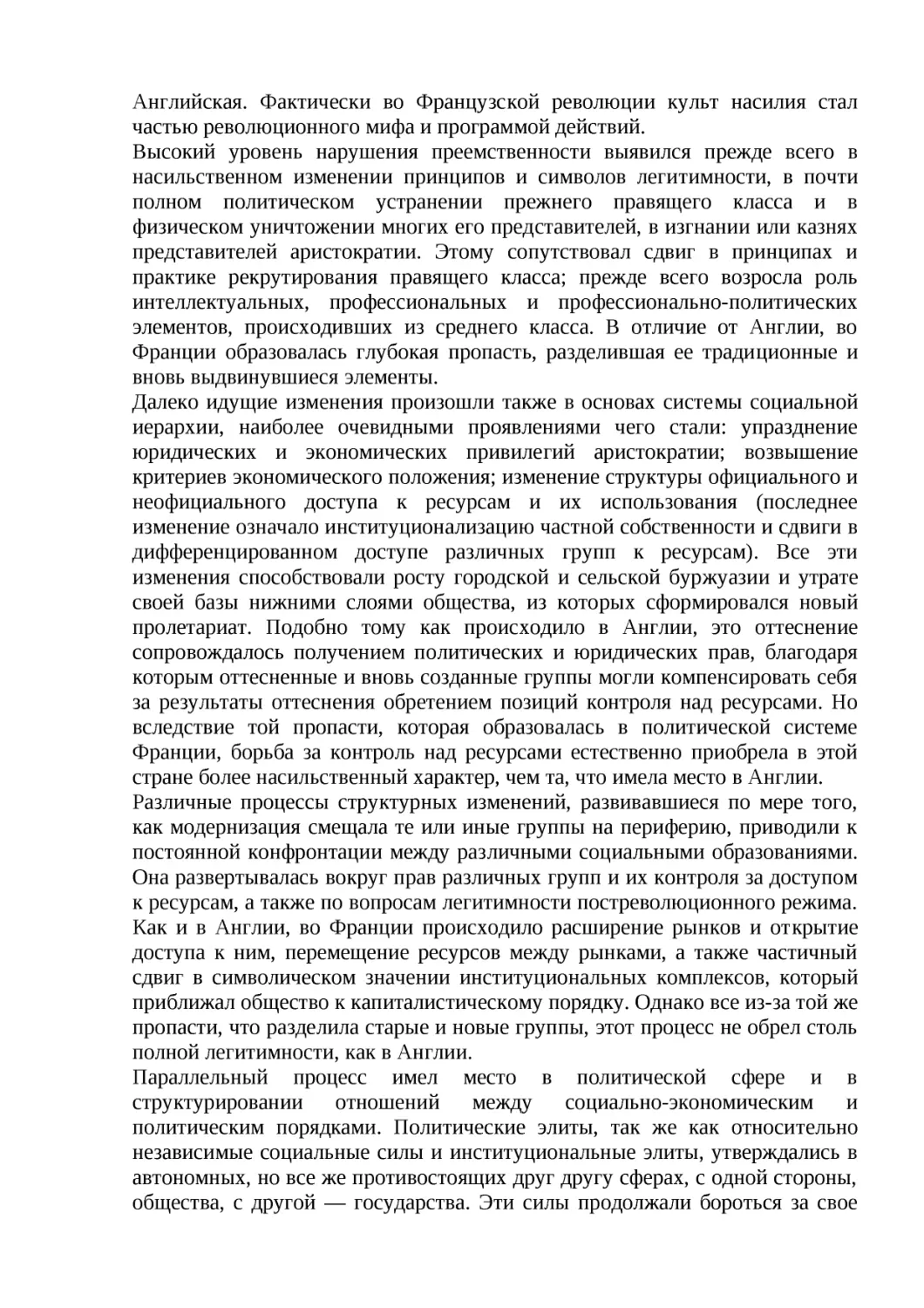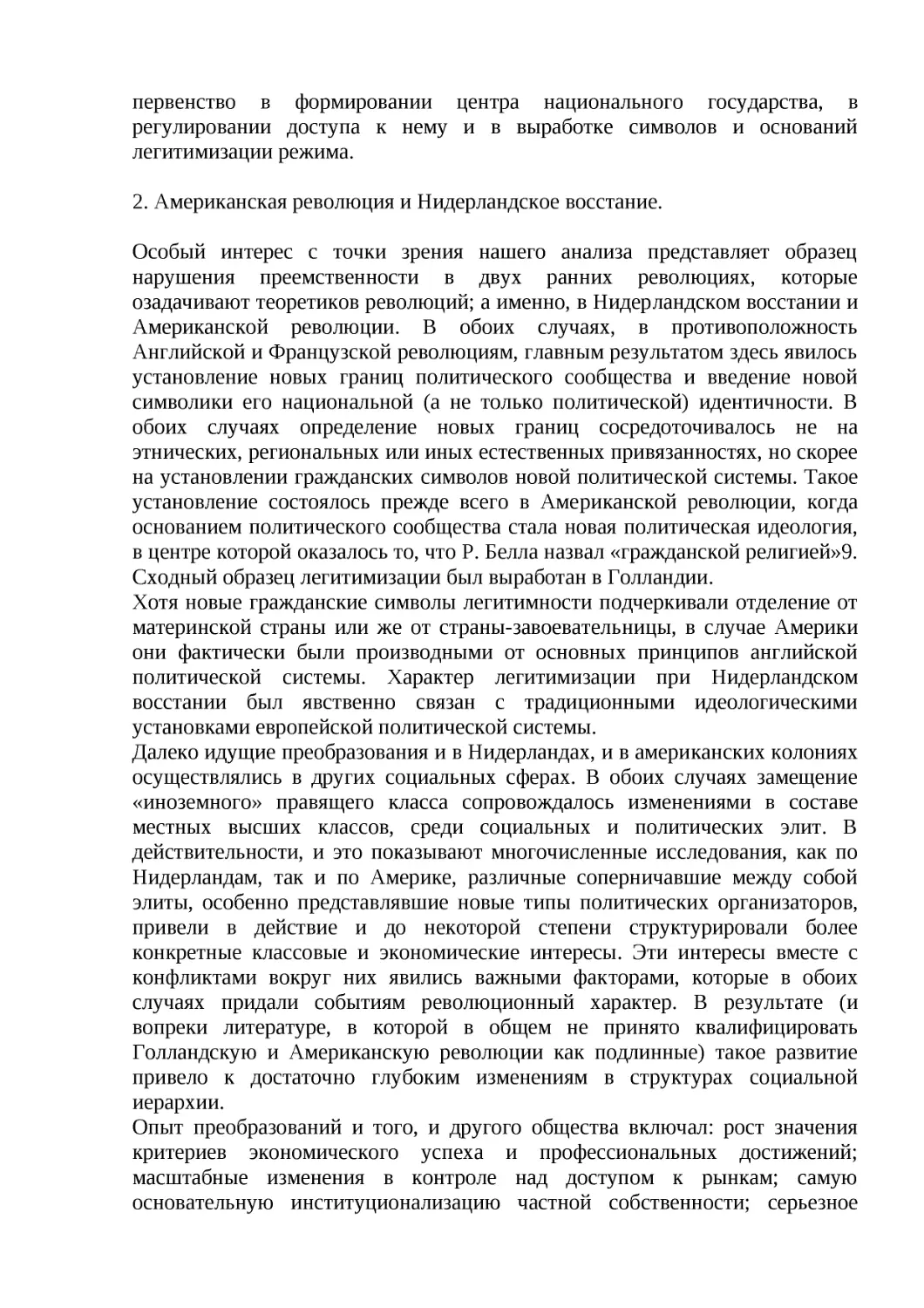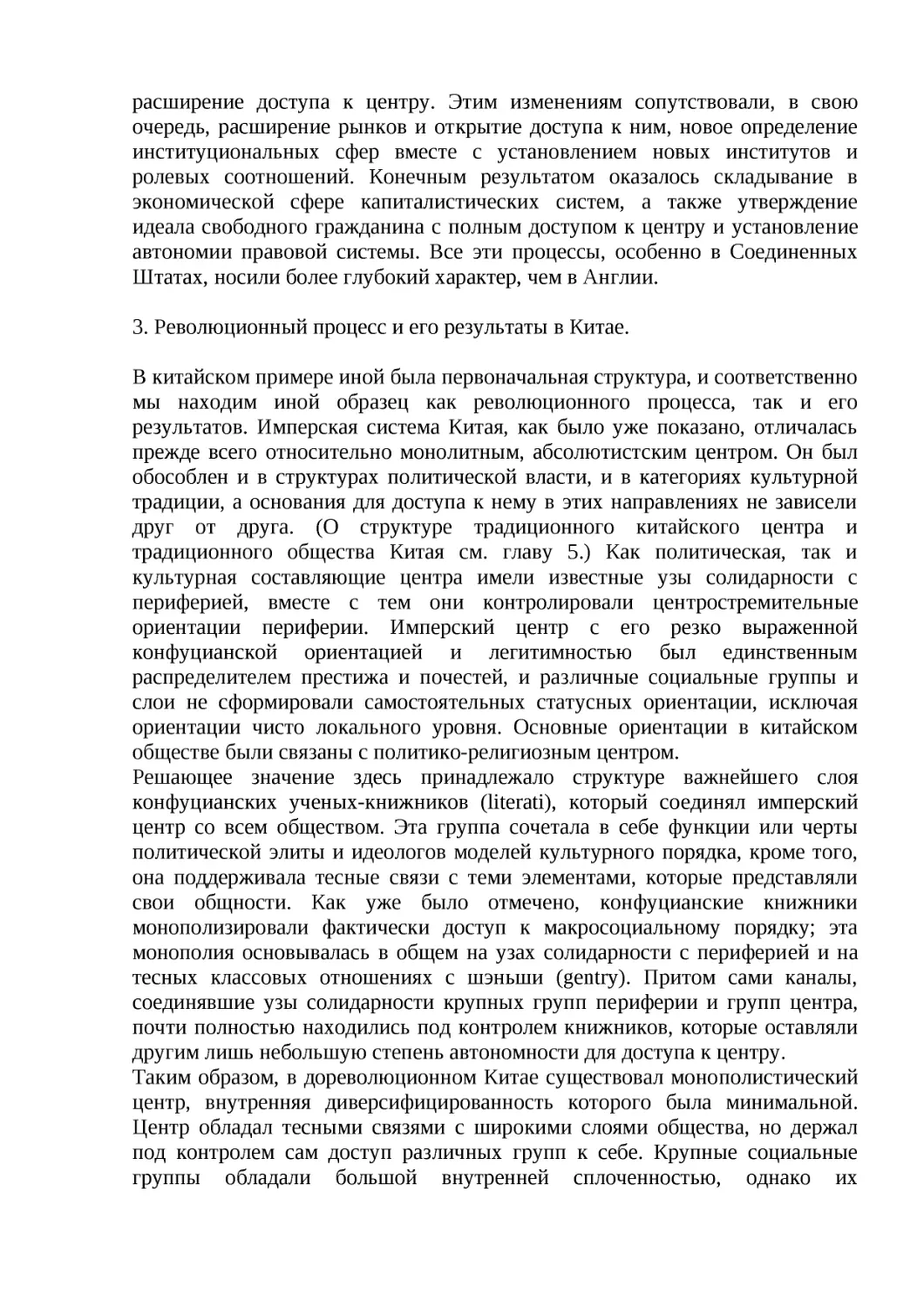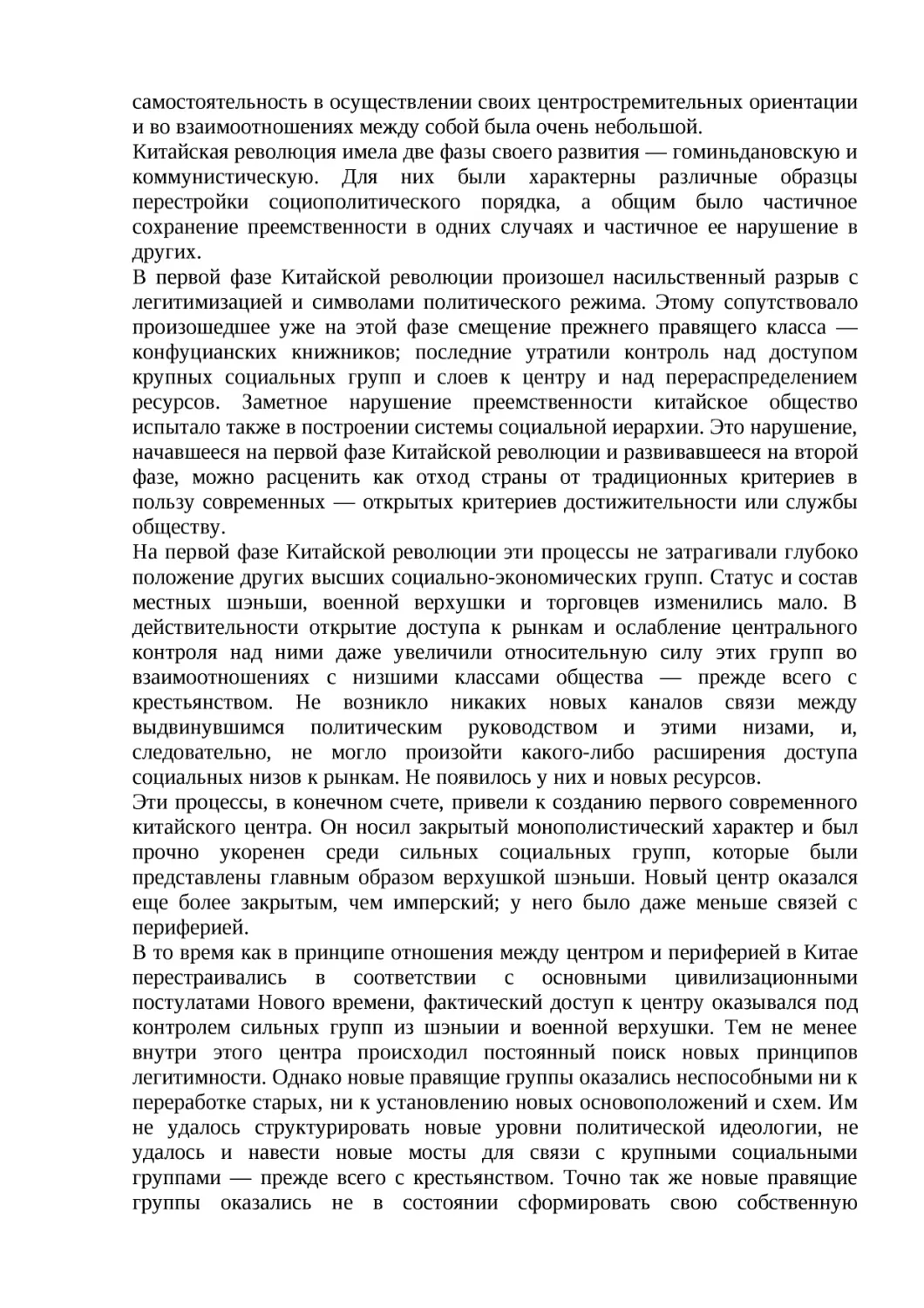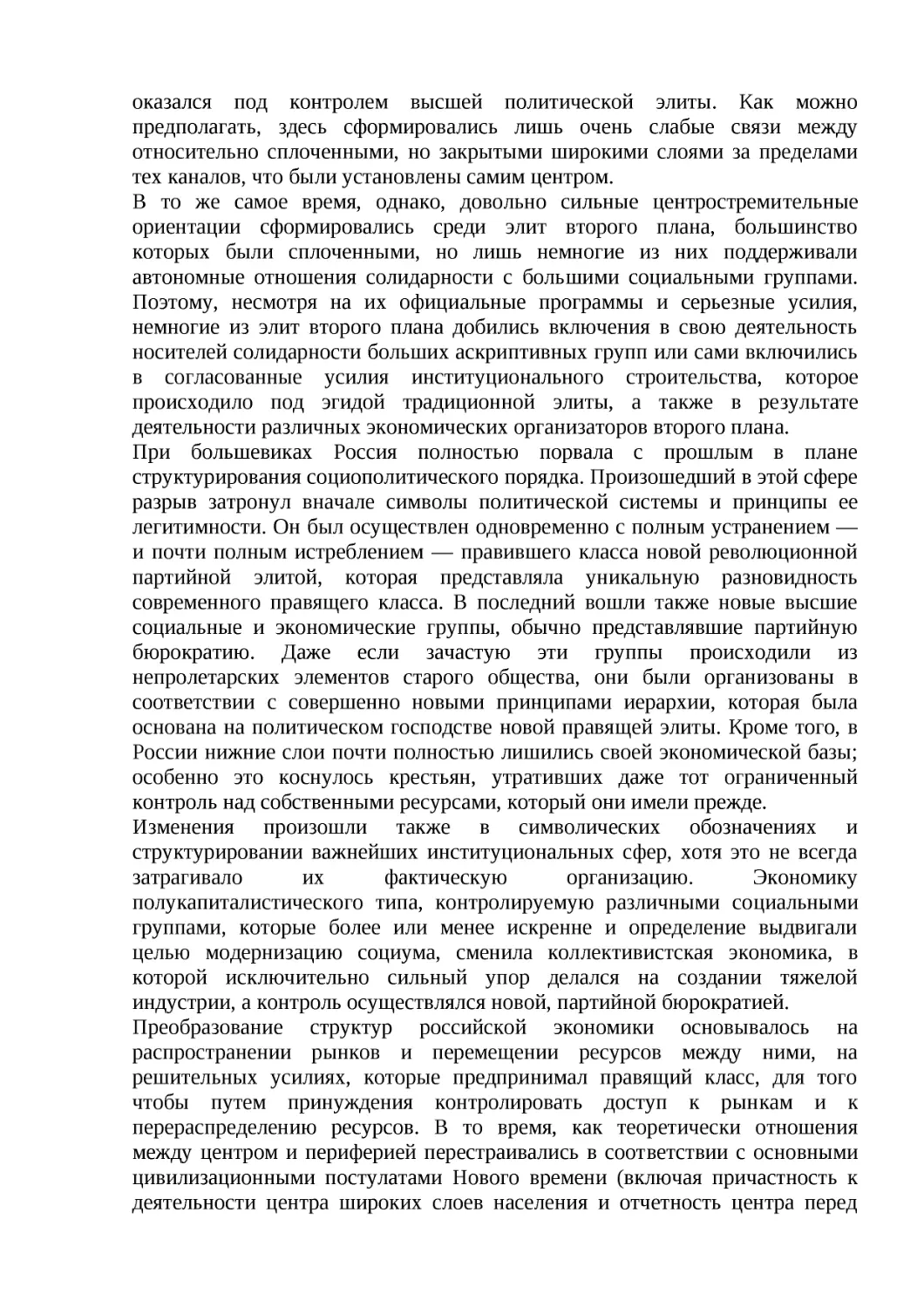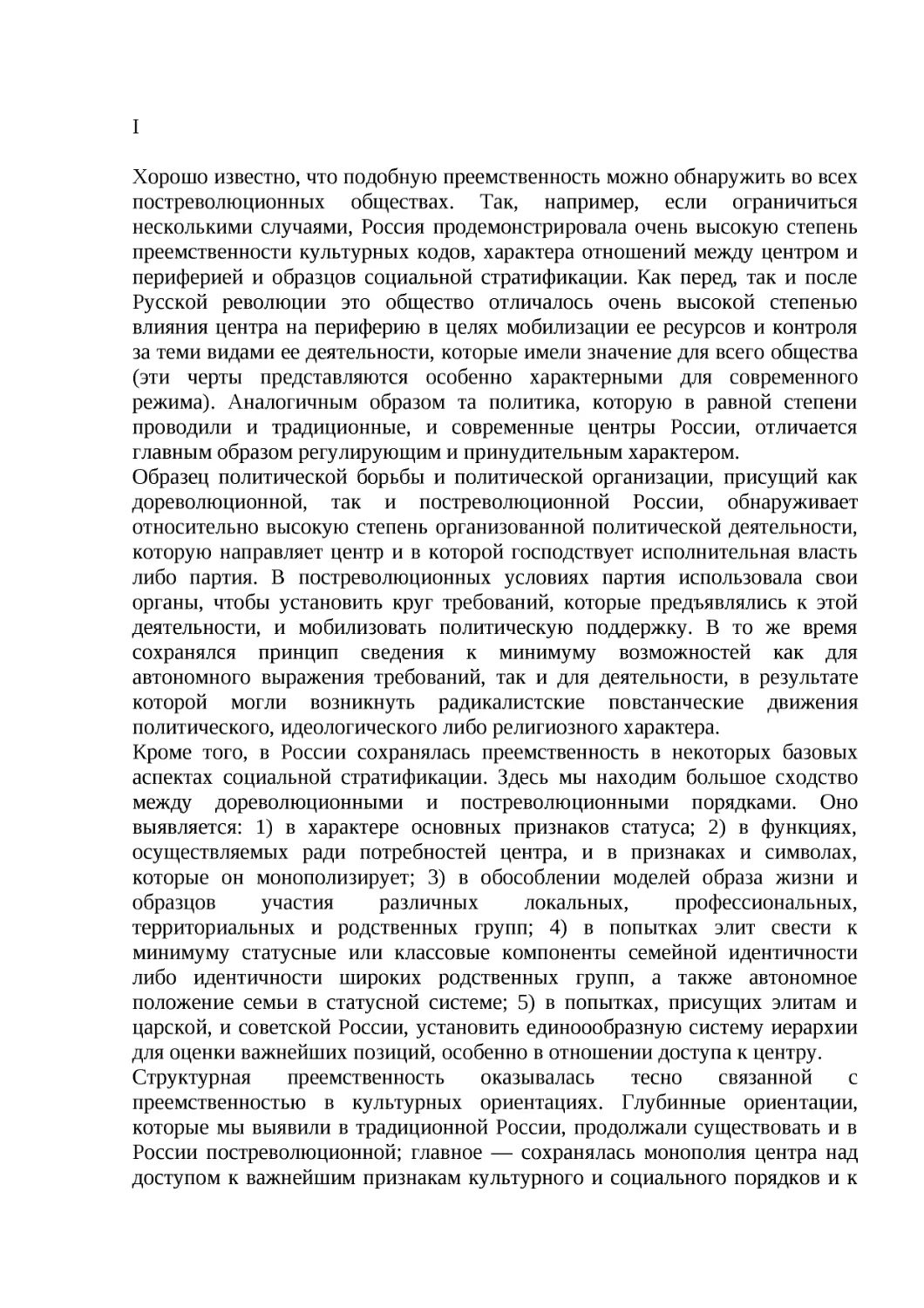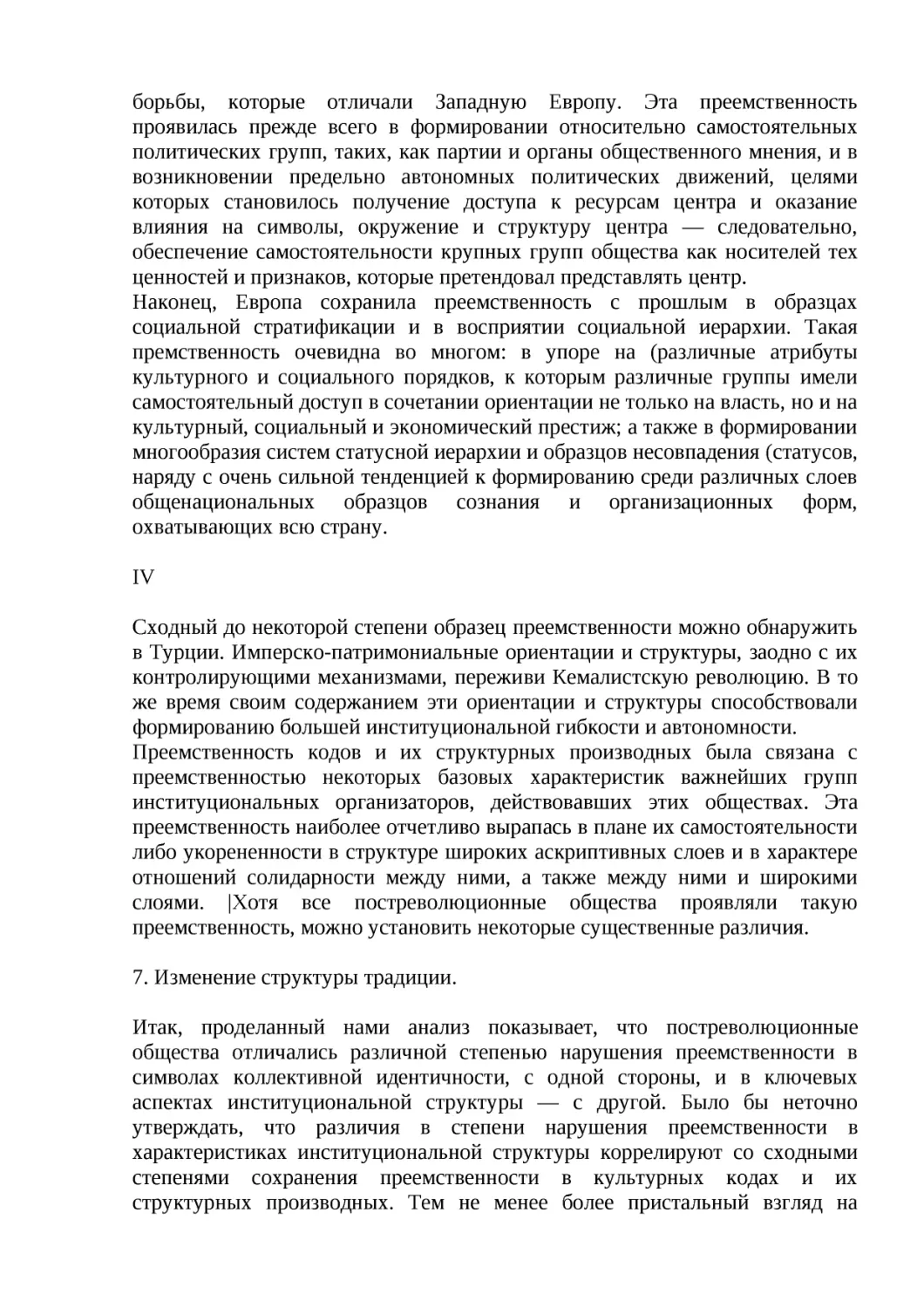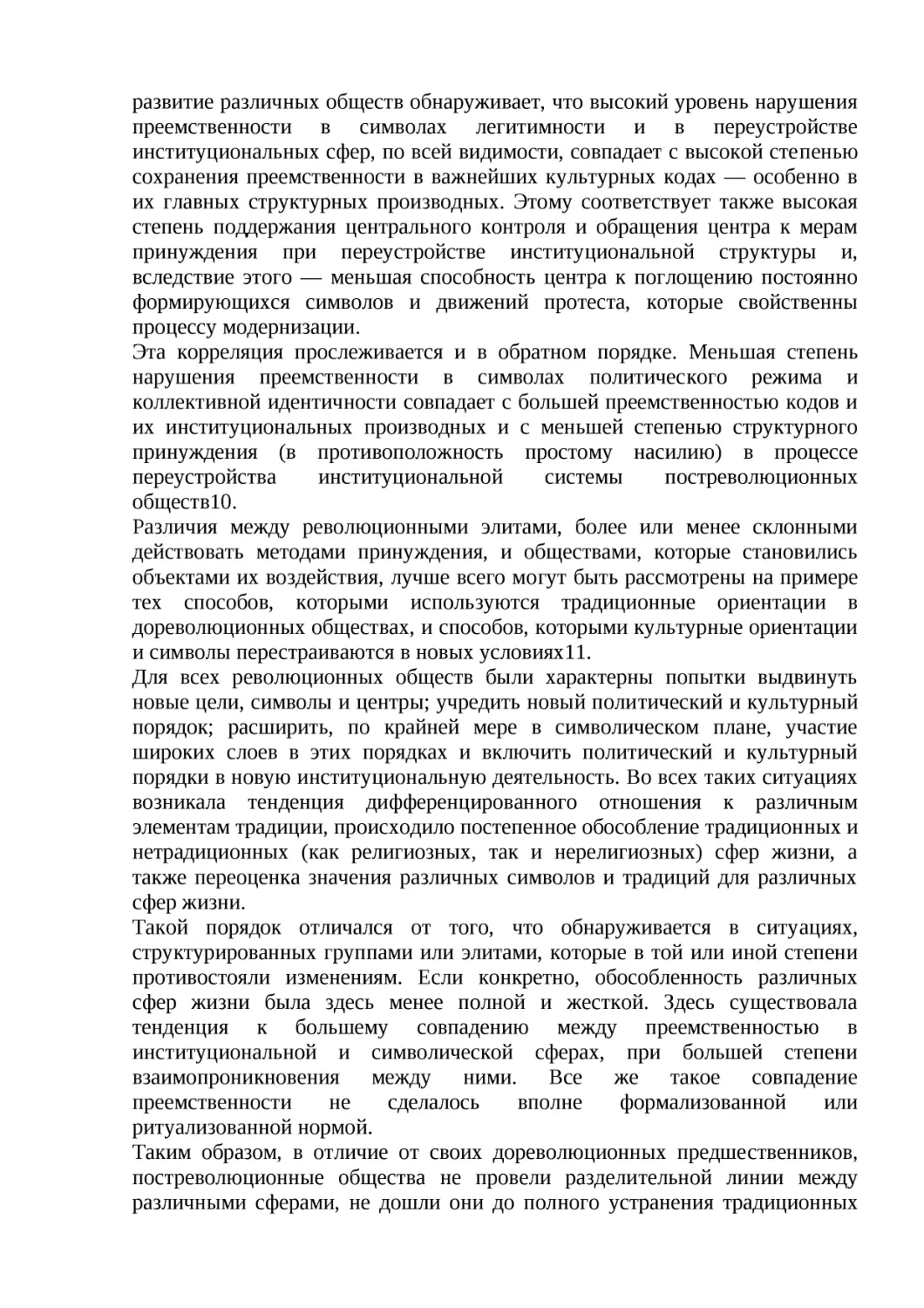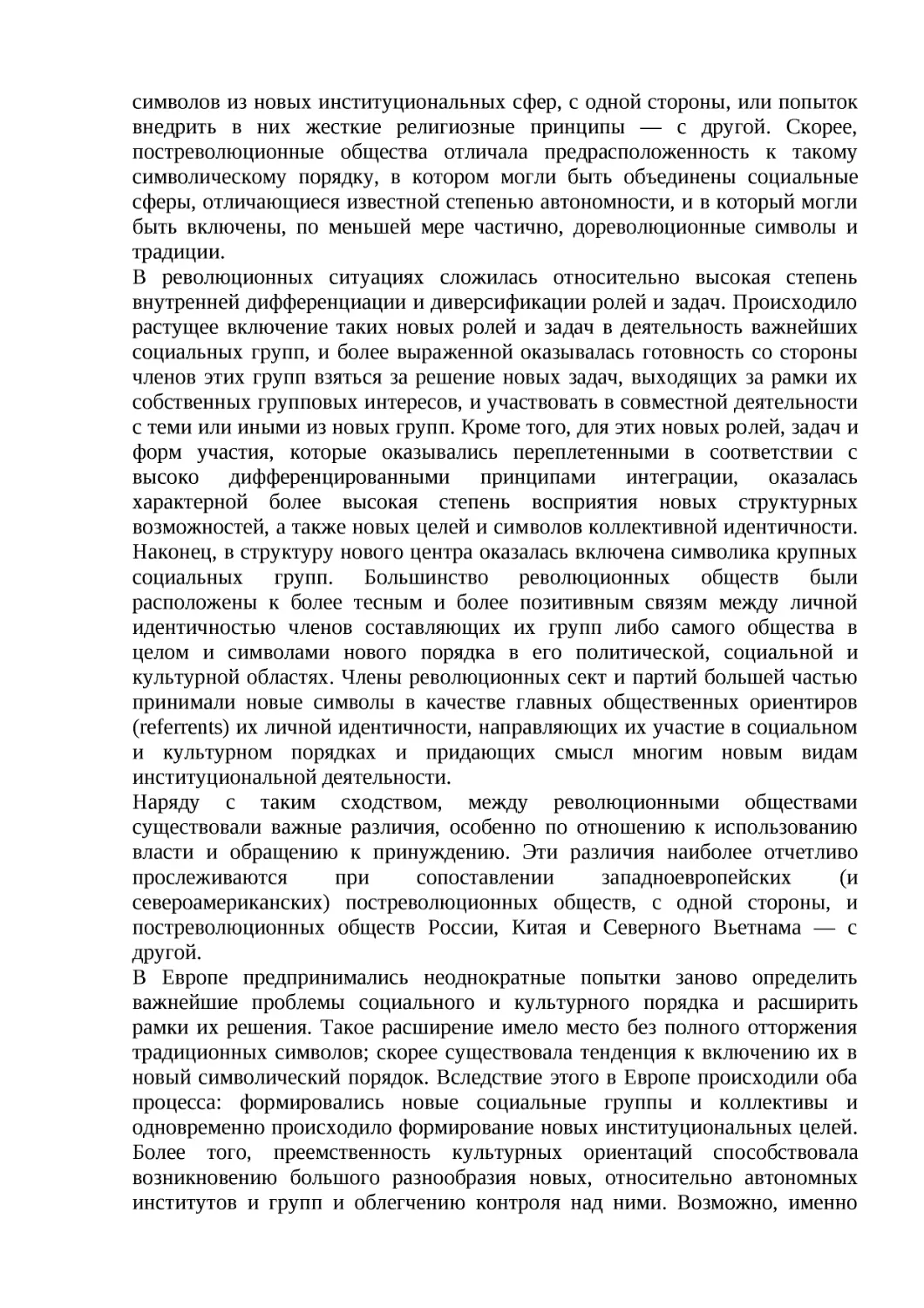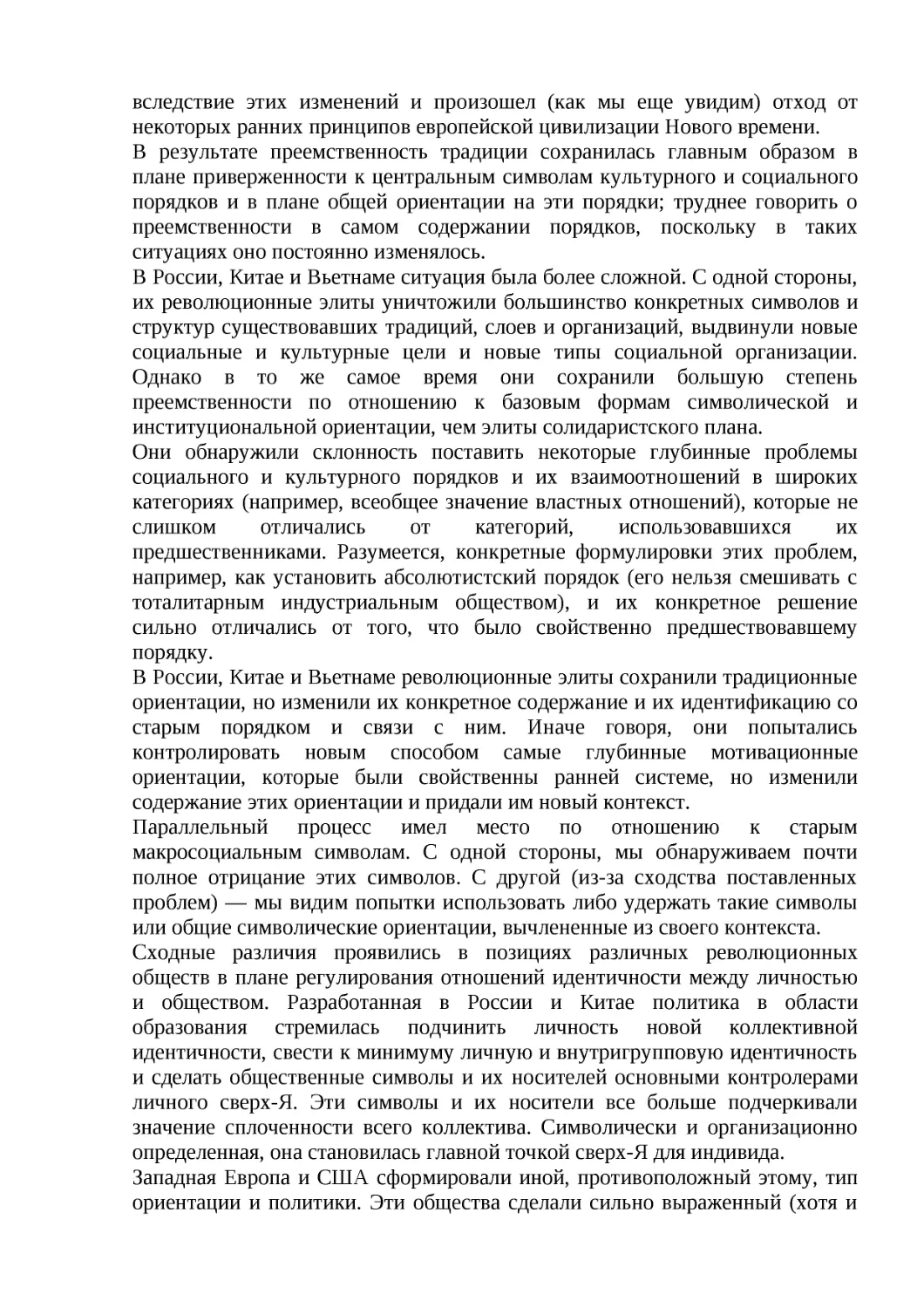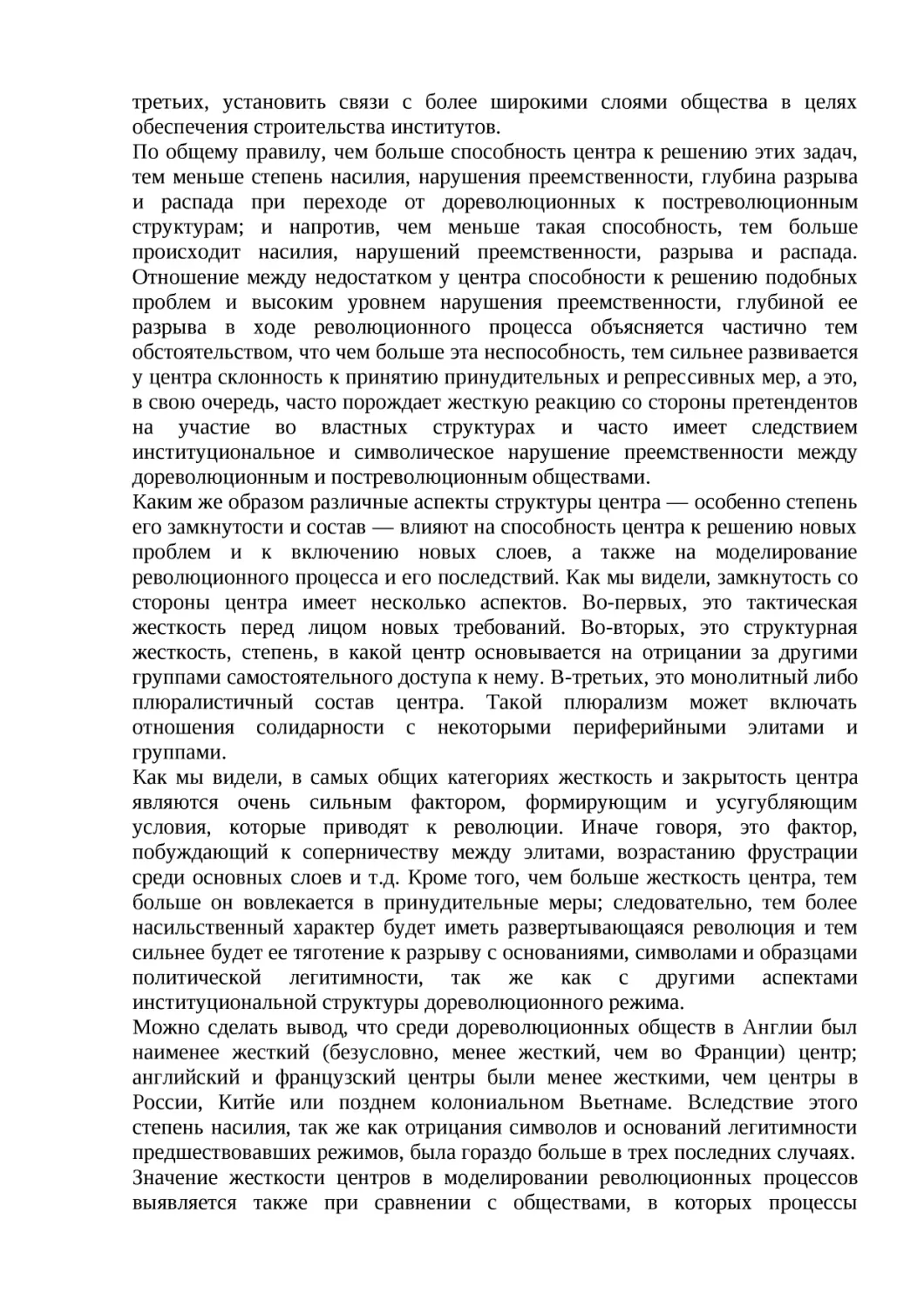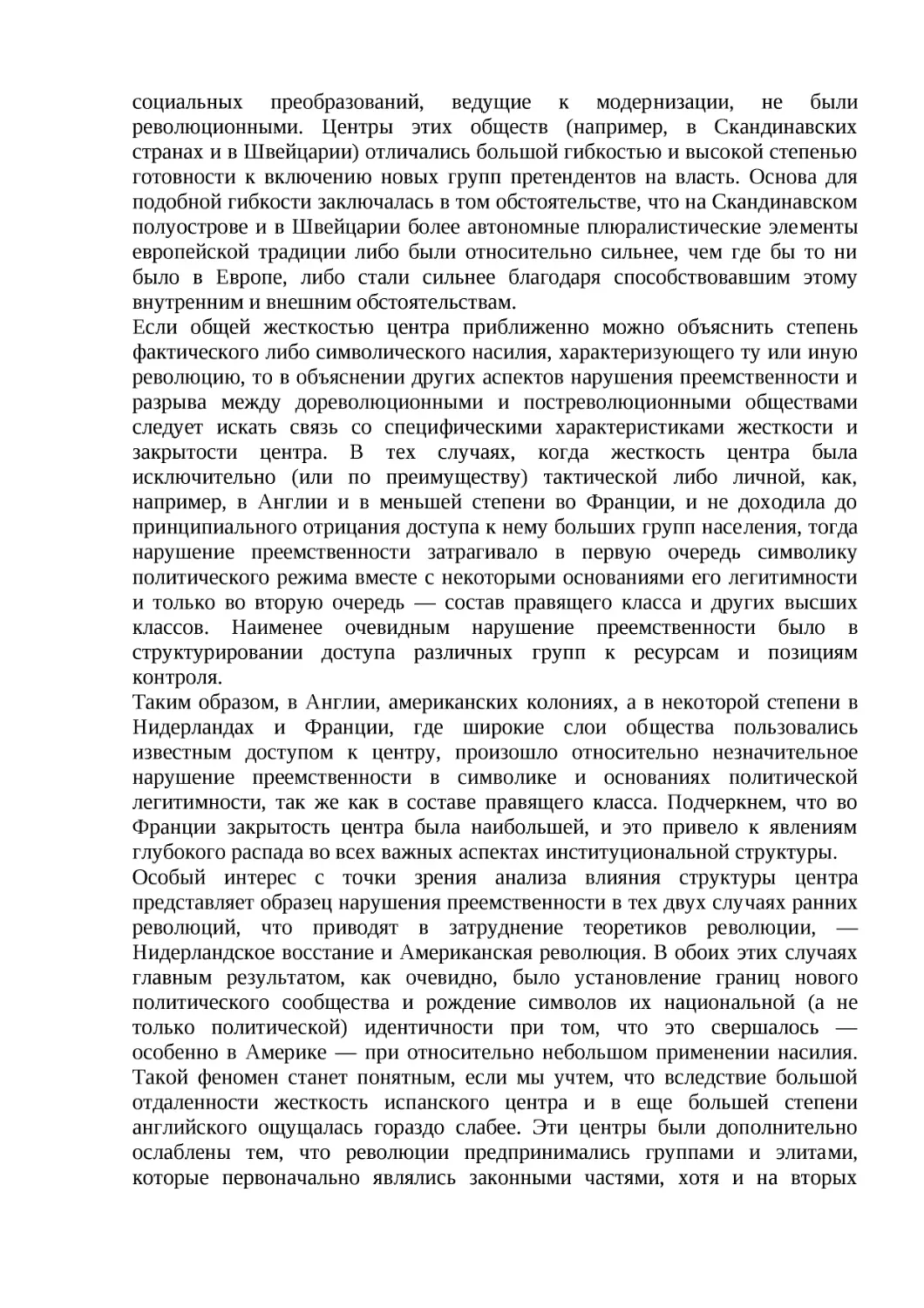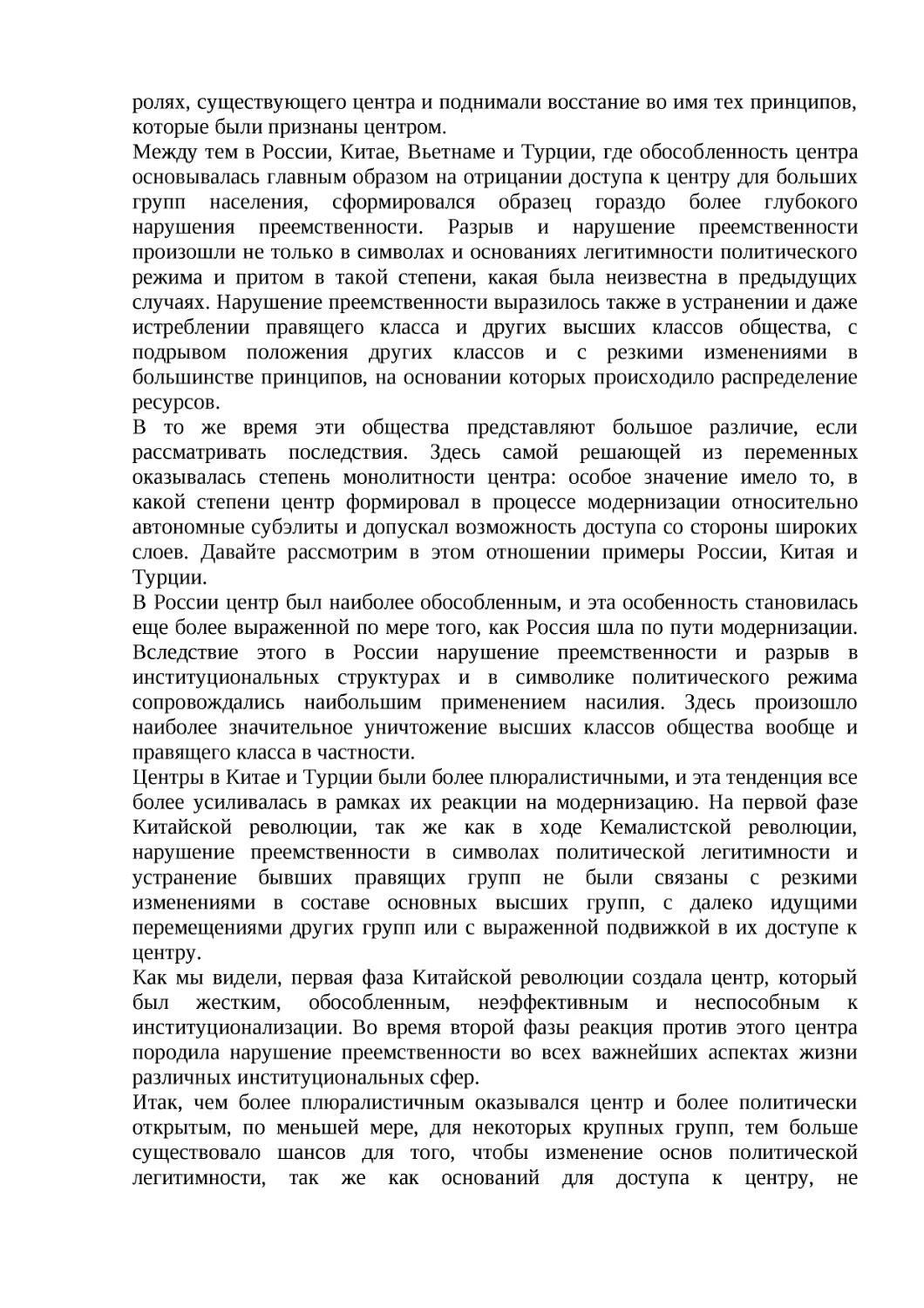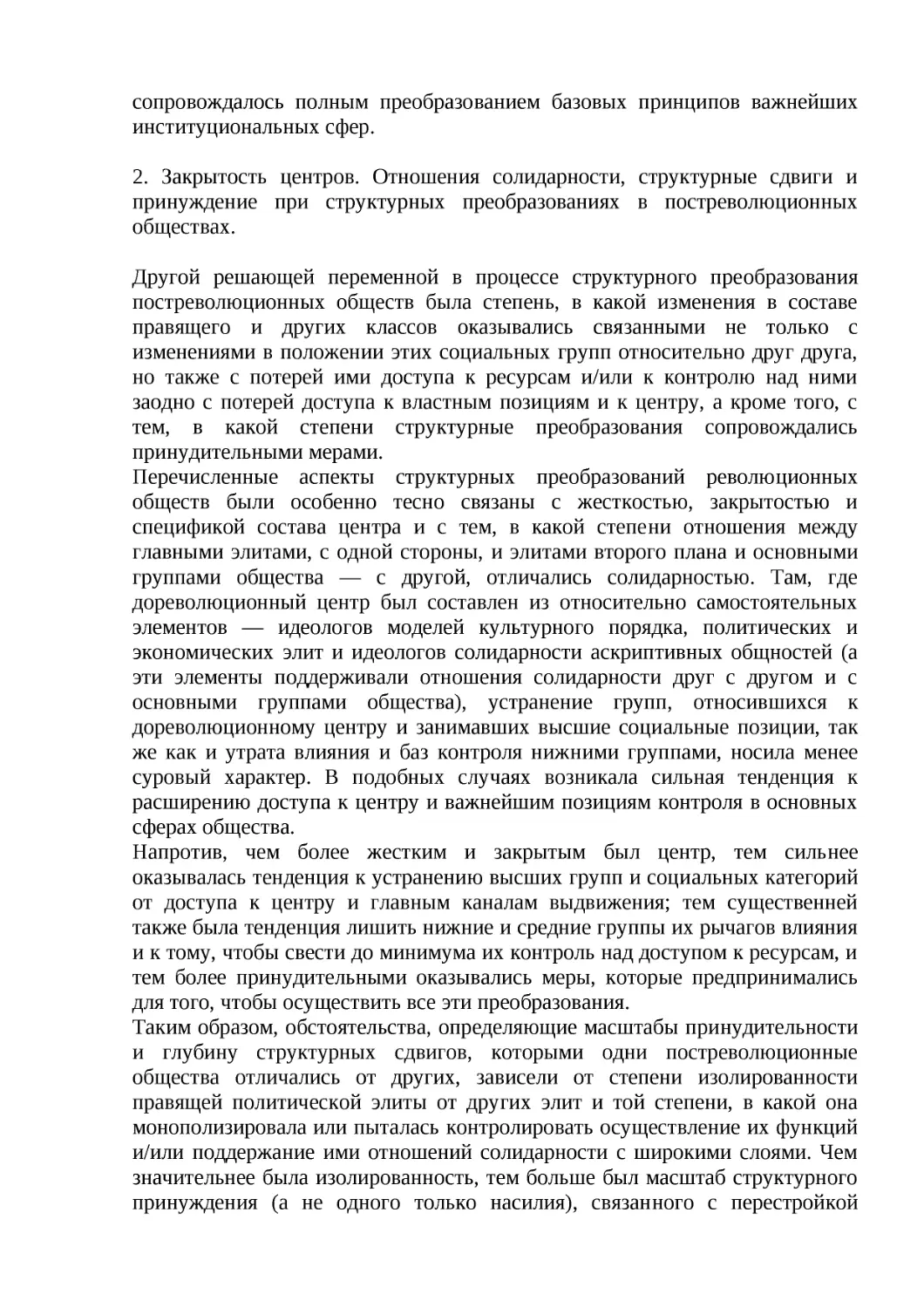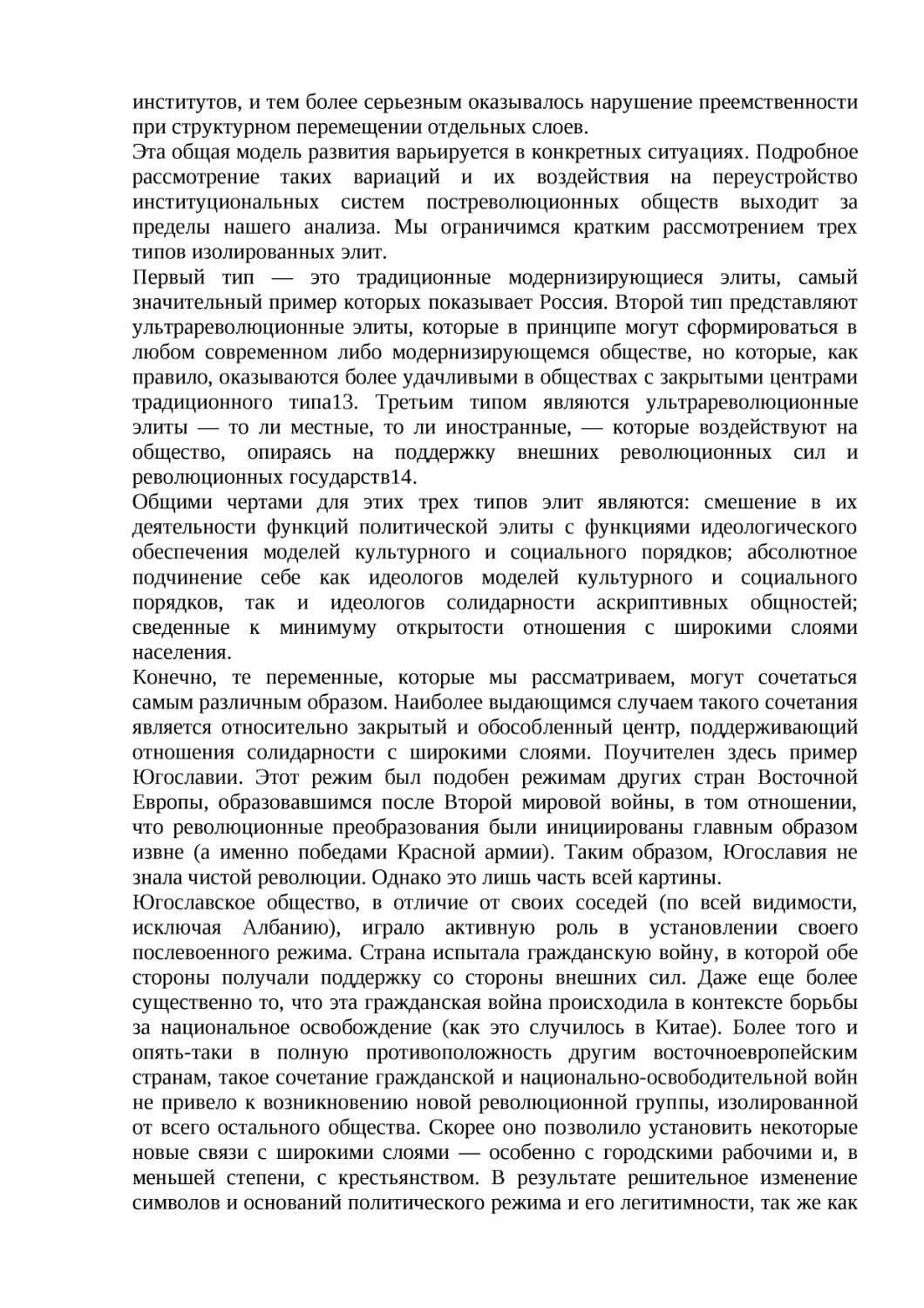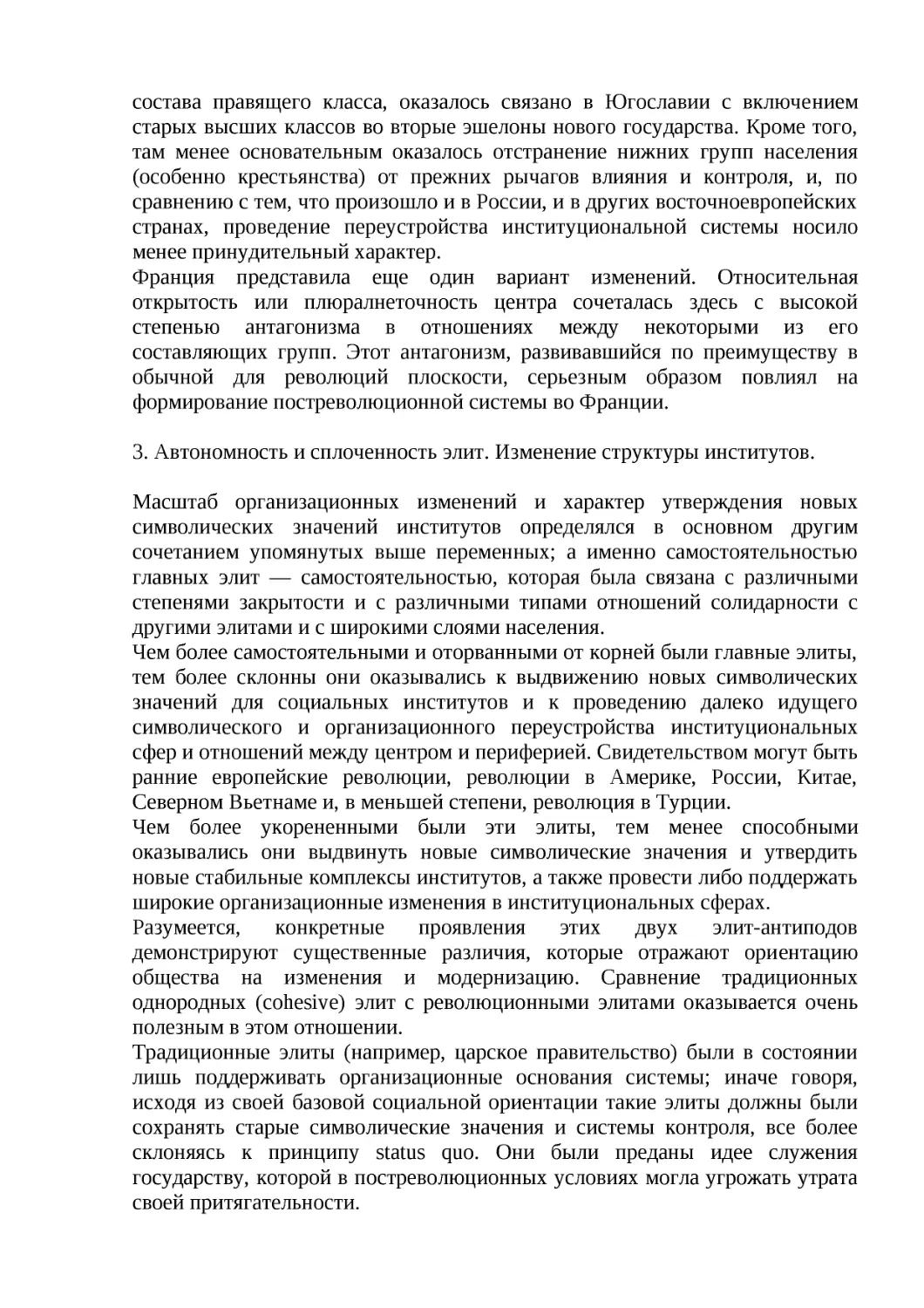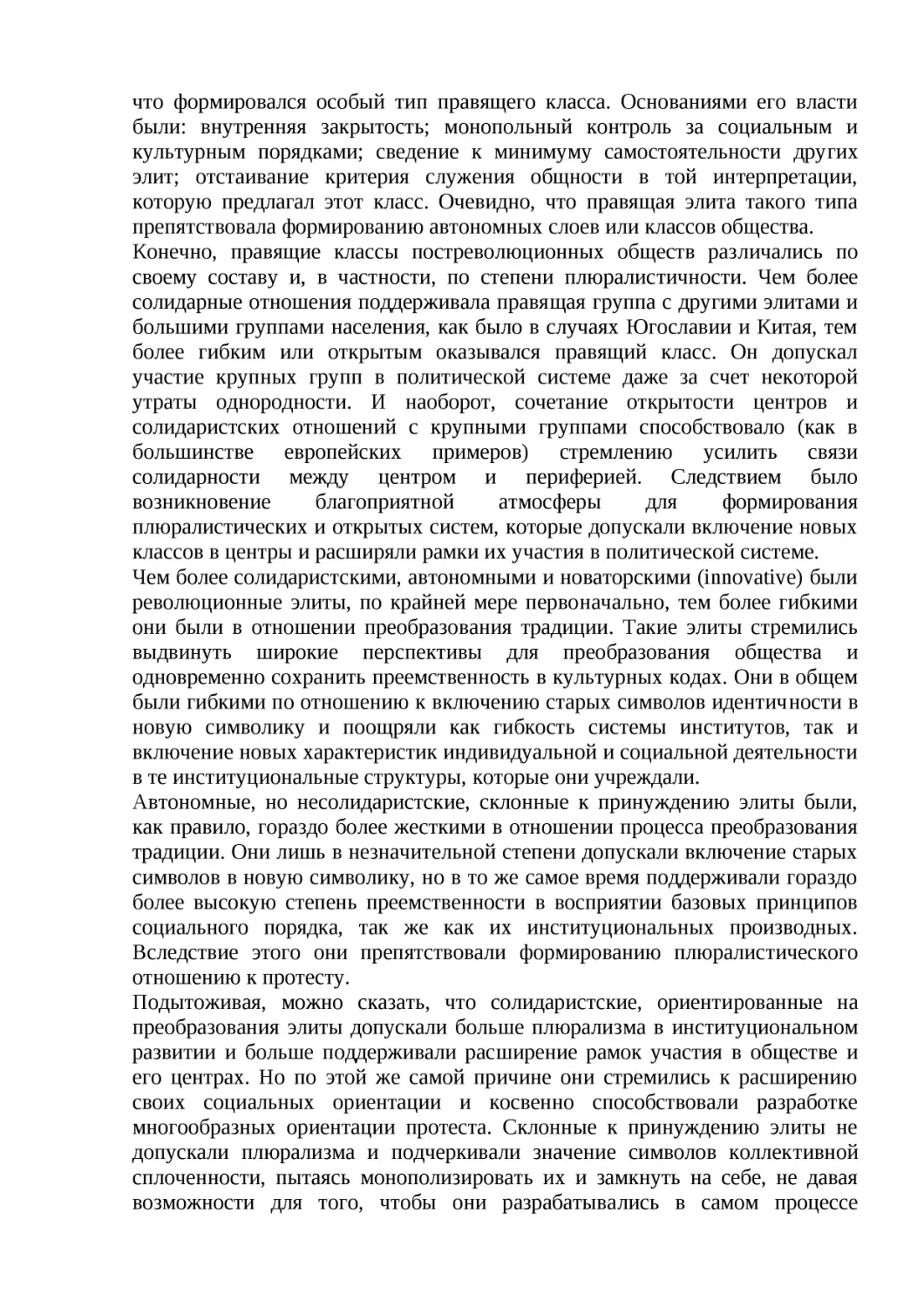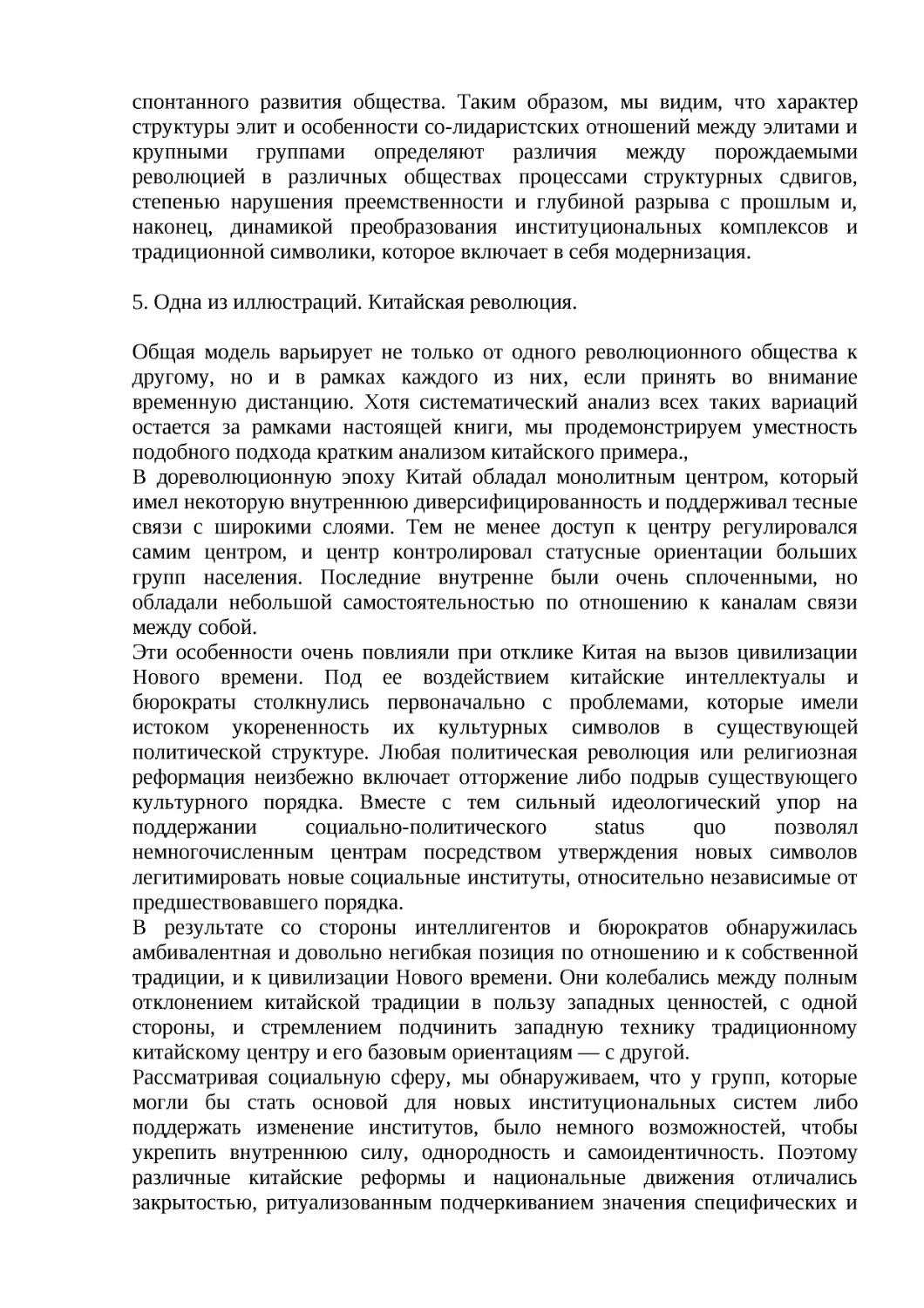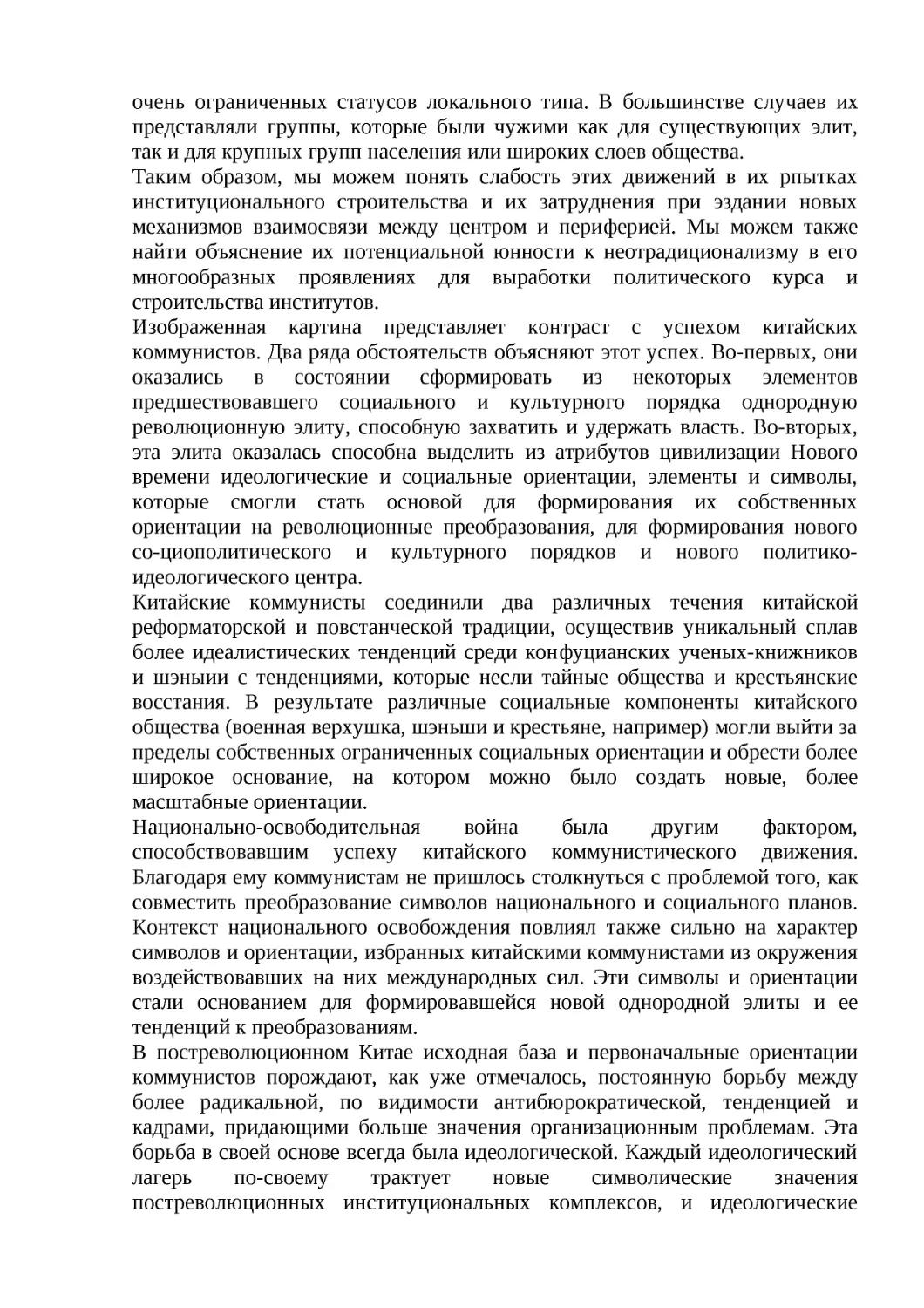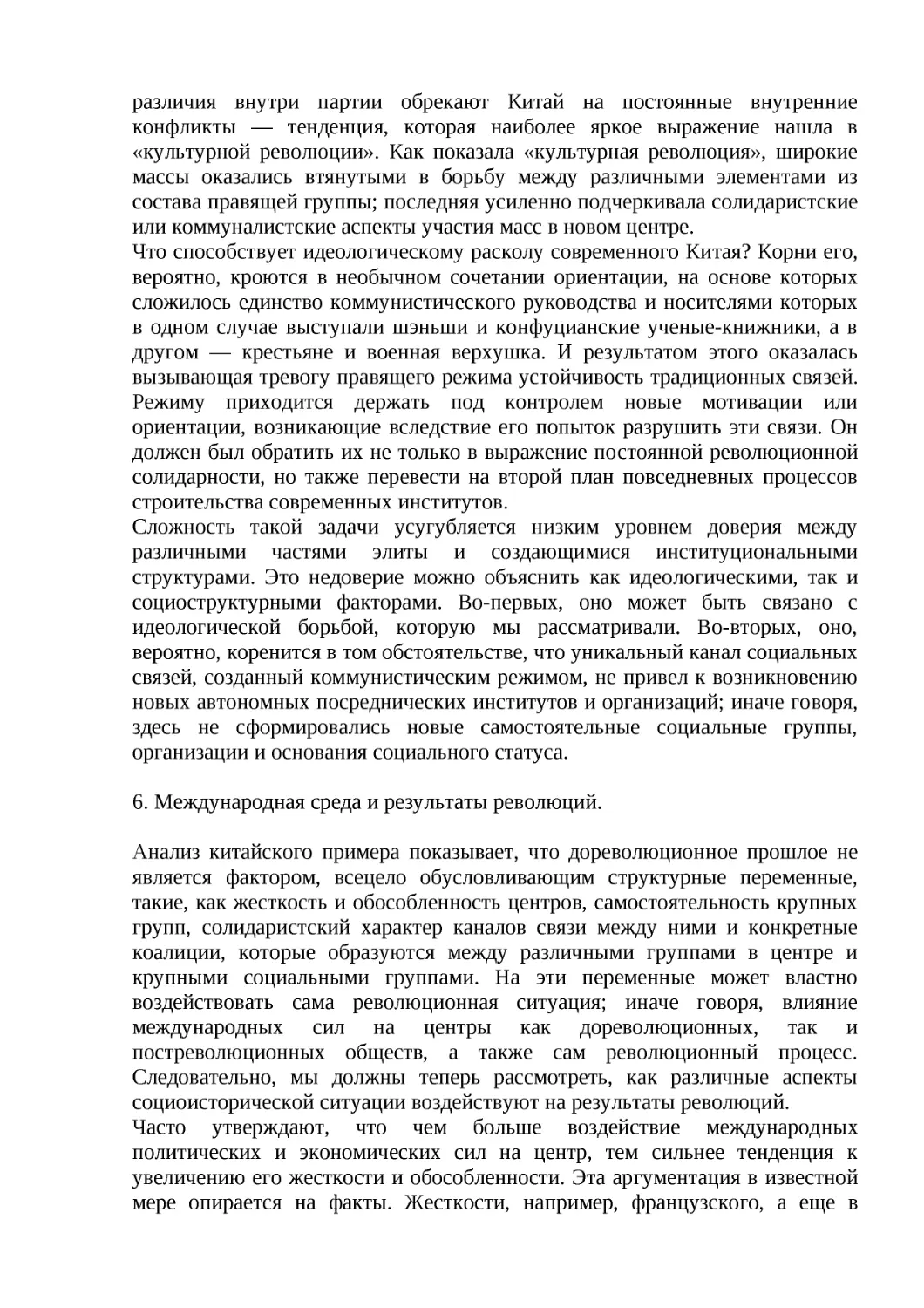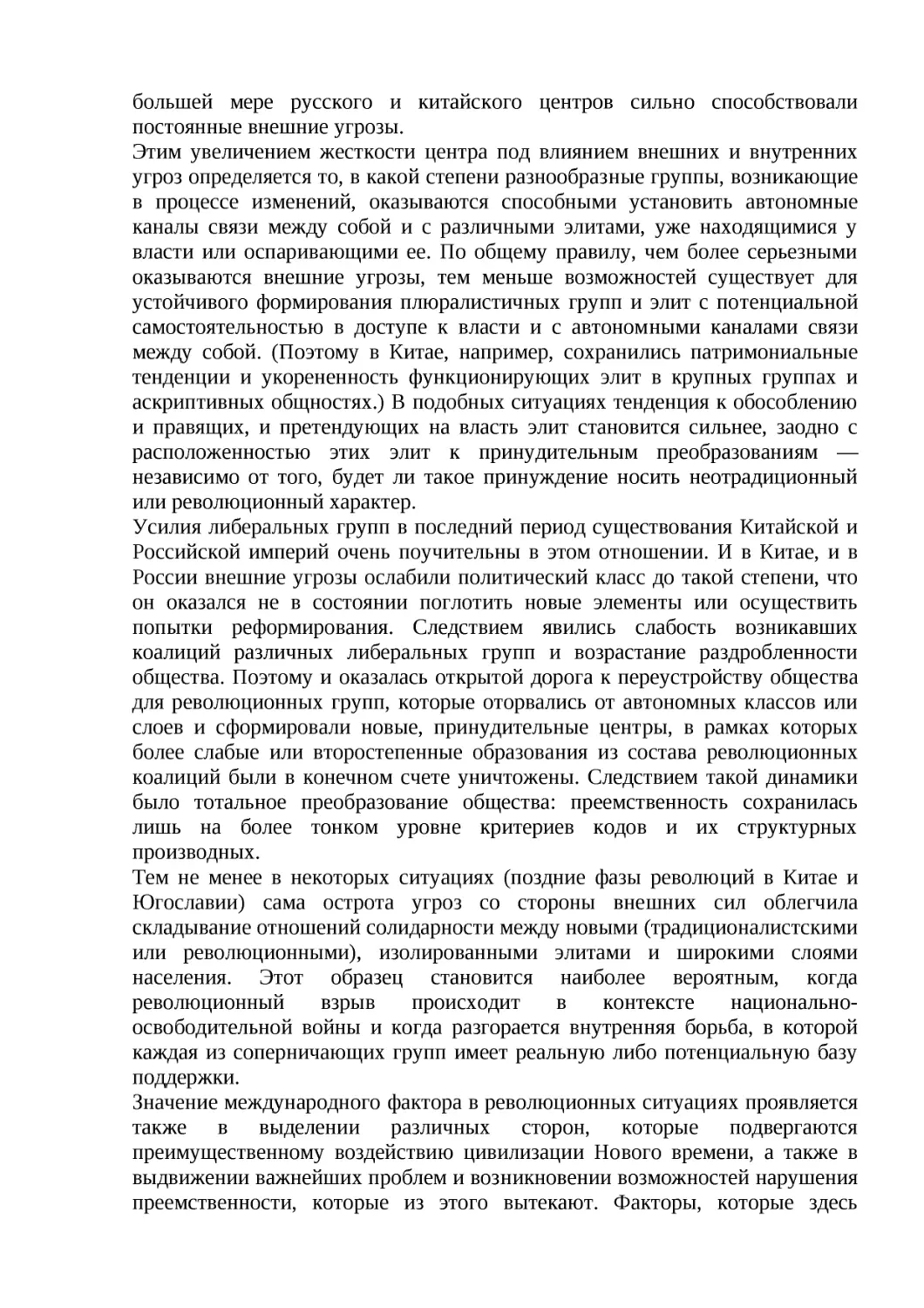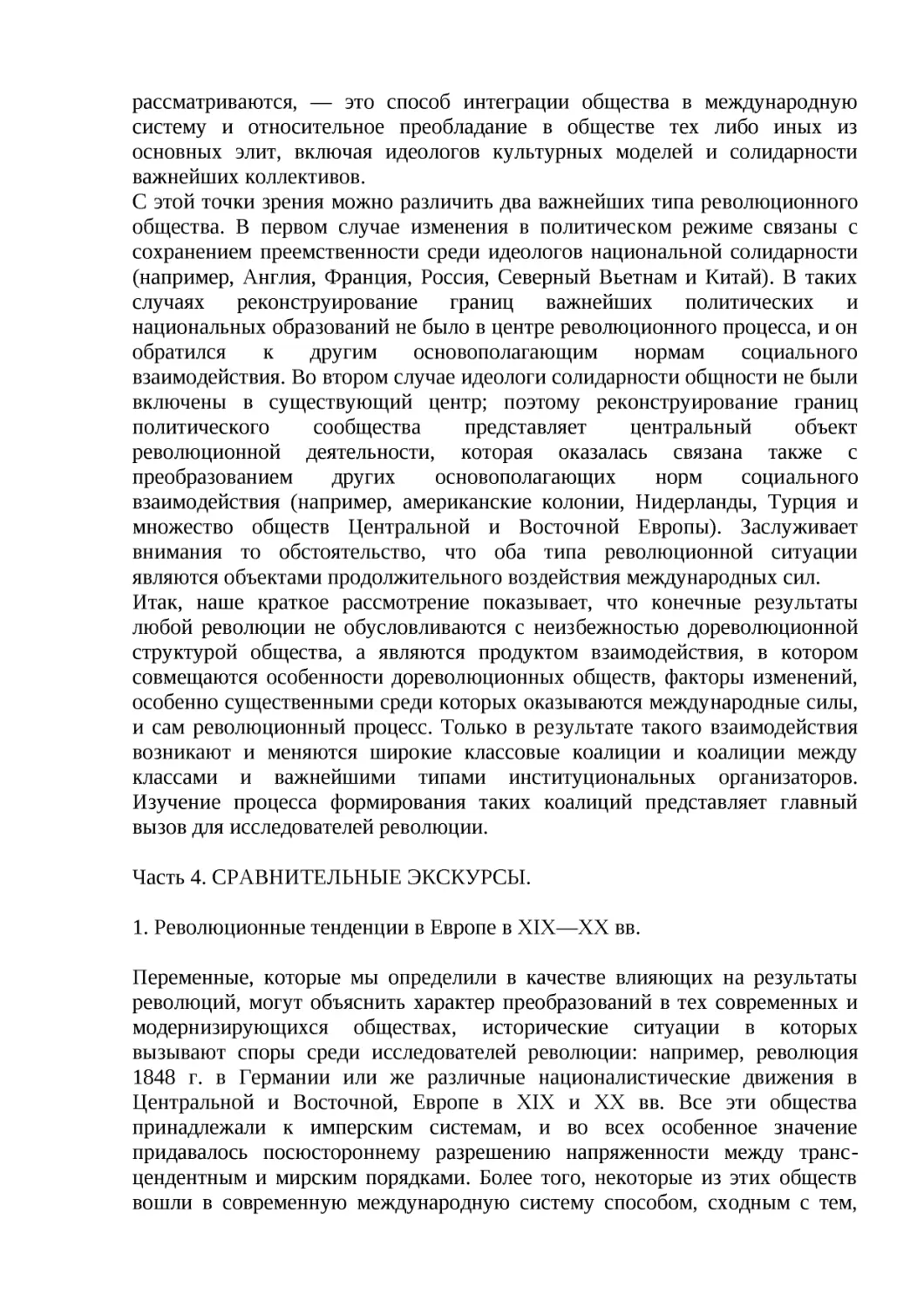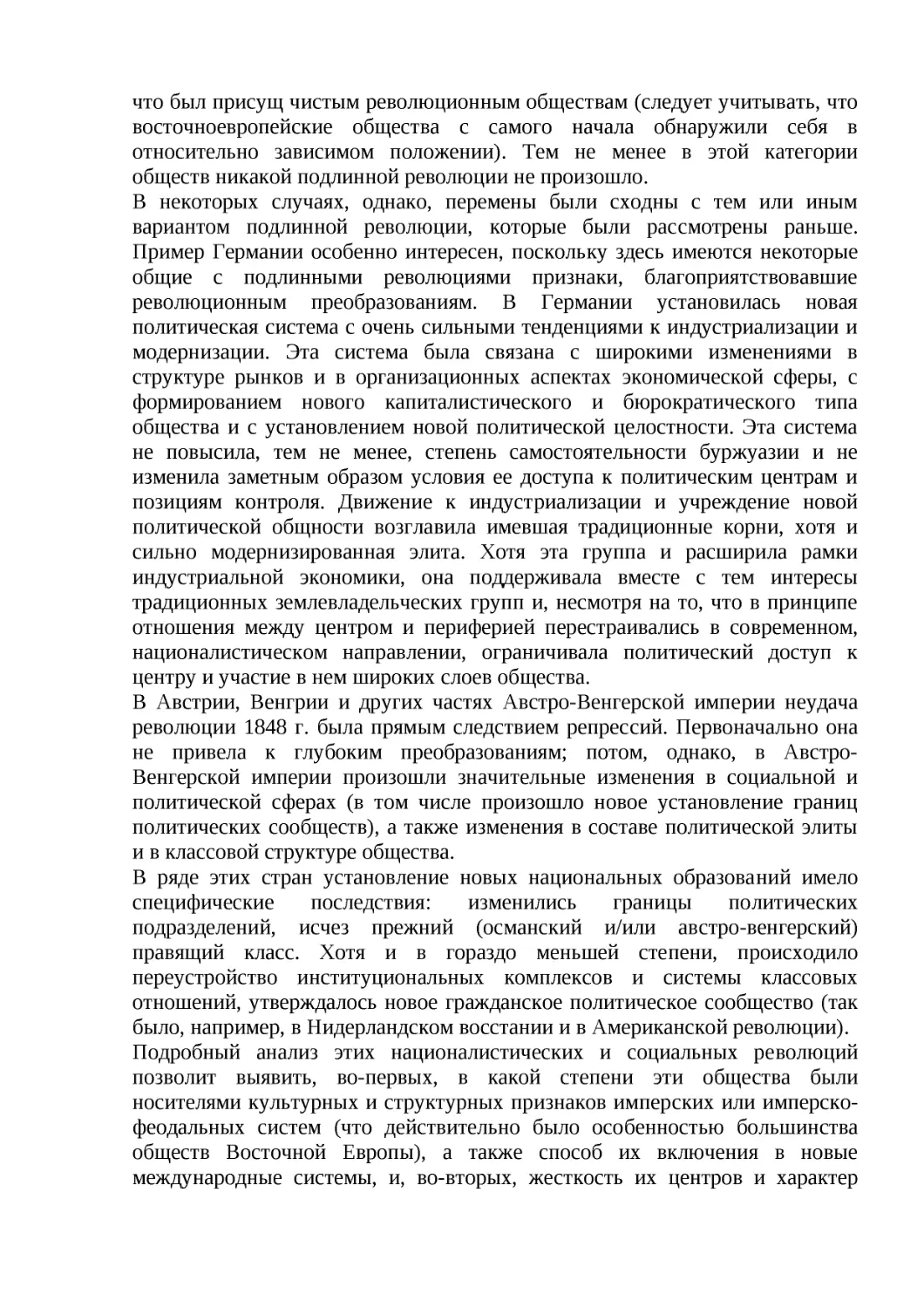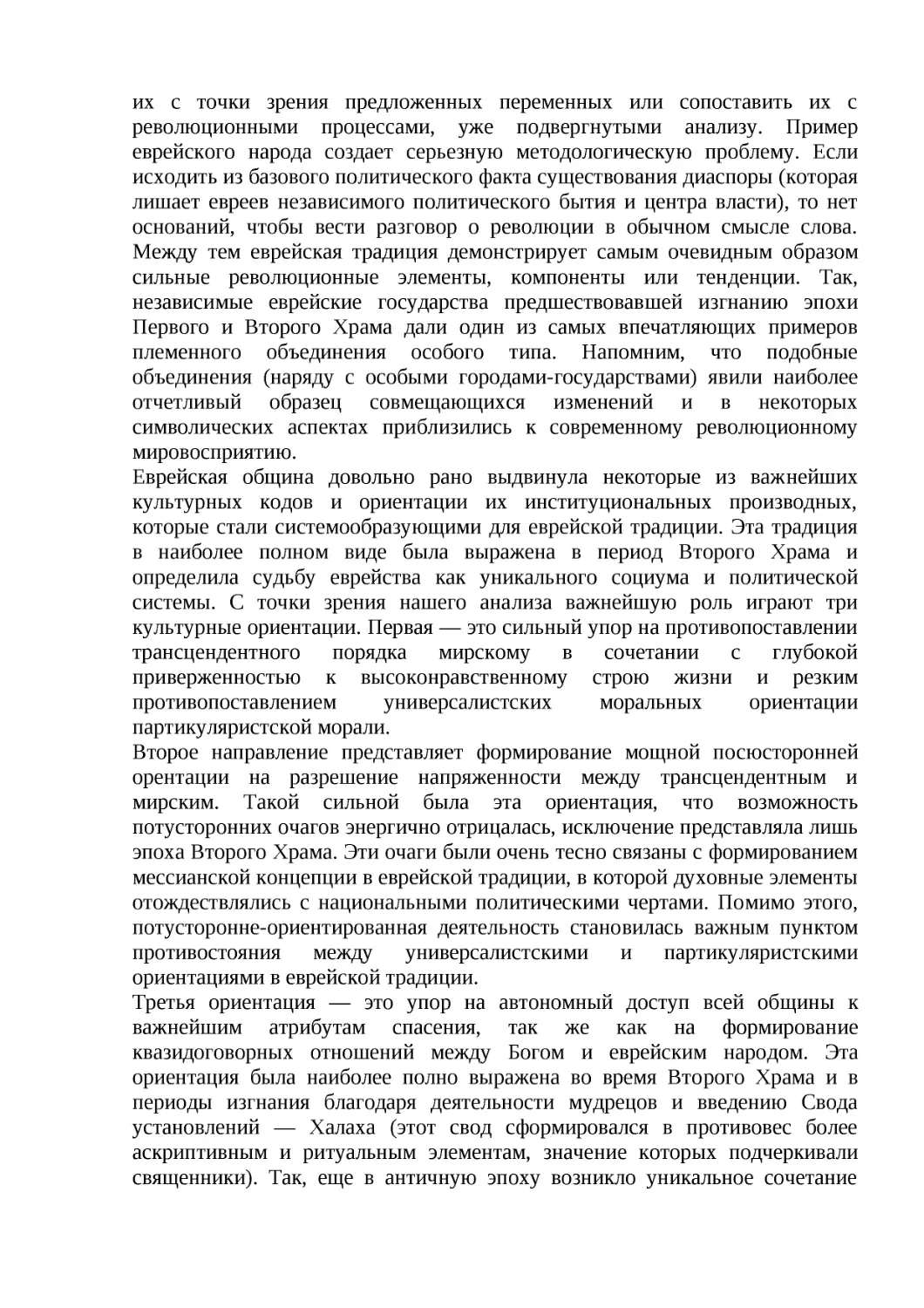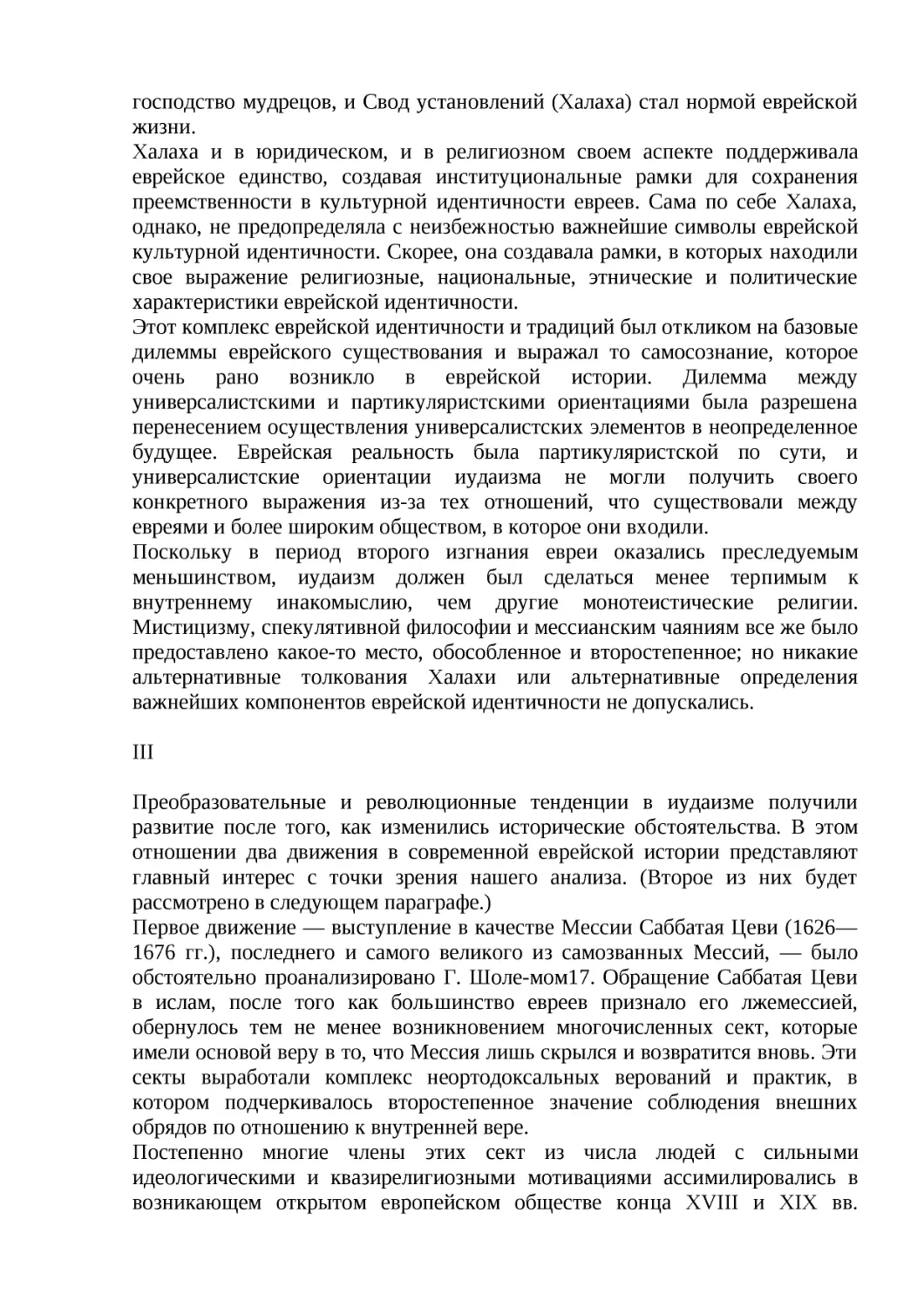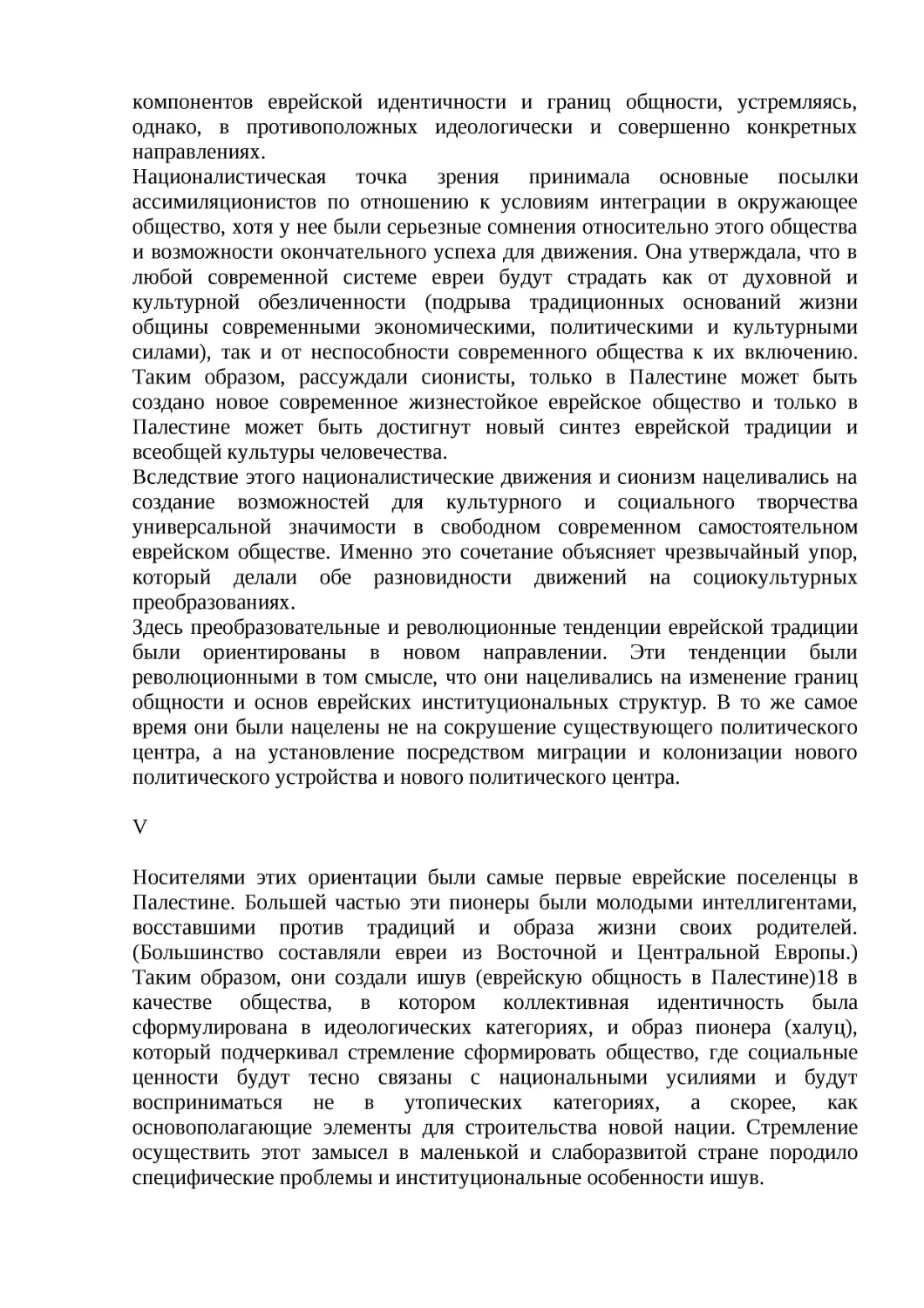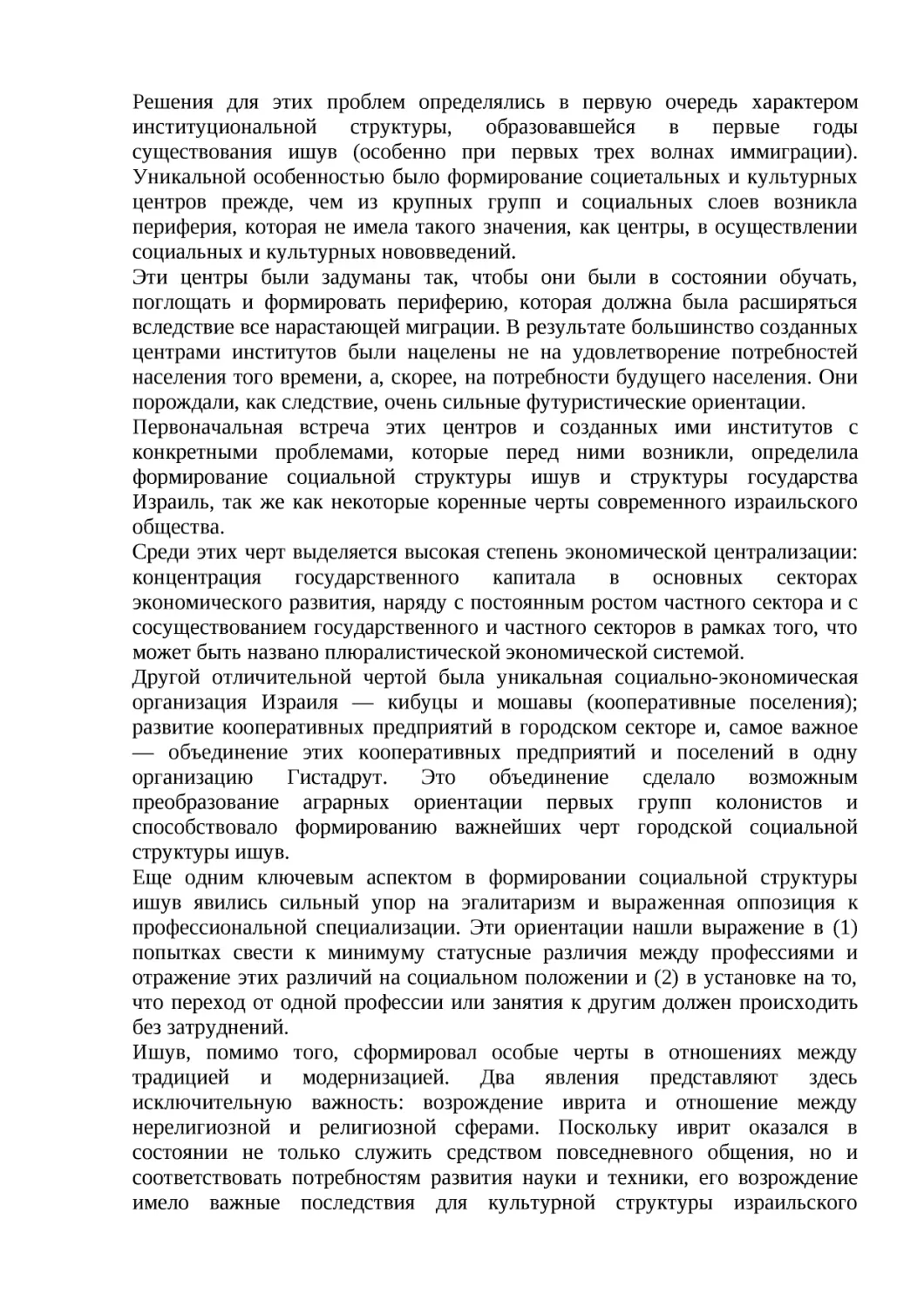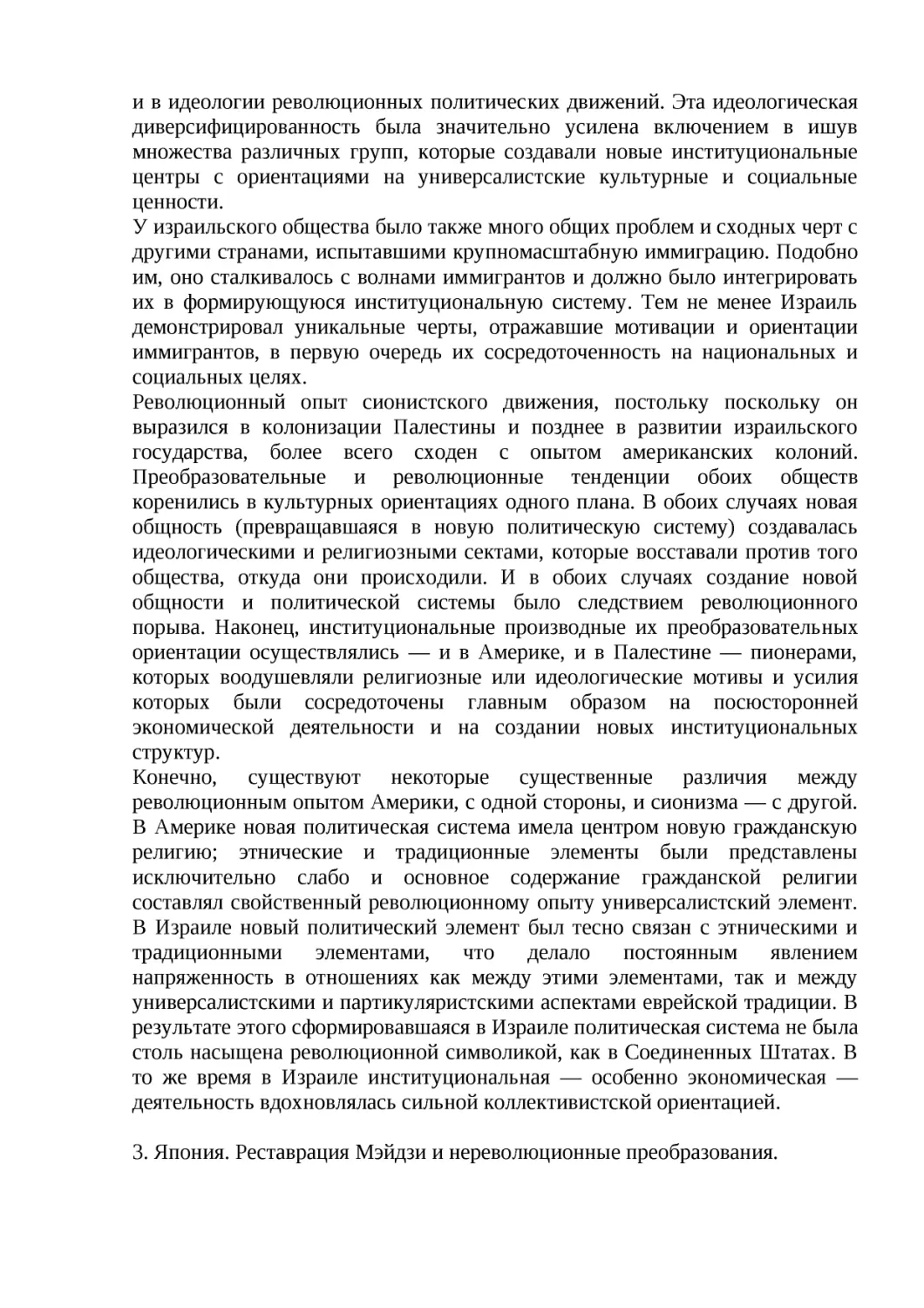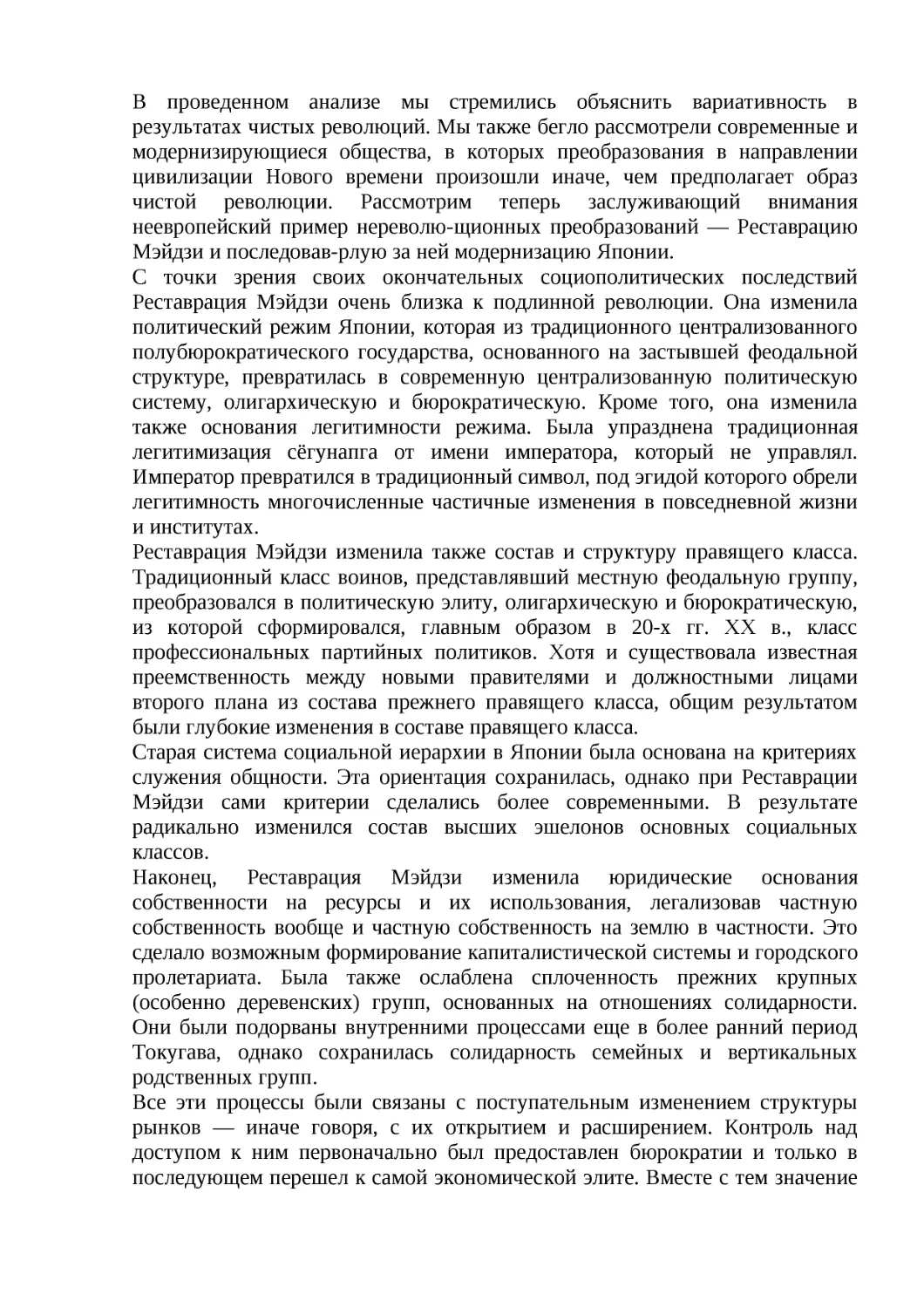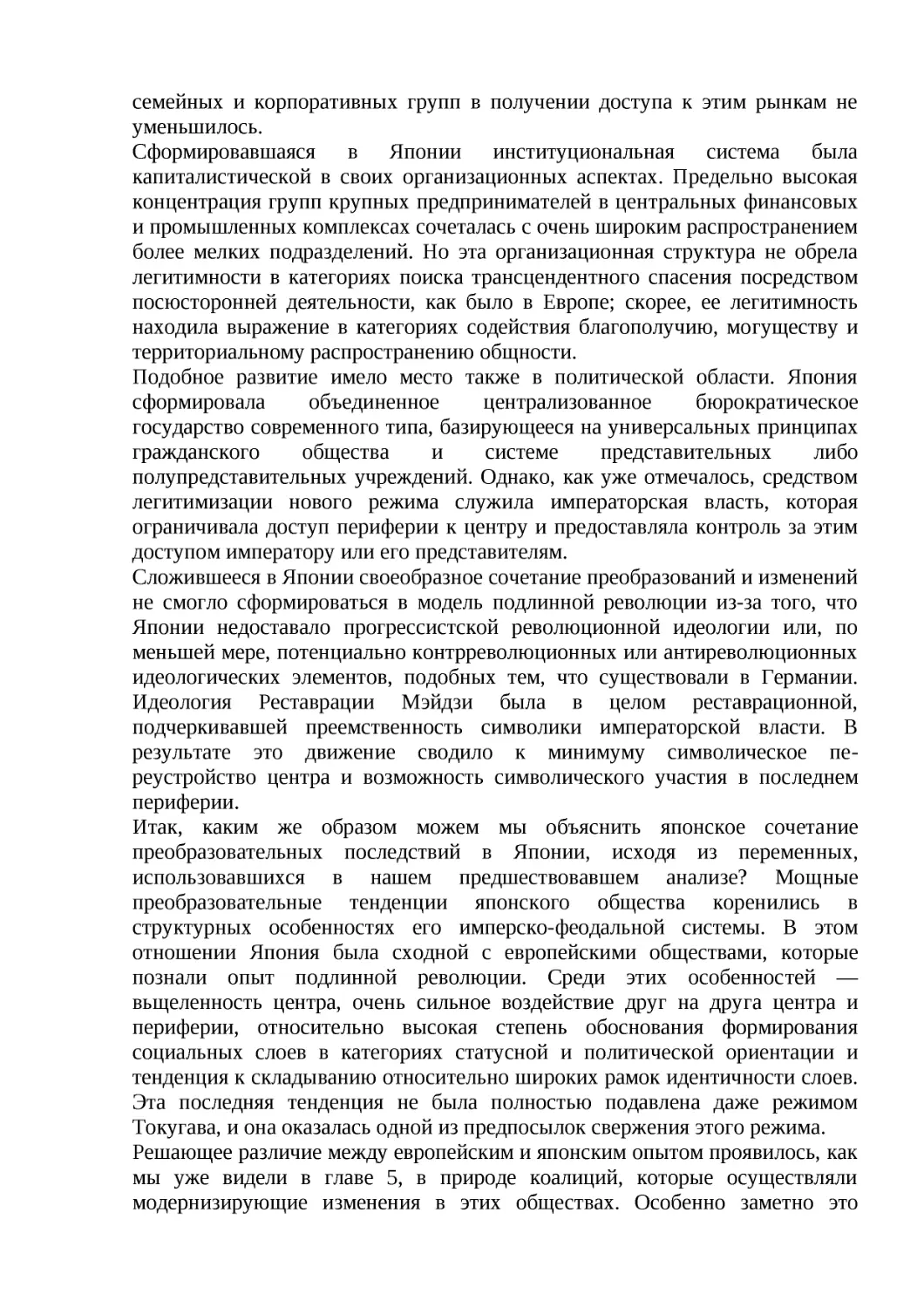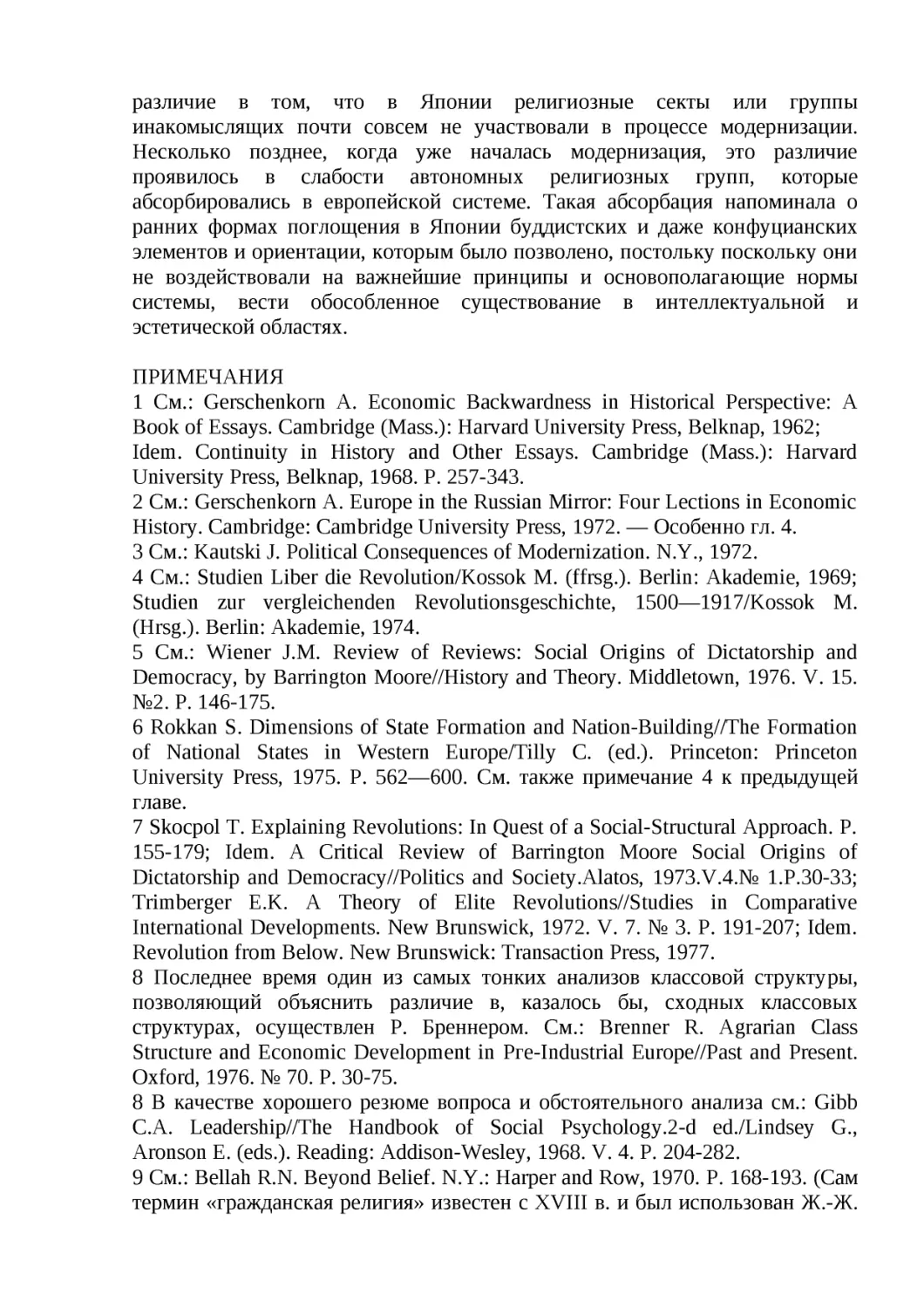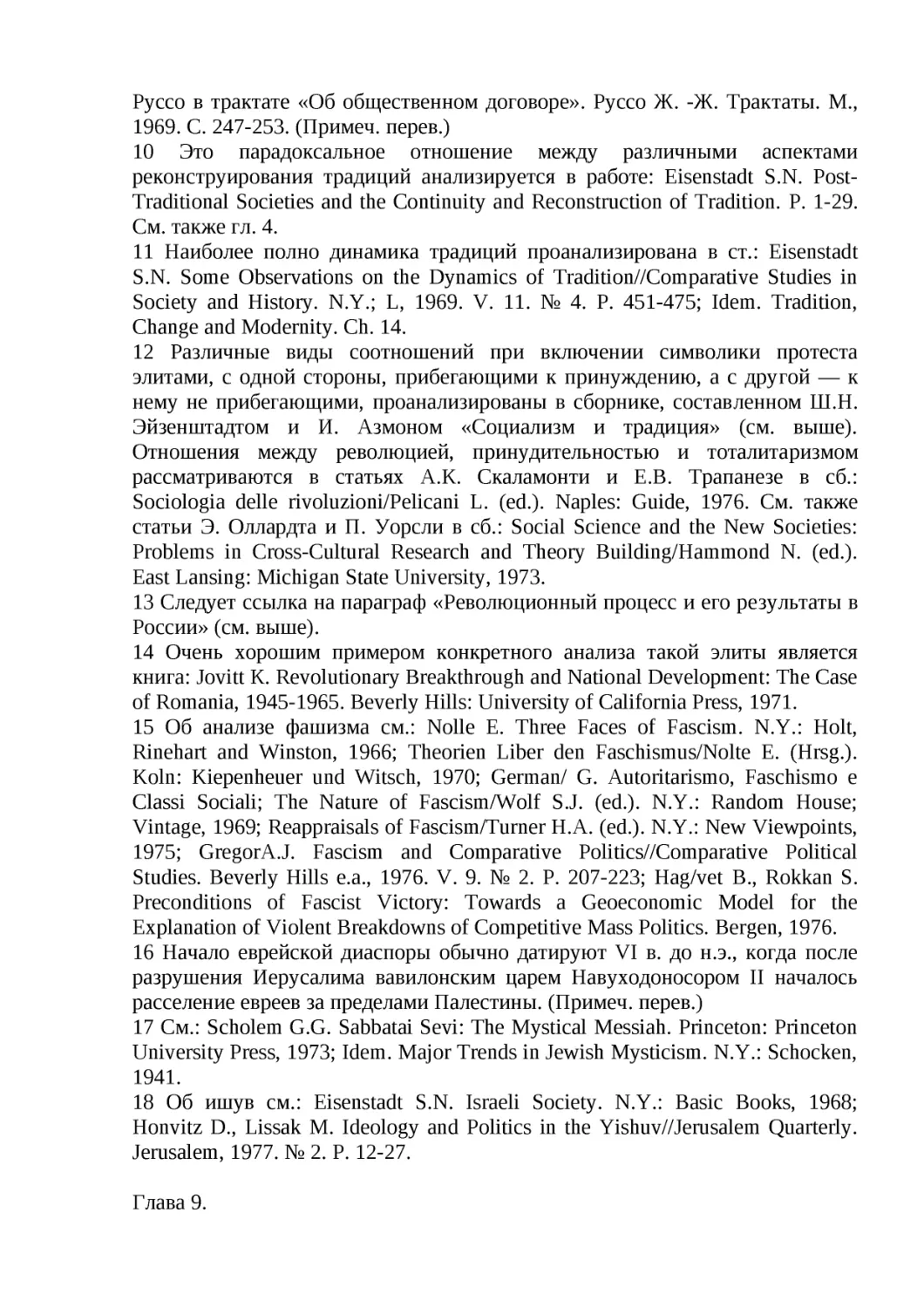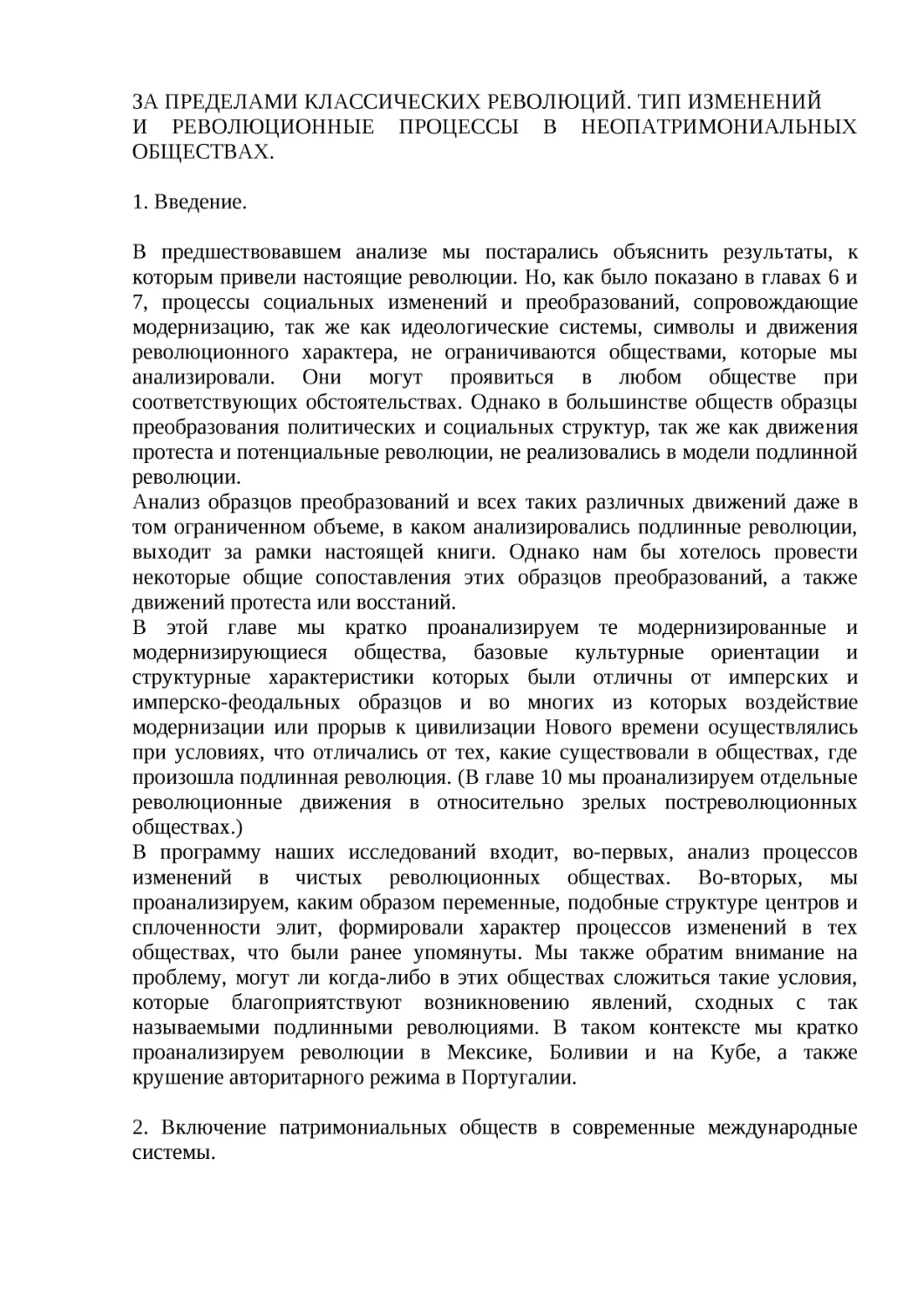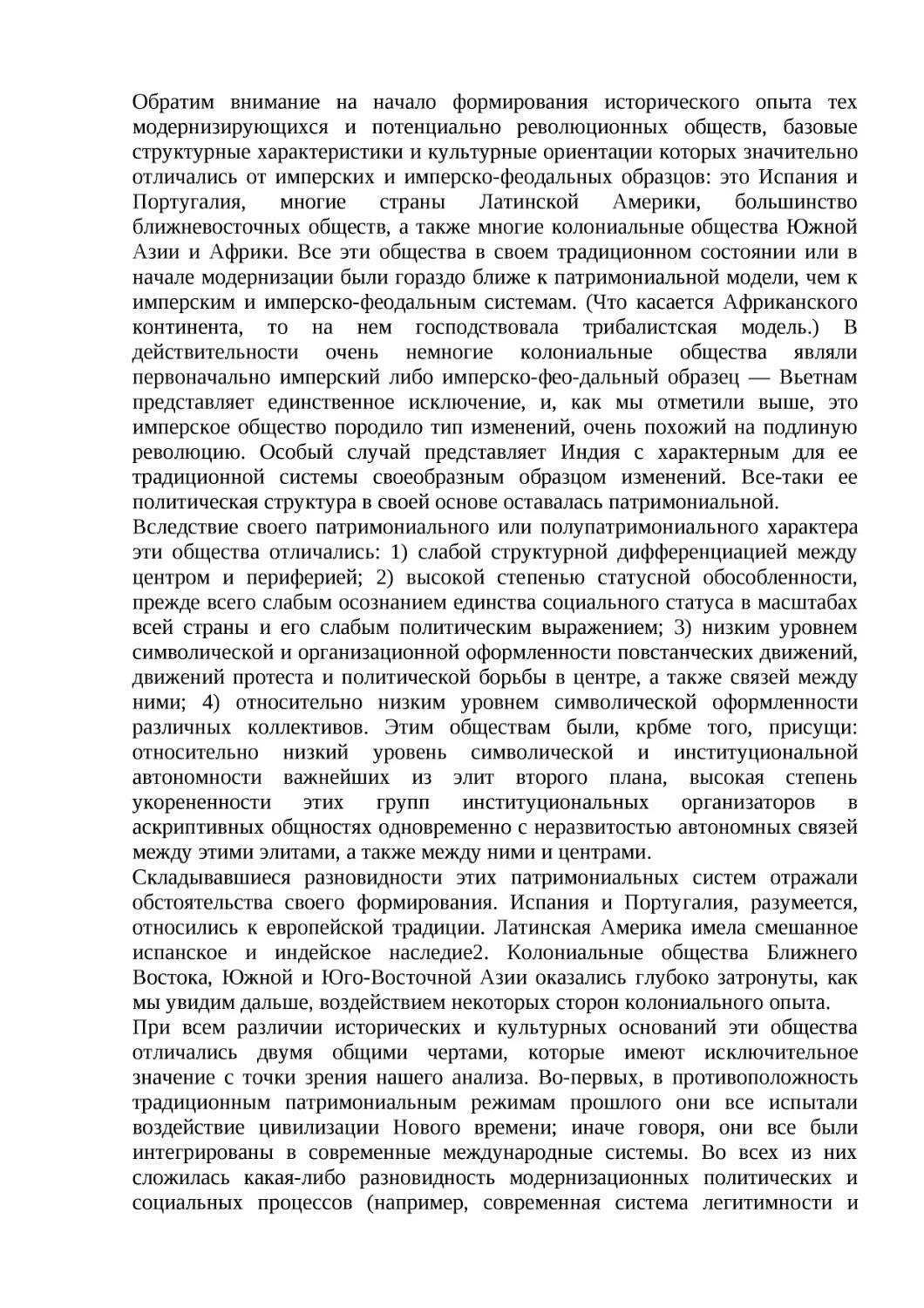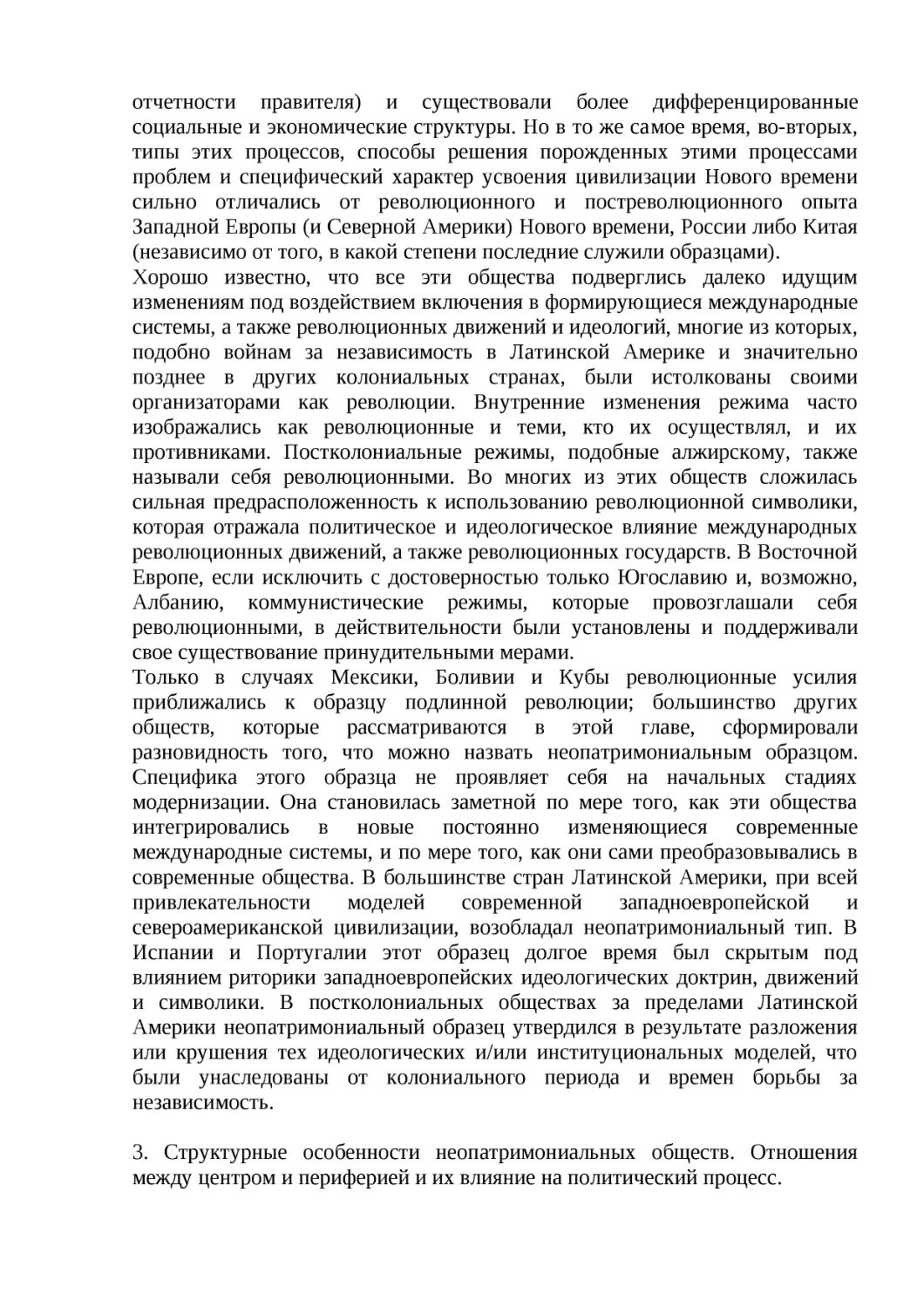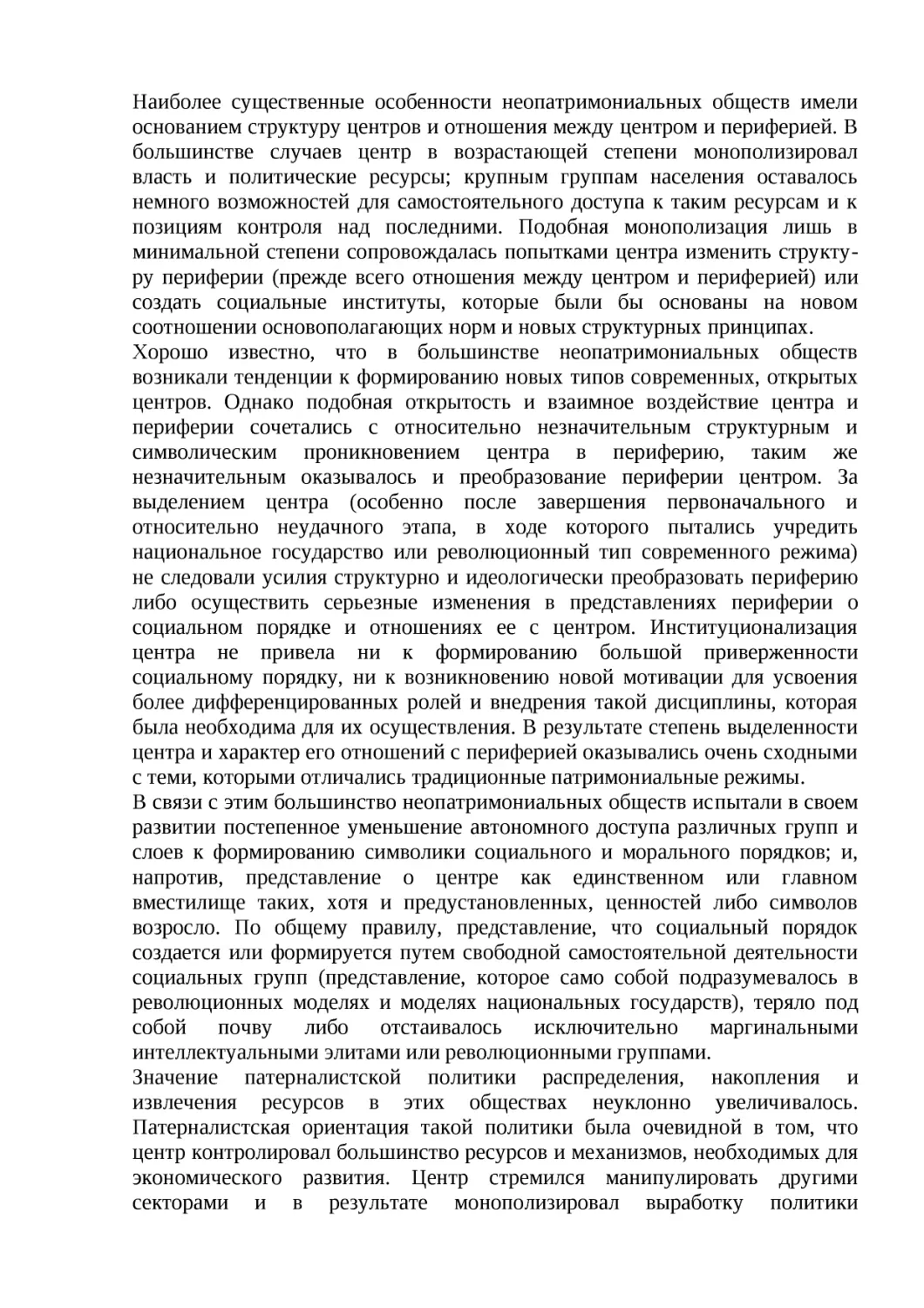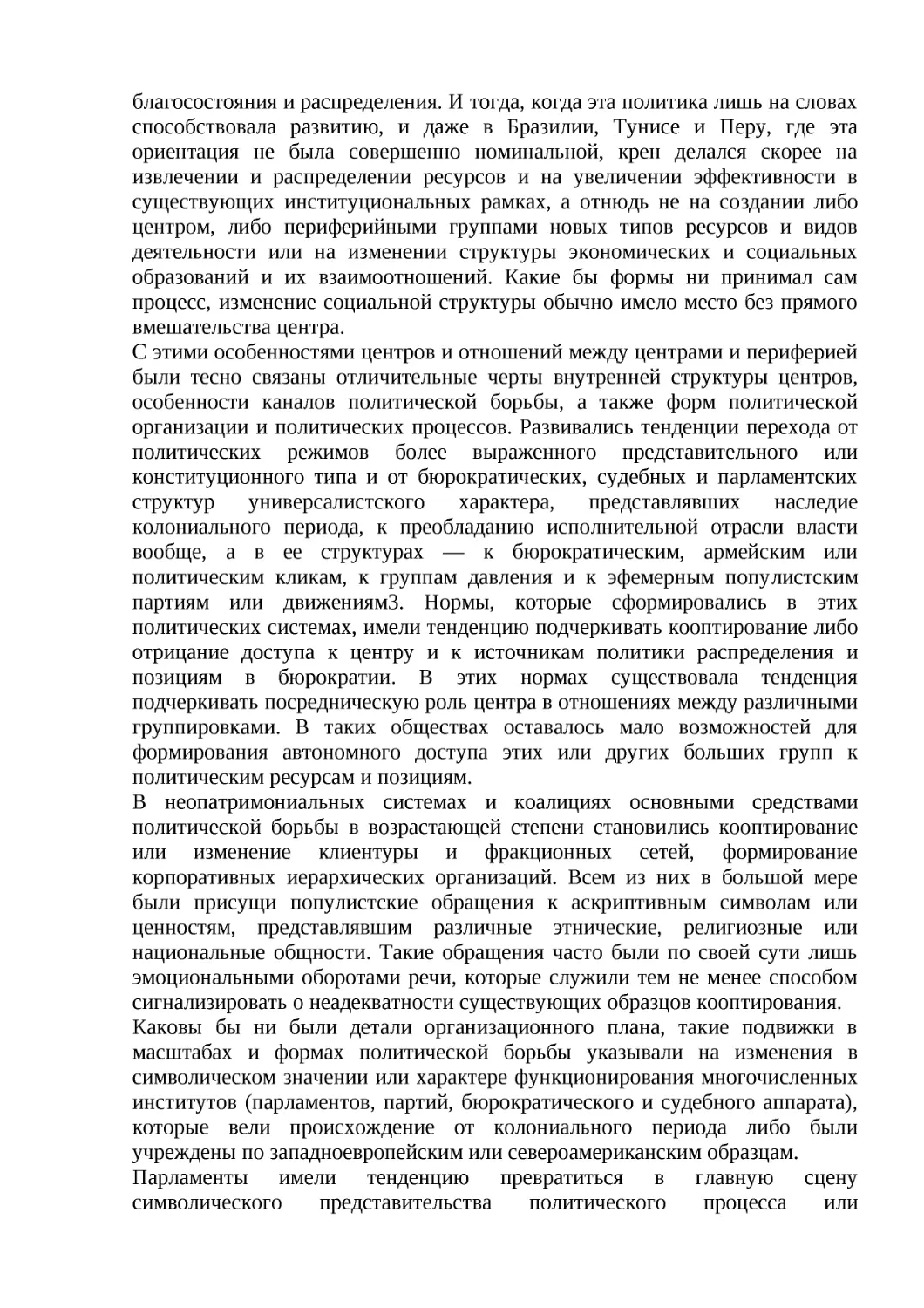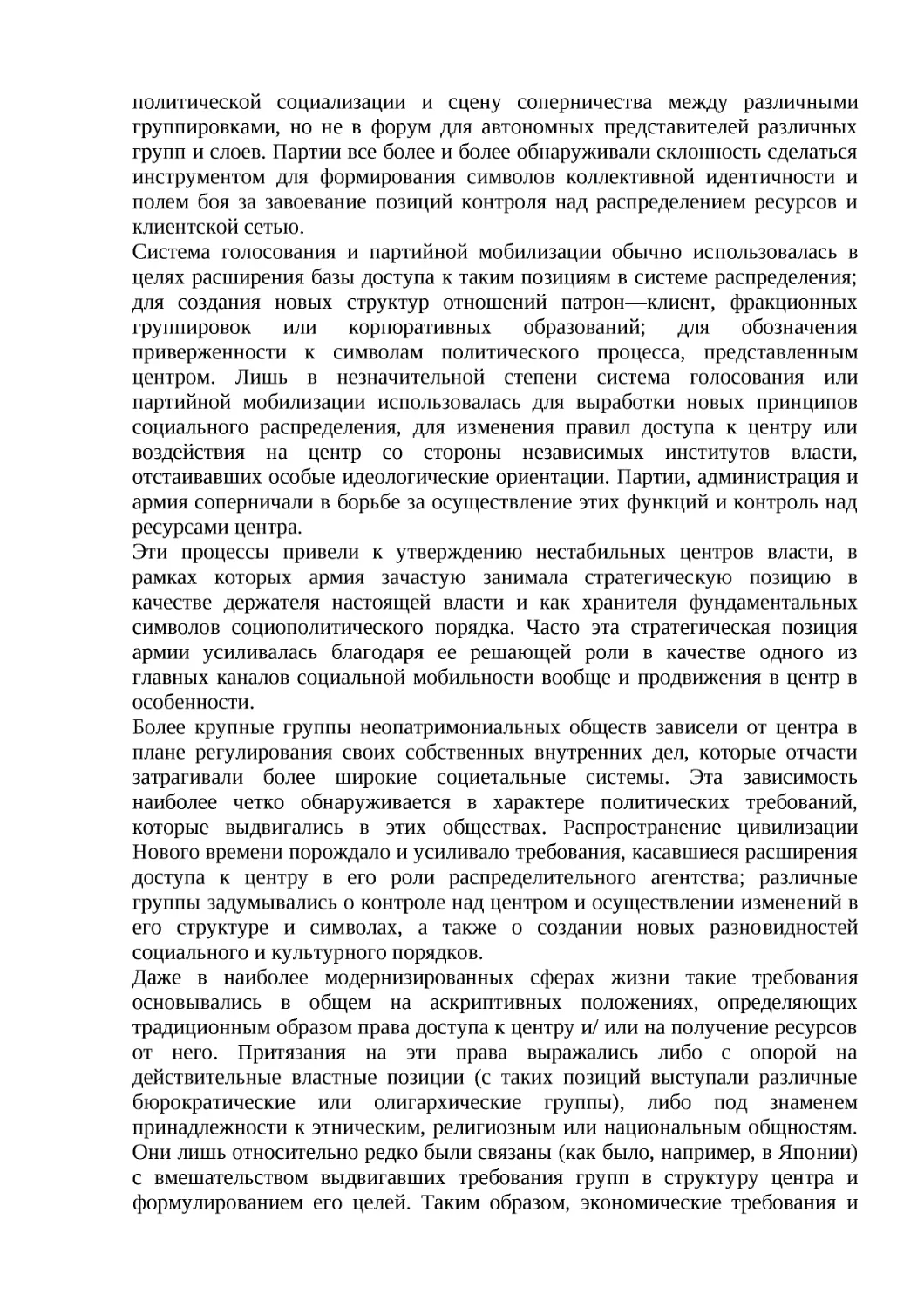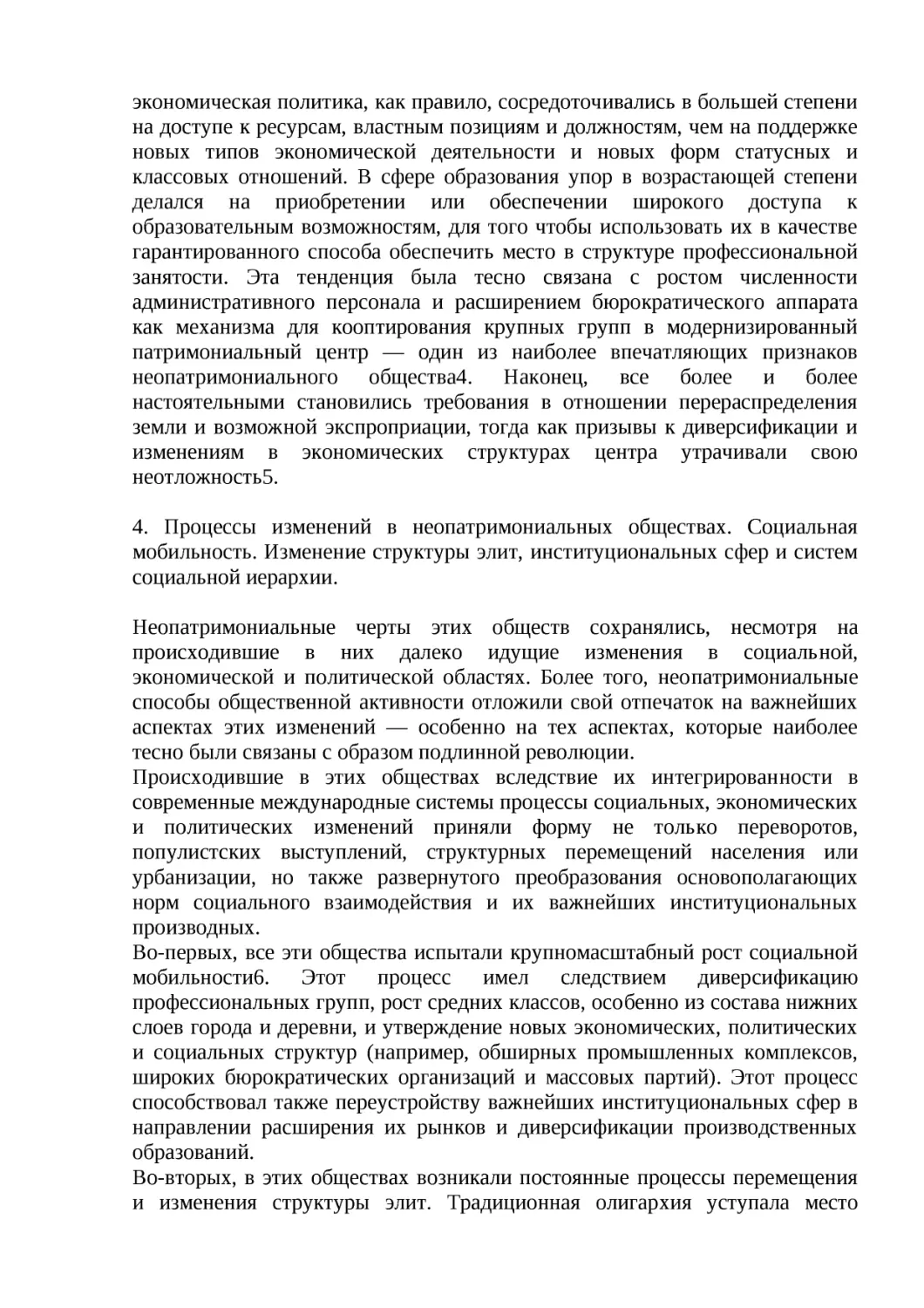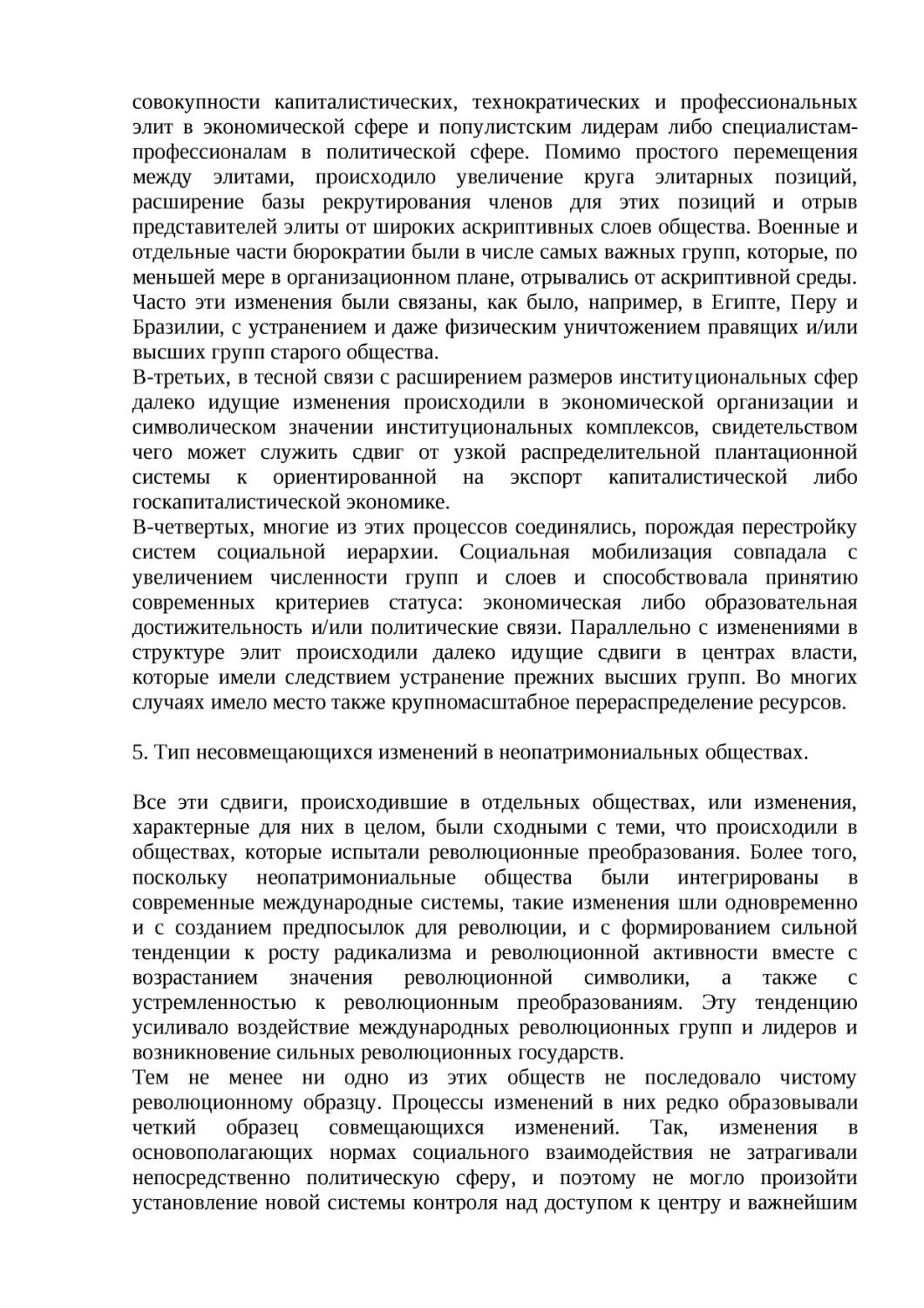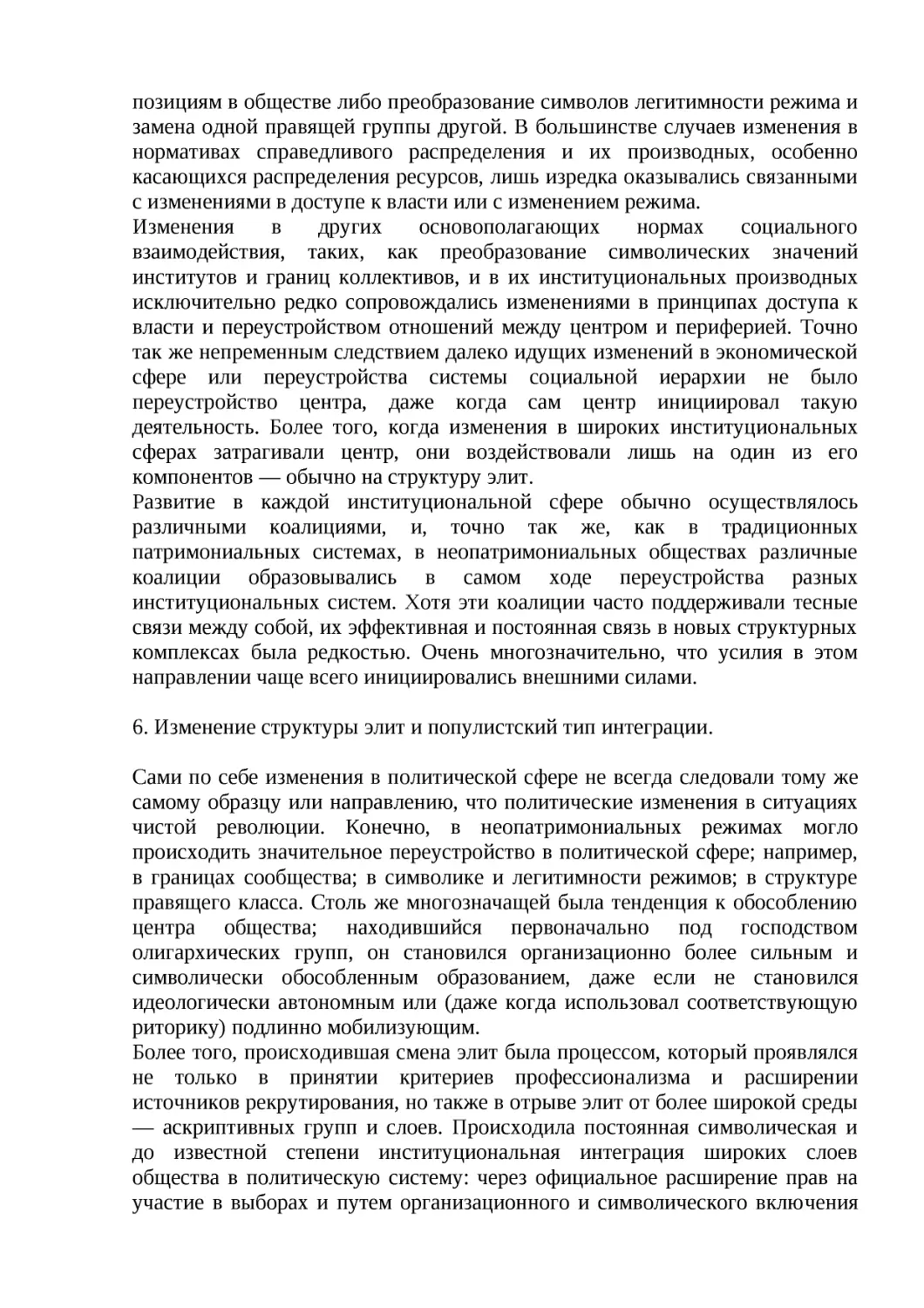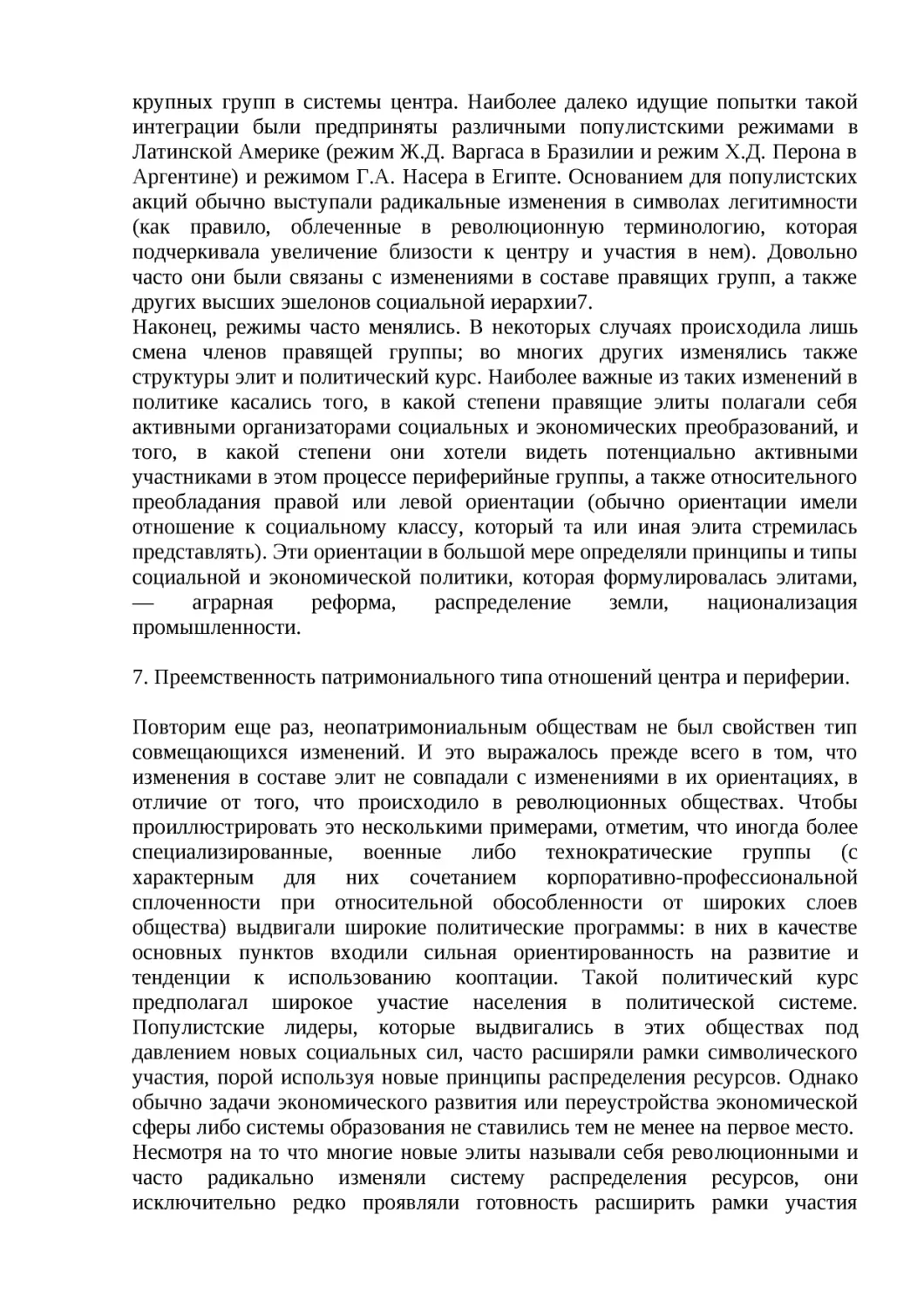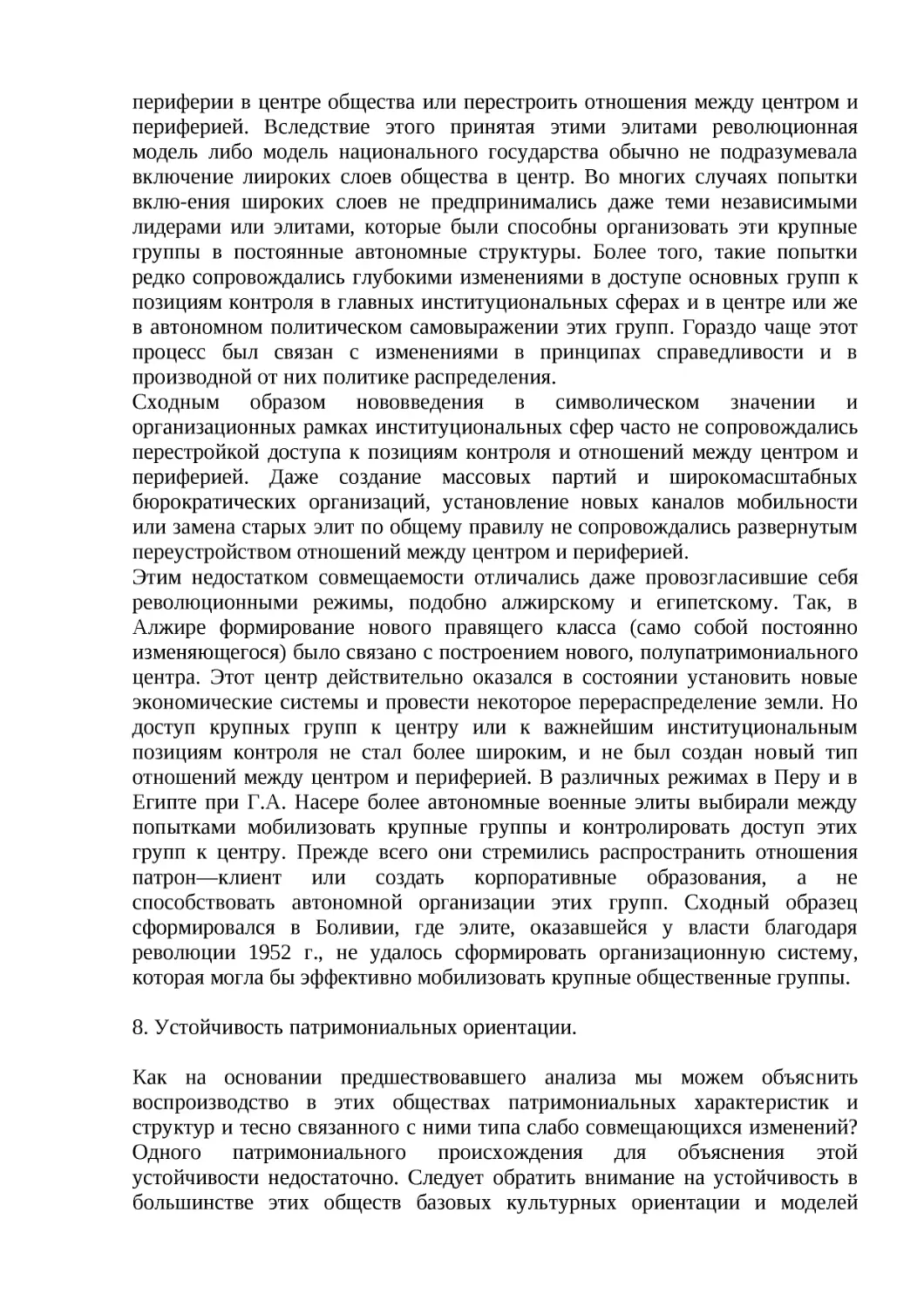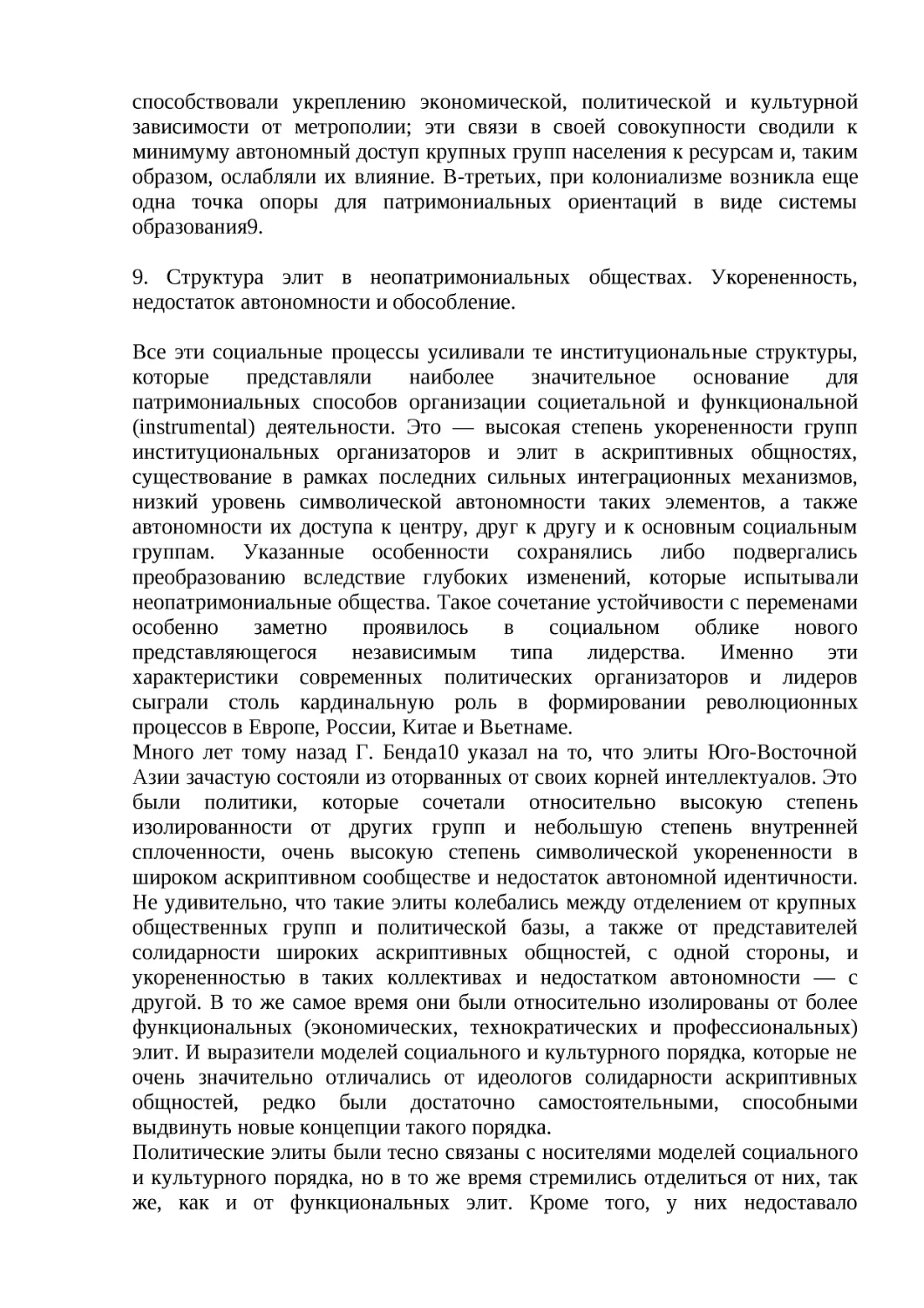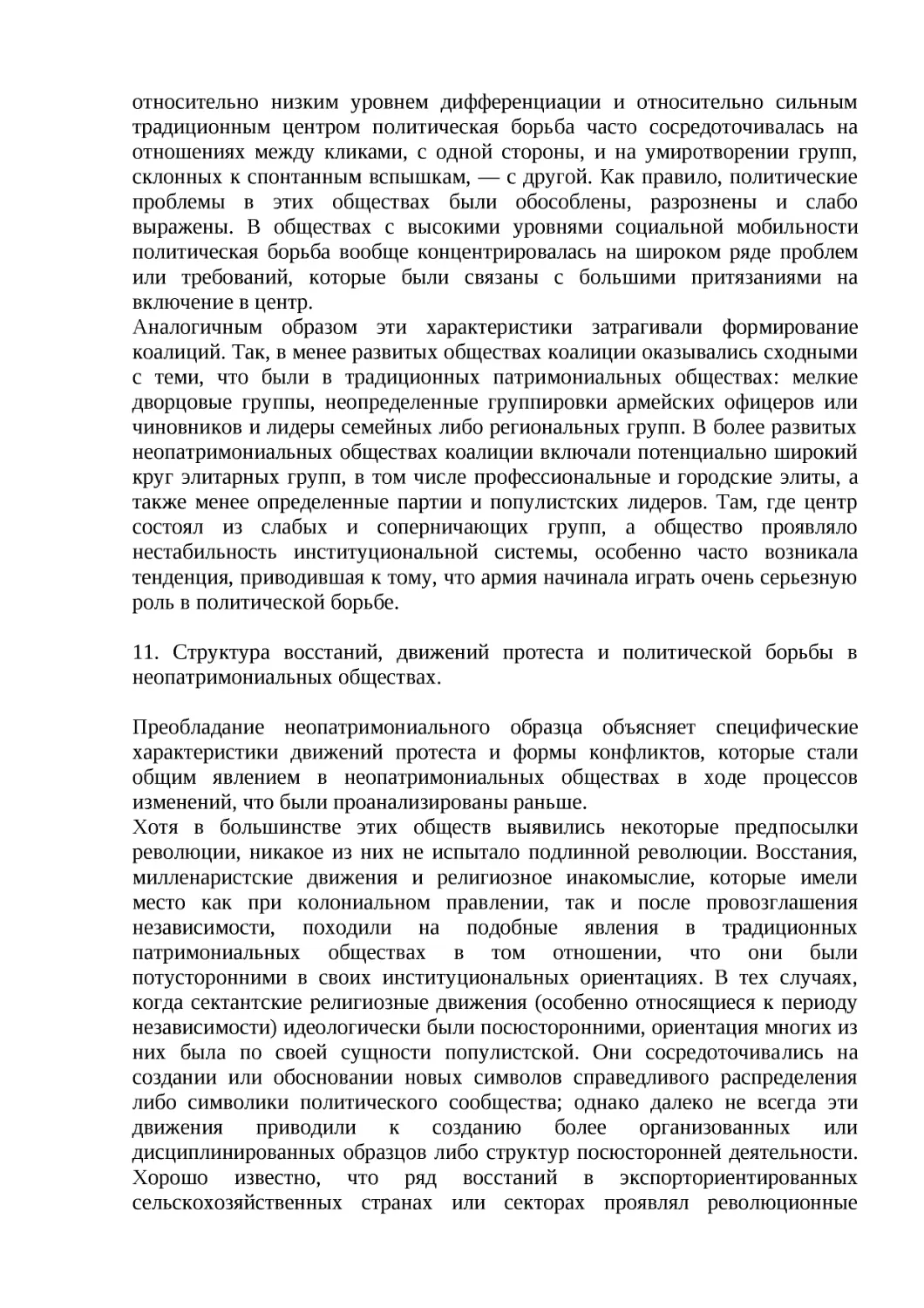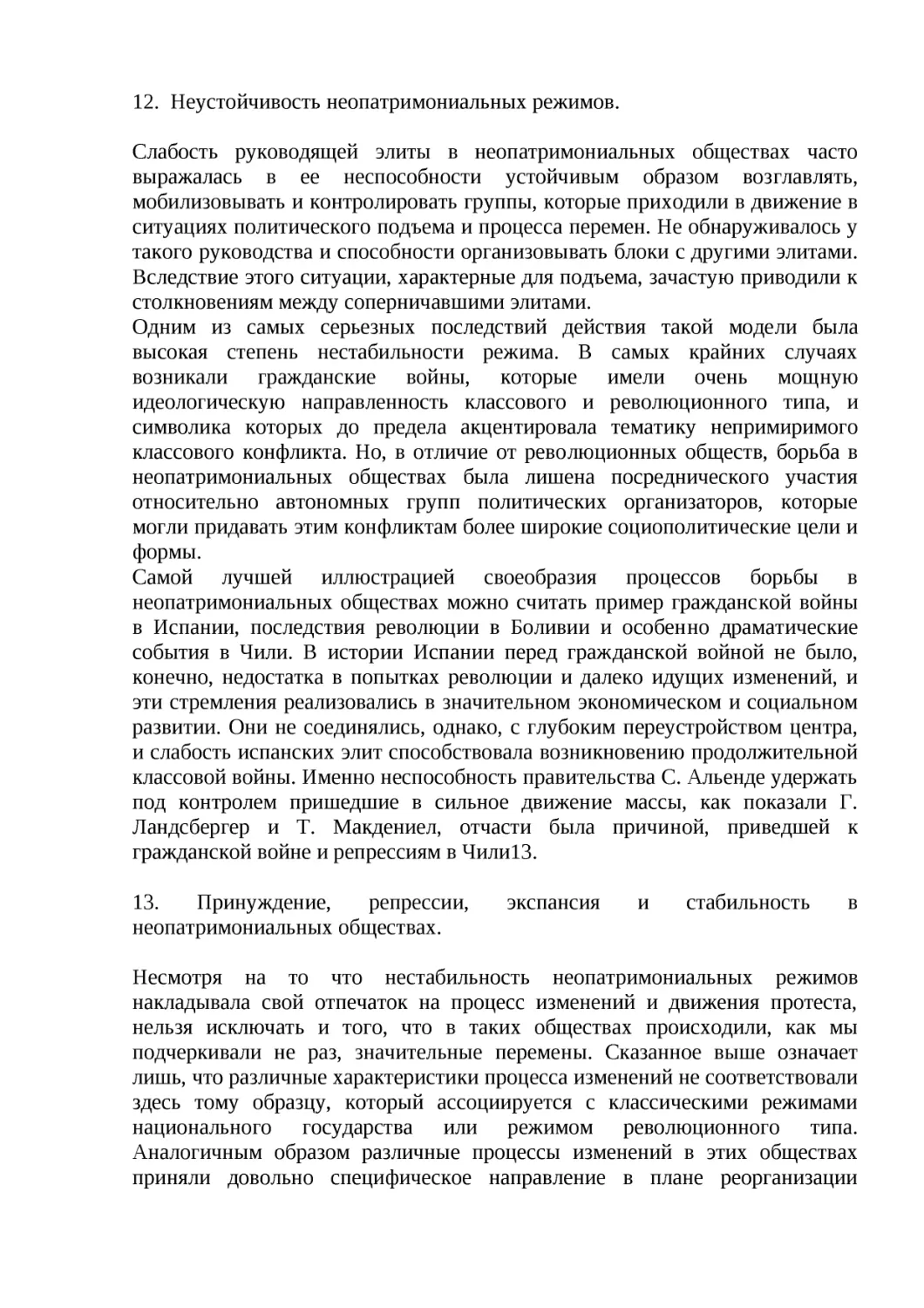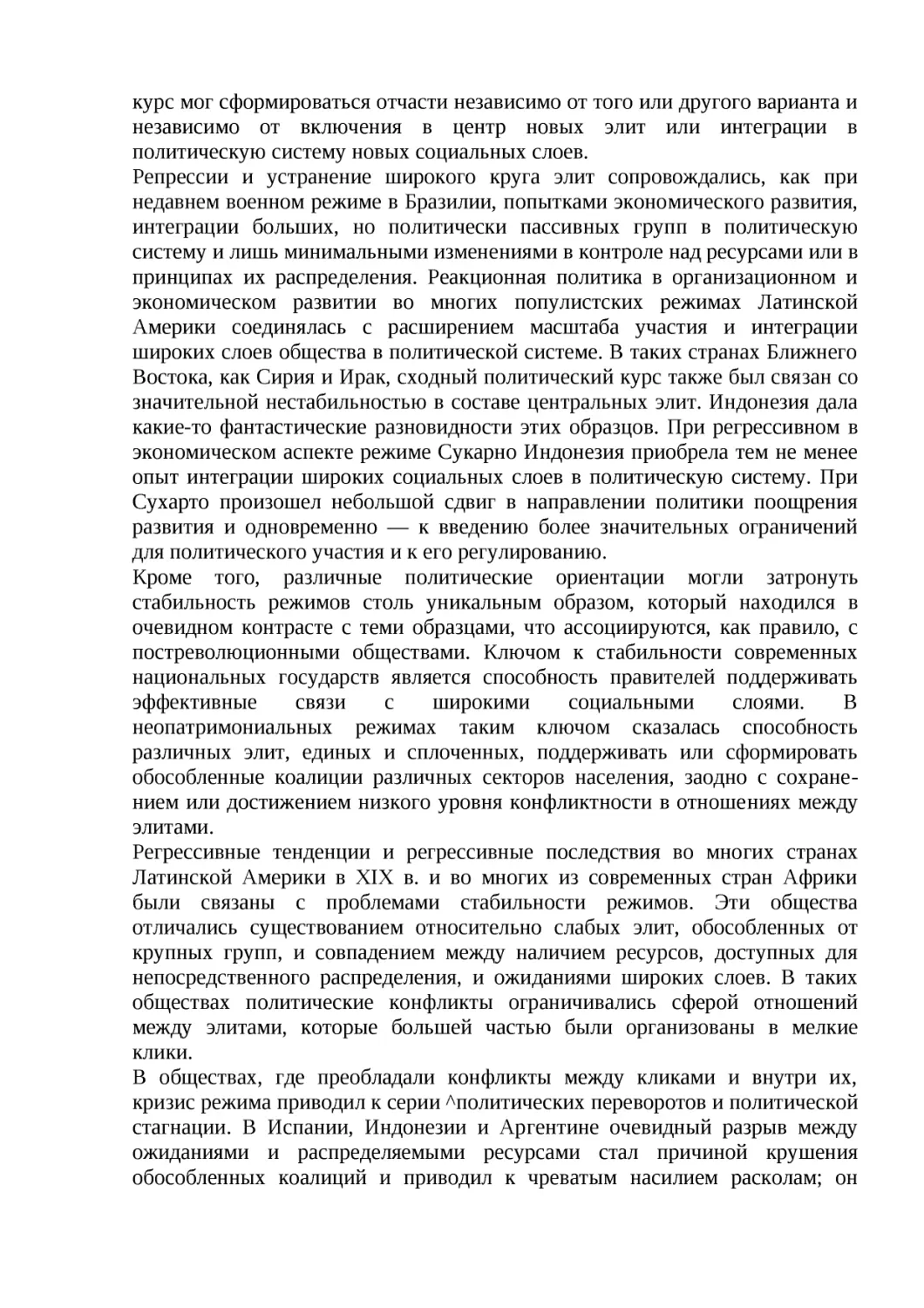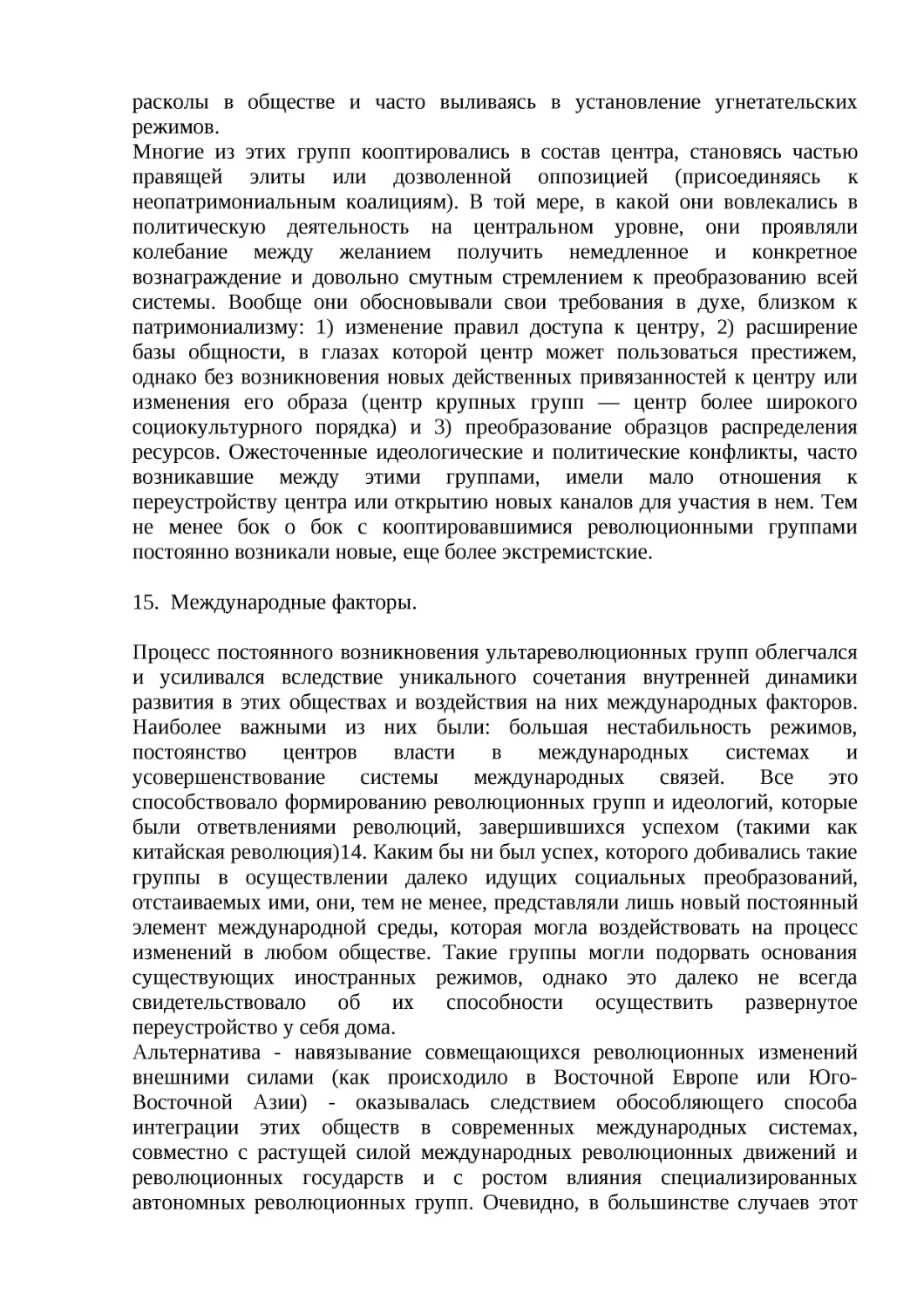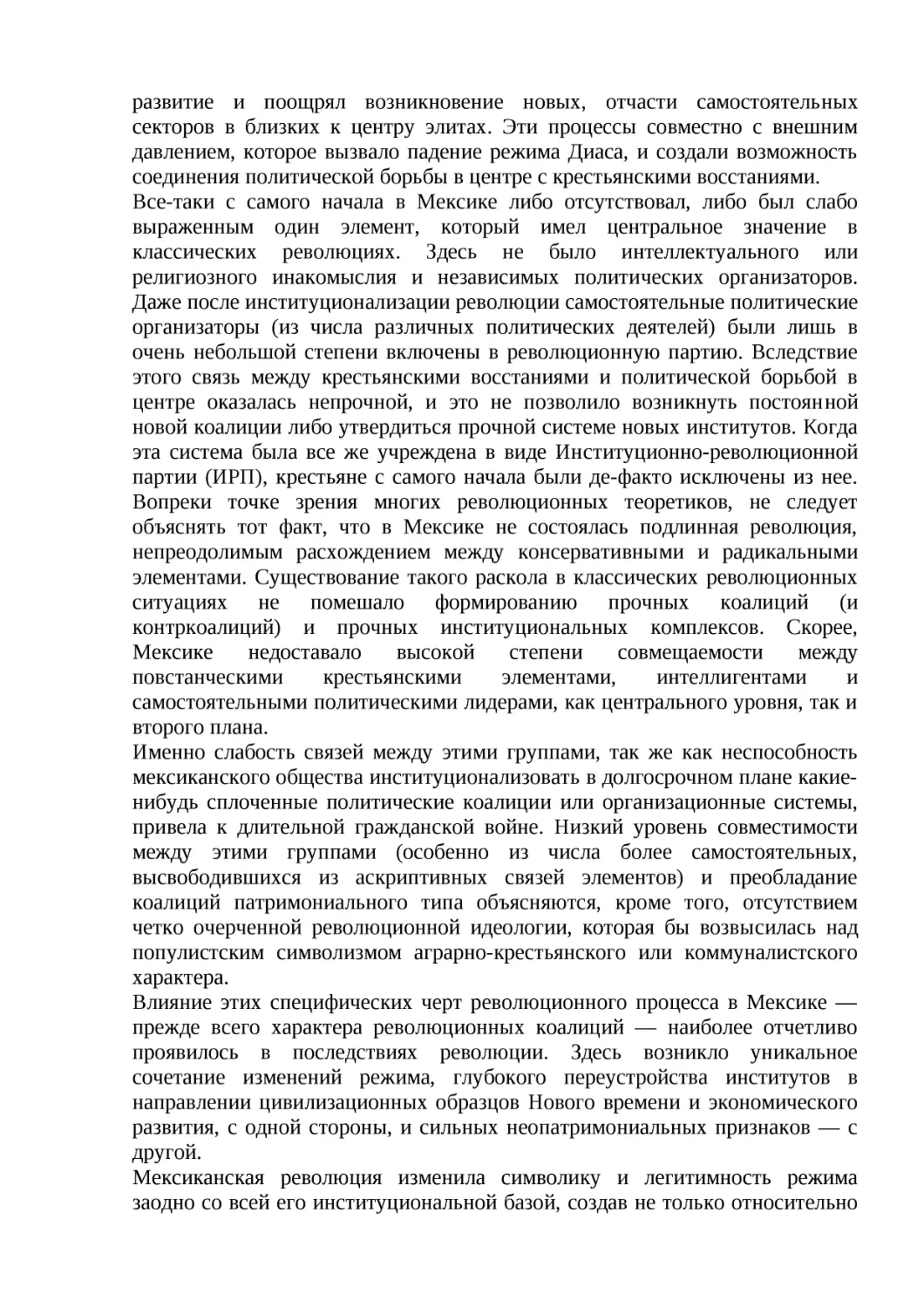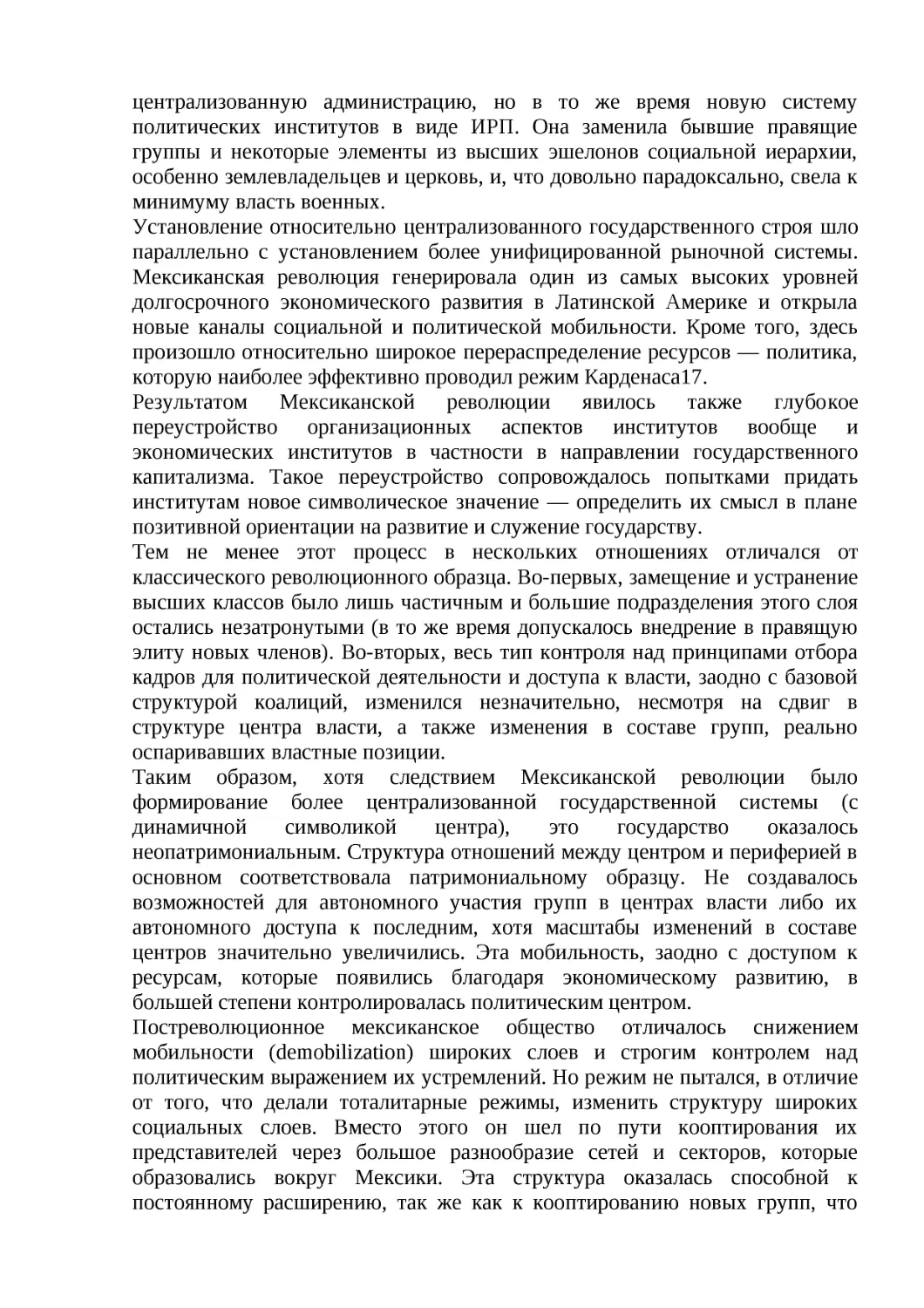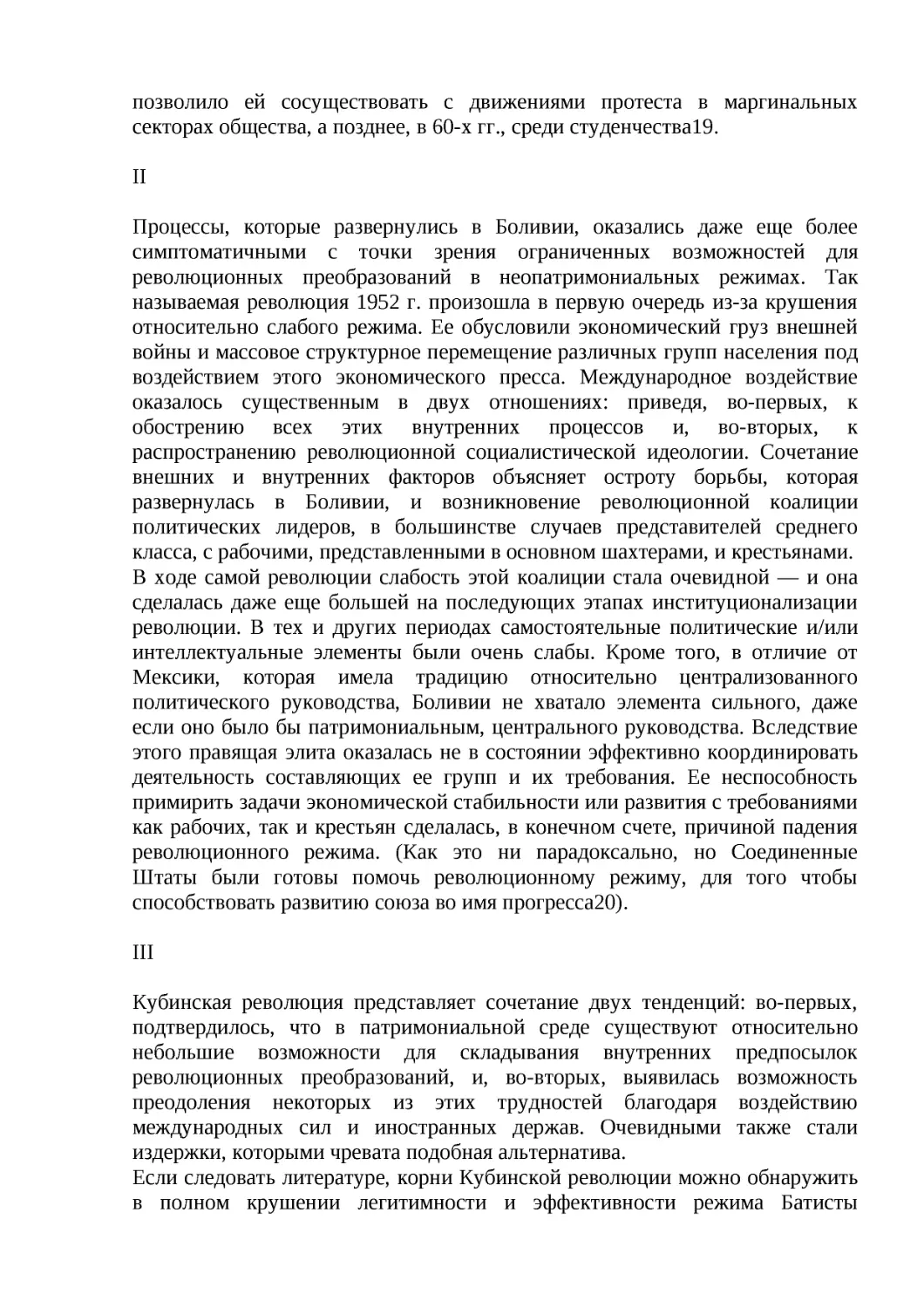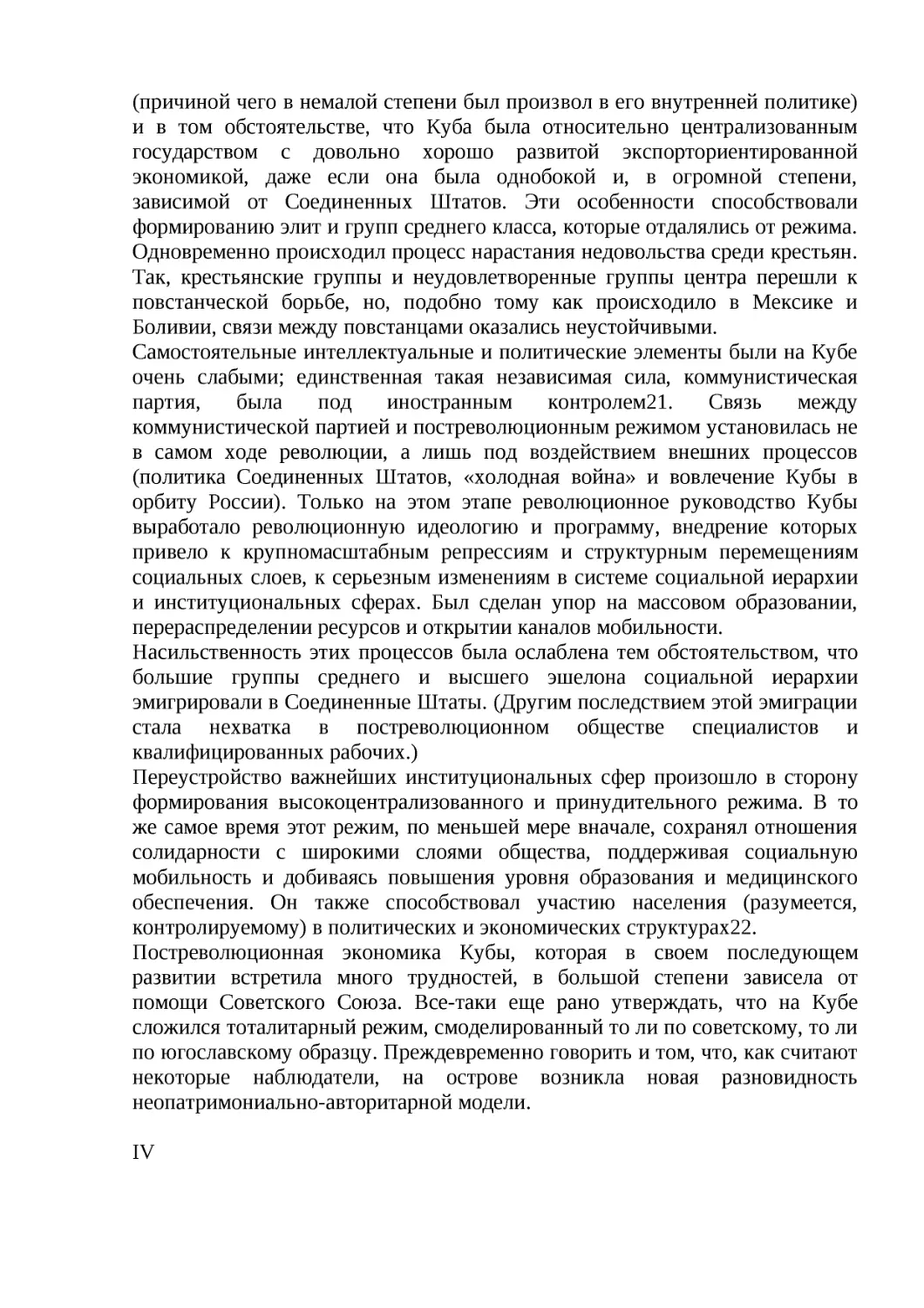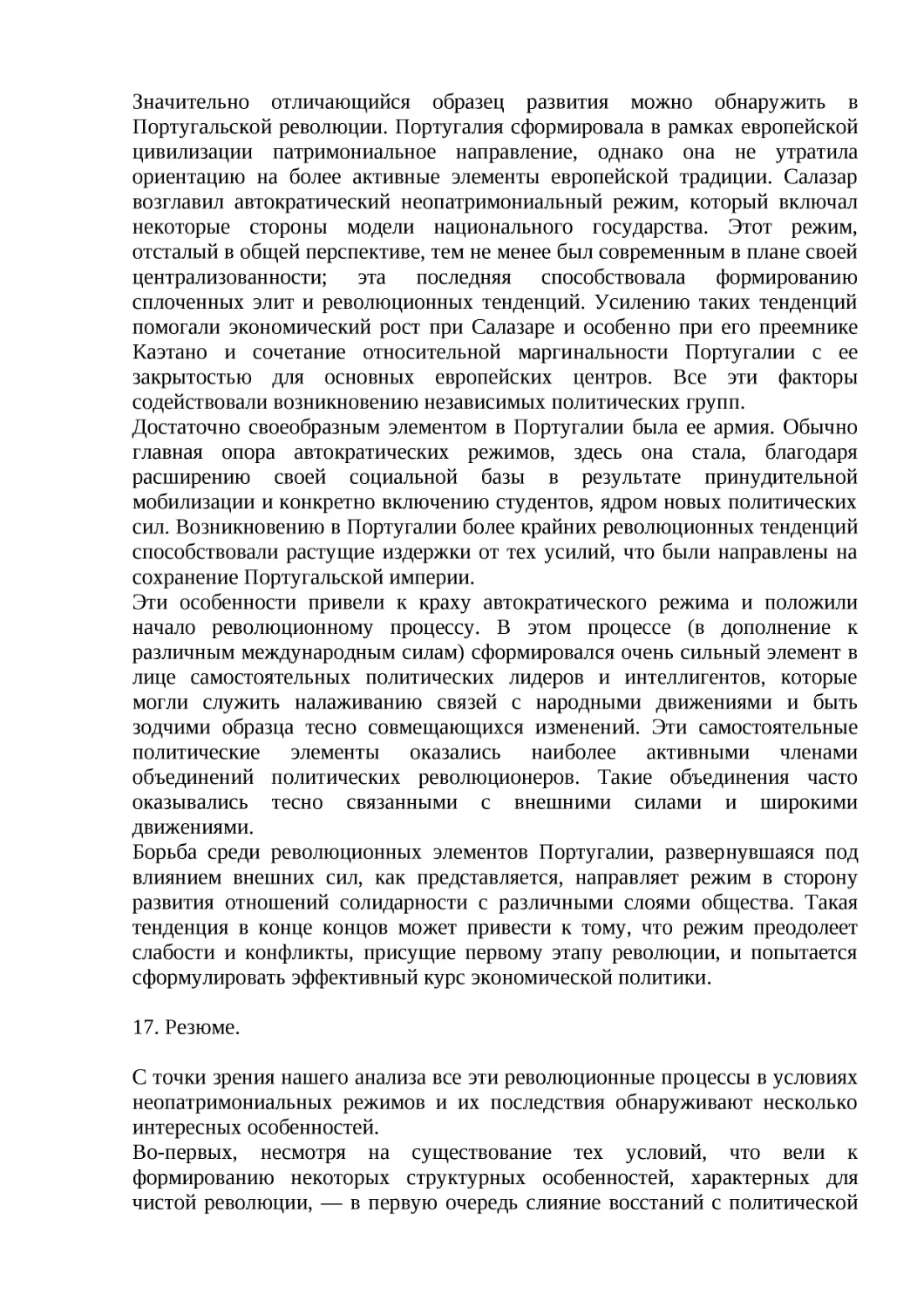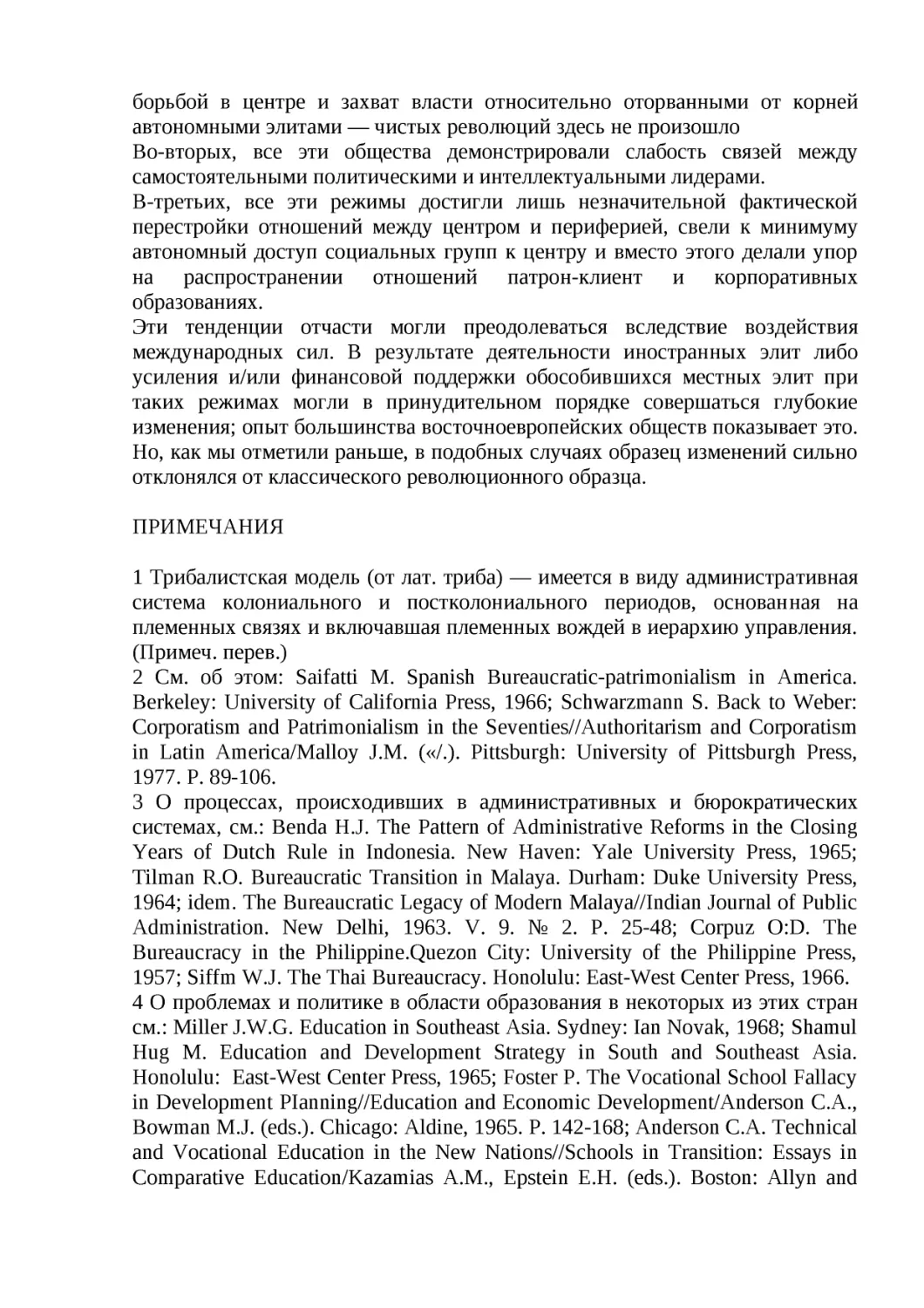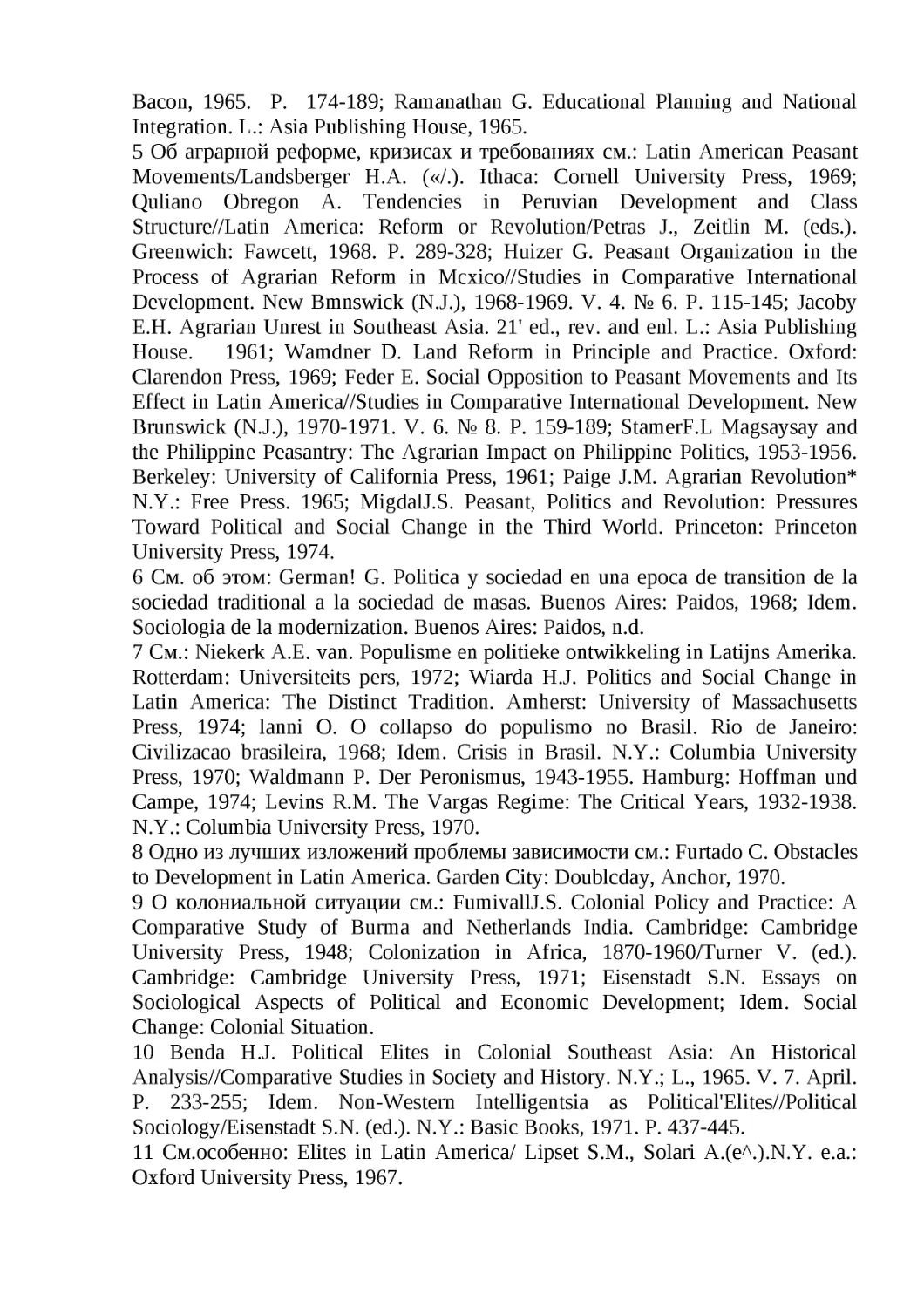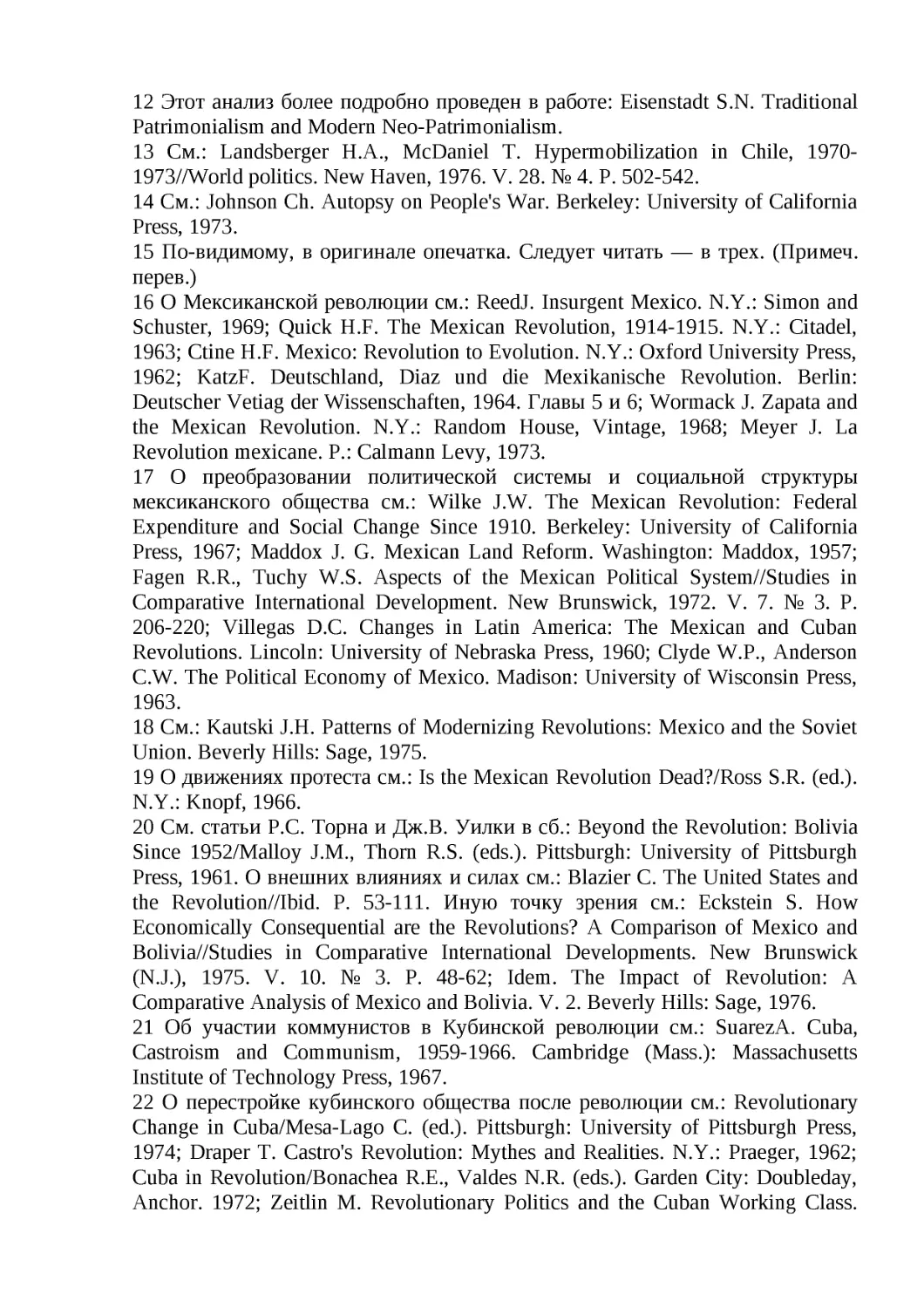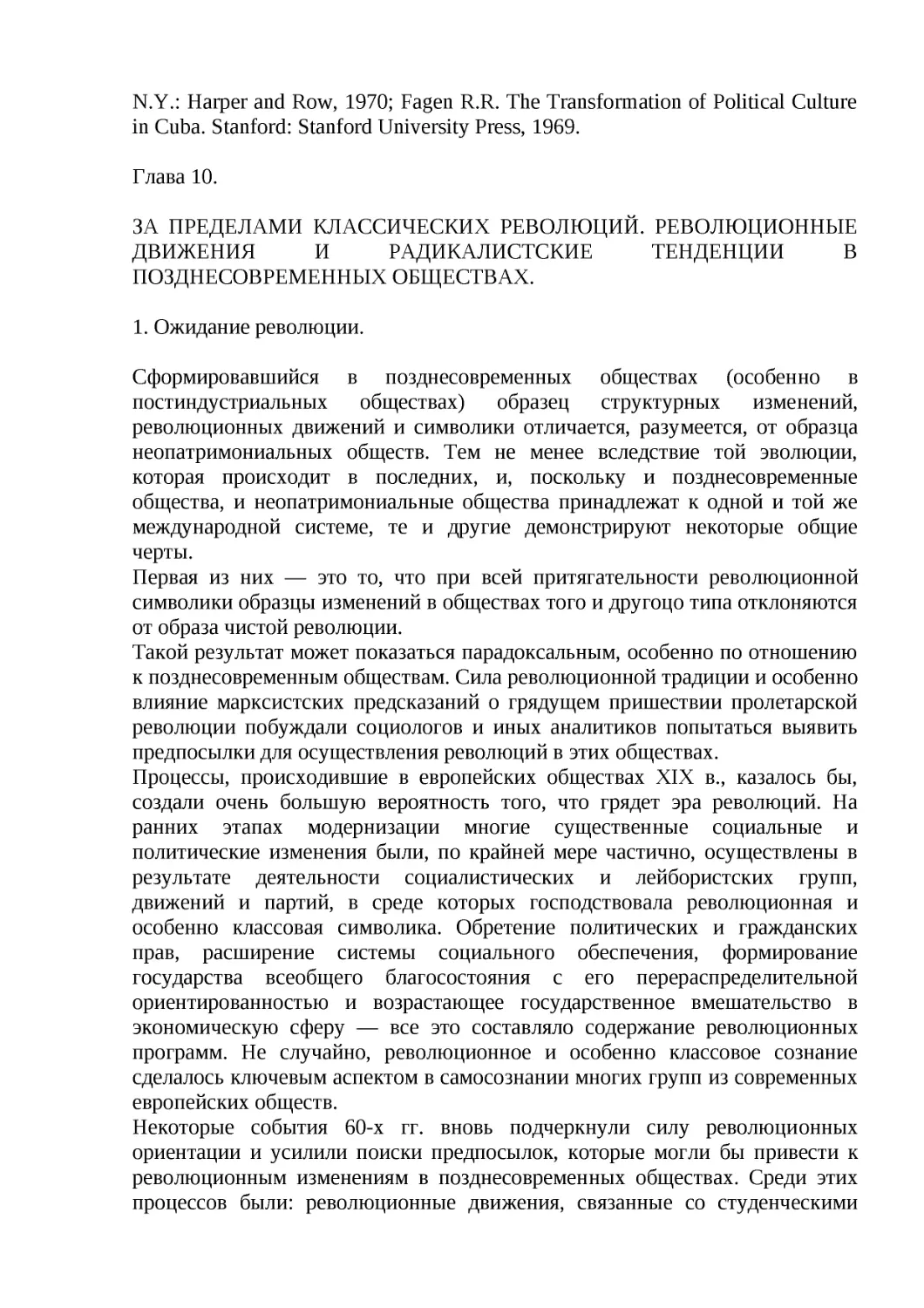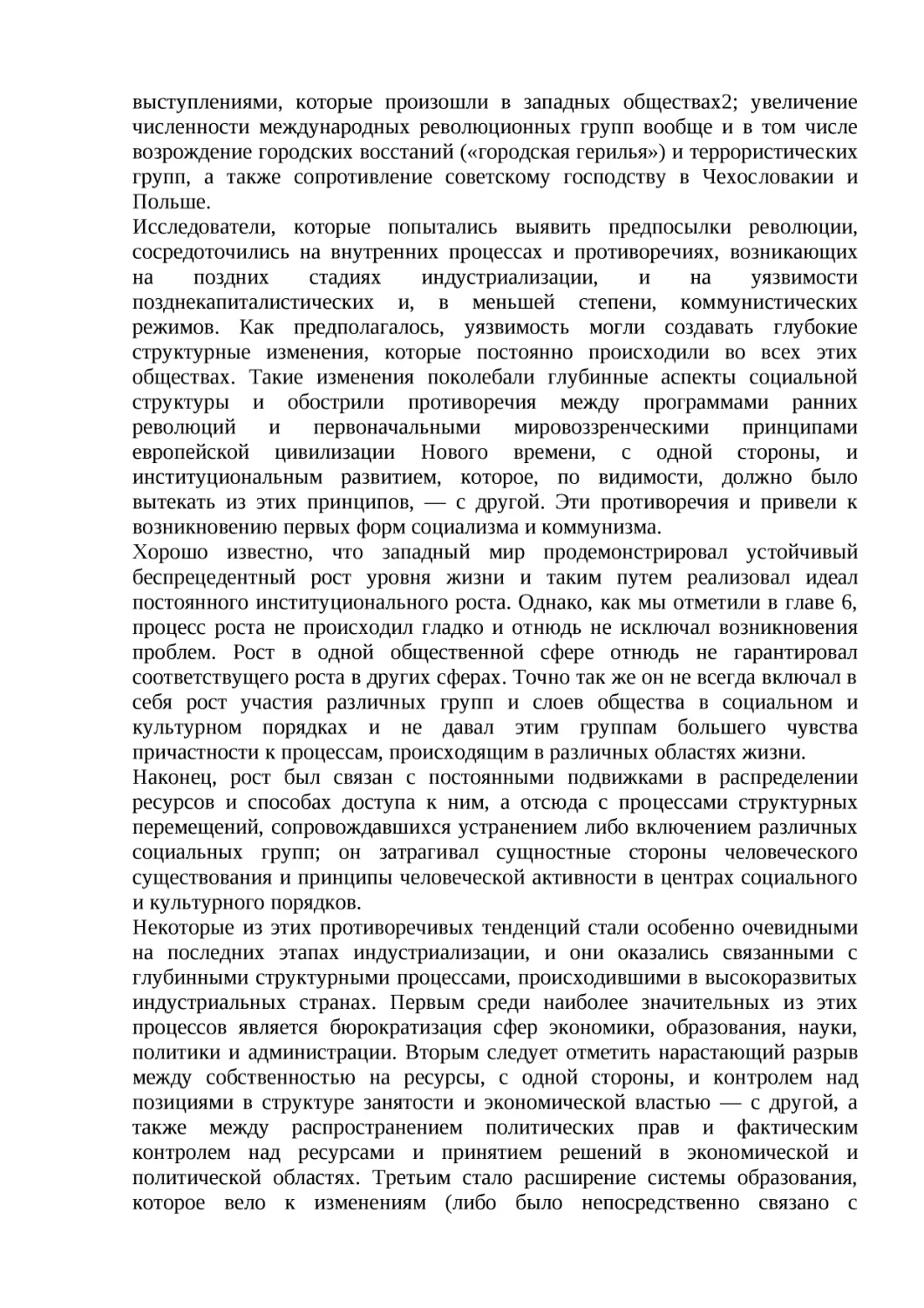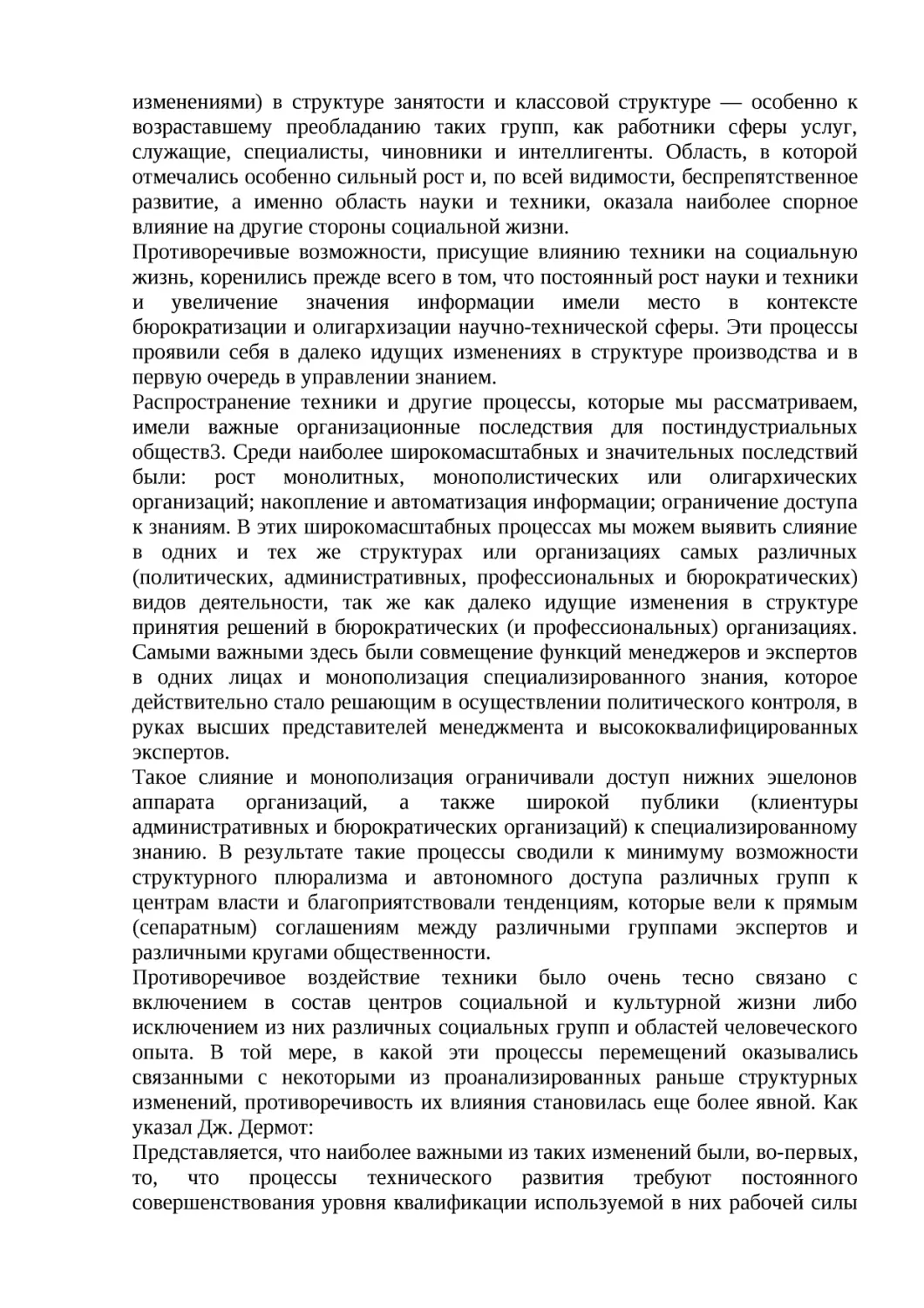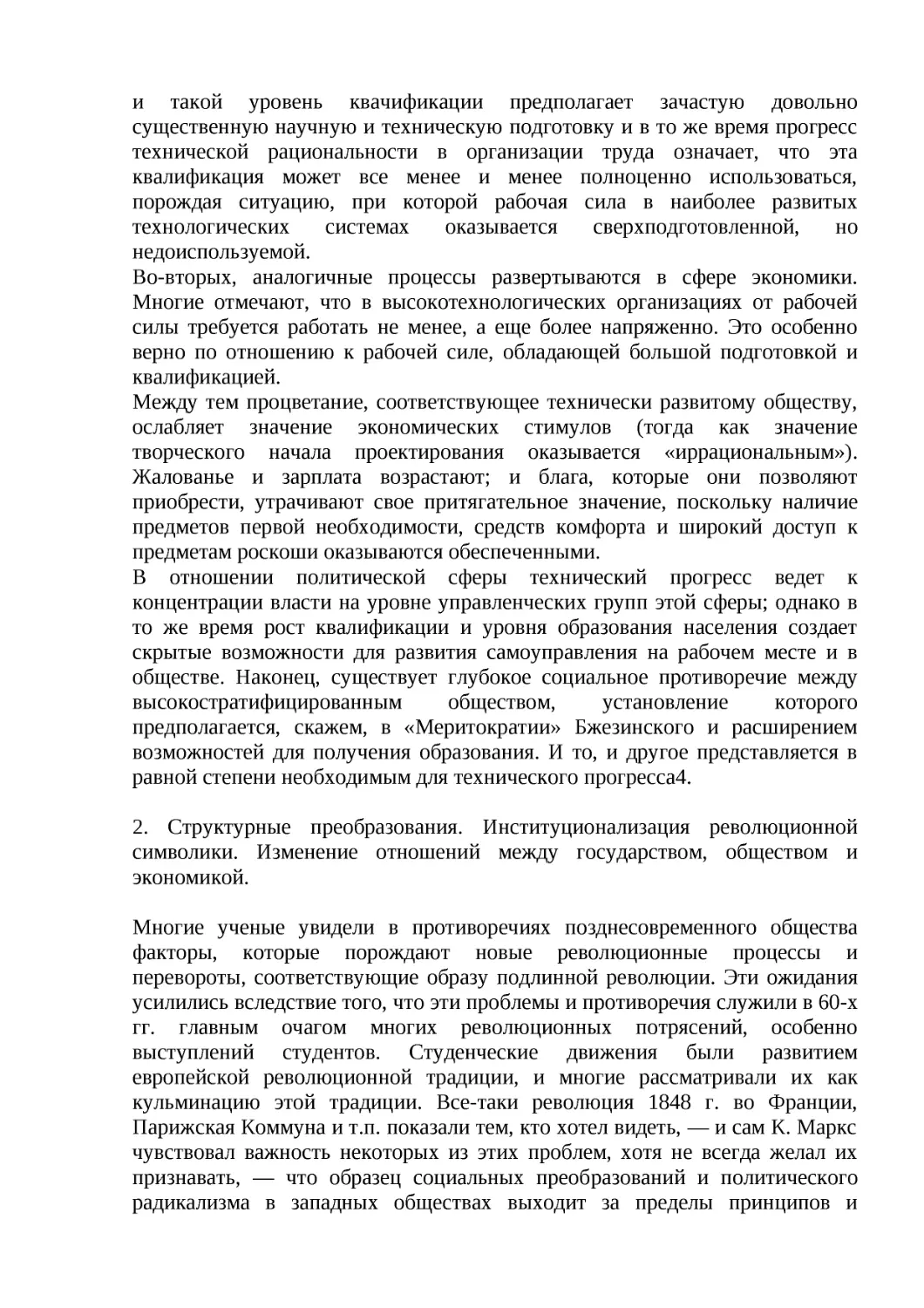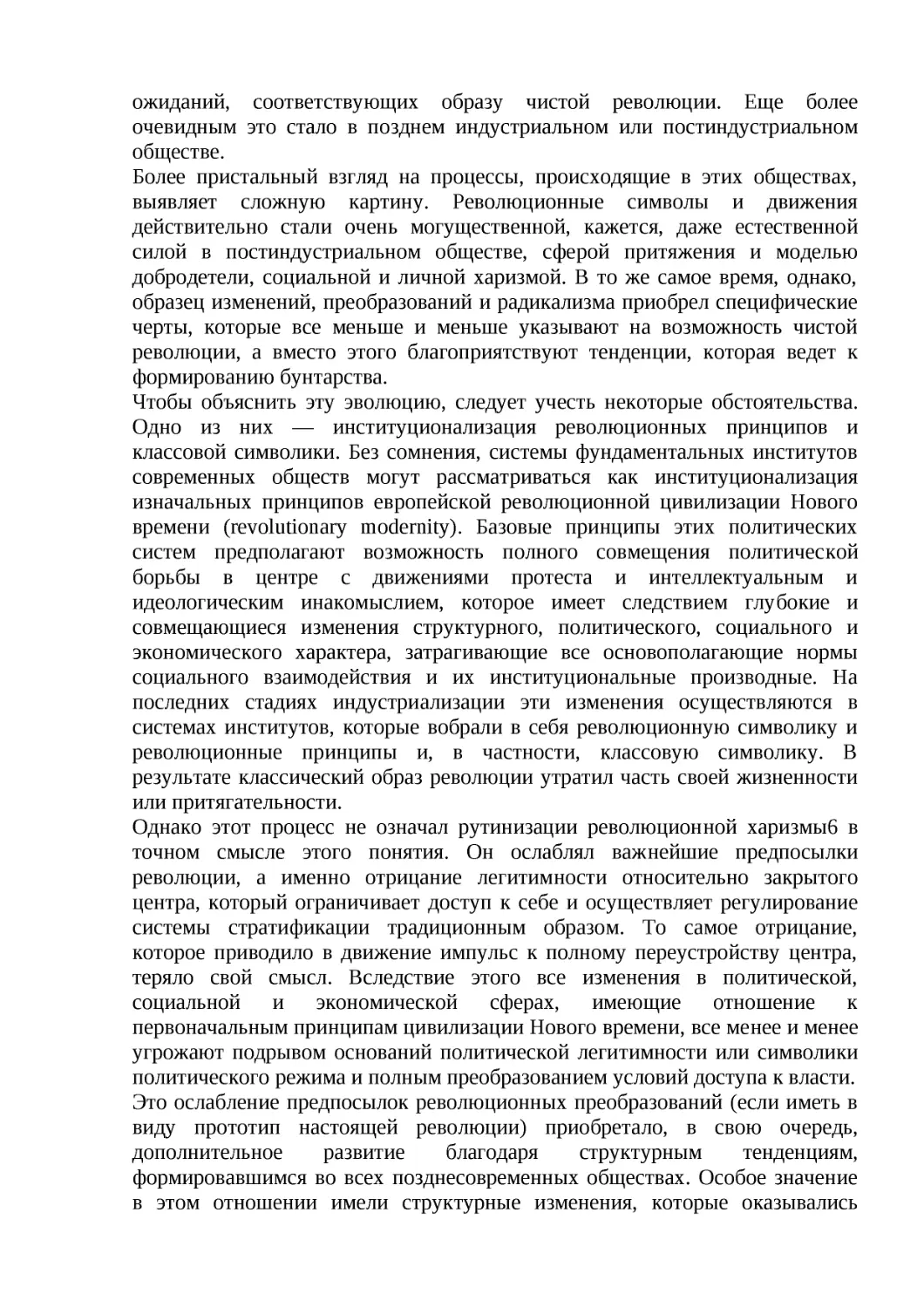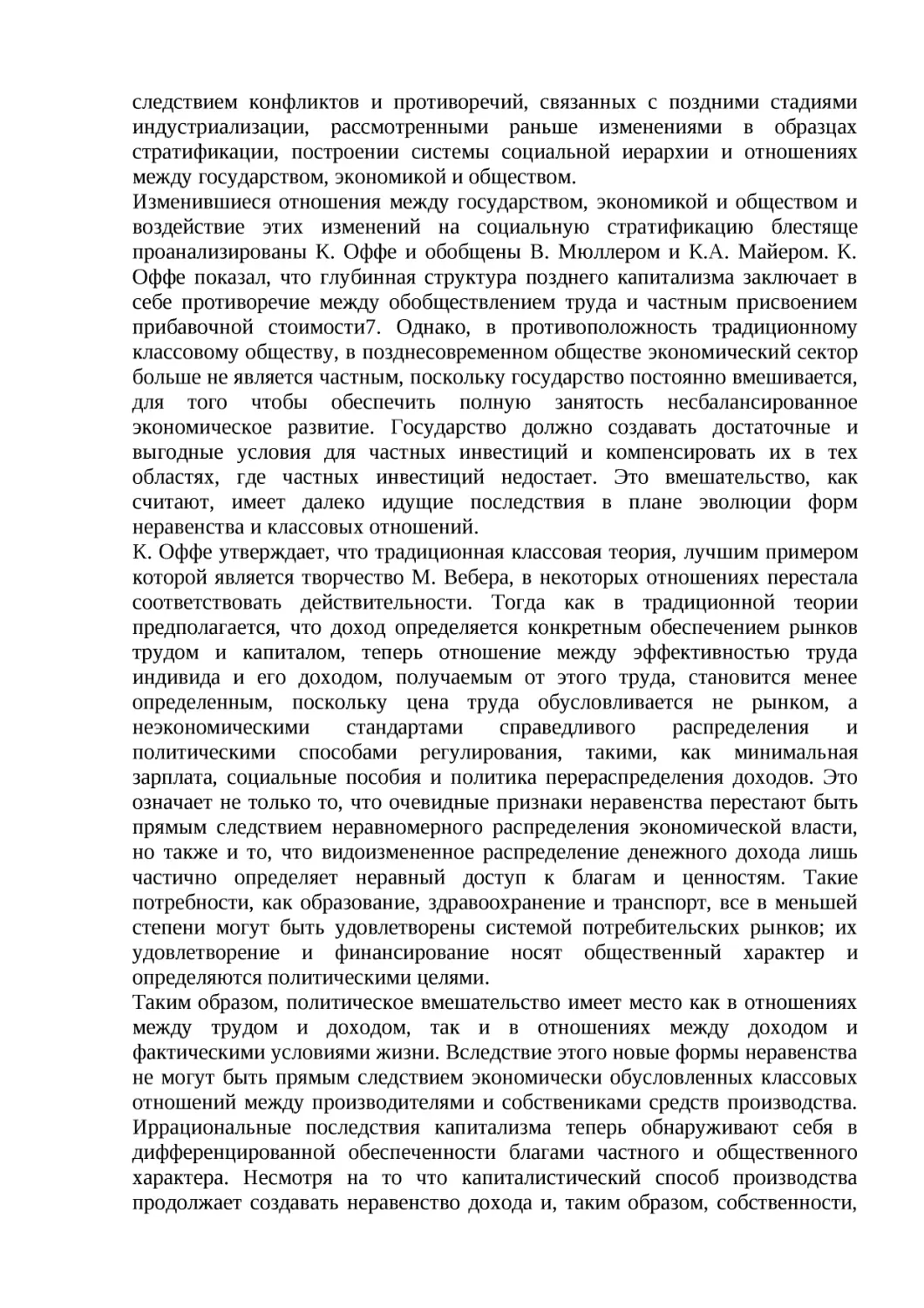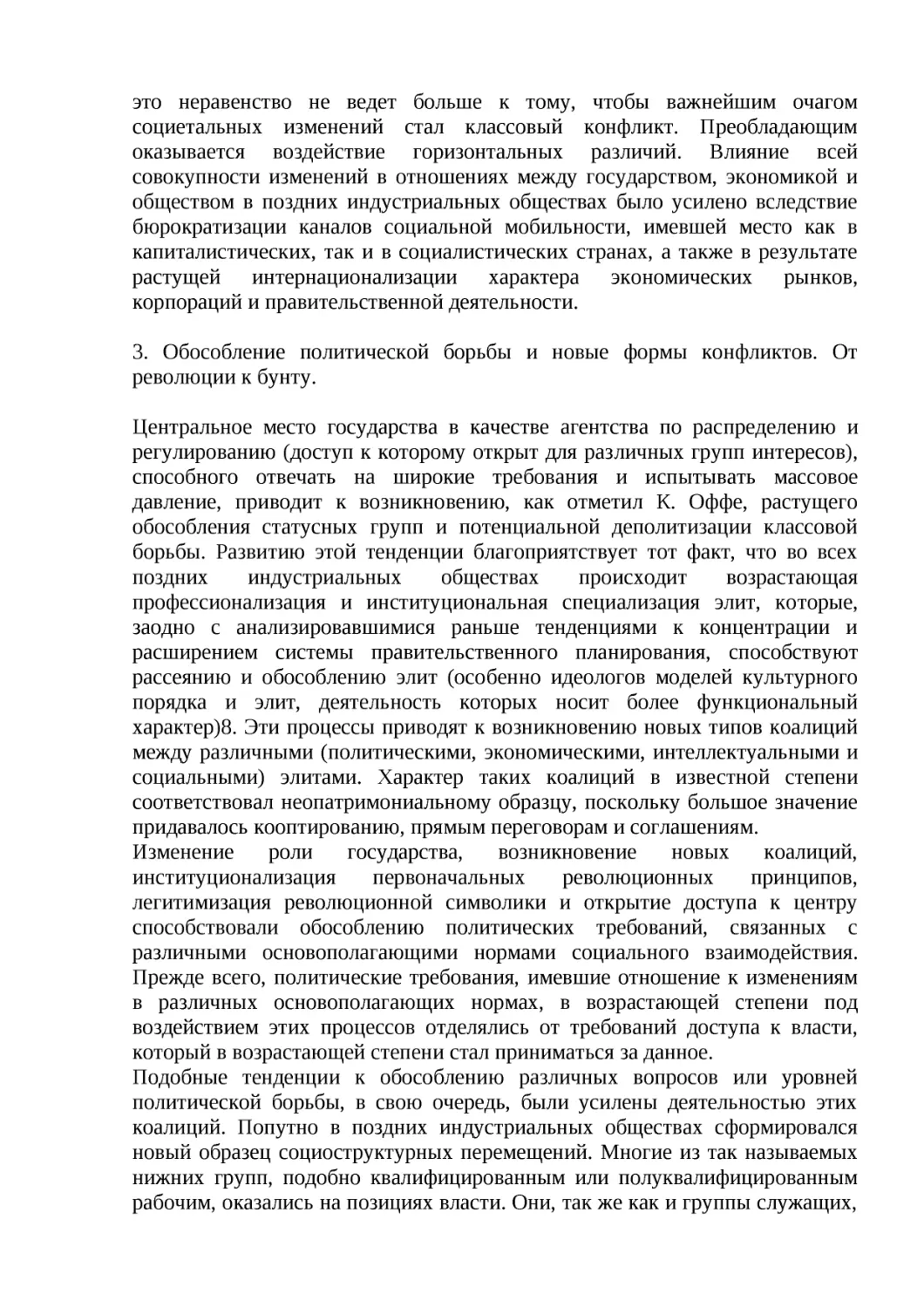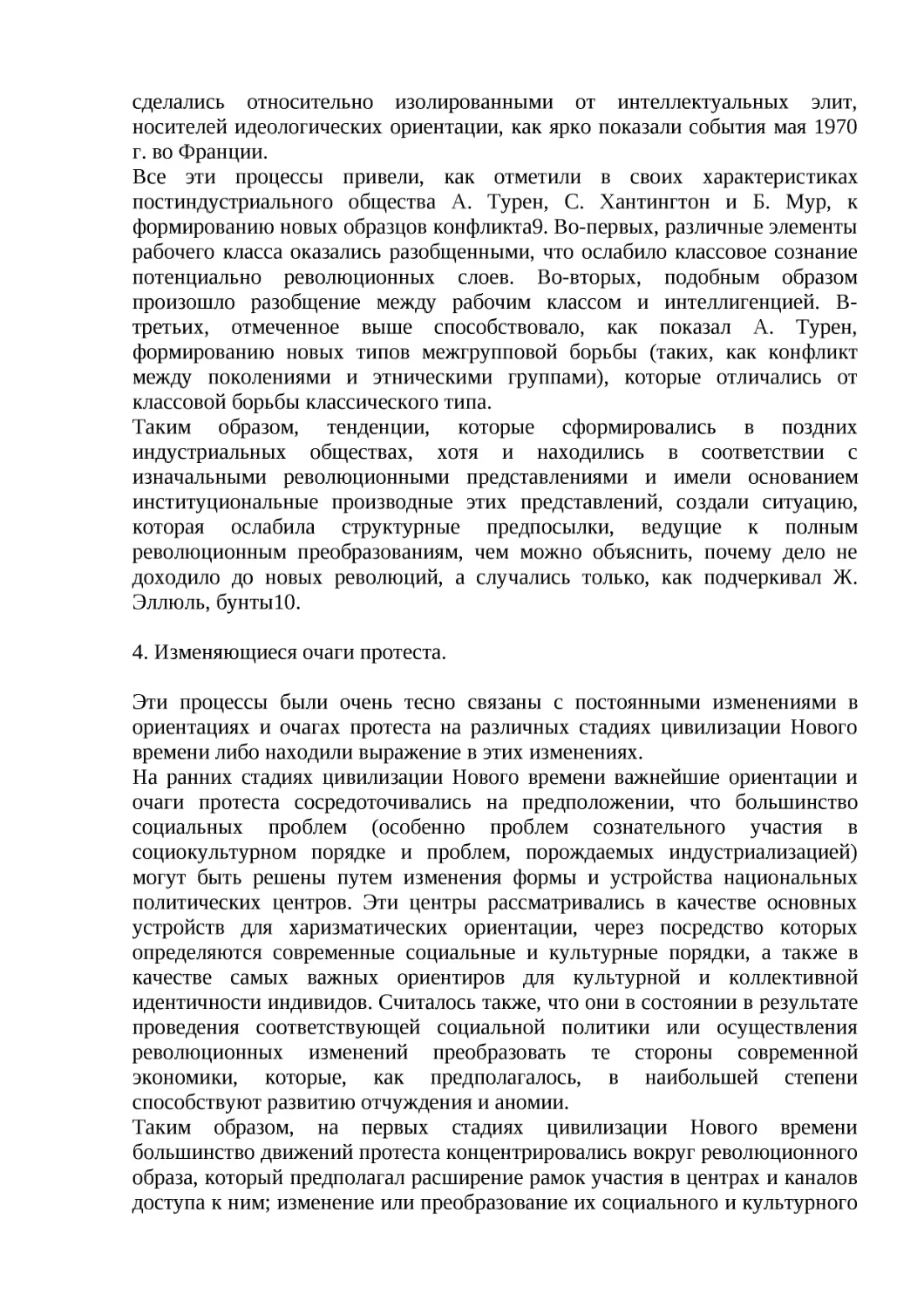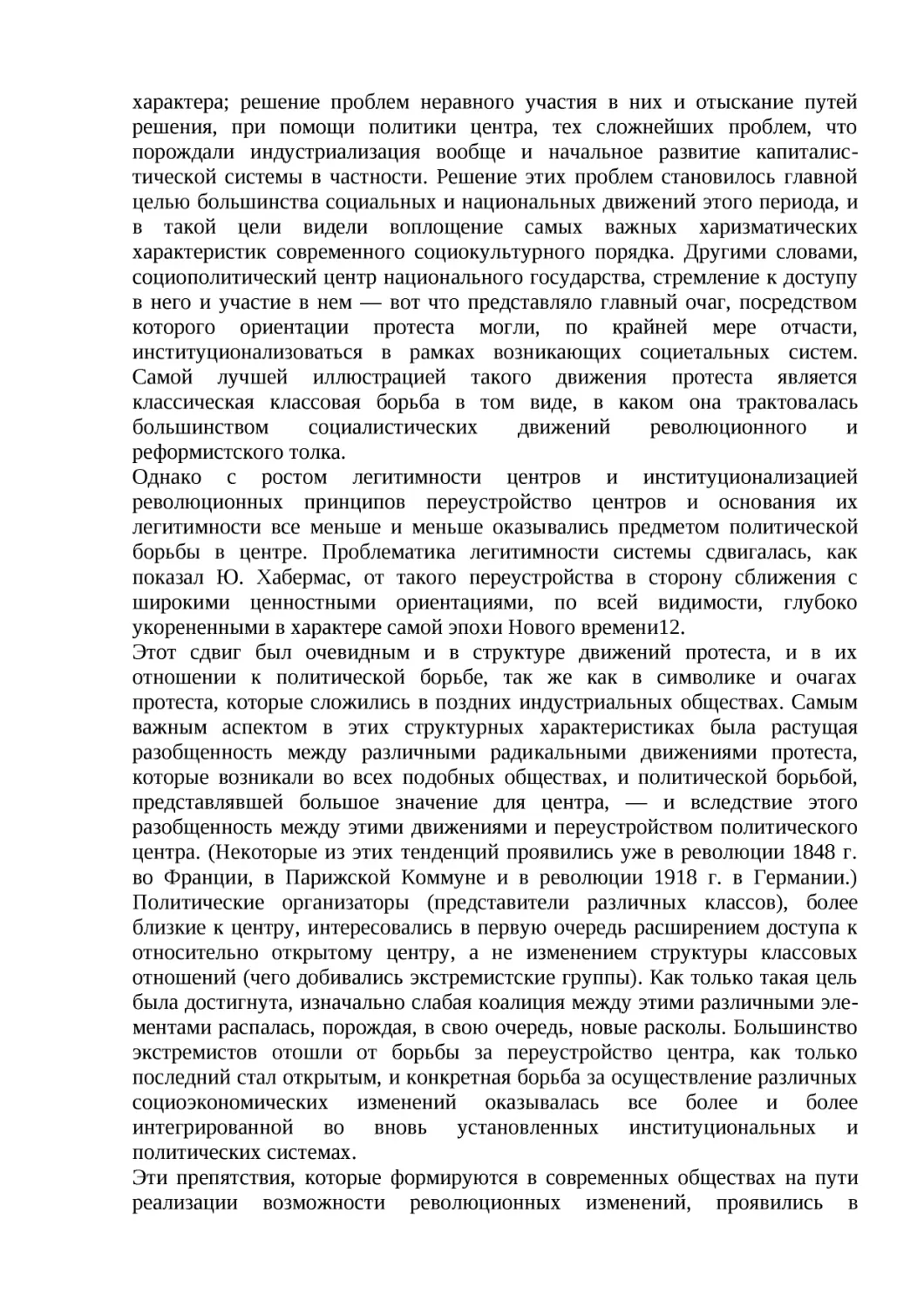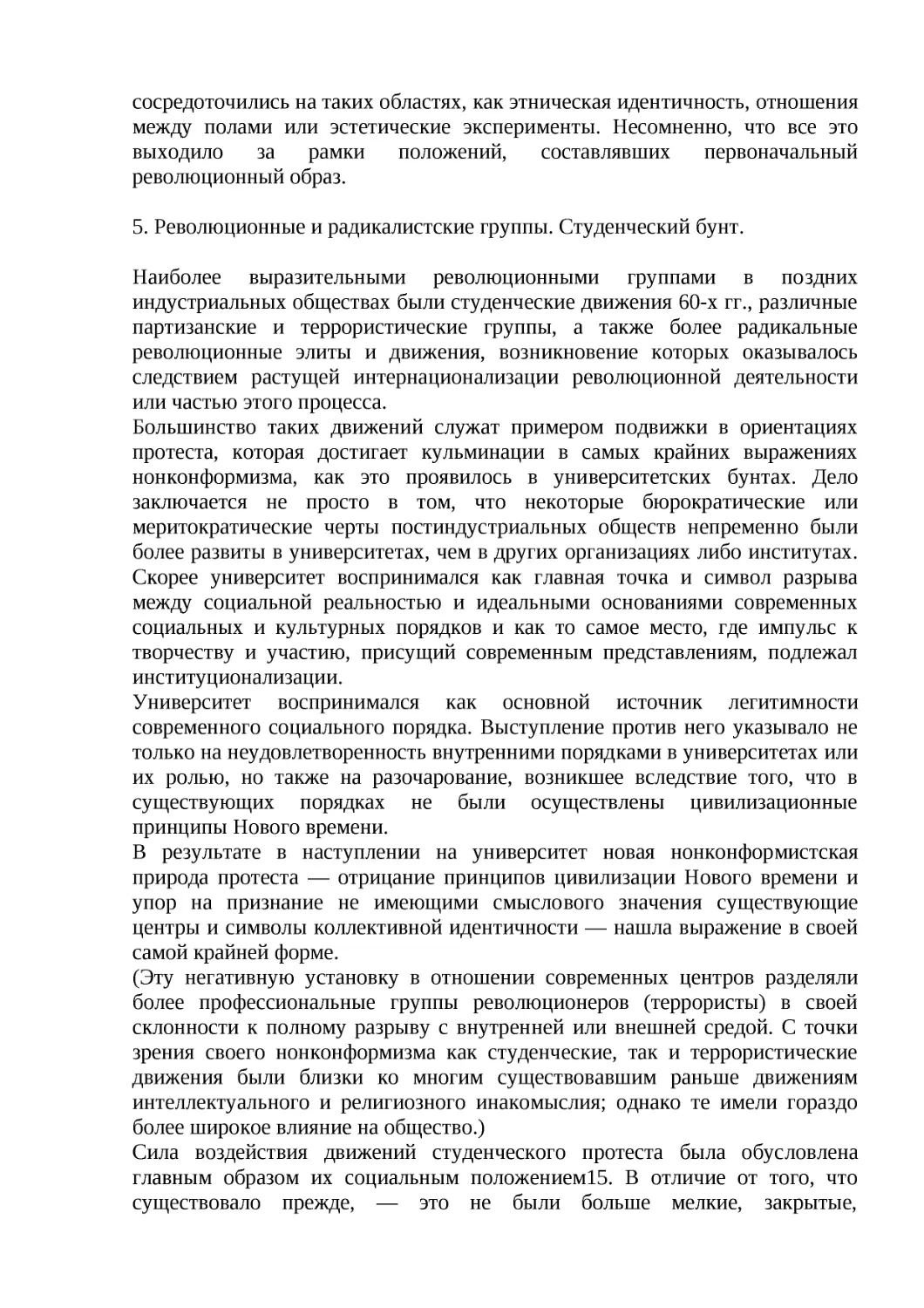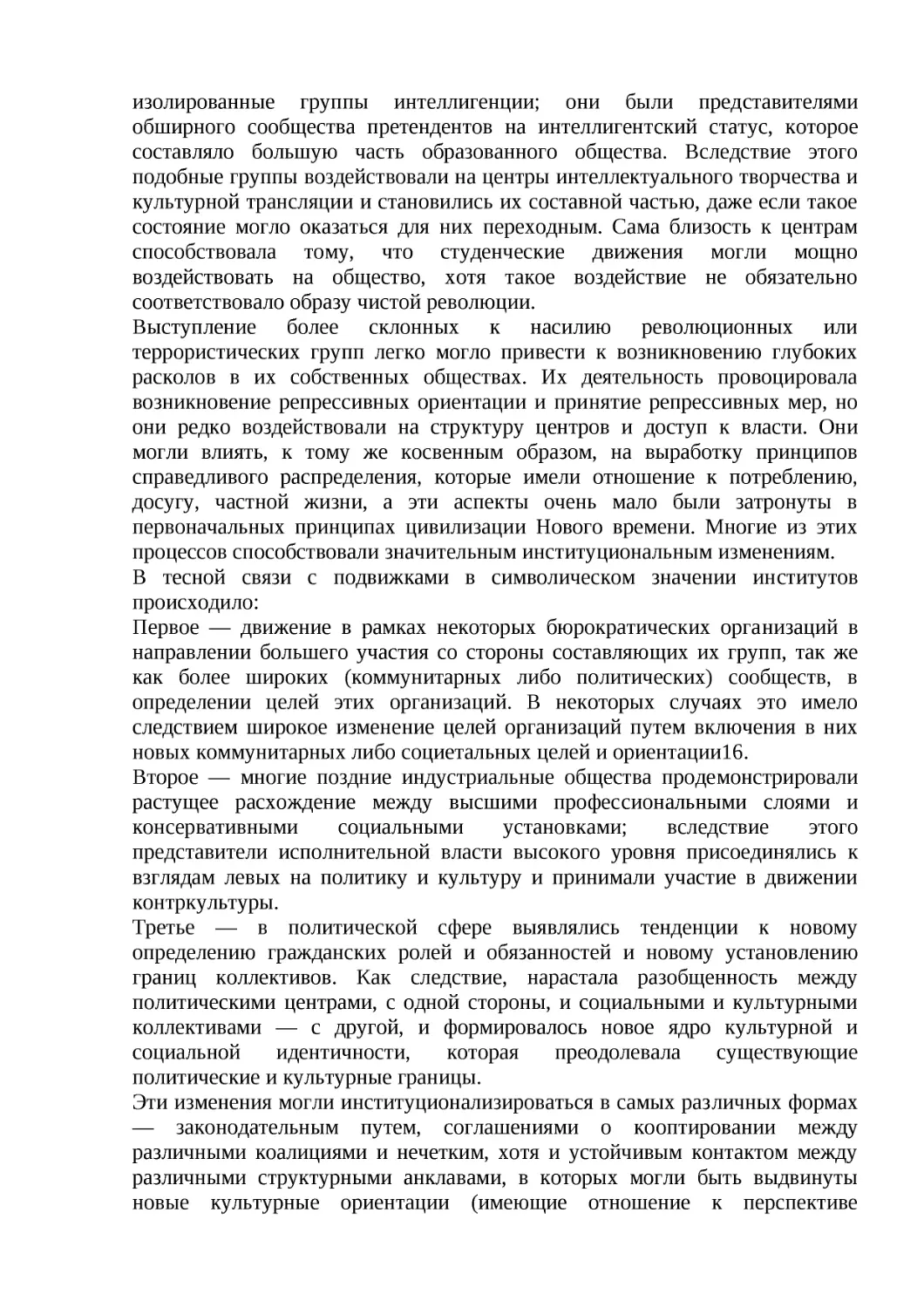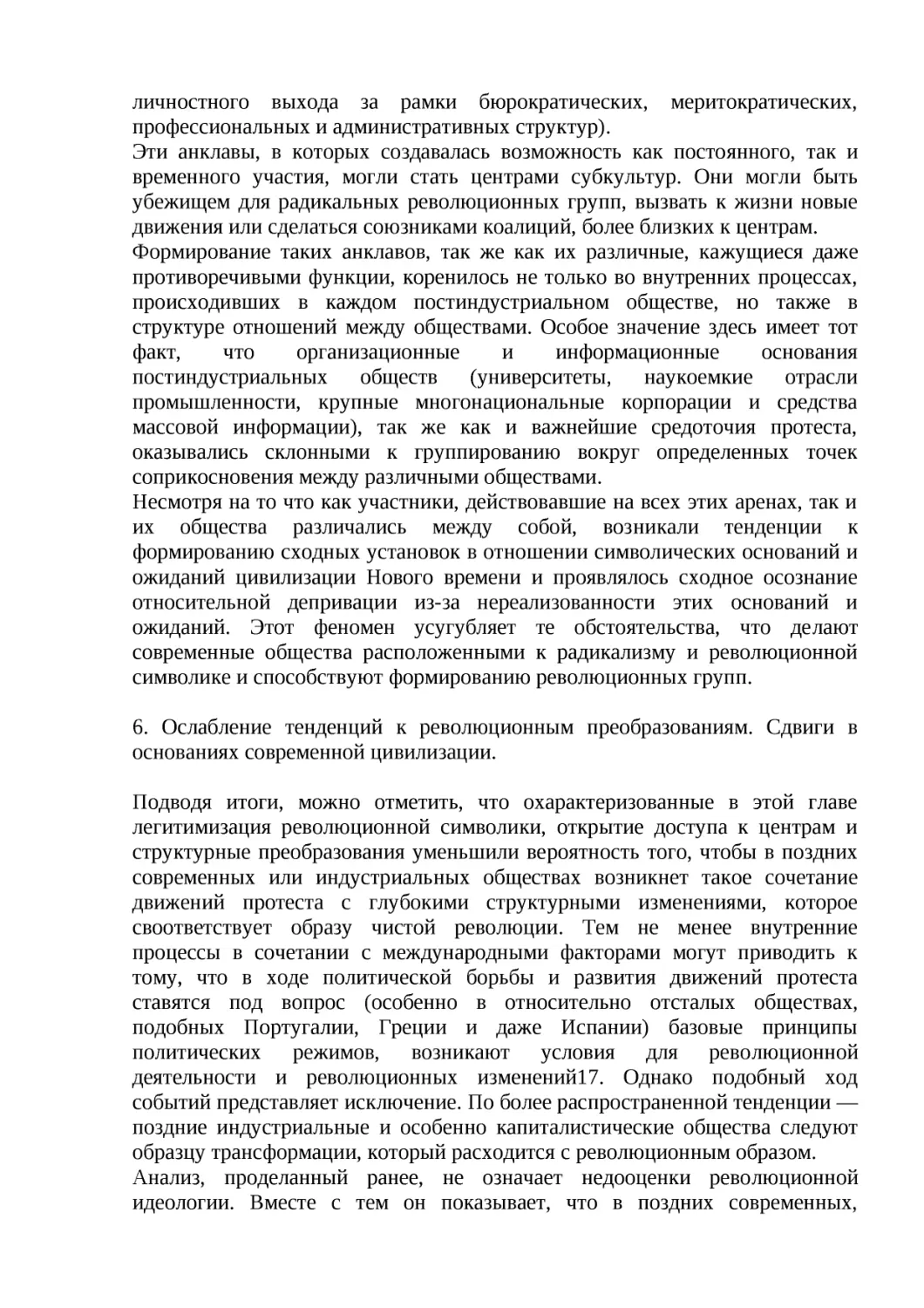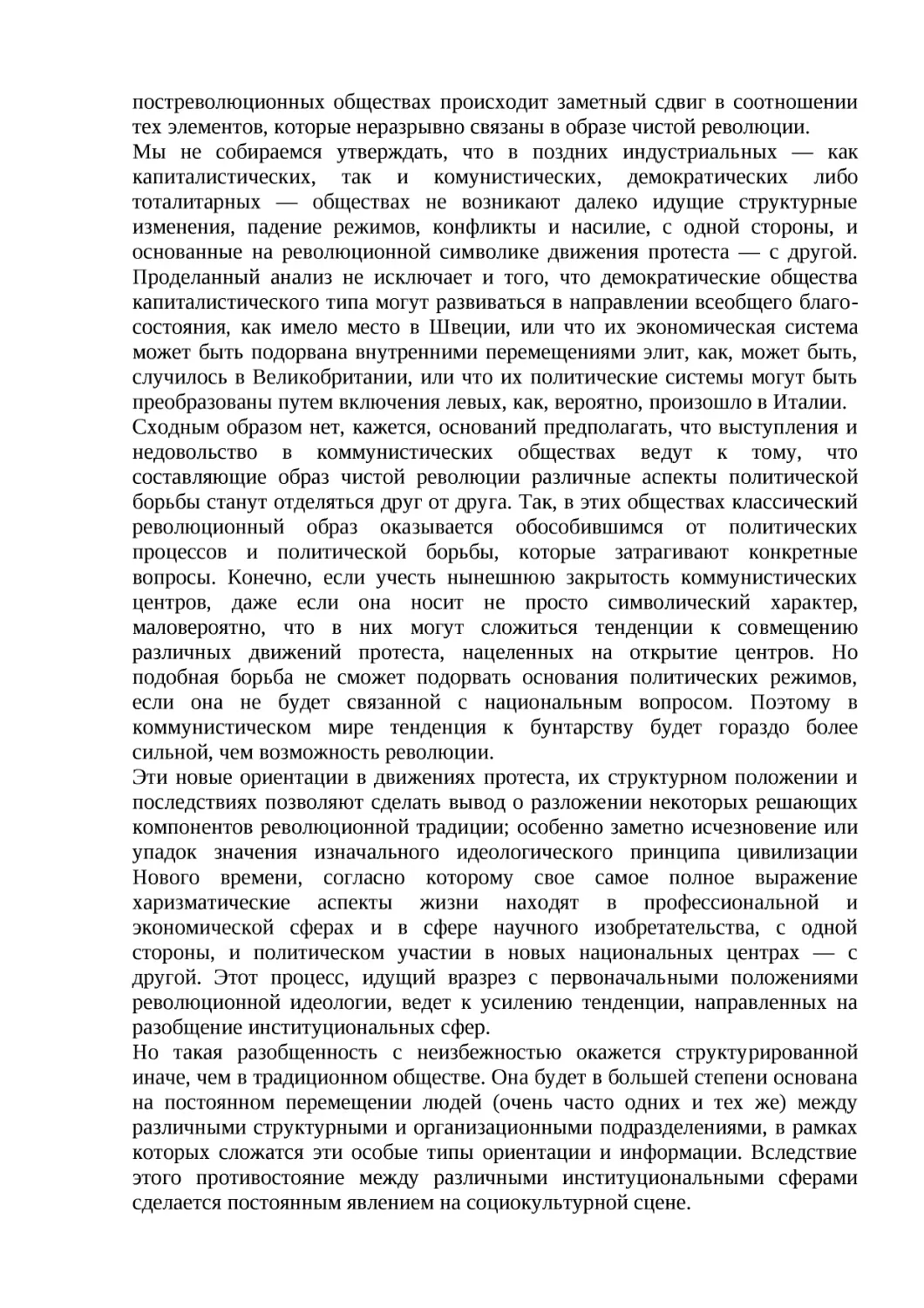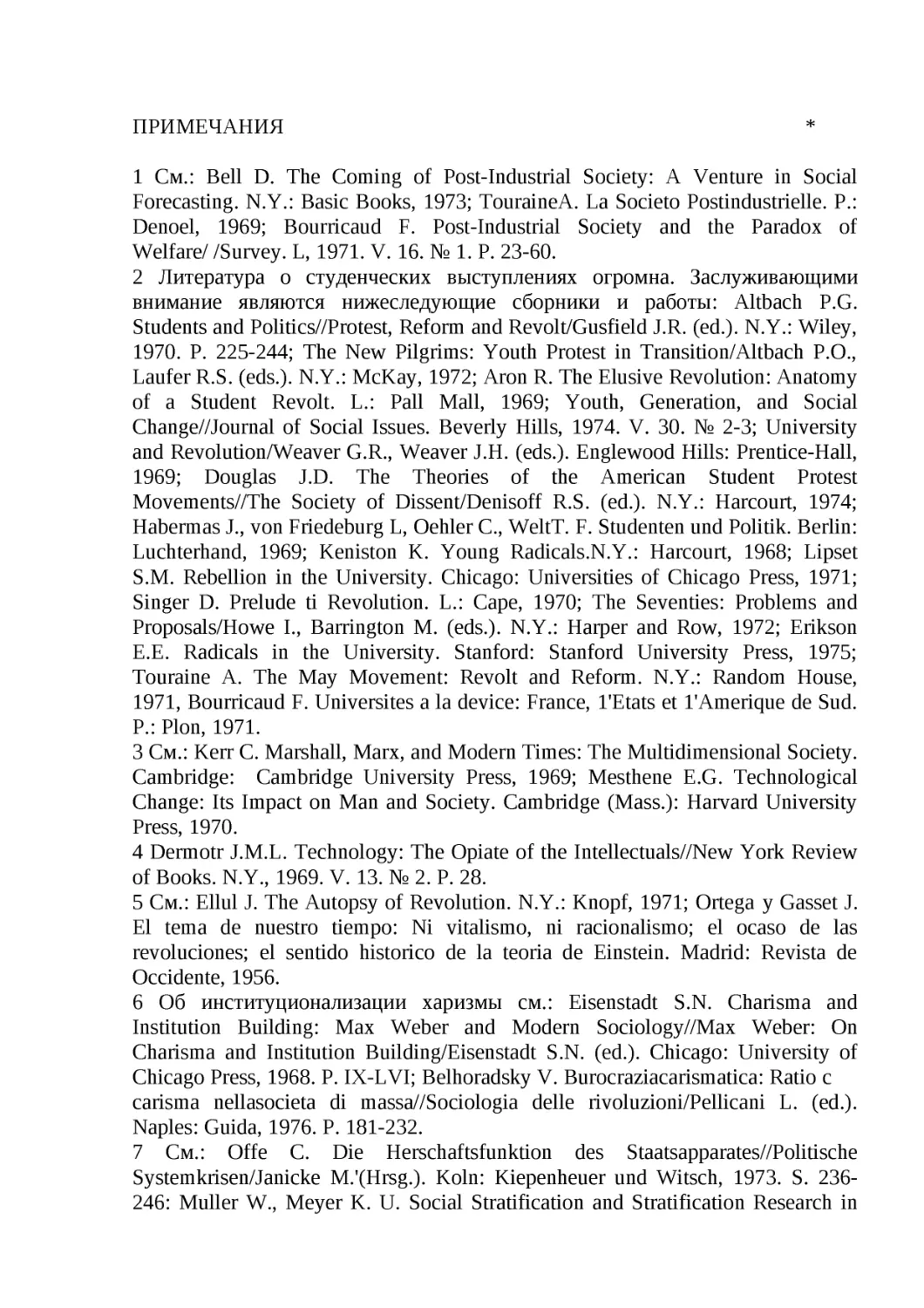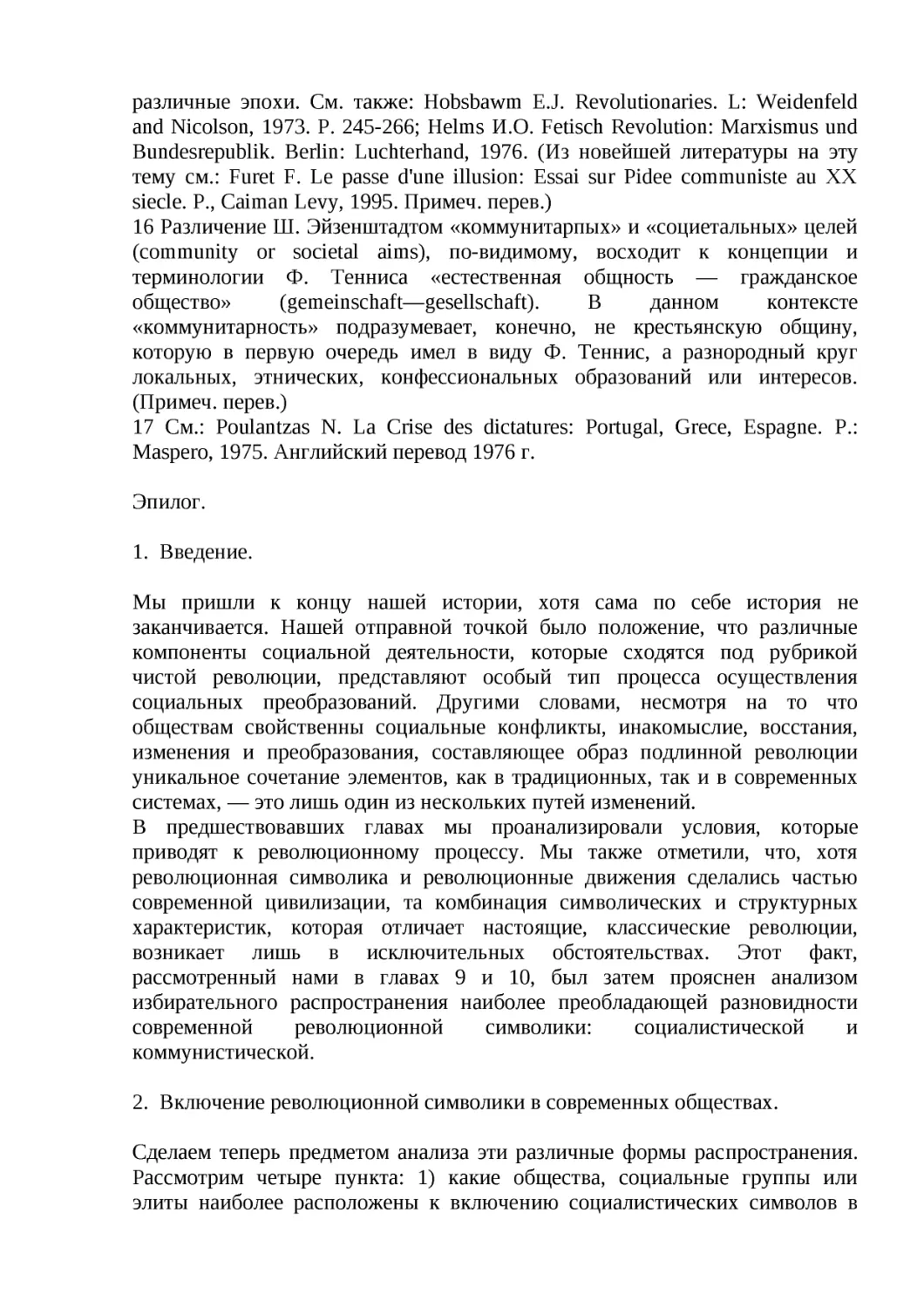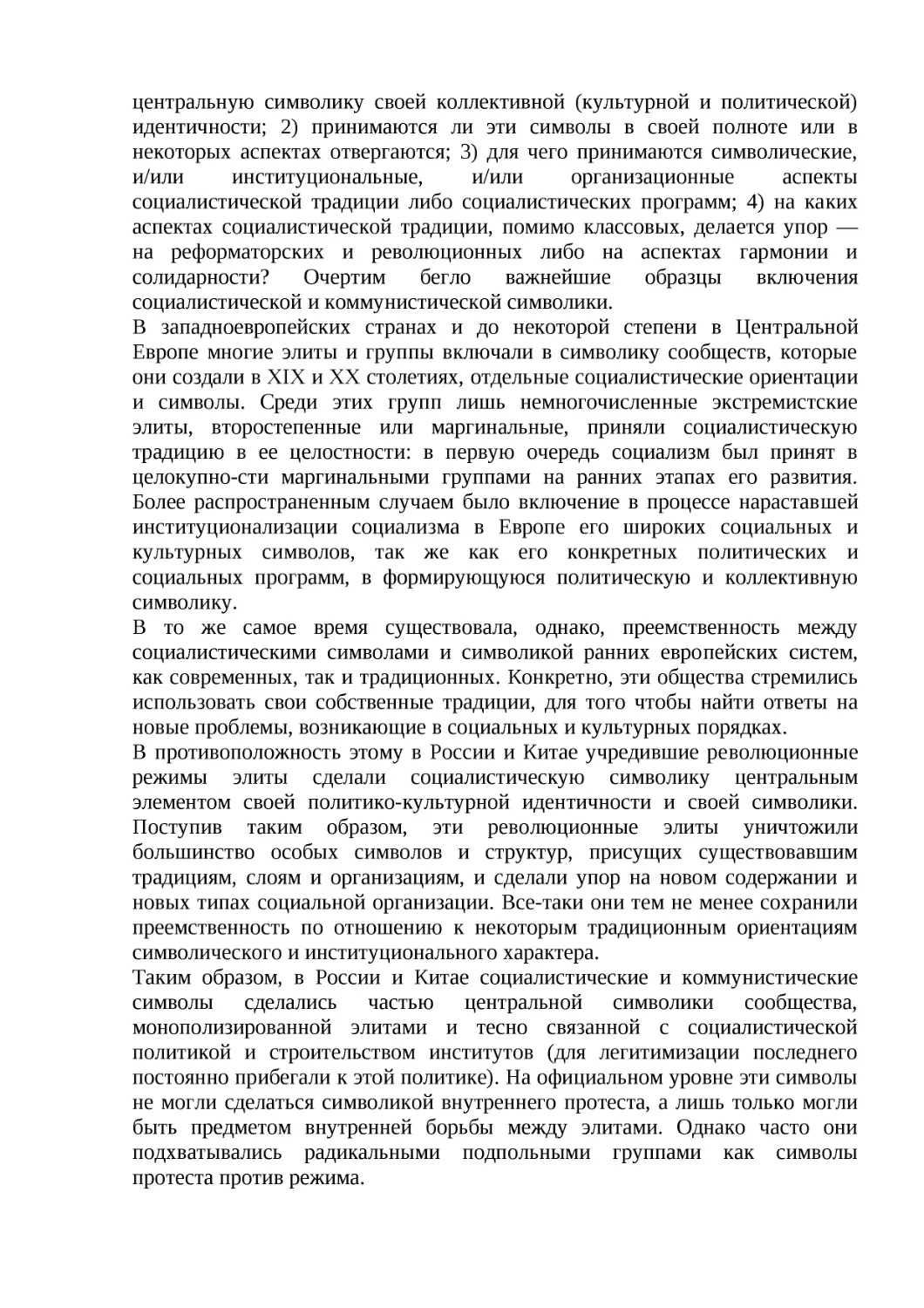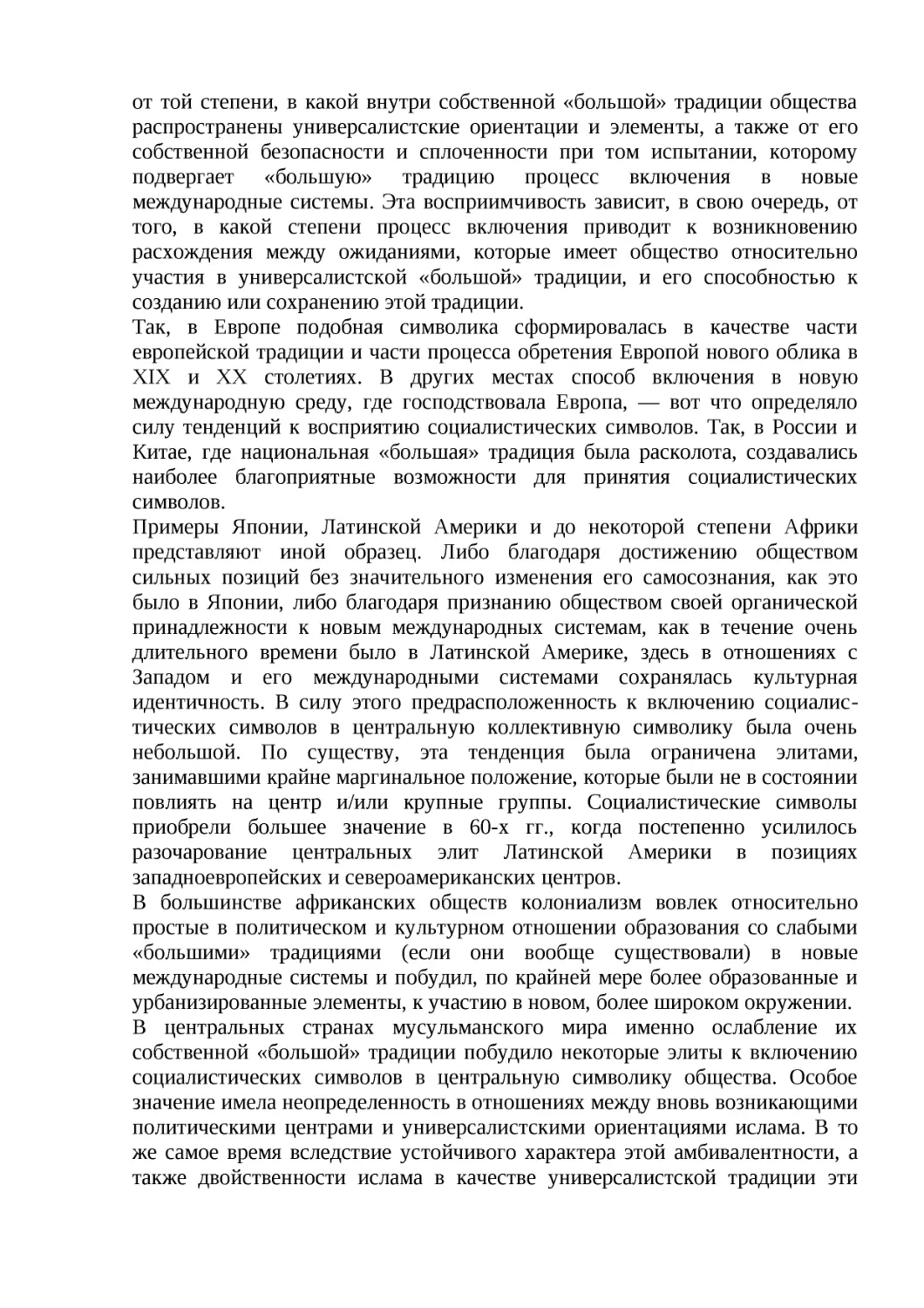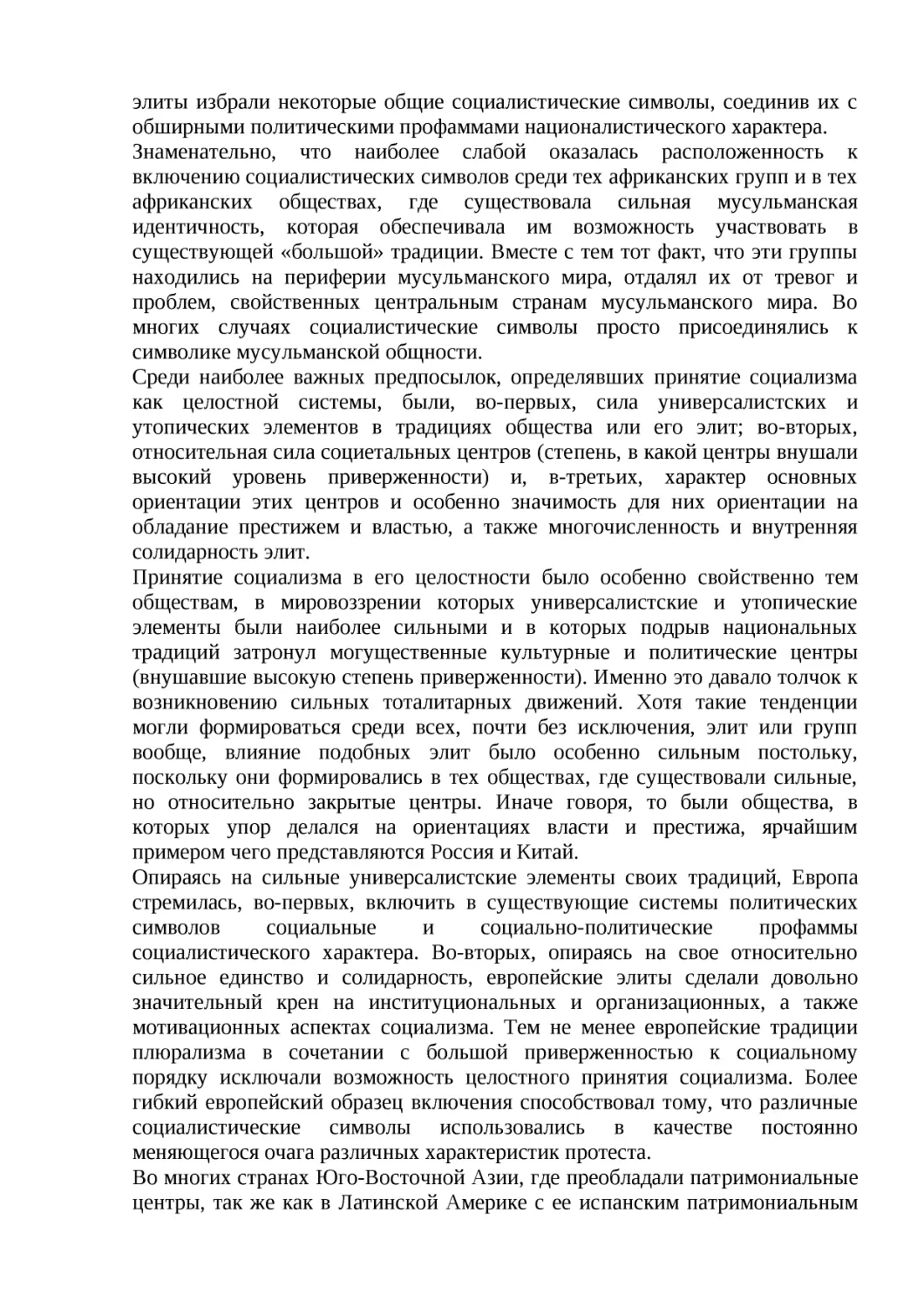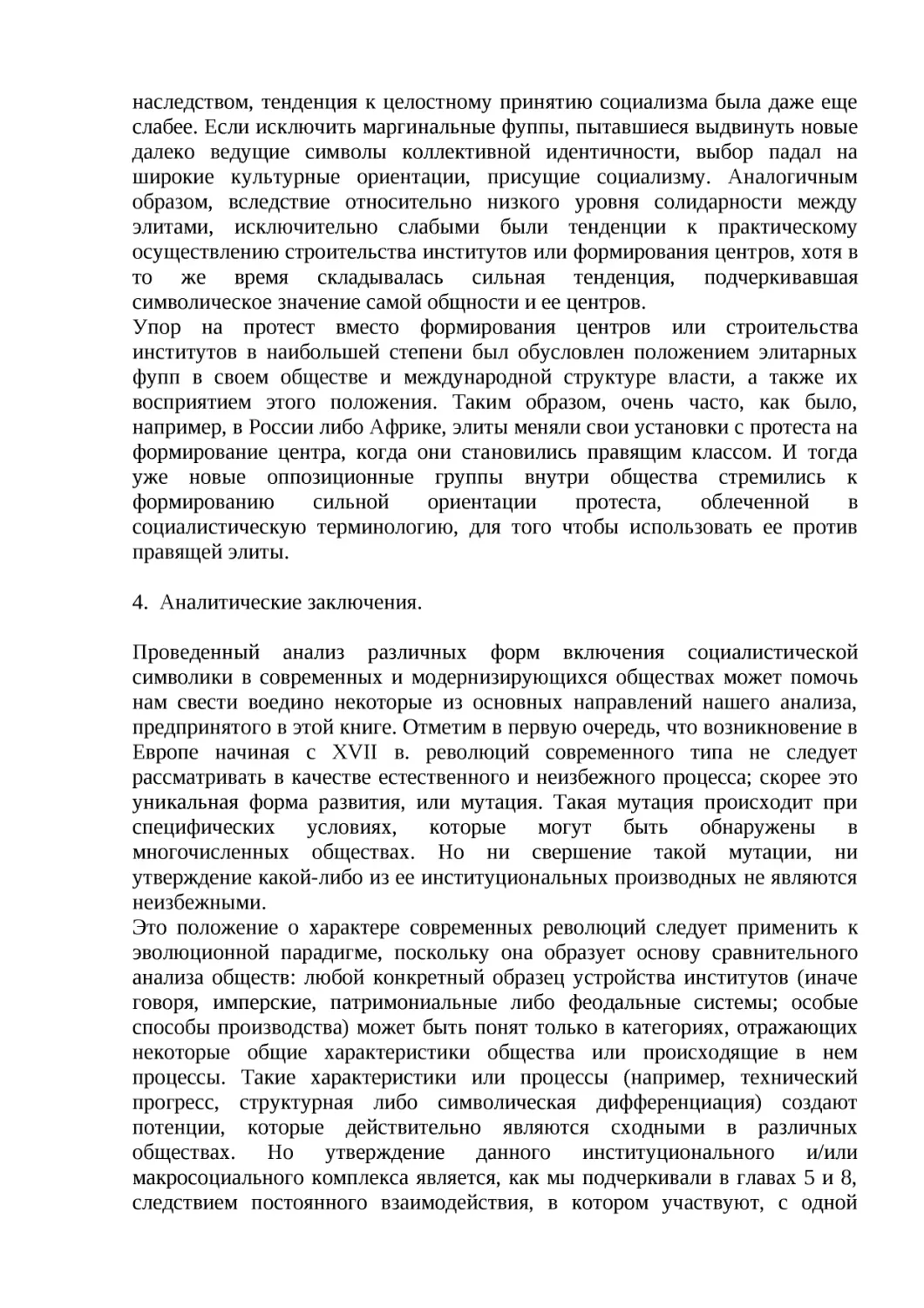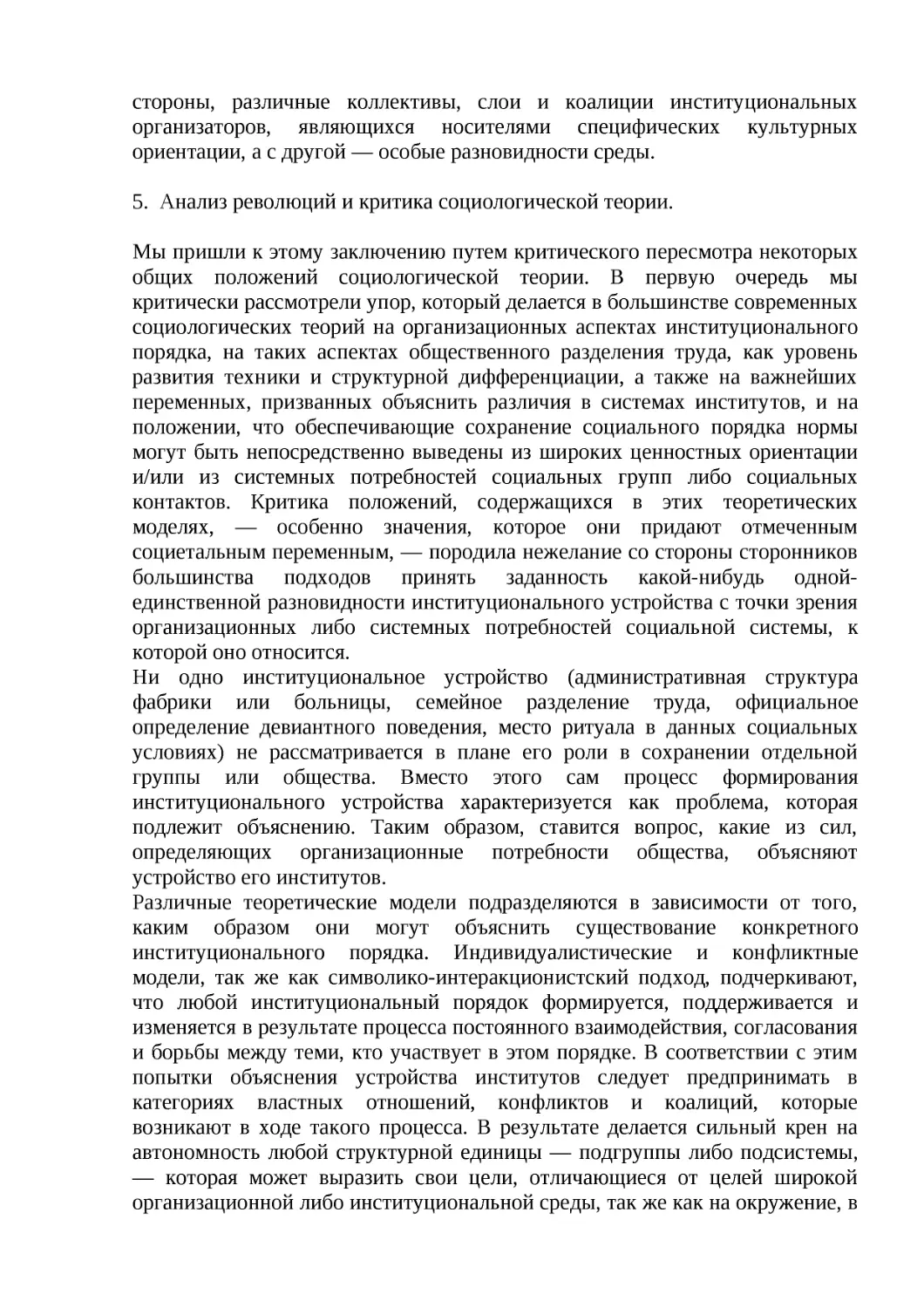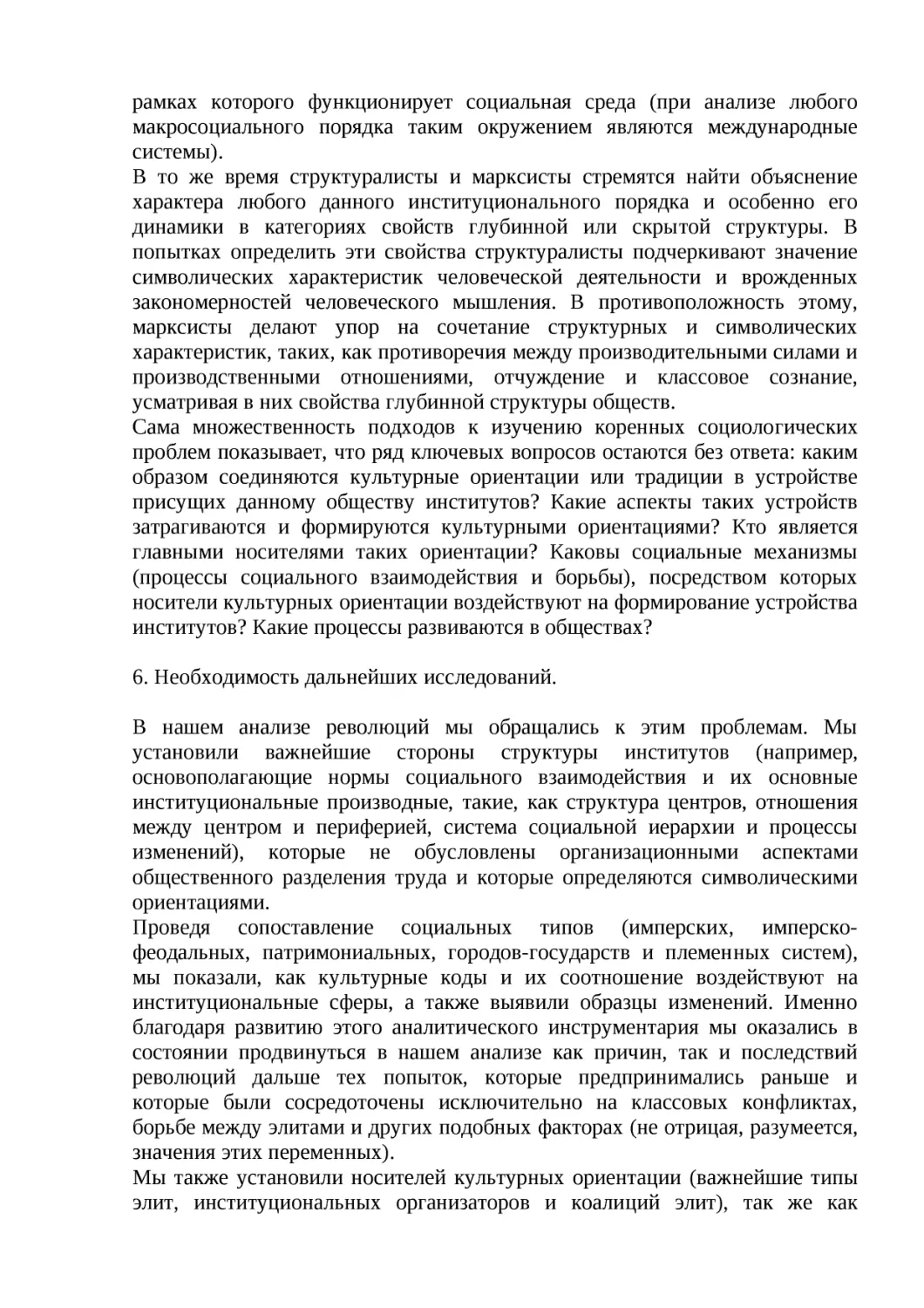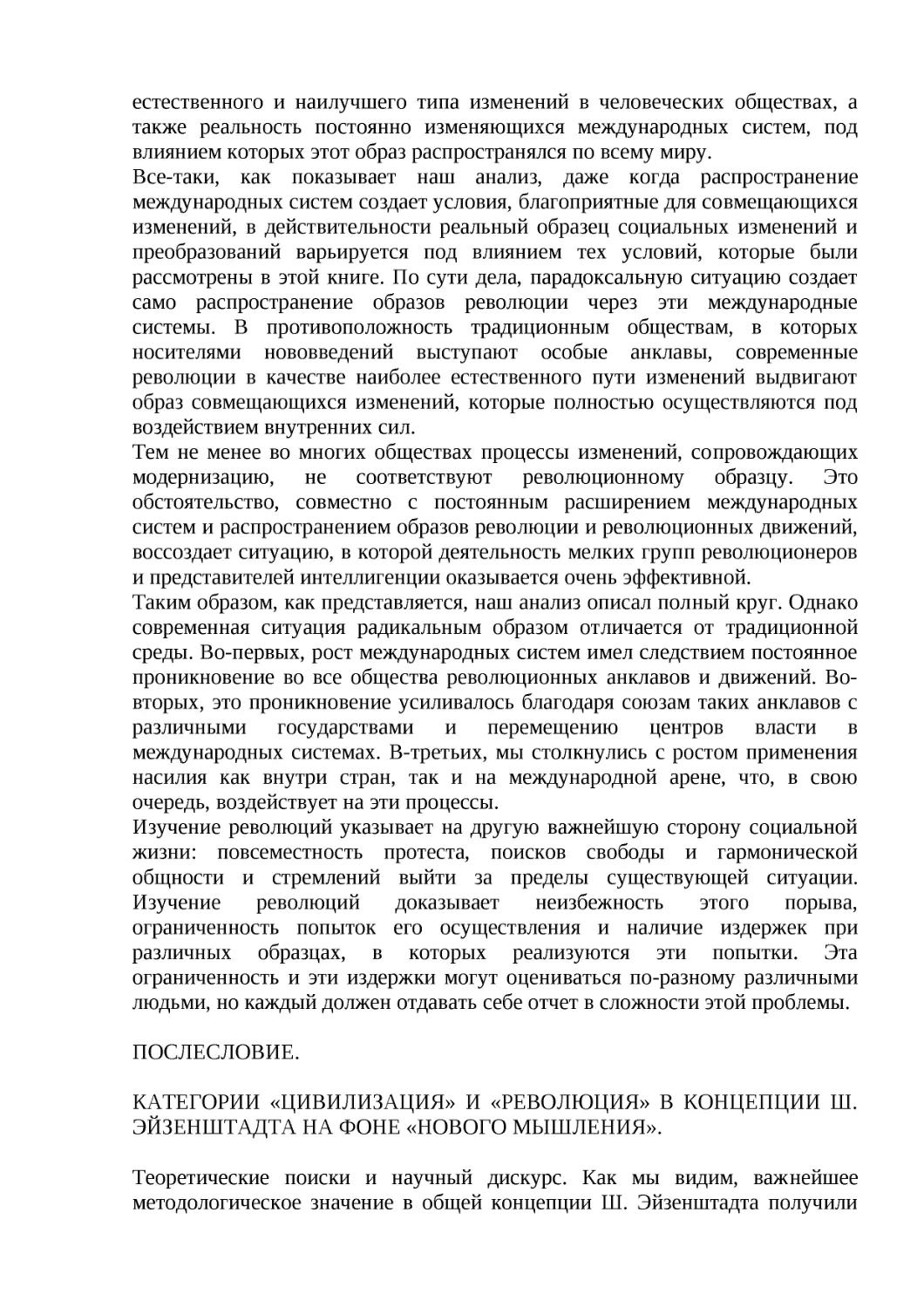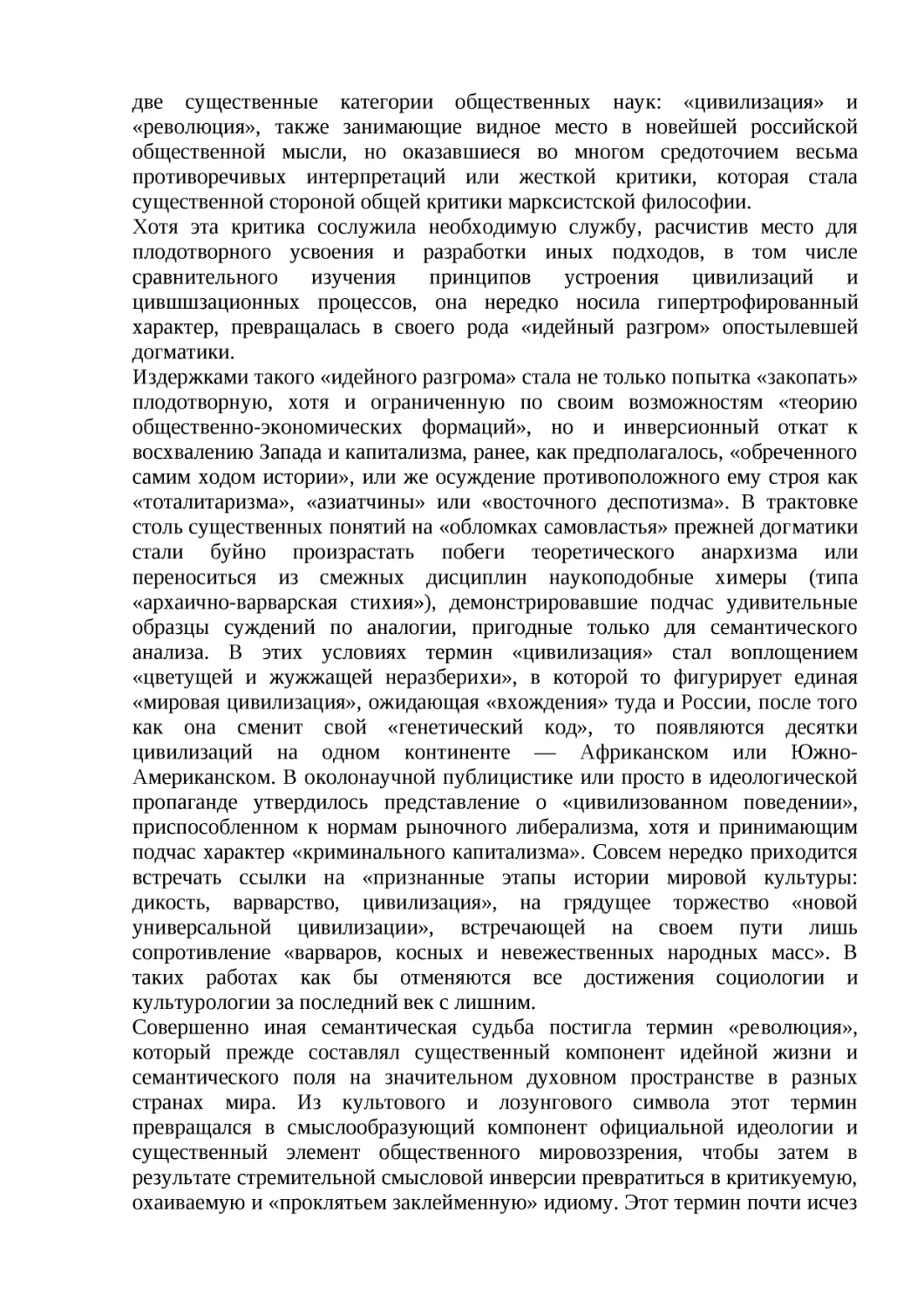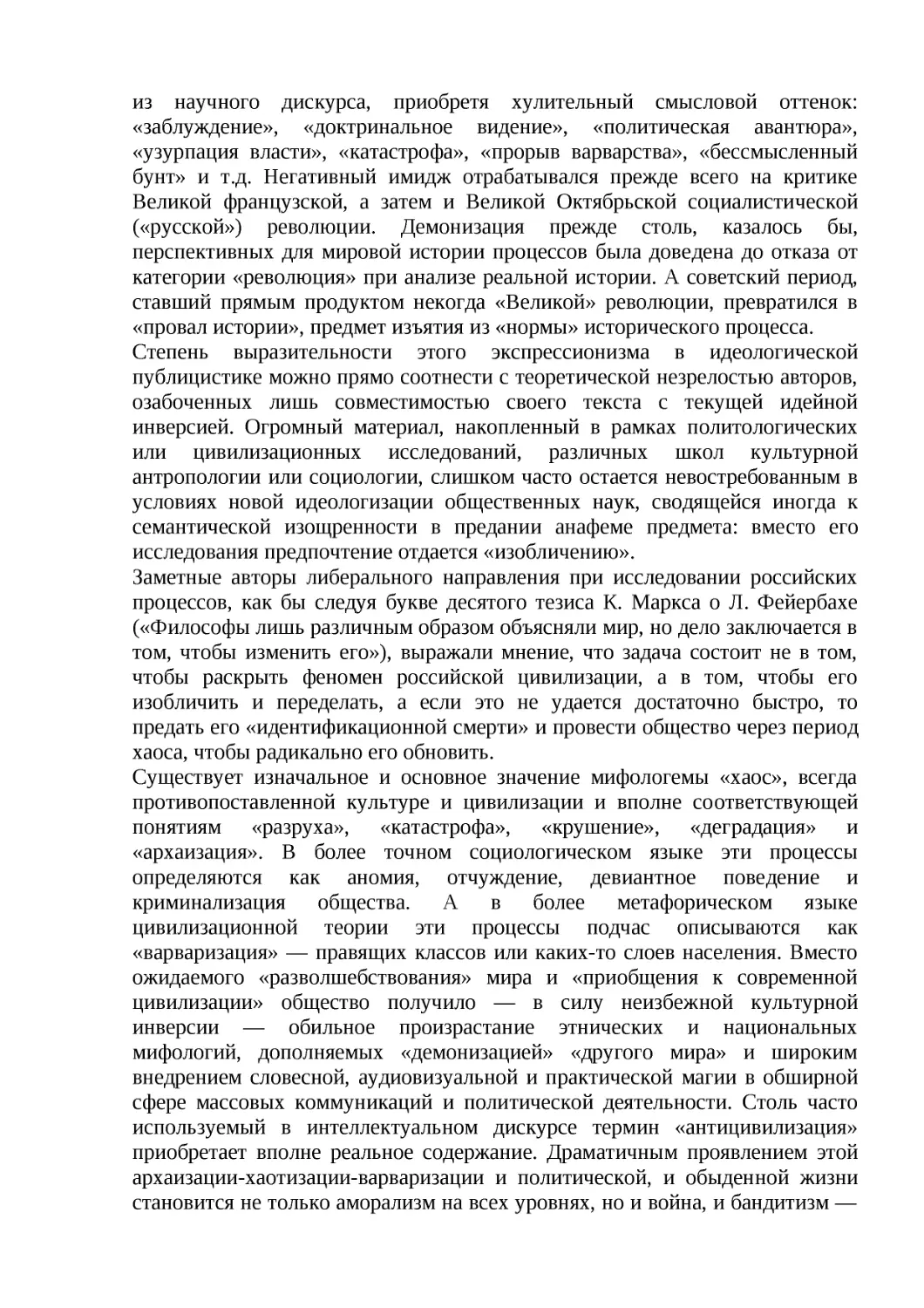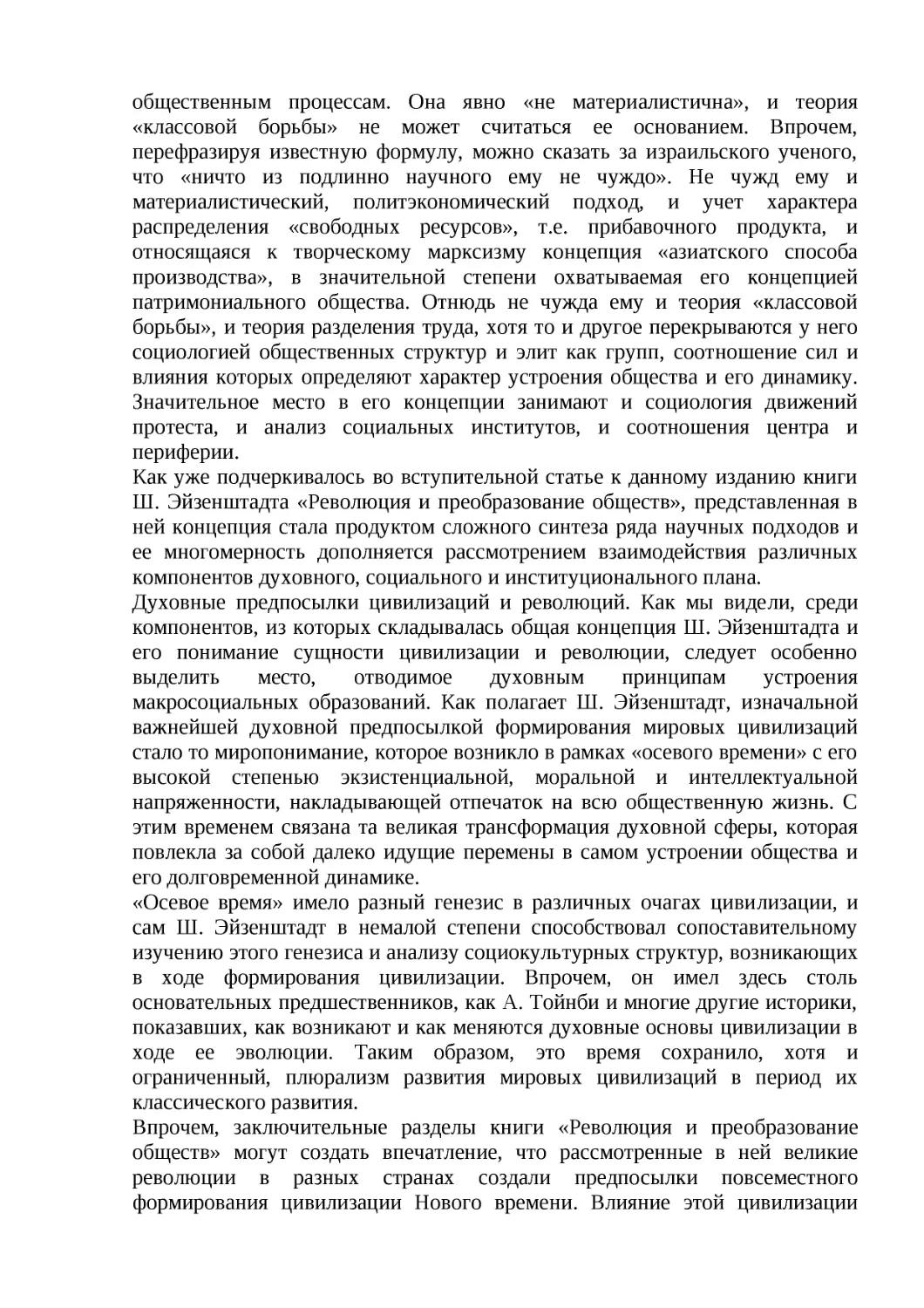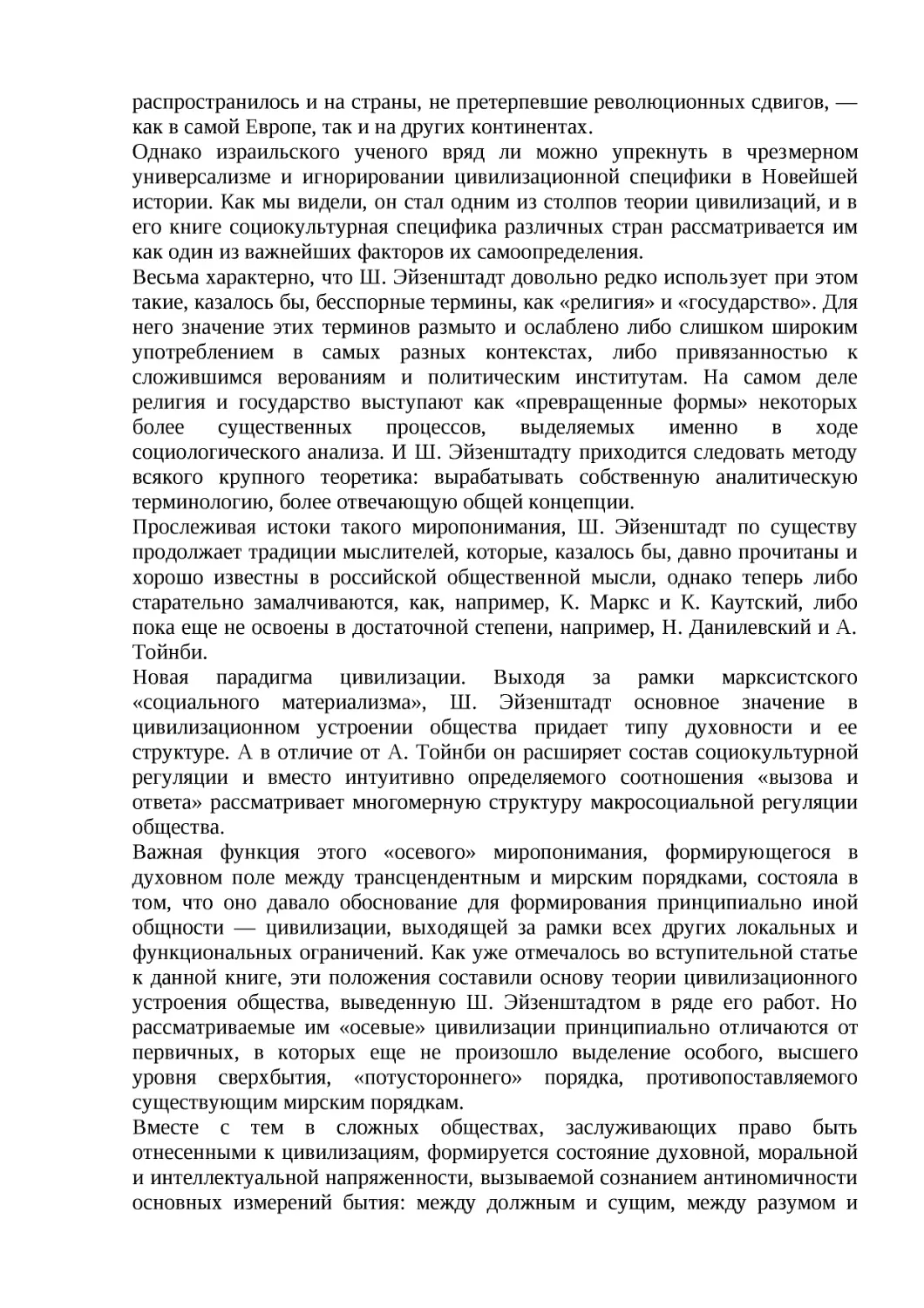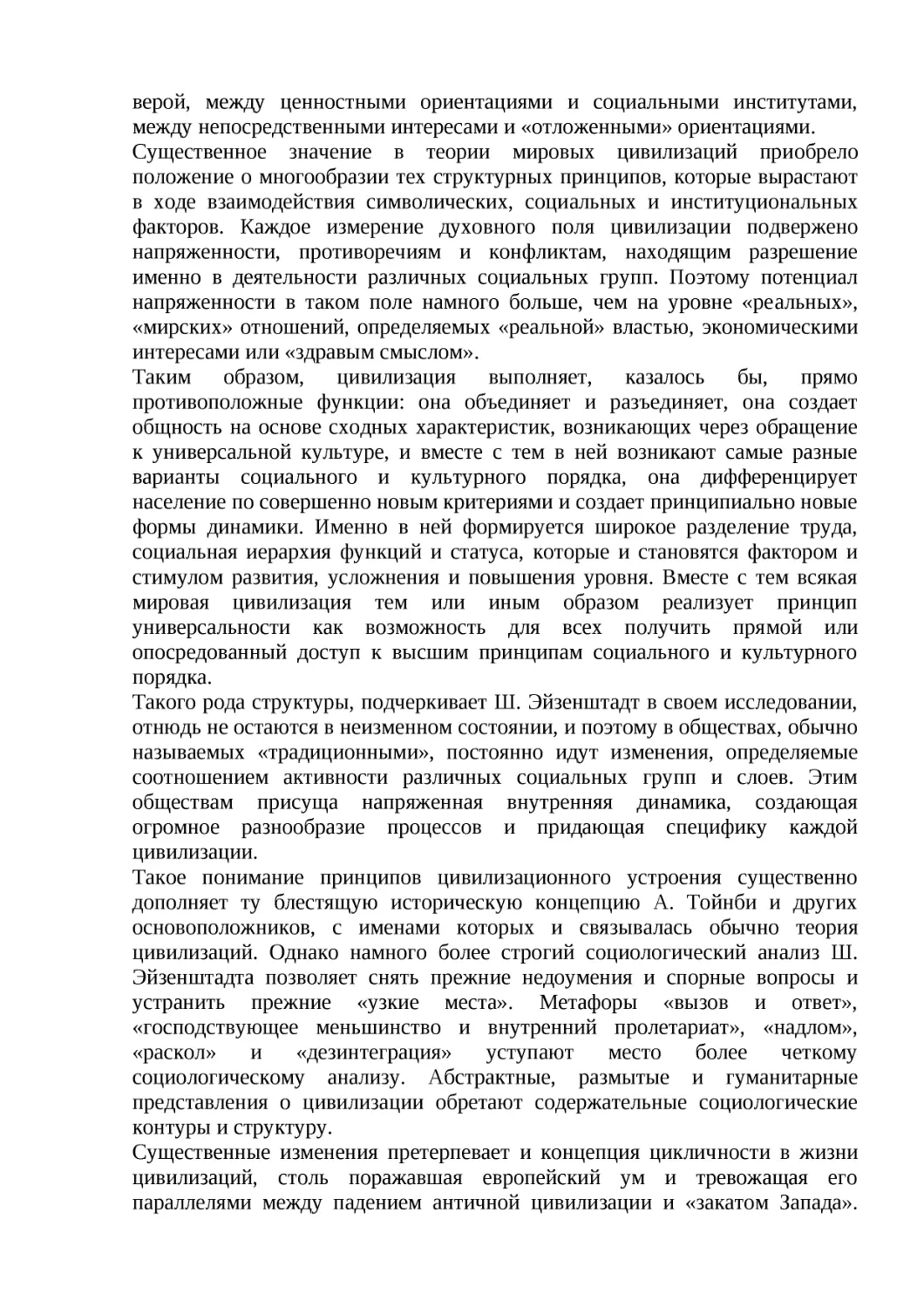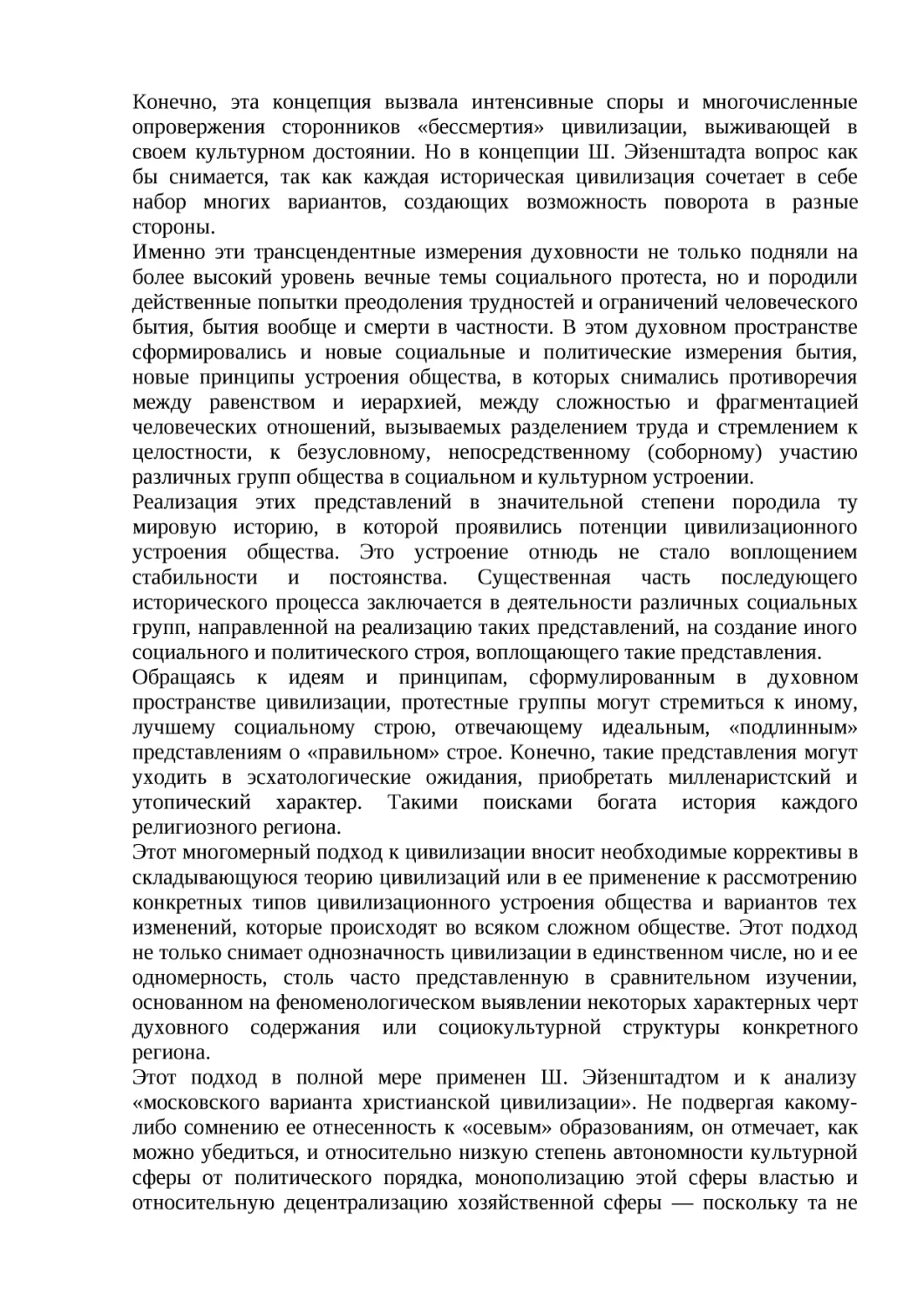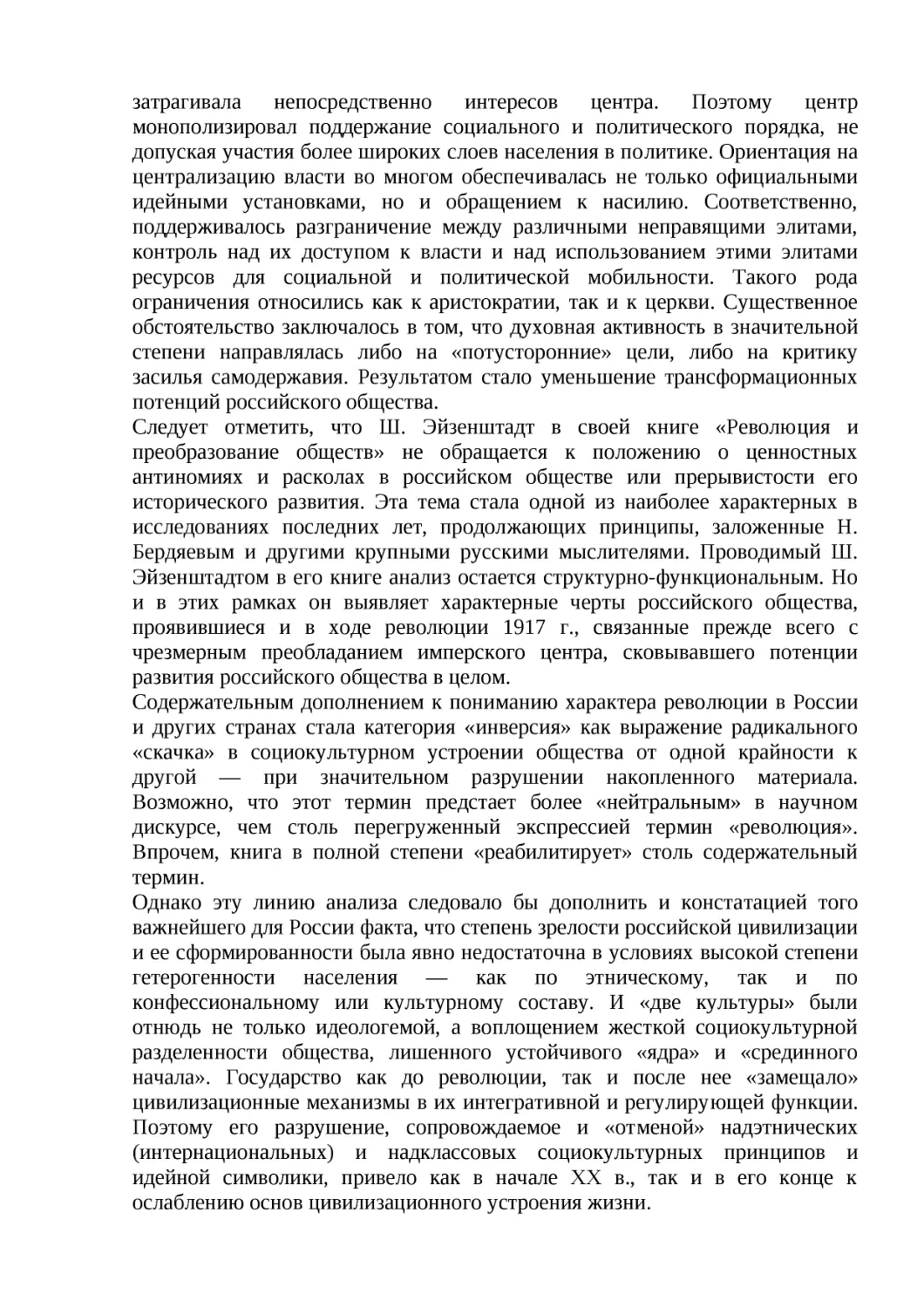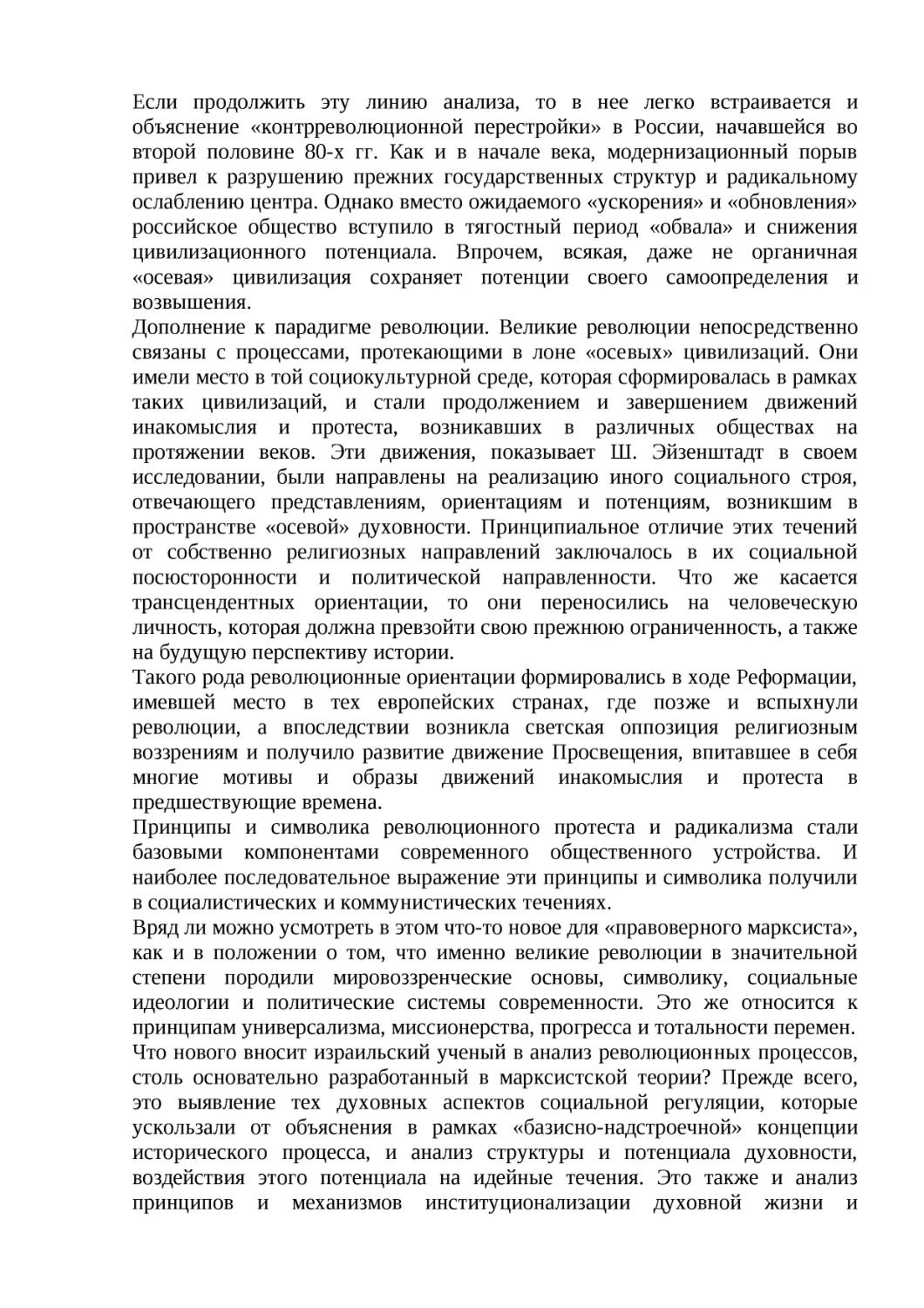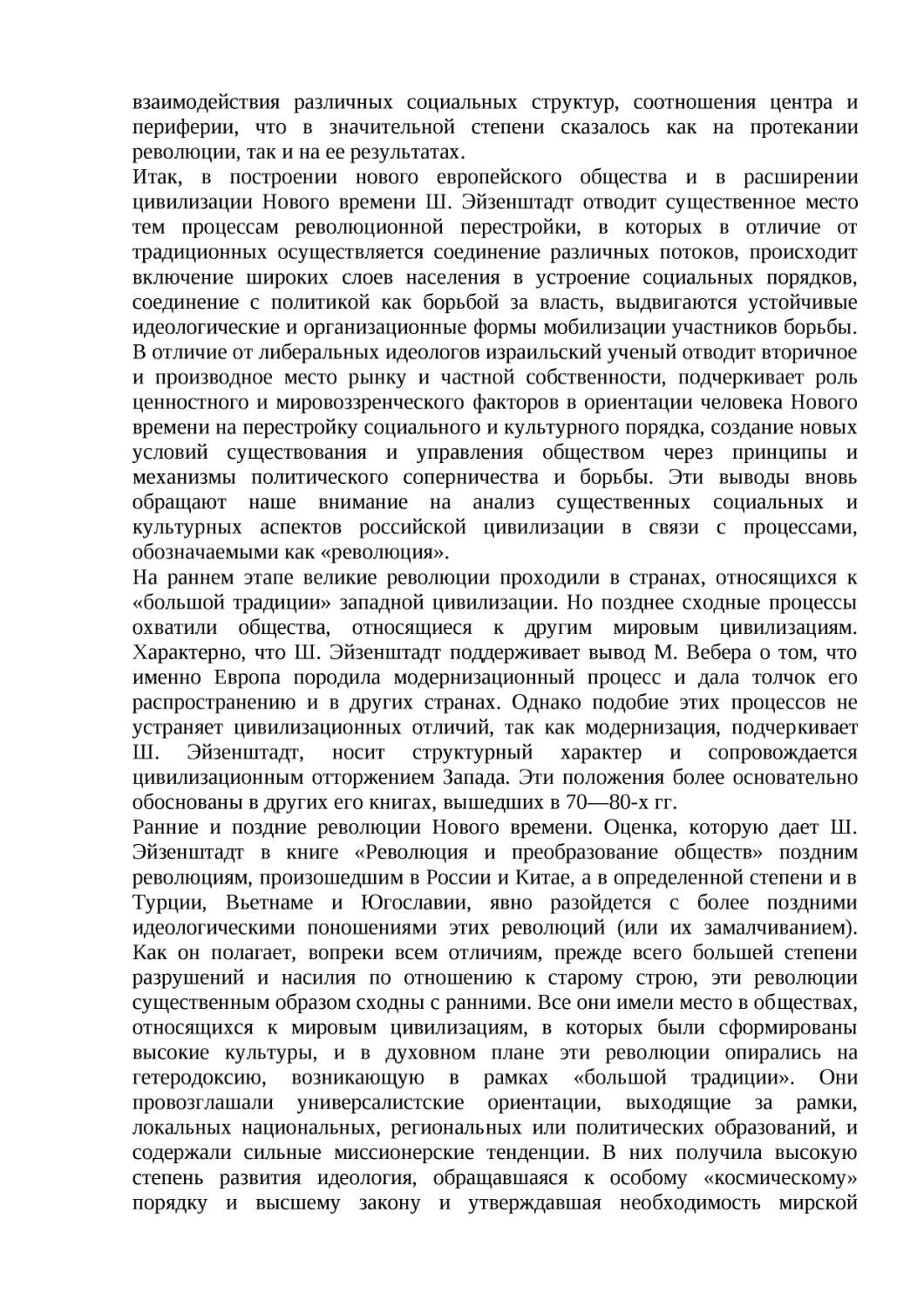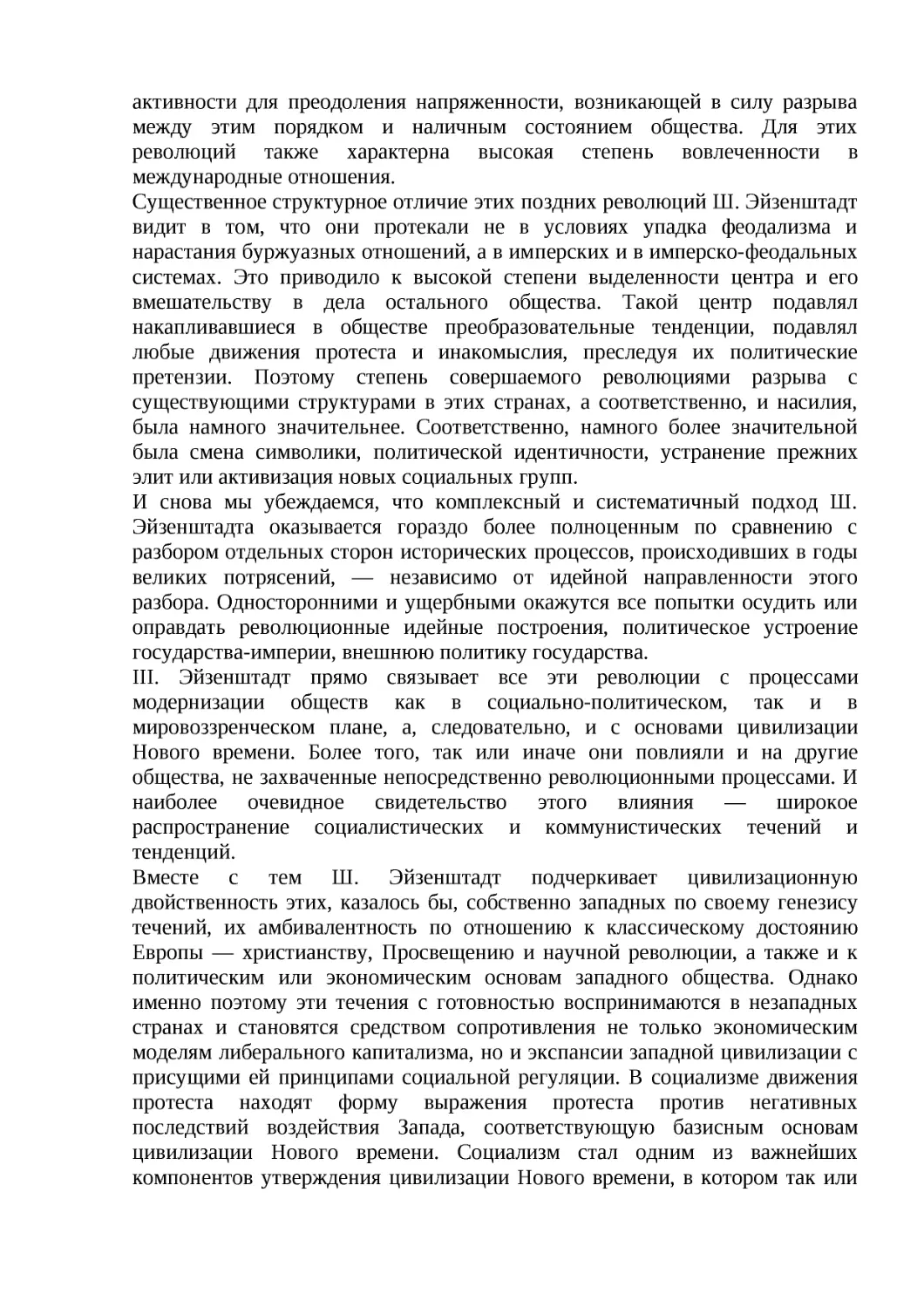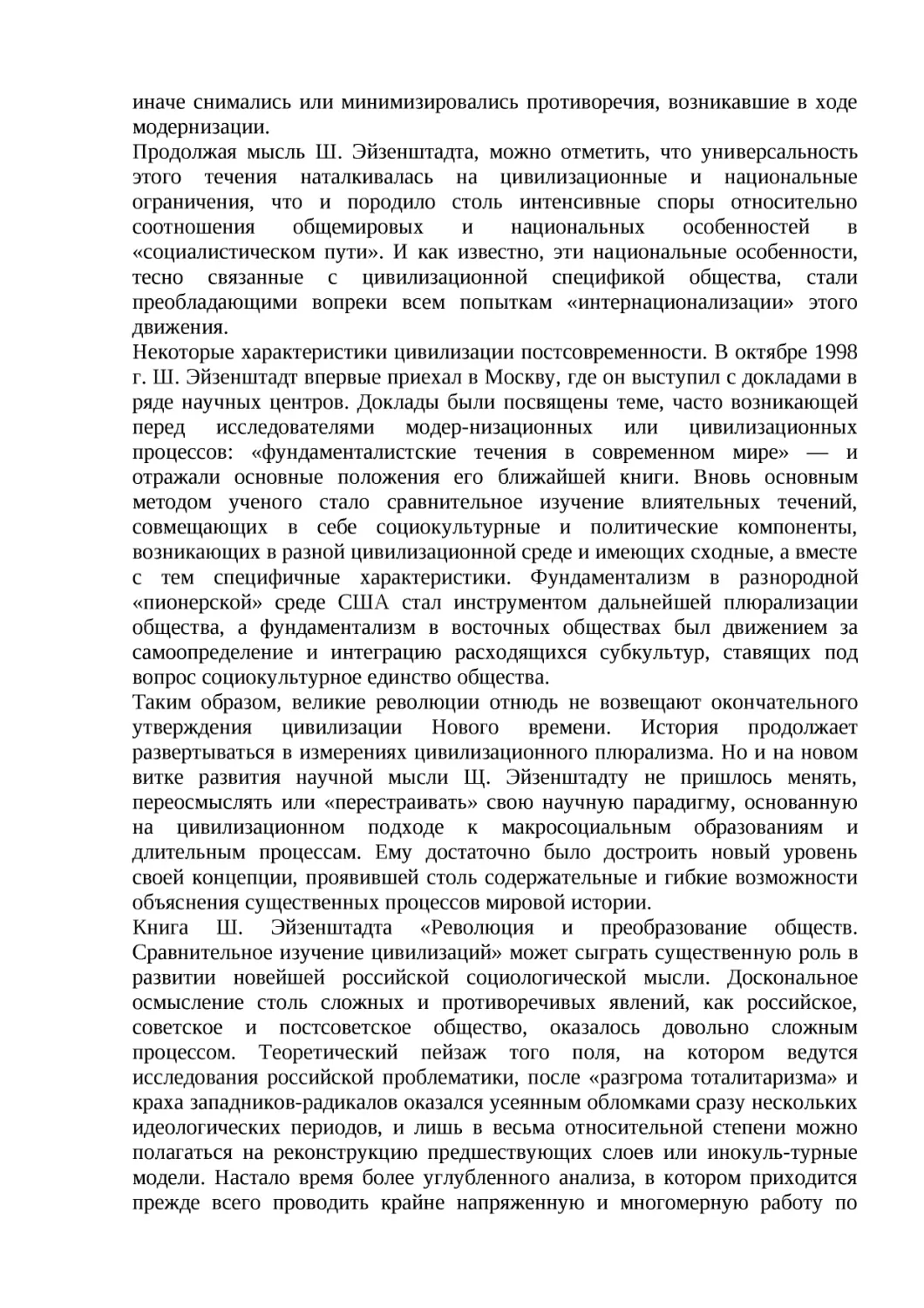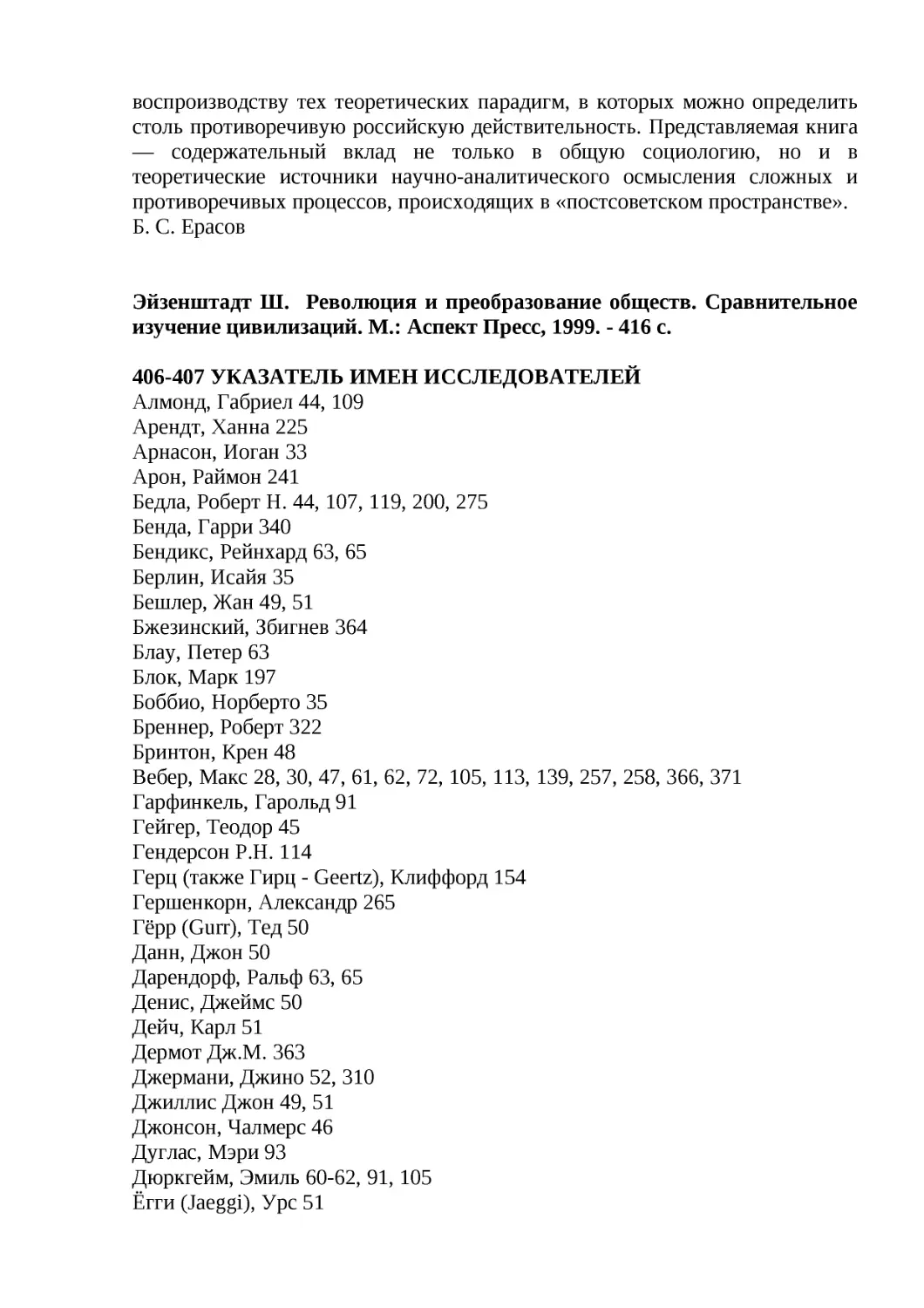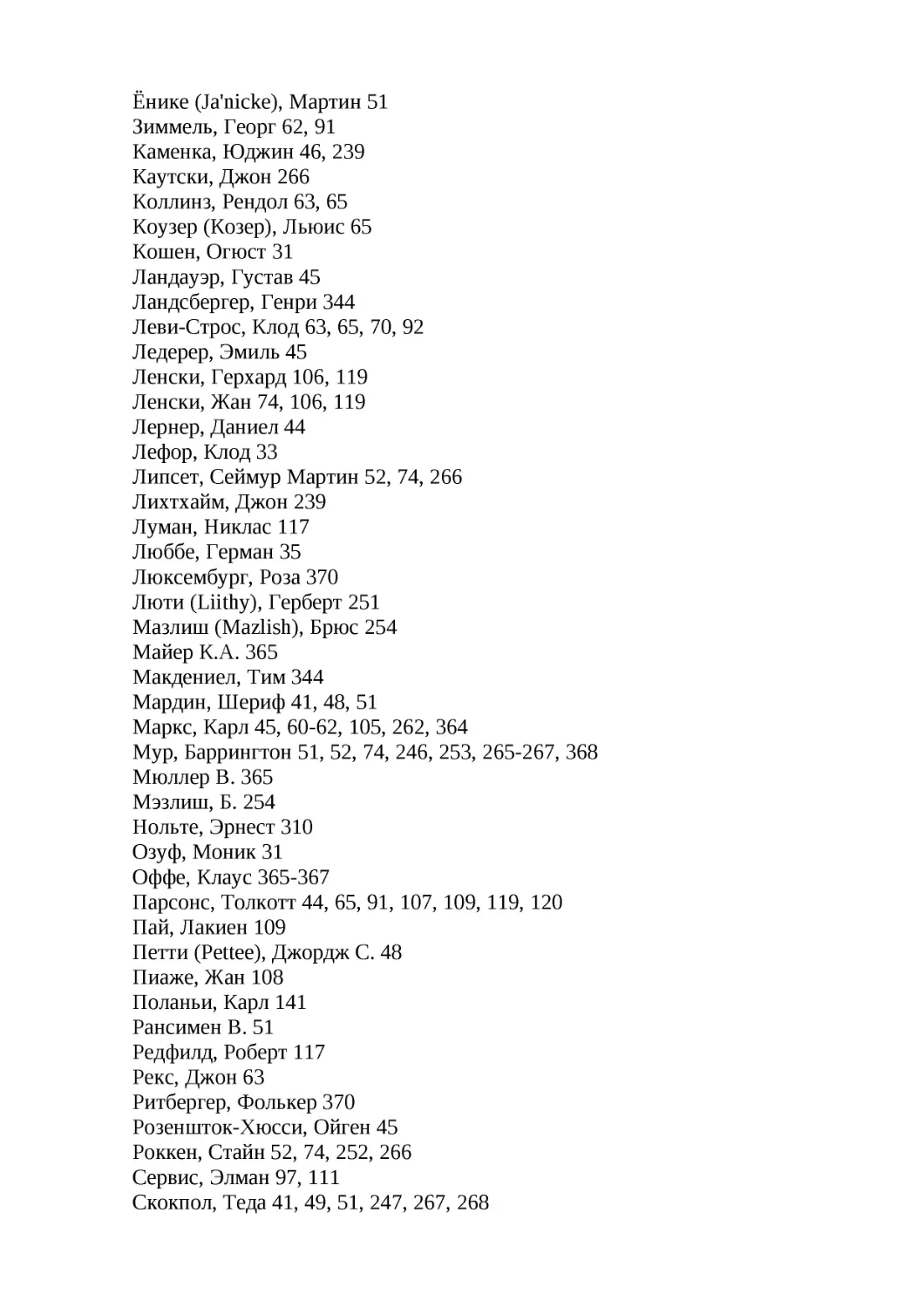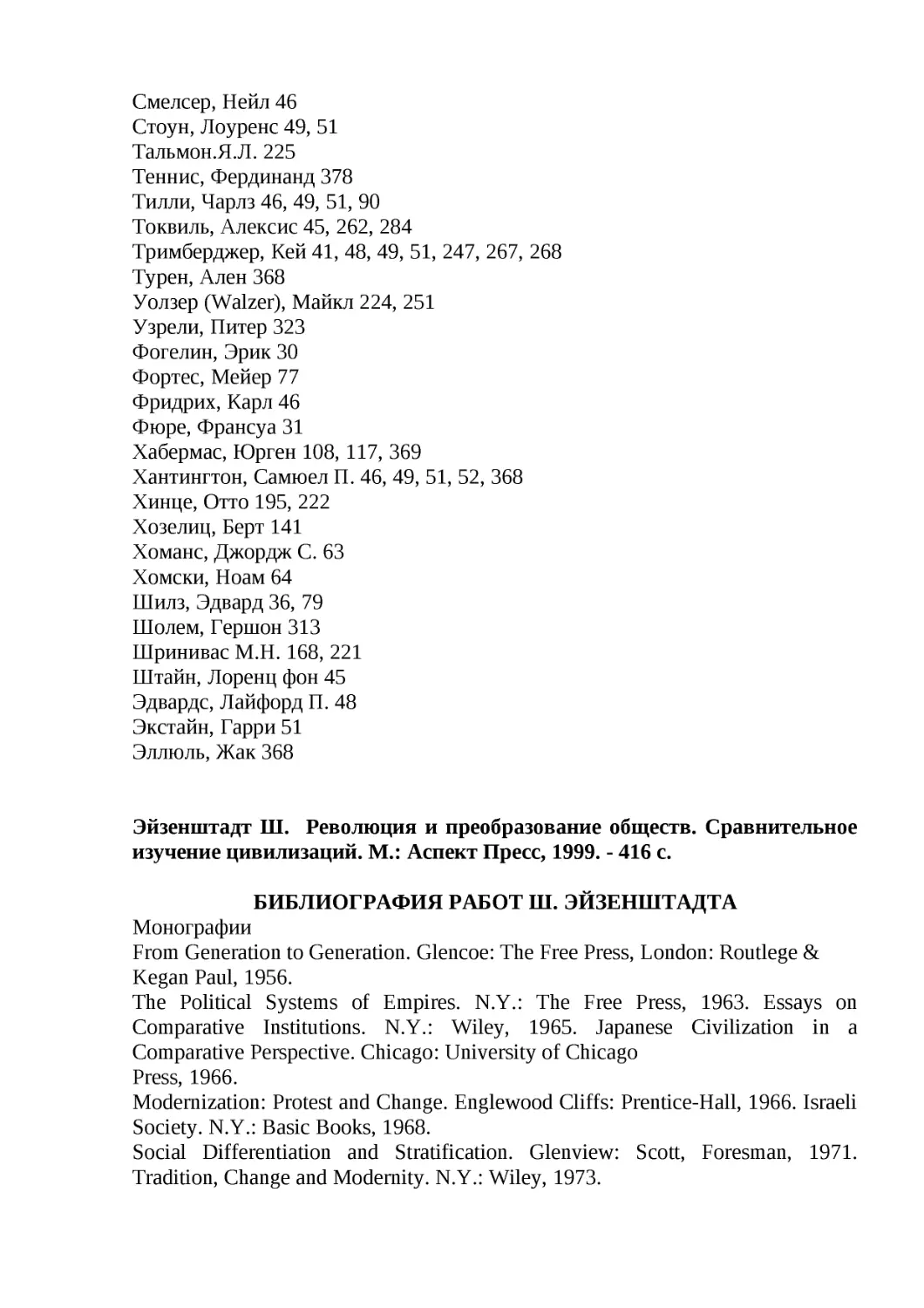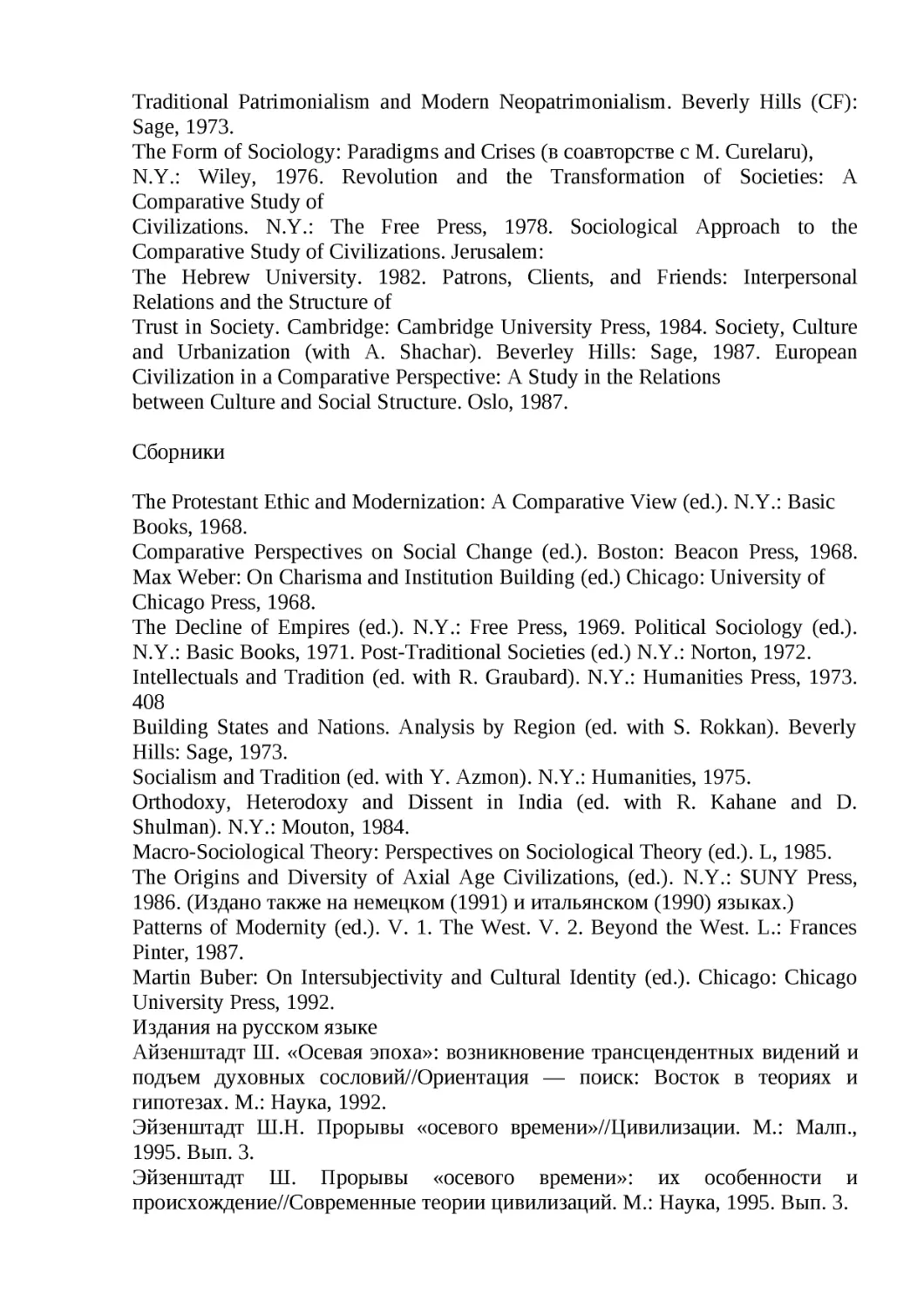Author: Эйзенштадт Ш.
Tags: общее школьное образование общеобразовательная школа социальное развитие в целом социология отдельных общественных систем социология организаций социология экономики социология история цивилизаций гуманитарные науки учебная литература издательство аспект пресс
ISBN: 5-7567-0231-8
Year: 1999
Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ. Сравнительное
изучение цивилизаций. М.: Аспект Пресс, 1999. - 416 с.
Эйзенштадт Революция и преобразование обществ 1999
Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ. Сравнительное
изучение цивилизаций / Пер. с англ. А.В.Гордона под ред. Б.С.Ерасова.
М.: Аспект Пресс, 1999. — 416 с.
УДК 373.167.1 ББК 60.55 ЭЗО
Учебная литература по гуманитарным и социальным дисциплинам для
высшей школы и средних специальных учебных заведений готовится и
издается при содействии Института «Открытое общество» (Фонд Сороса) в
рамках программы «Высшее образование».
Редакционный совет: В.И. Бахмин, Я.М. Бергер,
ЕЛО. Гениева, Г.Г. Дилигенский, В.Д. Шадриков
Рецензент
зав. лаб. социальной и культурной антропологии
Института культурной антропологии РГГУ, канд. истор. наук,
доктор философии А. В. Коротаев
Эйзенштадт Ш.
Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение
цивилизаций/Пер, с англ. А.В. Гордона под ред. Б.С. Ерасова. — М.: Аспект
Пресс, 1999. — 416 с.
ISBN 5-7567-0231-8
Основной задачей книги является анализ того при каких условиях и в каких
исторических обстоятельствах происходят революции и революционные
преобразования. Более внимательный взгляд на перечень этих причин
показывает, что в некоторых случаях они приводят к упадку и распаду
режимов и империй; в других дают толчок к далеко идущим социальным
изменениям и преобразованиям, осуществляющимся, однако, не в
революционных формах.
УДК 373.167.1 ББК 60.55
© 1978 by The Free Press
A Division of Macmillan Publishing Co., Inc. © Издание на русском языке
ISBN 5—7567—0231—8
«Аспект Пресс», 1999
Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ. Сравнительное
изучение цивилизаций. М.: Аспект Пресс, 1999. - 416 с.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Ш. Эйзенштадт и его концепция общества и истории............................ 5
К читателю русского издания...................................................................23
Предисловие...............................................................................................40
Глава 1. Революции и социальные изменения как проблема................43
1. Революции Нового времени и изучение социальных изменений ...43
2. Образ революции: насилие, разрыв с прошлым и всеобщий
характер перемен………………………………………………………...44
3. Устойчивость образа подлинной революции......................................45
4. Общие положения в исследованиях революции и эволюционных
подходах к социальным изменениям………………………...................47
5. Основные положения в исследованиях революции...........................47
6. Основные подходы к изучению революции.......................................48
7. Слабые места в изучении революции..................................................50
8. Последствия слабости в подходах к изучению революции..............52
9. К новому подходу..................................................................................52
Глава 2. Протест, восстание, инакомыслие и изменения
в человеческих обществах........................................................................57
1. Социологический подход к изменениям.............................................57
2. Анализ изменений в современных социологических теориях..........62
3. Теоретическая конвергенция: символические и
институциональные характеристики систем социальной
организации — основополагающие нормы
социального взаимодействия....................................................................67
4. Символический аспект человеческой деятельности.
Содержание основополагающих норм социального
взаимодействия и параметров социального порядка.............................70
5. Институционализация основополагающих норм
социального взаимодействия....................................................................73
6. Переплетение символических и организационных аспектов
социальной деятельности. Установление основополагающих
норм для основных институциональных сфер........................................76
7. Построение социентальных центров и основных
типов коллективов......................................................................................79
8. Взаимодействие экзистенциальных кодов, социальных кодов
и символов коллективной идентичности. Институционализация
кодов и общественного разделения труда как источник
напряженности, конфликта и противоречий...........................................82
9. Темы протеста, порожденные институционализацией кодов
и общественным разделением труда........................................................86
10. Протест, восстание, изменения и насилие........................................89
11. Вариативность изменений...................................................................90
Глава 3. Изменения в традиционных обществах. Краткий обзор.........95
1. Изменения в первобытных обществах.................................................95
2. Основные черты архаических и исторических цивилизаций.
Особенности социетальной дифференциации........................................97
3. Традиционная легитимность. Институционализация,
напряженность и противоречия.............................................................100
4. Восстание, инакомыслие и политическая борьба в
традиционных обществах.......................................................................103
5. Разнообразие традиционных обществ и
эволюционная парадигма.......................................................................105
6. Предварительный критический анализ эволюционной
парадигмы………………………………………………………............111
7. Проблема революции в сравнительном анализе социальных
изменений………………………………………………………………115
Глава 4. Типы изменений в традиционных обществах.......................118
Часть 1. Типы изменений.......................................................................118
1. Введение..............................................................................................118
2. Тип обособленных изменений. Патримониальные общества,
племенные объединения и режимы городов-государств....................120
3. Слабая совмещаемость движений протеста и идеологического
обоснования политической борьбы при обособленных
изменениях………………………………………………………...........123
4. Конфликты и противоречия при обособленных изменениях........126
5. Тип совмещающихся изменений. Имперские и
имперско-феодальные общества……....................................................127
6. Совмещаемость движений протеста и идеологического
обоснования политической борьбы в имперских и
имперско-феодальных обществах……..................................................130
7. Конфликты и противоречия в имперских и
имперско-феодальных обществах……..................................................131
8. Изменения в особых городах-государствах и племенных
объединениях…………………………………………………………...132
Часть 2. Формирование различных типов изменений..........................134
1. Введение................................................................................................134
2. Структура центров. Отношения между центром и периферией и
формирование социальных слоев в имперских и
имперско-феодальных режимах. Структурирование коллективов …134
3. Культурные ориентации имперских и
имперско-феодальных обществ..............................................................138
4. Структура центров, отношения центра и периферии и
формирование социальных слоев в патримониальных режимах.
Структурирование коллективов.............................................................139
5. Формы включения социальных подразделений в
патримониальных режимах.....................................................................143
6. Культурные ориентации, господствовавшие в
патримониальных режимах.....................................................................144
7. Структура центров. Отношения между центром и
периферией, формы конфликтов, противоречий и
преобразовательные потенции в имперских и
патримониальных системах....................................................................145
8. Структура центров. Отношения между центром и
периферией и формирование социальных слоев в
особых городах государствах и
племенных объединениях…………………….......................................148
9. Культурные ориентации особых городов-государств и
племенных объединений.........................................................................150
Часть 3. Аналитические выводы............................................................152
1. Культурные ориентации и их символическая разработанность.
Структура институтов и типы изменений.............................................152
2. Состав и автономность институциональных организаторов и
элит. Культурные ориентации. Структура институтов. Типы и
направления изменений…………….......................................................155
Глава 5. Разнообразие типов изменений и преобразования в
традиционных обществах. Несколько избранных случаев..................161
Часть 1. Типы изменений в патримониальных режимах......................161
1. Различие культурных ориентации. Своеобразие организаторов и
типы изменений………............................................................................161
2. Изменения в патримониальных режимах. Буддистские общества.162
3. Изменения в потусторонне-ориентированных цивилизациях.
Индия………………………………………………….............................163
I. Культурные ориентации. Пространственные рамки и структура
центров. Системы социальной иерархии и институциональные
организаторы.
II. Рамки институциональных структур.
III. Формы социальной мобильности.
IV. Типы изменений.
V. Переплетение изменений и преемственности.
ЧАСТЬ 2. Типы изменений в имперских и
имперско-феодалъных системах............................................................171
Введение...................................................................................................171
2. Российская империя............................................................................173
I. Культурные ориентации. Структура центров и состав
институциональных организаторов.
II. Формирование социальных слоев.
III. Типы изменений
3. Византийская империя.......................................................................178
4. Китайская империя.............................................................................179
I. Культурные ориентации и структура центров.
II. Формирование социальных слоев.
III. Основные институциональные организаторы. Ученые-книжники.
IV. Движения протеста. Восстания, инакомыслие и политическая
борьба.
V. Низкий уровень совмещаемости между изменениями.
5. Исламская цивилизация......................................................................187
I. Культурные ориентации. Структура центров и состав
институциональных организаторов.
II. Складывание социальной иерархии, особенности восстаний
и характер перемен. Соотношение племенных,
патримониальных и имперских принципов.
6. Западная, или европейская, цивилизация.........................................193
I. Культурные ориентации. Структурный плюрализм.
II. Формирование социальных слоев, центра и институтов.
III. Формы протеста и типы изменений
7. Сравнительное замечание. Япония.....................................................199
Часть 3. Аналитические и сравнительные выводы...............................201
1. Символическая разработанность. Структура элит. Типы
изменений……………………………………………………..................201
2. Культурные ориентации, определяющие типы изменений.
Приверженность космическому и социальному порядкам...................203
3. Культурные ориентации, определяющие типы изменений.
Восприятие напряженности между космическим и мирским
порядками. Потусторонние очаги спасения...........................................204
4. Культурные ориентации, определяющие типы изменений.
Посюсторонние очаги спасения……......................................................207
5. Культурные ориентации, условия среды и типы изменений.
Замкнутые и соединяющиеся рынки……...............................................210
6. Зависимость от внешних рынков и типы изменений.
Города-государства и племенные объединения…….............................213
7. Разнообразие форм изменений в традиционных обществах.
Пересмотр эволюционной парадигмы.....................................................214
8. Символические и структурные основания традиционных обществ.
Их воздействие на характер изменений...................................................219
Глава 6. Революции Нового времени. Революционные предпосылки
и революционная символика современной цивилизации......................223
1. Особенности революций Нового времени...........................................223
2. Изменение содержания протеста в революциях Нового времени.
Историческая память о революциях в современных обществах….......226
3. Последствия революций Нового времени. Современные
социальные структуры. Цивилизация Нового времени..........................228
4. Революционные предпосылки современной цивилизации.................231
5. Распространение современной цивилизации. Международные
системы……………………………………………………………………234
6. Революционная символика в современной цивилизации.
Распространение социализма……............................................................235
7. Противоречия современной цивилизации и распространение
социализма…………………………..........................................................238
8. Носители современных революционных символов...........................241
9. Дифференцированность в распространении радикалистских
тенденций, социализма и революционной символики...........................242
Глава 7. Социальные и исторические предпосылки революций
Нового времени……………………………..............................................245
1. Условия, приведшие к революциям Нового времени. Различные
подходы.......................................................................................................245
2. Социокультурная среда революций Нового времени........................249
3. Историческая среда революций Нового времени..............................252
4. Социальные, культурные и исторические условия поздних
революций...................................................................................................253
5. Социальные, культурные и исторические предпосылки
революции...................................................................................................256
6. Ранние и поздние революции. Сходство и различия.........................257
Глава 8. Разнообразие типов революций и различие их результатов...260
Часть 1. Нарушение преемственности, насилие и
институциональная экспансия в процессе модернизации.....................260
1. Подходы к изучению результатов революций....................................260
2. Критерии институциональных изменений в
постреволюционных обществах...............................................................263
3. Условия, приведшие к различию результатов революций.
Существующие подходы. Экономическая отсталость. Классовая
структура общества...................................................................................265
4. Критика существующих подходов......................................................266
5. Структура центров и элит. Отношения солидарности в
революционных обществах......................................................................268
Часть 2. Сравнительные исследования результатов революций..........270
1. Революционные процессы и их результаты в Европе.......................270
2. Американская революция и Нидерландское восстание....................275
3. Революционный процесс и его результаты в Китае .........................276
4. Революционный процесс и его результаты в России........................280
5. Революционный процесс и его результаты в Турции.......................282
6. Преемственность в культурных кодах, символах идентичности и
структуре институтов...............................................................................284
7. Изменение структуры традиции..........................................................287
Часть 3. Аналитические заключения......................................................292
1. Структура и закрытость центров. Разновидности революций и
типы социальных преобразований. Нарушение преемственности
и структурные перемещения...................................................................292
2. Закрытость центров. Отношения солидарности, структурные
сдвиги и принуждение при структурных преобразованиях
в постреволюционных обществах..........................................................296
3. Автономность и сплоченность элит. Изменение структуры
институтов................................................................................................298
4. Изменение структуры правящего класса. Преобразование
традиций и ориентации протеста...........................................................300
5. Одна из иллюстраций. Китайская революция..................................302
6. Международная среда и результаты революций..............................305
Часть 4. Сравнительные экскурсы..........................................................307
1. Революционные тенденции в Европе XIX-XX вв.............................307
2. Преобразовательные потенции еврейской традиции и
революционные тенденции в еврейском обществе..............................310
3. Япония. Реставрация Мэйдзи и нереволюционные
преобразования.........................................................................................319
Глава 9. За пределами классических революций. Тип изменений и
революционные процессы в неопатримониальных обществах...........324
1. Введение................................................................................................324
2. Включение патримониальных обществ в современные
международные системы.........................................................................325
3. Структурные особенности неопатримониальных обществ.
Отношения между центром и периферией и их влияние на
политический процесс.............................................................................327
4. Процессы изменений в неопатримониальных обществах.
Социальная мобильность. Изменение структуры элит,
институциональных сфер и систем социальной иерархии..................331
5. Тип несовмещающихся изменений в неопатримониальных
обществах.................................................................................................333
6. Изменение структуры элит и популистский тип интеграции.........334
7. Преемственность патримониального типа отношений центра
и периферии.............................................................................................335
8. Устойчивость патримониальных ориентации..................................336
9. Структура элит в неопатримониальных обществах.
Укорененность, недостаток автономности и обособление.................339
10. Разновидности элит в неопатримониальных обществах...............340
11. Структура восстаний, движений протеста и политической
борьбы в неопатримониальных обществах...........................................342
12. Неустойчивость неопатримониальных режимов............................344
13. Принуждение, репрессии, экспансия и стабильность в
неопатримониальных обществах...........................................................344
14. Революционные движения в неопатримониальных обществах ...348
15. Международные факторы.................................................................349
16. Революции и революционные режимы в неопатримониальных
обществах: Мексика, Боливия, Куба, Португалия................................349
17. Резюме.................................................................................................356
Глава 10. За пределами классических революций. Революционные
движения и радикалистские тенденции в позднесовременных
обществах.................................................................................................360
1. Ожидание революции..........................................................................360
2. Структурные преобразования. Институционализация
революционной символики. Изменение отношений между
государством, обществом и экономикой...............................................364
3. Обособление политической борьбы и новые формы конфликтов.
От революции к бунту.............................................................................367
4. Изменяющиеся очаги протеста...........................................................368
5. Революционные и радикалистские группы. Студенческий бунт.... 371
6. Ослабление тенденций к революционным преобразованиям.
Сдвиги в основаниях современной цивилизации..................................374
Эпилог........................................................................................................379
1. Введение................................................................................................379
2. Включение революционной символики в современных
обществах...................................................................................................379
3. Условия включения революционных символов................................382
4. Аналитические заключения.................................................................386
5. Анализ революций и критика социологической теории...................386
6. Необходимость дальнейших исследований.......................................388
Послесловие. Категории «цивилизация» и «революция» в
концепции Ш. Эйзенштадта на фоне «нового мышления» .................391
Указатель имен исследователей..............................................................406
Библиография работ Ш. Эйзенштадта....................................................408
Учебное издание Шмуэль Н. Эйзенштадт
РЕВОЛЮЦИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВ.
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Редактор Н.В. Евстигнеева. Корректор А.А. Баринова Компьютерная верстка
О.С. Коротковой
ЛР№ 090102 от 14.10.94
Подписано к печати 05.01.99. Формат 60x90Vi6- Бумага офсетная.
Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 26,0.
Тираж 5000 экз. Заказ № 123.
Издательство «Аспект Пресс». 111398 Москва, ул. Плеханова, д. 23, корп. 3.
e-mail: Aspect.Press@relcom.ru. Тел. 309-11-66, 309-36-00
Книжный магазин в Интернете: www.igl.ru
Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.
Основной задачей книги является анализ того при каких условиях и в
каких
исторических
обстоятельствах
происходят
революции
и
революционные преобразования. Более внимательный взгляд на перечень
этих причин показывает, что в некоторых случаях они приводят к упадку и
распаду режимов и империй; в других дают толчок к далеко идущим
социальным изменениям и преобразованиям, осуществляющимся, однако, не
в революционных формах
Б.С. Ерасов
Ш. ЭЙЗЕНШТАДТ И ЕГО КОНЦЕПЦИЯ ОБЩЕСТВА И ИСТОРИИ
Выход данной книги должен осуществить давно назревшую необходимость
расширенного знакомства с научными трудами Ш. Эйзенштадта, видного
представителя мировой социологии, ученого, внесшего крупный вклад в
разработку теорий модернизации, цивилизации и революции.
Шмуэль Hoax Эйзенштадт — израильский социолог и специалист в области
теории цивилизаций. Родился в Варшаве в 1923 г. В 1935—1940 гг. он
заканчивает свое школьное образование в Тель-Авиве, затем учится в
Еврейском университете (Иерусалим), а в 1947—1948 гг. проходит
докторантуру в Лондонской школе экономики.
С 1946 г. он состоит в штате Еврейского университета в Иерусалиме, где с
1951 г. возглавил Социологическое отделение. В I960— 1990 гг. как
приглашенный профессор Гарвардского, Чикагского, Стэнфордского,
Мичиганского технологического, Венского, Цюрихского и других
университетов вел систематическую исследовательскую работу, многократно
отмечался почетными научными званиями и наградами, в том числе избран
почетным доктором Хельсинкского и Гарвардского университетов, а также
Еврейского института религий.
Источники формирования научных интересов Ш. Эйзенштадта и
определение предмета собственных исследований. Уже в ранние годы
формирования Ш. Эйзенштадта как исследователя большое влияние на него
оказала
школа
социокультурной
компаративистики,
получившая
интенсивное развитие в английской науке (М. Гинсберг, Т. Маршал, Р. Фирт,
Э. Эванс-Причард, М. Фортес, Э. Лич, О. Ричарде, М. Глакмэн).
Существенными источниками общей социологической концепции Ш.
Эйзенштадта стали поздняя структурно-функциональная социология,
представленная именами Т. Парсонса, Р. Мертона, П. Лазарсфельда, Э.
Шилза и других ученых, а позднее развивавшиеся в 60-х гг. социальная
психология (М. Шериф, Е. Шибутани, Г. Хаймэн), теория конфликтов (Р.
Дарендорф, Дж. Рекс, Р. Бендикс и др.), теория символического
интеракционизма. В основание общесоциологической концепции ученого лег
также институциональный подход, выявляющий значение «носителей» тех
или иных ценностных ориентацией, властных полномочий, престижа и
хозяйственных функций. Ш. Эйзенштадт опирался и на концепцию «центр—
периферия», получившую столь основательное развитие в работах Э. Шилза.
В
становлении
макросоциологической
концепции
цивилизаций
существенную роль сыграла философия истории К. Ясперса, прежде всего
проблема «осевого времени».
Не меньшее влияние на формирование концепции Ш. Эйзен-штадта оказали
и неомарксистские подходы, получившие развитие в работах ряда
французских ученых, в том числе в русле теорий «азиатского способа
производства» (М. Годелье, А. Лефевр, Л. Себаг, Ф. Тёкеи). Именно эти
последние способствовали тому, что в его исследованиях большое место
занял анализ производственных отношений, факторов, определяющих
перераспределение «свободных ресурсов».
Ш. Эйзенштадт писал о себе: «В центре моих интересов, сформировавшихся
под влиянием этих школ, была проблема человеческой деятельности и ее
предпосылок, особенно по отношению к социальной сфере, а также проблема
формирования различных социальных образований — от так называемых
микрогрупп до более формализованных институтов и макроинститутов».
По признанию самого ученого, его подход складывался в существенном
плане вопреки основным положениям структурно-функциональной школы,
связанной с именем Т. Парсонса. Ш. Эйзенштадт придавал особое значение
именно внутренним противоречиям, присущим каждой из систем, степени
выделенное™ институциональных и символических компонентов, роли элит,
соотношению внутренних и внешних факторов и т. п. Он в корне
пересмотрел те типовые переменные деятельности (партикуляризм—
универсализм,
предписанное—достижительное,
диффузность—
специфичность и т.д.), которые долгое время были приняты в
постпарсоновской социологии, и вели к дихотомному пониманию
общественного устроения. Приняв эти оппозиции как идеальные крайности,
Ш. Эйзенштадт ввел широкий набор переменных факторов и состояний, что
снимало классификацию «стадий» универсального процесса перехода
общественных изменений, а выявляло иные типы и варианты социального
устроения и динамики.
Ключом к выяснению рамок творческой активности, соотношения между
деятельным началом и условиями человеческого существования стало, по его
признанию, положение, сформулированное К. Марксом в известном
изречении: «Люди сами делают свою историю, но они ее делают не так, как
им вздумается, при обстоятельствах, которые не сами они выбрали, а
которые непосредственно имеют место, даны им и перешли от прошлого».
Перекличку с этим положением он находит в веберовской концепции
харизмы и ее рутинизации.
Сравнительные исследования впоследствии выводят Ш. Эйзенштадта на
работу в двух основных направлениях: во-первых, проведение широких
историко-социологических сопоставлений, а во-вторых, изучение развития и
модернизации. Но в рамках обоих направлений ученый стремился прежде
всего выявить применимость общих принципов социологической теории к
проблемам компаративистики.
С самого начала проявились ведущие устремления интереса Ш. Эйзенштадта
— социокультурная и политологическая компаративистика, изучение
проблем модернизации, соотношение социальных перемен и принципов
солидарности и доверия в рамках различного типа общностей. В последние
два десятилетия эти интересы вывели его на сравнительное изучение
цивилизаций и их динамики.
Как и в трудах других крупных социологов, в общей концепции Ш.
Эйзенштадта раскрывается сложность и многообразие компонентов,
составляющих социальный объект. Его устроение и динамика развития
определяются не постоянными «законами истории», а взаимодействием (или
конфликтами) субъектов социального действия при определенном устроении
общества. Работы Ш. Эйзенштадта во многом способствовали выработке
многоплановой парадигмы анализа сложной структуры социокультурной
реальности и развитию теории взаимодействия различных компонентов
социальной регуляции.
Исследование механизмов социальной солидарности. Ранняя тема,
занимавшая Ш. Эйзенштадта в работах 50—60-х гг. — изучение
микромеханизмов социальной солидарности, их перенос с ограниченных
семейных и родственных рамок и расширение до ритуально родственных
групп и дружественных отношений, более универсальных общностей, а
также их соединение с достижительными ориентациями. В самом общем
виде это была проблематика ас-криптивных связей.
Эта тема продолжает занимать ученого и позднее. В 1984 г. он (совместно с
Л. Ронигером) выпускает работу «Патроны, клиенты и друзья», в которой
общетеоретическому рассмотрению подвергается механизм соотношения
микро- и макроуровней солидарности в устроении общества, расширения
рамок доверия и функционирования обмена в этих рамках. Уже тогда он
стремится раскрыть значение изучения индивидуальных и групповых целей
— и не только утилитарных, но и направленных на утверждение
«правильного» социального порядка.
Становление его макросоциологической концепции проходит через
несколько этапов.
В 70-х гг. Ш. Эйзенштадт находится в гуще тех радикальных дискуссий,
зачастую обозначаемых как «кризис социологии», связанный с выявлением
ограниченности прежних частичных методов и стремлением расширить
рамки взаимодействия различных подходов, чтобы показать соотношение и
взаимодействие компонентов социальной регуляции. Существенное значение
имел выход ученого на проблему, поставленную еще К. Марксом и Э.
Дюркгеймом: разделение труда само по себе не обеспечивает в
определяющей степени социальную регуляцию, так как порождает
разделенность различных социальных групп и классов, чувство отчуждения
(К. Маркс) и аномии (Э. Дюркгейм), не гарантирует удовлетворения
организационных потребностей сообщества и его потребность в
коллективной безопасности, не обеспечивает в должной мере взаимного
доверия среди членов сообщества и выполнения ими своих взаимных
обязанностей. Все это вызывает состояние напряженности в обществе и
приводит к движениям протеста и социальным конфликтам и внутренней
борьбе.
В регуляции этих процессов важное значение имеет как политика, так и
культура. Это потребовало признания «реального», т.е. самостоятельного
статуса и государства, и культуры. При этом культура не может
рассматриваться ни как «отражение» иных, более «глубоких» социальных
сил, ни как набор специфических средств, которые могут быть использованы
в зависимости от «интересов» тех или иных групп и слоев. Соответственно,
существенное значение приобрело изучение и таких важных составляющих
ее компонентов, как религия, символическая структура, социальные
институты.
Основополагающим принципом всей концепции Ш. Эйзен-штадта стало
положение о том, что культура занимает важное место в социальной
регуляции через воплощение присущих ей норм и смыслов в определенных
институциональных формах и процессах. Хотя эти процессы не определяют
непосредственно конкретного поведения и характера деятельности
индивидов, в них задаются общие нормативно-ценностные и смысловые
рамки такой деятельности. Отнюдь не собственно символическая сфера
является источником базовых рамок деятельности и регуляции общества.
Во всяком обществе существуют весьма различные варианты и комбинации
ценностно-смысловых и социальных кодов, т.е. упорядоченных и
постоянных наборов культурных элементов или элементов социальных
структур. Однако их воздействие на общество определяется характером и
степенью их институционализации, которая обусловливает их селекцию и
внедрение в систему общественной регуляции.
Кроме того, значительное место ученый отводит принципам освоения и
распределения ресурсов, т.е. создающихся в обществе богатств.
Соотношение между различными социальными группами и государством во
многом зависит от их возможности распоряжаться «свободными ресурсами».
Анализ имперских образований. Рассматриваемые в разных ракурсах
совокупности указанных выше компонентов составляют империи и
цивилизации как особого рода образования, отнюдь не совпадающие друг с
другом и имеющие самостоятельное бытие и особые институты, но большей
частью взаимодополняющие друг друга по функциям в системе социальной
регуляции. Многообразие самих компонентов и комплексов их
взаимодействия порождает различия в имперском и цивилизационном
устроении.
В самом общем плане основные работы Ш. Эйзенштадта на протяжении
большей части его творческой деятельности были посвящены рассмотрению
империй и цивилизаций. В 1963 г. появилась первая крупная общая работа
Ш. Эйзенштадта «Политические системы империй». Как отмечал сам автор,
его задача состояла в том, чтобы дать социологический анализ не только
собственно политических систем, определявших характер бюрократических
империй, возникавших в разные периоды истории, но также их социальных и
ценностных структур.
Уже в этой работе в полной мере проявилась способность Ш. Эйзенштадта не
сводить исследование к собственно концептуальным построениям, а
насыщать их огромным сопоставительным материалом, охватывающим
большинство макросоциологических образований Старого Света.
На протяжении всех своих работ Ш. Эйзенштадт последовательно проводил
и доказывал то важное положение, что классические цивилизации
развивались именно в связи с империями как политико-социальными
образованиями, выполнявшими определенные функции и нуждавшимися в
религиозно-идеологическом дополнении. Это дополнение вырабатывалось в
рамках религиозно-идеологической системы как вполне автономного
образования, строившегося по своим законам.
В рамках имперских и имперско-феодальных структур Ш. Эйзенштадт, как и
Э. Шилз, проводит функциональное и структурное различие между
ценностно-смысловыми (символическими) и институциональными сферами
взаимодействия центра и периферии. Он противопоставляет такого рода
империи собственно феодальным образованиям, подчеркивая, что логика
империй была направлена во многом на ограничение феодализма, его
возможностей использования свободных ресурсов и на поддержание
свободного крестьянства или колоний, торгово-ремесленных слоев, что и
способствовало росту ресурсов общества и центра. Однако скованность и
социального основания, и самого центра традиционными аскриптивными
принципами ограничивала и рост ресурсов.
Тем самым его концепция очевидным образом отличается от той, которую
разрабатывал А. Тойнби. «Универсальное государство», рассматривавшееся
А. Тойнби как «завершающий этап» эволюции цивилизации и свидетельство
ее приближающегося конца, в теоретическом подходе Ш. Эйзенштадта
фигурирует как вполне функциональный, устойчивый и эволюционирующий
компонент цивилизационной регуляции вплоть до возникновения «цивилизации Нового времени» с ее национально-государственными образованиями.
Характерной чертой этих образований является их внутренняя динамика,
обусловленная сложным взаимодействием различных факторов, в том числе
степенью дифференциации политических и социальных структур,
характером духовных ориентации (посюсторонние или потусторонние),
структурой духовного института и т.д.
Проблематика общества в истории. Другое измерение социальной регуляции
в концепции III. Эйзенштадта составляет цивилизация. Ключ к пониманию ее
роли он находит в той философии истории, которая получила глубокое
выражение в работах К. Ясперса.
Обращение к этой проблематике дало Ш. Эйзенштадту возможность выявить
отношения между культурными, социальными и институциональными
факторами, не совпадающие с собственно разделением труда, и разработать
теорию цивилизаций «осевого времени».
Ш. Эйзенштадт дает следующее определение «осевых» револкь ций:
«Природа «осевых» революций заключается в утверждении изначально
существующей напряженности между трансцендентным и мирским
порядками. Если в до-«осевых» языческих обществах иной мир осмыслялся
по принципам, сходным с теми, что были приняты в мирских, более низших
порядках, то в цивилизациях «осевого времени» возникало представление о
четком отделении внемирского порядка от мирского, что сопровождалось и
оформлением возвышенного трансцендентного нравственного или
метафизического порядка, находящегося за пределами любой наличной
посюсторонней или потусторонней реальности».
Это разделение мирского и внемирского порядков приводит, по мнению Ш.
Эйзенштадта, к формированию поля интеллектуальной и нравственной
напряженности, к значительному изменению принципов регуляции общества
и человеческого поведения. Новая эпоха неизбежно ставит перед человеком
вопрос о путях преодоления разрыва между трансцендентным и мирским
порядками. Отныне важнейшей целью поведения становится спасение,
достигаемое путем целенаправленных длительных усилий. Это и породило
проблематику спасения, основательно рассмотренную в работах М. Вебера".
Важным следствием внедрения нового мировоззрения, как показывает Ш.
Эйзенштадт, стало развитие идейных течений и социальных движений,
направленных на перестройку земных порядков в соответствии с
представлениями о выбранном пути преодоления исходной напряженности
между трансцендентным и мирским порядками. Реализация такой
перестройки всегда влечет за собой множество внутренних противоречий.
Именно эти противоречия — и их отражение в столкновении институтов —
повлекли за собой новый тип социальной и культурной динамики в истории
человечества.
Идеологизация общественной жизни и динамика цивилизаций. Внедрение
представлений о напряженных отношениях между указанными порядками
вело к формированию особых типов знания — философии, религии,
метафизики, естествознания и т.д. Тем самым прежние сугубо ситуационные
формы моральной рефлексии и накопленные знания отодвигались во
вторичные сферы знания. Это превращение стало началом того, что
именуется интеллектуальной историей человечества.
Ш. Эйзенштадт проводит различие между культурно-идеологическими
ориентациями, сформированными в рамках религиозной системы, и теми,
которые приняты в рамках собственно политических режимов, входящих в ту
или иную цивилизацию. Между этими типами ориентации налаживаются
различные варианты взаимодействия в зависимости от типа самого режима
(патримониальный, имперский и имперско-феодальный).
В ходе этой дифференциации происходит разделение сферы и органов
политической борьбы и административного управления, оформляется
система бюрократического управления обществом, и которая выполняет
важные функции социальной регуляции. Важным критерием возникновения
новых органов регуляции, как показывает Ш. Эйзенштадт, становится
ослабление прежних аскрип-тивных связей, привязывавших население к
локально-территориальным группам, и формирование новых социальных
групп на основе критериев умения, богатства, достижений или политической
лояльности правителям.
Существенным вкладом Ш. Эйзенштадта в анализ механизма
функционирования цивилизации стало: 1) выяснение соотношения между
властными и религиозными сферами регуляции и их взаимодействия; 2)
выяснение степени внутреннего разделения властных и религиозных систем
и институтов; 3) установление типологии политических систем в
зависимости от степени охвата разнородных элементов, степени выделения
центра и централизации власти.
Эти процессы происходят как в политической, так и в религиозной сфере.
При рассмотрении религиозной сферы Ш. Эйзенштадт подчеркивает как
наличие в ней гораздо более широких, зачастую универсальных, оснований
для утверждения аскриптивных связей, так и возможность соединения
религиозных связей с локальными вариантами (в рамках «малой традиции»).
Именно утверждение такого рода ценностно санкционированной духовной
связи создавало предпосылки для условного поддержания власти или даже
противостояния ей. В обществе возникали сложные, а подчас напряженные
отношения между разными сферами и структурами.
Обращение к цивилизационному подходу дало возможность ученому
выявить и особые параметры динамики изменений внутри сложных обществ,
прежде всего значение тех социальных движений, сектантского и
оппозиционного характера, которые отстаивали иные концепции разрешения
противоречий между потусторонним и мирским порядками, а также иные
способы формирования социальных институтов. Стремление к реализации
альтернативных мировоззренческих установок протекало в условиях
соперничества с устоявшейся ортодоксией. Носителями такой реализации
выступали особые автономные социальные группы и институты. Концепция
гетеродоксии, раскола как выражения широкого движения протеста, стала
важным компонентом объяснения истории развития сложных обществ.
Динамика цивилизации в трактовке Ш. Эйзенштадта предстала не как
развертывание изначально присущих ей духовных или социальных
особенностей, а как переменная, зависимая от характера идеологических и
структурных связей и взаимодействия между различными очагами
политической власти и конфликта, движениями протеста, принятия решений
личностями, поставленными в определенные исторические условия.
Расхождение в этих условиях приводило к существенным различиям в
судьбах обществ, относящихся, казалось бы, к сходным цивилизационным
регионам.
Критика и преобразование теории модернизации. В 70-х гг. Ш. Эйзенштадт
выпустил ряд книг по теории модернизации, которые во многом
способствовали переосмыслению ранних подходов к процессам
модернизации, отказу от поверхностной однолинейной модели модернизации
как уподобления западному образцу, введению в анализ различных сторон
макросоциальной регуляции.
Критика со стороны Щ. Эйзенштадта в адрес ранних теорий модернизации
была направлена прежде всего на несостоятельность дихотомного
восприятия современной социальности, как противостояния традиций и
современности. В рамках этой концепции появилось огромное количество
работ
социологического,
экономического,
политологического,
антропологического и исторического плана, в которых традиции
воспринимались как косная сила, которая подлежит слому, чтобы обеспечить
возникновение и рост современных развивающихся укладов. В рамках такого
подхода оказывалось невозможным объяснить разнообразие переходных
обществ, присущую им внутреннюю динамику, а также возможности
самостоятельного
развития
современных
дифференцированных
политических и экономических комплексов. Работы Ш. Эйзенштадта во
многом
способствовали
выявлению
значительного
разнообразия
традиционных обществ по степени того, насколько присущие им
политические, социальные и культурные структуры задерживали или же,
напротив, облегчали переход к современности. Важной темой его работ стал
показ того, как модернизация, подрывая сложившиеся в обществе принципы
социальности и структурного устроения, порождает протест и
дезинтеграцию. Реакцией на такой разлад становится возрождение прежних,
традиционных принципов и моделей.
Именно выделение основных противоречий модернизации дало Ш.
Эйзенштадту основу для создания многомерной модели, учитывающей
различные стороны процесса изменения характера общества. Он настойчиво
подчеркивает, что модернизация — процесс противоречивый и отнюдь не
сводится к усвоению достижений современного Запада. Ведущие
противоречия исследователь обозначает как: а) перемены против
стабильности и преемственности, б) новые принципы рациональности против
культурного достояния в) свобода против авторитаризма. Трудности в
разрешении этих противоречий приводили к дезорганизации, социальному
протесту, многократным срывам в реформировании общества.
Существенное значение в анализе путей и принципов модернизации Ш.
Эйзенштадт придает рассмотрению роли традиций, однако не в их
общетипологическом плане как дихотомного начала, противостоящего
«современности», а именно как специфики, связанной с той или иной
цивилизационной системой. Обширная компаративистика, проведенная Ш.
Эйзенштадтом, была основана прежде всего на общей концепции
цивилизационного устроения, в разработку которой он же сам сделал
огромный вклад. Именно компаративистика в русле цивилизационного
подхода дает возможность системного анализа, учитывающего характер
сложившегося в данном обществе достояния, его реакцию на воздействие
Запада и специфику движения к современности. Вопреки ранней модели
модернизации как конвергенции всех более поздних обществ с
«современным индустриальным» постепенно утвердилась иная, более гибкая
и многофакторная модель, предполагающая сохранение специфики, прежде
всего цивилизационной, что проявляется в функционировании особых
институциональных и духовных структур, присущих данному обществу.
Модернизация — это «вызов», на который каждое общество дает «ответ» в
соответствии с принципами, структурами и символами, заложенными в его
достоянии в результате длительного развития. Одним из проявлений
модернизации, подчеркивает Ш. Эйзенштадт, стали движения протеста,
принимавшие в ряде случаев характер революций.
Многолетние исследования Ш. Эйзенштадта охватили несколько крупных
блоков базовой социологической теории: соотношение между культурными
системами, институциональным и политическим устройством; агенты
социального действия; историческая преемственность. Своего рода
завершением такой многоплановой работы стала книга «Революция и
преобразование обществ. Сравнительное изучение цивилизаций»16.
Раскрыв ограниченность многих принятых подходов, способных объяснить
социальные изменения или крушение тех или иных режимов, но не природу
или результаты такого рода крушений, Ш. Эйзенштадт создал многомерную
картину тех факторов и компонентов, взаимодействие которых формирует
макросоциальный порядок и вызывает в нем изменения. Это прежде всего
символические и организационные принципы устроения общества.
Сопоставление изменений дает ученому основание для типологии перемен в
традиционных обществах.
1. Для обособленного типа характерна малая степень соединения перемен в
отношении доступа к власти и остальных сферах регуляции общества: в его
символической системе, в его этнических, национальных или религиозных
измерениях и границах. Политическая система остается относительно
незатронутой переменами.
2. Совокупному типу присущ относительно высокий уровень соединения
изменения в различных основополагающих нормах социального
взаимодействия и тенденций перестройки состава общностей и институтов
макросоциетального порядка. В процессах такого типа происходит заметная
конвергенция и интеграция различных движений протеста и политической
борьбы. Изменения протекают также при гораздо более высокой степени
осознания задач движения и самостоятельности в организации политической
борьбы.
Это направление могло перерасти в борьбу за переустройство
социоэкономических основ всего общества, а также принципов
формирования власти и политической жизни общества в целом.
3. «Особый» тип изменений получил развитие в некоторых, особых город
ах-государствах, наиболее значительные из которых были в Древней Греции
и Рим, в особых племенных федерациях, таких, как древний Израиль, и
некоторых ранних исламских государствах. Этот тип отличается очень
высокой степенью совместимости различных движений протеста и
политической борьбы и особенно высокой степенью самосознания и
символизации идеологии политической борьбы. В исключительных городахгосударствах сформировался новый тип политической символики, полное
выражение которого стала идея гражданства.
Анализ современных революций. К «современным» революциям Ш.
Эйзенштадт относит нидерландскую, английскую, Французскую 1789 г. и
американскую революции, а к «поздним современным» — европейские
революции 1848 г., Парижскую Коммуну 1870—1871 гг., но особенно
русскую революцию 1917-1918 гг., китайскую 1911-1948 гг., а также
революции в Турции, Вьетнаме и Югославии.
Ш. Эйзенштадт указывает на принципиальное отличие этих революций от
процессов, связанных с мятежами, конфликтами и переворотами в
традиционных обществах. Различие заключалось не только в размахе или
интенсивности
повстанческих
движений,
сектантских
течений,
идеологизированных политических движений и связанной с ними борьбы
между элитами. «Важнейшими отличительными чертами этих революций
были: а) связь между различными движениями протеста, б) их воздействие на
политическую борьбу в центре, в) выраженная идейная основа, г) наличие
самостоятельной структурной организации».
В структурном плане для этих великих революций была характерна тесная
связь между сектантскими (идеологическими) течениями, повстанческим
движением, борьбой за власть в центре и формированием институтов. И эта
связь была намного более тесной и прочной, чем в других движениях
протеста, имевших место в истории. Эти революции сопровождались
перестройкой идеологической сферы, границ политических и культурных
общностей, а также институциональными изменениями в экономической,
образовательной и научной сферах. Они осуществлялись различными
коалициями (или же контркоалициями), состоящими нередко из самых
разнородных политических и предпринимательских элит, политических или
культурных идеологов.
Идеи протеста, имевшие нередко утопический и милленарист-ский характер,
могли соединяться и с относительно реалистичными установками на
создание центров, общностей и институтов. И эта связь с конкретным
строительством институтов и формированием новых центров также отличала
эти революции от всех прочих движений протеста.
В идейном плане существенные перемены происходили как в принципах
легитимизации20 социального и политического порядка, так и в более
интеллектуальных учениях о природе этих порядков. Новые представления
не ограничивались выдвижением альтернативного социального и
политического порядка, как это было в более ранних движениях.
Радикальные перемены в принципах легитимности, отмеченные казнью
монархов, были связаны с устранением иерархических аспектов социального
устроения и развитием принципов равенства, солидарности, политической и
социальной свободы.
Важной стороной нового процесса стало ослабление и подрыв прежних
аскриптивных отношений и структур, как социальных, так и политических.
Эти изменения были связаны также с глубокими переменами в
господствующих
интеллектуальных
традициях.
Современные
интеллектуальные ориентации ведут свое существование от периода
Ренессанса; они сформировались в период Просвещения на основе идей
прогресса и разума. Однако особое значение имели смена религиозных
ориентацией, свершившаяся в ходе Реформации, и вызревание секулярной
оппозиции этим ориентациям. Все эти течения и изменения прямо повлияли
на центральные идейные и символические сферы в европейских обществах,
что и привело к созданию нового социального и культурного порядка.
Как подчеркивает Ш. Эйзенштадт, в поздних революционных процессах
проявилась как социальная, так и цйвилизационная реакция на противоречия
модернизации, потребность не только устранить традиционные препятствия
к развитию, но и протест против разрушения социальной общности и
подрыва тех цивилизационных основ, которые обеспечивали смысл бытия
для значительной части общества.
«Социализм и коммунизм, — считает ученый, — были первоначально
движениями протеста или интеллектуальной ереси, в которой политические
программы и идеологии соединялись с научным и философским
мировоззрением. Как движения протеста, социализм и коммунизм
сомкнулись с ориентациями на мятеж, протест, течениями интеллектуальной
критики и тенденциями формирования центров и институтов. В этом плане
они многим обязаны европейской традиции».
Социологический подход к революционным процессам и теория
модернизации позволяют Ш. Эйзенштадту показать существенные
компоненты «цивилизации Нового времени», сложившейся в Европе и
распространяющейся в той или иной степени по остальному миру. Как он
подчеркивает, эта цивилизация имеет не только экономические основания и
каналы влияния, но и международные политические и идеологические
структуры. Существенным результатом революционных перемен стало
создание, во-первых, более широких международных связей и
взаимодействие различных общественных образований. Во-вторых, это
постоянная потребность в модернизации не только как в экономическом, но
и в социальном и административном развитии. В-третьих, изменение
отношений между центром и периферией, более широкое перераспределение
власти и влияния. В-четвертых, расширение участия различных социальных
групп и элит в системе социальной регуляции.
Ш. Эйзенштадт выделяет следующие основные культурные ориентации
социализма и коммунизма как продуктов новейших революций,
способствовавших
формированию
современности:
1)
соотнесение
настоящего с будущим и концентрированные усилия на внедрение такой
ориентации; 2) всемерное подчеркивание ведущей роли коллективного
начала и социальной справедливости; 3) усиление связи между социальным,
политическим и культурным порядками и построение нового общества, а
соответственно и обоснование такой цели на основе высших идеалов,
включаемых в базовую культурную модель; 4) глубоко посюсторонняя
ориентация, выявляющая непринятие существующего порядка, его оценку в
аспекте трансцендентных ценностей; 5) подчеркивание возможности
активного участия социальных групп в формировании нового социального и
культурного порядка; 6) сильная универсалистская ориентация, отрицающая
в теории значение политических или национальных границ, но вместе с тем
стремящаяся переопределить социополитический порядок в относительно
определенных границах.
Такого рода тенденции или сложившиеся течения проявились в той или иной
степени во многих странах. Однако в большинстве этих стран они не стали
доминирующими и не привели к созданию устойчивых институтов.
Напротив, преобладающей осталась установка на преемственность, на
принятие сложившихся принципов и символов коллективного бытия.
Социализм и его революционные принципы большей частью остались
привязанными к самобытным характеристикам общества. Однако в Старом
Свете только в России и Китае, полагает Ш. Эйзенштадт, революционный
социализм стал символической и организационной основой переустройства
общества, превратившись в центральный компонент политической и
культурной идентичности.
Читателю Ш. Эйзенштадта. «Революция и преобразование обществ» отнюдь
не последняя работа Ш. Эйзенштадта в череде его многих исследований по
макросоциологии. Но именно в ней в значительной степени представлены
итоговые результаты четырех основных компонентов его общей концепции.
Это прежде всего структурный анализ политических образований, имевших
место в мировой истории. Во-вторых, это теория цивилизаций,
формированию которой, как мы видели, он сам во многом способствовал. Втретьих, это анализ исторической динамики в различных типах общества, тот
анализ, в русле которого сформировалась зрелая теория модернизации, — во
многом также продукт интеллектуального участия Ш. Эйзенштадта. Вчетвертых, это признание конструктивной роли революций Нового времени,
под влиянием которых в значительной степени сложились современные
общества.
Следует отметить, что многоплановость концепции Ш. Эйзенштадта подчас
перерастает в сложность композиций самого текста. Поэтому при научном
редактировании русского издания (конечно, с согласия автора на
предпринятые шаги) были сделаны некоторые минимальные по объему
сокращения за счет снятия второстепенной детализации авторской
аргументации, чрезмерно усложняющей восприятие многослойных
концептуальных построений. Некоторому усечению подвергся также и
обширный библиографический аппарат книги за счет снятия сводных
перечней научной литературы по тем или иным вопросам, содержащих
ссылки на трудно доступные отечественному читателю издания, или
выделения из этих перечней некоторых основных работ по данному
предмету. Изложение было дополнено примечаниями переводчика и
необходимыми пояснениями научного редактора (в затекстовых
примечаниях первые имеют помету (примеч. перев.), вторые —
комбинированный знак: номер-цифра в сочетании со звездочкой — '*).
Несколько отличен и указатель — в нем сохранены только имена
исследователей. Несмотря на все эти «вмешательства» в авторский текст,
трудности, сопровождавшие работу переводчика — доктора исторических
наук А.В. Гордона, а также в целом подготовку издания книги Ш.
Эйзенштадта на русском языке, отечественный читатель тем не менее
получит вполне адекватное представление о характере данного исследования
израильского ученого. А самое главное — начнет серьезное знакомство с его
трудами, известными доселе лишь по редким статейным публикациям или в
реферативном изложении. Хочется верить, что за этим изданием последуют
переводы и других книг этого выдающегося социолога современности.
Перевод предисловия к русскому изданию выполнен научным редактором.
Учитывая сложный и многоуровневый характер книги Ш. Эйзенштадта, а
также ее весьма значимую «перекличку» со столь разнообразными научными
и идеологическими течениями, которые проявляются и сталкиваются в
российской общественной мысли, научный редактор счел целесообразным не
только предпослать вступительную статью к труду израильского ученого, но
и дать в заключительной статье свой комментарий по поводу тех концепций,
которые отстаиваются в данной книге, и их соотношения с идеями,
выдвигаемыми в научной среде России.
Б. С. Ерасов
академик РАЕН,
доктю филос. наук, профессор
ПРИМЕЧАНИЯ
1 При написании вступительной статьи к настоящему изданию использован
материал: Eisenstadt S.N. Comparative Studies and Sociological Theory:
Autobiographical Notes. 1996, Dec. 13, любезно присланный автором, за что
научный редактор издания на русском языке выражает огромную
признательность израильскому ученому.
2 Eisenstadt S. N. Op. cit.2.
3 Символика, «символические» компоненты социальной регуляции, к
которым обращаются постоянно Ш. Эйзенштадт и другие современные
западные ученые, включают в себя, по существу, различные культурные
элементы, т.е. не только собственно знаковую, но и нормативно-ценностную
и ритуальную стороны, стиль и знания, создающие духовные компоненты
общественной жизни.
4 Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта//Маркс К., Энгельс Ф.
Соч. Изд. 2-е. М, 1957. Т. 8. С. 119.
5 Аскриптивные связи — термин, прочно утвердившийся после работ Т.
Парсонса. Термин оказался намного более емким, чем все остальные,
которыми пользовались еще К. Маркс, Ф. Теннис и Э. Дюркгейм, и вобрал в
себя все варианты предписанного типа социальных связей, обозначаемых
широким
разбросом
терминов:
межличностные,
коммунитар-ные,
коммунократические, общинные, солидаристские, клановые и т.д.
Аскриптивные
связи
в
социологическом
употреблении
обычно
противопоставляются рыночным и достижительным.
6 Свободные ресурсы — материальные средства и услуги, не связанные с
обязательным распределением в первичных аскриптивных группах.
Свободные ресурсы, подверженные обмену, принимают форму не только
капитала и земли, но также власти, престижа или знаний. Существенное
место в общественной регуляции, показывает Ш. Эйзенштадт, занимает
функция перераспределения ресурсов, доступ к которой находится в руках
господствующих групп, связанных с государством, — в центре или на
периферии — или же в руках собственнических классов, религиозного
института, различных групп населения и т. д. Эти ресурсы могут
подвергаться обмену на другие ресурсы, на статус, влияние или власть. Как
подчеркивает Ш. Эйзенштадт, правители стремились «освободить» эти
ресурсы от принадлежности к аристократическим группам и подчинить их
своему контролю. В марксистской терминологии материальная часть этих
ресурсов получала определение как «прибавочный продукт».
7 См.: Shils E.Center and Periphery: Essays in Macrosociology.Chicago; L.:
University of Chicago Press, 1975.
8 Принятый у Ш. Эйзенштадта и других западных ученых термин modernity
переводится в тексте подготовленного издания на русском языке как
«цивилизация Нового времени». Это оправдано в силу того, что в это
понятие входит не современность или же Новое время вообще, а
существенные характеристики общества, сложившегося на Западе, и получившие глобальное распространение. Иногда в публикуемых на русском
языке зарубежных научных изданиях используется термин «модерность», что
пока еще представляется необычным.
9 См.: Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Республика, 1994. В
частности, его теория «осевого времени». «Осевое время» — период
духовного «прорыва» в истории человеческого духа, отмеченный
утверждением трансцендентного начала (Бог, Высший закон), выходящего за
рамки посюстороннего мира и определенным образом влияющего на судьбы
этого мира. Утверждение этого духовного принципа способствовало
формированию
социокультурных
систем
классических
мировых
цивилизаций.
10 Eisenstadt S. The Axial Age Breakthroughs — Their Characteristics and
Origins//The Origins and Diversity of Axial Age Civilizations. Albany: State
University of New York Press, 1986. P. 2.20
11 См.: Вебер М. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия
мира//Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990.
12 Патримониальные режимы, по классификации Ш. Эйзенштадта,
возникали в обществах, которым присуща низкая степень социальной
дифференциации и автономности различных социальных групп, соединение
изначальных (семейно-родовых), аскриптивных и ритуальных характеристик,
сильная степень внутренней солидарности. Власть центра в таких обществах
основывалась на регуляции отношений таких разрозненных групп и на
поддержании такой разрозненности. Концепция пат-римониализма изложена
ученым в его кн.: Traditional Patrimonialism and Modern Neopatrimonialism.
Beverly Hills (CF): Sage, 1973. Дальнейшее развитие эта концепция получила
в книге, с изданием которой на русском языке предстоит познакомиться
читателю. Следует отметить несомненное сходство этой концепции с
концепцией «азиатского способа производства», в которой также выявляется
огромная роль государства как органа, интегрирующего и регулирующего
отношения самодеятельных, но разрозненных первичных групп и
сосредоточивающего в своих руках прибавочный продукт общества.
13 Введенное Р. Редфилдом и М. Сингером структурирование культуры
сложного общества на «большую» и «малую» традиции получило устойчивое
признание в культурологии и применяется многими учеными для анализа
соотношения между различными уровнями культуры в цивилизации.
«Большую традицию» составляют знания, учения, философия и эстетические
принципы, поддерживаемые духовной элитой. Этот термин воспринимается
как синоним «высокой культуры», образуемой через духовную рефлексию и
спекулятивное
мышление,
она
сознательно
культивируется,
систематизируется и передается. «Малая традиция» состоит из преданий,
верований, народной мудрости и изобразительных средств простого народа;
это «низкая» или обыденная культура, принимаемая за само собой
разумеющееся достояние, не подверженная продуманным изменениям и не
передаваемая специальными способами. В каждой цивилизации существует
тесная взаимосвязь обеих традиций.
14 Гетеродоксия — термин, часто используемый Ш. Эйзенштадтом для
обозначения инакомыслия, т.е. различий в рамках одной конфессии,
отличающихся от ортодоксии разной степенью отхода от «основополагающих» принципов и ритуалов. Гетеродоксия может совмещать в себе как
допустимые сектантские ответвления, так и недопустимые ереси. Ш. Эйзенштадт видел в гетеродоксии важный источник обновления духовных
систем и общественной жизни. (См.: Eisenstadt S. Heterodoxies, Sectarianism
and Dynamics of Civilizations//Diogene, 1982. № 120.
15 Eisenstadt S.N. Tradition, Change and Modernity. N.Y.: John Wiley & Sons,
1973; Eisenstadt S.N. Modernization: Protest and Change. Englewood Cliffs, N.J.:
Prentice-Hall, 1966.
16 Eisenstadt S.N. Revolution and the Transformation of Societies: Comparative
Study of Civilizations. N.Y.: Free Press; L.: Collier Macmillan, 178.
17 Ibid., ch. 4.
18 См.: EisenstadtS.N. Revolution and the Transformation of Societies. $. 202-203
19 Ibid.
20 Легитимизация — оценка правителей и их деятельности в рамках
присущих данному обществу ценностей и представлений о правильном
правлении. Содержательное различие между традиционной, харизматической
и легально-рациональной легитимностью проведено М. Вебером. Порядок,
опирающийся на веру в его легитимность, по мнению Вебера, обладает
большей устойчивостью по сравнению с порядком, основанным на обычае
или интересах. Каждая система легитимизации включает в себя механизмы
отчетности правителей, например, в виде «референтных групп», мнение
которых приходится учитывать кругам, принимающим решение.
21 EisenstadtS.N. Revolution and the Transformation of Societies: A Comparative
Study of Civilizations. N.Y.: Free Press; L.: Collier Macmillan, 1978. P. 183-184.
К ЧИТАТЕЛЮ РУССКОГО ИЗДАНИЯ
I
Мне доставляет удовольствие написать предисловие к русскому изданию
моей книги «Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение
цивилизаций». В данном предисловии я хотел бы поднять тему соотношения
между великими революциями и динамикой «осевого времени», в котором
они сформировались, в широком сопоставительном плане, уделяя особое
внимание месту сектантства в этих революциях.
II
Исходным пунктом моего анализа является рассмотрение базисов, присущих
великим цивилизациям, специфики формирования этих антиномий в
европейском опыте и их трансформации в великих революциях.
Одной из отличительных черт этих цивилизаций является постоянное
развитие внутри них альтернативных, соперничающих представлений об
отношениях между трансцендентным и мирским порядками. Эти
альтернативные концепции формировались на основе трех исходных
антиномий, присущих самим основам таких цивилизаций и сохранявшихся в
ходе их институционального устроения. Во-первых, это осознание огромного
разнообразия
возможностей,
связанных
с
трансцендентными
представлениями, и путей их воплощения. Во-вторых, напряженность между
разумом и откровением, или верой, — или же их эквивалентами в
не-«осевых» цивилизациях, основанных на религиях немонотеистического
типа. В-третьих, проблемы, связанные со стремлениями к полноценной
реализации в социальных институтах этих представлений в их первозданном
виде1.
Осознание таких проблем и возможностей наложило отпечаток на процесс
институционализации цивилизаций «осевого времени». В историческом
плане этот процесс никогда не носил простого и мирного характера. Любая
институционализация обычно заключала в себе сильные разнородные и даже
противоречивые элементы. Она была обычно связана с постоянной борьбой и
соперничеством между многими группами и соответствующими
идеологиями. В силу этого многообразия представлений ни одно из них не
могло приниматься за раз и навсегда данное и законченное. Признание
наличия в обществе или, по крайней мере, в его центре исходной
напряженности между трансцендентным и мирским порядками вызывало
целый ряд проблем. Целостная разработка любого варианта представлений в
ходе институционализации порождала возможность возникновения разных
интерпретаций и направлений, каждое из которых в зависимости от тех или
иных исторических обстоятельств опиралось на определенную социальную
группу.
Вторая исходная антиномия, присущая этим цивилизациям, охватывала
соотношение разума и откровения — веры, в монотеистической традиции
или же некоторого трансцендентного принципа в конфуцианстве, индуизме и
буддизме. Сами основания этих цивилизаций требовали высокого уровня
рефлексии, включая ее вторичный уровень — осмысление принципов
духовности, а наличие альтернативных представлений также усиливало
потребность в рефлексии. Разум необходимо выступал не только как
прагматическое средство, но также как еще один высший источник или
руководство по пути рефлексии, что нередко приводило к конструированию
разума как особой категории в дискурсе.
Поэтому разум с готовностью наделялся метафизическими или
трансцендентными измерениями и автономией, чего он был лишен в
до-«осевой» период. Но это могло привести к противостоянию между
автономным статусом разума и откровением или же его аналогами в
немонотеистических религиях. Такое противостояние исторически сыграло
огромную роль в монотеистических религиях, сталкивавшихся с
единственной «осевой» цивилизацией — греческой, в которой именно разум,
как Логос, становился конечной трансцендентной ценностью. Однако
сходное противостояние, хотя, конечно, облеченное в другие термины и в
менее напряженной форме, сформировалось и в других «осевых»
цивилизациях.
Эта вторая антиномия была тесно сопряжена с третьей, порожденной
стремлением к осуществлению полной институционализации этих
представлений в «подлинном» (pristine) виде. В большинстве этих
цивилизаций в сильной степени подчеркивалось наличие глубокого
расхождения между, с одной стороны, идеальным порядком, как он
предстает в преобладающем трансцендентном представлении, в
божественных заповедях, в идеалах космической гармонии и т. п., а с другой
— мирским порядком, возникшим в силу социальных и политических
обстоятельств, прихотей человеческой природы, которая зачастую
представала как мотивируемая чисто утилитарными факторами или же
соображениями власти и интересами государства. Как мы видели, одной из
важнейших характеристик всех этих цивилизаций было стремление к
реализации трансцендентных представлений в мирских порядках.
Вместе с тем в идейных традициях этих цивилизаций возникали сомнения
относительно возможности и даже осуществимости в полной мере такого
рода представлений, учитывая несовершенство человека. Эти сомнения вовсе
не были привнесенными в базовые концепции и установки таких
цивилизаций, они были поистине исходным компонентом противоречивой
духовности этих цивилизаций. Само подчеркивание разрыва между
трансцендентным и мирским порядками означало принятие представления о
врожденном несовершенстве человека. Поэтому в ходе идейной полемики,
которая велась в этих цивилизациях, часто подчеркивалось, что стремление к
полному преодолению разрыва между трансцендентным и мирскими
порядками чревато опасностями, так как оно может привести к попыткам со
стороны слабых человеческих существ выйти из-под власти божественного
закона. Поэтому в рамках этих цивилизаций сформировалась сильная
установка на регуляцию мирских порядков без попыток крайней и тотальной
реализации трансцендентных представлений в их подлинном виде.
Во всех этих цивилизациях важнейшими проблемами идейной полемики
было установление правильных границ реализации такого рода
представлений, их размах и сферы социальной жизни, регулируемые такого
рода представлениями, — в отличие от тех, где действуют более мирские
заботы, экономические или властные, и где соответственно должны
применяться мирские средства.
Введенное св. Августином знаменитое разделение между Градом Небесным
и Градом Мирским — одна из наиболее известных иллюстраций такого рода
проблемы, равно как и способа ее решения через разделение этих двух
Градов. Это разделение было отвергнуто многими группами, стоявшими на
позициях гетеродоксии, в том числе гностиками2*. Сходные идеи, однако,
могут быть найдены в других «осевых» цивилизациях.
Эти факторы тесно соотносились с проблемой, которая была центральной в
духовной жизни всех этих цивилизаций, а именно отношение к
гедонистическим и анархическим мотивациям и мирским интересам людей.
Во всех идейных течениях, сформировавшихся в этих цивилизациях,
возникала сильная озабоченность со-, отношением между этими
мотивациями и интересами, между эгоистическими, гедонистическими и
анархическими устремлениями индивидов и групп в данном обществе, с
одной стороны, а с другой — поддержанием должного социального порядка.
В тесной связи с этими факторами во многих цивилизациях сформировалась
идея общественного договора, представление о том, что реальный мирской,
прежде всего политический порядок образуется через некоторый
подразумеваемый договор между различными членами общества или между
ними и правителем. Различные варианты идеи общественного договора
могут быть найдены в ряде известных текстов по политическим и
социальным проблемам азиатских цивилизаций, как, например, в
«Артхашастре» Каутильи3*, в работе Ибн Халдуна4* или же в работах
некоторых китайских мыслителей, как Мо-цзы или Сюнь-цзы5*. В
большинстве из этих текстов подчеркивалось, что такого рода договор с
правителями основывался как на некоторых утилитарных соображениях, так
и на чувстве страха. Такие соображения обычно рассматривались как часть
естественного мирского порядка в силу анархических тенденций
человеческой натуры, которые необходимо регулировать законами или
обычаями, а также властью правителей. Признание этой необходимости
часто связывалось с проблемой легитимности политического порядка,
основанного на властных отношениях. Договор, основанный на такого рода
соображениях, мог рассматриваться как легитимный, однако он никоим
образом не подразумевал полной реализации трансцендентного
представления в его изначальной чистоте. Вместе с тем его легитимность
могла быть также связана и с опасениями перед попытками тотальной
реализации трансцендентного представления.
Следует отметить также, что в такого рода полемике обсуждалась
возможность предпочтительной регуляции этих стремлений через обращение
к разуму, а не через попытки тотальной реализации трансцендентных
представлений.
III
Именно на основе рассмотренных выше базовых антиномий, присущих
самим
основам
этих
цивилизаций,
формировались
различные
альтернативные представления о трансцендентном порядке и формах его
соотношения с мирскими порядками. Эти альтернативные представления, с
присущими им сильными антиномич-ными установками, приводили к
перестройке базовых онтологических концепций реальности, концепций
трансцендентного порядка и его отношения к мирскому порядку, особенно к
его политическим аспектам и к базовым социальным структурам,
утвердившимся в этих цивилизациях6.
В некоторых из этих представлений нередко отрицалась сама значимость
прежних
определений
онтологической
реальности,
принятых
в
соответствующих цивилизациях. Одним из способов такого отрицания стала
иная интерпретация напряженности между трансцендентным и мирским
порядками, как, например, в буддистском переосмыслении основ индуизма
или христианское переосмысление основ иудаизма. Такие альтернативные
представления могли также содержать идеологический отказ от признания
напряженности между трансцендентным и мирским порядками и
«возвращение» к «языческой» концепции дотрансцендентной, до-«осевой»
стадии, к теории совмещенности трансцендентного и мирского, а иногда к
концепции мироздания как извечной данности. Другим распространенным
вариантом «возвращения», часто возникавшим в этих цивилизациях, был
гностический путь, наделявший мир глубоким, но скрытым значением. Этот
путь также мог быть связан с подчеркиванием самостоятельности разума и
значимости мирской активности.
Такие разные альтернативы могли быть связаны с выработкой самых разных
религиозных и интеллектуальных ориентации, особенно мистических и
эзотерических, выходивших за рамки установленных ортодоксальных
вариантов реализации трансцендентных представлений7.
Все эти представления с присущими им сильными антино-мичными
возможностями обычно выдвигались особыми группами, которые и
выступали носителями подлинных религиозных и цивилизационных
взглядов. Примером таких групп могут быть жрецы античных времен,
индийские или буддийские аскеты, христианские монахи и т.п., т.е.
религиозные виртуозы, которые зачастую занимали амбивалентную позицию
по отношению к существующим формам институционализации
трансцендентных представлений, а нередко действовали в лиминальных8*
ситуациях. Такие деятели образовывали специфические группы и ордена,
которые могли приобрести характер гетеродоксии.
Эти деятели часто стремились сочетать указанные представления с
формированием более широких социальных движений, особенно движений
протеста9.
Соответственно,
такие
альтернативные
представления
соединялись с вечными темами социального протеста, с попытками
преодолеть и превзойти трудности и ограничения человеческого бытия,
бытия вообще и смерти в частности, а также напряженность и трудности,
присущие
институционализации
социальных
порядков
(особенно
противоречия между равенством и иерархией, между сложностью и
фрагментацией человеческих отношений, вызываемых разделением труда и
возможностью целостного, безусловного, непосредственного участия различных групп общества в социальном и культурном устроении), преодолеть
напряженность между поисками значимого участия в центральных
символических и институциональных сферах и ограничениями на такого
рода участие.
Важным следствием соединения таких альтернативных представлений с
установками на реализацию трансцендентных принципов и со всеобщими
темами протеста стало появление в этих «осевых» цивилизациях
утопических представлений, утверждавших иные культурные и социальные
порядки10.
Такие
утопические
представления
часто
содержали
милленаристские и возрожденческие элементы, сходные с теми, которые
встречаются и в до-«осевые» периоды или в не-«осевых» цивилизациях,
таких, как японская. Однако эти утопические представления выходят за
рамки милле-наристских течений, так как сочетаются с поисками иного,
«лучшего» строя, по сравнению с существующим, нового социального и
культурного порядка, соответствующего высшим трансцендентным
принципам. Такие утопические представления часто содержали в себе
сильные утопические и эсхатологические компоненты или идеи".
IV
Рассмотренные выше альтернативные представления с присущими им
сильными антиномичными возможностями не были ограничены чисто
интеллектуальной сферой, они могли иметь и более широкое значение для
институционального и политического устроения. Это устроение
определялось необходимостью реализации этих представлений через
конструирование мирских порядков, что приводило к выявлению потенциала
протеста со стороны носителей этих представлений. Кроме того, эти
представления, носителями которых выступали различные деятели, особенно
религиозные виртуозы, секты или группы инакомыслящих, могли также
приобретать более специализированное прямое, а нередко и более широкое,
институциональное и политическое значение. Осуществление этих
представлений было тесно связано с борьбой между различными элитами,
что превращало эти элиты в «политических демагогов», как определял М.
Вебер древних израильских пророков12, с присущими им особыми
политическими программами. Такие программы могли при определенных
условиях создавать сильный вызов существующим режимам или же
политическим и религиозным институтам.
Политический потенциал такого рода сект и провозглашаемых ими
альтернативных представлений формировался на основе проблем,
возникающих в ходе любой конкретной институционализации «осевых»
цивилизаций, прежде всего в силу связи процесса институционализации с
концепциями ответственности правителей перед высЩим порядком, а значит
связи такой ответственности с проблемами, возможностями и границами
осуществления трансцендентных представлений в их подлинном виде.
Формирование каждого конкретного социального института, естественно,
требовало некоторого компромисса между изначальным представлением и
мирской социальной и политической реальностью, согласия с
невозможностью полного устранения разрыва между трансцендентным и
мирским порядками. Требовалось также принятие тесной связи такой
частичной реализации с политическим порядком, а следовательно, и
соответствующее признание политического порядка, хотя бы ради частичной
реализации трансцендентного представления. В то же время именно такого
рода компромисс мог стать предметом критики со стороны других, прежде
всего сектантских утопических движений, которые провозглашали
утопические идеалы и стремились к полному преодолению разрыва между
трансцендентным и мирским порядками, к полной реализации
трансцендентных представлений и созданию политического порядка,
обеспечивающего такую реализацию.
V
Хотя описанные выше альтернативные представления, секты и гетеродоксии
были присущи всем рассматриваемым цивилизациям, между ними
существовали значительные различия по степени развития утопий или
отхода от ортодоксии, а также по степени воздействия такого рода течений
на политическую сцену или же по степени, в которой институциональные и
политические требования входили в основное ядро таких сектантских
ориентации и движений, особенно утопического и эсхатологического
характера. Такие различия были тесно связаны также с концепциями и
критериями ответственности правителей, особенно со степенью признания
правителей ответственными за реализацию трансцендентных представлений,
а также с характером институциональных механизмов и процессов, через
которые поддерживалась такая ответственность'3.
Различия в понимании ответственности правителей определялись также
базовыми онтологическими идеями о природе разрыва между
трансцендентной и мирской сферами и о путях преодоления этого разрыва,
т.е. зависели от трансцендентных представлений, преобладавших в данной
цивилизации. Во-вторых, они зависели и от понимания места политики в
реализации трансцендентных представлений. В-третьих, они определялись и
рамками принятия утилитарных и эгоистических измерений человеческой
природы.
Каковы бы ни были различия между этими «осевыми» цивилизациями,
разнообразные сектантские группы и гетеродоксные течения представляли
собой постоянный компонент динамики цивилизаций. В европейскохристианской цивилизации они составляли центральный компонент, ставший
основой современной цивилизации в том ее виде, как она вызрела в ходе
Просвещения и великих революций. Вопреки некоторым упрощенным
интерпретациям веберовской теории протестантской этики, эти сектантские
течения не породили капитализма или современную цивилизацию вообще.
Скорее, в определенных весьма специфических институциональных и
геополитических условиях они составили очень важный компонент в
формировании этой цивилизации14, способствовавший как сохранению
преемственности, так и радикальной трансформации сектантства и
протофундаменталистских движений в динамике великих цивилизаций.
VI
Великие революции можно рассматривать как высшее проявление
возможностей,
содержащихся
в
сектантской
гетеродоксии,
сформировавшихся в «осевых» цивилизациях, особенно в тех из них, в
которых политическая сфера рассматривалась, по крайней мере, как одна из
сфер реализации трансцендентных представлений, включая потусторонние
компоненты или ориентации. Эта трансформация приводила к
переворачиванию приоритета ценностей, утверждавшихся св. Августином,
хотя, в конечном счете, это происходило в секулярных терминах, и к
соответствующим попыткам осуществления гетеродоксных гностических
представлений, а также сектантских представлений, в которых Град
Небесный переносился в Град Земной15.
Великие революции можно рассматривать и как наиболее драматичные, а
может, и наиболее успешные попытки в истории человечества осуществить
на макросоциальном уровне утопическое представление с сильными
гностическими компонентами. Этому представлению были присущи многие
характеристики, общие с протофундаменталистскими течениями, за
исключением того, что для революций характерной была ориентация на
будущее как центральный компонент культурной программы современности.
Большой заслугой Э. Фогелина, хотя, может быть, он и несколько
преувеличил этот момент, стало то, что он указал на глубокие корни
некоторых современных политических программ, уходящие к гетеродоксным
гностическим течениям средневековой Европы16. Современная культурная и
политическая программа, сформировавшаяся под влиянием Возрождения,
Реформации и Просвещения, но главным образом под влиянием великих
революций, очень многим обязана сектантским протофундаменталистским
движениям позднего средневековья или начала Нового времени. Именно эти
исторические корни великих революций, подвергшихся трансформации в
современных условиях, придают им специфику, отличают их от других
повстанческих или протестных движений или смены правителей, которые
можно найти во многих обществах. Эти характеристики великих революций
имеют особое значение для понимания соотношения между этими
революциями и политическими режимами и процессами, развивавшимися в
постреволюционный период.
VII
Рассмотренная выше трансформация сектантских движений, происходившая
в ходе великих революций, была тесно связана с формированием нового типа
по литических деятелей и лидерства17. Центральное место в этом лидерстве
приобрели особые культурные группы — религиозные или секулярные, —
прежде всего интеллигенция и политические активисты, среди которых
выделялись носители гностических представлений о построении Небесного
Града или же какой-то его секулярной версии на Земле. Хорошо известные
иллюстрации этого социального типа дают английские, а в некоторой
степени и американские пуритане, члены французских клубов, столь
блестяще описанные в работах О. Кошена, а затем в работах Ф. Фюре18, М.
Озуф и других исследователей, а также различные группы русской
интеллигенции19. Обычно эти группы составляли особый социальный
элемент, способствовавший перерастанию повстанческих движений в
революции.
Ведущую роль во всех этих революциях играла независимая интеллигенция,
что означало радикальную трансформацию типа политической деятельности
и ориентации по сравнению со средневековыми гетеродоксиями и сектами,
самой природы политического процесса. Сущность этой трансформации
состояла в том, что в отличие от попыток подавления радикальных
сектантских и гетеродоксных ориентации или ограничения их деятельности
специально отведенными и тщательно контролируемыми местами (такими,
как монастыри, характерные для средневековой культуры) носители этих
ориентации в ходе революции и в последующем политическом процессе
выходили на открытую политическую арену.
С этой точки зрения Реформация составляла важный поворотный пункт в
ходе трансформации «католического» сектантства в посюсторонние течения.
Знаменитое высказывание М. Лютера относительно превращения всего мира
в монастырь, хотя внешне направленное против тогдашних монастырских
порядков, означало радикальный поворот от прежних господствующих
взглядов на сектантскую деятельность в христианстве. Эта трансформация
еще более упорно проводилась как сторонниками радикальной реформации,
так и кальвинистами, придававшими особое значение сближению Града
Небесного с Градом Земным. Однако лютеранство в целом не дало толчок
возникновению активных самостоятельных политических движений, и
радикальные реформаторы, и кальвинисты имели успех только в
относительно короткие периоды в относительно небольших общинах: в
Женеве, голландских и шотландских сектах и некоторых из ранних
американских колоний.
Все это создавало существенный фон для развития великих революций.
Однако только в ходе этих революций сектантские движения стали
существенной частью большого общества и жизни его центров,
соединившись с восстаниями, народными движениями протеста и с
политической борьбой в центре. На характер такого соединения огромное
идеологическое и организационное воздействие оказывали идеологические,
пропагандистские и организационные способности этой интеллигенции или
культурной элиты.
Именно в результате деятельности такого рода интеллигенции и активистов
были сформированы современные культурные и политические программы с
присущими им особыми антиномиями и противоречиями, которые и
проявились в наиболее полном виде в ходе великих революций и в
деятельности постреволюционных режимов.
VIII
Описанные типы напряженности и противоречий стали существенными
компонентами культурной и политической жизни современности,
политической динамики современных режимов. Эти противоречия резко
усиливались в ходе наделения центра харизматическими чертами, при
абсолютизации важнейших измерений человеческого бытия, а также с
развитием новых отношений между центром и периферией и нового типа
политических процессов в современных обществах.
Первый тип напряженности был присущ конструктивистскому подходу к
действительности, в котором политика представала как процесс перестройки
общества и прежде всего через механизмы политической демократии, как
показали К. Лефор или Дж. Арнасон, т.е. как активное самоконструирование
общества — в отличие от взгляда на общество как на сложившуюся
корпорацию. Второй тип напряженности, тесно связанный с той, которая
сформировалась в общих культурных программах современности,
заключался в расхождении между представлениями, носившими тотальный,
обычно утопический и/или коммуналистский характер, что обычно
порождало сильную конструктивистскую установку, — и более
плюралистичным взглядом, в котором конструктивистский подход к
политике мог и не отвергаться, но при этом принималась возможность
различных образов жизни, традиций и концепций социального интереса.
Этот тип напряженности часто сочетался с напряженностью между
утопическим и гражданским компонентами в построении современных
политических институтов, между «революционной» политикой, с одной
стороны, а с другой — с принятием сложившихся порядков как нормального
общества20.
IX
Вызревая в сфере политической идеологии, эти типы напряженности
выражали противоречие между, с одной стороны, признанием плюрализма
особых индивидуальных и групповых интересов, различных концепций
общей воли, свободы отстаивания своих интересов и убеждений, а с другой
— целостной ориентацией, отвергающей законность частных интересов и
различий в понимании общего блага, делающей упор на тотальной
перестройке общества политическими мерами. В центре этих форм
напряженности была проблема плюрализма индивидуальных интересов и их
отношения к формированию общей воли в конституциях, в выработке
современных конституционных демократических режимов.
Носители плюралистических концепций полагали, что любые формы
решения этих проблем возможны через политический процесс, включающий
участие представительных и судебных институтов, а также через постоянное
взаимодействие между государством и гражданским обществом.
Обратной стороной рассмотренного выше плюрализма, вытекающего из
принятия законности множества частных индивидуальных и групповых
интересов, различных концепций общего блага, формируемых как средство
разрешения напряженности, которой отмечена политическая жизнь
современности, стало появление различных* коллективистских ориентации
или идеологий, отстаивавших приоритет коллективного начала и
коллективного сознания. Особенное значение приобрели в этом плане два
типа идеологий. В одном из них подчеркивался приоритет коллективизма,
основанного на общих изначальных корнях или же духовных
характеристиках национальной общности. Другой тип, отличавшийся
специфически современной ориентацией, укорененной в революционных
традициях, составил якобинскую идеологию. Сущностью якобинских
ориентации стала вера в возможность трансформации общества через
всеохватную политическую деятельность. Эти ориентации, исторические
корни которых уходят к средневековым эсхатологическим источникам,
получили полное развитие в соединении с политической программой
современности.
Они
стали
высшим
выражением
современной
трансформации сектантских взглядов на антиномии «осевых» цивилизаций.
Якобинские компоненты политической программы современности
проявились в сильном упоре на социальную и культурную активность и на
способность человека перестраивать общество в соответствии с тем или
иным трансцендентным представлением, а вместе с тем в сильной тенденции
к абсолютизации основных измерений человеческого бытия и основных
компонентов социального порядка, что сопровождалось соответствующей
идеологизацией политики.
Рассматриваемым нами якобинским ориентациям была присуща вера в
приоритет политики и ее способность изменить общество. Этим ориентациям
и движениям, претендовавшим на подлинность, была присуща сильная
склонность к отстаиванию не только целостного мировоззрения, но и
всеобъемлющих идеологий, в которых подчеркивалась необходимость
тотальной перестройки социального и политического порядка и которые
отличались сильным миссионерским духом, хотя и не всегда
универсалистским.
Эти ориентации проявили себя прежде всего в попытках перестройки
центров соответствующих обществ, в почти полном слиянии центра и
периферии, и отрицании наличия посреднических институтов и ассоциаций,
того, что может быть названо гражданским обществом. Это означало слияние
гражданского общества со всей общностью населения. Провозглашаемые
большинством современных наций-государств тенденции гомогенизации
населения, особенно тех государств, которые сформировались после великих
революций, были в сильной степени пропитаны такими якобинскими
ориентациями.
Якобинские ориентации получили наиболее целостное развитие в различных
«левацких» революционных движениях, которые зачастую соединяли идею
приоритета политики с идеалами прогресса и разума. Якобинский компонент
проявлялся в различных конкретных оболочках и в различных сочетаниях с
другими политическими и идеологическими компонентами. Как часто
подчеркивал в своих работах Н. Боббио21, якобинский компонент
присутствовал как в социалистических и националистических, так и
фашистских движениях и эти ориентации зачастую тесно переплетались с
отстаиванием значения исконных принципов коллективизма. Якобинские
компоненты составляли также очень важную часть многих популистских
движений22, они могут также тесно переплетаться с отстаиванием
религиозных авторитетов, как это происходит в фундаменталистских
движениях. Этот компонент мог также проявиться в менее выраженной
форме в интеллектуальном паломничестве в другие общества, в попытках
обрести там утопический революционный идеал в состоянии полного расцвета23, а также в идеях целостного устроения общества, получивших
выражение во многих социальных движениях и народной культуре. Во всех
этих условиях якобинский компонент был связан с выявлением различных
противоречий, присущих современным обществам.
X
Описанные концепции соотношения между индивидом и общественным
порядком, различия в принципах легитимизации современных политических
режимов порождали некоторые базовые формы напряженности в
современном политическом общении и его динамике. В ходе политической
борьбы вызревали конкретные формы напряженности, отразившиеся в
политических программах: между свободой и равенством, идеалами
хорошего социального порядка и «узкими» интересами различных слоев
общества, между представлением об индивиде как автономном субъекте и
подчеркиванием
коллективного
начала,
между
утопическими
и
«рациональными» или «процедурными» компонентами этой программы, а
также напряженность между «революционными» и «нормальными» формами
политики, между различными принципами легитимизации этих режимов. В
современной политической жизни эти формы напряженности и антиномии
сочетались, прежде всего, по словам Г. Люббе, в установках на свободу и
эмансипацию, что в некоторой степени совпадает с проводимым И.
Берлиным различием между негативной и позитивной свободой24.
Эти различные формы напряженности в современной политической жизни
были тесно связаны с противоречиями между различными принципами
легитимизации политических режимов, особенно конституционных и
демократических форм правления, а именно между, с одной стороны,
процедурной легитимизацией через признание правил игры, а с другой —
легитимизацией в различных «сущностных» терминах. Существовала и
сильная тенденция выдвигать другие типы или основы легитимности, прежде
всего, как подчеркивал Э. Шилз, через различные идеологические
компоненты, в которых подчеркивались либо изначальные, либо
«священные» — религиозного или секулярного типа — факторы бытия25.
Противоречия между, с одной стороны, всеобъемлющей революционностью
или же технократическим представлением, а с другой — принятием
возможности плюрализма интересов в политических и социальных вопросах,
а также принятие легитимности плюралистического устроения жизни и
общества, подчеркивание процедурных правил как опоры конституционных
режимов — все это в полной мере проявилось в более поздних революциях
— русской, китайской и вьетнамской. Однако их составные части могут быть
отчетливо выделены в установках якобинских групп, в идейных течениях
французской революции, а в менее явной форме — в некоторых пуританских
группах в Англии, США и Нидерландах. Во всех этих обществах верх
одержало конституционное республиканское начало26. Признание
законности плюрализма интересов укоренилось вопреки тому, что истоки
большинства этих конституционно-демократических режимов имели
революционный характер и содержали в себе идеи монолитного,
тоталитарного и единообразного устроения общества.
Одной из наиболее важных проблем в анализе современных конституционнодемократических режимов является выяснение того, как признание
законности плюрализма взглядов на справедливое устроение общества могло
возникнуть из таких революционных предпосылок. Однако даже тогда, когда
такое признание утверждалось, это не могло устранить страха
потенциального разлада, который мог бы возникнуть в результате развития
плюралистических представлений об общей воле, а также из принципа
множества различных интересов.
Каковы бы ни были конкретные проявления этой якобинской ориентации,
она являлась постоянным компонентом современной жизни. Именно
постоянное противоборство между этим компонентом и более
плюралистическими ориентациями, а также между различными идеологиями
якобинского типа составляет одно из центральных начал современной жизни.
Тот вызов, который дают нам противоречия между всеобъемлющим
тотальным, а потенциально и тоталитарным представлением об изначальном
коллективизме и приверженностью к плюралистическим основам построения
общества, составляет постоянный элемент этих конституционных режимов и
политической динамики современного мира. Ни одна из современных
конституционных и либеральных демократий не избавилась целиком, да и не
может избавиться, от этого якобинского компонента, особенно в его
утопическом измерении от ориентации на некоторые изначальные
компоненты коллективной идентичности или же от претензий на
центральную роль религии в создании коллективной идентичности или
легитимизации политического порядка.
Ш. Эйзенштадт
ПРИМЕЧАНИЯ
1 См.: Vbegelin E. Order and History. Baton Rouge: Louisiana State University,
1954.
2* Гностицизм — широкое религиозно философское и сектантское течение
поздней античности и средневековья, имевшее отголоски в народных
движениях более позднего времени. В содержании гностицизма Ш.
Эйзенштадт подчеркивает прежде всего его напряженный дуализм между
высшим порядком и миром и значение мирской активности в преодолении
этого дуализма.
3* Артхашастра — свод древнеиндийских текстов о нормах устроения,
методах управления и системе судопроизводства, приписываемый в
основном древнеиндийскому мыслителю Каутилье (IV в. до н.э.).
4* Ибн Халдун — арабский ученый и государственный деятель (умер в 1406
г.), автор многотомной истории народов Ближнего Востока, во введении к
которой («Муккадима») излагается наука об устроении общества и законах
его функционирования.
5* Мо-цзы и Сюнь-цзы — древнекитайские мыслители (IV-III вв. до н.э.), в
трудах которых получило развитие конфуцианское учение об этикополитическом устроении общества.
6 См.: Eisenstadt S.N. Heterodoxies, Sectarianism and Dynamics of
Civilizations//Orthodoxy, Heterodoxy and Dissent in India/Eisenstadt S.N.,
Kahane R., Shulman D. (eds.). N. Y.: Mouton, 1984.
7 См.: Tiryakian E. Three Meta Cultures of Modernity: Christian, Gnostic,
Chtonic//Theory, Culture and Society. 1996. V. 13. № 1.
s* Лимшалъный — термин, введенный английским ученым В. Тэрне-ром (см.
его кн.: Символ и ритуал. М., 1983) для обозначения переходных состояний,
через которые индивид или группа «отсоединяются» от занимаемого ранее
места в социальной структуре или от определенных культурных
обстоятельств либо от того и другого сразу, чтобы затем вновь
воссоединиться с тем и другим на ином, более высоком уровне. Однако этот
переход подразумевает сохранение в амбивалентном соединении
переживания высокого и низкого, общности и дифференциации, равноправия
и неравенства, простоты и сложности, бескорыстия и себялюбия и т.д. Такого
типа переживания закрепляются, по В. Тэрнеру, в ритуалах, находят
проявление в различного рода «антиструктурных» движениях и
представлениях, выражающих неприятие сложившегося социального порядка. Сам В. Тэрнер оперировал в основном материалом культурной
антропологии, в то время как Ш. Эйзенштадт распространяет этот подход на
цивилизационные измерения социальной жизни.
9 См.: Orthodoxy, Heterodoxy and Dissent in India; Eisenstadt S.N.
Transcendental Vision, Center Formation, and the Role of Intellectuals//Center,
Ideas and Institutions/Greenfeld L., Martin M. (eds.). Chicago: University of
Chicago Press, 1988.
10 См.: Seligman A. The Comparative Study of Utopias; Christian Utopias and
Christian Salvation; The Eucharist Sacrifice and the Changing Utopian Moment in
Post Reformation Christianity//Order and Transcendence/Seligman A. (ed.).
Leiden: E.J. Brill, 1989; Eisenstadt S.N. Comparative Liminality: Liminality and
the Dynamics of Civilization//Religion. 1985. № 15; Voegelin E. Op. cit.; Lasky
M. The Birth of a Metaphor: On the Origins of Utopia and Revolution// Encounter.
1970. V. 34, № 2-3; Idem. Utopia and Revolution. Chicago: University
of Chicago Press, 1976.
" Voegelin E. Op. cit.; Cohn N. In the Pursuit of the Milennium. N.Y.: Harper,
1961.
12 См.: Weber M. Ancient Judaism. Glencoe: Free Press, 1952.
13 Eisenstadt S.N. Cultural Traditions and Political Dynamics//British Journal
of Sociology. 1981. №32.
14 См.: Eisenstadt S.N. Origins of the West: The Origins of the West in Recent
Macrosociological Theory. The Protestant Ethic Reconsidered//Cultural Dynamics.
Leiden: E.J. Brill, 1991.
15 См.: Eisenstadt S.N. Revolution and the Transformation of Societies: A
Comparative Study of Civilizations; Eisenstadt S.N. Frameworks of the Great
Revolutions: Culture, Social Structure, History and Human Agency// International
Social Science Journal. 1992. V. 133.
16 См.: Voegelin E. Enlightenment and Revolution//Hallowell J. (ed.). Durham
(NC): Duke University Press, 1975; Idem. The New Science of Politics. Chicago:
, University of Chicago Press, 1952; Idem. Die Politischen Religionen. Miinchen:
Wilhelm Fink Verlag, 1994; Idem. Das Volk Goiters. Munchen: Wilhelm Fink
Verlag, 1994; Gould R. Insurgent Identities: Class, Community, and Protest in
Paris from 1848 to the Commune. Chicago: University of Chicago Press, 1995.
17 О месте интеллигенции в процессе снятия «осевого времени» см.: Cohen
E. Christianity and Buddhism in Thailand//Social Compass, 1991. V. 32. № 2.
18 См.: Cochin A. La Revolution et la libre pensec. P.: Plon-Nourrit, 1924; Idem.
L'esprit du Jacobinisme. P.: PUF, 1979; Furet F. The French Revolution. N.Y.:
Macmillan, 1970; Idem. Interpreting the French Revolution, Cambridge:
Cambridge University Press, 1981; Idem. Rethinking the French Revolution.
Chicago: University of Chicago Press, 1982.
19 См.: OzoufM. La Fete Revolutionnaire. P.: Gallimard, 1982; Nahirny V.C. The
Russian Intelligentsia: From Torment to Silence. Rutgers (NJ): Transaction Publ.,
1981; Riegal K. Der Marxismus-Leninismus als politische Religion//
Totalitarismus und politische Religionen/Maier H., Shafer M. (eds.). Munchen:
Ferdinand Schoningh, 1997; Pamper P. The Russian Revolutionary Intelligentsia,
38 N.Y.: Crowell, 1970; Venturi F. Roots of Revolution: A History of the Populist
and Socialist Movements in Nineteenth Century Russia. Chicago: University of
Chicago Press, 1983; Sarkisyani E. Russland und der Messianismus der Orients.
Tubingen: Mohr, 1955.
20 См.: Lefort C. Democracy and Political Theory. Minneapolis: University of
Minneapolis Press, 1988. См. также: Arnason J.P. The Theory of Modernity and
the Problematic of Democracy//Thesis Eleven. 1990. № 26; FryzekJ. Political
Inclusion and the Dynamics of Democratization//American Political Science
Review. 1996. V. 90. № 3; Dunn J. The History of Political Theory and Other
Essays. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
21 Bobbio N. II Futuro della Democrazzia. Torino: Giulio Einaudi, 1984: Idem.
Profile Ideologico del Novecento Italiano. Torino: Giulio Einaudi, 1986; Idem.
L'eta dei diritti. Torino: Giulio Einaudi, 1990; Mattrucci N. Democrazia e
autocrazia nel pensiero di Norberto Bobbio//Per una teoria generale della politica.
Firenze: Passignli Editore, 1983.
22 О якобинском элементе в современной политике см.: Cochin A. La
Revolution et la libre pensee. Idem. L'esprit du Jacobinisme; Baeshler J.
Preface//Cochin A. L'esprit du Jacobinisme; Furet F. Rethinking the French
Revolution; Talmon J.L. The Origins of Totalitarianism and Democracy. N.Y.:
Praeger, 1960; II modelo politico giacobino e le revoluzione/Salvadori J.L.,
Tranfaghia N. (eds.). Firenze: La Nova Italia, 1984; Salvadori M. Europe,
America, Marxismo. Torino: Giulio Einaudi, 1990; Frankel E. Deutschland und die
Westlichen Demokration. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1990. Серьезная аргументация против тезиса об «общей воле во имя освобождения» содержится
в кн.: Lubbe H. Freiheit statt Amanzipationszwang: Die liberalen Traditionen und
das Ende der Marxistischen Illusionen. Zurich: Ed. Interfrom, 1991.
23 См.: Eisenstadt S.N. Transcendental Vision.
24 См.: Lubbe H. Freiheit statt Amanzipationszwang.
25 См.: Shils E. Primordial, Personal, Sacred and Civil Ties.
26 См.: The Invention of the Modern Republic/Fontana B. (ed.). Cambridge:
Cambridge University Press, 1994.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Кальману Сильверту,
влюбленному в свободу,
относившемуся к революциям
благожелательно и скептически.
В этой книге я пытаюсь ввести анализ революции в новые, как мне
представляется, рамки. Я не стремлюсь добавить что-либо новое в
характеристику причин революции, какими бы они ни были: отношения
между элитами или классовый конфликт, фрустрация, связанная с
завышенными уровнями ожиданий, и т.п. Мои интересы сосредоточены на
вопросе, которому не было уделено должное внимание в литературе: в каких
обстоятельствах и при каких условиях подобные причины приводят к тому,
что было названо революциями и революционными преобразованиями?
Более внимательный взгляд на перечень этих причин показывает, что в
некоторых случаях они приводят к упадку и распаду режимов или империй; в
других дают толчок к далеко идущим социальным изменениям и
преобразованиям, осуществляющимся, однако, не в революционных формах.
Иными словами, тогда как социальные конфликты, инакомыслие, восстания,
изменения и преобразования присущи всем обществам, такое сочетание
компонентов социальной практики, которое подходит под рубрику чистой,
подлинной или классической революции, представляет уникальное явление
среди процессов, приводящих к социальным изменениям и преобразованиям.
В связи с этим центральной задачей настоящей книги становится выяснение
того, при каких условиях и в каких исторических обстоятельствах
происходят революции и революционные преобразования.
Такой подход ставит проблему революции в рамки сравнительного изучения
цивилизаций — изучения, которым я занимался многие годы. Мое первое
толкование этой проблемы было представлено в книгах «Политические
системы империй» (N.Y.: Free Press, 1963) и «Политическая социология»
(N.Y.: Basic Books, 1970), особенно во введениях к ним. Они имеют
непосредственное отношение к сравнительному анализу, так же как более
ранняя работа о модернизации «Модернизация, протест и изменения»
(Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1966) и последующий том «Традиция,
изменения и цивилизация Нового времени» (N.Y.: Wiley, 1973), в которых
содержался далеко идущий пересмотр различных подходов к модернизации.
Эти книги вызвали необходимость переоценки многих важнейших проблем
социологической теории, и первым шагом на пути решения этой задачи была
публикация работы «Форма социологии: Парадигмы и кризисы» (совместно с
М. Курелару, N.Y.: Wiley, 1976).
Именно в процессе этого переосмысления социологической теории меня все
больше переставали удовлетворять существующие подходы к причинам
революции, большей частью основанные, как я показываю подробно в главах
1 и 7 настоящего издания, на классовом анализе. В этой книге я стремлюсь
выйти за пределы подобных подходов, не отрицая, тем не менее, их
частичной пригодности. Теория, которая легла в основу моего анализа
революций, обстоятельно рассматривается в главе 2.
В подготовке этой работы мне была оказана помощь со стороны многих
коллег, поддержавших мои усилия. Пробуждению моего интереса к
революционной тематике способствовали прежде всего дискуссии с Т.
Скокпол по поводу ее собственных работ о революциях. Хотя, как указано в
настоящей книге, я не согласен с некоторыми ее трактовками, мне думается,
что сочинения ее и ft. Тримберджера по революционной тематике
представляют шаг вперед в этой области.
Я делал доклады по революционной тематике и обсуждал этот феномен в
различных местах и с разными коллегами — особенно в Иерусалиме,
Гарварде и Питтсбурге. Мне хотелось бы выразить признательность тем, к
кому я испытываю чувство интеллектуального долга — Н. Яльману, М.
Фишеру, X. Домингесу и Э. Крейгу из Гарвардского университета, Р. Бауму и
Дж. Моллою из Питтсбург-ского университета, Дж.С. Коулмену из
Чикагского университета. Я. Хестерман из Лейденского университета очень
помог мне в понимании динамики индийской цивилизации, а Ш. Мардин —
в анализе революции в Турции. Э. Крейг прочитал и подробно
прокомментировал короткий раздел о Японии. И. Элькана и Я. Экстрахи
сделали развернутые замечания по ранним вариантам различных частей
этого тома.
Моя работа по исторической динамике цивилизаций была в целом
поддержана Фондом Форда; содействие исследовательской работе, которую
я проводил в Иерусалиме, оказывал исследовательский Институт Гарри С.
Трумэна Еврейского университета при поддержке Иерусалимского Фонда
Ван Леера.
Первоначальный замысел книги сложился в 1975 г., когда я был
приглашенным профессором на факультете социологии и в Центре
Ближневосточных исследований Гарвардского университета. Первый
набросок книги был завершен весной 1976 г., когда я находился в
Цюрихском университете и пользовался возможностями Института
социологии. М.Т. Фишнар и М. Хоффингер я особенно благодарен за их
помощь. Наибольшая часть окончательного варианта была написана, когда я
читал лекции в Гарвардском университете в конце 1976 г.
Различные варианты рукописи были отпечатаны Р. Инбар, М. Леви, Дж.
Киссос в Иерусалиме и К. Абдулразак с факультета социологии и М.
Кампанелла из Центра Ближневосточных исследований в Гарвардском
университете. М. Леви отпечатал окончательный вариант. Всем вам я очень
обязан. К. Левин и С. Херцберг работали с указателем, а Дж. Михалович
помог мне на ранних этапах работы в анализе теоретической литературы по
революционной тематике. М. Сан проделала огромную работу по
размножению экземпляров рукописи, а Э. Дикасон из издательства Free Press
контролировала все стадии подготовки работы к печати. К. Девис помогла
мне в чтении корректуры.
Глава 1.
РЕВОЛЮЦИИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАК ПРОБЛЕМА.
1. Революции Нового времени и изучение социальных изменений.
Великие революции, ознаменовавшие наступление Нового времени, —
Великий мятеж (1640—1660 гг.) и Славная революция (1688 г.) в Англии,
Американская революция (ок. 1761—1776 гг.) и Французская революция
(1787—1799 гг.), а вместе с ними события, которые передали
революционный импульс всему миру, — европейские революции 1848 г.,
Парижская Коммуна (1870— 1871 гг.) и прежде всего революции в России
(1917-1918 гг.) и Китае (1911—1948 гг.) — глубоко повлияли на
самосознание современных обществ. Они сформировали особую,
революционную символику и эстетику и одновременно сделались составной
частью политико-идеологического символизма и образа мышления всего
современного мира.
Не меньшее воздействие они оказали также на развитие социологии. Дело не
только в том, что современная социологическая мысль и методы анализа
происходят от идеологических систем и интеллектуальных течений, тесно
связанных с тем или иным революционным опытом, который сформировал
современное общество, и что понимание современного общества с его
революционным происхождением и опытом как уникального типа общества
составляет основу современного социологического и политического анализа.
Этот революционный опыт, воспринятый важнейшими идейными течениями
современного общества, породил ряд основополагающих постулатов
современной общественно-политической мысли вообще и социологического
анализа в частности о природе общества и в первую очередь о социальных
изменениях и преобразовании обществ1.
Убедительность этих постулатов определяется признанием революционного
опыта Европы как модели для стран других частей света. В результате
социологи, анализируя исторические ситуации, часто используют категории
и постулаты, которые могут оказаться неадекватными.
Однако эти постулаты нелегко опровергнуть, поскольку большей частью они
лишь подразумеваются. Даже теории и подходы, связанные с такими
учеными, как Д. Лернер и Г. Алмонд, различные теории модернизации и так
называемые неоэволюционные подходы, разработанные первоначально Т.
Парсонсом и Р. Беллой, были истолкованы более радикальными
социальными
теоретиками
как
в
идеологическом
отношении
антиреволюционные. Однако в действительности многие из адресованных
этим подходам обвинений — их неприменимость к незападным обществам
(особенно к опыту модернизации последних), их прозападные пристрастия и
их социальный детерминизм — затрагивают такие постулаты, которые
приняты одновременно и в подходах к революции с идеологически
радикалистских позиций2.
Если
сложная
социальная
действительность
современных
и
модернизирующихся обществ во многих отношениях опровергла
первоначальную модель модернизации, выдвинутую еще в 50-х гг., то точно
так же разнообразие так называемых революционных ситуаций и тот факт,
что немногие из них соответствуют образу социальных преобразований,
который сформировался на основании европейского (или классического)
революционного
опыта,
вызывают
необходимость
пересмотра
существующих подходов.
2. Образ революции: насилие, разрыв с прошлым и всеобщий характер
перемен.
Наиболее
распространенный
образ
революции
создан
отчасти
революционерами, а отчасти современными интеллектуалами и социологами
и имеет несколько основных составляющих: насилие, новизну и всеобщность
перемен. Эти признаки применяются в равной степени к революционному
процессу, к его причинам и следствиям.
Революция характеризуется как самый интенсивный, насильственный и
осознанный процесс из всех социальных движений. В ней видят предельное
выражение свободной воли и глубоких чувств, проявление незаурядных
организационных способностей и высокоразвитой идеологии социального
протеста. Особое значение придается утопическому или освободительному
идеалу, основанному на символике равенства, прогресса, свободы и на
убеждении, что революции созидают новый и лучший социальный порядок.
Соответственно в качестве причин революции не рассматриваются чисто
временные фрустрации или маргинальные нарушения. Принято считать, что
предпосылками революций становятся фундаментальные социальные
аномалии или вопиющие проявления несправедливости, соединение борьбы
между элитами с более широкими или глубокими социальными факторами,
подобными классовой борьбе, социальные сдвиги, вовлечение в социальное
движение крупных (особенно вновь возникающих) общественных групп и их
политическая организация.
Результаты революций представляются многосторонними. Во-первых, это
насильственное изменение существующего политического режима, основ его
легитимности и его символики. Во-вторых, замена неспособной
политической элиты или правящего класса другими. В-третьих, далеко
идущие изменения во всех важнейших институциональных сферах, в первую
очередь в экономике и классовых отношениях, — изменения, которые
направлены на модернизацию большинства аспектов социальной жизни, на
экономическое развитие и индустриализацию, централизацию и расширение
круга участвующих в политическом процессе. В-четвертых, радикальный
разрыв с прошлым (хотя еще А. Токвиль указывал на относительность этого
разрыва в своей книге «Старый порядок и революция»). Исходя из крайне
идеологизированных,
милленаристских
представлений
участников
революции считают, в-пятых, что революции осуществляют не только
институциональные и организационные преобразования, но и вносят
изменения в нравственность и воспитание, что они создают или порождают
нового человека. Эти пять черт составляют образ чистой революции, как он
сложился в общественном сознании и социологической литературе.
3. Устойчивость образа подлинной революции.
Как мы видели, образ чистой (подлинной, настоящей или классической)
революции возник из анализа исторического опыта великих революций. Хотя
он рассматривался в общественной мысли, начиная с XVIII в., первыми
систематизировали этот образ в XIX в. А. Токвиль3, Л. фон Штайн4 и К.
Маркс. Среди важнейших исследователей XX в., специалистов по
революции, — Э. Ледерер, Г. Лан-дауэр, Т. Гейгер, О. Розеншток-Хюсси5.
Распространенным явлением в этот период стало даже проведение
конференций социологов по революционной тематике6. Большинство таких
ученых (а они не всегда считали себя последователями дела революции)
представляли этот образ как отражение специфики революционного опыта
Европы и одновременно как пролог будущей всеобщей революции. На
развитие представления о последней сильно повлияло распространение
революционных идей, а особенно социалистического движения и
марксистской идеологии. Хотя марксисты считали буржуазные революции
чисто политическими в том смысле, что те касаются только политической
сферы и выражают интересы буржуазии, однако в качестве предпосылок
этих революций они указывали на сложное соотношение социальных факторов и полагали, что конечным результатом буржуазных революций станет
всеобщее преобразование общества. Таким образом, для всех этих
классических подходов условием полного преобразования общества
оказывалось
соединение
нескольких
важнейших
социетальных
(макросоциальных) компонентов.
Образ революции, включающий такие элементы, как всеобщий характер
перемен, разрыв с прошлым, новизна (и насильственность), сохраняется в
относительно недавних исследованиях и определениях революции. Так,
согласно К. Фридриху, который ссылался на О. Розенштока-Хюсси,
«революция... приносит новый, неслыханный язык, другую логику,
переворот во всех ценностях... Политическую революцию можно определить
как внезапное и насильственное свержение установленного политического
порядка»7.
Ю. Каменка пишет: «Революция — это резкая внезапная перемена в
социальном характере власти, выражающаяся в радикальной трансформации
процесса управления, официальных оснований суверенитета или
легитимности и концепции социального порядка. Принято считать, что
подобные трансформации, как правило, не могут происходить без насилия;
но, если такое и случается, они остаются все же революциями, хотя и
бескровными»8. Наконец, С. Хантингтон определяет революцию как
«внутренние быстрые, фундаментальные и насильственные изменения в
господствующих ценностях и мифах общества, его политических институтах,
социальной структуре, руководстве, способах деятельности и политике
правительства»9.
Более систематизированный социологический подход Ч. Джонсона,
находившегося под влиянием ранней работы Н. Смелсера о коллективном
поведении, основан на сходных положениях; то же самое можно сказать
относительно многих из совсем недавних работ о кризисах режимов10. Даже
в более осторожных определениях революции, которые предложили Ч.
Тилли11 и Ф. Риттбергер12 (и в некотором смысле это относится к
цитировавшемуся определению Ю. Каменки), ограничивающих концепцию
революции политической сферой, тем не менее признаются всеобщий
характер изменений, новизна и разрыв с прошлым в этой сфере. Названные
авторы соглашаются также с выводом, что такие революции непременно
сопровождаются социальными преобразованиями.
4. Общие положения в исследованиях революции и эволюционных подходах
к социальным изменениям.
Положения о характере социальных изменений, имплицитно содержащиеся в
образе подлинной революции, наиболее четко выражены в той
концептуальной схеме, которая занимает центральное место в классическом
и современном социологическом анализе макросоциальных изменений, а
именно: в схеме стадиальной эволюции человеческих обществ. Сама идея
стадиальности предполагает нарушение непрерывности при переходе от
одной стадии к другой, а приверженцы этой схемы доказывают, что все
сферы социальной жизни проходят через одни и те же или параллельные
стадии. Классические эволюционисты, марксисты и неоэволюционисты
одинаково считают этот процесс наиболее фундаментальным и
значительным в развитии человеческих обществ.
Нет нужды говорить, что эти ученые придерживаются различных взглядов
относительно основных факторов широких социальных изменений и
конечных освободительных целей социальной эволюции. Он^ различаются
также между собой в оценке роли насилия при переходе от одного этапа к
другому.
Хотя М. Вебер отчасти воспринял эволюционную парадигму, стадиальная
концепция и особенно неизбежность прогресса представлялись ему
спорными13. Видимо, по этой причине он не занимался систематическим
анализом революций как таковых или всеобъемлющими социальными
преобразованиями. Его главным вкладом в изучение социальных изменений
было раскрытие того, что различные элементы социального порядка имеют
собственную динамику и особый характер изменений и что все это может
специфическим образом совмещаться в различных ситуациях. Поэтому
подход М. Вебера к социальным изменениям является одной из важнейших
альтернатив, с которой сталкиваются социологи при применении
классических подходов к революции. На этом направлении мы можем
преодолеть некоторые недостатки классических подходов к изучению
социальных изменений — недостатки, которые особенно очевидны при
анализе революции.
5. Основные положения в исследованиях революции.
Согласно классическим подходам, в каждый момент революционных
преобразований происходит совпадение социальных изменений в различных
сферах общества. Любая ситуация, когда такого совпадения нет, признается
аномальной, отклоняющейся от естественного хода событий.
К этому надо добавить, что ход изменений и их последствия оценивались в
общем в соответствии с идеально-типической схемой революции. Как
следствие, социологическая литература по революциям и социальным
движениям
сфокусирована
на
различиях
между
настоящими,
всеобъемлющими революциями и частичными изменениями общества в
результате переворотов или смены династии. Последние, как считается,
происходят при отсутствии глубоких социальных конфликтов.
Поэтому во многих исследованиях социальных движений и особенно
крестьянских восстаний проводится различие между ситуациями,
вызывающими восстания или перевороты, и теми, которые приводят к
настоящим революциям. При этом не анализируются условия, при которых
многообразные элементы чистых революций, сочетаясь тем или иным
образом, порождают различные типы социальных преобразований14.
Тем не менее, в связи с идеологическими и политическими дискуссиями,
начавшимися между революционерами и реформаторами в конце XIX в.,
определенное внимание в литературе было уделено различию в
предпосылках социальных преобразований, которые осуществляются
революционным путем, и таких, которые могут происходить без революции.
Но даже тогда было относительно мало систематических исследований и
сохранялось подозрение, что изменения путем реформ не являются столь же
подлинными, глубокими или настоящими, как те, что осуществляются
благодаря революциям. Только в работах сравнительно недавнего времени —
например, в анализе турецкой революции Ш. Марди-ном и в исследовании
революций, которые осуществляются элитами, К. Тримберджера — сделана
попытка сконструировать типологию революционного опыта, необходимую
для того, чтобы сопоставить предпосылки различных революционных
процессов и путей социальных преобразований15.
6. Основные подходы к изучению революции.
Слабость подходов, основанных на априорном образе чистой революции,
особенно очевидна при конкретном анализе причин, хода и последствий
революции.
В качестве первого из таких подходов рассмотрим историконатуралистический анализ революций Нового времени. Лучше всего он
представлен в работах Л. Эдвардса, Дж. Петти и К. Бринтона16. Эти
исследователи пытаются установить характерные этапы в ходе революции, а
также общие социально-психологические характеристики процесса
революционных потрясений. В 20-х гг. XX в. историко-натуралистический
подход к революции оказался тесно связанным с изучением поведения
толпы, или массовым поведением17, позднее — с изучением коллективного
поведения и социальных движений, с изучением актов насилия и их значения
в общественной жизни и политическом процессе. Наиболее плодотворные из
таких исследований выявляли истоки недовольства и насилия и влияние этих
факторов на существующие социальные и политические структуры,
определяли перспективы революции в Третьем мире. На своем позднейшем
этапе развития историко-на-туралистический подход затронул проблему
революционного Erlebnis (опыта)18.
Другой из основных подходов сосредоточен на предпосылках революции.
Этот подход имеет три направления. Первым является, по словам Т. Скокпол,
«поиск комплексных психологических теорий, позволяющих объяснить
революции, исходя из мотивов, которые побуждают людей к участию в актах
политического насилия или в оппозиционных движениях»19. В центре этого
психологического или социально-психологического подхода — выявление
стадий или условий возникновения недовольства, которое может привести к
напряженности и политическому насилию, а при их вероятном развитии — к
революционному взрыву. Этот подход в качестве важнейшего из таких
условий указывает на ощущение различными группами своей депривации
(обездоленности).
Вторым направлением является изучение кризисов режимов и гражданских
войн. Изучение кризисов режимов нацелено главным образом на
установление общих структурных условий, в которых воплощаются
противоречия, свойственные тому или иному режиму, прежде всего
капиталистическим режимам. Изучение гражданских войн сосредоточено на
организационных и институциональных предпосылках, способствующих
развязыванию гражданских войн и определяющих их вероятный исход —
разгром оппозиции, включение ее в правящий слой или решающий успех.
Анализ кризисов режимов и гражданских войн может пересекаться с третьим
направлением в исследовании предпосылок революций: это выявление
особенностей политической сферы (и ее связей с широкой социальной
средой), которые ведут к революции.
Работы Ж. Бешлера20, Дж. Джиллиса21, С. Хантингтона, Т. Скок-пол22, К.
Тримберджера, Л. Стоуна23 и Ч. Тилли24 до некоторой степени сходятся в
этой области исследований. Важнейшими из рассматриваемых ими тем
являются — политический упадок режимов и их неспособность справиться с
внутренними и/или внешними проблемами; возникновение контрэлит или
новых групп, желающих войти в политическое руководство или завладеть
им; разложение, изменение социального положения или структуры широких
слоев; возникновение новых слоев и их влияние на участников
политического процесса.
7. Слабые места в изучении революции.
Покажем в общих чертах, почему различные подходы, принимающие образ
чистой революции за эмпирическую реальность, не способны адекватно
отразить многообразие революционных и нереволюционных перемен вообще
и тех, что происходят в современных обществах, особенно. Почти всем этим
подходам не удается провести различие между предпосылками общего
недовольства, разнообразных коллективных насильственных действий,
свержения режимов и/или революций, с одной стороны, а с другой — теми,
что порождают далеко идущие социальные изменения. Фактически
большинство исследователей революции сосредоточены на том аспекте этого
феномена, который легче всего поддается определению — на политической
сфере, и избегают систематического анализа связи между трансформацией
политической сферы и преобразованием других сфер социального порядка.
Итак, в работах, рассматривающих революцию лишь как форму
коллективного поведения или насилия, нет обстоятельного разграничения
между социальными движениями, которые становятся частью революции
или приводят к ней, и теми, которые к ней не приводят. В них также не
выявляются механизмы и особенности социальной макроструктуры,
обусловливающие революционную направленность социальных движений.
Таким образом, авторам этих работ не удается установить специфику
революционного феномена. Хотя некоторые исследователи крестьянских
восстаний проводят различие между реформаторскими и революционными
движениями, проблема превращения первых во вторые затрагивается обычно
только в идеологическом, а не в аналитическом плане.
Изучение феноменологии революционного опыта (не считая отчасти труда
Дж. Данна) отрывалось от изучения структурных причин и следствий
революций. Так, исследователям социально-психологических предпосылок
революций (примером могут служить Дж. Девис и Т. Гёрр23) не только не
удалось связать эти предпосылки со структурными аспектами политической
и макросоциальной сфер, например, с отношениями между элитами и
взаимоотношениями между элитами и широкими слоями общества, они не
смогли также продвинуться в понимании условий и механизмов, под
влиянием которых такие связи приводят к революциям, а не к другим типам
социальных изменений.
Сходным образом изучение гражданских войн, кризисов и упадка режимов,
проводилось ли оно такими учеными, как Г. Экстайн26, С. Хантингтон, Дж.
Джиллис, Ж. Бешлер и К. Дейч, либо мыслителями-марксистами или
близкими к марксизму вроде М. Ёнике или У. Ёгги27, хотя и сопровождалось
значительным продвижением в понимании динамики социальных систем, не
смогло раскрыть конкретные предпосылки, приводящие к кризисам режимов,
различным типам революций или структурным изменениям.
Как правильно отметил В. Рансимен, марксистско-ориентиро-ванные
исследователи политических кризисов усматривают в любых конфликтах,
возникающих в капиталистических обществах, фундаментальные системные
противоречия28.
Недостатки этих различных подходов очевидны даже в наиболее
перспективных работах Ч. Тилли, Л. Стоуна, Дж. Джиллиса, С. Хантингтона
и др., обращающихся к политическим и социальным предпосылкам
революций. Большинство факторов, которые, по мнению этих ученых,
должны приводить к революциям, могут быть в то же время и причиной
распада империй или серьезных изменений внутри них.
Можно констатировать и то, что большинство авторов игнорирует связь
между революцией и цивилизацией Нового времени (modernity). Правда,
многие из тех, кто занимается этой проблемой, признают, что революции
характерны для цивилизации Нового времени и что символика и образы, а
также основные организационные и институциональные черты революций
присущи именно Новому времени. Тем не менее им не удается проследить
систематическим образом связь между этими чертами и фундаментальными
характеристиками или динамикой цивилизации Нового времени.
Изучение последствий революций, если исключить творчество Ш. Мардина,
К. Тримберджера и Т. Скокпол, было еще менее систематичным. Хотя
большинство исследователей революционных ситуаций признают, что
результатами
революций
становятся
экономическое
развитие
(капиталистического
или
социалистического
типа),
политическая
модернизация (особенно централизация и какая-то форма демократизации) и
глубокие социальные изменения с освободительными потенциями, пока еще
отсутствует строгий анализ подобных феноменов.
Можно, однако, приблизиться к пониманию этих проблем с помощью
трудов, не посвященных непосредственно революции: например, если
обратиться к анализу исторических путей политической модернизации,
который проделал Б. Мур29, к работам С. Липсета и Ст. Роккена30, к
исследованию С. Хантингтона31 об опыте революции и реформ.
8. Последствия слабости в подходах к изучению революции.
Общая тенденция различных подходов принимать за эмпирическую
реальность образ чистой революции и делать из него конечный пункт
некоего поступательного движения снижала научный уровень осмысления
исторической и социологической уникальности собственно того типа
социальных изменений и преобразований, который и был обозначен как
подлинная революция. Более того, сравнения революционных движений
сделались вследствие этого формальными и схематичными, что не позволило
полноценно определить социологическую и историческую специфику
различных типов революции.
Так, результатом широкого распространения образа чистой революции
оказались дискуссии на тему, являются ли подлинными революциями
нидерландское восстание (ок. 1555—1585 гг.), американская, турецкая (ок.
1918-1923 гг.) и мексиканская (ок. 1910-1920 гг.) революции. Эта тенденция
воспрепятствовала анализу в аспекте сравнительного изучения революций
Реставрации Мэйдзи 1868 г. — события, которое несомненно
революционизировало традиционное общество, хотя ему и недоставало
некоторых важнейших компонентов настоящей революции, прежде всего
соответствующих идеологических и утопических элементов.
Точно так же образ чистой революции блокировал попытки объяснить
революции в Европе 1848 г. или возникновение фашизма (Б. Мур, Дж.
Джермани32 и некоторые другие авторы до известной степени преодолели
этот барьер). Это также сковало анализ возрождения революционного
символизма и революционного поведения в студенческих выступлениях и
этническихТсонфликтах, которые потрясли западный мир в 60-х гг. Наконец,
исследователи революций, по общему правилу, игнорировали изменения и
преобразования в традиционных обществах.
9. К новому подходу.
Далее будет изложен (разумеется, в предварительном виде) иной подход к
сравнительному изучению революций и социальных преобразований,
нацеленный на разработку указанных выше проблем. Этот подход основан на
некоторых положениях, и самое важное из них — это то, что сочетание
компонентов социальной деятельности, определяемое как «чистая
революция», представляет особый тип среди процессов, в ходе которых
осуществляются социальные изменения и преобразования.
Можно, конечно, задаться вопросом, насколько даже в великих революциях
— английской, французской, а до некоторой степени в американской,
русской и китайской — эти компоненты соединяются так, как предполагает
образ подлинной революции. В последующих главах эти проблемы будут
рассмотрены более подробно. Все же не вызывает сомнения, что в великих
революциях эти элементы сочетались полнее, чем в других случаях
социальных изменений и преобразований (будь то традиционные или современные общества). Однако то обстоятельство, что эти революции стали
моделями и символами изменений, не означает, что во всех последующих
процессах социальных изменений символические, организационные и
институциональные компоненты изменений, характерные для подлинной
революции, соединялись тем же образом. Другими словами, хотя
человеческим обществам свойственны социальные конфликты, инакомыслие,
восстания, изменения и преобразования, однако специфическое объединение
элементов, создающее образ подлинной революции, не является
единственным естественным путем «настоящих» перемен — и в
традиционных, и в современных ситуациях. Скорее, это лишь один из
возможных путей.
Предлагая свой подход, мы стремимся: 1) установить те элементы или
характеристики революций Нового бремени, которые отличают их — и
идеологически, и организационно — от других движений протеста и
восстаний, актов политической борьбы и процессов изменений; 2) выявить
специфические социально-исторические условия, при которых может найти
выражение тенденция к чистой революции; и 3) вскрыть нереволюционные
процессы социальных преобразований в обществах современного типа и
условия, их порождающие.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 См.: Aron R. Main Currents in Sociological Thought. V. 1-2. N.Y.: Basic Books,
1966—1967; Nisbet R.A. Social Change and History: Aspects of the Western
Theory of Development. N.Y.: Oxford University Press, 1964; Idem. The
Sociological Tradition. L.: Heinemann, 1967; Idem. Tradition and Revolt:
Historical and Sociological Essays. N.Y.: Random House, 1968.
2 Эта критика в отношении исследований модернизации анализируется в кн.:
Eisenstadt S.N. Tradition, Change and Modernity. Part 1. В отношении
подходов, которые подчеркивают различие между эволюционными и
революционными позициями, см. также: Buhl W.L. Evolution und Revolution.
Miinchen: Wilhelm Goldmann, 1970; Wertheim W.F. Revolution and Evolution:
The Rising Waves of Emancipation. Baltimore: Penguin, 1974.
3 О значении творчества А. Токвиля см.: Salomon A. In Praise of
Enlightenment. Cleveland: World Publishing, 1963. Ch. 7; Zeitlin J.M. Liberty,
Equality and Revolution in Alexis de Tocqueville. Boston: Little, Brown, 1961;
Geiss I. Tocqueville und das Zeitalter der Revolution//Neue politische Literatim
Frankfurt am Main, 1974. Bd. 19. Н. Ъ. S. 395-396; Richter M. Tocqueville's
Contributions to the Theory of Revolution//Revolution: Yearbook of the American
Society for Political and Legal Philosophy/Fredrich C.J. (ed.). N.Y., 1967. P. 75—
121. Здесь и далее место издания журналов, на статьи в которых ссылается
Ш. Эйзенштадт, указаны по каталогу периодики Фундаментальной
библиотеки ИНИОН РАН или по справочным изданиям, если эти журналы
отсутствуют в фондах ИНИОН. В последующем эти указания даются
без скобок. (Примеч. перев.)
4 О Л. фон Штайне см.: Landshut S. Kritik der Soziologie. Miinchen: Von
Duncker und Humboldt, 1929; Stein L. von. Staat und Gesellschaft. Zurich:
Rasher, 1934.
5 Lederer E. Einige Gedanken zur Soziologie der Revolutionen.Leipzig: Der Neue
Geist, 1918; Idem. On Revolutions//Social Research. N.Y., 1936. V. 3, N 1. P. 118; Landauer G. Die Revolution. Frankfurt am Main: Rutten, 1912; Geiger T.
Revolution//Handworterbuch der Soziologie/Vierkandt A- (Hrsg.). Stuttgart:
Ferdinand Enke, 1931. S. 511-518; Rosenstock-Huessy E. Revolution als
politischer Begriff in der Neuzeit. Brieslau, 1931; Idem. Die europaischen
Revolutionen: Vollkscharakter und Staatenbildung. Stuttgart: Kohlhammer, 1951
(первое издание — 1931).
6 См., например, дискуссию на третьей конференции Германского
социологического общества: Tonnies F., Wiese L.V., Hartmann L.M. Reden,
Vortrage und Debatten iiber das Wesen der Revolution//Verhandlungen des Dritten
deutschen Soziologentages. Tiibengen: J.C.B. Mohr, 1923. S. 1—40.
7 Friedrich C.J. An Introductory Note on Revolution/Revolution: Yearbook of the
American Society for Political and Legal Philosophy/Friedrich C.J. (ed.).
N.Y., 1967. P. 3-9.
8 Kamenka E. The Concept of a Political Revolution//A World in Revolution?/
Kamenka E. (ed.). Canberra, 1970. P. 122-138.
*
9 Huntington S.P. Political Order in Changing Societies. New Haven: Yale
University Press, 1968. P. 264.
10 См.: Johnson C. Revolution and the Social System. Stanford: Stanford
University Press, 1964; Idem. Revolutionary Change. Boston: Little, Brown, 1966.
Теоретическим обоснованием такого подхода я обязан книге Н. Смел-сера, а
более схематическое изложение я нашел в работе М.Н. Хагопиана. См.:
Smelser NJ. Theory of Collective Behavior. N.Y.: Free Press, 1963; Hagopian
M.N. The Phenomenon of Revolution. N.Y.: Dodd, Mead, 1975.
11 Tilly Ch. Does Modernization Breed Revolution?//Comparative politics.
Chicago, 1973. V. 5. № 3. P. 425-447; Idem. Revolutions and Collective
Violence//Handbook for Political Science/Greenstein F.I., Polsby (eds.). Reading:
Addison-Wesley, 1975. V. 3. P. 483-555.
12 Rittberger У. Uber sozialwissenschaftliche Theorien der Revolution: Kritik und
Versuch eines Neuansatzes//Politische Vierteljahreschrift. Wiesbaden, 1971. Bd.
12. H. 1. S. 429-529.
13 По этому вопросу см.: Bendix R. Max Weber: An intellectual portrait. Garden
City: Doubleday, 1960; Mommsen W. Max Weber: Gesellschaft, Politik und
Geschichte. Frankfurt am Main: Suhrkampf, 1972; Max Weber: On Charisma and
Institution Building/Eisenstadt S.N. (ed.). Chicago: University of Chicago Press,
1968.
14 В этом плане одним из немногих и частичных исключений в
существующей социологической литературе предстает книга Б. Джессопа.
См.: Jessop В. Social Order, Reform and Revolution. N.Y.: Macmillan, 1972. CM.
также: Smith A.D. The Concept of Social Change. L.: Routledge and Kegan Paul,
1973. P. 96-130.
15 См.: Mardin S. Ideology and Religion in the Turkish Revolution// International
Journal of Middle East Studies. Cambridge, 1971. V. 2. № 3. P. 197-211;
Trimberger K. A Theory of Elite Revolutions//Studies in Comparative
International Development. New Brunswick, 1972. V. 7. № 3. P. 191-207.
16 Edwards L.P. The Natural History of Revolution. Chicago: University of
Chicago Press, 1972; Pettee G. The Process of Revolution//Why revolution?
Theories and Analysis/Paynton C.T., Blackey R. (eds.). Cambridge: Schenkman,
1971. P. 18-35; Brinton C. The Anatomy of Revolution, rev. andenl. edition. N.Y.:
Random House, 1965.
17 О поведении толпы и массовом поведении см.: Geiger T. Revolution. S.
511-518; Wiese L.V. Die Problematik einer Soziologie der Revolution//
Verhandlungen des Dritten deutschen Soziologentages. Tubingen: J.C.B. Mohr,
1923. S. 24-40. Раннюю, классическую трактовку толпы см. в кн.: Лебон Ж.
Толпа (оригинальное изд. на франц. яз. — 1895). Лучшей иллюстрацией
этого подхода являются: Anger, Violence, and Politics/Feierabend К.,
Feierabend R.L., GurrT.R. (eds.). Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1972; Gurr
Т.К. A Causal Model of Civil Strife: A Comparative Analysis Using New
Indices//American Political Science Review. Menasha, 1968. V. 62. № 4. P. 11041124; Idem. Psychological Factors in Civil Violence//World Politics. Princeton,
1968. V. 20. № 2. P. 245-278.
18 См.: Dunn J. Modern Revolutions: An Introduction to the Analysis of a
Political Phenomenon. Cambridge: Cambridge University Press, 1972; Decoufle
A. Sociologie des Revolutions. P.: PUF, 1968.
19 Scocpol T. Explaining Revolutions: In Quest of a Social-structural Approach//
The Uses of Controversy in Sociology/Coser L.A., Larsen O.N. (eds.). N.Y.: Free
Press, 1976. P. 156-157.
20 Baechler J. Revolutions. Oxford: Blackwell, 1976.
21 Gillis J.R. Political Decay and the European Revolutions, 1789-1848// World
Politics. Princeton, 1970. V. 22. № 3. P. 344-370.
22 Skocpol T. France, Russia, China: A Structural Analysis of Social
Revolutions//Comparative Studies in Society and History. N.Y.; L., 1976. V. 18.
№ 2. P. 175x210. См. также: Skocpol T. States and Social Revolutions.
Cambridge: Cambridge University Press, 1979. (Примеч. перев.)
23 Stone L. The Causes of the English Revolution, 1529-1642. L.: Routledge and
Paul. 1972; № Theories of Revolution//World Politics. Prince, Witsh 1973Revolution und Democration, Boston: Beacon 5. Oeavage Sm.c.u,* Party 1975.
Глава 2.
ПРОТЕСТ, ВОССТАНИЕ, ИНАКОМЫСЛИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОБЩЕСТВАХ.
И
ИЗМЕНЕНИЯ
В
1. Социологический подход к изменениям.
Исходя из нашего положения, что современные, настоящие революции
являются лишь одной из разновидностей процесса изменений и только одним
из путей осуществления социальных преобразований, лучше всего
представить вначале феномен в более общей перспективе социальных
изменений, для того чтобы понять затем его специфические черты.
Согласно одной из основных посылок социологического анализа причины
социальных изменений кроются в характере социального устроения. Эта
посылка отражает специфически социологическую постановку вопроса1,
которая очень неравномерно эволюционировала с начала XIX в. и отличается
от постановки вопроса в философских традициях и идеологических учениях,
а также от постановки вогфоса при проведении социальных реформ. При такой постановке вопроса не затрагиваются национальные условия или
особенности социального порядка и не устанавливается какой-то одинединственный — лучший тип социального устройства. Вместо этого в центре
внимания оказывается анализ условий и механизмов социального порядка и
элементов его составляющих, преемственности и изменений в социальном
порядке вообще, а также в его различных типах.
Итак, постепенно фундаментальной проблемой в изучении социального
порядка стало выяснение того, как оказывается возможным поддержание
социального взаимодействия среди человеческих существ, а не того, как
возникает общество из доисторической среды. Иначе говоря, в центре
внимания оказался вопрос о том, как утверждается социальный порядок,
исходя, с одной стороны, из непременной социальной взаимозависимости
человеческих существ, а с другой — из их выделения как индивидов.
Следует учитывать также и тот факт, что человеческие существа отличаются
открытой биологической программой и сознанием этой открытости — вместе
с возникающей отсюда неопределенностью. Хорошо известно, что долгое
время социологи были склонны формулировать проблему социального
порядка в чисто гоббсовских категориях, иначе говоря, в категориях
перехода от досоциального состояния индивидуального существования к
социальному. Однако мало-помалу фокус социологического анализа
перемещался в собственно институциональную сферу, в самое устройство
человеческого общества.
Решающий шаг в развитии социологического анализа был сделан через
выявление различия между двумя указанными аспектами социального
порядка, существования постоянной напряженности между ними и связи
этой напряженности с характером общих изменений в человеческих
обществах.
Один из аспектов социального порядка — организационный, т.е. механизмы,
институциональные формы или процессы, обеспечивающие некоторую
предсказуемость во взаимоотношениях людей и делающие возможным
общественное разделение труда. Поэтому в социологическом анализе
большое место уделяется выявлению тех механизмов (социальных ролей,
институтов, организаций, рыночных отношений, договоренностей), которые
объясняют, как в том или ином обществе осуществляется общественное
разделение труда. Более того, социологический анализ стремится к
определению тех факторов или закономерностей (классовая борьба,
специфика человеческого мышления, индивидуальные интересы и мотивы),
на которых основано общественное разделение труда.
Однако при углубленном социологическом анализе этой сферы выясняется,
что организационные структуры и механизмы социального взаимодействия и
общественного разделения труда сами по себе не делают человеческое
поведение предсказуемым и не обеспечивают приемлемость общезначимых
обязательств, без которых социальный порядок не может существовать.
Напротив, сама по себе социальная организация не только не способна
предупреждать возникновение в обществе беспорядка, но и в известном
смысле обостряет эту проблему, поскольку из области организационных
предпосылок она превращается в предмет осознанного интереса.
Формулируясь в символических категориях, эти предпосылки еще более
подчеркивают возможность беспорядка, произвольности и случайности в
социальной жизни и организации.
Такая кроющаяся в организационных аспектах общественного разделения
труда опасность имеет основанием то обстоятельство, что в любом
социальном взаимодействии возникает комбинация конфликта и
сотрудничества различных групп и действующих лиц в отношении
производства, распределения и использования ресурсов. Функционирование
любого механизма общественного разделения труда сопровождается
попытками различных участников монополизировать доступ к социальным
позициям и ресурсам, стремлением установить соответствующие нормы,
чтобы укрепить и сделать постоянным такое устройство. И хотя эти нормы
призваны обеспечить стабильность социального взаимодействия, они обычно
воспринимаются как произвольные, принудительные и несправедливые. Они
могут выглядеть необоснованными, порождать среди участников
представление о нарушении надлежащего порядка. Как следствие, они не
могут обеспечить доверия между участниками в их взаимоотношениях и
вместо этого создают нестабильность в социальных отношениях, которые
они призваны были структурировать. Потенциал нестабильности и
беспорядка, вероятность восприятия общественного разделения труда
участниками как произвольного возрастают от того, что эта исходная
неопределенность находится в системной связи с организационными
основаниями
социального
взаимодействия
—
структурированием
коллективов, институтов и макросоциального порядка.
При создании коллективов, институтов и макросоциальных порядков эта
неопределенность проявляется прежде всего в том, что цели и потребности
каждой из групп никогда не бывают заранее данными. Специфическое
содержание подобных потребностей устанавливается в каждом конкретном
случае. Более того, в каждой группе могут возникать различные мнения
относительно содержания той или иной потребности. К тому же различные
потребности каждой подгруппы никогда не бывают полностью
совместимыми; следовательно, внутри самих коллективов существуют
напряженность и противоречия. Такая напряженность складывается вокруг
оценки относительного значения различных потребностей всего общества и
его отдельных групп; их соотношения с частными целями индивидов,
составляющими ту или иную подгруппу; распределения ресурсов,
необходимых для удовлетворения как индивидуальных, так и групповых
потребностей, и доступа к этим ресурсам.
Другими словами, какой бы ни была организация общественного разделения
труда, она:
1. Не исключает неопределенности и риска в институционализованной
жизни.
2. Не гарантирует того, что кто-то позаботится о признанных потребностях
коллектива в организации его жизни вообще и в обеспечении коллективной
безопасности особенно.
3. Не выражает коллективные цели и не делает их реально осуществимыми.
4. Не обеспечивает достижения индивидом и коллективом определенной
степени самоуважения и идентичности, а также достижения или сохранения
чувства причастности к какому-либо значимому социальному или
культурному порядку.
5. Не всегда благоприятствует развитию и поддержанию чувства взаимного
доверия между членами коллектива.
6. Не гарантирует того, что социальные агенты действительно будут
осуществлять свои взаимные обязательства, решать поставленные перед
ними задачи и играть предназначенные им роли.
Выявление напряженности между организационными механизмами
общественного
разделения
труда
и
общественным
признанием
существующего социального порядка представляет одно из главных
достижений социологического анализа. Эта констатация требует
разъяснений. Во-первых, как может быть достигнут порядок в социальной
жизни, который учитывал бы и многообразие целей индивидов, и их
взаимозависимость? Во-вторых, как социальное устройство общества (то, что
в теории социологического анализа сравнительно недавно получило название
институционального аспекта) справляется с напряженностью в отношениях
между этими двумя фундаментальными сторонами социальной жизни?
Особенно важно, что удалось выявить стремление ликвидировать эту
напряженность и указанные выше ее последствия посредством установления
и поддержания некоторого общезначимого порядка в социальном
пространстве и общего участия в нем (что как цель имеет большое значение
при любом типе взаимодействия). Соответственно, социологический анализ
был направлен главным образом на то, чтобы выяснить, как эта цель и
попытка создать общезначимые определения социальной жизни встроены в
институциональную
структуру
обществ.
Сколь
бы
отдельные
социологические подходы и теории ни различались между собой, они все
сходятся на том, что сближение двух аспектов социального порядка может
произойти только через построение символического мироздания, в котором
определены границы коллективов, идентичность индивидов и обеспечена
основа общезначимого устройства социальной действительности и доверия
между индивидами.
Так, К. Маркс сосредоточился на эксплуатации и отчуждении,
обусловленных разделением труда (и особенно — классовым разделением
труда), и на идеологическом прикрытии, которое создает правящий класс,
чтобы замаскировать возникающее в обществе отчуждение2. Аналогично Э.
Дюркгейм, подчеркивая несовершенство чисто договорных связей,
предполагал, что именно процесс разделения труда создает главную
проблему социального порядка, ив связи с этим выделял значение
символических, недоговорных элементов. М. Вебер подчеркивал значение
легитимизации материальных интересов, интересов власти или престижа, что
вполне соответствует точке зрения Э. Дюркгейма3.
Однако, поскольку в социологическом анализе одновременно признается, что
напряженность между двумя аспектами никогда не может быть полностью
ликвидирована, постепенно происходит переформулирование некоторых
основных проблем анализа общества. Особенно важным было
переформулирование проблем социального беспорядка, дезорганизации и
трансформации, которые можно найти в философской мысли всех эпох, но
особенно Нового времени. Социологическая постановка вопроса развивалась
вместе с превращением анализа этих явлений в отправной пункт понимания
механизмов социального порядка, условий функционирования и
предпосылок изменения такого порядка вообще и его разновидностей в
частности.
Это означает, что социальный беспорядок не Авляется первичным по
отношению к социальному порядку и, следовательно, отличным от него по
природе; но что он представляет особый тип соотношения элементов,
которые в ином раскладе составляют ядро преемственности того же самого
социального порядка. Таким образом, предполагается, что социальная
дезорганизация может служить отправной точкой как в анализе стабильности
или преемственности в социальном порядке, так и в изучении социальных
изменений или преобразования. Продвигаясь в этом направлении,
социологический анализ сосредоточивается на тенденции социальных систем
к преобразованию; и такого рода тенденция определяется как основной
аспект социального порядка, а не как внешнее или случайное событие.
Анализ связи изменений с дезорганизацией, выявление их источника в
напряженности между организационным и легитимизационным аспектами
социального порядка — заслуга некоторых крупнейших социологов; этому
направлению понимание природы социальных изменений в большой степени
обязано основными сдвигами в своем развитии. Первым таким сдвигом в
современном социологическом анализе стали работы К. Маркса; его
основной аналитической концепцией было положение о том, что отчуждение
порождается динамикой созданной самим человеком среды, поскольку эта
среда формируется путем классовых революций. Отсюда утверждение К.
Маркса: отчуждение и конфликт присущи всем классовым обществам.
Недостатки Марксова анализа обусловлены его предположением, что
отчуждение и конфликт присущи только классовым обществам и исчезают в
бесклассовом состоянии, в результате чего он сосредоточился
исключительно на тех аспектах социального конфликта, которые могут
привести к бесконфликтному обществу.
Второй сдвиг был обозначен работами Г. Зиммеля, показавшего, что в
социальной жизни конфликты представляют постоянное явление; однако
подход ученого был ограничен выделением чисто формальных аспектов
социального взаимодействия4.
Последующий вклад в анализ этой проблемы был сделан Э. Дюркгеймом и
М. Вебером. Они использовали анализ дезорганизации как главный
инструмент
для
лучшего
понимания
условий
и
механизмов
функционирования социального порядка и для сравнительного анализа
разновидностей социального порядка. Анализ Э. Дюркгеймом аномии
является контрапунктом его озабоченности проблемами социальной
интеграции. Он показал, как разные типы аномии, преступности и
уголовного права связаны с различными типами разделения труда и
недоговорными элементами.
Для М. Вебера основной проблемой социологического анализа было
соотношение тенденций к созиданию и разрушению институтов,
свойственное феномену харизмы5. Подобно К. Марксу, Э. Дюркгейм и М.
Вебер констатировали возможность существования факторов изменений и
конфликта среди компонентов социального порядка; но, в отличие от него,
они допускали, что такие конфликты имеют постоянную природу. В
результате Э. Дюркгейм и М. Вебер оказались более открытыми в плане
выявления структурных предпосылок возникновения конфликтов и
изменений.
Во многих классических социологических трудах, как мы кратко упоминали,
интерес к причинам изменений был тесно связан с интересом к направлению
перемен в человеческих обществах и к их сравнительному изучению. В
дальнейшем мы уделим рассмотрению этой проблемы больше внимания. На
данной стадии нашего исследования ограничимся краткой характеристикой
основных подходов к проблеме социальных изменений, которые существуют
в современной социологической теории.
2. Анализ изменений в современных социологических теориях.
Во многих влиятельных теориях современной социологии настойчиво
подчеркивается, что изменения коренятся в самом характере социального
порядка; тем не менее эта посылка нередко оказывалась объектом
теоретических дискуссий. Очень часто в таких дискуссиях между
социологами затрагивачись структурно-функциональная теория вообще и
пределы ее применения к анализу социальных и исторических перемен в
частности6.
В ходе широких социологических дискуссий возник ряд новых моделей или
подходов — таких, как модель конфликта, предложенная Р. Дарендорфом и
Дж. Рексом, а в другом варианте Р. Бендиксом и Р. Коллинзом; модель
обмена, поддержанная Дж. Хомансом и в некоторой степени П. Блау, и
символико-структуралистская модель К. Леви-Строса. Произошло также
воскрешение и дальнейшее развитие старых моделей вроде символикоинтеракционистской, на основе которой сформировались этнометодология7,
и марксистской. Полемика по поводу этих различных моделей и особенно
относительно их противопоставления структурно-функциональной модели
стала главной темой в теоретических дискуссиях и обсуждениях между
социологами, и прежде всего это затронуло макросоциологический анализ. В
общем приверженцы перечисленных моделей доказывают, что в структурнофункциональном подходе ограничивалась автономия индивидов и подгрупп,
значение их интересов и конфликтов между ними, культурных и
символических аспектов человеческой деятельности, что приводило к
подчинению индивида организационным потребностям и требованиям
социальной системы.
В каждой модели подчеркивается такой аспект или компонент социальной
жизни, который, как предполагается, недооценивает структурнофункциональная школа. Так, модели обмена и конфликта сосредоточены на
мотивах, интересах и возникающих в обществе конфликтах между
различными социальными агентами (индивидами или группами). В
символико-интеракционистской модели подчеркивается, что нормативные
определения ситуаций, где происходит взаимодействие людей, не просто
заданы
ценностями
общества,
но
постоянно
вырабатываются
взаимодействующими в этих ситуациях людьми. Структуралисты и в
некоторой мере марксисты указывают на некие «более глубокие»,
символические или символико-структурные измерения человеческой жизни
либо социального порядка, как ключ к пониманию структур и динамики
обществ.
С этими разногласиями тесно связано нежелание сторонников большинства
таких подходов признать «естественную» обусловленность какого-то
единственного институционального устройства организационными или
общими потребностями системы, к которой оно относится. Любое данное
институциональное устройство — будь то структура фабрики или больницы,
разделение труда в семье, юридическое определение девиантного поведения
либо значение ритуала в данной социальной среде или возникающие вокруг
этого типы поведения — не анализируется теперь только или по
преимуществу с точки зрения той роли, которую оно играет в сохранении
какой-то данной группы или общества. Напротив, само формирование такого
институционального устройства превращается из предопределенности в
проблему, требующую объяснения; и сторонники этих подходов задаются
вопросом: каковы скрывающиеся за организационными потребностями
общества
факторы,
которые
могут
объяснить
его
основные
институциональные формы?
Различные модели отличаются по своим подходам к этой проблеме, к
объяснению каждого конкретного институционального порядка. В одном из
таких подходов, принятом главным образом в индивидуалистских и
конфликтных, а также в символико-интеракционистских моделях,
подчеркивается, что любой институциональный порядок возникает,
существует и изменяется в рамках процесса постоянного взаимодействия,
соглашений и борьбы между теми, кто участвует в нем. В этом подходе
подчеркивается, что при объяснении любого институционального устройства
следует учитывать соотношение сил, соглашения, борьбу, конфликты и
коалиции, которые возникают в подобных процессах. Соответственно,
сильный акцент делается на автономности любой микросреды, подгруппы
или подсистемы — автономности, которая выражается в определении целей
и подразумевает отличительность от того, что существует в более широком
организационном или институциональном пространстве, так же как от
«окружения» (в виде прежде всего международной системы), в котором
функционирует социальный организм.
Второй, представляющийся противоположным подход распространен
особенно среди структуралистов и марксистов. Как было отмечено выше,
этот
подход
склонен
объяснять
природу
любого
данного
институционального порядка и особенно его динамику, отправляясь от
принципов «глубинной» или «скрытой» структуры, родственных тем, что, по
мнению лингвистов вроде Н. Хомски, определяют глубинную структуру
языка. В попытках установить принципы такой структуры структуралисты
подчеркивают значение символических черт человеческой деятельности или
некоторых врожденных закономерностей человеческого мышления. В
противовес этому марксисты делают упор на комбинации структурных и
символических характеристик. Соотношение производительных сил и
производственных отношений, отчуждения и классового сознания
определяет, по их мнению, принципы глубинных структур общества и
обусловливает их важнейшие институциональные признаки, а также
динамику. В своих попытках объяснить процессы поддержания
институционального порядка все данные подходы, заодно с классическим
социологическим подходом, затрагивают и анализ социальных изменений.
Структурно-функциональный подход, представленный в работах Т. Парсонса
и его учеников, выделяет две главные причины изменений в социальных
системах. Это: 1) нарушающие равновесие тенденции, которые всегда
наличествуют в отношениях между социальной системой и ее окружением;
2) напряженность, существующая между нормативными и структурными
элементами любой соииачьной системы. Они также подчеркивают, что
возникновение новых ресурсов, ведущее к потенциально новым уровням
социальной дифференциации, может быть важным источником изменений и
что именно новые ценностные ориентации могут создать влиятельную
систему контроля, через которую такие изменения институционализуются.
Конфликтный подход — как в своей функционалистской версии,
предложенной Л. Коузером, так и в сочинениях Р. Дарендорфа, Р. Бендикса, а
позднее Р. Коллинза — подчеркивает прежде всего, что главным источником
изменений в обществе является конфликт между группами, отстаивающими
свои материальные или идеальные интересы8.
Марксисты и более определенно неомарксисты важнейшим источником
изменений считают системные противоречия (например, противоречия
между способом производства и производительными силами), которые
присущи любой социальной системе (прежде всего всем классовым
обществам)9.
С упором на роль органических противоречий в трансформации культурных
и социальных моделей и порядков связан центральный тезис в символикоструктуралистском подходе К. Леви-Строса10. Однако больше всего К. ЛевиСтрос занимался бинарными оппозициями, как представляющими
специфическое свойство человеческого мышления. В соответствии с этим
подходом символические трансформации, происходящие при разрешении
глубинных противоречий, подобных противоположности между культурой и
природой, объясняют и переход социальных порядков (например, переход от
тотемического общества к кастовому).
Какими бы ни были различия между этими подходами, многие из них
сходятся на том, что любая система имеет тенденцию к полному изменению
в направлении возрастания сложности и дифференцированности. Соединение
структурно-функционального,
символико-структуралистского,
неоэволюционистского и марксистского подходов поистине представляется
интереснейшим результатом развития социологической теории в последнее
время11.
До недавнего времени сторонники упомянутых подходов утверждали, что
другие подходы не могут объяснить либо причины, либо направление
изменений в любой конкретной социальной системе. Хотя здесь нет
возможности входить в подробный анализ этой полемики, стоит указать на
некоторые слабости каждого из этих подходов, так же как на возможную
аналитическую конвергенцию между ними, делая упор особенно на том, что
относится к изучению социальных изменений.
Конфликтному подходу с его сильным антисистемным уклоном не удается
объяснить обнаруживаемые в группах и коллективах тенденции к
системообразованию и установлению пограничных линий. Пренебрегая
системными качествами социальных образований, зачастую отрицая
существование таких качеств, эта теория оказывается неспособной
установить относительное значение различных конфликтов для рождения
изменений и оценить воздействие конфликтов на направление изменений.
Слабым пунктом в аргументации символико-структуралистов является
неспособность определить природу институциональных узлов и тех
механизмов, через которые символические характеристики человеческой
деятельности воздействуют на институционализованную жизнь. Прежде
всего этой школе не удалось определить те институциональные области, в
которых имеют тенденцию концентрироваться символические противоречия,
или выделить те институциональные механизмы, через которые последние
могут активизироваться.
Поборники социосистемного подхода не считают возможным рассматривать
возникновение или институционализацию социальной жизни отдельно от
обычной практики взаимодействия индивидов. Они утверждают, что
последняя должна быть объяснена с учетом специальных механизмов,
обеспечивающих потребности социальной организации. Все же им зачастую
не удается объяснить, как эти процессы связаны с целями индивидов, их
взаимодействием, культурными установками и поиском смысла. Прежде
всего они сталкиваются с проблемами определения: 1) способов
поддержания механизмов разграничения; 2) ролей, которые играют подобные
способы в процессах системной преемственности; 3) условий, приводящих к
разрушению разграничительных механизмов. Эти слабости социосистемного
подхода становятся особенно очевидными при изучении социальных
изменений.
Главная слабость структурно-функционального подхода — это бросающееся
в глаза пренебрежение значением, которое имеют особенности власти и
характер конфликтов (из них наиболее серьезны конфликты из-за власти) в
функционировании социальных систем, а также общим соотношением между
подобными конфликтами и социальными изменениями. Равным образом
представляется, что этот подход игнорирует естественную тенденцию любой
социальной системы порождать внутренние противоречия, заодно с
изучением отношения этих противоречий к конфликтам вокруг власти. В
результате
структур-функционалисты
не
всегда
подвергали
систематическому анализу отношение между конфликтами вокруг власти и
внутренними противоречиями, с одной стороны, и созданием новых уровней
ресурсов, благодаря которым могли происходить системные изменения, — с
другой.
Марксистские и неомарксистские подходы достаточно парадоксально
соединяли позиции символического структурализма с конфликтологическим
подходом.
Марксисты,
например,
затруднялись
определить
институциональные механизмы или группы, которые воплощают отношение
между производительными силами и производственными отношениями.
Поэтому им не удалось также выяснить, какие конфликты являются наиболее
важными с точки зрения трансформации существующих систем. В
результате всякая новая проблема или возникающий конфликт обычно рассматриваются
марксистами
как
противоречие,
предполагающее
трансформацию любой данной системы, особенно капитализма.
3. Теоретическая конвергенция: символические и институциональные
характеристики систем социальной организации — основополагающие
нормы социального взаимодействия.
Сколь бы значительными ни были расхождения между различными
аналитическими подходами, сами эти расхождения наводят на мысль о
возможности некоей теоретической конвергенции. Подобная конвергенция
может весьма способствовать формированию такого способа анализа
социальных изменений, которому предназначено преодолеть слабые стороны
различных подходов.
Действительно, из данного спектра теоретических ориентации возникает
более дифференцированный анализ макросоциального порядка и культурных
традиций. Этот подход сильнее подчеркивает то значение для
макросоциального
порядка
отношений
между
символическими
характеристиками культурных ориентации, с одной стороны, и
организационными аспектами общественного разделения труда — с другой;
а также важность выявления многочисленных носителей этих характеристик
и признание наличия в каждом макросоциальном порядке множества
институциональных и организационных уровней. Кроме того, этот новый
подход последовательно показывает, как сочетание различных уровней
культурной и социальной организации порождает тенденции к изменениям и
конфликту, присущие каждой социальной системе.
Это позволяет установить некоторые из механизмов, которые определяют,
может или не может социальная система вобрать в себя данный процесс
социальных изменений. Таким образом, подобная переориентация может
заодно помочь при анализе проблематики изменений, позволяя понять
характер происходящих в каждом конкретном обществе перемен, а также
способствуя проведению их сравнительного анализа.
Характерно, что признание важности сплетения символических и
организационных характеристик системы социальной организации в
устройстве макросоциальных порядков в очень значительной степени
является следствием упомянутого пересмотра первоначальных теорий
модернизации. Был сделан вывод, что, вопреки установкам, присушим
авторам этих ранних исследований, относительно общие проблемы
модернизации, такие, как развитие структурной дифференциации и
организации и общая расположенность к демографическим и структурным
изменениям, вызывают различные нестандартные реакции. Этот круг
исследований определил, что существует достаточно тесная связь между
столь объемлющими принципами институциональной организации и
реагирования, с одной стороны, и фундаментальными культурными
ориентациями — с другой, а тем самым подготовил почву для первых шагов
к представленному здесь новому теоретическому подходу.
Этот новый подход в состоянии более конкретно определить
институциональные последствия для обеспечения социального порядка,
проистекающие, как мы видели, из напряженности, существующей между
организационным уровнем общественного разделения труда и проблемой
общезначимого признания социального порядка.
Стремление к обеспечению порядка сосредоточивается на поиске каких-то
основополагающих норм, или параметров социального порядка. Такие
основополагающие нормы12 символически структурируют среду, предлагая
решение для проблем, порождаемых той потенциальной произвольностью,
что коренится в социальном взаимодействии. Они обеспечивают некоторую
предсказуемость социального взаимодействия в долгосрочной перспективе и
наделяют принимаемые решения смыслом, который значим, несмотря на
различные противоречия человеческого бытия вообще и социальной жизни в
частности. Все это тем не менее не исключает того, как мы увидим, что сами
проблемы и неопределенность не упраздняются, а только перемещаются на
другой уровень.
Наиболее важными из таких основополагающих норм социального
взаимодействия, параметров социального порядка, оказываются те, что
определяют:
1. Символические и институциональные границы коллективов — прежде
всего посредством установления основополагающих признаков социальной и
культурной общности, которые выдвигаются в качестве критерия для
принадлежности к различным коллективам, иначе говоря, для определения
тех, кто может участвовать в каком-либо данном взаимодействии. Эти
признаки предполагают заодно ряд условных и безусловных обязательств,
связанных с участием в таких сообществах, а также ряд целей или
устремлений, которые считаются допустимыми для участвующих в какомлибо взаимодействии.
2. Нормы права и справедливого распределения, которые признаются
приемлемыми и рассматриваются как обязательные по отношению к
распределению прав и обязанностей в соответствующих системах
взаимодействия.
3. Критерии регулирования доступа к власти и ее использования в различных
социальных формах и институциональных сферах.
4. Общий замысел, устанавливающий смысл и коллективные цели всякого
взаимодействия или коллективной деятельности, и тесно связанный с ним
ряд конкретных потребностей вместе с их относительным значением.
5. Легитимность таких институциональных комплексов на основе
господствующих норм права, справедливости и широких социетальных
целей.
Эти важнейшие разновидности основополагающих норм социального
взаимодействия устанавливают природу и объем преддоговорных и
легитимирующих характеристик социальной жизни, посредством которых
проблемы социального порядка находят видимое разрешение.
Подобная линия размышлений соответствует аналитической установке,
которая предполагает, что никакое институциональное устройство не может
считаться само собой разумеющимся. Она указывает также на необходимость
провести анализ социальных процессов, благодаря которым такие
основополагающие нормы социального взаимодействия отбираются,
институционализируются, утверждаются, и найти объяснение, почему в
различных обществах содержание основополагающих норм различно.
Именно в нахождении ответов на эти вопросы может быть достигнута
возможность конвергенции различных аналитических подходов. В то же
время при таком развитии новые подходы могут оказаться в состоянии
преодолеть некоторые из отмеченных выше слабостей.
4. Символический аспект человеческой деятельности. Содержание
основополагающих норм социального взаимодействия и параметров
социального порядка.
Начнем с поиска корней, или истоков, конкретного содержания различных
основополагающих норм. Этот поиск сближает нас с попытками, которые
наиболее полно представлены в поздних работах символикоструктуралистов, следовавших за К. Леви-Стросом, а именно — вывести
критерий для таких основополагающих норм, а заодно глубинную, либо
скрытую, структуру социальной организации из символической (или
культурной) сферы человеческой деятельности.
Тесные отношения между основополагающими нормами социального
взаимодействия и символическим аспектом человеческой деятельности
вытекают из того факта, что даже при самом поверхностном взгляде на
содержание подобных норм (таких, как, например, нормы принадлежности к
различным коллективам или доступа к ресурсам и контроля над ними или
символы коллективной идентичности) нельзя не отметить, что они находят
выражение в разнообразной символике, имеющей отношение к некоторым
экзистенциальным проблемам человеческой жизни, а также к противоречиям
и проблемам, которые свойственны организованной социальной жизни.
Однако в противоположность тому, что полагают многие структуралисты,
эти символические ориентации, представляя предположительно общие
закономерности или свойства человеческого мышления, не приводят
непосредственно, в некоем акте эманации, к утверждению тех или иных
основополагающих норм социального взаимодействия.
Следовательно, важно выявить, во-первых, какие аспекты символических
ориентации больше связаны с содержанием основополагающих норм и, вовторых, какова природа отдельных институциональных механизмов, через
которые они воздействуют на социальную жизнь.
В классических трудах и относительно недавних социологических
исследованиях содержится ряд очень важных указаний для рассмотрения
этих вопросов. Их авторы, хотя и в предварительном порядке, обращают
внимание на некоторые наиболее важные символические проблемы, которые,
как предполагается, имеют особое значение с точки зрения формирования
осмысленного социального порядка13.
Эти проблемы можно разделить на два больших круга: один, включающий
то, что может быть названо экзистенциальными проблемами космического
бытия человека, и другой — он связан со специально символической оценкой
требований социальной жизни. Внутри каждого из них могут быть выделены
особые группы проблем. В первом круге подобную группу образуют прежде
всего: оценка изначальных условий человеческого бытия; определение
относительного
значения
различных
характеристик
социального
существования — таких, как религиозные, политические, экономические или
ритуальные — и относительного значения различных характеристик
темпоральности, иначе говоря, больший упор на прошлое или будущее;
поиск спасения.
Вторая группа проблем в кругу космической проблематики человеческого
бытия сосредоточена на: 1) взаимосвязи между космическим и социальным
(включая политику и экономику) порядками, их относительной
обособленности и автономии и их взаимной обусловленности; 2) степени и
природе потенциальной напряженности между такими порядками; 3) путях
преодоления такой напряженности; 4) отношении такого преодоления к преобладающим характеристикам человеческого бытия и к местонахождению
центра человеческого спасения. В эту группу проблем входит также природа
доступа различных социальных субъектов к космическому и социальному
порядкам, их отношение к основному содержанию и свойствам последних —
прежде всего то, в какой степени индивиды и различные группы
определяются и воспринимаются как имеющие прямой самостоятельный
доступ к главным атрибутам этих порядков, в противоположность таким
атрибутам, что доступны только некоторым очень специфическим группам
или категориям субъектов, действующим в качестве посредников для других
групп.
Также исключительное значение среди этой группы проблем имеют: 1)
степень, в какой индивиды или группы воспринимают себя либо пассивными
реципиентами в отношении таких порядков, либо активными участниками в
их создании и в какой степени они сознают возможность их изменения; 2)
осознание людьми способности контролировать свою судьбу и свою
социальную и природную среду; 3) степень, в которой они могут
воздействовать на свою судьбу и среду; 4) степень ответственности людей за
существование таких порядков.
Эта вторая группа проблем имеет отношение к символическому значению
основных,
перечисленных
выше,
организационных
требований,
возникающих в межличностных и социальных отношениях, и прежде всего
ко всему, что связано с коренными дилеммами социальной жизни —
иерархия и равенство, конфликт и гармония, индивид и общность; а также к
относительному значению власти, солидарности или институциональных
побуждений как главных ориентации в социальном порядке.
Эти обширные темы или проблемы оказываются связанными со стремлением
к социальному порядку на всех уровнях социального взаимодействия — от
более неформальных межличностных отношений через различные
формальные или институциональные разряды вплоть до формирования
макросоциального порядка. На всех таких уровнях социального
взаимодействия общество находит те или иные ответы на эти проблемы; и
они становятся отправными точками в символическом конструировании
социальной реальности, в формировании основ осмысленного социального и
культурного порядков и в устройстве механизма, обеспечивающего участие в
последнем. Эти ответы становятся также отправными пунктами в собирании
разрозненной социальной практики в некие образцы (паттерны)
осмысленного опыта, которые объемлют важнейшие области социальной и
культурной жизни, в формировании и сохранении осмысленного содержания
личной жизни в ее известном отношении к этим порядкам.
Подобно всем другим сферам человеческой деятельности, такие ответы
группируются по трем взаимодополняющим направлениям. Они дают: 1)
символические модели соответствующей сферы деятельности, иначе говоря,
в данном случае социального порядка; 2) принципы структурирования
базисных схем деятельности в той или иной сфере, в данном случае —
структурирования основополагающих норм социального взаимодействия и
параметров социального порядка; 3) конкретную символику для отношений
между кодами и моделями и актуализацию этой символики в конкретных
ситуациях.
Одним из аспектов этих символических ориентации, наиболее значимым в
формировании основ или критериев различных основополагающих норм
социального взаимодействия, является кристаллизация таких ориентации в
специфические образцы кодов, которые соединяют широкие очертания
институционального порядка с ответами на основные символические
проблемы человеческого бытия и социальной жизни. Такие коды отнюдь не
представляют из себя культурно-ценностные ориентации всеобщего и
неопределенного характера. Они гораздо ближе к тому, что М. Вебер назвал
Wirtschaftsethik1*, другими словами — к обобщающим формам религиозной
либо этической ориентации в особой институциональной сфере и ее
проблемах, к оценке сферы и формулированию принципов ее организации и
поведения в ней в связи с соответствующими ответами на те или иные
фундаментальные проблемы человеческого бытия.
5.
Институционализация
взаимодействия.
основополагающих
норм
социального
Каким бы ни было отношение между моделями социальных и культурных
систем и системами кодов, с одной стороны, и основополагающими нормами
социального
взаимодействия
—
с
другой,
содержание
этих
основополагающих норм не является непосредственно производным от
содержания или динамики символов. Так мы приходим к проблеме
установления природы процессов социального взаимодействия, в которых
формируются его основополагающие нормы.
Ответы на этот вопрос дают те подходы, которые подчеркивают договорный
характер институтов. Это прежде всего теории обмена и символикоинтеракционистские подходы; их недостатком оказывается то, что они не
проводят различие между процессами, в которых эти основополагающие
нормы формируются и воспроизводятся, и другими, более тривиальными
формами социального взаимодействия. Такое различение включает
несколько аспектов.
Более тривиальный или чисто организационный обмен и взаимодействие
осуществляются по преимуществу индивидами, действующими в качестве
частных лиц или же представителей существующих коллективов, либо по
случаю, либо в продолжительном, но относительно свободном обмене
простыми базовыми ресурсами, будь то богатство, услуги, власть или
уважение. Напротив, взаимодействие, ориентированное на формирование
основополагающих норм, основывается на потенциально долгосрочных
обязательствах и на готовности воздержаться от некоторых благ и риска,
свойственных более непосредственному обмену или взаимодействию.
Так, например, к формированию основополагающих норм социального
взаимодействия относится не сам по себе обмен простыми, базовыми
ресурсами, но прежде всего соотношение между этими ресурсами и
символическими
ориентациями.
Такое
соотношение
соединяет
структурирование контроля над относительно долгосрочным распределением
основных типов ресурсов с осмыслением ситуаций социального
взаимообмена.
Готовность признать определение смысла социальных ситуаций, которая
подразумевается при формировании основополагающих норм социального
взаимодействия, имеет два взаимодополняющихся аспекта. Она влечет за
собой в той или иной ситуации отказ более могущественных субъектов от
некоторых непосредственных преимуществ, которыми они располагают или
могут располагать, в пользу менее сильных или менее непосредственных
преимуществ, таких, как легитимизация своего права определять общие цели
социального порядка.
Для тех групп, которые располагают относительно небольшими или более
рассеянными ресурсами, готовность принять такие нормы предполагает, вопервых, отказ от возможности свободно использовать свои ресурсы и власть
либо устранение от участия в той или иной ситуации; во-вторых, наделение
некоторых субъектов правом обеспечить организационные основы
социальной жизни и вместе с этим структурирование пространства и базиса
доверия и солидарности.
Установление основополагающих норм осуществляется, с одной стороны,
через взаимодействие между элитами (политическими, экономическими,
образовательными), которые заняты в организационно-институциональной
сфере15 и готовы (или кажутся готовыми) использовать свои ресурсы скорее
в коллективных, чем в частных интересах, и, кроме того, элитами, которые
вырабатывают модели социального порядка, создают нормы и/или
организационные системы, а с другой стороны, теми индивидуальными
субъектами, социальными ячейками, слоями, группами или их
представителями, которые не только представляют интересы своих групп, но
одновременно пытаются выразить потенциальную солидарность коллективов
в целом и которые желают вложить свои ресурсы, а главное готовы принять
и поддержать системы долгосрочного взаимодействия.
Группы, вырабатывающие модели социального и культурного порядка и
солидарности, создают коалиции, которые отличаются от тех, что обычно
рассматриваются в исследованиях коалиций16, где последние состоят из
субъектов только одного типа, действующих в рамках данной системы
социального взаимодействия и связанных с другими субъектами
симметричными или асимметричными отношениями власти. Указанный
первым вид коалиции сходен с теми, что анализировали, например, С. Липсет
и Ст. Роккен в своем исследовании о формировании партийных систем в
Европе. Подобные коалиции отличны заодно от межклассовых коалиций,
которые анализировал Б. Мур в книге «Социальные истоки диктатуры и
демократии».
Это отнюдь не значит, что классовые позиции или интересы не играют
важной роли в подобных коалициях. Напротив, нет необходимости говорить,
что они составляют в образовании последних очень важный компонент, так
как затрагивают самые насущные вопросы политической и экономической
жизни. Однако, как мы далее увидим, интересы, казалось бы, сходных
классов зачастую структурируются различными элитами по-разному.
Одна из главных проблем социологического анализа — это точно установить
природу такого рода коалиций и характер их взаимодействия в конкретных
ситуациях. Тем не менее уже на нынешней стадии нашего анализа мы можем
заключить, что именно благодаря таким коалициям, действующим в особых
институционально-ритуальных, правовых и коммуникационных системах, и
институционализуются
основополагающие
нормы
социального
взаимодействия.
При всем том эти основополагающие нормы не являются просто данными
либо гарантированными. Их функционирование, как и их основных
институциональных производных, обусловливается тем, что действующие в
рамках соответствующих систем институтов разнообразные коалиции
осуществляют постоянный контроль над теми механизмами перемещения
ресурсов, которые имеют решающее значение с точки зрения доступа к
различным рынкам и позициям.
Первое место принадлежит контролю за накоплением информации и его
влиянию (так же как влиянию более рассеянных источников власти в
обществе) на центры образующихся коллективов и на способ
конструирования и характер интерпретации базовых предпосылок вместе с
символами культурного и социального порядков. На втором — контроль за
доступом к позициям, обеспечивающим регулирование производства,
распределение ресурсов и превращение (conversion) экономических ресурсов
в ресурсы власти и престижа. На третьем — контроль за доступом к
позициям в центрах общества, обеспечивающим формирование опорных
ориентации, через которые индивиды интериоризуют социальные цели и
ценности, а также к позициям, регулирующим разнообразные
коммуникационные процессы, которые влияют на уровень требований, так
же как на оценку социальной системы ее участниками.
Институциональные производные от основополагающих норм социального
взаимодействия могут поддерживаться только постольку, поскольку элиты,
являющиеся активными партнерами в таких коалициях, способны
удерживать контроль над этим процессом. Но, как увидим дальше, такой
контроль в каком-либо социальном взаимодействии не дается заранее и не
является
обеспеченным.
Фактически
сама
институционализация
основополагающих норм — особенно на макросоциальном уровне — создает
потенциал для конфликтов, напряженности и изменений.
Исходя из того, что главная функция основополагающих норм социального
взаимодействия состоит в том, чтобы преодолеть, по крайней мере частично,
изначально свойственные общественному разделению труда сложности и
неопределенность,
оказывается
совершенно
естественным,
что
институционализация основополающих норм социального взаимодействия
сосредоточивается главным образом на внедрении внерыночных
ограничений для свободного обмена ресурсами в социальном
взаимодействии.
Первым и наиболее важным из этих ограничений является структурирование
доступа различных групп и категорий людей к основным типам
существующих в какой-либо системе взаимодействия рынков и
регулирование
возможной
конвертируемости
ресурсов,
которыми
обмениваются на таких рынках.
Второе такое ограничение осуществляется созданием системы общественных
благ", иначе говоря, благ, которые предоставляет правительство страны;
таковы, например, оборона или служба здравоохранения. Система подобных
благ строится таким образом, что если какому-то члену коллектива
предоставляются эти блага, их не могут быть лишены другие члены; а
соответствующую цену за действие системы платят, прямо или чаще всего
косвенно (через налоги), различные группы.
Третье — это такое структурирование перемещения ресурсов, которое
проявляется в общественном распределении частных благ, имея здесь в виду
непосредственное предоставление разнообразных услуг и вознаграждения
различным группам населения в соответствии с критериями, которые сильно
отличаются от отношений, возникающих при простом обмене.
В определение системы общественных благ входит установление
возможности для различных групп, организаций и институциональных сфер
пользоваться институционализированным кредитом и располагать
самостоятельным доступом к нему. Речь идет об определении степени, в
какой ресурсы, предоставляемые какой-либо из таких групп или институтов в
процессе их долгосрочного функционирования, не являются предметом
непосредственного обмена, а переходят в известном смысле безусловно.
Наконец, ограничение свободного обмена ресурсами осуществляется через
дополнительные и очень сложные механизмы, включающие установление
наследственных титулов и рамок престижа, что еще подлежит детальному
изучению.
6. Переплетение символических и организационных аспектов социальной
деятельности. Установление основополагающих норм для основных
институциональных сфер.
Все эти механизмы соединяют символические и организационные аспекты
социального взаимодействия и формируют исходные основополагающие
нормы как для всех основных институциональных сфер, так и для
макросоциального порядка.
Так, в сфере семейно-родственных отношений человеческая сексуальность
регулируется не только в плане продолжения индивидуальной жизни и
преемственности поколений в обществе. Сексуальное поведение через
символическую трансформацию оказывается также средоточием символики
изначального сходства и подобия людей, служит символической установкой
для таких форм институциональной упорядоченности, как правила родства,
свойства и предпочтительных браков, предписания экзогамии и эндогамии. В
этом процессе определяются взаимные права и обязанности, производные от
сексуальной и прокреационной деятельности; например, отношения между
членами семейных и брачных союзов становятся базисом взаимной
доверительности и отправной точкой для участия в социальном порядке. Так
образуется, говоря словами М. Фортеса18, нравственная ткань родственных
связей; в них вырабатываются принципы дружбы и понятие их пределов.
В экономической сфере проявление символических характеристик в
организационных аспектах социальной деятельности проявляется, во-первых,
в разработке макроцелей или в установлении смысла экономической
деятельности, например, определении ее значения для социальной общности,
для решения политических задач, для обеспечения общего благосостояния
общества или его частей и благополучия индивидов. Во-вторых, это
проявляется в утверждении прав на экономические ресурсы и ценности и
прав контроля за их использованием. В-третьих, это сочленение проявляется
в установлении относительного значения различных направлений политики,
которая вырабатывается по отношению к экономическим ресурсам. Вчетвертых, переплетение символических и организационных аспектов
социальной деятельности происходит через выделение некоторых видов
экономической деятельности как особого призвания и средоточия
макроцелей и через формирование ограничений на доступ к этой
деятельности (такие ограничения особенно очевидны в занятиях,
затрагивающих витальные, символические аспекты жизни — будь это аспект
смерти, права или религии)19.
В сфере социальной стратификации такое комбинирование осуществляется
путем наложения на более четко определяемые организационные аспекты
социальной системы, иначе говоря, на распределение различных категорий
людей по институциональным сферам или на основаниях критерия контроля
за различными ресурсами, системы образов социальной иерархии (оценка
личных качеств и культурной принадлежности с точки зрения их значения
для социального порядка). Подобная оценка, выраженная языком глубинной
символики культурного и социального порядка, проявляется раньше всего в
принципах легитимизации дифференцированного контроля над ресурсами.
Она становится решающим компонентом самосознания людей как членов
общества, той призмой, через которую те склонны воспринимать свое
собственное место в социальном и культурном порядке. Так, в процессе
соединения символических аспектов с организационными аспектами
дифференцированного распределения вознаграждений закладываются
основы для формирования социальных слоев — например, приобретение
прав на достижение определенных целей или обеспечение социального
статуса.
В таком соединении символических и организационных аспектов иерархии
устанавливаются типы качеств, служащие основанием социальной оценки и
иерархии. Оно влияет на статусную автономию различных групп; на состав
различных статусных групп и соотношение между статусной
консолидированностью и статусной обособленностью относительно узких
профессионально-отраслевых групп; на политическое представительство и
организованное выражение статусно-классовых интересов и качеств.
В политической и культурно-религиозной сферах институциональные
производные от символики, характеризующей человеческое существование,
выражаются первоначально в определении критериев принадлежности и в
устанавлении границ политических, этнических и культурных сообществ. В
политической сфере, обращаясь к авторитету тех или иных идей
справедливости и определенной макроконцепции социального и культурного
порядка, они формируют принцип легитимности для процессов
функционирования власти и осуществления судопроизводства, для
поддержания закона и порядка. Такая легитимизация устанавливает объем
юридических и политических прав и процедур, характеризуя их в категориях,
которые указывают на коренные признаки человеческой и социальной
идентичности. В свою очередь, это влияет, во-первых, на природу всех
принципов распределения политической власти и доступа к ней; во-вторых,
на определение главных ориентации и целей политической сферы; в-третьих,
на основы контроля правителей над ресурсами; в-четвертых, на основные
аспекты политической борьбы и политической организации в данном
обществе. В культурной сфере такое определение включает в себя символы,
устанавливающие границы культурных и социальных общностей; права
доступа к знаниям и информации и формы предоставления этих ресурсов
различным группам общества; рамки основных разновидностей знания в
обществе и особенно важнейшие типы проблем, изучение которых
признается в данном обществе легитимным.
Глубинные символические ориентации формируют, кроме того, очертания
разных типов сообществ, дополняя организационные и экологические
аспекты их структуры символическими. Благодаря таким символическим
перегруппировкам пространственные образования становятся естественными
или локальными общностями, наделенными особыми символическими
качествами. Преобразование осуществляется через установление правил
вхождения в такие общности и участия в них и определение символической
причастности к особым пространственным аспектам среды. Такие правила
затрагивают
способы
распределения
различных
ресурсов
в
пространственных системах (город, регион); способы распределения
пространства среди различных групп и типов деятельности; способы
использования пространства в космическом, социальном или моральном
порядке.
7. Построение социетальных центров и основных типов коллективов.
Символические коды, влияя на критерии основополагающих норм
социального взаимодействия, формируют макросоциальный порядок.
Именно в построении макросоциального порядка фактически наиболее полно
происходит сплетение символических и организационных аспектов
социальной жизни. Символическое выражение макросоциального порядка
институционально локализуется в том, что Э. Шилз назвал «центрами
общества».
Принадлежность к обществу конституируется отношением к этой
центральной зоне в большей степени, чем пространственным смыслом
бытия, который обусловлен локализацией на ограниченной территории и
адаптацией к среде, оказывающейся под влиянием других людей, что
пребывают на той же самой территории.
Центральная зона, как таковая, не является феноменом пространственной
локализации. У нее едва ли есть более или менее определенное расположение
на той ограниченной территории, которую занимает общество. Ее
центральность, однако, не имеет никакого отношения к геометрии и очень
небольшое — к географии.
Центр, или центральная зона, является феноменом мира ценностей и
верований. Это центр системы символов, ценностей и верований, которые
правят обществом. Это — центр вследствие своего решающего значения и
неустранимости, и он воспринимается в качестве такового многими, кто не
может явственно разить его неустранимость. Центральная зона обладает
сакральной природой, в этом смысле каждое общество имеет «официальную»
религию, даже тогда, когда это общество или его представители и
интерпретаторы трактуют его — более или менее корректно — как
секулярное, плюралистическое и толерантное общество. Принцип
Контрреформации «cuius regio, eius religio»20 пo существу сохраняет свое
значение, даже если его строгость уменьшилась и его жесткость смягчилась.
Построение центров означает на макросоциальном уровне создание фокуса
институционализации в символических и организационных аспектах
социальной
жизни,
формирование
места,
где
организационные
характеристики и проблемы соединяются с макрообразцами смысловых
значений; иначе говоря, где происходит преобразование специфических
организационных проблем в символические формы с нормативно
запрограммированными характеристиками. Эти функции упорядочивания и
осмысления сосредоточиваются в структуре центров благодаря внесению в
организационную
деятельность,
связанную
с
поддержанием
макросоциальной
системы,
основополагающих
норм
социального
взаимодействия и их фундаментальных институциональных производных.
Другими словами, именно в социетальных центрах (или в их подобии на
микросоциальном уровне) придается окончательная форма базовым
институциональным системам — будь то юридические и политические или
ритуальные и коммуникативные — и их институциональным производным, в
которых
сохраняются
основополагающие
нормы
социального
взаимодействия. Кроме того, как раз в этих системах сближаются коалиции,
вырабатывающие такие основополагающие нормы.
Таким образом, первым следствием формирования центров является
институционализация некоторых точек, ареалов или символов общества,
наиболее соответствующих тому, чтобы привести в систему стремления к
социальному и культурному порядку и к какому-либо участию в этом
порядке. Это осуществляется главным образом через концепции
происхождения общества, особенно через представления последнего о своем
происхождении и своем прошлом, а также о своих коллективных границах по
отношению к другим коллективам или разновидностям культурного порядка
(как внутри, так и вне своего геополитического местонахождения). Кроме
того, важно здесь определение общей социетальной и культурной
идентичности (или идентичностей), основанием для чего служат общие
качества или общее участие в событиях, имеющих символическое значение и
выражающих эту общую идентичность, а также выделение тех, кто имеет
право на получение надлежащей доли в справедливом распределении между
членами общества.
Именно при создании макросоциальных центров находит свое наиболее
полное социетальное выражение символический и организационный упор на
различные
харизматические
ориентации
в
отношении
природы
космического, культурного (включая религиозные, идеологические или
научные разновидности культуры), социального и политического порядков и
их взаимоотношений. Действительно, выделение какого-либо образования
или организации как средоточия космического и/или социетального порядка
и указателя его границ составляет один из основных признаков
макросоциального порядка.
С первым аспектом создания центров тесно связано определение основ
легитимности макросоциального порядка. Другой важнейший элемент
центров — это разнообразные способы, благодаря которым отправление
власти соединяется с ориентациями в окружающем социальном и
культурном порядке и благодаря которым осуществляется регулирование
власти в таких понятиях. Наконец, в понятиях таких ориентации происходит,
с одной стороны, регулирование межгрупповых и внутригрупповых
отношений, а с другой — внутренних либо внешних силовых (или властных)
отношений.
Формирование этих присущих центрам общества характеристик не
производится интеллектуальным способом и не является актом абстрактного
мышления; оно опирается на образование особых институциональных
производных, представляющих отличительные институциональные черты
или аспекты соответствующего центра. Все эти характеристики включают
известную комбинацию контроля над ресурсами и социального статуса, а
заодно и символические аспекты социального взаимодействия вместе с
установлением различий между центрами и периферией общества.
Символические коды и основополагающие нормы в каждой группе и
обществе очерчивают ряд сущностных признаков подобия и границы
коллективов по отношению к социетачьному центру или центрам; указывают
параметры макросоциального порядка или порядков; определяют степень
важности ориентации на центр в рамках порядка. Другими словами,
различные коды устанавливают относительное значение в рамках каждого
данного центра составляющих его компонентов; относительную
однородность центров общества; отношения между центрами и
коллективами; степень отличия центров от периферии; относительное
проникновение центров в периферию, посягательство периферии на центры и
относительную автономность доступа различных групп в центры;
самооценку центров в категориях социетальных целей; типы макрополитики,
осуществляемой центрами. Аналогичным образом коды и основополагающие
нормы воздействуют на определение границ макросоциального порядка и их
относительную открытость и обусловливают его отношение к различным
социальным, религиозным и культурным порядкам. Они устанашшвают,
кроме того, пределы группировки различных типов коллективов, которые
входят в макросоциальный порядок; характер отношений между ними и
степень, в какой некоторые из этих коллективов распространяются за
пределы данного макросоциального порядка.
Итак, символические коды можно рассматривать как составляющие скрытой,
или глубинной, структуры социальной системы. Они устанавливают ее
границы, влияют на организационные проблемы и потребности общества.
Утверждение кодов обусловливает складывание совокупности конкретных
потребностей общества, и они намечают границы окружения для
составляющих общество групп и пределы возможных реакций на давление
среды. В то же самое время, обосновывая способы осуществления некоторых
из основных функций общества
(например, распределение
и
интегрирование), они обеспечивают постоянство этих границ и определяют
возможные направления изменений. Программирование кодов влияет также
на способы, которыми в каждой отдельной области осуществляются общие
функции, необходимые для деятельности социальных систем, а кроме того,
на контуры потенциальных конфликтов из-за существования системы,
типовые условия, при которых могут разразиться конфликты, угрожающие
стабильности режима; и способы, которыми режим улаживает причины
конфликта. Способы включения разных политических требований, в том
числе требований об увеличении участия в политическом порядке, являются
особенно деликатными. В частности, коды воздействуют на интенсивность
конфликтов и восприятие их остроты; гибкость или жесткость реакции на
конфликты и соотношение в политике улаживания их элементов послабления
и нажима.
8. Взаимодействие экзистенциальных кодов, социальных кодов и символов
коллективной идентичности. Институционализация кодов и общественного
разделения труда как источник напряженности, конфликтов и противоречий.
Было бы ошибкой полагать, что нормы глубинной структуры, производные
от разных кодов, как-то прямо происходят из области символов, даже если
учитывать, что они подвергаются институционализации.
В отличие от позиции структуралистов, утверждающих, что во всех сферах
человеческой жизни действуют некоторые универсальные закономерности
человеческого мышления, представленная здесь теоретическая перспектива
исходит из того, что символические компоненты, проявляющиеся в
конкретной исторической ситуации, имеют собственную особую
динамику22. (В данном случае решающее значение имеют относительная
открытость различных систем кодов и их отношение к институциональному
порядку.)
В каждом обществе могут быть независимые варианты и комбинации
религиозных или экзистенциальных и социальных кодов. Обе разновидности
кодов, исключительно значимые для формирования основополагающих норм
социальной организации и иных основополагающих норм вместе с их
институциональными производными, а также символов коллективной
идентичности, вырабатываются в отношениях между различными
субъектами.
Следовательно, Институционализация этих кодов включает отбор разных
комбинаций и различных, хотя и небезграничных, институциональных
возможностей. Более того, такой процесс отбора означает выделение
некоторых коллективных целей из числа тех, которые существуют в каждой
исторической ситуации (например, индустриализация в тоталитарных или
демократических режимах). Наконец, Институционализация модели или
образца кодов предполагает установление того, что пригодно здесь и теперь
— в конкретной области, группе, коллективе.
Только пройдя через этот процесс отбора, какая-то модель культурного и
социального порядка, наравне с образцами кодов, может вполне
институционализироваться и воздействовать на деятельность конкретных
социальных групп или коллективов. Каждая из этих процедур отбора имеет
свою структуру и собственные нормы. Каждая из них связана с
преобладанием тех или иных социальных носителей; разработка
основополагающих норм социального взаимодействия достигается
взаимодействием независимых друг от друга социальных агентов.
Институционализация основополагающих норм социального взаимодействия
в какой-либо социальной системе обеспечивает принципы, которые
формируют структуру поддержания динамического равновесия системы.
Однако одновременно самая разработка и Институционализация
основополагающих норм — особенно в той степени, в какой этот процесс
связан с организационной структурой социальной практики и общественным
разделением труда, — создают возможность возникновения напряженности,
конфликтов и противоречий, ведущих к изменениям.
Потенциал напряженности, конфликтов и противоречий существует в любом
социальном порядке (и особенно в макросоциальном порядке). Во-первых,
любой такой порядок включает многообразие субъектов (индивидов и групп)
с различным и всегда оспариваемым контролем над природными и
социальными ресурсами. Во-вторых, потенциальная напряженность и
конфликты становятся более взрывоопасными и более склонными к
превращению в системные из-за того, что на многообразие субъектов
накладываются базисные свойства, характерные для институционализации
любого разделения труда. Признаками этого ведущего к социальным
изменениям процесса являются: возможное возникновение противоречий
между организационными последствиями от различных предпосылок или
потребностей какого-то институционального порядка; дифференцированное
распределение групп среди основных институциональных комплексов;
разнородность и сложность вертикальных и горизонтальных типов
специализации, коммуникаций и иерархии среди различных социальных
групп. Следует также указать на вариативность и относительную
автономность организации средств обмена.
В-третьих, напряженность и противоречия становятся более вероятными изза множественности структурных принципов, связанных с символическими
кодами, которые образуют отправной пункт для создания основополагающих
норм социального взаимодействия. Мы показали, что каждая из
основополагающих норм может иметь носителя в виде различных
социальных агентов и коалиций, а каждый из них может подчеркивать
центральность какого-то данного кода или его институционализации, в
отличие от других, и каждый из них, как представляется, может выдвигать
собственные интересы (возможно, за счет других).
В-четвертых, потенциал напряженности и конфликтов создает возникающая
в процессе институционализации относительная открытость каждой такой
группы структурных принципов для любой другой.
В-пятых, вероятность возникновения напряженности и конфликтов
возрастает из-за того, что разработка основополагающих норм социального
взаимодействия включает отбор одних, а не других возможностей
институционализации и легитимизацию известного неравенства.
Такая легитимизация неравенства есть результат борьбы, который никогда не
признается в равной степени или в одинаковых понятиях всеми частями
общества,
несмотря
на
настойчивые
усилия
организаторов
институционализации утвердить системообразующие нормативы. Группы
различаются между собой по своему отношению к этим нормативам и по
своему желанию или способности предоставить ресурсы, требуемые
институциональной системой. Некоторые группы могут находиться в
сильной оппозиции по отношению к основам институционализации данной
системы и только в очень небольшой степени разделять ее ценности и
символы; они могут принимать эти нормативы как неизбежное зло, как
обязывающие их только в очень ограниченном отношении. Другие могут
разделять ценности и символы общества и принимать социальные нормативы
в большей степени, считая себя в таком случае более верной опорой этих
ценностей. Они могут оспаривать отдельные уровни, на которых эти
символы институционализируются правящей элитой, могут пытаться иначе
интерпретировать символы и, соответственно, стремиться изменить
существующую в обществе систему распределения ресурсов. Они могут не
принимать полностью принципы распределительной справедливости или
взаимности услуг, на которые опираются центры общества, чтобы
легитимизировать существующее распределение власти и ресурсов. Третьи,
как мы видели, могут вырабатывать новые толкования господствующих
символов и нормативов. Итак, в любом социетальном порядке всегда
существуют значительные разногласия относительно распределения власти и
недостаточных ресурсов.
Можно сказать, что никакая институциональная система никогда не является
вполне однородной в смысле единодушного принятия ее в целостности и
различные степени принятия могут стать очагами конфликта и изменений.
Даже если в течение очень длительного времени огромное большинство
членов общества в известной степени отождествляют себя с
господствующими ценностями и нормативами и добровольно предоставляют
системе ресурсы, в которых она нуждается, позиция каждой данной группы в
отношении базисных предпосылок системы может сильно изменяться после
их первоначальной институционализации. Фундаментальные процессы,
благодаря которым сохраняется преемственность социальных систем и их
важнейших институциональных производных, порождают постоянные
передвижки в распределении власти и рыночных позиций среди неравных
групп и категорий людей в обществе и в их отношении к предпосылкам
социального порядка.
Такие передвижки порождаются внутренними импульсами производства и
распределения ресурсов, которые соединяются с попытками центральных
элит отстоять в постоянных усилиях, направленных на мобилизацию
ресурсов различных групп и индивидов, границы системы и поддержать
легитимность ее ценностей, символов и нормативов.
Говоря более подробно, подобные передвижки порождаются, во-первых, тем,
что со временем центр должен больше ресурсов направлять на
функционирование механизмов контроля, а это может препятствовать
продвижению к харизматическим целям общества. Во-вторых, тенденции к
передвижкам возникают в той степени, в какой различные элиты желают
удержать те привилегии, отказа от которых, по-видимому, требует
институционализация основополагающих норм социального взаимодействия.
В-третьих, такие передвижки могут произойти из-за того, что внутреннее
развитие ресурсов порождает изменения в распределении власти и позиций в
обществе вместе с переменами в доступе людей к ним, а также новации в
условиях торговли, т.е. в плате за различные товары и ресурсы, которыми
центр обменивается с основными группами общества. Такие передвижки,
заодно с многообразием субъектов и коллективов в каждой социальной
сфере, могут создать новые типы позиций и социальные категории, так же
как новые типы социальных организаторов.
Продолжением этих передвижек могут стать некоторые структурные
изменения. Во-первых, они происходят в степени и базисе принятия
различных
аспектов
институциональной
структуры.
Во-вторых,
разыгрывается борьба между различными субъектами за институциональные
механизмы основополагающих норм социалчь-ного взаимодействия. Втретьих, может возрастать или уменьшаться готовность социальных групп
вложить свои ресурсы в институциональные механизмы наиболее важных из
основополагающих норм социального взаимодействия, а также в
существующий центр и в механизмы его контроля.
Тенденция к конфликтам, напряженности и противоречиям возрастает в
условиях усиления воздействия международного окружения на деятельность
национальных социальных систем. Международное окружение не только
становится источником внешнего влияния на общество, но также позволяет
социетальным компонентам образовать отчасти независимую связь с
группами из других обществ. Такие транснациональные отношения могут
резко варьироваться среди компонентов данного социального порядка
вообще и макросоциального порядка в частности.
9. Темы протеста, порожденные
общественным разделением труда.
институционализацией
кодов
и
Приведенные аргументы могут быть суммированы следующим образом:
потенциал напряженности, конфликтов и противоречий существует в каждом
человеческом обществе. Во-первых, построение любого конкретного
социального порядка основано на отборе некоторых культурных ориентации
и умалении или подавлении других, а члены общества в некоторой степени
осознают этот процесс и пытаются преодолеть его отрицательные стороны.
Во-вторых, процесс отбора и устранения, входящий в институционализацию
социального и культурного порядка, оказывается тесно связанным (хотя не
обязательно идентичным) с требованиями общественного разделения труда, с
распределением власти и богатства и возникающим на этой основе
неравенством. В результате в каком-либо обществе возникает потенциал
отчуждения и недовольства и тем самым тенденция к формированию в этом
обществе базовых ориентации протеста, а значит, и движений протеста,
восстаний, конфликтов.
Одной из тем протеста является напряженность между сложностью и
дробностью
человеческих
отношений,
свойственными
институционализированному разделению труда, с одной стороны, и
возможностью,
с
другой
стороны,
полного,
безусловного
и
непосредственного участия в социальном и культурном порядке. Поэтому
широко распространенной темой протеста становятся устранение
общественного разделения труда и его замена идеалом общинности —
прямого, непосредственного участия.
Параллельной темой является напряженность, свойственная временным
рамкам человеческого и социального существования — отложенное или
немедленное вознаграждение. Поэтому протесты часто сосредоточиваются
на практике вознаграждения и распределения наград, установленные образцы
которой стремятся примирить спонтанность и дисциплину, преодолеть
напряженность между внутренним «Я» и социализованной личностью. Темы
протеста акцентируют также разрешение напряженности между
производительностью и распределением; в перспективе эти два аспекта
экономической жизни сливаются в картине изобилия.
Другие
темы
протеста
касаются
приближения
реальности
институционализованной жизни к модели идеального общества с его
принципами справедливого распределения, ослабления неравенства в
распределении власти, создания условий для полной реализации внутреннего
«Я» в социальном и культурном порядке.
Эти темы протеста обнаруживают тенденцию к наложению друг на друга и
наиболее полно выражены в тех аспектах институционализованной жизни,
которые являются центральным пунктом основополагающих норм
социального взаимодействия. Имеются в виду установленные признаки и
критерии принадлежности к коллективам совместно с принципами
распределения власти в различных сферах общества; а также определение
смысла социальной деятельности и установление коллективных целей.
Конкретно это следующие пункты: 1) авторитет (особенно тот, каким
наделены различные центры общества); 2) система стратификации, в которой
симвалические характеристики сочетаются со структурными аспектами
разделения труда и распределения ресурсов; 3) семья как первичная ячейка
авторитета и социализации. Именно вокруг этих символических и
институциональных пунктов формируется в каждом обществе образ его
двойника23 — «хорошего», «подлинного» общества. Обычно наиболее полно
этот образ выражается в символических свойствах справедливого правителя,
на основании которых претендент может быть выявлен, оценен, а в
некоторых крайних случаях низвергнут носителями истинного образа. В
некоторых движениях протеста — прежде всего в милленаристских,
утопических, которые известны многим культурам, — возникает также
картина полного изменения существующего общества, которая, как
представляется, близка к образу революции, проанализированному в главе 1.
В большинстве обществ темы протеста оказались тесно связанными с
символами личной идентичности, обращенными к физическим признакам,
телесной автономии и спонтанности телесных проявлений и поз: свобода
половых отношений, свобода выражения эмоций и свобода от ограничений,
основанных на различиях пола и возраста24.
Темы протеста, формирующиеся в каком-либо обществе, имеют тенденцию
оспаривать те коды или ориентации, которые наиболее полно
институционализированы. Так, если общество в высокой степени
рационалистично, протест будет направлен в сторону мистики и чувственных
ориентации25.
Параллельно с движениями протеста в каждом обществе развиваются
различные процессы изменений. Сдвиги в отношениях между подгруппами
повсеместно порождают те или иные социальные движения — восстания,
выступления против ортодоксии, распространение милленаристских чаяний
и т.п., а также политические конфликты и борьбу, имеющие
непосредственное отношение к центру. В этих движениях различные темы
протеста находят конкретное выражение. Инакомыслие, восстания, протест,
политическая борьба могут привести к созданию оппозиционных коалиций
среди отдельных социальных групп и типов институциональных
организаторов, стремящихся к пересмотру основополагающих норм
социального взаимодействия и к институционализации альтернативного
социального порядка. Наконец, в любом обществе движения протеста могут
влиять на исходные организационные параметры социальной структуры и на
борьбу за власть в ней, порождая тем самым новые конфликты,
противоречия, вместе с процессами изменений и преобразований.
Конфликты, способные породить системные изменения, обычно
формируются в таком институциональном порядке, где межгрупповая
напряженность ведет к подрыву устройства общества и тех коалиций,
которые поддерживают основополагающие нормы системы с их
институциональными механизмами. Подрыв основополагающих норм и их
производных может вызвать возникновение новых требований к включению
в центры системы или порядка. Возможно, эти требования будут касаться
конкретных выгод или установления новых принципов распределения власти
и доступа к центрам, введения новых стандартов участия в коллективах или
получения более значительной роли в определении их границ и критериев
принадлежности. Системные изменения могут произойти также, если
прерывается поток ресурсов, благодаря которому поддерживаются
институциональные механизмы основополагающих норм социального
взаимодействия,
или
если
оспариваются
формы
контроля
и
институциональные опоры, которые образуют структуру этих механизмов. В
любом случае системные изменения возникают при ликвидации
существующей системы контроля над ресурсами, как материальными, так и
социальными, и/или при создании новых форм контроля, а кроме того, при
выдвижении новых требований, которые не поддаются регулированию
господствующими механизмами.
Вместе с этим системные изменения могут осуществляться при прямом
столкновении
между
официальными
элитами
и
сторонниками
альтернативных основополагающих норм, например, идеологическими и
религиозными группами или другими типами институциональных
организаторов, которые предлагают иные модели социального порядка и
новые коды. Системные изменения осуществимы в той степени, в какой
другие элиты способны осуществлять и контролировать важнейшие
социальные функции, возложенные во всякий данный момент на центры, и в
той степени, в какой эти элиты могут подорвать коалиции, которые служат
поддержкой для установленных основополагающих норм.
10. Протест, восстание, изменения и насилие.
Протест, восстание и политический конфликт определенным образом,
который еще подлежит систематическому изучению, неизменно связаны с
взрывом насилия. Насилие как таковое вездесуще в человеческих
отношениях. Оно коренится в биологической наследственности человека,
которая открыта, так как его генетическая программа не соответствует
фрагментарной структуре отношений между людьми, фрагментарности
социальных институтов и организаций, что приводит, в конечном счете, к
образованию большого нерегулируемого пространства. Поэтому любые
упорядоченные человеческие отношения основаны на регулировании и
символической трансформации насилия и агрессии. Соответственно,
разрушение относительно стабильных социальных отношений или
социальной организации может вызвать взрыв нерегулируемой, «открытой»,
«голой» агрессии, говоря по-другому, — насилия26.
Тем не менее, как указал Ч. Тилли и другие, непрерывные взрывы насилия
являются в любом обществе частью регулярной политической борьбы.
Прежде всего насилие используется относительно слабыми группами,
требующими более крупный кусок пирога27. В такой ситуации насилие —
разновидность
кибернетического
шума28,
иными
словами,
оно
сигнализирует о нарушении упорядоченных отношений между каким-то
субъектом или системой и их окружением. Следовательно, воссоздание
относительно стабильной социальной организации требует восстановления
контроля над агрессией.
Тесные отношения между насилием и изменениями отчетливо
обнаруживаются в движениях протеста. Контроль над насилием,
образующий фундамент любой системы авторитета, воспринимается
участниками движений протеста как воплощение голого насилия и как
искажение образа-двойника общества.
11. Вариативность изменений.
Хотя потенциал протеста, конфликта и изменений коренится в самом
устройстве
макросоциального
порядка,
однако
природа,
место
возникновения и ориентация этих явлений значительно варьируются.
Подобно тому как темы протеста в обществе возникают не случайно, а
систематическим образом связаны с параметрами социального порядка и его
культурными традициями, так и движения протеста в каждом обществе
системно связаны с его исходными организационными параметрами.
Форма, которую принимают движения протеста, варьирует в зависимости от
того, как основные символические ориентации и коды соединяются в
главных и второстепенных культурных моделях, а также от внутренней
динамики этих кодов. Аналогичным образом форма протеста варьирует в
зависимости от способа, каким осуществляется институционализация
воздействия механизмов кодов в пространственных и организационных
рамках. Наконец, движения протеста подвержены изменениям в той мере, в
какой они институционализуются, приобретают контроль над ресурсами и
доступ к власти.
Символические и организационные характеристики обществ влияют и на их
структуру, и на происходящие в них изменения. Таким образом, как мы уже
видели, комбинации символических и организационных характеристик
оказывают значительное воздействие на формирование социальной среды, ее
внутреннюю динамику, ее приспособляемость к различным историческим
наслоениям, ее способность к развитию. Кроме того, эти факторы, находясь в
различных обществах в различных соотношениях, воздействуют также на
интенсивность конфликтов в конкретных обществах и формы потенциальной
связи межгрупповых конфликтов с системными противоречиями, а также на
возможные последствия изменений.
В последующих главах мы проанализируем некоторые основные образцы
социетального конфликта, противоречий и изменений, особенно с точки
зрения нашего интереса к специфичности типа социальных изменений,
которые объединяют под рубрикой «революция Нового времени».
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Формирование специфически социологической постановки вопроса
подробно анализируется в книге Ш. Эйзенштадта и М. Курелару «Форма
социологии: парадигмы и кризисы», особенно в главах 1, 3, 4. (Примеч.
перев.)
2 Ш. Эйзенштадт ссылается на английские публикации избранных,
преимущественно ранних работ К. Маркса. См.: Marx К. Early Writings/
Bottomore T.B. (ed.). N.Y.: McGraw Hill, 1963. P. 168-194; Idem. Selectes
Writings in Sociology and Social Philosophy/Bottomore T.B., Rubel M. (eds.).
Baltimore: Penguin, 1965. P. 175-185. (Примеч. перев.)
3 О Э. Дюркгейме см.: Aron R. Op. cit. V. 2. Р. 21-107; о Вебере см.: Мах
Weber and Sociology Today/Stammer О. (ed.). Oxford: Blackwell, 1971; Bendix
R. Max Weber: An Intellectual Portrait. Ch. 14; GiddensA. Politics and Sociology
in the Thought of Max Weber. N.Y.: Macmillan, 1972.
4 О Г. Зиммеле см.: Georg Simmel on Individuality and Social Forms/ Levine
D.N. (ed.). Chicago: University of Chicago Press, 1971. См. также: Филиппов А.
Ф. Релятивистская социология Георга Зиммеля//Очерки по истории
теоретической социологии XX столетия. М., 1994. С. 34-61. (Примеч. перев.)
5 См.: Max Weber: On Charisma and Institution Building (особенно с. 11 — 12.
46-47, 54-61).
6 О структурно-функциональной школе см.: Toward General Theory of
Action/Parsons Т., Shils E. (eds.). Cambridge (Mass.): Harvard University Press,
1951; Parsons T. The Structure of Social Action. N.Y.: Free Press, 1968; Idem.
The Social System. N.Y.: Free Press, 1951; Parsons Т., Smelser N.J. Economy and
Society. N.Y.: Free Press, 1956; Smelser N.J. Social Change in the Industrial
Revolution. Chicago: University of Chicago Press, 1959.
7 Основателем этнометодологии стал ученик Т. Парсонса Г. Гарфинкель.
Формулируя программу нового направления, он писал о задачах изучения
«практических действий, практических обстоятельств и практического
социологического разума», об уделении «внимания обычным будничным
явлениям, которое раньше уделяли только чрезвычайным событиям», о
необходимости соотнесения житейского здравого смысла с научным знанием
(Garfinkel H. Studies in Ethnomethodology. Englewood Cliffs: Prentice-Hall,
1967. P. 1). См. также: Монсон П. Современная западная социология: Теории,
традиции, перспективы. СПб., 1992. С. 88—94. (Примеч. перев.)
8 См., например: Coser L. Functions of Social Conflict. L.: Collier, Macmillan,
1956; DahrendorfR. Class and Class Conflict in Industrial Society. Stanford:
Stanford University Press, 1959; Idem. Essays in the Theory of Society. L.:
Routledge and Kegan Paul, 1968; State and Society/Bendix R. (ed.). Boston: Little,
Brown, 1968; Collins R., Makowski M. The Discovery of Society. N.Y.: Random
House, 1972; Collins R. Conflict Sociology: Toward an Exploratory Science.
N.Y.: Academic Press, 1975.
9 О неомарксистском анализе см.: Habermas J. Strukturwandel der
Offentlichkeit. Berlin: Luchterhand, 1968; Idem. Sozialphilosophische Studien.
Berlin: Luchterhand, 1963; Idem. Technik und Wissenschaft als Ideology.
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1968; Idem. Knowledge and Human Interests.
Boston: Beacon, 1971; Idem. Legitimationsprobleme im Spatkapitalismus.
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1973; TouraineA. Production de lasociete. P.:
Seuil, 1975. Этот подход разрабатывался также, разумеется, многими
неомарксистами и марксистами-структуралистами. В качестве иллюстрации
таких работ см.: Sebag L. Structuralisme et marxisme. P.: Payot, 1964;
GodelierM. Horizons, trajets marxistes en anthropologie. P., Maspero, 1973;
Meillassou C. L' anthropologie economique des Guoro de la Cote d'lvoire. P.:
Mouton, 1974, а также статьи в журнале «Economy and Society» и кн.:
Habermas J. Zur Rekonstruktion des historischen Materialismus. Frankfurt am
Main: Suhrkamp, 1976.
10 Levi-Strauss C. Structural Anthropology. N.Y.: Basic Books, 1963; Idem.
Totemisme. Boston: Beacon, 1967; Idem. The Savage Mind. L.: Weidenfeld and
Nicolson, 1966; Idem.Thc Elementary Structures of Kinship.Boston: Beacon,
1969; Idem. Mythologiques: The Raw and the Cooked. N.Y.: Harper and Row,
1969; Idem. Mythologiques: Du miel aux centres. P.: Plon, 1967; Idem.
Mythologiques: L'origine des manieres de table. P.: Plon, 1968; Idem.
Mythologiques: L'homme nu. P.: Plon, 1971. Из многочисленных работ,
посвященных интерпретации и критике К. Леви-Строса, наиболее интересны:
Leach E. Levi-Strauss. L.: Fontana-Collins, 1970; Glucksman M. Structuralist
Analysis in Contemporary Social Thought. L.: Routledge and Kegan Paul, 1974.
Ch. 1-3; The Inconscious in Culture: The Structuralism of Claude Levi-Strausse in
Perspective/Rossi I. (ed.). N.Y.: Dutton, 1974.
11 Конвергенцию между марксистским и неоэволюционистским подходами
можно обнаружить в изд.: Die Enstehung von Klassengesellschaft/ Eder К.
(Hrsg.). Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1973; Religion und gesellschaftliche
Entwicklung/Seyfarth C., Sprondel W.M. (Hrsg.). Frankfurt am Main: Suhrkamp,
1973.
12 Более детально концепция основополагающих норм социального
взаимодействия была разработана в книге Ш. Эйзенштадта и М. Курелару
«Форма социологии: парадигмы и кризисы», гл. 13. (Примеч. перев.)
13 См., например: Williamson O.E. Some Notes on the Economics of
Atmosphere. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1973; Idem. Markets
and Hierarhies: Analyses and Antitrust Implications. N.Y.: Free Press, 1975. Я не
претендую на то, чтобы представить здесь исчерпывающий список
культурных ориентации, значимых в социальном отношении. Это только
набросок, выделяющий некоторые такие ориентации, значимость которых
была выявлена в институциональном анализе.
14 См.: Game Theory in the Behavioral Sciences/Buchler J.R., Nutini H.G. (eds.).
Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1969. P. 8. Wirtschaftsethik — букв.:
этика хозяйствования (нем.).
15 О концепции институциональных организаторов см.: Earth F. The Role of
Entrepreneur in Social Change in Northern Norway. Bergen: Artok, 1963;
Eisenstadt S.N. Essays in Comparative Institutions. N.Y.: Wiley, 1965. —
Особенно гл. 1 и 12; Idem. Societal Goals, Systemic Needs, Social Interaction
and Individual Behavior: Some Tentative Explorations//Institution and Social
Exchange: The Sociologies of Talcott Parsons and George S. Homans/Turk H.,
Simpson R.R. (eds.). Indianopolis: Bobbs-Merrill, 1971. P. 36-56.
16 Об изучении коалиций см., например: The Study of Coalition Behavior/
Groermings S., Kelly E.W., Leierserson (eds.). N.Y.: Holt, Reinhart and
Williamson, 1970; Coleman J.S. Foundations for a Theory of Collective Decision//
American Journal of Sociology. Chicago, 1966. V. 71. № 6. P. 615-627; Gamson
W. Experimental Studies of Coalition Formation//Advances in Experimental
Social Psychology/Berkowitz L. (ed.). V. 1. N.Y.: Academic Press, 1964. P. 81110.
17 О концепции общественных благ по отношению к социетальному анализу
см.: Kuhn A. The Study of Society: A Unified Approach. Homewood: Dorsey,
1963; Olson M. The Logic of Collective Action. N.Y.: Schocken, 1968.
18 Fortes M. Kinship and the Social Order.Chicago: Aldine, 1969.
19 См.: Trade and Market in Early Empires/Polanyi K. (ed.). N.Y.: Free Press,
1957.
20 «Чья власть, того и вера» (лат.). (Примеч. перев.)
21 Shils E. Center and Periphery: Essays in Macrosociology.P.3—61.
22 GNU Eisenstadt S.N. Post-traditional Societies and the Continuity and
Reconstruction of Tradition//Post-traditional Societies/Eisenstadt S.N. (ed.). N.Y.:
Norton, 1972. P. 1-29; Idem. Anthropological Analysis of Complex Societies: The
Confrontation of Symbolic-structuralism and Institutional Approaches//
Anthropology: The United States/Sturtevant W.D. (ed.). (forthcoming).
23 О концепции двойника см.: Decoufte A. Sociologie des revolutions; см.
также: Mus P. La Sociologie de George Gurvitch et l'Asie//Cahiers internationaux
de sociologie. P., 1967. № 43. P. 1-21.
24 Наиболее полно эти вопросы были разработаны в исследованиях М.
Дуглас. См.: Douglas M. Natural Symbols. Baltimore: Penguin, 1973; Idem.
Implicit Meanings. L.: Routledge and Kegan Paul, 1976; Roules and meanings/
Douglas M. (ed.). Baltimore: Penguin, 1973. См. также: Right and Left: Essays on
Dual Symbolic Classification/Needham R. (ed.). Chicago: University of Chicago
Press, 1973. Работы Р. Нидема являются продолжением классического
анализа Р. Герца и М. Моса. См.: Hertz R. Melanges de sociologie religieuse
etude folklore. P.: F. Alkan, 1928: Idem. Death and the Right Hand. L: Cohen and
West, 1960. led. 1907; Mauss M. Les variations saisonnieres dans les societcs
Eskimo//L'Annee sociologique. T. 9. P. 1904-1905. P. 39-132; Idem. The Gift.
N.Y.: Free Press, 1954; Idem. La notion de personne et celle de «moi»//Journal of
the Royal Anthropological Institute. L., 1938. V. 68, July-December. P. 263-281.
25 Очень поучительные примеры, раскрывающие эти положения, см.:
Intellectuals and Tradition/Eisenstadt S.N., Graubard R.S. (eds). N.Y.: Humanities,
1973. — Особенно гл. 3-5.
26 Проблемы насилия анализировались со многих точек зрения. Взвешенный
подход к биологическим аспектам представлен в кн.: Hinde R.H. Biological
Bases of Human Social Behavior. N.Y.: McGraw-Hill, 1974. Социологические
аспекты рассмотрены в кн.: Bienen H. Violence and Social Change: A review of
Current Literature. Chicago: University of Chicago Press, 1968. Ранний и
довольно упрощенный поход к этим аспектам в связи с революцией
представлен в кн.: Sorokin P.A. The Sociology of Revolution. Philadelphia:
Lippincott, 1925. Применительно к современным обществам и движениям см.:
Leiden С., Schmidt K.M. The Politics of Violence: Revolution in the Modern
World. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1968.
27 См.: Tilly C., Tilly L, Tilly R. The Rebellious Century, 1830-1930. Cambridge
(Mass.): Harvard University Press, 1975. — Особенно гл. 1 и 6.
28 Кибернетический подход к проблеме насилия в социальных системах
изложен в кн.: Wilden A. System and Structure: Essays in Communication and
Exchange. L.: Tavistock, 1972.
Глава 3.
ИЗМЕНЕНИЯ В ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ. КРАТКИЙ ОБЗОР.
1. Изменения в первобытных обществах.
В человеческих обществах шел постоянный процесс их совершенствования,
и целые цивилизации подверглись трансформации, что свидетельствует об
универсальности социетальной предрасположенности к изменениям. Хотя
антропологическая литература 30 — 50-х гг. изображает первобытные
общества мало расположенными к изменениям вообще и преобразованиям в
особенности (т.е. к изменениям, затрагивающим институциональные и
символические предпосылки обществ1), все же признавалось, что даже эти
общества испытывают конфликты и противоречия — конфликты между
социальными сегментами и противоречия между принципами социальной
организации,
особенно
системами
родства,
территориальной
принадлежности и власти.
Тем не менее в классической антропологической литературе утверждалось,
что при относительно низком уровне техники в подобных обществах,
отсутствии письменной трансляции культуры, низком уровне структурной
дифференциации и, самое важное — при укорененности символической и
организационной деятельности, имеющей центральное для общества
значение в его первичных (главным образом родственных и
территориальных) ячейках, конфликты, восстания и протест не могут быть
организационно и символически выражены сколько-нибудь отчетливым
образом. Обычно считалось, что такие феномены укоренены в
существующих структурных и межличностных ячейках и они не выходят за
пределы
господствующих
символических
и
институциональных
предпосылок2. Предполагалось, что эта укорененность проявляется прежде
всего в характерных ритуалах восстания*, в которых социальные отношения
оборачиваются вверх дном, высокие становятся низкими и наоборот, не
порождая, однако, новой концепции порядка или авторитета.
Соответственно, как казалось, процессы изменений в первобытных
обществах лишь изредка приводят к возникновению новых культурных
символов, концепций социального порядка и новых институциональных
комплексов. Вместо того, наиболее характерными для подобных обществ
считались три основных типа изменений: 1) изменения в относительном
положении различных ячеек данного общества, будь то сегментарная
система (составленная из таких лишенных властных структур социальных
сегментов, как линиджы и кланы), племенное объединение или ранняя
монархия; 2) сегментирование, иначе говоря, установление структурно
сходных ячееек за пределами территории материнской ячейки; 3) изменения,
означающие переход от сегментарного и относительно эгалитарного общества к более централизованному, хотя еще «первобытному» обществу с
некоторыми элементами иерархического устройства.
Относительно централизованный тип общества может существовать в
различных формах4. Например, в результате слияния различных ячеек
возможно возникновение кланового или племенного объединения. Или
общество может усложниться, если в ассоциативных структурах возобладает
добровольное объединение или объединение возрастных классов. Наконец,
существующее комплексное образование может исчезнуть (как было с
королевством зулу5), уступив место новому более централизованному и
обширному социальному образованию.
Изменения подобного типа антропологи в большинстве случаев объясняют
действием внешних причин: давление роста населения, война и завоевание.
Однако такие причины сами по себе не могут объяснить переход от
первобытных обществ к архаической и исторической цивилизации. По
крайней мере в тех первобытных обществах, из которых образовались более
сложные первобытные общества и особенно ранние цивилизации, должен
был существовать потенциал далеко идущих изменений, направленных на
достижение более высокого технического уровня, обретение письменности и
новых более утонченных концепций, характерных для письменных обществ.
Недавние археологические и антропологические исследования дают более
динамическую картину, показывающую, как могла произойти эта
трансформация. Источники указывают, что в большинстве первобытных
обществ существовал потенциал преобразующих изменений. Этот потенциал
складывался в первобытных обществах постольку, поскольку в них
возникали трения между различными культурными моделями или кодами, а
также трения между подобными кодами и различными структурными
принципами (например, достижительные против аскриптивных). К тому же
эти принципы сплетались с такими структурными категориями, как возраст,
отношения родства или территориальная принадлежность, и с отдельными
группами и интересами. Эти трения часто вели к расхождению и конфликтам
между политическим и социальным статусом, а также к социальной
дифференциации и соперничеству между теми группами, которые
специализировались на разработке моделей культурного порядка, и теми, у
кого сосредоточивались богатство или политическая власть.
Такие расхождения и трения создавали потенциал изменений, который мог
реализоваться под воздействием демографических и экологических
процессов или внешних факторов. В недавней трактовке этой проблемы Э.
Сервис6, одним из первых выступивший за критическую переоценку
упрощенного эволюционистского подхода, указал на то, что внутренняя
динамика политической системы, мотивы политических лидеров и их
превращение в особую социальную категорию давали мощный толчок к
изменениям в первобытных обществах вообще и к прорыву их в сторону
цивилизации в частности. Аргументация Э. Сервиса может быть расширена с
включением других типов институциональных организаторов, как в
религиозной, так и в экономической сфере. Недавние исследования
подчеркивают также, что важным двигателем изменений в первобытных
обществах являются экономические взаимосвязи между ними. Таким
образом, хотя мы нуждаемся в более систематических знаниях об изменениях
в первобытных обществах, можно считать признанным, что в возникновении
изменений большое значение имело определенное сочетание внутренних и
внешних обстоятельств. В дополнение к этому существует согласие
относительно того, что развертывающиеся в различных человеческих
обществах процессы изменений обнаруживают одновременно и сходство, и
большое разнообразие.
Относительное значение этих внутренних и внешних факторов и условий,
формирующих различные типы изменений и преобразований, может быть
несколько подробнее изучено на примере колыбелей цивилизации — в
Средиземноморье, на Ближнем Восоке, в Центральной Америке, в Индии и
Китае, в отношении оторых существуют не только археологические
источники, но и исторические документы.
2. Основные черты архаических и исторических цивилизаций. Особенности
социетальной дифференциации.
I
Сколь ни ограничены наши сведения о конкретных исторических процессах,
приведших к возникновению архаических и исторических цивилизаций,
можно отметить некоторые общие черты. Характер формирования этих
цивилизаций предопределили: 1) технические нововведения, сделавшие
возможным производство и накопление прибавочного продукта; 2)
пространственные и демографические изменения, приводившие к
возникновению плотно населенных районов и центров — будь то
экономические (города), ритуальные (храмы) или политические; 3)
изобретение письменности и 4) возрастание международных контактов. Эти
четыре фактора породили особенности, отличающие ранние цивилизации от
первобытных обществ. Таковыми особенностями являются:
1. Увеличивающаяся внутренняя структурная дифференциация.
2. Растущая дифференциация и рационализация в символической сфере.
3. Интенсификация взаимоотношений между обществами и усиление
дифференциации между ними.
4. Выделенность центров по отношению к периферии.
Тенденция к структурной дифференциации была широко признана в научной
литературе. Она проявляется прежде всего в возрастающей вычлененности
специфических институциональных функций из исходных аскриптивных —
родственных и территориальных — общностей и в утверждении этих
функций в качестве отдельных видов деятельности и особых ролей. Это
приводит к вычленению политической роли субъекта из его принадлежности
к локальной общности и к увеличению числа автономных образований
(политических, экономических, религиозных, образовательных), которые
осуществляют более специализированные функциональные задачи.
Вторая важнейшая характеристика структурной дифференциации — это рост
специализации главных типов институциональных организаторов:
политических и экономических элит, идеологов моделей культурного и
социального порядка и солидарности различных коллективов (некоторые из
них выдвигаются из аскриптивных групп, таких, как общины, племена или
даже социальные слои).
Третий важный аспект возрастающей дифференциации связан с развитием
социальной иерархии как особой черты социальной организации; значит, с
развитием того, что часто называли классовым обществом. Эта тенденция
очевидна прежде всего в закреплении различных социальных позиций и
ролей за относительно закрытыми слоями и в регулировании через обычаи
и/или правовые запреты доступа по крайней мере к некоторым из этих
позиций, а также в регулировании символического и реального
использования ресурсов различными группами.
Тесно связана с тремя этими аспектами возрастающей дифференциации
тенденция к четкому определению границ коллективов (этнических,
региональных, племенных, религиозных, культурных) вместе с объемом и
границами институциональных комплексов (в политической, экономической,
культурной сферах). Несомненно, эта тенденция была обусловлена ростом
дифференциации между обществами и взаимоотношений между ними.
Дифференциация в отношениях между обществами проявлялась прежде
всего в росте относительно долговременных и устойчивых международных
систем, состоявших из структурно обособленных типов общества —
например, из больших патримониальных или полуимперских образований
вместе с племенными объединениями, городами-храмами и/или городамигосударствами (как было на Ближнем и Среднем Востоке или в ЮгоВосточной Азии).
Подобные международные отношения играли важную роль в возникновении
архаических и исторических обществ, а также в их развитии. В течение всей
своей истории эти цивилизации оставались уязвимыми для воздействия
международной среды, влияние которой могло сказываться различным
способом на разных социетальных компонентах. Особое значение в этом
отношении имела относительная автономия культурных кодов и их
носителей и экономических систем, ибо отсюда мог последовать решающий
толчок к изменениям.
II
И в архаических, и в исторических обществах в тесной связи (но не
обязательно в том же направлении или с той же интенсивностью) с ростом
структурной дифференциации и выделением центра (что мы рассмотрим
дальше) происходят изменения в символической сфере. Наиболее важное
значение из них имеют: 1) отделение господствующих символов от их
изначальных значений; 2) формирование независимых автономных
символических систем (например, религиозных или философских) и их
дифференциация, устроение этих систем в соответствии с их символическим
содержанием и их методами концептуализации задач и решений и 3) все
большее сомнение в исходных предпосылках постановки этих задач заодно с
формулированием решений.
III
Кроме уже отмеченных аспектов дифференциации, во всех подобных
обществах возникает другое важнейшее разделение. Это растущай
символическая и институциональная, а не только пространственная
дифференциация между центром (или центрами) и периферией.
Такая тенденция проявляется в формировании различных типов центров
(политических, религиозных или социетальных), которые в определенной
степени структурно и символически отделены от основных локальных групп
на периферии. Последние, по крайней мере в менее развитых обществах,
остаются организованными по образу более простых обществ (имея в то же
время связи с новыми центрами). В противоположность этому в
специфических институциональных структурах сосредоточиваются более
специализированные виды организационной и символической деятельности
политического характера, на основе которых и происходит формирование
центров. Дальнейшее вычленение центра включало также трансформацию
отношений между центром и периферией. Среди наиболее важных видов
деятельности центра (или центров) были: направление накопления и
распределения создающегося в экономике прибавочного продукта,
законодательство и кодификация законов, а также выдвижение важнейших
символов идентичности для общности и культурного порядка. Со всем этим
процессом тесно связано возникновение того, что может быть названо
политическим классом или политической элитой, структурно отделенной не
только от нижних классов периферии, но также, по крайней мере в
зачаточной форме, от высших слоев — будь это племенные вожди и
аристократия или лидеры локально-территориальных и семейных ячеек.
Совокупность этих процессов обычно и отождествляют с возникновением
государства.
В таких центрах происходит наиболее полная институционализация
отношений
связи
между
организационными
и
символическими
характеристиками человеческой деятельности. Мы рассмотрим дальше более
подробно, как способ реализации этой функции приводит к возникновению
решающих институциональных различий между обществами, для которых
характерны сходные уровни дифференциации.
3. Традиционная легитимность. Институционализация, напряженность и
противоречия.
Какими бы ни были различия между архаическими и историческими
обществами, для них характерен общий тип легитимизации; он близок к
традиционным формам легитимности в первобытных обществах, но выходит
за ее рамки. Традиционная легитимизация опирается на принятие некоей
фигуры, события или порядка прошлого (реального или символического) в
качестве средоточия коллективной идентичности, указателя пределов и
характера социального и культурного порядка. Принятый таким образом
центральный символ заключает в себе окончательную санкцию изменений и
указание на предел нововведений. В исторических обществах принятие
центрального символа может быть результатом творческого акта. Будучи
значительным нововведением, оно упраздняет то, что прежде почиталось как
главный символ легитимизирующего прошлого7.
Этот тип легитимизации имеет несколько структурных производных, как в
первобытных, так и в исторических обществах. Самым важным было то, что
некоторые сегменты социальной структуры устанавливали или стремились
установить легитимную опору, хранителя и воплощение коллективных
символов, а также их легитимных носителей и интерпретаторов,
следовательно, тех, кто мог придать легитимность какому-либо
нововведению или изменению.
В архаических и исторических обществах традиционная легитимизация
символически и структурно была более полно выражена, чем в первобытных
обществах; и эта самая выраженность подталкивала к возникновению новых
очагов напряженности и противоречий, которые создавали дополнительный
потенциал изменений. Новый потенциал изменений был укоренен в
специфическом выражении традиционной легитимности, что формировалась
вместе с рассмотренными выше процессами дифференциации и прежде всего
вместе с кристаллизацией противоположности между центром и периферией.
Должностные лица центров, оказываясь легитимными носителями и
защитниками для оснований и символов традиционной легитимизации,
стремились ограничить доступ к этим позициям. Их монополия над
символами и ресурсами центра часто становилась объектом притязаний,
особенно со стороны других элитных групп, и, таким образом, обостряла
напряженность или конфликты, способствуя развитию сопутствовавших им
процессов изменений и преобразования.
Развитие в символической сфере подрывало основы легитимности
социального и политического порядка. Эта тенденция усиливалась благодаря
относительной разветвленности и дифференцированности системы
символов; сама основа традиционной легитимности (благодать, откровение,
миф) могла стать предметом расхождений. Помимо того, как уже отмечалось,
центральный символ традиции во многих из этих обществ формировался в
результате творческого акта, был серьезным нововведением, которое
упраздняло раннюю символику легитимизирующего прошлого. Таким
образом, в подобном обществе сам центральный символ предполагал
возможность коренных изменений.
В общем, проанализированный процесс дифференциации, совершавшийся
путем накопления технических и коммуникативных ресурсов и создания
относительно автономных институциональных подсистем и компонентов,
активно побуждал оспаривать легитимность социального или политического
порядка. Создававшийся в ходе этого процесса потенциал изменений
усиливался. Происходило это вследствие возникновения, во-первых,
различных типов институциональных организаторов, иначе говоря, тех, кто
вырабатывал и представлял модели социального и культурного порядка
вместе с моделями солидарности первичных коллективов; во-вторых,
проблематичности положения этих специалистов в области духовной
культуры — предшественников современной интеллигенции; в-третьих,
напряженности, складывавшейся внутри этой группы, а также между нею и
политической властью.
Таким образом, все эти общества сталкивались с резко выраженными,
чреватыми
самыми
серьезными
последствиями
конфликтами
и
противоречиями между компонентами социального порядка. Наиболее
значительные противоречия существовали между культурными моделями и
их носителями, с одной стороны, и политической системой — с другой, а
также между различными родственными ячейками и более крупными
коллективами; между этими коллективами и их представителями; между
важнейшими институциональными комплексами.
Проблематику подобных противоречий и конфликтов, их разнообразие,
возможно, легче всего проследить в символике политической власти и
авторитета, формировавшейся в цивилизациях, которые мы рассматриваем.
Эта символика без всяких исключений образует важнейшую и единственную
постоянную тему социального и политического протеста, в ней содержится
сфокусированный образ общества-двойника. И в архаических, и в
исторических обществах эти темы и символы соединяют характерное для
ритуалов восстания перевертывание ролей с такими ориентациями, которые
распространялись за пределы оснований существующей системы.
Внутренний потенциал изменений возрастал вместе с ростом значения для
всех этих обществ международных отношений и систем, постепенным
расширением границ подобных систем, постоянным воздействием на них
демографических сдвигов, международной торговли и культурных
движений, а также вследствие возникновения долгосрочных и лучше
организованных насильственных политических отношений между
обществами, иначе говоря, системы организованных войн.
4. Восстание, инакомыслие и политическая борьба в традиционных
обществах.
Возросшие расположенность к изменениям и потенциал способности к
преобразованию рассматриваемых нами обществ наиболее явно проявляются
в возникновении четко определенных движений, таких, как восстание,
инакомыслие, протест, а также в достижении более высокого уровня
выражения политической борьбы, чем тот, который существовал раньше, в
первобытных обществах. Даже если картина изменений в первобытных
обществах как движения между ритуалами восстания, с одной стороны, и
разделом либо слиянием племенных образований — с другой, выглядит
упрощенной, все-таки действительно лишь в архаических и исторических
обществах впервые можно вполне идентифицировать более определенно
выраженные движения изменений и ориентации протеста.
В этих обществах сложилась тенденция к формированию типа относительно
автономных и длительных восстаний и движений протеста. Организаторами
таких движений могли выступить носители моделей культурного порядка
или
выразители
солидарности
различных
коллективов.
Первые
поддерживали особую культурную ориентацию, вторые — социальный код
(иерархию в противовес равенству, принуждение в противовес солидарности
или поощрительным мерам и т.п.). В то же время возникали и движения
инакомыслия, которые нередко были направлены на переосмысление
оснований господствующих культурных моделей и традиций. А в процессе
формирования институтов, прежде всего в экономической и образовательной
сферах, выдвигались и организаторы нового типа.
Попытка
переформулирования
символических
характеристик
и
институциональных предпосылок могла как вести к расширению объема
критических ориентации и к рационалистическому объективизму, так и быть
направлена к сдерживанию и антирационализму. Такие антирационалистские
тенденции в социальном и ультурном порядке могли найти различное
выражение. Они могли вылиться в относительно простой популистский
антирационализм/антиинтеллектуализм. В более дифференцированных
обществах они могли породить более разработанные сектантско-еретические
течения и идеологии протеста, основанные на интеллектуалистском
отрицании рациональных или критических предпосылок своих собственных
традиций.
Эти радикалистские тенденции часто были связаны с отстаиванием тех
характеристик человеческого существования (например, мистические или
ритуальные аспекты), которые отрицала данная традиция. Они могли быть
связаны с крайними выражениями субъективизма и индивидуализма, могли
отстаивать приоритет символов первичной общности, представленных даже в
интеллектуальных категориях. Таким образом, политические вопросы и
политические конфликты имели тенденцию стать гораздо более
выраженными в символическом, идеологическом и организационном планах,
чем это было в первобытных обществах.
Кроме того, различные типы движений (восстание, инакомыслие, протест и
политическая борьба) часто были взаимосвязанными; эти связи порождали
дополнительную
напряженность
и
распространение
установок,
ориентирующих на изменения. Во всех этих обществах формировались
противоположные тенденции в отношении связей между символически и
организационно более выраженными движениями протеста и процессами
политической борьбы. С одной стороны, возрастающая структурная
дифференциация в сочетании с большей выраженностью символов
коллективной и культурной идентичности обществ способствовала
образованию организационных и символических связей среди различных
идейных течений, ориентации и движений, активизировала процессы
технических инноваций, институциональных нововведений и политическую
борьбу.
С другой стороны, существовала тенденция к относительному обособлению
различных проявлений протеста, политической борьбы и нововведений. Эта
тенденция отражала традиционализм таких обществ и тот факт, что по
сравнению с обществами современного типа развитие техники и структурная
дифференциация находились в них на низком уровне. Кроме того, эти
движения угрожали правителям и элитам, которые стремились усилить
тенденцию к обособлению при помощи различных мер, варьируя от прямого
насилия до искусной, так сказать, кооптации. (Разумеется, ни одна из этих
мер не могла обеспечить постоянный успех.)
Типы изменений, которые действительно происходили в архаических и
исторических обществах, отражали, как мы отметили, влияние
разнообразного
соединения
различных
тенденций,
включая
организационную оформленность и символическую четкость движений
протеста, политической борьбы и строительства институтов (а также их
взаимосвязанность либо обособленность). Кроме того, оказывали влияние
внешние факторы — война, торговля и демографические изменения, а
толчком к изменениям оказывалась структурная дифференциация.
5. Разнообразие традиционных обществ и эволюционная парадигма.
Рассмотренные процессы изменений имели место во всех архаических и
исторических обществах. При всем том общества демонстрировали большую
вариативность социальной, политической и культурной организации. И, как
мы уже отмечали, от самых истоков цивилизации ни одна социальная,
политическая, экономическая или религиозная структура не формировалась
изолированно. Различные политические системы — города-государства,
племенные объединения, патримониальные вождества (chiefdoms) и
королевства (а на поздних стадиях феодальные и имперские системы) — не
только сосуществовали, но и воздействовали друг на друга. Зачастую они
сливались, и изменения в этих системах часто выливались в системную
трансформацию.
В этих обществах сформировалось, кроме того, множество экономических
систем: охотничье-собирательские общества, оседлые земледельческие
общества, основанные на простой или усовершенствованной агрикультуре и
агротехнике, и морские общества. Соответственно, значительно
варьировались образцы социальной стратификации. Наконец, там возникали
многочисленные культурные модели космического и социального порядков,
а также культурно-институциональных систем, и эти модели часто
кристаллизовались либо в центральной («большой»), либо в периферийной
(«малой») традиции.
Социологическая теория всегда стремилась найти объяснение как большой
вариативности социальных систем, так и их сходства. Предлагаемые
объяснения, разумеется, были очень тесно связаны с анализом процессов
изменений. Фактически при объяснении Социальных изменений в
классической и современной социологической теории большей частью
пытаются разрешить две проблемы: 1) причины изменений и 2) возможные
направления изменений в существующих обществах.
Большинство классических социологических теорий (отражающих
эволюционную парадигму К. Маркса и, в меньшей степени, В. Дюркгейма и
М. Вебера) пытаются совместить эти два направления анализа. Причины
социальных
изменений
в
каждом
отдельно
взятом
обществе
(дифференциация, рационализация или усилия преодолеть отчуждение на
путях войны классов) часто рассматривались как тесно связанные, если не
тождественные, с общим направлением развития человеческих обществ.
Этому подходу следовали классические эволюционисты, включая К. Маркса
и марксистов, и в равной степени неоэволюционисты; и те, и другие
стремились выявить в развитии человеческих обществ и происходящих в них
процессах изменений стадиальную последовательность. Во многих попытках
стадиальной классификации обществ развитие техники и структурная
дифференциация или сходные явления рассматривались в качестве
фундаментальной проблемы сравнительного анализа. Для недавних
исследований в рамках эволюционного подхода характерно определение
исторической эволюции на основании технического прогресса и его
последствий, предложенное Г. и Дж. Ленски8. Они классифицировали
общества в соответствии с основным способом существования, каждая
стадия характеризовалась ключевым изменением в развитии техники:
1. Копье, лук и стрелы.
2. Выращивание растений.
3. Выплавка металла.
4. Плуг.
5. Железные орудия и оружие.
6. Новые источники энергии.
Эти нововведения приводят к образованию или способствуют образованию
семи основных типов общества.
Простые охотничье-собирательские общества
Развитые охотничье-собирательские общества
Простые общества рыболовов
Развитые огороднические общества
Простые аграрные общества
Развитые аграрные общества
Индустриальные общества
В качестве главных зависимых переменных в этой типологии обществ
Г. и Дж. Ленски указали: численность населения, выраженную в единицах
плотности (более крупные сообщества), и общие размеры общества,
постоянность поселения, разделение труда, религиозные верования
(структура основных верований), социальное неравенство изменения в
характере стратификации.
Т.Парсонс и Р.Белла рассматривали дифференцированность общества в
качестве важнейшего критерия его эволюции. По мнению Р.Беллы,
«Эволюцию следует определить как процесс возрастания
дифференциации и усложнения организации, который обеспечивает
организму, социальной системе или любому иному рассматриваемому
образованию большую способность приспособления к среде, что в известном
смысле делает их более автономными по отношению к своему окружению,
чем были их менее сложные предки... Это не означает, что эволюция носит
неизбежный характер или что более простые формы неизбежно должны
исчезнуть»11.
Обычно такая дифференциация трактуется в более широких
эволюционных категориях как поступательное развитие, начиная с
идеального типа первобытного общества или орды, в которых роли
распределены на аскриптивной основе и разделение труда базируется прежде
всего на семейных и родственных ячейках. Развитие общества проходит
через различные стадии специализации и дифференциации.
В соответствии с этой точкой зрения специализация проявляется, вопервых, в той степени, в какой социальная и культурная деятельность
центров, а также основные ресурсы (рабочая сила, экономические ресурсы,
приверженность к политическому и культурному порядку) отрываются либо
освобождаются от родственных, территориальных или иных аскриптивных
ячеек.
Во-вторых, о проявлении структурной дифференциации можно говорить,
когда все главные институциональные сферы формируют (благодаря
деятельности людей, занимающих ключевые позиции в каждой из этих сфер)
свои собственные организационные ячейки и комплексы с присущими им
особыми критериями деятельности. Так, возникают возможности для
реализации разнообразных потенций: технические нововведения, культурное
и религиозное творчество или расширение политической власти и участия.
Т. Парсонс и Р. Белла выделяют следующие основные стадии
дифференциации:
первобытные
общества,
архаические
общества,
исторические промежуточные империи, материнские (seedbed) общества
(Израиль и Греция), ранние и поздние современные общества. Вопрос об
этих стадиях наиболее полно разработан Р. Беллой по отношению к
религиозной сфере. Он предложил в виде схемы стадиального развития ряд
из пяти идеальных типов, которые могут рассматриваться как относительно
стабильная кристаллизация примерно одного и того же уровня сложности по
совокупности различных характеристик. Такими характеристиками
являются: системы религиозной символики, религиозная деятельность,
религиозные институты и социальные функции.
Первобытная религия. Радикальным сдвигом является введение
символической медиативной системы, которая предполагает определенную
дифференциацию между человеком и природой. Символизация имеет важное
значение, поскольку посредством ее человек в состоянии выйти за пределы
простого пассивного приспосабливания к среде, может обрести благодаря
своим знаниям возможность контроля над средой и ее осмысления. Тем
самым он обретает свободу и подлинно человеческие свойства. Между
мифическим и реальным миром существует чрезвычайно детализованная
соотнесенность.
Архаическая религия. Ее характерная черта — «возникновение настоящего
культа, включающего совокупность божеств, священников, богослужение,
жертвоприношения, а в некоторых случаях — теократию или государство
священников». В ней расширяется понимание индивидом своей роли и
возрастает проявление индивидуальной воли.
Историческая религия. Религии этого типа являются в определенном смысле
трансцендентными; они устанавливают религиозную сферу отдельно от
мирской области и над ней.
Раннесовременная религия. Отличительная черта — «разрушение
иерархического устроения посюстороннего и потустороннего миров». В
известном смысле дуализм перемещается на индивидуальный уровень и,
таким образом, религиозная деятельность «отождествляется со всей
жизнью».
Современная религия. «Характеризуется углубленным анализом самой
природы символизации как таковой». Дуалистический мир замещается
бесконечным множеством миров, центром которых становится отдельный
индивид12.
В марксистских и неомарксистских школах для объяснения социальной
трансформации и установления стадий человеческой эволюции так или иначе
выделяется значение технологических факторов, с одной стороны, и
структурной сложности или дифференциации общества — с другой.
Особый интерес представляет недавняя попытка Ю. Хабермаса присоединить
к чисто структурным или чисто технологическим критериям стадий
социальной эволюции эволюцию познавательных способностей13. Следуя за
работами Ж. Пиаже и Кольберга, Ю. Хабермас предлагает аргументацию в
терминах стадиальности когнитивного и нравственного развития.
Общими для большинства эволюционистских подходов являются несколько
основных положений относительно динамики изменений. Они все
предполагают, что решающим аспектом социальных изменений оказывается
освобождение деятельности и ресурсов от прежних институциональных
ограничений, создание новых (потенциально свободно перемещающихся)
производительных ресурсов или сил. Чем более дифференцированными и
специализированными становятся институциональные сферы, тем больше их
взаимозависимость и потенциальная взаимодополнительность при
функционировании в данной институциональной системе. Вместе с тем сама
взаимодополнительность порождает сложные проблемы интегрирования.
Растущая автономность каждой сферы социальной деятельности,
соответствующее возрастание взаимозависимости и взаимопроникновения
между ними затрудняют поддержание каждой сферой своей целостности и
регуляцию своих нормативных и организационных отношений с другими
сферами. И на каждом более высоком уровне или стадии дифференциации
возрастающая автономность сфер социальной деятельности создает
проблемы интегрирования специализированной деятельности в общих
институциональных рамках.
Возрастающая автономность институциональных сфер и расширение
масштаба их организации не только увеличивают количество и глубину
социальных и гуманитарных проблем, но и открывают новые возможности
для развития и творчества: для технических нововведений, для расширения
политической власти или политических прав, для культурного, религиозного,
философского творчества и личного самосовершенствования. Растущая
дифференциация повышает также восприимчивость системы к природному и
техногенному окружению.
Таким образом, эти свободно перемещающиеся ресурсы ставят заново
проблемы интеграции общества, и они могут стать базисом для более
дифференцированного социального порядка, который будет лучше
приспособлен к контакту с более обширным окружением.
Эволюционистские подходы опираются еще на несколько основных
теоретических положений. Среди них наиболее важным является положение,
согласно которому общество лучше всего трактовать как систему, занятую
решением своих внутренних и внешних ц проблем. Эти проблемы обычно
соотносятся с четырьмя фазами, или потребностями, выделенными Т.
Парсонсом в его анализе социальной деятельности, или, несколько
конкретней — с важнейшими кризисами, которые испытывают современные
политические системы14. Такой подход был предложен Г. Алмондом, Л.
Паем и др.
Второе положение заключается в том, что вместе с внутренними и внешними
проблемами развиваются институциональные способности их разрешения.
Наиболее важными в этом отношении являются характерные для каждой
стадии специализированные институциональные и организационные
механизмы, чье развитие обеспечивает адекватное разрешение этих проблем.
(Часто также предполагается, что существует лишь один надлежащий
институциональный способ решения.)
В нашем анализе теорий революций мы встречали положение, тесно
связанное с предыдущим, а именно — процессы эволюции в экономической,
политической, институциональной и культурной сферах имеют тенденцию
на каждой стадии сливаться в относительно сходных моделях, и скачок от
одной стадии к другой во всех институциональных сферах осуществляется в
одном направлении. Эта согласованность часто объясняется в понятиях
потребностей системы и/или как предпосылка (предпосылки) для
функционирования экономической, политической, культурной систем. С
такой точки зрения содержание деятельности каждой системы
воспринимается как необходимое условие для возникновения и
функционирования любой другой системы.
Переход от одной стадии к другой, как предполагается, включает в себя
нововведения и нарушение преемственности. Поскольку механизмы
перехода анализируются в обобщенном виде (например, в теориях
модернизации и конвергенции индустриальных обществ), они определяются
как кристаллизация нового институционального ядра или ядер. Эти
последние, в конечном счете, имеют сходные структурные и
организационные формы, которые непременным образом проявляются во
всех главных институциональных сферах и сторонах макросоциального
порядка. Считается, что подобные институциональные ядра обеспечивают
сдвиг от одной стадии к другой. При этом явственно либо имплицитно
предполагается, что переход от одной стадии к другой так или иначе связан с
воздействием многообразных видов социальной деятельности, движений,
восстаний и политической борьбы вокруг центра, — иначе говоря, тех
элементов, которые, как мы видели в главе 1, составляют образ подлинной
революции.
Рассмотренные нами подходы не предполагают, что каждое общество с
неизбежностью проходит через все стадии развития. Они допускают, что
многие общества пребывают на известной стадии в состоянии застоя. Но
если общество выходит из этого состояния, если формируются новые
институциональные ядра, способствующие прорыву к следующей стадии, то
потенции к преобразованию будут проявляться в возникновении новой
социальной системы, а значит — во всеобъемлющих системных изменениях.
Итак, в рассмотренных подходах признается тесная, почти инвариантная
связь между развитием в различных институциональных сферах, а также
подчеркивается сходство стадий развития в различных обществах. Различия
между обществами объясняются, исходя из универсальной схемы развития,
принадлежностью к его различным стадиям. Кроме того, в этих подходах
подчеркивается, то что эволюционные тенденции к появлению новых
социальных и культурных форм, которые окажутся более адаптивными в
плане отношений между этими обществами и их средой, приведут в конце
концов к большему контролю над средой. При этом само развитие
способности к адаптации объясняется сочетанием технических нововведений
и структурной дифференциации.
6. Предварительный критический анализ эволюционной парадигмы.
Здесь не место для обстоятельного и критического анализирования всех
положений эволюционной парадигмы. Позднее, рассмотрев образцы
изменений в избранных исторических обществах, мы вернемся к этому
вопросу. Но даже поверхностный взгляд на историю человеческих обществ в
трактовке эволюционистов показывает, что их подход является упрощенным
и что глубокие изменения, происходившие в исторических и даже
первобытных обществах, не могут быть объяснены на основании
эволюционистских положений!
Необходимо учитывать тот важнейший факт, что на кажущихся сходными
уровнях технического развития или структурной дифференциации мы
находим среди первобытных, архаических и исторических обществ очень
различные по форме социальные структуры; и сами характеристики
структурной дифференциации выражены в этих обществах не одинаковым
образом. Характерный случай мы уже отмечали на примере первобытных
сегментарных обществ. Их социальная структура может быть основана как
на простых родственных ячейках, так и на более сложных объединениях, а
оба эти типа общества могут отличаться от более централизованных
государств. Рассматривая архаические цивилизации древности и оспаривая
ранние эволюционистские подходы, Э. Сервис в своей книге показал, что
Китаю, Центральной Америке, Индии и Ближнему Востоку было присуще
большое разнообразие в сочетании таких элементов эволюции, как развитие
городов, гидротехническое строительство, политическая и религиозная
централизация. В своих обобщающих выводах он констатировал, что
возникшие на заре цивилизации общества значительно различаются по
перечисленным выше признакам углубляющей дифференцированности —
отличие центра от периферии, структурная дифференциация, границы между
компонентами макросоциального порядка, а также разработанность
символики.
Особый интерес с точки зрения нашего анализа представляет тот факт, что
подобные различия обнаруживаются не только в организационных и
пространственных аспектах первобытных обществ и ранних цивилизаций, но
и в их символических формах, прежде всего в расположении культурных
ориентации и кодов, которые относятся к различным уровням структурной
дифференциации.
Одним из таких обществ, в котором, как мы подробно проследим дальше,
различные характеристики дифференциации выразились в различных сферах
по-разному, была Япония. Структурная дифференциация там возрастала, а в
то же самое время дифференцированность между центром и периферией
оставалась относительно постоянной. Еще важней было то, что структурная
дифференциация не сопровождалась разработкой символической сферы. В
Японии не было резкого разделения трансцендентного и мирского, или, если
следовать классификации по западному шаблону, не было дифференциации
между религией, философией и магией. Тем не менее там существовала
сильная привязанность к культурным и социальным порядкам, характерная
для высоких цивилизаций, в которых это разделение создавало
напряженность. Таким образом, японский пример иллюстрирует важнейшее
положение, тесно связанное с предыдущим: различные культурные коды и
ориентации в обществах могут сочетаться со сходными уровнями
дифференциации, и, обратно, одни и те же коды могут сочетаться с очень
различными уровнями социальной дифференциации.
Если исходить из того, что на сущностные аспекты институционального
устройства общества воздействует расположение культурных кодов, то
следует признать, что общества со сходным уровнем структурной
дифференциации могут генерировать различные основополагающие нормы
социального взаимодействия и их институциональные механизмы.
Основополагающие нормы и их институциональные механизмы, в свою
очередь, воздействуют, с одной стороны, на развитие движений протеста
(восстаний и инакомыслия, например) в обществе или его частях и на
степень взаимосвязи этих движений или же их связи с политической
борьбой, которая происходит вокруг центра, а с другой — на процессы
формирования институтов в экономической и культурной областях.
Аналогичным образом движения протеста влияют на соединение, темпы и
направление изменений в различных частях макросоциального порядка; на
степень, в какой силы изменений удерживаются в рамках существующего
порядка; на степень и направления, в которых реализуются способности
общества к преобразованиям, — иначе говоря, на степень, в какой процессы
изменений приводят к появлению культурных моделей и социальных форм,
выходящих за рамки первоначальных институциональных предпосылок
общества, а также на степень, в какой системы движутся в направлении роста
структурной и/или символической дифференциации.
С предыдущим положением тесно связан подтверждаемый историческими
свидетельствами факт, что в каждом данном обществе силы изменений
воздействуют не в одинаковой степени на различные основополагающие
нормы
взаимодействия
(признаки
коллективной
принадлежности,
определение социальных целей, правила справедливого распределения,
нормы естественной справедливости или принципы распределения власти).
Скорее, можно говорить об отсутствии единообразия с изменениями,
которым подвергаются в ходе перемен многочисленные характеристики
социальной жизни: специфические черты институционального устройства
общества в немалой степени обусловливают этот недостаток единообразия.
Например, критерии принадлежности к коллективам и их рамки могут
изменяться, тогда как правила распределения власти или доступа к власти
заодно с правилами справедливого распределения остаются неизменными.
Иначе говоря, происходящие изменения могут в крайнем случае
ограничиться лишь одним из компонентов социальной регуляции (скажем,
политическим режимом).
Вариативность форм изменений зависит также от степени открытости
социальных и культурных моделей. Вследствие этой открытости различные
компоненты социальной системы могут в сходных, казалось бы, ситуациях
соединяться различным образом. Могут, например, возникать различные
типы коалиций, и победа той или иной из них приводит, как показал в своих
работах М. Вебер, к утверждению того или иного сочетания важнейших
компонентов макросоциологического порядка. Короче говоря, основные
черты институционального устройства общества могут сильно варьировать
от общества к обществу или между группами обществ (например, структура
центров, отношения между центром и периферией, образцы формирования
социальных слоев и способы производства).
В 60-х гг. в социологической и антропологической литературе начали
оспариваться эволюционистские положения по указанным выше
направлениям. Эти дисциплины должны были искать объяснение тому, что
различные общества демонстрируют разную предрасположенность к
изменениям и различное соотношение изменений в отдельных сферах.
Предложенные в конце 50-х гг. (и рассмотренные, выше) схемы
классификации первобытных обществ, введя соотношение между
структурной вариативностью и культурными ориентациями, имплицитно
признали существование этой проблемы. Как совсем недавно подчеркнул Р.
Гендерсон, для того чтобы объяснить существование в этих обществах
потенциала эволюции и происходившие в них изменения, необходимо
признать, что первобытным обществам было присуще многообразие
культурных моделей или ориентаций15.
Плодотворные попытки подвести итоги исследования этих проблем были
предприняты в конце 60-х гг. на специальной конференции, посвященной
данному вопросу. Выдвинутые тогда идеи оказались очень важными и для
анализа первобытных обществ, и для решения более общих задач16.
Было высказано предположение, что преобразование обществ требует
наличия трех компонентов: а) элитные группы, способствующие созданию
или утверждению новых образцов отношений, б) ресурсы и в) образцы
социальных
отношений
или
институты,
которые
стимулируют
преобразования. При этом было установлено, что условия, определяющие
возникновение элитных групп, степень мобилизации ими ресурсов и уровень
эффективности их роли в институционализации, подразделяются
соответственно двум макротипам общества: плюралистический, или
освобожденный (disembedded), и монистический, или совмещающийся
(coalescent). Монистические общества представляют социальные системы, в
которых границы различных секторов (экономического, религиозного,
политического и т.д.) совпадают или же один сектор господствует над всеми
остальными.
Были сформулированы и обсуждены несколько гипотез:
1. Внутреннее развитие в монистических обществах менее вероятно, чем в
плюралистических. Монистические общества могут, однако, выдвигать
новые элиты в условиях сдвига, особенно когда он инициирован внешним
завоеванием.
2. Монистические общества склонны направлять гораздо большую часть
наличных ресурсов на поддержание существующей системы, ограничивая,
таким образом, часть, обращаемую на развитие.
3. Монистические общества испытывают больше трудностей, чем
плюралистические, в отношениях с новыми разновидностями групп,
например, с торговцами. Наиболее вероятно, что в монистических обществах
такие группы будут подвергаться дискриминации или оказываться в
изоляции, а это ограничивает их возможность мобилизовывать ресурсы.
4. Монистические общества больше расположены к укреплению и закрытию
своих границ, ограничивая, таким образом, поток нововведений извне.
5. Монистические общества чаще демонстрируют циклическое перемещение
неспециализированных
группировок,
чем
возникновение
новых
специализированных элит.
В плюралистических обществах вероятность возникновения подобных элит
усиливалась при условии, если: 1) существует соперничество между
правящими группами и отчуждение между правителями и управляемыми; 2)
новые элиты выступают за автономию секторов при сохранении
одновременно отношений симбиоза между ними; 3) существует
множественность культурных моделей; 4) новые элиты формируют
идеологию, которая сама по себе является плюралистической и открытой,
предлагающей возможность выбора; такая идеология скорее всего будет
содержать концепцию необратимого времени, а не циклического.
7. Проблема революции в сравнительном анализе социальных изменений.
На следующих страницах мы попытаемся развить эти идеи более
систематическим образом. Не отрицая наличия некоторых обоснованных
пунктов в эволюционной парадигме, особенно важных для объяснения
значения присущих человеческим обществам тенденций к своему
распространению, а также сходства стадий дифференциации в различных
обществах, мы тем не менее выступаем за пересмотр многих
эволюционистских положений.
Подобные размышления, разумеется, не являются отрицанием или
умалением двух фундаментальных принципов социологического анализа
вообще и анализа революций в частности. Во-первых, как очевидно, мы не
подвергаем сомнению то простое положение, что социальные изменения,
особенно далеко идущие изменения (революции, например), представляют
собой
результат
комбинированного
воздействия
многочисленных
социальных сил и что изменения, происходящие в одной части системы,
затрагивают все остальные части. Во-вторых, мы признаем необходимость
различать обычные изменения в кадровом составе или представительстве
отдельных групп и глубокие структурные изменения в институциональных
сферах (в частности, в политической сфере).
Напротив, эти принципы соответствуют основным позициям нашего
подхода, которые были изложены в главе 1. Соединение видов социальной
деятельности и процессов, которые происходят под знаком чистой
революции и которые имплицитно и эксплицитно выражают ее фазы, следует
рассматривать как особый тип процесса среди других, вследствие которых
имеют место социальные изменения и преобразования. Как мы говорили
выше, хотя социальный конфликт, инакомыслие, восстание, структурные
изменения и преобразования свойственны всем человеческим обществам, тем
не менее специфическое сочетание этих элементов, объединяемое образом
подлинной революции, который сложился в эволюционной парадигме в ее
классическом или неоэволюционном варианте, представляет лишь один из
возможных путей изменений.
Следовательно, высказанные в этой главе сомнения требуют более широкого
подхода к изучению социальных изменений. Разработка такого подхода
представляет одну из главных задач социологического анализа. В
последующих главах мы предложим набросок такого более широкого
подхода.
Исходя из нашего первоначального интереса к проблематике революций,
которые по определению являются в первую очередь политическим
феноменом, мы сосредоточимся на проблеме установления того, в какой
степени глубокие изменения в политических режимах связаны с
изменениями в других сферах макросоциального порядка. Вслед за общими
теоретическими соображениями, представленными выше, мы попытаемся
проанализировать, как различные сочетания культурных ориентации,
внешних условий и институциональных положений влияют на типы
изменений.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Среди классических исследований первобытных обществ в этот период см.:
African Political Systems/Fortes M., Evans-Pritchard E.E. (eds.). N.Y.: Oxford
University Press, 1940; Gluckman M. The Kingdom of the Zulu in South
Africa//Ibid. P. 25-55; Idem. Order and Rebellion in Tribal Africa. N.Y.: Free
Press, 1963; Idem. Politics, Law, and Ritual in Tribal Society. Chicago: Aldine,
1965; Firth R. We, the Tikopia. N.Y.: American Book, 1936; Evans-Pritchard E.E.
The Divine Kingdom of the Shilluk of the Nillotic Sudan. Cambridge: At the
University Press, 1948; Idem. The Political System of the Annuak of the AngloEguptian Sudan. L.: London School of the Economics, 1940; Forde D. World
Organization Among the Yako//Africa. L., 1950. V. 20. № 4. P. 267-289.
Представительную подборку статей о первобытных политических системах
содержит также: Comparative Political Systems: Studies in the Politics of the
PreIndustrial Societies/Cohen R., Middleton J. (eds.). N.Y.: Natural History Press,
1957.
2 Эта аргументация наиболее полно представлена в кн.: Eisenstadt S.N. Essays
in Comparative Institutions. P. 77—107.
3 См.: Gluckman M. Order and Rebellion in Tribal Africa. N.Y.: Free Press, 1963.
P. 110-137.
4 С целью последующего анализа этих типов см.: Eisenstadt S.N. Primitive
Political Systems: A Preliminary Comparative Analysis//American Anthropologist.
Menasha, 1959. V. 61. № 2. P. 205-220. Более недавняя разработка вопроса
представлена в кн.: Henderson R.N. The King in Every Man. New Haven: Yale
University Press, 1972. P. 12-27; см. также: Lloyd P.C. Conflict Theory and
Yoruba Kingdoms//History and Social Anthropology/Lewis D. (ed.). L.:
Tavistock, 1968. P. 25-62.
5 Gluckman M. The Rise of a Zulu Kingdom//Scientific American. N.Y., I960. №
4. P. 157-168.
6 Service E.R. Origins of the State and Civilization: The Process of Cultural
Evolution. N.Y.: Norton, 1975.
7 Прямое отношение к этому вопросу, особенно при изучении традиционных
обществ, имеет концепция «большой» и «малой» традиции в том виде, как
она развита Р. Редфилдом и М. Сингером. См.: Redfield R. Peasant Society and
Culture. Chicago: University of Chicago Press, 1956; Redfield R., Singer M. The
Cultural Role of Cities//Human Nature and Study of Society/ Redfield R. (ed.).
Chicago: University of Chicago Press, 1962. V. 1. P. 143-414; Eisenstadt S.N.
Tradition, Change and Modernity. Part 3; Shils E. Center and Periphery: Essays in
Macro-Sociology.Ch. 11.
8 Lenski G., LenskiJ. Human Societies: An Introduction to Macro-Sociology.
2ded. N.Y.: McGraw-Hill, 1974. Ch. 5.
9
Огороднические
(horticultural)
общества
—
общества
раннеземледельческого типа, предшествовавшие аграрным обществам,
основанным на пашенном земледелии (agricultural), которое стало
возможным с изобретением плуга и использованием тяглового скота.
(Примеч. перев.)
10 Морские (maritime) общества — общества, существовавшие за счет
морских промыслов, торговли и разбоя. (Примеч. перев.)
11 Bellah R. Religious Evolution//American Sociological Review. Chicago, 1964.
V. 29. June. P. 358-374.
12 Bellah R. Religious Evolution.
13 Habermas /. Zur Rekonstruktion des historischen Materialismus. См. особенно
ч. 3 и дискуссию между Н. Луманом и Ю. Хабермасом. См. также: Evolution
und Geschichte//Geschichte und Gesellschaft. Gottingen, 1976. Bd. 1.
14 Parsons Т., Shils E., Bales F. Working Papers in the Theory of Action. N.Y.:
Free Press, 1953; Binder Letual. Crises and Sequences in Political Development:
Studies in Political Development. V. 7. Princeton: Princeton University Press,
1971.
15 Henderson R.N. The King in Every Man. P. 23-27; 503-528.
16 См.: Wolf E. Report on a Conference: The Evolutionist Interpretation of
ilture//Current Antropology. Chicago, 1967. V. 8. № 1-2. P. 127-129.
Глава 4.
ТИПЫ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ.
Часть 1. ТИПЫ ИЗМЕНЕНИЙ.
1. Введение.
Рассмотрим некоторые из основных типов изменений, которые могут быть
выявлены в традиционных обществах. Мы не предлагаем здесь подробный
анализ всех процессов изменений в таких обществах или анализ условий, при
которых возникают различные виды традиционных обществ. Вместо этого
мы сосредоточимся, во-первых, на анализе избранных типов изменений,
чтобы установить степень совмещения (coalescence) изменений в различных
сферах при переустройстве макросоциального порядка. Вторая задача —
выявление степени и разновидностей социетальной трансформации (иначе
говоря, анализ будет сосредоточен на том, в какой степени происходящие в
каждом обществе поступательные процессы порождают культурные модели
и социальные порядки, выходящие за рамки первоначальных
институциональных предпосылок, а также на том, в какой степени такие
системы эволюционируют в направлении структурной и/или символической
дифференциации). В-третьих, мы рассмотрим условия, которые
обеспечивают возникновение таких типов изменений.
В первой части нашего анализа мы выделим три идеальных типа изменений в
традиционных обществах. Затем мы проанализируем важнейшие
разновидности в каждом из этих типов.
Первый
макрообразец
изменений
в
традиционных
обществах
характеризуется относительно небольшой степенью совмещения или
совпадения между изменениями в исходных основополагающих нормах
социального взаимодействия — особенно между изменениями в отношении
доступа к власти и изменениями в остальных основополагающих формах
социальной регуляции. В небольшой степени также совмещаются по своему
направлению изменения в переустройстве главных компонентов
макросоциального порядка. Кроме того, существует слабая соотнесенность
между движениями протеста, а также между ними и политической борьбой
вокруг центра. Наконец, политическая система остается относительно
незатронутой, а политическая борьба почти не получает идеологического
выражения или обоснования.
Этот тип обособленных (segregative) изменений присущ патримониальным
режимам. Среди них — древние царства Египта (ок. 2600— 332 гг. до н.э.),
Ассирии (ок. 1300—612 гг. до н.э.), Вавилона (ок. 1900—641 гг. до н.э.) и
такие небольшие государственные образования, как Аккад (III тыс.1 до н.э.);
царства и империи кочевых народов — гиксосов (1720—1567 гг. до н.э.),
хеттов (ок. 1600—1500 гг. до н.э.), монголов (II тыс. н.э.); ранние
объединения германских и славянских племен в Европе (I тыс. н.э.) с их
относительно рыхлой организацией; более централизованные государства
Индии и Юго-Восточной Азии (I тыс. до н.э. и I тыс. н.э.), а в некоторой
степени также государства Центральной Америки (II тыс. н.э.). Тип
обособленных изменений может быть выявлен и в других традиционных
политических режимах, таких, как города-государства и полуплеменные или
племенные объединения древнего Средиземноморья, древнего Ближнего и
Среднего Востока, Индийского субконтинента, Юго-Восточной Азии и
Центральной Америки.
Как установили Г. и Дж. Ленски, таким политическим системам были
свойственны различные уровни технического развития. Тип обособленных
изменений может также объединять, как указывали Т. Парсонс и Р. Белла,
общества, находящиеся на различных стадиях структурной, экономической
или социетальной дифференциации. Так, например, среди патримониальных
режимов обнаруживается тенденция к сохранению низкого уровня
дифференциации в политической области.
К рассматриваемому типу обособленных изменений меньше вceгo подходят
те положения о характере перехода от одной стадии социального развития к
другой, которые приняты в различных эволюционистских школах вообще и в
теориях революций в частности. Два других типа изменений, которые могут
быть установлены в традиционных обществах, больше соответствуют
эволюционистским положениям.
Тип совмещающихся изменений характеризуется относительно высокой
совместимостью между направлениями изменений в различных
основополагающих
нормах
социального
взаимодействия,
между
тенденциями
к
изменению
состава
общностей
и
структуры
институциональных сфер макросоциального порядка. Здесь же отмечается
сильная тенденция к внутреннему переустройству самой политической
системы; отчетливо заметны конвергенция и интеграция различных
движений протеста и политической борьбы. Кроме того, изменения
происходят при гораздо более высоком уровне осознания задач политической
борьбы и большей самостоятельности в ее организации.
Совмещающиеся изменения развиваются прежде всего в имперских системах
— таких, как Древний Рим (31 г. до н.э. — 527 г. н.э.), эллинистические
государства (323-30 гг. до н.э.), Китай (ок. I тыс. до н.э. — 1911 г. н.э.),
Византия (324—16533 гг.), Российская империя (1721—1917 гг.), халифат
Аббасидов (720—1258 гг.), Османская империя (1451-1788 гг.). Они
характерны также для абсолютистских режимов Европы начала Нового
времени. Кроме того, изменения подобного типа происходят в тех формах
соединения имперских элементов с феодальными, главные примеры которого
можно обнаружить в Западной и Центральной Европе средних веков и до
некоторой степени в Японии.
Третий тип изменений формируется, с одной стороны, в особых городахгосударствах, наиболее значительные из которых были в Древней Греции, и
Рим, а с другой — в особых объединениях племен, таких, как древний
Израиль и некоторые из ранних мусульманских государств. Для этого типа
— типа особых (exceptional) изменений характерна очень высокая степень
совместимости между движениями протеста и политической борьбой и,
самое главное, высокая степень символизации и идеологической
разработанности вопросов политической борьбы. В этом плане
рассматриваемый тип имеет сходство с типом совмещающихся изменений,
господствовавшим в имперских и имперско-феодальных режимах. Однако
для типа особых изменений в этих обществах не были характерными
параллельные изменения в главных институциональных сферах.
Теперь мы приступим к подробному анализу этих трех типов изменений.
Нашим отправным пунктом в каждой части будет отношение между
кардинальными изменениями в политической области и политических
режимах, с одной стороны, и изменениями в остальных институциональных
сферах — с другой.
2. Тип обособленных изменений.
Патримониальные общества, племенные объединения и режимы городовгосударств.
Более или менее радикальные изменения в патримониальных4 и племенных
обществах, а также в городах-государствах были в большинстве случаев
обусловлены сочетанием внутренних и внешних факторов. В самых крайних
случаях, например, при завоеваниях, роль внешних факторов, конечно,
оказывалась решающей. Все же и в этом случае давление извне обычно
обостряло уже имевшие место внутренние, межэлитные и межгрупповые,
конфликты. Таким образом, происходившее падение режима нельзя отнести
только на счет одной разновидности факторов.
Радикальные изменения в этих политических режимах обычно выражались в
том, что менялись держатели власти или династии, происходили перемены в
положении различных семей, этнических или региональных групп в системе
иерархии. Изменялись границы политической системы; конкретное
содержание символов легитимности; ориентации в политическом курсе
правителей (принуждение, манипулирование или солидаризм). Несмотря на
то что при этих условиях часто возникали новые политические и
экономические группы, появление новых типов религиозных институтов и
ориентации оставалось редким явлением. А вновь сформировавшиеся
социальные слои не получали возможности непосредственно воздействовать
на центр. Более того, эти группы не обнаруживали тенденции к
формированию отчетливого коллективного самосознания и большей частью
включались правителями в существовавшие или вновь возникавшие
политические системы. Главное заключалось в том, что не возникало
необходимости в изменении принципов доступа к политической власти. Если
это и происходило, то исключительно в результате перемен в политике
правителей.
Следовательно, в большинстве примеров обособленных изменений
трансформируются основополагающие нормы, структуририрующие границы
политического образования; иногда это происходит вместе с
преобразованиями в принципах справедливого распределения, реже
сопровождается переосмыслением природы институциональных сфер, а
также изменениями в конкретных институциональных механизмах
основополагающих норм.
Таким образом, эти общества в относительно высокой степени
демонстрируют несоответствие между изменениями в политических режимах
и образованиях, их переустройством, с одной стороны, и, с другой —
изменениями в основных границах или символах иных типов образований
(национальных, этнических, религиозных), а также иных институциональных
сфер.
Относительную слабость связи между компонентами макросоциального
порядка можно обнаружить, даже когда изменения в политической области
достигают уровня, обусловливающего далеко идущие последствия:
ликвидация данного режима; его подчинение или включение в другой режим
(либо как составной части, либо как анклава); обособление существующей
политической общности вследствие иммиграции или колонизации или даже
трансформация политической общности (в имперскую или феодальную
систему либо в подразделение или анклав такой системы). Подобные крайние
изменения в политических режимах или границах не всегда сопровождались
переменами в границах или символах этнических и религиозных
образований, а также в границах либо структурных принципах
экономических и культурных институтов.
Нет необходимости говорить, что в каждой конкретной ситуации эти области
потенциальных изменений, безусловно, воздействовали одна на другую. Но
каждое образование стремилось к сохранению отчетливых границ, и их
преемственность поддерживалась существованием уникальной коалиции.
Поэтому смена правления или изменение в одном образовании могли не
затронуть другие области и коллективы.
Хорошо известно, что в недифференцированных патримониальных или
племенных обществах и в городах-государствах, таких, которые
существовали на древнем Ближнем Востоке или в древней Индии, смена
правления могла означать исчезновение целого народа, заодно с его особой
религией. Но в более сложно устроенных обществах существовал потенциал
для большей автономии и обособленности экономической области. Это
относилось также к этническим, национальным, культурным и религиозным
образованиям и институтам, а кроме того, к области социальной
стратификации. Особенно большой была возможность обособления
различных сфер там, где поддерживались тесные связи с высокой
цивилизацией, подобной индуизму либо буддизму или, в гораздо меньшей
степени, исламу. Вместе с тем локальные подразделения (семейные,
этнические,
религиозные
или
культурные
образования)
могли
интегрироваться в новые политические режимы, не утрачивая при этом своей
собственной идентичности.
Однако эти недифференцированные режимы патримониальных и племенных
образований
и
городов-государств
благоприятствовали
развитию
относительно широких экономических систем, основанных на торговле
между государствами, и даже формированию сельскохозяйственного рынка,
который распространялся за пределы политических границ и продолжал
существовать, несмотря на крушение политических режимов. Конечно,
многие отрасли экономической деятельности (особенно в небольших
патримониальных образованиях) были заключены в рамки относительно
ограниченного рынка (ограниченного в том смысле, что он оказывался более
узким, чем границы политического режима) или, как это происходило в
городах-государствах, рынка, находившегося за пределами политического
режима. Тем не менее динамика изменений этих более дифференцированных
политических систем весьма благоприятствовала функционированию как
относительно широких областей экономической деятельности и
экономических институтов, так и международных рынков со своими
собственными
границами;
существованию
экономически
дифференцированных и специализированных анклавов. Напротив,
радикальные изменения в технике или экономической деятельности и в
формировании экономических институтов, хотя нередко способствовали
косвенно возникновению специфических политических кризисов, не всегда
сопровождались изменением политической структуры.
Только режимы, сформировавшиеся в феодальных или имперских системах,
отличались отчетливой совмещаемостью между изменениями в
политических режимах и изменениями в других компонентах
макросоциального порядка; наиболее заметно смена личностей,
династические
и
территориальные
изменения
соотносились
с
формированием новых структурных принципов или культурных ориентации.
Но такой поворот в развитии происходил, как мы увидим дальше, только при
особом сочетании факторов.
3. Слабая совмещаемость движений протеста и идеологического обоснования
политической борьбы при обособленных изменениях.
Для типа обособленных изменений был наиболее характерен низкий уровень
совмещаемости, а иначе говоря, высокий уровень обособленности среди
движений протеста и конфликтов. Сопутствующим обстоятельством
оказывалось то, что этому типу соответствовал низкий уровень
идеологического обоснования политических целей и политической
деятельности.
Нет необходимости говорить, что эти признаки могли усиливать друг друга.
Крупное восстание часто ослабляло правителей, в результате между
вожаками восстаний и центральными элитами формировались коалиции ad
hoc5. Образовывались также коалиции между различными религиозными
группами, сектами, движениями инакомыслия и вожаками восстаний, с
одной стороны, и представителям центральных элит — с другой. Однако
режимы патримониальных и племенных общностей и городов-государств
демонстрировали исключительно слабую тенденцию к организационному
или символическому слиянию этих различных видов деятельности или
образований, а также к выдвижению общих долгосрочных программ или
новых видов институциональной деятельности (особенно тех, что ведут к
радикальному изменению принципов доступа к власти).
В целом движения протеста, политическая борьба и религиозные секты, так
же как образцы институциональных нововведений, действовали каждый сам
по себе. Некоторые восстания просто иссякали; какие-то движения
приводили к возникновению в обществе новых — второстепенных или
маргинальных — групп. Наиболее сильные из этих вновь образованных
групп изменяли соотношение сил между центральными группами, а
некоторые, как мы увидим, превращались в важные структурные анклавы.
Но, повторим, они редко выдвигали новые концепции социального порядка
или
осуществляли
реорганизацию
институциональных
структур;
исключительно редко они оказывали прямое воздействие на процесс
переустройства политических центров. Самое большое, такие движения
протеста могли заставить правителей вносить какие-либо перемены в свою
политику.
Тесная связь, между тенденциями обособленности и относительно низким
уровнем идеологического обоснования политических целей сама по себе
находит выражение прежде всего в характере преобладающих в этих
обществах органов и механизмов политической борьбы. Наиболее важным
механизмом оказывались прямые соглашения между различными группами.
Действительно, ведущими участниками политической борьбы в данных
обществах были прямые представители основных групп в центре и на
периферии (например, родственных, территориальных и религиозных групп);
среди них действовала тенденция к организации группировок,
соперничающих за доступ к центру (обычно его представлял дом правителя).
Между
группировками
возникали
постоянно
изменявшиеся
и
пересекавшиеся связи, образовывались коалиции. Главным механизмом
политической борьбы со стороны как аристократических, так и
периферийных групп были ходатайства и давление на политический центр в
целях кооптирования новых элементов и/или изменения его состава. От
центра требовали изменить характер распределения различных ресурсов
среди важнейших групп, а также расширить рамки клиентелы и
патронирования.
Обособленности движений протеста, восстаний и политической борьбы, так
же как низкому уровню обоснования политических целей, сопутствовал
низкий уровень идеологического осмысления тем протеста и политической
борьбы вокруг центра. Сколь ни многочисленными могли быть восстания,
они редко выдвигали социальные или политические цели, которые шли бы
дальше непосредственных социально-экономических требований. Лишь
изредка движения протеста содержали сильные утопические или
трансцендентные
элементы,
ориентированные
на
политическую
деятельность. Какие бы утопические ориентации они ни формировали, их
устремления ограничивались либо «тысячелетним царством» (милленниум),
либо укреплением солидарности существующих естественных общностей.
Новые политические ориентации вообще не получали отчетливого
выражения, а ориентированные на нововведения религиозные или
политические лидеры не участвовали в таких восстаниях.
Характерный для режимов этих патримониальных и племенных общностей и
городов-государств образец политической борьбы был тесно связан с
природой коалиций, осуществлявших основные изменения в политической
области. Эти коалиции состояли из членов правившей в центре семьи
совместно
с
представителями
территориальных
групп
и
институционализованных религиозных групп. Лидеры более крупных
общностей участвовали в них только пассивно. Исключительно необычным
явлением становилось участие в них деятелей религиозного обновления,
организаторов экономической сферы или лидеров социально активных
групп.
Политическая деятельность центров в рассмотренных нами обществах точно
так же большей частью не приводила к радикальным преобразованиям —
изменениям в символической области или в идеологических основах
легитимизации социополитического порядка. Хорошо известно, что центры
этих обществ часто меняли конкретное содержание символов своей
легитимности. Новые режимы либо приспосабливали к себе эти символы,
либо усваивали их; однако такие политические изменения не
воспринимались как новая символическая концепция политического порядка
или его легитимизации.
Серьезные символические нововведения действительно имели место, как
случилось в большинстве высоких цивилизаций (об этом свидетельствуют
примеры индуизма и буддизма); но относились они к потустороннему миру.
Еще раз подчеркнем, что такие нововведения редко были обращены на
преобразование социополитического порядка и, как правило, ограничивались
относительно обособленными социальными анклавами.
Точно так же именно в относительно обособленных анклавах зычно
осуществлялось внутреннее переустройство экономических и религиозных
сфер. Некоторые из наиболее серьезных изменений в режимах
патримониальных и племенных общностей и городов-государств затрагивали
фактически характер этих анклавов и их границы. Такие изменения, однако,
лишь в незначительной степени перестраивали отношения между анклавами
и политическими центрами.
Присущий режимам патримониальных и племенных образований и городамгосударствам тип обособленных изменений заключал в себе множество
разновидностей. Они различались по уровню технического развития или
структурной дифференциации, по соотношению сил главных участников
политической борьбы (правитель со своей потенциально более широкой
политической группой; группы традиционной аристократии; другие, более
подвижные религиозные объединения или городские группы), по
воздействию внешних факторов на центры и восприимчивости последних к
таким факторам. Хотя эти различия могли существенно повлиять на остроту
политической борьбы и темп изменений в политических режимах, сам тип
обособленных изменений оставался в целом неизменным. В то же время,
однако, существовали значительные и чреватые серьезными последствиями
различия в фактическом ходе изменений.
Важнее всего были различия, подразделявшие эти политические режимы на
те, что оставались интегрированными в сравнительно архаические локальные
системы и культуры, и те, что оказывались связанными с высокими
цивилизациями (прежде всего с потусторонне-ориентированными религиями,
подобными индуизму, буддизму, и до некоторой степени сюда можно
отнести зороастризм). На древнем Ближнем Востоке формирование
институтов и структурирование коллективов оказывались связанными в
некоторых своих аспектах с изменениями в религиозной или культурной
области, но не со структурированием политической области. Мы вернемся к
анализу этих различий в главе 5
4. Конфликты и противоречия при обособленных изменениях.
Предыдущий анализ можно переформулировать в понятиях, определяющих
способы, которыми структурируются противоречия и конфликты в режимах
патримониальных и племенных образований и городов-государств. Нет
никакой неизбежности в том, чтобы различные межгрупповые конфликты
возникали вокруг одних и тех же основополагающих норм и системных
противоречий. Точно так же можно утверждать, что обострение конфликтов
и противоречий, относившихся к тем или иным основополагающим нормам и
характеристикам макросоциального порядка, хотя и затрагивало другие
области, однако без того, чтобы угрожать непосредственно их
существованию — прежде всего это касается сохранения политического
центра. Следовательно, способность этих обществ к преобразованию не
проявлялась в формировании новых структурных принципов, которые бы
объединяли все институциональные сферы. Скорее можно заключить, что
эти принципы действовали в отдельных областях или влияли на способ
интегрирования в общество обособленных ячеек, на рост их числа и,
вероятно, на их ориентацию.
5. Тип совмещающихся изменений.
Имперские и имперско-феодальные общества.
Обратимся теперь ко второму основному типу изменений, которые могут
быть установлены в традиционных обществах и которые, как отмечалось
выше, можно обнаружить в имперских и имперско-феодальных обществах.
Этот тип отличается более высокой совместимостью между отдельными
характеристиками изменений, преобразованием различных исходных
основополагающих норм социального взаимодействия, а также перестройкой
важнейших коллективов и институциональных областей. (Особенно
существенным было совпадение между изменениями в политической
области, с одной стороны, и изменениями в остальных институциональных
областях — с другой.)
Наиболее общей формой изменений здесь были династические, которые мало
отличались от типичного способа перемен в патримониальных режимах и
зачастую были связаны с уточнением границ политической общности.
Иногда такие изменения приводили к уничтожению политической системы
без одновременного изчезновения этнических, религиозных или
региональных общностей или религиозных, культурных, экономических
институциональных комплексов. (Так, например, случилось с Византийской
империей.) Все-таки наряду с этим в имперских и имперско-феодальных
обществах формировался образец изменений, которые затрагивали
макросоциальный порядок в его целостности.
Как отмечалось выше, политические процессы в этих цивилизациях были
связаны с внутренним структурированием политической системы самой по
себе и особенно принципов доступа к власти. Так, династические перемены
часто были связаны с обновлениями в составе политических элит, а также со
сдвигами в политической организации и в способности к самовыражению
более широких слоев, в воздействии этих социальных слоев на политическую
систему центра и ее структурные принципы.
Более конкретно смена правителя или династии в имперских и имперскофеодальных
системах
часто
сопровождалась
изменениями
в
административном, политическом или министерском персонале и
изменениями в относительном преобладании групп на политической сцене
— во многих случаях даже узурпацией политической власти и процесса
принятия решений, например, военными группами. Более того (и это имеет
особое значение с точки зрения нашего рассмотрения), такие перемены часто
сопровождались изменениями в отношениях между группами (особенно
между центральными элитами и более широкими социальными группами и
слоями). Менялись принципы иерархии и распределения власти в обществе.
Часто такие сдвиги сопровождались возникновением новых групп и слоев,
основанием для которых не было семейное либо региональное
происхождение, что обусловливало далеко идущие изменения в принципах
структурной организации подобных групп.
Итак, тип совмещающихся изменений означает восхождение или падение
профессиональных, культурных и религиозных элит и институтов; сдвиги в
соотношении сил между монархом и аристократией и между аристократией и
городскими группами или свободным крестьянством, а также сдвиги в
степени влияния и независимости чиновничества. Для типа совмещающихся
изменений характерны, кроме того, сдвиги в принципах политического
самовыражения и в доступе к центру, ведущие к расширению или сужению
автономного доступа различных групп к центру и друг к другу. Религиозные
и идеологические изменения означали не только то, что менялось положение
различных религиозных групп по отношению к центру. Наряду с ним
происходило переустройство сферы символов политической власти и
легитимизации, а также, как уже упоминалось, менялись структура
социальных групп и их доступ к власти. Наконец, политические изменения,
свойственные этому типу, имеют тенденцию сопровождаться и усиливаться
изменениями в размерах рынков и в организации экономической
деятельности, в масштабах и способах экономического производства и
распределения — прежде всего, сдвигами в способе сельскохозяйственного
производства и его ориентации на различные рынки.
Как мы видим, имперским и имперско-феодальным системам была присуща
более тесная связь в динамике отдельных изменений и переустройстве
различных компонентов макросоциального порядка, чем это характерно для
рассмотренных выше режимов патримониальных и племенных образований
и городов-государств.
Хорошо известно, что в имперских системах фактические границы
этнических, религиозных, культурных и политических образований, а до
некоторой степени и различные институциональные сферы имели тенденцию
не совпадать. Действительно, многие из связанных с этими системами
«больших» традиций выжили по преимуществу в религиозных институтах:
например, после падения Византийской империи — в Греческой
православной церкви. Но, за известным исключением ислама (этот пример
мы рассмотрим позже), такие разновидности «большой» традиции
обнаруживали в соответствующих условиях склонность утратить свою жизненную силу.
В то же время этнические, региональные и национальные образования или
религиозные секты, пережившие конец имперской системы, к которой они
принадлежали, оказывались более жизнеспособными. Тем не менее степень
их самовыражения и организованности была гораздо более слабой, если мы
сопоставим эти образования с группами, которые находились в сходном
положении
по
отношению
к
рассмотренным
выше
режимам
патримониальных и племенных общностей и городов-государств.
Сходная картина возникает, если рассматривать отношения между
экономическими системами и политическими границами империй. Конечно,
экономические организаторы, а особенно торговцы и промышленники, имели
множество внешних связей и вели операции по обслуживанию иностранных
рынков. Все же, в отличие от организаторов в патримониальных и
племенных образованиях и городах-государствах, они были склонны в
гораздо большей степени действовать на территории империи.
Наконец, характер выражения систем социальной иерархии, так же как
статусного сознания, в очень большой мере зависел от рамок имперской
территории.
Следовательно, изменения в масштабах и структурных принципах
экономических систем или формировании социальных слоев могли более
непосредственно воздействовать на политические центры, в то время как
радикальные изменения в политических режимах затрагивали самое
функционирование экономических институтов и структурирование систем
социальной иерархии.
6. Совмещаемость движений протеста и идеологического обоснования
политической борьбы в имперских и имперско-феодальных обществах.
Имперские и имперско-феодальные системы обнаруживали тенденцию к
высокому уровню идеологического обоснования политической борьбы, а
также к более тесной связи такой борьбы с повстанческими движениями и
движениями протеста.
Относительно высокий уровень идеологического обоснования и организации
политического процесса обнаруживался в появлении политических лидеров
или организаторов, которые пытались сформулировать ценности или
выразить интересы отдельной социальной группы либо слоя. Часто сами
правители, их представители или члены правящей элиты исполняли такие
лидерские роли. В названных обществах лидеры стремились получить
поддержку среди различных групп и слоев, сотрудничали с различными
элитами и функциональными группами, использовали разнообразные
свободно
перемещавшиеся
ресурсы,
чтобы,
найдя
надлежащие
организационные рамки и каналы, укрепить свою власть. Ради достижения
этой цели предпринимались самые разные усилия.
Политические лидеры 1) формировали социальные и политические
организации, отличавшиеся различной степенью самовыражения; 2)
добивались политического влияния, преобладания в политических
институтах; 3) искали поддержку у культурных, профессиональных и
религиозных групп и элит; 4) вырабатывали новые символы социальной и
политической идентификации; 5) выступали в качестве представителей
определенных ценностей; 6) пересматривали отношение между «большой» и
«малой» традициями общества; 7) в сотрудничестве с различными группами
или элитами либо путем давления на них учреждали упорядочивающие,
интегрирующие организации и институты, к которым могли обращаться
различные группы и слои общества для урегулирования своих конфликтов.
В большинстве имперских и имперско-феодальных режимов существовали
автономные политические организации (они были подобны политическим
партиям с рыхлой организацией), которые отличались большей
дифференцированностью, чем группировки, преобладавшие в режимах
патримониальных и племенных общностей и городов-государств.
Высокий уровень идеологического обоснования политической деятельности
способствовал совмещению основных типов протеста — восстаний и ересей,
а также этих движений с институтообразующей деятельностью элит второго
плана, прежде всего в экономической и культурной областях, наконец, всех
подобных движений с политическими процессами в центрах. И такие
ситуационные (ad hoc) коалиции могли превратиться в постоянные
структуры.
Помимо этих ситуационных формирований, существовала тенденция к
организационному и символическому слиянию различных движений
протеста, а возникавшие образования, в свою очередь, создавали новые
символические и институциональные образцы. Главными в таких случаях
были ориентации и деятельность этих движений, направленные на изменение
основополагающих норм социального взаимодействия. Имеются в виду
критерии принадлежности к коллективам; принципы справедливого
распределения и доступа к власти; определение смысла социальной
деятельности и, самое важное, отношение между этими желаемыми
изменениями и господствующими в обществе нормами доступа к власти.
Тенденция к организационному и символическому слиянию различных
движений протеста была тесно связана с высоким уровнем идеологического
обоснования политической борьбы. Обоснование заключалось в том, что
политическая борьба в этих обществах выявляла те или иные задачи,
связанные с нововведениями в структуре различных основополагающих
норм социального взаимодействия. Одна из таких задач относилась к
распределению экономических ресурсов (особенно земли и кредитов) среди
различных групп в обществе. Решение этой задачи могло выливаться в
борьбу вокруг основных принципов экономической регуляции всей жизни
общности, а также вокруг содержания и формы участия в деятельности
центра и в политической жизни сообщества — того, что на современном
политическом жаргоне называют объемом (scope) политического равенства.
7. Конфликты и противоречия в имперских и имперско-феодальных
обществах.
Перейдем теперь в нашем анализе имперских и имперско-феодальных
обществ к характеристике присущих этим обществам конфликтов и
противоречий (как мы сделали раньше по отношению к режимам
патримониальных и племенных общностей и городов-государств).
В отличие от конфликтов, свойственных этим последним, межгрупповые и
межэлитные конфликты в обществах, отличающихся типом совмещающихся
изменений, обнаруживают тенденцию к конвергенции вокруг нескольких
основополагающих норм социального взаимодействия.
Разумеется, как и в любом традиционном обществе, тенденции к
совмещению различных движений протеста встречали отпор со стороны
правящей элиты. Попытки ослабить эти тенденции и изолировать движения
протеста, особенно отделить их от формирования институтов и
политического процесса, большей частью оказывались успешными. Поэтому
совмещение таких движений было поистине редким явлением. Однако, если
оно все же имело место, неизбежно происходили, в полной
противоположности первому типу изменений, или частичная трансформация
режима, или его ликвидация.
Перейдем теперь к последнему по порядку пункту. Степень совмещения
никоим образом не была одинаковой среди различных имперских и
имперско-феодальных обществ. Китайская империя отличалась сравнительно
низкой конвергенцией между изменениями в политической и экономической
областях; точно так же политические изменения не сопровождались
изменениями в структурировании различных слоев. Римская и Османская
империи в течение длительного времени были в состоянии контролировать и
разобщать движения протеста. Еще более своеобразные сочетания изменений
формировались в мусульманском мире и в Европе. Мы проанализируем эти
варианты в главе 5.
8. Изменения в особых городах-государствах и племенных объединениях.
Особый вариант изменений был присущ городам-государствам Древней
Греции и Риму, а самые значительные исключения среди племенных
объединений возникли на Ближнем Востоке — наиболее известным
примером был Израиль, позднее особый пример изменения явил
мусульманский мир. Мы используем термин «особый» (exceptional),
поскольку эти общества демонстрировали очень высокую степень
совмещения движений протеста и политической борьбы вместе с высокой
степенью символизации и идеологического обоснования политической
борьбы. В том и другом плане данный тип изменений мог порой
превосходить даже тип совмещающихся изменений.
В некоторых исключительных случаях не только формировались особые
черты политической борьбы, которые мы выявили в имперских и имперскофеодальных системах (например, требование широкомасштабного
распределения ресурсов), но также возникал конфликт вокруг оснований
социоэкономической структуры общности. Кроме того, таким обществам
была известна борьба за общие формы и принципы участия в деятельности
центра и за расширение рамок участия различных социальных групп в
политической жизни общности. Очень часто эти виды борьбы имели связь с
глубоко укорененными социальными конфликтами и движениями, которые
добивались реорганизации важнейших аспектов социального порядка; иначе
говоря, здесь выявлялись черты, сходные с классической революционной
борьбой.
Племенные объединения особого типа выдвинули новое определение
политической ответственности и участия в политической жизни. Важнейшее
значение в этом определении придавалось тому, какое место занимает
политическая власть по отношению к социальному и религиознокосмическому порядку. Подчеркивая решающее значение последнего, такое
определение
указывало
на
ответственность
правителей
перед
представителями подлинного, космического порядка.
Города-государства особого типа предложили новый образец политической
символики,
предельным
выражением
которой
служила
идея
гражданственности. Сердцевиной этой концепции были принципы полного и
равного участия индивидов, освобожденных от уз групповой
принадлежности к естественным общностям, в деятельности политического
органа сообщества и постулат об индивидуальной политической или
юридической ответственности. Эта концепция предполагала также
ответственность правителей перед управляемыми.
Идея широкого участия в политическом и/или культурном порядке и
концепция гражданственности формировались в Греции и Риме в различных
направлениях. Рим сосредоточился на разработке категории законности и
правовых институтах, а также на возможности расширения идеи
гражданственности за пределы первоначальных границ города-государства.
Это направление стало отправным пунктом для преобразования системы.
Греческая
концепция
оказалась
неспособной
в
правовом
и
институциональном плане преодолеть границы города-государства.
По очевидному контрасту с имперскими и имперско-феодальными
системами особые города-государства и племенные объединения не
проявили большой склонности к созданию институтов или к преобразованию
политической системы, к соединению изменений в политических режимах с
изменениями в других областях макросоциального порядка.
Развертывавшийся в этих обществах процесс борьбы лишь изредка приводил
к успешному в долгосрочной перспективе переустройству институтов.
Обострение политической борьбы часто вело к распаду городов-государств
или племенных объединений. Могло также происходить либо (как в случае
Рима и раннего царства Соломона) их преобразование в более
централизованные полуимперские или имперские режимы, либо (как в
случае греческих городов-государств) их включение в другой политический
режим.
Следует заметить, что падение политического режима далеко не всегда
означало одновременное упразднение границ и символов культурного и
социального порядков или прекращение существования других базовых
институциональных комплексов, прежде всего экономических.
Часть 2. ФОРМИРОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ИЗМЕНЕНИЙ
1. Введение.
В первой части этой главы мы установили в общих чертах, что чем теснее
связь между различными движениями протеста и политической борьбой в
центре, тем выше степень совмещения изменений и тенденций к перестройке
компонентов макросоциального порядка в единое целое и тем теснее связь
этих движений и процессов с институциональными нововведениями. Мы
отметили также некоторые варианты этих образцов и некоторые исключения
из них. Как объяснить эти макрообразцы изменений, эти варианты и эти
исключения?
Общий для социологии упор на организационные аспекты социальной жизни
(общественное разделение труда, структурную дифференциацию, классовые
отношения) представляется совершенно несоответствующим решению этой
задачи. Более предпочтительно построить объяснение, исходя из некоторого
комбинирования культурных ориентации и структурных признаков,
воплощающихся в сходных уровнях хозяйственного развития и структурной
дифференциации или классообразования, а также на основании тех аспектов
институциональной структуры обществ, которые наиболее тесно связаны с
основополагающими нормами социального взаимодействия, а именно,
отношениями в центрах и между центрами и периферией,
структурированием систем социальной иерархии и важнейших коллективов.
2. Структура центров. Отношения между центром и периферией и
формирование социальных слоев в имперских и имперско-феодальных
режимах. Структурирование коллективов
В имперских (а в значительной степени и в имперско-феодальных)
обществах утверждался высокий уровень выделенного центра, который
воспринимался как особое в символическом и организационном планах
образование. В этих обществах центры, как правило, стремились не только
извлекать ресурсы из периферии, но и проникнуть в нее, перестроить ее
духовно-символические принципы, а организационно — мобилизовать ее для
своих целей. Вместе с тем существовала возможность и для воздействия хотя
бы какой-то части периферии на центр (или центры).
Политические, а в какой-то мере и культурно-религиозные центры во всех
этих империях воспринимались как автономные, самодостаточные очаги
харизматических элементов социополити-ческого, а часто также культурнокосмического порядка, насколько тот был связан с социальным порядком.
Политические, религиозные и культурные центры составляли средоточие и
местонахождение той или иной «большой» традиции, и именно здесь
«большая» традиция получала наиболее полное развитие как в духовносимволическом, так и в организационном плане, что отделяло ее от
локальных традиций.
Обособление, специализация и кристаллизация центров, особенно
политических центров, как независимых, структурно и символически особых
единиц наиболее зримо раскрывалась в таких своих внешних проявлениях,
как храмы и дворцы (хотя подобные монументы центральности можно
обнаружить и в патримониальных режимах). Особенность и автономность
имперских центров наиболее очевидным образом сказались в уникальности
их символического и институционального устроения. В структурном плане
автономность и особенность центров проявлялись в их отделении от
социальных ячеек периферии, в их способности сформировать и утвердить
свою собственную специфическую символику, свои критерии формирования
институтов и отбора кадров.
Структурная и символическая автономность центров четко определяла
отношения с периферией, обеспечивая проникновение центра в периферию и
допуская гораздо более слабое воздействие периферии на центр.
В большинстве этих империй сформировались представления, что
существующий в центрах и охватывающий периферию социополитический и
культурный порядок отличен от локальных традиций. Однако особенность
центра оформлялась таким образом, что более широкие группы и слои,
представлявшие периферию, могли иметь хотя бы символический доступ к
центру. Такой доступ большей частью зависел от преодоления социальной и
культурной закрытости и самодостаточности периферии, а также от
формирования в ней активных ориентации на поддерживаемый центром
социальный и культурный порядок.
Центр оказывал влияние на периферию через развитие средств
коммуникации, а также мерами, направленными на ослабление
аскриптивных связей периферийных групп. Эти средства коммуникации
акцентировали одновременно символическую и структурную обособленность
центра.
Соответственно центры имперских (и имперско-феодальных) обществ
стремились развивать разнообразную деятельность, тесно связанную с
осуществлением основополагающих норм социального взаимодействия. Они
поддерживали символику коллективной идентичности, формулировали
коллективные цели и нормы справедливого распределения, регулировали
межгрупповые конфликты и соотносили все эти функции с
господствовавшими в обществе критериями доступа к власти.
Эта тенденция к регулированию межгрупповых отношений была тесно
связана со структурой главных рынков в имперских обществах. Рынки
отличались относительно крупными размерами, возможностью широкого
доступа к ним и относительно свободным перемещением ресурсов — в
первую очередь экономических, но также и политических (поддержка или
влияние). Вместе с тем центры стремились контролировать доступ к этим
рынкам, а также перемещение ресурсов между ними, подчеркивая таким
способом свою исключительную роль как единственного стража традиций и
особенно оплота легитимности в этих обществах. Вследствие этого
воздействие периферии на центр неизбежно было более слабым, чем
проникновение центра в периферию. Тем не менее последняя тенденция
могла усиливаться (хотя и в различной степени) благодаря множественности
центров и многообразию общностей (этнических, религиозных и
политических), а также благодаря очень крупным размерам имперских
рынков.
Структурирование систем социальной иерархии и образование слоев в
имперских и имперско-феодальных обществах происходили в соответствии с
особенностями отношений между центром и периферией6. Растущая
противоположность между центром и периферией, с одной стороны, и
множественность автономных центров — с другой, способствовали
возникновению нового правящего класса и особых профессиональных групп,
которые могли составить основу иерархического устройства общества. Но
более серьезное значение, чем такие различия в групповых основаниях
систем социальной иерархии, имели некоторые символические и
организационные характеристики. В первую очередь следует выделить
тенденцию к тому, чтобы границы социальных слоев, как в имперских, так и
в имперско-феодальных системах, соответствовали границам политических
образований (а в имперско-феодальной системе, кроме того, границам крупных культурных образований, например — европейско-христиан-ского
комплекса). По контрасту с патримониальными обществами центральные
политические образования и их символы обеспечивали статус наиболее
активных и могущественных слоев.
Наконец, имперские общества вообще допускали относительную
автономность
самовыражения
слоев
и
относительно
широкое
распространение образцов статусной или классовой идентичности,
отличающихся от тех, что преобладали в политической и до некоторой
степени культурной сферах, но связанных с ними.
Общие черты структурирования систем социальной иерархии и образования
слоев в имперских и имперско-феодальных обществах нашли конкретное
выражение: 1) в существовании слоев, обладавших автономным доступом к
социальным и культурным ролям, которые служили основой определения
статуса, а также автономным доступом к центрам общества; 2) в развитии
тенденций (особенно среди более автономных или центральных слоев) к статусному объединению относительно расчлененных профессиональных групп,
даже если они не были крупными; 3) в относительно высокой степени (опятьтаки особенно заметно в более автономных или центральных слоях)
сформированности общего для слоя в масштабах всей страны сознания и в
ослаблении значения этнических, религиозных или региональных элементов;
4) в движении к политическому выражению сознания отдельных слоев.
Соединение политических предпосылок и характеристик имперских систем с
культурными ориентациями, преобладавшими в традициях, с которыми они
были связаны, оказывало сильное воздействие на отношения между
различными коллективами и институциональными комплексами в этих
обществах. Во-первых, в большой степени развивалась идеологическая
символика основных религиозных, политических и даже этнических или
национальных общностей. Во-вторых, хотя фактически каждая общность
была расположена к достижению максимальной автономии и сохранению
собственных границ, все тяготели к идеалу совмещае-мости друг с другом. В
то же время каждая общность (исключая мусульманский мир, который мы
рассмотрим в главе 5) могла служить референтной группой для любой
другой общности. Так, принадлежность к Византийской империи
подразумевала приверженность к эллинским традициям и наоборот. Эти
взаимные ориентации переплетались в первую очередь вокруг центров. Втретьих, идеал совмещаемости способствовал реализации стремлений
расположить различные общности в иерархическом порядке, и этот порядок
становился фокусом борьбы между ними или их представителями.
Самовыражение основных общностей и организация связи между ними
входили в обязанности политических и экономических элит, а также
идеологов моделей культурного порядка и коллективной солидарности.
Именно эти элиты воздействовали в равной степени и на центры, и на
периферию, формировали движения протеста, политическую деятельность и
борьбу в имперских обществах. И любая из этих элит (идеологи
солидарности коллективов и культурных моделей, политические
организаторы) могла инициировать те или иные изменения.
3. Культурные ориентации имперских и имперско-феодальных обществ.
Имперским и имперско-феодальным системам были присущи кроме того,
некоторые господствующие культурные ориентации или ценностносмысловые коды. Большинство этих империй, за частичным исключением
Римской и эллинистических государств, формировались в тесной связи с
великими цивилизациями или «большими» традициями. Отметим, например,
китайское соединение конфуцианства, даосизма и буддизма, христианскую
традицию в ее разновидностях или традицию ислама. Большинство этих
великих традиций возникли приблизительно в I тыс. до нашего времени (в
так называемое «осевое время*) — эпоху еврейских пророков, греческих
философов, Иисуса Христа и апостолов, эпоху Конфуция, систематизаторов
традиции брахманизма, Будды7.
Эти традиции или цивилизации были представлены в деятельности особых
групп и воплощались в особых культурных принципах. В рамках этих
цивилизационных традиций формировались универсалистские ориентации,
которые в принципе (хотя нередко, как, например, в Китае, — только в
принципе) выходили за этнические, региональные и политические рамки.
Всем цивилизационным традициям были свойственны некоторые
фундаментальные культурные установки.
Во-первых, в каждой из указанных традиций проводилось резкое
разграничение между космическим (религиозным) и мирским порядками,
хотя и признавались их взаимная соотнесенность и взаимодействие. Вовторых, большое значение придавалось трансцендентности космического
порядка и необходимости сближения или наведения мостов между сферой
трансцендентного и мирским порядком. (Этот пункт применим даже к
китайской кониепции космического порядка, несмотря на тот факт, что в
конфуцианской системе не существовало трансцендентного Бога.) В-третьих,
требовался высокий уровень приверженности как к космическому, так и к
социальному порядку. В-четвертых, подчеркивалась возможность для
социальных групп занять самостоятельную позицию по отношению к
культурным и социальным порядкам. В-пятых, и это самое важное при
нашем рассмотрении, определенная разновидность посюсторонней
деятельности в политической, военной, культурной (особенно это было
характерно для европейской цивилизации) и экономической областях
выделялась в качестве способа, позволяющего сблизить трансцендентнокосмический и земной порядки или, если использовать терминологию М.
Вебера, обрести спасение.
Итак, для всех традиций в имперских и имперско-феодальных обществах
было характерно в той или иной степени подчеркивание напряженности
между космическим и посюсторонним миром. Точно так же больше или
меньше признавалось значение посюсторонней деятельности для
преодоления этой напряженности.
Нет необходимости говорить, что в имперских обществах существовало и
заметное различие культурных ориентации. Позднее мы более подробно
проанализируем эти различия и сопоставим их с различиями между
рассмотренными раньше типами изменений.
4. Структура центров, отношения центра и периферии и формирование
социальных слоев в патримониальных режимах. Структурирование
коллективов.
Патримониальным режимам, в противоположность имперским и имперскофеодальным обществам, были свойственны лишь небольшие символические
или организационные отличия между центром и периферией. Те отличия, что
существовали, отражали пространственные и демографические особенности,
например, более значительную плотность населения в центре. Относительно
низкий уровень дифференциации между центром и периферией проявлялся
наиболее отчетливо в природе связей между центром и периферией; эти
связи не способствовали фундаментальным структурным изменениям ни на
периферии, ни в центре.
Центр воздействовал на локальные (сельские, городские или племенные)
общности главным образом тем, что внедрял законность, обеспечивал мир,
собирал налоги и поддерживал с общностями культурные и/или религиозные
связи. За очень незначительными исключениями, большинство этих задач
решались при посредстве существовавших локальных образований и
субцентров (семейных, территориальных и/или ритуальных). В этих
обществах не предпринималось каких-либо попыток создать структурные каналы, которые бы подрывали, как это было в имперских системах,
господствующие социальные и культурные принципы или центра, или
периферии. Наиболее очевидным образом это сказывалось, может быть, в
правовой деятельности. Патримониальные правители были озабочены
обеспечением уголовного и административного права и особыми
религиозными
законоположениями,
но
пренебрегали
развитием
гражданского и договорного права. В этих областях центр стремился
поддерживать местные установления, а не вводить юридические и
политические положения и ориентации, которые были бы действительными
для всего общества.
Концепция, которой придерживался центр в большинстве патримониальных
обществ, подчеркивала его роль как хранителя стабильного социального и
космического порядка, вверяла ему обеспечение неизменности этого
порядка, а также благополучия и целостности общества. Этой концепции
следовали центральные элиты в своей практической деятельности и
политических принципах.
Таким образом, значительный упор был сделан на регулировании
межгрупповых отношений в соответствии с господствовавшими критериями
справедливости, на утверждении форм приспособления к внешней и
внутренней среде и на символизации существующего порядка. Этот упор
нашел свое наиболее полное выражение в принципах политики, проводимой
патримониальными правителями. Центральные элиты стремилась, вопервых, обеспечить монополию на символическое означивание прямых
отношений между космическим и социальным порядками, особенно
постольку, поскольку символы этих порядков были связаны с политической
организацией. Во-вторых, они стремились непосредственно контролировать
внешние отношения общества или, по крайней мере, контролировать
внешние отношения составных частей общества. Наконец, эти элиты
сосредоточивались на обеспечении составляющих общество групп и слоев
возможностями приспособления к внутренней среде, особенно для
осуществления посредничества в конфликтах и миротворчества, с одной стороны, и для накопления, получения, доставки и распределения ресурсов — с
другой.
Среди этих предписывающих и регулирующих типов политики особое
значение приобретали те, что были нацелены на накопление в центрах
надлежащих ресурсов и монополию в распределении прибавочного продукта
во всем обществе. По мере того как правители патримониальных режимов
переходили к более активной экономической политике, она приобретала все
более экспансионистский характер, по определению Б. Хозелица. Иначе
говоря, она была направлена на распространение контроля на более
обширную территорию, и лишь в меньшей мере ее допустимо назвать
интериоризаторской, т.е. ориентированной на использование возможностей,
которые сулила интенсивная эксплуатация закрепленной ресурсной базы.
Можно добавить, что в категориях К. Поланьи оба эти варианта политики
отнесены к редистрибутивному типу8.
Центральные элиты стремились поддерживать контроль за землей, прибегая
или к открытому утверждению права собственности на нее, в результате чего
крестьянские семьи превращались в арендаторов, или/и к установлению
учета и контроля за перемещением земли, которой владели родственные и
другие локальные образования. Напротив, для централизованных имперских
систем часто была характерна политика, направленная на ослабление
позиций аристократии в результате поддержки слоя относительно
свободного крестьянства.
Для патримониальных элит второстепенное значение имели: формирование
символов новой общей идентичности в области политики и культуры,
утверждение политических целей автономных коллективов, развитие новых
типов межгрупповых отношений и схем регулирования таких отношений.
Между тем в имперских и имперско-феодальных системах, а также в особых
городах-государствах такие функции были жизненно важными.
Типичные формы взаимоотношений между центром и периферией в
патримониальных режимах сильно повлияли на представления о
соотношении политических границ с границами культурными, социальными
или этническими. За частичным исключением (как мы увидим) некоторых
буддийских обществ, здесь не возникало сильного упора на идеологических
признаках принадлежности к различным общностям или на необходимости
слияния этих границ в единую территориальную систему вокруг
единственного очага или центра. Поэтому символическая привязанность к
границам и к территории оказывалась относительно слабой. Сколь бы
энергичные попытки ни предпринимали правители, чтобы утвердить
границы своих владений, такие границы очень редко воспринимались в
категориях культурной идентичности различных общностей.
В патримониальных обществах и центр, и периферия могли
идентифицировать себя с множеством авторитетов (points of reference), с
разнообразными культурными и этническими символами, с несколькими
большими традициями, каждая из которых имела свои территориальные
пределы. Региональные, семейные или иные группы обладали различными
очагами территориальной идентичности, часто разделяя свою привязанность
между различными культурными или религиозными центрами либо
перемещая ее с одного территориального пункта или центра к другому.
С этими особенностями отношений между центром и периферией в
патримониальных обществах был тесно связан характер присущих
последним систем иерархии и стратификации9. В общем, типичным
явлением были относительная слабость независимых социальных слоев с
промежуточным статусом и преобладание в подобных слоях представителей
бюрократии. (Высшие слои состояли первоначально из олигархических
групп.)
Центры стремились установить контроль над макросоциальными критериями
и символами квалификации, хотя допускали и даже способствовали тому,
чтобы составляющие общество группы и слои утверждали свои автономные
модели с обособленными критериями статусов. Требовалось лишь, чтобы эти
модели и статусные критерии не воздействовали на макросоциальный
уровень. Центры также побуждали или принуждали эти коллективы к отказу
от попыток обратить свои ресурсы, особенно престиж, в средства,
обеспечивающие их участие в более крупных социальных образованиях.
Вследствие выделения таких обособленных статусных групп, а также из-за
желания центра контролировать доступ к макросоциальным критериям и
статусным символам (особенно к тем, что могли облегчить доступ к центру),
возникала, с одной стороны, тенденция к формированию многочисленных
тщательно разработанных систем ранговой иерархии, которые часто были
связаны с дифференцированным доступом различных групп к центру. С
другой стороны, несмотря на существование разработанной системы
ранговой иерархии в центре или субцентре, а возможно, и благодаря ее
наличию, не возникали предпосылки для формирования таких слоев, которые
бы обладали сознанием своей особой идентичности, общей для всей страны.
Вместо этого структурной основой становились мелкие территориальные,
профессиональные или локальные группы, которые в качестве статусных
подразделений отличались сильным стремлением к поддержанию статусной
замкнутости; однако им отнюдь не было свойственно стремление к
выработке автономных политических ориентации.
Итак, стратификация и формирование слоев в патримониальных обществах
отличались узкими рамками статусного сознания, слабым развитием
самоорганизации или самосознания слоя, которые бы распространялись на
все общество. Кроме того, существовала очень сильная тенденция к
обособлению мелких семейных, территориальных, этнических и
политических групп. Центральное положение в системе стратификации
занимала семья; большое значение придавалось достаточно специфическим
стилям жизни, которые имели распространение только в отдельных секторах
общества.
Статусное обособление могло быть основано на самовосприятии данной
группы как наделенной особым социальным положением и поддерживающей
особые локальные, семейные или профессиональные традиции и стили
жизни, которые могли быть определены аскриптивной идентификацией и
чаще всего исключительно локальными статусными рамками. В другом
варианте оно могло быть основано на обладании особыми ресурсами.
Наконец, сочетание слабой структурной дифференцированности между
центром и периферией, высокой степени статусной обособленности и
относительно низкого уровня символического самовыражения социетальных
компонентов было связано с недостаточной вьщеленностью и
автономностью элит второго плана. Последние стремились укорениться в
аскриптивных группах; большей частью они не обладали символической и
организационной автономией; не было у них автономного доступа к центру и
автономных связей между собой.
5. Формы включения социальных подразделений в патримониальных
режимах.
Правители патримониальных обществ выработали также особые формы
включения социальных образований, структурно отличавшихся от тех, что
преобладали в данных обществах. Мы уже отметили большое значение,
которое имели в этих обществах структурные анклавы — экономические или
религиозные. Правящие элиты были по-настоящему озабочены включением
в свой состав таких анклавов, если те представляли высоко активные и
специализированные экономические группы, которые могли содействовать в
извлечении и накоплении ресурсов, или же обособленные религиозные
образования с более трансцендентными ориентациями, способные придать
центрам особое великолепие.
Однако такое включение имело привлекательность для правящих элит
патримониальных обществ лишь в том случае, если анклав занимал
стороннее положение по отношению к структурному ядру общества и
постольку, поскольку эти образования не воздействовали на структурное
устройство остального общества и особенно на отношения между центром и
периферией. Это обстоятельство объясняет сильную предрасположенность
патримониальных режимов к допущению того, чтобы какая-либо этнически
чуждая группа, которую можно было бы изолировать в большей степени, чем
коренные элементы, занималась структурно более дифференцированной
деятельностью в экономической или религиозной области. Попытки
подобной изоляции весьма отличались от тех, что предпринимались в
склонных к жесткому контролю имперских системах. В последних центр
стремился контролировать включение составляющих общество групп в
широкие рамки институциональных структур и рынков. Правители
патримониальных
систем
старались
прежде
всего
утвердить
пространственную изолированность этих секторов, поощряя тенденцию к
формированию системы относительно закрытых и узких рынков.
6. Культурные ориентации, господствовавшие в патримониальных режимах.
В большинстве патримониальных режимов культурные ориентации
отличались от тех, что были характерны для имперских и имперскофеодальных обществ.
Во-первых, в патримониальных режимах обычно не признавалось
существование напряженности между высшим трансцендентным порядком и
порядком социальным. Если такого рода напряженность и составляла
важный принцип в собственно религиозной сфере, то отсутствовали какиелибо
представления
о
преодолении
противоположности
между
трансцендентным и социальным порядками посредством мирской,
посюсторонней деятельности (политической, экономической или научной),
направленной на изменение или преобразование социального и
политического порядка.
Во-вторых, существовал сильный упор на предустановленность рамок
участия всех социальных групп в формировании социополитического
порядка — насколько такая деятельность вообще была возможна в
традиционных системах. Составляющие эти общества группы и элиты редко
рассматривали себя в качестве субъектов, выполняющих активную роль в
устроении этих порядков. Напротив, они обращались к магии и ритуалу,
чтобы способствовать сохранению уже существующего устройства общества.
В-третьих, в патримониальных обществах было слабо развито чувство
принадлежности к социальному и культурному макропорядку. Этот порядок
воспринимался как нечто такое, чем следует овладеть или к чему необходимо
приспособиться; но, как представлялось тем, кто участвовал или был
охвачен, от них не требовалось высокого уровня приверженности к нему.
В-четвертых, и это прямо связано с предыдущим, у составляющих общество
групп и слоев существовало мало возможностей воздействовать на основные
принципы социополитического порядка. Обычно такое воздействие
осуществлялось при посредничестве агентов аскриптивных групп и
специалистов по ритуалу, назначенных центром или субцентрами и
представляющих данный порядок.
Подобно имперским системам, патримониальные режимы — особенно те,
что были связаны с высокими цивилизациями, подобно буддийской и
индуистской, — демонстрировали различные образцы изменений. Дальше
мы более обстоятельно рассмотрим эти различия.
7. Структура центров. Отношения между центром и периферией, формы
конфликтов, противоречий и преобразовательные потенции в имперских и
патримониальных системах.
Предшествующий анализ позволяет более четко объяснить различие
направлений, в которых развивались конфликты и противоречия в
патримониальных и имперских режимах. Как мы уже отметили,
межгрупповые конфликты в патримониальных обществах не замыкались на
одних и тех же основополагающих нормах и системных противоречиях. Эти
конфликты, затрагивая те или иные основополагающие нормы или
характеристики макросоциального порядка, в отношении остальных могли
ограничиться косвенным воздействием, и, самое главное, они не обязательно
воздействовали непосредственно на критерии доступа к власти и на
политический центр. Между тем в имперских режимах существовала
тенденция сведения межгрупповых и межэлитных конфликтов к тем или
иным основополагающим нормам социального взаимодействия; и связанные
с этими конфликтами институциональные противоречия глубоко
воздействовали на другие основополагающие нормы или характеристики
макросоциального порядка. Подобное различие в структурировании
конфликтов и противоречий можно объяснить, исходя из специфики
отношений между центром и периферией в этих двух типах общества.
Преемственность режимов патримониальных и племенных общностей и
городов-государств, при характерных для них отношениях центра и
периферии, в немалой степени поддерживалась балансом между
составлявшими их структурными и территориальными группами. Резкое
усиление власти какой-либо из этих групп — возможность чего была
обусловлена самой природой и внешнего окружения, и внутреннего процесса
политической борьбы — легко могло нарушить этот баланс.
Такие нарушения могли произойти из-за обострения противоречий, которые
были свойственны этим режимам. Расколы порождались региональными и
религиозными привязанностями; конфликтами между периферийными
слоями (особенно между городским и сельским секторами) или (и это было
самое серьезное) конфликтами и расхождениями среди элитных групп,
наиболее близких к центру либо наиболее активных в нем.
Конкретная форма этих расколов в тех или иных патримониальных режимах
значительно различалась; их острота в данной системе зависела от той
степени, в какой они затрагивали конкретные связи между изолированными
секторами общества.
Постольку, поскольку связи между секторами общества или уровень их
самовыражения не претерпевали изменений, сохранялись и основные
параметры патримониальных режимов. Только там, где сложившиеся
могущественные группы организовывались в соответствии с ориентациями и
структурными принципами, явно отличавшимися от тех, что были присущи
патримониальному режиму, и где эти группы создавали новые типы связей
между собой, только там порождавшиеся указанными противоречиями
изменения вели к возникновению новых, непатримониальных систем.
Такое развитие событий было наиболее вероятным в тех режимах, для
которых была характерна большая разнородность составляющих частей — и
особенно там, где существовали относительно сильные, независимые
политические либо религиозные группы, и элиты, способные стать очагом
для новых харизматических ориентации и создания новых центров, с одной
стороны, и/или торговые и промышленные группы или свободные
крестьянские общности, которые могли обеспечить возникновение более
разнообразных ресурсов, — с другой. Такие факторы форсировали
преобразование патримониальных систем в имперские или имперскофеодальные режимы.
Поэтому способности большинства этих систем к преобразованию наиболее
очевидно проявлялись не в формировании новых структурных принципов,
охватывавших все институциональные сферы, а скорее в направленности
изменений в обособленных элементах структуры; в умножении таких
элементов, а вероятно, и в перемене их ориентации (но не в изменении
основных принципов, поддерживавших обособленность элементов
общества).
В имперских системах конфликты сосредоточивались вокруг центральной
оси отношений между центром и периферией: а именно, вокруг насыщения
свободными ресурсами относительно широких рынков этих обществ и
способности правителей контролировать доступ к этим рынкам.
Насыщенность ресурсами и способность правителей контролировать их
легко могли быть подорваны изменениями в обществе. Главными факторами,
порождавшими процессы изменений в империях, были: 1) постоянная
потребность правителей в различных типах ресурсов и особенно их
зависимость от некоторых конвертируемых ресурсов; 2) стремление
правителей утвердить свои властные позиции, как в плане традиционной
легитимности, так и эффективного политического контроля над
относительно свободными силами общества (значит, над теми, что не были
полностью связаны аскриптивными узами); 3) большая чувствительность
внутренних структур этих обществ к внешнему давлению, к политическим
событиям и экономическому развитию в международной сфере; 4)
постоянные потребности правителей в мобилизации некоторых ресурсов,
чтобы решать проблемы, порождаемые развитием событий в международных
(военной, дипломатической и экономической) сферах; 5) формирование
автономных ориентации и целей среди основных слоев и выработка их
особых требований к правителям.
Однако
между
перечисленными
факторами
возникали
сильные
противоречия, особенно потому, что правители выдвигали крайне
обременительные цели, истощавшие экономические и человеческие ресурсы;
в конечном счете, им приходилось сталкиваться с несколькими
фундаментальными дилеммами. В подобных ситуациях особенно
проявлялась уязвимость политической системы и возникали силы, способные
подорвать хрупкий баланс между политическим участием и апатией, от
которого зависела преемственность существования системы. Это означало,
что склонность правителей к поддержанию активного контроля над
различными слоями общества могла возобладать, а, следовательно, серьезно
подорвать влияние относительно свободных слоев и увеличить могущество
традиционных сил. Такая тенденция могла реализоваться в нескольких
формах: в отказе иметь детей, или демографической апатии, как его часто
называют; ослаблении более независимых экономических элементов и их
подчинении консервативным аристократическо-патримониальным или
феодальным элементам; истощении или бегстве капиталов.
Если конфликты и отмеченная политика их подавления не доходили до
крайности, результатом могли быть взаимоприемлемые изменения в
существующих институтах, — например, перемена династии с
сбответствующими изменениями в административном, политическом и
правительственном персонале. Если они доходили до крайности, то могла
произойти трансформация основных принципов режима, в первую очередь
необратимые изменения в социальной структуре. Перемены такого рода
проявлялись в возникновении новых групп, в изменении соотношения сил и
степени преобладания официально признанных групп, в изменении
внутренней структуры, состава, силы и соотношения основных групп и
слоев, в реорганизации системы символов политического режима или в
возникновении новых уровней политического самовыражения и новых форм
доступа этих групп и элит к политическому центру. Там, где обострение
конфликта достигало максимума, система могла либо трансформироваться то
ли в современный, то ли в патримониальный режим, либо прекратить свое
существование.
Конечно, имперские и патримониальные режимы сильно различались между
собой как по степени развития внутри них процессов изменений, так и по
направлению этих изменений. В главе 5 мы постараемся систематическим
образом проанализировать некоторые из этих различий.
8. Структура центров. Отношения между центром и периферией и
формирование социальных слоев в особых городах-государствах и
племенных объединениях.
Отношения между центром и периферией и структура социальной иерархии
в
большинстве
городов-государств
и
племенных
объединениях
соответствовали патримониальной модели. Подобно последней, в обществах
данного типа не допускалось заметных различий между центром и
периферией в символическом и структурном плане, не было между ними
серьезного взаимопроникновения и взаимовоздействия, поддерживалась
высокая степень статусной обособленности при относительно низком уровне
самосознания отдельных слоев общества. Не возникало тех культурных
ориентации, что сопутствовали дифференциации центра и периферии.
Но в греческих городах-государствах, в Риме и некоторых племенных
объединениях Ближнего Востока, прежде всего в Израиле и мусульманском
мире, характер отношений между центром и периферией заметно отличался.
В этих особых обществах отношения между центром и периферией
характеризовались возраставшей символической и структурной (но не
организационной) дифференциацией и взаимным воздействием центра и
периферии друг на друга. В конечном счете, в этом плане обнаруживалось
больше сходства с имперскими режимами.
Тем не менее структурная дифференциация между центром и периферией в
обеих разновидностях особых обществ (племенных объединениях и городахгосударствах) не была вполне институционализована в соответствующих
постоянных рамках. Своеобразие относилось прежде всего, как мы увидим
дальше, к размерам общества и его внутренних рынков.
Отсутствие полной институционализации центров в особых городахгосударствах проявлялось в том, что, хотя центральные символы общества и
органы, занимавшиеся внутренними и внешними проблемами общности,
были отличны от периферийных, большинство членов (граждан) сообщества
могли принимать участвие в деятельности центра. Даже если многие группы
пользовались только ограниченным правом участия, такие ограничения были
сходными с теми исключениями, что существовали на периферии.
Наиболее важным структурным последствием, к которому приводило это
сочетание структурной и символической выделенности центров, с одной
стороны, и совпадение состава членов в центре и периферии — с другой,
было относительно слабое развитие особого правящего класса и
специализированных элит второго плана как автономного социального
образования, отличного от руководства различных социальных групп и
подразделений.
В особых племенных объединениях в качестве центров служили
религиозные, племенные или меняющиеся политические очаги; но эти
центры только изредка были полностью институционализованными. Полная
институционализация зачастую реализовывалась в преобразовании особых
племенных
объединений
в
патримониальные,
феодальные
или
эмбрионально-имперские режимы. Большинство этих центров представляли
собой структурные анклавы в племенных рамках; очень часто это были
недолговечные образования, но тем не менее иногда они становились ядром
новых, более дифференцированных социальных и культурных ориентации и
организаций.
В отличие от городов-государств, эти особые племенные объединения не
превращались в относительно консолидированные, хотя и сильно
дифференцированные сообщества с развитым разделением труда. В отличие
от патримониальных систем, эти режимы не формировали единой
административной и политической системы для решения задач, общих для
множества структурных ячеек. Поэтому степень зависимости этих ячеек от
общего центра была гораздо меньшей. Центры стремились подчеркнуть (хотя
и несистематически) общность символов этих ячеек и их отношений с внешним миром и/или только в меньшей степени регулировали отношения
между основными группами общества.
Во всех своих разновидностях эти центры всегда состояли из двух
структурных элементов, которые редко мирно сосуществовали или сливались
в более или менее однородное социальное образование. Первый такой
элемент включал представителей различных племенных или родовых ячеек.
Второй составляли особые группы элиты. Эти особые группы в своей основе
могли быть, подобно левитам Израиля или полукастам торговцев и
скобянщиков в Аравии, родственными или территориальными ячейками.
Из этих различных элементов центра лишь в зародышевом виде
формировался отличавшийся своим единством правящий класс, не
создавалось возможностей и для формирования других специализированных
элит с ясным пониманием отношений центра и периферии. Среди правящих
групп существовали постоянные противоречия и конфликты, которые заодно
с другими особенностями племенных систем сдерживали процесс
институционального выделения центров. Среди различных элементов, из
которых состояли центры, обычно формировались отчетливые представления
о природе и функциях центров в отношении других групп общества. С одной
стороны, это было представление о том, что центр осуществляет некоторые
предустановленные функции (большей частью подразумевались ритуальные,
в лучшем случае это были функции политического посредничества) для
составных частей объединения и управляет всецело в интересах этих
составляющих. С такой точки зрения центры олицетворяли простое
распространение концепций центральности, которых придерживались эти
ячейки, и расширение их ритуальной и политической деятельности. С другой
стороны, центры иногда формировали концепцию социополитического и
космического порядков, которая выходила за пределы тех, что были у
составляющих ячеек. Наконец, в более разнородных центрах часто возникали
новые типы харизматических ориентации, которые обычно вытекали из
нового определения природы космического и социополитического порядков
и из отношения между ними и которые, как правило, выдвигались
ритуальными специалистами, религиозными или политическими элитами.
9. Культурные ориентации особых городов-государств и племенных
объединений.
Сколь бы слабой ни была институциональная выделенность центра в особых
городах-государствах и племенных объединениях, эта выделенность
оказывалась, как и в имперских и имперско-феодальных обществах, связана с
особыми разновидностями культурных ориентации и политических
символов.
Политическая символика в особых городах-государствах была основана на
нескольких важнейших положениях. Первым и, вероятно, самым
значительным было признание автономности морального порядка, его
отличия от племенного или социального. Такое представление сочеталось со
стремлением к интегрированию этих порядков через автономию индивида.
Признавалась также возможность возникновения противоречий и конфликта
между моральным и социальными порядками, что получило выражение в
моральном протесте автономного индивида, который живописала греческая
трагедия. Вместе с тем стремление к социальному интегрированию
основывалось на сознании полной тождественности социального и
политического порядков и на положении о всеобъемлющем участии граждан
в политике. Это сознание обычно доходило до признания за всеми
гражданами возможности представлять самое общность и ее центр.
В более диверсифицированных в культурном и социальном отношении
городах-государствах именно распространение этих ориентации становилось
прологом крушения некоторых структурных и символических ограничений
традиционалистского характера. Это можно было обнаружить в том факте,
что у периферии возникала возможность участвовать в формировании
центра. Само содержание социокультурного порядка больше не
рассматривалось как данное, и признавалась возможность сознательных
изменений.
Хотя только в немногих городах-государствах началось разрушение
традиции, изменения, которые здесь происходили, были сходными с теми,
что ассоциируются с цивилизацией Нового времени. Но, в отличие от
имперских и имперско-феодальных обществ и вследствие присущих
городам-государствам институциональных ограничений (с которыми мы
будем иметь дело дальше), в большинстве случаев господствовавшие в
особых городах-государствах и племенных обществах культурные
ориентации не приводили к возникновению институциональных форм,
позитивно ориентированных на изменения.
В особых объединениях племен происходило аналогичное развитие в
символической области. Во-первых, росло осознание разделенности между
мирским и космическим порядками, представление о космическом порядке
становилось более рационалистическим, и все сильнее делался упор на его
трансцендентности. Соответственно мифологическое время уступало место
более историческому чувству времени. Во-вторых, заново определялась
природа отношений между этим новым типом космического порядка и
социально-политическим порядком. Новое определение подчеркивало
необходимость оценки социального порядка в категориях трансцендентной
модели, а это означало, что политические власти становятся ответственными
перед представителями трансцендентного порядка.
Ход этих изменений порождал две различные тенденции. Вновь
возникающая политическая элита могла попытаться контролировать или
монополизировать символику нового космического порядка и функции его
представительства. Такая тенденция имела следствием движение режима в
имперском или имперско-феодальном направлении. Второй и гораздо более
мощной тенденцией был переход от прежних племенных принципов
широкого политического участия к новому космическому порядку, что
большей частью происходило вопреки притязаниям политической элиты.
При переосмыслении космического порядка символы политического участия
преобразовывались в более универсалистскую схему.
В этом случае представители прежнего, собственно племенного строя
(племенные старейшины и главы племенных подразделений) или выразители
нового символического порядка (священники и особенно пророки)
осознавали себя не политической элитой, а носителями нового космического
порядка в его политико-социальных значениях. Каждая из этих групп претендовала на ту или иную разновидность символического и даже
структурного преобладания в политической области над другой и особенно
над какой бы то ни было новой политической элитой, которая формировалась
в новых центрах. Таким образом, возникали новые противоречия, и они не
могли (по причинам, которые мы охарактеризуем в главе 5) найти
разрешение в институциональных рамках прежних объединений.
Часть 3. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ.
1. Культурные ориентации и их символическая разработанность. Структура
институтов и типы изменений.
Проделанный в предыдущих частях анализ указывает на самую тесную связь
между степенью выделенности центра, отношениями центра и периферии,
принципами иерархии и типами культурных ориентации, с одной стороны, а
с другой — на связь процессов институтообразования с актами протеста,
уровнями самовыражения и идеологизации политической борьбы в центре и
совмещаемостью изменений в компонентах макросоциального порядка.
Мы видели, что тенденция к соединению движений протеста, их
самовыражению и совмещаемости с борьбой в центре оказывалась сильнее в
обществах,
отличавшихся
символической
и
институциональной
обособленностью центра и периферии, относительно широкими и
автономными ориентациями слоев и многочисленностью элит второго плана.
Таким обществам был также присущ культурный порядок, который допускал
большую напряженность между трансцендентным и мирским, относительно
сильную посюстороннюю ориентацию в разрешении этой напряженности и/
или большую приверженность к социальному и культурному порядкам,
которые не принимаются как заранее установленные.
Напротив, тенденции к относительному обособлению повстанческих
движений, инакомыслия, институтообразования от протеста и борьбы в
политической сфере, отсутствие единообразия в ритме и направлении
процессов изменений и переустройстве компонентов макросоциального
порядка были наиболее выражены в обществах, которым были присущи
относительно слабая символическая и институциональная обособленность
центра и периферии; сильная расположенность к узкой статусной ассоциации
и низкая степень автономии элит второго плана. Кроме того, для таких
обществ был характерен либо низкий уровень обособленности и
напряженности между трансцендентным и мирским, либо высокий уровень
их обособленности в сочетании, однако, с упором на потустороннее
разрешение напряженности между ними. Типичным также можно считать
низкий уровень приверженности в этих обществах к социополитическому и
даже культурному порядку вместе с тенденцией принять их как
предустановленные.
Итак, более пристальный взгляд на представленные выше материалы
обнаруживает тесную связь между некоторыми аспектами или типами
культурных ориентации, с одной стороны, и важнейшими принципами
структурирования институтов заодно с элементами системного характера
конфликтов — с другой. Наибольшее значение имела связь с теми
принципами, что не даны в организационном разделении труда, но которые
близки к основополагающим нормам социального взаимодействия и их
главным институциональным механизмам (иначе говоря, к отношениям
центр—периферия, формированию систем социальной иерархии и
стратификации, а также к относительно широким институциональным, а не
просто техническим или пространственным размерам рынков).
Как нам оценить эту корреляцию? Хорошей отправной точкой для
объяснения связи между культурными ориентациями, отношениями центра и
периферии, структурами социальной иерархии, с одной стороны, и
движениями и процессами изменений — с другой, является обоснованное
выше предположение о том, что символическая разработанность
фундаментальных проблем человеческого существования развивается
параллельно символическому и институциональному выделению важнейших
аспектов социального порядка.
Высокая степень символической разработанности фактов человеческого
существования, явлений природы, социальной жизни означает, что эти факты
не рассматриваются как предустановленный порядок, но становятся
предметом критического рассмотрения в той либо иной их трактовке.
Это определение родственно определению рационализации, данному К.
Герцем, который охарактеризовал последнюю как «тенденцию ставить
коренные проблемы главных символических сфер в плане растущей
абстрактности их формулирования, растущей логической абстрактности,
растущей логической четкости и обобщающей фразеологии»10.
Для придания проблематичности фактам человеческого существования нет
необходимости формулировать их в рациональных понятиях; достаточно
представить эти факты, например, в мистической или эстетической форме.
Культурные ориентации или коды различаются по тому, в какой степени они
считают условия человеческого существования раз и навсегда
установленными и соответственно признают или оспаривают их. Такая
идентификация приобретает особенно критический характер там, где
существуют восприятие напряженности между трансцендентным и мирским
порядками, высокая степень привязанности к социополитическому порядку,
когда тот не признается раз и навсегда установленным и существует упор
скорее на посюстороннее, чем потустороннее разрешение напряженности
между трансцендентным и мирским.
Представленные в этой главе материалы показывают, что чем выше степень
символической разработанности проблем человеческого существования, тем
сильнее также символическая разработанность важнейших аспектов
социального порядка (иначе говоря, тех аспектов институциональной
структуры, которые, как упоминалось выше, не являются неизбежным
следствием разделения труда). В обществах, где преобладают такого рода
культурные ориентации, формируется более высокий уровень обособления
центра и символической разработанности отношений между центром и
периферией. Здесь складывается сложная система социальной иерархии и
стратификации; относительно широкие в институциональном плане рынки.
Эти общества демонстрируют высокий уровень символического
самовыражения коллективной деятельности вообще и восстаний в частности,
а также сильный идеологический компонент в политической борьбе. Иначе
говоря, подобные виды деятельности и организации формулируются в
широких символических категориях, и они обнаруживают высокую степень
связей между собой и воздействия на центры общества.
Особое значение с точки зрения нашего анализа имеет то обстоятельство, что
чем больше символическая разработанность проблем человеческого
существования и компонентов социальной структуры, тем сильнее будут
развиваться, при прочих равных условиях, тенденции к совмещаемости
различных типов восстаний, инакомыслия и политической борьбы, так же
как будет отчетливей синхронизация ритмов и однонаправленность
изменений во всех институциональных областях.
2. Состав и автономость институциональных организаторов и элит.
Культурные ориентации. Структура институтов. Типы и направления
изменений.
Нам еще предстоит объяснить соотношение между символической
разработанностью фактов человеческого существования и различными
типами изменений. С этой целью необходимо выявить действующие
социальные механизмы и агентов-носителей ориентации на изменения в
институциональных сферах. Такими субъектами были прежде всего
институциональные организаторы и элиты. Самыми важными среди них
оказались функционально многообразные — политические, экономические,
религиозные и культурные организаторы, столь часто упоминаемые в
социологической литературе; к ним нужно прибавить идеологов моделей
культурного порядка и солидарности основных аскриптивных общностей
(которые могли развиваться, а могли и не развиваться вместе с различными
типами элит).
Столь же большое значение имели главные институциональные системы
(регулятивная, правовая и коммуникативная), в которых эти группы
занимались своей деятельностью в качестве организаторов или идеологов.
Среди институциональных организаторов и идеологов выделялись, с одной
стороны, наиболее активные носители господствовавших культурных
ориентации, а с другой, как мы отметили в главе 2, агенты, которые
проявляли
наибольшую
активность
в
утверждении
и
защите
основополагающих норм социального взаимодействия и соответствующих
институтов. Они выполняли свою роль, используя разнообразные средства:
контроль над целями, которые выдвигались теми или иными группами и
категориями людей; контроль над доступом различных групп к важнейшим
рынкам; конвертирование их ресурсов на различных рынках; установление
системы общественных благ и общественного распределения частных благ.
Деятельность указанных организаторов формировала институциональные
(как отличающиеся от пространственных или технических) рамки
важнейших рынков общества; доступ этих элит и других коллективов друг к
другу и к социальным институтам; сущностные аспекты институциональной
структуры, а также давала обоснование различным коллективным действиям
вообще и движениям протеста, восстаниям и политической борьбе в
особенности.
Находившиеся на одном уровне развития техники и организационной
дифференциации общества различались в этих конкретных параметрах.
Решающее значение приобретала здесь специфика элит, особенно их
многообразие, символическая и институциональная дифференцированность,
их автономность, и соответствующая автономия институциональных,
профессиональных, юридических и коммуникативных рамок, в которых эти
элиты защищали культурный и социальный порядок и прежде всего
основополагающие нормы социального взаимодействия.
Институциональная автономия таких элит не совпадала со специализацией и
дифференциацией в плане общественного разделения труда, а скорее
соотносилась
с
автономным
символическим
определением
и
институциональными основами их области и вида деятельности.
Противоположностью подобной автономии не обязательно было отсутствие
у элит специализированных функций, но скорее их укорененность в крупных
аскриптивных общностях или системах либо других институциональных
сферах и их привязанность к символам этих коллективов и институтов.
Именно состав специализированных элит и автономность их
организаторской деятельности имели решающее значение в обеспечении
связи между культурными ориентациями и институциональной структурой.
С одной стороны, эта автономность сильно зависела от типов символической
ориентации, созданных культурными кодами и осуществленных этими
элитами. С другой стороны, степень символической и институциональной
автономности этих элит (см. также главу 5) сильно влияла как на способ,
посредством которого они осуществляли свои основные регулятивные
функции и организацию коллективной деятельности, так и на важнейшие
аспекты институциональной структуры.
Помимо степени автономности институциональных организаторов и
структуры институтов, решающее воздействие на процессы изменений
оказывали размеры высвободившихся ресурсов и масштабы деятельности,
неукорененной в аскриптивных коллективах. В связи с этим следует
отметить также значение, которое имели размеры институциональных
рынков (включая денежный рынок, рынок престижа и власти), границы
которых пересекали крупные аскриптивные общности, вместе со степенью
свободного перемещения этих ресурсов между наиболее важными
институциональными рынками общества.
В общем, там, где в культурных кодах находит выражение высокая степень
символической разработанности проблем человеческого существования,
следует ожидать сильную тенденцию к формированию автономных элит и
систем. И чем больше автономность институциональных организаторов, тем
шире оказываются институциональные размеры рынков, больше будет
свободных ресурсов на них и тем свободнее происходит перемещение таких
ресурсов между рынками.
При таких условиях усиливается контроль со стороны автономных элит над
процессами перемещения ресурсов крупных групп на различных рынках и
над их самостоятельным доступом к рынкам. Под усиливающимся контролем
оказывается также возможность организации относительно осознанным и
автономным способом коллективных действий вообще, восстаний и
политической борьбы в особенности. Усиливая свой контроль, автономные
элиты стремятся, кроме того, воспрепятствовать самостоятельному доступу
аскриптивных коллективов и элит друг к другу, их самостоятельным связям и
их общему сближению с центрами.
Напротив, чем меньше степень символической разработанности
институциональных областей, тем уже размеры рынков и меньше свободных
ресурсов; тем сильнее их укорененность в аскриптивных коллективах; тем
больше ограничений для перемещения свободных ресурсов между ними и
меньше степень, в какой эти элиты самостоятельно организуют
коллективные действия.
Автономность институциональных организаторов и связей меж ними
воздействует на структурирование развивающихся в обществе системных
противоречий и, соответственно, на степень совместимости изменений и
преемственность в компонентах макросоциального порядка. Чем больше их
автономия и более развиты связи между ними (особенно важно, когда эти
связи имеют отношение к решению общих задач), тем больше
совмещаемость изменений в переустройстве различных компонентов или
характеристик макросоциального порядка. Напротив, чем слабее связи между
институциальными организаторами, тем более рассеяны институциональные
точки основополагающих норм социального взаимодействия и ктемных
противоречий и тем меньше совмещаемость изменений в многообразных
характеристиках макросоциального порядка.
Соотношение между культурными ориентациями, структурами рынков и
структурным положением институциональных организаторов, с одной
стороны, и процессами изменений — с другой, оказывается трояким. Вопервых, критическое размышление относительно фактов человеческого
существования и принципов социальной организации порождает
возможности для формирования альтернативных концепций социального,
политического или культурного порядка, которые могут переворачивать
существующее устройство и даже выходить за его пределы. Во-вторых,
символическая разработанность сущностных аспектов социальной
организации может создавать потенциально свободные для перемещения
ресурсы, иначе говоря, источники или виды деятельности, не являющиеся
вполне укорененными ни организационно, ни символически в существующих (прежде всего аскриптивных) ячейках, что открывает
возможность использования этих ресурсов в других сферах. В-третьих,
организаторы, обладающие большей автономностью, могут приводить в
действие альтернативные концепции социального порядка и служить
агентами в организации или мобилизации вновь высвобожденных ресурсов,
соединяя ресурсы и действия в различных областях и направляя их на
решение новых задач.
Итак, именно структура этих элит — особенно их автономность и
автономность систем, в которых они действуют, — представляет ключевое
звено в организационной связи между символической разработанностью
проблем человеческого существования и символической разработанностью
основных институциональных сфер. Обращением к данному фактору можно
объяснить несовпадение между соответствующими чертами этих сфер в
различных обществах и различия в присущей им динамике изменений. В
результате сами действия и механизмы, формирующие институциональное
устройство центров любого данного общества, могут быть признаны в
качестве важнейших факторов изменений в нем; они в чрезвычайно большой
степени формируют сам тип изменений и их направление.
Действительно спорный вопрос (на который на нынешней стадии
исследований мы не можем ответить) заключается в следующем: приводит
ли появление различных типов культурных ориентации к изменению
структуры элит и коллективов, или же это элиты специфическими
признаками или латентными тенденциями избирают соответствующие
ориентации, на основе и посредством которой группы или лица, носители
данной структурной тенденции, избирают сообразные ориентации;
институционализация этих ориентации усиливает структурные изменения.
Систематическое изучение этих процессов отбора и обратной связи
представляет одну из важнейших задач в сравнительных исследованиях
различных типов обществ. Но даже на нынешнем уровне наших знаний
приведенные материалы свидетельствуют о тесной связи между структурой
институциональных организаторов и характером изменений в обществе.
Мы находим в наших примерах подтверждение тому, что, при прочих равных
условиях, более высокая степень символической обособленности центра и
образования слоев достигалась прежде всего благодаря многообразию
автономных функциональных элит, так же как выразителей солидарности
различных коллективов, которые располагали относительно самостоятельной
базой, имели потенциально самостоятельный доступ к центру и друг к другу.
Это многообразие элит, способных воздействовать в равной степени и на
центр, и на периферию, сильно влияло на различные движения протеста,
политическую деятельность и борьбу в этих обществах. Так формировался
совмещающийся тип изменений в имперских и имперско-феодальных
системах, а также в особых городах-государствах и племенных
объединениях.
Вследствие высокого уровня институциональной обособленности центров и
вообще структурной дифференциации, в этих обществах возникало гораздо
больше движений протеста, от крестьянских восстаний и выступлений
малочисленных группировок до широких социальных движений. «Большие»
традиции, с которыми большей частью были связаны эти системы,
предоставляли хорошую питательную среду для религиозных сект, ересей и
общеинтеллектуальных движений. Кроме того, любая из многочисленных
элит второго плана (выразители коллективной солидарности, идеологи
культурных моделей и традиций) и политические организаторы второго
плана, ориентированные либо на центр, либо на периферию, могли положить
начало движениям протеста или политической борьбе.
В противоположность этому режимам патримониальных и племенных
общностей
и
городам-государствам
недоставало
структурной
обособленности между центром и периферией; они демонстрировали
высокую степень статусной разделейности, низкую степень самоорганизации
и символического самовыражения повстанческих движений, слабость связей
последних друг с другом и с центром. Этому сочетанию черт сопутствовали,
во-первых, относительно низкий уровень символического самовыражения
различных коллективов и элит второго плана; во-вторых, высокая степень
укорененности институциональных организаторов в аскриптивных группах,
которые отличались небольшой символической или организационной
автономностью и незначительностью возможностей для самостоятельного
доступа к центру или формирования самостоятельных связей между собой. В
результате изменения в различных сферах этих обществ оказывались
несовмещающимися между собой.
Как хорошо известно, в рассмотренных макросоциальных типах
существовала значительная вариативность, которая обусловливалась
различиями в культурной ориентации, структуре элит и особенностями
внешней среды. В главе 5 мы займемся анализом различия между этими
вариантами.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Здесь и дальше при перечислении исторических примеров в тексте книги
Ш. Эйзенштадта допущены опечатки. Вместо необходимого «тысячелетие»
при датировке употреблен термин «столетие» (century). (Примеч. перев.)
2 Об общих чертах традиционных имперских систем см.: Eisenstadt S.N.
The Political Systems of Empires.
3 В тексте очевидная опечатка — 1653, тогда как общепризнанной датой
падения Византийской империи считается год взятия Константинополя
турками-османами — 1453 г. Точно так же уточнения требуют
нижеследующие даты начала правления династии Аббасидов (вместо 720 г.
общепризнан 749 г.) и конца Османской империи (вместо 1788 г.
общепризнан 1918 г.). (Примеч. перев.)
4 О концепции патримониализма, как она развивается в настоящей книге с
упором не только на организацию власти и управления в соответствии с
веберовской традицией, но также на общую институциональную структуру
общества, см.: Eisenstadt S.N. Traditional Patrimonialism and Modern NeoPatrimonialism. Несколько более узкую трактовку можно найти в работе: Roth
G. Personal Rulership, Patrimonialism and Empire Building in New States//
Political Sociology/Eisenstadt S.N. (ed.). N.Y. Basic Books, 1971. P. 575-582.
5 ad hoc (лат.) — для этого; в широком смысле — применительно к данному
конкретному случаю. (Примеч. перев.)
6 Анализ структурирования систем иерархии в этих обществах впервые был
представлен в работе: Eisenstadt S.N. Social Differentiation and Stratification.
Glencoe: Scott, Foresman, 1971. Ch. 6.
7 Об общем ходе изучения этой тематики см.: Voegelin E. Op. cit.
8 См.: Hoselitz B.F. Sociological Aspects of Economic Growth. N.Y.: Free Press,
1960; Trade and Market in Early Empires/Polanyi K. (ed.). N.Y.: Free
Press, 1957.
9 В отношении образцов иерархии в патримониальных обществах см.
особенно: Loosely Structured Social Systems: Thailand in Comparative
Perspective/Evers H.D. (ed.). New Haven: Yale University Press, 1969. См.
также: Palmier L.H. Social Status and Power in Java. L: London School of
Economics, 1969. Относительно специального значения термина «престиж»,
как он употребляется здесь и в последующем анализе, см.: Eisenstadt S.N.
Social Differentiation and Stratification. P. 29—34.
10 Geem C. The Interpretation of Cultures. N.Y.: Basic Books, 1973. P. 171-172.
Глава 5
РАЗНООБРАЗИЕ ТИПОВ ИЗМЕНЕНИЙ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В
ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ. НЕСКОЛЬКО ИЗБРАННЫХ СЛУЧАЕВ.
Часть 1. ТИПЫ ИЗМЕНЕНИЙ В ПАТРИМОНИАЛЬНЫХ РЕЖИМАХ.
1. Различие культурных ориентации. Своеобразие организаторов и типы
изменений.
В главе 4, сравнивая имперские системы, патримониальные режимы, особые
города-государства и племенные объединения, мы показали, как различные
подходы к решению проблем человеческого существования, обусловленные
представлениями о противостоянии между трансцендентным и мирским
порядками и приверженностью к этим порядкам, влияют на структуру элит
второго плана и таким способом — на главные институциональные
механизмы, связанные с основополагающими нормами социального
взаимодействия (особенно на структуру центров, отношения между центром
и периферией, образование слоев и характер изменений).
В этой главе мы более систематически исследуем соотношение между
культурными ориентациями, с одной стороны, и институциональной
структурой и типом изменений — с другой. Изучаемые нами культурные
ориентации предлагают тот либо иной путь разрешения проблемы
напряженности между трансцендентным и мирским порядками. Соединяя
посюсторонние и потусторонние ориентиры, они определяют автономность
доступа широких слоев к важнейшим атрибутам космического и социального
порядков или, напротив, степень, в какой этот доступ опосредуется или
монополизируется некоей группой либо центром. Мы также проанализируем
воздействие более специфических социальных кодов, таких, как значение
властных ориентаций в политической области и соотношение между
инструменталистскими и солидаристскими направлениями в социальной
жизни.
2. Изменения в патримониальных режимах. Буддистские общества.
Рассмотрим, как культурные ориентации определяют сферу деятельности
основных институциональных организаторов и через эту деятельность
влияют на построение различных институциональных комплексов и типы
изменений.
Первая разновидность, которую мы проанализируем, была общей, с одной
стороны, для режимов патримониальных и племенных общностей и городовгосударств, связанных с религиями или культурными традициями, которые
не акцентировали напряженности между космическим и мирским порядками,
а с другой — для режимов, связанных с «большими» традициями, которые
подчеркивали это противостояние, и особенно с религиозными системами,
имевшими сильную потустороннюю ориентацию, такими, как буддизм и
индуизм. Носителями этих «больших» традиций и их локальных
разновидностей выступали относительно автономные, часто международные
элиты, такие, как буддистская сангха и в меньшей степени зороастрийское
жречество (ничего подобного им, разумеется, не было среди «малых»
традиций).
Эти элиты создали центры, которые в религиозной сфере были отделены от
своей собственной периферии, а также особые каналы, связывавшие эти
центры с периферией и «большие» традиции с «малыми». Таким способом
они вводили новое измерение в определение политического сообщества,
утверждая более высокий уровень символической разработанности, более
широкие ориентации и более широкие культурные характеристики. Это
новое измерение служило основой для утверждения специфических символов и границ коллективной идентичности в национальных сообществах.
Вследствие этого такие национальные коллективы часто проявляли, подобно
религиозным традициям, гораздо большую живучесть, чем политические
режимы.
Но из-за сильной потусторонней ориентации этих «больших» 4 традиций,
прежде всего буддизма, культурные ориентации такого рода не порождали
обособленности в политических центрах и в отношениях между этими
центрами и их периферией. Не способствовали эти ориентации глубокому
переустройству других институциональных сфер. Как хорошо известно, эти
автономные религиозные группы, особенно сангха в буддистских обществах,
участвовали в политической жизни и основой этого участия была их
организационная связь со стремлением правителей к легитимности. Но такое
участие имело место главным образом в рамках различных патримониальных
режимов, в которых эти элиты часто становились политически очень
могущественными.
Эти религиозные элиты иногда входили в коалиции с выразителями
солидарности локальных или надлокальных общностей — в коалиции с
самим монархом или главами этнических коллективов, внося в последние,
как мы уже видели, новые, более масштабные характеристики.
Такие ориентации и их институциональное воздействие объясняют
некоторые характерные различия между типом изменений в этих обществах
и изменениями в других патримониальных режимах, племенных
объединениях, городах-государствах и имперских системах. Как известно,
повстанческим движениям было свойственно стремление к формированию
относительно четко выраженных милленаристских ориентации, а
инакомыслием проникались широкие слои населения, выступления которых
оказывались иногда связанными с деятельностью политических групп
(причем последние не проявляли особых способностей к четкому
формулированию своих целей).
Аналогичным образом для этих обществ были характерны широкомасштабные движения религиозных сект, символы которых иногда
оказывались близки символам крупных общностей. Этот процесс
символического сближения часто имел следствием выдвижение новых
символов политико-религиозной принадлежности и политического
сообщества. Тем не менее такая символика, использовавшаяся обычно в
целях легитимизации изменений, лишь изредка активно привлекалась при
переустройстве политических режимов. Не имела она и долгосрочной связи с
народными движениями. Только к немногим народным восстаниям против
власти чужеземцев либо против своих «плохих правителей» временно
присоединялись выступления политических группировок и религиозные
ереси.
3. Изменения в потусторонне-ориентированных цивилизациях. Индия.
Культурные ориентации. Пространственные рамки и структура центров.
I. Системы социальной иерархии и институциональные организаторы.
Положение в индуистской цивилизации Индии заметно отличалось от
описанного выше. Подобно буддизму, который начал развиваться как
неортодоксальная секта в индуизме, последний был великой цивилизацией с
потусторонней ориентацией. Все же отрицание мирской жизни индуизмом не
было таким всеобъемлющим, как в буддизме.
Индуизм в том своем виде, который был наиболее полно выражен в
идеологии и символике брахманизма, основан на признании напряженности
между трансцендентным и мирским порядками, вытекающей из
представления о том, что с точки зрения критериев космического порядка
мирской порядок «загрязнен». Эту загрязненность надлежало преодолеть
через установленную ритуальную деятельность, в которой социальная
чистота отождествляется с космической, и прежде всего через участие в
ритуальном устроении иерархического порядка, отражающем место
индивида в космическом порядке.
Соответственно индуизм подчеркивал дифференцированность ритуального
статуса социальных подразделений, называемых кастами, и профессий или
обязанностей, закрепленных за этими подразделениями. Тем самым религия
выстраивала различные мирские занятия в иерархическом порядке,
положение в котором определяется их потусторонним значением — ролью в
ликвидации загрязненности мирского порядка. Передача такого
дифференцированного ритуального статуса обеспечивалась через базовые,
или первичные, родственные ячейки. Во всех аспектах своего отношения к
социальной
иерархии
индуизм
демонстрировал
гораздо
более
непосредственную связь с мирским порядком, чем буддизм.
Сильный упор на напряженном отношении между космическим и мирским
порядками способствовал образованию в индуистской цивилизации
обособленного центра, идеологическое ядро которого представляли
идеология и символика брахманизма. Однако, вследствие потусторонней
ориентации
последнего,
своей
широкой
территориальной
распространенности и укорененности в аскриптивных первичных ячейках,
этот центр не был сформирован в виде однородной и консолидированной
организационной системы. Скорее он воплощался в совокупности подсистем,
которыми служили локальные организационно-ритуальные очаги (места
паломничества, храмы, секты, школы), разбросанные по всему
субконтиненту и зачастую действовавшие за пределами политического
порядка.
Религиозный центр, или центры, был тесно связан с широкой этническоиндуистской идентичностью (такая связь была даже более тесной, чем связь
между религиозными символами и символами политической общности в
буддистских обществах). Неопределенные, но все же явственно ощутимые
границы индуистско-этнической идентичности составляли широчайшую
аскриптивную рамку, в которой могла функционировать идеология
брахманизма.
Однако, подобно тому как было в других потусторонне-ориентированных
религиях, религиозный центр индуистской общности не представлял центра
политического порядка. Соответственно отношения между центром и
периферией в большинстве индийских княжеств и царств мало чем
отличались от такого рода отношений в других патримониальных режимах,
городах-государствах или племенных объединениях. Хотя различные
политические центры в организационном отношении имели более
компактный характер, чем ритуальные центры, они не выдерживали
испытания временем. Режимы возникали и рушились, а потому и не могли
стать влиятельными очагами индийской культурной идентичности.
Возникавшие в Индии политические образования и центры не находили для
себя серьезной поддержки в основных культурных ориентациях. Религиозно-
культурные ориентации индуистской Индии оказались слабо связанными с
конкретными политическими структурами. И такое положение существовало
в далеком прошлом, а не только в периоды мусульманского, затем и
английского владычества.
Хотя в Индии возникали малые и большие государственные образования и
даже полуимперские центры, здесь не возникло какой-либо единой
государственности, с которой отождествила бы себя культурная традиция.
Разумеется, из классической религиозной мысли Индии можно многое узнать
о политических проблемах, о принципах поведения правителей, об
обязанностях и правах подданных. Но в гораздо большей степени, чем в
других мировых цивилизациях, политика рассматривалась здесь как мирское
занятие, подчеркивалась ее дистанцированность от идеологического ядра
цивилизации, от ее традиций, ее глубоких корней. В этом своеобразии
скрывается источник особой внутренней силы индийской цивилизации,
которая объясняет ее способность выжить в условиях чужеземного
правления.
Наряду с относительной независимостью культурных традиций, центров и
символов идентичности от политического центра, для Индии была характер
на относительная автономность социальной структуры — сложного
комплекса каст, деревень и каналов культурной коммуникации. Эти
родственные и кастовые группы были основными агентами социализации,
основными источниками статусной и коллективной идентичности и каналами
аскрип-тивного доступа к базовым общественным институтам. Именно они
были носителями того типа связи между профессией, политической властью
и ритуальным статусом, которая была присуща структуре социальной
иерархии в индийской кастовой системе.
Эти родственные и кастовые группы включали в себя многочисленные,
зачастую пересекающиеся ячейки, составлявшие многообразные сети
различных кастовых и подкастовых групп. Такие группы и сети были в очень
большой степени автономными и саморегулирующимися в плане их
культурной и социальной само-идентичности, а также в плане их
экономических, социальных и религиозных взаимосвязей, что позволяло им
обходиться лишь ограниченным доступом к политическому центру или
центрам.
Все эти факторы повлияли на формирование социальных страт в индийском
обществе. Во-первых, утверждение связи между семейными ячейками и
положением в ритуально-космическом порядке делало различия в образе
жизни среди множества статусных групп или каст жестко нормативными.
Кастовые нормы устанавливали строгие символические рамки для
распределения ресурсов и предоставления доступа к важнейшим
институциональным позициям.
Во-вторых, усиленное ритуалом подчеркивание аскриптивности и
наследственности социального положения создавало очень сильную связь
между родственными группами, с одной стороны, и статусной
принадлежностью и организацией — с другой. Родственная группа,
повторим, одновременно была основным агентом социализации,
средоточием коллективной идентичности и каналом аскриптивного доступа к
базовым институтам. Межкастовая мобильность почти всецело исключалась
брачными правилами.
В-третьих, профессиональная принадлежность была неразрывно связана с
ритуальным статусом. Каждый род занятий, относилось ли то к
сельскохозяйственному работнику, землевладельцу, ремесленнику или
торговцу, был строго приписан к одной из четырех главных статусных
(кастовых) категорий: брахманы, реджаны, или кшатрии (воины-правители),
вайшьи (торговцы) и шудры (слуги). Этот распорядок дополнялся сильной
тенденцией выводить низшие группы (так называемых неприкасаемых) за
рамки системы.
Именно в этих группировках и сетях сформировались важнейшие типы
институциональных организаторов и разновидности элит: организаторы
политической и экономической сфер, идеологи моделей культурного порядка
и аскриптивной солидарности. Их opгaнизаторская деятельность была
структурирована двумя основополагающими аспектами индийской
социальной жизни. С одной стороны, эта деятельность определялась
укорененностью организаторов в аскриптивных, родственных и ритуальных
коллективах и сово-: купностью отличающих тех характеристик. С другой
стороны, в таких определениях подчеркивалась необходимость надлежащего
выполнения мирских обязанностей. Вследствие этого организаторская
деятельность была связана (хотя и не вполне идентична) с поддержанием
солидарности основных аскриптивных групп, а в некоторой степени — и
основных культурных моделей. Эти два аспекта индийского общества
порождали сильнейшую мотивацию для инновационной организаторской
деятельности в соответствующих институциональных сферах.
Такого рода организационные структуры и формы деятельности
основывались на соединении (в рамках каждой кастовой группы) владения
различными ресурсами, с одной стороны, и контроля над их использованием
и обращением — с другой. В результате полный контроль достигался только
через межкастовые отношения.
II. Рамки институциональных структур.
Из-за такого многообразия центров и сетей, их разбросанности по всему
субконтиненту, из-за того, что религиозные или этнические (индуистскоиндийские) центры, с одной стороны, и центры политические — с другой, не
совпадали и были отделены от структур организационной деятельности,
сформировалась одна из наиболее сложных институциональных систем в
истории человечества.
Важнейшим проявлением специфики этой системы было расхождение между
брахманистской идеологией культурного и социального порядка и
конкретными формами социальной организации со всеми последствиями
такого расхождения для институциональной структуры индийского общества
в целом.
Теоретически кастовые подразделения устанавливались для всей Индии, и,
таким образом, в принципе они должны были порождать общее для всей
страны кастовое сознание и кастовую организацию в масштабах всей страны.
На практике такого единообразия не существовало и, следовательно, не было
закрепленного в официальной идеологии соответствия между функциями,
позицией, ритуальным статусом, с одной стороны, и использованием
ресурсов — с другой. Показательно, что только англичане, включив кастовую классификацию в проводимые ими переписи, дали толчок к
установлению единообразной иерархии.
Конечно, брахманистская идеология и система религиозно-культового
ритуала были в известном смысле общеиндийскими и служили, как
указывалось выше, источником всеобщей культурной идентичности. Более
того, среди многих брахманских групп (а также среди других, особенно
представлявших высшие касты) в ограниченной степени развивались очень
широкие, если не общеиндийские, социальные контакты и связи. Но в целом
базовая структура кассовой организации и взаимоотношений между кастами
была жальной либо региональной.
Идеал кастового разделения труда, нашедший выражение в охватывавшем
всю страну ритуальном порядке, не мог применяться на региональном или
локальном уровне из-за многообразия территориальных и политических
условий. На местах существовало большое разнообразие видов деятельности,
различия между которыми не могли всецело уложиться в ритуальнокастовые рамки официальных предписаний о распределении политической
власти и богатства.
Прежде всего не было полного соответствия между профессией и кастой. Ряд
занятий был свободным от кастовых предписаний, и вместе с
диверсификацией профессиональных категорий это приводило к созданию
особых локальных или региональных систем статусной иерархии, которые
могли угрожать господствующему положению местных брахманских групп.
Подобные аномалии могли способствовать формированию новых кастовых
групп, что очень часто приводило к изменениям в системе взаимосвязей и
взаимных обязательств среди различных каст. Однако обычно при этом не
происходило отступлений от основополагающей символики кастового
порядка.
Рамки собственно идеологических принципов, в соответствии с которыми
политический порядок был подчинен ритуальному, наиболее явственно
фиксировались в отношениях между брахманами и политической властью.
Тем не менее, хотя в идеологическом плане подчеркивалось полное
подчинение правителей брахманам, в действительности существовала очень
сильная зависимость любой брахманской группы от политических
правителей. Во многих, если не в большинстве случаев именно от правителей
зависело определение ритуального статуса кастовых групп. Благодаря этому
правители могли добиваться уступок от брахманов и изменить условия
доступа к более высокому ритуальному и неритуальному статусу, что
потенциально ослабляло установленную замкнутость укладов жизни и
сегрегацию различных статусных (кастовых) групп.
III. Формы социальной мобильности.
Многообразие черт индийской цивилизации, рассмотренных выше, и
расхождения между идеологией брахманизма и конкретными формами ее
реализации способствовали возникновению множества каналов социальной
мобильности, а также сопутствовавших ей особых типов мотивации.
Фундаментальные особенности индийской цивилизации приводили к тому,
что мобильность была главным образом групповой и кастовой. Как показали
М.Н. Шринивас1 и многие другие, традиционно существовали по меньшей
мере два основных варианта мобильности. В случае простой мобильности
различные кастовые группы стремились улучшить свое относительное (в
большинстве случаев локальное) положение в экономической и
политической областях. В случае санскритизации кастовые группы
стремились улучшить свое положение в соответствии с центральной
системой ценностей. Включая в свой образ жизни некоторые черты
идеологии и культуры брахманов, они надеялись таким путем достичь более
высокого легитимного положения в ритуальной области.
Для обоих вариантов мобильности общими были два механизма. Первый
включал множество систем ориентации и структурных каналов выдвижения,
которые возникали в индийском обществе и в которых, в соответствии с
центральными компонентами индийской культурной традиции, принижалось
значение мирской (экономической и политической) деятельности. Второй
механизм создавал различные уровни мотивации; и через частичное
идеологическое размежевание между конечным приоритетом религиозной
сферы, с одной стороны, и поддержанием мирской деятельности — с другой,
обеспечивалась устойчивая привязанность к мирской деятельности, хотя в
идеологическом плане эта деятельность всегда сохраняла побочное значение.
Указанные механизмы давали возможность направить мотивацию по
побочным
институциональным
каналам,
не
подрывая
устоев
социокультурного порядка. Они породили очень сильную тенденцию к
структурным изменениям, к развитию посюсторонней экономической и
политической деятельности (которая при всем том оставалась приниженной).
Однако при этом ухудшались перспективы для возникновения нового типа
соотношения между мирской и религиозной сферами — такого, который
выходил бы за пределы брахманистской идеологии.
IV. Типы изменений.
В таких институциональных и идеологических рамках формировались
специфические для индийской цивилизации движения, направленные к
изменениям, а также особая роль восстаний и инакомыслия в осуществлении
институциональных изменений. Религиозная ориентация и многообразная
религиозная структура этой цивилизации часто порождали религиозные
движения или секты, которым были свойственны либо универсалистскотрансцендентные тенденции (яркий пример — движение бхакти2), либо
более радикальные традиционалистско-ритуальные. Оба типа религиозных
движений стремились переформулировать базисные элементы индийской
культуры, особенно брахманский идеал и идеал ухода от мира, идеал
саньясина.
Отличительной чертой этих движений, по сравнению с религиозным
инакомыслием в других потусторонне-ориентированных цивилизациях
(прежде всего в буддизме), была, хотя и ограниченная, тенденция к
институциональным изменениям.
Многие из индийских движений, ориентированных на изменения, были
укоренены в структурах отдельных каст: политические движения по
преимуществу в кшатриях, экономические по преимуществу в вайшья. Эти
движения порождали значительные изменения в институциональных сферах,
в которых эти касты были особенно активными. Более того, эти, как принято
считать, узко-религиозные движения зачастую непосредственно затрагивали
основные структурные компоненты процессов изменений в индийском
обществе, особенно в деревне, на региональном уровне и внутри каст, и
оказывались в тесной связи с кастовой мобильностью — с утверждением
новых кастовых групп и с постоянным изменением структуры деятельности
и границ отдельных каст.
Характерно, что постоянно происходило переплетение различных
структурных и идеологических тенденций; иначе говоря, консервативные
идеологические
движения
могли
объединяться
с
силами,
ориентировавшимися на структурные нововведения. Например, новые
правители или группы торговцев могли объединиться с ортодоксальными
религиозными сектами. Напротив, религиозные движения обновленческого
типа иногда соединялись с силами, которые были расположены к
санскритизации.
V. Переплетение изменений и преемственности.
На протяжении всей индийской истории характерной особенностью
процессов изменений оставалась сильная склонность к частичным
нововведениям в различных институциональных областях. Подобные
нововведения всегда затрагивали религиозную сферу, однако последняя
неизменно сохраняла свои центральные символы. Таким образом, Индия
явила к жизни новые формы социальной организации, новые принципы
самоопределения политических образований, изменения в уровнях
социальной дифференциации, определенную перестройку экономической
сферы и изменения в социальной и экономической политике, наряду с
изменениями в самой религиозной сфере (что проявлялось главным образом
в формировании новых движений и сект, из которых самым значительным,
по-видимому, было упомянутое движение бхакти).
Вплоть до XIX в. этот высокий уровень изменчивости и приспособления к
переменам поддерживался при сохранении преемственности по отношению к
исходным предпосылкам индийской традиции и центральным символам
культурной идентичности. Процесс изменений никогда не выходил за рамки
ни господствующих ценностей человеческого существования (космических,
ритуальных, политических, экономических), ни базисных отношений между
ритуально-религиозной сферой, с одной стороны, и экономической и
политической сферами — с другой. Поэтому лишь в крайне редких случаях
такие процессы вели к перестройке политической сферы либо характера
отношений между политической и экономической сферами и религией.
Идеал ухода от мира, представлявший важнейший аспект брахманизма,
созидая новое ядро приверженности, в то же время не приводил к
возвышению промежуточных институтов или к установлению связи между
этими институтами и высшим уровнем социокультурной реальности и
идентичности. Этот идеал не порождал новые типы мотиваций или
ориентации, которые могли бы соединить деятельность в нерелигиозных
сферах с важнейшими атрибутами индийской культурной идентичности. Ни
одно из движений или видов обновленческой деятельности не создало новых
связей между мирской и религиозной сферами.
Итак, для традиционной индийской цивилизации была характерна большая
разнородность в социальной организации и устройстве своих институтов
наряду с преемственностью в отношении общих принципов культурной
идентичности. Все это объясняет очень высокий уровень изменчивости в
индийской цивилизации и способность ее адаптации к изменениям, но также
и пределы этой адаптации.
Часть 2. ТИПЫ ИЗМЕНЕНИЙ В ИМПЕРСКИХ
И ИМПЕРСКО-ФЕОДАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ.
1. Введение.
Имперские и имперско-феодальные системы вполне сформировались только
в тех высоких цивилизациях или «больших» традициях, где подчеркивалась
напряженность между трансцендентным и мирским порядками и где
посюсторонняя деятельность определялась в качестве средства преодоления
этого противостояния (хотя можно допустить, что эмбриональные имперские
системы возникли уже в Древней Персии и в империи Ашоки).
Но в пределах этого общего цивилизационного ядра сформировались
разнообразные имперские системы, которые различались характером
институциональной реализации указанных культурных ориентации,
особенно переплетением посюсторонней и потусторонней ориентации, а
также очертанием институциональных очагов каждой из этих ориентации и
их сочетанием с другими культурными ориентациями. Особенное значение
имела степень автономности доступа широких слоев к важнейшим
инструментам экономического и социального порядка (или, наооборот,
степень, в которой такой доступ был опосредован или монополизирован
какой-то группой или центром). Различия были связаны и с наличием более
специализированных кодов социального поведения или культурных
ориентации, с соотношением между силой власти и солидаристскими или
инструменталистскими ориентациями.
Эти системы различались также некоторыми важнейшими аспектами
происходивших в них изменений. Прежде всего они различались по степени
реализации тенденции к слиянию многообразных движений протеста,
различных типов устроения институтов и политической борьбы. Конечно, в
традиционных имперских системах полное слияние этих движений с
переустройством макросоциального порядка происходило очень редко. В
имперских системах, как и во всех других традиционных обществах,
тенденции к такого рода совмещаемости встречали сопротивление в
основополагающих
традиционных
ориентациях,
сдерживались
ограниченностью структурных ресурсов, наталкивались на противодействие
правящей элиты, пытавшейся ослабить эти тенденции и разобщить
различные типы деятельности.
Однако в отличие от патримониальных правителей имперские правители не
всегда добивались успеха; и тенденции к совмещаемости реализовывались
либо в частичном преобразовании империй, либо в их падении. На этой
стадии нашего анализа мы сосредоточимся на одном из таких факторов, а
именно на различном соотношении упомянутых культурных ориентации. Вопервых, мы проанализируем, как эти вариации влияли на 1) важнейшие ориентации центральных элит и групп организаторов; 2) каналы их
институциональной деятельности; 3) степень, в какой различные виды их
деятельности соединялись в одних и тех же ролях или организациях; 4)
пределы их автономии; 5) природу их солидарности с центром и с широкими
слоями; 6) степень, в какой владение ресурсами совпадало с контролем за их
использованием и перемещением в рамках макросоциального порядка.
Именно эти факторы оказывали воздействие на формирование центра и
отдельных слоев, а также на общественные движения и процессы изменений,
придавая им характерные для имперских и имперско-феодальных систем
черты. Во-вторых, мы обратим внимание на то воздействиие, которое
оказывала внешняя среда на эти ориентации, их институциональные
механизмы и характер перемен.
2. Российская империя.
I. Культурные ориентации. Структура центров и состав институциональных
организаторов.
В позднем (постмонгольском) Московском варианте христианской
цивилизации центру удалось достичь относительно высокой степени
подчинения культурного порядка политическому и относительно низкой
степени автономного доступа главных слоев общества к основным атрибутам
социального и политического порядков. Политическая сфера стала
монополией
правителей;
экономическая
сфера
осталась
менее
централизованной, и экономической деятельности была предоставлена
возможность оставаться автономной, постольку поскольку она не
воздействовала непосредственно на центр.
В таком контексте центр стремился монополизировать виды деятельности,
имевшие центральное значение с точки зрения утверждения космического и
социального порядков — прежде всего политическую деятельность. В то же
время широким слоям была предоставлена самостоятельность в других
разновидностях мирской деятельности — прежде всего в экономике; однако
не было позволено, чтобы такая деятельность приобретала более широкое
значение, отражаясь на культурной либо политической сфере.
С этой целью центр строго отделил доступ к атрибутам космического
порядка (спасение) (такой доступ был предоставлен всем группам общества
при относительно слабом посредничестве церкви) от доступа к каналам
воздействия на политику и социальный порядок, которые в постмонгольский
период были почти полностью монополизированы политическим центром.
Кроме того, центр поддерживал обособление областей посюстороннего
разрешения напряженности между трансцендентным и светским порядками.
Религиозное инакомыслие становилось потусторонне-ориентированным
и/или отделялось от политической сферы. Однако иногда, как в случае
староверов, оно в известных рамках проявляло активность в экономической
сфере.
Чтобы удержать свою монополию, центр должен был вести войну против тех
слоев (прежде всего аристократии и вольных городов-государств), которые
имели, особенно в раннем периоде (Киевская Русь), более автономный
доступ к участию в социальном и космическом порядках. Эта борьба привела
к возникновению очень сильной властной ориентации и к господству
принуждения в политике центра. Главным механизмом, через который центр
достигал своих целей, было принудительное разобщение, между политически
властными элитами, которые были также носителями культурного порядка,
особенно в его политических аспектах, различными институциональными
элитами и идеологами моделей неполитического культурного порядка, с
одной стороны, а с другой — экономическими и образовательными элитами
и выразителями солидарности главных аскриптивных коллективов. Доступ
таких элит друг к другу и особенно к центру был ограничен центральной
политической элитой, хотя полностью этого не удавалось достигнуть.
Вследствие этого владение ресурсами, которыми располагали различные
социальные группы, было строго отделено от контроля за их использованием
и обменом. Такой контроль принадлежал центру, и он сводил к минимуму
значение многочисленных потенциальных центров власти.
II. Формирование социальных слоев.
Подобную тенденцию можно обнаружить и в отличавших Россию процессах
формирования социальных слоев. Центр стремился установить аналогичный
строгий контроль за определением целей важнейшими группами и слоями
общества и их самоопределением. Установление и поддержание нормативов
и условий, определявших принадлежность к центру, оставались привилегией
центра. Это касалось также санкционирования и регулирования большинства
других атрибутов, даже тех, что относились главным образом к
периферийным сферам деятельности. Но в общем элиты добивались
относительной свободы и распоряжались такими ресурсами ради
удовлетворения различных собственных желаний и достижения целей в той
мере, в какой это не влияло на доступ к центральным властным позициям, не
становилось слишком явным и не создавало слишком больших потребностей
в новых профессиях. Такая потребность отвергалась центром, поскольку она
могла реализоваться в формировании многочисленных новых и независимых
позиций, которые, в свою очередь, могли стать очагами независимых
центральных рынков или новой коллективной идентичности.
Центр не поощрял формирования среди элит строгого образа жизни,
регулируемого собственными групповыми нормами и символами. Напротив,
он сводил к минимуму легитимность таких стилей жизни и вместо этого
поощрял довольно неразборчивое употребление ресурсов, которые
находились в распоряжении этих групп. Если члену периферийной группы
удавалось продвинуться в символической и властной структуре, он должен
был отказаться от самостоятельного использования своих ресурсов, что
ослабляло его позиции в отношениях с основными держателями власти
(императорский двор и, в конечном счете, царь).
Различные механизмы, поддерживавшие абсолютное преобладание центра до
конца XIX в., воздействовали на формирование социальных слоев в
нескольких направлениях. Наиболее общим следствием была присущая
всему российскому обществу этого периода относительная недостаточность
классового сознания и классовой организации. Наиболее очевидно эта
недостаточность проявлялась среди крестьянства — слоя, который находился
в самом низу социальной иерархии. Не существовало почти никакого
способа объединить локальные коллективы крестьян в более широкую
группировку, несмотря на имевшую некоторое распространение традицию
неформального объединения крестьян соседних деревень или районов для
различных целей.
Не очень отличались в этом отношении и городские группы. Важным
показателем их слабости была неэффективность самоорганизации даже среди
так называемых средних слоев. Каждая профессиональная группа и
корпорация были полностью зависимы в развитии своих институтов от
официальной санкции центра. Таким образом, самосознание большинства
этих групп имело узкую в профессиональном и территориальном
отношениях основу. Казалось, большое общество интересовало их лишь в
той степени, в какой их побуждала к этому правотворческая деятельность
центра. Несколько в меньшей степени недостаточность классового сознания
и слабость классовой организации отличали аристократию. Все же такой
недостаток можно констатировать, несмотря даже на то, что аристократия
имела гораздо более высокое положение и в гораздо большей степени
распоряжалась своими ресурсами, чем какая-либо другая группа. Более того,
благодаря ее близости к центру, а также и сохранению полуфеодальных
традиций, аристократия располагала по сравнению с городским средним
классом и крестьянством более широкими, охватывавшими всю страну связями. Однако, какой бы ни была самостоятельность, которой этот слой
пользовался с доабсолютистских времен, она была разрушена царизмом,
превратившим его в служилую аристократию. Та же самостоятельность,
каковой отличалась русская аристократия впоследствии, при самодержавном
правлении, в основном представляла добровольную уступку царей. И только
в конце XVIII — начале XIX в. ситуация начала меняться.
Как особенность российской системы, у большинства подобных статусных
групп не закрепился особый, нормативно санкционированный образ жизни,
хотя, конечно, сложились определенные обычаи и правила — особенно среди
аристократии и некоторых городских групп. То же самое можно сказать о
крестьянстве, которое, живя в деревенских общинах, придерживалось
традиционного уклада бытия. Но эти обычаи в целом не были предметом
специального регулирования посредством внутренних либо внешних
нормативных санкций и не становились моделями или символами для тех,
кто их придерживался. В среде столичной аристократии следование
нормативным предписаниям превращалось в элемент государственной
службы или участия в придворной жизни; в гораздо меньшей степени эта
тенденция была распространена среди аристократов, проживавших в своих
владениях. Таким образом, если вообще и существовали ограничения,
например, для занятия аристократов коммерцией (подобные тем, например,
какие были в дореволюционной Франции), то их было немного.
Подтверждение тому, что нормативная регуляция образа жизни была
относительно мало распространенной, можно обнаружить в образцах
межгруппового брака: имеющиеся материалы, при всей их скудности,
показывают, что преодоление классовых границ не было исключительным
случаем. Предшествующий анализ, кажется, ограничивается тем немногим,
что мы знаем о переходе из одного социального слоя в другой. При
относительно свободном распоряжении ресурсами главным препятствием
для социальной мобильности был не недостаток способности или желания
использовать ресурсы, чтобы приобрести более высокое положение, а
особый правовой статус некоторых групп, особенно крепостных. Постольку
поскольку социальная мобильность имела место, она обычно приводила к
возникновению новых образцов жизни локальной и профессиональной
группы, существование которых, однако, оказывалось столь же замкнутым,
как и прежде. Следовательно, общий тип жизни оставался в своих
основаниях незатронутым.
Особое значение в этом отношении имела православная церковь,
представлявшая важнейший канал социальной мобильности для нижних
слоев. Но можно полагать, что и здесь также воспроизводился базовый тип
мобильности. Вхождение в ряды церкви подразумевало разрыв уз семьи и
отказ от ее образа жизни; но оно не предоставляло возможностей
компенсировать этот разрыв за счет формирования связей с другими слоями.
Теоретически церковь обеспечивала доступ к центру и, таким образом, к
политической власти; однако на практике она не позволяла стать
независимой личностью ни в политическом, ни в социальном плане.
Те же самые ограничения действовали в отношении мобильности среди
аристократии и бюрократии, хотя в этих случаях продвижение отличалось
особыми чертами. Поскольку правители имели почти полный контроль над
первоначальным доступом в бюрократию, путь наверх в этой сфере должен
был поддержать правитель или некто, выступающий от его имени. В
результате на этом уровне происходило очевидное разделение между семьей
в качестве первичного агента социализации, с одной стороны, и семьей в ее
роли обеспечения аскриптивного доступа к высшим позициям — с другой.
Хотя в принципе ожидалось, что большинство аристократических отпрысков
окажутся принятыми в гражданскую либо военную разновидность
государственной службы, выбор определялся назначением царя, а не их
собственным решением.
Все эти особенности сливались в структуре отношений между центром и
периферией. Среди имперских обществ российский режим отличался едва ли
не самым низким уровнем автономного доступа и воздействия периферии на
центр. В то же время центр в относительно высокой степени проникал в
периферию, для того чтобы мобилизовать ресурсы, упрочить ее
приверженность центру и идентификацию с ним, и чтобы контролировать те
виды деятельности, которые охватывали все общество. Следовательно,
характер политики, выработанной российским центром, был главным
образом регулирующим и принудительным; очень немного оставалось места
для автономного определения своих целей широкими группами населения.
III. Типы изменений.
Рассмотренные особенности положения центра и основополагающие
культурные ориентации, а также характер важнейших элит и их
взаимоотношений в большой мере повлияли на процесс изменений в царской
России.
Сам центр, по крайней мере со времени Петра Великого, явственно
ориентировался на модернизацию и инициировал далеко идущие процессы
экономических и социальных изменений. Тем не менее по отношению к
происходившим изменениям он постоянно колебался между тремя
ориентациями: 1) продвижение модернизации, которое имело высшей точкой
освобождение крестьян при Александре II; 2) поощрение относительно
автономных процессов развития в экономической сфере; 3) контроль за
всеми этими процессами, особенно за их политическим выражением или
последствиями. Здесь вновь основными механизмами контроля оказывалось
регулирование самостоятельного доступа различных групп к центру и
обращения экономических ресурсов в политические вместе с поддержанием
обособленности основных социальных слоев и групп институциональных
организаторов.
В то время как центр не мог, вследствие признания напряженности в
отношении трансцендентного порядка к мирскому, исключить среди
различных потенциальных институциональных организаторов и коллективов
некоторые автономные ориентации на сущностные атрибуты космического и
социального порядков, он стремился сдерживать самостоятельное
политическое выражение таких ориентации и прежде всего предупредить
образование связи между различными типами социального протеста, а также
между ними и потенциальными институциональными элитами.
Эти устремления российского центра в течение очень долгого времени были
исключительно успешными. В результате преобразовательные возможности
российского общества сводились к минимуму. Но, как мы увидим, такой
успех обернулся очень серьезными последствиями, отразившись в
специфических чертах революционных элит России и особом исходе
революции.
3. Византийская империя.
Попробуем провести очень беглое сопоставление Российской империи с
ранней Византией, с которой ее сближают некоторые основополагающие
культурные акценты и ориентации восточного христианства. Византийская
империя не испытала ничего столь же драматичного, как монгольское
завоевание, которое привело к ослаблению автономных ориентации и
структур основных социальных слоев в России. В отличие от российского,
византийский центр не был в состоянии полностью исключить
самостоятельный доступ основных слоев к атрибутам космического и
социального порядков и направить наиболее активные ориентации этих слоев
либо на потусторонний мир, либо на деятельность, которая не имела
никакого политического значения. Византийский центр не мог в той же
степени, как российский центр, обособить посюстороннюю и потустороннюю ориентации различных групп, слоев и элит; хотя подобные попытки
предпринимались постоянно, и религиозная прерогатива императора над
патриархом стала официальной доктриной Византийской империи и
греческой православной церкви.
Культурно-религиозные ориентации в Византии не были всецело подчинены
политической сфере, как это случилось в России; и византийская церковь,
ориентированная, как и следовало, на потустороннюю деятельность, никогда
не была в столь полном политическом подчинении, как русская церковь.
Такие слои, как аристократия и крестьянство, опять же пользовались
относительно большей самостоятельностью в доступе к центру и соединяли
владение ресурсами с известным контролем над их использованием, в
результате чего создавались разнообразные структуры политической власти.
Византийское
общество
отличалось,
кроме
того,
большей
самостоятельностью элит второго плана и более сильными связями между
ними и широкими слоями.
Вследствие этого Византийская империя демонстрировала более высокую
степень совмещаемое™ между различными движениями протеста и
политической борьбой, чем это было в России. Соответственно византийская
система проявляла относительно высокую способность к преобразованиям и
перестройке своей внутренней структуры, особенно это касалось изменений,
затрагивающих соотношение сил между императорскими правящими
кругами и аристократией, с одной стороны, и свободным крестьянством — с
другой. По существу, именно острота этой борьбы привела в конце концов к
падению империи.
4. Китайская империя.
I. Культурные ориентации и структура центров.
В традиционной Китайской империи культурные ориентации, отношения
между центром и периферией, структуры организаторов и образцы
изменений расположились в ином порядке.
По сравнению с монотеистической религией, китайской традиции,
совмещавшей конфуцианство, даосизм, буддизм и легизм, была присуща
меньшая напряженность противостояния между трансцендентным и мирским
порядками; очень слабое представление об историко-трансцендентном
измерении времени; сильная посюсторонняя ориентация на преодоление
напряженности между мирским и трансцендентным. Кроме того, для
китайской культурной традиции была характерна относительная открытость
или гибкость ее установлений в общей структуре ценностей, равно как и
доступность ее понимания для широких слоев населения.
Сущность этой традиции воспринималась закрепленной в статичном образце
основополагающих предписаний и ориентации. Тем не менее в ряде
отношений конфуцианская система была одной из наиболее открытых среди
когда-либо существовавших в традиционных обществах. Во-первых, у неё не
было систематизированности, свойственной религиям откровения, она не
имела какого-либо теологически установленного догмата веры или образа
всемогущего божества. Во-вторых, представленный в конфуцианстве
культурней порядок в идеале охватывал все слои и части населения, почти
все человечество, и он был открыт, хотя и в различной степени, для каждого.
По существу, конфуцианская идеология была тесно привязана к
политическому устройству Китайской империи. Империя черпала свою
легитимность в конфуцианстве, а символика и этика конфуцианства обрели
свое надлежащее положение, став средством устроения империи и
воплощением ее единства. Таким образом, среди всех великих имперских
цивилизаций в Китае утвердилось наиболее тесное переплетение, почти
полное тождество, между культурными и политическими центрами, что
представляло резкий контраст, например, с индийским социальным и
культурным порядками.
Китайская традиция, вероятно, была наиболее посюсторонней из всех
великих традиций. Связанная с имперской системой официальная
конфуцианско-легистская идеология терпимо относилась к потусторонним
ориентациям, распространенным среди сект, которые представляли
народную религию, или к мистическим спекуляциям на индивидуальном
уровне. Ее главной установкой было культивирование социополитического и
культурного порядка как основного пункта космической гармонии. Эта
идеология подчеркивала значение посюсторонних обязанностей и земной
деятельности в рамках существующих социальных структур — в семье,
клановых объединениях, на императорской службе. Устанавливалась, кроме
того, связь между надлежащим выполнением этих обязанностей и высшими
критериями личной ответственности. Разумеется, личной ответственности
придавалось в таком случае подчеркнутое трансцендентное значение; все же
в основном традиция облекала эту ответственность в понятия, которые отражали значимость политических и семейных аспектов человеческого
существования.
Кроме того, в официальной идеологии центра не проводилось различие
между социальным порядком, представленным центром, и тем, который
представляли различные категории периферийных общностей. Между
символикой центра и символами статусной идентичности периферийных
групп существовало принципиальное сходство. Ориентация (далеко не
пассивная) на центр и на участие в нем составляла существенный компонент
коллективной идентичности многих локальных и профессиональных групп.
Китайской традиции была также больше свойственна гибкость в открытии
доступа к центру для более активных групп, даже если сам по себе центр
оставался относительно монолитным.
Все эти ориентации сильно влияли на структуру китайского центра, а также
основных элит и социальных слоев китайского общества. Центру китайского
общества был присущ абсолютистский характер, что находило выражение и
в политических, и в культурных ориентациях. Каждая из них обеспечивала
независимый доступ к центру и имела свои особые связи с периферией;
однако центр стремился поставить каналы этой связи под свой контроль.
Такой контроль проявлялся прежде всего в том, что макросоциальная
система стратификации была полностью привязана к политико-культурному
центру. Имперский центр с его сильной конфуцианской ориентацией и
легитимностью был единственным распределителем престижа и почестей в
масштабах всего общества. У различных социальных групп или слоев, если
исключить чисто локальный уровень, не существовало автономных
статусных ориентации; их основной (и почти единственный) вид широких
ориентации был сосредоточен на этом политическом и религиозном центре.
II. Формирование социальных слоев.
Процесс формирования слоев китайского общества характеризовался тремя
отличительными признаками. Во-первых, важное значение придавалось
общему соответствию между центральными и периферийными группами как
членами одного и того же культурного порядка. Во-вторых, участие в общем
культурном порядке ограничивало количество аскриптивных положений по
отношению к центральным позициям. В-третьих, центральные элиты стремились регулировать не только коллективные цели и идентичность
различных слоев и групп, но также использование ресурсов, находившихся в
их распоряжении. Центральные элиты препятствовали тому, чтобы они
использовались ради обеспечения прямого доступа к центру, и стремились
направить эти ресурсы по монополизированным ими каналам. Многие
периферийные общности официально поощрялись к тому, чтобы некоторые
из их членов приняли более активное участие в центре, например, через
систему экзаменов и получение ученой степени (ученые-книжники). Можно
заключить, что в Китае, так же как в России, владение ресурсами было
отделено от контроля за их использованием.
Указанные особенности институциональной регуляции имели четыре
важных следствия для процесса формирования слоев в китайском обществе.
1. Выработалась относительно четкая идеологическая оценка различных
профессиональных статусов, опиравшаяся на основополагающие принципы
их отношения к конфуцианскому порядку. Наивысшим престижем
пользовались ученые-книжники (literati) и в определенной степени
землевладельцы (gentry)3, за ними следовали крестьяне. Меньше престижа
было у торговцев и военных, а низшую ступень занимали бродяги, нищие,
комедианты и т.п.
2. Освященная конфуцианской идеологией официальная картина общества
дополнялась строгой нормативной фиксацией образа жизни и коллективной
идентичности различных социальных слоев. Непременной частью этого
образа жизни была сильная ориентация на центр и участие в нем.
3. Семейные группы не только служили главными агентами социализации, но
также культивировали специфический образ жизни, обусловленный
принадлежностью к соответствующему социальному слою или к
определенной местности (что представляло очевидный контраст по
сравнению с ролью семейных групп в России). Хотя существовала сильная
корреляция между статусом семьи и ее правами на доступ к центру, эта связь
(в отличие от того, как происходило среди верхушки российского общества)
никогда не была вполне легитимной и автоматической. Тем не менее
вследствие общего значения в китайском обществе родственных отношений,
ориентация родственных объединений на центр в решающей степени
стимулировала участие в нем.
4. Высшие группы (книжники — обладатели ученых степеней и чиновники)
выработали высокую степень сознания и солидарности единого для всей
страны класса. Такое сознание было укоренено в общей культурной
традиции, в использовании одних и тех же каналов социальной мобильности
и в том факте, что эти каналы (школы и академии) были в определенной
степени независимы от центра, хотя и очень на него ориентированными. (Это
общее сознание реализовывалось в известной организационной
автономности различных школ и академий.)
Из-за своей отстраненности от центра и отсутствия прямого доступа к нему
торговцы и другие городские группы не могли выработать широкое
классовое сознание. В Китае, как и в России, эти группы никогда не
образовывали общего социального слоя, хотя, конечно, проживая в той или
иной местности, они поддерживали оживленные связи друг с другом.
Отсутствие классового сознания точно так же характеризовало китайское
крестьянство,
которому
недоставало
соответствующих
каналов
коммуникации и непосредственного доступа к центру. Хотя официально
такой доступ поощрялся, он был предоставлен не крестьянству как
корпоративной общности, а только индивидам, которые выступали членами
этой общности, но отнюдь не ее представителями.
Процесс социальной мобильности в Китае был тесно связан с особенностями
формирования классового сознания. Как хорошо известно, Китай не имел
наследственной аристократии европейского типа; высшей группой была
бюрократия, попасть в ряды которой мог каждый, сдав экзамены на знание
классической книжной учености. Для Китая был характерен тип
протежируемой мобильности, которая была ориентирована на достижение
того или иного социального статуса в строгих институциональных рамках.
Такая ситуация до известной степени напоминала ту, что сложилась в
России; однако в китайском обществе влияние протежируемой мобильности
на отношения между различными слоями было совершенно иным. По
крайней мере, мобильные выходцы из крестьянства и, очевидно, также из
других слоев, переходя в новый социальный статус, сохраняли
преемственность с образом жизни тех групп, из которых они происходили.
Можно, по-видимому, утверждать, что социальная мобильность в
императорском
Китае
была
одним
из
основных
механизмов,
поддерживавших стабильность конфуцианской системы.
III. Основные институциональные организаторы. Ученые-книжники.
Важнейшая роль в общей системе связи между центром и периферией и, в
частности, в процессе формирования социальных слоев принадлежала
ученым-книжникам (literati). Структура этой основной группы, включавшей
всех тех, кто сдал конфуцианские экзамены или готовился к ним, имела
особое значение, связуя имперский центр со всем обществом. Ученая элита
была относительно сплоченным соединением различных групп и квазигрупп,
которые
имели
общую
культурную
основу,
сформированную
экзаменационной системой и приверженностью к учению Конфуция и
конфуцианским ритуалам. Это была относительно широкая элита, которая
рекрутировалась в принципе из всех слоев, даже из крестьян, хотя
фактически
большинство
ее
представителей
происходили
из
землевладельцев. Структурные границы этого слоя почти совпадали с
организационными рамками бюрократии: государственный аппарат
поглощал от 10 до 20% всех ученых-книжников, и, за исключением
нескольких школ и академий, они не имели какой-либо своей собственной
организации. Кроме того, политическая деятельность в имперскобюрократических рамках оказывалась основным поприщем для реализации
принципов конфуцианской этики.
Как уже было отмечено, ученые-бюрократы располагали фактической
монополией в определении социетального порядка и исключительным
правом контроля за использованием ресурсов в макросоциальных рамках.
Однако этот контроль зиждился не только на навязываемых ориентациях и
принудительных мерах, как это было в России, но также и на солидаристских
связях центра и периферии. Контролируя эти связи, ученые-книжники
способствовали формированию широких групп, автономность в доступе
которых к центру была сведена к минимуму, но одновременно
обеспечивалось переплетение отношений солидарности в периферии с
солидаристскими отношениями в центре.
Благодаря тому что бюрократия рекрутировалась из ученых-книжников, она
сохраняла прочные связи с различными слоями и объединяла деятельность
политических элит и идеологов моделей культурного порядка, совмещая в
себе их функции. Кроме того, у нее оказывались тесные отношения с
выразителями солидарности коллективов — главами семей и более широких
родственных групп. Занимая особое положение между центром и более
широкими слоями общества, ученые-бюрократы могли выполнять некоторые
важнейшие интегративные функции в имперской системе, что позволяло им
влиять как на политику правителей, так и на поведение основных слоев
населения. Осуществляя это влияние, ученые-книжники поддерживали
иерархический социокультурный порядок, обязательный и для правителей, и
для подданных.
IV. Движения протеста. Восстания, инакомыслие и политическая борьба.
Совокупность перечисленных характеристик института ученых-книжников и
то обстоятельство, что их существование как элитной группы зависело от
сохранения имперского идеала и реального существования единой
Китайской империи, делали этот общественный институт важнейшим
стабилизирующим механизмом имперской системы. Именно это ученое
сословие в первую очередь позволяло имперской системе удерживать под
контролем и в определенных рамках происходившие в течение всей ее
долгой истории изменения и не давать им выйти за пределы системы. Но эти
же самые характеристики серьезно препятствовали также развитию
реформаторских и трансформативных способностей у наиболее продвинутых
в культурном и политическом отношении групп китайского общества и
сильно влияли на характер перемен в Китайской империи.
Именно монополизация ученым сословием связей между широкими
социальными группами и элитами и элит с центром приводила к снижению
уровня совмещаемости между различными типами социального протеста и
политической борьбой, удерживала на относительно низком уровне
идеологическое обоснование политической деятельности и политической
борьбы. Единственной формой, в которой идеологическая борьба влияла на
передвижки в центральных элитах и реальные перемены в политике центра,
были разногласия, возникавшие в рамках конфуцианской ортодоксальности.
Однако обычно они затрагивали исключительно центр и ученых-книжников.
В истории Китая было немало повстанческих движений, бывали случаи,
когда провинциальные начальники превращались в относительно
независимых военных правителей или происходило установление
чужеземных династий в результате завоевания. Однако эти основные
разновидности социального протеста и политических конфликтов, как
правило, не сопровождались явственным выдвижением принципиально
нового типа политической идеологии. Присущая им символика включала
мощные аполитичные, аисторичные и полумифические или утопические
элементы, которые в общем сохраняли генетическую связь с утвердившейся
ценностной структурой и сложившимися ориентациями.
Большинство повстанческих движений предлагали лишь видоизмененную
интерпретацию господствовавшей структуры ценностей и не создавали
каких-либо новых ориентации. Политические ориентации военных
губернаторов и региональных военных правителей точно так же не выходили
за рамки существовавших ценностных и политико-идеологических структур.
Эти региональные правители стремились либо к большей независимости от
центрального правительства, либо к захвату власти в центре; однако
исключительно редко они ставили целью при этом создание политической
системы нового типа.
То же самое было свойственно важнейшим проявлениям инакомыслия.
Даосизм, буддизм и особенно различные второстепенные конфуцианские
школы либо действовали в рамках существующей социальной системы, либо
стремились к уходу из нее. Конкретные формы социальных отношений и
сущностные аспекты социополитического порядка оказались затронутыми
этими движениями лишь в очень незначительной степени. Буддизм и
даосизм были в Китае религиями второго плана и, за некоторыми важными
исключениями, развитие которых было подавлено чиновничеством, не
оказали сколько-нибудь серьезного воздействия в плане глубинной
трансформации китайского социального и политического порядка.
V. Низкий уровень совмещаемости между изменениями.
Монополия ученых-книжников в поддержании связей между широкими
социальными группами и элитами и между элитами и центром приводила
также к тому, что изменения в структуре политического режима и изменения
в структуре экономической сферы или различных социальных слоев
относительно слабо совпадали между собой. По уровню этой совмещаемости
Китай отличался от других имперских систем.
Общей для всех имперских обществ была совмещаемость между
изменениями в характере политического режима или в политике властей, с
одной стороны, и сдвигами в формировании социальных слоев — с другой.
Мы отмечали ее, когда говорили о политических изменениях,
сопровождавших сдвиги в положении свободных крестьян по отношению к
формировавшейся аристократии и в соотношении сил между этими слоями.
Но даже эта связь проявлялась в Китае (по контрасту, например, с
Византийской империей) больше на уровне политики правителей, не затрагивая формы политического самовыражения данных слоев. Значительное
развитие городов и торговли при правлении династии Сун (960—1279 гг.),
хотя и было связано с изменениями в правительственной политике, также не
сопровождалось изменениями в способе воздействия этих групп на центр.
Более того, в Китае изменения в политических границах или смена династий
в меньшей степени вели к изменениям в экономических институтах
(аграрной сферы либо торговли), чем в большинстве других имперских
систем. Только в культурной сфере, и прежде всего в конфуцианской
идеологии, происходившие изменения сопровождались изменениями в
политической сфере. Они реализовывались в политической борьбе, которая
приводила к передвижениям в составе элит и переменам в политике. Но, как
было подчеркнуто, эти изменения ограничивались центром — ученымикнижниками, бюрократией и императором. В противоположность Римской
или Византийской империям, в Китайской империи широкие слои населения
либо элиты второго плана затрагивались такими изменениями разве лишь в
небольшой степени.
Как мы видели, утверждая и поддерживая свою монополию доступа к
макросоциальному порядку, ученые-книжники обращались не только к
общепринятым ориентациям, но и к силе, чтобы обособить различные типы
изменений. Обособление достигалось благодаря тому, что ученые-книжники
вообще и чиновная часть этого слоя в частности соединяли роль
функциональных элит с ролью идеологов моделей культурного порядка. В
результате соединения этих ролей они монополизировали связи между
центром и периферией, определив структуру этих связей одновременно в категориях конфуцианской идеологии и в рамках имперских институтов.
В результате идеологические нововведения или реформаторские тенденции,
которые порождало конфуцианство, большей частью оказывались
направленными
на
совершенствование
природы
индивидуальной
ответственности, т.е. обращенными к чувству долга индивида, а это
тормозило образование институциональных связей между разнообразными
движениями социального протеста и участниками политического конфликта.
По сходным причинам на институциональном уровне различные группы
находили лишь редкие возможности для своего сплочения и
самоидентификации или точки опоры для развития внутренних сил.
Соответственно у этих групп оказывалось мало возможностей, чтобы стать
опорой новых институциональных структур или эффективно поддержать
институциональные изменения. Вследствие этого реформаторские движения,
возникавшие в имперскую эпоху и позже, в ходе модернизации Китая,
отличались известной закрытостью: либо они ограничивались рамками
центра, либо они оставались в ритуальном отношении связанными с
некоторыми специфическими и очень ограниченными типами локального
статуса. Те движения, которые не были ограничены центральными элитами,
включали главным образом разрозненные группы; к тому же они оставались
обособленными как от этих элит, так и от широких слоев общества. Как
результат, такие движения оказывались мало способными и к созиданию в
институциональных сферах, и к изменению структуры центра.
5. Исламская цивилизация.
I. Культурные ориентации. Структура центров и состав институциональных
организаторов.
В средние века и в начале эпохи Нового времени в мусульманском мире и в
Европе сформировались две заметно отличающиеся друг от друга модели
соотношения между особенностями культурных ориентации, характером
связей центра и периферии, составом институциональных организаторов, с
одной стороны, и типами изменений — с другой.
Наиболее важными культурными ориентациями, утвердившимися в
мусульманском мире, были: 1) разделение между космической,
трансцендентной сферой и мирским порядком и возможность преодоления
свойственной этому разделению напряженности через полную покорность
Богу и в активизации посюсторонней деятельности — прежде всего в
политической и военной областях; 2) сильное универсалистское начало в
определении мусульманской общности; 3) установление принципа
автономного доступа всех членов общности к трансцендентному порядку,
иначе говоря, возможность индивидуального спасения благодаря покорности
Богу; 4) идеал уммы, политико-религиозной общности верующих,
отделившейся от всех аскриптивных и изначальных форм социальности; и 5)
образ правителя как оплота идеалов ислама, чистоты уммы и гаранта
существования общности. Эти культурные ориентации, касающиеся природы
человека, отношения человека к Богу и отношений между политической,
социальной и космической (или религиозной) областями, повлияли на
определение прав и обязанностей правителей и подданных, на принципы
законодательства и кодификацию законов, на социальную стратификацию и
строительство институтов.
Для нашего анализа особое значение имеет тот факт, что в первоначальном
образе уммы подчеркивалось полное слияние между социополитической и
религиозной общностью в мусульманском мире. Исламское государство
формировалось в ходе завоеваний, осуществлявшихся воинственными
племенами, которых вдохновляла новая универсальная религия. Поэтому
между политикой и религией первоначально существовала почти полная
тождественность. Многие из более поздних халифов (например,
принадлежавшие к династиям Аббасидов или Фатимидов) приходили к
власти на волне религиозных движений, обретали легитимность, обращаясь к
религиозным категориям, и стремились сохранить народную поддержку,
подчеркивая религиозный характер своей власти, ища расположение
религиозных лидеров, опираясь на религиозные чувства населения.
Политические проблемы (в том числе определение принципов
преемственности власти и рамок политической общности) оказывались
первоначально важнейшими теологическими проблемами ислама.
Однако после попыток первых халифов и ранних правителей из династии
Аббасидов единство политической и религиозной общности сделалось
идеалом, который никогда больше не осуществлялся. Этому препятствовали
многочисленные факторы, включая широкий размах мусульманских
завоеваний, противоречия между племенами завоевателей и завоеванными
народами, упование на полную покорность Богу, а также резкое
идеологическое размежевание между универсальными принципами
мусульманской общности и изначальными, локальными или этническими,
формами социальности. Вследствие этого в исламском мире усиливалась
напряженность между политикой и религией, между религиозными
институтами и локальными коллективами, хотя и сохранялась сильная
подспудная религиозно-идеологическая ориентация на соединение этих
институциональных сфер.
Идентичность религиозной общности создавалась, отстаивалась (главным
образом в Священном Законе — шариате), провозглашалась и развивалась
религиозными лидерами, улемами, а в жизнь этот принцип проводился
правителями. Между двумя группами сложились достаточно своеобразные
отношения: улемы превратились в политически пассивную и подчиненную
правителям группу, притом что сохраняли относительную автономность в
осуществлении своих религиозно-юридических функций.
Это имело свои последствия. Хотя основополагающие культурные
ориентации ислама, казалось, создавали условия, способствующие
учреждению систем имперского или особого племенного типа, элементы
этих систем после первых халифов не получили развития в мусульманском
мире, да и сами системы имели здесь тенденцию эволюционировать в
сторону патримониального общества. Эта тенденция усиливалась структурой
элит и институциональных организаторов, которые сформировались в исламе
одновременно с его самоопределением в культурном отношении и
определением границ его распространения.
Резкое идеологическое размежевание в культурной модели ислама принципа
универсальной мусульманской общности с различными формами
естественной социальности вело к ослаблению солидарности между их
членами и политическими и/или религиозными идеологами. Такое
положение способствовало становлению символической и организационной
автономности политических элит, которая достигала здесь очень высокой
степени. Другим следствием была относительно большая в символическом
выражении, но минимальная в организационном плане самостоятельность
религиозной элиты; и этот разрыв со временем увеличивался. В большой
степени зависевшее от правителей религиозное руководство не сложилось в
широкую, независимую и сплоченную организацию. Религиозные группы и
функционеры не поддерживали прочного единства и не образовывали
особого института — за исключением тех случаев, когда, как это имело
место в Османской империи, учреждение такого института брало на себя
государство.
Сложное переплетение религиозных и политических ориентации,
структурные особенности элит и характер отношений между элитами и
локальными аскриптивными общностями привели к тому, что как в
имперских, так и в патримониальных исламских системах возникло
несколько своеобразных типов правящих групп. Важнейшее место среди них
принадлежало военно-религиозным правителям, происходившим из
племенной среды или вышедшим из религиозных сект. Этим правителям
(характерный пример — мамлюки) было свойственно стремление к слиянию
универсалистских ориентации на достижение как религиозной, так и
политической власти. Ими очень сильно подчеркивался принцип выделения
правящих групп среди широких слоев населения, и в то же время они
создавали особые каналы социальной мобильности, такие, как система
гулямов (gulan) вообще и османская разновидность девшизме (devshism) в
частности, посредством которых правящая группа могла пополняться за счет
чужеродных элементов4.
За исключением так называемых миссионерских орденов, устанавливавших
новые режимы, структурные связи между политическими и культурными
элитами или хозяйственными организаторами в исламских регионах были
слабыми (хотя часто между этими группами существовали очень тесные
семейные отношения).
Характер отношений между политическими и религиозными лидерами и
широкими аскриптивными группировками неизбежно ограничивал
автономное участие этих последних в политике. Обычно политические элиты
отделялись от религиозных, и, хотя они совместно выступали главными
проводниками экспансии ислама, их сотрудничество при этом обычно не
вело к общей структурной трансформации.
Отсутствие особого института, подобного церкви, и организационной
консолидированности религиозного сословия, зависимость религиозного
руководства от правителей, вместе с отсутствием механизма
самостоятельного доступа к центру широких слоев населения, приводило к
сужению рамок политической деятельности. Участие в политике оставалось
главным образом занятием двора и чиновничества или же становилось
формой политического выражения крайнего религиозного сектантства.
Конечно, в этих государствах часто возникали религиозные секты и
народные движения; однако в условиях устойчивого режима религиозный
контроль над политической властью был неэффективным, так как не
существовало никакого механизма воздействия на нее, кроме выступления
против режима. Поэтому религиозные секты и народные движения либо
направляли свою политическую активность на уничтожение существующего
режима и учреждение нового, чистого и подлинного, в религиозном
восприятии, порядка, либо они оставались политически пассивными.
Вместе с тем в мусульманском мире отсутствовала достаточно прочная связь
между инакомыслием и народными движениями, с одной стороны, и
формированием институтов, особенно в экономической сфере, — с другой. В
географическом сердце ислама только в ранний период экспансии
осуществлялась тесная связь между религиозными движениями и развитием
городов с их экономической сферой. В более поздний период тяжелая рука
патримониальных султанов, опиравшихся на грубую военную силу, ослабила
такие возможности. В этих режимах постепенно усиливалась тенденция, как
то было в Османской империи, к сосредоточению коммерческой
деятельности в изолированных анклавах иноверцев. Однако это не помешало
мусульманским торговцам, а иногда и ориентированным на торговлю
религиозным орденам сыграть решающую роль в распространении ислама,
как на восток — в Индию и Юго-Восточную Азию, так и на запад — в
Африку.
II. Складывание социальной иерархии, особенности восстаний и характер
перемен. Соотношение племенных, патримониальных и имперских
принципов.
В
сущности,
большинство
исламских
политических
режимов
сформировались на основе патримониальных режимов, племенных
образований и режимов городов-государств, и, хотя совмещение
политической и религиозной сфер оставалось важным идеологическим
принципом,
рассмотренные
выше
особенности
мусульманского
политического процесса приводили к тому, что в большинстве исламских
режимов сложился образец изменений, сходный с типом обособленных
изменений. Лишь в шиитском исламе вообще и в Иране в частности
утвердилось гораздо более тесное отношение между компонентами
макросоциального порядка и, благодаря этому, между происходившими в
них изменениями.
Но в то же время даже в суннитском исламе тип изменений значительно
отличался от типа обособленных изменений из-за латентной тенденции к
совмещению, тесно связанной с большим идеологическим значением
принципа единства уммы. Несмотря на то что в большинстве исламских
политических систем (особенно в периоды стабилизации либо упадка)
сохранялись
сильные
патримониальные
черты,
воздействие
основополагающих культурных ориентации ислама само по себе порождало,
по крайней мере в географическом сердце ислама, динамику изменений,
выходящих за рамки типичного патримониального или имперского образца.
Эта динамика затрагивала специфические характеристики символической
статусной иерархии, которые нельзя было найти, по крайней мере в той же
форме, в других патримониальных либо имперских системах.
Прежде всего обращает на себя внимание формирование в исламе
относительной автономности в религиозной сфере, обусловленной
принципом полного равенства всех верующих. Этот принцип, который очень
мало сочетался с другими основаниями статусной иерархии, привел к
созданию особых форм мобильности в религиозной сфере и ее институтах.
По всему мусульманскому миру этот принцип в той или иной степени и
форме оказал влияние на структуры социальной стратификации. В
имперских обществах он либо усиливал приверженность различных групп
населения к центру при сохранении центрального контроля над статусными
критериями, либо способствовал созданию относительно обособленного
(хотя он мог быть и широким) социального слоя, который мог служить
источником политической активности, превращающейся в политическую
борьбу. В патримониальных режимах этот принцип даже еще в большей
степени способствовал формированию особого слоя, который также мог
сдалаться ядром политического возмущения. При всем том в
патримониальных режимах этот обособленный слой был еще меньше
интегрирован в систему социальной стратификации, чем в имперских
обществах.
Другим аспектом социальной стратификации, присущей различным
мусульманским странам, было преобладание группового принципа в системе
иерархии. Ислам объединял под одним религиозным и часто также
политическим, сводом самые различные племенные, городские, сельские и
региональные группы, которые изначально имели очень мало общего между
собой. Благодаря исламу создавались новые каналы социальной мобильности
и взаимосвязи между различными группами и секторами за пределами
религиозной сферы. Однако преобладание групповой стратификации
приводило либо к усилению обособленности различных статусных
образований, либо к обострению конфликтов между ними. Еще одним
следствием оказывалась тенденция статусной иерархии пересекать
политические границы.
Специфические черты исламской цивилизации в их совокупности
отражались в особенностях процесса изменений. Прежде всего
воссоздавались некоторые базовые параметры вариативности различных
политических форм, характерные для мусульманских обществ. Присущие
исламу сильные универсалистские ориентации и активизм способствовали
формированию имперских или особых племенных систем, в которых
оказывалось возможным совмещение изменений в различных сферах.
Эта тенденция особенно проявлялась при установлении новых политических
режимов: либо имперских систем (последней по времени установления и
наиболее долговечной из которых была Османская империя), либо
полуплеменных (подобно тем, что существовали в Магрибе или даже позднее
в области Сват5). В то же время недостаточная способность основных
социальных и религиозных групп к самоорганизации и политической
деятельности создавала угрозу для оснований имперского или племенного
порядка, часто подталкивая тот или иной мусульманский режим в сторону
патримониальной модели. Такая тенденция слабела после утверждения
нового режима. При стабилизации режима она способствовала
формированию относительно автономных религиозных, правовых,
политических и экономических общностей и институтов. Имперские
системы в мусульманском мире, может быть, в высшей степени явили
обособленность различных групп общества.
На практике культурная идентичность ислама обеспечивалась системой
правосудия и ритуалом, которые осуществлялись улемами под
покровительством правителей, постоянно стремившихся воссоединить умму.
История ислама — прежде всего в самом сердце мусульманского мира —
обнаруживает постоянные колебания: от возникновения почти тоталитарных
политико-религиозных движений, нацеленных на полное преобразование
политического режима такими незаконными средствами, как убийство и
восстание, с одной стороны, к сильным потусторонне-ориентированным
настроениям и политической пассивности — с другой. Все это вместе взятое
и способствовало сохранению деспотических режимов.
6. Западная, или европейская, цивилизация.
I. Культурные ориентации. Структурный плюрализм.
В имперских и имперско-феодальных системах средневековой Европы, а
также Западной и Центральной Европы начала Нового времени сложилось
иное соотношение между культурными ориентациями, отношениями центра
и периферии, структурой элит второго плана и типом изменений.
Для европейской цивилизации характерны переплетение противоположных
культурных ориентации и многообразие структурных образований.
Символический плюрализм и разнородность европейских обществ
очевидным образом проявлялись в разнообразии присущих им культурных
традиций. Из иудео-христианской, греческой, римской традиций,
соединившихся с многочисленными племенными разновидностями, и
сложилась собственно европейская культурная традиция.
Наибольшее значение среди ориентации европейской культуры имело
утверждение обособленности космического, культурного и социального
порядков и одновременно взаимосвязи между ними. Сама взаимосвязь
воспринималась в представлениях о напряженности отношений между
трансцендентным и мирским порядками и включала также представление о
многообразии способов преодолеть это противостояние: от посюсторонней
политической
и экономической деятельности до потустороннеориентированной активности. Другой важной культурной характеристикой
были высокий уровень активизма и приверженность широких слоев
населения и отдельных групп ориентациям на мирской и трансцендентный
порядки. Еще одной особенностью была высокая степень автономности
доступа различных групп и слоев к этим порядкам, хотя этот доступ в какойто степени ограничивался такими институтами, как церковь или
политическая власть, претендовавшими на роль посредников. На этой почве
возникало постоянное соперничество.
Наконец, европейская цивилизация отличалась тем, что в ее культурной
традиции существовало определение индивида как автономной в отношении
доступа к различным порядкам мироздания личности и ответственной перед
ними.
Этот комплекс культурных ориентации оказался связанным с очень
специфическим типом организационно-структурного плюрализма, который
значительно отличался от византийского типа, хотя многие черты
культурной модели этой империи были сходными с западноевропейскими. В
Византийской империи плюрализм проявлялся в относительно высокой
степени структурной дифференциации в рамках довольно унифицированного
социопо-литического устройства, в котором различные социальные функции
были распределены между разными социальными группами. Напротив, для
европейского плюрализма было характерно сочетание более низких (хотя и
неизменно возраставших) уровней структурной дифференциации с
постоянно изменяющимися рамками общностей и групп.
Между этими общностями и группами не существовало четкого разделения
функций. Они находились скорее в постоянном соперничестве, объектом
которого выступали: статус в социальном и культурном порядках,
осуществление важнейших социальных функций (экономических,
политических или культурных), а также определение своего положения в
рамках аскриптивных общностей.
Сочетание этих культурных ориентации и структурных предпосылок
сформировало несколько базовых характеристик европейской системы
общественных институтов. Для нас особый интерес представляют структура
центров и характер отношений между центром и периферией с теми
значительными вариациями, которые возникли в средние века и в начале
Нового времени в Западной и Центральной Европе. Она явила своеобразное
сочетание имперских образцов и собственно феодальной системы
институтов, которую следует отличать от простой децентрализации или
дезинтеграции больших патримониальных либо племенных образований. Эти
институты имели сущностные характеристики, роднившие их с имперскими
обществами. Объяснение такого сходства можно найти, как много лет тому
назад предложил О. Хинце6, в имперском прошлом и имперских
устремлениях той цивилизации, в рамках которой они возникли.
Важнейшее значение среди проявлений этих устремлений имела
символическая и в известной степени организационная отделенность центра.
Но, в отличие от собственно имперских обществ, феодальным системам была
присуща множественность центров и подцентров, каждый из которых имел
различные политические, культурные и экономические ориентации. Эти
центры и подцентры образовывали сложную иерархическую систему,
которая, однако, в принципе никогда не могла приобрести унифицированно
жесткий порядок, поскольку в ней не было отчетливого преобладания
какого-либо одного из центров. Естественно, что деятельность центров,
занимавших более центральное, высокое положение, была шире по охвату,
чем деятельность локальных подцентров, но и они не обладали монополией в
той или иной сфере социальной деятельности. Каждый из локальных
подцентров сохранял определенную самостоятельность в распоряжении
некоторыми из местных ресурсов и имел доступ к видам деятельности более
высоких по отношению к нему центров.
Кроме того, различные центры не были совершенно разобщены. Между ними
существовали определенные структурные связи, и их объединяли
политические и культурные ориентации. Конечно, каждая группа, в
распоряжении которой находились какие-то ресурсы, необходимые для
осуществления политических либо культурных ориентации центров,
получала особое преимущество в sail конном и самостоятельном доступе к
этим центрам. Не только церковь, но также многие территориальные или
статусные группы могли в той или иной степени самостоятельно переводить
свои, ресурсы из одной институциональной сферы в другую и из периферии
в центр.
Наконец, общества Западной и Центральной Европы всегда отличались
высокой степенью приверженности, как центров, так и периферии, к общим
идеалам или целям. Центр требовал от периферии поддержку для своей
политики, а периферия воздействовала на характер полномочий и структуру
центра. Как монархи, так и феодальные правители, а позднее и, как мы
увидим, лидеры современных национальных государств придавали особое
значение выработке общих символов культурной и политической
идентичности и формулированию коллективных политических целей заодно
с регуляцией отношений между различными, относительно независимыми
группами.
II. Формирование социальных слоев, центра и институтов.
Следует выделить шесть присущих Западной и Центральной Европе
особенностей формирования социальной структуры:
1. Наличие множества центров в европейских обществах воспрепятствовало
развитию системы профессиональной дифференциации кастового типа, хотя
существовали сильные тенденции для эволюции в этом направлении. В
каждом значительном и самостоятельном социальном образовании, будь то
церковь, королевский двор, разнообразные социальные слои или
составляющие их общности, формировалась особая система ценностей,
претендовавшая на общезначимость. Как следствие множественности
критериев, образовалась сложная система статусной иерархии. Люди с
высоким положением в одной иерархии могли оказаться внизу в другой и
наоборот. В социологии этот феномен получил название статусной
инконгруентности (несовпадения). Другим следствием стало постепенное
стирание граней между группами свободного и несвободного населения.
2. Существовала сильная тенденция к формированию общего классового
сознания и классовой организации, которая особенно заметно проявлялась
среди высших слоев. Свое наиболее полное выражение эта тенденция нашла
в складывании системы представительства, высшей точкой развития которой
были собрания сословий (Assemblies of Estate), обеспечивавшие доступ к
центру и возможность участия в политике представителям широких
социальных слоев на основе принципа корпоративной принадлежности. В
противоположность, например, Китаю в Европе классовое сознание и
классовая организация в рамках целой страны сделались достоянием не
только высших статусных групп, но также средних групп и даже низших
слоев свободного населения.
3. В отличие от России и Китая, но при некотором сходстве с Индией, в
Западной и Центральной Европе образовалась тесная взаимосвязь между
семейно-родственной и классовой идентичностью. Семья и более широкие
родственные группы оказывались очень важным инструментом для
достижения их членами высокого положения в обществе и поддержания
преемственности этих позиций на аскриптивной основе. Вместе с тем в
Европе существовал высокий уровень конфликтности вследствие того, что
вопрос о представительстве и участии того или иного социального слоя в
деятельности центра оставался открытым. Конфронтация на этой почве не
могла возникнуть, по меньшей мере теоретически, в Индии, где тот или иной
уровень участия был зафиксирован в ритуализованной аскриптивности
(однако и здесь существовали исключения из общего правила).
4. Все социальные слои, особенно относящиеся к средним стратам, включали
в свой состав весьма разнообразные профессиональные и управленческие
группы и организации, связывая их воедино общим образом жизни и общим
способом получения доступа к центру. И в этом отношении Европа была
больше похожа на Индию, чем на Россию или Китай. Различные слои
соединяли владение ресурсами со стремлением контролировать
использование и перемещение этих ресурсов либо непосредственно, либо
благодаря своему участию в центре.
5. С четырьмя отмеченными чертами была связана возможность
дифференцированного, но тем не менее совместного участия различных
групп и слоев в деятельности разных культурных институтов и центров.
Наличие нескольких каналов доступа к одному и тому же центру, которыми
можно было пользоваться совместно, облегчало налаживание контактов
между слоями. Все это, в свою очередь, способствовало переплетению образа
жизни различных слоев.
6. Итак, мы обнаруживаем высокий уровень мобильности среди социальных
слоев, находящихся на всех уровнях общества. Как указал М. Блок в своей
книге «Феодальное общество», формирование высокой мобильности имеет
истоки в истории феодального периода, и она существовала в европейских
обществах, по-видимому, до конца или, по крайней мере, до середины эпохи
абсолютизма. Тот факт, что социальным слоям в Европе были присущи
коллективное сознание и самостоятельная организация, распространявшиеся
на все общество, облегчил сдвиги, которые привели к изменениям в
семейном и этническом составе различных групп. Свойственная европейским
обществам мобильность в целом была открытой; ей был присущ дух прямого
соперничества. Она больше основывалась на конкуренции, хотя действовал и
фактор покровительства со стороны правителей. В резком отличии от Китая,
но в некотором отношении подобно Индии с ее тенденцией к формированию
подкаст в европейских обществах действовал не только процесс мобильности
в рамках относительно фиксированной системы рангов, но закрепился также
процесс создания дополнительных возможностей через утверждение новых
рангов и статусов. Прекрасной иллюстрацией этому служит развитие
городов, которое началось еще задолго до эпохи абсолютизма. Особое
значение имели те новые формы связей между различными городскими
группами и слоями, которые возникли в позднем средневековой городе и
опосредовали утверждение новых форм политического и социального
сознания.
Проделанный анализ показывает, что кристаллизация структурных
тенденций европейских обществ, в сочетании с преобладавшими в Европе
специфическими культурными ориентациями, придали европейской
цивилизации ряд особенностей: 1) наличие множества центров; 2) высокая
степень взаимопроникновения центров и периферии; 3) относительно
незначительное совпадение рамок и структур классовых, этнических,
религиозных и политических образований; 4) сравнительно высокая степень
автономности групп и слоев, как по отношению друг к другу, так и в
отношении механизма доступа к центрам общества, что дополнялось сильной
тенденцией к сочетанию владения ресурсами с контролем над их
использованием и перемещением в рамках всего общества; 5) высокий
уровень соединения интересов среди различных статусных подразделений и
формирование единого для всей страны статусного (классового) сознания
вместе с общей организацией в таких масштабах политической деятельности;
6) плюрализм и самостоятельность культурных и функциональных
(экономических или профессиональных) элит, а вместе с тем высокая степень
взаимопроникновения между ними, наряду с тесными отношениями с более
широкими аскриптивными слоями; 7) относительно высокий уровень
автономности правовой системы по отношению к другим интегративным
механизмам, прежде всего политическим и религиозным; 8) высокая степень
автономности городов, становившихся центрами социального созидания,
формирования институциональных структур и культурной идентичности.
III. Формы протеста и типы изменений.
Характер перемен в традиционной европейской цивилизации был тесно
связан с особенностями ее институциональных структур. Перемены
происходили при относительно высоком уровне развития как движений
протеста, так и политической борьбы, опиравшихся на символическую и
идеологическую определенность целей. Специфической была также высокая
степень совмещения изменений в различных сферах и, прежде всего,
сочетания переустройства политических режимов с переменами в других
компонентах макросоциального порядка.
Изменения в каком-нибудь одном компоненте макросоциального порядка
оказывали влияние на другие компоненты и. что особенно важно — на
политическую сферу, что, в свою очередь, оказывало обратное воздействие,
способствуя переустройству других сфер. Эти постоянно происходившие
изменения необязательно совмещались в единой политической или
культурной системе.
По сравнению с чисто имперскими системами европейским обществам была
присуща гораздо меньшая устойчивость режимов. Рамки режима, границы
общностей и структура центров постоянно изменялись. Вместе с тем эти
общества проявляли гораздо большую способность к такому обновлению
институтов, которое выходило за пределы политических и национальных
границ и за рамки центров.
На характер перемен в европейских обществах влияли также следующие
факторы: 1) сильная предрасположенность относительно близких к центру,
но автономных элит второго плана сделаться главными носителями
религиозного инакомыслия и политических нововведений; 2) относительно
тесные отношения этих элит с более широкими социальными слоями и,
следовательно, также с движениями протеста; 3) склонность подобных элит и
более широких социальных слоев направлять свою активность на
формирование центров, а также создание особых институтов в
экономической, культурной и образовательной сферах.
В результате влияния всех этих факторов возникала возможность
противоречий между задачами формирования центров и требованиями
процесса созидания институтов, хотя такое созидание в большинстве
институциональных областей рассматривалось как имеющее прямое
отношение к построению центров и оценивалось в соответствии с вкладом
этого процесса в создание базовых предпосылок центров, а сами центры
оценивались по их способности к созданию справедливых и полезных
институтов. Перечисленные факторы одновременно создавали основу для
соперничества между различными группами или слоями общества и его
элитами за участие в формировании центров и институтов.
7. Сравнительное замечание. Япония.
Проведем беглое сопоставление европейского типа изменений с японским,
который впоследствии мы рассмотрим более подробно. Здесь достаточно
сказать, что Япония тоже обладает опытом постоянного совмещения
изменений в политической и социально-экономической сферах. Кроме того,
формирование институтов в Японии было тесно связано с развитием
центров; но политическая борьба в ней отличалась меньшей
определенностью, так же как роль в этой борьбе религиозных сект и
социальных движений была выражена гораздо слабее, чем в Европе.
Традиционному японскому обществу были присущи некоторые структурные
характеристики, общие для других имперско-феодальных систем: сильная
выделенность центра, очень интенсивное взаимовоздействие центра и
периферии; относительно высокая степень самовыражения в статусной и
политической ориентации социальных слоев, а также тенденция к
формированию довольно широкой идентичности слоев, которую не смог
полностью подавить даже режим Токугава (1603-1867 гг.) и которая стала
одной из предпосылок его крушения.
В Японии сформировалась не очень отличавшаяся от европейского образца
тенденция к наложению различных структур друг на друга и к
организационному плюрализму. Эта тенденция возникла еще до
установления режима Токугава и пережила его падение. Следует добавить к
этому, что плюрализм в Японии формировался в рамках сохранения
национальной идентичности.
Конечно, в Японии отношениям между центром и периферией и процессу
формирования классов были свойственны социополитические и культурные
ориентации, сильно отличавшиеся от европейских. Хотя, подобно Европе, в
японском обществе заметно подчеркивалась приверженность поддержанию
культурного и социального порядков, эта приверженность не была связана с
представлениями об острой напряженности в соотношении между
трансцендентным и мирским порядками и осознанием необходимости
преодоления этого противостояния. Японская традиция принимала
трансцендентный и мирской порядки как предустановленные и представляла
их тесно переплетенными; любые трансцендентные тенденции были, как
показал это Р. Белла, по преимуществу неявственными и подспудными7.
Императорская система и символика представляли ось этого порядка,
которая держалась на приверженности всех членов и образований общества к
центру. Императорская символика воспринималась в основном как
выражение первоначальной общности; она не опиралась на религиозные
предписания и не подразумевала автономный доступ каких-либо социальных
слоев к центру. Такой доступ был в принципе опосредован по отношению ко
всем группам императором или его предствителями.
Именно такого рода приверженность создавала основу для взаимного
воздействия центра и периферии и своеобразия формирования социальных
слоев в Японии, обусловливая те характеристики, которые в
организационном плане, хотя и не в символическом, были сходными с
европейскими. Ранний японский феодализм не опирался на договор или на
политическую волю самостоятельного слоя воинов; не существовало почти
никакого представления о политических правах или о выделенности либо
автономии правовой системы. Поэтому, хотя японская классовая или
иерархическая символика была действительно связана с коллективной
приверженностью к центру, ей недоставало той определенности и
гономности, которые отличали европейскую систему. Вследствие эго
горизонтальное расслоение в японском обществе было относительно слабо
выраженным. Социальная иерархия основана вертикальной чересполосице
различных коллективов, притом что японская статусная система отличалась
жестким иерархиеским устройством и почти полным отсутствием
представления о эзможности равного доступа к центру.
Особенности формирования социальных слоев также были тесно связаны в
Японии со структурой вторичных элит — прежде всего с рчень слабым
развитием специализированных (т.е. тех, что действовали в экономической,
политической, административной или ультурной сфере) элитарных групп.
Большинство таких элит были почти всецело укоренены в тесно спаянных
образованиях, осно-анных на родственных связях и/или на политической
структуре дентра. Возникавшие вторичные элиты располагали минимальной
(автономией; это касается даже, как показывают примеры, и религиозной, и
судебной элиты.
Важнейшее различие между европейским и японским опытом проявлялось в
природе коалиций, которые осуществляли модернизационные изменения в
этих обществах. С наибольшей отчетливостью это различие выражалось в
почти полном неучастии в процессах реструктурирования в Японии
религиозных сект или ересей. Таким группам традиционно было дозволено
вести обособленное дествование в интеллектуальной и эстетической сфере,
поскольку они не воздействовали на базовые предпосылки и
основополагающие нормы системы. Несколько позднее, с началом
модернизации, эта особенность выразилась в слабости автономных
религизных групп, которые или превращались в маргинальные
оппозиционные группировки, или поглощались имперской системой.
Часть 3. АНАЛИТИЧЕСКИЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ.
1. Символическая разработанность. Структура элит. Типы изменений.
Как мы отметили в конце главы 4, соотношение культурных ориентаций с
формированием институтов вообще и типом социальных изменений в
частности определялось тремя главными факторами. Первый — это степень
критического восприятия фактов человеческого существования и уровень
символической
разработанности
основных
характеристик
институционального порядка.
Второй — структура, и особенно степень автономности, институциональных
организаторов или элит, которые выступали главными носителями таких
ориентации. Третий — объем институциональных рынков и масштабы
потока свободных ресурсов.
Мы увидели, что чем проблематичней воспринимаются факты человеческого
существования, тем больше потенциал автономности среди таких
организаторов; тем выше также (при прочих равных условиях — особенно в
уровне технического развития и отношениях с внешней средой) степень
свободного перемещения ресурсов и видов деятельности и тем больше объем
институциональных рынков (т.е. денежного рынка, рынков престижа и
власти), границы которых пересекают основные аскриптивные общности;
тем выше свободное перемещение ресурсов между этими рынками. Еще
одним следствием является более высокий уровень символической
разработанности
и
автономности
основных
коллективов
и
институциональных сфер.
Напротив, чем менее проблематично воспринимаются факты человеческого
существования, чем ниже уровень символической разработанности
институциональных сфер, тем меньше автономия институциональных
организаторов и элит и объем институциональных рынков. Тем большей
оказывается их привязанность к аскриптивным общностям, более ограничено
перемещение свободных ресурсов между рынками и ниже степень
институциональной выделенности важнейших областей социальной
организации.
В конце главы 4 было рассмотрено также отношение между этими аспектами
культурных ориентации и социальной организации, с одной стороны, и
процессами изменений — с другой. Мы отметили, во-первых, что
критический подход к характеристикам человеческого существования и
наличным формам социальной организации способствует возникновению
социального порядка, который отличается от существующего не только тем,
что иерархический смысл существующего устройства оказывается
перевернутым, но также возможностью выхода за его пределы. Во-вторых,
мы предположили, что символическая разработанность важнейших аспектов
социальной организации и увеличение объема рынков может расширить
потенциал свободного перемещения ресурсов, что, в свою очередь,
увеличивает возможности их перемещения в новых направлениях. В-третьих,
мы указали на то, что более автономные организаторы могут привести в
действие альтернативные представления о социальном порядке, а также
создать организационные рамки для освободившихся новых ресурсов. Они
могут реализовать возникшие потенции для передвижения этих ресурсов в
новых направлениях и, используя такие ресурсы для деятельности в
различных сферах, дать тем самым толчок к совмещающимся изменениям.
Мы проиллюстрировали эти положения в сравнительном анализе
патримониальных режимов, имперских (и имперско-феодальных) систем и
режимов особых городов-государств и племенных объединений. Как было
отмечено, конкретные формы существовавших потенциалов изменений
заметно различались не только в зависимости от типа системы, который мы
рассмотрели, но и в рамках каждого из них. В данной главе мы
проанализировали некоторые из этих различий более подробно и показали,
как различия в культурных ориентациях и в структуре элит, а также в
характере внешней среды обусловливали особенности структурирования институтов вообще и специфику процессов изменений в избранных
патримониальных, имперских и имперско-феодальных обществах. В
следующей части мы постараемся соединить, в самом предварительным
виде, некоторые направления этого анализа.
Подчеркнем еще раз, что реализация различных потенций изменений была
обусловлена факторами двух порядков в их взаимосвязи. Первый ряд
факторов — это группировка культурных ориентации и их
институциональных механизмов; второй — условия среды, формировавшие
организационные рамки, в которых осуществлялись потенции изменений.
Начнем с анализа институциональных механизмов различных культурных
ориентации.
Итак, различные культурные ориентации порождают альтернативные
представления о социальном порядке, различные уровни широты рынков,
доступности
свободных
ресурсов
и
разные
очаги
для
их
институционализации и для возможных направлений изменений. На эти
процессы оказывал большое влияние характер организаторов и коалиций
организаторов, выступавших как носители этих ориентации.
2. Культурные ориентации, определяющие типы изменений. Приверженность
космическому и социальному порядкам.
Если высокий уровень приверженности социальному и культурному
порядкам не дополнялся сознанием острой напряженности между
трансцендентным и мирским порядками, такая приверженность не
способствовала складыванию автономности в выражении моделей
социального порядка или самоопределении политических элит. Как это
отмечалось на примере Японии, такое сознание может быть у элит, хотя и
привязанных к аскриптивным группам, но сильно ориентированных на
выполнение обязательств за пределами этих групп, особенно на социальные
и культурные центры. Результатом могло стать объединение
институциональных элит с выразителями сплоченности различных
коллективов, что, в свою очередь, создавало высокую вероятность появления
свободных ресурсов, хотя и при отсутствии перспективы формирования
широких рынков. Рынки либо были замкнуты рамками аскриптивных
коллективов, либо они перекрывали их и оказывались под контролем центра.
Недостаточное ощущение напряженности отношения между космическим и
мирским порядками и ориентация на предуста-новленность этих порядков
ограничивали складывание утопических настроений и формирование
представлений об альтернативном общественном строе. Вследствие этого
возникавшие свободные ресурсы обычно направлялись лишь на расширение
организационной сети и частичные изменения в социальной организации; в
символическом плане имели место незначительные уточнения в определении
институциональных комплексов, форм коллективности и отношений центра с
периферией. Из-за разнородности условий среды и слабости централизации
такие тенденции, хотя и давали толчок к росту структурной
дифференцированности, зачастую не допускали при этом символического
усложнения.
3. Культурные ориентации, определяющие типы изменений. Восприятие
напряженности между космическим и мирским порядками. Потусторонние
очаги спасения.
Обостренное
восприятие
напряженности
отношения
между
трансцендентным и мирским порядками, высокий уровень приверженности
этим порядкам при отсутствии представлений об их предустановленности
создавали тенденцию к критическому осмыслению фактов человеческого
существования. В свою очередь, эта тенденция приводила к относительно
большей свободе в перемещении ресурсов, к образованию широких рынков и
к высокой степени символической разработанности важнейших институциональных сфер. Интенсивно развивались также представления об
альтернативном социальном порядке.
Возрастание
объема
свободных
ресурсов,
расширение
рынков,
символическая разработанность важнейших институциональных сфер и
развитие представлений об альтернативном социальном и политическом
порядке усиливали, в конечном счете, тенденции к совмещаемости
преобразований в различных сферах. И все это, как мы видели при анализе
имперских и имперско-феодальных систем, имело предпосылкой более
острое ощущение напряженности в отношении между космическим и
мирским порядками. Возникавшие потенции к преобразованиям
реализовывались элитами (идеологами моделей культурного порядка,
политическими элитами и даже выразителями солидарности аскриптивных
коллективов), которым был свойствен высокий уровень автономии. Процесс
создания группировок таких организаторов мог иметь ту или иную
интенсивность, коалиции могли принимать ту или иную форму, и все это
оказывалось воплощенным в том или ином типе изменений в зависимости,
как показывают приведенные в этой главе материалы, от характера
представлений о напряженности между космическим и мирским порядками
и, прежде всего, о путях преодоления этого противостояния.
В предшествующем анализе были выделены две переменные, имеющие в
данном контексте особое значение. Одну представляет разделенность между
посюсторонней и потусторонней ориентациями в разрешении напряженности
между космическим и мирским порядками и соответственно упор на тот или
иной путь разрешения. Вторая, пересекающаяся с первой, — это отношение
между свойствами или очагами разрешения этой напряженности, с одной
стороны, и свойствами важнейших первичных и иных аскриптивных
коллективов — с другой.
Направления для разрешения напряженности в отношении между
космическим и мирским порядками конкретно определялись степенью
концентрации ресурсов, размерами рынков, уровнем символического
отображения различных институциональных сфер, а кроме того, характером
представлений об альтернативном общественном строе. Тенденции к
концентрации
ресурсов,
расширению
рынков,
символизации
институциональных сфер и развитию альтернативных представлений имели
преимущественное распространение в институциональных сферах, наиболее
тесно связанных с очагами разрешения напряженности (спасения), и,
напротив, тормозились в тех сферах, которые не были непосредственно
связаны с этими очагами. Такого рода процессы приобретали особый размах
в тех случаях, когда очаг спасения оказывался в потустороннеориентированной деятельности, скорее чем при соединении ориентации на
потустороннюю и посюстороннюю активность.
Возможность соединения свободных ресурсов, порождавшаяся такими
представлениями или же соответствующими техническими и структурными
условиями их направления по новым институциональным каналам,
оказывалась более существенной там, где имелась тесная связь между
идеалами спасения, иначе говоря, разрешения противостояния между
трансцендентным и мирским порядками, с одной стороны, и принципами
организации основных первичных коллективов — с другой. Такое
соединение осуществлялось через тот или иной тип организаторской
деятельности в различных институциональных очагах, отличавшихся
различной степенью автономности и выделенности.
Таким образом, при прочих равных условиях упор на потустороннее
разрешение напряженности отношения между трансцендентным и мирским
порядками порождал тенденцию к расширению рынков и к выделению
центров в религиозной сфере, но не к изменению других институциональных
сфер. Внутренняя динамика последних обусловливалась соотношением
между уровнями технического развития и структурной дифференциации, с
одной стороны, и сравнительно низким уровнем символизации этих сфер — с
другой. Для таких обществ не было характерно широкое возникновение
свободных ресурсов или рынков за пределами религиозной сферы. Не
возникали здесь и устойчивые связи между свободными ресурсами,
образовавшимися в нерелигиозных сферах, и теми, что были в религиозной
сфере. Обособленность внутренней динамики остальных сфер от работы
культурных и религиозных центров оказывалась тем больше, чем дальше
очаги потустороннего разрешения напряженности между космическим и
мирским порядками отдалялись (как было, например, в буддизме) от
важнейших аскриптивных первичных общностей.
В подобных примерах идеологи моделей культурного порядка, будучи
автономными в религиозной деятельности, оказывались укорененными с
точки зрения своей деятельности в других институциональных сферах, в
более широких аскриптивных общностях. То же самое касалось
политических и экономических элит. Вследствие этого у них не
выработалась самостоятельность ни в действиях, ни в ориентациях, не
выработалась и способность к созданию новых типов институциональных
комплексов.
Ориентации на потустороннее разрешение напряженности между
космическим и мирским порядками могли стать существенным достоянием и
важнейшим символом коллективов, не приводя к переустройству важнейших
институциональных сфер и изменению структуры отношений между центром
и периферией. Изменение структуры институциональных сфер, имевшее
место в таких обществах, как правило, осуществлялось внутренними или
внешними элитами, которые не были непосредственно связаны с
религиозной деятельностью.
В той мере, в какой потустороннее разрешение напряженности между
трансцендентным и мирским порядками опиралось, как в индуизме, на
тесное отношение между (потусторонними) атрибутами спасения и
важнейшими свойствами основных аскриптивных групп, возникала
тенденция к формированию свободных ресурсов и широких рынков,
распространявшихся за пределы собственно религиозной сферы. Эти
свободные ресурсы могли быть направлены по различным второстепенным
каналам, хотя, в конечном счете, контроль за их перемещением также
возлагался на религиозную сферу.
По всей вероятности, такие ориентации порождались, усиливались и
передавались теми элитами, которые сочетали, с одной стороны, известную
степень автономности в отправлении своих специфических функций
(политических, экономических и т.д.) и известную внутреннюю
дифференцированность этих функций, а с другой — сильную укорененность
в солидаризованных группах. Характерным в таком случае было и
преобладание идеологов моделей культурного порядка, которые выступали
носителями и образцами потустороннего спасения.
Несмотря на то что представления об альтернативном строе могли быть
крайне ограниченными и в целом имели здесь потустороннюю
направленность (как, например, в буддизме), такого рода представления
могли оказаться связаны с конкретной деятельностью в различных
институциональных сферах. Однако во всех случаях они не вели к широкому
структурному
преобразованию
этих
сфер.
Поэтому
процессы
институциональных изменений оказывались ограничены организационным
уровнем. Давая толчок к появлению новых организационных комплексов,
они тем не менее не сопровождались серьезными изменениями в
основополагающих значениях и общей структуре институтов.
4. Культурные ориентации, определяющие типы изменений. Посюсторонние
очаги спасения.
Обостренные представления о напряженности отношения между
трансцендентным и мирским порядками вместе с подчеркиванием значения
посюсторонней деятельности реально оборачиваются максимальным
возникновением свободных ресурсов, наиболее широкими размерами
рынков, наибольшей разработанностью символической деятельности и ее
институциональных механизмов и максимально широким разнообразием
альтернативных концепций социального и политического строя.
Острое восприятие этой напряженности дает толчок к возникновению (или,
по крайней мере, ассоциируется с возникновени ем, или осуществляется с
возникновением) таких организаторов, как идеологи моделей культурного
порядка, политические элиты и выразители сплоченности различных
коллективов. Всем этим организаторам в достаточно высокой степени
должна быть присуща автономность.
Поэтому общества, где преобладают ориентации на напряженность
отношения между космическим и мирским порядками, склонны к
формированию многочисленных коалиций таких организаторов, которые
могут оказаться в состоянии не только мобилизовать свободные ресурсы, но
и направить их по новым каналам. Вследствие того что конечным
направлением своей деятельности такие институциональные организаторы
потенциально были обращены друг к другу, направления изменений могли
оказаться совмещающимися.
При всем том типу совмещающихся изменений были присущи различные
варианты в зависимости от особенностей содержания этих ориентации.
Факторами вариативности оказывались: 1) степень переплетения либо
обособления посюсторонних и потусторонних очагов спасения (эта
альтернатива была известна большинству высоких цивилизаций и религий);
2) степень распространения в институциональных сферах очагов
посюстороннего разрешения противостояния между трансцендентным и
мирским порядками; 3) соотношение между важнейшими атрибутами или
очагами разрешения этой напряженности, с одной стороны, и исходными
свойствами основных аскриптивных общностей — с другой.
Чем слабее была ориентация на потусторонний мир (как в Китае), тем
больше очаг спасения имел посюстороннюю направленность. Чем больше
посюсторонние
очаги
спасения
сосредоточивались
в
одной
институциональной сфере (как было в Китае и в мусульманских обществах),
тем сильнее оказывалась интегрирующая тенденция. Формировавшееся
многообразие потенциально автономных элит — особенно идеологов
моделей культурного и социального порядка и политических элит —
соединялось в одних социальных рамках или в одной социальной категории,
проявлявшей небольшую внутреннюю дифференциацию. Тем больше была
также тенденция к разделению между владением ресурсами и контролем за
их использованием и перемещением в макросоциальной сети.
Такая структура порождала ограниченное количество свободных ресурсов и
рынков, даже при поддержании относительно высокого уровня символизации
господствующих институциональных сфер. Перемещение ресурсов между
рынками может быть относительно небольшим; большинство свободных
ресурсов будет направляться в главные институциональные сферы.
Вследствие этого для автономной мобилизации ресурсов различным элитам в
подобных ситуациях неизбежно недоставало своей независимой базы, а
соответственно — внутренний потенциал преобразований оказывался
относительно небольшим.
Сосредоточение на единственном институциональном очаге посюстороннего
спасения — общее для китайской и мусульманской традиции (в исламе таким
очагом служила военно-политическая сфера) — привело к возникновению
сходной структуры организаторов и сходным образом ослабило
преобразовательные возможности обоих обществ. Но в исламе, помимо того,
существовала очень сильная потусторонняя ориентация (имевшая связь с
посюсторонней); именно она содержала представления об альтернативном
социальном и политическом строе. Характерным для этой традиции был
также особый тип политической динамики сект.
Чем слабее, несмотря на наличие символической связи, были
институциональные отношения между посюсторонними и потусторонними
очагами спасения (как, например, в России), тем больше было возможностей
для возникновения ситуации, в которой различные элиты, вместо того чтобы
сливаться, оказывались все более разобщенными. Они сохраняли, однако, в
своей деятельности сильные ориентации друг на друга, а также на центр.
В такого рода ситуациях происходило отделение владения ресурсами от
контроля за их использованием и обращением. Складывались более широкие
сети рынков с более свободным перемещением ресурсов, однако все более
строгим становился контроль со стороны центра. Усиливались тенденции
формирования новых институтов вместе с усилением давления на центр, и
всему этому центр мог противопоставить лишь сдерживающие меры
принудительного характера. В то же время тесное символическое
переплетение очагов спасения в такой традиции создает непреодолимое и
отчетливо выраженное представление об альтернативных социальных
порядках.
В противоположность всем предшествующим случаям в Западной Европе
складывался
величайший
преобразовательный
потенциал.
Европа
демонстрировала и тесное сближение посюсторонних и потусторонних
очагов спасения, и относительную множественность посюсторонних
областей, которые служили такими очагами. Эти очаги породили богатое
разнообразие концепций об альтернативных социальных порядках с их
конкретизацией, а также пришли к возникновению различных групп
автономных организаторов (идеологи моделей социального порядка,
функциональные элиты, к которым присоединились даже выразители
сплоченности аскриптивных общностей) и способствовали формированию
коалиций между ними. Еще одним следствием стала тенденция к соединению
в руках различных групп организаторов владения ресурсами и контроля за их
использованием и обращением. В противоположность Индии такое
соединение не было основано на аскриптивных критериях. Вследствие этого
образовалось многообразие направлений для размещения свободных
ресурсов и каналов связей между различными направлениями.
Сравнение между Европой и исламом подчеркивает значение упомянутого
выше третьего измерения: а именно степени сближения между атрибутами
спасения и свойствами основных аскриптивных общностей; сближение это
было очень слабым в исламе и очень сильным в Европе.
Чем большим было такое сближение, тем больше открывалось каналов для
перемещения ресурсов, тем сильнее были основы сплочения различных
групп организаторов и тем больше была их способность мобилизовывать
ресурсы и манипулировать ресурсами из различных сфер. Напротив, такие
связи оказывались слабее в той пропорции, в какой оказывались
разделенными очаги спасения и свойства аскриптивных общностей. В
результате последним не удавалось предоставить автономные базы
солидарности для этих групп организаторов и тем большим оказывалось
отстранение владельцев ресурсов от контроля за их использованием.
5. Культурные ориентации, условия среды и типы изменений. Замкнутые и
соединяющиеся рынки.
Охарактеризованные нами структурные или институциональные воплощения
различных культурных ориентации в их разнообразных сочетаниях могут
быть обнаружены в различных типах общества, и во всех них они связаны с
деятельностью
относительно
сходных
типов
институциональных
организаторов. Но кажущиеся сходными институциональные воплощения,
особенно в процессах формирования новых институтов и изменений в
институциональной сфере, могут в действительности различаться в
зависимости от конкретных условий. Теперь мы перейдем к рассмотрению
того, как влияют среда и политические условия на эти процессы. Среда
вообще и политическая среда в частности обусловливают прежде всего
объем наличных ресурсов для преобразования структуры институтов и
способность институционализовать потенциал изменений, существующий в
каком-либо обществе или ситуации. Очевидно, что указанная способность
зависит не только от культурных ориентаций различных элит и слоев, но
также от сочетания этих ориентации с имеющимися ресурсами и с
возможностями элит мобилизовать свободные ресурсы.
В предшествовавшем анализе мы встречались с главным аспектом,
определяющим наличие ресурсов, а именно с размерами имеющихся в
обществе рынков. Мы отметили, что чем меньше размеры
институциональных рынков и соответственно объем свободных ресурсов,
тем более ограниченными являются возможности институционализации
изменений. Условия среды влияют на наличие ресурсов для различных
рынков
главным
образом
тем,
что
обусловливают
характер
пространственного размещения рынков и относительную значимость для
общества внутренних либо внешних рынков.
Эти различия особенно отчетливо заметны при сравнении имперских и
патримониальных систем с городами-государствами, большинством
племенных объединений и со всеми бывшими имперско-феодальными
режимами. Города-государства (и некоторые племенные объединения)
проявляли наибольшую зависимость от внешних рынков. Имперским и
патримониальным системам была присуща наибольшая степень
преобладания внутренних рынков. Такого рода различия в структурировании
рынков имели далеко идущие последствия для институционализации
процессов изменений, происходивших в различных типах обществ.
Представленные выше материалы дают основания для нескольких выводов
относительно того, как соотношение между культурными ориентациями,
особенностями элит и условиями среды определяет возможность
институционализации существующего в том или ином обществе потенциала
изменений.
Сравнение между Византийской и Российской империями, с одной стороны,
и
западноевропейскими
имперско-феодальными
обществами
и
цивилизациями ислама и индуизма — с другой, показывают, что имперские
системы выработали относительно унифицированные формы для своих
основных, относительно замкнутых (compact) рынков; Западная Европа и
мусульманский мир (так же как Индия) сформировали соединяющиеся
(crosscutting) рынки.
Относительное преобладание внутренних рынков, будь они замкнутыми или
соединяющимися, приводило во всех перечисленных случаях к
сосредоточению больших ресурсов, которые могли быть мобилизованы в
новых направлениях. Вследствие этого преобладание в обществе внутренних
рынков заметно способствовало институциональному строительству и
преобразованиям, хотя степень интенсивности и направление этих процессов
в большой мере зависели от ориентации и структуры элит, так как во всех
указанных обществах доступ к рынкам и их устройство были
структурированы деятельностью господствовавших элит. В имперских
обществах вся эта деятельностьь контролировалась в конечном счете
политической элитой. В имперско-феодальных системах и в племенных
объединениях структура соединяющихся рынков и связей между ними в
очень большой мере определялась множественностью элит, деятельность
которых часто выходила за политические границы. И в имперских, и
имперско-феодальных обществах природа таких связей очень зависела от
некоторых особенностей этих элит, которые мы проанализировали раньше.
Так, в мусульманском мире функция поддержания таких связей ложилась
главным образом на улемов и различные ордена, однако эти элиты из-за
официального пренебрежительного отношения в мусульманской традиции к
основным местным аскриптив-ным коллективам обычно не формировали
сильные солидаристские связи с такими общностями. Недостаток
солидаристских связей между улемами, политическими правителями и
широкими слоями членов аскриптивных коллективов свел к минимуму
эффективность этой элиты в формировании структуры широких рынков, в
мобилизации ресурсов и их направлении по новым каналам совмещающихся
изменений. Все-таки основополагающие ориентации этих традиций
порождали тенденцию к совмещению, по меньшей мере в крайних
ситуациях, политических и религиозных изменений. В Западной Европе
существование таких солидаристских связей доводило до максимума
тенденцию к мобилизации ресурсов и направлению их в множестве
направлений и к совмещаемости изменений.
С точки зрения условий среды цивилизации Западной Европы и ислама
казались близкими к индуистской. Но из-за того, что в индуистской
цивилизации ритуальные аскриптивные сети и кастовая организация
представляли единственную или основную социальную связь, и из-за того,
что политической или экономической деятельности недоставало
посюсторонней ориентации, связь между религиозными движениями и
преобразованием политической и экономической систем была здесь гораздо
слабей, чем в исламе или в Западной Европе.
В общем характер институционализации потенциала изменений варьировал
вместе с культурными ориентациями и солидаристскими отношениями элит,
а также в зависимости от преобладания замкнутых или соединяющихся
рынков. В обществах с очень замкнутыми рынками механизмы центрального
контроля оказывались первой мишенью для процесса изменений, который
часто придавал ситуации характер борьбы по принципу все или ничего;
возможность полного краха в таких режимах неизбежно возрастала.
Соединяющиеся рынки порождали множественность центров автономных
сил и создавали возможности для нахождения многообразных путей в
изменении структуры различных институциональных сфер. Мы еще раз
рассмотрим значение этих переменных в главе 7, когда приступим к анализу
различий между ранними и более поздними революциями, и в главе 8 — при
анализе результатов революций.
6. Зависимость от внешних рынков и типы изменений. Города-государства и
племенные объединения.
Анализ особых городов-государств и племенных объединений показывает,
что большая зависимость от внешних рынков сводит к минимуму
возможность институционализации изменений. Такие последствия
представляют контраст с воздействием внутренних рынков как замкнутого,
так и соединяющегося типа. Подобно имперским и имперско-феодальным
системам, особым городам-государствам и племенным объединениям была
свойственна относительно высокая степень совмещаемости восстаний,
инакомыслия
и
политической
борьбы
в
центре
и
сильные
преобразовательные тенденции; однако эти тенденции лишь изредка
доходили до полной реализации и институционализации в рамках обществ
такого типа.
По общему правилу обострение политической борьбы вело к падению
особых режимов или к их включению в другие общества. Таким образом,
воздействие перемен в политической сфере прерывалось. Хотя изменения в
городах-государствах и племенных объединениях особого типа происходили,
ритмы этих изменений в различных компонентах макросоциального порядка
никогда не совпадали.
При объяснении этого особого типа изменений необходимо учитывать, что
особые общества городов-государств и племенных объединений стремились
поддерживать в своих международных связях нормы институциональной
деятельности, которые больше соответствовали крупным обществам с
широкими внутренними рынками. Поэтому они обнаруживали склонность
специализироваться на обслуживании внешних рынков при одновременном
сохранении низкого уровня внутренней специализации.
Такой разновидности пространственной специализации соответствовала
относительная немногочисленность свободных внутренних ресурсов,
которые могли быть мобилизованы в целях институциональных
преобразований. Возможности, таившиеся в присущих этим обществам
формах протеста и политической борьбы, не реализовывались, что можно
объяснить также довольно низким уровнем организующей и связующей
деятельности у возникавших в этих выступлениях эмбриональных элит.
Такие возможности и виды деятельности получили развитие лишь в условиях
Древнего Рима, что было в немалой степени следствием относительной
автономности древнеримского правящего класса. Во всех других случаях
недостаток ресурсов и возможностей в сочетании с незрелым характером
внутренней политической борьбы порождал тенденции, кульминационной
точкой которых становилось падение существующего макросоциального
порядка.
7. Разнообразие форм изменений в традиционных обществах. Пересмотр
эволюционной парадигмы.
Итак, мы видим, что возникновение институциональных различий при
относительно сходных культурных ориентациях обусловливается характером
борьбы между различными, казалось бы, схожими элитами и коллективами.
Другим фактором оказывается влияние на отношения, что складываются
между различными группами общества, со стороны постоянно
изменяющейся среды.
Пример России (а также Испании, что будет проанализировано дальше)
показывает, как борьба между различными элитами и образование коалиций
между ними в особых внешних условиях обусловили утверждение иного
сочетания по видимости схожих культурных ориентации. В результате
сопутствовавшее этому преобразование имперско-феодальной системы
превратило ее в нечто, более близкое к патримониальному режиму. До сих
пор мы знаем очень мало о том, как борьба между различными типами элит и
коллективов во взаимодействии с особыми условиями среды приводит к
возникновению различных геополитических систем.
В главе 4 мы задавались вопросом, накладывают ли различные типы
культурных ориентации отпечаток на формирование элит и коллективов, или
же это элиты и коллективы, отличающиеся особыми свойствами или
латентными тенденциями к формированию некоторых свойств, создают,
порождают
либо
избирают
соответствующие
ориентации?
Мы
предположили, что группы или лица, выступающие носителями некоторых
структурных тенденций, благодаря процессу обратной связи избирают те или
иные ориентации и что институционализация этих ориентации усиливает
структурные тенденции. Эта проблема должна побудить к дальнейшим
исследованиям, для которых наш анализ может служить отправной точкой.
Исторические данные свидетельствуют, что взаимный отбор и обратные
связи являются относительно открытым процессом. Значение этой
открытости было подчеркнуто в конце главы 3, когда мы указали на
некоторые слабости классической эволюционной парадигмы. На основе
материалов, представленных в этой главе, мы теперь более подробно
изложим критические замечания по данному подходу. Последующий анализ
будет обоснованием вывода, что эволюционистская перспектива, в фокусе
которой находятся потребности систем и стадии их развития, в большинстве
случаев может быть пригодной лишь отчасти.
В главе 3 мы отметили в общем плане для различных обществ, что
культурные коды и ориентации могут соотноситься между собой различным
образом. Кроме того, различные коды могут быть связаны со сходными
уровнями структурной дифференциации и, напротив, одни и те же коды
могут сочетаться с различными уровнями структурной дифференциации.
Таким образом, предшествовавший анализ подчеркнул относительную
открытость как институционализации социальных и культурных моделей, так
и процессов изменений. Вследствие этой открытости различные аспекты
социальных систем могут в сходных ситуациях образовывать различные
соочетания, а в сходных ситуациях изменений могут возникать различные
варианты коалиций. Победа той или иной из них приводит к специфическому
сочетанию важнейших компонентов макросоциального порядка. Поэтому
центральные аспекты институциональных систем этих обществ (структура их
центров, отношения между центром и периферией, характер формирования
социальных слоев, способы производства) могут сильно различаться среди,
казалось бы, сходных обществ.
Поскольку
сочетание
кодов
определяет
важнейшие
аспекты
институционального устройства, общества со сходными уровнями
социальной
дифференциации
могут
формировать
различные
основополагающие
нормы
социального
взаимодействия
и
их
институциональные механизмы. Различие основополагающих норм и
институциональных механизмов может, в свою очередь, определять
интенсивность, с какой в обществе или его секторах формируются разные
проявления протеста — восстания, инакомыслие и тому подобное, и степень,
в какой они оказываются связаны между собой, так же как с политической
борьбой в центре, с одной стороны и процессами институционального
строительства в экономической и культурной сферах — с другой.
Движения протеста тоже становятся мощным фактором, который определяет:
1) степень совпадения ритма и направления изменений в различных
компонентах макросоциачьного порядка; 2) степень, в какой силы изменений
сдерживаются рамками существующего порядка; 3) степень и направление
трансформации общества (иначе говоря, в какой степени процессы
изменений приводят к возникновению культурных моделей и социальных
порядков, выходящих за пределы исходных форм институционального
устроения общества); 4) интенсивность, с какой социальная система
движется в направлении роста структурной и/или символической
дифференциации.
Эти
общие
положения
были
предварительно
рассмотрены
в
предшествующей части при анализе различий, образуемых возможными
сочетаниями особенностей элит, коллективов и внешних условий. При этом
было показано, что на любом уровне развития и в любой ситуации реакция
на проблемы, порожденные социальными изменениями того или иного типа,
может носить самый различный характер, вплоть до подавления процесса.
Хотя варианты выбора в любой ситуации не являются совершенно
случайными, даже структурно сходные ситуации дают ряд альтернатив. В
любых изменениях существует известная степень свободы, возможность
нововведения
и
вследствие
этого
множественность
возможных
институциональных ответов. Реализация различных кодов, модели
изменений и их институциональные формы зависят от наличия ресурсов,
пригодных для построения новой системы институтов. Различные модели и
сочетания экзистенциальных кодов, символические оценки социального
порядка и институциональные механизмы соперничают между собой, так как
они должны быть реализованы одним из тех способов, что возможны в
данной ситуации. В любой ситуации перемен утверждение той или иной
системы институтов очень зависит от существующих отношений между
коллективами, элитами, внешними условиями и характером движений,
направленных к переменам.
В ходе перемен возникающие проблемы предоставляют различным элитам и
группам общества выбор из широкого круга культурных и
институциональных возможностей. Предшествовавшие условия полностью
не предопределяют характер выбора и способ его институционализации. Это
происходит в борьбе между фактическими или потенциальными участниками
различных коалиций, через которые устанавливаются основополагающие
нормы социального взаимодействия. Именно путем активизации таких
коалиций осуществляется выбор между альтернативами, существующими в
любой ситуации перемен, создаются новые структуры и новые
институциональные комплексы.
Значение акта выбора из альтернатив особенно очевидно, когда такое
решение воспринимается элитой как произвольное действие в
революционной, религиозной, политической или идеологической борьбе. Но
процесс отбора вариантов и акт выбора между ними имеют место также в
ситуациях, когда дело не доходит до подобной произвольности. В таких
случаях избирательность может проявляться в суммировании более
рассеянных случаев давления и актов реагирования со стороны элит, а также
в менее драматичном, но постоянно происходящем взаимодействии между
разными социальными группами и организаторами.
Такие реакции могут принимать самый различный характер. Нарастание
восприимчивости системы к более обширному и более сложному
окружению, ее чувствительности к новым проблемам и требованиям не
порождает автоматически развитие способностей к тому, чтобы улаживать
эти проблемы, и не определяет с неизбежностью способ их разрешения.
В любой ситуации и при любом уровне социальной дифференциации
соответствующая институциональная реакция может отсутствовать, а
возникшие в процессе дифференциации возможности могут быть упущены
(иначе говоря, им не удается утвердиться в устойчивом институциональном
виде).
В сходных ситуациях перемен могут возникать различающиеся во многих
отношениях виды институциональных структур. Особый интерес, с точки
зрения нашего анализа, представляет то, что они могут варьировать в
зависимости от совпадения степени интенсивности и направления изменений
в основных характеристиках различных сфер макросоциального порядка. В
одних ситуациях изменения могут осуществляться во всех характеристиках,
в других затрагивать только одну характеристику.
Подчеркнем еще раз: в любой данной ситуации перемен (например, при
возрастании дифференциации) нет неизбежности для перехода к новой
социальной системе во всех сторонах процесса дифференциации или во всех
компонентах макросоциального порядка.
К тому же не каждое изменение в обществе будет увеличивать
дифференциацию. Напротив, материалы показывают, что отдельные
социальные изменения, сколь бы многочисленными они ни были, не
приводят к общим изменениям в характере дифференциации.
Дифференциация в отдельных субсистемах социума фактически может
уменьшаться, а кроме того, наиболее значительные изменения могут
происходить по другим направлениям. Например, на организационноинституциональном уровне рамки механической солидарности могут
расширяться, не приводя, однако, к становлению новых уровней структурной
дифференциации и/или к переходу к органической солидарности.
Необязательно и формирование новых сочетаний аскриптивных (политических, религиозных, национальных) сообществ и культурных традиций. Более
того, при сходных уровнях структурной дифференциации различные
сочетания условий среды с особенностями коллективов и элит могут
привести либо к формированию режимов, основанных главным образом на
распространении внутренних рынков (патримониальных, имперских или
племенных), либо к особым городам-государствам или племенным
объединениям, основанным на преобладании внешних рынков.
Характер развития также сильно различается в зависимости от того,
окружено ли общество структурно сходными или отличающимися от него
типами обществ, изолировано от соседей либо тесно связано с ними. И в этом
отношении некоторые разновидности относительно небольших социальных
образований, подобно племенным объединениям древнего Ближнего и
Среднего Востока, объединениям городов-государств и феодальным
системам, выступают примерами сложного взаимодействия, если сравнить их
с большими самодостаточными патримониальными или имперскими
системами.
Вследствие разнообразия возможных вариантов развития различные стороны
или характеристики социальной и культурной деятельности в пределах одной
и той же широкой международной ситуации вполне могут
сконцентрироваться в отдельных социальных системах — будь то общество в
целом или особые анклавы. Еще важнее, что такие анклавы могут
пользоваться особым международным авторитетом и служить в рамках
международных
подсистем
моделями.
При
данном
уровне
внутрисоциетальной дифференциации они могут даже обеспечить некоторые
ресурсы, для того чтобы направить изменения в этих обществах в новую
сторону.
Предшествовавший анализ учитывает гораздо больше возможностей и
допускает гораздо больше вариантов социальных изменений, чем
эволюционная парадигма. И это ставит ряд новых проблем, разработка
которых влечет за собой далеко идущий пересмотр многих положений
социологического анализа.
Прежде всего подобный подход подчеркивает относительную открытость
различных исторических ситуаций и их специфичность. В то же время он
предусматривает возможность их общезначимого сравнительного анализа.
Предлагаемый анализ исторических ситуаций неизбежно выводит за пределы
положений, присущих большинству сравнительных исследований —
особенно тех, что имеют эволюционистскую ориентацию.
8. Символические и структурные основания традиционных обществ. Их
воздействие на характер изменений.
В предыдущей части этой главы мы постарались определить факторы,
которые могут иметь отношение к известным вариациям в типе изменений
среди традиционных обществ. Мы не рассматривали многие стороны
процессов изменений и их результаты — причины более или менее
интенсивных изменений в различных типах режимов, эволюцию в политике
режимов, степень и характер разрыва преемственности в ходе таких
изменений. Мы займемся этими вопросами в нашем анализе революций
Нового времени и их последствий.
Многие из установленных факторов можно считать общими для обществ
всех типов. Однако в то же время наш анализ выявил некоторые особенности
процессов изменений, которые присущи исключительно традиционным
обществам и которые отличают их от изменяющихся обществ Нового
времени.
Наиболее важной общей чертой рассмотренных выше процессов были узкие
рамки, сдерживавшие ход изменений. Ограничения, которые мы
проанализировали, касались масштаба перемен, связей между ними и
распространения представлений об альтернативном общественном строе. Изза этих ограничений преобразовательные возможности происходивших в
традиционных обществах процессов были относительно незначительными.
Общие признаки ограниченности процесса изменений были обусловлены
сочетанием особых традиционных свойств таких обществ, уровнями их
технического
развития
и
организационной
дифференциации.
Традиционализм сковывал развитие в них представлений о возможности
сознательного переустройства социального порядка и культурных моделей
посредством самостоятельной деятельности индивидов. Это представление
развивалось в размышлениях некоторых интеллектуалов и в более
интеллектуальной или в более эзотерической среде инакомыслящих. И
только в исключительных обстоятельствах оно внедрялось в культурные
ориентации и мировоззренческую символику правителей, широких групп
населения или повстанческих движений.
Хорошо известно, что в традиционных обществах индивиды или мелкие
группы совершали великие деяния культурного творчества — наилучшими
примерами могут служить израильские пророки, Иисус Христос, философы
Древней Греции, Конфуций, основатели брахманизма и Будда. Но творчество
и институционализация культурных нововведений не рассматривались как
самостоятельное деяние человеческих существ; скорее это воспринималось
как открытие заново, посредством откровения, истинной традиционной
модели, основанной на традиционной легитимности и обусловленной своими
традиционными предпосылками.
Только в Древней Греции (прежде всего в Афинах) и в меньшей степени в
Риме такие ограничения оспаривались радикальными тенденциями, тесно
связанными с зарождавшимися процессами, которые подрывали отдельные, в
каждом случае различные, предпосылки традиционализма. Но, поскольку эти
общества не располагали ресурсами для институционализации таких
тенденций, они служили (по терминологии Т. Парсонса) «материнскими
обществами» (seed societies), образцом, от которого отправлялись более
поздние общества8.
Ограниченность преобразовательных возможностей Древней Греции и Рима
была обусловлена, в частности, автономностью различных компонентов
макросоциального порядка, различных (локальных, профессиональных,
религиозных) подразделений его социальной организации. Воздействие этого
фактора усиливалось, кроме того, низким уровнем структурной
дифференциации в таких обществах. Вследствие существования этих
особенностей различные социальные образования были в состоянии в
большинстве ситуаций при происходивших в традиционных обществах
переменах сохранять в той или иной степени самодостаточность и
преемственность.
Сохранению преемственности в этих организационных подразделениях
способствовали механизмы взаимосвязи, типичные для традиционных
обществ. Наиболее важным в структурном отношении следствием
традиционализма были ограничения на связи между различными слоями,
институциональными организаторами и центрами. Такого рода ограничения
были свойственны даже тем обществам (имперские и имперско-феодальные
системы), в которых такие связи были наиболее сильными. Однако усилению
ограничений
способствовала
политика
правителей
(чем
более
принудительным способом действовали правители, тем сильнее были эти ограничения). Все же даже в системах, где степень принуждения была
относительно меньше (например, Китайская и Византийская империи по
сравнению с Российской), традиционализм сам по себе склонен был
порождать такие ограничения.
Механизмы взаимосвязи, такие, как ритуалы и нормативные средства
коммуникации, соединявшие «большую» традицию с «малой», а также
характер промежуточных элит, подобных религиозным специалистам и
бюрократическим группам, создавали тенденцию к сохранению
традиционных культурных ориентации. Такая система социальных связей
усиливала относительную замкнутость новых центров и ограничивала
возможность доступа к этим центрам или участия в них широких групп, а
также возможность выдвижения взаимных претензий центров и групп друг к
другу.
Традиционализм также сдерживал деятельность инновационных групп и
ограничивал их воздействие на центры общества. Различные творческие акты
и процессы нововведений в культурной и институциональной областях
обычно не были непосредственно связаны друг с другом. Скорее каждое
нововведение создавало условия, которые, в свою очередь, могли
способствовать возникновению других инноваций. Инновационные процессы
в различных сферах могли усиливать друг друга и создавать ресурсы новых
качественных уровней; однако не было неизбежности в том, что они
сольются в формировании новой структуры центров.
Итак, важнейшим аспектом изменений в этих обществах было то, что особо
значимые нововведения осуществлялись относительно обособленными,
автономными группами, которые часто формировались вне данного
общества — в других обществах или в особых культурно-пространственных
анклавах изменяющихся международных систем. В результате в
распространении нововведений особое значение приобретали группы воинов,
культурных специалистов и торговцев, а инновационные процессы обретали
форму завоеваний или миссионерской деятельности. Это было правилом
даже по отношению к тем процессам изменений, в результате которых
сформировались имперские системы, где впоследствии установилась высокая
степень
совмещаемости
перемен
в
главных
характеристиках
макросоциального порядка.
Как только складывались новые традиционные комплексы, включавшие
«большую» традицию, высокую цивилизацию или имперскую систему, в них
возникали
достаточно
существенные
ограничения,
свойственные
традиционализму. Правда, в этих общественных системах подобные
ограничения порождали напряженность между тенденциями, ведущими, с
одной стороны, к обособлению различных типов протеста и нововведений, а
с другой — к образованию связей между ними. Несомненно, что эти связи
были более сильными, чем в других, «архаических» или «патримониальных»
общественных системах. Но даже в более развитых традиционных обществах
эти процессы не прорывались за указанные выше пределы традиционности.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 М. Н. Шринивас — индийский социолог и социоантрополог, проводивший
в 40—60-х гг. XX в. полевые исследования в одной из индийских деревень и
выступивший с обобщением собранного материала. Один из наблюдавшихся
им процессов в современном кастовом обществе, когда более низкая по
ритуальному статусу кастовая группа перенимает черты образа жизни
брахманов, кшатриев или другой доминирующей в данной местности касты,
он назвал «санскритизацией». См.: Шринивас М.Н. Запомнившаяся
деревня/Пер, с англ.; послесл. Л.Б. Алаев. М., 1988. (Примеч. перев.)
2 Бхакти (санскр.) — причастность, преданность, конкретно — любовь к
Богу. Одно из течений в индуизме, основанное на убеждении верующих в
возможности слияния с божеством. Для приверженцев течения путь к
спасению открывает не знание священного учения и не ритуалы,
отправляемые священнослужителями, а искренняя любовь к Богу и
непосредственное участие в экстатическом действе, которое может
объединять всех людей независимо от пола, касты и др. Идеей личного Бога
и равенства в вере течение близко к монотеистическим религиям.
Наибольшую популярность бхакти приобрело в XVI в., превратившись в
массовое движение. (Примеч. перев.)
3 Ш. Эйзенштадт для характеристики ученого и служилого сословия
традиционного китайского общества шэныии использует два в равной
степени неточных европейских термина literati и gentry. Literati, или
книжниками, он называет верхушку из сдавших государственные экзамены
на знание конфуцианской классики. Эти люди представляли ученую элиту
императорского Китая, и именно из них формировалось чиновничество.
Основную массу сословия, так называемых сельских шэньши, которые
образовывали деревенскую верхушку и роль которых была особенно значительна в местном самоуправлении, Ш. Эйзенштадт именует gentry. (Примеч. перев.)
4 Гулям (араб. — ghulam «мальчик») — юноша-невольник, становившийся
султанским слугой; девширме (перс. — «кровный налог») — принудительный набор детей христиан на султанскую службу, прежде всего для
пополнения дворцовой гвардии. (Примеч. перев.)
5 Сват (Swat) — район Центральной Азии, представляющий речную долину в
западных отрогах Гималаев с населением около полумиллиона человек,
большинство говорит на языке пушту и исповедует ислам (пуштуны, или
патаны). Возникшее здесь в начале XX в. государство пользовалось статусом
вассального княжества в составе колониальной Индии. В настоящее время
это автономный район в Северо-Западной Пограничной провинции
Пакистана. Внутренняя политическая система сочетает централизованную
государственную администрацию с самоуправлением клановых образований
(см.: Barth F. Political Leadership Among Swat Pathans. L.: The Athlone Press,
1959). (Примеч. перев.)
6 О. Хинце — немецкий ученый, автор одной из концепций феодализма. См.:
Hinze О. Feudalismus und Kapitalismus. Gottingen, 1970 (первое издание —
1929 г.). См. также: The Historical Essays of Otto Hinze/Gilbert F. (ed.). N.Y.:
Oxford University Press, 1975. (Примеч. перев.)
7 См.: Bella R.N. Tokugava Religion. N.Y.: Free Press, 1956; Idem. Intellectual
and Society in Japan//Intellectuals and Tradition/Eisenstadt S.N., Graubard S.R.
(«fe.). N.Y.: Humanities, 1973. P. 89-116.
8 См.: Parsons T. Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives.
Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1966. — Особенно гл. 6.
Глава 6
РЕВОЛЮЦИИ
НОВОГО
ВРЕМЕНИ.
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ
ПРЕДПОСЫЛКИ И РЕВОЛЮЦИОННАЯ СИМВОЛИКА СОВРЕМЕННОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ.
1. Особенности революций Нового времени.
Революционная символика и революционные движения Нового времени, так
же как связанные с ними процессы изменений, находятся в резком контрасте
с традиционными образцами, которые мы характеризовали. Уникальные в
символическом и организационном плане черты революций Нового времени
проявились вначале в великих европейских революциях: Нидерландское
восстание, Великий мятеж и Славная революция в Англии, Американская
революция и Французская революция. На их основе сложился образ
настоящей, или чистой революции, который был проанализирован в главе 1.
Эти революции отличались от процессов, происходивших в традиционных
обществах, не только размахом или интенсивностью восстаний,
инакомыслия, четко выраженных политических движений и связанной с
ними борьбы между элитами. Главными отличительными чертами
революций были: связь между движениями протеста и вовлечение этих
движений в политическую борьбу, происходящую в центре; характер их
базовой символики и ее структурное выражение; а также последствия.
Различные типы движений протеста и политической борьбы, которые
воплощались в великих революциях, имели своими корнями традицию
хилиастических взрывов, восстаний и более близких к центру движений
реформ и инакомыслия. Политическая борьба в центре, отличавшая
европейские общества на протяжении всей их истории, подбрасывала этим
движениям дополнительное горючее.
В структурном плане великие революции отличались очень тесной связью
между инакомыслием, восстаниями, политической борьбой в центре, а также
между ними и строительством институтов. Такая связь по своей прочности
не имела какого-либо прецедента в истории. В этих революциях
интеллектуальные движения и религиозное инакомыслие (прежде всего
формирование различных протестантских сект) переплетались с
восстаниями, политической борьбой в центре и соперничеством между
элитами. Они оказались, кроме того, тесно связанными с обновлением
символики и границ политических и культурных общностей, а также —
институциональными нововведениями в экономической, образовательной и
научной областях.
Эти великие революции осуществлялись действиями многочисленных
коалиций или контркоалиций элит и институциональных организаторов, и
такие коалиции были более разнородными, чем те, что знала какая-либо из
предшествовавших ситуаций перемен. В революционные коалиции входили
экономические и политические элиты первого и второго планов, а также
выразители солидарности различного рода общностей и идеологи моделей
культурного порядка.
Вследствие такого многообразия повстанческие выступления, движения
протеста
и
интеллектуальный
нонконформизм
(антиномианизм),
воплощавшиеся в великих революциях, обнаруживали сильную тенденцию к
сочетанию тем и ориентации протеста с относительно реалистичными
ориентациями
на
формирование
центров
и
коллективов,
на
институциональное строительство. В сущности, эти революции отличались
от всех других движений протеста именно своей направленностью на
создание конкретных институтов, на формирование центров и их
институционализацию.
Институциональные связи между различными движениями протеста и
борьбой в центре и многообразие коалиций имели в революциях Нового
времени прямое отношение к новым явлениям в символической области.
Изменения происходили и в формах легитимизации социального и
политического порядков и в более интеллектуализованных представлениях о
природе этих порядков. (Такие представления выходили за пределы
представлений об альтернативных социальных и политических порядках,
рождавшихся в более ранних обществах.) Это изменение в символике шло от
культурных моделей античности и от политических образов и символов
средневековой Западной Европы; однако такая изменившаяся символика
далеко отходила от своих истоков, становясь универсалистской и
миссионерской.
В разработке символики политической легитимности решающим шагом, как
обстоятельно показал М. Уолзер, был переход от цареубийства к
революции2. Иначе говоря, тенденция заменить одного (плохого) правителя
другим (хорошим) и предать забвению восстания против плохих правителей
уступила место понятию (латентно существовавшему в древнегреческой и
иудейской традициях, а в меньшей степени свойственной и европейскому
средневековью) о переустройстве легитимными представителями сообщества
всего социополитического порядка, его основ и предпосылок.
Это радикальное изменение в типе легитимизации оказалось связано в
большинстве великих революций, как показала X. Арендт3, во-первых, с
энергичным стремлением к переустройству социального порядка (прежде
всего к ликвидации его иерархических аспектов и выдвижению принципов
равенства, солидарности, политической и социальной свободы), а во-вторых,
с проанализированной Я.Л. Тальмоном тенденцией к идеологическому
формулированию предписаний нового, надлежащего социального порядка4.
Нововведения были тесно связаны с изменениями в более
интеллектуализованных представлениях о природе и социальной жизни, и
характеризовало их прежде всего сочетание в таких представлениях двух
элементов: «движение, которое производит изменения, и движение, которое
возвращает к отправной точке». В современной концепции революции (как
она утвердилась во времена Французской революции) преобладает элемент
изменений, осуществляющий движение вперед (т.е. «прогресс»)5.
Отличающий революции Нового времени организационный и символический
разрыв впервые осуществился в Нидерландском восстании и усилился в
Великом мятеже в Англии. Более полно он был представлен в идеологии
Американской революции и закреплен во Французской революции. Именно в
этой последней к новой концепции социальной жизни и нетрадиционным
образцам легитимизации присоединился фактор легитимного насилия. Такая
концепция и ее образный строй занимают центральное место в современной
политической символике и политической мысли.
Подобное развитие было связано также с основополагающими изменениями
в структуре господствующих интеллектуальных традиций и, наиболее
очевидно, — с тем пониманием фундаментальных проблем социального
порядка, которое родилось в философских дискуссиях XVI—XVIII вв., и с
современным научным подходом. Эти современные научные ориентации
восходят к Возрождению; они утвердились в эпоху Просвещения на основе
идей прогресса и разума. Наконец, это развитие оказалось связано с
изменением религиозных ориентации, особенно во время Реформации, с
выдвижением секулярной оппозиции этим ориентациям и с наиболее полным
выражением различных тенденций в русле Просвещения. Все эти изменения
и движения непосредственно воздействовали на символические и
институциональные сферы, центральные для европейских обществ, создавая,
таким образом, новый социальный и культурный порядок.
2. Изменение содержания протеста в революциях Нового времени.
Историческая память о революциях в современных обществах.
Уникальные организационные и символические характеристики революций
Нового времени формировали соответствующую символику протеста.
Сформировавшаяся
революциями
символика
протеста
сделалась
основополагающим компонентом социальной и политической символики
современных обществ.
Как и в других процессах перемен, институциональным средоточием
важнейших тем протеста служили: авторитет, особенно тот, каким
наделялись различные центры; система стратификации и символические
характеристики иерархии; семья в качестве изначального источника
авторитета. Подобно происходившему в других обществах, различные темы
протеста выражались самыми разнообразными способами — в
милленаристских
движениях,
интеллектуальном
инакомыслии,
повстанческих выступлениях, политической борьбе. Тем не менее
ориентации и движения протеста, порожденные ранними революциями,
имели совершенно особые черты, из которых и сформировалась
революционная символика.
Посмотрим на современную революционную образность и ее структурные
воплощения. Отметим, что впервые в истории была сделана сознательная
попытка изменить политический и общественный строй. Это нововведение
проявило себя несколькими различными способами. Во-первых, звучал
призыв к возвращению в Золотой век (эта общая ориентация была присуща и
прежним движениям протеста), парадоксальным образом сочетавшийся с
упором на новизну и сильным стремлением к разрыву с прошлым. Вовторых, на основе стремления к переустройству социальных и политических
порядков происходило слияние обеих ориентации с основополагающими
нормами социального взаимодействия, особенно с принципами
справедливого распределения, обоснованием институтов, легитимизацией
общественного порядка и прежде всего — с принципами доступа к власти.
Существовала также тенденция сосредоточиться на преобразовании
отношения индивидов и сообществ к высшим макросоциальным и
культурным ценностям. В-третьих, сочетание этих очагов протеста сделало
образы авторитета, социальной иерархии и классовой борьбы центральными
в революционных движениях Нового времени и придало последним
трансцендентно-религиозные
и
универсалистско-миссионерские
(пропагандистские)
черты.
Сочетание
этих
организационных
и
символических аспектов великих, классических революций Нового времени
проливает свет на феноменологию современного революционного Erlebnis,
повседневного опыта этих революций. Erlebnis религиозно-милленаристских
или утопических движений был отмечен религиозным экстазом —
ощущением безграничности явления харизмы, непосредственностью
отношения между трансцендентным и мирским, освобождением от всех
стеснений социального порядка, неограниченным распространением тем
солидарности и участия в общественной жизни.
В революциях Нового времени проявился сходный вид экстаза, но такого,
который в социальном и политическом планах был посюсторонним: иначе
говоря, направленным на захват и переустройство центров общества, на
слияние настоящего общества и образа общества-двойника. (Такой захват и
переустройство включали очищение личности и нравственности.) Вследствие
этого революции Нового времени стремились вобрать в себя те символы,
которые были обращены к духовным качествам человеческой природы (как
бы их ни трактовали в данной культуре), а поэтому неизбежно выходили за
пределы любого социального порядка и в каком-то — конечном — смысле
противоречили ему. Такие символы выражали самую сущность человеческих
отношений, и притом революция Нового времени сочетала их с ориентацией
на переустройство макросоциальных центров и учреждение нового
институционального порядка. В результате возникала тенденция к
легитимизации насилия как средства достижения этих целей.
II
Символические и организационные особенности революций Нового времени
происходили из сочетания их символических предпосылок, которые были
заимствованием из иудейской, древнегреческой и средневековой политикоидеологических традиций. Эти особенности группировались вокруг
ориентации на переустройство социального порядка; соответствующие ей
темы и движения протеста достигали центральных сфер и включались в
высшую
символику
общества;
ориентация
на
переустройство
существовавшего порядка определяла решение конкретных проблем,
которые эти движения порождали, в плане структурных изменений. Так
возникал образ и символика, а в известной степени и реальность настоящей,
или чистой, революции с ее сильным упором на насилие, новизну и
всеобъемлющий характер перемен.
Перемены в темах и ориентациях протеста, вместе с изменениями в самих
основах легитимизации социального и политического строя, глубоко
затрагивали символические и структурные тенденции революций Нового
времени. Первым следствием оказалось расширение перспектив для
соединения различных движений протеста, инакомыслия и политической
борьбы в центре как органичной части современного политического
протеста, даже если такое соединение не входило в структуру повседневного
функционирования политических институтов. Вторым следствием стало
унаследованное постреволюционными обществами от революций Нового
времени постоянное включение движений и символов протеста в
центральные сферы и символы общества.
В революциях Нового времени и в постреволюционных обществах
сущностные характеристики протеста постепенно оказывались включенными
в центральные компоненты социокультурного порядка в такой степени,
которая значительно превосходила уровень включения инакомыслия в
традиционных системах. Основополагающие ориентации протеста больше не
были
чистым
движением
мысли
или
проявлением
смутного
неудовлетворения, а становились важнейшими частями и символами
коллективной идентичности, принципами культурного порядка. Эта
тенденция имела многосторонние последствия в институциональной сфере,
наиболее важной из которых была трансформация отношений между
центрами в сторону примирения их символических различий и расширения
их взаимовоздействия.
Все значение этих символов и сила этих движений проявились, когда они
оказались связаны с комплексом структурных изменений, сопровождавших
формирование структур Нового времени и придавших характерный облик
современным цивилизациям (которые дальше мы проанализируем более
подробно).
3. Последствия революций Нового времени. Современные социальные
структуры. Цивилизация Нового времени.
В результате этих революционных процессов сформировались уникальные
типы социальных преобразований, приведшие, в конечном счете, к созданию
новой цивилизации, иначе говоря — цивилизации Нового времени.
Революции Нового времени подтолкнули движение общества, в которых они
имели место, в направлении модернизации, как в организационном, так и в
символическом
плане.
Отличительными чертами
развития
всех
постреволюционных обществ были: растущая структурная дифференциация
и специализация; установление универсалистских организационных систем;
формирование индустриальной или полуиндустриальной рыночной
экономики; обоснование относительно открытой, нетрадиционной системы
стратификации и мобильности, в которой выдвигались достижи-тельные
критерии вообще и экономические, профессиональные, образовательные
критерии достижения в частности; возникновение централизованных, в
высшей степени бюрократизированных политических систем.
Эти организационные изменения были тесно связаны с основополагающими
предпосылками цивилизации Нового времени — первоначально
предпосылками европейской нововременности (модерности), а затем
нововременности
вообще,
которые
формировались
на
основе
революционных символов, идеологий и движений революционной эпохи. В
сущности, эти революционные символы и тенденции являются
основополагающими в понятии «цивилизация Нового времени».
Социальные преобразования в этих направлениях, конечно, происходили во
всех современных или модернизирующихся обществах. Процессы
социальных преобразований в революционных обществах отличало не
только то, что они происходили в результате насильственного взрыва, но
также то, что эти изменения и преобразования осуществлялись в особых
соотношениях. Они включали, как мы видели, известное совмещение
изменений, по крайней мере, в некоторых из важных основополагающих
норм социального взаимодействия (принципы справедливого распределения,
обоснование институтов, легитимизация социального порядка) и прежде
всего соединение таких изменений с реструктурированием доступа к власти
и переустройством центров, преобразованием их символики и принципов
легитимности. Наконец, эти особенности обусловили связь с
прогрессистской универсалистской идеологией, нацеленной на повсеместное
распространение.
Сложился и определенный тип изменений в самой политической сфере: а
именно совокупность изменений в символах и принципах легитимности
режимов, в составе правящего класса, в основах доступа к центру и в
отношениях между центром и периферией.
Эти революционные изменения дали толчок тенденциям к далеко идущему
преобразованию важнейших сторон структуры общественного строя. Прежде
всего они привели к крушению предпосылок традиционности, к подрыву
традиционной легитимности центров общества, к ослаблению традиционных
нормативных ограничений в характере символов социального и культурного
порядков и к растущим требованиям широких групп об участии в разработке
центральных символов и институтов общества. Кроме того, революционные
ориентации были тесно связаны с усиливавшейся тенденцией к
секуляризации центральных макросоциальных символов и с неприятием
предустановленности существующей культурной традиции, сакральности
культурных центров и символов вместе с их хранителями. С прорывом к
Новому времени традиционная легитимизация этих символов и центров
ослабла. Основные социальные группы продвинулись к выработке
критического подхода к предпосылкам общественного строя, они постарались найти доступ к формированию культурных традиций и участвовать
в этом процессе. Приобщение к активной критической позиции стало
возможным для широких слоев, и они заняли ее по отношению к
политическим, социальным, культурным традициям и организациям.
Эти активные и критические ориентации базировались на некоторых
фундаментальных положениях относительно формирования центральных
аспектов социального, культурного и природного порядков посредством
сознательной человеческой деятельности. Особое значение придавалось
тому, чтобы формирующийся социополитический порядок был позитивно
ориентирован на изменения и строился на концепциях универсальности,
равенства, и чтобы новый социальный порядок воспринимался в качестве
автономной секулярной целостности.
Изначально центральной точкой или темой этого европейского порядка было
исследование постоянно расширяющейся человеческой и природной среды
вместе с управлением ими (вплоть до покорения) и возможностью
распоряжаться собственной судьбой. Наиболее полным выражением этой
позиции была посылка, что исследование человеком природы является
бесконечным процессом, создающим новый культурный порядок, что
распространение научных и технических знаний может не только
преобразовать культурный и социальный порядки, но и создать новую
внешнюю и внутреннюю среду, подлежащую исследованию и одновременно
использованию для удовлетворения интеллектуального кругозора и
технических потребностей человека.
В соответствии с этим революции и революционные представления, которые
открывали дорогу современным политическим порядкам, были, в отличие от
процессов изменений или восстаний в традиционных обществах, более или
менее сознательно ориентированы на изменение исходных характеристик
макросоциального порядка и на далеко идущее преобразование
основополагающих предпосылок социального и культурного порядков.
Наиболее важными структурными производными этих ориентаций были
переустройство отношений центра с периферией и растущее воздействие
периферии на центр во имя идеалов или символов равенства, солидарности,
свободы и участия.
4. Революционные предпосылки современной цивилизации.
Одной из сущностных черт современных обществ, в противоположность
традиционным системам, стала способность их центральных структур к
расширению. Требования или ожидания такого расширения могли
развиваться в нескольких различных, но взаимосвязанных направлениях.
Первое — это ожидания, главным образом со стороны элит, связанные с
созданием (или сохранением) новых, более широких политических рамок.
Второе — это ожидания и, может быть, требования экономического и/либо
административного развития или модернизации. Третье — это надежда на то,
что центр станет откликаться на требования различных новых социальных
групп, особенно на требования введения новых принципов распределения.
Четвертое — это требования таких групп вообще и новых элит в частности
относительно вхождения в центр, возможности нового определения границ и
символов социальности, так же как более активного участия в политическом
процессе и более прямого доступа к центру.
С этими тенденциями было тесно связано изменение форм политической
борьбы, которая развивалась в рамках современных институтов. Прежде
всего это изменение затрагивало структуру политических требований,
формирующихся в рамках современных политических систем.
Конкретное содержание таких требований, конечно, очень различалось в
зависимости от структурных условий, таких, как урбанизация, изменения в
аграрном секторе и распространение образования. Однако у современных
обществ
существовала
тенденция
к
формированию
достаточно
систематизированных общих требований. Одной из характеристик процесса
стало резкое увеличение количества требований, тесно связанное с
увеличением количества возможных каналов доступа к ресурсам (включая
нажим на образовательные каналы доступа к бюрократическим или
политическим позициям), а также расширение круга групп и слоев,
становящихся политически сознательными и выдвигающих требования к
центру.
Оставляя в стороне количественные различия, в современных обществах
более широкие группы не только предъявляли особые притязания на
конкретные преимущества, основанные на дифференцированном членстве в
различных аскриптивных, закрытых подгруппах, но также требовали доступа
к центру на том основании, что являются членами общества. Эти требования
к центру происходили от ориентации на участие и консенсус, укорененных в
самих предпосылках цивилизации Нового времени, и были инкорпорированы
в политическом процессе. Воздействие этих требований на центры
социального и политического порядков проявлялось в структурировании
важнейших типов политических организаций в современных обществах и в
тенденции к их совмещаемости (эта совмещаемость походила на
совмещаемость восстаний, интелектуального инакомыслия, движений
протеста и политической борьбы в центре, которая утвердилась в великих
революциях и была связана с ними).
Среди различных форм социальной организации, через которые идет процесс
выработки политических требований в современных обществах, особое
значение имеют группы интересов, социальные движения, общественное
мнение и политические партии. Первые три можно рассматривать как до
некоторой степени разновидности последних; иначе говоря, партии являются
наиболее четко выраженной формой современной политической
организации. Кроме того, все эти четыре формы могут в значительной мере
переплетаться друг с другом.
Итак, первая форма — это группа интересов или давления, которая обычно
стремится добиться конкретных целей (экономических, религиозных,
культурных либо политических) и интересуется более разветвленной
политической механикой партии либо государства лишь постольку,
поскольку она может способствовать достижению этих целей. Среди групп
интересов существуют, конечно, разнообразные типы, и их специфические
позиции могли резко различаться в зависимости от ситуации.
Вторая форма организации, через которую в современных политических
системах выражаются политические ориентации и требования, — это
социальные движения. Можно различить несколько категорий социальных
движений. Первую представляет относительно ограниченное движение,
направленное на достижение общей цели, которая прямо не связана с
конкретными интересами какой-либо выражающей себя группы, но
представляет применение широкого принципа справедливости: например,
движения против применения смертной казни, за улучшение положения
обездоленных категорий населения (матерей-одиночек, правонарушителей)
или упразднение рабства. Второй категорией является движение за реформы,
которое нацелено на изменения в центральных политических институтах,
например, расширение избирательных прав отдельной группы. (Эти две
категории социальных движений часто воплощают важные элементы
общественного мнения, что требует отдельного, хотя бы краткого
рассмотрения.) Третью категорию, и наиболее радикальную по форме,
социальных движений представляет движение с тоталитарной идеологией,
которое обычно выдвигает целью создание совершенно нового общества или
политической
системы.
Оно
стремится
внедрить
в
данную
институциональную структуру всеобъемлющие и расплывчатые ценности
или цели либо трансформировать эту структуру в соответствии с этими
ценностями и целями. Обычно оно резко устремлено в будущее, оно склонно
изображать будущее как нечто совершенно отличное от настоящего и
бороться за осуществление его преобразования. Очень часто такие движения
являются апокалиптическими или милленаристскими. Наконец, они склонны
требовать полного подчинения или абсолютной приверженности со стороны
своих членов и жестко делят общество на друзей и врагов.
Третий канал для выражения в современных политических системах
политических требований может быть определен как общий нечетко
сформулированный, но целенаправленный интерес к общественным
вопросам и общественной пользе. Под этим я понимаю существование людей
или групп, имеющих достаточно гибкую позицию в отношении и особых
интересов, и всеобъемлющих идей и притязаний; они не являются жестко
привязанными к какой-либо данной группе интересов, движению или
организации, ими движет прежде всего забота о благе общества, и поэтому
они оценивают политические программы, как и конкретные возможности, с
точки зрения общих ценностей.
Каждая из этих форм выражения политических интересов и ориентации
существовала и в традиционных системах. Однако за небольшим
исключением, когда группы интересов или клановые группировки (клики)
подавали петиции либо прошения, представительство политической
активности и ориентации широких социальных групп в центральных
политических институтах не было в этих обществах вполне легитимным, а
социальные и социально-религиозные движения с точки зрения
существовавших политических институтов вообще были вне политики и
закона.
Кроме того, эти группы в своих обращениях к правителям были озабочены
предоставлением конкретных благ, а не выдвижением широких
политических целей или выбором правителя. Наконец, только в современных
политических системах эти различные группы интересов и движения
оказались включенными, хотя бы лишь в небольшой степени, в структуру
политической деятельности и организации; например, политические партии
или другие органы, которые мобилизуют поддержку и координируют
выдвижение политических требований. Такое включение осуществляется
политическими партиями (либо сходными с партиями организациями) путем:
1) формирований особых партийных органов, руководства и программ; 2)
включения партией различных конкретных интересов в широкие нормы или
цели, привлекательные для широкой публики; 3) перевода всеобъемлющих
расплывчатых устремлений различных социальных движений в конкретные
политические цели, проблемы и дилеммы, выражаемые в деятельности
партий или схожих с партиями организаций.
Соединение этих структурных и идеологических тенденций сделало
символику протеста основным компонентом современных цивилизаций.
Политический радикализм стал, таким образом, частью центрального ядра
современного политического процесса, придавшей последнему выраженную
миссионерскую устремленность.
Хорошо известно, что преобладание и распространение революционных
движений и символов столкнулись с сильной оппозицией; однако сама по
себе такая оппозиция (как свидетельствует термин «контрреволюция»)
оказалась укорененной в посылках революционной концепции социального
порядка7.
5. Распространение современной цивилизации. Международные системы.
Цивилизация Нового времени начала складываться в Западной Европе и
Северной Америке. В Англии, Франции, Голландии и Соединенных Штатах
революционная символика и революционные установки впервые стали
составной частью социального и политического порядка. Внутренняя
динамика и политико-экономическая эспансия западноевропейских обществ
привели к распространению этой цивилизации по всему миру. Этот процесс
был уникальным, поскольку он сочетал самый решительный подрыв
традиционной легитимности, который когда-либо происходил, с созданием
новых международных систем, отмеченных постоянным перемещением
центров власти, влияния и выработки культурных моделей.
Таким образом, начиная с XVI в., все новые и новые части мира оказались
включенными в международную экономическую систему, сначала в систему
капиталистического рынка, затем в индустриальную капиталистическую
систему, а еще позднее в исключительно сложную индустриальную систему,
которая объемлет различные типы экономических режимов (например,
капиталистические и коммунистические). (Эти экономические режимы
постоянно взаимодействуют, и, вследствие интернациональной природы
экономической системы, они испытывают исключительно разнообразные и
непредсказуемые подвижки экономической и политической власти.) Однако
формировалась не только международная экономическая система. Наряду с
ней возникли новые международные политические и идеологические
системы, которым оказались присущи сильные стремления к
распространению на весь мир.
Хотя все эти системы были постоянно расширяющимися и тесно
взаимосвязанными, они не совпадали и не были идентичными (каждая имела
свою собственную динамику), и часто они находились в противостоянии. Все
эти системы испытывали постоянные подвижки власти и влияния вместе с
широкими изменениями в культурной, социальной и политической областях;
взаимодействие этих подвижек и изменений составляет часть динамики
нового международного устройства и способствует дальнейшим изменениям.
Итак, сформировавшийся тип международных систем является уникальным.
Он отличен как от международной системы имперского типа, управляемой из
одного центра, который стремится контролировать все — экономические,
политические и идеологические — сферы, так и от исламской модели
халифата, которая основывалась на принципе или, по меньшей мере, идеале
единой общности.
6. Революционная символика в современной цивилизации. Распространение
социализма.
I
Как уже отмечалось, символы протеста и радикализма, отражавшие
господствовавшие настроения первых европейских революций, постепенно
вошли в основополагающие ориентации цивилизации Нового времени. В
этом
длительном
процессе
происходило
постоянное
изменение
фундаментальных категорий этой цивилизации.
Влиятельность революционных символов в современной цивилизации можно
ощутить прежде всего в распространении по всему миру революционных
движений и радикализма. В первую очередь — это социалистические и
коммунистические символы и движения; символика и идеология революции
запечатлелись в них наиболее полно и получили наиболее полную
интеллектуальную разработку.
Первоначально социализм и коммунизм были движениями протеста или
интеллектуальной ересью, в которых политическая программа и идеология
сочетались с научным либо философским Weltanschauung. В качестве
движений протеста социализм и коммунизм соединили ориентации
восстания, протеста и интеллектуального нонконформизма с сильными
тенденциями к формированию центров и созиданию институтов. В этом
отношении (как и во многом из того, что будет отмечено дальше) социализм
и коммунизм выступают прямыми наследниками европейской традиции,
которая объединила восстания и инакомыслие с движениями протеста и
формированием центров.
В социализме и коммунизме отличительные черты движений протеста
сливались с центральными символами различных традиций и цивилизаций;
это было уникальным явлением, которое можно отнести к фундаментальным
посылкам современной цивилизации с их институциональными
производными. Вследствие всех этих взаимосвязей в социализме и
коммунизме сформировалось несколько широких культурных ориентации.
1. Сильная ориентация на будущее, настойчивое стремление связать будущее
с настоящим, вместе с сопутствующим устремленности в будущее
миссионерским духом.
2. Резко выраженное предпочтение принципов коллективности и социальной
справедливости, вместе с отрицанием индивидуалистических подходов.
3. Подчеркивание тесной связи между социальным, политическим и
культурным порядками и стремление создать новый общественный строй,
обосновав его трансцендентными критериями и идеалами, свойственными
базовой культурной модели.
4. Предельно выраженная посюсторонняя ориентация, подчеркивающая
неприятие существующего порядка и оценку его с точки зрения
трансцендентных ценностей.
5. Настойчивое провозглашение возможности активного участия различных
социальных групп в формировании нового социального и культурного
порядка и отстаивание необходимости высокого уровня приверженности
этому порядку.
6. Сильная универсалистская ориентация. Отрицая в теории значение
политических либо национальных границ, социализм и коммунизм в то же
время стремятся определить новый социополитический порядок в широких,
но жестких рамках. Такие рамки объединяют по изначальному определению
рабочих и интеллектуалов — классификация, которая способна охватить те
части человечества, которые желают принять основные посылки социализма
и определить себя в этих категориях.
7. Особый — и явно современный — способ легитимизации социального и
культурного порядка, который надлежит установить.
Социализм и коммунизм вобрали в свои традиции и символы некоторые
эсхатологические элементы христианства: картину хода истории вместе с
феноменом искупления, противоположность между Градом Земным и
Градом Небесным. Ранние социалистические движения следовали общему
идеологическому течению европейской цивилизации Нового времени в той
мере, в какой упор на национальные государства сочетался в ней с
выделением противостояния между государством и обществом и значения
классовой дифференциации общества. Общецивилизационная традиция
очень повлияла на развитие некоторых важных принципов социализма,
особенно на представление о ходе истории, резко выраженное определение
человеческого существования в категориях времени, активистскую
ориентацию, специфические компоненты научного и миссионерского планов.
Наконец, специфическое для социализма понимание общества с точки зрения
его классового деления имеет происхождение в европейской традиции
(рассмотренной в главе 5) и особенно связано с автономией сословий и
активным участием широких групп и слоев в формировании общества.
II
Социализм и коммунизм, конечно, не представляли простого продолжения
общецивилизационной традиции. Они были амбивалентными по отношению
к великим интеллектуальным движениям Западной Европы Нового времени
— Просвещению и научной революции. Принимая многие из их ориентации
и посылок, социализм и капитализм в то же время формировали крайнюю
нонконформистскую тенденцию.
Сопоставление социалистических движений с великими религиями и
традициями, с одной стороны, и великими революциями — с другой, создает
исключительно впечатляющую картину. Подобно великим религиям и
большинству революционных движений, которые возвестили начало Нового
времени в Европе, и в противоположность повстанческим движениям,
инакомыслию или милленаризму других эпох, социалистические движения
соединяли протест, восстание и инакомыслие с активной политикой строительства институтов и формирования центров. Организованный
политический протест соединился с более четко разработанным
интеллектуальным инакомыслием.
В отличие, однако, от великих религий, социализм был обращен
исключительно к посюсторонней деятельности. Мирской порядок служил
фокусом и истоком трансцендентных ориентации социализма, неизменно
оспаривавшим
и
подрывавшим
потустороннюю
легитимность
трансцендентности. И, в отличие от Английской, Французской,
Американской революций или Просвещения, например, социалистические
движения
были
первыми
современными
движениями
протеста,
направленными не только против основ традиционной системы власти, но
также против современных институциональных систем (политической,
экономической и идеологической), которые формировались на ранней стадии
развития современного европейского общества.
7. Противоречия современной цивилизации и распространение социализма.
I
Распространение социализма свидетельствует о том, что развитие
цивилизации Нового времени создавало предпосылки для постоянного
воссоздания революционных символов и тенденций, и о том, что эти
символы и тенденции стали основополагающим компонентом современной
цивилизации, — той новой, нетрадиционной большой традицией, которая
распространилась из Европы по всему миру.
Вездесущность революционных символов и движений в современных
обществах и сильная тенденция к их утверждению происходили от
внутренней динамики формирования современных обществ. В наиболее
общих категориях эта предрасположенность была обусловлена неполной
реализацией изначальных посылок цивилизации Нового времени, особенно
убеждения, что разум должен восторжествовать во всех аспектах культурной
и социальной жизни. Действительное развитие в Западной Европе и других
частях мира не подкрепляет положения о возможности почти
автоматического прогресса во всех аспектах человеческого (социального и
культурного) творчества. По мере того как цивилизация Нового времени
достигала зрелости, возникали многочисленные противоречия. Развитие в
одной сфере социальной жизни не влекло за собой с неизбежностью сходное
развитие в других областях; а возрастающее участие различных групп и
слоев в социальном и культурном порядке не гарантировало этим группам
полного доступа ко всем сферам жизни общества.
Хотя развитие было устойчивым и успешным, оно оказалось гораздо более
проблематичным, чем следовало из исходных положений европейской
модернизации. Этот процесс отличали противоречия, коренившиеся в том,
что развитие было связано с постоянным изменением в распределении власти
и организационной структуре различных институциональных областей, так
же как в способах доступа к ним. Следствием оказывалось вытеснение
различных социальных слоев и неодинаковое включение в социальные и
культурные центры различных социальных групп, характеристик
человеческого существования и видов человеческой деятельности.
Таким образом, начало развития в Западной Европе социализма в его
нескольких вариантах было предопределено спецификой европейской
цивилизации Нового времени и развитием некоторых противоречий,
свойственных этому региону. Г. Лихтхайм и Ю. Каменка утверждают, что
наиболее важной из этих черт была специфическая реакция на противоречие
между принципами Французской революции и реальностями или
проблемами, порожденными Промышленной революцией, т.е. между
идеалами всеобщего братства, справедливости и равного участия в
социальном и культурном порядке, с одной стороны, и остротой классового
неравенства,
социальными
и
экономическими
пертурбациями,
порожденными Промышленной революцией9, — с другой. Иными (словами,
социализм стал реакцией на уникальные проблемы и (противоречия,
возникшие в результате происшедших в Европе (великих переворотов
Нового времени в структурной и символической сферах. Структурные и
символические ориентации, породившие первые социалистические
движения, основывались на принципах европейской цивилизации Нового
времени. Первостепенное значение имели: сильная универсалистская
тенденция, сочетание протеста с установкой на формирование центра,
стремление к расширению объема участия в центре и использованию этого
участия для осуществления изменений, как в плане формирования самого
центра, так и в устроении отдельных институтов.
II
Распространение социализма за пределами Европы было пре-юпределено
распространением цивилизации Нового времени и сопровождалось
выявлением свойственных ей фундаментальных (противоречий, которое
происходило по мере того, как эта цивилизация распространялась. В
противоречивом контексте этого процecca формировалась символика
протеста и революции, принимая наиболее разработанный вид в
экспортированных социалистических движениях и символах.
Из всех традиций, идеологий или движений, которые возникли в Западной и
Центральной Европе, социализм распространился наиболее широко и
существовал наиболее долго. Ни одно другое движение не повлекло за собой
такого отклика в организационных и символических структурах.
Ключ к распространению социализма и коммунизма следует искать в
уникальных чертах встречи незападных, неевропейских обществ с
цивилизацией Нового времени, которая происходила по мере того, как она
распространялась из Европы по всему миру. В этом процессе возникла
параллель между положением рабочего класса по отношению к капиталистам
в Западной Европе и положением новых национальных государств в
современных международных системах по отношению к Западной Европе (а
позднее Соединенным Штатам). В этом смысле те, кто утверждает, что
классовая борьба является теперь скорее интернациональным, чем
внутринациональным явлением, и что Третий мир представляет собой
пролетариат в этой новой интернациональной борьбе, действительно
указывают на существенную сторону дела. Однако, вопреки их взглядам, в
подобном сходстве отражается не конкретная организационная либо
структурная черта, а скорее символико-структурная характеристика этого
процесса и этих отношений.
Действительная структура отношений между различными странами мира,
разумеется, совершенно отличается от классовой структуры, существующей
внутри общества; очаги протеста связаны в основном с международными
идеологическими и политическими позициями, а не с внутренним
разделением труда. Поэтому различные страны резко отличаются друг от
друга в отношении динамики распространения революционной символики и
изменений вообще, а социализма в частности.
Несмотря, однако, на структурную несопоставимость, происходило
символическое перемещение условий развития социализма в Европе на
ситуацию, в которой многие неевропейские общества обнаружили себя в
результате распространения цивилизации Нового времени. Именно это
символическое
перемещение
объясняет
привлекательность
социалистической традиции для неевропейских стран. Социалистическая
традиция является единственной современной международной традицией, в
которой протест против каких-либо конкретных недостатков в устроении
общества, свойственном цивилизации Нового времени, может быть обоснован в категориях самих оснований современного мира.
Уникальная привлекательность социализма вообще кроется в том, что он
оказался наилучшим средством, благодаря которому активное участие в
новой, современной (т.е. западной) универсальной традиции может
сочетаться с отрицанием отдельных аспектов цивилизации Нового времени
— Запада в частности. Социализм сделал возможным, особенно для элит
многих неевропейских обществ, включить универсалистские элементы
цивилизации Нового времени в свою новую коллективную идентичность, не
отказываясь при этом непременно ни от специфических компонентов своей
идентичности, ни от утвердившейся негативной позиции по отношению к
Западу.
Символическому перемещению первоначальной идеологии социализма из
европейской в неевропейскую среду очень способствовало то, что в
социалистической традиции ориентации протеста соединялись с
ориентациями строительства институтов и формирования центров. Таким
образом, элиты и другие группы, находившиеся за пределами Западной
Европы, могли ориентироваться с помощью своих собственных традиций
протеста и формирования центров и вместе с тем решать проблемы
воссоздания своих центров и традиций в той трактовке, которая отражала
новые внешние условия их деятельности.
8. Носители современных революционных символов.
Идеологами и носителями революционной символики выступали
институциональные организаторы особого типа, сыгравшие важную роль в
утверждении революционных движений по всему миру. Исключительное
значение в этом контексте принадлежит современным интеллектуалам
различного толка, которые, как блестяще показал Р. Арон, были особенно
увлечены мифологией революции, усовершенствовали ее и способствовали
ее распространению10.
Распространение новейших международных систем, происходившее в них
перемещение власти и институционализация в большинстве современных
обществ важных революционных требований и символов сопровождались
формированием автономных специализированных революционных групп,
которые больше не были всецело связанными с обществами, откуда
происходили. Они представляли независимые международные объединения,
а некоторые государства выдвигались в качестве центров или покровителей
деятельности этих революционных групп.
С самого начала Нового времени многие из наиболее радикальных
группировок в европейских революциях, такие, как пуритане или различные
интеллектуальные течения Просвещения, были интернациональными по
своей природе, международные контакты, пропаганда, проникновение были
органической частью их деятельности. Французская революция раскрыла
перспективы революционного государства в распространении революции и
поддержке революционных групп. Миссия такого рода сделалась важнейшим
элементом европейской системы (позднее мир-системы). Возникшая
ситуация была сходной с обстоятельствами распространения христианства
или ислама. По мере того как распространялась цивилизация Нового
времени, революционные движения становились все более и более
международными по своему характеру; убедительным свидетельством могут
служить связи между коммунистическими повстанцами и иностранными
политическими центрами.
Эти явления были связаны с существенными изменениями в радикальной
социалистической идеологии и тактике вообще и в марксистской идеологии в
частности. Наиболее значительным сдвигом был все возраставший и
обоснованный В.И. Лениным упор на революционную организацию и на
деятельность
профессиональных
революционных
групп,
которым
предназначалась решающая роль по отношению к естественному или
спонтанному процессу действия социальных сил — прежде всего классовых
противоречий.
Такое смещение отделило марксистскую идеологию от опыта Западной
Европы и связало ее с внутренним развитием обществ, структурно и
исторически отличающихся от тех, в которых развивались подлинные
революции.
Соединение
новых
исторических
обстоятельств
с
возникновением автономных международных групп оказало самое
разнообразное, а нередко совершенно неожиданное влияние на процесс
изменений в подобных обществах и, наиболее очевидно, на потенциал
революции. Оно дало толчок процессу постоянного отбора между основными
революционными принципами и символами, который в различных обществах
и среди различных групп приводил к возникновению самых причудливых
сочетаний.
9. Дифференцированность в распространении радикалистских тенденций,
социализма и революционной символики.
Этот процесс отбора характерен тем, что, несмотря на большую
привлекательность, социализм не распространялся в различных частях мира
с одинаковой интенсивностью. В обществах, подобных Японии, его
символика не нашла значительной поддержки в широкой среде (хотя и
привлекла мелкие группы интеллектуалов). Еще более существенным
является хорошо известный факт, что в одном из крупнейших
революционных обществ, Соединенных Штатах, социализм никогда не
занимал центрального положения в радикальных движениях. Впоследствии
мы предложим объяснение этих явлений. Здесь достаточно сказать, что даже
в тех обществах, в которых радикальные тенденции впитали
социалистические образы, утверждение этих образов в общественной
символике включало в различных обществах и в разных исторических
ситуациях отбор различных социалистических ориентации и символов. Этот
процесс наиболее отчетливо проявился в складывании множественности
образов и символов подлинной революции. Во всех социалистических
движениях образ чистой, подлинной революции, который сформировался на
опыте ранних революций в Западной Европе и был доведен до завершения в
социалистической идеологии, сделался важнейшим символом — поистине
базисной революционной моделью. Кроме первоначальных европейских
революций, только в революциях в России и Китае и, до некоторой степени,
в революциях в Турции, Вьетнаме, Югославии, Мексике процессы социальной трансформации, сопровождавшие распространение современной
цивилизации, приняли форму, характерную для классических революций.
Все-таки, как мы уже отмечали и как более подробно увидим дальше, в
большинстве случаев такая трансформация осуществлялась способами,
которые далеко расходились с классическими образцами.
Поэтому объяснение тенденции к революции в категориях общих посылок
цивилизации Нового времени, хотя и может быть в какой-то степени
корректным, не дает удовлетворительного ответа на вопрос о различном
восприятии революционной символики и в первую очередь на вопрос о
различии способов, которыми революционная символика и революционная
деятельность оказывались связаны с разными вариантами той
трансформации, что происходила во всех современных (в том числе
европейских) обществах.
Итак, мы возвращаемся к нашему исходному постулату об уникальности
условий, определивших развитие революций Нового времени, так же как их
различие в воссоздании этих условий по всему миру. Теперь нам надлежит
исследовать, как складывались эти условия в широком контексте
установления современных международных систем, что привело к развитию
в некоторых обществах процессов изменений, близких к образу чистых
революций, в чем заключается специфичность условий, которые определили
развитие изначальных, подлинных революций.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Проблема протестантизма и его влияния на цивилизацию Нового времени
обсуждается в кн.: The Protestant Ethic and Modernization: A Comparative
View/Eisenstadt S.N. (ed.). N.Y.: Basic Books, 1968.
2 См.: Walter M. Regicide and Revolution. Cambridge: Cambridge University
Press, 1974.
3 См.: Arendt H. On Revolution. N.Y.: Viking, 1963.
4 См.: Talmon J.L. The Origins of Totalitarian Democracy. L.: Seeker and
Warburg, 1952.
5 См.: Gilbert F. Revolution//Dictionary of the History of Ideas/Wiener P. (ed.).
N.Y.: Scribner, 1973. P. 152-167.
6 Erlebnis — переживание, опыт (нем.). (Примеч. перев.)
7 См.: Meusel A. Revolution and Counter-revolution//Encyclopaedia of the Social
Sciences. (V. 1-15. 1930-1955)/Seligman E.R.A., Johnson A. (eds.). N.Y.:
Macmillan. V. 13. P. 367-375; Mayer A. The Dynamics of Counter-Revolution in
Europe, 1870-1956. N.Y.: Harper and Row, 1971.
8 Weltanschauung — картина мира, мировоззрение (нем.). (Примеч. перев.)
9 См.: Lichtheim G. The Origins of Socialism. L.: Weidenfeld and Nicolson, 1968;
Idem. A Short History of Socialism. L.: Weidenfeld and Nicolson, 1970; Kamenka
E. The Relevance — and Irrelevance — of Marxism//A World in
Revolution/Kamenka E. (ed.). Canberra: Australian National University Press,
1970.
10 Cu>: Aron R. The Opium of the Intellectuals. L.: Seeker and Warburg, 1957;
The Intelligentsia and the Intellectuals: Theory, Method and Case Studies /Aron
R., Gella A. (eds.). Berkeley e.a.: Sage, 1976.
11 См.: Sombart W. Warum gibt es in den Vereinigte Staaten keinen Sozialismus?
Tubingen: J.C.B. Mohr, 1906.
Глава 7
СОЦИАЛЬНЫЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РЕВОЛЮЦИЙ
НОВОГО ВРЕМЕНИ.
1. Условия, приведшие к революциям Нового времени. Различные подходы.
I
Продолжая анализ, начатый в главе 6, обратимся теперь к проблеме
специфических условий, которые могут объяснить возникновение революций
Нового времени, а также их специфические черты и результаты. Какие
конкретно условия в Европе и американских колониях породили
революционные процессы? Обширная социологическая литература по этому
вопросу устанавливает общий фактор во всех указанных контекстах — это
усиление внешнего давления на существовавшие традиционные режимы,
предвещавшее их предстоящее крушение.
Важнейшими из внешних факторов были войны, соперничество между
государствами и воздействие формирующихся международных систем —
политических и экономических. Внутреннее давление оказывалось
следствием прежде всего формирования элит с выраженным политическим
самосознанием или же социальных сил, возникающих на волне далеко
идущих экономических изменений и структурных сдвигов, которые связаны
с расширением рынков, техническими нововведениями, формированием
нового (капиталистического) способа производства и разработкой новых
идеологических систем. Все это создает, особенно среди средних классов,
сильное ощущение фрустрации по отношению к участию в социальных и
политических центрах и системах. Кроме того, как внешние, так и
внутренние воздействия были тесно связаны с острой борьбой внутри элит и
между ними, а также с массовыми народными (особенно крестьянскими)
восстаниями и с религиозными и интеллектуальными движениями.
Отметим, что некоторые из указанных предпосылок, например, такие
существенные, как раскол среди элит и связь между борьбой элит и более
широкими социальными конфликтами, хотя и способствовали упадку
традиционных режимов или изменениям внутри них, однако не приводили
ни к революциям, ни к далеко идущим структурным преобразованиям.
II
Мы возвращаемся к вопросу о том, что конкретно направляло эти процессы в
сторону революции. Естественным отправным пунктом для ответа является
установление особых, отличительных характеристик участников таких
процессов. Можно предложить с этой целью некоторую типичную схему.
Во всех этих обществах основными участниками были:
1. Традиционные, но потенциально способные к модернизации монархи с
сильными
абсолютистскими
тенденциями,
которые
стремились
инициировать и контролировать широкие социальные и экономические
процессы и которые различным образом сочетали традиционную закрытость
с модернизирующими тенденциями.
2. Разнообразные группы из крупных и средних землевладельцев и городских
слоев, эволюционировавшие в направлении капиталистической рыночной
экономики.
3. Разнородные группы крестьянства (в США фермеры), которые
оказывались в двойственной ситуации, с одной стороны, угрожавшей
утратой их положения под воздействием новых экономических сил, а с
другой — открывавшей возможности получить доступ к новым рынкам или к
контролю над ними.
4. Традиционные городские группы и зародыш нового городского
пролетариата.
5. Новые интеллектуальные и религиозные секты, группы и движения.
6. Институциональные организаторы, более разносторонние по характеру
своей деятельности, и особенно новые политические элиты (которые мы
опишем ниже).
Во всех обществах, где произошли революции Нового времени (Нидерланды,
Англия, американские колонии и Франция), к упадку режима привело
сочетание, с одной стороны, внешнего давления, которое возникало в первую
очередь
в
результате
складывания
современной
системы
межгосударственных отношений и международной капиталистической
экономики, а с другой — внутреннего воздействия и конфликтов, к которым
приводило такое давление. По словам Б. Мура, эти силы создавали ситуацию,
когда вся интеллектуальная и эмоциональная структура, которая придает
господствующему порядку вид соединения естественного, легитимного и
неизбежного даже для тех, кому этот порядок предоставляет какие-то
ограниченные права в самых минимальных количествах, — начинает
разрушаться, сталкиваясь с проблемами, на которые господствующая
ортодоксия все больше перестает давать удовлетворительные ответы1.
Конечным результатом оказывались революция и революционные
преобразования.
Разумеется, общества значительно различались между собой как по
влиятельности этих разных групп участников, так и путем существовавших
между ними связей. Но предложенная система действовала даже в
Нидерландском восстании и Американской революции (и значительно позже
в Турецкой революции), в которых сосредоточенность на изменении системы
символов и знаков политической общности ставила под вопрос значение
социалльных факторов.
Установление категорий участников приближает нас к определению
уникальных исторических условий, при которых развивались эти
революционные процессы. В решении первой задачи наиболее существенный
вклад, внесенный Т. Скокпол и К. Тримбеурджром. Процитируем Т.
Скокпол:
Французская революция была чрезвычайно сходной с Русской и Китайской
революциями, как по вызвавшим их причинам — неспособность
официальных представителей старого порядка мобилизовать достаточные
национальные ресурсы для поддержания экономического развития страны
и/или чтобы противостоять в военном противоборстве либо в соперничестве
с более развитым и иностранными государствами, так и по структурной
динамике — крестьяне и маргинальные политические элиты против
традиционного «землевладельческого» высшего класса.
Подытожим... Для того чтобы найти объяснение великим социальным
революциям в истории, я, во-первых, сформулировала понятие определенной
cоциальной системы. Это аграрно-бюрократическое общество, где контроль
над низшими слоями (главным образом крестьянством) сосредоточен в
институтах, которые на локальном и региональном уровнях находятся в
руках высших слоев землевладельцев вместе с административным и военным
аппаратом, который находится в распоряжении центра. Во-вторых, я
рассмотрела различия между аграрно-бюрократическими режимами, в
которых происходили и в которых не происходили социальные революции, с
точки зрения: а) институциональных структур, посредством которых
поддерживались отношения между высшим землевладельческим классом и
государственным аппаратом и отношения между крестьянством и высшим
землевладельческим классом, и б) типов и масштабов международного
политического и экономического воздействия (особенно когда источником
были более развитые государства) на аграрно-бюрократические режимы,
оказывавшиеся включенными в модернизирующуюся мировую систему.
Мой анализ привел к выводу, что социальные революции происходили в
модернизирующихся аграрно-бюрократических системах (Франция, Pоссия,
Китай), в которых возникал тип крестьянства, склонного к самостоятельным
восстаниям, и которые испытывали серьезное политическое и военное
расстройство вследствие прямого либо косвенного воздействия военного
соперничества или угроз со стороны более развитых иностранных
государств2.
III
Сформулированные уточнения все же оставляют несколько очень важных
вопросов без ответа. Первый вопрос: почему эти исторические ситуации
приводили не просто к далеко идущим изменениям и переустройству
общества в направлении модернизации, а реализовывались по общему
правилу в специфическом революционном опыте — в революционном
процессе? (Действительно, Швеция, Дания и Швейцария испытали широкие
структурные преобразования в сфере символов без возникновения
революционного процесса, в том виде, как он происходил в революционных
обществах; интересно, что преобразование социальных структур в этих
странах было тем не менее сходным по последствиям с чистыми
революциями.)
Еще более важный вопрос для нас, на который до сих пор не последовало
ответа, касается тех многочисленных обществ, у которых не оказалось сил ни
для того, чтобы добиться прорыва к цивилизации Нового времени через этот
процесс, ни чтобы осуществить социальные и культурные преобразования
революционного типа. Действительно, если исключить Россию, Китай и,
возможно, Турцию, Югославию и Вьетнам, то можно констатировать, что
западноевропейские общества, подобные Германии и Италии, многие
восточноевропейские общества, азиатские общества, подобные Японии, и
большинство обществ Южной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и
Латинской Америки совершали переход от традиционного к современному
государству нереволюционным путем. Хотя прорыв к цивилизации Нового
времени в этих странах имел много общего с символами и процессами
революций Нового времени (и все они пережили ряд революционных
движений), здесь он отличался от революционного образца как по характеру
процесса, так и по результатам.
Таким образом, развитие революционных процессов нельзя исчерпывающим
образом объяснить ни путем определения общих предпосылок упадка
режимов, ни установлением особых исторических условий и сочетаний,
имеющих отношение к современной среде, как бы они сами по себе ни были
важны. Чтобы найти объяснение, требуется выявить некую комбинацию
между, с одной стороны, структурными и культурными особенностями
обществ, в которых произошли революции Нового времени, а с другой —
специфическими историческими условиями реализации потенциала
революций
и
осуществления
сопутствовавших
им
социальных
преобразований.
2. Социокультурная среда революций Нового времени.
I
Исключительное значение для нашего анализа имеет тот факт, что
революции Нового времени происходили в рамках европейской
цивилизации, которая в своем традиционном виде включала: 1) очень
высокую степень слияния между движениями протеста и между ними и
политической борьбой, имевшей более близкое отношение к центру, и 2)
сопутствовавшую тенденцию к относительно высокой степени слияния
между изменениями в основных институциональных сферах. Как мы уже
видели, эти изменения были связаны с высокой степенью выделенности
центров, взаимного воздействия центра и периферии, автономности слоев и
их сознания и относительно сильным акцентом на посюстороннем очаге
спасения для преодоления противостояния между трансцендентным и
мирским порядками.
Хорошо известно, что даже в этих обществах первые подлинные,
классические революции Нового времени представляли вид мутации, т.е.
совершенно новый тип процесса изменений. Но такую мутацию подтолкнула
интенсификация тех самых изменений, которые могут быть обнаружены еще
в средневековой Европе. Во-первых, активизировалась деятельность
многочисленных элит второго плана — новых политических и
экономических элит, новых типов идеологов культурных моделей, а также
усилилась сплоченность различных аскриптивных общностей, каждая из
которых обладала относительно самостоятельной базой и крепкими связями
как с периферией, так и с центром. Во-вторых, происходило расширение
каналов связи между этими группами и элитами, с одной стороны, и
центрами обществ — с другой.
Тенденции к образованию таких каналов связи усилились в Европе в начале
Нового времени прежде всего благодаря трем общим социальным процессам:
1) постоянному переустройству политических центров и границ, а также
активизации взаимного воздействия центров и периферии; 2) утверждению
новых международных систем, которые рассекали политические границы, но
одновременно очень сильно воздействовали на них и испытывали
зависимость от них, вместе с возникновением новых экономических сил,
обычно зачисляемых под рубрику «капитализма», и 3) преобразованию
протестантства из собрания закрытых сект в широкое социальное,
политическое и культурное движение и его проникновению в центры
обществ, заодно с политической, идеологической и интеллектуальной
реакцией, которую вызвал этот процесс по всей Европе — особенно в образе
Контрреформации и Просвещения. Эти три процесса глубоко повлияли на
переустройство социальных и политических порядков, существовавших в
Европе.
Интенсивность процессов изменений, характеризовавшая традиционную
европейскую цивилизацию, в сочетании с протестантством и техническим
прогрессом — вот что породило те черты европейских революций, которые
отличали их от движений протеста и изменений, известных другим
обществам и другим периодам.
II
Потенции протестантства как катализатора изменений в идеологической и
институциональной сферах коренились в некоторых из присущих ему
основных культурных ориентации — прежде всего в его чрезвычайной
сосредоточенности на противостоянии между трансцендентным и
социополитическим порядками, на их взаимном соответствии, на
возможности (даже необходимости) преодоления этой напряженности
средствами посюсторонней деятельности и на прямом, неопосредованном
доступе индивидов и коллективов к важнейшим атрибутам трансцендентного
и социополитического порядков.
Возникновение
символической
системы
протестантства
можно
рассматривать как мутацию (сходную с генезисом других великих религий);
однако исключительно при обозначенных выше структурных и исторических
условиях подобная система могла утвердиться. Влияние протестантства было
очень глубоким. Во-первых, в структурных рамках центров происходило
включение ориентации протеста и инакомыслия, как они сформировались в
кругу Реформации, в центральную символику общества. Во-вторых (также в
рамках центральных структур), мы видим, как складываются глубинные
культурные предпосылки для преобразования европейских обществ в
секулярном направлении. В-третьих, в институциональном плане
протестантство усилило приверженность к экономической, научной и
политической деятельности, обеспечило сакрализацию и легитимизацию
институционального строительства с использованием свойственных ему
символико-религиоз-ных принципов. В-четвертых, в процессе утверждения
институциональных
механизмов
этих
ориентации
мы
замечаем
возникновение групп политико-интеллектуальных организаторов, которые
соединяли функции политических активистов и идеологов моделей
культурного порядка и которые, хотя и высвободились отчасти из других
социальных образований, все же поддерживали с ними крепкие
солидаристские отношения, одновременно стремясь перестроить структуры
их сплоченности с центром. Первая разновидность этих организаторов
нового типа сформировалась, как показали М. Уолзер и Г. Люти3, среди
протестантских активистов.
Протестантство оказалось столь могущественной силой, поскольку оно
аккумулировало все свойства других европейских движений инакомыслия и
народных восстаний, обеспечивало тесные отношения между элитами
второго плана и широкими слоями и сочетало ориентации на изменение
структуры центров с сильной направленностью на институциональное
строительство.
III
Эти потенции протестантства, а впоследствии и Просвещения, имели
тенденцию к реализации прежде всего в среде, где были особенно развиты
некоторые ключевые аспекты структурного плюрализма, свойственного
европейской традиции. В подобной среде создавались особенно
благоприятные возможности для утверждения соответствующего типа
организатора. Поэтому в Женеве при Ж. Кальвине, в Шотландии при Дж.
Ноксе, в Нидерландах в XVI—XVII вв. или в Северной Америке в начале
колонизации преобразующие возможности протестантства оказались
нереализованными. В этих обществах протестанты пользовались политической монополией и были способны навязать свои тоталитарные
социорелигиозные ориентации.
В Англии, Нидерландах, Швейцарии, в меньшей степени в Скандинавских
странах и первоначально во Франции — там, где протестанты оказались
вынужденными к взаимодействию в плюралистическом контексте,
протестантство стало решающей силой в преобразовании европейских
обществ в соответствии с коренными культурными и институциональными
особенностями европейской традиции и в выходе их на этом направлении за
рамки традиционной (средневековой) системы.
Во многих германских княжествах протестантство служило первоначально
важнейшим средством легитимизации воинственного абсолютистского
государства с его экспансионистскими тенденциями. Во Франции
протестантство и реакция на него углубляли раскол между различными
частями правящей элиты. В католических государствах — особенно в
Австрии, Испании и Португалии — первоначальная реакция в виде
Контрреформации
на
протестантство
способствовала
усилению
абсолютистских структур. Как показал анализ Ст. Роккена4, влияние
протестантства было решающим в дальнейшем развитии всех этих обществ и
особенно заметно в утверждении особого образца включения новых слоев в
складывающиеся современные системы.
Могущественное влияние протестантства в Европе имеет своими истоками то
обстоятельство, что в нем нашло выражение специфическое сочетание
уникальных предпосылок, породивших революционную символику и
революционные движения Нового времени, а также различные типы
структурных преобразований, с которыми были связаны ранние революции.
Но эти преобразования могли осуществиться только в особых исторических
обстоятельствах.
3. Историческая среда революций Нового времени.
Какие обстоятельства привели к революциям? Во-первых, это наложение
друг на друга трех основных аспектов прорыва от традиционной к
современной цивилизации. Этими аспектами были: 1) переход от
традиционного, или закрытого, образца легитимизации политической власти
(возможно при этом также от традиционного определения символов
коллективной идентичности) к открытому образцу; 2) переход от
традиционной системы стратификации к открытой — классовой — системе,
укорененной в движении к рыночной экономике вообще и к индустриальной
экономике в частности или связанной с этим движением, и 3) создание и/или
включение макросоциальных подразделений в ряд постоянно изменяющихся
международных политико-культурных систем, основанных на экономике
капиталистического типа5.
Во-вторых, слияние этих аспектов поставило перед традиционными
центрами и группами ряд проблем, которые требовали нового определения
почти всех наиболее существенных норм социального взаимодействия и их
базовых институциональных механизмов — прежде всего тех
основополагающих норм и их производных, что имели отношение к доступу
различных социальных групп к власти и структуре политических центров.
В-третьих, растущая социально-экономическая дифференциация вовлекала в
движения протеста, политическую борьбу и процесс нововведений большое
число групп, готовых к социальной мобилизации. А интенсификация
процессов изменений имела следствием возникновение большого числа элит
— институциональных организаторов, которые могли служить агентами
такой мобилизации и способствовать формированию каналов связи между
социальными группами, а также между относительно закрытыми центрами и
широкими слоями традиционного общества.
В результате потенции к возникновению символических и организационных
связей между движениями протеста, восстаниями, инакомыслием,
политической борьбой в центре и институциональным строительством
оказывались при таких условиях реализованными и сосредоточенными на
переустройстве социального порядка.
4. Социальные, культурные и исторические условия поздних революций.
I
Пора задать вопрос: относится ли наш анализ исключительно к первым из
революций Нового времени или в равной степени также к поздним
революциям?
Мы отметили раньше, что происходившие в рамках цивилизации Нового
времени процессы в их поздних проявлениях — прежде всего в России,
Китае и, возможно, также в Турции, Вьетнаме и Югославии6 — редко были
сходными с тем, что имело место в первоначальных, классических
революциях. Хорошо известно, что перечисленные феномены во многих
отношениях отличались от ранних революций: они были скорее
пролетарскими, чем буржуазными; они были более насильственными, и
революционные группы направляли их на достижение определенных целей.
Некоторые радикальные авторы утверждают, что эти революции (например,
в России или Китае) даже больше соответствовали образу и принципам
подлинной революции, чем ранние революции. Другие ученые, даже
относящиеся, подобно Б. Муру, к радикальному направлению, считают, что
присущие поздним революциям сильные элементы разрушения и особенно
принуждения
являются
искажением
освободительных
принципов,
свойственных образу классической революции.
В последующем мы подробно проанализируем некоторые из наиболее
важных различий между ранними и поздними революциями. Тем не менее
мы утверждаем, что, несмотря на такие различия, всем этим революциям
были свойственны общие основные признаки.
Что касается революционного процесса, они все соединяли в себе
повстанческие движения, политическую борьбу в центре, религиозное либо
интеллектуальное инакомыслие. Они все демонстрировали появление нового
типа политико-интеллектуального организатора — в поздних революциях он
зачастую был профессиональным революционером (или, по выражению Б.
Мазлиша, революционером-аскетом7). С точки зрения результатов все они
двигались в общем направлении — к модернизации, структурной
дифференциации, рыночной экономике, политической централизации,
изменению структуры центра, его характера и функций, отношений между
центром и периферией. А также все демонстрировали одни и те же сочетания
указанных институциональных изменений. Учитывая такое сходство, мы
естественно должны поставить вопрос: не были ли условия, которые сделали
возможными поздние революции, сходными с теми, что породили ранние
революции?
II
Внимательное изучение обстоятельств, при которых произошли поздние
революции, действительно позволяет установить между ними основательные
признаки сходства с предпосылками ранних революций. Самое
существенное, что все эти общества относились к великим мировым
традициям или к высокоразвитым цивилизациям.
Все из них функционировали на основе отчетливо выраженных культурных
моделей, которые поддерживались особыми группами и специальными
институтами. В моделях содержались универсальные ориентации,
направленные на преодоление ограниченности национальных, региональных
и политических сообществ и включавшие элементы миссионерства.
(Необходимый материал по этим цивилизациям представлен в главах 4, 5.)
Как мы установили, рассмотренные цивилизации имели ряд общих
основополагающих культурных ориентации или кодов. Они отличались
прежде всего тем, что сфера космического (религиозного) порядка была
четко отделена от сферы социального порядка, но при высоком уровне
автономности друг от друга постоянным было их взаимосоотнесение и
отстаивалась необходимость преодолеть разрыв между трансцендентным и
мирским порядками посредством различных видов посюсторонней
деятельности. В этих цивилизациях существовал, кроме того, относительно
высокий уровень приверженности различных частей населения к
социальному порядку и относительно самостоятельный доступ, по крайней
мере некоторых, социальных слоев к его важнейшим атрибутам. Самым
главным следует считать признание посюсторонней деятельности
важнейшим способом преодолеть противостояние между трансцендентнокосмическим и мирским порядками.
Немаловажный факт, что общества, в которых происходили революции,
были системами имперского либо имперско-феодального типа. Именно
поэтому для них были характерны: высокий уровень выделенности центра и
влияния центра на периферию, самостоятельный доступ некоторых
социальных слоев к отдельным атрибутам космического и социального
порядков, а также тенденция к воздействию на центр или центры со стороны,
по меньшей мере, части периферии.
В указанных обществах, как мы видели в главах 4, 5, сформировались
соответствовавшие
отмеченным
признакам
общие
особенности
структурирования систем социальной иерархии. Эти особенности
способствовали тому, что отдельные слои обрели автономное
самовыражение, которое обособляло их в социальной структуре общества, но
в то же время связывало с политической сферой.
Наконец, как мы тоже уже отмечали, имперские и имперско-феодальные
общества представляли тип совмещающихся изменений, а этот принцип
создавал основу для подлинно революционных преобразований.
Во всех революционных обществах можно обнаружить поражающее
сходство в отношении исторических обстоятельств. Условия для
формирования революционных тенденций складывались вследствие
включения общества в международные системы цивилизации Нового
времени. Это были международные системы нового типа (политические,
экономические, культурные), которые отличались, с одной стороны,
относительно открытыми рынками, а с другой — большим неравенством
возможностей для участия в этих рынках.
Такое включение влекло за собой переход как ранних, так и поздних
революционных обществ от традиционного, или закрытого, образца
легитимизации политической власти к ее открытому образцу и, возможно, —
к аналогичным изменениям в установлении символов коллективной
идентичности. Одновременно происходил переход от традиционной системы
стратификации к открытой. И, как мы указывали при рассмотрении
европейских революционных обществ, этот переход приводил к глубоким
сдвигам в социальной и экономической сферах. Возникала угроза для
традиционных центров. Большие группы населения обретали смелость в
требовании своего участия в центре и готовность к социальной мобилизации.
III
Итак, предыдущий анализ показывает, что в различных обществах и в разные
эпохи может возникнуть такое сочетание внутренних культурных и
структурных особенностей с историческими обстоятельствами, которое, с
одной стороны, чревато развитием революционных процессов, но с другой —
необязательно приводит к распространению современной цивилизации. О
возможности такого варианта лучше всего, вероятно, свидетельствует
пример Северного Вьетнама — единственного постколониального
революционного общества, опыту которого присущи признаки чистой
революции. Другие примеры, которые мы рассмотрим подробно в
следующих главах, показывают, что только уникальное сочетание
внутренних особенностей с историческими обстоятельствами, установленное
в этой главе, создает возможности для подлинной революции. Так, пример
Японии (см. главу 8) свидельствует, что имперско-феодальные системы,
которым не свойственно ощущение напряженности в отношениях между
трансцендентным и мирским порядками, могут испытывать далеко идущие
структурные преобразования; однако в таких случах не происходит
полномасштабных революций. Различные мусульманские общества своим
примером показывают, что при отсутствии имперских либо имперскофеодальных структур одного наличия надлежащих культурных ориентации
тоже недостаточно для того, чтобы произошла настоящая революция.
Процесс социальных преобразований, происходящий при прорыве к
цивилизации Нового времени в патримониальных обществах (см. главу 9),
отличается от образца революционных преобразований. То же самое можно
сказать о радикалистских тенденциях и образцах социальных
преобразований (анализ см. в главе 10), которые сопровождают позднюю
модернизацию, не являясь тем не менее прорывом к цивилизации Нового
времени. Мы подвергнем анализу эти процессы, после того как рассмотрим в
главе 8 результаты революций.
5. Социальные, культурные и исторические предпосылки революции.
Мы возвращаемся к сформулированному раньше положению о том, что
исключительно в контексте взаимодействия между структурными и
культурными особенностями обществ и проанализированными выше
историческими обстоятельствами предпосылки революции могут привести к
взрыву настоящей революции и вызвать соответствующие ей процессы
изменений. Напоминаем, что в числе таких предпосылок — соперничество
внутри элит и между ними, взаимосвязь элит с широкими социальными
движениями,
политическое
выражение
чувства
относительной
обездоленности (депривации) среди крупных групп населения.
При других исторических условиях, так же как в других типах общества,
указанные общие предпосылки могут привести к крушению режимов либо к
внутренним войнам, но не к революциям и не к социальным
преобразованиям революционного типа. Более того, революции не являются
неизбежным следствием сочетания структурных и исторических условий,
наиболее благоприятных для их осуществления, поскольку различные элиты,
субэлиты и крупные группы населения могут направить развитие в тупик,
препятствуя глубоким преобразованиям. Все же, если существуют указанные
предпосылки, возникновение таких тупиков очень мало вероятно.
Осуществится или же не осуществится революция в действительности при
наличии необходимых предпосылок, в очень большой мере зависит от
сплоченности революционно настроенных групп, от их силы и отношений
солидарности между ними и большими группами, а также от
взаимоотношений между ними и существующими правителями и/или
другими претендентами на власть.
Хорошие шансы для осуществления революционных преобразований
возникают только в том случае, если потенциальные революционные группы
оказываются сильнее этих последних или могут образовать с ними
эффективные коалиции8. В Англии, Нидерландах, Соединенных Штатах и до
некоторой степени во Франции относительно открытые отношения
солидарности существовали среди различных революционных претендентов
и между ними и большими социальными группами. В России, Китае и
Северном Вьетнаме революционные группы были маленькими, сплоченными
и относительно закрытыми; среди них существовала тенденция к
установлению таких же закрытых отношений с другими субъектами. Для
такого закрытого образца была характерна более выраженная склонность к
использованию силы и принуждения.
6. Ранние и поздние революции. Сходство и различия.
Несмотря на указанные общие черты, существовали принципиальные
различия между ранними и поздними революциями. В главе 8 мы
проанализируем некоторые из этих различий и их влияние на исход
революций. Тем не менее уже на этой стадии будет уместным поставить
вопрос в духе классической парадигмы М. Вебера об отношении между
протестантством и возникновением капитализм! Можно ли считать
исторической случайностью тот факт, что первые революции имели место в
Европе, а поздние произошли исключительно в результате воздействия
европейской экспансии?
Могли ли ранние революции и прорыв к цивилизации Нового времени
произойти в таких обществах, как Россия либо Китай?
Наш анализ показывает, что системы имперского типа (например,
Российская, Китайская или Османская империя), которые, в отличие от
Византийской империи, дожили до Нового времени, добились этого
долголетия благодаря тому, что успешно свели к минимуму (посредством тех
способов, которые мы проанализировали раньше) потенциальные тенденции
к преобразованиям — особенно тенденцию к совмещению между
повстанческими движениями, инакомыслием, политической борьбой в
центре и институциональным строительством. Нет никакой причины
предполагать, что правители изменили политике разобщения, когда они
столкнулись в своих обществах с явлениями, подобными возникновению
протестантства, или с огромной внешней угрозой традиционного типа.
Причина того, что потенциально преобразующие тенденции к мутациям,
подобным возникновению протестантства, реализовались (даже если она не
предопределяла самое их появление) — это свойственная Европе
специфическая смесь имперских и феодальных элементов. Наиболее
значительную роль здесь сыграло многообразие постоянно изменяющихся
центров и сообществ в относительно широкой, но гибкой системе
европейской цивилизации и связанная с ней многочисленность более или
менее автономных элит. Так подтверждается прикладное значение постулата
М. Вебера об уникальности первоначального движения Запада к
цивилизации Нового времени. Вместе с тем дальнейшее осмысление этого
положения в ходе анализа сходства между ранними и поздними
революциями показывает, что, после того как произошел прорыв,
дальнейшее распространение этого импульса может привести к
возникновению в некоторых обществах реакции, сходной по последствиям с
настоящей революцией. Но такое развитие событий могло иметь место лишь
потому, что сочетание внутренних особенностей и исторических
обстоятельств создало условия, сходные с теми, которые благоприятствовали
революциям в Европе.
Разумеется, однако, даже наличие этих условий, как мы отметили раньше, не
предопределяет, что будут происходить какие-либо революционные
преобразования. Не предопределяет оно и разновидность преобразований.
Здесь возникают два вопроса. Вопрос первый. Почему в Швеции, Дании,
Швейцарии, а также (если следовать тем, кто отрицает революционный
характер Нидерландского восстания) в Нидерландах, которые не испытали
непосредственного воздействия революционного процесса, в символической
и институциональной сферах возник постреволюционный порядок, очень
похожий на тот, что сформировался в европейских и американских странах,
прошедших через революцию?
Второй вопрос относится к той перспективе, которую можно было
обнаружить в Германии, гоминьдановском Китае и в очень незначительной
степени в Испании. Иначе говоря, почему, несмотря на наличие
необходимых
внутренних
и
внешних
условий,
революционные
преобразования не имели здесь места или почему не произошла их
институционализация? В главе 8 мы рассмотрим некоторые из этих проблем
более внимательно.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Moore В. Reflections on the Causes of Human Misery and upon Certain
Proposals to Eliminate Them. Boston: Beacon, 1970. P. 170-171.
2 Skocpol T. France, Russia, China: A Structural Analysis of Social Revolutions.
V.I 8. April. P. 208-210.
3 Walter M. Regicide and Revolution; Idem. Revolution of Saints. Cambridge
(Mass.): Harvard University Press, 1965; Luthy H. Once Again, Calvinism and
Capitalism//Protestant Ethic and Modernization: A Comparative View/Eisenstadt
S.N. (ed.). N.Y.: Basic Books, 1968.
4 Upset S.M., Rokkan S. Cleavage Structures, Party Systems and Voter
Alignments. P. 1—65; Rokkan S. Citizens, Elections and Parties: Approaches to
the Comparative Study of the Processes of Development. Oslo: Universitetsforlaget, 1970.
5 Концепция мир-системы была введена И. Валлерстайном (см.: Wallerstein I.
The Modern World-system. V. 1-2. N.Y.: Academic Press, 1974-1976), который
признает свой долг перед Ф. Броделем (см.: Braudel F.B. The Mediterranean
and the Mediterranean World in the Age of Phillip II.V.l— 2. L: Fontana-Collins,
1966). Разумеется, на этом также делали упор марксистские авторы.
Некоторые аспекты распространения международных систем стали
предметом анализа у Ш.Н. Эйзенштадта. (См.: Eisenstadt S.N. Socialism and
Tradition//Socialism and Tradition/Eisenstadt S.N., Azmon Y. (eds.). N.Y.:
Humanities, 1973; Eisenstadt S.N. The Expansion of Europe and the Civilization
of Modernity).
6 О преобразовании классовых интересов в классово- и статусноориентированную деятельность см.: Falters L.A. Inequality. Chicago: University
of Chicago Press, 1973; Ossowski S. Class Structure in the Social Consciousness.
L.: Routledgeand Kegan Paul, 1963; GaltungJ. Feudal Systems, Structural
Violence and the Structural Theory of Revolutions//Studies in Peace Research. V.
Hague: Van Gorkum, 1970. P. 110-188.
7 Maslish B. The Ascetic Revolutionary. N.Y.: Basic Books, 1975.
8 См.: Race J. Toward an Exchange Theory of Revolutions//Peasant
Rebellion/Lewis (ed.). P. 169-207. См. также: MaravallJ.M. Subjective
Conditions and Revolutionary Conflict//British Journal of Sociology. L., 1976. V.
27. № 1. P. 21-36.
Глава 8.
РАЗНООБРАЗИЕ ТИПОВ РЕВОЛЮЦИЙ И РАЗЛИЧИЕ ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Часть
1.
НАРУШЕНИЕ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ
МОДЕРНИЗАЦИИ.
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ,
ЭКСПАНСИЯ
В
НАСИЛИЕ
И
ПРОЦЕССЕ
1. Подходы к изучению результатов революций.
Наш анализ установил сочетание структурных и культурных особенностей
обществ, с одной стороны, и исторических обстоятельств или предпосылок
— с другой, которое в наибольшей степени благоприятствует революциям и
революционным преобразованиям как главному способу социальных
изменений. Анализ выделил общие признаки таких обществ и специфику
исторических обстоятельств и показал, что в других обществах либо при
других социоисторических обстоятельствах процессы изменений вообще и
модернизирующие преобразования в частности могут происходить иным,
нереволюционным способом. Теперь, прежде чем продолжить этот анализ
различных способов изменений и социальных преобразований, мы обратимся
к проблеме, которую надлежит рассмотреть в первую очередь. Речь идет о
вариативности, присущей как самим революциям (подлинным, или
настоящим), так и их результатам.
Давайте суммируем общие черты, присущие революционным процессам и их
результатам. Революции Нового времени подтолкнули общества, в которых
они происходили, в направлении модернизации, как в ее организационных,
так и в символических аспектах. Опыт всех постреволюционных обществ
включал: 1) растущую структурную дифференциацию и специализацию; 2)
установление международных организационных систем и рынков; 3)
формирование современной рыночной экономики и современных
институциональных систем — в экономической сфере индустриальных либо
полуиндустриальных систем; 4) распространение относительно открытых,
нетрадиционных систем социальной стратификации и мобильности, в
которых на первое место выходят критерии достижительности (конкретно,
экономические, профессиональные, образовательные основания для
выдвижения); 5) ослабление традиционных систем формирования
социальных слоев и их замещение при структурировании социальной
иерархии и политических режимов более открытыми формами классового
типа.
Эти организационные изменения были тесно связаны с основополагающими
революционными принципами, иначе говоря, с идеалами равенства, свободы
и солидарности и с их институциональными производными — подрывом
традиционной формы легитимности, изменением структуры отношений
между центром и периферией, ростом воздействия периферии на центр во
имя
реализации
революционных
принципов,
далеко
идущим
преобразованием характера и функций макросоциальных центров, а также
правил доступа к ним.
Социальные преобразования по-разному осуществляются в современных
обществах и в обществах, вступивших на путь модернизации. В
революционных обществах такие преобразования происходили посредством
насильственных переворотов, и этот процесс включал различные элементы
изменений,
которые
оказывались
в
своеобразных
сочетаниях.
Революционные преобразования отличались значительным переплетением
между переменами в тех или иных основополагающих нормах социального
взаимодействия
(принципы
справедливого
распределения,
смысл
институциональной деятельности, легитимизация социального порядка,
установление границ общностей и символов принадлежности к ним), а также
соединением этих перемен с изменением структуры доступа к власти,
центру, его символам и формам легитимизации.
Изменения в политической сфере сами по себе образуют определенный
отличительный тип. Для него характерно, что оказываются совмещенными
изменения в символах и формах легитимности режимов, в составе правящего
класса, в основах доступа к центру, в отношениях между центром и
периферией и в возможностях распоряжаться ресурсами.
Толчок к модернизации, совместно с изменениями в основополагающих
нормах социального взаимодействия и в политической сфере, производит те
глубокие преобразования в символической и институциональной структурах
общества, которые и составляют существо революции.
Следовательно, некоторые из важнейших различий между революционными
обществами надлежит выявить путем анализа различных сочетаний этих
изменений, и определенные усилия в таком направлении действительно были
предприняты в социологической литературе. Революционные общества, как
было установлено, отличаются друг от друга масштабами и интенсивностью
результатов развития или модернизации большинства их институциональных
сфер, а особенно существенно — сфер экономики и политики. Главные из
различий в экономической сфере, которые выделяются литературой, — это
степень и институциональные рамки развития, особенно степень развития
вообще и индустриализации в особенности, и связанные с этим различия в
составе
отраслевых
(occupational)
сообществ
(крестьянство,
профессиональные группы и т.п.). В политической сфере отмечены различия
в степени унификации и централизации политической системы, с одной
стороны, и участия, символического и фактического, широких слоев в новой
политической системе — с другой. Главное различие обычно проводится
между капиталистическими, индустриально более развитыми обществами
(Западная Европа и Соединенные Штаты) и социалистическими или
коммунистическими обществами (Советский Союз, Китай и Вьетнам).
Но это различие оказывается лишь отправным пунктом для более подробного
анализа различных характеристик институциональных изменений, связанных
с революционными преобразованиями. Большое значение имеют две тесно
связанные характеристики изменений, на которых сосредоточили внимание
классики исследований революции (А. Токвиль и в некотором смысле К.
Маркс), но которыми в последующем стали несколько пренебрегать.
Во-первых, существуют качественные различия между постреволюционными
обществами. Революционные процессы и символика, как мы уже видели,
включают в себя некоторые идеологические и символические цели —
свободу, прогресс и солидарность. Связанные с революциями переворот и
насилие зачастую оправдываются необходимостью достижения этих целей.
Решающим
в
этом
контексте
становится
степень,
в
какой
постреволюционные институциональные системы оказываются способными
включить новые социальные группы, которые формируются вследствие постоянных
изменений,
свойственных
современным,
особенно
индустриальным обществам. Поэтому важно аналитически установить, в
какой степени различные революционные общества в состоянии осуществить
эти задачи.
Во-вторых, существуют различия в том, каким образом достигаются эти цели
в постреволюционных обществах. Само понятие революции имеет
коннотациями переворот, быстрые резкие изменения, нарушение
преемственности и насилие. Иначе говоря, встает задача проанализировать те
последствия, к каким приводит различие в степени разрыва и нарушения
преемственности, что характерно для революций Нового времени. Особого
внимания заслуживают при этом те различия, которые касаются изменений в
важнейших
институциональных
сферах
и
способах
реализации
освободительных целей революции.
Общим фокусом всех изменений являются степень и тип нарушения
преемственности между революционными и постреволюционными
обществами в их символике и институциональных структурах. В этой главе
мы займемся определением критериев, которые помогут нам в анализе
различий, присущих революциям Нового времени и их последствиям. Мы
выделим в систематическом порядке наиболее важные аспекты такого
нарушения преемственности, что обычно не делается в социологической
литературе.
2. Критерии
обществах.
институциональных
изменений
в
постреволюционных
В постреволюционных обществах наиболее важными нам представляются
следующие характеристики преемственности и ее нарушения:
1. В самом общем плане постреволюционные общества различаются прежде
всего масштабностью изменений в основополагающих нормах социального
взаимодействия, а также в структурных и организационных производных
этих основополагающих норм. Хотя во всех случаях изменения в нормах
доступа к власти и в легитимизации политической системы сочетались с
изменениями в других основополагающих нормах, фактическое соотношение
изменений было различным. В США, Нидерландах и до некоторой степени в
Турции наряду с нормами доступа к власти изменялись символы и границы
сообществ, смысловое значение институциональных комплексов. Во
Франции, России и Китае вместе с доступом к власти и символами
легитимности изменялись смысл институтов и нормы справедливого
распределения.
2. Степень нарушения преемственности в принципах построения и структуре
институтов между дореволюционными и постреволюционными обществами
также является различной. Две характеристики этого нарушения
преемственности заслуживают внимания.
Первая — это степень нарушения преемственности в составе правящей элиты
или правящего класса либо среди держателей власти и престижных позиций
в отдельных институциональных сферах. Такие нарушения имеют диапазон
от полного устранения (насильственного либо ненасильственного) ранее
вышестоявших групп до их поглощения.
Вторая — это изменения в структурировании важнейших институциональных сфер. Здесь следует выделить два аспекта: 1)
организационные изменения в размерах основных подразделений различных
сфер; например, переход от небольших группировок (клик) к
организованным партиям либо от узких к широким рынкам; 2) изменения в
смысловом выражении важнейших институциональных сфер, в их способе
легитимизации и в обосновании новых ролей. В экономической сфере такие
изменения затрагивают то, что марксисты называют «способ производства».
В политической сфере происходят изменения в типе режима, в способе
политического самовыражения, в отношениях между центром и периферией,
в символах и основах политической легитимности. Изменяются также
границы и символика политических и национальных сообществ.
Указанные особенности нарушения преемственности порождают изменения
в структурных принципах. Сюда следует включить: критерии оценки
деятельности и позиций участников, принципы распоряжения ресурсами и
доступа к ним, принципы распоряжения властью и обладания контролем над
ресурсами (в том числе контролем над доступом различных групп общества к
важнейшим рынкам и над обращением ресурсов), степень оттеснения
различных групп от их базы власти и от контроля за использованием
ресурсов.
3. Постреволюционные общества различаются по степени изменений в
символической сфере, особенно в символике коллективной идентичности и
легитимности режимов, с одной стороны, и в базовых культурных
ориентациях и кодах — с другой.
4. Эти общества различаются по масштабам применения насилия и степени
институционального и символического разрыва с прошлым, а также и по
степени оправдания такого насилия символическими средствами.
Проведенный нами подробный анализ различий (в противоположность более
общим рассуждениям, которые обычно встречаются в социологической
литературе) очень важен. Конкретность требуется здесь потому, что очень
часто изменения в одном из аспектов преобразований не сопровождаются
изменениями в других аспектах. Именно такие многосторонние соотношения
изменений и нарушения преемственности, которыми объясняют
существенные различия в исходе революций Нового времени, придают
специфический характер реакции каждого революционного общества на
вызов со стороны цивилизации Нового времени и формируют их облик как
современных обществ.
3. Условия, приведшие к различию результатов революций. Существующие
подходы. Экономическая отсталость. Классовая структура общества.
Как можно объяснить различия, возникавшие в ходе революций и
закрепившиеся в их результатах? Как уже было установлено в работах А.
Гершенкорна, различия в уровне модернизации экономики, а также в
некоторых из важнейших организационных аспектов ее развития (например,
тенденцию к образованию финансовых и индустриальных комплексов
высокой
концентрации)
можно
объяснить
с
точки
зрения
институционального подхода1. Отправной точкой может служить
экономическое положение предреволюционного общества или положение
общества
в
международной
экономической
(первоначально
капиталистической) системе: оказалось ли оно среди первенцев, либо
является поздним пришельцем. Признавая обоснованность предположения А.
Гершенкорна, следует добавить к его объяснению два решающих положения.
Во-первых, его схема в равной степени применима как к революционным,
так и к нереволюционным обществам. Понятно, что революционный опыт
привносит новые характеристики2 — особенно в отношении нарушения
преемственности и разрыва с прошлым, на что мы уже обратили внимание.
Проведенное самим А. Гершенкорном сравнение различных обществ
показывает, что, некоторые из важнейших следствий процесса развития
(например, сохранятся ли какие-то проявления экономической отсталости
после того, как сама экономическая отсталость исчезнет) могут быть поняты
только, если взять во внимание политические ориентации правящих,
традиционных либо революционных групп. Значение особенностей этих
старых и новых правящих групп с неизбежностью выводит нас к некоторым
переменным,
которые
могут
объяснить
многовариантность
в
институциональных и символических результатах революций. Именно эти
переменные связаны с различным соотношением между преемственностью
либо ее нарушением и насилием, возникающими в революционном процессе.
В социологической литературе о революциях, разумеется, было много
попыток объяснить многовариантность в институциональных и
символических результатах революций. В большинстве этих объяснений
подчеркивается значение характера отношений между различными классами
(аристократией, буржуазией, рабочими, крестьянством), особенно значение
коалиций между ними. Этот подход, лучшим образцом которого служит
плодотворный труд Б. Мура «Социальные основы диктатуры и демократии»,
получил последовательное развитие в работах Дж. Каутски. Вслед за авторами некоторых более ранних исследований по модернизации Дж. Каутски
подчеркнул то значение, которое имеют, наряду с классами, сами
революционные элиты3. Отчасти сходные, хотя и менее точные объяснения,
облеченные в гораздо более метафизические категории ортодоксального
марксизма, были предложены современными марксистскими авторами,
специализирующимися на сравнительном изучении революций4.
4. Критика существующих подходов.
Труд Б. Мура подвергся большой критике. Многие рецензенты отметили, что
в его анализе, подчеркивающем значение различных классовых коалиций,
недооценивается вариативность динамики, свойственной процессам
модернизации5.
Например, Б. Муру не удалось провести систематическое различие между
теми обществами, в которых модернизация произошла в результате
революционного переворота, и такими, в которых она была достигнута без
подобного переворота; то же самое можно сказать по отношению ко всем
обществам, ставшим фашистскими, но не подвергшимся революциям.
Характеризуя Японию периода 30-х гг. как фашистское государство, Б. Мур,
как представляется, упускает из виду некоторые сущностные аспекты исторического развития страны и отдает дань этноцентризму.
Наконец, сосредоточиваясь на типах межклассовых коалиций, Б. Мур в
своем объяснении не учитывает другие важнейшие аспекты, которые
приводят к различию результатов революций (например, нарушение
структурной и символической преемственности), и затрагивает только
вопрос о реализации освободительных целей революций.
Как мы отметили уже в главе 2, осуществленный Ст. Роккеном и С.М.
Липсетом (так же как в некоторых более поздних работах Ст. Роккена6)
анализ образования коалиций, который включает отношения не только
между классами, но также и между политическими, религиозными и
национальными лидерами, представляется более плодотворным. В этих
работах также указывается на некоторые аналитические слабости подхода Б.
Мура.
Конкретная критика подхода Б. Мура с различных сторон сходится на двух
главных аналитических слабостях его работы. Во-первых, он пренебрегает
значением государства как потенциально самостоятельного элемента в
динамике общества и поэтому недооценивает важность отношений между
государством и другими группами общества (если использовать наши
термины, отношений между центром и периферией). Во-вторых, Б. Муру не
удалось учесть большую вариативность внутреннего структурирования
классов в различных обществах, так же как их отношений с другими
социальными субъектами, включая центр, а эти отношения могли иметь
решающее значение с точки зрения социальных изменений и
преобразований.
Важный шаг вперед в этом типе анализа был сделан Т. Скокпол и К.
Тримберджером7. Оба автора подчеркнули значение государства как
потенциально самостоятельного субъекта, позиция которого в отдельных
случаях не может быть объяснена с позиций классового подхода. Т. Скокпол
в своем анализе выделяет также значение различных способов или типов
отношений между социальными классами, особенно между аристократией и
крестьянством, как фактора, определяющего результаты революции.
Но такое усовершенствование подхода Б. Мура и классического
марксистского подхода не имеет перспективы для дальнейшего развития.
Проведение разделительной линии между обществами, в которых
государство рассматривается прежде всего как инструмент высших
землевладельческих групп либо находящееся в тесных отношениях с ними и
в которых произошла подлинная социальная революция (Россия и некоторые
страны Западной Европы), с одной стороны, и обществами, в которых
государство под эгидой армии тделилось от своих корней (disembedded) и
сделалось относительно амостоятельным и в которых оторванная от корней
(военная) элита дала толчок революции сверху (Япония, Турция, Перу и
Египет), с другой стороны, не дает адекватного объяснения некоторых
важных черт, разделяющих эти различные революции.
Итак, очевидно, что важные различия, отличающие революции Европе, те
различия, которые не могут быть полностью объяснены при сведении
революций к их общему знаменателю, — это тесные отношения между
государством и аристократией. Нельзя в объяснении различий среди
революций Нового времени ссылаться исключительно на отношения между
аристократией и крестьянством; при таком подходе пренебрегают основами
различного структурирования классовых отношений и ролью, которую
играет в этом государство. (Тесные отношения между государством и
землевладельческими группами существовали во многих странах ЮгоВосточной Азии и Латинской Америки, однако они не приводили к созданию
Цусловий, благоприятствовавших революционным преобразованиям.) То же
критическое замечание можно сделать в отношении концепции революций
сверху, которые, по К. Тримберджеру, осуществляются либо относительно
самостоятельным,
оторванным
от
корней
государством,
либо
характеризуемой теми же признаками политической (военной) элитой. Как
понимает К. Тримберджер, результаты революций, осуществленных под
таким руководством, могут очень сильно разниться между собой. В Японии и
до известной степени в Турции революции привели к созданию новых
институциональных комплексов и перестройке отношений между центром и
периферией (и то, и другое представляет свершения, характерные для так
называемых настоящих революций), между тем отсутствие подобных
инноваций свойственно революциям в Египте и Перу. В последних случаях
результатами революции были значительные изменения в составе правящего
класса, в легитимизации режима и в распределении ресурсов (см. главу 10);
однако эти изменения не сопровождались основательной перестройкой
институтов или отношений между центром и периферией.
Будет осуществляться либо не будет осуществляться такая перестройка, не
имеет отношения ни к международному положению, ни к экономическому
развитию. В то же время обращение к этим факторам может объяснить
некоторые из особенностей новых институтов, возникающих в
постреволюционных
обществах:
например,
курс
на
развитие
промышленности в противоположность сельскому хозяйству или значение
государства в финансировании развития.
Подводя итог, можно сказать, что Т. Скокпол и К. Тримберджер признают
значение государства как относительно самостоятельного образования,
однако они не учитывают большого разнообразия отношений между
государством и широкими слоями общества. Эти авторы подчеркивают
значение тех или иных из подобных классов, сопоставляют их силу,
характеризуют отношения между ними в различных странах; однако в их
анализе недостаточно учитываются большие различия в их внутренней
структуре и отношениях этих классов с другими социальными субъектами
(включая центр). Между тем такие различия могут играть решающую роль в
динамике социальных изменений и преобразований вообще, определять
результаты революций в частности.
Как уже отмечено выше, все это не означает умаления важности классовых
интересов. Скорее, наши замечания указывают на то, что такие интересы
могут структурироваться самыми различными способами, которые
определяются переменными, не поддающимися всецело систематизации в
рамках традиционного или даже «исправленного» классового анализа.
5. Структура центров и элит. Отношения солидарности
в революционных обществах.
Можно сказать, что большинство объяснений сосредоточивается на
различных аспектах организации разделения труда (таких, как степень
структурной дифференциации или классовые конфликты), и авторы не
принимают во внимание важнейшие институциональные производные
символических
ориентации:
характер
человеческой
деятельности,
особенности основополагающих норм социального взаимодействия,
расположение центров, отношения между центром и периферией, структура
центров и т.д.
Не принимается во внимание наличие среди главных действующих лиц
революционного процесса основных носителей таких ориентаций, иначе
говоря — институциональных организаторов и элит, которые формируют
рамки институтов. Между тем в этих рамках, казалось бы, сходные
классовые
интересы
моделируются
различным
способом.
Мы
характеризовали значение таких носителей при рассмотрении решающих
аспектов структурной динамики традиционных цивилизаций (главы 4, 5) и
развития революций Нового времени (главы 6, 7). Следовательно, можем
утверждать, что для исчерпывающего объяснения вариативности
революционных процессов и результатов революций (так же как процессов
социальных преобразований, приводящих к осуществлению модернизации
способами, которые отличаются от классического революционного образца)
в …, сосредоточенный на экономической отсталости, международной
зависимости и различных классовых коалициях, надлежит включить те
переменные, которые мы выявили.
Для того чтобы объяснить различные результаты тех революций, в которых
совмещались изменения в различных сферах общества, мы должны обратить
внимание на самостоятельные группы институциональных организаторов,
ориентированных на посюстороннюю деятельность. Именно они во всех
таких революциях играли активную роль в изменении структуры центров и
институ-диональных сфер. Исходя из этого мы должны исследовать
переменные, которые позволят объяснить различия в результатах революций.
Самыми важными из переменных являются: внутренняя структура центров,
их единство и сплоченность, а также наличие у них отношений солидарности
с другими группами общества.
Начнем анализ с рассмотрения некоторых аспектов воздействия замкнутости
(rigidity) центра. Первым таким аспектом является тактическая замкнутость
центра по отношению к новым требованиям. Вторым — структурная
замкнутость, иначе говоря, степень, в которой важнейшим принципом центра
становится отрицание автономного доступа к нему других групп. Третьим
таким аспектом является разнородный состав центра — признак,
предполагающий потенциальные отношения солидарности с некоторыми
элитами и группами общества.
Другой важной структурной переменной являются отношения между
группами в центре, так же как между теми, которые рассчитывают на доступ
к нему, и между этими группами и другими социальными субъектами (элиты
второго плана, социальные классы, большие аскриптивные общности).
Значение таких переменных, как структура, единство и сплоченность центра
и его отношение с другими частями общества, было выявлено при
исследованиях руководящих групп на микросоциальном уровне; однако
результаты этих исследований еще очень редко используются в
макросоциологических характеристиках социального порядка8.
Эти различные аспекты структуры центра и его отношений с другими
группами влияют на способность центра мобилизовать ресурсы,
необходимые для того, чтобы справиться с проблемами, возникновение
которых сопровождает переход к цивилизации Нового времени. От этого же
зависит способность центра подключить к своей деятельности новых
претендентов (или потенциальных претендентов) и его возможности
установить
связи
с
широкими
слоями,
чтобы
осуществить
институциональное строительство и таким путем также повлиять на
результаты революций.
Часть
2.
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ
РЕВОЛЮЦИЙ.
ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Революционные процессы и их результаты в Европе.
РЕЗУЛЬТАТОВ
Как мы уже видели, европейские общества XVII в. характеризовались: 1)
наличием различных центров (полицентризмом); 2) высокой степенью
проникновения центра в периферию; 3) сравнительно высокой степенью
самостоятельности отдельных групп и слоев общества и относительной
автономностью их доступа к центру; 4) многочисленностью культурных и
функциональных (как в экономической сфере, так и из представителей
различных профессий) элит, высокой степенью взаимопроникновения между
ними и тесными отношениями их с крупными коллективами и широкими
слоями населения; 5) высоким развитием и автономностью групп
институциональных организаторов вообще и элит второго плана,
действовавших в политической, религиозной и экономической сферах, в
частности; 6) относительно тесными отношениями между элитами второго
плана и широкими социальными слоями и благодаря этому — между такими
элитами и повстанческими движениями; 7) склонностью элит второго плана
и других групп организаторов направлять свою активность на формирование
центров и соединять деятельность в этом направлении с институциональным
строительством в экономических, культурных и образовательных сферах (см.
главу 5). Перечисленные особенности повлияли так или иначе на степень
замкнутости различных центров, сформировавшихся в Европе в эпоху
абсолютизма.
Наибольшее развитие абсолютистские тенденции получили там, где были
особенно слабы элементы плюрализма (Испания и многие германские
государства); в наименьшей степени они реализовались в Англии, Франции и
Швеции. Замкнутость центров при ранних представителях династии
Стюартов в Англии или при Бурбонах во Франции имела следствием прежде
всего их неспособность наладить отношения с группами и слоями, которые в
принципе обладали доступом к центру.
Косность английского центра проявилась в недолговечных попытках
Стюартов ограничить рамки автономного участия этих групп, не оспаривая
притом само их право на участие. Вследствие этого Англия пережила
временное устранение из центра (представителей относительно сильных
самостоятельных классов, тесно связанных с автономными сплоченными
элитами второго плана.
Во Франции попытка установить абсолютистский режим оказалась после
Контрреформации гораздо более успешной. Тем не менее она также
находилась в противоречии с присущими французской политической системе
основаниями. Хотя французский центр со стороны казался более закрытым и
обособленным, чем английский, в действительности он был предельно
диверсифицированным. Французский центр включал в себя обладавшие
частичной автономностью группы бюрократии и аристократии, которые
находились в тесных, хотя и амбивалентных отношениях со многими
относительно новыми автономными группами экономических и культурных
организаторов и сохраняли относительно тесные отношения (иногда
доходившие до почти полной укорененности) с широкими слоями общества,
особенно землевладельцами и средними слоями.
I
Результаты революций в Европе (и Америке) были тесно связаны с
особенностями структуры центров в предреволюционных обществах. В
Англии нарушение преемственности, которое произошло в ходе
революционного процесса (от Великого мятежа до Славной революции),
было относительно небольшим, хотя имел место довольно заметный сдвиг в
основаниях легитимности. С утверждением новой легитимности было
связано применение насилия, которое во время Великого мятежа оказалось
довольно значительным (даже при учете, что более поздние революции в
Европе и Азии были гораздо более насильственными).
Результаты революции в Англии включали крупные сдвиги, затронувшие
влияние и власть различных частей правящего класса. Новые элементы,
представленные группами землевладельцев и городского среднего класса,
нижние слои аристократии и особенно независимые в политическом
отношении организаторы из профессиональной и религиозной среды (они
были тесно связаны и с аристократией, и со средними слоями города и
деревни, но не сливались с ними), оказались включенными в центр, но при
этом не произошло общего символического устранения или же физического
уничтожения более традиционных групп аристократии и дворцовой знати.
Одновременно происходили чреватые крупными последствиями, хотя и
постепенные изменения в основополагающих принципах системы
социальной иерархии и в критериях доступа к ресурсам и властным
позициям, которые обеспечивали контроль за использованием ресурсов.
Критерии экономического положения постепенно становились все более
существенными, более непосредственно отождествлялись с признаками
социального статуса и политической власти. Происходившие в этом
направлении сдвиги сопровождались возрастанием силы и автономности
средних классов города и деревни, действовавших в сельском хозяйстве,
торговле и зарождавшейся промышленности, вместе с возрастанием
самостоятельного значения самой экономической деятельности. Усиление
контроля со стороны этих групп за распределением принадлежащих им
ресурсов обеспечивалось новыми автономными структурами правовой
системы и утверждением юридического статуса частной собственности и
гражданских прав.
Становление правового государства (Rule of law) было связано с
расширением доступа различных по происхождению групп, особенно
представлявших средние слои, к важнейшим рынкам, а также с их растущим
контролем за перемещением ресурсов между рынками. Первоначально
укрепление института частной собственности и гражданского права сыграло
роль средства, которое позволило лишить многие нижние слои общества
(особенно в деревне) возможности распоряжаться собственными ресурсами.
Оно способствовало образованию городского пролетариата.
Но такое ограничение возможностей нижних слоев носило лишь частичный
или временный характер. Институционализация гражданских прав,
установление правового режима и суверенности парламента впоследствии
стали отправными пунктами для политической организации этих групп и для
утверждения их прав на собственный доступ к центру. Таким образом,
возможность доступа к рынкам и к контролю над ними, столь тесно
связанная с правовой системой, была распространена на пролетарские
группы, которые возникали на волне структурных сдвигов, вызванных
развитием капитализма в сельском хозяйстве, а затем и промышленной
революцией.
Вследствие этого в Англии процесс изменений, включавший переосмысление
значения институтов и новое определение социальных ролей, приобрел
особую интенсивность. В экономической области это означало, что
капиталистический
способ
производства
оказывался
не
просто
организационной системой, но представлял еще и новый легитимирующий
сам себя порядок, который вводил новые роли и символы. В области
политики имели место, как уже отмечалось раньше, сдвиги в основаниях
легитимности; происходило почти постоянное, как представлялось,
изменение структуры отношений между социоэкономическим и
политическим порядками в направлении дифференциации; автономность
доступа социоэкономических групп к центру получала все более широкое
обоснование.
Это реструктурирование порождало далеко идущие изменения в отношениях
между центром и периферией, происходившие в двух тесно связанных
направлениях. Во-первых, отношения между центром и периферией в
символической сфере были пересмотрены в направлении расширения
автономности доступа к центру и возможности его переустройства при
участии широких слоев населения. Во-вторых, аскриптивные и
традиционные виды контроля над таким доступом постепенно ослабли.
Развитие в обоих направлениях было резко ускорено формированием
концепции гражданских прав (citizenship) и становлением практики их
применения, а также и возрастанием автономности правовой системы.
Сочетание этих изменений в отношениях между центром и периферией с
существовавшими формами социальных перемещений создало в Англии
возможность относительно постоянного включения в состав центра все
новых социальных групп, а это включение оказывалось тесно связанным с
расширением контроля над использованием ресурсов.
Результаты революций в Англии оказались ближе к преобразованиям,
имевшим место в тех обществах, подобных Швеции, Швейцарии и
Нидерландам (после восстания XVI в.), в которых собственно политических
революций и не произошло.
Франция продемонстрировала нарушение преемственности и разрыв между
дореволюционным и постреволюционным обществами в гораздо большей
степени; и Французская революция явилась более насильственной, чем
Английская. Фактически во Французской революции культ насилия стал
частью революционного мифа и программой действий.
Высокий уровень нарушения преемственности выявился прежде всего в
насильственном изменении принципов и символов легитимности, в почти
полном политическом устранении прежнего правящего класса и в
физическом уничтожении многих его представителей, в изгнании или казнях
представителей аристократии. Этому сопутствовал сдвиг в принципах и
практике рекрутирования правящего класса; прежде всего возросла роль
интеллектуальных, профессиональных и профессионально-политических
элементов, происходивших из среднего класса. В отличие от Англии, во
Франции образовалась глубокая пропасть, разделившая ее традиционные и
вновь выдвинувшиеся элементы.
Далеко идущие изменения произошли также в основах системы социальной
иерархии, наиболее очевидными проявлениями чего стали: упразднение
юридических и экономических привилегий аристократии; возвышение
критериев экономического положения; изменение структуры официального и
неофициального доступа к ресурсам и их использования (последнее
изменение означало институционализацию частной собственности и сдвиги в
дифференцированном доступе различных групп к ресурсам). Все эти
изменения способствовали росту городской и сельской буржуазии и утрате
своей базы нижними слоями общества, из которых сформировался новый
пролетариат. Подобно тому как происходило в Англии, это оттеснение
сопровождалось получением политических и юридических прав, благодаря
которым оттесненные и вновь созданные группы могли компенсировать себя
за результаты оттеснения обретением позиций контроля над ресурсами. Но
вследствие той пропасти, которая образовалась в политической системе
Франции, борьба за контроль над ресурсами естественно приобрела в этой
стране более насильственный характер, чем та, что имела место в Англии.
Различные процессы структурных изменений, развивавшиеся по мере того,
как модернизация смещала те или иные группы на периферию, приводили к
постоянной конфронтации между различными социальными образованиями.
Она развертывалась вокруг прав различных групп и их контроля за доступом
к ресурсам, а также по вопросам легитимности постреволюционного режима.
Как и в Англии, во Франции происходило расширение рынков и открытие
доступа к ним, перемещение ресурсов между рынками, а также частичный
сдвиг в символическом значении институциональных комплексов, который
приближал общество к капиталистическому порядку. Однако все из-за той же
пропасти, что разделила старые и новые группы, этот процесс не обрел столь
полной легитимности, как в Англии.
Параллельный процесс имел место в политической сфере и в
структурировании отношений между социально-экономическим
и
политическим порядками. Политические элиты, так же как относительно
независимые социальные силы и институциональные элиты, утверждались в
автономных, но все же противостоящих друг другу сферах, с одной стороны,
общества, с другой — государства. Эти силы продолжали бороться за свое
первенство в формировании центра национального государства, в
регулировании доступа к нему и в выработке символов и оснований
легитимизации режима.
2. Американская революция и Нидерландское восстание.
Особый интерес с точки зрения нашего анализа представляет образец
нарушения преемственности в двух ранних революциях, которые
озадачивают теоретиков революций; а именно, в Нидерландском восстании и
Американской революции. В обоих случаях, в противоположность
Английской и Французской революциям, главным результатом здесь явилось
установление новых границ политического сообщества и введение новой
символики его национальной (а не только политической) идентичности. В
обоих случаях определение новых границ сосредоточивалось не на
этнических, региональных или иных естественных привязанностях, но скорее
на установлении гражданских символов новой политической системы. Такое
установление состоялось прежде всего в Американской революции, когда
основанием политического сообщества стала новая политическая идеология,
в центре которой оказалось то, что Р. Белла назвал «гражданской религией»9.
Сходный образец легитимизации был выработан в Голландии.
Хотя новые гражданские символы легитимности подчеркивали отделение от
материнской страны или же от страны-завоевательницы, в случае Америки
они фактически были производными от основных принципов английской
политической системы. Характер легитимизации при Нидерландском
восстании был явственно связан с традиционными идеологическими
установками европейской политической системы.
Далеко идущие преобразования и в Нидерландах, и в американских колониях
осуществлялись в других социальных сферах. В обоих случаях замещение
«иноземного» правящего класса сопровождалось изменениями в составе
местных высших классов, среди социальных и политических элит. В
действительности, и это показывают многочисленные исследования, как по
Нидерландам, так и по Америке, различные соперничавшие между собой
элиты, особенно представлявшие новые типы политических организаторов,
привели в действие и до некоторой степени структурировали более
конкретные классовые и экономические интересы. Эти интересы вместе с
конфликтами вокруг них явились важными факторами, которые в обоих
случаях придали событиям революционный характер. В результате (и
вопреки литературе, в которой в общем не принято квалифицировать
Голландскую и Американскую революции как подлинные) такое развитие
привело к достаточно глубоким изменениям в структурах социальной
иерархии.
Опыт преобразований и того, и другого общества включал: рост значения
критериев экономического успеха и профессиональных достижений;
масштабные изменения в контроле над доступом к рынкам; самую
основательную институционализацию частной собственности; серьезное
расширение доступа к центру. Этим изменениям сопутствовали, в свою
очередь, расширение рынков и открытие доступа к ним, новое определение
институциональных сфер вместе с установлением новых институтов и
ролевых соотношений. Конечным результатом оказалось складывание в
экономической сфере капиталистических систем, а также утверждение
идеала свободного гражданина с полным доступом к центру и установление
автономии правовой системы. Все эти процессы, особенно в Соединенных
Штатах, носили более глубокий характер, чем в Англии.
3. Революционный процесс и его результаты в Китае.
В китайском примере иной была первоначальная структура, и соответственно
мы находим иной образец как революционного процесса, так и его
результатов. Имперская система Китая, как было уже показано, отличалась
прежде всего относительно монолитным, абсолютистским центром. Он был
обособлен и в структурах политической власти, и в категориях культурной
традиции, а основания для доступа к нему в этих направлениях не зависели
друг от друга. (О структуре традиционного китайского центра и
традиционного общества Китая см. главу 5.) Как политическая, так и
культурная составляющие центра имели известные узы солидарности с
периферией, вместе с тем они контролировали центростремительные
ориентации периферии. Имперский центр с его резко выраженной
конфуцианской ориентацией и легитимностью был единственным
распределителем престижа и почестей, и различные социальные группы и
слои не сформировали самостоятельных статусных ориентации, исключая
ориентации чисто локального уровня. Основные ориентации в китайском
обществе были связаны с политико-религиозным центром.
Решающее значение здесь принадлежало структуре важнейшего слоя
конфуцианских ученых-книжников (literati), который соединял имперский
центр со всем обществом. Эта группа сочетала в себе функции или черты
политической элиты и идеологов моделей культурного порядка, кроме того,
она поддерживала тесные связи с теми элементами, которые представляли
свои общности. Как уже было отмечено, конфуцианские книжники
монополизировали фактически доступ к макросоциальному порядку; эта
монополия основывалась в общем на узах солидарности с периферией и на
тесных классовых отношениях с шэньши (gentry). Притом сами каналы,
соединявшие узы солидарности крупных групп периферии и групп центра,
почти полностью находились под контролем книжников, которые оставляли
другим лишь небольшую степень автономности для доступа к центру.
Таким образом, в дореволюционном Китае существовал монополистический
центр, внутренняя диверсифицированность которого была минимальной.
Центр обладал тесными связями с широкими слоями общества, но держал
под контролем сам доступ различных групп к себе. Крупные социальные
группы обладали большой внутренней сплоченностью, однако их
самостоятельность в осуществлении своих центростремительных ориентации
и во взаимоотношениях между собой была очень небольшой.
Китайская революция имела две фазы своего развития — гоминьдановскую и
коммунистическую. Для них были характерны различные образцы
перестройки социополитического порядка, а общим было частичное
сохранение преемственности в одних случаях и частичное ее нарушение в
других.
В первой фазе Китайской революции произошел насильственный разрыв с
легитимизацией и символами политического режима. Этому сопутствовало
произошедшее уже на этой фазе смещение прежнего правящего класса —
конфуцианских книжников; последние утратили контроль над доступом
крупных социальных групп и слоев к центру и над перераспределением
ресурсов. Заметное нарушение преемственности китайское общество
испытало также в построении системы социальной иерархии. Это нарушение,
начавшееся на первой фазе Китайской революции и развивавшееся на второй
фазе, можно расценить как отход страны от традиционных критериев в
пользу современных — открытых критериев достижительности или службы
обществу.
На первой фазе Китайской революции эти процессы не затрагивали глубоко
положение других высших социально-экономических групп. Статус и состав
местных шэньши, военной верхушки и торговцев изменились мало. В
действительности открытие доступа к рынкам и ослабление центрального
контроля над ними даже увеличили относительную силу этих групп во
взаимоотношениях с низшими классами общества — прежде всего с
крестьянством. Не возникло никаких новых каналов связи между
выдвинувшимся политическим руководством и этими низами, и,
следовательно, не могло произойти какого-либо расширения доступа
социальных низов к рынкам. Не появилось у них и новых ресурсов.
Эти процессы, в конечном счете, привели к созданию первого современного
китайского центра. Он носил закрытый монополистический характер и был
прочно укоренен среди сильных социальных групп, которые были
представлены главным образом верхушкой шэньши. Новый центр оказался
еще более закрытым, чем имперский; у него было даже меньше связей с
периферией.
В то время как в принципе отношения между центром и периферией в Китае
перестраивались в соответствии с основными цивилизационными
постулатами Нового времени, фактический доступ к центру оказывался под
контролем сильных групп из шэныии и военной верхушки. Тем не менее
внутри этого центра происходил постоянный поиск новых принципов
легитимности. Однако новые правящие группы оказались неспособными ни к
переработке старых, ни к установлению новых основоположений и схем. Им
не удалось структурировать новые уровни политической идеологии, не
удалось и навести новые мосты для связи с крупными социальными
группами — прежде всего с крестьянством. Точно так же новые правящие
группы оказались не в состоянии сформировать свою собственную
групповую идентичность, которая вполне отличала бы их от высших групп
местных шэньши. Какие бы попытки ни предпринимались ими в этом
направлении, они оказались обреченными в условиях войны с Японией и
реакции, последовавшей за коммунистическим восстанием. Оба эти события
еще более усилили жесткую позицию элементов и консервативные
ориентации среди новых правящих групп.
На первой фазе Китайской революции произошли глубокие организационные
изменения в экономической сфере в направлении полузависимого
капиталистического порядка. Но этот порядок не утвердился в виде нового
комплекса социальных институтов, от него сохранилось лишь небольшое
число новых автономных ролей и ролевых комплексов.
Коммунистическая фаза революции принесла более существенный разрыв с
прошлым и нарушение преемственности. Первый очевидный разрыв
затронул символику политической системы и основы легитимизации режима.
Второй был связан с тем, что, оказавшись у власти, коммунисты
осуществили, как было отмечено, широкую перестройку системы
социальных институтов. Правящий класс был почти полностью устранен, а
многие из его членов уничтожены. Новая правящая группа имела
самостоятельные корни, и находились они в самом революционном
движении.
Новый правящий класс был вторым в истории (первый пример явила Россия),
который
состоял
полностью
из
революционеров-профессионалов.
Впоследствии он вобрал в себя многочисленные партийно-бюрократические
элементы, а еще позднее были добавлены предпринимательские группы из
состава местного руководства. Новому правящему классу была свойственна
оторванность от какого-либо класса общества, хотя он изображал себя
представляющим пролетариат и крестьянство и был озабочен поддержанием
либо установлением отношений солидарности с ними.
Полное устранение в Китае на второй фазе правящего класса имело
непосредственным продолжением устранение и уничтожение верхних
классов города и деревни, с одной стороны, и возникновение новой
социальной иерархии или управленческих (партийно-бюрократических)
правящих групп — с другой. Структура аграрных отношений превратилась в
смешанный образец индивидуального перераспределения земли и
коммунального землевладения.
Глубокие изменения одновременно произошли в символическом значении
институтов, материализовавшись в установлении нового централизованного
социалистического способа производства и революционной политической
системы, под эгидой которой происходила постепенная модернизация
аграрной структуры. Все эти процессы были связаны с открытием рынков и
изменением структуры доступа различных групп к ним, с растущим участием
всех групп в жизни общества и в деятельности его центра, с развернутым
перераспределением ресурсов, особенно земли.
Вместе с тем поддерживался централизованный контроль над
использованием ресурсов. Действительный доступ и к рынкам, и к центрам
строго регулировался центром, который в высокой степени опирался на
принуждение. Все же центр сам страдал от противоречий и конфликтов.
Ожесточенная борьба постоянно возникала между различными элементами
правящей группы: более радикальные антибюрократические партийные
элементы противостояли организационным кадрам (армия в таких случаях
играла решающую роль). Сутью противоречий было то, что идеологический
принцип удержания всей полноты власти или упор на сплоченность и
коллективизм находились в противоречии с задачами экономического
развития. Внутрипартийная борьба оказывалась связана с очень высокой
степенью символической активизации масс, при этом подчеркивались или
отстаивались солидаристско-коммуналистские аспекты их причастности к
новому центру, хотя сколько-нибудь реального доступа к центрам власти при
этом не происходило.
Итак, за небольшими исключениями, контроль над доступом находился в
руках различных центральных групп и их представителей в периферии. Лишь
в экономической сфере допускалась некоторая децентрализация. Тем не
менее и в данном случае локальная либо региональная автономность была, в
конечном счете, ограничена управленческими кадрами.
4. Революционный процесс и его результаты в России.
В России имело место величайшее нарушение преемственности в плане
перестройки социополитического порядка, изменения символической и
политической легитимности режима и изменения структуры социальной
иерархии.
Из всех имперских систем Россия обладала наиболее обособленным и
монолитным традиционным центром с очень слабыми связями в кругу элит
второго плана и между ними и большими группами и социальными
движениями. Российский центр был принципиально автономным и
отделенным от других групп и слоев, не позволяющим никакого доступа к
себе. Вследствие этого, как мы видели, в России центр испытывал лишь
самое минимальное воздействие и допускал минимум автономного участия.
Попытки больших групп населения получить доступ к политическому
центру, так же как их попытки образовать автономные статусные
подразделения, были неудачными. В то же самое время центр в относительно
высокой степени внедрялся в периферию в целях мобилизации ресурсов и
контроля над деятельностью, значимой для всего общества. Как следствие,
политика центра носила главным образом регулирующий и принудительный
характер.
Так, в России образовалась нараставшая разобщенность, во-первых, между
пребывающей
у
власти
политической
элитой
и
различными
институциональными элитами, а также идеологами моделей культурного
порядка и, во-вторых, между политическими элитами центра и выразителями
солидарности важнейших аскриптивных общностей. Это было связано
прежде всего с тем, что доступ элит второго плана друг к другу и к центру
оказался под контролем высшей политической элиты. Как можно
предполагать, здесь сформировались лишь очень слабые связи между
относительно сплоченными, но закрытыми широкими слоями за пределами
тех каналов, что были установлены самим центром.
В то же самое время, однако, довольно сильные центростремительные
ориентации сформировались среди элит второго плана, большинство
которых были сплоченными, но лишь немногие из них поддерживали
автономные отношения солидарности с большими социальными группами.
Поэтому, несмотря на их официальные программы и серьезные усилия,
немногие из элит второго плана добились включения в свою деятельность
носителей солидарности больших аскриптивных групп или сами включились
в согласованные усилия институционального строительства, которое
происходило под эгидой традиционной элиты, а также в результате
деятельности различных экономических организаторов второго плана.
При большевиках Россия полностью порвала с прошлым в плане
структурирования социополитического порядка. Произошедший в этой сфере
разрыв затронул вначале символы политической системы и принципы ее
легитимности. Он был осуществлен одновременно с полным устранением —
и почти полным истреблением — правившего класса новой революционной
партийной элитой, которая представляла уникальную разновидность
современного правящего класса. В последний вошли также новые высшие
социальные и экономические группы, обычно представлявшие партийную
бюрократию. Даже если зачастую эти группы происходили из
непролетарских элементов старого общества, они были организованы в
соответствии с совершенно новыми принципами иерархии, которая была
основана на политическом господстве новой правящей элиты. Кроме того, в
России нижние слои почти полностью лишились своей экономической базы;
особенно это коснулось крестьян, утративших даже тот ограниченный
контроль над собственными ресурсами, который они имели прежде.
Изменения произошли также в символических обозначениях и
структурировании важнейших институциональных сфер, хотя это не всегда
затрагивало
их
фактическую
организацию.
Экономику
полукапиталистического типа, контролируемую различными социальными
группами, которые более или менее искренне и определение выдвигали
целью модернизацию социума, сменила коллективистская экономика, в
которой исключительно сильный упор делался на создании тяжелой
индустрии, а контроль осуществлялся новой, партийной бюрократией.
Преобразование структур российской экономики основывалось на
распространении рынков и перемещении ресурсов между ними, на
решительных усилиях, которые предпринимал правящий класс, для того
чтобы путем принуждения контролировать доступ к рынкам и к
перераспределению ресурсов. В то время, как теоретически отношения
между центром и периферией перестраивались в соответствии с основными
цивилизационными постулатами Нового времени (включая причастность к
деятельности центра широких слоев населения и отчетность центра перед
ними), фактический доступ к центру был жестко ограничен
принудительными мерами. Постреволюционный центр, в отличие от
традиционного, постоянно проводил мобилизацию периферии, не позволяя
ей создавать автономные организации или обеспечить автономный доступ к
центру. И в ограничениях такого рода он следовал традиционному образцу.
Сходный образец нарушения преемственности сформировался, по-видимому,
и во вьетнамском случае.
5. Революционный процесс и его результаты в Турции.
Кемалистская революция дала жизнь иному типу преобразований.
Османский центр представлял смешение имперских и патримониальных
элементов. Имперский элемент был укоренен в идеологии ислама, которой
были привержены некоторые группы центра; патримониальные признаки
можно было в какой-то степени обнаружить в организации центра, в составе
периферии и в отношениях между центром и периферией.
Наступление модернизации усилило формирование в центре многообразия
составляющих:
правители,
различные
категории
чиновников,
полупрофессиональные группы специалистов и военная верхушка.
Некоторые из этих элементов опирались на отношения солидарности с
высшими группами сельской периферии и в известном смысле обеспечили
важный канал связи между сильными и внутренне сплоченными элементами
периферии и центром.
Вследствие
этого
Кемалистская
революция
сопровождалась
преобразованиями, которые по своему типу отличаются от тех, что
происходили в других революционных обществах. Специфические черты
касались прежде всего перемен в основах политической легитимности и в
символике политического сообщества; заодно с этими переменами было
проведено новое определение границ общности (collectivity). Новое
определение политического сообщества произошло уникальным образом.
Общество порвало с системой исламской общности и перешло в систему
категорий заново определенной турецкой нации. Хотя этот процесс кажется
сходным с тем путем национального самоопределения, которым следовали
европейские государства, в Турции он означал отрицание универсальной
системы, какой была исламская цивилизация, а этого не происходило в
Европе, где состоялся переход от одного определения универсальности к
другому.
Таким образом, Турецкая революция полностью отвергла религиозное
(исламское) основание легитимности и попыталась сформировать
секулярный национальный базис легитимности как важнейший
идеологический параметр новой общности, не очень выделяя в последней
социальные составляющие. Эти перемены сопровождались почти полным
устранением прежнего правящего класса — как политического, так и
религиозного — представителями бюрократических и интеллектуальных
элит второго плана. Параллельно происходило расширение рынков и их
открытие для перемещения ресурсов. Тем не менее первоначально рынки
оставались под контролем правящей элиты. Были сделаны попытки
утвердить
новые
экономические
институты,
скопированные
с
капиталистической системы, однако они сохраняли сильную этатистскую
направленность.
Устранение правящей группы не сопровождалось устранением сильных
элементов из традиционных социальных и экономических сфер. В городской
и сельской среде устранение происходило в двух как будто
противоположных направлениях. В первом случае элитарный истеблишмент
и бюрократия становились еще сильнее и вырабатывали этатистскую
политику. Во втором случае происходило движение к более автономному
классообразованию, основанному отчасти на связях между бюрократией и
сильными представителями социально-экономической сферы.
Эти подвижки в принципах легитимности и в символах и границах
сообщества вместе с изменениями в правящем классе сопровождались
идеологической перестройкой отношений между центром и периферией,
которые приближались к образцам цивилизации Нового времени. Такой
перестройке сопутствовало распространение принципа политического
участия на широкие слои, хоти в первые годы существования
революционного режима такое участие полностью контролировалось
правящей группой.
6. Преемственность в культурных кодах, символах идентичности и структуре
институтов.
Проделанный здесь анализ подтверждает довольно уже хорошо известный
факт, что в постреволюционных обществах Китая и России (а также
Северного
Вьетнама)
проявилось
гораздо
больше
нарушений
преемственности с дореволюционными символами легитимности и
институциональными системами, чем это было в Западной Европе и
Северной Америке. Между тем более внимательный взгляд на исторические
материалы позволяет нарисовать значительно более сложную картину. Китай
и Россия на самом деле сохранили преемственность с прошлым в некоторых
его характеристиках или очертаниях. Однако существование подобных
характеристик, связанных с преемственностью либо ее нарушением,
оставалось без внимания в литературе по революциям, если исключить
классический труд А. Токвиля «Старый порядок и революция».
Мы призываем исследователей обратить внимание на базовые культурные
ориентации и коды, основополагающие представления о культурном и
социальном порядках и их важнейшие институциональные производные
(которые подробно проанализированы в этой книге). Особенно важным в
этом отношении представляется характер доступа различных групп к
основным атрибутам культурного и социального порядков и их
производным, выявляющийся прежде всего в структурировании отношений
между центром и периферией и построении систем социальной иерархии.
I
Хорошо известно, что подобную преемственность можно обнаружить во всех
постреволюционных обществах. Так, например, если ограничиться
несколькими случаями, Россия продемонстрировала очень высокую степень
преемственности культурных кодов, характера отношений между центром и
периферией и образцов социальной стратификации. Как перед, так и после
Русской революции это общество отличалось очень высокой степенью
влияния центра на периферию в целях мобилизации ее ресурсов и контроля
за теми видами ее деятельности, которые имели значение для всего общества
(эти черты представляются особенно характерными для современного
режима). Аналогичным образом та политика, которую в равной степени
проводили и традиционные, и современные центры России, отличается
главным образом регулирующим и принудительным характером.
Образец политической борьбы и политической организации, присущий как
дореволюционной, так и постреволюционной России, обнаруживает
относительно высокую степень организованной политической деятельности,
которую направляет центр и в которой господствует исполнительная власть
либо партия. В постреволюционных условиях партия использовала свои
органы, чтобы установить круг требований, которые предъявлялись к этой
деятельности, и мобилизовать политическую поддержку. В то же время
сохранялся принцип сведения к минимуму возможностей как для
автономного выражения требований, так и для деятельности, в результате
которой могли возникнуть радикалистские повстанческие движения
политического, идеологического либо религиозного характера.
Кроме того, в России сохранялась преемственность в некоторых базовых
аспектах социальной стратификации. Здесь мы находим большое сходство
между дореволюционными и постреволюционными порядками. Оно
выявляется: 1) в характере основных признаков статуса; 2) в функциях,
осуществляемых ради потребностей центра, и в признаках и символах,
которые он монополизирует; 3) в обособлении моделей образа жизни и
образцов
участия
различных
локальных,
профессиональных,
территориальных и родственных групп; 4) в попытках элит свести к
минимуму статусные или классовые компоненты семейной идентичности
либо идентичности широких родственных групп, а также автономное
положение семьи в статусной системе; 5) в попытках, присущих элитам и
царской, и советской России, установить единоообразную систему иерархии
для оценки важнейших позиций, особенно в отношении доступа к центру.
Структурная
преемственность
оказывалась
тесно
связанной
с
преемственностью в культурных ориентациях. Глубинные ориентации,
которые мы выявили в традиционной России, продолжали существовать и в
России постреволюционной; главное — сохранялась монополия центра над
доступом к важнейшим признакам культурного и социального порядков и к
посюстороннему очагу спасения.
государства над обществом.
Сохранялось
также
преобладание
II
В
Китае
важнейшим
нарушением
преемственности
между
коммунистическим режимом и традиционным порядком стала прежде всего
попытка коммунистического руководства уничтожить большинство
конкретных символов, социальных слоев и организаций традиционного
порядка, чтобы утвердить новые социальные и политические цели и создать
новые типы социальных организаций. Тем не менее можно установить
преемственность в некоторых ценностях и их институциональных
производных.
Коммунистический режим Китая стремился представить глубинные
проблемы социального и культурного порядков в предельно широких
категориях (например, делая упор на соединении власти с идеологией), но
сами проблемы не очень отличались от тех, что стояли перед традиционным
порядком. Более того, коммунистическая элита и ее конфуциансколегистские
предшественники
сходным
образом
рассматривали
использование различных институциональных структур и иерархию
господства-подчинения между ними (свидетельством чего является
неизменное преобладание государственной службы и централизованной
бюрократии). Современный режим стремится использовать ноу-хау
традиционного персонала и традиционные организационные структуры,
оторвав их от их традиционного окружения и лишив их автономной
идентичности.
III
Постреволюционная Европа тоже демонстрировала преемственность с
прошлым. Базовые культурные ориентации, так же как принципы отношений
между центром и периферией, пережили европейские революции. Так,
например, современная Европа явила высокую степень приверженности со
стороны в равной степени центров и периферии по отношению к общим
идеалам и целям; высокий уровень проникновения центра в периферию для
того, чтобы мобилизовать поддержку для своей политики; постоянное
воздействие относительно автономных сил периферии на центры.
Точно так же постреволюционная Европа показала преемственность в
образцах политики правителей, которая была не только распределительной и
обеспечивающей, но и поощрительной — другими словами, направленной на
создание или продвижение новых типов деятельности и новых организаций,
на предоставление возможностей для осуществления новых целей, которые
самостоятельно выдвигались различными слоями населения.
Все эти аспекты политических систем оказываются тесно связанными с
преемственностью в образцах политической организации и политической
борьбы, которые отличали Западную Европу. Эта преемственность
проявилась прежде всего в формировании относительно самостоятельных
политических групп, таких, как партии и органы общественного мнения, и в
возникновении предельно автономных политических движений, целями
которых становилось получение доступа к ресурсам центра и оказание
влияния на символы, окружение и структуру центра — следовательно,
обеспечение самостоятельности крупных групп общества как носителей тех
ценностей и признаков, которые претендовал представлять центр.
Наконец, Европа сохранила преемственность с прошлым в образцах
социальной стратификации и в восприятии социальной иерархии. Такая
премственность очевидна во многом: в упоре на (различные атрибуты
культурного и социального порядков, к которым различные группы имели
самостоятельный доступ в сочетании ориентации не только на власть, но и на
культурный, социальный и экономический престиж; а также в формировании
многообразия систем статусной иерархии и образцов несовпадения (статусов,
наряду с очень сильной тенденцией к формированию среди различных слоев
общенациональных образцов сознания и организационных форм,
охватывающих всю страну.
IV
Сходный до некоторой степени образец преемственности можно обнаружить
в Турции. Имперско-патримониальные ориентации и структуры, заодно с их
контролирующими механизмами, переживи Кемалистскую революцию. В то
же время своим содержанием эти ориентации и структуры способствовали
формированию большей институциональной гибкости и автономности.
Преемственность кодов и их структурных производных была связана с
преемственностью некоторых базовых характеристик важнейших групп
институциональных организаторов, действовавших этих обществах. Эта
преемственность наиболее отчетливо вырапась в плане их самостоятельности
либо укорененности в структуре широких аскриптивных слоев и в характере
отношений солидарности между ними, а также между ними и широкими
слоями. |Хотя все постреволюционные общества проявляли такую
преемственность, можно установить некоторые существенные различия.
7. Изменение структуры традиции.
Итак, проделанный нами анализ показывает, что постреволюционные
общества отличались различной степенью нарушения преемственности в
символах коллективной идентичности, с одной стороны, и в ключевых
аспектах институциональной структуры — с другой. Было бы неточно
утверждать, что различия в степени нарушения преемственности в
характеристиках институциональной структуры коррелируют со сходными
степенями сохранения преемственности в культурных кодах и их
структурных производных. Тем не менее более пристальный взгляд на
развитие различных обществ обнаруживает, что высокий уровень нарушения
преемственности в символах легитимности и в переустройстве
институциональных сфер, по всей видимости, совпадает с высокой степенью
сохранения преемственности в важнейших культурных кодах — особенно в
их главных структурных производных. Этому соответствует также высокая
степень поддержания центрального контроля и обращения центра к мерам
принуждения при переустройстве институциональной структуры и,
вследствие этого — меньшая способность центра к поглощению постоянно
формирующихся символов и движений протеста, которые свойственны
процессу модернизации.
Эта корреляция прослеживается и в обратном порядке. Меньшая степень
нарушения преемственности в символах политического режима и
коллективной идентичности совпадает с большей преемственностью кодов и
их институциональных производных и с меньшей степенью структурного
принуждения (в противоположность простому насилию) в процессе
переустройства
институциональной
системы
постреволюционных
обществ10.
Различия между революционными элитами, более или менее склонными
действовать методами принуждения, и обществами, которые становились
объектами их воздействия, лучше всего могут быть рассмотрены на примере
тех способов, которыми используются традиционные ориентации в
дореволюционных обществах, и способов, которыми культурные ориентации
и символы перестраиваются в новых условиях11.
Для всех революционных обществ были характерны попытки выдвинуть
новые цели, символы и центры; учредить новый политический и культурный
порядок; расширить, по крайней мере в символическом плане, участие
широких слоев в этих порядках и включить политический и культурный
порядки в новую институциональную деятельность. Во всех таких ситуациях
возникала тенденция дифференцированного отношения к различным
элементам традиции, происходило постепенное обособление традиционных и
нетрадиционных (как религиозных, так и нерелигиозных) сфер жизни, а
также переоценка значения различных символов и традиций для различных
сфер жизни.
Такой порядок отличался от того, что обнаруживается в ситуациях,
структурированных группами или элитами, которые в той или иной степени
противостояли изменениям. Если конкретно, обособленность различных
сфер жизни была здесь менее полной и жесткой. Здесь существовала
тенденция к большему совпадению между преемственностью в
институциональной и символической сферах, при большей степени
взаимопроникновения между ними. Все же такое совпадение
преемственности
не
сделалось
вполне
формализованной
или
ритуализованной нормой.
Таким образом, в отличие от своих дореволюционных предшественников,
постреволюционные общества не провели разделительной линии между
различными сферами, не дошли они до полного устранения традиционных
символов из новых институциональных сфер, с одной стороны, или попыток
внедрить в них жесткие религиозные принципы — с другой. Скорее,
постреволюционные общества отличала предрасположенность к такому
символическому порядку, в котором могли быть объединены социальные
сферы, отличающиеся известной степенью автономности, и в который могли
быть включены, по меньшей мере частично, дореволюционные символы и
традиции.
В революционных ситуациях сложилась относительно высокая степень
внутренней дифференциации и диверсификации ролей и задач. Происходило
растущее включение таких новых ролей и задач в деятельность важнейших
социальных групп, и более выраженной оказывалась готовность со стороны
членов этих групп взяться за решение новых задач, выходящих за рамки их
собственных групповых интересов, и участвовать в совместной деятельности
с теми или иными из новых групп. Кроме того, для этих новых ролей, задач и
форм участия, которые оказывались переплетенными в соответствии с
высоко дифференцированными принципами интеграции, оказалась
характерной более высокая степень восприятия новых структурных
возможностей, а также новых целей и символов коллективной идентичности.
Наконец, в структуру нового центра оказалась включена символика крупных
социальных групп. Большинство революционных обществ были
расположены к более тесным и более позитивным связям между личной
идентичностью членов составляющих их групп либо самого общества в
целом и символами нового порядка в его политической, социальной и
культурной областях. Члены революционных сект и партий большей частью
принимали новые символы в качестве главных общественных ориентиров
(referrents) их личной идентичности, направляющих их участие в социальном
и культурном порядках и придающих смысл многим новым видам
институциональной деятельности.
Наряду с таким сходством, между революционными обществами
существовали важные различия, особенно по отношению к использованию
власти и обращению к принуждению. Эти различия наиболее отчетливо
прослеживаются
при
сопоставлении
западноевропейских
(и
североамериканских) постреволюционных обществ, с одной стороны, и
постреволюционных обществ России, Китая и Северного Вьетнама — с
другой.
В Европе предпринимались неоднократные попытки заново определить
важнейшие проблемы социального и культурного порядка и расширить
рамки их решения. Такое расширение имело место без полного отторжения
традиционных символов; скорее существовала тенденция к включению их в
новый символический порядок. Вследствие этого в Европе происходили оба
процесса: формировались новые социальные группы и коллективы и
одновременно происходило формирование новых институциональных целей.
Более того, преемственность культурных ориентаций способствовала
возникновению большого разнообразия новых, относительно автономных
институтов и групп и облегчению контроля над ними. Возможно, именно
вследствие этих изменений и произошел (как мы еще увидим) отход от
некоторых ранних принципов европейской цивилизации Нового времени.
В результате преемственность традиции сохранилась главным образом в
плане приверженности к центральным символам культурного и социального
порядков и в плане общей ориентации на эти порядки; труднее говорить о
преемственности в самом содержании порядков, поскольку в таких
ситуациях оно постоянно изменялось.
В России, Китае и Вьетнаме ситуация была более сложной. С одной стороны,
их революционные элиты уничтожили большинство конкретных символов и
структур существовавших традиций, слоев и организаций, выдвинули новые
социальные и культурные цели и новые типы социальной организации.
Однако в то же самое время они сохранили большую степень
преемственности по отношению к базовым формам символической и
институциональной ориентации, чем элиты солидаристского плана.
Они обнаружили склонность поставить некоторые глубинные проблемы
социального и культурного порядков и их взаимоотношений в широких
категориях (например, всеобщее значение властных отношений), которые не
слишком
отличались
от
категорий,
использовавшихся
их
предшественниками. Разумеется, конкретные формулировки этих проблем,
например, как установить абсолютистский порядок (его нельзя смешивать с
тоталитарным индустриальным обществом), и их конкретное решение
сильно отличались от того, что было свойственно предшествовавшему
порядку.
В России, Китае и Вьетнаме революционные элиты сохранили традиционные
ориентации, но изменили их конкретное содержание и их идентификацию со
старым порядком и связи с ним. Иначе говоря, они попытались
контролировать новым способом самые глубинные мотивационные
ориентации, которые были свойственны ранней системе, но изменили
содержание этих ориентации и придали им новый контекст.
Параллельный процесс имел место по отношению к старым
макросоциальным символам. С одной стороны, мы обнаруживаем почти
полное отрицание этих символов. С другой (из-за сходства поставленных
проблем) — мы видим попытки использовать либо удержать такие символы
или общие символические ориентации, вычлененные из своего контекста.
Сходные различия проявились в позициях различных революционных
обществ в плане регулирования отношений идентичности между личностью
и обществом. Разработанная в России и Китае политика в области
образования стремилась подчинить личность новой коллективной
идентичности, свести к минимуму личную и внутригрупповую идентичность
и сделать общественные символы и их носителей основными контролерами
личного сверх-Я. Эти символы и их носители все больше подчеркивали
значение сплоченности всего коллектива. Символически и организационно
определенная, она становилась главной точкой сверх-Я для индивида.
Западная Европа и США сформировали иной, противоположный этому, тип
ориентации и политики. Эти общества сделали сильно выраженный (хотя и
гибкий) упор на личной приверженности коллективу и институциональной
деятельности; но сама эта гибкость способствовала выражению личной
идентичности или, по крайней мере, допускала ее. Эта идентичность была
очень свободно связана с коллективной идентичностью.
Итак, во всех этих случаях мы констатируем довольно парадоксальное
соотношение между преемственностью в символике легитимности,
основаниях легитимности и символических значениях институтов, с одной
стороны, и составом правящих групп, степенью контроля и
принудительности, основаниями, на которые опираются социополитический
порядок, отношения между центром и периферией и система социальной
иерархии, — с другой. Именно то или иное соотношение в характеристиках
контроля имело наиболее тесную связь с осуществлением эмансипаторских
составляющих, относящихся к образу подлинной революции.
Так, при элитах, у которых не было склонности прибегать к принуждению,
допускалось образование более плюралистической системы институтов и
расширение типов и характеристик ориентации протеста, что порождало, в
конечном счете, ощущение незавершенности революции. Элиты, склонные к
принуждению, допускали развитие подобных тенденций в гораздо меньшей
степени; они делали упор прежде всего на солидаристских характеристиках,
на сплоченности, атрибуты которой они стремились монополизировать. Они
утверждали, что произошло полное осуществление эмансипаторских
принципов революции12.
Часть 3. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ.
1. Структура и закрытость центров. Разновидности революций и типы
социальных преобразований. Нарушение преемственности и структурные
перемещения.
Какие заключения мы можем сделать на основании того материала, что был
представлен в предшествовавшей части книги, относительно главенства
среди выделенных переменных? Имеются в виду структура центра, его
жесткость и состав, солидаристский характер отношений между
центральными элитами и элитами второго плана и между ними и широкими
слоями, с одной стороны, и различные результаты революций с
возникновением разных типов постреволюционных обществ (различных в
плане характеристик модернизованности, нарушения преемственности в
социальной структуре и потенциальных последствий в реализации
освободительных принципов) — с другой.
Как мы отметили, решающей по силе воздействия переменной, которая
объясняет отношения между структурой центров и последствиями
революций, является та либо иная способность центра: во-первых,
мобилизовать ресурсы, необходимые для того, чтобы справиться с
проблемами, сопутствующими переходу к цивилизации Нового времени; вовторых, включить новых или потенциальных претендентов на участие и, в-
третьих, установить связи с более широкими слоями общества в целях
обеспечения строительства институтов.
По общему правилу, чем больше способность центра к решению этих задач,
тем меньше степень насилия, нарушения преемственности, глубина разрыва
и распада при переходе от дореволюционных к постреволюционным
структурам; и напротив, чем меньше такая способность, тем больше
происходит насилия, нарушений преемственности, разрыва и распада.
Отношение между недостатком у центра способности к решению подобных
проблем и высоким уровнем нарушения преемственности, глубиной ее
разрыва в ходе революционного процесса объясняется частично тем
обстоятельством, что чем больше эта неспособность, тем сильнее развивается
у центра склонность к принятию принудительных и репрессивных мер, а это,
в свою очередь, часто порождает жесткую реакцию со стороны претендентов
на участие во властных структурах и часто имеет следствием
институциональное и символическое нарушение преемственности между
дореволюционным и постреволюционным обществами.
Каким же образом различные аспекты структуры центра — особенно степень
его замкнутости и состав — влияют на способность центра к решению новых
проблем и к включению новых слоев, а также на моделирование
революционного процесса и его последствий. Как мы видели, замкнутость со
стороны центра имеет несколько аспектов. Во-первых, это тактическая
жесткость перед лицом новых требований. Во-вторых, это структурная
жесткость, степень, в какой центр основывается на отрицании за другими
группами самостоятельного доступа к нему. В-третьих, это монолитный либо
плюралистичный состав центра. Такой плюрализм может включать
отношения солидарности с некоторыми периферийными элитами и
группами.
Как мы видели, в самых общих категориях жесткость и закрытость центра
являются очень сильным фактором, формирующим и усугубляющим
условия, которые приводят к революции. Иначе говоря, это фактор,
побуждающий к соперничеству между элитами, возрастанию фрустрации
среди основных слоев и т.д. Кроме того, чем больше жесткость центра, тем
больше он вовлекается в принудительные меры; следовательно, тем более
насильственный характер будет иметь развертывающаяся революция и тем
сильнее будет ее тяготение к разрыву с основаниями, символами и образцами
политической легитимности, так же как с другими аспектами
институциональной структуры дореволюционного режима.
Можно сделать вывод, что среди дореволюционных обществ в Англии был
наименее жесткий (безусловно, менее жесткий, чем во Франции) центр;
английский и французский центры были менее жесткими, чем центры в
России, Китйе или позднем колониальном Вьетнаме. Вследствие этого
степень насилия, так же как отрицания символов и оснований легитимности
предшествовавших режимов, была гораздо больше в трех последних случаях.
Значение жесткости центров в моделировании революционных процессов
выявляется также при сравнении с обществами, в которых процессы
социальных преобразований, ведущие к модернизации, не были
революционными. Центры этих обществ (например, в Скандинавских
странах и в Швейцарии) отличались большой гибкостью и высокой степенью
готовности к включению новых групп претендентов на власть. Основа для
подобной гибкости заключалась в том обстоятельстве, что на Скандинавском
полуострове и в Швейцарии более автономные плюралистические элементы
европейской традиции либо были относительно сильнее, чем где бы то ни
было в Европе, либо стали сильнее благодаря способствовавшим этому
внутренним и внешним обстоятельствам.
Если общей жесткостью центра приближенно можно объяснить степень
фактического либо символического насилия, характеризующего ту или иную
революцию, то в объяснении других аспектов нарушения преемственности и
разрыва между дореволюционными и постреволюционными обществами
следует искать связь со специфическими характеристиками жесткости и
закрытости центра. В тех случаях, когда жесткость центра была
исключительно (или по преимуществу) тактической либо личной, как,
например, в Англии и в меньшей степени во Франции, и не доходила до
принципиального отрицания доступа к нему больших групп населения, тогда
нарушение преемственности затрагивало в первую очередь символику
политического режима вместе с некоторыми основаниями его легитимности
и только во вторую очередь — состав правящего класса и других высших
классов. Наименее очевидным нарушение преемственности было в
структурировании доступа различных групп к ресурсам и позициям
контроля.
Таким образом, в Англии, американских колониях, а в некоторой степени в
Нидерландах и Франции, где широкие слои общества пользовались
известным доступом к центру, произошло относительно незначительное
нарушение преемственности в символике и основаниях политической
легитимности, так же как в составе правящего класса. Подчеркнем, что во
Франции закрытость центра была наибольшей, и это привело к явлениям
глубокого распада во всех важных аспектах институциональной структуры.
Особый интерес с точки зрения анализа влияния структуры центра
представляет образец нарушения преемственности в тех двух случаях ранних
революций, что приводят в затруднение теоретиков революции, —
Нидерландское восстание и Американская революция. В обоих этих случаях
главным результатом, как очевидно, было установление границ нового
политического сообщества и рождение символов их национальной (а не
только политической) идентичности при том, что это свершалось —
особенно в Америке — при относительно небольшом применении насилия.
Такой феномен станет понятным, если мы учтем, что вследствие большой
отдаленности жесткость испанского центра и в еще большей степени
английского ощущалась гораздо слабее. Эти центры были дополнительно
ослаблены тем, что революции предпринимались группами и элитами,
которые первоначально являлись законными частями, хотя и на вторых
ролях, существующего центра и поднимали восстание во имя тех принципов,
которые были признаны центром.
Между тем в России, Китае, Вьетнаме и Турции, где обособленность центра
основывалась главным образом на отрицании доступа к центру для больших
групп населения, сформировался образец гораздо более глубокого
нарушения преемственности. Разрыв и нарушение преемственности
произошли не только в символах и основаниях легитимности политического
режима и притом в такой степени, какая была неизвестна в предыдущих
случаях. Нарушение преемственности выразилось также в устранении и даже
истреблении правящего класса и других высших классов общества, с
подрывом положения других классов и с резкими изменениями в
большинстве принципов, на основании которых происходило распределение
ресурсов.
В то же время эти общества представляют большое различие, если
рассматривать последствия. Здесь самой решающей из переменных
оказывалась степень монолитности центра: особое значение имело то, в
какой степени центр формировал в процессе модернизации относительно
автономные субэлиты и допускал возможность доступа со стороны широких
слоев. Давайте рассмотрим в этом отношении примеры России, Китая и
Турции.
В России центр был наиболее обособленным, и эта особенность становилась
еще более выраженной по мере того, как Россия шла по пути модернизации.
Вследствие этого в России нарушение преемственности и разрыв в
институциональных структурах и в символике политического режима
сопровождались наибольшим применением насилия. Здесь произошло
наиболее значительное уничтожение высших классов общества вообще и
правящего класса в частности.
Центры в Китае и Турции были более плюралистичными, и эта тенденция все
более усиливалась в рамках их реакции на модернизацию. На первой фазе
Китайской революции, так же как в ходе Кемалистской революции,
нарушение преемственности в символах политической легитимности и
устранение бывших правящих групп не были связаны с резкими
изменениями в составе основных высших групп, с далеко идущими
перемещениями других групп или с выраженной подвижкой в их доступе к
центру.
Как мы видели, первая фаза Китайской революции создала центр, который
был жестким, обособленным, неэффективным и неспособным к
институционализации. Во время второй фазы реакция против этого центра
породила нарушение преемственности во всех важнейших аспектах жизни
различных институциональных сфер.
Итак, чем более плюралистичным оказывался центр и более политически
открытым, по меньшей мере, для некоторых крупных групп, тем больше
существовало шансов для того, чтобы изменение основ политической
легитимности, так же как оснований для доступа к центру, не
сопровождалось полным преобразованием базовых принципов важнейших
институциональных сфер.
2. Закрытость центров. Отношения солидарности, структурные сдвиги и
принуждение при структурных преобразованиях в постреволюционных
обществах.
Другой решающей переменной в процессе структурного преобразования
постреволюционных обществ была степень, в какой изменения в составе
правящего и других классов оказывались связанными не только с
изменениями в положении этих социальных групп относительно друг друга,
но также с потерей ими доступа к ресурсам и/или к контролю над ними
заодно с потерей доступа к властным позициям и к центру, а кроме того, с
тем, в какой степени структурные преобразования сопровождались
принудительными мерами.
Перечисленные аспекты структурных преобразований революционных
обществ были особенно тесно связаны с жесткостью, закрытостью и
спецификой состава центра и с тем, в какой степени отношения между
главными элитами, с одной стороны, и элитами второго плана и основными
группами общества — с другой, отличались солидарностью. Там, где
дореволюционный центр был составлен из относительно самостоятельных
элементов — идеологов моделей культурного порядка, политических и
экономических элит и идеологов солидарности аскриптивных общностей (а
эти элементы поддерживали отношения солидарности друг с другом и с
основными группами общества), устранение групп, относившихся к
дореволюционному центру и занимавших высшие социальные позиции, так
же как и утрата влияния и баз контроля нижними группами, носила менее
суровый характер. В подобных случаях возникала сильная тенденция к
расширению доступа к центру и важнейшим позициям контроля в основных
сферах общества.
Напротив, чем более жестким и закрытым был центр, тем сильнее
оказывалась тенденция к устранению высших групп и социальных категорий
от доступа к центру и главным каналам выдвижения; тем существенней
также была тенденция лишить нижние и средние группы их рычагов влияния
и к тому, чтобы свести до минимума их контроль над доступом к ресурсам, и
тем более принудительными оказывались меры, которые предпринимались
для того, чтобы осуществить все эти преобразования.
Таким образом, обстоятельства, определяющие масштабы принудительности
и глубину структурных сдвигов, которыми одни постреволюционные
общества отличались от других, зависели от степени изолированности
правящей политической элиты от других элит и той степени, в какой она
монополизировала или пыталась контролировать осуществление их функций
и/или поддержание ими отношений солидарности с широкими слоями. Чем
значительнее была изолированность, тем больше был масштаб структурного
принуждения (а не одного только насилия), связанного с перестройкой
институтов, и тем более серьезным оказывалось нарушение преемственности
при структурном перемещении отдельных слоев.
Эта общая модель развития варьируется в конкретных ситуациях. Подробное
рассмотрение таких вариаций и их воздействия на переустройство
институциональных систем постреволюционных обществ выходит за
пределы нашего анализа. Мы ограничимся кратким рассмотрением трех
типов изолированных элит.
Первый тип — это традиционные модернизирующиеся элиты, самый
значительный пример которых показывает Россия. Второй тип представляют
ультрареволюционные элиты, которые в принципе могут сформироваться в
любом современном либо модернизирующемся обществе, но которые, как
правило, оказываются более удачливыми в обществах с закрытыми центрами
традиционного типа13. Третьим типом являются ультрареволюционные
элиты — то ли местные, то ли иностранные, — которые воздействуют на
общество, опираясь на поддержку внешних революционных сил и
революционных государств14.
Общими чертами для этих трех типов элит являются: смешение в их
деятельности функций политической элиты с функциями идеологического
обеспечения моделей культурного и социального порядков; абсолютное
подчинение себе как идеологов моделей культурного и социального
порядков, так и идеологов солидарности аскриптивных общностей;
сведенные к минимуму открытости отношения с широкими слоями
населения.
Конечно, те переменные, которые мы рассматриваем, могут сочетаться
самым различным образом. Наиболее выдающимся случаем такого сочетания
является относительно закрытый и обособленный центр, поддерживающий
отношения солидарности с широкими слоями. Поучителен здесь пример
Югославии. Этот режим был подобен режимам других стран Восточной
Европы, образовавшимся после Второй мировой войны, в том отношении,
что революционные преобразования были инициированы главным образом
извне (а именно победами Красной армии). Таким образом, Югославия не
знала чистой революции. Однако это лишь часть всей картины.
Югославское общество, в отличие от своих соседей (по всей видимости,
исключая Албанию), играло активную роль в установлении своего
послевоенного режима. Страна испытала гражданскую войну, в которой обе
стороны получали поддержку со стороны внешних сил. Даже еще более
существенно то, что эта гражданская война происходила в контексте борьбы
за национальное освобождение (как это случилось в Китае). Более того и
опять-таки в полную противоположность другим восточноевропейским
странам, такое сочетание гражданской и национально-освободительной войн
не привело к возникновению новой революционной группы, изолированной
от всего остального общества. Скорее оно позволило установить некоторые
новые связи с широкими слоями — особенно с городскими рабочими и, в
меньшей степени, с крестьянством. В результате решительное изменение
символов и оснований политического режима и его легитимности, так же как
состава правящего класса, оказалось связано в Югославии с включением
старых высших классов во вторые эшелоны нового государства. Кроме того,
там менее основательным оказалось отстранение нижних групп населения
(особенно крестьянства) от прежних рычагов влияния и контроля, и, по
сравнению с тем, что произошло и в России, и в других восточноевропейских
странах, проведение переустройства институциональной системы носило
менее принудительный характер.
Франция представила еще один вариант изменений. Относительная
открытость или плюралнеточность центра сочеталась здесь с высокой
степенью антагонизма в отношениях между некоторыми из его
составляющих групп. Этот антагонизм, развивавшийся по преимуществу в
обычной для революций плоскости, серьезным образом повлиял на
формирование постреволюционной системы во Франции.
3. Автономность и сплоченность элит. Изменение структуры институтов.
Масштаб организационных изменений и характер утверждения новых
символических значений институтов определялся в основном другим
сочетанием упомянутых выше переменных; а именно самостоятельностью
главных элит — самостоятельностью, которая была связана с различными
степенями закрытости и с различными типами отношений солидарности с
другими элитами и с широкими слоями населения.
Чем более самостоятельными и оторванными от корней были главные элиты,
тем более склонны они оказывались к выдвижению новых символических
значений для социальных институтов и к проведению далеко идущего
символического и организационного переустройства институциональных
сфер и отношений между центром и периферией. Свидетельством могут быть
ранние европейские революции, революции в Америке, России, Китае,
Северном Вьетнаме и, в меньшей степени, революция в Турции.
Чем более укорененными были эти элиты, тем менее способными
оказывались они выдвинуть новые символические значения и утвердить
новые стабильные комплексы институтов, а также провести либо поддержать
широкие организационные изменения в институциональных сферах.
Разумеется,
конкретные
проявления
этих
двух
элит-антиподов
демонстрируют существенные различия, которые отражают ориентацию
общества на изменения и модернизацию. Сравнение традиционных
однородных (cohesive) элит с революционными элитами оказывается очень
полезным в этом отношении.
Традиционные элиты (например, царское правительство) были в состоянии
лишь поддерживать организационные основания системы; иначе говоря,
исходя из своей базовой социальной ориентации такие элиты должны были
сохранять старые символические значения и системы контроля, все более
склоняясь к принципу status quo. Они были преданы идее служения
государству, которой в постреволюционных условиях могла угрожать утрата
своей притягательности.
Недостаток способности к нововведениям, по всей видимости, более
очевиден в случае сильно укорененных элит; например, тех, которые
сформировались на первой фазе Китайской революции и которые оказались
не в состоянии осуществить широкие организационные изменения. Когда
подобная элита становится более самостоятельной, более ориентированной
на развитие (вопреки приверженности к традиционным ценностям и
авторитарным ориентациям), она может оказаться способной к проведению
не только широких организационных изменений, но также к выдвижению
новых институциональных значений и структур. Достаточно здесь было бы
рассмотреть пример Тайваня.
Характер механизмов контроля, на которых базируются новые
институциональные комплексы и в соответствии с которыми они
преобразуются, и прежде всего степень, в какой они базируются на
относительно самостоятельном доступе больших групп населения к
позициям контроля, зависит в первую очередь от выше рассмотренных
переменных (природа отношений солидарности между правящими элитами,
субэлитами и большими группами); иначе говоря, от степени, в какой
политические элиты вступают в относительно свободные коалиции с
идеологами моделей социального и культурного порядков, а также с
идеологами солидарности аскриптивных общностей.
Чем более самостоятельными являются такие элиты, которым не хватает
тесных отношений солидарности с другими элитами или группами, и чем
более антагонистичными они являются по отношению к главным
социальным слоям, тем больше принудительности будет при устроении
новых институциональных комплексов и тем меньше будет степень
автономности доступа других групп к позициям контроля. Чем более
самостоятельными являются такие элиты, которые либо поддерживают
отношения солидарности с крупными группами, либо приспосабливаются к
ним, тем больше они окажутся в состоянии сформировать коалиции с
другими относительно автономными элитами, как было в Европе и до
некоторой степени в Турции. Точно так же, чем больше переустройство
институциональных значений и комплексов сочетается с расширением
доступа к позициям контроля, тем менее принудительным оно окажется.
4. Изменение структуры правящего класса. Преобразование традиций и
ориентации протеста.
Различные тенденции нарушения преемственности и особенности
переустройства в постреволюционном обществе коррелировали с характером
возникающей правящей элиты и со степенью принуждения, которое
использовалось этим классом для контроля над крупными группами
населения и их участием в политическом режиме.
Жесткость и закрытость центра (особенно в сочетании с изолированностью
действующей или потенциальной правящей группы и ее несолидаристскими
отношениями с другими элитами и крупными группами) оборачивались тем,
что формировался особый тип правящего класса. Основаниями его власти
были: внутренняя закрытость; монопольный контроль за социальным и
культурным порядками; сведение к минимуму самостоятельности других
элит; отстаивание критерия служения общности в той интерпретации,
которую предлагал этот класс. Очевидно, что правящая элита такого типа
препятствовала формированию автономных слоев или классов общества.
Конечно, правящие классы постреволюционных обществ различались по
своему составу и, в частности, по степени плюралистичности. Чем более
солидарные отношения поддерживала правящая группа с другими элитами и
большими группами населения, как было в случаях Югославии и Китая, тем
более гибким или открытым оказывался правящий класс. Он допускал
участие крупных групп в политической системе даже за счет некоторой
утраты однородности. И наоборот, сочетание открытости центров и
солидаристских отношений с крупными группами способствовало (как в
большинстве европейских примеров) стремлению усилить связи
солидарности между центром и периферией. Следствием было
возникновение
благоприятной
атмосферы
для
формирования
плюралистических и открытых систем, которые допускали включение новых
классов в центры и расширяли рамки их участия в политической системе.
Чем более солидаристскими, автономными и новаторскими (innovative) были
революционные элиты, по крайней мере первоначально, тем более гибкими
они были в отношении преобразования традиции. Такие элиты стремились
выдвинуть широкие перспективы для преобразования общества и
одновременно сохранить преемственность в культурных кодах. Они в общем
были гибкими по отношению к включению старых символов идентичности в
новую символику и поощряли как гибкость системы институтов, так и
включение новых характеристик индивидуальной и социальной деятельности
в те институциональные структуры, которые они учреждали.
Автономные, но несолидаристские, склонные к принуждению элиты были,
как правило, гораздо более жесткими в отношении процесса преобразования
традиции. Они лишь в незначительной степени допускали включение старых
символов в новую символику, но в то же самое время поддерживали гораздо
более высокую степень преемственности в восприятии базовых принципов
социального порядка, так же как их институциональных производных.
Вследствие этого они препятствовали формированию плюралистического
отношению к протесту.
Подытоживая, можно сказать, что солидаристские, ориентированные на
преобразования элиты допускали больше плюрализма в институциональном
развитии и больше поддерживали расширение рамок участия в обществе и
его центрах. Но по этой же самой причине они стремились к расширению
своих социальных ориентации и косвенно способствовали разработке
многообразных ориентации протеста. Склонные к принуждению элиты не
допускали плюрализма и подчеркивали значение символов коллективной
сплоченности, пытаясь монополизировать их и замкнуть на себе, не давая
возможности для того, чтобы они разрабатывались в самом процессе
спонтанного развития общества. Таким образом, мы видим, что характер
структуры элит и особенности со-лидаристских отношений между элитами и
крупными группами определяют различия между порождаемыми
революцией в различных обществах процессами структурных сдвигов,
степенью нарушения преемственности и глубиной разрыва с прошлым и,
наконец, динамикой преобразования институциональных комплексов и
традиционной символики, которое включает в себя модернизация.
5. Одна из иллюстраций. Китайская революция.
Общая модель варьирует не только от одного революционного общества к
другому, но и в рамках каждого из них, если принять во внимание
временную дистанцию. Хотя систематический анализ всех таких вариаций
остается за рамками настоящей книги, мы продемонстрируем уместность
подобного подхода кратким анализом китайского примера.,
В дореволюционную эпоху Китай обладал монолитным центром, который
имел некоторую внутреннюю диверсифицированность и поддерживал тесные
связи с широкими слоями. Тем не менее доступ к центру регулировался
самим центром, и центр контролировал статусные ориентации больших
групп населения. Последние внутренне были очень сплоченными, но
обладали небольшой самостоятельностью по отношению к каналам связи
между собой.
Эти особенности очень повлияли при отклике Китая на вызов цивилизации
Нового времени. Под ее воздействием китайские интеллектуалы и
бюрократы столкнулись первоначально с проблемами, которые имели
истоком укорененность их культурных символов в существующей
политической структуре. Любая политическая революция или религиозная
реформация неизбежно включает отторжение либо подрыв существующего
культурного порядка. Вместе с тем сильный идеологический упор на
поддержании
социально-политического
status
quo
позволял
немногочисленным центрам посредством утверждения новых символов
легитимировать новые социальные институты, относительно независимые от
предшествовавшего порядка.
В результате со стороны интеллигентов и бюрократов обнаружилась
амбивалентная и довольно негибкая позиция по отношению и к собственной
традиции, и к цивилизации Нового времени. Они колебались между полным
отклонением китайской традиции в пользу западных ценностей, с одной
стороны, и стремлением подчинить западную технику традиционному
китайскому центру и его базовым ориентациям — с другой.
Рассматривая социальную сферу, мы обнаруживаем, что у групп, которые
могли бы стать основой для новых институциональных систем либо
поддержать изменение институтов, было немного возможностей, чтобы
укрепить внутреннюю силу, однородность и самоидентичность. Поэтому
различные китайские реформы и национальные движения отличались
закрытостью, ритуализованным подчеркиванием значения специфических и
очень ограниченных статусов локального типа. В большинстве случаев их
представляли группы, которые были чужими как для существующих элит,
так и для крупных групп населения или широких слоев общества.
Таким образом, мы можем понять слабость этих движений в их рпытках
институционального строительства и их затруднения при эздании новых
механизмов взаимосвязи между центром и периферией. Мы можем также
найти объяснение их потенциальной юнности к неотрадиционализму в его
многообразных проявлениях для выработки политического курса и
строительства институтов.
Изображенная картина представляет контраст с успехом китайских
коммунистов. Два ряда обстоятельств объясняют этот успех. Во-первых, они
оказались в состоянии сформировать из некоторых элементов
предшествовавшего социального и культурного порядка однородную
революционную элиту, способную захватить и удержать власть. Во-вторых,
эта элита оказалась способна выделить из атрибутов цивилизации Нового
времени идеологические и социальные ориентации, элементы и символы,
которые смогли стать основой для формирования их собственных
ориентации на революционные преобразования, для формирования нового
со-циополитического и культурного порядков и нового политикоидеологического центра.
Китайские коммунисты соединили два различных течения китайской
реформаторской и повстанческой традиции, осуществив уникальный сплав
более идеалистических тенденций среди конфуцианских ученых-книжников
и шэныии с тенденциями, которые несли тайные общества и крестьянские
восстания. В результате различные социальные компоненты китайского
общества (военная верхушка, шэньши и крестьяне, например) могли выйти за
пределы собственных ограниченных социальных ориентации и обрести более
широкое основание, на котором можно было создать новые, более
масштабные ориентации.
Национально-освободительная
война
была
другим
фактором,
способствовавшим успеху китайского коммунистического движения.
Благодаря ему коммунистам не пришлось столкнуться с проблемой того, как
совместить преобразование символов национального и социального планов.
Контекст национального освобождения повлиял также сильно на характер
символов и ориентации, избранных китайскими коммунистами из окружения
воздействовавших на них международных сил. Эти символы и ориентации
стали основанием для формировавшейся новой однородной элиты и ее
тенденций к преобразованиям.
В постреволюционном Китае исходная база и первоначальные ориентации
коммунистов порождают, как уже отмечалось, постоянную борьбу между
более радикальной, по видимости антибюрократической, тенденцией и
кадрами, придающими больше значения организационным проблемам. Эта
борьба в своей основе всегда была идеологической. Каждый идеологический
лагерь
по-своему
трактует
новые
символические
значения
постреволюционных институциональных комплексов, и идеологические
различия внутри партии обрекают Китай на постоянные внутренние
конфликты — тенденция, которая наиболее яркое выражение нашла в
«культурной революции». Как показала «культурная революция», широкие
массы оказались втянутыми в борьбу между различными элементами из
состава правящей группы; последняя усиленно подчеркивала солидаристские
или коммуналистские аспекты участия масс в новом центре.
Что способствует идеологическому расколу современного Китая? Корни его,
вероятно, кроются в необычном сочетании ориентации, на основе которых
сложилось единство коммунистического руководства и носителями которых
в одном случае выступали шэньши и конфуцианские ученые-книжники, а в
другом — крестьяне и военная верхушка. И результатом этого оказалась
вызывающая тревогу правящего режима устойчивость традиционных связей.
Режиму приходится держать под контролем новые мотивации или
ориентации, возникающие вследствие его попыток разрушить эти связи. Он
должен был обратить их не только в выражение постоянной революционной
солидарности, но также перевести на второй план повседневных процессов
строительства современных институтов.
Сложность такой задачи усугубляется низким уровнем доверия между
различными частями элиты и создающимися институциональными
структурами. Это недоверие можно объяснить как идеологическими, так и
социоструктурными факторами. Во-первых, оно может быть связано с
идеологической борьбой, которую мы рассматривали. Во-вторых, оно,
вероятно, коренится в том обстоятельстве, что уникальный канал социальных
связей, созданный коммунистическим режимом, не привел к возникновению
новых автономных посреднических институтов и организаций; иначе говоря,
здесь не сформировались новые самостоятельные социальные группы,
организации и основания социального статуса.
6. Международная среда и результаты революций.
Анализ китайского примера показывает, что дореволюционное прошлое не
является фактором, всецело обусловливающим структурные переменные,
такие, как жесткость и обособленность центров, самостоятельность крупных
групп, солидаристский характер каналов связи между ними и конкретные
коалиции, которые образуются между различными группами в центре и
крупными социальными группами. На эти переменные может властно
воздействовать сама революционная ситуация; иначе говоря, влияние
международных сил на центры как дореволюционных, так и
постреволюционных обществ, а также сам революционный процесс.
Следовательно, мы должны теперь рассмотреть, как различные аспекты
социоисторической ситуации воздействуют на результаты революций.
Часто утверждают, что чем больше воздействие международных
политических и экономических сил на центр, тем сильнее тенденция к
увеличению его жесткости и обособленности. Эта аргументация в известной
мере опирается на факты. Жесткости, например, французского, а еще в
большей мере русского и китайского центров сильно способствовали
постоянные внешние угрозы.
Этим увеличением жесткости центра под влиянием внешних и внутренних
угроз определяется то, в какой степени разнообразные группы, возникающие
в процессе изменений, оказываются способными установить автономные
каналы связи между собой и с различными элитами, уже находящимися у
власти или оспаривающими ее. По общему правилу, чем более серьезными
оказываются внешние угрозы, тем меньше возможностей существует для
устойчивого формирования плюралистичных групп и элит с потенциальной
самостоятельностью в доступе к власти и с автономными каналами связи
между собой. (Поэтому в Китае, например, сохранились патримониальные
тенденции и укорененность функционирующих элит в крупных группах и
аскриптивных общностях.) В подобных ситуациях тенденция к обособлению
и правящих, и претендующих на власть элит становится сильнее, заодно с
расположенностью этих элит к принудительным преобразованиям —
независимо от того, будет ли такое принуждение носить неотрадиционный
или революционный характер.
Усилия либеральных групп в последний период существования Китайской и
Российской империй очень поучительны в этом отношении. И в Китае, и в
России внешние угрозы ослабили политический класс до такой степени, что
он оказался не в состоянии поглотить новые элементы или осуществить
попытки реформирования. Следствием явились слабость возникавших
коалиций различных либеральных групп и возрастание раздробленности
общества. Поэтому и оказалась открытой дорога к переустройству общества
для революционных групп, которые оторвались от автономных классов или
слоев и сформировали новые, принудительные центры, в рамках которых
более слабые или второстепенные образования из состава революционных
коалиций были в конечном счете уничтожены. Следствием такой динамики
было тотальное преобразование общества: преемственность сохранилась
лишь на более тонком уровне критериев кодов и их структурных
производных.
Тем не менее в некоторых ситуациях (поздние фазы революций в Китае и
Югославии) сама острота угроз со стороны внешних сил облегчила
складывание отношений солидарности между новыми (традиционалистскими
или революционными), изолированными элитами и широкими слоями
населения. Этот образец становится наиболее вероятным, когда
революционный
взрыв
происходит
в
контексте
национальноосвободительной войны и когда разгорается внутренняя борьба, в которой
каждая из соперничающих групп имеет реальную либо потенциальную базу
поддержки.
Значение международного фактора в революционных ситуациях проявляется
также в выделении различных сторон, которые подвергаются
преимущественному воздействию цивилизации Нового времени, а также в
выдвижении важнейших проблем и возникновении возможностей нарушения
преемственности, которые из этого вытекают. Факторы, которые здесь
рассматриваются, — это способ интеграции общества в международную
систему и относительное преобладание в обществе тех либо иных из
основных элит, включая идеологов культурных моделей и солидарности
важнейших коллективов.
С этой точки зрения можно различить два важнейших типа революционного
общества. В первом случае изменения в политическом режиме связаны с
сохранением преемственности среди идеологов национальной солидарности
(например, Англия, Франция, Россия, Северный Вьетнам и Китай). В таких
случаях реконструирование границ важнейших политических и
национальных образований не было в центре революционного процесса, и он
обратился
к
другим
основополагающим
нормам
социального
взаимодействия. Во втором случае идеологи солидарности общности не были
включены в существующий центр; поэтому реконструирование границ
политического
сообщества
представляет
центральный
объект
революционной деятельности, которая оказалась связана также с
преобразованием
других
основополагающих
норм
социального
взаимодействия (например, американские колонии, Нидерланды, Турция и
множество обществ Центральной и Восточной Европы). Заслуживает
внимания то обстоятельство, что оба типа революционной ситуации
являются объектами продолжительного воздействия международных сил.
Итак, наше краткое рассмотрение показывает, что конечные результаты
любой революции не обусловливаются с неизбежностью дореволюционной
структурой общества, а являются продуктом взаимодействия, в котором
совмещаются особенности дореволюционных обществ, факторы изменений,
особенно существенными среди которых оказываются международные силы,
и сам революционный процесс. Только в результате такого взаимодействия
возникают и меняются широкие классовые коалиции и коалиции между
классами и важнейшими типами институциональных организаторов.
Изучение процесса формирования таких коалиций представляет главный
вызов для исследователей революции.
Часть 4. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСЫ.
1. Революционные тенденции в Европе в XIX—XX вв.
Переменные, которые мы определили в качестве влияющих на результаты
революций, могут объяснить характер преобразований в тех современных и
модернизирующихся обществах, исторические ситуации в которых
вызывают споры среди исследователей революции: например, революция
1848 г. в Германии или же различные националистические движения в
Центральной и Восточной, Европе в XIX и XX вв. Все эти общества
принадлежали к имперским системам, и во всех особенное значение
придавалось посюстороннему разрешению напряженности между трансцендентным и мирским порядками. Более того, некоторые из этих обществ
вошли в современную международную систему способом, сходным с тем,
что был присущ чистым революционным обществам (следует учитывать, что
восточноевропейские общества с самого начала обнаружили себя в
относительно зависимом положении). Тем не менее в этой категории
обществ никакой подлинной революции не произошло.
В некоторых случаях, однако, перемены были сходны с тем или иным
вариантом подлинной революции, которые были рассмотрены раньше.
Пример Германии особенно интересен, поскольку здесь имеются некоторые
общие с подлинными революциями признаки, благоприятствовавшие
революционным преобразованиям. В Германии установилась новая
политическая система с очень сильными тенденциями к индустриализации и
модернизации. Эта система была связана с широкими изменениями в
структуре рынков и в организационных аспектах экономической сферы, с
формированием нового капиталистического и бюрократического типа
общества и с установлением новой политической целостности. Эта система
не повысила, тем не менее, степень самостоятельности буржуазии и не
изменила заметным образом условия ее доступа к политическим центрам и
позициям контроля. Движение к индустриализации и учреждение новой
политической общности возглавила имевшая традиционные корни, хотя и
сильно модернизированная элита. Хотя эта группа и расширила рамки
индустриальной экономики, она поддерживала вместе с тем интересы
традиционных землевладельческих групп и, несмотря на то, что в принципе
отношения между центром и периферией перестраивались в современном,
националистическом направлении, ограничивала политический доступ к
центру и участие в нем широких слоев общества.
В Австрии, Венгрии и других частях Австро-Венгерской империи неудача
революции 1848 г. была прямым следствием репрессий. Первоначально она
не привела к глубоким преобразованиям; потом, однако, в АвстроВенгерской империи произошли значительные изменения в социальной и
политической сферах (в том числе произошло новое установление границ
политических сообществ), а также изменения в составе политической элиты
и в классовой структуре общества.
В ряде этих стран установление новых национальных образований имело
специфические
последствия:
изменились
границы
политических
подразделений, исчез прежний (османский и/или австро-венгерский)
правящий класс. Хотя и в гораздо меньшей степени, происходило
переустройство институциональных комплексов и системы классовых
отношений, утверждалось новое гражданское политическое сообщество (так
было, например, в Нидерландском восстании и в Американской революции).
Подробный анализ этих националистических и социальных революций
позволит выявить, во-первых, в какой степени эти общества были
носителями культурных и структурных признаков имперских или имперскофеодальных систем (что действительно было особенностью большинства
обществ Восточной Европы), а также способ их включения в новые
международные системы, и, во-вторых, жесткость их центров и характер
отношений центров с различными элитами и широкими слоями, в той мере, в
какой эти черты нашли отражение в создании новых образцов институтов.
Такой анализ не входит в наши намерения. Однако мы хотим обратить
внимание на важнейший аспект, который отличает все эти случаи от чистых
революций. Следует учитывать, что созидание нового национального
политического центра и установление соответствующих границ представляет
главную цель движений протеста и революционной деятельности в этих
обществах. В конце концов подобное созидание происходило под эгидой
традиционной политической элиты. Эта элита отмежевывалась и от
возникающих групп самостоятельных идеологов социального порядка, и от
более автономных слоев общества, вместе с тем ее политическая и
модернизирующая деятельность сознательно в большой степени опиралась
на традиционное обоснование легитимного порядка. Эта элита была
относительно самостоятельной по отношению к более традиционным
элементам аристократии, из которой главным образом и рекрутировались ее
члены и с которой она продолжала поддерживать отношения солидарности.
В Германской империи традиционно ориентированные элиты создали новые
национальные политические коллективы и центры и произошло частичное
(нереволюционное) преобразование властных структур и классовых
отношений. Объединение Италии имело некоторые сходные черты с опытом
Германии. В то же самое время, однако, и вновь возникшая элита, и высшие
классы были здесь гораздо менее автономными и в гораздо большей степени
разделены на традиционные и модернизирующиеся элементы.
В данном случае, может быть, уместно обратить внимание на фашистскую
деформацию. С точки зрения нашего анализа фашистские режимы Европы
могут быть описаны как имевшие автономную политическую элиту, которая
была озабочена в первую очередь идеологическим обеспечением
солидарности коллективов и отмежевалась от других элит — особенно
заметно от самостоятельных идеологов моделей культурного порядка и
функциональных элит. Это сочетание характеристик породило сильную
ориентацию на принуждение, которая имела следствием устранение или
физическое уничтожение правящего класса и до некоторой степени всех
высших классов, что происходило без изменения основ системы социальной
иерархии или развернутого преобразования институциональных комплексов.
Этот исторический феномен представляет достойный внимания предмет для
сравнительного анализа революции — вызов, который был в последнее
время принят Э. Нольте, Дж. Джермани и другими исследователями15.
2. Преобразовательные потенции еврейской традиции и революционные
тенденции в еврейском обществе.
I
Проанализируем в общих чертах процессы социальных изменений и
преобразований в особом обществе и посмотрим, сможем ли мы объяснить
их с точки зрения предложенных переменных или сопоставить их с
революционными процессами, уже подвергнутыми анализу. Пример
еврейского народа создает серьезную методологическую проблему. Если
исходить из базового политического факта существования диаспоры (которая
лишает евреев независимого политического бытия и центра власти), то нет
оснований, чтобы вести разговор о революции в обычном смысле слова.
Между тем еврейская традиция демонстрирует самым очевидным образом
сильные революционные элементы, компоненты или тенденции. Так,
независимые еврейские государства предшествовавшей изгнанию эпохи
Первого и Второго Храма дали один из самых впечатляющих примеров
племенного объединения особого типа. Напомним, что подобные
объединения (наряду с особыми городами-государствами) явили наиболее
отчетливый образец совмещающихся изменений и в некоторых
символических аспектах приблизились к современному революционному
мировосприятию.
Еврейская община довольно рано выдвинула некоторые из важнейших
культурных кодов и ориентации их институциональных производных,
которые стали системообразующими для еврейской традиции. Эта традиция
в наиболее полном виде была выражена в период Второго Храма и
определила судьбу еврейства как уникального социума и политической
системы. С точки зрения нашего анализа важнейшую роль играют три
культурные ориентации. Первая — это сильный упор на противопоставлении
трансцендентного порядка мирскому в сочетании с глубокой
приверженностью к высоконравственному строю жизни и резким
противопоставлением
универсалистских
моральных
ориентации
партикуляристской морали.
Второе направление представляет формирование мощной посюсторонней
орентации на разрешение напряженности между трансцендентным и
мирским. Такой сильной была эта ориентация, что возможность
потусторонних очагов энергично отрицалась, исключение представляла лишь
эпоха Второго Храма. Эти очаги были очень тесно связаны с формированием
мессианской концепции в еврейской традиции, в которой духовные элементы
отождествлялись с национальными политическими чертами. Помимо этого,
потусторонне-ориентированная деятельность становилась важным пунктом
противостояния между универсалистскими и партикуляристскими
ориентациями в еврейской традиции.
Третья ориентация — это упор на автономный доступ всей общины к
важнейшим атрибутам спасения, так же как на формирование
квазидоговорных отношений между Богом и еврейским народом. Эта
ориентация была наиболее полно выражена во время Второго Храма и в
периоды изгнания благодаря деятельности мудрецов и введению Свода
установлений — Халаха (этот свод сформировался в противовес более
аскриптивным и ритуальным элементам, значение которых подчеркивали
священники). Так, еще в античную эпоху возникло уникальное сочетание
национальных (этнических), политических и религиозных составляющих
идентичности, которое выделило еврейский народ среди других общностей.
Все эти культурные ориентации включали очень высокий уровень
критического
осмысления
фактов
человеческого
существования.
Производные от этого критического осмысления проявлялись в высоком
уровне
символизации
для
выражения
сочетания
политических,
национальных и религиозных аспектов общности. Они, кроме того,
порождали высокий уровень символического обеспечения важнейших
институциональных сфер, что включало высокий уровень различия между
центром и периферией при постоянном тем не менее взаимодействии между
ними, а также очень высокий уровень идеологической и политической
борьбы. Важным следствием сделалось многообразие движений
инакомыслия и восстаний, которые были очень тесно связаны между собой и
с политической борьбой в центре.
Устойчивость этих особых черт представляет важнейшее различие между
древним Израилем и соседними племенными объединениями и
патримониальными обществами. Следствием существования таких
особенностей были: очень высокий уровень преемственности в символике
коллективной — политической, религиозной и национальной —
идентичности в еврейском обществе, а заодно непрочность еврейских
политических режимов. Эта непрочность проявилась впервые в распаде
царства Соломона и достигла апогея во время двух периодов изгнания:
относительно краткого Вавилонского пленения (586—539 гг. до н.э.) и затем
собственно времени Диаспоры, которое последовало за разрушением
Второго Храма в 70 г.16.
Эти черты усилились вследствие своеобразного смешения элементов
племени, города-государства, общины и секты, которые отличали еврейское
Второе царство, — элементов, которые воплощались в множественности
относительно автономных институциональных элит. Наиболее сложившейся
и, в конечном счете, наиболее влиятельной из этих элит были мудрецы,
которые действовали в качестве политической элиты, идеологов
коллективной солидарности и защитников оснований культурного порядка.
Эта группа поддерживала интенсивные отношения солидарности с
общностью и подчеркивала значение верховенства Закона. Борьба, которая
разделила элитарные группы во время Второго Храма, свидетельствовала о
высоком уровне идеологической конфронтации между многочисленными
движениями инакомыслия и восстаниями, что были очень тесно связаны с
политической борьбой в центре и еще больше подрывали политическую
систему.
II
Эти тенденции к инакомыслию и восстанию были блокированы, после того
как евреи потеряли свою политическую независимость. Установилось
господство мудрецов, и Свод установлений (Халаха) стал нормой еврейской
жизни.
Халаха и в юридическом, и в религиозном своем аспекте поддерживала
еврейское единство, создавая институциональные рамки для сохранения
преемственности в культурной идентичности евреев. Сама по себе Халаха,
однако, не предопределяла с неизбежностью важнейшие символы еврейской
культурной идентичности. Скорее, она создавала рамки, в которых находили
свое выражение религиозные, национальные, этнические и политические
характеристики еврейской идентичности.
Этот комплекс еврейской идентичности и традиций был откликом на базовые
дилеммы еврейского существования и выражал то самосознание, которое
очень рано возникло в еврейской истории. Дилемма между
универсалистскими и партикуляристскими ориентациями была разрешена
перенесением осуществления универсалистских элементов в неопределенное
будущее. Еврейская реальность была партикуляристской по сути, и
универсалистские ориентации иудаизма не могли получить своего
конкретного выражения из-за тех отношений, что существовали между
евреями и более широким обществом, в которое они входили.
Поскольку в период второго изгнания евреи оказались преследуемым
меньшинством, иудаизм должен был сделаться менее терпимым к
внутреннему инакомыслию, чем другие монотеистические религии.
Мистицизму, спекулятивной философии и мессианским чаяниям все же было
предоставлено какое-то место, обособленное и второстепенное; но никакие
альтернативные толкования Халахи или альтернативные определения
важнейших компонентов еврейской идентичности не допускались.
III
Преобразовательные и революционные тенденции в иудаизме получили
развитие после того, как изменились исторические обстоятельства. В этом
отношении два движения в современной еврейской истории представляют
главный интерес с точки зрения нашего анализа. (Второе из них будет
рассмотрено в следующем параграфе.)
Первое движение — выступление в качестве Мессии Саббатая Цеви (1626—
1676 гг.), последнего и самого великого из самозванных Мессий, — было
обстоятельно проанализировано Г. Шоле-мом17. Обращение Саббатая Цеви
в ислам, после того как большинство евреев признало его лжемессией,
обернулось тем не менее возникновением многочисленных сект, которые
имели основой веру в то, что Мессия лишь скрылся и возвратится вновь. Эти
секты выработали комплекс неортодоксальных верований и практик, в
котором подчеркивалось второстепенное значение соблюдения внешних
обрядов по отношению к внутренней вере.
Постепенно многие члены этих сект из числа людей с сильными
идеологическими и квазирелигиозными мотивациями ассимилировались в
возникающем открытом европейском обществе конца XVIII и XIX вв.
Многие из них приняли участие в деятельности более радикальных
интеллектуальных групп того времени.
Это явление представляет параллель с преобразовательными тенденциями и
деятельностью некоторых радикальных протестантских групп. К числу таких
сходств относятся: сильная трансцендентная ориентация и приверженность
трансцендентному порядку, широкораспространенное неприятие какой-либо
формы посредничества между Богом и людьми и положение этих групп в
качестве элит второго плана или маргинальных сегментов в их собственных
обществах.
Последствия нового движения выявили сильные преобразовательные
пореволюционные тенденции еврейской традиции. Они показали также, что
эти тенденции были сосредоточены на носителях, символах и рамках
внутриобщинной власти — раввинах и Законе. Они были нацелены на
преобразование различных компонентов еврейской идентичности,
установление границ принадлежности к этой общности среди других
общностей и соотношение между партикуляристскими и универсалистскими
ориентациями еврейской традиции. В то же самое время эти группы
сохранили важнейшие характеристики и культурные коды традиционного
еврейского общества и особенности его элит.
Как предполагала ассимиляционистская идеология, интеграция евреев в
соответствующие европейские общества требовала, чтобы они отказались от
многих аспектов еврейской идентичности. Это предположение имело
источником националистическую риторику своего времени. Последняя в
резко выраженной форме обращалась к историческим и даже первобытным
элементам национальной традиции, отрицавшим за меньшинствами право на
ассимиляцию, если они сохраняли собственную культурную идентичность.
Некоторые евреи — в первую очередь интеллектуалы, либералы, атеисты и
социалисты — верили или надеялись, что, отказавшись от исторических
(национальных) и первобытных элементов еврейской идентичности и
сохранив только религиозные или этические аспекты своей традиции, они
смогут ассимилироваться и к тому же решат старую дилемму между
универсалистскими и партикуляристскими ориентациями иудаизма. Кроме
того, они доказывали, что политические рамки, в которых будет происходить
ассимиляция евреев, окажутся под значительным воздействием внедрения
элементов еврейской традиции, ее этических, рационалистических и
социальных принципов.
IV
Вторым явлением в еврейской истории Нового времени, в котором
свойственные еврейской традиции преобразовательные и революционные
тенденции стали очевидными, были различные еврейские национальные
движения вообще и сионизм в частности. Наряду с ассимиляционистскими
или эмансипаторскими движениями, еврейские националистические
движения (особенно сионизм) сосредоточивались на преобразовании
компонентов еврейской идентичности и границ общности, устремляясь,
однако, в противоположных идеологически и совершенно конкретных
направлениях.
Националистическая точка зрения принимала основные посылки
ассимиляционистов по отношению к условиям интеграции в окружающее
общество, хотя у нее были серьезные сомнения относительно этого общества
и возможности окончательного успеха для движения. Она утверждала, что в
любой современной системе евреи будут страдать как от духовной и
культурной обезличенности (подрыва традиционных оснований жизни
общины современными экономическими, политическими и культурными
силами), так и от неспособности современного общества к их включению.
Таким образом, рассуждали сионисты, только в Палестине может быть
создано новое современное жизнестойкое еврейское общество и только в
Палестине может быть достигнут новый синтез еврейской традиции и
всеобщей культуры человечества.
Вследствие этого националистические движения и сионизм нацеливались на
создание возможностей для культурного и социального творчества
универсальной значимости в свободном современном самостоятельном
еврейском обществе. Именно это сочетание объясняет чрезвычайный упор,
который делали обе разновидности движений на социокультурных
преобразованиях.
Здесь преобразовательные и революционные тенденции еврейской традиции
были ориентированы в новом направлении. Эти тенденции были
революционными в том смысле, что они нацеливались на изменение границ
общности и основ еврейских институциональных структур. В то же самое
время они были нацелены не на сокрушение существующего политического
центра, а на установление посредством миграции и колонизации нового
политического устройства и нового политического центра.
V
Носителями этих ориентации были самые первые еврейские поселенцы в
Палестине. Большей частью эти пионеры были молодыми интеллигентами,
восставшими против традиций и образа жизни своих родителей.
(Большинство составляли евреи из Восточной и Центральной Европы.)
Таким образом, они создали ишув (еврейскую общность в Палестине)18 в
качестве общества, в котором коллективная идентичность была
сформулирована в идеологических категориях, и образ пионера (халуц),
который подчеркивал стремление сформировать общество, где социальные
ценности будут тесно связаны с национальными усилиями и будут
восприниматься не в утопических категориях, а скорее, как
основополагающие элементы для строительства новой нации. Стремление
осуществить этот замысел в маленькой и слаборазвитой стране породило
специфические проблемы и институциональные особенности ишув.
Решения для этих проблем определялись в первую очередь характером
институциональной
структуры,
образовавшейся
в
первые
годы
существования ишув (особенно при первых трех волнах иммиграции).
Уникальной особенностью было формирование социетальных и культурных
центров прежде, чем из крупных групп и социальных слоев возникла
периферия, которая не имела такого значения, как центры, в осуществлении
социальных и культурных нововведений.
Эти центры были задуманы так, чтобы они были в состоянии обучать,
поглощать и формировать периферию, которая должна была расширяться
вследствие все нарастающей миграции. В результате большинство созданных
центрами институтов были нацелены не на удовлетворение потребностей
населения того времени, а, скорее, на потребности будущего населения. Они
порождали, как следствие, очень сильные футуристические ориентации.
Первоначальная встреча этих центров и созданных ими институтов с
конкретными проблемами, которые перед ними возникли, определила
формирование социальной структуры ишув и структуры государства
Израиль, так же как некоторые коренные черты современного израильского
общества.
Среди этих черт выделяется высокая степень экономической централизации:
концентрация
государственного
капитала
в
основных
секторах
экономического развития, наряду с постоянным ростом частного сектора и с
сосуществованием государственного и частного секторов в рамках того, что
может быть названо плюралистической экономической системой.
Другой отличительной чертой была уникальная социально-экономическая
организация Израиля — кибуцы и мошавы (кооперативные поселения);
развитие кооперативных предприятий в городском секторе и, самое важное
— объединение этих кооперативных предприятий и поселений в одну
организацию
Гистадрут.
Это
объединение
сделало
возможным
преобразование аграрных ориентации первых групп колонистов и
способствовало формированию важнейших черт городской социальной
структуры ишув.
Еще одним ключевым аспектом в формировании социальной структуры
ишув явились сильный упор на эгалитаризм и выраженная оппозиция к
профессиональной специализации. Эти ориентации нашли выражение в (1)
попытках свести к минимуму статусные различия между профессиями и
отражение этих различий на социальном положении и (2) в установке на то,
что переход от одной профессии или занятия к другим должен происходить
без затруднений.
Ишув, помимо того, сформировал особые черты в отношениях между
традицией и модернизацией. Два явления представляют здесь
исключительную важность: возрождение иврита и отношение между
нерелигиозной и религиозной сферами. Поскольку иврит оказался в
состоянии не только служить средством повседневного общения, но и
соответствовать потребностям развития науки и техники, его возрождение
имело важные последствия для культурной структуры израильского
общества. То обстоятельство, что этот древний язык, остававшийся в течение
столетий по преимуществу языком религии, смог использоваться в качестве
адекватного средства общения в современном обществе, ограничило
возможность разногласий между традиционалистами и модернизаторами,
которые концентрируются на лингвистической идентичности и культурной
зависимости от иностранных центров как исключительных источников
культурных нововведений.
Для того чтобы лучше понять формирование специфических черт еврейской
общности в Израиле, прибегнем к сравнению с другими современными
революционными и иммигрантскими обществами.
У израильского общества есть существенные общие черты с такими
неимперскими иммигрантскими обществами, как Соединенные Штаты и
британские доминионы. Это: 1) сильный упор на равенство, по меньшей мере
среди первых поселенцев, и следующее из этого отсутствие наследственной
феодальной
аристократии
либо
землевладельческого
класса;
2)
сосредоточение различных типов экономической и административной
деятельности в рамках единой широкой организационной системы; 3)
подчеркивание особой важности освоения земли и труда на ней. Но
конкретное сочетание перечисленных черт в рамках Гистадрута было
уникальным. Это может быть объяснено политическим характером и
мировоззрением Гистадрута, сформировавшимися вследствие того, что он
был создан революционным движением.
В отличие от множества других иммигрантов, первые поселенцы Палестины
с самого начала рассматривали себя в качестве созидателей современного
общества и поэтому были привержены к таким институциональным
системам и организациям, которые могли способствовать осуществлению
этой цели и при помощи которых большие группы еврейских иммигрантов
могли бы принять участие в экономической, идеологической и политической
жизни ишув. В отличие от других современных социальных и
националистических движений, они, помимо того, не рассчитывали на
немедленный захват власти и создание новой унитарной политической
системы. В их первоначальных замыслах главной была широкомасштабная
сельская и городская колонизация, которая смягчала политические
последствия их тотальных (fatalistic) ориентации. Только в конце
английского правления, в ходе обострения политической борьбы против
внешних сил, выработалась концепция самоуправляющейся политической
системы.
Сектантские и социалистические элементы ишув привели к формированию
сильной элитарной идеологии, нацеленной на создание нового общества
путем осуществления идеологической программы. В этом Израиль оказался
схож с такими постреволюционными государствами, как Россия, Югославия
или Мексика, которые стремились придать относительно традиционным
обществам облик современных систем. Однако идеология, формировавшаяся
в сионистском движении, содержала гораздо более разнородные элементы,
чем те, что присутствовали как в идеологии закрытых религиозных сект, так
и в идеологии революционных политических движений. Эта идеологическая
диверсифицированность была значительно усилена включением в ишув
множества различных групп, которые создавали новые институциональные
центры с ориентациями на универсалистские культурные и социальные
ценности.
У израильского общества было также много общих проблем и сходных черт с
другими странами, испытавшими крупномасштабную иммиграцию. Подобно
им, оно сталкивалось с волнами иммигрантов и должно было интегрировать
их в формирующуюся институциональную систему. Тем не менее Израиль
демонстрировал уникальные черты, отражавшие мотивации и ориентации
иммигрантов, в первую очередь их сосредоточенность на национальных и
социальных целях.
Революционный опыт сионистского движения, постольку поскольку он
выразился в колонизации Палестины и позднее в развитии израильского
государства, более всего сходен с опытом американских колоний.
Преобразовательные и революционные тенденции обоих обществ
коренились в культурных ориентациях одного плана. В обоих случаях новая
общность (превращавшаяся в новую политическую систему) создавалась
идеологическими и религиозными сектами, которые восставали против того
общества, откуда они происходили. И в обоих случаях создание новой
общности и политической системы было следствием революционного
порыва. Наконец, институциональные производные их преобразовательных
ориентации осуществлялись — и в Америке, и в Палестине — пионерами,
которых воодушевляли религиозные или идеологические мотивы и усилия
которых были сосредоточены главным образом на посюсторонней
экономической деятельности и на создании новых институциональных
структур.
Конечно, существуют некоторые существенные различия между
революционным опытом Америки, с одной стороны, и сионизма — с другой.
В Америке новая политическая система имела центром новую гражданскую
религию; этнические и традиционные элементы были представлены
исключительно слабо и основное содержание гражданской религии
составлял свойственный революционному опыту универсалистский элемент.
В Израиле новый политический элемент был тесно связан с этническими и
традиционными
элементами,
что
делало
постоянным
явлением
напряженность в отношениях как между этими элементами, так и между
универсалистскими и партикуляристскими аспектами еврейской традиции. В
результате этого сформировавшаяся в Израиле политическая система не была
столь насыщена революционной символикой, как в Соединенных Штатах. В
то же время в Израиле институциональная — особенно экономическая —
деятельность вдохновлялась сильной коллективистской ориентацией.
3. Япония. Реставрация Мэйдзи и нереволюционные преобразования.
В проведенном анализе мы стремились объяснить вариативность в
результатах чистых революций. Мы также бегло рассмотрели современные и
модернизирующиеся общества, в которых преобразования в направлении
цивилизации Нового времени произошли иначе, чем предполагает образ
чистой революции. Рассмотрим теперь заслуживающий внимания
неевропейский пример нереволю-щионных преобразований — Реставрацию
Мэйдзи и последовав-рлую за ней модернизацию Японии.
С точки зрения своих окончательных социополитических последствий
Реставрация Мэйдзи очень близка к подлинной революции. Она изменила
политический режим Японии, которая из традиционного централизованного
полубюрократического государства, основанного на застывшей феодальной
структуре, превратилась в современную централизованную политическую
систему, олигархическую и бюрократическую. Кроме того, она изменила
также основания легитимности режима. Была упразднена традиционная
легитимизация сёгунапга от имени императора, который не управлял.
Император превратился в традиционный символ, под эгидой которого обрели
легитимность многочисленные частичные изменения в повседневной жизни
и институтах.
Реставрация Мэйдзи изменила также состав и структуру правящего класса.
Традиционный класс воинов, представлявший местную феодальную группу,
преобразовался в политическую элиту, олигархическую и бюрократическую,
из которой сформировался, главным образом в 20-х гг. XX в., класс
профессиональных партийных политиков. Хотя и существовала известная
преемственность между новыми правителями и должностными лицами
второго плана из состава прежнего правящего класса, общим результатом
были глубокие изменения в составе правящего класса.
Старая система социальной иерархии в Японии была основана на критериях
служения общности. Эта ориентация сохранилась, однако при Реставрации
Мэйдзи сами критерии сделались более современными. В результате
радикально изменился состав высших эшелонов основных социальных
классов.
Наконец, Реставрация Мэйдзи изменила юридические основания
собственности на ресурсы и их использования, легализовав частную
собственность вообще и частную собственность на землю в частности. Это
сделало возможным формирование капиталистической системы и городского
пролетариата. Была также ослаблена сплоченность прежних крупных
(особенно деревенских) групп, основанных на отношениях солидарности.
Они были подорваны внутренними процессами еще в более ранний период
Токугава, однако сохранилась солидарность семейных и вертикальных
родственных групп.
Все эти процессы были связаны с поступательным изменением структуры
рынков — иначе говоря, с их открытием и расширением. Контроль над
доступом к ним первоначально был предоставлен бюрократии и только в
последующем перешел к самой экономической элите. Вместе с тем значение
семейных и корпоративных групп в получении доступа к этим рынкам не
уменьшилось.
Сформировавшаяся в Японии институциональная система была
капиталистической в своих организационных аспектах. Предельно высокая
концентрация групп крупных предпринимателей в центральных финансовых
и промышленных комплексах сочеталась с очень широким распространением
более мелких подразделений. Но эта организационная структура не обрела
легитимности в категориях поиска трансцендентного спасения посредством
посюсторонней деятельности, как было в Европе; скорее, ее легитимность
находила выражение в категориях содействия благополучию, могуществу и
территориальному распространению общности.
Подобное развитие имело место также в политической области. Япония
сформировала
объединенное
централизованное
бюрократическое
государство современного типа, базирующееся на универсальных принципах
гражданского
общества
и
системе
представительных
либо
полупредставительных учреждений. Однако, как уже отмечалось, средством
легитимизации нового режима служила императорская власть, которая
ограничивала доступ периферии к центру и предоставляла контроль за этим
доступом императору или его представителям.
Сложившееся в Японии своеобразное сочетание преобразований и изменений
не смогло сформироваться в модель подлинной революции из-за того, что
Японии недоставало прогрессистской революционной идеологии или, по
меньшей мере, потенциально контрреволюционных или антиреволюционных
идеологических элементов, подобных тем, что существовали в Германии.
Идеология Реставрации Мэйдзи была в целом реставрационной,
подчеркивавшей преемственность символики императорской власти. В
результате это движение сводило к минимуму символическое переустройство центра и возможность символического участия в последнем
периферии.
Итак, каким же образом можем мы объяснить японское сочетание
преобразовательных последствий в Японии, исходя из переменных,
использовавшихся в нашем предшествовавшем анализе? Мощные
преобразовательные тенденции японского общества коренились в
структурных особенностях его имперско-феодальной системы. В этом
отношении Япония была сходной с европейскими обществами, которые
познали опыт подлинной революции. Среди этих особенностей —
вьщеленность центра, очень сильное воздействие друг на друга центра и
периферии, относительно высокая степень обоснования формирования
социальных слоев в категориях статусной и политической ориентации и
тенденция к складыванию относительно широких рамок идентичности слоев.
Эта последняя тенденция не была полностью подавлена даже режимом
Токугава, и она оказалась одной из предпосылок свержения этого режима.
Решающее различие между европейским и японским опытом проявилось, как
мы уже видели в главе 5, в природе коалиций, которые осуществляли
модернизирующие изменения в этих обществах. Особенно заметно это
различие в том, что в Японии религиозные секты или группы
инакомыслящих почти совсем не участвовали в процессе модернизации.
Несколько позднее, когда уже началась модернизация, это различие
проявилось в слабости автономных религиозных групп, которые
абсорбировались в европейской системе. Такая абсорбация напоминала о
ранних формах поглощения в Японии буддистских и даже конфуцианских
элементов и ориентации, которым было позволено, постольку поскольку они
не воздействовали на важнейшие принципы и основополагающие нормы
системы, вести обособленное существование в интеллектуальной и
эстетической областях.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 См.: Gerschenkorn A. Economic Backwardness in Historical Perspective: A
Book of Essays. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, Belknap, 1962;
Idem. Continuity in History and Other Essays. Cambridge (Mass.): Harvard
University Press, Belknap, 1968. P. 257-343.
2 См.: Gerschenkorn A. Europe in the Russian Mirror: Four Lections in Economic
History. Cambridge: Cambridge University Press, 1972. — Особенно гл. 4.
3 См.: Kautski J. Political Consequences of Modernization. N.Y., 1972.
4 См.: Studien Liber die Revolution/Kossok M. (ffrsg.). Berlin: Akademie, 1969;
Studien zur vergleichenden Revolutionsgeschichte, 1500—1917/Kossok M.
(Hrsg.). Berlin: Akademie, 1974.
5 См.: Wiener J.M. Review of Reviews: Social Origins of Dictatorship and
Democracy, by Barrington Moore//History and Theory. Middletown, 1976. V. 15.
№2. P. 146-175.
6 Rokkan S. Dimensions of State Formation and Nation-Building//The Formation
of National States in Western Europe/Tilly C. (ed.). Princeton: Princeton
University Press, 1975. P. 562—600. См. также примечание 4 к предыдущей
главе.
7 Skocpol T. Explaining Revolutions: In Quest of a Social-Structural Approach. P.
155-179; Idem. A Critical Review of Barrington Moore Social Origins of
Dictatorship and Democracy//Politics and Society.Alatos, 1973.V.4.№ 1.P.30-33;
Trimberger E.K. A Theory of Elite Revolutions//Studies in Comparative
International Developments. New Brunswick, 1972. V. 7. № 3. P. 191-207; Idem.
Revolution from Below. New Brunswick: Transaction Press, 1977.
8 Последнее время один из самых тонких анализов классовой структуры,
позволяющий объяснить различие в, казалось бы, сходных классовых
структурах, осуществлен Р. Бреннером. См.: Brenner R. Agrarian Class
Structure and Economic Development in Рге-Industrial Europe//Past and Present.
Oxford, 1976. № 70. P. 30-75.
8 В качестве хорошего резюме вопроса и обстоятельного анализа см.: Gibb
C.A. Leadership//The Handbook of Social Psychology.2-d ed./Lindsey G.,
Aronson E. (eds.). Reading: Addison-Wesley, 1968. V. 4. P. 204-282.
9 См.: Bellah R.N. Beyond Belief. N.Y.: Harper and Row, 1970. P. 168-193. (Сам
термин «гражданская религия» известен с XVIII в. и был использован Ж.-Ж.
Руссо в трактате «Об общественном договоре». Руссо Ж. -Ж. Трактаты. М.,
1969. С. 247-253. (Примеч. перев.)
10 Это парадоксальное отношение между различными аспектами
реконструирования традиций анализируется в работе: Eisenstadt S.N. PostTraditional Societies and the Continuity and Reconstruction of Tradition. P. 1-29.
См. также гл. 4.
11 Наиболее полно динамика традиций проанализирована в ст.: Eisenstadt
S.N. Some Observations on the Dynamics of Tradition//Comparative Studies in
Society and History. N.Y.; L, 1969. V. 11. № 4. P. 451-475; Idem. Tradition,
Change and Modernity. Ch. 14.
12 Различные виды соотношений при включении символики протеста
элитами, с одной стороны, прибегающими к принуждению, а с другой — к
нему не прибегающими, проанализированы в сборнике, составленном Ш.Н.
Эйзенштадтом и И. Азмоном «Социализм и традиция» (см. выше).
Отношения между революцией, принудительностью и тоталитаризмом
рассматриваются в статьях А.К. Скаламонти и Е.В. Трапанезе в сб.:
Sociologia delle rivoluzioni/Pelicani L. (ed.). Naples: Guide, 1976. См. также
статьи Э. Оллардта и П. Уорсли в сб.: Social Science and the New Societies:
Problems in Cross-Cultural Research and Theory Building/Hammond N. (ed.).
East Lansing: Michigan State University, 1973.
13 Следует ссылка на параграф «Революционный процесс и его результаты в
России» (см. выше).
14 Очень хорошим примером конкретного анализа такой элиты является
книга: Jovitt К. Revolutionary Breakthrough and National Development: The Case
of Romania, 1945-1965. Beverly Hills: University of California Press, 1971.
15 Об анализе фашизма см.: Nolle E. Three Faces of Fascism. N.Y.: Holt,
Rinehart and Winston, 1966; Theorien Liber den Faschismus/Nolte E. (Hrsg.).
Koln: Kiepenheuer und Witsch, 1970; German/ G. Autoritarismo, Faschismo e
Classi Sociali; The Nature of Fascism/Wolf S.J. (ed.). N.Y.: Random House;
Vintage, 1969; Reappraisals of Fascism/Turner H.A. (ed.). N.Y.: New Viewpoints,
1975; GregorA.J. Fascism and Comparative Politics//Comparative Political
Studies. Beverly Hills e.a., 1976. V. 9. № 2. P. 207-223; Hag/vet В., Rokkan S.
Preconditions of Fascist Victory: Towards a Geoeconomic Model for the
Explanation of Violent Breakdowns of Competitive Mass Politics. Bergen, 1976.
16 Начало еврейской диаспоры обычно датируют VI в. до н.э., когда после
разрушения Иерусалима вавилонским царем Навуходоносором II началось
расселение евреев за пределами Палестины. (Примеч. перев.)
17 См.: Scholem G.G. Sabbatai Sevi: The Mystical Messiah. Princeton: Princeton
University Press, 1973; Idem. Major Trends in Jewish Mysticism. N.Y.: Schocken,
1941.
18 Об ишув см.: Eisenstadt S.N. Israeli Society. N.Y.: Basic Books, 1968;
Honvitz D., Lissak M. Ideology and Politics in the Yishuv//Jerusalem Quarterly.
Jerusalem, 1977. № 2. P. 12-27.
Глава 9.
ЗА ПРЕДЕЛАМИ КЛАССИЧЕСКИХ РЕВОЛЮЦИЙ. ТИП ИЗМЕНЕНИЙ
И РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НЕОПАТРИМОНИАЛЬНЫХ
ОБЩЕСТВАХ.
1. Введение.
В предшествовавшем анализе мы постарались объяснить результаты, к
которым привели настоящие революции. Но, как было показано в главах 6 и
7, процессы социальных изменений и преобразований, сопровождающие
модернизацию, так же как идеологические системы, символы и движения
революционного характера, не ограничиваются обществами, которые мы
анализировали. Они могут проявиться в любом обществе при
соответствующих обстоятельствах. Однако в большинстве обществ образцы
преобразования политических и социальных структур, так же как движения
протеста и потенциальные революции, не реализовались в модели подлинной
революции.
Анализ образцов преобразований и всех таких различных движений даже в
том ограниченном объеме, в каком анализировались подлинные революции,
выходит за рамки настоящей книги. Однако нам бы хотелось провести
некоторые общие сопоставления этих образцов преобразований, а также
движений протеста или восстаний.
В этой главе мы кратко проанализируем те модернизированные и
модернизирующиеся общества, базовые культурные ориентации и
структурные характеристики которых были отличны от имперских и
имперско-феодальных образцов и во многих из которых воздействие
модернизации или прорыв к цивилизации Нового времени осуществлялись
при условиях, что отличались от тех, какие существовали в обществах, где
произошла подлинная революция. (В главе 10 мы проанализируем отдельные
революционные движения в относительно зрелых постреволюционных
обществах.)
В программу наших исследований входит, во-первых, анализ процессов
изменений в чистых революционных обществах. Во-вторых, мы
проанализируем, каким образом переменные, подобные структуре центров и
сплоченности элит, формировали характер процессов изменений в тех
обществах, что были ранее упомянуты. Мы также обратим внимание на
проблему, могут ли когда-либо в этих обществах сложиться такие условия,
которые благоприятствуют возникновению явлений, сходных с так
называемыми подлинными революциями. В таком контексте мы кратко
проанализируем революции в Мексике, Боливии и на Кубе, а также
крушение авторитарного режима в Португалии.
2. Включение патримониальных обществ в современные международные
системы.
Обратим внимание на начало формирования исторического опыта тех
модернизирующихся и потенциально революционных обществ, базовые
структурные характеристики и культурные ориентации которых значительно
отличались от имперских и имперско-феодальных образцов: это Испания и
Португалия,
многие
страны
Латинской
Америки,
большинство
ближневосточных обществ, а также многие колониальные общества Южной
Азии и Африки. Все эти общества в своем традиционном состоянии или в
начале модернизации были гораздо ближе к патримониальной модели, чем к
имперским и имперско-феодальным системам. (Что касается Африканского
континента, то на нем господствовала трибалистская модель.) В
действительности очень немногие колониальные общества являли
первоначально имперский либо имперско-фео-дальный образец — Вьетнам
представляет единственное исключение, и, как мы отметили выше, это
имперское общество породило тип изменений, очень похожий на подлиную
революцию. Особый случай представляет Индия с характерным для ее
традиционной системы своеобразным образцом изменений. Все-таки ее
политическая структура в своей основе оставалась патримониальной.
Вследствие своего патримониального или полупатримониального характера
эти общества отличались: 1) слабой структурной дифференциацией между
центром и периферией; 2) высокой степенью статусной обособленности,
прежде всего слабым осознанием единства социального статуса в масштабах
всей страны и его слабым политическим выражением; 3) низким уровнем
символической и организационной оформленности повстанческих движений,
движений протеста и политической борьбы в центре, а также связей между
ними; 4) относительно низким уровнем символической оформленности
различных коллективов. Этим обществам были, крбме того, присущи:
относительно низкий уровень символической и институциональной
автономности важнейших из элит второго плана, высокая степень
укорененности этих групп институциональных организаторов в
аскриптивных общностях одновременно с неразвитостью автономных связей
между этими элитами, а также между ними и центрами.
Складывавшиеся разновидности этих патримониальных систем отражали
обстоятельства своего формирования. Испания и Португалия, разумеется,
относились к европейской традиции. Латинская Америка имела смешанное
испанское и индейское наследие2. Колониальные общества Ближнего
Востока, Южной и Юго-Восточной Азии оказались глубоко затронуты, как
мы увидим дальше, воздействием некоторых сторон колониального опыта.
При всем различии исторических и культурных оснований эти общества
отличались двумя общими чертами, которые имеют исключительное
значение с точки зрения нашего анализа. Во-первых, в противоположность
традиционным патримониальным режимам прошлого они все испытали
воздействие цивилизации Нового времени; иначе говоря, они все были
интегрированы в современные международные системы. Во всех из них
сложилась какая-либо разновидность модернизационных политических и
социальных процессов (например, современная система легитимности и
отчетности правителя) и существовали более дифференцированные
социальные и экономические структуры. Но в то же самое время, во-вторых,
типы этих процессов, способы решения порожденных этими процессами
проблем и специфический характер усвоения цивилизации Нового времени
сильно отличались от революционного и постреволюционного опыта
Западной Европы (и Северной Америки) Нового времени, России либо Китая
(независимо от того, в какой степени последние служили образцами).
Хорошо известно, что все эти общества подверглись далеко идущим
изменениям под воздействием включения в формирующиеся международные
системы, а также революционных движений и идеологий, многие из которых,
подобно войнам за независимость в Латинской Америке и значительно
позднее в других колониальных странах, были истолкованы своими
организаторами как революции. Внутренние изменения режима часто
изображались как революционные и теми, кто их осуществлял, и их
противниками. Постколониальные режимы, подобные алжирскому, также
называли себя революционными. Во многих из этих обществ сложилась
сильная предрасположенность к использованию революционной символики,
которая отражала политическое и идеологическое влияние международных
революционных движений, а также революционных государств. В Восточной
Европе, если исключить с достоверностью только Югославию и, возможно,
Албанию, коммунистические режимы, которые провозглашали себя
революционными, в действительности были установлены и поддерживали
свое существование принудительными мерами.
Только в случаях Мексики, Боливии и Кубы революционные усилия
приближались к образцу подлинной революции; большинство других
обществ, которые рассматриваются в этой главе, сформировали
разновидность того, что можно назвать неопатримониальным образцом.
Специфика этого образца не проявляет себя на начальных стадиях
модернизации. Она становилась заметной по мере того, как эти общества
интегрировались в новые постоянно изменяющиеся современные
международные системы, и по мере того, как они сами преобразовывались в
современные общества. В большинстве стран Латинской Америки, при всей
привлекательности
моделей
современной
западноевропейской
и
североамериканской цивилизации, возобладал неопатримониальный тип. В
Испании и Португалии этот образец долгое время был скрытым под
влиянием риторики западноевропейских идеологических доктрин, движений
и символики. В постколониальных обществах за пределами Латинской
Америки неопатримониальный образец утвердился в результате разложения
или крушения тех идеологических и/или институциональных моделей, что
были унаследованы от колониального периода и времен борьбы за
независимость.
3. Структурные особенности неопатримониальных обществ. Отношения
между центром и периферией и их влияние на политический процесс.
Наиболее существенные особенности неопатримониальных обществ имели
основанием структуру центров и отношения между центром и периферией. В
большинстве случаев центр в возрастающей степени монополизировал
власть и политические ресурсы; крупным группам населения оставалось
немного возможностей для самостоятельного доступа к таким ресурсам и к
позициям контроля над последними. Подобная монополизация лишь в
минимальной степени сопровождалась попытками центра изменить структуру периферии (прежде всего отношения между центром и периферией) или
создать социальные институты, которые были бы основаны на новом
соотношении основополагающих норм и новых структурных принципах.
Хорошо известно, что в большинстве неопатримониальных обществ
возникали тенденции к формированию новых типов современных, открытых
центров. Однако подобная открытость и взаимное воздействие центра и
периферии сочетались с относительно незначительным структурным и
символическим проникновением центра в периферию, таким же
незначительным оказывалось и преобразование периферии центром. За
выделением центра (особенно после завершения первоначального и
относительно неудачного этапа, в ходе которого пытались учредить
национальное государство или революционный тип современного режима)
не следовали усилия структурно и идеологически преобразовать периферию
либо осуществить серьезные изменения в представлениях периферии о
социальном порядке и отношениях ее с центром. Институционализация
центра не привела ни к формированию большой приверженности
социальному порядку, ни к возникновению новой мотивации для усвоения
более дифференцированных ролей и внедрения такой дисциплины, которая
была необходима для их осуществления. В результате степень выделенности
центра и характер его отношений с периферией оказывались очень сходными
с теми, которыми отличались традиционные патримониальные режимы.
В связи с этим большинство неопатримониальных обществ испытали в своем
развитии постепенное уменьшение автономного доступа различных групп и
слоев к формированию символики социального и морального порядков; и,
напротив, представление о центре как единственном или главном
вместилище таких, хотя и предустановленных, ценностей либо символов
возросло. По общему правилу, представление, что социальный порядок
создается или формируется путем свободной самостоятельной деятельности
социальных групп (представление, которое само собой подразумевалось в
революционных моделях и моделях национальных государств), теряло под
собой почву либо отстаивалось исключительно маргинальными
интеллектуальными элитами или революционными группами.
Значение патерналистской политики распределения, накопления и
извлечения ресурсов в этих обществах неуклонно увеличивалось.
Патерналистская ориентация такой политики была очевидной в том, что
центр контролировал большинство ресурсов и механизмов, необходимых для
экономического развития. Центр стремился манипулировать другими
секторами и в результате монополизировал выработку политики
благосостояния и распределения. И тогда, когда эта политика лишь на словах
способствовала развитию, и даже в Бразилии, Тунисе и Перу, где эта
ориентация не была совершенно номинальной, крен делался скорее на
извлечении и распределении ресурсов и на увеличении эффективности в
существующих институциональных рамках, а отнюдь не на создании либо
центром, либо периферийными группами новых типов ресурсов и видов
деятельности или на изменении структуры экономических и социальных
образований и их взаимоотношений. Какие бы формы ни принимал сам
процесс, изменение социальной структуры обычно имело место без прямого
вмешательства центра.
С этими особенностями центров и отношений между центрами и периферией
были тесно связаны отличительные черты внутренней структуры центров,
особенности каналов политической борьбы, а также форм политической
организации и политических процессов. Развивались тенденции перехода от
политических режимов более выраженного представительного или
конституционного типа и от бюрократических, судебных и парламентских
структур
универсалистского
характера,
представлявших
наследие
колониального периода, к преобладанию исполнительной отрасли власти
вообще, а в ее структурах — к бюрократическим, армейским или
политическим кликам, к группам давления и к эфемерным популистским
партиям или движениям3. Нормы, которые сформировались в этих
политических системах, имели тенденцию подчеркивать кооптирование либо
отрицание доступа к центру и к источникам политики распределения и
позициям в бюрократии. В этих нормах существовала тенденция
подчеркивать посредническую роль центра в отношениях между различными
группировками. В таких обществах оставалось мало возможностей для
формирования автономного доступа этих или других больших групп к
политическим ресурсам и позициям.
В неопатримониальных системах и коалициях основными средствами
политической борьбы в возрастающей степени становились кооптирование
или изменение клиентуры и фракционных сетей, формирование
корпоративных иерархических организаций. Всем из них в большой мере
были присущи популистские обращения к аскриптивным символам или
ценностям, представлявшим различные этнические, религиозные или
национальные общности. Такие обращения часто были по своей сути лишь
эмоциональными оборотами речи, которые служили тем не менее способом
сигнализировать о неадекватности существующих образцов кооптирования.
Каковы бы ни были детали организационного плана, такие подвижки в
масштабах и формах политической борьбы указывали на изменения в
символическом значении или характере функционирования многочисленных
институтов (парламентов, партий, бюрократического и судебного аппарата),
которые вели происхождение от колониального периода либо были
учреждены по западноевропейским или североамериканским образцам.
Парламенты имели тенденцию превратиться в главную сцену
символического
представительства
политического
процесса
или
политической социализации и сцену соперничества между различными
группировками, но не в форум для автономных представителей различных
групп и слоев. Партии все более и более обнаруживали склонность сделаться
инструментом для формирования символов коллективной идентичности и
полем боя за завоевание позиций контроля над распределением ресурсов и
клиентской сетью.
Система голосования и партийной мобилизации обычно использовалась в
целях расширения базы доступа к таким позициям в системе распределения;
для создания новых структур отношений патрон—клиент, фракционных
группировок или корпоративных образований; для обозначения
приверженности к символам политического процесса, представленным
центром. Лишь в незначительной степени система голосования или
партийной мобилизации использовалась для выработки новых принципов
социального распределения, для изменения правил доступа к центру или
воздействия на центр со стороны независимых институтов власти,
отстаивавших особые идеологические ориентации. Партии, администрация и
армия соперничали в борьбе за осуществление этих функций и контроль над
ресурсами центра.
Эти процессы привели к утверждению нестабильных центров власти, в
рамках которых армия зачастую занимала стратегическую позицию в
качестве держателя настоящей власти и как хранителя фундаментальных
символов социополитического порядка. Часто эта стратегическая позиция
армии усиливалась благодаря ее решающей роли в качестве одного из
главных каналов социальной мобильности вообще и продвижения в центр в
особенности.
Более крупные группы неопатримониальных обществ зависели от центра в
плане регулирования своих собственных внутренних дел, которые отчасти
затрагивали более широкие социетальные системы. Эта зависимость
наиболее четко обнаруживается в характере политических требований,
которые выдвигались в этих обществах. Распространение цивилизации
Нового времени порождало и усиливало требования, касавшиеся расширения
доступа к центру в его роли распределительного агентства; различные
группы задумывались о контроле над центром и осуществлении изменений в
его структуре и символах, а также о создании новых разновидностей
социального и культурного порядков.
Даже в наиболее модернизированных сферах жизни такие требования
основывались в общем на аскриптивных положениях, определяющих
традиционным образом права доступа к центру и/ или на получение ресурсов
от него. Притязания на эти права выражались либо с опорой на
действительные властные позиции (с таких позиций выступали различные
бюрократические или олигархические группы), либо под знаменем
принадлежности к этническим, религиозным или национальным общностям.
Они лишь относительно редко были связаны (как было, например, в Японии)
с вмешательством выдвигавших требования групп в структуру центра и
формулированием его целей. Таким образом, экономические требования и
экономическая политика, как правило, сосредоточивались в большей степени
на доступе к ресурсам, властным позициям и должностям, чем на поддержке
новых типов экономической деятельности и новых форм статусных и
классовых отношений. В сфере образования упор в возрастающей степени
делался на приобретении или обеспечении широкого доступа к
образовательным возможностям, для того чтобы использовать их в качестве
гарантированного способа обеспечить место в структуре профессиональной
занятости. Эта тенденция была тесно связана с ростом численности
административного персонала и расширением бюрократического аппарата
как механизма для кооптирования крупных групп в модернизированный
патримониальный центр — один из наиболее впечатляющих признаков
неопатримониального общества4. Наконец, все более и более
настоятельными становились требования в отношении перераспределения
земли и возможной экспроприации, тогда как призывы к диверсификации и
изменениям в экономических структурах центра утрачивали свою
неотложность5.
4. Процессы изменений в неопатримониальных обществах. Социальная
мобильность. Изменение структуры элит, институциональных сфер и систем
социальной иерархии.
Неопатримониальные черты этих обществ сохранялись, несмотря на
происходившие в них далеко идущие изменения в социальной,
экономической и политической областях. Более того, неопатримониальные
способы общественной активности отложили свой отпечаток на важнейших
аспектах этих изменений — особенно на тех аспектах, которые наиболее
тесно были связаны с образом подлинной революции.
Происходившие в этих обществах вследствие их интегрированности в
современные международные системы процессы социальных, экономических
и политических изменений приняли форму не только переворотов,
популистских выступлений, структурных перемещений населения или
урбанизации, но также развернутого преобразования основополагающих
норм социального взаимодействия и их важнейших институциональных
производных.
Во-первых, все эти общества испытали крупномасштабный рост социальной
мобильности6. Этот процесс имел следствием диверсификацию
профессиональных групп, рост средних классов, особенно из состава нижних
слоев города и деревни, и утверждение новых экономических, политических
и социальных структур (например, обширных промышленных комплексов,
широких бюрократических организаций и массовых партий). Этот процесс
способствовал также переустройству важнейших институциональных сфер в
направлении расширения их рынков и диверсификации производственных
образований.
Во-вторых, в этих обществах возникали постоянные процессы перемещения
и изменения структуры элит. Традиционная олигархия уступала место
совокупности капиталистических, технократических и профессиональных
элит в экономической сфере и популистским лидерам либо специалистампрофессионалам в политической сфере. Помимо простого перемещения
между элитами, происходило увеличение круга элитарных позиций,
расширение базы рекрутирования членов для этих позиций и отрыв
представителей элиты от широких аскриптивных слоев общества. Военные и
отдельные части бюрократии были в числе самых важных групп, которые, по
меньшей мере в организационном плане, отрывались от аскриптивной среды.
Часто эти изменения были связаны, как было, например, в Египте, Перу и
Бразилии, с устранением и даже физическим уничтожением правящих и/или
высших групп старого общества.
В-третьих, в тесной связи с расширением размеров институциональных сфер
далеко идущие изменения происходили в экономической организации и
символическом значении институциональных комплексов, свидетельством
чего может служить сдвиг от узкой распределительной плантационной
системы к ориентированной на экспорт капиталистической либо
госкапиталистической экономике.
В-четвертых, многие из этих процессов соединялись, порождая перестройку
систем социальной иерархии. Социальная мобилизация совпадала с
увеличением численности групп и слоев и способствовала принятию
современных критериев статуса: экономическая либо образовательная
достижительность и/или политические связи. Параллельно с изменениями в
структуре элит происходили далеко идущие сдвиги в центрах власти,
которые имели следствием устранение прежних высших групп. Во многих
случаях имело место также крупномасштабное перераспределение ресурсов.
5. Тип несовмещающихся изменений в неопатримониальных обществах.
Все эти сдвиги, происходившие в отдельных обществах, или изменения,
характерные для них в целом, были сходными с теми, что происходили в
обществах, которые испытали революционные преобразования. Более того,
поскольку неопатримониальные общества были интегрированы в
современные международные системы, такие изменения шли одновременно
и с созданием предпосылок для революции, и с формированием сильной
тенденции к росту радикализма и революционной активности вместе с
возрастанием значения революционной символики, а также с
устремленностью к революционным преобразованиям. Эту тенденцию
усиливало воздействие международных революционных групп и лидеров и
возникновение сильных революционных государств.
Тем не менее ни одно из этих обществ не последовало чистому
революционному образцу. Процессы изменений в них редко образовывали
четкий образец совмещающихся изменений. Так, изменения в
основополагающих нормах социального взаимодействия не затрагивали
непосредственно политическую сферу, и поэтому не могло произойти
установление новой системы контроля над доступом к центру и важнейшим
позициям в обществе либо преобразование символов легитимности режима и
замена одной правящей группы другой. В большинстве случаев изменения в
нормативах справедливого распределения и их производных, особенно
касающихся распределения ресурсов, лишь изредка оказывались связанными
с изменениями в доступе к власти или с изменением режима.
Изменения
в
других
основополагающих
нормах
социального
взаимодействия, таких, как преобразование символических значений
институтов и границ коллективов, и в их институциональных производных
исключительно редко сопровождались изменениями в принципах доступа к
власти и переустройством отношений между центром и периферией. Точно
так же непременным следствием далеко идущих изменений в экономической
сфере или переустройства системы социальной иерархии не было
переустройство центра, даже когда сам центр инициировал такую
деятельность. Более того, когда изменения в широких институциональных
сферах затрагивали центр, они воздействовали лишь на один из его
компонентов — обычно на структуру элит.
Развитие в каждой институциональной сфере обычно осуществлялось
различными коалициями, и, точно так же, как в традиционных
патримониальных системах, в неопатримониальных обществах различные
коалиции образовывались в самом ходе переустройства разных
институциональных систем. Хотя эти коалиции часто поддерживали тесные
связи между собой, их эффективная и постоянная связь в новых структурных
комплексах была редкостью. Очень многозначительно, что усилия в этом
направлении чаще всего инициировались внешними силами.
6. Изменение структуры элит и популистский тип интеграции.
Сами по себе изменения в политической сфере не всегда следовали тому же
самому образцу или направлению, что политические изменения в ситуациях
чистой революции. Конечно, в неопатримониальных режимах могло
происходить значительное переустройство в политической сфере; например,
в границах сообщества; в символике и легитимности режимов; в структуре
правящего класса. Столь же многозначащей была тенденция к обособлению
центра общества; находившийся первоначально под господством
олигархических групп, он становился организационно более сильным и
символически обособленным образованием, даже если не становился
идеологически автономным или (даже когда использовал соответствующую
риторику) подлинно мобилизующим.
Более того, происходившая смена элит была процессом, который проявлялся
не только в принятии критериев профессионализма и расширении
источников рекрутирования, но также в отрыве элит от более широкой среды
— аскриптивных групп и слоев. Происходила постоянная символическая и
до известной степени институциональная интеграция широких слоев
общества в политическую систему: через официальное расширение прав на
участие в выборах и путем организационного и символического включения
крупных групп в системы центра. Наиболее далеко идущие попытки такой
интеграции были предприняты различными популистскими режимами в
Латинской Америке (режим Ж.Д. Варгаса в Бразилии и режим Х.Д. Перона в
Аргентине) и режимом Г.А. Насера в Египте. Основанием для популистских
акций обычно выступали радикальные изменения в символах легитимности
(как правило, облеченные в революционную терминологию, которая
подчеркивала увеличение близости к центру и участия в нем). Довольно
часто они были связаны с изменениями в составе правящих групп, а также
других высших эшелонов социальной иерархии7.
Наконец, режимы часто менялись. В некоторых случаях происходила лишь
смена членов правящей группы; во многих других изменялись также
структуры элит и политический курс. Наиболее важные из таких изменений в
политике касались того, в какой степени правящие элиты полагали себя
активными организаторами социальных и экономических преобразований, и
того, в какой степени они хотели видеть потенциально активными
участниками в этом процессе периферийные группы, а также относительного
преобладания правой или левой ориентации (обычно ориентации имели
отношение к социальному классу, который та или иная элита стремилась
представлять). Эти ориентации в большой мере определяли принципы и типы
социальной и экономической политики, которая формулировалась элитами,
—
аграрная
реформа,
распределение
земли,
национализация
промышленности.
7. Преемственность патримониального типа отношений центра и периферии.
Повторим еще раз, неопатримониальным обществам не был свойствен тип
совмещающихся изменений. И это выражалось прежде всего в том, что
изменения в составе элит не совпадали с изменениями в их ориентациях, в
отличие от того, что происходило в революционных обществах. Чтобы
проиллюстрировать это несколькими примерами, отметим, что иногда более
специализированные, военные либо технократические группы (с
характерным для них сочетанием корпоративно-профессиональной
сплоченности при относительной обособленности от широких слоев
общества) выдвигали широкие политические программы: в них в качестве
основных пунктов входили сильная ориентированность на развитие и
тенденции к использованию кооптации. Такой политический курс
предполагал широкое участие населения в политической системе.
Популистские лидеры, которые выдвигались в этих обществах под
давлением новых социальных сил, часто расширяли рамки символического
участия, порой используя новые принципы распределения ресурсов. Однако
обычно задачи экономического развития или переустройства экономической
сферы либо системы образования не ставились тем не менее на первое место.
Несмотря на то что многие новые элиты называли себя революционными и
часто радикально изменяли систему распределения ресурсов, они
исключительно редко проявляли готовность расширить рамки участия
периферии в центре общества или перестроить отношения между центром и
периферией. Вследствие этого принятая этими элитами революционная
модель либо модель национального государства обычно не подразумевала
включение лиироких слоев общества в центр. Во многих случаях попытки
вклю-ения широких слоев не предпринимались даже теми независимыми
лидерами или элитами, которые были способны организовать эти крупные
группы в постоянные автономные структуры. Более того, такие попытки
редко сопровождались глубокими изменениями в доступе основных групп к
позициям контроля в главных институциональных сферах и в центре или же
в автономном политическом самовыражении этих групп. Гораздо чаще этот
процесс был связан с изменениями в принципах справедливости и в
производной от них политике распределения.
Сходным образом нововведения в символическом значении и
организационных рамках институциональных сфер часто не сопровождались
перестройкой доступа к позициям контроля и отношений между центром и
периферией. Даже создание массовых партий и широкомасштабных
бюрократических организаций, установление новых каналов мобильности
или замена старых элит по общему правилу не сопровождались развернутым
переустройством отношений между центром и периферией.
Этим недостатком совмещаемости отличались даже провозгласившие себя
революционными режимы, подобно алжирскому и египетскому. Так, в
Алжире формирование нового правящего класса (само собой постоянно
изменяющегося) было связано с построением нового, полупатримониального
центра. Этот центр действительно оказался в состоянии установить новые
экономические системы и провести некоторое перераспределение земли. Но
доступ крупных групп к центру или к важнейшим институциональным
позициям контроля не стал более широким, и не был создан новый тип
отношений между центром и периферией. В различных режимах в Перу и в
Египте при Г.А. Насере более автономные военные элиты выбирали между
попытками мобилизовать крупные группы и контролировать доступ этих
групп к центру. Прежде всего они стремились распространить отношения
патрон—клиент или создать корпоративные образования, а не
способствовать автономной организации этих групп. Сходный образец
сформировался в Боливии, где элите, оказавшейся у власти благодаря
революции 1952 г., не удалось сформировать организационную систему,
которая могла бы эффективно мобилизовать крупные общественные группы.
8. Устойчивость патримониальных ориентации.
Как на основании предшествовавшего анализа мы можем объяснить
воспроизводство в этих обществах патримониальных характеристик и
структур и тесно связанного с ними типа слабо совмещающихся изменений?
Одного патримониального происхождения для объяснения этой
устойчивости недостаточно. Следует обратить внимание на устойчивость в
большинстве этих обществ базовых культурных ориентации и моделей
социального порядка, которые ассоциируются с патримониальными
режимами, — в особенности представлений о власти и иерархии и их
институциональных производных. Лучше всего
примеры такой
преемственности изучены в Латинской Америке. Их анализ показывает, что
корпоративно-иерархическая
модель
продолжает
функционировать,
несмотря на смены режимов и экономическое развитие, и ее влияние
сохраняется в виде несовмещающихся изменений. Сходная преемственность
выявлена в странах Магриба, Индии и Индонезии.
Воспроизводству таких кодов и их институциональных производных очень
способствовало то обстоятельство, что под двусторонним воздействием
внутренних процессов, происходивших в этих обществах, и внешних сил
создавались условия, в которых сохранялись структурные предпосылки для
существования патримониальной модели. Говоря более конкретно, эти
процессы блокировали автономный доступ крупных общественных групп к
центрам и позициям контроля над распределением ресурсов или ослабляли
такой доступ там, где он уже существовал. Они поддерживали или еще более
снижали без того низкий уровень автономности важнейших групп
организаторов, оказывая подобное влияние и на обособленные группировки
элит.
Наиболее важными примерами, указывающими на то, что потенциальный
доступ к центру был ограниченным, являются Испания и Португалия.
Действительно, Испания и, в меньшей степени, Португалия в конце XV—
XVI в. максимально приближались к образованию сильного имперского
центра. Тем не менее, в конечном счете, они восприняли патримониальный
образец. Здесь сыграло свою роль множество исторических процессов:
Реконкиста (отвоевание Иберийского полуострова), колонизация Америки и
Контрреформация, которая трансформировала иберийское католичество. Все
эти процессы подтолкнули Испанию и Португалию к движению в
патримониальном направлении, поскольку они ослабили в испанском и
португальском обществах элементы плюрализма и самостоятельность
важнейших групп институциональных организаторов. Центр добился
полного контроля над ресурсами, которые оказались вне досягаемости для
крупных групп, — особенно после изгнания либо запрещения деятельности
таких активных независимых групп, как евреи и мавры. В конце концов,
вследствие роста своего богатства, испанский и португальский центры
утратили существовавшие ориентации на мобилизацию крупных групп
населения. Королевская власть обратилась вместо этого к политике
распределения, посредством которой она рассчитывала приобрести
поддержку со стороны основных автономных групп. В результате
зависимость этих групп от центра возрастала, а их автономность сводилась к
минимуму. Усиливались тенденции к разобщению между автономными
группами и широкими слоями общества и внутри этих последних.
Важнейшим внешним фактором, который во многих неопатримониальных
обществах усиливал существовавшие патримониальные тенденции, был
способ их включения в современные международные системы. Решающую
роль в том, происходил или не происходил прорыв к цивилизации Нового
времени, играло наличие трех необходимых предпосылок революционного
развития: 1) переход от традиционного или закрытого образца легитимности
политической власти к открытому; 2) переход к открытой системе
социальной стратификации (классовая система); 3) переход к рыночной
экономике вообще и к промышленной экономике в частности.
В большинстве из рассматриваемых нами обществ не происходило
одновременного складывания этих трех элементов современной
социетальной системы. Такая неравномерность в осуществлении переходов
создавалась в первую очередь ситуацией зависимости неопатримониальных
обществ. Иначе говоря, эти общества были интегрированы в международные
экономические рынки без проявления с их стороны относительной
самостоятельности и без соответствующих изменений в политической и
культурной областях. В свою очередь, включение в международную
политическую
систему
и
переустройство
политической
сферы
неопатримониальных обществ не сопровождалось существенными
изменениями в положении этих обществ в международной экономической
системе и не закрепляло их автономности8.
При включении неопатримониальных обществ в международные системы
усиливались
тенденции
к
обособлению
между
различными
институциональными сферами в. отношении уровня и характера развития.
Подобные тенденции были очень сильны даже в имперских или имперскофеодальных обществах Китая, Японии или Вьетнама. Тем не менее в этих
обществах имперский образец преобладал, что проявлялось и в изменении
структуры институциональных образований, и в совмещении различных
типов протеста (восстаний, инакомыслия и политической борьбы в центре),
так же как в установлении центром контроля за откликом на воздействие
международных систем. Все-таки даже здесь, как мы видели раньше,
зависимый способ включения, по-видимому, усиливал тенденции к
обособлению развития в различных сферах. Что же касается стран с
патримониальным прошлым и/или соответствующими характеристиками,
таких, какие имеются в Латинской Америке либо в Юго-Восточной Азии, то
здесь этот способ включения в международные системы, усиливая присущие
этим обществам тенденции обособления, не встречал сильного
сопротивления со стороны противодействующих сил.
В рамках общей модели зависимого включения неопатримониальных
обществ в современные международные системы особое значение имел
колониальный опыт. Во-первых, колониальная система поддерживала
структурные условия, способствовавшие воспроизводству патримониальных
режимов, тем, что ограничивала доступ к власти и ресурсам, распоряжение
которыми в очень большой степени было монополизировано колониальными
правителями, и тем, что разграничивала доступ к различным типам ресурсов
центра (богатство, престиж, власть), а также тем, что контролировала все
каналы обращения между ними. Во-вторых, условия колониальных и
постколониальных обществ усиливали патримониальные тенденции тем, что
способствовали укреплению экономической, политической и культурной
зависимости от метрополии; эти связи в своей совокупности сводили к
минимуму автономный доступ крупных групп населения к ресурсам и, таким
образом, ослабляли их влияние. В-третьих, при колониализме возникла еще
одна точка опоры для патримониальных ориентаций в виде системы
образования9.
9. Структура элит в неопатримониальных обществах. Укорененность,
недостаток автономности и обособление.
Все эти социальные процессы усиливали те институциональные структуры,
которые
представляли
наиболее
значительное
основание
для
патримониальных способов организации социетальной и функциональной
(instrumental) деятельности. Это — высокая степень укорененности групп
институциональных организаторов и элит в аскриптивных общностях,
существование в рамках последних сильных интеграционных механизмов,
низкий уровень символической автономности таких элементов, а также
автономности их доступа к центру, друг к другу и к основным социальным
группам. Указанные особенности сохранялись либо подвергались
преобразованию вследствие глубоких изменений, которые испытывали
неопатримониальные общества. Такое сочетание устойчивости с переменами
особенно
заметно
проявилось
в
социальном
облике
нового
представляющегося
независимым
типа
лидерства.
Именно
эти
характеристики современных политических организаторов и лидеров
сыграли столь кардинальную роль в формировании революционных
процессов в Европе, России, Китае и Вьетнаме.
Много лет тому назад Г. Бенда10 указал на то, что элиты Юго-Восточной
Азии зачастую состояли из оторванных от своих корней интеллектуалов. Это
были политики, которые сочетали относительно высокую степень
изолированности от других групп и небольшую степень внутренней
сплоченности, очень высокую степень символической укорененности в
широком аскриптивном сообществе и недостаток автономной идентичности.
Не удивительно, что такие элиты колебались между отделением от крупных
общественных групп и политической базы, а также от представителей
солидарности широких аскриптивных общностей, с одной стороны, и
укорененностью в таких коллективах и недостатком автономности — с
другой. В то же самое время они были относительно изолированы от более
функциональных (экономических, технократических и профессиональных)
элит. И выразители моделей социального и культурного порядка, которые не
очень значительно отличались от идеологов солидарности аскриптивных
общностей, редко были достаточно самостоятельными, способными
выдвинуть новые концепции такого порядка.
Политические элиты были тесно связаны с носителями моделей социального
и культурного порядка, но в то же время стремились отделиться от них, так
же, как и от функциональных элит. Кроме того, у них недоставало
согласованности в отношениях с широкими слоями, и они были не в
состоянии сформировать автономные регулируемые системы и образовать
стабильные коалиции между собой или с другими группами. Не был
институционали-зован контакт между политическим руководством и
функциональными элитами. Он поддерживался либо через различные
бюрократические системы, сети отношений патрон—клиент, либо через
корпоративные образования, либо на основе участия в широких
аскриптивных сообществах или популистских движениях.
10. Разновидности элит в неопатримониальных обществах.
Различия между элитами разных периодов времени и различных обществ
были связаны с их историческими традициями и с их модернизирующейся
средой (см. главу 5). Особое значение имело, во-первых, наличие
олигархических групп землевладельцев и торговцев или, как в ЮгоВосточной Азии, патримониальной аристократии. Во-вторых, существовали
значительные различия в плане существования среди собственно среднего
класса независимых торговых, промышленных или профессиональных групп,
которые, как было на Цейлоне и в Малайзии, противостояли
бюрократическим, чиновническим элементам. В-третьих, существовали
вариации в удельном весе иноземных этнических элементов,
представлявших, как в Малайзии, Индонезии и до некоторой степени в
Магрибе и Латинской Америке, независимые экономические группы. Вчетвертых, эти общества варьировались по относительному значению и
численности различных типов (традиционных, религиозных или
современных) интеллектуальных, профессиональных и технократических
групп и их политическим ориентациям. В-пятых, они различались уровнем
самосознания и единства элит и широких слоев общества, особенно по
отношению к целям модернизации и развития, по социальным ориентациям и
идеологии, а также по степени приверженности населения политической
системе. Наконец, они резко различались по степени оторванности от корней,
структурного перемещения как сельских, так и городских групп12.
Перечисленные характеристики имели отношение ко многим аспектам
социальной структуры. Например, обнаружилась тенденция формирования
менее организованных партий и более ограниченных группировок в тех
обществах, которые отличались низким уровнем социальной мобильности, а
в обществах с более высоким уровнем социальной мобильности
существовала тенденция к формированию более устойчивых разновидностей
социальной организации вообще и хорошо организованных партий в
частности. То же самое можно сказать о вспышках общественного насилия,
которые были присущи подобным обществам: в одних случаях они
оказывались спорадическими и неорганизованными (даже архаическими), в
других — устойчивыми массовыми популистскими движениями.
Сочетание этих характеристик затрагивало также общую модель
политической борьбы в неопатримониальных режимах. Так, в обществах с
относительно низким уровнем дифференциации и относительно сильным
традиционным центром политическая борьба часто сосредоточивалась на
отношениях между кликами, с одной стороны, и на умиротворении групп,
склонных к спонтанным вспышкам, — с другой. Как правило, политические
проблемы в этих обществах были обособлены, разрознены и слабо
выражены. В обществах с высокими уровнями социальной мобильности
политическая борьба вообще концентрировалась на широком ряде проблем
или требований, которые были связаны с большими притязаниями на
включение в центр.
Аналогичным образом эти характеристики затрагивали формирование
коалиций. Так, в менее развитых обществах коалиции оказывались сходными
с теми, что были в традиционных патримониальных обществах: мелкие
дворцовые группы, неопределенные группировки армейских офицеров или
чиновников и лидеры семейных либо региональных групп. В более развитых
неопатримониальных обществах коалиции включали потенциально широкий
круг элитарных групп, в том числе профессиональные и городские элиты, а
также менее определенные партии и популистских лидеров. Там, где центр
состоял из слабых и соперничающих групп, а общество проявляло
нестабильность институциональной системы, особенно часто возникала
тенденция, приводившая к тому, что армия начинала играть очень серьезную
роль в политической борьбе.
11. Структура восстаний, движений протеста и политической борьбы в
неопатримониальных обществах.
Преобладание неопатримониального образца объясняет специфические
характеристики движений протеста и формы конфликтов, которые стали
общим явлением в неопатримониальных обществах в ходе процессов
изменений, что были проанализированы раньше.
Хотя в большинстве этих обществ выявились некоторые предпосылки
революции, никакое из них не испытало подлинной революции. Восстания,
милленаристские движения и религиозное инакомыслие, которые имели
место как при колониальном правлении, так и после провозглашения
независимости, походили на подобные явления в традиционных
патримониальных обществах в том отношении, что они были
потусторонними в своих институциональных ориентациях. В тех случаях,
когда сектантские религиозные движения (особенно относящиеся к периоду
независимости) идеологически были посюсторонними, ориентация многих из
них была по своей сущности популистской. Они сосредоточивались на
создании или обосновании новых символов справедливого распределения
либо символики политического сообщества; однако далеко не всегда эти
движения
приводили
к
созданию
более
организованных
или
дисциплинированных образцов либо структур посюсторонней деятельности.
Хорошо известно, что ряд восстаний в экспорториентированных
сельскохозяйственных странах или секторах проявлял революционные
ориентации: а именно — делался упор на передачу власти и на изменение
отношений собственности в аграрном секторе. Но даже такие программы
были облечены в популистскую и распределительную фразеологию. Еще
важнее с точки зрения нашего анализа является факт, что самые радикальные
из этих восстаний или движений редко воплощались в более
дифференцированные формы саморегулируемой деятельности или
организации.
Несмотря на то обстоятельство, что сопутствующие модернизации
структурные процессы (рост социальной мобильности, расширение рынков,
распространение современных средств массовой информации), по всей
видимости, должны были способствовать установлению большей
совмещаемости между различными восстаниями, движениями инакомыслия
и политической борьбой в центре, такая совмещаемость не стала общим
явлением. Нет необходимости говорить, что эти различные процессы
(восстания, инакомыслие и политическая борьба в центре) усиливали друг
друга, но их действенное постоянное соединение было редкостью; и усилия в
этом направлении обычно возглавлялись революционными силами извне.
Анализ деятельности коммунистической партии Индонезии показывает, что
этой группе было очень трудно наладить прочные и долговременные связи с
крупными группами или с политической борьбой в центре, хотя коммунисты
легко добились подрыва стабильности режима.
Институциональные организаторы, которые учреждали в сферах экономики
или
образования
новые
институциональные
комплексы
либо
реорганизовывали старые, не стремились к активному и постоянному
участию в этих движениях или в порожденных ими политических процессах.
Не стремились они также способствовать организационной и идеологической
перестройке политической сферы.
Только в колониальных обществах на решающей стадии борьбы за
независимость сложились длительные и эффективные связи между
различными движениями. Однако после провозглашения независимости
правящие элиты постарались вновь разобщить эти движения. Они
попытались контролировать и регулировать политический процесс таким
образом, чтобы он не угрожал их монополии на политическую власть в
центре и не создавал возможностей для получения различными группами
независимого доступа к источникам власти в масштабах всего общества. С
такой целью большинство этих правителей попытались свести к минимуму
возможность выдвижения новых политических ориентации, требований,
направленных на создание новых типов политического участия или новых
толкований политической символики. По мере того как возникали новые
политические представления и организации, правящие элиты стремились их
подавить либо изолировать. Между тем многие из этих элит использовали
революционную риторику и зачастую были связаны с автономными
революционными группами, имевшими интернациональную базу (в
основном это были группы, которые действовали из-за рубежа).
12. Неустойчивость неопатримониальных режимов.
Слабость руководящей элиты в неопатримониальных обществах часто
выражалась в ее неспособности устойчивым образом возглавлять,
мобилизовывать и контролировать группы, которые приходили в движение в
ситуациях политического подъема и процесса перемен. Не обнаруживалось у
такого руководства и способности организовывать блоки с другими элитами.
Вследствие этого ситуации, характерные для подъема, зачастую приводили к
столкновениям между соперничавшими элитами.
Одним из самых серьезных последствий действия такой модели была
высокая степень нестабильности режима. В самых крайних случаях
возникали гражданские войны, которые имели очень мощную
идеологическую направленность классового и революционного типа, и
символика которых до предела акцентировала тематику непримиримого
классового конфликта. Но, в отличие от революционных обществ, борьба в
неопатримониальных обществах была лишена посреднического участия
относительно автономных групп политических организаторов, которые
могли придавать этим конфликтам более широкие социополитические цели и
формы.
Самой лучшей иллюстрацией своеобразия процессов борьбы в
неопатримониальных обществах можно считать пример гражданской войны
в Испании, последствия революции в Боливии и особенно драматические
события в Чили. В истории Испании перед гражданской войной не было,
конечно, недостатка в попытках революции и далеко идущих изменений, и
эти стремления реализовались в значительном экономическом и социальном
развитии. Они не соединялись, однако, с глубоким переустройством центра,
и слабость испанских элит способствовала возникновению продолжительной
классовой войны. Именно неспособность правительства С. Альенде удержать
под контролем пришедшие в сильное движение массы, как показали Г.
Ландсбергер и Т. Макдениел, отчасти была причиной, приведшей к
гражданской войне и репрессиям в Чили13.
13.
Принуждение,
репрессии,
неопатримониальных обществах.
экспансия
и
стабильность
в
Несмотря на то что нестабильность неопатримониальных режимов
накладывала свой отпечаток на процесс изменений и движения протеста,
нельзя исключать и того, что в таких обществах происходили, как мы
подчеркивали не раз, значительные перемены. Сказанное выше означает
лишь, что различные характеристики процесса изменений не соответствовали
здесь тому образцу, который ассоциируется с классическими режимами
национального государства или режимом революционного типа.
Аналогичным образом различные процессы изменений в этих обществах
приняли довольно специфическое направление в плане реорганизации
институциональных сфер, использования принуждения, репрессий и
включения новых групп в правящую элиту.
Приступим теперь к систематическому сопоставлению форм развития в
неопатримониальных и постреволюционных обществах. В обоих случаях
такие переменные, как закрытость и жесткость центра и его отношения
солидарности с различными группами, предопределяли последствия
процесса изменений для структуры общественных институтов. Подобно тому
как происходило во многих других политических системах вообще и в
современных политических системах в частности, способность режимов к
динамике определялась степенью их единства и автономности, их
организационным опытом, мерой их приверженности к более широким
политическим образованиям, а также поддержанием преемственности в
устройстве институтов.
Тенденция к формированию регрессивного курса в экономической,
социальной и политической сферах, т.е. политического курса, который
сводил к минимуму способности общества к динамическому росту,
преобладала в тех обществах, которым были присущи довольно слабые
структуры институтов, неэффективные, несплоченные и относительно
изолированные элиты и где было немного сильных нетрадиционных групп.
Точно так же возможность формирования регрессивного политического
курса была гораздо больше там, где существовала высокая степень
конфликтности в отношениях между важнейшими группами центра и между
ними и крупными группами и где преобладали относительно изолированные
и несплоченные элиты, предпочитавшие действовать в слабо
институционализованной среде, — элиты, которые пытались усилить свою
власть популистскими призывами.
Напротив, способность к развитию была гораздо больше в тех случаях, когда
важнейшие элиты и слои демонстрировали относительно высокую степень
единства, известную внутреннюю автономность и общую открытость по
отношению к формированию широких систем институтов, имели
организационный опыт разносторонней деятельности. Важное значение в
этом отношении имели: высокая степень приверженности к широким
национально-политическим системам, вплоть до отождествления с ними, и
высокая степень преемственности в системах институтов.
За пределами этих предпосылок, общих для всех современных — и, по всей
вероятности, традиционных — режимов, в неопатримониальных режимах
существовали тенденции к такому сочетанию вариантов исхода процесса
изменений, которые отличались от сочетаний, обнаруживающихся в
революционных режимах.
Так, в неопатримониальных обществах изменения в коалициях элит
происходили вместе с включением широких слоев в политическую систему
или без него, с экономическим и организационным развитием или без него, с
изменениями в принципах либо политике распределения экономических
ресурсов и отношениях между центром и периферией или без этих
изменений. Сходным образом репрессивный и регрессивный политический
курс мог сформироваться отчасти независимо от того или другого варианта и
независимо от включения в центр новых элит или интеграции в
политическую систему новых социальных слоев.
Репрессии и устранение широкого круга элит сопровождались, как при
недавнем военном режиме в Бразилии, попытками экономического развития,
интеграции больших, но политически пассивных групп в политическую
систему и лишь минимальными изменениями в контроле над ресурсами или в
принципах их распределения. Реакционная политика в организационном и
экономическом развитии во многих популистских режимах Латинской
Америки соединялась с расширением масштаба участия и интеграции
широких слоев общества в политической системе. В таких странах Ближнего
Востока, как Сирия и Ирак, сходный политический курс также был связан со
значительной нестабильностью в составе центральных элит. Индонезия дала
какие-то фантастические разновидности этих образцов. При регрессивном в
экономическом аспекте режиме Сукарно Индонезия приобрела тем не менее
опыт интеграции широких социальных слоев в политическую систему. При
Сухарто произошел небольшой сдвиг в направлении политики поощрения
развития и одновременно — к введению более значительных ограничений
для политического участия и к его регулированию.
Кроме того, различные политические ориентации могли затронуть
стабильность режимов столь уникальным образом, который находился в
очевидном контрасте с теми образцами, что ассоциируются, как правило, с
постреволюционными обществами. Ключом к стабильности современных
национальных государств является способность правителей поддерживать
эффективные
связи
с
широкими
социальными
слоями.
В
неопатримониальных режимах таким ключом сказалась способность
различных элит, единых и сплоченных, поддерживать или сформировать
обособленные коалиции различных секторов населения, заодно с сохранением или достижением низкого уровня конфликтности в отношениях между
элитами.
Регрессивные тенденции и регрессивные последствия во многих странах
Латинской Америки в XIX в. и во многих из современных стран Африки
были связаны с проблемами стабильности режимов. Эти общества
отличались существованием относительно слабых элит, обособленных от
крупных групп, и совпадением между наличием ресурсов, доступных для
непосредственного распределения, и ожиданиями широких слоев. В таких
обществах политические конфликты ограничивались сферой отношений
между элитами, которые большей частью были организованы в мелкие
клики.
В обществах, где преобладали конфликты между кликами и внутри их,
кризис режима приводил к серии ^политических переворотов и политической
стагнации. В Испании, Индонезии и Аргентине очевидный разрыв между
ожиданиями и распределяемыми ресурсами стал причиной крушения
обособленных коалиций и приводил к чреватым насилием расколам; он
породил далеко идущие изменения в режимах и более репрессивную
политику.
Тенденции к динамическому росту и эффективная ликвидация последствий
кризисов власти в Малайзии и до недавнего времени на Филиппинах были
связаны со стабильностью режимов, которая обусловливалась низким
уровнем конфликтности в отношениях между относительно однородными и
взаимно открытыми элитами и группами, с одной стороны, и
существованием относительно стабильных и давно установленных
институтов заодно с традиционной приверженностью к политическому
сообществу — с другой. При таких обстоятельствах требования в отношении
роста в незначительной степени разрушали существовавшие обособленные
коалиции. Когда действие этих предпосылок ослабевало, возникала ситуация,
способствовавшая нестабильности и репрессиям, как произошло
впоследствии на Филиппинах. Там, где существовал высокий уровень
конфликтности, тенденции к росту оборачивались нестабильностью
режимов, как продемонстрировали многие из более развитых современных
обществ Латинской Америки. Этому сопутствовало возникновение среди
обособленных коалиций тенденции к разрыву и поляризации важнейших
секторов общества.
Заключая, следует отметить, что, какие бы различия ни существовали среди
неопатримониальных обществ в структурах и образцах изменений, эти
общества проявляли гораздо большую склонность к сочетанию глубоких
изменений со значительной нестабильностью режимов, чем национальные
государства или революционные режимы.
14. Революционные движения в неопатримониальных обшествах.
С существованием нестабильности режима в процессе глубоких изменений
было
тесно
связано
постоянное
формирование
обособленных,
насильственных, шумных, экстремистских революционных групп, которые
обычно рекрутировались из верхней части средних слоев. Такие
революционные группы — будь то интеллигенты, анархисты или участники
современной городской либо сельской герильи — формировались во всех
неопатримониальных обществах.
Однако эти группы, как показал опыт повстанцев Колумбии, участников
городской герильи в Венесуэле и движения Тупак Амару в Аргентине и
Уругвае, редко оказывались способными установить эффективные связи с
широкими слоями общества или преобразовать политические процессы в
центре. Только в Мексике и на Кубе, где (как мы рассмотрим дальше)
возникли квазиреволюционные процессы, либо в ситуациях, в которых
гражданская война была тесно связана с внешним давлением, как в ЮгоВосточной Азии и опять-таки на Кубе, у этих групп сформировались
эффективные связи или с политической борьбой в центре, или с восстаниями,
имевшими массовую базу. Однако во всех этих случаях деятельность таких
групп в большой степени затрагивала политические процессы, углубляя
расколы в обществе и часто выливаясь в установление угнетательских
режимов.
Многие из этих групп кооптировались в состав центра, становясь частью
правящей элиты или дозволенной оппозицией (присоединяясь к
неопатримониальным коалициям). В той мере, в какой они вовлекались в
политическую деятельность на центральном уровне, они проявляли
колебание между желанием получить немедленное и конкретное
вознаграждение и довольно смутным стремлением к преобразованию всей
системы. Вообще они обосновывали свои требования в духе, близком к
патримониализму: 1) изменение правил доступа к центру, 2) расширение
базы общности, в глазах которой центр может пользоваться престижем,
однако без возникновения новых действенных привязанностей к центру или
изменения его образа (центр крупных групп — центр более широкого
социокультурного порядка) и 3) преобразование образцов распределения
ресурсов. Ожесточенные идеологические и политические конфликты, часто
возникавшие между этими группами, имели мало отношения к
переустройству центра или открытию новых каналов для участия в нем. Тем
не менее бок о бок с кооптировавшимися революционными группами
постоянно возникали новые, еще более экстремистские.
15. Международные факторы.
Процесс постоянного возникновения ультареволюционных групп облегчался
и усиливался вследствие уникального сочетания внутренней динамики
развития в этих обществах и воздействия на них международных факторов.
Наиболее важными из них были: большая нестабильность режимов,
постоянство
центров
власти
в
международных
системах
и
усовершенствование
системы
международных
связей.
Все
это
способствовало формированию революционных групп и идеологий, которые
были ответвлениями революций, завершившихся успехом (такими как
китайская революция)14. Каким бы ни был успех, которого добивались такие
группы в осуществлении далеко идущих социальных преобразований,
отстаиваемых ими, они, тем не менее, представляли лишь новый постоянный
элемент международной среды, которая могла воздействовать на процесс
изменений в любом обществе. Такие группы могли подорвать основания
существующих иностранных режимов, однако это далеко не всегда
свидетельствовало об их способности осуществить развернутое
переустройство у себя дома.
Альтернатива - навязывание совмещающихся революционных изменений
внешними силами (как происходило в Восточной Европе или ЮгоВосточной Азии) - оказывалась следствием обособляющего способа
интеграции этих обществ в современных международных системах,
совместно с растущей силой международных революционных движений и
революционных государств и с ростом влияния специализированных
автономных революционных групп. Очевидно, в большинстве случаев этот
образец был связан с высокой степенью принуждения в сочетании с
перемещением групп и слоев, а в тех обществах, которым изначально была
присуща незначительная тенденция социальной мобильности, — с
уничтожением большого числа людей.
16.
Революции и революционные режимы в неопатримониальных
обществах: Мексика, Боливия, Куба, Португалия.
Воздействие международных сил, таким образом могло вести к
формированию образцов несовмещающих изменений или способствовать
этому. В некоторых случаях, в результате воздействия международных сил
на внутреннее развитие складывались условия, сходные с теми, в каких
формировались подлинно революционные процессы. Интересные примеры
для демонстрации такой возможности представляют Мексика, Куба, Боливия
и Португалия.
В этих неопатримониальных обществах влияние внутренних и внешних сил
соединялось таким образом, что возникали ситуации, сходные с образцом
чистой революции в двух15 решающих аспектах. Во-первых, установился и
сохранялся широкий контакт между восстаниями и процессами
политической борьбы в центре. Во-вторых, эти общества (особенно Куба и
Португалия) породили движения, которые определяли себя как
революционные. В-третьих, революции в этих обществах (особенно в
Мексике и на Кубе) имели следствием изменение символики политического
режима, некоторых аспектов доступа к власти и состава правящей элиты. Эти
изменения сочетались с глубоким переустройством организационных
аспектов институциональных сфер и зачастую с изменениями в системе
распределения ресурсов.
Несмотря на это сходство с подлинной революцией, революции в Мексике,
Боливии, на Кубе и в Португалии отличались от классического образца и
своим ходом, и своими последствиями.
I
Мексиканская революция16 существенным образом отличалась от
революций, произошедших в других неопатримониальных обществах.
Мексика больше, чем какое-либо другое из таких обществ,
продемонстрировала очень сильную, хотя очень непростую связь между
крестьянскими восстаниями и политической борьбой, затрагивавшей в
большей степени центр. Эта связь сформировалась не столько благодаря
влиянию этих движений или вследствие присутствия самостоятельных
институциональных организаторов, стремившихся к достижению таких
связей, сколько из-за исключительного стечения внутренних и внешних
факторов. Например, Мексика обладала необычайно сильной традицией
централизма, которая вела происхождение от колониальных времен. Эту
традицию усилил режим Б. Диаса, который взял курс на экономическое
развитие и поощрял возникновение новых, отчасти самостоятельных
секторов в близких к центру элитах. Эти процессы совместно с внешним
давлением, которое вызвало падение режима Диаса, и создали возможность
соединения политической борьбы в центре с крестьянскими восстаниями.
Все-таки с самого начала в Мексике либо отсутствовал, либо был слабо
выраженным один элемент, который имел центральное значение в
классических революциях. Здесь не было интеллектуального или
религиозного инакомыслия и независимых политических организаторов.
Даже после институционализации революции самостоятельные политические
организаторы (из числа различных политических деятелей) были лишь в
очень небольшой степени включены в революционную партию. Вследствие
этого связь между крестьянскими восстаниями и политической борьбой в
центре оказалась непрочной, и это не позволило возникнуть постоянной
новой коалиции либо утвердиться прочной системе новых институтов. Когда
эта система была все же учреждена в виде Институционно-революционной
партии (ИРП), крестьяне с самого начала были де-факто исключены из нее.
Вопреки точке зрения многих революционных теоретиков, не следует
объяснять тот факт, что в Мексике не состоялась подлинная революция,
непреодолимым расхождением между консервативными и радикальными
элементами. Существование такого раскола в классических революционных
ситуациях не помешало формированию прочных коалиций (и
контркоалиций) и прочных институциональных комплексов. Скорее,
Мексике
недоставало
высокой
степени
совмещаемости
между
повстанческими
крестьянскими
элементами,
интеллигентами
и
самостоятельными политическими лидерами, как центрального уровня, так и
второго плана.
Именно слабость связей между этими группами, так же как неспособность
мексиканского общества институционализовать в долгосрочном плане какиенибудь сплоченные политические коалиции или организационные системы,
привела к длительной гражданской войне. Низкий уровень совместимости
между этими группами (особенно из числа более самостоятельных,
высвободившихся из аскриптивных связей элементов) и преобладание
коалиций патримониального типа объясняются, кроме того, отсутствием
четко очерченной революционной идеологии, которая бы возвысилась над
популистским символизмом аграрно-крестьянского или коммуналистского
характера.
Влияние этих специфических черт революционного процесса в Мексике —
прежде всего характера революционных коалиций — наиболее отчетливо
проявилось в последствиях революции. Здесь возникло уникальное
сочетание изменений режима, глубокого переустройства институтов в
направлении цивилизационных образцов Нового времени и экономического
развития, с одной стороны, и сильных неопатримониальных признаков — с
другой.
Мексиканская революция изменила символику и легитимность режима
заодно со всей его институциональной базой, создав не только относительно
централизованную администрацию, но в то же время новую систему
политических институтов в виде ИРП. Она заменила бывшие правящие
группы и некоторые элементы из высших эшелонов социальной иерархии,
особенно землевладельцев и церковь, и, что довольно парадоксально, свела к
минимуму власть военных.
Установление относительно централизованного государственного строя шло
параллельно с установлением более унифицированной рыночной системы.
Мексиканская революция генерировала один из самых высоких уровней
долгосрочного экономического развития в Латинской Америке и открыла
новые каналы социальной и политической мобильности. Кроме того, здесь
произошло относительно широкое перераспределение ресурсов — политика,
которую наиболее эффективно проводил режим Карденаса17.
Результатом Мексиканской революции явилось также глубокое
переустройство организационных аспектов институтов вообще и
экономических институтов в частности в направлении государственного
капитализма. Такое переустройство сопровождалось попытками придать
институтам новое символическое значение — определить их смысл в плане
позитивной ориентации на развитие и служение государству.
Тем не менее этот процесс в нескольких отношениях отличался от
классического революционного образца. Во-первых, замещение и устранение
высших классов было лишь частичным и большие подразделения этого слоя
остались незатронутыми (в то же время допускалось внедрение в правящую
элиту новых членов). Во-вторых, весь тип контроля над принципами отбора
кадров для политической деятельности и доступа к власти, заодно с базовой
структурой коалиций, изменился незначительно, несмотря на сдвиг в
структуре центра власти, а также изменения в составе групп, реально
оспаривавших властные позиции.
Таким образом, хотя следствием Мексиканской революции было
формирование более централизованной государственной системы (с
динамичной
символикой
центра),
это
государство
оказалось
неопатримониальным. Структура отношений между центром и периферией в
основном соответствовала патримониальному образцу. Не создавалось
возможностей для автономного участия групп в центрах власти либо их
автономного доступа к последним, хотя масштабы изменений в составе
центров значительно увеличились. Эта мобильность, заодно с доступом к
ресурсам, которые появились благодаря экономическому развитию, в
большей степени контролировалась политическим центром.
Постреволюционное мексиканское общество отличалось снижением
мобильности (demobilization) широких слоев и строгим контролем над
политическим выражением их устремлений. Но режим не пытался, в отличие
от того, что делали тоталитарные режимы, изменить структуру широких
социальных слоев. Вместо этого он шел по пути кооптирования их
представителей через большое разнообразие сетей и секторов, которые
образовались вокруг Mексики. Эта структура оказалась способной к
постоянному расширению, так же как к кооптированию новых групп, что
позволило ей сосуществовать с движениями протеста в маргинальных
секторах общества, а позднее, в 60-х гг., среди студенчества19.
II
Процессы, которые развернулись в Боливии, оказались даже еще более
симптоматичными с точки зрения ограниченных возможностей для
революционных преобразований в неопатримониальных режимах. Так
называемая революция 1952 г. произошла в первую очередь из-за крушения
относительно слабого режима. Ее обусловили экономический груз внешней
войны и массовое структурное перемещение различных групп населения под
воздействием этого экономического пресса. Международное воздействие
оказалось существенным в двух отношениях: приведя, во-первых, к
обострению всех этих внутренних процессов и, во-вторых, к
распространению революционной социалистической идеологии. Сочетание
внешних и внутренних факторов объясняет остроту борьбы, которая
развернулась в Боливии, и возникновение революционной коалиции
политических лидеров, в большинстве случаев представителей среднего
класса, с рабочими, представленными в основном шахтерами, и крестьянами.
В ходе самой революции слабость этой коалиции стала очевидной — и она
сделалась даже еще большей на последующих этапах институционализации
революции. В тех и других периодах самостоятельные политические и/или
интеллектуальные элементы были очень слабы. Кроме того, в отличие от
Мексики, которая имела традицию относительно централизованного
политического руководства, Боливии не хватало элемента сильного, даже
если оно было бы патримониальным, центрального руководства. Вследствие
этого правящая элита оказалась не в состоянии эффективно координировать
деятельность составляющих ее групп и их требования. Ее неспособность
примирить задачи экономической стабильности или развития с требованиями
как рабочих, так и крестьян сделалась, в конечном счете, причиной падения
революционного режима. (Как это ни парадоксально, но Соединенные
Штаты были готовы помочь революционному режиму, для того чтобы
способствовать развитию союза во имя прогресса20).
III
Кубинская революция представляет сочетание двух тенденций: во-первых,
подтвердилось, что в патримониальной среде существуют относительно
небольшие возможности для складывания внутренних предпосылок
революционных преобразований, и, во-вторых, выявилась возможность
преодоления некоторых из этих трудностей благодаря воздействию
международных сил и иностранных держав. Очевидными также стали
издержки, которыми чревата подобная альтернатива.
Если следовать литературе, корни Кубинской революции можно обнаружить
в полном крушении легитимности и эффективности режима Батисты
(причиной чего в немалой степени был произвол в его внутренней политике)
и в том обстоятельстве, что Куба была относительно централизованным
государством с довольно хорошо развитой экспорториентированной
экономикой, даже если она была однобокой и, в огромной степени,
зависимой от Соединенных Штатов. Эти особенности способствовали
формированию элит и групп среднего класса, которые отдалялись от режима.
Одновременно происходил процесс нарастания недовольства среди крестьян.
Так, крестьянские группы и неудовлетворенные группы центра перешли к
повстанческой борьбе, но, подобно тому как происходило в Мексике и
Боливии, связи между повстанцами оказались неустойчивыми.
Самостоятельные интеллектуальные и политические элементы были на Кубе
очень слабыми; единственная такая независимая сила, коммунистическая
партия,
была
под
иностранным
контролем21.
Связь
между
коммунистической партией и постреволюционным режимом установилась не
в самом ходе революции, а лишь под воздействием внешних процессов
(политика Соединенных Штатов, «холодная война» и вовлечение Кубы в
орбиту России). Только на этом этапе революционное руководство Кубы
выработало революционную идеологию и программу, внедрение которых
привело к крупномасштабным репрессиям и структурным перемещениям
социальных слоев, к серьезным изменениям в системе социальной иерархии
и институциональных сферах. Был сделан упор на массовом образовании,
перераспределении ресурсов и открытии каналов мобильности.
Насильственность этих процессов была ослаблена тем обстоятельством, что
большие группы среднего и высшего эшелона социальной иерархии
эмигрировали в Соединенные Штаты. (Другим последствием этой эмиграции
стала нехватка в постреволюционном обществе специалистов и
квалифицированных рабочих.)
Переустройство важнейших институциональных сфер произошло в сторону
формирования высокоцентрализованного и принудительного режима. В то
же самое время этот режим, по меньшей мере вначале, сохранял отношения
солидарности с широкими слоями общества, поддерживая социальную
мобильность и добиваясь повышения уровня образования и медицинского
обеспечения. Он также способствовал участию населения (разумеется,
контролируемому) в политических и экономических структурах22.
Постреволюционная экономика Кубы, которая в своем последующем
развитии встретила много трудностей, в большой степени зависела от
помощи Советского Союза. Все-таки еще рано утверждать, что на Кубе
сложился тоталитарный режим, смоделированный то ли по советскому, то ли
по югославскому образцу. Преждевременно говорить и том, что, как считают
некоторые наблюдатели, на острове возникла новая разновидность
неопатримониально-авторитарной модели.
IV
Значительно отличающийся образец развития можно обнаружить в
Португальской революции. Португалия сформировала в рамках европейской
цивилизации патримониальное направление, однако она не утратила
ориентацию на более активные элементы европейской традиции. Салазар
возглавил автократический неопатримониальный режим, который включал
некоторые стороны модели национального государства. Этот режим,
отсталый в общей перспективе, тем не менее был современным в плане своей
централизованности; эта последняя способствовала формированию
сплоченных элит и революционных тенденций. Усилению таких тенденций
помогали экономический рост при Салазаре и особенно при его преемнике
Каэтано и сочетание относительной маргинальности Португалии с ее
закрытостью для основных европейских центров. Все эти факторы
содействовали возникновению независимых политических групп.
Достаточно своеобразным элементом в Португалии была ее армия. Обычно
главная опора автократических режимов, здесь она стала, благодаря
расширению своей социальной базы в результате принудительной
мобилизации и конкретно включению студентов, ядром новых политических
сил. Возникновению в Португалии более крайних революционных тенденций
способствовали растущие издержки от тех усилий, что были направлены на
сохранение Португальской империи.
Эти особенности привели к краху автократического режима и положили
начало революционному процессу. В этом процессе (в дополнение к
различным международным силам) сформировался очень сильный элемент в
лице самостоятельных политических лидеров и интеллигентов, которые
могли служить налаживанию связей с народными движениями и быть
зодчими образца тесно совмещающихся изменений. Эти самостоятельные
политические элементы оказались наиболее активными членами
объединений политических революционеров. Такие объединения часто
оказывались тесно связанными с внешними силами и широкими
движениями.
Борьба среди революционных элементов Португалии, развернувшаяся под
влиянием внешних сил, как представляется, направляет режим в сторону
развития отношений солидарности с различными слоями общества. Такая
тенденция в конце концов может привести к тому, что режим преодолеет
слабости и конфликты, присущие первому этапу революции, и попытается
сформулировать эффективный курс экономической политики.
17. Резюме.
С точки зрения нашего анализа все эти революционные процессы в условиях
неопатримониальных режимов и их последствия обнаруживают несколько
интересных особенностей.
Во-первых, несмотря на существование тех условий, что вели к
формированию некоторых структурных особенностей, характерных для
чистой революции, — в первую очередь слияние восстаний с политической
борьбой в центре и захват власти относительно оторванными от корней
автономными элитами — чистых революций здесь не произошло
Во-вторых, все эти общества демонстрировали слабость связей между
самостоятельными политическими и интеллектуальными лидерами.
В-третьих, все эти режимы достигли лишь незначительной фактической
перестройки отношений между центром и периферией, свели к минимуму
автономный доступ социальных групп к центру и вместо этого делали упор
на распространении отношений патрон-клиент и корпоративных
образованиях.
Эти тенденции отчасти могли преодолеваться вследствие воздействия
международных сил. В результате деятельности иностранных элит либо
усиления и/или финансовой поддержки обособившихся местных элит при
таких режимах могли в принудительном порядке совершаться глубокие
изменения; опыт большинства восточноевропейских обществ показывает это.
Но, как мы отметили раньше, в подобных случаях образец изменений сильно
отклонялся от классического революционного образца.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Трибалистская модель (от лат. триба) — имеется в виду административная
система колониального и постколониального периодов, основанная на
племенных связях и включавшая племенных вождей в иерархию управления.
(Примеч. перев.)
2 См. об этом: Saifatti M. Spanish Bureaucratic-patrimonialism in America.
Berkeley: University of California Press, 1966; Schwarzmann S. Back to Weber:
Corporatism and Patrimonialism in the Seventies//Authoritarism and Corporatism
in Latin America/Malloy J.M. («/.). Pittsburgh: University of Pittsburgh Press,
1977. P. 89-106.
3 О процессах, происходивших в административных и бюрократических
системах, см.: Benda H.J. The Pattern of Administrative Reforms in the Closing
Years of Dutch Rule in Indonesia. New Haven: Yale University Press, 1965;
Tilman R.O. Bureaucratic Transition in Malaya. Durham: Duke University Press,
1964; idem. The Bureaucratic Legacy of Modern Malaya//Indian Journal of Public
Administration. New Delhi, 1963. V. 9. № 2. P. 25-48; Corpuz O:D. The
Bureaucracy in the Philippine.Quezon City: University of the Philippine Press,
1957; Siffm W.J. The Thai Bureaucracy. Honolulu: East-West Center Press, 1966.
4 О проблемах и политике в области образования в некоторых из этих стран
см.: Miller J.W.G. Education in Southeast Asia. Sydney: Ian Novak, 1968; Shamul
Hug M. Education and Development Strategy in South and Southeast Asia.
Honolulu: East-West Center Press, 1965; Foster P. The Vocational School Fallacy
in Development PIanning//Education and Economic Development/Anderson C.A.,
Bowman M.J. (eds.). Chicago: Aldine, 1965. P. 142-168; Anderson C.A. Technical
and Vocational Education in the New Nations//Schools in Transition: Essays in
Comparative Education/Kazamias A.M., Epstein E.H. (eds.). Boston: Allyn and
Bacon, 1965. P. 174-189; Ramanathan G. Educational Planning and National
Integration. L.: Asia Publishing House, 1965.
5 Об аграрной реформе, кризисах и требованиях см.: Latin American Peasant
Movements/Landsberger H.A. («/.). Ithaca: Cornell University Press, 1969;
Quliano Obregon A. Tendencies in Peruvian Development and Class
Structure//Latin America: Reform or Revolution/Petras J., Zeitlin M. (eds.).
Greenwich: Fawcett, 1968. P. 289-328; Huizer G. Peasant Organization in the
Process of Agrarian Reform in Mcxico//Studies in Comparative International
Development. New Bmnswick (N.J.), 1968-1969. V. 4. № 6. P. 115-145; Jacoby
E.H. Agrarian Unrest in Southeast Asia. 21' ed., rev. and enl. L.: Asia Publishing
House. 1961; Wamdner D. Land Reform in Principle and Practice. Oxford:
Clarendon Press, 1969; Feder E. Social Opposition to Peasant Movements and Its
Effect in Latin America//Studies in Comparative International Development. New
Brunswick (N.J.), 1970-1971. V. 6. № 8. P. 159-189; StamerF.L Magsaysay and
the Philippine Peasantry: The Agrarian Impact on Philippine Politics, 1953-1956.
Berkeley: University of California Press, 1961; Paige J.M. Agrarian Revolution*
N.Y.: Free Press. 1965; MigdalJ.S. Peasant, Politics and Revolution: Pressures
Toward Political and Social Change in the Third World. Princeton: Princeton
University Press, 1974.
6 См. об этом: German! G. Politica у sociedad en una epoca de transition de la
sociedad traditional a la sociedad de masas. Buenos Aires: Paidos, 1968; Idem.
Sociologia de la modernization. Buenos Aires: Paidos, n.d.
7 См.: Niekerk A.E. van. Populisme en politieke ontwikkeling in Latijns Amerika.
Rotterdam: Universiteits pers, 1972; Wiarda H.J. Politics and Social Change in
Latin America: The Distinct Tradition. Amherst: University of Massachusetts
Press, 1974; lanni О. О collapso do populismo no Brasil. Rio de Janeiro:
Civilizacao brasileira, 1968; Idem. Crisis in Brasil. N.Y.: Columbia University
Press, 1970; Waldmann P. Der Peronismus, 1943-1955. Hamburg: Hoffman und
Campe, 1974; Levins R.M. The Vargas Regime: The Critical Years, 1932-1938.
N.Y.: Columbia University Press, 1970.
8 Одно из лучших изложений проблемы зависимости см.: Furtado С. Obstacles
to Development in Latin America. Garden City: Doublcday, Anchor, 1970.
9 О колониальной ситуации см.: FumivallJ.S. Colonial Policy and Practice: A
Comparative Study of Burma and Netherlands India. Cambridge: Cambridge
University Press, 1948; Colonization in Africa, 1870-1960/Turner V. (ed.).
Cambridge: Cambridge University Press, 1971; Eisenstadt S.N. Essays on
Sociological Aspects of Political and Economic Development; Idem. Social
Change: Colonial Situation.
10 Benda H.J. Political Elites in Colonial Southeast Asia: An Historical
Analysis//Comparative Studies in Society and History. N.Y.; L., 1965. V. 7. April.
P. 233-255; Idem. Non-Western Intelligentsia as Political'Elites//Political
Sociology/Eisenstadt S.N. (ed.). N.Y.: Basic Books, 1971. P. 437-445.
11 См.особенно: Elites in Latin America/ Lipset S.M., Solari A.(e^.).N.Y. e.a.:
Oxford University Press, 1967.
12 Этот анализ более подробно проведен в работе: Eisenstadt S.N. Traditional
Patrimonialism and Modern Neo-Patrimonialism.
13 См.: Landsberger H.A., McDaniel T. Hypermobilization in Chile, 19701973//World politics. New Haven, 1976. V. 28. № 4. P. 502-542.
14 См.: Johnson Ch. Autopsy on People's War. Berkeley: University of California
Press, 1973.
15 По-видимому, в оригинале опечатка. Следует читать — в трех. (Примеч.
перев.)
16 О Мексиканской революции см.: ReedJ. Insurgent Mexico. N.Y.: Simon and
Schuster, 1969; Quick H.F. The Mexican Revolution, 1914-1915. N.Y.: Citadel,
1963; Ctine H.F. Mexico: Revolution to Evolution. N.Y.: Oxford University Press,
1962; KatzF. Deutschland, Diaz und die Mexikanische Revolution. Berlin:
Deutscher Vetiag der Wissenschaften, 1964. Главы 5 и 6; Wormack J. Zapata and
the Mexican Revolution. N.Y.: Random House, Vintage, 1968; Meyer J. La
Revolution mexicane. P.: Calmann Levy, 1973.
17 О преобразовании политической системы и социальной структуры
мексиканского общества см.: Wilke J.W. The Mexican Revolution: Federal
Expenditure and Social Change Since 1910. Berkeley: University of California
Press, 1967; Maddox J. G. Mexican Land Reform. Washington: Maddox, 1957;
Fagen R.R., Tuchy W.S. Aspects of the Mexican Political System//Studies in
Comparative International Development. New Brunswick, 1972. V. 7. № 3. P.
206-220; Villegas D.C. Changes in Latin America: The Mexican and Cuban
Revolutions. Lincoln: University of Nebraska Press, 1960; Clyde W.P., Anderson
C.W. The Political Economy of Mexico. Madison: University of Wisconsin Press,
1963.
18 См.: Kautski J.H. Patterns of Modernizing Revolutions: Mexico and the Soviet
Union. Beverly Hills: Sage, 1975.
19 О движениях протеста см.: Is the Mexican Revolution Dead?/Ross S.R. (ed.).
N.Y.: Knopf, 1966.
20 См. статьи Р.С. Торна и Дж.В. Уилки в сб.: Beyond the Revolution: Bolivia
Since 1952/Malloy J.M., Thorn R.S. (eds.). Pittsburgh: University of Pittsburgh
Press, 1961. О внешних влияниях и силах см.: Blazier С. The United States and
the Revolution//Ibid. P. 53-111. Иную точку зрения см.: Eckstein S. How
Economically Consequential are the Revolutions? A Comparison of Mexico and
Bolivia//Studies in Comparative International Developments. New Brunswick
(N.J.), 1975. V. 10. № 3. P. 48-62; Idem. The Impact of Revolution: A
Comparative Analysis of Mexico and Bolivia. V. 2. Beverly Hills: Sage, 1976.
21 Об участии коммунистов в Кубинской революции см.: SuarezA. Cuba,
Castroism and Communism, 1959-1966. Cambridge (Mass.): Massachusetts
Institute of Technology Press, 1967.
22 О перестройке кубинского общества после революции см.: Revolutionary
Change in Cuba/Mesa-Lago C. (ed.). Pittsburgh: University of Pittsburgh Press,
1974; Draper T. Castro's Revolution: Mythes and Realities. N.Y.: Praeger, 1962;
Cuba in Revolution/Bonachea R.E., Valdes N.R. (eds.). Garden City: Doubleday,
Anchor. 1972; Zeitlin M. Revolutionary Politics and the Cuban Working Class.
N.Y.: Harper and Row, 1970; Fagen R.R. The Transformation of Political Culture
in Cuba. Stanford: Stanford University Press, 1969.
Глава 10.
ЗА ПРЕДЕЛАМИ КЛАССИЧЕСКИХ РЕВОЛЮЦИЙ. РЕВОЛЮЦИОННЫЕ
ДВИЖЕНИЯ
И
РАДИКАЛИСТСКИЕ
ТЕНДЕНЦИИ
В
ПОЗДНЕСОВРЕМЕННЫХ ОБЩЕСТВАХ.
1. Ожидание революции.
Сформировавшийся в позднесовременных обществах (особенно в
постиндустриальных обществах) образец структурных изменений,
революционных движений и символики отличается, разумеется, от образца
неопатримониальных обществ. Тем не менее вследствие той эволюции,
которая происходит в последних, и, поскольку и позднесовременные
общества, и неопатримониальные общества принадлежат к одной и той же
международной системе, те и другие демонстрируют некоторые общие
черты.
Первая из них — это то, что при всей притягательности революционной
символики образцы изменений в обществах того и другоцо типа отклоняются
от образа чистой революции.
Такой результат может показаться парадоксальным, особенно по отношению
к позднесовременным обществам. Сила революционной традиции и особенно
влияние марксистских предсказаний о грядущем пришествии пролетарской
революции побуждали социологов и иных аналитиков попытаться выявить
предпосылки для осуществления революций в этих обществах.
Процессы, происходившие в европейских обществах XIX в., казалось бы,
создали очень большую вероятность того, что грядет эра революций. На
ранних этапах модернизации многие существенные социальные и
политические изменения были, по крайней мере частично, осуществлены в
результате деятельности социалистических и лейбористских групп,
движений и партий, в среде которых господствовала революционная и
особенно классовая символика. Обретение политических и гражданских
прав, расширение системы социального обеспечения, формирование
государства всеобщего благосостояния с его перераспределительной
ориентированностью и возрастающее государственное вмешательство в
экономическую сферу — все это составляло содержание революционных
программ. Не случайно, революционное и особенно классовое сознание
сделалось ключевым аспектом в самосознании многих групп из современных
европейских обществ.
Некоторые события 60-х гг. вновь подчеркнули силу революционных
ориентации и усилили поиски предпосылок, которые могли бы привести к
революционным изменениям в позднесовременных обществах. Среди этих
процессов были: революционные движения, связанные со студенческими
выступлениями, которые произошли в западных обществах2; увеличение
численности международных революционных групп вообще и в том числе
возрождение городских восстаний («городская герилья») и террористических
групп, а также сопротивление советскому господству в Чехословакии и
Польше.
Исследователи, которые попытались выявить предпосылки революции,
сосредоточились на внутренних процессах и противоречиях, возникающих
на
поздних
стадиях
индустриализации,
и
на
уязвимости
позднекапиталистических и, в меньшей степени, коммунистических
режимов. Как предполагалось, уязвимость могли создавать глубокие
структурные изменения, которые постоянно происходили во всех этих
обществах. Такие изменения поколебали глубинные аспекты социальной
структуры и обострили противоречия между программами ранних
революций
и
первоначальными
мировоззренческими
принципами
европейской цивилизации Нового времени, с одной стороны, и
институциональным развитием, которое, по видимости, должно было
вытекать из этих принципов, — с другой. Эти противоречия и привели к
возникновению первых форм социализма и коммунизма.
Хорошо известно, что западный мир продемонстрировал устойчивый
беспрецедентный рост уровня жизни и таким путем реализовал идеал
постоянного институционального роста. Однако, как мы отметили в главе 6,
процесс роста не происходил гладко и отнюдь не исключал возникновения
проблем. Рост в одной общественной сфере отнюдь не гарантировал
соответствущего роста в других сферах. Точно так же он не всегда включал в
себя рост участия различных групп и слоев общества в социальном и
культурном порядках и не давал этим группам большего чувства
причастности к процессам, происходящим в различных областях жизни.
Наконец, рост был связан с постоянными подвижками в распределении
ресурсов и способах доступа к ним, а отсюда с процессами структурных
перемещений, сопровождавшихся устранением либо включением различных
социальных групп; он затрагивал сущностные стороны человеческого
существования и принципы человеческой активности в центрах социального
и культурного порядков.
Некоторые из этих противоречивых тенденций стали особенно очевидными
на последних этапах индустриализации, и они оказались связанными с
глубинными структурными процессами, происходившими в высокоразвитых
индустриальных странах. Первым среди наиболее значительных из этих
процессов является бюрократизация сфер экономики, образования, науки,
политики и администрации. Вторым следует отметить нарастающий разрыв
между собственностью на ресурсы, с одной стороны, и контролем над
позициями в структуре занятости и экономической властью — с другой, а
также между распространением политических прав и фактическим
контролем над ресурсами и принятием решений в экономической и
политической областях. Третьим стало расширение системы образования,
которое вело к изменениям (либо было непосредственно связано с
изменениями) в структуре занятости и классовой структуре — особенно к
возраставшему преобладанию таких групп, как работники сферы услуг,
служащие, специалисты, чиновники и интеллигенты. Область, в которой
отмечались особенно сильный рост и, по всей видимости, беспрепятственное
развитие, а именно область науки и техники, оказала наиболее спорное
влияние на другие стороны социальной жизни.
Противоречивые возможности, присущие влиянию техники на социальную
жизнь, коренились прежде всего в том, что постоянный рост науки и техники
и увеличение значения информации имели место в контексте
бюрократизации и олигархизации научно-технической сферы. Эти процессы
проявили себя в далеко идущих изменениях в структуре производства и в
первую очередь в управлении знанием.
Распространение техники и другие процессы, которые мы рассматриваем,
имели важные организационные последствия для постиндустриальных
обществ3. Среди наиболее широкомасштабных и значительных последствий
были: рост монолитных, монополистических или олигархических
организаций; накопление и автоматизация информации; ограничение доступа
к знаниям. В этих широкомасштабных процессах мы можем выявить слияние
в одних и тех же структурах или организациях самых различных
(политических, административных, профессиональных и бюрократических)
видов деятельности, так же как далеко идущие изменения в структуре
принятия решений в бюрократических (и профессиональных) организациях.
Самыми важными здесь были совмещение функций менеджеров и экспертов
в одних лицах и монополизация специализированного знания, которое
действительно стало решающим в осуществлении политического контроля, в
руках высших представителей менеджмента и высококвалифицированных
экспертов.
Такое слияние и монополизация ограничивали доступ нижних эшелонов
аппарата организаций, а также широкой публики (клиентуры
административных и бюрократических организаций) к специализированному
знанию. В результате такие процессы сводили к минимуму возможности
структурного плюрализма и автономного доступа различных групп к
центрам власти и благоприятствовали тенденциям, которые вели к прямым
(сепаратным) соглашениям между различными группами экспертов и
различными кругами общественности.
Противоречивое воздействие техники было очень тесно связано с
включением в состав центров социальной и культурной жизни либо
исключением из них различных социальных групп и областей человеческого
опыта. В той мере, в какой эти процессы перемещений оказывались
связанными с некоторыми из проанализированных раньше структурных
изменений, противоречивость их влияния становилась еще более явной. Как
указал Дж. Дермот:
Представляется, что наиболее важными из таких изменений были, во-первых,
то, что процессы технического развития требуют постоянного
совершенствования уровня квалификации используемой в них рабочей силы
и такой уровень квачификации предполагает зачастую довольно
существенную научную и техническую подготовку и в то же время прогресс
технической рациональности в организации труда означает, что эта
квалификация может все менее и менее полноценно использоваться,
порождая ситуацию, при которой рабочая сила в наиболее развитых
технологических
системах
оказывается
сверхподготовленной,
но
недоиспользуемой.
Во-вторых, аналогичные процессы развертываются в сфере экономики.
Многие отмечают, что в высокотехнологических организациях от рабочей
силы требуется работать не менее, а еще более напряженно. Это особенно
верно по отношению к рабочей силе, обладающей большой подготовкой и
квалификацией.
Между тем процветание, соответствующее технически развитому обществу,
ослабляет значение экономических стимулов (тогда как значение
творческого начала проектирования оказывается «иррациональным»).
Жалованье и зарплата возрастают; и блага, которые они позволяют
приобрести, утрачивают свое притягательное значение, поскольку наличие
предметов первой необходимости, средств комфорта и широкий доступ к
предметам роскоши оказываются обеспеченными.
В отношении политической сферы технический прогресс ведет к
концентрации власти на уровне управленческих групп этой сферы; однако в
то же время рост квалификации и уровня образования населения создает
скрытые возможности для развития самоуправления на рабочем месте и в
обществе. Наконец, существует глубокое социальное противоречие между
высокостратифицированным
обществом,
установление
которого
предполагается, скажем, в «Меритократии» Бжезинского и расширением
возможностей для получения образования. И то, и другое представляется в
равной степени необходимым для технического прогресса4.
2. Структурные преобразования. Институционализация революционной
символики. Изменение отношений между государством, обществом и
экономикой.
Многие ученые увидели в противоречиях позднесовременного общества
факторы, которые порождают новые революционные процессы и
перевороты, соответствующие образу подлинной революции. Эти ожидания
усилились вследствие того, что эти проблемы и противоречия служили в 60-х
гг. главным очагом многих революционных потрясений, особенно
выступлений студентов. Студенческие движения были развитием
европейской революционной традиции, и многие рассматривали их как
кульминацию этой традиции. Все-таки революция 1848 г. во Франции,
Парижская Коммуна и т.п. показали тем, кто хотел видеть, — и сам К. Маркс
чувствовал важность некоторых из этих проблем, хотя не всегда желал их
признавать, — что образец социальных преобразований и политического
радикализма в западных обществах выходит за пределы принципов и
ожиданий, соответствующих образу чистой революции. Еще более
очевидным это стало в позднем индустриальном или постиндустриальном
обществе.
Более пристальный взгляд на процессы, происходящие в этих обществах,
выявляет сложную картину. Революционные символы и движения
действительно стали очень могущественной, кажется, даже естественной
силой в постиндустриальном обществе, сферой притяжения и моделью
добродетели, социальной и личной харизмой. В то же самое время, однако,
образец изменений, преобразований и радикализма приобрел специфические
черты, которые все меньше и меньше указывают на возможность чистой
революции, а вместо этого благоприятствуют тенденции, которая ведет к
формированию бунтарства.
Чтобы объяснить эту эволюцию, следует учесть некоторые обстоятельства.
Одно из них — институционализация революционных принципов и
классовой символики. Без сомнения, системы фундаментальных институтов
современных обществ могут рассматриваться как институционализация
изначальных принципов европейской революционной цивилизации Нового
времени (revolutionary modernity). Базовые принципы этих политических
систем предполагают возможность полного совмещения политической
борьбы в центре с движениями протеста и интеллектуальным и
идеологическим инакомыслием, которое имеет следствием глубокие и
совмещающиеся изменения структурного, политического, социального и
экономического характера, затрагивающие все основополагающие нормы
социального взаимодействия и их институциональные производные. На
последних стадиях индустриализации эти изменения осуществляются в
системах институтов, которые вобрали в себя революционную символику и
революционные принципы и, в частности, классовую символику. В
результате классический образ революции утратил часть своей жизненности
или притягательности.
Однако этот процесс не означал рутинизации революционной харизмы6 в
точном смысле этого понятия. Он ослаблял важнейшие предпосылки
революции, а именно отрицание легитимности относительно закрытого
центра, который ограничивает доступ к себе и осуществляет регулирование
системы стратификации традиционным образом. То самое отрицание,
которое приводило в движение импульс к полному переустройству центра,
теряло свой смысл. Вследствие этого все изменения в политической,
социальной и экономической сферах, имеющие отношение к
первоначальным принципам цивилизации Нового времени, все менее и менее
угрожают подрывом оснований политической легитимности или символики
политического режима и полным преобразованием условий доступа к власти.
Это ослабление предпосылок революционных преобразований (если иметь в
виду прототип настоящей революции) приобретало, в свою очередь,
дополнительное
развитие
благодаря
структурным
тенденциям,
формировавшимся во всех позднесовременных обществах. Особое значение
в этом отношении имели структурные изменения, которые оказывались
следствием конфликтов и противоречий, связанных с поздними стадиями
индустриализации, рассмотренными раньше изменениями в образцах
стратификации, построении системы социальной иерархии и отношениях
между государством, экономикой и обществом.
Изменившиеся отношения между государством, экономикой и обществом и
воздействие этих изменений на социальную стратификацию блестяще
проанализированы К. Оффе и обобщены В. Мюллером и К.А. Майером. К.
Оффе показал, что глубинная структура позднего капитализма заключает в
себе противоречие между обобществлением труда и частным присвоением
прибавочной стоимости7. Однако, в противоположность традиционному
классовому обществу, в позднесовременном обществе экономический сектор
больше не является частным, поскольку государство постоянно вмешивается,
для того чтобы обеспечить полную занятость несбалансированное
экономическое развитие. Государство должно создавать достаточные и
выгодные условия для частных инвестиций и компенсировать их в тех
областях, где частных инвестиций недостает. Это вмешательство, как
считают, имеет далеко идущие последствия в плане эволюции форм
неравенства и классовых отношений.
К. Оффе утверждает, что традиционная классовая теория, лучшим примером
которой является творчество М. Вебера, в некоторых отношениях перестала
соответствовать действительности. Тогда как в традиционной теории
предполагается, что доход определяется конкретным обеспечением рынков
трудом и капиталом, теперь отношение между эффективностью труда
индивида и его доходом, получаемым от этого труда, становится менее
определенным, поскольку цена труда обусловливается не рынком, а
неэкономическими
стандартами
справедливого
распределения
и
политическими способами регулирования, такими, как минимальная
зарплата, социальные пособия и политика перераспределения доходов. Это
означает не только то, что очевидные признаки неравенства перестают быть
прямым следствием неравномерного распределения экономической власти,
но также и то, что видоизмененное распределение денежного дохода лишь
частично определяет неравный доступ к благам и ценностям. Такие
потребности, как образование, здравоохранение и транспорт, все в меньшей
степени могут быть удовлетворены системой потребительских рынков; их
удовлетворение и финансирование носят общественный характер и
определяются политическими целями.
Таким образом, политическое вмешательство имеет место как в отношениях
между трудом и доходом, так и в отношениях между доходом и
фактическими условиями жизни. Вследствие этого новые формы неравенства
не могут быть прямым следствием экономически обусловленных классовых
отношений между производителями и собствениками средств производства.
Иррациональные последствия капитализма теперь обнаруживают себя в
дифференцированной обеспеченности благами частного и общественного
характера. Несмотря на то что капиталистический способ производства
продолжает создавать неравенство дохода и, таким образом, собственности,
это неравенство не ведет больше к тому, чтобы важнейшим очагом
социетальных изменений стал классовый конфликт. Преобладающим
оказывается воздействие горизонтальных различий. Влияние всей
совокупности изменений в отношениях между государством, экономикой и
обществом в поздних индустриальных обществах было усилено вследствие
бюрократизации каналов социальной мобильности, имевшей место как в
капиталистических, так и в социалистических странах, а также в результате
растущей интернационализации характера экономических рынков,
корпораций и правительственной деятельности.
3. Обособление политической борьбы и новые формы конфликтов. От
революции к бунту.
Центральное место государства в качестве агентства по распределению и
регулированию (доступ к которому открыт для различных групп интересов),
способного отвечать на широкие требования и испытывать массовое
давление, приводит к возникновению, как отметил К. Оффе, растущего
обособления статусных групп и потенциальной деполитизации классовой
борьбы. Развитию этой тенденции благоприятствует тот факт, что во всех
поздних
индустриальных
обществах
происходит
возрастающая
профессионализация и институциональная специализация элит, которые,
заодно с анализировавшимися раньше тенденциями к концентрации и
расширением системы правительственного планирования, способствуют
рассеянию и обособлению элит (особенно идеологов моделей культурного
порядка и элит, деятельность которых носит более функциональный
характер)8. Эти процессы приводят к возникновению новых типов коалиций
между различными (политическими, экономическими, интеллектуальными и
социальными) элитами. Характер таких коалиций в известной степени
соответствовал неопатримониальному образцу, поскольку большое значение
придавалось кооптированию, прямым переговорам и соглашениям.
Изменение
роли
государства,
возникновение
новых
коалиций,
институционализация
первоначальных
революционных
принципов,
легитимизация революционной символики и открытие доступа к центру
способствовали обособлению политических требований, связанных с
различными основополагающими нормами социального взаимодействия.
Прежде всего, политические требования, имевшие отношение к изменениям
в различных основополагающих нормах, в возрастающей степени под
воздействием этих процессов отделялись от требований доступа к власти,
который в возрастающей степени стал приниматься за данное.
Подобные тенденции к обособлению различных вопросов или уровней
политической борьбы, в свою очередь, были усилены деятельностью этих
коалиций. Попутно в поздних индустриальных обществах сформировался
новый образец социоструктурных перемещений. Многие из так называемых
нижних групп, подобно квалифицированным или полуквалифицированным
рабочим, оказались на позициях власти. Они, так же как и группы служащих,
сделались относительно изолированными от интеллектуальных элит,
носителей идеологических ориентации, как ярко показали события мая 1970
г. во Франции.
Все эти процессы привели, как отметили в своих характеристиках
постиндустриального общества А. Турен, С. Хантингтон и Б. Мур, к
формированию новых образцов конфликта9. Во-первых, различные элементы
рабочего класса оказались разобщенными, что ослабило классовое сознание
потенциально революционных слоев. Во-вторых, подобным образом
произошло разобщение между рабочим классом и интеллигенцией. Втретьих, отмеченное выше способствовало, как показал А. Турен,
формированию новых типов межгрупповой борьбы (таких, как конфликт
между поколениями и этническими группами), которые отличались от
классовой борьбы классического типа.
Таким образом, тенденции, которые сформировались в поздних
индустриальных обществах, хотя и находились в соответствии с
изначальными революционными представлениями и имели основанием
институциональные производные этих представлений, создали ситуацию,
которая ослабила структурные предпосылки, ведущие к полным
революционным преобразованиям, чем можно объяснить, почему дело не
доходило до новых революций, а случались только, как подчеркивал Ж.
Эллюль, бунты10.
4. Изменяющиеся очаги протеста.
Эти процессы были очень тесно связаны с постоянными изменениями в
ориентациях и очагах протеста на различных стадиях цивилизации Нового
времени либо находили выражение в этих изменениях.
На ранних стадиях цивилизации Нового времени важнейшие ориентации и
очаги протеста сосредоточивались на предположении, что большинство
социальных проблем (особенно проблем сознательного участия в
социокультурном порядке и проблем, порождаемых индустриализацией)
могут быть решены путем изменения формы и устройства национальных
политических центров. Эти центры рассматривались в качестве основных
устройств для харизматических ориентации, через посредство которых
определяются современные социальные и культурные порядки, а также в
качестве самых важных ориентиров для культурной и коллективной
идентичности индивидов. Считалось также, что они в состоянии в результате
проведения соответствующей социальной политики или осуществления
революционных изменений преобразовать те стороны современной
экономики, которые, как предполагалось, в наибольшей степени
способствуют развитию отчуждения и аномии.
Таким образом, на первых стадиях цивилизации Нового времени
большинство движений протеста концентрировались вокруг революционного
образа, который предполагал расширение рамок участия в центрах и каналов
доступа к ним; изменение или преобразование их социального и культурного
характера; решение проблем неравного участия в них и отыскание путей
решения, при помощи политики центра, тех сложнейших проблем, что
порождали индустриализация вообще и начальное развитие капиталистической системы в частности. Решение этих проблем становилось главной
целью большинства социальных и национальных движений этого периода, и
в такой цели видели воплощение самых важных харизматических
характеристик современного социокультурного порядка. Другими словами,
социополитический центр национального государства, стремление к доступу
в него и участие в нем — вот что представляло главный очаг, посредством
которого ориентации протеста могли, по крайней мере отчасти,
институционализоваться в рамках возникающих социетальных систем.
Самой лучшей иллюстрацией такого движения протеста является
классическая классовая борьба в том виде, в каком она трактовалась
большинством
социалистических
движений
революционного
и
реформистского толка.
Однако с ростом легитимности центров и институционализацией
революционных принципов переустройство центров и основания их
легитимности все меньше и меньше оказывались предметом политической
борьбы в центре. Проблематика легитимности системы сдвигалась, как
показал Ю. Хабермас, от такого переустройства в сторону сближения с
широкими ценностными ориентациями, по всей видимости, глубоко
укорененными в характере самой эпохи Нового времени12.
Этот сдвиг был очевидным и в структуре движений протеста, и в их
отношении к политической борьбе, так же как в символике и очагах
протеста, которые сложились в поздних индустриальных обществах. Самым
важным аспектом в этих структурных характеристиках была растущая
разобщенность между различными радикальными движениями протеста,
которые возникали во всех подобных обществах, и политической борьбой,
представлявшей большое значение для центра, — и вследствие этого
разобщенность между этими движениями и переустройством политического
центра. (Некоторые из этих тенденций проявились уже в революции 1848 г.
во Франции, в Парижской Коммуне и в революции 1918 г. в Германии.)
Политические организаторы (представители различных классов), более
близкие к центру, интересовались в первую очередь расширением доступа к
относительно открытому центру, а не изменением структуры классовых
отношений (чего добивались экстремистские группы). Как только такая цель
была достигнута, изначально слабая коалиция между этими различными элементами распалась, порождая, в свою очередь, новые расколы. Большинство
экстремистов отошли от борьбы за переустройство центра, как только
последний стал открытым, и конкретная борьба за осуществление различных
социоэкономических изменений оказывалась все более и более
интегрированной во вновь установленных институциональных и
политических системах.
Эти препятствия, которые формируются в современных обществах на пути
реализации возможности революционных изменений, проявились в
революции 1918 г. в Германии и были блестяще проанализированы О.
Киршхаймером. В подобном случае сам по себе переход к открытому центру
не только подавил стремление более крайних групп к чистой революции, но
также, как показал Ф. Ритбергер, сделал невозможным широкое
переустройство этого центра, что свело к минимуму влияние более
консервативных групп и обеспечило для него более основательную
легитимность13.
Становилось все более очевидным, что рабочий класс в относительно
благополучных индустриальных обществах и зрелых демократических
системах в возрастающей степени принимает легитимность системы,
связывая себя с политической борьбой в центре, но отмежевываясь от
интеллектуальных движений и более радикальных групп, а поскольку
пролетариат оказывался как бы прирученным, то в революционной тактике и
идеологии происходил сдвиг, упомянутый в главе 6. Сущностью этого сдвига
стало перенесение упора на осуществляемую извне деятельность
радикальных революционных групп в противовес спонтанному действию
социальных сил. Такой сдвиг наиболее полно был обоснован в ленинизме, но
выразил себя также в идеологических подходах Р. Люксембург и в самых
новейших теориях восстания и партизанской войны-герильи14. Итак, на
поздних
стадиях
индустриализации
стало
очевидно,
что
институционализация революционной символики, открытие центров и
охарактеризованные выше структурные преобразования уменьшили
возможность образования того соотношения между движениями протеста и
далеко идущими структурными изменениями, которое было имплицитным
для образа чистой революции.
Сходным по направлению процессом, происходившим в современных
обществах, был отход от требований большего участия в национальных
политических центрах в сторону их переустройства. Во-первых,
предпринимались усилия лишить эти центры их харизматической
легитимности и, возможно, всякой легитимности вообще; во-вторых,
осуществлялись все новые и новые поиски новых точек сознательного
участия и попытки создать новые центры, которые были бы независимыми от
старых, и, в-третьих, прилагались усилия облечь образцы участия в центрах
не столько в социополитические или экономические категории, сколько в
символику естественного или прямого участия в общественных институтах.
Многие из этих ориентации протеста были направлены не только против
бюрократизации и функциональной рационализации, связанных с
техническим прогрессом, но также против того, чтобы наука и научные
исследования могли бы занять центральное положение в социокультурном
порядке. Все эти ориентации являли важную часть того процесса, который
М. Вебер назвал демистификацией (расколдовыванием) мира, а в данном
случае демистификация могла свестись к тому, что обретенное участие в
социальных и культурных центрах утрачивало свой смысл.
Заслуживает внимания в добавление к сказанному, что многие активные в
политическом
плане
революционные
ориентации
впоследствии
сосредоточились на таких областях, как этническая идентичность, отношения
между полами или эстетические эксперименты. Несомненно, что все это
выходило
за
рамки
положений,
составлявших
первоначальный
революционный образ.
5. Революционные и радикалистские группы. Студенческий бунт.
Наиболее выразительными революционными группами в поздних
индустриальных обществах были студенческие движения 60-х гг., различные
партизанские и террористические группы, а также более радикальные
революционные элиты и движения, возникновение которых оказывалось
следствием растущей интернационализации революционной деятельности
или частью этого процесса.
Большинство таких движений служат примером подвижки в ориентациях
протеста, которая достигает кульминации в самых крайних выражениях
нонконформизма, как это проявилось в университетских бунтах. Дело
заключается не просто в том, что некоторые бюрократические или
меритократические черты постиндустриальных обществ непременно были
более развиты в университетах, чем в других организациях либо институтах.
Скорее университет воспринимался как главная точка и символ разрыва
между социальной реальностью и идеальными основаниями современных
социальных и культурных порядков и как то самое место, где импульс к
творчеству и участию, присущий современным представлениям, подлежал
институционализации.
Университет воспринимался как основной источник легитимности
современного социального порядка. Выступление против него указывало не
только на неудовлетворенность внутренними порядками в университетах или
их ролью, но также на разочарование, возникшее вследствие того, что в
существующих порядках не были осуществлены цивилизационные
принципы Нового времени.
В результате в наступлении на университет новая нонконформистская
природа протеста — отрицание принципов цивилизации Нового времени и
упор на признание не имеющими смыслового значения существующие
центры и символы коллективной идентичности — нашла выражение в своей
самой крайней форме.
(Эту негативную установку в отношении современных центров разделяли
более профессиональные группы революционеров (террористы) в своей
склонности к полному разрыву с внутренней или внешней средой. С точки
зрения своего нонконформизма как студенческие, так и террористические
движения были близки ко многим существовавшим раньше движениям
интеллектуального и религиозного инакомыслия; однако те имели гораздо
более широкое влияние на общество.)
Сила воздействия движений студенческого протеста была обусловлена
главным образом их социальным положением15. В отличие от того, что
существовало прежде, — это не были больше мелкие, закрытые,
изолированные группы интеллигенции; они были представителями
обширного сообщества претендентов на интеллигентский статус, которое
составляло большую часть образованного общества. Вследствие этого
подобные группы воздействовали на центры интеллектуального творчества и
культурной трансляции и становились их составной частью, даже если такое
состояние могло оказаться для них переходным. Сама близость к центрам
способствовала тому, что студенческие движения могли мощно
воздействовать на общество, хотя такое воздействие не обязательно
соответствовало образу чистой революции.
Выступление более склонных к насилию революционных или
террористических групп легко могло привести к возникновению глубоких
расколов в их собственных обществах. Их деятельность провоцировала
возникновение репрессивных ориентации и принятие репрессивных мер, но
они редко воздействовали на структуру центров и доступ к власти. Они
могли влиять, к тому же косвенным образом, на выработку принципов
справедливого распределения, которые имели отношение к потреблению,
досугу, частной жизни, а эти аспекты очень мало были затронуты в
первоначальных принципах цивилизации Нового времени. Многие из этих
процессов способствовали значительным институциональным изменениям.
В тесной связи с подвижками в символическом значении институтов
происходило:
Первое — движение в рамках некоторых бюрократических организаций в
направлении большего участия со стороны составляющих их групп, так же
как более широких (коммунитарных либо политических) сообществ, в
определении целей этих организаций. В некоторых случаях это имело
следствием широкое изменение целей организаций путем включения в них
новых коммунитарных либо социетальных целей и ориентации16.
Второе — многие поздние индустриальные общества продемонстрировали
растущее расхождение между высшими профессиональными слоями и
консервативными
социальными
установками;
вследствие
этого
представители исполнительной власти высокого уровня присоединялись к
взглядам левых на политику и культуру и принимали участие в движении
контркультуры.
Третье — в политической сфере выявлялись тенденции к новому
определению гражданских ролей и обязанностей и новому установлению
границ коллективов. Как следствие, нарастала разобщенность между
политическими центрами, с одной стороны, и социальными и культурными
коллективами — с другой, и формировалось новое ядро культурной и
социальной
идентичности,
которая
преодолевала
существующие
политические и культурные границы.
Эти изменения могли институционализироваться в самых различных формах
— законодательным путем, соглашениями о кооптировании между
различными коалициями и нечетким, хотя и устойчивым контактом между
различными структурными анклавами, в которых могли быть выдвинуты
новые культурные ориентации (имеющие отношение к перспективе
личностного выхода за рамки бюрократических, меритократических,
профессиональных и административных структур).
Эти анклавы, в которых создавалась возможность как постоянного, так и
временного участия, могли стать центрами субкультур. Они могли быть
убежищем для радикальных революционных групп, вызвать к жизни новые
движения или сделаться союзниками коалиций, более близких к центрам.
Формирование таких анклавов, так же как их различные, кажущиеся даже
противоречивыми функции, коренилось не только во внутренних процессах,
происходивших в каждом постиндустриальном обществе, но также в
структуре отношений между обществами. Особое значение здесь имеет тот
факт,
что
организационные
и
информационные
основания
постиндустриальных обществ (университеты, наукоемкие отрасли
промышленности, крупные многонациональные корпорации и средства
массовой информации), так же как и важнейшие средоточия протеста,
оказывались склонными к группированию вокруг определенных точек
соприкосновения между различными обществами.
Несмотря на то что как участники, действовавшие на всех этих аренах, так и
их общества различались между собой, возникали тенденции к
формированию сходных установок в отношении символических оснований и
ожиданий цивилизации Нового времени и проявлялось сходное осознание
относительной депривации из-за нереализованности этих оснований и
ожиданий. Этот феномен усугубляет те обстоятельства, что делают
современные общества расположенными к радикализму и революционной
символике и способствуют формированию революционных групп.
6. Ослабление тенденций к революционным преобразованиям. Сдвиги в
основаниях современной цивилизации.
Подводя итоги, можно отметить, что охарактеризованные в этой главе
легитимизация революционной символики, открытие доступа к центрам и
структурные преобразования уменьшили вероятность того, чтобы в поздних
современных или индустриальных обществах возникнет такое сочетание
движений протеста с глубокими структурными изменениями, которое
своответствует образу чистой революции. Тем не менее внутренние
процессы в сочетании с международными факторами могут приводить к
тому, что в ходе политической борьбы и развития движений протеста
ставятся под вопрос (особенно в относительно отсталых обществах,
подобных Португалии, Греции и даже Испании) базовые принципы
политических режимов, возникают условия для революционной
деятельности и революционных изменений17. Однако подобный ход
событий представляет исключение. По более распространенной тенденции —
поздние индустриальные и особенно капиталистические общества следуют
образцу трансформации, который расходится с революционным образом.
Анализ, проделанный ранее, не означает недооценки революционной
идеологии. Вместе с тем он показывает, что в поздних современных,
постреволюционных обществах происходит заметный сдвиг в соотношении
тех элементов, которые неразрывно связаны в образе чистой революции.
Мы не собираемся утверждать, что в поздних индустриальных — как
капиталистических, так и комунистических, демократических либо
тоталитарных — обществах не возникают далеко идущие структурные
изменения, падение режимов, конфликты и насилие, с одной стороны, и
основанные на революционной символике движения протеста — с другой.
Проделанный анализ не исключает и того, что демократические общества
капиталистического типа могут развиваться в направлении всеобщего благосостояния, как имело место в Швеции, или что их экономическая система
может быть подорвана внутренними перемещениями элит, как, может быть,
случилось в Великобритании, или что их политические системы могут быть
преобразованы путем включения левых, как, вероятно, произошло в Италии.
Сходным образом нет, кажется, оснований предполагать, что выступления и
недовольство в коммунистических обществах ведут к тому, что
составляющие образ чистой революции различные аспекты политической
борьбы станут отделяться друг от друга. Так, в этих обществах классический
революционный образ оказывается обособившимся от политических
процессов и политической борьбы, которые затрагивают конкретные
вопросы. Конечно, если учесть нынешнюю закрытость коммунистических
центров, даже если она носит не просто символический характер,
маловероятно, что в них могут сложиться тенденции к совмещению
различных движений протеста, нацеленных на открытие центров. Но
подобная борьба не сможет подорвать основания политических режимов,
если она не будет связанной с национальным вопросом. Поэтому в
коммунистическом мире тенденция к бунтарству будет гораздо более
сильной, чем возможность революции.
Эти новые ориентации в движениях протеста, их структурном положении и
последствиях позволяют сделать вывод о разложении некоторых решающих
компонентов революционной традиции; особенно заметно исчезновение или
упадок значения изначального идеологического принципа цивилизации
Нового времени, согласно которому свое самое полное выражение
харизматические аспекты жизни находят в профессиональной и
экономической сферах и в сфере научного изобретательства, с одной
стороны, и политическом участии в новых национальных центрах — с
другой. Этот процесс, идущий вразрез с первоначальными положениями
революционной идеологии, ведет к усилению тенденции, направленных на
разобщение институциональных сфер.
Но такая разобщенность с неизбежностью окажется структурированной
иначе, чем в традиционном обществе. Она будет в большей степени основана
на постоянном перемещении людей (очень часто одних и тех же) между
различными структурными и организационными подразделениями, в рамках
которых сложатся эти особые типы ориентации и информации. Вследствие
этого противостояние между различными институциональными сферами
сделается постоянным явлением на социокультурной сцене.
ПРИМЕЧАНИЯ
*
1 См.: Bell D. The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social
Forecasting. N.Y.: Basic Books, 1973; TouraineA. La Societo Postindustrielle. P.:
Denoel, 1969; Bourricaud F. Post-Industrial Society and the Paradox of
Welfare/ /Survey. L, 1971. V. 16. № 1. P. 23-60.
2 Литература о студенческих выступлениях огромна. Заслуживающими
внимание являются нижеследующие сборники и работы: Altbach P.G.
Students and Politics//Protest, Reform and Revolt/Gusfield J.R. (ed.). N.Y.: Wiley,
1970. P. 225-244; The New Pilgrims: Youth Protest in Transition/Altbach P.O.,
Laufer R.S. (eds.). N.Y.: McKay, 1972; Aron R. The Elusive Revolution: Anatomy
of a Student Revolt. L.: Pall Mall, 1969; Youth, Generation, and Social
Change//Journal of Social Issues. Beverly Hills, 1974. V. 30. № 2-3; University
and Revolution/Weaver G.R., Weaver J.H. (eds.). Englewood Hills: Prentice-Hall,
1969; Douglas J.D. The Theories of the American Student Protest
Movements//The Society of Dissent/Denisoff R.S. (ed.). N.Y.: Harcourt, 1974;
Habermas J., von Friedeburg L, Oehler C., WeltT. F. Studenten und Politik. Berlin:
Luchterhand, 1969; Keniston K. Young Radicals.N.Y.: Harcourt, 1968; Lipset
S.M. Rebellion in the University. Chicago: Universities of Chicago Press, 1971;
Singer D. Prelude ti Revolution. L.: Cape, 1970; The Seventies: Problems and
Proposals/Howe I., Barrington M. (eds.). N.Y.: Harper and Row, 1972; Erikson
E.E. Radicals in the University. Stanford: Stanford University Press, 1975;
Touraine A. The May Movement: Revolt and Reform. N.Y.: Random House,
1971, Bourricaud F. Universites a la device: France, 1'Etats et 1'Amerique de Sud.
P.: Plon, 1971.
3 См.: Kerr C. Marshall, Marx, and Modern Times: The Multidimensional Society.
Cambridge: Cambridge University Press, 1969; Mesthene E.G. Technological
Change: Its Impact on Man and Society. Cambridge (Mass.): Harvard University
Press, 1970.
4 Dermotr J.M.L. Technology: The Opiate of the Intellectuals//New York Review
of Books. N.Y., 1969. V. 13. № 2. P. 28.
5 См.: Ellul J. The Autopsy of Revolution. N.Y.: Knopf, 1971; Ortega у Gasset J.
El tema de nuestro tiempo: Ni vitalismo, ni racionalismo; el ocaso de las
revoluciones; el sentido historico de la teoria de Einstein. Madrid: Revista de
Occidente, 1956.
6 Об институционализации харизмы см.: Eisenstadt S.N. Charisma and
Institution Building: Max Weber and Modern Sociology//Max Weber: On
Charisma and Institution Building/Eisenstadt S.N. (ed.). Chicago: University of
Chicago Press, 1968. P. IX-LVI; Belhoradsky V. Burocraziacarismatica: Ratio с
carisma nellasocieta di massa//Sociologia delle rivoluzioni/Pellicani L. (ed.).
Naples: Guida, 1976. P. 181-232.
7 См.: Offe C. Die Herschaftsfunktion des Staatsapparates//Politische
Systemkrisen/Janicke M.'(Hrsg.). Koln: Kiepenheuer und Witsch, 1973. S. 236246: Muller W., Meyer K. U. Social Stratification and Stratification Research in
the Federal Republic of Germany, 1945-1975. Должно быть опубликовано в:
Classes and Social Structure in Economically Advanced Societies/Caporale R.
(ed.) (forthcoming).
8 См.: Habermas J. Toward a Rational Society. Boston: Beacon, 1971. P. 62-81;
Touraine A. La Societe postindustrielle. Razionalita sociale e tecnica delle
informazione. V. 1-3/Rositi F.F. (ed.). Milano: Di Communita, 1973.
9 См.: TouraineA. The Post-Industrial Society. N.Y.: Random House, 1971; Idem.
Les nouveaux conflits sociaux//Sociologie du travail. P., 1975. V. 17. № 1. P. 117; Huntington S.P. Post-Industrial Politics: How Benign Will it be// Comparative
politics. Chicago, 1974. V. 6. № 2. P. 163-193; Moore B. Revolution in
America//New York Review of Books. N.Y., 1969. V. 12. № 2. P. 6-12. CM.
также: Andreski S. Prospects of a Revolution in the U.S.A. N.Y.: Harper and Row,
1973.
10 Ellul J. Autopsy of Revolution.
11 См. об этом: Eizenstadt S.N. Changing Patterns in Modern Political Protest and
Centres//Science et conscience de la societe. T. 1. P.: Calmann-Levy, 1971. p. 473499.
12 См. об этом: Habermas J. Legitimation Crisis. Boston: Beacon, 1975. Критическую оценку см.: Lowenthal D. Social Transformation and Democratic
Legitimacy//Social Research. N.Y., 1976. V. 43. № 2. P. 246-276.
13 См.: Rittberger V. Revolution and Pseudo-Democratization: The Formation of
the Weimar Republic//Crisis, Choice and Change/Almond G.A., Flanagan S.C.,
Mundt R.J. (eds.). Boston: Little, Brown, 1973. P. 285-391; Kirchheimer O.
Confining Conditions and Revolutionary Breakthroughs//American Political
Science Review. Menasha, 1965. V. 59. № 4. P. 964-974.
14 См.: Lenin V.I. What Is to Be Done?//Protest, Reform, and Revolt/ Gusfield
J.R. (ed.). P. 458-472. В отношении более диверсифицированных тенденций
см.: Nettl J.P: Rosa Luxemburg on Revolution. N.Y. e.a.: Oxford University Press,
1969. P. 174-202, 464-465; Basso L. Rosa Luxemburgs Dialektik der Revolution.
Frankfurt am Main: Europaische Verlagsanstalt, 1969. S. 88-148. О различных
тенденциях в марксизме см.: Derfler C. Socialism Since Marx: A Certtury of the
European Left. N.Y.: Macmillan, 1973; The Unknown Dimension: European
Marxism Since Lenin/Howard D., Klare K.E. (eds.). N.Y.: Basic Books, 1972;
Toward Revolution/Gcrassi J. (ed.). L.: Weidenfeld and Nicolson, 1971. Как
иллюстрация колебаний левых по отношению к государству всеобщего
благосостояния см.: Wichert S. Zwischen Klassenkampf und Wohlfahrtsstaat:
Grossbritanniens «Linke» im 20. Jahrhundert//Neue politische Literatur. Frankfurt
am Main, 1971. Bd. 16. № 2. S. 221-241. См. также: Lefebvre H. La survie
dutcapitalisme. P.: Anthropos, 1973.
15 О преемственности революционных настроений среди интеллигенции см.:
Aron R. The Opium of the Intellectuals. L.: Seeker and Warburg, 1957; Gella A.
Revolutionary Mood Among the Contemporary Intelligentsia//The Intelligentsia
and the Intellectuals: Theory, Method and Case Study/Gella A. («/.). Beverly Hills:
Sage, 1976. P. 112-152. См. также: Counter-Tradition/Delany S. (ed.). N.Y.:
Basic Books, 1971, собрание материалов о выступлениях против традиции в
различные эпохи. См. также: Hobsbawm E.J. Revolutionaries. L: Weidenfeld
and Nicolson, 1973. P. 245-266; Helms И.О. Fetisch Revolution: Marxismus und
Bundesrepublik. Berlin: Luchterhand, 1976. (Из новейшей литературы на эту
тему см.: Furet F. Le passe d'une illusion: Essai sur Pidee communiste au XX
siecle. P., Caiman Levy, 1995. Примеч. перев.)
16 Различение Ш. Эйзенштадтом «коммунитарпых» и «социетальных» целей
(community or societal aims), по-видимому, восходит к концепции и
терминологии Ф. Тенниса «естественная общность — гражданское
общество»
(gemeinschaft—gesellschaft).
В
данном
контексте
«коммунитарность» подразумевает, конечно, не крестьянскую общину,
которую в первую очередь имел в виду Ф. Теннис, а разнородный круг
локальных, этнических, конфессиональных образований или интересов.
(Примеч. перев.)
17 См.: Poulantzas N. La Crise des dictatures: Portugal, Grece, Espagne. P.:
Maspero, 1975. Английский перевод 1976 г.
Эпилог.
1. Введение.
Мы пришли к концу нашей истории, хотя сама по себе история не
заканчивается. Нашей отправной точкой было положение, что различные
компоненты социальной деятельности, которые сходятся под рубрикой
чистой революции, представляют особый тип процесса осуществления
социальных преобразований. Другими словами, несмотря на то что
обществам свойственны социальные конфликты, инакомыслие, восстания,
изменения и преобразования, составляющее образ подлинной революции
уникальное сочетание элементов, как в традиционных, так и в современных
системах, — это лишь один из нескольких путей изменений.
В предшествовавших главах мы проанализировали условия, которые
приводят к революционному процессу. Мы также отметили, что, хотя
революционная символика и революционные движения сделались частью
современной цивилизации, та комбинация символических и структурных
характеристик, которая отличает настоящие, классические революции,
возникает лишь в исключительных обстоятельствах. Этот факт,
рассмотренный нами в главах 9 и 10, был затем прояснен анализом
избирательного распространения наиболее преобладающей разновидности
современной
революционной
символики:
социалистической
и
коммунистической.
2. Включение революционной символики в современных обществах.
Сделаем теперь предметом анализа эти различные формы распространения.
Рассмотрим четыре пункта: 1) какие общества, социальные группы или
элиты наиболее расположены к включению социалистических символов в
центральную символику своей коллективной (культурной и политической)
идентичности; 2) принимаются ли эти символы в своей полноте или в
некоторых аспектах отвергаются; 3) для чего принимаются символические,
и/или
институциональные,
и/или
организационные
аспекты
социалистической традиции либо социалистических программ; 4) на каких
аспектах социалистической традиции, помимо классовых, делается упор —
на реформаторских и революционных либо на аспектах гармонии и
солидарности?
Очертим
бегло
важнейшие
образцы
включения
социалистической и коммунистической символики.
В западноевропейских странах и до некоторой степени в Центральной
Европе многие элиты и группы включали в символику сообществ, которые
они создали в XIX и XX столетиях, отдельные социалистические ориентации
и символы. Среди этих групп лишь немногочисленные экстремистские
элиты, второстепенные или маргинальные, приняли социалистическую
традицию в ее целостности: в первую очередь социализм был принят в
целокупно-сти маргинальными группами на ранних этапах его развития.
Более распространенным случаем было включение в процессе нараставшей
институционализации социализма в Европе его широких социальных и
культурных символов, так же как его конкретных политических и
социальных программ, в формирующуюся политическую и коллективную
символику.
В то же самое время существовала, однако, преемственность между
социалистическими символами и символикой ранних европейских систем,
как современных, так и традиционных. Конкретно, эти общества стремились
использовать свои собственные традиции, для того чтобы найти ответы на
новые проблемы, возникающие в социальных и культурных порядках.
В противоположность этому в России и Китае учредившие революционные
режимы элиты сделали социалистическую символику центральным
элементом своей политико-культурной идентичности и своей символики.
Поступив таким образом, эти революционные элиты уничтожили
большинство особых символов и структур, присущих существовавшим
традициям, слоям и организациям, и сделали упор на новом содержании и
новых типах социальной организации. Все-таки они тем не менее сохранили
преемственность по отношению к некоторым традиционным ориентациям
символического и институционального характера.
Таким образом, в России и Китае социалистические и коммунистические
символы сделались частью центральной символики сообщества,
монополизированной элитами и тесно связанной с социалистической
политикой и строительством институтов (для легитимизации последнего
постоянно прибегали к этой политике). На официальном уровне эти символы
не могли сделаться символикой внутреннего протеста, а лишь только могли
быть предметом внутренней борьбы между элитами. Однако часто они
подхватывались радикальными подпольными группами как символы
протеста против режима.
В отдельных азиатских странах (например, в Шри-Ланке и Бирме), так же как
в некоторых мусульманских (арабских) странах, возникли группы,
стремившиеся включить некоторые социалистические символы в символику
своих обществ. Они были склонны к выбору широких культурных
ориентации и политических программ. Но лишь изредка в Азии и арабском
мире социализм оказывался господствующим элементом в символике
коллективной идентичности.
Более того, в большинстве этих стран, если исключить экстремистскую часть
элиты, социалистическая ориентация не предполагала высокой степени
приверженности ее принципам или очень большого размаха строительства
институтов. Упор в этих обществах был сделан на преемственности с
существовавшими символами коллективной идентичности.
Картина африканского социализма является более сложной. Среди
центральных элит мы обнаруживаем очень сильную тенденцию к включению
социалистических символов в свою собственную символику идентичности.
Но такое включение по преимуществу носило символический характер,
особенно это касалось политической символики. Мы обнаруживаем также
тенденцию к принятию идеологическо-сциентистского содержания
социализма и даже его политических программ. В то же время многие страны
Африки (среди них мусульманские государства) сознательно подчеркивали
преемственность между социалистической символикой, особенно символами
солидарности и гармонии, и местными традиционными символами. Тем не
менее лишь немногие страны в Африке осуществили строительство
институтов в соответствии с изначальным социалистическим идеалом.
Латинская Америка представляет еще один пример сложной картины.
Первоначально
только
маргинальные
группы
выработали
там
приверженность к социалистическим символам. Со времени Кубинской
революции и установления режима С. Альенде в Чили такие символы
передвигались, однако, в направлении более центральных сфер общества и
культуры.
Ситуация в Индии была полной противоположностью той, что существовала
во многих ближневосточных и африканских странах. Социалистические
символы не были центральными в новой символике коллективной
идентичности, которая была выработана в ходе движения за национальную
независимость и после ее завоевания (несмотря даже на то, что эти символы
играли важную роль в мировоззрении Дж. Неру). Тем не менее были приняты
многие социалистические программы и социализм был информативной
основой социальной политики и строительства институтов.
Наконец, в таких обществах, как японское, социалистическую символику
включали в свою коллективную идентичность только крайние группы,
которые никогда не добивались успеха в получении доступа к
политическому центру.
3. Условия включения революционных символов.
Существование различных образцов включения социалистической традиции
может быть объяснено некоторыми переменными. Мы уже определили их
при анализе специфических предпосылок и результатов революций. Это
сочетание внутренних характеристик общества с его положением в
международных системах, а также оценкой обществом своего
международного положения. Можно выявить пять признаков, которые имели
особое значение.
1. Структура центров и характер культурных ориентации.
2. То, насколько для различных групп и элит была характерна ориентация на
принадлежность к «большой» традиции — особенно к универсалистским
традициям; то, насколько успешными оказывались усилия этих групп,
направленные на включение своих обществ в новые международные
системы, насколько это соответствовало их собственным универсалистским
принципам и/или принципам цивилизации Нового времени.
3. Упор на утопические или милленаристские ориентации.
4. Однородность и преемственность центров, так же как преемственность
коллективной идентичности в этих обществах; степень воздействия сил
цивилизации Нового времени на центры; степень, в какой эти силы
способствовали разрушению тех или иных сторон коллективной
идентичности; степень, в какой центры оказывались способными усвоить
компоненты, символы или ориентации цивилизации Нового времени.
5. Оценка различными группами перспектив в осуществлении обществами
идеалов цивилизации Нового времени. На этот признак особенно сильно
влияли: сплоченность таких групп, их представление о цивилизации Нового
времени, социальная и культурная открытость общества вообще и его
установка по отношению к изменениям в особенности, так же как
характерный для этих групп упор на власть либо престиж в качестве базовых
социальных ориентации. На подобную оценку влияла также степень, в какой
происходило перемещение этих групп в пределах своих собственных
обществ (обусловленное воздействием социальных, экономических и
политических сил, как внутренних, так и внешних), и их относительное
положение в формирующейся структуре международного соотношения сил.
Каким образом эти переменные могут объяснить существование различных
образцов включения символики социализма и коммунизма? По всей
вероятности, восприимчивость к социалистическим символам в качестве
компонентов центральной символики коллективной идентичности является
зависимой от той степени, в какой для традиций общества либо традиций его
элит характерны универсалистские элементы, которые преодолевают рамки
племенной, этнической или национальной общности, а также утопические
элементы и ориентации. Так, в Западной Европе, России, Китае и до
некоторой степени на Ближнем Востоке, где преобладали универсалистские
и утопические элементы (в противоположность Японии или Индии, где эти
элементы были слабыми или их вообще не существовало), сформировалась
очевидная предрасположенность к принятию социалистических символов.
Кроме того, восприимчивость к центральным символам социализма зависит
от той степени, в какой внутри собственной «большой» традиции общества
распространены универсалистские ориентации и элементы, а также от его
собственной безопасности и сплоченности при том испытании, которому
подвергает «большую» традицию процесс включения в новые
международные системы. Эта восприимчивость зависит, в свою очередь, от
того, в какой степени процесс включения приводит к возникновению
расхождения между ожиданиями, которые имеет общество относительно
участия в универсалистской «большой» традиции, и его способностью к
созданию или сохранению этой традиции.
Так, в Европе подобная символика сформировалась в качестве части
европейской традиции и части процесса обретения Европой нового облика в
XIX и XX столетиях. В других местах способ включения в новую
международную среду, где господствовала Европа, — вот что определяло
силу тенденций к восприятию социалистических символов. Так, в России и
Китае, где национальная «большая» традиция была расколота, создавались
наиболее благоприятные возможности для принятия социалистических
символов.
Примеры Японии, Латинской Америки и до некоторой степени Африки
представляют иной образец. Либо благодаря достижению обществом
сильных позиций без значительного изменения его самосознания, как это
было в Японии, либо благодаря признанию обществом своей органической
принадлежности к новым международных системам, как в течение очень
длительного времени было в Латинской Америке, здесь в отношениях с
Западом и его международными системами сохранялась культурная
идентичность. В силу этого предрасположенность к включению социалистических символов в центральную коллективную символику была очень
небольшой. По существу, эта тенденция была ограничена элитами,
занимавшими крайне маргинальное положение, которые были не в состоянии
повлиять на центр и/или крупные группы. Социалистические символы
приобрели большее значение в 60-х гг., когда постепенно усилилось
разочарование центральных элит Латинской Америки в позициях
западноевропейских и североамериканских центров.
В большинстве африканских обществ колониализм вовлек относительно
простые в политическом и культурном отношении образования со слабыми
«большими» традициями (если они вообще существовали) в новые
международные системы и побудил, по крайней мере более образованные и
урбанизированные элементы, к участию в новом, более широком окружении.
В центральных странах мусульманского мира именно ослабление их
собственной «большой» традиции побудило некоторые элиты к включению
социалистических символов в центральную символику общества. Особое
значение имела неопределенность в отношениях между вновь возникающими
политическими центрами и универсалистскими ориентациями ислама. В то
же самое время вследствие устойчивого характера этой амбивалентности, а
также двойственности ислама в качестве универсалистской традиции эти
элиты избрали некоторые общие социалистические символы, соединив их с
обширными политическими профаммами националистического характера.
Знаменательно, что наиболее слабой оказалась расположенность к
включению социалистических символов среди тех африканских групп и в тех
африканских обществах, где существовала сильная мусульманская
идентичность, которая обеспечивала им возможность участвовать в
существующей «большой» традиции. Вместе с тем тот факт, что эти группы
находились на периферии мусульманского мира, отдалял их от тревог и
проблем, свойственных центральным странам мусульманского мира. Во
многих случаях социалистические символы просто присоединялись к
символике мусульманской общности.
Среди наиболее важных предпосылок, определявших принятие социализма
как целостной системы, были, во-первых, сила универсалистских и
утопических элементов в традициях общества или его элит; во-вторых,
относительная сила социетальных центров (степень, в какой центры внушали
высокий уровень приверженности) и, в-третьих, характер основных
ориентации этих центров и особенно значимость для них ориентации на
обладание престижем и властью, а также многочисленность и внутренняя
солидарность элит.
Принятие социализма в его целостности было особенно свойственно тем
обществам, в мировоззрении которых универсалистские и утопические
элементы были наиболее сильными и в которых подрыв национальных
традиций затронул могущественные культурные и политические центры
(внушавшие высокую степень приверженности). Именно это давало толчок к
возникновению сильных тоталитарных движений. Хотя такие тенденции
могли формироваться среди всех, почти без исключения, элит или групп
вообще, влияние подобных элит было особенно сильным постольку,
поскольку они формировались в тех обществах, где существовали сильные,
но относительно закрытые центры. Иначе говоря, то были общества, в
которых упор делался на ориентациях власти и престижа, ярчайшим
примером чего представляются Россия и Китай.
Опираясь на сильные универсалистские элементы своих традиций, Европа
стремилась, во-первых, включить в существующие системы политических
символов
социальные
и
социально-политические
профаммы
социалистического характера. Во-вторых, опираясь на свое относительно
сильное единство и солидарность, европейские элиты сделали довольно
значительный крен на институциональных и организационных, а также
мотивационных аспектах социализма. Тем не менее европейские традиции
плюрализма в сочетании с большой приверженностью к социальному
порядку исключали возможность целостного принятия социализма. Более
гибкий европейский образец включения способствовал тому, что различные
социалистические символы использовались в качестве постоянно
меняющегося очага различных характеристик протеста.
Во многих странах Юго-Восточной Азии, где преобладали патримониальные
центры, так же как в Латинской Америке с ее испанским патримониальным
наследством, тенденция к целостному принятию социализма была даже еще
слабее. Если исключить маргинальные фуппы, пытавшиеся выдвинуть новые
далеко ведущие символы коллективной идентичности, выбор падал на
широкие культурные ориентации, присущие социализму. Аналогичным
образом, вследствие относительно низкого уровня солидарности между
элитами, исключительно слабыми были тенденции к практическому
осуществлению строительства институтов или формирования центров, хотя в
то же время складывалась сильная тенденция, подчеркивавшая
символическое значение самой общности и ее центров.
Упор на протест вместо формирования центров или строительства
институтов в наибольшей степени был обусловлен положением элитарных
фупп в своем обществе и международной структуре власти, а также их
восприятием этого положения. Таким образом, очень часто, как было,
например, в России либо Африке, элиты меняли свои установки с протеста на
формирование центра, когда они становились правящим классом. И тогда
уже новые оппозиционные группы внутри общества стремились к
формированию
сильной
ориентации
протеста,
облеченной
в
социалистическую терминологию, для того чтобы использовать ее против
правящей элиты.
4. Аналитические заключения.
Проведенный анализ различных форм включения социалистической
символики в современных и модернизирующихся обществах может помочь
нам свести воедино некоторые из основных направлений нашего анализа,
предпринятого в этой книге. Отметим в первую очередь, что возникновение в
Европе начиная с XVII в. революций современного типа не следует
рассматривать в качестве естественного и неизбежного процесса; скорее это
уникальная форма развития, или мутация. Такая мутация происходит при
специфических условиях, которые могут быть обнаружены в
многочисленных обществах. Но ни свершение такой мутации, ни
утверждение какой-либо из ее институциональных производных не являются
неизбежными.
Это положение о характере современных революций следует применить к
эволюционной парадигме, поскольку она образует основу сравнительного
анализа обществ: любой конкретный образец устройства институтов (иначе
говоря, имперские, патримониальные либо феодальные системы; особые
способы производства) может быть понят только в категориях, отражающих
некоторые общие характеристики общества или происходящие в нем
процессы. Такие характеристики или процессы (например, технический
прогресс, структурная либо символическая дифференциация) создают
потенции, которые действительно являются сходными в различных
обществах. Но утверждение данного институционального и/или
макросоциального комплекса является, как мы подчеркивали в главах 5 и 8,
следствием постоянного взаимодействия, в котором участвуют, с одной
стороны, различные коллективы, слои и коалиции институциональных
организаторов, являющихся носителями специфических культурных
ориентации, а с другой — особые разновидности среды.
5. Анализ революций и критика социологической теории.
Мы пришли к этому заключению путем критического пересмотра некоторых
общих положений социологической теории. В первую очередь мы
критически рассмотрели упор, который делается в большинстве современных
социологических теорий на организационных аспектах институционального
порядка, на таких аспектах общественного разделения труда, как уровень
развития техники и структурной дифференциации, а также на важнейших
переменных, призванных объяснить различия в системах институтов, и на
положении, что обеспечивающие сохранение социального порядка нормы
могут быть непосредственно выведены из широких ценностных ориентации
и/или из системных потребностей социальных групп либо социальных
контактов. Критика положений, содержащихся в этих теоретических
моделях, — особенно значения, которое они придают отмеченным
социетальным переменным, — породила нежелание со стороны сторонников
большинства подходов принять заданность какой-нибудь однойединственной разновидности институционального устройства с точки зрения
организационных либо системных потребностей социальной системы, к
которой оно относится.
Ни одно институциональное устройство (административная структура
фабрики или больницы, семейное разделение труда, официальное
определение девиантного поведения, место ритуала в данных социальных
условиях) не рассматривается в плане его роли в сохранении отдельной
группы или общества. Вместо этого сам процесс формирования
институционального устройства характеризуется как проблема, которая
подлежит объяснению. Таким образом, ставится вопрос, какие из сил,
определяющих организационные потребности общества, объясняют
устройство его институтов.
Различные теоретические модели подразделяются в зависимости от того,
каким образом они могут объяснить существование конкретного
институционального порядка. Индивидуалистические и конфликтные
модели, так же как символико-интеракционистский подход, подчеркивают,
что любой институциональный порядок формируется, поддерживается и
изменяется в результате процесса постоянного взаимодействия, согласования
и борьбы между теми, кто участвует в этом порядке. В соответствии с этим
попытки объяснения устройства институтов следует предпринимать в
категориях властных отношений, конфликтов и коалиций, которые
возникают в ходе такого процесса. В результате делается сильный крен на
автономность любой структурной единицы — подгруппы либо подсистемы,
— которая может выразить свои цели, отличающиеся от целей широкой
организационной либо институциональной среды, так же как на окружение, в
рамках которого функционирует социальная среда (при анализе любого
макросоциального порядка таким окружением являются международные
системы).
В то же время структуралисты и марксисты стремятся найти объяснение
характера любого данного институционального порядка и особенно его
динамики в категориях свойств глубинной или скрытой структуры. В
попытках определить эти свойства структуралисты подчеркивают значение
символических характеристик человеческой деятельности и врожденных
закономерностей человеческого мышления. В противоположность этому,
марксисты делают упор на сочетание структурных и символических
характеристик, таких, как противоречия между производительными силами и
производственными отношениями, отчуждение и классовое сознание,
усматривая в них свойства глубинной структуры обществ.
Сама множественность подходов к изучению коренных социологических
проблем показывает, что ряд ключевых вопросов остаются без ответа: каким
образом соединяются культурные ориентации или традиции в устройстве
присущих данному обществу институтов? Какие аспекты таких устройств
затрагиваются и формируются культурными ориентациями? Кто является
главными носителями таких ориентации? Каковы социальные механизмы
(процессы социального взаимодействия и борьбы), посредством которых
носители культурных ориентации воздействуют на формирование устройства
институтов? Какие процессы развиваются в обществах?
6. Необходимость дальнейших исследований.
В нашем анализе революций мы обращались к этим проблемам. Мы
установили важнейшие стороны структуры институтов (например,
основополагающие нормы социального взаимодействия и их основные
институциональные производные, такие, как структура центров, отношения
между центром и периферией, система социальной иерархии и процессы
изменений), которые не обусловлены организационными аспектами
общественного разделения труда и которые определяются символическими
ориентациями.
Проведя сопоставление социальных типов (имперских, имперскофеодальных, патримониальных, городов-государств и племенных систем),
мы показали, как культурные коды и их соотношение воздействуют на
институциональные сферы, а также выявили образцы изменений. Именно
благодаря развитию этого аналитического инструментария мы оказались в
состоянии продвинуться в нашем анализе как причин, так и последствий
революций дальше тех попыток, которые предпринимались раньше и
которые были сосредоточены исключительно на классовых конфликтах,
борьбе между элитами и других подобных факторах (не отрицая, разумеется,
значения этих переменных).
Мы также установили носителей культурных ориентации (важнейшие типы
элит, институциональных организаторов и коалиций элит), так же как
основные типы регулирующих институциональных систем (правовых,
профессиональных и т.д.). Затем мы попытались показать, как, исходя из
многообразия типов организаторов и коалиций, можно объяснить различие
образцов строительства и изменений институтов.
Эти констатации являются предварительными, и мы намерены продолжить
дальше изучение некоторых из затронутых в этой книге проблем. Так, нам
хотелось бы рассмотреть механизмы контроля, посредством которых
различным организаторам и коалициям удается поддерживать характерные
для них образцы институционализации и противодействовать возникновению
новых типов организаторов, которые могли бы поставить под вопрос
существование этих образцов. Эта проблема тесно связана с тем, что в
большинстве обществ можно обнаружить большую преемственность кодов и
их базовых институциональных производных.
Несмотря на преемственность кодов и их институциональных производных,
возникновение великих религий и институционализация различных образцов
политических режимов указывает на значение, которое имеют в истории
инновации и мутации. Здесь мы возвращаемся к проблеме, которая была
упомянута в начальных главах: то ли возникновение различных типов
культурных ориентации приводит к возникновению особых элит и
коллективов, то ли это элиты с некими скрытыми или явственными
признаками создают либо осуществляют отбор соответствующих
ориентации? Мы предположили, что в процессе постоянного обратного
воздействия группы или индивиды с некоторыми структурными
тенденциями
избирают
соответствующие
ориентации
и
что
институционализация этих ориентации усиливает структурные тенденции.
Мы также отметили, что взаимодействие этих сил при формировании
институциональной среды и макросоциальных комплексов, процессы
обратной связи и механизм, посредством которого обратная связь
институционализовалась, представляют важнейшую проблему для
дальнейшего изучения. Мы также подчеркнули важность внешней среды и в
процессе такого осуществления обратной связи, и точно так же в
формировании
различных
институциональных
последствий
при
относительно сходных ориентациях.
Наш анализ указал на системный характер обществ, на многообразие
характеристик социальных систем и тех сил, что приводят к разнообразию
сочетаний этих характеристик, а также на открытый характер ситуаций, в
которых происходят изменения. Эта открытость наиболее полно была
изображена в нашем анализе революции. Как мы видим, сколь бы сильна ни
была расположенность к революции в любой данной среде, этот процесс
представляет мутацию.
Воздействие революционных процессов оказалось более значительным, чем
воздействие установления новых политических центров или возникновения
великих религий, вследствие того, что эти процессы включали в себя некое
сочетание символических и структурных свойств. Это сочетание создало
реальность и прежде всего образ совмещающихся изменений как
естественного и наилучшего типа изменений в человеческих обществах, а
также реальность постоянно изменяющихся международных систем, под
влиянием которых этот образ распространялся по всему миру.
Все-таки, как показывает наш анализ, даже когда распространение
международных систем создает условия, благоприятные для совмещающихся
изменений, в действительности реальный образец социальных изменений и
преобразований варьируется под влиянием тех условий, которые были
рассмотрены в этой книге. По сути дела, парадоксальную ситуацию создает
само распространение образов революции через эти международные
системы. В противоположность традиционным обществам, в которых
носителями нововведений выступают особые анклавы, современные
революции в качестве наиболее естественного пути изменений выдвигают
образ совмещающихся изменений, которые полностью осуществляются под
воздействием внутренних сил.
Тем не менее во многих обществах процессы изменений, сопровождающих
модернизацию, не соответствуют революционному образцу. Это
обстоятельство, совместно с постоянным расширением международных
систем и распространением образов революции и революционных движений,
воссоздает ситуацию, в которой деятельность мелких групп революционеров
и представителей интеллигенции оказывается очень эффективной.
Таким образом, как представляется, наш анализ описал полный круг. Однако
современная ситуация радикальным образом отличается от традиционной
среды. Во-первых, рост международных систем имел следствием постоянное
проникновение во все общества революционных анклавов и движений. Вовторых, это проникновение усиливалось благодаря союзам таких анклавов с
различными государствами и перемещению центров власти в
международных системах. В-третьих, мы столкнулись с ростом применения
насилия как внутри стран, так и на международной арене, что, в свою
очередь, воздействует на эти процессы.
Изучение революций указывает на другую важнейшую сторону социальной
жизни: повсеместность протеста, поисков свободы и гармонической
общности и стремлений выйти за пределы существующей ситуации.
Изучение
революций
доказывает
неизбежность
этого
порыва,
ограниченность попыток его осуществления и наличие издержек при
различных образцах, в которых реализуются эти попытки. Эта
ограниченность и эти издержки могут оцениваться по-разному различными
людьми, но каждый должен отдавать себе отчет в сложности этой проблемы.
ПОСЛЕСЛОВИЕ.
КАТЕГОРИИ «ЦИВИЛИЗАЦИЯ» И «РЕВОЛЮЦИЯ» В КОНЦЕПЦИИ Ш.
ЭЙЗЕНШТАДТА НА ФОНЕ «НОВОГО МЫШЛЕНИЯ».
Теоретические поиски и научный дискурс. Как мы видим, важнейшее
методологическое значение в общей концепции Ш. Эйзенштадта получили
две существенные категории общественных наук: «цивилизация» и
«революция», также занимающие видное место в новейшей российской
общественной мысли, но оказавшиеся во многом средоточием весьма
противоречивых интерпретаций или жесткой критики, которая стала
существенной стороной общей критики марксистской философии.
Хотя эта критика сослужила необходимую службу, расчистив место для
плодотворного усвоения и разработки иных подходов, в том числе
сравнительного
изучения
принципов
устроения
цивилизаций
и
цившшзационных процессов, она нередко носила гипертрофированный
характер, превращалась в своего рода «идейный разгром» опостылевшей
догматики.
Издержками такого «идейного разгрома» стала не только попытка «закопать»
плодотворную, хотя и ограниченную по своим возможностям «теорию
общественно-экономических формаций», но и инверсионный откат к
восхвалению Запада и капитализма, ранее, как предполагалось, «обреченного
самим ходом истории», или же осуждение противоположного ему строя как
«тоталитаризма», «азиатчины» или «восточного деспотизма». В трактовке
столь существенных понятий на «обломках самовластья» прежней догматики
стали буйно произрастать побеги теоретического анархизма или
переноситься из смежных дисциплин наукоподобные химеры (типа
«архаично-варварская стихия»), демонстрировавшие подчас удивительные
образцы суждений по аналогии, пригодные только для семантического
анализа. В этих условиях термин «цивилизация» стал воплощением
«цветущей и жужжащей неразберихи», в которой то фигурирует единая
«мировая цивилизация», ожидающая «вхождения» туда и России, после того
как она сменит свой «генетический код», то появляются десятки
цивилизаций на одном континенте — Африканском или ЮжноАмериканском. В околонаучной публицистике или просто в идеологической
пропаганде утвердилось представление о «цивилизованном поведении»,
приспособленном к нормам рыночного либерализма, хотя и принимающим
подчас характер «криминального капитализма». Совсем нередко приходится
встречать ссылки на «признанные этапы истории мировой культуры:
дикость, варварство, цивилизация», на грядущее торжество «новой
универсальной цивилизации», встречающей на своем пути лишь
сопротивление «варваров, косных и невежественных народных масс». В
таких работах как бы отменяются все достижения социологии и
культурологии за последний век с лишним.
Совершенно иная семантическая судьба постигла термин «революция»,
который прежде составлял существенный компонент идейной жизни и
семантического поля на значительном духовном пространстве в разных
странах мира. Из культового и лозунгового символа этот термин
превращался в смыслообразующий компонент официальной идеологии и
существенный элемент общественного мировоззрения, чтобы затем в
результате стремительной смысловой инверсии превратиться в критикуемую,
охаиваемую и «проклятьем заклейменную» идиому. Этот термин почти исчез
из научного дискурса, приобретя хулительный смысловой оттенок:
«заблуждение», «доктринальное видение», «политическая авантюра»,
«узурпация власти», «катастрофа», «прорыв варварства», «бессмысленный
бунт» и т.д. Негативный имидж отрабатывался прежде всего на критике
Великой французской, а затем и Великой Октябрьской социалистической
(«русской») революции. Демонизация прежде столь, казалось бы,
перспективных для мировой истории процессов была доведена до отказа от
категории «революция» при анализе реальной истории. А советский период,
ставший прямым продуктом некогда «Великой» революции, превратился в
«провал истории», предмет изъятия из «нормы» исторического процесса.
Степень выразительности этого экспрессионизма в идеологической
публицистике можно прямо соотнести с теоретической незрелостью авторов,
озабоченных лишь совместимостью своего текста с текущей идейной
инверсией. Огромный материал, накопленный в рамках политологических
или цивилизационных исследований, различных школ культурной
антропологии или социологии, слишком часто остается невостребованным в
условиях новой идеологизации общественных наук, сводящейся иногда к
семантической изощренности в предании анафеме предмета: вместо его
исследования предпочтение отдается «изобличению».
Заметные авторы либерального направления при исследовании российских
процессов, как бы следуя букве десятого тезиса К. Маркса о Л. Фейербахе
(«Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в
том, чтобы изменить его»), выражали мнение, что задача состоит не в том,
чтобы раскрыть феномен российской цивилизации, а в том, чтобы его
изобличить и переделать, а если это не удается достаточно быстро, то
предать его «идентификационной смерти» и провести общество через период
хаоса, чтобы радикально его обновить.
Существует изначальное и основное значение мифологемы «хаос», всегда
противопоставленной культуре и цивилизации и вполне соответствующей
понятиям «разруха», «катастрофа», «крушение», «деградация» и
«архаизация». В более точном социологическом языке эти процессы
определяются как аномия, отчуждение, девиантное поведение и
криминализация общества. А в более метафорическом языке
цивилизационной теории эти процессы подчас описываются как
«варваризация» — правящих классов или каких-то слоев населения. Вместо
ожидаемого «разволшебствования» мира и «приобщения к современной
цивилизации» общество получило — в силу неизбежной культурной
инверсии — обильное произрастание этнических и национальных
мифологий, дополняемых «демонизацией» «другого мира» и широким
внедрением словесной, аудиовизуальной и практической магии в обширной
сфере массовых коммуникаций и политической деятельности. Столь часто
используемый в интеллектуальном дискурсе термин «антицивилизация»
приобретает вполне реальное содержание. Драматичным проявлением этой
архаизации-хаотизации-варваризации и политической, и обыденной жизни
становится не только аморализм на всех уровнях, но и война, и бандитизм —
по периферии и даже внутри самого тела России. А разрушение идейных
смыслов предстает как знаковая предпосылка нарастающего разлада
цивилизованной жизни.
«Очернению» подверглась не только значительная часть истории России, но
и других стран — «деспотического Востока» или «традиционных обществ».
Впрочем, эта процедура дополняется замалчиванием некоторых периодов
истории разных народов, как это происходит, например, с историей нового
Китая, Индии или стран исламского региона, утвердивших свое присутствие
в современности и самобытность в результате революций или «национальноосвободительного движения», имевшего во многом цивилизационный смысл.
Пока на значительной части российского духовного пространства шло такого
рода семантическое «переосмысление», в более серьезной аналитической
науке продолжалась интенсивная работа по раскрытию содержания
процессов, обозначаемых терминами «цивилизация» и «революция», и
выявлению их характера и места в европейской, российской и мировой
истории. Ослабив собственные приемлемые эвристические критерии такого
анализа, российская наука вынужденно обращается к накопленному
зарубежному опыту.
Как показывают научные дискуссии, теоретические предпосылки теории
цивилизации приходится постоянно эксплицировать. (Это приходится делать
и на конференциях существующего много лет Общества по сравнительному
изучению цивилизаций (США), у истоков которого стояли А. Тойнби и П.
Сорокин. Эти проблемы получили подробное освещение в издании
«Сравнительное изучение цивилизаций» (М., 1998). Сам по себе это вполне
естественный процесс, и зачастую он означает как освоение уже имеющихся
достижений, так и их корректировку через включение новых объемов
исторического материала и тем более через применение к такому сложному
цивилизационному «объекту», как Россия. Соответственно, необходимы
поиск путей использования плодотворной эвристической конструкции в
решении аналитических задач и продвижение в самом теоретическом
мышлении.
Книга Ш. Эйзенштадта далеко не единственная серьезная работа такого рода,
как можно понять хотя бы из приводимого им перечня исследований других
ученых. Однако она отличается широтой охвата различных сторон как
цивилизационного устроения общества, так и революции, и факторов,
обусловивших возникновение, формирование и протекание этих
исторических явлений, сопоставлением ее вариантов, оказавших
существенное воздействие на современный мир. Что не менее важно, она
отличается
той
степенью
«объективизма»
и
усложненностью
социологического аппарата, которые делают настоятельно необходимым
осмысление приводимой аргументации и целостной концепции, а значит,
весьма затрудняют поверхностную идеологическую критику или же,
напротив, скоротечное принятие этой научной концепции.
Конечно, концепция израильского ученого неизбежно может показаться
весьма «ущербной» сторонникам прежнего «истматовского» подхода к
общественным процессам. Она явно «не материалистична», и теория
«классовой борьбы» не может считаться ее основанием. Впрочем,
перефразируя известную формулу, можно сказать за израильского ученого,
что «ничто из подлинно научного ему не чуждо». Не чужд ему и
материалистический, политэкономический подход, и учет характера
распределения «свободных ресурсов», т.е. прибавочного продукта, и
относящаяся к творческому марксизму концепция «азиатского способа
производства», в значительной степени охватываемая его концепцией
патримониального общества. Отнюдь не чужда ему и теория «классовой
борьбы», и теория разделения труда, хотя то и другое перекрываются у него
социологией общественных структур и элит как групп, соотношение сил и
влияния которых определяют характер устроения общества и его динамику.
Значительное место в его концепции занимают и социология движений
протеста, и анализ социальных институтов, и соотношения центра и
периферии.
Как уже подчеркивалось во вступительной статье к данному изданию книги
Ш. Эйзенштадта «Революция и преобразование обществ», представленная в
ней концепция стала продуктом сложного синтеза ряда научных подходов и
ее многомерность дополняется рассмотрением взаимодействия различных
компонентов духовного, социального и институционального плана.
Духовные предпосылки цивилизаций и революций. Как мы видели, среди
компонентов, из которых складывалась общая концепция Ш. Эйзенштадта и
его понимание сущности цивилизации и революции, следует особенно
выделить
место,
отводимое
духовным
принципам
устроения
макросоциальных образований. Как полагает Ш. Эйзенштадт, изначальной
важнейшей духовной предпосылкой формирования мировых цивилизаций
стало то миропонимание, которое возникло в рамках «осевого времени» с его
высокой степенью экзистенциальной, моральной и интеллектуальной
напряженности, накладывающей отпечаток на всю общественную жизнь. С
этим временем связана та великая трансформация духовной сферы, которая
повлекла за собой далеко идущие перемены в самом устроении общества и
его долговременной динамике.
«Осевое время» имело разный генезис в различных очагах цивилизации, и
сам Ш. Эйзенштадт в немалой степени способствовал сопоставительному
изучению этого генезиса и анализу социокультурных структур, возникающих
в ходе формирования цивилизации. Впрочем, он имел здесь столь
основательных предшественников, как А. Тойнби и многие другие историки,
показавших, как возникают и как меняются духовные основы цивилизации в
ходе ее эволюции. Таким образом, это время сохранило, хотя и
ограниченный, плюрализм развития мировых цивилизаций в период их
классического развития.
Впрочем, заключительные разделы книги «Революция и преобразование
обществ» могут создать впечатление, что рассмотренные в ней великие
революции в разных странах создали предпосылки повсеместного
формирования цивилизации Нового времени. Влияние этой цивилизации
распространилось и на страны, не претерпевшие революционных сдвигов, —
как в самой Европе, так и на других континентах.
Однако израильского ученого вряд ли можно упрекнуть в чрезмерном
универсализме и игнорировании цивилизационной специфики в Новейшей
истории. Как мы видели, он стал одним из столпов теории цивилизаций, и в
его книге социокультурная специфика различных стран рассматривается им
как один из важнейших факторов их самоопределения.
Весьма характерно, что Ш. Эйзенштадт довольно редко использует при этом
такие, казалось бы, бесспорные термины, как «религия» и «государство». Для
него значение этих терминов размыто и ослаблено либо слишком широким
употреблением в самых разных контекстах, либо привязанностью к
сложившимся верованиям и политическим институтам. На самом деле
религия и государство выступают как «превращенные формы» некоторых
более
существенных
процессов,
выделяемых
именно
в
ходе
социологического анализа. И Ш. Эйзенштадту приходится следовать методу
всякого крупного теоретика: вырабатывать собственную аналитическую
терминологию, более отвечающую общей концепции.
Прослеживая истоки такого миропонимания, Ш. Эйзенштадт по существу
продолжает традиции мыслителей, которые, казалось бы, давно прочитаны и
хорошо известны в российской общественной мысли, однако теперь либо
старательно замалчиваются, как, например, К. Маркс и К. Каутский, либо
пока еще не освоены в достаточной степени, например, Н. Данилевский и А.
Тойнби.
Новая парадигма цивилизации. Выходя за рамки марксистского
«социального материализма», Ш. Эйзенштадт основное значение в
цивилизационном устроении общества придает типу духовности и ее
структуре. А в отличие от А. Тойнби он расширяет состав социокультурной
регуляции и вместо интуитивно определяемого соотношения «вызова и
ответа» рассматривает многомерную структуру макросоциальной регуляции
общества.
Важная функция этого «осевого» миропонимания, формирующегося в
духовном поле между трансцендентным и мирским порядками, состояла в
том, что оно давало обоснование для формирования принципиально иной
общности — цивилизации, выходящей за рамки всех других локальных и
функциональных ограничений. Как уже отмечалось во вступительной статье
к данной книге, эти положения составили основу теории цивилизационного
устроения общества, выведенную Ш. Эйзенштадтом в ряде его работ. Но
рассматриваемые им «осевые» цивилизации принципиально отличаются от
первичных, в которых еще не произошло выделение особого, высшего
уровня сверхбытия, «потустороннего» порядка, противопоставляемого
существующим мирским порядкам.
Вместе с тем в сложных обществах, заслуживающих право быть
отнесенными к цивилизациям, формируется состояние духовной, моральной
и интеллектуальной напряженности, вызываемой сознанием антиномичности
основных измерений бытия: между должным и сущим, между разумом и
верой, между ценностными ориентациями и социальными институтами,
между непосредственными интересами и «отложенными» ориентациями.
Существенное значение в теории мировых цивилизаций приобрело
положение о многообразии тех структурных принципов, которые вырастают
в ходе взаимодействия символических, социальных и институциональных
факторов. Каждое измерение духовного поля цивилизации подвержено
напряженности, противоречиям и конфликтам, находящим разрешение
именно в деятельности различных социальных групп. Поэтому потенциал
напряженности в таком поле намного больше, чем на уровне «реальных»,
«мирских» отношений, определяемых «реальной» властью, экономическими
интересами или «здравым смыслом».
Таким образом, цивилизация выполняет, казалось бы, прямо
противоположные функции: она объединяет и разъединяет, она создает
общность на основе сходных характеристик, возникающих через обращение
к универсальной культуре, и вместе с тем в ней возникают самые разные
варианты социального и культурного порядка, она дифференцирует
население по совершенно новым критериями и создает принципиально новые
формы динамики. Именно в ней формируется широкое разделение труда,
социальная иерархия функций и статуса, которые и становятся фактором и
стимулом развития, усложнения и повышения уровня. Вместе с тем всякая
мировая цивилизация тем или иным образом реализует принцип
универсальности как возможность для всех получить прямой или
опосредованный доступ к высшим принципам социального и культурного
порядка.
Такого рода структуры, подчеркивает Ш. Эйзенштадт в своем исследовании,
отнюдь не остаются в неизменном состоянии, и поэтому в обществах, обычно
называемых «традиционными», постоянно идут изменения, определяемые
соотношением активности различных социальных групп и слоев. Этим
обществам присуща напряженная внутренняя динамика, создающая
огромное разнообразие процессов и придающая специфику каждой
цивилизации.
Такое понимание принципов цивилизационного устроения существенно
дополняет ту блестящую историческую концепцию А. Тойнби и других
основоположников, с именами которых и связывалась обычно теория
цивилизаций. Однако намного более строгий социологический анализ Ш.
Эйзенштадта позволяет снять прежние недоумения и спорные вопросы и
устранить прежние «узкие места». Метафоры «вызов и ответ»,
«господствующее меньшинство и внутренний пролетариат», «надлом»,
«раскол»
и
«дезинтеграция»
уступают
место
более
четкому
социологическому анализу. Абстрактные, размытые и гуманитарные
представления о цивилизации обретают содержательные социологические
контуры и структуру.
Существенные изменения претерпевает и концепция цикличности в жизни
цивилизаций, столь поражавшая европейский ум и тревожащая его
параллелями между падением античной цивилизации и «закатом Запада».
Конечно, эта концепция вызвала интенсивные споры и многочисленные
опровержения сторонников «бессмертия» цивилизации, выживающей в
своем культурном достоянии. Но в концепции Ш. Эйзенштадта вопрос как
бы снимается, так как каждая историческая цивилизация сочетает в себе
набор многих вариантов, создающих возможность поворота в разные
стороны.
Именно эти трансцендентные измерения духовности не только подняли на
более высокий уровень вечные темы социального протеста, но и породили
действенные попытки преодоления трудностей и ограничений человеческого
бытия, бытия вообще и смерти в частности. В этом духовном пространстве
сформировались и новые социальные и политические измерения бытия,
новые принципы устроения общества, в которых снимались противоречия
между равенством и иерархией, между сложностью и фрагментацией
человеческих отношений, вызываемых разделением труда и стремлением к
целостности, к безусловному, непосредственному (соборному) участию
различных групп общества в социальном и культурном устроении.
Реализация этих представлений в значительной степени породила ту
мировую историю, в которой проявились потенции цивилизационного
устроения общества. Это устроение отнюдь не стало воплощением
стабильности и постоянства. Существенная часть последующего
исторического процесса заключается в деятельности различных социальных
групп, направленной на реализацию таких представлений, на создание иного
социального и политического строя, воплощающего такие представления.
Обращаясь к идеям и принципам, сформулированным в духовном
пространстве цивилизации, протестные группы могут стремиться к иному,
лучшему социальному строю, отвечающему идеальным, «подлинным»
представлениям о «правильном» строе. Конечно, такие представления могут
уходить в эсхатологические ожидания, приобретать милленаристский и
утопический характер. Такими поисками богата история каждого
религиозного региона.
Этот многомерный подход к цивилизации вносит необходимые коррективы в
складывающуюся теорию цивилизаций или в ее применение к рассмотрению
конкретных типов цивилизационного устроения общества и вариантов тех
изменений, которые происходят во всяком сложном обществе. Этот подход
не только снимает однозначность цивилизации в единственном числе, но и ее
одномерность, столь часто представленную в сравнительном изучении,
основанном на феноменологическом выявлении некоторых характерных черт
духовного содержания или социокультурной структуры конкретного
региона.
Этот подход в полной мере применен Ш. Эйзенштадтом и к анализу
«московского варианта христианской цивилизации». Не подвергая какомулибо сомнению ее отнесенность к «осевым» образованиям, он отмечает, как
можно убедиться, и относительно низкую степень автономности культурной
сферы от политического порядка, монополизацию этой сферы властью и
относительную децентрализацию хозяйственной сферы — поскольку та не
затрагивала
непосредственно интересов центра. Поэтому центр
монополизировал поддержание социального и политического порядка, не
допуская участия более широких слоев населения в политике. Ориентация на
централизацию власти во многом обеспечивалась не только официальными
идейными установками, но и обращением к насилию. Соответственно,
поддерживалось разграничение между различными неправящими элитами,
контроль над их доступом к власти и над использованием этими элитами
ресурсов для социальной и политической мобильности. Такого рода
ограничения относились как к аристократии, так и к церкви. Существенное
обстоятельство заключалось в том, что духовная активность в значительной
степени направлялась либо на «потусторонние» цели, либо на критику
засилья самодержавия. Результатом стало уменьшение трансформационных
потенций российского общества.
Следует отметить, что Ш. Эйзенштадт в своей книге «Революция и
преобразование обществ» не обращается к положению о ценностных
антиномиях и расколах в российском обществе или прерывистости его
исторического развития. Эта тема стала одной из наиболее характерных в
исследованиях последних лет, продолжающих принципы, заложенные Н.
Бердяевым и другими крупными русскими мыслителями. Проводимый Ш.
Эйзенштадтом в его книге анализ остается структурно-функциональным. Но
и в этих рамках он выявляет характерные черты российского общества,
проявившиеся и в ходе революции 1917 г., связанные прежде всего с
чрезмерным преобладанием имперского центра, сковывавшего потенции
развития российского общества в целом.
Содержательным дополнением к пониманию характера революции в России
и других странах стала категория «инверсия» как выражение радикального
«скачка» в социокультурном устроении общества от одной крайности к
другой — при значительном разрушении накопленного материала.
Возможно, что этот термин предстает более «нейтральным» в научном
дискурсе, чем столь перегруженный экспрессией термин «революция».
Впрочем, книга в полной степени «реабилитирует» столь содержательный
термин.
Однако эту линию анализа следовало бы дополнить и констатацией того
важнейшего для России факта, что степень зрелости российской цивилизации
и ее сформированности была явно недостаточна в условиях высокой степени
гетерогенности населения — как по этническому, так и по
конфессиональному или культурному составу. И «две культуры» были
отнюдь не только идеологемой, а воплощением жесткой социокультурной
разделенности общества, лишенного устойчивого «ядра» и «срединного
начала». Государство как до революции, так и после нее «замещало»
цивилизационные механизмы в их интегративной и регулирующей функции.
Поэтому его разрушение, сопровождаемое и «отменой» надэтнических
(интернациональных) и надклассовых социокультурных принципов и
идейной символики, привело как в начале XX в., так и в его конце к
ослаблению основ цивилизационного устроения жизни.
Если продолжить эту линию анализа, то в нее легко встраивается и
объяснение «контрреволюционной перестройки» в России, начавшейся во
второй половине 80-х гг. Как и в начале века, модернизационный порыв
привел к разрушению прежних государственных структур и радикальному
ослаблению центра. Однако вместо ожидаемого «ускорения» и «обновления»
российское общество вступило в тягостный период «обвала» и снижения
цивилизационного потенциала. Впрочем, всякая, даже не органичная
«осевая» цивилизация сохраняет потенции своего самоопределения и
возвышения.
Дополнение к парадигме революции. Великие революции непосредственно
связаны с процессами, протекающими в лоне «осевых» цивилизаций. Они
имели место в той социокультурной среде, которая сформировалась в рамках
таких цивилизаций, и стали продолжением и завершением движений
инакомыслия и протеста, возникавших в различных обществах на
протяжении веков. Эти движения, показывает Ш. Эйзенштадт в своем
исследовании, были направлены на реализацию иного социального строя,
отвечающего представлениям, ориентациям и потенциям, возникшим в
пространстве «осевой» духовности. Принципиальное отличие этих течений
от собственно религиозных направлений заключалось в их социальной
посюсторонности и политической направленности. Что же касается
трансцендентных ориентации, то они переносились на человеческую
личность, которая должна превзойти свою прежнюю ограниченность, а также
на будущую перспективу истории.
Такого рода революционные ориентации формировались в ходе Реформации,
имевшей место в тех европейских странах, где позже и вспыхнули
революции, а впоследствии возникла светская оппозиция религиозным
воззрениям и получило развитие движение Просвещения, впитавшее в себя
многие мотивы и образы движений инакомыслия и протеста в
предшествующие времена.
Принципы и символика революционного протеста и радикализма стали
базовыми компонентами современного общественного устройства. И
наиболее последовательное выражение эти принципы и символика получили
в социалистических и коммунистических течениях.
Вряд ли можно усмотреть в этом что-то новое для «правоверного марксиста»,
как и в положении о том, что именно великие революции в значительной
степени породили мировоззренческие основы, символику, социальные
идеологии и политические системы современности. Это же относится к
принципам универсализма, миссионерства, прогресса и тотальности перемен.
Что нового вносит израильский ученый в анализ революционных процессов,
столь основательно разработанный в марксистской теории? Прежде всего,
это выявление тех духовных аспектов социальной регуляции, которые
ускользали от объяснения в рамках «базисно-надстроечной» концепции
исторического процесса, и анализ структуры и потенциала духовности,
воздействия этого потенциала на идейные течения. Это также и анализ
принципов и механизмов институционализации духовной жизни и
взаимодействия различных социальных структур, соотношения центра и
периферии, что в значительной степени сказалось как на протекании
революции, так и на ее результатах.
Итак, в построении нового европейского общества и в расширении
цивилизации Нового времени Ш. Эйзенштадт отводит существенное место
тем процессам революционной перестройки, в которых в отличие от
традиционных осуществляется соединение различных потоков, происходит
включение широких слоев населения в устроение социальных порядков,
соединение с политикой как борьбой за власть, выдвигаются устойчивые
идеологические и организационные формы мобилизации участников борьбы.
В отличие от либеральных идеологов израильский ученый отводит вторичное
и производное место рынку и частной собственности, подчеркивает роль
ценностного и мировоззренческого факторов в ориентации человека Нового
времени на перестройку социального и культурного порядка, создание новых
условий существования и управления обществом через принципы и
механизмы политического соперничества и борьбы. Эти выводы вновь
обращают наше внимание на анализ существенных социальных и
культурных аспектов российской цивилизации в связи с процессами,
обозначаемыми как «революция».
На раннем этапе великие революции проходили в странах, относящихся к
«большой традиции» западной цивилизации. Но позднее сходные процессы
охватили общества, относящиеся к другим мировым цивилизациям.
Характерно, что Ш. Эйзенштадт поддерживает вывод М. Вебера о том, что
именно Европа породила модернизационный процесс и дала толчок его
распространению и в других странах. Однако подобие этих процессов не
устраняет цивилизационных отличий, так как модернизация, подчеркивает
Ш. Эйзенштадт, носит структурный характер и сопровождается
цивилизационным отторжением Запада. Эти положения более основательно
обоснованы в других его книгах, вышедших в 70—80-х гг.
Ранние и поздние революции Нового времени. Оценка, которую дает Ш.
Эйзенштадт в книге «Революция и преобразование обществ» поздним
революциям, произошедшим в России и Китае, а в определенной степени и в
Турции, Вьетнаме и Югославии, явно разойдется с более поздними
идеологическими поношениями этих революций (или их замалчиванием).
Как он полагает, вопреки всем отличиям, прежде всего большей степени
разрушений и насилия по отношению к старому строю, эти революции
существенным образом сходны с ранними. Все они имели место в обществах,
относящихся к мировым цивилизациям, в которых были сформированы
высокие культуры, и в духовном плане эти революции опирались на
гетеродоксию, возникающую в рамках «большой традиции». Они
провозглашали универсалистские ориентации, выходящие за рамки,
локальных национальных, региональных или политических образований, и
содержали сильные миссионерские тенденции. В них получила высокую
степень развития идеология, обращавшаяся к особому «космическому»
порядку и высшему закону и утверждавшая необходимость мирской
активности для преодоления напряженности, возникающей в силу разрыва
между этим порядком и наличным состоянием общества. Для этих
революций также характерна высокая степень вовлеченности в
международные отношения.
Существенное структурное отличие этих поздних революций Ш. Эйзенштадт
видит в том, что они протекали не в условиях упадка феодализма и
нарастания буржуазных отношений, а в имперских и в имперско-феодальных
системах. Это приводило к высокой степени выделенности центра и его
вмешательству в дела остального общества. Такой центр подавлял
накапливавшиеся в обществе преобразовательные тенденции, подавлял
любые движения протеста и инакомыслия, преследуя их политические
претензии. Поэтому степень совершаемого революциями разрыва с
существующими структурами в этих странах, а соответственно, и насилия,
была намного значительнее. Соответственно, намного более значительной
была смена символики, политической идентичности, устранение прежних
элит или активизация новых социальных групп.
И снова мы убеждаемся, что комплексный и систематичный подход Ш.
Эйзенштадта оказывается гораздо более полноценным по сравнению с
разбором отдельных сторон исторических процессов, происходивших в годы
великих потрясений, — независимо от идейной направленности этого
разбора. Односторонними и ущербными окажутся все попытки осудить или
оправдать революционные идейные построения, политическое устроение
государства-империи, внешнюю политику государства.
III. Эйзенштадт прямо связывает все эти революции с процессами
модернизации обществ как в социально-политическом, так и в
мировоззренческом плане, а, следовательно, и с основами цивилизации
Нового времени. Более того, так или иначе они повлияли и на другие
общества, не захваченные непосредственно революционными процессами. И
наиболее очевидное свидетельство этого влияния — широкое
распространение социалистических и коммунистических течений и
тенденций.
Вместе с тем Ш. Эйзенштадт подчеркивает цивилизационную
двойственность этих, казалось бы, собственно западных по своему генезису
течений, их амбивалентность по отношению к классическому достоянию
Европы — христианству, Просвещению и научной революции, а также и к
политическим или экономическим основам западного общества. Однако
именно поэтому эти течения с готовностью воспринимаются в незападных
странах и становятся средством сопротивления не только экономическим
моделям либерального капитализма, но и экспансии западной цивилизации с
присущими ей принципами социальной регуляции. В социализме движения
протеста находят форму выражения протеста против негативных
последствий воздействия Запада, соответствующую базисным основам
цивилизации Нового времени. Социализм стал одним из важнейших
компонентов утверждения цивилизации Нового времени, в котором так или
иначе снимались или минимизировались противоречия, возникавшие в ходе
модернизации.
Продолжая мысль Ш. Эйзенштадта, можно отметить, что универсальность
этого течения наталкивалась на цивилизационные и национальные
ограничения, что и породило столь интенсивные споры относительно
соотношения
общемировых
и
национальных
особенностей
в
«социалистическом пути». И как известно, эти национальные особенности,
тесно связанные с цивилизационной спецификой общества, стали
преобладающими вопреки всем попыткам «интернационализации» этого
движения.
Некоторые характеристики цивилизации постсовременности. В октябре 1998
г. Ш. Эйзенштадт впервые приехал в Москву, где он выступил с докладами в
ряде научных центров. Доклады были посвящены теме, часто возникающей
перед исследователями модер-низационных или цивилизационных
процессов: «фундаменталистские течения в современном мире» — и
отражали основные положения его ближайшей книги. Вновь основным
методом ученого стало сравнительное изучение влиятельных течений,
совмещающих в себе социокультурные и политические компоненты,
возникающих в разной цивилизационной среде и имеющих сходные, а вместе
с тем специфичные характеристики. Фундаментализм в разнородной
«пионерской» среде США стал инструментом дальнейшей плюрализации
общества, а фундаментализм в восточных обществах был движением за
самоопределение и интеграцию расходящихся субкультур, ставящих под
вопрос социокультурное единство общества.
Таким образом, великие революции отнюдь не возвещают окончательного
утверждения цивилизации Нового времени. История продолжает
развертываться в измерениях цивилизационного плюрализма. Но и на новом
витке развития научной мысли Щ. Эйзенштадту не пришлось менять,
переосмыслять или «перестраивать» свою научную парадигму, основанную
на цивилизационном подходе к макросоциальным образованиям и
длительным процессам. Ему достаточно было достроить новый уровень
своей концепции, проявившей столь содержательные и гибкие возможности
объяснения существенных процессов мировой истории.
Книга Ш. Эйзенштадта «Революция и преобразование обществ.
Сравнительное изучение цивилизаций» может сыграть существенную роль в
развитии новейшей российской социологической мысли. Доскональное
осмысление столь сложных и противоречивых явлений, как российское,
советское и постсоветское общество, оказалось довольно сложным
процессом. Теоретический пейзаж того поля, на котором ведутся
исследования российской проблематики, после «разгрома тоталитаризма» и
краха западников-радикалов оказался усеянным обломками сразу нескольких
идеологических периодов, и лишь в весьма относительной степени можно
полагаться на реконструкцию предшествующих слоев или инокуль-турные
модели. Настало время более углубленного анализа, в котором приходится
прежде всего проводить крайне напряженную и многомерную работу по
воспроизводству тех теоретических парадигм, в которых можно определить
столь противоречивую российскую действительность. Представляемая книга
— содержательный вклад не только в общую социологию, но и в
теоретические источники научно-аналитического осмысления сложных и
противоречивых процессов, происходящих в «постсоветском пространстве».
Б. С. Ерасов
Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ. Сравнительное
изучение цивилизаций. М.: Аспект Пресс, 1999. - 416 с.
406-407 УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Алмонд, Габриел 44, 109
Арендт, Ханна 225
Арнасон, Иоган 33
Арон, Раймон 241
Бедла, Роберт Н. 44, 107, 119, 200, 275
Бенда, Гарри 340
Бендикс, Рейнхард 63, 65
Берлин, Исайя 35
Бешлер, Жан 49, 51
Бжезинский, Збигнев 364
Блау, Петер 63
Блок, Марк 197
Боббио, Норберто 35
Бреннер, Роберт 322
Бринтон, Крен 48
Вебер, Макс 28, 30, 47, 61, 62, 72, 105, 113, 139, 257, 258, 366, 371
Гарфинкель, Гарольд 91
Гейгер, Теодор 45
Гендерсон Р.Н. 114
Герц (также Гирц - Geertz), Клиффорд 154
Гершенкорн, Александр 265
Гёрр (Gurr), Тед 50
Данн, Джон 50
Дарендорф, Ральф 63, 65
Денис, Джеймс 50
Дейч, Карл 51
Дермот Дж.М. 363
Джермани, Джино 52, 310
Джиллис Джон 49, 51
Джонсон, Чалмерс 46
Дуглас, Мэри 93
Дюркгейм, Эмиль 60-62, 91, 105
Ёгги (Jaeggi), Урс 51
Ёнике (Ja'nicke), Мартин 51
Зиммель, Георг 62, 91
Каменка, Юджин 46, 239
Каутски, Джон 266
Коллинз, Рендол 63, 65
Коузер (Козер), Льюис 65
Кошен, Огюст 31
Ландауэр, Густав 45
Ландсбергер, Генри 344
Леви-Строс, Клод 63, 65, 70, 92
Ледерер, Эмиль 45
Ленски, Герхард 106, 119
Ленски, Жан 74, 106, 119
Лернер, Даниел 44
Лефор, Клод 33
Липсет, Сеймур Мартин 52, 74, 266
Лихтхайм, Джон 239
Луман, Никлас 117
Люббе, Герман 35
Люксембург, Роза 370
Люти (Liithy), Герберт 251
Мазлиш (Mazlish), Брюс 254
Майер К.А. 365
Макдениел, Тим 344
Мардин, Шериф 41, 48, 51
Маркс, Карл 45, 60-62, 105, 262, 364
Мур, Баррингтон 51, 52, 74, 246, 253, 265-267, 368
Мюллер В. 365
Мэзлиш, Б. 254
Нольте, Эрнест 310
Озуф, Моник 31
Оффе, Клаус 365-367
Парсонс, Толкотт 44, 65, 91, 107, 109, 119, 120
Пай, Лакиен 109
Петти (Pettee), Джордж С. 48
Пиаже, Жан 108
Поланьи, Карл 141
Рансимен В. 51
Редфилд, Роберт 117
Рекс, Джон 63
Ритбергер, Фолькер 370
Розеншток-Хюсси, Ойген 45
Роккен, Стайн 52, 74, 252, 266
Сервис, Элман 97, 111
Скокпол, Теда 41, 49, 51, 247, 267, 268
Смелсер, Нейл 46
Стоун, Лоуренс 49, 51
Тальмон.Я.Л. 225
Теннис, Фердинанд 378
Тилли, Чарлз 46, 49, 51, 90
Токвиль, Алексис 45, 262, 284
Тримберджер, Кей 41, 48, 49, 51, 247, 267, 268
Турен, Ален 368
Уолзер (Walzer), Майкл 224, 251
Узрели, Питер 323
Фогелин, Эрик 30
Фортес, Мейер 77
Фридрих, Карл 46
Фюре, Франсуа 31
Хабермас, Юрген 108, 117, 369
Хантингтон, Самюел П. 46, 49, 51, 52, 368
Хинце, Отто 195, 222
Хозелиц, Берт 141
Хоманс, Джордж С. 63
Хомски, Ноам 64
Шилз, Эдвард 36, 79
Шолем, Гершон 313
Шринивас М.Н. 168, 221
Штайн, Лоренц фон 45
Эдвардс, Лайфорд П. 48
Экстайн, Гарри 51
Эллюль, Жак 368
Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ. Сравнительное
изучение цивилизаций. М.: Аспект Пресс, 1999. - 416 с.
БИБЛИОГРАФИЯ РАБОТ Ш. ЭЙЗЕНШТАДТА
Монографии
From Generation to Generation. Glencoe: The Free Press, London: Routlege &
Kegan Paul, 1956.
The Political Systems of Empires. N.Y.: The Free Press, 1963. Essays on
Comparative Institutions. N.Y.: Wiley, 1965. Japanese Civilization in a
Comparative Perspective. Chicago: University of Chicago
Press, 1966.
Modernization: Protest and Change. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1966. Israeli
Society. N.Y.: Basic Books, 1968.
Social Differentiation and Stratification. Glenview: Scott, Foresman, 1971.
Tradition, Change and Modernity. N.Y.: Wiley, 1973.
Traditional Patrimonialism and Modern Neopatrimonialism. Beverly Hills (CF):
Sage, 1973.
The Form of Sociology: Paradigms and Crises (в соавторстве с М. Curelaru),
N.Y.: Wiley, 1976. Revolution and the Transformation of Societies: A
Comparative Study of
Civilizations. N.Y.: The Free Press, 1978. Sociological Approach to the
Comparative Study of Civilizations. Jerusalem:
The Hebrew University. 1982. Patrons, Clients, and Friends: Interpersonal
Relations and the Structure of
Trust in Society. Cambridge: Cambridge University Press, 1984. Society, Culture
and Urbanization (with A. Shachar). Beverley Hills: Sage, 1987. European
Civilization in a Comparative Perspective: A Study in the Relations
between Culture and Social Structure. Oslo, 1987.
Сборники
The Protestant Ethic and Modernization: A Comparative View (ed.). N.Y.: Basic
Books, 1968.
Comparative Perspectives on Social Change (ed.). Boston: Beacon Press, 1968.
Max Weber: On Charisma and Institution Building (ed.) Chicago: University of
Chicago Press, 1968.
The Decline of Empires (ed.). N.Y.: Free Press, 1969. Political Sociology (ed.).
N.Y.: Basic Books, 1971. Post-Traditional Societies (ed.) N.Y.: Norton, 1972.
Intellectuals and Tradition (ed. with R. Graubard). N.Y.: Humanities Press, 1973.
408
Building States and Nations. Analysis by Region (ed. with S. Rokkan). Beverly
Hills: Sage, 1973.
Socialism and Tradition (ed. with Y. Azmon). N.Y.: Humanities, 1975.
Orthodoxy, Heterodoxy and Dissent in India (ed. with R. Kahane and D.
Shulman). N.Y.: Mouton, 1984.
Macro-Sociological Theory: Perspectives on Sociological Theory (ed.). L, 1985.
The Origins and Diversity of Axial Age Civilizations, (ed.). N.Y.: SUNY Press,
1986. (Издано также на немецком (1991) и итальянском (1990) языках.)
Patterns of Modernity (ed.). V. 1. The West. V. 2. Beyond the West. L.: Frances
Pinter, 1987.
Martin Buber: On Intersubjectivity and Cultural Identity (ed.). Chicago: Chicago
University Press, 1992.
Издания на русском языке
Айзенштадт Ш. «Осевая эпоха»: возникновение трансцендентных видений и
подъем духовных сословий//Ориентация — поиск: Восток в теориях и
гипотезах. М.: Наука, 1992.
Эйзенштадт Ш.Н. Прорывы «осевого времени»//Цивилизации. М.: Малп.,
1995. Вып. 3.
Эйзенштадт Ш. Прорывы «осевого времени»: их особенности и
происхождение//Современные теории цивилизаций. М.: Наука, 1995. Вып. 3.