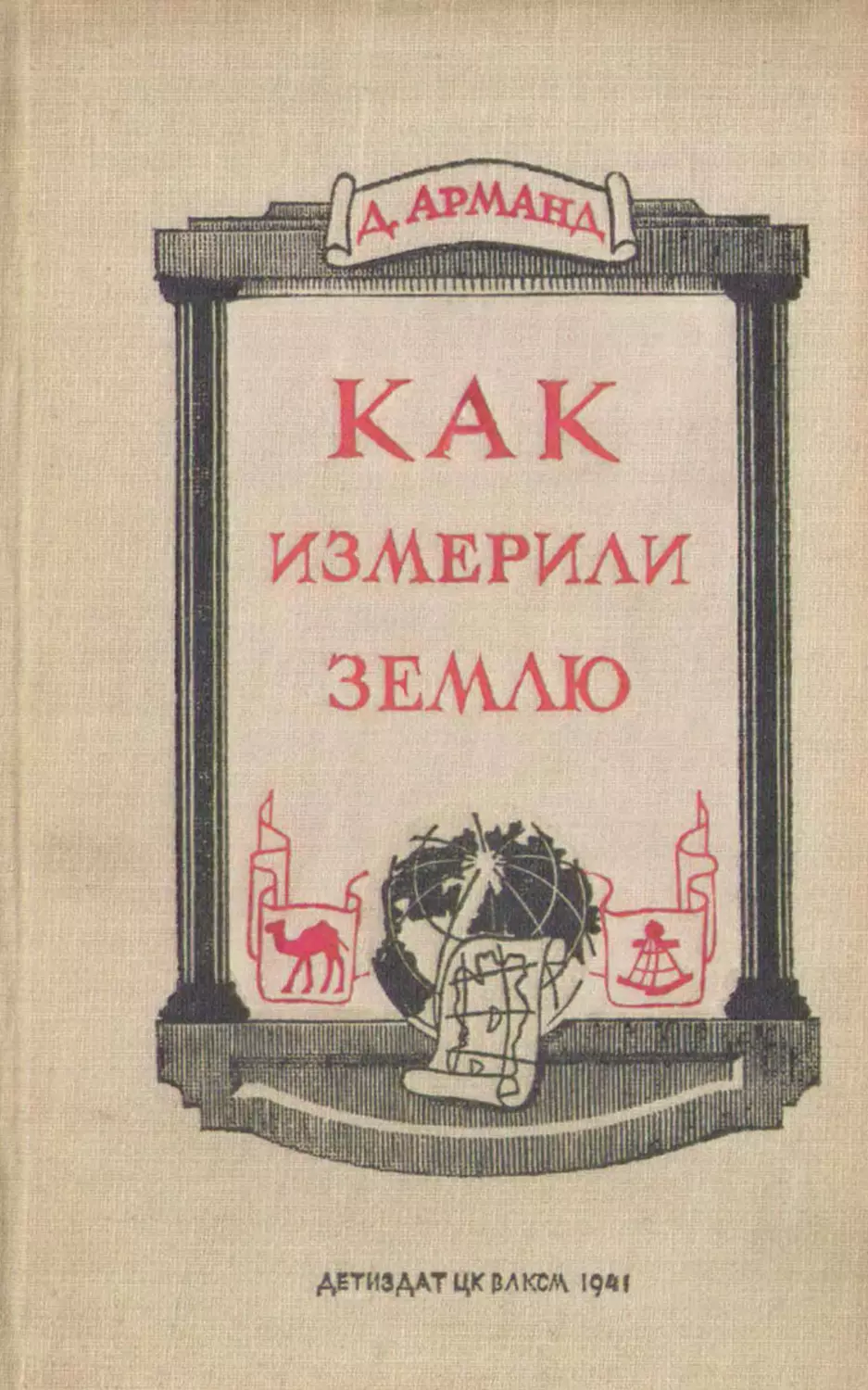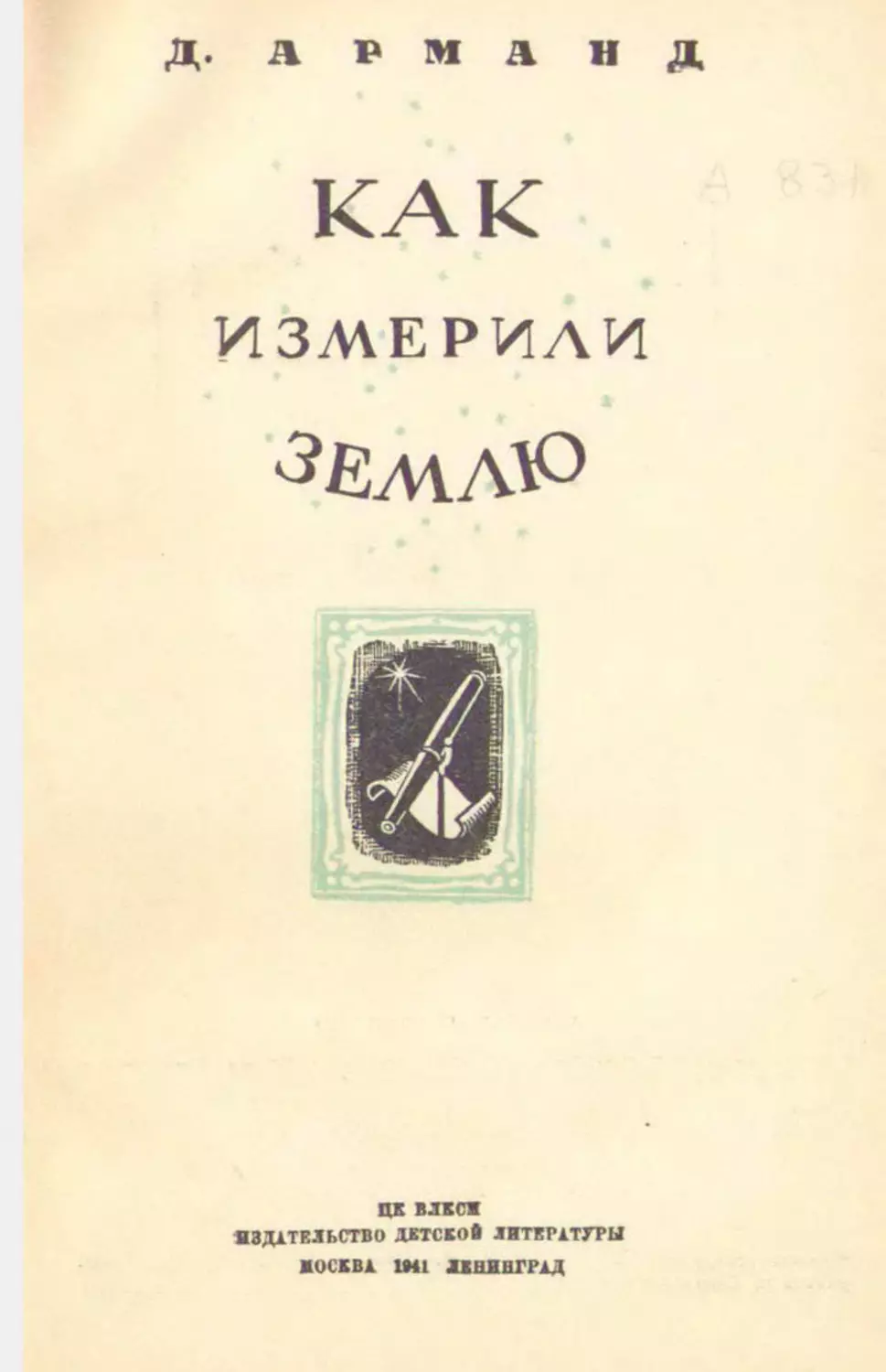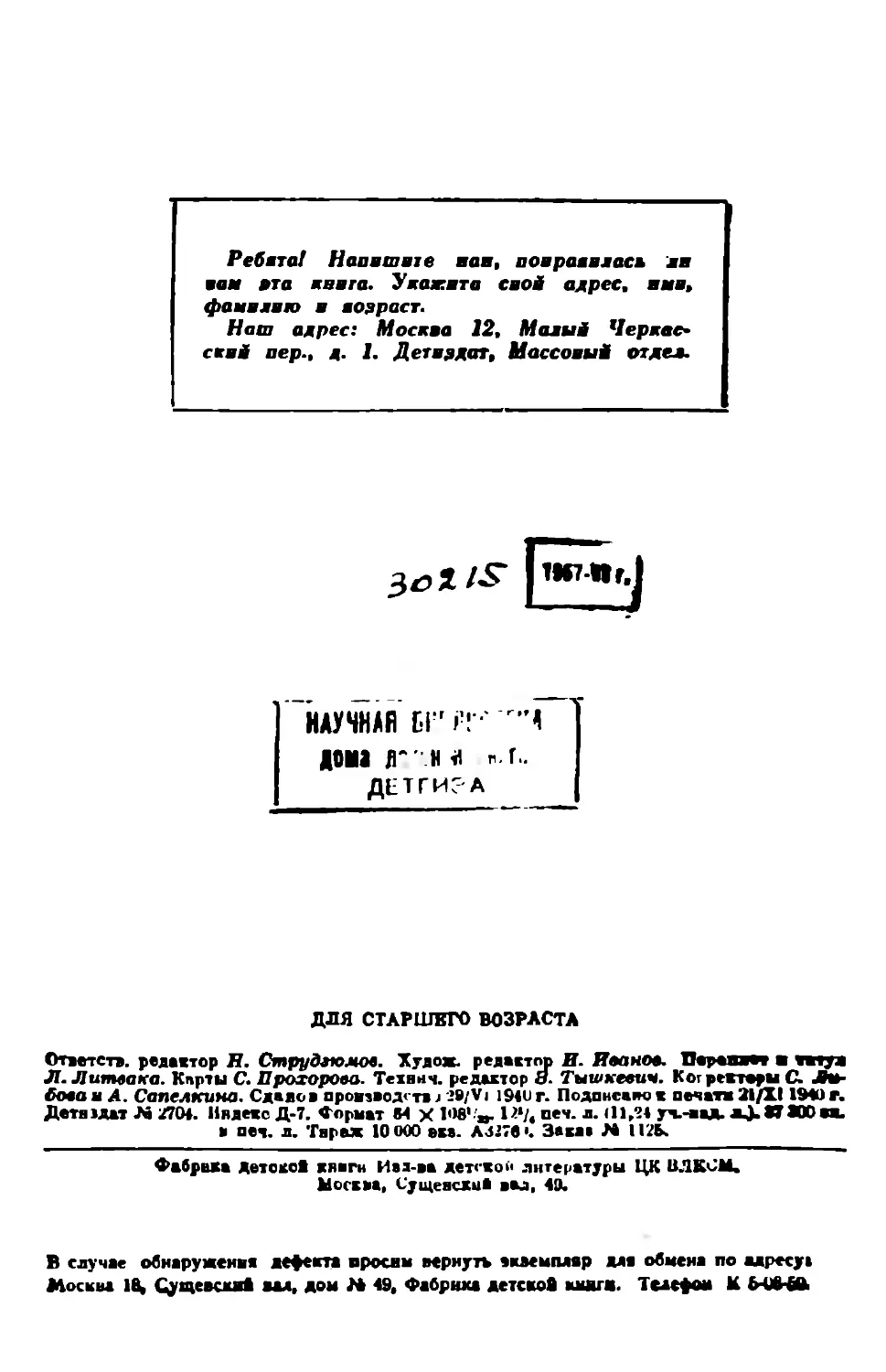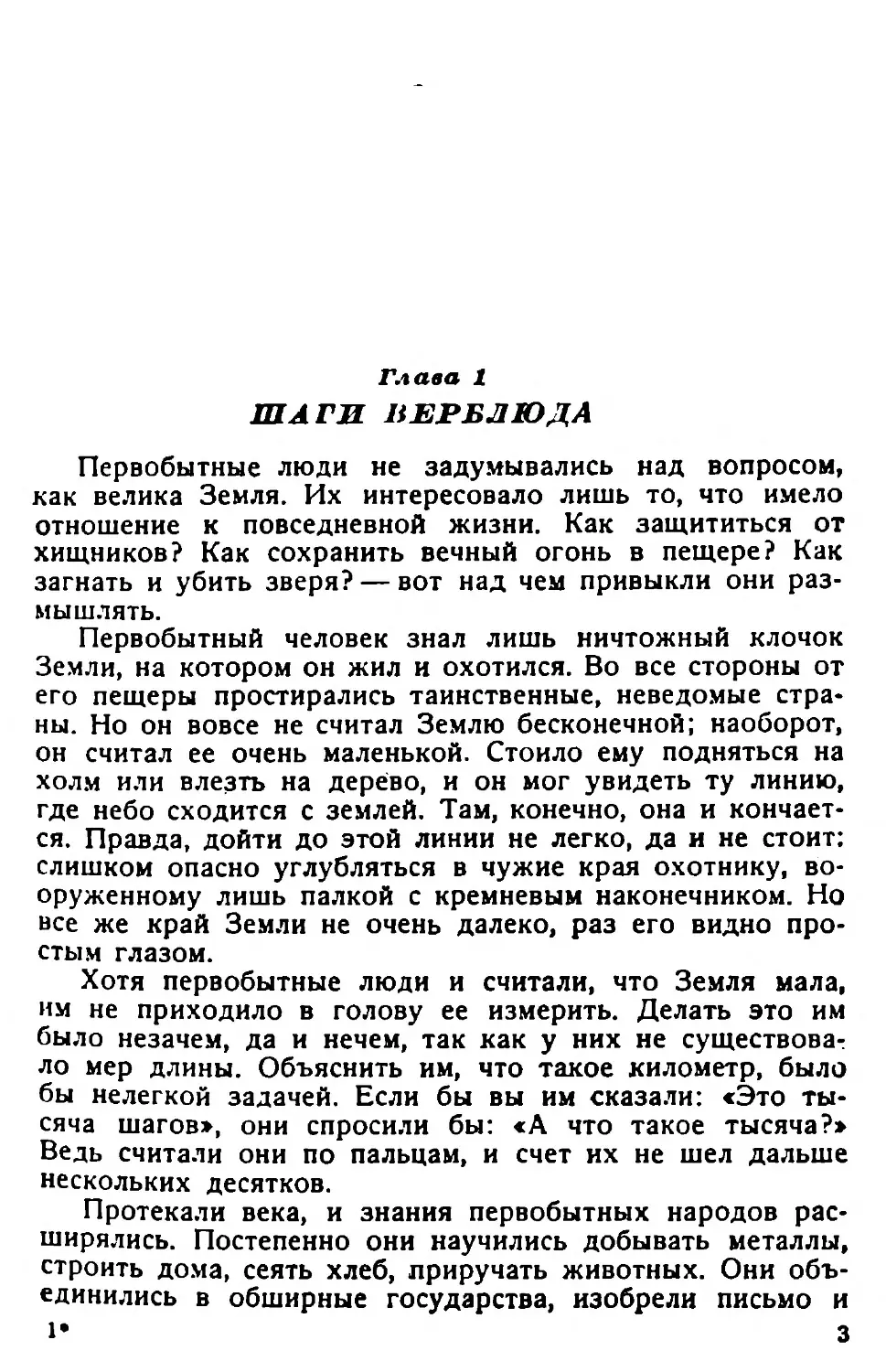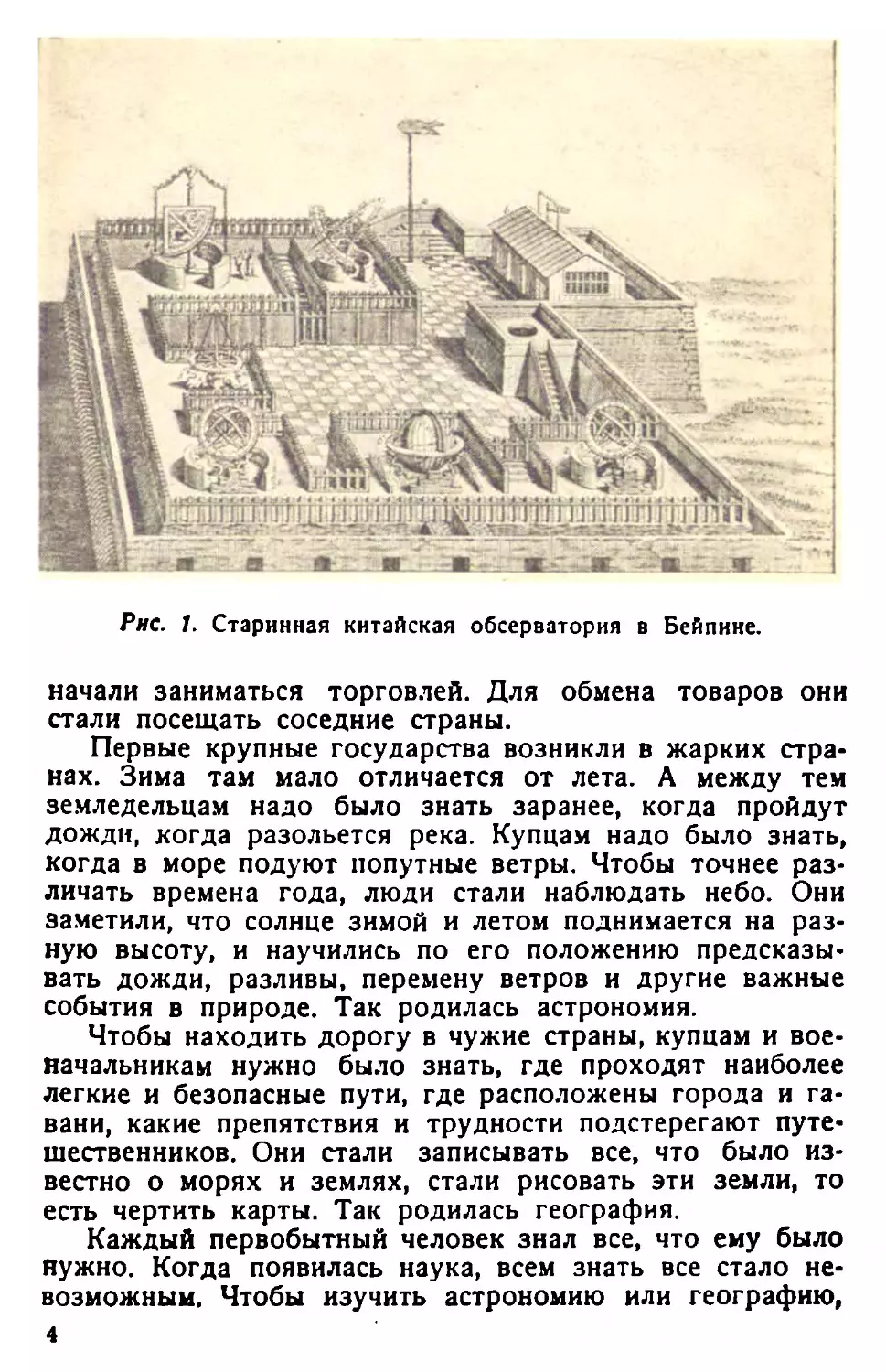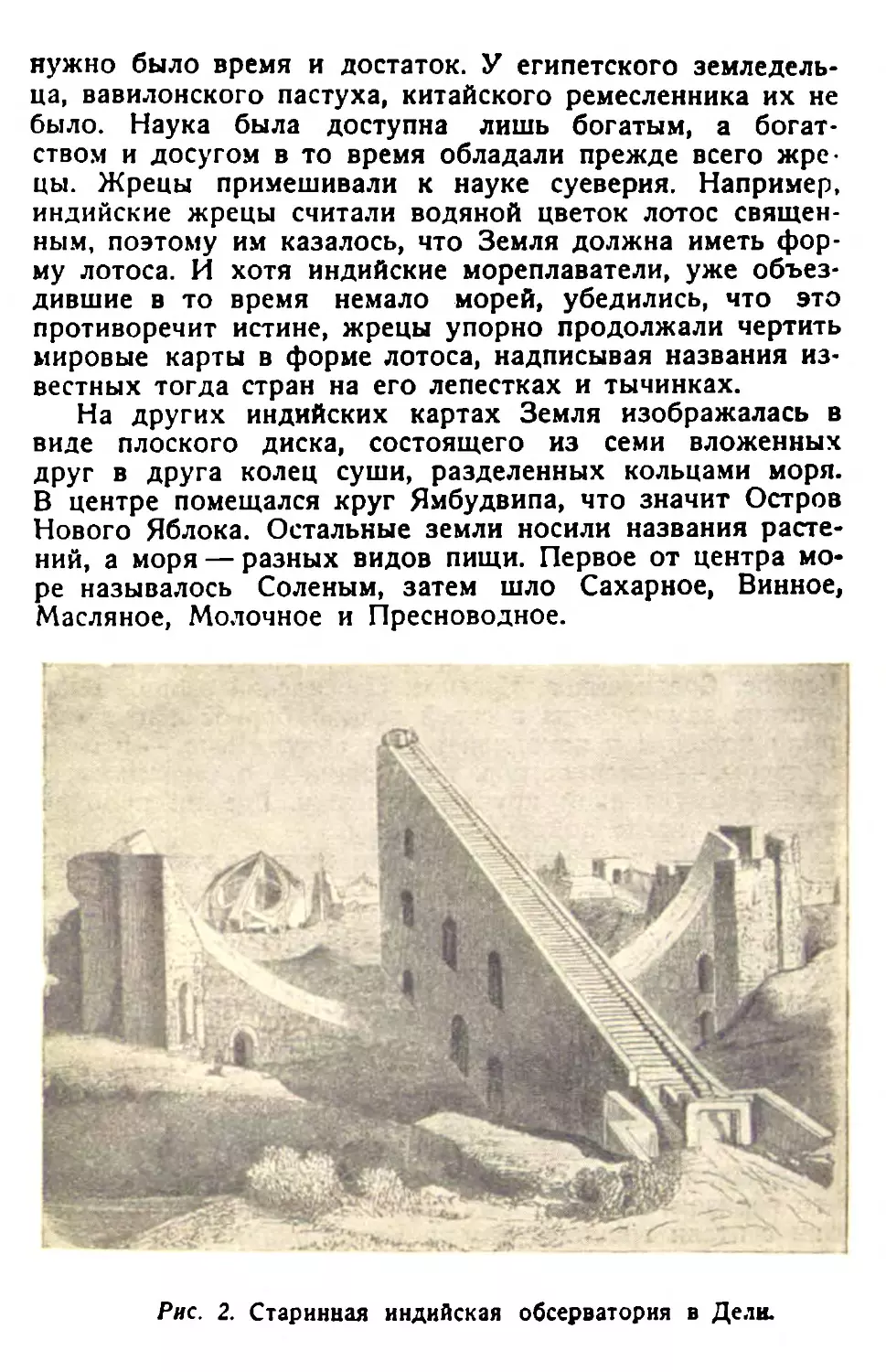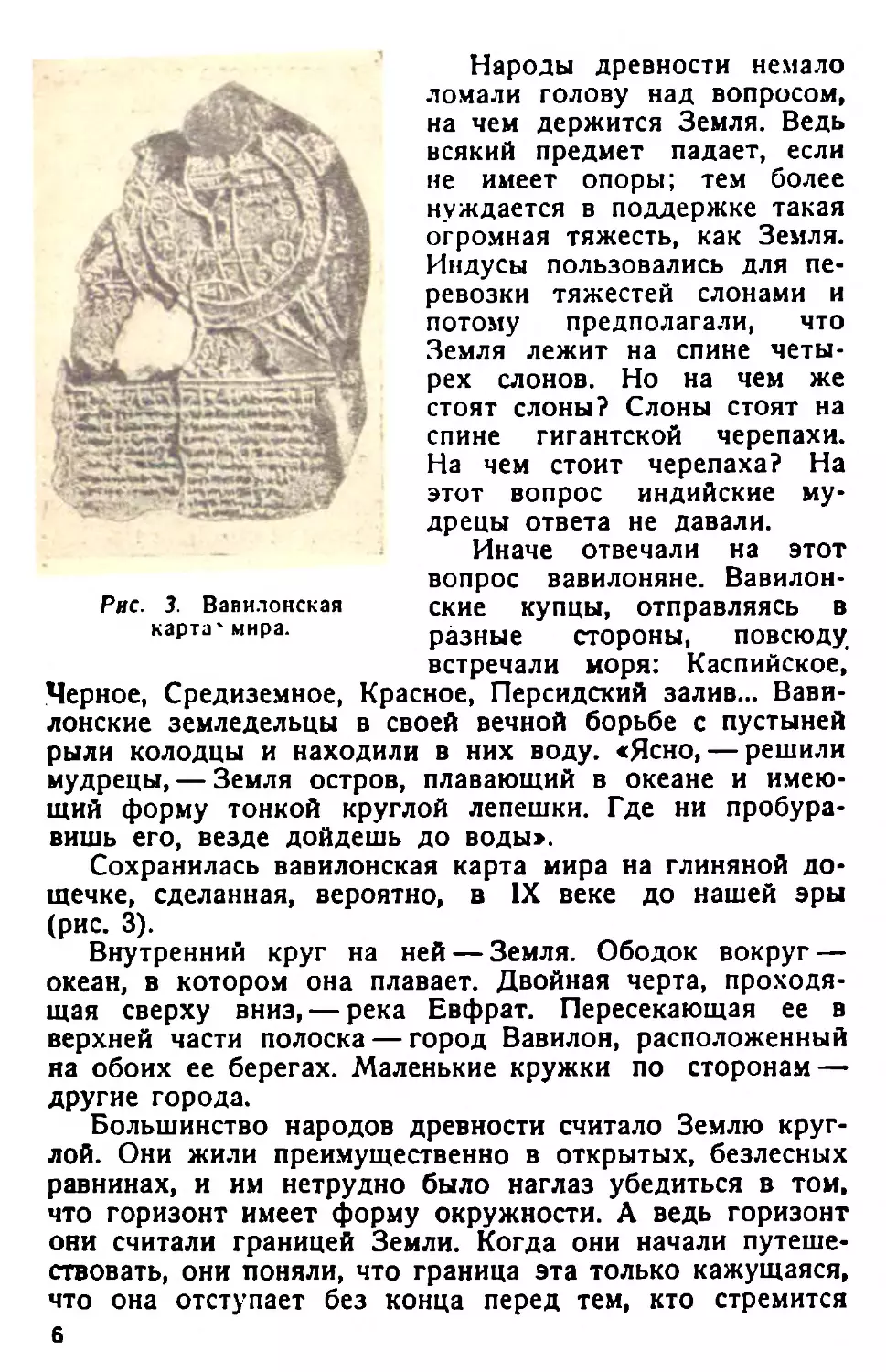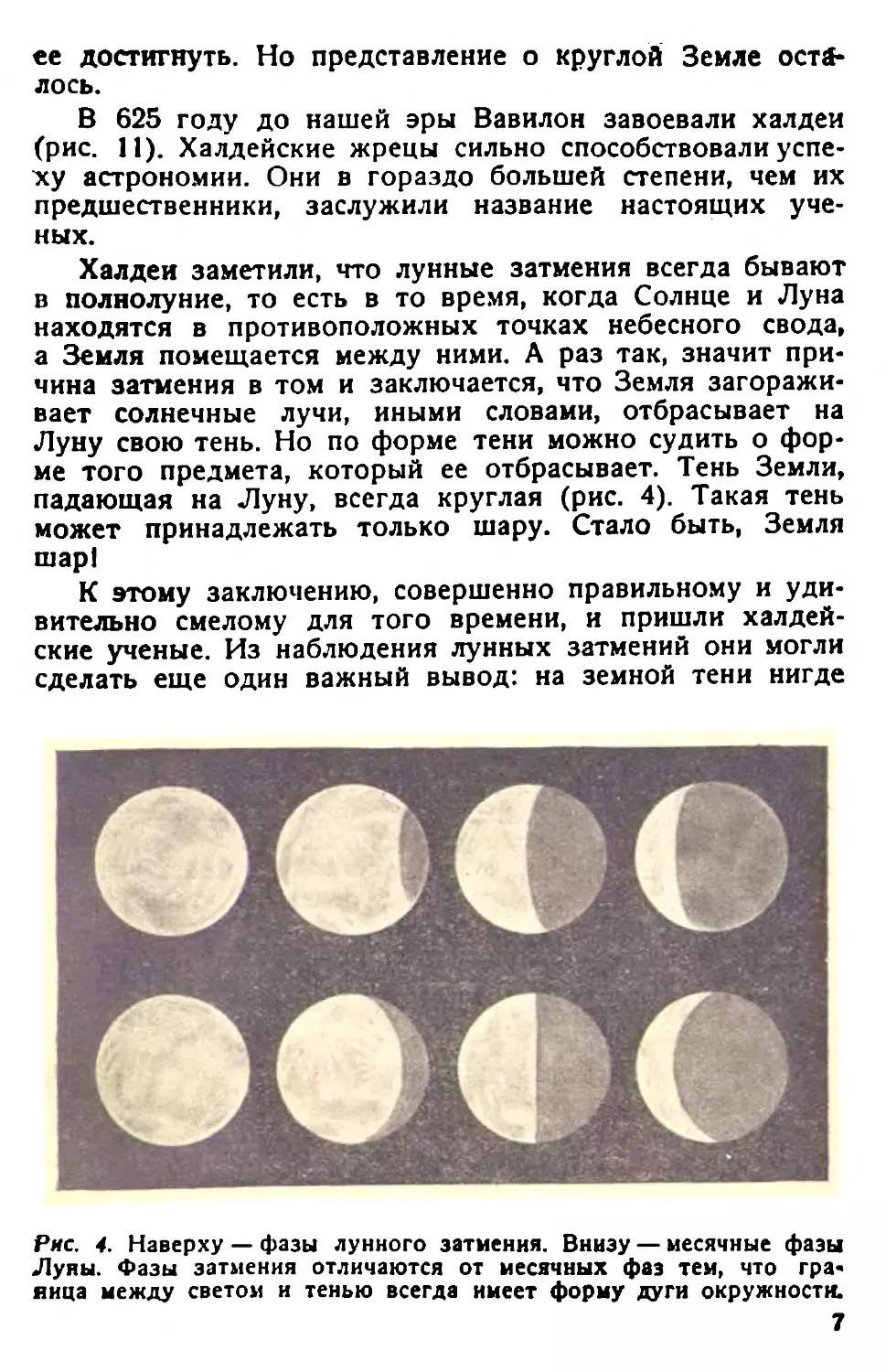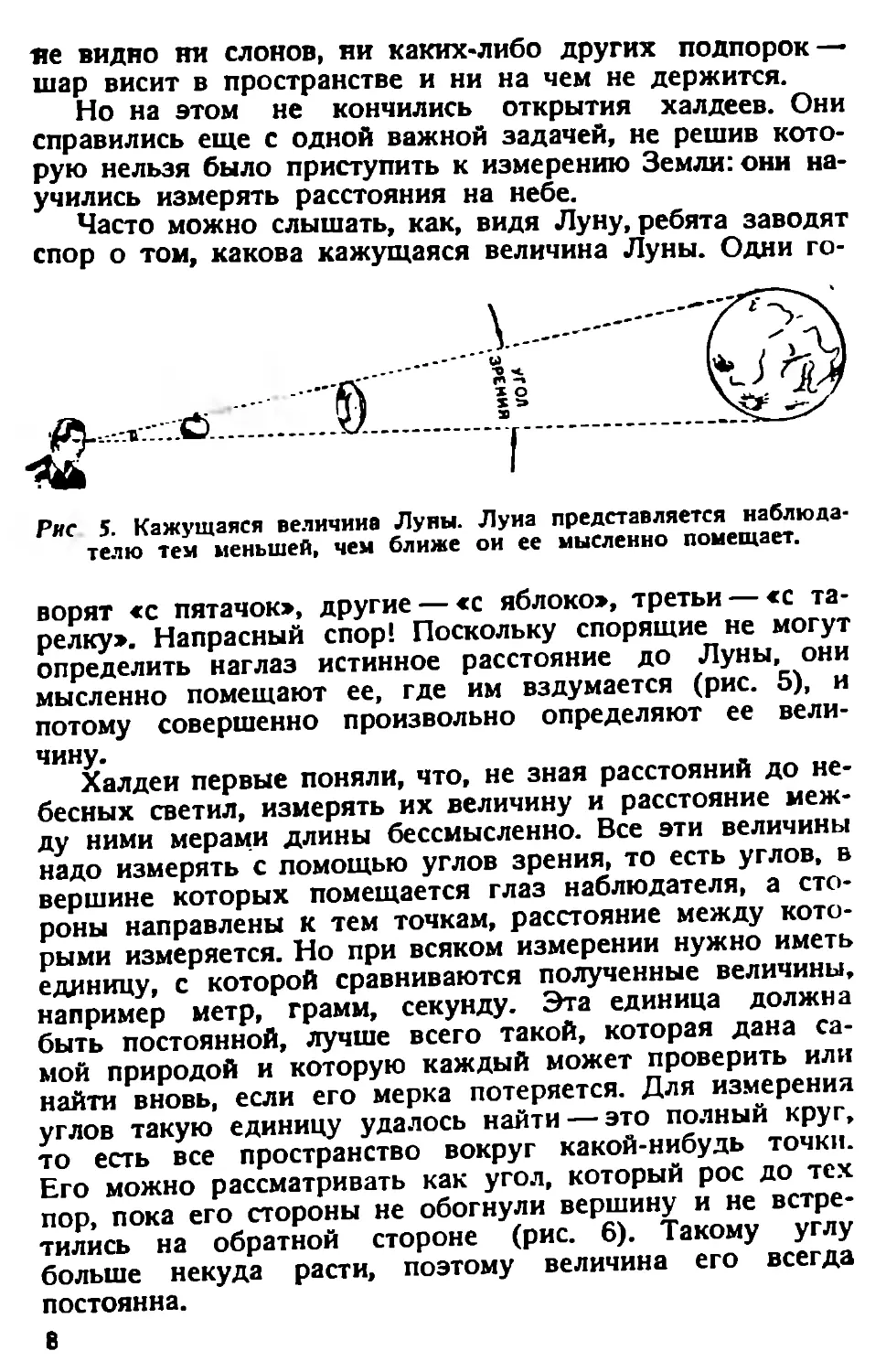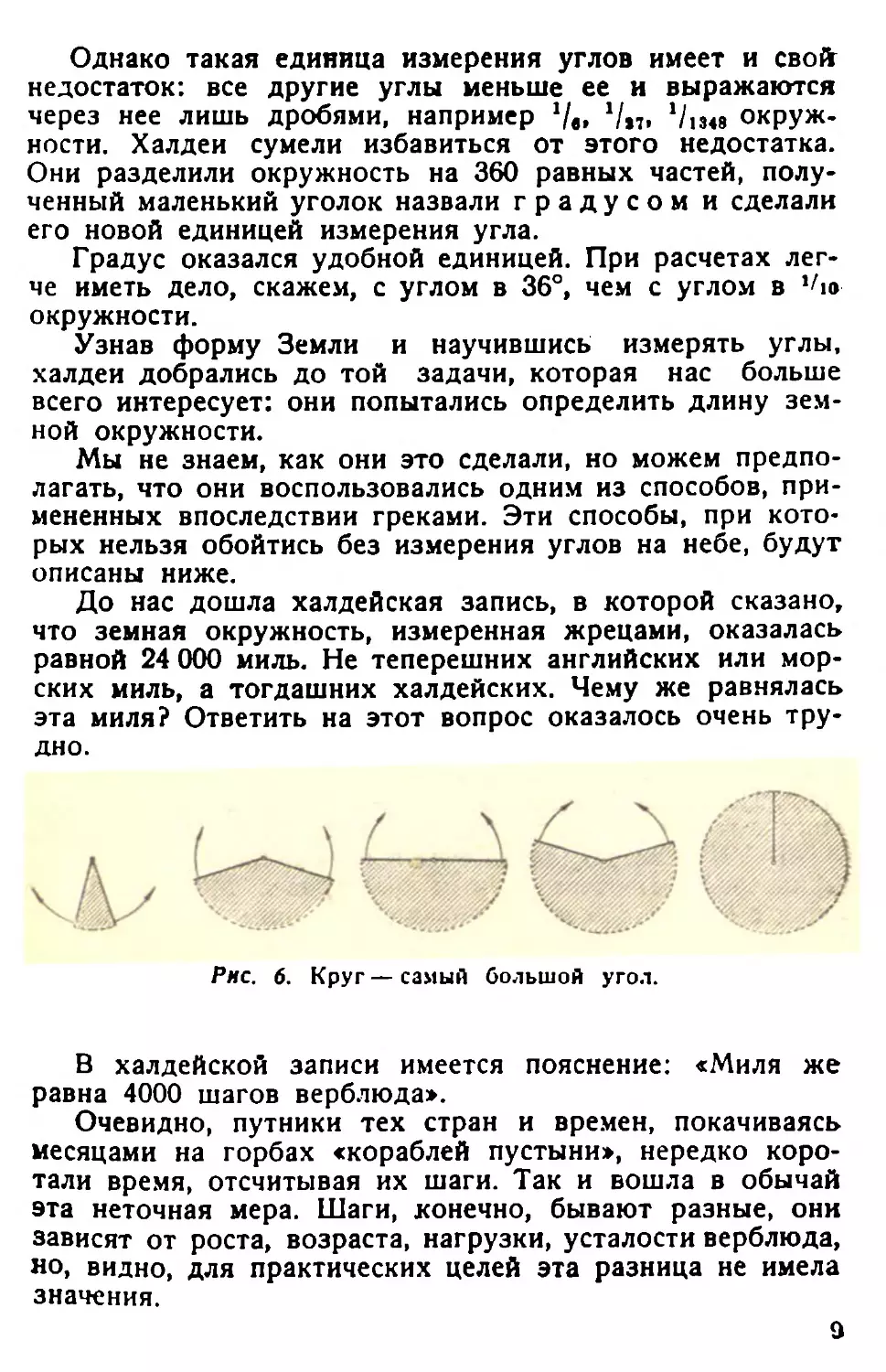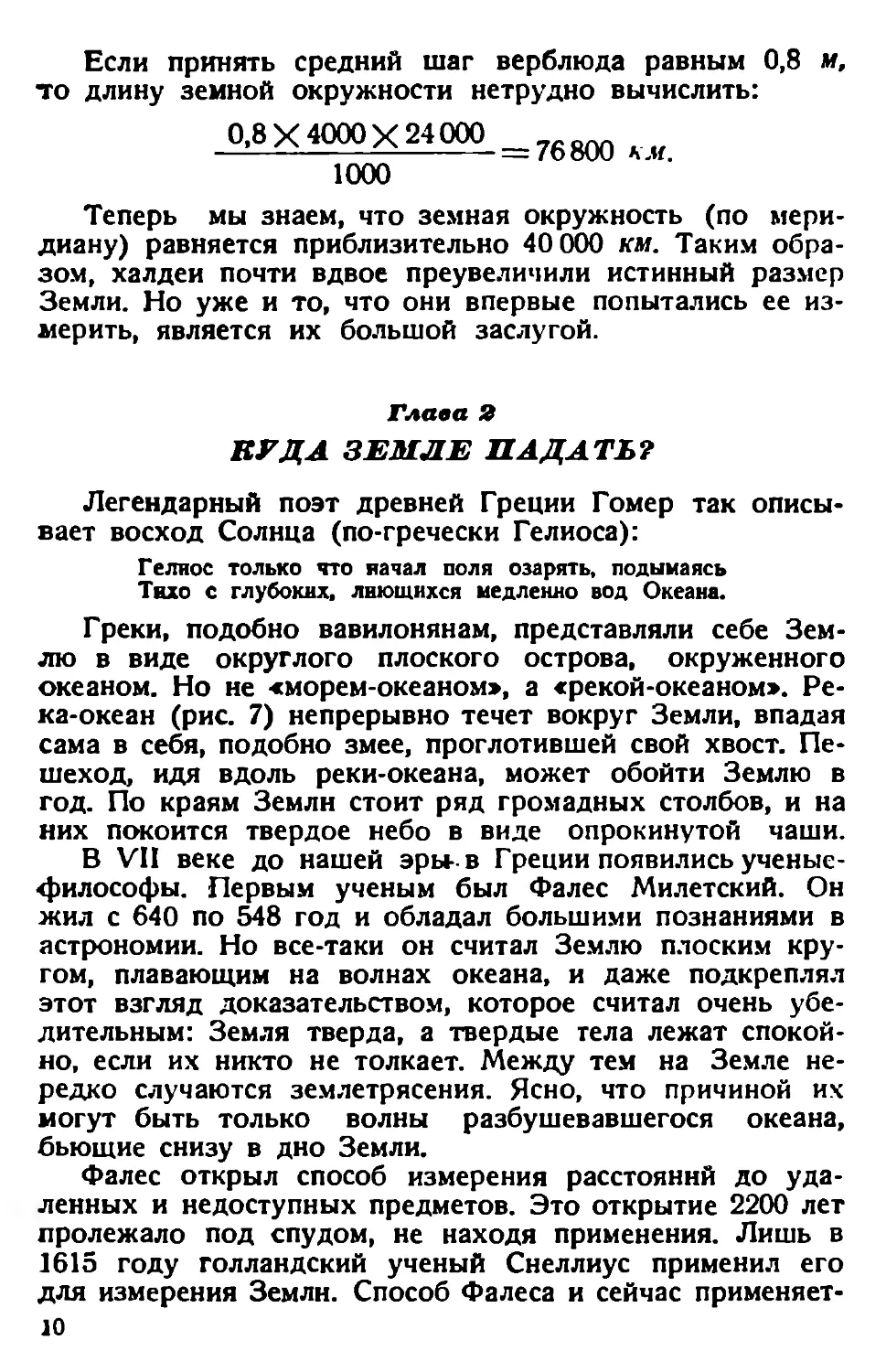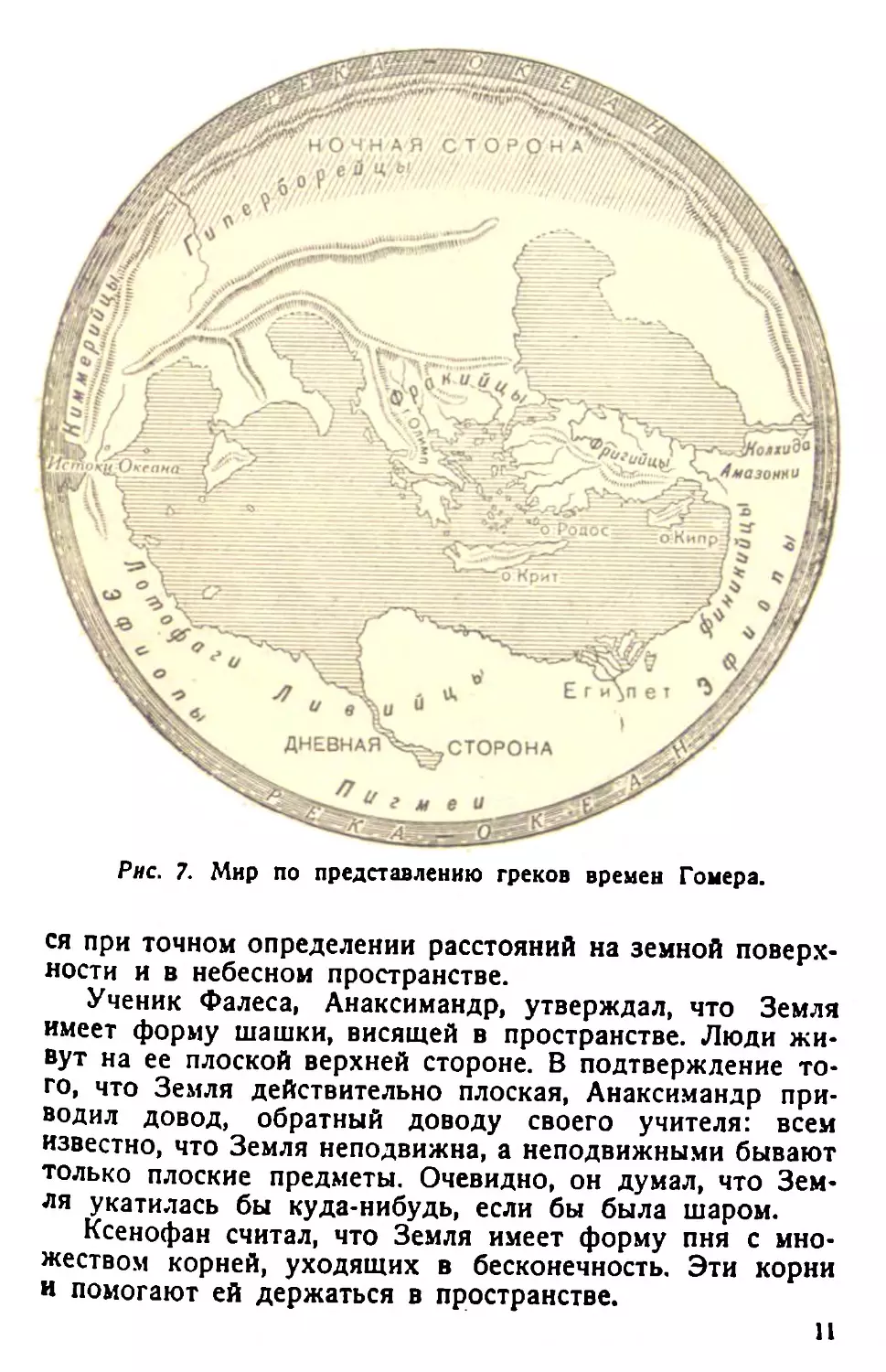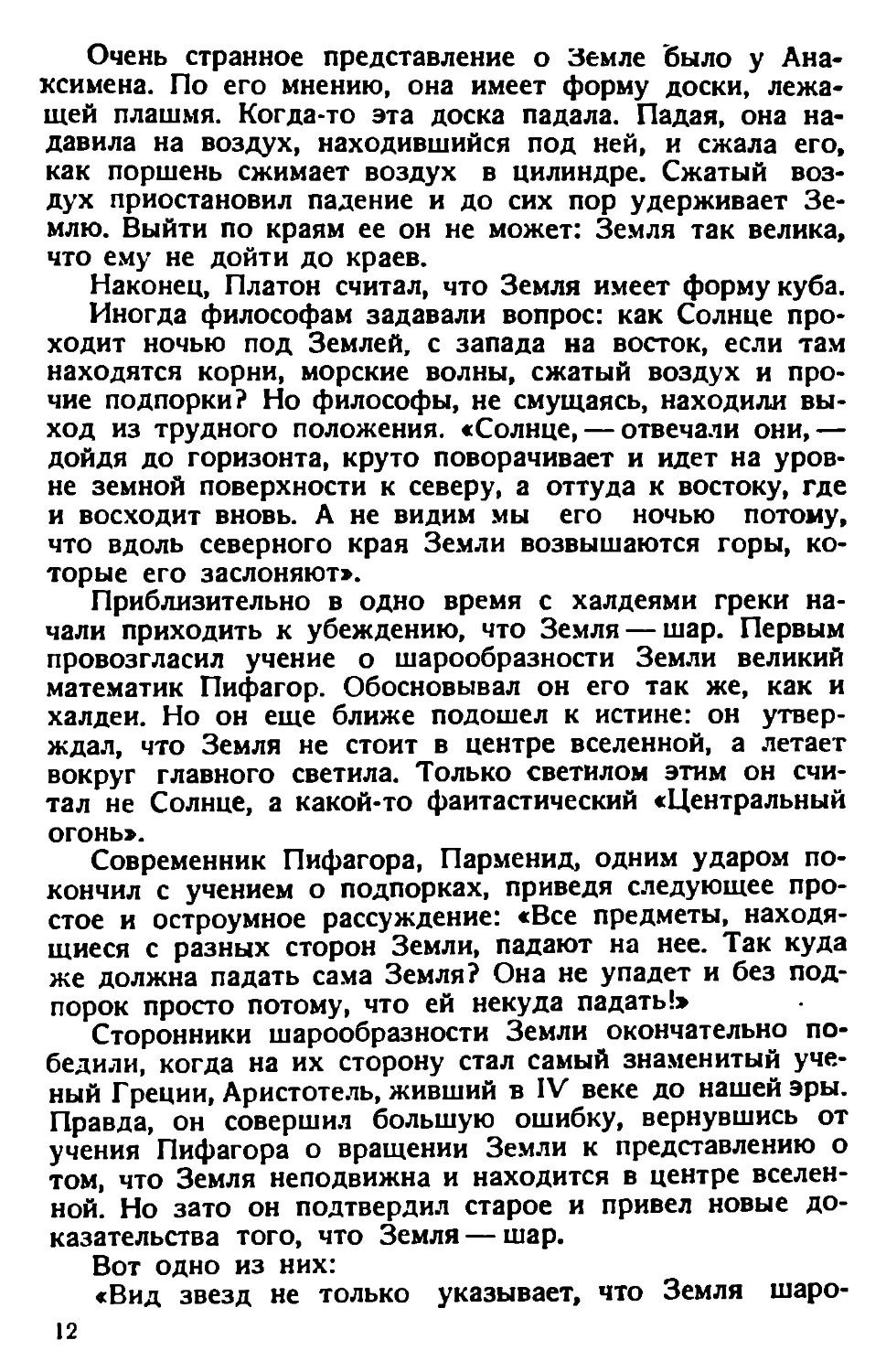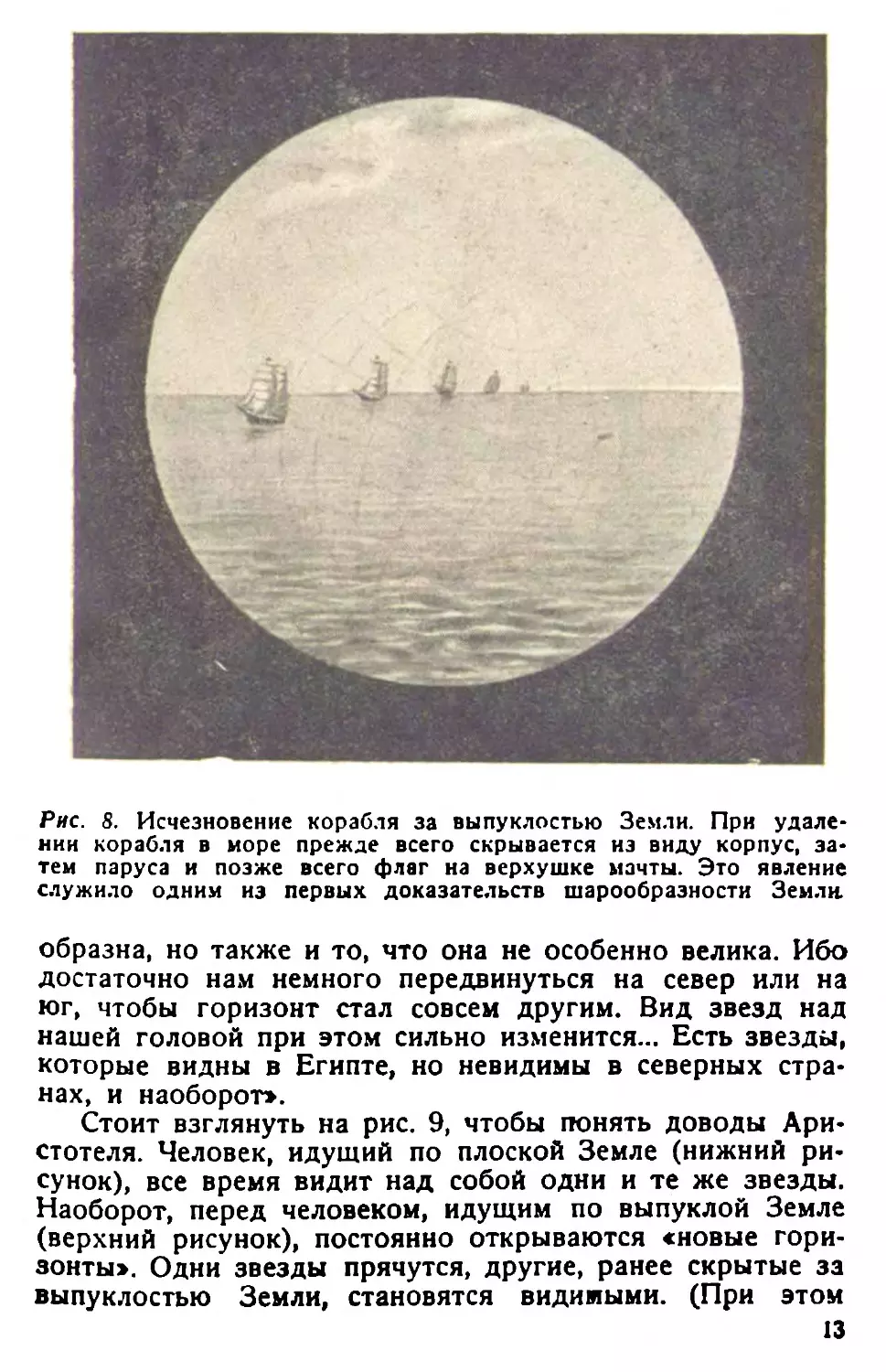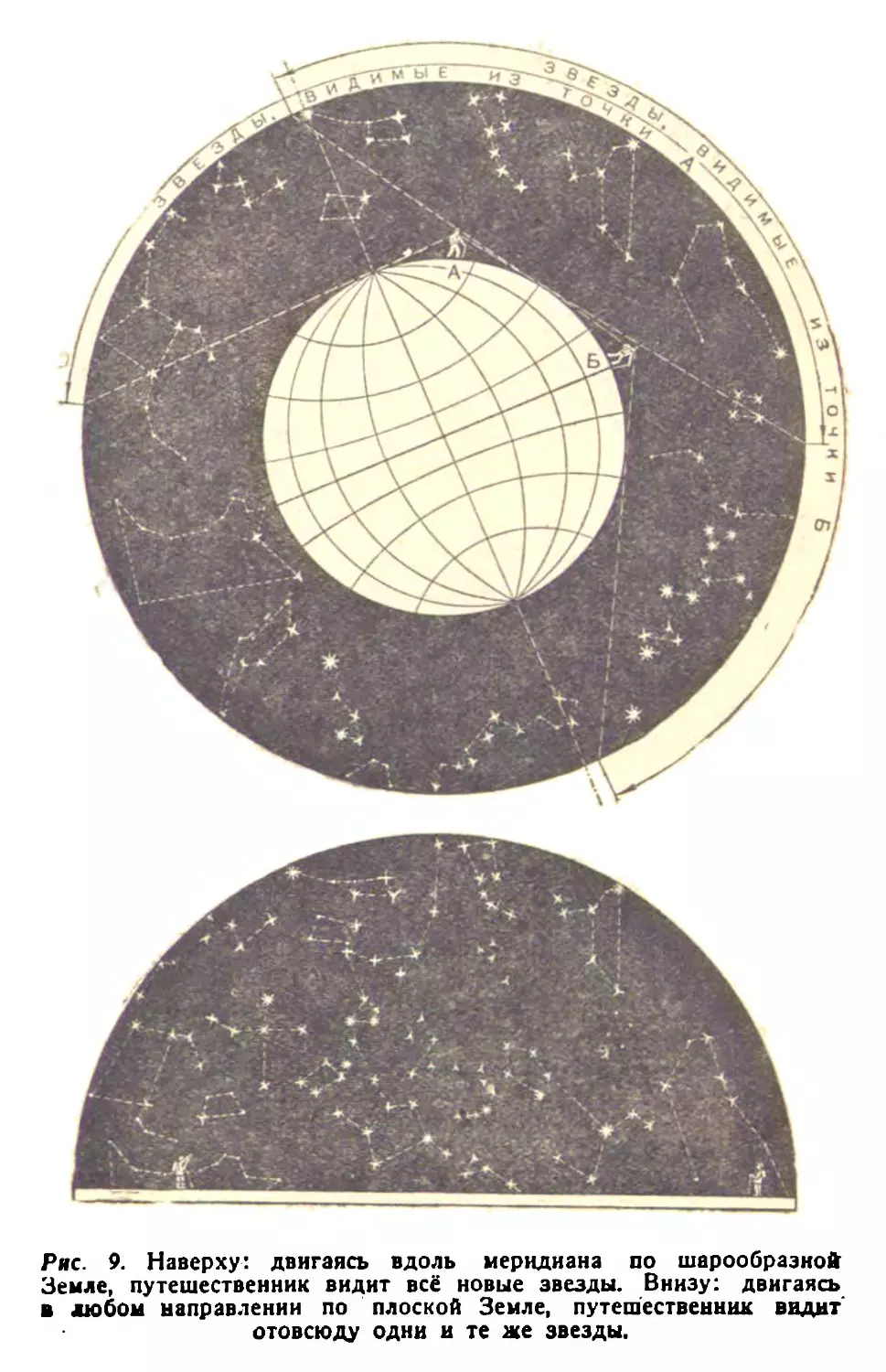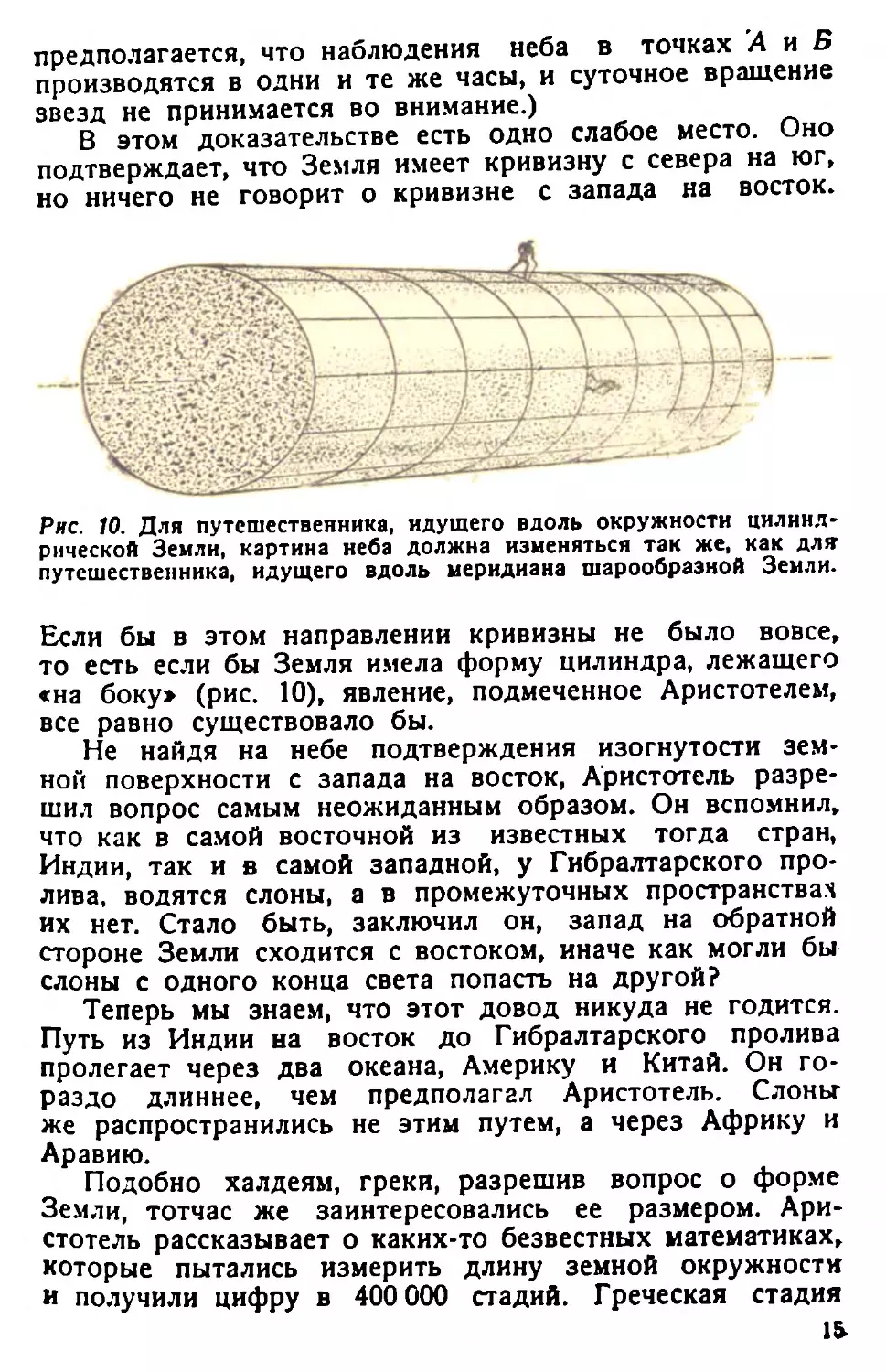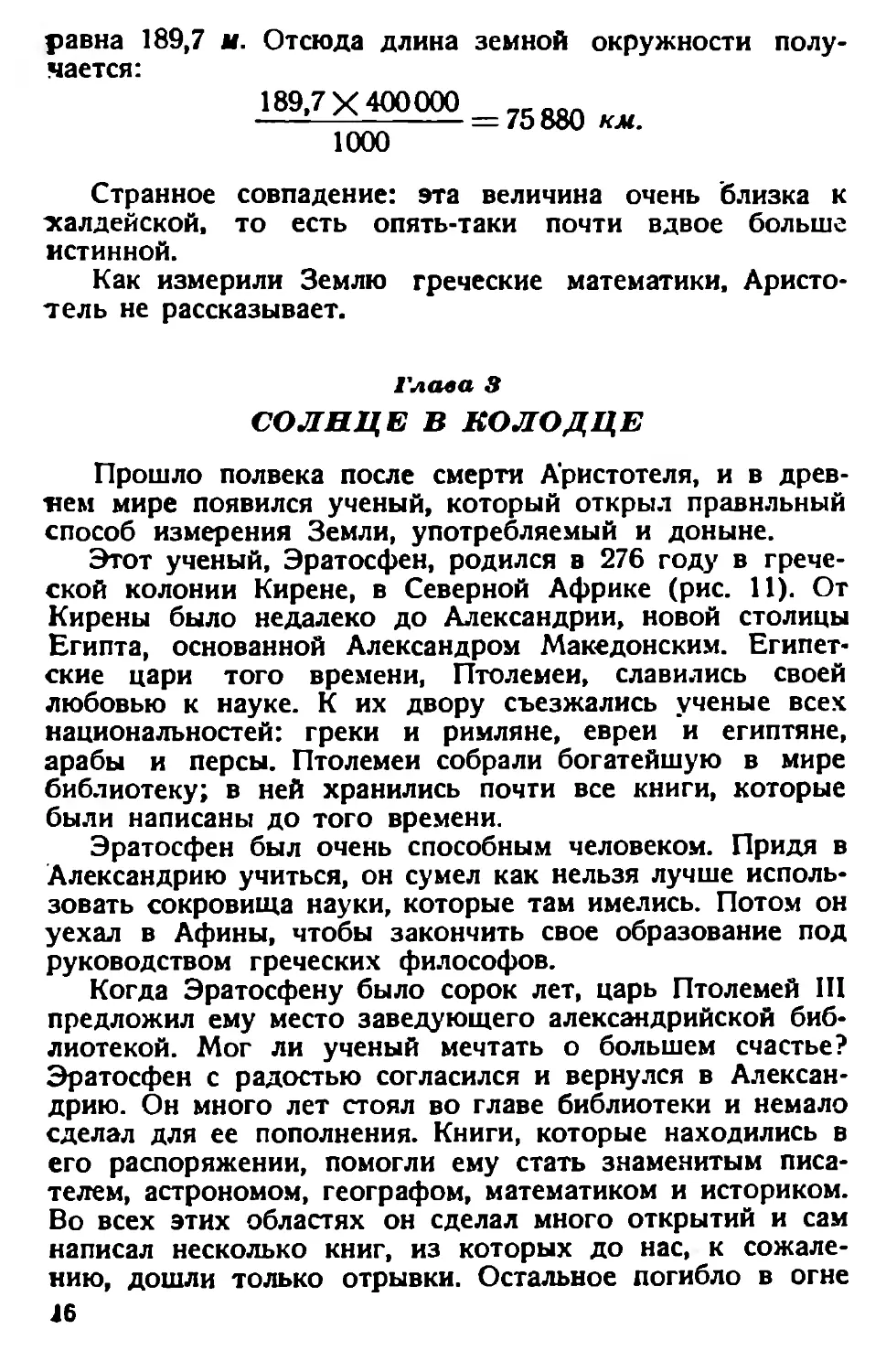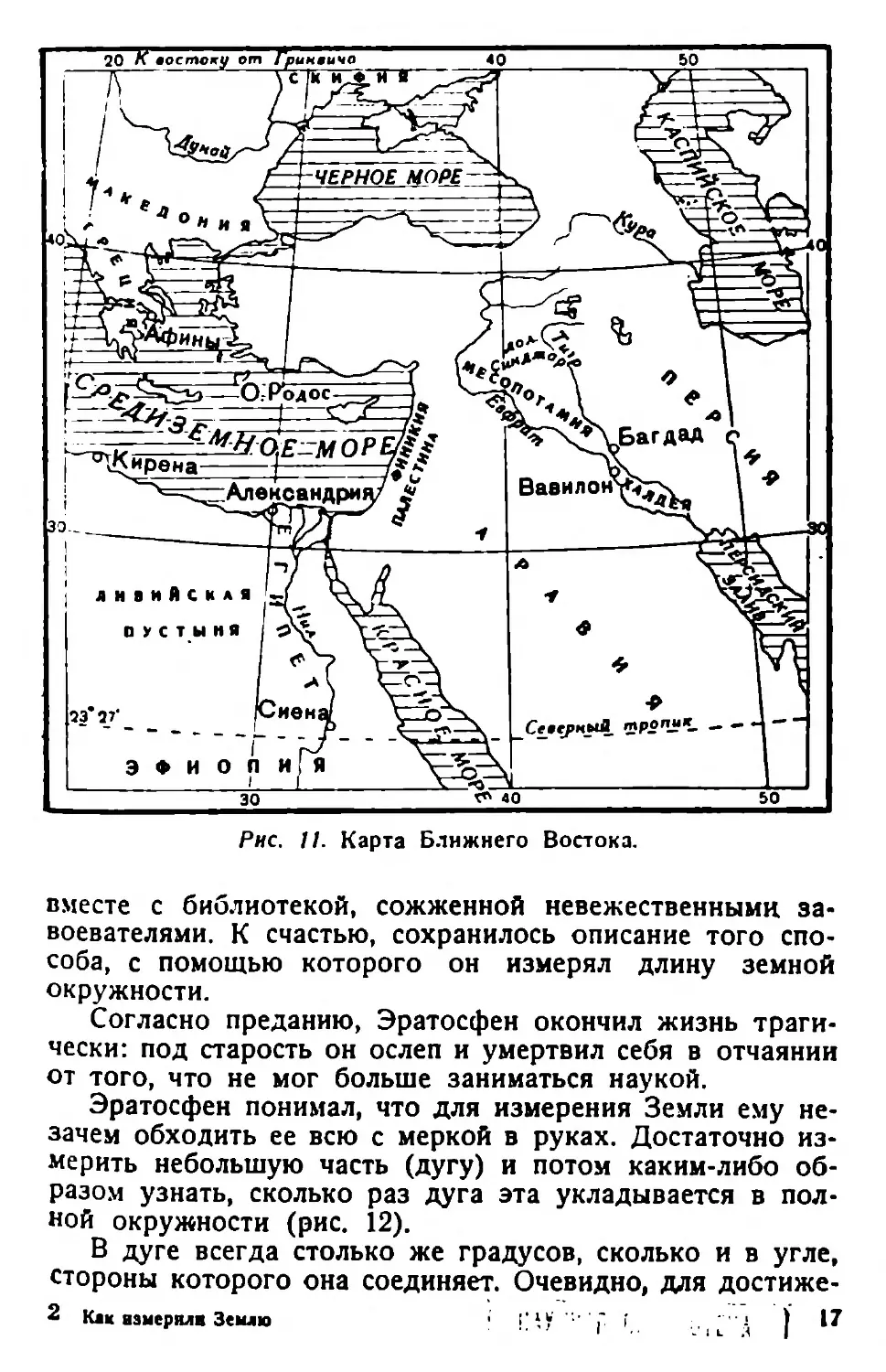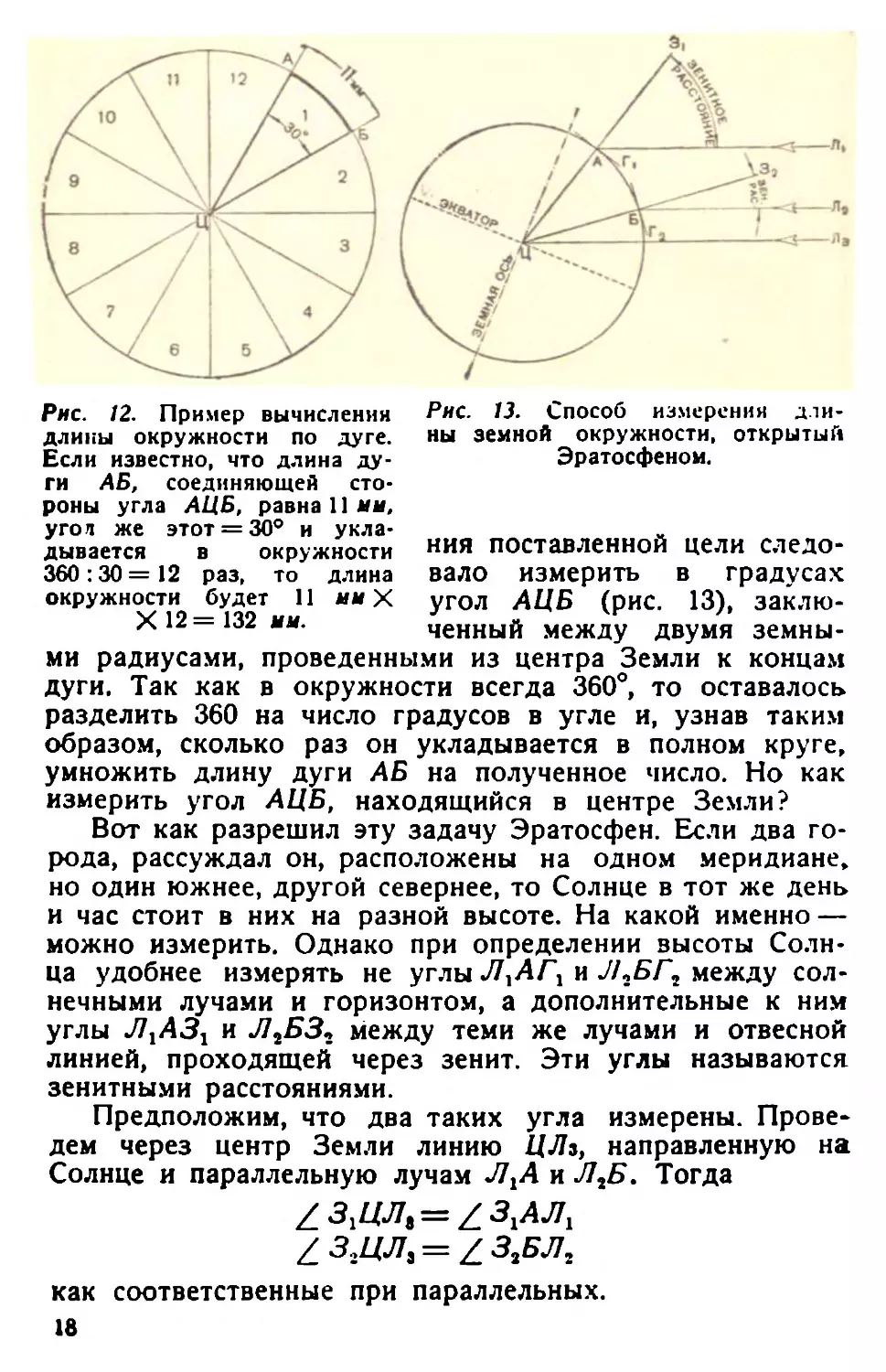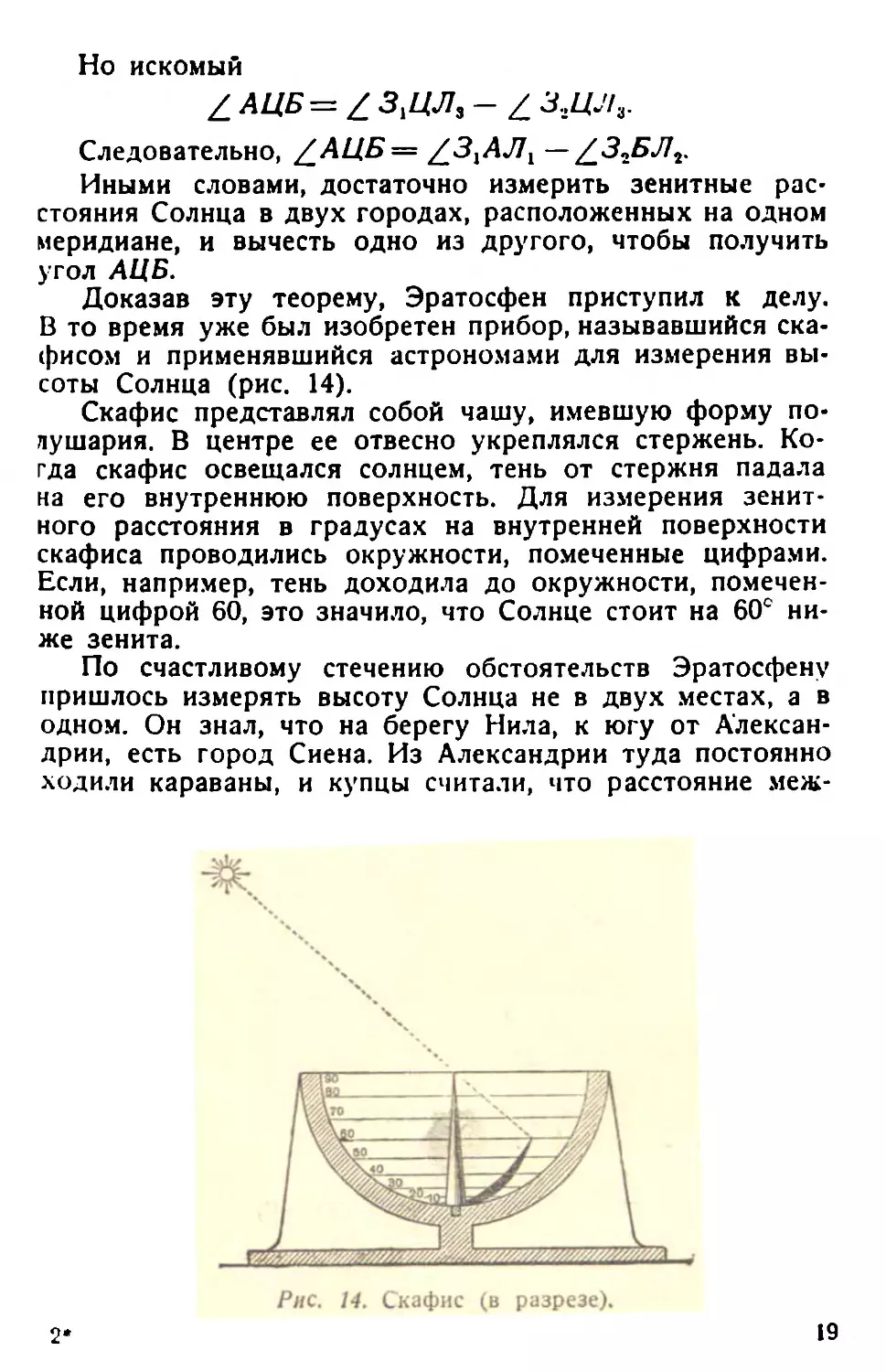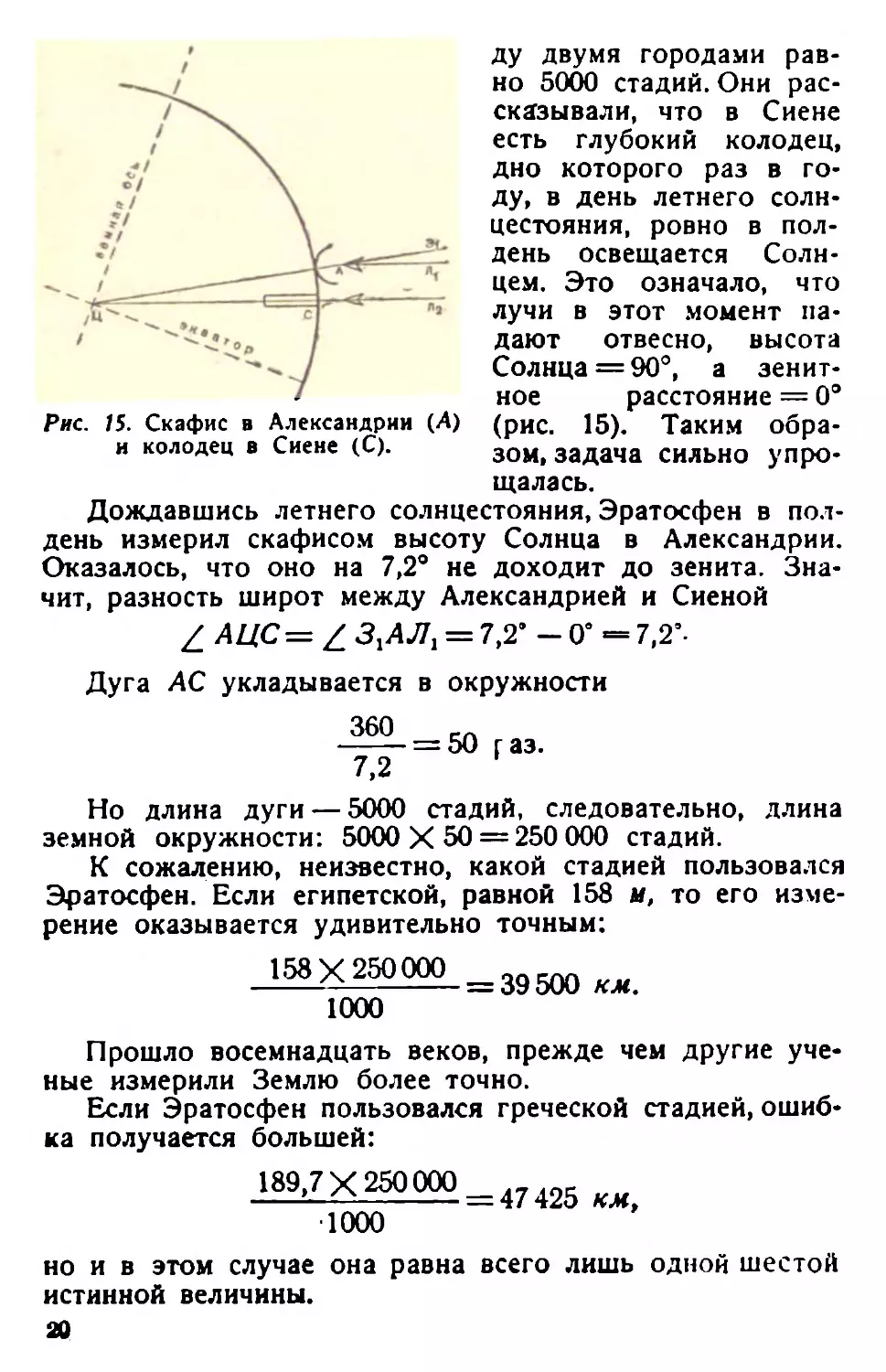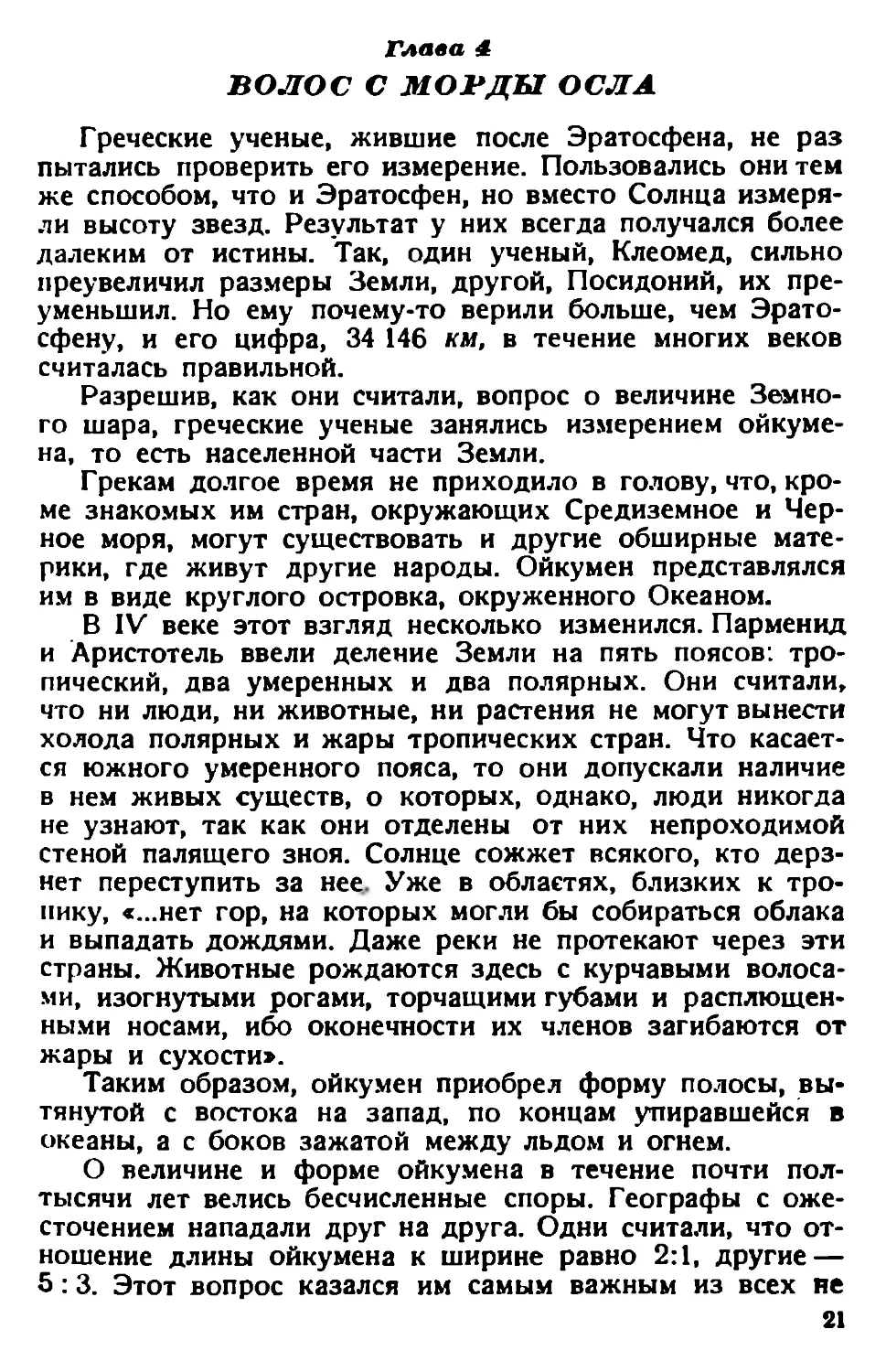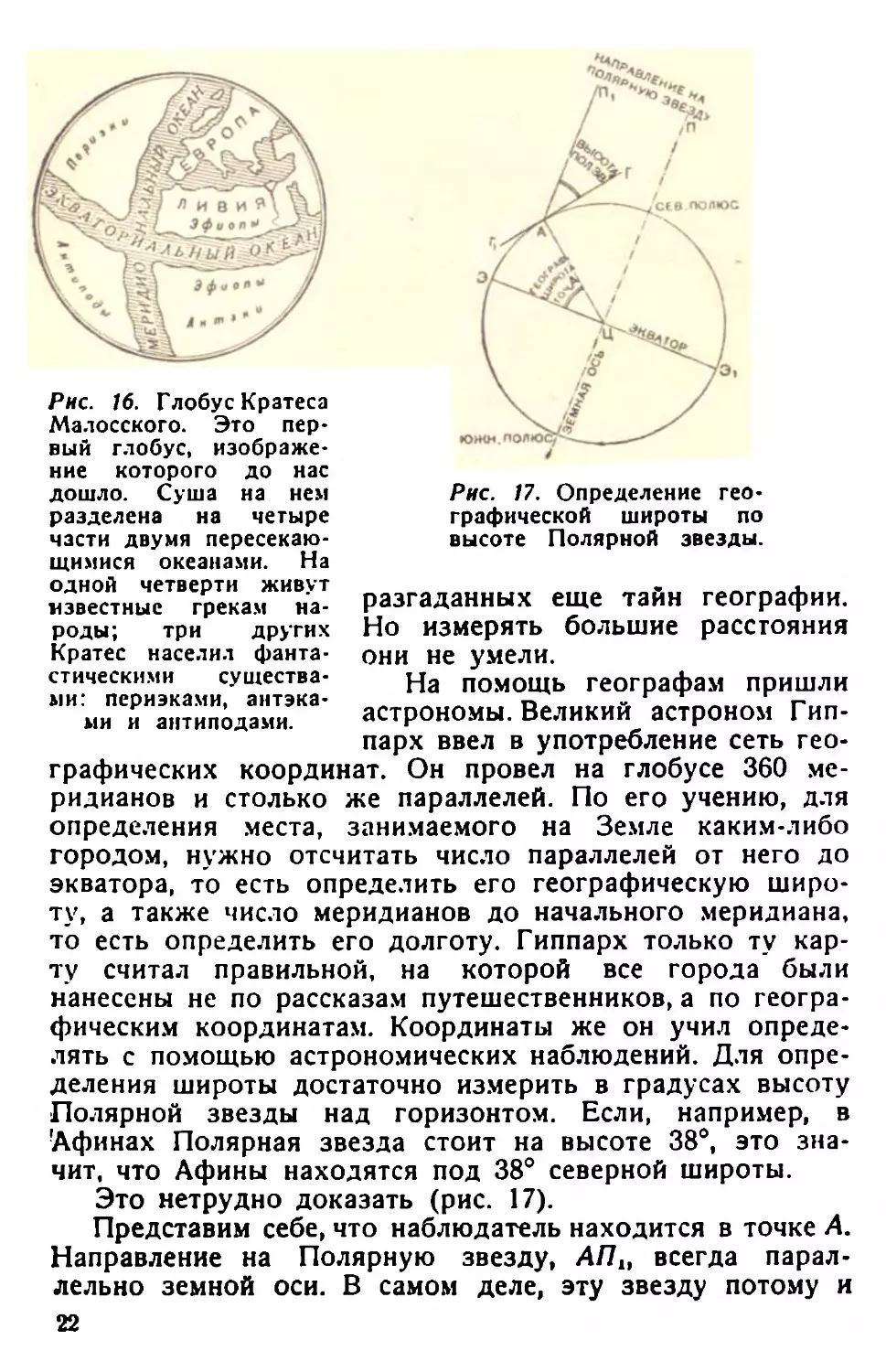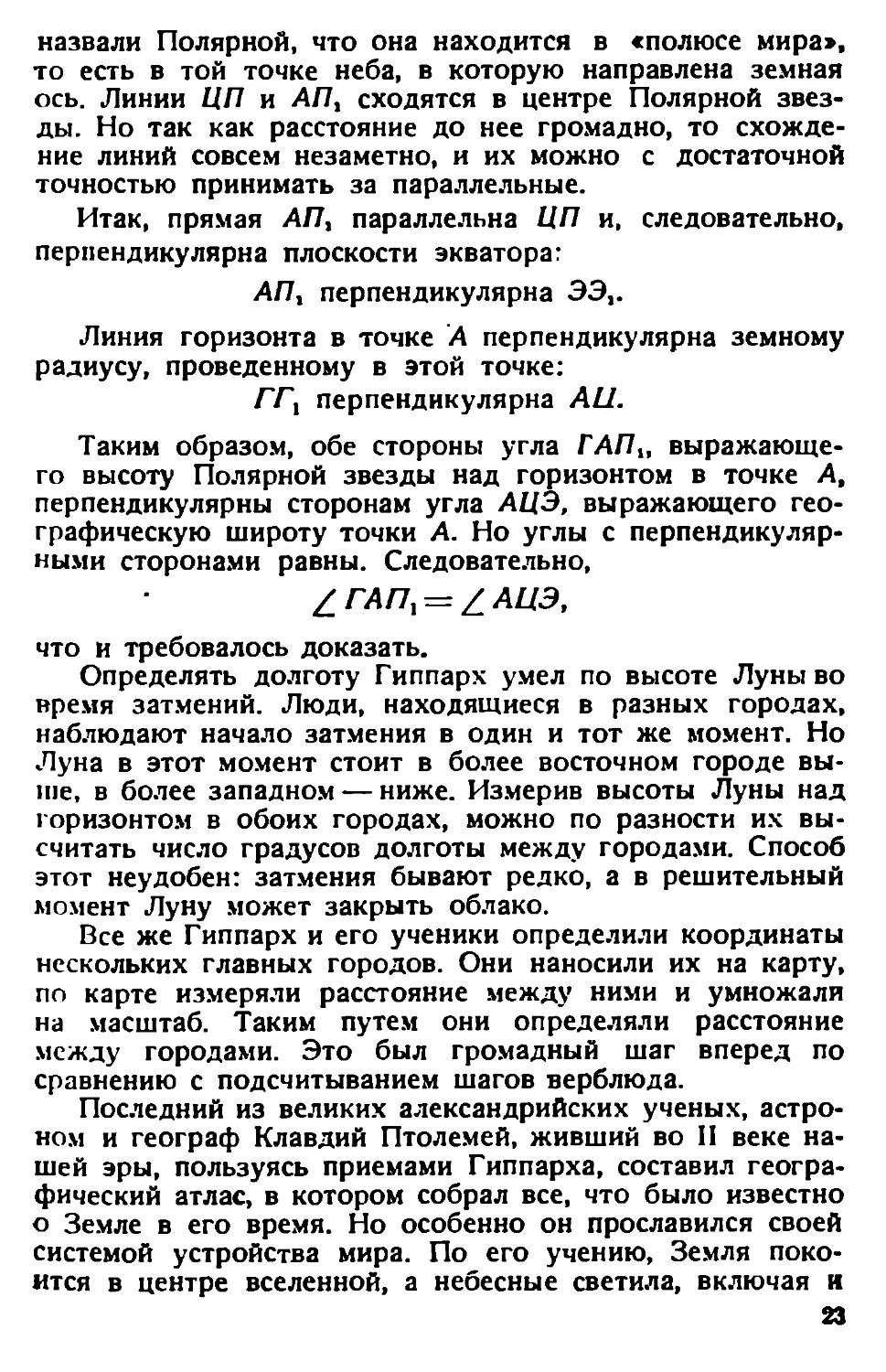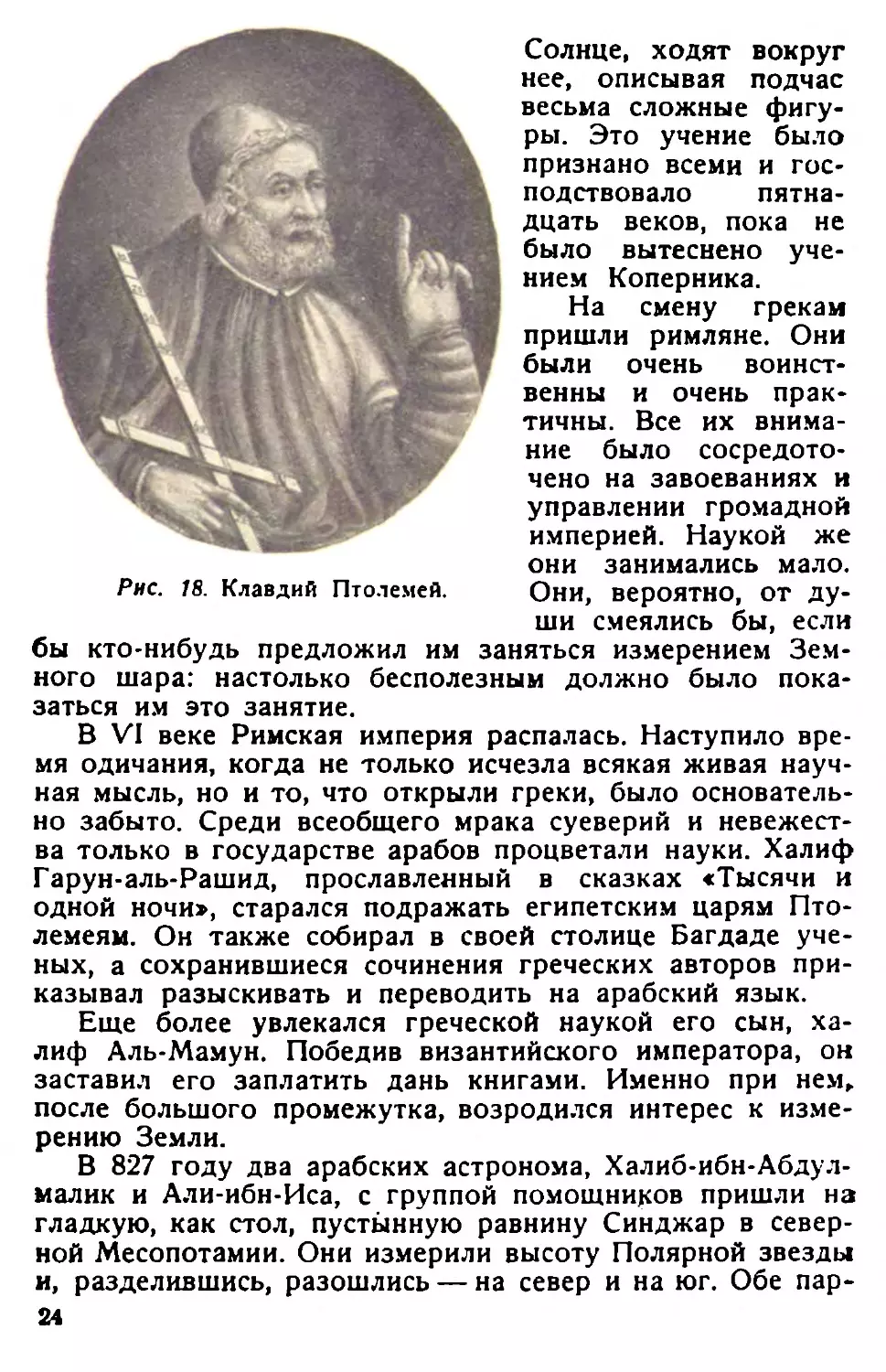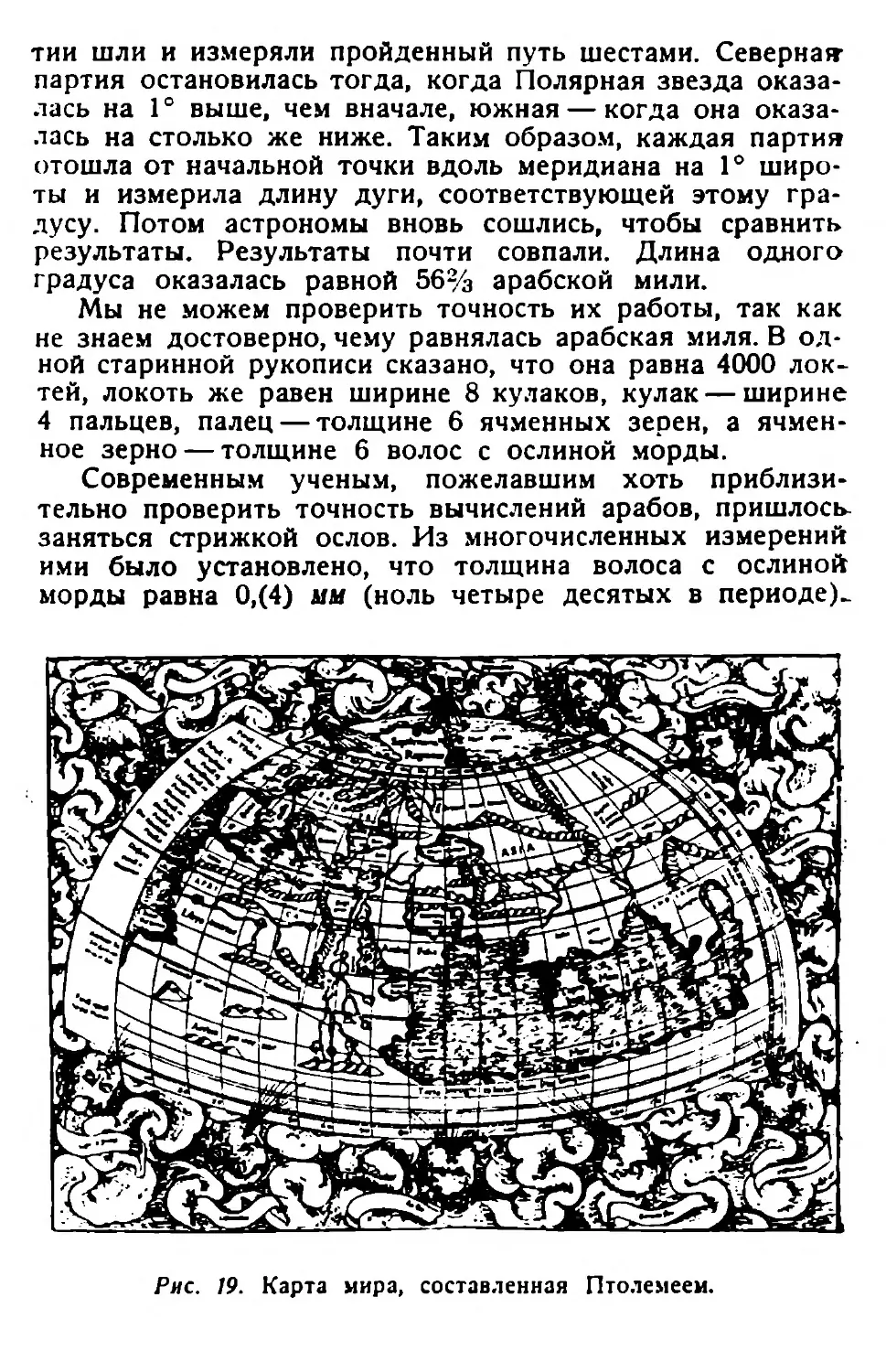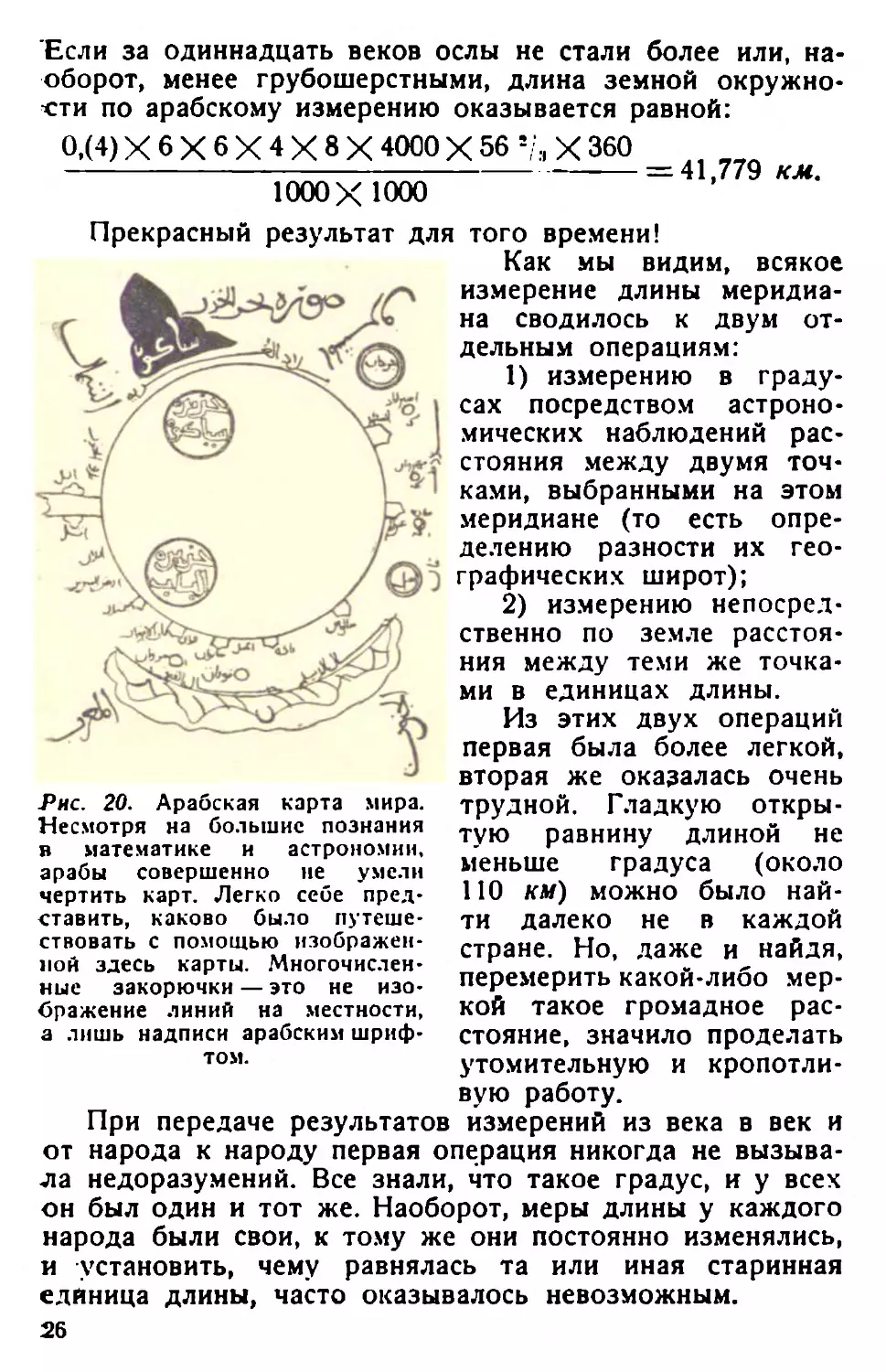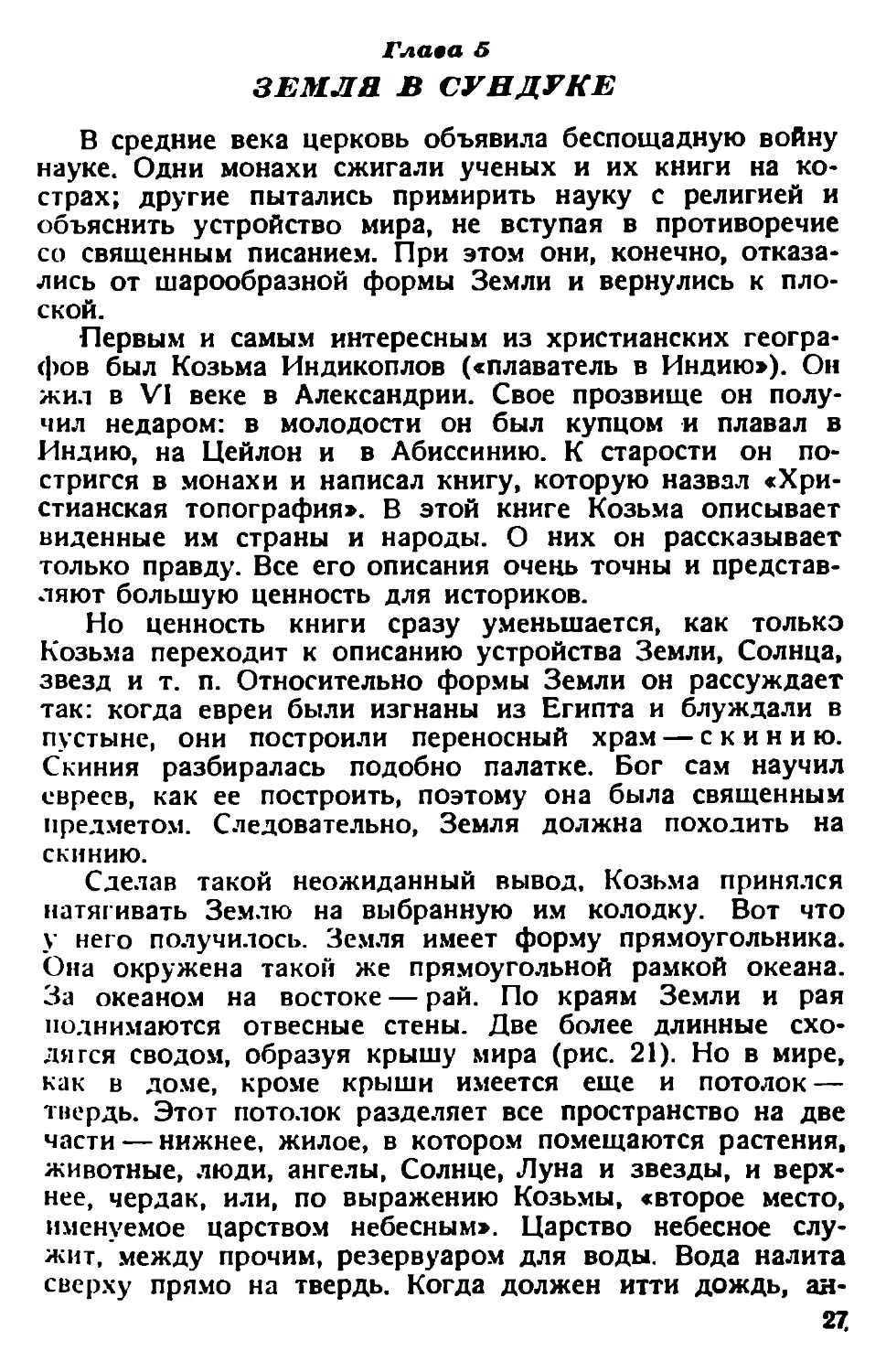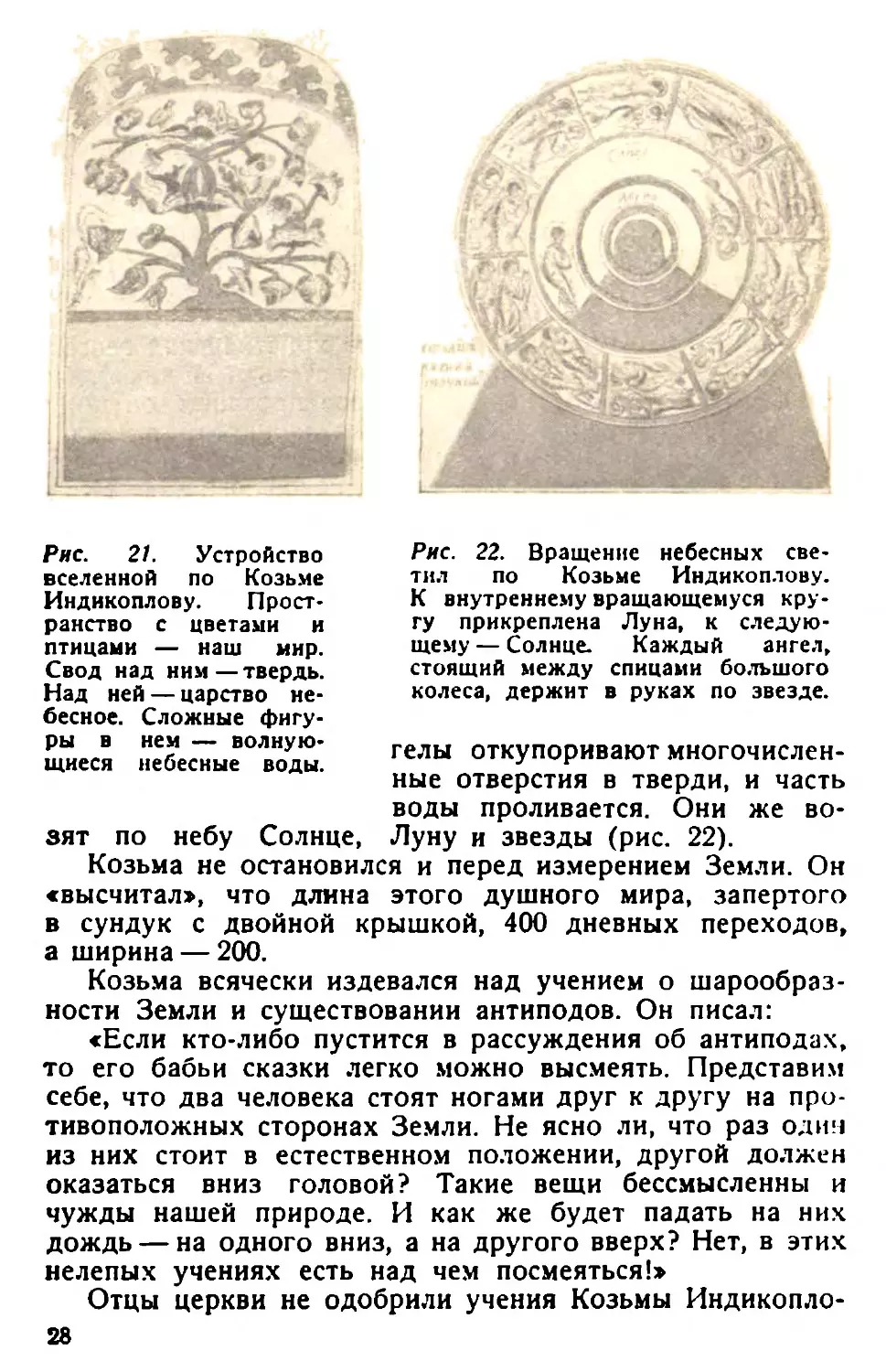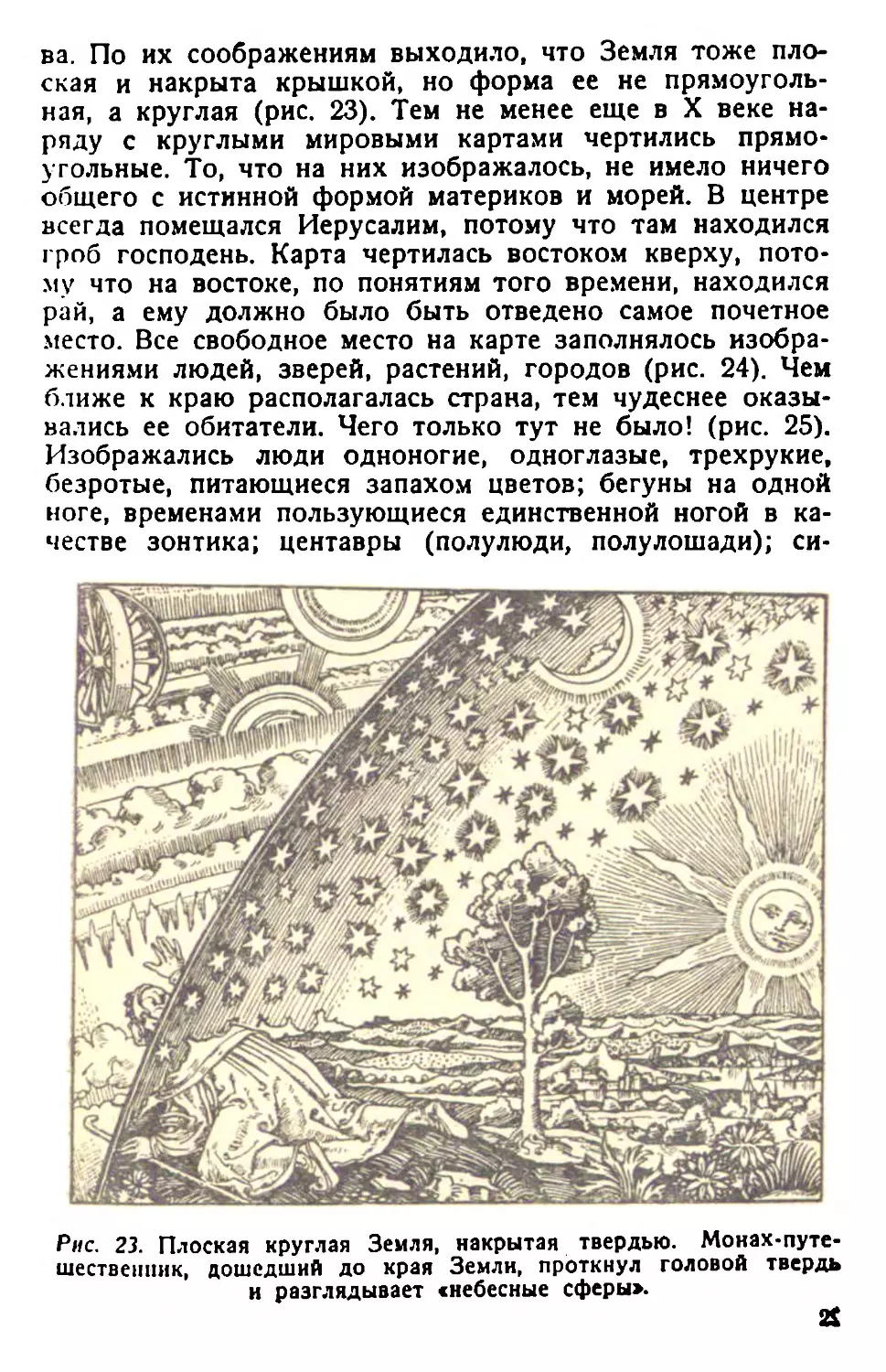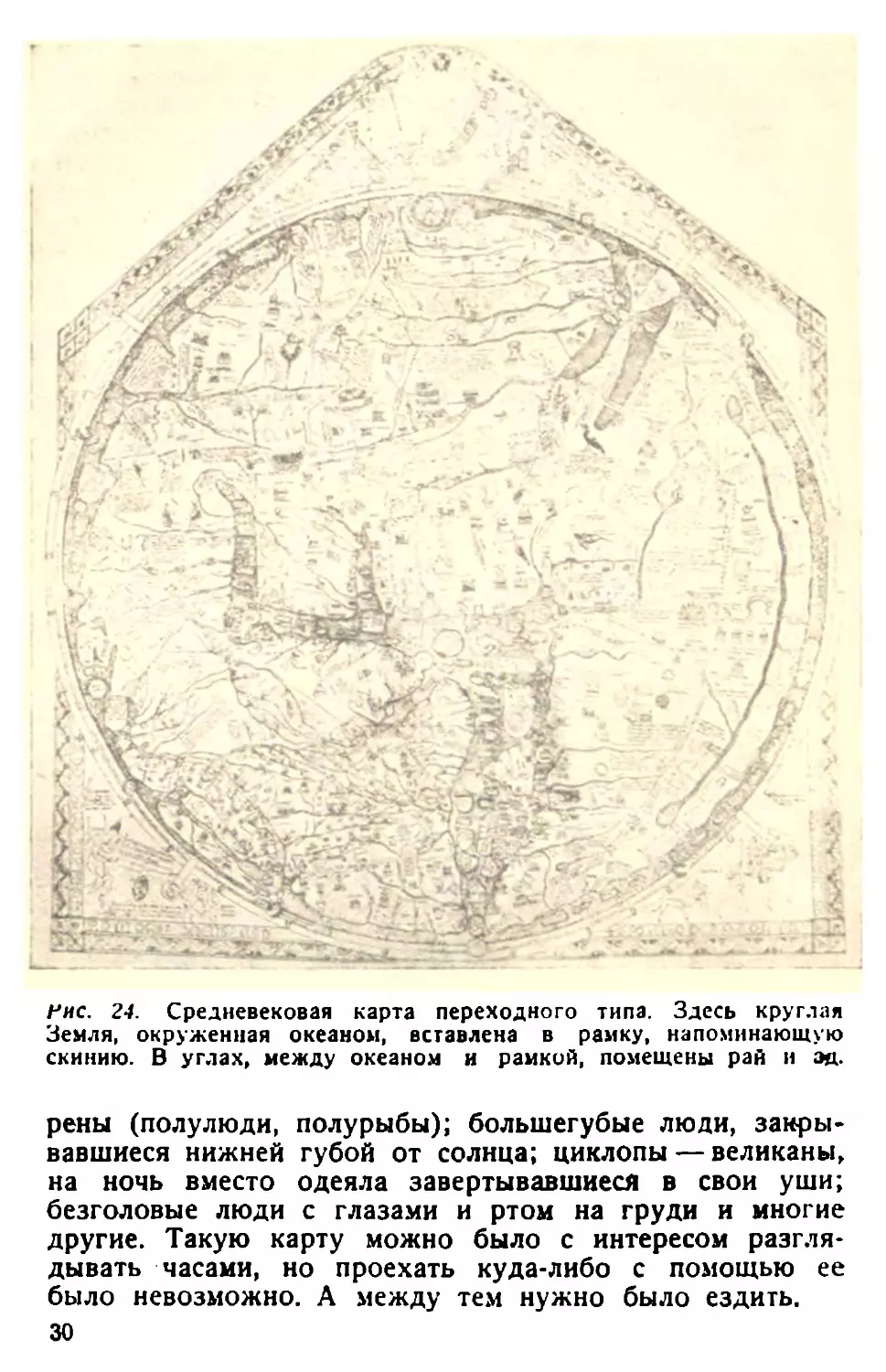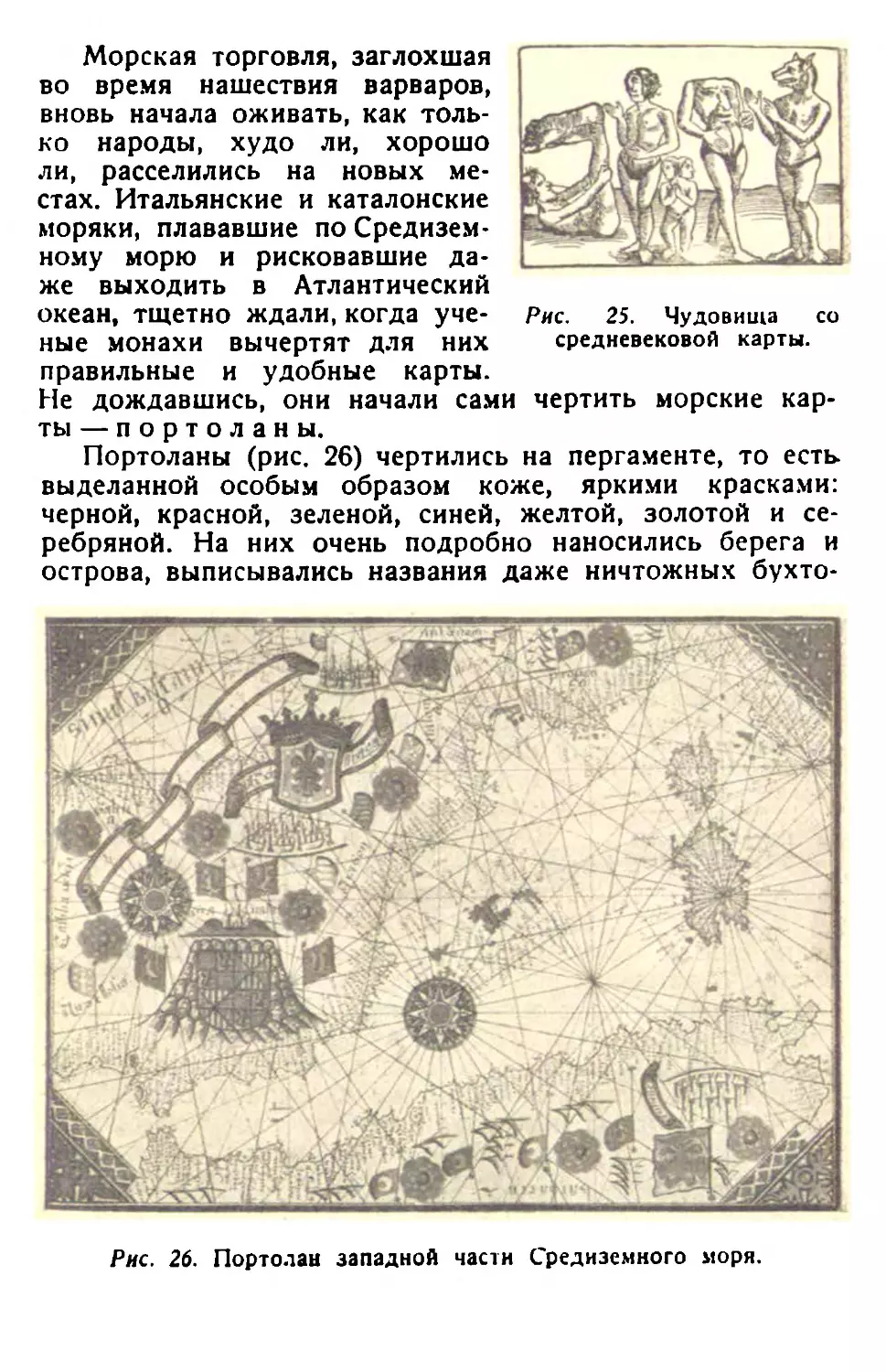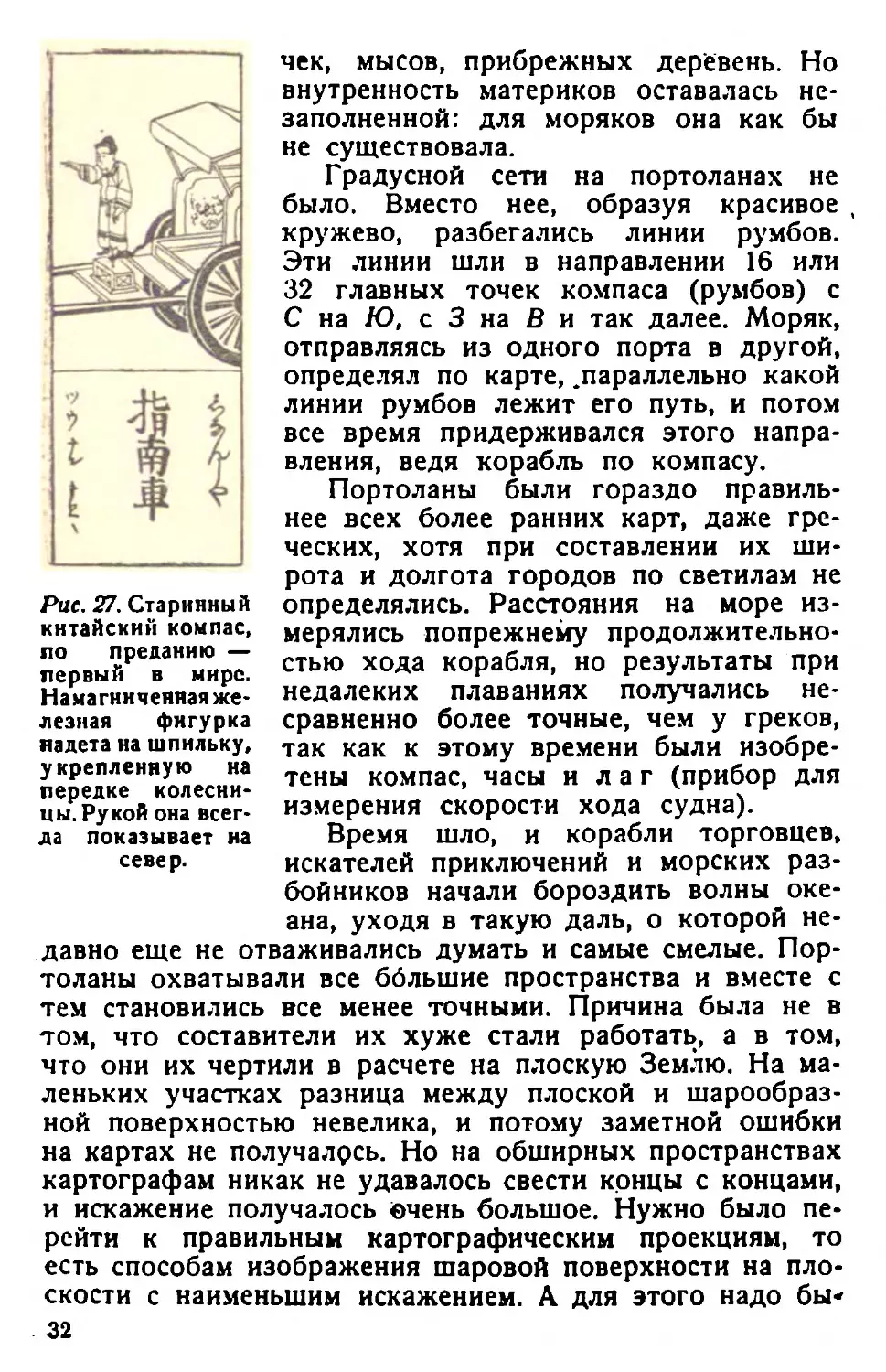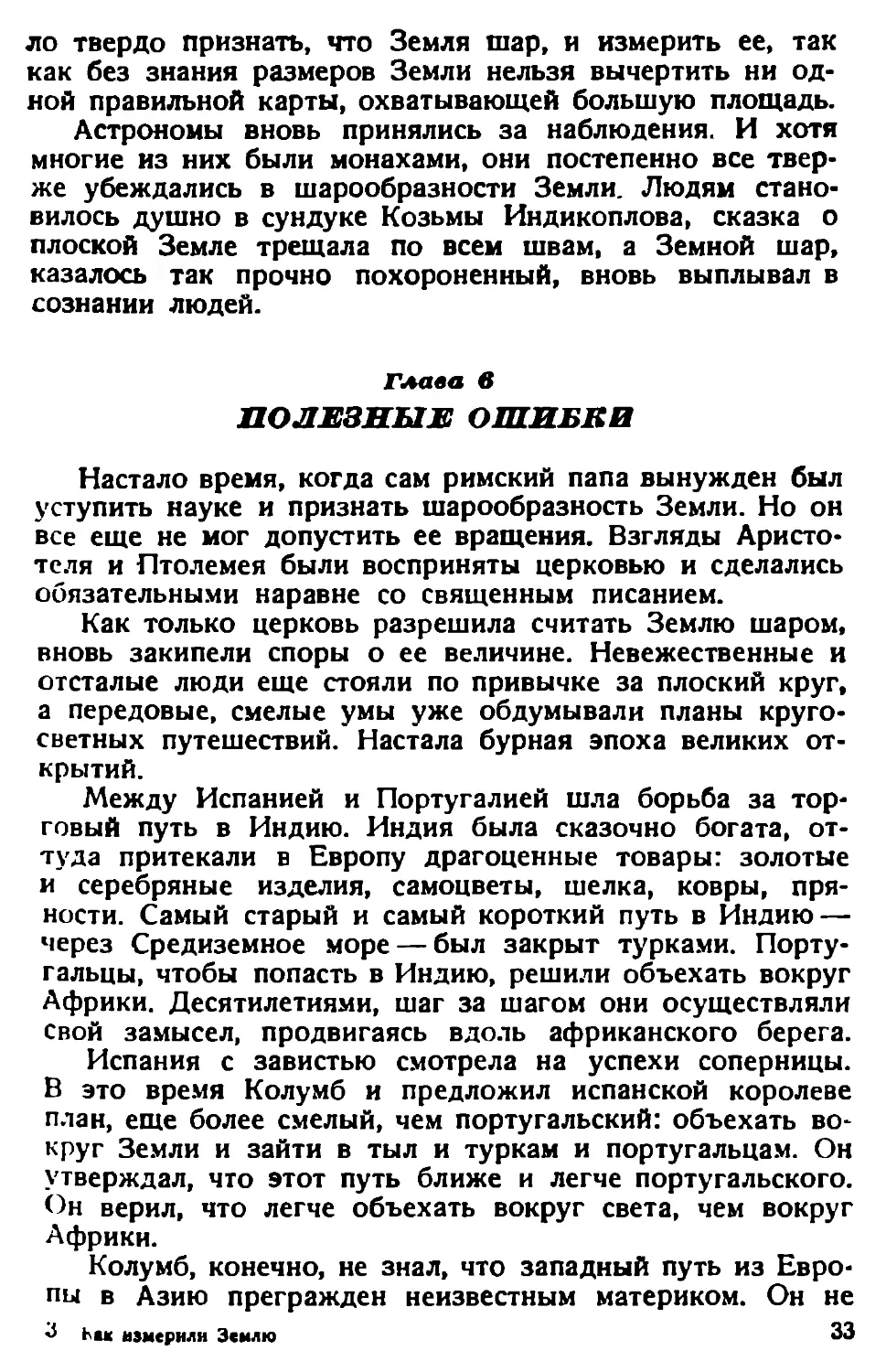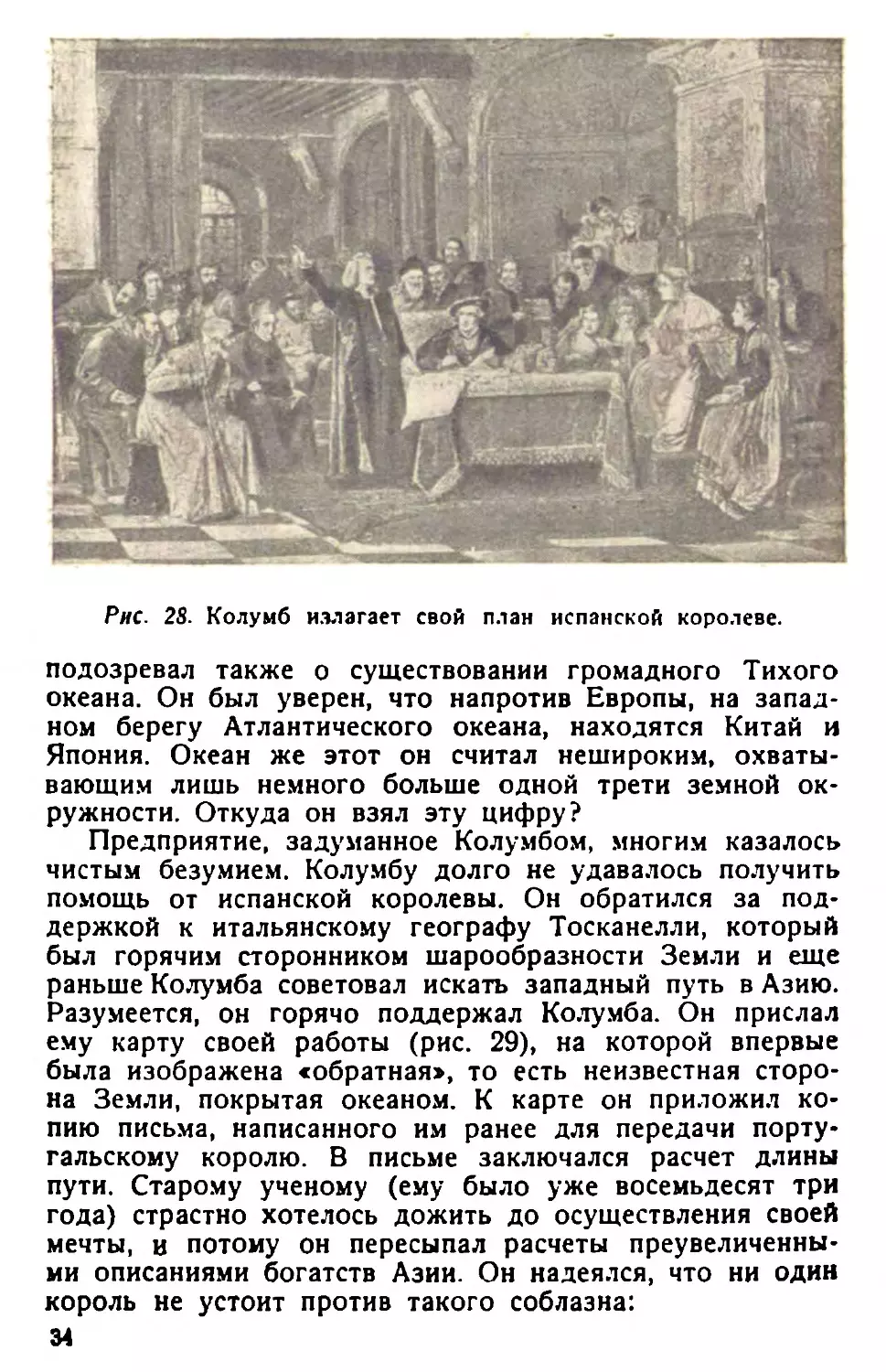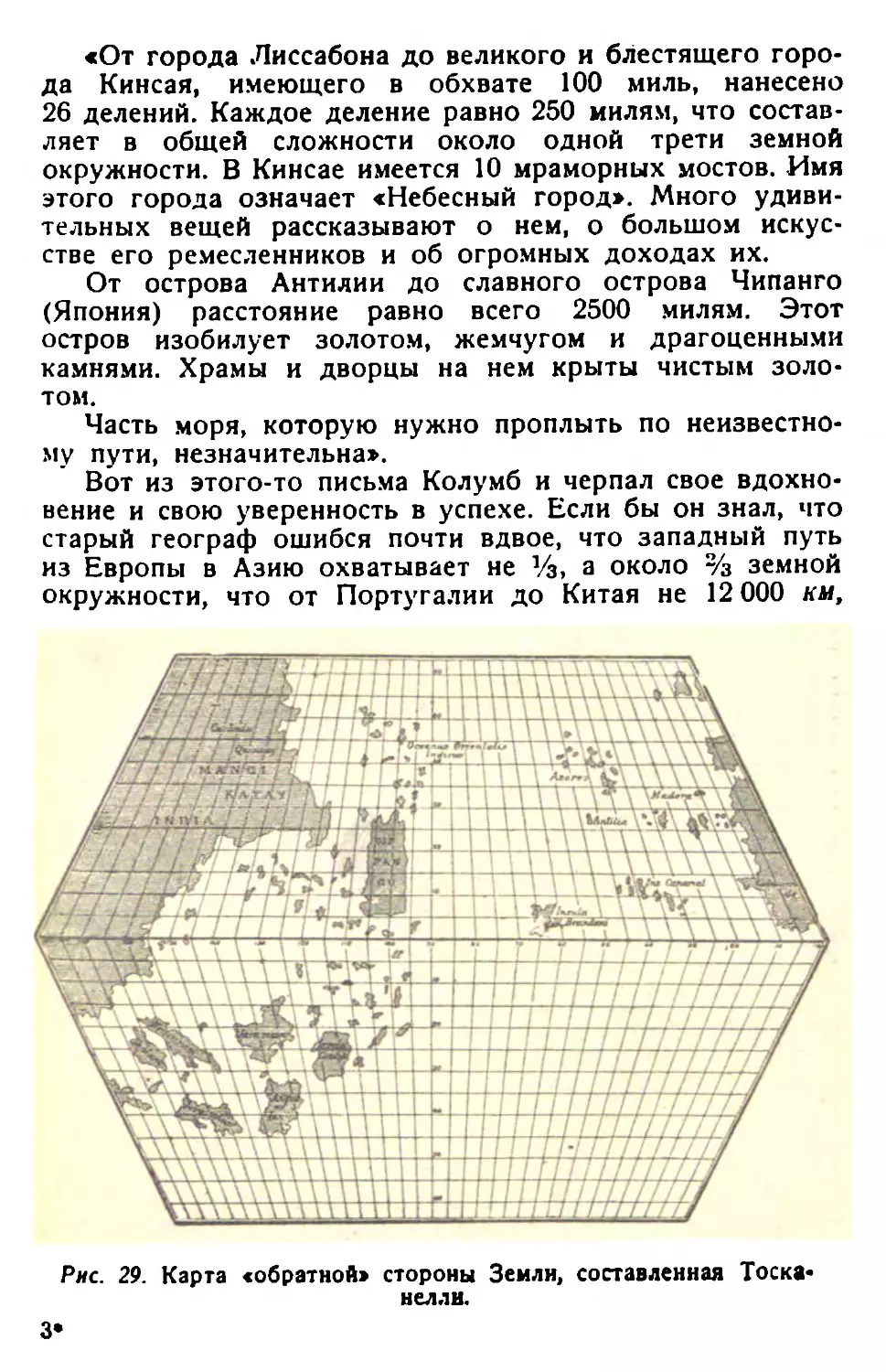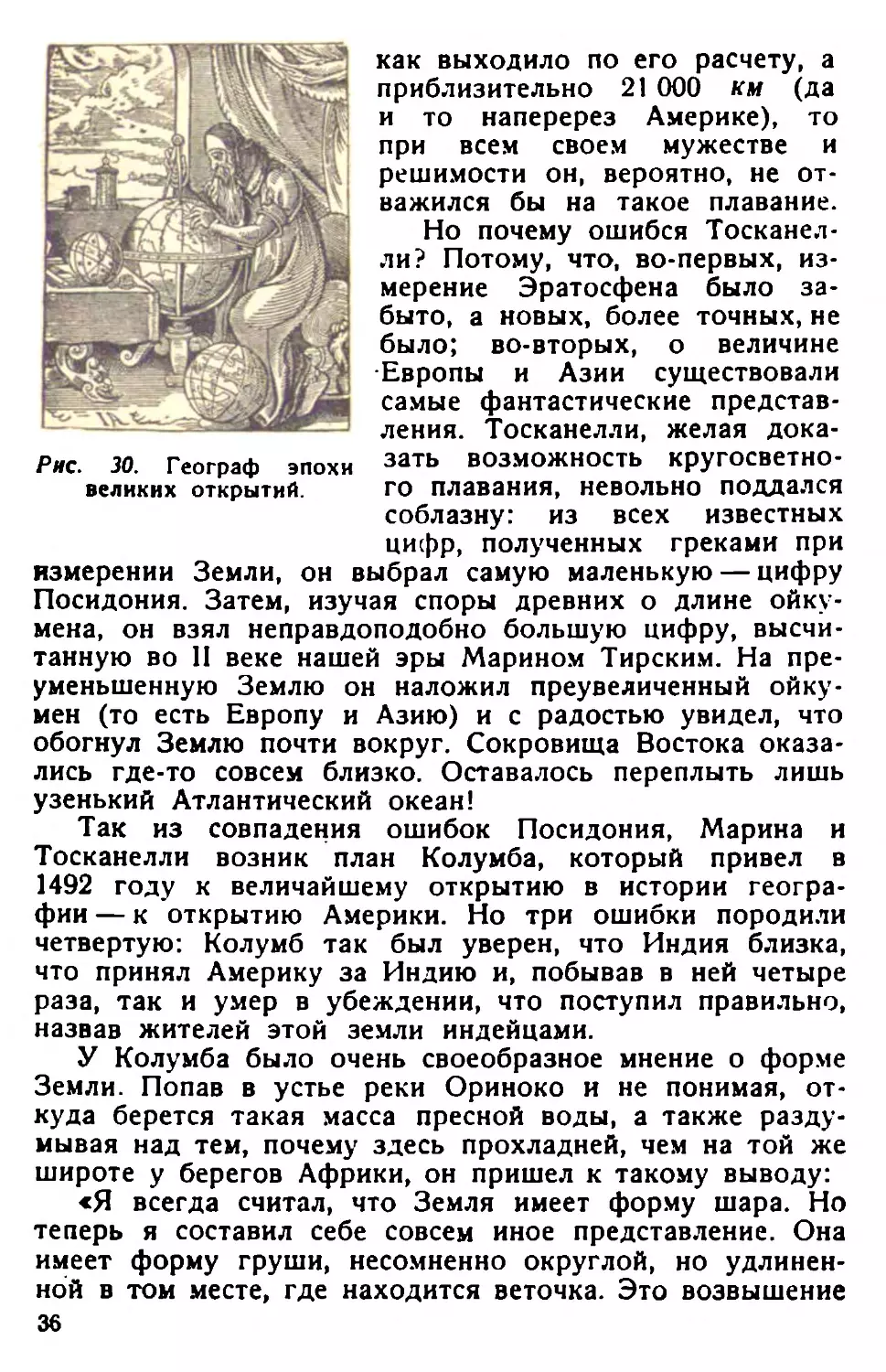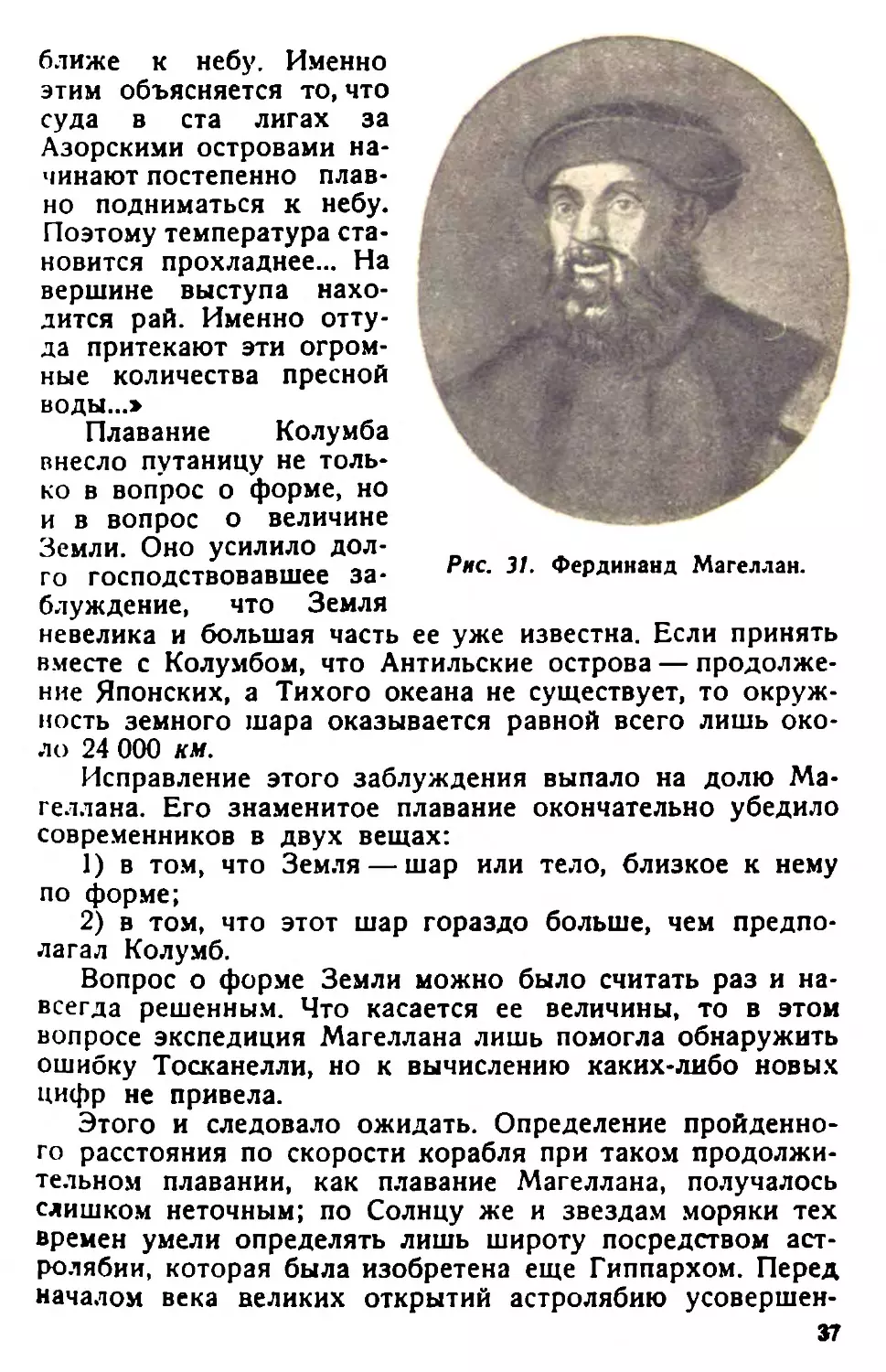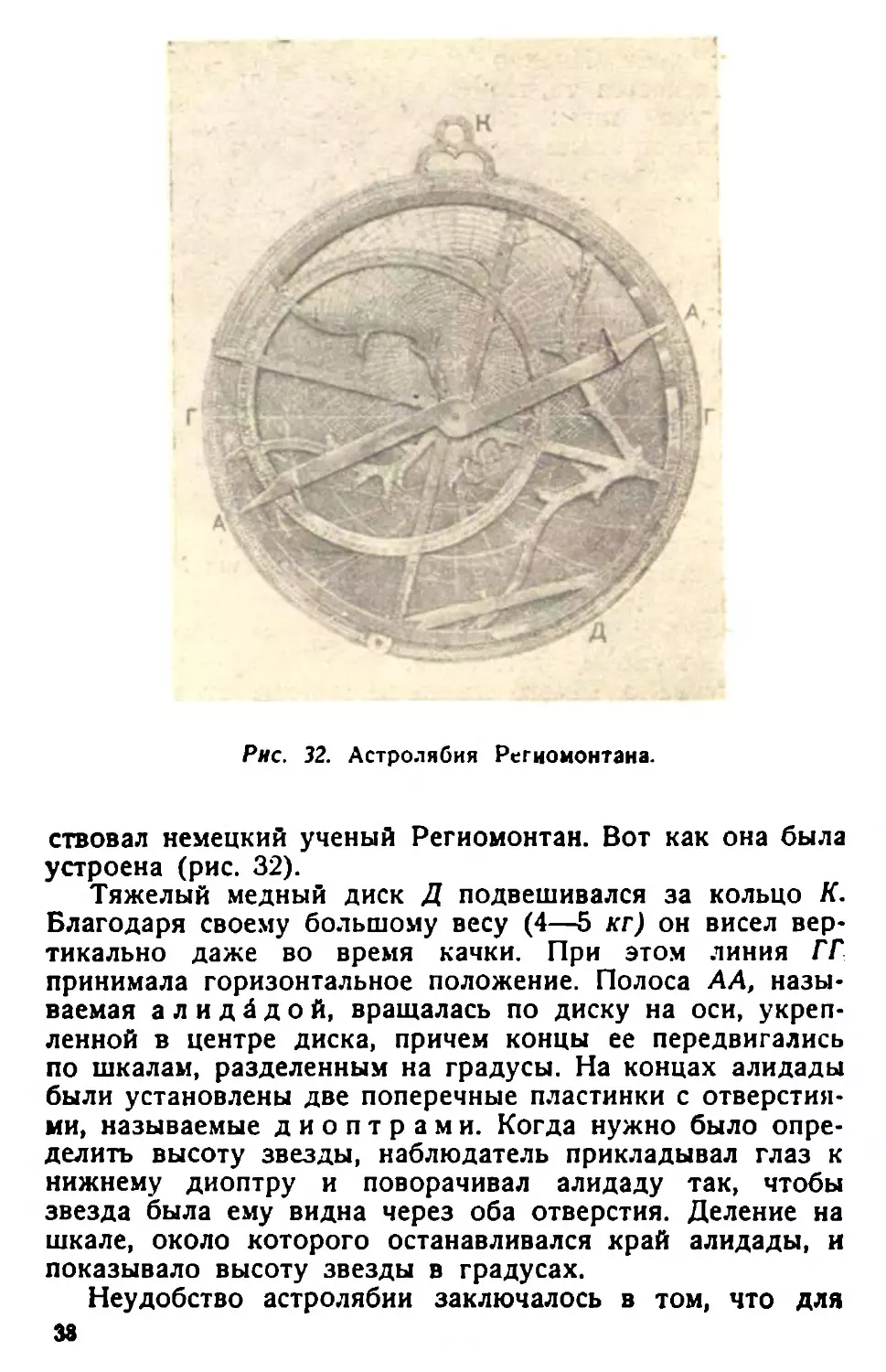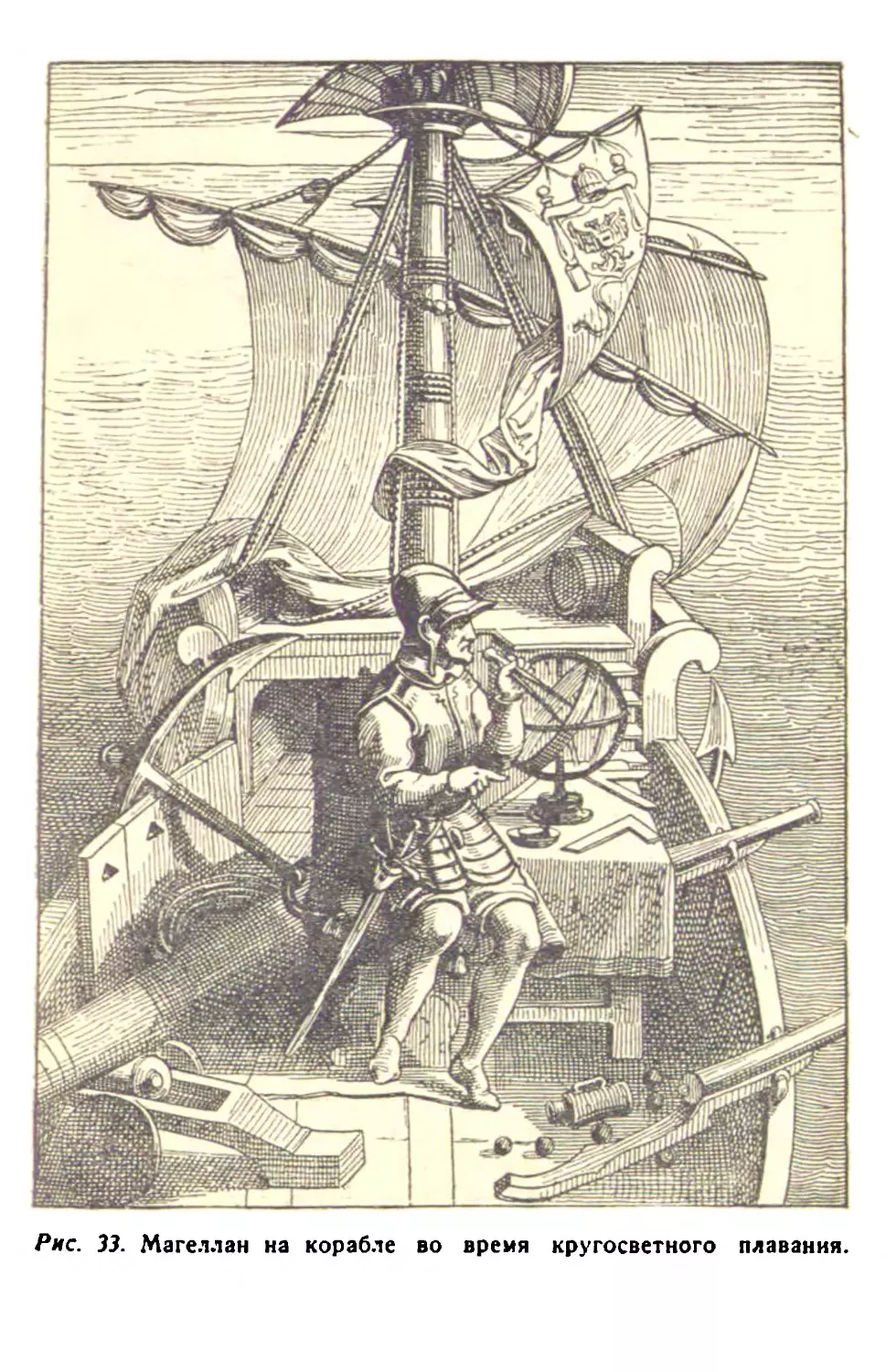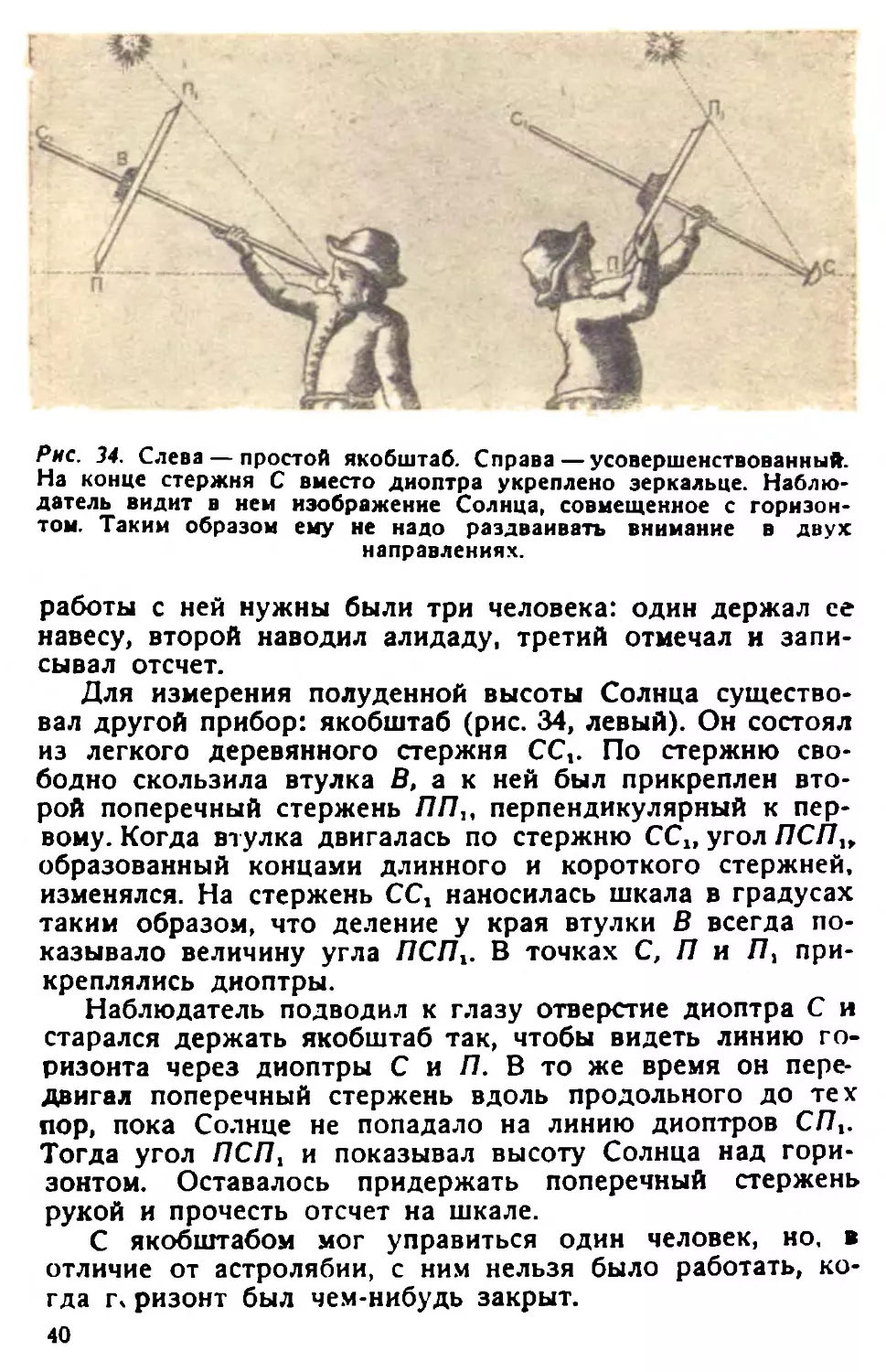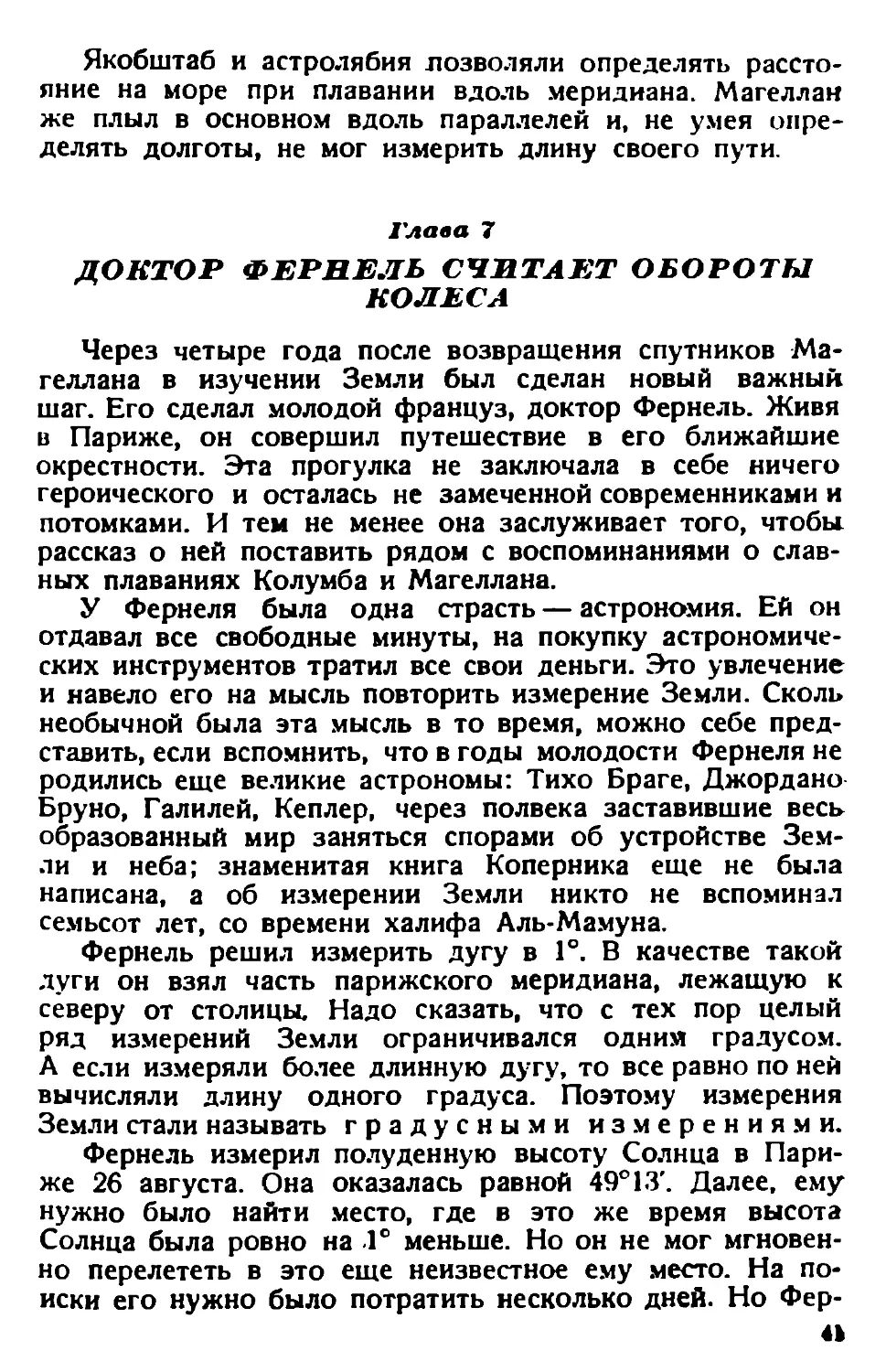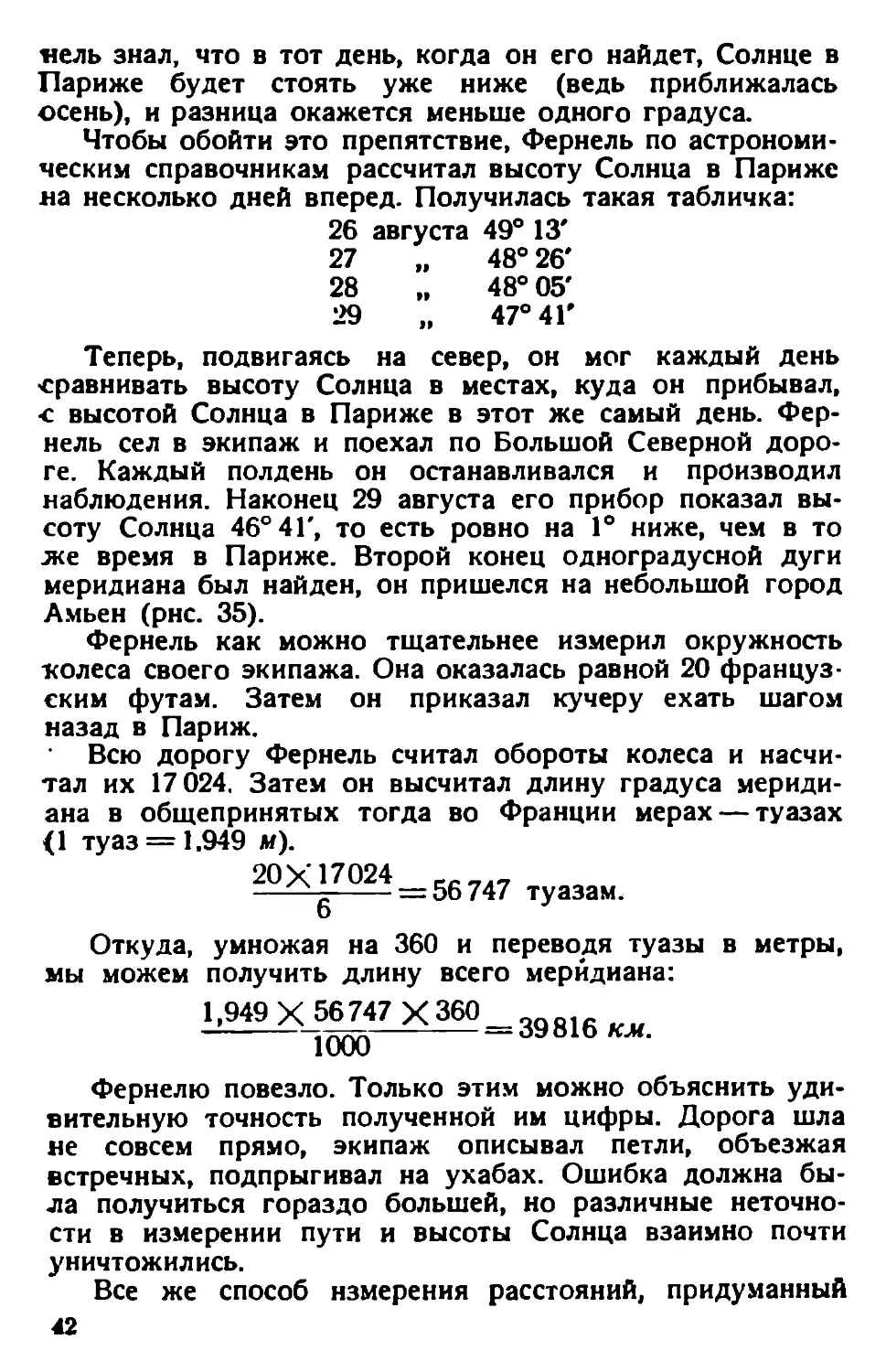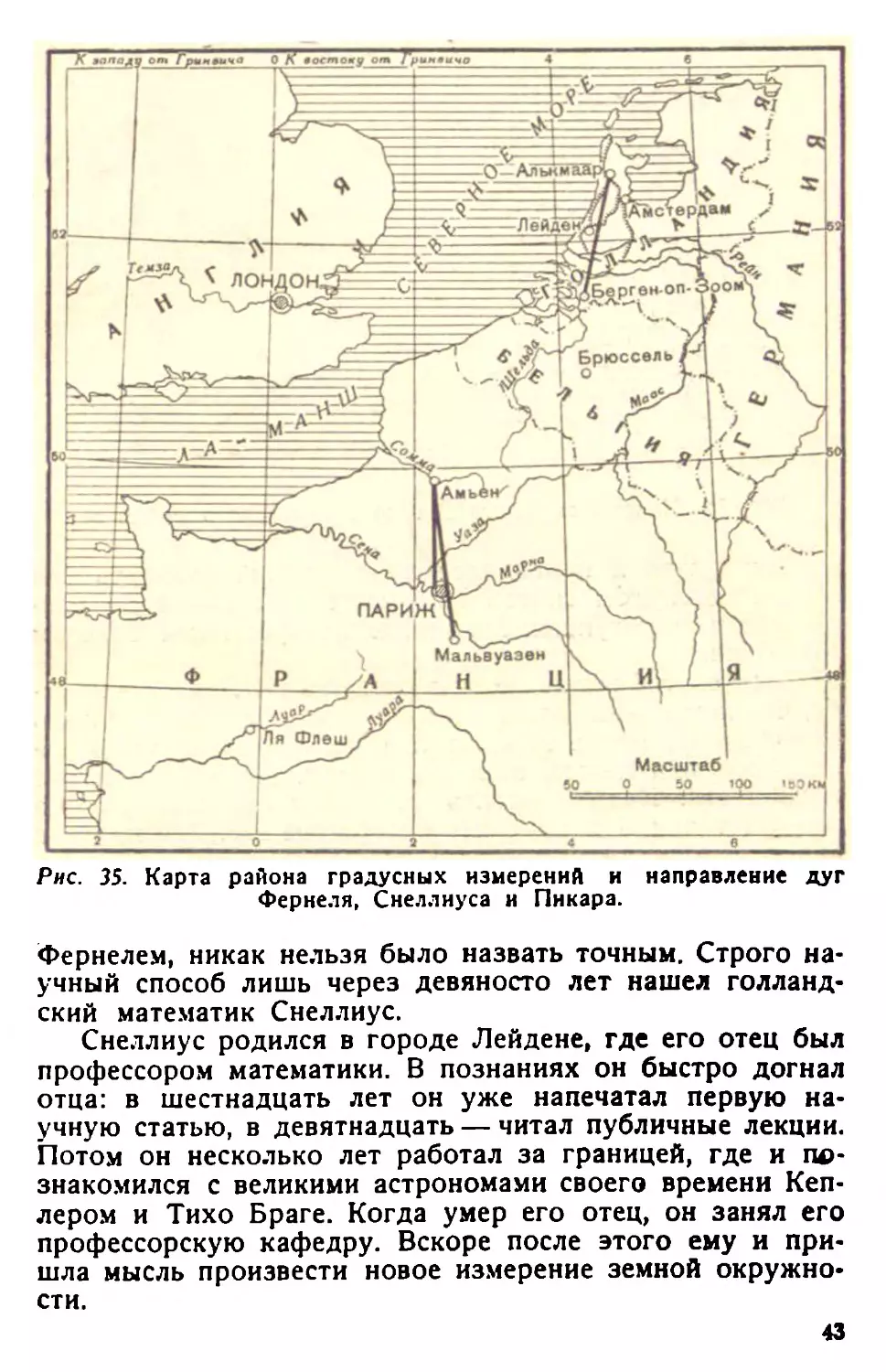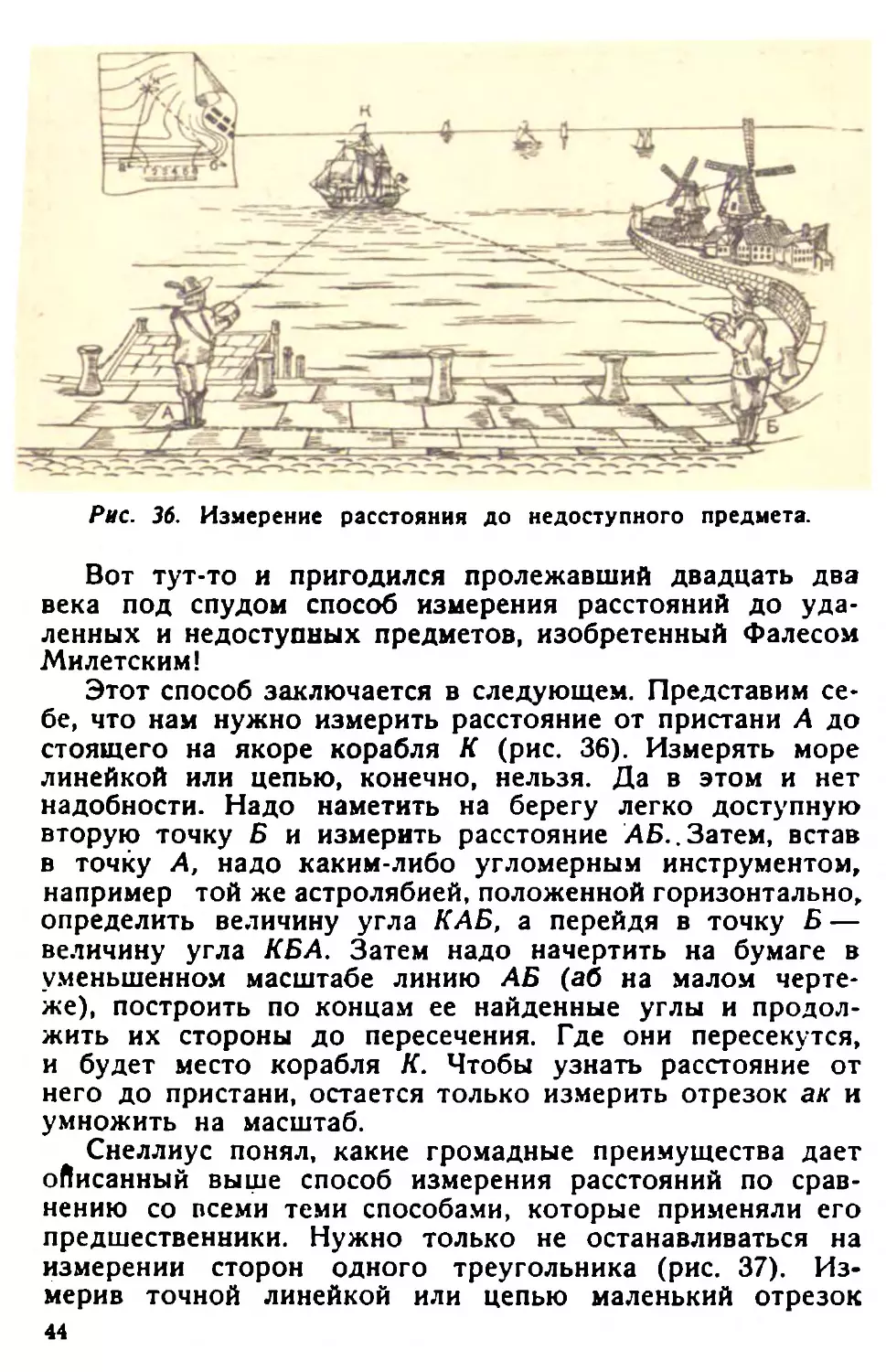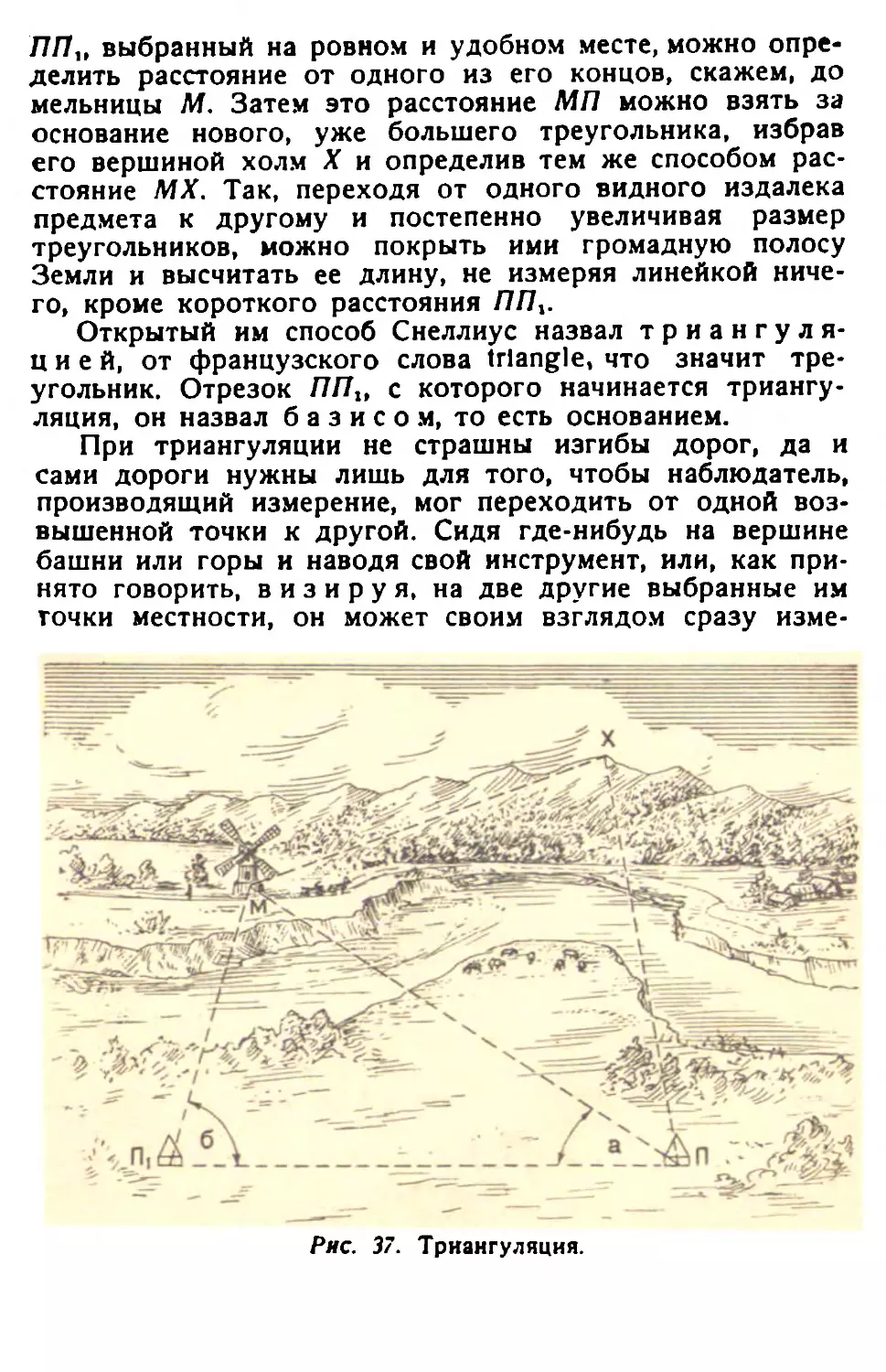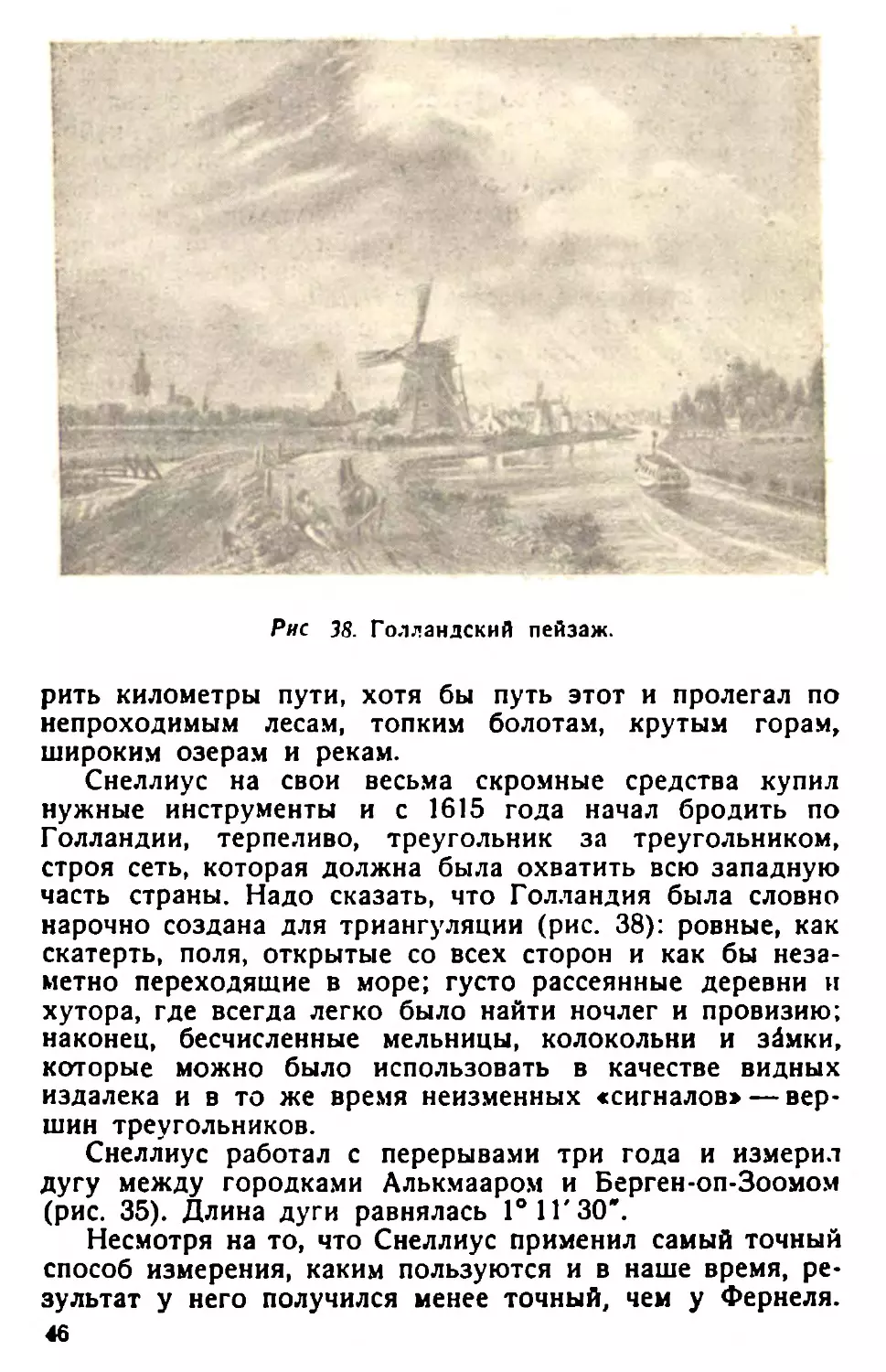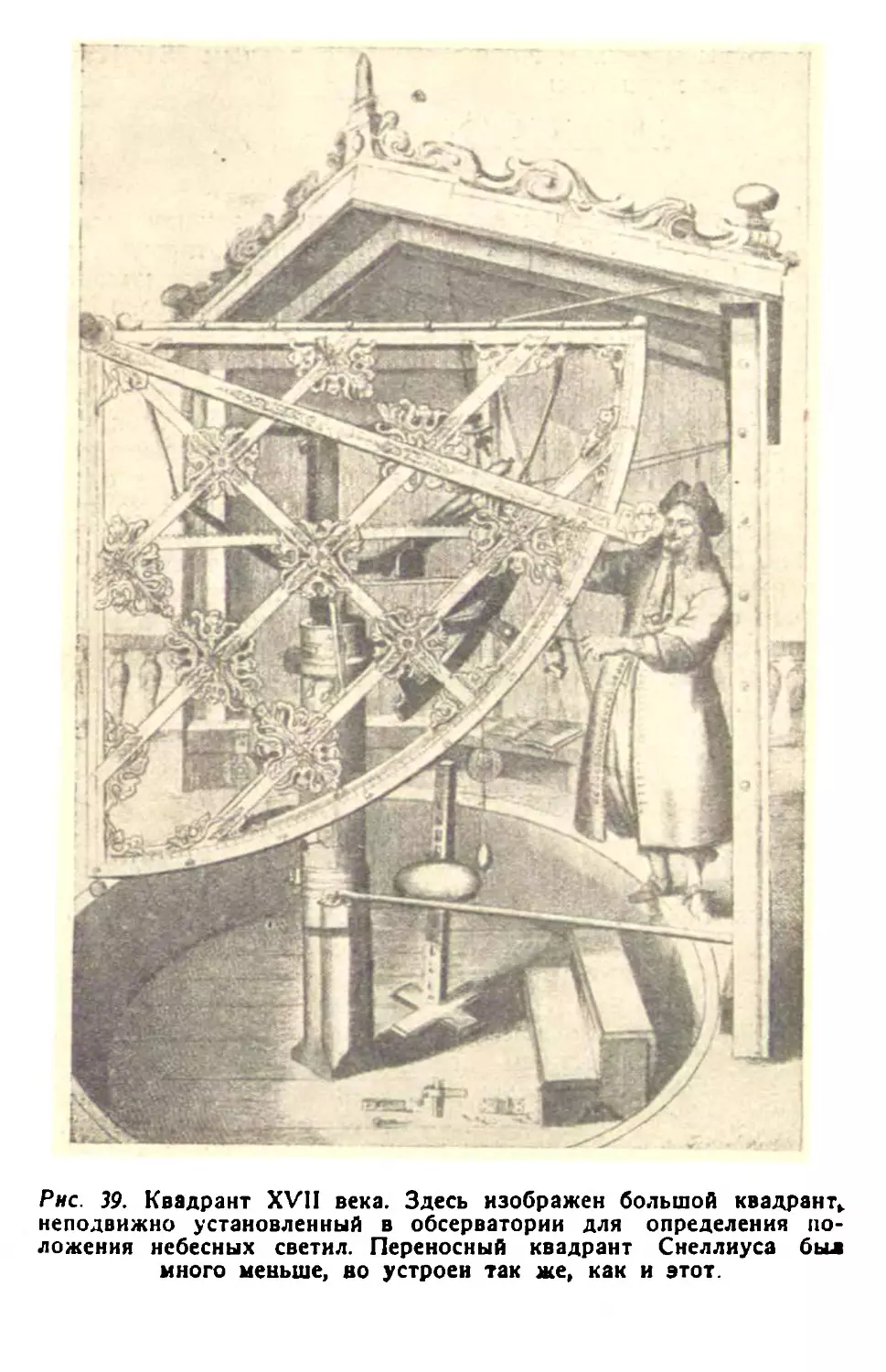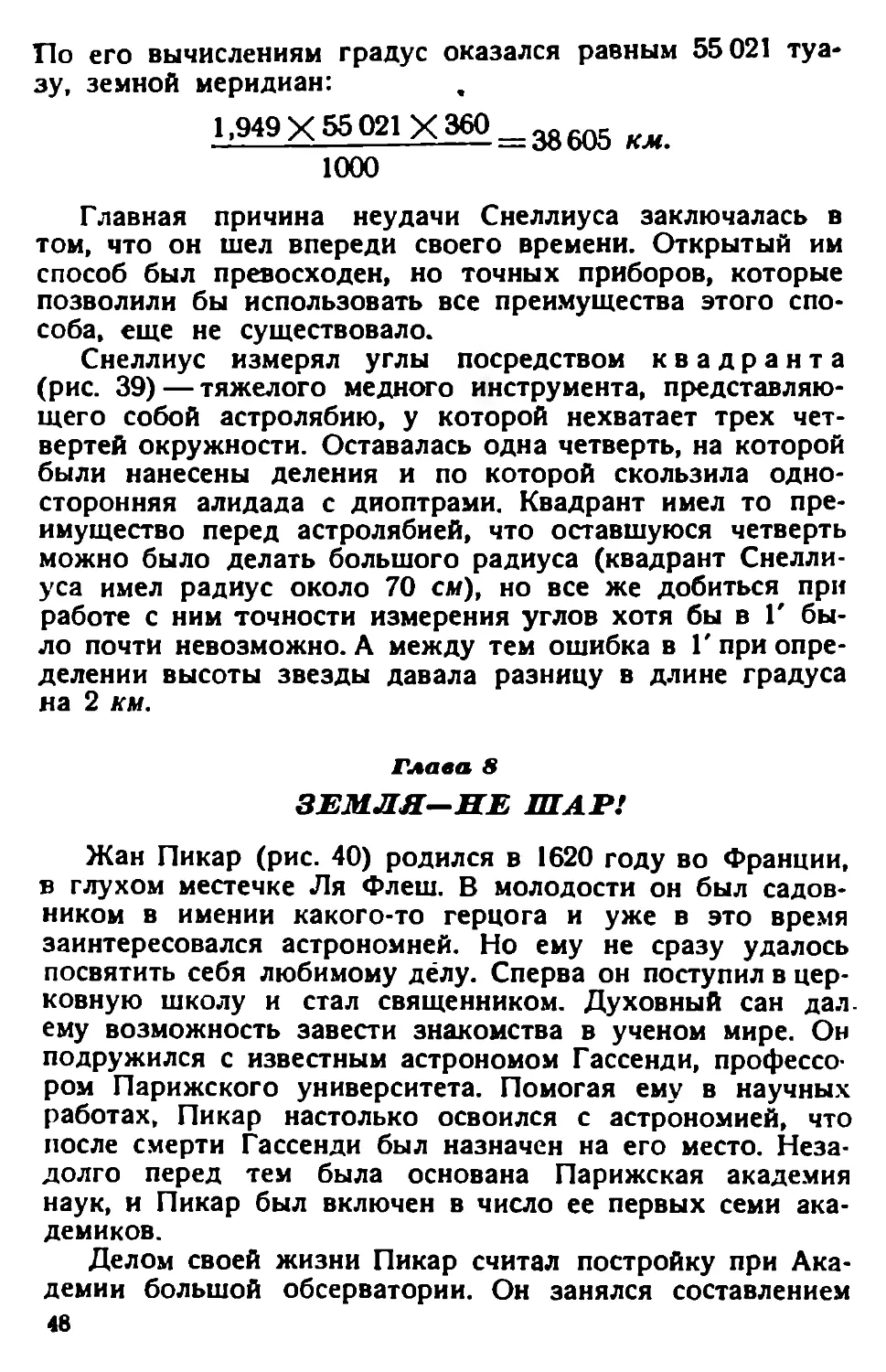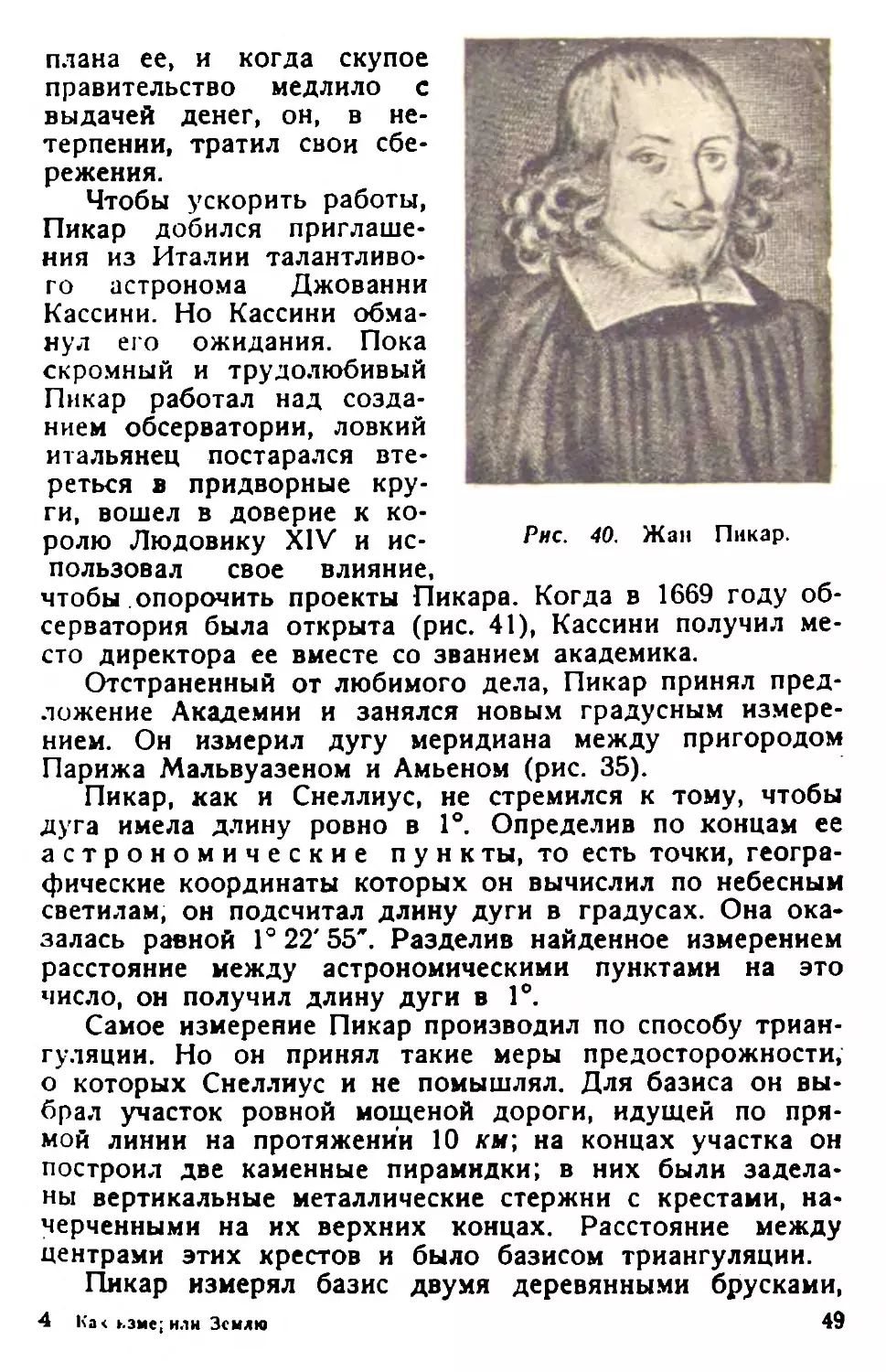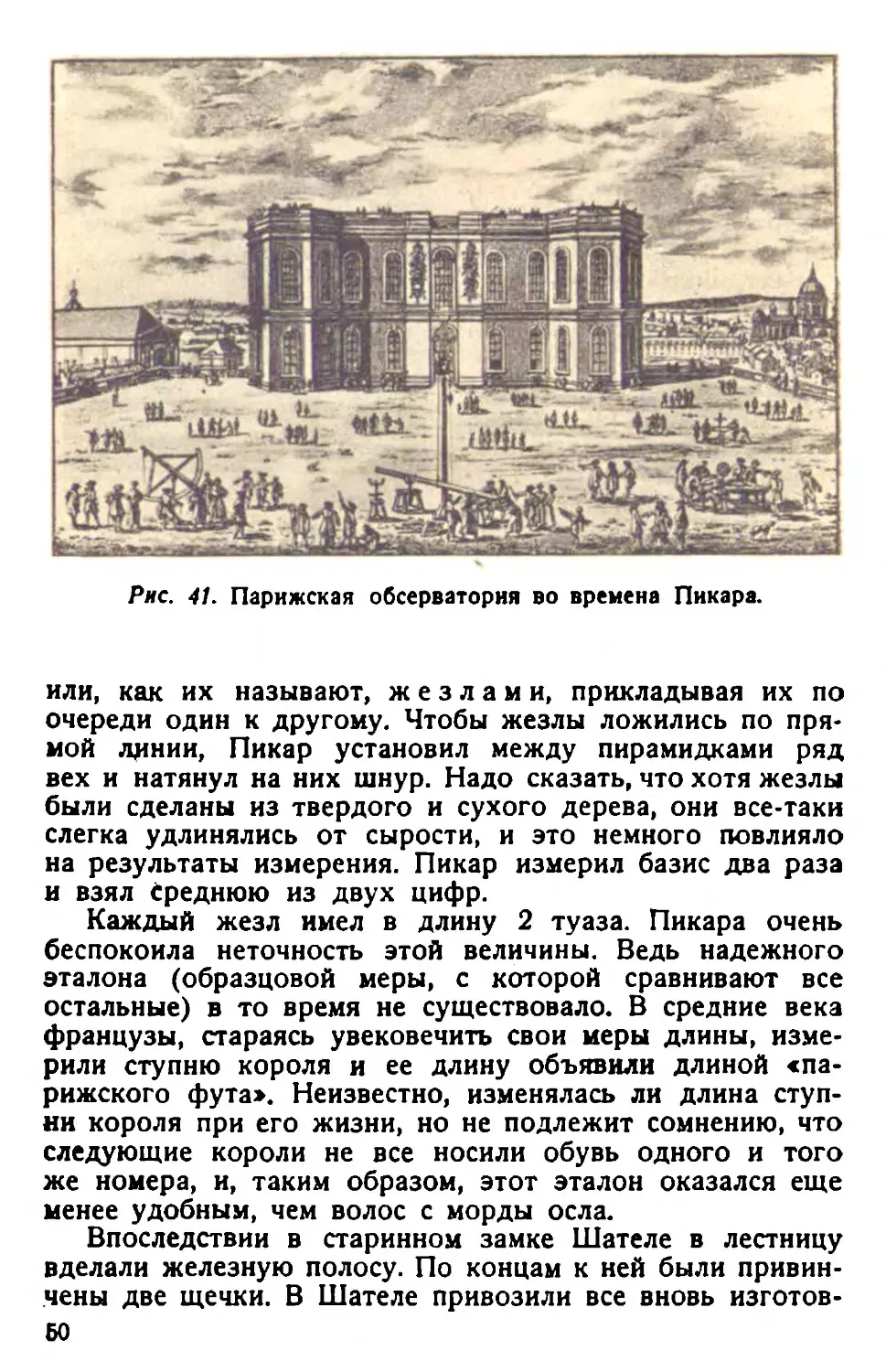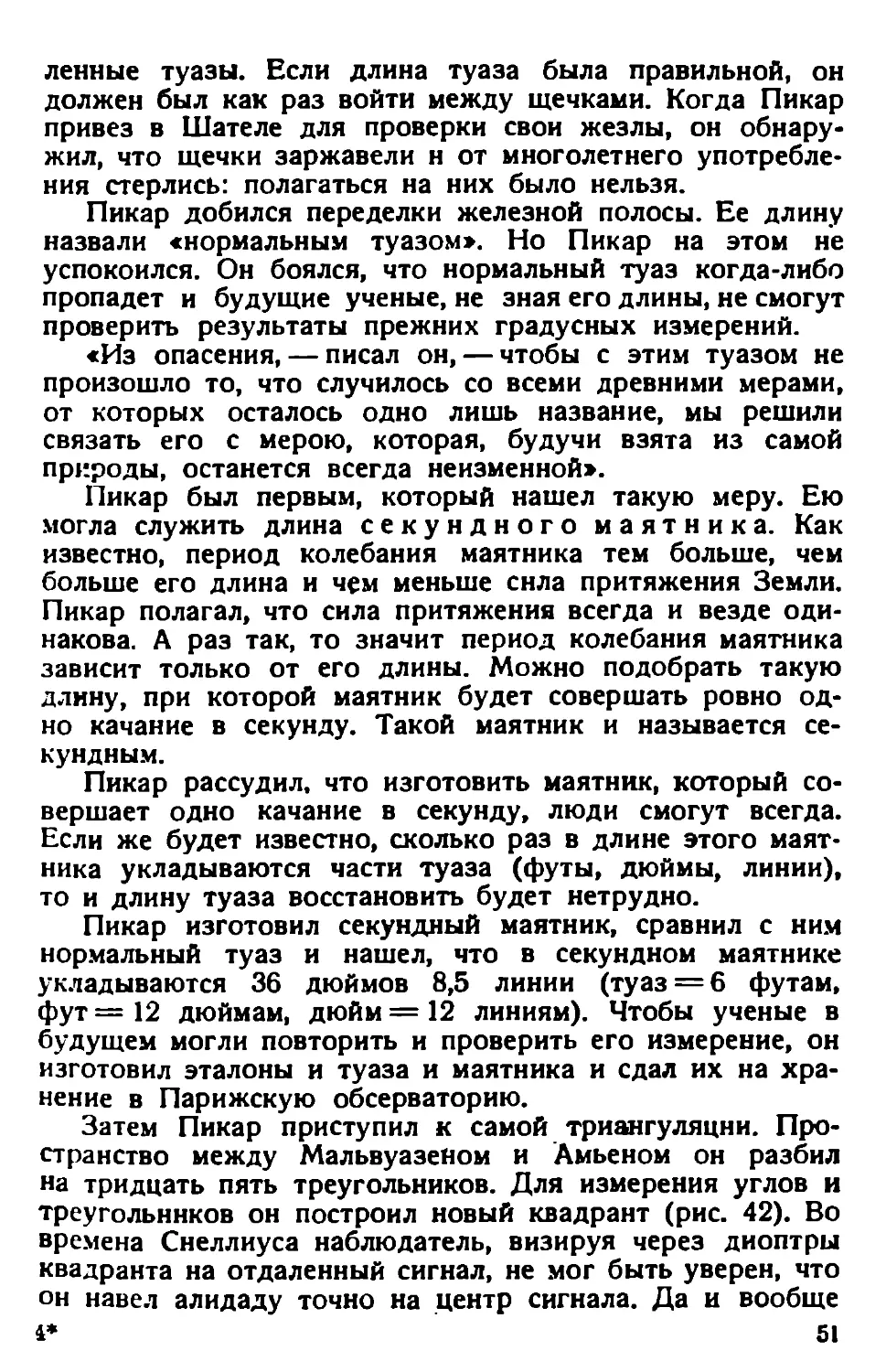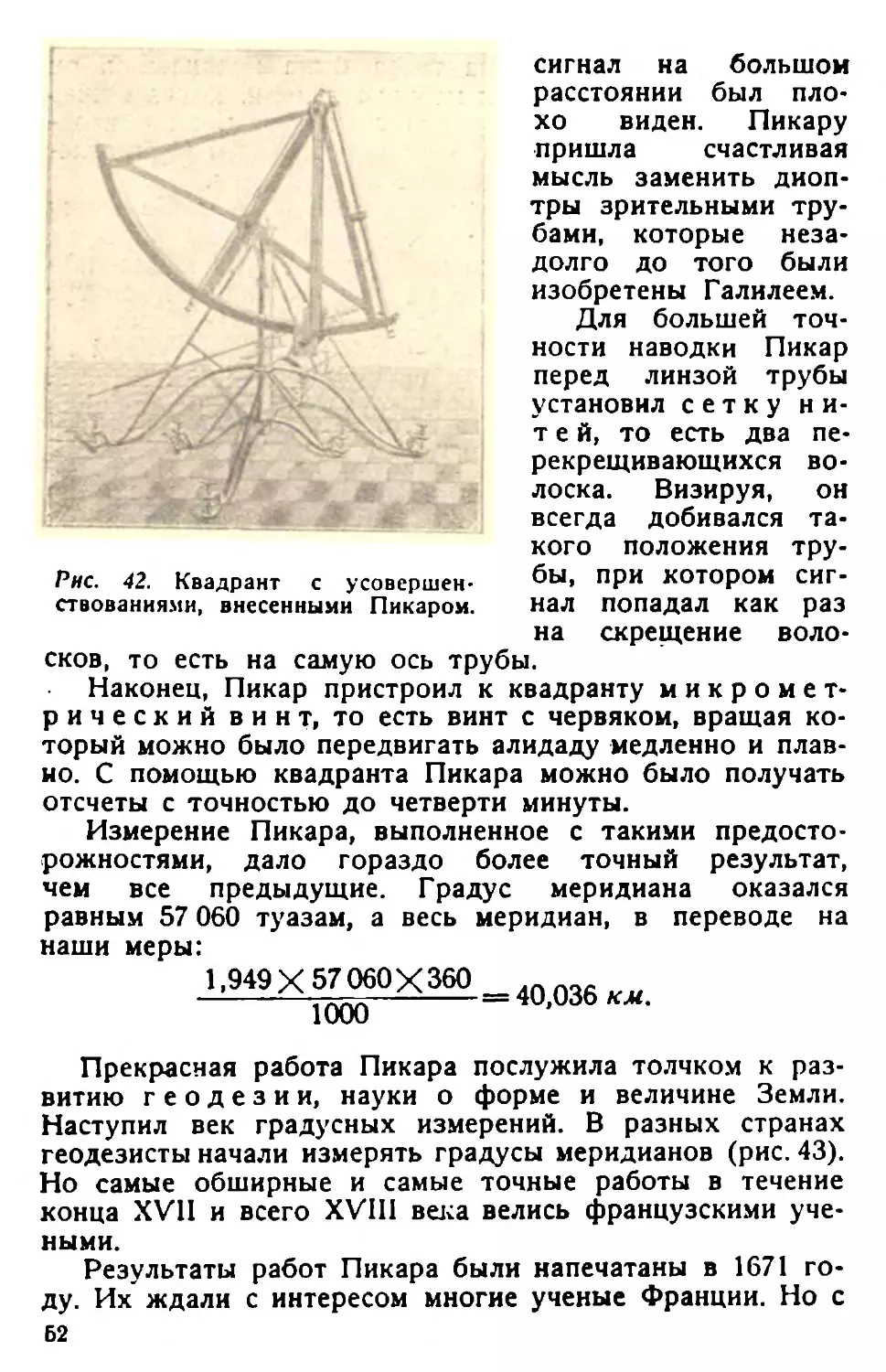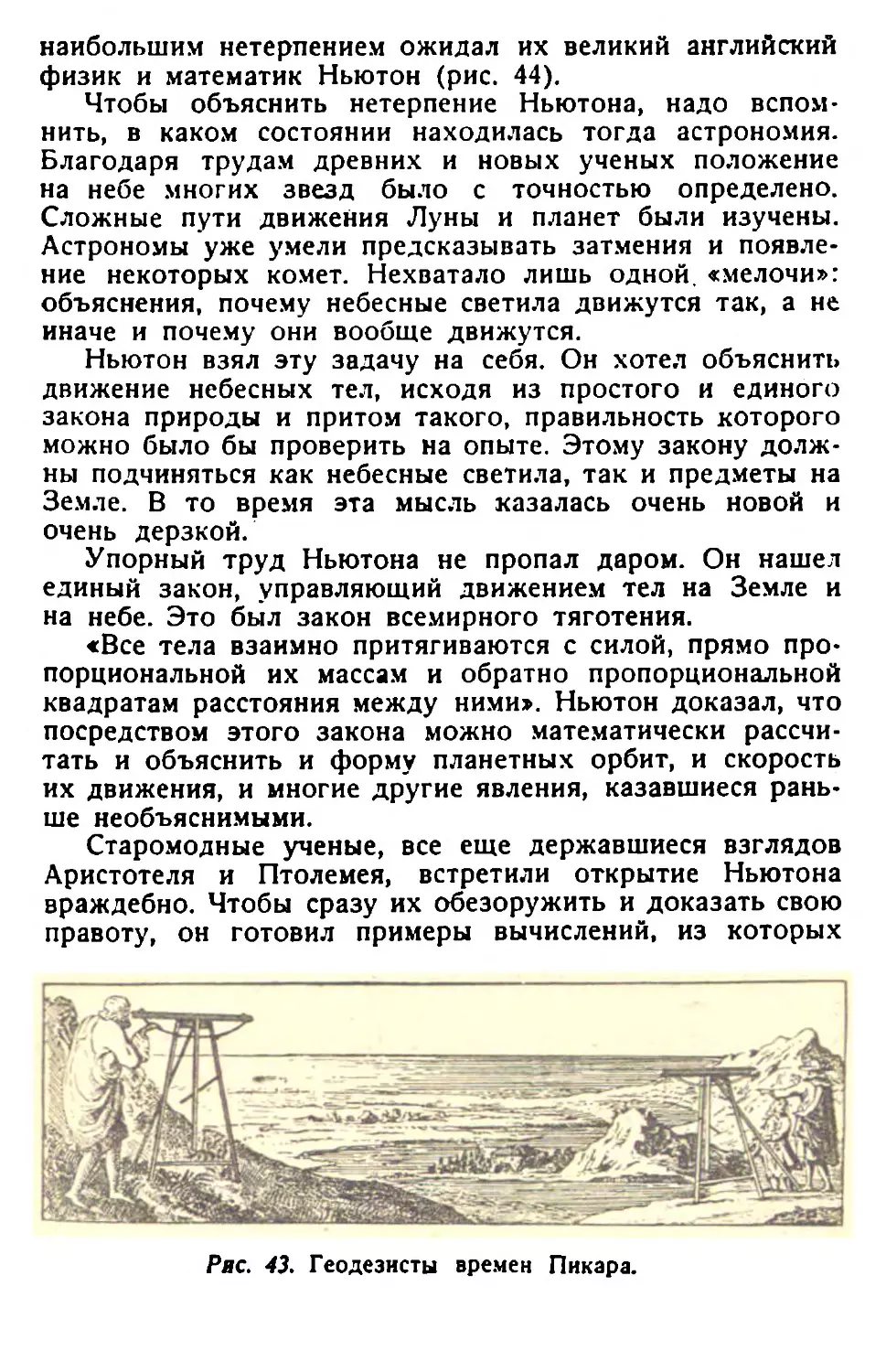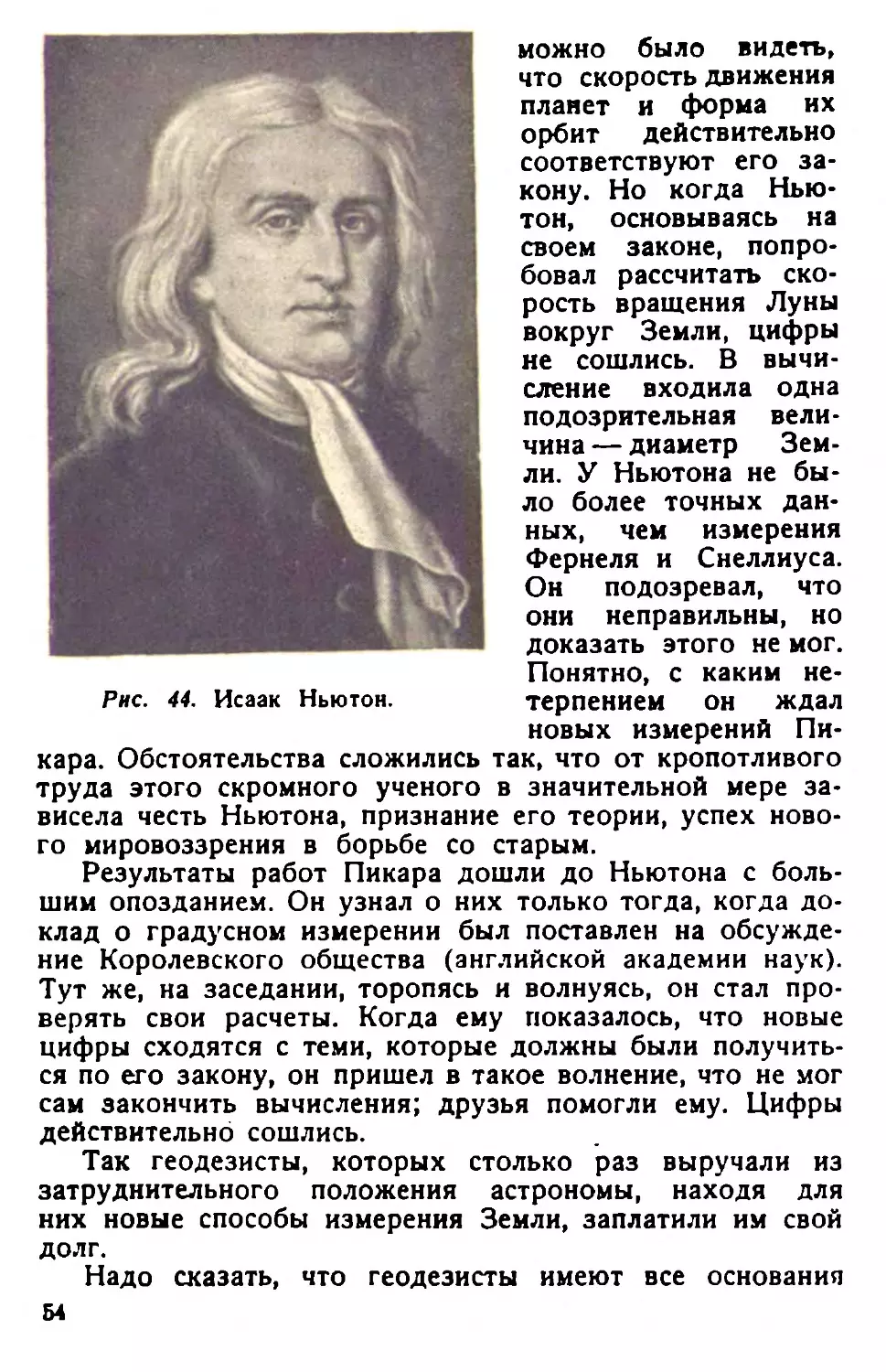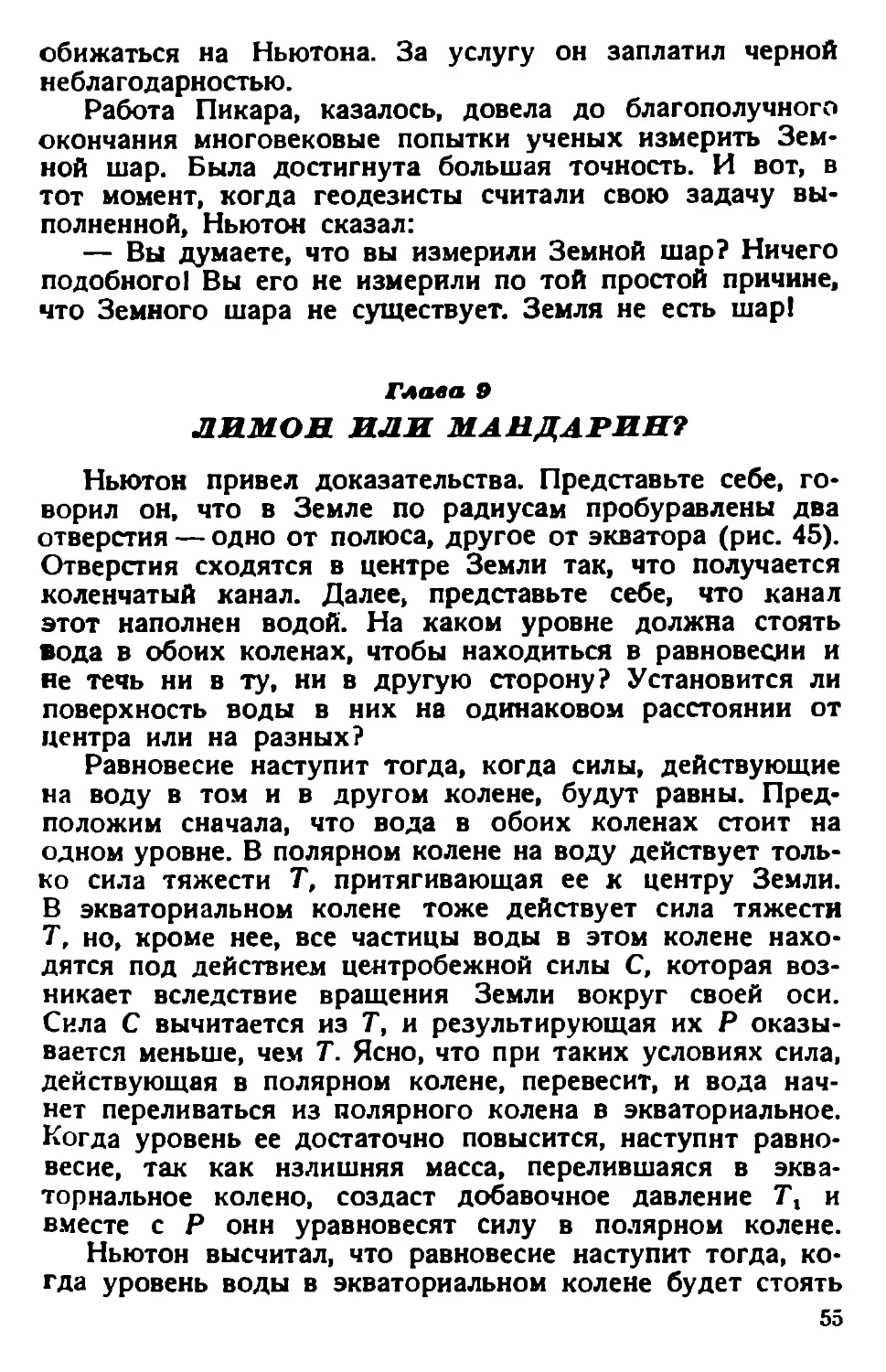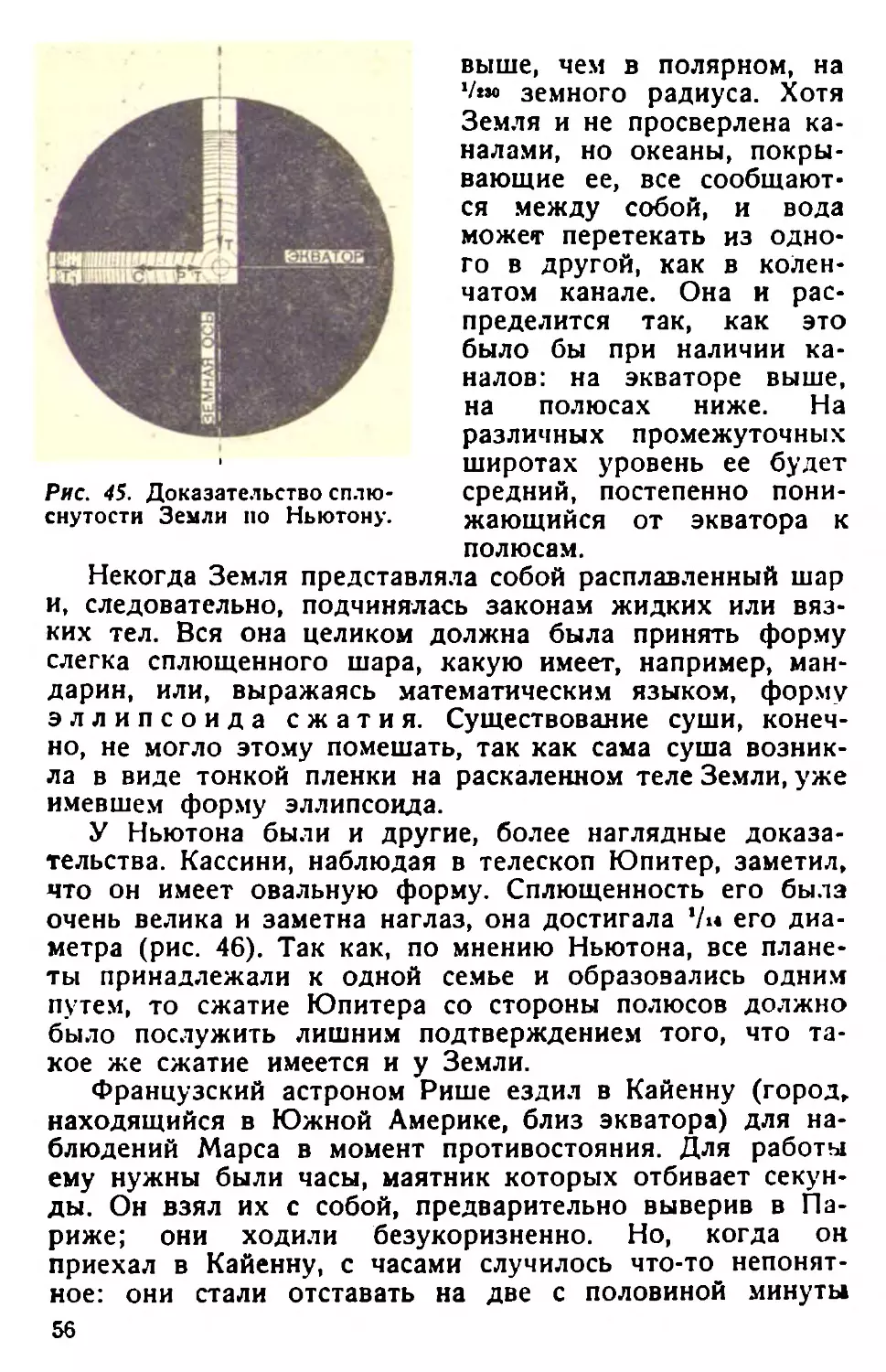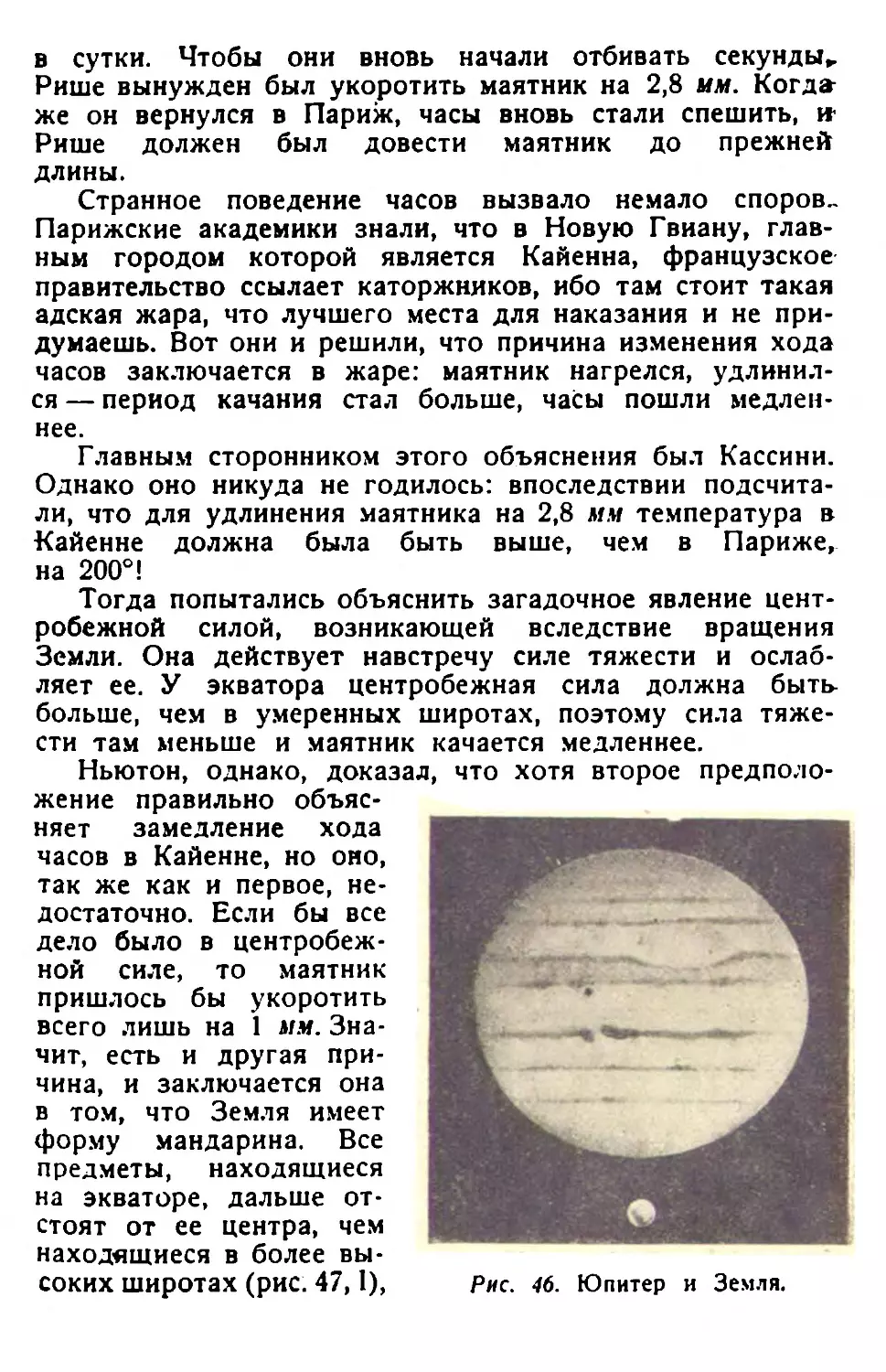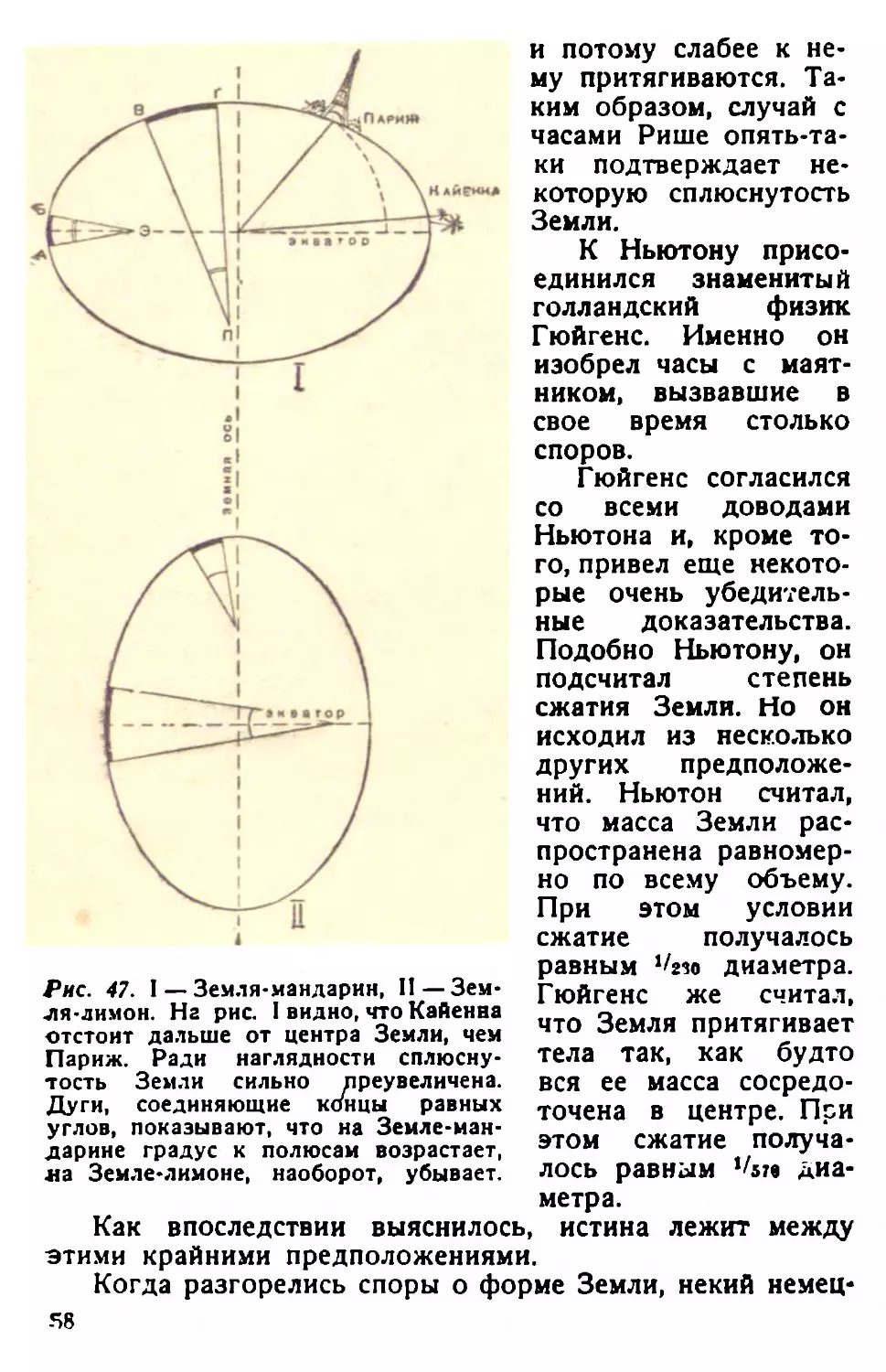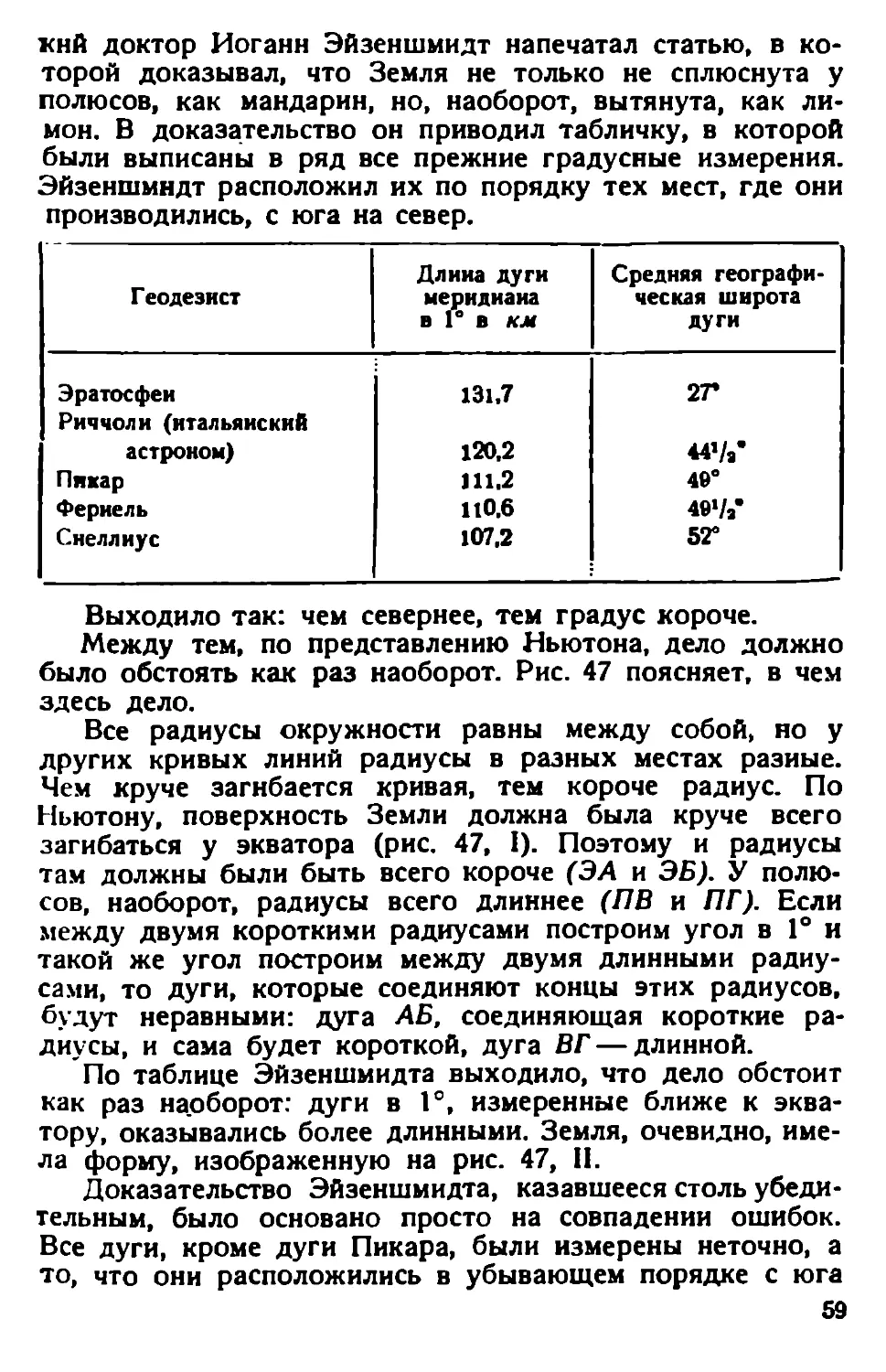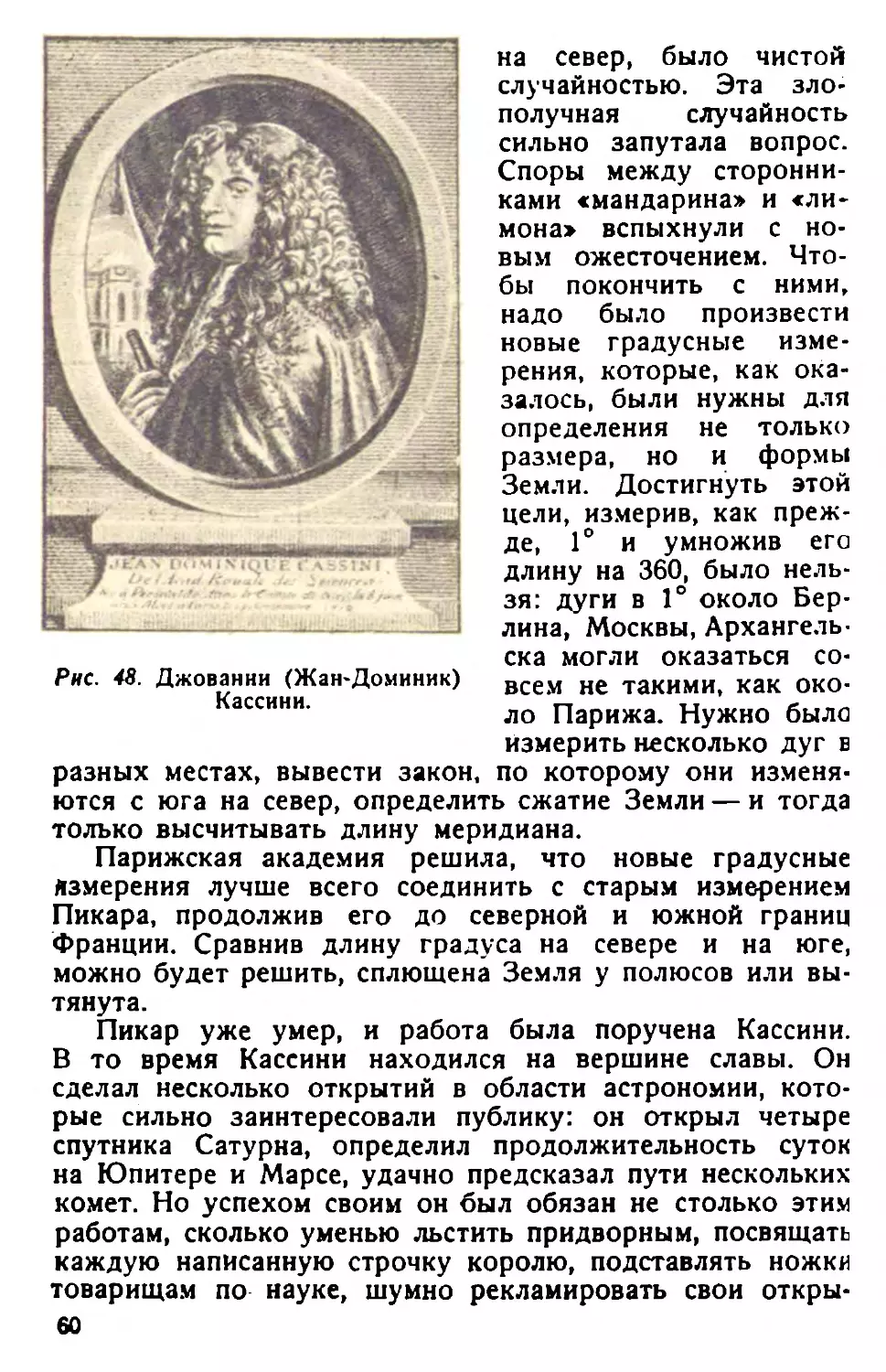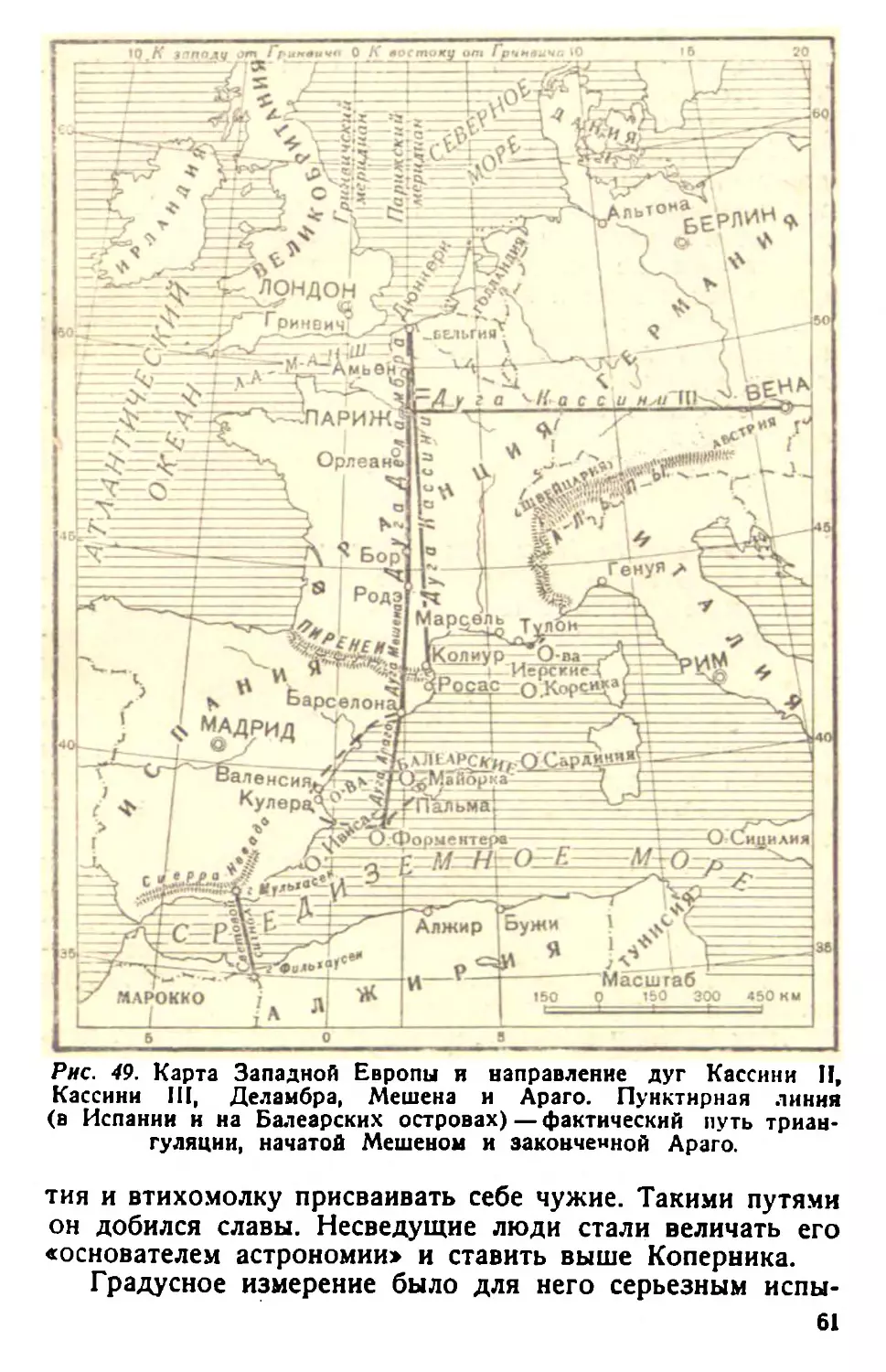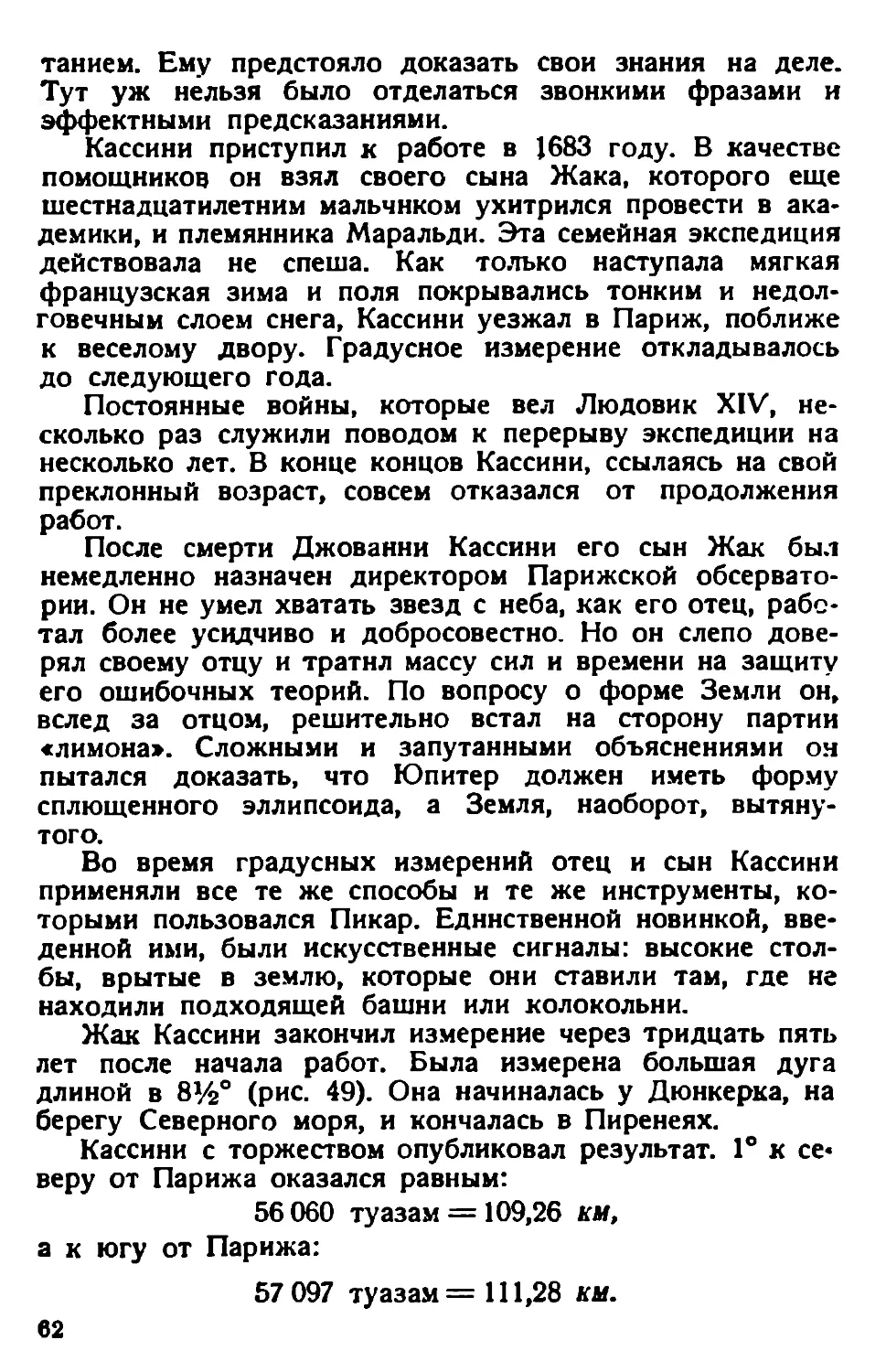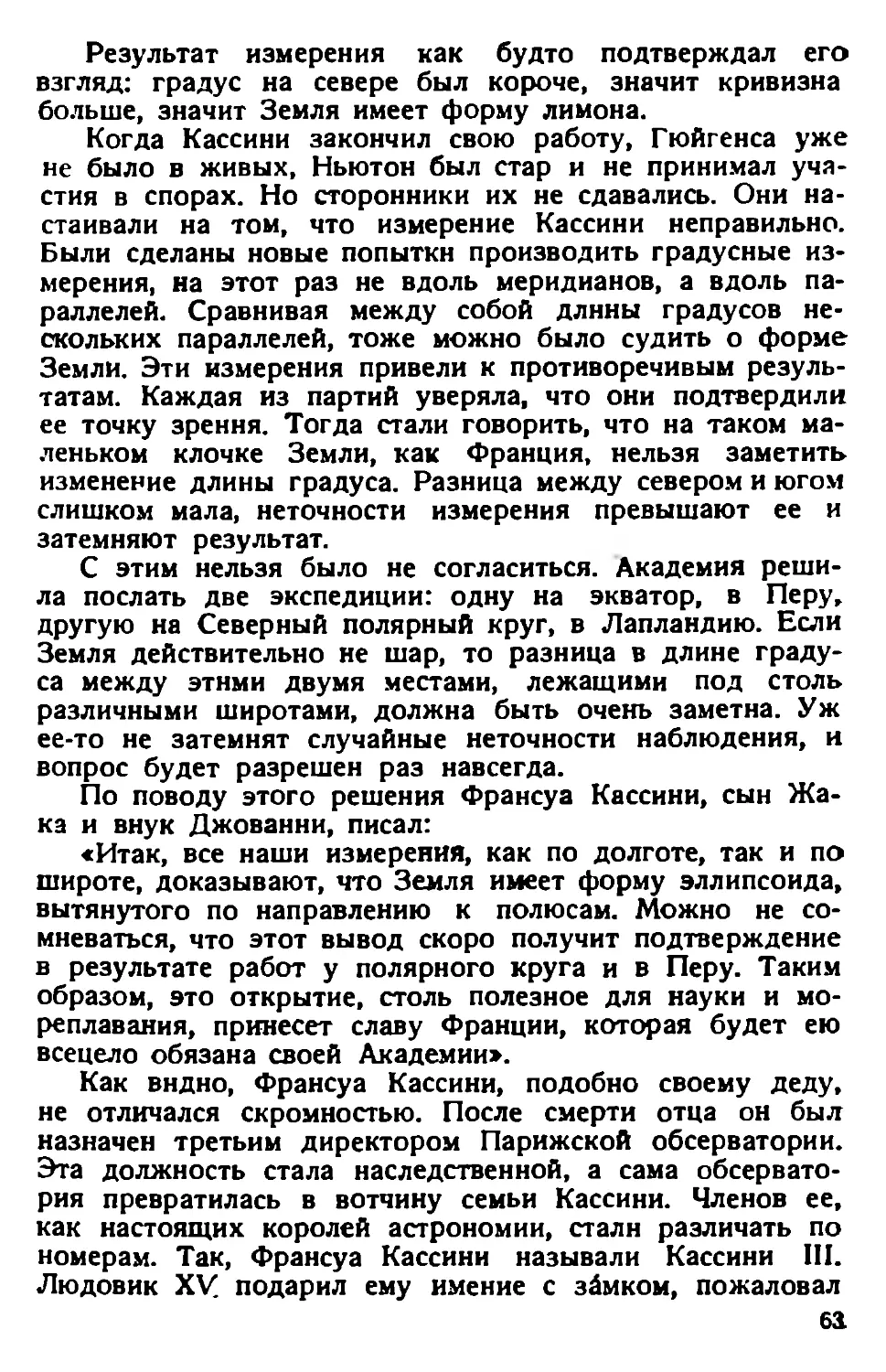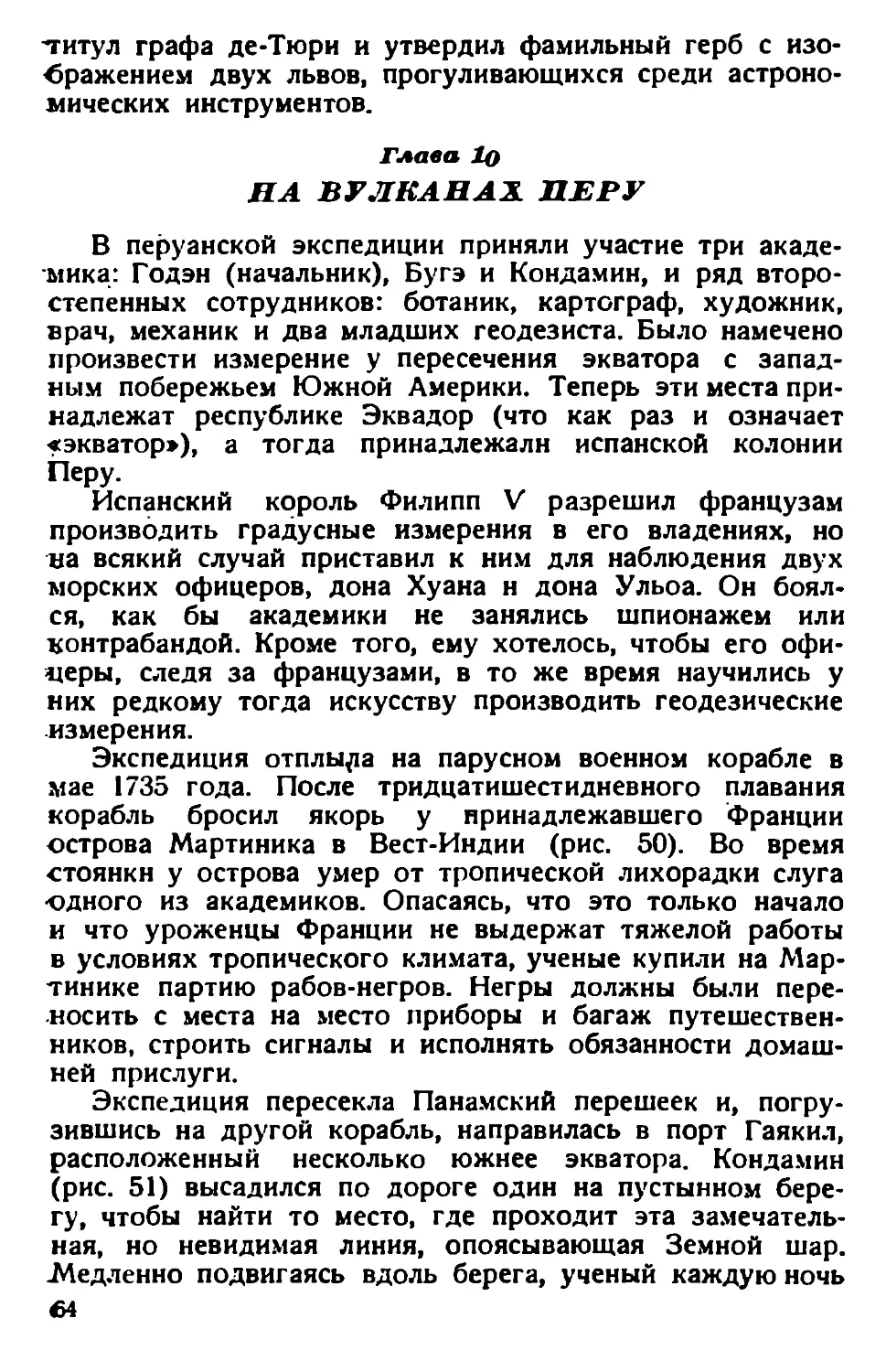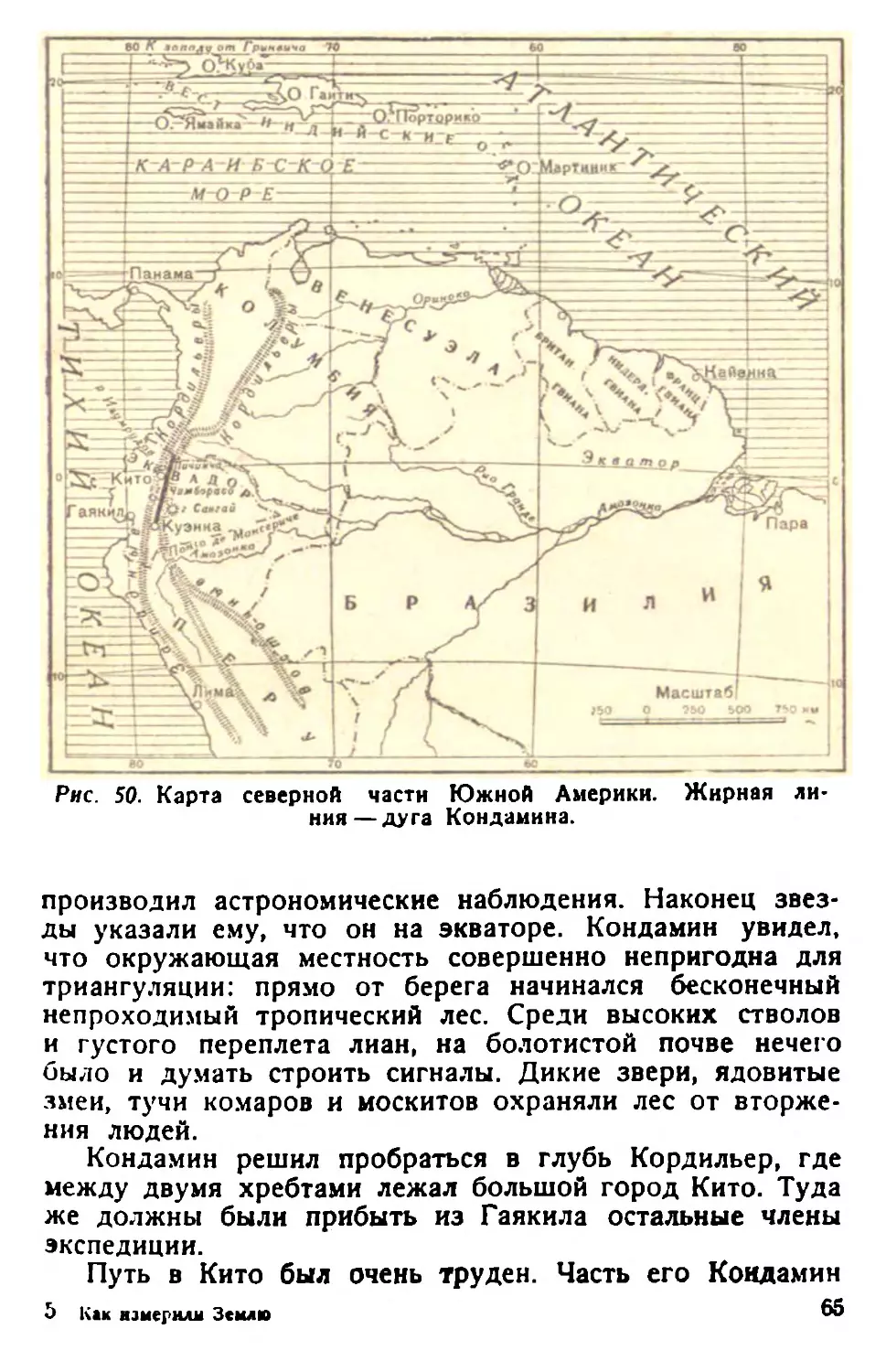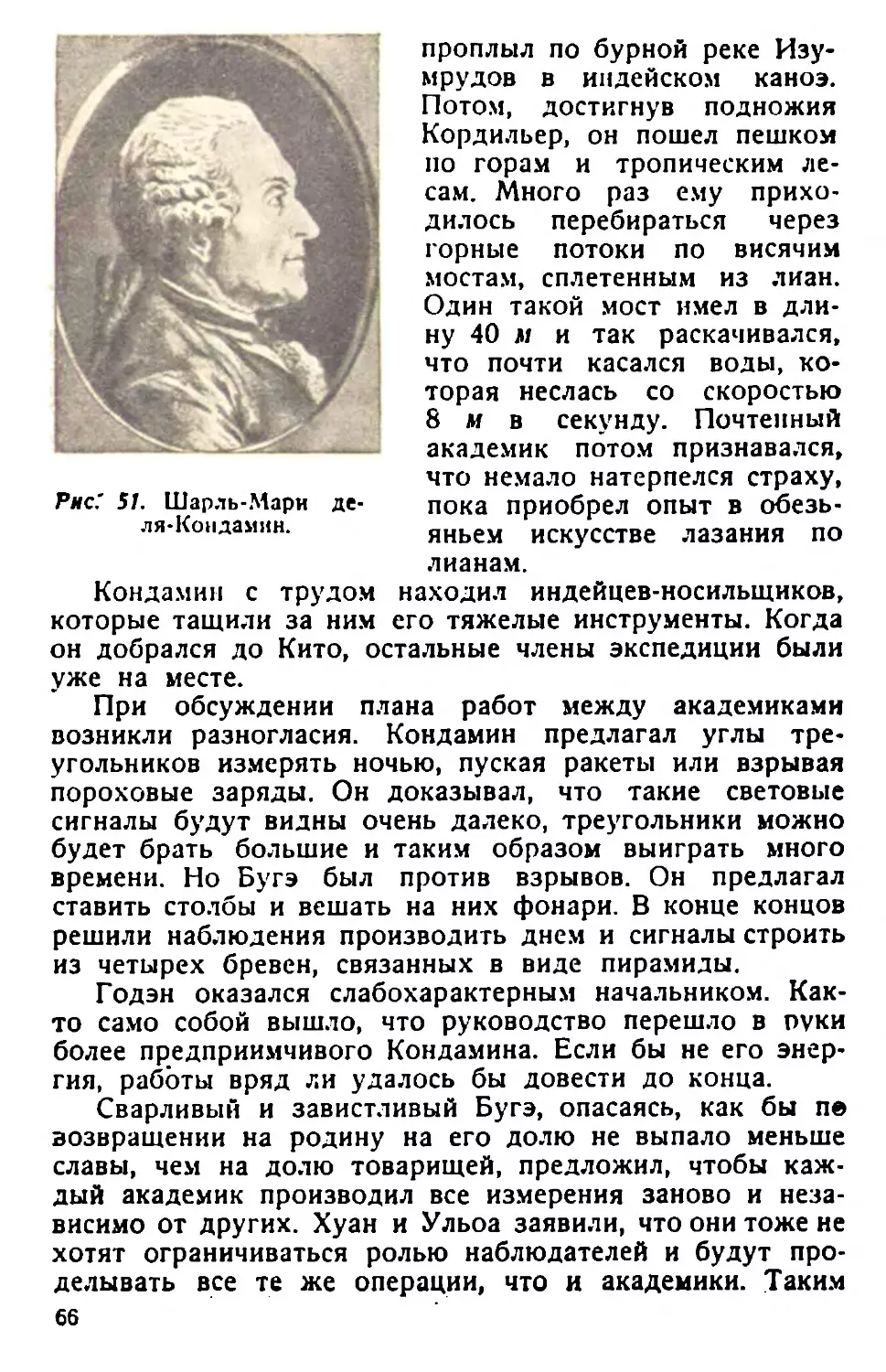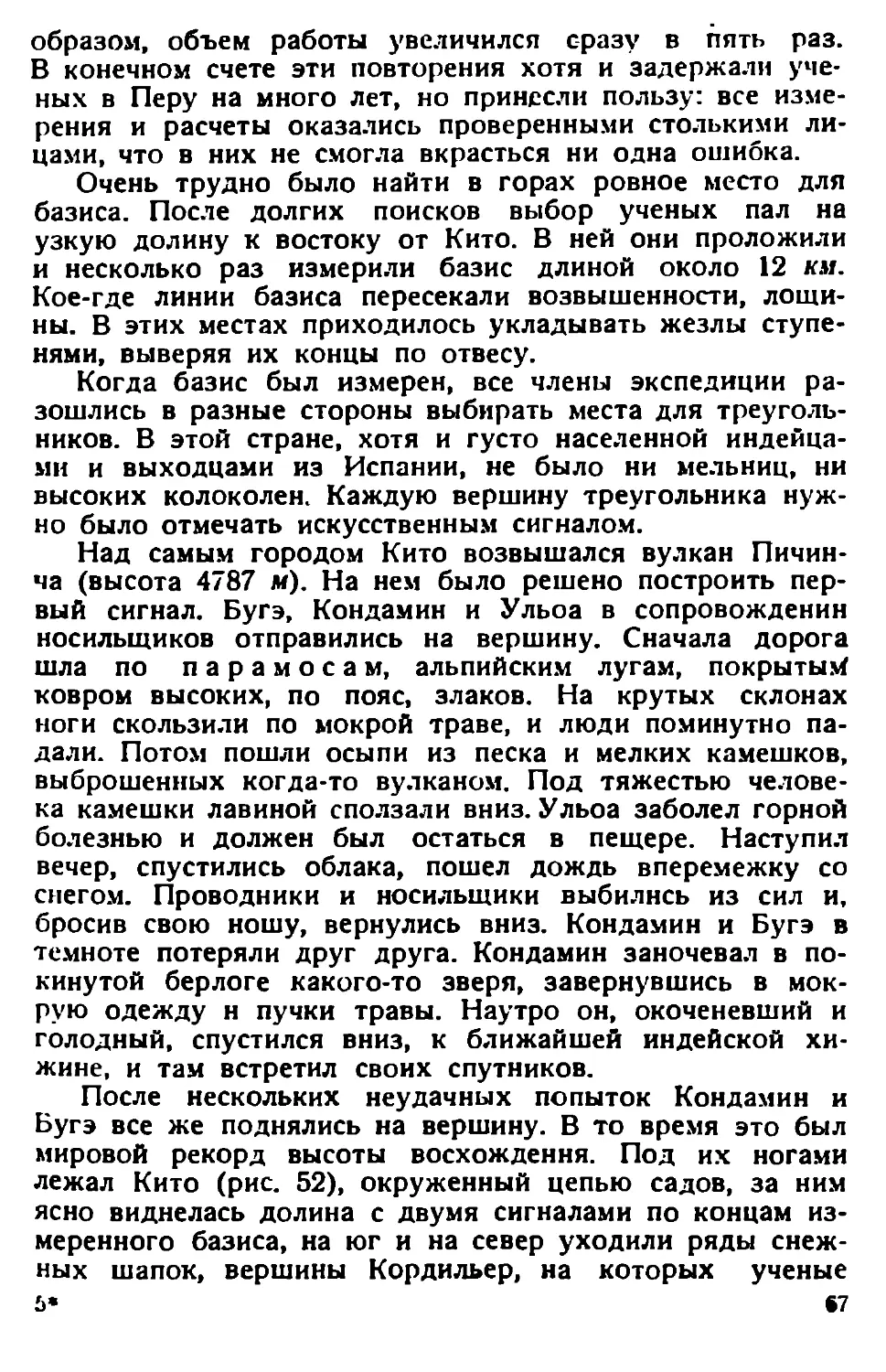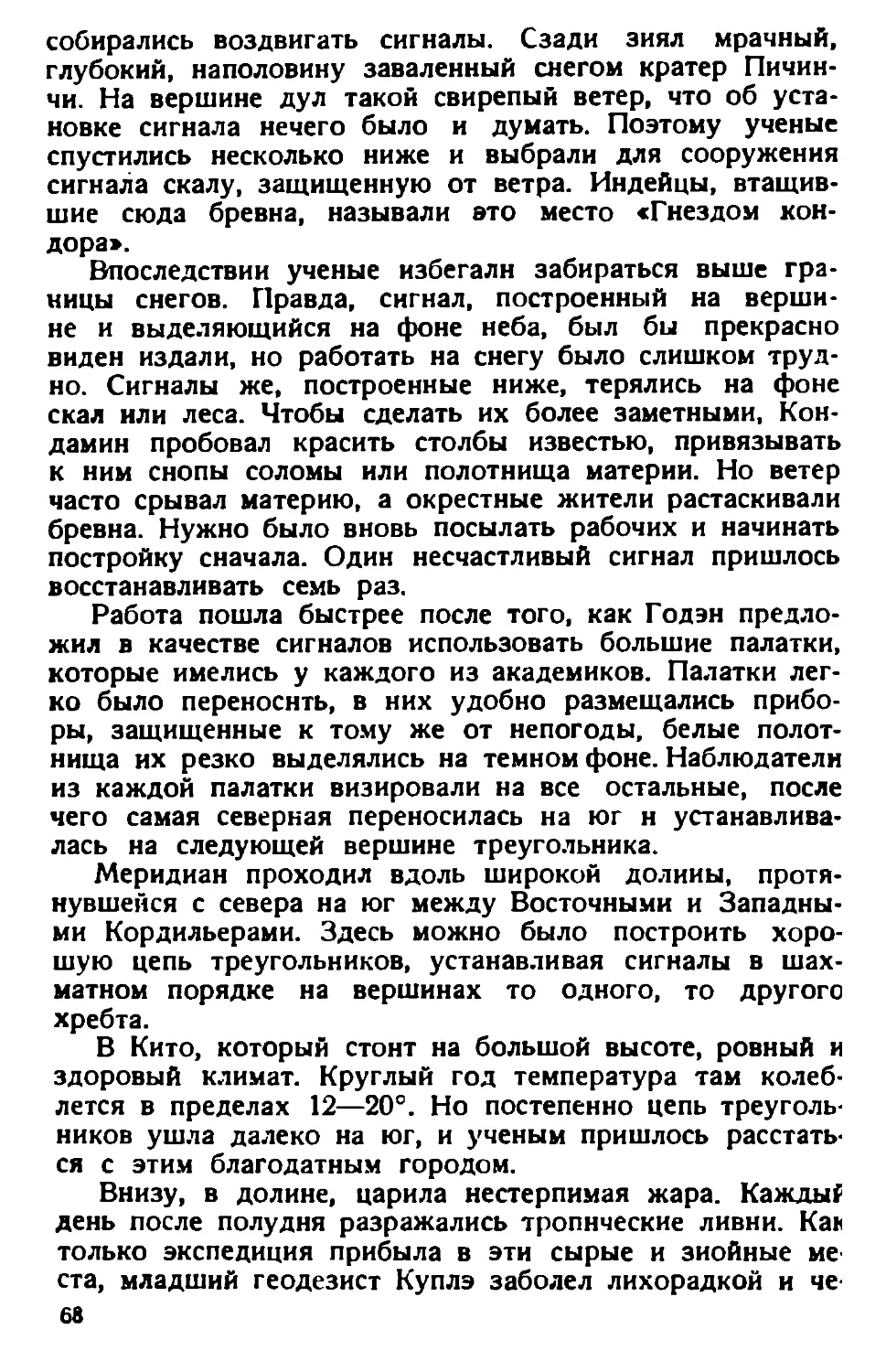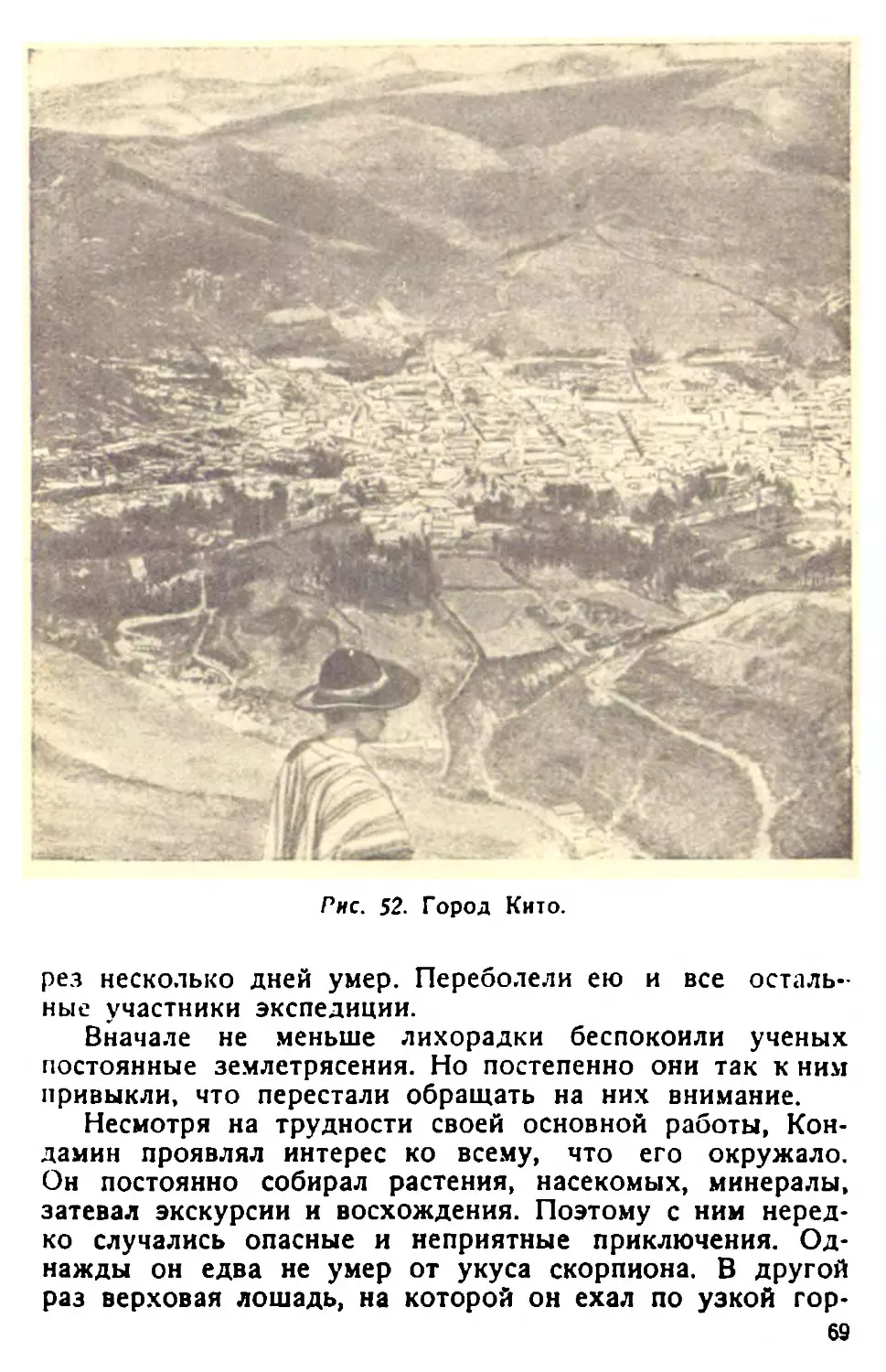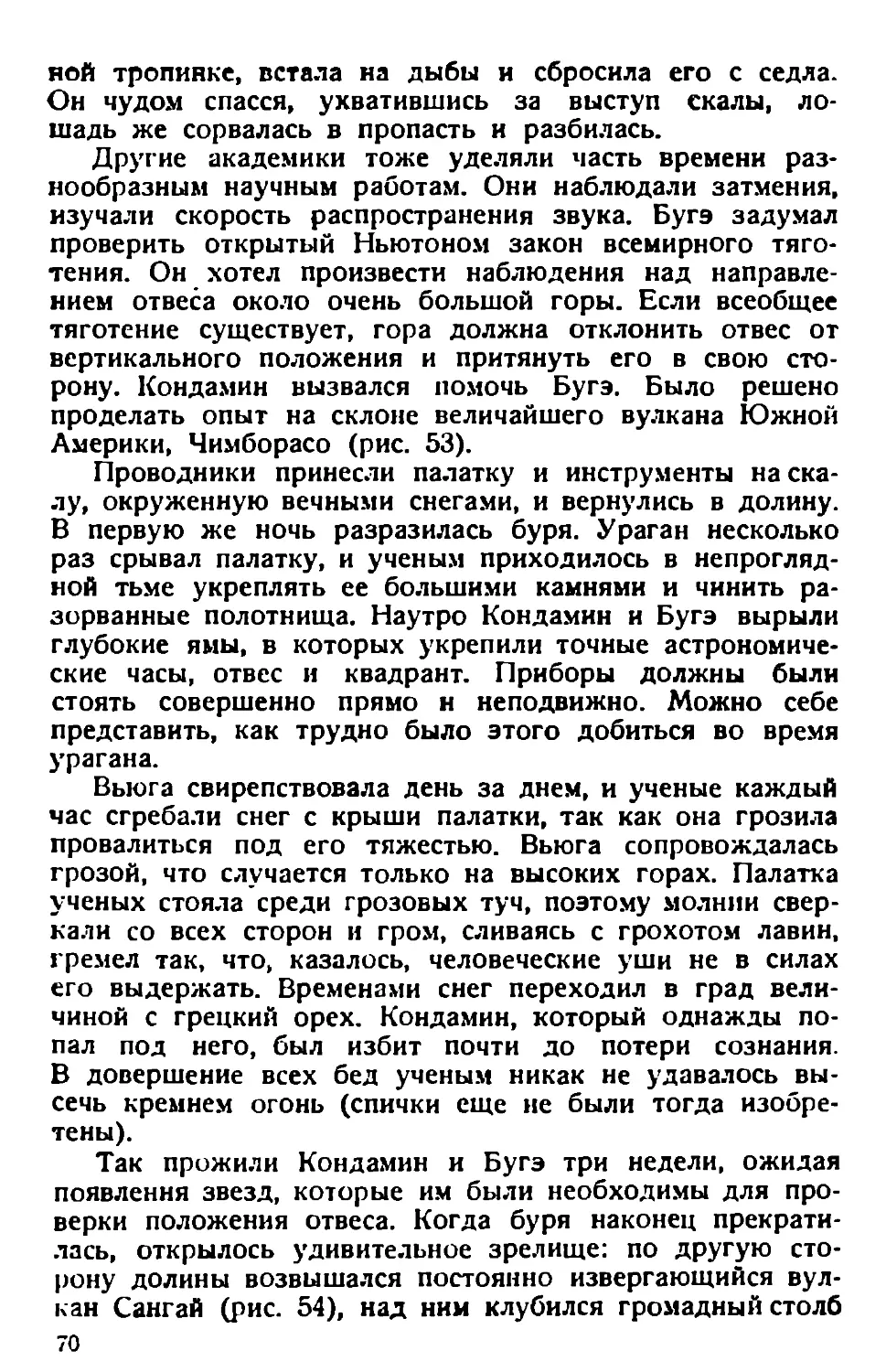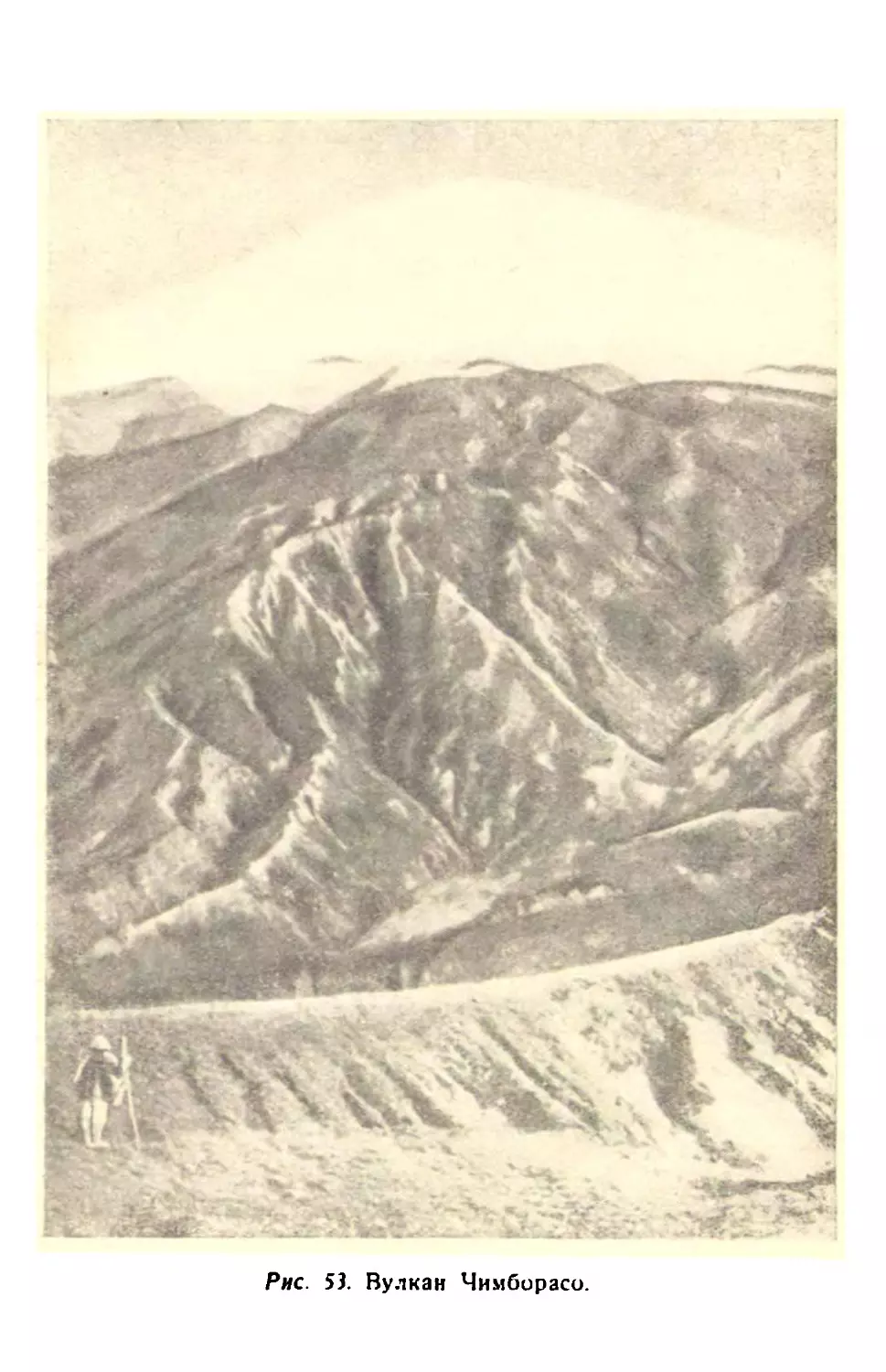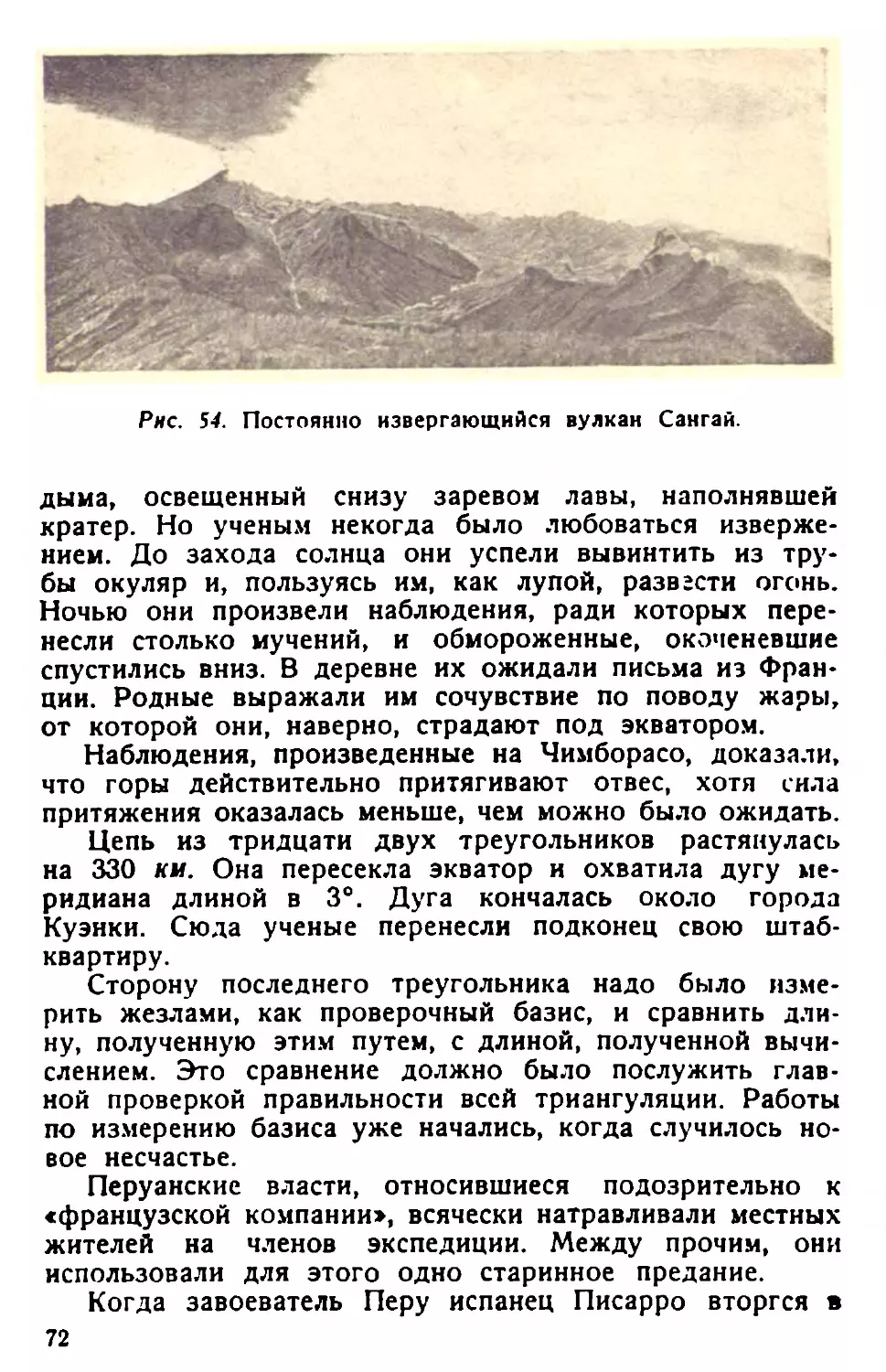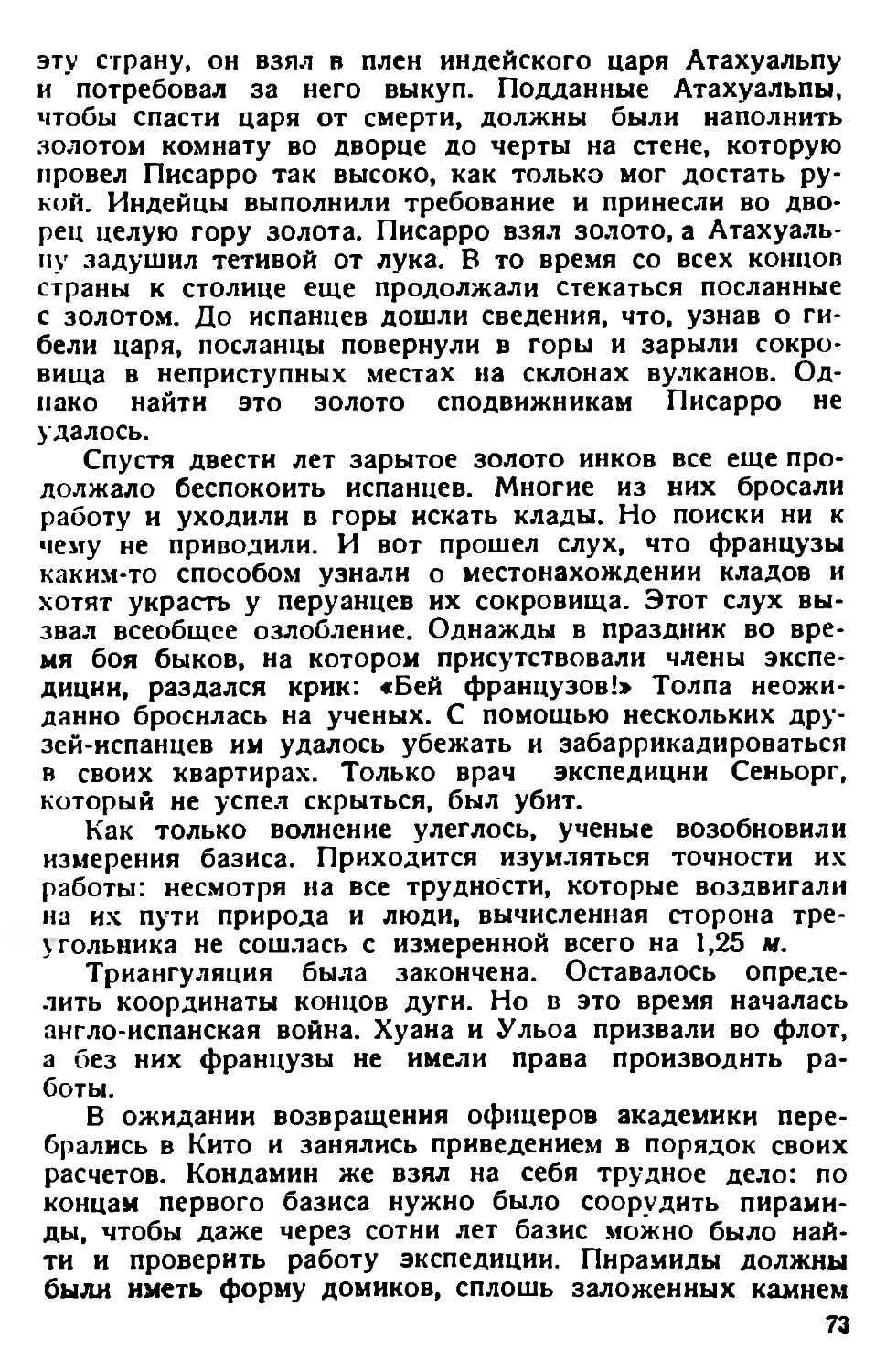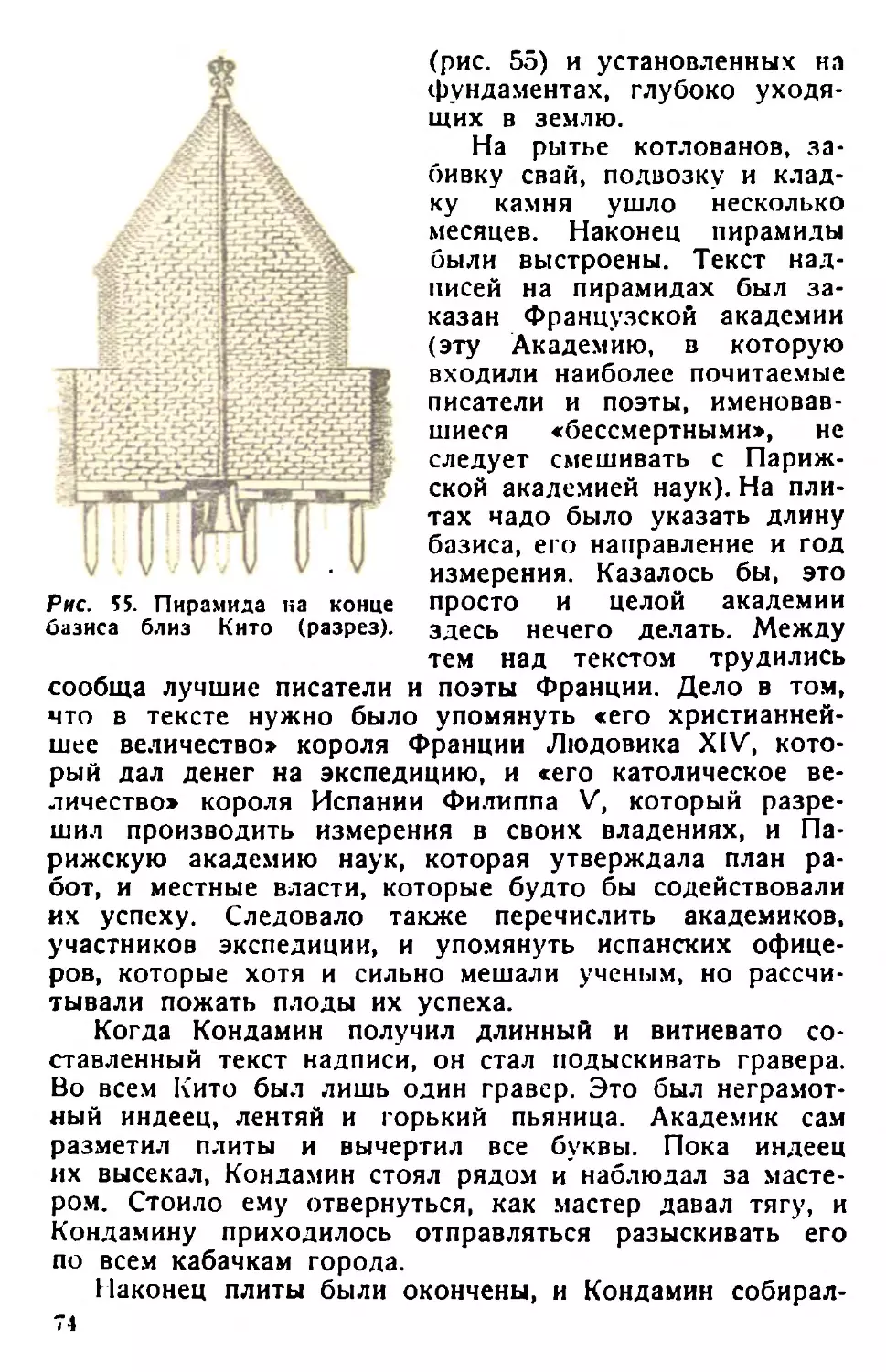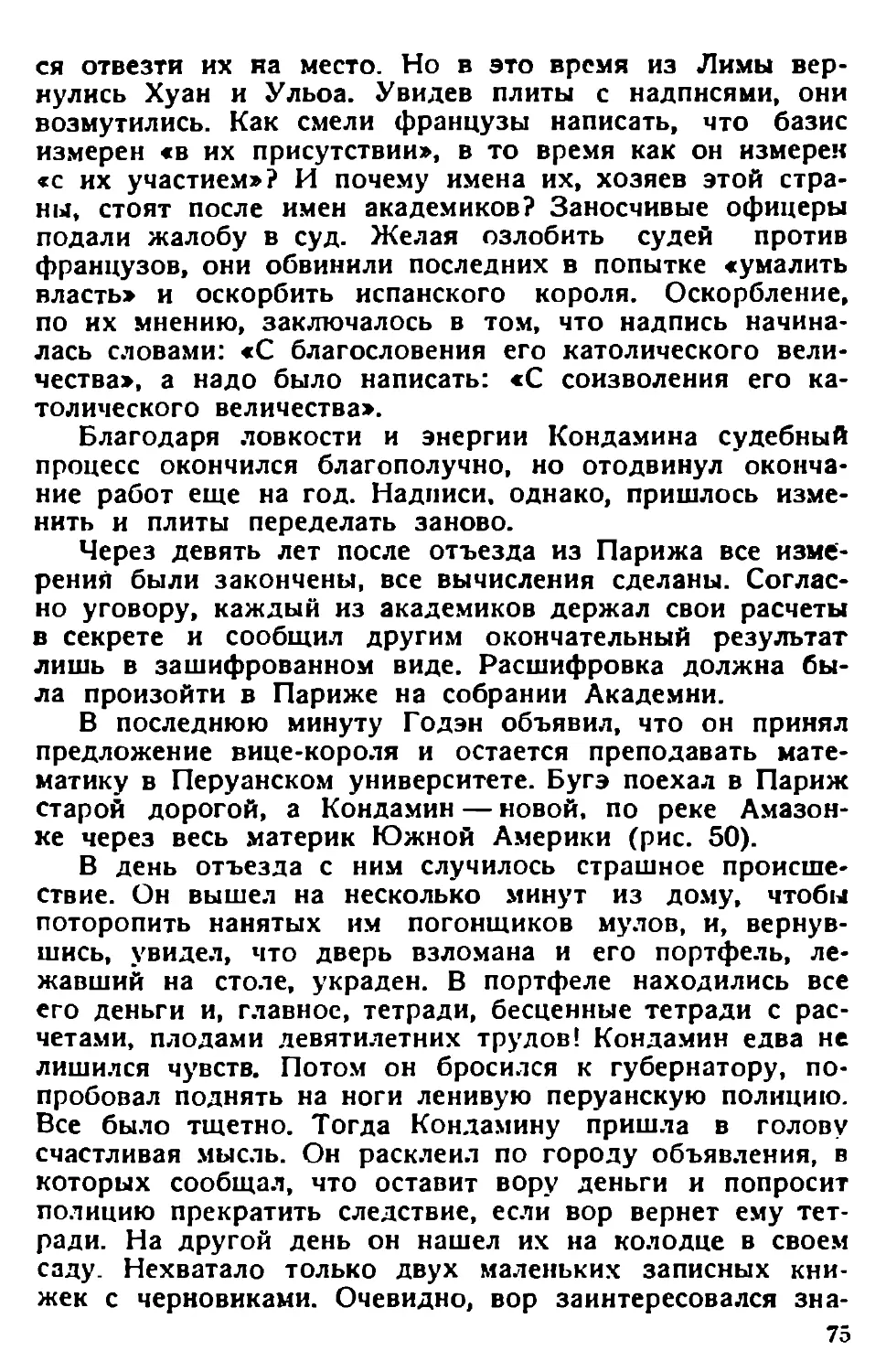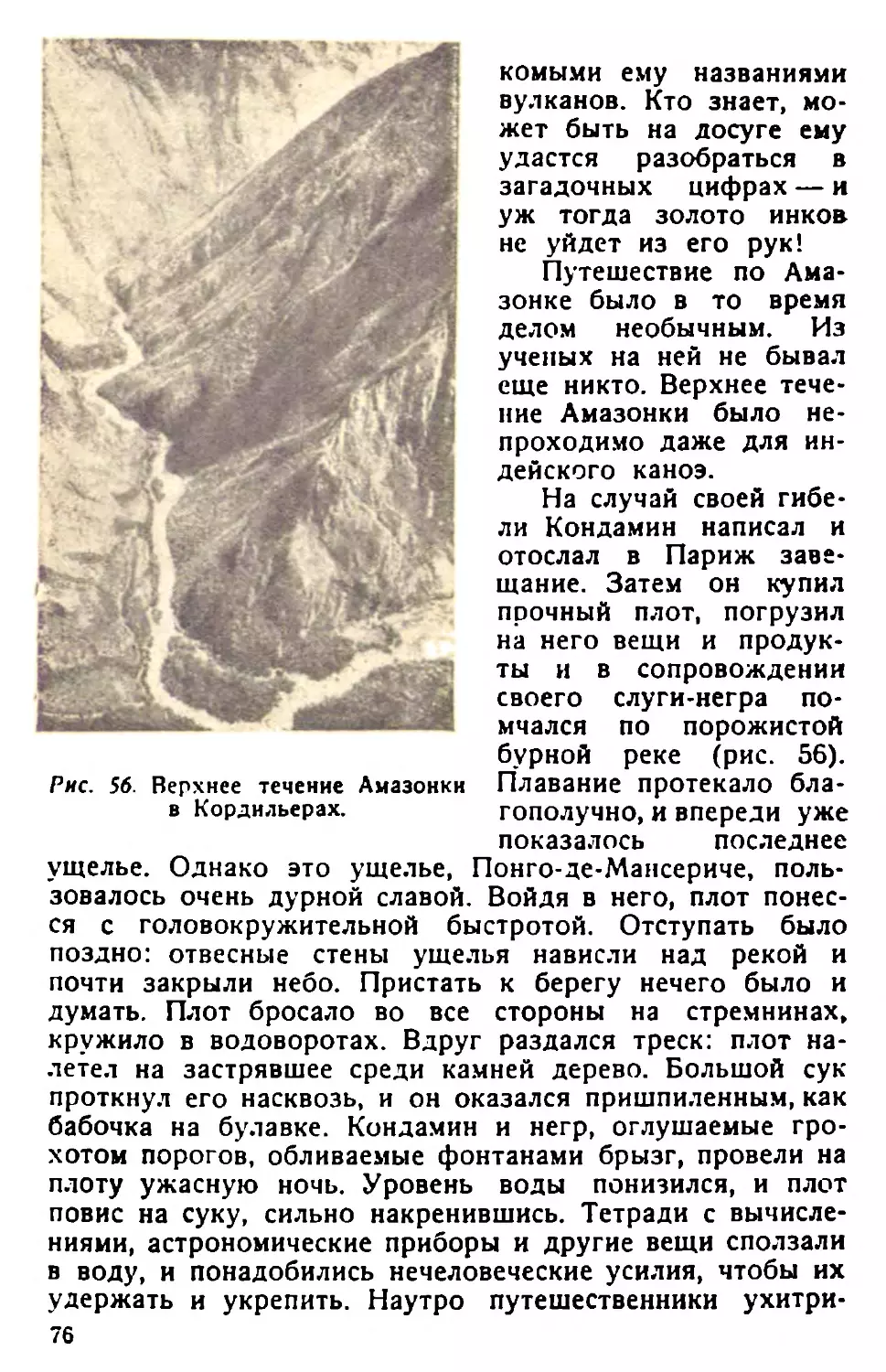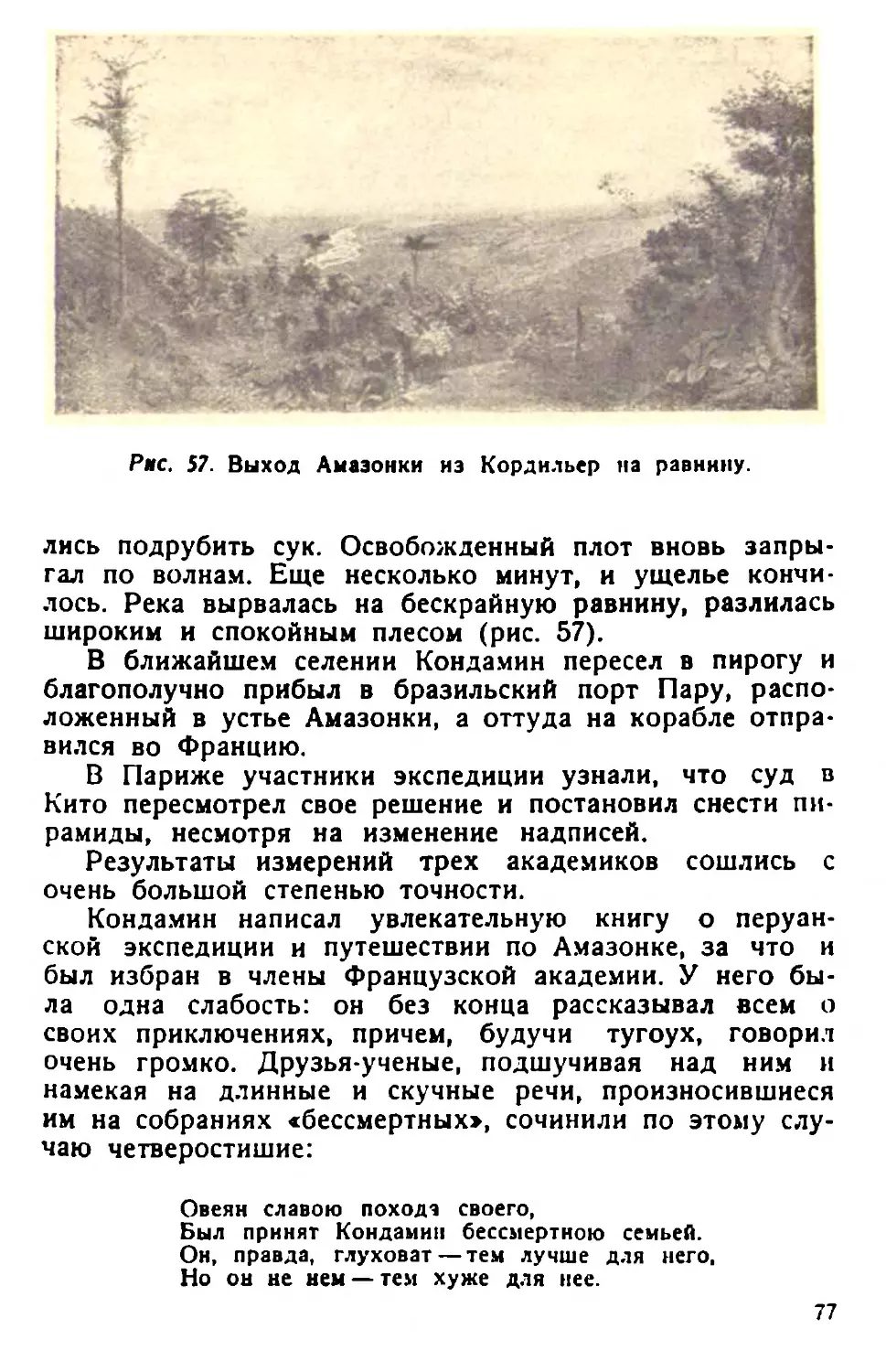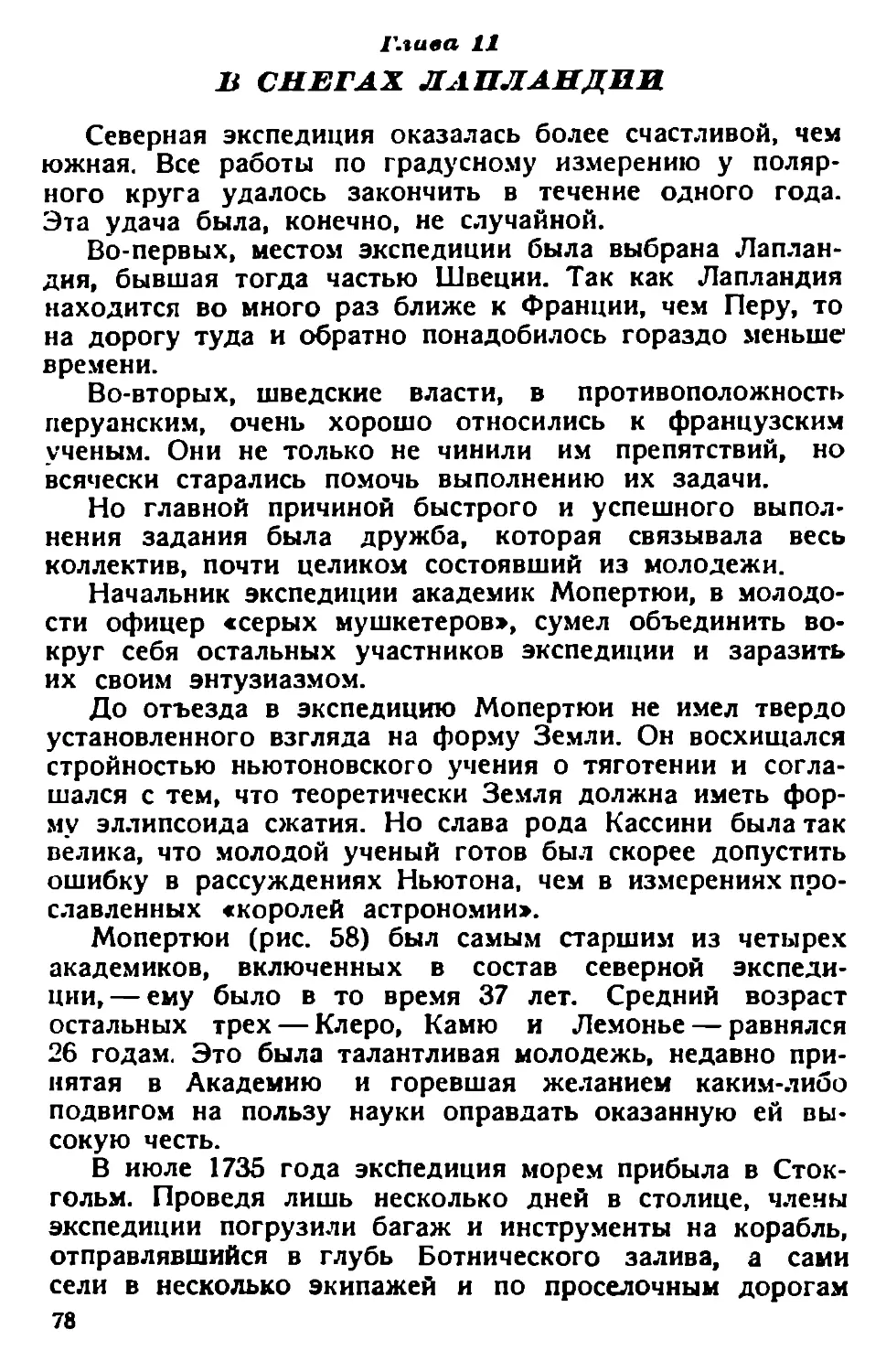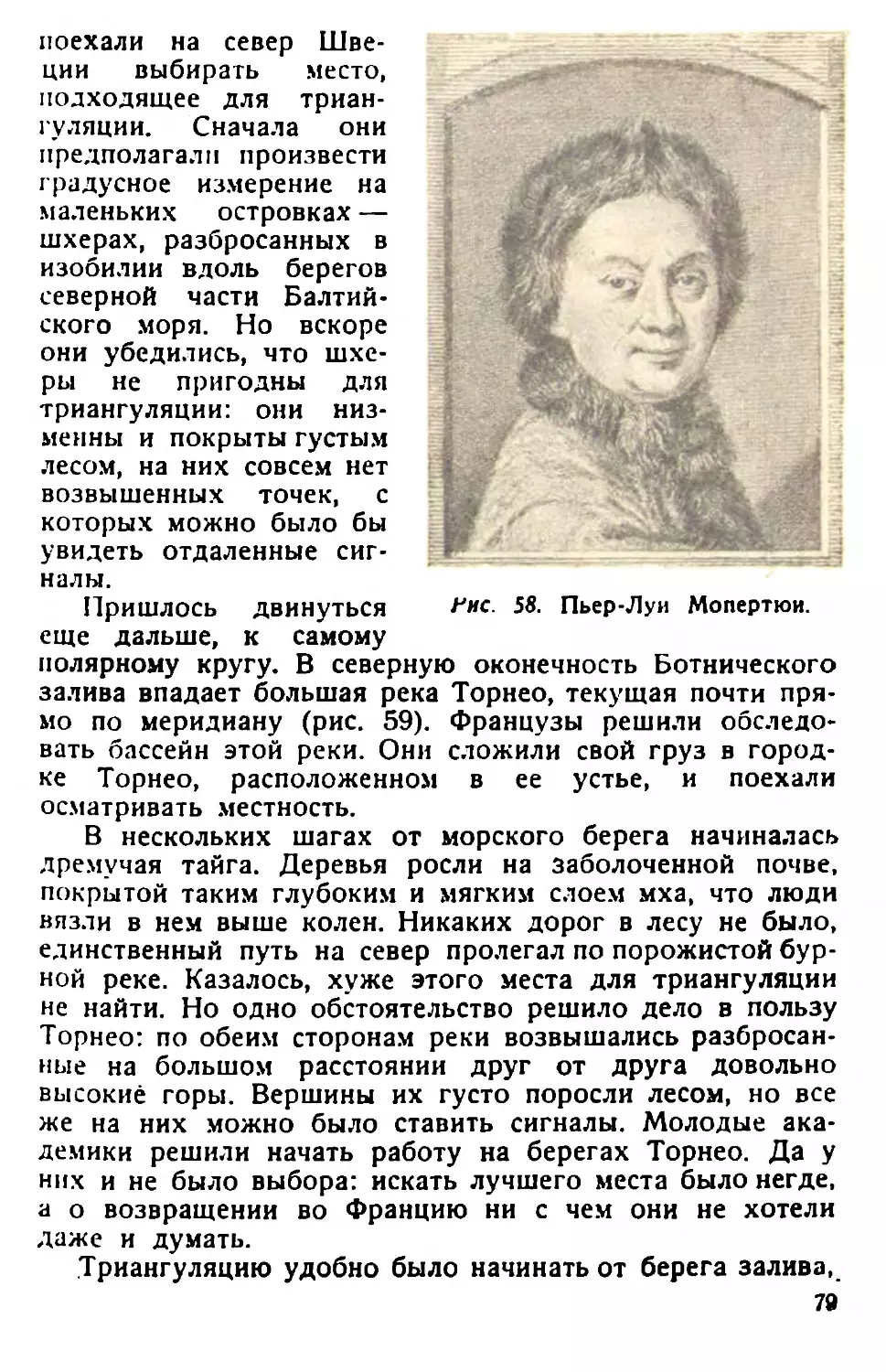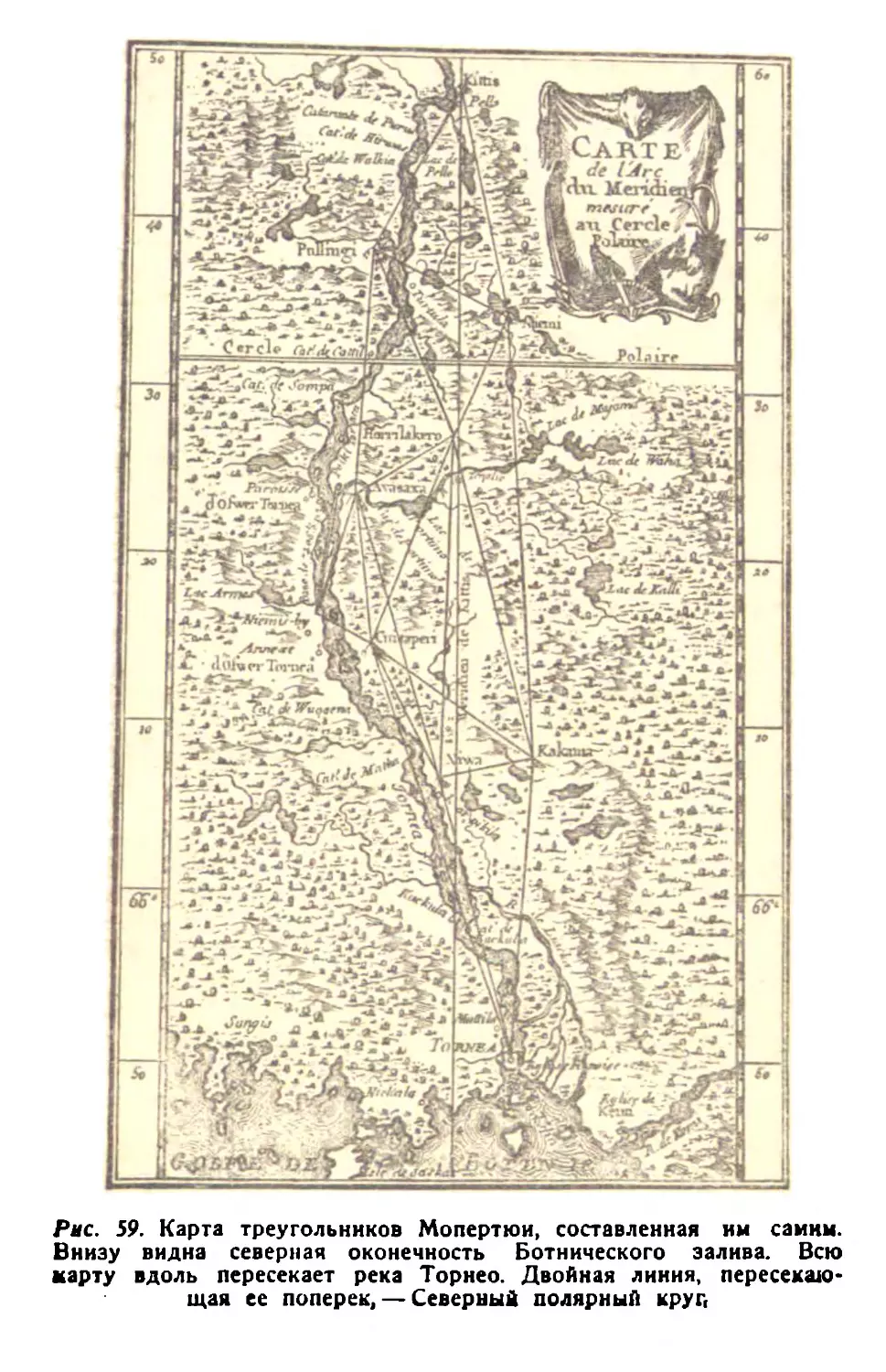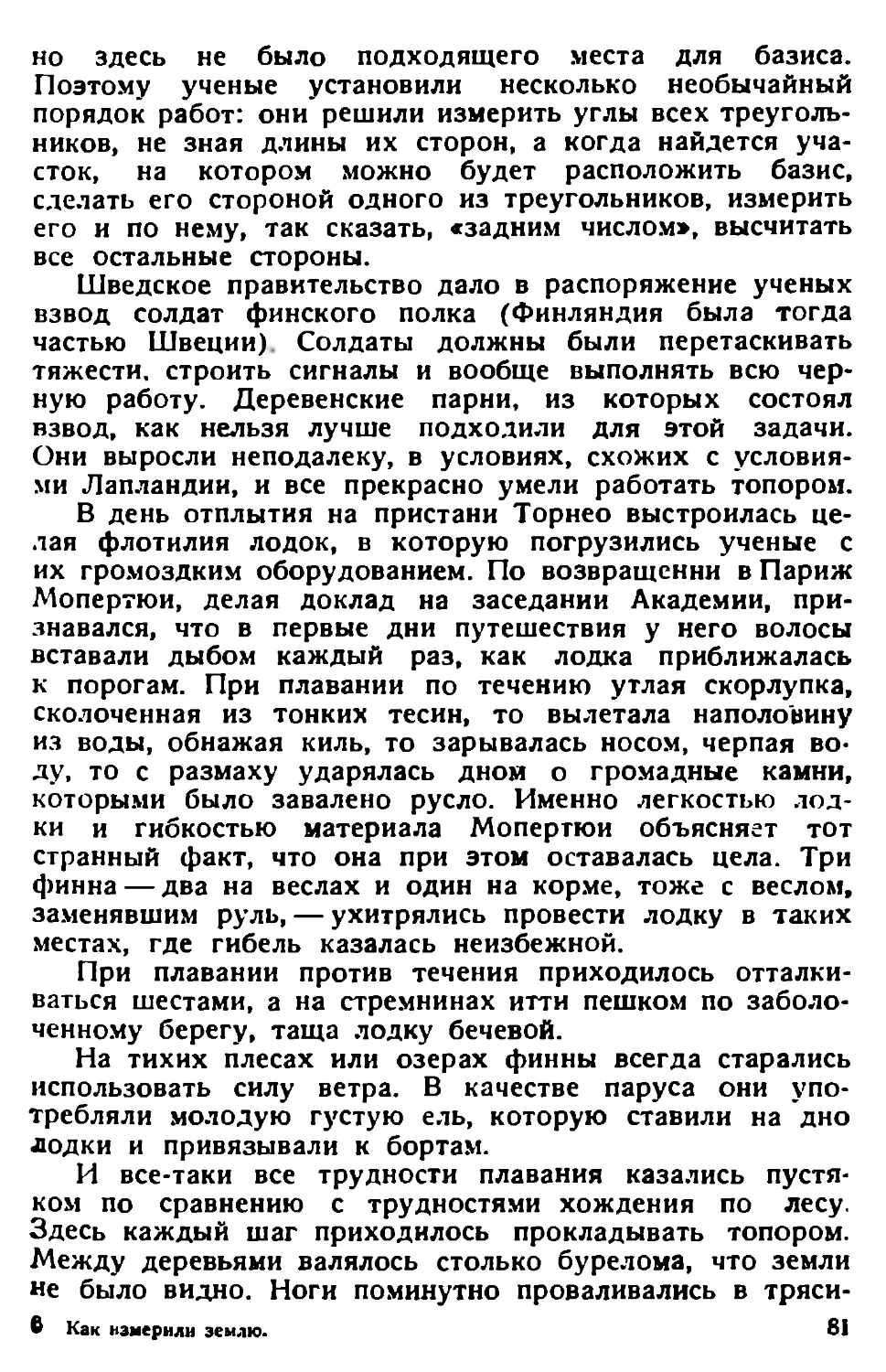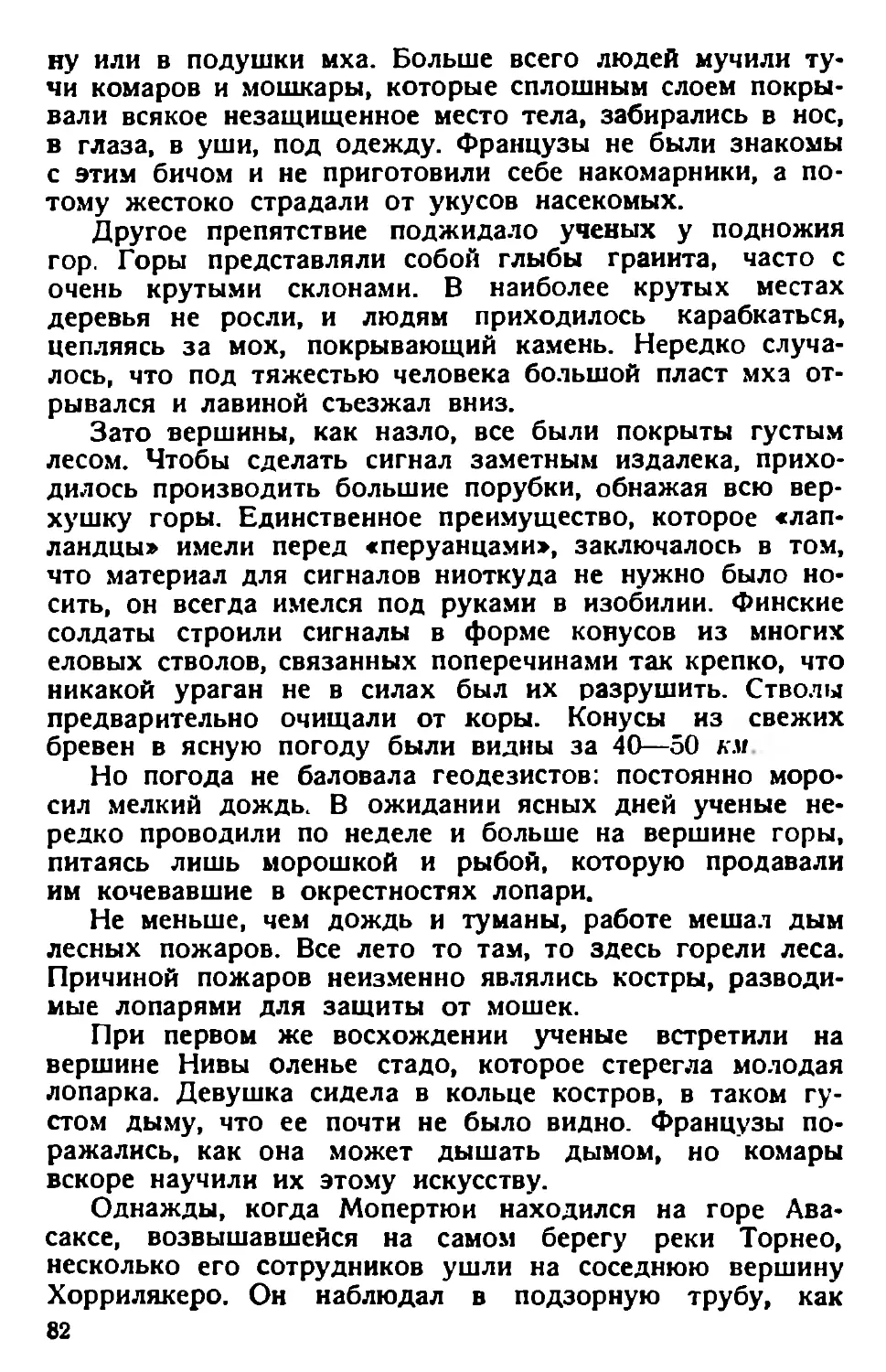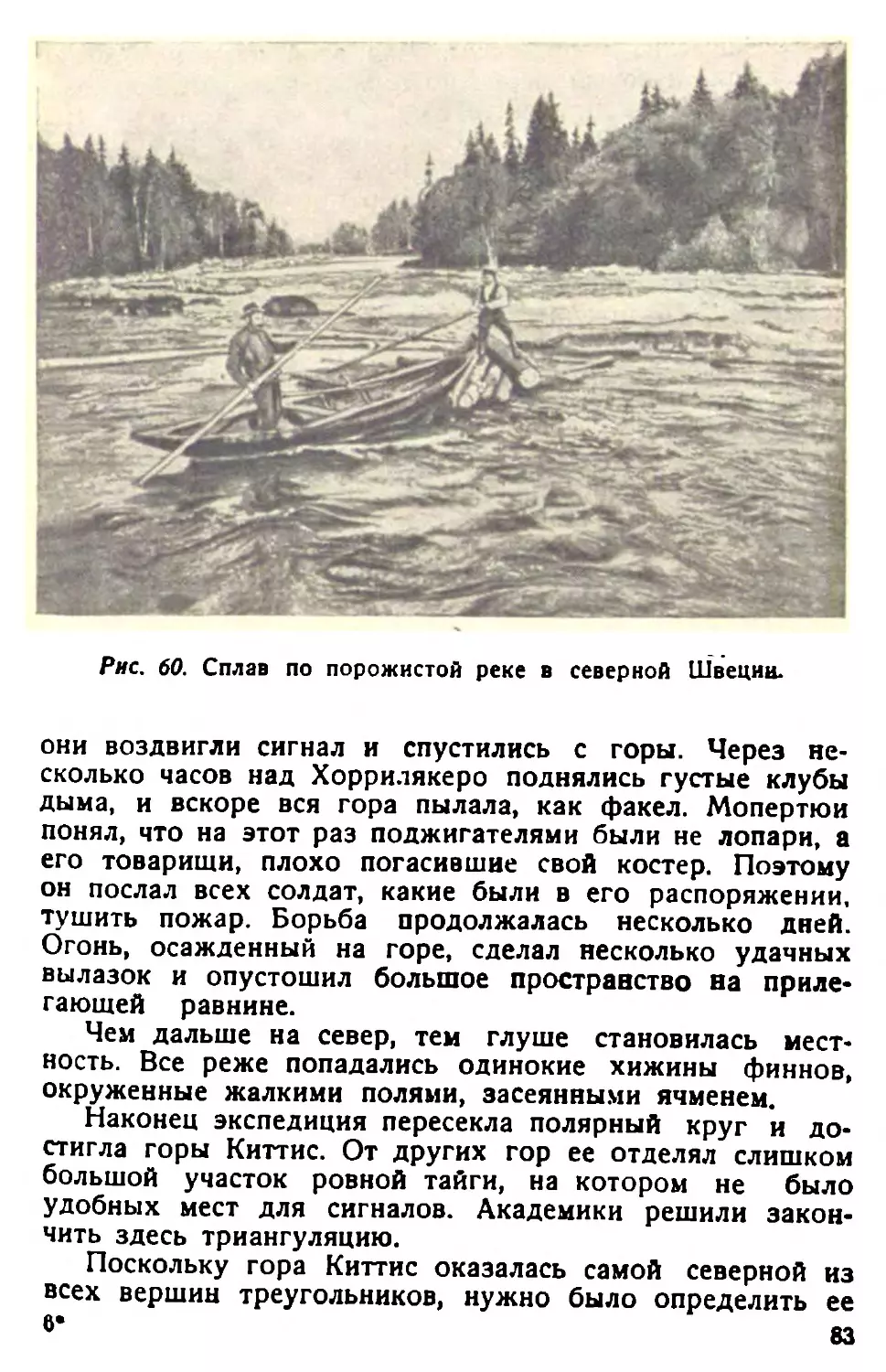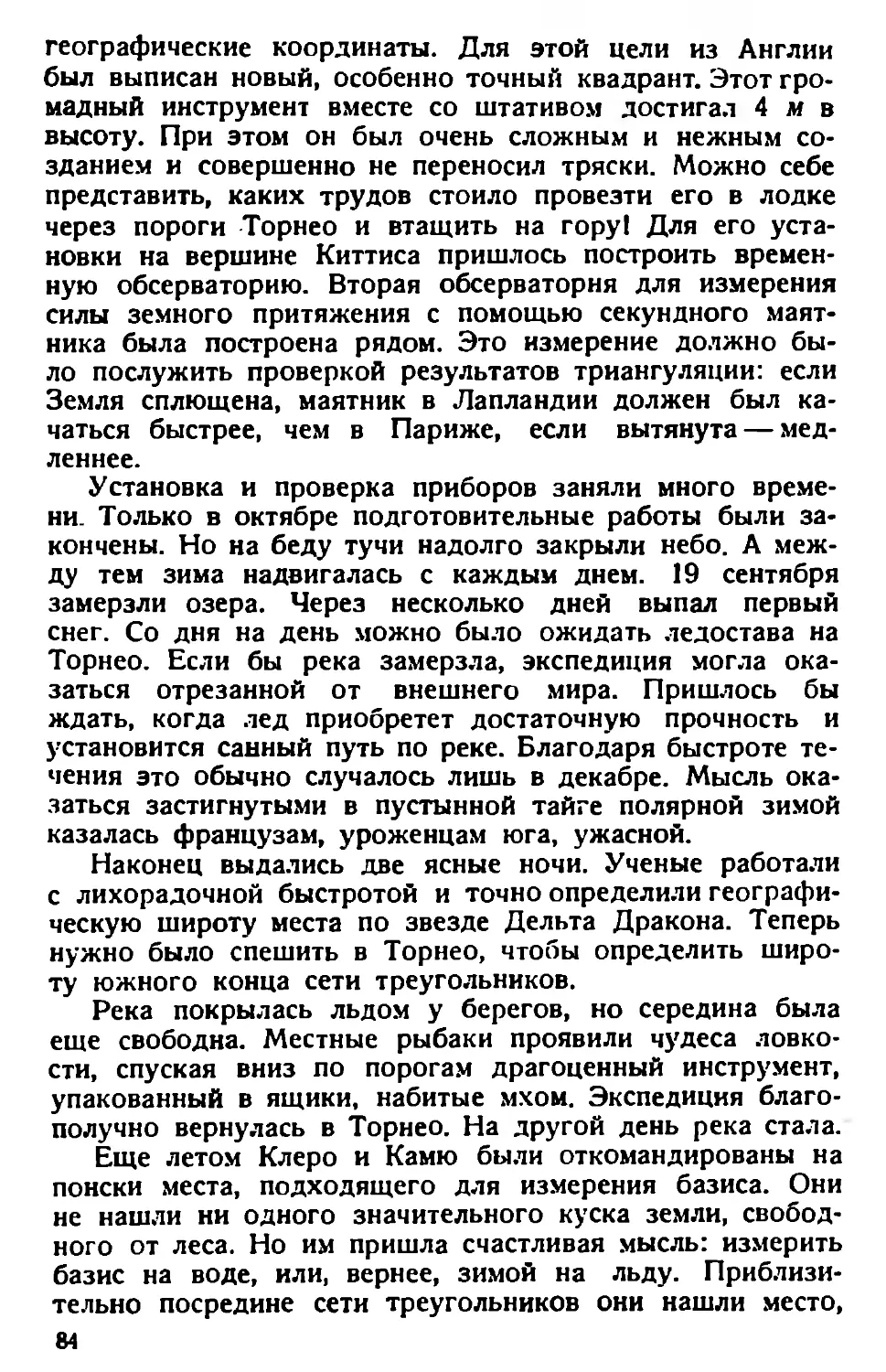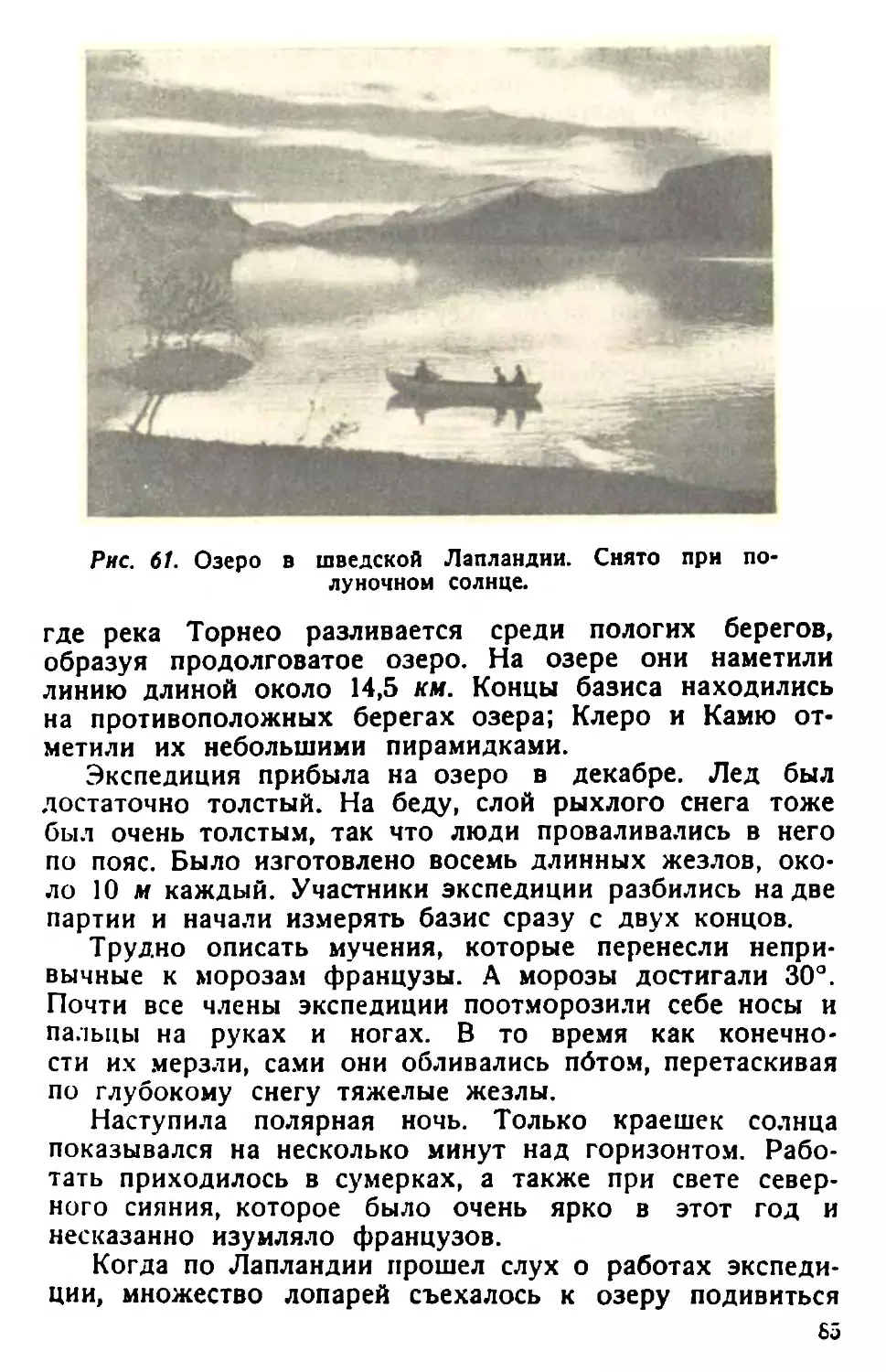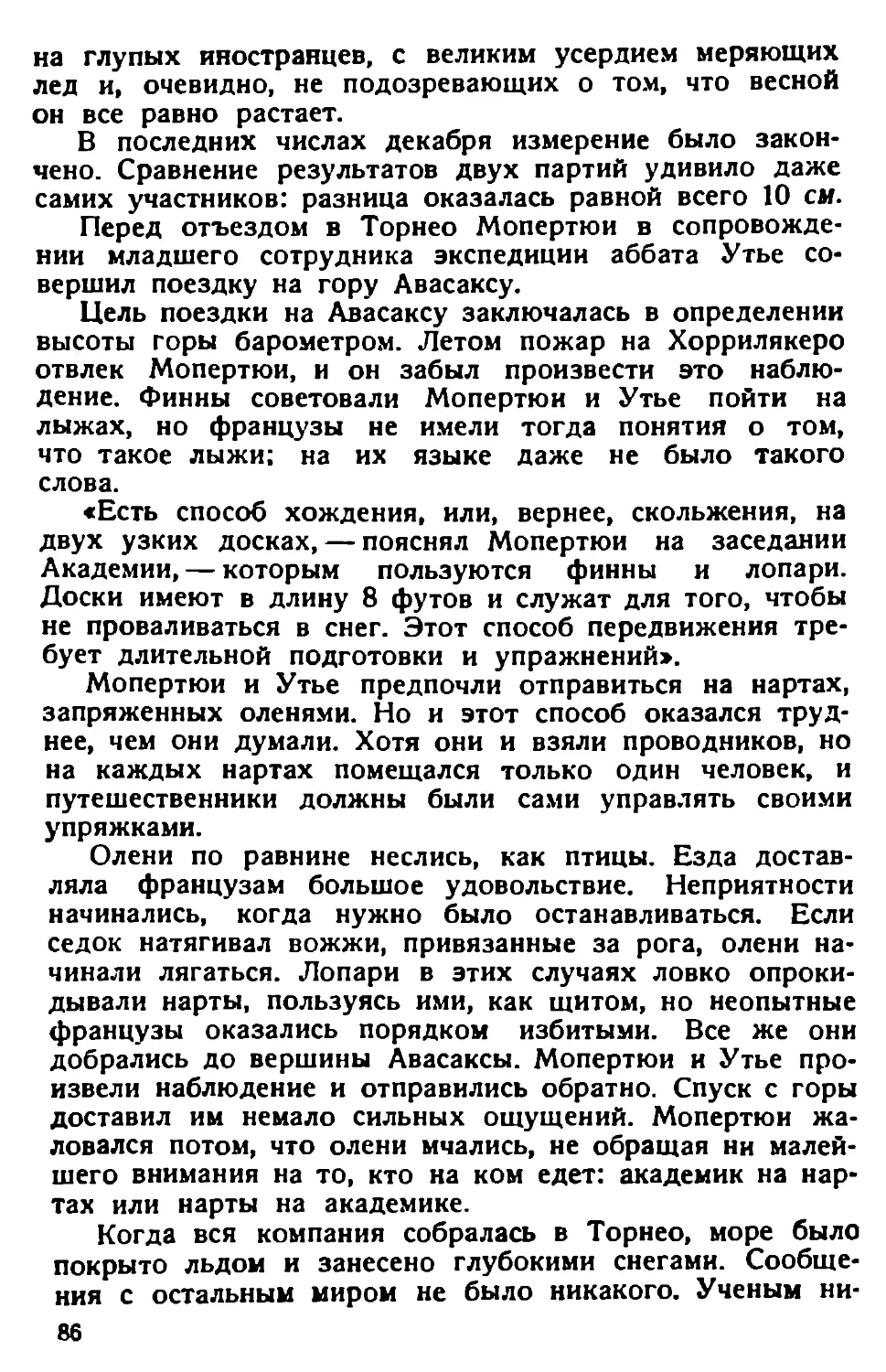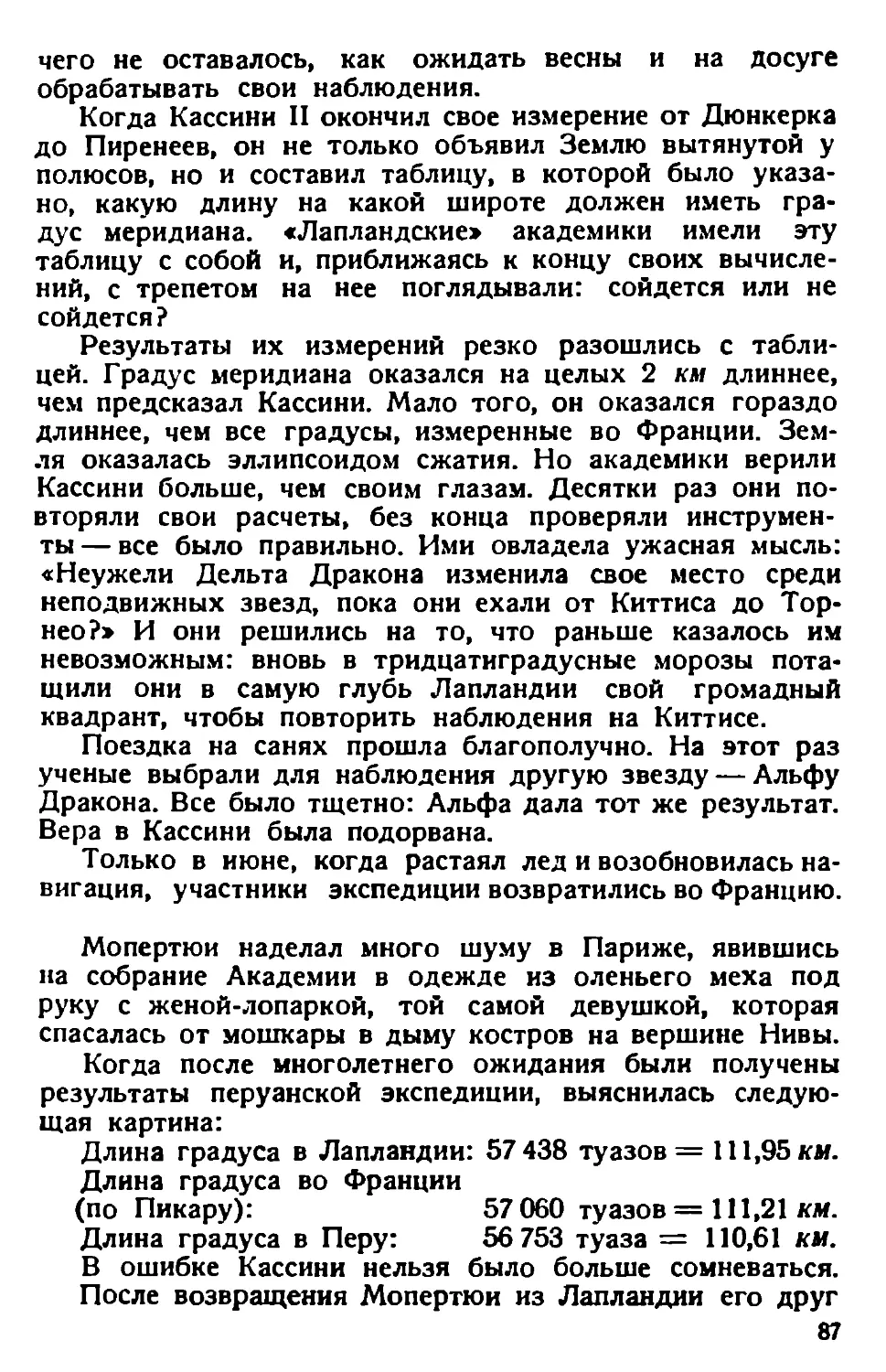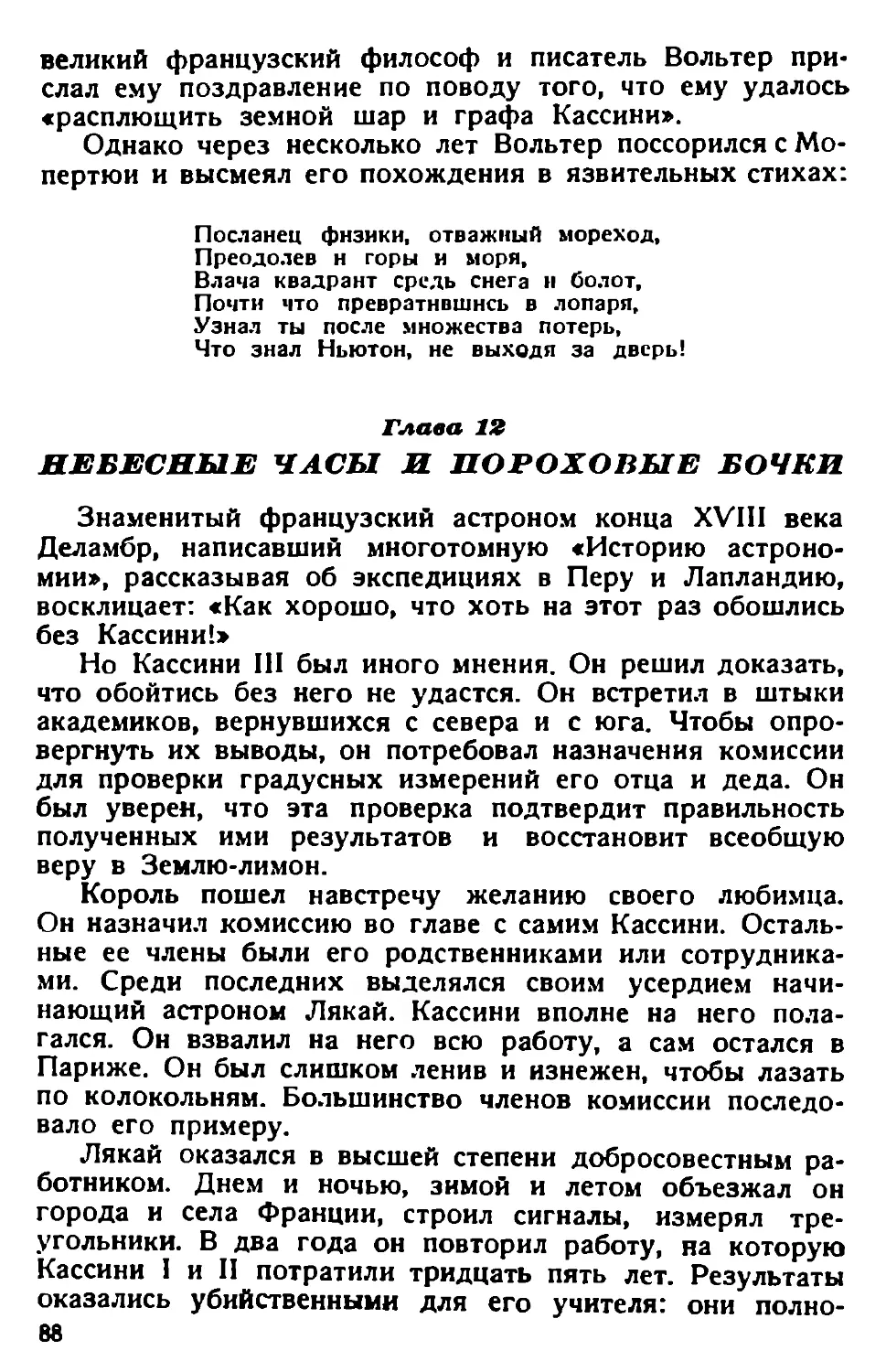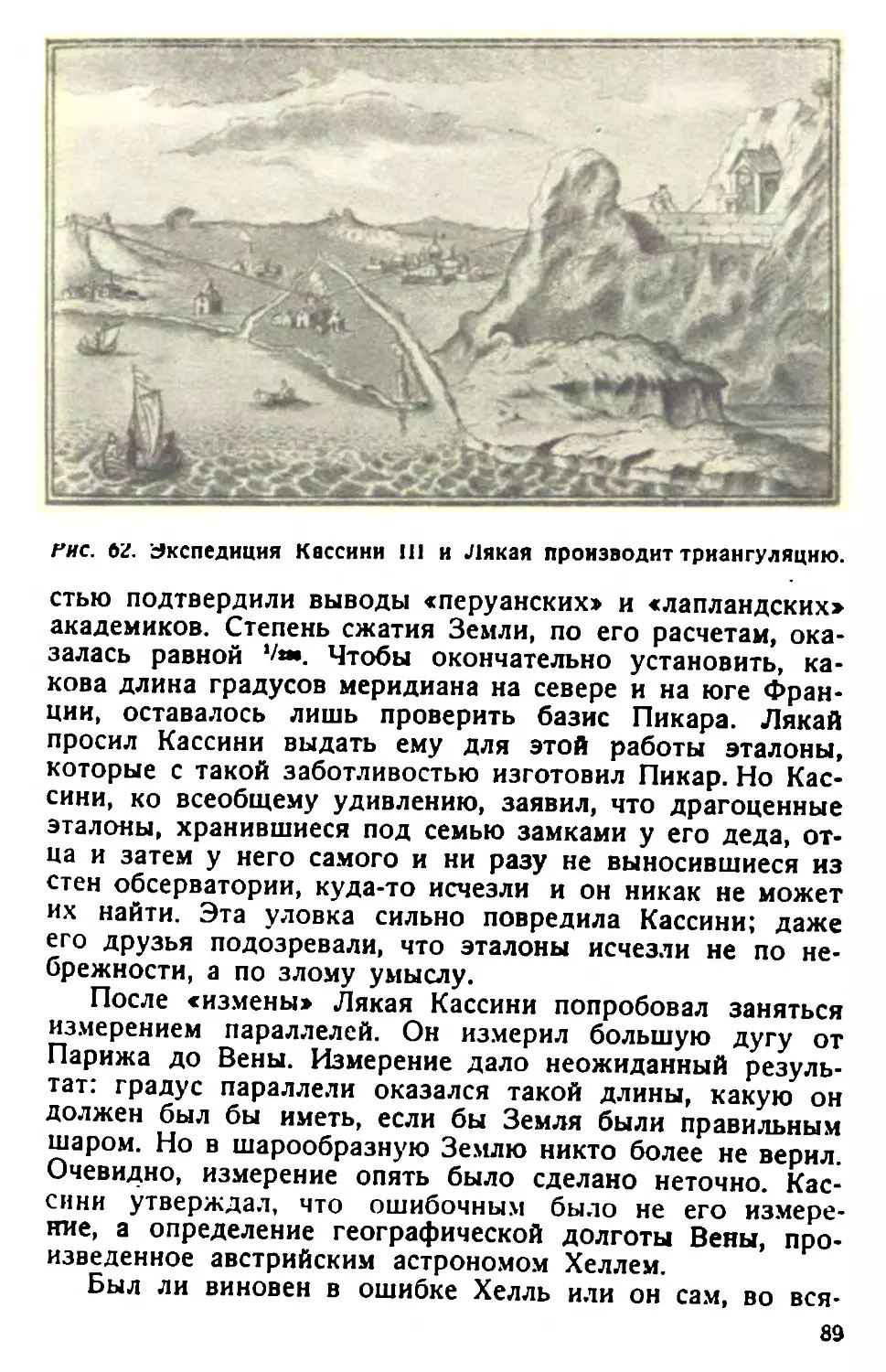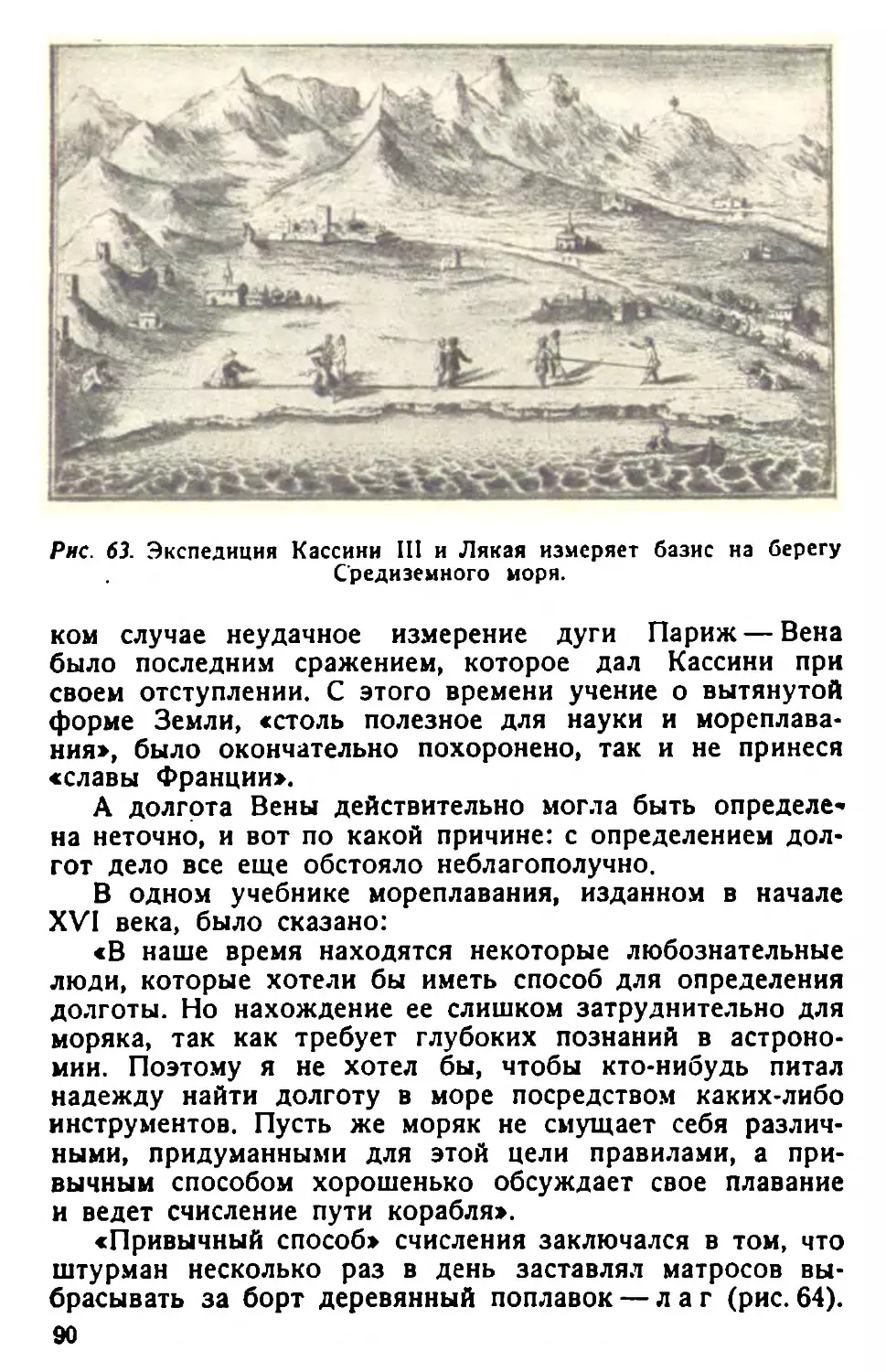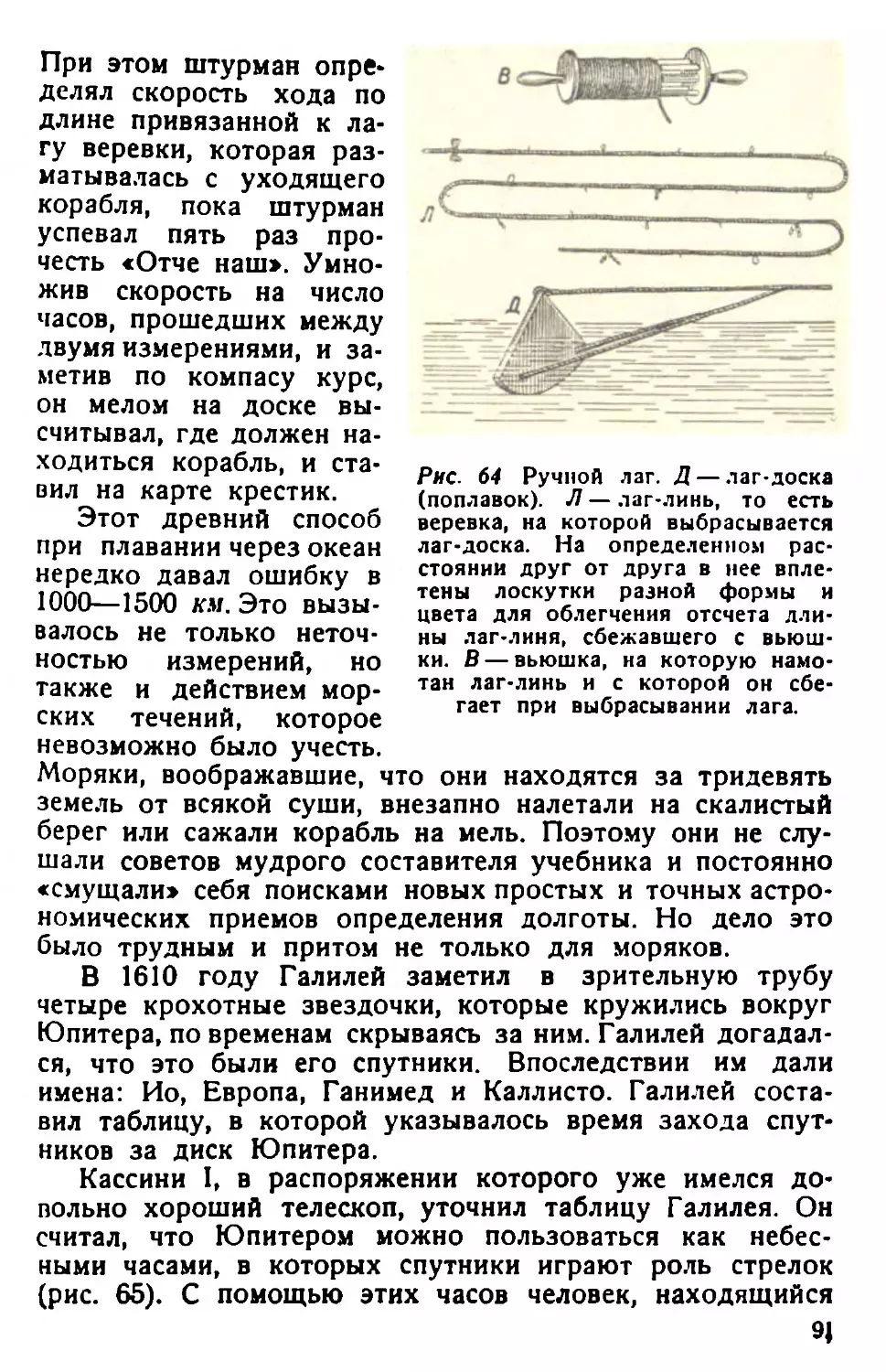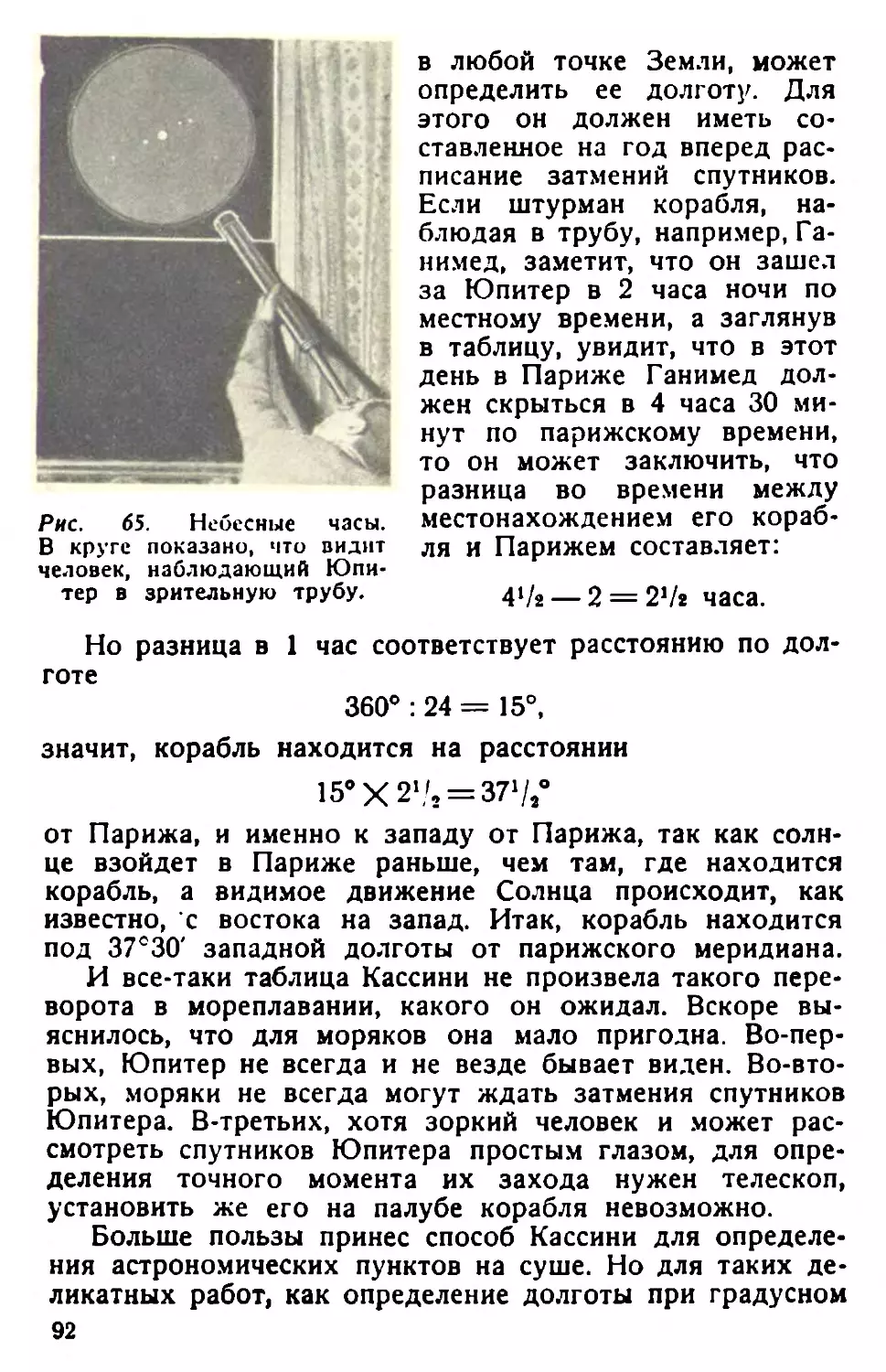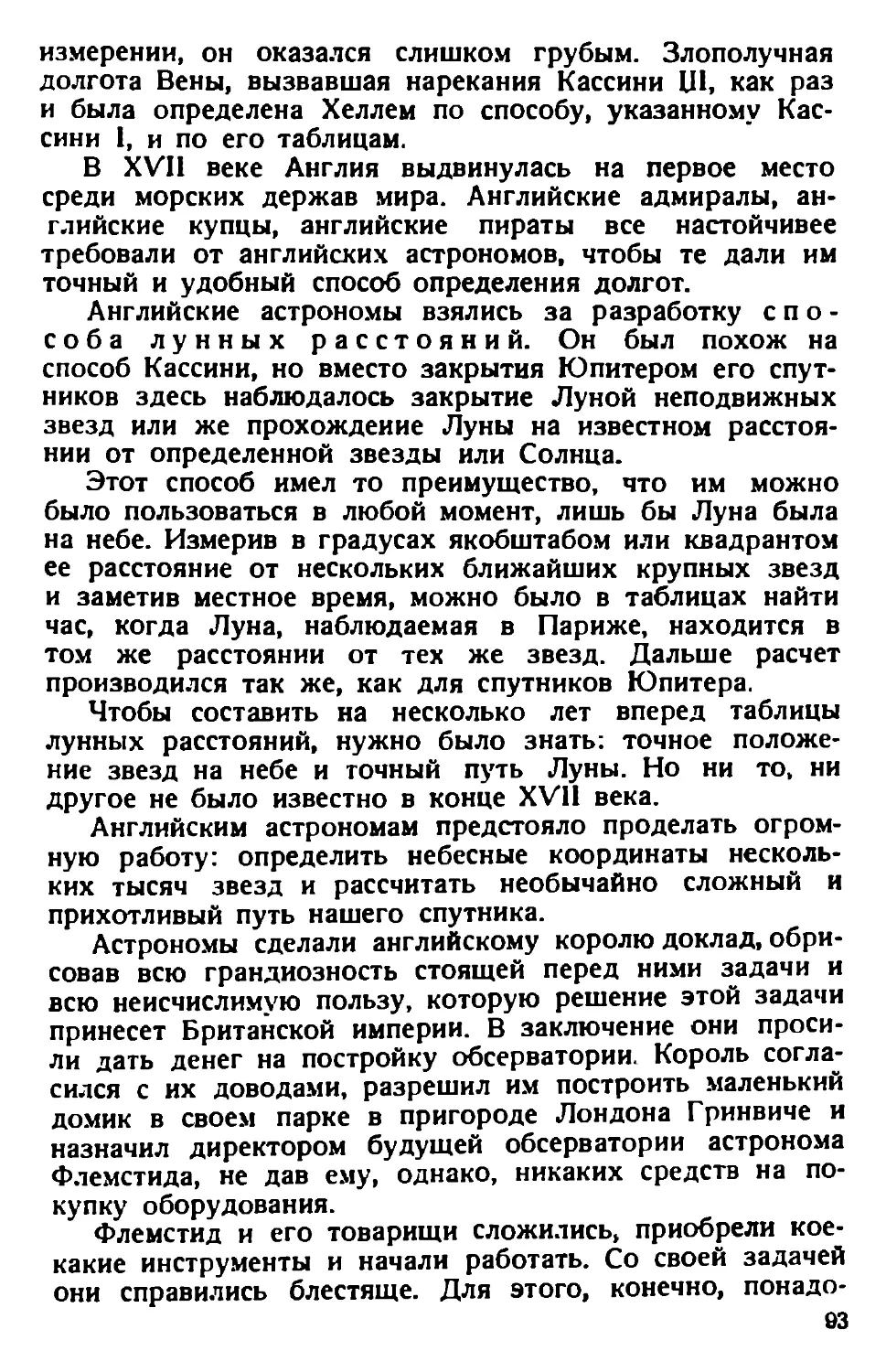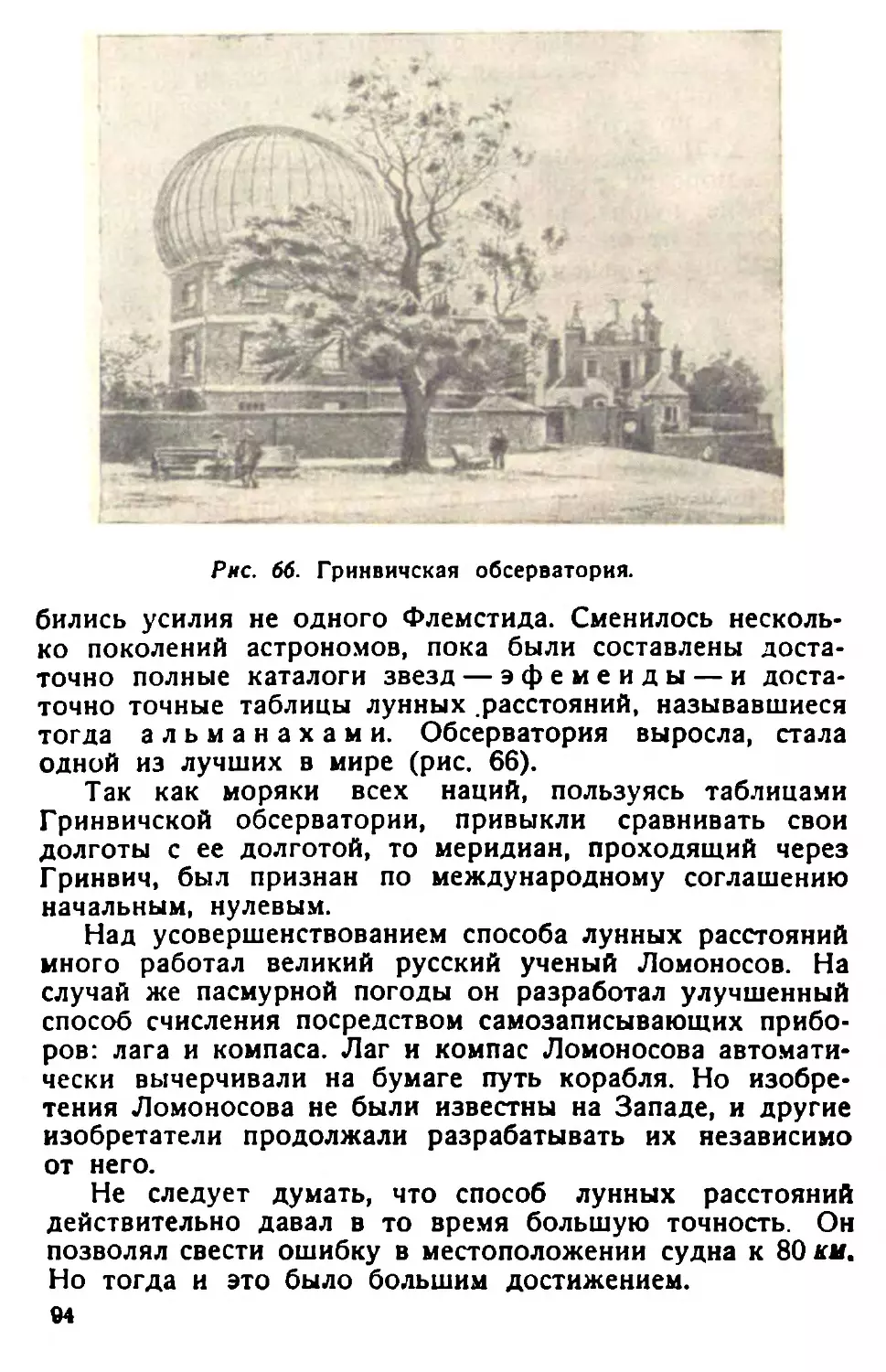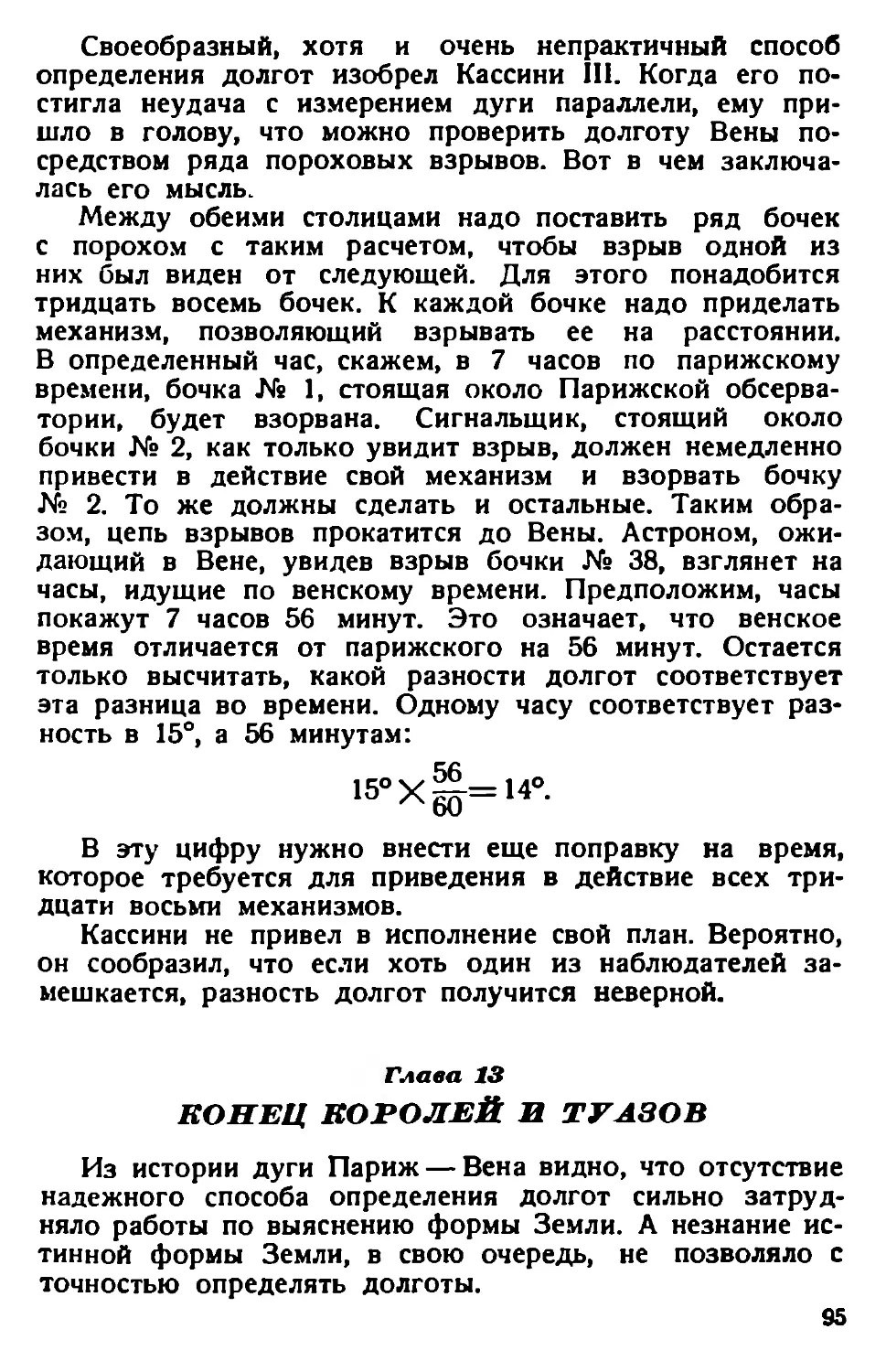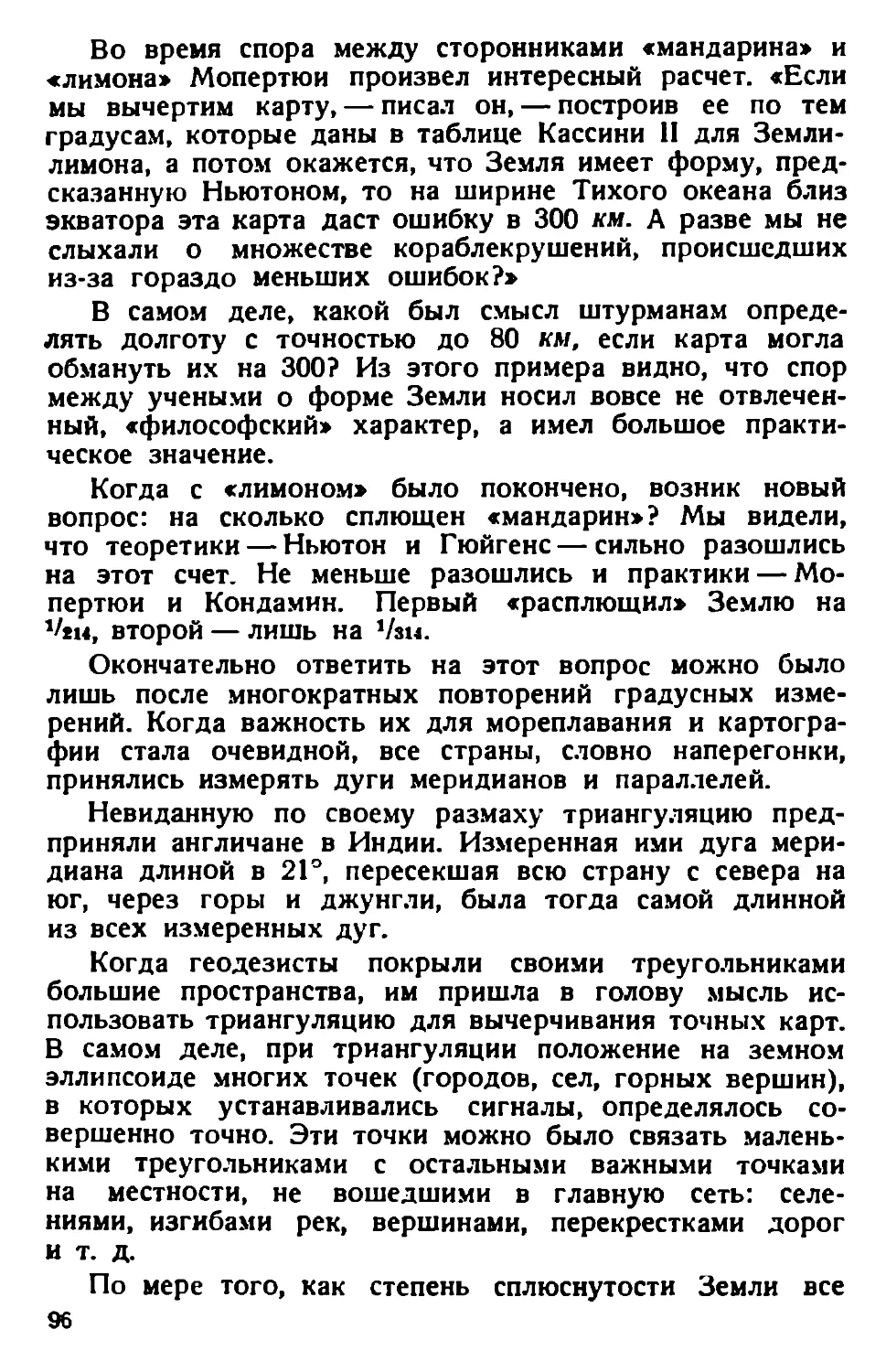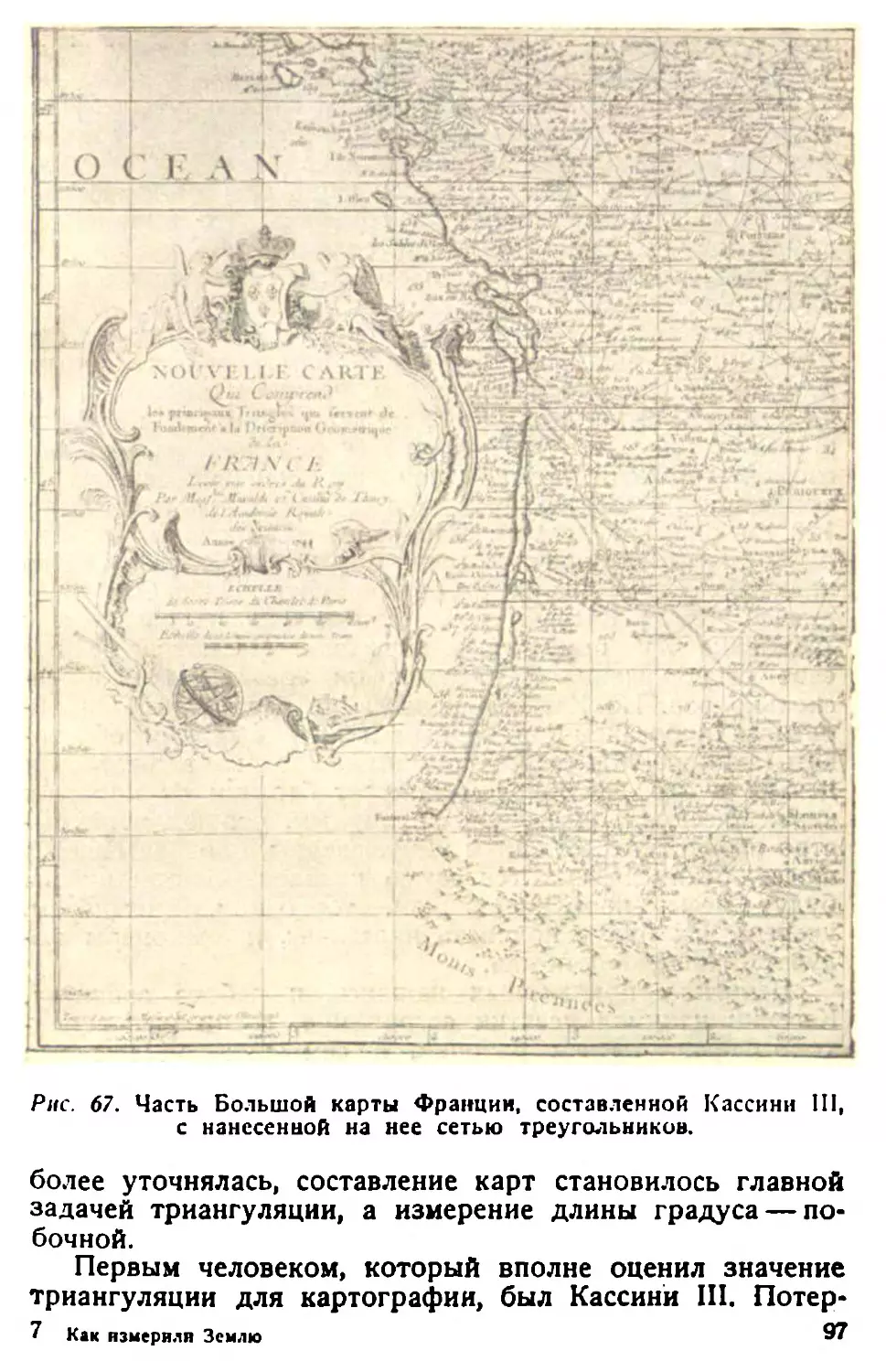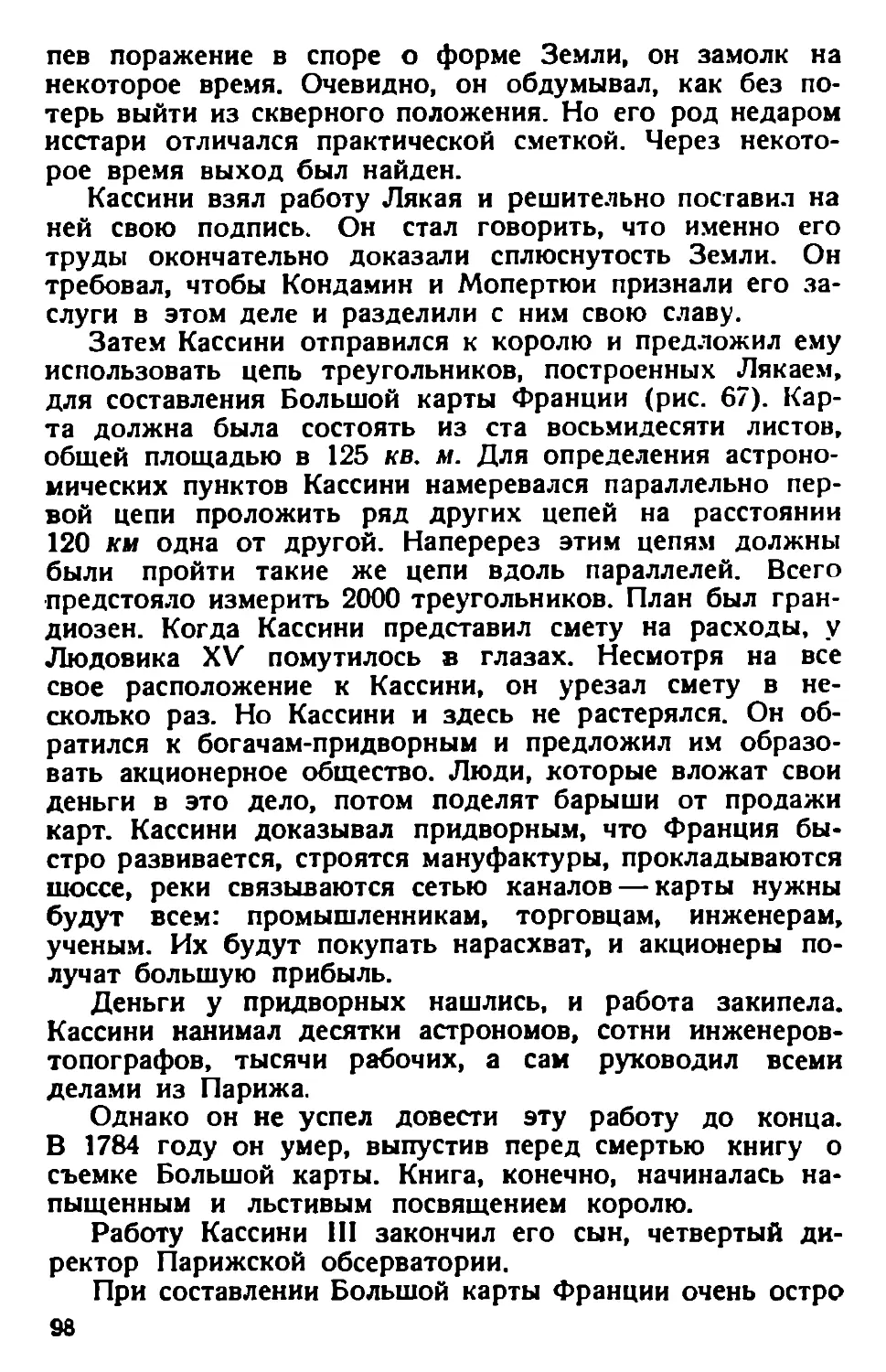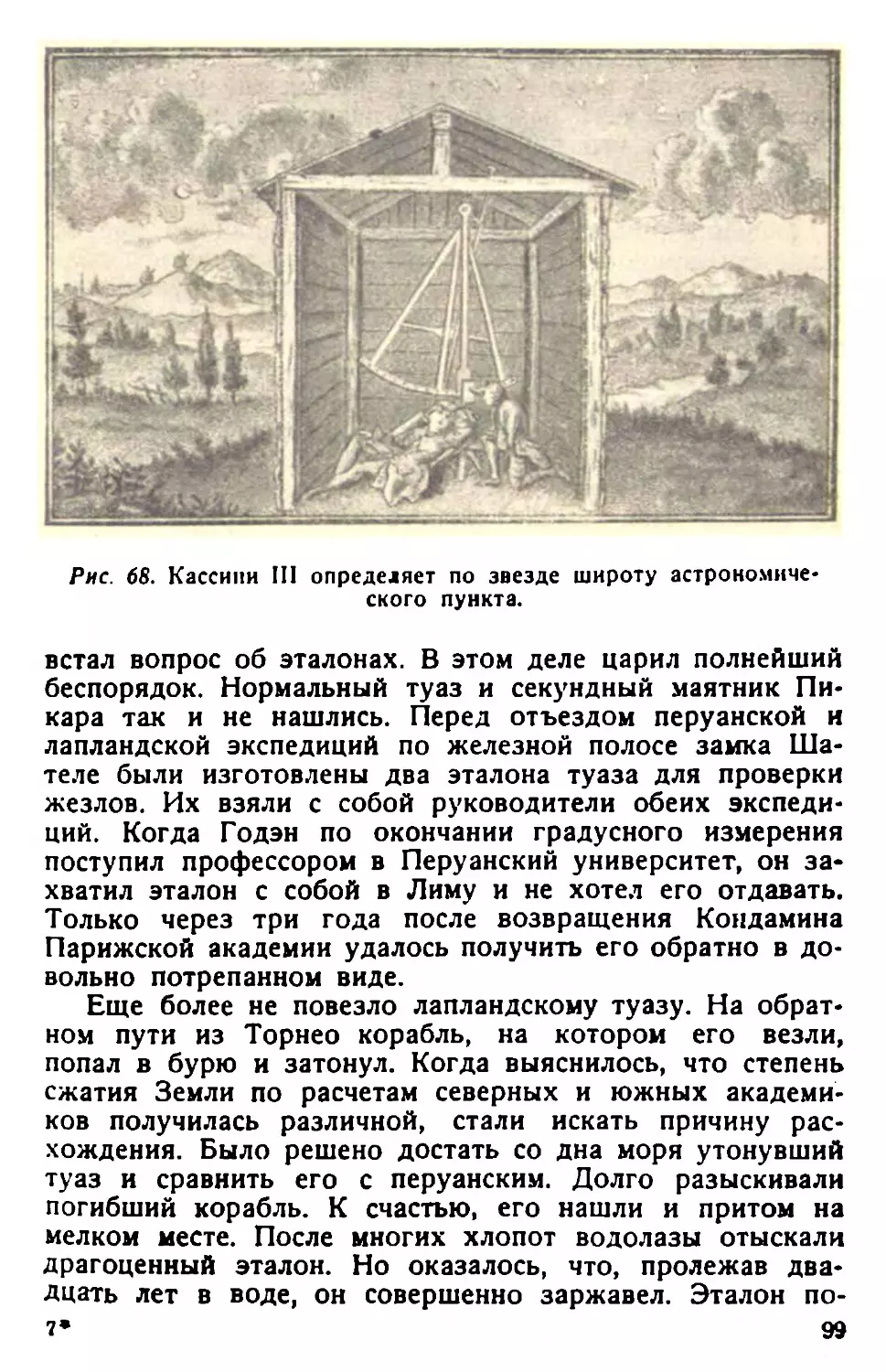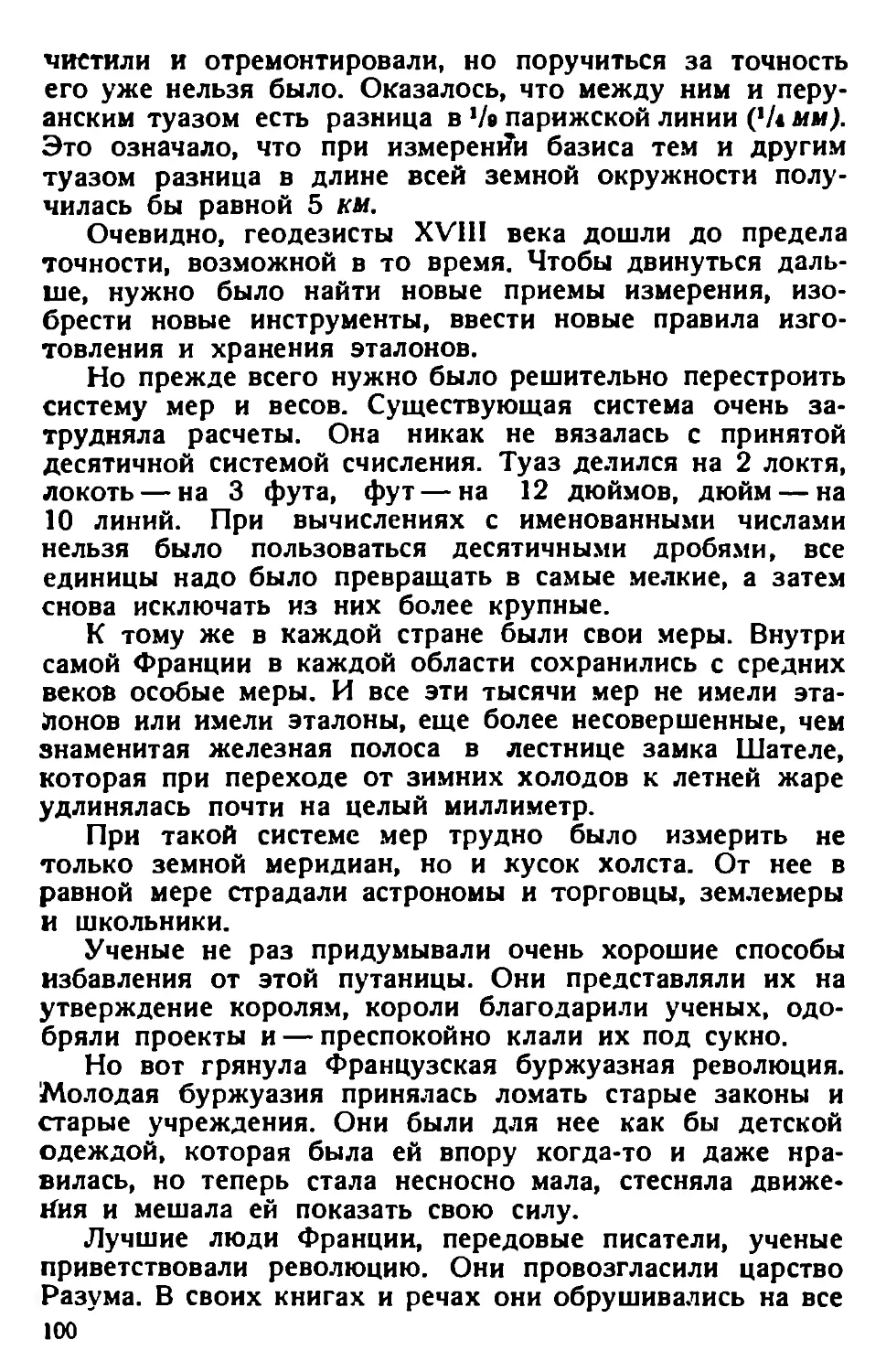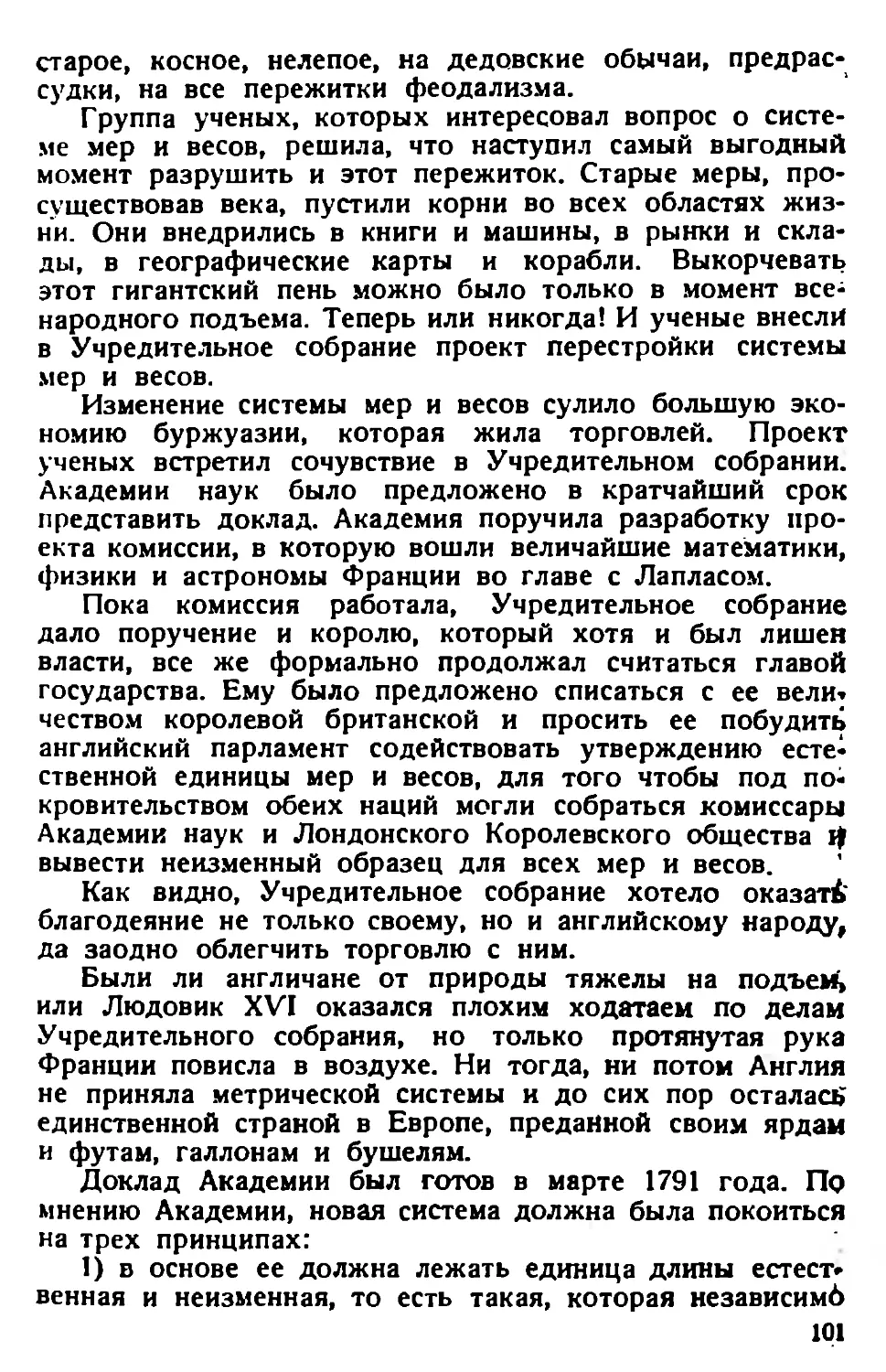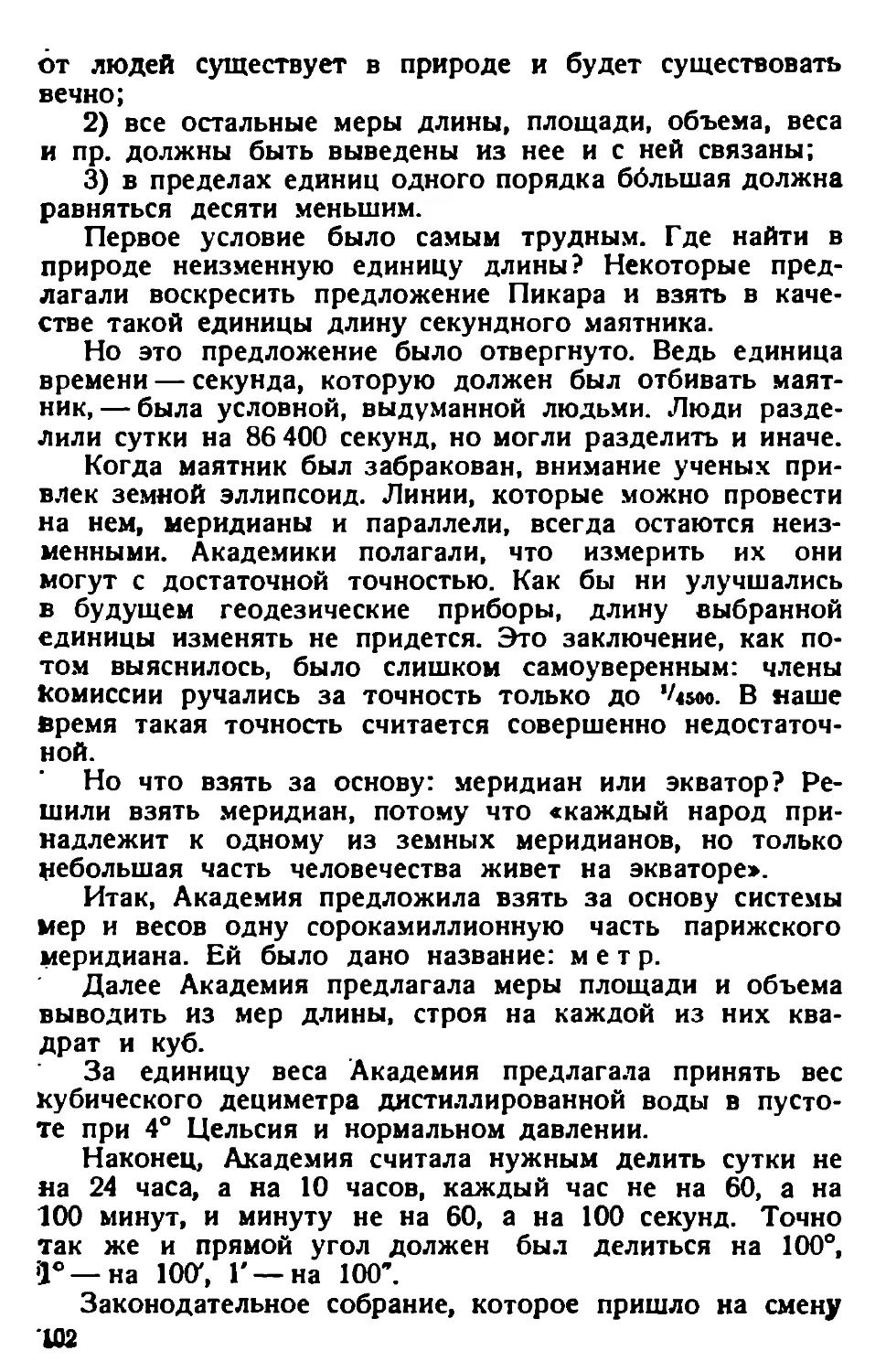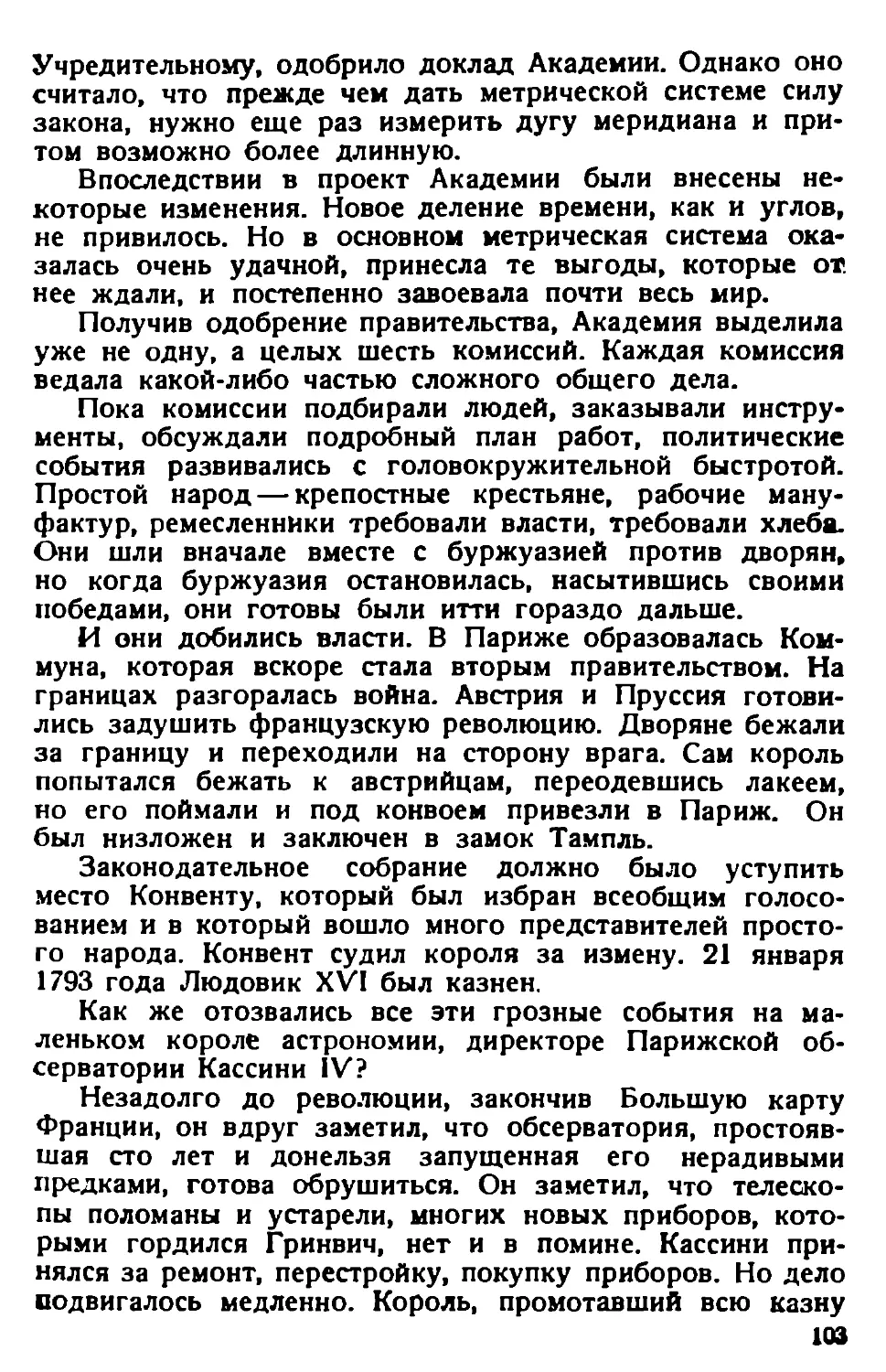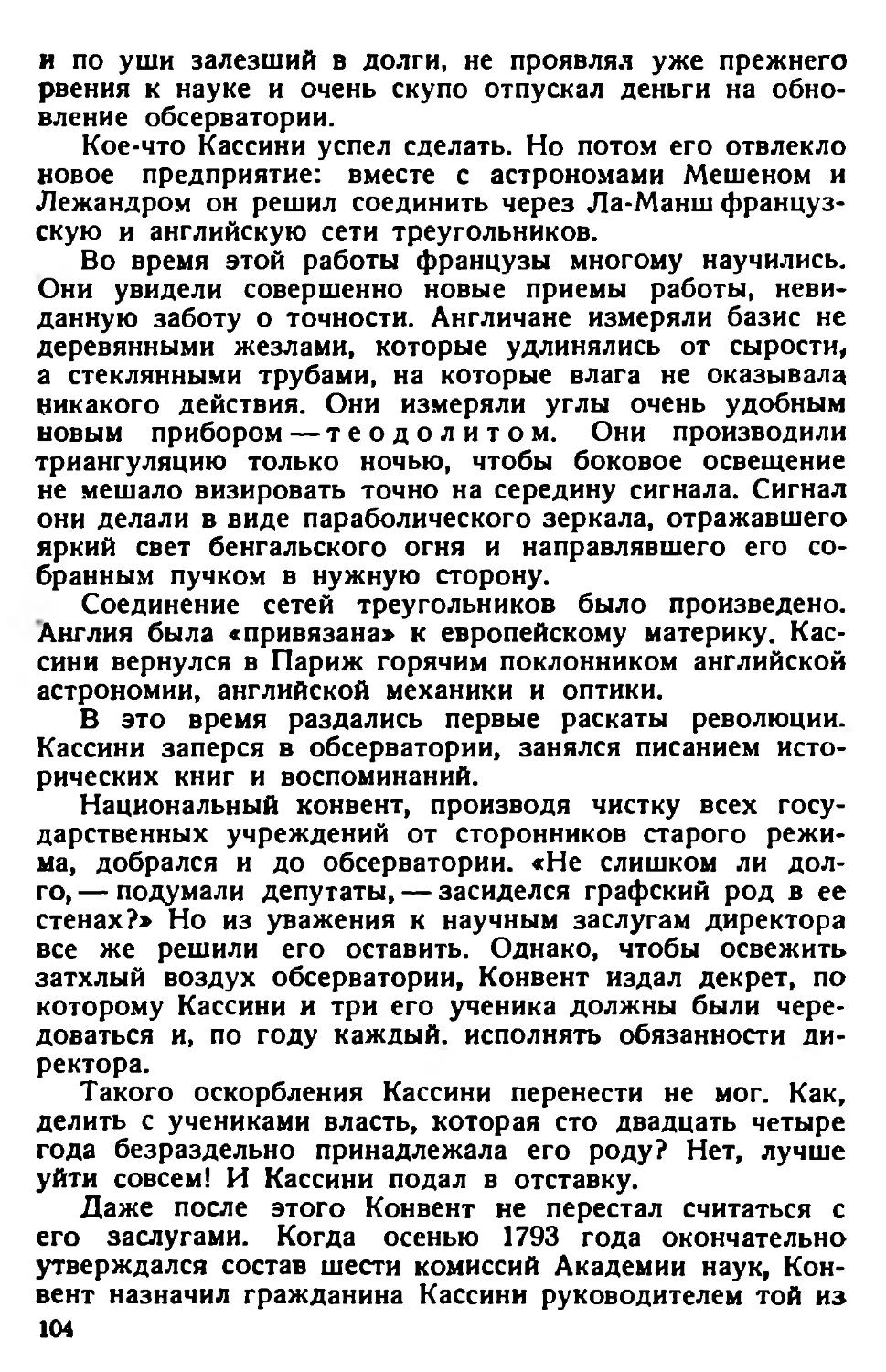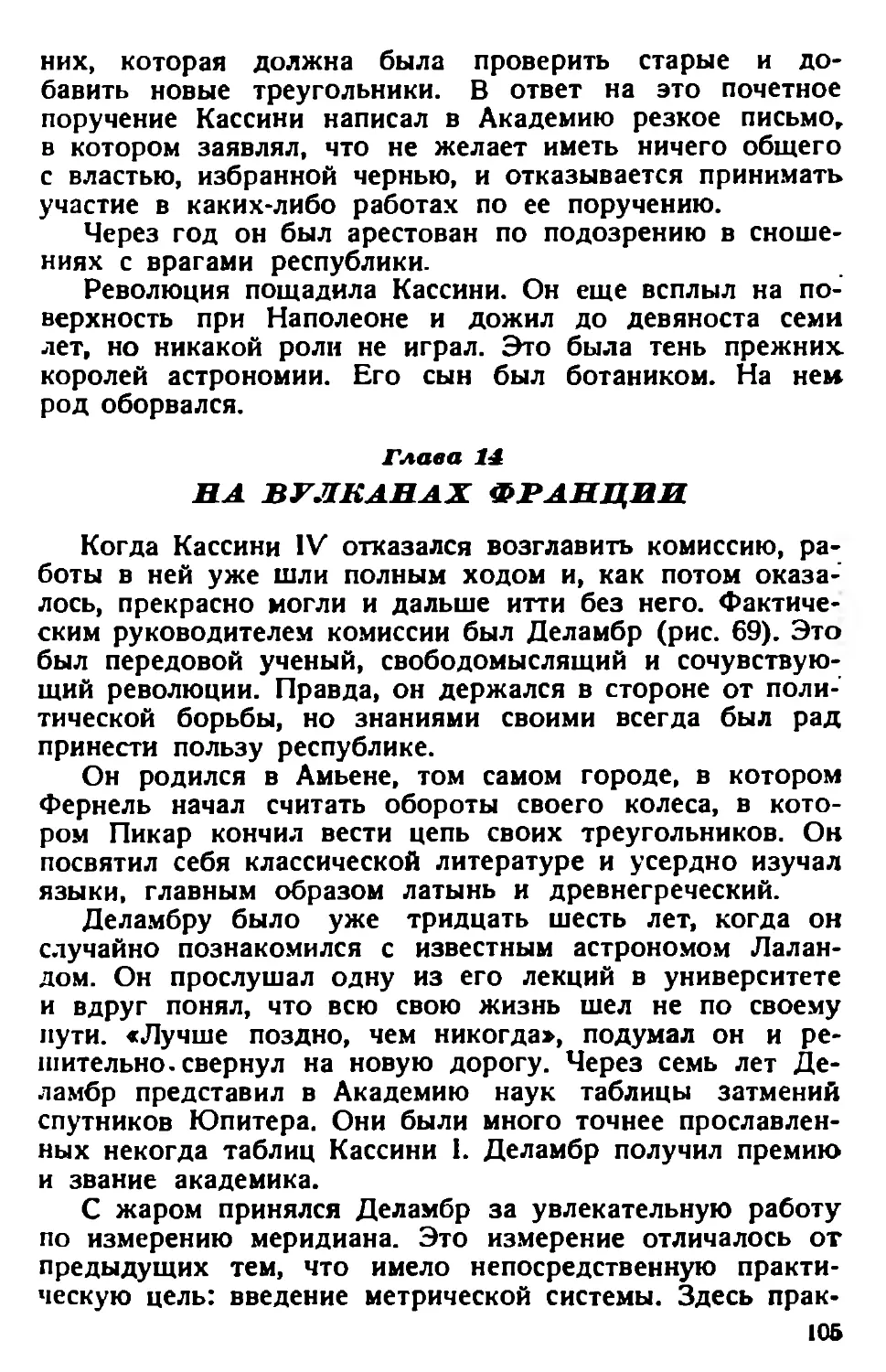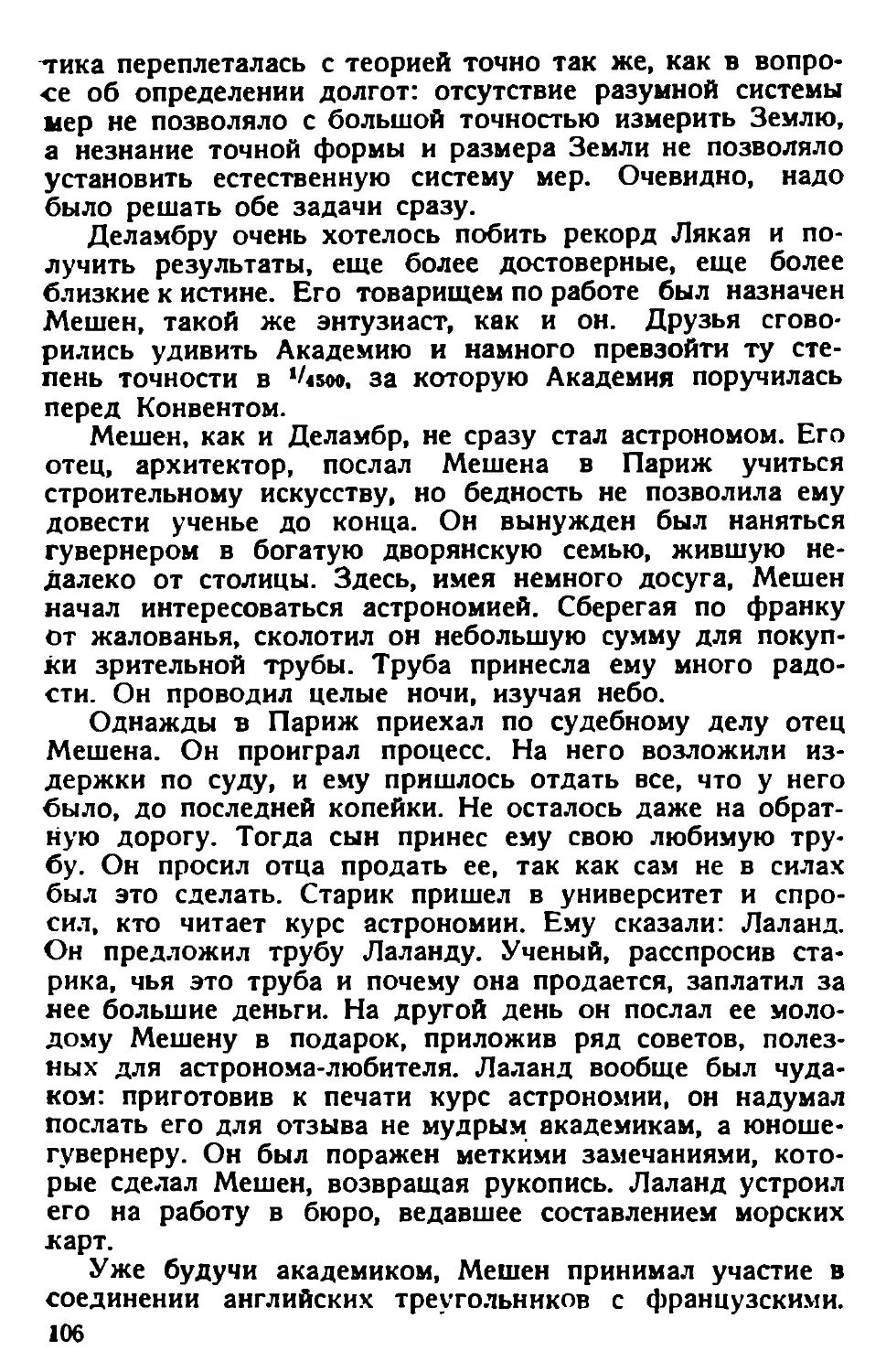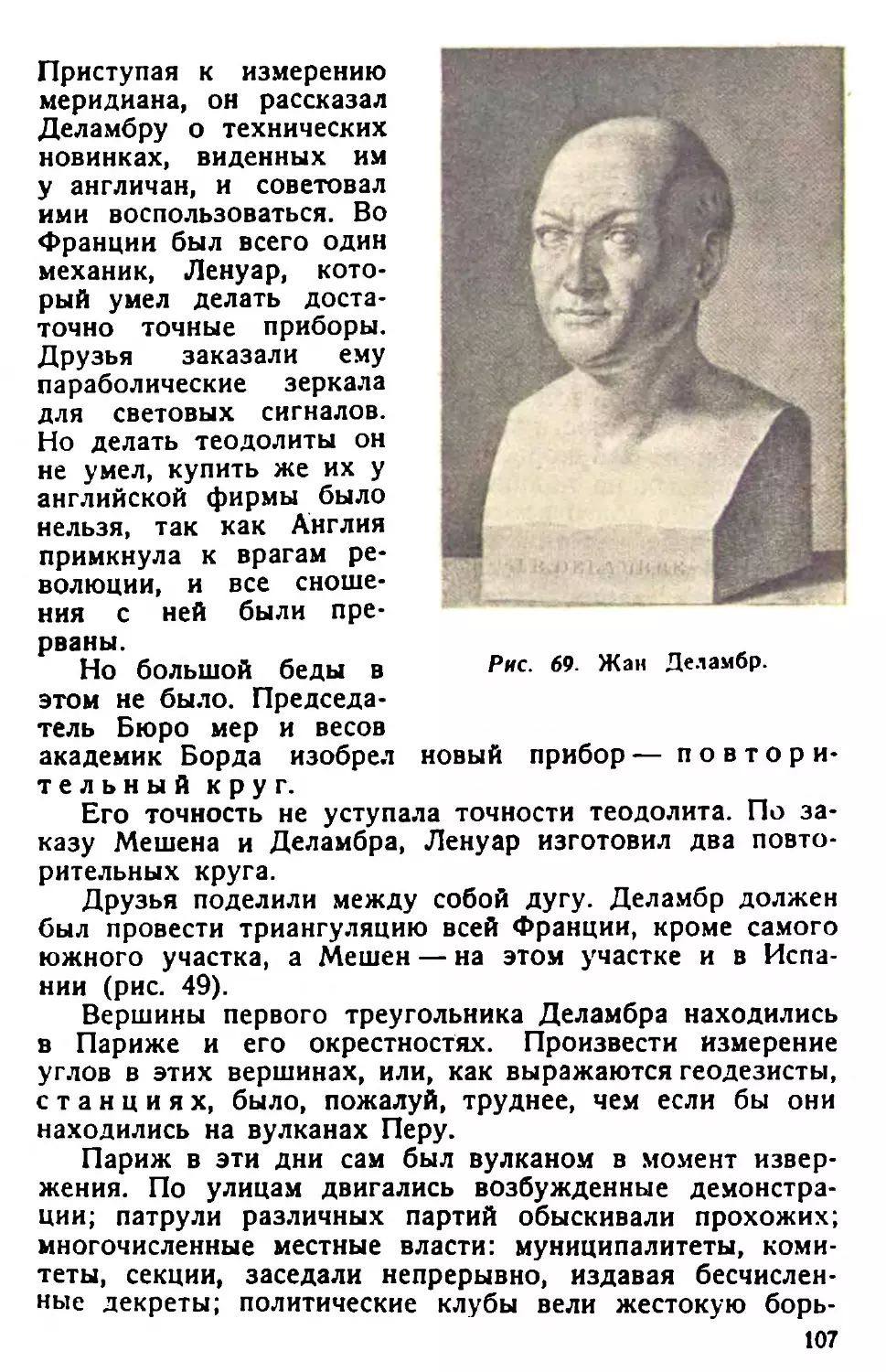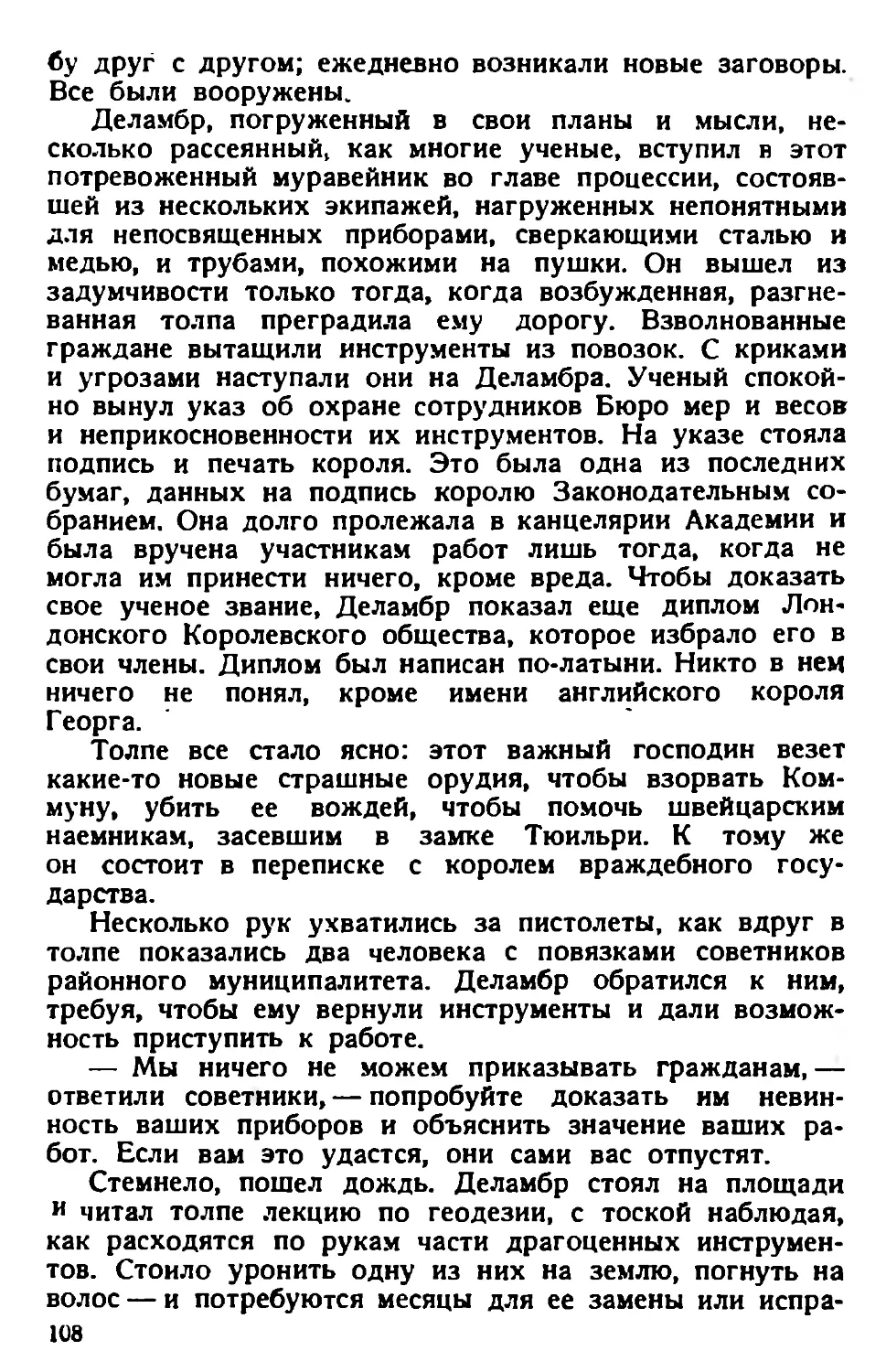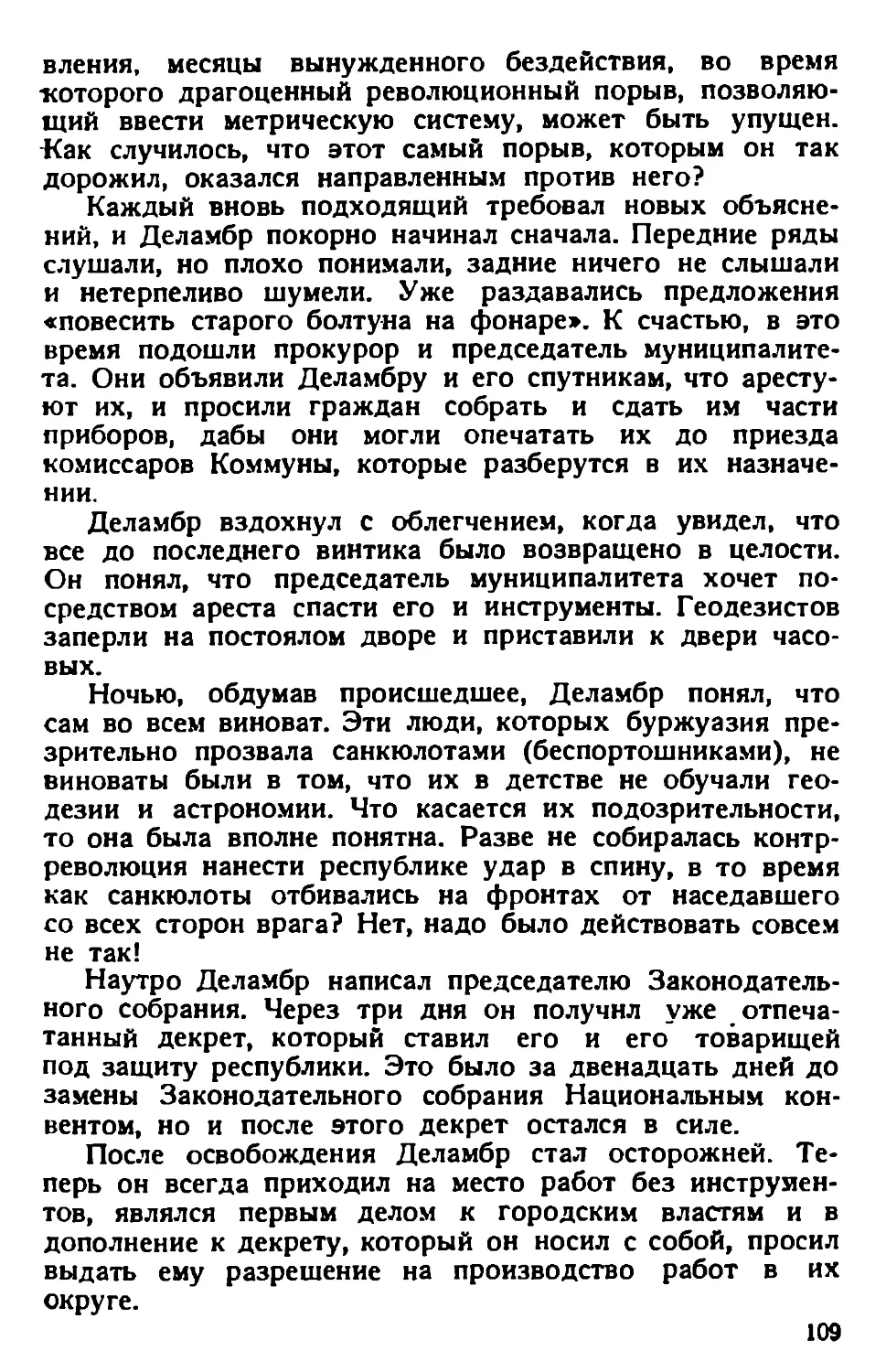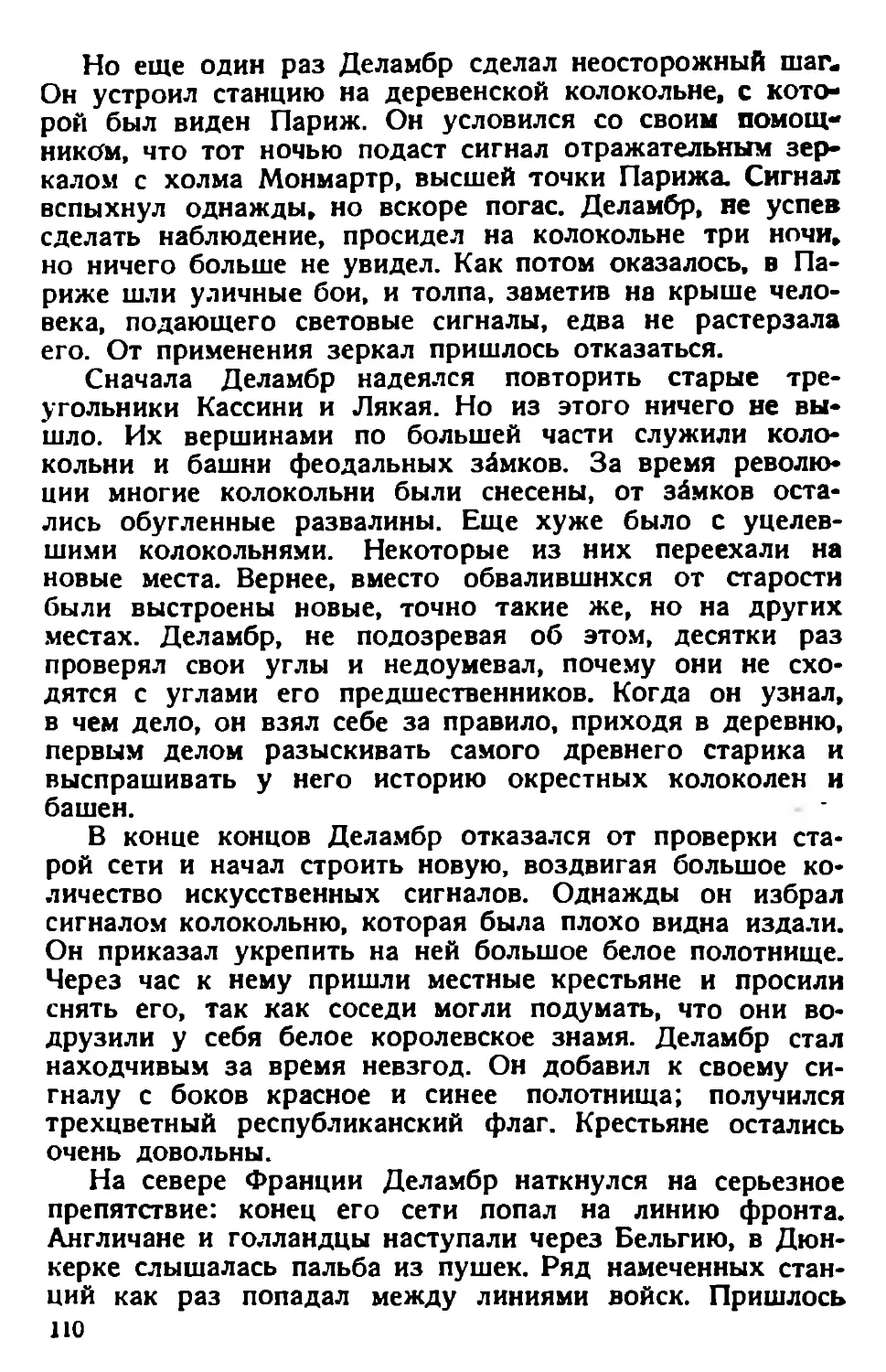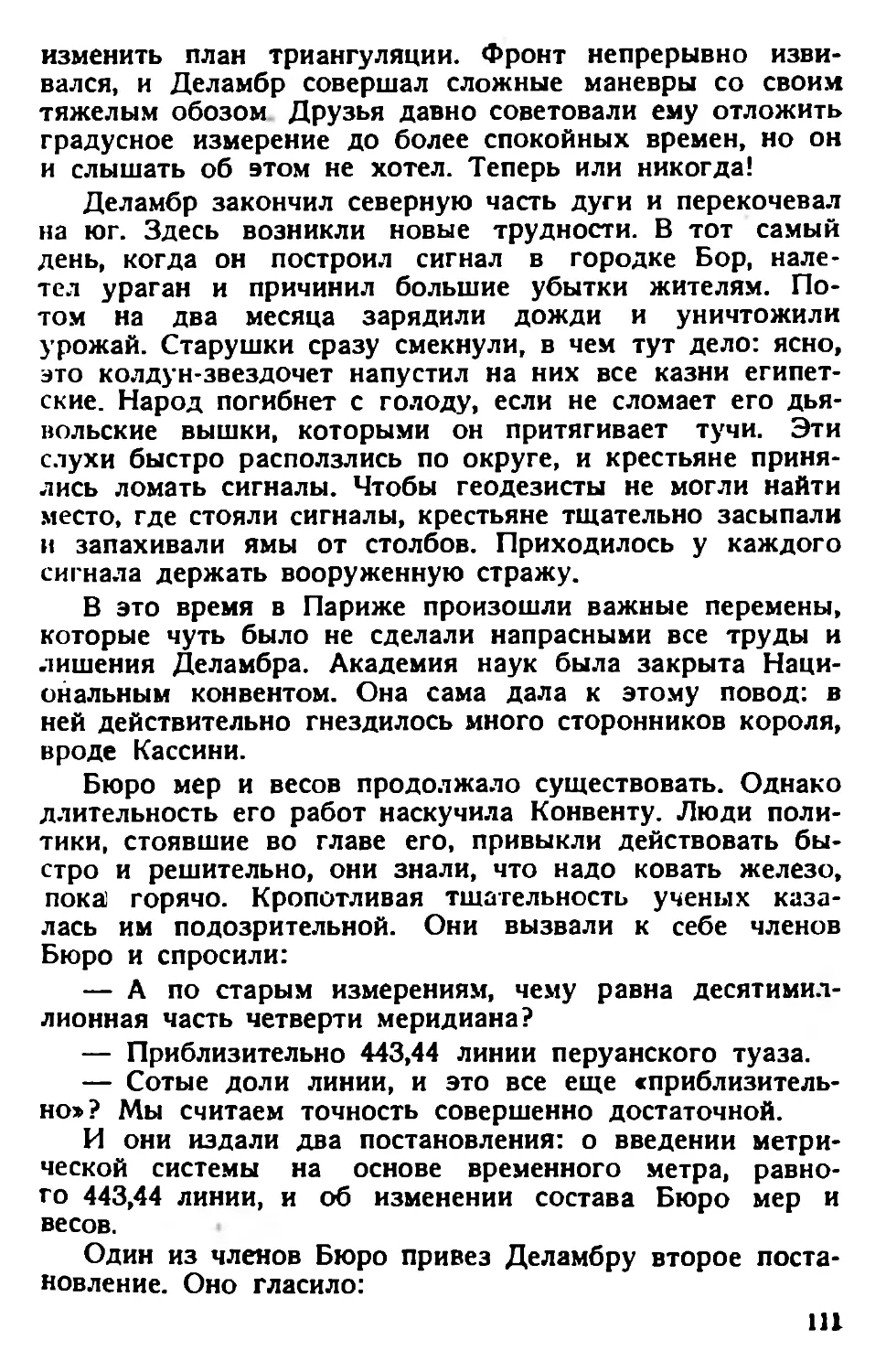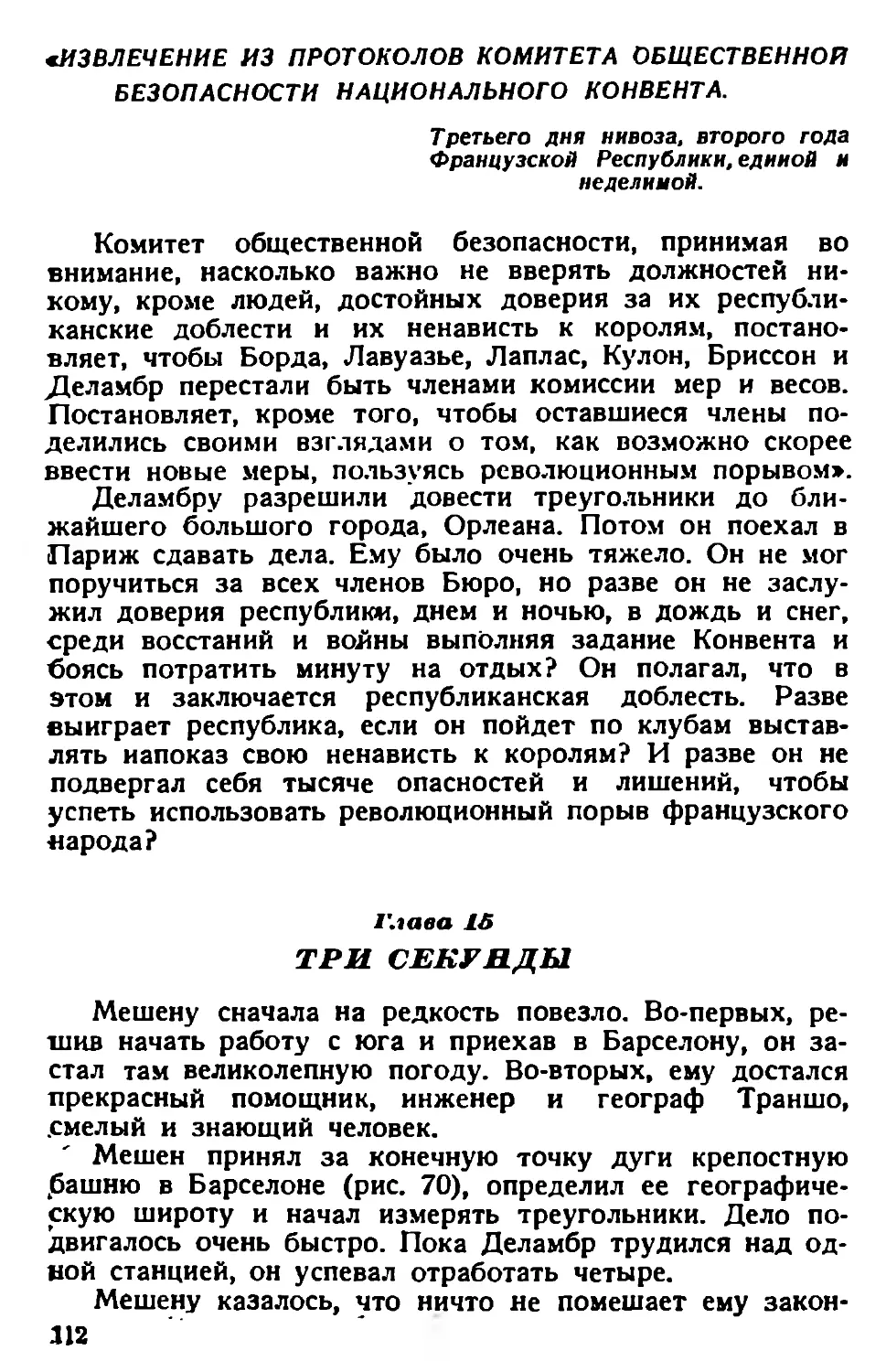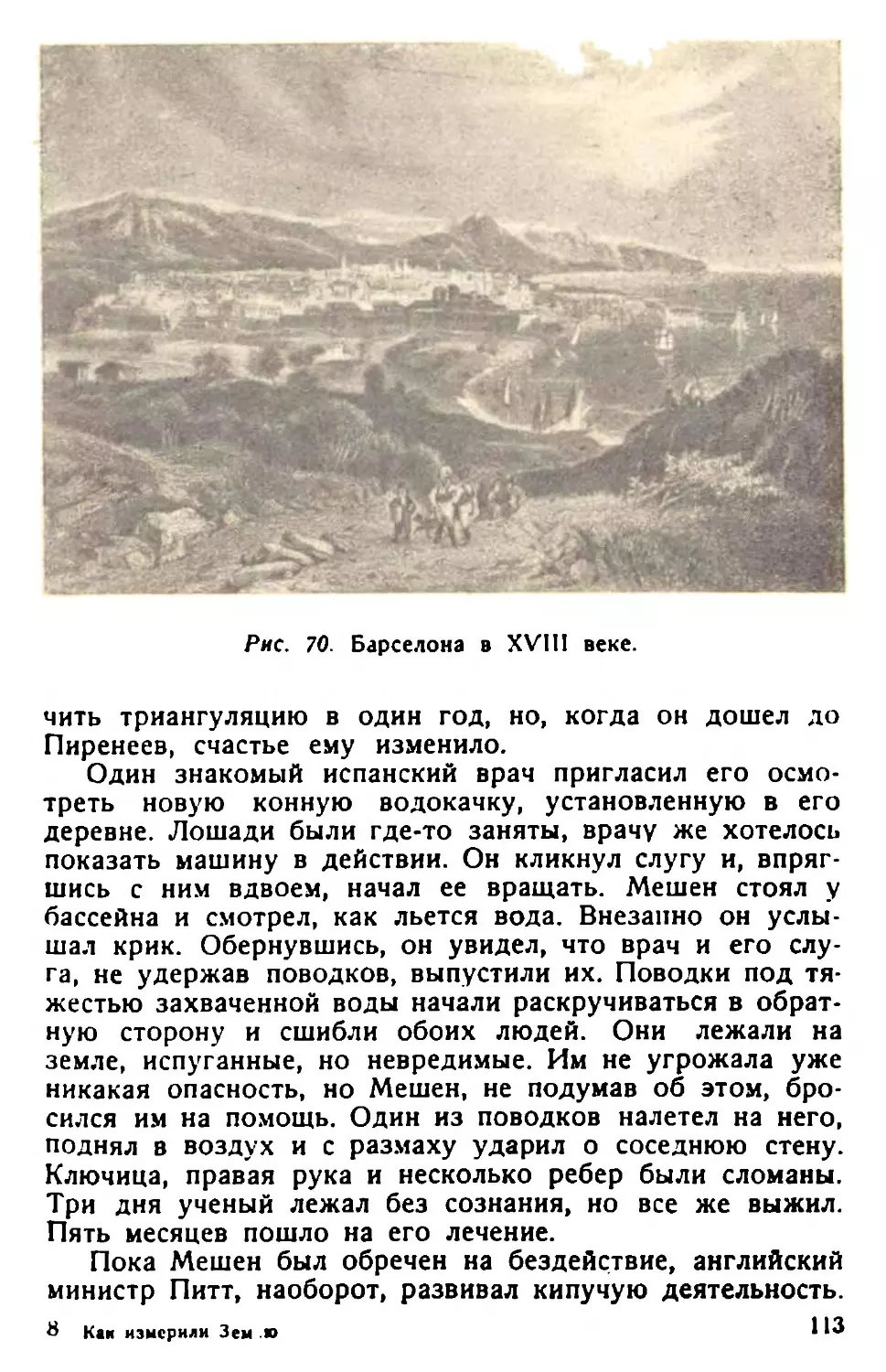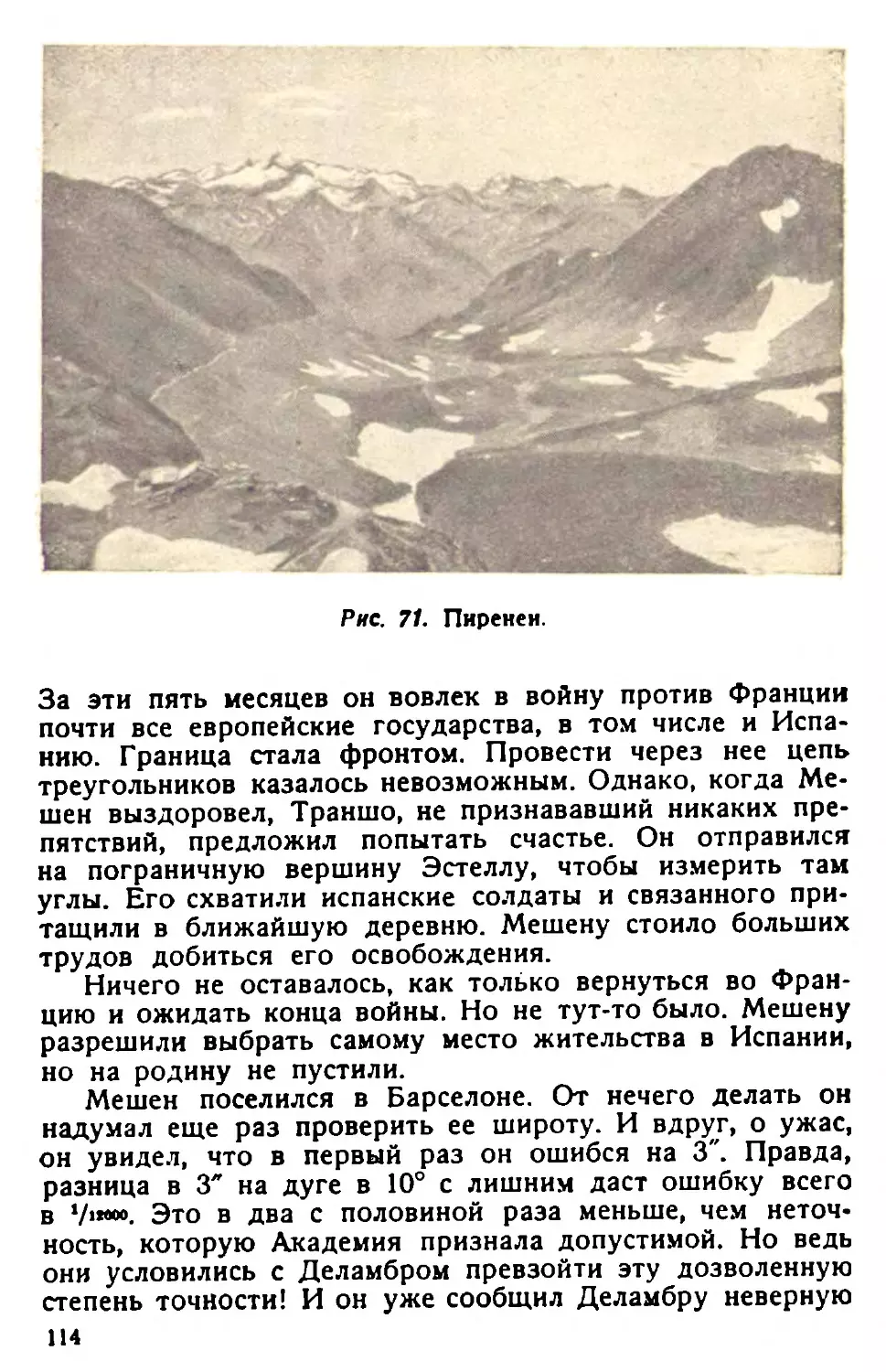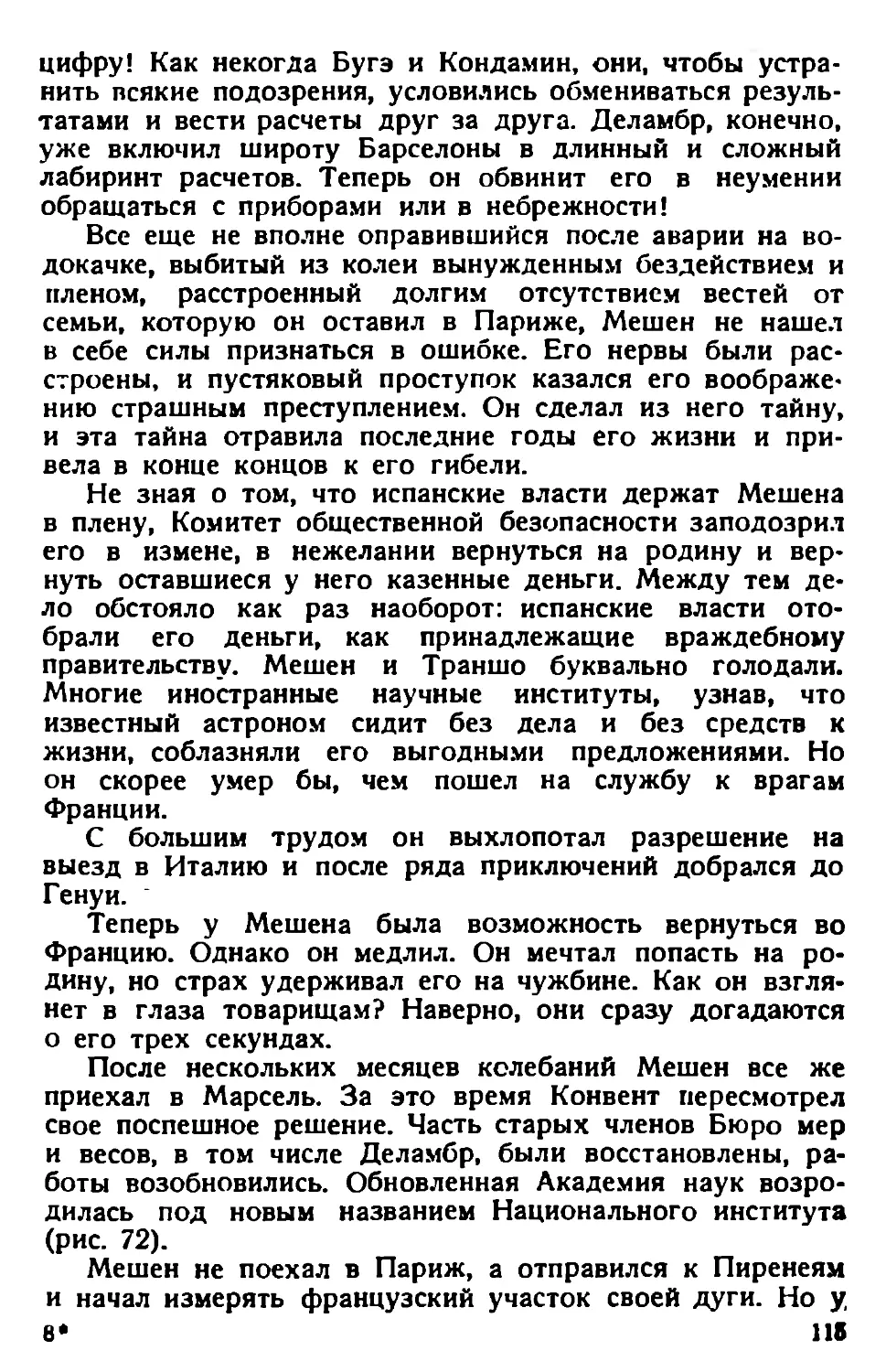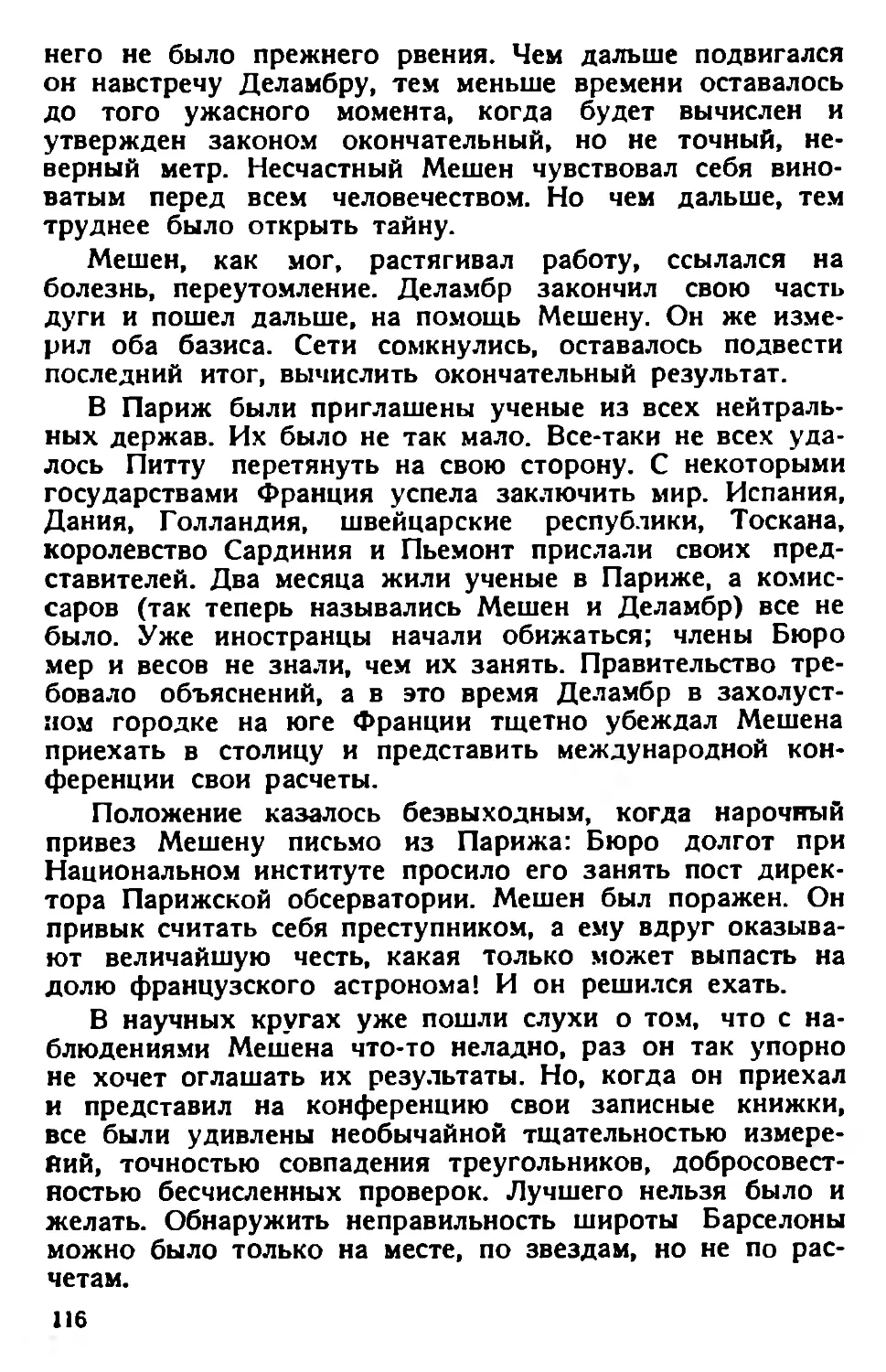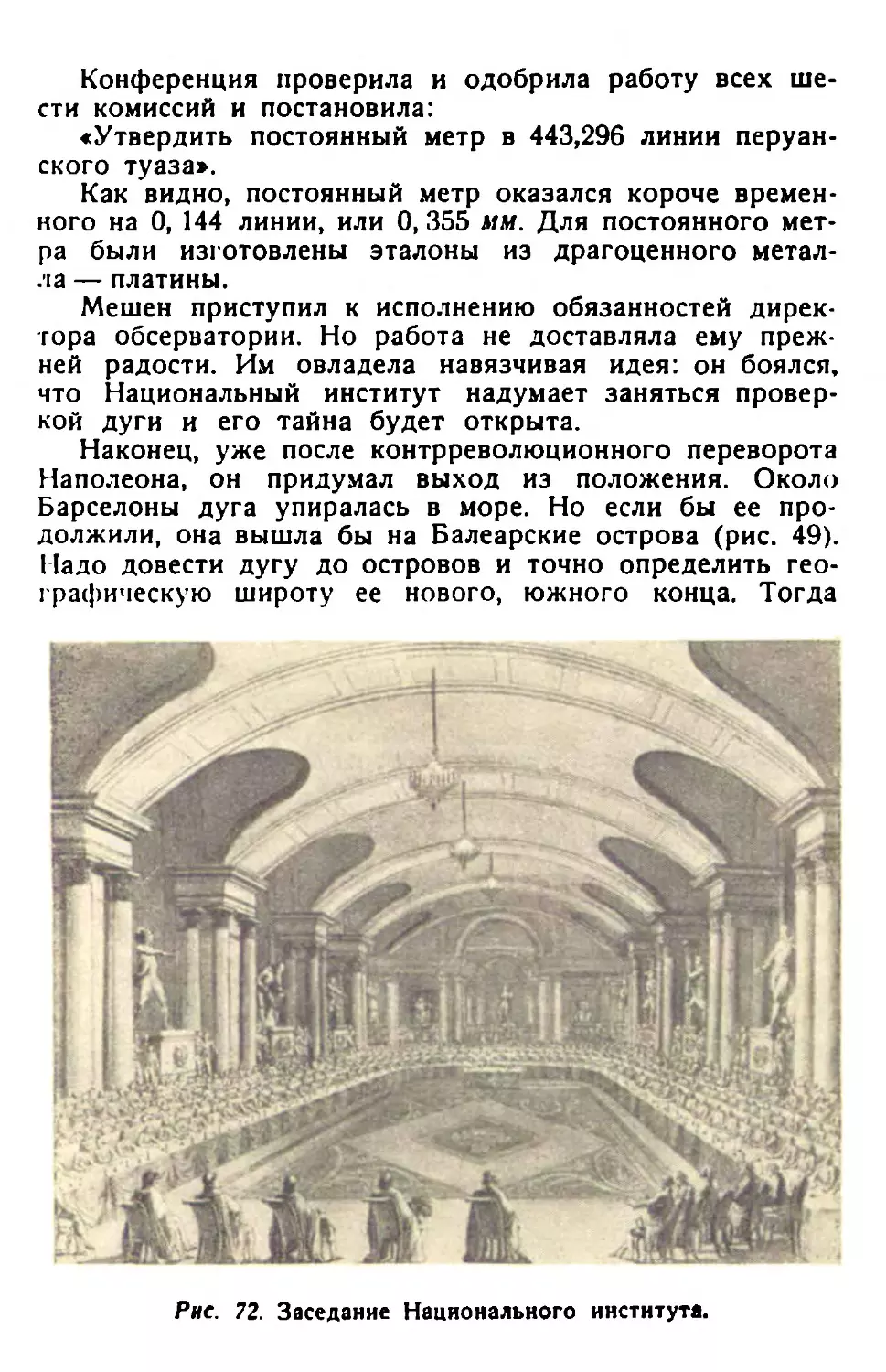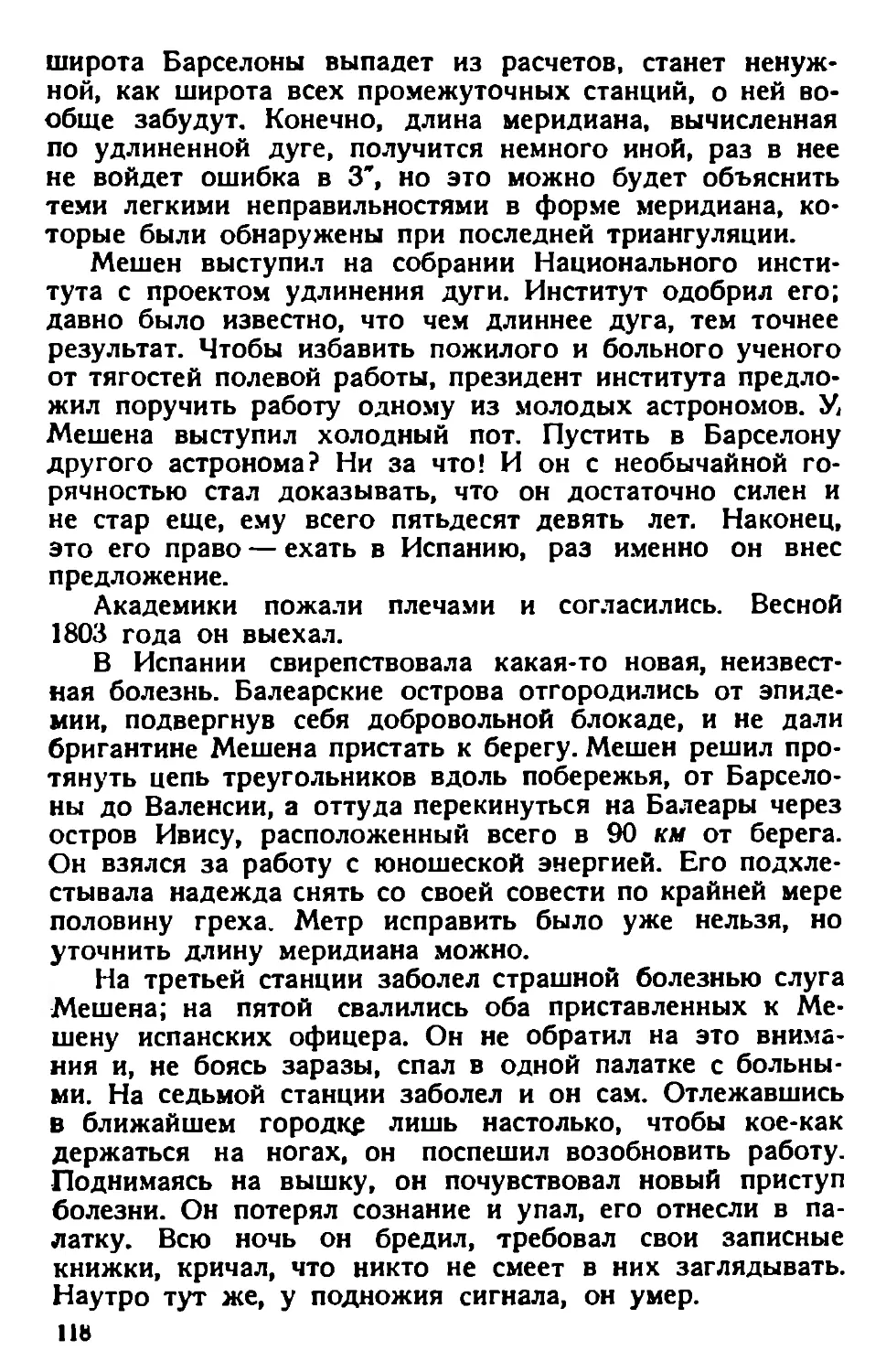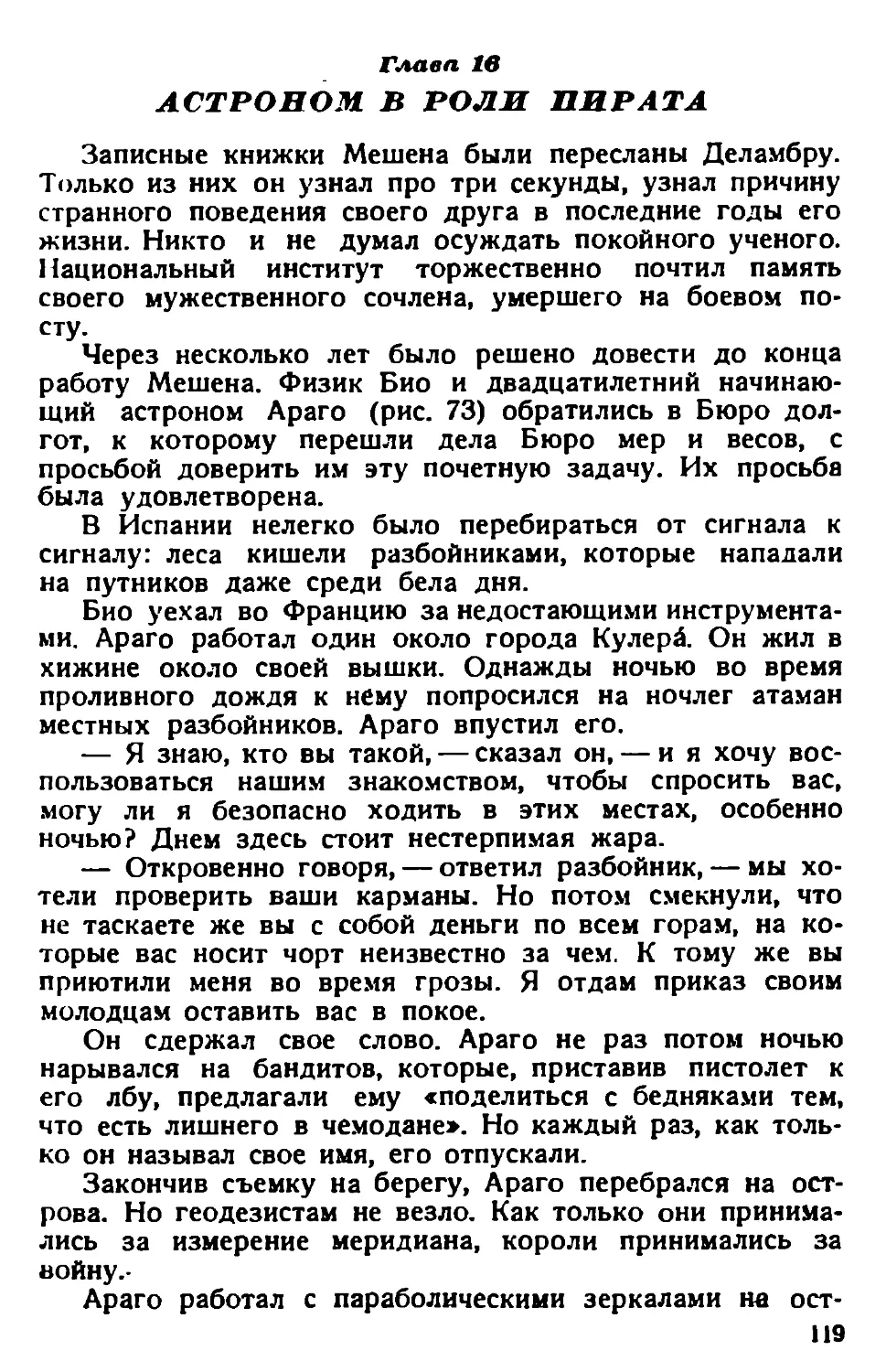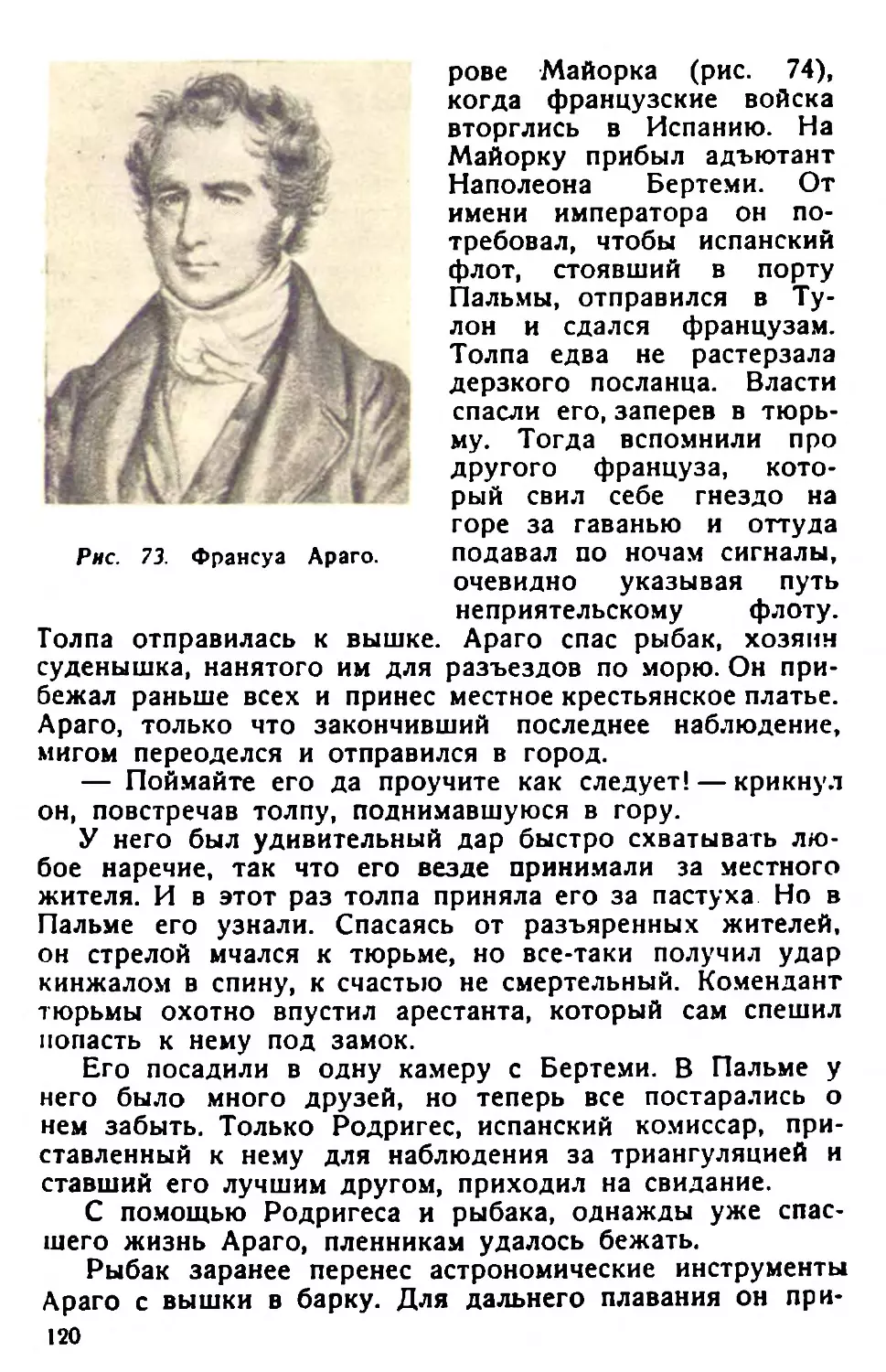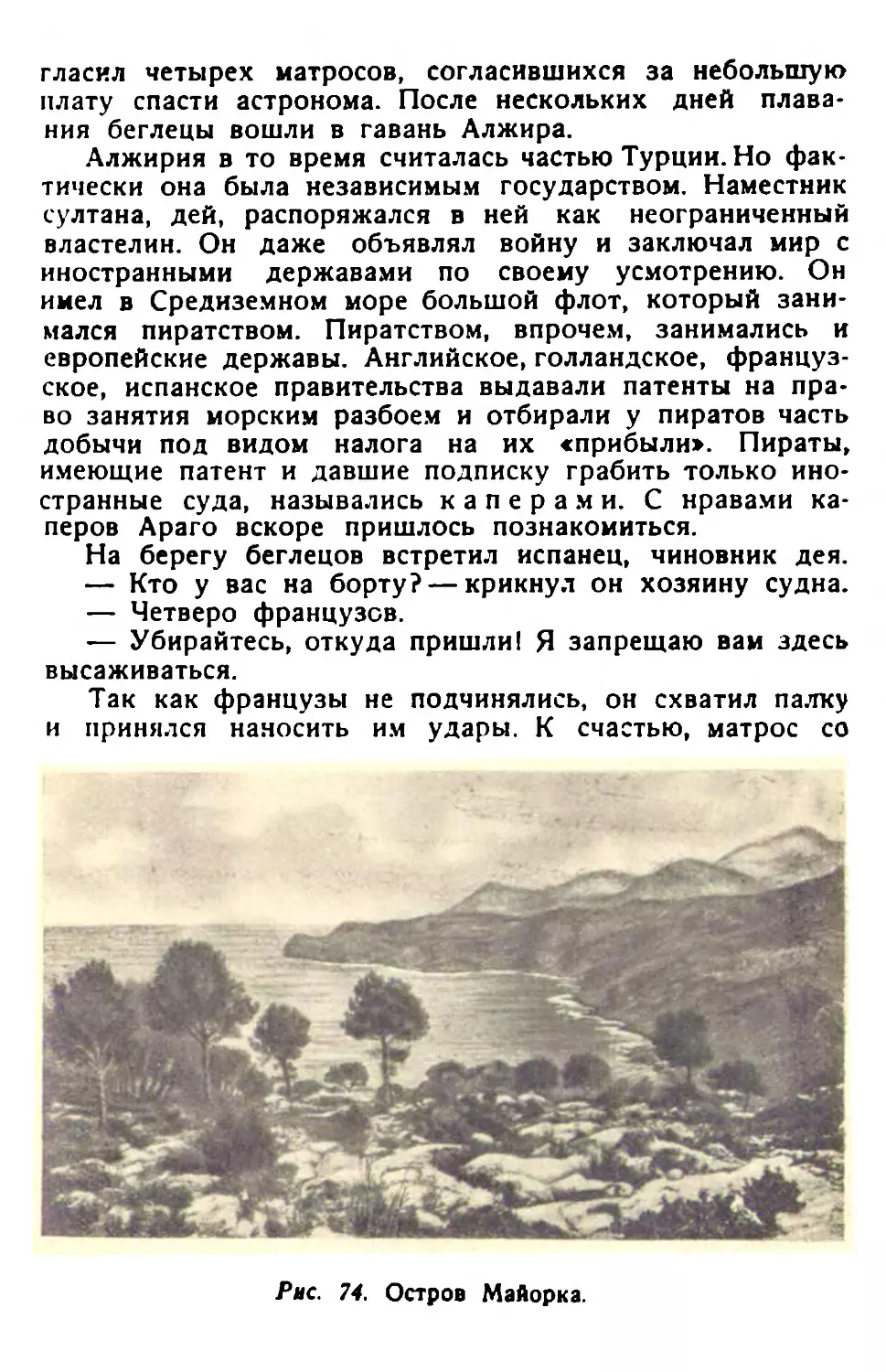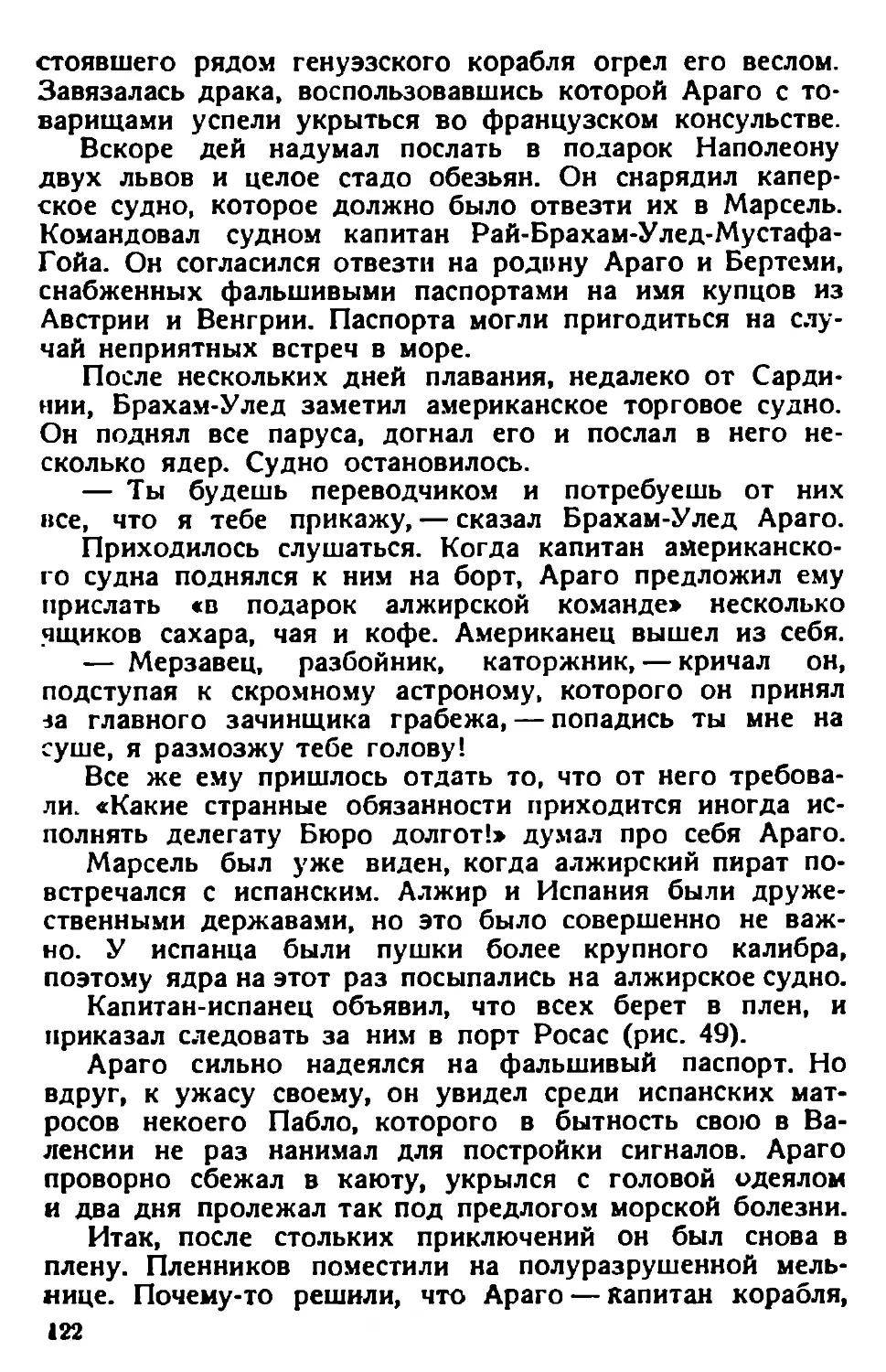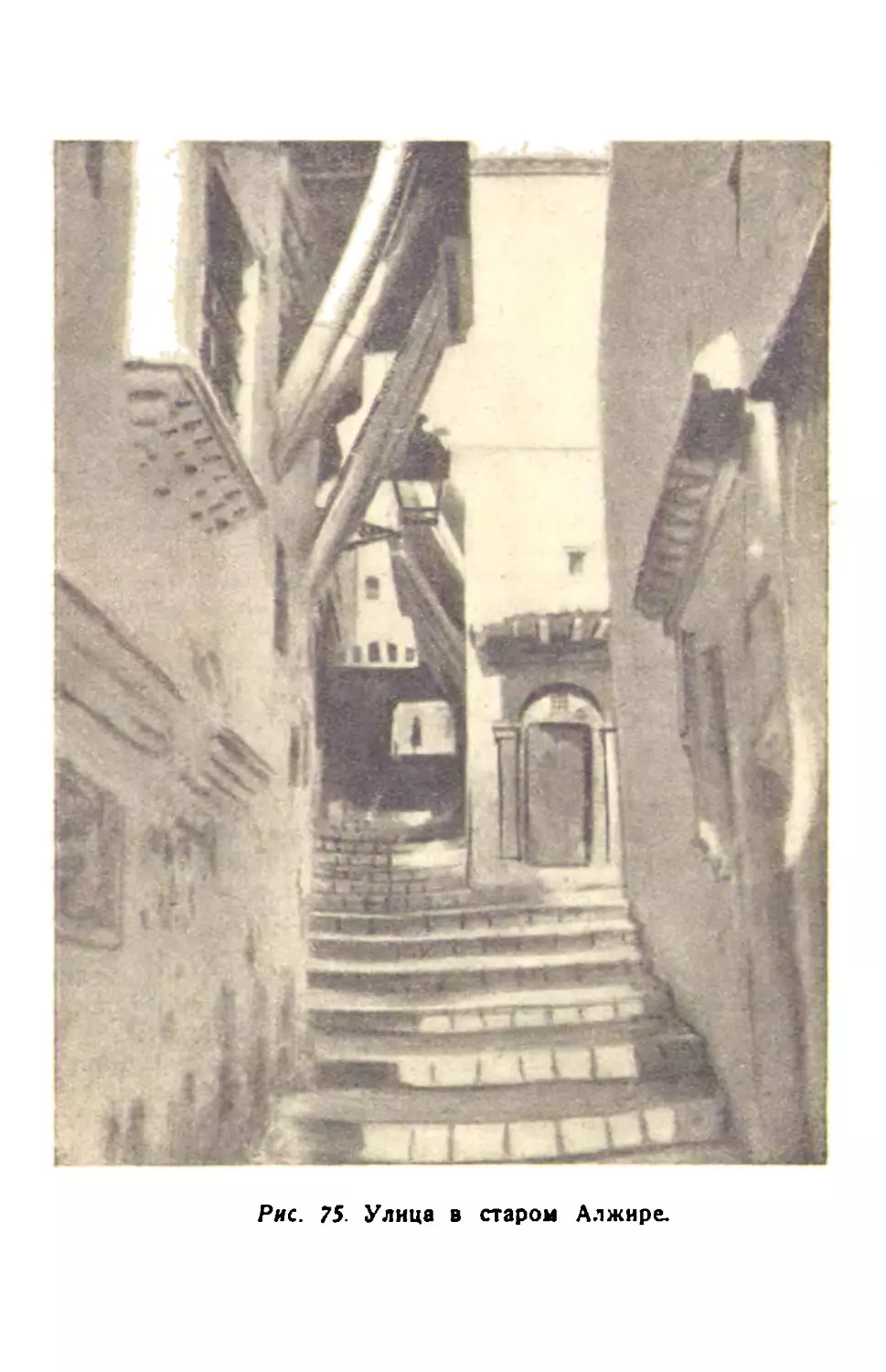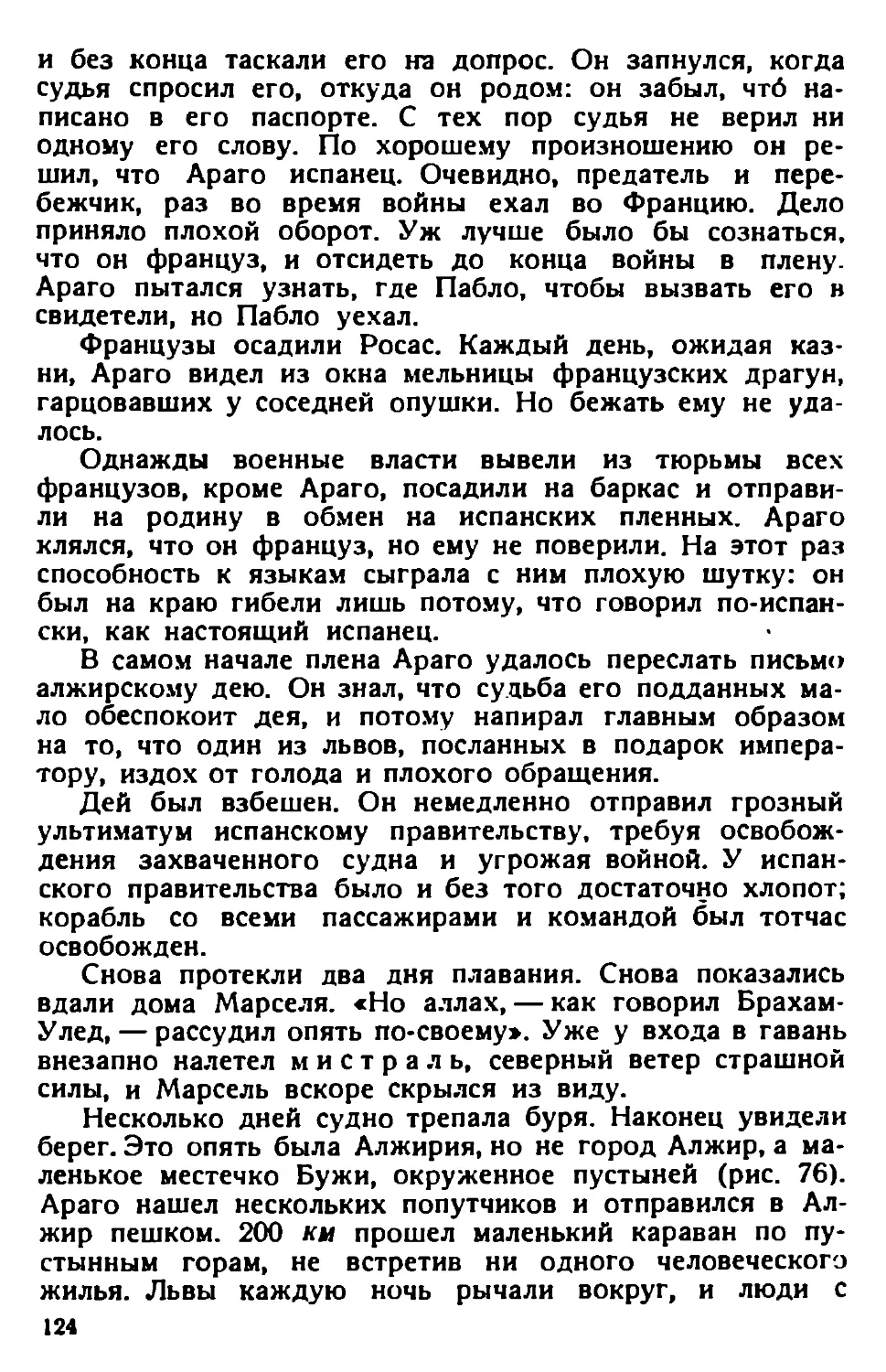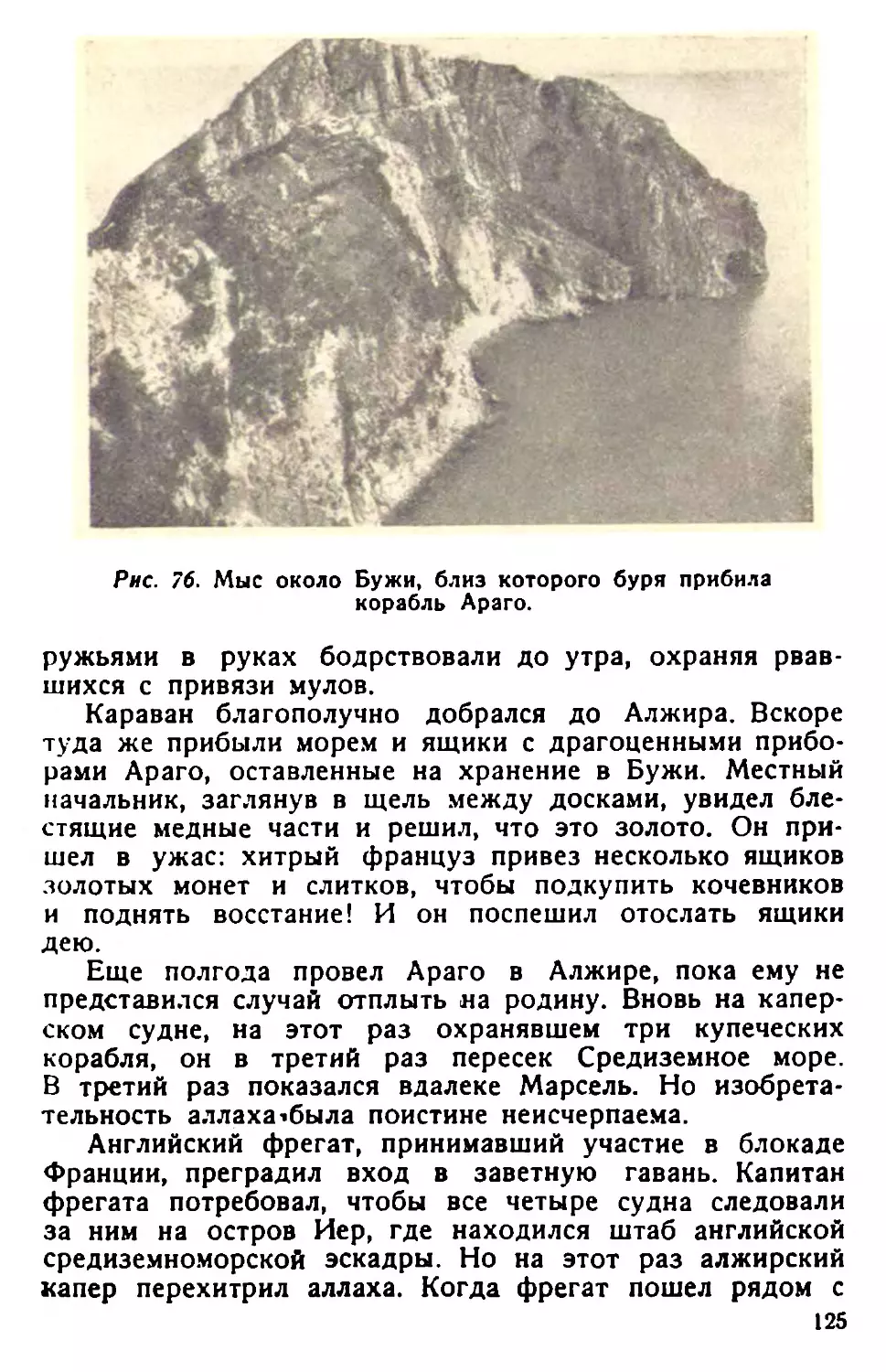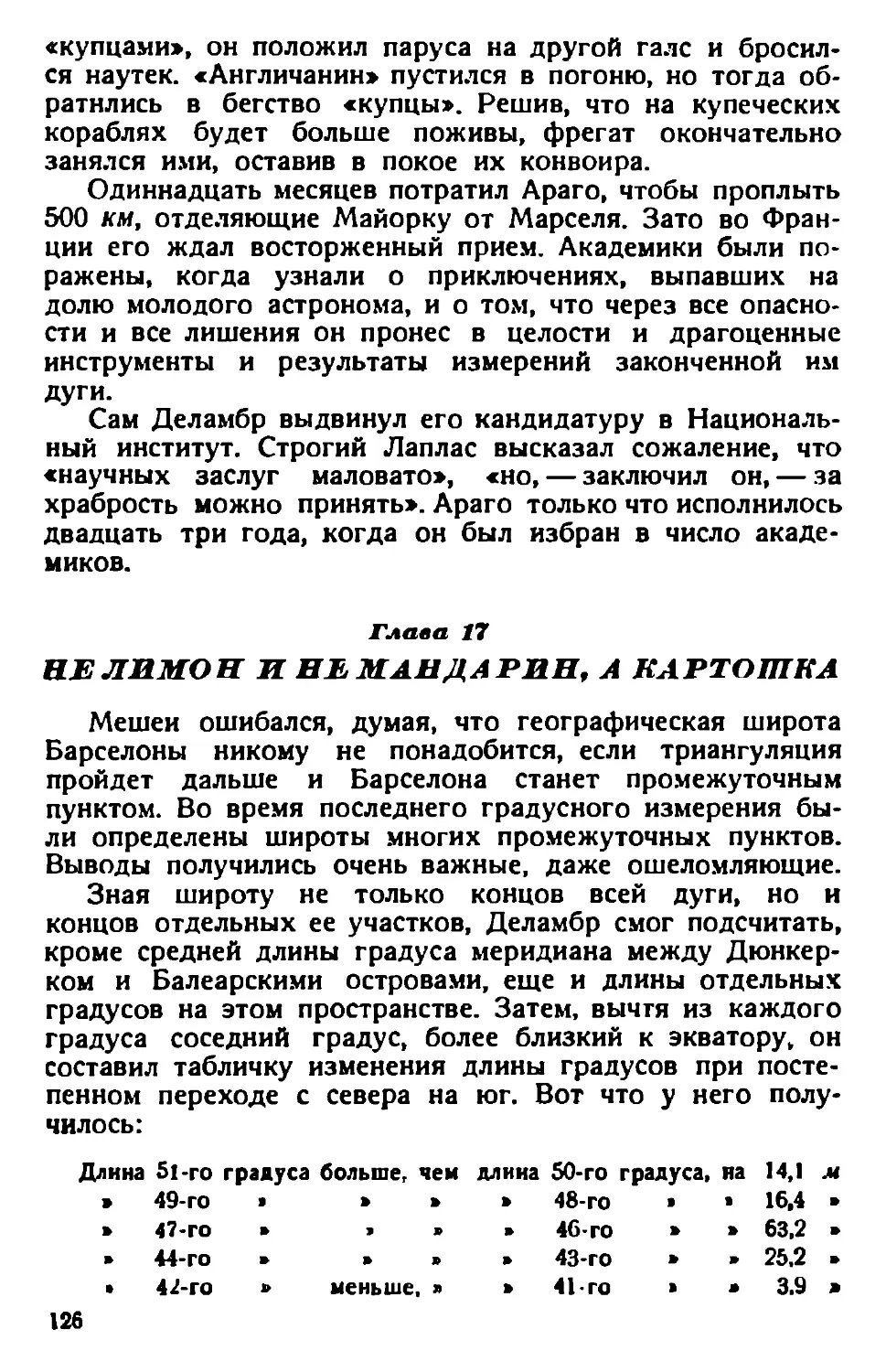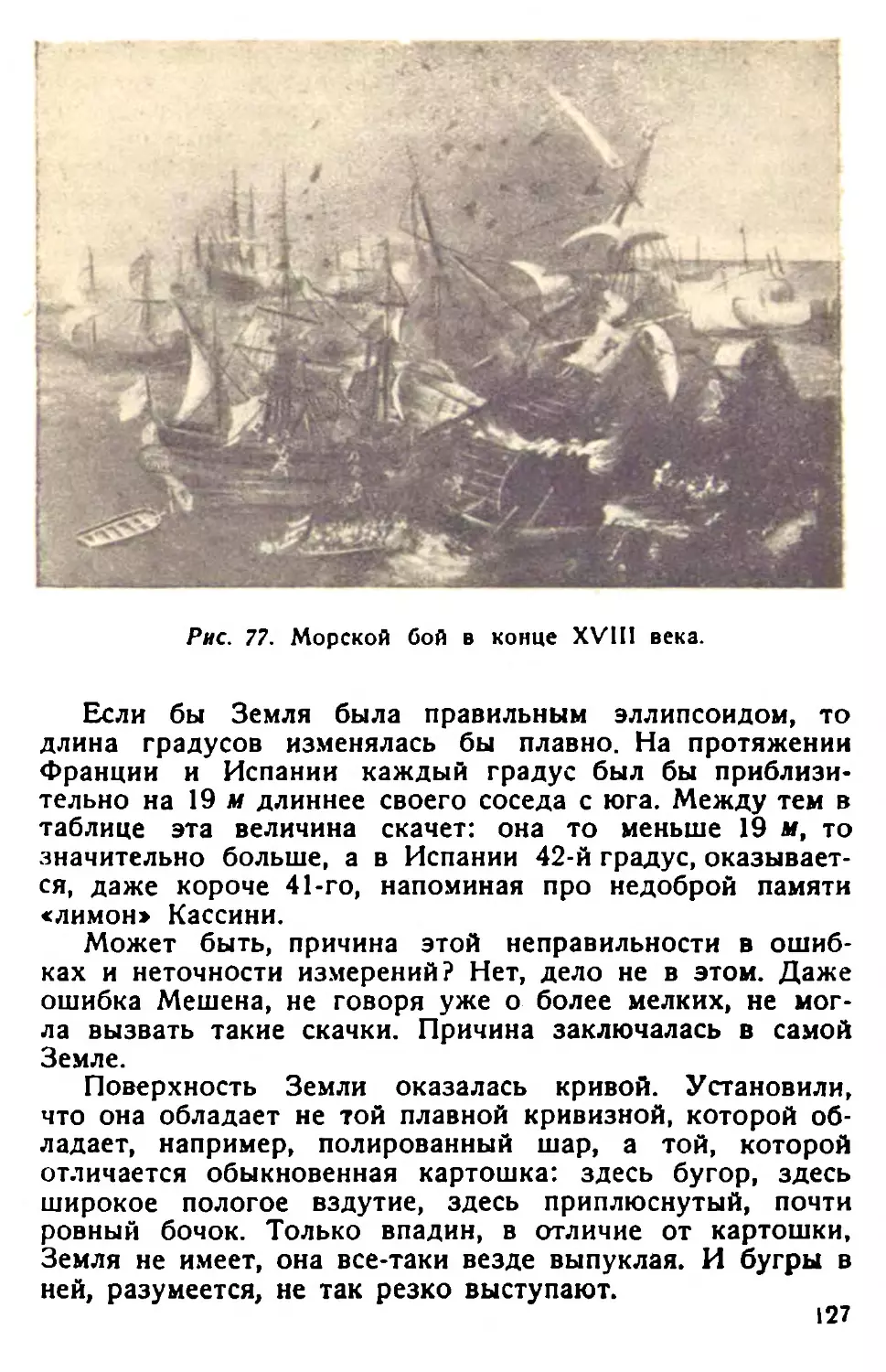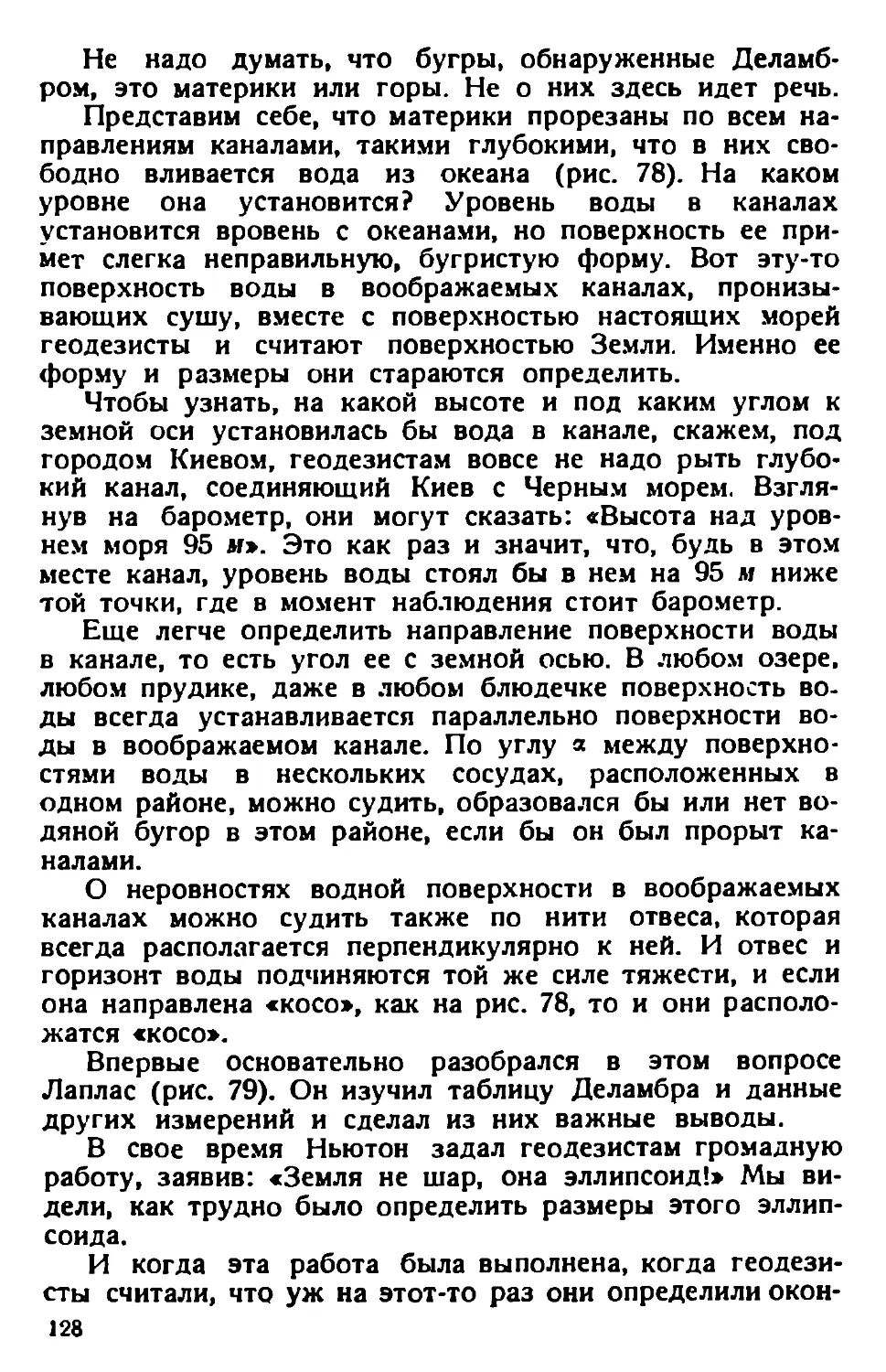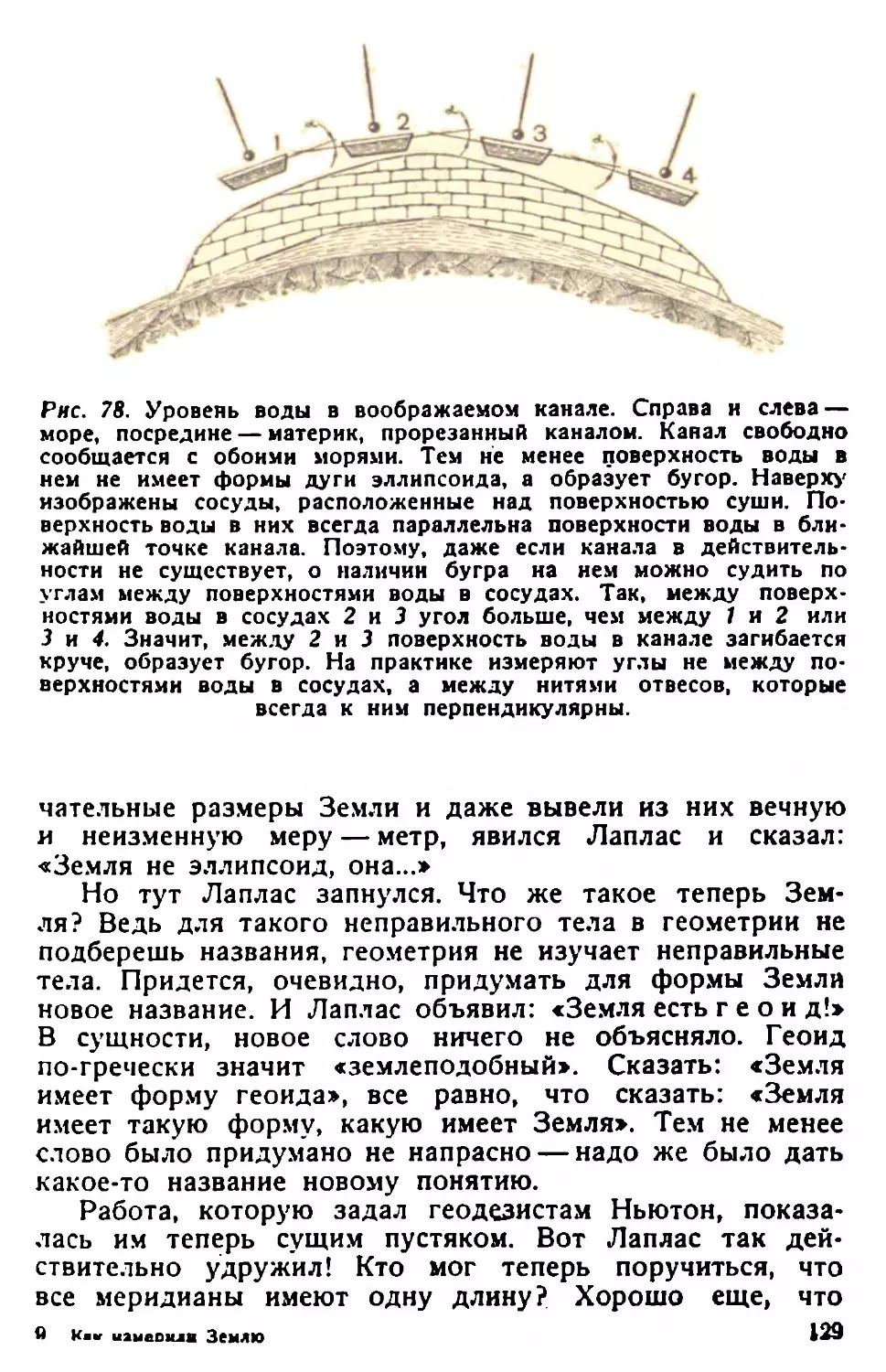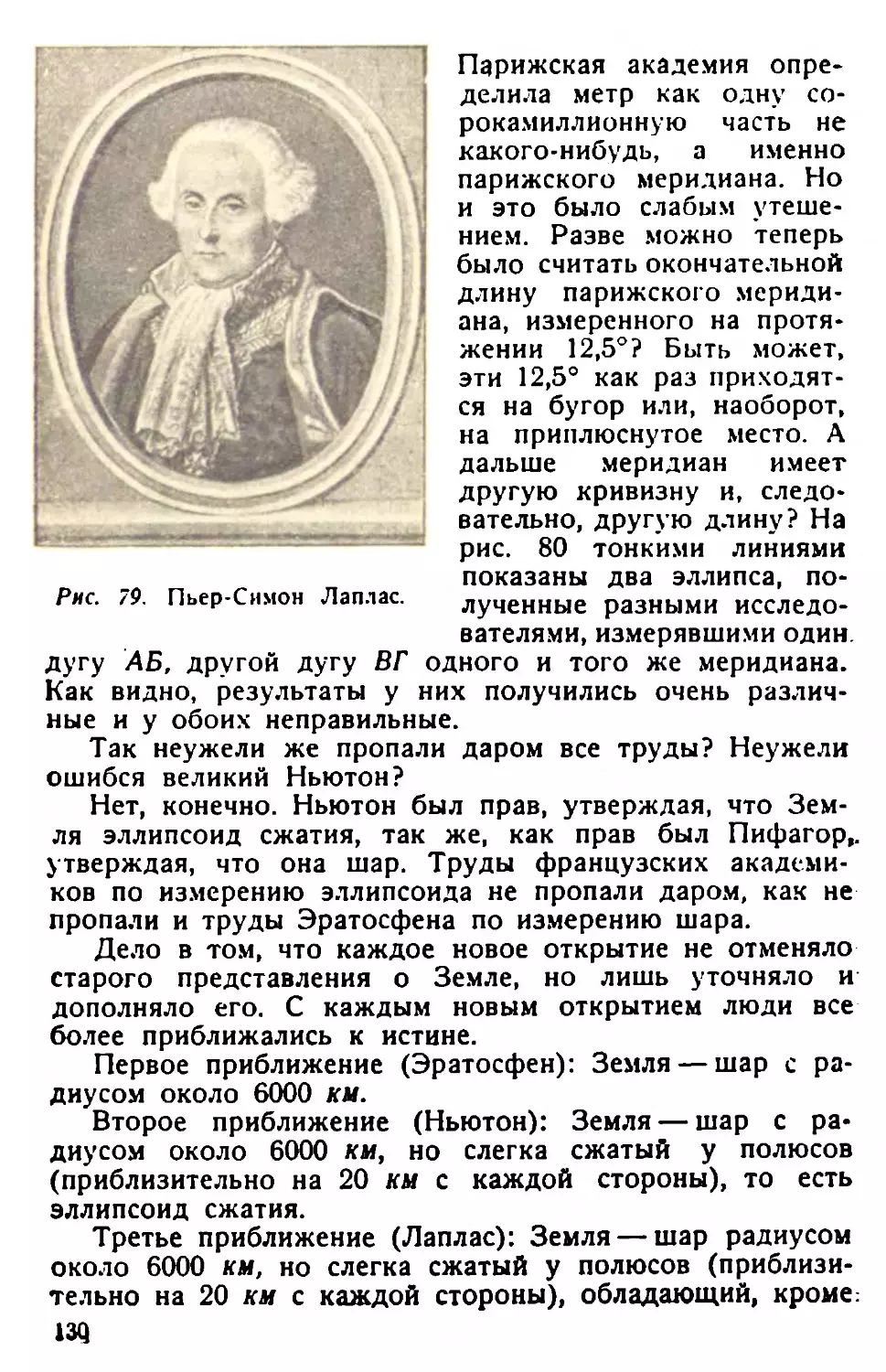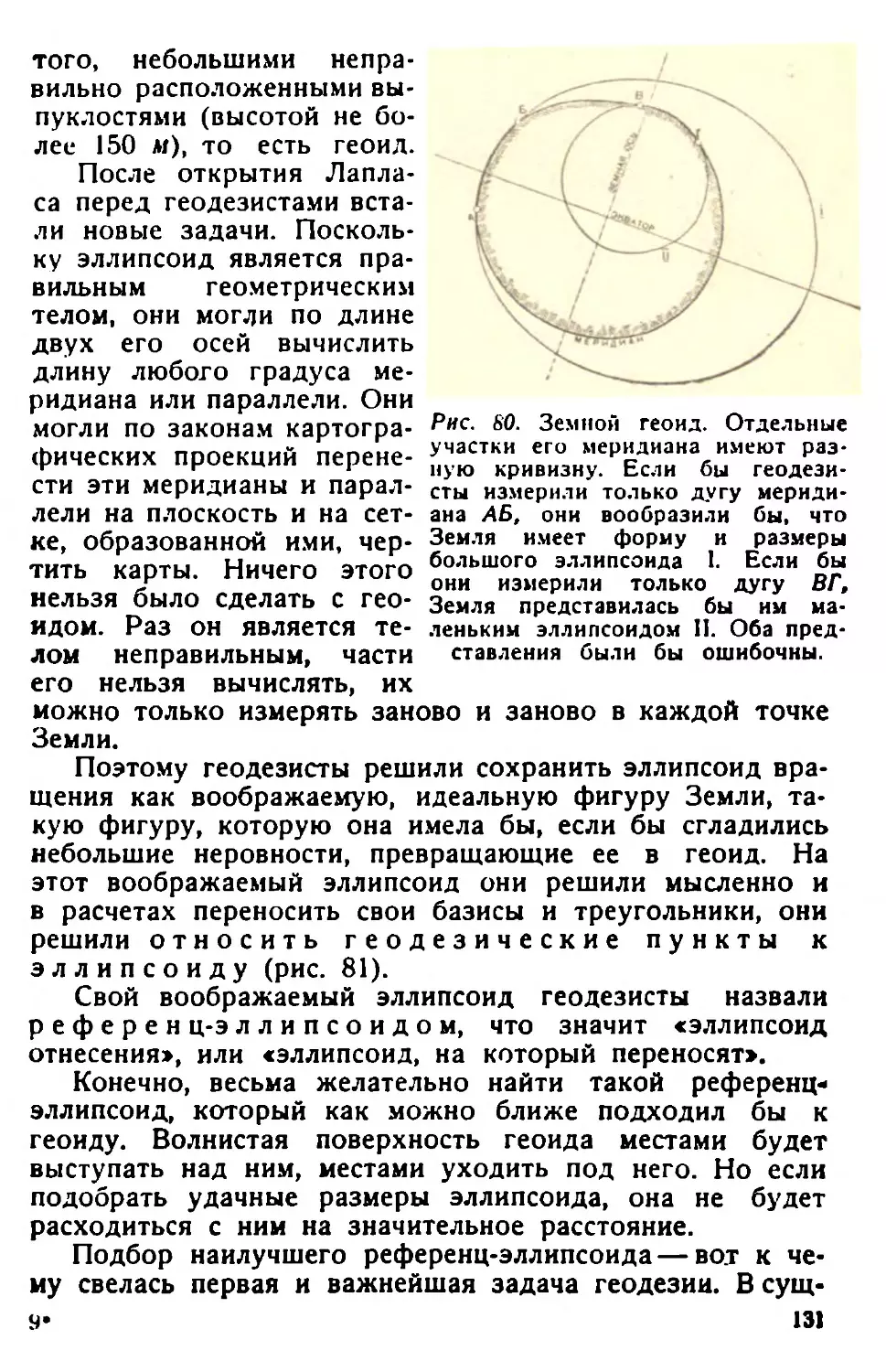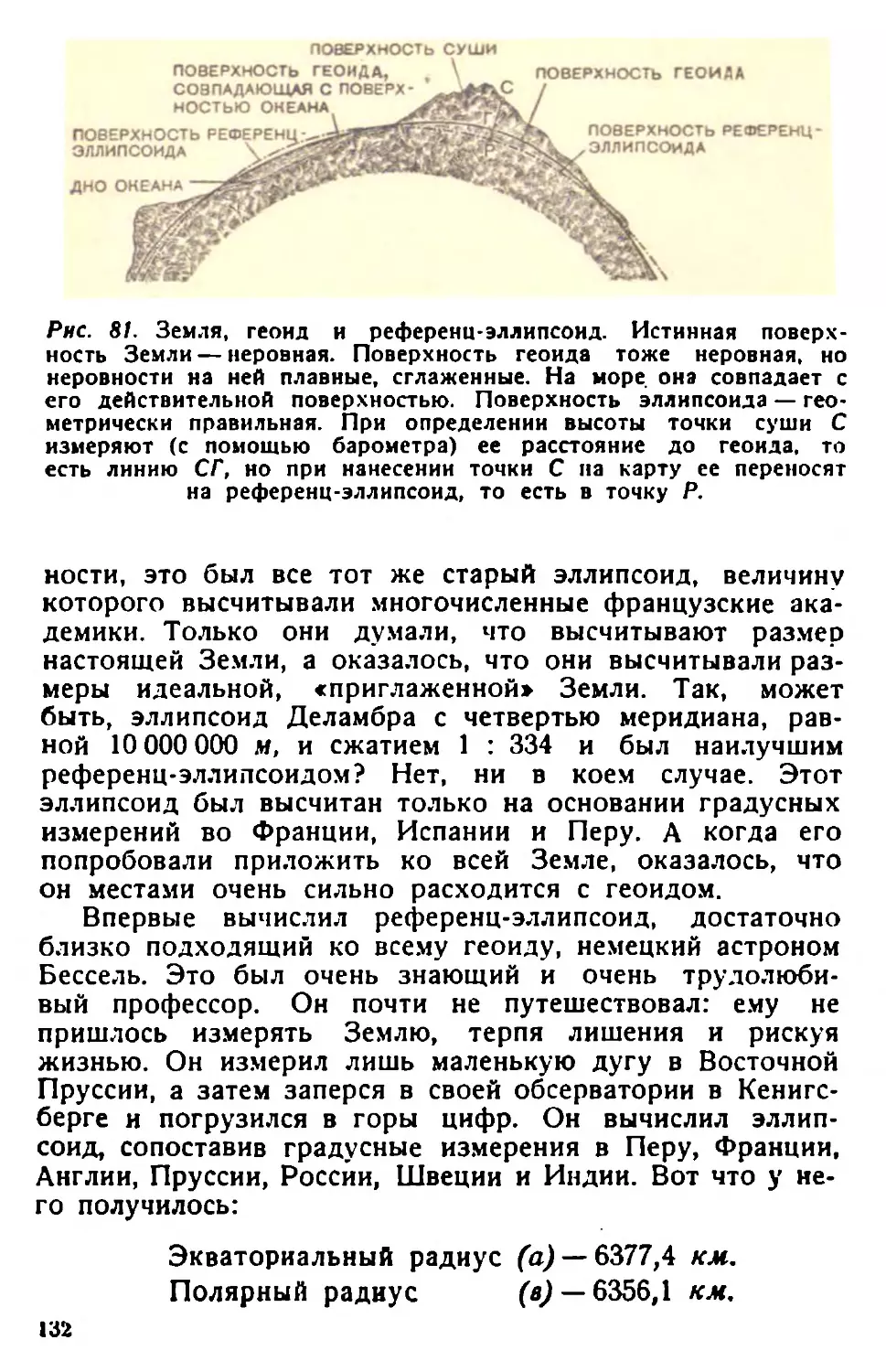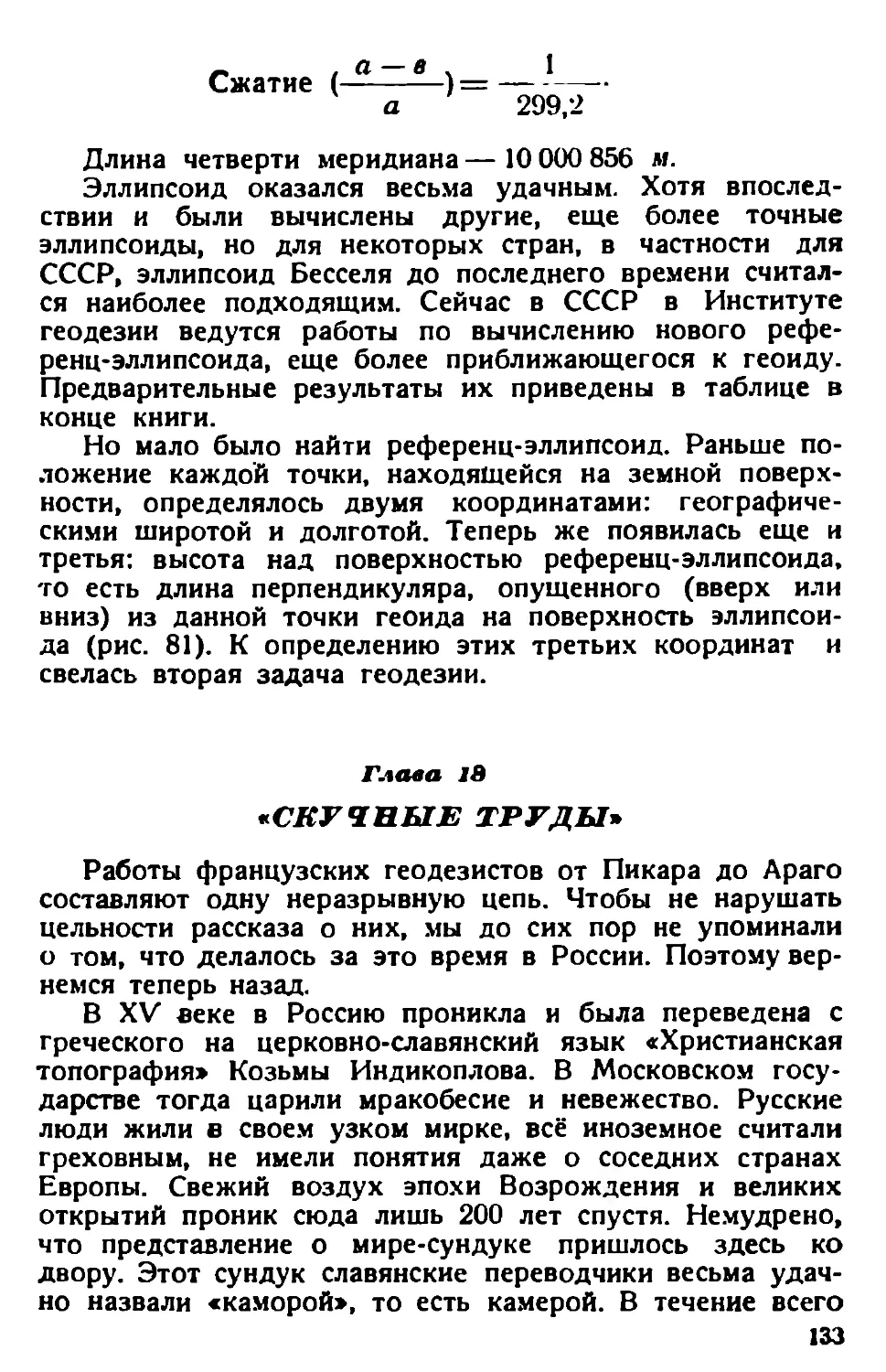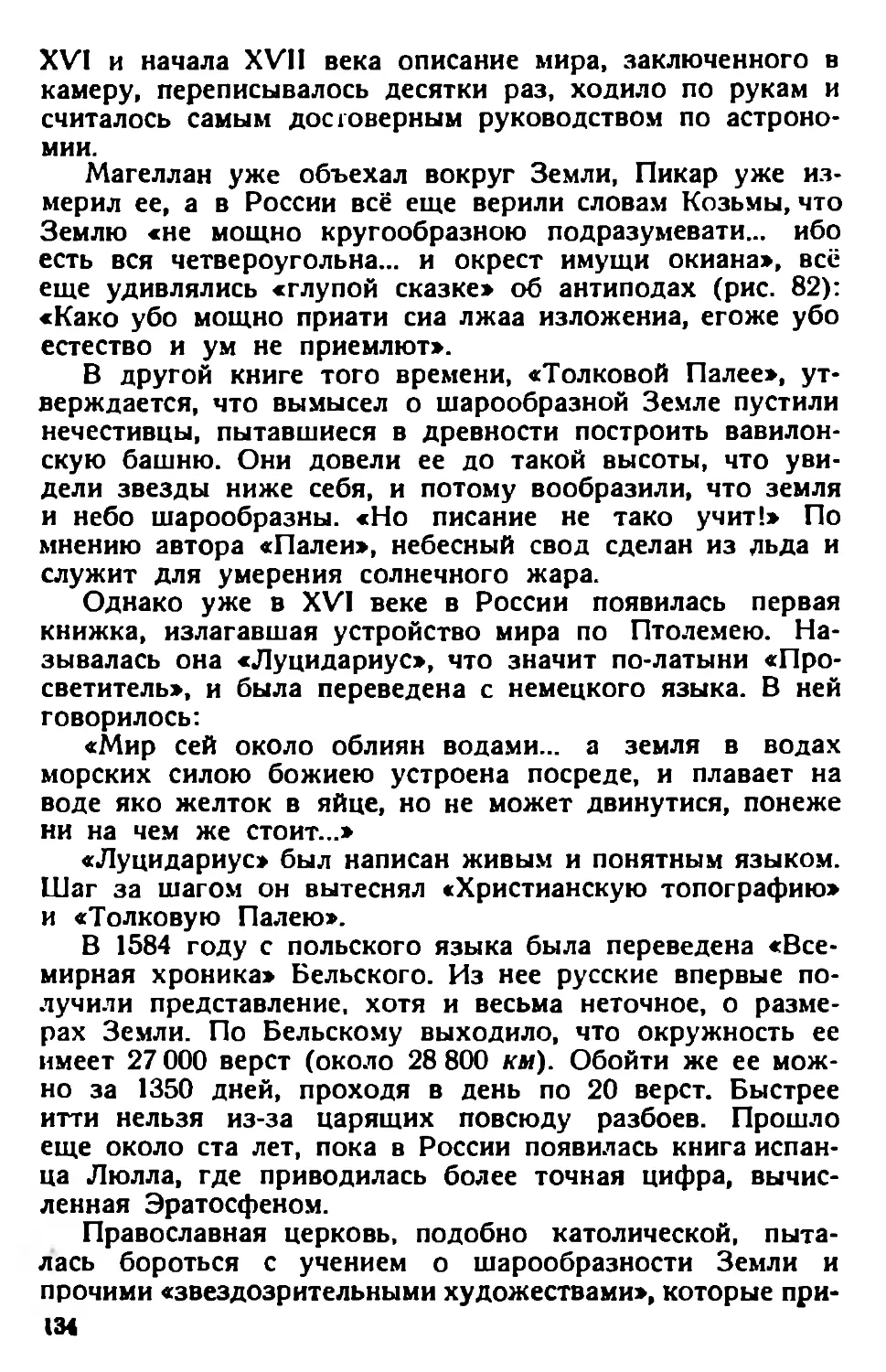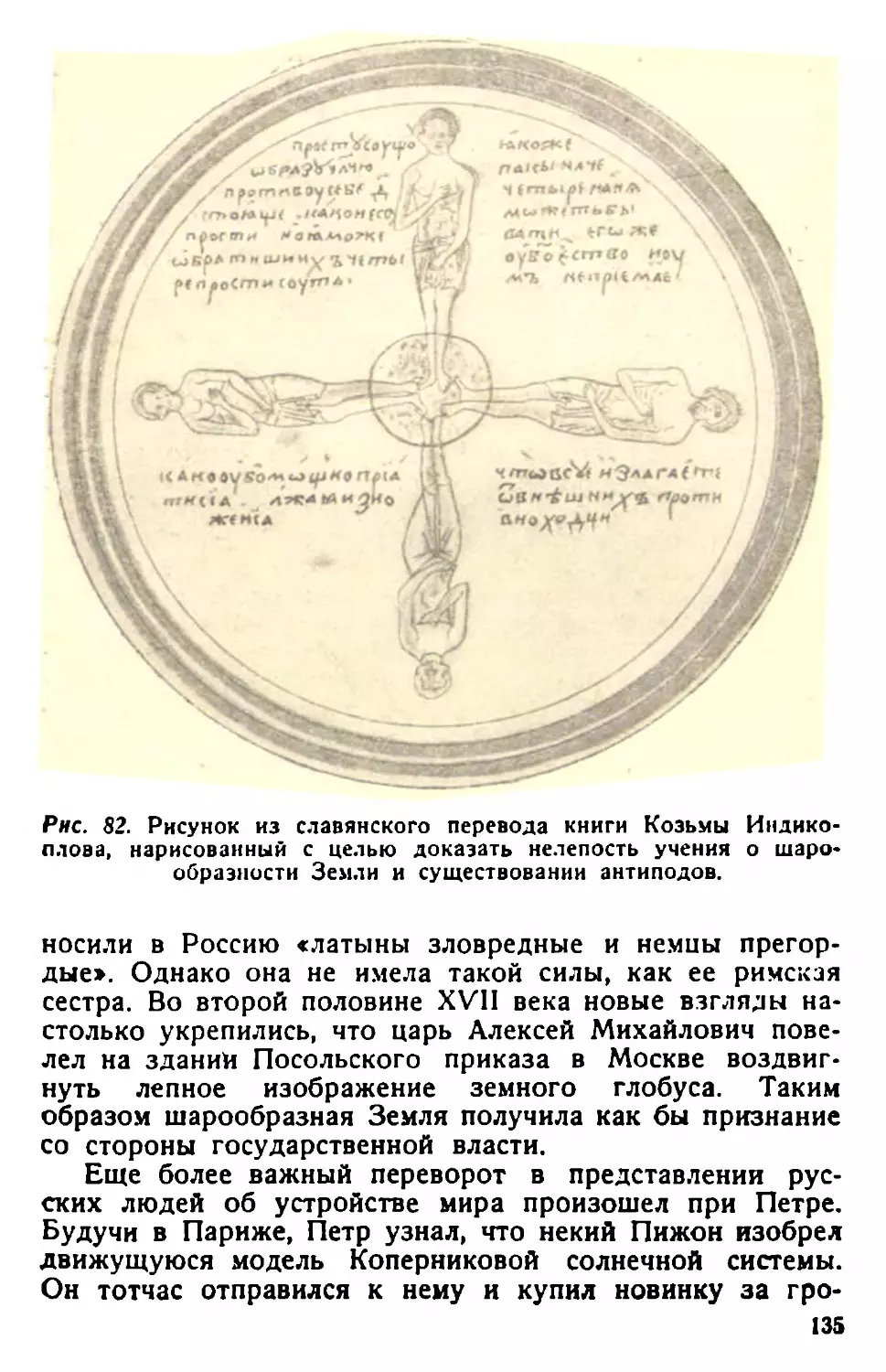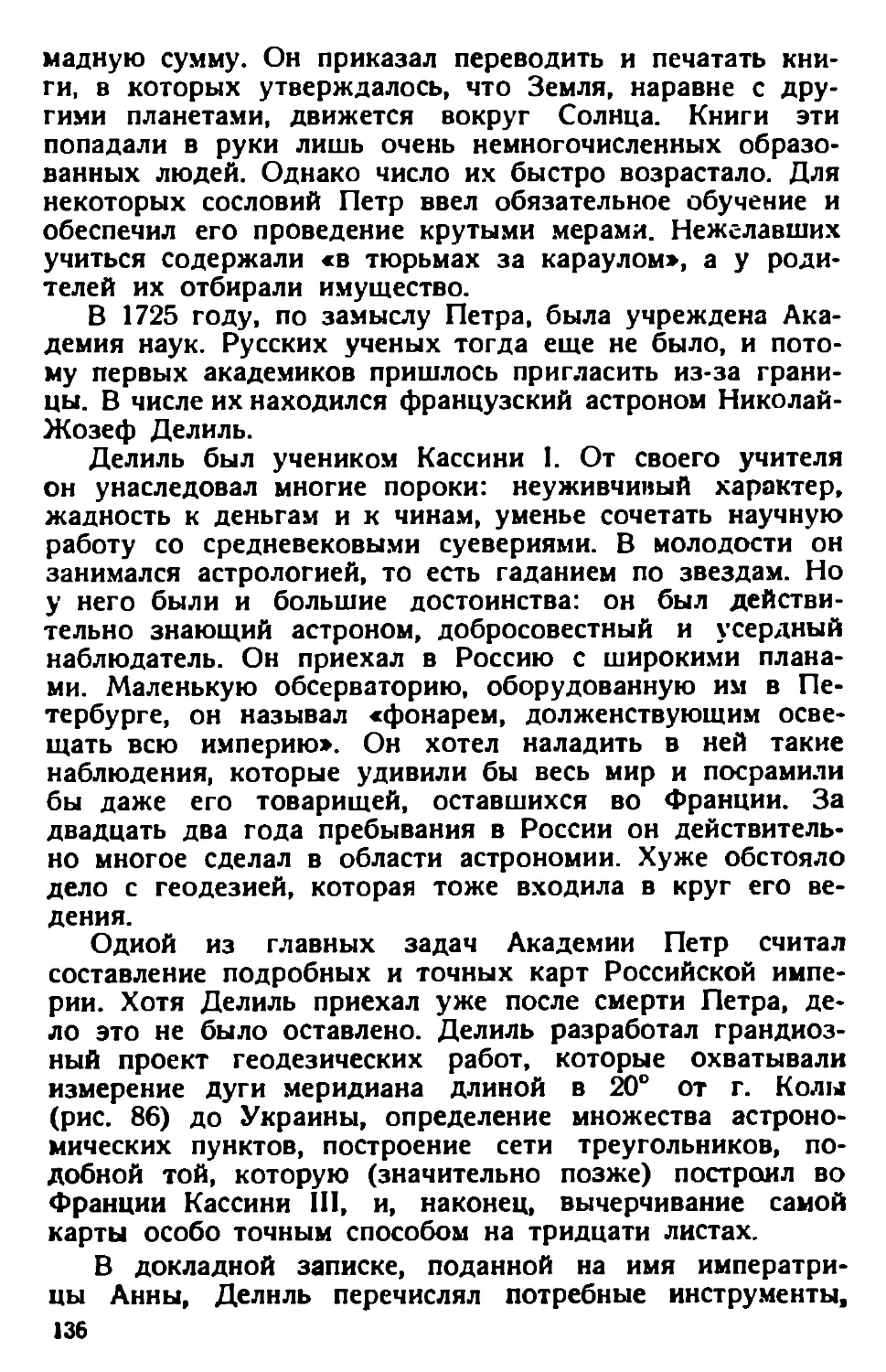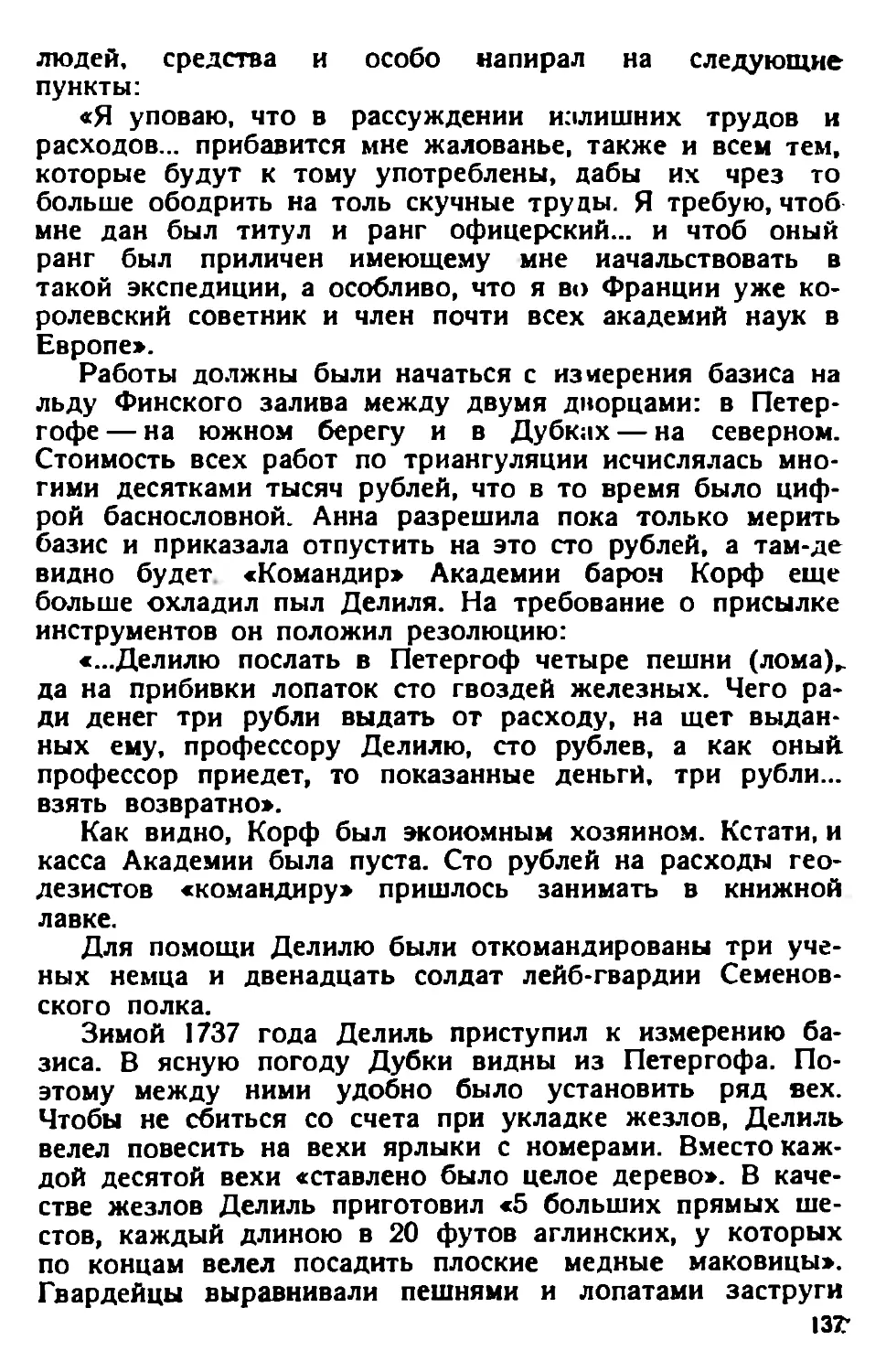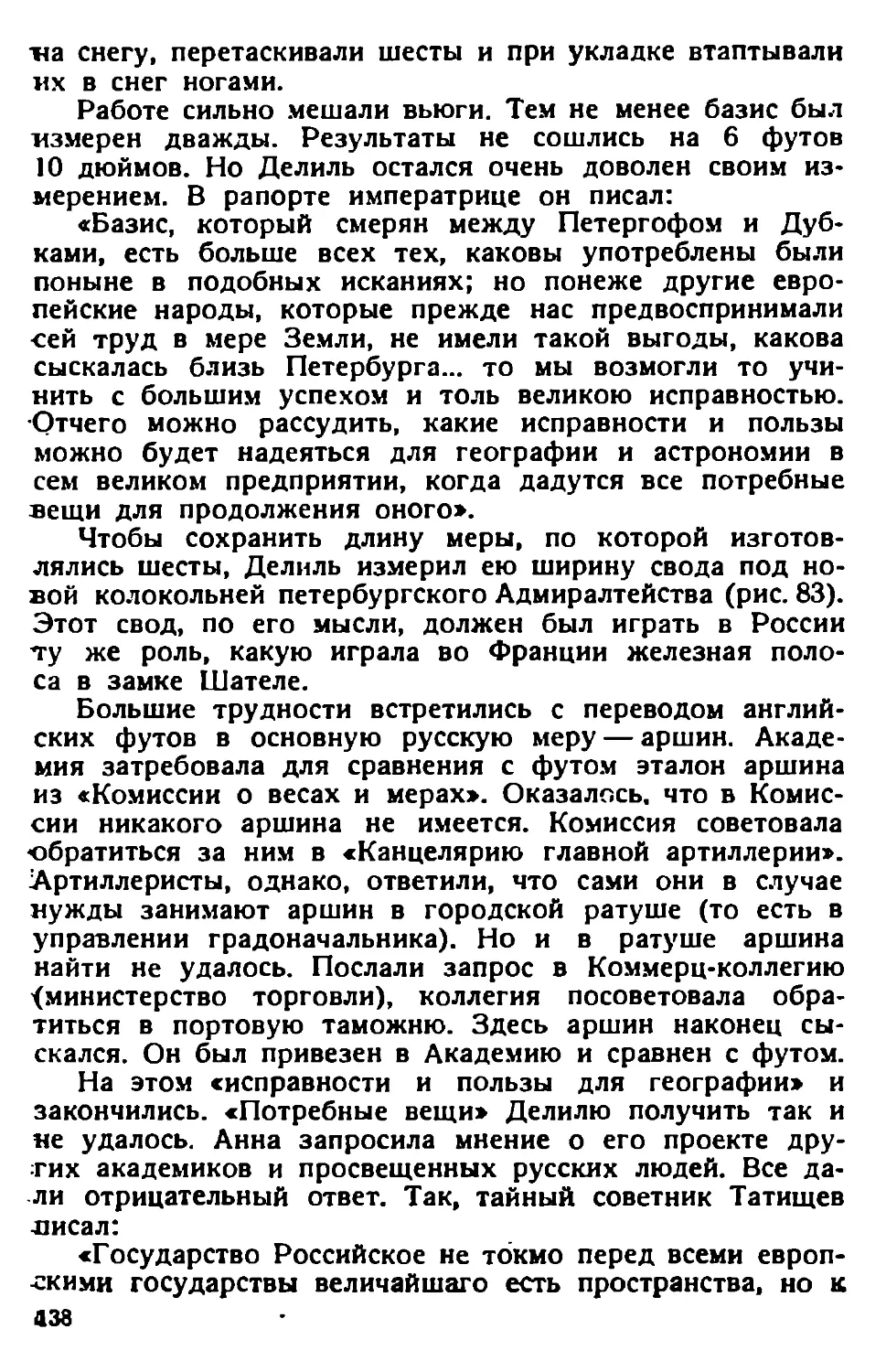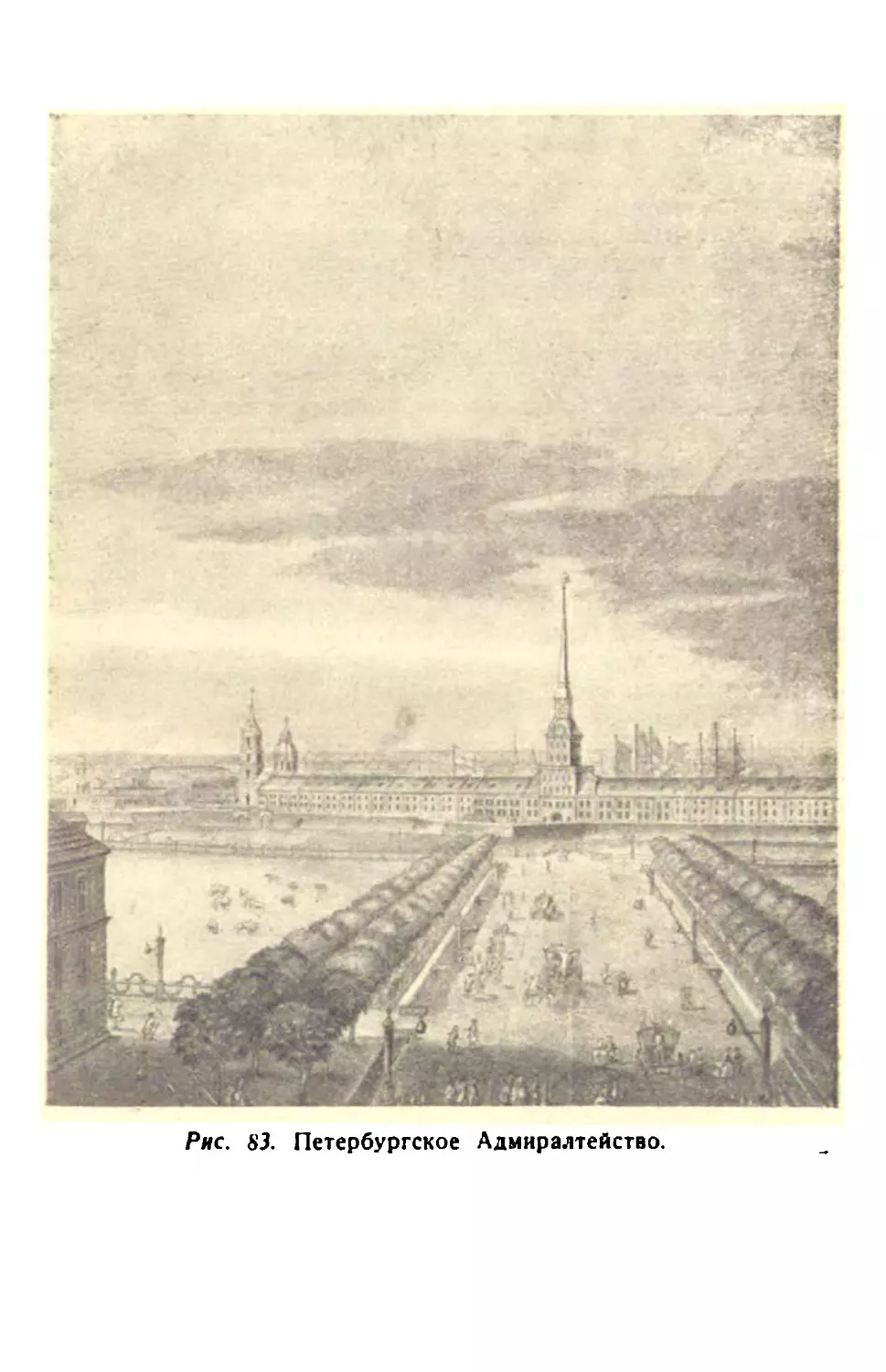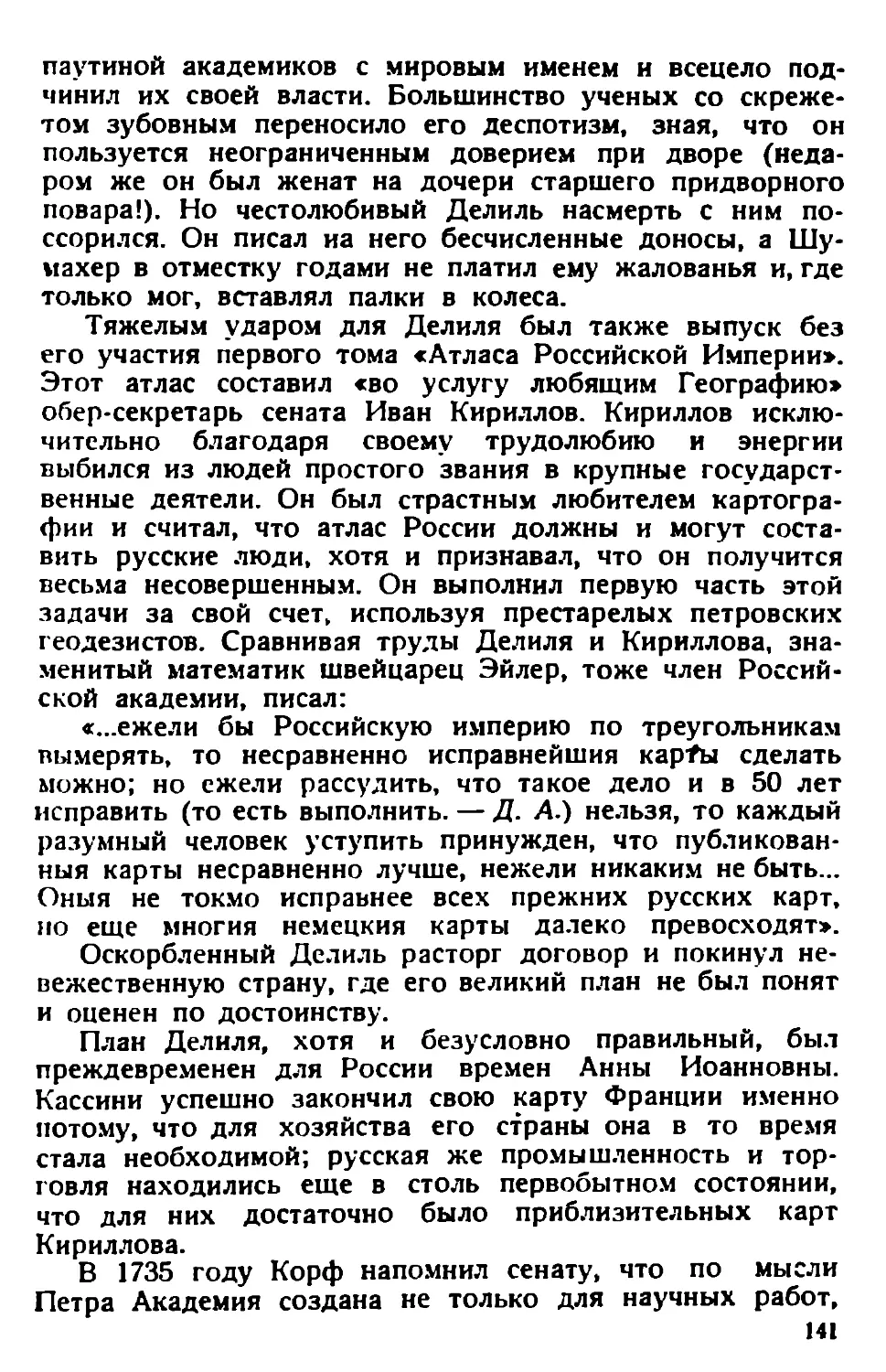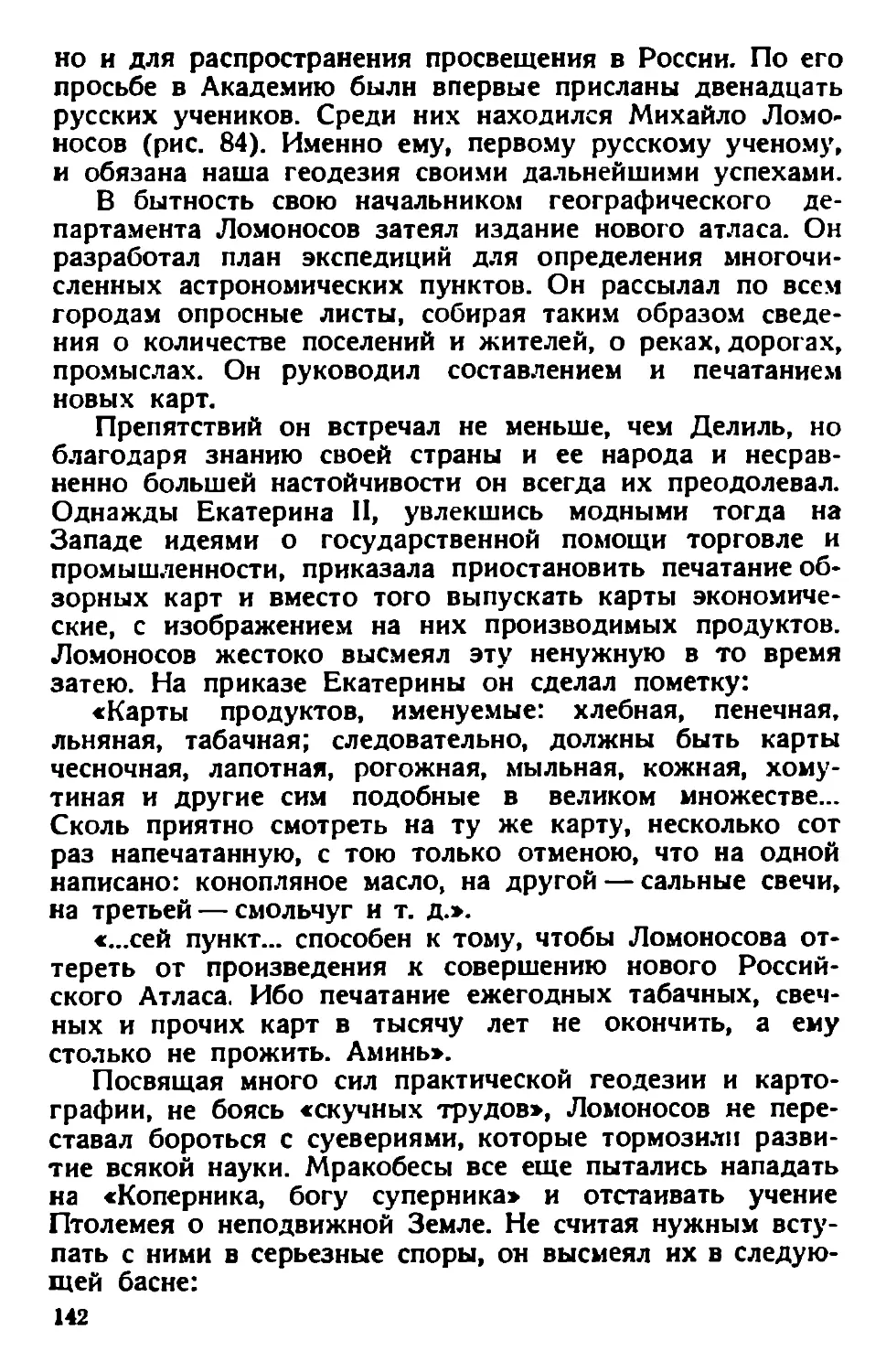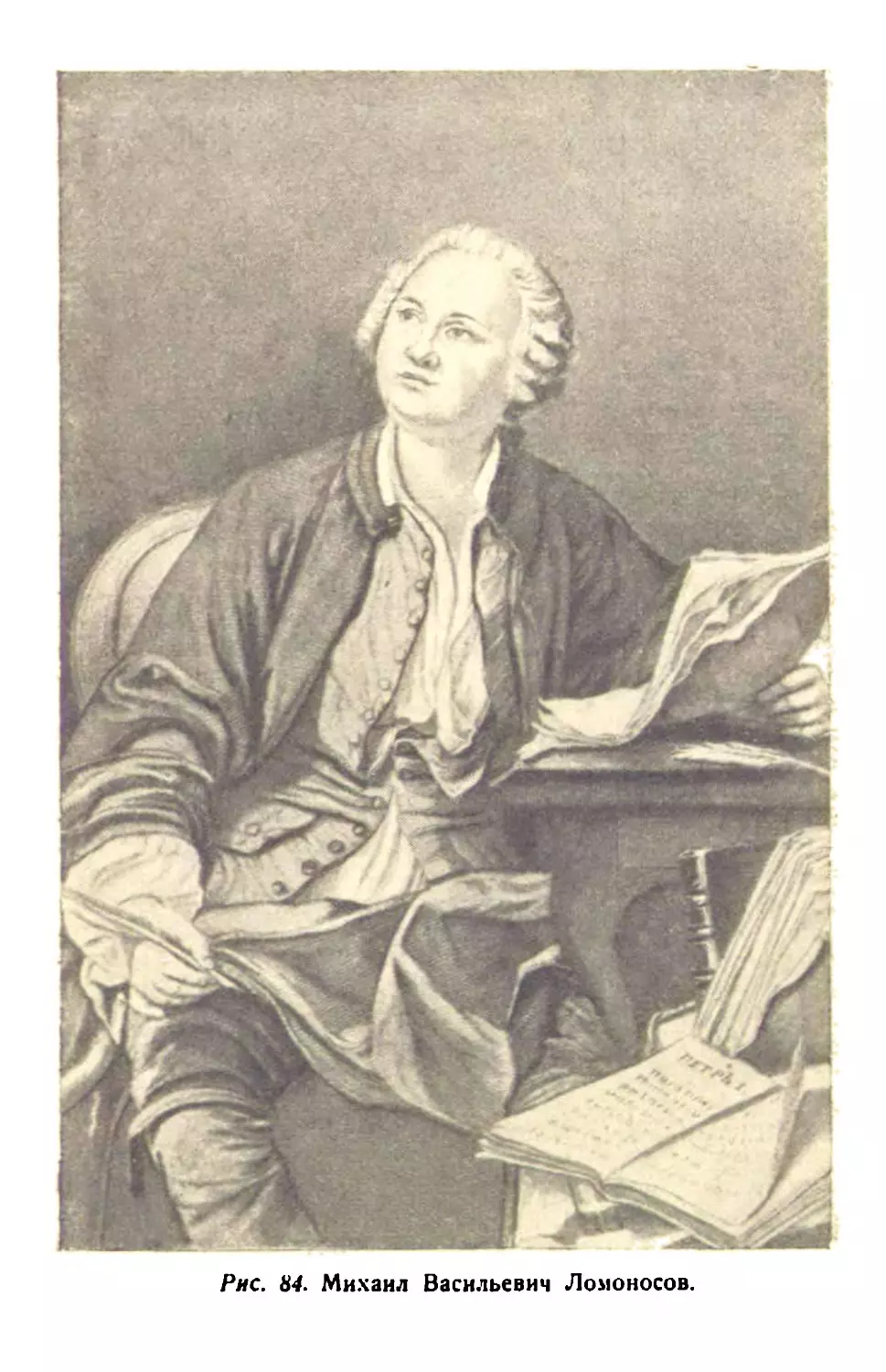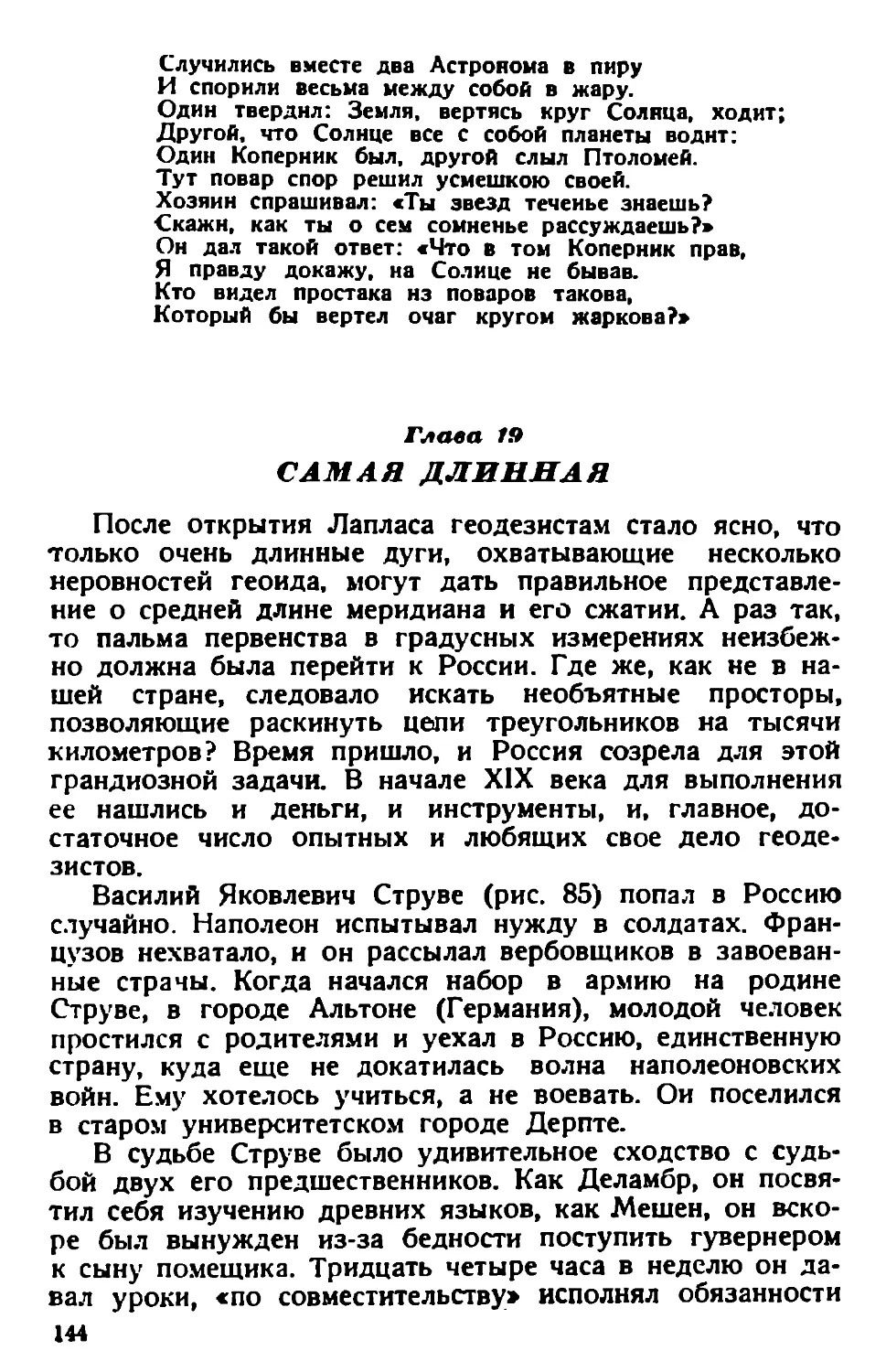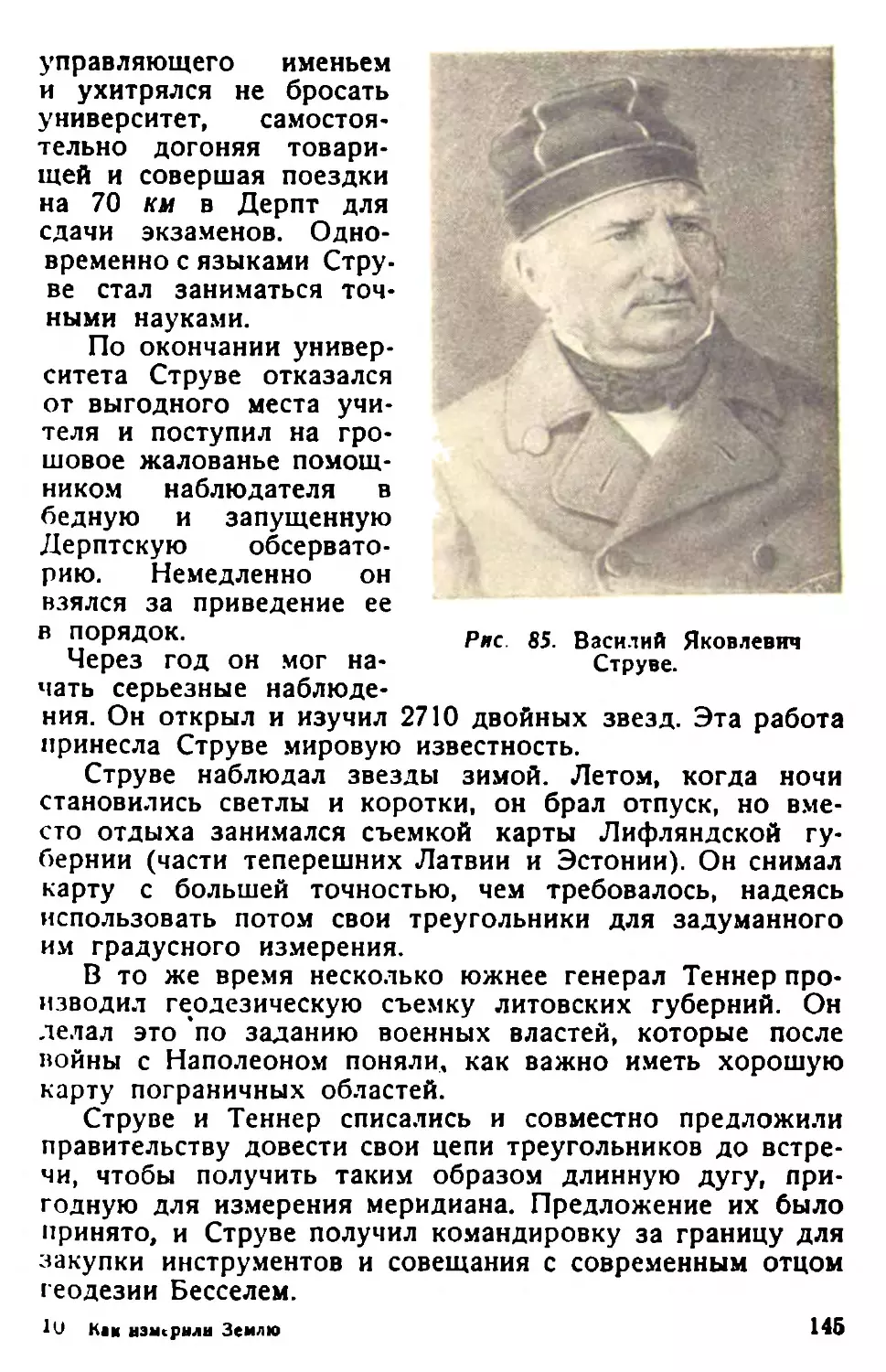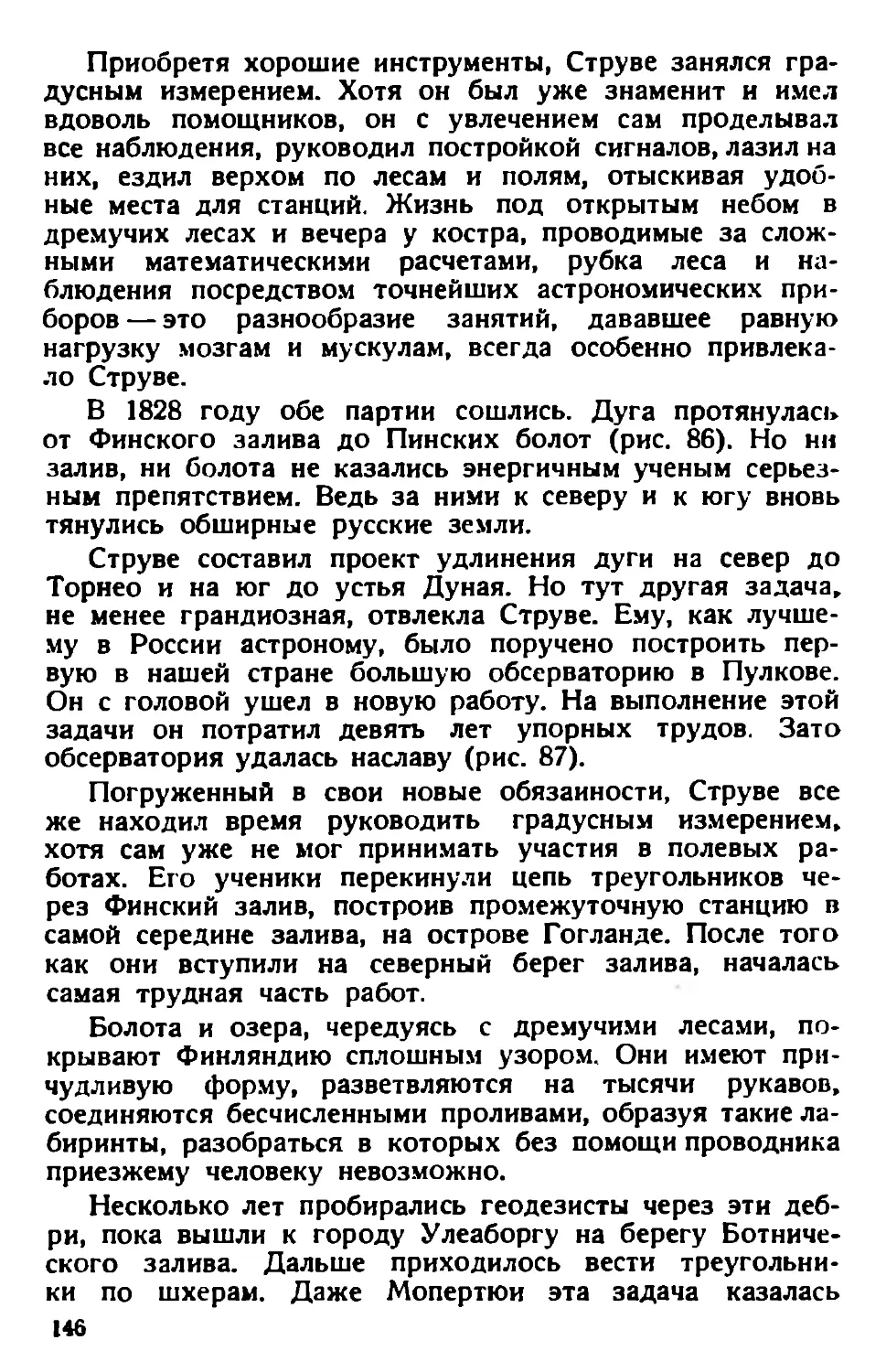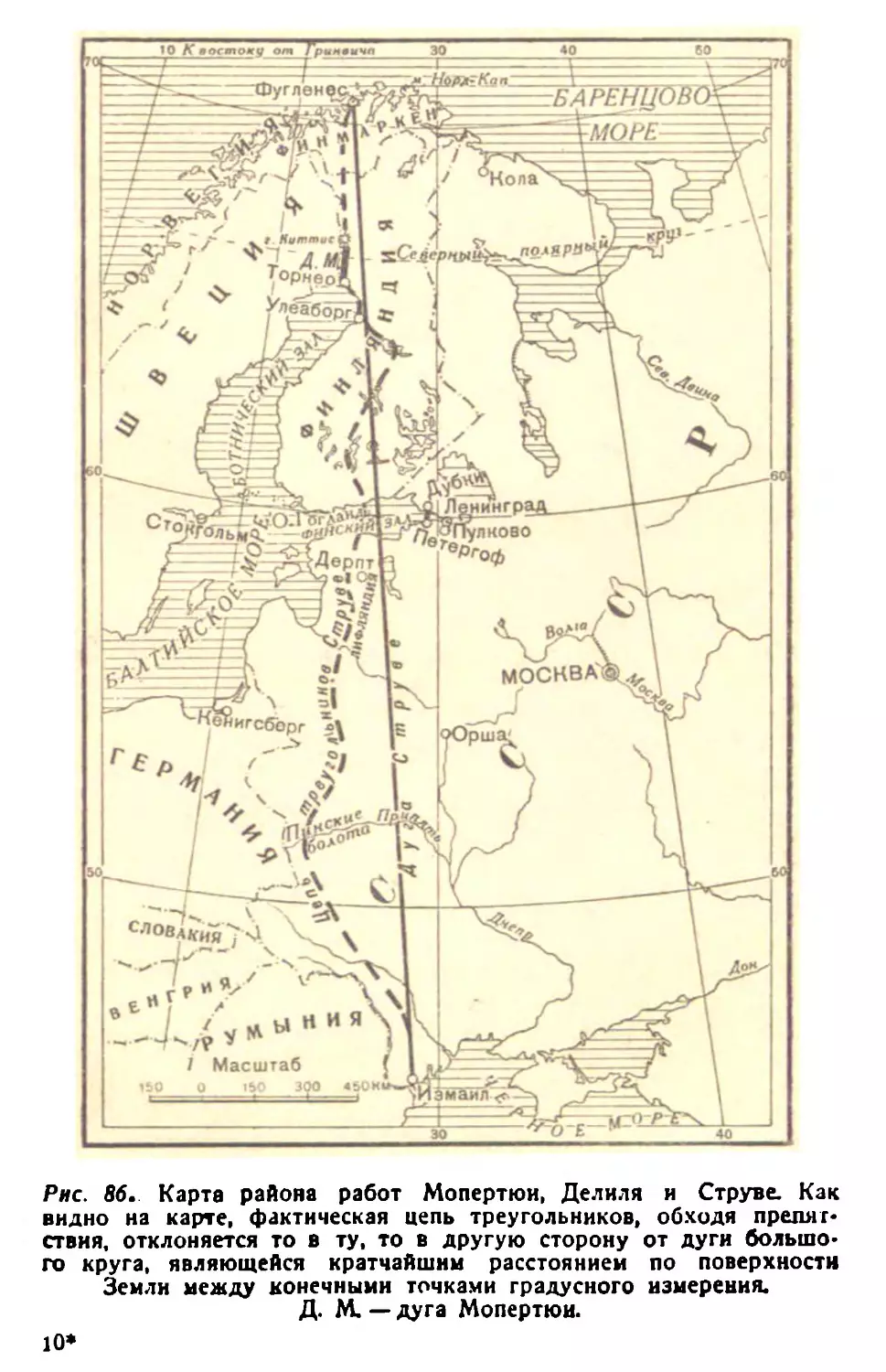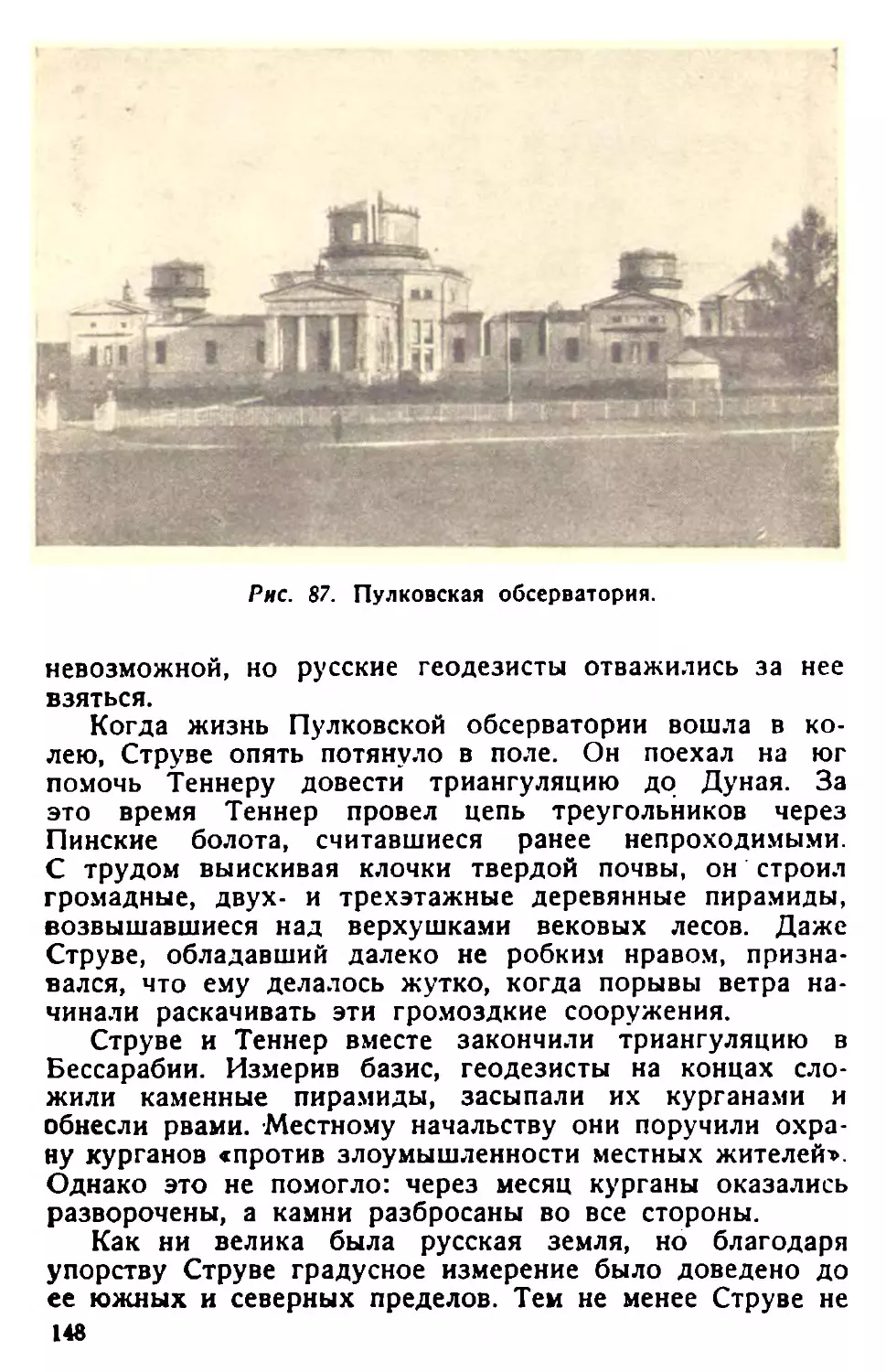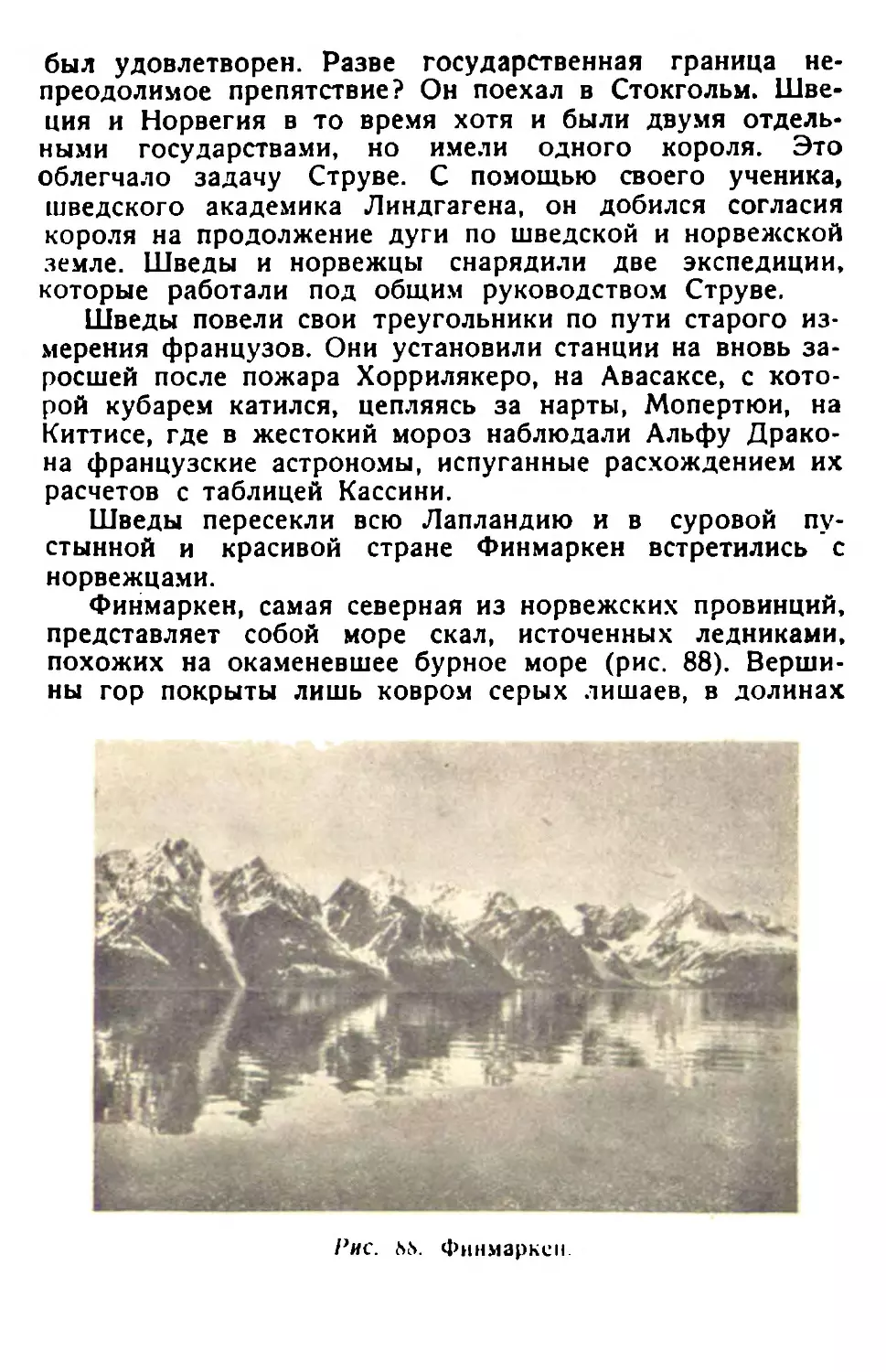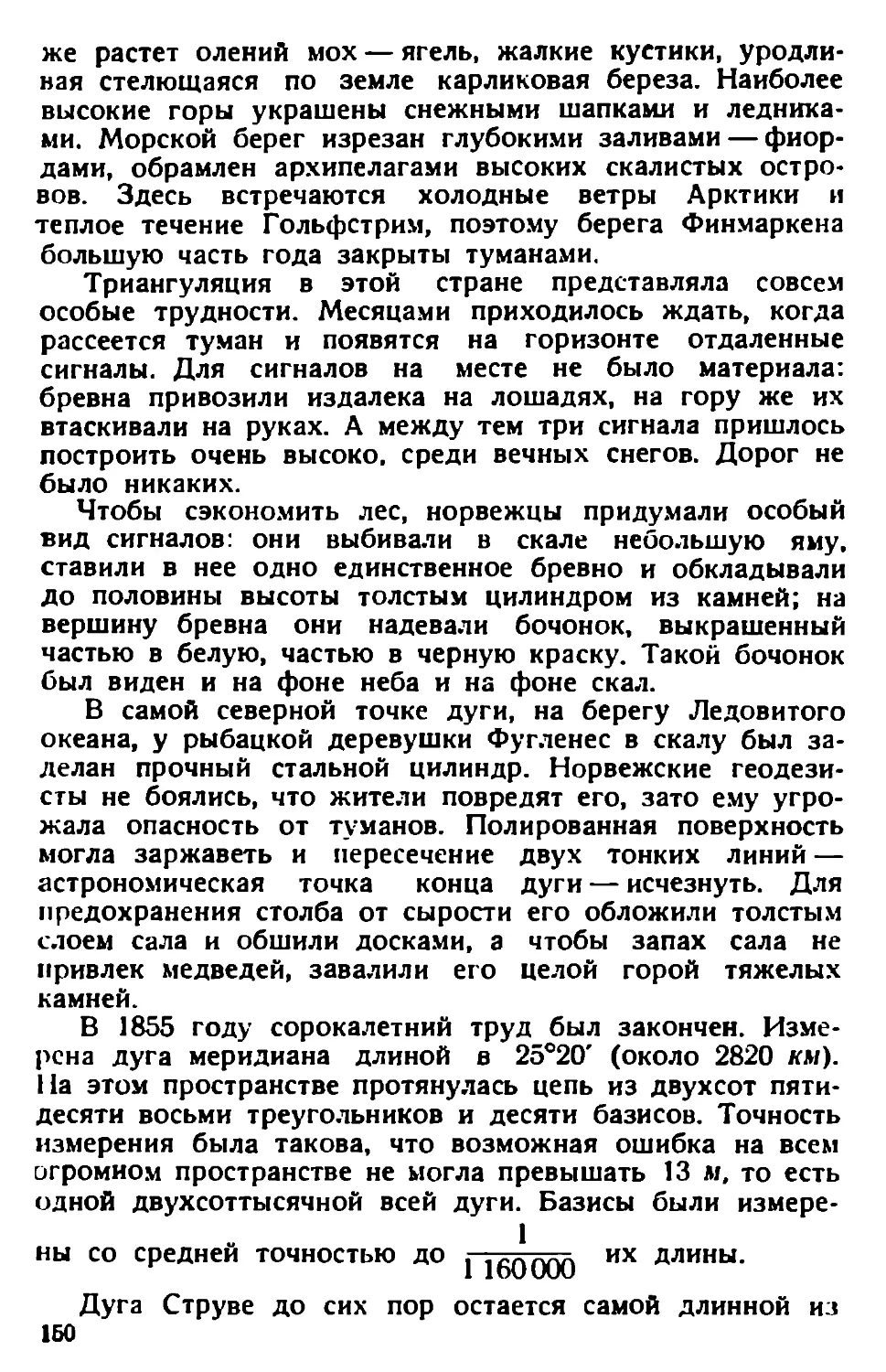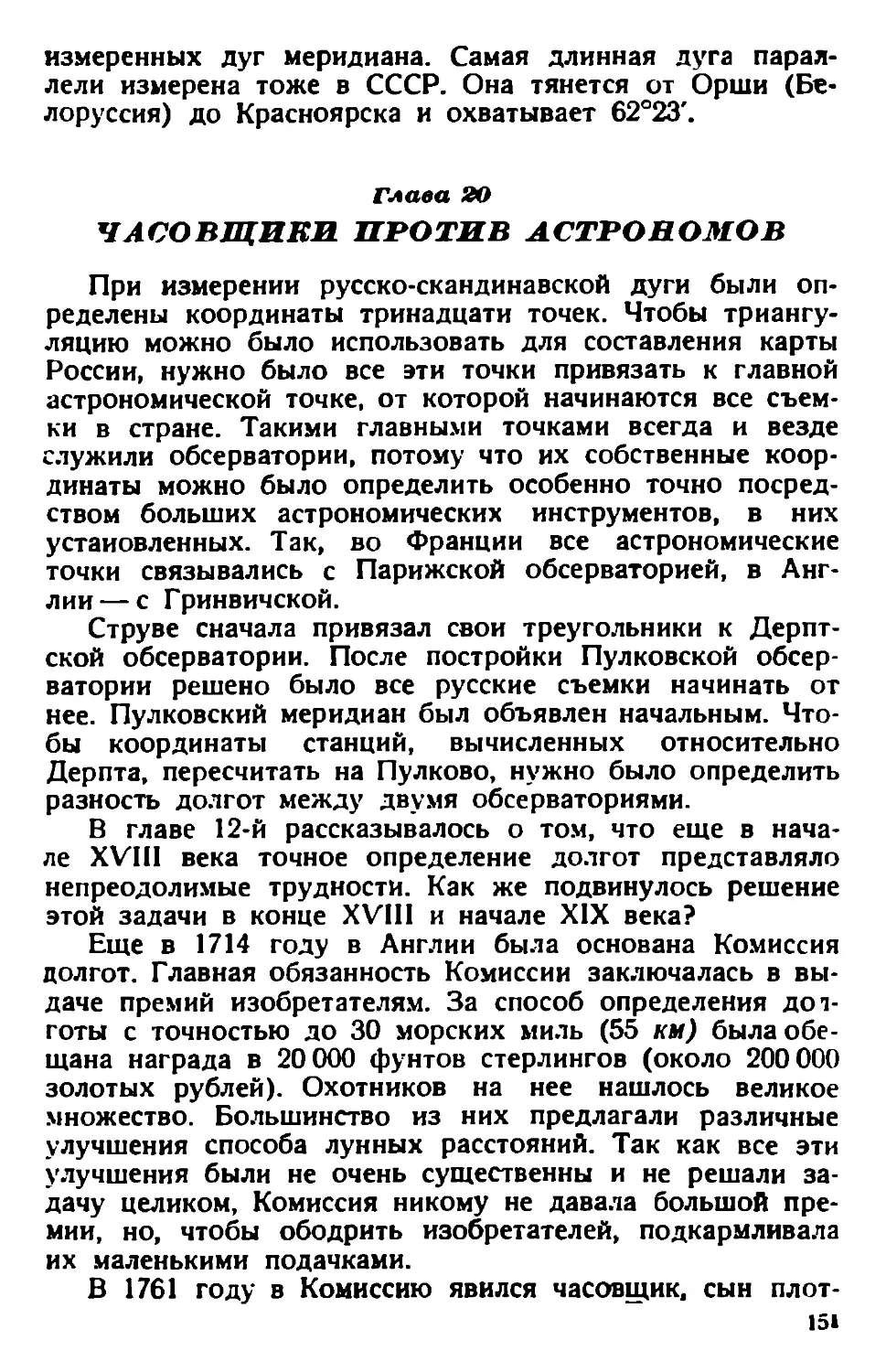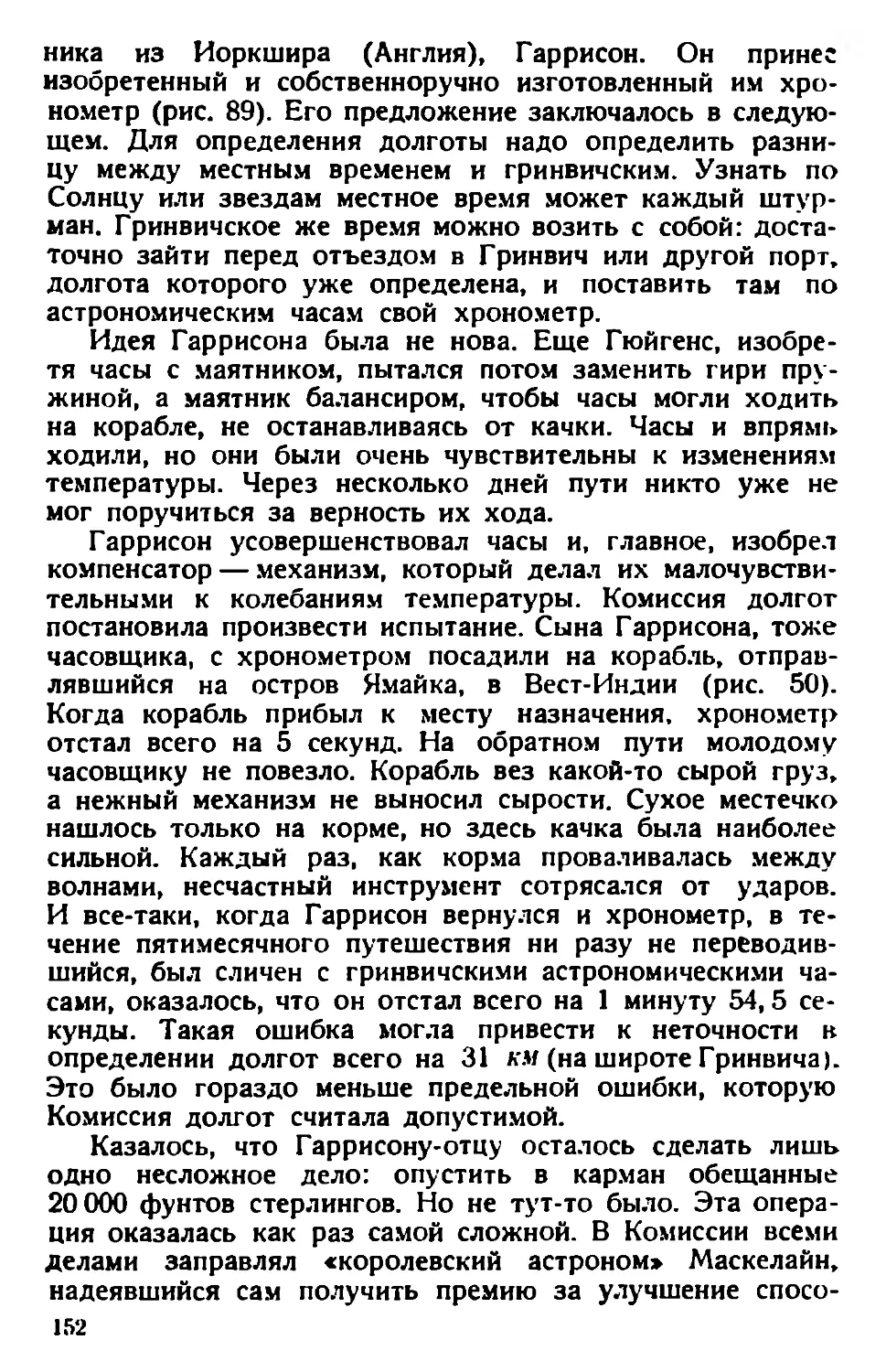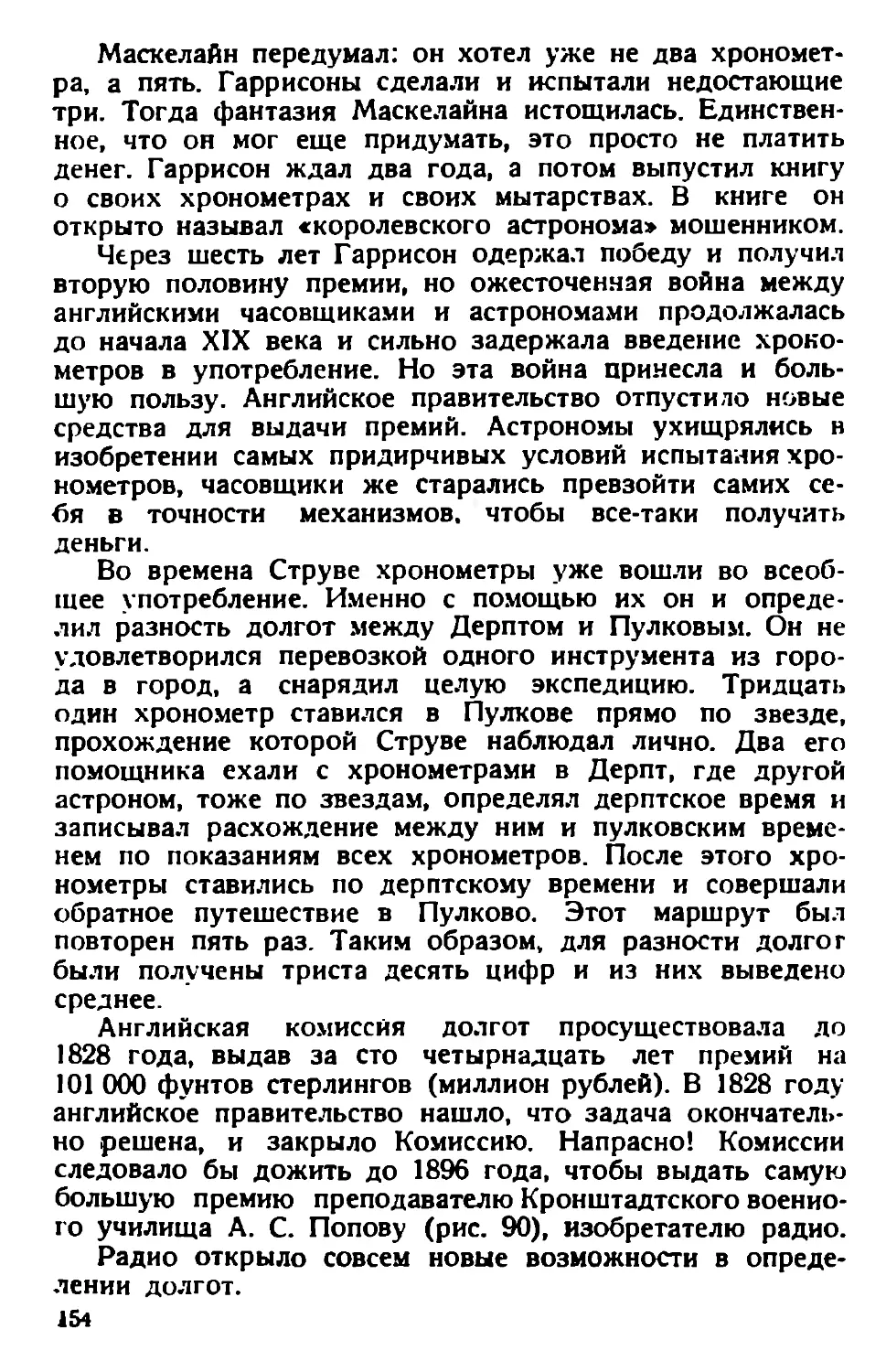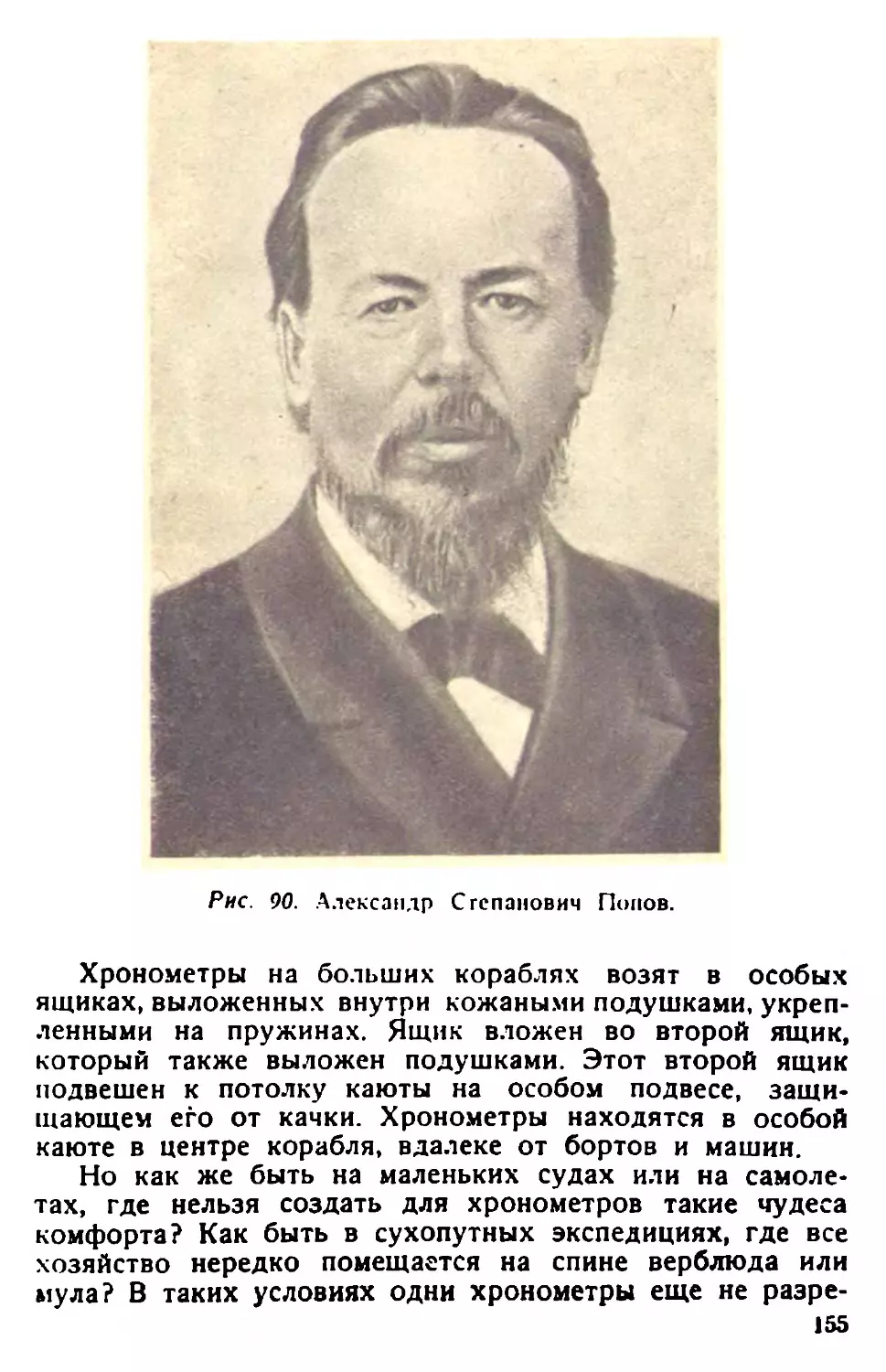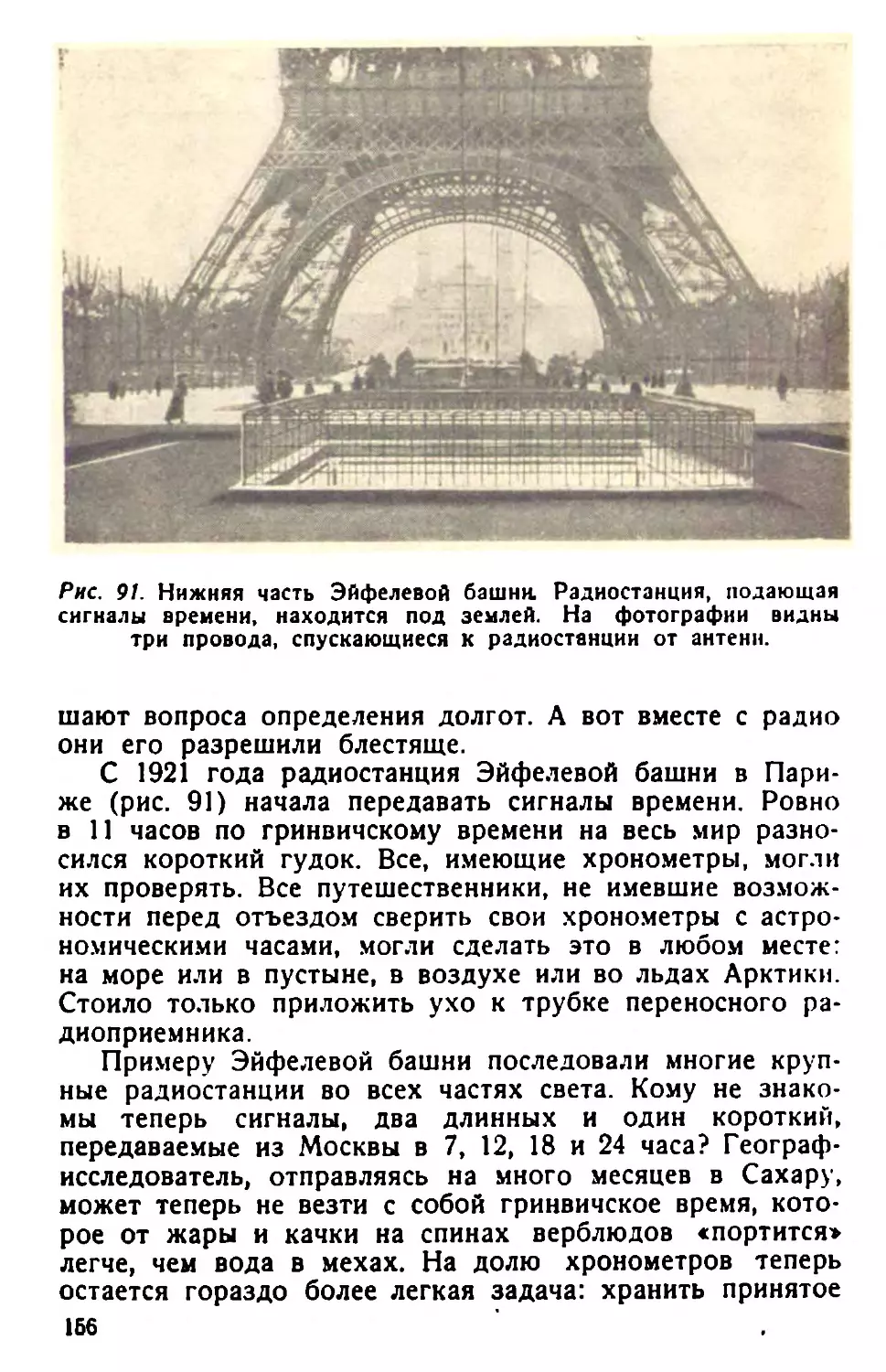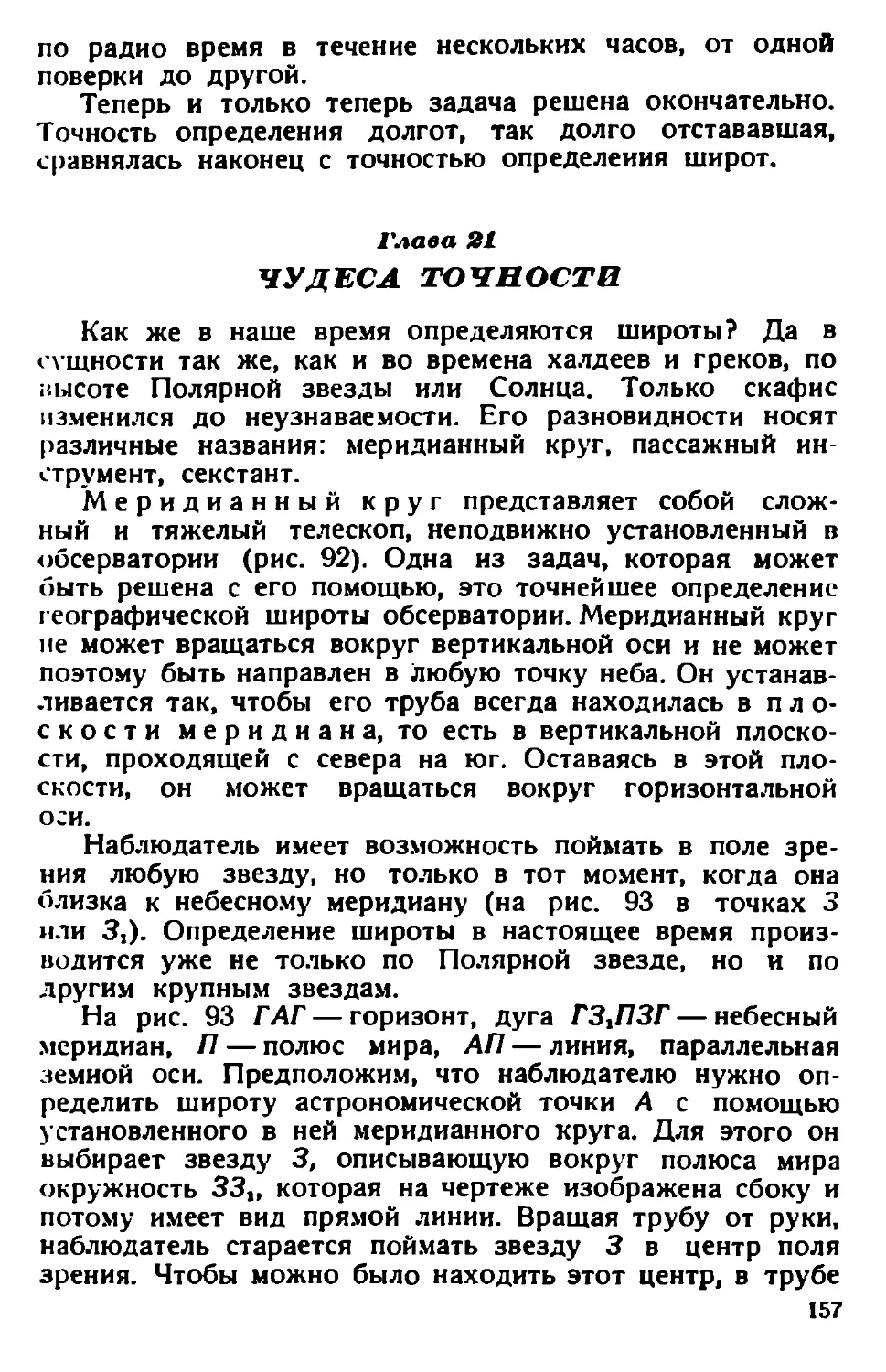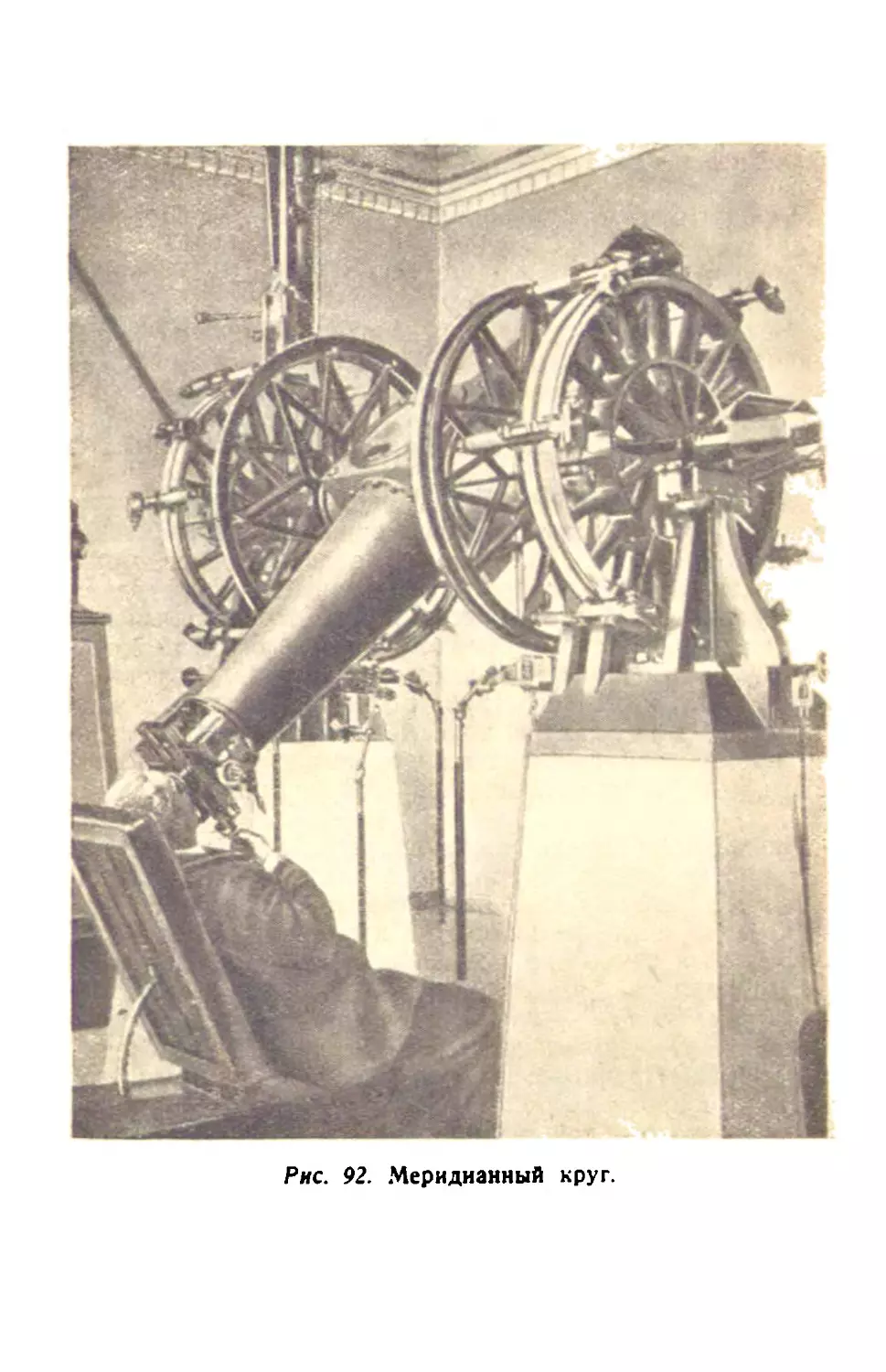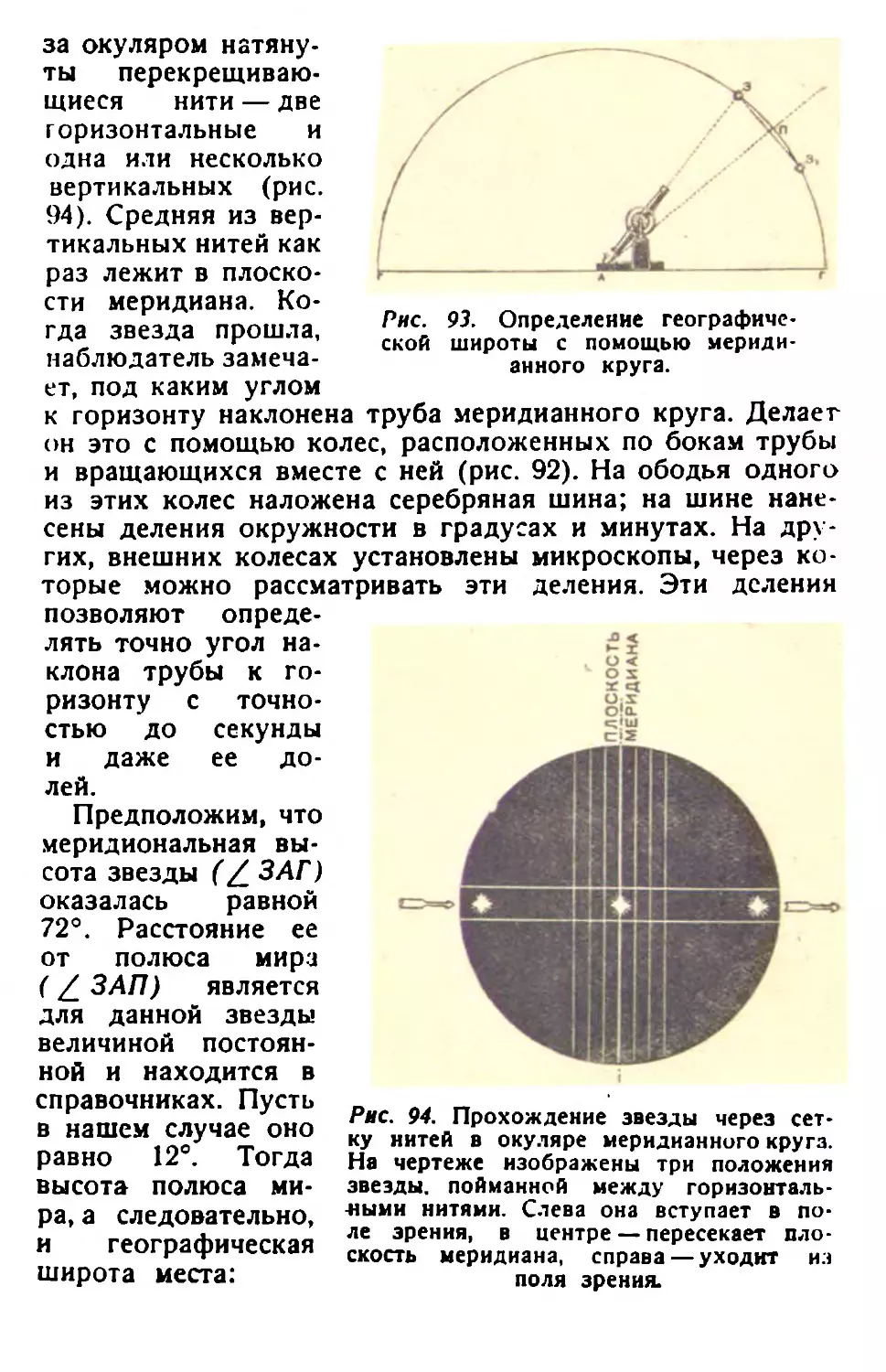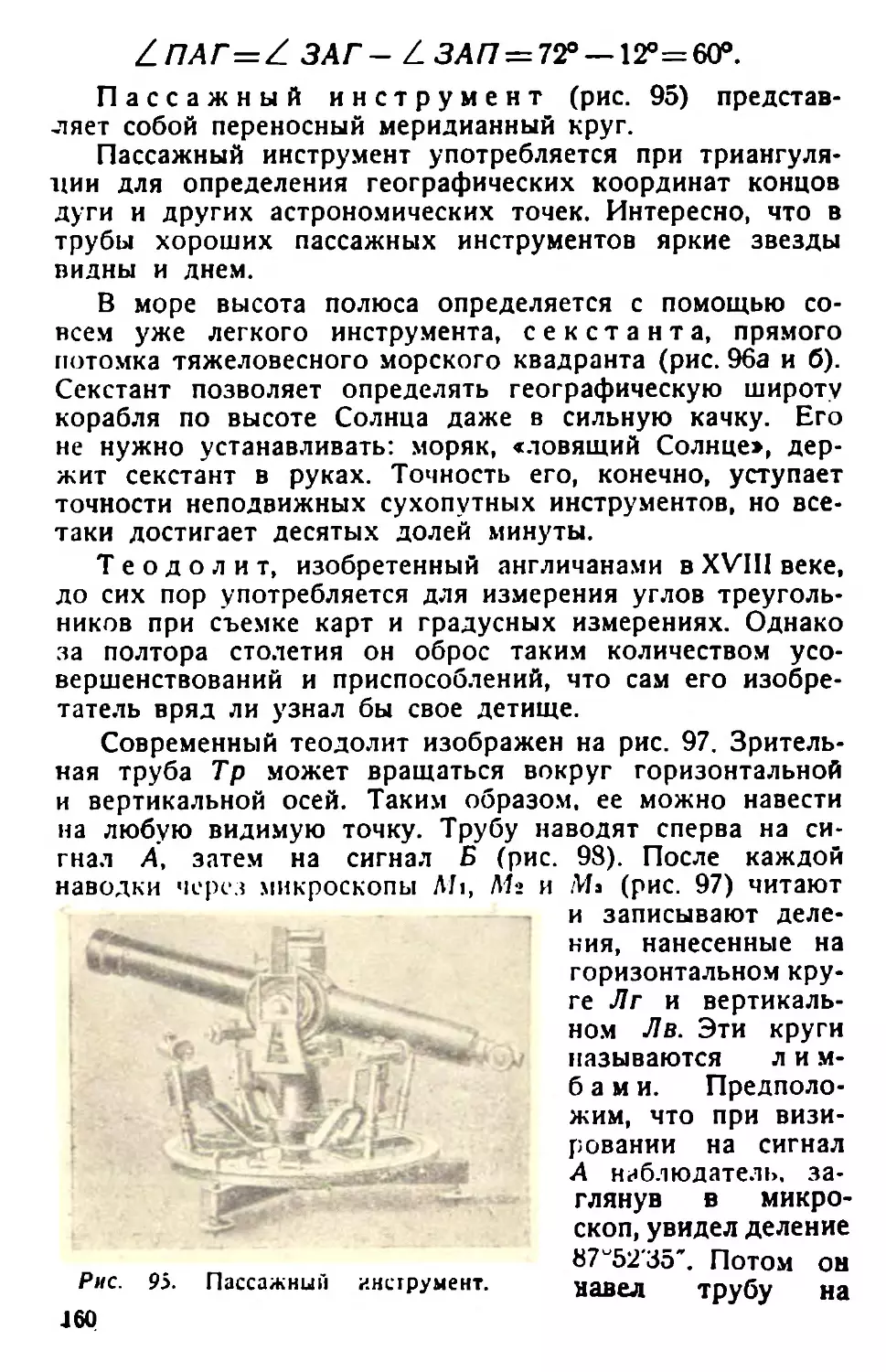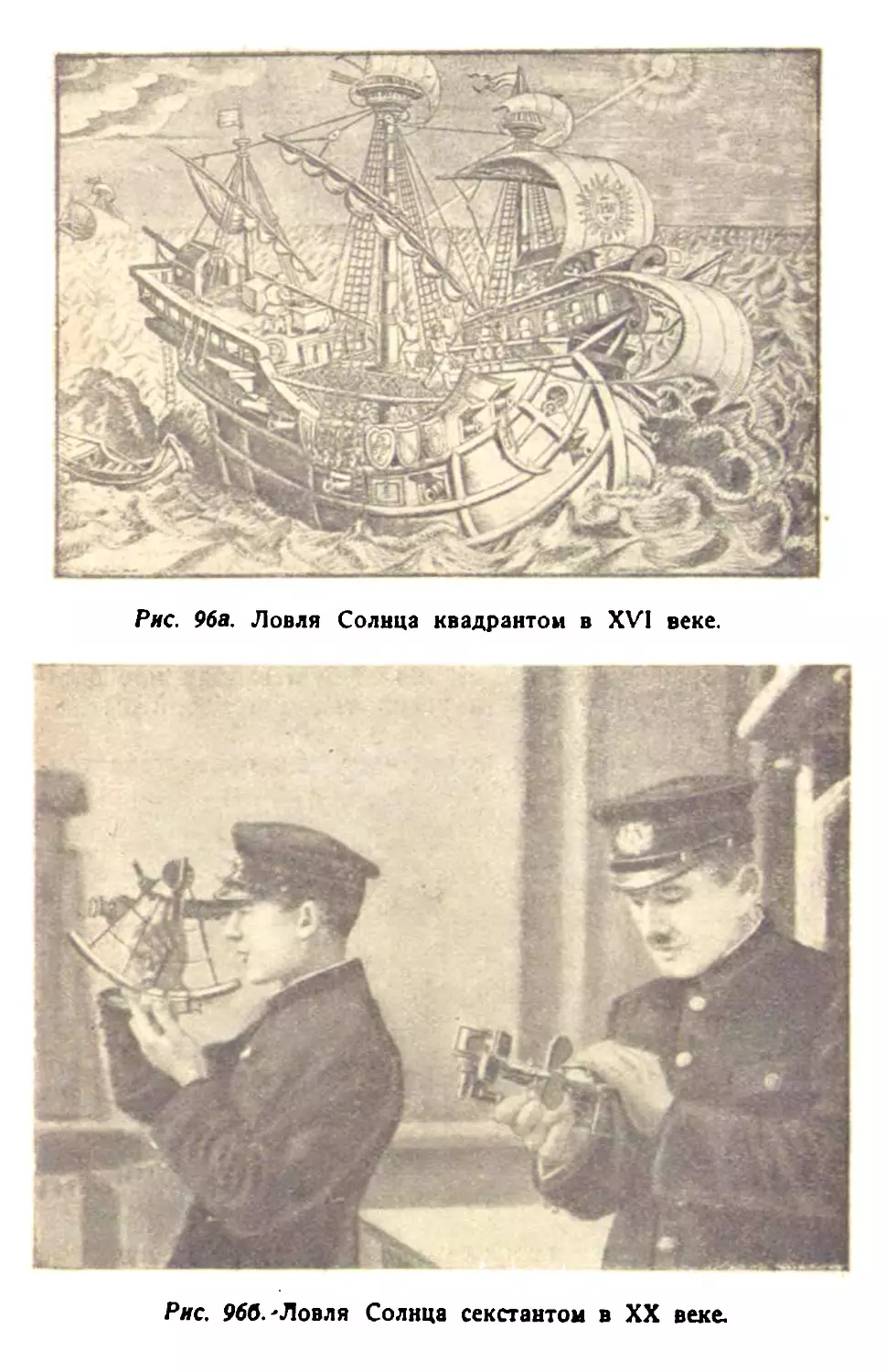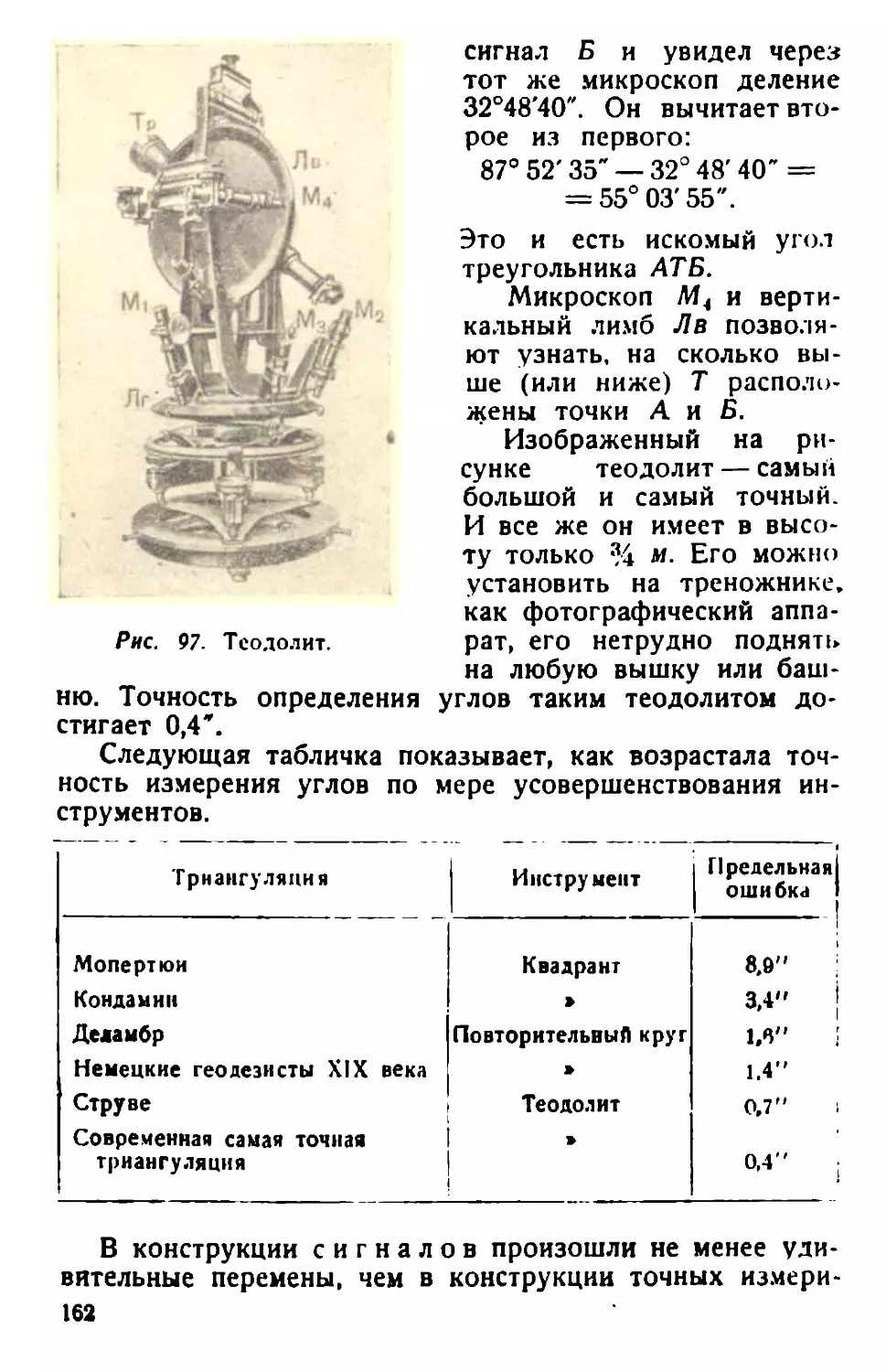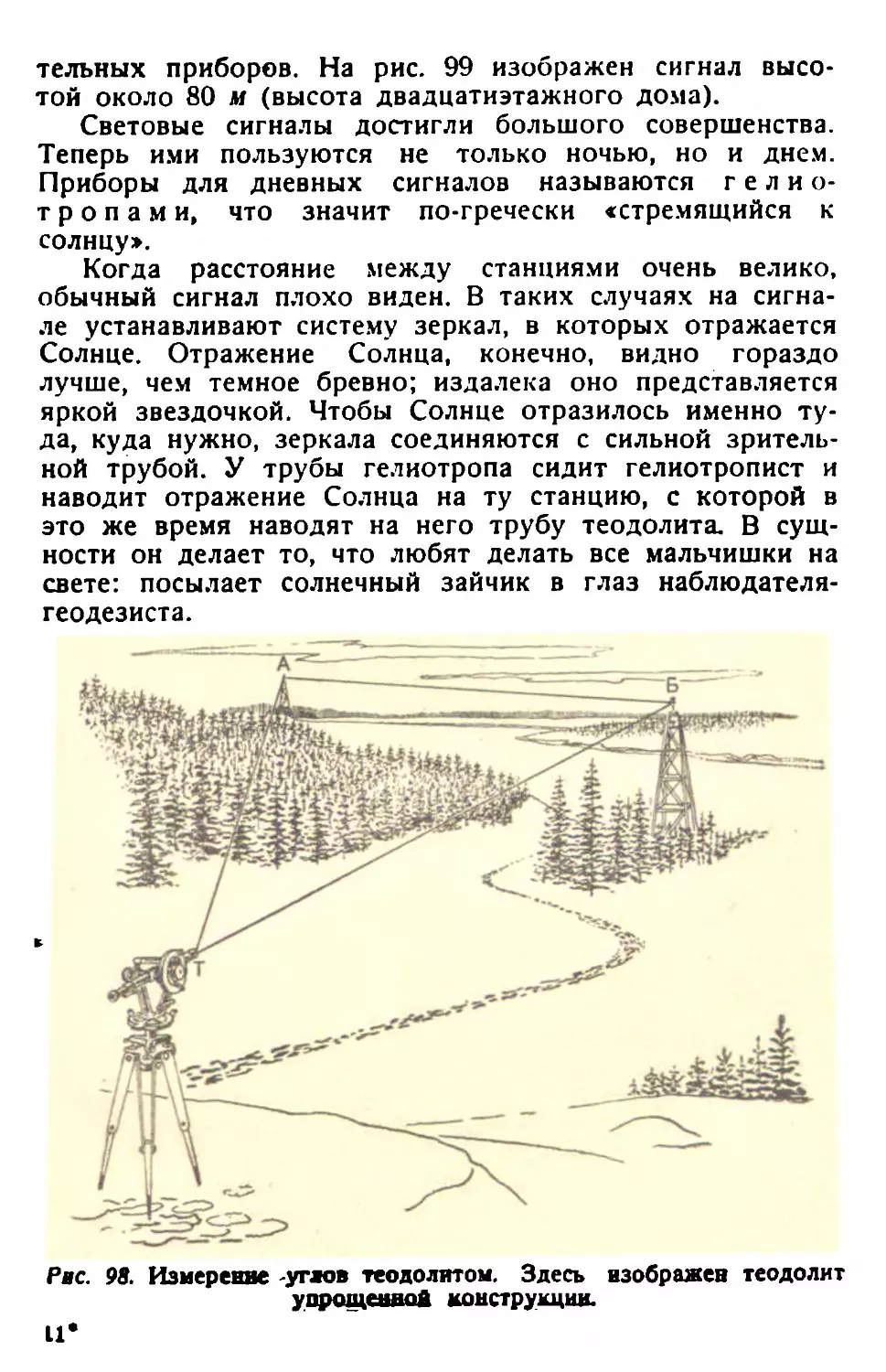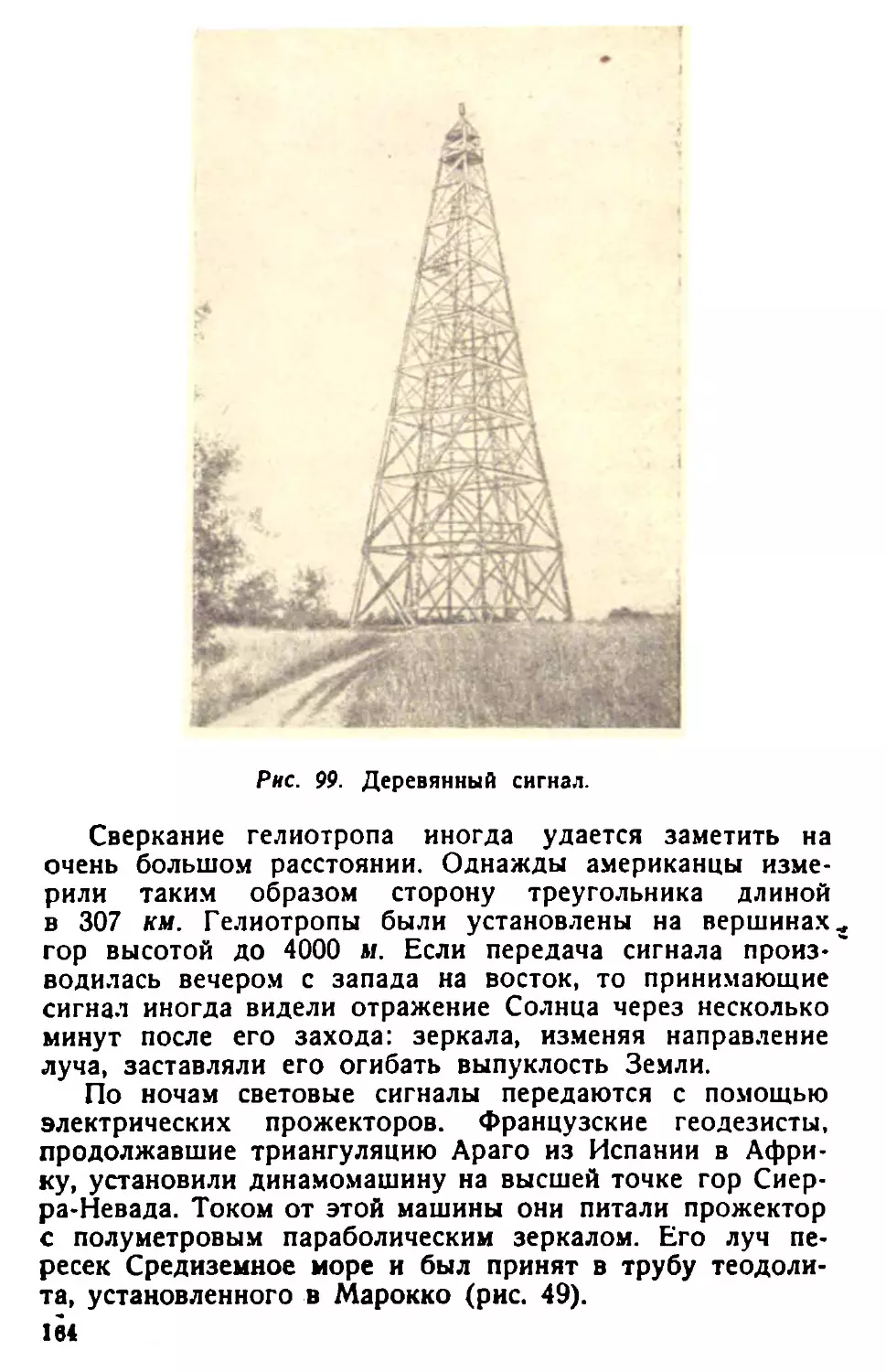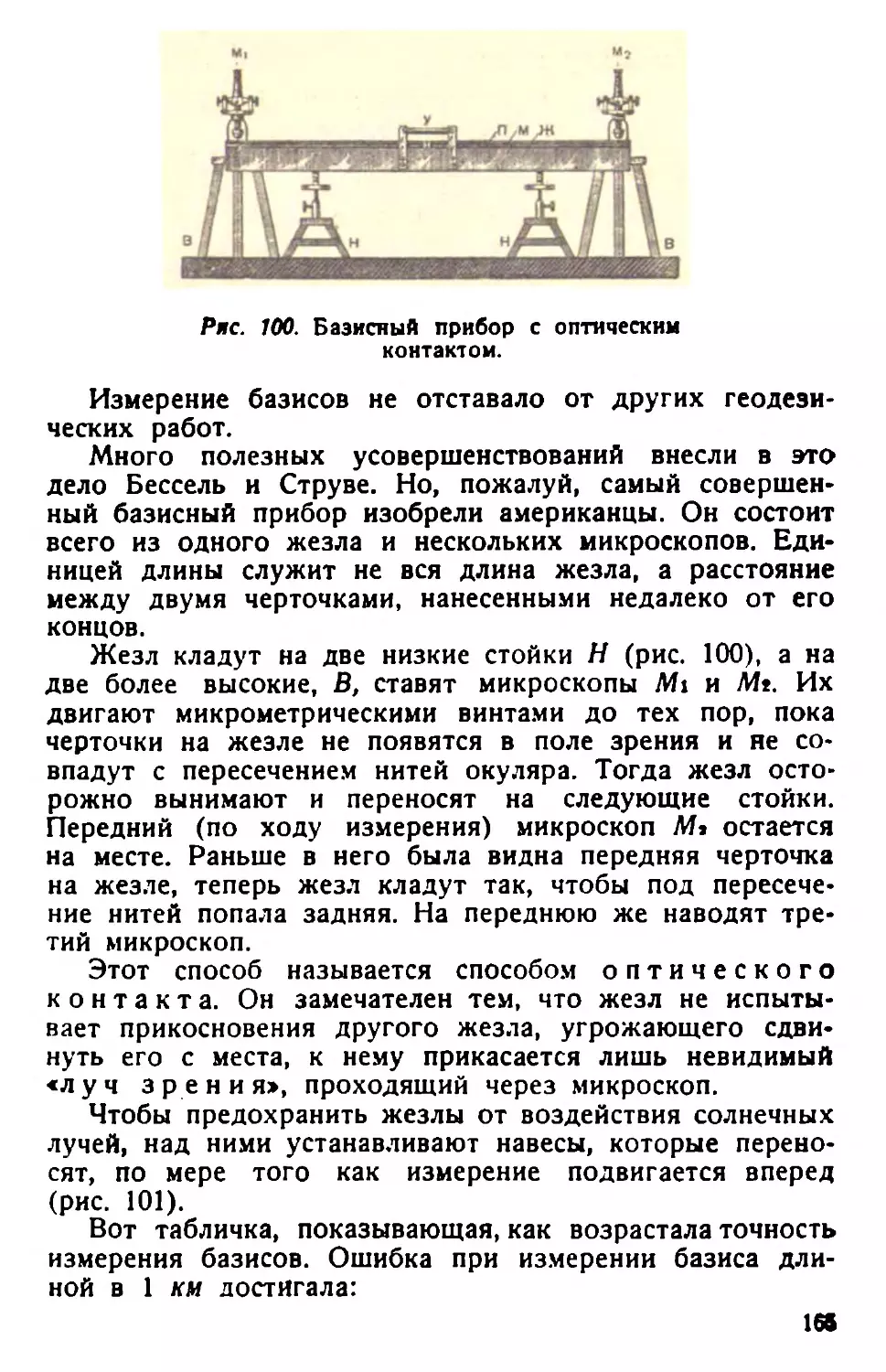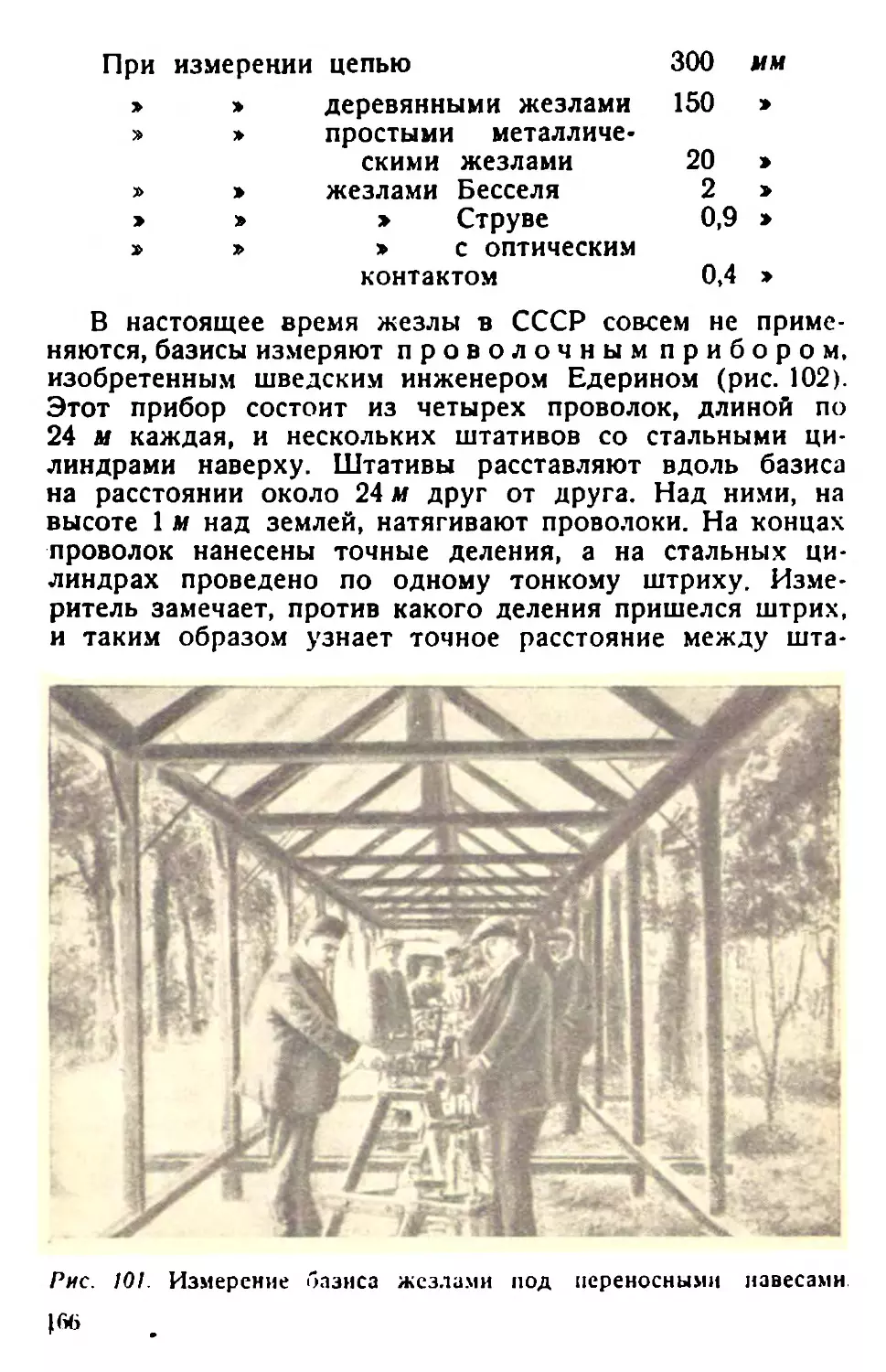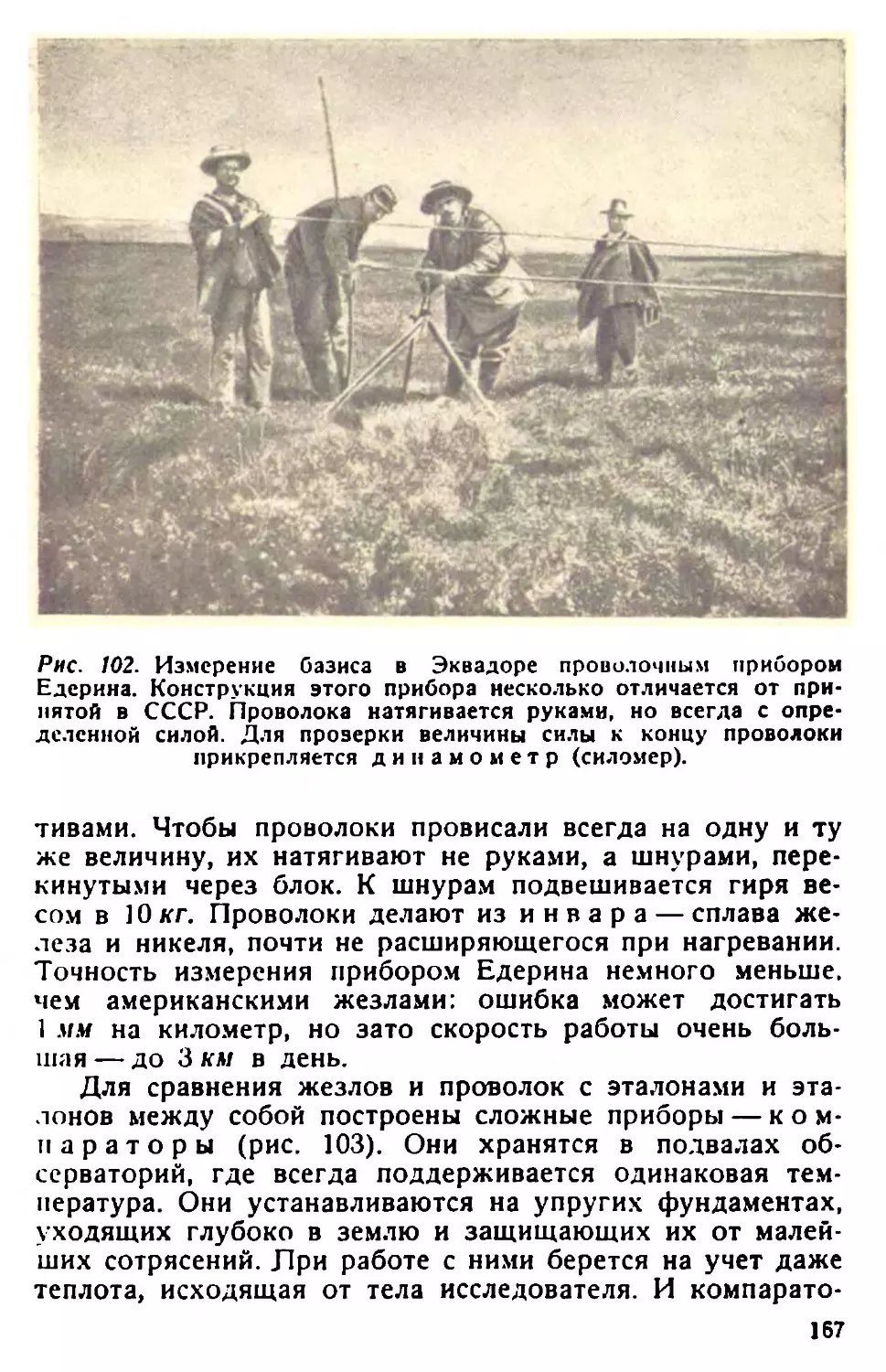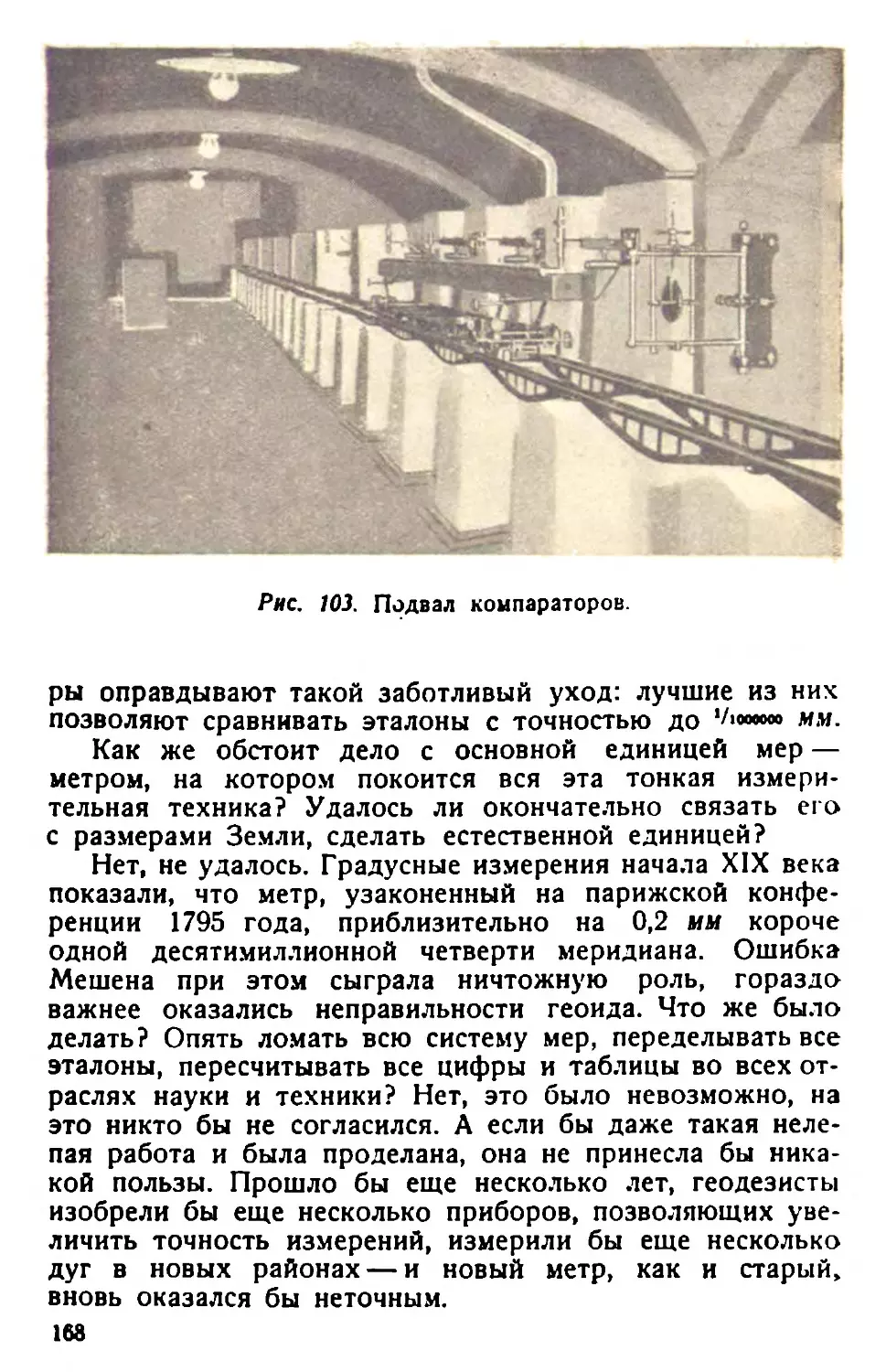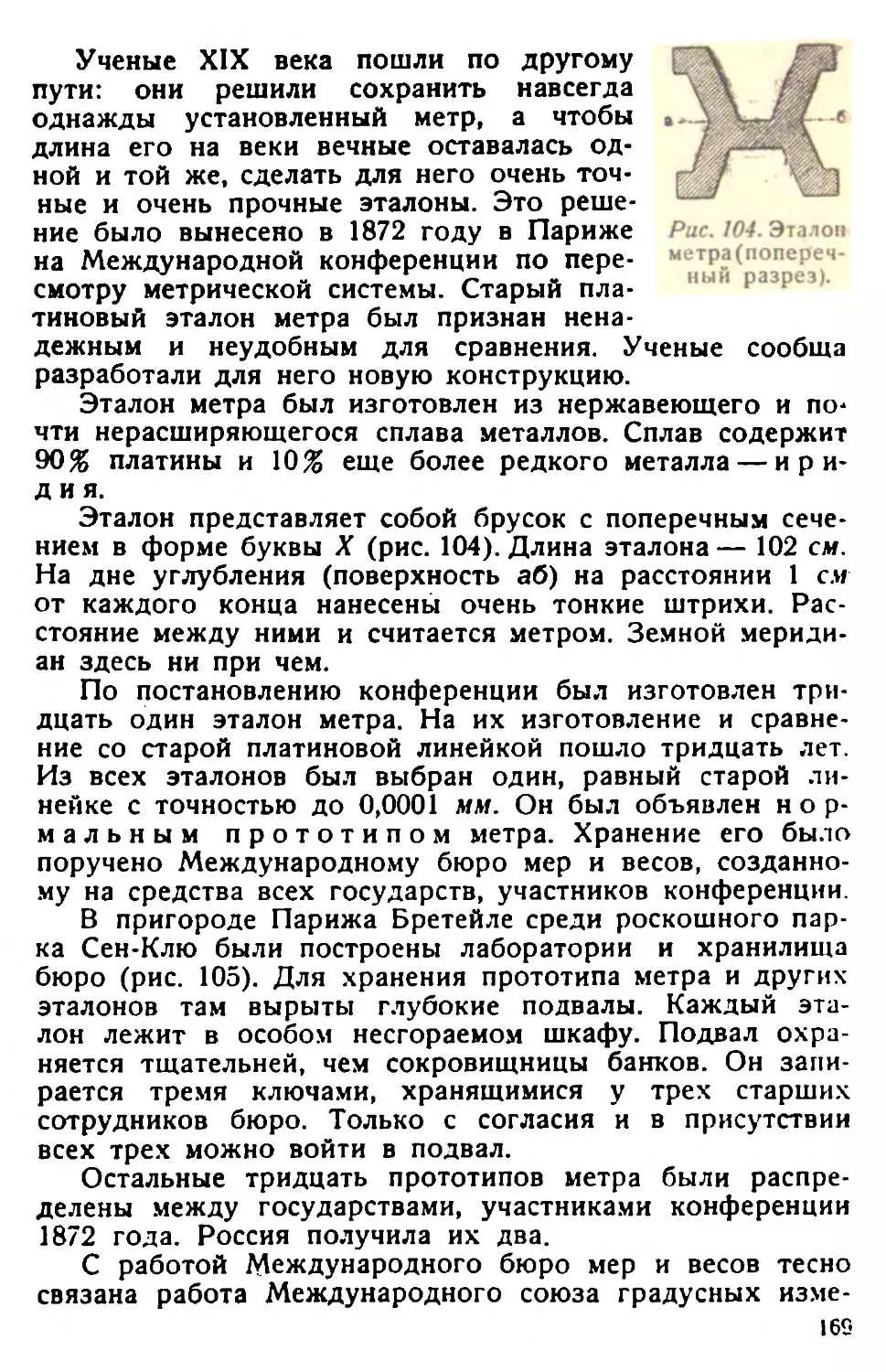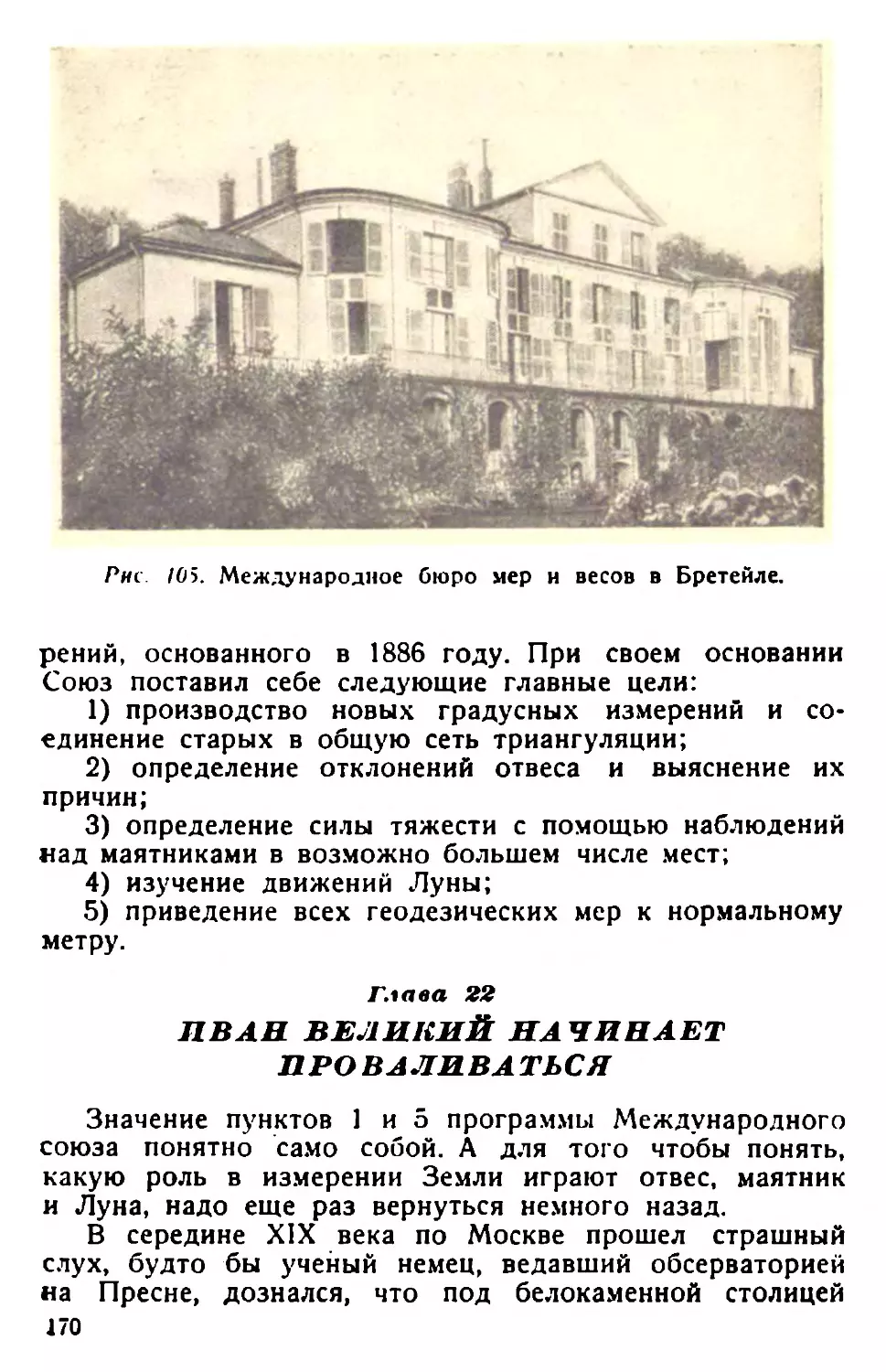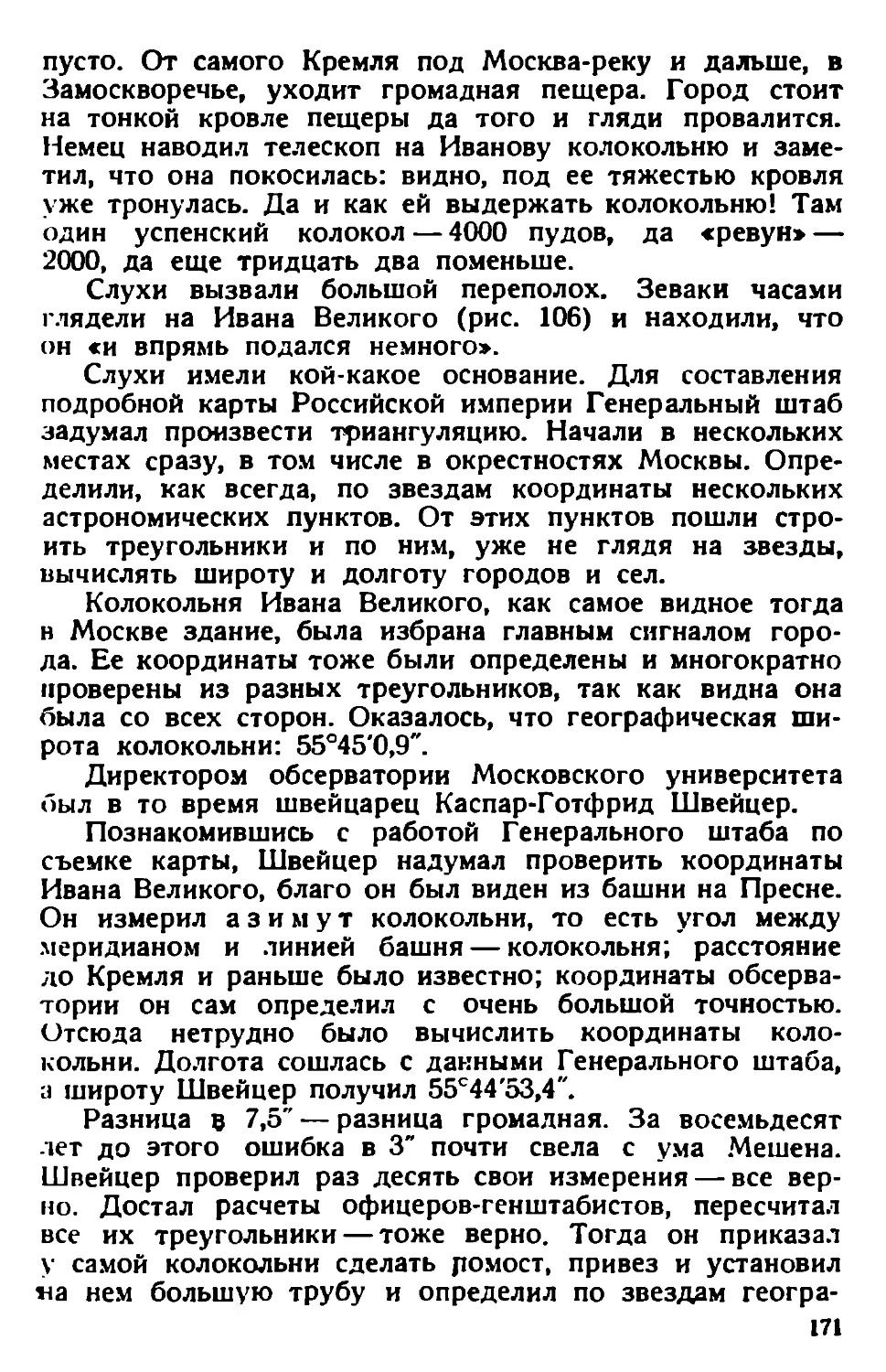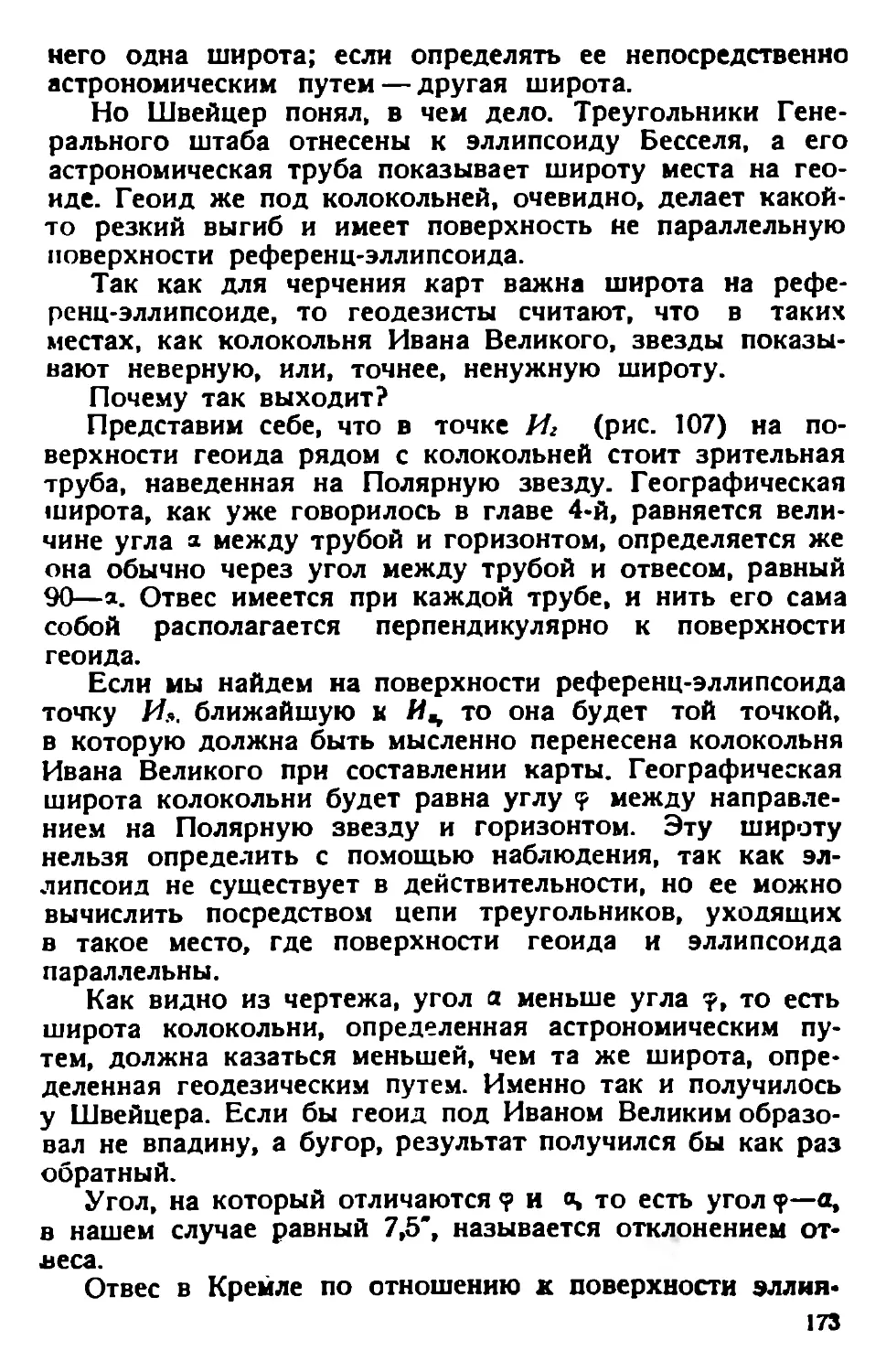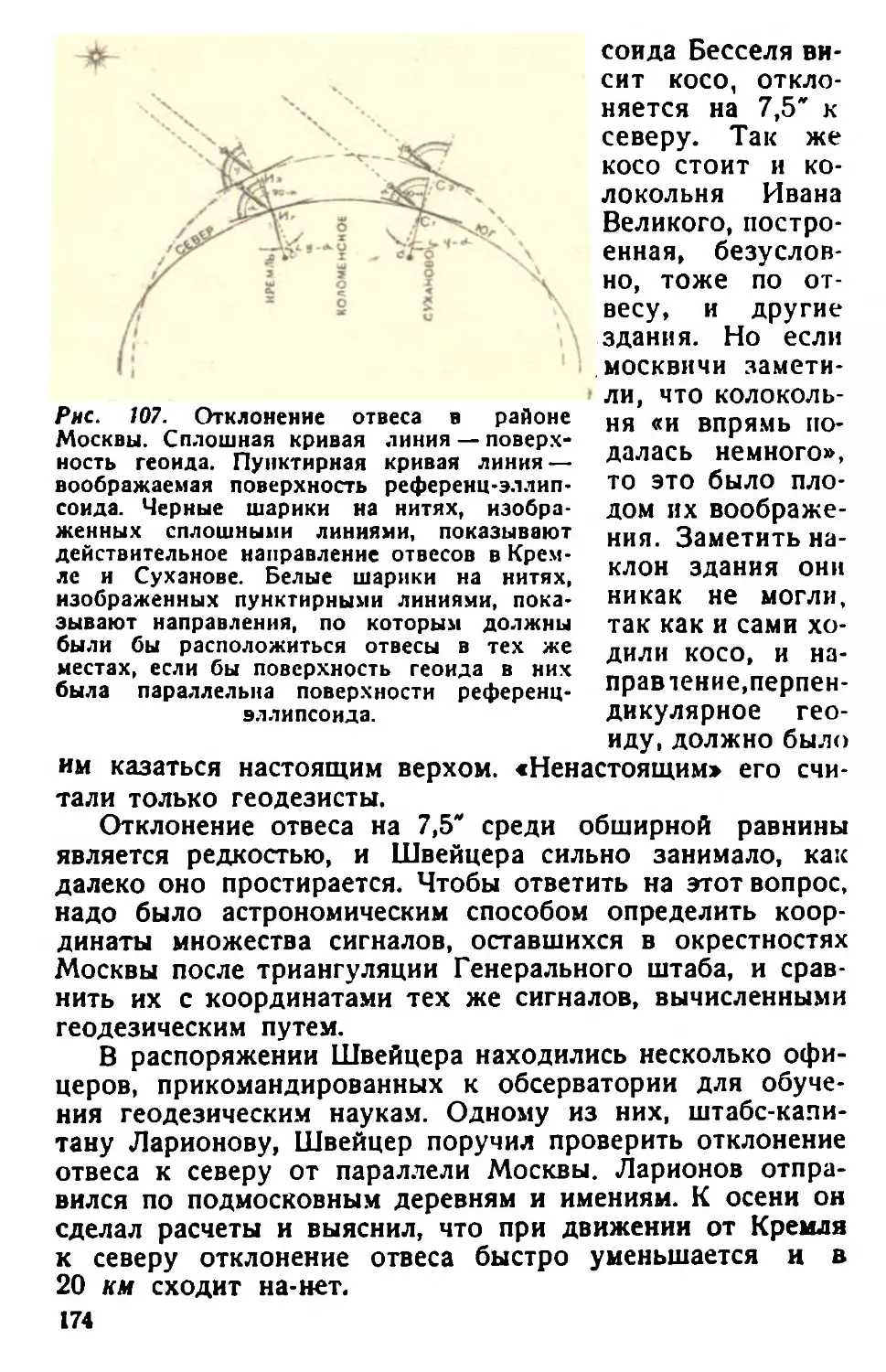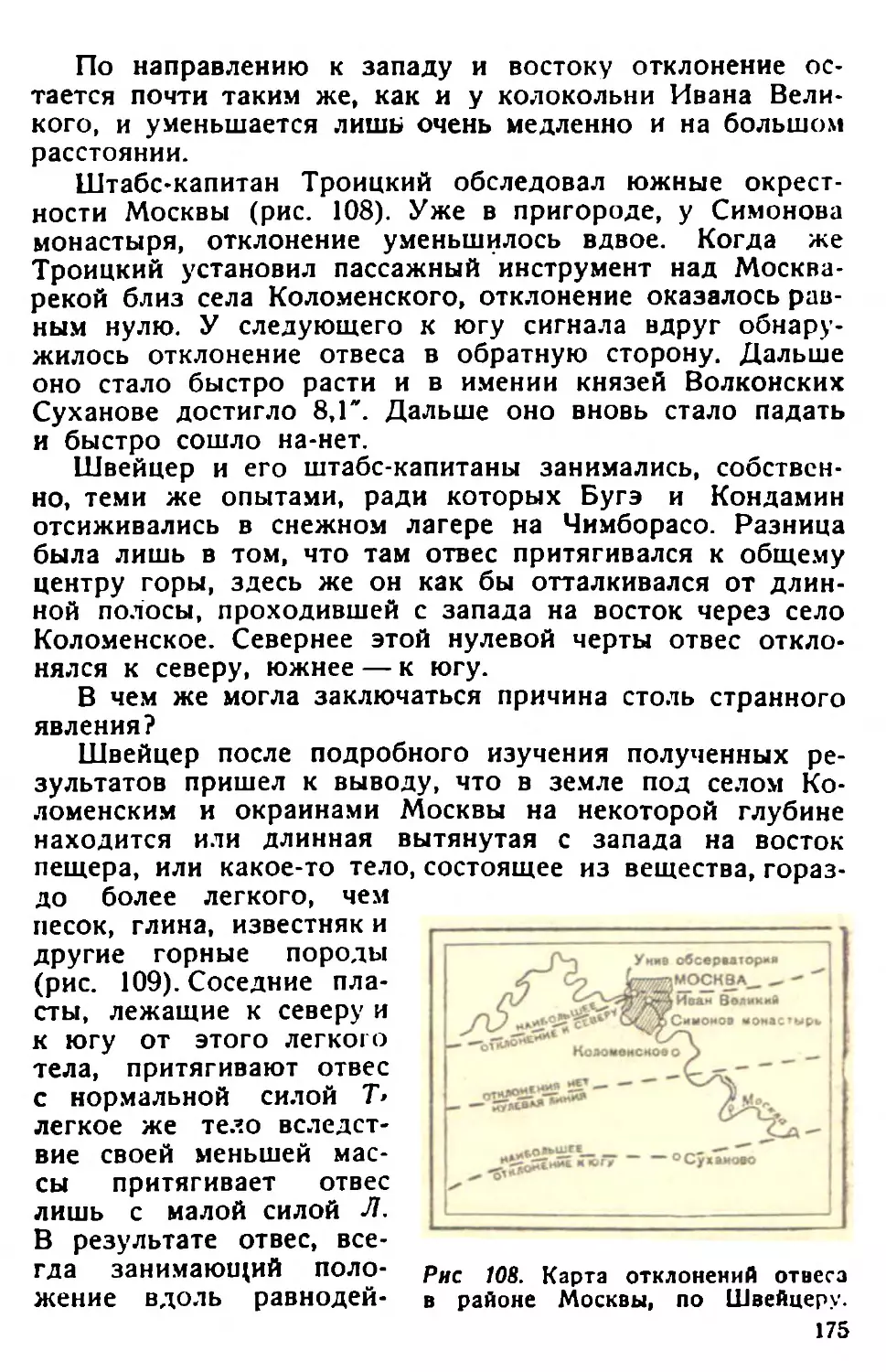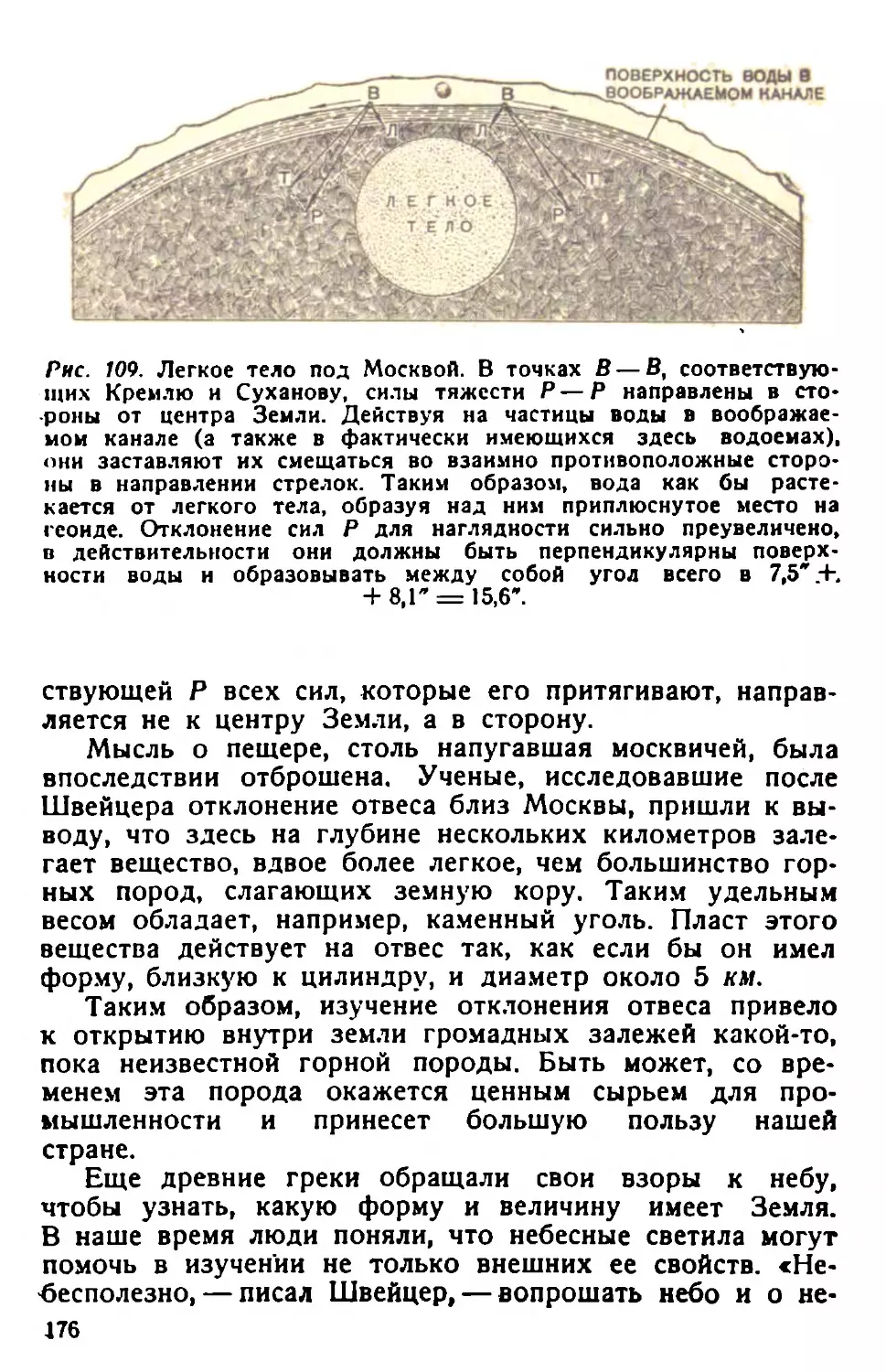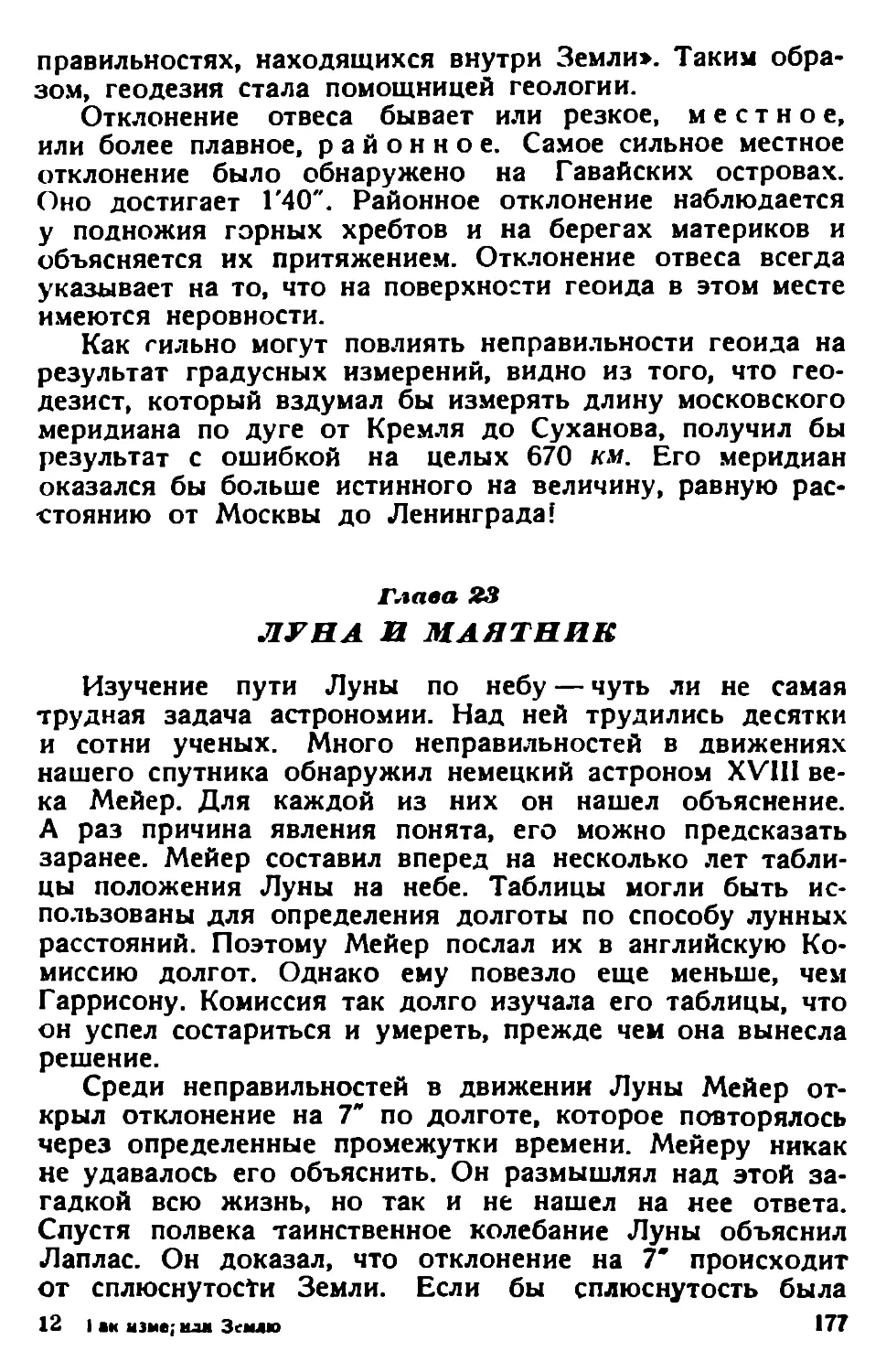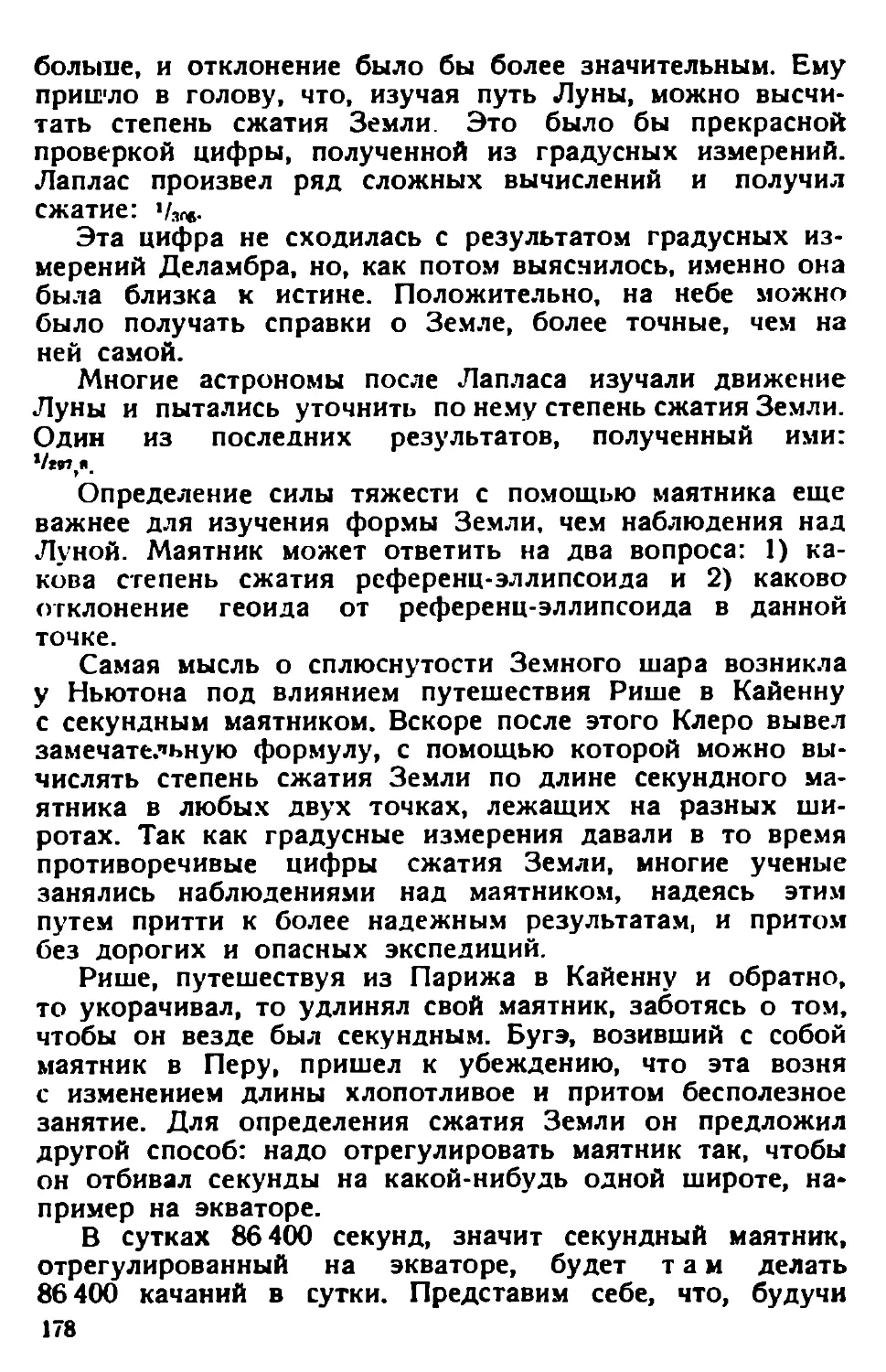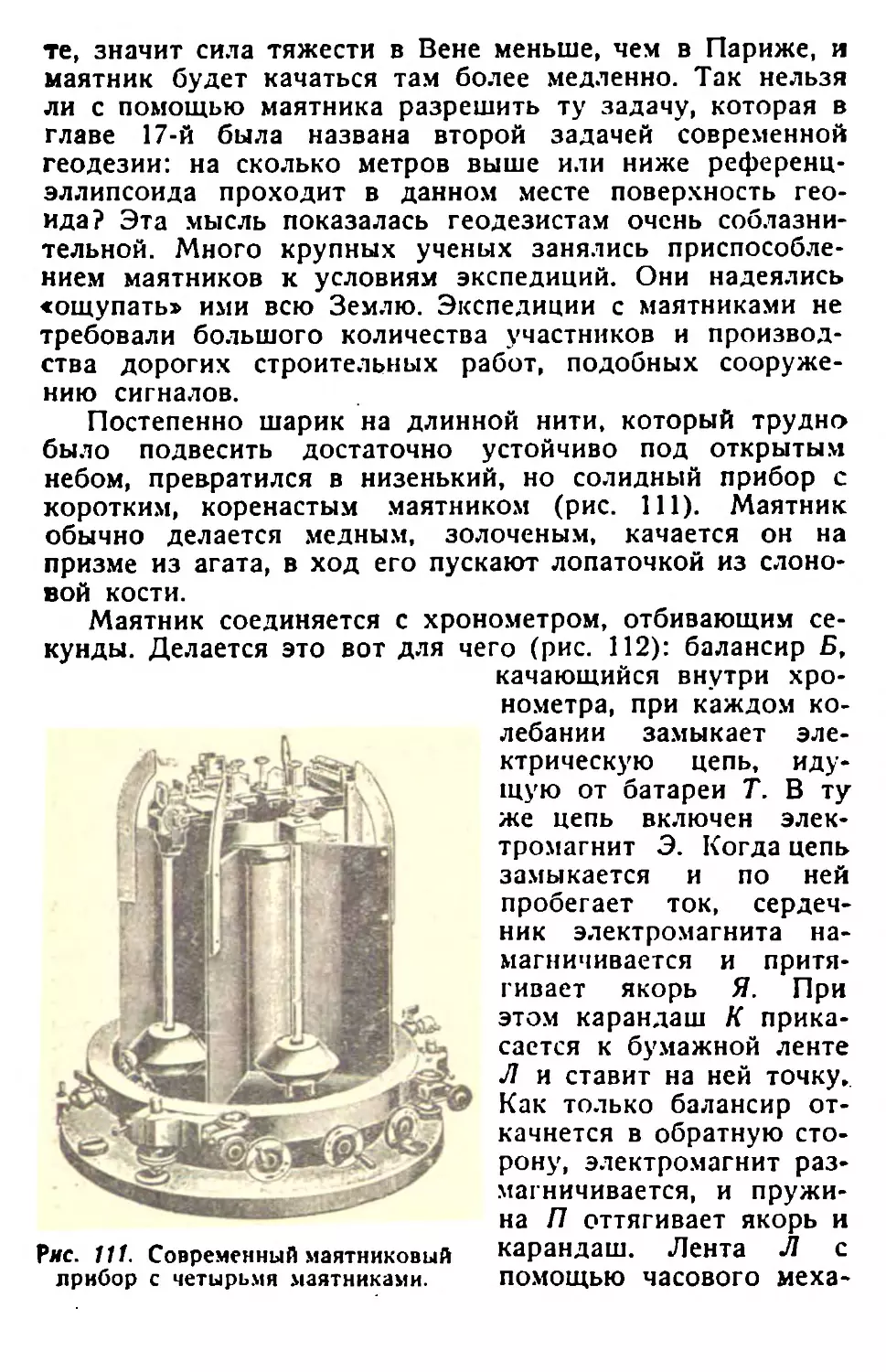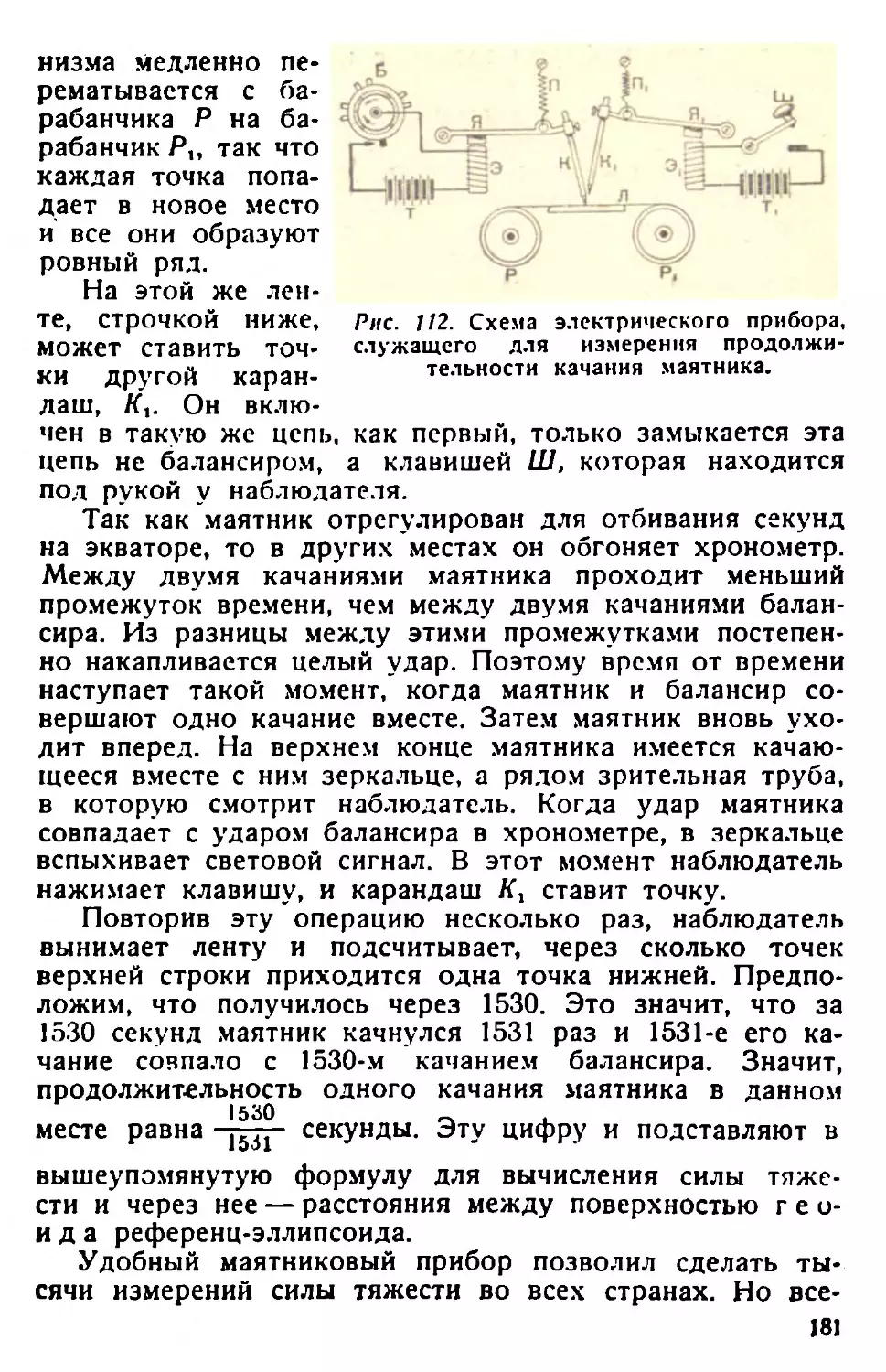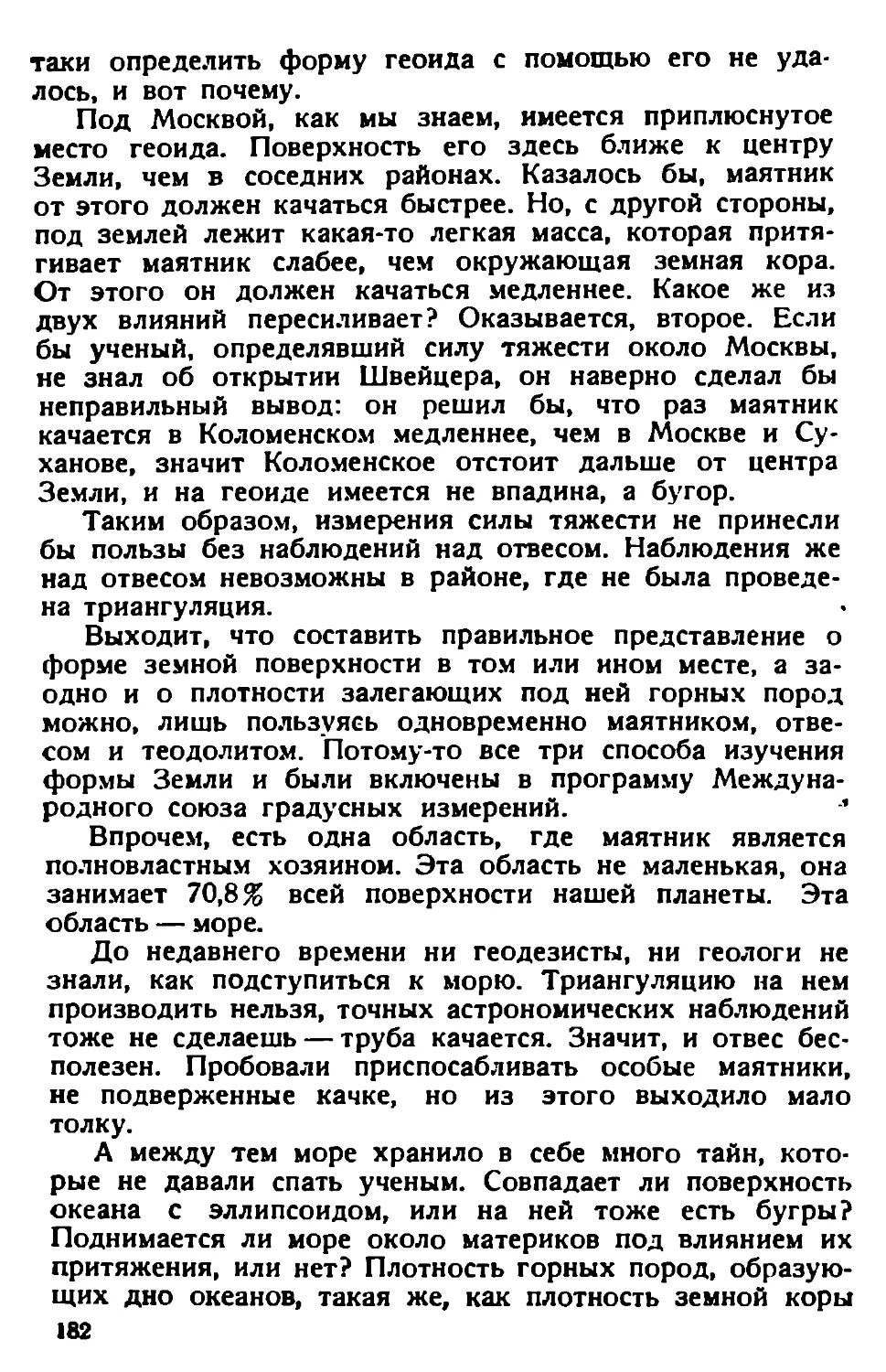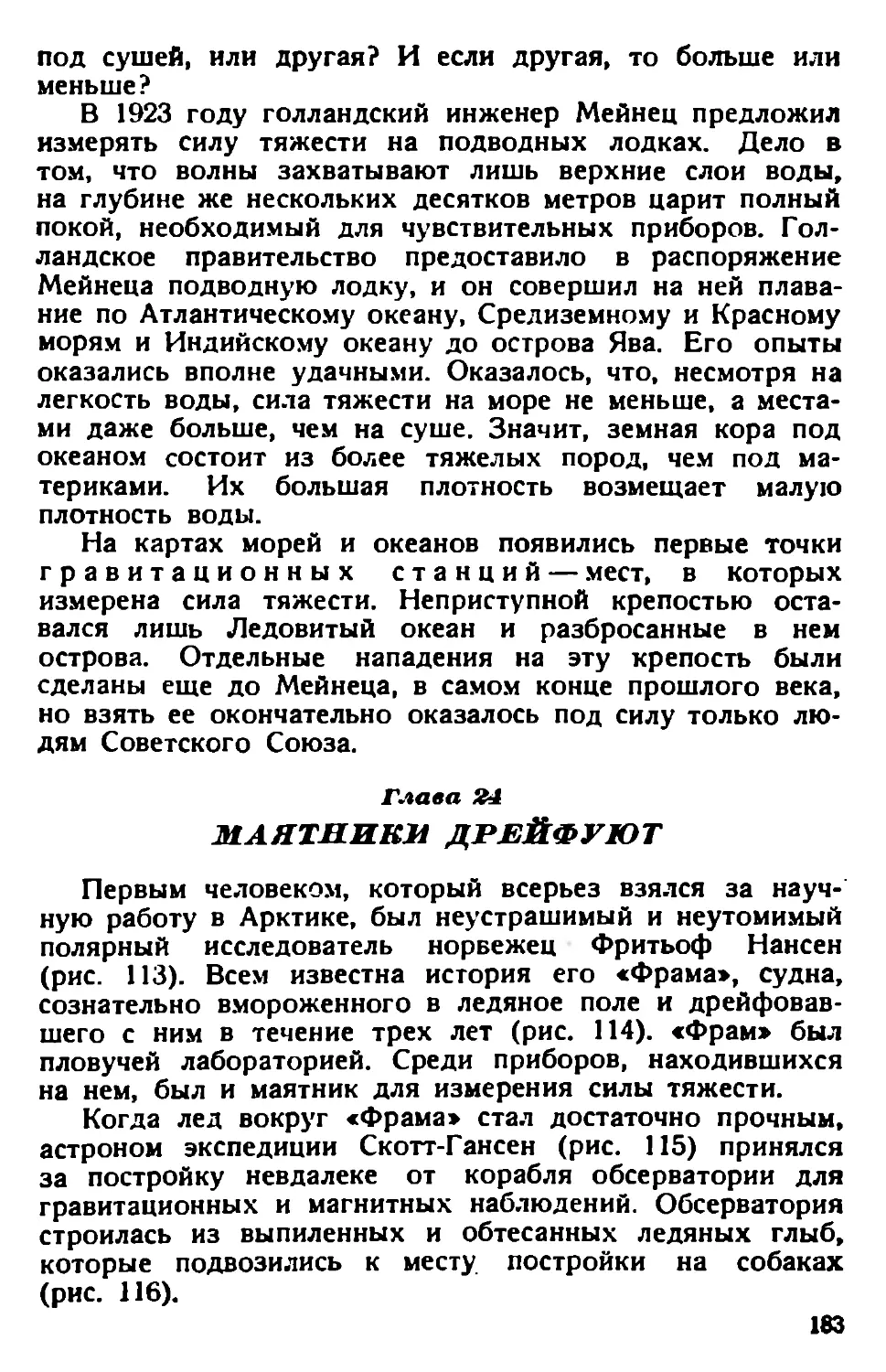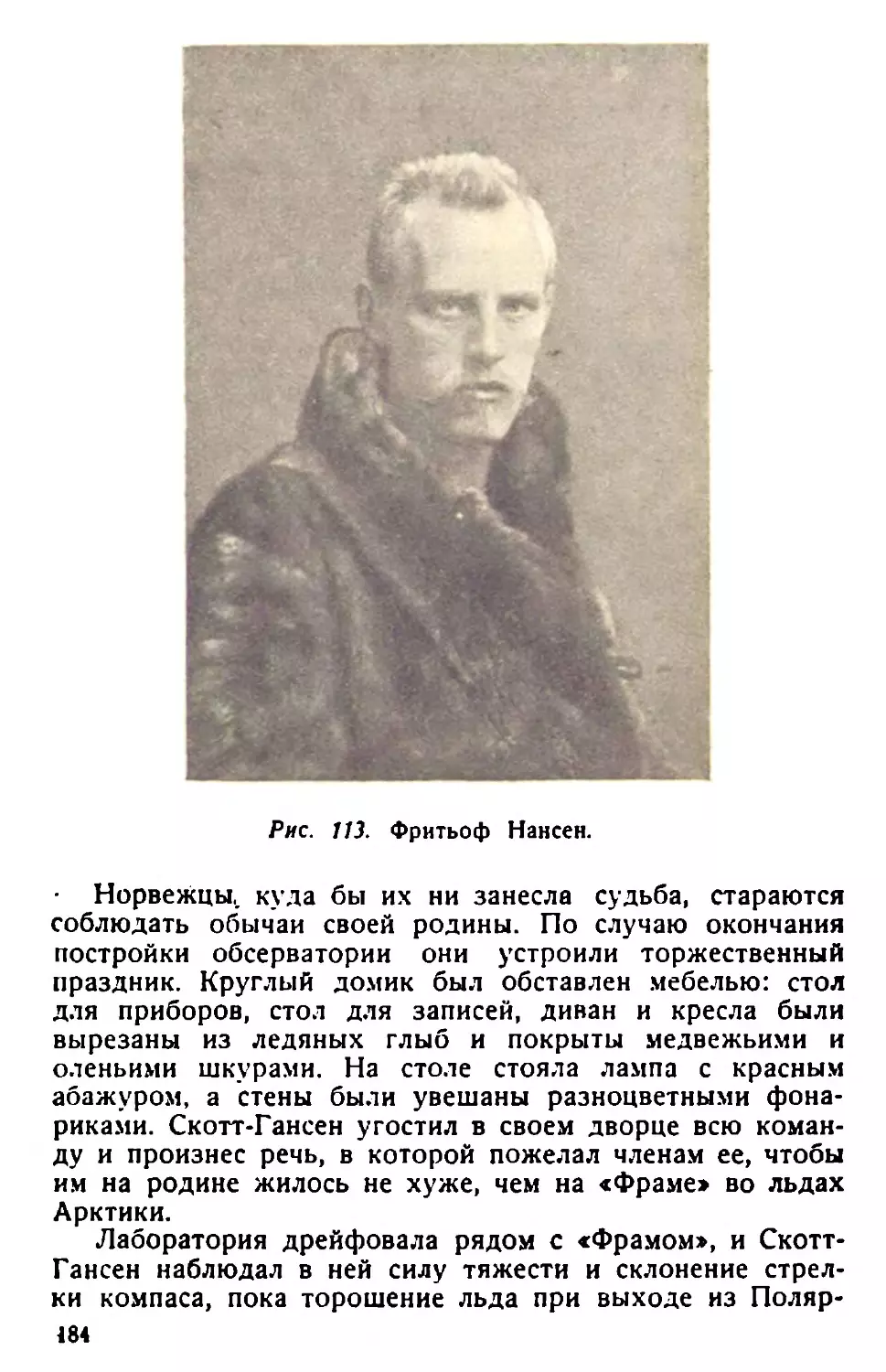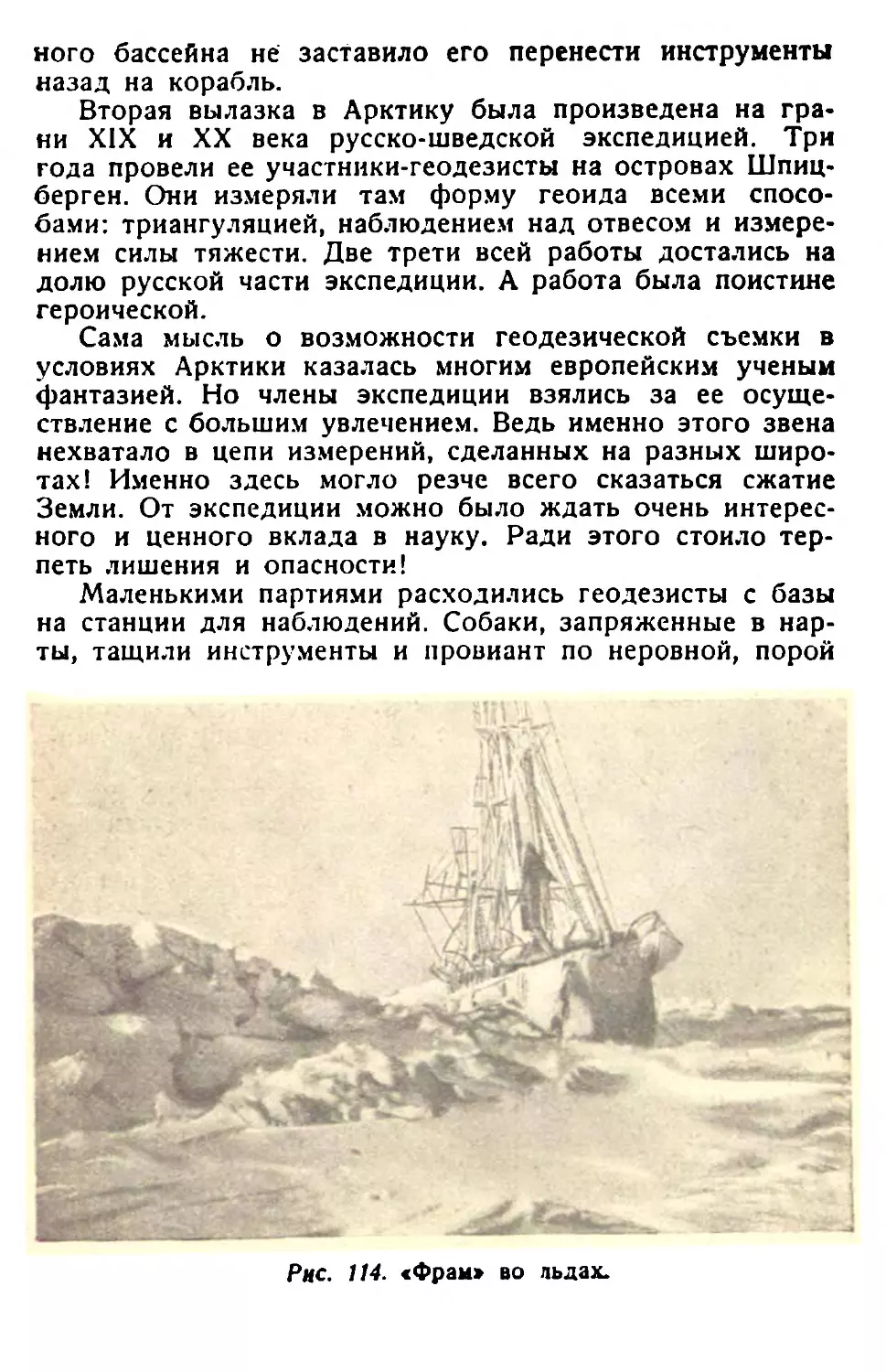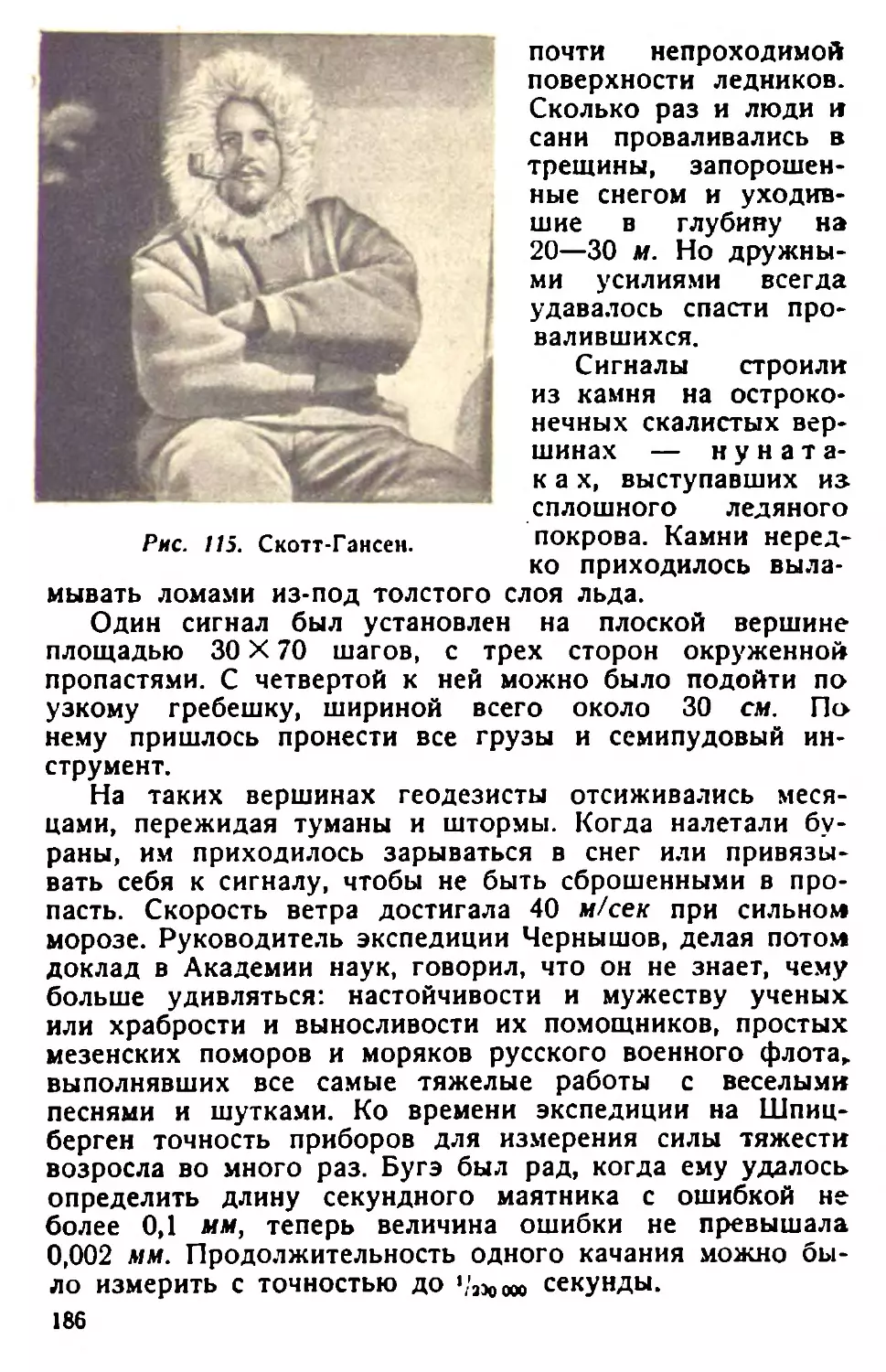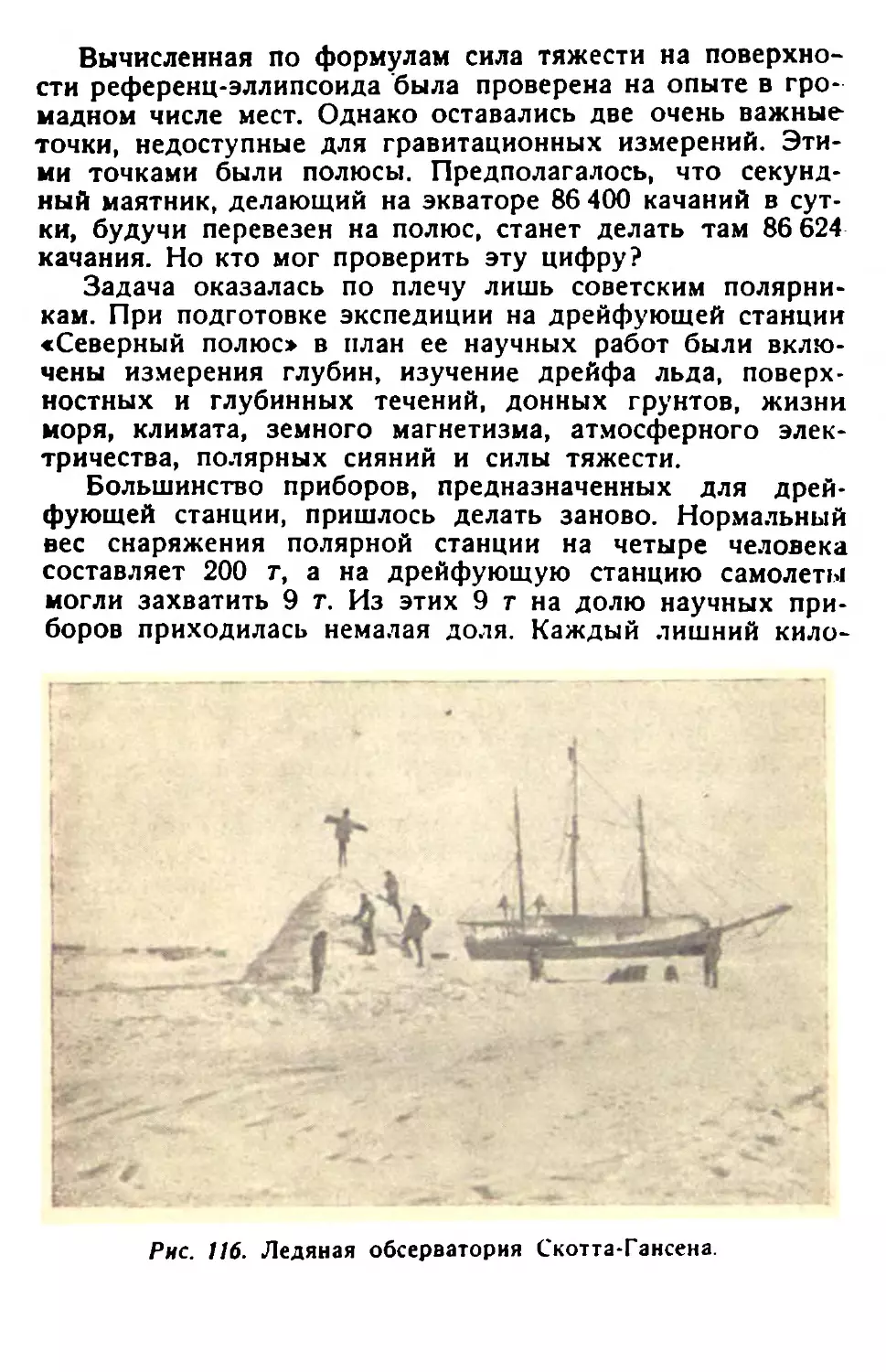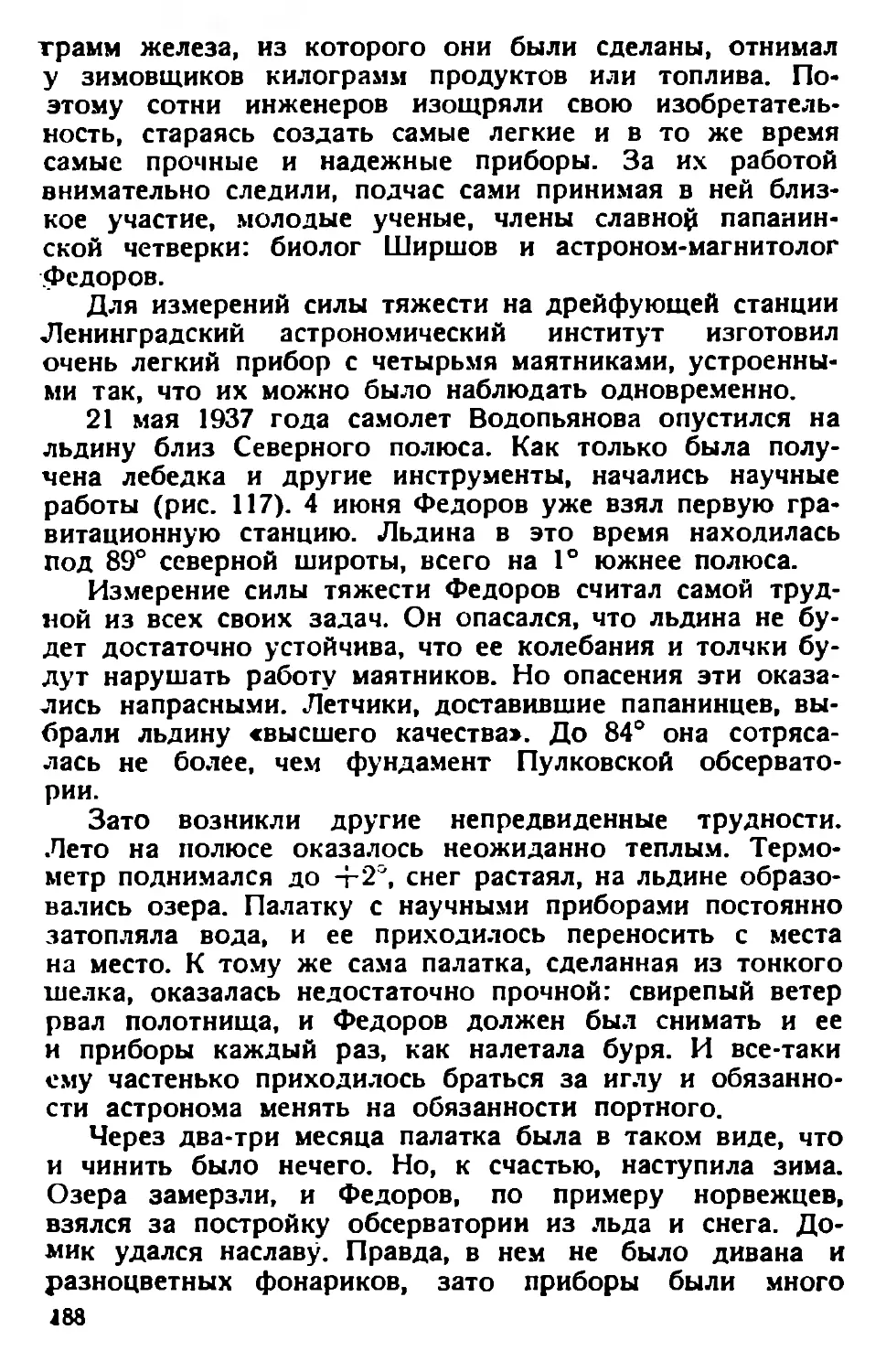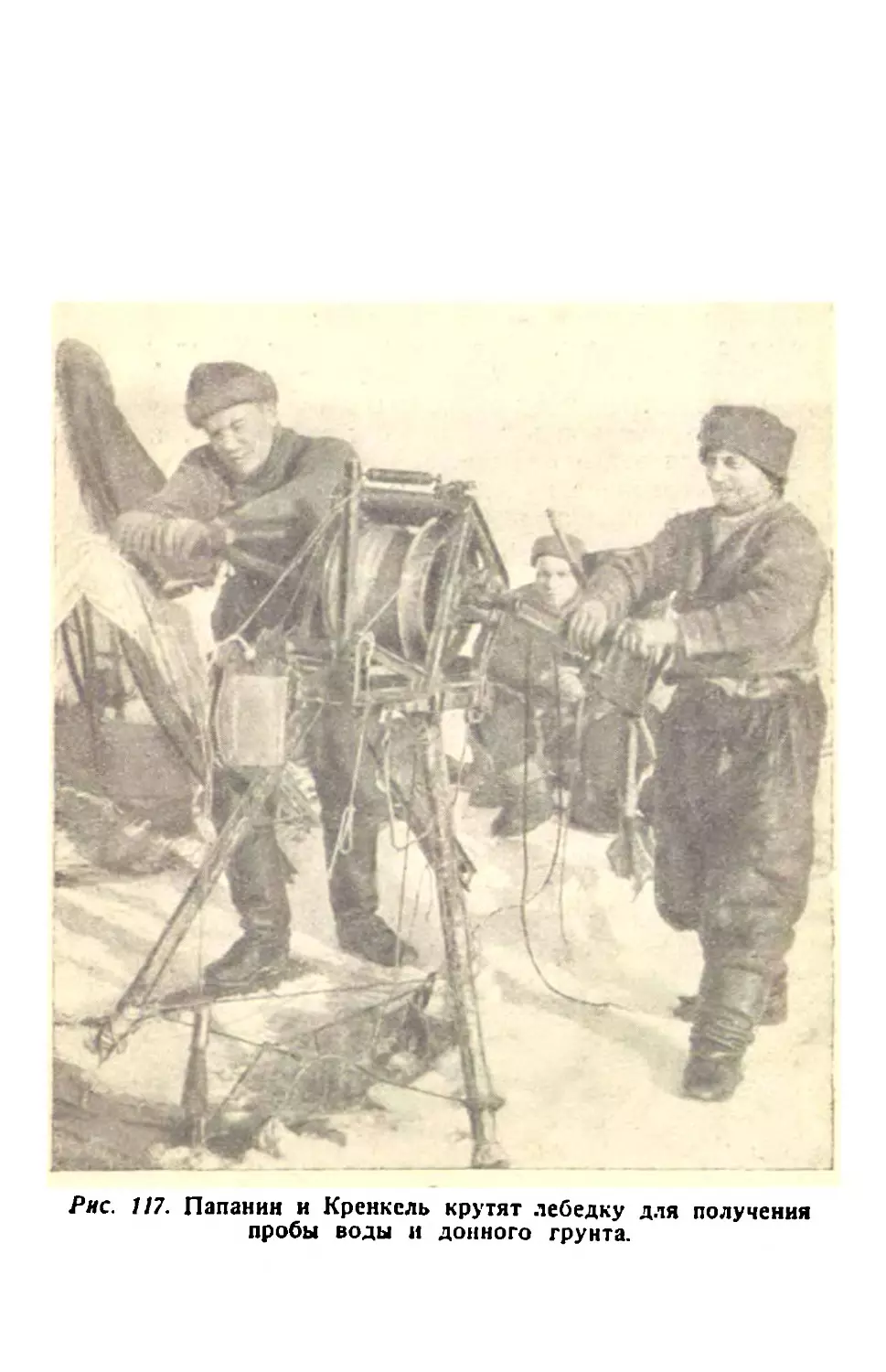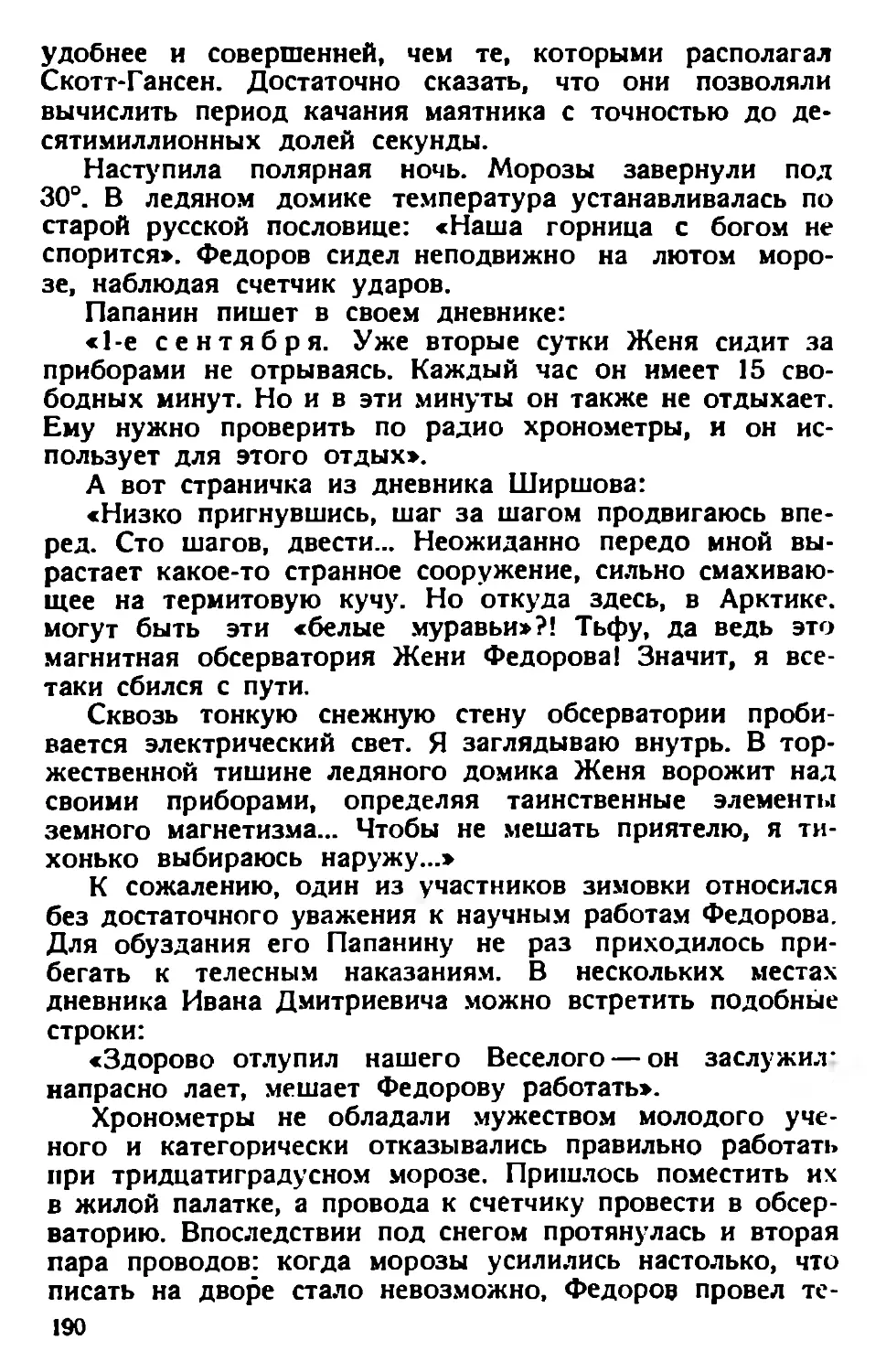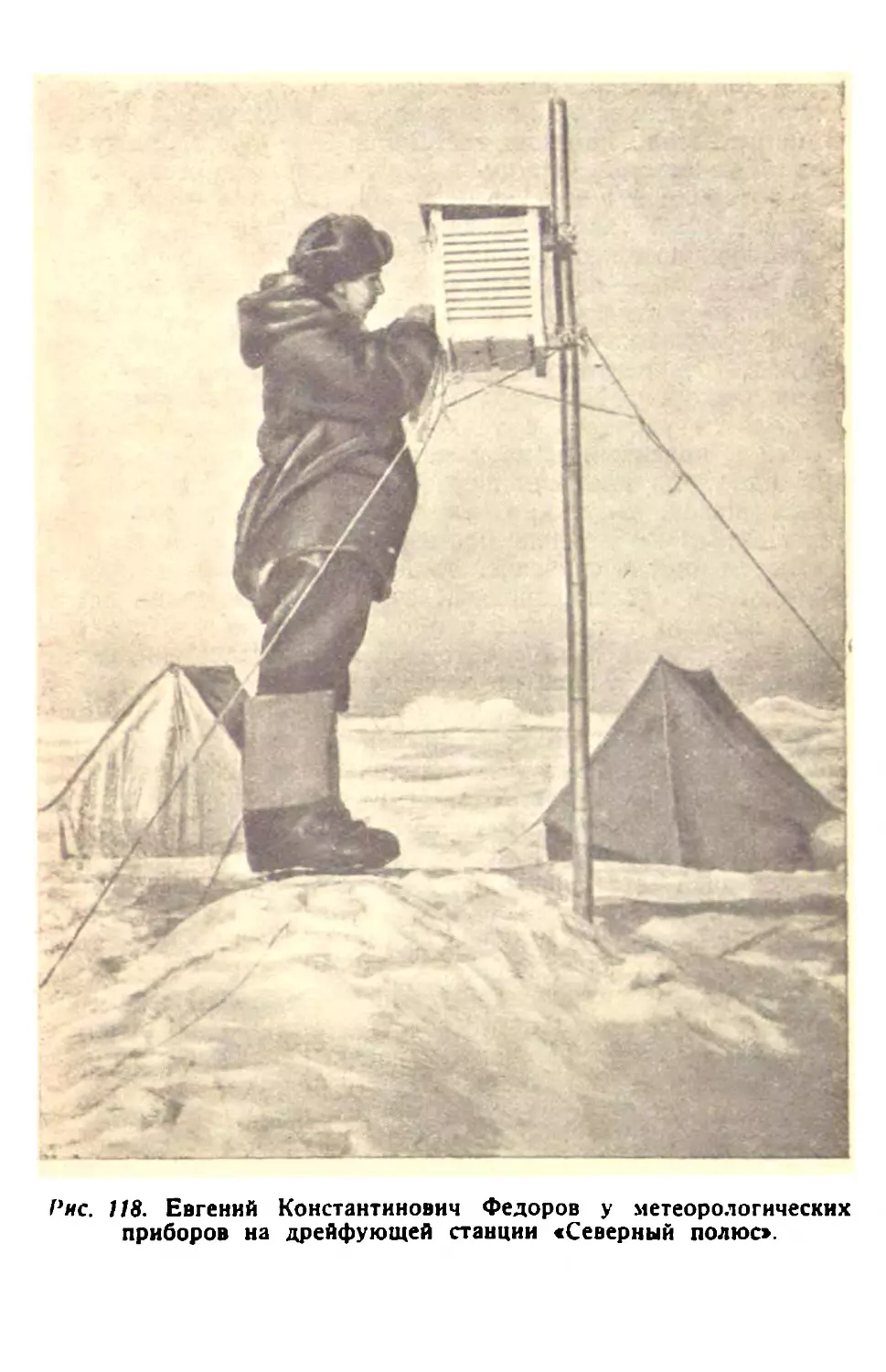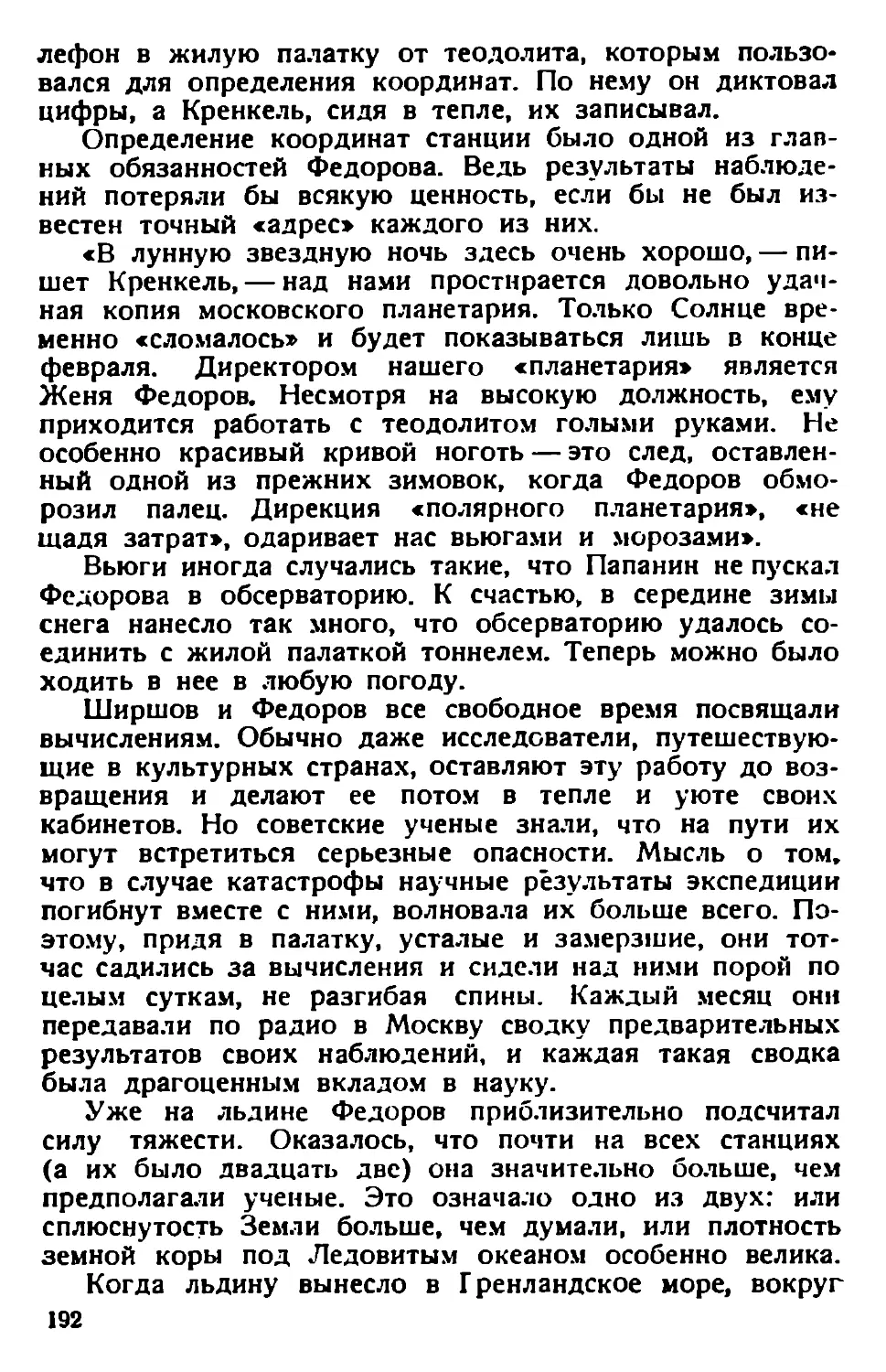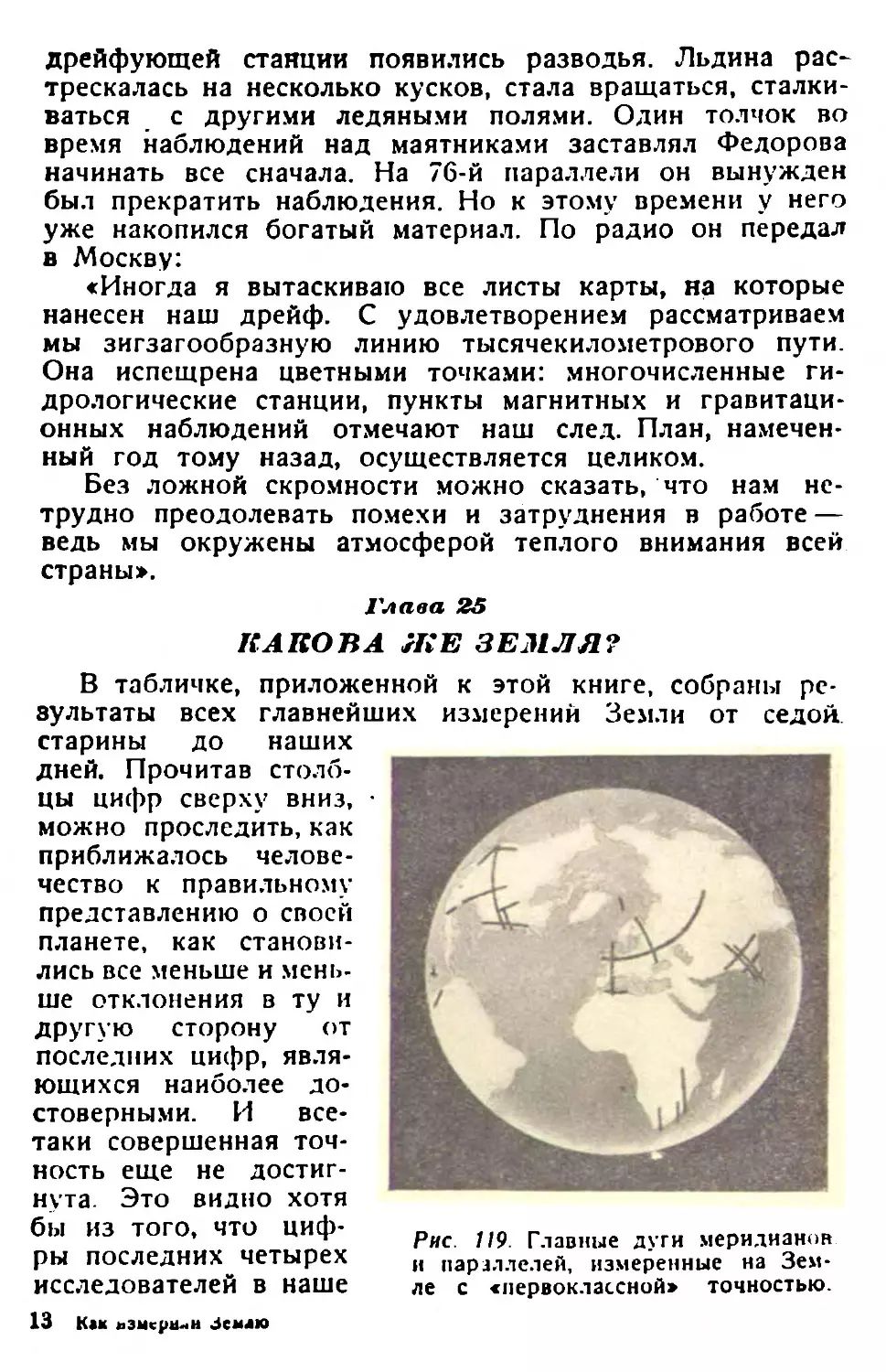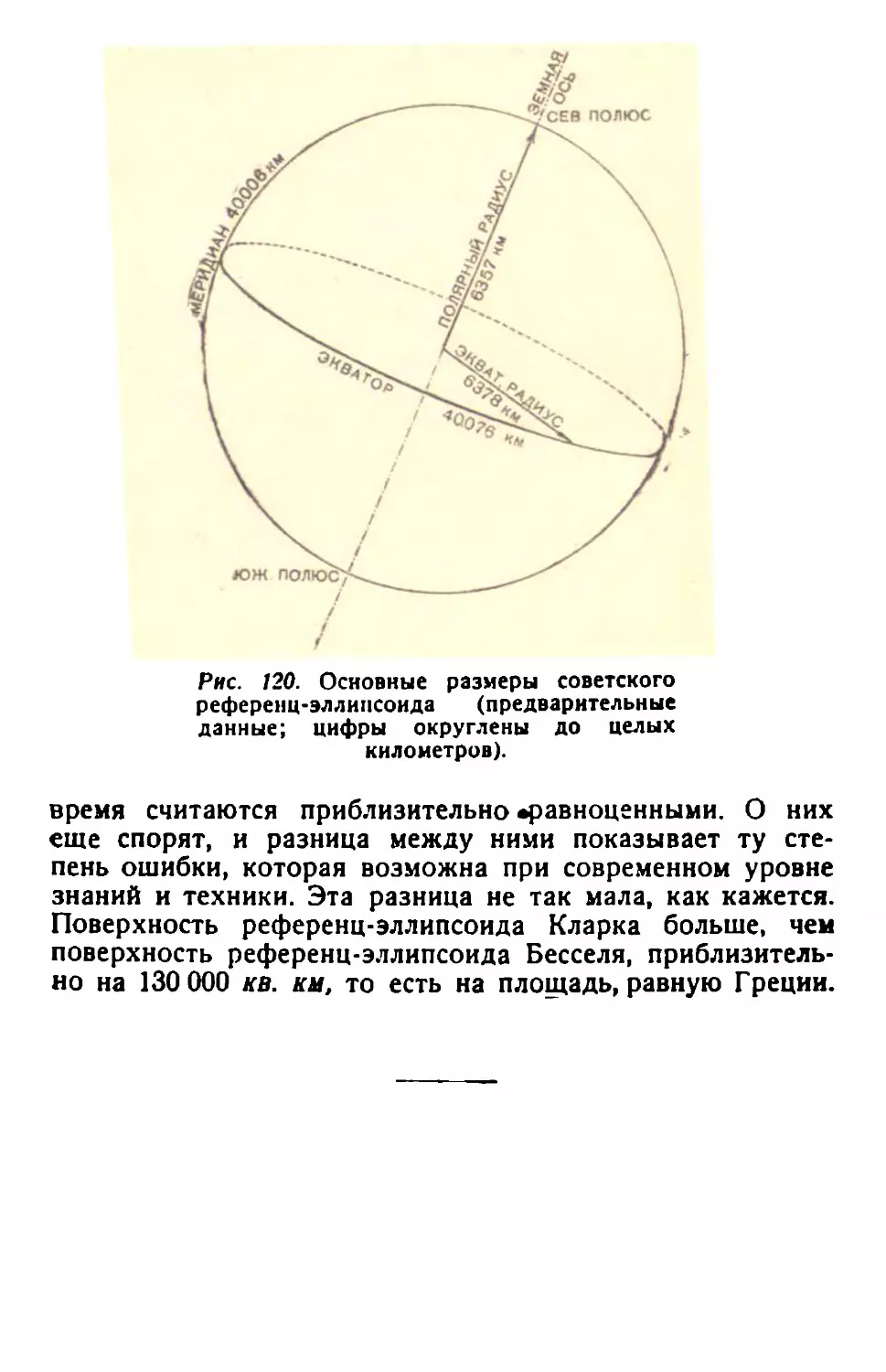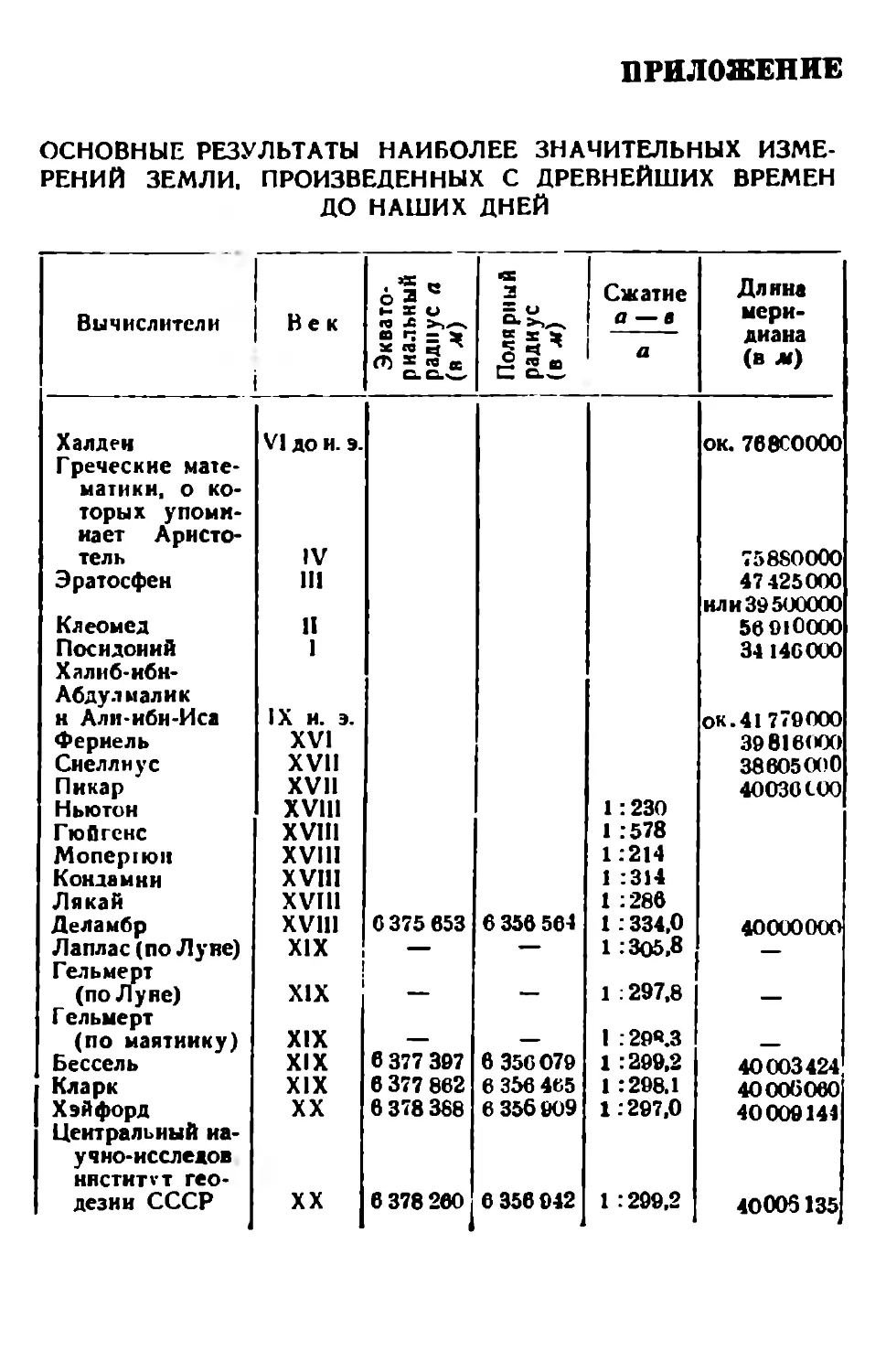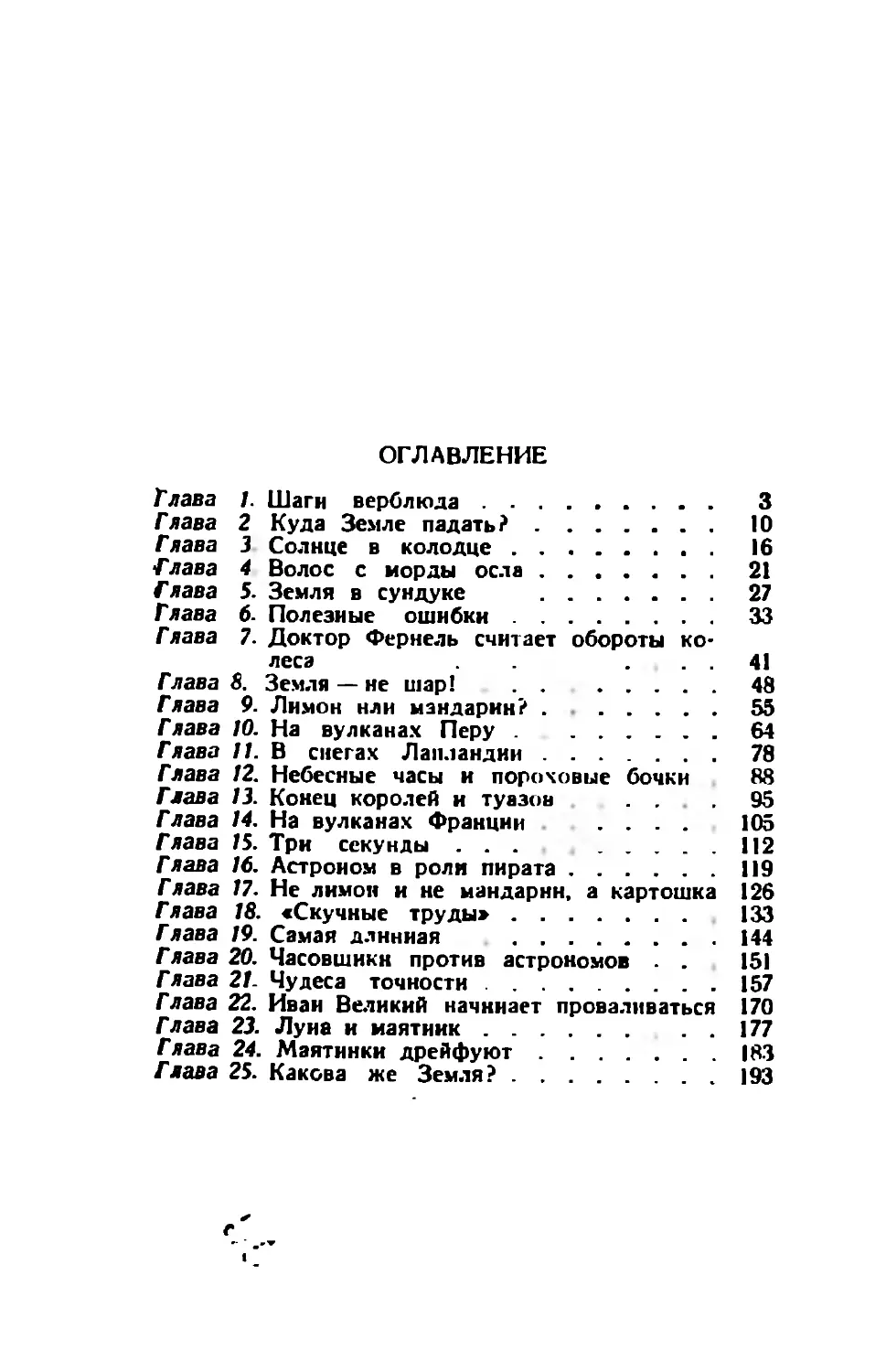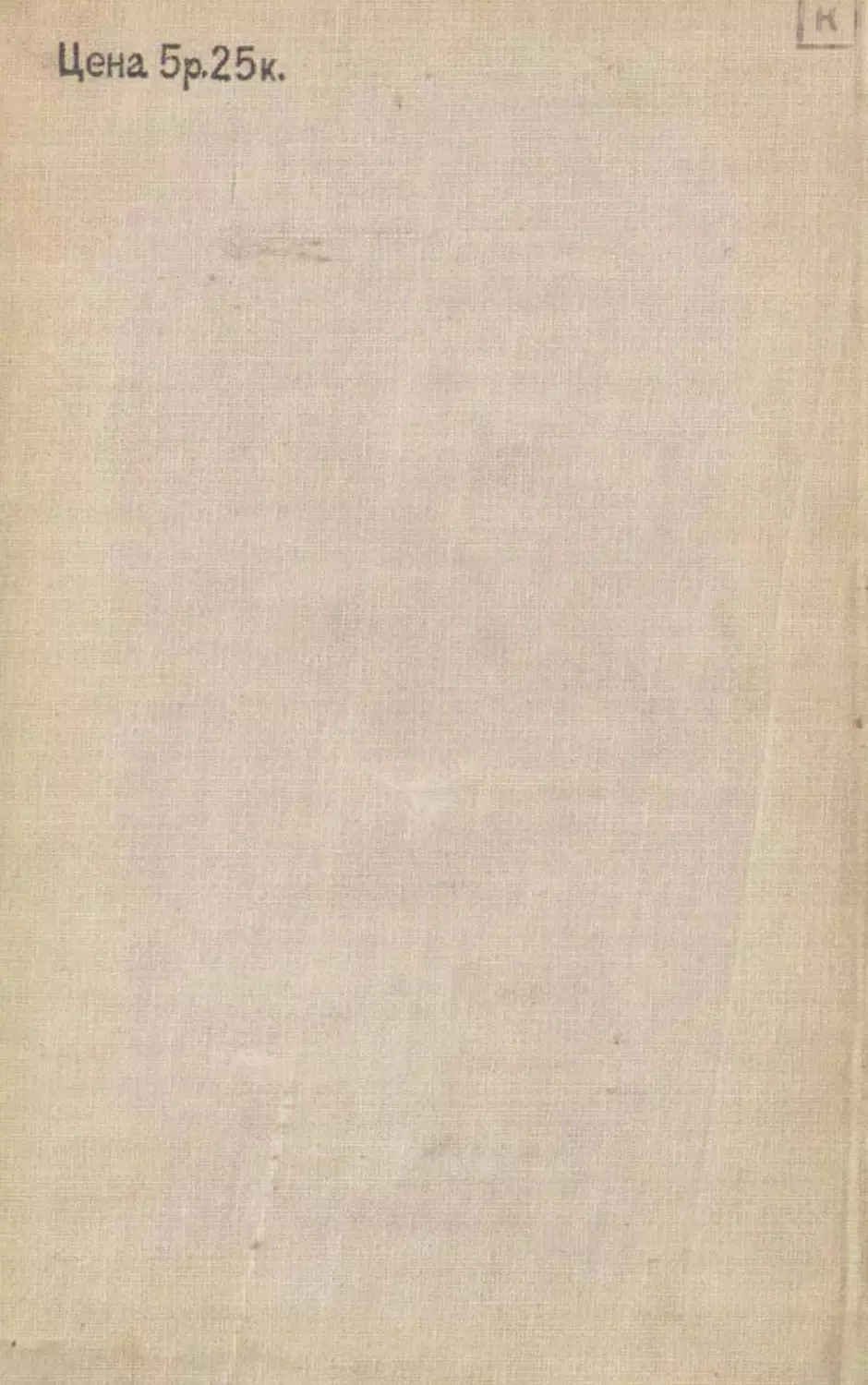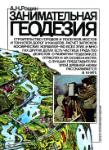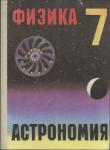Text
ДЕТИЗДАТЦКВЛКСЛ 1QAI
Д. A F М А Н Д
КАК
ИЗМЕРИЛИ
ЦК влкгя
ЯЗДХТВЛЬСТВО ДКТСКО* ЛИТКРАТУТЫ
МОСКВА 1М1 Л1ОНИГРАЛ
Ребята! Напишите вав, поираивласк ив
пав ята книга. Укажита свой адрес, вив,
фамилию в возраст.
Наш адрес: Москва 12, Малый Черкас-
ский пер., д. 1. Детвздат, Массовый отдел.
^11$ p«*7 Wr.
НАУЧНАЯ БГ Г'Ч
дома г’Mii n.r..
ДЕТГИ-А
ДЛЯ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
Отаетстэ. редактор Я. Струйвюмов. Худож. редактор Я. Иванов. Параяаак титул
Л. Литвака. Кпрты С. Прохорова. Техник. редактор В. Тыижевим. К or ректоры С. Ло-
бова и А. Сапелкина. Сдано а ороитаод< та j 2В/V i 19*и г. Подписано к печати 21/XI ISO г.
Дети 1 дат М /70*. Индекс Д-7. Формат (И X 108' и. П*/< °еч- <• >,-* уч.-аал. aj. W ЖЮ аж.
а пек. л. Тираж 10 000 ека. АЛИЯ . Зака» М 1ГЛ.
книги Иаз-ва детской литературы ЦК ВЛКСМ.
Москва, С'ущенскиД вал, 4Э.
В случае обнаружение дефекта просим вернуть аквемплар яда обмена по адресу*
Москва 18, Сущевскм* аал, дом М 49, Фабрика детсков амдгд. Телефон К Ь-ЦФШ
Глава 1
ШАГИ ВЕРБЛЮДА
Первобытные люди не задумывались над вопросом,
как велика Земля. Их интересовало лишь то, что имело
отношение к повседневной жизни. Как защититься от
хищников? Как сохранить вечный огонь в пещере? Как
загнать и убить зверя? — вот над чем привыкли они раз-
мышлять.
Первобытный человек знал лишь ничтожный клочок
Земли, на котором он жил и охотился. Во все стороны от
его пещеры простирались таинственные, неведомые стра-
ны. Но он вовсе не считал Землю бесконечной; наоборот,
он считал ее очень маленькой. Стоило ему подняться на
холм или влезть на дерево, и он мог увидеть ту линию,
где небо сходится с землей. Там, конечно, она и кончает-
ся. Правда, дойти до этой линии не легко, да и не стоит;
слишком опасно углубляться в чужие края охотнику, во-
оруженному лишь палкой с кремневым наконечником. Но
все же край Земли не очень далеко, раз его видно про-
стым глазом.
Хотя первобытные люди и считали, что Земля мала,
им не приходило в голову ее измерить. Делать это им
было незачем, да и нечем, так как у них не существовав
ло мер длины. Объяснить им, что такое километр, было
бы нелегкой задачей. Если бы вы им сказали: «Это ты-
сяча шагов», они спросили бы: «А что такое тысяча?»
Ведь считали они по пальцам, и счет их не шел дальше
нескольких десятков.
Протекали века, и знания первобытных народов рас-
ширялись. Постепенно они научились добывать металлы,
строить дома, сеять хлеб, приручать животных. Они объ-
единились в обширные государства, изобрели письмо и
1* 3
Рис. 1. Старинная китайская обсерватория в Бейпине.
начали заниматься торговлей. Для обмена товаров они
стали посещать соседние страны.
Первые крупные государства возникли в жарких стра-
нах. Зима там мало отличается от лета. А между тем
земледельцам надо было знать заранее, когда пройдут
дожди, когда разольется река. Купцам надо было знать,
когда в море подуют попутные ветры. Чтобы точнее раз-
личать времена года, люди стали наблюдать небо. Они
заметили, что солнце зимой и летом поднимается на раз-
ную высоту, и научились по его положению предсказы-
вать дожди, разливы, перемену ветров и другие важные
события в природе. Так родилась астрономия.
Чтобы находить дорогу в чужие страны, купцам и вое-
начальникам нужно было знать, где проходят наиболее
легкие и безопасные пути, где расположены города и га-
вани, какие препятствия и трудности подстерегают путе-
шественников. Они стали записывать все, что было из-
вестно о морях и землях, стали рисовать эти земли, то
есть чертить карты. Так родилась география.
Каждый первобытный человек знал все, что ему было
нужно. Когда появилась наука, всем знать все стало не-
возможным. Чтобы изучить астрономию или географию,
нужно было время и достаток. У египетского земледель-
ца, вавилонского пастуха, китайского ремесленника их не
было. Наука была доступна лишь богатым, а богат-
ством и досугом в то время обладали прежде всего жре-
цы. Жрецы примешивали к науке суеверия. Например,
индийские жрецы считали водяной цветок лотос священ-
ным, поэтому им казалось, что Земля должна иметь фор-
му лотоса. И хотя индийские мореплаватели, уже объез-
дившие в то время немало морей, убедились, что это
противоречит истине, жрецы упорно продолжали чертить
мировые карты в форме лотоса, надписывая названия из-
вестных тогда стран на его лепестках и тычинках.
На других индийских картах Земля изображалась в
виде плоского диска, состоящего из семи вложенных
друг в друга колец суши, разделенных кольцами моря.
В центре помещался круг Ямбудвипа, что значит Остров
Нового Яблока. Остальные земли носили названия расте-
ний, а моря — разных видов пищи. Первое от центра мо-
ре называлось Соленым, затем шло Сахарное, Винное,
Масляное, Молочное и Пресноводное.
Рис. 2. Старинная индийская обсерватория в Дели.
Рис. 3. Вавилонская
карта' мира.
Народы древности немало
ломали голову над вопросом,
на чем держится Земля. Ведь
всякий предмет падает, если
не имеет опоры; тем более
нуждается в поддержке такая
огромная тяжесть, как Земля.
Индусы пользовались для пе-
ревозки тяжестей слонами и
потому предполагали, что
Земля лежит на спине четы-
рех слонов. Но на чем же
стоят слоны? Слоны стоят на
спине гигантской черепахи.
На чем стоит черепаха? На
этот вопрос индийские му-
дрецы ответа не давали.
Иначе отвечали на этот
вопрос вавилоняне. Вавилон-
ские купцы, отправляясь в
разные стороны, повсюду,
встречали моря: Каспийское,
Черное, Средиземное, Красное, Персидский залив... Вави-
лонские земледельцы в своей вечной борьбе с пустыней
рыли колодцы и находили в них воду. «Ясно, — решили
мудрецы, — Земля остров, плавающий в океане и имею-
щий форму тонкой круглой лепешки. Где ни пробура-
вишь его, везде дойдешь до воды».
Сохранилась вавилонская карта мира на глиняной до-
щечке, сделанная, вероятно, в IX веке до нашей эры
(рис. 3).
Внутренний круг на ней — Земля. Ободок вокруг —
океан, в котором она плавает. Двойная черта, проходя-
щая сверху вниз, — река Евфрат. Пересекающая ее в
верхней части полоска — город Вавилон, расположенный
на обоих ее берегах. Маленькие кружки по сторонам —
другие города.
Большинство народов древности считало Землю круг-
лой. Они жили преимущественно в открытых, безлесных
равнинах, и им нетрудно было наглаз убедиться в том,
что горизонт имеет форму окружности. А ведь горизонт
они считали границей Земли. Когда они начали путеше-
ствовать, они поняли, что граница эта только кажущаяся,
что она отступает без конца перед тем, кто стремится
6
ее достигнуть. Но представление о круглой Земле оста-
лось.
В 625 году до нашей эры Вавилон завоевали халдеи
(рис. 11). Халдейские жрецы сильно способствовали успе-
ху астрономии. Они в гораздо большей степени, чем их
предшественники, заслужили название настоящих уче-
ных.
Халдеи заметили, что лунные затмения всегда бывают
в полнолуние, то есть в то время, когда Солнце и Луна
находятся в противоположных точках небесного свода,
а Земля помещается между ними. А раз так, значит при-
чина затмения в том и заключается, что Земля загоражи-
вает солнечные лучи, иными словами, отбрасывает на
Луну свою тень. Но по форме тени можно судить о фор-
ме того предмета, который ее отбрасывает. Тень Земли,
падающая на Луну, всегда круглая (рис. 4). Такая тень
может принадлежать только шару. Стало быть, Земля
шар!
К этому заключению, совершенно правильному и уди-
вительно смелому для того времени, и пришли халдей-
ские ученые. Из наблюдения лунных затмений они могли
сделать еще один важный вывод: на земной тени нигде
Рис. 4. Наверху — фазы лунного затмения. Внизу — месячные фазы
Луны. Фазы затмения отличаются от месячных фаз тем, что гра-
ница между светом и тенью всегда имеет форму дуги окружности.
7
яе видно ни слонов, ни каких-либо других подпорок —
шар висит в пространстве и ни на чем не держится.
Но на этом не кончились открытия халдеев. Они
справились еще с одной важной задачей, не решив кото-
рую нельзя было приступить к измерению Земли: они на-
учились измерять расстояния на небе.
Часто можно слышать, как, видя Луну, ребята заводят
спор о том, какова кажущаяся величина Луны. Одни го-
Рис 5. Кажущаяся величина Луны. Луна представляется наблюда-
телю тем меньшей, чем ближе ои ее мысленно помещает.
ворят «с пятачок», другие — «с яблоко», третьи — «с та-
релку». Напрасный спор! Поскольку спорящие не могут
определить наглаз истинное расстояние до Луны, они
мысленно помещают ее, где им вздумается (рис. 5), и
потому совершенно произвольно определяют ее вели-
чину.
Халдеи первые поняли, что, не зная расстояний до не-
бесных светил, измерять их величину и расстояние меж-
ду ними мерами длины бессмысленно. Все эти величины
надо измерять с помощью углов зрения, то есть углов, в
вершине которых помещается глаз наблюдателя, а сто-
роны направлены к тем точкам, расстояние между кото-
рыми измеряется. Но при всяком измерении нужно иметь
единицу, с которой сравниваются полученные величины,
например метр, грамм, секунду. Эта единица должна
быть постоянной, лучше всего такой, которая дана са-
мой природой и которую каждый может проверить или
найти вновь, если его мерка потеряется. Для измерения
углов такую единицу удалось найти — это полный круг,
то есть все пространство вокруг какой-нибудь точки.
Его можно рассматривать как угол, который рос до тех
пор, пока его стороны не обогнули вершину и не встре-
тились на обратной стороне (рис. 6). Такому углу
больше некуда расти, поэтому величина его всегда
постоянна.
Однако такая единица измерения углов имеет и свой
недостаток: все другие углы меньше ее и выражаются
через нее лишь дробями, например J/e, Ч„, */1348 окруж-
ности. Халдеи сумели избавиться от этого недостатка.
Они разделили окружность на 360 равных частей, полу-
ченный маленький уголок назвали градусом и сделали
его новой единицей измерения угла.
Градус оказался удобной единицей. При расчетах лег-
че иметь дело, скажем, с углом в 36°, чем с углом в vio
окружности.
Узнав форму Земли и научившись измерять углы,
халдеи добрались до той задачи, которая нас больше
всего интересует: они попытались определить длину зем-
ной окружности.
Мы не знаем, как они это сделали, но можем предпо-
лагать, что они воспользовались одним из способов, при-
мененных впоследствии греками. Эти способы, при кото-
рых нельзя обойтись без измерения углов на небе, будут
описаны ниже.
До нас дошла халдейская запись, в которой сказано,
что земная окружность, измеренная жрецами, оказалась
равной 24 000 миль. Не теперешних английских или мор-
ских миль, а тогдашних халдейских. Чему же равнялась
эта миля? Ответить на этот вопрос оказалось очень тру-
дно.
Рис. 6. Круг — самый большой угол.
В халдейской записи имеется пояснение: «Миля же
равна 4000 шагов верблюда».
Очевидно, путники тех стран и времен, покачиваясь
месяцами на горбах «кораблей пустыни», нередко коро-
тали время, отсчитывая их шаги. Так и вошла в обычай
эта неточная мера. Шаги, конечно, бывают разные, они
зависят от роста, возраста, нагрузки, усталости верблюда,
но, видно, для практических целей эта разница не имела
значения.
9
Если принять средний шаг верблюда равным 0,8 м,
то длину земной окружности нетрудно вычислить:
0,8 X 4000 X 24000,
1000
Теперь мы знаем, что земная окружность (по мери-
диану) равняется приблизительно 40 000 км. Таким обра-
зом, халдеи почти вдвое преувеличили истинный размер
Земли. Но уже и то, что они впервые попытались ее из-
мерить, является их большой заслугой.
Глава Я
ВУДА ЗЕМЛЕ ПАДАТЬ?
Легендарный поэт древней Греции Гомер так описы-
вает восход Солнца (по-гречески Гелиоса):
Гелиос только что начал поля озарять, подымаясь
Тихо с глубоких, лиющихся медленно вод Океана.
Греки, подобно вавилонянам, представляли себе Зем-
лю в виде округлого плоского острова, окруженного
океаном. Но не <морем-океаном», а «рекой-океаном». Ре-
ка-океан (рис. 7) непрерывно течет вокруг Земли, впадая
сама в себя, подобно змее, проглотившей свой хвост. Пе-
шеход, идя вдоль реки-океана, может обойти Землю в
год. По краям Земли стоит ряд громадных столбов, и на
них покоится твердое небо в виде опрокинутой чаши.
В VII веке до нашей эры-в Греции появились ученые-
философы. Первым ученым был Фалес Милетский. Он
жил с 640 по 548 год и обладал большими познаниями в
астрономии. Но все-таки он считал Землю плоским кру-
гом, плавающим на волнах океана, и даже подкреплял
этот взгляд доказательством, которое считал очень убе-
дительным: Земля тверда, а твердые тела лежат спокой-
но, если их никто не толкает. Между тем на Земле не-
редко случаются землетрясения. Ясно, что причиной их
могут быть только волны разбушевавшегося океана,
бьющие снизу в дно Земли.
Фалес открыл способ измерения расстояний до уда-
ленных и недоступных предметов. Это открытие 2200 лет
пролежало под спудом, не находя применения. Лишь в
1615 году голландский ученый Снеллиус применил его
для измерения Земли. Способ Фалеса и сейчас применяет-
10
Рис. 7. Мир по представлению греков времен Гомера.
ся при точном определении расстояний на земной поверх-
ности и в небесном пространстве.
Ученик Фалеса, Анаксимандр, утверждал, что Земля
имеет форму шашки, висящей в пространстве. Люди жи-
вут на ее плоской верхней стороне. В подтверждение то-
го, что Земля действительно плоская, Анаксимандр при-
водил довод, обратный доводу своего учителя: всем
известно, что Земля неподвижна, а неподвижными бывают
только плоские предметы. Очевидно, он думал, что Зем-
ля укатилась бы куда-нибудь, если бы была шаром.
Ксенофан считал, что Земля имеет форму пня с мно-
жеством корней, уходящих в бесконечность. Эти корни
и помогают ей держаться в пространстве.
п
Очень странное представление о Земле было у Ана-
ксимена. По его мнению, она имеет форму доски, лежа-
щей плашмя. Когда-то эта доска падала. Падая, она на-
давила на воздух, находившийся под ней, и сжала его,
как поршень сжимает воздух в цилиндре. Сжатый воз-
дух приостановил падение и до сих пор удерживает Зе-
млю. Выйти по краям ее он не может: Земля так велика,
что ему не дойти до краев.
Наконец, Платон считал, что Земля имеет форму куба.
Иногда философам задавали вопрос: как Солнце про-
ходит ночью под Землей, с запада на восток, если там
находятся корни, морские волны, сжатый воздух и про-
чие подпорки? Но философы, не смущаясь, находили вы-
ход из трудного положения. «Солнце, — отвечали они,—
дойдя до горизонта, круто поворачивает и идет на уров-
не земной поверхности к северу, а оттуда к востоку, где
и восходит вновь. А не видим мы его ночью потому,
что вдоль северного края Земли возвышаются горы, ко-
торые его заслоняют».
Приблизительно в одно время с халдеями греки на-
чали приходить к убеждению, что Земля — шар. Первым
провозгласил учение о шарообразности Земли великий
математик Пифагор. Обосновывал он его так же, как и
халдеи. Но он еще ближе подошел к истине: он утвер-
ждал, что Земля не стоит в центре вселенной, а летает
вокруг главного светила. Только светилом этим он счи-
тал не Солнце, а какой-то фантастический «Центральный
огонь».
Современник Пифагора, Парменид, одним ударом по-
кончил с учением о подпорках, приведя следующее про-
стое и остроумное рассуждение: «Все предметы, находя-
щиеся с разных сторон Земли, падают на нее. Так куда
же должна падать сама Земля? Она не упадет и без под-
порок просто потому, что ей некуда падать!»
Сторонники шарообразности Земли окончательно по-
бедили, когда на их сторону стал самый знаменитый уче-
ный Греции, Аристотель, живший в IV веке до нашей эры.
Правда, он совершил большую ошибку, вернувшись от
учения Пифагора о вращении Земли к представлению о
том, что Земля неподвижна и находится в центре вселен-
ной. Но зато он подтвердил старое и привел новые до-
казательства того, что Земля — шар.
Вот одно из них:
«Вид звезд не только указывает, что Земля шаро-
12
Рис. 8. Исчезновение корабля за выпуклостью Земли. При удале-
нии корабля в море прежде всего скрывается из виду корпус, за-
тем паруса и позже всего флаг на верхушке мачты. Это явление
служило одним из первых доказательств шарообразности Земли.
образна, но также и то, что она не особенно велика. Ибо
достаточно нам немного передвинуться на север или на
юг, чтобы горизонт стал совсем другим. Вид звезд над
нашей головой при этом сильно изменится... Есть звезды,
которые видны в Египте, но невидимы в северных стра-
нах, и наоборот».
Стоит взглянуть на рис. 9, чтобы понять доводы Ари-
стотеля. Человек, идущий по плоской Земле (нижний ри-
сунок), все время видит над собой одни и те же звезды.
Наоборот, перед человеком, идущим по выпуклой Земле
(верхний рисунок), постоянно открываются «новые гори-
зонты». Одни звезды прячутся, другие, ранее скрытые за
выпуклостью Земли, становятся видимыми. (При этом
13
Рис. 9. Наверху: двигаясь вдоль меридиана по шарообразной
Земле, путешественник видит всё новые звезды. Внизу: двигаясь
в любом направлении по плоской Земле, путешественник видит'
отовсюду одни и те же звезды.
предполагается, что наблюдения неба в точках А и Б
производятся в одни и те же часы, и суточное вращение
звезд не принимается во внимание.)
В этом доказательстве есть одно слабое место. Оно
подтверждает, что Земля имеет кривизну с севера на юг,
но ничего не говорит о кривизне с запада на восток.
Рис. 10. Для путешественника, идущего вдоль окружности цилинд-
рической Земли, картина неба должна изменяться так же, как для
путешественника, идущего вдоль меридиана шарообразной Земли.
Если бы в этом направлении кривизны не было вовсе,
то есть если бы Земля имела форму цилиндра, лежащего
«на боку» (рис. 10), явление, подмеченное Аристотелем,
все равно существовало бы.
Не найдя на небе подтверждения изогнутости зем-
ной поверхности с запада на восток, Аристотель разре-
шил вопрос самым неожиданным образом. Он вспомнил,
что как в самой восточной из известных тогда стран,
Индии, так и в самой западной, у Гибралтарского про-
лива, водятся слоны, а в промежуточных пространствах
их нет. Стало быть, заключил он, запад на обратной
стороне Земли сходится с востоком, иначе как могли бы
слоны с одного конца света попасть на другой?
Теперь мы знаем, что этот довод никуда не годится.
Путь из Индии на восток до Гибралтарского пролива
пролегает через два океана, Америку и Китай. Он го-
раздо длиннее, чем предполагал Аристотель. Слоны
же распространились не этим путем, а через Африку и
Аравию.
Подобно халдеям, греки, разрешив вопрос о форме
Земли, тотчас же заинтересовались ее размером. Ари-
стотель рассказывает о каких-то безвестных математиках,
которые пытались измерить длину земной окружности
и получили цифру в 400 000 стадий. Греческая стадия
1&
равна 189,7 м. Отсюда длина земной окружности полу-
чается:
189,7 X 400000 = 75880
1000
Странное совпадение: эта величина очень близка к
осалдейской, то есть опять-таки почти вдвое больше
истинной.
Как измерили Землю греческие математики, Аристо-
тель не рассказывает.
Глава 3
СОЛНЦЕ В КОЛОДЦЕ
Прошло полвека после смерти Аристотеля, и в древ-
нем мире появился ученый, который открыл правильный
способ измерения Земли, употребляемый и доныне.
Этот ученый, Эратосфен, родился в 276 году в грече-
ской колонии Кирене, в Северной Африке (рис. 11). От
Кирены было недалеко до Александрии, новой столицы
Египта, основанной Александром Македонским. Египет-
ские цари того времени, Птолемеи, славились своей
любовью к науке. К их двору съезжались ученые всех
национальностей: греки и римляне, евреи и египтяне,
арабы и персы. Птолемеи собрали богатейшую в мире
библиотеку; в ней хранились почти все книги, которые
были написаны до того времени.
Эратосфен был очень способным человеком. Придя в
Александрию учиться, он сумел как нельзя лучше исполь-
зовать сокровища науки, которые там имелись. Потом он
уехал в Афины, чтобы закончить свое образование под
руководством греческих философов.
Когда Эратосфену было сорок лет, царь Птолемей III
предложил ему место заведующего александрийской биб-
лиотекой. Мог ли ученый мечтать о большем счастье?
Эратосфен с радостью согласился и вернулся в Алексан-
дрию. Он много лет стоял во главе библиотеки и немало
сделал для ее пополнения. Книги, которые находились в
его распоряжении, помогли ему стать знаменитым писа-
телем, астрономом, географом, математиком и историком.
Во всех этих областях он сделал много открытий и сам
написал несколько книг, из которых до нас, к сожале-
нию, дошли только отрывки. Остальное погибло в огне
46
Рис. II. Карта Ближнего Востока.
вместе с библиотекой, сожженной невежественными за-
воевателями. К счастью, сохранилось описание того спо-
соба, с помощью которого он измерял длину земной
окружности.
Согласно преданию, Эратосфен окончил жизнь траги-
чески: под старость он ослеп и умертвил себя в отчаянии
от того, что не мог больше заниматься наукой.
Эратосфен понимал, что для измерения Земли ему не-
зачем обходить ее всю с меркой в руках. Достаточно из-
мерить небольшую часть (дугу) и потом каким-либо об-
разом узнать, сколько раз дуга эта укладывается в пол-
ной окружности (рис. 12).
В дуге всегда столько же градусов, сколько и в угле,
стороны которого она соединяет. Очевидно, для достиже-
2 Как измерила Землю Г-У f ...L
Рис. 13. Способ измерения дли-
ны земной окружности, открытый
Эратосфеном.
Рис. 12. Пример вычисления
длины окружности по дуге.
Если известно, что длина ду-
ги АБ, соединяющей сто-
роны угла АЦБ, равна 11 мм,
угол же этот = 30° и укла-
дывается в окружности
360 : 30= 12 раз, то длина
окружности будет 11 мм X
X 12= 132 мм.
ния поставленной цели следо-
вало измерить в градусах
угол АЦБ (рис. 13), заклю-
ченный между двумя земны-
ми радиусами, проведенными из центра Земли к концам
дуги. Так как в окружности всегда 360°, то оставалось
разделить 360 на число градусов в угле и, узнав таким
образом, сколько раз он укладывается в полном круге,
умножить длину дуги АБ на полученное число. Но как
измерить угол АЦБ, находящийся в центре Земли?
Вот как разрешил эту задачу Эратосфен. Если два го-
рода, рассуждал он, расположены на одном меридиане,
но один южнее, другой севернее, то Солнце в тот же день
и час стоит в них на разной высоте. На какой именно —
можно измерить. Однако при определении высоты Солн-
ца удобнее измерять не углы ЛХАГХ и Л2БГ2 между сол-
нечными лучами и горизонтом, а дополнительные к ним
углы ЛХАЗХ и Л2Б32 между теми же лучами и отвесной
линией, проходящей через зенит. Эти углы называются
зенитными расстояниями.
Предположим, что два таких угла измерены. Прове-
дем через центр Земли линию ЦЛз, направленную на
Солнце и параллельную лучам ЛХА и Л2Б. Тогда
/_3ХЦЛЬ= £3ХАЛХ
/_ ЗгЦЛ2 = £ 32БЛ,
как соответственные при параллельных.
18
Но искомый
z АЦБ = Z З.ЦЛ3 - Z 3,ЦЛ3.
Следовательно, £АЦБ = /у^АЛ^ — ^3,БЛг.
Иными словами, достаточно измерить зенитные рас-
стояния Солнца в двух городах, расположенных на одном
меридиане, и вычесть одно из другого, чтобы получить
угол АЦБ.
Доказав эту теорему, Эратосфен приступил к делу.
В то время уже был изобретен прибор, называвшийся ска-
фисом и применявшийся астрономами для измерения вы-
соты Солнца (рис. 14).
Скафис представлял собой чашу, имевшую форму по-
лушария. В центре ее отвесно укреплялся стержень. Ко-
гда скафис освещался солнцем, тень от стержня падала
на его внутреннюю поверхность. Для измерения зенит-
ного расстояния в градусах на внутренней поверхности
скафиса проводились окружности, помеченные цифрами.
Если, например, тень доходила до окружности, помечен-
ной цифрой 60, это значило, что Солнце стоит на 60° ни-
же зенита.
По счастливому стечению обстоятельств Эратосфену
пришлось измерять высоту Солнца не в двух местах, а в
одном. Он знал, что на берегу Нила, к югу от Алексан-
дрии, есть город Сиена. Из Александрии туда постоянно
ходили караваны, и купцы считали, что расстояние меж-
Рис. 14. Скафис (в разрезе).
19
Рис. 15. Скафис в Александрии (А)
и колодец в Сиене (С).
ду двумя городами рав-
но 5000 стадий. Они рас-
сказывали, что в Сиене
есть глубокий колодец,
дно которого раз в го-
ду, в день летнего солн-
цестояния, ровно в пол-
день освещается Солн-
цем. Это означало, что
лучи в этот момент па-
дают отвесно, высота
Солнца = 90°, а зенит-
ное расстояние = 0°
(рис. 15). Таким обра-
зом, задача сильно упро-
щалась.
Дождавшись летнего солнцестояния, Эратосфен в пол-
день измерил скафисом высоту Солнца в Александрии.
Оказалось, что оно на 7,2° не доходит до зенита. Зна-
чит, разность широт между Александрией и Сиеной
/ АЦС — / З.АЛ. = 7,2’ - 0° = 7,2’-
Дуга АС укладывается в окружности
360
-----= 50 [аз.
7,2
Но длина дуги — 5000 стадий, следовательно, длина
земной окружности: 5000 X 50 = 250 000 стадий.
К сожалению, неизвестно, какой стадией пользовался
Эратосфен. Если египетской, равной 158 и, то его изме-
рение оказывается удивительно точным:
158 X 250000 =зд500 км
1000
Прошло восемнадцать веков, прежде чем другие уче-
ные измерили Землю более точно.
Если Эратосфен пользовался греческой стадией, ошиб-
ка получается большей:
189,7 X 250 000 = 47425
1000
но и в этом случае она равна всего лишь одной шестой
истинной величины.
20
Глава 4
ВОЛОС С МОВДЫ ОСЛА.
Греческие ученые, жившие после Эратосфена, не раз
пытались проверить его измерение. Пользовались они тем
же способом, что и Эратосфен, но вместо Солнца измеря-
ли высоту звезд. Результат у них всегда получался более
далеким от истины. Так, один ученый, Клеомед, сильно
преувеличил размеры Земли, другой, Посидоний, их пре-
уменьшил. Но ему почему-то верили больше, чем Эрато-
сфену, и его цифра, 34 146 км, в течение многих веков
считалась правильной.
Разрешив, как они считали, вопрос о величине Земно-
го шара, греческие ученые занялись измерением ойкуме-
на, то есть населенной части Земли.
Грекам долгое время не приходило в голову, что, кро-
ме знакомых им стран, окружающих Средиземное и Чер-
ное моря, могут существовать и другие обширные мате-
рики, где живут другие народы. Ойкумен представлялся
им в виде круглого островка, окруженного Океаном.
В IV веке этот взгляд несколько изменился. Парменид
и Аристотель ввели деление Земли на пять поясов: тро-
пический, два умеренных и два полярных. Они считали,
что ни люди, ни животные, ни растения не могут вынести
холода полярных и жары тропических стран. Что касает-
ся южного умеренного пояса, то они допускали наличие
в нем живых существ, о которых, однако, люди никогда
не узнают, так как они отделены от них непроходимой
стеной палящего зноя. Солнце сожжет всякого, кто дерз-
нет переступить за нее. Уже в областях, близких к тро-
пику, «...нет гор, на которых могли бы собираться облака
и выпадать дождями. Даже реки не протекают через эти
страны. Животные рождаются здесь с курчавыми волоса-
ми, изогнутыми рогами, торчащими губами и расплющен-
ными носами, ибо оконечности их членов загибаются от
жары и сухости».
Таким образом, ойкумен приобрел форму полосы, вы-
тянутой с востока на запад, по концам упиравшейся в
океаны, а с боков зажатой между льдом и огнем.
О величине и форме ойкумена в течение почти пол-
тысячи лет велись бесчисленные споры. Географы с оже-
сточением нападали друг на друга. Одни считали, что от-
ношение длины ойкумена к ширине равно 2:1, другие —
5:3. Этот вопрос казался им самым важным из всех не
21
Рис. 17. Определение гео-
графической широты по
высоте Полярной звезды.
Рис. 16. Глобус Кратеса
Малосского. Это пер-
вый глобус, изображе-
ние которого до нас
дошло. Суша на нем
разделена на четыре
части двумя пересекаю-
щимися океанами. На
одной четверти живут
известные грекам на-
роды; три других
Кратес населил фанта-
стическими существа-
ми: периэками, антэка-
ми и антиподами.
разгаданных еще тайн географии.
Но измерять большие расстояния
они не умели.
На помощь географам пришли
астрономы. Великий астроном Гип-
парх ввел в употребление сеть гео-
графических координат. Он провел на глобусе 360 ме-
ридианов и столько же параллелей. По его учению, для
определения места, занимаемого на Земле каким-либо
городом, нужно отсчитать число параллелей от него до
экватора, то есть определить его географическую широ-
ту, а также число меридианов до начального меридиана,
то есть определить его долготу. Гиппарх только ту кар-
ту считал правильной, на которой все города были
нанесены не по рассказам путешественников, а по геогра-
фическим координатам. Координаты же он учил опреде-
лять с помощью астрономических наблюдений. Для опре-
деления широты достаточно измерить в градусах высоту
Полярной звезды над горизонтом. Если, например, в
’Афинах Полярная звезда стоит на высоте 38°, это зна-
чит, что Афины находятся под 38° северной широты.
Это нетрудно доказать (рис. 17).
Представим себе, что наблюдатель находится в точке А.
Направление на Полярную звезду, АП1{ всегда парал-
лельно земной оси. В самом деле, эту звезду потому и
22
назвали Полярной, что она находится в «полюсе мира»,
то есть в той точке неба, в которую направлена земная
ось. Линии ЦП и А/7, сходятся в центре Полярной звез-
ды. Но так как расстояние до нее громадно, то схожде-
ние линий совсем незаметно, и их можно с достаточной
точностью принимать за параллельные.
Итак, прямая АП, параллельна ЦП и, следовательно,
перпендикулярна плоскости экватора:
АП, перпендикулярна ЭЭ,.
Линия горизонта в точке А перпендикулярна земному
радиусу, проведенному в этой точке:
/7'1 перпендикулярна ALL
Таким образом, обе стороны угла ГАП„ выражающе-
го высоту Полярной звезды над горизонтом в точке А,
перпендикулярны сторонам угла АЦЭ, выражающего гео-
графическую широту точки А. Но углы с перпендикуляр-
ными сторонами равны. Следовательно,
/ ГАПХ = Z АЦЭ,
что и требовалось доказать.
Определять долготу Гиппарх умел по высоте Луны во
время затмений. Люди, находящиеся в разных городах,
наблюдают начало затмения в один и тот же момент. Но
Луна в этот момент стоит в более восточном городе вы-
ше, в более западном — ниже. Измерив высоты Луны над
горизонтом в обоих городах, можно по разности их вы-
считать число градусов долготы между городами. Способ
этот неудобен: затмения бывают редко, а в решительный
момент Луну может закрыть облако.
Все же Гиппарх и его ученики определили координаты
нескольких главных городов. Они наносили их на карту,
по карте измеряли расстояние между ними и умножали
на масштаб. Таким путем они определяли расстояние
между городами. Это был громадный шаг вперед по
сравнению с подсчитыванием шагов верблюда.
Последний из великих александрийских ученых, астро-
ном и географ Клавдий Птолемей, живший во II веке на-
шей эры, пользуясь приемами Гиппарха, составил геогра-
фический атлас, в котором собрал все, что было известно
о Земле в его время. Но особенно он прославился своей
системой устройства мира. По его учению, Земля поко-
ится в центре вселенной, а небесные светила, включая и
23
Солнце, ходят вокруг
нее, описывая подчас
весьма сложные фигу-
ры. Это учение было
признано всеми и гос-
подствовало пятна-
дцать веков, пока не
было вытеснено уче-
нием Коперника.
На смену грекам
пришли римляне. Они
были очень воинст-
венны и очень прак-
тичны. Все их внима-
ние было сосредото-
чено на завоеваниях и
управлении громадной
империей. Наукой же
они занимались мало.
Рис. 18. Клавдий Птолемей. Они, вероятно, ОТ ду-
ши смеялись бы, если
бы кто-нибудь предложил им заняться измерением Зем-
ного шара: настолько бесполезным должно было пока-
заться им это занятие.
В VI веке Римская империя распалась. Наступило вре-
мя одичания, когда не только исчезла всякая живая науч-
ная мысль, но и то, что открыли греки, было основатель-
но забыто. Среди всеобщего мрака суеверий и невежест-
ва только в государстве арабов процветали науки. Халиф
Гарун-аль-Рашид, прославленный в сказках «Тысячи и
одной ночи», старался подражать египетским царям Пто-
лемеям. Он также собирал в своей столице Багдаде уче-
ных, а сохранившиеся сочинения греческих авторов при-
казывал разыскивать и переводить на арабский язык.
Еще более увлекался греческой наукой его сын, ха-
лиф Аль-Мамун. Победив византийского императора, он
заставил его заплатить дань книгами. Именно при нем,
после большого промежутка, возродился интерес к изме-
рению Земли.
В 827 году два арабских астронома, Халиб-ибн-Абдул-
малик и Али-ибн-Иса, с группой помощников пришли на
гладкую, как стол, пустынную равнину Синджар в север-
ной Месопотамии. Они измерили высоту Полярной звезды
и, разделившись, разошлись — на север и на юг. Обе пар-
24
тии шли и измеряли пройденный путь шестами. Северная-
партия остановилась тогда, когда Полярная звезда оказа-
лась на 1° выше, чем вначале, южная — когда она оказа-
лась на столько же ниже. Таким образом, каждая партия
отошла от начальной точки вдоль меридиана на 1° широ-
ты и измерила длину дуги, соответствующей этому гра-
дусу. Потом астрономы вновь сошлись, чтобы сравнить
результаты. Результаты почти совпали. Длина одного
градуса оказалась равной 56% арабской мили.
Мы не можем проверить точность их работы, так как
не знаем достоверно, чему равнялась арабская миля. В од-
ной старинной рукописи сказано, что она равна 4000 лок-
тей, локоть же равен ширине 8 кулаков, кулак — ширине
4 пальцев, палец — толщине 6 ячменных зерен, а ячмен-
ное зерно — толщине 6 волос с ослиной морды.
Современным ученым, пожелавшим хоть приблизи-
тельно проверить точность вычислений арабов, пришлось
заняться стрижкой ослов. Из многочисленных измерений
ими было установлено, что толщина волоса с ослиной
морды равна 0,(4) ым (ноль четыре десятых в периоде)^
Рис. 19. Карта мира, составленная Птолемеем.
Если за одиннадцать веков ослы не стали более или, на-
оборот, менее грубошерстными, длина земной окружно-
сти по арабскому измерению оказывается равной:
0,(4) X 6 X 6 X 4 X 8 X 4000 X 56 X 360
---------------------------------------= 41,779 км.
1000X1000
©э
у
Рис. 20. Арабская карта мира.
Несмотря на большие познания
в математике и астрономии,
арабы совершенно не умели
чертить карт. Легко себе пред-
ставить, каково было путеше-
ствовать с помощью изображен-
ной здесь карты. Многочислен-
ные закорючки — это не изо-
бражение линий на местности,
а лишь надписи арабским шриф-
том.
Прекрасный результат для того времени!
Как мы видим, всякое
измерение длины меридиа-
на сводилось к двум от-
дельным операциям:
1) измерению в граду-
сах посредством астроно-
мических наблюдений рас-
стояния между двумя точ-
ками, выбранными на этом
меридиане (то есть опре-
делению разности их гео-
графических широт);
2) измерению непосред-
ственно по земле расстоя-
ния между теми же точка-
ми в единицах длины.
Из этих двух операций
первая была более легкой,
вторая же оказалась очень
трудной. Гладкую откры-
тую равнину длиной не
меньше градуса (около
110 км) можно было най-
ти далеко не в каждой
стране. Но, даже и найдя,
перемерить какой-либо мер-
кой такое громадное рас-
стояние, значило проделать
утомительную и кропотли-
вую работу.
При передаче результатов измерений из века в век и
от народа к народу первая операция никогда не вызыва-
ла недоразумений. Все знали, что такое градус, и у всех
он был один и тот же. Наоборот, меры длины у каждого
народа были свои, к тому же они постоянно изменялись,
и установить, чему равнялась та или иная старинная
единица длины, часто оказывалось невозможным.
26
Глава 5
ЗЕМЛЯ В СУНДУКЕ
В средние века церковь объявила беспощадную войну
науке. Одни монахи сжигали ученых и их книги на ко-
страх; другие пытались примирить науку с религией и
объяснить устройство мира, не вступая в противоречие
со священным писанием. При этом они, конечно, отказа-
лись от шарообразной формы Земли и вернулись к пло-
ской.
Первым и самым интересным из христианских геогра-
фов был Козьма Индикоплов («плаватель в Индию»). Он
жил в VI веке в Александрии. Свое прозвище он полу-
чил недаром: в молодости он был купцом и плавал в
Индию, на Цейлон и в Абиссинию. К старости он по-
стригся в монахи и написал книгу, которую назвал «Хри-
стианская топография». В этой книге Козьма описывает
виденные им страны и народы. О них он рассказывает
только правду. Все его описания очень точны и представ-
ляют большую ценность для историков.
Но ценность книги сразу уменьшается, как только
Козьма переходит к описанию устройства Земли, Солнца,
звезд и т. п. Относительно формы Земли он рассуждает
так: когда евреи были изгнаны из Египта и блуждали в
пустыне, они построили переносный храм — скинию.
Скиния разбиралась подобно палатке. Бог сам научил
евреев, как ее построить, поэтому она была священным
предметом. Следовательно, Земля должна походить на
скинию.
Сделав такой неожиданный вывод, Козьма принялся
натягивать Землю на выбранную им колодку. Вот что
у него получилось. Земля имеет форму прямоугольника.
Она окружена такой же прямоугольной рамкой океана.
За океаном на востоке — рай. По краям Земли и рая
поднимаются отвесные стены. Две более длинные схо-
дятся сводом, образуя крышу мира (рис. 21). Но в мире,
как в доме, кроме крыши имеется еще и потолок —
твердь. Этот потолок разделяет все пространство на две
части — нижнее, жилое, в котором помещаются растения,
животные, люди, ангелы, Солнце, Луна и звезды, и верх-
нее, чердак, или, по выражению Козьмы, «второе место,
именуемое царством небесным». Царство небесное слу-
жит, между прочим, резервуаром для воды. Вода налита
сверху прямо на твердь. Когда должен итти дождь, ан-
27
Рис. 21. Устройство
вселенной по Козьме
Индикоплову. Прост*
ранство с цветами и
птицами — наш мир.
Свод над ним—твердь.
Над ней — царство не-
бесное. Сложные фигу-
ры в нем — волную-
щиеся небесные воды.
зят по небу Солнце,
Рис. 22. Вращение небесных све-
тил по Козьме Индикоплову.
К внутреннему вращающемуся кру-
гу прикреплена Луна, к следую-
щему — Солнце. Каждый ангел,
стоящий между спицами большого
колеса, держит в руках по звезде.
гелы откупоривают многочислен-
ные отверстия в тверди, и часть
воды проливается. Они же во-
Луну и звезды (рис. 22).
Козьма не остановился и перед измерением Земли. Он
«высчитал», что длина этого душного мира, запертого
в сундук с двойной крышкой, 400 дневных переходов,
а ширина — 200.
Козьма всячески издевался над учением о шарообраз-
ности Земли и существовании антиподов. Он писал:
«Если кто-либо пустится в рассуждения об антиподах,
то его бабьи сказки легко можно высмеять. Представим
себе, что два человека стоят ногами друг к другу на про-
тивоположных сторонах Земли. Не ясно ли, что раз один
из них стоит в естественном положении, другой должен
оказаться вниз головой? Такие вещи бессмысленны и
чужды нашей природе. И как же будет падать на них
дождь — на одного вниз, а на другого вверх? Нет, в этих
нелепых учениях есть над чем посмеяться!»
Отцы церкви не одобрили учения Козьмы Индикопло-
28
ва. По их соображениям выходило, что Земля тоже пло-
ская и накрыта крышкой, но форма ее не прямоуголь-
ная, а круглая (рис. 23). Тем не менее еще в X веке на-
ряду с круглыми мировыми картами чертились прямо-
угольные. То, что на них изображалось, не имело ничего
общего с истинной формой материков и морей. В центре
всегда помещался Иерусалим, потому что там находился
гроб господень. Карта чертилась востоком кверху, пото-
му что на востоке, по понятиям того времени, находился
рай, а ему должно было быть отведено самое почетное
место. Все свободное место на карте заполнялось изобра-
жениями людей, зверей, растений, городов (рис. 24). Чем
ближе к краю располагалась страна, тем чудеснее оказы-
вались ее обитатели. Чего только тут не было! (рис. 25).
Изображались люди одноногие, одноглазые, трехрукие,
безротые, питающиеся запахом цветов; бегуны на одной
ноге, временами пользующиеся единственной ногой в ка-
честве зонтика; центавры (полулюди, полулошади); си-
Рнс. 23. Плоская круглая Земля, накрытая твердью. Монах-путе-
шествепник, дошедший до края Земли, проткнул головой твердь
н разглядывает <небесные сферы».
Нис. 24. Средневековая карта переходного типа. Здесь круглая
Земля, окруженная океаном, вставлена в рамку, напоминающую
скинию. В углах, между океаном и рамкой, помещены рай и за.
рены (полулюди, полурыбы); большегубые люди, закры-
вавшиеся нижней губой от солнца; циклопы — великаны,
на ночь вместо одеяла завертывавшиеся в свои уши;
безголовые люди с глазами и ртом на груди и многие
другие. Такую карту можно было с интересом разгля-
дывать часами, но проехать куда-либо с помощью ее
было невозможно. А между тем нужно было ездить.
30
Морская торговля, заглохшая
во время нашествия варваров,
вновь начала оживать, как толь-
ко народы, худо ли, хорошо
ли, расселились на новых ме-
стах. Итальянские и каталонские
моряки, плававшие по Средизем-
ному морю и рисковавшие да-
же выходить в Атлантический
океан, тщетно ждали, когда уче-
ные монахи вычертят для них
Рис. 25. Чудовища со
средневековой карты.
правильные и удобные карты.
Не дождавшись, они начали сами чертить морские кар-
ты — п о р т о л а н ы.
Портоланы (рис. 26) чертились на пергаменте, то есть
выделанной особым образом коже, яркими красками:
черной, красной, зеленой, синей, желтой, золотой и се-
ребряной. На них очень подробно наносились берега и
острова, выписывались названия даже ничтожных бухто-
Рис. 26. Портолан западной части Средиземного моря.
Рис. 27. Старинный
китайский компас,
по преданию —
первый в мире.
Намагниченная же-
лезная фигурка
надета на шпильку,
укрепленную на
передке колесни-
цы. Рукой она всег-
да показывает на
чек, мысов, прибрежных деревень. Но
внутренность материков оставалась не-
заполненной: для моряков она как бы
не существовала.
Градусной сети на портоланах не
было. Вместо нее, образуя красивое
кружево, разбегались линии румбов.
Эти линии шли в направлении 16 или
32 главных точек компаса (румбов) с
С на /О, с 3 на В и так далее. Моряк,
отправляясь из одного порта в другой,
определял по карте, .параллельно какой
линии румбов лежит его путь, и потом
все время придерживался этого напра-
вления, ведя корабль по компасу.
Портоланы были гораздо правиль-
нее всех более ранних карт, даже гре-
ческих, хотя при составлении их ши-
рота и долгота городов по светилам не
определялись. Расстояния на море из-
мерялись попрежнему продолжительно-
стью хода корабля, но результаты при
недалеких плаваниях получались не-
сравненно более точные, чем у греков,
так как к этому времени были изобре-
тены компас, часы и л а г (прибор для
измерения скорости хода судна).
Время шло, и корабли торговцев.
север. искателей приключений и морских раз-
бойников начали бороздить волны оке-
ана, уходя в такую даль, о которой не-
давно еще не отваживались думать и самые смелые. Пор-
толаны охватывали все большие пространства и вместе с
тем становились все менее точными. Причина была не в
том, что составители их хуже стали работать, а в том,
что они их чертили в расчете на плоскую Землю. На ма-
леньких участках разница между плоской и шарообраз-
ной поверхностью невелика, и потому заметной ошибки
на картах не получалрсь. Но на обширных пространствах
картографам никак не удавалось свести концы с концами,
и искажение получалось очень большое. Нужно было пе-
рейти к правильным картографическим проекциям, то
есть способам изображения шаровой поверхности на пло-
скости с наименьшим искажением. А для этого надо бы-
32
ло твердо признать, что Земля шар, и измерить ее, так
как без знания размеров Земли нельзя вычертить ни од-
ной правильной карты, охватывающей большую площадь.
Астрономы вновь принялись за наблюдения. И хотя
многие из них были монахами, они постепенно все твер-
же убеждались в шарообразности Земли. Людям стано-
вилось душно в сундуке Козьмы Индикоплова, сказка о
плоской Земле трещала по всем швам, а Земной шар,
казалось так прочно похороненный, вновь выплывал в
сознании людей.
Глава в
ПОЛЕЗНЫЕ ОШИБКИ
Настало время, когда сам римский папа вынужден был
уступить науке и признать шарообразность Земли. Но он
все еще не мог допустить ее вращения. Взгляды Аристо-
теля и Птолемея были восприняты церковью и сделались
обязательными наравне со священным писанием.
Как только церковь разрешила считать Землю шаром,
вновь закипели споры о ее величине. Невежественные и
отсталые люди еще стояли по привычке за плоский круг,
а передовые, смелые умы уже обдумывали планы круго-
светных путешествий. Настала бурная эпоха великих от-
крытий.
Между Испанией и Португалией шла борьба за тор-
говый путь в Индию. Индия была сказочно богата, от-
туда притекали в Европу драгоценные товары: золотые
и серебряные изделия, самоцветы, шелка, ковры, пря-
ности. Самый старый и самый короткий путь в Индию —
через Средиземное море — был закрыт турками. Порту-
гальцы, чтобы попасть в Индию, решили объехать вокруг
Африки. Десятилетиями, шаг за шагом они осуществляли
свой замысел, продвигаясь вдоль африканского берега.
Испания с завистью смотрела на успехи соперницы.
В это время Колумб и предложил испанской королеве
план, еще более смелый, чем португальский: объехать во-
круг Земли и зайти в тыл и туркам и португальцам. Он
утверждал, что этот путь ближе и легче португальского.
Он верил, что легче объехать вокруг света, чем вокруг
Африки.
Колумб, конечно, не знал, что западный путь из Евро-
пы в Азию прегражден неизвестным материком. Он не
3 Как измерили Землю 33
Рис. 28. Колумб излагает свой план испанской королеве,
подозревал также о существовании громадного Тихого
океана. Он был уверен, что напротив Европы, на запад-
ном берегу Атлантического океана, находятся Китай и
Япония. Океан же этот он считал нешироким, охваты-
вающим лишь немного больше одной трети земной ок-
ружности. Откуда он взял эту цифру?
Предприятие, задуманное Колумбом, многим казалось
чистым безумием. Колумбу долго не удавалось получить
помощь от испанской королевы. Он обратился за под-
держкой к итальянскому географу Тосканелли, который
был горячим сторонником шарообразности Земли и еще
раньше Колумба советовал искать западный путь в Азию.
Разумеется, он горячо поддержал Колумба. Он прислал
ему карту своей работы (рис. 29), на которой впервые
была изображена «обратная», то есть неизвестная сторо-
на Земли, покрытая океаном. К карте он приложил ко-
пию письма, написанного им ранее для передачи порту-
гальскому королю. В письме заключался расчет длины
пути. Старому ученому (ему было уже восемьдесят три
года) страстно хотелось дожить до осуществления своей
мечты, и потому он пересыпал расчеты преувеличенны-
ми описаниями богатств Азии. Он надеялся, что ни один
король не устоит против такого соблазна:
34
«От города Лиссабона до великого и блестящего горо-
да Кинсая, имеющего в обхвате 100 миль, нанесено
26 делений. Каждое деление равно 250 милям, что состав-
ляет в общей сложности около одной трети земной
окружности. В Кинсае имеется 10 мраморных мостов. Имя
этого города означает «Небесный город». Много удиви-
тельных вещей рассказывают о нем, о большом искус-
стве его ремесленников и об огромных доходах их.
От острова Антилии до славного острова Чипанго
(Япония) расстояние равно всего 2500 милям. Этот
остров изобилует золотом, жемчугом и драгоценными
камнями. Храмы и дворцы на нем крыты чистым золо-
том.
Часть моря, которую нужно проплыть по неизвестно-
му пути, незначительна».
Вот из этого-то письма Колумб и черпал свое вдохно-
вение и свою уверенность в успехе. Если бы он знал, что
старый географ ошибся почти вдвое, что западный путь
из Европы в Азию охватывает не Уз, а около % земной
окружности, что от Португалии до Китая не 12 000 км,
Рис. 29. Карта «обратной» стороны Земли, составленная Тоска-
неллн.
3*
как выходило по его расчету, а
приблизительно 21 000 км (да
и то наперерез Америке), то
при всем своем мужестве и
решимости он, вероятно, не от-
важился бы на такое плавание.
Но почему ошибся Тоскане л-
ли? Потому, что, во-первых, из-
мерение Эратосфена было за-
быто, а новых, более точных, не
было; во-вторых, о величине
Европы и Азии существовали
самые фантастические представ-
ления. Тосканелли, желая дока-
Рис. зо. Географ эпохи зать возможность кругосветно-
великих открытий. го плавания, невольно поддался
соблазну: из всех известных
цифр, полученных греками при
измерении Земли, он выбрал самую маленькую — цифру
Посидония. Затем, изучая споры древних о длине ойку-
мена, он взял неправдоподобно большую цифру, высчи-
танную во II веке нашей эры Марином Тирским. На пре-
уменьшенную Землю он наложил преувеличенный ойку-
мен (то есть Европу и Азию) и с радостью увидел, что
обогнул Землю почти вокруг. Сокровища Востока оказа-
лись где-то совсем близко. Оставалось переплыть лишь
узенький Атлантический океан!
Так из совпадения ошибок Посидония, Марина и
Тосканелли возник план Колумба, который привел в
1492 году к величайшему открытию в истории геогра-
фии — к открытию Америки. Но три ошибки породили
четвертую: Колумб так был уверен, что Индия близка,
что принял Америку за Индию и, побывав в ней четыре
раза, так и умер в убеждении, что поступил правильно,
назвав жителей этой земли индейцами.
У Колумба было очень своеобразное мнение о форме
Земли. Попав в устье реки Ориноко и не понимая, от-
куда берется такая масса пресной воды, а также разду-
мывая над тем, почему здесь прохладней, чем на той же
широте у берегов Африки, он пришел к такому выводу:
<Я всегда считал, что Земля имеет форму шара. Но
теперь я составил себе совсем иное представление. Она
имеет форму груши, несомненно округлой, но удлинен-
ной в том месте, где находится веточка. Это возвышение
36
ближе к небу. Именно
этим объясняется то, что
суда в ста лигах за
Азорскими островами на-
чинают постепенно плав-
но подниматься к небу.
Поэтому температура ста-
новится прохладнее... На
вершине выступа нахо-
дится рай. Именно отту-
да притекают эти огром-
ные количества пресной
воды...»
п
Плавание Колумба
внесло путаницу не толь-
ко в вопрос о форме, но
и в вопрос о величине
Земли. Оно усилило дол-
го господствовавшее за- Рис- 3L фе₽Динанд Магеллан,
блуждение, что Земля
невелика и большая часть ее уже известна. Если принять
вместе с Колумбом, что Антильские острова — продолже-
ние Японских, а Тихого океана не существует, то окруж-
ность земного шара оказывается равной всего лишь око-
ло 24 000 км.
Исправление этого заблуждения выпало на долю Ма-
геллана. Его знаменитое плавание окончательно убедило
современников в двух вещах:
1) в том, что Земля — шар или тело, близкое к нему
по форме;
2) в том, что этот шар гораздо больше, чем предпо-
лагал Колумб.
Вопрос о форме Земли можно было считать раз и на-
всегда решенным. Что касается ее величины, то в этом
вопросе экспедиция Магеллана лишь помогла обнаружить
ошибку Тосканелли, но к вычислению каких-либо новых
цифр не привела.
Этого и следовало ожидать. Определение пройденно-
го расстояния по скорости корабля при таком продолжи-
тельном плавании, как плавание Магеллана, получалось
слишком неточным; по Солнцу же и звездам моряки тех
времен умели определять лишь широту посредством аст-
ролябии, которая была изобретена еще Гиппархом. Перед
началом века великих открытий астролябию усовершен-
Рис. 32. Астролябия Региомонтана.
ствовал немецкий ученый Региомонтан. Вот как она была
устроена (рис. 32).
Тяжелый медный диск Д подвешивался за кольцо К.
Благодаря своему большому весу (4—5 кг) он висел вер-
тикально даже во время качки. При этом линия ГГ
принимала горизонтальное положение. Полоса АА, назы-
ваемая алидйдой, вращалась по диску на оси, укреп-
ленной в центре диска, причем концы ее передвигались
по шкалам, разделенным на градусы. На концах алидады
были установлены две поперечные пластинки с отверстия-
ми, называемые диоптрами. Когда нужно было опре-
делить высоту звезды, наблюдатель прикладывал глаз к
нижнему диоптру и поворачивал алидаду так, чтобы
звезда была ему видна через оба отверстия. Деление на
шкале, около которого останавливался край алидады, и
показывало высоту звезды в градусах.
Неудобство астролябии заключалось в том, что для
38
Рис. 33. Магеллан на корабле во время кругосветного плавания.
Рис. 34. Слева — простой якобштаб. Справа — усовершенствованный.
На конце стержня С вместо диоптра укреплено зеркальце. Наблю-
датель видит в нем изображение Солнца, совмещенное с горизон-
том. Таким образом ему не надо раздваивать внимание в двух
направлениях.
работы с ней нужны были три человека: один держал ее
навесу, второй наводил алидаду, третий отмечал и запи-
сывал отсчет.
Для измерения полуденной высоты Солнца существо-
вал другой прибор: якобштаб (рис. 34, левый). Он состоял
из легкого деревянного стержня CCt. По стержню сво-
бодно скользила втулка В, а к ней был прикреплен вто-
рой поперечный стержень ПП„ перпендикулярный к пер-
вому. Когда втулка двигалась по стержню CClt угол ПСП„
образованный концами длинного и короткого стержней,
изменялся. На стержень С С, наносилась шкала в градусах
таким образом, что деление у края втулки В всегда по-
казывало величину угла ПСП,. В точках С, П и /7, при-
креплялись диоптры.
Наблюдатель подводил к глазу отверстие диоптра С и
старался держать якобштаб так, чтобы видеть линию го-
ризонта через диоптры С и П. В то же время он пере-
двигал поперечный стержень вдоль продольного до тех
пор, пока Солнце не попадало на линию диоптров С/7>.
Тогда угол ПСП, и показывал высоту Солнца над гори-
зонтом. Оставалось придержать поперечный стержень
рукой и прочесть отсчет на шкале.
С якобштабом мог управиться один человек, но, в
отличие от астролябии, с ним нельзя было работать, ко-
гда г, ризонт был чем-нибудь закрыт.
40
Якобштаб и астролябия позволяли определять рассто-
яние на море при плавании вдоль меридиана. Магеллан
же плыл в основном вдоль параллелей и, не умея опре-
делять долготы, не мог измерить длину своего пути.
Глава 7
ДОКТОР ФЕРНЕЛЬ СЧИТАЕТ ОБОРОТЫ
КОЛЕСА
Через четыре года после возвращения спутников Ма-
геллана в изучении Земли был сделан новый важный
шаг. Его сделал молодой француз, доктор Фернель. Живя
в Париже, он совершил путешествие в его ближайшие
окрестности. Эта прогулка не заключала в себе ничего
героического и осталась не замеченной современниками и
потомками. И тем не менее она заслуживает того, чтобы
рассказ о ней поставить рядом с воспоминаниями о слав-
ных плаваниях Колумба и Магеллана.
У Фернеля была одна страсть — астрономия. Ей он
отдавал все свободные минуты, на покупку астрономиче-
ских инструментов тратил все свои деньги. Это увлечение
и навело его на мысль повторить измерение Земли. Сколь
необычной была эта мысль в то время, можно себе пред-
ставить, если вспомнить, что в годы молодости Фернеля не
родились еще великие астрономы: Тихо Браге, Джордано
Бруно, Галилей, Кеплер, через полвека заставившие весь
образованный мир заняться спорами об устройстве Зем-
ли и неба; знаменитая книга Коперника еще не была
написана, а об измерении Земли никто не вспоминал
семьсот лет, со времени халифа Аль-Мамуна.
Фернель решил измерить дугу в 1°. В качестве такой
дуги он взял часть парижского меридиана, лежащую к
северу от столицы. Надо сказать, что с тех пор целый
ряд измерений Земли ограничивался одним градусом.
А если измеряли более длинную дугу, то все равно по ней
вычисляли длину одного градуса. Поэтому измерения
Земли стали называть градусными измерениями.
Фернель измерил полуденную высоту Солнца в Пари-
же 26 августа. Она оказалась равной 49° 13'. Далее, ему
нужно было найти место, где в это же время высота
Солнца была ровно на 1° меньше. Но он не мог мгновен-
но перелететь в это еще неизвестное ему место. На по-
иски его нужно было потратить несколько дней. Но Фер-
41
«ель знал, что в тот день, когда он его найдет, Солнце в
Париже будет стоять уже ниже (ведь приближалась
осень), и разница окажется меньше одного градуса.
Чтобы обойти это препятствие, Фернель по астрономи-
ческим справочникам рассчитал высоту Солнца в Париже
на несколько дней вперед. Получилась такая табличка:
26 августа 49° 13'
27 „ 48° 26'
28 „ 48° 05'
29 „ 47° 41'
Теперь, подвигаясь на север, он мог каждый день
сравнивать высоту Солнца в местах, куда он прибывал,
с высотой Солнца в Париже в этот же самый день. Фер-
нель сел в экипаж и поехал по Большой Северной доро-
ге. Каждый полдень он останавливался и производил
наблюдения. Наконец 29 августа его прибор показал вы-
соту Солнца 46° 4Г, то есть ровно на Г ниже, чем в то
.же время в Париже. Второй конец одноградусной дуги
меридиана был найден, он пришелся на небольшой город
Амьен (рнс. 35).
Фернель как можно тщательнее измерил окружность
колеса своего экипажа. Она оказалась равной 20 француз-
ским футам. Затем он приказал кучеру ехать шагом
назад в Париж.
Всю дорогу Фернель считал обороты колеса и насчи-
тал их 17 024. Затем он высчитал длину градуса мериди-
ана в общепринятых тогда во Франции мерах — туазах
<1 туаз = 1.949 м).
20X17024 сс_.„
—--------= 56747 туазам.
6
Откуда, умножая на 360 и переводя туазы в метры,
мы можем получить длину всего меридиана:
Ъ949Х^747 Х 360 _ 3981вкж
Фернелю повезло. Только этим можно объяснить уди-
вительную точность полученной им цифры. Дорога шла
не совсем прямо, экипаж описывал петли, объезжая
встречных, подпрыгивал на ухабах. Ошибка должна бы-
ла получиться гораздо большей, но различные неточно-
сти в измерении пути и высоты Солнца взаимно почти
уничтожились.
Все же способ измерения расстояний, придуманный
42
Рис. 35. Карта района градусных измерений и направление дуг
Фернеля, Снеллиуса и Пикара.
Фернелем, никак нельзя было назвать точным. Строго на-
учный способ лишь через девяносто лет нашел голланд-
ский математик Снеллиус.
Снеллиус родился в городе Лейдене, где его отец был
профессором математики. В познаниях он быстро догнал
отца: в шестнадцать лет он уже напечатал первую на-
учную статью, в девятнадцать — читал публичные лекции.
Потом он несколько лет работал за границей, где и по-
знакомился с великими астрономами своего времени Кеп-
лером и Тихо Браге. Когда умер его отец, он занял его
профессорскую кафедру. Вскоре после этого ему и при-
шла мысль произвести новое измерение земной окружно-
сти.
43
Рис. 36. Измерение расстояния до недоступного предмета.
Вот тут-то и пригодился пролежавший двадцать два
века под спудом способ измерения расстояний до уда-
ленных и недоступных предметов, изобретенный Фалесом
Милетским!
Этот способ заключается в следующем. Представим се-
бе, что нам нужно измерить расстояние от пристани А до
стоящего на якоре корабля К (рис. 36). Измерять море
линейкой или цепью, конечно, нельзя. Да в этом и нет
надобности. Надо наметить на берегу легко доступную
вторую точку Б и измерить расстояние АБ..Затем, встав
в точку А, надо каким-либо угломерным инструментом,
например той же астролябией, положенной горизонтально,
определить величину угла КАБ, а перейдя в точку Б —
величину угла КБА. Затем надо начертить на бумаге в
уменьшенном масштабе линию АБ (аб на малом черте-
же), построить по концам ее найденные углы и продол-
жить их стороны до пересечения. Где они пересекутся,
и будет место корабля К. Чтобы узнать расстояние от
него до пристани, остается только измерить отрезок ак и
умножить на масштаб.
Снеллиус понял, какие громадные преимущества дает
описанный выше способ измерения расстояний по срав-
нению со всеми теми способами, которые применяли его
предшественники. Нужно только не останавливаться на
измерении сторон одного треугольника (рис. 37). Из-
мерив точной линейкой или цепью маленький отрезок
44
ППи выбранный на ровном и удобном месте, можно опре-
делить расстояние от одного из его концов, скажем, до
мельницы М. Затем это расстояние МП можно взять за
основание нового, уже большего треугольника, избрав
его вершиной холм X и определив тем же способом рас-
стояние MX. Так, переходя от одного видного издалека
предмета к другому и постепенно увеличивая размер
треугольников, можно покрыть ими громадную полосу
Земли и высчитать ее длину, не измеряя линейкой ниче-
го, кроме короткого расстояния /7/71.
Открытый им способ Снеллиус назвал триангуля-
цией, от французского слова triangle, что значит тре-
угольник. Отрезок /7/7п с которого начинается триангу-
ляция, он назвал базисом, то есть основанием.
При триангуляции не страшны изгибы дорог, да и
сами дороги нужны лишь для того, чтобы наблюдатель,
производящий измерение, мог переходить от одной воз-
вышенной точки к другой. Сидя где-нибудь на вершине
башни или горы и наводя свой инструмент, или, как при-
нято говорить, визируя, на две другие выбранные им
точки местности, он может своим взглядом сразу изме-
Рис. 37. Триангуляция.
Рис 38. Голландский пейзаж.
рить километры пути, хотя бы путь этот и пролегал по
непроходимым лесам, топким болотам, крутым горам,
широким озерам и рекам.
Снеллиус на свои весьма скромные средства купил
нужные инструменты и с 1615 года начал бродить по
Голландии, терпеливо, треугольник за треугольником,
строя сеть, которая должна была охватить всю западную
часть страны. Надо сказать, что Голландия была словно
нарочно создана для триангуляции (рис. 38): ровные, как
скатерть, поля, открытые со всех сторон и как бы неза-
метно переходящие в море; густо рассеянные деревни и
хутора, где всегда легко было найти ночлег и провизию;
наконец, бесчисленные мельницы, колокольни и зймки,
которые можно было использовать в качестве видных
издалека и в то же время неизменных «сигналов» — вер-
шин треугольников.
Снеллиус работал с перерывами три года и измерил
дугу между городками Алькмааром и Берген-оп-Зоомом
(рис. 35). Длина дуги равнялась 1° 11'30*.
Несмотря на то, что Снеллиус применил самый точный
способ измерения, каким пользуются и в наше время, ре-
зультат у него получился менее точный, чем у Фернеля.
46
Рис. 39. Квадрант XVII века. Здесь изображен большой квадрант
неподвижно установленный в обсерватории для определения по-
ложения небесных светил. Переносный квадрант Снеллиуса был
много меньше, во устроен так же, как и этот.
По его вычислениям градус оказался равным 55 021 туа-
зу, земной меридиан:
1,949 X 55 021 X 360,^^ км
1000
Главная причина неудачи Снеллиуса заключалась в
том, что он шел впереди своего времени. Открытый им
способ был превосходен, но точных приборов, которые
позволили бы использовать все преимущества этого спо-
соба, еще не существовало.
Снеллиус измерял углы посредством квадранта
(рис. 39) — тяжелого медного инструмента, представляю-
щего собой астролябию, у которой нехватает трех чет-
вертей окружности. Оставалась одна четверть, на которой
были нанесены деления и по которой скользила одно-
сторонняя алидада с диоптрами. Квадрант имел то пре-
имущество перед астролябией, что оставшуюся четверть
можно было делать большого радиуса (квадрант Снелли-
уса имел радиус около 70 см), но все же добиться при
работе с ним точности измерения углов хотя бы в 1' бы-
ло почти невозможно. А между тем ошибка в Г при опре-
делении высоты звезды давала разницу в длине градуса
на 2 км.
Глава 8
ЗЕМЛЯ—НЕ ШАР!
Жан Пикар (рис. 40) родился в 1620 году во Франции,
в глухом местечке Ля Флеш. В молодости он был садов-
ником в имении какого-то герцога и уже в это время
заинтересовался астрономией. Но ему не сразу удалось
посвятить себя любимому делу. Сперва он поступил в цер-
ковную школу и стал священником. Духовный сан дал.
ему возможность завести знакомства в ученом мире. Он
подружился с известным астрономом Гассенди, профессо-
ром Парижского университета. Помогая ему в научных
работах, Пикар настолько освоился с астрономией, что
после смерти Гассенди был назначен на его место. Неза-
долго перед тем была основана Парижская академия
наук, и Пикар был включен в число ее первых семи ака-
демиков.
Делом своей жизни Пикар считал постройку при Ака-
демии большой обсерватории. Он занялся составлением
48
Рис. 40. Жан Пикар.
плана ее, и когда скупое
правительство медлило с
выдачей денег, он, в не-
терпении, тратил свои сбе-
режения.
Чтобы ускорить работы,
Пикар добился приглаше-
ния из Италии талантливо-
го астронома Джованни
Кассини. Но Кассини обма-
нул его ожидания. Пока
скромный и трудолюбивый
Пикар работал над созда-
нием обсерватории, ловкий
итальянец постарался вте-
реться в придворные кру-
ги, вошел в доверие к ко-
ролю Людовику XIV и ис-
пользовал свое влияние,
чтобы опорочить проекты Пикара. Когда в 1669 году об-
серватория была открыта (рис. 41), Кассини получил ме-
сто директора ее вместе со званием академика.
Отстраненный от любимого дела, Пикар принял пред-
ложение Академии и занялся новым градусным измере-
нием. Он измерил дугу меридиана между пригородом
Парижа Мальвуазеном и Амьеном (рис. 35).
Пикар, как и Снеллиус, не стремился к тому, чтобы
дуга имела длину ровно в 1°. Определив по концам ее
астрономические пункты, то есть точки, геогра-
фические координаты которых он вычислил по небесным
светилам, он подсчитал длину дуги в градусах. Она ока-
залась равной 1°22'55". Разделив найденное измерением
расстояние между астрономическими пунктами на это
число, он получил длину дуги в 1°.
Самое измерение Пикар производил по способу триан-
гуляции. Но он принял такие меры предосторожности,
о которых Снеллиус и не помышлял. Для базиса он вы-
брал участок ровной мощеной дороги, идущей по пря-
мой линии на протяжении 10 км; на концах участка он
построил две каменные пирамидки; в них были задела-
ны вертикальные металлические стержни с крестами, на-
черченными на их верхних концах. Расстояние между
центрами этих крестов и было базисом триангуляции.
Пикар измерял базис двумя деревянными брусками,
4 Ка< ьзме; или Землю 49
Рис. 41. Парижская обсерватория во времена Пикара.
или, как их называют, жезлами, прикладывая их по
очереди один к другому. Чтобы жезлы ложились по пря*
мой линии, Пикар установил между пирамидками ряд
вех и натянул на них шнур. Надо сказать, что хотя жезлы
были сделаны из твердого и сухого дерева, они все-таки
слегка удлинялись от сырости, и это немного повлияло
на результаты измерения. Пикар измерил базис два раза
и взял среднюю из двух цифр.
Каждый жезл имел в длину 2 туаза. Пикара очень
беспокоила неточность этой величины. Ведь надежного
эталона (образцовой меры, с которой сравнивают все
остальные) в то время не существовало. В средние века
французы, стараясь увековечить свои меры длины, изме-
рили ступню короля и ее длину объявили длиной «па-
рижского фута». Неизвестно, изменялась ли длина ступ-
ни короля при его жизни, но не подлежит сомнению, что
следующие короли не все носили обувь одного и того
же номера, и, таким образом, этот эталон оказался еще
менее удобным, чем волос с морды осла.
Впоследствии в старинном замке Шателе в лестницу
вделали железную полосу. По концам к ней были привин-
чены две щечки. В Шателе привозили все вновь изготов-
60
ленные туазы. Если длина туаза была правильной, он
должен был как раз войти между щечками. Когда Пикар
привез в Шателе для проверки свои жезлы, он обнару-
жил, что щечки заржавели и от многолетнего употребле-
ния стерлись: полагаться на них было нельзя.
Пикар добился переделки железной полосы. Ее длину
назвали «нормальным туазом». Но Пикар на этом не
успокоился. Он боялся, что нормальный туаз когда-либо
пропадет и будущие ученые, не зная его длины, не смогут
проверить результаты прежних градусных измерений.
«Из опасения, — писал он, — чтобы с этим туазом не
произошло то, что случилось со всеми древними мерами,
от которых осталось одно лишь название, мы решили
связать его с мерою, которая, будучи взята из самой
природы, останется всегда неизменной».
Пикар был первым, который нашел такую меру. Ею
могла служить длина секундного маятника. Как
известно, период колебания маятника тем больше, чем
больше его длина и чем меньше сила притяжения Земли.
Пикар полагал, что сила притяжения всегда и везде оди-
накова. А раз так, то значит период колебания маятника
зависит только от его длины. Можно подобрать такую
длину, при которой маятник будет совершать ровно од-
но качание в секунду. Такой маятник и называется се-
кундным.
Пикар рассудил, что изготовить маятник, который со-
вершает одно качание в секунду, люди смогут всегда.
Если же будет известно, сколько раз в длине этого маят-
ника укладываются части туаза (футы, дюймы, линии),
то и длину туаза восстановить будет нетрудно.
Пикар изготовил секундный маятник, сравнил с ним
нормальный туаз и нашел, что в секундном маятнике
укладываются 36 дюймов 8,5 линии (туаз = 6 футам,
фут = 12 дюймам, дюйм = 12 линиям). Чтобы ученые в
будущем могли повторить и проверить его измерение, он
изготовил эталоны и туаза и маятника и сдал их на хра-
нение в Парижскую обсерваторию.
Затем Пикар приступил к самой триангуляции. Про-
странство между Мальвуазеном и Амьеном он разбил
на тридцать пять треугольников. Для измерения углов и
треугольников он построил новый квадрант (рис. 42). Во
времена Снеллиуса наблюдатель, визируя через диоптры
квадранта на отдаленный сигнал, не мог быть уверен, что
он навел алидаду точно на центр сигнала. Да и вообще
4* 51
Рис. 42. Квадрант с усовершен-
ствованиями, внесенными Пикаром.
сигнал на большой
расстоянии был пло-
хо виден. Пикару
пришла счастливая
мысль заменить диоп-
тры зрительными тру-
бами, которые неза-
долго до того были
изобретены Галилеем.
Для большей точ-
ности наводки Пикар
перед линзой трубы
установил сетку ни-
тей, то есть два пе-
рекрещивающихся во-
лоска. Визируя, он
всегда добивался та-
кого положения тру-
бы, при котором сиг-
нал попадал как раз
на скрещение воло-
сков, то есть на самую ось трубы.
Наконец, Пикар пристроил к квадранту микромет-
рический винт, то есть винт с червяком, вращая ко-
торый можно было передвигать алидаду медленно и плав-
но. С помощью квадранта Пикара можно было получать
отсчеты с точностью до четверти минуты.
Измерение Пикара, выполненное с такими предосто-
рожностями, дало гораздо более точный результат,
чем все предыдущие. Градус меридиана оказался
равным 57 060 туазам, а весь меридиан, в переводе на
наши меры:
i,949 X 57060 X 360 =40[036^
Прекрасная работа Пикара послужила толчком к раз-
витию геодезии, науки о форме и величине Земли.
Наступил век градусных измерений. В разных странах
геодезисты начали измерять градусы меридианов (рис. 43).
Но самые обширные и самые точные работы в течение
конца XVII и всего XVIII века велись французскими уче-
ными.
Результаты работ Пикара были напечатаны в 1671 го-
ду. Их ждали с интересом многие ученые Франции. Но с
62
наибольшим нетерпением ожидал их великий английский
физик и математик Ньютон (рис. 44).
Чтобы объяснить нетерпение Ньютона, надо вспом-
нить, в каком состоянии находилась тогда астрономия.
Благодаря трудам древних и новых ученых положение
на небе многих звезд было с точностью определено.
Сложные пути движения Луны и планет были изучены.
Астрономы уже умели предсказывать затмения и появле-
ние некоторых комет. Нехватало лишь одной, «мелочи»:
объяснения, почему небесные светила движутся так, а не
иначе и почему они вообще движутся.
Ньютон взял эту задачу на себя. Он хотел объяснить
движение небесных тел, исходя из простого и единого
закона природы и притом такого, правильность которого
можно было бы проверить на опыте. Этому закону долж-
ны подчиняться как небесные светила, так и предметы на
Земле. В то время эта мысль казалась очень новой и
очень дерзкой.
Упорный труд Ньютона не пропал даром. Он нашел
единый закон, управляющий движением тел на Земле и
на небе. Это был закон всемирного тяготения.
«Все тела взаимно притягиваются с силой, прямо про-
порциональной их массам и обратно пропорциональной
квадратам расстояния между ними». Ньютон доказал, что
посредством этого закона можно математически рассчи-
тать и объяснить и форму планетных орбит, и скорость
их движения, и многие другие явления, казавшиеся рань-
ше необъяснимыми.
Старомодные ученые, все еще державшиеся взглядов
Аристотеля и Птолемея, встретили открытие Ньютона
враждебно. Чтобы сразу их обезоружить и доказать свою
правоту, он готовил примеры вычислений, из которых
Рис. 43. Геодезисты времен Пикара.
Рис. 44. Исаак Ньютон.
можно было видеть,
что скорость движения
планет и форма их
орбит действительно
соответствуют его за-
кону. Но когда Нью-
тон, основываясь на
своем законе, попро-
бовал рассчитать ско-
рость вращения Луны
вокруг Земли, цифры
не сошлись. В вычи-
сление входила одна
подозрительная вели-
чина — диаметр Зем-
ли. У Ньютона не бы-
ло более точных дан-
ных, чем измерения
Фернеля и Снеллиуса.
Он подозревал, что
они неправильны, но
доказать этого не мог.
Понятно, с каким не-
терпением он ждал
новых измерений Пи-
кара. Обстоятельства сложились так, что от кропотливого
труда этого скромного ученого в значительной мере за-
висела честь Ньютона, признание его теории, успех ново-
го мировоззрения в борьбе со старым.
Результаты работ Пикара дошли до Ньютона с боль-
шим опозданием. Он узнал о них только тогда, когда до-
клад о градусном измерении был поставлен на обсужде-
ние Королевского общества (английской академии наук).
Тут же, на заседании, торопясь и волнуясь, он стал про-
верять свои расчеты. Когда ему показалось, что новые
цифры сходятся с теми, которые должны были получить-
ся по его закону, он пришел в такое волнение, что не мог
сам закончить вычисления; друзья помогли ему. Цифры
действительно сошлись.
Так геодезисты, которых столько раз выручали из
затруднительного положения астрономы, находя для
них новые способы измерения Земли, заплатили им свой
долг.
Надо сказать, что геодезисты имеют все основания
Б4
обижаться на Ньютона. За услугу он заплатил черной
неблагодарностью.
Работа Пикара, казалось, довела до благополучного
окончания многовековые попытки ученых измерить Зем-
ной шар. Была достигнута большая точность. И вот, в
тот момент, когда геодезисты считали свою задачу вы-
полненной, Ньютон сказал:
— Вы думаете, что вы измерили Земной шар? Ничего
подобного! Вы его не измерили по той простой причине,
что Земного шара не существует. Земля не есть шар!
Глава 9
ЛИМОН. ИЛИ МАНДАРИН?
Ньютон привел доказательства. Представьте себе, го-
ворил он, что в Земле по радиусам пробуравлены два
отверстия — одно от полюса, другое от экватора (рис. 45).
Отверстия сходятся в центре Земли так, что получается
коленчатый канал. Далее, представьте себе, что канал
этот наполнен водой. На каком уровне должна стоять
вода в обоих коленах, чтобы находиться в равновесии и
не течь ни в ту, ни в другую сторону? Установится ли
поверхность воды в них на одинаковом расстоянии от
центра или на разных?
Равновесие наступит тогда, когда силы, действующие
на воду в том и в другом колене, будут равны. Пред-
положим сначала, что вода в обоих коленах стоит на
одном уровне. В полярном колене на воду действует толь-
ко сила тяжести Т, притягивающая ее к центру Земли.
В экваториальном колене тоже действует сила тяжести
Т, но, кроме нее, все частицы воды в этом колене нахо-
дятся под действием центробежной силы С, которая воз-
никает вследствие вращения Земли вокруг своей оси.
Сила С вычитается из Т, и результирующая их Р оказы-
вается меньше, чем Т. Ясно, что при таких условиях сила,
действующая в полярном колене, перевесит, и вода нач-
нет переливаться из полярного колена в экваториальное.
Когда уровень ее достаточно повысится, наступит равно-
весие, так как излишняя масса, перелившаяся в эква-
ториальное колено, создаст добавочное давление Т, и
вместе с Р они уравновесят силу в полярном колене.
Ньютон высчитал, что равновесие наступит тогда, ко-
гда уровень воды в экваториальном колене будет стоять
55
выше, чем в полярном, на
*/«<> земного радиуса. Хотя
Земля и не просверлена ка-
налами, но океаны, покры-
вающие ее, все сообщают-
ся между собой, и вода
может перетекать из одно-
го в другой, как в колен-
чатом канале. Она и рас-
пределится так, как это
было бы при наличии ка-
налов: на экваторе выше,
на полюсах ниже. На
различных промежуточных
широтах уровень ее будет
Рис. 45. Доказательство сплю- средний, постепенно пони-
снутости Земли по Ньютону. ЖЭЮЩИЙСЯ ОТ экватора К
полюсам.
Некогда Земля представляла собой расплавленный шар
и, следовательно, подчинялась законам жидких или вяз-
ких тел. Вся она целиком должна была принять форму
слегка сплющенного шара, какую имеет, например, ман-
дарин, или, выражаясь математическим языком, форму
эллипсоида сжатия. Существование суши, конеч-
но, не могло этому помешать, так как сама суша возник-
ла в виде тонкой пленки на раскаленном теле Земли, уже
имевшем форму эллипсоида.
У Ньютона были и другие, более наглядные доказа-
тельства. Кассини, наблюдая в телескоп Юпитер, заметил,
что он имеет овальную форму. Сплющенность его была
очень велика и заметна наглаз, она достигала ’/и его диа-
метра (рис. 46). Так как, по мнению Ньютона, все плане-
ты принадлежали к одной семье и образовались одним
путем, то сжатие Юпитера со стороны полюсов должно
было послужить лишним подтверждением того, что та-
кое же сжатие имеется и у Земли.
Французский астроном Рише ездил в Кайенну (город,
находящийся в Южной Америке, близ экватора) для на-
блюдений Марса в момент противостояния. Для работы
ему нужны были часы, маятник которых отбивает секун-
ды. Он взял их с собой, предварительно выверив в Па-
риже; они ходили безукоризненно. Но, когда он
приехал в Кайенну, с часами случилось что-то непонят-
ное: они стали отставать на две с половиной минуты
56
в сутки. Чтобы они вновь начали отбивать секунды,.
Рише вынужден был укоротить маятник на 2,8 мм. Когд»
же он вернулся в Париж, часы вновь стали спешить, и
Рише должен был довести маятник до прежней
длины.
Странное поведение часов вызвало немало споров..
Парижские академики знали, что в Новую Гвиану, глав-
ным городом которой является Кайенна, французское
правительство ссылает каторжников, ибо там стоит такая
адская жара, что лучшего места для наказания и не при-
думаешь. Вот они и решили, что причина изменения хода
часов заключается в жаре: маятник нагрелся, удлинил-
ся — период качания стал больше, часы пошли медлен-
нее.
Главным сторонником этого объяснения был Кассини.
Однако оно никуда не годилось: впоследствии подсчита-
ли, что для удлинения маятника на 2,8 мм температура в
Кайенне должна была быть выше, чем в Париже,
на 200°!
Тогда попытались объяснить загадочное явление цент-
робежной силой, возникающей вследствие вращения
Земли. Она действует навстречу силе тяжести и ослаб-
ляет ее. У экватора центробежная сила должна быть
больше, чем в умеренных широтах, поэтому сила тяже-
сти там меньше и маятник качается медленнее.
Ньютон, однако, доказал, что хотя второе предполо-
жение правильно объяс-
няет замедление хода
часов в Кайенне, но оно,
так же как и первое, не-
достаточно. Если бы все
дело было в центробеж-
ной силе, то маятник
пришлось бы укоротить
всего лишь на 1 мм. Зна-
чит, есть и другая при-
чина, и заключается она
в том, что Земля имеет
форму мандарина. Все
предметы, находящиеся
на экваторе, дальше от-
стоят от ее центра, чем
находящиеся в более вы-
соких широтах (рис. 47,1),
Рис. 46. Юпитер и Земля.
Рис. 47. I — Земля-мандарин, II—Зем-
ля-лимон. На рис. I видно, что Кайенна
отстоит дальше от центра Земли, чем
Париж. Ради наглядности сплюсну-
тость Земли сильно преувеличена.
Дуги, соединяющие концы равных
углов, показывают, что на Земле-ман-
дарине градус к полюсам возрастает,
«а Земле-лимоне, наоборот, убывает.
и потому слабее к не-
му притягиваются. Та-
ким образом, случай с
часами Рише опять-та-
ки подтверждает не-
которую сплюснутость
Земли.
К Ньютону присо-
единился знаменитый
голландский физик
Гюйгенс. Именно он
изобрел часы с маят-
ником, вызвавшие в
свое время столько
споров.
Гюйгенс согласился
со всеми доводами
Ньютона и, кроме то-
го, привел еще некото-
рые очень убедитель-
ные доказательства.
Подобно Ньютону, он
подсчитал степень
сжатия Земли. Но он
исходил из несколько
других предположе-
ний. Ньютон считал,
что масса Земли рас-
пространена равномер-
но по всему объему.
При этом условии
сжатие получалось
равным ‘/гзо диаметра.
Гюйгенс же считал,
что Земля притягивает
тела так, как будто
вся ее масса сосредо-
точена в центре. При
этом сжатие получа-
лось равным ‘/57в диа-
метра.
Как впоследствии выяснилось, истина лежит между
этими крайними предположениями.
Когда разгорелись споры о форме Земли, некий немец-
58
кнй доктор Иоганн Эйзеншмидт напечатал статью, в ко-
торой доказывал, что Земля не только не сплюснута у
полюсов, как мандарин, но, наоборот, вытянута, как ли-
мон. В доказательство он приводил табличку, в которой
были выписаны в ряд все прежние градусные измерения.
Эйзеншмндт расположил их по порядку тех мест, где они
производились, с юга на север.
Геодезист Длина дуги меридиана в Г в км Средняя географи- ческая широта дуги
Эратосфен 131,7 27*
Риччоли (итальянский
астроном) 120,2 44’//
Пикар 111.2 49е
Фериель 110.6 49’//
Снеллиус 107,2 52°
Выходило так: чем севернее, тем градус короче.
Между тем, по представлению Ньютона, дело должно
было обстоять как раз наоборот. Рис. 47 поясняет, в чем
здесь дело.
Все радиусы окружности равны между собой, но у
других кривых линий радиусы в разных местах разные.
Чем круче загибается кривая, тем короче радиус. По
Ньютону, поверхность Земли должна была круче всего
загибаться у экватора (рис. 47, I). Поэтому и радиусы
там должны были быть всего короче (ЭА и ЭБ). У полю-
сов, наоборот, радиусы всего длиннее (ПВ и ПГ). Если
между двумя короткими радиусами построим угол в Г и
такой же угол построим между двумя длинными радиу-
сами, то дуги, которые соединяют концы этих радиусов,
будут неравными: дуга АБ, соединяющая короткие ра-
диусы, и сама будет короткой, дуга ВГ — длинной.
По таблице Эйзеншмидта выходило, что дело обстоит
как раз наоборот: дуги в 1°, измеренные ближе к эква-
тору, оказывались более длинными. Земля, очевидно, име-
ла форму, изображенную на рис. 47, II.
Доказательство Эйзеншмидта, казавшееся столь убеди-
тельным, было основано просто на совпадении ошибок.
Все дуги, кроме дуги Пикара, были измерены неточно, а
то, что они расположились в убывающем порядке с юга
59
на север, было чистой
случайностью. Эта зло-
получная случайность
сильно запутала вопрос.
Споры между сторонни-
ками «мандарина» и «ли-
мона» вспыхнули с но-
вым ожесточением. Что-
бы покончить с ними,
надо было произвести
новые градусные изме-
рения, которые, как ока-
залось, были нужны для
определения не только
размера, но и формы
Земли. Достигнуть этой
цели, измерив, как преж-
де, 1° и умножив его
длину на 360, было нель-
зя: дуги в 1° около Бер-
лина, Москвы, Архангель-
ска могли оказаться со-
Рис. 48. Джованни (Жан-Доминик) всем не такИми, как око-
ассини‘ ло Парижа. Нужно было
измерить несколько дуг в
разных местах, вывести закон, по которому они изменя-
ются с юга на север, определить сжатие Земли — и тогда
только высчитывать длину меридиана.
Парижская академия решила, что новые градусные
измерения лучше всего соединить с старым измерением
Пикара, продолжив его до северной и южной границ
Франции. Сравнив длину градуса на севере и на юге,
можно будет решить, сплющена Земля у полюсов или вы-
тянута.
Пикар уже умер, и работа была поручена Кассини.
В то время Кассини находился на вершине славы. Он
сделал несколько открытий в области астрономии, кото-
рые сильно заинтересовали публику: он открыл четыре
спутника Сатурна, определил продолжительность суток
на Юпитере и Марсе, удачно предсказал пути нескольких
комет. Но успехом своим он был обязан не столько этим
работам, сколько уменью льстить придворным, посвящать
каждую написанную строчку королю, подставлять ножки
товарищам по науке, шумно рекламировать свои откры-
60
Рис. 49. Карта Западной Европы и направление дуг Кассини II,
Кассини III, Деламбра, Мешена и Араго. Пунктирная линия
(в Испании и на Балеарских островах) — фактический путь триан-
гуляции, начатой Мешеном и законченной Араго.
тия и втихомолку присваивать себе чужие. Такими путями
он добился славы. Несведущие люди стали величать его
«основателем астрономии» и ставить выше Коперника.
Градусное измерение было для него серьезным испы-
61
танием. Ему предстояло доказать свои знания на деле.
Тут уж нельзя было отделаться звонкими фразами и
эффектными предсказаниями.
Кассини приступил к работе в 1683 году. В качестве
помощников он взял своего сына Жака, которого еще
шестнадцатилетним мальчиком ухитрился провести в ака-
демики, и племянника Маральди. Эта семейная экспедиция
действовала не спеша. Как только наступала мягкая
французская зима и поля покрывались тонким и недол-
говечным слоем снега, Кассини уезжал в Париж, поближе
к веселому двору. Градусное измерение откладывалось
до следующего года.
Постоянные войны, которые вел Людовик XIV, не-
сколько раз служили поводом к перерыву экспедиции на
несколько лет. В конце концов Кассини, ссылаясь на свой
преклонный возраст, совсем отказался от продолжения
работ.
После смерти Джованни Кассини его сын Жак был
немедленно назначен директором Парижской обсервато-
рии. Он не умел хватать звезд с неба, как его отец, рабо-
тал более усидчиво и добросовестно. Но он слепо дове-
рял своему отцу и тратнл массу сил и времени на защиту
его ошибочных теорий. По вопросу о форме Земли он,
вслед за отцом, решительно встал на сторону партии
«лимона». Сложными и запутанными объяснениями он
пытался доказать, что Юпитер должен иметь форму
сплющенного эллипсоида, а Земля, наоборот, вытяну-
того.
Во время градусных измерений отец и сын Кассини
применяли все те же способы и те же инструменты, ко-
торыми пользовался Пикар. Единственной новинкой, вве-
денной ими, были искусственные сигналы: высокие стол-
бы, врытые в землю, которые они ставили там, где не
находили подходящей башни или колокольни.
Жак Кассини закончил измерение через тридцать пять
лет после начала работ. Была измерена большая дуга
длиной в 8У2О (рис. 49). Она начиналась у Дюнкерка, на
берегу Северного моря, и кончалась в Пиренеях.
Кассини с торжеством опубликовал результат. 1° к се«
веру от Парижа оказался равным:
56 060 туазам = 109,26 км,
а к югу от Парижа:
57 097 туазам = 111,28 км.
62
Результат измерения как будто подтверждал его
взгляд: градус на севере был короче, значит кривизна
больше, значит Земля имеет форму лимона.
Когда Кассини закончил свою работу, Гюйгенса уже
не было в живых, Ньютон был стар и не принимал уча-
стия в спорах. Но сторонники их не сдавались. Они на-
стаивали на том, что измерение Кассини неправильно.
Были сделаны новые попытки производить градусные из-
мерения, на этот раз не вдоль меридианов, а вдоль па-
раллелей. Сравнивая между собой длины градусов не-
скольких параллелей, тоже можно было судить о форме
Земли. Эти измерения привели к противоречивым резуль-
татам. Каждая из партий уверяла, что они подтвердили
ее точку зрения. Тогда стали говорить, что на таком ма-
леньком клочке Земли, как Франция, нельзя заметить
изменение длины градуса. Разница между севером и югом
слишком мала, неточности измерения превышают ее и
затемняют результат.
С этим нельзя было не согласиться. Академия реши-
ла послать две экспедиции: одну на экватор, в Перу,
другую на Северный полярный круг, в Лапландию. Если
Земля действительно не шар, то разница в длине граду-
са между этими двумя местами, лежащими под столь
различными широтами, должна быть очень заметна. Уж
ее-то не затемнят случайные неточности наблюдения, и
вопрос будет разрешен раз навсегда.
По поводу этого решения Франсуа Кассини, сын Жа-
ка и внук Джованни, писал:
«Итак, все наши измерения, как по долготе, так и по
широте, доказывают, что Земля имеет форму эллипсоида,
вытянутого по направлению к полюсам. Можно не со-
мневаться, что этот вывод скоро получит подтверждение
в результате работ у полярного круга и в Перу. Таким
образом, это открытие, столь полезное для науки и мо-
реплавания, принесет славу Франции, которая будет ею
всецело обязана своей Академии».
Как видно, Франсуа Кассини, подобно своему деду,
не отличался скромностью. После смерти отца он был
назначен третьим директором Парижской обсерватории.
Эта должность стала наследственной, а сама обсервато-
рия превратилась в вотчину семьи Кассини. Членов ее,
как настоящих королей астрономии, стали различать по
номерам. Так, Франсуа Кассини называли Кассини III.
Людовик XV. подарил ему имение с замком, пожаловал
61
титул графа де-Тюри и утвердил фамильный герб с изо-
бражением двух львов, прогуливающихся среди астроно-
мических инструментов.
Глава 1о
НА ВУЛКАНАХ НЕРУ
В перуанской экспедиции приняли участие три акаде-
мика: Годэн (начальник), Бугэ и Кондамин, и ряд второ-
степенных сотрудников: ботаник, картограф, художник,
врач, механик и два младших геодезиста. Было намечено
произвести измерение у пересечения экватора с запад-
ным побережьем Южной Америки. Теперь эти места при-
надлежат республике Эквадор (что как раз и означает
«экватор»), а тогда принадлежали испанской колонии
Перу.
Испанский король Филипп V разрешил французам
производить градусные измерения в его владениях, но
на всякий случай приставил к ним для наблюдения двух
морских офицеров, дона Хуана н дона Ульоа. Он боял-
ся, как бы академики не занялись шпионажем или
контрабандой. Кроме того, ему хотелось, чтобы его офи-
церы, следя за французами, в то же время научились у
них редкому тогда искусству производить геодезические
измерения.
Экспедиция отплыда на парусном военном корабле в
мае 1735 года. После тридцатишестидневного плавания
корабль бросил якорь у принадлежавшего Франции
острова Мартиника в Вест-Индии (рис. 50). Во время
стоянки у острова умер от тропической лихорадки слуга
•одного из академиков. Опасаясь, что это только начало
и что уроженцы Франции не выдержат тяжелой работы
в условиях тропического климата, ученые купили на Мар-
тинике партию рабов-негров. Негры должны были пере-
носить с места на место приборы и багаж путешествен-
ников, строить сигналы и исполнять обязанности домаш-
ней прислуги.
Экспедиция пересекла Панамский перешеек и, погру-
зившись на другой корабль, направилась в порт Гаякил,
расположенный несколько южнее экватора. Кондамин
(рис. 51) высадился по дороге один на пустынном бере-
гу, чтобы найти то место, где проходит эта замечатель-
ная, но невидимая линия, опоясывающая Земной шар.
Медленно подвигаясь вдоль берега, ученый каждую ночь
64
Рис. SO. Карта северной части Южной Америки. Жирная ли-
ния-дуга Кондамина.
производил астрономические наблюдения. Наконец звез-
ды указали ему, что он на экваторе. Кондамин увидел,
что окружающая местность совершенно непригодна для
триангуляции: прямо от берега начинался бесконечный
непроходимый тропический лес. Среди высоких стволов
и густого переплета лиан, на болотистой почве нечего
было и думать строить сигналы. Дикие звери, ядовитые
змеи, тучи комаров и москитов охраняли лес от вторже-
ния людей.
Кондамин решил пробраться в глубь Кордильер, где
между двумя хребтами лежал большой город Кито. Туда
же должны были прибыть из Гаякила остальные члены
экспедиции.
Путь в Кито был очень труден. Часть его Кондамин
5 Как измерили Земле 65
проплыл по бурной реке Изу-
мрудов в индейском каноэ.
Потом, достигнув подножия
Кордильер, он пошел пешком
по горам и тропическим ле-
сам. Много раз ему прихо-
дилось перебираться через
горные потоки по висячим
мостам, сплетенным из лиан.
Один такой мост имел в дли-
ну 40 м и так раскачивался,
что почти касался воды, ко-
торая неслась со скоростью
8 м в секунду. Почтенный
академик потом признавался,
что немало натерпелся страху,
Рис: 51. Шарль-Мари де- пока приобрел опыт в обезь-
ля-Кондамин. яньем искусстве лазания по
лианам.
Кондамин с трудом находил индейцев-носильщиков,
которые тащили за ним его тяжелые инструменты. Когда
он добрался до Кито, остальные члены экспедиции были
уже на месте.
При обсуждении плана работ между академиками
возникли разногласия. Кондамин предлагал углы тре-
угольников измерять ночью, пуская ракеты или взрывая
пороховые заряды. Он доказывал, что такие световые
сигналы будут видны очень далеко, треугольники можно
будет брать большие и таким образом выиграть много
времени. Но Бугэ был против взрывов. Он предлагал
ставить столбы и вешать на них фонари. В конце концов
решили наблюдения производить днем и сигналы строить
из четырех бревен, связанных в виде пирамиды.
Годэн оказался слабохарактерным начальником. Как-
то само собой вышло, что руководство перешло в руки
более предприимчивого Кондамина. Если бы не его энер-
гия, работы вряд ли удалось бы довести до конца.
Сварливый и завистливый Бугэ, опасаясь, как бы п®
возвращении на родину на его долю не выпало меньше
славы, чем на долю товарищей, предложил, чтобы каж-
дый академик производил все измерения заново и неза-
висимо от других. Хуан и Ульоа заявили, что они тоже не
хотят ограничиваться ролью наблюдателей и будут про-
делывать все те же операции, что и академики. Таким
66
образом, объем работы увеличился сразу в пять раз.
В конечном счете эти повторения хотя и задержали уче-
ных в Перу на много лет, но принесли пользу: все изме-
рения и расчеты оказались проверенными столькими ли-
цами, что в них не смогла вкрасться ни одна ошибка.
Очень трудно было найти в горах ровное место для
базиса. После долгих поисков выбор ученых пал на
узкую долину к востоку от Кито. В ней они проложили
и несколько раз измерили базис длиной около 12 км.
Кое-где линии базиса пересекали возвышенности, лощи-
ны. В этих местах приходилось укладывать жезлы ступе-
нями, выверяя их концы по отвесу.
Когда базис был измерен, все члены экспедиции ра-
зошлись в разные стороны выбирать места для треуголь-
ников. В этой стране, хотя и густо населенной индейца-
ми и выходцами из Испании, не было ни мельниц, ни
высоких колоколен. Каждую вершину треугольника нуж-
но было отмечать искусственным сигналом.
Над самым городом Кито возвышался вулкан Пичин-
ча (высота 4787 м). На нем было решено построить пер-
вый сигнал. Бугэ, Кондамин и Ульоа в сопровождении
носильщиков отправились на вершину. Сначала дорога
шла по парамосам, альпийским лугам, покрытый
ковром высоких, по пояс, злаков. На крутых склонах
ноги скользили по мокрой траве, и люди поминутно па-
дали. Потом пошли осыпи из песка и мелких камешков,
выброшенных когда-то вулканом. Под тяжестью челове-
ка камешки лавиной сползали вниз. Ульоа заболел горной
болезнью и должен был остаться в пещере. Наступил
вечер, спустились облака, пошел дождь вперемежку со
снегом. Проводники и носильщики выбились из сил и,
бросив свою ношу, вернулись вниз. Кондамин и Бугэ в
темноте потеряли друг друга. Кондамин заночевал в по-
кинутой берлоге какого-то зверя, завернувшись в мок-
рую одежду н пучки травы. Наутро он, окоченевший и
голодный, спустился вниз, к ближайшей индейской хи-
жине, и там встретил своих спутников.
После нескольких неудачных попыток Кондамин и
Бугэ все же поднялись на вершину. В то время это был
мировой рекорд высоты восхождения. Под их ногами
лежал Кито (рис. 52), окруженный цепью садов, за ним
ясно виднелась долина с двумя сигналами по концам из-
меренного базиса, на юг и на север уходили ряды снеж-
ных шапок, вершины Кордильер, на которых ученые
Ь» S7
собирались воздвигать сигналы. Сзади зиял мрачный,
глубокий, наполовину заваленный снегом кратер Пичин-
чи. На вершине дул такой свирепый ветер, что об уста-
новке сигнала нечего было и думать. Поэтому ученые
спустились несколько ниже и выбрали для сооружения
сигнала скалу, защищенную от ветра. Индейцы, втащив-
шие сюда бревна, называли это место «Гнездом кон-
дора».
Впоследствии ученые избегали забираться выше гра-
ницы снегов. Правда, сигнал, построенный на верши-
не и выделяющийся на фоне неба, был бы прекрасно
виден издали, но работать на снегу было слишком труд-
но. Сигналы же, построенные ниже, терялись на фоне
скал или леса. Чтобы сделать их более заметными, Кон-
дамин пробовал красить столбы известью, привязывать
к ним снопы соломы или полотнища материи. Но ветер
часто срывал материю, а окрестные жители растаскивали
бревна. Нужно было вновь посылать рабочих и начинать
постройку сначала. Один несчастливый сигнал пришлось
восстанавливать семь раз.
Работа пошла быстрее после того, как Годэн предло-
жил в качестве сигналов использовать большие палатки,
которые имелись у каждого из академиков. Палатки лег-
ко было переносить, в них удобно размещались прибо-
ры, защищенные к тому же от непогоды, белые полот-
нища их резко выделялись на темном фоне. Наблюдатели
из каждой палатки визировали на все остальные, после
чего самая северная переносилась на юг н устанавлива-
лась на следующей вершине треугольника.
Меридиан проходил вдоль широкой долины, протя-
нувшейся с севера на юг между Восточными и Западны-
ми Кордильерами. Здесь можно было построить хоро-
шую цепь треугольников, устанавливая сигналы в шах-
матном порядке на вершинах то одного, то другого
хребта.
В Кито, который стоит на большой высоте, ровный и
здоровый климат. Круглый год температура там колеб-
лется в пределах 12—20°. Но постепенно цепь треуголь-
ников ушла далеко на юг, и ученым пришлось расстать-
ся с этим благодатным городом.
Внизу, в долине, царила нестерпимая жара. Каждый
день после полудня разражались тропические ливни. Кап
только экспедиция прибыла в эти сырые и знойные ме
ста, младший геодезист Куплэ заболел лихорадкой и че
68
Рис. 52. Город Кито.
рез несколько дней умер. Переболели ею и все осталь-
ные участники экспедиции.
Вначале не меньше лихорадки беспокоили ученых
постоянные землетрясения. Но постепенно они так к ним
привыкли, что перестали обращать на них внимание.
Несмотря на трудности своей основной работы, Кон-
дамин проявлял интерес ко всему, что его окружало.
Он постоянно собирал растения, насекомых, минералы,
затевал экскурсии и восхождения. Поэтому с ним неред-
ко случались опасные и неприятные приключения. Од-
нажды он едва не умер от укуса скорпиона. В другой
раз верховая лошадь, на которой он ехал по узкой гор-
69
ной тропинке, встала на дыбы и сбросила его с седла.
Он чудом спасся, ухватившись за выступ скалы, ло-
шадь же сорвалась в пропасть и разбилась.
Другие академики тоже уделяли часть времени раз-
нообразным научным работам. Они наблюдали затмения,
изучали скорость распространения звука. Бугэ задумал
проверить открытый Ньютоном закон всемирного тяго-
тения. Он хотел произвести наблюдения над направле-
нием отвеса около очень большой горы. Если всеобщее
тяготение существует, гора должна отклонить отвес от
вертикального положения и притянуть его в свою сто-
рону. Кондамин вызвался помочь Бугэ. Было решено
проделать опыт на склоне величайшего вулкана Южной
Америки, Чимборасо (рис. 53).
Проводники принесли палатку и инструменты на ска-
лу, окруженную вечными снегами, и вернулись в долину.
В первую же ночь разразилась буря. Ураган несколько
раз срывал палатку, и ученым приходилось в непрогляд-
ной тьме укреплять ее большими камнями и чинить ра-
зорванные полотнища. Наутро Кондамин и Бугэ вырыли
глубокие ямы, в которых укрепили точные астрономиче-
ские часы, отвес и квадрант. Приборы должны были
стоять совершенно прямо н неподвижно. Можно себе
представить, как трудно было этого добиться во время
урагана.
Вьюга свирепствовала день за днем, и ученые каждый
час сгребали снег с крыши палатки, так как она грозила
провалиться под его тяжестью. Вьюга сопровождалась
грозой, что случается только на высоких горах. Палатка
ученых стояла среди грозовых туч, поэтому молнии свер-
кали со всех сторон и гром, сливаясь с грохотом лавин,
гремел так, что, казалось, человеческие уши не в силах
его выдержать. Временами снег переходил в град вели-
чиной с грецкий орех. Кондамин, который однажды по-
пал под него, был избит почти до потери сознания.
В довершение всех бед ученым никак не удавалось вы-
сечь кремнем огонь (спички еще не были тогда изобре-
тены).
Так прожили Кондамин и Бугэ три недели, ожидая
появления звезд, которые им были необходимы для про-
верки положения отвеса. Когда буря наконец прекрати-
лась, открылось удивительное зрелище: по другую сто-
рону долины возвышался постоянно извергающийся вул-
кан Сангай (рис. 54), над ним клубился громадный столб
70
Рис. 53. Вулкан Чимборасо.
Рис. 54. Постоянно извергающийся вулкан Сангай.
дыма, освещенный снизу заревом лавы, наполнявшей
кратер. Но ученым некогда было любоваться изверже-
нием. До захода солнца они успели вывинтить из тру-
бы окуляр и, пользуясь им, как лупой, развести огонь.
Ночью они произвели наблюдения, ради которых пере-
несли столько мучений, и обмороженные, окоченевшие
спустились вниз. В деревне их ожидали письма из Фран-
ции. Родные выражали им сочувствие по поводу жары,
от которой они, наверно, страдают под экватором.
Наблюдения, произведенные на Чимборасо, доказали,
что горы действительно притягивают отвес, хотя сила
притяжения оказалась меньше, чем можно было ожидать.
Цепь из тридцати двух треугольников растянулась
на 330 ки. Она пересекла экватор и охватила дугу ме-
ридиана длиной в 3°. Дуга кончалась около города
Куэнки. Сюда ученые перенесли подконец свою штаб-
квартиру.
Сторону последнего треугольника надо было изме-
рить жезлами, как проверочный базис, и сравнить дли-
ну, полученную этим путем, с длиной, полученной вычи-
слением. Это сравнение должно было послужить глав-
ной проверкой правильности всей триангуляции. Работы
по измерению базиса уже начались, когда случилось но-
вое несчастье.
Перуанские власти, относившиеся подозрительно к
«французской компании», всячески натравливали местных
жителей на членов экспедиции. Между прочим, они
использовали для этого одно старинное предание.
Когда завоеватель Перу испанец Писарро вторгся в
72
эту страну, он взял в плен индейского царя Атахуальпу
и потребовал за него выкуп. Подданные Атахуальпы,
чтобы спасти царя от смерти, должны были наполнить
золотом комнату во дворце до черты на стене, которую
провел Писарро так высоко, как только мог достать ру-
кой. Индейцы выполнили требование и принесли во дво-
рец целую гору золота. Писарро взял золото, а Атахуаль-
пу задушил тетивой от лука. В то время со всех концов
страны к столице еще продолжали стекаться посланные
с золотом. До испанцев дошли сведения, что, узнав о ги-
бели царя, посланцы повернули в горы и зарыли сокро-
вища в неприступных местах на склонах вулканов. Од-
нако найти это золото сподвижникам Писарро не
удалось.
Спустя двести лет зарытое золото инков все еще про-
должало беспокоить испанцев. Многие из них бросали
работу и уходили в горы искать клады. Но поиски ни к
чему не приводили. И вот прошел слух, что французы
каким-то способом узнали о местонахождении кладов и
хотят украсть у перуанцев их сокровища. Этот слух вы-
звал всеобщее озлобление. Однажды в праздник во вре-
мя боя быков, на котором присутствовали члены экспе-
диции, раздался крик: «Бей французов!» Толпа неожи-
данно бросилась на ученых. С помощью нескольких дру-
зей-испанцев им удалось убежать и забаррикадироваться
в своих квартирах. Только врач экспедиции Сеньорг,
который не успел скрыться, был убит.
Как только волнение улеглось, ученые возобновили
измерения базиса. Приходится изумляться точности их
работы: несмотря на все трудности, которые воздвигали
на их пути природа и люди, вычисленная сторона тре-
угольника не сошлась с измеренной всего на 1,25 м.
Триангуляция была закончена. Оставалось опреде-
лить координаты концов дуги. Но в это время началась
англо-испанская война. Хуана и Ульоа призвали во флот,
а без них французы не имели права производить ра-
боты.
В ожидании возвращения офицеров академики пере-
брались в Кито и занялись приведением в порядок своих
расчетов. Кондамин же взял на себя трудное дело: по
концам первого базиса нужно было соорудить пирами-
ды, чтобы даже через сотни лет базис можно было най-
ти и проверить работу экспедиции. Пирамиды должны
были иметь форму домиков, сплошь заложенных камнем
73
Рис. 55. Пирамида на конце
базиса близ Кито (разрез).
(рис. 55) и установленных на
фундаментах, глубоко уходя-
щих в землю.
На рытье котлованов, за-
бивку свай, подвозку и клад-
ку камня ушло несколько
месяцев. Наконец пирамиды
были выстроены. Текст над-
писей на пирамидах был за-
казан Французской академии
(эту Академию, в которую
входили наиболее почитаемые
писатели и поэты, именовав-
шиеся «бессмертными», не
следует смешивать с Париж-
ской академией наук). На пли-
тах надо было указать длину
базиса, его направление и год
измерения. Казалось бы, это
просто и целой академии
здесь нечего делать. Между
тем над текстом трудились
сообща лучшие писатели и поэты Франции. Дело в том,
что в тексте нужно было упомянуть «его христианней-
шее величество» короля Франции Людовика XIV, кото-
рый дал денег на экспедицию, и «его католическое ве-
личество» короля Испании Филиппа V, который разре-
шил производить измерения в своих владениях, и Па-
рижскую академию наук, которая утверждала план ра-
бот, и местные власти, которые будто бы содействовали
их успеху. Следовало также перечислить академиков,
участников экспедиции, и упомянуть испанских офице-
ров, которые хотя и сильно мешали ученым, но рассчи-
тывали пожать плоды их успеха.
Когда Кондамин получил длинный и витиевато со-
ставленный текст надписи, он стал подыскивать гравера.
Во всем Кито был лишь один гравер. Это был неграмот-
ный индеец, лентяй и горький пьяница. Академик сам
разметил плиты и вычертил все буквы. Пока индеец
их высекал, Кондамин стоял рядом и наблюдал за масте-
ром. Стоило ему отвернуться, как мастер давал тягу, и
Кондамину приходилось отправляться разыскивать его
по всем кабачкам города.
Наконец плиты были окончены, и Кондамин собирал-
ся отвезти их на место. Но в это время из Лимы вер-
нулись Хуан и Ульоа. Увидев плиты с надписями, они
возмутились. Как смели французы написать, что базис
измерен «в их присутствии», в то время как он измерен
«с их участием»? И почему имена их, хозяев этой стра-
ны, стоят после имен академиков? Заносчивые офицеры
подали жалобу в суд. Желая озлобить судей против
французов, они обвинили последних в попытке «умалить
власть» и оскорбить испанского короля. Оскорбление,
по их мнению, заключалось в том, что надпись начина-
лась словами: «С благословения его католического вели-
чества», а надо было написать: «С соизволения его ка-
толического величества».
Благодаря ловкости и энергии Кондамина судебный
процесс окончился благополучно, но отодвинул оконча-
ние работ еще на год. Надписи, однако, пришлось изме-
нить и плиты переделать заново.
Через девять лет после отъезда из Парижа все изме-
рения были закончены, все вычисления сделаны. Соглас-
но уговору, каждый из академиков держал свои расчеты
в секрете и сообщил другим окончательный результат
лишь в зашифрованном виде. Расшифровка должна бы-
ла произойти в Париже на собрании Академии.
В последнюю минуту Годэн объявил, что он принял
предложение вице-короля и остается преподавать мате-
матику в Перуанском университете. Бугэ поехал в Париж
старой дорогой, а Кондамин — новой, по реке Амазон-
ке через весь материк Южной Америки (рис. 50).
В день отъезда с ним случилось страшное происше-
ствие. Он вышел на несколько минут из дому, чтобы
поторопить нанятых нм погонщиков мулов, и, вернув-
шись, увидел, что дверь взломана и его портфель, ле-
жавший на столе, украден. В портфеле находились все
его деньги и, главное, тетради, бесценные тетради с рас-
четами, плодами девятилетних трудов! Кондамин едва не
лишился чувств. Потом он бросился к губернатору, по-
пробовал поднять на ноги ленивую перуанскую полицию.
Все было тщетно. Тогда Кондамину пришла в голову
счастливая мысль. Он расклеил по городу объявления, в
которых сообщал, что оставит вору деньги и попросит
полицию прекратить следствие, если вор вернет ему тет-
ради. На другой день он нашел их на колодце в своем
саду. Нехватало только двух маленьких записных кни-
жек с черновиками. Очевидно, вор заинтересовался зна-
75
Рис. 56. Верхнее течение Амазонки
в Кордильерах.
комыми ему названиями
вулканов. Кто знает, мо-
жет быть на досуге ему
удастся разобраться в
загадочных цифрах — и
уж тогда золото инков
не уйдет из его рук!
Путешествие по Ама-
зонке было в то время
делом необычным. Из
ученых на ней не бывал
еще никто. Верхнее тече-
ние Амазонки было не-
проходимо даже для ин-
дейского каноэ.
На случай своей гибе-
ли Кондамин написал и
отослал в Париж заве-
щание. Затем он купил
прочный плот, погрузил
на него вещи и продук-
ты и в сопровождении
своего слуги-негра по-
мчался по порожистой
бурной реке (рис. 56).
Плавание протекало бла-
гополучно, и впереди уже
показалось последнее
ущелье. Однако это ущелье, Понго-де-Мансериче, поль-
зовалось очень дурной славой. Войдя в него, плот понес-
ся с головокружительной быстротой. Отступать было
поздно: отвесные стены ущелья нависли над рекой и
почти закрыли небо. Пристать к берегу нечего было и
думать. Плот бросало во все стороны на стремнинах,
кружило в водоворотах. Вдруг раздался треск: плот на-
летел на застрявшее среди камней дерево. Большой сук
проткнул его насквозь, и он оказался пришпиленным, как
бабочка на булавке. Кондамин и негр, оглушаемые гро-
хотом порогов, обливаемые фонтанами брызг, провели на
плоту ужасную ночь. Уровень воды понизился, и плот
повис на суку, сильно накренившись. Тетради с вычисле-
ниями, астрономические приборы и другие вещи сползали
в воду, и понадобились нечеловеческие усилия, чтобы их
удержать и укрепить. Наутро путешественники ухитри-
76
Рис. 57. Выход Амазонки из Кордильер на равнину.
лись подрубить сук. Освобожденный плот вновь запры-
гал по волнам. Еще несколько минут, и ущелье кончи-
лось. Река вырвалась на бескрайную равнину, разлилась
широким и спокойным плесом (рис. 57).
В ближайшем селении Кондамин пересел в пирогу и
благополучно прибыл в бразильский порт Пару, распо-
ложенный в устье Амазонки, а оттуда на корабле отпра-
вился во Францию.
В Париже участники экспедиции узнали, что суд в
Кито пересмотрел свое решение и постановил снести пи-
рамиды, несмотря на изменение надписей.
Результаты измерений трех академиков сошлись с
очень большой степенью точности.
Кондамин написал увлекательную книгу о перуан-
ской экспедиции и путешествии по Амазонке, за что и
был избран в члены Французской академии. У него бы-
ла одна слабость: он без конца рассказывал всем о
своих приключениях, причем, будучи тугоух, говорил
очень громко. Друзья-ученые, подшучивая над ним и
намекая на длинные и скучные речи, произносившиеся
им на собраниях «бессмертных», сочинили по этому слу-
чаю четверостишие:
Овеян славою похода своего,
Был принят Кондамин бессмертною семьей.
Он, правда, глуховат—тем лучше для него,
Но он не нем —тем хуже для нее.
77
Глава 11
В СНЕГАХ ЛАПЛАНДИИ
Северная экспедиция оказалась более счастливой, чем
южная. Все работы по градусному измерению у поляр-
ного круга удалось закончить в течение одного года.
Эта удача была, конечно, не случайной.
Во-первых, местом экспедиции была выбрана Лаплан-
дия, бывшая тогда частью Швеции. Так как Лапландия
находится во много раз ближе к Франции, чем Перу, то
на дорогу туда и обратно понадобилось гораздо меньше
времени.
Во-вторых, шведские власти, в противоположность
перуанским, очень хорошо относились к французским
ученым. Они не только не чинили им препятствий, но
всячески старались помочь выполнению их задачи.
Но главной причиной быстрого и успешного выпол-
нения задания была дружба, которая связывала весь
коллектив, почти целиком состоявший из молодежи.
Начальник экспедиции академик Мопертюи, в молодо-
сти офицер «серых мушкетеров», сумел объединить во-
круг себя остальных участников экспедиции и заразить
их своим энтузиазмом.
До отъезда в экспедицию Мопертюи не имел твердо
установленного взгляда на форму Земли. Он восхищался
стройностью ньютоновского учения о тяготении и согла-
шался с тем, что теоретически Земля должна иметь фор-
му эллипсоида сжатия. Но слава рода Кассини была так
велика, что молодой ученый готов был скорее допустить
ошибку в рассуждениях Ньютона, чем в измерениях про-
славленных «королей астрономии».
Мопертюи (рис. 58) был самым старшим из четырех
академиков, включенных в состав северной экспеди-
ции,— ему было в то время 37 лет. Средний возраст
остальных трех — Клеро, Камю и Лемонье — равнялся
26 годам. Это была талантливая молодежь, недавно при-
нятая в Академию и горевшая желанием каким-либо
подвигом на пользу науки оправдать оказанную ей вы-
сокую честь.
В июле 1735 года экспедиция морем прибыла в Сток-
гольм. Проведя лишь несколько дней в столице, члены
экспедиции погрузили багаж и инструменты на корабль,
отправлявшийся в глубь Ботнического залива, а сами
сели в несколько экипажей и по проселочным дорогам
78
Гис. 58. Пьер-Луи Мопертюи.
поехали на север Шве-
ции выбирать место,
подходящее для триан-
гуляции. Сначала они
предполагали произвести
градусное измерение на
маленьких островках —
шхерах, разбросанных в
изобилии вдоль берегов
северной части Балтий-
ского моря. Но вскоре
они убедились, что шхе-
ры не пригодны для
триангуляции: они низ-
менны и покрыты густым
лесом, на них совсем нет
возвышенных точек, с
которых можно было бы
увидеть отдаленные сиг-
налы.
Пришлось двинуться
еще дальше, к самому
полярному кругу. В северную оконечность Ботнического
залива впадает большая река Торнео, текущая почти пря-
мо по меридиану (рис. 59). Французы решили обследо-
вать бассейн этой реки. Они сложили свой груз в город-
ке Торнео, расположенном в ее устье, и поехали
осматривать местность.
В нескольких шагах от морского берега начиналась
дремучая тайга. Деревья росли на заболоченной почве,
покрытой таким глубоким и мягким слоем мха, что люди
вязли в нем выше колен. Никаких дорог в лесу не было,
единственный путь на север пролегал по порожистой бур-
ной реке. Казалось, хуже этого места для триангуляции
не найти. Но одно обстоятельство решило дело в пользу
Торнео: по обеим сторонам реки возвышались разбросан-
ные на большом расстоянии друг от друга довольно
высокие горы. Вершины их густо поросли лесом, но все
же на них можно было ставить сигналы. Молодые ака-
демики решили начать работу на берегах Торнео. Да у
них и не было выбора: искать лучшего места было негде,
а о возвращении во Францию ни с чем они не хотели
даже и думать.
Триангуляцию удобно было начинать от берега залива,
79
ч
Рис. 59. Карта треугольников Мопертюи, составленная им самим.
Внизу видна северная оконечность Ботнического залива. Всю
карту вдоль пересекает река Торнео. Двойная линия, пересекаю-
щая ее поперек, — Северный полярный круг.
но здесь не было подходящего места для базиса.
Поэтому ученые установили несколько необычайный
порядок работ: они решили измерить углы всех треуголь-
ников, не зная длины их сторон, а когда найдется уча-
сток, на котором можно будет расположить базис,
сделать его стороной одного из треугольников, измерить
его и по нему, так сказать, «задним числом», высчитать
все остальные стороны.
Шведское правительство дало в распоряжение ученых
взвод солдат финского полка (Финляндия была тогда
частью Швеции) Солдаты должны были перетаскивать
тяжести, строить сигналы и вообще выполнять всю чер-
ную работу. Деревенские парни, из которых состоял
взвод, как нельзя лучше подходили для этой задачи.
Они выросли неподалеку, в условиях, схожих с условия-
ми Лапландии, и все прекрасно умели работать топором.
В день отплытия на пристани Торнео выстроилась це-
лая флотилия лодок, в которую погрузились ученые с
их громоздким оборудованием. По возвращении в Париж
Мопертюи, делая доклад на заседании Академии, при-
знавался, что в первые дни путешествия у него волосы
вставали дыбом каждый раз, как лодка приближалась
к порогам. При плавании по течению утлая скорлупка,
сколоченная из тонких тесин, то вылетала наполовину
из воды, обнажая киль, то зарывалась носом, черпая во-
ду, то с размаху ударялась дном о громадные камни,
которыми было завалено русло. Именно легкостью лод-
ки и гибкостью материала Мопертюи объясняет тот
странный факт, что она при этом оставалась цела. Три
финна — два на веслах и один на корме, тоже с веслом,
заменявшим руль, — ухитрялись провести лодку в таких
местах, где гибель казалась неизбежной.
При плавании против течения приходилось отталки-
ваться шестами, а на стремнинах итти пешком по заболо-
ченному берегу, таща лодку бечевой.
На тихих плесах или озерах финны всегда старались
использовать силу ветра. В качестве паруса они упо-
требляли молодую густую ель, которую ставили на дно
лодки и привязывали к бортам.
И все-таки все трудности плавания казались пустя-
ком по сравнению с трудностями хождения по лесу.
Здесь каждый шаг приходилось прокладывать топором.
Между деревьями валялось столько бурелома, что земли
не было видно. Ноги поминутно проваливались в тряси-
6 Как измерили землю. 81
ну или в подушки мха. Больше всего людей мучили ту-
чи комаров и мошкары, которые сплошным слоем покры-
вали всякое незащищенное место тела, забирались в нос,
в глаза, в уши, под одежду. Французы не были знакомы
с этим бичом и не приготовили себе накомарники, а по-
тому жестоко страдали от укусов насекомых.
Другое препятствие поджидало ученых у подножия
гор. Горы представляли собой глыбы гранита, часто с
очень крутыми склонами. В наиболее крутых местах
деревья не росли, и людям приходилось карабкаться,
цепляясь за мох, покрывающий камень. Нередко случа-
лось, что под тяжестью человека большой пласт мха от-
рывался и лавиной съезжал вниз.
Зато вершины, как назло, все были покрыты густым
лесом. Чтобы сделать сигнал заметным издалека, прихо-
дилось производить большие порубки, обнажая всю вер-
хушку горы. Единственное преимущество, которое «лап-
ландцы» имели перед «перуанцами», заключалось в том,
что материал для сигналов ниоткуда не нужно было но-
сить, он всегда имелся под руками в изобилии. Финские
солдаты строили сигналы в форме конусов из многих
еловых стволов, связанных поперечинами так крепко, что
никакой ураган не в силах был их разрушить. Стволы
предварительно очищали от коры. Конусы из свежих
бревен в ясную погоду были видны за 40—50 к.»
Но погода не баловала геодезистов: постоянно моро-
сил мелкий дождь. В ожидании ясных дней ученые не-
редко проводили по неделе и больше на вершине горы,
питаясь лишь морошкой и рыбой, которую продавали
им кочевавшие в окрестностях лопари.
Не меньше, чем дождь и туманы, работе мешал дым
лесных пожаров. Все лето то там, то здесь горели леса.
Причиной пожаров неизменно являлись костры, разводи-
мые лопарями для защиты от мошек.
При первом же восхождении ученые встретили на
вершине Нивы оленье стадо, которое стерегла молодая
лопарка. Девушка сидела в кольце костров, в таком гу-
стом дыму, что ее почти не было видно. Французы по-
ражались, как она может дышать дымом, но комары
вскоре научили их этому искусству.
Однажды, когда Мопертюи находился на горе Ава-
саксе, возвышавшейся на самом берегу реки Торнео,
несколько его сотрудников ушли на соседнюю вершину
Хоррилякеро. Он наблюдал в подзорную трубу, как
82
Рис. 60. Сплав по порожистой реке в северной Швеции.
они воздвигли сигнал и спустились с горы. Через не-
сколько часов над Хоррилякеро поднялись густые клубы
дыма, и вскоре вся гора пылала, как факел. Мопертюи
понял, что на этот раз поджигателями были не лопари, а
его товарищи, плохо погасившие свой костер. Поэтому
он послал всех солдат, какие были в его распоряжении,
тушить пожар. Борьба продолжалась несколько дней.
Огонь, осажденный на горе, сделал несколько удачных
вылазок и опустошил большое пространство на приле-
гающей равнине.
Чем дальше на север, тем глуше становилась мест-
ность. Все реже попадались одинокие хижины финнов,
окруженные жалкими полями, засеянными ячменем.
Наконец экспедиция пересекла полярный круг и до-
стигла горы Киттис. От других гор ее отделял слишком
большой участок ровной тайги, на котором не было
удобных мест для сигналов. Академики решили закон-
чить здесь триангуляцию.
Поскольку гора Киттис оказалась самой северной из
всех вершин треугольников, нужно было определить ее
6* 83
географические координаты. Для этой цели из Англии
был выписан новый, особенно точный квадрант. Этот гро-
мадный инструмент вместе со штативом достигал 4 м в
высоту. При этом он был очень сложным и нежным со-
зданием и совершенно не переносил тряски. Можно себе
представить, каких трудов стоило провезти его в лодке
через пороги Торнео и втащить на гору! Для его уста-
новки на вершине Киттиса пришлось построить времен-
ную обсерваторию. Вторая обсерватория для измерения
силы земного притяжения с помощью секундного маят-
ника была построена рядом. Это измерение должно бы-
ло послужить проверкой результатов триангуляции: если
Земля сплющена, маятник в Лапландии должен был ка-
чаться быстрее, чем в Париже, если вытянута — мед-
леннее.
Установка и проверка приборов заняли много време-
ни. Только в октябре подготовительные работы были за-
кончены. Но на беду тучи надолго закрыли небо. А меж-
ду тем зима надвигалась с каждым днем. 19 сентября
замерзли озера. Через несколько дней выпал первый
снег. Со дня на день можно было ожидать ледостава на
Торнео. Если бы река замерзла, экспедиция могла ока-
заться отрезанной от внешнего мира. Пришлось бы
ждать, когда лед приобретет достаточную прочность и
установится санный путь по реке. Благодаря быстроте те-
чения это обычно случалось лишь в декабре. Мысль ока-
заться застигнутыми в пустынной тайге полярной зимой
казалась французам, уроженцам юга, ужасной.
Наконец выдались две ясные ночи. Ученые работали
с лихорадочной быстротой и точно определили географи-
ческую широту места по звезде Дельта Дракона. Теперь
нужно было спешить в Торнео, чтобы определить широ-
ту южного конца сети треугольников.
Река покрылась льдом у берегов, но середина была
еще свободна. Местные рыбаки проявили чудеса ловко-
сти, спуская вниз по порогам драгоценный инструмент,
упакованный в ящики, набитые мхом. Экспедиция благо-
получно вернулась в Торнео. На другой день река стала.
Еще летом Клеро и Камю были откомандированы на
поиски места, подходящего для измерения базиса. Они
не нашли ни одного значительного куска земли, свобод-
ного от леса. Но им пришла счастливая мысль: измерить
базис на воде, или, вернее, зимой на льду. Приблизи-
тельно посредине сети треугольников они нашли место,
84
Рис. 61. Озеро в шведской Лапландии. Снято при по-
луночном солнце.
где река Торнео разливается среди пологих берегов,
образуя продолговатое озеро. На озере они наметили
линию длиной около 14,5 км. Концы базиса находились
на противоположных берегах озера; Клеро и Камю от-
метили их небольшими пирамидками.
Экспедиция прибыла на озеро в декабре. Лед был
достаточно толстый. На беду, слой рыхлого снега тоже
был очень толстым, так что люди проваливались в него
по пояс. Было изготовлено восемь длинных жезлов, око-
ло 10 м каждый. Участники экспедиции разбились на две
партии и начали измерять базис сразу с двух концов.
Трудно описать мучения, которые перенесли непри-
вычные к морозам французы. А морозы достигали 30°.
Почти все члены экспедиции поотморозили себе носы и
пальцы на руках и ногах. В то время как конечно-
сти их мерзли, сами они обливались пбтом, перетаскивая
по глубокому снегу тяжелые жезлы.
Наступила полярная ночь. Только краешек солнца
показывался на несколько минут над горизонтом. Рабо-
тать приходилось в сумерках, а также при свете север-
ного сияния, которое было очень ярко в этот год и
несказанно изумляло французов.
Когда по Лапландии прошел слух о работах экспеди-
ции, множество лопарей съехалось к озеру подивиться
85
на глупых иностранцев, с великим усердием меряющих
лед и, очевидно, не подозревающих о том, что весной
он все равно растает.
В последних числах декабря измерение было закон-
чено. Сравнение результатов двух партий удивило даже
самих участников: разница оказалась равной всего 10 см.
Перед отъездом в Торнео Мопертюи в сопровожде-
нии младшего сотрудника экспедиции аббата Утье со-
вершил поездку на гору Авасаксу.
Цель поездки на Авасаксу заключалась в определении
высоты горы барометром. Летом пожар на Хоррилякеро
отвлек Мопертюи, и он забыл произвести это наблю-
дение. Финны советовали Мопертюи и Утье пойти на
лыжах, но французы не имели тогда понятия о том,
что такое лыжи; на их языке даже не было такого
слова.
«Есть способ хождения, или, вернее, скольжения, на
двух узких досках, — пояснял Мопертюи на заседании
Академии, — которым пользуются финны и лопари.
Доски имеют в длину 8 футов и служат для того, чтобы
не проваливаться в снег. Этот способ передвижения тре-
бует длительной подготовки и упражнений».
Мопертюи и Утье предпочли отправиться на нартах,
запряженных оленями. Но и этот способ оказался труд-
нее, чем они думали. Хотя они и взяли проводников, но
на каждых нартах помещался только один человек, и
путешественники должны были сами управлять своими
упряжками.
Олени по равнине неслись, как птицы. Езда достав-
ляла французам большое удовольствие. Неприятности
начинались, когда нужно было останавливаться. Если
седок натягивал вожжи, привязанные за рога, олени на-
чинали лягаться. Лопари в этих случаях ловко опроки-
дывали нарты, пользуясь ими, как щитом, но неопытные
французы оказались порядком избитыми. Все же они
добрались до вершины Авасаксы. Мопертюи и Утье про-
извели наблюдение и отправились обратно. Спуск с горы
доставил им немало сильных ощущений. Мопертюи жа-
ловался потом, что олени мчались, не обращая ни малей-
шего внимания на то, кто на ком едет: академик на нар-
тах или нарты на академике.
Когда вся компания собралась в Торнео, море было
покрыто льдом и занесено глубокими снегами. Сообще-
ния с остальным миром не было никакого. Ученым ни-
86
чего не оставалось, как ожидать весны и на досуге
обрабатывать свои наблюдения.
Когда Кассини II окончил свое измерение от Дюнкерка
до Пиренеев, он не только объявил Землю вытянутой у
полюсов, но и составил таблицу, в которой было указа-
но, какую длину на какой широте должен иметь гра-
дус меридиана. «Лапландские» академики имели эту
таблицу с собой и, приближаясь к концу своих вычисле-
ний, с трепетом на нее поглядывали: сойдется или не
сойдется?
Результаты их измерений резко разошлись с табли-
цей. Градус меридиана оказался на целых 2 км длиннее,
чем предсказал Кассини. Мало того, он оказался гораздо
длиннее, чем все градусы, измеренные во Франции. Зем-
ля оказалась эллипсоидом сжатия. Но академики верили
Кассини больше, чем своим глазам. Десятки раз они по-
вторяли свои расчеты, без конца проверяли инструмен-
ты — все было правильно. Ими овладела ужасная мысль:
«Неужели Дельта Дракона изменила свое место среди
неподвижных звезд, пока они ехали от Киттиса до Тор-
нео?» И они решились на то, что раньше казалось им
невозможным: вновь в тридцатиградусные морозы пота-
щили они в самую глубь Лапландии свой громадный
квадрант, чтобы повторить наблюдения на Киттисе.
Поездка на санях прошла благополучно. На этот раз
ученые выбрали для наблюдения другую звезду — Альфу
Дракона. Все было тщетно: Альфа дала тот же результат.
Вера в Кассини была подорвана.
Только в июне, когда растаял лед и возобновилась на-
вигация, участники экспедиции возвратились во Францию.
Мопертюи наделал много шуму в Париже, явившись
на собрание Академии в одежде из оленьего меха под
руку с женой-лопаркой, той самой девушкой, которая
спасалась от мошкары в дыму костров на вершине Нивы.
Когда после многолетнего ожидания были получены
результаты перуанской экспедиции, выяснилась следую-
щая картина:
Длина градуса в Лапландии: 57 438 туазов = 111,95 км.
Длина градуса во Франции
(по Пикару): 57 060 туазов = 111,21 км.
Длина градуса в Перу: 56 753 туаза = 110,61 км.
В ошибке Кассини нельзя было больше сомневаться.
После возвращения Мопертюи из Лапландии его друг
87
великий французский философ и писатель Вольтер при-
слал ему поздравление по поводу того, что ему удалось
«расплющить земной шар и графа Кассини».
Однако через несколько лет Вольтер поссорился с Мо-
пертюи и высмеял его похождения в язвительных стихах:
Посланец физики, отважный мореход.
Преодолев н горы и моря.
Влача квадрант средь снега и болот.
Почти что превратившись в лопаря.
Узнал ты после множества потерь,
Что знал Ньютон, не выходя за дверь!
Глава 1Я
НЕБЕСНЫЕ ЧАСЫ И ПОРОХОВЫЕ БОЧКИ
Знаменитый французский астроном конца XVIII века
Деламбр, написавший многотомную «Историю астроно-
мии», рассказывая об экспедициях в Перу и Лапландию,
восклицает: «Как хорошо, что хоть на этот раз обошлись
без Кассини!»
Но Кассини III был иного мнения. Он решил доказать,
что обойтись без него не удастся. Он встретил в штыки
академиков, вернувшихся с севера и с юга. Чтобы опро-
вергнуть их выводы, он потребовал назначения комиссии
для проверки градусных измерений его отца и деда. Он
был уверен, что эта проверка подтвердит правильность
полученных ими результатов и восстановит всеобщую
веру в Землю-лимон.
Король пошел навстречу желанию своего любимца.
Он назначил комиссию во главе с самим Кассини. Осталь-
ные ее члены были его родственниками или сотрудника-
ми. Среди последних выделялся своим усердием начи-
нающий астроном Лякай. Кассини вполне на него пола-
гался. Он взвалил на него всю работу, а сам остался в
Париже. Он был слишком ленив и изнежен, чтобы лазать
по колокольням. Большинство членов комиссии последо-
вало его примеру.
Лякай оказался в высшей степени добросовестным ра-
ботником. Днем и ночью, зимой и летом объезжал он
города и села Франции, строил сигналы, измерял тре-
угольники. В два года он повторил работу, на которую
Кассини I и II потратили тридцать пять лет. Результаты
оказались убийственными для его учителя: они полно-
88
РИС. ьг. экспедиция Кассини 111 и Лякая производит триангуляцию.
стью подтвердили выводы «перуанских» и «лапландских»
академиков. Степень сжатия Земли, по его расчетам, ока-
залась равной */*»•. Чтобы окончательно установить, ка-
кова длина градусов меридиана на севере и на юге Фран-
ции, оставалось лишь проверить базис Пикара. Лякай
просил Кассини выдать ему для этой работы эталоны,
которые с такой заботливостью изготовил Пикар. Но Кас-
сини, ко всеобщему удивлению, заявил, что драгоценные
эталоны, хранившиеся под семью замками у его деда, от-
ца и затем у него самого и ни разу не выносившиеся из
стен обсерватории, куда-то исчезли и он никак не может
их найти. Эта уловка сильно повредила Кассини; даже
его друзья подозревали, что эталоны исчезли не по не-
брежности, а по злому умыслу.
После «измены» Лякая Кассини попробовал заняться
измерением параллелей. Он измерил большую дугу от
Парижа до Вены. Измерение дало неожиданный резуль-
тат: градус параллели оказался такой длины, какую он
должен был бы иметь, если бы Земля были правильным
шаром. Но в шарообразную Землю никто более не верил.
Очевидно, измерение опять было сделано неточно. Кас-
сини утверждал, что ошибочным было не его измере-
ние, а определение географической долготы Вены, про-
изведенное австрийским астрономом Хеллем.
Был ли виновен в ошибке Хелль или он сам, во вся-
89
Рис. 63. Экспедиция Кассини III и Лякая измеряет базис на берегу
Средиземного моря.
ком случае неудачное измерение дуги Париж — Вена
было последним сражением, которое дал Кассини при
своем отступлении. С этого времени учение о вытянутой
форме Земли, «столь полезное для науки и мореплава-
ния^ было окончательно похоронено, так и не принеся
«славы Франции».
А долгота Вены действительно могла быть определе-
на неточно, и вот по какой причине: с определением дол-
гот дело все еще обстояло неблагополучно.
В одном учебнике мореплавания, изданном в начале
XVI века, было сказано:
«В наше время находятся некоторые любознательные
люди, которые хотели бы иметь способ для определения
долготы. Но нахождение ее слишком затруднительно для
моряка, так как требует глубоких познаний в астроно-
мии. Поэтому я не хотел бы, чтобы кто-нибудь питал
надежду найти долготу в море посредством каких-либо
инструментов. Пусть же моряк не смущает себя различ-
ными, придуманными для этой цели правилами, а при-
вычным способом хорошенько обсуждает свое плавание
и ведет счисление пути корабля».
«Привычный способ» счисления заключался в том, что
штурман несколько раз в день заставлял матросов вы-
брасывать за борт деревянный поплавок — лаг (рис. 64).
90
При этом штурман опре-
делял скорость хода по
длине привязанной к ла-
гу веревки, которая раз-
матывалась с уходящего
корабля, пока штурман
успевал пять раз про-
честь «Отче наш». Умно-
жив скорость на число
часов, прошедших между
двумя измерениями, и за-
метив по компасу курс,
он мелом на доске вы-
считывал, где должен на-
Рис. 64 Ручной лаг. Д — лаг-доска
(поплавок). Л — лаг-линь, то есть
веревка, на которой выбрасывается
лаг-доска. На определенном рас-
стоянии друг от друга в нее впле-
тены лоскутки разной формы и
цвета для облегчения отсчета дли-
ны лаг-линя, сбежавшего с вьюш-
ходиться корабль, и ста-
вил на карте крестик.
Этот древний способ
при плавании через океан
нередко давал ошибку в
1000—1500 км. Это вызы-
валось не только неточ-
ностью измерений, но
также и действием мор-
ских течений, которое
ки. В — вьюшка, на которую намо-
тан лаг-линь и с которой он сбе-
гает при выбрасывании лага.
невозможно было учесть.
Моряки, воображавшие, что они находятся за тридевять
земель от всякой суши, внезапно налетали на скалистый
берег или сажали корабль на мель. Поэтому они не слу-
шали советов мудрого составителя учебника и постоянно
«смущали» себя поисками новых простых и точных астро-
номических приемов определения долготы. Но дело это
было трудным и притом не только для моряков.
В 1610 году Галилей заметил в зрительную трубу
четыре крохотные звездочки, которые кружились вокруг
Юпитера, по временам скрываясь за ним. Галилей догадал-
ся, что это были его спутники. Впоследствии им дали
имена: Ио, Европа, Ганимед и Каллисто. Галилей соста-
вил таблицу, в которой указывалось время захода спут-
ников за диск Юпитера.
Кассини I, в распоряжении которого уже имелся до-
вольно хороший телескоп, уточнил таблицу Галилея. Он
считал, что Юпитером можно пользоваться как небес-
ными часами, в которых спутники играют роль стрелок
(рис. 65). С помощью этих часов человек, находящийся
9|
Рис. 65. Небесные часы.
В круге показано, что видит
человек, наблюдающий Юпи-
тер в зрительную трубу.
в любой точке Земли, может
определить ее долготу. Для
этого он должен иметь со-
ставленное на год вперед рас-
писание затмений спутников.
Если штурман корабля, на-
блюдая в трубу, например, Га-
нимед, заметит, что он зашел
за Юпитер в 2 часа ночи по
местному времени, а заглянув
в таблицу, увидит, что в этот
день в Париже Ганимед дол-
жен скрыться в 4 часа 30 ми-
нут по парижскому времени,
то он может заключить, что
разница во времени между
местонахождением его кораб-
ля и Парижем составляет:
4‘/а — 2 = 2’/г часа.
Но разница в 1 час соответствует расстоянию по дол-
готе
360° : 24 = 15°,
значит, корабль находится на расстоянии
15° Х21.', = 37*/,°
от Парижа, и именно к западу от Парижа, так как солн-
це взойдет в Париже раньше, чем там, где находится
корабль, а видимое движение Солнца происходит, как
известно, с востока на запад. Итак, корабль находится
под 37°30' западной долготы от парижского меридиана.
И все-таки таблица Кассини не произвела такого пере-
ворота в мореплавании, какого он ожидал. Вскоре вы-
яснилось, что для моряков она мало пригодна. Во-пер-
вых, Юпитер не всегда и не везде бывает виден. Во-вто-
рых, моряки не всегда могут ждать затмения спутников
Юпитера. В-третьих, хотя зоркий человек и может рас-
смотреть спутников Юпитера простым глазом, для опре-
деления точного момента их захода нужен телескоп,
установить же его на палубе корабля невозможно.
Больше пользы принес способ Кассини для определе-
ния астрономических пунктов на суше. Но для таких де-
ликатных работ, как определение долготы при градусном
92
измерении, он оказался слишком грубым. Злополучная
долгота Вены, вызвавшая нарекания Кассини Ш, как раз
и была определена Хеллем по способу, указанному Кас-
сини 1, и по его таблицам.
В XVII веке Англия выдвинулась на первое место
среди морских держав мира. Английские адмиралы, ан-
глийские купцы, английские пираты все настойчивее
требовали от английских астрономов, чтобы те дали им
точный и удобный способ определения долгот.
Английские астрономы взялись за разработку спо-
соба лунных расстояний. Он был похож на
способ Кассини, но вместо закрытия Юпитером его спут-
ников здесь наблюдалось закрытие Луной неподвижных
звезд или же прохождение Луны на известном расстоя-
нии от определенной звезды или Солнца.
Этот способ имел то преимущество, что им можно
было пользоваться в любой момент, лишь бы Луна была
на небе. Измерив в градусах якобштабом или квадрантом
ее расстояние от нескольких ближайших крупных звезд
и заметив местное время, можно было в таблицах найти
час, когда Луна, наблюдаемая в Париже, находится в
том же расстоянии от тех же звезд. Дальше расчет
производился так же, как для спутников Юпитера.
Чтобы составить на несколько лет вперед таблицы
лунных расстояний, нужно было знать: точное положе-
ние звезд на небе и точный путь Луны. Но ни то, ни
другое не было известно в конце XVII века.
Английским астрономам предстояло проделать огром-
ную работу: определить небесные координаты несколь-
ких тысяч звезд и рассчитать необычайно сложный и
прихотливый путь нашего спутника.
Астрономы сделали английскому королю доклад, обри-
совав всю грандиозность стоящей перед ними задачи и
всю неисчислимую пользу, которую решение этой задачи
принесет Британской империи. В заключение они проси-
ли дать денег на постройку обсерватории. Король согла-
сился с их доводами, разрешил им построить маленький
домик в своем парке в пригороде Лондона Гринвиче и
назначил директором будущей обсерватории астронома
Флемстида, не дав ему, однако, никаких средств на по-
купку оборудования.
Флемстид и его товарищи сложились, приобрели кое-
какие инструменты и начали работать. Со своей задачей
они справились блестяще. Для этого, конечно, понадо-
93
Рис. 66. Гринвичская обсерватория.
бились усилия не одного Флемстида. Сменилось несколь-
ко поколений астрономов, пока были составлены доста-
точно полные каталоги звезд — эфемеиды — и доста-
точно точные таблицы лунных .расстояний, называвшиеся
тогда альманахами. Обсерватория выросла, стала
одной из лучших в мире (рис. 66).
Так как моряки всех наций, пользуясь таблицами
Гринвичской обсерватории, привыкли сравнивать свои
долготы с ее долготой, то меридиан, проходящий через
Гринвич, был признан по международному соглашению
начальным, нулевым.
Над усовершенствованием способа лунных расстояний
много работал великий русский ученый Ломоносов. На
случай же пасмурной погоды он разработал улучшенный
способ счисления посредством самозаписывающих прибо-
ров: лага и компаса. Лаг и компас Ломоносова автомати-
чески вычерчивали на бумаге путь корабля. Но изобре-
тения Ломоносова не были известны на Западе, и другие
изобретатели продолжали разрабатывать их независимо
от него.
Не следует думать, что способ лунных расстояний
действительно давал в то время большую точность. Он
позволял свести ошибку в местоположении судна к 80 км.
Но тогда и это было большим достижением.
94
Своеобразный, хотя и очень непрактичный способ
определения долгот изобрел Кассини Ill. Когда его по-
стигла неудача с измерением дуги параллели, ему при-
шло в голову, что можно проверить долготу Вены по-
средством ряда пороховых взрывов. Вот в чем заключа-
лась его мысль.
Между обеими столицами надо поставить ряд бочек
с порохом с таким расчетом, чтобы взрыв одной из
них был виден от следующей. Для этого понадобится
тридцать восемь бочек. К каждой бочке надо приделать
механизм, позволяющий взрывать ее на расстоянии.
В определенный час, скажем, в 7 часов по парижскому
времени, бочка № 1, стоящая около Парижской обсерва-
тории, будет взорвана. Сигнальщик, стоящий около
бочки № 2, как только увидит взрыв, должен немедленно
привести в действие свой механизм и взорвать бочку
№ 2. То же должны сделать и остальные. Таким обра-
зом, цепь взрывов прокатится до Вены. Астроном, ожи-
дающий в Вене, увидев взрыв бочки № 38, взглянет на
часы, идущие по венскому времени. Предположим, часы
покажут 7 часов 56 минут. Это означает, что венское
время отличается от парижского на 56 минут. Остается
только высчитать, какой разности долгот соответствует
эта разница во времени. Одному часу соответствует раз-
ность в 15°, а 56 минутам:
15°Х^=14°.
В эту цифру нужно внести еще поправку на время,
которое требуется для приведения в действие всех три-
дцати восьми механизмов.
Кассини не привел в исполнение свой план. Вероятно,
он сообразил, что если хоть один из наблюдателей за-
мешкается, разность долгот получится неверной.
Глава 13
КОНЕЦ КОРОЛЕЙ И ТУАЗОВ
Из истории дуги Париж — Вена видно, что отсутствие
надежного способа определения долгот сильно затруд-
няло работы по выяснению формы Земли. А незнание ис-
тинной формы Земли, в свою очередь, не позволяло с
точностью определять долготы.
95
Во время спора между сторонниками «мандарина» и
«лимона» Мопертюи произвел интересный расчет. «Если
мы вычертим карту, — писал он, — построив ее по тем
градусам, которые даны в таблице Кассини II для Земли-
лимона, а потом окажется, что Земля имеет форму, пред-
сказанную Ньютоном, то на ширине Тихого океана близ
экватора эта карта даст ошибку в 300 км. А разве мы не
слыхали о множестве кораблекрушений, происшедших
из-за гораздо меньших ошибок?»
В самом деле, какой был смысл штурманам опреде-
лять долготу с точностью до 80 км, если карта могла
обмануть их на 300? Из этого примера видно, что спор
между учеными о форме Земли носил вовсе не отвлечен-
ный, «философский» характер, а имел большое практи-
ческое значение.
Когда с «лимоном» было покончено, возник новый
вопрос: на сколько сплющен «мандарин»? Мы видели,
что теоретики — Ньютон и Гюйгенс—сильно разошлись
на этот счет. Не меньше разошлись и практики — Мо-
пертюи и Кондамин. Первый «расплющил» Землю на
Vtu, второй — лишь на Vsu.
Окончательно ответить на этот вопрос можно было
лишь после многократных повторений градусных изме-
рений. Когда важность их для мореплавания и картогра-
фии стала очевидной, все страны, словно наперегонки,
принялись измерять дуги меридианов и параллелей.
Невиданную по своему размаху триангуляцию пред-
приняли англичане в Индии. Измеренная ими дуга мери-
диана длиной в 21°, пересекшая всю страну с севера на
юг, через горы и джунгли, была тогда самой длинной
из всех измеренных дуг.
Когда геодезисты покрыли своими треугольниками
большие пространства, им пришла в голову мысль ис-
пользовать триангуляцию для вычерчивания точных карт.
В самом деле, при триангуляции положение на земном
эллипсоиде многих точек (городов, сел, горных вершин),
в которых устанавливались сигналы, определялось со-
вершенно точно. Эти точки можно было связать малень-
кими треугольниками с остальными важными точками
на местности, не вошедшими в главную сеть: селе-
ниями, изгибами рек, вершинами, перекрестками дорог
и т. д.
По мере того, как степень сплюснутости Земли все
96
Рис. 67. Часть Большой карты Франции, составленной Кассини III,
с нанесенной на нее сетью треугольников.
более уточнялась, составление карт становилось главной
задачей триангуляции, а измерение длины градуса — по-
бочной.
Первым человеком, который вполне оценил значение
триангуляции для картографии, был Кассини III. Потер-
7 Как измерили Землю 97
пев поражение в споре о форме Земли, он замолк на
некоторое время. Очевидно, он обдумывал, как без по-
терь выйти из скверного положения. Но его род недаром
исстари отличался практической сметкой. Через некото-
рое время выход был найден.
Кассини взял работу Лякая и решительно поставил на
ней свою подпись. Он стал говорить, что именно его
труды окончательно доказали сплюснутость Земли. Он
требовал, чтобы Кондамин и Мопертюи признали его за-
слуги в этом деле и разделили с ним свою славу.
Затем Кассини отправился к королю и предложил ему
использовать цепь треугольников, построенных Лякаем,
для составления Большой карты Франции (рис. 67). Кар-
та должна была состоять из ста восьмидесяти листов,
общей площадью в 125 кв. м. Для определения астроно-
мических пунктов Кассини намеревался параллельно пер-
вой цепи проложить ряд других цепей на расстоянии
120 км одна от другой. Наперерез этим цепям должны
были пройти такие же цепи вдоль параллелей. Всего
предстояло измерить 2000 треугольников. План был гран-
диозен. Когда Кассини представил смету на расходы, у
Людовика XV помутилось в глазах. Несмотря на все
свое расположение к Кассини, он урезал смету в не-
сколько раз. Но Кассини и здесь не растерялся. Он об-
ратился к богачам-придворным и предложил им образо-
вать акционерное общество. Люди, которые вложат свои
деньги в это дело, потом поделят барыши от продажи
карт. Кассини доказывал придворным, что Франция бы-
стро развивается, строятся мануфактуры, прокладываются
шоссе, реки связываются сетью каналов — карты нужны
будут всем: промышленникам, торговцам, инженерам,
ученым. Их будут покупать нарасхват, и акционеры по-
лучат большую прибыль.
Деньги у придворных нашлись, и работа закипела.
Кассини нанимал десятки астрономов, сотни инженеров-
топографов, тысячи рабочих, а сам руководил всеми
делами из Парижа.
Однако он не успел довести эту работу до конца.
В 1784 году он умер, выпустив перед смертью книгу о
съемке Большой карты. Книга, конечно, начиналась на-
пыщенным и льстивым посвящением королю.
Работу Кассини III закончил его сын, четвертый ди-
ректор Парижской обсерватории.
При составлении Большой карты Франции очень остро
98
Рис. 68. Кассини III определяет по звезде широту астрономиче-
ского пункта.
встал вопрос об эталонах. В этом деле царил полнейший
беспорядок. Нормальный туаз и секундный маятник Пи-
кара так и не нашлись. Перед отъездом перуанской и
лапландской экспедиций по железной полосе замка Ша-
теле были изготовлены два эталона туаза для проверки
жезлов. Их взяли с собой руководители обеих экспеди-
ций. Когда Годэн по окончании градусного измерения
поступил профессором в Перуанский университет, он за-
хватил эталон с собой в Лиму и не хотел его отдавать.
Только через три года после возвращения Кондамина
Парижской академии удалось получить его обратно в до-
вольно потрепанном виде.
Еще более не повезло лапландскому туазу. На обрат-
ном пути из Торнео корабль, на котором его везли,
попал в бурю и затонул. Когда выяснилось, что степень
сжатия Земли по расчетам северных и южных академи-
ков получилась различной, стали искать причину рас-
хождения. Было решено достать со дна моря утонувший
туаз и сравнить его с перуанским. Долго разыскивали
погибший корабль. К счастью, его нашли и притом на
мелком месте. После многих хлопот водолазы отыскали
драгоценный эталон. Но оказалось, что, пролежав два-
дцать лет в воде, он совершенно заржавел. Эталон по-
7* 99
чистили и отремонтировали, но поручиться за точность
его уже нельзя было. Оказалось, что между ним и перу-
анским туазом есть разница в ’/в парижской линии (’/< мм).
Это означало, что при измерении базиса тем и другим
туазом разница в длине всей земной окружности полу-
чилась бы равной 5 км.
Очевидно, геодезисты XV11I века дошли до предела
точности, возможной в то время. Чтобы двинуться даль-
ше, нужно было найти новые приемы измерения, изо-
брести новые инструменты, ввести новые правила изго-
товления и хранения эталонов.
Но прежде всего нужно было решительно перестроить
систему мер и весов. Существующая система очень за-
трудняла расчеты. Она никак не вязалась с принятой
десятичной системой счисления. Туаз делился на 2 локтя,
локоть — на 3 фута, фут — на 12 дюймов, дюйм — на
10 линий. При вычислениях с именованными числами
нельзя было пользоваться десятичными дробями, все
единицы надо было превращать в самые мелкие, а затем
снова исключать из них более крупные.
К тому же в каждой стране были свои меры. Внутри
самой Франции в каждой области сохранились с средних
веков особые меры. И все эти тысячи мер не имели эта-
лонов или имели эталоны, еще более несовершенные, чем
знаменитая железная полоса в лестнице замка Шателе,
которая при переходе от зимних холодов к летней жаре
удлинялась почти на целый миллиметр.
При такой системе мер трудно было измерить не
только земной меридиан, но и кусок холста. От нее в
равной мере страдали астрономы и торговцы, землемеры
и школьники.
Ученые не раз придумывали очень хорошие способы
избавления от этой путаницы. Они представляли их на
утверждение королям, короли благодарили ученых, одо-
бряли проекты и — преспокойно клали их под сукно.
Но вот грянула Французская буржуазная революция.
Молодая буржуазия принялась ломать старые законы и
старые учреждения. Они были для нее как бы детской
одеждой, которая была ей впору когда-то и даже нра-
вилась, но теперь стала несносно мала, стесняла движе-
ния и мешала ей показать свою силу.
Лучшие люди Франции, передовые писатели, ученые
приветствовали революцию. Они провозгласили царство
Разума. В своих книгах и речах они обрушивались на все
100
старое, косное, нелепое, на дедовские обычаи, предрас-
судки, на все пережитки феодализма.
Группа ученых, которых интересовал вопрос о систе-
ме мер и весов, решила, что наступил самый выгодный
момент разрушить и этот пережиток. Старые меры, про-
существовав века, пустили корни во всех областях жиз-
ни. Они внедрились в книги и машины, в рынки и скла-
ды, в географические карты и корабли. Выкорчевать
этот гигантский пень можно было только в момент все-
народного подъема. Теперь или никогда! И ученые внесли
в Учредительное собрание проект перестройки системы
мер и весов.
Изменение системы мер и весов сулило большую эко-
номию буржуазии, которая жила торговлей. Проект
ученых встретил сочувствие в Учредительном собрании.
Академии наук было предложено в кратчайший срок
представить доклад. Академия поручила разработку про-
екта комиссии, в которую вошли величайшие математики,
физики и астрономы Франции во главе с Лапласом.
Пока комиссия работала, Учредительное собрание
дало поручение и королю, который хотя и был лишен
власти, все же формально продолжал считаться главой
государства. Ему было предложено списаться с ее вели-
чеством королевой британской и просить ее побудить
английский парламент содействовать утверждению есте-
ственной единицы мер и весов, для того чтобы под по-
кровительством обеих наций могли собраться комиссары
Академии наук и Лондонского Королевского общества if
вывести неизменный образец для всех мер и весов.
Как видно, Учредительное собрание хотело оказатб
благодеяние не только своему, но и английскому народу,
да заодно облегчить торговлю с ним.
Были ли англичане от природы тяжелы на подъем,
или Людовик XVI оказался плохим ходатаем по делам
Учредительного собрания, но только протянутая рука
Франции повисла в воздухе. Ни тогда, ни потом Англия
не приняла метрической системы и до сих пор осталась
единственной страной в Европе, преданной своим ярдам
и футам, галлонам и бушелям.
Доклад Академии был готов в марте 1791 года. По
мнению Академии, новая система должна была покоиться
на трех принципах:
1) в основе ее должна лежать единица длины естест-
венная и неизменная, то есть такая, которая независимб
101
от людей существует в природе и будет существовать
вечно;
2) все остальные меры длины, площади, объема, веса
и пр. должны быть выведены из нее и с ней связаны;
3) в пределах единиц одного порядка ббльшая должна
равняться десяти меньшим.
Первое условие было самым трудным. Где найти в
природе неизменную единицу длины? Некоторые пред-
лагали воскресить предложение Пикара и взять в каче-
стве такой единицы длину секундного маятника.
Но это предложение было отвергнуто. Ведь единица
времени — секунда, которую должен был отбивать маят-
ник,— была условной, выдуманной людьми. Люди разде-
лили сутки на 86 400 секунд, но могли разделить и иначе.
Когда маятник был забракован, внимание ученых при-
влек земной эллипсоид. Линии, которые можно провести
на нем, меридианы и параллели, всегда остаются неиз-
менными. Академики полагали, что измерить их они
могут с достаточной точностью. Как бы ни улучшались
в будущем геодезические приборы, длину выбранной
единицы изменять не придется. Это заключение, как по-
том выяснилось, было слишком самоуверенным: члены
комиссии ручались за точность только до В наше
время такая точность считается совершенно недостаточ-
ной.
Но что взять за основу: меридиан или экватор? Ре-
шили взять меридиан, потому что <каждый народ при-
надлежит к одному из земных меридианов, но только
Небольшая часть человечества живет на экваторе».
Итак, Академия предложила взять за основу системы
мер и весов одну сорокамиллионную часть парижского
меридиана. Ей было дано название: метр.
Далее Академия предлагала меры площади и объема
выводить из мер длины, строя на каждой из них ква-
драт и куб.
За единицу веса Академия предлагала принять вес
кубического дециметра дистиллированной воды в пусто-
те при 4° Цельсия и нормальном давлении.
Наконец, Академия считала нужным делить сутки не
на 24 часа, а на 10 часов, каждый час не на 60, а на
100 минут, и минуту не на 60, а на 100 секунд. Точно
так же и прямой угол должен был делиться на 100°,
—на 100*, Г — на 100”.
Законодательное собрание, которое пришло на смену
102
Учредительному, одобрило доклад Академии. Однако оно
считало, что прежде чем дать метрической системе силу
закона, нужно еще раз измерить дугу меридиана и при-
том возможно более длинную.
Впоследствии в проект Академии были внесены не-
которые изменения. Новое деление времени, как и углов,
не привилось. Но в основном метрическая система ока-
залась очень удачной, принесла те выгоды, которые от.
нее ждали, и постепенно завоевала почти весь мир.
Получив одобрение правительства, Академия выделила
уже не одну, а целых шесть комиссий. Каждая комиссия
ведала какой-либо частью сложного общего дела.
Пока комиссии подбирали людей, заказывали инстру-
менты, обсуждали подробный план работ, политические
события развивались с головокружительной быстротой.
Простой народ — крепостные крестьяне, рабочие ману-
фактур, ремесленники требовали власти, требовали хлеба.
Они шли вначале вместе с буржуазией против дворян,
но когда буржуазия остановилась, насытившись своими
победами, они готовы были итги гораздо дальше.
И они добились власти. В Париже образовалась Ком-
муна, которая вскоре стала вторым правительством. На
границах разгоралась война. Австрия и Пруссия готови-
лись задушить французскую революцию. Дворяне бежали
за границу и переходили на сторону врага. Сам король
попытался бежать к австрийцам, переодевшись лакеем,
но его поймали и под конвоем привезли в Париж. Он
был низложен и заключен в замок Тампль.
Законодательное собрание должно было уступить
место Конвенту, который был избран всеобщим голосо-
ванием и в который вошло много представителей просто-
го народа. Конвент судил короля за измену. 21 января
1793 года Людовик XVI был казнен.
Как же отозвались все эти грозные события на ма-
леньком короле астрономии, директоре Парижской об-
серватории Кассини IV?
Незадолго до революции, закончив Большую карту
Франции, он вдруг заметил, что обсерватория, простояв-
шая сто лет и донельзя запущенная его нерадивыми
предками, готова обрушиться. Он заметил, что телеско-
пы поломаны и устарели, многих новых приборов, кото-
рыми гордился Гринвич, нет и в помине. Кассини при-
нялся за ремонт, перестройку, покупку приборов. Но дело
подвигалось медленно. Король, промотавший всю казну
103
и по уши залезший в долги, не проявлял уже прежнего
рвения к науке и очень скупо отпускал деньги на обно-
вление обсерватории.
Кое-что Кассини успел сделать. Но потом его отвлекло
новое предприятие: вместе с астрономами Мешеном и
Лежандром он решил соединить через Ла-Манш француз-
скую и английскую сети треугольников.
Во время этой работы французы многому научились.
Они увидели совершенно новые приемы работы, неви-
данную заботу о точности. Англичане измеряли базис не
деревянными жезлами, которые удлинялись от сырости,
а стеклянными трубами, на которые влага не оказывала
никакого действия. Они измеряли углы очень удобным
новым прибором — теодолитом. Они производили
триангуляцию только ночью, чтобы боковое освещение
не мешало визировать точно на середину сигнала. Сигнал
они делали в виде параболического зеркала, отражавшего
яркий свет бенгальского огня и направлявшего его со-
бранным пучком в нужную сторону.
Соединение сетей треугольников было произведено.
Англия была <привязана» к европейскому материку. Кас-
сини вернулся в Париж горячим поклонником английской
астрономии, английской механики и оптики.
В это время раздались первые раскаты революции.
Кассини заперся в обсерватории, занялся писанием исто-
рических книг и воспоминаний.
Национальный конвент, производя чистку всех госу-
дарственных учреждений от сторонников старого режи-
ма, добрался и до обсерватории. <Не слишком ли дол-
го, — подумали депутаты, — засиделся графский род в ее
стенах?» Но из уважения к научным заслугам директора
все же решили его оставить. Однако, чтобы освежить
затхлый воздух обсерватории, Конвент издал декрет, по
которому Кассини и три его ученика должны были чере-
доваться и, по году каждый, исполнять обязанности ди-
ректора.
Такого оскорбления Кассини перенести не мог. Как,
делить с учениками власть, которая сто двадцать четыре
года безраздельно принадлежала его роду? Нет, лучше
уйти совсем! И Кассини подал в отставку.
Даже после этого Конвент не перестал считаться с
его заслугами. Когда осенью 1793 года окончательно
утверждался состав шести комиссий Академии наук, Кон-
вент назначил гражданина Кассини руководителем той из
104
них, которая должна была проверить старые и до-
бавить новые треугольники. В ответ на это почетное
поручение Кассини написал в Академию резкое письмо,
в котором заявлял, что не желает иметь ничего общего
с властью, избранной чернью, и отказывается принимать
участие в каких-либо работах по ее поручению.
Через год он был арестован по подозрению в сноше-
ниях с врагами республики.
Революция пощадила Кассини. Он еще всплыл на по-
верхность при Наполеоне и дожил до девяноста семи
лет, но никакой роли не играл. Это была тень прежних
королей астрономии. Его сын был ботаником. На нем
род оборвался.
Глава 14
НА ВУЛКАНАХ ФРАНЦИИ
Когда Кассини IV отказался возглавить комиссию, ра-
боты в ней уже шли полным ходом и, как потом оказа-
лось, прекрасно могли и дальше итти без него. Фактиче-
ским руководителем комиссии был Деламбр (рис. 69). Это
был передовой ученый, свободомыслящий и сочувствую-
щий революции. Правда, он держался в стороне от поли-
тической борьбы, но знаниями своими всегда был рад
принести пользу республике.
Он родился в Амьене, том самом городе, в котором
Фернель начал считать обороты своего колеса, в кото-
ром Пикар кончил вести цепь своих треугольников. Он
посвятил себя классической литературе и усердно изучал
языки, главным образом латынь и древнегреческий.
Деламбру было уже тридцать шесть лет, когда он
случайно познакомился с известным астрономом Лалан-
дом. Он прослушал одну из его лекций в университете
и вдруг понял, что всю свою жизнь шел не по своему
пути. <Лучше поздно, чем никогда», подумал он и ре-
шительно, свернул на новую дорогу. Через семь лет Де-
ламбр представил в Академию наук таблицы затмений
спутников Юпитера. Они были много точнее прославлен-
ных некогда таблиц Кассини 1. Деламбр получил премию
и звание академика.
С жаром принялся Деламбр за увлекательную работу
по измерению меридиана. Это измерение отличалось от
предыдущих тем, что имело непосредственную практи-
ческую цель: введение метрической системы. Здесь прак-
105
тика переплеталась с теорией точно так же, как в вопро-
<е об определении долгот: отсутствие разумной системы
мер не позволяло с большой точностью измерить Землю,
а незнание точной формы и размера Земли не позволяло
установить естественную систему мер. Очевидно, надо
было решать обе задачи сразу.
Деламбру очень хотелось побить рекорд Лякая и по-
лучить результаты, еще более достоверные, еще более
близкие к истине. Его товарищем по работе был назначен
Мешен, такой же энтузиаст, как и он. Друзья сгово-
рились удивить Академию и намного превзойти ту сте-
пень точности в ‘/«soo. за которую Академия поручилась
перед Конвентом.
Мешен, как и Деламбр, не сразу стал астрономом. Его
отец, архитектор, послал Мешена в Париж учиться
строительному искусству, но бедность не позволила ему
довести ученье до конца. Он вынужден был наняться
гувернером в богатую дворянскую семью, жившую не-
далеко от столицы. Здесь, имея немного досуга, Мешен
начал интересоваться астрономией. Сберегая по франку
от жалованья, сколотил он небольшую сумму для покуп-
ки зрительной трубы. Труба принесла ему много радо-
сти. Он проводил целые ночи, изучая небо.
Однажды в Париж приехал по судебному делу отец
Мешена. Он проиграл процесс. На него возложили из-
держки по суду, и ему пришлось отдать все, что у него
было, до последней копейки. Не осталось даже на обрат-
ную дорогу. Тогда сын принес ему свою любимую тру-
бу. Он просил отца продать ее, так как сам не в силах
был это сделать. Старик пришел в университет и спро-
сил, кто читает курс астрономии. Ему сказали: Лаланд.
Он предложил трубу Лаланду. Ученый, расспросив ста-
рика, чья это труба и почему она продается, заплатил за
нее большие деньги. На другой день он послал ее моло-
дому Мешену в подарок, приложив ряд советов, полез-
ных для астронома-любителя. Лаланд вообще был чуда-
ком: приготовив к печати курс астрономии, он надумал
послать его для отзыва не мудрым академикам, а юноше-
гувернеру. Он был поражен меткими замечаниями, кото-
рые сделал Мешен, возвращая рукопись. Лаланд устроил
его на работу в бюро, ведавшее составлением морских
карт.
Уже будучи академиком, Мешен принимал участие в
соединении английских треугольников с французскими.
106
Рис. 69. Жан Деламбр.
Приступая к измерению
меридиана, он рассказал
Деламбру о технических
новинках, виденных им
у англичан, и советовал
ими воспользоваться. Во
Франции был всего один
механик, Ленуар, кото-
рый умел делать доста-
точно точные приборы.
Друзья заказали ему
параболические зеркала
для световых сигналов.
Но делать теодолиты он
не умел, купить же их у
английской фирмы было
нельзя, так как Англия
примкнула к врагам ре-
волюции, и все сноше-
ния с ней были пре-
рваны.
Но большой беды в
этом не было. Председа-
тель Бюро мер и весов
академик Борда изобрел новый прибор — повтори-
тельныйкруг.
Его точность не уступала точности теодолита. По за-
казу Мешена и Деламбра, Ленуар изготовил два повто-
рительных круга.
Друзья поделили между собой дугу. Деламбр должен
был провести триангуляцию всей Франции, кроме самого
южного участка, а Мешен — на этом участке и в Испа-
нии (рис. 49).
Вершины первого треугольника Деламбра находились
в Париже и его окрестностях. Произвести измерение
углов в этих вершинах, или, как выражаются геодезисты,
станциях, было, пожалуй, труднее, чем если бы они
находились на вулканах Перу.
Париж в эти дни сам был вулканом в момент извер-
жения. По улицам двигались возбужденные демонстра-
ции; патрули различных партий обыскивали прохожих;
многочисленные местные власти: муниципалитеты, коми-
теты, секции, заседали непрерывно, издавая бесчислен-
ные декреты; политические клубы вели жестокую борь-
107
бу друг с другом; ежедневно возникали новые заговоры.
Все были вооружены.
Деламбр, погруженный в свои планы и мысли, не-
сколько рассеянный, как многие ученые, вступил в этот
потревоженный муравейник во главе процессии, состояв-
шей из нескольких экипажей, нагруженных непонятными
для непосвященных приборами, сверкающими сталью и
медью, и трубами, похожими на пушки. Он вышел из
задумчивости только тогда, когда возбужденная, разгне-
ванная толпа преградила ему дорогу. Взволнованные
граждане вытащили инструменты из повозок. С криками
и угрозами наступали они на Деламбра. Ученый спокой-
но вынул указ об охране сотрудников Бюро мер и весов
и неприкосновенности их инструментов. На указе стояла
подпись и печать короля. Это была одна из последних
бумаг, данных на подпись королю Законодательным со-
бранием. Она долго пролежала в канцелярии Академии и
была вручена участникам работ лишь тогда, когда не
могла им принести ничего, кроме вреда. Чтобы доказать
свое ученое звание, Деламбр показал еще диплом Лон-
донского Королевского общества, которое избрало его в
свои члены. Диплом был написан по-латыни. Никто в нем
ничего не понял, кроме имени английского короля
Георга.
Толпе все стало ясно: этот важный господин везет
какие-то новые страшные орудия, чтобы взорвать Ком-
муну, убить ее вождей, чтобы помочь швейцарским
наемникам, засевшим в замке Тюильри. К тому же
он состоит в переписке с королем враждебного госу-
дарства.
Несколько рук ухватились за пистолеты, как вдруг в
толпе показались два человека с повязками советников
районного муниципалитета. Деламбр обратился к ним,
требуя, чтобы ему вернули инструменты и дали возмож-
ность приступить к работе.
— Мы ничего не можем приказывать гражданам,—
ответили советники, — попробуйте доказать им невин-
ность ваших приборов и объяснить значение ваших ра-
бот. Если вам это удастся, они сами вас отпустят.
Стемнело, пошел дождь. Деламбр стоял на площади
и читал толпе лекцию по геодезии, с тоской наблюдая,
как расходятся по рукам части драгоценных инструмен-
тов. Стоило уронить одну из них на землю, погнуть на
волос — и потребуются месяцы для ее замены или испра-
108
вления, месяцы вынужденного бездействия, во время
•которого драгоценный революционный порыв, позволяю-
щий ввести метрическую систему, может быть упущен.
Как случилось, что этот самый порыв, которым он так
дорожил, оказался направленным против него?
Каждый вновь подходящий требовал новых объясне-
ний, и Деламбр покорно начинал сначала. Передние ряды
слушали, но плохо понимали, задние ничего не слышали
и нетерпеливо шумели. Уже раздавались предложения
<повесить старого болтуна на фонаре». К счастью, в это
время подошли прокурор и председатель муниципалите-
та. Они объявили Деламбру и его спутникам, что аресту-
ют их, и просили граждан собрать и сдать им части
приборов, дабы они могли опечатать их до приезда
комиссаров Коммуны, которые разберутся в их назначе-
нии.
Деламбр вздохнул с облегчением, когда увидел, что
все до последнего винтика было возвращено в целости.
Он понял, что председатель муниципалитета хочет по-
средством ареста спасти его и инструменты. Геодезистов
заперли на постоялом дворе и приставили к двери часо-
вых.
Ночью, обдумав происшедшее, Деламбр понял, что
сам во всем виноват. Эти люди, которых буржуазия пре-
зрительно прозвала санкюлотами (беспортошниками), не
виноваты были в том, что их в детстве не обучали гео-
дезии и астрономии. Что касается их подозрительности,
то она была вполне понятна. Разве не собиралась контр-
революция нанести республике удар в спину, в то время
как санкюлоты отбивались на фронтах от наседавшего
со всех сторон врага? Нет, надо было действовать совсем
не так!
Наутро Деламбр написал председателю Законодатель-
ного собрания. Через три дня он получил уже отпеча-
танный декрет, который ставил его и его товарищей
под защиту республики. Это было за двенадцать дней до
замены Законодательного собрания Национальным кон-
вентом, но и после этого декрет остался в силе.
После освобождения Деламбр стал осторожней. Те-
перь он всегда приходил на место работ без инструмен-
тов, являлся первым делом к городским властям и в
дополнение к декрету, который он носил с собой, просил
выдать ему разрешение на производство работ в их
округе.
109
Но еще один раз Деламбр сделал неосторожный шаг.
Он устроил станцию на деревенской колокольне, с кото-
рой был виден Париж. Он условился со своим помощ-
ником, что тот ночью подаст сигнал отражательным зер-
калом с холма Монмартр, высшей точки Парижа. Сигнал
вспыхнул однажды, но вскоре погас. Деламбр, не успев
сделать наблюдение, просидел на колокольне три ночи,
но ничего больше не увидел. Как потом оказалось, в Па-
риже шли уличные бои, и толпа, заметив на крыше чело-
века, подающего световые сигналы, едва не растерзала
его. От применения зеркал пришлось отказаться.
Сначала Деламбр надеялся повторить старые тре-
угольники Кассини и Лякая. Но из этого ничего не вы-
шло. Их вершинами по большей части служили коло-
кольни и башни феодальных замков. За время револю-
ции многие колокольни были снесены, от замков оста-
лись обугленные развалины. Еще хуже было с уцелев-
шими колокольнями. Некоторые из них переехали на
новые места. Вернее, вместо обвалившихся от старости
были выстроены новые, точно такие же, но на других
местах. Деламбр, не подозревая об этом, десятки раз
проверял свои углы и недоумевал, почему они не схо-
дятся с углами его предшественников. Когда он узнал,
в чем дело, он взял себе за правило, приходя в деревню,
первым делом разыскивать самого древнего старика и
выспрашивать у него историю окрестных колоколен и
башен.
В конце концов Деламбр отказался от проверки ста-
рой сети и начал строить новую, воздвигая большое ко-
личество искусственных сигналов. Однажды он избрал
сигналом колокольню, которая была плохо видна издали.
Он приказал укрепить на ней большое белое полотнище.
Через час к нему пришли местные крестьяне и просили
снять его, так как соседи могли подумать, что они во-
друзили у себя белое королевское знамя. Деламбр стал
находчивым за время невзгод. Он добавил к своему си-
гналу с боков красное и синее полотнища; получился
трехцветный республиканский флаг. Крестьяне остались
очень довольны.
На севере Франции Деламбр наткнулся на серьезное
препятствие: конец его сети попал на линию фронта.
Англичане и голландцы наступали через Бельгию, в Дюн-
керке слышалась пальба из пушек. Ряд намеченных стан-
ций как раз попадал между линиями войск. Пришлось
по
изменить план триангуляции. Фронт непрерывно изви-
вался, и Деламбр совершал сложные маневры со своим
тяжелым обозом Друзья давно советовали ему отложить
градусное измерение до более спокойных времен, но он
и слышать об этом не хотел. Теперь или никогда!
Деламбр закончил северную часть дуги и перекочевал
на юг. Здесь возникли новые трудности. В тот самый
день, когда он построил сигнал в городке Бор, нале-
тел ураган и причинил большие убытки жителям. По-
том на два месяца зарядили дожди и уничтожили
урожай. Старушки сразу смекнули, в чем тут дело: ясно,
это колдун-звездочет напустил на них все казни египет-
ские. Народ погибнет с голоду, если не сломает его дья-
вольские вышки, которыми он притягивает тучи. Эти
слухи быстро расползлись по округе, и крестьяне приня-
лись ломать сигналы. Чтобы геодезисты не могли найти
место, где стояли сигналы, крестьяне тщательно засыпали
и запахивали ямы от столбов. Приходилось у каждого
сигнала держать вооруженную стражу.
В это время в Париже произошли важные перемены,
которые чуть было не сделали напрасными все труды и
лишения Деламбра. Академия наук была закрыта Наци-
ональным конвентом. Она сама дала к этому повод: в
ней действительно гнездилось много сторонников короля,
вроде Кассини.
Бюро мер и весов продолжало существовать. Однако
длительность его работ наскучила Конвенту. Люди поли-
тики, стоявшие во главе его, привыкли действовать бы-
стро и решительно, они знали, что надо ковать железо,
пока) горячо. Кропотливая тщательность ученых каза-
лась им подозрительной. Они вызвали к себе членов
Бюро и спросили:
— А по старым измерениям, чему равна десятимил-
лионная часть четверти меридиана?
— Приблизительно 443,44 линии перуанского туаза.
— Сотые доли линии, и это все еще «приблизитель-
но»? Мы считаем точность совершенно достаточной.
И они издали два постановления: о введении метри-
ческой системы на основе временного метра, равно-
го 443,44 линии, и об изменении состава Бюро мер и
весов.
Один из членов Бюро привез Деламбру второе поста-
новление. Оно гласило:
111
«ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ПРОТОКОЛОВ КОМИТЕТА ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО КОНВЕНТА.
Третьего дня нивоза, второго года
Французской Республики.едииой и
неделиной.
Комитет общественной безопасности, принимая во
внимание, насколько важно не вверять должностей ни-
кому, кроме людей, достойных доверия за их республи-
канские доблести и их ненависть к королям, постано-
вляет, чтобы Борда, Лавуазье, Лаплас, Кулон, Бриссон и
Деламбр перестали быть членами комиссии мер и весов.
Постановляет, кроме того, чтобы оставшиеся члены по-
делились своими взглядами о том, как возможно скорее
ввести новые меры, пользуясь революционным порывом».
Деламбру разрешили довести треугольники до бли-
жайшего большого города, Орлеана. Потом он поехал в
Париж сдавать дела. Ему было очень тяжело. Он не мог
поручиться за всех членов Бюро, но разве он не заслу-
жил доверия республик», днем и ночью, в дождь и снег,
среди восстаний и войны выполняя задание Конвента и
боясь потратить минуту на отдых? Он полагал, что в
этом и заключается республиканская доблесть. Разве
выиграет республика, если он пойдет по клубам выстав-
лять иапоказ свою ненависть к королям? И разве он не
подвергал себя тысяче опасностей и лишений, чтобы
успеть использовать революционный порыв французского
«арода?
I’.iaea 13
ТРИ СЕКУНДЫ
Мешену сначала на редкость повезло. Во-первых, ре-
шив начать работу с юга и приехав в Барселону, он за-
стал там великолепную погоду. Во-вторых, ему достался
прекрасный помощник, инженер и географ Траншо,
.смелый и знающий человек.
Мешен принял за конечную точку дуги крепостную
.башню в Барселоне (рис. 70), определил ее географиче-
скую широту и начал измерять треугольники. Дело по-
двигалось очень быстро. Пока Деламбр трудился над од-
ной станцией, он успевал отработать четыре.
Мешену казалось, что ничто не помешает ему закон-
112
Рис. 70. Барселона в XVIII веке.
чить триангуляцию в один год, но, когда он дошел до
Пиренеев, счастье ему изменило.
Один знакомый испанский врач пригласил его осмо-
треть новую конную водокачку, установленную в его
деревне. Лошади были где-то заняты, врачу же хотелось
показать машину в действии. Он кликнул слугу и, впряг-
шись с ним вдвоем, начал ее вращать. Мешен стоял у
бассейна и смотрел, как льется вода. Внезапно он услы-
шал крик. Обернувшись, он увидел, что врач и его слу-
га, не удержав поводков, выпустили их. Поводки под тя-
жестью захваченной воды начали раскручиваться в обрат-
ную сторону и сшибли обоих людей. Они лежали на
земле, испуганные, но невредимые. Им не угрожала уже
никакая опасность, но Мешен, не подумав об этом, бро-
сился им на помощь. Один из поводков налетел на него,
поднял в воздух и с размаху ударил о соседнюю стену.
Ключица, правая рука и несколько ребер были сломаны.
Три дня ученый лежал без сознания, но все же выжил.
Пять месяцев пошло на его лечение.
Пока Мешен был обречен на бездействие, английский
министр Питт, наоборот, развивал кипучую деятельность,
ь Как измерили Зем ю 113
Рис. 71. Пиренеи.
За эти пять месяцев он вовлек в войну против Франции
почти все европейские государства, в том числе и Испа-
нию. Граница стала фронтом. Провести через нее цепь
треугольников казалось невозможным. Однако, когда Ме-
шен выздоровел, Траншо, не признававший никаких пре-
пятствий, предложил попытать счастье. Он отправился
на пограничную вершину Эстеллу, чтобы измерить там
углы. Его схватили испанские солдаты и связанного при-
тащили в ближайшую деревню. Мешену стоило больших
трудов добиться его освобождения.
Ничего не оставалось, как только вернуться во Фран-
цию и ожидать конца войны. Но не тут-то было. Мешену
разрешили выбрать самому место жительства в Испании,
но на родину не пустили.
Мешен поселился в Барселоне. От нечего делать он
надумал еще раз проверить ее широту. И вдруг, о ужас,
он увидел, что в первый раз он ошибся на 3". Правда,
разница в 3" на дуге в 10° с лишним даст ошибку всего
в ‘Л**». Это в два с половиной раза меньше, чем неточ-
ность, которую Академия признала допустимой. Но ведь
они условились с Деламбром превзойти эту дозволенную
степень точности! И он уже сообщил Деламбру неверную
114
цифру! Как некогда Бугэ и Кондамин, они, чтобы устра-
нить всякие подозрения, условились обмениваться резуль-
татами и вести расчеты друг за друга. Деламбр, конечно,
уже включил широту Барселоны в длинный и сложный
лабиринт расчетов. Теперь он обвинит его в неумении
обращаться с приборами или в небрежности!
Все еще не вполне оправившийся после аварии на во-
докачке, выбитый из колеи вынужденным бездействием и
пленом, расстроенный долгим отсутствием вестей от
семьи, которую он оставил в Париже, Мешен не нашел
в себе силы признаться в ошибке. Его нервы были рас-
строены, и пустяковый проступок казался его воображе-
нию страшным преступлением. Он сделал из него тайну,
и эта тайна отравила последние годы его жизни и при-
вела в конце концов к его гибели.
Не зная о том, что испанские власти держат Мешена
в плену, Комитет общественной безопасности заподозрил
его в измене, в нежелании вернуться на родину и вер-
нуть оставшиеся у него казенные деньги. Между тем де-
ло обстояло как раз наоборот: испанские власти ото-
брали его деньги, как принадлежащие враждебному
правительству. Мешен и Траншо буквально голодали.
Многие иностранные научные институты, узнав, что
известный астроном сидит без дела и без средств к
жизни, соблазняли его выгодными предложениями. Но
он скорее умер бы, чем пошел на службу к врагам
Франции.
С большим трудом он выхлопотал разрешение на
выезд в Италию и после ряда приключений добрался до
Генуи.
Теперь у Мешена была возможность вернуться во
Францию. Однако он медлил. Он мечтал попасть на ро-
дину, но страх удерживал его на чужбине. Как он взгля-
нет в глаза товарищам? Наверно, они сраау догадаются
о его трех секундах.
После нескольких месяцев колебаний Мешен все же
приехал в Марсель. За это время Конвент пересмотрел
свое поспешное решение. Часть старых членов Бюро мер
и весов, в том числе Деламбр, были восстановлены, ра-
боты возобновились. Обновленная Академия наук возро-
дилась под новым названием Национального института
(рис. 72).
Мешен не поехал в Париж, а отправился к Пиренеям
и начал измерять французский участок своей дуги. Но у,
8* 11В
него не было прежнего рвения. Чем дальше подвигался
он навстречу Деламбру, тем меньше времени оставалось
до того ужасного момента, когда будет вычислен и
утвержден законом окончательный, но не точный, не-
верный метр. Несчастный Мешен чувствовал себя вино-
ватым перед всем человечеством. Но чем дальше, тем
труднее было открыть тайну.
Мешен, как мог, растягивал работу, ссылался на
болезнь, переутомление. Деламбр закончил свою часть
дуги и пошел дальше, на помощь Мешену. Он же изме-
рил оба базиса. Сети сомкнулись, оставалось подвести
последний итог, вычислить окончательный результат.
В Париж были приглашены ученые из всех нейтраль-
ных держав. Их было не так мало. Все-таки не всех уда-
лось Питту перетянуть на свою сторону. С некоторыми
государствами Франция успела заключить мир. Испания,
Дания, Голландия, швейцарские республики, Тоскана,
королевство Сардиния и Пьемонт прислали своих пред-
ставителей. Два месяца жили ученые в Париже, а комис-
саров (так теперь назывались Мешен и Деламбр) все не
было. Уже иностранцы начали обижаться; члены Бюро
мер и весов не знали, чем их занять. Правительство тре-
бовало объяснений, а в это время Деламбр в захолуст-
ном городке на юге Франции тщетно убеждал Мешена
приехать в столицу и представить международной кон-
ференции свои расчеты.
Положение казалось безвыходным, когда нарочный
привез Мешену письмо из Парижа: Бюро долгот при
Национальном институте просило его занять пост дирек-
тора Парижской обсерватории. Мешен был поражен. Он
привык считать себя преступником, а ему вдруг оказыва-
ют величайшую честь, какая только может выпасть на
долю французского астронома! И он решился ехать.
В научных кругах уже пошли слухи о том, что с на-
блюдениями Мешена что-то неладно, раз он так упорно
не хочет оглашать их результаты. Но, когда он приехал
и представил на конференцию свои записные книжки,
все были удивлены необычайной тщательностью измере-
ний, точностью совпадения треугольников, добросовест-
ностью бесчисленных проверок. Лучшего нельзя было и
желать. Обнаружить неправильность широты Барселоны
можно было только на месте, по звездам, но не по рас-
четам.
116
Конференция проверила и одобрила работу всех ше-
сти комиссий и постановила:
«Утвердить постоянный метр в 443,296 линии перуан-
ского туаза».
Как видно, постоянный метр оказался короче времен-
ного на 0, 144 линии, или 0, 355 мм. Для постоянного мет-
ра были изготовлены эталоны из драгоценного метал-
ла — платины.
Мешен приступил к исполнению обязанностей дирек-
тора обсерватории. Но работа не доставляла ему преж-
ней радости. Им овладела навязчивая идея: он боялся,
что Национальный институт надумает заняться провер-
кой дуги и его тайна будет открыта.
Наконец, уже после контрреволюционного переворота
Наполеона, он придумал выход из положения. Около
Барселоны дуга упиралась в море. Но если бы ее про-
должили, она вышла бы на Балеарские острова (рис. 49).
Надо довести дугу до островов и точно определить гео-
графическую широту ее нового, южного конца. Тогда
Рис. 72. Заседание Национального института.
широта Барселоны выпадет из расчетов, станет ненуж-
ной, как широта всех промежуточных станций, о ней во-
обще забудут. Конечно, длина меридиана, вычисленная
по удлиненной дуге, получится немного иной, раз в нее
не войдет ошибка в 3’, но это можно будет объяснить
теми легкими неправильностями в форме меридиана, ко-
торые были обнаружены при последней триангуляции.
Мешен выступил на собрании Национального инсти-
тута с проектом удлинения дуги. Институт одобрил его;
давно было известно, что чем длиннее дуга, тем точнее
результат. Чтобы избавить пожилого и больного ученого
от тягостей полевой работы, президент института предло-
жил поручить работу одному из молодых астрономов. У
Мешена выступил холодный пот. Пустить в Барселону
другого астронома? Ни за что! И он с необычайной го-
рячностью стал доказывать, что он достаточно силен и
не стар еще, ему всего пятьдесят девять лет. Наконец,
это его право — ехать в Испанию, раз именно он внес
предложение.
Академики пожали плечами и согласились. Весной
1803 года он выехал.
В Испании свирепствовала какая-то новая, неизвест-
ная болезнь. Балеарские острова отгородились от эпиде-
мии, подвергнув себя добровольной блокаде, и не дали
бригантине Мешена пристать к берегу. Мешен решил про-
тянуть цепь треугольников вдоль побережья, от Барсело-
ны до Валенсии, а оттуда перекинуться на Балеары через
остров Ивису, расположенный всего в 90 км от берега.
Он взялся за работу с юношеской энергией. Его подхле-
стывала надежда снять со своей совести по крайней мере
половину греха. Метр исправить было уже нельзя, но
уточнить длину меридиана можно.
На третьей станции заболел страшной болезнью слуга
Мешена; на пятой свалились оба приставленных к Ме-
шену испанских офицера. Он не обратил на это внима-
ния и, не боясь заразы, спал в одной палатке с больны-
ми. На седьмой станции заболел и он сам. Отлежавшись
в ближайшем городку лишь настолько, чтобы кое-как
держаться на ногах, он поспешил возобновить работу.
Поднимаясь на вышку, он почувствовал новый приступ
болезни. Он потерял сознание и упал, его отнесли в па-
латку. Всю ночь он бредил, требовал свои записные
книжки, кричал, что никто не смеет в них заглядывать.
Наутро тут же, у подножия сигнала, он умер.
118
Глава /в
АСТРОНОМ В РОЛИ ПИРАТА
Записные книжки Мешена были пересланы Деламбру.
Только из них он узнал про три секунды, узнал причину
странного поведения своего друга в последние годы его
жизни. Никто и не думал осуждать покойного ученого.
Национальный институт торжественно почтил память
своего мужественного сочлена, умершего на боевом по-
сту.
Через несколько лет было решено довести до конца
работу Мешена. Физик Био и двадцатилетний начинаю-
щий астроном Араго (рис. 73) обратились в Бюро дол-
гот, к которому перешли дела Бюро мер и весов, с
просьбой доверить им эту почетную задачу. Их просьба
была удовлетворена.
В Испании нелегко было перебираться от сигнала к
сигналу: леса кишели разбойниками, которые нападали
на путников даже среди бела дня.
Био уехал во Францию за недостающими инструмента-
ми. Араго работал один около города Кулерй. Он жил в
хижине около своей вышки. Однажды ночью во время
проливного дождя к нему попросился на ночлег атаман
местных разбойников. Араго впустил его.
— Я знаю, кто вы такой, — сказал он, — и я хочу вос-
пользоваться нашим знакомством, чтобы спросить вас,
могу ли я безопасно ходить в этих местах, особенно
ночью? Днем здесь стоит нестерпимая жара.
— Откровенно говоря, — ответил разбойник, — мы хо-
тели проверить ваши карманы. Но потом смекнули, что
не таскаете же вы с собой деньги по всем горам, на ко-
торые вас носит чорт неизвестно за чем. К тому же вы
приютили меня во время грозы. Я отдам приказ своим
молодцам оставить вас в покое.
Он сдержал свое слово. Араго не раз потом ночью
нарывался на бандитов, которые, приставив пистолет к
его лбу, предлагали ему «поделиться с бедняками тем,
что есть лишнего в чемодане». Но каждый раз, как толь-
ко он называл свое имя, его отпускали.
Закончив съемку на берегу, Араго перебрался на ост-
рова. Но геодезистам не везло. Как только они принима-
лись за измерение меридиана, короли принимались за
войну.-
Араго работал с параболическими зеркалами на ост-
119
рове Майорка (рис. 74),
когда французские войска
вторглись в Испанию. На
Майорку прибыл адъютант
Наполеона Бертеми. От
имени императора он по-
требовал, чтобы испанский
флот, стоявший в порту
Пальмы, отправился в Ту-
лон и сдался французам.
Толпа едва не растерзала
дерзкого посланца. Власти
спасли его, заперев в тюрь-
му. Тогда вспомнили про
другого француза, кото-
рый свил себе гнездо на
горе за гаванью и оттуда
Рис. 73. Франсуа Араго. подавал по ночам сигналы,
очевидно указывая путь
неприятельскому флоту.
Толпа отправилась к вышке. Араго спас рыбак, хозяин
суденышка, нанятого им для разъездов по морю. Он при-
бежал раньше всех и принес местное крестьянское платье.
Араго, только что закончивший последнее наблюдение,
мигом переоделся и отправился в город.
— Поймайте его да проучите как следует! — крикнул
он, повстречав толпу, поднимавшуюся в гору.
У него был удивительный дар быстро схватывать лю-
бое наречие, так что его везде принимали за местного
жителя. И в этот раз толпа приняла его за пастуха Но в
Пальме его узнали. Спасаясь от разъяренных жителей,
он стрелой мчался к тюрьме, но все-таки получил удар
кинжалом в спину, к счастью не смертельный. Комендант
тюрьмы охотно впустил арестанта, который сам спешил
попасть к нему под замок.
Его посадили в одну камеру с Бертеми. В Пальме у
него было много друзей, но теперь все постарались о
нем забыть. Только Родригес, испанский комиссар, при-
ставленный к нему для наблюдения за триангуляцией и
ставший его лучшим другом, приходил на свидание.
С помощью Родригеса и рыбака, однажды уже спас-
шего жизнь Араго, пленникам удалось бежать.
Рыбак заранее перенес астрономические инструменты
Араго с вышки в барку. Для дальнего плавания он при-
120
гласил четырех матросов, согласившихся за небольшую
плату спасти астронома. После нескольких дней плава-
ния беглецы вошли в гавань Алжира.
Алжирия в то время считалась частью Турции. Но фак-
тически она была независимым государством. Наместник
султана, дей, распоряжался в ней как неограниченный
властелин. Он даже объявлял войну и заключал мир с
иностранными державами по своему усмотрению. Он
имел в Средиземном море большой флот, который зани-
мался пиратством. Пиратством, впрочем, занимались и
европейские державы. Английское, голландское, француз-
ское, испанское правительства выдавали патенты на пра-
во занятия морским разбоем и отбирали у пиратов часть
добычи под видом налога на их «прибыли». Пираты,
имеющие патент и давшие подписку грабить только ино-
странные суда, назывались каперами. С нравами ка-
перов Араго вскоре пришлось познакомиться.
На берегу беглецов встретил испанец, чиновник дея.
— Кто у вас на борту? — крикнул он хозяину судна.
— Четверо французов.
— Убирайтесь, откуда пришли! Я запрещаю вам здесь
высаживаться.
Так как французы не подчинялись, он схватил палку
и принялся наносить им удары. К счастью, матрос со
Рис. 74. Остров Майорка.
стоявшего рядом генуэзского корабля огрел его веслом.
Завязалась драка, воспользовавшись которой Араго с то-
варищами успели укрыться во французском консульстве.
Вскоре дей надумал послать в подарок Наполеону
двух львов и целое стадо обезьян. Он снарядил капер-
ское судно, которое должно было отвезти их в Марсель.
Командовал судном капитан Рай-Брахам-Улед-Мустафа-
Гойа. Он согласился отвезти на родину Араго и Бертеми,
снабженных фальшивыми паспортами на имя купцов из
Австрии и Венгрии. Паспорта могли пригодиться на слу-
чай неприятных встреч в море.
После нескольких дней плавания, недалеко от Сарди-
нии, Брахам-Улед заметил американское торговое судно.
Он поднял все паруса, догнал его и послал в него не-
сколько ядер. Судно остановилось.
— Ты будешь переводчиком и потребуешь от них
все, что я тебе прикажу, — сказал Брахам-Улед Араго.
Приходилось слушаться. Когда капитан американско-
го судна поднялся к ним на борт, Араго предложил ему
прислать «в подарок алжирской команде» несколько
ящиков сахара, чая и кофе. Американец вышел из себя.
— Мерзавец, разбойник, каторжник, — кричал он,
подступая к скромному астроному, которого он принял
ja главного зачинщика грабежа, — попадись ты мне на
суше, я размозжу тебе голову!
Все же ему пришлось отдать то, что от него требова-
ли. «Какие странные обязанности приходится иногда ис-
полнять делегату Бюро долгот!» думал про себя Араго.
Марсель был уже виден, когда алжирский пират по-
встречался с испанским. Алжир и Испания были друже-
ственными державами, но это было совершенно не важ-
но. У испанца были пушки более крупного калибра,
поэтому ядра на этот раз посыпались на алжирское судно.
Капитан-испанец объявил, что всех берет в плен, и
приказал следовать за ним в порт Росас (рис. 49).
Араго сильно надеялся на фальшивый паспорт. Но
вдруг, к ужасу своему, он увидел среди испанских мат-
росов некоего Пабло, которого в бытность свою в Ва-
ленсии не раз нанимал для постройки сигналов. Араго
проворно сбежал в каюту, укрылся с головой одеялом
и два дня пролежал так под предлогом морской болезни.
Итак, после стольких приключений он был снова в
плену. Пленников поместили на полуразрушенной мель-
нице. Почему-то решили, что Араго — капитан корабля,
122
Рис. 75. Улица в старом Алжире.
и без конца таскали его на допрос. Он запнулся, когда
судья спросил его, откуда он родом: он забыл, чтб на-
писано в его паспорте. С тех пор судья не верил ни
одному его слову. По хорошему произношению он ре-
шил, что Араго испанец. Очевидно, предатель и пере-
бежчик, раз во время войны ехал во Францию. Дело
приняло плохой оборот. Уж лучше было бы сознаться,
что он француз, и отсидеть до конца войны в плену.
Араго пытался узнать, где Пабло, чтобы вызвать его в
свидетели, но Пабло уехал.
Французы осадили Росас. Каждый день, ожидая каз-
ни, Араго видел из окна мельницы французских драгун,
гарцовавших у соседней опушки. Но бежать ему не уда-
лось.
Однажды военные власти вывели из тюрьмы всех
французов, кроме Араго, посадили на баркас и отправи-
ли на родину в обмен на испанских пленных. Араго
клялся, что он француз, но ему не поверили. На этот раз
способность к языкам сыграла с ним плохую шутку: он
был на краю гибели лишь потому, что говорил по-испан-
ски, как настоящий испанец.
В самом начале плена Араго удалось переслать письмо
алжирскому дею. Он знал, что судьба его подданных ма-
ло обеспокоит дея, и потому напирал главным образом
на то, что один из львов, посланных в подарок импера-
тору, издох от голода и плохого обращения.
Дей был взбешен. Он немедленно отправил грозный
ультиматум испанскому правительству, требуя освобож-
дения захваченного судна и угрожая войной. У испан-
ского правительства было и без того достаточно хлопот;
корабль со всеми пассажирами и командой был тотчас
освобожден.
Снова протекли два дня плавания. Снова показались
вдали дома Марселя. «Но аллах, — как говорил Брахам-
Улед, — рассудил опять по-своему». Уже у входа в гавань
внезапно налетел мистраль, северный ветер страшной
силы, и Марсель вскоре скрылся из виду.
Несколько дней судно трепала буря. Наконец увидели
берег. Это опять была Алжирия, но не город Алжир, а ма-
ленькое местечко Бужи, окруженное пустыней (рис. 76).
Араго нашел нескольких попутчиков и отправился в Ал-
жир пешком. 200 км прошел маленький караван по пу-
стынным горам, не встретив ни одного человеческого
жилья. Львы каждую ночь рычали вокруг, и люди с
124
Рис. 76. Мыс около Бужи, близ которого буря прибила
корабль Араго.
ружьями в руках бодрствовали до утра, охраняя рвав-
шихся с привязи мулов.
Караван благополучно добрался до Алжира. Вскоре
туда же прибыли морем и ящики с драгоценными прибо-
рами Араго, оставленные на хранение в Бужи. Местный
начальник, заглянув в щель между досками, увидел бле-
стящие медные части и решил, что это золото. Он при-
шел в ужас: хитрый француз привез несколько ящиков
золотых монет и слитков, чтобы подкупить кочевников
и поднять восстание! И он поспешил отослать ящики
дею.
Еще полгода провел Араго в Алжире, пока ему не
представился случай отплыть на родину. Вновь на капер-
ском судне, на этот раз охранявшем три купеческих
корабля, он в третий раз пересек Средиземное море.
В третий раз показался вдалеке Марсель. Но изобрета-
тельность аллаха,была поистине неисчерпаема.
Английский фрегат, принимавший участие в блокаде
Франции, преградил вход в заветную гавань. Капитан
фрегата потребовал, чтобы все четыре судна следовали
за ним на остров Иер, где находился штаб английской
средиземноморской эскадры. Но на этот раз алжирский
капер перехитрил аллаха. Когда фрегат пошел рядом с
125
«купцами», он положил паруса на другой галс и бросил-
ся наутек. «Англичанин» пустился в погоню, но тогда об-
ратились в бегство «купцы». Решив, что на купеческих
кораблях будет больше поживы, фрегат окончательно
занялся ими, оставив в покое их конвоира.
Одиннадцать месяцев потратил Араго, чтобы проплыть
500 км, отделяющие Майорку от Марселя. Зато во Фран-
ции его ждал восторженный прием. Академики были по-
ражены, когда узнали о приключениях, выпавших на
долю молодого астронома, и о том, что через все опасно-
сти и все лишения он пронес в целости и драгоценные
инструменты и результаты измерений законченной им
дуги.
Сам Деламбр выдвинул его кандидатуру в Националь-
ный институт. Строгий Лаплас высказал сожаление, что
«научных заслуг маловато», «но, — заключил он, — за
храбрость можно принять». Араго только что исполнилось
двадцать три года, когда он был избран в число акаде-
миков.
Глава 17
НЕ ЛИМОН И НЕ МАНДАРИН, А КАРТОШКА
Мешеи ошибался, думая, что географическая широта
Барселоны никому не понадобится, если триангуляция
пройдет дальше и Барселона станет промежуточным
пунктом. Во время последнего градусного измерения бы-
ли определены широты многих промежуточных пунктов.
Выводы получились очень важные, даже ошеломляющие.
Зная широту не только концов всей дуги, но и
концов отдельных ее участков, Деламбр смог подсчитать,
кроме средней длины градуса меридиана между Дюнкер-
ком и Балеарскими островами, еще и длины отдельных
градусов на этом пространстве. Затем, вычтя из каждого
градуса соседний градус, более близкий к экватору, он
составил табличку изменения длины градусов при посте-
пенном переходе с севера на юг. Вот что у него полу-
чилось:
Длина 51-го градуса больше, чем длина 50-го градуса, на 14,1 м
> 49-го » » » » 48-го » » 16,4 •
» 47-го » > » » 46-го » » 63,2 »
» 44-го » » 43-го » » 25,2 »
• 42-го » меньше, » » 41 го » • 3.9 »
126
Рис. 77. Морской бой в конце XVIII века.
Если бы Земля была правильным эллипсоидом, то
длина градусов изменялась бы плавно. На протяжении
Франции и Испании каждый градус был бы приблизи-
тельно на 19 м длиннее своего соседа с юга. Между тем в
таблице эта величина скачет: она то меньше 19 м, то
значительно больше, а в Испании 42-й градус, оказывает-
ся, даже короче 41-го, напоминая про недоброй памяти
«лимон» Кассини.
Может быть, причина этой неправильности в ошиб-
ках и неточности измерений? Нет, дело не в этом. Даже
ошибка Мешена, не говоря уже о более мелких, не мог-
ла вызвать такие скачки. Причина заключалась в самой
Земле.
Поверхность Земли оказалась кривой. Установили,
что она обладает не той плавной кривизной, которой об-
ладает, например, полированный шар, а той, которой
отличается обыкновенная картошка: здесь бугор, здесь
широкое пологое вздутие, здесь приплюснутый, почти
ровный бочок. Только впадин, в отличие от картошки,
Земля не имеет, она все-таки везде выпуклая. И бугры в
ней, разумеется, не так резко выступают.
127
Не надо думать, что бугры, обнаруженные Деламб-
ром, это материки или горы. Не о них здесь идет речь.
Представим себе, что материки прорезаны по всем на-
правлениям каналами, такими глубокими, что в них сво-
бодно вливается вода из океана (рис. 78). На каком
уровне она установится? Уровень воды в каналах
установится вровень с океанами, но поверхность ее при-
мет слегка неправильную, бугристую форму. Вот эту-то
поверхность воды в воображаемых каналах, пронизы-
вающих сушу, вместе с поверхностью настоящих морей
геодезисты и считают поверхностью Земли. Именно ее
форму и размеры они стараются определить.
Чтобы узнать, на какой высоте и под каким углом к
земной оси установилась бы вода в канале, скажем, под
городом Киевом, геодезистам вовсе не надо рыть глубо-
кий канал, соединяющий Киев с Черным морем. Взгля-
нув на барометр, они могут сказать: «Высота над уров-
нем моря 95 и». Это как раз и значит, что, будь в этом
месте канал, уровень воды стоял бы в нем на 95 м ниже
той точки, где в момент наблюдения стоит барометр.
Еще легче определить направление поверхности воды
в канале, то есть угол ее с земной осью. В любом озере,
любом прудике, даже в любом блюдечке поверхность во-
ды всегда устанавливается параллельно поверхности во-
ды в воображаемом канале. По углу а между поверхно-
стями воды в нескольких сосудах, расположенных в
одном районе, можно судить, образовался бы или нет во-
дяной бугор в этом районе, если бы он был прорыт ка-
налами.
О неровностях водной поверхности в воображаемых
каналах можно судить также по нити отвеса, которая
всегда располагается перпендикулярно к ней. И отвес и
горизонт воды подчиняются той же силе тяжести, и если
она направлена «косо», как на рис. 78, то и они располо-
жатся «косо».
Впервые основательно разобрался в этом вопросе
Лаплас (рис. 79). Он изучил таблицу Деламбра и данные
других измерений и сделал из них важные выводы.
В свое время Ньютон задал геодезистам громадную
работу, заявив: «Земля не шар, она эллипсоид!» Мы ви-
дели, как трудно было определить размеры этого эллип-
соида.
И когда эта работа была выполнена, когда геодези-
сты считали, что уж на этот-то раз они определили окон-
128
Рис. 78. Уровень воды в воображаемом канале. Справа и слева —
море, посредине — материк, прорезанный каналом. Канал свободно
сообщается с обоими морями. Тем не менее поверхность воды в
нем не имеет формы дуги эллипсоида, а образует бугор. Наверх)'
изображены сосуды, расположенные над поверхностью суши. По-
верхность воды в них всегда параллельна поверхности воды в бли-
жайшей точке канала. Поэтому, даже если канала в действитель-
ности не существует, о наличии бугра на нем можно судить по
углам между поверхностями воды в сосудах. Так, между поверх-
ностями воды в сосудах 2 и 3 угол больше, чем между 1 и 2 или
3 и 4. Значит, между 2 и 3 поверхность воды в канале загибается
круче, образует бугор. На практике измеряют углы не между по-
верхностями воды в сосудах, а между нитями отвесов, которые
всегда к ним перпендикулярны.
нательные размеры Земли и даже вывели из них вечную
и неизменную меру — метр, явился Лаплас и сказал:
«Земля не эллипсоид, она...»
Но тут Лаплас запнулся. Что же такое теперь Зем-
ля? Ведь для такого неправильного тела в геометрии не
подберешь названия, геометрия не изучает неправильные
тела. Придется, очевидно, придумать для формы Земли
новое название. И Лаплас объявил: «Земля есть г е о и д!>
В сущности, новое слово ничего не объясняло. Геоид
по-гречески значит «землеподобный». Сказать: «Земля
имеет форму геоида», все равно, что сказать: «Земля
имеет такую форму, какую имеет Земля». Тем не менее
слово было придумано не напрасно — надо же было дать
какое-то название новому понятию.
Работа, которую задал геодезистам Ньютон, показа-
лась им теперь сущим пустяком. Вот Лаплас так дей-
ствительно удружил! Кто мог теперь поручиться, что
все меридианы имеют одну длину? Хорошо еще, что
0 К«» uaueoiua Землю 129
Парижская академия опре-
делила метр как одну со-
рокамиллионную часть не
какого-нибудь, а именно
парижского меридиана. Но
и это было слабым утеше-
нием. Разве можно теперь
было считать окончательной
длину парижского мериди-
ана, измеренного на протя-
жении 12,5°? Быть может,
эти 12,5° как раз приходят-
ся на бугор или, наоборот,
на приплюснутое место. А
дальше меридиан имеет
другую кривизну и, следо-
вательно, другую длину? На
рис. 80 тонкими линиями
показаны два эллипса, по-
Рис. 79. Пьер-Симон Лаплас. лученные разными исследо-
вателями, измерявшими один,
дугу АБ, другой Дуту ВГ одного и того же меридиана.
Как видно, результаты у них получились очень различ-
ные и у обоих неправильные.
Так неужели же пропали даром все труды? Неужели
ошибся великий Ньютон?
Нет, конечно. Ньютон был прав, утверждая, что Зем-
ля эллипсоид сжатия, так же, как прав был Пифагор,,
утверждая, что она шар. Труды французских академи-
ков по измерению эллипсоида не пропали даром, как не
пропали и труды Эратосфена по измерению шара.
Дело в том, что каждое новое открытие не отменяло
старого представления о Земле, но лишь уточняло и
дополняло его. С каждым новым открытием люди все
более приближались к истине.
Первое приближение (Эратосфен): Земля — шар с ра-
диусом около 6000 км.
Второе приближение (Ньютон): Земля — шар с ра-
диусом около 6000 км, но слегка сжатый у полюсов
(приблизительно на 20 км с каждой стороны), то есть
эллипсоид сжатия.
Третье приближение (Лаплас): Земля — шар радиусом
около 6000 км, но слегка сжатый у полюсов (приблизи-
тельно на 20 км с каждой стороны), обладающий, кроме:
13Q
Рис. 80. Земной геоид. Отдельные
участки его меридиана имеют раз-
ную кривизну. Если бы геодези-
сты измерили только дугу мериди-
ана АБ, они вообразили бы, что
Земля имеет форму и размеры
большого эллипсоида 1. Если бы
они измерили только дугу ВГ,
Земля представилась бы им ма-
леньким эллипсоидом II. Оба пред-
ставления были бы ошибочны.
того, небольшими непра-
вильно расположенными вы-
пуклостями (высотой не бо-
лее 150 л/), то есть геоил.
После открытия Лапла-
са перед геодезистами вста-
ли новые задачи. Посколь-
ку эллипсоид является пра-
вильным геометрическим
телом, они могли по длине
двух его осей вычислить
длину любого градуса ме-
ридиана или параллели. Они
могли по законам картогра-
фических проекций перене-
сти эти меридианы и парал-
лели на плоскость и на сет-
ке, образованной ими, чер-
тить карты. Ничего этого
нельзя было сделать с гео-
идом. Раз он является те-
лом неправильным, части
его нельзя вычислять, их
можно только измерять заново и заново в каждой точке
Земли.
Поэтому геодезисты решили сохранить эллипсоид вра-
щения как воображаемую, идеальную фигуру Земли, та-
кую фигуру, которую она имела бы, если бы сгладились
небольшие неровности, превращающие ее в геоид. На
этот воображаемый эллипсоид они решили мысленно и
в расчетах переносить свои базисы и треугольники, они
решили относить геодезические пункты к
эллипсоиду (рис. 81).
Свой воображаемый эллипсоид геодезисты назвали
референц-эллипсоидом, что значит «эллипсоид
отнесения», или «эллипсоид, на который переносят».
Конечно, весьма желательно найти такой референц-
эллипсоид, который как можно ближе подходил бы к
геоиду. Волнистая поверхность геоида местами будет
выступать над ним, местами уходить под него. Но если
подобрать удачные размеры эллипсоида, она не будет
расходиться с ним на значительное расстояние.
Подбор наилучшего референц-эллипсоида — вот к че-
му свелась первая и важнейшая задача геодезии. В сущ-
у 131
ПОВЕРХНОСТЬ СУШИ
ПОВЕРХНОСТЬ РЕФЕРЕНЦ-
ЭЛЛИПСОИДА
ДНО ОКЕАНА
Рис. 81. Земля, геоид и референц-эллипсоид. Истинная поверх-
ность Земли — неровная. Поверхность геоида тоже неровная, но
неровности на ней плавные, сглаженные. На море она совпадает с
его действительной поверхностью. Поверхность эллипсоида — гео-
метрически правильная. При определении высоты точки суши С
измеряют (с помощью барометра) ее расстояние до геоида, то
есть линию СГ, но при нанесении точки С на карту ее переносят
на референц-эллипсоид, то есть в точку Р.
ности, это был все тот же старый эллипсоид, величину
которого высчитывали многочисленные французские ака-
демики. Только они думали, что высчитывают размер
настоящей Земли, а оказалось, что они высчитывали раз-
меры идеальной, «приглаженной» Земли. Так, может
быть, эллипсоид Деламбра с четвертью меридиана, рав-
ной 10 000 000 м, и сжатием 1 : 334 и был наилучшим
референц-эллипсоидом? Нет, ни в коем случае. Этот
эллипсоид был высчитан только на основании градусных
измерений во Франции, Испании и Перу. А когда его
попробовали приложить ко всей Земле, оказалось, что
он местами очень сильно расходится с геоидом.
Впервые вычислил референц-эллипсоид, достаточно
близко подходящий ко всему геоиду, немецкий астроном
Бессель. Это был очень знающий и очень трудолюби-
вый профессор. Он почти не путешествовал: ему не
пришлось измерять Землю, терпя лишения и рискуя
жизнью. Он измерил лишь маленькую дугу в Восточной
Пруссии, а затем заперся в своей обсерватории в Кенигс-
берге и погрузился в горы цифр. Он вычислил эллип-
соид, сопоставив градусные измерения в Перу, Франции,
Англии, Пруссии, России, Швеции и Индии. Вот что у не-
го получилось:
Экваториальный радиус (а) —6377,4 км.
Полярный радиус (в} —6356,1 км.
Длина четверти меридиана — 10 000 856 м.
Эллипсоид оказался весьма удачным. Хотя впослед-
ствии и были вычислены другие, еще более точные
эллипсоиды, но для некоторых стран, в частности для
СССР, эллипсоид Бесселя до последнего времени считал-
ся наиболее подходящим. Сейчас в СССР в Институте
геодезии ведутся работы по вычислению нового рефе-
ренц-эллипсоида, еще более приближающегося к геоиду.
Предварительные результаты их приведены в таблице в
конце книги.
Но мало было найти референц-эллипсоид. Раньше по-
ложение каждой точки, находящейся на земной поверх-
ности, определялось двумя координатами: географиче-
скими широтой и долготой. Теперь же появилась еще и
третья: высота над поверхностью референц-эллипсоида,
то есть длина перпендикуляра, опущенного (вверх или
вниз) из данной точки геоида на поверхность эллипсои-
да (рис. 81). К определению этих третьих координат и
свелась вторая задача геодезии.
Глава 16
«СКУЧНЫЕ ТРУДЫ»
Работы французских геодезистов от Пикара до Араго
составляют одну неразрывную цепь. Чтобы не нарушать
цельности рассказа о них, мы до сих пор не упоминали
о том, что делалось за это время в России. Поэтому вер-
немся теперь назад.
В XV веке в Россию проникла и была переведена с
греческого на церковно-славянский язык «Христианская
топография» Козьмы Индикоплова. В Московском госу-
дарстве тогда царили мракобесие и невежество. Русские
люди жили в своем узком мирке, всё иноземное считали
греховным, не имели понятия даже о соседних странах
Европы. Свежий воздух эпохи Возрождения и великих
открытий проник сюда лишь 200 лет спустя. Немудрено,
что представление о мире-сундуке пришлось здесь ко
двору. Этот сундук славянские переводчики весьма удач-
но назвали «каморой», то есть камерой. В течение всего
133
XVI и начала XVII века описание мира, заключенного в
камеру, переписывалось десятки раз, ходило по рукам и
считалось самым достоверным руководством по астроно-
мии.
Магеллан уже объехал вокруг Земли, Пикар уже из-
мерил ее, а в России всё еще верили словам Козьмы, что
Землю «не мощно кругообразною подразумевати... ибо
есть вся четвероугольна... и окрест имущи окиана», всё
еще удивлялись «глупой сказке» об антиподах (рис. 82):
«Како убо мощно приати сиа лжаа изложениа, егоже убо
естество и ум не приемлют».
В другой книге того времени, «Толковой Палее», ут-
верждается, что вымысел о шарообразной Земле пустили
нечестивцы, пытавшиеся в древности построить вавилон-
скую башню. Они довели ее до такой высоты, что уви-
дели звезды ниже себя, и потому вообразили, что земля
и небо шарообразны. «Но писание не тако учит!» По
мнению автора «Палеи», небесный свод сделан из льда и
служит для умерения солнечного жара.
Однако уже в XVI веке в России появилась первая
книжка, излагавшая устройство мира по Птолемею. На-
зывалась она «Луцидариус», что значит по-латыни «Про-
светитель», и была переведена с немецкого языка. В ней
говорилось:
«Мир сей около облиян водами... а земля в водах
морских силою божиею устроена посреде, и плавает на
воде яко желток в яйце, но не может двинутися, понеже
ни на чем же стоит...»
«Луцидариус» был написан живым и понятным языком.
Шаг за шагом он вытеснял «Христианскую топографию»
и «Толковую Палею».
В 1584 году с польского языка была переведена «Все-
мирная хроника» Бельского. Из нее русские впервые по-
лучили представление, хотя и весьма неточное, о разме-
рах Земли. По Бельскому выходило, что окружность ее
имеет 27 000 верст (около 28 800 км). Обойти же ее мож-
но за 1350 дней, проходя в день по 20 верст. Быстрее
итти нельзя из-за царящих повсюду разбоев. Прошло
еще около ста лет, пока в России появилась книга испан-
ца Люлла, где приводилась более точная цифра, вычис-
ленная Эратосфеном.
Православная церковь, подобно католической, пыта-
лась бороться с учением о шарообразности Земли и
прочими «звездозрительными художествами», которые при-
134
Рис. 82. Рисунок из славянского перевода книги Козьмы Индико-
плова, нарисованный с целью доказать нелепость учения о шаро-
образности Земли и существовании антиподов.
носили в Россию слатыны зловредные и немцы прегор-
дые>. Однако она не имела такой силы, как ее римская
сестра. Во второй половине XVII века новые взгляды на-
столько укрепились, что царь Алексей Михайлович пове-
лел на здании Посольского приказа в Москве воздвиг-
нуть лепное изображение земного глобуса. Таким
образом шарообразная Земля получила как бы признание
со стороны государственной власти.
Еще более важный переворот в представлении рус-
ских людей об устройстве мира произошел при Петре.
Будучи в Париже, Петр узнал, что некий Пижон изобрел
движущуюся модель Коперниковой солнечной системы.
Он тотчас отправился к нему и купил новинку за гро-
135
мадную сумму. Он приказал переводить и печатать кни-
ги, в которых утверждалось, что Земля, наравне с дру-
гими планетами, движется вокруг Солнца. Книги эти
попадали в руки лишь очень немногочисленных образо-
ванных людей. Однако число их быстро возрастало. Для
некоторых сословий Петр ввел обязательное обучение и
обеспечил его проведение крутыми мерами. Нежелавших
учиться содержали «в тюрьмах за караулом», а у роди-
телей их отбирали имущество.
В 1725 году, по замыслу Петра, была учреждена Ака-
демия наук. Русских ученых тогда еще не было, и пото-
му первых академиков пришлось пригласить из-за грани-
цы. В числе их находился французский астроном Николай-
Жозеф Делиль.
Делиль был учеником Кассини I. От своего учителя
он унаследовал многие пороки: неуживчивый характер,
жадность к деньгам и к чинам, уменье сочетать научную
работу со средневековыми суевериями. В молодости он
занимался астрологией, то есть гаданием по звездам. Но
у него были и большие достоинства: он был действи-
тельно знающий астроном, добросовестный и усердный
наблюдатель. Он приехал в Россию с широкими плана-
ми. Маленькую обсерваторию, оборудованную им в Пе-
тербурге, он называл «фонарем, долженствующим осве-
щать всю империю». Он хотел наладить в ней такие
наблюдения, которые удивили бы весь мир и посрамили
бы даже его товарищей, оставшихся во Франции. За
двадцать два года пребывания в России он действитель-
но многое сделал в области астрономии. Хуже обстояло
дело с геодезией, которая тоже входила в круг его ве-
дения.
Одной из главных задач Академии Петр считал
составление подробных и точных карт Российской импе-
рии. Хотя Делиль приехал уже после смерти Петра, де-
ло это не было оставлено. Делиль разработал грандиоз-
ный проект геодезических работ, которые охватывали
измерение дуги меридиана длиной в 20° от г. Колы
(рис. 86) до Украины, определение множества астроно-
мических пунктов, построение сети треугольников, по-
добной той, которую (значительно позже) построил во
Франции Кассини III, и, наконец, вычерчивание самой
карты особо точным способом на тридцати листах.
В докладной записке, поданной на имя императри-
цы Анны, Делнль перечислял потребные инструменты,
136
людей, средства и особо напирал на следующие
пункты:
«Я уповаю, что в рассуждении излишних трудов и
расходов... прибавится мне жалованье, также и всем тем,
которые будут к тому употреблены, дабы их чрез то
больше ободрить на толь скучные труды. Я требую, чтоб
мне дан был титул и ранг офицерский... и чтоб оный
ранг был приличен имеющему мне начальствовать в
такой экспедиции, а особливо, что я во Франции уже ко-
ролевский советник и член почти всех академий наук в
Европе».
Работы должны были начаться с измерения базиса на
льду Финского залива между двумя дворцами: в Петер-
гофе — на южном берегу и в Дубках — на северном.
Стоимость всех работ по триангуляции исчислялась мно-
гими десятками тысяч рублей, что в то время было циф-
рой баснословной. Анна разрешила пока только мерить
базис и приказала отпустить на это сто рублей, а там-де
видно будет «Командир» Академии барон Корф еще
больше охладил пыл Делиля. На требование о присылке
инструментов он положил резолюцию:
«...Делилю послать в Петергоф четыре пешни (лома),,
да на прибивки лопаток сто гвоздей железных. Чего ра-
ди денег три рубли выдать от расходу, на щет выдан-
ных ему, профессору Делилю, сто рублев, а как оный,
профессор приедет, то показанные деньги, три рубли...
взять возвратно».
Как видно, Корф был экономным хозяином. Кстати, и
касса Академии была пуста. Сто рублей на расходы гео-
дезистов «командиру» пришлось занимать в книжной
лавке.
Для помощи Делилю были откомандированы три уче-
ных немца и двенадцать солдат лейб-гвардии Семенов-
ского полка.
Зимой 1737 года Делиль приступил к измерению ба-
зиса. В ясную погоду Дубки видны из Петергофа. По-
этому между ними удобно было установить ряд вех.
Чтобы не сбиться со счета при укладке жезлов, Делиль
велел повесить на вехи ярлыки с номерами. Вместо каж-
дой десятой вехи «ставлено было целое дерево». В каче-
стве жезлов Делиль приготовил «5 больших прямых ше-
стов, каждый длиною в 20 футов аглинских, у которых
по концам велел посадить плоские медные маковицы».
Гвардейцы выравнивали пешнями и лопатами заструги
13Г
на снегу, перетаскивали шесты и при укладке втаптывали
их в снег ногами.
Работе сильно мешали вьюги. Тем не менее базис был
измерен дважды. Результаты не сошлись на 6 футов
10 дюймов. Но Делиль остался очень доволен своим из-
мерением. В рапорте императрице он писал:
«Базис, который смеряй между Петергофом и Дуб-
ками, есть больше всех тех, каковы употреблены были
поныне в подобных исканиях; но понеже другие евро-
пейские народы, которые прежде нас предвоспринимали
сей труд в мере Земли, не имели такой выгоды, какова
сыскалась близь Петербурга... то мы возмогли то учи-
нить с большим успехом и толь великою исправностью.
Отчего можно рассудить, какие исправности и пользы
можно будет надеяться для географии и астрономии в
сем великом предприятии, когда дадутся все потребные
вещи для продолжения оного».
Чтобы сохранить длину меры, по которой изготов-
лялись шесты, Делиль измерил ею ширину свода под но-
вой колокольней петербургского Адмиралтейства (рис. 83).
Этот свод, по его мысли, должен был играть в России
ту же роль, какую играла во Франции железная поло-
са в замке Шателе.
Большие трудности встретились с переводом англий-
ских футов в основную русскую меру — аршин. Акаде-
мия затребовала для сравнения с футом эталон аршина
из «Комиссии о весах и мерах». Оказалось, что в Комис-
сии никакого аршина не имеется. Комиссия советовала
обратиться за ним в «Канцелярию главной артиллерии».
Артиллеристы, однако, ответили, что сами они в случае
нужды занимают аршин в городской ратуше (то есть в
управлении градоначальника). Но и в ратуше аршина
найти не удалось. Послали запрос в Коммерц-коллегию
{министерство торговли), коллегия посоветовала обра-
титься в портовую таможню. Здесь аршин наконец сы-
скался. Он был привезен в Академию и сравнен с футом.
На этом «исправности и пользы для географии» и
закончились. «Потребные вещи» Делилю получить так и
не удалось. Анна запросила мнение о его проекте дру-
гих академиков и просвещенных русских людей. Все да-
ли отрицательный ответ. Так, тайный советник Татищев
писал:
«Государство Российское не токмо перед всеми европ-
-скими государствы величайшаго есть пространства, но к
438
Рис. S3. Петербургское Адмиралтейство.
тому... зачав от Двины до восточного берега Камчатки,
пустое, горами великими, озеры и болоты наполнено,
где не токмо с такими великими инструментами, но и
одним людем проход весьма трудный, и времени, для
(то есть из-за. — Д. А.) великих стуж, бывает мало, харча
же для людей в близости иметь не можно... Пустыни,
леса, горы и непроходимые болота... правильно описать
неудобно, да и спросить обстоятельно о внутренних
тех положениях некого, и тако надобно паки наобум
класть...»
Для триангуляции Делиля требовалось громадное чи-
сло геодезистов. Хотя при Петре несколько молодых лю-
дей прошли курс геодезии, но после его смерти это де-
ло было заброшено. Да и что это были за геодезисты!
«...которые и есть, то почти все к тому уже не спо-
собны, понеже иные уже состарелись... Над ними в даль-
них и продолжительных поездках смотреть некому; от-
чего может быть и то, что прежде обучили, утратили,
понеже иные уже по двадцати лет в провинциях пребы-
вают, отчего весьма ослабели, на которых такое суптель-
ное дело положить невозможно».
При таких условиях проект Делиля был, безусловно,
фантастическим. Правда, с помощью немногих иностран-
ных специалистов и добытых им с великим трудом
астрономических инструментов Делиль мог бы опреде-
лить ряд астрономических пунктов и тем заложить осно-
ву будущей триангуляции, но и здесь возникали неожи-
данные препятствия. Так, однажды Анна приказала ему
явиться во дворец со всеми его трубами. Там он должен
был ей показать «...разные астрономические обсерва-
ции, причем ее величество между прочим на Сатурна с
его кольцом и спутниками через невтонианскую трубу
смотреть изволила. Ее императорское величество объяви-
ла о сем свое всемилостивейшее удовольствие и приказа-
ла, чтоб как Физические, так и Астрономические инстру-
менты, для продолжения таких обсерваций, при дворе ее
величества оставлены были».
Пришлось Делилю заново оборудовать свою обсерва-
торию. Среди его огорчений первое место занимала вой-
на с библиотекарем и правителем академической канце-
лярии Шумахером. Этот малообразованный чиновник
путем лести и клеветы, сплетен и подкупов взял неогра-
ниченную власть над Академией. В течение десятилетий
«командиры» были игрушками в его руках. Он оплел
140
паутиной академиков с мировым именем и всецело под-
чинил их своей власти. Большинство ученых со скреже-
том зубовным переносило его деспотизм, зная, что он
пользуется неограниченным доверием при дворе (неда-
ром же он был женат на дочери старшего придворного
повара!). Но честолюбивый Делиль насмерть с ним по-
ссорился. Он писал иа него бесчисленные доносы, а Шу-
махер в отместку годами не платил ему жалованья и, где
только мог, вставлял палки в колеса.
Тяжелым ударом для Делиля был также выпуск без
его участия первого тома «Атласа Российской Империи».
Этот атлас составил «во услугу любящим Географию»
обер-секретарь сената Иван Кириллов. Кириллов исклю-
чительно благодаря своему трудолюбию и энергии
выбился из людей простого звания в крупные государст-
венные деятели. Он был страстным любителем картогра-
фии и считал, что атлас России должны и могут соста-
вить русские люди, хотя и признавал, что он получится
весьма несовершенным. Он выполнил первую часть этой
задачи за свой счет, используя престарелых петровских
геодезистов. Сравнивая труды Делиля и Кириллова, зна-
менитый математик швейцарец Эйлер, тоже член Россий-
ской академии, писал:
«...ежели бы Российскую империю по треугольникам
вымерять, то несравненно исправнейшия кар/ы сделать
можно; но ежели рассудить, что такое дело и в 50 лет
исправить (то есть выполнить. — Д. А.) нельзя, то каждый
разумный человек уступить принужден, что публикован-
ный карты несравненно лучше, нежели никаким не быть...
Оныя не токмо исправнее всех прежних русских карт,
но еще многия немецкия карты далеко превосходят».
Оскорбленный Делиль расторг договор и покинул не-
вежественную страну, где его великий план не был понят
и оценен по достоинству.
План Делиля, хотя и безусловно правильный, был
преждевременен для России времен Анны Иоанновны.
Кассини успешно закончил свою карту Франции именно
потому, что для хозяйства его страны она в то время
стала необходимой; русская же промышленность и тор-
говля находились еще в столь первобытном состоянии,
что для них достаточно было приблизительных карт
Кириллова.
В 1735 году Корф напомнил сенату, что по мысли
Петра Академия создана не только для научных работ,
141
но и для распространения просвещения в России. По его
просьбе в Академию были впервые присланы двенадцать
русских учеников. Среди них находился Михайло Ломо-
носов (рис. 84). Именно ему, первому русскому ученому,
и обязана наша геодезия своими дальнейшими успехами.
В бытность свою начальником географического де-
партамента Ломоносов затеял издание нового атласа. Он
разработал план экспедиций для определения многочи-
сленных астрономических пунктов. Он рассылал по всем
городам опросные листы, собирая таким образом сведе-
ния о количестве поселений и жителей, о реках, дорогах,
промыслах. Он руководил составлением и печатанием
новых карт.
Препятствий он встречал не меньше, чем Делиль, но
благодаря знанию своей страны и ее народа и несрав-
ненно большей настойчивости он всегда их преодолевал.
Однажды Екатерина 11, увлекшись модными тогда на
Западе идеями о государственной помощи торговле и
промышленности, приказала приостановить печатание об-
зорных карт и вместо того выпускать карты экономиче-
ские, с изображением на них производимых продуктов.
Ломоносов жестоко высмеял эту ненужную в то время
затею. На приказе Екатерины он сделал пометку:
«Карты продуктов, именуемые: хлебная, пенечная,
льняная, табачная; следовательно, должны быть карты
чесночная, лапотная, рогожная, мыльная, кожная, хому-
тиная и другие сим подобные в великом множестве...
Сколь приятно смотреть на ту же карту, несколько сот
раз напечатанную, с тою только отменою, что на одной
написано: конопляное масло, на другой — сальные свечи,
на третьей — смольчуг и т. д.».
«...сей пункт... способен к тому, чтобы Ломоносова от-
тереть от произведения к совершению нового Россий-
ского Атласа. Ибо печатание ежегодных табачных, свеч-
ных и прочих карт в тысячу лет не окончить, а ему
столько не прожить. Аминь».
Посвящая много сил практической геодезии и карто-
графии, не боясь «скучных трудов», Ломоносов не пере-
ставал бороться с суевериями, которые тормозили разви-
тие всякой науки. Мракобесы все еще пытались нападать
на «Коперника, богу суперника» и отстаивать учение
Птолемея о неподвижной Земле. Не считая нужным всту-
пать с ними в серьезные споры, он высмеял их в следую-
щей басне:
142
Рис. 84. Михаил Васильевич Ломоносов.
Случились вместе два Астронома в пиру
И спорили весьма между собой в жару.
Один твердил: Земля, вертясь круг Солнца, ходит;
Другой, что Солнце все с собой планеты водит:
Один Коперник был, другой слыл Птоломей.
Тут повар спор решил усмешкою своей.
Хозяин спрашивал: «Ты звезд теченье знаешь?
Скажи, как ты о сем сомненье рассуждаешь?»
Он дал такой ответ: «Что в том Коперник прав,
Я правду докажу, на Солнце не бывав.
Кто видел простака из поваров такова,
Который бы вертел очаг кругом жаркова?»
Глава /9
САМАЯ ДЛИННАЯ
После открытия Лапласа геодезистам стало ясно, что
только очень длинные дуги, охватывающие несколько
неровностей геоида, могут дать правильное представле-
ние о средней длине меридиана и его сжатии. А раз так,
то пальма первенства в градусных измерениях неизбеж-
но должна была перейти к России. Где же, как не в на-
шей стране, следовало искать необъятные просторы,
позволяющие раскинуть цепи треугольников на тысячи
километров? Время пришло, и Россия созрела для этой
грандиозной задачи. В начале XIX века для выполнения
ее нашлись и деньги, и инструменты, и, главное, до-
статочное число опытных и любящих свое дело геоде-
зистов.
Василий Яковлевич Струве (рис. 85) попал в Россию
случайно. Наполеон испытывал нужду в солдатах. Фран-
цузов нехватало, и он рассылал вербовщиков в завоеван-
ные страны. Когда начался набор в армию на родине
Струве, в городе Альтоне (Германия), молодой человек
простился с родителями и уехал в Россию, единственную
страну, куда еще не докатилась волна наполеоновских
войн. Ему хотелось учиться, а не воевать. Ои поселился
в старом университетском городе Дерпте.
В судьбе Струве было удивительное сходство с судь-
бой двух его предшественников. Как Деламбр, он посвя-
тил себя изучению древних языков, как Мешен, он вско-
ре был вынужден из-за бедности поступить гувернером
к сыну помещика. Тридцать четыре часа в неделю он да-
вал уроки, «по совместительству» исполнял обязанности
144
Рис 85. Василий Яковлевич
Струве.
управляющего именьем
и ухитрялся не бросать
университет, самостоя-
тельно догоняя товари-
щей и совершая поездки
на 70 км в Дерпт для
сдачи экзаменов. Одно-
временно с языками Стру-
ве стал заниматься точ-
ными науками.
По окончании универ-
ситета Струве отказался
от выгодного места учи-
теля и поступил на гро-
шовое жалованье помощ-
ником наблюдателя в
бедную и запущенную
Дерптскую обсервато-
рию. Немедленно он
взялся за приведение ее
в порядок.
Через год он мог на-
чать серьезные наблюде-
ния. Он открыл и изучил 2710 двойных звезд. Эта работа
принесла Струве мировую известность.
Струве наблюдал звезды зимой. Летом, когда ночи
становились светлы и коротки, он брал отпуск, но вме-
сто отдыха занимался съемкой карты Лифляндской гу-
бернии (части теперешних Латвии и Эстонии). Он снимал
карту с большей точностью, чем требовалось, надеясь
использовать потом свои треугольники для задуманного
им градусного измерения.
В то же время несколько южнее генерал Теннер про-
изводил геодезическую съемку литовских губерний. Он
делал это *по заданию военных властей, которые после
войны с Наполеоном поняли, как важно иметь хорошую
карту пограничных областей.
Струве и Теннер списались и совместно предложили
правительству довести свои цепи треугольников до встре-
чи, чтобы получить таким образом длинную дугу, при-
годную для измерения меридиана. Предложение их было
принято, и Струве получил командировку за границу для
закупки инструментов и совещания с современным отцом
геодезии Бесселем.
1U Как измерили Землю
145
Приобретя хорошие инструменты, Струве занялся гра-
дусным измерением. Хотя он был уже знаменит и имел
вдоволь помощников, он с увлечением сам проделывал
все наблюдения, руководил постройкой сигналов, лазил на
них, ездил верхом по лесам и полям, отыскивая удоб-
ные места для станций. Жизнь под открытым небом в
дремучих лесах и вечера у костра, проводимые за слож-
ными математическими расчетами, рубка леса и на-
блюдения посредством точнейших астрономических при-
боров — это разнообразие занятий, дававшее равную
нагрузку мозгам и мускулам, всегда особенно привлека-
ло Струве.
В 1828 году обе партии сошлись. Дуга протянулась
от Финского залива до Пинских болот (рис. 86). Но ин
залив, ни болота не казались энергичным ученым серьез-
ным препятствием. Ведь за ними к северу и к югу вновь
тянулись обширные русские земли.
Струве составил проект удлинения дуги на север до
Торнео и на юг до устья Дуная. Но тут другая задача,
не менее грандиозная, отвлекла Струве. Ему, как лучше-
му в России астроному, было поручено построить пер-
вую в нашей стране большую обсерваторию в Пулкове.
Он с головой ушел в новую работу. На выполнение этой
задачи он потратил девять лет упорных трудов. Зато
обсерватория удалась наславу (рис. 87).
Погруженный в свои новые обязанности, Струве все
же находил время руководить градусным измерением,
хотя сам уже не мог принимать участия в полевых ра-
ботах. Его ученики перекинули цепь треугольников че-
рез Финский залив, построив промежуточную станцию в
самой середине залива, на острове Гогланде. После того
как они вступили на северный берег залива, началась
самая трудная часть работ.
Болота и озера, чередуясь с дремучими лесами, по-
крывают Финляндию сплошным узором. Они имеют при-
чудливую форму, разветвляются на тысячи рукавов,
соединяются бесчисленными проливами, образуя такие ла-
биринты, разобраться в которых без помощи проводника
приезжему человеку невозможно.
Несколько лет пробирались геодезисты через эти деб-
ри, пока вышли к городу Улеаборгу на берегу Ботниче-
ского залива. Дальше приходилось вести треугольни-
ки по шхерам. Даже Мопертюи эта задача казалась
146
Рис. 86. Карта района работ Мопертюи, Делиля и Струве. Как
видно на карте, фактическая цепь треугольников, обходя препят-
ствия, отклоняется то в ту, то в другую сторону от дуги большо-
го круга, являющейся кратчайшим расстоянием по поверхности
Земли между конечными точками градусного измерения.
Д. М. — дуга Мопертюи.
10*
Рис. 87. Пулковская обсерватория.
невозможной, но русские геодезисты отважились за нее
взяться.
Когда жизнь Пулковской обсерватории вошла в ко-
лею, Струве опять потянуло в поле. Он поехал на юг
помочь Теннеру довести триангуляцию до Дуная. За
это время Теннер провел цепь треугольников через
Пинские болота, считавшиеся ранее непроходимыми.
С трудом выискивая клочки твердой почвы, он строил
громадные, двух- и трехэтажные деревянные пирамиды,
возвышавшиеся над верхушками вековых лесов. Даже
Струве, обладавший далеко не робким нравом, призна-
вался, что ему делалось жутко, когда порывы ветра на-
чинали раскачивать эти громоздкие сооружения.
Струве и Теннер вместе закончили триангуляцию в
Бессарабии. Измерив базис, геодезисты на концах сло-
жили каменные пирамиды, засыпали их курганами и
обнесли рвами. Местному начальству они поручили охра-
ну курганов «против злоумышленности местных жителей».
Однако это не помогло: через месяц курганы оказались
разворочены, а камни разбросаны во все стороны.
Как ни велика была русская земля, но благодаря
упорству Струве градусное измерение было доведено до
ее южных и северных пределов. Тем не менее Струве не
148
был удовлетворен. Разве государственная граница не-
преодолимое препятствие? Он поехал в Стокгольм. Шве-
ция и Норвегия в то время хотя и были двумя отдель-
ными государствами, но имели одного короля. Это
облегчало задачу Струве. С помощью своего ученика,
шведского академика Линдгагена, он добился согласия
короля на продолжение дуги по шведской и норвежской
земле. Шведы и норвежцы снарядили две экспедиции,
которые работали под общим руководством Струве.
Шведы повели свои треугольники по пути старого из-
мерения французов. Они установили станции на вновь за-
росшей после пожара Хоррилякеро, на Авасаксе, с кото-
рой кубарем катился, цепляясь за нарты, Мопертюи, на
Киттисе, где в жестокий мороз наблюдали Альфу Драко-
на французские астрономы, испуганные расхождением их
расчетов с таблицей Кассини.
Шведы пересекли всю Лапландию и в суровой пу-
стынной и красивой стране Финмаркен встретились с
норвежцами.
Финмаркен, самая северная из норвежских провинций,
представляет собой море скал, источенных ледниками,
похожих на окаменевшее бурное море (рис. 88). Верши-
ны гор покрыты лишь ковром серых лишаев, в долинах
Рис. 65. Финмаркен
же растет олений мох — ягель, жалкие кустики, уродли-
вая стелющаяся по земле карликовая береза. Наиболее
высокие горы украшены снежными шапками и ледника-
ми. Морской берег изрезан глубокими заливами — фиор-
дами, обрамлен архипелагами высоких скалистых остро-
вов. Здесь встречаются холодные ветры Арктики и
теплое течение Гольфстрим, поэтому берега Финмаркена
большую часть года закрыты туманами.
Триангуляция в этой стране представляла совсем
особые трудности. Месяцами приходилось ждать, когда
рассеется туман и появятся на горизонте отдаленные
сигналы. Для сигналов на месте не было материала:
бревна привозили издалека на лошадях, на гору же их
втаскивали на руках. А между тем три сигнала пришлось
построить очень высоко, среди вечных снегов. Дорог не
было никаких.
Чтобы сэкономить лес, норвежцы придумали особый
вид сигналов: они выбивали в скале небольшую яму,
ставили в нее одно единственное бревно и обкладывали
до половины высоты толстым цилиндром из камней; на
вершину бревна они надевали бочонок, выкрашенный
частью в белую, частью в черную краску. Такой бочонок
был виден и на фоне неба и на фоне скал.
В самой северной точке дуги, на берегу Ледовитого
океана, у рыбацкой деревушки Фугленес в скалу был за-
делан прочный стальной цилиндр. Норвежские геодези-
сты не боялись, что жители повредят его, зато ему угро-
жала опасность от туманов. Полированная поверхность
могла заржаветь и пересечение двух тонких линий —
астрономическая точка конца дуги — исчезнуть. Для
предохранения столба от сырости его обложили толстым
слоем сала и обшили досками, а чтобы запах сала не
привлек медведей, завалили его целой горой тяжелых
камней.
В 1855 году сорокалетний труд был закончен. Изме-
рена дуга меридиана длиной в 25°20' (около 2820 км).
На этом пространстве протянулась цепь из двухсот пяти-
десяти восьми треугольников и десяти базисов. Точность
измерения была такова, что возможная ошибка на всем
огромном пространстве не могла превышать 13 м, то есть
одной двухсоттысячной всей дуги. Базисы были измере-
1
ны со средней точностью до । ]6ОООО ИХ длины-
Дуга Струве до сих пор остается самой длинной из
1Б0
измеренных дуг меридиана. Самая длинная дуга парал-
лели измерена тоже в СССР. Она тянется от Орши (Бе-
лоруссия) до Красноярска и охватывает 62°23'.
Глава 90
ЧАСОВЩИКИ ПРОТИВ АСТРОНОМОВ
При измерении русско-скандинавской дуги были оп-
ределены координаты тринадцати точек. Чтобы триангу-
ляцию можно было использовать для составления карты
России, нужно было все эти точки привязать к главной
астрономической точке, от которой начинаются все съем-
ки в стране. Такими главными точками всегда и везде
служили обсерватории, потому что их собственные коор-
динаты можно было определить особенно точно посред-
ством больших астрономических инструментов, в них
установленных. Так, во Франции все астрономические
точки связывались с Парижской обсерваторией, в Анг-
лии— с Гринвичской.
Струве сначала привязал свои треугольники к Дерпт-
ской обсерватории. После постройки Пулковской обсер-
ватории решено было все русские съемки начинать от
нее. Пулковский меридиан был объявлен начальным. Что-
бы координаты станций, вычисленных относительно
Дерпта, пересчитать на Пулково, нужно было определить
разность долгот между двумя обсерваториями.
В главе 12-й рассказывалось о том, что еще в нача-
ле XVIII века точное определение долгот представляло
непреодолимые трудности. Как же подвинулось решение
этой задачи в конце XVIII и начале XIX века?
Еще в 1714 году в Англии была основана Комиссия
долгот. Главная обязанность Комиссии заключалась в вы-
даче премий изобретателям. За способ определения доп-
готы с точностью до 30 морских миль (55 км) была обе-
щана награда в 20 000 фунтов стерлингов (около 200 000
золотых рублей). Охотников на нее нашлось великое
множество. Большинство из них предлагали различные
улучшения способа лунных расстояний. Так как все эти
улучшения были не очень существенны и не решали за-
дачу целиком, Комиссия никому не давала большой пре-
мии, но, чтобы ободрить изобретателей, подкармливала
их маленькими подачками.
В 1761 году в Комиссию явился часовщик, сын плот-
151
ника из Йоркшира (Англия), Гаррисон. Он принес
изобретенный и собственноручно изготовленный им хро-
нометр (рис. 89). Его предложение заключалось в следую-
щем. Для определения долготы надо определить разни-
цу между местным временем и гринвичским. Узнать по
Солнцу или звездам местное время может каждый штур-
ман. Гринвичское же время можно возить с собой: доста-
точно зайти перед отъездом в Гринвич или другой порт,
долгота которого уже определена, и поставить там по
астрономическим часам свой хронометр.
Идея Гаррисона была не нова. Еще Гюйгенс, изобре-
тя часы с маятником, пытался потом заменить гири пру-
жиной, а маятник балансиром, чтобы часы могли ходить
на корабле, не останавливаясь от качки. Часы и впрямь
ходили, но они были очень чувствительны к изменениям
температуры. Через несколько дней пути никто уже не
мог поручиться за верность их хода.
Гаррисон усовершенствовал часы и, главное, изобрел
компенсатор — механизм, который делал их малочувстви-
тельными к колебаниям температуры. Комиссия долгот
постановила произвести испытание. Сына Гаррисона, тоже
часовщика, с хронометром посадили на корабль, отправ-
лявшийся на остров Ямайка, в Вест-Индии (рис. 50).
Когда корабль прибыл к месту назначения, хронометр
отстал всего на 5 секунд. На обратном пути молодому
часовщику не повезло. Корабль вез какой-то сырой груз,
а нежный механизм не выносил сырости. Сухое местечко
нашлось только на корме, но здесь качка была наиболее
сильной. Каждый раз, как корма проваливалась между
волнами, несчастный инструмент сотрясался от ударов.
И все-таки, когда Гаррисон вернулся и хронометр, в те-
чение пятимесячного путешествия ни разу не переводив-
шийся, был сличен с гринвичскими астрономическими ча-
сами, оказалось, что он отстал всего на 1 минуту 54,5 се-
кунды. Такая ошибка могла привести к неточности в
определении долгот всего на 31 км (на широте Гринвича).
Это было гораздо меньше предельной ошибки, которую
Комиссия долгот считала допустимой.
Казалось, что Гаррисону-отцу осталось сделать лишь
одно несложное дело: опустить в карман обещанные
20 000 фунтов стерлингов. Но не тут-то было. Эта опера-
ция оказалась как раз самой сложной. В Комиссии всеми
делами заправлял «королевский астроном» Маскелайн,
надеявшийся сам получить премию за улучшение спосо-
152
ба лунных расстоя-
ний. Только боль-
шое количество со-
перников среди его
товарищей - ученых
не позволяло ему
премировать самого
себя. В крайнем
случае он был со-
гласен с ними поде-
литься. Но отдать
весь куш сыну плот-
ника — это было уж
слишком! Маскелайн
провел в парламенте
закон, по которо-
му выплата премии
Гаррисону отклады-
валась на четыре
года. Если за эти
Рис. 89. Хронометр Гаррисона.
четыре года кто-
нибудь предложит удовлетворительный астрономический
способ определения долгот, премия перейдет к нему, а
Гаррисон останется ни при чем.
Прошло четыре года. Никто ничего путного не изо-
брел. Тогда Маскелайн потребовал вторичного испыта-
ния хронометра. Если результат будет хоть немного ху-
же, чем в первый раз, Гаррисону не видать премии.
Снова поехал хронометр в Вест-Индию. На этот раз
ошибка в определении долгот оказалась даже меньше:
всего 10 миль (18 км).
Маскелайн потребовал, чтобы Гаррисон рассказал сек-
рет устройства часов и передал Комиссии долгот черте-
жи, отказавшись в дальнейшем от всяких прав на свое
изобретение. Гаррисон это выполнил. Маскелайн потре-
бовал принесения присяги: Гаррисоны, отец и сын, долж-
ны были поклясться на евангелии, что они не обманули
Комиссию и что чертежи правильны. Они поклялись.
Тогда им выдали половину премии. Чтобы получить
вторую половину, они должны были изготовить и сдать
Комиссии второй хронометр. Если он будет менее точ-
ным, чем первый, вторая половина премии пропадет.
Гаррисоны сделали новый хронометр, и он выдержал ис-
пытание.
152
Маскелайн передумал: он хотел уже не два хрономет-
ра, а пять. Гаррисоны сделали и испытали недостающие
три. Тогда фантазия Маскелайна истощилась. Единствен-
ное, что он мог еще придумать, это просто не платить
денег. Гаррисон ждал два года, а потом выпустил книгу
о своих хронометрах и своих мытарствах. В книге он
открыто называл «королевского астронома» мошенником.
Через шесть лет Гаррисон одержал победу и получил
вторую половину премии, но ожесточенная война между
английскими часовщиками и астрономами продолжалась
до начала XIX века и сильно задержала введение хроно-
метров в употребление. Но эта война принесла и боль-
шую пользу. Английское правительство отпустило новые
средства для выдачи премий. Астрономы ухищрялись в
изобретении самых придирчивых условий испытания хро-
нометров, часовщики же старались превзойти самих се-
бя в точности механизмов, чтобы все-таки получить
деньги.
Во времена Струве хронометры уже вошли во всеоб-
щее употребление. Именно с помощью их он и опреде-
лил разность долгот между Дерптом и Пул новым. Он не
удовлетворился перевозкой одного инструмента из горо-
да в город, а снарядил целую экспедицию. Тридцать
один хронометр ставился в Пулкове прямо по звезде,
прохождение которой Струве наблюдал лично. Два его
помощника ехали с хронометрами в Дерпт, где другой
астроном, тоже по звездам, определял дерптское время и
записывал расхождение между ним и пулковским време-
нем по показаниям всех хронометров. После этого хро-
нометры ставились по дерптскому времени и совершали
обратное путешествие в Пулково. Этот маршрут был
повторен пять раз. Таким образом, для разности долгот
были получены триста десять цифр и из них выведено
среднее.
Английская комиссия долгот просуществовала до
1828 года, выдав за сто четырнадцать лет премий на
101 000 фунтов стерлингов (миллион рублей). В 1828 году
английское правительство нашло, что задача окончатель-
но решена, и закрыло Комиссию. Напрасно! Комиссии
следовало бы дожить до 1896 года, чтобы выдать самую
большую премию преподавателю Кронштадтского военно-
го училища А. С. Попову (рис. 90), изобретателю радио.
Радио открыло совсем новые возможности в опреде-
лении долгот.
154
Рис. 90. Александр Степанович Попов.
Хронометры на больших кораблях возят в особых
ящиках, выложенных внутри кожаными подушками, укреп-
ленными на пружинах. Ящик вложен во второй ящик,
который также выложен подушками. Этот второй ящик
подвешен к потолку каюты на особом подвесе, защи-
щающем его от качки. Хронометры находятся в особой
каюте в центре корабля, вдалеке от бортов и машин.
Но как же быть на маленьких судах или на самоле-
тах, где нельзя создать для хронометров такие чудеса
комфорта? Как быть в сухопутных экспедициях, где все
хозяйство нередко помещается на спине верблюда или
мула? В таких условиях одни хронометры еще не разре-
155
Рис. 91. Нижняя часть Эйфелевой башни. Радиостанция, подающая
сигналы времени, находится под землей. На фотографии видны
три провода, спускающиеся к радиостанции от антенн.
шают вопроса определения долгот. А вот вместе с радио
они его разрешили блестяще.
С 1921 года радиостанция Эйфелевой башни в Пари-
же (рис. 91) начала передавать сигналы времени. Ровно
в 11 часов по гринвичскому времени на весь мир разно-
сился короткий гудок. Все, имеющие хронометры, могли
их проверять. Все путешественники, не имевшие возмож-
ности перед отъездом сверить свои хронометры с астро-
номическими часами, могли сделать это в любом месте:
на море или в пустыне, в воздухе или во льдах Арктики.
Стоило только приложить ухо к трубке переносного ра-
диоприемника.
Примеру Эйфелевой башни последовали многие круп-
ные радиостанции во всех частях света. Кому не знако-
мы теперь сигналы, два длинных и один короткий,
передаваемые из Москвы в 7, 12, 18 и 24 часа? Географ-
исследователь, отправляясь на много месяцев в Сахару,
может теперь не везти с собой гринвичское время, кото-
рое от жары и качки на спинах верблюдов «портится»
легче, чем вода в мехах. На долю хронометров теперь
остается гораздо более легкая задача: хранить принятое
166
по радио время в течение нескольких часов, от одной
поверки до другой.
Теперь и только теперь задача решена окончательно.
Точность определения долгот, так долго отстававшая,
сравнялась наконец с точностью определения широт.
Глава 21
ЧУДЕСА ТОЧНОСТИ
Как же в наше время определяются широты? Да в
сущности так же, как и во времена халдеев и греков, по
высоте Полярной звезды или Солнца. Только скафис
изменился до неузнаваемости. Его разновидности носят
различные названия: меридианный круг, пассажный ин-
струмент, секстант.
Меридианный круг представляет собой слож-
ный и тяжелый телескоп, неподвижно установленный в
обсерватории (рис. 92). Одна из задач, которая может
быть решена с его помощью, это точнейшее определение
географической широты обсерватории. Меридианный круг
не может вращаться вокруг вертикальной оси и не может
поэтому быть направлен в любую точку неба. Он устанав-
ливается так, чтобы его труба всегда находилась в п л о-
скости меридиана, то есть в вертикальной плоско-
сти, проходящей с севера на юг. Оставаясь в этой пло-
скости, он может вращаться вокруг горизонтальной
оси.
Наблюдатель имеет возможность поймать в поле зре-
ния любую звезду, но только в тот момент, когда она
близка к небесному меридиану (на рис. 93 в точках 3
или 3,). Определение широты в настоящее время произ-
водится уже не только по Полярной звезде, но и по
другим крупным звездам.
На рис. 93 ГАГ — горизонт, дуга ГЗД13Г — небесный
меридиан, П — полюс мира, АП — линия, параллельная
земной оси. Предположим, что наблюдателю нужно оп-
ределить широту астрономической точки А с помощью
установленного в ней меридианного круга. Для этого он
выбирает звезду 3, описывающую вокруг полюса мира
окружность 33п которая на чертеже изображена сбоку и
потому имеет вид прямой линии. Вращая трубу от руки,
наблюдатель старается поймать звезду 3 в центр поля
зрения. Чтобы можно было находить этот центр, в трубе
157
Рис. 92. Меридианный круг.
Рис. 93. Определение географиче-
ской широты с помощью мериди-
анного круга.
за окуляром натяну-
ты перекрещиваю-
щиеся нити — две
горизонтальные и
одна или несколько
вертикальных (рис.
94). Средняя из вер-
тикальных нитей как
раз лежит в плоско-
сти меридиана. Ко-
гда звезда прошла,
наблюдатель замеча-
ет, под каким углом
к горизонту наклонена труба меридианного круга. Делает
он это с помощью колес, расположенных по бокам трубы
и вращающихся вместе с ней (рис. 92). На ободья одного
из этих колес наложена серебряная шина; на шине нане-
сены деления окружности в градусах и минутах. На дру-
гих, внешних колесах установлены микроскопы, через ко-
торые можно рассматривать эти деления. Эти деления
позволяют опреде-
лять точно угол на-
клона трубы к го-
ризонту с точно-
стью до секунды
и даже ее до-
лей.
Предположим, что
меридиональная вы-
сота звезды (/ ЗАГ)
оказалась равной
72°. Расстояние ее
от полюса мира
( / ЗАП) является
для данной звезды
величиной постоян-
ной и находится в
справочниках. Пусть
в нашем случае оно
равно 12°. Тогда
высота полюса ми-
ра, а следовательно,
и географическая
широта места:
Рис. 94. Прохождение звезды через сет-
ку нитей в окуляре меридианного круга.
На чертеже изображены три положения
звезды, пойманной между горизонталь-
ными нитями. Слева она вступает в по-
ле зрения, в центре — пересекает пло-
скость меридиана, справа — уходит из
поля зрения.
/.ПАГ=/. ЗАГ — АЗАП = 7Г — ГГ=Ю>.
Пассажный инструмент (рис. 95) представ-
ляет собой переносный меридианный круг.
Пассажный инструмент употребляется при триангуля-
ции для определения географических координат концов
дуги и других астрономических точек. Интересно, что в
трубы хороших пассажных инструментов яркие звезды
видны и днем.
В море высота полюса определяется с помощью со-
всем уже легкого инструмента, секстанта, прямого
потомка тяжеловесного морского квадранта (рис. 96а и б).
Секстант позволяет определять географическую широту
корабля по высоте Солнца даже в сильную качку. Его
не нужно устанавливать: моряк, «ловящий Солнце», дер-
жит секстант в руках. Точность его, конечно, уступает
точности неподвижных сухопутных инструментов, но все-
таки достигает десятых долей минуты.
Теодолит, изобретенный англичанами в XVIII веке,
до сих пор употребляется для измерения углов треуголь-
ников при съемке карт и градусных измерениях. Однако
за полтора столетия он оброс таким количеством усо-
вершенствований и приспособлений, что сам его изобре-
татель вряд ли узнал бы свое детище.
Современный теодолит изображен на рис. 97. Зритель-
ная труба Тр может вращаться вокруг горизонтальной
и вертикальной осей. Таким образом, ее можно навести
на любую видимую точку. Трубу наводят сперва на си-
гнал А, затем на сигнал Б (рис. 98). После каждой
наводки через микроскопы ЛЬ, ЛЬ и ЛЬ (рис. 97) читают
и записывают деле-
ния, нанесенные на
горизонтальном кру-
ге Лг и вертикаль-
ном Лв. Эти круги
называются лим-
бами. Предполо-
жим, что при визи-
ровании на сигнал
А наблюдатель, за-
глянув в микро-
скоп, увидел деление
87^52'35". Потом ом
навел трубу на
Рис. 95. Пассажный инструмент.
J60
Рис. 96а. Ловля Солнца квадрантом в XVI веке.
Рис. 966. 'Ловля Солнца секстантом в XX веке.
Рис. 97. Теодолит.
ню. Точность определения
стигает 0,4*.
Следующая табличка по
ность измерения углов по
сигнал Б и увидел через
тот же микроскоп деление
32°48'40". Он вычитает вто-
рое из первого:
87° 52' 35* — 32° 48' 40* =
= 55° 03' 55".
Это и есть искомый угол
треугольника АТБ.
Микроскоп М4 и верти-
кальный лимб Лв позволя-
ют узнать, на сколько вы-
ше (или ниже) Т располо-
жены точки А и Б.
Изображенный на ри-
сунке теодолит — самый
большой и самый точный.
И все же он имеет в высо-
ту только % м. Его можно
установить на треножнике,
как фотографический аппа-
рат, его нетрудно поднять
на любую вышку или баш-
углов таким теодолитом до-
казывает, как возрастала точ-
мере усовершенствования ин-
струментов.
Триангуляция Инструмент Предельная ошибка
Мопертюи Квадрант 8.9”
Кондамин » 3,4”
Деламбр Повторительный круг 1,6”
Немецкие геодезисты XIX века » 1.4”
Струве । Теодолит 0,7”
Современная самая точная 1 »
триангуляция | 0,4”
В конструкции сигналов произошли не менее уди-
вительные перемены, чем в конструкции точных измери-
162
тельных приборов. На рис. 99 изображен сигнал высо-
той около 80 м (высота двадцатиэтажного дома).
Световые сигналы достигли большого совершенства.
Теперь ими пользуются не только ночью, но и днем.
Приборы для дневных сигналов называются гелио-
тропами, что значит по-гречески «стремящийся к
солнцу».
Когда расстояние между станциями очень велико,
обычный сигнал плохо виден. В таких случаях на сигна-
ле устанавливают систему зеркал, в которых отражается
Солнце. Отражение Солнца, конечно, видно гораздо
лучше, чем темное бревно; издалека оно представляется
яркой звездочкой. Чтобы Солнце отразилось именно ту-
да, куда нужно, зеркала соединяются с сильной зритель-
ной трубой. У трубы гелиотропа сидит гелиотропист и
наводит отражение Солнца на ту станцию, с которой в
это же время наводят на него трубу теодолита. В сущ-
ности он делает то, что любят делать все мальчишки на
свете: посылает солнечный зайчик в глаз наблюдателя-
геодезиста.
Рве. 98. Измерение -углов теодолитом. Здесь изображен теодолит
уцрощениоА конструкции.
11*
Рис. 99. Деревянный сигнал.
Сверкание гелиотропа иногда удается заметить на
очень большом расстоянии. Однажды американцы изме-
рили таким образом сторону треугольника длиной
в 307 км. Гелиотропы были установлены на вершинах
гор высотой до 4000 м. Если передача сигнала произ-'
водилась вечером с запада на восток, то принимающие
сигнал иногда видели отражение Солнца через несколько
минут после его захода: зеркала, изменяя направление
луча, заставляли его огибать выпуклость Земли.
По ночам световые сигналы передаются с помощью
электрических прожекторов. Французские геодезисты,
продолжавшие триангуляцию Араго из Испании в Афри-
ку, установили динамомашину на высшей точке гор Сиер-
ра-Невада. Током от этой машины они питали прожектор
с полуметровым параболическим зеркалом. Его луч пе-
ресек Средиземное море и был принят в трубу теодоли-
та, установленного в Марокко (рис. 49).
164
Рис. 100. Базисный прибор с оптическим
контактом.
Измерение базисов не отставало от других геодези-
ческих работ.
Много полезных усовершенствований внесли в это
дело Бессель и Струве. Но, пожалуй, самый совершен-
ный базисный прибор изобрели американцы. Он состоит
всего из одного жезла и нескольких микроскопов. Еди-
ницей длины служит не вся длина жезла, а расстояние
между двумя черточками, нанесенными недалеко от его
концов.
Жезл кладут на две низкие стойки Н (рис. 100), а на
две более высокие, В, ставят микроскопы Mi и Mt. Их
двигают микрометрическими винтами до тех пор, пока
черточки на жезле не появятся в поле зрения и не со-
впадут с пересечением нитей окуляра. Тогда жезл осто-
рожно вынимают и переносят на следующие стойки.
Передний (по ходу измерения) микроскоп Mt остается
на месте. Раньше в него была видна передняя черточка
на жезле, теперь жезл кладут так, чтобы под пересече-
ние нитей попала задняя. На переднюю же наводят тре-
тий микроскоп.
Этот способ называется способом оптического
контакта. Он замечателен тем, что жезл не испыты-
вает прикосновения другого жезла, угрожающего сдви-
нуть его с места, к нему прикасается лишь невидимый
«луч зрения», проходящий через микроскоп.
Чтобы предохранить жезлы от воздействия солнечных
лучей, над ними устанавливают навесы, которые перено-
сят, по мере того как измерение подвигается вперед
(рис. 101).
Вот табличка, показывающая, как возрастала точность
измерения базисов. Ошибка при измерении базиса дли-
ной в 1 км достигала:
165
При измерении цепью
» » деревянными жезлами
» » простыми металличе-
скими жезлами
» » жезлами Бесселя
» » » Струве
» » » с оптическим
контактом
300 мм
150 »
20 »
2 »
0,9 >
0,4 »
В настоящее время жезлы в СССР совсем не приме-
няются, базисы измеряют проволочным прибором,
изобретенным шведским инженером Едерином (рис. 102).
Этот прибор состоит из четырех проволок, длиной по
24 м каждая, и нескольких штативов со стальными ци-
линдрами наверху. Штативы расставляют вдоль базиса
на расстоянии около 24 м друг от друга. Над ними, на
высоте 1 м над землей, натягивают проволоки. На концах
проволок нанесены точные деления, а на стальных ци-
линдрах проведено по одному тонкому штриху. Изме-
ритель замечает, против какого деления пришелся штрих,
и таким образом узнает точное расстояние между шта-
Рис. 101. Измерение базиса жезлами под переносными навесами
И*
Рис. 102. Измерение базиса в Эквадоре проволочным прибором
Едерина. Конструкция этого прибора несколько отличается от при-
нятой в СССР. Проволока натягивается руками, но всегда с опре-
деленной силой. Для проверки величины силы к концу проволоки
прикрепляется динамометр (силомер).
тивами. Чтобы проволоки провисали всегда на одну и ту
же величину, их натягивают не руками, а шнурами, пере-
кинутыми через блок. К шнурам подвешивается гиря ве-
сом в 10кг. Проволоки делают из инвара — сплава же-
леза и никеля, почти не расширяющегося при нагревании.
Точность измерения прибором Едерина немного меньше,
чем американскими жезлами: ошибка может достигать
1 .мм на километр, но зато скорость работы очень боль-
шая— до Зкм в день.
Для сравнения жезлов и проволок с эталонами и эта-
лонов между собой построены сложные приборы — ком-
параторы (рис. 103). Они хранятся в подвалах об-
серваторий, где всегда поддерживается одинаковая тем-
пература. Они устанавливаются на упругих фундаментах,
уходящих глубоко в землю и защищающих их от малей-
ших сотрясений. При работе с ними берется на учет даже
теплота, исходящая от тела исследователя. И компарато-
167
Рис. 103. Подвал компараторов.
ры оправдывают такой заботливый уход: лучшие из них
позволяют сравнивать эталоны с точностью до мм.
Как же обстоит дело с основной единицей мер —
метром, на котором покоится вся эта тонкая измери-
тельная техника? Удалось ли окончательно связать его
с размерами Земли, сделать естественной единицей?
Нет, не удалось. Градусные измерения начала XIX века
показали, что метр, узаконенный на парижской конфе-
ренции 1795 года, приблизительно на 0,2 мм короче
одной десятимиллионной четверти меридиана. Ошибка
Мешена при этом сыграла ничтожную роль, гораздо
важнее оказались неправильности геоида. Что же было
делать? Опять ломать всю систему мер, переделывать все
эталоны, пересчитывать все цифры и таблицы во всех от-
раслях науки и техники? Нет, это было невозможно, на
это никто бы не согласился. А если бы даже такая неле-
пая работа и была проделана, она не принесла бы ника-
кой пользы. Прошло бы еще несколько лет, геодезисты
изобрели бы еще несколько приборов, позволяющих уве-
личить точность измерений, измерили бы еще несколько
дуг в новых районах — и новый метр, как и старый,
вновь оказался бы неточным.
168
Ученые XIX века пошли по другому \ Г J
пути: они решили сохранить навсегда \ г Г
однажды установленный метр, а чтобы * д
длина его на веки вечные оставалась од-
ной и той же, сделать для него очень точ-
ные и очень прочные эталоны. Это реше-
ние было вынесено В 1872 году В Париже Рис. 104. Эталон
на Международной конференции по пере- метра(попереч-
смотру метрической системы. Старый пла-
тиновый эталон метра был признан нена-
дежным и неудобным для сравнения. Ученые сообща
разработали для него новую конструкцию.
Эталон метра был изготовлен из нержавеющего и по-
чти нерасширяющегося сплава металлов. Сплав содержит
90% платины и 10% еще более редкого металла — ири-
дия.
Эталон представляет собой брусок с поперечным сече-
нием в форме буквы X (рис. 104). Длина эталона— 102 см.
На дне углубления (поверхность аб) на расстоянии 1 см
от каждого конца нанесены очень тонкие штрихи. Рас-
стояние между ними и считается метром. Земной мериди-
ан здесь ни при чем.
По постановлению конференции был изготовлен три-
дцать один эталон метра. На их изготовление и сравне-
ние со старой платиновой линейкой пошло тридцать лет.
Из всех эталонов был выбран один, равный старой ли-
нейке с точностью до 0,0001 мм. Он был объявлен нор-
мальным прототипом метра. Хранение его было
поручено Международному бюро мер и весов, созданно-
му на средства всех государств, участников конференции.
В пригороде Парижа Бретейле среди роскошного пар-
ка Сен-Клю были построены лаборатории и хранилища
бюро (рис. 105). Для хранения прототипа метра и других
эталонов там вырыты глубокие подвалы. Каждый эта-
лон лежит в особом несгораемом шкафу. Подвал охра-
няется тщательней, чем сокровищницы банков. Он запи-
рается тремя ключами, хранящимися у трех старших
сотрудников бюро. Только с согласия и в присутствии
всех трех можно войти в подвал.
Остальные тридцать прототипов метра были распре-
делены между государствами, участниками конференции
1872 года. Россия получила их два.
С работой Международного бюро мер и весов тесно
связана работа Международного союза градусных изме-
165
Рис /05. Международное бюро мер н весов в Бретейле.
рений, основанного в 1886 году. При своем основании
Союз поставил себе следующие главные цели:
1) производство новых градусных измерений и со-
единение старых в общую сеть триангуляции;
2) определение отклонений отвеса и выяснение их
причин;
3) определение силы тяжести с помощью наблюдений
над маятниками в возможно большем числе мест;
4) изучение движений Луны;
5) приведение всех геодезических мер к нормальному
метру.
Глава 22
ИВАН ВЕЛИКИЙ НАЧИНАЕТ
ПРОВАЛИВАТЬСЯ
Значение пунктов 1 и 5 программы Международного
союза понятно само собой. А для того чтобы понять,
какую роль в измерении Земли играют отвес, маятник
и Луна, надо еще раз вернуться немного назад.
В середине XIX века по Москве прошел страшный
слух, будто бы ученый немец, ведавший обсерваторией
на Пресне, дознался, что под белокаменной столицей
ПО
пусто. От самого Кремля под Москва-реку и дальше, в
Замоскворечье, уходит громадная пещера. Город стоит
на тонкой кровле пещеры да того и гляди провалится.
Немец наводил телескоп на Иванову колокольню и заме-
тил, что она покосилась: видно, под ее тяжестью кровля
уже тронулась. Да и как ей выдержать колокольню! Там
один успенский колокол — 4000 пудов, да «ревун» —
2000, да еще тридцать два поменьше.
Слухи вызвали большой переполох. Зеваки часами
глядели на Ивана Великого (рис. 106) и находили, что
он «и впрямь подался немного».
Слухи имели кой-какое основание. Для составления
подробной карты Российской империи Генеральный штаб
задумал произвести триангуляцию. Начали в нескольких
местах сразу, в том числе в окрестностях Москвы. Опре-
делили, как всегда, по звездам координаты нескольких
астрономических пунктов. От этих пунктов пошли стро-
ить треугольники и по ним, уже не глядя на звезды,
вычислять широту и долготу городов и сел.
Колокольня Ивана Великого, как самое видное тогда
н Москве здание, была избрана главным сигналом горо-
да. Ее координаты тоже были определены и многократно
проверены из разных треугольников, так как видна она
была со всех сторон. Оказалось, что географическая ши-
рота колокольни: 55°45'0,9".
Директором обсерватории Московского университета
был в то время швейцарец Каспар-Готфрид Швейцер.
Познакомившись с работой Генерального штаба по
съемке карты, Швейцер надумал проверить координаты
Ивана Великого, благо он был виден из башни на Пресне.
Он измерил азимут колокольни, то есть угол между
меридианом и линией башня — колокольня; расстояние
до Кремля и раньше было известно; координаты обсерва-
тории он сам определил с очень большой точностью.
Отсюда нетрудно было вычислить координаты коло-
кольни. Долгота сошлась с данными Генерального штаба,
а широту Швейцер получил 55с44'53,4".
Разница в 7,5" — разница громадная. За восемьдесят
лет до этого ошибка в 3" почти свела с ума Мешена.
Швейцер проверил раз десять свои измерения — все вер-
но. Достал расчеты офицеров-генштабистов, пересчитал
все их треугольники — тоже верно. Тогда он приказал
у самой колокольни сделать ромост, привез и установил
на нем большую трубу и определил по звездам геогра-
171
Рис. 106. Колокольня р!вана Великого
фическую широту колокольни у самого ее подножия.
Этим он переполошил москвичей и дал толчок тревож»
ным слухам, но результат получил тот же, что и при
определении широты из университетской обсерватории.
Казалось, происходит нечто сверхъестественное. Если
определять географическую широту колокольни Ивана
Великого геодезическим путем, по треугольникам, — у •
172
него одна широта; если определять ее непосредственно
астрономическим путем — другая широта.
Но Швейцер понял, в чем дело. Треугольники Гене-
рального штаба отнесены к эллипсоиду Бесселя, а его
астрономическая труба показывает широту места на гео-
иде. Геоид же под колокольней, очевидно, делает какой-
то резкий выгиб и имеет поверхность не параллельную
поверхности референц-эллипсоида.
Так как для черчения карт важна широта на рефе-
ренц-эллипсоиде, то геодезисты считают, что в таких
местах, как колокольня Ивана Великого, звезды показы-
вают неверную, или, точнее, ненужную широту.
Почему так выходит?
Представим себе, что в точке Иг (рис. 107) на по-
верхности геоида рядом с колокольней стоит зрительная
труба, наведенная на Полярную звезду. Географическая
широта, как уже говорилось в главе 4-й, равняется вели-
чине угла а между трубой и горизонтом, определяется же
она обычно через угол между трубой и отвесом, равный
90—а. Отвес имеется при каждой трубе, и нить его сама
собой располагается перпендикулярно к поверхности
геоида.
Если мы найдем на поверхности референц-эллипсоида
точку И51 ближайшую к И* то она будет той точкой,
в которую должна быть мысленно перенесена колокольня
Ивана Великого при составлении карты. Географическая
широта колокольни будет равна углу <р между направле-
нием на Полярную звезду и горизонтом. Эту широту
нельзя определить с помощью наблюдения, так как эл-
липсоид не существует в действительности, но ее можно
вычислить посредством цепи треугольников, уходящих
в такое место, где поверхности геоида и эллипсоида
параллельны.
Как видно из чертежа, угол а меньше угла ?, то есть
широта колокольни, определенная астрономическим пу-
тем, должна казаться меньшей, чем та же широта, опре-
деленная геодезическим путем. Именно так и получилось
у Швейцера. Если бы геоид под Иваном Великим образо-
вал не впадину, а бугор, результат получился бы как раз
обратный.
Угол, на который отличаются ? и «, то есть угол <р—а,
в нашем случае равный 7,5', называется отклонением от-
веса.
Отвес в Кремле по отношению к поверхности эллия*
173
Рис. 107. Отклонение отвеса в районе
Москвы. Сплошная кривая линия — поверх-
ность геоида. Пунктирная кривая линия —
воображаемая поверхность референц-эллип-
соида. Черные шарики на нитях, изобра-
женных сплошными линиями, показывают
действительное направление отвесов в Крем-
ле и Суханове. Белые шарики на нитях,
изображенных пунктирными линиями, пока-
зывают направления, по которым должны
были бы расположиться отвесы в тех же
местах, если бы поверхность геоида в них
была параллельна поверхности референц-
эллипсоида.
соида Бесселя ви-
сит косо, откло-
няется на 7,5" к
северу. Так же
косо стоит и ко-
локольня Ивана
Великого, постро-
енная, безуслов-
но, тоже по от-
весу, и другие
здания. Но если
москвичи замети-
ли, что колоколь-
ня «и впрямь по-
далась немного»,
то это было пло-
дом их воображе-
ния. Заметить на-
клон здания они
никак не могли,
так как и сами хо-
дили косо, и на-
правление,перпен-
дикулярное гео-
иду, должно было
им казаться настоящим верхом. «Ненастоящим» его счи-
тали только геодезисты.
Отклонение отвеса на 7,5* среди обширной равнины
является редкостью, и Швейцера сильно занимало, как
далеко оно простирается. Чтобы ответить на этот вопрос,
надо было астрономическим способом определить коор-
динаты множества сигналов, оставшихся в окрестностях
Москвы после триангуляции Генерального штаба, и срав-
нить их с координатами тех же сигналов, вычисленными
геодезическим путем.
В распоряжении Швейцера находились несколько офи-
церов, прикомандированных к обсерватории для обуче-
ния геодезическим наукам. Одному из них, штабс-капи-
тану Ларионову, Швейцер поручил проверить отклонение
отвеса к северу от параллели Москвы. Ларионов отпра-
вился по подмосковным деревням и имениям. К осени он
сделал расчеты и выяснил, что при движении от Кремля
к северу отклонение отвеса быстро уменьшается и в
20 км сходит на-нет.
174
По направлению к западу и востоку отклонение ос-
тается почти таким же, как и у колокольни Ивана Вели-
кого, и уменьшается лишь очень медленно и на большом
расстоянии.
Штабс-капитан Троицкий обследовал южные окрест-
ности Москвы (рис. 108). Уже в пригороде, у Симонова
монастыря, отклонение уменьшилось вдвое. Когда же
Троицкий установил пассажный инструмент над Москва-
рекой близ села Коломенского, отклонение оказалось рав-
ным нулю. У следующего к югу сигнала вдруг обнару-
жилось отклонение отвеса в обратную сторону. Дальше
оно стало быстро расти и в имении князей Волконских
Суханове достигло 8,Г. Дальше оно вновь стало падать
и быстро сошло на-нет.
Швейцер и его штабс-капитаны занимались, собствен-
но, теми же опытами, ради которых Бугэ и Кондамин
отсиживались в снежном лагере на Чимборасо. Разница
была лишь в том, что там отвес притягивался к общему
центру горы, здесь же он как бы отталкивался от длин-
ной полосы, проходившей с запада на восток через село
Коломенское. Севернее этой нулевой черты отвес откло-
нялся к северу, южнее — к югу.
В чем же могла заключаться причина столь странного
явления?
Швейцер после подробного изучения полученных ре-
зультатов пришел к выводу, что в земле под селом Ко-
ломенским и окраинами Москвы на некоторой глубине
находится или длинная вытянутая с запада на восток
пещера, или какое-то тело, состоящее из вещества, гораз-
до более легкого, чем
песок, глина, известняк и
другие горные породы
(рис. 109). Соседние пла-
сты, лежащие к северу и
к югу от этого легкого
тела, притягивают отвес
с нормальной силой Т>
легкое же тело вследст-
вие своей меньшей мас-
сы притягивает отвес
лишь с малой силой Л.
В результате отвес, все-
гда занимающий поло-
жение вдоль равнодей-
Рис 108. Карта отклонений отвеса
в районе Москвы, по Швейцеру.
175
Рис. 109. Легкое тело под Москвой. В точках В — В, соответствую-
щих Кремлю и Суханову, силы тяжести Р — Р направлены в сто-
роны от центра Земли. Действуя на частицы воды в воображае-
мом канале (а также в фактически имеющихся здесь водоемах),
они заставляют их смещаться во взаимно противоположные сторо-
ны в направлении стрелок. Таким образом, вода как бы расте-
кается от легкого тела, образуя над ним приплюснутое место на
геоиде. Отклонение сил Р для наглядности сильно преувеличено,
в действительности они должны быть перпендикулярны поверх-
ности воды и образовывать между собой угол всего в 7,5'.+.
+ 8,1’ = 15,6'.
ствующей Р всех сил, которые его притягивают, направ-
ляется не к центру Земли, а в сторону.
Мысль о пещере, столь напугавшая москвичей, была
впоследствии отброшена. Ученые, исследовавшие после
Швейцера отклонение отвеса близ Москвы, пришли к вы-
воду, что здесь на глубине нескольких километров зале-
гает вещество, вдвое более легкое, чем большинство гор-
ных пород, слагающих земную кору. Таким удельным
весом обладает, например, каменный уголь. Пласт этого
вещества действует на отвес так, как если бы он имел
форму, близкую к цилиндру, и диаметр около 5 км.
Таким образом, изучение отклонения отвеса привело
к открытию внутри земли громадных залежей какой-то,
пока неизвестной горной породы. Быть может, со вре-
менем эта порода окажется ценным сырьем для про-
мышленности и принесет большую пользу нашей
стране.
Еще древние греки обращали свои взоры к небу,
чтобы узнать, какую форму и величину имеет Земля.
В наше время люди поняли, что небесные светила могут
помочь в изучении не только внешних ее свойств. «Не-
бесполезно,— писал Швейцер, — вопрошать небо и о не-
176
правильностях, находящихся внутри Земли>. Таким обра-
зом, геодезия стала помощницей геологии.
Отклонение отвеса бывает или резкое, местное,
или более плавное, районное. Самое сильное местное
отклонение было обнаружено на Гавайских островах.
Оно достигает Г40". Районное отклонение наблюдается
у подножия горных хребтов и на берегах материков и
объясняется их притяжением. Отклонение отвеса всегда
указывает на то, что на поверхности геоида в этом месте
имеются неровности.
Как сильно могут повлиять неправильности геоида на
результат градусных измерений, видно из того, что гео-
дезист, который вздумал бы измерять длину московского
меридиана по дуге от Кремля до Суханова, получил бы
результат с ошибкой на целых 670 км. Его меридиан
оказался бы больше истинного на величину, равную рас-
стоянию от Москвы до Ленинграда!
Глава ЯЗ
ЛУНА И МАЯТНИК
Изучение пути Луны по небу — чуть ли не самая
трудная задача астрономии. Над ней трудились десятки
и сотни ученых. Много неправильностей в движениях
нашего спутника обнаружил немецкий астроном XVIII ве-
ка Мейер. Для каждой из них он нашел объяснение.
А раз причина явления понята, его можно предсказать
заранее. Мейер составил вперед на несколько лет табли-
цы положения Луны на небе. Таблицы могли быть ис-
пользованы для определения долготы по способу лунных
расстояний. Поэтому Мейер послал их в английскую Ко-
миссию долгот. Однако ему повезло еще меньше, чем
Гаррисону. Комиссия так долго изучала его таблицы, что
он успел состариться и умереть, прежде чем она вынесла
решение.
Среди неправильностей в движении Луны Мейер от-
крыл отклонение на 7" по долготе, которое повторялось
через определенные промежутки времени. Мейеру никак
не удавалось его объяснить. Он размышлял над этой за-
гадкой всю жизнь, но так и не нашел на нее ответа.
Спустя полвека таинственное колебание Луны объяснил
Лаплас. Он доказал, что отклонение на 7’ происходит
от сплюснутости Земли. Если бы сплюснутость была
12 I ак изме; пая Землю 177
больше, и отклонение было бы более значительным. Ему
пришло в голову, что, изучая путь Луны, можно высчи-
тать степень сжатия Земли Это было бы прекрасной
проверкой цифры, полученной из градусных измерений.
Лаплас произвел ряд сложных вычислений и получил
сжатие: */япв.
Эта цифра не сходилась с результатом градусных из-
мерений Деламбра, но, как потом выяснилось, именно она
была близка к истине. Положительно, на небе можно
было получать справки о Земле, более точные, чем на
ней самой.
Многие астрономы после Лапласа изучали движение
Луны и пытались уточнить по нему степень сжатия Земли.
Один из последних результатов, полученный ими:
Определение силы тяжести с помощью маятника еще
важнее для изучения формы Земли, чем наблюдения над
Луной. Маятник может ответить на два вопроса: 1) ка-
кова степень сжатия референц-эллипсоида и 2) каково
отклонение геоида от референц-эллипсоида в данной
точке.
Самая мысль о сплюснутости Земного шара возникла
у Ньютона под влиянием путешествия Рише в Кайенну
с секундным маятником. Вскоре после этого Клеро вывел
замечательную формулу, с помощью которой можно вы-
числять степень сжатия Земли по длине секундного ма-
ятника в любых двух точках, лежащих на разных ши-
ротах. Так как градусные измерения давали в то время
противоречивые цифры сжатия Земли, многие ученые
занялись наблюдениями над маятником, надеясь этим
путем притти к более надежным результатам, и притом
без дорогих и опасных экспедиций.
Рише, путешествуя из Парижа в Кайенну и обратно,
то укорачивал, то удлинял свой маятник, заботясь о том,
чтобы он везде был секундным. Бугэ, возивший с собой
маятник в Перу, пришел к убеждению, что эта возня
с изменением длины хлопотливое и притом бесполезное
занятие. Для определения сжатия Земли он предложил
другой способ: надо отрегулировать маятник так, чтобы
он отбивал секунды на какой-нибудь одной широте, на-
пример на экваторе.
В сутках 86 400 секунд, значит секундный маятник,
отрегулированный на экваторе, будет там делать
86 400 качаний в сутки. Представим себе, что, будучи
178
перевезен в другое место, этот же
маятник станет делать 86 550 кача-
ний в сутки. Очевидно, сила тяже-
сти в этом месте больше и оно
расположено ближе к центру Зем-
ли. На сколько именно ближе,
можно подсчитать, вычтя 86 400 из
86 550 и подставив полученную
разность в хорошо известную
формулу механики.
Предложение Бугэ оказалось
практичным, и вскоре наблюде-
ния над маятником стали делать-
ся по его способу. Только подолгу
сидеть с часами и считать удары
было невесело, да к тому же лег-
ко было сбиться. Впоследствии, что-
бы избавиться от этого недостатка,
к маятникам приделали сложные
счетчики ударов, которые сильно
облегчили работу (рис. НО).
Если бы Земля была правиль-
ным эллипсоидом, то степень ее
сжатия, вычисленная по числу ка-
чаний маятника в любых двух ме-
стах, получалась бы одинаковой.
Но на деле выходило не так. Под-
ставляли в формулу Клеро значе-
ния силы тяжести, найденные в
Перу и в Париже, получали одну
величину сжатия, подставляли ре-
зультаты испытаний в Барселоне и
Стокгольме — получали другую, и
так без конца. Очевидно, для полу-
чения правильной цифры и здесь
нужно было выводить среднее из
многих наблюдений. Этот разнобой
подтвердил теорию Лапласа о том,
что Земля имеет неправильную
форму. Если Вена стоит на бугре
геоида, а Париж на более плоском
месте, значит Вена от центра Земли
дальше, чем Париж, хотя оба го-
рода и находятся на одной широ-
12*
Рис. 110. Маятниковый
прибор XVIII века для
измерения силы тяже-
сти. Маятник часов ре-
гулируется так, что от-
бивает секунды в том
месте, где производит-
ся измерение. Висящий
впереди него маятник с
шаром отбивает секун-
ды на экваторе, в дру-
гих же местах он ка-
чается быстрее, чем ма-
ятник часов. Подсчет
ударов значительно об-
легчается благодаря то-
му, что оба маятника
расположены рядом.
те, значит сила тяжести в Вене меньше, чем в Париже, и
маятник будет качаться там более медленно. Так нельзя
ли с помощью маятника разрешить ту задачу, которая в
главе 17-й была названа второй задачей современной
геодезии: на сколько метров выше или ниже референц-
эллипсоида проходит в данном месте поверхность гео-
ида? Эта мысль показалась геодезистам очень соблазни-
тельной. Много крупных ученых занялись приспособле-
нием маятников к условиям экспедиций. Они надеялись
«ощупать» ими всю Землю. Экспедиции с маятниками не
требовали большого количества участников и производ-
ства дорогих строительных работ, подобных сооруже-
нию сигналов.
Постепенно шарик на длинной нити, который трудно
было подвесить достаточно устойчиво под открытым
небом, превратился в низенький, но солидный прибор с
коротким, коренастым маятником (рис. 111). Маятник
обычно делается медным, золоченым, качается он на
призме из агата, в ход его пускают лопаточкой из слоно-
вой кости.
Маятник соединяется с хронометром, отбивающим се-
кунды. Делается это вот для чего (рис. 112): балансир Б,
Рис. 111. Современный маятниковый
прибор с четырьмя маятниками.
качающийся внутри хро-
нометра, при каждом ко-
лебании замыкает эле-
ктрическую цепь, иду-
щую от батареи Т. В ту
же цепь включен элек-
тромагнит Э. Когда цепь
замыкается и по ней
пробегает ток, сердеч-
ник электромагнита на-
магничивается и притя-
гивает якорь Я. При
этом карандаш К прика-
сается к бумажной ленте
Л и ставит на ней точку.
Как только балансир от-
качнется в обратную сто-
рону, электромагнит раз-
магничивается, и пружи-
на П оттягивает якорь и
карандаш. Лента J1 с
помощью часового меха-
низма медленно пе-
рематывается с ба-
рабанчика Р на ба-
рабанчик Ри так что
каждая точка попа-
дает в новое место
и все они образуют
ровный ряд.
На этой же лен-
те, строчкой ниже,
может ставить точ-
ки другой каран-
даш, Kt. Он вклю-
Рис. 112. Схема электрического прибора,
служащего для измерения продолжи-
тельности качания маятника.
чен в такую же цепь, как первый, только замыкается эта
цепь не балансиром, а клавишей Ш, которая находится
под рукой у наблюдателя.
Так как маятник отрегулирован для отбивания секунд
на экваторе, то в других местах он обгоняет хронометр.
Между двумя качаниями маятника проходит меньший
промежуток времени, чем между двумя качаниями балан-
сира. Из разницы между этими промежутками постепен-
но накапливается целый удар. Поэтому время от времени
наступает такой момент, когда маятник и балансир со-
вершают одно качание вместе. Затем маятник вновь ухо-
лит вперед. На верхнем конце маятника имеется качаю-
щееся вместе с ним зеркальце, а рядом зрительная труба,
в которую смотрит наблюдатель. Когда удар маятника
совпадает с ударом балансира в хронометре, в зеркальце
вспыхивает световой сигнал. В этот момент наблюдатель
нажимает клавишу, и карандаш ставит точку.
Повторив эту операцию несколько раз, наблюдатель
вынимает ленту и подсчитывает, через сколько точек
верхней строки приходится одна точка нижней. Предпо-
ложим, что получилось через 1530. Это значит, что за
1530 секунд маятник качнулся 1531 раз и 1531-е его ка-
чание совпало с 1530-м качанием балансира. Значит,
продолжительность одного качания маятника в данном
ЬЗО „ .
месте равна —sjt- секунды. Эту цифру и подставляют в
вышеупомянутую формулу для вычисления силы тяже-
сти и через нее — расстояния между поверхностью гео-
ида референц-эллипсоида.
Удобный маятниковый прибор позволил сделать ты-
сячи измерений силы тяжести во всех странах. Но все-
181
таки определить форму геоида с помощью его не уда-
лось, и вот почему.
Под Москвой, как мы знаем, имеется приплюснутое
место геоида. Поверхность его здесь ближе к центру
Земли, чем в соседних районах. Казалось бы, маятник
от этого должен качаться быстрее. Но, с другой стороны,
под землей лежит какая-то легкая масса, которая притя-
гивает маятник слабее, чем окружающая земная кора.
От этого он должен качаться медленнее. Какое же из
двух влияний пересиливает? Оказывается, второе. Если
бы ученый, определявший силу тяжести около Москвы,
не знал об открытии Швейцера, он наверно сделал бы
неправильный вывод: он решил бы, что раз маятник
качается в Коломенском медленнее, чем в Москве и Су-
ханове, значит Коломенское отстоит дальше от центра
Земли, и на геоиде имеется не впадина, а бугор.
Таким образом, измерения силы тяжести не принесли
бы пользы без наблюдений над отвесом. Наблюдения же
над отвесом невозможны в районе, где не была проведе-
на триангуляция.
Выходит, что составить правильное представление о
форме земной поверхности в том или ином месте, а за-
одно и о плотности залегающих под ней горных пород
можно, лишь пользуясь одновременно маятником, отве-
сом и теодолитом. Потому-то все три способа изучения
формы Земли и были включены в программу Междуна-
родного союза градусных измерений.
Впрочем, есть одна область, где маятник является
полновластным хозяином. Эта область не маленькая, она
занимает 70,8% всей поверхности нашей планеты. Эта
область — море.
До недавнего времени ни геодезисты, ни геологи не
знали, как подступиться к морю. Триангуляцию на нем
производить нельзя, точных астрономических наблюдений
тоже не сделаешь — труба качается. Значит, и отвес бес-
полезен. Пробовали приспосабливать особые маятники,
не подверженные качке, но из этого выходило мало
толку.
А между тем море хранило в себе много тайн, кото-
рые не давали спать ученым. Совпадает ли поверхность
океана с эллипсоидом, или на ней тоже есть бугры?
Поднимается ли море около материков под влиянием их
притяжения, или нет? Плотность горных пород, образую-
щих дно океанов, такая же, как плотность земной коры
182
под сушей, или другая? И если другая, то больше или
меньше?
В 1923 году голландский инженер Мейнец предложил
измерять силу тяжести на подводных лодках. Дело в
том, что волны захватывают лишь верхние слои воды,
на глубине же нескольких десятков метров царит полный
покой, необходимый для чувствительных приборов. Гол-
ландское правительство предоставило в распоряжение
Мейнеца подводную лодку, и он совершил на ней плава-
ние по Атлантическому океану, Средиземному и Красному
морям и Индийскому океану до острова Ява. Его опыты
оказались вполне удачными. Оказалось, что, несмотря на
легкость воды, сила тяжести на море не меньше, а места-
ми даже больше, чем на суше. Значит, земная кора под
океаном состоит из более тяжелых пород, чем под ма-
териками. Их большая плотность возмещает малую
плотность воды.
На картах морей и океанов появились первые точки
гравитационных станций — мест, в которых
измерена сила тяжести. Неприступной крепостью оста-
вался лишь Ледовитый океан и разбросанные в нем
острова. Отдельные нападения на эту крепость были
сделаны еще до Мейнеца, в самом конце прошлого века,
но взять ее окончательно оказалось под силу только лю-
дям Советского Союза.
Глава И4
МАЯТНИКИ ДРЕЙФУЮТ
Первым человеком, который всерьез взялся за науч-
ную работу в Арктике, был неустрашимый и неутомимый
полярный исследователь норвежец Фритьоф Нансен
(рис. 113). Всем известна история его «Фрама>, судна,
сознательно вмороженного в ледяное поле и дрейфовав-
шего с ним в течение трех лет (рис. 114). <Фрам» был
пловучей лабораторией. Среди приборов, находившихся
на нем, был и маятник для измерения силы тяжести.
Когда лед вокруг «Фрама> стал достаточно прочным,
астроном экспедиции Скотт-Гансен (рис. 115) принялся
за постройку невдалеке от корабля обсерватории для
гравитационных и магнитных наблюдений. Обсерватория
строилась из выпиленных и обтесанных ледяных глыб,
которые подвозились к месту постройки на собаках
(рис. 116).
183
Рис. 113. Фритьоф Нансен.
Норвежцы,, куда бы их ни занесла судьба, стараются
соблюдать обычаи своей родины. По случаю окончания
постройки обсерватории они устроили торжественный
праздник. Круглый домик был обставлен мебелью: стол
для приборов, стол для записей, диван и кресла были
вырезаны из ледяных глыб и покрыты медвежьими и
оленьими шкурами. На столе стояла лампа с красным
абажуром, а стены были увешаны разноцветными фона-
риками. Скотт-Гансен угостил в своем дворце всю коман-
ду и произнес речь, в которой пожелал членам ее, чтобы
им на родине жилось не хуже, чем на <Фраме» во льдах
Арктики.
Лаборатория дрейфовала рядом с «Фрамом», и Скотт-
Гансен наблюдал в ней силу тяжести и склонение стрел-
ки компаса, пока торошение льда при выходе из Поляр-
484
ного бассейна не заставило его перенести инструменты
назад на корабль.
Вторая вылазка в Арктику была произведена на гра-
ни XIX и XX века русско-шведской экспедицией. Три
года провели ее участники-геодезисты на островах Шпиц-
берген. Они измеряли там форму геоида всеми спосо-
бами: триангуляцией, наблюдением над отвесом и измере-
нием силы тяжести. Две трети всей работы достались на
долю русской части экспедиции. А работа была поистине
героической.
Сама мысль о возможности геодезической съемки в
условиях Арктики казалась многим европейским ученым
фантазией. Но члены экспедиции взялись за ее осуще-
ствление с большим увлечением. Ведь именно этого звена
нехватало в цепи измерений, сделанных на разных широ-
тах! Именно здесь могло резче всего сказаться сжатие
Земли. От экспедиции можно было ждать очень интерес-
ного и ценного вклада в науку. Ради этого стоило тер-
петь лишения и опасности!
Маленькими партиями расходились геодезисты с базы
на станции для наблюдений. Собаки, запряженные в нар-
ты, тащили инструменты и провиант по неровной, порой
Рнс. 114. «Фрам» во льдах.
Рис. 115. Скотт-Гансен.
мывать ломами из-под толстого
почти непроходимой
поверхности ледников.
Сколько раз и люди и
сани проваливались в
трещины, запорошен-
ные снегом и уходив-
шие в глубину на
20—30 м. Но дружны-
ми усилиями всегда
удавалось спасти про-
валившихся.
Сигналы строили
из камня на остроко-
нечных скалистых вер-
шинах — нуната-
ках, выступавших из
сплошного ледяного
покрова. Камни неред-
ко приходилось выла-
слоя льда.
Один сигнал был установлен на плоской вершине
площадью 30 X 70 шагов, с трех сторон окруженной
пропастями. С четвертой к ней можно было подойти по
узкому гребешку, шириной всего около 30 см. По
нему пришлось пронести все грузы и семипудовый ин-
струмент.
На таких вершинах геодезисты отсиживались меся-
цами, пережидая туманы и штормы. Когда налетали бу-
раны, им приходилось зарываться в снег или привязы-
вать себя к сигналу, чтобы не быть сброшенными в про-
пасть. Скорость ветра достигала 40 м/сек при сильном
морозе. Руководитель экспедиции Чернышов, делая потом
доклад в Академии наук, говорил, что он не знает, чему
больше удивляться: настойчивости и мужеству ученых
или храбрости и выносливости их помощников, простых
мезенских поморов и моряков русского военного флота,,
выполнявших все самые тяжелые работы с веселыми
песнями и шутками. Ко времени экспедиции на Шпиц-
берген точность приборов для измерения силы тяжести
возросла во много раз. Бугэ был рад, когда ему удалось
определить длину секундного маятника с ошибкой не
более 0,1 мм, теперь величина ошибки не превышала
0,002 мм. Продолжительность одного качания можно бы-
ло измерить с точностью до ‘;зЭоооо секунды.
186
Вычисленная по формулам сила тяжести на поверхно-
сти референц-эллипсоида была проверена на опыте в гро-
мадном числе мест. Однако оставались две очень важные
точки, недоступные для гравитационных измерений. Эти-
ми точками были полюсы. Предполагалось, что секунд-
ный маятник, делающий на экваторе 86 400 качаний в сут-
ки, будучи перевезен на полюс, станет делать там 86 624
качания. Но кто мог проверить эту цифру?
Задача оказалась по плечу лишь советским полярни-
кам. При подготовке экспедиции на дрейфующей станции
«Северный полюс» в план ее научных работ были вклю-
чены измерения глубин, изучение дрейфа льда, поверх-
ностных и глубинных течений, донных грунтов, жизни
моря, климата, земного магнетизма, атмосферного элек-
тричества, полярных сияний и силы тяжести.
Большинство приборов, предназначенных для дрей-
фующей станции, пришлось делать заново. Нормальный
вес снаряжения полярной станции на четыре человека
составляет 200 т, а на дрейфующую станцию самолеты
могли захватить 9 т. Из этих 9 т на долю научных при-
боров приходилась немалая доля. Каждый лишний кило-
Рис. 116. Ледяная обсерватория Скотта-Гансена.
грамм железа, из которого они были сделаны, отнимал
у зимовщиков килограмм продуктов или топлива. По-
этому сотни инженеров изощряли свою изобретатель-
ность, стараясь создать самые легкие и в то же время
самые прочные и надежные приборы. За их работой
внимательно следили, подчас сами принимая в ней близ-
кое участие, молодые ученые, члены славной папанин-
ской четверки: биолог Ширшов и астроном-магнитолог
Федоров.
Для измерений силы тяжести на дрейфующей станции
Ленинградский астрономический институт изготовил
очень легкий прибор с четырьмя маятниками, устроенны-
ми так, что их можно было наблюдать одновременно.
21 мая 1937 года самолет Водопьянова опустился на
льдину близ Северного полюса. Как только была полу-
чена лебедка и другие инструменты, начались научные
работы (рис. 117). 4 июня Федоров уже взял первую гра-
витационную станцию. Льдина в это время находилась
под 89° северной широты, всего на 1° южнее полюса.
Измерение силы тяжести Федоров считал самой труд-
ной из всех своих задач. Он опасался, что льдина не бу-
дет достаточно устойчива, что ее колебания и толчки бу-
дут нарушать работу маятников. Но опасения эти оказа-
лись напрасными. Летчики, доставившие папанинцев, вы-
брали льдину «высшего качества». До 84° она сотряса-
лась не более, чем фундамент Пулковской обсервато-
рии.
Зато возникли другие непредвиденные трудности.
Лето на полюсе оказалось неожиданно теплым. Термо-
метр поднимался до 4-2°, снег растаял, на льдине образо-
вались озера. Палатку с научными приборами постоянно
затопляла вода, и ее приходилось переносить с места
на место. К тому же сама палатка, сделанная из тонкого
шелка, оказалась недостаточно прочной: свирепый ветер
рвал полотнища, и Федоров должен был снимать и ее
и приборы каждый раз, как налетала буря. И все-таки
ему частенько приходилось браться за иглу и обязанно-
сти астронома менять на обязанности портного.
Через два-три месяца палатка была в таком виде, что
и чинить было нечего. Но, к счастью, наступила зима.
Озера замерзли, и Федоров, по примеру норвежцев,
взялся за постройку обсерватории из льда и снега. До-
мик удался наславу. Правда, в нем не было дивана и
разноцветных фонариков, зато приборы были много
488
Рис. 117. Папанин и Кренкель крутят лебедку для получения
пробы воды и донного грунта.
удобнее и совершенней, чем те, которыми располагал
Скотт-Гансен. Достаточно сказать, что они позволяли
вычислить период качания маятника с точностью до де-
сятимиллионных долей секунды.
Наступила полярная ночь. Морозы завернули под
30°. В ледяном домике температура устанавливалась по
старой русской пословице: «Наша горница с богом не
спорится». Федоров сидел неподвижно на лютом моро-
зе, наблюдая счетчик ударов.
Папанин пишет в своем дневнике:
«1-е сентября. Уже вторые сутки Женя сидит за
приборами не отрываясь. Каждый час он имеет 15 сво-
бодных минут. Но и в эти минуты он также не отдыхает.
Ему нужно проверить по радио хронометры, и он ис-
пользует для этого отдых».
А вот страничка из дневника Ширшова:
«Низко пригнувшись, шаг за шагом продвигаюсь впе-
ред. Сто шагов, двести... Неожиданно передо мной вы-
растает какое-то странное сооружение, сильно смахиваю-
щее на термитовую кучу. Но откуда здесь, в Арктике,
могут быть эти «белые муравьи»?! Тьфу, да ведь это
магнитная обсерватория Жени Федорова! Значит, я все-
таки сбился с пути.
Сквозь тонкую снежную стену обсерватории проби-
вается электрический свет. Я заглядываю внутрь. В тор-
жественной тишине ледяного домика Женя ворожит над
своими приборами, определяя таинственные элементы
земного магнетизма... Чтобы не мешать приятелю, я ти-
хонько выбираюсь наружу...»
К сожалению, один из участников зимовки относился
без достаточного уважения к научным работам Федорова.
Для обуздания его Папанину не раз приходилось при-
бегать к телесным наказаниям. В нескольких местах
дневника Ивана Дмитриевича можно встретить подобные
строки:
«Здорово отлупил нашего Веселого — он заслужил*
напрасно лает, мешает Федорову работать».
Хронометры не обладали мужеством молодого уче-
ного и категорически отказывались правильно работать
при тридцатиградусном морозе. Пришлось поместить их
в жилой палатке, а провода к счетчику провести в обсер-
ваторию. Впоследствии под снегом протянулась и вторая
пара проводов: когда морозы усилились настолько, что
писать на дворе стало невозможно, Федоров провел те-
190
Рис. 118. Евгений Константинович Федоров у метеорологических
приборов на дрейфующей станции «Северный полюс».
лефон в жилую палатку от теодолита, которым пользо-
вался для определения координат. По нему он диктовал
цифры, а Кренкель, сидя в тепле, их записывал.
Определение координат станции было одной из глав-
ных обязанностей Федорова. Ведь результаты наблюде-
ний потеряли бы всякую ценность, если бы не был из-
вестен точный «адрес» каждого из них.
«В лунную звездную ночь здесь очень хорошо, — пи-
шет Кренкель, — над нами простирается довольно удач-
ная копия московского планетария. Только Солнце вре-
менно «сломалось» и будет показываться лишь в конце
февраля. Директором нашего «планетария» является
Женя Федоров. Несмотря на высокую должность, ему
приходится работать с теодолитом голыми руками. Не
особенно красивый кривой ноготь — это след, оставлен-
ный одной из прежних зимовок, когда Федоров обмо-
розил палец. Дирекция «полярного планетария», «не
щадя затрат», одаривает нас вьюгами и морозами».
Вьюги иногда случались такие, что Папанин не пускал
Федорова в обсерваторию. К счастью, в середине зимы
снега нанесло так много, что обсерваторию удалось со-
единить с жилой палаткой тоннелем. Теперь можно было
ходить в нее в любую погоду.
Ширшов и Федоров все свободное время посвящали
вычислениям. Обычно даже исследователи, путешествую-
щие в культурных странах, оставляют эту работу до воз-
вращения и делают ее потом в тепле и уюте своих
кабинетов. Но советские ученые знали, что на пути их
могут встретиться серьезные опасности. Мысль о том,
что в случае катастрофы научные результаты экспедиции
погибнут вместе с ними, волновала их больше всего. По-
этому, придя в палатку, усталые и замерзшие, они тот-
час садились за вычисления и сидели над ними порой по
целым суткам, не разгибая спины. Каждый месяц они
передавали по радио в Москву сводку предварительных
результатов своих наблюдений, и каждая такая сводка
была драгоценным вкладом в науку.
Уже на льдине Федоров приблизительно подсчитал
силу тяжести. Оказалось, что почти на всех станциях
(а их было двадцать две) она значительно больше, чем
предполагали ученые. Это означало одно из двух: или
сплюснутость Земли больше, чем думали, или плотность
земной коры под Ледовитым океаном особенно велика.
Когда льдину вынесло в Гренландское море, вокруг
192
дрейфующей станции появились разводья. Льдина рас-
трескалась на несколько кусков, стала вращаться, сталки-
ваться с другими ледяными полями. Один толчок во
время наблюдений над маятниками заставлял Федорова
начинать все сначала. На 76-й параллели он вынужден
был прекратить наблюдения. Но к этому времени у него
уже накопился богатый материал. По радио он передал
в Москву:
«Иногда я вытаскиваю все листы карты, на которые
нанесен наш дрейф. С удовлетворением рассматриваем
мы зигзагообразную линию тысячекилометрового пути.
Она испещрена цветными точками: многочисленные ги-
дрологические станции, пункты магнитных и гравитаци-
онных наблюдений отмечают наш след. План, намечен-
ный год тому назад, осуществляется целиком.
Без ложной скромности можно сказать, что нам не-
трудно преодолевать помехи и затруднения в работе —
ведь мы окружены атмосферой теплого внимания всей
страны».
Глава 25
КАКОВА ЖЕ ЗЕМЛЯ?
В табличке, приложенной к этой книге, собраны ре-
зультаты всех главнейших измерений Земли от седом
старины до наших
дней. Прочитав столб-
цы цифр сверху вниз,
можно проследить, как
приближалось челове-
чество к правильному
представлению о своей
планете, как станови-
лись все меньше и мень-
ше отклонения в ту и
другую сторону от
последних цифр, явля-
ющихся наиболее до-
стоверными. И все-
таки совершенная точ-
ность еще не достиг-
нута. Это видно хотя
бы из того, что циф-
ры последних четырех
исследователей в наше
Рис. /79. Главные дуги меридианов
и параллелей, измеренные на Зем-
ле с «первоклассной» точностью.
13 Км измерили Землю
Рис. 120. Основные размеры советского
референц-эллипсоида (предварительные
данные; цифры округлены до целых
километров).
время считаются приблизительно •равноценными. О них
еще спорят, и разница между ними показывает ту сте-
пень ошибки, которая возможна при современном уровне
знаний и техники. Эта разница не так мала, как кажется.
Поверхность референц-эллипсоида Кларка больше, чем
поверхность референц-эллипсоида Бесселя, приблизитель-
но на 130 000 кв. км, то есть на площадь, равную Греции.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕ-
РЕНИЙ ЗЕМЛИ. ПРОИЗВЕДЕННЫХ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН
ДО НАШИХ ДНЕЙ
• 3 « "з Сжатие Длина
Вычислители Век н z и СХ а — в мери-
® п = X Зм Зй диана
о го ш а (в м)
Q.Q.C' С
Xаллен Греческие мате- VI до и. э. ок. 768СОООО
матикн, о ко-
торых упоми- нает Арнсто-
тель IV 75880000
Эратосфен 111 47425000 или 39 500000
Клеомед 11 56 910000
Посидоний Халиб-ибн- 1 34146000
Абдулмалик н Али-ибн-Иса IX и. э. ок.4I779OOO
Фернель XVI 39816000
Сиеллнус XVII 38605000
Пикар XVII 40030С00
Ньютон XV111 1:230
Гюйгенс XVIII 1 :578
Monepiioi! XVIII 1:214
Кондамни XVIII 1 :314
Лякай XVIII 1 :286
Деламбр XV111 С 375 653 6 356 564 1:334,0 40000000
Лаплас (по Луне) Гельмерт (по Луне) XIX — — 1 :305.8 1 :297,8 —
XIX —— — —
Гельмерт 1 .29«.3
(по маятнику) XIX —
Бессель XIX 6 377 397 6 356 079 1 :299,2 40003424
Кларк XIX 6 377 862 6 356 465 1 :298.1 40006060
Хэйфорд Центральный на- XX 6 378 388 6 356 909 1 :297,0 40009144
учно-исследов институт гео- дезии СССР XX 6 378 260 6 356 942 1 :299,2 40005135
ОГЛАВЛЕНИЕ
Глава /. Шаги верблюда.................... 3
Глава 2 Куда Земле падать?................10
Г лава 3 Солнце в колодце................. 16
Глава 4 Волос с морды осла...............21
Глава 5. Земля в сундуке .................27
Глава 6. Полезные ошибки...................33
Г лава 7. Доктор Фернель считает обороты ко-
леса ... 41
Глава 8. Земля — не шар! .....................48
Г лава 9. Лимон нли мандарин?................
Г лава 10. На вулканах Перу . ...........
Глава /1. В снегах Лапландии.................
Г лава 12. Небесные часы и пороховые бочки
Глава 13. Конец королей и туазов . .
Г лава 14. На вулканах Франции ....
Глава 15. Три секунды ... ...........
Глава 16. Астроном в роли пирата ...........
Г лава 17. Не лимон и не мандарин, а картошка
Г лава 18. «Скучные труды»...................
Глава 19. Самая длинная ....................
Г лава 20. Часовшикн против астрономов . . 151
Глава 21. Чудеса точности....................157
Глава 22. Иван Великий начинает проваливаться 170
Глава 23. Луна и маятник.....................177
Г лава 24. Маятники дрейфуют.................183
Глава 25. Какова же Земля?...................193
Цена 5р.25к.